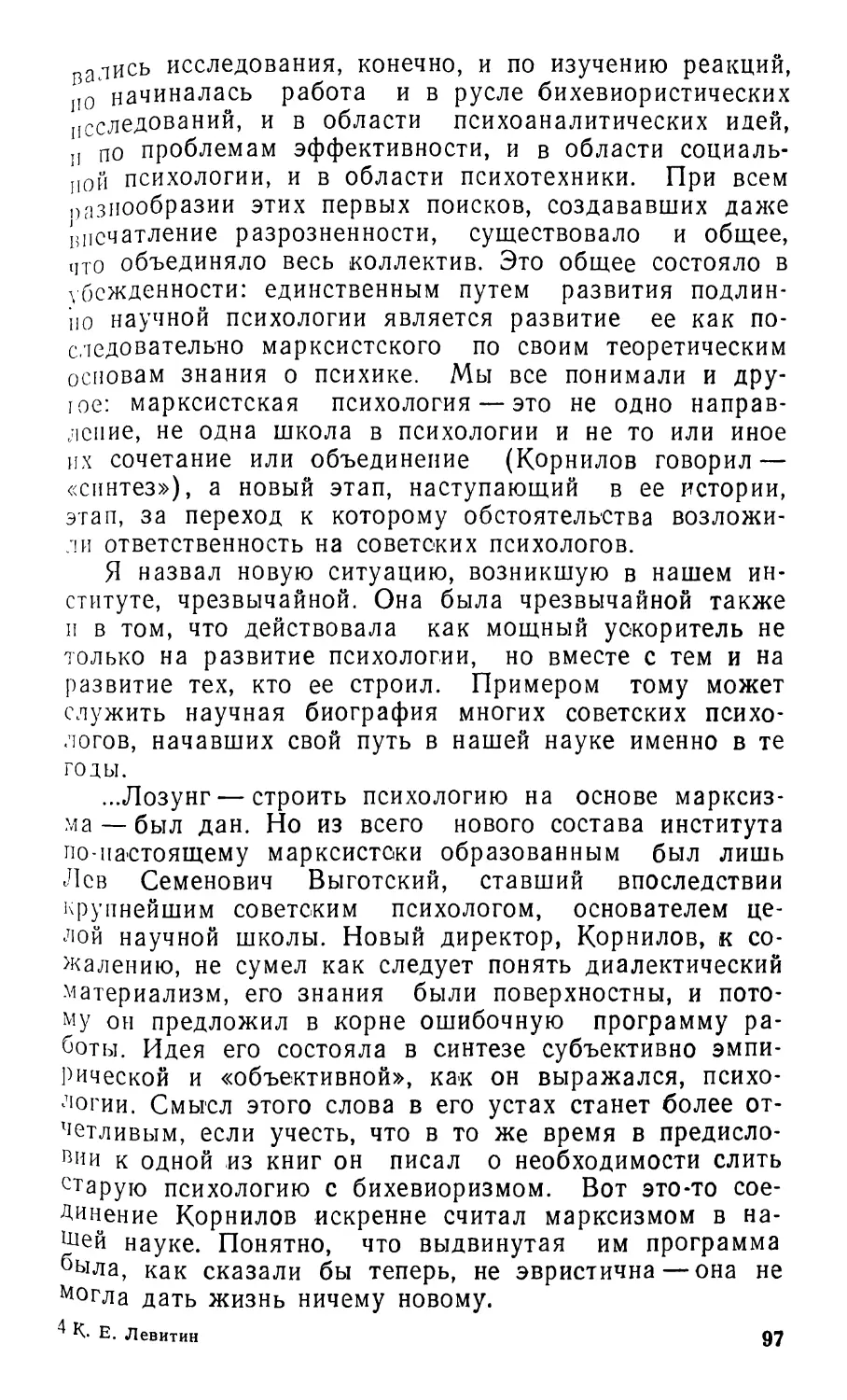Text
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Серия «Общество и личность»
Основана в 1988 г.
К. Е. Левитин
ЛИЧНОСТЬЮ
НЕ РОЖДАЮТСЯ
Ответственный редактор
академик АПН СССР
В. В. ДАВЫДОВ
МОСКВА «НАУКА»
.1990
Рецензент
доктор психологических наук, профессор М. Г. ЯРОШЕВСКИИ
Редактор издательства Л. С. ЧИБИСЕНКОВ
Левитин К. Е.
Л36 Личностью не рождаются. — М.: Наука, 1990.—
208 с.
ISBN 5-02-013377-9
Книга посвящена одной из самых продуктивных научных
школ в психологии — школе Л. С. Выготского, и представляет
собой переработанный вариант издания, осуществленного
«Прогрессом'» на английском, японском, монгольском и син-
хальском языках (11982, 1983, 1985 гг.). В очерковой форме
автор рассказывает о жизни и деятельности Л. С. Выготского,
а также о двух его ближайших учениках — А. Н. Леонтьеве
и А. Р. Лурия. Книга широко документирована архивными
материалами.
Для психологов и широкого круга читателей,
интересующихся проблемами психологии,
0303040000—152
Л ^-^ ^—-—4-90 НП ББК 88
042(02)-90
Научное издание
Левитин Карл Ефимоют
ЛИЧНОСТЬЮ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Утверждено к печати Редколлегией серии «Общество и личность»
Художник Г. В. Равинская. Художественный редактор И. Д. Богачев.
Технический редактор 3. Б. Павлюк. Корректоры В. А. Алешкина,
Е. Л. Сысоева
ИБ № 46389
Сдано в набор 07.03.90. Подписано к печати 14.05.90. А-05922. Формат
84ХЮ8Уз2. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 11,13. Усл. кр. отт. 11,55. Уч,-изд. 12,1. Тираж 20 000 экз.
Тип. зак. 2523. Цена 75 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука». 117864,
ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
Областная типография управления издательств, полиграфии и
книжной торговли Ивановского облисполкома. 153628, г. Иваново, ул.
Типографская, 6.
Отпечатано с матриц во 2-й типографии издательства «Наука».
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6. Зак. 620.
ISBN 5-02-013377-9 © Издательство «Наука», 1990
Предисловие
Я вижу задачу настоящего предисловия в том, чтобы
подтвердить читателю, что все так и было, как
написано в этой книге. Для этого я имею некоторые
основания, так как буквально вырос в Харьковской школе
психологов и узнал многих людей, о которых идет речь
в этой книге, до того, как впервые услышал слово
«психология». Потом эти же люди учили меня в
Московской психологической школе. Мои собственные
впечатления, рассказы очевидцев, так сказать, изустные
предания, передающиеся из поколения в поколение, по
меньшей мере не противоречат тому, что написано в
этой книге. Ее автору, тщательно собравшему эти
изустные предания, изучавшему специальную литературу
(и рукописи), удалось очень верно воссоздать
некоторые яркие эпизоды из истории становления советской
психологической науки.
Это был своего рода русский авангардизм в
психологии, который по сравнению с авангардизмом в
искусстве пришел на десять лет позже. Но тем не менее и
тот и другой имеют общую судьбу.
Сегодня совершенно очевидно, что достижения
советской психологии весьма значительны. И за рубежом
лишь сейчас приходят к их объективной оценке. Но
приходят довольно медленно. И в этих оценках
проскальзывает откровенное удивление. Как в условиях
бытовых неурядиц тех далеких лет, необъективной
критики могла формироваться наука, возникать идеи, на
десятилетия опережавшие время? Да, были и неурядицы,
и голод, и несправедливые оценки, была борьба
научная и идейная. Но были и радость и счастье
первооткрывателей. Эти люди любили свою науку. Они были
настоящими патриотами и меньше всего думали о
научной славе.
Они неудержимо стремились заложить фундамент
марксистской психологии. Но не стремились получить
ее готовой (в этом заключалась причина многих дис-
3
куссий), а хотели построить ее сами. И весьма
поучительно, что строительство психологии начиналось не с
теории, а с практики. Педагогическая, детская
психология, дефектология (Л. С. Выготский), клиника и
изучение однояйцевых близнецов (А. Р. Лурия),
формирование понятий у школьников (А. Н. Леонтьев),
психологические основы иллюстрации детских сказок и
развитие детского мышления (А. В. Запорожец),
овладение детьми простейшими орудиями (П. Я. Гальперин),
развитие и формирование памяти школьников
(П. И. Зинченко) — вот далеко не полный перечень тех
задач, которые решались в коллективе,
возглавлявшемся Л. С. Выготским, а после его кончины А. Н.
Леонтьевым и А. Р. Лурия. Они делали все для того, чтобы
психология заняла достойное место в системе наук.
Этот путь оказался правильным. Именно он привел
к теории. И каждый раз, когда мне доводилось
слушать рассказы участников Харьковской школы,
московских и ленинградских соратников Л. С. Выготского,
я испытывал чистое чувство зависти и сожаления, что
самому не довелось работать в атмосфере тех лет.
Работали они много и радостно. Работали не для
карьеры, званий, публикаций. Ирония судьбы: А. Р.
Лурия начал свою «карьеру» в студенческие годы с
организации журнала и получил согласие академика
В. М. Бехтерева на участие в редколлегии, Л. С.
Выготский начал с издательской деятельности и
публиковал И. Эренбурга, а десятилетие спустя, когда они
сами написали столько, что в пору было организовывать
для них специальное издательство,— им негде
оказалось публиковать свои работы. Но наука содержит в
себе самостоятельную мотивацию и удовлетворение. И
они лихорадочно работали для будущего.
В первых научных работах, как и в первой любви,
есть неповторимая прелесть, удивительная свежесть
взгляда, граничащая с прозрением. Быть может,
поэтому они больше отмечены печатью личности их
создателя. У читателя будет редкая возможность
познакомиться с ранними работами ведущих советских психологов
благодаря тому, что книга широко и удачно
документирована.
Мне вспоминается одна из бесед с А. Н.
Леонтьевым, когда он поведал о своей мечте написать книгу о
Л. С. Выготском. Он с уверенностью говорил, что
лучше его этого никто не сделает. Может быть, это и так,
4
но сам-то он этого не сделал. О Выготском хотел
написать и А. Р. Лурия, но тоже не успел. Мне хочется
написать книгу о своем отце — психологе П. И. Зинченко,
о том, как он работал, как воевал, как учил (и
воспитывал) меня и мою сестру Т. П. Зинченко — тоже
психолога. Мне хотелось бы написать книгу о Ф. Д.
Горбове— одном из моих учителей и самом близком друге.
Но я ограничился тем, что в день его кончины прочел
лекцию в Московском университете об этом
удивительном человеке.
Видимо, все это не случайно: психологу почему-то
трудно писать о человеке, тем более о близком.
Видимо, в этом отношении писатели и журналисты
обладают несомненным преимуществом перед психологами:
им проще понять человека в его цельности. И я очень
благодарен Карлу Левитину за то, что он взялся за
эту интереснейшую, но сложную тему.
Наверное, в предисловии надо было бы подробно
охарактеризовать книгу. Я же неожиданно для самого
себя стал писать о другом. И пожалуй, это к лучшему.
Читатель сам вполне способен составить об этой книге
впечатление. Для меня же важно то, что книга, будучи
чрезвычайно емкой по содержанию, навеяла приятные
воспоминания о дорогих мне людях и навела на
некоторые размышления. Если продолжить это занятие, то
боюсь, что начну отбивать хлеб у автора, сумевшего
достоверно и интересно рассказать о том, как делалась
и продолжает делаться психологическая наука в нашей
стране.
В. П. Зинченко,
профессор, доктор психологических наук,
зам. председателя Всесоюзного центра наук о человеке
при Президиуме АН СССР
5
Вместо введения
«Нет пророка в своем отечестве...» Как-то уж повелось,
что истинных гениев начинают ценить у нас только
после смерти, а нередко и после того, как их имена и
труды станут достоянием культуры всех
цивилизованных стран. С идеями и научными работами Льва
Семеновича Выготского получилось еще обиднее: прошли
два международных конгресса, специально ему
посвященных,—зимой 1979 г. в Риме и осенью 1980 г. в
Чикаго, а первая (и пока единственная) всесоюзная
конференция все откладывалась, переносилась и
состоялась лишь в конце 1981 г.
Долгие десятилетия над научным наследием
Л. С. Выготского тяготело проклятие: в 30-е годы его
поиски путей к пониманию внутренней жизни ребенка,
к новой системе образования и обучения были
осуждены, а педология — по определению самого Выготского,
наука о ребенке — была признана лженаукой.
Подверглись разгромной критике и другие его
психологические воззрения. Его ученикам, лишившимся учителя,
которого в 1934 г. унес туберкулез, пришлось
разъехаться по стране, затаиться, затеряться в различных
институтах. Однако невидимые нити приверженности к одним
и тем же теоретическим основам, к общему стилю
мышления соединяли их в одну школу — школу
Выготского.
Об этой школе и написана книга. Главные ее
герои — Л. С. Выготский и оба его ближайших ученика
и последователя — А. Н. Леонтьев и А. Р. Лурия.
Разумеется, читатель встретит в книге имена и других
людей, на чей жизненный путь так или иначе повлияли
идеи Выготского или же он сам как личность.
Каждому из этих людей, кто помог мне в работе над книгой,
я хочу выразить самую искреннюю благодарность.
Я вполне сознательно не стремился модернизировать
текст книги в угоду нынешней тенденции «демарксиза-
цпи» науки. Прежде всего потому, что убежден: ее ге-
6
popi, будь они живы сегодня, устояли бы перед
искушением поступить подобно знаменитому поэту, который в
дное время и при иных обстоятельствах «сжег все, чему
поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Крупные
психологи, в отличие, например, от крупных
экономистов, не столько цитировали Маркса, сколько пытались
проникнуть в истинную суть его мысли, понять переход
от раннего Маркса к Марксу позднему. Они, быть
может, и не отдавая себе в этом отчета, профессионально
анализировали явно неординарную личность,
оставившую после себя размышления, объявленные
впоследствии каноническими текстами. В силу этого объем
подлежащего «сжиганию» в психологии не так уж велик
по сравнению с иными науками гуманитарного толка.
И я не вижу никакого резона идти в своих собственных
оценках и суждениях на поводу у моды сегодняшнего и,
вероятно, завтрашнего дня, ибо она непременно будет
пересмотрена днем послезавтрашним.
И наконец, последнее. Автор стремился с
максимальной бережностью относиться к архивным документам,
записям бесед и публикациям. Но не надо, разумеется,
везде и всюду ждать от него буквального
цитирования — ведь дух, как известно, важнее буквы. Автор, во
всяком случае, насколько это было возможно, сохранял
не только мысли, но и слова своих героев такими,
какими они запечатлелись на теперь уже пожелтевших
страницах блокнотов, на ставших хрупкими
магнитофонных лентах и в его, увы, тоже не ставшей более
молодой и цепкой памяти.
Москва—Добринка
1978—1990
г
Глава Г, «Века и дни»
Механизм познания себя (самосознание) и
познания других один и тот же. Обычно учения о
познании чужой психики либо прямо признают ее
непознаваемость, либо в тех или других гипотезах
стремятся построить правдоподобный механизм,
сущность которого и в теории чувствований и в
теории аналогий одна и та же: мы познаем других
постольку, поскольку мы познаем себя; познавая
чужой гнев, я воспроизвожу свой собственный.
В самом деле правильнее сказать как раз
наоборот. Мы сознаем себя, потому что мы сознаем
других, и тем самым способом, каким мы сознаем
других, потому что мы сами в отношении себя
являемся тем же самым, что другие в отношении
нас.
Л. С. Выготский
Лев Семенович Выготский
(Факты из биографии)
Л. С. Выготский крупнейший советский психолог,
родился 5 ноября 1896 г. в городе Орша, недалеко от
Минска.
В 1913 г. он окончил гимназию в городе Гомеле и в
том же году поступил в Московский университет. В
1917 г. получил юридическое образование, а затем,
пройдя курс психологии и философии в народном
университете Шанявского1, вернулся в Гомель и стал учителем
литературы и психологии в школе.. Одновременно он
вел занятия в театральной студии и неоднократно
выступал с лекциями, посвященными вопросам
литературы и науки. Им же в те годы — т. е. с 1917 по 1923 г.—
была организована лаборатория психологии в
педагогическом техникуме. Там он прочел курс лекций,
впоследствии ставший его научным трудом
«Педагогическая психология».
С 1924 г. Выготский работает в Москве, вначале в
Институте психологии, а затем в Институте
дефектологии. В то же время.он руководил отделом образования
8
умственно и физически отсталых детей при Наркомпро-
се и преподавал в Академии коммунистического
воспитания им. Н. К. Крупской и Педагогическом институте
в Ленинграде. В тот период вокруг Выготского
собралась большая группа молодых исследователей,
работавших в области психологии и дефектологии.
Большинство из них сегодня известные советские ученые.
Л. С. Выготского в последние годы жизни особенно
интересовал медицинский аспект его психологических
исследований. Поэтому он, уже будучи профессором,
поступил в медицинский институт — сначала в Москве,
а потом в Харькове. Приезжая в Харьков сдавать
экзамены, Выготский читал курс лекций по психологии в
украинской Психоневрологической академии.
Незадолго до смерти Л. С, Выготский был приглашен
возглавить отдел психологии во Всесоюзном институте
экспериментальной медицины.
Лев Семенович Выготский умер от туберкулеза
11 июня 1934 г., в возрасте 38 лет.
Несколько предваряющих слов
Биография Льва Семеновича Выготского не богата
внешними событиями. Жизнь его была наполнена
изнутри. Тонкий психолог, эрудированный искусствовед,
талантливый педагог, большой знаток литературы,
блестящий стилист, наблюдательный дефектолог,
изобретательный экспериментатор, вдумчивый теоретик...
Да, все это так. Но прежде всего Выготский был
мыслителем.
«Лев Семенович Выготский бесспорно занимает
исключительное место в истории советской психологии.
Именно он заложил те основы, которые стали
исходными для ее дальнейшего развития и во многом
определили ее современное состояние... Нет почти ни одной
области психологических знаний, в которую Л. С.
Выготский не внес бы важного вклада. Психология
искусства, общая психология, детская и педагогическая
психология, психология аномальных^детей, пато- и
нейропсихология— во все эти области он внес новую струю»—
так журнал «Вопросы психологии», главный печатный
орган советских психологов, писал к 80-летию со дня
рождения Выготского. Трудно поверить, что слова эти
относятся к человеку, посвятившему психологии
немногим более десяти лет своей жизни — и лет нелегких,
9
отягощенных болезнью, сведшей его в могилу,
сложностями быта, отнимавшими время от трудов и
размышлений, непониманием и даже травлей.
И притом проблемы психологии не занимали его ум
и сердце целиком — другие, порой весьма далекие от
этой науки интересы властно врывались в его научные
занятия.
Георгий Петрович Щедровицкий, известный
советский методолог, много трудов посвятивший
особенностям развития психологической науки, считает, что сила
Выготского как раз в том и состояла, что он не был
психологом-профессионалом и потому с самого начала
не знал идеологических шор той или иной школы,
владычествующей в этой науке. Наверное, такую точку
ерения можно принять. Но с той очень существенной
оговоркой, что в глубинной оонове всех его построений
лежала философия, приверженцем которой он считал
Себя окончательно и бесповоротно. В этом смысле
весьма любопытно свидетельство профессора Чикагского
университета С. Э. Тулмина, одного из самых крупных
американских специалистов в области философии
психологии: ,«Можно утверждать, что успехи советской
психологии объясняются прежде всего ее ориентацией
на культурно-исторический подход к психологическим
проблемам. В результате удалось достигнуть очень
высокой степени объединения различных наук, а это, в
свою очередь, привело к их взаимному обогащению. В
частности, именно тот факт, что Выготский с самого
начала опирался на марксистский исторический
подход, позволил ему выйти на оригинальный путь
исследования развития ребенка. Именно материализм помог
Выготскому и его сотрудникам избрать это
направление»2.
Категории марксистской диалектики пронизывают
все его работы. Приведем в качестве примера лишь один
небольшой отрывок из его рассуждений о роли слова,
в котором используются и глубоко понятое отрицание
отрицания, и понимание всякого процесса как
длительного, развивающегося, и «оборачивание» функций
слова и действия:
«Мы не можем остановиться ни на формуле Библии,
ни на гётевской формуле „в начале было слово'4... Эти
формулы безусловно требуют продолжения. Они
говорят о том, что было в начале. Но что стало потом?
Начало— это всего лишь начало, т. е. отправная точка
ю
движения. Самый же процесс развития необходимо
содержит отрицание этой исходной точки и движение к
высшим формам действия, лежащим не в начале, а в
конце процесса. Как это происходит?.. Слово, само
становясь интеллектуальным и развиваясь на основе
действия, поднимает это действие на более высокую
ступень, подчиняя себе ребенка, наделяя его даром
произвольности. Поскольку мы хотим дать краткую
формулу, мы должны выразить нашу мысль в одном
предложении следующим образом: если в начале развития
стоит действие, независимое от слова, то в конце его —
слово, которое становится действием. Слово делает
человека свободным»3.
Точно так же лишь с оговоркой можно согласиться с
точкой зрения Щедровицкого, что плодотворность
работы Выготского в психологии объясняется тем, что он
привнес в нее идеи и методы структурной лингвистики,
образ мысли и проблематику споров, волновавшие
языкознание. Быть может, так оно и было, но ведь в те же
годы в центре общественной мысли постоянно
пребывали научные дискуссии куда более общего плана:
именно в 20-е — начале 30-х годов как бы заново
прочитывались Маркс и Энгельс, искались пути применения
марксизма к частным, конкретным наукам и
исследованиям. В 1925 г. в нашей стране была впервые
опубликована «Диалектика природы» Энгельса сразу на
русском и немецком языках. Это событие стало стимулом
к изучению другой его книги, «Анти-Дюринг».
Конечно, Л. С. Выготский не мог не оказаться
захваченным вихрем противоречивых порой мнений и
суждений, вызванным этими книгами. Позже, уже в
начале 30-х годов, журнал «Под знаменем марксизма»
опубликовал неизвестные дотоле страницы Марксовых
рукописей, посвященных обоснованию
дифференциального исчисления. В этой сугубо математической
области Маркс применял выкованное им оружие
материалистической диалектики. И он пришел к выводу, что
тайна появления в недрах обычной математики нового,
ранее не существовавшего дифференциального
исчисления заключается в «оборачивании метода» — смене
ролей, которая происходит у производной и
символического дифференциального коэффициента — двух
ведущих понятий нового раздела математики.
Маркс, вероятно, видел «оборачивание метода» не
в одной лишь математике. Он, всегда живо интересо-
11
вавшийся всем, что связано с познанием человеком
окружающего мира, прекрасно знал и позицию Канта,
который считал, что еще до начала процесса познания
человек изобретает некоторые мыслительные орудия,
и точку зрения Гегеля, согласно которой без
познавательных инструментов — понятий, идей, заданных
заранее, «мы имели бы перед собой ночь, в которой все
кошки серы», и мнение Декарта, который
постулировал врожденные идеи, с самого начала заключенные
в интеллекте познающего субъекта. Но ему, вне
сомнения, был известен и вполне материалистический
подход к этому вопросу Баруха Спинозы, считавшего, что
в самом процессе постижения истины — как это и
произошло с Марксом, когда он работал над
обоснованием дифференциального исчисления,— рождаются
орудия для дальнейшего продвижения вперед, они «куюто*
из наличного материала, происходит «оборачивание
метода», при котором инструменты и формулы, только
что полученные из ранее хорошо известных материалов
и теорем, сами становятся орудиями, с помощью
которых эти материалы и теоремы можно исследовать,
улучшать и развивать. Самому духу Марксовых
математических изысканий, приведших его к идее оборачивания
метода, созвучны слова Спинозы:
«Здесь дело обстоит так же, как и с
материальными орудиями... Чтобы ковать железо, нужен молот, а
чтобы иметь молот, необходимо его сделать; для этого
нужен другой молот и другие орудия, а чтобы их иметь,
также нужны будут другие орудия, и так до
бесконечности; таким образом кто-нибудь мог бы попытаться
доказать, что у людей нет никакой возможности ковать
железо. Но подобно тому как люди изначала сумели
природными орудиями... сделать некоторые наиболее
легкие... так и разум природной своей силой создает
себе умственные орудия, от которых обретает другие
силы для других умственных работ, а от работ —
другие орудия, т. е. возможность дальнейшего
исследования, и так постепенно подвигается, пока не достигнет
вершины мудрости»4.
Удивительное (но отнюдь не случайное) сходство
рассуждений Маркса, касающихся взаимных
превращений двух понятий дифференциального анализа, и
соображений Выготского о слове и действии, меняющихся
Функциями, не может не броситься в глаза. И тут не
важно, что Марксовы математические работы появились
12
в печати в 1933 г., т. е. после того, как были
высказаны Выготским многие из его мыслей. Дело ведь не в том,
что Выготский «подсмотрел» у Маркса методический
прием и применил его в своей области знаний. Он сумел
сделать более важное — проникнуться мыслями и
идеями Маркса. И совсем не случайно, что одной из
неоконченных, но любимых работ Выготского было
сочинение о Спинозе.
Хочется закончить эти предваряющие слова
несколькими строчками, написанными рукой самого
Выготского. Они посвящены графике художника А. Быховского,
но, как мне кажется, отражают то чувство, которое
испытываешь, перечитывая раз за разом труды —
опубликованные и еще ждущие встречи с книжными
страницами— самого крупного и талантливого советского
психолога: «Так развоплощается натура в рисунке, в
мелодии и игре линий, утрачивает свою вещественную
тяжесть, кору вещей, и вдруг просквозит истинный
чертеж вещи, ее тайный план, ее скрытый замысел»5.
Речь, произнесенная
на траурном заседании А. Р. Лурией6
Сегодня мы собрались, чтобы почтить память не только
друга, учителя, человека огромного обаяния, но и
мощного ученого, ученого, который своей энергией и
огромным интеллектом сумел создать новую область знания,
который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы
построить новую науку о человеке, чтобы в конкретной
дисциплине воплотить основные идеи марксизма.
Л. С. Выготский умер молодым, его жизнь
оборвалась на тридцать девятом году, в тот момент, когда
его творчество достигло максимального развития, его
деятельность — максимальной напряженности, его ум —
небывалого блеска и глубины, когда вокруг него
собрались десятки учеников, чутко прислушивавшихся к
каждому его слову, объединенные его огромным
обаянием, увлеченные изумительным размахом его мысли и
готовые, игнорируя все трудности разработки новой
области, отдать все свои силы на то, чтобы продвигать
и осуществлять его идеи. Эта смерть была тем
трагичнее, что Лев Семенович умер среди всеобщего
признания и любви, накануне того, как перед ним впервые
раскрылась возможность воплотить все свои планы в
действительность и создать организованный коллектив
13
исследователей, о котором он мечтал всю жизнь и
который мог бы взять на себя осуществление всего того,
что таилось в этом гениальном мозге.
Лев Семенович умер, не оставив завершенной, до
конца разработанной и застывшей системы
исследования; то, что он мог и должен был дать в дальнейшем,
совершенно несоизмеримо с тем, что он успел дать за
пятнадцать лет своей работы в психологии; но то, что
он оставил всем нам, является колоссальным трудом,
необычайно ярким сгустком мысли, системой
замечательных идей, которые он сумел воплотить в каждой
написанной им строчке, в каждом сказанном им слове,
в каждой поставленной им работе учеников; он
надолго определил пути развития нашей науки; он
подготовил десятки специалистов, овладевших техникой этой
труднейшей области знания, и сейчас нет лаборатории,
психологической клиники, дефектологического
учреждения, которые в какой-то мере не работали бы по его
путям и не осуществляли бы частиц его планов.
Чем же был велик Л. С. Выготский? Что нового
ввел он в психологию, в ту область, которая была
всегда наиболее интимно близкой, наиболее дорогой
ему самому? Он посвятил всю свою жизнь попытке
ввести исторический метод в эту труднейшую область
знания, реализовать его в ряде конкретных
экспериментальных исследований и попытаться пересмотреть весь
накопленный материал в свете этой идеи — идеи об
историческом развитии человеческого сознания.
Когда Л. С. Выготский начинал свою работу,
разговор о введении исторического метода в психологию
звучал как нечто чуждое, непонятное. Это время
характеризовалось глубоким кризисом психологической
науки, который с особой остротой проявился на
Западе, но который фактически захватывал и нашу только
начинавшую существовать психологию. Он проявлялся
в том, что эта наука фактически распалась на две
психологии: идеалистическую науку о сознании и
натуралистическую науку о поведении, каждая из которых
оказывалась бессильной решить ту проблему, которая
сейчас кажется нам центральной,— проблему научного
анализа построения самых сложных и самых
конкретных форм реальной человеческой деятельности. Если
идеализм в психологии, считая предметом своей
работы описание человеческого сознания, фетишизировал
его и фактически оказывался бессильным объяснить его
возникновение и развитие, то вульгарный материализм,
пытавшийся выразить поведение человека в терминах
физиологии и физики, фактически отходил вообще от
психологии, наивно веря, что научное изучение
человека есть отказ от изучения специфически человеческого,
что сознание человека вообще не может быть примером
научного исследования и что роль научного психолога
заключается лишь в упрощенном перенесении законов,
найденных физикой и физиологией, в науку о
человеческом поведении.
Это было то время, когда на Западе психология
раскололась на ряд школ и школок, в каждой из которых
интересовавшая автора проблема (ассоциация у одних,
структура восприятия у других, эйдетический образ у
третьих) перерастала в целое направление, определяя
целую систему психологии, делающую частную
закономерность ключом к человеческому сознанию в целом.
Это было то время, когда психологи, занимавшиеся
разными проблемами, начинали говорить на разных
языках, переставая понимать друг друга, и когда все
больше и больше назревала потребность в огромном синтезе,
который смог бы найти всем подлинно научным
достижениям соответствущее им место в единой системе
научной психологии.
Это было то время, когда мы все были увлечены
наивно-материалистическими попытками построить
психологию как натуралистическую науку, рассматривая
общественные условия как нечто внешнее по отношению
к человеческим реакциям, не исходя в нашей работе из
той реальной деятельности, которая характеризует
ребенка в игре и учении, взрослого — в его жизни и
труде, всякого человека в тех реальных отношениях к
общественной действительности, которые одни могут
служить ключом к законам построения и развития его
сознания.
Именно такой была ситуация в психологии, когда
в нее пришел Л. С. Выготский, и именно он сразу же
всем своим существом почувствовал, что на нем лежит
задача выбиться из этого тупика, сломать те стены,
которые отделяют психологию от реальной жизни, от
конкретных форм человеческой деятельности, от живых
форм человеческого сознания.
Осуществление этой задачи он видел в построении
психологии человека как науки об историческом
развитии человеческого сознания, и этому он посвятил всю
15
свою напряженную, отмеченную исключительным
талантом и неисчерпаемой энергией жизнь.
Одну из своих книг о смысле психологического
кризиса, появившуюся уже после его смерти, Лев
Семенович закончил фразой: «Камень, который презрели
строители, должен лечь во главу угла». И этим камнем,
положенным им в основу всех его исследований
человеческого сознания, было учение о высших,
специфических для человека, психологических функциях. Это
учение почти никогда не было предметом подлинного
научного исследования, которое отвергала
натуралистическая психология, мистифицировала психология
идеализма и описывала плоскими метафорами
господствовавшая тогда в психологии
вульгарно-материалистическая теория.
Задачей жизни Л. С. Выготского и стало внедрить
в сознание исследователей мысль о том, что история
этих высших психологических функций, возникших в
процессе реального общения, и есть первый предмет
психологии, что подлинный научный анализ
человеческого сознания всегда есть не разложение на
абстрактные элементы, в которых пропадает специфичность
психики человека, но анализ реальных единиц,
сохраняющих в наиболее простом виде все богатство и все
особенности целого, как молекула воды сохраняет в себе
все ее качества. Поискам таких конкретных единиц
человеческой деятельности, экспериментальному анализу
доступных для науки, и вместе с тем живых функций
человеческого ума и человеческого переживания,
изучению развития человеческого сознания он и посвятил
всю силу своего ума, всю энергию и устремленность
своей работы.
Еще в своих ранних исследованиях, изучая простую
операцию завязывания узелка «на память», он сумел
увидеть в ней пример того, что человек не пассивно
подчиняется природе, но, внося в свою
непосредственную среду активные изменения, оказывается в
состоянии в этом опосредованном акте овладевать своим
собственным поведением, организовывать свои
собственные психические операции, делать их осмысленными и
выйти далеко за пределы тех естественных границ,
которые ставит его возможностям природа.
Еще в первых своих психофизиологических работах
Лев Семенович пытался описать, как в самых
элементарных условиях физиологического эксперимента чело-
16
век ведет себя отлично от животного, с помощью каких
механизмов становится возможным неподчинение полю,
но действие по линии наибольшего сопротивления,
создание осмысленной разумной и свободной деятельности.
Эта мысль была положена им в основу его ранних
опытов с изучением опосредствованных операций человека,
ставших исходными для учения об историческом
развитии высших психологических функций.
Эта же мысль толкнула его на начало
замечательных исследований, посвященных развитию детской речи
и значению слова, которые стали теперь классическими
в психологии и в которых ему удалось разработать
совершенно новую область реальной истории мышления
и показать, как в процессе общения создаются те
формы обобщенного отображения действительности,
которые позволяют человеку оторваться от ее
непосредственного восприятия, с тем чтобы глубже и полнее
отобразить ее закономерность.
Наконец, эта же основная мысль об историческом
анализе возникновения и развития разумной и
свободной деятельности человека легла в основу его
последних работ, предметом которых является изучение
смыслового и системного строения человеческого сознания,
занимавшего его до последней минуты его жизни и
положенного в основу замечательной книги, страницы
которой он писал незадолго до своей смерти и в
подзаголовке которой стоит: «Пролегомены и психология
человека».
Все эти работы, столь богатые и разнообразные,
охватывающие и учение об аффектах Спинозы, и анализ
дефективного ребенка, и исследование развития памяти,
п клинику пораженного сознания,— все эти работы
были ступенями одной изумительной психологической
системы, звеньями одного грандиозного труда,
творческими этапами одной, необычайной по своей цельности
и напряженности жизни.
Эта система научного познания законов развития
реального человеческого сознания, построения
реальной человеческой деятельности становится особенно
нужна и значительна для нас именно теперь, когда
проблема человека, человека, овладевшего техникой,
стала основной проблемой нашего строительства и
когда научное обоснование подхода к живой человеческой
личности стало самой жгучей проблемой нашей
практики.
17
Система психологии человека, созданию которой
посвятил всю свою жизнь Л.'С. Выготский, не осталась
после него в виде законченного и застывшего здания.
Лев Семенович не оставил нам готовой, завершенной
его собственными силами и уже перестроенной нацело
науки; это дело должно быть и будет делом работы
поколений. Но он дал нам все основные абрисы этого
здания, он оставил пример гениального овладения
историческим методом — и всем этим он сделал
сверхчеловеческую работу, доступную только немногим,
отмеченным особенным даром людям.
Мы должны быть счастливы, что нам выпало жить
и работать с таким человеком, и мы'— его друзья и
ученики— должны отдать все силы на продолжение дела,
которому он отдал жизнь.
«Века и дни»
(Монолог С. Ф. Добкина7)
Истинное знание состоит не в знакомстве с
фактами, которые делают человека лишь педантом, а в
использовании фактов, которое делает его
философом.
Г. Т. Бокль
Льва Семеновича Выготского я знал с детских лет, и
память о нем для меня очень дорога. Между нами
никогда не было того, что можно назвать «бытовым
приятельством». В основе наших отношений всегда лежал
интерес к вопросам, которые касались важнейших, по
нашему пониманию, сторон жизни. И все же (а может
быть, именно поэтому) мои воспоминания дают лишь
неполный образ Льва Семеновича, говорят лишь о
некоторых чертах этого многогранного человека.
Стоит сказать несколько слов о городе, где прошли
детские и юношеские годы Льва Семеновича, о его
семье, обстановке, которая его окружала. Гомель был
сравнительно небольшим городом — не губернским, а
уездным. В книге известного писателя и этнографа Тан-
Богораза описан Гомель тех времен—удивительно
живой город, совсем не похожий на глухую провинцию.
После 1905 г. наступила особенно тяжелая полоса
реакции, но уже через три-четыре года наметился
перелом, началось оживление культурной жизни. Таким
образом, в самые страшные годы реакции Лев Семено-
18
вич — он родился в 1896 г.—был еще почти ребенком,
а отрочество его совпало с периодом сложным, полным
противоречий.
Семья Выгодских8 была, на мой взгляд, одной из
самых культурных в городе. Отец Семен Львович
работал управляющим отделением Соединенного банка в
Гомеле, а кроме того, представителем одного из
страховых обществ. Он был человеком с широким
кругозором, умным, склонным к иронии — не к юмору, а
именно к горькой иронии. А окружающая действительность
давала в то время достаточно пищи для такого
направления ума. Его тянуло и к общественной деятельности,
хотя в то время любая активность такого рода была
затруднена. И все-таки он сумел многое сделать, будучи
председателем гомельского отделения Общества для
распространения просвещения. Так, по его
инициативе это общесъво организовало превосходную
библиотеку, которой, кстати, Лев Семенович и я широко
пользовались. Отец Льва Семеновича был человеком
с твердым характером, а вот мать его, наоборот,
отличалась необыкновенной мягкостью. Она тоже была
глубоко культурным человеком, в частности хорошо знала
немецкий, очень любила Гейне. Лев Семенович
унаследовал ее привязанность к этому замечательному поэту.
Семья Выгодских была большой — восемь человек
детей, что в то время уже встречалось редко. Лев
Семенович родился вторым, у него была старшая сестра,
четыре младшие сестры и два младших брата.
Особенно дружен был Лев Семенович с сестрой Зиной,
которая была на полтора года моложе его. Квартира, в
которой жила эта семья, состояла из шести комнат —
четырех больших и двух поменьше. В одной комнате жили
три старшие дочери, в другой — две младшие, в
третьей — три сына. Кроме того, были спальня родителей,
столовая и контора отца. Таким образом, своей
отдельной комнаты Лев Семенович не имел. Но место и для
занятий, и для дружеской беседы он всегда находил.
Контора отца закрывалась часа в два-три дня, и после
этого помещение оказывалось в распоряжении детей.
Там устраивались всякого рода собрания, туда же
уходили, если просто хотелось побыть одному или в
тесной компании. Столовая тоже представляла собой центр
общения — за обязательным вечерним чаем у
огромного стола всегда шел живой, интересный разговор.
Своеобразным был и дом, в котором жили Выгод-
19
ские. Гомель был пожалован Екатериной II
фельдмаршалу Румянцеву, а от него перешел к его сыну,
который был не только крупным государственным деятелем,
но и образованным человеком. В конце своей жизни он
поселился в Гомеле и построил несколько зданий.
Одно из них — дом на углу Румянцевской и Аптечной, на
втором этаже которого и находилась квартира
Выгодских. Стены в этом доме были толщиной в аршин
(сантиметров около семидесяти), потолки необычайно
высокие, комнаты, по нашим нынешним представлениям,
огромные. Вот в таком доме прошли детство и юность
Льва Семеновича.
...Близко познакомились мы с Львом Семеновичем
следующим образом. Его сестра Зина и моя старшая
сестра Фаня учились в одном классе и стали подругами
с первых же гимназических дней. Когда они были уже
в классе четвертом-пятом, у них родилась идея
организовать кружок по изучению еврейской истории.
Национальный вопрос был тогда очень острым и больным,
совершенно естественно возникло желание побольше
узнать о своем народе. В кружок этот входили только
девочки из их класса, но по предложению моей сестры
меня тоже включили. Руководителем выбрали Льва
Семеновича. Ему тогда было лет пятнадцать.
Несмотря на столь юный возраст, Лев Семенович
сумел внести в наши занятия так много удивительного,
что стоит вспомнить об этом подробнее. Прежде всего
его мало интересовала прагматическая история, как не
волновала она и его слушательниц. Хотелось получить
ответы на вопросы: что такое история, чем один народ
отличается от другого, какова роль личности в
истории? Иными словами, это были занятия по философии
истории. Лев Семенович был тогда очень увлечен
гегелевским пониманием истории. Схема Гегеля «тезис —
антитезис — синтез» занимала его мысли в ту пору. И
именно с ее помощью анализировал он исторические
события.
Одним из самых интересных вопросов, который мы
тогда обсуждали, был следующий: что делает нацию
нацией, каковы ее признаки? Обычно считалось, что
людей объединяют в нацию территория, язык, религия,
государственный строй. Ни один из этих признаков не
годился для того, чтобы понять, что представляет
собой еврейский народ как нация. И Лев Семенович вы-
20
двинул такой тезис: общность исторических судеб —
вот что превращает людей в нацию.
Кружок занимался регулярно всего года два, пока
Лев Семенович не уехал в Москву учиться в
университете. Но я думаю, что кружок много дал не только
его рядовым участникам, но и Льву Семеновичу. Для
того чтобы руководить кружком, ему пришлось многое
не только прочитать, но и глубоко продумать. Льва
Семеновича многие знают главным образом как
психолога и искусствоведа, но на самом деле он был
прежде всего мыслителем — в самом полном значении этого
слова. Притом мыслителем-историком. Исторический
подход к любой проблеме, характерный для его
научного творчества, складывался уже в те годы, когда он
готовился к нашим семинарам.
...Нас с Львом Семеновичем разделяло три года.
Обычно это создает пропасть между подростками
соответственно 12 и 15 лет. Но участие в кружке сближало
нас, ' позволяло мне продолжать с ним разговоры на
исторические и литературные темы. А с годами наши
беседы стали охватывать и другие волновавшие нас
вопросы, в которых он понимал гораздо больше меня.
К тому же дружба сестер очень сблизила наши семьи,
она перешла в дружбу родителей и других детей. В
первые годы у нас были и другие общие интересы. Один
из них собирание марок, повальное увлечение
подростков и сегодня, и в те годы. Но, конечно, Лев Семенович
оставался для меня старшим. Именно поэтому мне было
легко говорить с ним о многих сложных вопросах. Но
на наши с ним филателистические увлечения
наслоилось одно обстоятельство. У Льва Семеновича был
двоюродный брат Давид Исакович, на несколько лет
старше его. Впоследствии он стал замечательным
лингвистом и филологом, был близок с Виктором Шкловским
и Романом Якобсоном, о нем тепло вспоминает в своих
автобиографических записках Мариэтта Шагинян. Это
был человек прекрасной души, большого ума и знаний,
не только любитель и знаток поэзии, но и своеобразный,
интересный позт. Он, думаю, оказал большое влияние
на Льва Семеновича в детские и юношеские годы. Так
вот Давид, кроме всего прочего, был еще
эсперантистом, более того, «делегито», т. е. представителем эспе-
рантистского движения в Гомеле. По примеру Давида
стал изучать эсперанто и Лев Семенович, а за ним и я.
Эсперантисты широко пользовались своим языком для
21
переписки по самым различным вопросам, в том числе
и для обмена марками. Так сплав эсперанто и
филателии открывал нам новые горизонты, делал близкими
далекие страны. Своим первым корреспондентом Лев
Семенович выбрал юношу-исландца. Может быть, в этом
первый раз проявился его интерес к скандинавскому
северу, который стал заметен много лет спустя.
Нас сближали в те годы и шахматы. Лев
Семенович хорошо играл. Тогда теории в Гомеле еще не
знали, но он любил нестандартные начала. Впрочем, и
увлечение шахматами не было чрезмерным.
А вот что он любил беззаветно с юношеских лет и
до конца жизни — это театр и стихи. Обычное
состояние для него — он декламирует любимые строки. В
гимназические годы он любил Пушкина, но не лирику,
которая нравилась всем нам, а такие произведения, как
«Сцены из Фауста», «Жил на свете рыцарь
бедный» и, конечно, «Маленькие трагедии», особенно «Пир
во время чумы». Он умел найти самые главные для
себя слова, а остальные как бы опускал. Вот,
например, начало «Моцарта и Сальери»: «Все говорят: нет
правды на земле. Но правды нет — и выше. Для меня
так это ясно, как простая гамма». Монолог Сальери
продолжается, он весь значителен, но он никогда не
читал следующих за этими пушкинских строк — для
него вся суть была уже высказана.
Другим любимым поэтом был Блок. Особенно
часто повторял Лев Семенович проникнутые трагическими
мотивами «Итальянские стихи». Думаю, что уже в
годы ранней юности у Льва Семеновича складывалось
трагическое миропонимание.
Вообще впечатления тех лет во многом
предопределили дальнейшие интересы и настроения Льва
Семеновича.
...Летом 1913 г., окончив гимназию с золотой
медалью, Лев Семенович поступает на медицинский
факультет Московского университета. Буквально через
месяц он перешел на юридический факультет. Но
случилось так, что в последние годы своей жизни он все-
таки вернулся к медицине и, будучи уже профессором
психологии, стал студентом-медиком.
Хотя юриспруденция и не увлекала Льва
Семеновича, он продолжал учиться на юридическом факультете.
Все-таки его диплом открывал возможность
заниматься адвокатурой, а еврею давал еще и право на житель*.
22
ство вне черты оседлости. А «для души» Лев Семенович
поступил в существовавший тогда в Москве народный
университет Шанявского на историко-философское
отделение. В «императорском» университете такого
отделения не было. Университет Шанявского, несмотря на
название «народный», был настоящим высшим
учебным заведением, хотя диплом об его окончании не
признавался царскими властями и не давал никаких прав.
В этом народном университете преподавание
находилось на очень высоком уровне. Дело в том, что в 1911 г.
Московский государственный университет был
совершенно разгромлен. Во время студенческой забастовки
из него была исключена большая часть студентов. В
знак протеста против полицейских репрессий министра
просвещения Кассо более ста ведущих ученых
демонстративно покинули университет, среди них Тимирязев,
Лебедев, Зелинский, Чаплыгин, Вернадский. Многие из
ушедших нашли себе приют именно в университете
Шанявского, где таким образом собрались большие
научные силы. Сама атмосфера университета
Шанявского, общение с его студентами и преподавателями
значили для Льва Семеновича намного больше, чем
занятия на юридическом факультете. И вовсе не
случайно, что годы спустя, тяжелобольной, он обратился
с просьбой позаботиться об издании своих работ
именно к Айхенвальду, своему профессору по университету
Шанявского.
Конечно, и юридическое образование наложило
отпечаток на Льва Семеновича. Помню, как в году 1915-м
или 1916-м он, приехав на каникулы в Гомель, явился
вместе со своим другом Владимиром Самойловичем
Узиным — инициатором «литературного суда». Был
выбран рассказ Гаршина «Надежда Николаевна», герой
которого совершает убийство из ревности. Председателем
суда сразу же был выбран Узин, а Льву Семеновичу
предстояла роль либо прокурора, либо защитника — он
соглашался и на то и на другое, соглашался отстаивать
и ту и другую точку зрения. Сперва это озадачило
меня: как же так — хоть суд и литературный, но как же
возможно защищать противоположные точки зрения?
Но потом я понял, в чем тут было дело. Он умел
увидеть аргументы в пользу как одной, так и другой
стороны. Именно такой подход к обстоятельствам дела
воспитывали у будущего юриста на факультете. Но
Лев Семенович и по самому складу мышления был
23
чужд односторонности, предвзятости, излишней уверен-]
ности в правильности именно такой-то концепции. Заме-1
чательная способность понимать не только то, что былая
ему внутренне близко, но и чужую точку зрения харак|
терна для всей его научной деятельности. 1
Может быть, занятия на юридическом факультета
способствовали и развитию у Льва Семеновича оратор!
ских способностей, хотя умение ясно и убедительно из!
лагать свои мысли было у него прямо-таки врожден-j
ным. О чем бы он ни рассказывал, все казалось инте-j
ресным и увлекательным. А когда собеседник говори^
ему: «Как талантливо вы рассказываете!» — он
отвечал: «Не я талантлив, моя тема талантлива».
Здесь, наверное, уместно рассказать об Узине — че<
ловеке, влияние которого на Льва Семеновича было не«!
сомненным. Владимир Самойлович был намного стар-!
ше нас всех. Он не получил никакого специального об-1
разования, но благодаря редкому уму и способностям
самоучкой стал одним из самых образованных людей,]
которые мне встречались в те годы. Он был полиглотом]
но особенно хорошо знал латынь и испанский язык.|
После революции им были написаны многие научные^
литературоведческие и театроведческие труды, выпол-j
нен ряд переводов с испанского. С его вступительной!
статьей были изданы, например, пьесы Лопе де Веги.!
Когда вновь были введены ученые звания, он без защи-<
ты диссертации получил степень кандидата филологи-;
ческих наук. ;
Но в то время, когда состоялось знакомство Льва
Семеновича с Узиным, тот зарабатывал себе на жизнь
в Гомеле тем, что занимался с молодыми людьми
латынью и другими предметами, а во время выпускных
экзаменов писал за них сочинения. Каким-то тайным
образом ему сообщали темы сочинений и таким же
скрытым путем переправлялись в зал тут же
написанные им страницы. Лев Семенович, приехавший домой
на каникулы (а в то время студенческие вакации
бывали большими, да к тому же посещение лекций не
было обязательным, потому можно было и подольше
побыть дома), захотел получше изучить латынь. Он
стал заниматься с Владимиром Самойловичем, и очень
скоро встречи эти переросли в дружбу.
В студенческие годы любовь Льва Семеновича к
литературе окрепла еще больше. Его удивительная
способность находить близкие сердцу строки почти у лю-
24
бого автора обострилась. Вот, например, в те годы был
весьма модным поэт Виктор Гофман, автор множества
«красивых», но часто посредственных стихотворений.
У него Лев Семенович выбрал действительно
прекрасное стихотворение о фантастической встрече Нового
года, которое заканчивалось трагическими словами:
«Я наполню свой кубок сверкающий и забуду, что я
живой. Я один на земле умирающий, всем ненужный
и всем чужой». Или Константин Липскеров, почти
забытый сегодня поэт. У него он тоже нашел
замечательные строки: «Все спеши полюбить, ибо все преходяще
и тленно. Всех спеши полюбить, ибо люди проходят
как сон. Ты врага полюби—пусть вражда отлетает
мгновенно: как обнимешь его, если скажут, что он
погребен?» У Саши Черного, оригинальнейшего
поэта-сатирика, больше всего он любил вовсе не сатирическое
стихотворение «Больному», в особенности его первые
строки: «Есть горячее солнце, есть наивные дети,
драгоценная радость мелодий и книг. Если нет, то ведь
были, ведь были на свете и Бетховен и Пушкин, и
Гейне и Григ».
В те же годы он еще больше полюбил Тютчева. Но
и у него он умел найти «свои» строки — не чистую
лирику, а стихи философские. Он часто читал вслух:
«Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце верит в
чудеса: есть несказуемая сила, есть и нетленная краса.
И увядание земное цветов не тронет неземных, и от
полуденного зноя роса не высохнет на них. И эта вера
не обманет того, кто ею лишь живет, не все, что здесь
цвело, увянет, не все, что было здесь, пройдет!» У
Тютчева стихотворение продолжается обращением к
конкретной женщине, но Лев Семенович никогда не читал
его последних строф — это обращение было для него
несущественным.
Но, может быть, самым близким по духу поэтом
был для Льва Семеновича Иннокентий Анненский, по
выражению Гумилева «последний из царскосельских
лебедей». Большое впечатление произвела на Льва
Семеновича трагедия Анненского «Фамира-кифарэд»,
поставленная Таировым в Камерном театре. В те годы
многие увлекались стихами Гумилева. Но ранние,
полные романтической экзотики произведения этого поэта
мало трогали Льва Семеновича. Однако, когда
появилась «Гондла» — драматическая поэма, тема которой
навеяна исландскими сагами (вот где мы вспомним его
23
первого корреспондента-эсперантиста), Гумилев стал
ему ближе. А по-настоящему полюбил Лев Семенович
стихи из посмертно выпущенной книги Гумилева
«Огненный столп». Хочется привести строки из
стихотворения «Шестое чувство», которое он повторял особенно
часто: «Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый
хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которой
суждено, сперва измучившись, нам насладиться. Но что
нам делать с розовой зарей над холодеющими
небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с
бессмертными стихами? Ни съесть, ни выпить, ни
поцеловать...» И кончалось стихотворение словами: «Так
сотни лет,— доколе же, Господь! — под скальпелем
природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть,
рождая орган для шестого чувства».
Разумеется, все те годы Выготский продолжал
любить Блока. «Роза и крест» стали для него
чрезвычайным явлением: «Всюду беда и утрата. Что тебя ждет
впереди? Ставь же свой парус косматый, меть свои
крепкие латы знаком креста на груди...» Мне часто
казалось, что читая вслух эти строки он думал и о своем
будущем, о своей судьбе.
И наконец, Генрих Гейне, поэт, близкий ему с
детства.
Во всех этих стихах отразилось тогдашнее
мироощущение Льва Семеновича, и в этом смысле его
литературные пристрастия куда более характерны, чем
научные привязанности.
Художественная проза тоже, конечно, играла
большую роль в становлении его мировоззрения. Он
высоко ценил Бунина, его рассказы 1912—1916 гг., особенно
«Легкое дыхание», анализ которого вошел в
написанную им позднее «Психологию искусства». Самым
замечательным романом из современной литературы он
считал «Петербург» А. Белого. (Кстати,— но это было
позже, уже в московские годы,— ему очень нравились
я детские стихи Белого из цикла романов о Котике
Летаеве.) Из классиков русской литературы в те
годы больше всех волновал его Достоевский, может
быть, еще и потому,, что два романа его, «Братья
Карамазовы» и «Бесы» (под названием «Николай Ставро-
гин»), были инсценированы в Художественном театре.
Огромное впечатление производила на Льва
Семеновича «Легенда о Великом Инквизиторе».
Студенческие годы Льва Семеновича совпали с
26
первой мировой войной. В то время все вопросы,
связанные со смыслом истории, смыслом жизни, стали
особенно важными для всякого думающего человека.
Тут на его умственном горизонте появляется еще
один мыслитель, ныне у нас мало кому известный,—
Лев Шестов. Его труды, в частности «Толстой и
Достоевский», «Достоевский и Ницше», «Творчество из
ничего» (о Чехове), оказали на Льва Семеновича боль-
щое влияние.
Еще в гимназические годы Лев Семенович полюбил
театр. Он ставил на даче «Женитьбу» Гоголя, был
,чем-то вроде режиссера — проходил с участниками все
роли, и мужские и женские. Он увлекался игрой
приезжавших в Гомель на гастроли замечательных
актеров, таких, как Орленев, Каминская, не пропускал ни
одну постановку летнего гомельского театра, хотя,
как правило, они были весьма посредственными. В
студенческие годы страсть его к театру смогла
проявиться намного сильнее и полнее. В Москве любимым
его театром стал Художественный. В те годы, во
всяком случае в той среде, к которой принадлежал
Выготский, театр был не развлечением, а, школой жизни.
Такие спектакли Художественного театра, как «Брандт»,
«Маленькие трагедии», «Братья Карамазовы»,
.«Николай Ставрогин», «На дне», чеховские пьесы,
даже «Царь Федор Иоаннович», заставляли задуматься
и об окружающем мире, и о себе. Несколько позже
Лев Семенович полюбил и Камерный театр
(организованный в 1915 г.), которым руководил Таиров,
человек, по-своему понимавший задачи и законы театра.
Такие постановки трагедий, как в Камерном,
невозможны были более нигде, а трагедию Лев Семенович
понимал очень глубоко. На почве театра Лев
Семенович сблизился с известными театральными критиками
Николаем и Абрамом Эфросами.
Говоря о роли театра в жизни Выготского, нельзя
забыть о том, что с ранних лет его глубоко захватил
«Гамлет». Еще в гимназические годы он начал писать
свой труд о нем, никому, помнится, его не показывая.
Работа эта," опубликованная в виде приложения ко
второму изданию «Психологии искусства», вероятно,
переделывалась в последующие годы, но начало ей
было положено еще в отрочестве. Еще раз повторюсь:
Лев Семенович по своему окладу был мыслителем, и
именно так, как мыслитель, он подошел к пониманию
27
шекспировской трагедии. В его студенческие годы
Г. Крэг поставил в Художественном «Гамлета» без
декораций — это было неожиданно и смело, актерская
игра и режиссерская интерпретация придавали пьесе
новое звучание. Этот спектакль был для Льва
Семеновича особенно интересен.
Через всю жизнь пронес Лев Семенович глубокий
интерес к мыслям и трудам Баруха Спинозы.
Большая работа о нем, задуманная и начатая еще в
юности, осталась незаконченной. Не так давно в журнале
«Вопросы философии» было напечатано ее начало,
посвященное Декарту, который рассматривается как
предшественник Спинозы. Может быть, и другие части
этой работы находятся в архиве Выготского... Если
говорить о влиянии великих мыслителей прошлого на
становление Выготского, то Спинозу надо назвать
одним из первых. Видимо, не случайно и сестра его
Зинаида Семеновна, которая в 1915 г. поступила на
Высшие женские курсы в Москве и постоянно находилась
в курсе всех интересов брата, выбрала темой для
курсовой работы именно философию Спинозы — тему,
которую ей потом предлагали защищать как
кандидатскую диссертацию. (Впоследствии Зинаида Семеновна
стала известным лингвистом, соавтором многих
выходивших у нас в стране иностранных словарей.
Постоянное общение с ней не могло не сказаться на научных
интересах Льва Семеновича.)
...Когда Лев Семенович впервые по-настоящему
заинтересовался психологией? Конечно, и в программе
историко-философского отделения университета Ша-
нявокого психология занимала видное место. Но,
думаю, особенный интерес к этой науке вызвали две
книги, которые он прочел в первые студенческие годы.
Одна из них — «Многообразие религиозного опыта»
У. Джемса, который в те годы считался одним из
крупнейших психологов. В этом огромном труде
собраны свидетельства о мистическом опыте многих
людей, причем людей совершенно различного порядка —
от Франциска Ассизского до спиритички Блаватской.
Все эти свидетельства разбираются в книге подробно,
с желанием понять этот необычный опыт, а вместе с
тем и недостаточно критично. На Льва Семеновича
эта книга произвела сильное впечатление, на меня
тоже (он дал прочитать эту книгу и мне), и мы много
о ней говорили. Мне очень хотелось «твердо выяснить»,
28
что в приводимом автором материале достоверно, а что
является незаслуживающим внимания вздором и
даже шарлатанством. Но на мои вопросы об этом Лев
Семенович обычно отвечал, что все может быть так, а
может быть и не так. Я даже сердился, что он просто
не хочет со мной, младшим, всерьез говорить о
таких сложных проблемах. Но, думаю, в его ответах
проявилась характерная черта его мышления —
умение подойти к вопросу с разных, порой
противоположных сторон, желание не пройти мимо важного явления
только потому, что оно кажется невероятным.
Все это происходило во время студенческих
каникул. Потом Лев Семенович опять уехал в Москву, а я
достал курс психологии Джемса. Меня поразили там
многие удивительные и парадоксальные мысли
—например, мы не потому плачем, что нам грустно, и не
потому смеемся, что нам весело, а как раз наоборот:
рады, потому что смеемся, и грустим, потому что
плачем. Иначе говоря, физиология предопределяет наше
душевное состояние. Когда Лев Семенович в
следующий раз приехал в Гомель, оказалось, что и он прочел
эту книгу и обратил внимание на те же места. И опять
на мои вопросы, что тут правильно, а что
неправильно, последовали прежние ответы...
Второй книгой была «Психопатология обыденной
жизни» 3. Фрейда. Его неожиданные, парадоксальные
и непривычные для нас идеи, конечно, были
увлекательны, заставляли задуматься о природе многих
психических явлений. Повторяю, мне кажется, что
именно эти книги дали сильный толчок интересу Льва
Семеновича к психологии.
...Теперь я подхожу к тому периоду, когда у нас с
Львом Семеновичем появилось новое, важное для нас
обоих дело.
Сразу после Октябрьской революции Гомель
оказался в очень сложном положении. Брест-Литовские
переговоры были сорваны, и немцы заняли наш город.
Вскоре немцы организовали Украинское гетманство
во главе с гетманом Скоропадск'им, и Гомель, хотя он
никогда не являлся украинской землей, стал тем не
менее северной частью этого марионеточного
государства. В городе были одновременно и немцы и какая-
то украинская гетманская власть. Для молодых
людей нашего круга это сразу же создало трудную
проблему: в обстановке полной неуверенности в завтраш-
29
нем дне надо было думать прежде всего о своих
пожилых родителях. Мы по молодости лег считали себя
способными защитить кого угодно и от чего угодно
и старались поэтому оказаться вместе с нашими
семьями. Лев Семенович тоже приехал из Москвы в
Гомель и решился покинуть свою семью, когда
положение несколько стабилизировалось. Он поехал в Киев,
видимо, в поисках работы. Там у него завязались
очень интересные знакомства — с Ильей Эренбургом,
тогда молодым поэтом, с Маковельским, человеком,
посвятившим свою жизнь изучению и изданию
сохранившихся фрагментов произведений греческих филосо-
фов-досократиков. С Л. Шестовым, который постоянно
жил в Киеве, Лев Семенович лично, кажется, не
познакомился, но установил с ним какой-то контакт через
общих друзей.
Но в Киеве подходящей работы не нашлось, да и
обстановка оказалась нестабильной, и вскоре Лев
Семенович вернулся в Гомель к семье. И тут для Льва
Семеновича, который к тому времени уже окончил
университет, началась трудная полоса. В гетманской
Украине, на оккупированной немцами русской земле
ему нечего было делать, никакая творческая работа
не шла на ум. Эта невозможность найти себе
настоящее место в жизни тяжело сказывалась и на других
молодых людях. В обстановке вынужденного безделья
группа молодежи сходилась на крыльце дома, где
жили Выгодские, и начинались разные, большей частью
шутливые или пустые разговоры. Группа эта
называлась «Чердачок», потому что она часто собиралась в
мезонине дома. И вдруг произошло совершенно
неожиданное для всех событие — английские танки (то
было новое оружие) прорвали немецкие линии. Еще
совсем недавно, летом 1918 г., немцы нещадно били
французов, брали в плен сотни тысяч солдат, а в
ноябре германская армия уже была разбита,
деморализована, и в самой Германии произошла революция.
Вскоре Украина и Гомель были очищены и от немцев,
и от войск Скоропадского,^ и у нас опять
восстановилась Советская власть.
Появилась возможность заняться полезной работой.
Лев Семенович и его двоюродный брат Давид начали
преподавать литературу в школе, стали школьными
работниками, сокращенно — «шкрабами», как тогда
называли учителей. А я служил в школе Днепровской,
80
коенной флотилии преподавателем истории. Пожалуй,
[никогда потом мне не встречалась такая
внимательная, заинтересованная, вдумчивая аудитория, как те
[латросы, которые жадно ловили каждое слово,
стремясь понять смысл исторических событий. Работа в
Ьиколе была интересна, но все же нам чего-то не
хватало, хотелось чего-то большего.
Еще в старших классах гимназии я прочитал в
журнале «Русская мысль» переводной роман «Ричард Фер-
Сюнг». Герой ее — художник-гравер, который издает
[прекрасные «'ниги, сам же их и иллюстрируя, и
редактируя, и печатая, и распространяя. Жизнь его полна
издательскими радостями и горестями, но всегда
содержательна. Все это меня привлекло, и я тогда же
[решил, что когда стану взрослым, займусь
издательским делом. Теперь мне показалось, для этого
наступил подходящий момент. Я поделился своими
планами с Львом Семеновичем, и он тоже загорелся этой
идеей. «Надо привлечь Давида»,— только и добавил он.
Давид Исакович был очень спокойным человеком, но
.и его увлекла мысль об издательстве. Больше ни о чем
другом мы говорить уже не могли.
После долгого обсуждения мы решили издать и
лучшие памятники мировой литературы и
современные произведения — и то и другое, считали мы,
отвечает на вопросы сегодняшнего дня.
Как же назвать наше издательство? Часами
обсуждали мы эту проблему, пока не нашли для него
вполне подходящее название — «Века и дни», совершенно
точно отражающее наши планы: и мировая классика,
и современная литература. Мы придумали и
соответствующую названию издательскую марку: сфинкс и
мотылек.
Из «веков» материала было достаточно. Мы
собирались выпустить »избранные произведения Пушкина,
затем том римских элегиков и некоторые другие, не
менее знаменитые литературные памятники. Труднее
был вопрос, что выбрать из современной литературы,
как связаться с современными авторами. Тут очень
пригодились киевские знакомства Льва Семеновича.
Он написал Эренбургу и Маковельскому, попросил
своих друзей поговорить с Шестовым. Очень скоро
пришли ответы. Эренбург сразу же прислал нам свои
последние стихи, которые, правда, были уже один раз
опубликованы под названием «Стихи о России», но
31
теперь он давал сборнику новое имя — «Огонь». Это
(и было первой книгой, которую мы издали. Таких
пламенных и трагических стихов, может быть, у Эренбур-
га никогда потом уже не было. Очень серьезно
откликнулся на наше предложение и Маковельский —
он, естественно, предложил нам своих досократиков.
Шестов тоже выразил готовность сотрудничать с
нашим издательством. Лев Семенович предоставил
издательству свою «Похвалу Ослу» — эссе о баснях
Крылова, которое потом вошло в несколько измененном
виде в «Психологию искусства», Давид — тетрадь
своих двустиший. Нам хотелось привлечь еще двух
авторов: Валерия Брюсова, знаменитого поэта, и Михаила
Осиповича Гершензона, замечательного мыслителя,
последняя книга которого «Мудрость Пушкина» вышла
в 1915 г. Однако оба они жили в Москве,- и мы
решили не писать им, а найти возможность поговорить с ни-.
ми лично.
Тогда новое издательство, помнится, не надо было
где-либо регистрировать, получать чье-либо
разрешение. Требовалось всего лишь несколько сот рублей для
начала деятельности. Мы решили, что наше
издательство будет кооперативным, стоимость пая была
определена в 25 руб. Человек десять наших приятелей
рискнули такой суммой, а мы трое образовали
рабочую группу.
В Гомеле имелось несколько типографий.
Директором одной из них был Григорий Михайлович Нейман,
по профессии наборщик, до революции редактор
нескольких газет, выходивших в городе в разное время.
Он был старше нас лет на двадцать, хорошо знал всех
нас. Когда мы обратились к нему с предложением
печатать наши издания в его типографии, он очень
обрадовался, был глубоко заинтересован этим делом.
Мы часто мешали ему работать своими бесконечными
вопросами о том, что и как делается в типографии, но
он охотно бросал все свои дела, чтобы наставлять нас
на путь истинный в типографском искусстве. При этом
он постоянно приговаривал: «Что вы на мою голову
'свалились? Почему вы маленькими не удавились?» Мы
отлично его понимали и отвечали шутками такого же
рода. Для меня, проработавшего много десятков лет
iB издательском деле, он был первым учителем и я до
сих пор благодарен ему.
С бумагой в Гомеле тогда было очень хорошо. Не-
32
далеко от города, в местечке Дробуш, находилась
щисчебумажная фабрика, до революции
принадлежавшая княгине Паскевич. Поэтому в 1919 г., когда в
ютране бумаги было мало, в Гомеле ее хватало.
Так мы и издали книгу стихов Эренбурга. Стихи
были очень горячие. Вот Каин после убийства Авеля:
«И больше не могло ни биться, ни рычать его
косматое истерзанное сердце». Или другое стихотворение:
.«Каменщики пели: мы молоды, в небо уйдем, что нам
стоит? В наших сердцах столько золота — на горе
новый город построим». А когда город построили, то
оказалось, что в нем всего пятьсот зал — сто для
чтения персидских лириков, сто — для того, чтобы
вздымать поутру, сто — чтобы пить Шато д'Икем, другие
валы — для других не менее важных дел, а для всего
остального места не хватает. Трагедия и ирония
переплетены между собой, как обычно у Эренбурга...
После этого хотелось издать что-то гармоничное.
Мы остановились на французском поэте греческого
происхождения Мореасе. Вышла эта книга в другой,
несколько лучше оборудованной типографии и внешне
выглядела наряднее.
Возникла проблема: как продавать нашу
продукцию? Но она решилась просто. В Гомеле было
отделение «Союзпечати», и его руководитель сразу же
договорился с нами, что покупает все наши издания
любым тиражом, который нам удастся напечатать.
Теперь, когда у нас уже было что показать — все-
таки целых две изданные «Веками и днями» книги,—
решено было, что в первую же мою командировку в
Москву (меня посылали туда покупать книги для
школ) я должен связаться с Брюсовым и Гершензо-
ном. Задание я выполнил, оба наших потенциальных
автора охотно и дружелюбно согласились
сотрудничать с нами, чему все мы были очень рады. Но, к
большому сожалению, внезапно обстоятельства круто
изменились. В Гомель прибыла специальная комиссия,
которая должна была мобилизовать все ресурсы, в том
числе и бумагу, на которую мы рассчитывали. Так
издательство наше прекратило свое существование.
Изменились и жизненные обстоятельства у «ас самих.
Давид решил вернуться в Петроград, где мог
рассчитывать на интересную работу. Наша семья, которая
временно оказалась разбросанной, сумела объединиться,
и теперь я мог уехать учиться в Москву. И лишь Лев
2 К. Е. Левитин
33
Семенович еще на несколько лет остался в родном
городе— и я мало по-настоящему знаю об этом
периоде его жизни, хотя именно тогда он организовал
психологическую лабораторию при педагогическом
техникуме, читал циклы интереснейших лекций и готовил
книгу «Педагогическая психология».
Мы сумели издать всего две книги, но главное для
нас было в другом. Хотя с самого начала было ясно, что
благополучие с бумагой — дело времен/ное, мы
строили свои планы широко. И это позволяло, даже делало
необходимым говорить о многих замечательных
литературных произведениях. Неизбежно наши беседы
выходили далеко за пределы литературы. Таким образом
за время существования издательства мы трое
совершили настоящее путешествие по «Векам и дням»,
обсудили все, что имело для нас первостепенное
значение. Это, быть может, определило многое в жизни
каждого из нас. И когда семь лет спустя в Москве
вышла книга Льва Семеновича об известном в то
время художнике «Графика А. Быховского», он надписал
мне ее так: «Дорогому Сене, незабываемому спутнику
по Векам и Дням от автора на строгий суд. 14 ноября
1926 года»...
К сожалению, мне немногое остается вспомнить.
В 1920 г. я уехал из Гомеля в Москву. Когда мы
расставались, Лев Семенович был не очень здоров.
Чувствовал он себя неважно, с питанием было трудно, а
у них в семье был туберкулез. Месяца через полтора-
два он написал мне, что тяжело болен, и его
направляют на лечение в санаторий в Клинцы. Он не думает,
что останется в живых и просит меня о следующем.
Он близко знаком по университету Шанявокого с
литературным критиком Юлием Александровичем Ай-
хенвальдом. Надо зайти к нему и сговориться, чтобы
тот принял рукописи, которые останутся после Льва
Семеновича, и постарался их опубликовать. Я, конечно,
тотчас же пошел к Айхенвальду. Юлий Александрович
с большим вниманием отнесся к просьбе Выготского,
обещал сделать все возможное. Я написал Льву
Семеновичу об этом разговоре, но убеждал его не считать
болезнь смертельной — он непременно поправится. Так
оно и случилось. Прав Лев Семенович оказался лишь
в том, что печатать его основные труды стали только
после его смерти. Я особенно хорошо понял тогда, по-
34
чему он так любил те печальные строки Гейне — как
не хотелось ему уйти, не оставив по себе следа.
Через несколько месяцев я получил возможность
съездить на несколько дней в Гомель' повидаться с
близкими. Тут я вновь встретился с Львом
Семеновичем. Прошло меньше года с той поры, как мы
расстались, а он находился уже в совершенно ином обще-
сгве — в окружении молодых людей, в числе которых
были и учащиеся педагогического техникума. Он опять
чувствовал себя нехорошо, но держался. В Гомеле
теперь уже оставалось мало близких ему по духу
людей — обе сестры уехали, Давид тоже. Но он не хотел
оставлять родителей одних.
В начале 20-х годов Лев Семенович женился на
Розе Ноевне Смеховой, живой, умной, красивой
девушке. В трудных ситуациях, которых было немало,
она умела не впадать в уныние, а пыталась какой-
нибудь веселой песенкой подбодрить и себя и других.
В 1924 г. Лев Семенович сделал замечательный
доклад на психоневрологическом съезде в Петрограде и
сразу после этого получил приглашение переехать на
работу в Москву. Он поселился в здании Института
экспериментальной психологии, где находилось
философское отделение историко-филологического
факультета в те годы, когда я там учился. Лев Семенович
получил комнатку в подвале. По странной случайности
туда был сложен архив философского отделения. Лев
Семенович заинтересовался этим архивом и нашел в
нем материалы семинара по этнической психологии,
в том числе мой доклад. Тема его была «Что делает
людей нацией» — та самая, которую мы обсуждали
в гимназическом кружке, руководимом Львом
Семеновичем. И вот теперь, когда я пришел к нему, он
сказал, что мой семинарский доклад ему понравился.
Конечно, мне приятно было это услышать. Но ведь
главная мысль доклада, что нацию создает общность
исторических судеб, принадлежала не мне, а ему. Этот
исторический подход, характерный для научного
метода Льва Семеновича, помогал ему решать многие
сложные вопросы, и не только в психологии,.
Так после примерно четырехлетнего перерыва мы
вновь стали встречаться с Львом Семеновичем. Но
'Москва не Гомель: дела и расстояния разметали нас,
мы виделись много реже, чем раньше. К тому же он
полностью ушел в психологию, а я выбрал себе дру-
35
гую профессию — издательскую деятельность. Но кор
да мы встречались, у нас всегда находилось о чем
поговорить, мне всегда было трудно с ним расставаться.
Лев Семенович по-прежнему любил поэзию. В те
годы к любимым поэтам прибавился Борис Пастернак,
С увлечением говорил Лев Семенович о «Переписке»
Спинозы, которая вышла на русском язьгке. Под влия^
нием событий общественной жизни неожиданно
появлялись новые главки для «Психологии искусства»,
От общих вопросов психологии Лев Семенович вед
больше переходил к проблемам, связанным с
психологией детского возраста. В частности, он создал и глу^
боко обосновал замечательный метод воспитания и
обучения глухонемых детей, успешно применял его па
практике. Эта работа все больше захватывала Льва
Семеновича, он вложил в нее и свой гений, и душу, и
силы. Ни болезнь, ни многие препятствовавшие его
научной деятельности (и конечно, обострившие болезнь)
обстоятельства не могли оторвать его от важного и
любимого им дела.
Вспоминаю один разговор с Львом Семеновичем в
последние годы его жизни, когда я навестил его во.
время болезни. «Работать стало совершенно
невозможно,— сказал он, имея в виду не одну только болезнь.—
Мне предлагают ехать в Сухум, в обезьяний
заповедник. Работа очень интересная. И там будет спокойнее.
Но один ехать я не решаюсь. Ты бы поехал со мной?»
Я к тому времени уже лет семь как по-настоящему не
занимался психологией и понимал, как трудно будет
вернуться к ней после долгого перерыва. Но я
понимал и то, о каких важных вопросах идет речь. Не
колеблясь, я сразу же ответил: «Хорошо, я с тобой поеду».
Лев Семенович, однако, не осуществил этого проекта.
Ему становилось все хуже...
Он умер в санатории «Серебряный бор». Лев
Семенович всегда любил слова и выражения, имеющие
неоднозначный смысл, загадки, у которых не один ответ.
Когда ему стало ясно, что он умирает, последние его
слова были: «Я готов...» Их тоже можно понимать по-
разному...
36
«Моцарт психологии»
(Воображаемый обмен мнениями)
В котором участвуют Артур Владимирович Петровский, Роман
Осипович Якобсон, Стефан Э. Тулмин, Лев Семенович Выготский,
Владимир Петрович Зинченко, Георгий Петрович Щедровицкий, Майкл
А Коул, Василий Васильевич Давыдов, Джеймс В. Уертш,
Александр Романович Лурия, Алексей Николаевич Леонтьев, Михаил
Григорьевич Ярошезский9.
В сущности, интересует нас в жизни только одно:
наше психическое содержание... Миллионы страниц
I заняты изображением внутреннего мира человека,
а результатов этого труда — законов душевной
жизни человека — мы до сих пор не имеем.
И. П. Павлов. «Двадцатилетний опыт
объективного изучения высшей
нервной деятельности (поведения)
животных»
Для меня так это ясно, как простая гамма.
А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери»
Петровский. Неудивительно, что интерес к психологии
сейчас стал повсеместным: интенсивное развитие этой
науки — прямой результат достижений
научно-технической революции с ее особым вниманием к Человеку,
основному действующему лицу социального и
промышленного прогресса. Советская психологическая наука
сравнительно недавно стала известной на Западе, но
с 1966 г., т. е. со времени XVIII Международного
психологического конгресса, проходившего в Москве,
внимание к ней все более обостряется. Особенный интерес
вызывают исследования, выполненные внутри научной
школы, связанной с именем Л. С. Выготского, выдаю.-
щегося ученого, ушедшего из жизни в середине 30-х
годов. Не случайно многие американские психологи
считают, что психологическая наука в США сегодня
повторяет «азы» советской психологии, основы которой
'были во многом заложены в трудах Л. С. Выготского
и его учеников. Этот возрастающий интерес к
психологии в СССР, и в особенности к направлению,
связанному с именем и трудами Л. С. Выготского,
вполне понятен :И оправдан10.
Якобсон. Так случилось, что на Западе я был,
очевидно, первым человеком, который заинтересовался
Трудами Выготского, по сути дела, «открыл» этого
великого ученого, которого в то время никто у нас не
онал и не понимал. Произошло это благодаря томгу,
37
что мне попалась -книга Александра Романовича Лу-
рии об афазии, в которой он упоминал своего учителя
Выготского. Я думаю, что корни нашей с Лурией
близости во многом питаются идеями Льва Семеновича,
которые нам обоим очень близки и дороги. Именно
учение Выготского помогло многим психологам,
главным образом советским, безболезненно перейти от
бихевиоризма и гештальтизма к новой идеологии,
которая на вооружении и сегодня11.
Тулмин. Американские психологи оставались в
стороне от новейших открытий в русской психологической
науке после первой мировой войны. Значительная часть
фундаментальных работ советской психологии 20—
30-х годов — теоретических и экспериментальных —
остается неизвестной в США и лишь сейчас благодаря
усилиям, энергии и инициативе Майкла Коула
становится более или менее доступной американскому
читателю в английском переводе. Профессор М. Коул
редактирует квартальный журнал «Советская
психология» (это сборник переводов статей) и является от*
ветственным за выпуск двух из трех томов антологии
«Советская психология развития». И если Майкл
Коул до сих пор готовит к печати новые выпуски работ
Выготского, то это он делает не потому, что питает
слабость к архивной работе, а потому что убежден:
существенная часть того, что было сделано в России
с 20-х по 30-е годы, соответствует американским
исследованиям сегодняшнего дня.
Теперь, когда на английский язьж переведены почти
все материалы, в том числе и ключевые работы,
возникают вопросы.
1. Что мы может почерпнуть из этих материалов?
Правы ли Майкл Коул и его коллеги? Действительно
ли американская психология, отдав пятьдесят лет
напряженного труда таким областям знаний, как
академическая психология, нейроклиника, лингвистика,
теория обучения, проглядела нечто очень существенное,
1Что было сделано советскими учеными?
2. А если это так, то почему советская
психологическая литература игнорировалась до сих пор?
Неужели это была дань разногласиям между нашими
странами и в этом случае ка.к возможно подобное в
середине двадцатого века? Как могло случиться, что
большая группа видных физиологов и психологов — целая
школа! — работала на протяжении 4Û лет, публикова-
38
шась в России и тем не менее оставалась неизвестной
;на Западе?
Ответы на эти вопросы связаны между собой. Как
лш сейчас видим, разница в теоретическом подходе,
методе и философии между нашими странами привела
in различиям и в организации исследований, а различия
iB организации исследований поддерживали
разногласия в теории и философии. И изначальные установки,
,и интеллектуальные факторы отгородили западных уче-
даых-бихевиористов от достижений советской школы.
Поэтому только сейчас мы получили возможность
изучить эти достижения и включить результаты советских
исследований в практику нашей науки.
...Советская психология воспринималась
американцами на протяжении последних 50 лет как чуждая и
.неприемлемая для Запада. Единственное имя,
известное Америке, конечно, Павлов. Мало того, работы
Павлова о рефлексах и выделении слюны у собак в
результате подкрепления поддерживали предрассудки
на Западе в отношении коммунистической системы в
.психологии, создавали впечатление об особенно грубом
.материалистическом подходе к человеку, чуть ли даже
не «бесчеловечном», редукционистском. Как ни
парадоксально, но такая точка зрения поддерживалась и
неправильными интерпретациями и даже просто
неверными переводами.
Что касается самого Павлова, то он никогда не
распространял свою теорию о рефлексах на высшие
человеческие психические функции, т. е. вовсе не
сводил разумное поведение человека к реакциям на
стимулы внешней среды. Напротив, центральные
проблемы, затронутые в его работах, касались разницы
между рефлексами проявляющимися как безусловные, и
теми, которые проявляются только в определенных
условиях.
Как же произошло, что павловокие условные и бе-
^условные рефлексы в переводе трансформировались в
«обусловливающие» и «обусловленные»? Это случилось
вследствие потери контекста павловского учения в
процессе его трансформации в западный вариант, в
контекст бихевиоризма. Если сам Павлов подходил к ин«
дивиду как к активному, действующему организму, то
на Западе Павлова превратили в механистического
Детерминиста, догматического материалиста12.
Выготский. Основным и определяющим фактором
39
для развития естественнонаучной психологии в нашей
стране надо считать учение об условных рефлексах,
созданное И. П. Павловым. Правда, учение это не
только зародилось, но и успело сделать главные шаги
свои и завоевать всемирное признание до революции.
Но как это ни покажется странным на первый взгляд,
в широких кругах в России оно оставалось
малоизвестным, и в дореволюционную эпоху оно не
оказывало никакого влияния на ход и развитие русской
психологии. В ту эпоху воздавали богу богово и кесарю
кесарево: психологи изучали душевные явления,
физиологи — нервную деятельность: то и другое было
разделено целой бездной.
Только в эпоху революции учение об условных
рефлексах стало определяющим фактором в развитии
психологической науки. Этому послужило причиной и
то, что учение это значительно продвинулось вперед
и получило некоторое завершение в книге И. П.
Павлова «Двадцатилетний опыт объективного изучения
высшей нервной деятельности (поведения) животных»
(1923). Но главной причиной было то глубокое
внутреннее родство, которое существует между идеями
революции и новым учением. Революция сразу
усыновила новую психологию.
В самом деле, в новом учении все почувствовали
сразу нечто такое, что ставит его в один ряд с
учением Дарвина. Дарвин раскрыл происхождение
наследственного опыта в наследственной организации
животных. Павлов раскрыл происхождение индивидуального,
приобретенного, личного опыта и то, каким образом он
надстраивается над опытом наследственным, родовым.
Если Дарвин дал ключ к биологии видов, то Павлов
дает ключ к биологии индивидов.
Он показывает, как любой элемент наследственного
опыта — рефлекс — может под влиянием среды,
воздействующей на организм, быть приведен в связь с
любым элементом внешнего мира — раздражителем
или стимулом и как из этого возникает сложнейшая, но
совершенно закономерная картина индивидуального
поведения того или иного животного. Тот биологический
механизм, которому Павлов дал имя условного
рефлекса, чрезвычайно прост: так называет он реакцию
животного, вызываемую каким-либо стимулом, который
в прежнем опыте животного сочетался с непосред-
ственным, безусловным раздражителем этой реакции,
40
Если собака выделяет слюну при виде пищи, перед на<
ми условный рефлекс.
Классические опыты Павлова удивительно просты -—•
просты той простотой, которая отличает все
гениальное. В самом деле, в основе их лежит тот известный
всякому ребенку факт «психического слюноотделения»,
что при виде пищи «слюнки текут»: метод его
определяет известная со времен Аристотеля идея ассоциации.
Это дало повод многим не замечать за этой простотой
того небывало нового, что таит в себе это учение:
«Какая это наука! Ведь это каждый егерь давно
знает, дрессируя собак».
В одном отношении работы Павлова прямо
осуществляют задачу, поставленную Сеченовым,—
показать земное происхождение всех самых высших
психических процессов, показать, что человек есть
определенная единица в ряду явлений,. представляемых
нашей планетой, и вся его, даже духовная, жизнь
насколько она может быть предметом научного
исследования, есть явление земное...
Этим окончательно ликвидируется в науке о
человеке дуализм, доставшийся ей в наследие от религии,
различавшей в человеке душу и тело. Путь к
самостоятельной, замкнутой в себе, ни с чем не сравнимой
психике оказывается отрезанным в свете нового учения.
После материалистического понимания мертвой и
живой природы, после материалистического понимания
общественной исторической жизни человечества настал
черед материалистического понимания самой трудной,
сложной и темной стихии — самого человека.
Этим достигается включение человека в общий
контекст всего «земного» и распространение на него и его
духовную жизнь тех общих законов, которые
действуют в реальном мире и познаются наукой.
«Субъективный метод,— говорит И. П. Павлов,— это метод
беспричинного мышления, потому что психологическое
рассуждение есть адетерми-нистическое рассуждение,
т. е. я признаю явление, происходящее ни оттуда, ли
отсюда». Поэтому новое учение и стремится познать
человека по строгим правилам естественнонаучного
мышления.
Но эта широкая перспектива назад, в глубь
животной жизни, не только не удерживает нас все время в
сфере примитивных, низших первобытных форм
поведения, но, напротив, впервые дает руке возможность
41
подняться и проникнуть с орудием точного знания
в высшие этажи нервной деятельности. Это -и создает
необычный оптимизм у новых исследователей. Изучая
соотношение человека и мира, они твердо уверены
в том, что, «идя путем объективных исследований, мы
постепенно дойдем до полного анализа того
беспредельного приспособления во всем его объеме, которое
составляет жизнь на земле. Движение растений к
свету и отыскивание истины путем математического
анализа,— говорит Павлов,— не есть ли в сущности
явления одного и того же ряда} Не есть ли это последние
звенья почти бесконечной цепи приспособлений,
осуществляемых во всем живом мире?»
Следующий эпизод показывает, как уже отдельные
опыты Павлова открывали грандиозные перспективы.
Собаке дают пищу и в это же время прижигают ей
кожу электрическим током. «Электрический ток, как бы
он ни был силен, становится сигналом, заместителем
пищи, условным раздражителем пищевого центра.
Электрическое раздражение вызывает теперь не
оборонительную реакцию, а пищевую: животное оборачивается к
экспериментатору, облизывается и начинается
слюнотечение, как перед едой. Совершенно то же самое получится
при замене электричества прижиганием и ранением
кожи».
Перед нами очередной шаг в изучении высшей
нервной деятельности — условный рефлекс на
разрушительный или болевой стимул. Но какое могущество
эксперимента: собака на боль отвечает радостью, вы наносите
ей ожог или рану — она тянется к вам. Шеррингтон,
известный английский физиолог, присутствовавший при
этих опытах (1911 г.), воскликнул: «Теперь я понимаю
радость мучеников, с которой они всходили на костер».
А через три года после этого на открытии
Института экспериментальной психологии говорилось: «В
Старом и Новом Свете люди при помощи хитрых аппаратов
уже пытаются путем воздействия на тело заставлять
душу давать нужные им ответы, стремятся с точностью
установить законы душевной жизни... Но можно ли
исследовать путем эксперимента внутреннюю сущность
души, можно ли измерять ее высшие проявления?.. Или
кто дерзнет экспериментально исследовать
религиозную жизнь духа?»
Третье, что выдвигает учение Павлова на первое
место в современной русской психологии, — это то, как
42
уже сказано, что связывает корни с перспективами:
принцип и метод условности в действии рефлекса. Без
преувеличения можно сказать, что в науке об индивидах
он играет ту же роль, что принцип и метод эволюции в
биологии. Метод этот заключается в том, что берется
некоторое первичное, природное, простое данное и
прослеживается его изменение в зависимости от тех
условий, в которых протекает эта деятельность. В самом
широком, философском смысле этого термина весь мир
истории, культуры, языка — это царство условности. В
этом смысле метод условных рефлексов приобретает
широчайшее значение метода природно-исторического в
применении к человеку — узла, который связывает
историю и эволюцию13.
Зинченко. В течение нескольких последних лет в
целом ряде известных издательств за рубежом выходят
книги выдающихся советских психологов: Л. С.
Выготского, А. Р. Лурии, А. Н. Леонтьева. Например, книга
А. Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность»
вышла почти в 20 странах. В 1978 г. в США издана
книга Л. С. Выготского «Разум в обществе», в 1979 г.
там же вышла автобиография А. Р. Лурии «The Making
of the Mind». В предисловии и послесловии к этой
книге профессор М. Коул поставил А. Р. Лурию в один ряд
с выдающимися психологами мира XIX—XX столетий,
включив его, так сказать, в первую пятерку.
Сформировалась школа марксистской психологии Хольцкампфа
в ФРГ. Ее создатель считает себя учеником А. Н.
Леонтьева, хотя встречался с ним лишь однажды. Огромен
интерес мировой психологической науки к советской
психологии 20—30-х годов. Журнал «Советская
психология», издаваемый в США, публикует работы
советских психологов тех лет в переводе с русского и
украинского языков. Этот перечень признаков интереса (а
нередко и восхищения) советской психологией может быть
продолжен.
Тем больше оснований выслушать мнение самого
«Моцарта психологии» о том, как развивалась
советская психология в те решающие для ее становления
годы14.
Выготский. Историческое развитие психологии
никогда не шло по прямой и единой линии. В 1874 г. Брен-
тано выдвинул требование создания единой психологии
вместо многих психологии, существовавших на деле к
тому времени под общим именем. Он понимал, что это
43
еСть историческое требование, которое — каждая в свое
иремя — выполнили такие науки, как математика,
физика, химия, физиология: требование найти ядро
всеобще признанной научной истины. Как в области
политики, говорил Брентано, так и в области пауки
никакое объединение невозможно без войны. Таким
образом путь к созданию единой научной психологии
оказался путем войны.
В 1917 г. Вильям Штерн повторил диагноз
Брентано и указал, что несмотря на огромные успехи точного
психологического исследования, мы все еще не имеем
психологии, но только много психологии. Однако за тот
огромный период, который разделяет оба эти мнения,
кризис в психологии успел развиться до такой
степени, что обнаружил в гораздо более ясном виде
истинные исторические задачи объединения многих
психологии в единую науку.
Русская психология, которая развивалась под
сильнейшим влиянием западноевропейской, не представляет
исключения из этого исторического закона. Обе
тенденции— к объединению и расколу — представлены и в
ней с совершенной очевидностью на всем ее
историческом пути.
Самобытные труды К. Д. Ушинского, И. М.
Сеченова и В. А. Вагнера заложили основы русской
естественнонаучной психологии. Особенно огромно было
влияние И. М. Сеченова, который рассматривал
психическое и физиологическое в человеке как явления одного
порядка, явления родственные, «одного и того же
земного происхождения, одной и той же планеты».
Научный материализм получил окончательное выражение в
известной формуле Сеченова: «кому и как
разрабатывать психологию», в ответе, который он давал на этот
вопрос, в идее физиолога-психолога, в утверждении, что
будущее психологии как науки находится в руках не
метафизиков, а натуралистов-психологов. Он же
осознал непригодность для науки умозрительного метода,
метафизичность субъективной психологии и первый
сформулировал идею психического рефлекса.
Сильное развитие той и другой психологии было
вызвано созданием экспериментальных лабораторий и
институтов —А. П. Нечаевым в Ленинграде, с уклоном
в прикладную и педагогическую, и Г. И. Челпановым
в Москве, с уклоном в чисто теоретическую область
исследований. Но внутренняя распря двух психологии не
44
прекращалась ни на одну минуту, и в предреволюциои-"
ные годы мы опять встречаемся с возрождением
метафизической психологии. К этому времени русская
психология, вслед за европейской, успела осознать, что в
ней соединены два разнородных начала, и пыталась
развить эту идею двух наук. «Таким образом оказалось
две разных психологии, или, иначе говоря, у психологии
обнаружились две стороны, два лика, как у Януса»,—
писал Н. Н. Ланге.
Но самое яркое выражение получила эта идея в
работе С. Л. Франка «Душа человека», вышедшей в
июльские дни 1917 г. и представлявшей полное завершение
одного из двух путей, которыми шла русская
психология накануне революции. Это попытка восстановить
психологию «в старом, буквальном и точном значении
этого слова», ее основной смысл — борьба против
«психологии без души», борьба против всякого перенесения
естественнонаучных методов и принципов в
психологию. Автор понимает исторический смысл борьбы двух
психологии совершенно точно и видит его «в простом
вытеснении одной науки совсем другой». «Подлинные
успехи психологии, — пишет этот автор, — были
обусловлены обостренным религиозно-нравственным
сознанием».
Историк русской философий с полным правом
говорит об этой книге, что она «знаменует глубокий
поворот, происшедший в воззрениях на психологию». «Мы
вновь возвратились к метафизической психологии», —
пишет он по этому поводу и заключает свой обзор
следующим итогом: «Итак, русская психологическая
литература описала такой же круг, что и на Западе.
Началась она с умозрительных рассуждений о душе,
приведших к тому, что самое существование души стали
отрицать, потом психология без души и физиологическая
психология стала экспериментальной и мало-помалу
начала вбирать в себе умозрительные элементы».
Но не только тенденция к расколу двух
вытесняющих друг друга наук, но и другая историческая
тенденция— к объединению отдельных психологических
дисциплин и направлений в единую науку — нашла себе
в русской психологии ясное выражение. Об
«удержании внутреннего единства психологии» как об
исторической задаче русской психологии говорил в своей
речи на открытии Московского психологического
института Г, И. Челпанов. Задачу института он видел в том,
45
чтобы «принять меры к сохранению единства
психологии». «Психология распадается на такие части, —
говорил он, — которые совершенно друг с другом не
связаны. Вследствие этого психология начинает утрачивать
свое единство. Ей грозит распад». Только при наличии
институтов, выполняющих задачу объединения
психологии, «психология у нас в России пойдет по верному
пути развития. Тогда развитие психологии в России
достигнет той полноты и совершенства, при которых мы
с гордостью будем говорить о «русской психологии, как
теперь принято говорить о немецкой, английской,
американской психологии».
Как и на Западе, это вторая тенденция мешала с
ясностью осознать первую, затемняла историческую
картину и приводила к ложным выводам: идея
единства затемняла идею раскола, на деле же объединение
было мыслимо только на почве предварительного
раскола. Это легко проследить на одном историческом
эпизоде. Открытие Психологического института в Москве
как историческое событие приветствовал, между
прочим, И. П. Павлов, тот, кто в своем научном
исследовании исходил из взглядов Сеченова и исключал в своей
лабораторной работе над мозгом малейшее
упоминание о субъективных состояниях. Он в письме своем
говорил, что задача научного изучения деятельности
мозга «так невыразимо велика и сложна, что требуются все
ресурсы мысли, абсолютная свобода, полная
отрешенность от шаблона, какое только возможно —
разнообразие точек зрения и способов действия и т. д., чтобы
обеспечить успех. Все работники мысли, с какой бы
стороны они ни подходили к предмету, все увидят
нечто на свою долю, и доли всех рано или поздно
сложатся в разрешении величайшей задачи человеческой
мысли».
С другой стороны, с открытием Института
связывались надежды, что его работы выяснят «коренное
различие, существующее между природой человека и
природой всех других живых существ, различие, которое
указывается и нашей верой, и опытом ежедневной
жизни». Это дало повод Г. И. Челпанову увидеть в этом
факте соединение русских психологов противоположных
направлений. «В этом можно видеть начало единения
русских психологов в общей работе, — говорил он.—
Формула «кому и как разрабатывать психологию»,
которая еще недавно разъединяла философов, психологов
46
и физиологов-психологов, будем надеяться, сделалась
уже достоянием прошлого». Не могло быть ничего
более исторически ложного, чем такое утверждение:
несоединимое оказалось несоединимым и на этот раз, и
борьба двух психологии очень скоро обнаружилась
явным для всех образом.
Историк без всякого труда вскроет ту зависимость
психологических идей от общей динамики
общественной жизни, которую так легко восстановить по
многочисленным и совершенно явным следам. Он покажет,
что победа и поражение каждой из двух психологии
закономерно определялись подъемом и скатом
общественно-политической волны и питались прогрессивными
и реакционными настроениями каждой эпохи.
...В 1914 г., на открытии Психологического
института, столкнулись приветствия И. П. Павлова и
епископа, говорившего об изучении «богоподобной природы
души», что дает в руки историка ясное указание на то,
какая общественная печать лежала на этом странном
соединении двух несовместимых психологии, которые по
видимости объединились в этот день.
Теперь, думается, не покажется странным и
нуждающимся в пояснениях основное положение, в свете
которого следует рассматривать психологическую науку в
СССР: исторической задачей психологии в стране
революции является превращение психологии в
естественную науку, завершение исторического раскола и
объединение всего положительного знания, которое
приобрела психология на своем долгом историческом
пути, в единую научную систему.
Тулмин. Центральной фигурой в советской
психологии 20—30-х годов был Лев Семенович Выготский.
В июне 1934 г. в возрасте 38 лет он умер от
туберкулеза. Последние годы его жизни были лихорадочной
гонкой в соревновании с приближающейся смертью.
(Возможно, он был последним из умирающих от чахотки
гениев, для которого понятие «лихорадочный»
существовало во всех его значениях.) Он оставил после себя
не школу, а скорее группу страстно преданных ему
товарищей... Коллеги и ученики Выготского продолжали
работать в открытых им направлениях, и позже они
внесли свой вклад в реабилитацию психологии —
частично благодаря своим работам во время войны над
проблемами «афазиологии» (или клинической невроло-
47
гии), частично благодаря необходимости улучшить
методику образования.
Среди соратников Выготского — ученые, которым
сейчас около 70 лет. Самым выдающимся среди них
был Лурия— человек с необычайно широким кругом
талантов и интересов. Это был один из самых
разносторонних ученых. Вслед за Выготским — Моцартом в
психологии (подобно тому, как Сади Карно был
Моцартом в физике), Лурия сумел стать Бетховеном. Но
весь богатый спектр идей, представленных в работах
Лурии, которые можно назвать пограничными между
нейрофизиологией, лингвистикой и теорией обучения —
все это было начато в дискуссиях с Выготским и его
коллегами в начале 30-х годов.
(В своей автобиографии Лурия писал: «Выготский
был гением. Спустя полвека в науке я не могу назвать
никого, кто бы смог даже приблизиться к его
способности анализа и предвидения. Все мои работы — это не
более чем разработка психологической теории, которую
выстроил он». Да, но какая разработка!)
Однако даже в Советском Союзе только в конце
50-х годов работы Выготского стали оказывать
существенное влияние на научную психологию. На Западе же
его имя до 1962 г. было известно лишь в связи с
изящным тестом с использованием кубиков в детской игре
для определения детского способа формирования
понятий. Благодаря этому тесту он с успехом пересмотрел
ранние взгляды Пиаже на роль внутренней
(эгоцентрической) речи в развитии ребенка. Публикация на
английском языке в 1962 г. книги Выготского
«Мышление и речь» дала возможность американским
читателям почувствовать особенную остроту аналитического
подхода этого ученого. Но только сейчас мы имеем
возможность познакомиться с его теоретическими
изысканиями благодаря появлению сборника работ
Выготского, вышедшего под редакцией Майкла Коула и его
коллег под изумительным названием «Разум в обществе»
...Книга обладает двумя важными достоинствами. Во-
первых, она была подготовлена при активном участии
Лурии и поэтому, несомненно, авторитетна и,
во-вторых, дает нам возможность убедиться во всеобъемле-
мости теорий Выготского, чего мы давно ждали и без
чего его работы по мышлению и речи казались одно-
аспектными.
Щедровицкий. Разобраться в том, что сделал Лев
48
Семенович Выготский в психологии и для психологии,
можно лишь при условии, что мы правильно поймем и
представим себе тот исторический контекст, в котором
он начинал свою работу.
Сейчас обычно взгляды и деятельность Льва
Семеновича оценивают, исходя из естественного и само
собой разумеющегося предположения, что в 20-е годы,
когда он начинал свою деятельность, наука психология
уже сложилась, уже существовала. И дальше разговор
идет лишь о том, что нового внес в эту науку Л. С.
Выготский. Но это, на мой взгляд, ложный ход. Даже
нынешнюю психологию, и тем более психологию 20-х
годов, нельзя рассматривать как науку или, если
говорить точнее, как только науку. То, что мы по традиции
называем «психологией», — значительно более сложное
целое, включающее в себя и психологическую
практику, и психотехнику и многие области человекотехники,
и психологическую философию, и, наконец, очень
небольшие, фрагментарные зародыши психологической
науки. «Психология» — это не только и не столько
наука, сколько огромная сфера человеческой деятельности,
в которой сейчас объединяются самые разнородные
формы и типы человеческого мыследействования.
Игнорирование этого обстоятельства приводит к
совершенно искаженным представлениям о психологии и
истории ее развития. Например, когда говорят о
предшественниках и современниках Л. С. Выготского: о
В. Вундте и У. Джемсе, о представителях Вюрцбург-
ской школы Кюльпе, Axe, Мессере, Марбе и др., о
родоначальниках гештальтпсихологии Эренфельсе, Кёлере
и др., то, как правило, забывают, что они были не
специализированными психологами-учеными, а прежде
всего философами, обсуждавшими психологические
проблемы. И это отнюдь не случайное совпадение, а
принцип, наиболее точно характеризующий тогдашнее
состояние психологической теории: о ней нельзя говорить
как о чем-то уже сложившемся и существующем, а
надо говорить как о становящемся. Но то же самое
можно сказать и в отношении всех остальных
составляющих сферы психологии.
Таким образом, Л. С. Выготский начинал свою
деятельность в психологии в условиях и на фоне очень
сложных и, я бы даже сказал, бурных процессов,
которые по моде начала столетия обозначились как
«кризис в психологии», но которые точнее и правильнее бы-
49
ло бы называть развитием психологической сферы
деятельности.
Линии этого развития были разнонаправленными и
крайне противоречивыми. С одной стороны, психология
все время стремилась обособиться от философии и
сформировать собственно научную психологическую теорию.
Создавались — здесь особая роль принадлежит Веберу,
Фехнеру и, конечно же, В. Вундту, основателю первого
в мире института экспериментальной психологии —
методы экспериментального психологического
исследования. С другой стороны, параллельно разворачивалась
собственно психологическая метафизика и на базе ее
складывалась философия психологизма: самые
различные явления общественной жизни начинали
толковать и объяснять психологически, психология
становилась своего рода мировоззрением. Вместе с тем
развитие психологии уже в 90-е годы прошлого столетия
стало неуклонно выводить анализ за рамки изучения
психики отдельного человека и заставило
исследователей обратиться, во-первых, к культуре человеческого
общества, а во-вторых, к социальной организации. Тот
же самый В. Вундт, создатель экспериментальной
психологии, положил начало так называемой
Volkspsychologie, «психологии народов», что было своеобразной
формой как психологической культурологии, так и
психологической психологии. Э. Дюркгейм и Болдвин
выдвигали на передний план социальную организацию.
Таким образом, уже с 90-х годов XIX в. в еще
только формирующейся психологии начинается борьба двух
направлений — одного, которое все время прорывает
слишком узкие для психологии рамки изучения
психики отдельного человека, и другого, которое требует
сохранения этих рамок как условия сохранения самой
психологии в ее отличии от культурологии и социологии.
Главным вопросом, определяющим линию развития
психологии, становится вопрос о соотношении «души»
и «духа».
Сюда нужно было бы добавить еще множество
сложных и важных проблем, касающихся «объективных» и
«субъективных» методов изучения в психологии,
множественности или единства научных предметов в
психологии, способов соорганизации их в одно целое,
отношения к психологическим практикам разного рода
и т. д. и т. п. Я называю только самое важное и прин-
60
ципиальное. Но и этого вполне достаточно, чтобы
показать сложность ситуации.
Именно в эту крайне сложную и противоречивую
ситуацию вошел Л. С. Выготский и за короткий срок
создал одну из самых интересных и, на мой взгляд,
перспективных программ ее дальнейшего развития15.
Коул. Выготский начал изучать Маркса с
«Капитала». Когда в 1925 г. появилась «Диалектика природы»
Энгельса, он сразу же включил ее в свой
интеллектуальный арсенал. Образ мысли Выготского никогда не
страдал стремлением по всякому поводу выдергивать
отрывки из марксистских работ. «Я не хочу пытаться
раскрыть природу сознания, сводя вместе массу цитат.
Я хочу понять, как следует строить науку, чтобы
приблизиться к изучению сознания, взяв на вооружение
метод Маркса»16.
Выготский. Если учение об условных рефлексах, по
верному замечанию И. П. Павлова, составляет
«основной фундамент психологического знания», то можно
сказать, что естественнонаучная психология была
поставлена на прочный фундамент. Но тем острее стал
вопрос о методологической реформе науки, о
пересмотре принципиальных философских идей, лежащих в
основе этой двойственной науки. В исторической
психологии, такой, какой она вошла в революцию, было
много настолько чуждого, несродного, несоединимого с тем
направлением, которое революция дала всей
культурной жизни, что ревизия и критика традиционной
психологии сделалась совершенно неизбежной.
Эта ревизия была сделана под сильным влиянием
американской психологии поведения, так называемого
бихевиоризма. Это явилось совершенно новым фактом в
истории русской психологии, которая испытывала на
себе до этого времени влияние немецкой и английской,
отчасти французской науки. Но влияние американского
бихевиоризма было отраженным. Сам он возник и
оформился в самостоятельное научное направление под
влиянием русской объективной школы. Учение об условных
рефлексах легло в основу американской системы, и отец
бихевиоризма Уотсон справедливо называет
основателями этого учения Павлова и Бехтерева. Впервые
русская психология не только получила самостоятельное,
независимое от иностранных влияний развитие, но и
сама оказала сильнейшее влияние на иностранную, в
частности, американскую психологию. Таким образом,
51
американское влияние явилось преломленным русским
влиянием на русскую же психологию.
Как бы то ни было, но вслед за американцами
русские психологи прокламировали, что психология есть
наука о поведении живых существ. В 1921 г. вышел
«Очерк научной психологии» П. П. Блонского, в
котором автор пытался провести реформу психологии,
создать психологию не только без души, но и без
сознания (или психологических явлений), как
естественнонаучное учение о поведении.
Новая идея оказалась созвучной революции, и
психология поведения стала широко распространяться на
русской почве и вытеснять традиционную эмпирическую
психологию. Собственно и в Америке, и в России
психология поведения была продолжением все той же
самой борьбы двух психологии, о которой говорилось
выше.
В русском варианте американского бихевиоризма
сильнее всего звучали три ноты: стремление к прочной,
генетически и математически обоснованной
психологической системе на основе научного материализма;
желание сблизить психологическую теорию с той новой
для академической науки теорией общества, которая
получила духовную гегемонию в эпоху революции, и,
наконец, чувство огромных проблем, стоящих перед
психологией на новом пути. «Человека еще предстоит
открыть,— писал П. П. Блонский, — и какими странными
невеждами перед этим грядущим великим открытием,
по всей вероятности, окажемся мы!.. Нам предстоит
открыть ,,социального человека" и связь его с
окружающей обстановкой, открыть не общими рассуждениями,
но математическими формулами».
В 1922 г. вышло «Учение о реакциях человека»
К. Н. Корнилова, которое с другого конца приходило к
той же идее. Экспериментальное исследование реакций
возникло на основе традиционного учения о реакции и
ее видах, как оно сложилось в школе Вундта. Новое, что
внес Корнилов в это исследование, было изучение
динамической стороны той же реакции, временную
сторону которой изучали Вундт и его ученики. Однако
выводы, полученные от применения новой точки зрения,
оказались глубоко революционными. Исследование
показало, что мыслительная деятельность и внешнее
проявление движений находятся в обратном отношении
Друг к другу: чем более усложняется и становится на-
62
пряженным мыслительный процесс, тем менее
интенсивным становится внешнее выявление движения. Это
привело автора к формулировке принципа
однополюсной траты энергии, согласно которому интеллект есть
не что иное, как заторможенный волевой процесс, не
превратившийся в действие. Вместе с этим автор
выдвигает новое понимание реакции, вернее — расширяет это
психологическое понятие до основной и первичной
формы жизненного проявления. Изучение психологии, по
его мнению, должно начинаться не с ощущений или
восприятий, а с реакции: первые суть «абстрагированные
понятия», вторая дана в опыте. «Психология должна
стать, — формулирует этот автор, — изучением реакций
живого организма, охватывающих все формы
проявления его в отношении окружающей среды».
Как и в первоначальной формулировке Блонского,
так и здесь основная тенденция идет всецело по линии
исторически подготовленного выделения
материалистической психологии и включения ее объекта в контекст
естественных наук. «Место психологии, — говорит К. Н.
Корнилов, — в ряду естественнонаучных дисциплин как
по методу ее работы, так и по объекту ее изучения».
Однако в этих первых попытках придать новое лицо
психологии есть один общий недостаток: оба автора
утрачивают различие между теми реакциями или
движениями, которые составляют объект психологии, и
теми, которые никакого интереса для психолога не
представляют. Если реакция есть основная форма
жизненного проявления, то воспалительный процесс есть,
несомненно, тоже реакция, равно как и повышение
температуры, но как возможна психология воспалений или
лихорадки? Если психология, по Блонскому, есть наука
о поведении, т. е. о совокупности движений, то какой
признак, какой критерий позволяет отобрать движения,
имеющие интерес для психолога, от безразличных для
него— например, перистальтики кишок?
Но несовершенство этих первых опытов новой
психологии есть именно несовершенство первых шагов:
направление было указано верно, и скоро оно привело
к новой формулировке идеи реформы психологии. В
1923 г. на Всероссийском съезде по психоневрологии
К. Н. Корнилов сделал доклад «Современная
психология и марксизм», в котором указал на необходимость
применить метод диалектического материализма к
психологии. Ту же идею защищали Струминский, Блонский
53
и другие. На II Всероссийском съезде по
психоневрологии в 1924 г. в Ленинграде Корниловым были
сформулированы основные принципы марксистской
психологии, на основе которых началась теоретическая и
экспериментальная разработка отдельных
психологических проблем.
Этим был сделан решительный, исторический
поворот в развитии психологии. Психология осознала себя
как марксистскую дисциплину. Она сознательно вошла
в «железный инвентарь материалистической идеологии»,
сознательно стала на службу революции. Вместе с этим
она вступила на единственный путь, который
обеспечивает осуществление психологии как науки.
Продвижение в совершенно новой области
оказалось в высшей степени трудным: оно было связано с
ошибками и промахами как против теории
диалектического материализма, так и против психологии. Надо
иметь в виду, что марксистская психология есть
историческое задание нашей эпохи, задание, которое может
быть выполнено только совместными усилиями не
одного поколения поихологов, потому что слова
«марксистская психология» не означают особой какой-нибудь
ветви психологии или особого направления в ней:
слова эти означают научную психологию в целом,
марксистская психология есть синоним научной психологии,
и в этом смысле создание марксистской психологии
есть завершение длинного исторического процесса
превращения психологии в естественную науку.
Попытка построить психологию на основе
диалектического материализма не является в сущности абсолют-'
но новой. За границей такие попытки делались не раз,
хотя и не с той серьезностью и не с тем размахом,
которые отличают русскую попытку. «Мысль дать
марксистское описание и объяснение человеческого
поведения и этим заменить старую психологию зреет во
многих местах одновременно», — говорил Блонский.
Это указывает на то, что задача эта исторически
оправдана, что это есть логический вывод из
современного состояния нашей науки, что движение это
опирается на мощную историческую тенденцию в развитии
нашей науки. «Только марксистская психология есть
психология, действительно исчерпывающая свой
предмет».
Что же успела дать новая психология? Пока еще
немного. У нас есть некоторые методологические пред-
64
посылки, есть, по словам Блонского, «проспект
имеющей быть построенной материалистической психологии
во всем ее объеме», «схема науки», ее план; есть
первые шаги теоретического и экспериментального
исследования, но самое главное — у марксистской психологии
есть объективно и исторически оправданная воля к
будущему.
Есть одно обстоятельство, которое кладет, на первый
взгляд, грань между исторической тенденцией к
созданию двух психологии, как она обычно понималась, и
между марксистской психологией: именно отношение
психологии к гуманитарным наукам — к истории,
социологии с их подразделениями. Первые авторы учения
о двух психологиях разделили между ними сферы так:
физиологическая психология обращена к естественным
наукам, она изучает человека как естественное
существо; телеологическая психология обращена к
гуманитарным наукам, она изучает человека как существо
историческое.
Именно боязнь проникновения в социальные науки
материалистических концепций естественнонаучной
психологии диктовала Дильтею и другим авторам идею
разделения психологии на две «особые науки». Он
говорит, что «включение в естествознание» сообщает
психологии «оттенок утонченного материализма. Для
юриста или историка литературы подобная психология
является не прочной основой, а опасностью. Все
последующее развитие показало, насколько этот скрытый
материализм объяснительной психологии, учрежденной
Спенсером, разлагающе влиял на политическую
экономию, уголовное право, учение о государстве».
Вот в этом пункте линия развития русской
психологии решительно отклоняется от того пути, который
намечали первые авторы этой идеи. Материалистическая
психология хочет быть социальной психологией в пер-
бую очередь. «Марксистская психология, — говорит
К. Н. Корнилов, — рассматривает каждого человека как
вариацию определенного класса. Вот почему в
изучении поведения людей мы должны идти не от
индивидуальной психологии, а обратным путем».
Не захватывает ли эта психология тем самым чужие
заДачи, не извращает ли те самые исторические основы,
на которые опирается? Нисколько: во-первых, она, в
отличие от Дильтея и его школы, неходит из теории
исторического материализма, который и историю рассмат-
55
ривает как естественноисторический процесс; во-вторых,
принимая идею о двух психологиях, она доводит ее до
логического конца и утверждает, что как наука
возможна только материалистическая психология, вторая
психология есть не наука, а метафизика.
Щедровицкий. Стремление психологии стать
«научной», отработать свой собственный .аппарат*
исследования, метод экспериментальной проверки высказанных
гипотез, одним словом, стать в ряд «обычных» наук,
родилось давно и с годами все усиливается. Но в
противовес ему развивается и другое, не менее важное и
авторитетное направление — так называемая
понимающая психология, Verstehendepsychologie. Идея и сам
термин идут от Дильтея, который считал, что «природу
мы объясняем, а душевную жизнь мы постигаем».
Уникальность объекта исследования обусловливает, по
Дильтею, и уникальность метода анализа.
Промчавшиеся десятилетия отнюдь не похоронили эти мысли,
высказанные во второй половине прошлого века.
Напротив, именно сейчас на границе между психологией и
философией сложилась и оформилась новая
дисциплина, намеченная В. Дильтеем, — герменевтика, учение о
понимании. Эта параллельная линия в психологии тоже
входит в ее сферу и сегодня имеет мощнейшие побеги.
Конечно, это уже не традиционный интроспекцио-
низм.
Современная герменевтика исходит из проблем
понимания текстов в межчеловеческом общении и
подчеркивает тот совершенно очевидный момент, что в
процессах коммуникации мы не исследуем тексты речи, а
понимаем их. Но в этом простом и совершенно
очевидном факте заложено основание для принципиально
иного исследования. Поэтому можно сказать, что проблема
соотношения так называемых объективных и
понимающих методов анализа культуры и психики отнюдь не
сдана в архив истории и сами дискуссии между «интро-
спекционистами» и «объективистами» в силу этого
приобретают новые интерпретации и новый исторический
смысл.
В учебниках принято писать, что на рубеже нашего
и прошлого веков одновременно в Германии (Вюрцбург-
ская школа, которую я уже упоминал) и во Франции —
Жане, Бине, Рибо — была создана экспериментальная
психология мышления. Но ведь обе эти школы в
равной мере по методу были интроспекционистскими; они
56
просто не представляли себе другого пути и способа
изучения мышления, нежели через понимание и
интроспекцию. Можно детально обсуждать, почему,
действительно, вне понимания не может быть научной
психологии вообще. Но главное, что нужно подчеркнуть,
чтобы показать, в какой обстановке начинал свою работу
Выготский, — это то, что научного предмета у
психологии в то время не было.
Две школы делают важные шаги на пути поиска
такого предмета. С одной стороны — бихевиористы,
которые строго идут по пути объективного анализа,
начиная от явления. С другой — гештальтисты, которые идут
от работы сознания и того, что сознание фиксирует в
феноменальном поле, и только потом начинают
раскладывать полученное в другие планы — скажем, искать
физический аналог. Но тут оказывается, что
характерное для середины девятнадцатого века представление
о психике как объекте психологии сразу же
разрушается. В самом деле, бихевиоризм занимается вовсе не
психикой, а действиями, операциями, движениями, т. е.
внешними формами поведения, но и гештальтисты тоже
анализируют не психику, а содержание сознания, т. е.
то, что дано нам через сознание.
Вместе с тем разрушаются субстанционалистские
представления о психике, идущие еще от времен
Декарта и Спинозы, и психике как таковой просто не
остается места в новых картинах сущего.
Именно на таком фоне начинал свою работу Лев
Семенович Выготский.
И тут важно подчеркнуть еще одно обстоятельство:
Выготский по образованию не был психологом. В
центре его интересов был язык, а одним из идейных
наставников Выготского был Александр Афанасьевич Потеб-
ня, выдающийся русский филолог и
языковед-мыслитель, автор книги «Мысль и язык». Выготского
волновали проблемы структурального и
сравнительно-исторического подхода к языку, он стремился соединить оба
эти направления. Эстетика, художественное восприятие
текста — вот что занимало его ум сначала, и конечно
же проблема человеческой личности, места мыслящего
человека в этом мире. Но не как проблема психологии,
а скорее как идеологическая, мировоззренческая
проблема.
Мне представляется, что Выготский первоначально
видел свою судьбу в науке как занятия эстетикой и
57
филологией. Но постепенно занятия эти привели его ft
категории сознания. Он полагал, видимо, что категория
эта в. его филологических и художественно-эстетических
штудиях послужит объяснительным понятием и
принципом. Он вынужден был обратиться к психологическим
представлениям для того, чтобы объяснять странные
для него явления художественного и эстетического
восприятия. Но этот выход, казавшийся ему
первоначально побочным, в каком-то плане — инструментальным,
привел его к постановке нового вопроса: а что такое
сознание? То самое сознание, к которому он обратился
как к некоему очевидному феномену, с помощью
которого можно понять и объяснить более сложные вещи,—
восприятие или создание художественного текста само,
как оказалось, требовало объяснений и специальных
исследований. И тут Выготский окунулся в новый для
него, но крайне интересный мир со своими сложными
и увлекательными проблемами — как это часто бывает,
с надеждой, что он быстро во всем разберется и вер-,
нется назад. Но «вернуться» ему было не суждено —
проблема сознания захватила Льва Семеновича до
конца его дней.
Задача, которая стояла перед ним, не могла быть
решена ученым-специалистом. Ведь последний может
работать только в уже сформированном научном
предмете. А научного предмета для анализа и описания
сознания не было. И тогда Л. С. Выготский вынужден был
осуществить следующую сдвижку проблем.
Требовалось сформировать предмет исследования, а это уже
дело философской и методологической работы. Так, с
моей точки зрения, Выготский вынужденно стал
методологом психологии, или, точнее, сначала психологической
теории сознания. А от установки на создание
психологической теории сознания был уже всего один шаг до
постановки вопроса, а что же такое вообще современная
ему психология, в каком она находится состоянии?
Мне представляется — быть может, несколько
примитивно,— что сначала Лев Семенович стал читать
одну за другой новые книги по психологии в надежде
найти быстрые ответы на свои вопросы, а так как
работал он быстро, то сумел просмотреть множество
трудов. Перед ним веером разворачивались во всей их
сложности и противоречивости проблемы тогдашней
психологии. Работа эта привела к тому, что в 1926 г.
58
Выготский написал свой труд об историческом смысле
психологического кризиса. А это и означало, что он
стал в методологическую позицию относительно всей
сферы психологии, относительно всех ее идей и ее
практики. Он как бы стал «оператором» всей
психологической сферы, он стал обсуждать вопрос о судьбе ее, о
путях ее дальнейшего движения, а это и есть
специфически методологическая позиция. Его интересовало, что
есть психология на фоне всех культурных явлений,
куда она идет, и чем может стать в будущем. Разумеется,
такой подход вовсе не мешал ему забираться «внутрь»
психологии, т. е. становиться также
теоретиком-психологом и обсуждать проблемы сознания, мышления,
знака.
И тут сработало его прошлое, его филологическая
семья и окружение, его знакомство с проблемами
знака и семиотики. Лев Семенович не только был
полностью в курсе дискуссий между структуралистами и
представителями исторического подхода в языкознании,
он был проникнут идеями символизма и знака. Он был
прекрасно ориентирован в одной из наиболее
проблемных областей мышления и мировоззрения того
времени— проблемы знака. Она обсуждалась тогда не в
психологии, а в философии, филологии и языкознании. И
именно то обстоятельство, что Выготский был знаком
с этой проблематикой в своей прошлой, «допсихологи-
ческой» жизни, то, что он был полон дискуссиями в
филологии, лингвистике и эстетике сыграло огромную
роль в становлении его как психолога. Он привнес в
психологию совершенно чуждый ей дотоле круг идей.
Он не выдумывал эти идеи, но пересадил их на новую
почву. '
Новый круг идей, привнесенный Выготским в
психологию, требовал средств для их обсуждения и анализа.
Такими средствами стали прежде всего два понятия:
понятие орудия и понятие знака.
Чтобы оценить смелость этого шага, достаточно
сопоставить концепцию Л. С. Выготского с концепцией
крупнейшего, всеми признанного психолога XX в. Ж.
Пиаже: у последнего знак, по сути дела, не играет
никакой существенной роли в становлении и развитии
высших психических функций человека. У Пиаже, правда,
есть такая работа, как «Развитие символа у ребенка»,
но именно ее лучше всего штудировать, чтобы понять,
сколь малую роль придавал знаку Пиаже, Уже только
59
в самые последние годы он вынужден был обратиться
к этой проблеме и издал вместе с Н. Хомским книгу о
знаке. Но это опять-таки не поворот в его концепции, а
попытка отгородиться от проблемы знака в ее
подлинном существе.
Л. С. Выготский, наоборот, с первых же шагов своей
психологической работы выдвинул на передний план
проблему знака и стал рассматривать все высшие
психические функции человека как организованные
знаками и, более того, как порожденные знаками. И это до
сих пор остается важнейшей особенностью концепции
Выготского, его основным вкладом в мировую
психологию.
Итак, позиция методолога в отношении ко всей
психологии в целом, исторический взгляд на нее;
пристальное внимание к проблеме знака; выдвижение знака на
передний план в качестве средства, конституирующего
высшие психические функции; исторический подход и
одновременно структуральный, попытка синтезировать
их — вот, на мой взгляд, четыре важнейших пункта,
которые определяют идеи и работы Льва Семеновича
Выготского. Но при этом оказалось, что он напрочь
разрушил традиционную предметную область психологии.
Его работы не были психологическими в
общепринятом смысле этого слова, хуже того, они практически
уничтожали традиционные представления о предмете
психологического анализа.
Ведь если в центр всего ставится знак с его
значениями — а именно это утверждал Лев Семенович и на
этом он настаивал до конца своей жизни, — если
именно знак с его значениями (а я бы добавил: смыслами
и содержанием) должен изучаться в первую очередь,
то как же нам относиться ко всему тому, что по
традиции называлось психическими функциями, и как нам
сохранить специфику и автономность психологического
исследования? Не происходит ли здесь подмена
психологии логикой и семиотикой, не редуцируется ли
психология к логике? Вот вопросы, которые неизбежно
должны были встать после работ Выготского. И даже
очень близкие ученики и последователи Льва
Семеновича не решились следовать за ним по пути
бескомпромиссного преобразования предмета психологии, а
начали затянувшееся на 40 лет приспособление его идей и
принципов к традиционным психологическим
представлениям.
60
В социокультурном плане это, может быть, и
оправдано— уж слишком велик был разрыв между
традиционной психологией и тем, что намечал Л. С.
Выготский,— но в подлинной разработке его идей на
психологической почве мы остались на том же уровне,
какого он достиг к середине 30-х годов. И поэтому наша
основная задача сейчас состоит в том, чтобы, используя
представления и методы, развитые в современной
методологии, семиотике и эпистемологии, продолжить
психологическую разработку культурно-исторических идей
Выготского.
Ведь в настоящее время они уже приняты
сообществом психологов и нередко представляются даже как
очевидные и бесспорные. Весь мир человека
организован знаками, мы живем в мире знаков, и наши
действия определяются не вещами самими по себе, а
знаками, которые на hihx навешены.
Это, если хотите, основной принцип нашей
жизнедеятельности, и рассматривать наши высшие
психические функции без этого фундаментального, по сути
дела, конституирующего их отношения к знаку просто не
имеет смысла. Именно знак образует сердцевину
психики и сознания, именно он склеивает объективное и
субъективное в нашей мыследеятельности, выступая,
как учил Лев Семенович, в качестве орудия или
инструмента, с одной стороны, направленного на внешние
объекты, а с другой стороны, на самого человека, его
сознание и психику. Именно эта мысль, высказанная
Львом Семеновичем Выготским полвека назад, сегодня
становится основным принципом дальнейшего развития
психологии.
Давыдов. Творчество Выготского далеко не
однородно: не все возможности, раскрываемые Выготским-
методологом, использовал Выготский-психолог, не все
психологические идеи Выготского определялись его
собственной методологической базой. При этом оба пласта
его деятельности эволюционировали — и не всегда
строго параллельно. Вдобавок следует иметь в виду
особенности его творчества, определяемые
обстоятельствами биографии и индивидуальными чертами его
неповторимой личности. По свидетельству его учеников, Льва
Семеновича Выготского отличала некоторая
«небрежность гения» — он не слишком следил порой за
точностью формулировок и, случалось, не оОременяд себя
излишней терминологической дисциплиной. Кроме того,
61
он очень спешил — все его основные произведения,
числом свыше 160, он создал в промежутке между двумя
вспышками туберкулеза, т. е. между 1926 и 1934 гг.,
остро и постоянно чувствуя свою обреченность. Правда,
здесь никак нельзя сбрасывать со счетов и то
обстоятельство, что он часто не мог подобрать
соответствующую терминологию и вообще внешнюю форму,
адекватную своим идеям просто потому, что тогда, в 20-е
годы, ее вообще не существовало. Выготский сильно
опередил свое время и многие из основных его идей могут
быть четко сформулированы лишь теперь, с
применением аппарата, созданного уже в 60—70-е годы.
Возможно, что самые главные его мысли найдут свою
адекватную формулировку лишь с будущим развитием
философии и методологии.
И тем не менее многое мы можем вполне
определенно сказать уже теперь. Например, достаточно ясным
выглядит отношение Выготского к проблеме сознания.
Как известно, 20-е годы — период резкого и
быстрого разрушения советскими психологами традиционной,
субъективно-эмпирической психологии,
господствовавшей в русской науке до революции, и нетерпеливых
попыток построить взамен новую — марксистскую,
материалистическую, объективную психологию. При этом
психологи испытывали аильное давление со стороны
физиологии высшей нервной деятельности И. П.
Павлова, представлявшейся образцом научной
объективности и материалистичности. В начале 20-х годов на
любого ученого не -могли не произвести впечатление ее
успехи. Большое влияние на советских психологов тех
лет оказывали также идеи прямого социологического
объяснения психических процессов. В условиях, когда
сущность философии марксизма еще не была
достаточно глубоко проинтерпретирована и усвоена
советскими гуманитариями, эти идеи часто воспринимались
как сугубо «марксистские». (Идеи такого рода оказали
влияние не только на психологию, но и на ряд
общественных наук, например, на историю, они проникли в
литературу и искусство тех лет.) Наконец, из числа
собственно психологических школ наибольшее влияние
на советскую психологию оказал бихевиоризм,
привлекавший тем, что в нем виделось объективное и
материалистическое направление.
В результате влияния этих и ряда других
обстоятельств в психологической науке сложилась пестрая
62
картина. Одни ученые определяли психологию как
«науку о поведении» (В. М. Боровский, П. П. Блонский),
другие — как «науку о рефлексах» (В. М. Бехтерев),
третьи считали, что психология — это «наука о реакциях»
(К. Н. Корнилов), четвертые — «о системах социальных
рефлексов» (М. А. Рейснер). Несмотря на
разноречивость этих программ, их общий пафос был, бесспорно,
направлен против понимания психологии как «науки о
душе» и против объективизации психологии — вот к
чему стремились представители всех направлений. И при
этом они готовы были платить отказом от рассмотрения
любых субъективных моментов в человеческой психике.
Психика поэтому редуцировалась или к системе
поведенческих реакций, или к комбинации условных
рефлексов или к набору того, что современный исследователь
назвал бы «социальными позициями» или
«социальными ролями».
Что это означало применительно к проблеме
сознания? Многие видные советские психологи (П. П.
Блонский, В. М. Боровский) практически игнорировали эту
проблему. Они считали ее не относящейся к научной
психологии, так как ее невозможно исследовать
объективными методами. Другая группа психологов, во
главе с К. Н. Корниловым, напротив, считала сознание
важнейшим объектом психологии. Наконец сохранялась
группа психологов, правда, малочисленная, идеологом
которой был Г. И. Челпанов, которая оставалась на
позициях традиционной психологии сознания.
Казалось бы, эта три позиции исчерпывают все
возможные отношения к проблеме сознания. Но
Выготский выступил против всех их сразу. Он прорывает тот
круг, в котором, сами не замечая того, вращались все
советские психологи тех лет. Этот круг возникал
вследствие одной предпосылки, которая молчаливо и
бессознательно принималась всеми: сознание можно изучать
так и только так, как это делалось в
субъективно-эмпирической психологии. Выготский сумел разорвать этот
круг потому, что к проблеме сознания он подошел не
психологически, а методологически. Чтобы
действительно получить реальную возможность изучать сущность —
генез, структуру, детерминанты — сознания, рассуждал
он, надо стать в такую методологическую позицию,
чтобы сознание выступило как предмет самостоятельного
изучения. А для этого необходимо, в свою очередь,
выработать некий более общий объяснительный принцип*
63
Нужен, стало быть, поиск такого слоя реальности,
функцией которого выступает сознание. Если же само
сознание выступает как объяснительный принцип — а именно
так обстояло дело в традиционной психологии, которая
называла сознание «общим хозяином психических
функций», «сценой, на которой разворачивается психика» —
то изучать сущность его нельзя, а можно лишь
описывать отдельные относящиеся к нему феномены.
Чтобы придать сознанию иной методологический
статус (я сознательно использую термины 60—70-х
годов, поскольку такая модернизация только проясняет
мысль Выготского, для которой в его время не
существовало адекватной формы выражения), надо было
вычленить детерминирующий ее слой реальности — и Лев
Семенович сделал это, представив сознание как момент
структуры трудовой деятельности человека.
Мысль, что психика детерминируется трудовой
деятельностью, привела Выготского к идее
«психологических орудий», которые выработаны человечеством
искусственно, представляют собой элемент культуры.
Изначально они повернуты «вовне», к партнеру, затем
оборачиваются «на себя», т. е. становятся средствами
управления собственными психическими процессами. В
роли таких «психологических орудий» Выготский видел
знаки. Понимал он их весьма специфически: не как
рефлексолог (считавший, что знак — это условный
раздражитель в системе условных рефлексов), не как
представитель глубинной психологии (воспринимавший знак
как зрительный символ, носитель бессознательных
влечений), а совершенно по-иному. Для Выготского знак —
это символ, имеющий определенное, выработанное в
истории культуры значение. Эта трактовка символа
идет от ранних работ Выготского по психологии
искусства, ото всей его гуманитарно-филологической
культуры. Можно выделить несколько направлений,
особенно сильно повлиявших на Выготского: историческое
языкознание; линия Гумбольдт—Штейна ль—Потебня;
близкие по духу исследователи, в частности M. М.
Бахтин; символизм в литературе и искусстве начала XX в.;
возможно, семиотические работы Ф. де Соссюра. Идея
знака как «психологического орудия» в теории
Выготского— один из наиболее успешных примеров
приложения семиотических идей в психологии17.
УертСи. Легко увидеть два фактО|ра, которые во
многом влияли на гений Выготского: марксизм и семиоти-
64
ка. Выготского интересовала роль знаковых систем как
опосредствующих устройств, но он рассматривал это
как распространение идеи Маркса о том, что орудие или
инструмент опосредствуют трудовую деятельность.
Для Маркса и Энгельса труд был основной формой
человеческой деятельности. Он лежит в основании
любого объяснения социокультурной истории и
психологических характеристик личности. Анализ, проведенный
ими, показал, что осуществляя трудовую деятельность,
люди не просто преобразуют природу, но в то же
время изменяют и сам1их себя. Для Маркса труд прежде
всего это «...процесс, совершающийся между
человеком и природой, процесс, в котором человек своей
собственной деятельностью опосредствует, регулирует и
контролирует обмен веществ между собой и природой.
Веществу природы он сам противостоит как сила
природы. Для того чтобы присвоить вещество природы в
форме, пригодной для собственной жизни, он приводит в
движение принадлежащие его телу собственные силы:
руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством
этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он
в то же время изменяет и свою собственную природу.
Он развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру
этих сил своей собственной власти». То есть люди не
остаются неподверженными воздействию самого факта
их участия в трудовой деятельности, которая,
преобразуя природу, изменяет и их самих. Они постоянно
испытывают на себе влияние этой деятельности и тех
требований, которые накладываются на них как
результат того воздействия, которое эта деятельность
оказывает на природу.
Орудия, имеющиеся в распоряжении человечества
на данной стадии исторического развития, отражают
уровень трудовой деятельности. Для того чтобы
осуществлять постоянно развивающиеся новые формы
трудовой деятельности, потребны новые типы
инструментов. Поэтому другая сторона диалектической модели
демонстрирует, что всякий новый уровень орудий и
инструментов дает начало новому витку в процессе
познания мира и воздействия на него.
Этот бесконечный диалектический процесс особенно
важен в случае знаковых систем. Они постоянно
изменяются, чтобы соответствовать новой ситуации, но
никогда не бывают пассивными рабами деятельности. Они
оказывают сильное влияние на те формы, которые мо-
3 К. Е. Левитин
65
жет принять эта активность в настоящем и будущем.
Это обстоятельство подчеркивалось советскими семиоти-
ками уже полвека тому назад. Стремясь понять роль
орудия или инструмента в рамках теоретических работ
Выготского, нельзя забывать, что до того, как, он стал
интересоваться психологическими проблемами, он был
семиотиком. Одним из главных краеугольных камней
созданной им психологии была параллель между марк-
совым представлением о том, как орудие или
инструмент опосредствуют человеческую трудовую
деятельность, и семиотическим понятием о том, как знаковые
системы опосредствуют человеческие социальные
процессы и человеческую мыслительную деятельность. В
обоих случаях существо дела в том, что инструменты
не только используются человеком, чтобы изменить мир,
но преобразуют самих людей в процессе этого труда.
Льюсид в своей книге «Антология советской семиотики»
пишет: «Крайним выражением точки зрения советской
семиотики является утверждение, что люди не только
общаются друг с другом при помощи знаков, но и в
большой степени управляются ими. Знаковые системы
регулируют человеческое поведение, начиная с
инструкций, даваемых детям, и далее во всех программах,
вводимых в сознание человека обществом. Знаковая
система обладает способностью в полном смысле
слова взять или „моделировать" мир, придавая ему тот
или иной облик, формируя сознание этого общества
таким образом, чтобы оно соответствовало его структуре»18.
Коул. Выготский и Лурия регулярно встречались с
Сергеем Эйзенштейном, чтобы обсудить вопрос о том,
каким образом абстрактные идеи, образующие ядро
учения исторического материализма, можно воплотить
в зрительные образы, проектируемые на киноэкран.
Случилось так, что Запорожец, который раньше, до того
как он приехал с Украины в Москву, работал актером,
был рекомендован Эйзенштейну именно в этом
качестве, но в конце концов стал психологом. В двадцатые
годы он играл роль «уха» психологии в мире кино,
посещая обсуждения, устраиваемые Эйзенштейном и
рассказывая о них Выготскому и Лурии. Эйзенштейн
заручился содействием своих друзей-психологов для
решения не только проблемы перевода со словесного
языка на язык зрительных образов, но также и
практической проблемы оценки успеха своих фильмов у
зрителей. С их помощью он составил вопросник для аудито-
66
рии кинозалов, состоящей из студентов, рабочих,
крестьян, чтобы выяснить, понимают ли они созданные им
образы именно так, как хотелось режиссеру. Мерой
широты интересов Александра Романовича (Лурии) и
Льва Семеновича Выготского служит то
обстоятельство, что связь между способами представления идей и
образом мышления была для них не менее важной в
кино, чем в лаборатории19.
Лурия. Ребенок, который воспринимает незнакомый
ему предмет, не называя его, осуществляет свое
восприятие с помощью иных психических процессов,
нежели подросток, который овладевает языком и
анализирует поступающую информацию с помощью словесных
значений. Ребенок, который вырабатывает навык,
делая вывод из непосредственного личного опыта,
пользуется другой системой психических средств и
опирается на иную систему психических процессов, нежели
подросток, который опосредствует каждый акт своего
поведения нормами, сложившимися в результате
общественного опыта. Преобладание непосредственных
впечатлений у маленького ребенка заменяется у
подростка отвлекающей и обобщающей функцией внешней и
внутренней речи, влияющей на каждый акт его
поведения.
Л. С. Выготский, давший детальный анализ
коренных изменений психических процессов (изменений,
выражающих последовательно меняющиеся формы
отражения действительности), с полным основанием
говорил, что если маленький ребенок мыслит, припоминая,
то подросток припоминает, мысля. Таким образом,
формирование сложных видов отражения действительности
и активной деятельности протекает рука об руку с
коренным изменением той системы психических
процессов, которые осуществляют эти виды отражения и
лежат в основе активной деятельности.
Это положение, которое Л. С. Выготский обозначил
как смысловое и системное строения сознания,
раскрывает перед психологической наукой новые и невиданные
до этого перспективы.
Теперь психологи получают возможность не только
описывать меняющиеся формы сознательной жизни
человека, различные у ребенка и взрослого, но и
подвергать анализу те коренные изменения в строении
психических процессов, которые лежат в основе психической
деятельности на отдельных этапах ее развития, иссле-
гг
67
довать те изменения в «межфункциональных
отношениях», существование которых оставалось ранее
неизвестным. Это создает возможность прослеживать
историческое формирование психических систем.
На первых этапах развития советской
психологической науки внимание исследователей было приковано
к анализу тех изменений, которые происходят в
психическом развитии ребенка. Блестящие открытия,
сделанные в этой области, существенно перестроили основные
понятия научной психологии, которая сейчас (по
лежащим в ее основе теоретическим концепциям) все
больше отличается от той психологии, какой она сложилась
полвека назад. Речь идет о сделанном Л. С. Выготским
описании развития значения слов, о проведенном А. Н.
Леонтьевым анализе изменения структуры
деятельности, возникающего в процессе развития ребенка, об
описанном А. В. Запорожцем процессе формирования
сложных видов произвольного действия, проведенном
П. Я. Гальпериным и Д. Б. Элькониным исследовании
процессов формирования внутренних «умственных
действий». Все эти работы с полным основанием вошли в
основной фонд достижений психологической науки20.
Леонтьев. Воплощение смысла в значениях — это
глубоко интимный, психологически содержательный,
отнюдь не автоматически и одномоментно происходящий
процесс. В творениях художественной литературы, в
практике морального и политического воспитания этот
процесс выступает во всей своей полноте. Научная
психология знает этот процесс только в его частных
выражениях: в явлениях «рационализации» людьми их
действительных побуждений, в переживании муки
перехода от мысли к слову («Я слово позабыл, что я
хотел сказать, и мысль бесплотная в чертог теней
вернется»,— цитирует поэта Л. С. Выготский).
В своих наиболее обнаженных формах процесс, о
котором идет речь, выступает в условиях классового
общества. В этих условиях личностные смыслы,
отражающие мотивы, порождаемые действительными
жизненными отношениями человека, могут не найти
адекватно воплощающих их объективных значений, и тогда
они начинают жить как бы в чужих одеждах. Нужно
представить себе капитальное противоречие, которое
порождает это явление. Ведь в отличие от бытия
общества бытие индивида не является «самоговорящим», т. е.
индивид не имеет собственного языка, вырабатывае-
68
мых им самим значений; осознание им явлений
действительности может происходить только посредством
усваиваемых им извне «готовых» значений — знаний,
понятий, взглядов, которые он получает в общении, в тех
или иных формах индивидуальной и массовой
коммуникации. Это и создает возможность внесения в его
сознание, навязывания ему искаженных или фантастических
представлений и идей, в том числе таких, которые не
имеют никакой почвы в его реальном, практическом
жизненном опыте. Лишенные этой почвы, они
обнаруживают в сознании человека свою шаткость; вместе с
тем, превращаясь в стереотипы, они, как и любые
стереотипы, способны к сопротивлению, так что только
серьезные жизненные конфронтации могут их
разрушить. Но и их разрушение не ведет еще к устранению
дезинтегри|рованности сознания, его неадекватности,
само по себе оно создает лишь его опустошение,
способное обернуться психологической катастрофой.
Необходимо еще, чтобы в сознании индивида осуществилось
перевоплощение субъективных личностных смыслов в
другие, адекватные им значения.
Более пристальный анализ такого перевоплощения
личностных смыслов в адекватные (более адекватные)
значения показывает, что оно протекает в условиях
борьбы за сознание людей, происходящей в обществе.
Я хочу этим сказать, что индивид не просто «стоит»
перед некоторой «витриной» покоящихся на ней
значений, среди которых ему остается только сделать
выбор, что эти значения — представления, понятия, идеи —
не пассивно ждут его выбора, а энергично врываются в
его связи с людьми, образующие круг его реальных
общений. Если индивид в определенных жизненных
обстоятельствах и вынужден выбирать, то это выбор не
между значениями, а между сталкивающимися
общественными позициями, которые посредством этих
значений выражаются и осознаются21.
Тулмин. Я уверен, что многие из нас, кто прочел
блестящие работы Выготского и его соратников, не
могли не воспринять представление о единстве
Природы и Культуры и не воплотить этот подход в своих
работах. Это стало базисной теоретической ориентацией
для многих из нас, где бы мы ни работали: по
вопросам внутренней речи или афазии, функций мозга или
аффективных компонентов его работы...
Когда в своем заключении к книге Выготского «Пси-
69
хология искусства» (английское издание) В. В. Иванов
писал: «Работы Выготского открыли путь к унификации
биологических и социальных исследований и...
продолжение его работ может иметь такое же значение, как
описание генетического кода...» — мы тогда восприняли
это как преувеличение.
Но такое притязание справедливо.
Ярошевский. За последние полстолетия многое
изменилось в облике и характере психологии. По
властному велению практики она, стремительно
продвинувшись в прежних направлениях, проникла во множество
новых, теперь уже трудно обозримых областей. Ее
связи и взаимодействия с другими науками —
естественными, общественными, техническими — способствовали
ее экспансии и прогрессу, но они же привели к ее
дальнейшей дифференциации, к углублению
расщепленности на отрасли, теряющие внутреннее родство. Успехи
междисциплинарных исследований, значение которых
очевидно, нередко создают парадоксальную ситуацию в
психологии: порой отдельная частно-психологическая
дисциплина оказывается более тесно связанной со
смежной (непсихологической) наукой, чем с другими
разделами собственно психологических знаний. Границы
психологии ныне оказываются не только широко
развернутыми, но и размытыми.
При методологической беспечности это неизбежно
влечет за собой «смешение языков», а в силу
нераздельности языка и мысли — оскудение последней.
Нередко возникают комбинации самых разноприродных
конструктов, когда, по язвительному замечанию
Выготского, «берется хвост от одной системы и приставляется
к голове другой, а в промежуток выдвигается
туловище от третьей». Элементы этих комбинаций
заимствуются откуда угодно — из кибернетики и социологии,
теории принятия решений и тривиальных описаний
сознания, психофизики и антропометрии. Иногда все это
скрепляется магическим словом «система» и
снабжается немудреным математическим аппаратом, призван«
ным придать скопищу гетерогенных элементов
видимость цельности, научности и точности.
Широкое использование компьютерной техники,
обеспечивая автоматическую обработку экспериментальных
данных, освобождая мозг исследователя от рутинных
операций, создает простор для поиска новых проблем и
решений. Но оно же таит опасность углубления того
70
«фельдшеризма в науке», против которого восставал
Выготский, имея в виду феномен шаблонного
использования технических приемов и схем, стремление к
монотонному воспроизводству этих приемов без
непрестанной критики понятий, постоянной методологической
работы, пристальной проверки того, не используются ли
экспериментальный и математический аппараты для
ответа на вопросы, которые в корне неверно поставлены.
В современных условиях в психологии наблюдается все
нарастающее преобладание эмпирических исследований
над теоретическими, дифференциальных тенденций наА
интегративными. Между тем всем очевидно, что
прогресс самих эмпирических исследований, вступающих ç
непосредственный контакт с практикой сфггиизгции
человеческого поведения, находится, как показывает
исторический опыт, в прямой зависимости от их
методологической оснащенности.
Особенно актуально сегодня звучит критика
Выготским позитивистской версии о возможности вывести
психологию из кризиса путем построения строгой
эмпирической «беспредпосылочной» науки,
воздерживающейся от методологических «спекуляций», от стремления
осознать свой Логос, свою историческую судьбу. Из
воздержания, напоминает Выготский слова одного автора,
ничего не может родиться.
Выготский образно говорил о двух типах научных
систем «по отношению к методологическому хребту,
поддерживающему их». Методология подобна костяку
в организме животного. Простейшие животные носят на
себе свой скелет, их, как устриц, можно отделить от их
костяка, и они останутся малодифференцированной
мякотью. Для высших животных скелет является
внутренней опорой. Известный американский психолог Мак-
кин Кеттел, закрывая IX Международный
психологический конгресс в США, заметил, что психология
напоминает огромную медузу, которой необходимо придать
«немножко костей». При опоре на марксистскую
философию и может быть создан, по Выготскому, тот
высший тип методологической организации, который не
внешне пристроен к «телу» науки, но, структурируя ее
изнутри, служит надежной опорой для каждого ее
движения вперед.
Нарастающее влияние идей Выготского обусловлено
тем, что он значительно глубже, чем его современники,
осмыслил, исходя из теории марксизма, исторический
71
путь и тенденции развития психологии. Об этом ярко
свидетельствует его труд «Исторический смысл
психологического кризиса», в котором рассмотрен обширный
круг коренных проблем структуры и динамики не
только психологического, но и научного знания вообще в
его соотношении со знанием философским. Страницы
этой имеющей полувековую давность рукописи
читаются так, как если бы автор размышлял над вопросами,
которые волнуют современную нам психологическую,
философскую, науковедческую мысль. Работники,
непосредственно связанные с практикой научного человеко-
познания и человекоизменения, с большей остротой, чем
кто бы то ни было, осознают потребность в том, чтобы
критически проанализировать разрозненные факты,
гипотезы, эмпирические обобщения, свести «начала и
концы знания». В этом смысле труды Выготского
приобретают сегодня особенную ценность.
Упомянутая работа запечатлела движение мысли
Выготского перед тем, как он развернул
конкретно-научную программу своих исследований, в основу которой
легла его культурно-историческая или
инструментальная концепция. Согласно этой концепции психолог
призван изучать инструменты (орудия, знаки), посредством
которых «натуральные» психические процессы
превращаются в культурные, внешние операции «уходят
вовнутрь», интериоризируются, образуя устройство,
обычно принимаемое за изначально данный индивид и не
отчуждаемый от него субъективный мир. От этих идей
принято вести «психологическую родословную»
Выготского. По традиции их заносят на первую страницу
летописи его школы. Однако одно лишь обращение к его
труду о кризисе в психологии решительно меняет
ретроспективу, проливая свет на огромную
методологическую работу, предшествовавшую специально научным
достижениям, с которыми стало в дальнейшем
ассоциироваться имя Выготского. Выготский — философ,
методолог науки сказал свое слово до того, как появился
Выготский — исследователь высших психических
функций, автор культурно-исторической концепции в
психологии, лидер одной из главных советских
психологических школ.
Было ли это слово услышано? Рукопись лежала
неопубликованной. Однако нет сомнений, что ее идеи не
остались «безработными». Истории известны
прецеденты, когда мысли, опережающие свой век, будучи изло-
72
жены на бумаге, не поступали в научный оборот.
Неопубликованные записные книжки Леонардо да Винчи
и заметки Дидро в опровержение Гельвециева
трактата «О человеке» представляют интерес как документы
большой прогностической ценности. На идейную
атмосферу своей эпохи, однако, они не повлияли. Подобный
вывод вряд ли правомерен в отношении рукописи
Выготского. Автора окружали соратники по борьбе за
новую психологию и многочисленные ученики. Нет
сомнений, что в общении с ними он развивал положения,
знакомые нам из неопубликованного материала. Он
обучал их своему восприятию и анализу природы
научного знания, и это стало методологическим подтекстом
последующей деятельности его школы.
Опыт Выготского — это пример, как мы бы сейчас
сказали, науковедческой рефлекции, предваряющей
построение позитивной системы. Это своеобразная
«критика психологического разума», но критика,
базирующаяся на «просвечивании» его исторических судеб, на
анализе реальных фактов. Вполне понятно, что здесь
говорится о фактах в совершенно ином смысле, чем
тогда, когда имеется в виду обычная научная эмпирия,
Выготский подчеркивал, что он исходит из анализа
фактов «в высшей степени общего порядка и отвлеченного
характера, как та или иная психологическая система и
ее тип, тенденции и судьба различных теорий, те или
иные познавательные приемы, научные классификации
и схемы и т. д.», что он рассматривает их не с
абстрактно-логической точки зрения, а «как определенные
факты в истории науки, как конкретные, живые
исторические события и их тенденции, в их противоборстве и
реальной обусловленности... в их
познавательно-теоретической сущности, т. е. с точки зрения их соответствия
той действительности, для познавания которой они
предназначены». Здесь под фактами подразумеваются
феномены развития науки как особого «организма». В
этом контексте в качестве фактов выступают
теоретические концепции, восхождение и падение научных
истин и целых систем, кризисные ситуации и т. п. Такие
«метафакты» требуют и своих теорий, отличных от
конкретно-научных. Это хорошо понимал Выготский,
когда писал о научном исследовании самой науки. Не
рискуя впасть в преувеличение, скажем: науковедческая
рефлексия, исторически ориентированный анализ
проблем логики и методологии познания стали необходи-
73
мой предпосылкой всего последующего творчества
Выготского.
Выготский исходил не из априорных соображений о
том, как вообще возможна научная психология, а из
проникновенного исследования исторически
достоверных форм реализации этой возможности. История
являлась для него огромной лабораторией, гигантским
экспериментальным устройством, где проходят
испытание гипотезы, теории, школы. Прежде чем заняться
экспериментальной психологией, он проник в опыт
работы этой лаборатории. Прежде чем сделать своим
объектом мышление и речь ребенка, он рассмотрел плоды
умственной деятельности людей в ее высшем
выражении, каковым является построение научного знания. Его
как бы направляло известное марксистское положение
о том, что высокоразвитые формы дают ключ к
раскрытию тайны элементарных. Вот он говорит, например,
о том, что слово представляет собой «эмбрион науки».
Изучает же он не эту эмбриональную форму, а функцию
научного термина—-слова, несущего высшую
смысловую нагрузку. Вот он обсуждает вопрос «об обороте
понятий и фактов с прибылью понятий» применительно
к эволюции науки. Впоследствии масштабы
изменяются—выясненное на макроуровне ведет к объяснению
развития понятий у детей. За системной трактовкой
коллективного научного разума последовало учение о
системном строении индивидуального сознания. За
сравнением научных понятий с орудиями труда,
изнашивающимися от употребления, последовала
инструментальная психология с ее постулатом об орудиях —
средствах освоения мира и построения его внутреннего
образа.
Все коренные вопросы познавательной активности
человека — соотношение теоретического и
эмпирического, слова и понятия, способы оперирования понятием
как особым «орудием» и благодаря этому изменения
его предметного содержания — были сперва
рассмотрены на материале развивающегося научного знания.
Лишь после того, как они были выверены на этой
особой культуре, Выготский обратился от опыта
исторического к опыту психологическому. В ребенке он
увидел маленького исследователя, действующего по тем
же правилам, что и исследователь взрослый.
Диалектику познания — принципы историзма и отражения —
Выготский постиг не умозрительно, а на особой исто-
Н
рической «эмпирии», ставшей плацдармом для
методологического наступления на твердыни, которыми не
смогла овладеть прежняя детерминистская
естественнонаучная психология.
Таким образом, мысль В. В. Иванова о том, что ра-
боты Выготского открывают дорогу к унификации
биологических и социальных исследований и продолжение
их может сыграть в будущем роль, сходную с
описанием генетического кода, имеет под собой веские
основания.
Один из главных выводов, сделанных Л. С.
Выготским, сводился к тому, что возникновение и смена идей
совершаются не по произволу отдельных героев
исторического процесса, но с необходимостью, подобной
действию «стальной пружины». Поскольку ученый
является порождением своей эпохи, объяснить ход его
идей можно лишь выяснив характер и «состав» этой
эпохи, ее запросы и тенденции. Социальный строй,
возникший в нашей стране в результате Октябрьской
революции, поставил перед психологией совершенно
особые задачи. Под воздействием новой социальной
практики и нового мировоззрения сформировалась
концепция Выготского22.
Давыдов. Интересная, хотя во многом спорная
интерпретация работ Выготского, принадлежащая М. Г,
Ярошевскому, свидетельствует о том, что ему удалось
увидеть в Выготском выдающегося методолога науки и
одного из предтеч современного науковедения. Целыо
Выготского было сформулировать нормативные
методологические требования к будущей системе
марксистской психологии, т. е. общепсихологической теории,
основанной на принципах философии марксизма. Для
этого необходимо было прежде всего, как пишет сам
Выготский, создать свой — психологический — аналог
«Капитала». И если Марксов труд имел подзаголовок
«Критика политической экономии», то требовалась
методологическая критика научной психологии. Вот этот
научный подвиг и выбрал для себя Лев Семенович
Выготский.
Вообще говоря, подобные планы тогда были у
многих. В заявлениях о решимости строить марксистскую
науку в двадцатые годы недостатка не наблюдалось.
Почти каждый из советских теоретиков психологии в
той или иной форме декларировал необходимость
разработки такой науки и полагал, что образцом ее мо-
75
гут служить его собственные построения.
Необыкновенно много говорилось и писалось о важности
соответствующей методологической, философской и прочей
работы. На практике, однако, на этом пути встретились
огромные трудности. Они были столь велики, что
возникли даже сомнения в принципиальной разрешимости
и конструктивности подобной задачи. Противники
марксистской психологии, такие, как Г. И. Челпанов, прямо
говорили, что никакой «марксистской психологии» нет
и быть не может, что это лишь «игра в термины».
Суть дела заключалась в следующем. Казалось
очевидным, что при построении марксистской психологии
надо использовать, с одной стороны, положения
философии марксизма, с другой — факты и концептуальные
ахемы, содержащиеся в различных психологических
теориях. Так и поступали — брали общие положения
диалектического и исторического материализма
(«психика есть свойство высокоорганизованной материи»,
«материя первична, сознание вторично» и т. п.), а
также комбинации отдельных положений, взятых из
бихевиоризма, рефлексологии, фрейдизма и т. д.
Соединение того и другого проверяли по формально-логическим
критериям на непротиворечивость, а затем объявляли
«марксистской психологией». Но очень скоро критики
обнаруживали, что в подобных построениях существует
не формально-логическая, а содержательная
несовместимость: положения диалектического материализма
существуют сами по себе, положения отдельных
психологических теорий — сами по себе. И от того, что они
соединены союзом «и», никакого синтеза еще не
наступало. Однако никакого более радикального решения
проблемы психологи не видели.
Что же нового внес в решение этой проблемы
Выготский?
Главный принцип Выготского-методолога состоит в
том, что в любой теории необходимо вычленить
объяснительный принцип, определяющий ее границы и
структуру. Этот общий объяснительный принцип четко
отделен от предмета изучения. И он же задает
размерность единицы психологического анализа. Таким
образом, перед ним не статичная и одномерная картина
теории, а момент динамики отношений «объяснительный
принцип» — «предмет изучения». По Выготскому,
методологический анализ в психологии проделывает
двойной путь. Вначале — от наличного концептуального ап-
76
парата теории к выявлению Объяснительного принципа.
Затем — в обратном порядке — проверка всего пути
превращения философского понятия в объяснительный
принцип психологической теории и ее развертывания на
основе данного объяснительного принципа. Сам
Выготский называл этом метод «логико-историческим» в
противовес формально-логическому.
Как до Выготского, так и после него в психологии
господствовала формальная логика. Это проступало во
всем — и в аналогиях с естественными науками, и в
самом подходе к решению конкретных психологических
задач. Яркое свидетельство тому — психология обучения.
Идея усвоения знаний по типу обобщения от
конкретного к абстрактному — вот типичный пример
формально-логического и эмпирического подхода в психологии.
Выготский еще в 30-е годы в работе по формированию
обобщений разбил этот подход, показал его
неадекватность реальным психологическим процессам
формирования обобщений и указал, что выход здесь — в
обращении к диалектической логике. Однако это
направление начало развиваться лишь в 60-е годы под прямым
влиянием идей Выготского и с того самого места, где
он остановился — на основе аппарата диалектической
логики главным образом в трудах М. М. Розенталя,
Б. М. Кедрова и особенно Э. В. Ильенкова.
Этот пример весьма характерен. Думается, многие
отрасли нашей науки, прежде всего общая психология
и методология психологии, находятся сегодня в том же
положении, что и психология обучения в начале 60-х
годов. Именно поэтому 80-е годы могут стать временем
«ренессанса Выготского». Психология в целом и
раньше всего теория деятельности Выготского—Леонтьева—
Лурии пришла в своем развитии к такому моменту,
когда она испытывает жгучую необходимость и имеет
реальную возможность ассимилировать
методологическую культуру Выготского и развить его конкретные
идеи на базе современной методологии и логики.
Оглядываясь вокруг, мы видим, что среди других
наук психология занимает сейчас особое положение:
имея громадную и поучительную историю, она
переживает в данный момент трудную ситуацию, связанную с
непрекращающимся поиском своего предмета и метода.
Причем все это совершается на фоне больших
конкретных достижений этой науки. Вдобавок успехам этим
сопутствует большая теоретическая работа. Такое по-
77
ложение свидетельствует о том, что психология входит
в новый этап своего развития и это влечет за собой
весьма существенные последствия как для всего
человеческого знания, так и для общественной практики.
Такая «революционная» ситуация в мировой
психологии во многом связана с творческой деятельностью
выдающихся советских ученых — Л. С. Выготского, А. Р.
Лурии, А. Н. Леонтьева и других, принадлежащих к
той же школе.
Поэтому именно теперь назрела насущная
необходимость анализа их творчества, в котором отражаются
грядущие судьбы нашей древней науки.
(78
Глава 2. «Личностью не рождаются»
Вся наша жизнь, труд, поведение основаны на
широчайшем использовании опыта прежних
поколений, не передаваемого через рождение от отца к
сыну... Если я знаю Сахару и Марс, хотя ни разу
не выезжал из своей страны и ни разу не смотрел
в телескоп, то очевидно, что происхождением своим
этот опыт обязан опыту других людей, ездивших в
Сахару и глядевших в телескоп.
Л. С. Выготский
Алексей Николаевич Леонтьев
(Факты из биографии)
А. Н. Леонтьев (1903—1979)—известный советский
психолог, действительный член АПН РСФСР (1950),
АПН СССР (1968), почетный член Венгерской
академии наук (1973), почетный доктор Парижского
университета (1968). В 1924 г. окончил Московский
университет, с 1941 г. — профессор МГУ, с 1945 г. —
заведующий кафедрой психологии философского факультета
МГУ, с 1966 г. — декан факультета психологии МГУ.
Ленинская премия (1963) за книгу «Проблемы
развития психики». Ломоносовская премия первой степени за
книгу «Деятельность. Сознание. Личность» (1975).
Основные труды по генезису, биологической
эволюции и общественно-историческому развитию психики.
Возглавлял делегации советских ученых на 14, 15,
16 и 17-ом Международных психологических конгрессах,
был президентом 18-го Международного конгресса, в
1957—1976 гг. избирался членом исполкома
Международного союза научной психологии.
Несколько предваряющих слов
Случилось так, что я оказался последним в длинном
ряду интервьюеров, на вопросы которых так много раз
отвечал за свою долгую жизнь Алексей Николаевич
Леонтьев. Он медленно восстанавливал силы после бо-
79
лезни, но выглядел бодрым и энергичным. Мысль, что
эта беседа последняя, не приходила в голову.
Тогда, летом 1978 г., мы приехали к нему домой
вместе с профессором Эвальдом Васильевичем
Ильенковым, одним из крупнейших наших философов,
проявлявшим глубокий интерес к психологии. Алексей
Николаевич, предупрежденный, разумеется, заранее о
цели нашего визита, не стал тем не менее подбирать
какие-либо книги, статьи или выписки. Память его не
нуждалась в подобных вспомогательных средствах —
история тех далеких лет, когда складывалась советская
психология, жила в ней все эти годы, подвергаясь
постоянному анализу и порой переосмыслению. Мои
вопросы не показались, видимо, трудными А. Н.
Леонтьеву: он говорил ровно и почти не прерываясь. А речь
ведь шла о вещах крайне сложных и важных: о
нынешнем состоянии дел в мировой психологической
науке и о тех причинах, которые к нему привели.
Много лет спустя, когда Алексея Николаевича уже
не было в живых, В. П. Зинченко, один из его
учеников, прочитал запись этой беседы. Так появились на
свет те несколько страниц, что предваряют собой в этой
книге последние размышления Алексея Николаевича
Леонтьева о судьбах своей науки, адресованные
широкому читателю.
Последнее интервью
А. Н. Леонтьев — один из моих учителей. Память о нем
насчитывает более полувека. Поэтому, спустя десять лет
со времени его кончины, я с волнением прочитал
последнее, практически неизвестное интервью Алексея
Николаевича. В нем многое не договорено, но это ведь не
исповедь. Спросить невозможно, дополнить или
сократить— безнравственно. Поэтому ограничусь
комментарием и постараюсь быть максимально объективным,
укажу на недоговоренности и на положения, с которыми
не могу согласиться. Не сделать этого — значило бы не
уважать ни А. Н. Леонтьева, ни себя.
Личностью действительно не рождаются — ею
становятся. Это постоянная работа, непрерывный процесс
самосозидания, часто драматический, порой трагический.
А. Н. Леонтьев всю жизнь развивал и отстаивал
гуманистическую и оптимистическую идею самостановления
личности, полемически заостряя ее против концепций,
80
рассматривающих личность как продукт биографии и
тем самым оправдывающих фаталистическое
понимание судьбы человека. «Обыватель так и думает:
ребенок украл — значит станет вором! Личность способна
воздействовать на свое собственное прошлое, что-то
переоценивать в себе, что-то отвергать в себе, словом,
она способна сбрасывать с себя груз своей
биографии», — писал он1.
Нет, личностью, конечно, все же рождаются, но
рождаются в культуре. Именно культура, по словам одного
из крупнейших русских философов П. А. Флоренского,
есть среда, растящая и питающая личность.
Об этом полезно напомнить в связи с тем, что
личность самого А. Н. Леонтьева формировалась в эпоху
совершенно необыкновенного взлета российской
культуры первых десятилетий уходящего века. И он сам, и
многие его сверстники, коллеги и соратники до конца
дней сохранили на себе печать взрастившей и
вскормившей их культуры. Не менее важно, что эта печать
лежала и на их трудах. Хотя конечно же А. Н.
Леонтьеву, как и многим другим, приходилось «сбрасывать с
себя груз своей биографии». Точнее будет сказать,—
не сбрасывать, а упрятывать, утаивать его,
маскировать фигурами умолчания, витиеватым, порой
эзоповым языком, неправедными оценками «зарубежной
реакционной психологии» или «отечественных идеалистов»,
навязанным цитированием трюизмов и т. д. и т. п.
Все эти формы психологической и социальной
защиты не проходили бесследно, а становились если и не
убеждениями, то схематизмами сознания, которые
оседали не только в его рефлексивных, но и в бытийных
слоях. Эти схематизмы сохранились и в. последнем
интервью А. Н. Леонтьева, хотя, разумеется, не в том
виде, в каком они откристаллизовались в эпоху культа
личности. Справедливости ради следует сказать, что
многие публикации А. Н. Леонтьев сознательно не
включил в свою книгу «Проблемы развития психики» (М.,
1959), многое в ней отредактировал или, точнее,
«вычистил». Если пользоваться образом Д. Гранина, он не
был Зубром^. Это, конечно, не следует рассматривать
как упрек в его адрес, тем более, что и сейчас с
Зубрами в науке дела обстоят не лучшим образом. Не
очень ясно, как восстановить эту породу в научном
сообществе психологов, да и не только среди них. Так или
иначе, но некоторые существенные вещи А. Н. Леонтьев
81
либо вытеснил из памяти, либо умолчал о них
намеренно.
Нельзя, например, согласиться с его оценкой роли в
нашей науке Г. И. Челпанова и оценкой
дореволюционного периода деятельности Института
экспериментальной психологии Московского университета (ныне
Институт общей и педагогической психологии АПН СССР).
А. Н. Леонтьев учился у Г. И. Челпанова и был его
сотрудником. Он много раз говорил о нем с большим
пиететом. Более того, А. Н. Леонтьев рассказывал, что
когда Георгий Иванович вынужден был уйти из созданного
им института, то он пришел к нему и сказал, что уйдет
вместе с ним. На что Челпанов ответил: «Вы еще
молодой человек, у вас впереди вся жизнь, и вы еще не
созрели для того, чтобы принимать вполне
сознательные решения». Леонтьев остался в институте. Если бы
он ушел, то едва ли стал бы учеником и сотрудником
Л. С. Выготского. Ирония судьбы в том, что не прошло
и десяти лет, как А. Н. Леонтьев вместе с Л. С.
Выготским и А. Р. Лурией вынужден был покинуть институт
психологии, атмосфера в котором стала ужасной.
Тридцатые годы были самыми мрачными в жизни
этого учреждения. Во главе института стояли такие
«борцы за чистоту рядов», как П. И. Розмыслов, В. Н.
Колбановский, Ф. И. Георгиев. Ни один из них не имел
психологического образования. Работать в институте
культурным людям стало опасно. На этом фоне оценки
Г. И. Челпанова, данные А. Н. Леонтьевым в интервью,
не могут быть признаны справедливыми ни с
субъективной, ни тем более с объективной точки зрения. Г. И.
Челпанов был создателем психологической культуры
размышлений о душе. Челпанов — человек, обладавший
громадной научной интуицией, несомненным
педагогическим даром и широчайшей культурой. Г. Г. Шпет,
Н. И. Жинкин, Б. М. Теплов, А. А. Смирнов, П. А. Ше-
варев и многие другие его сотрудники испытали на себе
влияние его личности. Но не только. Они пришли в
созданный им в 1912 г. (на средства купца С. И.
Щукина) Институт экспериментальной психологии и
получили возможность проводить исследования на
уникальной для того времени экспериментальной технике,
изготовленной на заводах Цейса.
Как нам сейчас не достает таких «идеалистов» во
главе наших институтов и не только психологических!
Мало того. Идеалист Челпанов ведь писал не толь*
82
ко о душе. Он издал первый в нашей стране учебник
экспериментальной психологии. Он научил К. Н.
Корнилова, сменившего его на посту директора института,
измерять время реакции человека, а тот решил, что в этом
вся психология, и попытался создать свое учение о ней,
назвав его реактологией. Не вина Челпанова, что К. Н.
Корнилов не усвоил уроков о душе.
Значительно более верной и прозорливой оказалась
оценка Челпанова великим антипсихологистом И. П.
Павловым, штрафовавшим своих сотрудников за
употребление психологической терминологии. Замечательно в
беседе то место, где А. Н. Леонтьев описывает
реакцию И. П. Павлова на известие о том, что Г. И. Чел-
панов более не директор института психологии.
Павлову не нужны были психологи, которые делали бы его
работу, но только хуже, поэтому-то он в начале 30-х
годов обратился именно к Г. И. Челпанову с
предложением об организации психологического отдела в Кол-
тушах.
И. П. Павлов превосходно понимал и не раз
говорил, что мышление — это не рефлекс, это другой
случай. Правда, за ним остались (из песни слова не
выкинешь) рефлексы цели и свободы и характеристика
художников как типов с преобладанием первой
сигнальной системы, т. е. близких к животному типу (?!).
Видимо, И. П. Павлову для дальнейшего развития
исследований высшей нервной деятельности человека
понадобилась психологическая культура, и он ее искал не в
обещанной новой марксистской психологии (она ведь
еще только должна была быть построена), а в той
психологии, которая ему была известна и к которой он
относился с уважением.
Что касается оценки деятельности Института
психологии К. А. Тимирязевым, приводимой в интервью,
то это «впечатления из окна его квартиры», и нет
никаких данных о том, что он хотя бы раз побывал в
институте и взглянул на него изнутри.
Культурной закваски, данной этому институту Г. И.
Челпановым, Г. Г. Шпетом, Л. С. Выготским, А. Р. Лу-
рия, Н. А. Бернштейном, да и самим А. Н. Леонтьевым,
хватило на многие десятилетия. К сожалению, в
последние годы эта культура стала катастрофически
хиреть, хотя он и поныне в силу своих замечательных
традиций остается в глазах психологов-профессионалов
парадным подъездом отечественной психологии.
83
Стоит обратить внимание еще на один схематизм
сознания, который обнаружил себя в интервью. Это
проблема методологического монизма и плюрализма.
Она требует пояснения. В первые годы Советской
власти многие искренне хотели преобразовать научные
направления, где они работали, на основе философии
марксизма, диалектического и исторического материализма.
Эта основа была в те годы весьма интеллигентной и не
походила на постыдный катехизис IV главы «Краткого
курса истории ВКП(б)». Она допускала плюрализм.
И все психологические дисциплины — и реактология, и
психоанализ, и педология, и психотехника, и
социальная психология тех лет не только ведь объявляли себя
марксистскими. Они искали новые пути,
ориентировались на практику новой социальной жизни и находили
это новое, слишком многое из которого, к несчастью,
нами утрачено. Конечно, были и наивные связки
психологии и марксизма. Нужно было быть Л. С. Выготским,
чтобы сказать, что он «не хочет получать марксизм на
дармовщину, скроив пару удобных цитат». Но ведь был
и плюрализм, о чем, кстати, свидетельствует и
интервью.
После выхода «Краткого курса» и после весьма
жестоких и предметных уроков все стали «марксистами
на дармовщину». Марксизм перестал быть
интеллигентным и научным. В. И. Ленина давно не было.
Н. И. Бухарина расстреляли. И здесь нужна была
интеллигентность ученых, чтобы не трансформировать
дискуссию в политический донос. Но в науке уже
оказалось достаточно людей, занимавшихся именно этим. И
после дискуссий, а то и во время них дискутанты
исчезали. Дискуссии превращались в допросы, которые
проходили далеко не в академических условиях...
Плюрализм кончился, а марксизм из желанной
методологической основы превратился в дубину. Л. С.
Выготскому «посчастливилось» умереть своей смертью до
этого, в 1934 г. А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. В.
Запорожец, Л. И. Божович, когда в институте психологии
начались дискуссии-доносы, уехали на Украину.
Именно там под руководством А. Н. Леонтьева
сформировалась харьковская психологическая школа. Они
«спрятались» во Всеукраинской психоневрологической
академии, в украинском НИИ педагогики и искренне,
увлеченно, к тому же в высшей степени продуктивно
строили марксистскую психологию. И в рамках этой единой,
ь\
я подчеркиваю, добровольно принятой ими
марксистской основы допускался подлинный плюрализм.
Все сотрудники А. Н. Леонтьева были не только
яркими индивидуальностями, но и оригинальными
учеными, создателями собственных направлений и школ. Не
могу сказать, что они счастливы были называть себя
марксистами, как это делал раньше Л. С. Выготский.
За опошленный марксизм им было все же обидно. Но
они искренне строили новую психологию. Поэтому-то в
интервью, да и в других публикациях А. Н. Леонтьев
гордится тем, что он со своими коллегами в 20—30-е
годы закладывал основы подлинно марксистской
психологии. Будучи человеком тонким и умным, он не
допускал по поводу марксизма ни иронии, ни чувства
юмора, даже когда ему говорили, что сейчас каждый
пошляк, неуч и даже преступник называет себя марксистом.
Однажды, правда, А. Н. Леонтьев сочувственно
рассказал о беседе с известным французским психологом
Ж. Нюттином об отношении к психоанализу. Нюттин —
достаточно веселый человек, когда была затронута эта
тема, посерьезнел и заметил: «Разница между вашим
и нашим отношением к психоанализу состоит в том, что
вы оцениваете его с точки зрения, подходит ли он к
вашей идеологии, а мы с точки зрения, может ли помочь
психоанализ простому страдающему человеку». И хотя
А. Н. Леонтьев ничего не смог возразить на это, в
публикуемом интервью сохраняется старая советская идео-
логема отношения к 3. Фрейду, замаскированная,
правда, саркастической миной.
А между тем в интервью странным образом
отсутствует предмет его гордости, хотя бы краткая
характеристика того, что он считает своей заслугой или
заслугой Л. С. Выготского, своих учеников и соратников в
сфере создания марксистской психологии. Здесь можно
лишь заверить читателя, что на самом деле вклад А. Н.
Леонтьева в создание новой диалектико-материалисти-
ческой психологии огромен. Но нельзя при этом не
вспомнить слова Л. С. Выготского о том, что мы до сих
пор имеем психологию до «Капитала». Если
продолжить эту аналогию, она и сейчас, после трудов Л. С.
Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, С. Л.
Рубинштейна и многих других скорее на уровне
«Манифеста», хотя и вполне добротного. За этим манифестом
немало первоклассных исследований, которые не уста-
Рели (А. Н. Леонтьев говорит об интересе к ним Запа-
85
да, который сейчас во много раз увеличился), много
рукописей, которые не сгорели.
Но мне бы хотелось вернуться к проблеме монизма
и плюрализма в науке. В некрологе на кончину Л. С.
Выготского А. Н. Леонтьев писал в 1934 г.: «Мы
понимаем эту концепцию не как систему застывших истин,
которую остается только принять или отвергнуть, но как
первое, может быть, еще несовершенное оформление
открываемого ею пути. И если в ходе дальнейшего
развития психологической науки многое в ней предстанет
в новом свете, многое будет изменено или даже отбро-,
шено, то тем яснее выступит то положительное и
бесспорное, что составляет ее действительное ядро».
Примерно теми же словами А. Н. Леонтьев
говорил автору этих строк в 1978 г., т. е. тогда же, когда
он давал свое последнее интервью, о собственной
психологической теории деятельности. Его волновала не
сохранность ее конкретной, возможно, несовершенной
формы, а сохранность ее основного концептуального
ядра. Так монист Леонтьев или плюралист? Он
принимал идею интериоризации и в варианте П. Жане,
и в варианте Ж. Пиаже, и в варианте Л. С. Выготского,
и в варианте П. Я. Гальперина, и в варианте В. В.
Давыдова, а кроме всего этого, развивал собственные взгляды
на соотношение внешнего и внутреннего, на соотношение
противоположно направленных, идущих навстречу друг
другу процессов интериоризации и экстериоризации. Его
монизм касался методологии диалектического
материализма — он не видел ей альтернативы ни в феноменологии,
ни в праксеологии, ни в экзистенциализме. Но и в
области теории, и в области эксперимента, и в области
практики он готов был рассмотреть любые точки зрения,
даже если они не соответствовали его взглядам.
Потому-то и сегодня его теории — в арсенале
психологической науки. Например, в ФРГ есть проект
издания собрания сочинений А. Н. Леонтьева не в двух
томах, как у нас, а в 6 или 8 томах. В Западном
Берлине в 1986 г. прошла Первая международная
конференция по психологической теории деятельности,
создателями которой являются А. Н. Леонтьев и С. Л.
Рубинштейн. Следующая такая конференция будет в 1990 г. в
Хельсинки. Начинается издание международного
журнала по психологической теории деятельности. Словом,
теория живет и развивается, и мы уже, увы, не в
первых рядах.
86
В последнем интервью А. Н. Леонтьева звучат очень
суровые оценки эклектизма западной психологии,
много говорится о ее хроническом кризисе,
методологической беспомощности и т. д. Объяснять это только
схематизмом сознания было бы неправильно. А. Н.
Леонтьев — европейский, причем франкоориентированный
психолог. Он никогда не высказывал подобных оценок
в адрес французских исследователей. Напротив, с ними
его связывала многолетняя дружба, он писал
предисловия к их трудам, издававшимся в СССР. Весьма мягко
он относился к английской психологии, к немецкой
классической психологии. Его оценки адресованы, что не
всегда оговорено, преимущественно американской
психологии. И здесь он разделял, порой с трудом
преодолевая, пристрастное отношение французов и англичан
к американцам. Надо сказать, что и американские
психологи ему платили (и платят) тем же. Насколько им
близки и понятны работы Л. С. Выготского, А. В.
Запорожца, А. Р. Лурии, настолько от них далеки, в
отличие от французов и немцев, работы А. Н. Леонтьева.
Это сам по себе любопытный историко-психологический
феномен, заслуживающий специального обсуждения.
Отметим еще одну любопытную деталь. В интервью
А. Н. Леонтьев с известным и, мне кажется,
незаслуженным пренебрежением говорит о дореволюционной
официальной университетской психологии, забывая о
том, что он сам, по крайней мере начиная с
послевоенных лет, стал официальным психологом в Советском
Союзе. Он занимал ряд руководящих постов в
Академии педагогических наук СССР вплоть до
вице-президента, был президентом Общества психологов СССР,
явился одним из создателей Института психологии АН
СССР, не против был возглавить его и т. д. Все это
позволило ему многое сделать для развития
психологической науки в стране. В принципе он был
просвещенный и интеллигентный ученый-администратор. С
пониманием относился к другим, не совпадающим с его
собственным направлениям и школам в психологии,
содействовал их развитию. Однако как официальный
психолог он не мог не идеологизировать
психологическую науку, не мог не принимать всерьез даже нелепые
с точки зрения нормального ученого указания,
связанные с различного рода перестройками психологической
науки. В то же время ему удивительным образом
удавалось проводить принципиальную линию развития соб-
87
ственной концепции и традиций школы Л. С.
Выготского. Именно это, несмотря ни на что, было делом его
жизни. И именно этим он отличался и отличается от
многочисленного племени администраторов от науки.
Размышляя об «официальности» А. Н. Леонтьева,
невольно задаешься вопросом: а что же лучше
—официальность или свобода? Абстрактный ответ, конечно,
ясен и без размышлений. Но когда вспоминаешь
конкретные условия его жизни, то все оказывается вовсе
не так однозначно. А. Н. Леонтьев был блестящим
экспериментатором, проницательным практиком и
умудренным теоретиком. Безусловно, в условиях свободы
ему удалось бы сделать много больше. Но нельзя
забывать, что его «официальность» дала возможность
относительно свободно развиваться всей школе Л. С.
Выготского.
Чудес, конечно, не бывает — школе после кончины
ее создателя жилось довольно сложно. В чем-то был и
отход от замысла учителя, в чем-то ученики оказались
не в состоянии развивать эти замыслы. Но не надо
забывать, что Л. С. Выготский был гений, а заменить
гения не под силу даже очень большому коллективу.
Главное же в том, что традиции
культурно-исторического исследования психики и сознания сохранились. Здесь
несомненная заслуга не одного А. Н. Леонтьева, а
многих других ученых. Все они не только продолжали эти
традиции, но и воспитывали в них учеников.
Следует учесть: почти 20 лет традиции передавались
устно. И чтобы покончить с сюжетом об
официальности, нужно сказать, что в А. Н. Леонтьеве, когда он
играл роль большого администратора, всегда было что-то
от подростка, чувствовалось — это не всамделишное, а
как бы понарошку. Когда он переставал играть, перед
нами неизменно оказывался настоящий А. Н.
Леонтьев— серьезный и большой ученый, умный человек,
добрый советчик, легко увлекающийся интересной идеей,
легко втягивающийся в обсуждение экспериментальных
замыслов и результатов.
В последние годы жизни А. Н. Леонтьев болезненно
относился к проблеме философского осмысления основ
психологии. Для того были объективные основания, к
возникновению которых он был причастен и сам.
Отделения психологии в ряде университетов по
инициативе прежде всего А. Н. Леонтьева выделились из
философских факультетов и стали самостоятельными факуль-
83
тстами. Это привело к ослаблению связей между
философами и психологами, к снижению философской
культуры последних. На факультетах появился ряд
специализаций (социальная, медицинская, детская,
педагогическая, инженерная психология), что естественно
уменьшило интерес к общей психологии, к теории
психологии. А. Н. Леонтьев как декан факультета создал
все эти кафедры и содействовал их развитию и вместе
с тем испытывал определенный дискомфорт, часто
повторял, что психология должна развиваться не в куст,
а в ствол. Наконец, страна стала испытывать
потребность в создании самых разнообразных психологических
служб. Кадров недостаточно, а свято место пусто не
бывает. В психологию ринулись люди без
психологического образования, например инженеры и математики,
и стали строить модели человека, даже модели
личности. Чуть позже в психологию хлынули физиологи и
стали объявлять мозг предметом психологии. Это одна
из причин появления различных форм редукционизма в
психологии, по поводу которого сетует А. Н. Леонтьев.
Таких форм тем больше, чем больше число
неудачников из разных областей науки притекает в нашу науку.
Я сам был бы рад, если бы все сказанное можно
было объяснить болезнями роста, а опасения А. Н.
Леонтьева, высказанные более десяти лет назад, —
старческим брюзжанием (пользуюсь его выражением), но, н
сожалению, это нс так. Его опасения имели основания,
а сейчас они сбываются. В психологии, даже
академической и университетской, резко упал профессионализм.
Боюсь, что в нашей науке отставание набирает
ускорение или, еще хуже того, что мы едем не в ту сторону.
Причем речь идет не о нашем сто раз уже
упоминавшемся отставании от Запада, а об отставании от самих
себя. Идеи школы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева,
А. Р. Лурии более успешно и энергично развиваются в
Европе, в США, в Японии.
У нас после смерти А. Н. Леонтьева началось
наступление на школу Выготского. Симптомы были еще
при его жизни, он это знал. Во главе всех
коллективов, где велась работа в русле идей школы, были
поставлены чуждые ей люди, способные хорошо
выполнять разрушительные функции, но неспособные к
конструктивным шагам, пусть даже вне ее идей. Системно-
административный подход, возобладавший в
психологии, привел к бессистемной эмпирии. Наука ведь мсти-
89
гельна. Если ученый пренебрегает теорией, меняет,
выражаясь психологическим языком, когнитивный вектор
на утилитарно-практический или организационный, то
в итоге не получается ни теории, ни эксперимента, ни
практики. Впрочем, это особый сюжет, требующий
специального разговора.
Вот те размышления, навеянные последним
интервью Алексея Николаевича. Не все они светлые, есть и
грустные, но такова жизнь. Нам, ученикам, его не
хватает, как не хватает и других наших учителей: А. Р. Лу-
рии, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина, при жизни
которых сохранялся высокий нравственный климат в
науке. При их жизни мало кто мог позволить себе делать
стыдные вещи. Они все же представляли
культурно-историческую школу психологии. Уверен, что она останется
не только в нашей истории, но и в нашей культуре.
«Личностью не рождаются»
Опыт — учитель, очень дорого берущий за уроки,
но зато никто не научает лучше его.
Т. Карлейлъ
— Хотелось бы, чтобы Вы, Алексей Николаевич, в
самых общих чертах обрисовали нынешнее состояние
психологии, не смущаясь тем обстоятельством, что Ваше
мнение может оказаться пристрастным. Взгляд
человека, чьими руками во многом создавалась нынешняя
психологическая наука, представляется куда более
ценным, чем некое «средне-взвешенное» суждение.
— Главное, что, на мой взгляд, характеризует
нынешнюю мировую психологию, — это гигантская
пропасть между горами, монбланами ежедневно
накапливаемых фактов в суперсовременных, оснащенных
прекрасным оборудованием лабораториях, и жалким, я бы
даже сказал нищенским состоянием теоретического,
методологического фундамента нашей науки. Слова эти в
полной мере — я бы мог даже еще ужесточить свои
формулировки— относятся лишь к западной, прежде всего
американской психологии, но и у нас дела обстоят
далеко не так благополучно, как хотелось бы.
Парадокс состоит в том, что нужда в
психологических исследованиях растет лавинообразно. Фирмы,
заводы, государственный аппарат, армия — буквально все
спешат обзавестись собственной психологической лабо-
90
раторией. Число публикаций, естественно,
увеличивается — в одних только Соединенных Штатах выходит
около сорока периодических изданий, целиком
посвященных психологической проблематике. Делается немало
тонких, умных и полезных работ — и все это на фоне
удивительной методологической беспечности. Острая,
неотложная потребность сегодняшней психологии — найти
теоретические ориентиры, без которых даже самые
лучшие конкретные исследования неизбежно остаются
близорукими, не связанными между собой, не ведущими к
единой цели.
Кризис теории возник не вчера — вот уже почти
столетие мировая психология вынуждена жить в таком
противоестественном для любой науки состоянии.
Система психологических знаний переживает целый век
беспрерывного раскалывания, в результате которого
образуются трещины, куда проваливается сам предмет этой
науки. Сначала деление прошло по линии
гуманитарная—естественнонаучная, описательная—объяснительная
психология. Затем одно за другим появились в
западноевропейской и американской науке направления,
обещавшие произвести в психологии долгожданную
революцию в теоретических основах. Бихевиоризм,
возникший в Америке в начале века, провозгласил своим
девизом: «Предмет психологии — это поведение, а не
сознание». Тезис был столь нов и многообещающ, что
заговорили о спичке, поднесенной к бочке с порохом:
казалось, старая психология вот-вот взорвется. И
действительно, с появлением нового учения сами собой
развалились школы структурализма (которая считала
главной задачей психологии экспериментальное
изучение структуры сознания), функционализма (она
ставила перед собой цель понять, как человек
приспосабливается к изменчивой среде, какие психические функции
вступают при этом в игру), не говоря уже о вюрцбург-
ской школе (она перенесла акцент с поведения
испытуемого на производимые им действия), к тому
времени уже исчерпавшей свои возможности.
Школы распались — и что же? Долгожданной
теоретической революции все равно не произошло, потому
что бихевиоризм, который до сих пор остается главным
направлением в американской психологии, так и не смог
связать воедино отдельные исследования. Гештальт-
психология, родившаяся почти одновременно с ним, но
не в Америке, а в Германии, казалось, открыла нако-
91
нец некий генеральный принцип, способный вывести
психологическую науку из тупика. Ее призыв изучать
высшие психические процессы как целостные
структуры — гештальты, не выводимые из отдельных
простейший первоэлементов, — был услышан многими
психологами, отчаявшимися построить «науку о реальных
человеческих существах» на пути элементаристского,
«атомистического» анализа. Но и эта психология целостно-
стей не смогла разрешить вопиющего противоречия
между все увеличивающейся огромностью
экспериментального материала и более чем скромностью его осмысления.
Потому, быть может, столь много психологических
голов закружилось от фрейдизма, сулившего им
заветную точку опоры — на этот раз в виде
бессознательного в человеческой психике, — с помощью которой
удастся перевернуть психологию и сделать ее жизненной
наукой. Но и тут ученых ждало разочарование.
С той поры появилось множество других школ и
школок, менее претенциозных и с большим «периодом
полураспада». Небрежение общепсихологическими
работами, скепсис в отношении философского осмысления
проделанного пути, упорно насаждавшиеся фактоло-
гизм и сциентизм — направления, на знамени которых
был начертан бескрылый лозунг: «Факты, только
факты и ничего, кроме фактов», — не давали даже самым
светлым умам подняться до исследования
действительно кардинальных вопросов психологии. Более того,
западные психологи стали даже гордиться своей
теоретической растерянностью, разорванностью исходных
предпосылок.
Возникло удивительное явление — научное
обобщение руками рабочего человека, переплетчика:
отдельные главы психологических книг писались с разных
позиций, а имя редактора такого труда становилось
именем автора. Именно такой подход считается, скажем, у
американских психологов наиболее плодотворным.
Недавно в этой связи случился забавный казус. В США
вышла работа одного советского психолога, и в
редакционном предисловии к ней было сказано несколько
теплых слов об авторе, в том числе и то, что он
«чрезвычайно эклектичен» в изложении материала. Нам с
Александром Романовичем Лурией пришлось утешать
обиженного автора, убеждать его, что издатели хотели
на свой лад похвалить его, ибо в их устах
«эклектичность» значит «широта кругозора, способность одновре-
02
менно воспринимать несколько разных учений», одним
словом — комплимент коллеге.
—- Но легко можно понять и автора, советского
ученого, привыкшего считать, что в науке должно исходить
из единых философских установок, а эклектика — это
мешанина концепций и подходов, свидетельство
незрелости мысли.
— Да, советская психология не пошла по пути
методологического плюрализма, т. е. множественности
исходных концепций, которым гордится — но гордится
вынужденно, ибо давно известно, что «много подходов —
значит нет подхода», — западная психология. Уже в
первые послеоктябрьские годы у нас начались
настойчивые поиски новых путей в психологии, решения
основных ее проблем на единой, марксистской основе.
Процесс этот был поначалу весьма непрост. Ведь в
дореволюционной России психология едва теплилась.
Современному читателю трудно представить себе
обстановку, существовавшую в дореволюционной русской
психологии и сохранившуюся у нас в стране некоторое
время после Октября. Но именно она и должна
служить «точкой отсчета», когда мы размышляем о
развитии советской психологической науки и о той роли,
которую сыграли первые годы ее становления.
Хотя в дореволюционной России существовала
серьезная традиция материалистического понимания
психики, созданная трудами революционных демократов,
идеями И. М. Сеченова, научными вкладами И. П.
Павлова, В. М. Бехтерева, А. А. Ухтомского и других
естествоиспытателей и врачей, официальная психология —
та, которая усиленно насаждалась в университетах и
преподавалась во всех гимназиях и духовных учебных
заведениях, была резко отгорожена от влияния этой
традиции. Господствовавшая в официальной психологии
атмосфера была откровенно идеалистической и крайне
консервативной. Даже со стороны привлекавшихся в
ней опытных данных она оставалась, за редкими
исключениями, подражательной, более всего следовавшей за
Работами немецкого психолога-кантианца В. Вундта.
По сравнению же с состоянием мировой психологии в
Делом, которая испытывала с начала века заметное
оживление, психологическая наука в дореволюционной
России оставалась глубоко провинциальной.
Не принесло никакого прогресса и открытие в пред-
Революционные годы при Московском университете
93
гая свои реактологические позиции, он видел в них
путь к построению марксистской психологии. Самая
же главная заслуга его состоит в том, что требование
радикальной перестройки психологической науки на
основе марксизма он превратил в акцию объективного
общественного значения. Требование это он выдвинул
на Первом и Втором всероссийских съездах по
психоневрологии в 1923 и 1924 гг., где оно было широко
поддержано. Среди поддержавших К. Н. Корнилова
были не только психологи, но и философы, и
социологи, и врачи-психоневрологи — словом, люди очень
разные и по возрасту, и по профессии, и по своей
научной подготовке.
Совсем иное отношение встретила идея
марксистской перестройки психологии в Институте психологии
и в тех университетских кругах, которые были с ним
связаны. В большой аудитории .института
продолжались дискуссии, на которых Г. И. Челпанов пытался
«защитить» психологию. Но ни он сам, ни
выступавшие в его поддержку сотрудники оказались не в
состоянии и дальше вести институт по прежнему пути.
Создалось положение, которое дальше продолжаться
просто не могло. Тогда-то -и произошло событие,
которое внешне выразило и закрепило наступивший в
развитии советской психологии перелом: Институт
психологии был реорганизован, его директором был
назначен К. Н. Корнилов, и перед институтом была
поставлена задача — развивать марксистскую психологию.
В этот момент, т. е. к началу 1924 г., ситуацию,
возникшую в институте, я бы назвал чрезвычайной.
Прежний состав института как-то отошел на второй
план. Одни вместе с Челпановым демонстративно
покинули его, другие только отошли от института, начав
одновременно работать в других учреждениях. Вместе
с тем он пополнился совсем новыми людьми, дотоле
в психологии мало известными или даже вовсе не
известными; среди них была и значительная группа
молодежи, пришедшая прямо с университетской скамьи.
Начались настойчивые поиски новых путей в
психологии, новых гипотез и методов. Ведь собственно
реактологическая платформа К. Н. Корнилова имела для
большинства из нас скорее символический смысл—■
речь шла не о реактологии, а о претворении в
психологии марксистских идей.
Поиски шли в очень разных направлениях: разви-
96
рались исследования, конечно, и по изучению реакций,
п0 начиналась работа и в русле бихевиористических
исследований, и в области психоаналитических идей,
п по проблемам эффективности, и в области социаль-
п0й психологии, и в области психотехники. При всем
разнообразии этих первых поисков, создававших даже
впечатление разрозненности, существовало и общее,
пто объединяло весь коллектив. Это общее состояло в
убежденности: единственным путем развития
подлинно научной психологии является развитие ее как
последовательно марксистского по своим теоретическим
основам знания о психике. Мы все понимали и
другое: марксистская психология — это не одно
направление, не одна школа в психологии и не то или иное
их сочетание или объединение (Корнилов говорил—
«синтез»), а новый этап, наступающий в ее истории,
этап, за переход к которому обстоятельства
возложили ответственность на советских психологов.
Я назвал новую ситуацию, возникшую в нашем
институте, чрезвычайной. Она была чрезвычайной также
и в том, что действовала как мощный ускоритель не
только на развитие психологии, но вместе с тем и на
развитие тех, кто ее строил. Примером тому может
служить научная биография многих советских
психологов, начавших свой путь в нашей науке именно в те
годы.
...Лозунг — строить психологию на основе
марксизма— был дан. Но из всего нового состава института
по-настоящему марксистски образованным был лишь
Лев Семенович Выготский, ставший впоследствии
крупнейшим советским психологом, основателем
целой научной школы. Новый директор, Корнилов, к
сожалению, не сумел как следует понять диалектический
материализм, его знания были поверхностны, и
потому он предложил в корне ошибочную программу
работы. Идея его состояла в синтезе субъективно
эмпирической и «объективной», как он выражался,
психологии. Смысл этого слова в его устах станет более
отчетливым, если учесть, что в то же время в
предисловии к одной из книг он писал о необходимости слить
старую психологию с бихевиоризмом. Вот это-то
соединение Корнилов искренне считал марксизмом в на-
шей науке. Понятно, что выдвинутая им программа
была, как сказали бы теперь, не эвристична — она не
могла дать жизнь ничему новому.
4 К. Е. Левитин 97
Поиски своего пути начались в институте с 1926 г.
Делались попытки соединить фрейдизм и марксизм —
их принесли с собой новые сотрудники,
врачи-психоаналитики, среди которых самым крупным был
Б. Д. Фридман. Были в институте и социологи во
главе с М. А. Рейснером, известным ученым, автором
нашумевшей книги «Идеология Востока», действительно
большим специалистом, который, правда, сегодня
известен более как отец знаменитой журналистки
Ларисы Рейснер. Из Симферополя приехал чистый бихеви-
орист Б. М. Боровский. Он привез с собой подопытных
крыс, которые из-за полной неприспособленности
этого храма науки к подобным экспериментам через
несколько дней разбежались по всему институту и дико
кусались, когда мы пытались их ловить. Да и вообще
произошло «осквернение святыни» — по коридорам
носились никому не известные молодые люди, а в
кабинете самого профессора Густава Густавовича Шпета
поселился приехавший из Казани совсем еще
мальчишка по фамилии Лурия.
Но главное — и в кабинетах, и в коридорах шла
борьба. Принято было говорить тогда, что шла она на
два фронта — против корниловской рефлексологии,
сводившей психологию к чисто физиологическим по«
нятиям, и против старой челпановокой
самонаблюдательной психологии. Но на самом деле эти две
крайности смыкались — «физиологисты» легко находили
общий язык с «интроспектистами»: первые давали им
материал, а вторые вволю описывали его. Нет, на
самом деле борьба шла между теми, кто пытался
построить новую психологию на марксистской —
действительно марксистской, а не лишь называемой этим
именем всуе — основе, и теми, кто им препятствовал
или их не понимал.
Я потому так подробно останавливаюсь на
событиях, происходивших в те годы в Московском
психологическом институте, что они совпали с первыми моими
шагами в науке. В 1923 г. Челпанов объявил мне,
студенту, что я оставлен при университете, как тогда
говорили «для подготовки к профессорской
деятельности», а по-нашему — в аспирантуре. Я пошел в
институт психологии внештатным младшим научным
сотрудником. Но эта должность не давала никаких
средств к существованию, и потому я одновременно
работал в Комиссии по ликвидации неграмотности. Я
98
заведовал ликбезом в тресте «Моссукно»,
инспектировал подобную работу в Замоскворецком районе и
вел какие-то библиотечные дела. Странно звучит, но
зарабатывал я тогда больше, чем когда-либо в
жизни— один лишь трест «Моссукно» платил мне
огромную по тем временам сумму в 46 червонных рублей.
Цо потом мне наконец-то удалось устроиться в
педагогический институт на скромную, малооплачиваемую
должность лаборанта, и я смог посвятить себя науке
целиком.
Позволю себе еще одно отступление, тем более что
речь пойдет о событиях мало кому известных.
После перемены руководства институтом Челпанов
перешел работать в ГАХН (Государственную
Академию художественных наук), аналог бывшей
петербургской Академии художеств, где обучали тех, кто
собирался стать живописцем или графиком. Там
собрались крупные искусствоведы и философы, а Г. И.
Челпанов заведовал отделом психологии. И вот тогда-то
■к нему приехал посол... от И. П. Павлова! Великий
«антипсихолог» предполагал развернуть в
строящихся Колтушах под Ленинградом, где разместился потом
его знаменитый институт, отдел психологии под
руководством Челпанова, на его позициях и платформе.
Как раз в это время нас с Александром Романовичем
Лурией командировали в Ленинград на предмет
изучения работ павловских лабораторий в Институте
экспериментальной медицины — выражаясь современным
языком, на короткую стажировку. Александр
Романович по прибытии в Ленинград отравился и лежал
больной, а я Явился в институт, и Фурсиков, ассистент
института — по теперешнему заместитель директора по
науке,— представил меня Павлову. До этой
торжественной минуты я участвовал в обходе им лабораторий,
успел поразиться принятому там стилю работы — как
Павлов обращается с сотрудниками, как
консультирует различных исследователей, как разговаривает со
множеством врачей, которые сидели по всем углам,
и — я снова пользуюсь терминологией тех лет —
«отсасывали собачий сок». Одним словом, к тому
моменту, когда Фурсиков сказал, что из Москвы приехал
наш молодой коллега, который некоторое время
побудет у нас, я уже несколько осмотрелся в институте.
И. П. Павлов охотно сказал, что-то вроде «да-да», мы
4 *
99
пожали друг другу руки, и тут он спросил меня: «А как
поживает Георгий Иванович?»
Я был молод и неопытен, а потому страшно
смутился. «Иван Петрович,— сказал я,— Георгий
Иванович у нас в институте более не работает, наш
директор теперь — Константин Николаевич Корнилов, в
институте многое переменилось—мы культивируем
теперь объективные методы исследования психики, и вот
почему я командирован к вам». Реакция была
незамедлительной, даже мгновенной. Так как мы стояли
очень близко друг к другу, поведение Павлова было
особенно демонстративным: он, не сделав ни одного
шага, повернулся ко мне спиной и, бросив фразу
«сожалею, молодой человек, сожалею», отмаршировал
прочь.
Многое стало понятным потом — например, письмо
И. П. Павлова на открытие Института психологии с
пожеланием процветания в те именно годы, когда он
категорически запрещал своим сотрудникам
употреблять «психологические» слова — «собака подумала»,
«собака догадалась», а настаивал на том, чтобы все
и всегда объяснялось физиологически — возникло
торможение, произошла индукция процесса нервного
возбуждения...
Но я отвлекся.
Итак, что же произошло в советской психологии
в те ранние годы? Была повернута важная страница:
была названа, а не создана та методологическая
основа, на которой только и может существовать эта
наука — если, конечно, не говорить о всплесках чисто
прагматического порядка, обрывках психологических
сведений, теоретически не связанных и не
обобщенных. И хотя первые годы, когда все мы только
учились осмысливать психологические факты с
марксистских позиций, были трудными и дело не обходилось
без огрехов, результатом этой работы явилось
существенное обновление психологии, причем осуществлено
оно было в короткий срок. В послевоенные годы стали
немыслимыми международные съезды или
симпозиумы сколько-нибудь крупного масштаба без участия
советских ученых. Симптоматично, что вот уже
который год в США издается журнал, который так и
называется «Советская психология», где публикуются
только переводы статей наших авторов безо всяких
купюр и комментариев. Многое там печатается из ста-
100
рых работ, которые были пропущены американцами.
Они, например, с изумлением обнаружили, что
исследования по раннему детству, начатые психологами
США сравнительно недавно, были выполнены в нашей
стране еще до войны.
Авторитет советской психологии сейчас весьма
высок. Вот, скажем, начал выходить у нас в Московском
университете небольшой журнал «Вестник МГУ.
Психология», и «Пергамон пресс» тотчас же заключил
договор о регулярном переводе. Список советских
психологов, избранных почетными академиками в разных
странах, почетными докторами университетов многих
государств, оказался бы весьма внушительным.
Всемирный психологический конгресс, проходивший в
Москве в 1966 г., был самым многолюдным из всех —
пленарное заседание мы смогли провести лишь в
огромном Кремлевском Дворце съездов.
— Считаете ли Вы, что положение в
психологической науке у нас не нуждается ни в каких серьезных
изменениях, что надо лишь развивать ведущиеся
исследования, одним словом, думаете ли вы, что на
«психологической Шипке» все в порядке?
— Мне бы очень хотелось разделить оптимизм тех,
кто так полагает, но, увы, существуют некоторые
весьма беспокоящие меня обстоятельства. Конечно, в
нынешней ситуации расширенного обмена идей и
быстрого развития на марксистской почве строящейся науки
мы пришли к немалым достижениям. Но в то же
время стали как-то забывать о годах первоначальных
теоретических преобразований — о том, что и ради чего
тогда делалось в нашей науке. Сегодня в психологии
продолжаются позитивные работы, ведутся важные
конкретные исследования, нельзя сказать, что
заглохло и философско-психологичеокое направление —
скорее наоборот, если судить по числу публикаций, оно
на подъеме.
Но произошло нарушение внутренних связей между
теми философскими проблемами психологии, которые
разрабатываются нынешними авторами объемистых
книг и монографий, и реальными психологическими
исследованиями, которым нужна научная методология.
А как раз ею-то заниматься почему-то никто не
желает! Никто не спорит — нужно и полезно трудиться над
собственно философскими проблемами той или иной
науки, но такие работы вносят свой вклад прежде
101
всего в философию. Но ведь нам нужны специально
психологические методологические исследования, а
их —такого ранга, как фундаментальные книги
«Мышление и речь» Л. С. Выготского или «Основы общей
психологии» С. Л. Рубинштейна, вышедшие теперь уж
очень давно,— нет и, кажется, не предвидится в
обозримом будущем. Это звучит жестко, но я не боюсь
такой формулировки, потому что рассчитываю
разбудить у нашей психологической общественности,
особенно у молодежи, вкус к методологическим,
осмысляющим работам, в известной мере утерянный с тех
первых лет, когда закладывались основы сегодняшних
наших успехов в науке. Я убежден, что нынешние частые
попытки создать некую надтеорию — перепрыгнуть
через марксизм и построить единую систему науки,
единый язык, годный и для психологического, и для
физиологического, и для любого иного описания
действительности,— окажутся преходящей модой, что
рано или поздно из научного лексикона исчезнут порой
ничего не значащие словосочетания вроде
«структурный (или комплексный, или системный) подход»,
«междисциплинарные исследования», «введение
кибернетических моделей», «моделирование психических
процессов» и т. п. Я не хочу, чтобы мои слова
воспринимались как стариковское брюзжание по поводу
безвозвратно ушедших времен, и я вовсе не против
кибернетики, моделирования, системности и прочих хороших
вещей, но меня беспокоит нынешняя методологическая
беспечность в моей науке, потеря ею своего предмета.
Я неоднократно проверял себя —мои опасения
разделяются многими коллегами, в том числе и совсем
молодыми психологами. Та« что дело не в возрасте,
до именно возраст не дает мне возможности
откладывать разговор о тревожащих меня вещах в моей
науке. Ведь сегодня в психологии не идет борьба между
разными направлениями — как и в те далекие
двадцатые годы, это лишь видимость. На самом деле на
одном полюсе находятся люди, которые стремятся что-
то сделать в науке о человеческой психике, не
становясь при этом ни кибернетиками, ни неврологами, ни
логиками, а оставаясь психологами, а на другом
полюсе — те, чьему сердцу близок и доступен
редукционизм всякого сорта, т. е. сведение психологии к
простейшим явлениям. На мой взгляд, опаснее для
психологии ничего нет — это ее смерть, ведь психика ухо-.
102
дит из подобных исследований начисто. Логический
редукционизм — изучение одних лишь логических
операций, редукционизм кибернетический — т. е.
психология, поглощенная схемой, физиологический,
неврологический, семантический редукционизм — несть им
числа...
Беда усугубляется еще несколькими
обстоятельствами. Вне споров стоят ученые, философствующие
безотносительно к анализу психологических реалий,
конкретного материала, добываемого в лабораториях. В
то же время многие профессиональные психологи
уходят из науки на отхожие промыслы. Ведь потребность
в психологии растет во всех областях народного
хозяйства. У нас сегодня несколько тысяч психологов, из
них большое число работает в промышленности, в
министерствах, всякого рода учреждениях — спортивных,
медицинских и т. п. Директор завода, услышав про
«психологический климат», «психологическую оценку
пригодности», организует у себя лабораторию, и всех
его сотрудников, появившихся неизвестно откуда,
«специалисты» пропускают через батареи тестов, смысл
которых не ясен ни одному человеку на свете. Вреда
от этого, правда, немного: если тест забракует
хорошего работника, то его оставят «в порядке
исключения», а если плохой работник попадет под подобный
удар, его все равно не уволят — лишних сотрудников у
нас в стране нигде ведь нет, работников всюду не
хватает.
Все это вместе взятое создает некий вакуум в
психологии, и в него втягиваются чуждые этой науке
люди и идеи. Поэтому, думается мне, надо начинать — я
бы сказал «снова начинать» — расчистку
методологического фундамента психологии и наслоений и
издержек роста.
— Алексей Николаевич, начинать, видимо, разумно
с каких-то центральных психологических понятий:
«поставив» их на свои места, легче будет двигаться
дальше. Не могли бы Вы назвать одно, но важнейшее, с
Вашей точки зрения, понятие подобного рода и
рассказать о тех сложностях, которые связаны сегодня с его
трактовкой?
— Думаю, что одной из центральных проблем в
психологии сегодня является понятие личности. Здесь
сталкиваются противоречивые воззрения, и от того, в
чей лагерь записывает себя тот или иной исследова-
103
тель, зависит, какую психологию он будет строить;
Водораздел проходит по двум линиям. Прежде всего
надо решить, как соотносятся потребности,
свойственные любой личности, и та деятельность, которой
личность эта занята. Можно считать, что влечения и
потребности как раз и диктуют человеку те или иные
поступки, они — тот двигатель, который заставляет
личность расти, развиваться, добиваться успеха в том
или ином деле. Но существует и прямо
противоположная точка зрения: развитие самой человеческой
деятельности, ее мотивов, средств, с помощью которых
она осуществляется, преобразует потребности,
порождает новые, меняет всю иерархию влечений и
желаний таким образом, что удовлетворение некоторых из
|них становится всего-навсего необходимым условием
для деятельности человека, для его существования
.как личности.
Если придерживаться первой точки зрения, то
психология личности окажется построенной на гипотезе
примата потребления («человек работает, чтобы есть»),
если же следовать другой, ей противоположной, то в
основу психологии личности ляжет положение о
примате деятельности, в которой человек утверждает
свою человеческую личность («человек ест, чтобы
работать»).
Я хотел бы обратить внимание на то, что новая,
антропологическая, или, лучше сказать,
натуралистическая, концепция выглядит вполне убедительной и
наглядной. В самом деле, ее аргументы «от желудка»
имеют прелесть естественности и простоты. И нужна
•известная культура мышления, определенный запас
философских знаний, чтобы увидеть, что наполнение
желудка пищей и удовлетворение всякого рода
потребностей— это, конечно, непременное условие
любой человеческой деятельности, да вот только
психологическая проблема тут только и начинается, ибо
психолога интересует такая ситуация: насущные
потребности удовлетворены — какова будет теперь
деятельность человека, как пойдет ее развитие, а с ним
вместе и преобразование самих потребностей?
«Голод способен поднять животное на ноги,
способен придать поискам более или менее страстный
характер, но в нем нет никаких элементов, чтобы
направить движение в ту или другую сторону и
видоизменять его сообразно требованиям местности и случай-
104
ностям встреч»3, — писал И. М. Сеченов, демонстрируя
на этом примере, что потребность выступает лишь как
состояние нужды организма, которое само по себе не
способно вызвать никакой определенно направленной
деятельности, ее функция сводится только к общему
возбуждению всей двигательной сферы, к тому, чго
появляются ненаправленные поисковые движения. Но
тот же голод у человека может сам рождать новые
потребности, вернее, не сам, а благодаря тому, чго
наш воображаемый изголодавшийся человек живет не
в социальном вакууме, а в обществе с его
культурными и иными нормами, обычаями, орудиями. «Голод,—
пишет Маркс,— есть голод, однако голод, который
утомляется вареным мясом, поедаемым с помощью
ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при котором
проглатывают сырое мясо с помощью рук, ногтей и
зубов»4.
Другая граница в психологических воззрениях на
природу личности отделяет попытки объяснить
человеческую личность, исходя из ее телесных особенностей,
генетического наследства, конституции, типа высшей
«нервной деятельности и тому подобных «физических»
'Или «биологических» свойств. Если же вспомнить
известное марксистское положение о том, что личность
есть особое качество, которое природный индивид, т. е.
попросту человек сам по себе, приобретает в системе
общественных отношений, то тогда точно так же,-как
и в случае с потребностью и деятельностью, проблема
обращается: генетические, физические, одним словом,
антропологические свойства человека выступают не
как определяющие его личность и даже не как
входящие в ее структуру элементы, а всего лишь как
заданные условия, при которых формируется личность,
и они, стало быть, определяют вовсе не
психологические черты человека, а только формы и пути их
проявления.
Таким образом, личностью не рождаются — ею
становятся, приобщаясь к жизни других людей,
присваивая их культуру, привычки, навыки, приемы
обращения с орудиями труда. Личность — это продукт
общественной деятельности и только с этих позиций
объяснимы ее особенности. Классический пример — такая
черта личности, как агрессивность. Разумеется, у
холерика она будет проявляться иначе, чем у флегматика,
но объяснять агрессивность особенностями темпера-
юз
мента столь же ненаучно, как попытки искать
причины войн в свойственном людям инстинкте
драчливости.
Мы видим, таким образом, что марксистский
подход к психологии личности действительно
переворачивает традиционную систему взглядов. Проблемы
свойств нервной деятельности, темпераментов и т. п.
вовсе не изгоняются из теории личности, но
рассматривать их предлагается в непривычном плане —теперь
мы интересуемся ими с точки зрения того, как
использует личность имеющиеся в ее распоряжении
врожденные способности и свойства, как она реализует то
индивидуальное, что дано ей природой.
— Эта позиция, Алексей Николаевич, неизбежно
встретит возражения многих ученых, которые, как
показали дискуссии о соотношении социального и
биологического, врожденного и благоприобретенного в
личности, придерживаются иных, порой и прямо
противоположных, взглядов.
— Да, это так. Современные психологические теории
личности взаимонепримиримы, пестры, однако их
роднит приверженность к так называемой «теории двух
факторов» — теории, характерной для домарксистской
и внемарксистской психологии. Согласно ей любая
особенность человека объясняется, с одной стороны,
заложенными в его генотипе инстинктами,
способностями, влечениями, а с другой — языком, культурой,
окружением. Если подходить к делу с точки зрения
здравого рассудка, то иного объяснения нельзя,
собственно, и предложить. Но еще Энгельс как-то
заметил, что обыденный здравый смысл, этот
почтеннейший спутник в домашнем обиходе, стоит лишь ему
.выйти на простор научного исследования, сразу же
переживает самые удивительные приключения.
| В самом деле, все споры идут на базе теории двух
факторов, позиций: «с одной стороны так, но с
другой— этак». Дискуссия вращается вокруг вопроса о
значении каждого из факторов — скажем, одни
настаивают, что определяющим является
наследственность, другие выводят особенности личности главным
образом из характера среды, из «социокультурных
матриц». Или же вместо удельного веса в структуре
личности биологического и социального ищут
пропорции для сознательного и бессознательного — это либо
106
фрейдизм в чистом виде, либо неофрейдистские
теории типа взглядов Адлера или Юма.
Но самая, пожалуй, чудовищная идея состоит в
том, чтобы свести личность к сумме «ролей», которые
она выполняет. Эта весьма бесхитростная мысль
стала чуть ли не центральной в социальной психологии
личности. «Роль» — это программа, которая отвечает
ожидаемому поведению человека — т. е. набор
поступков, которые он обяза>н выполнять как член
какой-то социальной группы. Человек, по этой теории,
только то и делает, что усваивает (социальные
психологи предпочитают говорить «интернализирует»)
различные «роли» — сына, мужа, отца, врача, пассажира,
нарушителя, обвиняемого, заключенного и т. д. всю
свою жизнь. Скажем, ребенок усваивает, как ему
следует вести себя с мамой — слушается ее. На этом
основании утверждается, что он играет «роль» сына или
дочери! Ну, конечно, каждому из нас случается в жиз-
|ни разыграть какую-нибудь роль, но мы к ней
соответствующим образом и относимся. «Роль» — это не
личность, а изображение, за которым личность эта
скрывается. Сама идея, связывающая личность с
запрограммированным поведением, пусть даже программа
эта допускает самоизменение и конструирование
новых программ и подпрограмм, нелепа и ненаучна.
«Что бы вы сказали,— пишет английский
исследователь К. Гандерсон в статье „Робот. Сознание и
программируемое поведение44, — если бы узнали, что „Она14
лишь искусно играла перед вами роль?». Это скорее
эмоциональное, нежели научное возражение против
теории ролей, но и оно многое говорит умеющему
мыслить человеку.
Концепция ролей тоже вынуждена, чтобы спасти
психологическое в личности, идти в плен к теории двух
факторов: она апеллирует к способностям и
темпераменту, наследственно приобретенным качествам, и
спор возвращается на круги своя — так что же в
большей мере определяет личность, генотипические
особенности человека или же воздействие на него
социальной среды? И при этом многие исследователи
считают нужным предупредить об опасности любой
односторонности в решении этой проблемы и рекомендуют
«разумное равновесие».
Вся методологическая премудрость сводится тут к
формуле вульгарного эклектизма: «и то, и другое». Но
107
суть дела не в том ведь, чтобы признать человека и
природным, и общественным существом. Это
бесспорное положение, но оно абсолютно ничего не говорит
о сущности личности и о том, что ее порождает. А
задача нашей науки как раз в том и состоит — нам
надо понять личность как психологическое
новообразование, которое 'формируется в жизненных отношениях
человека, в результате его деятельности. Но для
этого надо с порога отбросить представление о личности
как о результате совместного действия разных сил,
из которых одна скрыта, как в мешке, за поверхностью
кожи человека (и тут уж неважно, что в этот мешок
сваливают), а другая лежит во внешней среде
(какими бы словами ее ни называли — «воздействие сти-
мульных ситуаций», «культурных матриц или
социальных экспектаций»). Ведь нельзя вывести никакое
развитие из того, что составляет лишь необходимые
его предпосылки, и здесь не поможет даже самое
детальное их описание. Это не новость — стоит лишь
вспомнить принцип марксистской диалектики, который
требует исследовать развитие как процесс
«самодвижения», т. е. изучать его внутренние движущие
отношения, противоречия и взаимопереходы. Такой подход,
повторяю, не новаторский, а усвоенный нашей
психологией еще в двадцатые годы, в период ее
становления, и при этом единственно продуктивный подход — с
необходимостью приводит к положению об
общественно-исторической сущности личности. Иными словами,
•личность впервые возникает в обществе, человек
вступает в историю (и ребенок — в жизнь), лишь будучи
'наделенным определенными свойствами и
способностями, а личностью становится, только вступив в
общественные отношения с другими людьми. Таким
образом, личность человека ни в каком случае не может
быть предсуществующей к его деятельности,
личность как раз и порождается, как и сознание,
именно деятельностью человека среди других членов
общества. Исследовать этот процесс — вот ключ к
подлинно научному пониманию личности.
' ...Надеюсь, мне удалось на этом частном примере
»показать насколько настоятельно нужна психологии
(прочная методологическая и философская база,
насколько важны для нее основополагающие,
фундаментальные исследования.
108
Глава 3. «Всегда полный значенья»
Мир как бы вливается в широкое отверстие
воронки тысячами раздражителей, влечений, зовов;
внутри воронки идет непрестанная борьба,
столкновение; все возбуждения вытекают из узкого
отверстия в виде ответных реакций организма в сильно
уменьшенном количестве. Осуществившееся
поведение есть ничтожная доля возможного. Человек
всякую минуту полон неосуществившихся
возможностей. Эти неосуществившиеся возможности нашего
поведения, эта разность между широким и узким
отверстиями воронки есть совершеннейшая
реальность, такая же, как и восторжествовавшие
реакции.
Л. С. Выготский
Александр Романович Лурия
(Факты из биографии)
'А. Р. Лурия (1902—1977) — крупнейший советский
'психолог, доктор психологических и медицинских
наук, действительный член АПН РСФСР (1947), АПН
СССР (1968), член Национальной академии наук США,
Американской академии наук и искусств,
Американской академии педагогики, почетный доктор
университетов Лестера (Англия), Неймегена (Голландия),
Люблина (Польша), Тампере (Финляндия),
Брюсселя (Бельгия), почетный член французского,
британского, швейцарского, испанского психологических
обществ. Ломоносовская премия первой степени (1967)
за работы по нейропсихологии—новой науки,
создателем которой он является.
Автор более 300 научных работ и 30 монографий.
Основные труды (кроме нейропсихологии) —
исследования нарушений высших психических функций при
локальных поражениях мозга.
С 1923 г. ведет большую и успешную
педагогическую работу в различных учебных заведениях страны,
с 1945 г.— профессор МГУ.
Был вице-президентом Международного союза
научной психологии.
109
Несколько предваряющих слов
В середине мая 1978 г. я получил письмо на бланке
Рокфеллеровского университета. Но написано оно
было по-русски. Профессор Майкл Коул, директор
Лаборатории сравнительного изучения познавательной
деятельности человека сообщал, что он вместе со своей
женой Шейлой, журналисткой по профессии, заняты
сейчас редактированием автобиографии недавно
скончавшегося Александра Романовича Лурии, что они
надеются закончить эту работу в ближайшие два-три
месяца и тогда пришлют текст книги в Москву, чтобы
советские психологи внесли в нее необходимые
коррективы. «Мне было бы чрезвычайно приятно, — писал
профессор Коул, — если бы и вы нашли время
прочесть рукопись. В ходе многочисленных бесед с
Александром Романовичем, вы, бесспорно, получили
хорошее представление о его работе, поэтому ваши
комментарии могут придать повествованию
дополнительную точность».
Теперь книга эта вышла в свет и читатели
получили возможность познакомиться с воспоминаниями
одного из самых крупных советских психологов о своем
более чем полувековом пути в науке. Я же хочу
добавить к ней некоторые важные, на мой взгляд,
детали и эпизоды, процитировать некоторые высказывания
и документы, которые А. Р. Лурия по присущей ему
скромности не включил в свою автобиографию.
Александр Романович никогда не любил говорить о своей
известности — я помню, например, как он с
возмущением жаловался мне по телефону на то, что его имя
в одной из журнальных статей поставили в один ряд
с именами великих ученых Павлова и Шеррингтона.
Но на самом деле нет сегодня в мире специалиста по
исследованию мозга, который не изучал бы его труды.
«Ему удалось сделать то, что удавалось лишь очень
немногим,— создать, прочно закрепить и
распространить целое новое научное определение, новую отрасль
знания — нейропсихологию» — так заключил свое
вводное слово к воспоминаниям Лурии, опубликованным
в московском журнале «Знание — сила» А. Н.
Леонтьев.
по
«Всегда полный значенья»
(Документальная повесть об А. Р. Лурии)
1. «Дом души»
Здесь нужно, чтобы душа была тверда,
Здесь страх не должен подавать совета.
Данте Алигьери. «Божественная комедия»
...Мы шли длинными! больничными »коридорами и
каждая палата рассказывала нам свою историю — и все
они назывались историями болезни.
Эта девушка еще сегодня утром была красивой и
молодой. Сейчас у нее осталась лишь ее молодость.
Плетью висит левая рука, недвижна и левая нога, но
прежде всего видишь ее лицо — болезненно
перекошенное, с высоко поднятым углом рта. Ритуальное «на
что жалуетесь?» режет слух сильнее обычного. На что
жаловаться этой девушке, .которую так не пощадила
судьба? Жизнь ей кажется сплошной мукой и
бессмыслицей, и тысячу раз проклянет она ту руку, что
оперировала ее несколько часов тому назад...
Но что это?! «Спасибо, ни на что, со мной все в
порядке,— пробивается сквозь микрофон слабый
голос,— »и память, и самочувствие... да и руки, и ноги,
все хорошо. Что же все-таки беспокоит? Да вот
лежать надоело... Меня скоро выпишут домой? Мне на
лекции надо».
— Обширная опухоль, лобные доли пришлось
удалить почти полностью. Лобные больные — единственно
счастливые больные,— говорит мне Александр
Романович в коридоре, и мы продолжаем свой путь.
...Немолодой мужчина смотрит на нас
доброжелательно, ободряюще, как на робких посетителей,
пришедших с легко выполнимой просьбой.
— Я слушаю,— говорит он,— в чем ваше дело?
— Скажите, пожалуйста, сколько сейчас
времени? — спрашивает Лурия, глядя на свои часы.
— Думаю, часов пять,— если вас это интересует.
— Почему вы так думаете?
— Да вот вы все торопитесь куда-то, конец
работы, очевидно.
— Торопимся? — вежливо удивляется Лурия.— Вот
как? Куда же, как вы полагаете?
— К главному конструктору, должно быть, назна-
111
чена планерка по новому изделию,— отвечает наш
собеседник.
«Речь полностью сохранена, фонематический слух
не нарушен, повторение слов и фраз безукоризненное,
все формальные процессы — праксис позы,
пространственный праксис, интеллектуальные процессы
удовлетворительны... При этом полностью дезориентирован
в месте и времени, находясь в клинике, полагает, что
по-прежнему работает в Подольске в своей прежней
должности... рационализирует, компенсируя сохранной
логикой грубые нарушения эмоциональной сферы...
кривая памяти —очень низкая, с истощением: 4—6—
6-6—5—4—3.
Оценка: вся картина характерна для медио-базаль-
ного поражения передних отделов мо'зга с явным
вовлечением глубинных структур».
Пока я листаю историю болезни, Лурия долго и
тщательно исследует больного. Легко отвечает на
сложные вопросы бывший главный -инженер большого
предприятия; с некоторым затруднением складывает и
вычитает он двузначные числа; трудно приходится, если
ладо пересказать коротенькую историю после того, как
(Вслед за ней была прочитала еще одна, столь же
незамысловатая; и уж совсем не под силу ему
простучать пальцем по столу те простые ритмы, которые
отбивает Лурия. С достоинством, как и подобает
руководителю, сидит перед нами в своем воображаемом
служебном кабинете пожилой человек, сортируя по
группам детские картинки и зачем-то запахивает то
!И дело свой теплый синий халат, отчего еще больше
становятся видны его голые ноги, бледные, все в
венозных прожилках.
; — Это один из самых необыкновенных больных,—
говорит мне в коридоре Лурия.
Раз за разом повторяется тщательно
продуманный ритуал обследования — такой простой с виду, та-
1КОЙ отточенно экономичный и всеохватывающий по
сути. Невинные вопросы, детские задачки, пустяковые
задания чередуются в строгой, тщательно
соблюдаемой последовательности. «Поднимите брови,
нахмурьте их. Пощелкайте языком, поцокайте, поовистите.
Покажите, как целуются. Как плюются. На один стук
лоднимите правую руку, на два левую. Погрозите,
поманите, помешайте чай. Закройте глаза, протяните
руку, сожмите в кулак, ответьте: что в «его положе-
112
но — ключ, расческа или карандаш? Повторите: «би—
ба — бо, бо — би — ба, ба — би — бо». Теперь: «сшит
колпак не по-колпаковски, надо его переколпаковать, но
никто его не переколпакует». Покажите ключом
карандаш. От 31 отнимите 17. Назовите, не задумываясь, семь
красных предметов. Теперь — семь, начинающихся с
буквы «т». Постучите два раза по два удара, три раза — по
три...»
И так далее, раз за разом, с каждым новым
пациентом одно и то же, словно загадочная мистерия,
набор бессмысленных действий и поступков, нелепых
вопросов и ответов. Нет, весь ритуал обследования
больного — каждый жест, каждый звук — служит
одной лишь цели: десятками различных л до тонкостей
отработанных способов проникнуть в тайны
нарушенной психики. И вся процедура изложена в тоненькой
брошюрке «Схема нейрапсихологического
исследования» издательства МГУ, учебное пособие для
студентов, 40 страниц. По году напряженнейшей работы на
страницу.
...Стучат ритмы, отбиваемые больными;
складываются в стопки картинки; поднимаются правые и
левые руки, то сжимая в кулак, то растопыривая
пальцы; пересказываются сюжеты; толкуется смысл
пословиц; из четырех слов выбирается одно, лишнее по
смыслу; рисуются геометрические фигуры; решаются
арифметические задачи... Я словно вижу кадры
киноленты, снятой в совсем уже сверхсовременном стиле —
без внешней логики, без внутренней связи. И
становится не по себе от этой жуткой режиссуры, я хочу
найти ту нить, что объясняет, как рядом с сохранной
логикой уживаются разрушенные эмоции, как
утерянная память сочетается со страстным стремлением ее
вернуть, как может разумное существо оставаться
абсолютно равнодушным к трагедии своей жизни. Но
главное, что хочется мне знать — как, каким
озарением проникают здесь, в Институте нейрохирургии им.
Бурденко, в потаенные глубины мозга. Как — без
рентгена, энцелографа, вообще как будто безо всякой
аппаратуры...
Из архива А. Лурии.
«Кимовск, 1 февраля 1974 г.
Глубокоуважаемый и дорогой Александр
Романович! Получил Ваше новогоднее письмо, за что искрен-
113
не благодарен. Пересылаю три тетради по почте. В
нашем городе с некоторых пор нет кожаных тетрадей, и
пришлось писать на простых, сшив их по четыре. Но
это не беда. Трудно было вспоминать о своем раннем
детстве, школьничестве, институтском времени, о
войне— в училище, на фронте. От этих воспоминаний
после ранения осталась у меня мизерная доля — какая-
нибудь тысячная, а может быть и меньшая во много
раз, эта доля...»
Я не открываю безвестного героя. Ведущие газеты
всего мира, не тая восхищения перед стойкостью духа и
мужеством советского офицера Льва Засецкого,
познакомили сбоих читателей с его удивительной судьбой.
«Ньюсуик», «Гардиан», «Санди телеграф», «Нью-Йорк
геральд трибюн», американские, английские,
французские, итальянские, даже австралийские издания
поместили десятки рецензий на книгу профессора А. Р. Лу-
рии «Потерянный и возвращенный мир». Александр
Романович рассказал в ней об этом своем пациенте,
которого он наблюдал более тридцати лет. Книга
вышла на многих языках, и во многих странах нашла
благодарных и взволнованных читателей.
Мне повезло больше других: я знаком и с ее
автором и с ее героем.
Из дневников Л. Засецкого.
«Во время прогулок... теряю ориентацию, часто
блуждаю у „себя под носом"... Свой дом никак не
найду, возвращаюсь сто раз обратно — запутался совсем,
не пойму, куда мне идти и где мой дом: очертания его
забыл, даже улицы все позабыл, по каким мне идти
домой...
Я пробую вспомнить, а где же находится юг, север,
восток, запад по солнцу, но я не могу почему-то
определить теперь и даже затрудняюсь в такой момент
понять, куда движется солнце — влево или вправо, и я
даже путаю запад с востоком, не мог вспомнить, как
понимается восток и запад. Вот странное дело, я не
могу ориентироваться на местности, не могу
ориентироваться в пространстве...
Почти два года, как живу в городе, но почему-то
не могу запомнить даже ближайшие места. Поэтому я
всегда хожу по улицам вокруг и около — вблизи Пар-
114
ковой... Ну, а другие улицы, переулки, проезды,
которых в Кимовоке тоже порядочно, я и не думаю
запоминать или вспоминать...
Да, летят месяцы, летят годы, а я все по-прежнему
хожу по заколдованному кругу времени и не могу
прорвать этот круг, не могу вырваться из него».
Третичные отделы называют еще «зонами
перекрытия», потому что здесь, на стыке затылочной,
височной и теменной областей мозга, в этом
напряженнейшем пограничном районе, сводятся воедино данные о
мире, полученные от главных, самых умелых и верных
«агентов» мозга — зрения, слуха, осязания. «Перекры-
ваясь», данные эти создают полную и точную картину
того, что происходит вокруг.
Если разрушена первичная зрительная кора,
человек перестает видеть. Когда погибает вторичная кора
этой же части мозга, зрение остается отчетливым и
ярким, но только собрать в своем сознании целые
предметы из отдельных частей становится
невозможным: колесо... еще колесо... две длинных трубки...
наверное, велосипед?., а на самом деле больному
показывают очки.
И как же в принципе построены другие части
мозга — слуховая, осязательная кора. Но за тысячелетия
эволюции в мозге у человека образовался еще слой
третичной коры. Его почти нет даже у
человекообразных обезьян, да и у ребенка он созревает лишь к
четырем—семи годам.
«Что меняется, коцда части этого отдела коры
разрушаются осколком или пулей, кровоизлиянием или
опухолью?
Зрение человека может оставаться относительно
сохранным; только если осколок прошел через
волокна «зрительного сияния» (пучки нервных волокон, по
которым проходят к коре зрительные возбуждения,
располагаются в виде изящной петли, за что и
получили столь красивое название.— К. Л.), разрушив
часть из них, в зрении появляются пустоты, слепые
пятна, выпадает целая часть (иногда половина)
зрительного поля. Человек продолжает воспринимать
отдельные предметы — ведь «вторичные» отделы
зрительной коры остались сохранными. Он может и
воспринимать предметы на ощупь, слышать звуки, вос-
пб
принимать речь. И все же что-то очень важное
оказывается у него глубоко нарушенным: он не может сразу,
объединить впечатления в единое целое, он начинает
жить в раздробленном мире.
Он ощущает свое тело: рука, еще рука, нога, еще
нога... Но которая рука — правая?., а где левая? Нет,
он не может сразу разобрать... Для этого нужно
разместить руки в системе пространственных координат,
отличить правую сторону от левой. Он начинает
застилать кровать, но как положить одеяло — вдоль или
поперек? И как надеть халат: какой рукав правый, а
какой левый? И как понять, какое время показывают
стрелки на часах?
Ведь «3» и «9» в совершенно одинаковых точках,
только одна слева, а другая справа. А как определить
«правое» и «левое»? Нет, каждый шаг в этом мире
начинает становиться таким сложным... Человек с
таким поражением начинает жить в раздробленном
внутреннем мире: он не может вовремя найти нужные
слова, оказывается не в состоянии выразить в словах
свою мысль, начинает испытывать мучительные
трудности, пытаясь понять сложные грамматические
отношения; не может считать; все, чему он научился в
школе, вся система его прежних знаний распадается на
отдельные, не связанные друг с другом куски».
И дальше все так же детально, с точностью,
которая не может не изумлять, рассказывает А. Р. Лурия
в «Потерянном и возвращенном мире» о страшных
последствиях, к которьш привел тот злосчастный выстрел
2 марта 1943 г. Странный, пугающий мир, в котором
обречен жить Засецкий, становится столь ощутимо
реальным, что порой невольно откладываешь книгу... Но
чтобы понять, как удалось ее автору написать
некоторые самые сухие, научные, но в то же время и самые
поразительные во всей книге страницы, мне пришлось
прочесть много других книг и статей, куда более
специальных, довольно регулярно ходить на лекции,
вести долгие беседы с Лурией и его сотрудниками,
аспирантами и докторантами из разных городов и стран.
Кое-что я смог увидеть и сам — в Институте
нейрохирургии им. Бурденко и в клинике, куда мы привозили
Льва Александровича Засецкого из Кимовска. Однако
все это — и прочитанное, и услышанное, и увиденное —
почти наверное предстало бы передо мной лишь своей
Пб
внешней стороной, прошло бы во многом мимо
сознания, если бы я не сумел познакомиться с основами
нейропсихологии — научной дисциплины, возникшей
из нашей стране в 30-е годы.
Известно, что оба мильтоновских поэтических
шедевра «Потерянный рай» и «Возвращенный рай»
невозможно понять в полной мере, не зная в тонкостях
Ветхого и Нового завета. Точно так же «Потерянный и
возвращенный мир», книга, хотя и написанная для
самого широкого круга читателей, по-настоящему
открыта лишь для тех, кто причастился откровений нейро-
лсихологического учения. Сейчас это просто и
доступно: стоит лишь пойти в библиотеку и взять с книжной
лолки «Основы нейропсихологии». (Если продолжать
сравнение, то эту книгу за ее краткость и афористичность,
строгость стиля, поэтичность и фундаментальность я
должен был бы назвать «Библией нового учения».) Но
всего каких-нибудь тридцать лет назад никто и не
подумал бы даже от врача требовать, чтобы он
выполнил невозможное — узнал, что «именно стряслось с
мозгом больного. Путей к тому не было. Сегодня ней-
ропсихолог, если он обладает достаточным опытом,
d3 течение часа-полутора, проводя внешне несложные
тесты, умеет поставить диагноз—в какой части мозга
больного случилась беда.
Но сколько этих частей? Чем они заняты? Как из
совместной их работы «набирается» необходимая
функция мозга?
Это и есть учение о трех блоках, сердцевина
нейропсихологии. Символ ее веры соблазнительно изложить
я виде катехизиса, вопросов и ответов,— литературной
формы популяризации, выдержавшей испытание
временем.
Из катехизиса нейропсихологии.
Из скольких чаатей состоит мозг?
Из трех блоков.
Строго ли это деление?
Нет, но работа мозга столь сложна, что такое
упрощение допустимо. Можно оказать и так: любой вид
психической деятельности обязательно требует, чтобы
ft работу включились именно эти три функциональных
блока, эти три основных аппарата мозга.
Что представляет собой первый блок, где
расположен, как его имя?
117
Он называется «энергетическим блоком» или
«блоком регуляции тонуса и бодрствования» и занимает
глубинные отделы мозга, сформировавшиеся раньше
других. Задача его — принять сигналы возбуждения,
приходящие от процессов обмена веществ внутри
организма и от органов чувств, улавливающих
информацию о событиях, происходящих вне его, затем
переработать эти сигналы в вереницу импульсов и
постоянно посылать их мозговой коре, потому что без них
она «засыпает».
Чему можно уподобить первый блок?
Источнику энергии, блоку питания любого
электронного устройства.
Что случается, если этот блок поврежден?
Нарушается павловский «закон силы»: второстепел-
ные, неважные сигналы не тормозятся, пустяковая
мыслишка может заслонить главную идею, мозг
теряет избирательность — как приемник, в котором на
волну одной станции накладываются сигналы от других«
Тонус коры снижается, память истощается.
Как поставить диагноз: «поврежден первый блок»?
Назовите десять слов и просите их повторить.
Больной вспомнит четыре. Назовите еще раз. Он вспомнит
шесть. Потом — все меньше и меньше: пять, четыре.
Кривая памяти с истощением: 4—6—6—6—5—4—3.
А нормально: 4—6—8—10—10—10...
Что есть второй блок? где он? зачем он?
Он зовется «блок приема, переработки и хранения
информации», расположен в задних отделах больших
полушарий и сам состоит из трех подблоков —
зрительного (затылочного), слухового (височного) и
общечувствительного (теменного). Строго говоря, сюда
входит еще и вестибулярный аппарат. Блок этот
имеет иерархическое строение — первичные, вторичные и
третичные отделы в каждом из подблоков. Первичные
дробят воспринимаемый образ-мир — слуховой,
зрительный, осязательный — на мельчайшие признаки:
округлость и угловатость, высота и громкость,
яркость и контрастность. Вторичные синтезируют из этих
признаков целые образы. Третичные объединяют
информацию, полученную от разных подблоков, т. е. от
зрения, слуха, обоняния, осязания.
Что будет, если раздражать чем-либо эти отделы?
В зависимости от того, какой отдел затронут.
Первичный вызовет элементарные ощущения — мелькаю^
118
шие световые точки, окрашенные шары, языки
пламени, отдельные шумы и тоны. Когда электрод
прикоснулся ко вторичным отделам, человек видит сложные
законченные зрительные образы, слышит мелодии,
отрывки фраз, песен. Третичные же отделы дают сцено-
подобные галлюцинации — целые картины, полные
некоторого смысла, словно отрывки киноленты с четким
изображением и ясным звуком.
Остался еще третий блок. Как он связан с
информацией, получаемой мозгом?
Никак.
Если действовать на него током, что испытает
человек?
Ничего.
Какова же тогда его роль, где его место и как его
имя?
Его роль решающе важна. Имя ему — «блок
программирования, регуляции и контроля». Он расположен
в лобных долях мозга, и если участок этот у человека
нарушен, то он лишается возможности поэтапно
организовать свое поведение, не умеет перейти от одной
операции к другой, личность его поэтому распадается,
и он сам не осознает этого.
Из истории болезни № 3712.
«Младший лейтенант Засецкий, 23 лет, получил
2 марта 1943 г. пулевое проникающее ранение черепа
левой теменно-затылочной области. Ранение
сопровождалось длительной потерей сознания и, несмотря на
своевременную обработку раны в условиях полевого
госпиталя, осложнилось воспалительным процессом,
вызвавшим слипчивый процесс в оболочках мозга и
выраженные изменения в окружающих тканях
мозгового вещества».
Из дневников Л. Засецкого.
«В результате ранения я все забыл, чему когда-то
учился и что когда-то знал... Я сделался в полном
смысле слова ненормальным человеком, но только не
в смысле сумасшедшего — нет, вовсе нет. Я сделался
ненормальным человеком в смысле утраты огромного
количества памяти... В моем мозгу все время путаница,
неразбериха, недостатки и нехватки. Я нахожусь в ка-
119
ком-то тумане, словно в каком-то полусне тяжелом, в
памяти ничего нет, я не могу вспомнить* ни одного
слова, лишь мелькают в памяти какие-то образы, смутные
видения, которые быстро появляются и так же быстро
исчезают, уступая место новому видению, и ни одного
из них я не в состоянии ни понять, ни запомнить... Мне
кажется почему-то, что я брожу во сне по какому-то
заколдованному замкнутому кругу, из которого не
видно для меня выхода... я был убит в 1943 году, 2
марта...»
Из предисловия к книге «Потерянный и
возвращенный мир».
«...Пишущий эти строки не является в полной мере
автором этой книги. Автором является ее герой.
Передо мной лежит кипа тетрадей, пожелтевших,
самодельных тетрадей военного времени и толстых, в
клеенчатых обложках тетрадей последующих лет
мирной жизни.
В них почти три тысячи страниц. На них герой
книги затратил четверть века работы — изо дня в день, из
часа в час, пытаясь записать историю своей жизни,
последствия своего страшного ранения.
Он собирал свои воспоминания из мелких осколков,
мелькавших без системы, пытаясь уложить их в
стройную последовательность. Он испытывал мучительные
затруднения, вспоминая каждое слово, собирая
каждую фразу, судорожно пытаясь схватить и удержать
мысль.
Иногда — в удачные дни — ему удавалось за целый
день написать страницу, много — две, и тогда он
чувствовал себя совершенно истощенным.
Он писал, потому что это была его единственная
связь с жизнью, единственный способ не поддаться
недугу и остаться на поверхности. Это была его
единственная надежда вернуть что-либо из потерянного. Он
писал с мастерством, которому мог бы позавидовать
любой психолог. Он боролся за жизнь.
...Страницы дневника героя, который он сам
сначала назвал „История страшного ранения", а потом
„Опять борюсь...", написаны в разные периоды. Он
начал свой дневник на второй год после ранения и писал
на протяжении четверти века, все снова и снова
возвращаясь к отдельным эпизодам.
120
Пишущий эти строки попытался со всей доступной
ему тщательностью изучить удивительный документ.
Он расположил его страницы в хронологическом
порядке, ретроспективно восстанавливая историю ранения
по записям больного, и попытался затем дать
характеристику тех глубочайших изменений в сознании,
которые были вызваны пулей, разрушившей важные для
нормальной работы участки мозга.
Он присоединил к этому свои непосредственные
наблюдения, которые он, как специалист своей
отрасли науки, вел больше четверти века — сначала в
госпитале военного времени, потом —на протяжении многих
лет в условиях клиники. Он сдружился со своим
героем; он понял, какую блестящую жизнь разрушило это
ранение; у него возникло желание поделиться с
другими теми переживаниями и мыслями, которые
сложились у него за годы работы.
И вот эта маленькая книга. Книга, которая в
значительной части написана человеком, для которого
написание каждой строчки было результатом
титанических усилий и которому удалось собрать целые
картины своего мира, раздробленного на тысячи отдельных
кусков.
В этой книге нет ни строки вымысла. Каждое ее
положение проверено сотнями наблюдений и
сопоставлений...
А. Лурия».
Из архива А. Лурии.
«Пенсильванский университет,
Филадельфия,
Кафедра психологии
13 сентября 1973 г.
Профессору А. Р. Лурия
Кафедра психологии
Московский университет
Москва, СССР.
Дорогой профессор Лурия, я только что кончил
читать Вашу книгу в переводе на английский и
необыкновенно тронут ею и благодарен Вашему пациенту
Засецкому. Документ, которому он посвятил двадцать
пять лет необычайно напряженных усилий,
совершенно уникален и бесценен. Он дал возможность
психологам заглянуть в такие глубины работы мозга и
протекания психических процессов, каких они не могли бы
достичь и за сотни лет научны^ исследований. Ваша
12|
книга станет настольной для каждого из моих
студентов.
Я бы очень хотел, чтобы Вы передали мистеру За-
сецкому это мое мнение о его труде и сказали бы ему
от моего имени, что хотя он, может быть, думает, что
смысл его жизни исчез в тот момент, когда пуля
вошла в его мозг, но для тысяч психологов и неврологов,
которые стремятся постичь тайны мозга, и для всех
будущих поколений людей, само существование
которых как вида может зависеть от успеха подобных
исследований, те кошмары, что ему приходится
переносить— драгоценный дар, не имеющий цены. Многие,
окажись они на месте мистера Засецкого, и не
обладая в той мере, в какой он, чувством человеческого
достоинства, совершили бы самоубийство или полностью
ушли бы в себя, в свой мир отчаяния. Но, благодаря
своей блестящей одаренности и сверхчеловеческому
упорству, Засецкий сумел сделать свою жизнь
необычайно важной и ценной для всего человечества. Я
чрезвычайно счастлив тем, что принадлежу к тому же, что
и он виду, населяющему Землю,— виду людей... Хотя
немецкая пуля разрушила его мир, он сумел сделать
больший вклад в науку, чем все исследования всех
неврологов, вместе взятых.
Извините меня, что я не могу написать Вам по-
русски, и позвольте поблагодарить Вас за то, что Вы
(сделали написанное Засецким достоянием всего мира.
Искренне Ваш
Дж. Леви, профессор».
Из газеты «Гардиан» от 5 мая 1973 г.
«Большинство из нас на его месте остались бы
беспомощными инвалидами, Засецкий же решил взять
жизнь за горло — подобно Бетховену, но только в еще
более драматической ситуации».
Из письма, полученного американским издатель-
ством «Бэизик Букс», выпустившим «Потерянный и
возвращенный мир».
«Дорогой мистер Засецкий, я считаю, что Вы —
великий ученый. Мой мозг тоже поврежден, правда,
далеко не так сильно, как Ваш. Но я все-таки знаю, что
122
Ваши описания своего ужасного положения
совершенно точны.
Ваш друг
Мэрилин Раис.
6 октября 1975 г.
США, Вашингтон»
* * *
Кимовск — городок небольшой, на шоссе нет даже
никакого указателя, и дорогу от Тулы приходилось
отыскивать, спрашивая прохожих. Вообще говоря, цель
поездки — отвезти Льва Александровича Засецкого в
Москву, в Клинику нервных болезней Первого
мединститута— пришло время провести новые обследования
и новый курс восстановительного обучения. Кроме
того, очень хотелось разобраться в одном волросе. Вот
как заканчивал свое письмо к Лурии Засецкий — эти
строки не давали мне покоя:
«...из боязни треволнений и беспокойств, от которых
.могут возникнуть еще худшие припадки, я так и не
стал добиваться возврата первой группы
.инвалидности, которую мне сняли еще в 1959 г. в Кимовске
.(местном) ВТЭКе, и до сих пор пользуюсь второй
группой инвалидности. Так мне спокойнее, раз сам не могу
шевелить своей головой больной.
Вот, пожалуй, и все, что хотел писать, отправляя
Вам три тетради по почте. А пока до свидания. С
глубоким уважением
Ваш больной Засецкий,
1 февраля 1974 г.»
Что такое произошло в 1959 г., отчего кимовские
врачи сочли, что состояние больного Засецкого
улучшилось? И нельзя ли сегодня вновь вернуться к
рассмотрению этого вопроса?
Заместитель председателя кимовокого
горисполкома Вячеслав Георгиевич Митюшкин знал, оказывается,
Засецкого еще до войны — вместе учились в тульском
институте. Но о том, что у него сняли первую группу
инвалидности, Засецкий ему не рассказывал. Как
выяснилось, дело это зависело не от исполкома, а от
горвоенкомата.
...В военкомате« нас уже ждала Клава Глаголева,
123
перед ней лежала карточка воентехника 1 ранга За-
сецкого Л. А. Больше ничего, к сожалению, в Кимов-
ске не оказалось, другие документы посланы в архив
в Тулу. Она даже несколько удивилась: «Засецкий —
да он такой разумный, сообразительный, прекрасно
говорит, без малейших затруднений, я его часто вижу, и
на инвалида, тем более первой группы, он совсем не
похож. Но, конечно, как только вернется он из
Москвы через месяц, сразу доложу военкому, устроим
переосвидетельствование».
Поначалу слова эти показались кощунственными:
«Прекрасно говорит... такой разумный». Да что же в
самом деле надо, чтобы человека признали
инвалидом — не способным к труду человеком? Но потом,
дома у Засецкого, когда за столом шла беседа и Лев
Александрович принимал в ней еще более активное,
пожалуй, участие, чем его мать и сестра, и после, по
дороге в Москву, когда мы, чтобы скоротать время ;в
пути, говорили на самые разные, порой очень
непростые темы, одна и та же мысль приходила в голову.
Ведь и действительно, есть правда в словах молодой
сотрудницы кимовского горвоенкомата. Поразительно,
как много смогли сделать с поврежденной памятью
и сознанием опыт и умение Лурии и его сотрудников
в той /клинике, в которую он вновь едет,— и, наверное,,
не меньше удастся сделать и на этот раз. Но как? В
чем тайна?
* * *
Вернувшись домой, я достал кассету с записью
доклада Лурии в Обществе психологов—мне хотелось
вновь услышать, как он говорит о рождении
нейропсихологии— научного метода, исправляющего самые,
казалось бы, безнадежные повреждения.
Из доклада А. Р. Лурии.
«...Мое сегодняшнее выступление посвящено самой
ранней истории советской психологии. Хочу
предупредить, что оно будет насквозь субъективным, иначе
говоря, я стану опираться не на какие-нибудь печатные
источники, а на собственные воспоминания. Если в них
окажется слишком много личного, прошу заранее
извинить меня... Примите во внимание, что я уже
вступил в тот возраст, когда любые сообщения носят доку-
124
ментальный характер и служат, таким образом,
истории-
Я начал свой путь в науке с того, что получил
прочное, длительное и совершенно безоговорочное
отвращение к психологии. Почему я здесь, в Институте
психологии, перед ведущими психологами страны,
начинаю со столь странного заявления доклад о науке,
которой отдал не один десяток лет? Чтобы понять это,
нужно посмотреть, какой была психология в то время,
когда я начинал работать, — кстати, такой и осталась
классическая психология за рубежом до нашего
времени.
В первый послереволюционный год я поступил в
Казанский университет на довольно странный
факультет, который сначала назывался юридическим, потом
стал факультетом общественных наук и на котором,
скажем, социологию читал профессор церковного
права. Я в то время очень интересовался историей
различных социальных течений, особенно утопического
социализма, и у меня, как у всех молодых людей шестнад-
цати-семнадцати лет, возник ряд проектов, безусловно
невыполнимых. Прежде всего мне захотелось написать
некую книгу, которая состояла бы из трех частей.
Первая часть должна отвечать на вопрос о том, как
возникают идеи, вторая—как они распространяются
и третья — как действуют. Как видите, очень скромный
замысел для начала. Естественно, весьма скоро он
тихо скончался, и говорить бы о нем не стоило, если бы
замысел этот не побудил бы меня обратиться к
психологическим источникам и не стал, таким образом,
толчком к возникновению у меня стойкого отвращения
к психологии, сохранившегося, не скрою, в
значительной мере до сих пор.
А могло ли быть иначе? Я обратился к лучшим
авторам — Вундту, Зббингаузу, Титчнеру и прежде
всего к Гефдингу. Вы знаете эти работы и согласитесь,
наверное, со м<ной, что ничего живого в этих книгах
нет, нет там никакой истории идей, никаких фактов
о распространении и уж тем более воздействии на
людей. Ни в этих, ни в каких других книгах по
психологии тех времен и намека не было на живую личность,
и скучища от них охватывала человека совершенно
непередаваемая. И я для себя сделал вывод — вот уж
наука, которой я никогда в жизни не стану
заниматься!
123
Но я в это время все еще не отказался от своего
дерзкого замысла и обратился к другим источникам,
непсихологическим, надеясь хоть там почерпнуть нечто
о свойствах идей. Я прочел книжку известного в то
время экономиста Брентано «Опыт теории
потребностей» и перевел ее с немецкого — ведь там речь шла
о потребностях, которые движут человеческим
поведением, а это уже было весьма близко к интересовавшим
меня проблемам.
Потом я встретился с несколькими весьма
интересными людьми. В Казани оказался ассистент
знаменитого нашего историка Роберта Юрьевича Виппера,
доцент Кругликов. Он высказал ряд мыслей, очень
созвучных моим, которые поддержали мое неприятие
психологии. Кругликов написал даже книгу «В поисках
живого человека», которую я издал, будучи
председателем студенческого общества, носившего название
«Ассоциация общественных наук». Это была очень
живая книжка, выражавшая полную неудовлетворенность
вот этой безжизненной, безличностной, скучной
психологией.
Лабораторией психологии в нашем университете
тогда заведовал некто Сотонин, который абсолютно
ничего интересного собой не представлял, но он
держался близкой моему сердцу мысли, что психология
должна быть клиникой здорового человека. Я тоже
издал его книгу «Темпераменты» — главным образом
ради содержавшихся в ней критических замечаний по
поводу этой скучной, угнетающей, пустой классической
психологии.
Мне попалась далее книга, которую никто из вас
никогда в жизни не видел, и я сейчас, даже в этой
аудитории не без опасения пускаю ее по рукам —
вместе с другими книгами, о которых я сегодня уже
говорил или еще буду говорить. Этот
библиографический раритет написан профессором Николаем
Александровичем Васильевым. Называется он «Лекции по
психологии, читанные в 1907 году на Казанских
высших женских курсах». Васильев был очень интересный
человек — философ, фантазер, но он страдал
маниакально-депрессивным психозом. Когда болезнь
отпускала его, он читал великолепные, блистательные
лекции— частью по психологии, частью по философии,
издавал прелюбопытные исследования. Он, например,
написал книгу «О воображаемой политической эконо-
126
мии», в которой задался вопросом, что было бы, если
бы люди не старались купить подешевле, а продать
подороже, но, наоборот, стремились дешевле продать,
дороже купить. Васильев построил такое
фантастическое общество и показал, что в принципе оно ничем не
отличалось бы от нашего. Так вот, в той книге,
которую вы сейчас рассматриваете, можно встретить
большие разделы о мозге, очень интересные рассуждения
о личности — а читаны эти лекции, заметьте, в начале
века.
Я, к сожалению, не учился у профессора
Васильева, а встретился с ним по очень занятному поводу.
Дело в том, что в поисках живых источников
психологии я, среди других авторов, обратился к Фрейду,
которым очень заинтересовался, потому что он имел
дело с конкретной, содержательной личностью. Я
настолько увлекся его работами, что организовал
психоаналитический кружок. Первое, что я, как его
председатель, сделал — заказал бланки на русском и
немецком языках и послал Фрейду письмо, в котором
уведомлял его, что в мире появилась новая организация —
Казанский психоаналитический кружок. Через три
недели я получил от Фрейда вежливое письмо,
начинавшееся «Весьма уважаемый герр президент...». «Герр
Президент», которому тогда было 19 лет, вскоре
получил от Фрейда еще одно письмо — ответ на свою
просьбу авторизовать перевод одной из его последних
книг. Фрейд нам такую авторизацию дал, и оба эти
документа я бережно храню.
Так вот, когда я вник в эти источники, где была
попытка заняться живым человеком, я задумал другую
работу, поскромнее, чем первая, но, как вы сейчас
увидите, не намного. Я написал книгу «Принципы
реальной психологии». Существует она в одном-«един-
ственном экземпляре — написанном от руки. В ней я
дал, так оказать, отток своему отвращению к
классической психологии и попытался найти выход из
создавшегося в ней положения. Сейчас, через пятьдесят с
лишним лет, она кажется мне, конечно, абсолютно
детской, но все равно интересной.
Я знал, прочитав «Историю философии» Виндель-
банда, что существуют науки номотетические — они
изучают закономерные процессы, и идеографические,
которые описывают процессы единичные,
индивидуальные, не имеющие общих закономерностей. Примером
127
первой может явиться биология, либо химия, физика,
математика; примером второй Виндельбанд приводил
историю, которая, по его мнению, излагает конкретные
частные факты, но никакой связывающей их
закономерности не обнаруживает. Так вот, какой же должна
быть психология? Моя мысль заключалась в том, что
ей следует объединять в себе номотетические и
идеографические принципы. Ей положено изучать
конкретного индивидуального человека, и постольку,
поскольку это так, психология должна быть наукой
идеографической. Но ей надлежит не просто описывать, но
.изучать закономерности, и потому она — наука номо-
тетическая. Психология, получалось у меня,— это
наука индивидуальных закономерностей.
Написав эту книгу, я понес ее профессору
Васильеву. Он, правда, находился в тот момент в
психиатрической лечебнице, но уже вышел из состояния
депрессии и маниакального возбуждения и был абсолютно
социабелен. Он прочел мою книгу очень внимательно
и дал мне большую на нее рецензию. В ней было
сказано, что автор, тщательно взвесив известные
проблемы, нашел какой-то путь к их решению, далее шло
много вежливых слов, и вывод — после доработки
книга заслуживает того, чтобы быть напечатанной. Я,
правда, оставил этот вывод без внимания — вложил
отзыв Васильева в рукопись, рукопись в папку и с тех
пор она спокойно простояла у меня на полке теперь
уже более полувека...
Тут мне стукнуло двадцать лет, я посерьезнел,
замыслы мои стали менее претенциозными. Все-таки я
издал еще одну книгу — вот она, взгляните,— под
названием «Психоанализ в свете основных тенденций
современной психологии». История ее довольно
своеобразна. У нас был тогда журнал «Казанский
библиофил». Я принес туда обзор книг по психоанализу, его
напечатали, я работал в то время в типографии и взял
журнальный набор, разрезал его на соответствующие
блоки и вышла книжка, переплет которой, вот этот,
серенький, я купил в писчебумажном магазине. В
1923 г., когда я первый раз приехал в Москву, я
показал эту книжку Отто Юльевичу Шмидту, жена
которого была видным психоаналитиком. Шмидт тогда
работал директором Госиздата, и очень скоро книжка
моя вышла в свет немалым тиражом — около
полутысячи экземпляров.
128
К психоаналитическим проблемам я вернулся
позже, когда стал москвичом и тогда ясно понял,
насколько ложной была моя первоначальная оценка
психоанализа. А пока в Казани одновременно с этим, так
сказать, литературным интересом к живому человеку,
я начал и кое-какие экспериментальные исследования.
Я поступил лаборантом в Институт научной
организации труда и мои первые, наивные опыты были
проведены в типографии, где я работал — я изучал
утомляемость рабочих в словолитне, где, как известно,
большая интоксикация металлом. И еще была одна
работа — рефлексологический метод исследования
внушаемости. Обе эти работы были не только проведены,
но и напечатаны — и это еще одна история, вроде бы
и личная, но она в то же время принадлежит, как и
прочие, истории нашей психологии — только потому я их
сегодня вам и рассказываю.
Скромности у меня было, конечно, немного,— я
решил издавать журнал. Для этого я обратился к
известному физиологу, тогда уже старику, профессору Мис-
чяавскому, который жил в Казани, а потом поехал в
Ленинград к Бехтереву — и предложил обоим быть
редакторами этого журнала, а сам я предполагал быть
•его секретарем. Представьте, оба согласились!
Бехтерев поставил одно только условие — чтобы в титул
журнала, который я назвал «Вопросы психофизиологии
•и гигиены труда», было добавлено еще слово
«рефлексологии». Вышло целых два номера такого журнала —
как видите, на желтой бумаге, потому что никакой
вообще не было, и я поехал на мыльный завод Крестов-
никова и раздобыл оберточную бумагу. Но
смотрите,— здесь есть статьи Бехтерева и его сотрудников,
еще кое-какие материалы, в том числе те две мои
экспериментальные работы, про которые я вам говорил.
I И опять — не стоило бы ворошить в памяти те дни
'И дела, но они стали началом работ долгих лет.
Опыты, которые вел я по внушаемости, были предельно
просты. В руках моих оказался хроноскоп, и вот я его
'Приспособил измерять скорость реакции. Сначала я ее
измерял просто так, а потом говорил испытуемому:
«Ваши руки тяжелеют, ваши глаза слипаются, вам
хочется спать... И так далее, как это всегда делается.
И выяснилось, что скорость реакции сильно
уменьшается. Я стал думать, что рост вот этого латентного
периода можно считать мерой внушаемости человека. А
'") К. Е. Левитин
129
тут мы в своем Институте научной организации труда
раздобыли динамоскоп Корнилова. Он, как вы
помните, представляет собой просто изогнутую стеклянную
трубку с ртутью, и если нажимать на соответствующий
ключ, под которым стоит баллон, можно измерять не
только скорость, но и интенсивность реакции. И тут
я подметил один любопытный факт. Кривая этого
динамоскопа, записанная на закопченный барабан,
носила правильный характер. Но иногда, в тех случаях,
когда человек давал аффективную реакцию, т. е. если
условия опыта были ему почему-либо небезразличны,
кривая на барабане принимала неправильную форму.
Факт этот сыграл впоследствии в моей жизни очень
большую роль, но я еще тогда про это ничего не знал,
а написал в Москву Корнилову письмо, в котором
сообщал, что прочел его книгу по реактологии, нахожу ее
интересной и прилагаю при сем свои собственные
работы в том же направлении. И внезапно получаю от
него приглашение приехать в Москву, которое меня
просто поразило, хотя на самом деле все было весьма
просто. Корнилова в это время как раз назначили
директором Института психологии вместо Челпанова,
которого, наконец, «ушли». Опираться ему было
совершенно не на кого, а тут какой-то молодой парень
из провинции тоже работает с динамоскопом — отчего
же его не пригласить? С осени 1923 г. я стал
сотрудником того самого Института психологии, в котором
мы сейчас с вами собрались. Как ни странно это
звучит, но меня сделали ученым секретарем.
Я сразу попал в самую гущу событий.
Предполагалось, что институт наш должен перестроить всю
психологию, отойти от прежней, челпановской
идеалистической науки и создать новую, материалистическую.
Корнилов даже говорил — марксистскую психологию.
По его мнению, следовало заниматься не
субъективными опытами, а объективным исследованием
поведения — в частности, двигательных реакций, для чего и
предназначался его динамоскоп. Пока же перестройка
психологии протекала в двух формах: во-первых,
переименование, во-вторых, перемещение. Восприятие мы
назвали, кажется, получением сигнала для реакции,
память — сохранением с воспроизведением реакций,
внимание — ограничением реакций, эмоции —
эмоциональными реакциями, одним словом, всюду, где
можно и где нельзя, мы вставляли слово «реакция»,
130
.искренне веря, что делаем при этом важное и
серьезное дело. Одновременно мы переносили мебель из
одной лаборатории в другую, и я прекрасно помню, как
я сам, таская столы по лестницам, был уверен, что
именно на этом пути мы перестроим работу и создадим
новую основу для советской психологии.
Этот период интересен своей наивностью и своим
энтузиазмом, но, естественно, скоро он пришел в
тупик. Расхождения с Корниловым начались почти
сразу, его линия нам не нравилась, но работы в
институте должны были вестись—вот они и шли, и
привели впоследствии к весьма любопытным результатам.
Меня пригласили для того, чтобы я занимался
реакциями, а у меня был тогда сильный интерес к
психоанализу. Вот тогда и созрела мысль: нельзя ли
создать объективный психоанализ, т. е. сделать так,
чтобы аффективные переживания и аффективные
комплексы выражались бы в некоторых вполне
объективных показателях — окажем, в реакциях? Динамоскоп
тут уже становился слишком грубой машиной, я его
заменил так называемым «ермаковским аппаратом».
Это была пневматическая табличка с наклеенной на
нее алюминиевой пластинкой, применялся он для
исследования динамических компонентов письма:
человек писал поверх пластинки, а пневматический
приемник отражал нажим, а дальше все записывалось на
барабанчике. Это был уже куда более живой прибор —
он показывал характер, форму реакции, степень
уверенности человека и тому подобные важные вещи. С
его помощью и создалась теперь ставшая уже
классической сопряженная моторная методика.
Смысл ее был вот в чем. Испытуемого сажали за
пульт, обе его руки были каждая на этом самом ерма-
ковском регистрирующем приборе, но одной он
работал, а другой — нет. Работа заключалась в том, чтобы
нажимать пальцем на приборчик, одновременно
придумывая любую, произвольную ассоциацию на каждое
слово, которое мы ему говорили. Мы записывали
латентный период — время, в течение которого
испытуемый искал соответствующую словесную реакцию, и
характер двигательной реакции — степень нажима,
интенсивность его, форма и т. п. Оказалось, что
методика эта, при всей ее кажущейся простоте, очень
богатая — я считаю, что она до сих пор не утеряла своего
значения и часто жалею о том, как мало сейчас при-
^*
131
меняют ее. Выработка словесной реакции — сложней-;
ший нейродинамический процесс, и он затрагивает все
виды деятельности. Если слово, на которое
испытуемый должен реагировать, не вызывает у него никаких
эмоций, то латентный период мал и нажим ровен. Но
стоит лишь назвать любое слово, окрашенное для
испытуемого определенным образом,— окажем,
«бормашина» для того, чей зуб ноет, и сразу задерживается
словесная реакция и нажим становится
неупорядоченным. Мы убедились, что сопряженная моторная
методика способна улавливать такие аффективные
состояния, и лаборатория, которую я получил, так .и стала
называться «Лаборатория исследования аффективных
реакций».
У меня было несколько молодых людей, среди них
нынешний декан психологического факультета МГУ
Алексей Николаевич Леонтьев. Он проявил тогда свою
великолепную изобретательность, построив прекрасно
работавшее кибернетическое устройство, которое все
за нас делало. Мы жили тогда в гораздо более
просторных помещениях, чем сегодня, и могли себе
позволить положить в одну комнату испытуемого на
кушетку, продырявить стену в соседнюю и там расположить
нашу длинную ленту, которую коптил всегда бывший
навеселе единственный технический работник
института, он же лаборант и препаратор. Алексей
Николаевич перо сделал металлическим, а в ленте прорезал
окошечки. И вот когда перо замыкалось на
металлический барабан, возникал электрический сигнал, на
который испытуемому следовало отвечать некими
свободными ассоциациями, нажимая при этом на рычаг
аппарата. Мы запускали эту технику и уходили, а
потом обрабатывали результаты опытов, и получали
возможность видеть, когда человек приближается к
какому-нибудь из своих аффективных комплексов.
Сначала мы брали первых встречных испытуемых,
а потом стали использовать ситуацию экзаменов с ее
ярко выраженным аффективным комплексом.
Студентам давались разные раздражители— нейтральные:
«окно», «лампочка», «цветок», и аффективные:
«экзамен», «провал», «двойка». Затем опыты наши стали
еще более острым.и. В этой самой аудитории, где мы
сейчас сидим, происходили чистки студентов. И вот мы
перед самым моментом, как бедному студенту идти на
комиссию, которая должна была либо его оставить в
132
университете, либо вычистить, проводили с ним
эксперимент, где в число слов-раздражителей вставляли
«чистка», «метла», «университет» и другие, всегда
вызывавшие достаточно резкие аффективные реакции.
Эту работу мы делали совместно с Алексеем
Николаевичем Леонтьевым и опубликовали ее в маленькой
книжке «Экзамен и психика» и в ряде научных статей.
Дальше оказалось, что эта методика вполне
пригодна и для изучения неврозов. Невротик с
аффективными комплексами дает очень красивую, гораздо
более выразительную кривую, чем нормальный человек.
Мы стали работать в Клинике нервных болезней
им. Россолимо и кое-что сумели там сделать, но этот
разговор особый. А сейчас я хочу раскрыть
совершенно неожиданный секрет. Сопряженная моторная проба
оказалась полезной еще в одной области —
криминалистике. Она позволяла обнаружить следы
преступления, оставшиеся в психике испытуемого. Мы исходили
из того предположения, что если человек, скажем,
совершил убийство и скрывает это, то атрибуты убийства
у него непременно аффективно окрашены. Он больше
всего думает как бы не выдать себя., и, естественно, все
слова, вызывающие у него воспоминания об убийстве,
приведут к аффективным комплексам, которые мы
умеем улавливать в своих записях.
Поначалу мы эту идею проверили на искусственных
опытах со скрыванием, которые были построены
весьма элегантно. В группе испытуемых из пяти человек
двум читался неизвестный мне рассказ. Мне давался
лишь список слов, к этому рассказу относящихся и
нейтральных к нему, а я должен был установить,
кому рассказ прочитан и в чем его содержание. Как бы
тщательно ни скрывали испытуемые свою
«причастность» к рассказу, я без труда находил двоих
«преступников» из пяти, потому что слова «церковь»,
«окно», «взлом», «крест», «цепь» и другие, по которым я
мог судить о детективной стороне рассказа, вызывали
у них объективные симптомы. Нам, естественно,
захотелось проверить все это в реальной обстановке.
Тогда время было в этом отношении легкое — не
требовалось многих усилий и подачи бесконечных заявлений
в разные инстанции, я просто пошел ô московскую
прокуратуру, изложил там нашу идею, и довольно
скоро была организована лаборатория, нам даже дали
помощника — молодого тогда следователя по особо
133
важным делам Льва Шейнина, известного ныне бла«
годаря своим литературным трудам, в которых, кста-j
ти, этот период его деятельности, кажется, не воспета
Нам давали изучить дело об убийстве и привозил^
подозреваемых еще до допроса. Мы выделяли аффек|
тивные слова, которые могли иметь отношение к ситу£
ации преступления — например, если человек убил кого!
нибудь молотком и запрятал труп в кучу угля, то
«молоток» и «уголь» были для него словами аффек^
тивными. Спрятав их среди нейтральных слов, я иф
рассчитывать, что именно на этих двух словах престущ
ник споткнется и даст мне симптомы аффективных ре*
акций.
План наш удался полностью. Из Киева прямо, к
нам в лабораторию привезли пятерых подозреваемых,
Мне говорили, что узнать, кто из них преступник,
невозможно, потому что все пятеро испытывают
аффекты, раз их арестовали. Это, конечно, было верно, но
дело в том, что у одних аффект концентрирован в
следах преступления, а у других, не замешанных в нем,—
нет. И мы прекрасно выявили двух виновных.
Правота наша впоследствии подтвердилась. Мы еще
несколько раз участвовали в подобной работе и
опубликовали результаты этих исследований в журналах
«Советское право» и «Научное слово» в 1926 г. Но это
были лишь крохи того, что мы сделали, от того
периода осталась большущая ненапечатанная рукопись,
которую я недавно передал в институт криминалистики
и там, по-моему, она вызвала интерес. Дело, видите
ли, в том, что из этих работ родился детектор лжи.
Только американцы, легкомысленно схватив идею, не
усвоили ее суть и потому извратили. Поэтому их
детектор лжи построен на изучении вегетативных реакций и
не использует сопряженную моторную методику, а
ведь именно в ней весь фокус. На движении руки
выявляются следы аффективных комплексов только в
том случае, если движение это сопряжено с речевым
ответом. Экспериментально было показано: когда оба
эти действия разобщены — раньше отвечает, потом
нажимает или же, наоборот, раньше нажимает, потом
отвечает, — то никаких симптомов не возникает.
Нужна сопряженность, чтобы следы аффекта проявились.
Американцы этого не учли, и у них детектор вышел
намного хуже, чем у нас.
Нас, конечно, криминалистический выход этих ра-
134
бот волновал в последнюю очередь. Мы наметили
серию теоретических исследований, которая отвечала
трем задачам. Сначала надо было изучить
объективные следы аффектов и аффективных комплексов — об
этом я вам уже рассказывал. Потом создать
искусственные аффекты и тем самым подойти к их
механизмам, и наконец, научиться овладевать этими
аффектами, регулировать их.
Чтобы решить вторую задачу, мы воспроизвели на
человеке опыты, которые Павлов ставил с животными,
создавая у них конфликт. Испытуемому, например,
задавался вопрос, на который он явно не мог ответить
за недостаточностью сообщенных ему фактов, или же
ему запрещалось произносить слово «красный», а надо
было назвать цвет помидора или флага. От этих
опытов мы перешли к искусственным конфликтам,
внушенным в гипнозе. На этой стадии в лаборатории начали
работать два очень любопытных человека — оба
пожилые, оба гипнотизеры. Один был доктор Иолес, он
приехал из Парижа, а другой — Забрежнев, который
с 1896 г. был анархистом, а потом стал большевиком.
Между прочим, поработав у нас, он переехал в Ле*
нинград и стал там не больше и не меньше как
директором Эрмитажа. Так вот, эти два моих сотрудника
усыпляли испытуемых, внушали им какое-нибудь
аффективное переживание, а потом, когда тех пробуждали,
мы должны были это переживание обнаружить с
помощью своей сопряженной моторной методики.
Острота опыта заключалась в том, что сам испытуемый
ничего о своем переживании не знал и не помнил, а оно
все равно проявлялось очень ярко.
И наконец, мы перешли к третьей части этих
опытов— из них родилась вся наша остальная работа,
которой мы занимались последующие сорок лет. Теперь мы
хотели не просто изучать аффекты, но овладевать ими.
И тут выяснилось, что если человек найдет речевой
выход, речевое решенце мучающей его проблемы, то
аффект устраняется. Например, ставился такой
эксперимент. Испытуемому — алкоголику мы внушали в
гипнозе, что он должен скрывать свою болезнь, а
когда проснется, то надо нарисовать что-нибудь на тему
пьянства. Пробудившись, он начинал лихорадочно,
страшно спеша, со страстью рисовать совершенно
растерзанный какой-то рисунок. Если же вы внушали
испытуемому, что он должен изобразить свое страда-
135
ние в символической форме, то он очень спокойно
рисовал зеленого змия и никакого аффекта тут не было,
И тогда же родилась идея, что при речевой
организации аффект может быть преодолен благодаря тому, что
он переводится на более высокий психический уровень.
Эту идею мы долгие годы проверяли и развивали
вместе с Евгенией Давыдовной Хомской, написали
несколько книг, некоторые из них вышли совсем недавно. А1
тогда, в 1925 г., работы эти были изложены в весьма
авторитетном немецком журнале «Психологише фор«
шунг» и доложены мною на IX Международном
психологическом конгрессе в Йельском университете спустя
еще четыре года. В 1932 г. в Америке вышла большая
моя книга, где полученные результаты обсуждались
куда подробнее. Я назвал ее «Аффект, конфликт и
воля», но издатель посчитал такой заголовок слишком
специальным и придумал вместо него другой —
«Конфликт человеческой природы». Конечно, это
звучало броско, но не отвечало содержанию книги, и я
предложил перевернуть слова. Книга так и появилась под
заголовком «Природа человеческого конфликта».
Частями она напечатана была и на русском языке. Из-за
этого я, кстати, окончательно поссорился с
Корниловым— он проявил вдруг власть и запретил печатать
мою статью «Опыт объективного психоанализа», которая
была уже в корректуре. Слово «психоанализ»
тогдашнему директору этого института показалось страшным,
Я потому столь подробно говорю об этих работах,
что они подвели меня к совсем новому этапу,
связанному со встречей с Львом Семеновичем Выготским*
Всю свою биографию я делю на два периода:
маленький, несущественный — это до встречи с Выготским, и
большой и существенный — после встречи с ним. И
поэтому и в первом этапе своей работы я ценю
главным образом то, что привело меня к последующему
пониманию смысла и задач психологической науки... Но
позвольте мне закончить с рассказом о трудах тех
далеких лет, пока я работал самостоятельно и не
приобрел такого выдающегося учителя, как Лев Семенович.
К этому же, малоинтересному периоду, относятся й
мои психоаналитические увлечения. Приехав в Москву,
я стал —в возрасте двадцати одного года — ученым
секретарем Русского психоаналитического общества,
председателем которого был профессор Ермаков (то?
самый, чьим прибором я воспользовался для опытов по
136
сопряженной моторной методике). Нам дали
прекрасный дом — особняк Рябушинского, где после жил
Горький, я получил великолепный кабинет, оклеенный
шелковыми обоями, и страшно торжественно заседал в
нем, устраивая раз в две недели заседания
психоаналитиков. В первом этаже особняка помещалось наше
психоаналитическое общество, а во втором —
психоаналитический детский сад, где воспитывались по
преимуществу дети руководящих работников. Большого
воспитательного эффекта работа наша не дала, но
возможность заниматься интереснейшими проблемами науки в
идеальных условиях мы на какое-то время получили.
В свое время я попробовал посещать психиатрическую
клинику, слушал лекции одного из выдающихся
профессоров Г. Я. Трошина, который включал в свою
систему понятия психологии развития. Мой интерес к
психоанализу с его идеей конкретно детерминированного
течения представлений и строго детерминированными
свободными ассоциациями сохранился, и я даже имел
возможность применить этот метод к молодой больной,
лежавшей в психиатрической клинике, которая
оказалась ни больше ни меньше как внучкой Достоевского!
Ряд тетрадей был заполнен ее свободными
ассоциациями, но этот путь лечения никуда не вел. Прошло однако
еще несколько лет, прежде чем я полностью отбросил
психоанализ, увидев, к каким ложным представлениям
идет эта «глубинная» психология и в какой степени она
противостоит той «вершинной» психологии — т. е.
психологии высших форм психической деятельности, которые
возникают в процессе общественного развития и
которая стала впоследствии основной линией моей научной
жизни.
К этому же периоду относится и еще одна страница
моей научной биографии. С 1923 г. я стал работать в
Академии коммунистического воспитания им. Крупской.
Это было довольно занятное зрелище: молодой
парень двадцати двух лет, беспартийный, заведует
лабораторией и руководит кафедрой психологии в комвузе,
в который принимали только довольно взрослых
партийных активистов. У меня было немало
интереснейших студентов. Много лет подряд я готовился к этим
лекциям, так что теперь целая полка у меня дома
занята одними конспектами.
Я начал еще одну работу, результатом которой
явились два тома — «Речь и интеллект в развитии ребен-
137
ка» и «Речь и интеллект у городского, деревенского и
беспризорного ребенка». Я нацело, напрочь забыл про
них и только спустя с лишним сорок лет понял, что там
была сделана довольно интересная вещь. Дело в том,
что детям разных возрастов предлагалось, услышав
слово, произнесенное экспериментатором, сказать
первое, что приходит в голову. Время задержки —
латентный период — замерялось секундомером. Выяснилось,
что реакции встречаются двух сортов. Или она
предикативная: «дом горит», «собака лает», «кошка
мяукает», либо ассоциативная: «собака — кошка», «облако —
луна», «дом — дверь». Латентный период первых
реакций оказался очень небольшим и разброс его у разных
детей был тоже мал: от 1,4 до 1,6 сек. А вот
ассоциативные реакции имеют чрезвычайно большой разброс
латентных периодов, и само время задержки тоже
много больше. И только сейчас, занимаясь всерьез
лингвистикой и готовя книгу «Основные проблемы нейро-
лингвистики», я узнал, что есть в языке два типа
связей: синтагмические и парадигматические. Синтагми-
ческие — это единицы речи: «собака лает», «девочка
пошла в кино», «хлеб покупают в булочной»;
парадигматические— это логические связи типа «Сократ —
человек», «брат отца», «мамина дочка». Установлено, что
синтагмические связи вызревают намного раньше —
это ведь элементы живого языка. А вот
парадигматические связи — искусственная вещь, они приходят к
человеку много позже, и латентные периоды в наших
опытах прекрасно это показывают. Вот чем сегодня
интересна та старая книга.
А вторая книга была как бы дополнением к первой.
Проблемой ее было изучить, с каким разнообразием
дают ответы на одно и то же слово разные дети —
городские, деревенские, беспризорные. Выяснилось, что у
деревенского ребенка разнообразие крайне небольшое —
страшно стандартный быт, опыт жизненный в деревне
бедный; у городского ребенка это разнообразие
побольше и совсем большое — у беспризорного. Много позже
я узнал, что подобные работы делались в других
странах.
Вы видите, что в тот период было сделано в нашей
психологии довольно много, но не слишком интересных
вещей. Институт психологии в двадцатые годы под
руководством Корнилова был чисто реактологическим
институтом. Но именно в нем действительно начала
138
создаваться настоящая, а не мнимая марксистская
психология. Правда, случилось это позже и было
связано с приходом в институт Выготского...»
* * *
Плавная, живая речь заполняла комнату, словно
воскрешая те далекие дни двадцатых годов. Вот только что
пришел в Институт психологии Выготский и вместе со
всей семьей поселился в подвале. И сразу, буквально
назавтра было решено строить новую психологическую
науку — за меньшее тогда не брались. Три человека —
сам Лев Семенович, Алексей Николаевич Леонтьев и
Лурия взялись «разработать основные комплексы
содержания психологии». То есть — как можно подойти
к восприятию? Каким путем изучать память, внимание,
волю и т. д.? Года через два к ним примкнули молодые
тогда студенты — Запорожец, Славина, Левина, Божо-
вич и Морозова. Выготский к тому времени перебрался
из институтского подвала на Большую Серпуховку, и
там, в доме 17, происходили заседания образовавшейся
«восьмерки». Кроме того, удалось создать в Академии
им. Крупской экспериментальную лабораторию. Она
занималась пиктограммой — методом исследования
сигнификативной, как говорил Выготский, деятельности —
т. е. тех мыслительных процессов, которые ведут к
придумыванию знаков, орудий, инструментов. Заключался
этот метод в том, что ребенку давалось какое-то слово
и он должен был изобразить его на бумаге. Но слова
специально подбирались так, что задача сильно
осложнялась: и взрослому нелегко изобразить «счастье»,
«мужество», «верность» или «предательство». И все-таки
дети почти всегда умудрялись создать некий знак.
Больше года исследовали пиктограммы у младших
и старших школьников, у здоровых и умственно
отсталых детей, сравнивали, как они используют знаки.
Работа эта так и осталась не только не напечатанной,но
даже и не написанной, но именно с нее, по существу,
начала создаваться новая школа. Из тех первых
исследований выросло очень многое — ив том числе вся
нынешняя нейропсихология. .
Работа далеко не всегда была кабинетной.
Выготский хотел найти способ доказать, прямо и в лоб, что
все психические процессы имеют историческую
природу— так, чтобы это утверждение не звучало догадкой,
139
а было экспериментально безусловно подтверждено. И
Лурия с Федором Николаевичем Шемякиным провели
два лета, тридцатого и тридцать первого года, в
Средней Азии, в кишлаках и джайлау — горных пастбищах —
Узбекистана. Это был особенный период: шла
коллективизация и ликвидация неграмотности. Одни и те же
психологические исследования проводили с «ичкари»—
неграмотными, забитыми женщинами, и с колхозными
активистами, ребятами, прошедшими краткосрочные
курсы. В основе опытов было испытание на
классификацию типа «четвертый лишний», когда надо отбросить
один из предметов как несоответствующий трем
остальным. Неграмотные кишлачники всегда
классифицировали только по ситуационному признаку — например,
они никогда не рассматривали топор, пилу и лопату
вместе как инструменты, а полено как вещь, к ним не
относящуюся. Нет, они объединяли пилу, топор и
полено, а лопата была в их понимании «для другого дела,
для огорода». Если же испытуемому говорили, что вот
один человек сказал, что пилу, топор и лопату можно
положить вместе, потому что они инструменты, а вот
полено как раз сюда не идет, то всегда слышали в
ответ о том человеке крайне нелестные слова. Однако
стоило этим же самым людям пройти хотя бы
трехмесячные курсы, поработать в колхозе, как они сразу же
начинали классифицировать и по абстрактному
признаку тоже.
Примерно те же результаты дало изучение
восприятия. На этот раз в дело пошли привезенные из Москвы
картинки, которые вызывают оптико-геометрические
иллюзии. Выяснилось, что и тут уровень культурного
развития определяет все: люди, которым не
приходилось до этого рассматривать фотографии и чертежи,
кто не привык к изображениям объемных предметов
на плоскости листа бумаги, не испытывали зрительных
иллюзий, обычных для нас. Лурия, под влиянием этих
экспериментов, послал Выготскому телеграмму: «У
узбеков нет иллюзий»,— за что получил от него
немедленный весьма резкий ответ.
...Александр Романович стал с той поры немного
понимать по-узбекски. Но те два трудных полевых
сезона принесли ему несравненно больше, чем знание еще
одного языка. Огромное количество данных,
полученных в Узбекистане, два с лишним года обрабатывались
в Институте психологии. Но только спустя сорок с лиш-
140
ним лет вышла его книга «Об историческом развитии
познавательных процессов». В ней использовано около
четверти материалов тех лет...
«...Вот так зарождалось все то, чем мы сегодня
обладаем. Биографии людей имеют разную структуру.
Бывает, что кривая постепенно поднимается и
достигает апогея в сорок, пятьдесят, шестьдесят даже лет. А
бывают биографии такие, где подскок в раннем
возрасте, а потом либо „плато", либо немножечко
опускается. Вот моя биография относится ко второму типу.
Самые яркие годы, что я вспоминаю, это двадцатые —
и века, и мои. Там все связано с Выготским. От себя у
меня почти и нет ничего, все от Льва Семеновича, да
и не у меня одного, у многих из нас, только одни это
признают, а другие нет...» — звучит голос Лурии. А
я вспоминаю, как согласно склонялись в такт его речи
убеленные сединами головы, как бережно листали не
очень послушные пальцы пущенные им по залу книги
с пожелтевшими страницами.
Я рад был в тот вечер отвезти домой Александра
Романовича: вроде бы и близко от института до его
дома, но полбагажника заняли книги, которые он
принес, чтобы дать слушателям проникнуться духом того
времени, когда они вышли в свет. В машине Лурия
беседовал с молодым человеком из молодежного
журнала — внушал ему, как важно написать о Засецком
для широких слоев читателей Обстоятельства
благоприятствовали размышлениям.
Но вот мы и приехали. Старый дом на улице
Фрунзе такой же, как и всегда. Все тот же гигантский,
специально сделанный почтовый ящик висел на двери.
Большой, хорошей работы бюст Шекспира, как
обычно, стоял в кабинете рядом со столом. Длинный,
полный событий день заканчивался. Шекспир привычно
«оглядел» свежую стопку книг, писем и журналов,
пришедших с сегодняшней почтой, рукопись новой
работы, «обежал» глазами книги, закрывшие собой все
стены кабинета, и вдруг «сказал», глядя мне прямо
в глаза:
These offices, so oft as thou wilt look,
Shall profit thee, and much enrich thy book.
Александр Романович зажег лампу, сел в кресло,
потянулся к ручке.
— У Маршака есть не совсем точный перевод
семьдесят седьмого сонета — помните?
141
Как часто эти найденные строки
Для нас таят бесценные уроки.
Я люблю эти слова — на мой взгляд, в них
заключен прекрасный совет для каждого из нас,— сказал он.
Да, действительно, стоило бы, наверное, рассказать
Александру Романовичу, как лет десять назад в этом
же самом здании Института психологии я
интервьюировал Александра Николаевича Соколова. Разговор
шел тогда о внутренней речи — о том, как ему удалось
с помощью электрофизиологических приборов
зафиксировать напряжение мышц языка, губ, гортани в тот
момент, когда человек продумывает какую-либо
ситуацию, решает задачу — вообще, тем или иным способом
запускает механизм мышления «про себя» и «для себя».
Смысл этой работы был в том, чтобы попытаться
экспериментально ответить на вопрос о том, как
соотносятся мышление и речь. Правы ли те, кто считает речь
только наружной оболочкой мышления, только чисто
техническим средством для выражения уже готовых
мыслей, возникающих без слов, или же истина в прямо
противоположном: мышление и речь полностью
тождественны, мышление это и есть речь минус звук. И
первым, на кого — после Платона и Аристотеля, конечно,—
сослался Александр Николаевич, был Выготский.
Именно его точку зрения он считал единственно правильной,
именно его книга «Мышление и речь», изданная еще в
30-е годы, была настольной в лаборатории. «Речь не
может одеваться на мысль, как готовое платье» — эта
фраза, отчеркнутая карандашом, сразу попалась мне
на глаза, и я тут же решил вставить ее в текст
интервью. Дома я прибавил к ней и другой, не менее яркий
образ, созданный Выготским,— его сравнение мысли с
«нависшим облаком, которое прорывается дождем
слов». Но даже тогда, в спешке, заканчивая свой
журнальный материал (по молодости лет вычурно
названный «Письмена неизреченной мысли»), я понимал
уже, что книга Выготского, прочитанная залпом, куда
шире и глубже работ лаборатории, о которых я писал.
Впрочем, едва ли слова о роли Выготского в нашей
психологической науке из того давнего небольшого
интервью могли особенно порадовать Александра
Романовича— они мало что добавляли к его интервью,
данному года полтора назад Майклу Коулу. Интервью это
142
было для меня более чем примечательным. Во-первых,
Коул — отнюдь не журналист, а известный ученый,
тоже психолог, профессор Рокфеллеровского
университета. Во-вторых, Лурия рассказывал о своем учителе
своему ученику, ибо Майкл проходил у него годичную
стажировку в МГУ и потом несколько раз
возвращался в Москву, чтобы пополнить свое образование. А
в-третьих, речь шла о предметах, интересовавших меня
давно, а особенно после того, как я услышал о них вновь
в докладе Лурии: об организующей, регулирующей
роли речи в нашем поведении.
Как и положено деловому американцу, Майкл Коул
сразу взял быка за рога: его первый вопрос звучал так:
«Среди современных советских психологов вы,
очевидно, самый известный в Соединенных Штатах. В чем
причина этого?» Как и подобает учителю, Лурия этот
личный вопрос пропустил мимо ушей. Но зато он в
подробностях и с видимой охотой рассказал о том, что
касалось их совместной с Выготским работы:
Коул: Вы упомянули Выготского... Какова его роль
в советской психологии?
Лурия: Я считаю Льва Семеновича главной
фигурой в развитии советской психологической науки. Хотя
он умер в 1934 г., успев лишь десять ле]* поработать с
нами, влияние его идей мы ощущаем йа себе и сейчас...
Коул: Но разве Выготский не извеетен более всего
своими исследованиями языка?
Лурия: Безусловно. Главное, что характеризует
человека как социальное животное,— это использование
орудий и языка для того, чтобы приспособиться к
условиям окружающей среды, подчинить их себе и
организовать свое собственное поведение. Исходя из этого
положения, Выготский искал корни сложного
сознательного поведения в более простых формах общественной
жизни — в использовании инструментов и знаков, и,
естественно, он уделял особое внимание языку и той роли,
которую тот играет в организации умственных
процессов.
Коул: Не могли бы вы сказать, что вы понимаете
под термином «регулирующая роль речи»?
Лурия: Я готов разъяснить его вам. Мать
формирует поведение своего ребенка, называя различные
предметы. Рассматривая предметы, названные матерью,
ребенок начинает называть их сам, учится таким образом
говорить и в то же время организовывать свое восприя-
143
тие и произвольное внимание. Когда он следует тем
указаниям, которые дает ему мать, он надолго
закрепляет следы этих словесных инструкций в своей памяти.
Так он научается формулировать свои собственные
желания и намерения, сперва вслух, а потом про себя, с
помощью внутренней речи, проговаривая
соответствующую самокоманду. Вот путь, которым создается и
осмысленная память, и сознательная деятельность.
Коул: Какие другие психологические процессы
подвержены воздействию речи?
Лурия: Большинство, если не все. Вот вам пример
из области восприятия, где влияние языка, казалось
бы, минимально. Когда мать показывает нечто ребенку
и говорит «чашка», она изменяет тем самым
восприятие ребенка. Указав ему на чашку и назвав ее, она
изолирует эту чашку от всего остального. Слово,
обозначающее предмет,— слово «чашка» — определяет его
функциональные качества и ставит его в ряд с
подобными предметами. И потом, называя этот предмет
самостоятельно, ребенок деформирует то окружение,
которое оказывает влияние на его жизнь.
Несложный эксперимент сделает вам ясным смысл
этих слов. Павлов показал, что реакция животного на
сложный стимул определяется наиболее сильным
элементом этого раздражителя,— это сделала наша
сотрудница Л. Абрамян в своей дипломной работе,— ей
удалось обнаружить, что правило это верно и по
отношению к людям. Мы предъявляли детям сложный
стимул — красный кружок на сером фоне или зеленый
кружок на желтом фоне—и просили нажимать на
баллон правой рукой, если появлялся красный круг на
сером фоне, и левой, если зеленый на желтом. После
того, как ребенок научился справляться с этой задачей,
мы показывали ему красный кружок на желтом фоне
и зеленый на сером. Ребенок по-прежнему действовал
правой рукой, когда видел красный круг, и левой —
когда зеленый,— преобладающим элементом в
сложном стимуле был, таким образом, кружок, но не фон.
Однако речь мoжet изменить относительную силу
этих двух элементов в стимуле. Обратите внимание
ребенка на фон и попросите его нажимать баллон
правой рукой при сером фоне и левой — при желтом. Если
ребенку нет еще пяти лет, то почти наверняка ваше
задание будет для него невыполнимым — он
по-прежнему станет реагировать лишь на цвет кружка. После
144
пяти лет дети уже могут строить свои действия в
зависимости от цвета фона, который ваша словесная
инструкция превратила в главный элемент стимула.
Но сделайте связь между окраской фона и
необходимым поступком ребенка более осмысленной, и речь
сможет изменить относительную силу элементов
стимула и в более юном возрасте испытуемых. Пусть вместо
кружков у вас будут самолеты, и вы просите теперь
ребенка нажимать на баллон правой рукой, когда он
видит красный самолет на желтом фоне (потому что
аэроплан может лететь, если светит солнце), и левой —
когда зеленый самолет появляется на сером фоне
(потому что в дождь аэропланы не летают), и сразу же
цвет фона становится главным элементом. В этом
опыте даже трех-четырехлетние малыши реагируют на
фон — «солнце» или «дождь».
Коул: Вы утверждаете, или, точнее, Выготский
утверждал, что ребенок не рождается с высшими
психическими функциями, а они возникают в результате
взаимодействия с окружающей средой. Не явилось ли это
положение тем центром, вокруг которого строились
ваши исследования близнецов?
Лурия: Вы правы, и мне хотелось бы сказать
несколько слов об этих работах. Одна из главных проблем
психологии — выяснить, какой вклад в создание
личности человека вносит его наследственность и какой —
окружающая среда. Чтобы разгадать эту загадку
применительно к таким высшим психологическим
процессам, как осмысленное запоминание, абстрактное
мышление и тому подобное, мы провели серию
экспериментов с близнецами —однояйцевыми и двуяйцевыми... Мы
брали одну какую-нибудь психологическую
характеристику и стремились выяснить, насколько отклонение ее
в паре однояйцевых близнецов отличается от такого же
отклонения в паре двуяйцевых близнецов. Если бы
разница оказалась незначительной, то это означало бы,
что генетика не играет существенной роли в развитии
данной черты личности. Но если бы вышло так, что
разница между однояйцевыми, т. е. генетически
абсолютно идентичными, близнецами мала, а между
двуяйцевыми, которые с генетической точки зрения отличаются
между собой как обычные братья или сестры, напротив,
велика, то такой результат эксперимента
свидетельствовал бы, что изучаемая нами психологическая
характеристика генетически предопределена.
145
Коул: Да, соотношение между унаследованным и
благоприобретенным сейчас снова активно обсуждается
и в нашей стране.
Лурия: Но наш подход к делу был принципиально
иной. В одном из экспериментов мы давали парам
близнецов заучивать слова, а потом, спустя некоторое
время, просили их эти слова припомнить.
Нас,-разумеется, интересовало, одинакова ли их способность к
запоминанию. Результаты получились совершенно
неожиданными. Выяснилось, что степень генетической
предопределенности не есть величина постоянная, она
меняется с возрастом. У дошкольников умение хранить
что-либо в памяти зависит от той наследственности,
которую они получили, у школьников эта зависимость
куда слабее, а у взрослых почти не ощутима. Мы
пришли к выводу, что психологическая основа памяти у
человека задана генетически, но в процессе его развития
память становится частью сложной функциональной
системы, которая определяется уже не
наследственными задатками, а средой, окружающей человека.
В наших последующих работах с близнецами мы
сумели показать, каким путем среда воздействует на
функциональную систему. В одном из экспериментов
мы подобрали пять пар однояйцевых близнецов и
разбили их на две группы, в которые вошли по одному
испытуемому из каждой пары. Первая группа должна
была собрать точно такой домик, какой мы им
показывали. Вторая — сделать то же самое, но с той лишь
разницей, что от них бумагой было скрыто, каким
образом соединяются между собой отдельные детали
этого домика. После десяти недель обучения обе группы
продемонстрировали одинаковые успехи в
домостроительстве, но в том, как они понимали грамматические
конструкции, связанные с пространственными
взаимоотношениями, наметились большие различия. Спустя
восемнадцать месяцев появилась разница и в том,
насколько точно и быстро могут испытуемые в обеих
группах восстановить в памяти модели, которые они
конструировали ранее. Те близнецы, которые работали с
домиками, где связь отдельных блоков была скрыта от
глаз, значительно легче справлялись с обеими задачами.
Коул: Но почему?
Лурия: Потому что близнецы, лишенные
возможности видеть, как сопрягаются блоки, должны были
строив
îlTb свое поведение на основе высшей, более мощной
функциональной системы.
Коул: Как соотносится эта работа с той, которую
0Ы вели с дефективными детьми? Я помню, что в 1962 г.,
когда я приехал в Москву, вы проводили в жизнь ту
идею, что речь важна для регулирования поведения,
даже если это поведение детей умственно
неполноценных...
Лурия: Я занимался этими вопросами в
пятидесятых годах в Институте дефектологии и результаты
суммировал в цикле лекций, которые прочел в
Лондонском университете. Просмотрев их, вы вновь увидите,
что основные идеи Выготского воздействуют на все
наши психологические работы.
* * *
Из дневников Л. Засецкого.
«Я шел рано по городу, размышляя о своем
будущем и направляясь в свой институт, как вдруг услышал
(я даже вздрогнул) страшную весть: война с
Германией. Практика отменяется. По комсомольской
мобилизации комсомольцы нашего четвертого курса
вызвались пойти на фронт, временно оставив институт до
окончания войны...
И вот я уже воюю где-то на Западном. А вот я уже
ранен в висок. А через месяц я снова на фронте... Где-
то под Вязьмой на реке Воря расположился взвод
ранцевых огнеметчиков, которому поручено было
соединиться со стрелковой ротой во время предполагаемого
наступления против немцев...
Я еще раз обошел бойцов (а я был как раз
командиром взвода ранцевых огнеметчиков), побеседовал с
каждым, распределил взвод равномерно среди
стрелковой роты и тоже стал ждать приказа. Я посмотрел на
запад — на тот берег Вори, на котором находились
немцы. Тот берег был очень крут и высок. „Но
трудности нужно преодолеть, и мы их преодолеем!—думал
я.— Лишь бы вышел приказ!"
А вот и приказ. Все зашевелились. Загрохотали
наши орудия... Минута, другая, третья... засвистели пули
над моей головой, застрекотали по бокам пулеметы.
Я прилег. Но ждать долго нельзя, тем более что наши
°рлы начали забираться наверх. Я вскочил со льда под
147
пулеметным обстрелом, подался вперед — туда, на за-J
пад, и... |
Я не сразу начал осознавать себя, что со мной, и
долго не мог понять (в течение многих суток!), где же
у меня рана... Я просто, кажется, превратился от ране-!
ния головы в какого-то странного ребенка.
...Я посмотрел на заголовок газеты. Он был
большой, и мне показалось, что это знакомая газета, но
почему-то она не по-русски написана. Но командир чита-,
ет ее вслух по-русски. Странно. Я останавливаю чтеца
и спрашиваю его: „Это... как ее... газета наша... по-рус^
ски?" Товарищ засмеялся, но не очень громко, потому
что он видит разбитую и забинтованную голову, и
начал отвечать: „Ну, конечно, это наша газета „Правда",
неужели ты не видишь, что она очень даже по-русски
написана?" Я еще раз посмотрел на заголовок, но
прочесть не смог названия газеты, хотя и видел несколько
крупных букв... И я думаю: „А все-таки, наверное, я
все еще сплю, и все это снится во сне — так решил я
для своего успокоения,— неужели и вправду я не умею
читать теперь, нет, не может этого быть".
Я вдруг привстал и взглянул на газету, увидел в
газете портрет Ильича, сразу узнал его, обрадовался
знакомому лицу! Но вот печатных букв газеты, даже
самых крупных букв „Правды" я никак не мог узнать и
прочесть. Странно что-то. До меня никак не могло
дойти, что от ранения головы я могу очутиться
неграмотным и глупым. Неужели я не могу теперь читать, не могу
прочесть даже своих русских слов, хотя бы слова
„Ленин" и „Правда"?.. Да, я лишен чуда чтения, и это
страшное горе.
...Но мне хотелось верить, что я еще не совсем
погибший человек — вот только заново научиться
помнить и говорить, мыслить и понимать все то, что
держалось когда-то в голове моей, неплохой до этого
ранения. Конечно, время от времени я падал духом от
этой страшной болезни беспамятства. Но я
по-прежнему мечтаю встать в строй, почему я и не хочу считать
себя погибшим. Я стараюсь вовсю осуществлять свои
мечтания хоть по капельке, понемножку, по своим
оставшимся возможностям.
Я не теряю надежды на то, что я все же сумею
приспособиться к какому-нибудь труду. И я хочу надеяться,
что я еще принесу немалую пользу своему народу. Я
надеюсь на это».
148
* * *
1;повь и вновь листаю я дневники Засецкого, страницу
за страницей, на которых встречаются порой простень-
кпс, детские, неумелые рисунки, за любым из которых
трагедия взрослого, талантливого человека,
лишившегося памяти, знаний, способности ориентироваться в
пространстве и времени, разучившегося читать и писать,
забывшего все слова, даже собственное имя, но не
утратившего человеческого достоинства, мужества, веры,
надежды, любви к жизни. Лишь короткие, всего в
несколько букв слова удерживает его разрушенная
память, и он выбрал из них одно, самое главное, слово
«МИР» и поместил его точно в центре рисунка2.
Спокойный, мирный пейзаж — домики, забор, церквушка с
красным флажком вместо креста, дорога, пеньки, а
рядом тот же пейзаж, но как бы разрушенный военным
ураганом. «Примерная картина поля зрения до
ранения». «Картина поля зрения после ранения».
«Островок чтения». «Он окружен скотомами. Так вижу теперь».
«Словно колебания струны вокруг островка чтения. Я
смотрю на чернильную точку и вижу только три буквы,
вижу заодно нити и точки тысячами, и дрожащие
струны». Слова эти написаны рукой Засецкого. Эти слова,
каждая черточка этих рисунков могут оказаться
концом той нити, которая даст возможность «пробраться»
в глубь Мозга. Это не преувеличение: уникальный,
единственный случай узнать нечто о работе
разрушенного мозга из первых уст — вот что такое эти рисунки.
Обычно с потерей памяти и прошлого опыта
человеческая личность гибнет. И уж никто из психологов не
осмеливался мечтать, что такой пациент возьмет на себя
титанический, непосильный для большинства здоровых
людей труд — тщательно, с малейшими подробностями
Рассказать о своих мельчайших ощущениях, год за го-
Дом вести утомительные эксперименты над самим собой,
эксперименты, вызывающие страшную головную боль,
мучительные приступы, после которых человек
приходит в себя с прокушенным языком, захлебываясь
собственной кровью. Ни один врач не отдал бы больного
Па эту пытку самоистязания, как ни бесценны добытые
е*о результаты для науки, если бы... если бы эти
нечеловеческие усилия не были единственной нитью, свя-
Зьтающей искалеченного человека с жизнью, если бы
Эта отчаянная борьба с наступающим со всех сторон
149
мраком и беспамятством не составляла смысл, суть и
содержание всего, что удерживает его на земле.
И снова и снова, умея свести вместе лишь два-три
слова, забывая ежесекундно, кто он и чем занят,
откладывая на долгие часы бумагу из-за головокружений и
невыносимой головной боли, идет в атаку солдат Засец-
кий, не прекращает своих экспериментов Засецкий-инже-
нер и с поразительной простотой, которая и есть талант,
заносит их результаты на бесчисленные страницы
толстых тетрадей Засецкий-писатель, Засецкий-психолог.
«Я вышел в коридор, но, пройдя несколько шагов,
вдруг ударился правым плечом и правым лбом о
стенку коридора, набив шишку на лбу. Меня взяло зло и
удивление: отчего же это я смог удариться вдруг?
Отчего же я наткнулся на стену коридора, я же должен
был увидеть стену и не столкнуться с ней?
Нечаянно я бросил взгляд еще раз по сторонам, на
пол, на ноги... и вдруг я вздрогнул и побледнел: я не
видел перед собой правой стороны тела, руки, ноги...
Куда же они могли исчезнуть?
...Я перестал видеть после ранения наполовину с
правой стороны и левого, и правого глаза... А в левых
сторонах глаз появились какие-то ослепляющие места,
которые называются, кажется, „скотомами", отнимающие
у левого поля зрения еще часть глазного пространства.
До ранения зрение у меня было стопроцентным. После
же ранения оно выглядит вот каким. Когда я раскрою
обе полосы газеты полностью и буду смотреть
где-нибудь в середине газеты в какую-нибудь определенную
букву, то справа от нее и левым, и правым глазом я
совершенно ничего не вижу... С левой же стороны
газеты, начиная от той буквы, на которую я смотрю, и
дальше влево, вижу еще несколько букв — буквы три
или четыре, а затем дальше я перестаю видеть буквы
(и в левом и в правом глазах!). Но если двигать рукой
дальше влево, то вновь начинаю видеть газету, но уже
никаких букв я не вижу, а просто ощущаю иногда
иголочные огрызки, или просто туманную черноту где-то...
т. е. скотомы окружили поля зрения при чтении,
оставив незначительные острова до трех-четырех букв. Но
и это остаточное зрение не стало полноценным ввиду
бесконечного мерцания, колебания в глазах каких-то
бесконечных неясных „телец"... Только начинаешь
читать, писать, как начинает резать глаза, начинают ко-
150
лебаться, словно пружины с нависшими на них
разнообразными „тельцами"...
Иногда я сижу и вдруг чувствую, что голова моя в
стол величиною, не меньше, как будто... вот во что она
превратилась... Такое явление я называю коротко —
смущением тела».
* * *
«Смущением мысли» коротко назвал бы я то чувство,
которое вызвало у меня чтение этих дневников. Как же
так? Человек не может прочесть написанное только
что своей же собственной рукой — и все-таки пишет
страницу за страницей? Как это может быть?! Я читаю
дальше — и вдруг:
«...вдруг ко мне во время занятий подходит
профессор, уже знакомый мне своей простотой обращения
ко мне и к другим больным, Александр Романович Лу-
рия, и просит меня, чтобы я написал не по буквам, а
сразу, не отрывая руки с карандашом от бумаги. И я
несколько раз (переспросил, конечно, раза два)
повторяю слово кровь и, наконец, беру карандаш и быстро
пишу слово, и написал слово „кровь", хотя сам не
помнил, что написал, потому что прочесть свое написанное
я не мог».
Как родилась эта головоломно простая идея —
писать, не думая, не расчленяя слово на буквы? Как
может человек не помнить прошлого, но помнить, что
он его не помнит? Что за механизмы мозга разрушила
фашистская пуля у больного Засецкого и что за
резервы сумел ввести в действие мозг Засецкого здорового,
чтобы устоять в столь безвыходной ситуации?
Спустя год, после того как я познакомился с
Александром Романовичем Лурией, я знал ответы на эти
вопросы.
Нет, я недалеко ушел по той стезе, которая ведет к
постижению мудрости Мозга, я мало, увы,
приобщился к его тайнам. Но мне дано было понять главное:
Он — во всем, и в Нем — все. Ибо сколь ни чудовищна
фантазия Данте, измыслившего леденящие кровь
пытки для каждого из грешников своего ада, но любая из
них вмиг прекратится, стоит лишь разрушить совсем
небольшие участки в мозге несчастных, за секунду до
того корчившихся от невыносимых мук. Трижды и се-
мижды девять кругов мог построить в своем воображе-
151
нии гений поэта, но и в последнем из них
единственным инквизитором и палачом будут несколько сот
граммов мягкого студенистого вещества, которые мы
носим, как драгоценность, на самой вершине своего те?
ла, там, «где, по мнению некоторых, расположен дом
души», как говорил Шекспир...
%
2. Уголовный розыск I
Стоит ли губить собственную душу и калечить чц
жие ради того лишь, чтобы узнать что-то новое о
собачьей слюне? 1
Б. Шоу. «Приключения чернокожей да
вушки, отправившейся на поиски богам
«Прошедшие сто лет дали целую плеяду гениев в об|
ласти изучения головного мозга. Самые известные из
них: И. П. Павлов, сэр Чарлз Шеррингтон, сэр Джои
Экклс, А. Р. Лурия, Уайлдер Пенфилд и Карл Приб]
рам. Эти люди, помимо незаурядного интеллекта, обла|
дали поразительной особенностью: каждый из них в
различной степени после 40 или 50 лет, посвященных
опытам и пристальному изучению человеческого мозга';
пришел к религиозному или мистическому взгляду на
жизнь» — так открыл большую подборку, посвященную
механизмам головного мозга, первый номер журнала
«Америка» за 1977 г. Слова эти настолько рассердили
Лурию, что он немедленно написал излишне, на мой
взгляд, резкую статью для «Литературной газеты»,
которая и называлась полемически: «О мозге — без
мистики». Сначала Александр Романович расправился
с незадачливым составителем подборки, неким
Майклом Ароном (журнал, словно напрашиваясь на
ехидную реплику, представил его как бывшего
баскетболиста — выступавшего за сборную Филадельфии, а затем
за команду Гарвардского университета,— которому
понадобилось всего два месяца для подбора материалов
о мозге), далее в статье речь шла о каждом из
названных Майклом Ароном ученых. Карл Прибрам, с
которым Лурия хорошо знаком, был полностью
реабилитирован: «...талантливый американский психолог,
который посвятил много лет анализу механизмов мозга,
включая механизмы разумного поведения животных.
Советский читатель может ознакомиться с его
взглядами по двум его книгам, переведенным на русский
152
язык, — „Планы и структура поведения" (1965 г.) и
„Языки мозга" (1975 г.). Насколько я его знаю лично,
он вообще весьма далек от религиозности и мистики»;
Уайлдер Пенфилд3 частично оправдан: «выдающийся
нейрохирург и экспериментатор... он оказался не в
состоянии научно подойти к решению вопроса о мозговых
механизмах разумного мышления и в своей книге
„Тайны мозга", которую он выпустил в 85-летнем возрасте,
не нашел ничего лучшего, как вернуться к
беспомощным позициям своего учителя—Шеррингтона»; Джон
Экклс заслуживает особого к себе отношения и
понимания, поскольку на его взгляды влияло то, что он с
детства был ревностным католиком; Иван Петрович
Павлов в защите от Майкла Арона не нуждался, а в
порядке убедительной «самозащиты» Александр
Романович просто рассказал о своей работе и ее
результатах. Оставался один лишь Чарлз Шеррингтон, которого
Лурия хотя и считает «бесспорно самым выдающимся
зарубежным физиологом конца XIX и начала XX в.»,
но признает заслуживающим выдвинутых обвинений и,
таким образом, виновным еще и в «совращении» Пен-
филда: «Много лет отдал он изучению мозга. Однако
под конец своей жизни — уже в восьмидесятилетнем
возрасте — он оставил экспериментальную работу и
начал заниматься философскими вопросами о
взаимоотношении души и тела. Результатом этого периода было
появление двух книг престарелого Чарлза
Шеррингтона: „Моз£ и его механизмы" (1934 г.) и „Человек о
своей природе" (1941 г.). Целиком попав в плен
идеалистической философии, строго отделявшей „дух" от
„тела", он пришел к выводу, что никакие поиски того
места, где „сознание входит в мозг", или „тех нервных
образований, которые генерируют сознание", не
приводят к результатам. Он пытался решить вопрос „о
мозге и психике" со старых дуалистических позиций,
выдвинутых еще в XVII в. французским философом
Декартом».
Статья в «Литературке» вот-вот должна была
появиться, но я не хотел да и не мог убедить Лурию снять
эти жесткие слова о человеке, которого называют часто
автором «Библии современного идеализма». Хотя...
хотя существует одна гипотеза, милая моему сердцу —
и тем, что она многое мне объясняет, и тем, что я могу
считать себя причастным к ней, самым, правда,
косвенным образом, но главное, конечно, тем, что она бро-
153
сает совсем новый отблеск на все рассуждения о
религиозности и мистицизме, якобы связанные с изучением
мозга. Придумал ее Дмитрий Антонович Сахаров,
доктор биологических наук и поэт, а для меня прежде
всего старинный друг. Не раз и не два рассказывал он
мне вчерне сюжет этой почти детективной истории, в
которой действуют два великих физиолога, Павлов и Шер-
рингтон, и, наконец, я сумел подвигнуть его изложить
ее на бумаге в виде статьи и позволить мне быть
редактором получившегося произведения. Статья названа
была «Хитроумности сэра Чарлза», и наша
разборчивая и привередливая редакция единогласно признала
ее лучшим материалом года4.
Итак, в чем подоплека непонятных, страстных,
талантливых, но лишенных всякого видимого смысла
нападок Чарлза Скотта Шеррингтона на работы Ивана
Петровича Павлова по исследованию физиологического
механизма сознания? Отчего столько сил тратил он на
то, чтобы дискредитировать условные рефлексы?
«Невролог, всю жизнь проевший зубы на этом деле, до сих
пор не уверен, имеет ли мозг какое-нибудь отношение
к уму?» — недоумевал Павлов. Шеррингтон,
получивший в 1932 г. Нобелевскую премию именно за
исследования в области рефлексов, автор многих работ по
локализации функций в коре головного мозга,
увлеченный этой темой еще со студенческих времен, ученый, чьи
работы положили начало изучению функциональной
организации мозговой коры объективными,
физиологическими методами,— и вдруг: «Мы должны считать
проблему связи разума с мозгом не только нерешенной,
но и лишенной всякого основания для ее решения»!
Абсурдно, невероятно... Ведь тот же Уайлдер Пенфилд,
снискавший себе мировую славу, обнаружив в
височных долях коры головного мозга точки, раздражая
которые слабым электрическим током, можно вызвать
у пациента ощущения событий, некогда с ним
происходивших; Пенфилд, пока еще не достигший своего
рокового 85-летия и увлеченно ставящий один
эксперимент за другим, каждый раз наблюдая четкую,
безусловную связь конкретных участков мозга с памятью,
одним из важнейших элементов сознания, — этот самый
Пенфилд писал: «И часто теперь бывает, что во время
операции, когда совсем на виду лежит перед тобой
мозг сохраняющего сознание пациента и это счастливое
обстоятельство дает в руки возможность пролить свет
154
на физиологические механизмы, мне чудится, что
учитель стоит позади и заглядывает через мое плечо».
Нелепость, алогизм... Знаменитый шеррингтоновский
дуализм нарочит, неестественен, ходулен. «У него, и в
самом деле, — что ни строчка, то идеализм, — писал
Сахаров,— настоящий идеализм, а не такой, что
находили то в теории относительности, то в генетике, то в
кибернетике. Идеализм Шеррингтона настолько гол и
неприкрыт, что ошибиться просто невозможно. Даже
многие западные ученые-естественники, не имеющие
диплома философов-материалистов, и те
квалифицируют построения Шеррингтона как дуалистические». Для
ученого такого ранга — необъяснимо.
Еще менее доступно пониманию поведение
Шеррингтона, когда в 1911 г. он навестил Ивана Петровича в
его лаборатории. «Птица, ищущая свое гнездо,
использует прошлый опыт так, как не может сделать
рефлекс»,— утверждает сэр Чарлз, но Павлов создает и
вновь разрушает в своих экспериментах поведение
именно такого рода — экспериментально доказывает, что
условные рефлексы «могут сделать» то, в чем им
отказывает Шеррингтон! Что же англичанин — стремится
поставить совместный опыт, найти методологическую
ошибку, опровергнуть результаты своего оппонента?
Ничуть не бывало. «Я был в Лондоне, — сообщал
Павлов,— на юбилее Лондонского Королевского Общества,
и мне пришлось встретиться с лучшим английским физи-
ологом-нейрологом Ч. С. Шеррингтоном. Он мне
говорит: „А знаете, ваши условные рефлексы в Англии
едва ли будут иметь успех, потому что они слишком
пахнут материализмом". Ну что это за разговор? Какое
там „слишком пахнут"?!»
Совсем курьезно выглядела попытка Джона Фулто-
на, американца, ученика Шеррингтона, приписать
своему учителю честь открытия условных рефлексов.
Приоритет Павлова легко отстояли — продемонстрировали
малоизвестные иностранцам ранние публикации его
лаборатории, но весь фокус в том, что в статье
Шеррингтона 1900 г., упомянутой Фултоном, и в самом
деле описывается реакция животного; предваряющая ход
событий,— т. е. особый рефлекс, названный Павловым
«условным», тот самый, который Шеррингтон
впоследствии с такой загадочной яростью отвергал! И даже в
1950 г., когда главный его научный противник вот уже
четырнадцать лет как покоился в своей м^иле на ле-
155
нинградском Волковом кладбище, страдающий от
артрита 93-летний упрямый старик нашел в себе силы
выступить на симпозиуме по физиологическим
механизмам сознания. Он не изменил себе ни на йоту. «Две
тысячи лет назад Аристотель задавался вопросом: как же
сознание прикрепляется к телу? Мы все еще задаем тот
же вопрос»,— закончил он свою речь, прозвучавшую
очевидным анахронизмом для ученых, перед которыми
давно уже стояли совсем иные вопросы.
«Я чересчур зажился на свете,— пожаловался Шер-
рингтон Джону Фултону, тому самому, что пытался
сделать его первооткрывателем условных рефлексов,—
но зато я пережил Джорджа Бернарда Шоу». Едва ли
это неожиданное добавление случайно — видимо, на
память ему пришли едкие остроты великого
соотечественника, который не желал мириться с
трагикомической позой, выбранной для себя Шеррингтоном, и
писал, например, в «Приключениях чернокожей девушки,
отправившейся на поиски бога», явно его пародируя:
«Разум меня не интересует. По правде говоря, я не
знаю, что это такое, и у меня нет оснований думать,
что он вообще существует...»
...Так что же за объяснение можно измыслить для
всей этой фантасмагории? Лучшее, что я могу
сделать,— позволить себе длинную цитату из
«Хитроумностей сэра Чарлза». Автор, надеюсь, простит меня по
старой дружбе:
«Загадка осталась бы непостижимой, когда бы
Шеррингтон не проговорился. Но он проговорился.
Однажды.
Признание, которому не придали значения ни
последователи, ни преследователи, ни нейтральные
комментаторы Шеррингтона, мы находим в его известной
лекции, читанной в 1934 г. в Кембридже.
Речь шла о том, можно ли исследовать механизм
сознания, о том проклятом вопросе, который он
задавал всегда, чтобы в конце сказать, что такой
возможности наука не дает. Наверно ему самому надоело это
доказывать, тем более что с каждым годом доказывать
эту идею становилось все труднее и труднее. И тут
вдруг Шеррингтон заметил, что предмет этот такого
свойства, что он может сурово отомстить за чересчур
поспешное обращение с ним.
Это был совсем новый поворот. Вместо
привычного — возможно или невозможно исследовать сознание?—
156
было сказано: а нужно ли его исследовать или, может
быть, лучше не нужно?..
Легко себе представить, продолжал Шеррингтон, что
человек, узнавший, каким способом думает мозг, решит
улучшить его работу. Владея механизмами, он начнет
их переиначивать, дополнять либо упрощать на манер,
который ему покажется более совершенным в
сравнении с тем, что изобрела природа. И легко себе
представить, что новые механизмы в самом деле окажутся
лучше старых. Но это будет уже не человеческое
сознание.
Тогда человеку придется покинуть сцену. Настанет
новая эра. „Вы уж меня простите, — заключил
Шеррингтон,— но я хотел бы надеяться, что новое
господство не будет чем-то вроде общественных насекомых".
Тут он, как бы опомнившись, вернулся к прежней
песне о том, что сознание исследовать невозможно,— но
слово было произнесено! И все * становится на свои
места. Все обретает мотив. И отказ от исследования
высших отделов мозга, и нападки на Павлова, и
многолетние старания выстроить более или менее
правдоподобную философскую систему, призванную помешать
физиологическому изучению механизмов сознания, и не
совсем логичные поступки, и порой совсем нелогичные
умозаключения».
Вот в таком необычном виде — Великим
Мистификатором — увидел Дмитрий Антонович Сахаров сэра
Чарлза Шеррингтона. «Если кто из вас думает быть мудрым
в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым»5,—
слова эти написаны не один десяток веков назад,
святой апостол Павел, если верить Библии, обратился с
ними к коринфянам. Что же удивительного, если
старый мудрец прислушался к этому совету? Красивая
гипотеза — и убедительная, для меня, во всяком случае.
Не мистика, не религиозность — нечто совершенно иное
приходит с годами к каждому, кто напряженно и
неустанно пытается понять механизм работы мозга. У Мау-
рица Корнелиуса Эсхера, голландского художника,
среди его странных, необычных работ есть одна — самая,
быть может, удивительная6. В «Картинной галерее»
юноша любуется гравюрой, на которой изображена
набережная, дома вдоль нее, первый этаж одного из них
представляет собой застекленную галерею, в ней
развешаны картины — в том числе и та, которую
рассматривает юноша — да и сам он, к своему удивлению (или
157
ужасу?), стоит в этой галерее, любуясь гравюрой, на
которой изображена набережная, дома вдоль нее и
среди них тот, в котором стоит он сам! Наш
человеческий мозг не может не испытывать подобного
замешательства, пытаясь постичь самого себя. Не мистика,
нет, скорее — благоговение, робость, острое осознание
огромности задачи, тяжести, непосильности взятого на
себя труда и своей ответственности перед людьми — а
тут еще бремя лет, неизбежные мысли о скоротечности
жизни...
Заканчивая свою статью, когда все аргументы
научного толка были исчерпаны, Дмитрий Антонович
Сахаров дал излиться и поэтической части своей души —
перевел сонет, написанный Чарлзом Шеррингтоном,
который тоже отдал свое сердце не науке единой.
«Мудрый Улисс» называется это произведение и речь в нем
идет о хитроумном Одиссее, велевшем, как известно,
привязать себя к корабельной мачте, чтобы не
поддаться пению Сирен, в то время как спутники его залепили
уши воском. Но — по мысли Шеррингтона — он,
измученный попытками вырваться из пут каната, но не
сумевший сделать этого (благодаря чему спас свою и
своих товарищей жизни), до самой смерти мучился
завистью к тем, кто пошел навстречу зову.
«Старый миф — сказка, ложь,— заканчивается
статья. — Никто ничего не знает. Может, Шеррингтон
вовсе и не завидовал Павлову. Нам, простым матросам
этого большого корабля, он пытался залепить уши
воском — ничего из этой затеи не вышло. Наш корабль
идет вперед. Но, быть может, стоит иной раз
остановиться ради того, чтобы подумать?»
Конечно, стоит — что за вопрос. Но мне, чтобы
остановиться, надо было сначала разогнаться: я слишком
мало еще знал, что же все-таки это такое — наш мозг.
Студенты — они всегда студенты. Из десяти биологов
на вводную лекцию по курсу нейропсихологии пришло
семь, психологи опоздали на полчаса, две девушки,
сидя в метре от Лурии, умудрялись попеременно то
дремать, то читать детектив, укрывшись за спиной
широкоплечего, с бородой и усами, как у Пугачева, парня,
который, напротив, не только слушал, но даже,
кажется, делал кое-какие пометки в тетради. Что ж, у них
впереди вечность... А я спешу записать и запомнить
каждое слово.
158
Из стенограммы лекции профессора А, Р. Лурии.
«Лет двадцать тому назад одному знакомому мне
ученику десятого класса задали в школе сочинение на
тему „Мозг и психика", и он начал писать его так: „В
нашей стране органом психики считается мозг".
Вряд ли кто с ним станет спорить. Высказывание
это верно. Но оно пусто. Беда, однако, в том, что каких-
то три-четыре десятка лет назад и
специалисты-психологи, которые сталкивались с необходимостью изучить
мозговые основы психической деятельности, знали
немногим больше этого ученика. Им было известно, что
именно мозг является материальным носителем
психики, они знали, что есть условные рефлексы, которые
лежат в основе психической деятельности, существовали
некоторые, самые общие соображения о том, как может
быть устроена память,— вот, собственно, и все. Но за
последние сорок лет дело существенно изменилось.
Развилась новая отрасль психологии, которая объединяет
исследования невролога в изучении мозга и достижения
психолога в том же направлении.
Почему эта область развилась?
Позорно и невозможно было дальше оставаться
психологами в положении того школьника. Но в науке
новые идеи, даже если они уже и созрели, требуют для
своего появления на свет некоего толчка — надо,
чтобы появились некие настоятельные потребности. И вот
развитие хирургии, которое позволило ей стать
нейрохирургией и делать операции на мозге, потребовало
быстро и точно сказать: в какой именно точке мозга
больного требуется вмешательство. Если вы точно и
своевременно направите руку хирурга, больного можно
спасти. Если же замешкаетесь со своим диагнозом или
ошибетесь на сантиметр-другой, то больной умрет.
Такая возникла практическая задача: ранняя и точная
топическая, т. е. локальная, диагностика нарушений в
мозге,— а ими могут быть воспалительный процесс,
опухоль, аневризмы, травмы, которые не видны глазу
врача».
...Лурия, в сущности, вовсе и не «читал» лекцию —
он просто думал вслух, рассказывая о вещах, для него
очевидных, рассказывал не в первый и даже не в
сотый раз. Он совершал один за другим новые «заходы»
на тему, и я мог позволить себе удовольствие не
следить напряженно за его мыслью, но просто наблюдать,
159
вслушиваться в мелодику его речи, отмечать про себя
характерные жесты. Одно преимущество перед
студентами у меня все-таки было: я знал уже те азы, которые
им предстояло усвоить.
...Действительно, как угадать, что нарушилось в
скрытом от нас механизме мозга — где? много ли? в
одном ли месте? Казалось бы, есть простой путь — пойти
к невропатологу, он все скажет. Если же у него
возникнут затруднения, обратиться к рентгенологу или
электрофизиологу, и они по рентгенограммам и
электроэнцефалограммам во всем разберутся наверняка. Беда,
однако, в том, что все эти методы, хотя они и очень
нужные и точные, тем не менее недостаточные.
Вы приходите к невропатологу. Он берет иголочку
и начинает вас ею укалывать, иногда рисует у вас на
руке какую-нибудь фигуру и просит угадать, что
именно. Потом он дает вам два пальца — на большее
обычно невропатолог не идет,— чтобы вы их сжимали изо
всех сил, сперва одной рукой, потом другой. Если
правая рука хуже чувствует да еще и хуже жмет,
невропатолог заключит, что пострадало левое полушарие. И
наоборот. В конечном счете он проверяет только
моторные и сенсорные области коры и их пути. И все
рефлексы — коленный, брюшной, многие другие — они тоже
говорят ему лишь о том, какое полушарие пострадало.
А где — в коре ли, в подкорковых узлах или в
проводящих путях — неизвестно. Потом, наконец,
невропатолог устанавливает, какое у вас поле зрения — где вы
видите, а где нет, т. е. анализирует зрительную кору.
Вот и все, чем он, по существу, располагает. Но ведь
это — всего одна четверть коры. А другие зоны — немые,
они не умеют ответить на вопрос, который им
предлагают, хотя и связаны с гораздо более сложными
функциями, выполняемыми мозгом.
Тогда, быть может, рентгенолог сумеет увидеть, все
ли в них в порядке? К сожалению, и он часто
бессилен, потому что консистенция опухоли такая же сме-
танообразная, как и вещество мозга. Можно, правда,
вводить контрастное вещество в сосуды мозга и тогда
кое-что действительно удается разглядеть, но
процедура эта не безболезненная и далеко не всегда
достаточно эффективная.
Электроэнцелография — еще одно очень мощное
средство. Но тут чрезвычайно часты ошибки из-за того,
160
lTo улавливаются некие вторичные изменения, вызван-
лые тем, что поврежденные участки мозга давят на
здоровые, деформируют их и изменяют тем самым их
электрическую активность.
В последнее время появились и еще более
совершенные методы диагностики неполадок в мозге —
ангиография и гамма-топоскопия. Они многое дают врачу —
ло не все, что ему было бы нужно.
Получается, что несмотря на всю современную
медицинскую технику, надо искать какие-то иные, новые
методы, которые позволили бы уловить нарушения в
«немых» участках мозга. Но что это за зоны, которые
никакой симптоматики не дают — ни сенсорной, ни
двигательной, ни рефлекторной? Это как раз специфически
человеческие образования мозга — те, которыми
человек отличается даже от обезьяны, не говоря уж о
кошках и крысах. В процессе эволюции над первичными
зонами надстроились вторичные и третичные. Они
связывают между собой зрение, слух, осязание, они
перерабатывают информацию, поступающую от разных
органов чувств, осваивают весь этот материал, соотносят
сигналы, поступающие от разных анализаторов и
создают те схемы, в которые все эти данные
укладываются. Такую же роль играют и лобные доли мозга, к
которым стекаются импульсы отовсюду — ото всех
решительно зон коры, и от ретикулярной формации, и от
подкорковых узлов. Лобные доли занимают у человека около
1ридцати процентов объема всех полушарий. Но
никаких сенсорных, никаких моторных функций они не
выполняют и, следовательно, невропатолог их «не
чувствует». Долгое время вообще считалось, что можно без
них обойтись, что это роскошь природы. А
оказывается— это очень важные отделы мозга: они дают
возможность интегрировать, объединять импульсы, идущие
от различных анализаторов, и планировать действия
человека, создавать сложные фор-программы.
Чтобы уловить непорядки в этих зонах, надо
исследовать не рефлексы, а сознательное поведение,
сложную организацию человеческой деятельности. Но это
уже не по силам физиологу. Лишь психология, с ее тон-
кими методами и изощренной наблюдательностью
могла надеяться выработать приемы, чтобы уловить по
изменившемуся поведению больного нарушения в ранее
«немых» отделах коры. Если бы это удалось, родилась
бы новая наука — нейропсихология, помощница невро-
б К. Е. Левитин
161
логии и нейрохирургии, способная точно указывать
место в высших отделах мозга, где стряслась беда. И
наоборот — сами эти локальные поражения стали бы
материалом, на котором новорожденная наука могла
надеяться когда-нибудь раскрыть формулу
десятиклассника, которую вспомнил Лурия в начале своей лекции.
Надеждам этим во многом суждено было
исполниться,— и лекция, которую читал Александр Романович,
была тому свидетельством. Но лишь одним из многих:
нейропсихологические исследования идут теперь во всем
мире, и все меньше и меньше становится «белых пятен»
в коре головного мозга. Можно, пожалуй, сказать, что
«немых зон» сегодня вообще не существует, а есть лишь
врачи, которые не слышат их голосов. В историях
болезни ведущих медицинских учреждений — например,
Института нейрохирургии им. Бурденко — выделена
специальная страница: «Нейропсихологическое
исследование». Отнюдь не дань моде: нейрохирурги и
невропатологи имели не одну сотню случаев убедиться, что
данные, полученные нейропсихологом, вдвое, втрое
расширяют знания врача о неполадках в мозге больного.
* * *
Я не заметил, как прошел первый час. Александр
Романович отпустил всех минут на пятнадцать —
двадцать, мы с ним остались вдвоем.
— На кого больше всего похож нейропсихолог — на
врача, исследователя, экспериментатора, кабинетного
теоретика, или на всех сразу? — спросил я.
— На сотрудника уголовного розыска,— не
задумываясь, ответил Лурия.
...Зазвенел звонок. Студенты вернулись на свои
места. И вновь побежали перед ними рельефные, четкие
образы прошлого, будущего, настоящего,— образы,
выстроенные Александром Романовичем в строгий ряд —
не по росту, а по смыслу и значению. Нет, не введение
в нейропсихологию слушали студенты МГУ — им
передавался образ мышления, годами накопленный
бесценный опыт, умение по-особому видеть мир.
Четкие, рельефные образы бежали перед нами. Вот
детство человечества, античность. Древние еще
спорили о том, где помещаются человеческие способности
воспринимать, думать, вспоминать, рассуждать. Одни
считали, что всем этим управляет сердце, потому-то
162
оно и бьется, другие полаииш, что хранительница ра;
зума—диафрагма, недаром же она ритмично
вздымается, очевидно, в такт мыслям. В средние века
сомнений уже не оставалось — да они в то время и не
допускались. Ученым было ясно, что все дело в трех
желудочках мозга: первый — воспринимает, второй —
мыслит, а третий — запоминает. Естественно: природа не
терпит пустоты и раз они пустые, значит, тут и
помещаться «мыслительной субстанции» — не может же она,
в самом деле, проникнуть в плотное вещество мозга?
Эта дикая для средневековых анатомов и философов
мысль стала приемлемой для ученых всего двести лет
назад.
...Характер образов изменился — теперь это уже
были не лица древних философов, прекрасные в своем
стремлении постичь истину, и не искаженные страхом
и ненавистью к таким поискам физиономии
средневековых схоластов, но тщательно вычерченные, до
тонкостей подробные карты. Карты самого неизведанного
материка. Составленные полтора века назад венским,
а затем парижским врачом Францем Иосифом Галлем,
они подкупали своей простотой и изяществом. Галлю,
ученому, впервые описавшему серое и белое вещество
больших полушарий, непременно надо было найти
мозговые центры, управляющие человеческими
способностями и задатками,— и он нашел их, заставив работать
свое собственное воображение. Так родилась
пресловутая френология: поскольку всем—умом,
экспансивностью, нежностью, даже любовью к родине — заведует
строго определенный участок мозга, то если он
увеличивается— данный талант растет, а на голове в
соответствующем месте появляется выпуклость. А если на
положенном месте шишки нет, то, значит, способностью
этой бог не наградил. Получается удивительно удобно:
потрогал рукой череп — и пожалуйста, любой человек
как на ладони. Над галлевским шишковедением
можно, конечно, смеяться, но что предлагает наука взамен
его? Одна за другой следуют все новые и новые карты
мозга, мелькают лишь фамилии их создателей. Вот
крупный немецкий психиатр Карл Клейст. Его
«функциональная карта мозга» составлена более чем через
сто лет после Галля, и он исходил не из догадок и пред*
положений, а использовал огромный материал наблкн
Дений над огнестрельными ранениями мозга в течение
первой мировой войны. И что же? Его метод получать
6 * 163
данные о работе мозга был новым, но способ их
интерпретации оставался старым: раз ранение левой
височной доли вызывает нарушение понимания фраз, а
поражение лобных отделов — изменение активного
поведения, то, следовательно, висок—мозговой центр
понимания речи, а лобные доли —центр «социального Я».
И никаких сомнений при этом не возникает—в самом
деле, хорошо ведь известно, что здесь вот локализуется
тактильная чувствительность, вот тут—место, которое
управляет движением, недалеко — отдел, ведающий
зрением. Каждый анализатор, будь он двигательным
или тактильным, зрительным, слуховым, имеет свой
центр в коре головного мозга. Почему же
действительно не подумать, что точно таким же аппаратом
обладают и сложные психические процессы? Может быть, есть
такие центры, которые ведают не чувствительностью
или движением, а речью, письмом, чтением, счетом?
То есть сложные психические процессы так же точно
локализованы в мозге, как и простейшие.
Сегодня психологам кажется странным, что
подобные мысли приходили в голову серьезным ученым. Но
многие физиологи и врачи до сих пор держатся весьма
схожих взглядов. Их не смущает, насколько сложные
понятия скрываются под словом «счет» или «речь», им
не кажется нелепым, чтобы один какой-то участок
мозга взял на себя эту непосильную работу.
Однако такой
подход—локализационистский—имеет свои основания. В одну парижскую клинику
привезли больного с гнойником на ноге. Он умер, и на
вскрытии молодой анатом Поль Брока обнаружил у него
размягчение в задней трети нижней лобной извилины
левого полушария. Брока посетила гениальная догадка: не
связано ли это поражение мозга с расстройством
психики? Дело в том, что больного доставили из
психиатрической больницы, где он провел двадцать лет, на все
вопросы отвечал лишь «та—та—та». Брока
предположил, что мосье Тата (как звали больного между
собой врачи) не говорил потому, что у него в мозгу был
разрушен некий центр речи. Брока проверил свою
гипотезу на нескольких подобных больных и пришел к
выводу, что нашел место этого центра. Когда он
оказывается разрушенным, человек сохраняет способность
управлять мышцами губ, языка, но он забывает
моторные, двигательные образы слов. Так говорил в своем
докладе Брока в 1861 г. Через двенадцать лет немец-
164
чий психиатр Карл Вернике сделал другое наблюдение.
У его больных поражение располагалось тоже в задней
грети, но только верхней височной извилины того же
левого полушария. У них картина наблюдалась
обратная— они как раз говорили, даже слишком много,
беспомощно как-то лопотали, но не понимали
обращенной к ним речи. И потому Вернике сделал
предположение, что ему удалось нащупать, как он выражался,
«центр понятия» слов.
За последующие «блистательные семидесятые» годы
как ураганом нанесло новые поразительные открытия.
Различные исследователи нашли на карте мозга
центры письма, счета, чтения, ориентировки в пространстве.
Все сложные формы психической деятельности
получили каждая по своему центру. Эта идея узкого локали-
зационизма полностью овладела умами. Вот тогда и
были созданы прекрасные подробные карты, которые
основаны на обработке огромного материала
наблюдений над различными ранениями мозга, недостатка в
которых во время первой мировой войны не было. Эти
карты хороши всем, за исключением лишь того, что
они абсолютно неверны. Пользуясь ими, можно лишь
заблудиться, и одними заблуждениями до самого
последнего времени была вымощена дорога к пониманию
работы мозга. Мудрый Конфуций сказал когда-то:
«Самое трудное — это поймать кошку в темной комнате,
особенно тогда, когда ее там нет». Слишком уж
соблазнительно делать одно выдающееся открытие за другим,
просто не хватает времени для скрупулезного анализа
строгости научных выводов...
К тому же концепция локализационизма получила,
казалось бы, мощное подкрепление на клеточном,
нейронном уровне. Немецким нейрофизиологам Хьюбелю
и Визелю в начале шестидесятых годов уже нашего
века удалось отвести сигналы от отдельных нейронов,
вживив в них тончайшие электроды. Вскрылась
совершенно удивительная картина. Оказалось, что
существуют высочайшим образом специализированные нейроны.
Есть такие, которые реагируют только на движение
точки от периферии к центру, а есть такие, которые
«срабатывают» лишь тогда, когда точка перемещается от
центра к периферии, одни из них настроены только на
прямые, другие — только на округлые линии, лишь на
низкие или высокие тона и т. д. Причем каждый
подобный нейрон находится в строго определенном месте мозга.
165
После этих опытов совсем пи-новому стала
представляться вся механика восприятия человеком мира.
Оказалось, он дробит мир на грандиозное количество
составляющих элементов, на десятки тысяч признаков —
линий, углов, направлений, а затем как-то их
объединяет. Но если уж так высоко специализированы
отдельные нейроны, то отчего же не думать, что такая же
локализация есть и в коре головного мозга? Лурия
рассказывал, как несколько лет назад у него произошел
крупный спор с профессором Ежи Конорским,
известным польским физиологом, бывшим сотрудником
И. П. Павлова. Они встретились на очередной Гагрской
конференции, и Лурия, к своему удивлению, убедился,
что даже такой большой специалист, как его польский
коллега, довольно странно представляет себе
функциональную организацию нейронов. В своей книге он
рассуждал так: у каждого человека есть нейроны, которые
отвечают на большие совокупности разных признаков —
понятие «кошка», понятия «собака», «блондинка»,
«брюнетка». Когда к старости все эти нейроны заполнены,
то уже нет места для новых понятий, и потому старики
плохо усваивают новое. Александр Романович
попытался убедить автора книги, что в действительности все
совсем не так. «Если я воспринимаю вас,— говорил он
ему,— то это не значит, что у меня в определенном
нейроне сидит готовый образ. Вот вы — маленький,
толстенький, лысенький и без очков. А вот рядом с вами
стоит тоже профессор и тоже психолог, но вытянутый,
тоже лысый, но в очках. Так что же, у меня есть
нейрон одного и нейрон другого? Да нет, конечно! Все эти
нейроны, высочайшим образом специализированные, они
выбирают признаки — признак лысости, признак чего-то
кругленького, чего-то вытянутого, очкастого и
безочкового, и дальше из этих признаков они синтезируют
либо одного, либо другого из моих коллег». Но даже
этим сравнением Лурия не сумел убедить своего
оппонента...
Факты, однако, еще упрямее признающих и даже не
признающих их ученых. А факты свидетельствуют: нет
нейронов, которые несут в себе понятие кошки или
крысы, есть нейроны, которые действительно
специализированы на отдельных признаках, а дальше уж дело
синтеза — создать из этих признаков тот или иной
образ. Поэтому всякая попытка перейти к идеям узкого
локализационизма, ища опору в опытах Хьюбеля и
166
Визеля, бессмысленна. Обнаруженная ими высокая
специализированное^ нейронов предполагает только
одно: эти нейроны могут избирательно реагировать на
отдельные признаки, но совершенно не говорят о том,
что в этих или иных нейронах или участках мозга
могут быть локализованы целые образы.
Когда самое, казалось бы, надежное подтверждение
правоты локализационистов при более тщательном
рассмотрении стало работать против них, то многие
усомнились в безукоризненности той интерпретации, которая
давалась раньше тысячам историй больных. Да, речь
всегда нарушается, если поврежден вот этот участок
мозга. Но она ведь поражена и у тех больных, чей
мозг поврежден совсем в другом месте! То же самое с
письмом, счетом, памятью. Для каждой из высших
психических функций требуется сохранность не одного
какого-то, а множества отделов мозга. Когда тот же
материал, которым пользовались сторонники локализаци-
онной теории, был переосмыслен, исследователи
перекинулись к прямо противоположной точке зрения, впали
в иную крайность. «Мозг работает как единое целое»,—
заявили они.
Но и эта концепция оказалась столь же
неудовлетворительной, как и первая. Конечно, мозг работает как
целое! Но означает ли это, что он работает как
безразличное целое, как одинаковое, однородное образование?
То новое, что принесла с собой нейропсихология,—
это подход к мозгу как к сложной функциональной
системе, подход, отрицающий и узкий локализационизм, и
«глобализм» — взгляд на мозг как на однородное целое.
* * *
«Говоря о физиологии, я буду, естественно, очень
наивен, но мне даже не хочется по этому поводу
извиняться, потому что со сколь бы учеными людьми я ни
.говорил, они намного дальше этих наивных представлений
не продвинулись. Сколько весит человеческий мозг?
До двух килограммов. Будем грубо считать, что есть
два килограмма мозгового вещества. Кстати, мне
неважно, два килограмма или один. Спрашивается:
имеется какое-то количество мозгового вещества, как этим
веществом распорядиться? Самое нелепое — раздать
его, т. е. вот тебе, правая рука, 500 граммов (правая
рука — вещь важная), а тебе, левая рука, 300 граммов.
167
На каждую ногу хватит по 150 граммов. На язык,
скажем, еще сколько-нибудь. Столько-то глазам, столько-то
ушам, столько-то на пищеварение, эмоции, столько-то
на социальные эмоции, ну и еще граммов 15 оставить в
шахматы поиграть, вот и все вещество разошлось.
Казалось бы, так можно бы и сделать, но не верится, что
так сделано. Потому что, когда я играю в шахматы, я
при этом не занимаюсь своим профессиональным
делом или, скажем, не прыгаю через веревочку, что мне
всегда трудно делать. И значит, казалось бы, когда я
играю в шахматы, выгоднее на это тратить не 15
граммов мозгового вещества, а из этих двух, ну, скажем,
килограмма полтора. А завтра мне вдруг случится
подраться и во время драки, когда от меня нужно быстрое
двигательное решение, естественно отобрать у всех —
у глаз, у ушей, у шахмат, у пищеварения и эмоций —
отобрать серое вещество и дать его полностью на драку.
По ощущению так и бывает: если хорошо дерешься —
все забываешь».
Эти задиристые слова я усмотрел в серьезнейшей
книге, испещренной формулами,— она начинается с
докторской диссертации, которую ее автор защитил в
знаменитой «стекловке» — Институте математики им. Стек-
лова. Точнее, начинается она словами составителей:
«30 мая 1966 г. скоропостижно скончался на 42-м году
жизни Михаил Львович Цетлин, один из наиболее
выдающихся специалистов в области кибернетики.
Последние 10 лет своей жизни Михаил Львович занимался
главным образом общими принципами работы
биологических систем и разработкой биоуправляемых
устройств».
И ведь надо же, какая обида! В расцвете сил умер
удивительный человек, фантастической, дерзкой
смелости офицер разведки на войне, тонкий математик,
глубоко проникший в биологию, умер, не успев узнать, что
на многие волнующие его вопросы уже есть точные
ответы. За ними не надо было отправляться в далекий
и опасный поиск, чтобы понять их глубину и смысл, не
потребовалось бы штудировать многотомные труды —
стоило лишь пройти пешком несколько коротких улиц
и тут же, совсем рядом с Институтом прикладной
математики, в Институте нейрохирургии им. Бурденко,
могла бы состояться встреча, которая, возможно, и его
заставила бы иначе взглянуть на многие вещи. Но и в
наше, насыщенное информацией время, встретиться
168
двум нужным друг другу людям не стало проще, чем;
сотни лет назад...
...Какая жалость, что рядом со мной не сидел
Михаил Львович Цетлин и не слушал, как Александр
Романович Лурия читает студентам свою лекцию...
* * *
Павлов в свое время говорил, что если раньше
дыхательный центр представлялся с булавочную головку, то
потом он расползся по всему мозгу и теперь уже никто-
не может точно очертить его границы. Сейчас
правильность его слов очевидна: не только дыхание или,
скажем, пищеварение — во всем, что делает организм, как
выяснилось, принимают участие большие
разветвленные системы. В еще большей степени это относится к
сложнейшим психическим процессам. Ни одна
«умственная» функция не сидит в определенной группе
клеток. И потому к изучению психики надо подходить с точ-
ки зрения распределения по мозгу различных
функциональных систем.
Вот, скажем, то же дыхание, о котором говорил
Павлов. Задача этой системы — довести воздух до
альвеол легкого. Но можно ли думать, что она
выполняется прочно закрепленной рефлекторной дугой: сигнал о
недостатке кислорода заставляет дыхательный центр
скомандовать межреберным мышцам, чтобы они
расширили грудную клетку, воздух входит внутрь ее,
кислород проникает к альвеолам? Нет, ибо если анастези-
ровать нервы, управляющие межреберными мышцами,
вспрыснув в них новокаин, человек не умрет от
удушья — в работу включится диафрагма, она станет
расширять грудную клетку. Если же вывести из строя и
диафрагму, то человек будет заглатывать воздух.
Получается, что задача одна — довести воздух до
альвеол, но она может осуществляться целым рядом
сменных звеньев. Принципиально именно так устроен
любой акт поведения, и уж особенно—высшие
психические функции: в их осуществлении всегда принимает
участие не одна зона коры, а целая разветвленная
система таких зон, и каждая из них решающе важна. И
вот тут-то кажется, что природа приготовила для нас
западню. Если, скажем, понимание речи или счет
неминуемо пропадет, когда разорвется любое из слагающих
их звеньев мозговой деятельности, то как же по симпто-
169?
мам заболевания установить, какие именно отделы
мозга повреждены? Любое нарушение психики — и сразу
десятки мозговых зон оказываются под подозрением.
И получается, что новый подход к работе мозга еще
дальше увел от решения задачи скорой" и точной
топической диагностики, чем даже пресловутые
френологические карты Франца Иосифа Галля...
Нет, по счастью, не увел. Дело в том, что каждый
участок мозговой коры вносит свой собственный,
особый, отличный от других вклад. А потому если
выпадает любой из них, то разваливаются сразу несколько
функциональных систем, в которые этот участок входит
как одно из необходимых звеньев. И распадается
каждый раз по-своему, специфическим образом. Зная это,
нейропсихолог никогда не говорит: у человека нарушена
та или иная функция, он обязательно выясняет, как она
нарушена, и что еще одновременно с этим перестало
нормально работать в организме, какие сбои
наступили во всех остальных психических процессах. Он
изучает, таким образом, не симптом, а синдром, т. е.
совокупность всех наблюдаемых расстройств. Когда
удалось расчленить все поведенческие акты на отдельные
простейшие единицы, стало понятным, как из этих
кирпичиков синтезируется любое действие. Поэтому,
определив, что именно недоступно данному больному,
всегда можно выявить, что за кирпичики разрушились —
какие участки мозга вышли из строя.
В этом и состоит идея о трех главных
функциональных блоках мозга, лежащая в основе нейропсихологии.
И в этом же заключается смысл слов Лурии об
уголовном розыске. Нет, Александр Романович не шутил
и не пытался спастись от моих расспросов на краткое
время перерыва, подбросив задачку на
сообразительность, и даже не вспоминал вдруг по какой-то
ассоциации свою работу в прокуратуре. Он просто подарил мне
ясный, рельефный образ, точное, емкое сравнение: как
опытный детектив складывает улику к улике, так и ней-
ропсихологи накапливают симптомы нарушений в
работе мозга. Глаза, нос, губы, подбородок могут быть
схожими у разных людей, но лишь одна определенная
комбинация составит лицо таинственного мистера Икс.
Невролог и рентгенолог докладывают о своих находках,
на стол ложатся энцефалограммы, данные различных
тестов — все отчетливее вырисовывается портрет
заболевания. Любой преступник — опухоль, кровоизлияние,
â 70
воспаление — оставляет следы, 1*адо только уметь их
вовремя найти, сопоставить, свести вместе, чтобы
посмотреть, на что все это похоже. А для этого следует
иметь полный набор всех мыслимых, компонентов, из
которых только и может состоять неясный нам пока
образ. Недаром лежат в столах криминалистов карты
для необычного пасьянса — все типы лбов, губ, носов,
брови и усы любого вида, все, сколько только их
может быть, разновидности ушей и глаз, все тщательно
изученные и классифицированные детали, составляющие
то неисчерпаемое разнообразие лиц, которое окружает
нас в жизни. И точно так же, разбив все
мыслительные, высшие функции мозга на простейшие составл5<ло-
щие их части, могут нейропсихологи составлять
комбинацию за комбинацией, пока одна из них точно не
совпадет с тем набором симптомов, который
наблюдается у больного.
...Да, но что-то неосознанное меня беспокоило.
Слишком уж просто все получалось и очень уж точная наука
о мозге вставала из этих рассуждений. Какая-то
атомная психология, нечто вроде менделеевской таблицы:
два атома внимания, один атом понимания — вот вам
молекула мышления, некое интеллектуальное Н20! Но
кто поручится, что изучены все единицы поведения, что
не остались где-то редкие земли или неуловимые
инертные газы? Что вот этот, данный поведенческий акт —
химически чистый, без примесей других элементов? И
до какой степени надлежит дробить все наши поступки
и душевные порывы, чтобы приготовить препараты для
новейшего психологического микроскопа?
И еще что-то, очень важное, но из какой-то другой
области не устраивало меня. Эти мысли я додумывал
уже в одиночестве, готовясь к вечернему разговору с
Александром Романовичем. После лекции он еще
остался побеседовать со студентами, затем у него были дела
в клинике, оттуда он ехал в университет, а часам к
восьми ждал меня у себя дома. Чтобы не опоздать, я
выехал заранее и оказался на месте чуть ли не за час до
назначенного времени. Можно было еще покружить по
городу — это, как я давно заметил, лучший способ
собраться с мыслями. Я отработал несколько маршрутов,
ведущих к улице Фрунзе, несколько раз проехав мимо
дома Александра Романовича, вызывая, видимо, все
возрастающее недоумение у регулировщика в
милицейском «стакане». И когда, наконец, он высунулся по пояс
171
и указал палочкой, где мне надлежит остановиться, я
так резко нажал на тормоза, что машина пошла юзом;
и я вспомнил на миг все, что связано с сопряженной
моторной методикой. Но не она волновала меня теперь,
я думал не о прошлом, даже не о настоящем, а, как
мне казалось, о будущем нейропсихологии.
Господи, да как же я раньше не понял! Если одну
и ту же психическую функцию можно построить из
разных кирпичиков, собирая несколько разных цепочек —
как я вот сейчас приезжаю к одной точке разными
путями,— то надо попробовать создать в поврежденном
мозге обходные пути, минуя разрушенные участки.
Значит, если я правильно понял Александра Романовича,
то нейропсихология не только дает своевременный и
точный диагноз для хирурга, она еще способна вернуть
человеку утраченные способности, не прибегая к
вмешательству скальпеля!
Я не скрыл от Александра Романовича ни своих
мыслей, ни даже обстоятельств, при которых они
пришли в голову. Он посмотрел на меня почти без улыбки,
потом вдруг резко отвернулся и почему-то покопался
немного в каких-то бумагах за спиной. Ничем — ни
словом, ни жестом не дал он мне понять, сколь забавно
прозвучало мое гениальное открытие в этих четырех
стенах. А когда заговорил, голос его звучал как всегда
мягко и серьезно.
— Разумеется, вы правы — мы не только
диагностируем. Мы, скажем, восстанавливаем речь у людей,
которые лишились ее из-за травмы, опухоли или иного
повреждения мозга. В Клинике нервных болезней Первого
медицинского института работает наша лаборатория,
ею руководит моя ученица, Любовь Семеновна Цвет-
кова, доктор психологических наук, специалист по
лечению афазий — нарушений речи. А идея такого лечения,
именно и состоит в том, чтобы найти обходной путь,
используя неповрежденные участки мозга.
Позволю себе привести пример из работ своего
учителя, Льва Семеновича Выготского, которые он вел еще
в двадцатые годы. Тогда в нашей стране часты были
случаи эпидемического энцефалита, при котором
поражаются подкорковые узлы, а это, в свою очередь, ведет
к паркинсонизму — болезни, сказывающейся в
нарушении тонуса мышц. Выготский сделал поведение паркин-
соников предметом специального исследования, которое
дало неожиданные результаты. Известно, что в тяжелой,
172
запущенной форме паркинсонизм приводит к грубому
нарушению автоматизированных движений: человек
может пройти лишь два-три шага, а потом тонус мышц
резко возрастает, начинается характерное дрожание, и
всякое движение становится невозможным. Однако, как
показали наблюдения, тот же самый больной без труда
ходит по ступеням лестницы. Если же разбросать по
полу бумажные карточки, то он легко перешагивает
через эти «модели» ступенек и перемещается по
комнате, не встречая сложностей. Что отсюда следует? Что
подкорковые автоматизмы позволяют здоровому
человеку ходить, не задумываясь над последовательностью
действий. Если же автоматизмы эти разрушены, то их
можно заменить цепью единичных движений,
«выкованной» на корковом, сознательном уровне — ступенями
лестницы, карточками, разбросанными по полу. И тогда
тот же двигательный акт осуществится на новой основе.
Вся функциональная система, управляющая походкой,
перестраивается, чтобы обойти разрушенный участок в
подкорке.
Эта ранняя работа дала толчок многим
исследованиям, и теперь у нас есть немало выверенных приемов,
позволяющих проложить в мозгу новые «рельсы» —
т. е., используя оставшиеся в распоряжении больного
средства, восстановить распавшиеся функциональные
системы.
Вот вам, если желаете, простейший пример. Бывает
так, что у человека нарушен механизм, позволяющий
ему отличать глухие согласные от звонких. Для него
«баба» и «папа» звучат одинаково. Вообразите, что с
вами случилось такое несчастье. Вообразили? А теперь
поставьте перед губами ладонь и скажите энергично
«б», потом «п». Чувствуете разницу? Вот так мы
используем тактильный анализатор, способность
чувствовать вибрацию, другие возможности, оставшиеся в
нашем распоряжении, чтобы заменить разрушенный
участок пути, по которому идет информация в мозге.
Александр Романович сделал паузу. Видимо, ему
очень не хотелось второй раз за этот день читать
лекцию, куда приятнее было бы просто поговорить — и он
давал мне возможность включиться в беседу
равноправным участником. Но ни одна путная идея не
приходила в голову — хуже того, возрастало недоумение,
непонимание чего-то главного. Прекрасная мысль — строить
обходную дорогу, я так радовался, когда додумался до
173
нее, но теперь, после слов Лурии, энтузиазм мой
сильно поуменьшился. Прежде чем пробивать просеки,
выравнивать обочины и укладывать асфальт, неплохо бы
еще знать, откуда и куда нам ехать, и что именно мы
собираемся обойти стороной. Ну а попросту — надо
сначала выяснить, из каких кирпичиков состоят
психические функции. А уж только потом можно собирать
из этих «составляющих» те или иные маршруты в
мозге, строить обходные или какие иные дороги...
Лурия, выслушав мои недоумения, взглянул на меня
как-то по-новому. Он переменил позу, уселся поудобнее.
Не могу отдать предпочтение ни одной из двух
гипотез: то ли он понял вдруг, что от лекции все равно
никуда не уйти и радовался окончанию внутренней
борьбы, то ли также вдруг впервые увидел во мне в какой-
то мере собеседника.
— Вас интересует, каким образом мы расчленяем
высшие психические функции на простейшие
поведенческие акты, — сказал он, и в голосе его, быстро
приобретавшем профессорские интонации, слышался не
вопрос, а утверждение. — Для вас, человека пишущего,
пусть примером будет письмо. Встреться мы сто лет
назад, я бы сразу показал вам на карте мозга центр
Экснера — вот тут, в среднем отделе левой премоторной
области. Здесь, сказал бы я вам, место мозговой
локализации письма. По какой логике считал бы я именно
этот участок мозга ответственным за письмо? По очень
убедительной и простой. Писать — это значит
совершать рукой тщательно рассчитанные движения. А центр
руки — правой у правши — расположен как раз вот тут,
в средних отделах премоторной зоны. Правда, ведь и
новейший сегодняшний учебник вам то же скажет. Ну
а тонкие движения связаны со вторичными, т. е. более
развитыми отделами этой самой двигательной зоны
руки. Вот вам и центр письма.
Александр Романович листал прекрасно изданный
альбом карт мозга — от древних, мудро простых, до
современных, наивно сложных. Речь его лилась
свободно, голос звучал уверенно и убедительно. Но я слушал —
и не слышал. Ни слова, ни фразы не имели для меня
самостоятельного значения — я не следил даже за
логикой. В сущности, он не говорил ничего для меня
нового, ничего такого, что бы я не успел уже прочесть,
услышать, что бы уже не стало частью меня самого. Я
знал наперед, каким путем пойдет его мысль. И редкая
174
радость провидения, почти недоступное наслаждение
интеллектуального слияния снизошли на 1..еня —
щедрой наградой за месяцы бдений над книгами и
статьями и часы медицинских разборов в клинике...
...Да, так вот — центр Экснера. Быть может, письма
включает в себя и еще какие-нибудь операции — а в.
этом случае один центр мозга не сможет им заведовать.
Но тогда какие другие участки мозга «задействованы»
при письме? На каких оснозаниях? Что каждый из них
вносит в общее дело?
Что нужно, чтобы написать слово? Даже если
пишешь не с чьего-то, а с собственного внутреннего
голоса, все равно надо услышать, что первый звук «с», а
не «з», а второй «л», а не «р», третий «о», а не «а».
Дело не в хорошем или плохом слухе —нет. Джули„
мой сеттер, слышит несравненно лучше меня, но ей не
дано отличить «б» от «п» или «д» от «т». Сын научия
ее на команду «бобчи!» ложиться на пол и класть
голову между лап. Но я как-то отдал ей не менее нелепое
указание «поп чхи!», и наша верная ирландка, не
задумываясь, растянулась у моих ног в той же позе
полной преданности. У нее тонкий слух, но различать
фонемы человеческого языка ей не под силу. И этим, увы>
самая лучшая собака отличается от самого
никудышного человека — у него слух организован всей
системой языка, с его сложным смыслоразличительным
аппаратом, а у нее слух наивен, непосредственен, неорга-
ганизован. Я слышал, правда, как в Ленинграде
известный наш психолог Григорий Викторович Гершуни
утверждал, что у животных слух тоже организован. На
не языковой системой! Скажем, для кошки имеет
огромное значение характерный скребущийся звук — эта
мышь суетится, торопится навстречу гибели. Для овцы,,
естественно, звук этот никакого смысла в себе не несет.
Животные выделяют из прочих звуков важные с
биологической точки зрения, а человек — компоненты,
связанные с фонематическим строем того или иного языка.
В русском большая смыслоразличительная нагрузка
ложится на гласные: «мул», «мол», «мал», «мил», «мел»,
«мыл», «мёл», «мял» — все это разные слова. Но в
тюркских, например, языках гласный звук может быть
любой, а слово останется прежним: и «ман», и «мин», и
«мен» все равно значит «я». «Пыл», «пил», «пыль»,
«пиль!» — это все для русского уха слова совсем не
схожие, но немец их не различает, потому что для нега
175
мягость и твердость согласного значения не имеют. Для
русского долгота гласного звука — никакой не
фонематический признак, для англичанина — один из
важнейших. Высота тона во вьетнамском языке дает слову
«ба» шесть разных значений, но европеец едва ли
сумеет отличить одно от другого. Степень открытости
гласного звука во французском, придыхание, с
которым произносятся согласные в грузинском, масса иных
признаков организуют слух человеческий той системой
языка, в культуре которого человек этот вырос.
Все эти факты более или менее известные — я
узнал о них не от Лурии, много раньше. Но сведения мои
были поверхностными, несистематичными, а психолог,
исследующий письмо, обязан подобные фонетические
тонкости досконально знать, потому что первый шаг
при письме — это и есть услышать не просто звуки, но
звуки некоего языка, т. е. преломить их через призму
определенной звуковой системы, отнести к тому или
иному типу языковых фонем.
...Получается, что рано начинать двигать рукой, центр
Экснера может еще отдохнуть в своей левой премотор-
ной области. Пока еще идет анализ звуков, а он
осуществляется височной областью, которая управляет
слухом, вторичными, более «тонкими» ее отделами. Если
они нарушены, то человек продолжает слышать, только
он не может квалифицировать звуки: ему не удается
отнести их к определенной звуковой категории. Когда
гремят ложками в столовой, он прекрасно понимает,
что сие означает, когда мышь скребется, он тоже знает
к чему это, но «б» от «п» ему, как и моей Джули, не
отличить — у него произошел распад фонематического
слуха. Особенно трудно приходится такому человеку,
когда фонемы разнятся всего лишь одним
каким-нибудь признаком — скажем, звонкостью или глухостью:
он не оглох, «б» от «р» отличает, а вот более тонко—■
уже не может.
Помнится, когда в первый раз я увидел такого
больного в клинике, и Александр Романович впервые
рассказал мне, в чем причина этого заболевания, я сумел
стряхнуть с себя гипноз луриевских слов, обычно
таких убедительных и неоспоримых. Как же так —
утверждать, не имея для того, в сущности, никаких
оснований?! Больной говорит «кот», когда его просят сказать
«год». Ну и что?! Причем тут фонематический анализ?
Может быть, человек просто не может произнести как
176
надо. На слух различает, а сказать не умеет — на то он
л больной.
Александр Романович улыбнулся поощряюще.
— Ну, разумеется, вы правы, — сказал он тогда.—
Абсолютно правы. Нет никаких оснований. Но мы,
конечно, каждый свой вывод проверяем многими
способами. Я прошу больного на звук «к» поднять правую
руку, а на «г» сидеть спокойно и по одному только
этому простому опыту мне становится ясно, что у него
нарушен именно фонематический слух, а не моторика
речи. И я замечаю для себя — надо проверить еще
десятками других тестов, верно ли мое предположение:
что-то не в порядке в левой височной области, в ее
вторичном отделе.
Я стал ловить себя на том, что нейропсихологиче-
ские увлечения не проходят для меня даром: мысль
стала работать сложно, зигзагами, самые простые вещи
пдруг отчаянно усложнились. Месяцами заставлять мозг
неусыпно думать о том, как сам он устроен, требовать
от него, чтобы он смотрел на себя со стороны, сам
подсматривал свои же тайны — посильная ли это нагрузка
для моего серого вещества, не защищенного
профессиональным медицинским подходом к жизни? Все чаще я
чувствовал некую расщепленность — то мне чудилось,
1то я немного Засецкий, то даже — чуть-чуть Лурия.
Я, наверное, здорово поглупел в глазах окружающих.
По память моя осталась прежней, она даже усилилась —
1 потому, быть может, об устройстве памяти мы с
Александром Романовичем ни разу не говорили, хотя его
книга «Нейропсихология памяти», вышедшая в несколь-
I их странах, давала тему для бесед не на один день.
И в тот вечер речь шла только про письмо.
Из памяти, сохранившей слова Лурии, сказанные
ь^тот вечер.
«...Итак, вот первый вклад мозга в письмо — роль
височной его области при фонематическом анализе
звуков.
Но пусть, по счастью, с этими отделами мозга у
человека все хорошо. Значит ли это, что и писать он
будет тоже хорошо? Неизвестно — ведь пока у него есть
Для того лишь одна из предпосылок. А вот вам другая,
гтоль же необходимая. Когда ребенок учится говорить
]1ли вы, уже взрослый, начинаете изучать иностранный
язык, надо обязательно ,.прощупать" языком, губами,
7 К. Е. Левитин 177
зубами, нёбом звуки речи. Войдите к первоклассникае
в первые два-три месяца их школьной жизни на урои
письма. Вы услышите бормотание — это они прогова!
ривают то, что пишут, звук за звуком. Часть учителей
думает, что это плохо: шумно в классе. Но другая, по|
умнее, говорит, что раз дети так делают, значит, им эта
зачем-то нужно — ну и пусть себе бормочут. Мы экспе|
риментально решили этот вопрос: поделили класс на
две части, одна писала с проговариванием, а других де|
тей заставили писать, сжав кончик языка зубами. Я
шесть раз больше ошибок было у „немых"! Мы исклю|
чили проговаривание — и погибло письмо.
Правда, легко представить себе оппонента, который
станет утверждать, будто наши опыты не чистые:
вдруг мы просто создали второй очаг возбуждения
отвлекли наших бедных детей тем, что им надо теперщ
держать свой собственный язык зачем-то прикушенными
Давайте проверим. Говорим ребенку так: „Сожми ле|
вую руку в кулак и пиши". Пишет без ошибок. Сожмета
зубы — тоже все хорошо, ведь проговаривать он и тага
может. А вот арестован язык — тут уж все, письмо сов-f
сем безграмотное.
Дело в том, что движения языка принимают участи®
в кинестетическом анализе звуков, и если анализа этогод
нет, то письмо очень затруднено. Как, однако, узнать!
что именно плохо у нашего больного — фонематически«
или кинестетический анализ? Очень просто! Анализа!
руйте характер ошибок, и вы увидите интересную вещь!
У меня был больной, который вместо „халат" написаж
„хадат". Почему так? Другой больной написал „слон"!
когда я диктовал ему „стол". Я не мог понять смысла!
подобных ошибок, пока не начал анализировать зако|
ны, по которым он их делал. Прошу вас, скажите вслух?
„л", „н", „д". Вы чувствуете — звучит совершенно по|
разному, а движение языка одно и то же. Все эти зву;-
ки — нёбно-язычные, т. е. кончик языка прикасается к
передней части нёба, и лишь направление струи
воздуха определяет разницу в звучании. Таких звуков
много— скажите „6м и „м", например. Чтобы различить
их, надо уметь чувствовать артикулемы — а это и есть
кинестетический, двигательный анализ речи. Нижние
отделы постцентральной области — вот как точно
называется место, разрушение которого делает подобный
анализ невозможным.
Видите, какая точная наука психология? Если гра*
178
мотно поставлен опыт, то объясняются вещи, которые
сначала казались совершенно непонятными.
Теперь мы уже знаем о двух вкладах, которые
делают разные зоны мозга — височная и теменная, в
организацию письма.
Но мало выделить звук и опереться на его
кинестетический анализ. Необходимо еще перевести фонему и
артикулему в графему — проще, в букву. В этом
переводе звука в букву принимают участие уже другие
отделы коры — теменно-затылочные. Отчего так? Потому
что в затылочной части расположен корковый конец
зрительного анализатора, а теменные отделы вносят
еще компонент пространственного анализа. Если эта
область страдает, человек прекрасно слышит, прекрасно
произносит, но он перестает ориентироваться в
пространстве— не найдет, где право, где лево, где верх,
где низ, — как Засецкий, которого вы знаете. У такого
человека неизбежно возникнут трудности с письмом.
Букву „ом он напишет правильно, а вот как надо
писать— „р" или „q", ,,з" или „е", „г" или,,")" — этого он
не знает. У него письмо страдает в еще одном звене —
нарушена пространственная организация.
Но и этого мало! После первых школьных недель
нам редко случается писать отдельные буквы — пишем
обычно слова, ведь правда? Надо написать вам „кот",
значит, сперва пишете первую букву, потом необходимо
перейти от нее ко второй, далее к третьей, должна быть
организована последовательность действий, „серийная
организация поведения", как говорил Лэшли. Но с
функцией переключения с одного действия на другое
связаны специальные отделы коры — премоторные. Если
они повреждены, то у человека не страдает ни слух, ни
кинестетика, ни пространственный анализ, но у него
распадаются двигательные навыки. Если машинистка
вдруг начинает печатать отрывисто, одну букву
отделяя от другой долгой паузой, если пианист любую вещь
играет стаккато — велика вероятность, что у них что-то
произошло в премоторной области коры. А писать
такой больной будет вот так: „лииии". И сам знает,
что надо бы перейти к другой букве, да не
может! Так ему слова „мишка" самостоятельно и не
написать...
И наконец, последнее звено. Мы пишем не
отдельные слова, а целые фразы, некоторые более или менее
осмысленные тексты. Значит, мы подчиняем процесс пи-
7* 179
сания программе. Эта функция принадлежит лобньй
долям коры. Если они повреждены, у человека не cl
здается никакого замысла дальнейших действий. У Н.|
колая Ниловича Бурденко в клинике лежала больная!
обширным поражением лобных долей. Все у нее было|
порядке — слух, движение, понимание, но только плаЕ
своей деятельности она никогда не имела. Она, к пр|
меру, писала Бурденко письмо так: „Уважаемый пр|
фессор! Я хочу вам сказать, что я хочу вам сказат!
что я хочу вам сказать..." — и так четыре страница
Еще один тип нарушения письма, и связан он с еще о|
ной зоной мозга. m
Вот так расчленяются на составные части все вит
высшей нервной деятельности. Работа, конечно, не à
легких, она занимает годы и десятилетия. Но кто п!
жалеет о них сегодня, когда по характеру нарушена
одного лишь, к примеру, письма, можно делать пре|
положения — и обоснованные! — о том, какая имени!
зона мозга поражена у больного?»
Неожиданным образом выяснилось, что можно делала
предположения и еще более необычного свойства. Гй
приглашению Академии наук в Москву приехал ам|
риканский археолог профессор Александр Маршак, пл|
мянник «нашего» Маршака, Самуила Яковлевича, че|
перевод 77-го сонета Шекспира справедливо упрекал |
неточности Лурия. По приезде первый свой визит о|
нанес Александру Романовичу, который нас и познак!
мил. 1
Есть в нашем сознании удивительная, ничем не иск®
ренимая тяга к магии чисел. Число, когда мы встрети
лись, тоже состояло из одних семерок — 7.7.77. Профеа
сор Маршак засмеялся: к разного рода магии он име|
прямое касательство. Он объехал Америку и Европ|
работал во всех сколько-нибудь известных музеях Ста
рого и Нового Света, стараясь не пропустить ни одног|
предмета, оставшегося от каменного века, где могли 6i
быть рисунки или насечки, сделанные жившими тогд*
людьми. Он побывал в пещерах, по стенам которых i
сегодня мчатся куда-то охряно-красные бизоны,
пораженные многочисленными стрелами, олени с несколько
ми хвостами, нарисованными каждый своим цветом. Эте
линии, проведенные человеческой рукой десятки тыся^
180
лет назад, он фотографировал под микроскопом, в
ультрафиолетовом и инфракрасном свете и каждый раз ре-
щал для себя все один и тот же вопрос: о чем думал
наш далекий предок, когда тратил сотни часов на то,
чтобы нанести на костяную пластинку узор из
непонятных фигур? Что побуждало его в свете факела
рисовать на пещерных сводах птиц и зверей, растения и
предметы охоты? Была ли это просто древняя магия,
отголоски которой мы чувствуем и поныне, деля дни и
годы на счастливые и несчастливые, подсчитывая
суммы цифр на троллейбусных билетах, гадая, вчитываясь,
пусть со снисходительной улыбкой, в астрологические
прогнозы, трижды сплевывая через левое плечо, стуча
по дереву и т. д. Или же всяческих суеверий полны мы,
а люди каменного века рисовали на стенах и
гравировали на кости и камне не магические заклинания, а
календари и инструкции — охотничьи,
сельскохозяйственные, медицинские, гигиенические, которые впоследствии
превратились в заповеди, записанные на скрижалях?
Казалось бы, вопросы сугубо риторические — ответить
на них современная наука все равно не может. Но
Маршак попытался найти для этого необычные пути...
Не всегда он был профессором Гарвардского
университета, не так уж давно числится штатным
сотрудником знаменитого Пибоди — Музея археологии и
этнографии. Предшествующие двадцать с лишним лет он
провел в разных местах Европы и Азии, работая
журналистом, репортером, фотокорреспондентом,
сценаристом, обозревателем — сперва книжным и театральным,
ютом научным. В этом последнем своем качестве он
написал первую американскую книгу, посвященную
программе Международного геофизического года. Работая
над ней, Маршак нашел наконец себя. В другой книге,
«Корни цивилизации», — одном из самых роскошных
научных изданий, какие мне приходилось видеть — он
Рассказал как это случилось, попытался раскрыть
психологическую сторону переворота в своем сознании:
«Исследования космоса и наука вообще
интересовали меня главным образом потому, что я видел в них
человеческую деятельность, работу мозга, и в этом
смысле для меня тут не было большого отличия от
политики, религии, искусства или войны. Собирая
материал для своей книги, я не мог отделить доктора
Джерома Визнера, специального помощника президента по
Науке и технике, или Юрия Гагарина и Джона Гленна,
181
первого советского и первого американского космонав!
тов, или доктора Ллойда Беркнера, ученого и органи!
затора науки, который предложил программу Междуна!
родного геофизического года, от крайне примитивный
людей, которых я встречал в Новой Гвинее и в Австра!
лии, или от умирающих от голода крестьян, которых J
видел в Индии, или же, наконец, от человека, который
тысячи лет назад охотился на мамонтов, ол.еней и би|
зонов и рисовал на стенах пещер, или от человека, жив|
шего несколько позже, который впервые стал занимать!
ся землепашеством и построил города на Средиземно*!
море. I
...Строго говоря, „космическая эра" началась 4 ок|
тября 1957 г., когда был запущен советский „Спутник"!
Но можно считать, что она началась намного раньше...>$
Рассуждая подобным образом, Маршак пришел к
выводу, что люди каменного века знали и умели
несравненно больше, чем принято думать — слишком мал
временной интервал от них до нас, от предполагаемого
полного нуля до сегодняшней цивилизации. Исходя из
этой своей предпосылки, он и предпринял титанический
труд — исследовать под микроскопом все доступные ему
предметы тех далеких времен, хранящиеся на
запыленных музейных полках. И ему открылся целый мир,
дотоле неведомый — удивительные по сложности и
замыслу композиции, вне всяческого сомнения полные
глубокого смысла, или же чередование насечек в строгой
последовательности, разных форм и типов
сгруппированных по некоему четкому принципу. Уменье
профессионально владеть фотокамерой, мысль применить
ультрафиолет и инфракрасный свет позволили установить,
что рисунки и зарубки делались не сразу, а в течение
длительного времени, иногда — годами: видимо, наш
далекий предок что-то записывал для памяти. Но что?
Как расшифровать эти письмена? Вот эта задача и
увлекла Маршака.
Годы, отданные журналистике, не прошли даром —
он очень быстро сумел сориентироваться в море
научных направлений и веяний и обратился к работам Лу-
рии. Он тщательно изучил их, благо, книги эти
переведены на английский, и смог совершить то, что
профессор Хэллем Мовиус, известный археолог, назвал
«революцией в области интерпретации и понимания
искусства верхнего палеолита».
182
Как часто эти найденные строки
Для нас таят бесценные уроки.
Все-таки перевод Самуила Яковлевича Маршака не
так уж плох. Во всяком случае профессор Маршак мог
бы приложить эти слова к своим занятиям
нейропсихологией по книгам Лурии.
* * *
Мы сидели в Институте археологии — А. Маршак,
Otto Николаевич Бадер, крупнейший наш специалист по
палеолиту, Иван Иванович Артеменко, директор
киевского Археологического института, куда Маршак на*
правлялся, чтобы продолжить сбор материалов. И я
специально задал вопрос о том, чем помог ему нейро*
психологический подход.
— Тот метод, который профессор Лурия использует
для изучения мозга, оказался для меня неоценимой
находкой, — сказал Маршак. — В сущности, только
изучив его работы, я смог грамотно поставить проблему
своих собственных исследований. Нейропсихология имеет
дело с проблемами языка, памяти, письма, счета и при
этом соотносит любое проявление интеллектуальной
жизни человека с работой тех или иных участков мозга.
Перед нами — результат деятельности мозга, а вопрос,
который задается: все ли в этом мозге в порядке и если
нет, то что именно нарушено. Передо мной точно так же
лежали продукты деятельности мозга — рисунки,
насечки, орнаменты, и я должен был выяснить, до какой
степени развит был этот мозг, что он умел, какие знания
хранились в нем. И тут уже не имело значения, что в
одном случае исследовался мозг больного, который
сидит перед врачом, а в другом — кроманьонца, умершего
25 тысяч лет назад, важно лишь, чтобы существовала
надежная и точная методика. Я использовал уроки
Лурии и пришел к выводу, что человек каменного века
обладал мозгом совершенно таким же, каким мы
сегодня,— иначе он не сумел бы создать столь развитую
культуру, ему бы не хватило многих участков,
обеспечивающих «работу» языка, способности к
символическому мышлению, а также к таким точным и тонким
движениям руки. Интеллектуальный мир тех далеких
времен был столь же непрост, как и наш нынешний: в
экономическом отношении кроманьонец, разумеется,
183
влачил жалкое существование, но в биологическом, кай
мыслящее существо, он не уступал нам с вами... 1
Отто Николаевич Бадер внимательно выслушал пе|
ревод. «Я уверен, что профессор Маршак делает оченц
интересное дело, — сказал он. — Он взял в сферу своего]
внимания огромный материал, очень неэффектный, ко|
торый в области палеолитического искусства был прак|
тически забыт. Как в XVIII —начале XIX в. археологи^]
ческая наука начинала с изучения наиболее эффектных'
памятников — того, что осталось от античных времена
и лишь к середине прошлого века перешла к изучению
памятников первобытности, очень скромных, неброских!
так и в области палеолитического искусства. 1
Давно известны прекрасные произведения пещерном
живописи, с реалистическими рисунками животных!
скульптуры — не только зверей, но и изображений че|
ловека, но совсем мало внимания обращалось на
непонятные знаки, которыми испещрены костяные изделия^
которые красками наносились поверх рисунков в
пещерах и, видимо, вырезались на не дошедших до нас де-3
ревянных изделиях. Над их семантикой, их значением^
думают, об этом пишут, но лишь профессор Маршак по^
ставил себе целью суммировать огромный, как оказа^
лось в процессе его работы, палеолитический материал!
и, главное, найти пути к его интерпретации. Сейчас он'
приехал в Советский Союз и обнаружил в музеях
Москвы и Ленинграда еще более, как он говорит, богатые
образцы этой мелкой палеолитической графики, иногда
неразличимой невооруженным человеческим глазом.;
Объяснение значения этих памятников, очевидно,
впереди, но у меня такое впечатление, что открывается
новая страница в истории палеолитического искусства»^
Профессор Бадер продолжал, но чисто археологиче-4
ские проблемы работы Маршака не могли увлечь мое
сердце, отданное проблемам иного рода. Я понимал,
что прямо на моих глазах и без того мощно
разросшееся нейропсихологическое дерево дает еще один
отросток—рождается новая наука, способная исследовать
сознание людей, двадцать пять тысяч лет как
покинувших землю. А уж как ее назовут — нейропсихоархеоло-
гия или палеонейропсихология — это уже не имело зна«
чения.
184
* # #
На улице Россолимо, в Клинике нервных болезней, за
столом — Лурия и Засецкий, рядом с ними — известный
специалист по структурной лингвистике, одно из самых
громких имен в этом мире, мы все — поодаль, в углу —
англичанка, пожилая дама, нейропсихолог из
Кембриджа.
— Брат отца, — повторял Засецкий с какой-то
вымученной недоуменной улыбкой. — Брат отца, вот брат,
вот отец, отец — чей? Нет, брат чей? Чей же он брат?
Нет, не понимаю...
Александр Романович переглянулся с гостем из
другой науки, лингвистики, обменялся несколькими
фразами по-английски с «Маргаритой Степановной», гостьей
из Англии, и вновь с карандашом в руке склонился над
листом бумаги. Человечки, стрелочки, красноречивые
значки, смысл которых Засецкому заведомо ясен. И
снова.
— Брат отца — сколько тут людей? — спрашивает
Лурия, показывая Засецкому глазами на листок с
только что начертанными картинками. — Вот отец, вот его
брат, кто же брат отца?
— Вот этот... он брат... двое их всего, — отвечает тот.
«Для нас, усвоивших логические узоры языка и
стоящих на плечах многовековой культуры, этот процесс
расшифровки такой конструкции протекает свернуто,
малозаметно, просто. А ведь еще в записях XV—XVI вв.
люди не писали „дети бояр", а использовали гораздо
более простую форму „бояре-дети", и вместо „земли
Прокопия" обязательно использовали более
развернутую и неуклюжую форму „этого Прокопия — его земли",
давая этими вставками внешние ориентиры,
помогающие обойти трудности такой сложной грамматической
структуры... Нет, сложные обороты речи, которыми мы
пользуемся, не замечая их сложности, — это коды,
созданные многими столетиями, и мы легко применяем их
только потому, что полностью овладели сложнейшей
оркестровкой языка... Падежные окончания, предлоги и
союзы — все эти сложнейшие коды языка стали
тончайшими и надежными инструментами для мышления... А
что нужно от самого человека, чтобы успешно
пользоваться ими? В основном одно: умение хранить их в
памяти и способность быстро и сразу, одновременно
обозревать те отношения, в которые они ставят отдельные
185
слова и вызываемые ими образы! Одновременно? Но
именно эта возможность одновременного обозрения
сложных систем (будь то пространственное
расположение предметов или мысленное сопоставление
элементов) была недоступна нашему герою. Разрушенные у
него отделы коры головного мозга были как раз теми
мозговыми аппаратами, необходимое участие которых
только и могло обеспечить возможность превращать
обозреваемое в обозримое». Это из книги Лурии.
— ...Крест под кругом, — шепчет Засецкий, — кру-
ГОМ, ГОМ —значит падеж такой, под НИМ, значит.
Круг, выходит, вверху, а крест, получается, внизу.
Правильно?
— Верно, Лева, — отвечает Лурия, — а теперь вот
смотри, я рисую тут солнышко, а тут землю. Можешь
сразу сказать: что внизу — крест или круг?
— Внизу — крест, вот тут, на земле, — почти сразу
говорит Засецкий.
...Внимательно, не отрываясь, следят за таким
простым с виду экспериментом все, кто специально ради
него приехал в клинику на улицу Россолимо.
«Известно, что язык использует очень сложные и
неоднородные по своему составу системы кодов. В
последнее время они успешно изучались структурной
лингвистикой, в создание которой большой вклад внесли и
советские ученые. Однако внутренние механизмы, на
которые опираются эти коды, были труднодоступны для
исследований. Например, часто нельзя было сказать,
почему именно эта структура языкового кода труднее
воспринимается, чем другая. Многое проясняется, если
наблюдать больных с различными по локализации
повреждениями мозга. Ведь в этих случаях из игры
выводятся разные факторы или звенья, входящие в состав
кодов языка, и внутренние законы, по которым
строятся эти коды, выступают яснее. Было обнаружено,
какие коренные различия существуют между структурами,
обеспечивающими плавное протекание речи, и теми, что
формируют систему логических отношений;
нейропсихология могла наглядно убедиться в том, что при одной
группе локальных поражений мозга первые из них
нарушаются, в то время как вторые остаются
сохранными; другие по локализации поражения мозга приводят
к обратной картине. Это дает возможность ввести в
лингвистику новые объективные методы исследования и
расчленить те процессы, которые до сих пор казались
[186
недоступными анализу. „Патологическое часто
открывает нам, разлагая и упрощая то, что заслонено от нас,
слитое и усложненное, в физиологической норме" — эти
известные слова Павлова полностью справедливы и по
отношению к нашим попыткам применить методы ней-
ропсихологического анализа к изучению сложных
языковых явлений».
Это — из статьи Лурии7. Статьи, в известном смысле
подводящей итог его ранним работам еще двадцатых
годов, о которых он рассказывал
коллегам-психологам,— статьи, предваряющей книгу «Основные проблемы
нейролингвистики». Да не пройдет незамеченным в
нашей суете сует рождение еще одной новой науки..,
* * *
С каждой новой статьей, беседой, книгой огромный,
разнородный и, казалось поначалу, мало связанный внутри
самого себя нейропсихологический материал стал
теперь все больше проясняться, укладываться в систему,
Я научился уже видеть внутреннюю логику этой
науки, но все-таки временами устраивал ревизии
накопленным знаниям, задавая сам себе вопросы для
самопроверки:
— У двух человек повреждены совершенно одни и
те же участки мозга. Одинаково ли у них нарушится
письмо? — интересовалось мое вопрошающее «я».
— Все зависит от того, что это за люди и что за
участки, — отвечало ему «я» экзаменуемое. — Если,
скажем, один из них русский, а другой китаец и у обоих
пуля разрушила височную долю коры, то первый
писать не сможет, а второй будет писать, как и до
ранения. И дело исключительно в том, что китайцы пишут
иероглифами — значками, обозначающими слово, и
никак не связанными со звучанием этого слова. В Китае
более полусотни разных языков, и если кто-то говорит
по-кантонски, то его никто, из знающих пекинский,
понять не может. Но значки во всех китайских языках
одинаковы, в любом из них вот такой иероглиф
означает «стол», а такой — «мир». Следовательно, при
поражении слухового анализатора китаец продолжает
писать как ни в чем ни бывало.
— Ответ правильный. Усложняем задание: теперь
один из этих людей — японец.
— А тут все зависит от места поражения. Ведь япон-
187
ский алфавит необычный: половина — китайского
иероглифического типа, а другая — слоговый алфавит. «Ка-
но» и «канджи» — так называются эти две системы. Так
вот, если японцу пуля попадает в левую височную
область, то половина письма у него нарушается, а другая
остается сохранной. Слоговое письмо становится ему
недоступным, потому что тут надо анализировать на
слух, а иероглифическое — остается. Если же пуля
попала в теменную область, то все происходит наоборот.
— Ну что ж, опять прямое попадание: ответ верен.
Тогда объясните еще один парадокс, связанный с
работой мозга, который обнаружили нейропсихологические
исследования. Что общего между умением
ориентироваться в пространстве, счетом и пониманием
грамматических конструкций типа «отец брата» или «мамина
дочка»?
— Ничего, если, конечно, не считать мелочи: когда
у человека разрушены определенные участки в
затылочной области, то ни того, ни другого, ни третьего он
делать не умеет. Почему? С ориентацией все ясно —
именно эти участки, как мы уже успели усвоить, изучая
письмо, заведуют пространственными соотношениями.
Со счетом лишь чуть труднее. Из 31 надо вычесть 7.
От 30 отнимаем 7, получаем 23. А теперь куда отложить
единицу — вправо или влево? Прибавить ее — будет в
ответе 24, вычесть — 22, и вы никогда не решите, какой
ответ правильный, если не умеете отличить «право» от
«лево». Вот так сказывается пространственный
компонент в счете. А с грамматикой получается тоже
сходно— там есть так называемые квазипространственные
соотношения, не чувствуя которых человек не поймет,
что значит «мамина дочка». Я нигде не ошибся?
— Нет, но кое-что можно было бы и добавить. Ней-
ропсихологический подход не только позволил сблизить
несходные вещи, но и разделить, казалось бы,
одинаковые. Раньше думалось, что фонетический, речевой слух
и слух музыкальный родственны, учителя иностранных
языков и сейчас так считают. Но вот несколько лет
назад под наблюдением в клинике у Лурии был один очень
известный советский композитор. После кровоизлияния
в мозг он не мог различать фонемы, «б» и «п» для него
звучали одинаково. И в те же годы он сочинил одну
из самых лучших своих вещей! Значит, музыкальный и
речевой слух имеют разную психологическую организа-
188
цию и, как потом выяснилось, даже разные опорные
механизмы в голове.
...Вот такие «самобеседы» я вел. И сознанием моим
все больше овладевала мысль, оформляясь, как ей и
положено, с помощью многих участков коры моего
головного мозга. Как же должно быть интересно, думала
моя кора, узнать побольше о человеке, который сумел
построить целую науку, — как это у него все
начиналось, с чего, при каких обстоятельствах? Я потихоньку
наводил справки, опрашивал сослуживцев, подбирал
свидетельства очевидцев, «фиксировал данные» о
работах, отмеченных высшими отличиями — орденом
Ленина, Ломоносовской премией, почетными званиями и
степенями академий, университетов и научных обществ
многих стран. Я сам действовал как инспектор
уголовного розыска. Но мне не хватало собственного
«признания» Лурии — рассказа, как все начиналось. Однако
Александр Романович каждый раз заводил разговор о
Выготском. Сначала, не скрою, мне казалось это
гипертрофированной скромностью, некоей чудаковатостью,
но потом я понял, что таково искреннее убеждение
Лурии: время своей научной деятельности он отмеряет с
момента знакомства с Львом Семеновичем.
Они встретились в Ленинграде в 1924 г. на Втором
психоневрологическом съезде. На трибуну вышел очень
молодой человек—Выготскому в то время не было еще
28 лет. Он говорил более получаса — ясно, четко и
логически безукоризненно — о том значении, которое имеет
научный подход к сознанию человека, к процессу его
развития, об объективных методах исследования этих
процессов. В руке Выготский держал маленькую
бумажку, на которую изредка бросал взгляд, но когда после
выступления Лурия подошел к нему, то увидел, что на
ней ничего не написано...
Мысль Выготского развивалась в совершенно новом
для тогдашней психологии направлении. Он впервые
показал— не почувствовал, не предположил, а
аргументированно продемонстрировал, — что наука эта
находится в глубочайшем кризисе. Сейчас издано, наконец,
полное собрание его трудов и в него вошла ранее
неопубликованная работа «Исторический смысл
психологического кризиса» — в ней взгляды Выготского
выражены наиболее полно и точно. Он умирал от
туберкулеза, врачи дали ему три месяца жизни, и в больнице он
189
лихорадочно писал, чтобы успеть изложить главные
свои мысли.
Суть их в следующем. Психология практически
разбилась на две науки. Одна — объяснительная или
физиологическая, она на самом деле раскрывает смысл
явлений, но оставляет за своими границами все
сложнейшие формы человеческого поведения. Другая наука —
описательная, феноменологическая психология, которая,
наоборот, берет самые сложные явления, но лишь
рассказывает о них, потому что, по мнению авторов этой
науки, явления эти недоступны объяснению.
Выход из кризиса Выготский видел в том, чтобы
уйти от этих двух совершенно независимых дисциплин и
научиться объяснять все сложнейшие проявления
человеческой психики. И вот тут был сделан
капитальнейший шаг в истории советской психологии. Тезис
Выготского был таким: чтобы понять внутренние
психические процессы, надо выйти за пределы организма и
искать объяснения в общественных отношениях этого
организма со средой. Он любил повторять: тот, кто
надеется найти источник высших психических процессов
внутри индивидуума, впадает в ту же ошибку, что и
обезьяна, пытающаяся обнаружить свое отражение в
зеркале позади зеркала. Не внутри мозга или духа, но
в знаках, языке, орудиях, социальных отношениях
таится разгадка тайн, интригующих психологов. Поэтому
Выготский называл свою психологию либо
«исторической», поскольку она изучает процессы, возникшие в
общественной истории человека, либо
«инструментальной», так как единицей психологии, по его мнению,
были орудия труда, бытовые предметы, либо же, наконец,
«культурной», потому что эти вещи и явления
рождаются и развиваются в культуре — в организме
культуры, в теле ее, а не в органическом теле индивида.
Мысли такого рода звучали тогда парадоксально,
они были приняты в штыки и абсолютно не поняты. Не
без сарказма вспоминает Лурия, как Корнилов говорил:
«Ну, подумаешь, „историческая" психология, зачем нам
изучать разных дикарей? Или — „инструментальная".
Да всякая психология инструментальная, вот я тоже
динамоскоп применяю». Директор Института психологии
даже не понял, что речь идет вовсе не о тех
инструментах, которые используют психологи, а о тех
средствах, орудиях, которые применяет сам человек для
организации своего поведения...
190
Культурно-историческая концепция Выготского
вызывала активное сопротивление. Стали появляться
статьи, в которых автор ее разоблачался в различного рода
отклонениях от истинной науки. Одна из первых
написана была М. П. Феофановым, сотрудником того же
института. Она была сдана в печать под названием
«Об одной эклектической теории в психологии», но
напечатала ее типография по ошибке под заглавием «Об
одной электрической теории в психологии». Другие
статьи были без опечаток... Одна из самых больших и
известных критических статей появилась, правда,
несколько лет спустя в трудах Харьковского института
иностранных языков. Ее автором был П. И. Зинченко8.
Новые идеи — как, впрочем, и все истинно новое-
непросто входили в науку. А Александр Романович
считает— и, как я теперь понимаю, это его убеждение
тоже глубоко и искренне, — что всю глубину мысли
Выготского он начал понимать только сейчас. На это ш>-
надобилось полвека, длинный и не всегда гладкий путь
в науке. Пятьдесят лет работы...
* * *
Из «Истории психологии в автобиографиях»9.
«...Работе над этими заметками предшествовала
интересная переписка, которая объясняет их появление.
К автору обратился проф. Эдвин Боринг, который
предложил ему участвовать в подготовляемом, томе
„Истории психологии в автобиографиях".
Когда автор выразил сомнение в целесообразности
появления одной только его автобиографии* в то время
как советская наука имеет основания быть
представленной, по крайней мере несколькими исследователями,
проф. Боринг предложил автору и названным им
ученым прислать написанные ими материалы,, оставив их
на сохранение, до выхода в свет очередного тома. „Если
вы доживете до этого времени, — писал проф. Боринг,—
присланные материалы войдут в следующий том
„Истории психологии в автобиографиях". Если вы умрете до
того — они могут быть напечатаны в виде
автонекролога".
Предложение проф. Боринга показалось мне не
лишенным привлекательности. В самом деле,
ретроспективный анализ пройденного пути всегда полезен.^
Поэтому автор отнесся к этому предложению со всей се-
191
рьезностью и подготовил настоящий материал с тем,
чтобы он мог быть использован в одной из двух
предложенных проф. Борингом форм.
Жизнь, проведенная в научных исканиях, все-таки
очень коротка, и каждому исследователю, прошедшему
длинный путь, неизбежно приходится кончать
ретроспективный обзор своей работы указанием на те
перспективы, которые будут завершены уже без его
участия. Но мы начали наши заметки с положения, что
люди приходят и уходят, а реально сделанные работы
остаются, и то, что сложилось с участием отдельного
исследователя, продолжает дальше развиваться по своей
собственной логике. Можно надеяться, что это будет
иметь место и в нашем случае».
Строка отточий, которой я разорвал этот в высшей
степени любопытный документ, заменяет шестьдесят с
лишним страниц текста — страниц, давших мне
долгожданную возможность бросить взгляд, пусть беглый, на
полвека жизни в науке. Далеко не из чистого
любопытства стремился я к этому — надо было связать
концы многочисленных нитей, попавших мне в руки. Если
не упустить ни одну из них, если суметь соткать холст
из невесомой пряжи воспоминаний и размышлений,
можно было надеяться увидеть на нем следы былых
озарений и открытий, гибели старых представлений и
рождения новых. «Чудесный ткацкий станок, на котором
миллионы сверкающих челноков ткут мимолетный узор,
непрестанно меняющийся, но всегда полный значения».
Чарлз Шеррингтон, великий — несмотря ни на что —
физиолог, сказал эти слова о мозге. Но ведь их можно
отнести и к жизни тех, кто постигает его тайны...
«...Всегда полный значения». Самое поразительное
слово здесь «всегда». В любой момент — вчера, сегодня,
завтра. И все, что делается, полно значения — для
некоей отдаленной цели, которая вначале неясна,
туманна, но с каждым годом, с каждым десятилетием
становится все более четкой. Оглядываясь на путь,
пройденный в науке, и думая, очевидно, о новых дорогах в ней,
Александр Романович Лурия заметил как-то, что это
была «длинная серия исследований, которая
продолжалась более чем в течение половины столетия не
прерываясь, хотя и сопровождаясь рядом экскурсов в смеж-
192
ные проблемы, однако имеющие только одну цель и
только одну перспективу». Быть может, именно в этой
удивительной однонаправленности и скрыт секрет
успеха?
Скорее всего так и есть. Но ведь тут нет никакого
объяснения, ибо сама эта однонаправленность все
равно остается тем секретом за семью печатями, который
называется человеческой личностью. В самом деле,
можно поверить Александру Романовичу, что импульс,
полученный от Выготского, действительно задал
направление всем дальнейшим работам — и именно потому все
они естественным путем складывались вместе в
единое целое. Есть, конечно, своя логика в том, чтобы,
решив «разработать основные комплексы содержания
психологии», изучать последовательно восприятие,
память, речь, письмо, счет... И тогда даже такие сугубо
специальные работы, как проведенное совместно с
Карлом Прибрамом и Евгенией Давыдовной Хомской
исследование, в котором удалось выяснить роль лобных
долей в программировании человеком его действий и
движений, и то можно считать развитием высказанных
Выготским идей.
Но как быть с теми юношескими идеями и
планами, о которых Лурия рассказывал своим коллегам по
обществу психологов? Ведь они родились задолго до
встречи с Учителем и тем не менее идеи эти получили
завершение, а планы — много десятилетий спустя! —
реализовались: был все-таки разрешен конфликт между
«номотетической» и «идеографической» психологией,
волновавший студента факультета общественных наук
Казанского университета! Конфликт этот с годами не
ослаблялся, но, наоборот, усиливался. С развитием
математических методов, и особенно с появлением
быстродействующих счетно-решающих устройств, классические
формы медицинского познания постепенно оттеснялись
на задний план: врачи нашего времени, располагающие
целой батареей лабораторных средств, почти перестали
обращать внимание на клиническую реальность,
наблюдение больных часто стало замещаться десятками
лабораторных анализов. Тот тип врача, который был
характерен для прошлого — тип Великого Наблюдателя и
Мыслителя, — стал постепенно исчезать. Пропасть
между теорией медицины, пытающейся описать человека
как единое целое, и практикой, стремящейся как
можно детальнее разобраться в данном конкретном забо-
193
левании, росла. Выход из этого положения Лурия
увидел на том пути, который Маркс в свое время назвал
«восхождением к конкретному». Надо взять одного
человека и, наблюдая его долгие годы с разных сторон,
учитывая все его особенности, написать специальную
книгу, посвященную только этому пациенту, в которой
описание сомкнётся с объяснением.
Лурия так именно и поступил — он написал
«Маленькую книжку о большой памяти» и «Потерянный и
возвращенный мир». В каждой из них он имел дело
только с одним человеком, пытаясь дать анализ его
личности, исходя из какой-нибудь основной, решающей
для него черты, чтобы затем вывести из нее все
основные закономерности сознания этого человека и тем
самым устранить конфликт между «идеографическим»
описанием и «номотетическим» объяснением, —
конфликт, который казался непреодолимым пятьдесят лет
назад.
Поскольку невозможно дать синтетическое описание
личности, беря случайного человека и лишь
поверхностно анализируя его отдельные поступки, были выбраны
два человека, безусловно имеющие одну и ту же
отличительную черту, которая была сверхразвита в одном
случае и патологически разрушена в другом. Герой
первой книги Соломон Вениаминович Шерешевский был
человеком с исключительной, феноменальной памятью —
он мог, например, через десятки лет абсолютно точно
воспроизвести страницы текста на неизвестном ему
языке или колонки многозначных цифр, — и эта черта
доминировала над всей его личностью. Секрет его
удивительной памяти состоял в том, что он мыслил
комплексными, так называемыми синестезическими образами,—
принадлежал к немногочисленной группе людей, у
которых, как, например, у композитора Скрябина,
сохранилась «единая» чувствительность: любой звук рождает
непосредственное переживание цвета и света и даже
Екуса и прикосновения. Шерешевский мыслил такими
сложными образами, и они — зрительные, слуховые,
вкусовые, тактильные — сливались для него в одно целое:
он «слышал» цвет и видел звук, воспринимал на вкус
слово и краску. Лурия вспоминает в своей книге, как
они вместе с Шерешевским направлялись к
лаборатории известного физиолога академика Л. А. Орбели: «Вы
не забудете дороги?» — спросил я Шерешевского, сам
забыв, что он ничего не забывает. «Конечно нет, — от-
194
ветил он, — разве я могу забыть этот зеленый забор —
он такой соленый». «У вас такой желтый и
рассыпчатый голос»,— говорил он Выготскому. Он рассказал мне
о случае, когда он хотел купить мороженое, но
женщина, продававшая мороженое, грубым голосом сказала:
«Вы хотите шоколадного или нет?» — и ее голос
рассыпался черными хлопьями, так что вкус мороженого был
испорчен, и Шерешевский не мог даже попробовать его».
Но описание Шерешевского было бы недостаточным,
если бы Лурия ограничился его памятью. Ведь главное
во всем анализе заключалось в том, чтобы увидеть
влияние этой удивительной памяти на мышление,
поведение, на всю личность героя книги. Александр
Романович видел как силы, так и слабости интеллектуальной
деятельности Шерешевского, вытекающие из
особенностей его памяти. С одной стороны Шерешевский мог
произвольно повышать или понижать температуру кожи,
менять ритм сердечных сокращений — делать многое из
того, что доступно, например, йогам. Яркая образность
его представлений играла здесь решающую роль:
достаточно было ему представить, что в одной руке лежит
кусок льда, а в другой — горячий предмет, и температура
одной руки снижалась, а другой — поднималась. Стоило
ему вообразить, что он быстро бежит, и сердечный ритм
усиливался. Но эти яркие представления имели
известные слабости: «Один раз мне пришлось выступать в
суде, я приготовил речь. Я видел, судья сидит направо,
а я стою налево. Но когда я вошел в суд, оказалось,
что судья сидит слева, а я должен стоять с правой
стороны, и я растерялся, и вся моя логика исчезла. И дело
было проиграно».
Вся личность этого удивительного человека была
детерминирована его фантастической памятью, и
возникал вопрос: нельзя ли подойти к анализу структуры
этой личности, анализируя ее, как вторичное
проявление этого первичного фактора. Вот тут-то описание и
сближалось с объяснением, преодолевались пределы
описательной психологии и виделся путь к синтезу
«идеографической» и «номотетической» науки. И те же слова
следует отнести к другой книге «Потерянный и
возвращенный мир», хотя герой ее, Лев Александрович Засец-
кий, обладает не выдающейся памятью, а, наоборот,
речь в книге идет о трагедии разрушенной памяти.
...Итак, ничто не пропало даром, даже те далекие
юношеские планы. Какая-то внутренняя логика вела
195
Александра Романовича Лурию всю его долгую
научную жизнь. С другой стороны, он сам выбирал свои
пути— ибо что могло заставить его, в то время уже
профессора, преподававшего в педагогическом институте,
пойти учиться на медицинский факультет, окончить его,
поступить простым ординатором в нейрохирургический
институт, к Бурденко, проработать там много лет,
защитить еще одну кандидатскую и еще одну докторскую
диссертации — на этот раз по медицине.
Доктор наук... Это привычное словосочетание
начинает звучать для меня вдруг неожиданно свежо —
доктор наук, врачеватель их, исцелитель от немощей и
болезней, словно он лечит сухие науки от замкнутости в
себе, от разобщенности, от противопоставленности друг
другу. Не реши Лурия пройти весь путь медика от
ординаторских хлопот до профессорской мудрости, не
соединись этот путь с другим таким же, пройденным им в
психологии, едва ли смогли бы появиться на свет две
удивительные его книги и, видимо, конфликт между
противоборствующими ветвями психологии так и не был
бы разрешен.
И все-таки, в чем же секрет успеха? Видимо, мне не
дано найти ответ на этот вопрос. Но у самого Лурии я
нашел гипотезу, которую не хочу оставить без внимания.
Состоит она в том, что главный виновник тут не люди,
а время, или, точнее — Время. Мысль эта настолько в
духе Лурии, что мне было бы просто обидно ее упустить,
тем более что это всего несколько машинописных
страниц, нигде пока не опубликованных:
«Моя работа началась в первые годы Великой
Революции, и именно это имело решающее влияние не
только на мою дальнейшую деятельность, но и на
деятельность моих друзей. Если сравнить историю жизни
западных, например американских, психологов, которые
публикуются в известной серии „История психологии в
автобиографиях", с моей собственной жизнью и
работой, легко можно обнаружить огромные различия.
Многие из западных психологов имели выдающиеся
способности и большие достижения. Однако их жизнь
текла в относительно спокойных, медленно меняющихся
условиях. На них оказывали влияние их отцы, их
семейства, их непосредственное окружение. Начав свою
работу как исследователи, они постепенно продолжали
проводить свои наблюдения, иногда переходя из одного
университета в другой. Порой им приходилось более
196
последовательно разрабатывав новые области и
испытывать радость установления чего-то нового или же
страдать от того, что их работа не давала достаточных
результатов. Но чего им решительно не хватало — это той
стимулирующей атмосферы быстро развивающегося
раскрепощенного общества, того рождаемого революцией
чувства, что каждый является лишь частью большого,
целого, что его народ делает необыкновенные
исторические шаги, проходя в своем развитии столетия в очень
короткое время.
Атмосфера моих первых шагов в работе резко
отличалась от этой малоподвижной атмосферы западных
исследователей. Каждый из нас отчетливо ощущал, что
он является только частью великого движения
исключительной, уникальной исторической важности, что он
должен найти свое место в этих крупнейших
исторических событиях. Таков был дух первых лет революции,
общая доля всего молодого поколения людей,
родившихся в первые годы этого столетия.
По сути говоря, я не имел возможности формально
закончить мое среднее образование: вместо
полагающихся 8 лет я проучился только 6 лет в классической
гимназии и в 1913 г. закончил мою школьную
программу на краткосрочных курсах, как это сделали и многие
мои товарищи. Я не мог вместе с тем получить и
достаточного систематического университетского
образования: старшее поколение дореволюционных
профессоров было выбито из колеи новой ситуацией, а на
гуманитарных факультетах эта растерянность старых
профессоров была особенно выражена. Молодое
поколение— студенты — было слишком занято тем, чтобы
подвергнуть коренному пересмотру старые подходы и
наметить собственные новые пути. Это оставляло только
незначительное время для систематических учебных
занятий, и новая форма активности — студенческие
кружки, собрания, студенческие научные ассоциации, полные
дискуссий по каждой проблеме, заняли наше основное
время. Таким образом, я должен признаться, что, по
сути говоря, не имел хорошего систематического
научного образования.
Однако, несмотря на этот факт, вся атмосфера
первых лет революции оказала такое в высокой степени
важное влияние на меня, как и на всю молодежь моего
поколения, что нам удалось впоследствии кое-чего
добиться. Замечательным было само время, в которое мы
жили...»
197
Время, в которое живем мы, тоже по-своему
замечательно. Например, в том же не раз упоминавшемся богатом
событиями 1977 г. произошло еще одно, подведшее итог
долгому, напряженному и героическому труду многих
людей, и в первую очередь Александра Ивановича
Мещерякова, безвременно умершего ученика Лурии.
Состояло оно в том, что четверо слепоглухих студентов
закончили психологический факультет МГУ. Четверо
студентов, от рождения лишенных и слуха, и зрения...
«Особенность рассматриваемого нами эксперимента
заключается в том, что он создает условия, в которых
делаются зримыми — мне хочется сказать даже
осязаемыми и притом растянутыми во времени как бы с
помощью замедленной киносъемки — узловые события
процесса формирования личности, становления
(подумать только!) человеческого сознания, условия,
которые открывают как бы окно в самые сокровенные
глубины его природы», — говорил декан факультета
Алексей Николаевич Леонтьев на ученом совете за
несколько лет до этой защиты дипломов, когда столь
необычные студенты только что были зачислены в МГУ. А
теперь уже как председатель экзаменационной комис*
сии, подводя итог всем выступлениям, каждый раз
оговаривался: называл дипломанта «диссертантом». И в
самом деле, обычные студенческие мерки как-то не
годились для оценки этих работ.
Большая аудитория психологического факультета
была забита до отказа, жужжала кинокамера, вертелись
кассеты магнитофонов, слепили глаза блицы
фотокорреспондентов. Мы присутствовали при завершении
давнишнего спора о том, что есть человеческая душа, или,
говоря современным языком, психика. Родимся ли мы
с уже предопределенным характером, склонностями,
задатками, талантом, темпераментом или же все это
приходит к нам потом, когда мы приобщаемся к культуре,
созданной людьми? Наследуются или приобретаются
черты личности, душевный склад, нравственные идеалы?
По мысли Выготского — главной, пожалуй, мысли всех
его трудов — человек рождается не как Робинзон, он
живет не изолированным существом, но сразу же
включается в готовый общественный мир, ежесекундно имеет
дело с предметами, сложившимися в общественной
истории, и только это позволяет ему стать Человеком.
198
Психика наша, таким образом, целиком социальна —
вот вывод его «исторической» или «инструментальной»
или «культурной» психологии. «Чтобы познать
человеческую душу, надо выйти за пределы человеческого
организма» — этот завет своего учителя, Выготского,
Лурия не только сделал основой всей своей научной
жизни, но и передал ученикам — Александру
Ивановичу Мещерякову в числе их. Они вместе работали в
Институте нейрохирургии, а затем в Институте
дефектологии и хотя, защитив кандидатскую диссертацию по роли
лобных долей мозга, Мещеряков стал потом работать
в совсем иной области — с Иваном Афанасьевичем Со-
колянским, основателем советской
тифлосурдопедагогики, науки об обучении слепоглухих, но он перенес в
новое дело впитанную им философию психологических
исследований. И лишь благодаря этому смог завершить
труд, результаты которого мы теперь наблюдали. Нет,
далеко не для одной дефектологии или педагогики
важны были эти результаты. На том самом ученом совете,
что и Леонтьев, выступал и профессор Эвальд
Васильевич Ильенков, философ, увидевший в слепоглухих
студентах возможность экспериментально подтвердить
многие положения своей науки. Он говорил тогда:
— Проблемы, которые ставит перед ученым
обучение слепоглухонемых, — это проблемы гносеологические.
Нейропсихолог, разгадывающий недоступный для
прямого анализа механизм мозга, астроном, описывающий
далекие галактики, физик, изучающей невидимые
частицы,— все они, в конечном итоге, познают мир, скрытый
от органов чувств, которыми мы располагаем. Не даст
ли им в руки новые методы теория познания,
обогащенная тем, что мы уже узнали и еще узнаем, работая
с этими необычными студентами?
...В Репино Ричард Грегори показывал во время
своего доклада кинофильм, в котором различные
зрительные иллюзии — «невозможные» геометрические
фигуры, «выпуклые» маски—демонстрировали нам,
насколько человеческое восприятие неточно,
несовершенно, как легко нам обмануться в этом сложном мире. Я
вместе с другими в зале поражался тогда эффектным
кадрам, но вспоминал по самому мне неясной в тот
момент ассоциации совсем простые, неброские
скульптуры, слепленные из пластилина слепоглухими детьми.
Как же они, не видя, сумели обойти сложности,
мешающие даже зрячим — я отчетливо видел это на экране —
199
установить подлинную геометрию предметов вокруг нас?
Как удалось им, к примеру, соединить стены, пол и
потолок избы, которые они могли ощупать лишь по
очереди, но никогда не сразу, одновременно? И еще я
думал: наверное, те дехкане, которых обследовала
экспедиция в 30-е годы, поразились бы нашему восторгу во
время демонстрации фильма Грегори: ведь
оптико-геометрические иллюзии, составляющие его содержание,
были бы недоступны им, ибо и иллюзии, которым мы
подвержены, тоже продукт культуры, результат
воздействия среды, а не генов.
И вот теперь я слушал, как один за одним
защищали свои дипломные работы четверо необычных
студентов, аплодировал вместе с другими оценкам «отлично»,
выставляемым экзаменационной комиссией, и мысли
мои приняли иной оборот. Как все-таки удивительно
целенаправленно сходятся к одной точке все, даже самые
далекие «экскурсы в смежную проблему» в работах
Лурии, как много ветвей выросло на том дереве,
которое было посажено в тридцатых годах Выготским,
выращено Александром Романовичем Лурией и которое
предстоит растить дальше его ученикам...
* * *
Впервые шел я коридорами клиники не в
профессорской свите — один, никуда не спеша, ни с кем не
заговаривая. Это был мой собственный обход: я навещал
воспоминания. Те же бесчисленные повороты,
маленькие палаты, бесшумные сестры.
Нет, я просто уже не слышал их. Словно опытный
монтажер в черепной коробке свел на одну пленку мои
и чужие мысли, прочитанные страницы, услышанные
споры — в голове звучал одному мне слышимый голос
и я вел с ним беззвучный разговор:
— Ну вот, пора и кончать, — сказал я с грустью, но
и с облегчением.
— То есть как это?! — немедленно откликнулся он. —
А прозрачные намеки, что будет, наконец, рассказано
в деталях про лечение Засецкого? Как, когда, кто
сумел возвратить ему потерянный мир?
— Когда — известно: начиная с 1943 г. и по
сегодняшний день. Где — сначала в госпитале в Кисигаче на
Урале, потом в Москве, вот здесь, в Институте
нейрохирургии им. Бурденко, а теперь еще и в Клинике нерв-
200
ных болезней Первого мединститута. Кто — Александр
Романович Лурия, его сотрудники. А как, в деталях —
так ли уж важно знать? Знаете, какой ответ я получил,
когда досаждал подобными вопросами? «Человек —
это прежде всего личность, — услышал я. — Если
нарушилась речь, то нарушился и весь человек — его
восприятие, понимание мира и самого себя в нем, все его
способности и отличительные качества. Поэтому мы
восстанавливаем не речь, а личность больного. Кропотли-
вейшим образом изучаем, что у него осталось
неповрежденного, хоть два-три удержавшихся в памяти слова —
имена близких, что-то связанное с любимым делом,
какие-то эмоциональные восклицания, нецензурные
даже— они отчего-то наиболее глубоко западают в память
и держатся там. Потом ищем обходной путь для
нарушенного звена в работе мозга, опираясь на эти
остатки. Бывает, человек не может произнести ни слова, но
вдруг, когда прослушает достаточно мелодий, песен,
неожиданно скажет целую фразу из стихотворения — из-за
ее ритмичной структуры. Или — не в силах изобразить и
одной буквы, но легко ставит свою подпись — его руку
ведет сохранившаяся в памяти кинетическая мелодия
движения мускулов. Мы стараемся придумывать массу
разнообразных занятий — с картинками, разрезными
фигурами, с конструктором и кубиками, с магнитофоном
и кинопроектором, мы рисуем схемы пути, по которым
должны ходить люди, потерявшие пространственную
ориентацию, и всячески оживляем эти схемы.
Пытаемся не упустить малейшую возможность, чтобы
зацепиться за здоровье в сознании наших больных и построить
из него мост через поврежденный участок, — даже
ежедневное рукопожатие для больных, у которых, как у
знакомого вам Засецкого, поражены третичные отделы
второго блока, оказалось очень важным, и мы никогда
не забудем теперь, каким образом улучшить
нарушенное понимание пространственных отношений. Ищем
всюду— так и создаются наши восстановительные
методики».
А позже я был в Свистухе, под Москвой, у Лурии на
даче. В отпуске он работал над теми тетрадями,
которые прислал Засецкий с последней почтой из Кимовска.
И вскрылась удивительная вещь — Лев Александрович
сам нашел для себя способ лечения. За год он успел
написать более тысячи страниц благодаря тому, что
стал писать ритмизированной прозой, иногда даже ча-
201
стично рифмуя свои воспоминания. Мелодика этих
стихов в прозе ведет руку, и так, «с ходу», он вспоминает
вдруг забытые слова, звучащие в его голове ритмы
будят поврежденную память. Послушайте:
«Такое явление кратко назвал я „смущением тела".
Оно меня реже тревожит, чем все остальные дела иль
другие болезни...
Вот до волос я дотронусь — чувствую боль, раздра-
женье, особенно если коснусь головы... Гуденье в ногах
и руках и боли в них — также, бесспорно, от нервов».
Или вот совсем другой музыкальный строй:
«И я по-прежнему в смущеньи — все путаюсь в
таких вещах... Да, слаб я в них, и без сомненья! Неладно
что-то все в мозгах. Да, мой язык весь под „замком",
ключей к нему не подберешь. Такая память моя
стала — не скоро слово „отопрешь"».
Еще один:
«И снова в бессилии сильном, в упадке душа. Опять
меня грусть пожирает: не хватит... не хватит ли жить
мне на свете?.. Не знаю, быть может, не стоит. Но
более сильные мысли твердят мне иное — они мне твердят:
«Подожди, ведь время теперь не такое — за зря
умирать, по пустому, быть может, вернешься ты в строй».
И верно, я часто мечтаю стать прежним — таким,
каким был до раненья... Мечты я теперь полюбил: от
горечи всякой, любой, уводят они меня дальше, в мечтах
обретаю покой».
Вслушайтесь — это не Лукреций Кар, это больной
Засецкий пишет историю своей болезни:
«...Он аппарат ко мне поближе подвел, к глазам, и
я глядел и что-то видел и не видел... И вместо
красного кружочка я вижу маленький серпочек с бесцветным
светом. Чаще серп я вовсе — вовсе! — и не вижу, а
просто льется где-то свет. В том месте, где нет цвета в
свете,— вы понимаете меня? — причина этого бесцветья
чуть-чуть как будто бы ясна: там много—■ множество! —
скотомов, в пространстве левом все как раз, в том
самом точно поле зренья, где раньше видел все мой
глаз!»
...Теперь, надеюсь, вы удовлетворены моим
ответом?!— спросил я своего дотошного собеседника.
— И все-таки, пожалуй, не совсем, — не сдавался
он. — Все это столь удивительно, что хотелось бы знать,
как лечат больных, у которых поражен тот или иной
202
блок, — последовательно, пооперационно, что сначала,
что потом...
— Спасибо! Ничего более приятного вы не могли
мне сказать. Значит, я не даром рассказывал вам о
прочитанных книгах, об их авторах и героях и о том, что
с этим чтением было для меня связано. Выходит,
задача моя выполнена — вам захотелось прочесть их
самому, найти ответы на свои вопросы. Позвольте на
прощание зачитать вам еще одну цитату. Послушайте:
«Может быть кто-нибудь из знатоков больших и серьезных
мыслей поймет мое ранение и болезнь, разберется, что
происходит в голове, в памяти, в организме...» Что
если Засецкий адресуется именно к вам, и вам суждено
стать таким «знатоком больших и серьезных мыслей»?
Кстати, кто вы?
— А я думал, что при вашей-то проницательности
можно бы и догадаться... Читатель!
* * *
...Этот разговор мне пригрезился, когда я шел
прощальным маршрутом по бесконечным коридорам
Института им. Бурденко,
203
Вместо заключения
«Дорогие друзья мои!
Простите, что отвечаю Вам прозой на стихи и чуть-
чуть излишне серьезно и тяжеловесно на шутку. В
каждой шутке ведь есть своя доля серьезного; на эту
только часть Вашего послания я и отвечаю. Впрочем,
сознаюсь: стихи сейчас совсем не даются мне, а достойный
ответ я откладываю до того времени, когда сумею с
этим справиться... А серьезно — в двух словах. В
последней строчке у Вас сказано то, что является сейчас
для меня основным лейтмотивом моего самочувствия и
мирочувствия: «...Путь-дорога далека».
Я никогда не решился бы пуститься в такие
откровенности (этот лейтмотив я таю про себя), если бы не
почувствовал, что и Вы начинаете с одного угла
осознавать огромность пути, открывающегося перед
психологом, восстанавливающим по следам историю психики.
Это — новая страница.
Когда я подмечал это в Вас раньше, то прежде
всего удивлялся. Мне и до сих пор кажется удивительным,
что при данных обстоятельствах и неясности еще
многих вещей люди, выбирающие только дорогу, встали
на этот путь. Чувство огромного удивления пережил я,
когда Александр Романович в свое время первый стал
выходить на эту дорогу, когда Алексей Николаевич
вышел вслед за ним. А сейчас к удивлению прибавляется
радость, что по открытым следам уже не одному, не
нам троим, а еще пяти людям видна эта большая
дорога.
Чувство огромности и массивности современной
психологической работы (мы живем в эпоху геологических
переворотов в психологии)—мое основное чувство. Но
это делает бесконечно ответственным, в высшей степени
серьезным, почти трагическим (в лучшем и настоящем,
а не далеком значении этого слова) положение тех
немногих, кто ведет новую линию в науке, особенно в
науке о человеке. Тысячу раз надо испытать себя, про-
204
верить, выдержать искус, прежде чем решиться, потому
что это — трудный и требующий всего человека путь...
Ваш Л. Выготский
Ташкент, 15 апреля 1929 года».
Этот в высшей степени любопытный человеческий
документ — ответ Выготского на стихотворное послание
знаменитой «пятерки», которую составляли А. В.
Запорожец, Л. С. Славина, Р. Е. Левина, Л. И. Божович и
Н. Г. Морозова, зачитал В. П. Зинченко на Первой
всесоюзной конференции, посвященной работам Льва
Семеновича. Она называлась «Научное творчество Л. С.
Выготского и современная психология» и проходила в
Москве в конце декабря 1981 г.
Слова эти, дошедшие до нас через полвека g линь
ним, пусть и послужат по мысли и духу заключением
для этой книги.
205
Примечания
Глава I
1 Это учебное заведение давало общее среднее и шлсшее
образование (хотя и не имело права вручать официально признаваемые
дипломы) всем лицам вне зависимости от пола, национальной
принадлежности и политических взглядов. Университет
существовал на средства либерального деятеля народного образования
А. Л. Шанявского (1837—1905) в 1908—1918 гг. в Москве.
2 Здесь и далее в этой главе цитируется статья «Моцарт
психологии», опубликованная в «Нью-Йорк ревью оф букс» 28
сентября 1978 г. Ее автор Стефан Э. Тулмин — профессор
Чикагского университета; его перу принадлежит целый ряд книг по
философии и истории научной мысли, в том числе
«Человеческое взаимопонимание» (1972) и «Венский кружок
Витгенштейна» (1973).
8 Выготский Л. С. Орудие и знак в развитии ребенка. М., 1931.
(Рукопись). См. также: Выготский Л. С. Собр. соч. М., 1984.
Т. 6. С. 90.
4 Спиноза Б. Сочинения. М., 1964. С. 285.
6 Выготский Л. С. Графика А. Быховского. М., 1926. С. 8.
6 Эту речь А. Р. Лурия произнес 6 января 1935 г. в Москве на
траурном заседании, посвященном кончине Л. С. Выготского.
7 Семен Филиппович Добкин — товарищ детских и юношеских лет
Л. С. Выготского, сохранивший связь с ним до последних лет
жизни. «Незабываемый спутник по векам и дням» — так
называл его Выготский, имея, в частности, в виду созданное ими
совместно издательство «Века и дни», о деятельности которого
идет речь в публикуемых воспоминаниях Добкина.
8 В начале 20-х годов Л. С. Выготский заменил в своей фамилии
букву «д» на «т», ссылаясь на то, что семья его происходила из
местечка Выготово.
в Артур Владимирович Петровский (р. 1924)—действительный
член АПН СССР. Основные исследования по истории
психологии, социальной психологии и психологии личности.
Роман Осипович Якобсон (1896—1982) — русский и
американский языковед и литературовед. С 1921 г. жил за границей.
Один из основателей московского, пражского и нью-йоркского
лингвистических кружков, один из основоположников
структурализма в языкознании и литературоведении.
Стефан Э. Тулмин — см. примеч. 2.
Владимир Петрович Зинченко (р.
1931)—член-корреспондент АПН СССР, директор Института человека АН СССР.
Основные труды: «Воспитание и действие» (1967), «Формирование
зрительного образа» (1969), «Психология восприятия» (1973),
«Основы эргономики» (1979).
Георгий Петрович Щедровицкий (р. 1929) — известный
советский специалист в области методологии науки.
206
Майкл А. Коул — профессор Калифорнийского университета
(Сан-Диего), ученик А. Р. Лурии, автор многих трудов о
Л. С. Выготском и его школе, редактор журнала «Soviet
Psychology».
Василий Васильевич Давыдов (р. 1930)—действительный
член и вице-президент АПН СССР. Основной труд: «Типы
обобщения в обучении» (1972),
Джеймс В. Уертш — преподаватель кафедры
психолингвистики Северо-Западного университета (Иллинойс, США), автор
нескольких работ, посвященных творчеству Л. С. Выготского.
10 Из личного архива автора. Запись беседы с А. В. Петровским.
11 Из личного архива автора. Запись беседы с Р. О. Якобсоном во
время Международного конгресса по проблеме неосознаваемой
психической деятельности, Тбилиси, 28 сентября — 5 октября
1979 г.
12 См. примеч. 2.
13 Это и последующие высказывания Л. С. Выготского,
приведенные в этой главе, взяты из его статьи «Психологическая наука
в СССР», опубликованной в книге «Общественные науки в
СССР (1917—1927 гг.)» (М., 1928.)
14 Из личного архива автора. Запись беседы с В. П. Зинченко.
15 Из личного архива автора. Запись беседы с Г. П. Щедровицким.
16 Цит. по: Luria A. R. The Making of the Mind. Cambridge (Mass.),
1979. P. 204.
17 Из личного архива автора. Запись беседы с В. В. Давыдовым
(здесь и далее в этой главе).
18 Цит. по: Wertsch J. V. Translator's introduction to «L. S. Vy-
gotsky. The Instrumental Method in Psychology», (papers for
Chicago Vygotsky conference, 23—26 October 1980).
19 Цит. по: Ярошевский M. Г. История психологии. M., 1976.
С. 419—420.
20 Цит. по: Лурия А. Р. Об историческом развитии
познавательных процессов. М., 1974. С. 22—24.
21 Цит. по: Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.,
1977. С. 154—155. •
22 Ярошевский М. Г., Гургенидзе Г. С. Л. С. Выготский —
исследователь проблем методологии науки//Вопр. психологии. 1977.
№ 8.
Глава 2
1 См.: Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977.
С. 217.
2 Имеется в виду Н. В. Тимофеев-Ресовский, герой книги Д.
Гранина «Зубр».
3 Сеченов Я. М. Избранные произведения. М., 1952. Т. 1. С. 581.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. I. С. 28.
Глава 3
1 Ф. Н. Шемякин — один из участников «психологических
экспедиций» в Среднюю Азию.
2 Этот рисунок помещен на задней обложке книги.
3 С ним А. Р. Лурии тоже довелось поработать совместно. Вот
как рассказывает он о тех днях, когда все лучшие силы мировой
науки были брошены на то, чтобы вернуть к жизни и работе
академика Льва Давидовича Ландау: «Я имел возможность ка-
207
блюдать одного известного советского физика, который получил
черепно-мозговую травму и который не мог слышать и говорить.
Хирурги, обследовавшие его, считали отсутствие речи афазией и
предполагали у него наличие гематомы, которую следовало
удалить. Я решительно возражал против этого и был очень рад,
когда получил поддержку У. Пенфилда, ибо нам обоим казалось,
что дело идет не об афазии (основной характерный признак
заключался в том, что больной даже не пытался говорить) и что
здесь мы имеем дело с функциональным торможением речи, ее
временной блокадой. Мы взяли на себя смелость утверждать,
что больной станет говорить через короткий промежуток
времени без всякой специальной помощи, и наши ожидания блестяще
оправдались, когда через две недели я смог говорить с ним
сразу на нескольких языках, равно сохранных у него».
4 См.: Знание —сила. 1971. № 1. С. 38—41.
5 Первое послание к коринфянам Святого апостола Павла. 3, 18.
6 Она репродуцирована на первой обложке этой книги.
7 См.: Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. М.,
1975.
8 Петр Иванович Зинченко (1903—1969) — советский психолог,
доктор педагогических наук, профессор Харьковского
университета. Основные труды — по проблемам памяти,
экспериментальные исследования непроизвольного и произвольного запоминания.
9 «История психологии в автобиографиях» — выходящая в США
серия книг, каждая из которых посвящена одному из известных
психологов.
I
Оглавление
Предисловие 3
Вместо введения 6
Глава 1. «Века и дни» В
Лев Семенович Выготский (Факты из биографии) 8
Несколько предваряющих слов 9
Речь, произнесенная на траурном заседании
А. Р. Лурией ... 13
«Века и дни» (Монолог С. Ф. Добкина) 18
«Моцарт психологии» (Воображаемый обмен
мнениями) 37
Глава 2. «Личностью не рождаются» 79
Алексей Николаевич Леонтьев (Факты из
биографии) 79
Несколько предваряющих слов 79
Последнее интервью 80
«Личностью не рождаются» 90
Глава 3. «Всегда полный значенья» 109
Александр Романович Лурия (Факты из биографии) 109
Несколько предваряющих слов 110
«Всегда полный значенья» (Документальная повесть
об А. Р. Лурии) 111
I «Дом души» 111
2. Уголовный розыск 152
Вместо заключения 204
Примечания
206