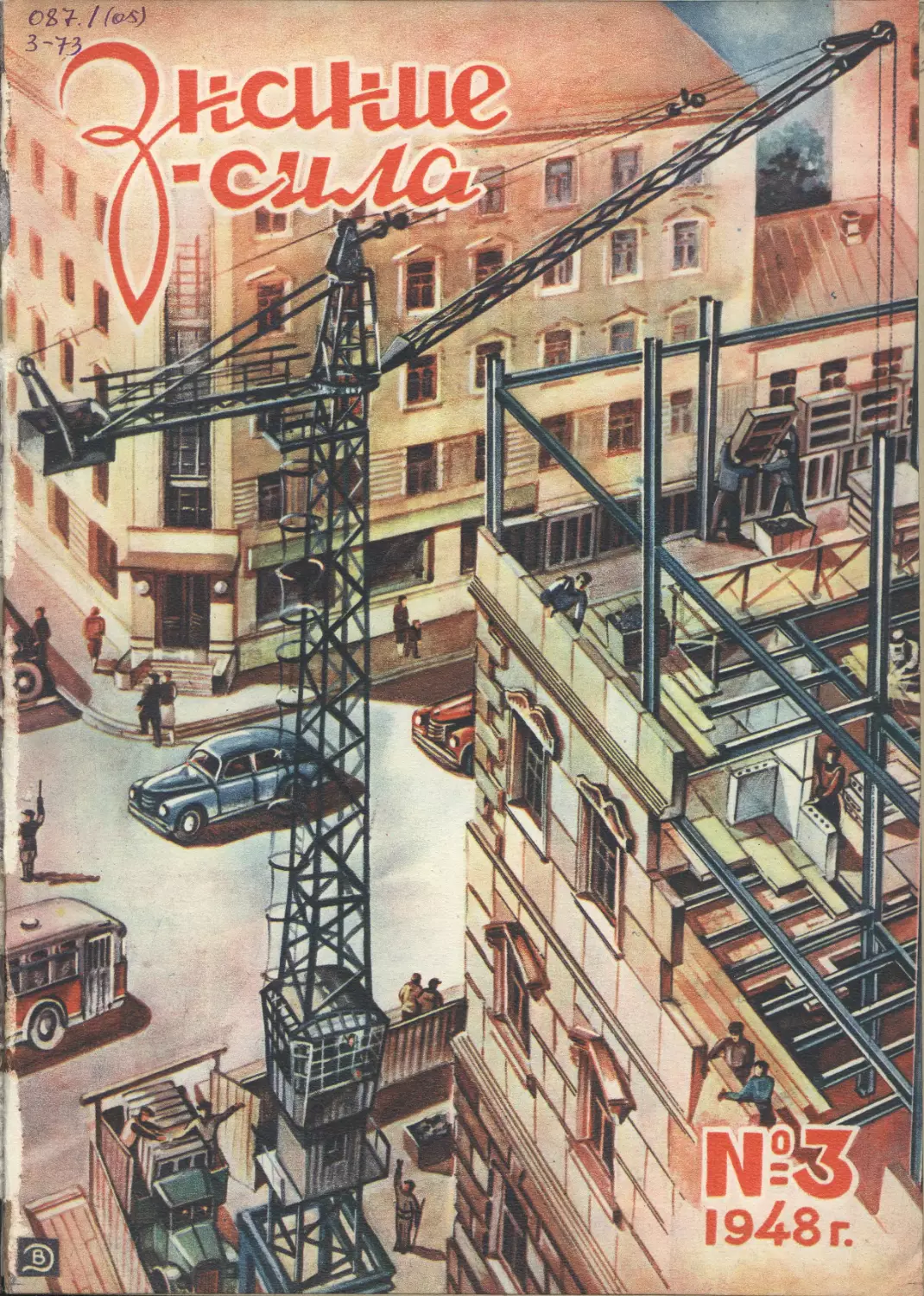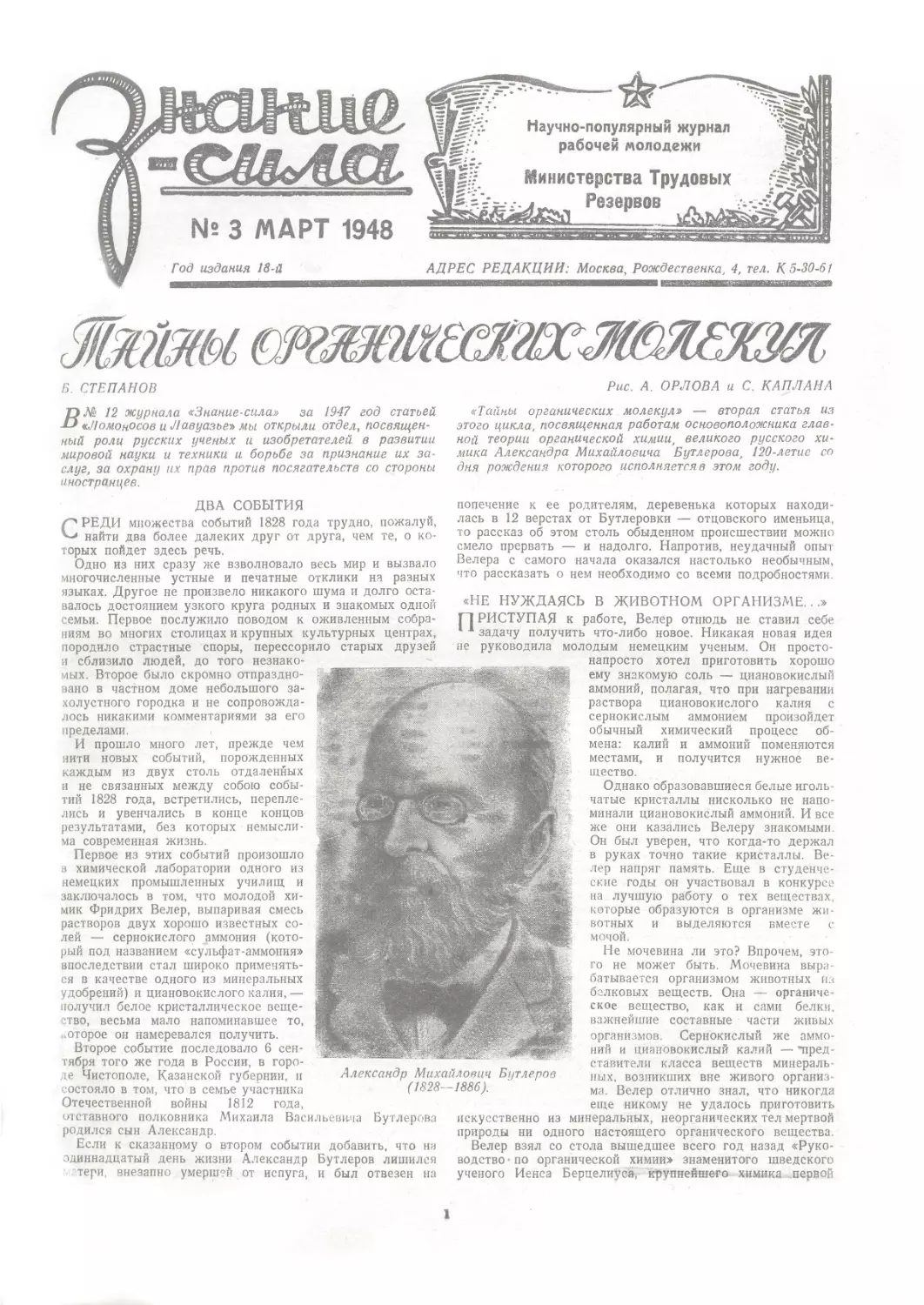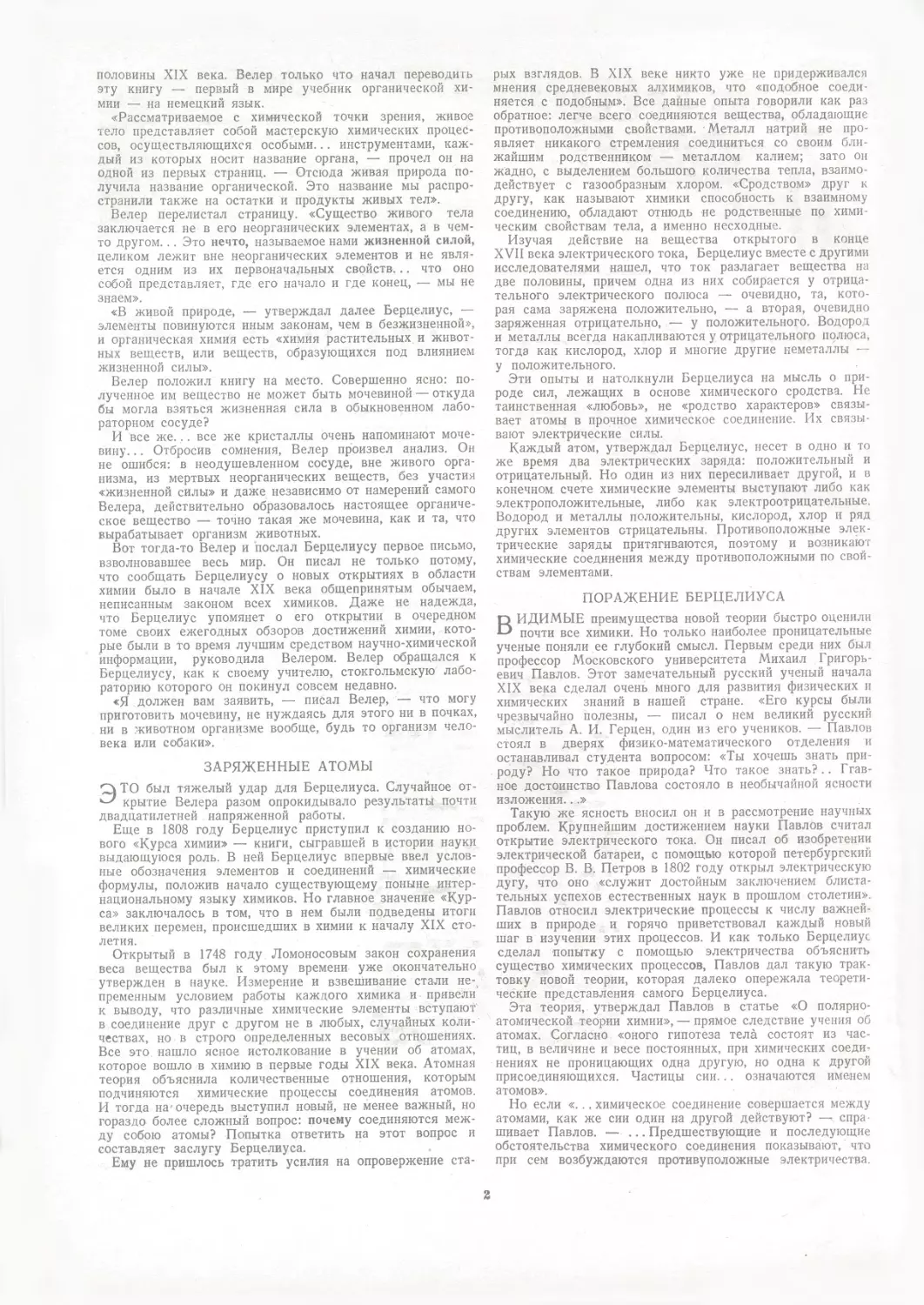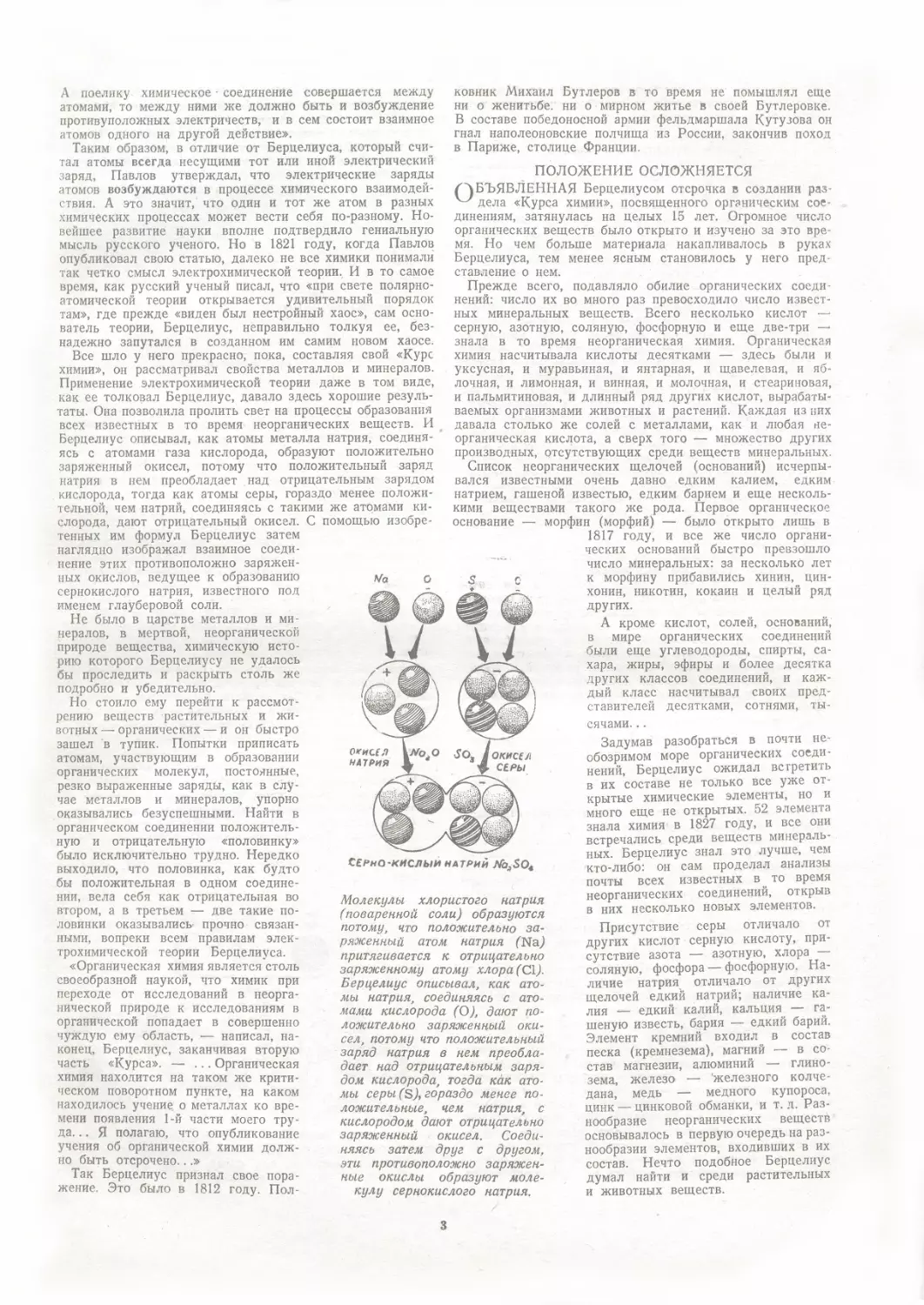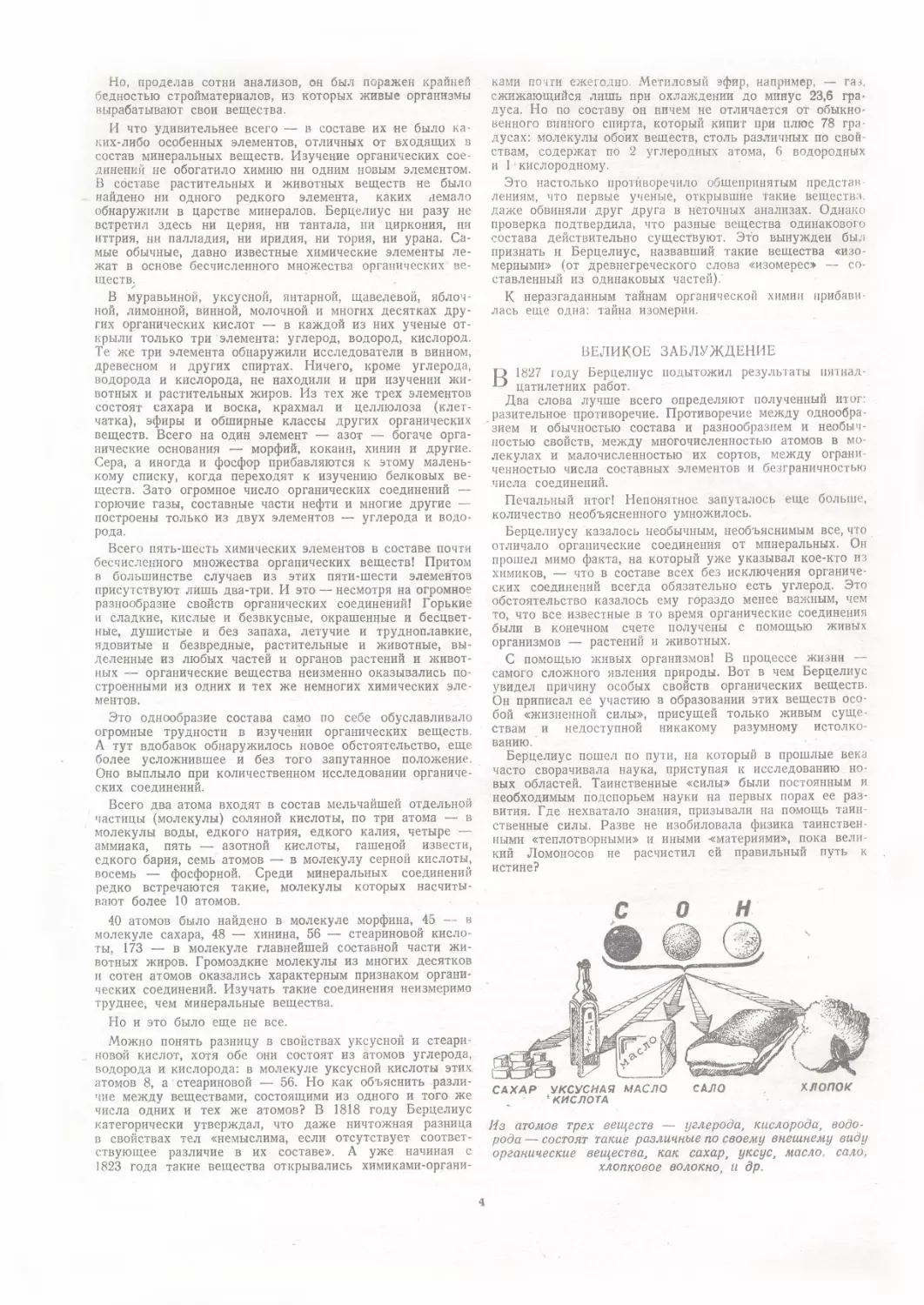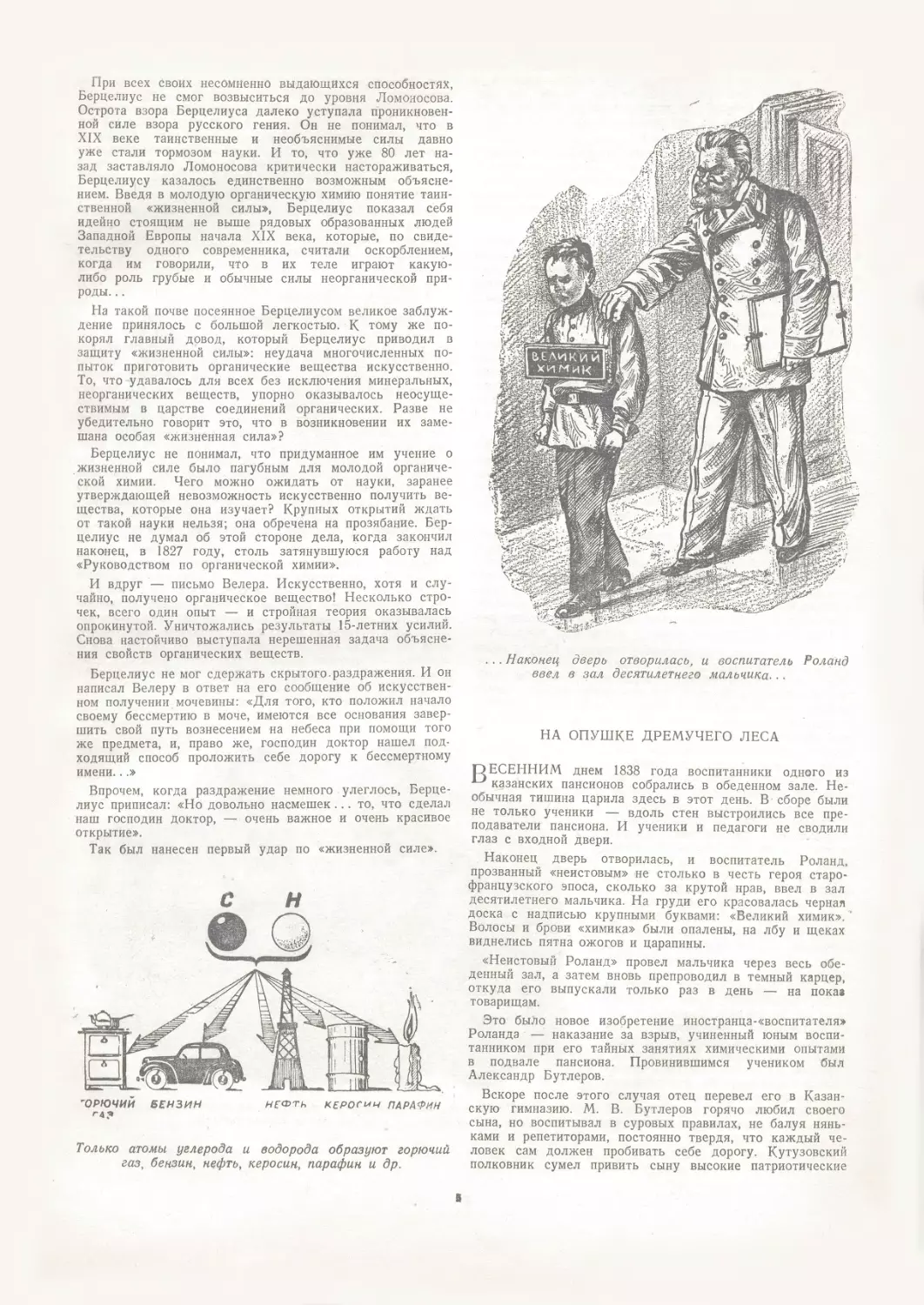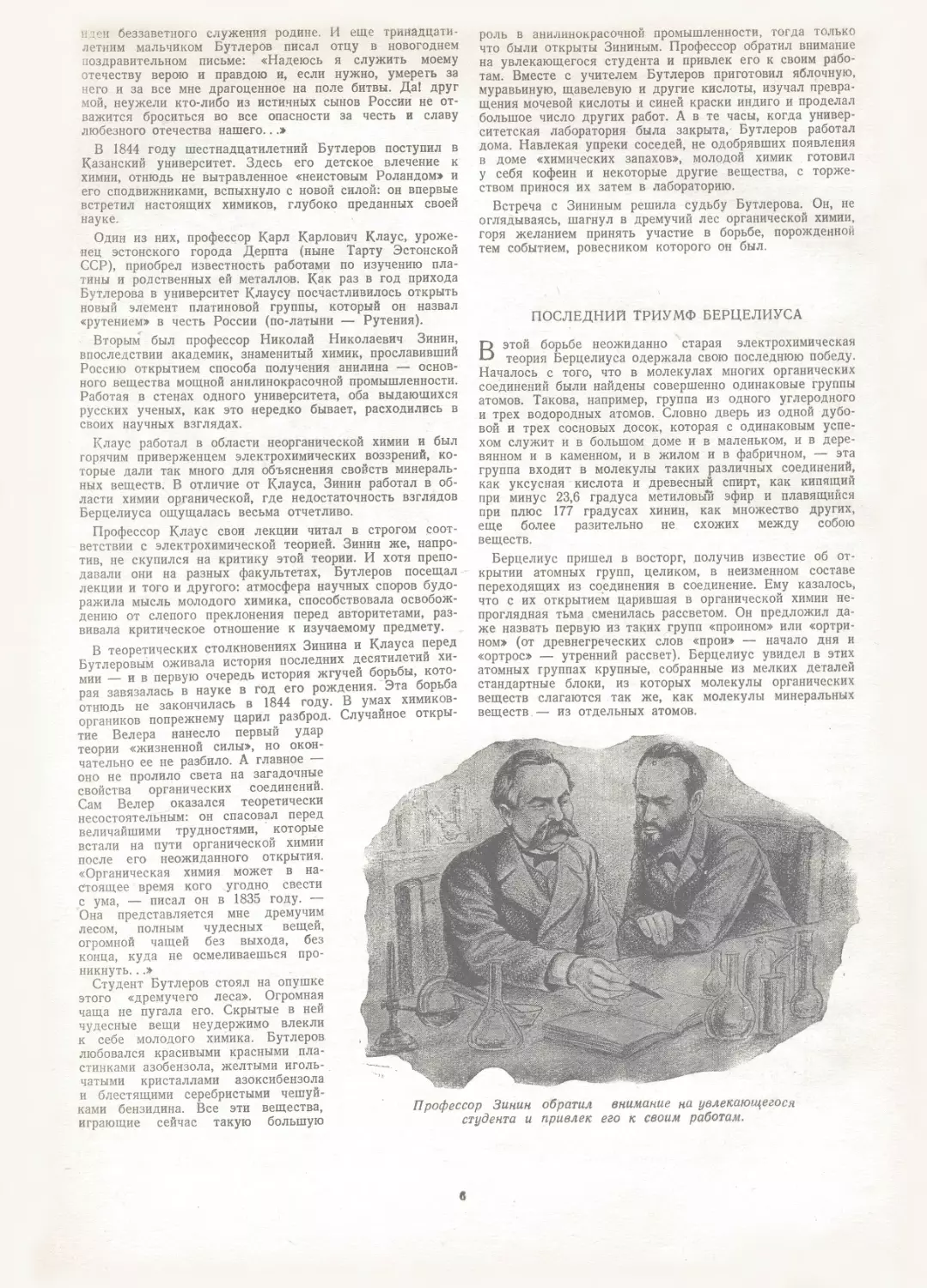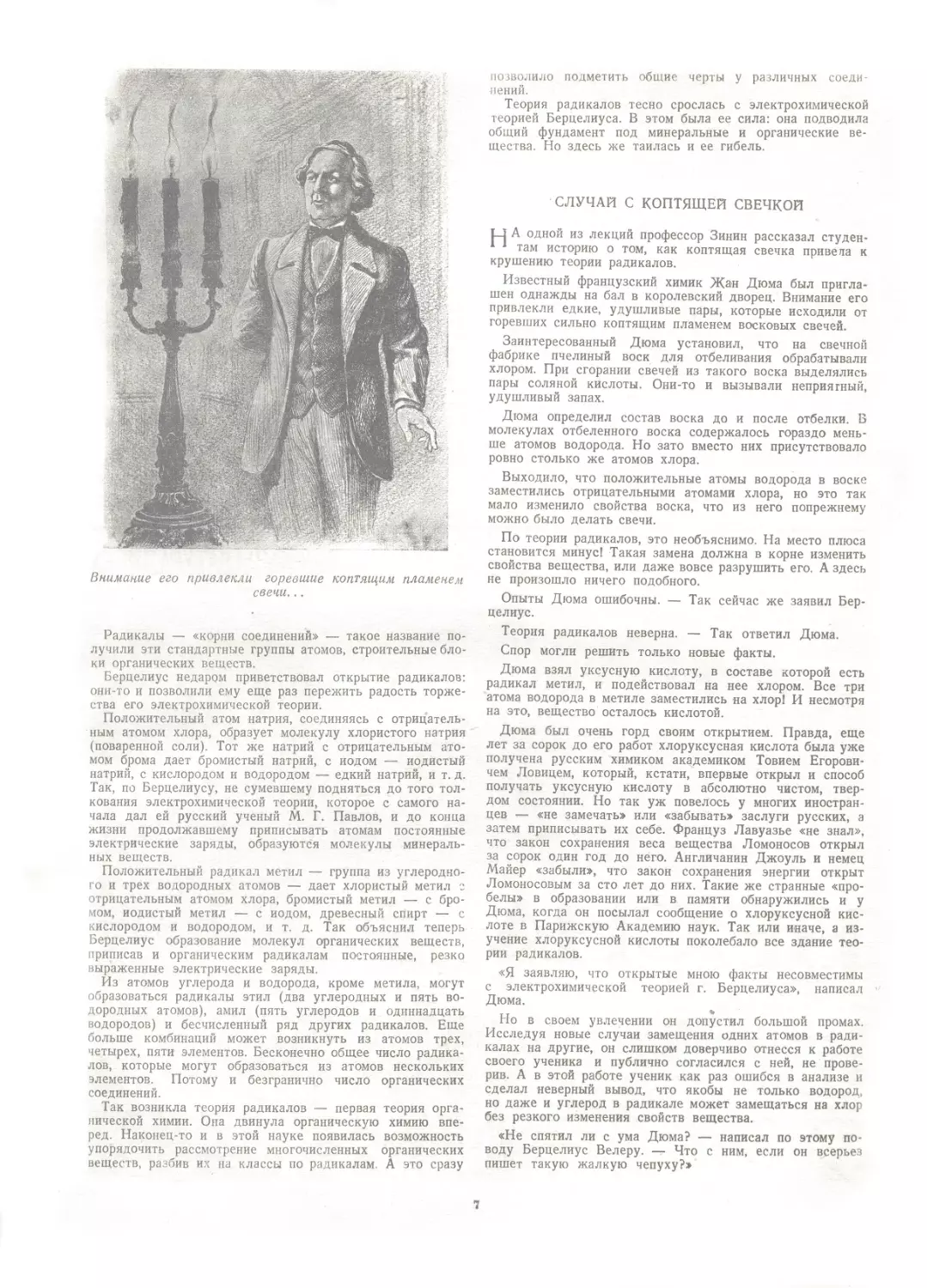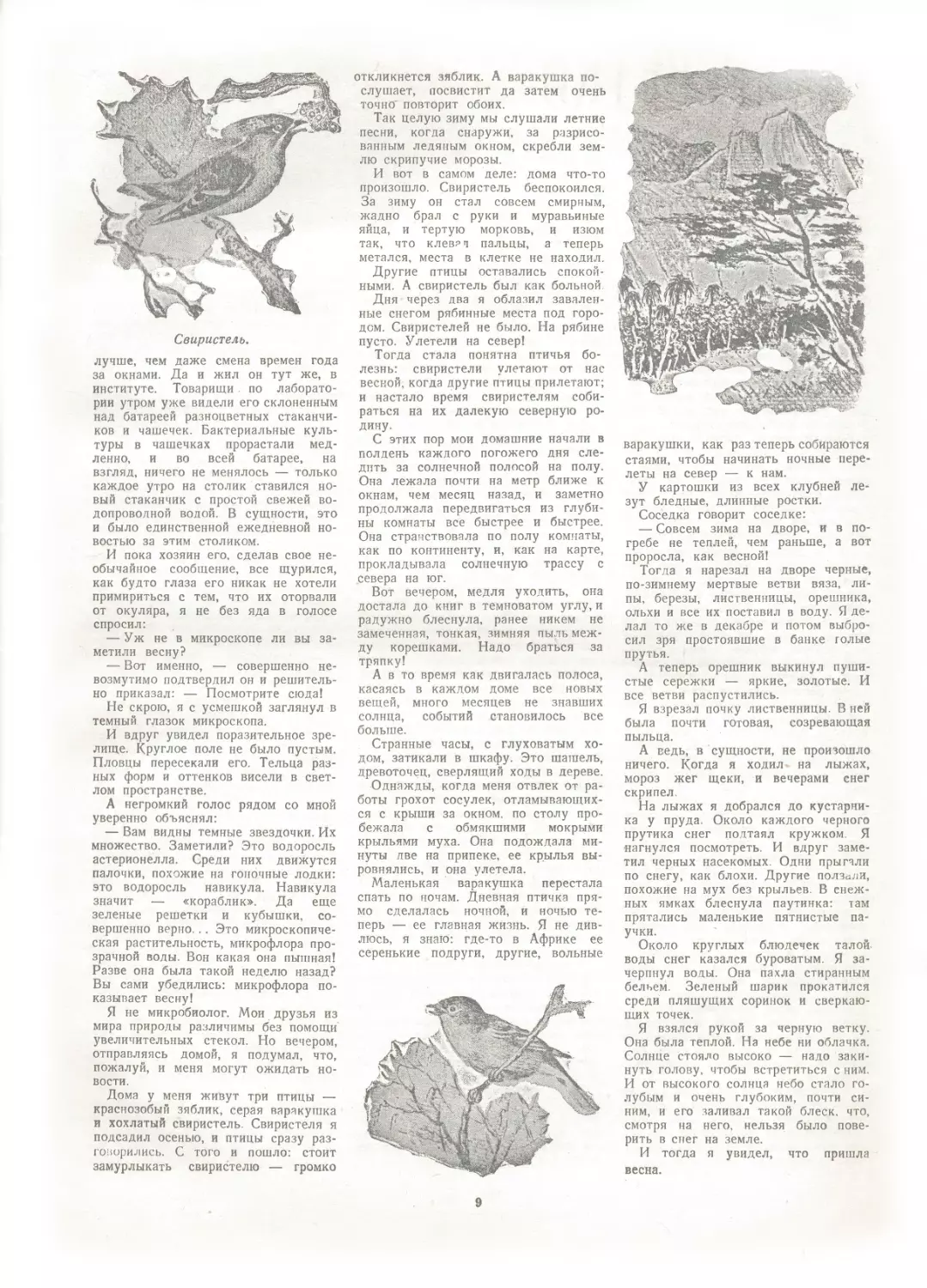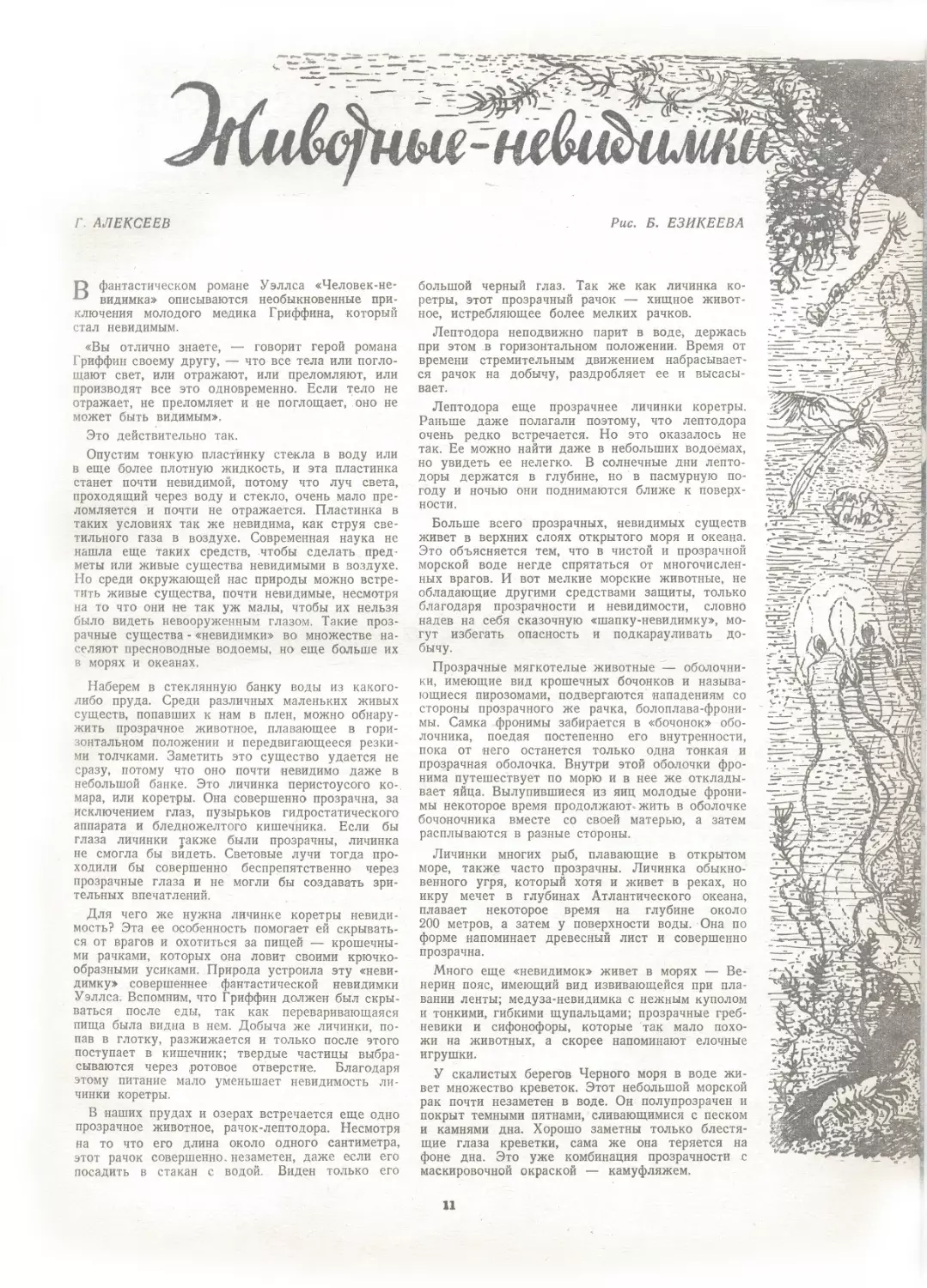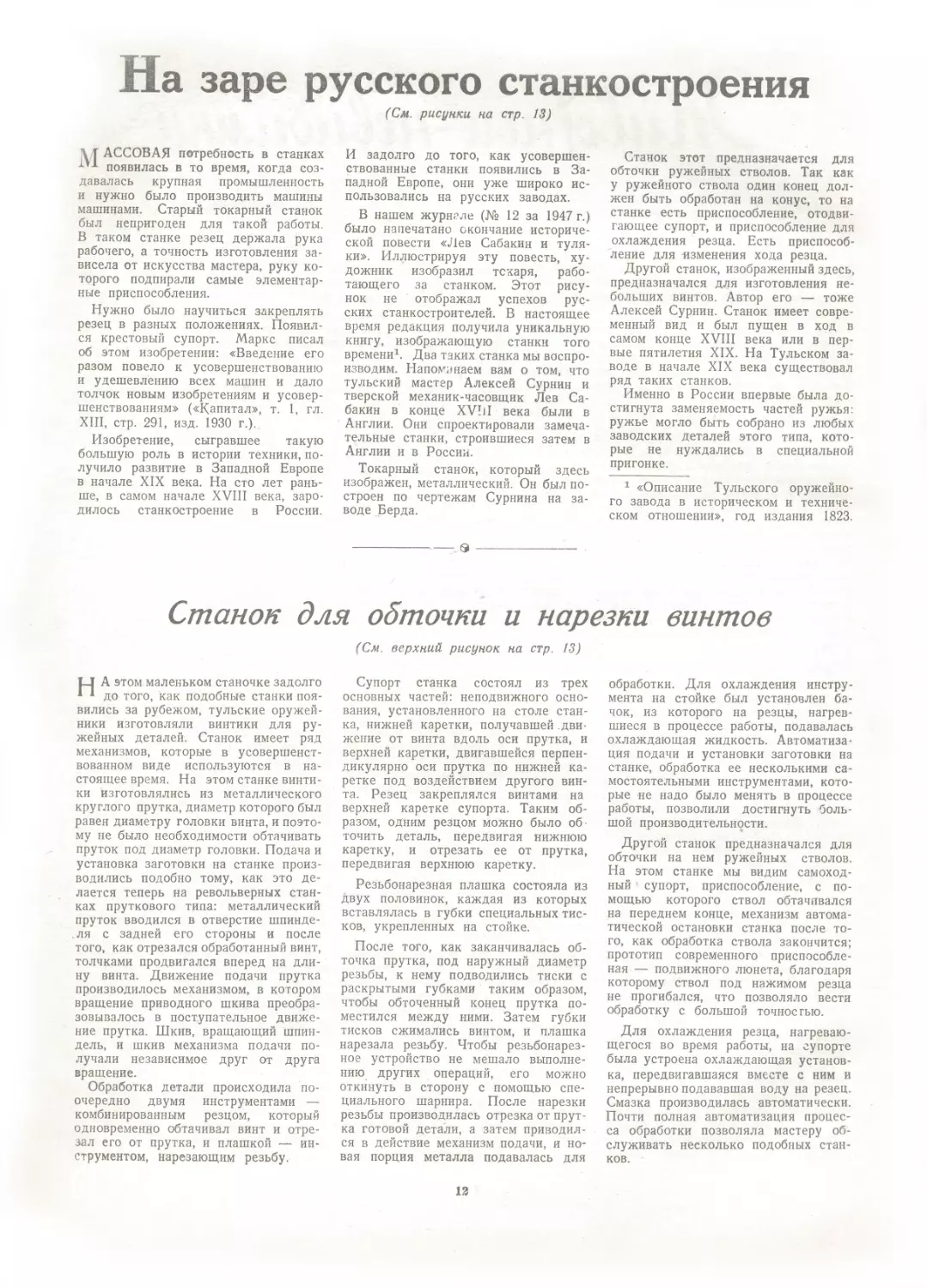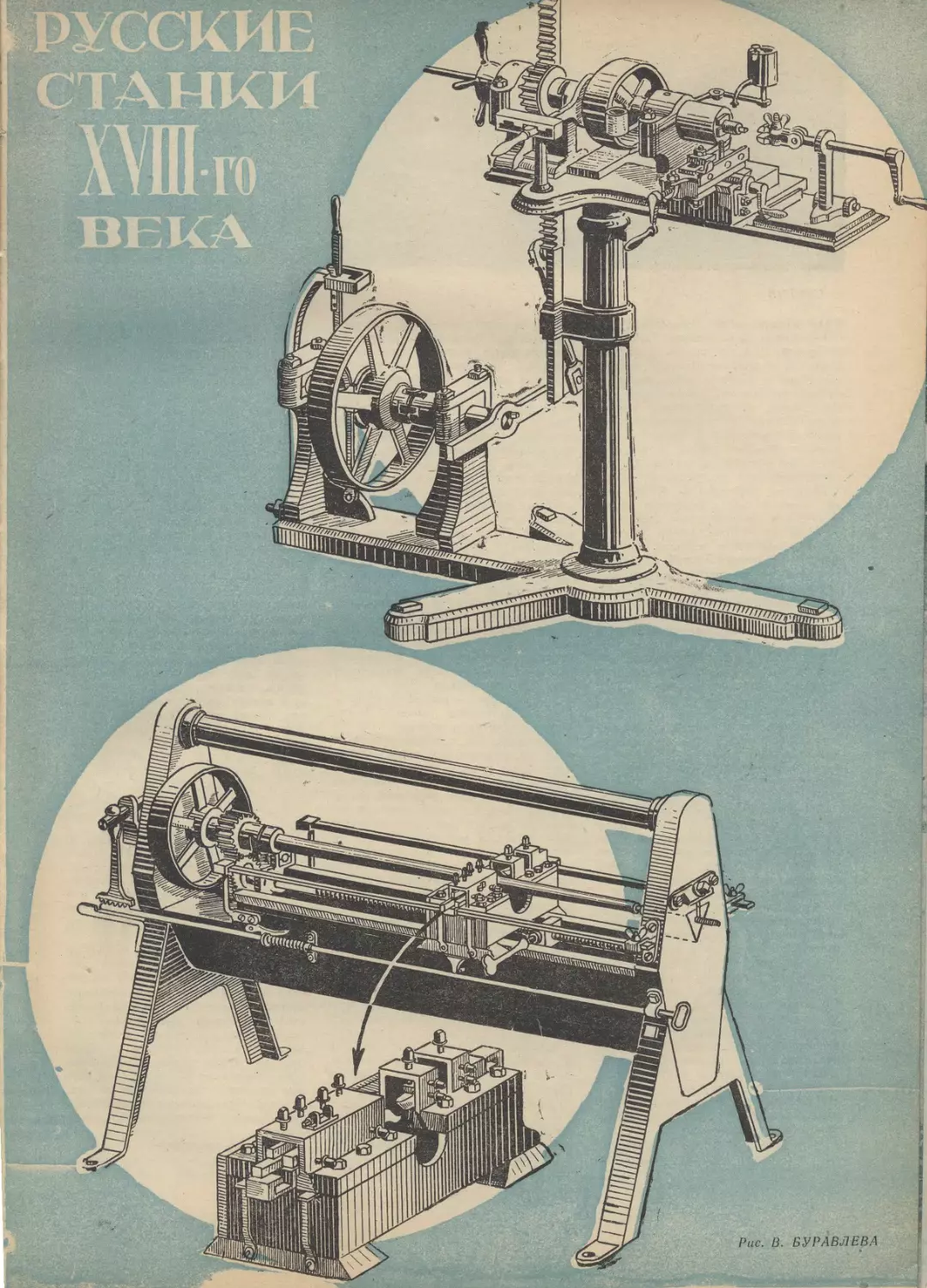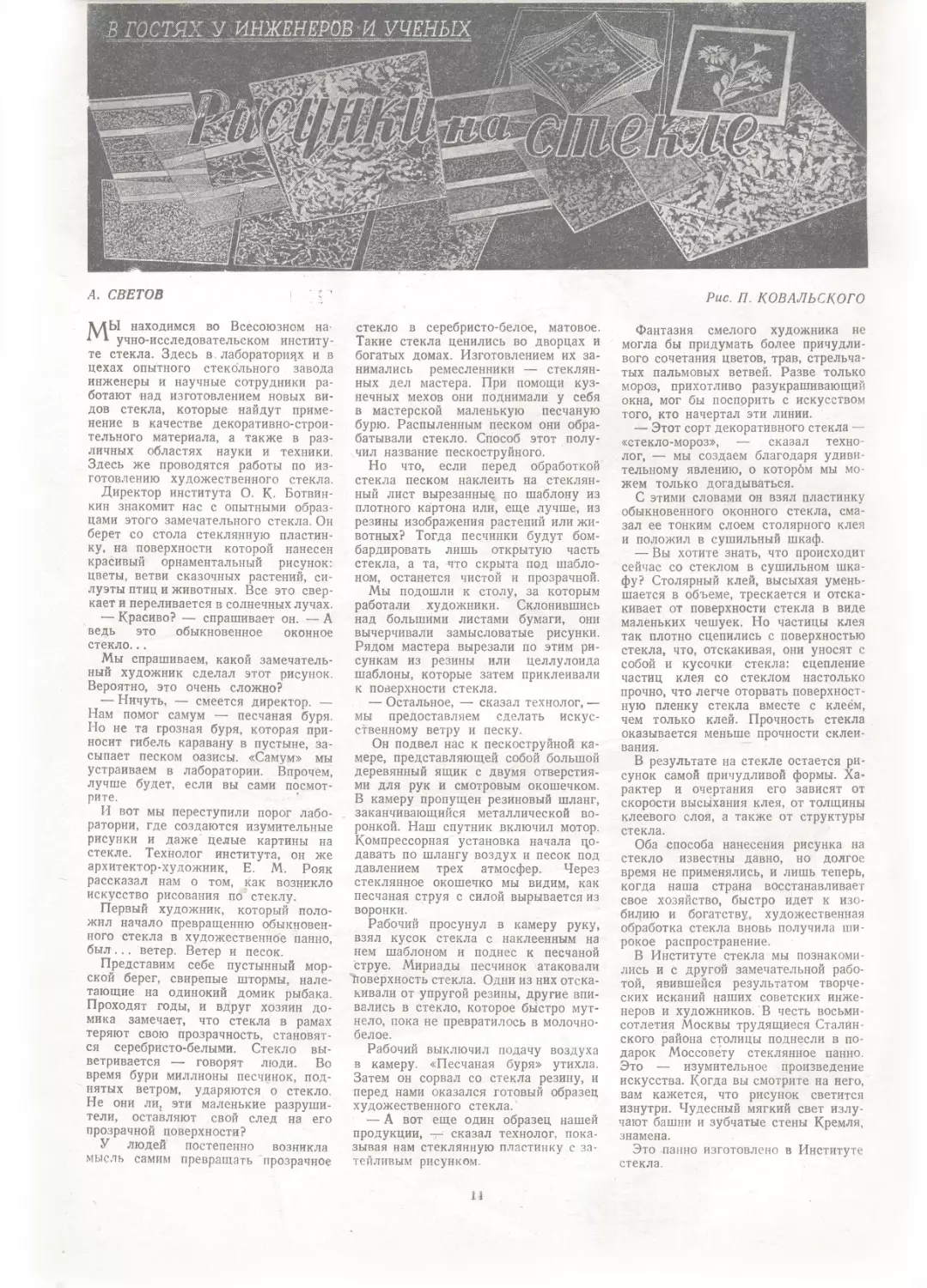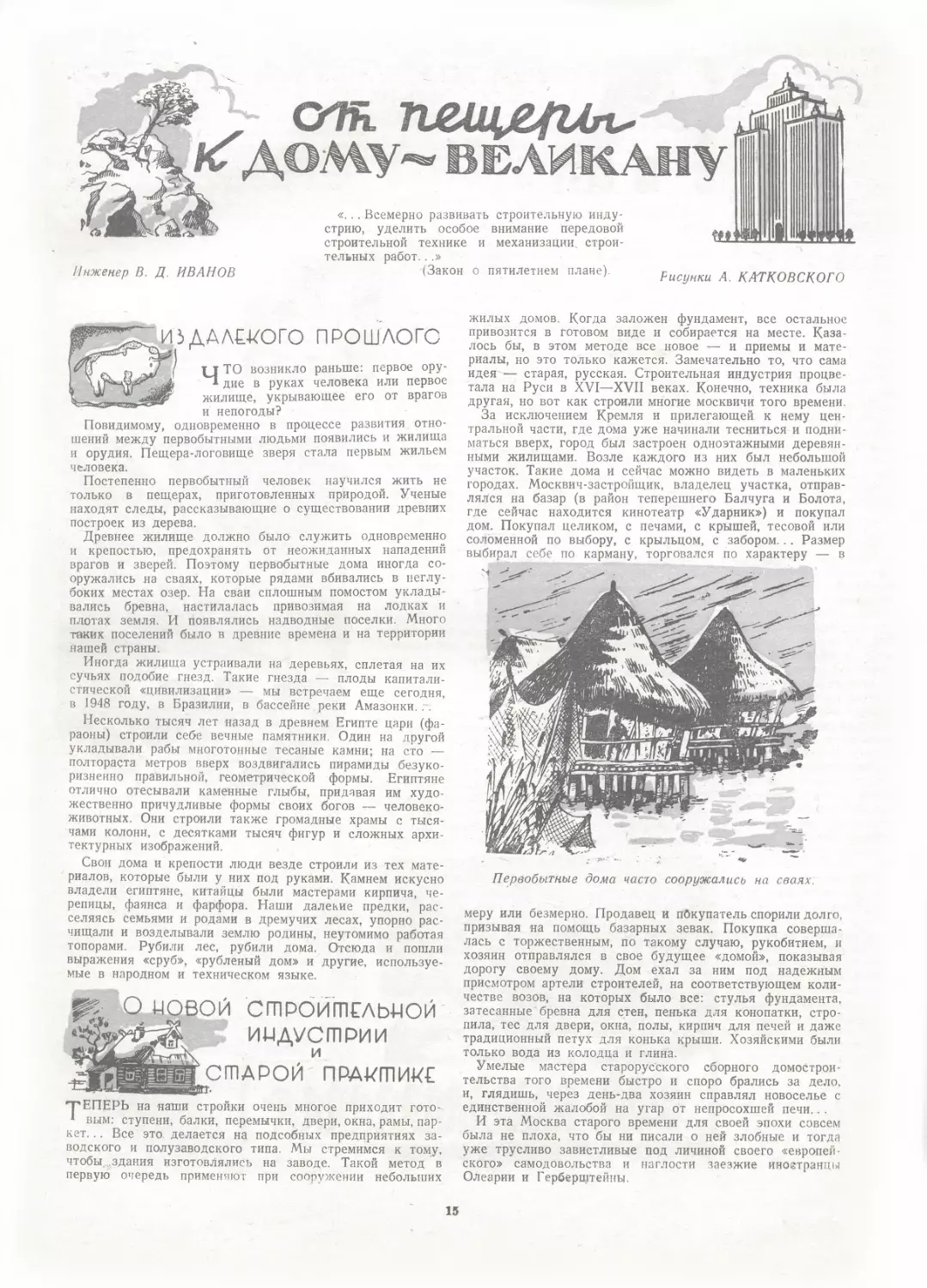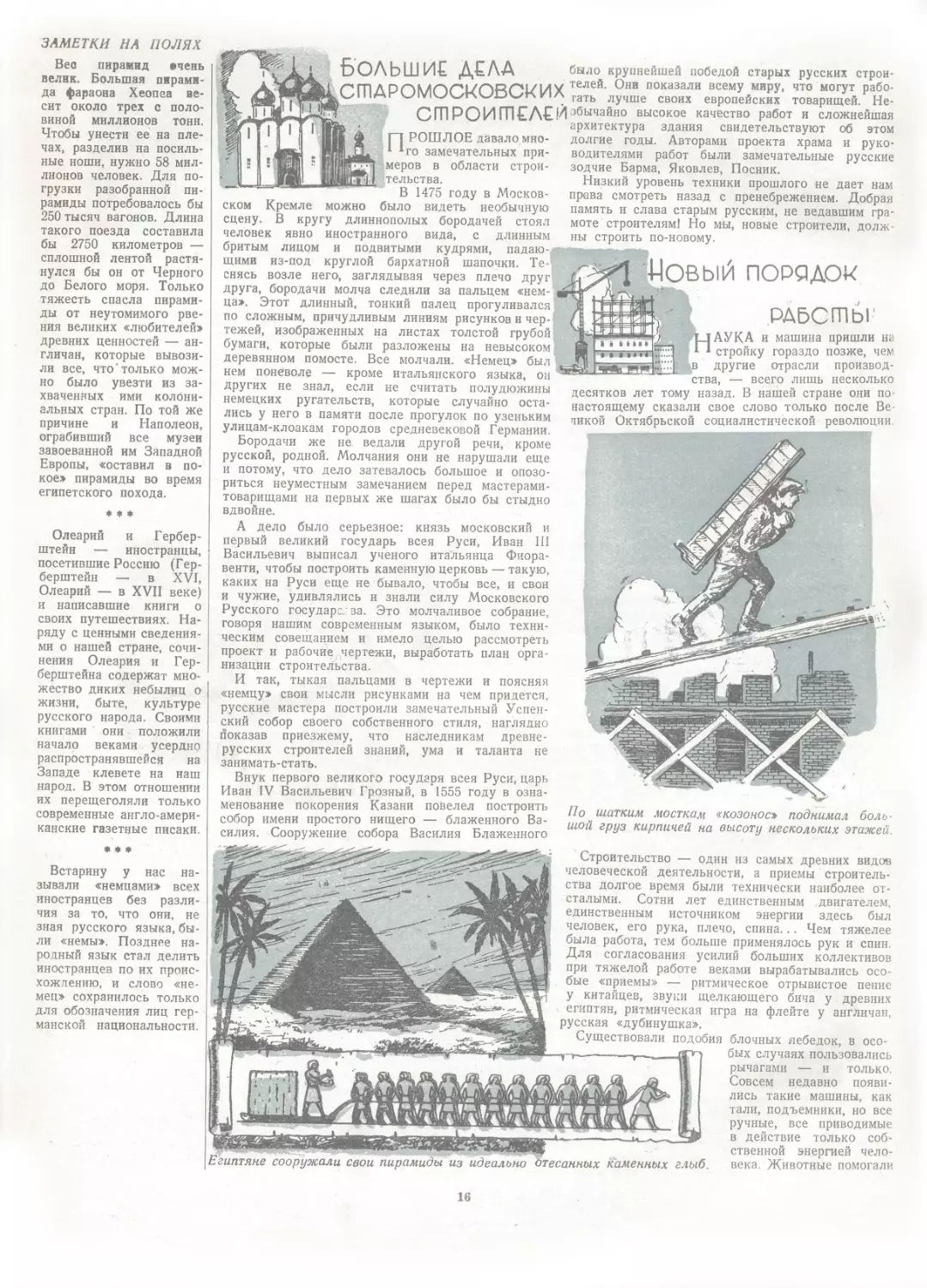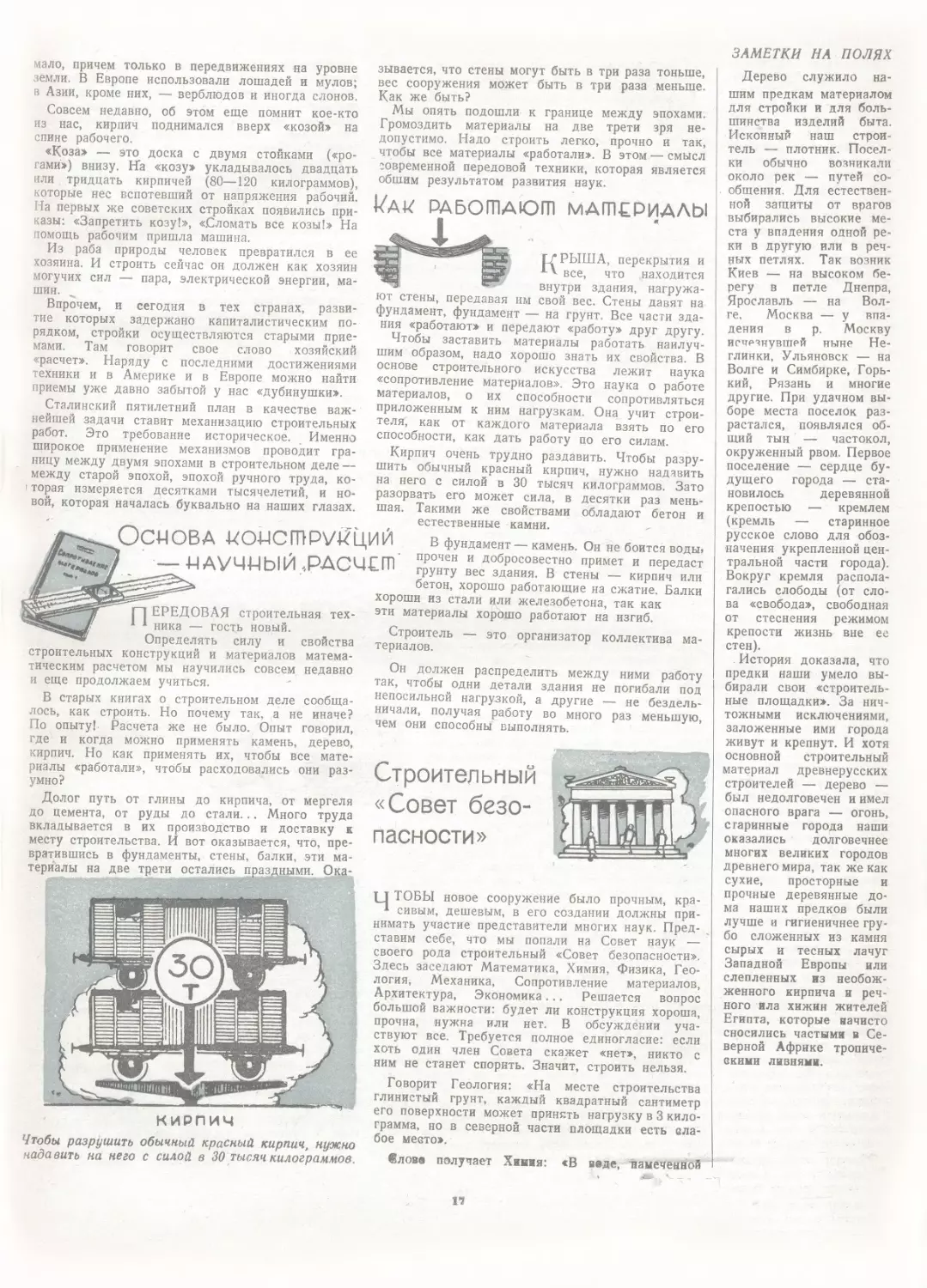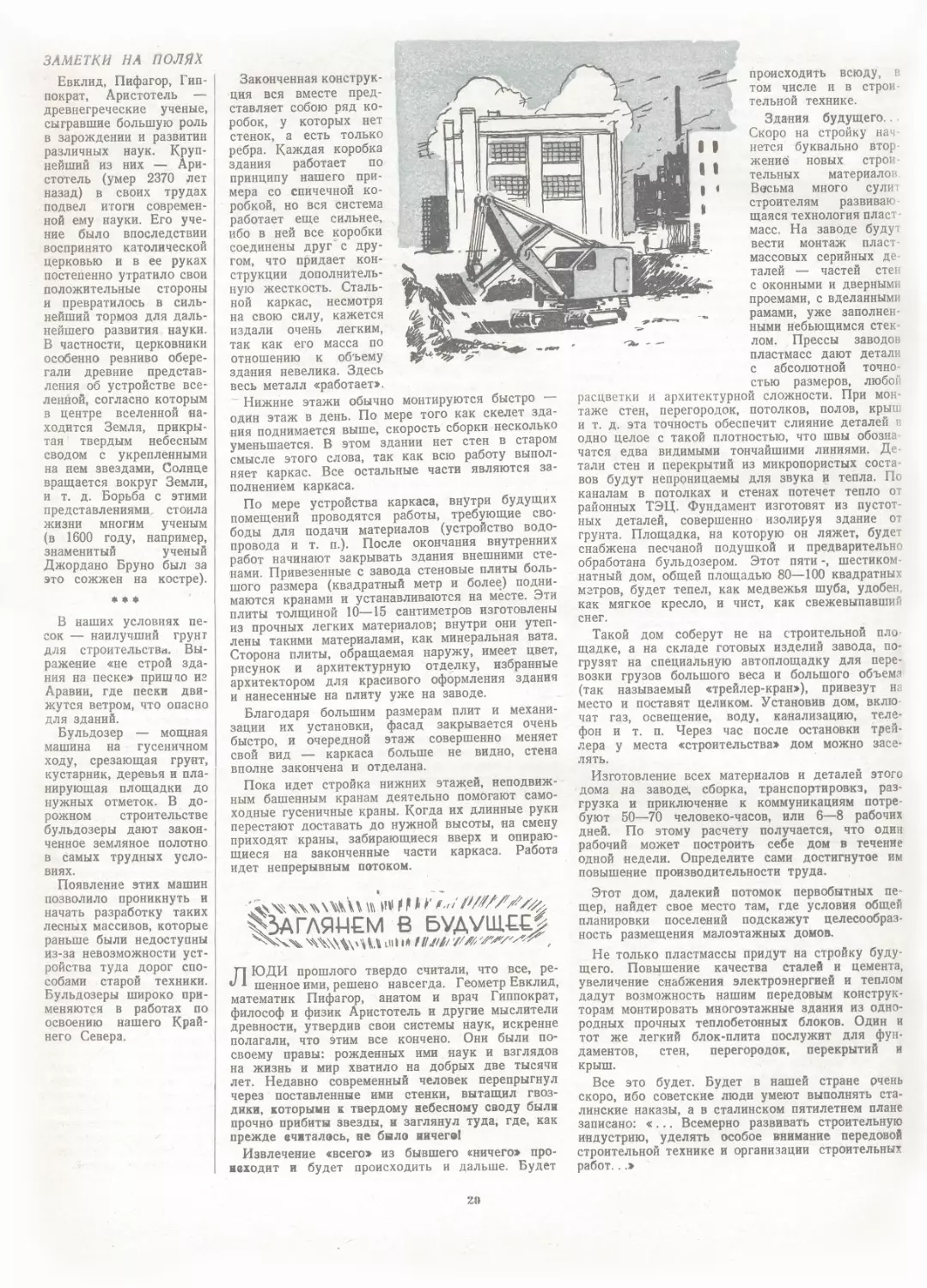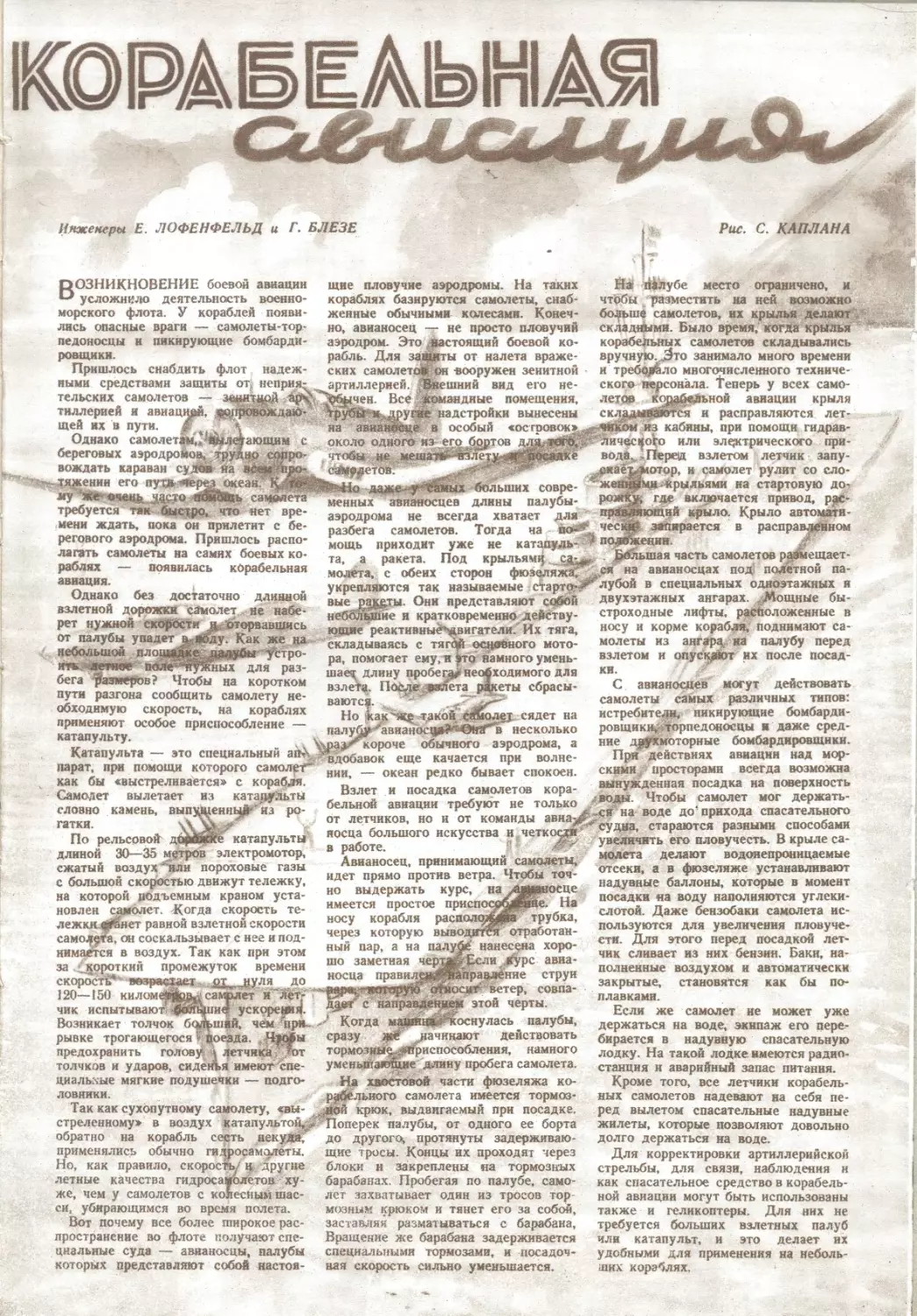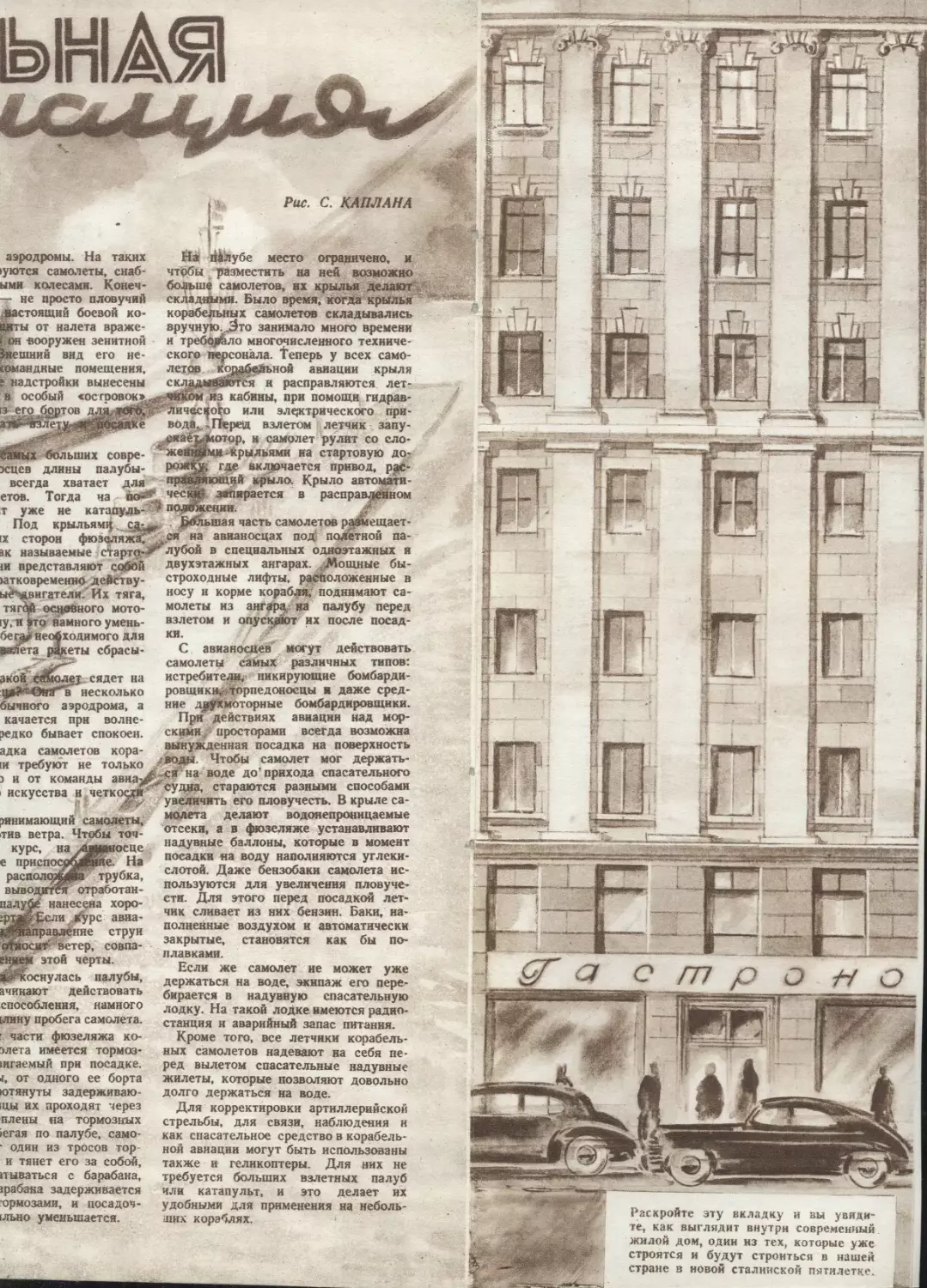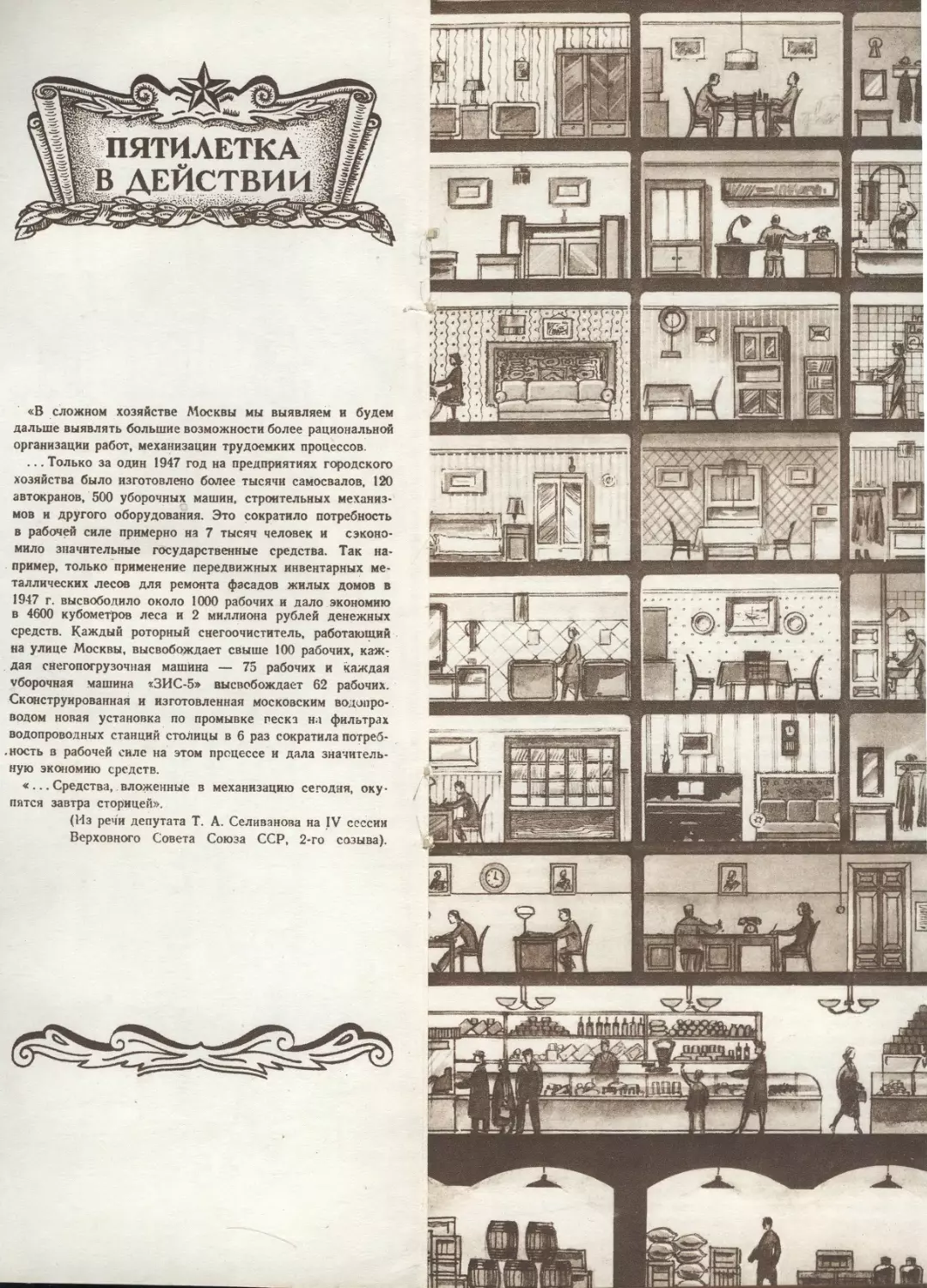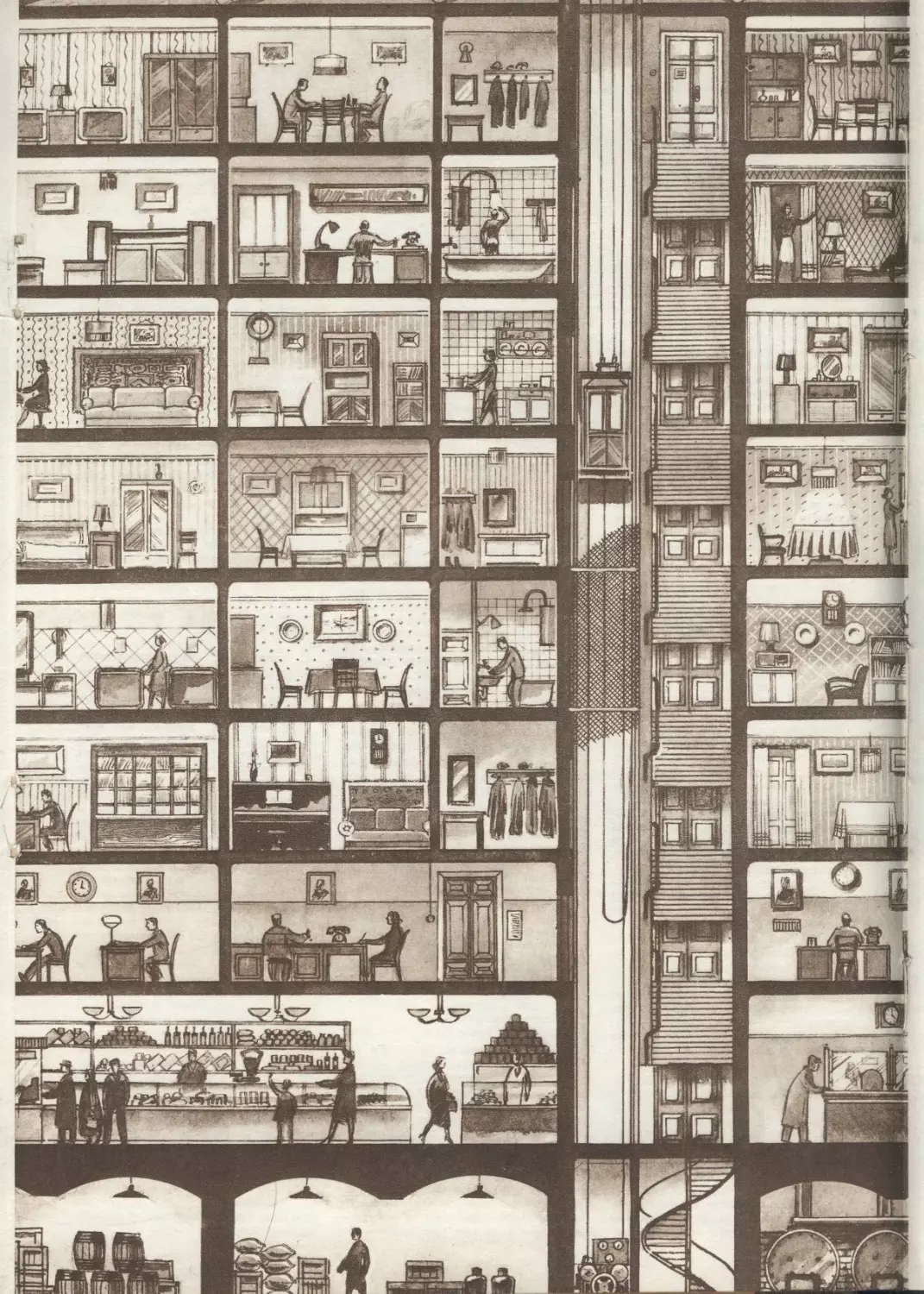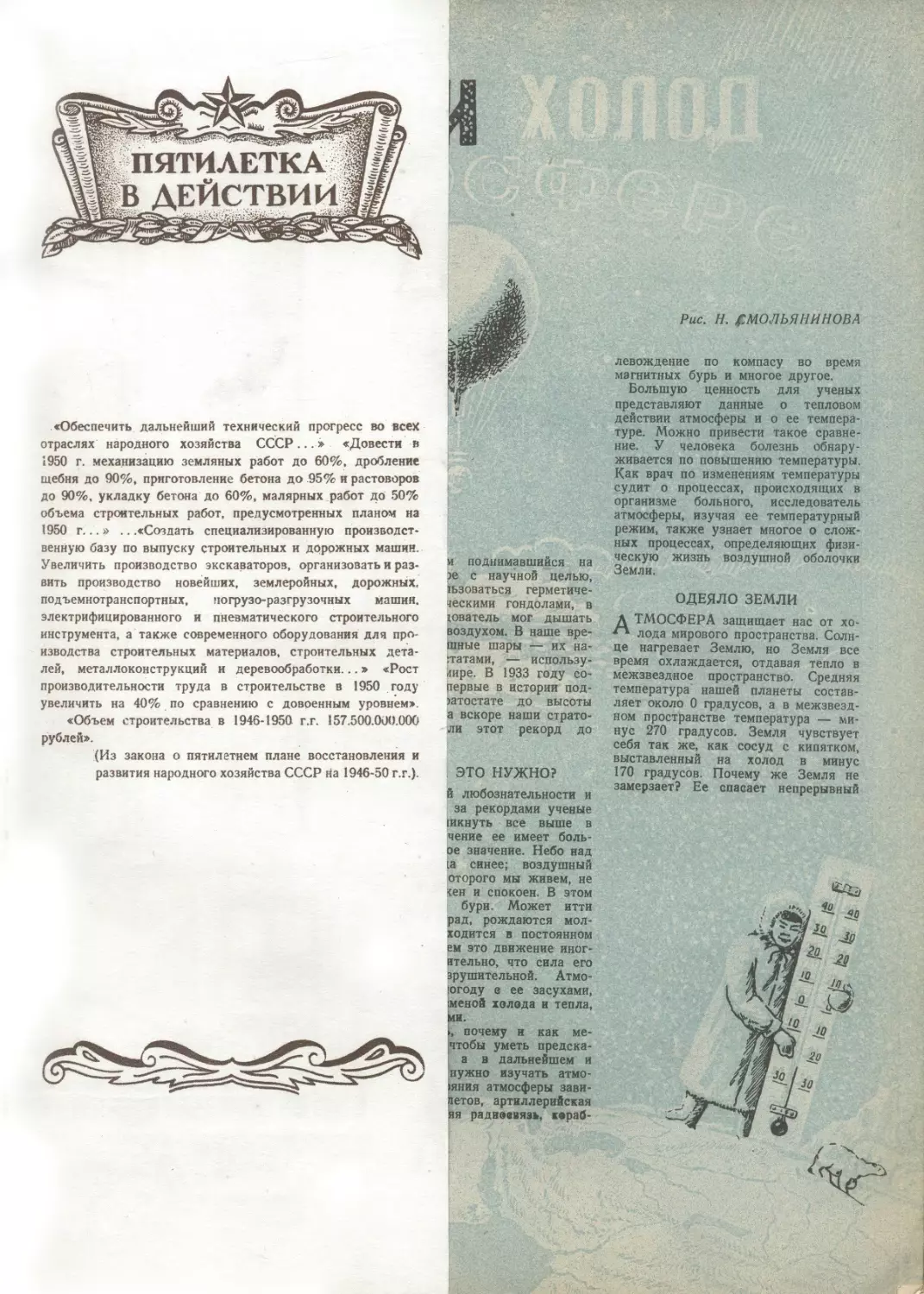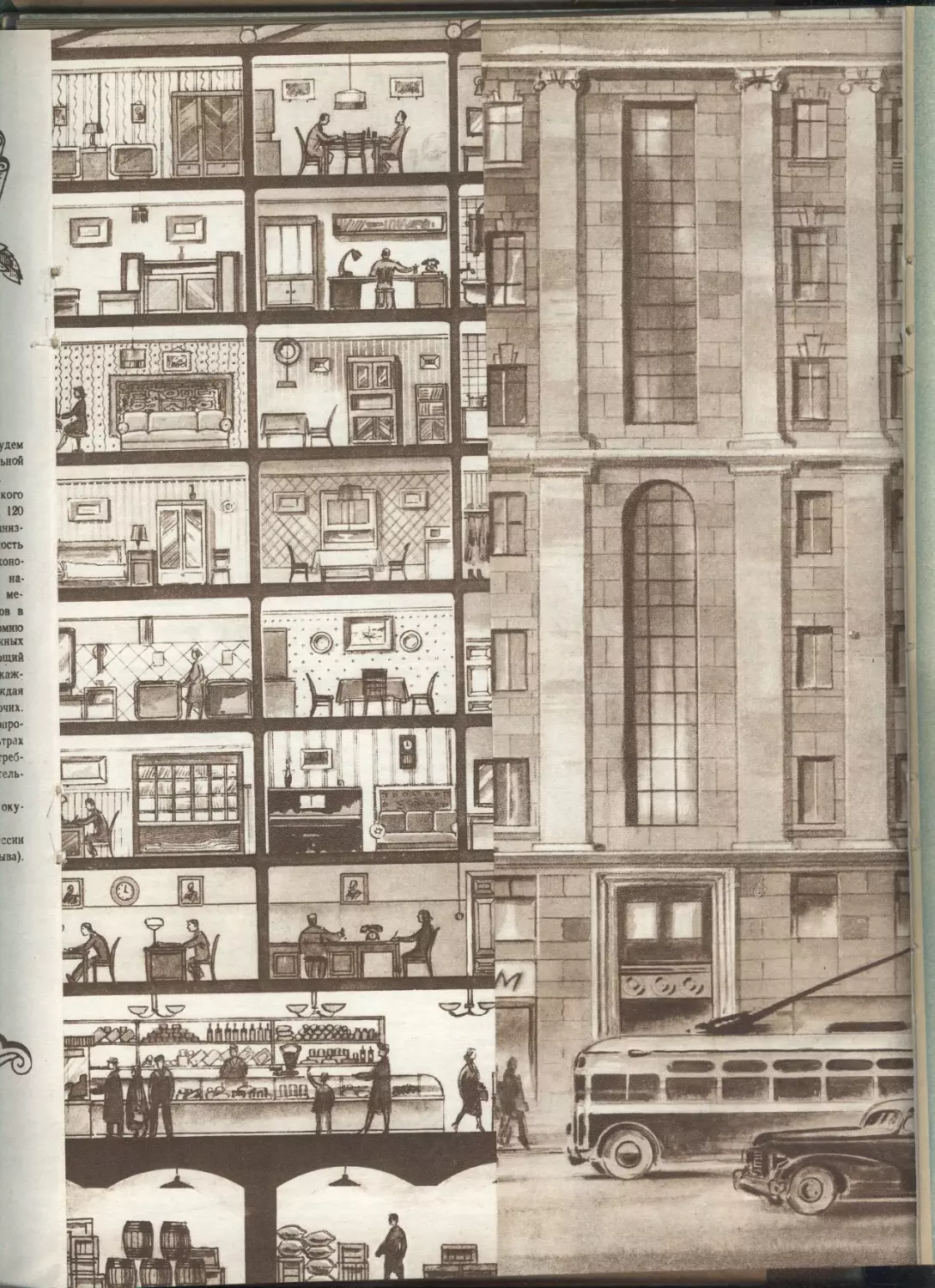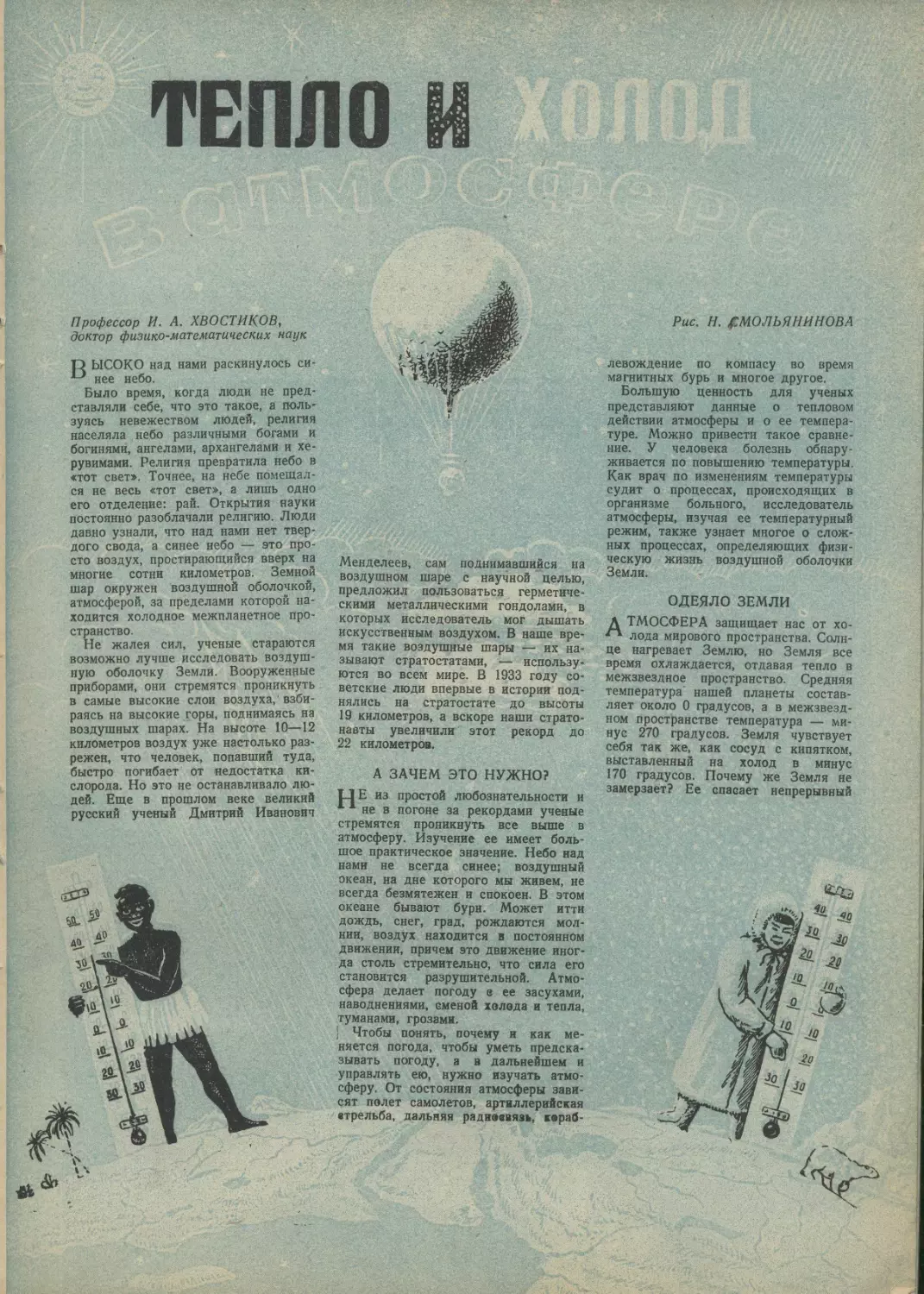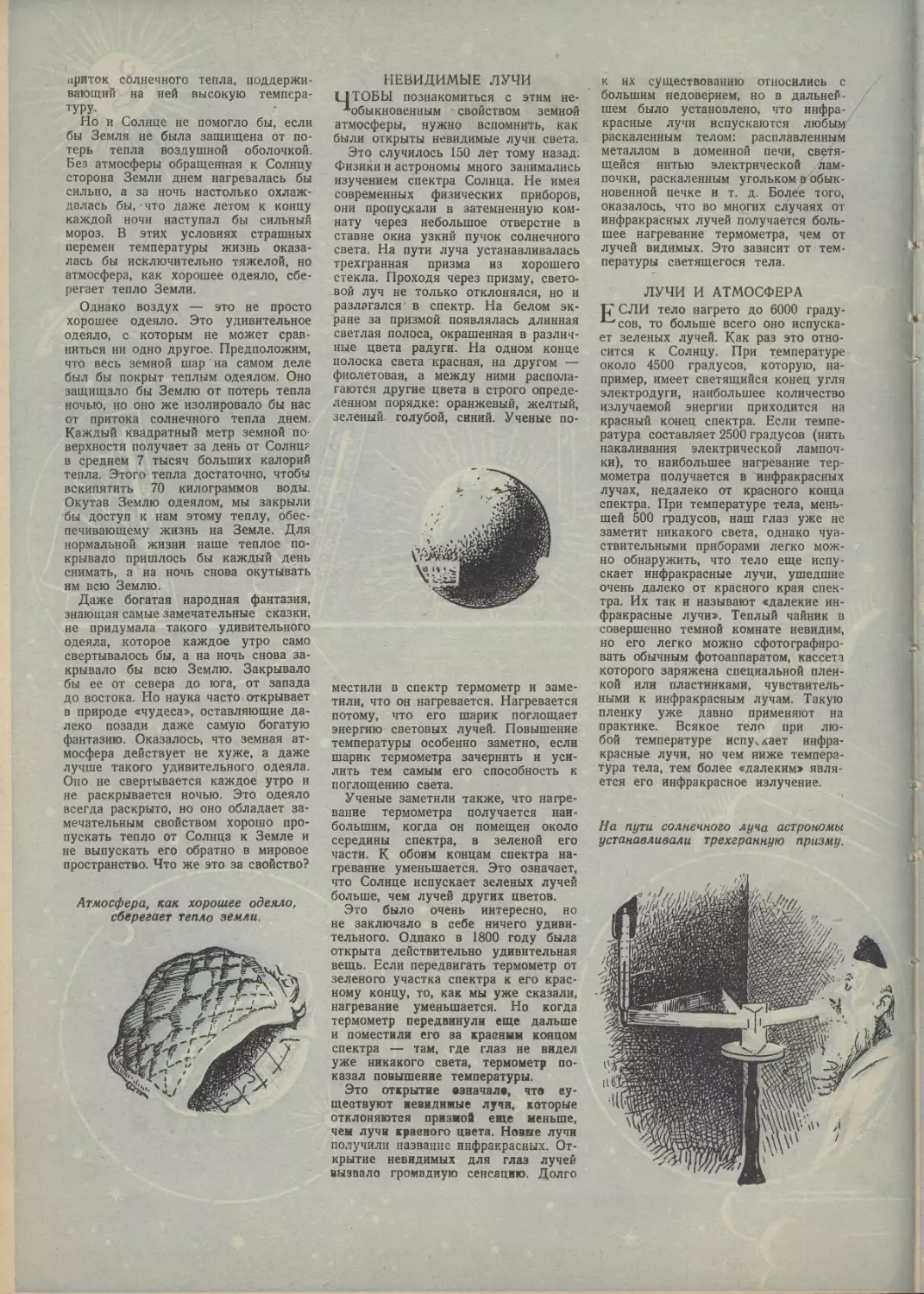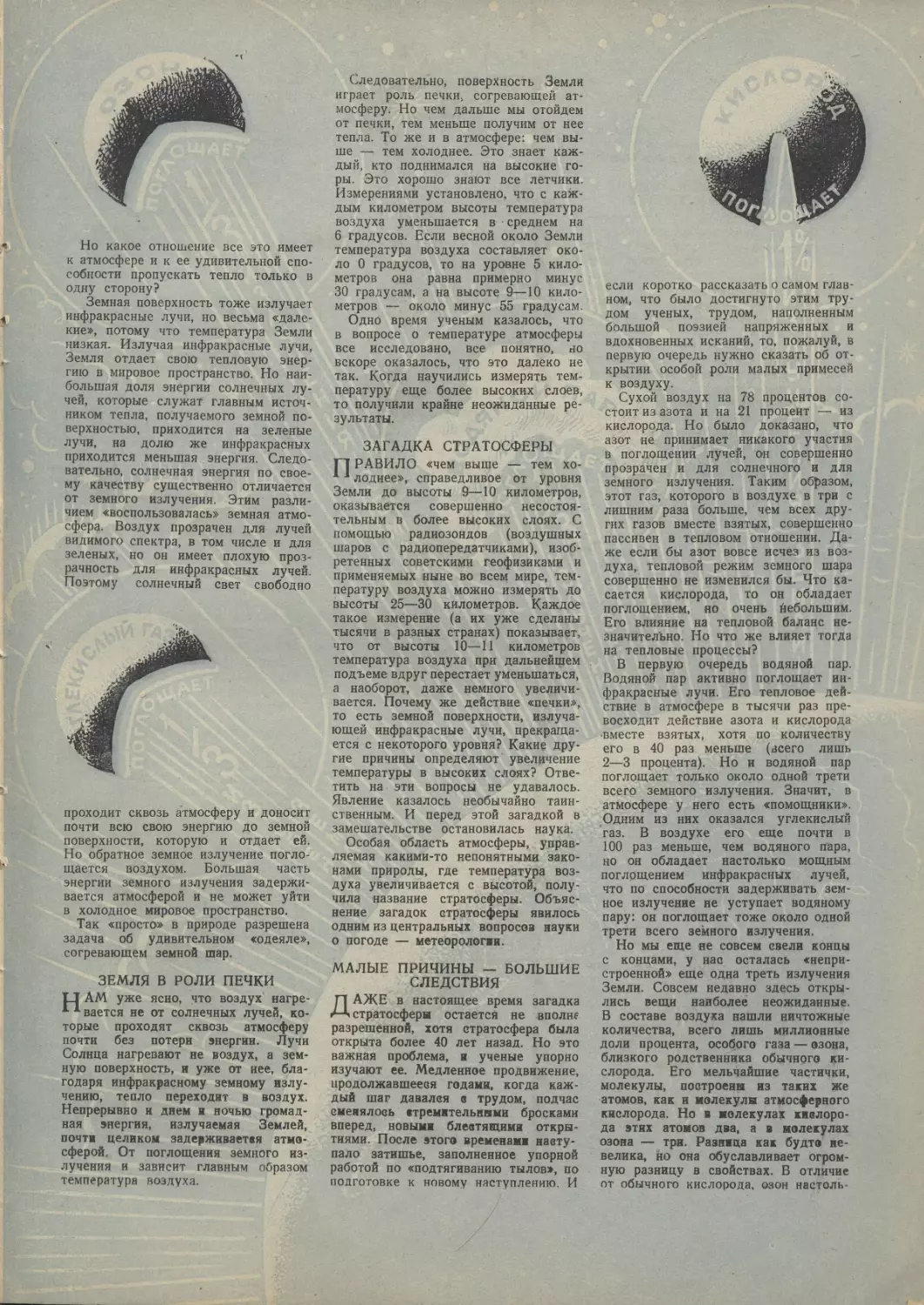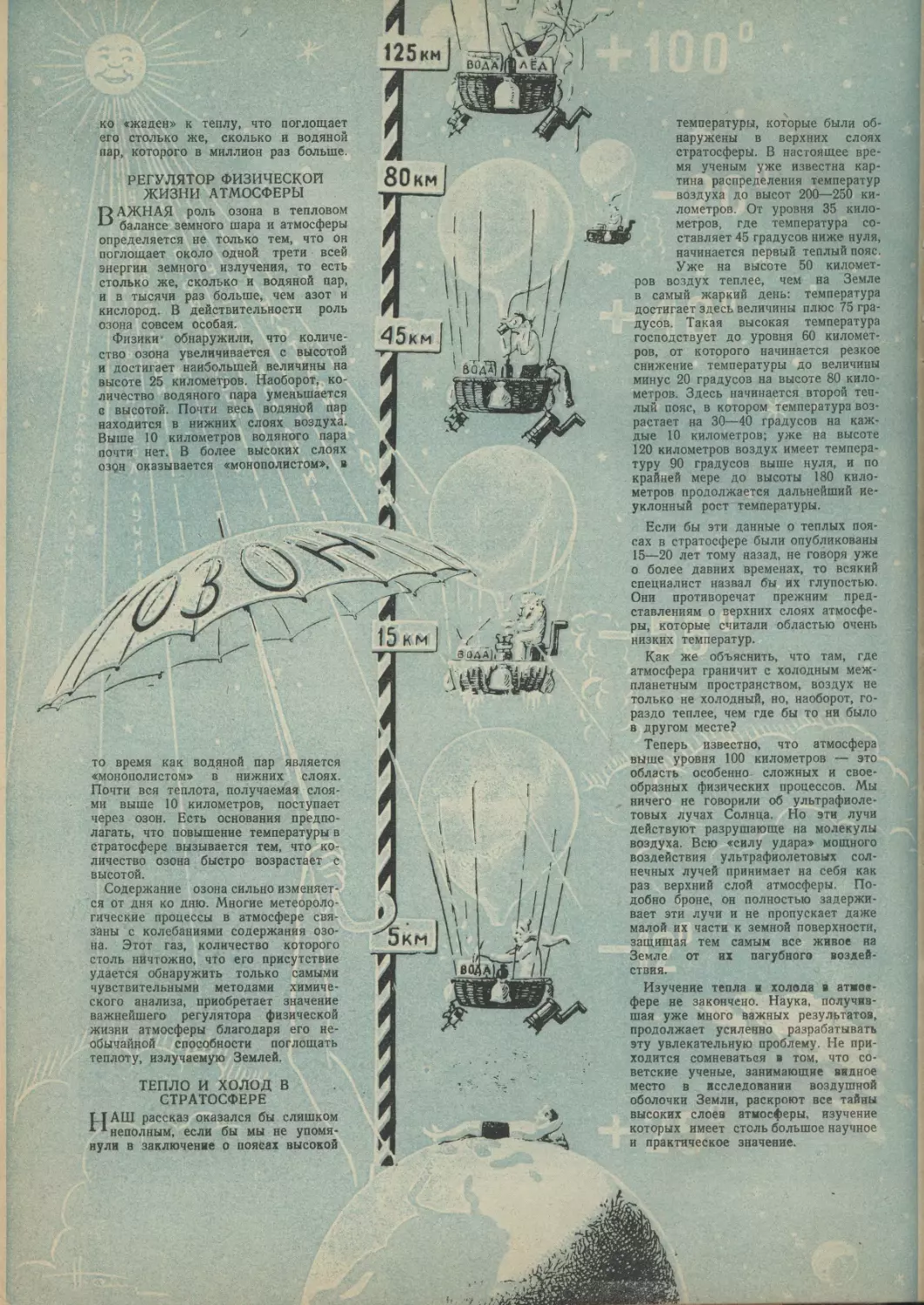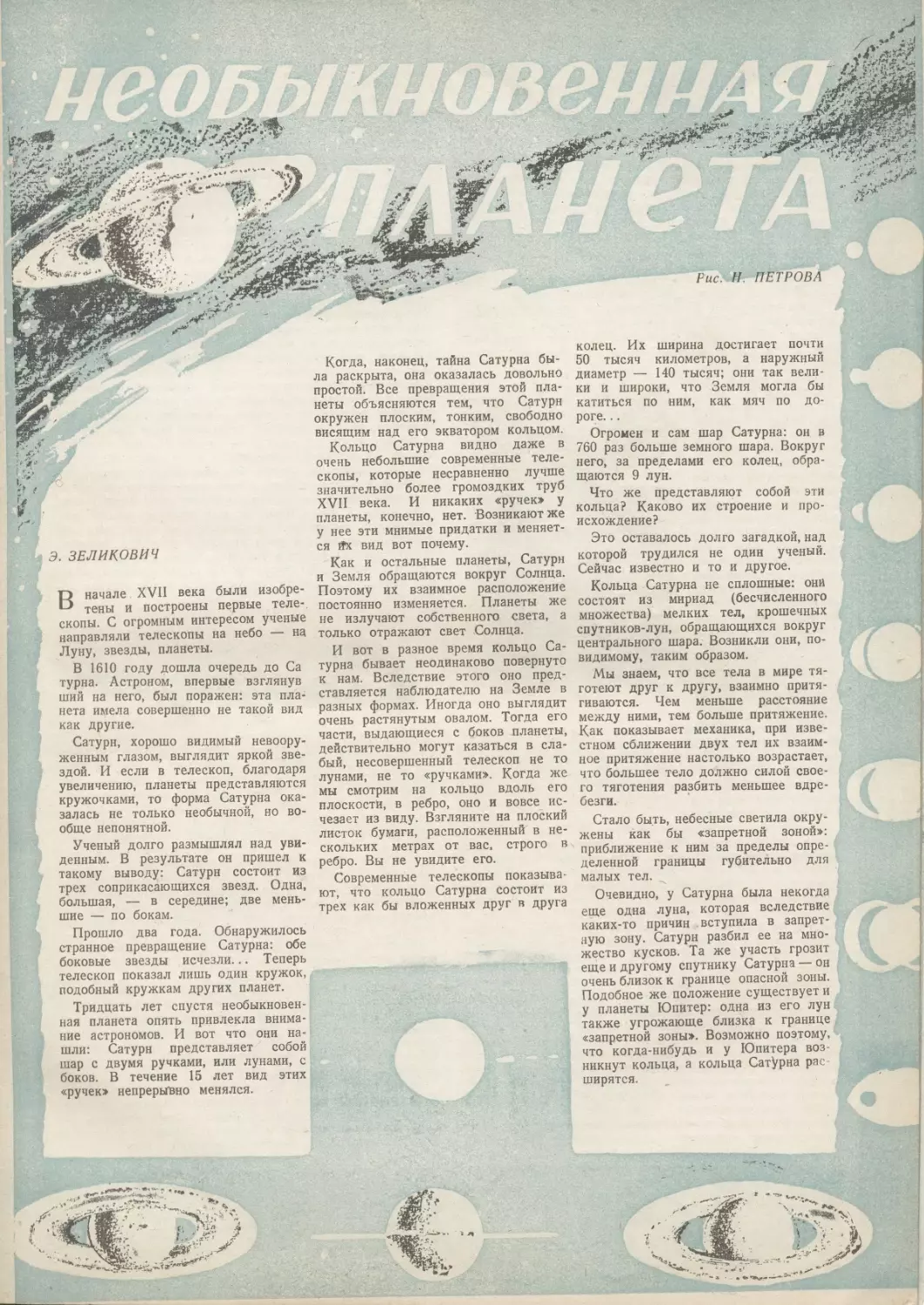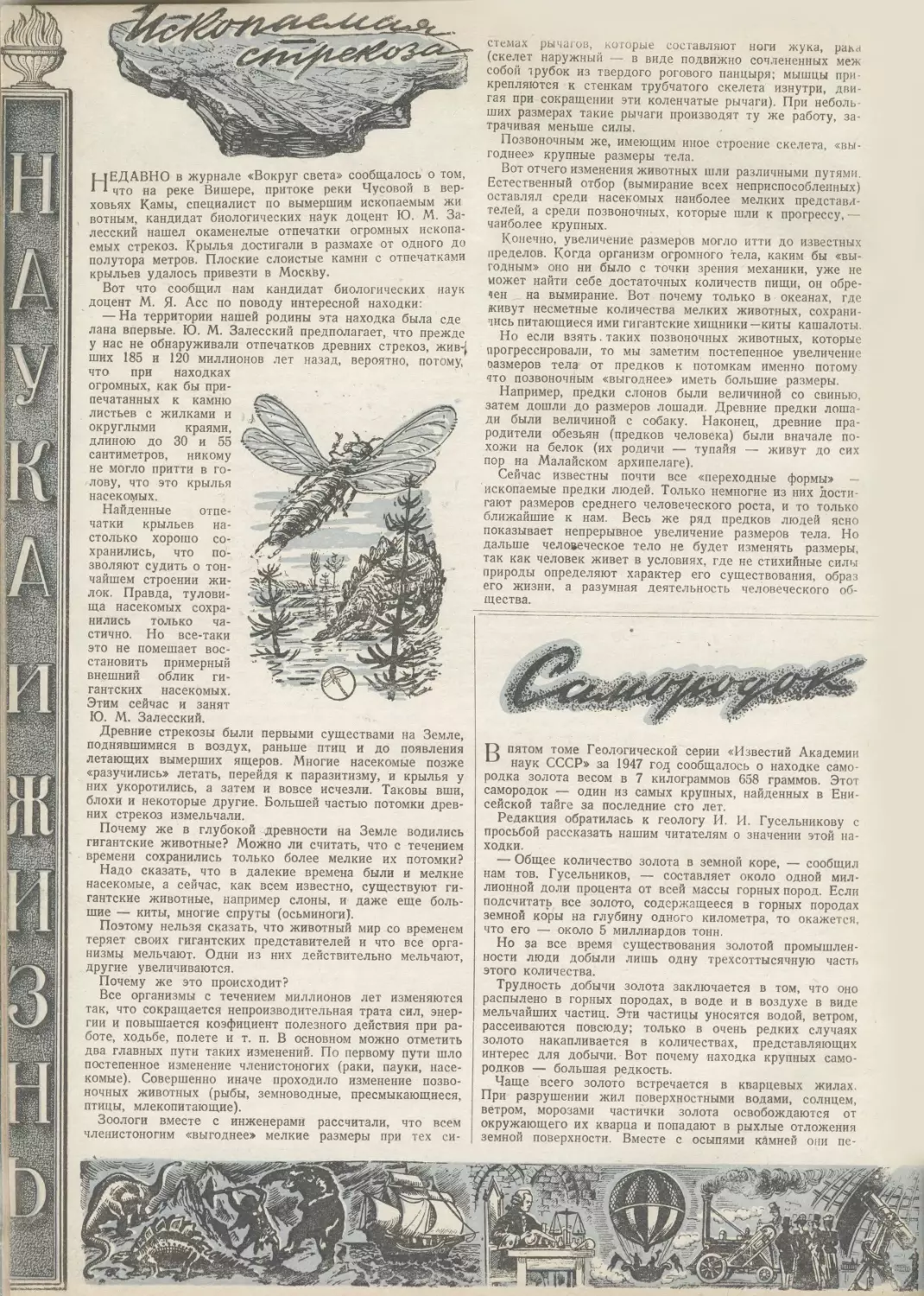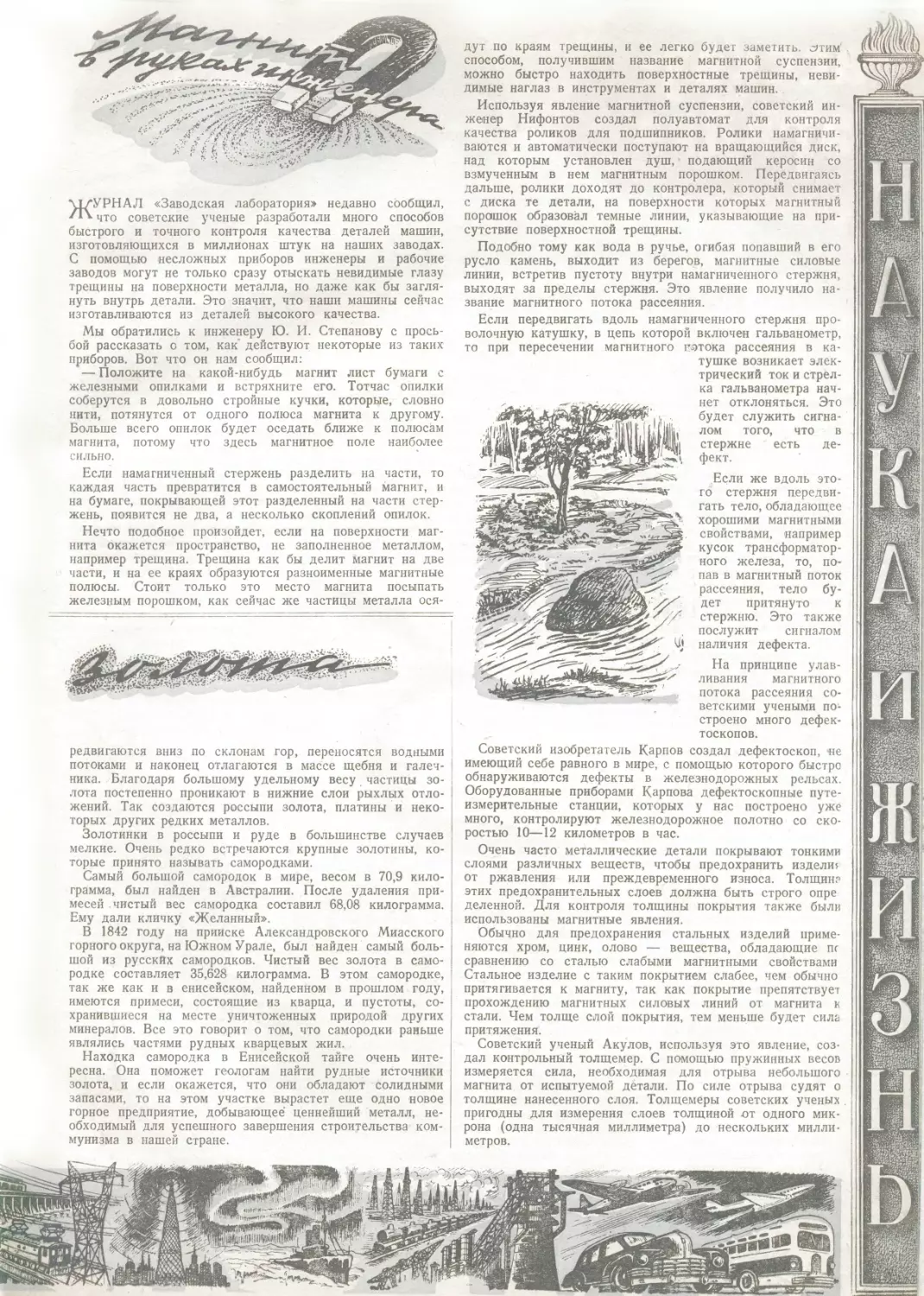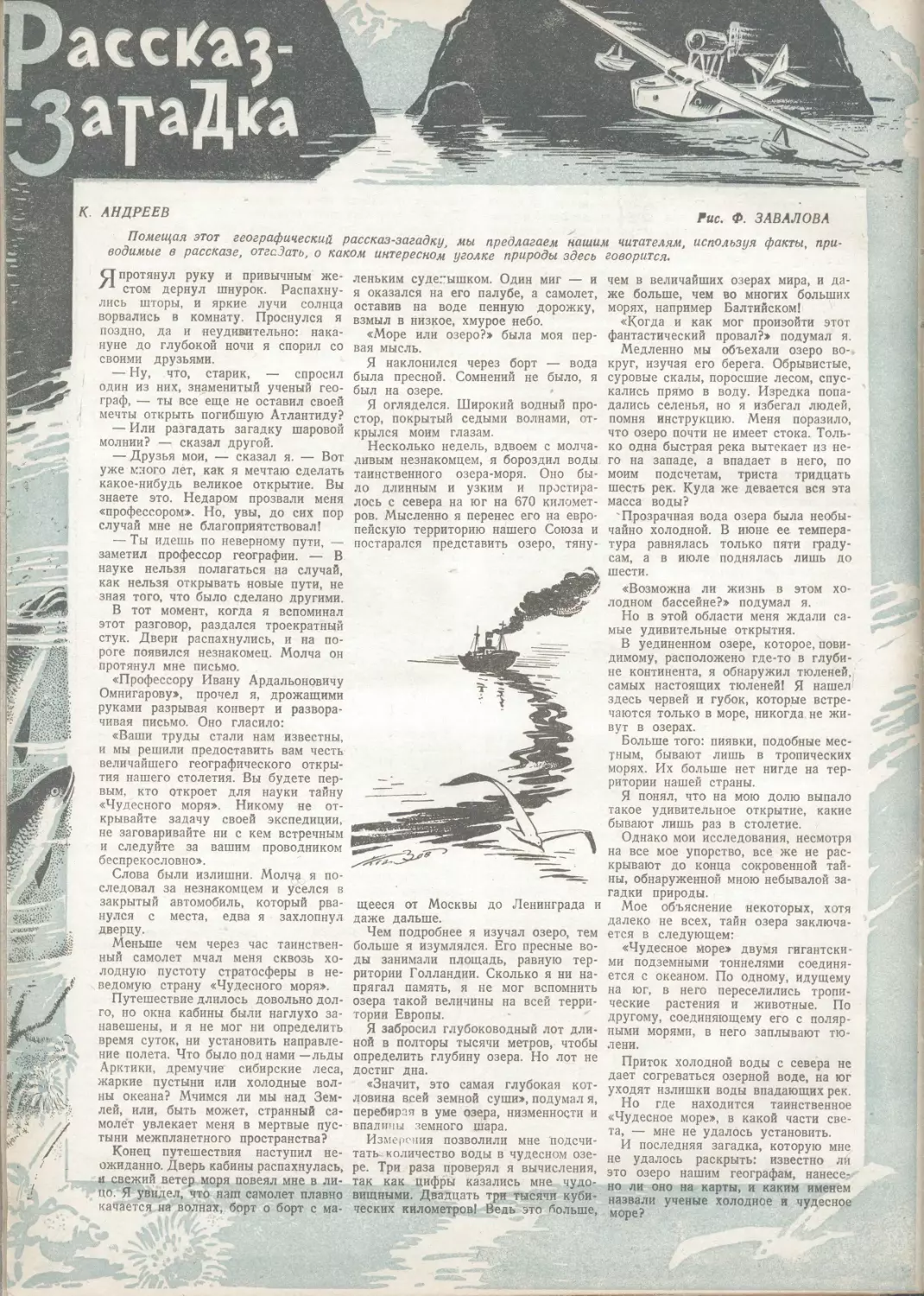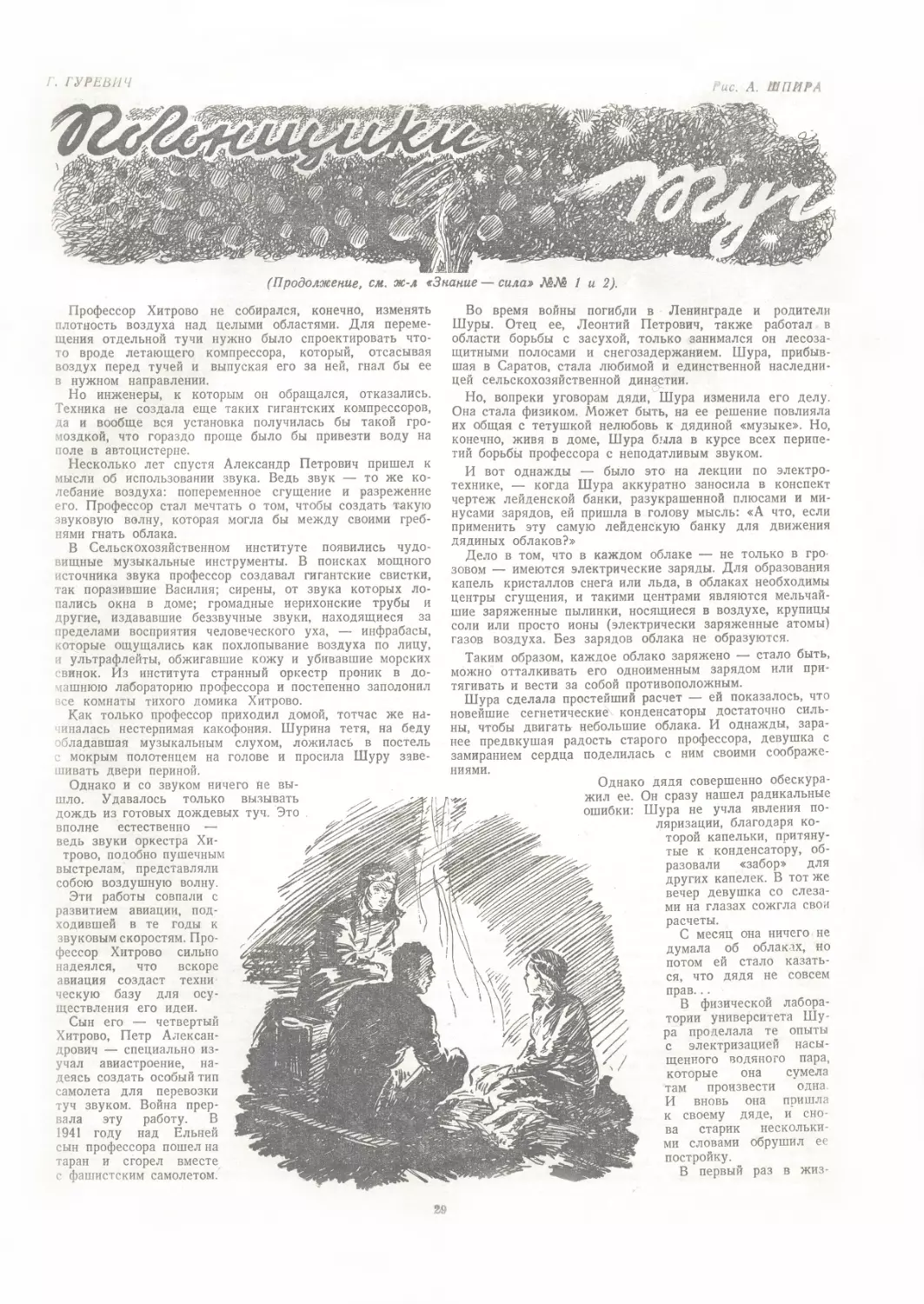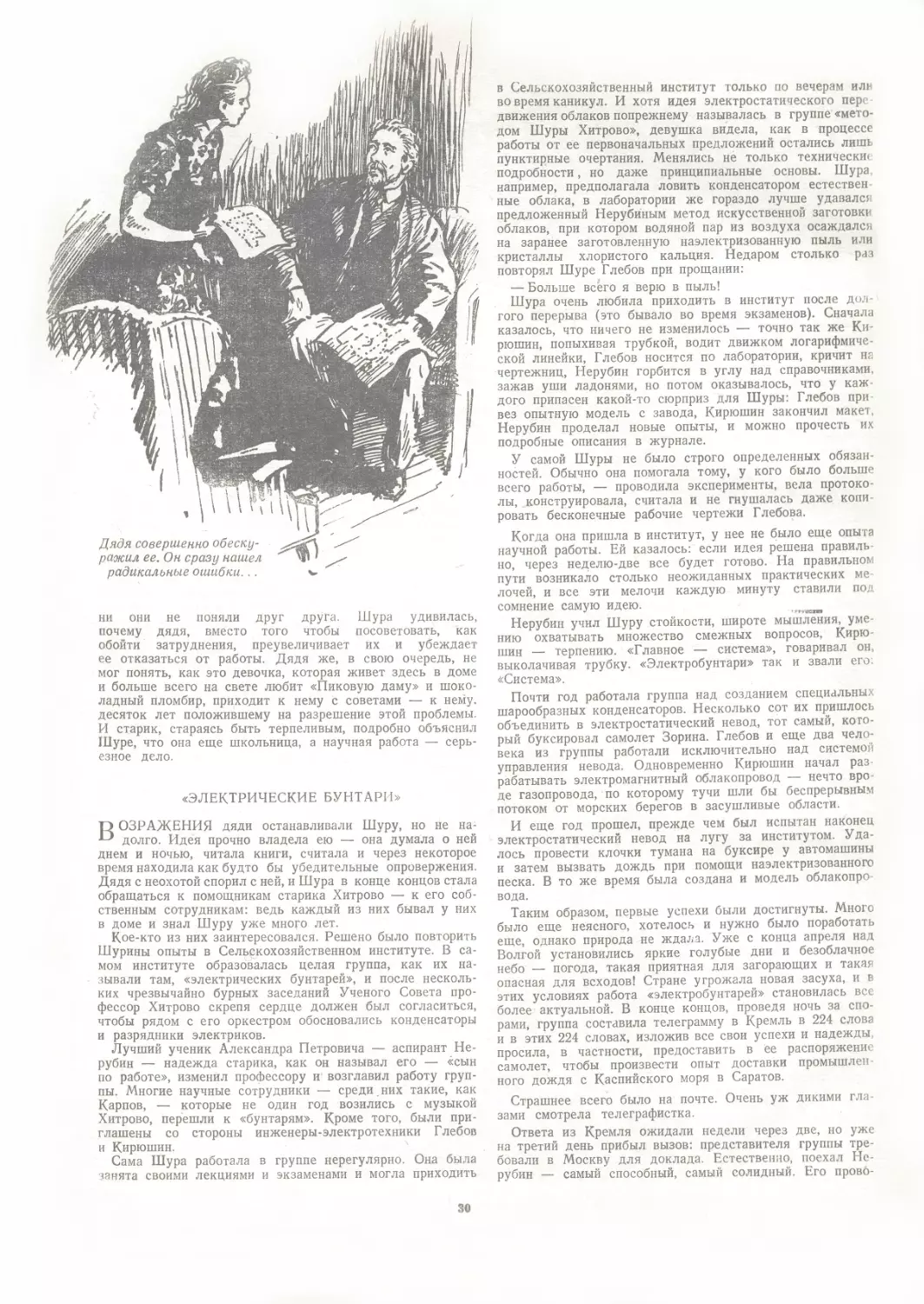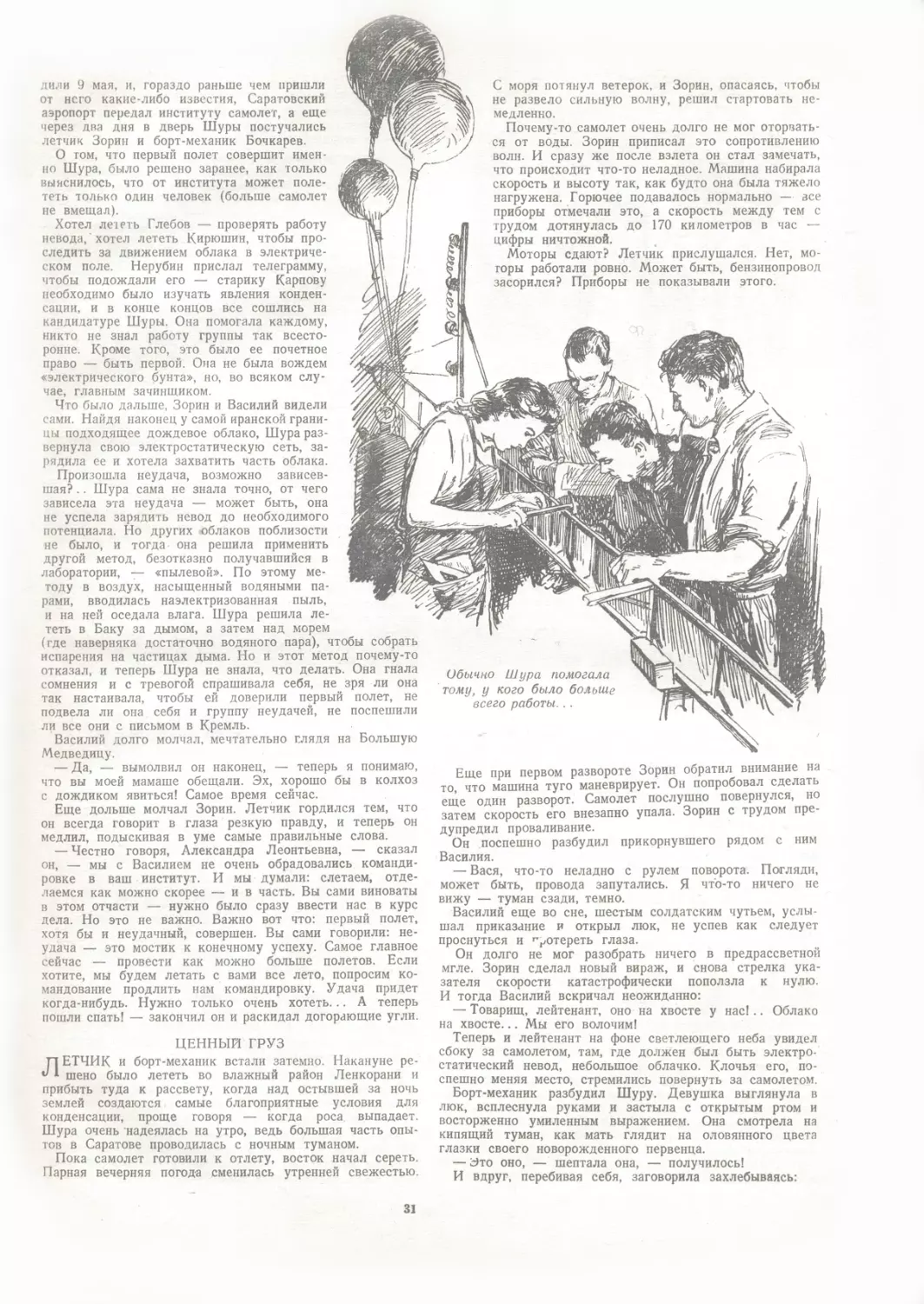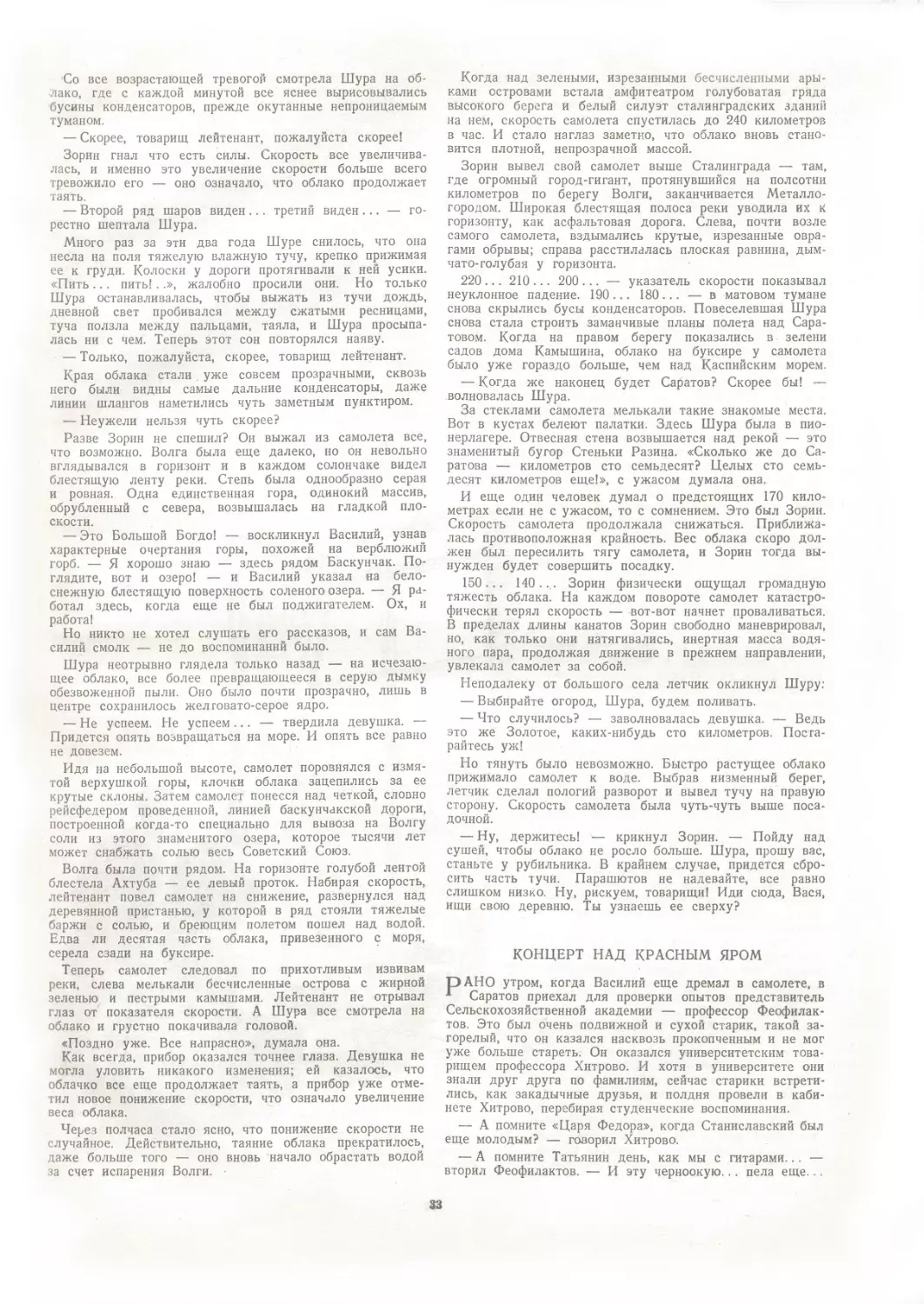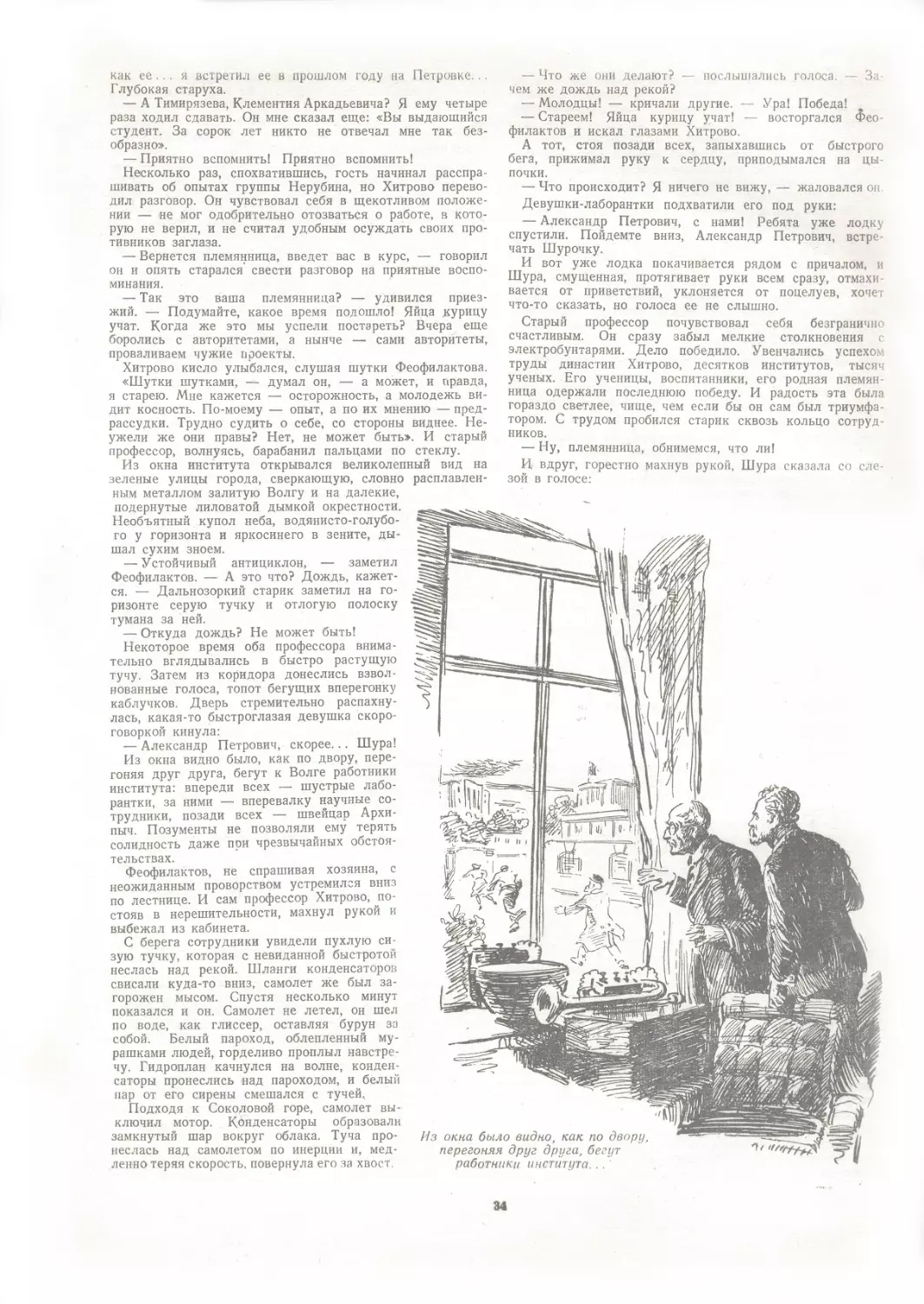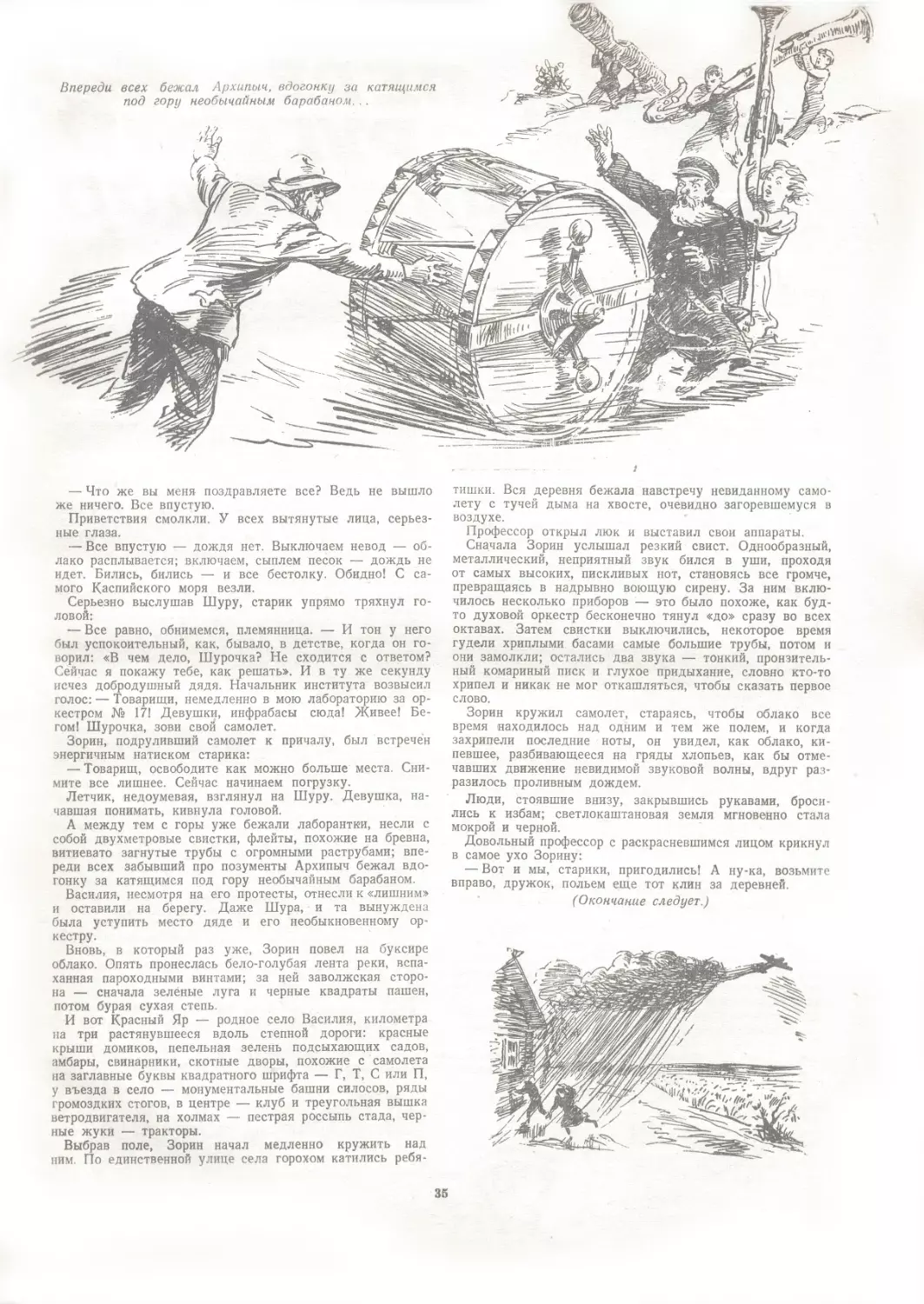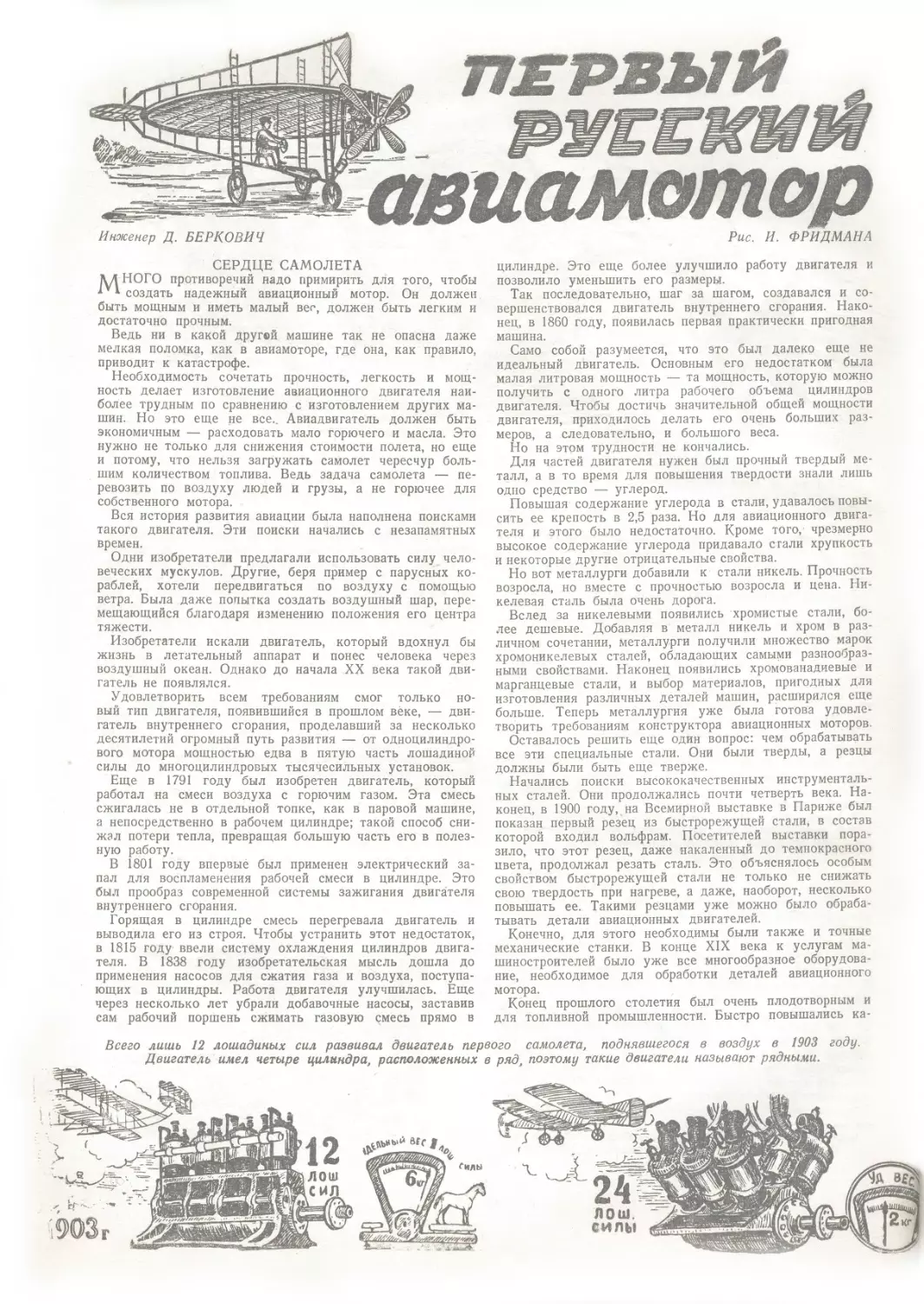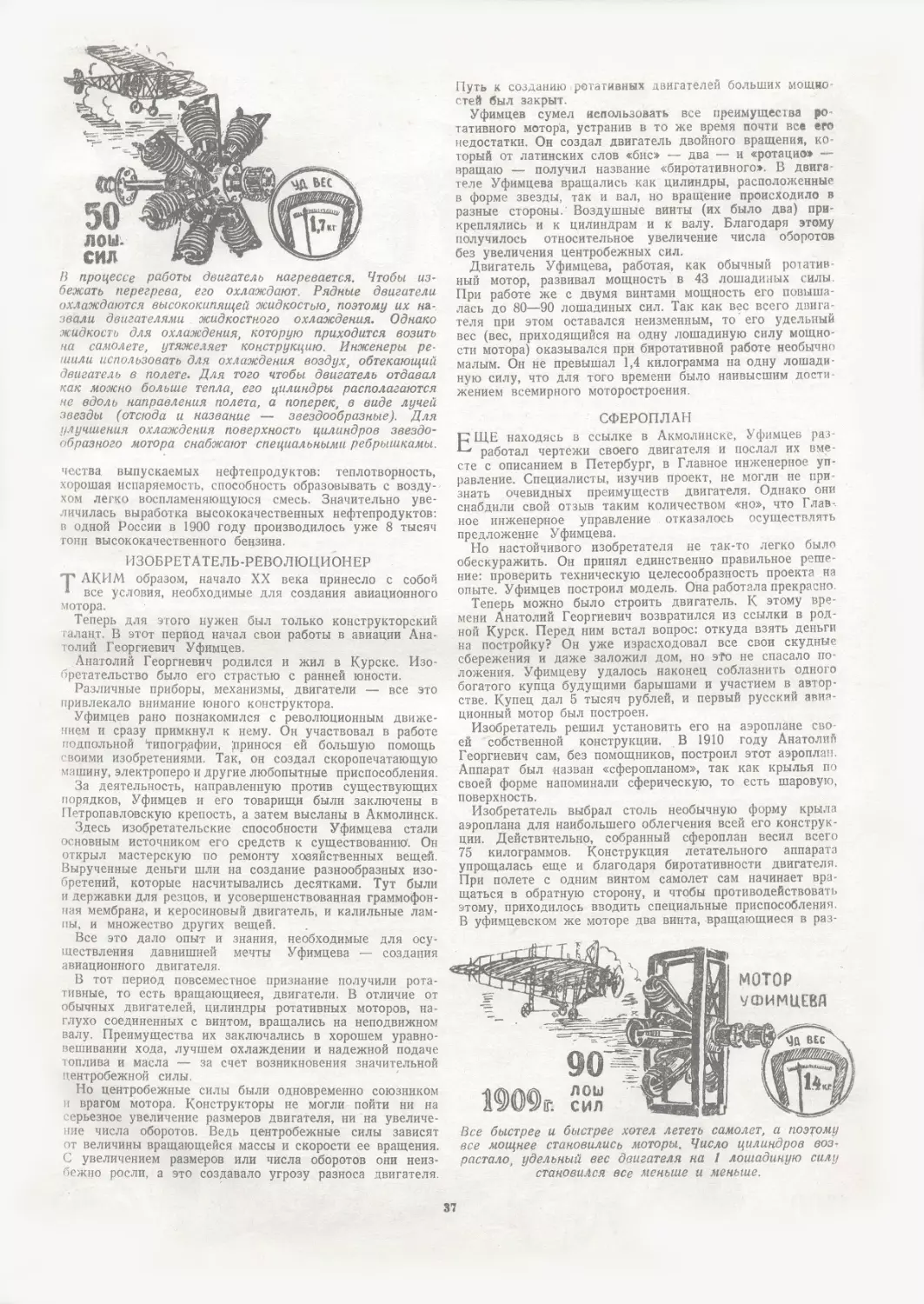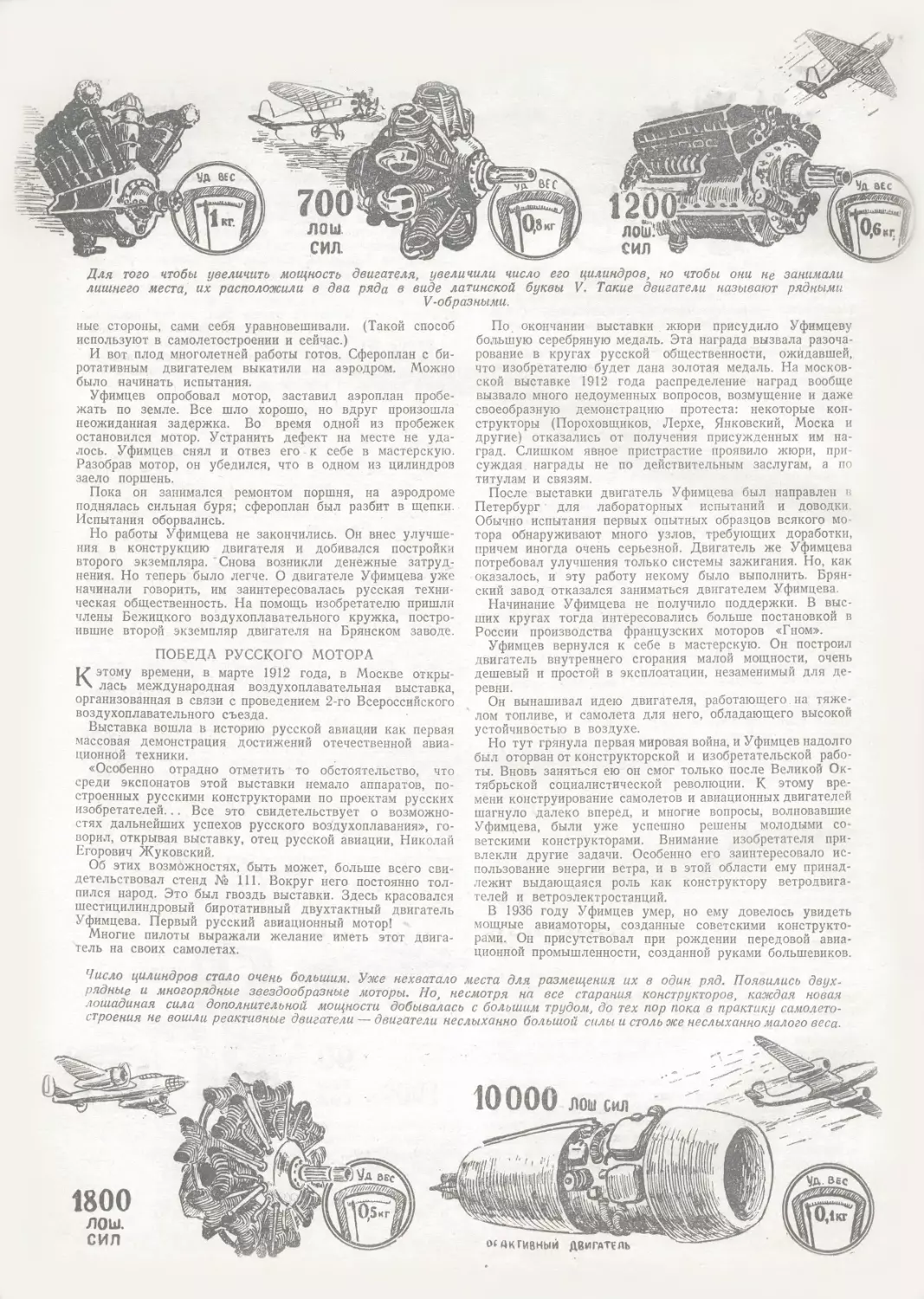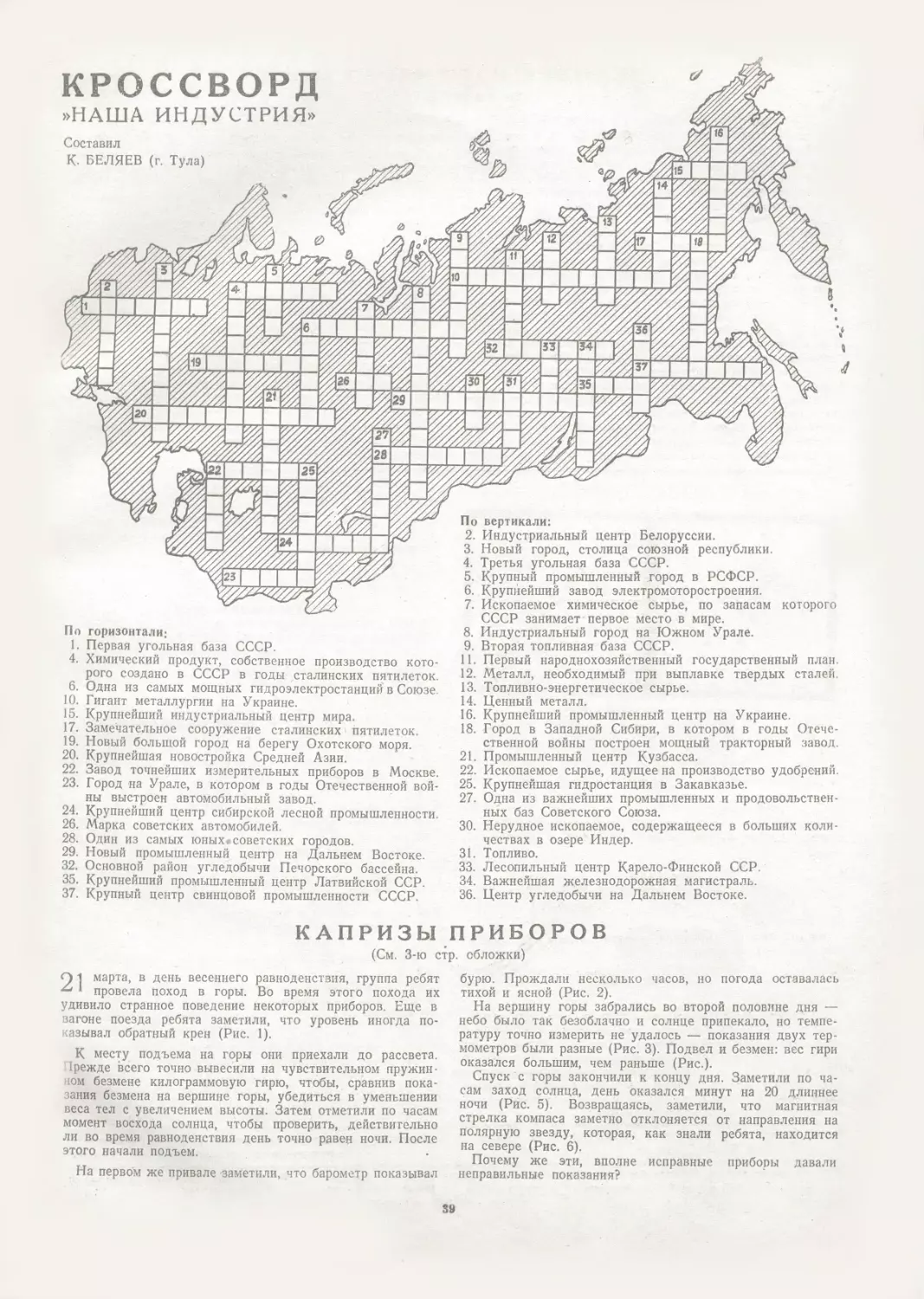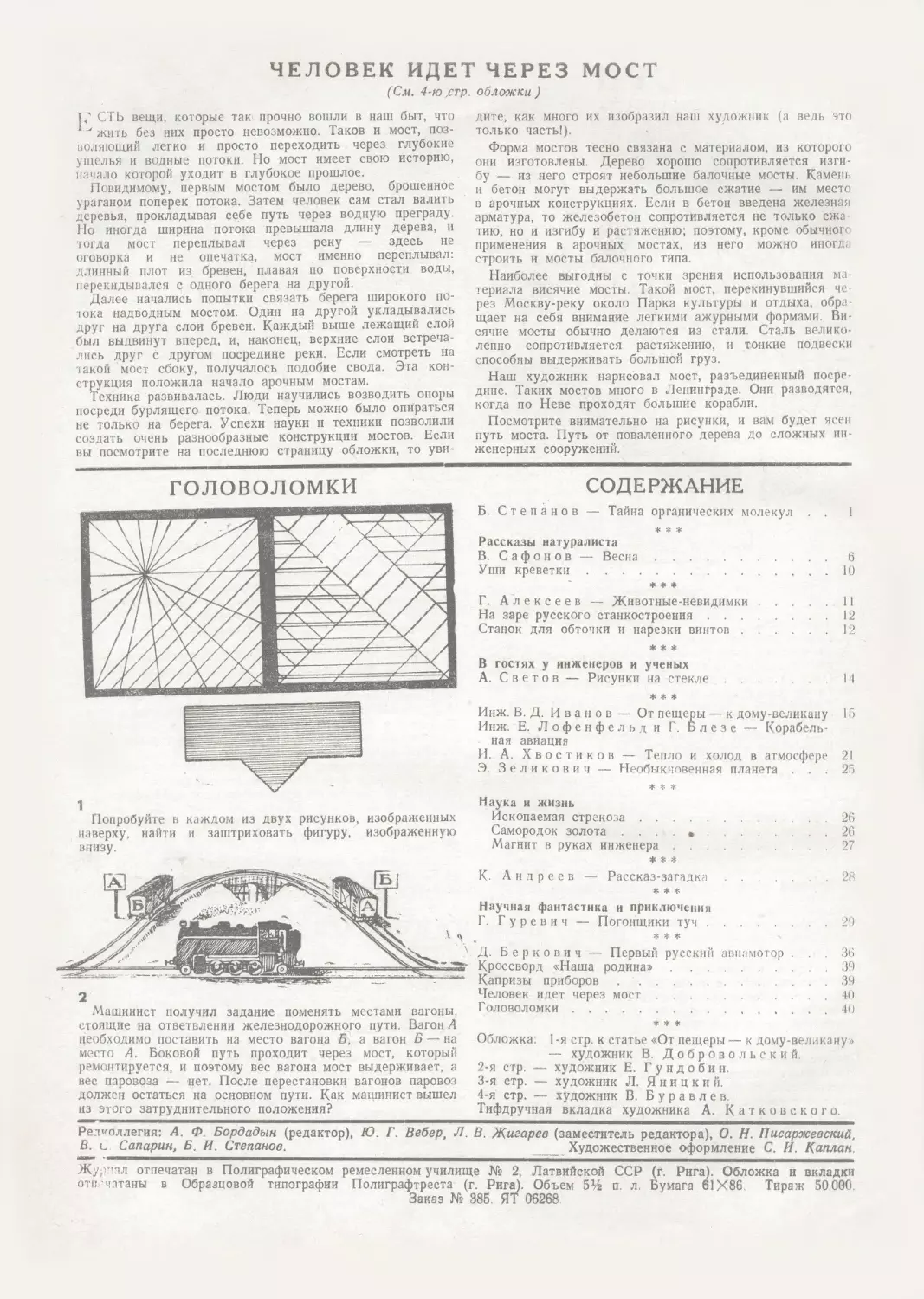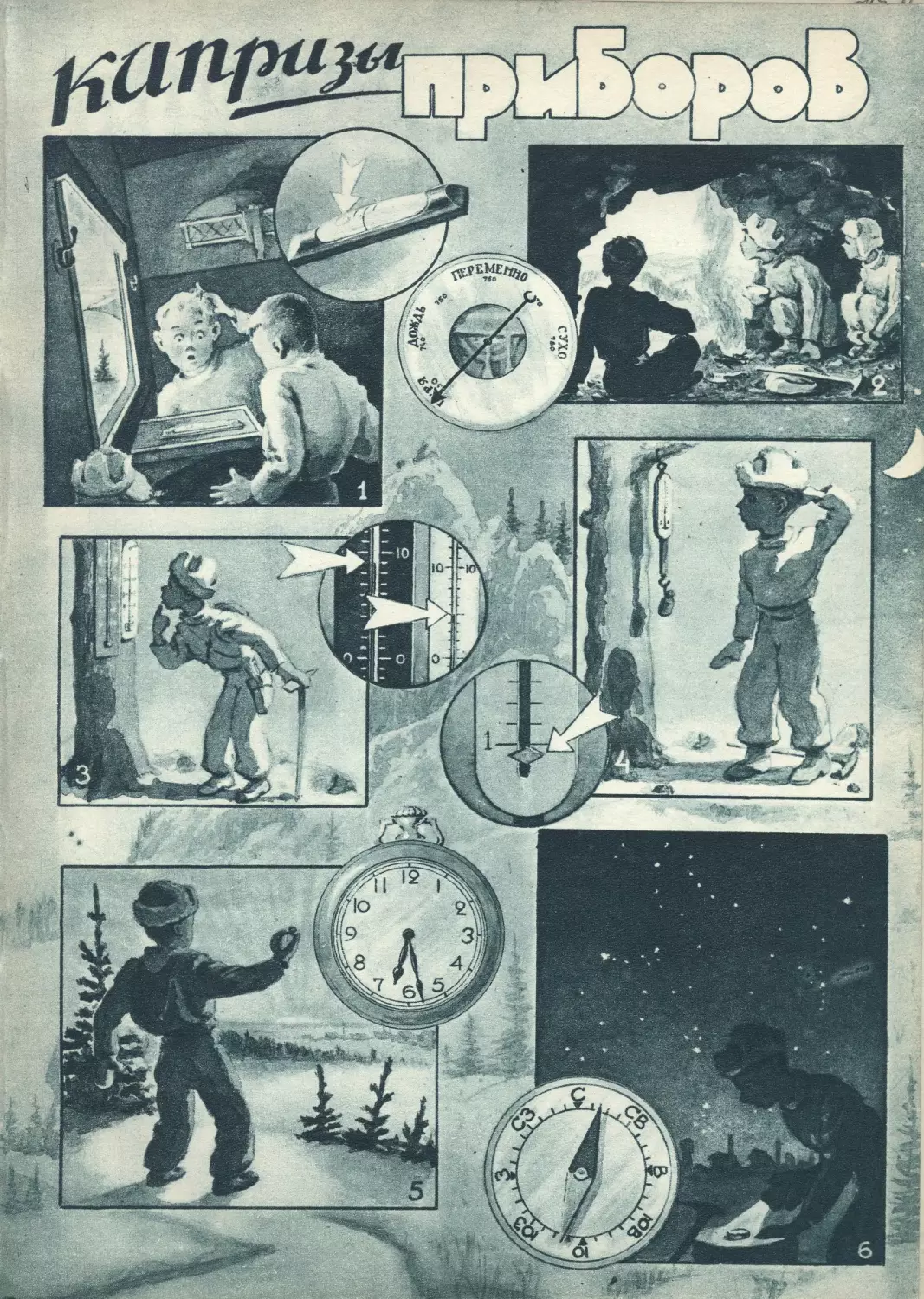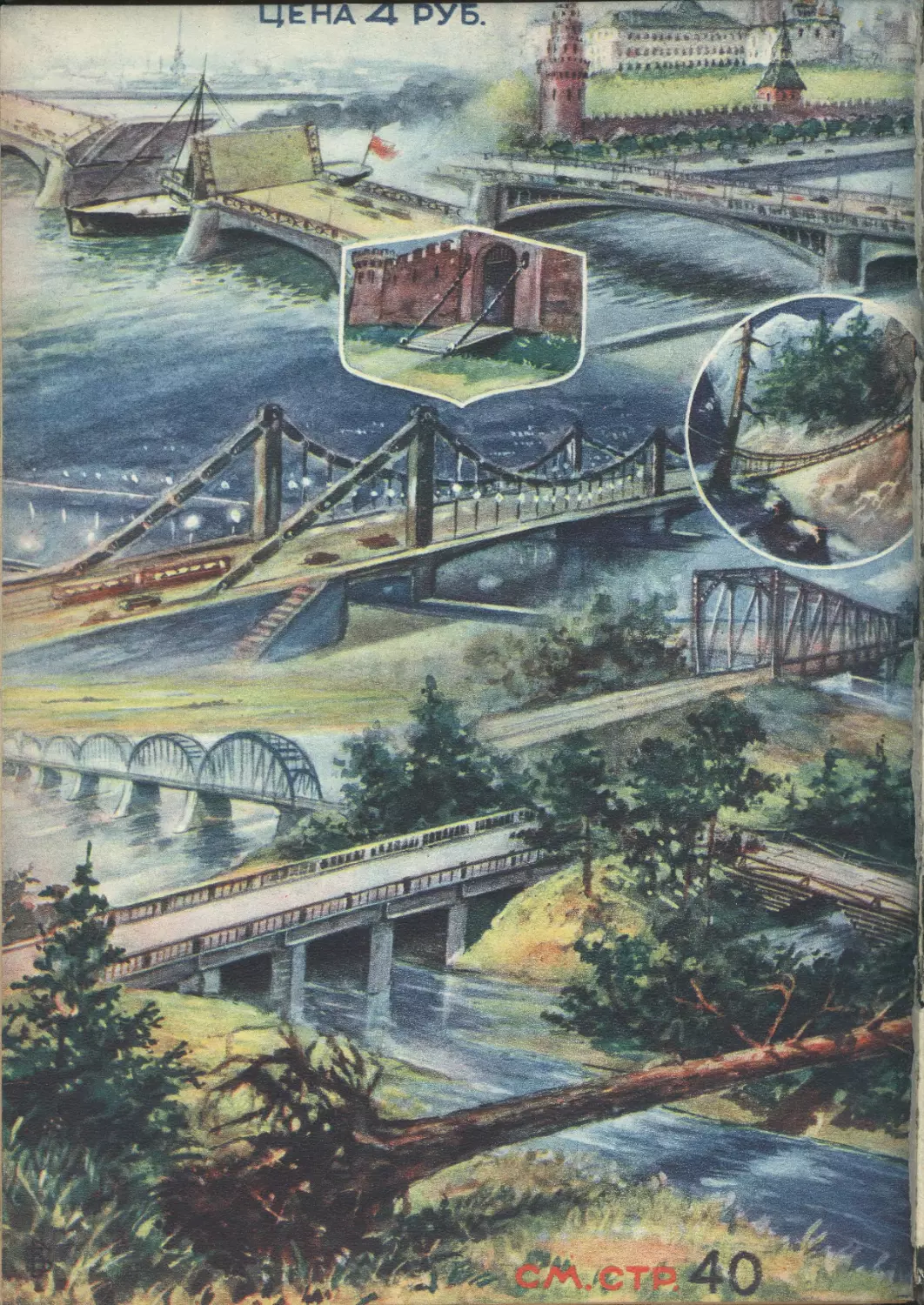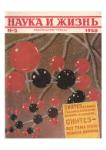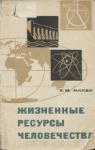Text
N°3
1948г.
W4EBHUE заведения трудовых резервов, созданные но инициативе товарища Сталам в 1940 году, являются
** основным источником организованного пополнения рядов рабочего класса СССР.
Со времени своего основания ремесленные, железнодорожные училища н школы ФЗО подготовили для нарочного
хозяйства 3.500.000 квалифицированных рабочих. Во время обучения в мастерских, шахтах, рудниках, у доменных
и мартеновских печей, в цехах заводов и фабрик воспитанники ремесленных училищ своим трудом оказывают
всемерную помощь нашей Родине.
Больших успехов добились учебные заведения трудовых резервов в 1947 году.
В своем письме к товарищу Сталину учащиеся и работники трудовых резервов обязались умножить успехи
1947 года и дать стране в 1948 году 5.0W.0W тонн угля, 3.000 станков, на 70.000.000 рублей инструмента.
В 1948 году учебные заведения трудовых,
вов подготовят и передадут нашему пара
хозяйству 1.100.000 квалифицированных ра
В году учащимися училищ трудовых резер-
вов извлечено из недр земля более 270.000 тони
, руды, что более чем в 4 раза превышает годовую
добычу железной руды в Турции.
В 1947 году — учащимися учебных заведений
трудовых резервов отремонтировано 2000 парово-
зов и 17.000 вагонов...
... добыто 2.000.000 тонн угля. Это количество в
2 раза превышает пйровую добычу угля в Италии...
iiiifi*
... изготовлено на 60.000.000 рублей
инструмента, и тем самым удовлетвори
потребность более
заводе»...
дичног<
тодрва!
сотни машяностроителрны:
... изготовлено 2400 металлорежущих станков, и
тем самым дана возможность полностью оснастить
3 крупных машиностроительных завода...
«ленф-^а 4.000.000 рублей запасных
>льхозмашииам.
Научно-популярный журнал
рабочей молодежи
Министерства Трудовых
Резервов _
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Рождественка, 4, тел. К 5-30-61
Б. СТЕПАНОВ Рис. А. ОРЛОВА и С. КАПЛАНА
Т)№ 12 журнала «Знание-сила» за 1947 год статьей
D «Ломоносов и Лавуазье» мы открыли отдел, посвящен-
ный роли русских ученых и изобретателей в развитии
мировой науки и техники и борьбе за признание их за-
слуг, за охрану их прав против посягательств со стороны
иностранцев.
ДВА СОБЫТИЯ
СРЕДИ множества событий 1828 года трудно, пожалуй,
найти два более далеких друг от друга, чем те, о ко-
торых пойдет здесь речь.
Одно из них сразу же взволновало весь мир и вызвало
многочисленные устные и печатные отклики на разных
языках. Другое не произвело никакого шума и долго оста-
валось достоянием узкого круга родных и знакомых одной
семьи. Первое послужило поводом к оживленным собра-
ниям во многих столицах и крупных культурных центрах,
породило страстные споры, перессорило старых друзей
и сблизило людей, до того незнако-
мых. Второе было скромно отпраздно-
вано в частном доме небольшого за-
холустного городка и не сопровожда-
лось никакими комментариями за его
пределами.
И прошло много лет, прежде чем
нити новых событий, порожденных
каждым из двух столь отдаленных
и не связанных между собою собы-
тий 1828 года, встретились, перепле-
лись и увенчались в конце концов
результатами, без которых немысли-
ма современная жизнь.
Первое из этих событий произошло
в химической лаборатории одного из
немецких промышленных училищ и
заключалось в том, что молодой хи-
мик Фридрих Велер, выпаривая смесь
растворов двух хорошо известных со-
лей — сернокислого аммония (кото-
рый под названием «сульфат-аммония»
впоследствии стал широко применять-
ся в качестве одного из минеральных
удобрений) и циановокислого калия, —
получил белое кристаллическое веще-
ство, весьма мало напоминавшее то,
„оторое он намеревался получить.
Второе событие последовало 6 сен-
тября того же года в России, в горо-
де Чистополе, Казанской губернии, и
состояло в том, что в семье участника
Отечественной войны 1812 года,
отставного полковника Михаила Васильевича Бутлерова
родился сын Александр.
Если к сказанному о втором событии добавить, что на
одиннадцатый день жизни Александр Бутлеров лишился
тери, внезапно умерший от испуга, и был отвезен на
Александр Михайлович Бутлеров
(1828--1886).
«Тайны органических молекул» — вторая статья из
этого цикла, посвященная работам основоположника глав-
ной теории органической химии, великого русского хи-
мика Александра Михайловича Бутлерова, 120-летие со
дня рождения которого исполняется в этом году.
попечение к ее родителям, деревенька которых находи-
лась в 12 верстах от Бутлеровки — отцовского именьица,
то рассказ об этом столь обыденном происшествии можно
смело прервать — и надолго. Напротив, неудачный опыт
Велера с самого начала оказался настолько необычным,
что рассказать о нем необходимо со всеми подробностями.
«НЕ НУЖДАЯСЬ В ЖИВОТНОМ ОРГАНИЗМЕ...»
П РИСТУПАЯ к работе, Велер отнюдь не ставил себе
1 * задачу получить что-либо новое. Никакая новая идея
не руководила молодым немецким ученым. Он просто-
напросто хотел приготовить хорошо
ему знакомую соль — циановокислый
аммоний, полагая, что при нагревании
раствора циановокислого калия с
сернокислым аммонием произойдет
обычный химический процесс об-
мена: калий и аммоний поменяются
местами, и получится нужное ве-
щество.
Однако образовавшиеся белые иголь-
чатые кристаллы нисколько не напо-
минали циановокислый аммоний. И все
же они казались Велеру знакомыми.
Он был уверен, что когда-то держал
в руках точно такие кристаллы. Ве-
лер напряг память. Еще в студенче-
ские годы он участвовал в конкурсе
на лучшую работу о тех веществах,
которые образуются в организме жи-
вотных и выделяются вместе с
мочой.
Не мочевина ли это? Впрочем, это-
го не может быть. Мочевина выра-
батывается организмом животных из
белковых веществ. Она — органиче-
ское вещество, как и сами белки,
важнейшие составные части живых
организмов. Сернокислый же аммо-
ний и циановокислый калий — "пред-
ставители класса веществ минераль-
ных, возникших вне живого организ-
ма. Велер отлично знал, что никогда
еще никому не удалось приготовить
искусственно из минеральных, неорганических тел мертвой
природы ни одного настоящего органического вещества.
Велер взял со стола вышедшее всего год назад «Руко-
водство - по органической химии» знаменитого шведского
ученого Иенса Берцелиуса, крупнейшего химика первой
1
половины XIX века. Велер только что начал переводить
эту книгу — первый в мире учебник органической хи-
мии — на немецкий язык.
«Рассматриваемое с химической точки зрения, живое
тело представляет собой мастерскую химических процес-
сов, осуществляющихся особыми... инструментами, каж-
дый из которых носит название органа, — прочел он на
одной из первых страниц. — Отсюда живая природа по-
лучила название органической. Это название мы распро-
странили также на остатки и продукты живых тел».
Велер перелистал страницу. «Существо живого тела
заключается не в его неорганических элементах, а в чем-
то другом... Это нечто, называемое нами жизненной силой,
целиком лежит вне неорганических элементов и не явля-
ется одним из их первоначальных свойств... что оно
собой представляет, где его начало и где конец, — мы не
знаем».
«В живой природе, — утверждал далее Берцелиус, —
элементы повинуются иным законам, чем в безжизненной»,
и органическая химия есть «химия растительных и живот-
ных веществ, или веществ, образующихся под влиянием
жизненной силы».
Велер положил книгу на место. Совершенно ясно: по-
лученное им вещество не может быть мочевиной — откуда
бы могла взяться жизненная сила в обыкновенном лабо-
раторном сосуде?
И все же... все же кристаллы очень напоминают моче-
вину. .. Отбросив сомнения, Велер произвел анализ. Он
не ошибся: в неодушевленном сосуде, вне живого орга-
низма, из мертвых неорганических веществ, без участия
«жизненной силы» и даже независимо от намерений самого
Велера, действительно образовалось настоящее органиче-
ское вещество — точно такая же мочевина, как и та, что
вырабатывает организм животных.
Вот тогда-то Велер и послал Берцелиусу первое письмо,
взволновавшее весь мир. Он писал не только потому,
что сообщать Берцелиусу о новых открытиях в области
химии было в начале XIX века общепринятым обычаем,
неписанным законом всех химиков. Даже не надежда,
что Берцелиус упомянет о его открытии в очередном
томе своих ежегодных обзоров достижений химии, кото-
рые были в То время лучшим средством научно-химической
информации, руководила Велером. Велер обращался к
Берцелиусу, как к своему учителю, стокгольмскую лабо-
раторию которого он покинул совсем недавно.
«Я должен вам заявить, — писал Велер, — что могу
приготовить мочевину, не нуждаясь для этого ни в почках,
ни в .животном организме вообще, будь то организм чело-
века или собаки».
ЗАРЯЖЕННЫЕ АТОМЫ
ТО был тяжелый удар для Берцелиуса. Случайное от-
крытие Велера разом опрокидывало результаты почти
двадцатилетней напряженной работы.
Еще в 1808 году Берцелиус приступил к созданию но-
вого «Курса химии» — книги, сыгравшей в истории науки
выдающуюся роль. В ней Берцелиус впервые ввел услов-
ные обозначения элементов и соединений — химические
формулы, положив начало существующему поныне интер-
национальному языку химиков. Но главное значение «Кур-
са» заключалось в том, что в нем были подведены итоги
великих перемен, происшедших в химии к началу XIX сто-
летия.
Открытый в 1748 году Ломоносовым закон сохранения
веса вещества был к этому времени уже окончательно
утвержден в науке. Измерение и взвешивание стали не-,
пременным условием работы каждого химика и привели
к выводу, что различные химические элементы вступают
в соединение друг с другом не в любых, случайных коли-
чествах, но в строго определенных весовых отношениях.
Все это нашло ясное истолкование в учении об атомах,
которое вошло в химию в первые годы XIX века. Атомная
теория объяснила количественные отношения, которым
подчиняются химические процессы соединения атомов.
И тогда на'очередь выступил новый, не менее важный, но
гораздо более сложный вопрос: почему соединяются меж-
ду собою атомы? Попытка ответить на этот вопрос и
составляет заслугу Берцелиуса.
Ему не пришлось тратить усилия на опровержение ста-
рых взглядов. В XIX веке никто уже не придерживался
мнения средневековых алхимиков, что «подобное соеди-
няется с подобным». Все данные опыта говорили как раз
обратное: легче всего соединяются вещества, обладающие
противоположными свойствами. Металл натрий не про-
являет никакого стремления соединиться со своим бли-
жайшим родственником — металлом калием; зато он
жадно, с выделением большого количества тепла, взаимо-
действует с газообразным хлором. «Сродством» друг к
другу, как называют химики способность к взаимному
соединению, обладают отнюдь не родственные по хими-
ческим свойствам тела, а именно несходные.
Изучая действие на вещества открытого в конце
XVII века электрического тока, Берцелиус вместе с другими
исследователями нашел, что ток разлагает вещества на
две половины, причем одна из них собирается у отрица-
тельного электрического полюса — очевидно, та, кото-
рая сама заряжена положительно, — а вторая, очевидно
заряженная отрицательно, — у положительного. Водород
и металлы всегда накапливаются у отрицательного полюса,
тогда как кислород, хлор и многие другие неметаллы —
у положительного.
Эти опыты и натолкнули Берцелиуса на мысль о при-
роде сил, лежащих в основе химического сродства. Не
таинственная «любовь», не «родство характеров» связы-
вает атомы в прочное химическое соединение. Их связы-
вают электрические силы.
Каждый атом, утверждал Берцелиус, несет в одно и то
же время два электрических заряда: положительный и
отрицательный. Но один из них пересиливает другой, и в
конечном счете химические элементы выступают либо как
электроположительные, либо как электроотрицательные.
Водород и металлы положительны, кислород, хлор и ряд
других элементов отрицательны. Противоположные элек-
трические заряды притягиваются, поэтому и возникают
химические соединения между противоположными по свой-
ствам элементами.
ПОРАЖЕНИЕ БЕРЦЕЛИУСА
ВИДИМЫЕ преимущества новой теории быстро оценили
почти все химики. Но только наиболее проницательные
ученые поняли ее глубокий смысл. Первым среди них был
профессор Московского университета Михаил Григорь-
евич Павлов. Этот замечательный русский ученый начала
XIX века сделал очень много для развития физических и
химических знаний в нашей стране. «Его курсы были
чрезвычайно полезны, — писал о нем великий русский
мыслитель А. И. Герцен, один из его учеников. — Павлов
стоял в дверях физико-математического отделения и
останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать при-
роду? Но что такое природа? Что такое знать?.. Ггав-
ное достоинство Павлова состояло в необычайной ясности
изложения...»
Такую же ясность вносил он и в рассмотрение научных
проблем. Крупнейшим достижением науки Павлов считал
открытие электрического тока. Он писал об изобретении
электрической батареи, с помощью которой петербургский
профессор В. В. Петров в 1802 году открыл электрическую
дугу, что оно «служит достойным заключением блиста-
тельных успехов естественных наук в прошлом столетии».
Павлов относил электрические процессы к числу важней-
ших в природе и горячо приветствовал каждый новый
шаг в изучении этих процессов. И как только Берцелиус
сделал попытку с помощью электричества объяснить
существо химических процессов, Павлов дал такую трак-
товку новой теории, которая далеко опережала теорети-
ческие представления самого Берцелиуса.
Эта теория, утверждал Павлов в статье «О полярно-
атомической теории химии», — прямое следствие учения об
атомах. Согласно «оного гипотеза тела состоят из час-
тиц, в величине и весе постоянных, при химических соеди-
нениях не проницающих одна другую, но одна к другой
присоединяющихся. Частицы сии... означаются именем
атомов».
Но если «... химическое соединение совершается между
атомами, как же сии один на другой действуют? — спра
шивает Павлов. — ... Предшествующие и последующие
обстоятельства химического соединения показывают, что
при сем возбуждаются противуположные электричества.
2
А поелику химическое соединение совершается между
атомами, то между ними же должно быть и возбуждение
противуположных электричеств, и в сем состоит взаимное
атомов одного на другой действие».
Таким образом, в отличие от Берцелиуса, который счи-
тал атомы всегда несущими тот или иной электрический
заряд, Павлов утверждал, что электрические заряды
атомов возбуждаются в процессе химического взаимодей-
ствия. А это значит, что один и тот же атом в разных
химических процессах может вести себя по-разному. Но-
вейшее развитие науки вполне подтвердило гениальную
мысль русского ученого. Но в 1821 году, когда Павлов
опубликовал свою статью, далеко не все химики понимали
так четко смысл электрохимической теории. И в то самое
время, как русский ученый писал, что «при свете полярно-
атомической теории открывается удивительный порядок
там», где прежде «виден был нестройный хаос», сам осно-
ватель теории, Берцелиус, неправильно толкуя ее, без-
надежно запутался в созданном им самим новом хаосе.
Все шло у него прекрасно, пока, составляя свой «Курс
химии», он рассматривал свойства металлов и минералов.
Применение электрохимической теории даже в том виде,
как ее толковал Берцелиус, давало здесь хорошие резуль-
таты. Она позволила пролить свет на процессы образования
всех известных в то время неорганических веществ. И
Берцелиус описывал, как атомы металла натрия, соединя-
ясь с атомами газа кислорода, образуют положительно
заряженный окисел, потому что положительный заряд
натрия в нем преобладает над отрицательным зарядом
кислорода, тогда как атомы серы, гораздо менее положи-
тельной, чем натрий, соединяясь с такими же атомами ки-
слорода, дают отрицательный окисел. С помощью изобре-
тенных им формул Берцелиус затем
наглядно изображал взаимное соеди-
нение этих противоположно заряжен-
ных окислов, ведущее к образованию
сернокислого натрия, известного под
именем глауберовой соли.
Не было в царстве металлов и ми-
нералов, в мертвой, неорганической
природе вещества, химическую исто-
рию которого Берцелиусу не удалось
бы проследить и раскрыть столь же
подробно и убедительно.
Но стоило ему перейти к рассмот-
рению веществ растительных и жи-
вотных — органических — и он быстро
зашел в тупик. Попытки приписать
атомам, участвующим в образовании
органических молекул, постоянные,
резко выраженные заряды, как в слу-
чае металлов и минералов, упорно
оказывались безуспешными. Найти в
органическом соединении положитель-
ную и отрицательную «половинку»
было исключительно трудно. Нередко
выходило, что половинка, как будто
бы положительная в одном соедине-
нии, вела себя как отрицательная во
втором, а в третьем — две такие по-
ловинки оказывались прочно связан-
ными, вопреки всем правилам элек-
трохимической теории Берцелиуса.
«Органическая химия является столь
своеобразной наукой, что химик при
переходе от исследований в неорга-
нической природе к исследованиям в
органической попадает в совершенно
чуждую ему область, — написал, на-
конец, Берцелиус, заканчивая вторую
часть «Курса». — ... Органическая
химия находится на таком же крити-
ческом поворотном пункте, на каком
находилось учение о металлах ко вре-
мени появления 1-й части моего тру-
да. . . Я полагаю, что опубликование
учения об органической химии долж-
но быть отсрочено...»
Так Берцелиус признал свое пора-
жение. Это было в 1812 году. Пол-
СЕРнО-КИСЛЫИ НАТРИЙ M},SOt
Молекулы хлористого натрия
(поваренной соли) образуются
потому, что положительно за-
ряженный атом натрия fNaJ
притягивается к отрицательно
заряженному атому хлора (С1).
Берцелиус описывал, как ато-
мы натрия, соединяясь с ато-
мами кислорода (О), дают по-
ложительно заряженный оки-
сел, потому что положительный
заряд натрия в нем преобла-
дает над отрицательным заря-
дом кислорода, тогда как ато-
мы серы (S), гораздо менее по-
ложительные, чем натрия, с
кислородом дают отрицательно
заряженный окисел. Соеди-
няясь затем друг с другом,
эти противоположно заряжен-
ные окислы образуют моле-
кулу сернокислого натрия.
ковник Михаил Бутлеров в то время не помышлял еще
ни о женитьбе, ни о мирном житье в своей Бутлеровке.
В составе победоносной армии фельдмаршала Кутузова он
гнал наполеоновские полчища из России, закончив поход
в Париже, столице Франции.
ПОЛОЖЕНИЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ
/'ОБЪЯВЛЕННАЯ Берцелиусом отсрочка в создании раз-
дела «Курса химии», посвященного органическим сое-
динениям, затянулась на целых 15 лет. Огромное число
органических веществ было открыто и изучено за это вре-
мя. Но чем больше материала накапливалось в руках
Берцелиуса, тем менее ясным становилось у него пред-
ставление о нем.
Прежде всего, подавляло обилие органических соеди-
нений: число их во много раз превосходило число извест-
ных минеральных веществ. Всего несколько кислот —
серную, азотную, соляную, фосфорную и еще две-три —
знала в то время неорганическая химия. Органическая
химия насчитывала кислоты десятками — здесь были и
уксусная, и муравьиная, и янтарная, и щавелевая, и яб-
лочная, и лимонная, и винная, и молочная, и стеариновая,
и пальмитиновая, и длинный ряд других кислот, вырабаты-
ваемых организмами животных и растений. Каждая из них
давала столько же солей с металлами, как и любая не-
органическая кислота, а сверх того — множество других
производных, отсутствующих среди веществ минеральных.
Список неорганических щелочей (оснований) исчерпы-
вался известными очень давно едким калием, едким
натрием, гашеной известью, едким барием и еще несколь-
кими веществами такого же рода. Первое органическое
основание — морфин (морфий) — было открыто лишь в
1817 году, и все же число органи-
ческих оснований быстро превзошло
число минеральных: за несколько лет
к морфину прибавились хинин, цин-
хонин, никотин, кокаин и целый ряд
других.
А кроме кислот, солей, оснований,
в мире органических соединений
были еще углеводороды, спирты, са-
хара, жиры, эфиры и более десятка
других классов соединений, и каж-
дый класс насчитывал своих пред-
ставителей десятками, сотнями, ты-
сячами. ..
Задумав разобраться в почти не-
обозримом море органических соеди-
нений, Берцелиус ожидал встретить
в их составе не только все уже от-
крытые химические элементы, но и
много епте не открытых. 52 элемента
знала химия в 1827 году, и все они
встречались среди веществ минераль-
ных. Берцелиус знал это лучше, чем
кто-либо: он сам проделал анализы
почты всех известных в * то время
неорганических соединений, открыв
в них несколько новых элементов.
Присутствие серы отличало от
других кислот серную кислоту, при-
сутствие азота — азотную, хлора
соляную, фосфора — фосфорную. На-
личие натрия отличало от других
щелочей едкий натрий; наличие ка-
лия — едкий калий, кальция — га-
шеную известь, бария — едкий барий.
Элемент кремний входил в состав
песка (кремнезема), магний — в со-
став магнезии, алюминий — глино-
зема, железо — 'железного колче-
дана, медь — медного купороса,
цинк — цинковой обманки, и т. д. Раз-
нообразие неорганических веществ
основывалось в первую очередь на раз-
нообразии элементов, входивших в их
состав. Нечто подобное Берцелиус
думал найти и среди растительных
и животных веществ.
3
Но, проделав сотни анализов, он был поражен крайней
бедностью стройматериалов, из которых живые организмы
вырабатывают свои вещества.
И что удивительнее всего — в составе их не было ка-
ких-либо особенных элементов, отличных от входящих в
состав минеральных веществ. Изучение органических сое-
динений не обогатило химию ни одним новым элементом.
В составе растительных и животных веществ не было
найдено ни одного редкого элемента, каких немало
обнаружили в царстве минералов. Берцелиус ни разу не
встретил здесь ни церия, ни тантала, ни циркония, ни
иттрия, ни палладия, ни иридия, ни тория, ни урана. Са-
мые обычные, давно известные химические элементы ле-
жат в основе бесчисленного множества органических ве-
ществ.
В муравьиной, уксусной, янтарной, щавелевой, яблоч-
ной, лимонной, винной, молочной и многих десятках дру-
гих органических кислот — в каждой из них ученые от-
крыли только три элемента: углерод, водород, кислород.
Те же три элемента обнаружили исследователи в винном,
древесном и других спиртах. Ничего, кроме углерода,
водорода и кислорода, не находили и при изучении жи-
вотных и растительных жиров. Из тех же трех элементов
состоят сахара и воска, крахмал и целлюлоза (клет-
чатка), эфиры и обширные классы других органических
веществ. Всего на один элемент — азот — богаче орга-
нические основания — морфий, кокаин, хинин и другие.
Сера, а иногда и фосфор прибавляются к этому малень-
кому списку, когда переходят к изучению белковых ве-
ществ. Зато огромное число органических соединений —
горючие газы, составные части нефти и многие другие —
построены только из двух элементов — углерода и водо-
рода.
Всего пять-шесть химических элементов в составе почти
бесчисленного множества органических веществ! Притом
в большинстве случаев из этих пяти-шести элементов
присутствуют лишь два-три. И это — несмотря на огромное
разнообразие свойств органических соединений! Горькие
и сладкие, кислые и безвкусные, окрашенные и бесцвет-
ные, душистые и без запаха, летучие и трудноплавкие,
ядовитые и безвредные, растительные и животные, вы-
деленные из любых частей и органов растений и живот-
ных — органические вещества неизменно оказывались по-
строенными из одних и тех же немногих химических эле-
ментов.
Это однообразие состава само по себе обуславливало
огромные трудности в изучении органических веществ.
А тут вдобавок обнаружилось новое обстоятельство, еще
более усложнившее и без того запутанное положение.
Оно выплыло при количественном исследовании органиче-
ских соединений.
Всего два атома входят в состав мельчайшей отдельной
частицы (молекулы) соляной кислоты, по три атома — в
молекулы воды, едкого натрия, едкого калия, четыре —
аммиака, пять — азотной кислоты, гашеной извести,
едкого бария, семь атомов — в молекулу серной кислоты,
восемь — фосфорной. Среди минеральных соединений
редко встречаются такие, молекулы которых насчиты-
вают более 10 атомов.
40 атомов было найдено в молекуле морфина, 45 — в
молекуле сахара, 48 — хинина, 56 — стеариновой кисло-
ты, 173 — в молекуле главнейшей составной части жи-
вотных жиров. Громоздкие молекулы из многих десятков
и сотен атомов оказались характерным признаком органи-
ческих соединений. Изучать такие соединения неизмеримо
труднее, чем минеральные вещества.
Но и это было еще не все.
Можно понять разницу в свойствах уксусной и стеари-
новой кислот, хотя обе они состоят из атомов углерода,
водорода и кислорода: в молекуле уксусной кислоты этих
атомов 8, а стеариновой — 56. Но как объяснить разли-
чие между веществами, состоящими из одного и того же
числа одних и тех же атомов? В 1818 году Берцелиус
категорически утверждал, что даже ничтожная разница
в свойствах тел «немыслима, если отсутствует соответ-
ствующее различие в их составе». А уже начиная с
1823 года такие вещества открывались химиками-органи-
ками почти е?кегодно. Метиловый эфир, например, — газ,
сжижающийся лишь при охлаждении до минус 23,6 гра-
дуса. Но по составу он ничем не отличается от обыкно-
венного винного спирта, который кипи г при плюс 78 гра-
дусах: молекулы обоих веществ, столь различных по свой
ствам, содержат по 2 углеродных атома, 6 водородных
и 11 кислородному.
Это настолько противоречило общепринятым представ
лениям, что первые ученые, открывшие такие вещества,
даже обвиняли друг друга в неточных анализах. Однако
проверка подтвердила, что разные вещества одинакового
состава действительно существуют. Это вынужден был
признать и Берцелиус, назвавший такие вещества «изо-
мерными» (от древнегреческого слова «изомерес» — со-
ставленный из одинаковых частей).
К неразгаданным тайнам органической химии прибави-
лась еще одна: тайна изомерии.
ВЕЛИКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ
О 1827 году Берцелиус подытожил результаты нятнад-
D цатилетних работ.
Два слова лучше всего определяют полученный итог:
разительное противоречие. Противоречие между однообра-
зием и обычностью состава и разнообразием и необыч-
ностью свойств, между многочисленностью атомов в мо-
лекулах и малочисленностью их сортов, между ограни-
ченностью числа составных элементов и безграничностью
числа соединений.
Печальный итог! Непонятное запуталось еще больше,
количество необъясненного умножилось.
Берцелиусу казалось необычным, необъяснимым все, что
отличало органические соединения от минеральных. Он
прошел мимо факта, на который уже указывал кое-кто из
химиков, — что в составе всех без исключения органиче-
ских соединений всегда обязательно есть углерод. Это
обстоятельство казалось ему гораздо менее важным, чем
то, что все известные в то время органические соединения
были в конечном счете получены с помощью живых
организмов — растений и животных.
С помощью живых организмов! В процессе жизни —
самого сложного явления природы. Вот в чем Берцелиус
увидел причину особых свойств органических веществ.
Он приписал ее участию в образовании этих веществ осо-
бой «жизненной силы», присущей только живым суще-
ствам и недоступной никакому разумному истолко-
ванию.
Берцелиус пошел по пути, на который в прошлые века
часто сворачивала наука, приступая к исследованию но-
вых областей. Таинственные «силы» были постоянным и
необходимым подспорьем науки на первых порах ее раз-
вития. Где нехватало знания, призывали на помощь тайн
ственные силы. Разве не изобиловала физика таинствен-
ными «теплотворными» и иными -«материями», пока вели-
кий Ломоносов не расчистил ей правильный путь к
истине?
Из атомов трех веществ — углерода, кислорода, водо-
рода — состоят такие различные по своему внешнему виду
органические вещества, как сахар, уксус, масло, сало,
хлопковое волокно, и др.
4
При всех своих несомненно выдающихся способностях,
Берцелиус не смог возвыситься до уровня Ломоносова.
Острота взора Берцелиуса далеко уступала проникновен-
ной силе взора русского гения. Он не понимал, что в
XIX веке таинственные и необъяснимые силы давно
уже стали тормозом науки. И то, что уже 80 лет на-
зад заставляло Ломоносова критически настораживаться,
Берцелиусу казалось единственно возможным объясне-
нием. Введя в молодую органическую химию понятие таин-
ственной «жизненной силы», Берцелиус показал себя
идейно стоящим не выше рядовых образованных людей
Западной Европы начала XIX века, которые, по свиде-
тельству одного современника, считали оскорблением,
когда им говорили, что в их теле играют какую-
либо роль грубые и обычные силы неорганической при-
роды. ..
На такой почве посеянное Берцелиусом великое заблуж-
дение принялось с большой легкостью. К тому же по-
корял главный довод, который Берцелиус приводил в
защиту «жизненной силы»: неудача многочисленных по-
пыток приготовить органические вещества искусственно.
То, что удавалось для всех без исключения минеральных,
неорганических веществ, упорно оказывалось неосуще-
ствимым в царстве соединений органических. Разве не
убедительно говорит это, что в возникновении их заме-
шана особая «жизненная сила»?
Берцелиус не понимал, что придуманное им учение о
жизненной силе было пагубным для молодой органиче-
ской химии. Чего можно ожидать от науки, заранее
утверждающей невозможность искусственно получить ве-
щества, которые она изучает? Крупных открытий ждать
от такой науки нельзя; она обречена на прозябание. Бер-
целиус не думал об этой стороне дела, когда закончил
наконец, в 1827 году, столь затянувшуюся работу над
«Руководством по органической химии».
И вдруг — письмо Велера. Искусственно, хотя и слу-
чайно, получено органическое вещество! Несколько стро-
чек, всего один опыт — и стройная теория оказывалась
опрокинутой. Уничтожались результаты 15-летних усилий.
Снова настойчиво выступала нерешенная задача объясне-
ния свойств органических веществ.
Берцелиус не мог сдержать скрытого раздражения. И он
написал Велеру в ответ на его сообщение об искусствен-
ном получении мочевины: «Для того, кто положил начало
своему бессмертию в моче, имеются все основания завер-
шить свой путь вознесением на небеса при помощи того
же предмета, и, право же, господин доктор нашел под-
ходящий способ проложить себе дорогу к бессмертному
имени...»
Впрочем, когда раздражение немного улеглось, Берце-
лиус приписал: «Но довольно насмешек ... то, что сделал
наш господин доктор, — очень важное и очень красивое
открытие».
Так был нанесен первый удар по «жизненной силе».
Только атомы, углерода и водорода образуют горючий
газ, бензин, нефть, керосин, парафин и др.
... Наконец дверь отворилась, и воспитатель Роланд
ввел в зал десятилетнего мальчика-
НА ОПУШКЕ ДРЕМУЧЕГО ЛЕСА
ОЕСЕННИМ днем 1838 года воспитанники одного из
казанских пансионов собрались в обеденном зале. Не-
обычная тишина царила здесь в этот день. В сборе были
не только ученики — вдоль стен выстроились все пре-
подаватели пансиона. И ученики и педагоги не сводили
глаз с входной двери.
Наконец дверь отворилась, и воспитатель Роланд,
прозванный «неистовым» не столько в честь героя старо-
французского эпоса, сколько за крутой нрав, ввел в зал
десятилетнего мальчика. На груди его красовалась черная
доска с надписью крупными буквами: «Великий химик».
Волосы и брови «химика» были опалены, на лбу и щеках
виднелись пятна ожогов и царапины.
«Неистовый Роланд» провел мальчика через весь обе-
денный зал, а затем вновь препроводил в темный карцер,
откуда его выпускали только раз в день — на пока»
товарищам.
Это было новое изобретение иностранца-«воспитателя»
Роланда — наказание за взрыв, учиненный юным воспи-
танником при его тайных занятиях химическими опытами
в подвале пансиона. Провинившимся учеником был
Александр Бутлеров.
Вскоре после этого случая отец перевел его в Казан-
скую гимназию. М. В. Бутлеров горячо любил своего
сына, но воспитывал в суровых правилах, не балуя нянь-
ками и репетиторами, постоянно твердя, что каждый че-
ловек сам должен пробивать себе дорогу. Кутузовский
полковник сумел привить сыну высокие патриотические
и деи беззаветного служения родине. И еще тринадцати -
летним мальчиком Бутлеров писал отцу в новогоднем
поздравительном письме: «Надеюсь я служить моему
отечеству верою и правдою и, если нужно, умереть за
него и за все мне драгоценное на поле битвы. Да! друг
мой, неужели кто-либо из истинных сынов России не от-
важится броситься во все опасности за честь и славу
любезного отечества нашего...»
В 1844 году шестнадцатилетний Бутлеров поступил в
Казанский университет. Здесь его детское влечение к
химии, отнюдь не вытравленное «неистовым Роландом» и
его сподвижниками, вспыхнуло с новой силой: он впервые
встретил настоящих химиков, глубоко преданных своей
науке.
Один из них, профессор Карл Карлович Клаус, уроже-
нец эстонского города Дерпта (ныне Тарту Эстонской
ССР), приобрел известность работами по изучению пла-
тины и родственных ей металлов. Как раз в год прихода
Бутлерова в университет Клаусу посчастливилось открыть
новый элемент платиновой группы, который он назвал
«рутением» в честь России (по-латыни — Рутения).
роль в анилинокрасочной промышленности, тогда только
что были открыты Зининым. Профессор обратил внимание
на увлекающегося студента и привлек его к своим рабо-
там. Вместе с учителем Бутлеров приготовил яблочную,
муравьиную, щавелевую и другие кислоты, изучал превра-
щения мочевой кислоты и синей краски индиго и проделал
большое число других работ. А в те часы, когда универ-
ситетская лаборатория была закрыта, Бутлеров работал
дома. Навлекая упреки соседей, не одобрявших появления
в доме «химических запахов», молодой химик готовил
у себя кофеин и некоторые другие вещества, с торже-
ством принося их затем в лабораторию.
Встреча с Зининым решила судьбу Бутлерова. Он, не
оглядываясь, шагнул в дремучий лес органической химии,
горя желанием принять участие в борьбе, порожденной
тем событием, ровесником которого он был.
ПОСЛЕДНИЙ ТРИУМФ БЕРЦЕЛИУСА
Вторым был профессор Николай Николаевич Зинин,
впоследствии академик, знаменитый химик, прославивший
Россию открытием способа получения анилина — основ-
ного вещества мощной анилинокрасочной промышленности.
Работая в стенах одного университета, оба выдающихся
русских ученых, как это нередко бывает, расходились в
своих научных взглядах.
Клаус работал в области неорганической химии и был
горячим приверженцем электрохимических воззрений, ко-
торые дали так много для объяснения свойств минераль-
ных веществ. В отличие от Клауса, Зинин работал в об-
ласти химии органической, где недостаточность взглядов
Берцелиуса ощущалась весьма отчетливо.
Профессор Клаус свои лекции читал в строгом соот-
ветствии с электрохимической теорией. Зинин же, напро-
тив, не скупился на критику этой теории. И хотя препо-
давали они на разных факультетах, Бутлеров посещал
лекции и того и другого: атмосфера научных споров будо-
ражила мысль молодого химика, способствовала освобож-
дению от слепого преклонения перед авторитетами, раз-
Вэтой борьбе неожиданно старая электрохимическая
теория Берцелиуса одержала свою последнюю победу.
Началось с того, что в молекулах многих органических
соединений были найдены совершенно одинаковые группы
атомов. Такова, например, группа из одного углеродного
и трех водородных атомов. Словно дверь из одной дубо-
вой и трех сосновых досок, которая с одинаковым успе-
хом служит и в большом доме и в маленьком, и в дере-
вянном и в каменном, и в жилом и в фабричном, — эта
группа входит в молекулы таких различных соединений,
как уксусная кислота и древесный спирт, как кипящий
при минус 23,6 градуса метиловый эфир и плавящийся
при плюс 177 градусах хинин, как множество других,
еще более разительно не схожих между собою
веществ.
Берцелиус пришел в восторг, получив известие об от-
крытии атомных групп, целиком, в неизменном составе
переходящих из соединения в соединение. Ему казалось,
что с их открытием царившая в органической химии ве-
вивала критическое отношение к изучаемому предмету.
проглядная тьма сменилась рассветом. Он предложил да-
В теоретических столкновениях Зинина и Клауса перед
Бутлеровым оживала история последних десятилетий хи-
мии — и в первую очередь история жгучей борьбы, кото-
рая завязалась в науке в год его рождения. Эта борьба
отнюдь не закончилась в 1844 году. В умах химиков-
органиков попрежнему царил разброд. Случайное откры-
тие Велера нанесло первый удар
теории «жизненной силы», но окон-
чательно ее не разбило. А главное —
оно не пролило света на загадочные
свойства органических соединений.
Сам Велер оказался теоретически
несостоятельным: он спасовал перед
величайшими трудностями, которые
встали на пути органической химии
после его неожиданного открытия.
«Органическая химия может в на-
стоящее время кого угодно свести
с ума, — писал он в 1835 году. —
Она представляется мне дремучим
лесом, полным чудесных вещей,
огромной чащей без выхода, без
конца, куда не осмеливаешься про-
никнуть. ..»
Студент Бутлеров стоял на опушке
этого «дремучего леса». Огромная
чаща не пугала его. Скрытые в ней
чудесные вещи неудержимо влекли
к себе молодого химика. Бутлеров
любовался красивыми красными пла-
стинками азобензола, желтыми иголь-
чатыми кристаллами азоксибензола
и блестящими серебристыми чешуй-
же назвать первую из таких групп «проином» или «ортри-
ном» (от древнегреческих слов «прои» — начало дня и
«ортрос» — утренний рассвет). Берцелиус увидел в этих
атомных группах крупные, собранные из мелких деталей
стандартные блоки, из которых молекулы органических
веществ слагаются так же, как молекулы минеральных
веществ — из отдельных атомов.
Профессор Зинин обратил внимание на увлекающегося
студента и привлек его к своим работам.
ками бензидина. Все эти вещества,
играющие сейчас такую большую
в
Внимание его привлекли горевшие коптящим пламенем
свечи. . .
Радикалы — «корни соединений» — такое название по-
лучили эти стандартные группы атомов, строительные бло-
ки органических веществ.
Берцелиус недаром приветствовал открытие радикалов:
они-то и позволили ему еще раз пережить радость торже-
ства его электрохимической теории.
Положительный атом натрия, соединяясь с отрицатель-
ным атомом хлора, образует молекулу хлористого натрия
(поваренной соли). Тот же натрий с отрицательным ато-
мом брома дает бромистый натрий, с иодом — иодистый
натрий, с кислородом и водородом — едкий натрий, и т. д.
Так, по Берцелиусу, не сумевшему подняться до того тол-
кования электрохимической теории, которое с самого на-
чала дал ей русский ученый М. Г. Павлов, и до конца
жизни продолжавшему приписывать атомам постоянные
электрические заряды, образуются молекулы минераль-
ных веществ.
Положительный радикал метил — группа из углеродно-
го и трех водородных атомов — дает хлористый метил z
отрицательным атомом хлора, бромистый метил — с бро-
мом, иодистый метил — с иодом, древесный спирт — с
кислородом и водородом, и т. д. Так объяснил теперь
Берцелиус образование молекул органических веществ,
приписав и органическим радикалам постоянные, резко
выраженные электрические заряды.
Из атомов углерода и водорода, кроме метила, могут
образоваться радикалы этил (два углеродных и пять во-
дородных атомов), амил (пять углеродов и одиннадцать
водородов) и бесчисленный ряд других радикалов. Еще
больше комбинаций может возникнуть из атомов трех,
четырех, пяти элементов. Бесконечно общее число радика-
лов, которые могут образоваться из атомов нескольких
элементов. Потому и безгранично число органических
соединений.
Так возникла теория радикалов — первая теория орга-
нической химии. Она двинула органическую химию впе-
ред. Наконец-то и в этой науке появилась возможность
упорядочить рассмотрение многочисленных органических
веществ, разбив их на классы по радикалам. А это сразу
позволило подметить общие черты у различных соеди-
нений.
Теория радикалов тесно срослась с электрохимической
теорией Берцелиуса. В этом была ее сила: она подводила
общий фундамент под минеральные и органические ве-
щества. Но здесь же таилась и ее гибель.
СЛУЧАЙ С КОПТЯЩЕЙ СВЕЧКОЙ
I—| А одной из лекций профессор Зинин рассказал студен-
1 * там историю о том, как коптящая свечка привела к
крушению теории радикалов.
Известный французский химик Жан Дюма был пригла-
шен однажды на бал в королевский дворец. Внимание его
привлекли едкие, удушливые пары, которые исходили от
горевших сильно коптящим пламенем восковых свечей.
Заинтересованный Дюма установил, что на свечной
фабрике пчелиный воск для отбеливания обрабатывали
хлором. При сгорании свечей из такого воска выделялись
пары соляной кислоты. Они-то и вызывали неприятный,
удушливый запах.
Дюма определил состав воска до и после отбелки. В
молекулах отбеленного воска содержалось гораздо мень-
ше атомов водорода. Но зато вместо них присутствовало
ровно столько же атомов хлора.
Выходило, что положительные атомы водорода в воске
заместились отрицательными атомами хлора, но это так
мало изменило свойства воска, что из него попрежнему
можно было делать свечи.
По теории радикалов, это необъяснимо. На место плюса
становится минус! Такая замена должна в корне изменить
свойства вещества, или даже вовсе разрушить его. А здесь
не произошло ничего подобного.
Опыты Дюма ошибочны. — Так сейчас же заявил Бер-
целиус.
Теория радикалов неверна. — Так ответил Дюма.
Спор могли решить только новые факты.
Дюма взял уксусную кислоту, в составе которой есть
радикал метил, и подействовал на нее хлором. Все три
атома водорода в метиле заместились на хлор! И несмотря
на это, вещество осталось кислотой.
Дюма был очень горд своим открытием. Правда, еще
лет за сорок до его работ хлоруксусная кислота была уже
получена русским химиком академиком Товием Егорови-
чем Ловицем, который, кстати, впервые открыл и способ
получать уксусную кислоту в абсолютно чистом, твер-
дом состоянии. Но так уж повелось у многих иностран-
цев — «не замечать» или «забывать» заслуги русских, а
затем приписывать их себе. Француз Лавуазье «не знал»,
что закон сохранения веса вещества Ломоносов открыл
за сорок один год до него. Англичанин Джоуль и немец
Майер «забыли», что закон сохранения энергии открыт
Ломоносовым за сто лет до них. Такие же странные «про-
белы» в образовании или в памяти обнаружились и у
Дюма, когда он посылал сообщение о хлоруксусной кис-
лоте в Парижскую Академию наук. Так или иначе, а из-
учение хлоруксусной кислоты поколебало все здание тео-
рии радикалов.
«Я заявляю, что открытые мною факты несовместимы
с электрохимической теорией г. Берцелиуса», написал
Дюма.
Но в своем увлечении он допустил большой промах.
Исследуя новые случаи замещения одних атомов в ради-
калах на другие, он слишком доверчиво отнесся к работе
своего ученика и публично согласился с ней, не прове-
рив. А в этой работе ученик как раз ошибся в анализе и
сделал неверный вывод, что якобы не только водород,
но даже и углерод в радикале может замещаться на хлор
без резкого изменения свойств вещества.
«Не спятил ли с ума Дюма? — написал по этому по-
воду Берцелиус Велеру. — Что с ним, если он всерьез
пишет такую жалкую чепуху?»
7
И вот в один прекрасный день в немецком научной
журнале появилась статья, автор которой сообщал, что
ему удалось в одном веществе заместить все без исклю-
чения атомы на хлор. И хотя полученный продукт состоял
из чистого хлора, свойства первоначального вещества не
изменились!
В примечании к статье говорилось, что, по последним
сведениям из Лондона, английским химикам удалось за-
местить на хлор все атомы в веществе хлопка и, несмотря
на это, свойства его не изменились и что в лондонских
магазинах уже продаются материи, сотканные из чистого
хлора, которые с успехом идут для пошивки ночных кол-
паков, кальсон и превосходных теплых набрюшников...
Только дочитав до этого места, читатели журнала по-
няли, что попались на удочку злого шутника. Тогда они
обратили внимание на подпись: S. С. Н. Windier. Если
прочесть все буквы вместе, получится «швиндлер», что по-
немецки значит «обманщик» ...
Против кого направлен удар, — гадать не приходилось.
Статья имела пометку, что она якобы прислана из Парижа,
где работали Дюма и его единомышленники.
Школьничество на страницах научного журнала! Это
была неслыханная выходка в истории науки. Немудрено,
что автор ее долго оставался в тайне. Лишь много лет
спустя узнали, что это сам редактор журнала, знаменитый
немецкий химик Либих. Он воспользовался тем, что Велер
прислал ему письмо, в котором писал по поводу работ
Дюма: «Суетливость и болтовня химиков, вечные разго-
воры о замещениях доводят до тошноты. А сколько поло-
жений ... суть только догадки, только голые утвержде-
ния, и все же ... их считают фактами». И дальше шутки
ради он сообщил Либиху о якобы открытом удйвйтеЛЬ’-
ном замещении всех атомов на хлор. Велер думал, что
пишет одному Либиху. Но Либих, один из основателей
теории радикалов, раздраженный нападками Дюма на эту
теорию, изменил кое-что в письме Велера, добавил не-
сколько острот и опубликовал в журнале под видом
«письма из Парижа».
До такой страстности — даже до перебранок! — дохо-
дили порой научные сражения среди химиков-органиков.
Однако шутка может уколоть человека, но не опро-
вергнуть факты. Как бы ни старались приверженцы тео-
рии радикалов, она трещала по всем швам.
К РАБОТЕ ПРИСТУПАЕТ БУТЛЕРОВ
О 1847 году профессор Зинин покинул Казань и переехал
Ю Петербург. Преподавание химии перешло целиком в
руки Клауса. Под его руководством Бутлеров в 1849 году
окончил университет и был оставлен для приготовления к
профессорскому званию. В следующем году ему уже было
поручено чтение лекций по химии. Молодому лектору в
это время едва исполнилось 22 года.
С отъездом Зинина не прекратилась его дружба с Бут-
леровым. Знаменитый химик продолжал издалека руко-
водить научным развитием своего любимого ученика.
В 1852 году покинул Казань и профессор Клаус, и пре-
подавание химии в Казанском университете легло на
одного Бутлерова. Ускорив в связи с этим подготовку к
получению профессорского'звания, Бутлеров в 1854 году
посетил Москву, откуда не преминул заехать в Петербург
повидаться с Зининым.
(Окончание следует)
В^ССКАЗЫ НАТУРАЛИСТА
ВЕСНА
В. САФОНОВ
Рис. Г. НИКОЛЬСКОГО
БЫЛ день с резким ветром, — он
подымал и мел по улице мелкую
снежную пыль. Солнпе светило, но в
желтоватом свеге, бессильно падаю-
щем с низкого неба с рваными обла-
ками, все вокруг казалось особен-
но пустынно-холодным, а ветер —
особенно колючим. Не видно было
даже воробьев. Снежная пыль наби-
валась в рот, и голова невольно сама
вжималась в плечи, в поднятый во-
ротник.
Иными словами, был зимний лень,
когда особенно трудно представить
себе, что зиме будет конец, что серая
каменная земля с примороженной
ледяной корочкой отойдет и задышит,
что может она дать жизнь тысячам
ростков, приют — миллионам су-
ществ, что когда-нибудь набухнут и
лопнут почки и гомон, веселый свист
и щебет огласят зеленую листву.
С таким настроением, изрядно про-
дрогнув, я пришел в институт, снял
шубу и, входя в лабораторию, ска-
зал:
— Холода-а!..
— На дворе весна, — ответил Евге-
ний Степанович Никифоров, оторвав-
шись от микроскопа и мигая близо-
рукими глазами.
Помню, что меня рассмешило это
заявление микробиолога, который сла-
вился именно тем, что пейзажи под
объективом его превосходного микро-
скопа были знакомы ему гораздо
8
Свиристель.
лучше, чем даже смена времен года
за окнами. Да и жил он тут же, в
институте. Товарищи по лаборато-
рии утром уже видели его склоненным
над батареей разноцветных стаканчи-
ков и чашечек. Бактериальные куль-
туры в чашечках прорастали мед-
ленно, и во всей батарее, на
взгляд, ничего не менялось — только
каждое утро на столик ставился но-
вый стаканчик с простой свежей во-
допроводной водой. В сущности, это
и было единственной ежедневной но-
востью за этим столиком.
И пока хозяин его, сделав свое не-
обычайное сообщение, все щурился,
как будто глаза его никак не хотели
примириться с тем, что их оторвали
от окуляра, я не без яда в голосе
спросил:
— Уж не в микроскопе ли вы за-
метили весну?
— Вот именно, — совершенно не-
возмутимо подтвердил он и решитель-
но приказал: — Посмотрите сюда!
Не скрою, я с усмешкой заглянул в
темный глазок микроскопа.
И вдруг увидел поразительное зре-
лище. Круглое поле не было пустым.
Пловцы пересекали его. Тельца раз-
ных форм и оттенков висели в свет-
лом пространстве.
А негромкий голос рядом со мной
уверенно объяснял:
— Вам видны темные звездочки. Их
множество. Заметили? Это водоросль
астерионелла. Среди них движутся
палочки, похожие на гоночные лодки:
это водоросль навикула. Навикула
значит — «кораблик». Да еще
зеленые решетки и кубышки, со-
вершенно верно... Это микроскопиче-
ская растительность, микрофлора про-
зрачной воды. Вон какая она пышная!
Разве она была такой неделю назад?
Вы сами убедились: микрофлора по-
казывает весну!
Я не микробиолог. Мои друзья из
мира природы различимы без помощи
увеличительных стекол. Но вечером,
отправляясь домой, я подумал, что,
пожалуй, и меня могут ожидать но-
вости.
Дома у меня живут три птицы —
краснозобый зяблик, серая варакушка
и хохлатый свиристель. Свиристеля я
подсадил осенью, и птицы сразу раз-
говорились. С того и пошло: стоит
замурлыкать свиристелю — громко
откликнется зяблик. А варакушка по-
слушает, посвистит да затем очень
точно* повторит обоих.
Так целую зиму мы слушали летние
песни, когда снаружи, за разрисо-
ванным ледяным окном, скребли зем-
лю скрипучие морозы.
И вот в самом деле: дома что-то
произошло. Свиристель беспокоился.
За зиму он стал совсем смирным,
жадно брал с руки и муравьиные
яйца, и тертую морковь, и изюм
так, что клеве ч пальцы, а теперь
метался, места в клетке не находил.
Другие птицы оставались спокой-
ными. А свиристель был как больной.
Дня через два я облазил завален-
ные снегом рябинные места под горо-
дом. Свиристелей не было. На рябине
пусто. Улетели на север!
Тогда стала понятна птичья бо-
лезнь: свиристели улетают от нас
весной, когда другие птицы прилетают;
и настало время свиристелям соби-
раться на их далекую северную ро-
дину.
С этих пор мои домашние начали в
полдень каждого погожего дня сле-
дить за солнечной полосой на полу.
Она лежала почти на метр ближе к
окнам, чем месяц назад, и заметно
продолжала передвигаться из глуби-
ны комнаты все быстрее и быстрее.
Она странствовала по полу комнаты,
как по континенту, и, как на карте,
прокладывала солнечную трассу с
севера на юг.
Вот вечером, медля уходить, она
достала до книг в темноватом углу, и
радужно блеснула, ранее никем не
замеченная, тонкая, зимняя пыль меж-
ду корешками. Надо браться за
тряпку!
А в то время как двигалась полоса,
касаясь в каждом доме все новых
вещей, много месяцев не знавших
солнца, событий становилось все
больше.
Странные часы, с глуховатым хо-
дом, затикали в шкафу. Это шашель,
древоточец, сверлящий ходы в дереве.
Однажды, когда меня отвлек от ра-
боты грохот сосулек, отламывающих-
ся с крыши за окном, по столу про-
бежала с обмякшими мокрыми
крыльями муха. Она подождала ми-
нуты две на припеке, ее крылья вы-
ровнялись, и она улетела.
Маленькая варакушка перестала
спать по ночам. Дневная птичка пря-
мо сделалась ночной, и ночью те-
перь — ее главная жизнь. Я не див-
люсь, я знаю: где-то в Африке ее
серенькие подруги, другие, вольные
варакушки, как раз теперь собираются
стаями, чтобы начинать ночные пере-
леты на север — к нам.
У картошки из всех клубней ле-
зут бледные, длинные ростки.
Соседка говорит соседке:
— Совсем зима на дворе, и в по-
гребе не теплей, чем раньше, а вот
проросла, как весной!
Тогда я нарезал на дворе черные,
по-зимнему мертвые ветви вяза, ли-
пы, березы, лиственницы, орешника,
ольхи и все их поставил в воду. Я де-
лал то же в декабре и потом выбро-
сил зря простоявшие в банке голые
прутья.
А теперь орешник выкинул пуши-
стые сережки — яркие, золотые. И
все ветви распустились.
Я взрезал почку лиственницы. В ней
была почти готовая, созревающая
пыльца.
А ведь, в сущности, не произошло
ничего. Когда я ходил на лыжах,
мороз жег щеки, и вечерами снег
скрипел.
На лыжах я добрался до кустарни-
ка у пруда. Около каждого черного
прутика снег подтаял кружком. Я
нагнулся посмотреть. И вдруг заме-
тил черных насекомых. Одни прыгали
по снегу, как блохи. Другие ползали,
похожие на мух без крыльев. В снеж-
ных ямках блеснула паутинка: там
прятались маленькие пятнистые па-
учки.
Около круглых блюдечек талой
воды снег казался буроватым. Я за-
черпнул воды. Она пахла стиранным
бельем. Зеленый шарик прокатился
среди пляшущих соринок и сверкаю-
щих точек.
Я взялся рукой за черную ветку.
Она была теплой. На небе ни облачка.
Солнце стояло высоко — надо заки-
нуть голову, чтобы встретиться с ним.
И от высокого солнца небо стало го-
лубым и очень глубоким, почти си-
ним, и его заливал такой блеск, что,
смотря на него, нельзя было пове-
рить в снег на земле.
И тогда я увидел, что пришла
весна.
9
УШИ КРЕВЕТКИ
В. САФОНОВ
ГТ РИХОДИЛО ли вам в голову, ка-
1 1 кая изумительная вещь — наши
глаза? Предмет отделен от нас, мы
ничем не прикасаемся к нему, между
ним и нами — неощутимая пустота,
может быть — самая большая пустота,
какую только мы в состоянии вообра-
зить: межпланетное пространство; сам
предмет этот, возможно, за миллионы
километров. А для нас открыта его
форма, цвет, его движения и перемены:
мы видим его!
Уши наши человеку вдумчивому
тоже вряд ли покажутся менее удиви-
тельными, чем глаза. Прозрачен и не-
видим воздух, его невидимые колеба-
ния не шевельнут и былинки, не за-
ставят дрогнуть осиновый листок. Но
наше ухо различает тут целый мир
звуков; он необозримо огромен.
Шорохи, свисты, скрипы, гулы, ле-
пет ручьев, лесной шум, морской при-
бой, тиканье часов, стук машин и
станков, рокот моторов, гудки, смех,
крики; и еще необозримый мир — мир
слов, передающих все мысли людей;
мир музыки, одного из самых могу-
чих, самых неисчерпаемых искусств...
Но не только звуковые вести до-
ставляют уши из внешнего мира. Они
помогают нам уверенно различать
«верх», «низ», «стороны» и соблюдать
равновесие: без этого «органа чув-
ства пространства» мы не могли бы нн
встать, ни сесть, ни шагу ступить —
как человек, впервые в жизни попав-
ший на каток. Вот что значат для нас
уши, о замечательном устройстве ко-
торых рассказывал нам учитель. Пом-
ните? Раковина-звукоуловитель, ба-
рабанная перепонка на дне слухового
прохода, три косточки — молоточек,
наковальня и стремечко за перепон-
кой, в среднем ухе; а в глубине лаби-
ринт — полукружные каналы, улит-
ка. ..
Там — центр нашего слухового ап-
парата: «кортиев орган» — дивное
подобие лиры с двадцатью тысячами
струн - волокон, только не издаю-
щей, а принимающей звуки. Там же
наш орган равновесия. Три полукруж-
ных канала расположены в трех
взаимноперпендикулярных плоскостях,
соответственно трем измерениям про-
странства. Жидкость, наполняющая
всю полость, — эндолимфа — кажет-
ся густой и молочной от множества
взвешенных известковых крупинок.
Она колеблется, перемещается при
любой перемене положения тела.
Крупинки давят на нервные волоски.
И мы получаем сигнал, выпрямились
ли мы, наклонились ли и крепко ли
держимся на ногах. Нечто вроде бес-
конечно усложненного внутреннего
ватерпаса...
Я напоминаю обо всем этом потому,
что мне хочется рассказать случай,
происшедший четверть века назад.
Было мне тогда немногим больше лет,
чем вам, читатели. Я работал на на-
учно-промысловом пункте в южном
хранились знамени-
приморском
городе, слав-
ном издавна
своими рыб-
ными ловля-
ми.
На пункте в бан-
ках с формалином
тая сельдь нашего
города — барбуля,
с ее нежным ру-
мянцем, тусклые медузы и гребневики,
камбалы с глазами на одной стороне,
злые морские коты, похожие на бу-
мажных змеев с хвостом-кинжалом,
акулы — «морские собаки», радужные
губаны и коньки, будто снятые с шах--
матной доски. Были и аквариумы с
живым населением. Особенно занима-
ли нас, самых молодых, маленькие,
ловко плавающие рачки — креветки.
Время от времени мы замечали
(происходило это обычно после линь-
ки), что они брали клешнями песчин-
ки и старательно запихивали их в
ямки у основания усиков. И до тех
пор, пока им не удавалось успешно
закончить это странное дело, они
чувствовали себя весьма беспокойно.
Двигались, как пьяные.
Прибытию на пункт профессора из
Ленинграда предшествовала молва,
что едет известнейший гидробиолог
страны. Ждали его с трепетом. Теперь я
думаю, что то был человек лет 50—55.
Но тогда я увидел величественную,
как на портретах Тургенева, серебря-
ную седину, почтительность, с какой
профессора сопровождали научные ра-
ботники, и мне он показался по мень-
шей мере древним патриархом. Он
кивнул мне, довольно бегло осмотрел
сокровища в формалине. И остановил-
ся перед креветками. Они как раз
были увлечены своим загадочным и за-
бавным занятием. «Патриарх» смотрел
на них с мальчишеским любопытством.
А я в изумлении не отводил от него
глаз — ведь я еще не знал, что уче-
ные всегда любопытны, как школьни-
ки, иначе они не были бы учеными...
Гость коротко и властно попросил
пересадить рачков в другой аквариум,
чтобы была в нем только чистая вода.
И сам уселся рядом с таким реши-
тельным видом, что научные сотруд-
ники, робко и уважительно помедлив,
в конце-концов разошлись по своим
делам.
А в аквариуме постепенно началось
странное. Креветки, перевернувшись
на спину, больше не вставали. Другие
боком тыкались о стенку. Третьи
стояли на голове, опираясь усиками.
Они вели себя совершенно так же,
как пассажиры во время полета с
Земли на Луну в жюльверновской ра-
кете, когда исчезла сила тяжести.
Вдруг профессор прервал молчание.
— Отлично, — сказал он, обра-
щаясь несомненно к креветкам, так
как меня он не замечал. — Сейчас
вы протанцуете танец, какой вам ни-
когда и в голову не приходил!
Откуда явились на сцену железные
опилки, я не знаю. Возможно, что про-
фессор все-таки заметил меня и велел
достать их. Горсть опилок была вы-
сыпана в аквариум, и надо было по-
любоваться поспешностью, с какой
креветки начали ловить их и всовы-
вать в ямки на усиках!
И все пришло в порядок. Сила тя-
жести возникла снова. Опрокинутые
приняли обычное положение. Запла-
вали стоявшие на голове.
Тут профессор сунул руку в карман
и, подобно фокуснику, извлек магнит,
обыкновеннейший магнит-подковку —
отраду всех мальчишек. Он поднес под-
ковку к аквариуму сверху. И креветки
легли на спину. Он поднес магнит
сбоку — и все креветки повернулись
на бок, брюшком к магниту. Он водил
магнитом вверх, вниз, вправо, влево —
и население аквариума, покорное ма-
гической подкове, все согласно вали-
лось, вставало, взвивалось на хвосты,
совершало сальтомортале. Это было
необычайное зрелище.
— Профессор! — услышал я заи-
кающийся голос нашего гидрографа. —
Ради всего святого, вы преподаете
физкультуру креветкам?!
Профессор спокойно спрятал под-
кову в брюки и обернулся к нему.
— Пустяки, коллега. Просто пов-
торение одного классического опыта...
И затем он прочел двухминутную
лекцию, которая врезалась мне в па-
мять. Он сообщил, что песчинка,
вкладываемая креветкой в ямку на
усике, — это «слуховой камешек» или,
точнее, камешек равновесия. Потому
что профессор отрицал, чтобы кревет-
ка могла слышать. Ее «зародыши
ушей» — открытые ямки — годны
еще только как самые простень-
кие (да и то с помощью песчинки!)
органы равновесия. Кудэ давит тя-
жесть песчинки — там низ. Песок за-
менили железными опилками, и маг-
нит сыграл с креветками каверзную
шутку. «Камешек» в ямке стал ука-
зывать «низ», в зависимости от поло-
жения магнита, то вверху, то сбоку.
А рачок послушно и торопливо при-
способлялся к столь неугомонно пля-
шущему «низу».
Тогда я понял и накрепко усвоил
(ведь я видел танцы креветок собст-
венными глазами), с какого «пустяч-
ка», почти смешного, начиналось не-
когда и у наших далеких предков
развитие удивительного, сложнейшего
и благородного органа, который мы
называем теперь человеческим ухом.
10
Г. АЛЕКСЕЕВ
D фантастическом романе Уэллса «Человек-не-
' видимка» описываются необыкновенные при-
ключения молодого медика Гриффина, который
стал невидимым.
«Вы отлично знаете, — говорит герой романа
Гриффин своему другу, — что все тела или погло-
щают свет, или отражают, или преломляют, или
производят все это одновременно. Если тело не
отражает, не преломляет и не поглощает, оно не
может быть видимым».
Это действительно так.
Опустим тонкую пластинку стекла в воду или
в еще более плотную жидкость, и эта пластинка
станет почти невидимой, потому что луч света,
проходящий через воду и стекло, очень мало пре-
ломляется и почти не отражается. Пластинка в
таких условиях так же невидима, как струя све-
тильного газа в воздухе. Современная наука не
нашла еще таких средств, чтобы сделать пред-
меты или живые существа невидимыми в воздухе.
Но среди окружающей нас природы можно встре-
тить живые существа, почти невидимые, несмотря
на то что они не так уж малы, чтобы их нельзя
было видеть невооруженным глазом. Такие проз-
рачные существа - «невидимки» во множестве на-
селяют пресноводные водоемы, но еще больше их
в морях и океанах.
Наберем в стеклянную банку воды из какого-
либо пруда. Среди различных маленьких живых
существ, попавших к нам в плен, можно обнару-
жить прозрачное животное, плавающее в гори-
зонтальном положении и передвигающееся резки-
ми толчками. Заметить это существо удается не
сразу, потому что оно почти невидимо даже в
небольшой банке. Это личинка перистоусого ко-
мара, или коретры. Она совершенно прозрачна, за
исключением глаз, пузырьков гидростатического
аппарата и бледножелтого кишечника. Если бы
глаза личинки также были прозрачны, личинка
не смогла бы видеть. Световые лучи тогда про-
ходили бы совершенно беспрепятственно через
прозрачные глаза и не могли бы создавать зри-
тельных впечатлений.
Для чего же нужна личинке коретры невиди-
мость? Эта ее особенность помогает ей скрывать-
ся от врагов и охотиться за пищей — крошечны-
ми рачками, которых она ловит своими крючко-
образными усиками. Природа устроила эту «неви-
димку» совершеннее фантастической невидимки
Уэллса. Вспомним, что Гриффин должен был скры-
ваться после еды, так как переваривающаяся
пища была видна в нем. Добыча же личинки, по-
пав в глотку, разжижается и только после этого
поступает в кишечник; твердые частицы выбра-
сываются через ротовое отверстие. Благодаря
этому питание мало уменьшает невидимость ли-
чинки коретры.
В наших прудах и озерах встречается еще одно
прозрачное животное, рачок-лептодора. Несмотря
на то что его длина около одного сантиметра,
этот рачок совершенно, незаметен, даже если его
посадить в стакан с водой. Виден только его
Рис. Б. ЕЗИКЕЕВА
большой черный глаз. Так же как личинка ко-
ретры, этот прозрачный рачок — хищное живот-
ное, истребляющее более мелких рачков.
Лептодора неподвижно парит в воде, держась
при этом в горизонтальном положении. Время от
времени стремительным движением набрасывает-
ся рачок на добычу, раздробляет ее и высасы-
вает.
Лептодора еще прозрачнее личинки коретры.
Раньше даже полагали поэтому, что лептодора
очень редко встречается. Но это оказалось не
так. Ее можно найти даже в небольших водоемах,
но увидеть ее нелегко. В солнечные дни лепто-
доры держатся в глубине, но в пасмурную по-
году и ночью они поднимаются ближе к поверх-
ности.
Больше всего прозрачных, невидимых существ
живет в верхних слоях открытого моря и океана.
Это объясняется тем, что в чистой и прозрачной
морской воде негде спрятаться от многочислен-
ных врагов. И вот мелкие морские животные, не
обладающие другими средствами защиты, только
благодаря прозрачности и невидимости, словно
надев на себя сказочную «шапку-невидимку», мо-
гут избегать опасность и подкарауливать до-
бычу.
Прозрачные мягкотелые животные — оболочни-
ки, имеющие вид крошечных бочонков и называ-
ющиеся пирозомами, подвергаются нападениям со
стороны прозрачного же рачка, болоплава-фрони-
мы. Самка фронимы забирается в «бочонок» обо-
лочника, поедая постепенно его внутренности,
пока от него останется только одна тонкая и
прозрачная оболочка. Внутри этой оболочки фро-
нима путешествует по морю и в нее же отклады-
вает яйца. Вылупившиеся из яиц молодые фрони-
мы некоторое время продолжают, жить в оболочке
бочоночника вместе со своей матерью, а затем
расплываются в разные стороны.
Личинки многих рыб, плавающие в открытом
море, также часто прозрачны. Личинка обыкно-
венного угря, который хотя и живет в реках, но
икру мечет в глубинах Атлантического океана,
плавает некоторое время на глубине около
200 метров, а затем у поверхности воды. Она по
форме напоминает древесный лист и совершенно
прозрачна.
Много еще «невидимок» живет в морях — Ве-
нерин пояс, имеющий вид извивающейся при пла-
вании ленты; медуза-невидимка с нежным куполом
и тонкими, гибкими щупальцами; прозрачные греб-
невики и сифонофоры, которые так мало похо-
жи на животных, а скорее напоминают елочные
игрушки.
У скалистых берегов Черного моря в воде жи-
вет множество креветок. Этот небольшой морской
рак почти незаметен в воде. Он полупрозрачен и
покрыт темными пятнами, сливающимися с песком
и камнями дна. Хорошо заметны только блестя-
щие глаза креветки, сама же она теряется на
фоне дна. Это уже комбинация прозрачности с
маскировочной окраской — камуфляжем.
11
fla заре русского станкостроения
(См. рисунки на стр. 13)
\ Г АССОВАЯ потребность в станках
появилась в то время, когда соз-
давалась крупная промышленность
и нужно было производить машины
машинами. Старый токарный станок
был непригоден для такой работы.
В таком станке резец держала рука
рабочего, а точность изготовления за-
висела от искусства мастера, руку ко-
торого подпирали самые элементар-
ные приспособления.
Нужно было научиться закреплять
резец в разных положениях. Появил-
ся крестовый супорт. Маркс писал
об этом изобретении: «Введение его
разом повело к усовершенствованию
и удешевлению всех машин и дало
толчок новым изобретениям и усовер-
шенствованиям» («Капитал», т. 1, гл.
XIII, стр. 291, изд. 1930 г.).
Изобретение, сыгравшее такую
большую роль в истории техники, по-
лучило развитие в Западной Европе
в начале XIX века. На сто лет рань-
ше, в самом начале XVIII века, заро-
дилось станкостроение в России.
И задолго до того, как усовершен-
ствованные станки появились в За-
падной Европе, они уже широко ис-
пользовались на русских заводах.
В нашем журнале (№ 12 за 1947 г.)
было напечатано окончание историче-
ской повести «Лев Сабакин и туля-
ки». Иллюстрируя эту повесть, ху-
дожник изобразил токаря, рабо-
тающего за станком. Этот рису-
нок не отображал успехов рус-
ских станкостроителей. В настоящее
время редакция получила уникальную
книгу, изображающую станки того
времени1. Два таких станка мы воспро-
изводим. Напоминаем вам о том, что
тульский мастер Алексей Сурнин и
тверской механик-часовщик Лев Са-
бакин в конце XVI1I века были в
Англии. Они спроектировали замеча-
тельные станки, строившиеся затем в
Англии и в России.
Токарный станок, который здесь
изображен, металлический. Он был по-
строен по чертежам Сурнина на за-
воде Берда.
---------------9 ----------------
Станок этот предназначается для
обточки ружейных стволов. Так как
у ружейного ствола один конец дол-
жен быть обработан на конус, то на
станке есть приспособление, отодви-
гающее супорт, и приспособление для
охлаждения резца. Есть приспособ-
ление для изменения хода резца.
Другой станок, изображенный здесь,
предназначался для изготовления не-
больших винтов. Автор его — тоже
Алексей Сурнин. Станок имеет совре-
менный вид и был пущен в ход в
самом конце XVIII века или в пер-
вые пятилетия XIX. На Тульском за-
воде в начале XIX века существовал
ряд таких станков.
Именно в России впервые была до-
стигнута заменяемость частей ружья:
ружье могло быть собрано из любых
заводских деталей этого типа, кото-
рые не нуждались в специальной
пригонке.
1 «Описание Тульского оружейно-
го завода в историческом и техниче-
ском отношении», год издания 1823.
Станок для обточки и нарезки винтов
I—I А этом маленьком станочке задолго
* * до того, как подобные станки поя-
вились за рубежом, тульские оружей-
ники изготовляли винтики для ру-
жейных деталей. Станок имеет ряд
механизмов, которые в усовершенст-
вованном виде используются в на-
стоящее время. На этом станке винти-
ки изготовлялись из металлического
круглого прутка, диаметр которого был
равен диаметру головки винта, и поэто-
му не было необходимости обтачивать
пруток под диаметр головки. Подача и
установка заготовки на станке произ-
водились подобно тому, как это де-
лается теперь на револьверных стан-
ках пруткового типа: металлический
пруток вводился в отверстие шпинде-
ля с задней его стороны и после
того, как отрезался обработанный винт,
толчками продвигался вперед на дли-
ну винта. Движение подачи прутка
производилось механизмом, в котором
вращение приводного шкива преобра-
зовывалось в поступательное движе-
ние прутка. Шкив, вращающий шпин-
дель, и шкив механизма подачи по-
лучали независимое друг от друга
вращение.
Обработка детали происходила по-
очередно двумя инструментами —
комбинированным резцом, который
одновременно обтачивал винт и отре-
зал его от прутка, и плашкой — ин-
струментом, нарезающим резьбу.
(См. верхний рисунок на стр. 13)
Супорт станка состоял из трех
основных частей: неподвижного осно-
вания, установленного на столе стан-
ка, нижней каретки, получавшей дви-
жение от винта вдоль оси прутка, и
верхней каретки, двигавшейся перпен-
дикулярно оси прутка по нижней ка-
ретке под воздействием другого вин-
та. Резец закреплялся винтами на
верхней каретке супорта. Таким об-
разом, одним резцом можно было об
точить деталь, передвигая нижнюю
каретку, и отрезать ее от прутка,
передвигая верхнюю каретку.
Резьбонарезная плашка состояла из
двух половинок, каждая из которых
вставлялась в губки специальных тис-
ков, укрепленных на стойке.
После того, как заканчивалась об-
точка прутка, под наружный диаметр
резьбы, к нему подводились тиски с
раскрытыми губками таким образом,
чтобы обточенный конец прутка по-
местился между ними. Затем губки
тисков сжимались винтом, и плашка
нарезала резьбу. Чтобы резьбонарез-
ное устройство не мешало выполне-
нию других операций, его можно
откинуть в сторону с помощью спе-
циального шарнира. После нарезки
резьбы производилась отрезка от прут-
ка готовой детали, а затем приводил-
ся в действие механизм подачи, и но-
вая порция металла подавалась для
обработки. Для охлаждения инстру-
мента на стойке был установлен ба-
чок, из которого на резцы, нагрев-
шиеся в процессе работы, подавалась
охлаждающая жидкость. Автоматиза-
ция подачи и установки заготовки на
станке, обработка ее несколькими са-
мостоятельными инструментами, кото-
рые не надо было менять в процессе
работы, позволили достигнуть боль-
шой производительности.
Другой станок предназначался для
обточки на нем ружейных стволов.
На этом станке мы видим самоход-
ный супорт, приспособление, с по-
мощью которого ствол обтачивался
на переднем конце, механизм автома-
тической остановки станка после то-
го, как обработка ствола закончится;
прототип современного приспособле-
ная — подвижного люнета, благодаря
которому ствол под нажимом резца
не прогибался, что позволяло вести
обработку с большой точностью.
Для охлаждения резца, нагреваю-
щегося во время работы, на супорте
была устроена охлаждающая установ-
ка, передвигавшаяся вместе с ним и
непрерывно подававшая воду на резец.
Смазка производилась автоматически.
Почти полная автоматизация процес-
са обработки позволяла мастеру об-
служивать несколько подобных стан-
ков.
12
А. СВЕТОВ
Рис. П. КОВАЛЬСКОГО
МЫ находимся во Всесоюзном на-
учно-исследовательском институ-
те стекла. Здесь в лабораториях и в
цехах опытного стекольного завода
инженеры и научные сотрудники ра-
ботают над изготовлением новых ви-
дов стекла, которые найдут приме-
нение в качестве декоративно-строи-
тельного материала, а также в раз-
личных областях науки и техники.
Здесь же проводятся работы по из-
готовлению художественного стекла.
Директор института О. К- Ботвин-
кин знакомит нас с опытными образ-
цами этого замечательного стекла. Он
берет со стола стеклянную пластин-
ку, на поверхности которой нанесен
красивый орнаментальный рисунок:
цветы, ветви сказочных растений, си-
луэты птиц и животных. Все это свер-
кает и переливается в солнечных лучах.
— Красиво? — спрашивает он. — А
ведь это обыкновенное оконное
стекло...
Мы спрашиваем, какой замечатель-
ный художник сделал этот рисунок.
Вероятно, это очень сложно?
— Ничуть, — смеется директор. —
Нам помог самум — песчаная буря.
Но не та грозная буря, которая при-
носит гибель каравану в пустыне, за-
сыпает песком оазисы. «Самум» мы
устраиваем в лаборатории. Впрочем,
лучше будет, если вы сами посмот-
рите.
И вот мы переступили порог лабо-
ратории, где создаются изумительные
рисунки и даже целые картины на
стекле. Технолог института, он же
архитектор-художник, Е. М. Рояк
рассказал нам о том, как возникло
искусство рисования по стеклу.
Первый художник, который поло-
жил начало превращению обыкновен-
ного стекла в художественное панно,
был ... ветер. Ветер и песок.
Представим себе пустынный мор-
ской берег, свирепые штормы, нале-
тающие на одинокий домик рыбака.
Проходят годы, и вдруг хозяин до-
мика замечает, что стекла в рамах
теряют свою прозрачность, становят-
ся серебристо-белыми. Стекло вы-
ветривается — говорят люди. Во
время бури миллионы песчинок, под-
нятых ветром, ударяются о стекло.
Не они ли, эти маленькие разруши-
тели, оставляют свой след на его
прозрачной поверхности?
У людей постепенно возникла
мысль самим превращать прозрачное
стекло в серебристо-белое, матовое.
Такие стекла ценились во дворцах и
богатых домах. Изготовлением их за-
нимались ремесленники — стеклян-
ных дел мастера. При помощи куз-
нечных мехов они поднимали у себя
в мастерской маленькую песчаную
бурю. Распыленным песком они обра-
батывали стекло. Способ этот полу-
чил название пескоструйного.
Но что, если перед обработкой
стекла песком наклеить на стеклян-
ный лист вырезанные по шаблону из
плотного картона или, еще лучше, из
резины изображения растений или жи-
вотных? Тогда песчинки будут бом-
бардировать лишь открытую часть
стекла, а та, что скрыта под шабло-
ном, останется чистой и прозрачной.
Мы подошли к столу, за которым
работали художники. Склонившись
над большими листами бумаги, они
вычерчивали замысловатые рисунки.
Рядом мастера вырезали по этим ри-
сункам из резины или целлулоида
шаблоны, которые затем приклеивали
к поверхности стекла.
— Остальное, — сказал технолог, —
мы предоставляем сделать искус-
ственному ветру и песку.
Он подвел нас к пескоструйной ка-
мере, представляющей собой большой
деревянный ящик с двумя отверстия-
ми для рук и смотровым окошечком.
В камеру пропущен резиновый шланг,
заканчивающийся металлической во-
ронкой. Наш спутник включил мотор.
Компрессорная установка начала цо-
давать по шлангу воздух и песок под
давлением трех атмосфер. Через
стеклянное окошечко мы видим, как
песчаная струя с силой вырывается из
воронки.
Рабочий просунул в камеру руку,
взял кусок стекла с наклеенным на
нем шаблоном и поднес к песчаной
струе. Мириады песчинок атаковали
'Поверхность стекла. Одни из них отска-
кивали от упругой резины, другие впи-
вались в стекло, которое быстро мут-
нело, пока не превратилось в молочно-
белое.
Рабочий выключил подачу воздуха
в камеру. «Песчаная буря» утихла.
Затем он сорвал со стекла резину, и
перед нами оказался готовый образец
художественного стекла.
— А вот еще один образец нашей
продукции, — сказал технолог, пока-
зывая нам стеклянную пластинку с за-
тейливым рисунком.
Фантазия смелого художника не
могла бы придумать более причудли-
вого сочетания цветов, трав, стрельча-
тых пальмовых ветвей. Разве только
мороз, прихотливо разукрашивающий
окна, мог бы поспорить с искусством
того, кто начертал эти линии.
— Этот сорт декоративного стекла —
«стекло-мороз», — сказал техно-
лог, — мы создаем благодаря удиви-
тельному явлению, о которбм мы мо-
жем только догадываться.
С этими словами он взял пластинку
обыкновенного оконного стекла, сма-
зал ее тонким слоем столярного клея
и положил в сушильный шкаф.
— Вы хотите знать, что происходит
сейчас со стеклом в сушильном шка-
фу? Столярный клей, высыхая умень-
шается в объеме, трескается и отска-
кивает от поверхности стекла в виде
маленьких чешуек. Но частицы клея
так плотно сцепились с поверхностью
стекла, что, отскакивая, они уносят с
собой и кусочки стекла: сцепление
частиц клея со стеклом настолько
прочно, что легче оторвать поверхност-
ную пленку стекла вместе с клеем,
чем только клей. Прочность стекла
оказывается меньше прочности склеи-
вания.
В результате на стекле остается ри-
сунок самой причудливой формы. Ха-
рактер и очертания его зависят от
скорости высыхания клея, от толщины
клеевого слоя, а также от структуры
стекла.
Оба способа нанесения рисунка на
стекло известны давно, но долгое
время не применялись, и лишь теперь,
когда наша страна восстанавливает
свое хозяйство, быстро идет к изо-
билию и богатству, художественная
обработка стекла вновь получила ши-
рокое распространение.
В Институте стекла мы познакоми-
лись и с другой замечательной рабо-
той, явившейся результатом творче-
ских исканий наших советских инже-
неров и художников. В честь восьми-
сотлетия Москвы трудящиеся Сталин-
ского района столицы поднесли в по-
дарок Моссовету стеклянное панно.
Это — изумительное произведение
искусства. Когда вы смотрите на него,
вам кажется, что рисунок светится
изнутри. Чудесный мягкий свет излу-
чают башни и зубчатые стены Кремля,
знамена.
Это панно изготовлено в Институте
стекла.
14
Инженер В. Д. ИВАНОВ
О7Я. iveAU&bb^
ВЕЛИКАНУ
«... Всемерно развивать строительную инду-
стрию, уделить особое внимание передовой
строительной технике и механизации строи-
тельных работ...»
(Закон
о пятилетием плане).
Рисунки А. КАТКОВСКОГО
г^^Р|ЛЗДАЛ£4/ОГО ПРОШЛОГО
LI то возникло раньше: первое ору-
I дне в руках человека или первое
жилище, укрывающее его от врагов
и непогоды?
Повидимому, одновременно в процессе развития отно-
шений между первобытными людьми появились и жилища
и орудия. Пещера-логовище зверя стала первым жильем
человека.
Постепенно первобытный человек научился жить не
только в пещерах, приготовленных природой. Ученые
находят следы, рассказывающие о существовании древних
построек из дерева.
Древнее жилище должно было служить одновременно
и крепостью, предохранять от неожиданных нападений
врагов и зверей. Поэтому первобытные дома иногда со-
оружались на сваях, которые рядами вбивались в неглу-
боких местах озер. На сваи сплошным помостом уклады-
вались бревна, настилалась привозимая на лодках и
плотах земля. И появлялись надводные поселки. Много
таких поселений было в древние времена и на территории
нашей страны.
Иногда жилища устраивали на деревьях, сплетая на их
сучьях подобие гнезд. Такие гнезда — плоды капитали-
стической «цивилизации» — мы встречаем еще сегодня,
в 1948 году, в Бразилии, в бассейне реки Амазонки. . .
Несколько тысяч лет назад в древнем Египте цари (фа-
раоны) строили себе вечные памятники. Один на другой
укладывали рабы многотонные тесаные камни; на сто —
полтораста метров вверх воздвигались пирамиды безуко-
ризненно правильной, геометрической формы. Египтяне
отлично отесывали каменные глыбы, придавая им худо-
жественно причудливые формы своих богов — человеко-
животных. Они строили также громадные храмы с тыся-
чами колонн, с десятками тысяч фигур и сложных архи-
тектурных изображений.
Свои дома и крепости люди везде строили из тех мате-
риалов, которые были у них под руками. Камнем искусно
владели египтяне, китайцы были мастерами кирпича, че-
репицы, фаянса и фарфора. Наши далекие предки, рас-
селяясь семьями и родами в дремучих лесах, упорно рас-
чищали и возделывали землю родины, неутомимо работая
топорами. Рубили лес, рубили дома. Отсюда и пошли
выражения «сруб», «рубленый дом» и другие, используе-
мые в народном и техническом языке.
й строительной
индустрии
и
стдрой пРАнтине
"ТЕПЕРЬ на наши стройки очень многое приходит гото-
' вым: ступени, балки, перемычки, двери, окна, рамы, пар-
кет. .. Все это делается на подсобных предприятиях за-
водского и полузаводского типа. Мы стремимся к тому,
чтобы здания изготовлялись на заводе. Такой метод в
первую очередь применяют при сооружении небольших
жилых домов. Когда заложен фундамент, все остальное
привозится в готовом виде и собирается на месте. Каза-
лось бы, в этом методе все новое — и приемы и мате-
риалы, но это только кажется. Замечательно то, что сама
идея — старая, русская. Строительная индустрия процве-
тала на Руси в XVI—XVII веках. Конечно, техника была
другая, но вот как строили многие москвичи того времени.
За исключением Кремля и прилегающей к нему цен-
тральной части, где дома уже начинали тесниться и подни-
маться вверх, город был застроен одноэтажными деревян-
ными жилищами. Возле каждого из них был небольшой
участок. Такие дома и сейчас можно видеть в маленьких
городах. Москвич-застройщик, владелец участка, отправ-
лялся на базар (в район теперешнего Балчуга и Болота,
где сейчас находится кинотеатр «Ударник») и покупал
дом. Покупал целиком, с печами, с крышей, тесовой или
соломенной по выбору, с крыльцом, с забором... Размер
выбирал себе по карману, торговался по характеру — в
Первобытные дома часто сооружались на сваях.
меру или безмерно. Продавец и покупатель спорили долго,
призывая на помощь базарных зевак. Покупка соверша-
лась с торжественным, по такому случаю, рукобитием, и
хозяин отправлялся в свое будущее «домой», показывая
дорогу своему дому. Дом ехал за ним под надежным
присмотром артели строителей, на соответствующем коли-
честве возов, на которых было все: стулья фундамента,
затесанные бревна для стен, пенька для конопатки, стро-
пила, тес для двери, окна, полы, кирпич для печей и даже
традиционный петух для конька крыши. Хозяйскими были
только вода из колодца и глина.
Умелые мастера старорусского сборного домострои-
тельства того времени быстро и споро брались за дело,
и, глядишь, через день-два хозяин справлял новоселье с
единственной жалобой на угар от непросохшей печи...
И эта Москва старого времени для своей эпохи совсем
была не плоха, что бы ни писали о ней злобные и тогда
уже трусливо завистливые под личиной своего «европей-
ского» самодовольства и наглости заезжие иностранцы
Олеарии и Герберщтейны.
15
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯК
Bea пирамид ачень
велик. Большая пирами-
да фараона Хеопса ве-
сит около трех с поло-
виной миллионов тонн.
Чтобы унести ее на пле-
чах, разделив на посиль-
ные ноши, нужно 58 мил-
лионов человек. Для по-
грузки разобранной пи-
рамиды потребовалось бы
250 тысяч вагонов. Длина
такого поезда составила
бы 2750 километров —
сплошной лентой растя-
нулся бы он от Черного
до Белого моря. Только
тяжесть спасла пирами-
ды от неутомимого рве-
ния великих «любителей»
древних ценностей — ан-
гличан, которые вывози-
ли все, что’ только мож-
но было увезти из за-
хваченных ими колони-
альных стран. По той же
причине и Наполеон,
ограбивший все музеи
завоеванной им Западной
Европы, «оставил в по-
кое» пирамиды во время
египетского похода.
* * *
Олеарий и Гербер-
штейн — иностранцы,
посетившие Россию (Гер-
берштейн — в XVI,
Олеарий — в XVII веке)
и написавшие книги о
своих путешествиях. На-
ряду с ценными сведения-
ми о нашей стране, сочи-
нения Олеария и Гер-
берштейна содержат мно-
жество диких небылиц о
жизни, быте, культуре
русского народа. Своими
книгами они положили
начало веками усердно
распространявшейся на
Западе клевете на наш
народ. В этом отношении
их перещеголяли только
современные англо-амери-
канские газетные писаки.
* * *
Встарину у нас на-
зывали «немцами» всех
иностранцев без разли-
чия за то, что они, не
зная русского языка, бы-
ли «немы». Позднее на-
родный язык стал делить
иностранцев по их проис-
хождению, и слово «не-
мец» сохранилось только
для обозначения лиц гер-
манской национальности.
Большие дела было крупнейшей победой старых русских строи-
Л О™ показали всему миру, что могут рабо-
11 Ar QjIVKJLyKkJoL/K VIA гать лучше своих европейских товарищей. Не-
СГПРО ИГЛ ЕЛЕЙ абычайно высокое качество работ и сложнейшая
архитектура здания свидетельствуют об этом
долгие годы. Авторами проекта храма и руко-
водителями работ были замечательные русские
зодчие Барма, Яковлев, Посник.
Низкий уровень техники прошлого не дает нам
права смотреть назад с пренебрежением. Добрая
память и слава старым русским, не ведавшим гра-
моте строителям! Но мы, новые строители, долж-
Г“| РОШЛОЕ давало мно-
1 ^го замечательных при-
Т меров в области строи-
' [тельства.
В 1475 году в Москов-
ском Кремле можно было видеть необычную
сцену. В кругу длиннополых бородачей стоял
человек явно иностранного вида, с длинным
бритым лицом и подвитыми кудрями, падаю-
щими из-под круглой бархатной шапочки. Те-
снясь возле него, заглядывая через плечо друг
друга, бородачи молча следили за пальцем «нем-'
ца». Этот длинный, тонкий палец прогуливался
по сложным, причудливым линиям рисунков и чер-
тежей, изображенных на листах толстой грубой
бумаги, которые были разложены на невысоком
деревянном помосте. Все молчали. «Немец» был
нем поневоле — кроме итальянского языка, он
других не знал, если не считать полудюжины
немецких ругательств, которые случайно оста-
лись у него в памяти после прогулок по узеньким
улицам-клоакам городов средневековой Германии.
Бородачи же не ведали другой речи, кроме
русской, родной. Молчания они не нарушали еще
и потому, что дело затевалось большое и опозо-
риться неуместным замечанием перед мастерами-
товарищами на первых же шагах было бы стыдно
вдвойне.
А дело было серьезное: князь московский и
первый великий государь всея Руси, Иван III
Васильевич выписал ученого итальянца Фиора-
венти, чтобы построить каменную церковь — такую,
каких на Руси еще не бывало, чтобы все, и свои
и чужие, удивлялись и знали силу Московского
Русского государе, ва. Это молчаливое собрание,
говоря нашим современным языком, было техни-
ческим совещанием и имело целью рассмотреть
проект и рабочие чертежи, выработать план орга-
низации строительства.
И так, тыкая пальцами в чертежи и поясняя
«немцу» свои мысли рисунками на чем придется,
русские мастера построили замечательный Успен-
ский собор своего собственного стиля, наглядно
показав приезжему, что наследникам древне-
русских строителей знаний, ума и таланта не
занимать-стать.
Внук первого великого государя всея Руси, царь
Иван IV Васильевич Грозный, в 1555 году в озна-
менование покорения Казани повелел построить
собор имени простого нищего — блаженного Ва-
силия. Сооружение собора Василия Блаженного
каменных глыб.
ны строить по-новому.
Новый ПОРЯДОК
РДБОГПЬГ
НАУКА и машина пришли на
стройку гораздо позже, чем
в другие отрасли производ-
ства, — всего лишь несколько
десятков лет тому назад. В нашей стране они по-
настоящему сказали свое слово только после Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции
По шатким мосткам «козонос» поднимал боль-
шой груз кирпичей на высоту нескольких этажей.
Строительство — один из самых древних видов
человеческой деятельности, а приемы строитель-
ства долгое время были технически наиболее от-
сталыми. Сотни лет единственным двигателем,
единственным источником энергии здесь был
человек, его рука, плечо, спина... Чем тяжелее
была работа, тем больше применялось рук и спин.
Для согласования усилий больших коллективов
при тяжелой работе веками вырабатывались осо-
бые «приемы» — ритмическое отрывистое пение
у китайцев, звуки щелкающего бича у древних
египтян, ритмическая игра на флейте у англичан,
русская «дубинушка».
Существовали подобия блочных лебедок, в осо-
бых случаях пользовались
рычагами — и только.
Совсем недавно появи-
лись такие машины, как
тали, подъемники, но все
ручные, все приводимые
в действие только соб-
ственной энергией чело-
века. Животные помогали
16
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
мало, причем только в передвижениях на уровне
земли. В Европе использовали лошадей и мулов;
в Азии, кроме них, — верблюдов и иногда слонов.
Совсем недавно, об этом еще помнит кое-кто
из нас, кирпич поднимался вверх «козой» на
спине рабочего.
«Коза» — это доска с двумя стойками («ро-
гами») внизу. На «козу» укладывалось двадцать
или тридцать кирпичей (80—120 килограммов),
которые нес вспотевший от напряжения рабочий.
На первых же советских стройках появились при-
казы: «Запретить козу!», «Сломать все козы!» На
помощь рабочим пришла машина.
Из раба природы человек превратился в ее
хозяина. И строить сейчас он должен как хозяин
могучих сил — пара, электрической энергии, ма-
шин.
Впрочем, и сегодня в тех странах, разви-
тие которых задержано капиталистическим по-
рядком, стройки осуществляются старыми прие-
мами. Там говорит свое слово хозяйский
«расчет». Наряду с последними достижениями
техники и в Америке и в Европе можно найти
приемы уже давно забытой у нас «дубинушки».
Сталинский пятилетний план в качестве важ-
нейшей задачи ставит механизацию строительных
работ. Это требование историческое. Именно
широкое применение механизмов проводит гра-
ницу между двумя эпохами в строительном деле —
между старой эпохой, эпохой ручного труда, ко-
1 торая измеряется десятками тысячелетий, и но-
вой, которая началась буквально на наших глазах.
зывается, что стены могут быть в три раза тоньше,
вес сооружения может быть в три раза меньше.
Как же быть?
Мы опять подошли к границе между эпохами.
Громоздить материалы на две трети зря не-
допустимо. Надо строить легко, прочно и так,
чтобы все материалы «работали». В этом — смысл
современной передовой техники, которая является
обшим результатом развития наук.
1/А4/ РАБОПАЮт МАГП£РИААЫ
КРЫША, перекрытия и
все, что находится
внутри здания, нагружа-
ют стены, передавая им свой вес. Стены давят на
фундамент, фундамент — на грунт. Все части зда-
ния «работают» и передают «работу» друг другу.
Чтобы заставить материалы работать наилуч-
шим образом, надо хорошо знать их свойства. В
основе строительного искусства лежит наука
«сопротивление материалов». Это наука о работе
материалов, о их способности сопротивляться
приложенным к ним нагрузкам. Она учит строи-
теля, как от каждого материала взять по его
способности, как дать работу по его силам.
Кирпич очень трудно раздавить. Чтобы разру-
шить обычный красный кирпич, нужно надавить
на него с силой в 30 тысяч килограммов. Зато
разорвать его может сила, в десятки раз мень-
шая. Такими же свойствами обладают бетон и
естественные камни.
В фундамент — камень. Он не боится водьь
десятки раз мень-
Ос+ювд конструкций
JJA\/L1£JKIM DArurm прочен и добросовестно примет и передаст
— НАУгрунту вес здання в стены _ кирпив иди
Г1 БРЕДОВАЯ строительная тех-
* 1 ника — гость новый.
Определять силу и
конструкций и материалов
свойства
матема-
недавно
сообща-
строительных
тическим расчетом мы научились совсем
и еще продолжаем учиться.
В старых книгах о строительном деле
лось, как строить. Но почему так, а не иначе?
По опыту! Расчета же не было. Опыт говорил,
где и когда можно применять камень, дерево,
кирпич. Но как применять их, чтобы все мате-
риалы «работали», чтобы расходовались они раз-
умно?
Долог путь от глины до кирпича, от мергеля
до цемента, от руды до стали... Много труда
вкладывается в их производство и доставку к
месту строительства. И вот оказывается, что, пре-
вратившись в фундаменты, стены, балки, эти ма-
териалы на две трети остались праздными. Ока-
бетон, хорошо работающие на сжатие. Балки
хороши из стали или железобетона, так как
эти материалы хорошо работают на изгиб.
Строитель — это организатор коллектива
териалов.
Он должен распределить между ними работу
так, чтобы одни детали здания не погибали под
непосильной нагрузкой, а другие — не бездель-
ничали, получая работу во много раз меньшую,
чем они способны выполнять.
Строительмый
«Совет безо-
пасности»
ма-
КИРПИЧ
Чтобы разрушить обычный красный кирпич, нужно
надавить на него с силой в 30 тысяч килограммов.
ЧТОБЫ новое сооружение было прочным, кра-
сивым, дешевым, в его создании должны при-
нимать участие представители многих наук. Пред-
ставим себе, что мы попали на Совет наук —
своего рода строительный «Совет безопасности».
Здесь заседают Математика, Химия, Физика, Гео-
логия, Механика, Сопротивление материалов,
Архитектура, Экономика... Решается вопрос
большой важности: будет ли конструкция хороша,
прочна, нужна или нет. В обсуждении уча-
ствуют все. Требуется полное единогласие: если
хоть один член Совета скажет «нет», никто с
ним не станет спорить. Значит, строить нельзя.
Говорит Геология: «На месте строительства
глинистый грунт, каждый квадратный сантиметр
его поверхности может принять нагрузку в 3 кило-
грамма, но в северной части площадки есть сла-
бое место».
вловв получает Химия: «В явде, намеченной 1
Дерево служило на-
шим предкам материалом
для стройки и для боль-
шинства изделий быта.
Исконный наш строи-
тель — плотник. Посел-
ки обычно возникали
около рек — путей со-
общения. Для естествен-
ной защиты от врагов
выбирались высокие ме-
ста у впадения одной ре-
ки в другую или в реч-
ных петлях. Так возник
Киев — на высоком бе-
регу в петле Днепра,
Ярославль — на Вол-
ге. Москва — у впа-
дения в р. Москву
исчезнувшей ныне Не-
глинки, Ульяновск — на
Волге и Симбирке, Горь-
кий, Рязань и многие
другие. При удачном вы-
боре места поселок раз-
растался, появлялся об-
щий тын — частокол,
окруженный рвом. Первое
поселение — сердце бу-
дущего города — ста-
новилось деревянной
крепостью — кремлем
(кремль — старинное
русское слово для обоз-
начения укрепленной цен-
тральной части города).
Вокруг кремля распола-
гались слободы (от сло-
ва «свобода», свободная
от стеснения режимом
крепости жизнь вне ее
стен).
История доказала, что
предки наши умело вы-
бирали свои «строитель-
ные площадки». За нич-
тожными исключениями,
заложенные ими города
живут и крепнут. И хотя
основной строительный
материал древнерусских
строителей — дерево —
был недолговечен и имел
опасного врага — огонь,
старинные города наши
оказались долговечнее
многих великих городов
древнего мира, так же как
сухие, просторные и
прочные деревянные до-
ма наших предков были
лучше и гигиеничнее гру-
бо сложенных из камня
сырых и тесных лачуг
Западной Европы или
слепленных из необож-
женного кирпича и реч-
ного ила хижин жителей
Египта, которые начисто
сносились частыми в Се-
верной Африке тропиче-
скими ливнями.
п
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
По Уставу Организа-
ции Объединенных 'На-
ций все решения Совета
Безопасности могут быть
приняты только едино-
гласно. Этот принцип
единогласия не нравится
некоторым политическим
деятелям капиталистиче-
ских государств. Подчи-
нив себе долларом це-
лый ряд малых го-
сударств, Соединенные
Штаты Америки создали
послушную «машину го-
лосования», поэтому им
хочется решать между-
народные проблемы про-
стым большинством го-
лосов.
для Производства, вредных примесей нет; грун-
товые воды для зданий безопасны».
За ней Механика и Архитектура: «Свои задачи
мы согласовали между собой и со всеми другими
членами Совета. Общие очертания, украшения
фасада и прочие детали архитектурного облика
сооружения таковы, что механическая прочность
всей конструкции вполне обеспечена выбранными
для постройки материалами».
Сопротивление материалов: «Я укрепляю грунт
в слабой части площадки».
Экономика: «Завод для народного хозяйства
нужен, место в отношении близости к сырью и
потребителю выбрано удачно, возражений нет».
Единогласно решают: завод строить.
Храм Василия Бла-
женного на Красной пло-
щади в Москве — одно
из величайших произве-
дений мировой архитек-
туры. Буржуазные исто-
рики в своих «исследова-
ниях» уделяют много ме-
ста большим сооруже-
ниям средневековой Ев-
ропы — Кельнскому и
Миланскому соборам. |
Пусть не забывают эти
историки, что собор в I
Милане (Италия) строил- i
ся 420 лет и был закон- |
чен лишь в 1805 году,
сооружение собора в
Кельне (Германия) затя-
нулось на 632 года и
закончилось только в
1880 году, а храм Васи-
лия Блаженного был воз-
двигнут всего за 6 лет и
окончен постройкой уже
в 1560 году.
* * *
Старая техника за-
морозила навеки милли-
арды тонн материалов и
человеко-дней труда —
это запас, который, во-
преки пословице, тяготит |
карман. Если построить
жилой пятиэтажный дом |
приемами и конструкция-
ми прошлого столетия и
такой же дом методами
передовой техники, то
второй дом потребует в
шесть раз меньше рабо-
чих и будет дешевле в
три или четыре раза. Уме-
ние строителя нашего
времени заключается в
том, чтобы, устранив все
лишнее, дать все нуж-
ное. А нужное — это
много воздуха, света,
тепла; это газ, лифт, те-
лефон, электрическое ос-
вещение, ванная, горячая
и холодная вода, краси-
вые стены и так далее,
то есть все, чего не было
прежде.
Если нет единогласия между членами строи-
тельного «Совета безопасности», — дом упадет,
обрушится мост, провалится пол, а если здание
и будет стоять, то может оказаться ненужным.
Все члены Совета это хорошо понимают, и никому
не приходит в голову требовать решения боль-
шинством голосов, как это делают в некоторых
международных организациях некоторые великие
державы и их мелкие приспешники.
ВООРУЖ£Ш£ современного
|Г1Г1Ггп11| строителя
\‘1-/ ® °Дно сооружение не
х ЧАчшл/ 5^7 1 обходится без земля-
ных Ра®от- Для подвалов
t _/ WMra^/У.У и фундамента среднего
жилого дома, высотой в
три-пять этажей, нужно
вынуть около двух тысяч
кубических метров грунта, то есть выбросить на-
верх три тысячи тонн. Рытье лопатами потребует
больше тысячи человеко-дней; три землекопа бу-
дут работать год. Машина-землекоп — экскаватор,
лопата которого за один прием захватывает больше
половины кубометра, сделает эту работу за не-
делю, а управлять им будут тоже три че-
ловека.
Встретилась скала — на помощь прихо-
дит бурильный молоток. 2400 ударов в ми
нуту. Молоток бьет в четыре раза скорее
пулемета. Через час в скале — около 20 от-
верстий. В них закладываются патроны
взрывчатого вещества, и вскоре экскаватор
начинает выбрасывать из котлована десятки
кубометров раздробленного камня. Один
человек сделал здесь работу трехсот.
Нужно забивать сваи. Молот «баба» делает
20—30 ударов в минуту, а сила каждого удара —
около 3 тонн. Управляет машиной один человек.
Вообразите, что его кулак весит 2—3 тонны. До
таких силачей додумывались не многие сочини-
тели сказок!
Три тысячи тонн земли... А когда нужно вы-
бросить 100, 200, 500 тысяч тонн? На помощь
приходит взрыв. В грунт закладываются сотни
патронов взрывчатого вещества, и сила взрыва
выбрасывает землю наружу, причем выбрасывает
именно в ту сторону, куда нужно. Здесь экска-
ваторы играют второстепенную роль — они только
подчищают выемки. Экономия труда на взрывных
работах по сравнению со старыми ручными спо-
собами исчисляется тысячами раз.
На больших земляных работах одновременно
пускается в дело несколько сот тонн взрывчатых
веществ, и так'велика сила взрыва, что приборы
сейсмических станций, наблюдающие за колеба-
ниями земли, пишут: «Землетрясение ... земле-
трясение. ..» О больших взрывах строители изве-
щают ученых-сейсмологов заранее, чтобы не вво-
дить их в заблуждение.
Земляные работы закончены. Теперь строителям
предстоит поднимать тяжести. Гидравлический
домкрат поднимает 200 тонн, а сам весит 200 кило-
граммов — он способен к усилию, в тысячу раз
большему, чем его собственный вес. Средний че-
ловек весит 70 килограммов и поднять он
может приблизительно столько же. Следова-
тельно, один домкрат заменяет около трех тысяч
человек. И все же сравнение не совсем верное,
так как технически домкрат сильнее любого ко-
личества людей. Никто без домкратов не мог бы
поднять и поставить на место подорванные немец-
кими захватчиками домны завода «Азовсталь» в
Мариуполе1. Такое техническое чудо было просто
недоступно старой ручной технике.
Хозяин стройки высоких зданий — башенный
кран. Это ажурная металлическая башня. В не-
скольких метрах от земли — будка машиниста.
Наверху — стрела с противовесом. Сидя в будке,
машинист управляет системой, двигается вперед
и назад, поворачивает кран вокруг его вертикаль
ной оси и поднимает в один прием груз весом
в 3—4 тонны, то есть все, что доставляет авто-
машина за один рейс. Пожалуй, без всякого груза
вы не успеете с такой скоростью взбежать на
седьмой этаж. Краны поднимают все, что нужно
для стройки: кирпич, балки, тачки и вагонетки с
бетоном, и не стоит даже считать, сколько
десятков и сотен людей заменяет один ма-
шинист.
Внизу стучит камнедробилка. За час работы
она разбивает в мелкие куски до 10 кубиче-
ских метров камня, необходимого для изготовления
бетона. Двадцать тонн камня проходит за час
через камнедробилку. Бетономешалки поглощают
цемент, песок и щебень и каждые несколько
минут выбрасывают в приемники кубометры хоро-
шо промешанного, однородного серого теста —
бетона. Это тесто поглощает транспортер или бе-
тононасос, нагнетающий по гибким шлангам бетон
на высоту нескольких этажей. Обе машины успешно
заменяют ручной труд десятков подносчиков.
1 См. статью «Восстановление домны», журнал
«Знание — сила» № 1, 1946 г.
Домдюс троенный на зав оде
р ТАНДАРТНЫЙ жилой
дом, изготовленный на
современном домостроитель-
ном заводе, длиной 8,4 метра
и шириной 7,2 метра, имеет
общую прощадь 60,5 квад-
ратного метра; он состоит из
3 комнат, кухни и ванной комнаты. Для изготов-
ления всех его деталей на заводе, доставки на
место и полной сборки со сдачей в эксплоатацию
расходуется 331 человеко-час труда всех рабочих
на всех операциях. 331 человеко-час — это
41 день работы одного человека. За 41 день на
стройке такого же дома старыми приемами и
конструкциями один человек успел бы сложить
только одну из четырех внешних стен.
Дом, выпущенный заводом стандартного домо-
строительства, выполнен весьма своеобразно.
Каждый из материалов, использованных для его
постройки, работает в Полном соответствии со
своими свойствами. Легкий каркас здания вос-
принимает все нагрузки от собственного веса
здания, от его содержимого, от ветра, снега и т. д.
Пространства между деталями каркаса, несущими
на себе нагрузку, заполнены плитами (щитами
крупных размеров). Это — одежда дома. Легкие
плиты из специальной фанеры для домостроения
(не смешивайте эту фанеру с обычной) или гипсо-
плиты (гипсовая масса на деревянной фибре, кар-
тоне и бумажных отходах) образуют стены, до-
полнительно утепляемые в случае надобности
новым материалом — минеральной шерстью.
18
Легкие внешние стены дема, несмотря на свою
малую толщину (18 сантиметров и меньше), очень
плохо проводят тепло, поэтому в помещении
тепло зимой и прохладно летом. Дом снабжен
собственным центральным отоплением; вода в
системе получает автоматический подогрев от
газовой горелки. Один раз в год — осенью —
горелку зажигают и один раз — весной — тушат.
За действием горелки и всей отопительной си-
стемы наблюдает специальный автоматический
прибор. Этот контролер уменьшает пламя, когда
вода в системе перегревается и в доме делается
слишком жарко. Если же становится холодно, он
сейчас же прибавляет огня, добиваясь постоянства
температуры помещения.
На заводах стандартного домостроения изго-
товляют многие типы подобных домов — одно-
этажные и двухэтажные, одно- и многоквартир-
ные. Все они просты по конструкции и требуют
малых затрат труда. В подобных сооружениях
практически демонстрируется прекрасный резуль-
тат правильного использования отдельных мате-
риалов в их конструктивном единстве и разделе-
нии труда, что является ведущей идеей новой
строительной техники.
Хозяин стройки высоких зданий — башенный кран.
г
Новые МАГПСРИААЫ
МЫ упомянули о новом ма-
териале — минеральной шер-
сти. Этот материал изготовляют
плавкой металлургических шлаков, глин, известня-
ков и отходов стекла. Расплавленную массу проду-
вают паром или сжатым воздухом, и получается
легкое пористое вещество, которое назвали
шерстью или ватой за то, что оно, подобно
шерсти животных и вате хлопчатника, очень
хорошо сохраняет тепло. Минеральная шерсть,
один кубический метр которой весит всего лишь
32 килограмма, не имеет себе равных по тепло-
изолирующим свойствам. Она употребляется в
виде матов, рулонов, брикетов и открывает
большие возможности для сооружения зданий
с тонкими, но теплыми стенами. Стена толщи-
ною в 25 сантиметров, достаточная для проч-
ности четырехэтажного дома, утепленная ми-
неральной ватой, теплее старой стены в
3—4 кирпича, толщиной от трех четвертей
половиной раза больше кирпича, легок, прочен и
тепел. Благодаря пустотам, заполненным возду-
хом, стены из керамических блоков с дополни-
тельным утеплением минеральной ватой в три-
четыре раза легче таких же стен, изготовленных
из кирпича. Из керамических блоков делают лег-
кие, прочные и несгораемые междуэтажные пере-
крытия, взамен деревянных и железобетонных.
Уменьшение веса зданий позволяет расходовать
все меньше и меньше труда для их возведения.
'Л Л Спичечная норобиа
и ЗДАНИЕ
перекрытиях делают эти элементы зданий значи-
тельно более теплыми, чем при старом способе,
когда для утепления насыпается грунт или шлак.
Наш строительный кирпич имеет своего преем-
ника, имя которого — керамический, блок. Кера-
мическими называют тщательно обожженные из-
делия из высококачественной глины — черепицу
ЧТОБЫ раздавить спи-
чечную коробку в ру-
ке, нужны усилия в не-
сколько килограммов. Че-
тыре стенки коробки,
каждая толщиною мень-
_ . ....г---, -----_--- -г-.. .... . ____ ше миллиметра, очень
метра до метра. Маты под полами и на чердачных энергично сопротивляются разрушению. А дощеч-
ку в 3 миллиметра сломать очень легко. Слабый
материал спичечной коробки так хорошо сопро-
тивляется потому, что коробка обладает сильной
конструкцией, заставляющей материал обнаружи-
вать неожиданную силу. Секрет силы коробки —
в ее форме.
Легкие и сильные конструкции находит и строи-
тельная техника.
Посмотрим, как используются такие конструк-
ции при сооружении двадцати-, тридцати-, сто-
этажных зданий. Сначала — место металлу. Завод
изготовляет детали стального костяка здания.
Размеры деталей ограничены только возможно-
стями доставки по железным дорогам и силою
строительных механизмов. Их длина обычно не
превышает полутора-двух десятков метров.
Завод работает по чертежам конструктора-строи-
теля, каждая деталь вполне закончена, во всех
местах соединений оставлены точно совпадающие
отверстия для заклепок и припуски для свароч-
ных швов. На месте строительства краны прини-
мают, поднимают и устанавливают каждую де-
таль и происходит сборка, связывающая весь
каркас здания в единое целое. Такие конструкции
называются рамными, так как каждая стальная
деталь обоими концами соединяется с двумя дру-
гими деталями, и каждые четыре детали обра-
зуют прямоугольники — рамы (горизонтальные и
вертикальные).
Так изображали строительство средневековые
художники.
для крыш, посуду и т. д. Керамический блок не
сплошной, как кирпич. Высокое качество мате-
риала позволяет без уменьшения прочности делать
его на три четверти пустым. Он в два — два с
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Нескончаемые войны и
феодальные усобицы в
средневековой Европе
создавали жестокую тес-
ноту в черте городских
укреплений, где эконо-
мили каждый квадратный
сантиметр площади за-
стройки. Верхние этажи
противоположных домов
почти соприкасались, а
очень многие улицы име-
ли ничтожную шири-
ну, — от 1 до 2 мет-
ров. Эти узенькие ули-
цы - коридоры одновре-
менно были лотками для
стока нечистот и служи-
ли источником хрониче-
ских эпидемий. Чрезвы-
чайное загрязнение таких
улиц делало их иногда
почти непроходимыми.
Еще в начале XIX века
старые города Европы —
Лондон, Париж, Франк-
фурт, Магдебург, Ню-
ренберг и многие дру-
гие — были характерны
такими улицами, которые
стали исчезать лишь во
второй половине истек-
шего столетия. Русские
не знали такой тесноты.
Самые узкие улицы мос-
ковского Китай-города
были в несколько раз
шире европейских.
* * *
О том, как быстро
завоевывали признание
новые стройматериалы,
можно судить по такому
примеру. Около пятиде-
сяти лет назад на оборо-
нительных сооружениях
начали применять арми-
рованный бетон — на-
чали делать сетки и кар-
касы из стальных пруть-
ев, заливая затем эту ар-
матуру раствором бетона.
Многие тогда возражали,
опасаясь, что сталь осла-
бит бетон. Они боялись,
что при попадании сна-
ряда бетон раздробится,
ударившись о свой соб-
ственный скелет — за-
полняющую его сталь-
ную арматуру. Прошло
несколько лег — и все
страхи рассеялись. Соче-
тание стали и бетона ока-
залось необычайно удач-
ным. В нем соединились
и усилились ценные свой-
ства обоих материалов
(сопротивление стали
растяжению, бетона —
сжатию) и уменьшились
их недостатки (слабое
сопротивление стали из-
гибу, бетона — растяже-
нию). В настоящее время
редкое сооружение мо-
жет обойтись без же-
лезобетонных частей.
19
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯК
Евклид, Пифагор, Гип-
пократ, Аристотель —
древнегреческие ученые,
сыгравшие большую роль
в зарождении и развитии
различных наук. Круп-
нейший из них — Ари-
стотель (умер 2370 лет
назад) в своих трудах
подвел итоги современ-
ной ему науки. Его уче-
ние было впоследствии
воспринято католической
церковью и в ее руках
постепенно утратило свои
положительные стороны
и превратилось в силь-
нейший тормоз для даль-
нейшего развития науки.
В частности, церковники
особенно ревниво обере-
гали древние представ-
ления об устройстве все-
ленной, согласно которым
в центре вселенной на-
ходится Земля, прикры-
тая твердым небесным
сводом с укрепленными
на нем звездами, Солнце
вращается вокруг Земли,
и т. д. Борьба с этими
представлениями стоила
жизни многим ученым
(в 1600 году, например,
знаменитый ученый
Джордано Бруно был за
это сожжен на костре).
• * *
В наших условиях пе-
сок — наилучший грунт
для строительства. Вы-
ражение «не строй зда-
ния на песке» пришао иг
Аравии, где пески дви-
жутся ветром, что опасно
для зданий.
Бульдозер — мощная
машина на гусеничном
ходу, срезающая грунт,
кустарник, деревья и пла-
нирующая площадки до
нужных отметок. В до-
рожном строительстве
бульдозеры дают закон-
ченное земляное полотно
в самых трудных усло-
виях.
Появление этих машин
позволило проникнуть и
начать разработку таких
лесных массивов, которые
раньше были недоступны
из-за невозможности уст-
ройства туда дорог спо-
собами старой техники.
Бульдозеры широко при-
меняются в работах по
освоению нашего Край-
него Севера.
Законченная конструк-
ция вся вместе пред-
ставляет собою ряд ко-
робок, у которых нет
стенок, а есть только
ребра. Каждая коробка
здания работает по
принципу нашего при-
мера со спичечной ко-
робкой, но вся система
работает еще сильнее,
ибо в ней все коробки
соединены друг с дру-
гом, что придает кон-
струкции дополнитель-
ную жесткость. Сталь-
ной каркас, несмотря
на свою силу, кажется
издали очень легким,
так как его масса по
отношению к объему
здания невелика. Здесь
весь металл «работает».
Нижние этажи обычно монтируются быстро —
один этаж в день. По мере того как скелет зда-
ния поднимается выше, скорость сборки несколько
уменьшается. В этом здании нет стен в старом
смысле этого слова, так как всю работу выпол-
няет каркас. Все остальные части являются за-
полнением каркаса.
По мере устройства каркаса, внутри будущих
помещений проводятся работы, требующие сво-
боды для подачи материалов (устройство водо-
провода и т. п.). После окончания внутренних
работ начинают закрывать здания внешними сте-
нами. Привезенные с завода стеновые плиты боль-
шого размера (квадратный метр и более) подни-
маются кранами и устанавливаются на месте. Эти
плиты толщиной 10—15 сантиметров изготовлены
из прочных легких материалов; внутри они утеп-
лены такими материалами, как минеральная вата.
Сторона плиты, обращаемая наружу, имеет цвет,
рисунок и архитектурную отделку, избранные
архитектором для красивого оформления здания
и нанесенные на плиту уже на заводе.
Благодаря большим размерам плит и механи-
зации их установки, фасад закрывается очень
быстро, и очередной этаж совершенно меняет
свой вид — каркаса больше не видно, стена
вполне закончена и отделана.
Пока идет стройка нижних этажей, неподвиж-
ным башенным кранам деятельно помогают само-
ходные гусеничные краны. Когда их длинные руки
перестают доставать до нужной высоты, на смену
приходят краны, забирающиеся вверх и опираю-
щиеся на законченные части каркаса. Работа
идет непрерывным потоком.
\\\ ДО МА*'
^Заглянем в будуш.£0
Oil И чип/ 7/М,
П ЮДИ прошлого твердо считали, что все, ре-
" * шенное ими, решено навсегда. Геометр Евклид,
математик Пифагор, анатом и врач Гиппократ,
философ и физик Аристотель и другие мыслители
древности, утвердив свои системы наук, искренне
полагали, что этим все кончено. Они были по-
своему правы: рожденных ими наук и взглядов
на жизнь и мир хватило на добрых две тысячи
лет. Недавно современный человек перепрыгнул
через поставленные ими стенки, вытащил гвоз-
дики, которыми к твердому небесному своду были
прочно прибиты звезды, и заглянул туда, где, как
прежде вчиталось, не было ничего!
Извлечение «всего» из бывшего «ничего» про-
ивходит и будет происходить и дальше. Будет
происходить всюду, в
том числе и в строи
тельной технике.
Здания будущего..
Скоро на стройку нач
нется буквально втор
жениё новых строи
тельных материалов
Весьма много сулит
строителям развиваю
щаяся технология пласт
масс. На заводе будут
вести монтаж пласт-
массовых серийных де
талей — частей стен
с оконными и дверными
проемами, с вделанными
рамами, уже заполнен-
ными небьющимся стек-
лом. Прессы заводов
пластмасс дают детали
с абсолютной точно-
стью размеров, любой
расцветки и архитектурной сложности. При мон-
таже стен, перегородок, потолков, полов, крыш
и т. д. эта точность обеспечит слияние деталей в
одно целое с такой плотностью, что швы обозна
чатся едва видимыми тончайшими линиями. Де
тали стен и перекрытий из микропористых соста
вов будут непроницаемы для звука и тепла. По
каналам в потолках и стенах потечет тепло от
районных ТЭЦ. Фундамент изготовят из пустот-
ных деталей, совершенно изолируя здание от
грунта. Площадка, на которую он ляжет, будет
снабжена песчаной подушкой и предварительно
обработана бульдозером. Этот пяти -, шестиком-
натный дом, общей площадью 80—100 квадратных
метров, будет тепел, как медвежья шуба, удобен,
как мягкое кресло, и чист, как свежевыпавший
снег.
Такой дом соберут не на строительной пло-
щадке, а на складе готовых изделий завода, по-
грузят на специальную автоплощадку для пере-
возки грузов большого веса и большого объема
(так называемый «трейлер-кран»), привезут на
место и поставят целиком. Установив дом, вклю
чат газ, освещение, воду, канализацию, теле-
фон и т. п. Через час после остановки трей-
лера у места «строительства» дом можно засе-
лять.
Изготовление всех материалов и деталей этого
дома на заводе, сборка, транспортировка, раз-
грузка и приключение к коммуникациям потре-
буют 50—70 человеко-часов, или 6—8 рабочих
дней. По этому расчету получается, что один
рабочий может построить себе дом в течение
одной недели. Определите сами достигнутое им
повышение производительности труда.
Этот дом, далекий потомок первобытных пе-
щер, найдет свое место там, где условия общей
планировки поселений подскажут целесообраз-
ность размещения малоэтажных домов.
Не только пластмассы придут на стройку буду-
щего. Повышение качества сталей и цемента,
увеличение снабжения электроэнергией и теплом
дадут возможность нашим передовым конструк-
торам монтировать многоэтажные здания из одно-
родных прочных теплобетонных блоков. Один и
тот же легкий блок-плита послужит для фун-
даментов, стен, перегородок, перекрытий и
крыш.
Все это будет. Будет в нашей стране рчень
скоро, ибо советские люди умеют выполнять ста-
линские наказы, а в сталинском пятилетием плане
записано: «... Всемерно развивать строительную
индустрию, уделять особое внимание передовой
строительной технике и организации строительных
работ...»
21»
Ю1РАБЕА1ЫНМ
Инженеры Е. ЛОФЕНФЕЛЬД и Г. БЛЕЗЕ
Рис.
С. КАПЛАНА
ВОЗНИКНОВЕНИЕ боевой авиации
О усложнило деятельность военно-
морского флота. У кораблей появи-
лись опасные враги — самолеты-тор-
педоносцы и пикирующие бомбарди-
ровщики.
Пришлось снабдить флот надеж-
ными средствами защиты от, неприя-
тельских самолетов
тиллерией и авиацию
щей их в пути. ,
Однако само летам,.‘вылезающим с
береговых аэродромов, трудно сопро-
вождать караван суд®» на всеи’Щ
тяженни его ny w^ep^g океан
му же очень часто шЙЙййь самолета
требуется так быстро, что нет вре-
мени ждать, пока он прилетит с бе-
регового аэродрома. Пришлось распо-
лагать самолеты на самих боевых ко-
раблях — появилась корабельная
авиация.
Однако без достаточно длинной
взлетной дорожки самолет не набе-
рет нужной скорости и оторвавшись
от палубы упадет »-- ——-
небольшой пло
щие пловучие аэродромы. На таких
кораблях базируются самолеты, снаб-
женные обычными колесами. Конеч-
но, авианосец — не просто пловучий
аэродром. Это .настоящий боевой ко-
рабль. Для ы от налета враже-
ских самолет он вооружен зенитной
артиллерией.; ешний вид его не-
даргчен. Все омаидные помещения,
йе‘ надстройки вынесены
;е в особый «островок»
около одного из
чтобы не меш
ето£
о
скл
На Палубе место
чтобы разместить на ___
больше самолетов, их крылья делают
складными. Было время, когда крылья
корабельных самолетов складывались
вручную.J$to занимало много времени
и требод&ло многочисленного техниче-
ского персонала. Теперь у всех само-
летов к бедьной авиации крыля
ся и расправляются лет-
из кабины, при помощи гидрав-
ичес^ого или электрического при-
вода.. Перед взлетом летчик запу-
_циаё|Ллотор, и самолет рулит со сло-
жейиармд.Крыльями на стартовую до-
ро
ограничено, и
ней возможно
X больших совре-
менных авианосцев длины палубы-
аэродрома не всегда хватает для
разбега самолетов. Тогда на -
мощь приходит уже не катдпудь- ’п
та, а ракета. Под крыльям^ Большая часть самолетов размещает-
молета, с обеих сторон фюзеляжа, „он на авианосцах под; полетной па-
укрепляются так называемые сТарто--**^ лубой в специальных одноэтажных и
вые ракеты. Они представляют собой двухэтажных ангарах. ..Мощные бы-
неббл'ьшие и кратковременно действу- строходные лифты, расположенные в
носу и корме корабля, поднимают са-
молеты из ангарц на палубу перед
взлетом и опускают их после посад-
ки.
С авианосцев могут действовать
самолеты самых различных типов-,
истребители, пикирующие бомбарди-
ровщикщаторпедоносцы и даже сред-
ние двухмоторные бомбардировщики.
При действиях авиации над мор-
скими ; просторами всегда возможна
вынужденная посадка на поверхность
воды Чтобы самолет мог держать-
.“^чся на воде до'прихода спасательного
судна, стараются разными способами
увеличить его пловучесть. В крыле са-
молета делают водонепроницаемые
отсеки, а в фюзеляже устанавливают
надувные баллоны, которые в момент
посадки на воду наполняются углеки-
слотой. Даже бензобаки самолета ис-
пользуются для увеличения пловуче-
ети. Для этого перед посадкой лёт-
чик сливает из них бензин. Баки, на-
полненные воздухом и автоматически
закрытые, становятся как бы по-
плавками.
Если же самолет ие может уже
держаться на воде, экипаж его пере-
бирается в надувную спасательную
лодку. На такой лодке имеются радио-
станция и аварийный запас питания.
Кроме того, все летчики корабель-
ных самолетов надевают на себя пе-
ред вылетом спасательные надувные
жилеты, которые позволяют довольно
долго держаться на воде.
Для корректировки артиллерийской
стрельбы, для связи, наблюдения и
как спасательное средство в корабель-
ной авиации могут быть использованы
также и геликоптеры. Для них не
требуется больших взлетных палуб
или катапульт, и это делает их
удобными для применения на неболь-
ших кораблях.
где включается привод, рас-
,ий крыло. Крыло автомата-
запирается в расправ^Ином
inn.
>ые ра$£.ты. Они представляют собой
|еббйьшйе и кратковременно действу-
ющие реактивные^
складываясь с тяг<
ра, помогает ему, и
шает длину пробега
шгатели.' Их тяга,
1 основного мото-
то намного умень-
неойходимого для
а рдкеты сбрасы-
|йду. Как же на
*Устро-
-----д----— . ных для раз-
бега размеров? Чтобы на коротком
пути разгона сообщить самолету не-
обходимую скорость, иа кораблях
применяют особое приспособление —
катапульту. .
Катапульта — это специальный ай\Э₽£'
парат, при помощи которого самолет"
как бы «выстреливается» с корабля.
Самолет вылетает из катапульты
словно камень, выпущенныц- из ро-
гатки.
По рельсовой дбрйжке катапульты
длиной 30—35 метров электромотор,
сжатый воздух4или пороховые газы
с большой скоростью движут тележку,
на которой подъемным краном уста-
новлен самолет. Когда скорость те-
лежккЛ^нет равной взлетной скорости
самолета, он соскальзывает с нее и под-
нимайся в воздух. Так как при этом
за короткий промежуток времени
скоростЙ*'- от_ ЛУЛЯ„ Д°
120—150 киломё самолет и~ЖТг ;
,________________ 'йМИвдмЖ «
Возникает толчок бсу^ший, чём при- Когда м
рывке трогающегося н поезда. Чусгёы
предохранить голову а летчика,"’от
толчков и ударов, сидеЛя имеют спе-
циальные мягкие подушечки — подго-
ловники.
Так как сухопутному самолету, «вы-
стреленному» в воздух катану льтой,з^?Йоперек палубы, от одного ее борта
обратно на корабль сеять некуда,’ — ----------- ---------- -----------
применялись обычно гидросамолеты.
Но, как правило, скорость, ц другие
летные качества гидроса! '
же, чем у самолетов с ко
си, убирающимся во время полета.
Вот почему все более широкое рас-
пространение во флоте получают спе-
циальные суда — авианосцы, палубы
которых представляют собой настоя-
чик испытывают;
юлетов ху-
,есным шас-
ваются.
Но
палубу-
Ь сядет на
несколько
аэродрома, а
’’вдобавок еще качается при волне-
нии, — океан редко бывает спокоен.
Взлет и посадка самолетов кора-
бельной авиации требуют не только
от летчиков, но и от команды авиа;
яосца большого искусства и четкости
в работе. '
Авианосец, принимающий самолеты,
идет прямо против ветра. Чтобы точ-
но выдержать курс, на
имеется простое присп
носу корабля распол
через которую выво
ный пар, а на палу
шо заметная чер
це
е. На
г трубка,
‘ отработан-
нанесена хоро-
и .Курс авиа-
правлёние струи
заносит ветер, совпа-
с направлением этой черты.
— - ^йЙсоснулась палубы,
Начинают действовать
тормозиы^..Приспособления, намного
уменьшающие длину пробега самолета.
На хвостовой части фюзеляжа ко-
рабельного самолета имеется тормоз-
Цой крюк, выдвигаемый при посадке.
носца правилу
до другого^ протянуты задерживаю-
щие тросы. Концы их проходят через
блоки н закреплены на тормозных
барабанах. Пробегая по палубе, само-
лет захватывает один из тросов тор-
мозным крюком и тянет его за собой,
заставляя разматываться с барабана,
Вращение же барабана задерживается
специальными тормозами, и посадоч-
ная скорость сильно уменьшается.
felHlAfil
Рис. С. КАПЛАНА
Раскройте эту вкладку и вы увиди-
те, как выглядит внутри современный
жилой дом, один из тех, которые уже
строятся и будут строиться в нашей
стране в новой сталинской пятилетке.
аэродромы. На таких
|уются самолеты, снаб-
ыми колесами. Конеч-
— не просто пловучий
настоящий боевой ко-
виты от налета враже-
i он -вооружен зенитной
внешний вид его не-
сомандные помещения,
* надстройки вынесены
в особый «ос гровок»
иг его бортов
а-ЖгИгале-
ограничено, и
ней возможно
На тЙлубе место
чтобы разместить на
бодыие самолетов, их крылья делают
складными. Было время, когда крылья
корабельных самолетов складывались
вручную, j^to занимало много времени
)0>Эло многочисленного техниче-
персонала. Теперь у всех само-
кодабедьной авиации крыля
ываюгся и расправляются лет-
из кабины, при помощи гидрав-
‘'личес^ото или электрического при-
вода,., Перед взлетом летчик запу-
отор, и самолет рулит со сло-
щ-крыльями на стартовую до-
где включается привод, рас-
эщий крыло. Крыло автоматя-
запирается в расправленном
НИИ.
и тре<
ского
летое
склад
Йамых больших совре-
зсцев длины палубы-
всегда хватает для
етов. Тогда на no**, ’----- ~ *----1—--------
т уже не катапудь- ' подвженин. £
Под крыльям^ са- г ^бльшая часть самолетов размещает-
IX сторон фюзеляжаГ\,ся на авианосцах под полетной па-
ж называемые сТарто-F*лубой в специальных одноэтажных и
ш представляют собой
штковременно действу-
ьн^жвигатели. Их тяга,
тягф основного мото-
гу. и ^то намного умень-
бега^ необходимого для
валета ракеты сбрасы-
двухэтажных ангарах. ,-Мош.ные бы-
строходные лифты, расположенные в
носу и корме корабля, поднимают са-
молеты из ангарц на палубу перед
взлетом и опускают их после посад-
ки.
С авианосцев могут действовать
самолеты самых различных типов:
истребители, пикирующие бомбарди-
ровщики^торпедоносцы я даже сред-
ние двухмоторные бомбардировщики.
При действиях авиации над мор-
скими , просторами всегда возможна
вынужденная посадка на поверхность
/воды. Чтобы самолет мог держать-
г.» чо жэгъгта ПЛ* nnnvnno ОПООДТЛ
тинимающий самолеты,
тив ветра. Чтобы точ-
курс, на
е приспом»
расположу
выводится
акой Стаолеу сядет на
цаФМЭнгГ*!1 несколько
бычного аэродрома, а
качается при волне-
тедко бывает спокоен,
адка самолетов кора-
1И требуют не только
) и от команды авиа-
HCKVCCTBa И ЧеТКОСТИ’ '-УАЧ». tiapMMlAin
У „ увеличить его пловучесть. В крыле са-
молета делают водонепроницаемые
отсеки, а в фюзеляже устанавливают
надувные баллоны, которые в момент
посадки «а воду наполняются углеки-
слотой. Даже бензобаки самолета ис-
пользуются для увеличения пловуче-
ети. Для этого перед посадкой лёт-
чик сливает из них бензин. Баки, на-
полненные воздухом и автоматически
закрытые, становятся как бы по-
плавками.
Если же самолет не может уже
держаться на воде, экипаж его пере-
бирается в надувную спасательную
лодку. На такой лодке имеются радио-
станция и аварийный запас питания.
Кроме того, все летчики корабель-
ных самолетов надевают на себя пе-
ред вылетом спасательные надувные
жилеты, которые позволяют довольно
долго держаться на воде.
Для корректировки артиллерийской
стрельбы, для связи, наблюдения и
как спасательное средство в корабель-
ной авиации могут быть использованы
также и геликоптеры. Для них не
требуется больших взлетных палуб
или катапульт, и это делает их
удобными для применения на неболь-
ших кораблях.
*-си на воде до’прихода спасательного
,2Т'^судна, стараются разными способами
жшциосце
^|Б&е. На
й трубка,
отработан-
палубе нанесена хоро-
:рдд|фсли ,КУрс авиа-
К^аправление струи
относит ветер, совпа-
еннем этой черты.
жЛоснулась палубы,
ачннают действовать
способления, намного
;лину пробега самолета,
части фюзеляжа ко-
тлета имеется тормоз-
шгаемый при посадке.
(, от одного ее борта
ютянуты задерживаю-
щы их проходят через
плены на тормозных
>егая по палубе, само-
один из тросов тор-
и тянет его за собой,
пываться с барабана,
рабана задерживается
-ормозами, и посадоч-
1льно уменьшается.
«В сложном хозяйстве Москвы мы выявляем и будем
дальше выявлять большие возможности более рациональной
организации работ, механизации трудоемких процессов.
...Только за один 1947 год на предприятиях городского
хозяйства было изготовлено более тысячи самосвалов, 120
автокранов, 500 уборочных машин, строительных механиз-
мов и другого оборудования. Это сократило потребность
в рабочей силе примерно на 7 тысяч человек и сэконо-
мило значительные государственные средства. Так на-
пример, только применение передвижных инвентарных ме-
таллических лесов для ремонта фасадов жилых домов в
1947 г. высвободило около 1000 рабочих и дало экономию
в 4600 кубометров леса и 2 миллиона рублей денежных
средств. Каждый роторный снегоочиститель, работающий
на улице Москвы, высвобождает свыше 100 рабочих, каж-
дая снегопогрузочная машина — 75 рабочих и каждая
уборочная машина гЗИС-5» высвобождает 62 рабочих.
Сконструированная и изготовленная московским водопро-
водом новая установка по промывке песка на фильтрах
водопроводных станций столицы в б раз сократила потреб-
ность в рабочей силе на этом процессе и дала значитель-
ную экономию средств.
«... Средства, вложенные в механизацию сегодня, оку-
пятся завтра сторицей».
(Из речи депутата Т. А. Селиванова на IV сессии
Верховного Совета Союза ССР, 2-го созыва).
«Обеспечить дальнейший технический прогресс во всех
отраслях народного хозяйства СССР...» «Довести в
1950 г. механизацию земляных работ до 60%, дробление
щебня до 90%, приготовление бетона до 95% и растоворов
до 90%, укладку бетона до 60%, малярных работ до 50%
объема строительных работ, предусмотренных планом на
1950 г...» ...«Создать специализированную производст-
венную базу по выпуску строительных и дорожных машин.
Увеличить производство экскаваторов, организовать и раз-
вить производство новейших, землеройных, дорожных,
подъемнотранспортных, ногрузо-разгрузочных машин,
электрифицированного и пневматического строительного
инструмента, а также современного оборудования для про-
изводства строительных материалов, строительных дета-
лей, металлоконструкций и деревообработки... » «Рост
производительности труда в строительстве в 1950 году
увеличить на 40% по сравнению с довоенным уровнем».
«Объем строительства в 1946-1950 г.г. 157.500.000.000
рублей».
(Из закона о пятилетием плане восстановления и
развития народного хозяйства СССР На 1946-50 г.г.).
и поднимавшийся на
эе с научной целью,
чьзоваться герметиче-
ческими гондолами, в
чователь мог дышать
воздухом. В наше вре-
шные шары — их на-
батами, — использу-
чире. В 1933 году со-
первые в истории под-
>атостате до высоты
а вскоре наши страто-
ли этот рекорд до
ЭТО НУЖНО?
й любознательности и
за рекордами ученые
(икнуть все выше в
чение ее имеет боль-
ое значение. Небо над
(а синее; воздушный
оторого мы живем, не
<ен и спокоен. В этом
бури. Может итти
рад, рождаются мол-
ходится в постоянном
ем это движение иног-
ительно, что сила его
зрушительной. Атмо-
огоду в ее засухами,
меной холода и тепла,
Рис. Н. СМОЛЬЯНИНОВА
левождение по компасу во время
магнитных бурь и многое другое.
Большую ценность для ученых
представляют данные о тепловом
действии атмосферы и о ее темпера-
туре. Можно привести такое сравне-
ние. У человека болезнь обнару-
живается по повышению температуры.
Как врач по изменениям температуры
судит о процессах, происходящих в
организме больного, исследователь
атмосферы, изучая ее температурный
режим, также узнает многое о слож-
ных процессах, определяющих физи-
ческую жизнь воздушной оболочки
Земли.
ОДЕЯЛО ЗЕМЛИ
Д ТМОСФЕРА защищает нас от хо-
** лода мирового пространства. Солн-
це нагревает Землю, но Земля все
время охлаждается, отдавая тепло в
межзвездное пространство. Средняя
температура нашей планеты состав-
ляет около 0 градусов, а в межзвезд-
ном пространстве температура — ми-
нус 270 градусов. Земля чувствует
себя так же, как сосуд с кипятком,
выставленный на холод в минус
170 градусов. Почему же Земля не
замерзает? Ее спасает непрерывный
, почему и как ме-
чтобы уметь предска-
а в дальнейшем и
нужно изучать атмо-
яния атмосферы зави-
петов, артиллерийская
яя радиоавязь, кораб-
ТЕПЛО И
Профессор И. А. ХВОСТИКОВ,
доктор физико-математических наук
Г) ЫСОКО над нами раскинулось си-
нее небо.
Было время, когда люди не пред-
ставляли себе, что это такое, а поль-
зуясь невежеством людей, религия
населяла небо различными богами и
богинями, ангелами, архангелами и хе-
рувимами. Религия превратила небо в
«тот свет». Точнее, на небе помещал-
ся не весь «тот свет», а лишь одно
его отделение: рай. Открытия науки
постоянно разоблачали религию. Люди
давно узнали, что над нами нет твер-
дого свода, а синее небо — это про-
сто воздух, простирающийся вверх на
многие сотни километров. Земной
шар окружен воздушной оболочкой,
атмосферой, за пределами которой на-
ходится холодное межпланетное про-
странство.
Не жалея сил, ученые стараются
возможно лучше исследовать воздуш-
ную оболочку Земли. Вооруженные
приборами, они стремятся проникнуть
в самые высокие слои воздуха, взби-
раясь на высокие горы, поднимаясь на
воздушных шарах. На высоте 10—12
километров воздух уже настолько раз-
режен, что человек, попавший туда,
быстро погибает от недостатка ки-
слорода. Но это не останавливало лю-
дей. Еще в прошлом веке великий
русский ученый Дмитрий Иванович
Менделеев, сам поднимавшийся на
воздушном шаре с научной целью,
предложил пользоваться герметиче-
скими металлическими гондолами, в
которых исследователь мог дышать
искусственным воздухом. В наше вре-
мя такие воздушные шары — их на-
зывают стратостатами, — использу-
ются во всем мире. В 1933 году со-
ветские люди впервые в истории под-
нялись на стратостате до высоты
19 километров, а вскоре наши страто-
навты увеличили этот рекорд до
22 километров.
А ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
U Е из простой любознательности и
11 не в погоне за рекордами ученые
стремятся проникнуть все выше в
атмосферу. Изучение ее имеет боль-
шое практическое значение. Небо над
нами не всегда синее; воздушный
океан, на дне которого мы живем, не
всегда безмятежен и спокоен. В этом
океане бывают бури. Может итти
дождь, снег, град, рождаются мол-
нии, воздух находится в постоянном
движении, причем это движение иног-
да столь стремительно, что сила его
становится разрушительной. Атмо-
сфера делает погоду е ее засухами,
наводнениями, сменой холода и тепла,
туманами, грозами.
J Чтобы понять, почему и как ме-
няется погода, чтобы уметь предска-
зывать погоду, а в дальнейшем и
управлять ею, нужно изучать атмо-
сферу. От состояния атмосферы зави-
сят полет самолетов, артиллерийская
втрельба, дальняя радиаввязь, квраб-
Рис. Н. СМОЛЬЯНИНОВА
левождение по компасу во время
магнитных бурь и многое другое.
Большую ценность для ученых
представляют данные о тепловом
действии атмосферы и о ее темпера-
туре. Можно привести такое сравне-
ние. У человека болезнь обнару-
живается по повышению температуры.
Как врач по изменениям температуры
судит о процессах, происходящих в
организме больного, исследователь
атмосферы, изучая ее температурный
режим, также узнает многое о слож-
ных процессах, определяющих физи-
ческую жизнь воздушной оболочки
Земли.
ОДЕЯЛО ЗЕМЛИ
Д ТМОСФЕРА защищает нас от хо-
** лода мирового пространства. Солн-
це нагревает Землю, но Земля все
время охлаждается, отдавая тепло в
межзвездное пространство. Средняя
температура нашей планеты состав-
ляет около 0 градусов, а в межзвезд-
ном пространстве температура — ми-
нус 270 градусов. Земля чувствует
себя так же, как сосуд с кипятком,
выставленный на холод в минус
170 градусов. Почему же Земля не
замерзает? Ее спасает непрерывный
приток солнечного тепла, поддержи-
вающий на ней высокую темпера-
туру.
Но и Солнце не помогло бы, если
бы Земля не была защищена от по-
терь тепла воздушной оболочкой.
Без атмосферы обращенная к Солнцу
сторона Земли днем нагревалась бы
сильно, а за ночь настолько охлаж-
далась бы, что даже летом к концу
каждой ночи наступал бы сильный
мороз. В этих условиях страшных
перемен температуры жизнь оказа-
лась бы исключительно тяжелой, но
атмосфера, как хорошее одеяло, сбе-
регает тепло Земли.
Однако воздух — это не просто
хорошее одеяло. Это удивительное
одеяло, с которым не может срав-
ниться ни одно другое. Предположим,
что весь земной шар на самом деле
был бы покрыт теплым одеялом. Оно
защищало бы Землю от потерь тепла
ночью, но оно же изолировало бы нас
от притока солнечного тепла днем.
Каждый квадратный метр земной по-
верхности получает за день от Солнц?
в среднем 7 тысяч больших калорий
тепла. Этого тепла достаточно, чтобы
вскипятить 70 килограммов воды.
Окутав Землю одеялом, мы закрыли
бы доступ к нам этому теплу, обес-
печивающему жизнь на Земле. Для
нормальной жизни наше теплое по-
крывало пришлось бы каждый день
снимать, а на ночь снова окутывать
им всю Землю.
Даже богатая народная фантазия,
знающая самые замечательные сказки,
не придумала такого удивительного
одеяла, которое каждое утро само
свертывалось бы, а на ночь снова за-
крывало бы всю Землю. Закрывало
бы ее от севера до юга, от запада
до востока. Но наука часто открывает
в природе «чудеса», оставляющие да-
леко позади даже самую богатую
фантазию. Оказалось, что земная ат-
мосфера действует не хуже, а даже
лучше такого удивительного одеяла.
Оно не свертывается каждое утро и
не раскрывается ночью. Это одеяло
всегда раскрыто, но оно обладает за-
мечательным свойством хорошо про-
пускать тепло от Солнца к Земле и
не выпускать его обратно в мировое
пространство. Что же это за свойство?
Атмосфера, как хорошее одеяло,
сберегает тепло земли.
НЕВИДИМЫЕ ЛУЧИ
11ТОБЫ познакомиться с этим не-
*обыкновенным свойством земной
атмосферы, нужно вспомнить, как
были открыты невидимые лучи света.
Это случилось 150 лет тому назад.
Физики и астрономы много занимались
изучением спектра Солнца. Не имея
современных физических приборов,
они пропускали в затемненную ком-
нату через небольшое отверстие в
ставне окна узкий пучок солнечного
света. На пути луча устанавливалась
трехгранная призма из хорошего
стекла. Проходя через призму, свето-
вой луч не только отклонялся, но и
разлагался в спектр. На белом эк-
ране за призмой появлялась длинная
светлая полоса, окрашенная в различ-
ные цвета радуги. На одном конце
полоска света красная, на другом —
фиолетовая, а между ними распола-
гаются другие цвета в строго опреде-
ленном порядке: оранжевый, желтый,
зеленый голубой, синий. Ученые по-
местили в спектр термометр и заме-
тили, что он нагревается. Нагревается
потому, что его шарик поглощает
энергию световых лучей. Повышение
температуры особенно заметно, если
шарик термометра зачернить и уси-
лить тем самым его способность к
поглощению света.
Ученые заметили также, что нагре-
вание термометра получается наи-
большим, когда он помещен около
середины спектра, в зеленой его
части. К обоим концам спектра на-
гревание уменьшается. Это означает,
что Солнце испускает зеленых лучей
больше, чем лучей других цветов.
Это было очень интересно, но
не заключало в себе ничего удиви-
тельного. Однако в 1800 году была
открыта действительно удивительная
вещь. Если передвигать термометр от
зеленого участка спектра к его крас-
ному концу, то, как мы уже сказали,
нагревание уменьшается. Но когда
термометр передвинули еще дальше
и поместили его за красным концом
спектра — там, где глаз не видел
уже никакого света, термометр по-
казал повышение температуры.
Это открытие изначала, что еу-
щеотвуют невидимые лучи, которые
отклоняются призмой еще меньше,
чем лучи краевого цвета. Новые лучи
получили название инфракрасных. От-
крытие невидимых для глаз лучей
вызвало громадную сенсацию. Долго
к их существованию относились с
большим недоверием, но в дальней-
шем было установлено, что инфра-
красные лучи испускаются любым
раскаленным телом: расплавленным
металлом в доменной печи, светя-
щейся нитью электрической лам-
почки, раскаленным угольком в обык-
новенной печке и т. д. Более того,
оказалось, что во многих случаях от
инфракрасных лучей получается боль-
шее нагревание термометра, чем от
лучей видимых. Это зависит от тем-
пературы светящегося тела.
ЛУЧИ И АТМОСФЕРА
V СЛИ тело нагрето до 6000 граду-
*^сов, то больше всего оно испуска-
ет зеленых лучей. Как раз это отно-
сится к Солнцу. При температуре
около 4500 градусов, которую, на-
пример, имеет светящийся конец угля
электродуги, наибольшее количество
излучаемой энергии приходится на
красный конец спектра. Если темпе-
ратура составляет 2500 градусов (нить
накаливания электрической лампоч-
ки), то наибольшее нагревание тер-
мометра получается в инфракрасных
лучах, недалеко от красного конца
спектра. При температуре тела, мень-
шей 500 градусов, наш глаз уже не
заметит никакого света, однако чув-
ствительными приборами легко мож-
но обнаружить, что тело еще испу-
скает инфракрасные лучи, ушедшие
очень далеко от красного края спек-
тра. Их так и называют «далекие ин-
фракрасные лучи». Теплый чайник в
совершенно темной комнате невидим,
но его легко можно сфотографиро-
вать обычным фотоаппаратом, кассета
которого заряжена специальной плен-
кой или пластинками, чувствитель-
ными к инфракрасным лучам. Такую
пленку уже давно применяют на
практике. Всякое тело при лю-
бой температуре испускает инфра-
красные лучи, но чем ниже темпера-
тура тела, тем более «далеким» явля-
ется его инфракрасное излучение.
На пути солнечного луча астрономы
устанавливали трехгранную призму.
Но какое отношение все это имеет
к атмосфере и к ее удивительной спо-
собности пропускать тепло только в
одну сторону?
Земная поверхность тоже излучает
инфракрасные лучи, но весьма «дале-
кие», потому что температура Земли
низкая. Излучая инфракрасные лучи,
Земля отдает свою тепловую энер-
гию в мировое пространство. Но наи-
большая доля энергии солнечных лу-
чей, которые служат главным источ-
ником тепла, получаемого земной по-
верхностью, приходится на зеленые
лучи, на долю же инфракрасных
приходится меньшая энергия. Следо-
вательно, солнечная энергия по свое-
му качеству существенно отличается
от земного излучения. Этим разли-
чием «воспользовалась» земная атмо-
сфера. Воздух прозрачен для лучей
видимого спектра, в том числе и для
зеленых, но он имеет плохую проз-
рачность для инфракрасных лучей.
Поэтому солнечный свет свободно
проходит сквозь атмосферу и доносит
почти всю свою энергию до земной
поверхности, которую и отдает ей.
Но обратное земное излучение погло-
щается воздухом. Большая часть
энергии земного излучения задержи-
вается атмосферой и не может уйти
в холодное мировое пространство.
Так «просто» в природе разрешена
задача об удивительном «одеяле»,
согревающем земной шар.
ЗЕМЛЯ В РОЛИ ПЕЧКИ
I_J AM уже ясно, что воздух нагре-
* вается не от солнечных лучей, ко-
торые проходят сквозь атмосферу
почти без потери энергии. Лучи
Солнца нагревают не воздух, а зем-
ную поверхность, и уже от нее, бла-
годаря инфракрасному земному излу-
чению, тепло переходит в воздух.
Непрерывно и днем и ночью громад-
ная энергия, излучаемая Землей,
почти целиком задерживается атмо-
сферой, От поглощения земного из-
лучения и зависит главным образом
температура воздуха.
Следовательно, поверхность Земли
играет роль печки, согревающей ат-
мосферу. Но чем дальше мы отойдем
от печки, тем меньше получим от нее
тепла. То же и в атмосфере: чем вы-
ше — тем холоднее. Это знает каж-
дый, кто поднимался на высокие го-
ры. Это хорошо знают все летчики.
Измерениями установлено, что с каж-
дым километром высоты температура
воздуха уменьшается в среднем на
6 градусов. Если весной около Земли
температура воздуха составляет око-
ло 0 градусов, то на уровне 5 кило-
метров она равна примерно минус
30 градусам, а на высоте 9—10 кило-
метров — около минус 55 градусам.
Одно время ученым казалось, что
в вопросе о температуре атмосферы
все исследовано, все понятно, но
вскоре оказалось, что это далеко не
так. Когда научились измерять тем-
пературу еще более высоких слоев,
то получили крайне неожиданные ре-
зультаты.
ЗАГАДКА СТРАТОСФЕРЫ
ГТ РАВИЛО «чем выше — тем хо-
* * лоднее», справедливое от уровня
Земли до высоты 9—10 километров,
оказывается совершенно несостоя-
тельным в более высоких слоях. С
помощью радиозондов (воздушных
шаров с радиопередатчиками), изоб-
ретенных советскими геофизиками и
применяемых ныне во всем мире, тем-
пературу воздуха можно измерять до
высоты 25—30 километров. Каждое
такое измерение (а их уже сделаны
тысячи в разных странах) показывает,
что от высоты 10—11 километров
температура воздуха при дальнейшем
подъеме вдруг перестает уменьшаться,
а наоборот, даже немного увеличи-
вается. Почему же действие «печки»,
то есть земной поверхности, излуча-
ющей инфракрасные лучи, прекраща-
ется с некоторого уровня? Какие дру-
гие причины определяют увеличение
температуры в высоких слоях? Отве-
тить на эти вопросы не удавалось.
Явление казалось необычайно таин-
ственным. И перед этой загадкой в
замешательстве остановилась наука.
Особая область атмосферы, управ-
ляемая какими-то непонятными зако-
нами природы, где температура воз-
духа увеличивается с высотой, полу-
чила название стратосферы. Объяс-
нение загадок стратосферы явилось
одним из центральных вопросов науки
о погоде — метеорологии.
МАЛЫЕ ПРИЧИНЫ — БОЛЬШИЕ
СЛЕДСТВИЯ
ДАЖЕ в настоящее время загадка
стратосфера остается не вполне
разрешенной, хотя стратосфера была
открыта более 40 лет назад. Но это
важная проблема, и ученые упорно
изучают ее. Медленное продвижение,
продолжавшееся годами, когда каж-
дый шаг давался в трудом, подчас
сменялось стремительными бросками
вперед, новыми блестящими откры-
тиями. После этого временами насту-
пало затишье, заполненное упорной
работой по «подтягиванию тылов», по
подготовке к новому наступлению. И
если коротко рассказать о самом глав-
ном, что было достигнуто этим тру-
дом ученых, трудом, наполненным
большой поэзией напряженных и
вдохновенных исканий, то, пожалуй, в
первую очередь нужно сказать об от-
крытии особой роли малых примесей
к воздуху.
Сухой воздух на 78 процентов со-
стоит из азота и на 21 процент — из
кислорода. Но было доказано, что
азот не принимает никакого участия
в поглощении лучей, он совершенно
прозрачен и для солнечного и для
земного излучения. Таким образом,
этот газ, которого в воздухе в три с
лишним раза больше, чем всех дру-
гих газов вместе взятых, совершенно
пассивен в тепловом отношении. Да-
же если бы азот вовсе исчез из воз-
духа, тепловой режим земного шара
совершенно не изменился бы. Что ка-
сается кислорода, то он обладает
поглощением, но очень небольшим.
Его влияние на тепловой баланс не-
значительно. Но что же влияет тогда
на тепловые процессы?
В первую очередь водяной пар.
Водяной пар активно поглощает ин-
фракрасные лучи. Его тепловое дей-
ствие в атмосфере в тысячи раз пре-
восходит действие азота и кислорода
вместе взятых, хотя по количеству
его в 40 раз меньше (всего лишь
2—3 процента). Но и водяной пар
поглощает только около одной трети
всего земного излучения. Значит, в
атмосфере у него есть «помощники».
Одним из них оказался углекислый
газ. В воздухе его еще почти в
100 раз меньше, чем водяного пара,
но он обладает настолько мощным
поглощением инфракрасных лучей,
что по способности задерживать зем-
ное излучение не уступает водяному
пару: он поглощает тоже около одной
трети всего земного излучения.
Но мы еще не совсем свели концы
с концами, у нас осталась «непри-
строенной» еще одна треть излучения
Земли. Совсем недавно здесь откры-
лись вещи наиболее неожиданные.
В составе воздуха нашли ничтожные
количества, всего лишь миллионные
доли процента, особого газа — озона,
близкого родственника обычного ки-
слорода. Его мельчайшие частички,
молекулы, построены из таких же
атомов, как и молекула атмосферного
кислорода. Но в молекулах кислоро-
да этих атомов два, а в молекулах
озона — три. Разница как будто не-
велика, но она обуславливает огром-
ную разницу в свойствах. В отличие
от обычного кислорода, озон настоль-
ко «жаден» к теплу, что поглощает
его столько же, сколько и водяной
пар, которого в миллион раз больше.
80км
РЕГУЛЯТОР ФИЗИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ АТМОСФЕРЫ
ОАЖНАЯ роль озона в тепловом
балансе земного шара и атмосферы
определяется не только тем, что он
поглощает около одной трети всей
энергии земного излучения, то есть
столько же, сколько и водяной пар,
и в тысячи раз больше, чем азот и
кислород. В действительности роль
озона совсем особая.
Физики- обнаружили, что количе-
ство озона увеличивается с высотой
и достигает наибольшей величины на
высоте 25 километров. Наоборот, ко-
личество водяного пара уменьшается
с высотой. Почти весь водяной пар
находится в нижних слоях воздуха.
Выше 10 километров водяного пара
почти нет. В более высоких слоях
озрн оказывается «монополистом», в
то время как водяной пар является
«монополистом» в нижних слоях.
Почти вся теплота, получаемая слоя-
ми выше 10 километров, поступает
через озон. Есть основания предпо-
лагать, что повышение температуры в
стратосфере вызывается тем, что ко-
личество озона быстро возрастает с
высотой.
Содержание озона сильно изменяет-
ся от дня ко дню. Многие метеороло-
гические процессы в атмосфере свя-
заны с колебаниями содержания озо-
на. Этот газ, количество которого
столь ничтожно, что его присутствие
удается обнаружить только самыми
чувствительными методами химиче-
ского анализа, приобретает значение
важнейшего регулятора физической
жизни атмосферы благодаря его не-
обычайной способности поглощать
теплоту, излучаемую Землей.
ТЕПЛО И ХОЛОД В
СТРАТОСФЕРЕ
LIАШ рассказ оказался бы слишком
11 неполным, если бы мы не упомя-
нули в заключение о поясах высокой
температуры, которые были об-
наружены в верхних слоях
стратосферы. В настоящее вре-
мя ученым уже известна кар-
тина распределения температур
воздуха до высот 200—250 ки-
лометров. От уровня 35 кило-
метров, где температура со-
ставляет 45 градусов ниже нуля,
начинается первый теплый пояс.
Уже на высоте 50 километ-
ров воздух теплее, чем на Земле
в самый жаркий день: температура
достигает здесь величины плюс 75 гра-
дусов. Такая высокая температура
господствует до уровня 60 километ-
ров, от которого начинается резкое
снижение температуры до величины
минус 20 градусов на высоте 80 кило-
метров. Здесь начинается второй теп-
лый пояс, в котором температура воз-
растает на 30—40 градусов на каж-
дые 10 километров; уже на высоте
120 километров воздух имеет темпера-
туру 90 градусов выше нуля, и по
крайней мере до высоты 180 кило-
метров продолжается дальнейший не-
уклонный рост температуры.
Если бы эти данные о теплых поя-
сах в стратосфере были опубликованы
15—20 лет тому назад, не говоря уже
о более давних временах, то всякий
специалист назвал бы их глупостью.
Они противоречат прежним пред-
ставлениям о верхних слоях атмосфе-
ры, которые считали областью очень
низких температур.
Как же объяснить, что там, где
атмосфера граничит с холодным меж-
планетным пространством, воздух не
только не холодный, но, наоборот, го-
раздо теплее, чем где бы то ни было
в другом месте?
Теперь известно, что атмосфера
выше уровня 100 километров — это
область особенно сложных и свое-
образных физических процессов. Мы
ничего не говорили об ультрафиоле-
товых лучах Солнца. Но эти лучи
действуют разрушающе на молекулы
воздуха. Всю «силу удара» мощного
воздействия ультрафиолетовых сол-
нечных лучей принимает на себя как
раз верхний слой атмосферы. По-
добно броне, он полностью задержи-
вает эти лучи и не пропускает даже
малой их части к земной поверхности,
защищая тем самым все :
Земле от их пагубного
ствия.
Изучение тепла и холода
фере не закончено. Наука,
шая уже много важных результатов,
продолжает усиленно разрабатывать
эту увлекательную проблему. Не при-
ходится сомневаться в том, что со-
ветские ученые, занимающие видное
место в исследовании воздушной
оболочки Земли, раскроют все тайны
высоких слоев
которых имеет
и практическое
живое на
। воздей-
в атжоя-
получив-
атмосферы, изучение
столь большое научное
значение.
Рис. Н ПЕТРОВА
Э. ЗЕЛИКОВИЧ
Вначале XVII века были изобре-
тены и построены первые теле-
скопы. С огромным интересом ученые
направляли телескопы на небо — на
Луну, звезды, планеты.
В 1610 году дошла очередь до Са
турна. Астроном, впервые взглянув
ший на него, был поражен: эта пла-
нета имела совершенно не такой вид
как другие.
Сатурн, хорошо видимый невоору-
женным глазом, выглядит яркой зве-
здой. И если в телескоп, благодаря
увеличению, планеты представляются
кружочками, то форма Сатурна ока-
залась не только необычной, но во-
обще непонятной.
Ученый долго размышлял над уви-
денным. В результате он пришел к
такому выводу: Сатурн состоит из
трех соприкасающихся звезд. Одна,
большая, — в середине; две мень-
шие — по бокам.
Прошло два года. Обнаружилось
странное превращение Сатурна: обе
боковые звезды исчезли... Теперь
телескоп показал лишь один кружок,
подобный кружкам других планет.
Тридцать лет спустя необыкновен-
ная планета опять привлекла внима-
ние астрономов. И вот что они на-
шли: Сатурн представляет собой
шар с двумя ручками, или лунами, с
боков. В течение 15 лет вид этих
«ручек» непрерывно менялся.
Когда, наконец, тайна Сатурна бы-
ла раскрыта, она оказалась довольно
простой. Все превращения этой пла-
неты объясняются тем, что Сатурн
окружен плоским, тонким, свободно
висящим над его экватором кольцом.
Кольцо Сатурна видно даже в
очень небольшие современные теле-
скопы, которые несравненно лучше
значительно более громоздких труб
XVII века. И никаких «ручек» у
планеты, конечно, нет. Возникают же
у нее эти мнимые придатки и меняет-
ся itx вид вот почему.
Как и остальные планеты, Сатурн
и Земля обращаются вокруг Солнца.
Поэтому их взаимное расположение
постоянно изменяется. Планеты же
не излучают собственного света, а
только отражают свет Солнца.
И вот в разное время кольцо Са-
турна бывает неодинаково повернуто
к нам. Вследствие этого оно пред-
ставляется наблюдателю на Земле в
разных формах. Иногда оно выглядит
очень растянутым овалом. Тогда его
части, выдающиеся с боков планеты,
действительно могут казаться в сла-
бый, несовершенный телескоп не то
лунами, не то «ручками». Когда же
мы смотрим на кольцо вдоль его
плоскости, в ребро, оно и вовсе ис-
чезает из виду. Взгляните на плоский
листок бумаги, расположенный в не-
скольких метрах от вас, строго в
ребро. Вы не увидите его.
Современные телескопы показыва-
ют, что кольцо Сатурна состоит из
трех как бы вложенных друг в друга
колец. Их ширина достигает почти
50 тысяч километров, а наружный
диаметр — 140 тысяч; они так вели-
ки и широки, что Земля могла бы
катиться по ним, как мяч по до-
роге. ..
Огромен и сам шар Сатурна: он в
760 раз больше земного шара. Вокруг
него, за пределами его колец, обра-
щаются 9 лун.
Что же представляют собой эти
кольца? Каково их строение и про-
исхождение?
Это оставалось долго загадкой, над
которой трудился не один ученый.
Сейчас известно и то и другое.
Кольца Сатурна не сплошные: они
состоят из мириад (бесчисленного
множества) мелких тел, крошечных
спутников-лун, обращающихся вокруг
центрального шара. Возникли они, по-
видимому, таким образом.
Мы знаем, что все тела в мире тя-
готеют друг к другу, взаимно притя-
гиваются. Чем меньше расстояние
между ними, тем больше притяжение.
Как показывает механика, при изве-
стном сближении двух тел их взаим-
ное притяжение настолько возрастает,
что большее тело должно силой свое-
го тяготения разбить меньшее вдре-
безги.
Стало быть, небесные светила окру-
жены как бы «запретной зоной»:
приближение к ним за пределы опре-
деленной границы губительно для
малых тел.
Очевидно, у Сатурна была некогда
еще одна луна, которая вследствие
каких-то причин вступила в запрет-
ную зону. Сатурн разбил ее на мно-
жество кусков. Та же участь грозит
еще и другому спутнику Сатурна — он
очень близок к границе опасной зоны.
Подобное же положение существует и
у планеты Юпитер: одна из его лун
также угрожающе близка к границе
«запретной зоны». Возможно поэтому,
что когда-нибудь и у Юпитера воз-
никнут кольца, а кольца Сатурна рас-
ширятся.
1_тЕДАВН0 в журнале «Вокруг света» сообщалось о том,
П что на реке Вишере, притоке реки Чусовой в вер-
ховьях Камы, специалист по вымершим ископаемым жи
вотным, кандидат биологических наук доцент Ю. М. За-
лесский нашел окаменелые отпечатки огромных ископа-
емых стрекоз. Крылья достигали в размахе от одного до
полутора метров. Плоские слоистые камни с отпечатками
крыльев удалось привезти в Москву.
Вот что сообщил нам кандидат биологических наук
доцент М. Я. Асе по поводу интересной находки:
— На территории нашей родины эта находка была еде
лана впервые. Ю. М. Залесский предполагает, что прежде
у нас не обнаруживали отпечатков древних стрекоз, жив-j
ших 185 и 120 миллионов лет назад, вероятно, потому,
что при находках
огромных, как бы при-
печатанных к камню
листьев с жилками и
округлыми краями,
длиною до 30 и 55
сантиметров, никому
не могло притти в го-
лову, что это крылья
насекомых.
Найденные отпе-
чатки крыльев на-
столько хорошо со-
хранились, что по-
зволяют судить о тон-
чайшем строении жи-
лок. Правда, тулови-
ща насекомых сохра-
нились только ча-
стично. Но все-таки
это не помешает вос-
становить примерный
внешний облик ги-
гантских насекомых.
Этим сейчас и занят
Ю. М. Залесский.
Древние стрекозы были первыми существами на Земле,
поднявшимися в воздух, раньше птиц и до появления
летающих вымерших ящеров. Многие насекомые позже
«разучились» летать, перейдя к паразитизму, и крылья у
них укоротились, а затем и вовсе исчезли. Таковы вши,
блохи и некоторые другие. Большей частью потомки древ-
них стрекоз измельчали.
Почему же в глубокой древности на Земле водились
гигантские животные? Можно ли считать, что с течением
времени сохранились только более мелкие их потомки?
Надо сказать, что в далекие времена были и мелкие
насекомые, а сейчас, как всем известно, существуют ги-
гантские животные, например слоны, и даже еще боль-
шие — киты, многие спруты (осьминоги).
Поэтому нельзя сказать, что животный мир со временем
теряет своих гигантских представителей и что все орга-
низмы мельчают. Одни из них действительно мельчают,
другие увеличиваются.
Почему же это происходит?
Все организмы с течением миллионов лет изменяются
так, что сокращается непроизводительная трата сил, энер-
гии и повышается коэфициент полезного действия при ра-
боте, ходьбе, полете и т. п. В основном можно отметить
два главных пути таких изменений. По первому пути шло
постепенное изменение членистоногих (раки, пауки, насе-
комые). Совершенно иначе проходило изменение позво-
ночных животных (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, млекопитающие).
Зоологи вместе с инженерами рассчитали, что всем
членистоногим «выгоднее» мелкие размеры при тех си-
стемах рычагов, которые составляют ноги жука, рака
(скелет наружный — в виде подвижно сочлененных меж
собой трубок из твердого рогового панциря; мышцы при-
крепляются к стенкам трубчатого скелета изнутри, дви-
гая при сокращении эти коленчатые рычаги). При неболь
ших размерах такие рычаги производят ту же работу, за-
трачивая меньше силы.
Позвоночным же, имеющим иное строение скелета, «вы-
годнее» крупные размеры тела.
Вот отчего изменения животных шли различными путями.
Естественный отбор (вымирание всех неприспособленных)
оставлял среди насекомых наиболее мелких представи-
телей, а среди позвоночных, которые шли к прогрессу, —
наиболее крупных.
Конечно, увеличение размеров могло итти до известных
пределов. Когда организм огромного тела, каким бы «вы-
годным» оно ни было с точки зрения механики, уже не
может найти себе достаточных количеств пищи, он обре-
чен на вымирание. Вот почему только в океанах, где
живут несметные количества мелких животных, сохрани-
тесь питающиеся ими гигантские хищники —киты кашалоты.
Но если взять. таких позвоночных животных, которые
прогрессировали, то мы заметим постепенное увеличение
оазмеров тела от предков к потомкам именно потому
что позвоночным «выгоднее» иметь большие размеры.
Например, предки слонов были величиной со свинью,
затем дошли до размеров лошади. Древние предки лоша-
ди были величиной с собаку. Наконец, древние пра-
родители обезьян (предков человека) были вначале по-
хожи на белок (их родичи — тупайя — живут до сих
пор на Малайском архипелаге).
Сейчас известны почти все «переходные формы» —
ископаемые предки людей. Только немногие из них дости-
гают размеров среднего человеческого роста, и то только
ближайшие к нам. Весь же ряд предков людей ясно
показывает непрерывное увеличение размеров тела. Но
дальше человеческое тело не будет изменять размеры,
так как человек живет в условиях, где не стихийные силы
природы определяют характер его существования, образ
его жизни, а разумная деятельность человеческого об-
щества.
D пятом томе Геологической серии «Известий Академии
наук СССР» за 1947 го,д сообщалось о находке само-
родка золота весом в 7 килограммов 658 граммов. Этот
самородок — один из самых крупных, найденных в Ени-
сейской тайге за последние сто лет.
Редакция обратилась к геологу И. И. Гусельникову с
просьбой рассказать нашим читателям о значении этой на-
ходки.
— Общее количество золота в земной коре, — сообщил
нам тов. Гусельников, — составляет около одной мил-
лионной доли процента от всей массы горных пород. Если
подсчитать все золото, содержащееся в горных породах
земной коры на глубину одного километра, то окажется,
что его — около 5 миллиардов тонн.
Но за все время существования золотой промышлен-
ности люди добыли лишь одну трехсоттысячную часть
этого количества.
Трудность добычи золота заключается в том, что оно
распылено в горных породах, в воде и в воздухе в виде
мельчайших частиц. Эти частицы уносятся водой, ветром,
рассеиваются повсюду; только в очень редких случаях
золото накапливается в количествах, представляющих
интерес для добычи. Вот почему находка крупных само-
родков — большая редкость.
Чаще всего золото встречается в кварцевых жилах.
При разрушении жил поверхностными водами, солнцем,
ветром, морозами частички золота освобождаются от
окружающего их кварца и попадают в рыхлые отложения
земной поверхности. Вместе с осыпями камней они пе-
ЖУРНАЛ «Заводская лаборатория» недавно сообщил,
что советские ученые разработали много способов
быстрого и точного контроля качества деталей машин,
изготовляющихся в миллионах штук на наших заводах.
С помощью несложных приборов инженеры и рабочие
заводов могут не только сразу отыскать невидимые глазу
трещины на поверхности металла, но даже как бы загля-
нуть внутрь детали. Это значит, что наши машины сейчас
изготавливаются из деталей высокого качества.
Мы обратились к инженеру Ю. И. Степанову с прось-
бой рассказать о том, как' действуют некоторые из таких
приборов. Вот что он нам сообщил:
— Положите на какой-нибудь магнит лист бумаги с
железными опилками и встряхните его. Тотчас опилки
соберутся в довольно стройные кучки, которые, словно
нити, потянутся от одного полюса магнита к другому.
Больше всего опилок будет оседать ближе к полюсам
магнита, потому что здесь магнитное поле наиболее
сильно.
Если намагниченный стержень разделить на части, то
каждая часть превратится в самостоятельный магнит, и
на бумаге, покрывающей этот разделенный на части стер-
жень, появится не два, а несколько скоплений опилок.
Нечто подобное произойдет, если на поверхности маг-
нита окажется пространство, не заполненное металлом,
например трещина. Трещина как бы делит магнит на две
части, и на ее краях образуются разноименные магнитные
полюсы. Стоит только это место магнита посыпать
железным порошком, как сейчас же частицы металла ося-
редвигаются вниз по склонам гор, переносятся водными
потоками и наконец отлагаются в массе щебня и галеч-
ника. Благодаря большому удельному весу частицы зо-
лота постепенно проникают в нижние слои рыхлых отло-
жений. Так создаются россыпи золота, платины и неко-
торых других редких металлов.
Золотинки в россыпи и руде в большинстве случаев
мелкие. Очень редко встречаются крупные золотины, ко-
торые принято называть самородками.
Самый большой самородок в мире, весом в 70,9 кило-
грамма, был найден в Австралии. После удаления при-
месей чистый вес самородка составил 68,08 килограмма.
Ему дали кличку «Желанный».
В 1842 году на прииске Александровского Миасского
горного округа, на Южном Урале, был найден самый боль-
шой из русских самородков. Чистый вес золота в само-
родке составляет 35,628 килограмма. В этом самородке,
так же как и в енисейском, найденном в прошлом году,
имеются примеси, состоящие из кварца, и пустоты, со-
хранившиеся на месте уничтоженных природой других
минералов. Все это говорит о том, что самородки раньше
являлись частями рудных кварцевых жил.
Находка самородка в Енисейской тайге очень инте-
ресна. Она поможет геологам найти рудные источники
золота, и если окажется, что они обладают солидными
запасами, то на этом участке вырастет еще одно новое
горное предприятие, добывающее ценнейший металл, не-
обходимый для успешного завершения строительства ком-
мунизма в нашей стране.
дут по краям трещины, и ее легко будет заметить, спим
способом, получившим название магнитной суспензии,
можно быстро находить поверхностные трещины, неви-
димые наглаз в инструментах и деталях машин.
Используя явление магнитной суспензии, советский ин-
женер Нифонтов создал полуавтомат для контроля
качества роликов для подшипников. Ролики намагничи-
ваются и автоматически поступают на вращающийся диск,
над которым установлен душ, подающий керосин со
взмученным в нем магнитным порошком. Передвигаясь
дальше, ролики доходят до контролера, который снимает
с диска те детали, на поверхности которых магнитный
порошок образовал темные линии, указывающие на при-
сутствие поверхностной трещины.
Подобно тому как вода в ручье, огибая попавший в его
русло камень, выходит из берегов, магнитные силовые
линии, встретив пустоту внутри намагниченного стержня,
выходят за пределы стержня. Это явление получило на-
звание магнитного потока рассеяния.
Если передвигать вдоль намагниченного стержня про-
волочную катушку, в цепь которой включен гальванометр,
то при пересечении магнитного потока рассеяния в ка-
тушке возникает элек-
трический ток и стрел-
ка гальванометра нач-
нет отклоняться. Это
будет служить сигна-
лом того, что в
стержне есть де-
фект.
Если же вдоль это-
го стержня передви-
гать тело, обладающее
хорошими магнитными
свойствами, например
кусок трансформатор-
ного железа, то, по-
пав в магнитный поток
рассеяния, тело бу-
дет притянуто к
стержню. Это также
послужит сигналом
наличия дефекта.
На принципе улав-
ливания магнитного
потока рассеяния со-
ветскими учеными по-
строено много дефек-
тоскопов.
Советский изобретатель Карпов создал дефектоскоп, -не
имеющий себе равного в мире, с помощью которого быстро
обнаруживаются дефекты в железнодорожных рельсах.
Оборудованные приборами Карпова дефектоскопные путе-
измерительные станции, которых у нас построено уже
много, контролируют железнодорожное полотно со ско-
ростью 10—12 километров в час.
Очень часто металлические детали покрывают тонкими
слоями различных веществ, чтобы предохранить издели$
от ржавления или преждевременного износа. Толщин.-’
этих предохранительных слоев должна быть строго опре
деленной. Для контроля толщины покрытия также были
использованы магнитные явления.
Обычно для предохранения стальных изделий приме-
няются хром, цинк, олово — вещества, обладающие пс
сравнению со сталью слабыми магнитными свойствами
Стальное изделие с таким покрытием слабее, чем обычно
притягивается к магниту, так как покрытие препятствует
прохождению магнитных силовых линий от магнита к
стали. Чем толще слой покрытия, тем меньше будет сила
притяжения.
Советский ученый Акулов, используя это явление, соз-
дал контрольный толщемер. С помощью пружинных весов
измеряется сила, необходимая для отрыва небольшого
магнита от испытуемой детали. По силе отрыва судят о
толщине нанесенного слоя. Толщемеры советских ученых
пригодны для измерения слоев толщиной от одного мик-
рона (одна тысячная миллиметра) до нескольких милли-
метров.
К АНДРЕЕВ
Рис. Ф. ЗАВАЛОВА
Помещая этот географический рассказ-загадку, мы предлагаем нашим читателям, используя факты, при-
водимые в рассказе, отгадать, о каком интересном уголке природы здесь
говорится.
СТ протянул руку и привычным же-
стом дернул шнурок. Распахну-
лись шторы, и яркие лучи солнца
ворвались в комнату. Проснулся я
поздно, да и неудивительно: нака-
нуне до глубокой ночи я спорил со
своими друзьями.
— Ну, что, старик, — спросил
один из них, знаменитый ученый гео-
граф, — ты все еще не оставил своей
мечты открыть погибшую Атлантиду?
— Или разгадать загадку шаровой
молнии? — сказал другой.
— Друзья мои, — сказал я. — Вот
уже много лет, как я мечтаю сделать
какое-нибудь великое открытие. Вы
знаете это. Недаром прозвали меня
«профессором». Но, увы, до сих пор
случай мне не благоприятствовал!
— Ты идешь по неверному пути, —
заметил профессор географии. — В
науке нельзя полагаться на случай,
как нельзя открывать новые пути, не
зная того, что было сделано другими.
В тот момент, когда я вспоминал
этот разговор, раздался троекратный
стук. Двери распахнулись, и на по-
роге появился незнакомец. Молча он
протянул мне письмо.
«Профессору Ивану Ардальоновичу
Омнигарову», прочел я, дрожащими
руками разрывая конверт и развора-
чивая письмо. Оно гласило:
«Ваши труды стали нам известны,
и мы решили предоставить вам честь
величайшего географического откры-
тия нашего столетия. Вы будете пер-
вым, кто откроет для науки тайну
«Чудесного моря». Никому не от-
крывайте задачу своей экспедиции,
не заговаривайте ни с кем встречным
и следуйте за вашим проводником
беспрекословно».
Слова были излишни. Молч? я по-
следовал за незнакомцем и уселся в
закрытый автомобиль, который рва-
нулся с места, едва я захлопнул
дверцу.
Меньше чем через час таинствен-
ный самолет мчал меня сквозь хо-
лодную пустоту стратосферы в не-
ведомую страну «Чудесного моря».
Путешествие длилось довольно дол-
го, но окна кабины были наглухо за-
навешены, и я не мог ни определить
время суток, ни установить направле-
ние полета. Что было под нами—льды
Арктики, дремучие сибирские леса,
жаркие пустыни или холодные вол-
ны океана? Мчимся ли мы над Зем-
лей, или, быть может, странный са-
молёт увлекает меня в мертвые пус-
тыни межпланетного пространства?
Конец путешествия наступил не-
ожиданно. Дверь кабины распахнулась,
и свежий ветер моря повеял мне в ли-
цо. Я увидел, что наш самолет плавно
качается на волнах, борт о борт с ма-
леньким суденышком. Один миг — и
я оказался на его палубе, а самолет,
оставив на воде пенную дорожку,
взмыл в низкое, хмурое небо.
«Море или озеро?» была моя пер-
вая мысль.
Я наклонился через борт — вода
была пресной. Сомнений не было, я
был на озере. <
Я огляделся. Широкий водный про-
стор, покрытый седыми волнами, от-
крылся моим глазам.
Несколько недель, вдвоем с молча-
ливым незнакомцем, я бороздил воды
таинственного озера-моря. Оно бы-
ло длинным и узким и простира-
лось с севера на юг на 670 километ-
ров. Мысленно я перенес его на евро-
пейскую территорию нашего Союза и
постарался представить озеро, тяну-
щееся от Москвы до Ленинграда и
даже дальше.
Чем подробнее я изучал озеро, тем
больше я изумлялся. Его пресные во-
ды занимали площадь, равную тер-
ритории Голландии. Сколько я ни на-
прягал память, я не мог вспомнить
озера такой величины на всей терри-
тории Европы.
Я забросил глубоководный лот дли-
ной в полторы тысячи метров, чтобы
определить глубину озера. Но лот не
достиг дна.
«Значит, это самая глубокая кот-
ловина всей земной суши», подумал я,
перебирая в уме озера, низменности и
впадины земного шара.
Измерения позволили мне подсчи-
тать количество воды в чудесном озе-
ре. Три раза проверял я вычисления,
так как цифры казались мне чудо-
вищными. Двадцать три тысячи куби-
ческих километров! Ведь это больше,
чем в величайших озерах мира, и да-
же больше, чем во многих больших
морях, например Балтийском!
«Когда и как мог произойти этот
фантастический провал?» подумал я.
Медленно мы объехали озеро во-
круг, изучая его берега. Обрывистые,
суровые скалы, поросшие лесом, спус-
кались прямо в воду. Изредка попа-
дались селенья, но я избегал людей,
помня инструкцию. Меня поразило,
что озеро почти не имеет стока. Толь-
ко одна быстрая река вытекает из не-
го на западе, а впадает в него, по
моим подсчетам, триста тридцать
шесть рек. Куда же девается вся эта
масса воды?
Прозрачная вода озера была необы-
чайно холодной. В июне ее темпера-
тура равнялась только пяти граду-
сам, а в июле поднялась лишь до
шести.
«Возможна ли жизнь в этом хо-
лодном бассейне?» подумал я.
Но в этой области меня ждали са-
мые удивительные открытия.
В уединенном озере, которое, неви-
димому, расположено где-то в глуби-
не континента, я обнаружил тюленей,
самых настоящих тюленей! Я нашел
здесь червей и губок, которые встре-
чаются только в море, никогда не жи-
вут в озерах.
Больше того: пиявки, подобные мес-
тным, бывают лишь в тропических
морях. Их больше нет нигде на тер-
ритории нашей страны.
Я понял, что на мою долю выпало
такое удивительное открытие, какие
бывают лишь раз в столетие.
Однако мои исследования, несмотря
на все мое упорство, все же не рас-
крывают до конца сокровенной тай-
ны, обнаруженной мною небывалой за-
гадки природы.
Мое объяснение некоторых, хотя
далеко не всех, тайн озера заключа-
ется в следующем:
«Чудесное море» двумя гигантски-
ми подземными тоннелями соединя-
ется с океаном. По одному, идущему
на юг, в него переселились тропи-
ческие растения и животные. По
другому, соединяющему его с поляр-
ными морями, в него заплывают тю-
лени.
Приток холодной воды с севера не
дает согреваться озерной воде, на юг
уходят излишки воды впадающих рек.
Но где находится таинственное
«Чудесное море», в какой части све-
та, — мне не удалось установить.
И последняя загадка, которую мне
не удалось раскрыть: известно ли
это озеро нашим географам, нанесе-
но ли оно на карты, и каким именем
назвали ученые холодное и чудесное
море?
Г. ГУРЕВИЧ
Рис. А. ШПИРА
(Продолжение, см. ж-л «Знание — сила» №№ 1 и 2).
Профессор Хитрово не собирался, конечно, изменять
плотность воздуха над целыми областями. Для переме-
щения отдельной тучи нужно было спроектировать что-
то вроде летающего компрессора, который, отсасывая
воздух перед тучей и выпуская его за ней, гнал бы ее
в нужном направлении.
Но инженеры, к которым он обращался, отказались.
Техника не создала еще таких гигантских компрессоров,
да и вообще вся установка получилась бы такой гро-
моздкой, что гораздо проще было бы привезти воду на
поле в автоцистерне.
Несколько лет спустя Александр Петрович пришел к
мысли об использовании звука. Ведь звук — то же ко-
лебание воздуха: попеременное сгущение и разрежение
его. Профессор стал мечтать о том, чтобы создать такую
звуковую волну, которая могла бы между своими греб-
нями гнать облака.
В Сельскохозяйственном институте появились чудо-
вищные музыкальные инструменты. В поисках мощного
источника звука профессор создавал гигантские свистки,
так поразившие Василия; сирены, от звука которых ло-
пались окна в доме; громадные иерихонские трубы и
другие, издававшие беззвучные звуки, находящиеся за
пределами восприятия человеческого уха, — инфрабасы,
которые ощущались как похлопывание воздуха по лицу,
и ультрафлейты, обжигавшие кожу и убивавшие морских
свинок. Из института странный оркестр проник в до-
машнюю лабораторию профессора и постепенно заполонил
все комнаты тихого домика Хитрово.
Как только профессор приходил домой, тотчас же на-
щналась нестерпимая какофония. Шурина тетя, на беду
обладавшая музыкальным слухом, ложилась в постель
с мокрым полотенцем на голове и просила Шуру заве-
шивать двери периной.
Однако и со звуком ничего не вы-
шло. Удавалось только вызывать
дождь из готовых дождевых туч. Это
вполне естественно —
ведь звуки оркестра Хи-
трово, подобно пушечным
выстрелам, представляли
собою воздушную волну.
Эти работы совпали с
развитием авиации, под-
ходившей в те годы к
звуковым скоростям. Про-
фессор Хитрово сильно
надеялся, что вскоре
авиация создаст техни
ческую базу для осу-
ществления его идеи.
Сын его — четвертый
Хитрово, Петр Алексан-
дрович — специально из-
учал авиастроение, на-
деясь создать особый тип
самолета для перевозки
туч звуком. Война прер-
вала эту работу. В
1941 году над Ельней
сын профессора пошел на
таран и сгорел вместе
с фашистским самолетом.
Во время войны погибли в Ленинграде и родители
Шуры. Отец ее, Леонтий Петрович, также работал в
области борьбы с засухой, только занимался он лесоза-
щитными полосами и снегозадержанием. Шура, прибыв-
шая в Саратов, стала любимой и единственной наследни-
цей сельскохозяйственной династии.
Но, вопреки уговорам дяди, Шура изменила его делу.
Она стала физиком. Может быть, на ее решение повлияла
их общая с тетушкой нелюбовь к дядиной «музыке». Но,
конечно, живя в доме, Шура была в курсе всех перипе-
тий борьбы профессора с неподатливым звуком.
И вот однажды — было это на лекции по электро-
технике, — когда Шура аккуратно заносила в конспект
чертеж лейденской банки, разукрашенной плюсами и ми-
нусами зарядов, ей пришла в голову мысль: «А что, если
применить эту самую лейденскую банку для движения
дядиных облаков?»
Дело в том, что в каждом облаке — не только в гро-
зовом — имеются электрические заряды. Для образования
капель кристаллов снега или льда, в облаках необходимы
центры сгущения, и такими центрами являются мельчай-
шие заряженные пылинки, носящиеся в воздухе, крупицы
соли или просто ионы (электрически заряженные атомы)
газов воздуха. Без зарядов облака не образуются.
Таким образом, каждое облако заряжено — стало быть,
можно отталкивать его одноименным зарядом или при-
тягивать и вести за собой противоположным.
Шура сделала простейший расчет — ей показалось, что
новейшие сегнетические конденсаторы достаточно силь-
ны, чтобы двигать небольшие облака. И однажды, зара-
нее предвкушая радость старого профессора, девушка с
замиранием сердца поделилась с ним своими соображе-
ниями.
Однако дядя совершенно обескура-
жил ее. Он сразу нашел радикальные
ошибки: Шура не учла явления по-
ляризации, благодаря ко-
торой капельки, притяну-
тые к конденсатору, об-
разовали «забор» для
других капелек. В тот же
вечер девушка со слеза-
ми на глазах сожгла свои
расчеты.
С месяц она ничего не
думала об облаках, но
потом ей стало казать-
ся, что дядя не совсем
прав...
В физической лабора-
тории университета Шу-
ра проделала те опыты
с электризацией насы-
щенного водяного пара,
которые она сумела
там произвести одна.
И вновь она пришла
к своему дяде, и сно-
ва старик нескольки-
ми словами обрушил ее
постройку.
В первый раз в жиз-
89
Дядя совершенно обеску-
ражил ее. Он сразу нашел чп '
радикальные ошибки... v
ни они не поняли друг друга. Шура удивилась,
почему дядя, вместо того чтобы посоветовать, как
обойти затруднения, преувеличивает их и убеждает
ее отказаться от работы. Дядя же, в свою очередь, не
мог понять, как это девочка, которая живет здесь в доме
и больше всего на свете любит «Пиковую даму» и шоко-
ладный пломбир, приходит к нему с советами — к нему,
десяток лет положившему на разрешение этой проблемы.
И старик, стараясь быть терпеливым, подробно объяснил
Шуре, что она еще школьница, а научная работа — серь-
езное дело.
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БУНТАРИ»
ТЭ ОЗРАЖЕНИЯ дяди останавливали Шуру, но не на-
*-' долго. Идея прочно владела ею — она думала о ней
днем и ночью, читала книги, считала и через некоторое
время находила как будто бы убедительные опровержения.
Дядя с неохотой спорил с ней, и Шура в конце концов стала
обращаться к помощникам старика Хитрово — к его соб-
ственным сотрудникам: ведь каждый из них бывал у них
в доме и знал Шуру уже много лет.
Кое-кто из них заинтересовался. Решено было повторить
Шурины опыты в Сельскохозяйственном институте. В са-
мом институте образовалась целая группа, как их на-
зывали там, «электрических бунтарей», и после несколь-
ких чрезвычайно бурных заседаний Ученого Совета про-
фессор Хитрово скрепя сердце должен был согласиться,
чтобы рядом с его оркестром обосновались конденсаторы
и разрядники электриков.
Лучший ученик Александра Петровича — аспирант Не-
рубин — надежда старика, как он называл его — «сын
по работе», изменил профессору и возглавил работу груп-
пы. Многие научные сотрудники — среди них такие, как
Карпов, — которые не один год возились с музыкой
Хитрово, перешли к «бунтарям». Кроме того, были при-
глашены со стороны инженеры-электротехники Глебов
и Кирюшин.
Сама Шура работала в группе нерегулярно. Она была
занята своими лекциями и экзаменами и могла приходить
в Сельскохозяйственный институт только по вечерам или
во время каникул. И хотя идея электростатического перс
движения облаков попрежнему называлась в группе «мето-
дом Шуры Хитрово», девушка видела, как в процессе
работы от ее первоначальных предложений остались лишь
пунктирные очертания. Менялись не только технические
подробности, но даже принципиальные основы. Шура,
например, предполагала ловить конденсатором естествен
ные облака, в лаборатории же гораздо лучше удавался
предложенный Нерубиным метод искусственной заготовки
облаков, при котором водяной пар из воздуха осаждался
на заранее заготовленную наэлектризованную пыль или
кристаллы хлористого кальция. Недаром столько раз
повторял Шуре Глебов при прощании:
— Больше всего я верю в пыль!
Шура очень любила приходить в институт после дол-
гого перерыва (это бывало во время экзаменов). Сначала
казалось, что ничего не изменилось — точно так же Ки-
рюшин, попыхивая трубкой, водит движком логарифмиче-
ской линейки, Глебов носится по лаборатории, кричит на
чертежниц, Нерубин горбится в углу над справочниками,
зажав уши ладонями, но потом оказывалось, что у каж-
дого припасен какой-то сюрприз для Шуры: Глебов при
вез опытную модель с завода, Кирюшин закончил макет,
Нерубин проделал новые опыты, и можно прочесть их
подробные описания в журнале.
У самой Шуры не было строго определенных обязан-
ностей. Обычно она помогала тому, у кого было больше
всего работы, — проводила эксперименты, вела протоко-
лы, конструировала, считала и не гнушалась даже копи-
ровать бесконечные рабочие чертежи Глебова.
Когда она пришла в институт, у нее не было еще опыта
научной работы. Ей казалось: если идея решена правиль
но, через неделю-две все будет готово. На правильном
пути возникало столько неожиданных практических ме-
лочей, и все эти мелочи каждую минуту ставили под
сомнение самую идею.
Нерубин учил Шуру стойкости, широте мышления, уме-
нию охватывать множество смежных вопросов, Кирю-
шин — терпению. «Главное — система», говаривал он,
выколачивая трубку. «Электробунтари» так и звали его:
«Система».
Почти год работала группа над созданием специальных
шарообразных конденсаторов. Несколько сот их пришлось
объединить в электростатический невод, тот самый, кото-
рый буксировал самолет Зорина. Глебов и еще два чело-
века из группы работали исключительно над системой
управления невода. Одновременно Кирюшин начал раз-
рабатывать электромагнитный облакопровод — нечто вро-
де газопровода, по которому тучи шли бы беспрерывным
потоком от морских берегов в засушливые области.
И еще год прошел, прежде чем был испытан наконец
электростатический невод на лугу за институтом. Уда-
лось провести клочки тумана на буксире у автомашины
и затем вызвать дождь при помощи наэлектризованного
песка. В то же время была создана и модель облакопро-
вода.
Таким образом, первые успехи были достигнуты. Много
было еще неясного, хотелось и нужно было поработать
еще, однако природа не ждала. Уже с конца апреля над
Волгой установились яркие голубые дни и безоблачное
небо — погода, такая приятная для загорающих и такая
опасная для всходов! Стране угрожала новая засуха, и в
этих условиях работа «электробунтарей» становилась все
более актуальной. В конце концов, проведя ночь за спо-
рами, группа составила телеграмму в Кремль в 224 слова
и в этих 224 словах, изложив все свои успехи и надежды,
просила, в частности, предоставить в ее распоряжение
самолет, чтобы произвести опыт доставки промышлен-
ного дождя с Каспийского моря в Саратов.
Страшнее всего было на почте. Очень уж дикими гла-
зами смотрела телеграфистка.
Ответа из Кремля ожидали недели через две, но уже
на третий день прибыл вызов: представителя группы тре-
бовали в Москву для доклада. Естественно, поехал Не-
рубин — самый способный, самый солидный. Его прово-
зе
дили 9 мая, и, гораздо раньше чем пришли
от него какие-либо известия, Саратовский
аэропорт передал институту самолет, а еще
через два дня в дверь Шуры постучались
летчик Зорин и борт-механик Бочкарев.
О том, что первый полет совершит имен-
но Шура, было решено заранее, как только
выяснилось, что от института может поле-
теть только один человек (больше самолет
не вмещал).
Хотел лететь Глебов — проверять работу
невода,' хотел лететь Кирюшин, чтобы про-
следить за движением облака в электриче-
ском поле. Нерубин прислал телеграмму,
чтобы подождали его — старику Карпову
необходимо было изучать явления конден-
сации, и в конце концов все сошлись на
кандидатуре Шуры. Она помогала каждому,
никто не знал работу группы так всесто-
ронне. Кроме того, это было ее почетное
право — быть первой. Она не была вождем
«электрического бунта», но, во всяком слу-
чае, главным зачинщиком.
Что было дальше, Зорин и Василий видели
сами. Найдя наконец у самой иранской грани-
цы подходящее дождевое облако, Шура раз-
вернула свою электростатическую сеть, за-
рядила ее и хотела захватить часть облака.
Произошла неудача, возможно зависев-
шая? .. Шура сама не знала точно, от чего
зависела эта неудача — может быть, она
не успела зарядить невод до необходимого
потенциала. Но других облаков поблизости
не было, и тогда она решила применить
другой метод, безотказно получавшийся в
лаборатории, — «пылевой». По этому ме-
тоду в воздух, насыщенный водяными па-
рами, вводилась наэлектризованная пыль,
и на ней оседала влага. Шура решила ле-
теть в Баку за дымом, а затем над морем
(где наверняка достаточно водяного пара), чтобы собрать
испарения на частицах дыма. Но и этот метод почему-то
отказал, и теперь Шура не знала, что делать. Она гнала
сомнения и с тревогой спрашивала себя, не зря ли она
так настаивала, чтобы ей доверили первый полет, не
подвела ли она себя и группу неудачей, не поспешили
ли все они с письмом в Кремль.
Василий долго молчал, мечтательно глядя на Большую
Медведицу.
— Да, — вымолвил он наконец, — теперь я понимаю,
что вы моей мамаше обещали. Эх, хорошо бы в колхоз
с дождиком явиться! Самое время сейчас.
Еще дольше молчал Зорин. Летчик гордился тем, что
он всегда говорит в глаза резкую правду, и теперь он
медлил, подыскивая в уме самые правильные слова.
— Честно говоря, Александра Леонтьевна, — сказал
он, — мы с Василием не очень обрадовались команди-
ровке в ваш институт. И мы думали: слетаем, отде-
лаемся как можно скорее — ив часть. Вы сами виноваты
в этом отчасти — нужно было сразу ввести нас в курс
дела. Но это не важно. Важно вот что: первый полет,
хотя бы и неудачный, совершен. Вы сами говорили: не-
удача — это мостик к конечному успеху. Самое главное
сейчас — провести как можно больше полетов. Если
хотите, мы будем летать с вами все лето, попросим ко-
мандование продлить нам командировку. Удача придет
когда-нибудь. Нужно только очень хотеть... А теперь
пошли спать! — закончил он и раскидал догорающие угли.
ЦЕННЫЙ ГРУЗ
ЛЕТЧИК и борт-механик встали затемно. Накануне ре-
шено было лететь во влажный район Ленкорани и
прибыть туда к рассвету, когда над остывшей за ночь
землей создаются самые благоприятные условия для
конденсации, проще говоря — когда роса выпадает.
Шура очень надеялась на утро, ведь большая часть опы-
тов в Саратове проводилась с ночным туманом.
Пока самолет готовили к отлету, восток начал сереть.
Парная вечерняя погода сменилась утренней свежестью.
показывали этого.
Обычно Шура помогала
тому, у кого было больше
всего работы...
С моря потянул ветерок, и Зорин, опасаясь, чтобы
не развело сильную волну, решил стартовать не-
медленно.
Почему-то самолет очень долго не мог оторвать-
ся от воды. Зорин приписал это сопротивлению
воли. И сразу же после взлета он стал замечать,
что происходит что-то неладное. Машина набирала
скорость и высоту так, как будто она была тяжело
нагружена. Горючее подавалось нормально — асе
приборы отмечали это, а скорость между тем с
трудом дотянулась до 170 километров в час —
цифры ничтожной.
Моторы сдают? Летчик прислушался. Нет, мо-
торы работали ровно. Может быть, бензинопровод
засорился? Приборы не
Еще при первом развороте Зорин обратил внимание на
то, что машина туго маневрирует. Он попробовал сделать
еще один разворот. Самолет послушно повернулся, но
затем скорость его внезапно упала. Зорин с трудом пре-
дупредил проваливание.
Он поспешно разбудил прикорнувшего рядом с ним
Василия.
— Вася, что-то неладно с рулем поворота. Погляди,
может быть, провода запутались. Я что-то ничего не
вижу — туман сзади, темно.
Василий еще во сне, шестым солдатским чутьем, услы-
шал приказание и открыл люк, не успев как следует
проснуться и дотереть глаза.
Он долго не мог разобрать ничего в предрассветной
мгле. Зорин сделал новый вираж, и снова стрелка ука-
зателя скорости катастрофически поползла к нулю.
И тогда Василий вскричал неожиданно:
— Товарищ, лейтенант, оно на хвосте у нас!.. Облако
на хвосте... Мы его волочим!
Теперь и лейтенант на фоне светлеющего неба увидел
сбоку за самолетом, там, где должен был быть электро-
статический невод, небольшое облачко. Клочья его, по-
спешно меняя место, стремились повернуть за самолетом.
Борт-механик разбудил Шуру. Девушка выглянула в
люк, всплеснула руками и застыла с открытым ртом и
восторженно умиленным выражением. Она смотрела на
кипящий туман, как мать глядит на оловянного цвета
глазки своего новорожденного первенца.
— Это оно, — шептала она, — получилось!
И вдруг, перебивая себя, заговорила захлебываясь:
31
Девушка выглянула в люк, всплеснула руками и застыла. ..
— Товарищи, вы понимаете — получилось! Какая же я
дура, гоняла вчера самолет и удивлялась, почему ничего
не выходит. А нужно было только время и холодок. Вы
понимаете, за ночь осели пары, и вот оно — облако,
любуйтесь на него!
Сразу стало понятно, почему с таким трудом набирал
скорость самолет: ведь он должен был разогнать тяже-
лую массу водяного пара, очень плохо обтекаемого. А при
повороте эта масса шла по инерции вперед и тянула
за собой самолет. Она не могла повернуть — у нее не
было руля.
— Ну, теперь, — сказала Шура, когда каждый досыта
налюбовался новорожденным облаком, — теперь домой,
в Саратов! Всем покажем...
Зорин сделал осторожный, очень пологий поворот и
взял курс на север. Справа от него из-за базальтовой
стены Мангышлака через каждое ущелье прорывались
солнечные лучи. Небо было такое же бледное и про-
зрачное, как вчера. Одно единственное облачко сколь-
зило по нему — их собственное.
В самолете царила радостная атмосфера. Они трое
были в невиданной экспедиции и спешили с вестью об
открытии на родину.
Из прозрачных небесных глубин они везли с собой об-
лако — вот оно на буксире у самолета, крепко привязано
электростатическими силами.
И летчик, занятый приборами, про себя, а остальные
вслух мечтали, как они истратят добытое сокровище.
— Обязательно в деревню к моей мамаше! — кричал
Василий. — Помните, вы обещали? Такую поливку устро-
им — всему району на зависть! Пусть радуются на свою
капусту.
- Нет, сначала в Саратов. Интересно, что дядя ска-
жет. Десять лет отдала бы, чтобы стоять рядом с ним.
Скорее бы, товарищ лейтенант!
— А может, сразу в Москву? — предлагал Василий. —
Развернемся над Садовым кольцом и польем его хоро-
шенько. Хотя никого там в Москве дождем не удивишь.
Как обычно, возвращение казалось необычайно дол-
гим, тем более сейчас, когда скорость самолета была
так невелика. Вчера, пересекая море, Шура удивлялась,
какое оно маленькое: только отошли от берега — глядь,
уже противоположный. А сегодня конца-краю не было
зеленовато-серой глади, и вчерашнее ощущение непо-
движности самолета над морем, происходившее из-за
однообразия впечатлений, сегодня еще более усилива-
лось нетерпением.
Наконец, около 8 часов утра, желтоватое мелкое море
сменилось чересполосицей песчаных островов. На гори-
зонте ослепительно засверкали солончаки. Каспийское
море кончилось. До Саратова оставалось каких-нибудь
500—600 километров.
— Представьте себе, — говорила Шура Василию, —
эти самые берега через несколько лет. Вот они лежат
у самого моря — казалось бы, здесь должен быть при-
морский климат. Но нет, облака, зародившиеся над Кас-
пийским морем, попадают неведомо куда, но только не
туда, куда надо. Здесь бесконечно много солнца, ничуть
не меньше, чем в Крыму. Мы добавим сюда воды, совсем
немного — три своевременных дождя, двадцать сантиметров
осадков, и на этой самой пустыне будут великолепные
хлопковые поля. Все будет зелено вокруг. Сейчас солнце
испаряет на Каспийском море толщу воды на один метр
в течение года. Значит, на каждом гектаре моря можно
собрать воды достаточно, чтобы превратить в цветущие
поля пять гектаров побережья. И совсем не нужны для
этого самолеты, — продолжала мечтать Шура. — Будет
в каждом колхозе свой катерок — та же самая моторная
«тюленка» или, скажем, машинно-дождевая станция на
берегу. С вечера выйдет катер в море с пылью, закинет
в небо электростатический невод, и поутру — пожалуй-
ста: поливка хлопка в колхозе.
Под ними тянулась однообразная плоская равнина.
Солнце поднялось уже сравнительно высоко. Четкая тень
самолета бежала по холмам, переламываясь на скатах,
а за нею, в отдалении, спешила каплеобразная тень
облака, обкатанная сопротивлением воздуха.
Всякий раз, замолкнув, Шура вспоминала, что до Сара-
това еще несколько часов, и пробила Зорина:
— Товарищ лейтенант, нельзя ли скорее? Где мы летим
сейчас? Ну, пожалуйста, постарайтесь хоть капельку
скорее.
Зорин и сам торопился доставить облако к месту на-
значения. Строго придерживаясь прямой, не тратя ско-
рость на поворотах, он сумел разогнать облако до
180—200, затем до 210 километров в час. Сначала он был
очень доволен, но скорость все росла, и неприятное по-
дозрение зародилось у него в голове. Некоторое время
он внимательно изучал облако в зеркале и вдруг обер-
нулся к девушке:
— Посмотрите,- Шура, по-моему, облако тает. Конден-
саторы просвечивают, раньше их не было видно.
Шура, весело рассказывавшая что-то Василию, осек-
лась на полуслове.
— Да, действительно... тает, — упавшим голосом
произнесла она, вглядевшись в облако.
Василий попытался ее утешить:
— По-моему, совсем незаметно. Как вы думаете —
дотянем, товарищ лейтенант? Дотянем же?
Зорин долго думал, прежде чем ответить.
— Скорость возросла в полтора раза — значит, сопро-
тивление упало в полтора в квадрате — в два с чет-
вертью раза. От облака осталось не больше половины,
остальное растаяло за последние сорок минут, а до
Саратова еще часа два, не меньше. Значит, не довезем.
В чем дело, как вы полагаете, Шура?
— Солнце. Воздух сухой над пустыней, — пролепетала
она, печально глядя на облако, которое захотело ее йо-
кинуть.
Глаза ее смотрели укоризненно. Радостное волнение
сменилось угрюмой тревогой. «Что же делать, что же
делать? — думал каждый. — Неужели не довезем?»
— Может, поднять выше? — предложил Зорин. —
Там воздух холоднее.
Шура отрицательно покачала головой:
— Холоднее, но зато еще суше. Дорогой лейтенант,
летите скорей к Волге. Над Волгой воздух влажный.
Может быть, там туча не будет больше таять.
Зорин с непривычной легкостью совершил поворот, и
эта легкость подтвердила всеобщее опасение. Очевидно,
в сухом воздухе над пустыней влага, осевшая на бакин-
ской пыли, снова начала испаряться.
32
Со все возрастающей тревогой смотрела Шура на об-
лако, где с каждой минутой все яснее вырисовывались
бусины конденсаторов, прежде окутанные непроницаемым
туманом.
— Скорее, товарищ лейтенант, пожалуйста скорее!
Зорин гнал что есть силы. Скорость все увеличива-
лась, и именно это увеличение скорости больше всего
тревожило его — оно означало, что облако продолжает
таять.
— Второй ряд шаров виден ... третий виден ... — го-
рестно шептала Шура.
Много раз за эти два года Шуре снилось, что она
несла на поля тяжелую влажную тучу, крепко прижимая
ее к груди. Колоски у дороги протягивали к ней усики.
«Пить ... пить!..», жалобно просили они. Но только
Шура останавливалась, чтобы выжать из тучи дождь,
дневной свет пробивался между сжатыми ресницами,
туча ползла между пальцами, таяла, и Шура просыпа-
лась ни с чем. Теперь этот сон повторялся наяву.
— Только, пожалуйста, скорее, товарищ лейтенант.
Края облака стали уже совсем прозрачными, сквозь
него были видны самые дальние конденсаторы, даже
линии шлангов наметились чуть заметным пунктиром.
— Неужели нельзя чуть скорее?
Разве Зорин не спешил? Он выжал из самолета все,
что возможно. Волга была еще далеко, но он невольно
вглядывался в горизонт и в каждом солончаке видел
блестящую ленту реки. Степь была однообразно серая
и ровная. Одна единственная гора, одинокий массив,
обрубленный с севера, возвышалась на гладкой пло-
скости.
— Это Большой Богдо! — воскликнул Василий, узнав
характерные очертания горы, похожей на верблюжий
горб. — Я хорошо знаю — здесь рядом Баскунчак. По-
глядите, вот и озеро! — и Василий указал на бело-
снежную блестящую поверхность соленого озера. — Я ра-
ботал здесь, когда еще не был поджигателем. Ох, и
работа!
Но никто не хотел слушать его рассказов, и сам Ва-
силий смолк — не до воспоминаний было.
Шура неотрывно глядела только назад — на исчезаю-
щее облако, все более превращающееся в серую дымку
обезвоженной пыли. Оно было почти прозрачно, лишь в
центре сохранилось желговато-серое ядро.
— Не успеем. Не успеем... — твердила девушка. —
Придется опять возвращаться на море. И опять все равно
не довезем.
Идя на небольшой высоте, самолет поровнялся с измя-
той верхушкой горы, клочки облака зацепились за ее
крутые склоны. Затем самолет понесся над четкой, словно
рейсфедером проведенной, линией баскунчакской дороги,
построенной когда-то специально для вывоза на Волгу
соли из этого знаменитого озера, которое тысячи лет
может снабжать солью весь Советский Союз.
Волга была почти рядом. На горизонте голубой лентой
блестела Ахтуба — ее левый проток. Набирая скорость,
лейтенант повел самолет на снижение, развернулся над
деревянной пристанью, у которой в ряд стояли тяжелые
баржи с солью, и бреющим полетом пошел над водой.
Едва ли десятая часть облака, привезенного с моря,
серела сзади на буксире.
Теперь самолет следовал по прихотливым извивам
реки, слева мелькали бесчисленные острова с жирной
зеленью и пестрыми камышами. Лейтенант не отрывал
глаз от показателя скорости. А Шура все смотрела на
облако и грустно покачивала головой.
«Поздно уже. Все напрасно», думала она.
Как всегда, прибор оказался точнее глаза. Девушка не
могла уловить никакого изменения; ей казалось, что
облачко все еще продолжает таять, а прибор уже отме-
тил новое понижение скорости, что означало увеличение
веса облака.
Через полчаса стало ясно, что понижение скорости не
случайное. Действительно, таяние облака прекратилось,
даже больше того — оно вновь начало обрастать водой
за счет испарения Волги.
Когда над зелеными, изрезанными бесчисленными ары-
ками островами встала амфитеатром голубоватая гряда
высокого берега и белый силуэт сталинградских зданий
на нем, скорость самолета спустилась до 240 километров
в час. И стало наглаз заметно, что облако вновь стано-
вится плотной, непрозрачной массой.
Зорин вывел свой самолет выше Сталинграда — там,
где огромный город-гигант, протянувшийся на полсотни
километров по берегу Волги, заканчивается Металло-
городом. Широкая блестящая полоса реки уводила их К
горизонту, как асфальтовая дорога. Слева, почти возле
самого самолета, вздымались крутые, изрезанные овра-
гами обрывы; справа расстилалась плоская равнина, дым-
чато-голубая у горизонта.
220... 210... 200... — указатель скорости показывал
неуклонное падение. 190... 180... — в матовом тумане
снова скрылись бусы конденсаторов. Повеселевшая Шура
снова стала строить заманчивые планы полета над Сара-
товом. Когда на правом берегу показались в зелени
садов дома Камышина, облако на буксире у самолета
было уже гораздо больше, чем над Каспийским морем.
— Когда же наконец будет Саратов? Скорее бы! —
волновалась Шура.
За стеклами самолета мелькали такие знакомые места.
Вот в кустах белеют палатки. Здесь Шура была в пио-
нерлагере. Отвесная стена возвышается над рекой — это
знаменитый бугор Стеньки Разина. «Сколько же до Са-
ратова — километров сто семьдесят? Целых сто семь-
десят километров еще!», с ужасом думала она.
И еще один человек думал о предстоящих 170 кило-
метрах если не с ужасом, то с сомнением. Это был Зорин.
Скорость самолета продолжала снижаться. Приближа-
лась противоположная крайность. Вес облака скоро дол-
жен был пересилить тягу самолета, и Зорин тогда вы-
нужден будет совершить посадку.
150... 140.... Зорин физически ощущал громадную
тяжесть облака. На каждом повороте самолет катастро-
фически терял скорость — вот-вот начнет проваливаться.
В пределах длины канатов Зорин свободно маневрировал,
но, как только они натягивались, инертная масса водя-
ного пара, продолжая движение в прежнем направлении,
увлекала самолет за собой.
Неподалеку от большого села летчик окликнул Шуру:
— Выбирайте огород, Шура, будем поливать.
— Что случилось? — заволновалась девушка. — Ведь
это же Золотое, каких-нибудь сто километров. Поста-
райтесь уж!
Но тянуть было невозможно. Быстро растущее облако
прижимало самолет к воде. Выбрав низменный берег,
летчик сделал пологий разворот и вывел тучу на правую
сторону. Скорость самолета была чуть-чуть выше поса-
дочной.
— Ну, держитесь! •— крикнул Зорин. — Пойду над
сушей, чтобы облако не росло больше. Шура, прошу вас,
станьте у рубильника. В крайнем случае, придется сбро-
сить часть тучи. Парашютов не надевайте, все равно
слишком низко. Ну, рискуем, товарищи! Иди сюда, Вася,
ищи свою деревню. Ты узнаешь ее сверху?
КОНЦЕРТ НАД КРАСНЫМ ЯРОМ
ОДНО утром, когда Василий еще дремал в самолете, в
1 Саратов приехал для проверки опытов представитель
Сельскохозяйственной академии — профессор Феофилак-
тов. Это был очень подвижной и сухой старик, такой за-
горелый, что он казался насквозь прокопченным и не мог
уже больше стареть. Он оказался университетским това-
рищем профессора Хитрово. И хотя в университете они
знали друг друга по фамилиям, сейчас старики встрети-
лись, как закадычные друзья, и полдня провели в каби-
нете Хитрово, перебирая студенческие воспоминания.
— А помните «Царя Федора», когда Станиславский был
еще молодым? — говорил Хитрово.
— А помните Татьянин день, как мы с гитарами... —
вторил Феофилактов. — И эту черноокую... пела еще...
33
как ее... я встретил ее в прошлом году на Петровке...
Глубокая старуха.
— А Тимирязева, Клементия Аркадьевича? Я ему четыре
раза ходил сдавать. Он мне сказал еще: «Вы выдающийся
студент. За сорок лет никто не отвечал мне так без-
образно».
— Приятно вспомнить! Приятно вспомнить!
Несколько раз, спохватившись, гость начинал расспра-
шивать об опытах группы Нерубина, но Хитрово перево-
дил разговор. Он чувствовал себя в щекотливом положе-
нии — не мог одобрительно отозваться о работе, в кото-
рую не верил, и не считал удобным осуждать своих про-
тивников заглаза.
— Вернется племянница, введет вас в курс, — говорил
он и опять старался свести разговор на приятные воспо-
минания.
— Так это ваша племянница? — удивился приез-
жий. — Подумайте, какое время подошло! Яйца курицу
учат. Когда же это мы успели постареть? Вчера еще
боролись с авторитетами, а нынче — сами авторитеты,
проваливаем чужие проекты.
Хитрово кисло улыбался, слушая шутки Феофилактова.
«Шутки шутками, — думал он, — а может, и правда,
я старею. Мне кажется — осторожность, а молодежь ви-
дит косность. По-моему — опыт, а по их мнению — пред-
рассудки. Трудно судить о себе, со стороны виднее. Не-
ужели же они правы? Нет, не может быть». И старый
профессор, волнуясь, барабанил пальцами по стеклу.
Из окна института открывался великолепный вид на
зеленые улицы города, сверкающую, словно расплавлен-
ным металлом залитую Волгу и на далекие,
подернутые лиловатой дымкой окрестности.
Необъятный купол неба, водянисто-голубо-
го у горизонта и яркосинего в зените, ды-
шал сухим зноем.
— Устойчивый антициклон, — заметил
Феофилактов. — А это что? Дождь, кажет-
ся. — Дальнозоркий старик заметил на го-
ризонте серую тучку и отлогую полоску
тумана за ней.
— Откуда дождь? Не может быть!
Некоторое время оба профессора внима-
тельно вглядывались в быстро растущую
тучу. Затем из коридора донеслись взвол-
нованные голоса, топот бегущих вперегонку
каблучков. Дверь стремительно распахну-
лась, какая-то быстроглазая девушка скоро-
говоркой кинула:
— Александр Петрович, скорее... Шура!
Из окна видно было, как по двору, пере-
гоняя друг друга, бегут к Волге работники
института: впереди всех — шустрые лабо-
рантки, за ними — вперевалку научные со-
трудники, позади всех — швейцар Архи-
пыч. Позументы не позволяли ему терять
солидность даже при чрезвычайных обстоя-
тельствах.
Феофилактов, не спрашивая хозяина, с
неожиданным проворством устремился вниз
по лестнице. И сам профессор Хитрово, по-
стояв в нерешительности, махнул рукой и
выбежал из кабинета.
С берега сотрудники увидели пухлую си-
зую тучку, которая с невиданной быстротой
неслась над рекой. Шланги конденсаторов
свисали куда-то вниз, самолет же был за-
горожен мысом. Спустя несколько минут
показался и он. Самолет не летел, он шел
по воде, как глиссер, оставляя бурун за
собой. Белый пароход, облепленный му-
рашками людей, горделиво проплыл навстре-
чу. Гидроплан качнулся на волне, конден-
саторы пронеслись над пароходом, и белый
пар от его сирены смешался с тучей.
Подходя к Соколовой горе, самолет вы-
ключил мотор. Конденсаторы образовали
замкнутый шар вокруг облака. Туча про-
неслась над самолетом по инерции и, мед-
ленно теряя скорость, повернула его за хвост.
— Что же они делают? — послышались голоса. — За-
чем же дождь над рекой?
— Молодцы! — кричали другие. — Ура! Победа!
— Стареем! Яйца курицу учат! — восторгался Фео-
филактов и искал глазами Хитрово.
А тот, стоя позади всех, запыхавшись от быстрого
бега, прижимал руку к сердцу, приподымался на цы-
почки.
— Что происходит? Я ничего не вижу, — жаловался он.
Девушки-лаборантки подхватили его под руки:
— Александр Петрович, с нами! Ребята уже лодку
спустили. Пойдемте вниз, Александр Петрович, встре-
чать Шурочку.
И вот уже лодка покачивается рядом с причалом, и
Шура, смущенная, протягивает руки всем сразу, отмахи-
вается от приветствий, уклоняется от поцелуев, хочет
что-то сказать, но голоса ее не слышно.
Старый профессор почувствовал себя безгранично
счастливым. Он сразу забыл мелкие столкновения с
электробунтарями. Дело победило. Увенчались успехом
труды династии Хитрово, десятков институтов, тысяч
ученых. Его ученицы, воспитанники, его родная племян-
ница одержали последнюю победу. И радость эта была
гораздо светлее, чище, чем если бы он сам был триумфа-
тором. С трудом пробился старик сквозь кольцо сотруд-
ников.
— Ну, племянница, обнимемся, что ли!
И вдруг, горестно махнув рукой, Шура сказала со сле-
зой в голосе:
Из окна было видно, как по двору,
перегоняя друг друга, бегут
работники института...
34
— Что же вы меня поздравляете все? Ведь не вышло
же ничего. Все впустую.
Приветствия смолкли. У всех вытянутые лица, серьез-
ные глаза.
— Все впустую — дождя нет. Выключаем невод — об-
лако расплывается; включаем, сыплем песок — дождь не
идет. Бились, бились — и все бестолку. Обидно! С са-
мого Каспийского моря везли.
Серьезно выслушав Шуру, старик упрямо тряхнул го-
ловой:
— Все равно, обнимемся, племянница. — И тон у него
был успокоительный, как, бывало, в детстве, когда он го-
ворил: «В чем дело, Шурочка? Не сходится с ответом?
Сейчас я покажу тебе, как решать». И в ту же секунду
исчез добродушный дядя. Начальник института возвысил
голос: — Товарищи, немедленно в мою лабораторию за ор-
кестром № 17! Девушки, инфрабасы сюда! Живее! Бе-
гом! Шурочка, зови свой самолет.
Зорин, подруливший самолет к причалу, был встречен
энергичным натиском старика:
— Товарищ, освободите как можно больше места. Сни-
мите все лишнее. Сейчас начинаем погрузку.
Летчик, недоумевая, взглянул на Шуру. Девушка, на-
чавшая понимать, кивнула головой.
А между тем с горы уже бежали лаборантки, несли с
собой двухметровые свистки, флейты, похожие на бревна,
витиевато загнутые трубы с огромными раструбами; впе-
реди всех забывший про позументы Архипыч бежал вдо-
гонку за катящимся под гору необычайным барабаном.
Василия, несмотря на его протесты, отнесли к «лишним»
и оставили на берегу. Даже Шура, и та вынуждена
была уступить место дяде и его необыкновенному ор-
кестру.
Вновь, в который раз уже, Зорин повел на буксире
облако. Опять пронеслась бело-голубая лента реки, вспа-
ханная пароходными винтами; за ней заволжская сторо-
на — сначала зелёные луга и черные квадраты пашен,
потом бурая сухая степь.
И вот Красный Яр — родное село Василия, километра
на три растянувшееся вдоль степной дороги: красные
крыши домиков, пепельная зелень подсыхающих садов,
амбары, свинарники, скотные дворы, похожие с самолета
на заглавные буквы квадратного шрифта — Г, Т, С или П,
у въезда в село — монументальные башни силосов, ряды
громоздких стогов, в центре — клуб и треугольная вышка
ветродвигателя, на холмах — пестрая россыпь стада, чер-
ные жуки — тракторы.
Выбрав поле, Зорин начал медленно кружить над
ним По единственной улице села горохом катились ребя-
. - - — - - 1
тишки. Вся деревня бежала навстречу невиданному само-
лету с тучей дыма на хвосте, очевидно загоревшемуся в
воздухе.
Профессор открыл люк и выставил свои аппараты.
Сначала Зорин услышал резкий свист. Однообразный,
металлический, неприятный звук бился в уши, проходя
от самых высоких, пискливых нот, становясь все громче,
превращаясь в надрывно воющую сирену. За ним вклю-
чилось несколько приборов — это было похоже, как буд-
то духовой оркестр бесконечно тянул «до» сразу во всех
октавах. Затем свистки выключились, некоторое время
гудели хриплыми басами самые большие трубы, потом и
они замолкли; остались два звука — тонкий, пронзитель-
ный комариный писк и глухое придыхание, словно кто-то
хрипел и никак не мог откашляться, чтобы сказать первое
слово.
Зорин кружил самолет, стараясь, чтобы облако все
время находилось над одним и тем же полем, и когда
захрипели последние ноты, он увидел, как облако, ки-
певшее, разбивающееся на гряды хлопьев, как бы отме-
чавших движение невидимой звуковой волны, вдруг раз-
разилось проливным дождем.
Люди, стоявшие внизу, закрывшись рукавами, броси-
лись к избам; светлокаштановая земля мгновенно стала
мокрой и черной.
Довольный профессор с раскрасневшимся лицом крикнул
в самое ухо Зорину:
— Вот и мы, старики, пригодились! А ну-ка, возьмите
вправо, дружок, польем еще тот клин за деревней.
(Окончание следует.)
35
Инженер Д. БЕРКОВИЧ
Рис. И. ФРИДМАНА
СЕРДЦЕ САМОЛЕТА
АД НОГО противоречий надо примирить для того, чтобы
* 1 создать надежный авиационный мотор. Он должен
быть мощным и иметь малый вес, должен быть легким и
достаточно прочным.
Ведь ни в какой другой машине так не опасна даже
мелкая поломка, как в авиамоторе, где она, как правило,
приводит к катастрофе.
Необходимость сочетать прочность, легкость и мощ-
ность делает изготовление авиационного двигателя наи-
более трудным по сравнению с изготовлением других ма-
шин. Но это еще не все.. Авиадвигатель должен быть
экономичным — расходовать мало горючего и масла. Это
нужно не только для снижения стоимости полета, но еще
и потому, что нельзя загружать самолет чересчур боль-
шим количеством топлива. Ведь задача самолета — пе-
ревозить по воздуху людей и грузы, а не горючее для
собственного мотора.
Вся история развития авиации была наполнена поисками
такого двигателя. Эти поиски начались с незапамятных
времен.
Одни изобретатели предлагали использовать силу чело-
веческих мускулов. Другие, беря пример с парусных ко-
раблей, хотели передвигаться по воздуху с помощью
ветра. Была даже попытка создать воздушный шар, пере-
мещающийся благодаря изменению положения его центра
тяжести.
Изобретатели искали двигатель, который вдохнул бы
жизнь в летательный аппарат и понес человека через
воздушный океан. Однако до начала XX века такой дви-
гатель не появлялся.
Удовлетворить всем требованиям смог только но-
вый тип двигателя, появившийся в прошлом веке, — дви-
гатель внутреннего сгорания, проделавший за несколько
десятилетий огромный путь развития — от одноцилиндро-
вого мотора мощностью едва в пятую часть лошадиной
силы до многоцилиндровых тысячесильных установок.
Еще в 1791 году был изобретен двигатель, который
работал на смеси воздуха с горючим газом. Эта смесь
сжигалась не в отдельной топке, как в паровой машине,
а непосредственно в рабочем цилиндре; такой способ сни-
жал потери тепла, превращая большую часть его в полез-
ную работу.
В 1801 году впервые был применен электрический за-
пал для воспламенения рабочей смеси в цилиндре. Это
был прообраз современной системы зажигания двигателя
внутреннего сгорания.
Горящая в цилиндре смесь перегревала двигатель и
выводила его из строя. Чтобы устранить этот недостаток,
в 1815 году ввели систему охлаждения цилиндров двига-
теля. В 1838 году изобретательская мысль дошла до
применения насосов для сжатия газа и воздуха, поступа-
ющих в цилиндры. Работа двигателя улучшилась. Еще
через несколько лет убрали добавочные насосы, заставив
сам рабочий поршень сжимать газовую смесь прямо в
цилиндре. Это еще более улучшило работу двигателя и
позволило уменьшить его размеры.
Так последовательно, шаг за шагом, создавался и со-
вершенствовался двигатель внутреннего сгорания. Нако-
нец, в 1860 году, появилась первая практически пригодная
машина.
Само собой разумеется, что это был далеко еще не
идеальный двигатель. Основным его недостатком была
малая литровая мощность — та мощность, которую можно
получить с одного литра рабочего объема цилиндров
двигателя. Чтобы достичь значительной общей мощности
двигателя, приходилось делать его очень больших раз-
меров, а следовательно, и большого веса.
Но на этом трудности не кончались.
Для частей двигателя нужен был прочный твердый ме-
талл, а в то время для повышения твердости знали лишь
одно средство — углерод.
Повышая содержание углерода в стали, удавалось повы-
сить ее крепость в 2,5 раза. Но для авиационного двига-
теля и этого было недостаточно. Кроме того, чрезмерно
высокое содержание углерода придавало стали хрупкость
и некоторые другие отрицательные свойства.
Но вот металлурги добавили к стали никель. Прочность
возросла, но вместе с прочностью возросла и цена. Ни-
келевая сталь была очень дорога.
Вслед за никелевыми появились хромистые стали, бо-
лее дешевые. Добавляя в металл никель и хром в раз-
личном сочетании, металлурги получили множество марок
хромоникелевых сталей, обладающих самыми разнообраз-
ными свойствами. Наконец появились хромованадиевые и
марганцевые стали, и выбор материалов, пригодных для
изготовления различных деталей машин, расширился еще
больше. Теперь металлургия уже была готова удовле-
творить требованиям конструктора авиационных моторов.
Оставалось решить еще один вопрос: чем обрабатывать
все эти специальные стали. Они были тверды, а резцы
должны были быть еще тверже.
Начались поиски высококачественных инструменталь-
ных сталей. Они продолжались почти четверть века. На-
конец, в 1900 году, на Всемирной выставке в Париже был
показан первый резец из быстрорежущей стали, в состав
которой входил вольфрам. Посетителей выставки пора-
зило, что этот резец, даже накаленный до темнокрасного
цвета, продолжал резать сталь. Это объяснялось особым
свойством быстрорежущей стали не только не снижать
свою твердость при нагреве, а даже, наоборот, несколько
повышать ее. Такими резцами уже можно было обраба-
тывать детали авиационных двигателей.
Конечно, для этого необходимы были также и точные
механические станки. В конце XIX века к услугам ма-
шиностроителей было уже все многообразное оборудова-
ние, необходимое для обработки деталей авиационного
мотора.
Конец прошлого столетия был очень плодотворным и
для топливной промышленности. Быстро повышались ка-
тили
1Д 8£(
.903
лош
сил
лош.
силы
Всего лишь 12 лошадиных сил развивал двигатель первого самолета, поднявшегося в воздух в 1903 году.
Двигатель имел четыре цилиндра, расположенных в ряд, поэтому такие двигатели называют рядными.
В процессе работы двигатель нагревается. Чтобы из-
бежать перегрева, его охлаждают. Рядные двигатели
охлаждаются высококипящей жидкостью, поэтому их на-
звали двигателями жидкостного охлаждения. Однако
жидкость для охлаждения, которую приходится возить
на самолете, утяжеляет конструкцию. Инженеры ре-
шили использовать для охлаждения воздух, обтекающий
двигатель в полете. Для того чтобы двигатель отдавал
как можно больше тепла, его цилиндры располагаются
не вдоль направления полета, а поперек, в виде лучей
звезды (отсюда и название — звездообразные). Для
улучшения охлаждения поверхность цилиндров звездо-
образного мотора снабжают специальными ребрышкамы.
чества выпускаемых нефтепродуктов: теплотворность,
хорошая испаряемость, способность образовывать с возду-
хом легко воспламеняющуюся смесь. Значительно уве-
личилась выработка высококачественных нефтепродуктов:
в одной России в 1900 году производилось уже 8 тысяч
тонн высококачественного бензина.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-РЕВОЛЮЦИОНЕР
Т АКИМ образом, начало XX века принесло с собой
1 все условия, необходимые для создания авиационного
мотора.
Теперь для этого нужен был только конструкторский
талацт. В этот период начал свои работы в авиации Ана-
толий Георгиевич Уфимцев.
Анатолий Георгиевич родился и жил в Курске. Изо-
бретательство было его страстью с ранней юности.
Различные приборы, механизмы, двигатели — все это
привлекало внимание юного конструктора.
Уфимцев рано познакомился с революционным движе-
нием и сразу примкнул к нему. Он участвовал в работе
подпольной ‘типографии, Принося ей большую помощь
своими изобретениями. Так, он создал скоропечатающую
машину, электроперо и другие любопытные приспособления.
За деятельность, направленную против существующих
порядков, Уфимцев и его товарищи были заключены в
Петропавловскую крепость, а затем высланы в Акмолинск.
Здесь изобретательские способности Уфимцева стали
основным источником его средств к существованию. Он
открыл мастерскую по ремонту хозяйственных вещей.
Вырученные деньги шли на создание разнообразных изо-
бретений, которые насчитывались десятками. Тут были
и державки для резцов, и усовершенствованная граммофон-
ная мембрана, и керосиновый двигатель, и калильные лам-
пы, и множество других вещей.
Все это дало опыт и знания, необходимые для осу-
ществления давнишней мечты Уфимцева — создания
авиационного двигателя.
В тот период повсеместное признание получили рота-
тивные, то есть вращающиеся, двигатели. В отличие от
обычных двигателей, цилиндры ротативных моторов, на-
глухо соединенных с винтом, вращались на неподвижном
валу. Преимущества их заключались в хорошем уравно-
вешивании хода, лучшем охлаждении и надежной подаче
топлива и масла — за счет возникновения значительной
центробежной силы.
Но центробежные силы были одновременно союзником
и врагом мотора. Конструкторы не могли пойти ни на
серьезное увеличение размеров двигателя, ни на увеличе-
ние числа оборотов. Ведь центробежные силы зависят
от величины вращающейся массы и скорости ее вращения.
С увеличением размеров или числа оборотов они неиз-
бежно росли, а это создавало угрозу разноса двигателя.
Путь к созданию ротативных двигателей больших мощно
стей был закрыт.
Уфимцев сумел использовать все преимущества ро-
тативного мотора, устранив в то же время почти все его
недостатки. Он создал двигатель двойного вращения, ко-
торый от латинских слов «бис» — два — и «ротацио» —
вращаю — получил название «биротативного». В двига-
теле Уфимцева вращались как цилиндры, расположенные
в форме звезды, так и вал, но вращение происходило в
разные стороны. Воздушные винты (их было два) при-
креплялись и к цилиндрам и к валу. Благодаря этому
получилось относительное увеличение числа оборотов
без увеличения центробежных сил.
Двигатель Уфимцева, работая, как обычный ротатив-
ный мотор, развивал мощность в 43 лошадиных силы.
При работе же с двумя винтами мощность его повыша-
лась до 80—90 лошадиных сил. Так как вес всего двига-
теля при этом оставался неизменным, то его удельный
вес (вес, приходящийся на одну лошадиную силу мощно-
сти мотора) оказывался при биротативной работе необычно
малым. Он не превышал 1,4 килограмма на одну лошади-
ную силу, что для того времени было наивысшим дости-
жением всемирного моторостроения.
СФЕРОПЛАН
рЩЕ находясь в ссылке в Акмолинске, Уфимцев раз-
* работал чертежи своего двигателя и послал их вме-
сте с описанием в Петербург, в Главное инженерное уп-
равление. Специалисты, изучив проект, не могли не при-
знать очевидных преимуществ двигателя. Однако^ они
снабдили свой отзыв таким количеством «но», что I лав-
ное инженерное управление отказалось осуществлять
предложение Уфимцева.
Но настойчивого изобретателя не так-то легко было
обескуражить. Он принял единственно правильное реше-
ние: проверить техническую целесообразность проекта на
опыте. Уфимцев построил модель. Она работала прекрасно.
Теперь можно было строить двигатель. К этому вре-
мени Анатолий Георгиевич возвратился из ссылки в род-
ной Курск. Перед ним встал вопрос: откуда взять деньги
на постройку? Он уже израсходовал все свои скудные
сбережения и даже заложил дом, но э-fo не спасало по-
ложения. Уфимцеву удалось наконец соблазнить одного
богатого купца будущими барышами и участием в автор-
стве. Купец дал 5 тысяч рублей, и первый русский авиа-
ционный мотор был построен.
Изобретатель решил установить его на аэроплане сво-
ей собственной конструкции. В 1910 году Анатолий
Георгиевич сам, без помощников, построил этот аэроплан.
Аппарат был назван «сферопланом», так как крылья по
своей форме напоминали сферическую, то есть шаровую,
поверхность.
Изобретатель выбрал столь необычную форму крыла
аэроплана для наибольшего облегчения всей его конструк-
ции. Действительно, собранный сфероплан весил всего
75 килограммов. Конструкция летательного аппарата
упрощалась еще и благодаря биротативности двигателя.
При полете с одним винтом самолет сам начинает вра-
щаться в обратную сторону, и чтобы противодействовать
этому, приходилось вводить специальные приспособления.
В уфимцевском же моторе два винта, вращающиеся в раз-
Все быстрее « быстрее хотел лететь самолет, а поэтому
все мощнее становились моторы. Число цилиндров воз-
растало, удельный вес двигателя на 1 лошадиную силу
становился все меньше и меньше.
37
Для того чтобы увеличить мощность двигателя, увеличили число его цилиндров, но чтобы они не занимали
лишнего места, их расположили в два ряда в виде латинской буквы V. Такие двигатели называют рядными
V-образными.
ные стороны, сами себя уравновешивали. (Такой способ
используют в самолетостроении и сейчас.)
И вот плод многолетней работы готов. Сфероплан с би-
ротативным двигателем выкатили на аэродром. Можно
было начинать испытания.
Уфимцев опробовал мотор, заставил аэроплан пробе-
жать по земле. Все шло хорошо, но вдруг произошла
неожиданная задержка. Во время одной из пробежек
остановился мотор. Устранить дефект на месте не уда-
лось. Уфимцев снял и отвез его к себе в мастерскую.
Разобрав мотор, он убедился, что в одном из цилиндров
заело поршень.
Пока он занимался ремонтом поршня, на аэродроме
поднялась сильная буря; сфероплан был разбит в щепки.
Испытания оборвались.
Но работы Уфимцева не закончились. Он внес улучше-
ния в конструкцию двигателя и добивался постройки
второго экземпляра. Снова возникли денежные затруд-
нения. Но теперь было легче. О двигателе Уфимцева уже
начинали говорить, им заинтересовалась русская техни-
ческая общественность. На помощь изобретателю пришли
члены Бежицкого воздухоплавательного кружка, постро-
ившие второй экземпляр двигателя на Брянском заводе.
ПОБЕДА РУССКОГО МОТОРА
IZ этому времени, в марте 1912 года, в Москве откры-
1' лась международная воздухоплавательная выставка,
организованная в связи с проведением 2-го Всероссийского
воздухоплавательного съезда.
Выставка вошла в историю русской авиации как первая
массовая демонстрация достижений отечественной авиа-
ционной техники.
«Особенно отрадно отметить то обстоятельство, что
среди экспонатов этой выставки немало аппаратов, по-
строенных русскими конструкторами по проектам русских
изобретателей... Все это свидетельствует о возможно-
стях дальнейших успехов русского воздухоплавания», го-
ворил, открывая выставку, отец русской авиации, Николай
Егорович Жуковский.
Об этих возможностях, быть может, больше всего сви-
детельствовал стенд № 111. Вокруг него постоянно тол-
пился народ. Это был гвоздь выставки. Здесь красовался
шестицилиндровый биротативный двухтактный двигатель
Уфимцева. Первый русский авиационный мотор!
Многие пилоты выражали желание иметь этот двига-
тель на своих самолетах.
По. окончании выставки жюри присудило Уфимцеву
большую серебряную медаль. Эта награда вызвала разоча-
рование в кругах русской общественности, ожидавшей,
что изобретателю будет дана золотая медаль. На москов-
ской выставке 1912 года распределение наград вообще
вызвало много недоуменных вопросов, возмущение и даже
своеобразную демонстрацию протеста: некоторые кон-
структоры (Пороховщиков, Лерхе, Янковский, Моска и
другие) отказались от получения присужденных им на-
град. Слишком явное пристрастие проявило жюри, при-
суждая награды не по действительным заслугам, а по
титулам и связям.
После выставки двигатель Уфимцева был направлен в
Петербург для лабораторных испытаний и доводки.
Обычно испытания первых опытных образцов всякого мо-
тора обнаруживают много узлов, требующих доработки,
причем иногда очень серьезной. Двигатель же Уфимцева
потребовал улучшения только системы зажигания. Но, как
оказалось, и эту работу некому было выполнить. Брян-
ский завод отказался заниматься двигателем Уфимцева.
Начинание Уфимцева не получило поддержки. В выс-
ших кругах тогда интересовались больше постановкой в
России производства французских моторов «Гном».
Уфимцев вернулся к себе в мастерскую. Он построил
двигатель внутреннего сгорания малой мощности, очень
дешевый и простой в эксплоатации, незаменимый для де-
ревни.
Он вынашивал идею двигателя, работающего на тяже-
лом топливе, и самолета для него, обладающего высокой
устойчивостью в воздухе.
Но тут грянула первая мировая война, и Уфимцев надолго
был оторван от конструкторской и изобретательской рабо-
ты. Вновь заняться ею он смог только после Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. К этому вре-
мени конструирование самолетов и авиационных двигателей
шагнуло далеко вперед, и многие вопросы, волновавшие
Уфимцева, были уже успешно решены молодыми со-
ветскими конструкторами. Внимание изобретателя при-
влекли другие задачи. Особенно его заинтересовало ис-
пользование энергии ветра, и в этой области ему принад-
лежит выдающаяся роль как конструктору ветродвига-
телей и ветроэлектростанций.
В 1936 году Уфимцев умер, но ему довелось увидеть
мощные авиамоторы, созданные советскими конструкто-
рами. Он присутствовал при рождении передовой авиа-
ционной промышленности, созданной руками большевиков.
1исло цилиндров стало очень большим. Уже нехватало места для размещения их в один ряд. Появились двух-
рядные и многорядные звездообразные моторы. Но, несмотря на все старания конструкторов, каждая новая
лошадиная сила дополнительной мощности добывалась с большим трудом, до тех пор пока в практику самолето-
строения не вошли реактивные двигатели — двигатели неслыханно большой силы и столь же неслыханно малого веса.
КРОССВОРД
По горизонтали;
1. Первая угольная база СССР.
4. Химический продукт, собственное производство кото-
рого создано в СССР в годы сталинских пятилеток.
6. Одна из самых мощных гидроэлектростанций в Союзе.
10. Гигант металлургии на Украине.
15. Крупнейший индустриальный центр мира.
17. Замечательное сооружение сталинских пятилеток.
19. Новый большой город на берегу Охотского моря.
20. Крупнейшая новостройка Средней Азии.
22. Завод точнейших измерительных приборов в Москве.
23. Город на Урале, в котором в годы Отечественной вой-
ны выстроен автомобильный завод.
24. Крупнейший центр сибирской лесной промышленности.
26. Марка советских автомобилей.
28. Один из самых юных, советских городов.
29. Новый промышленный центр на Дальнем Востоке.
32. Основной район угледобычи Печорского бассейна.
35. Крупнейший промышленный центр Латвийской ССР.
37. Крупный центр свинцовой промышленности СССР.
По вертикали:
2. Индустриальный центр Белоруссии.
3. Новый город, столица союзной республики.
4. Третья угольная база СССР.
5. Крупный промышленный город в РСФСР.
6. Крупнейший завод электромоторостроения.
7. Ископаемое химическое сырье, по запасам которого
СССР занимает первое место в мире.
8. Индустриальный город на Южном Урале.
9. Вторая топливная база СССР.
11. Первый народнохозяйственный государственный план.
12. Металл, необходимый при выплавке твердых сталей.
13. Топливно-энергетическое сырье.
14. Ценный металл.
16. Крупнейший промышленный центр на Украине.
18. Город в Западной Сибири, в котором в годы Отече-
ственной войны построен мощный тракторный завод.
21. Промышленный центр Кузбасса.
22. Ископаемое сырье, идущее на производство удобрений.
25. Крупнейшая гидростанция в Закавказье.
27. Одна из важнейших промышленных и продовольствен-
ных баз Советского Союза.
30. Нерудное ископаемое, содержащееся в больших коли-
чествах в озере Индер.
31. Топливо.
33. Лесопильный центр Карело-Финской ССР.
34. Важнейшая железнодорожная магистраль.
36. Центр угледобычи на Дальнем Востоке.
КАПРИЗЫ ПРИБОРОВ
(См. 3-ю стр. обложки)
Q 1 марта, в день весеннего равноденствия, группа ребят
" * провела поход в горы. Во время этого похода их
удивило странное поведение некоторых приборов. Еще в
вагоне поезда ребята заметили, что уровень иногда по-
казывал обратный крен (Рис. 1).
К месту подъема на горы они приехали до рассвета.
1режде всего точно вывесили на чувствительном пружин-
ном безмене килограммовую гирю, чтобы, сравнив пока-
зания безмена на вершине горы, убедиться в уменьшении
веса тел с увеличением высоты. Затем отметили по часам
момент восхода солнца, чтобы проверить, действительно
ли во время равноденствия день точно равен ночи. После
этого начали подъем.
На первом же привале заметили, что барометр показывал
бурю. Прождали несколько часов, но погода оставалась
тихой и ясной (Рис. 2).
На вершину горы забрались во второй половине дня —
небо было так безоблачно и солнце припекало, но темпе-
ратуру точно измерить не удалось — показания двух тер-
мометров были разные (Рис. 3). Подвел и безмен: вес гири
оказался большим, чем раньше (Рис.).
Спуск с горы закончили к концу дня. Заметили по ча-
сам заход солнца, день оказался минут на 20 длиннее
ночи (Рис. 5). Возвращаясь, заметили, что магнитная
стрелка компаса заметно отклоняется от направления на
полярную звезду, которая, как знали ребята, находится
на севере (Рис. 6).
Почему же эти, вполне исправные приборы давали
неправильные показания?
39
ЧЕЛОВЕК ИДЕТ ЧЕРЕЗ МОСТ
(См. 4-ю .стр. обложки )
[7 СТЬ вещи, которые так прочно вошли в наш быт, что
1 жить без них просто невозможно. Таков и мост, поз-
воляющий легко и просто переходить через глубокие
ущелья и водные потоки. Но мост имеет свою историю,
начало которой уходит в глубокое прошлое.
Невидимому, первым мостом было дерево, брошенное
ураганом поперек потока. Затем человек сам стал валить
деревья, прокладывая себе путь через водную преграду.
Но иногда ширина потока превышала длину дерева, и
тогда мост переплывал через реку — здесь не
оговорка и не опечатка, мост именно переплывал:
длинный плот из бревен, плавая по поверхности воды,
перекидывался с одного берега на другой.
Далее начались попытки связать берега широкого по-
тока надводным мостом. Один на другой укладывались
друг на друга слои бревен. Каждый выше лежащий слой
был выдвинут вперед, и, наконец, верхние слои встреча-
лись друг с другом посредине реки. Если смотреть на
такой мост сбоку, получалось подобие свода. Эта кон-
струкция положила начало арочным мостам.
Техника развивалась. Люди научились возводить опоры
посреди бурлящего потока. Теперь можно было опираться
не только на берега. Успехи науки и техники позволили
создать очень разнообразные конструкции мостов. Если
вы посмотрите на последнюю страницу обложки, то уви-
дите, как много их изобразил наш художник (а ведь это
только часть!).
Форма мостов тесно связана с материалом, из которого
они изготовлены. Дерево хорошо сопротивляется изги-
бу — из него строят небольшие балочные мосты. Камень
и бетон могут выдержать большое сжатие — им место
в арочных конструкциях. Если в бетон введена железная
арматура, то железобетон сопротивляется не только сжа-
тию, но и изгибу и растяжению; поэтому, кроме обычно!'
применения в арочных мостах, из него можно иногда
строить и мосты балочного типа.
Наиболее выгодны с точки зрения использования ма-
териала висячие мосты. Такой мост, перекинувшийся че-
рез Москву-реку около Парка культуры и отдыха, обра-
щает на себя внимание легкими ажурными формами. Ви-
сячие мосты обычно делаются из стали. Сталь велико-
лепно сопротивляется растяжению, и тонкие подвески
способны выдерживать большой груз.
Наш художник нарисовал мост, разъединенный посре-
дине. Таких мостов много в Ленинграде. Они разводятся,
когда по Неве проходят большие корабли.
Посмотрите внимательно на рисунки, и вам будет ясен
путь моста. Путь от поваленного дерева до сложных ин-
женерных сооружений.
ГОЛОВОЛОМКИ
СОДЕРЖАНИЕ
Б. Степанов — Тайна органических молекул . . 1
* * *
Рассказы натуралиста
В. Сафонов — Весна................................6
Уши креветки . ....................................10
* * *
Г. Алексеев — Животные-невидимки...................11
На заре русского станкостроения .................. 12
Станок для обточки и нарезки винтов ............ 12
* * *
В гостях у инженеров и ученых
А. Светов — Рисунки на стекле....................14
* * *
Инж. В. Д. Иванов— От пещеры — к дому-великану 15
Инж. Е.Лофенфельди Г. Блезе — Корабель-
ная авиация
И. А. Хвостиков — Тепло и холод в атмосфере 21
Э. Зеликов и ч — Необыкновенная планета ... 25
* * *
1
Попробуйте в каждом из двух рисунков, изображенных
наверху, найти и заштриховать фигуру, изображенную
внизу.
2
Машинист получил задание поменять местами вагоны,
стоящие на ответвлении железнодорожного пути. Вагон А
необходимо поставить на место вагона Б, а вагон Б — на
место А. Боковой путь проходит через мост, который
ремонтируется, и поэтому вес вагона мост выдерживает, а
вес паровоза — нет. После перестановки вагонов паровоз
должен остаться на основном пути. Как машинист вышел
из этого затруднительного положения?
Наука и жизнь
Ископаемая стрекоза................................26
Самородок золота ...............................26
Магнит в руках инженера.........................27
* * *
К. Андреев — Рассказ-загадка......................28
* ♦ *
Научная фантастика и приключения
Г'. Гуревич — Погонщики туч.................29
* $ *
Д. Беркович — Первый русский авиамотор . . . 36
Кроссворд «Наша родина»...........................39
Капризы приборов..................................39
Человек идет через мост...........................40
Головоломки.......................................40
* * *
Обложка: 1-я стр. к статье «От пещеры — к дому-великану»
— художник В. Добровольский.
2-я стр. — художник Е. Гундобин.
3-я стр. — художник Л. Я н и ц к и й.
4-я стр. — художник В. Буравлев.
Тифдручная вкладка художника А. Катковского.
Редколлегия: А. Ф. Бордадын (редактор), Ю. Г. Вебер, Л. В. Жигарев (заместитель редактора), О. Н. Писаржевский,
В- L Сапарин, Б. И. Степанов.Художественное оформление С. И. Каплан.
Журнал отпечатан в Полиграфическом ремесленном училище № 2, Латвийской ССР (г. Рига). Обложка и вкладки
отпечатаны в Образцовой типографии Полиграфтреста (г. Рига). Объем 54 п. л Бумага 61X86 Тираж 50 000
Заказ № 385 ЯТ 06268