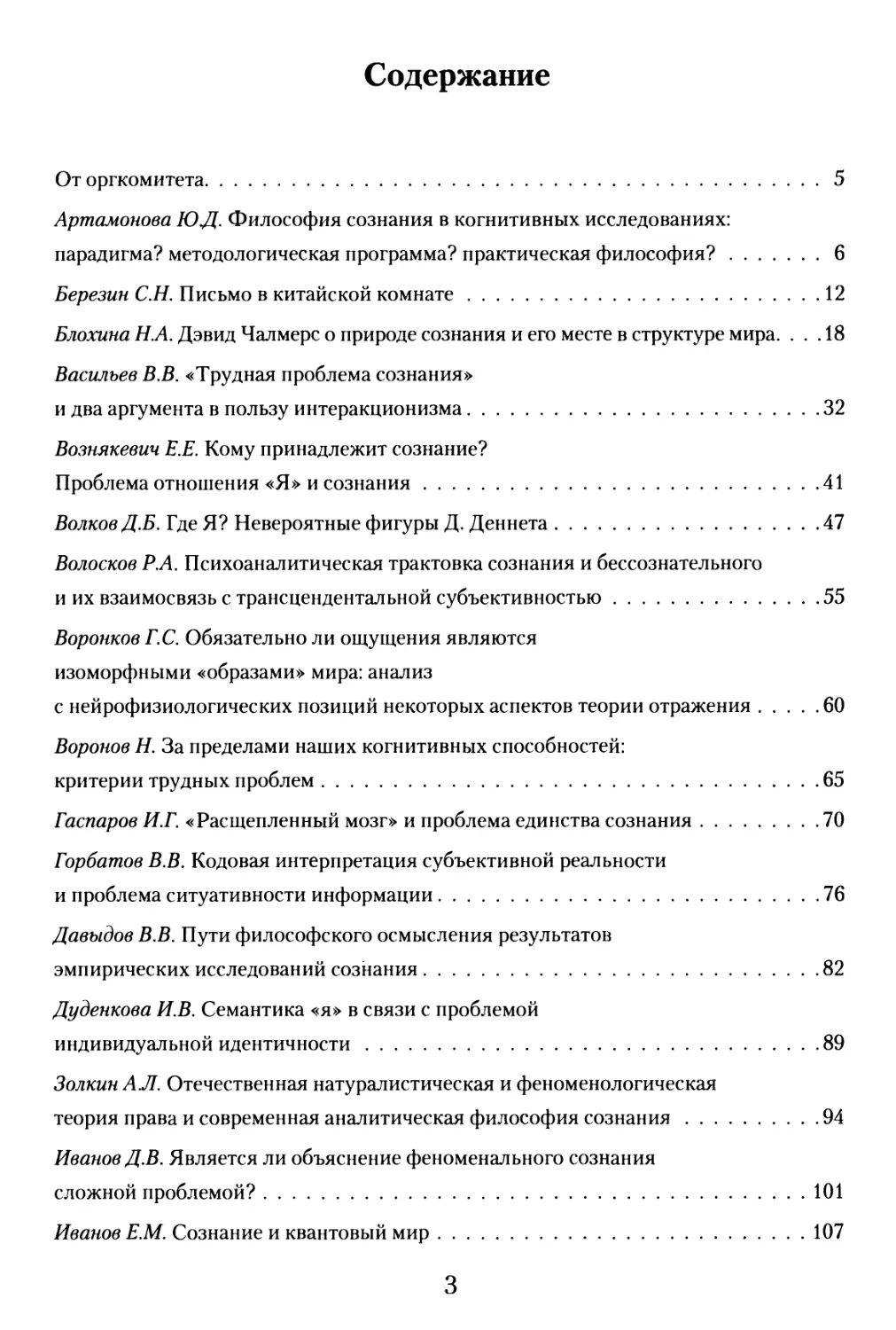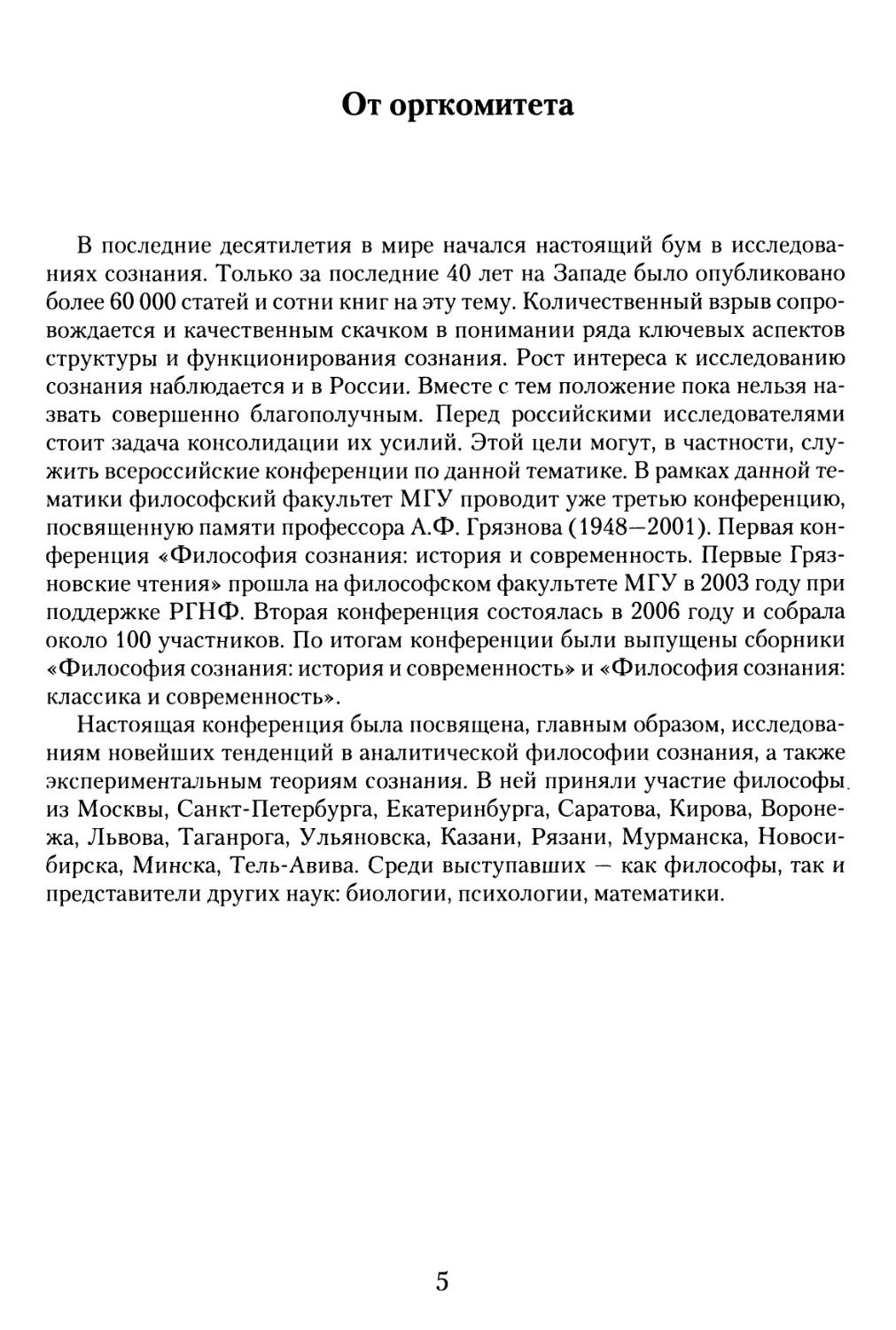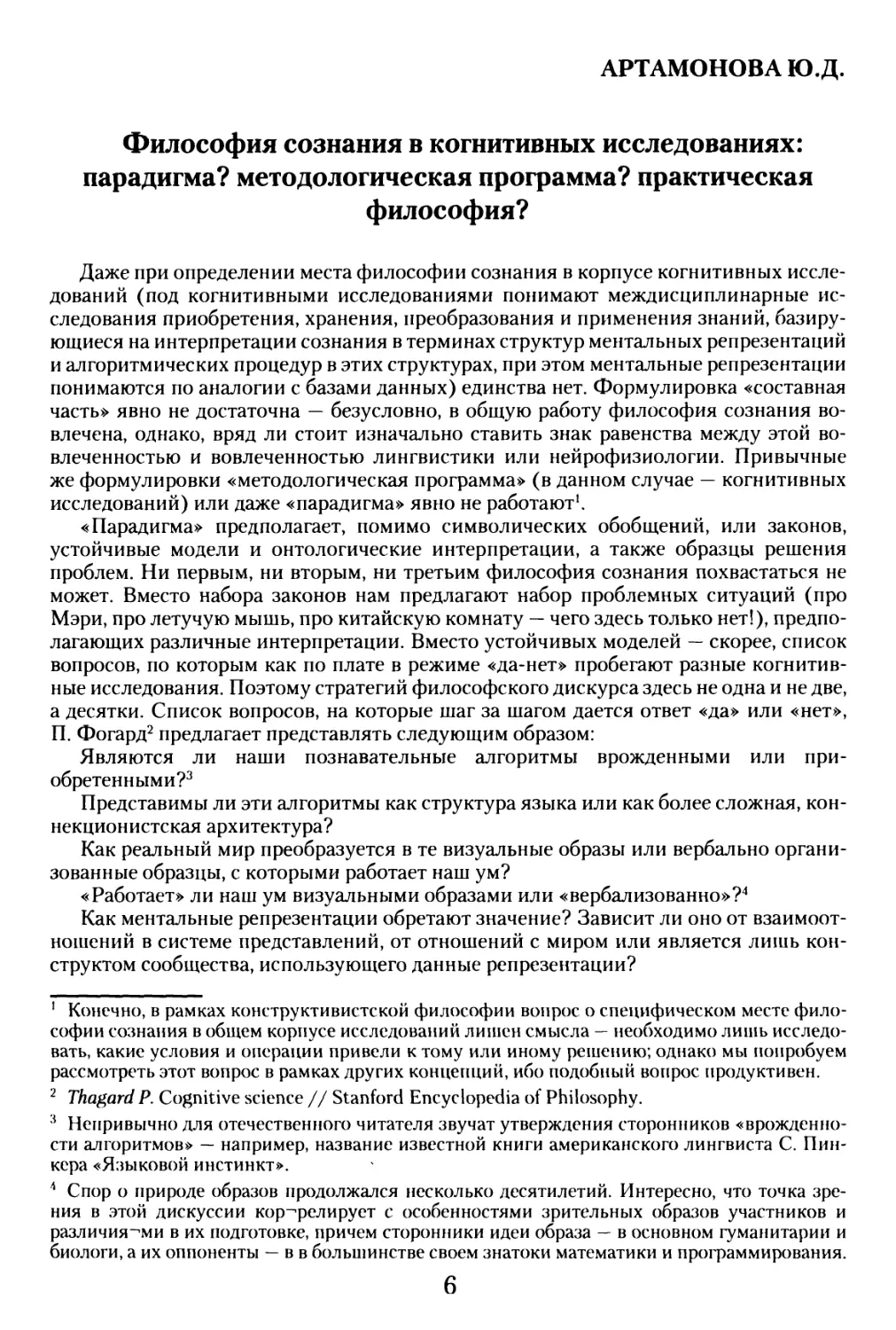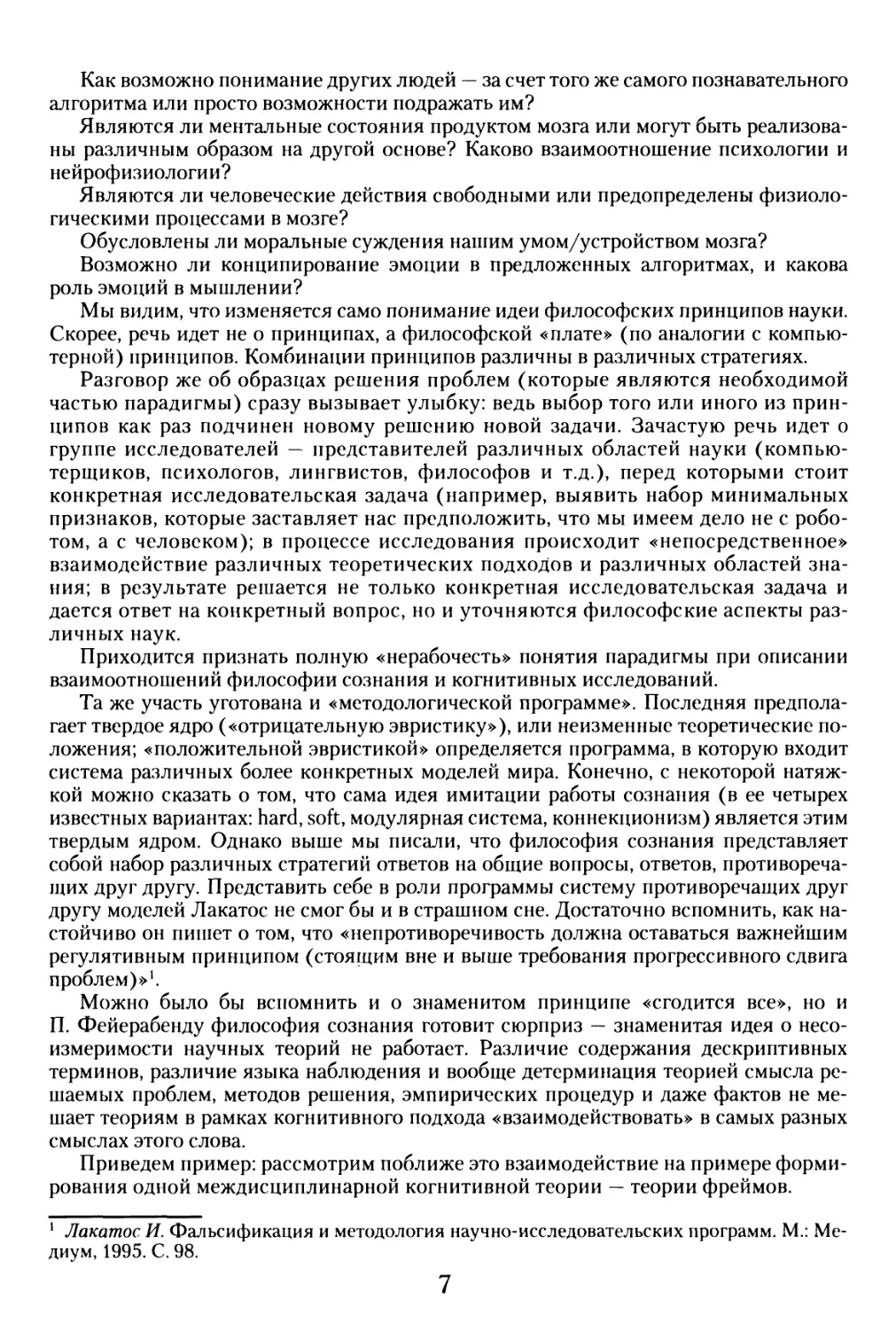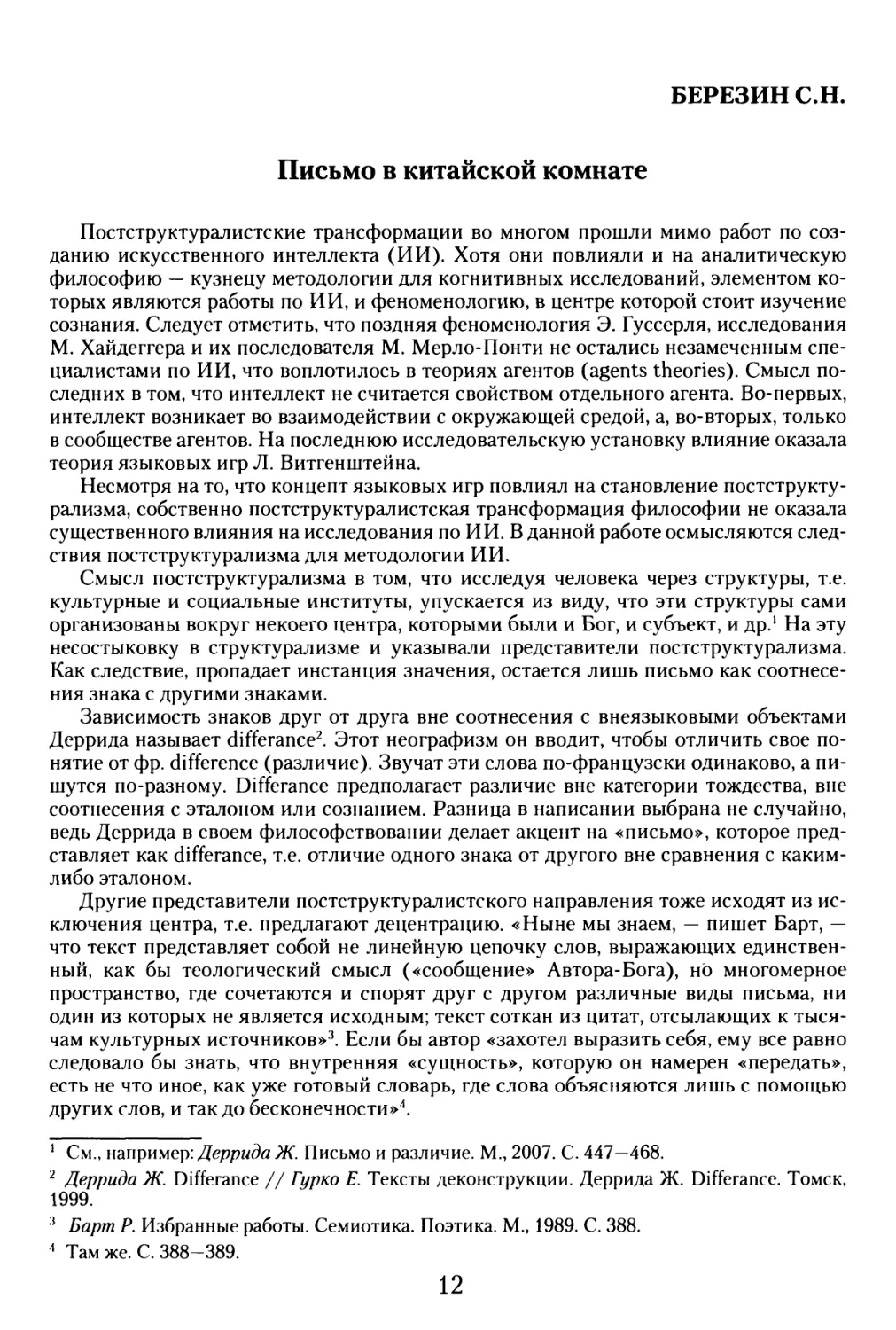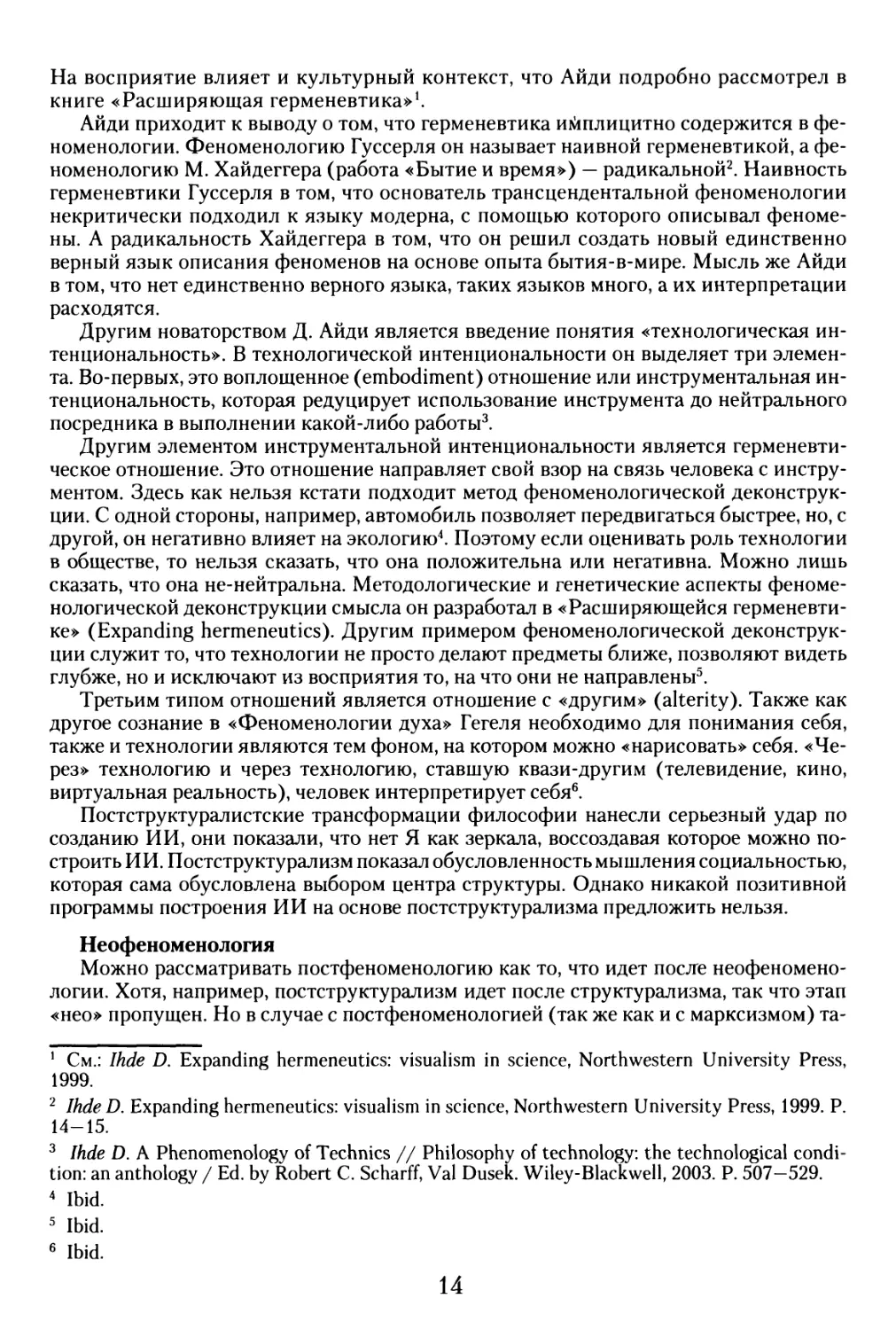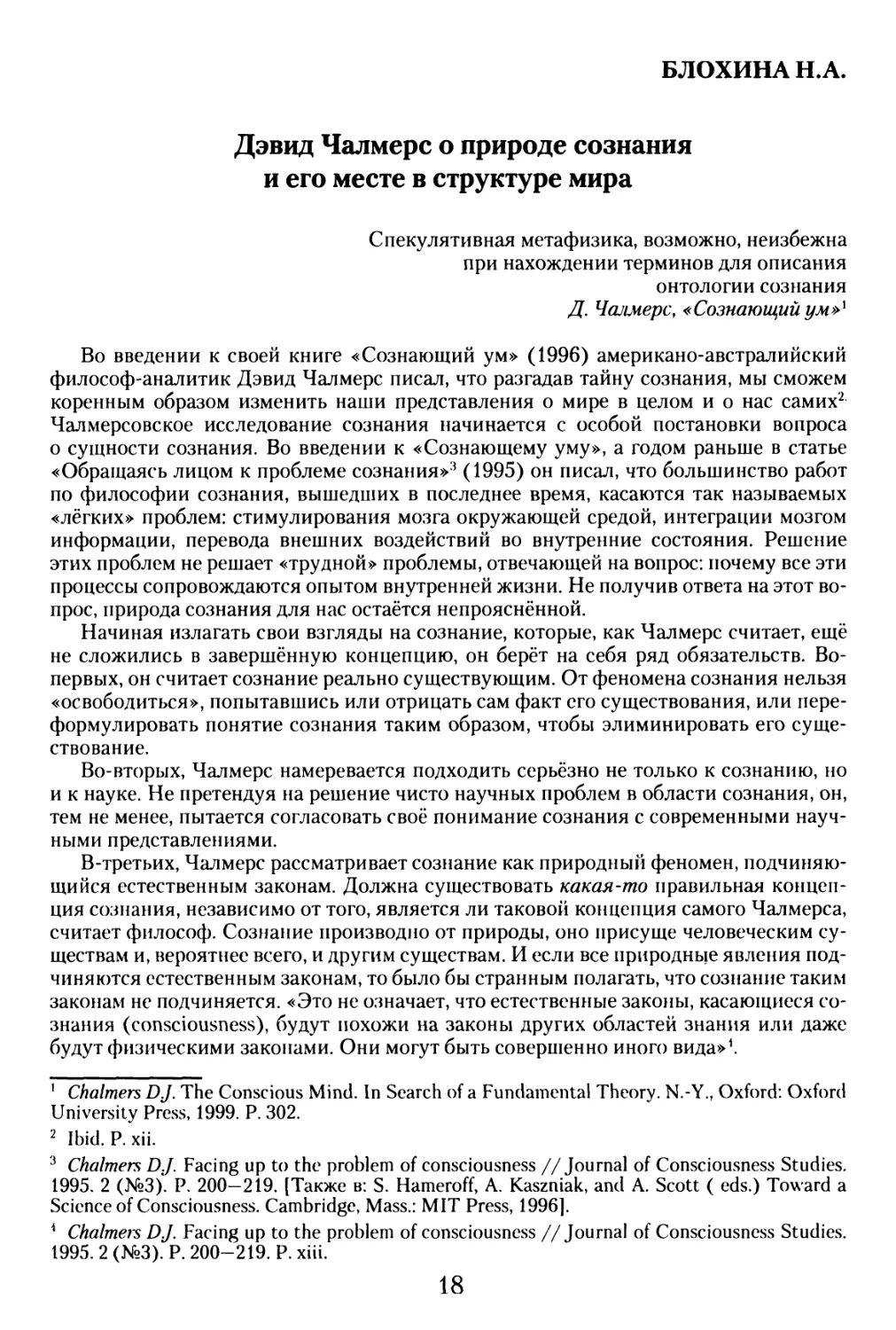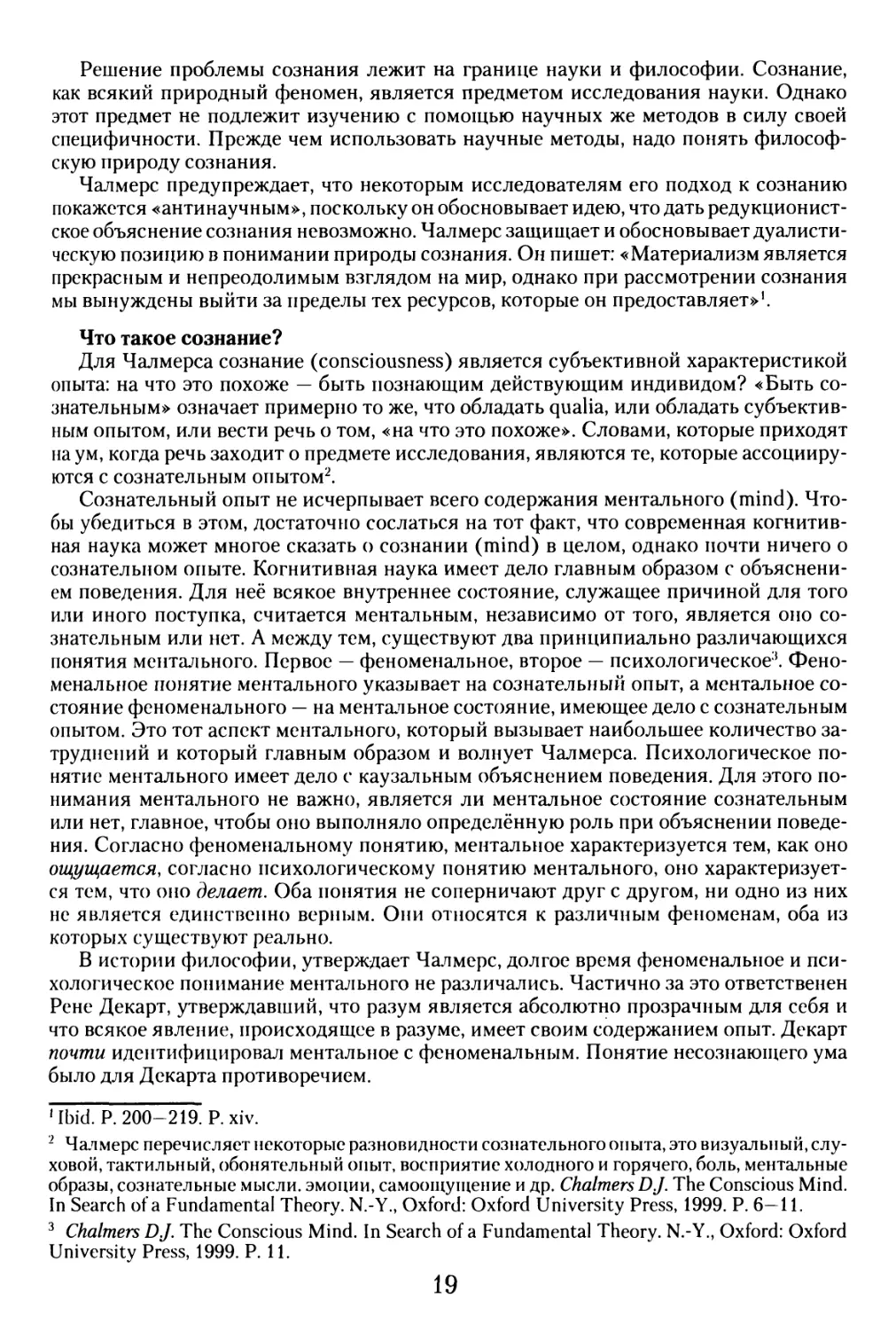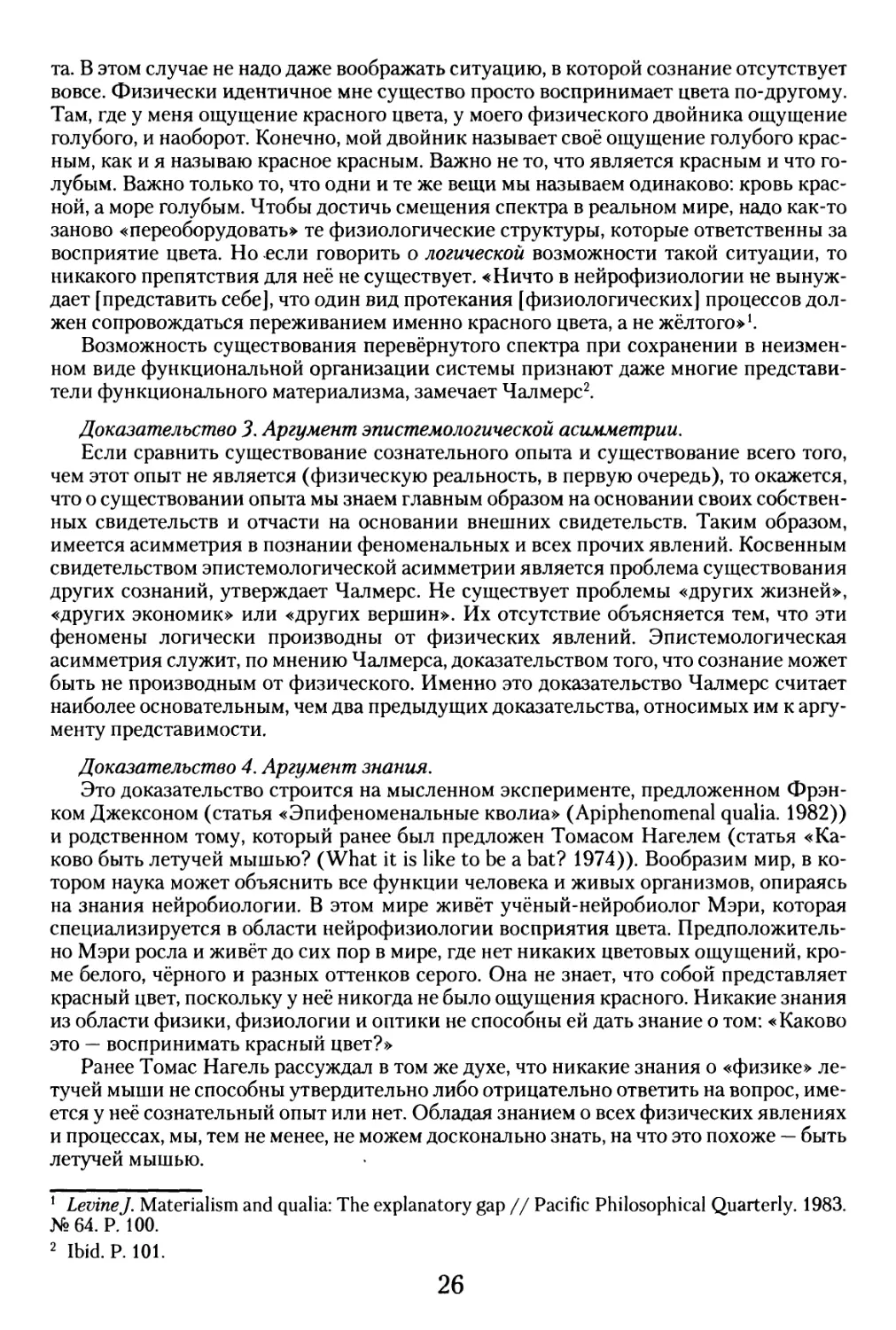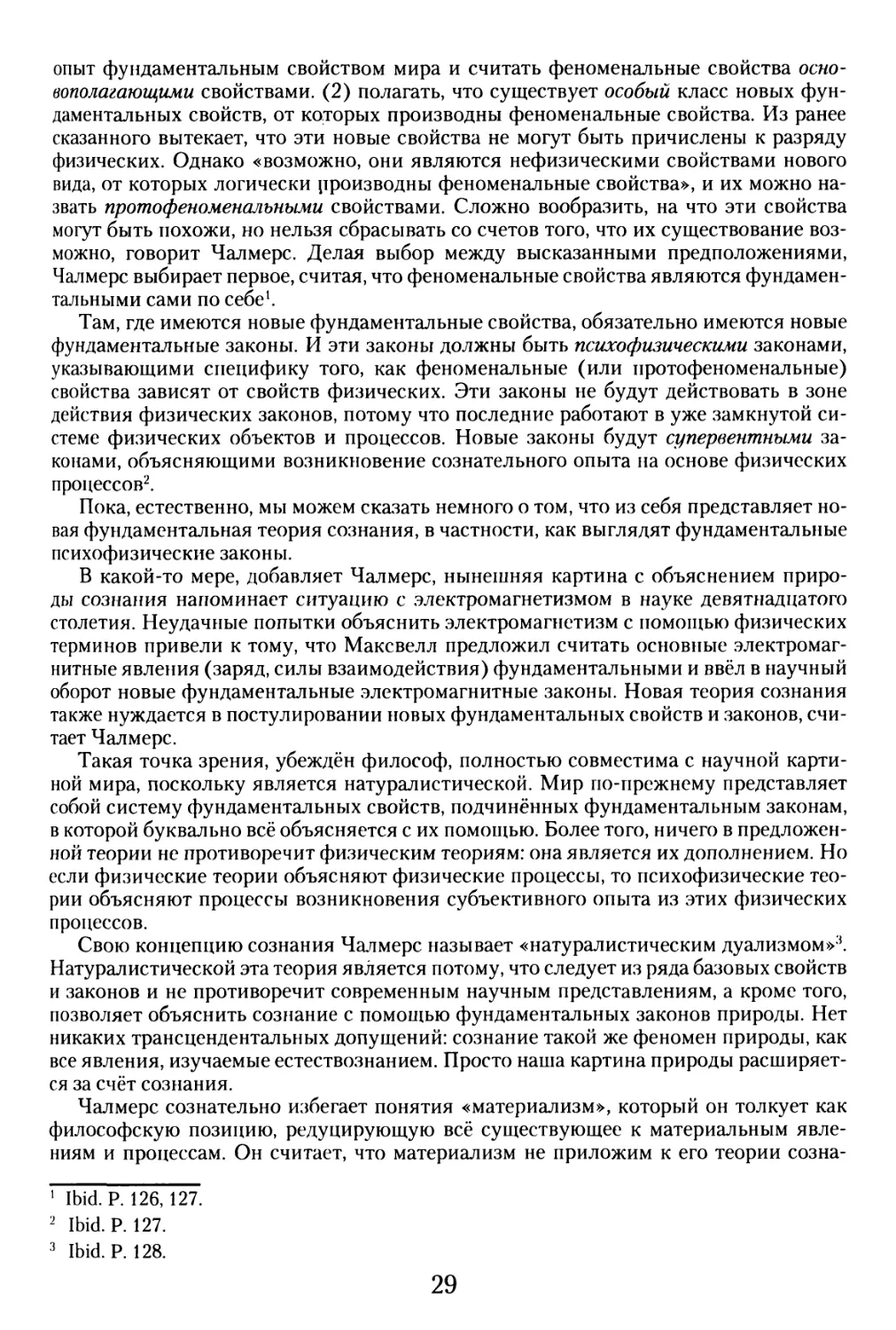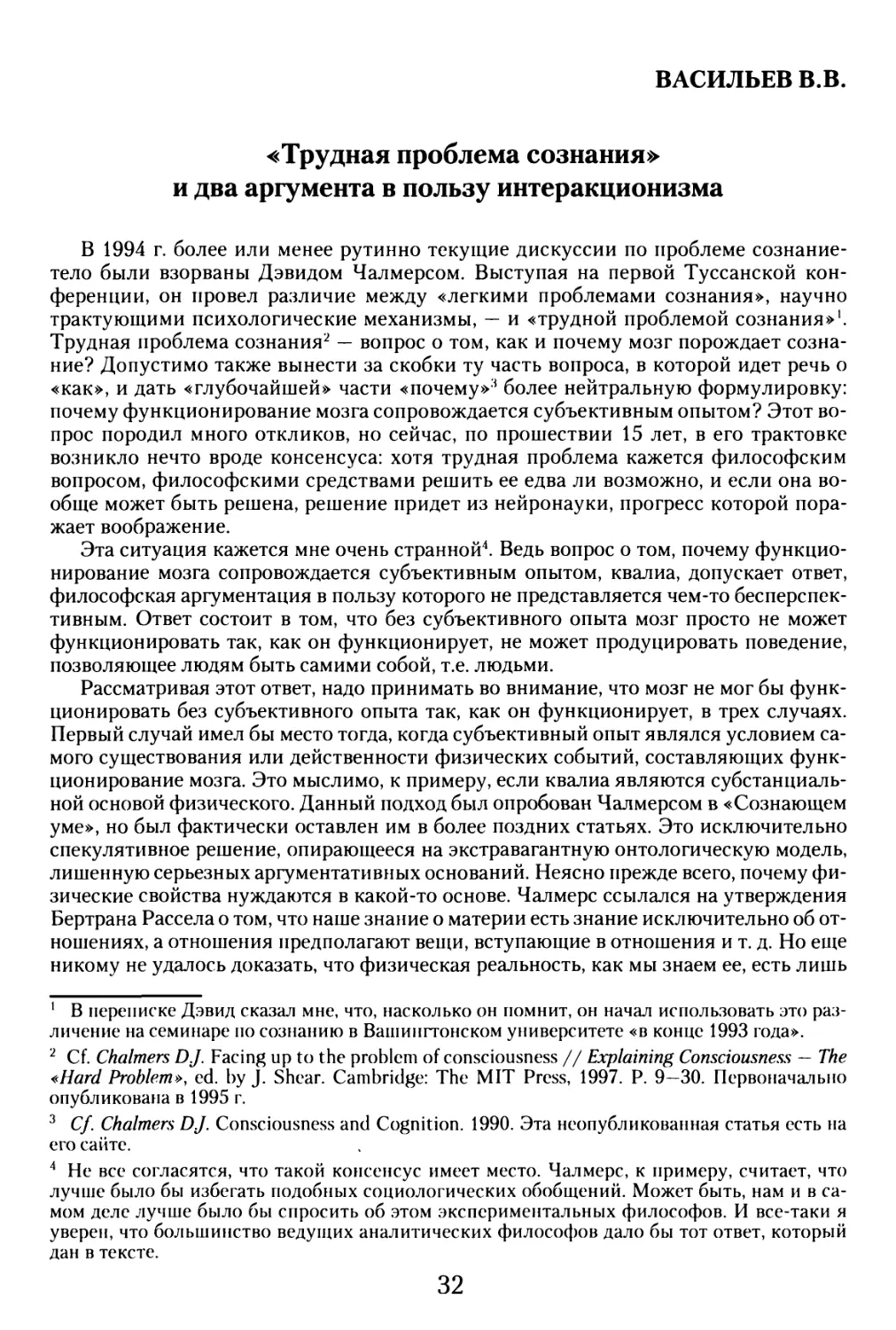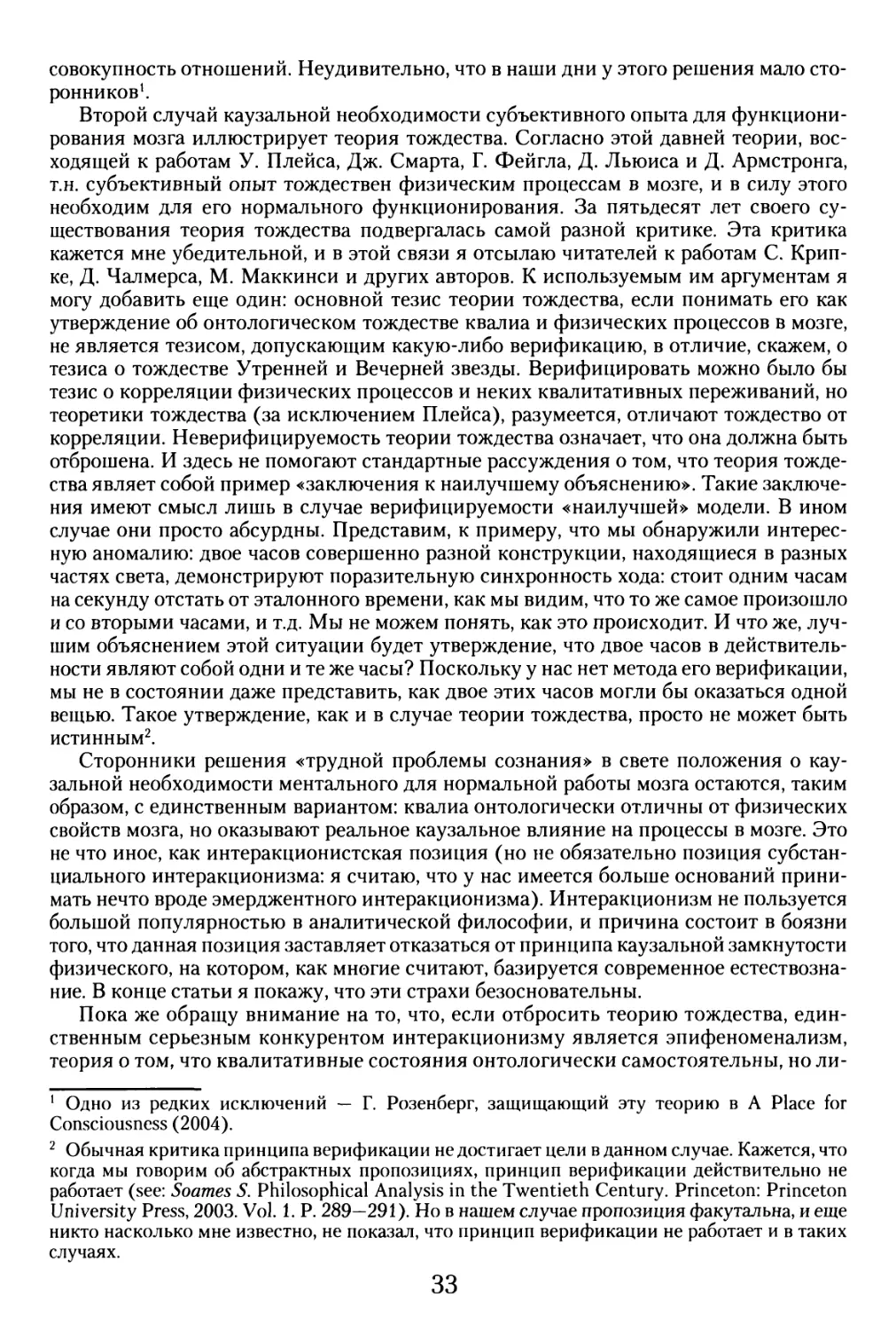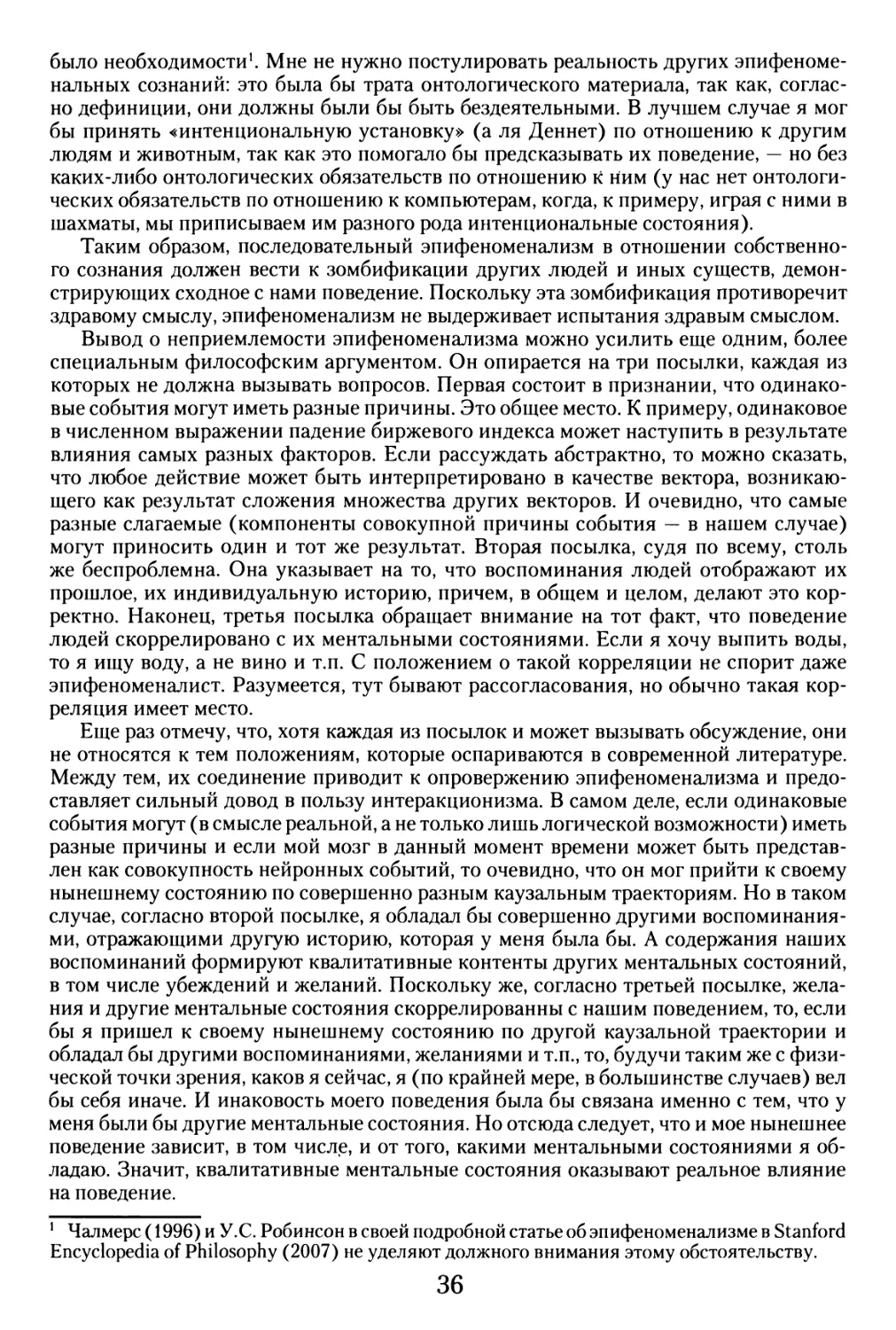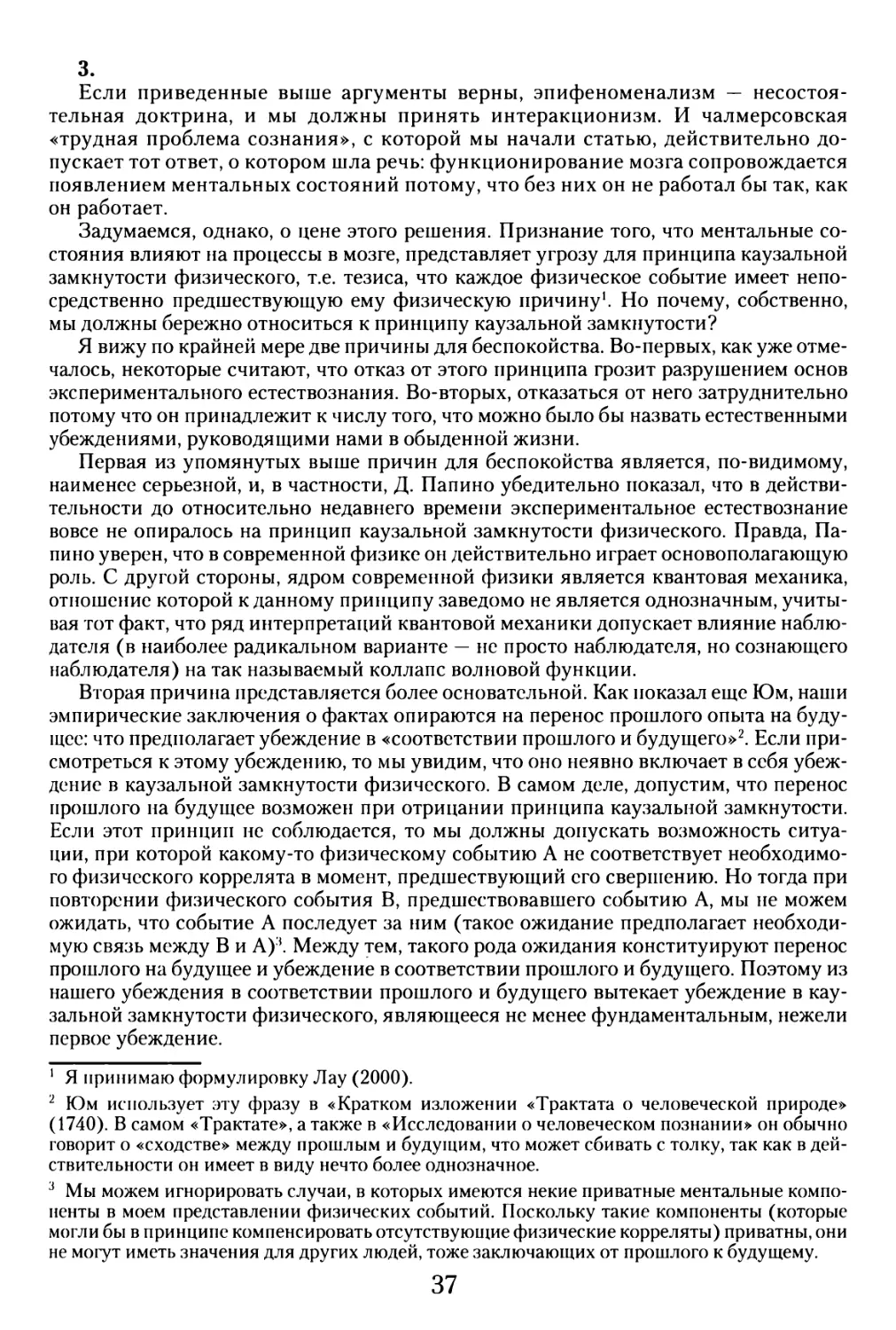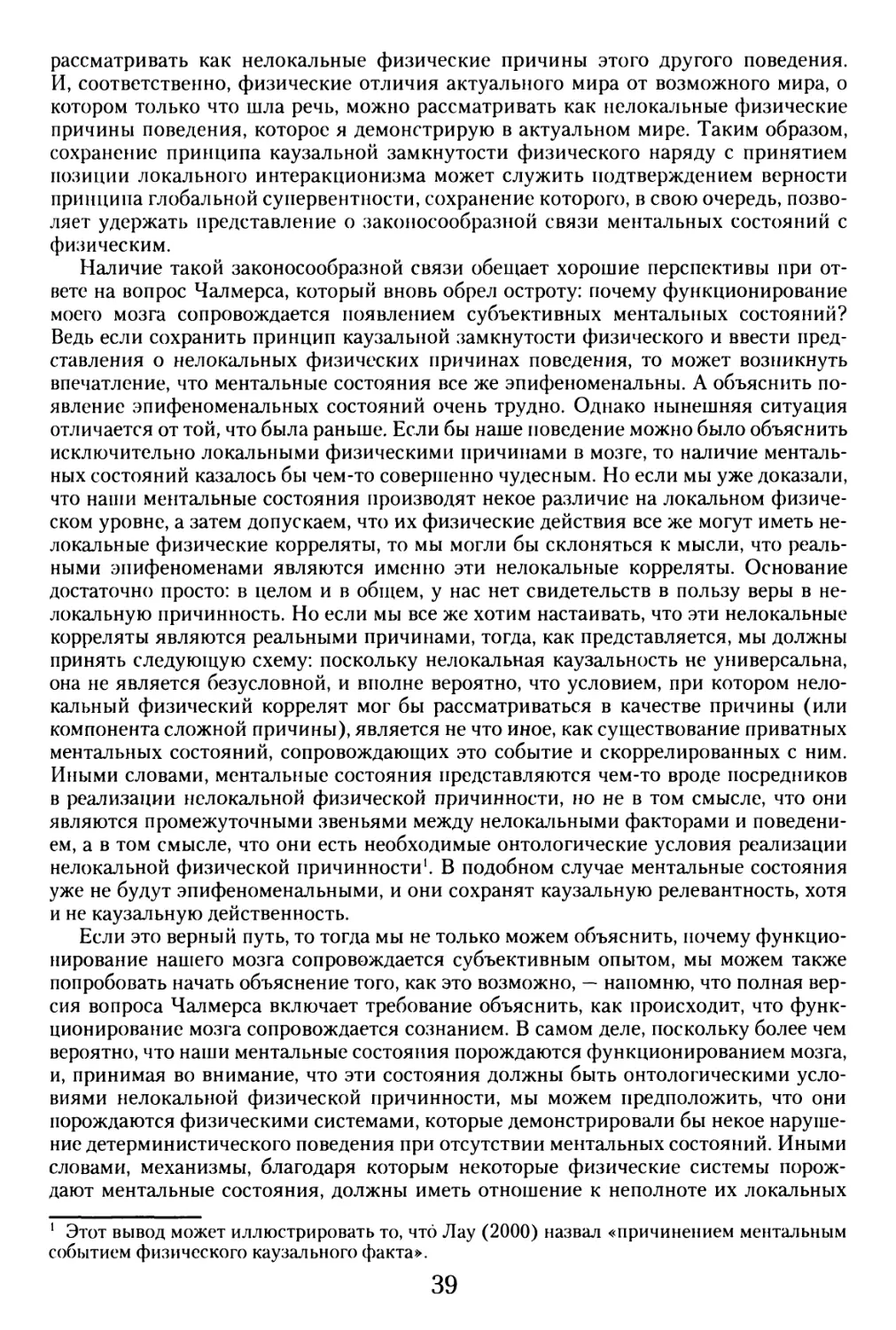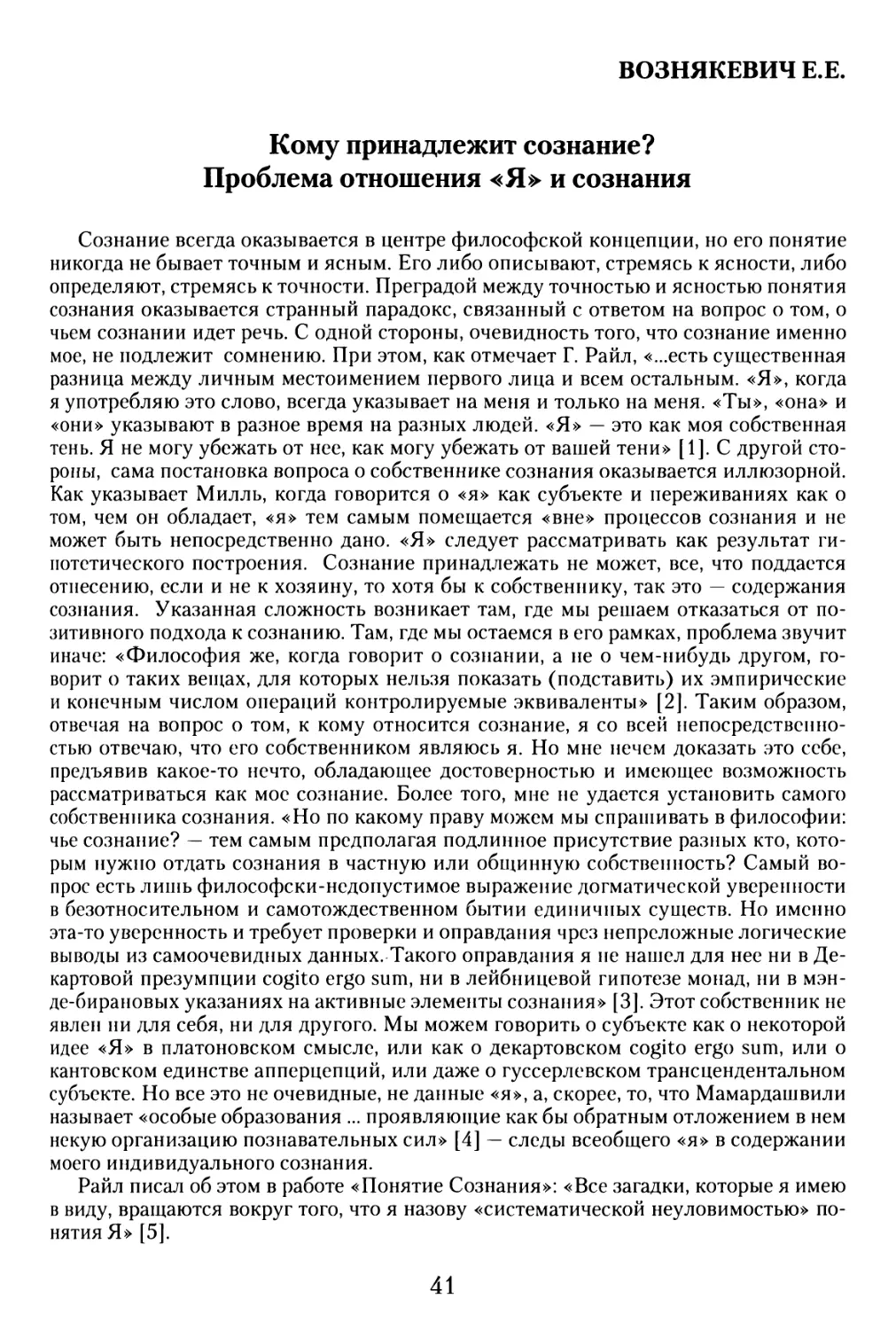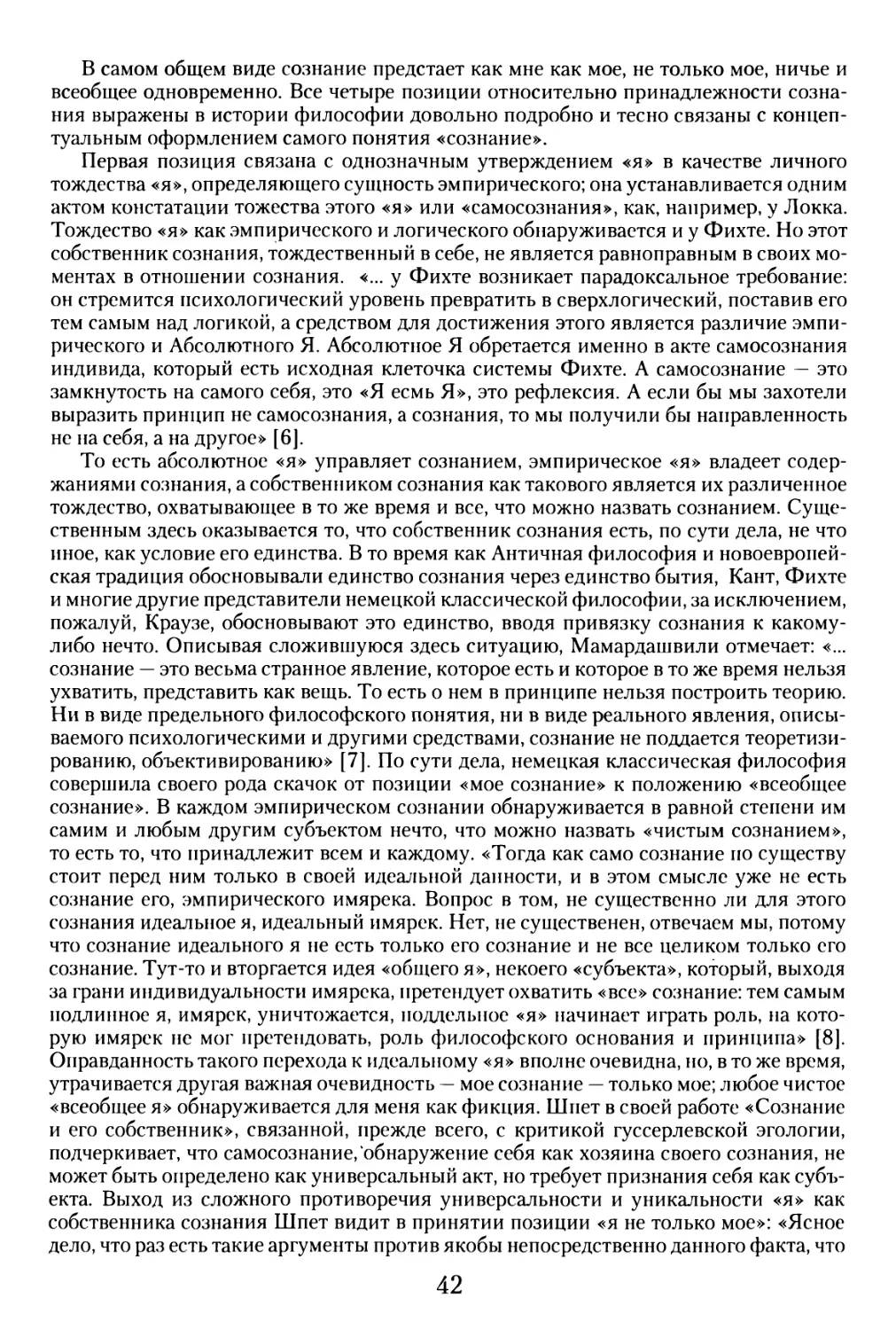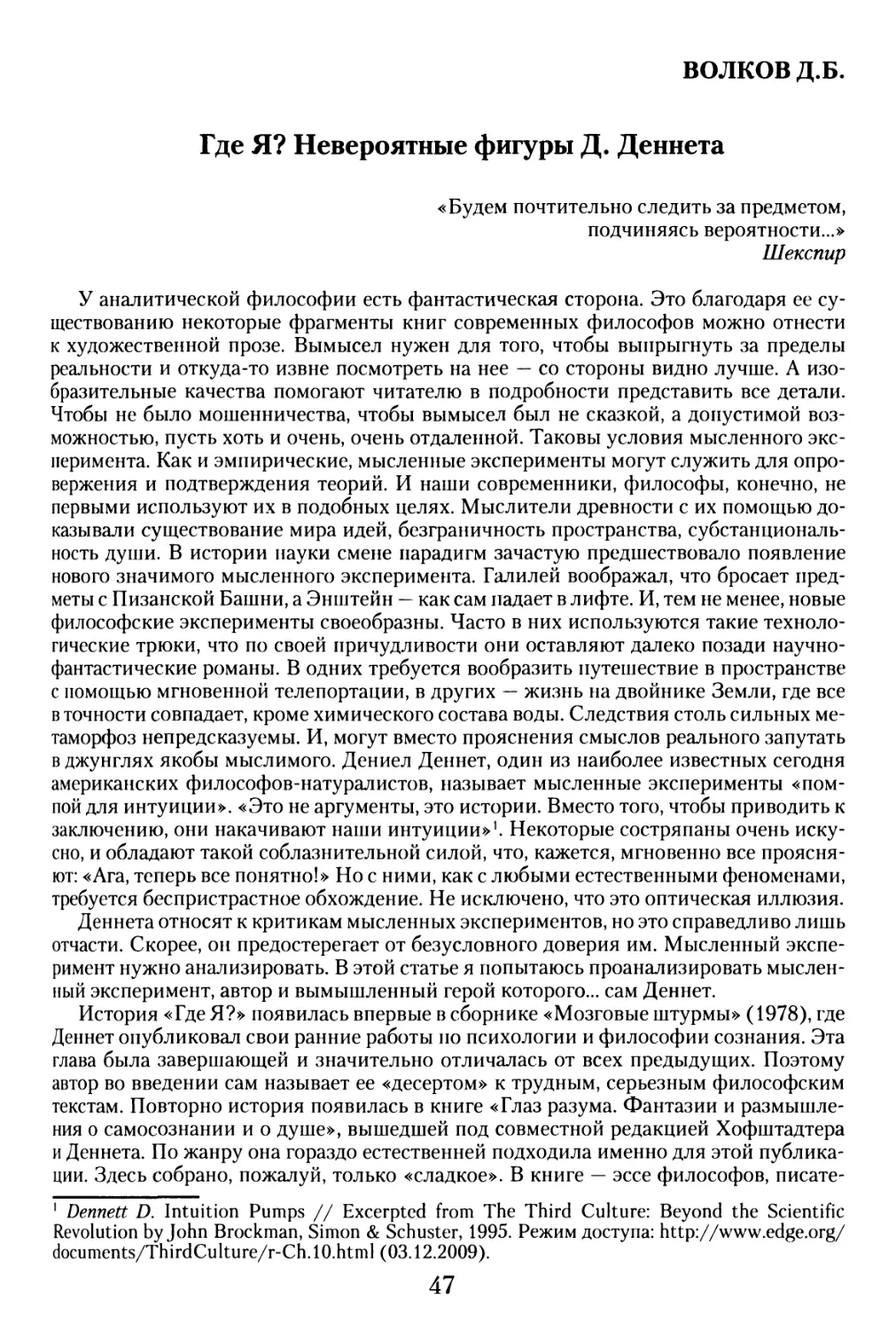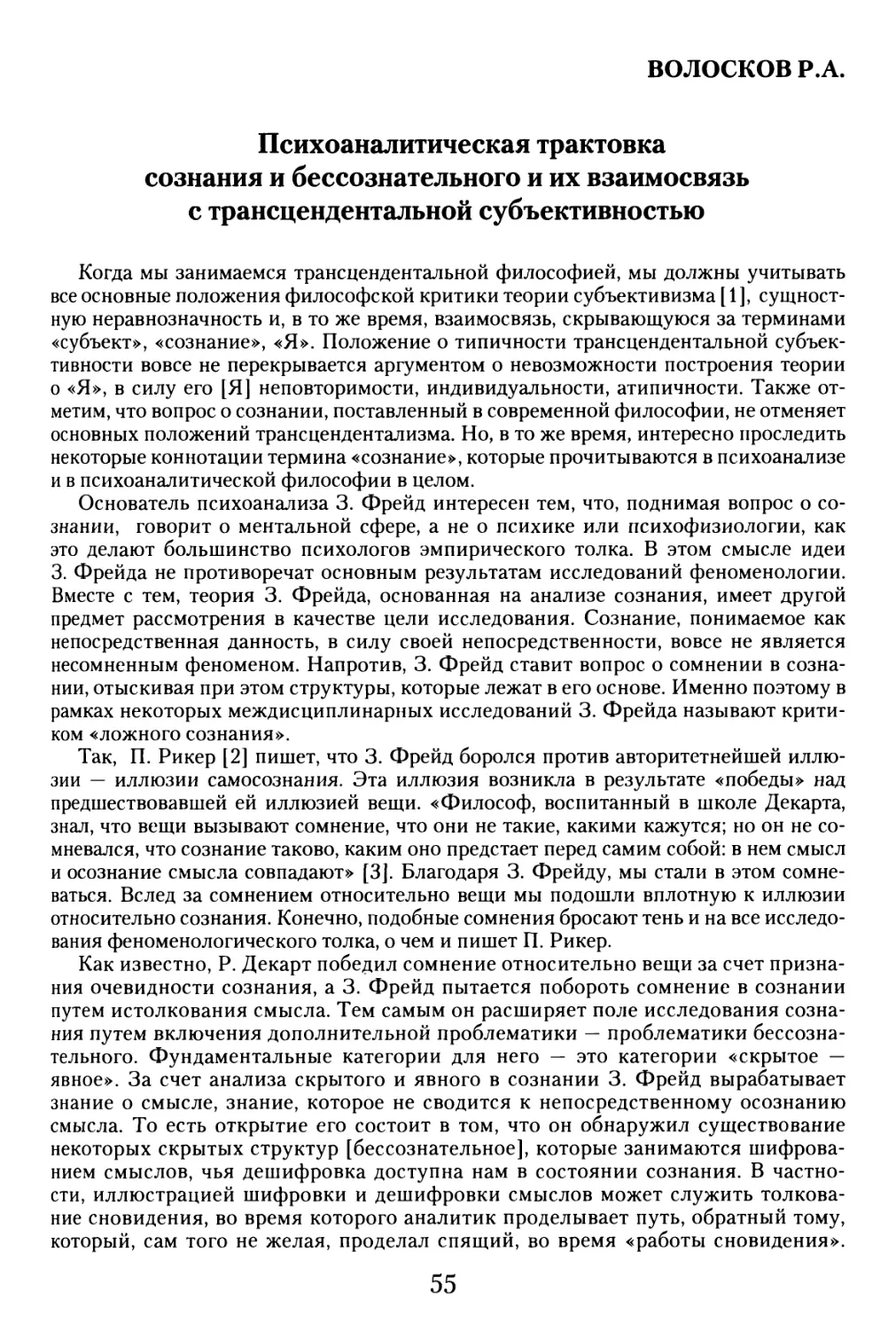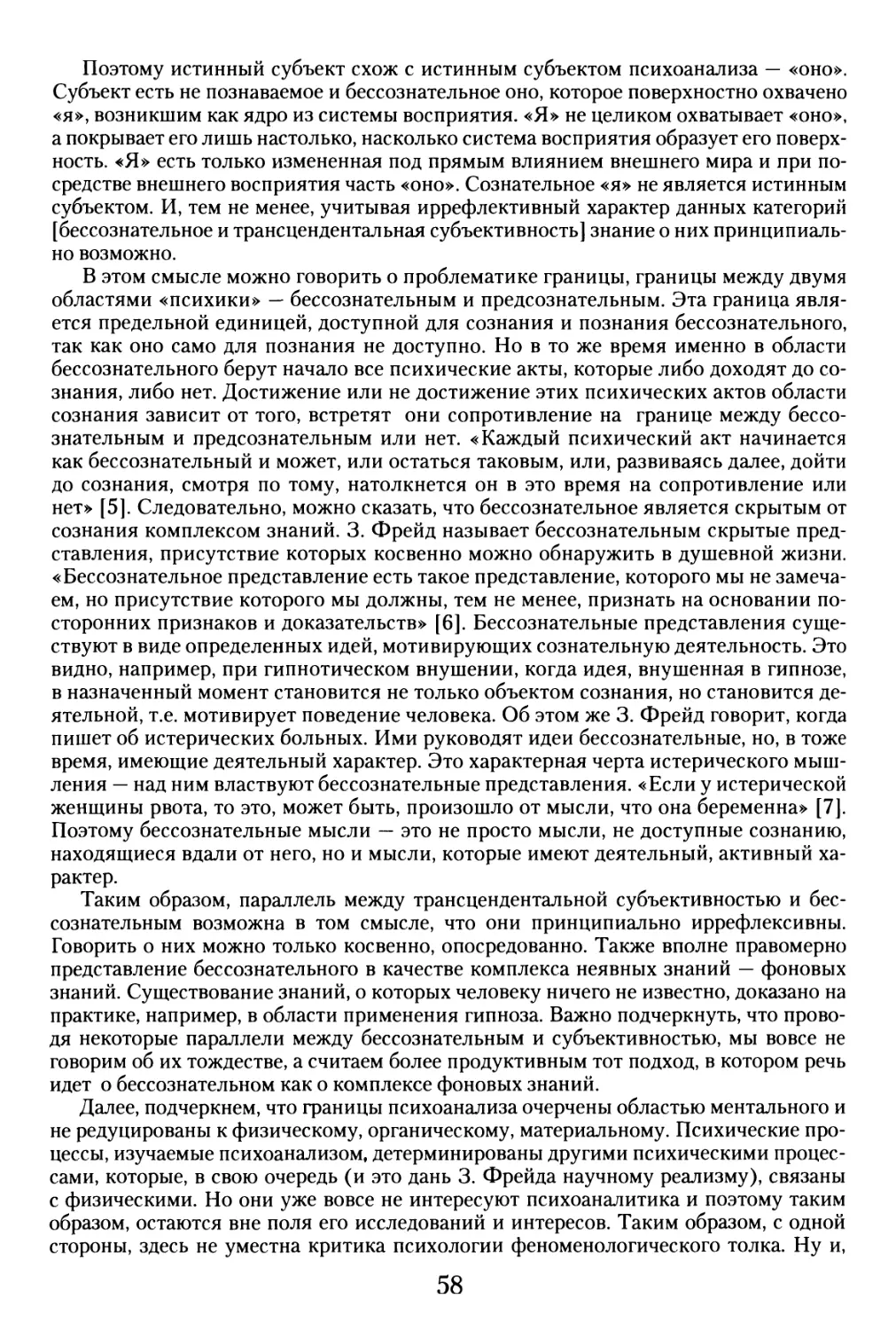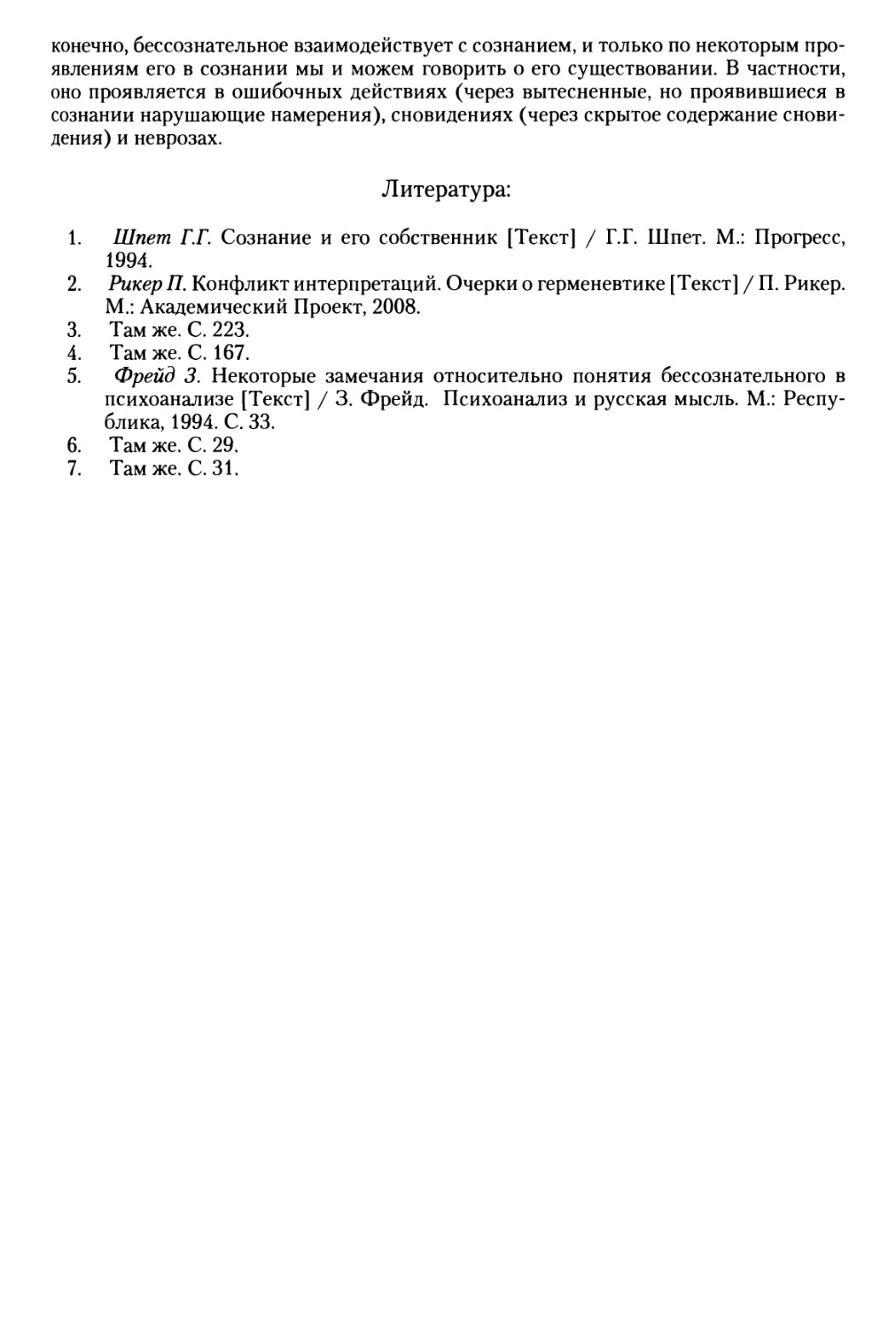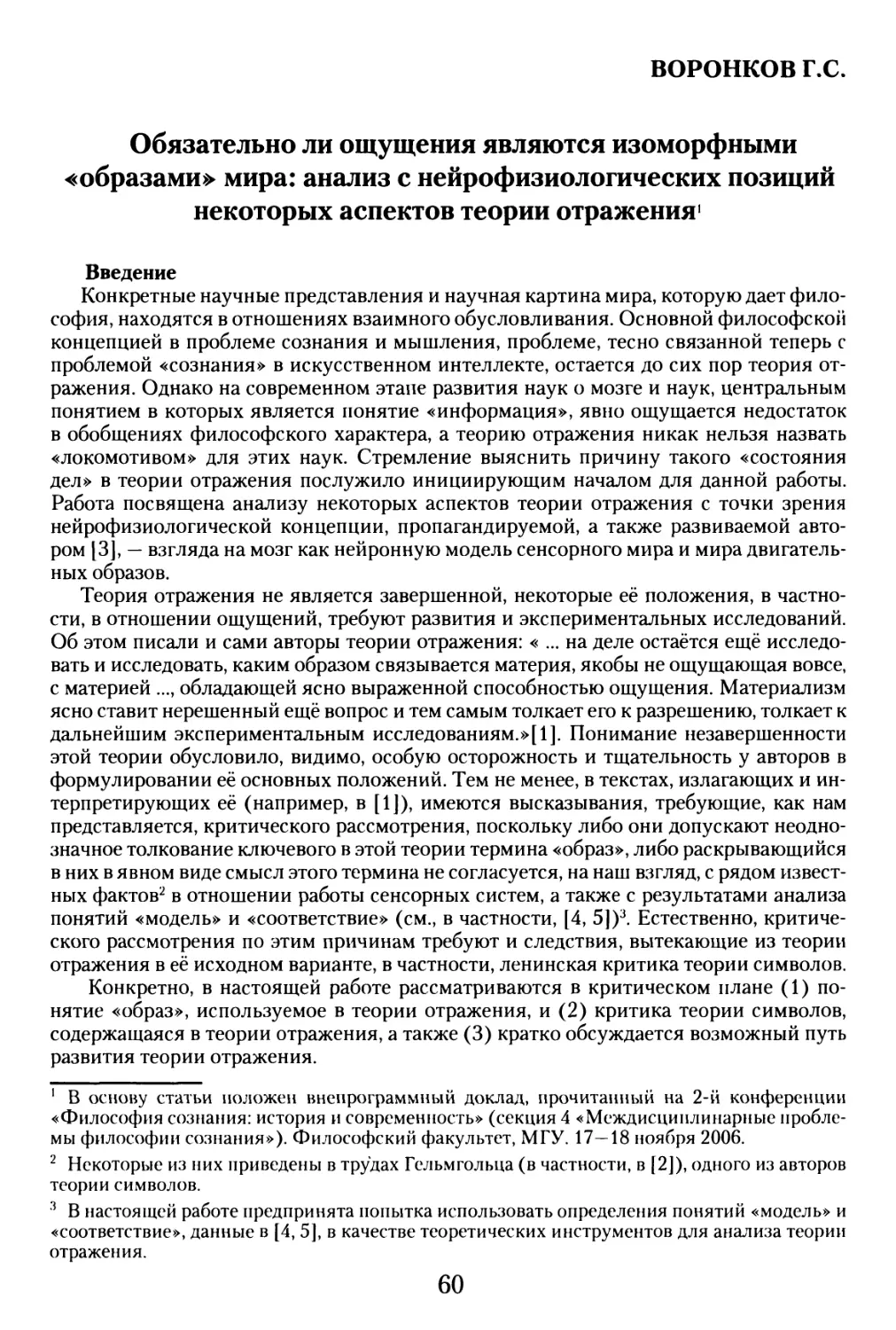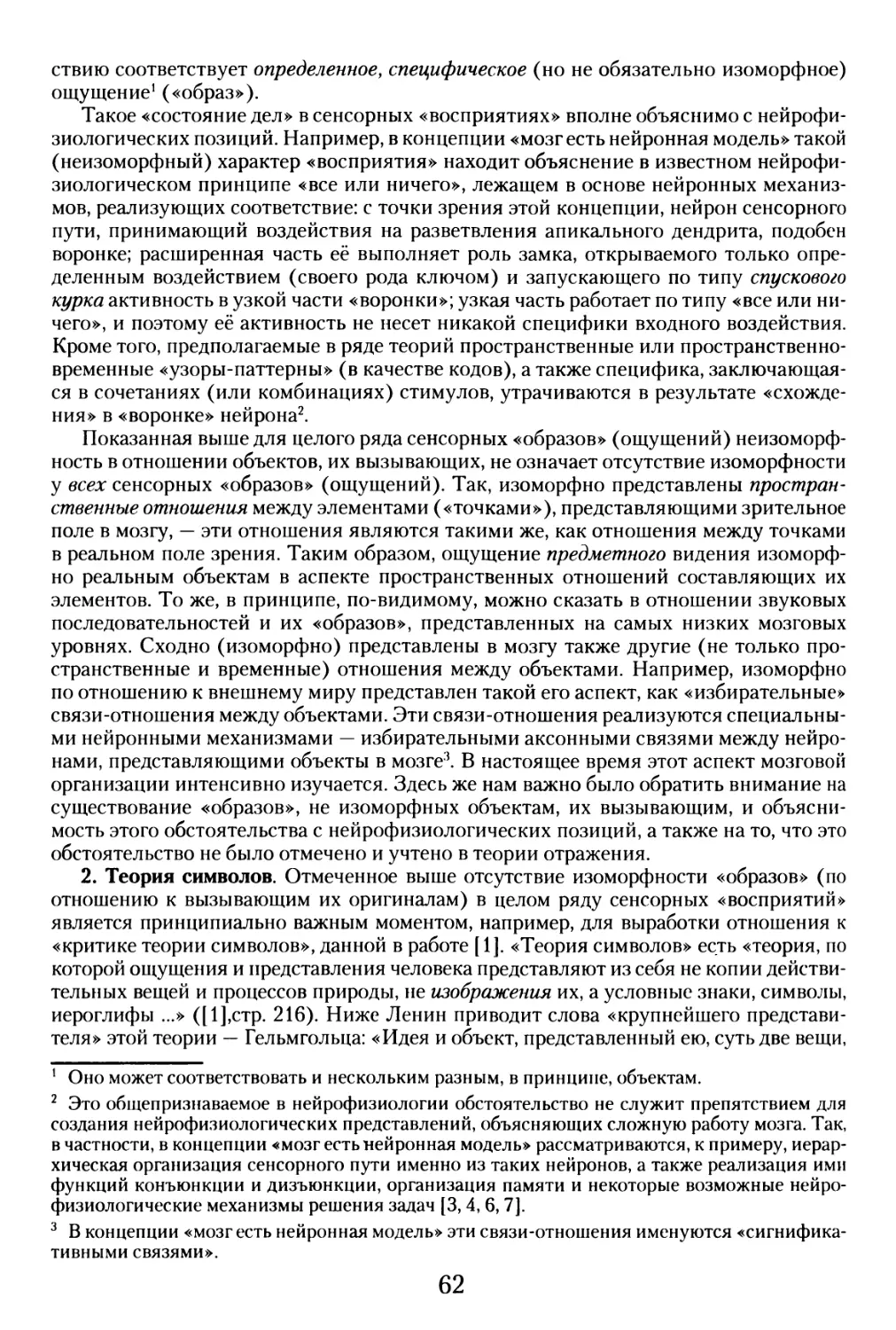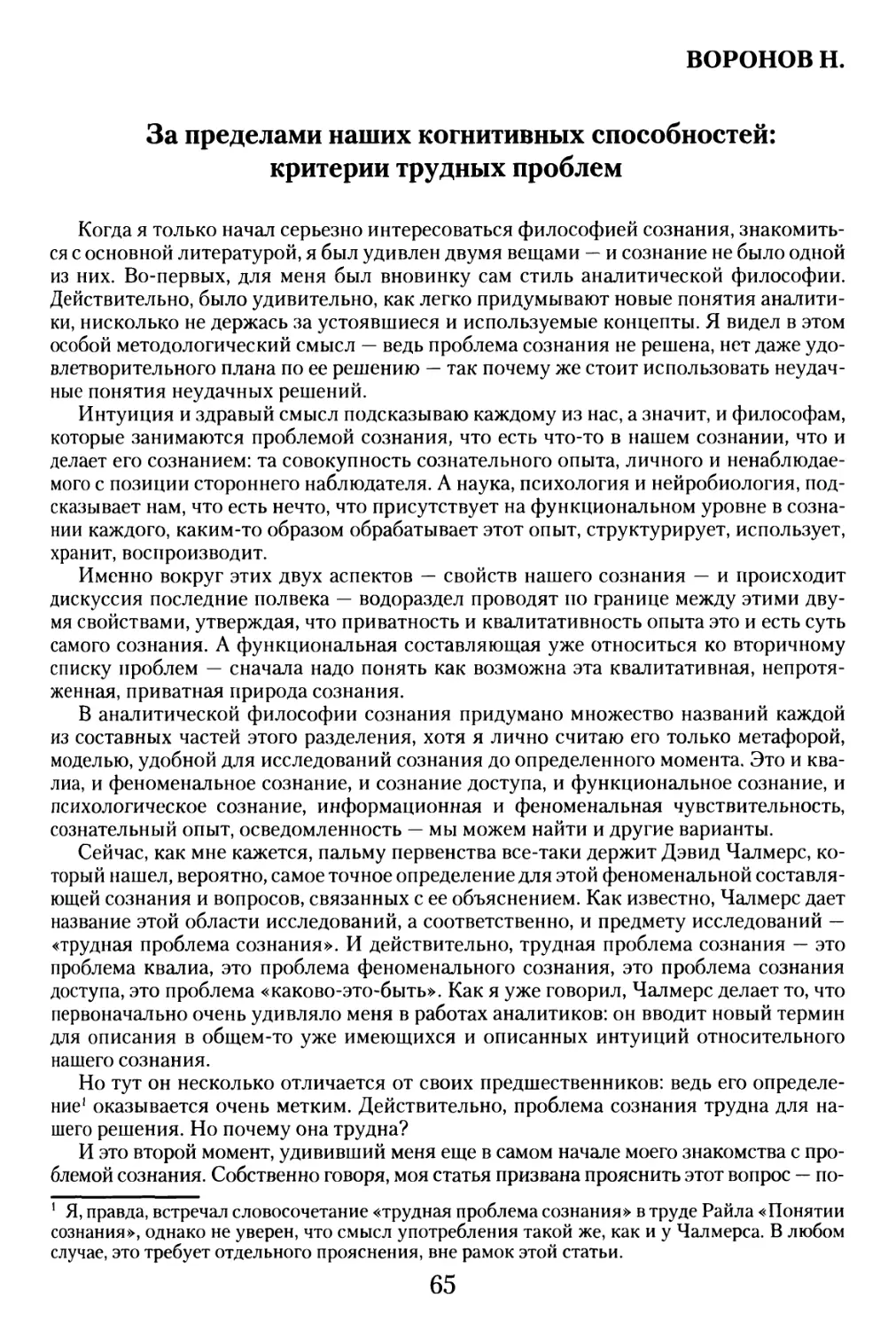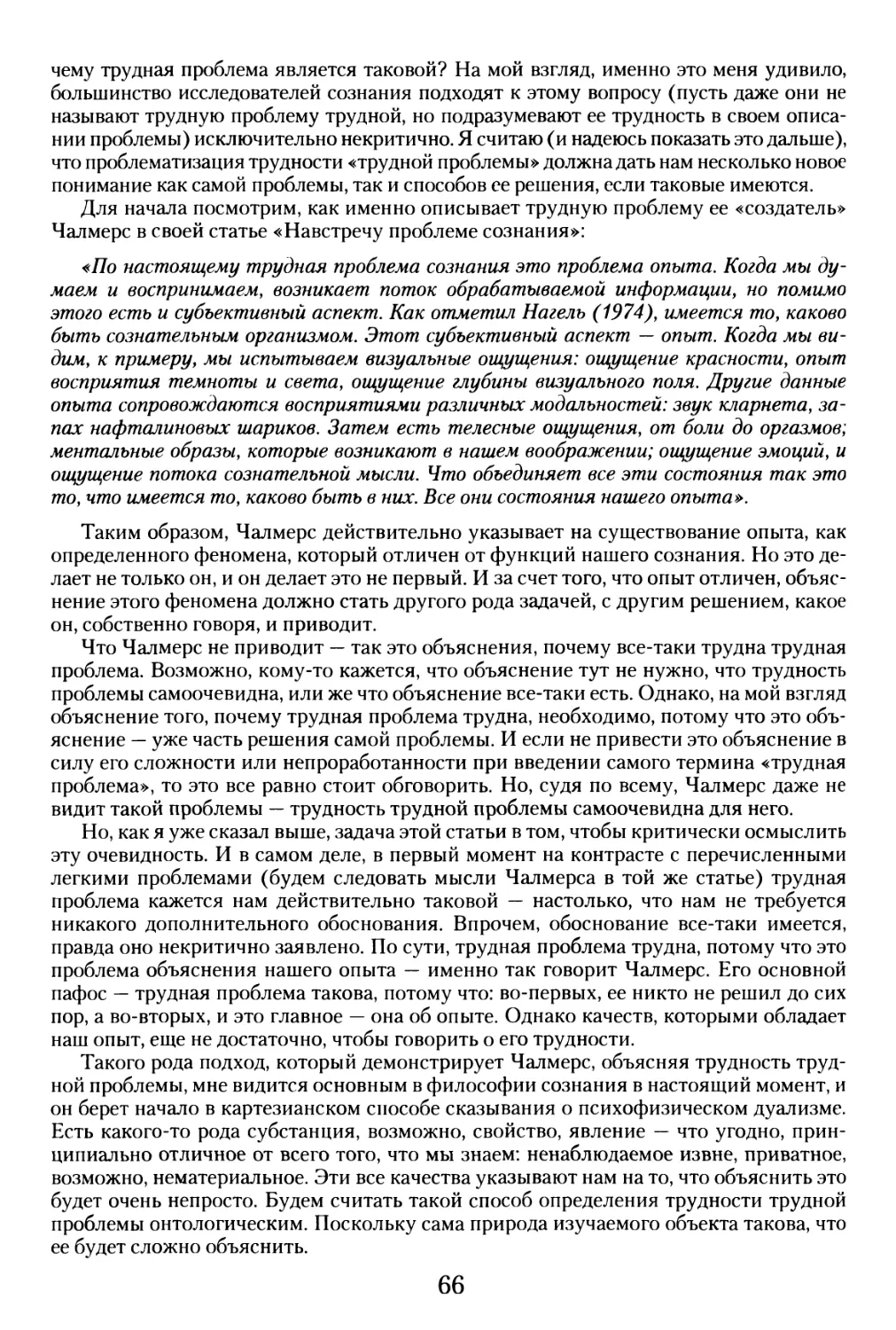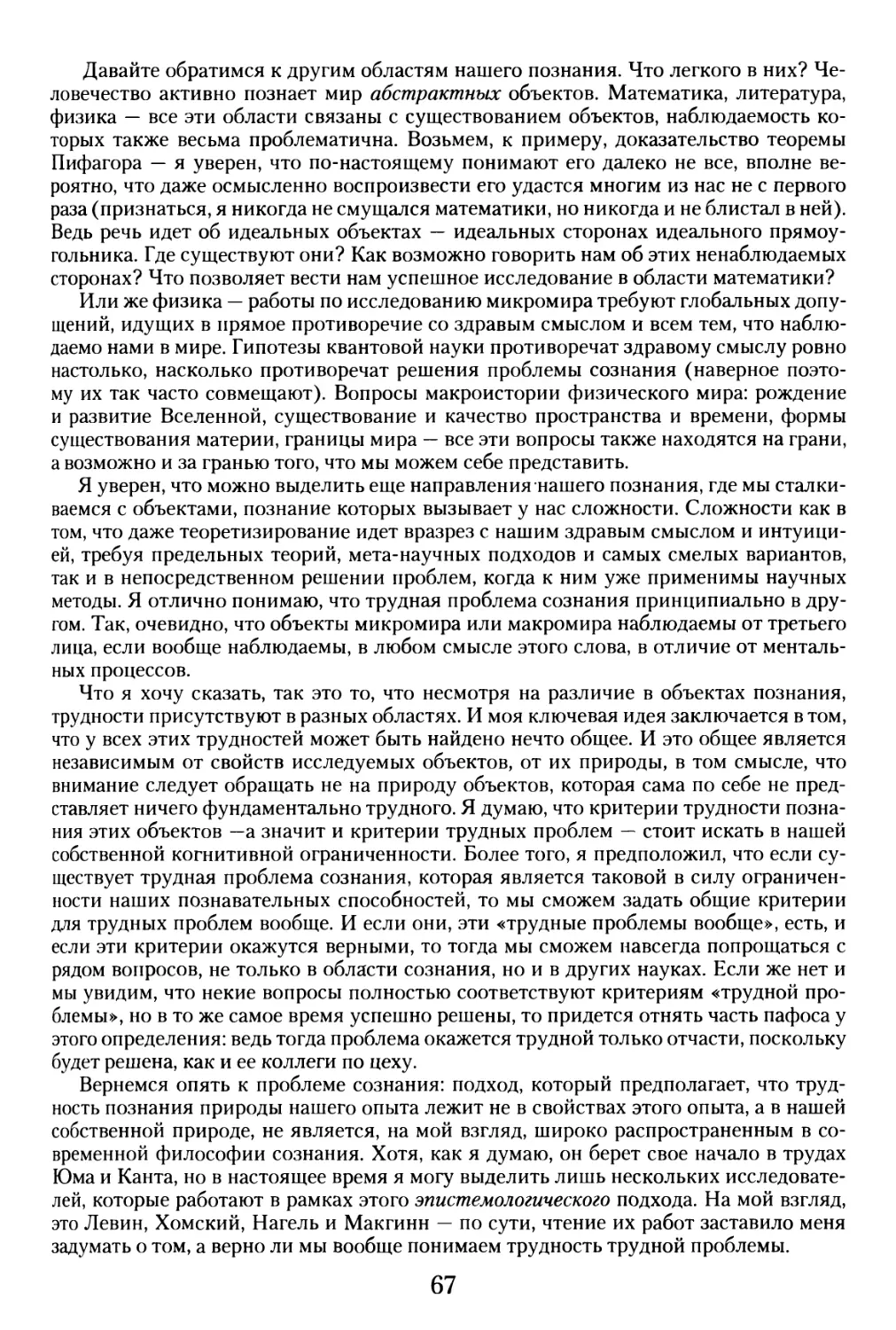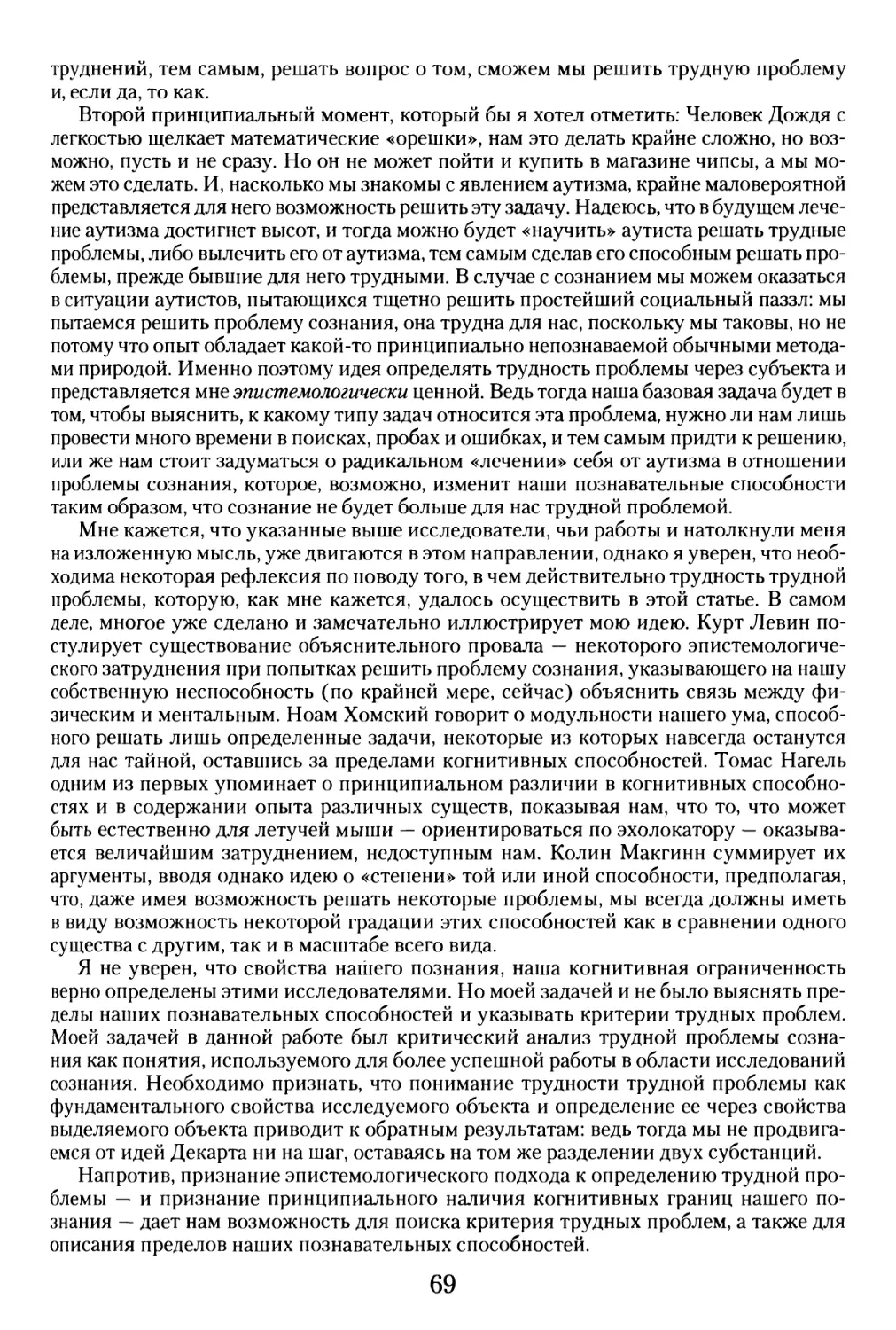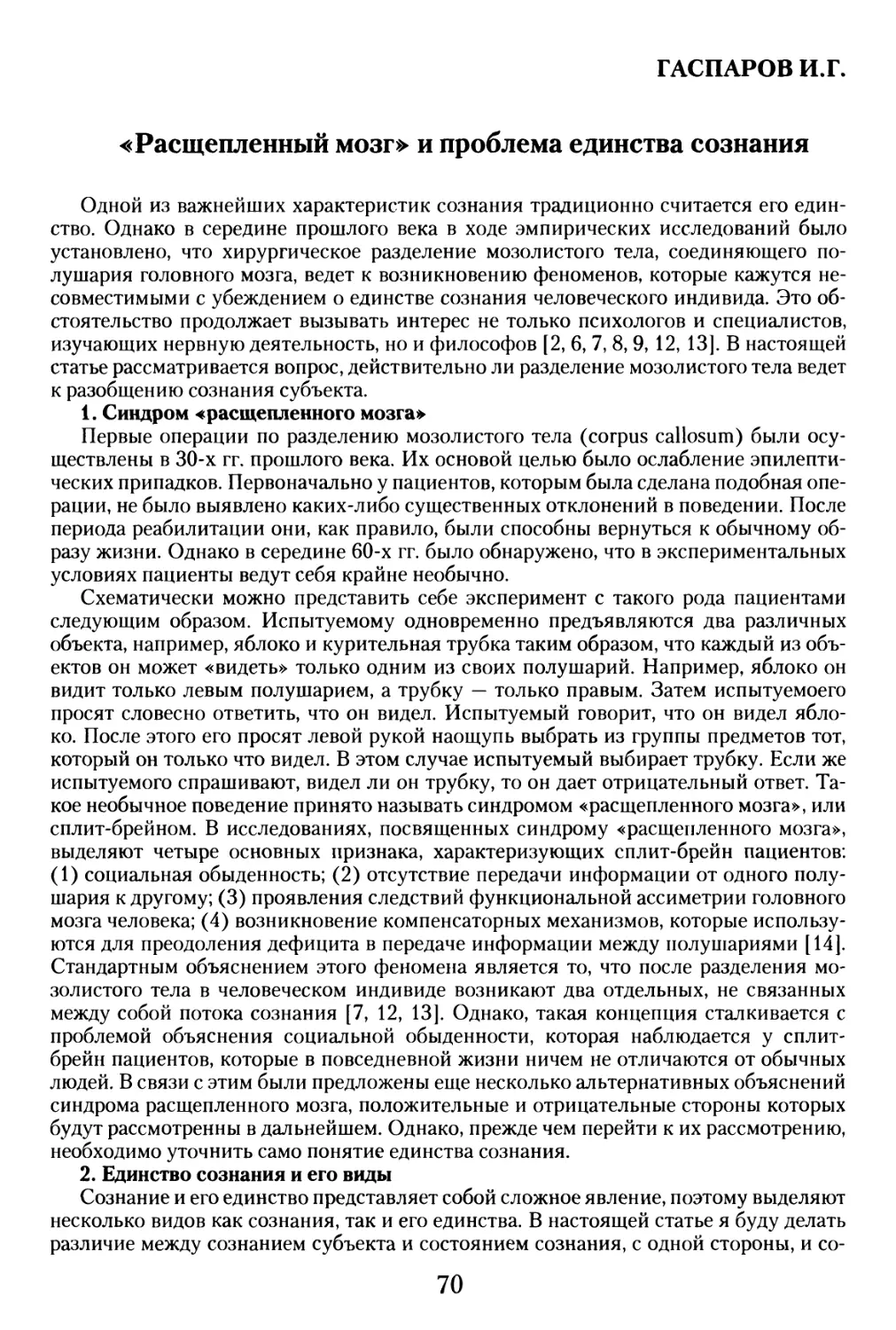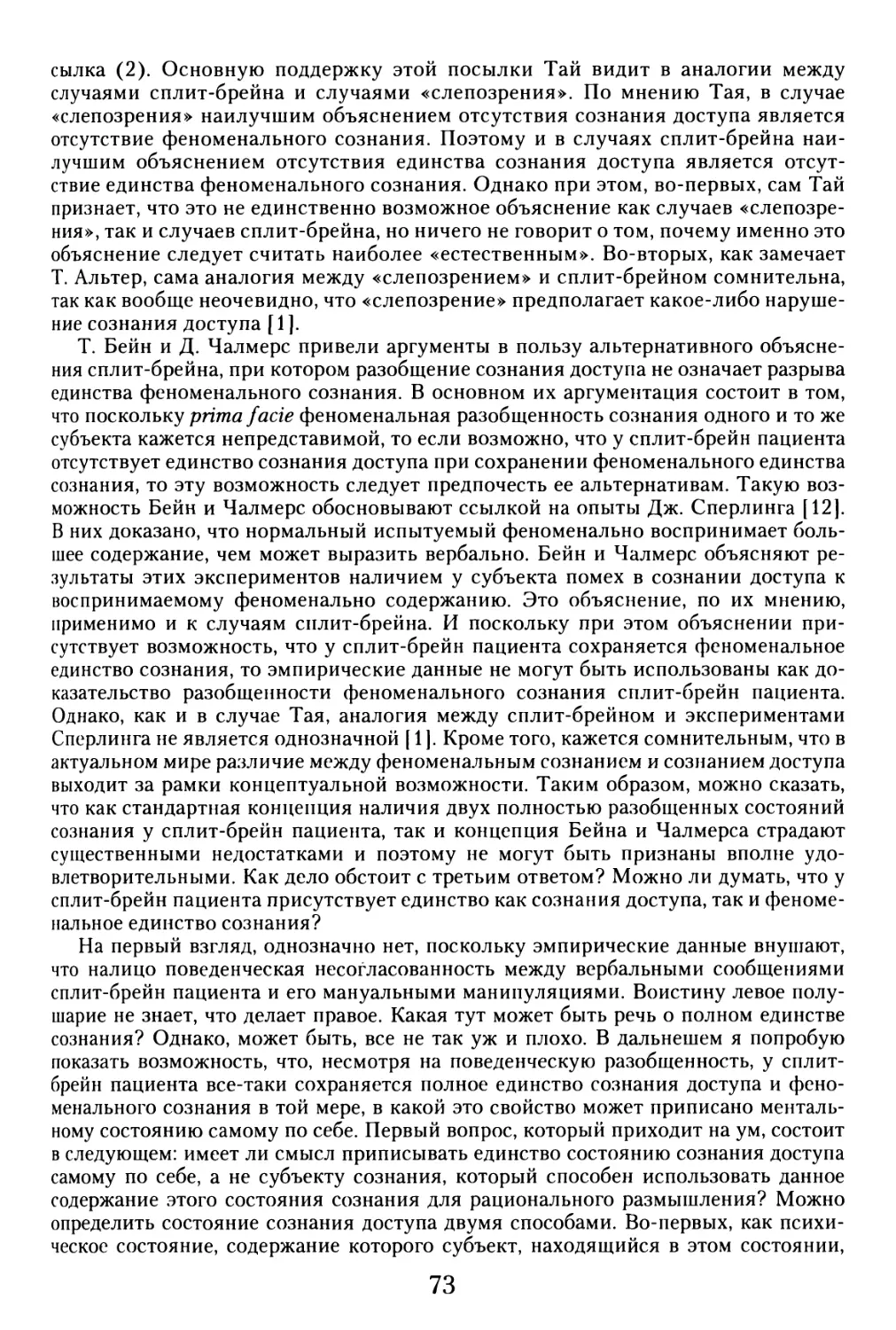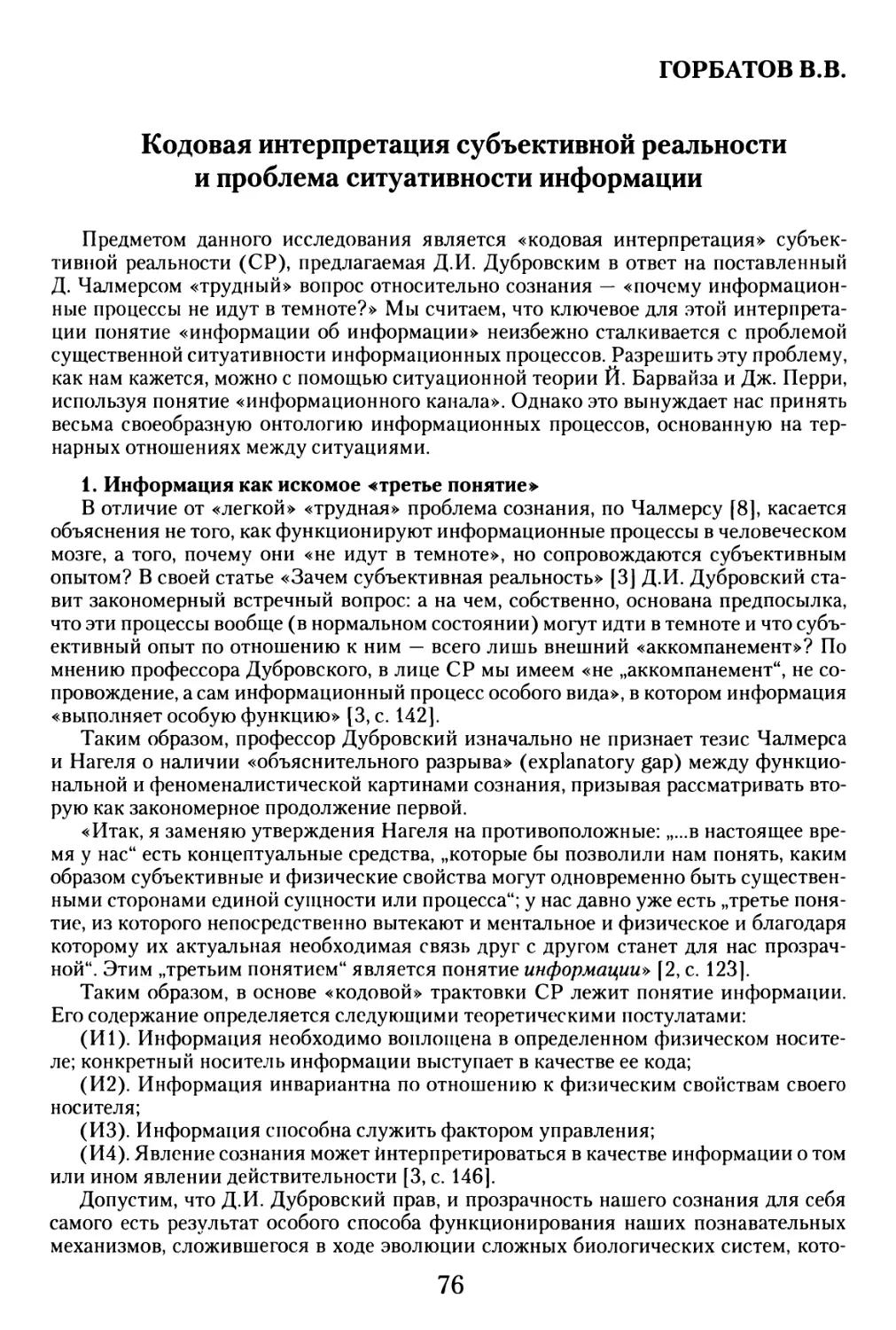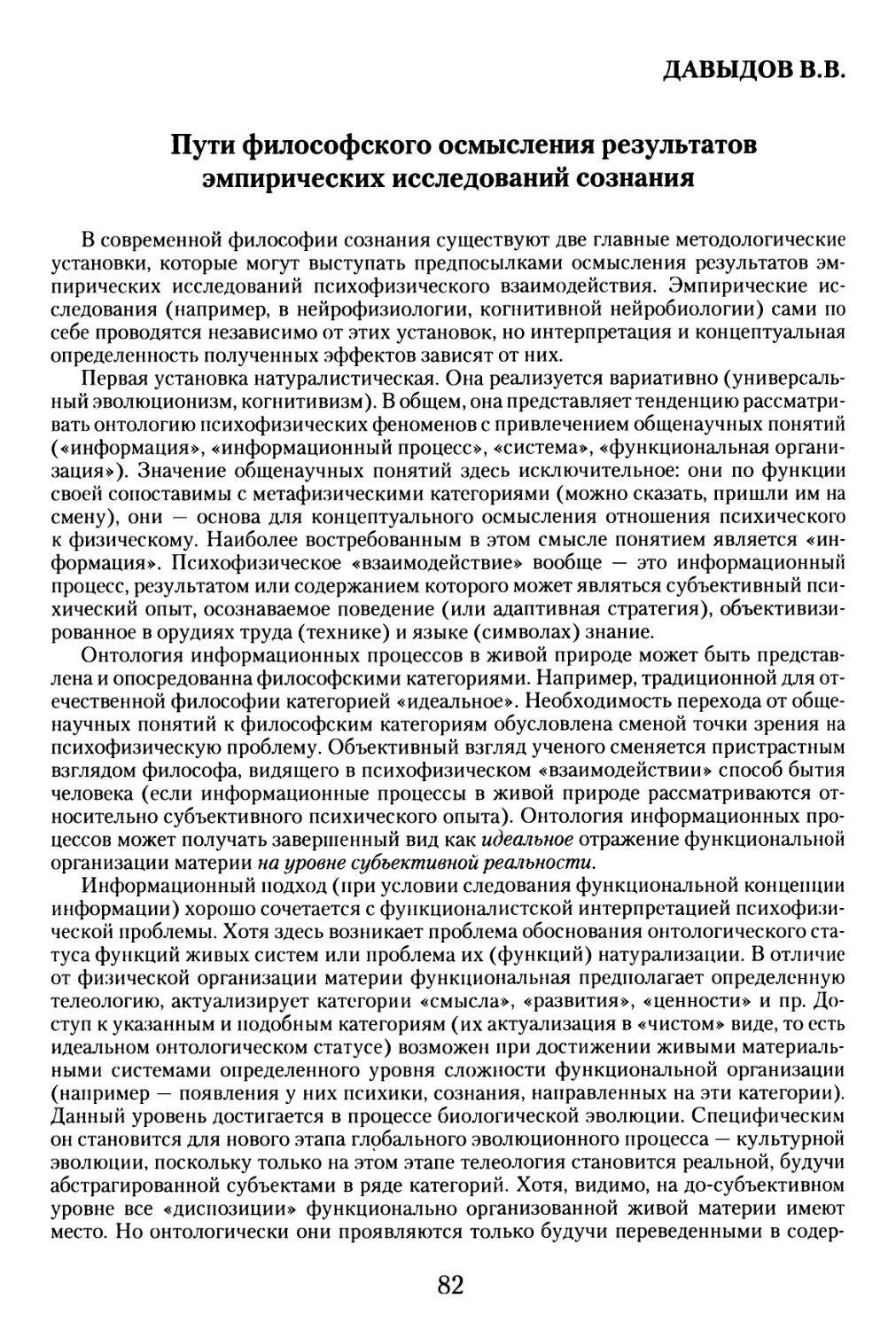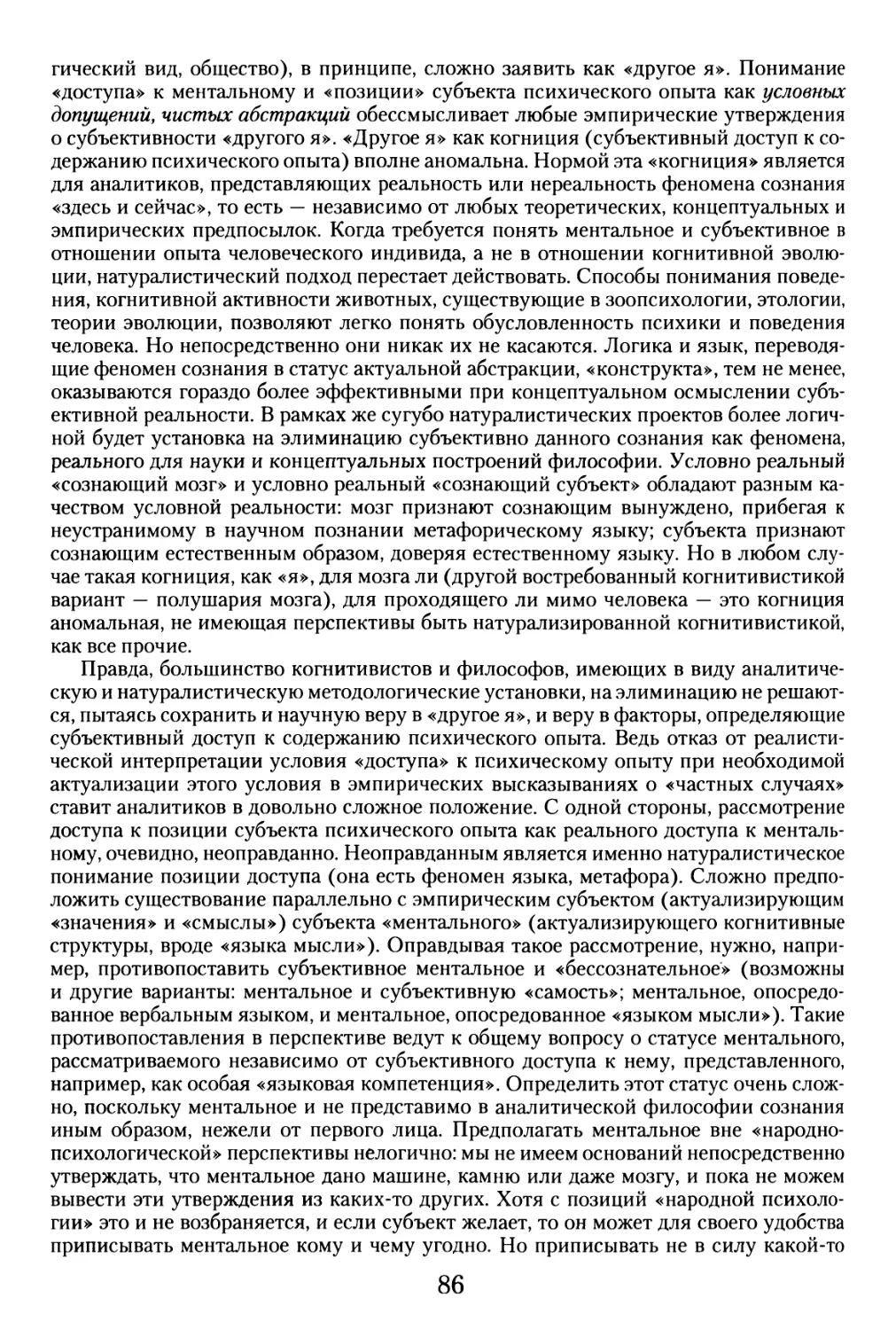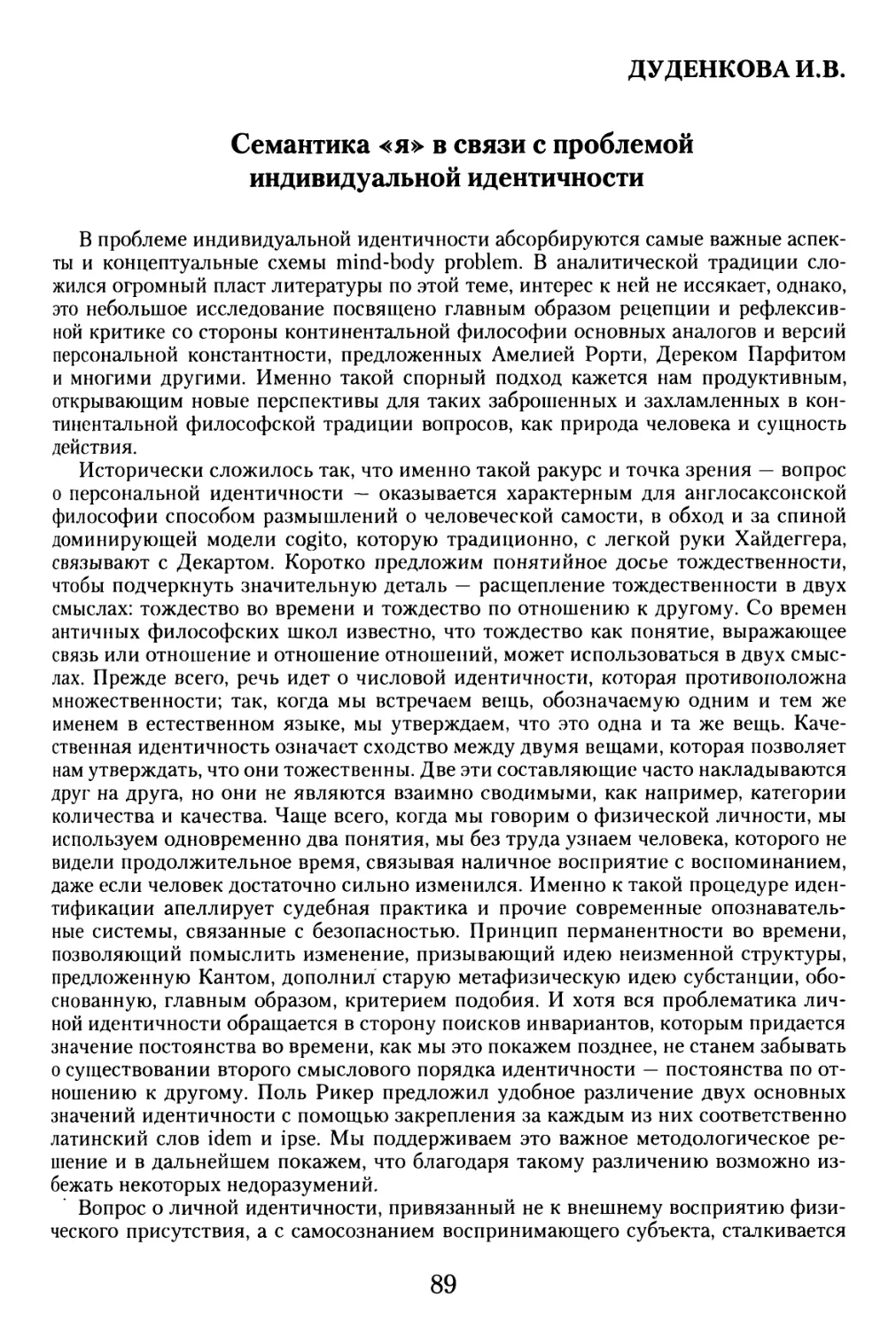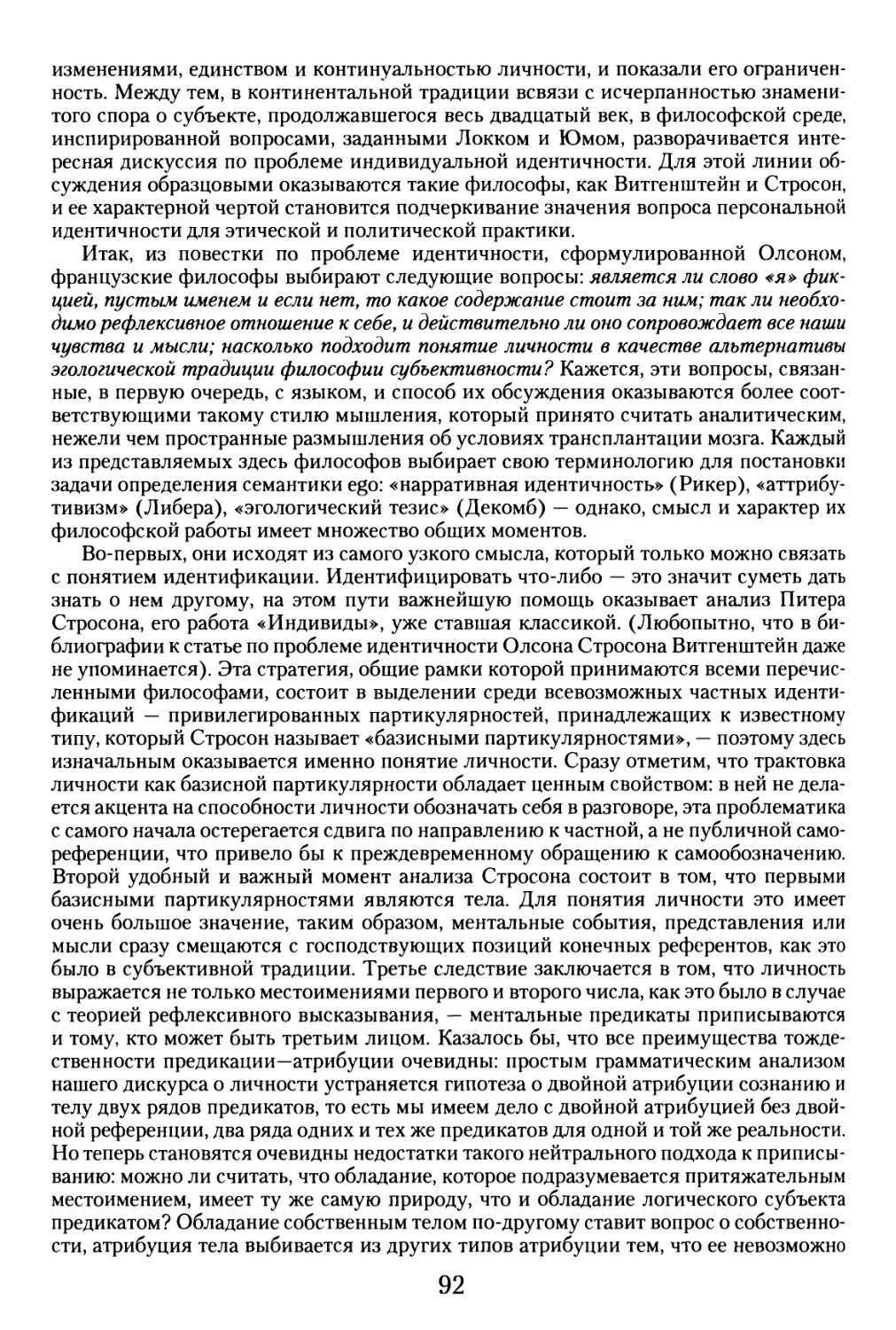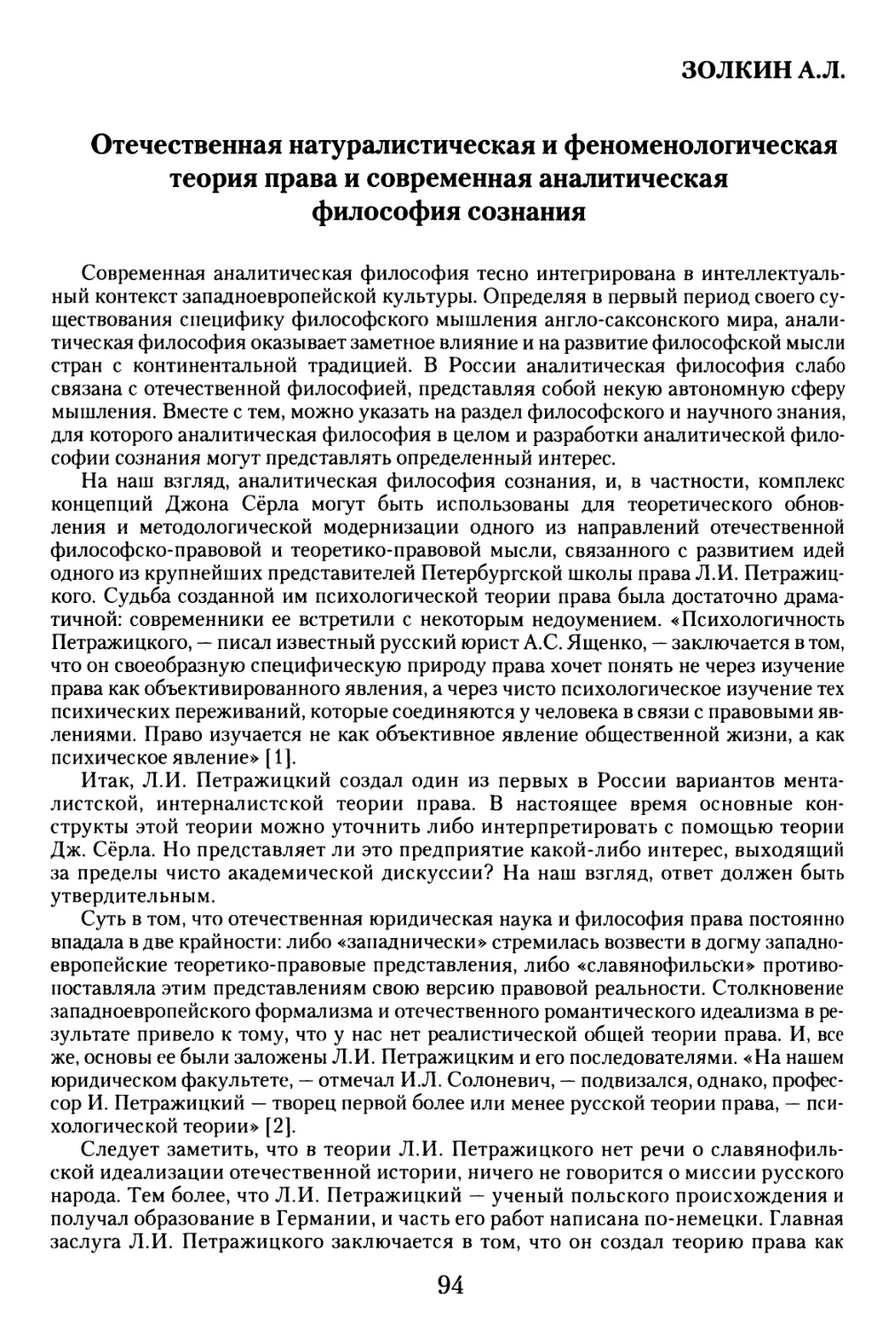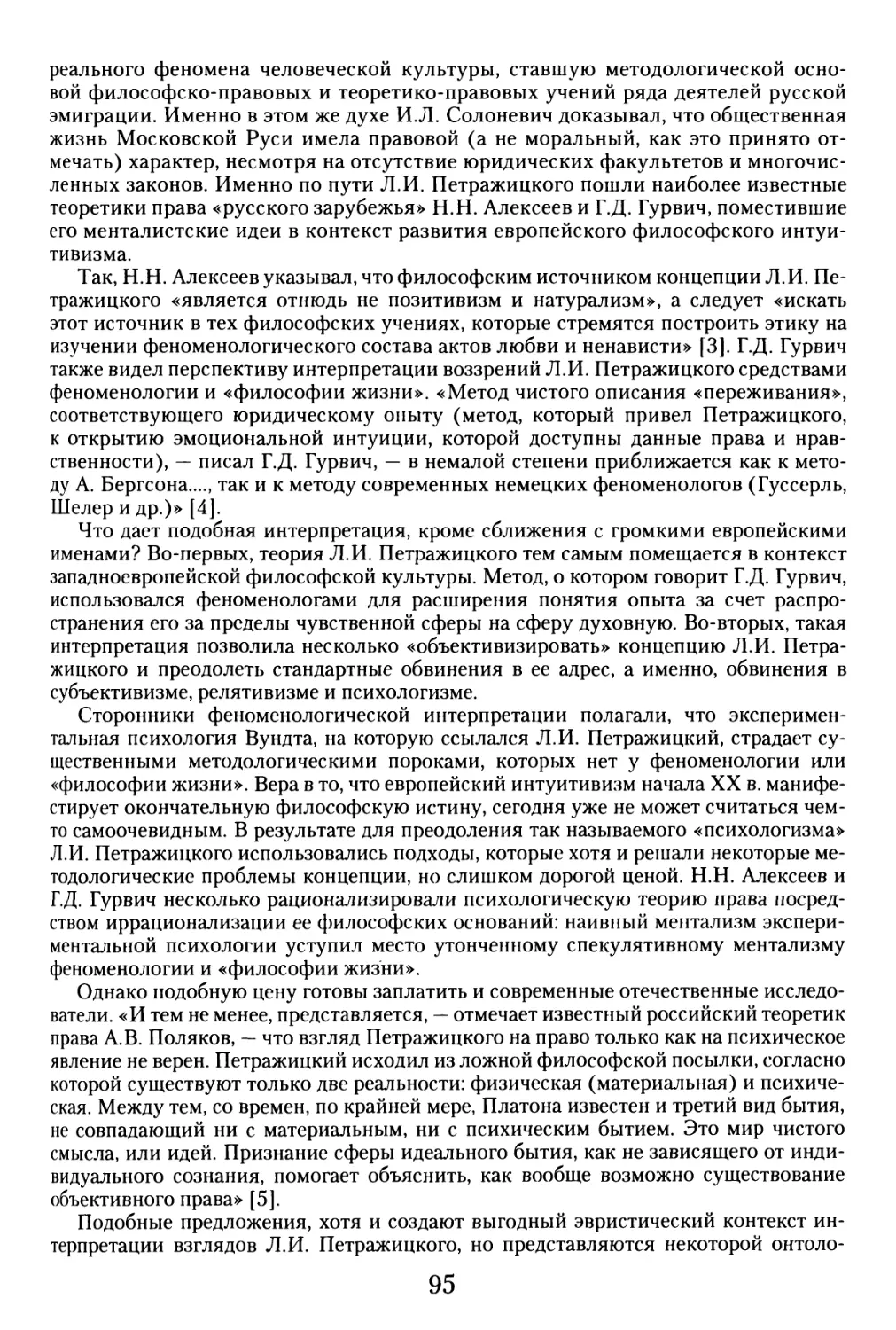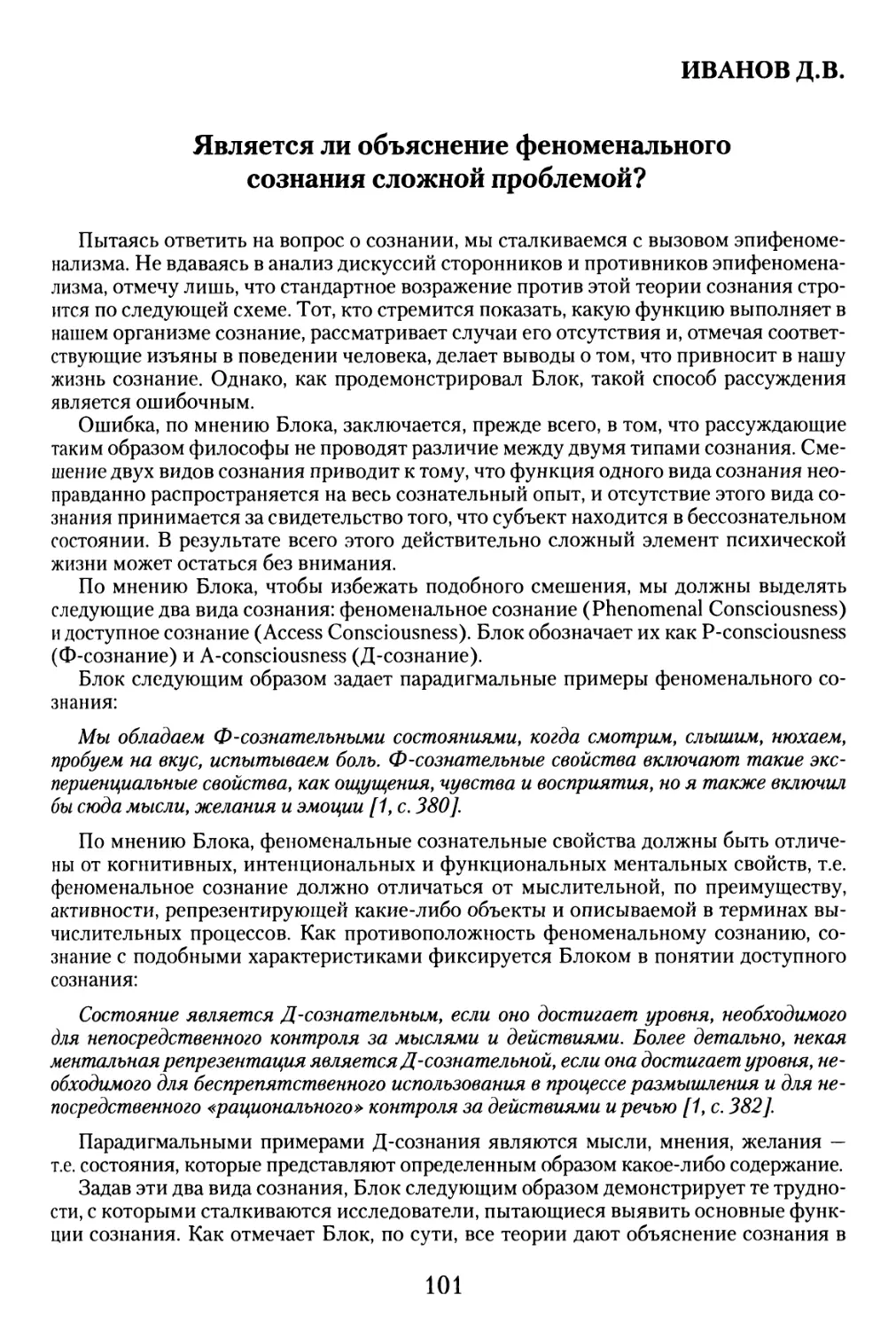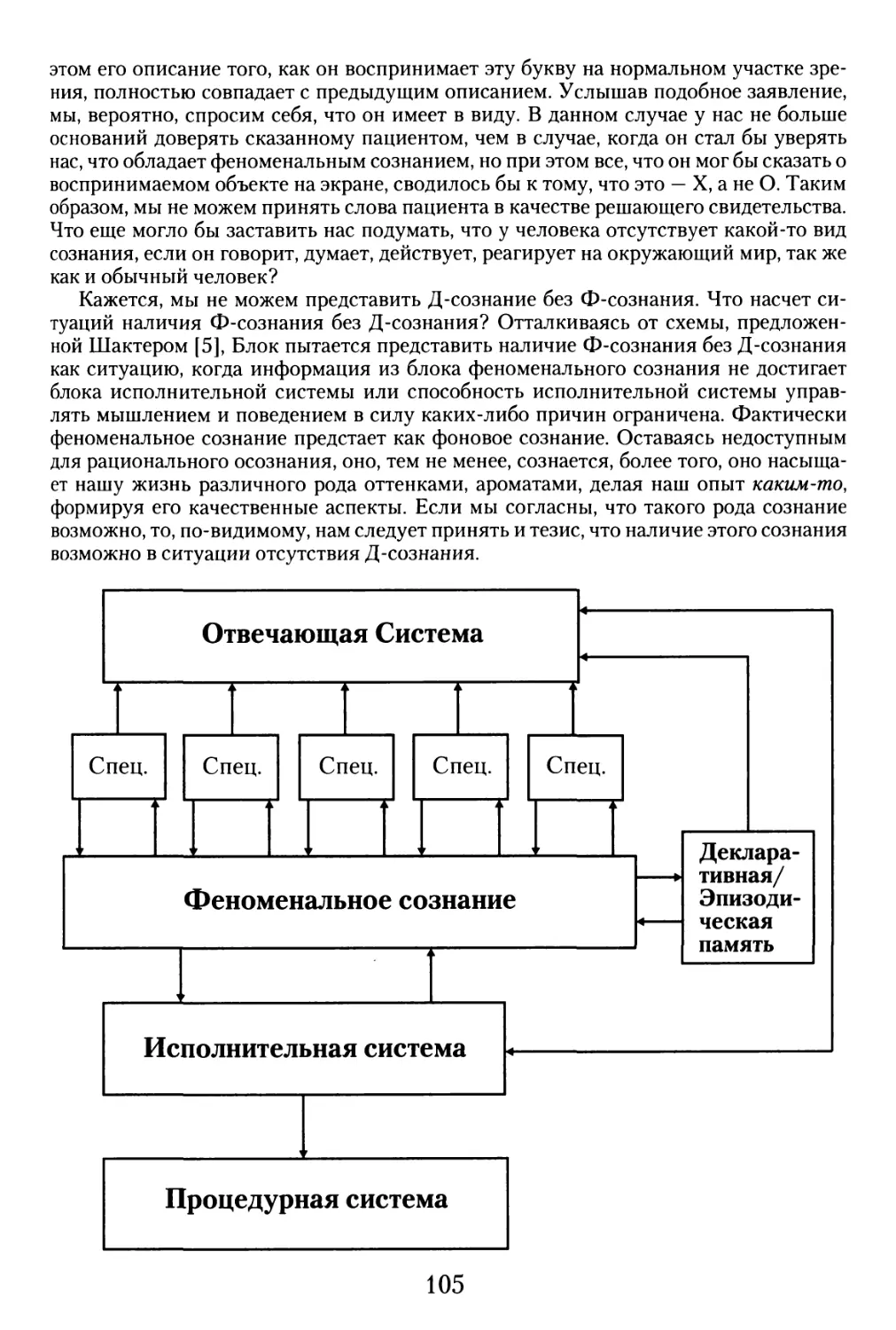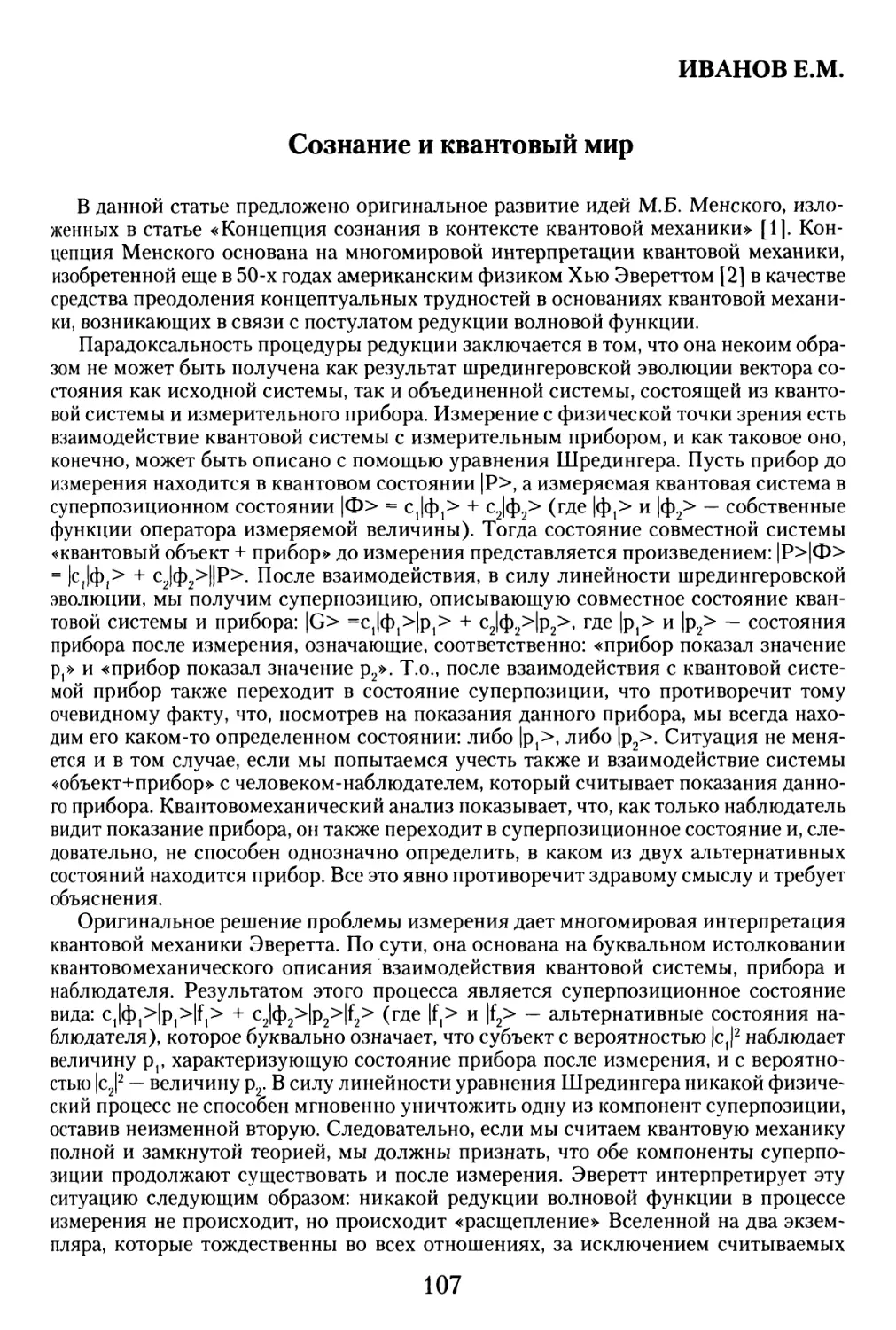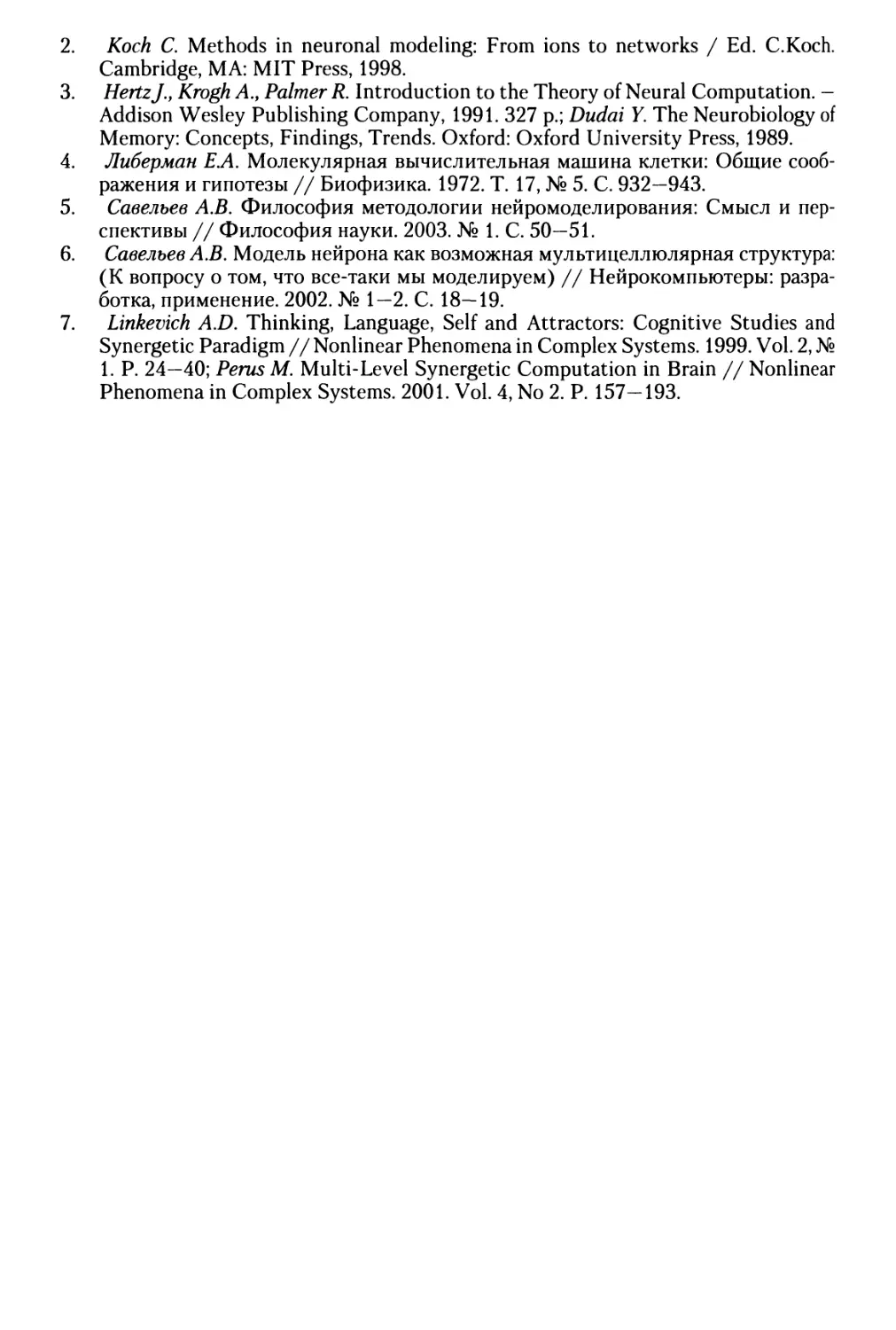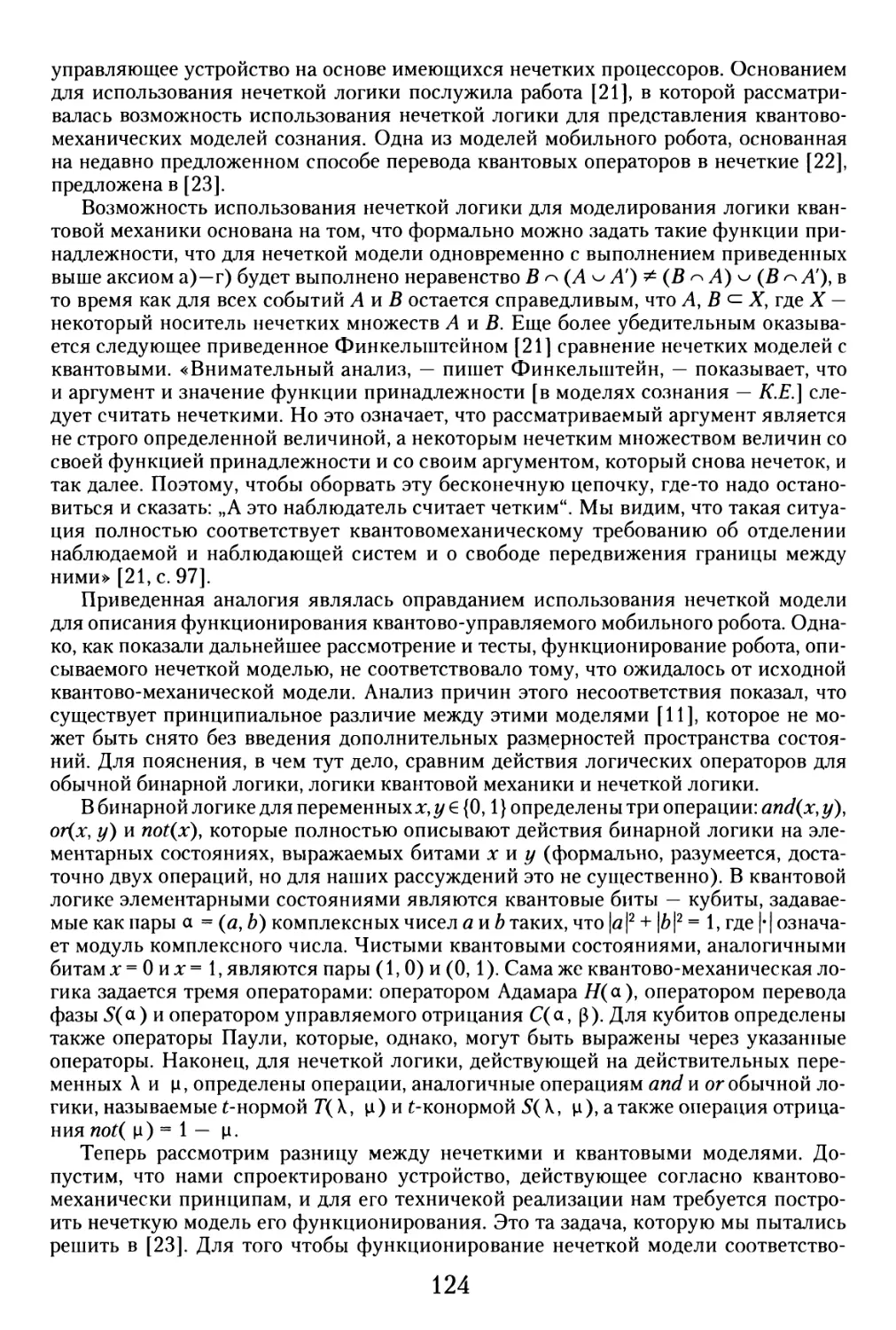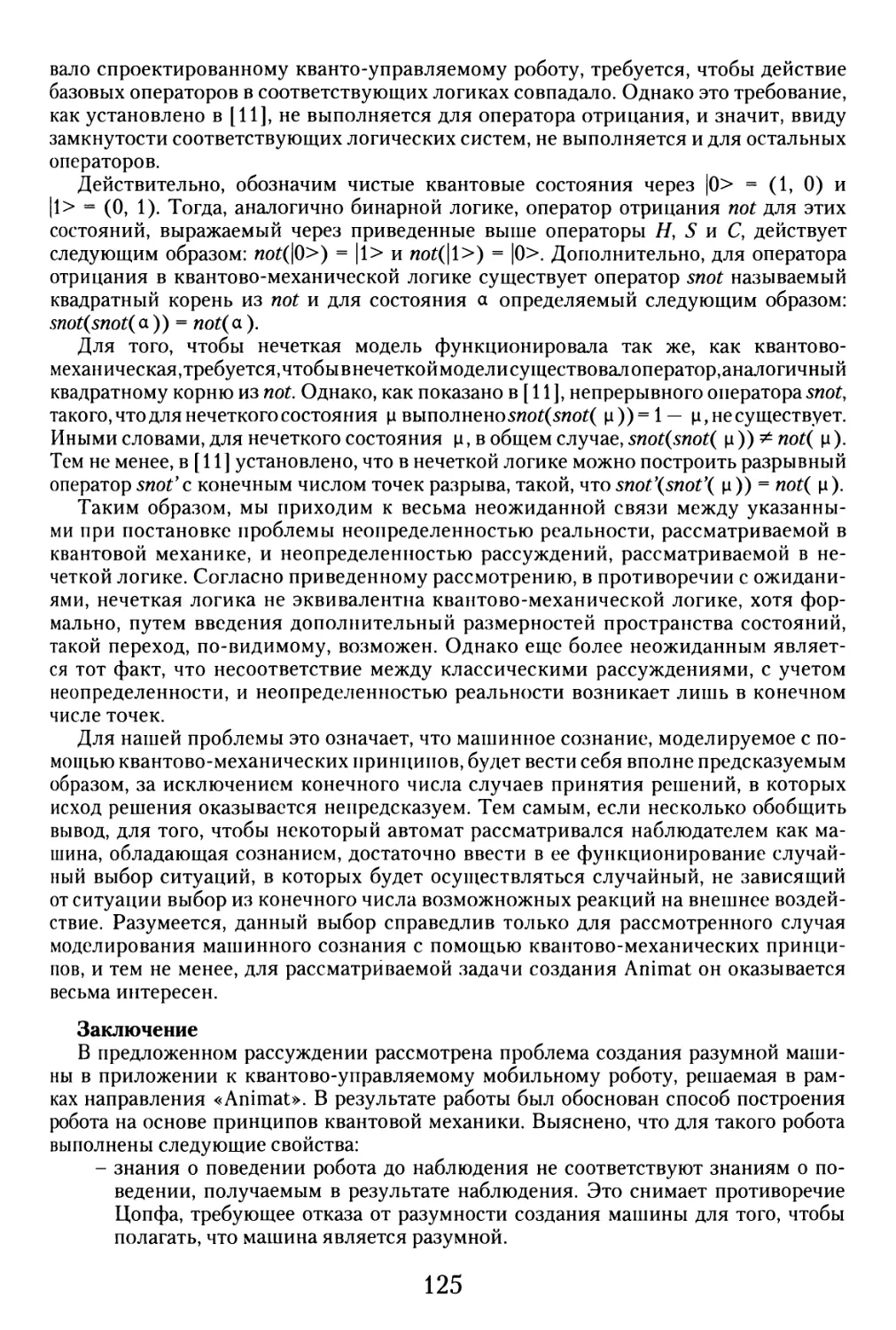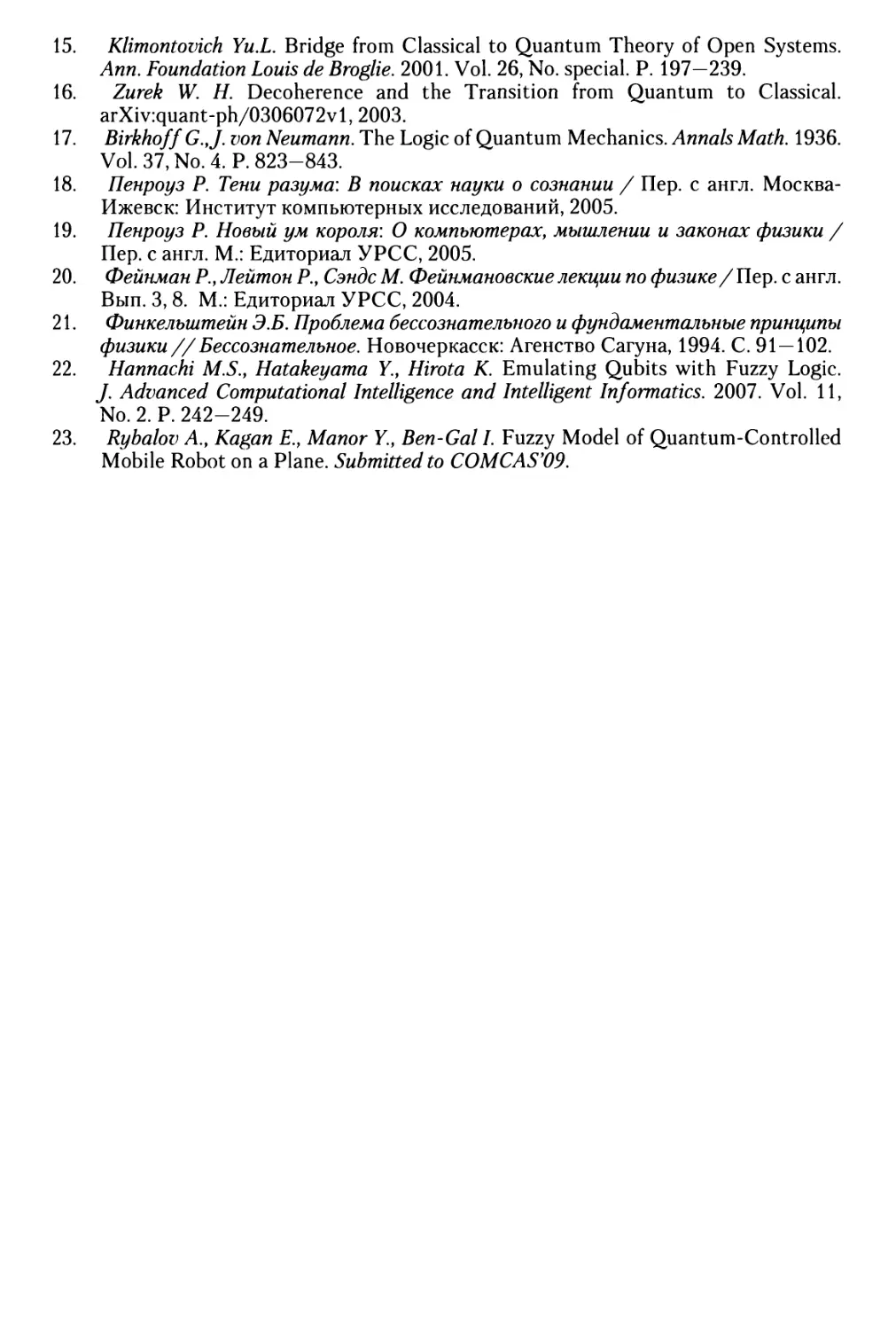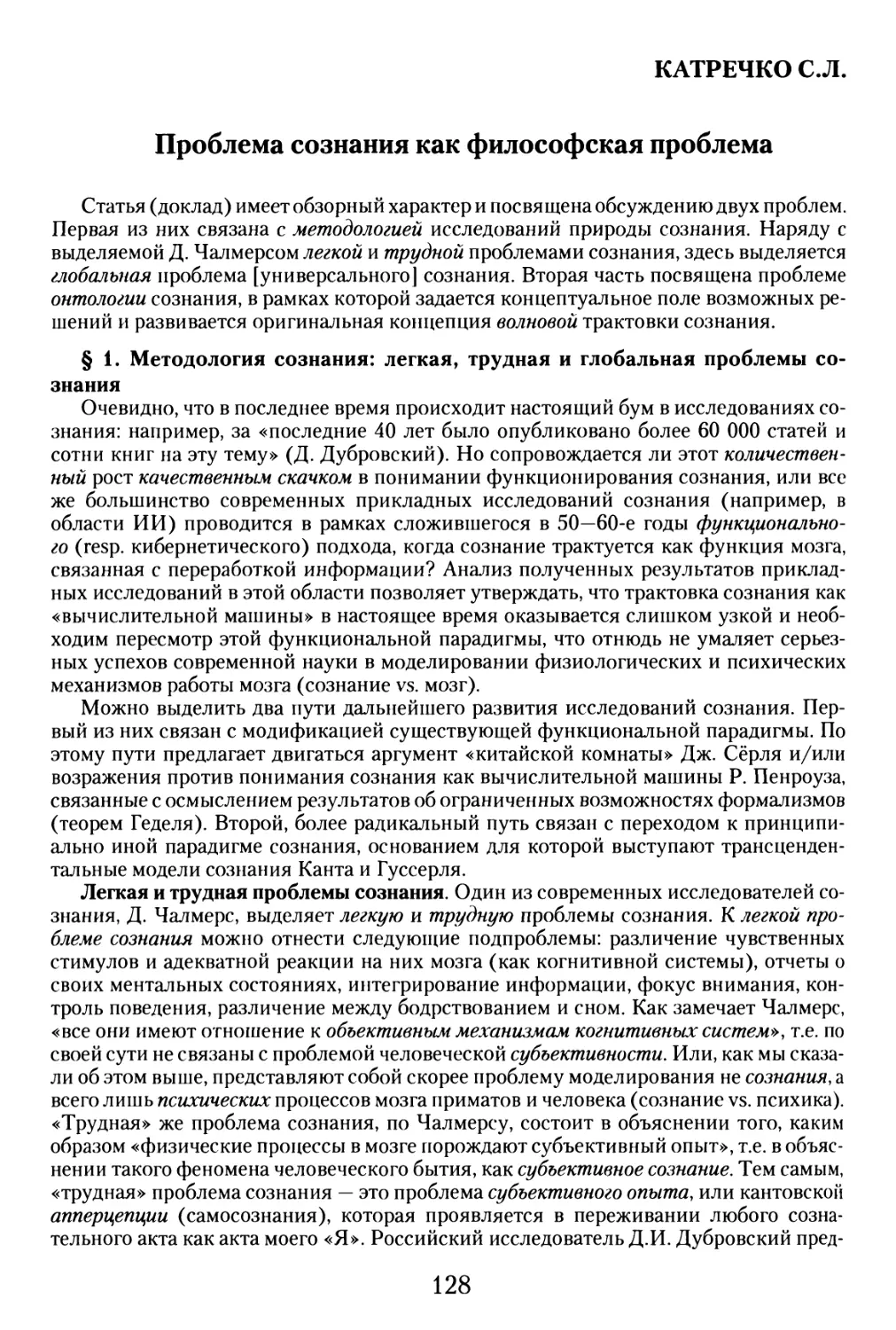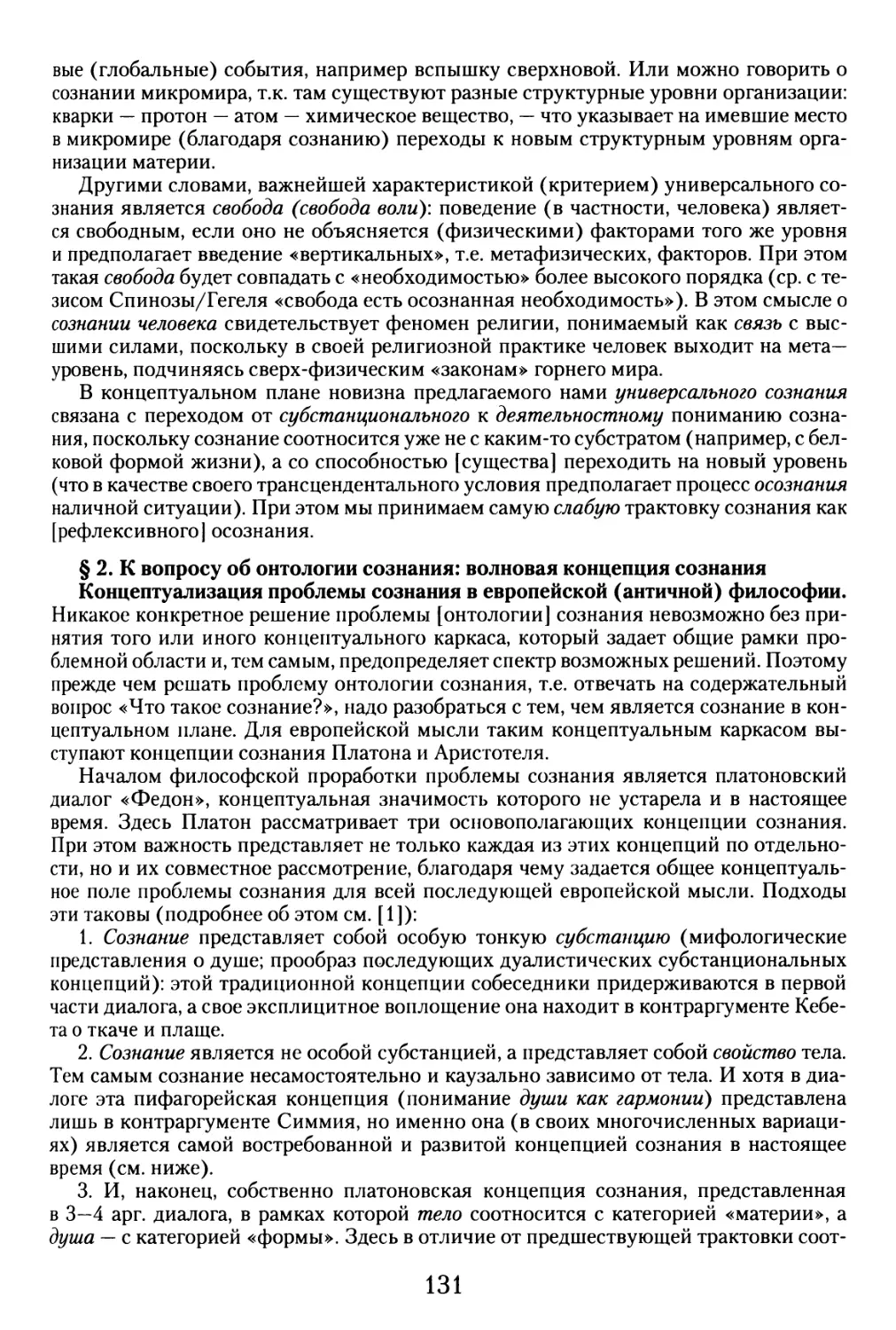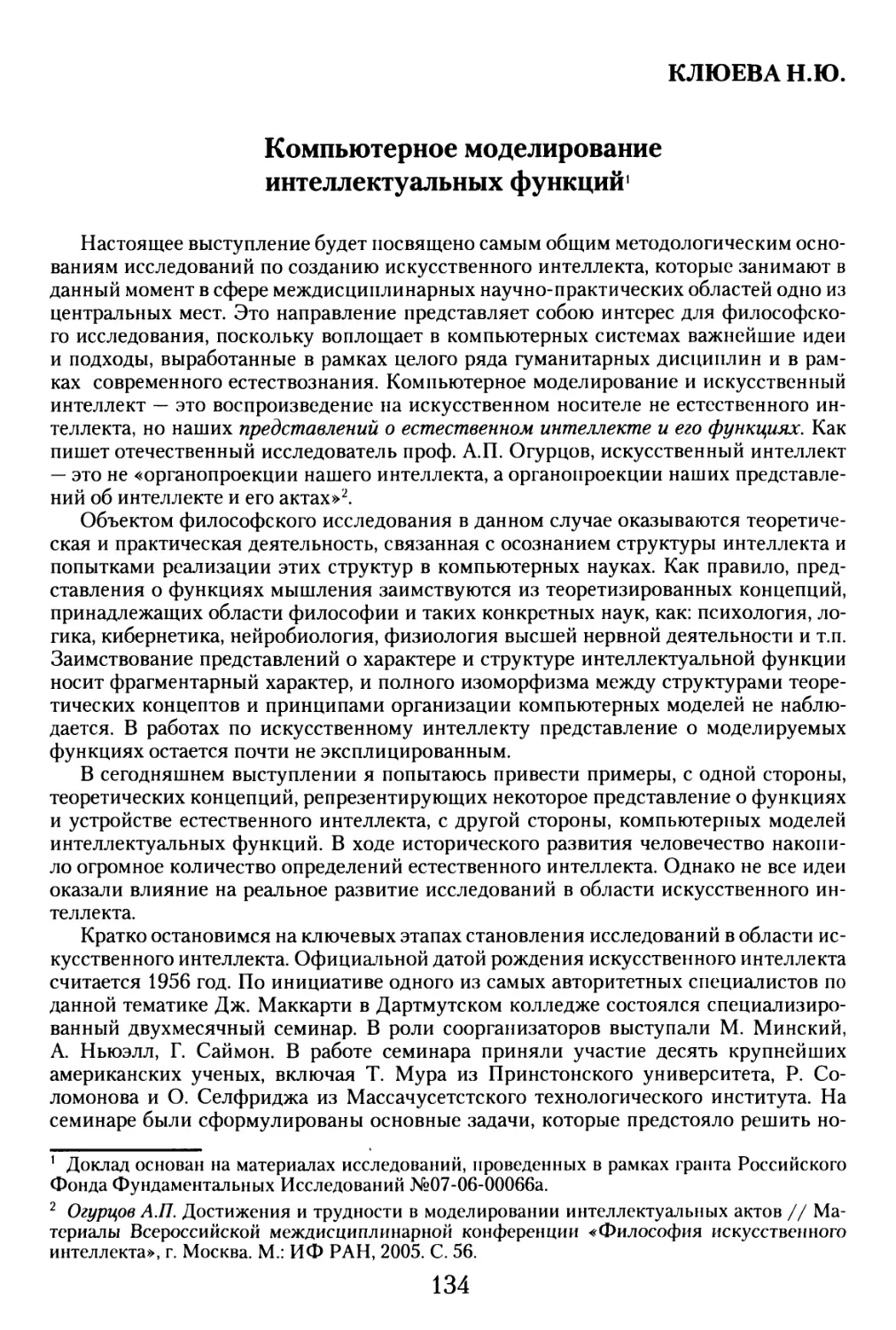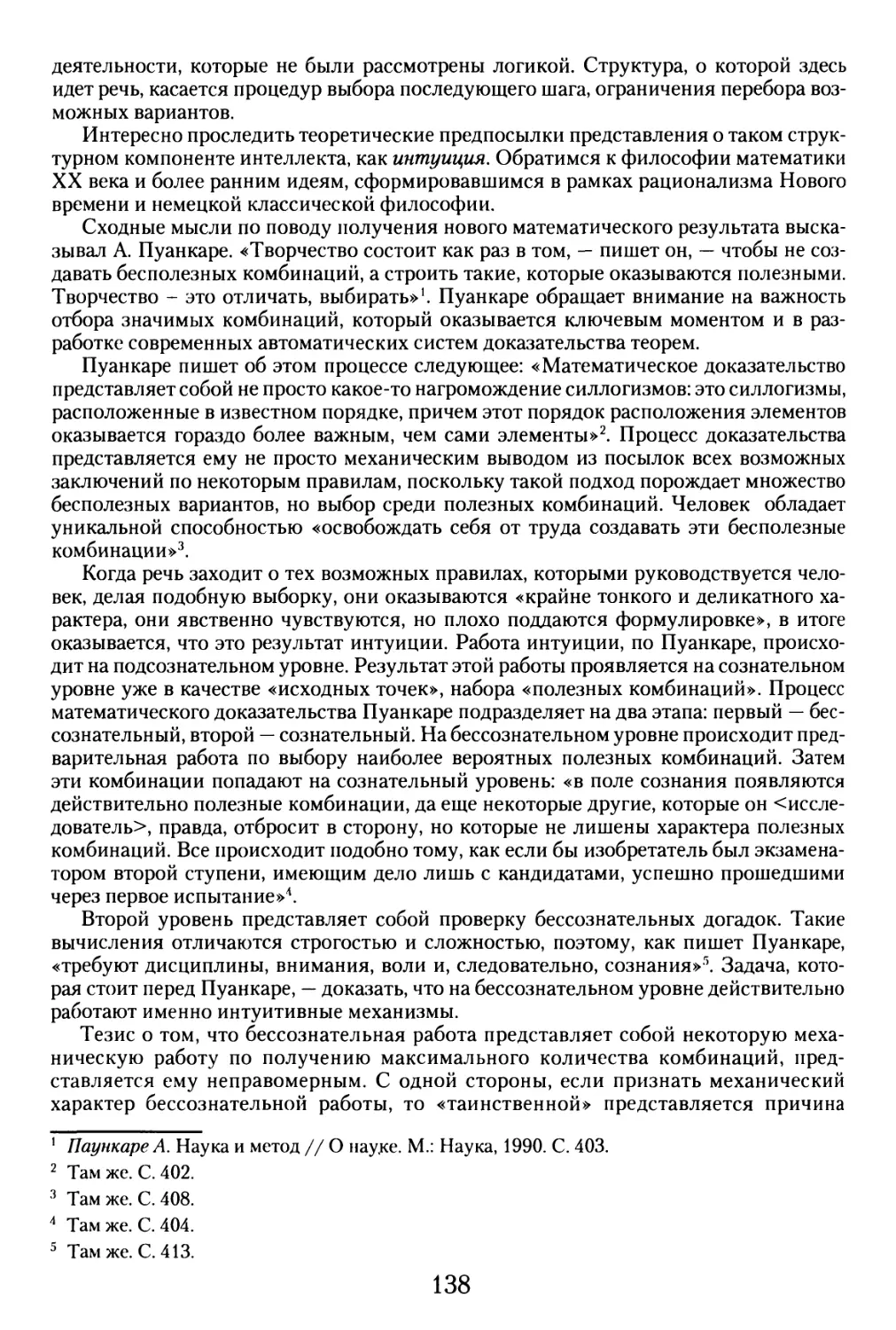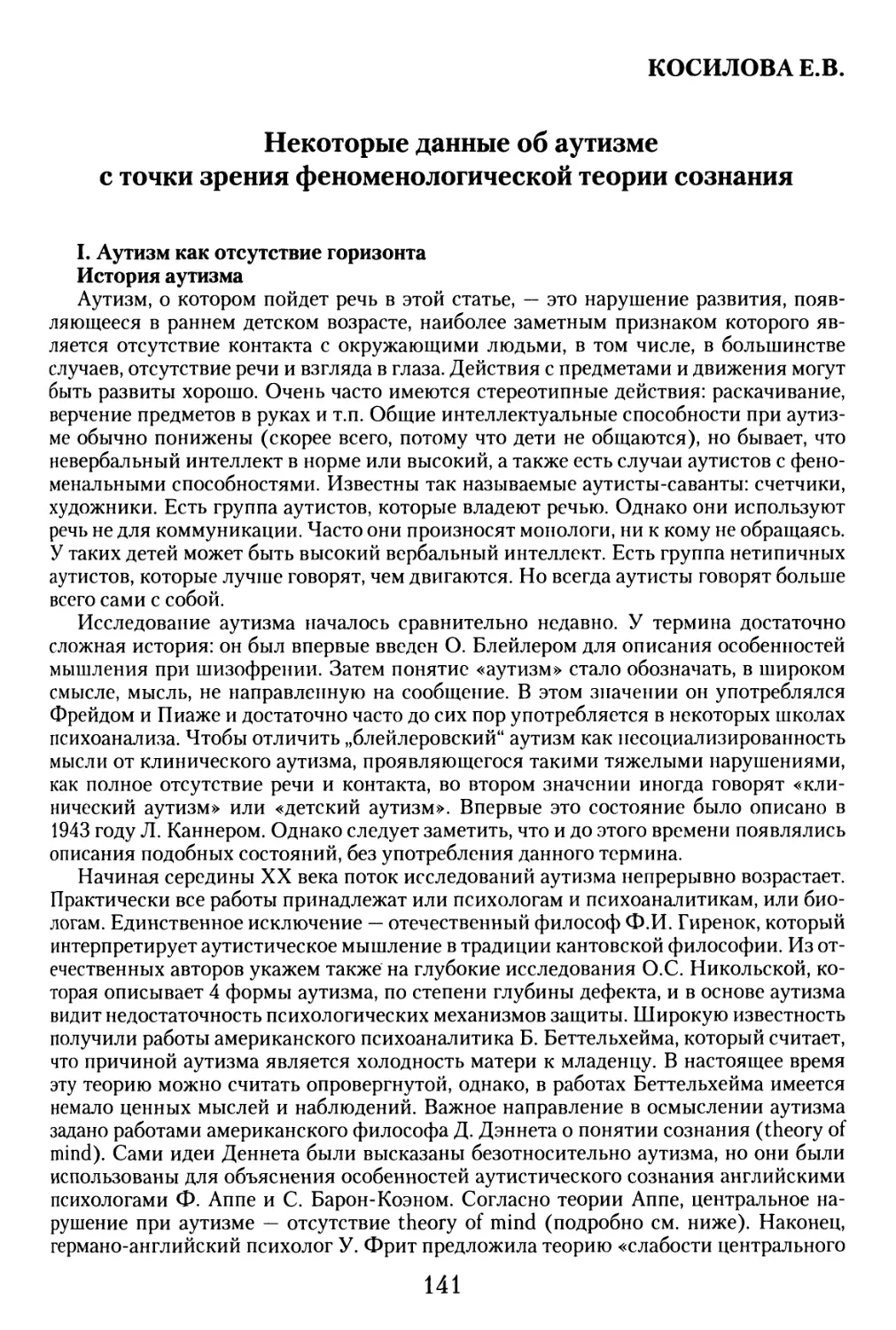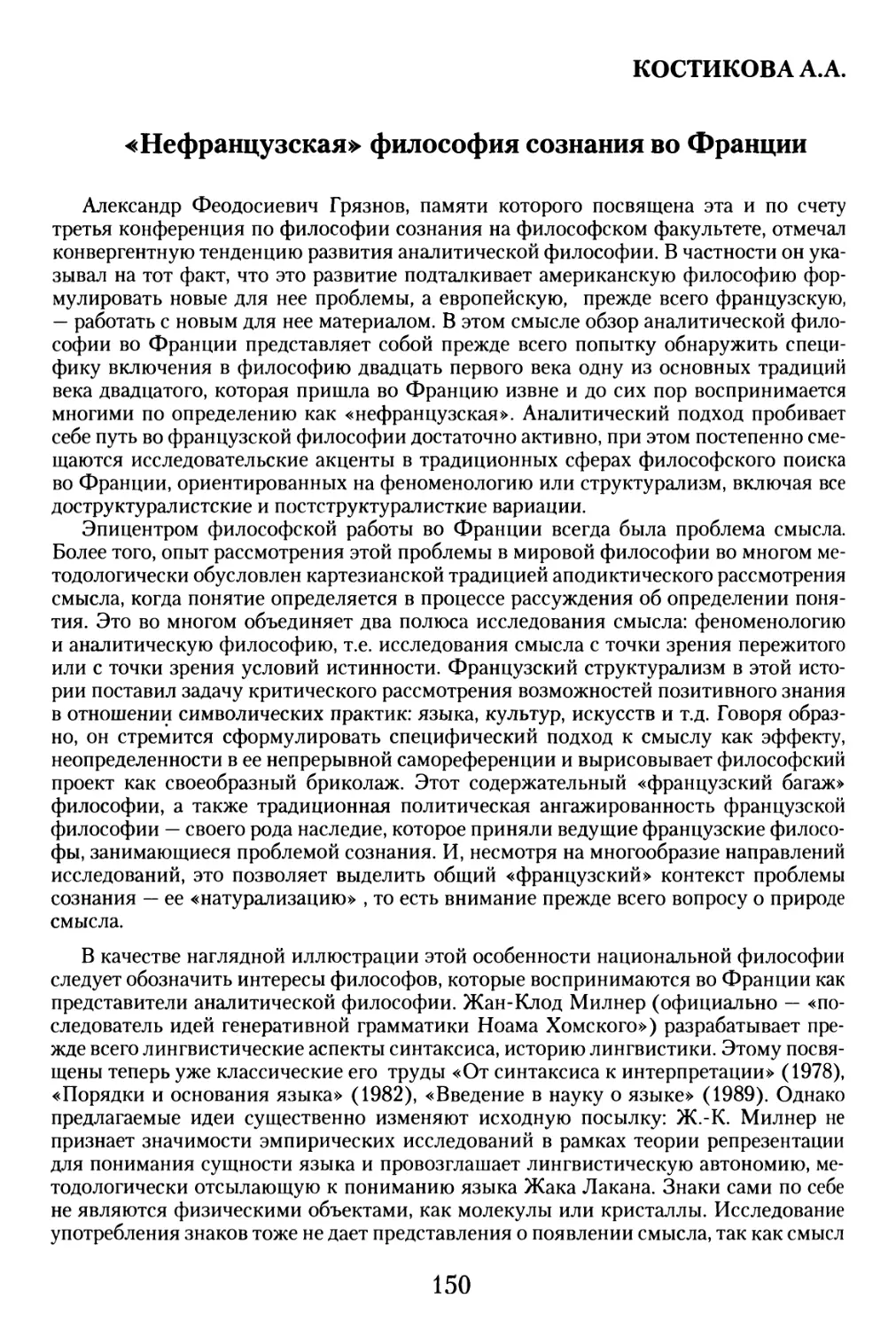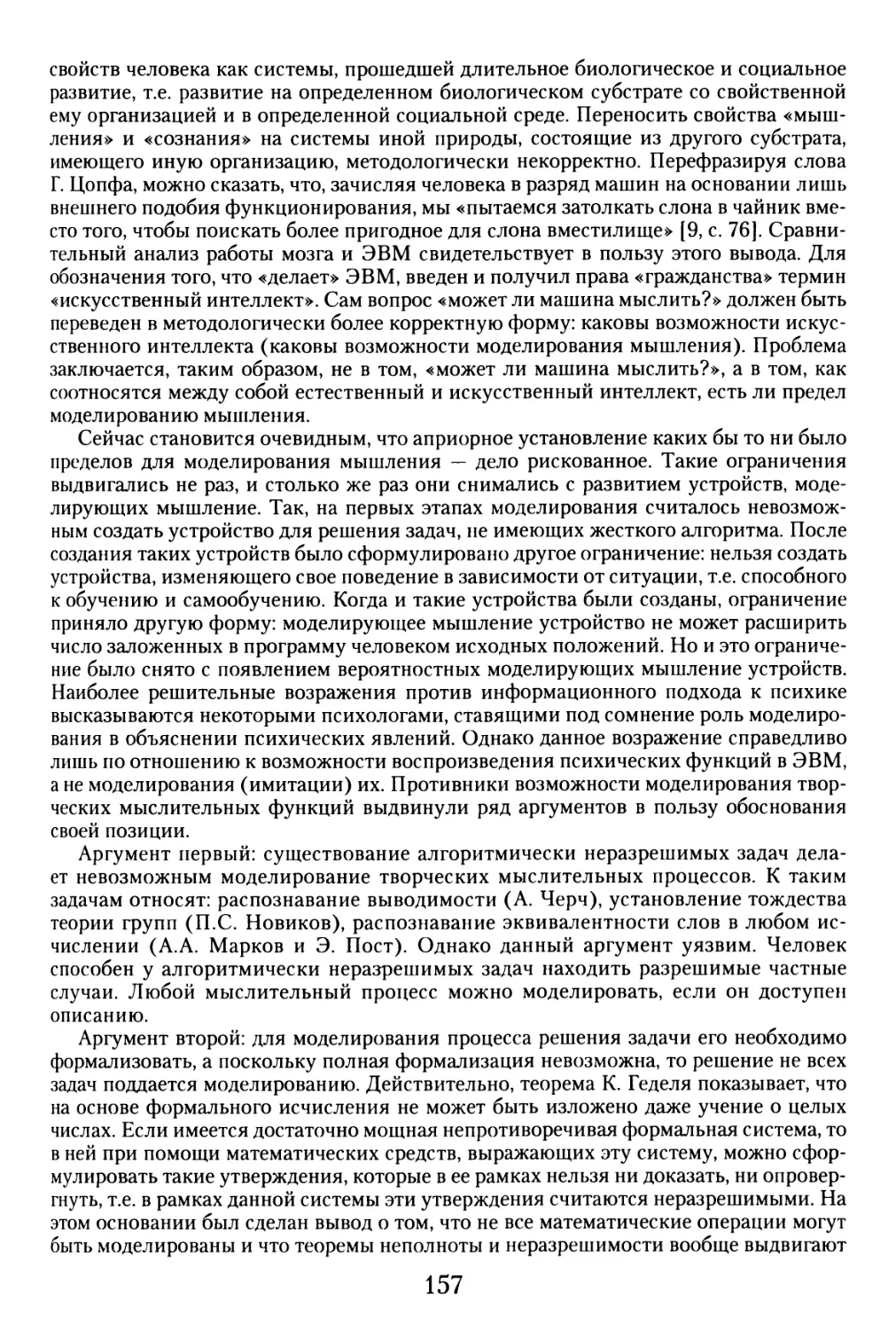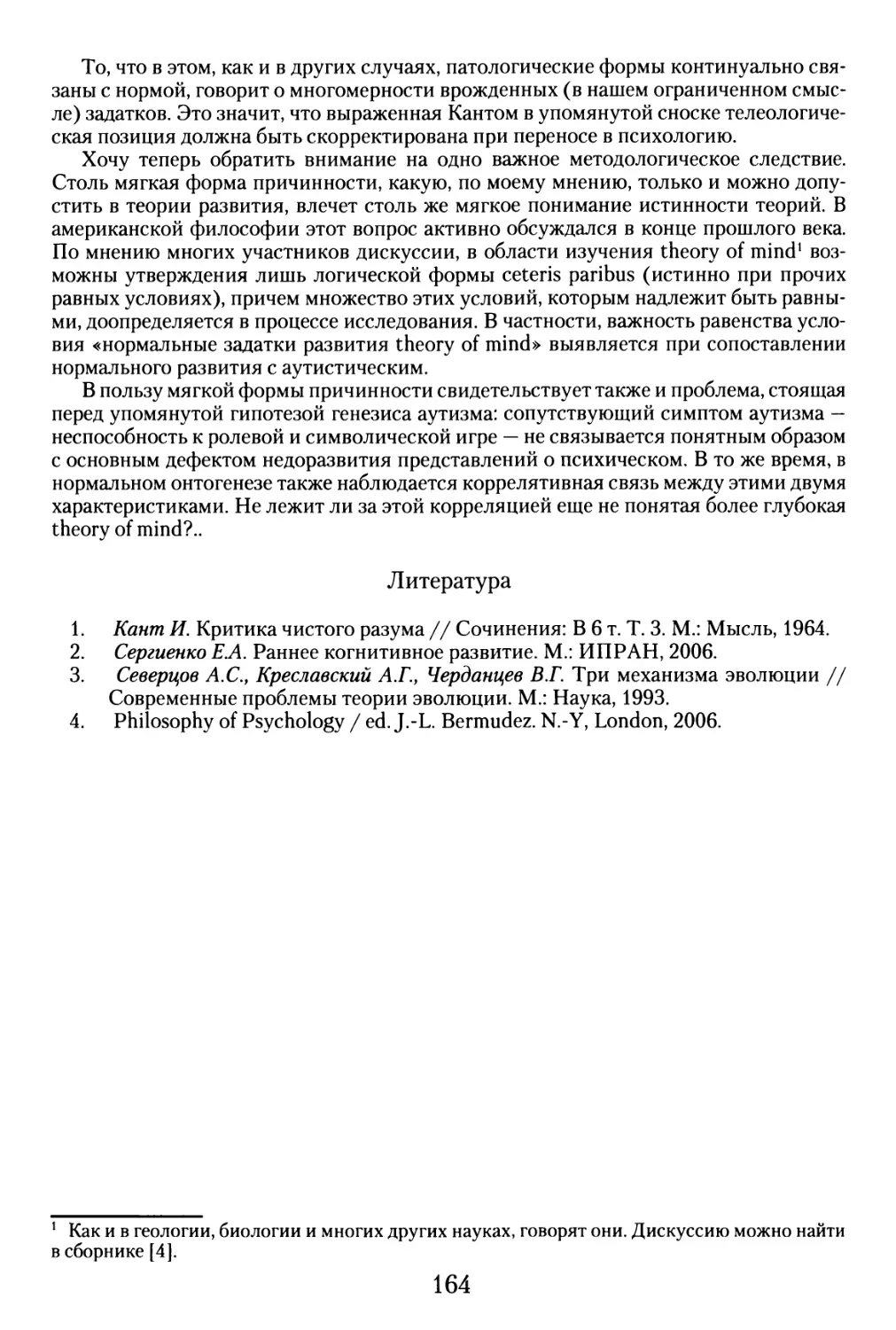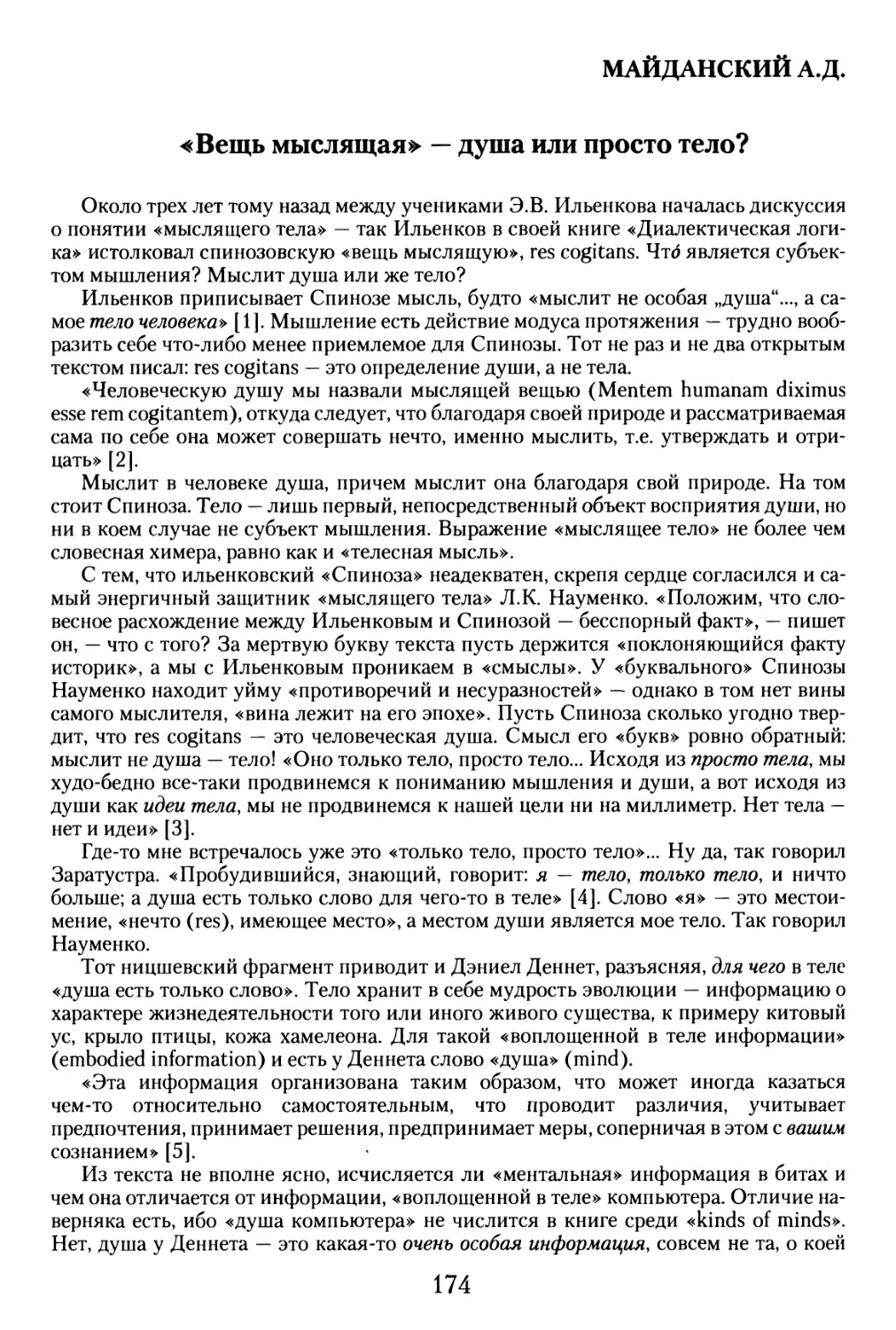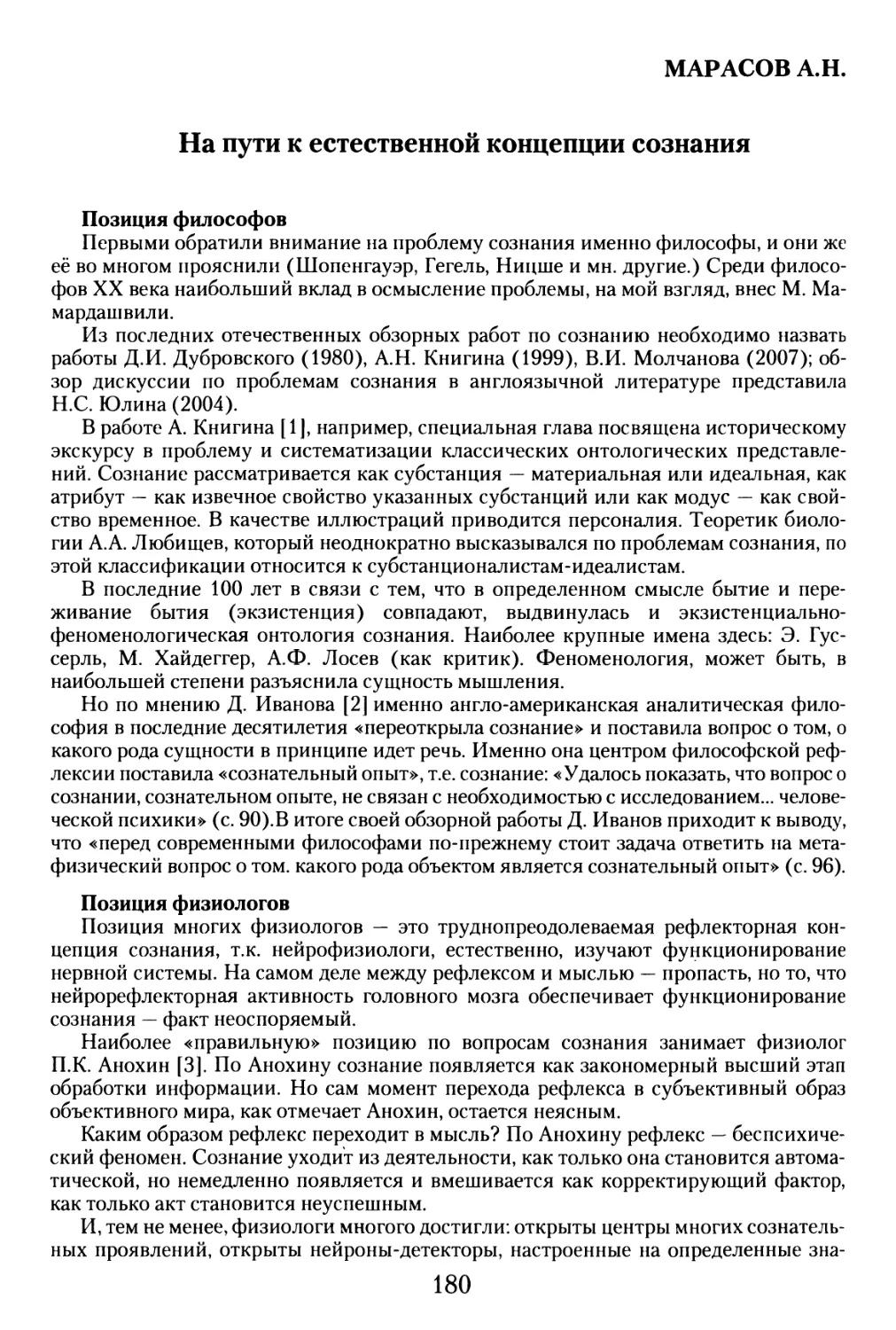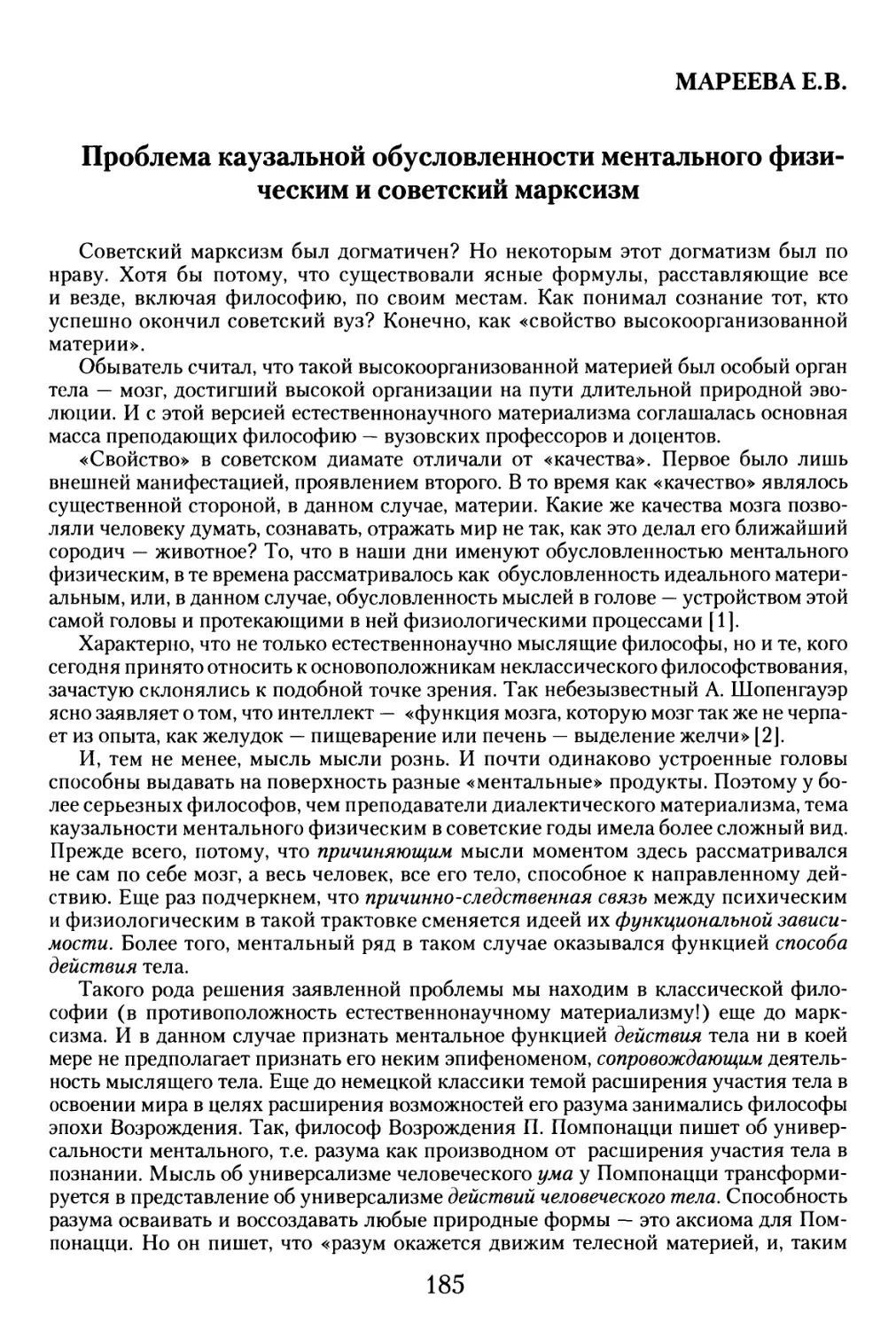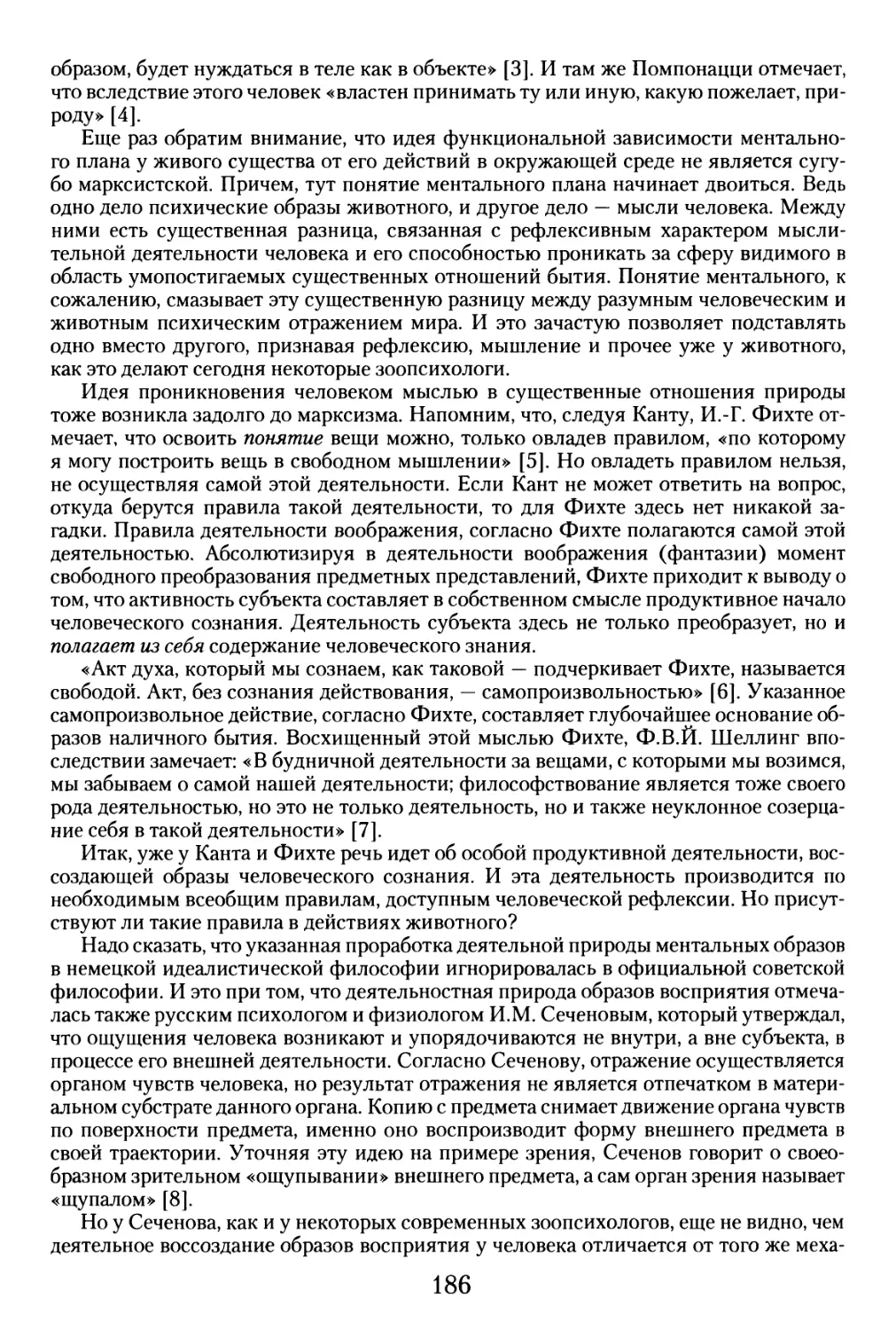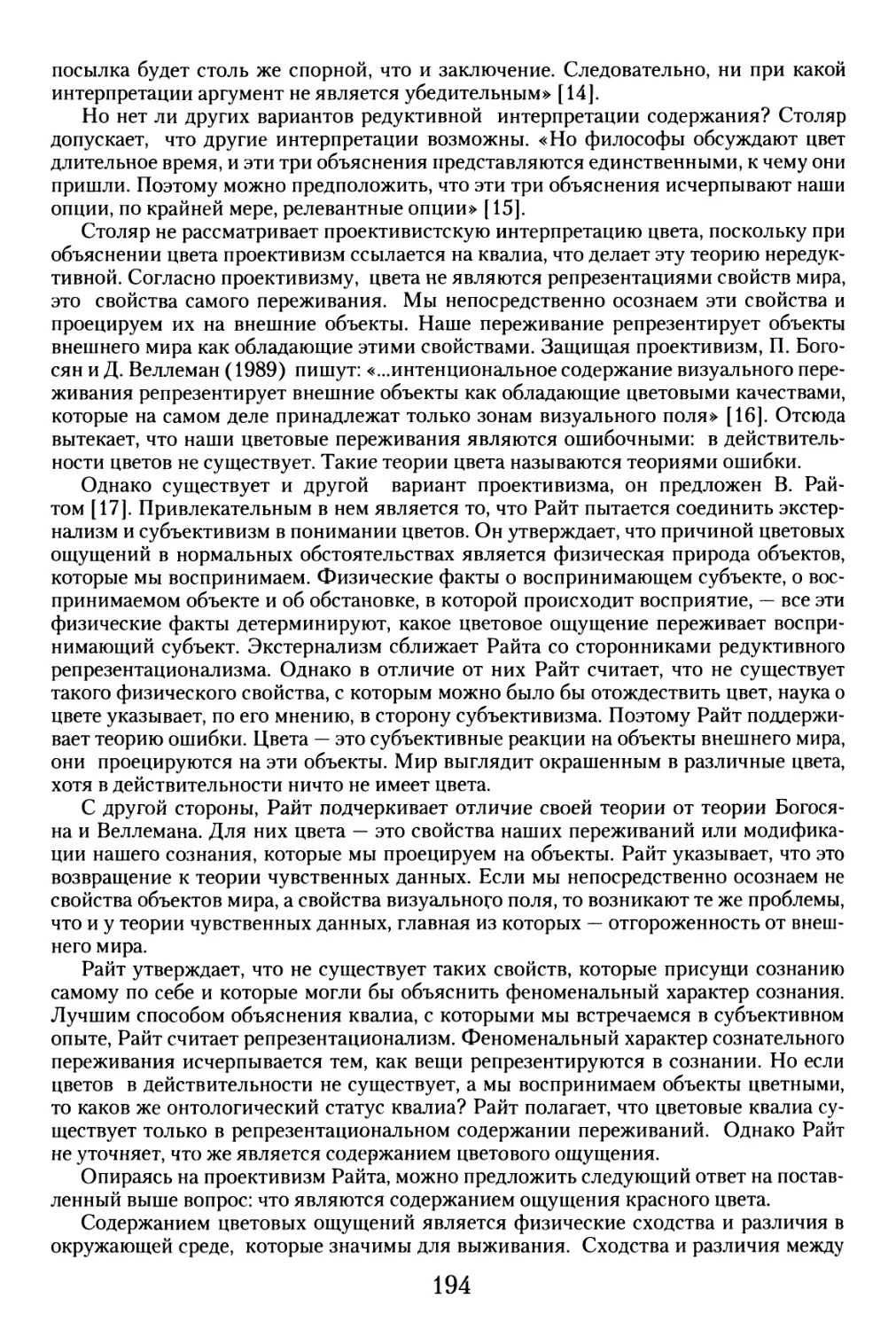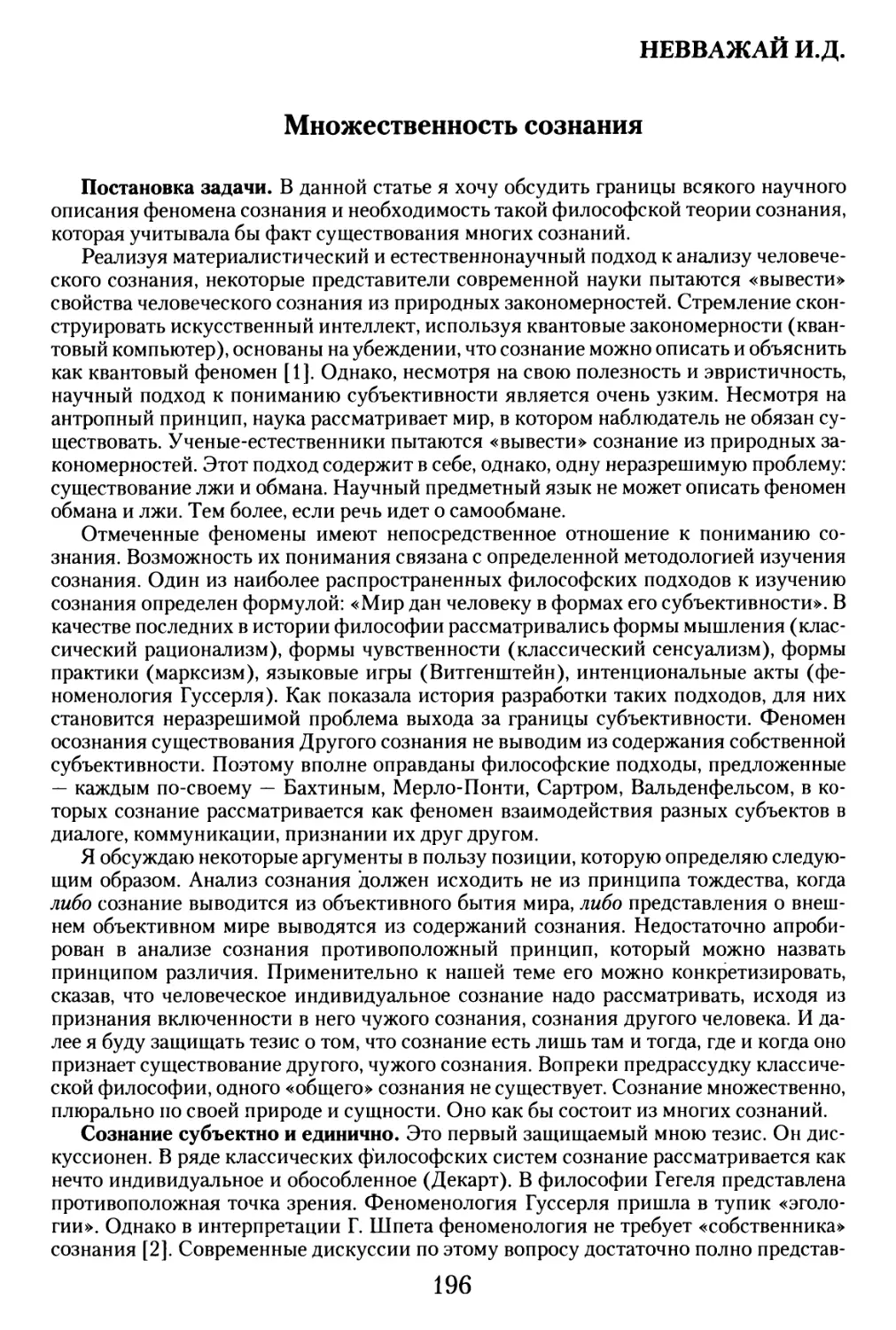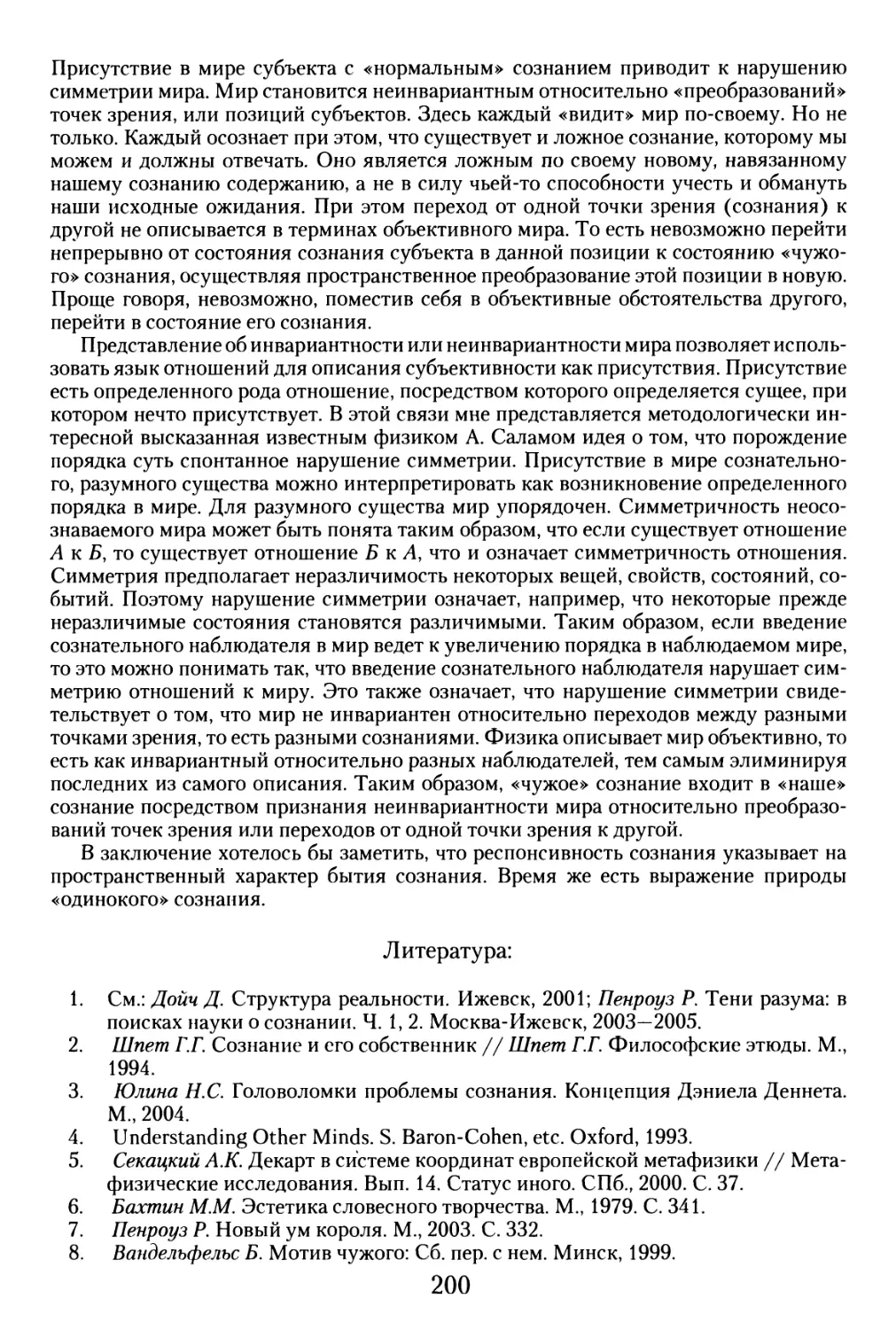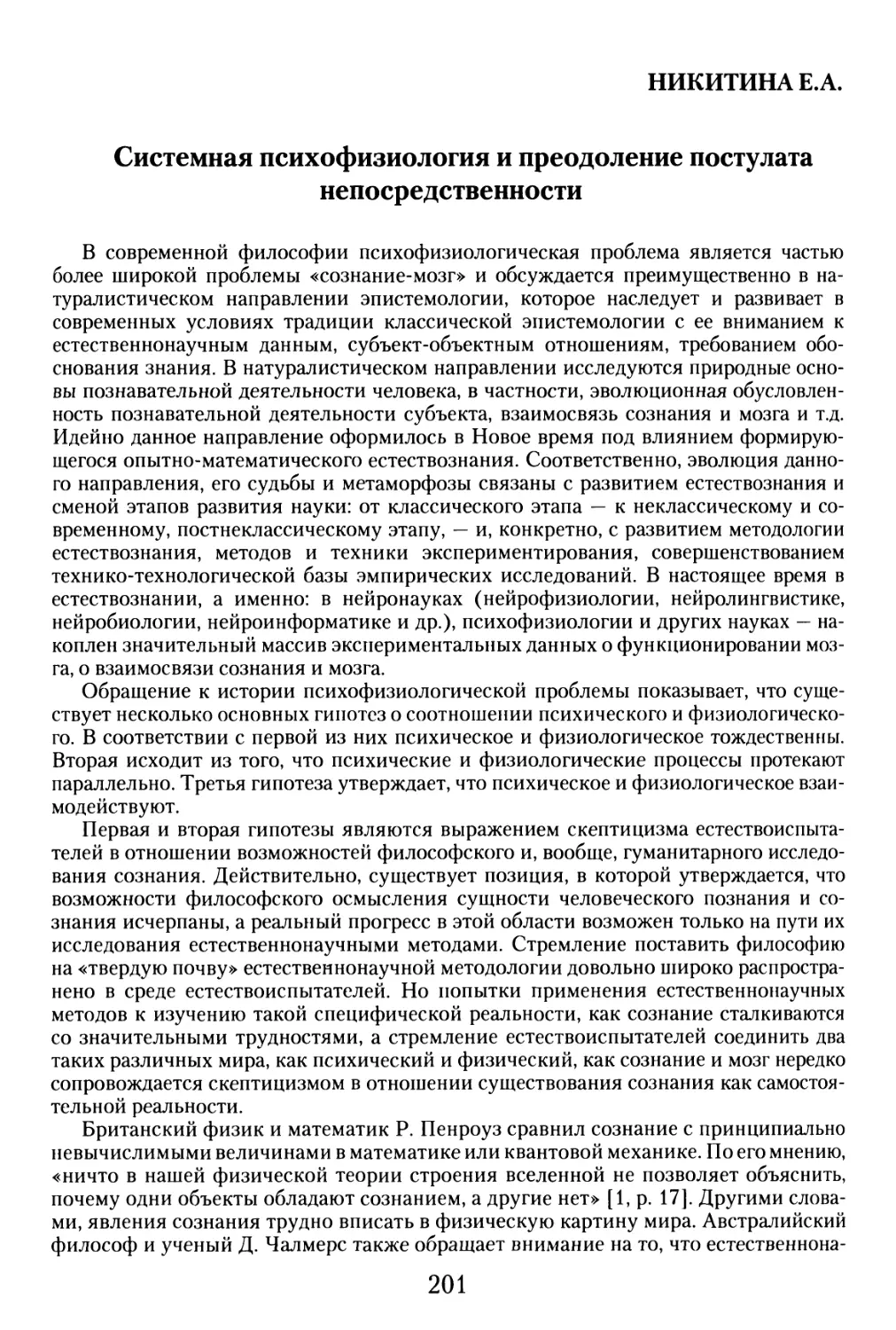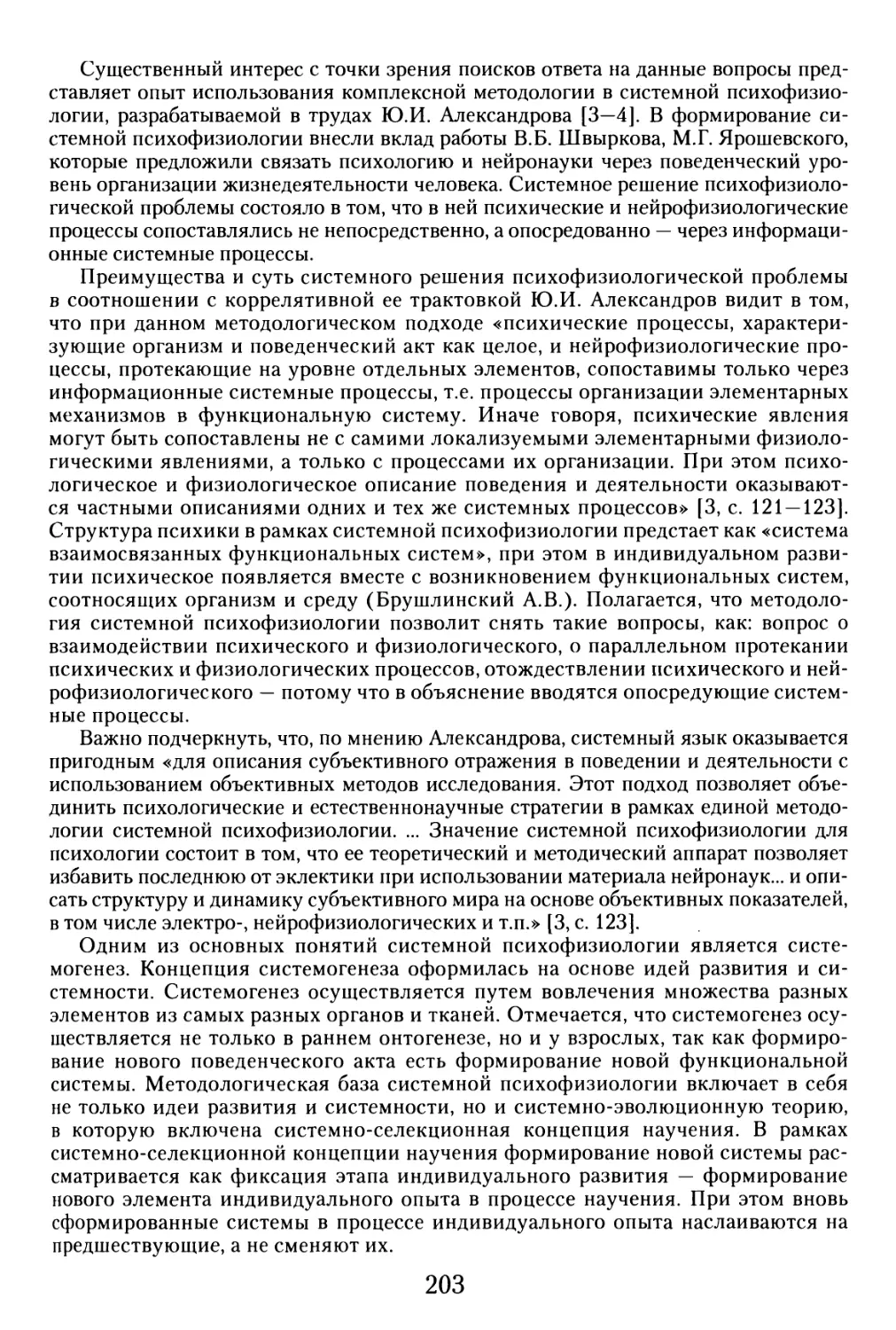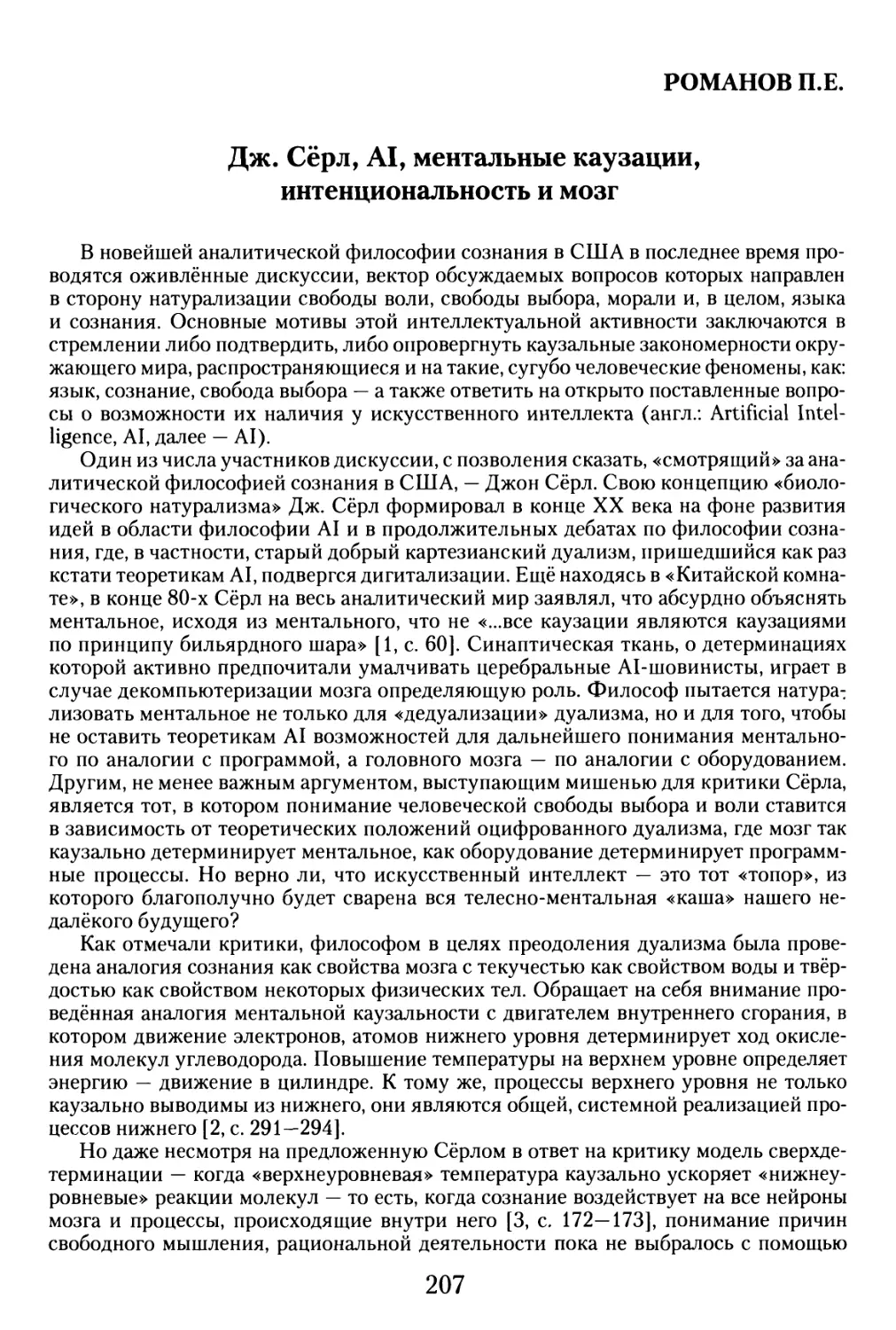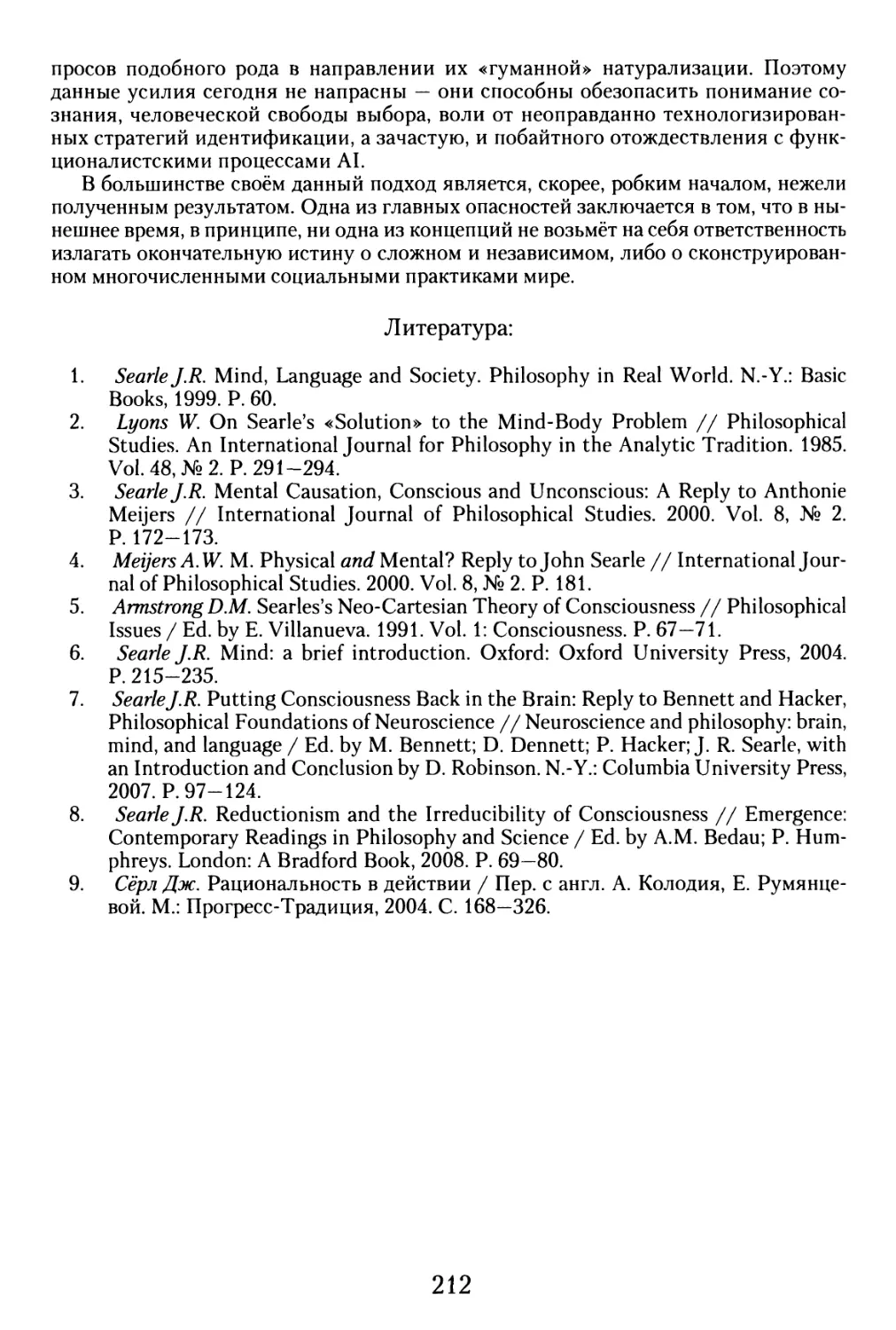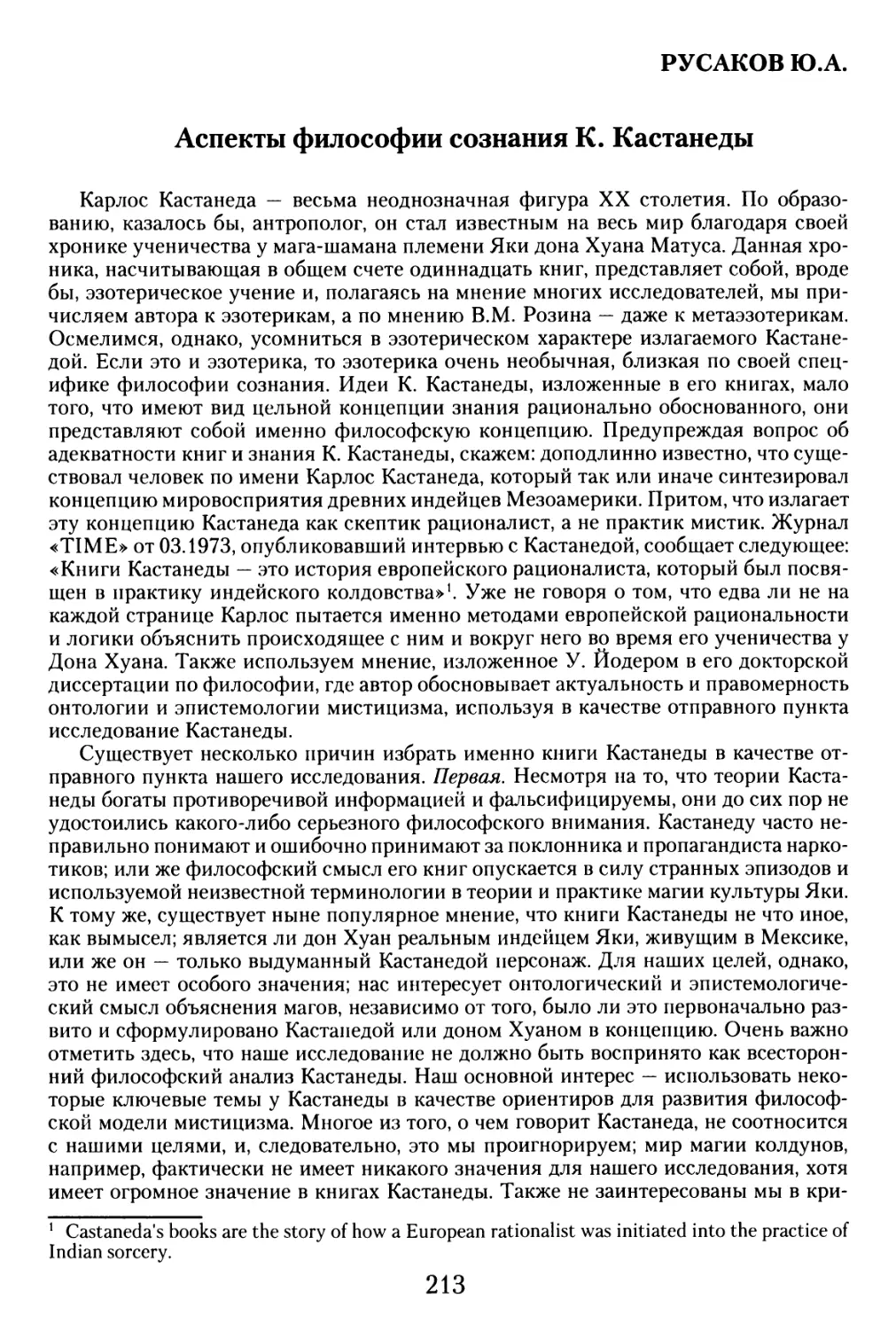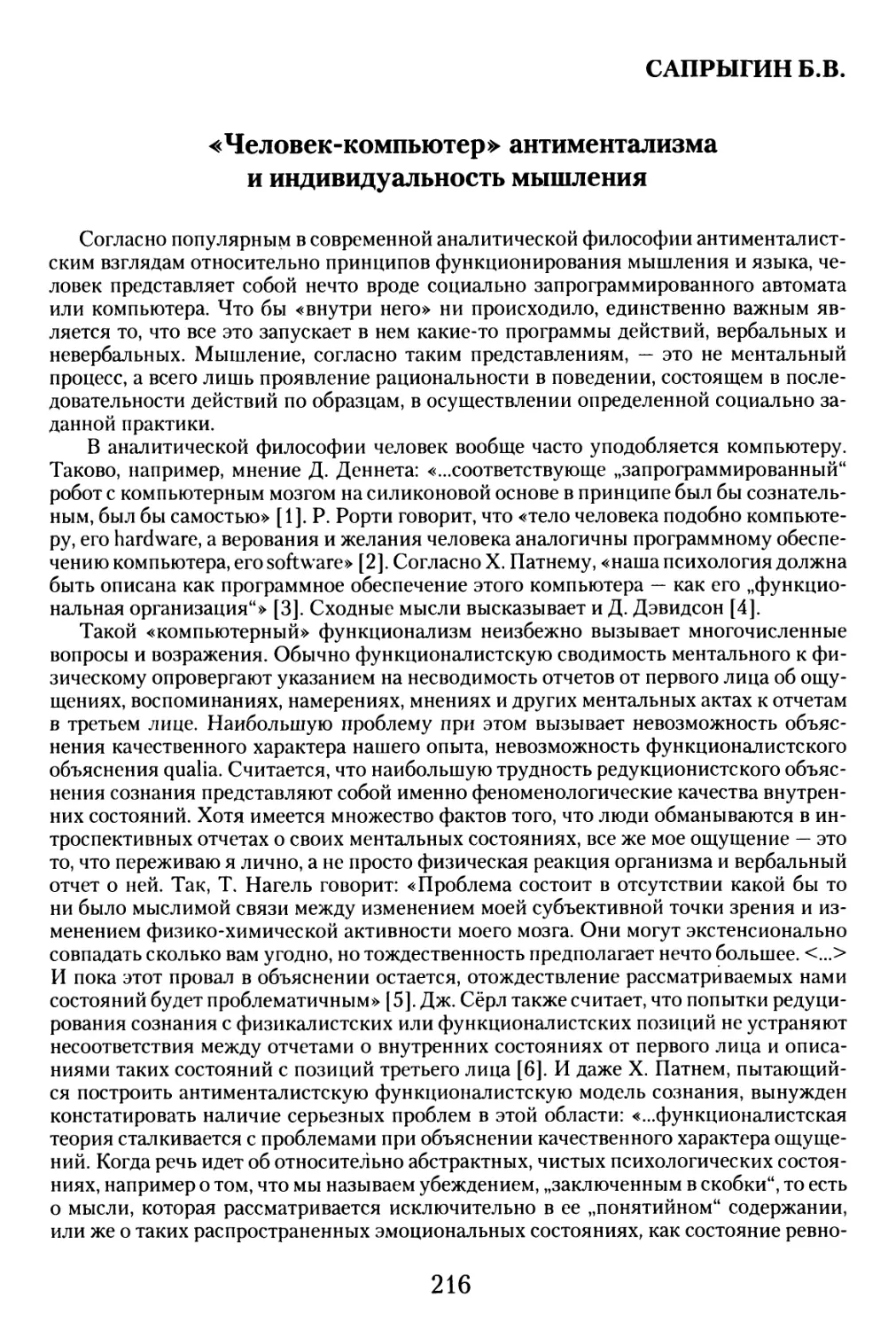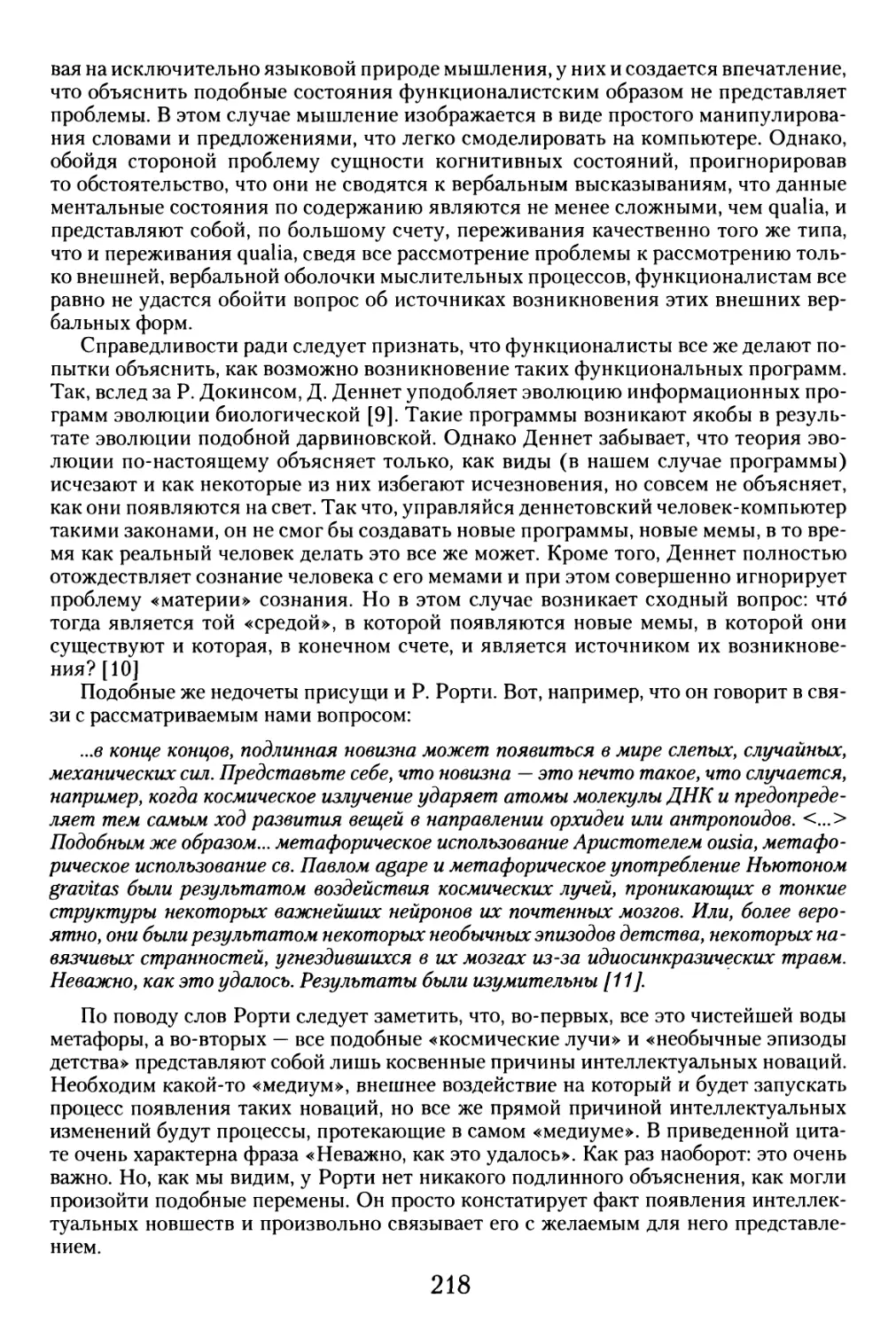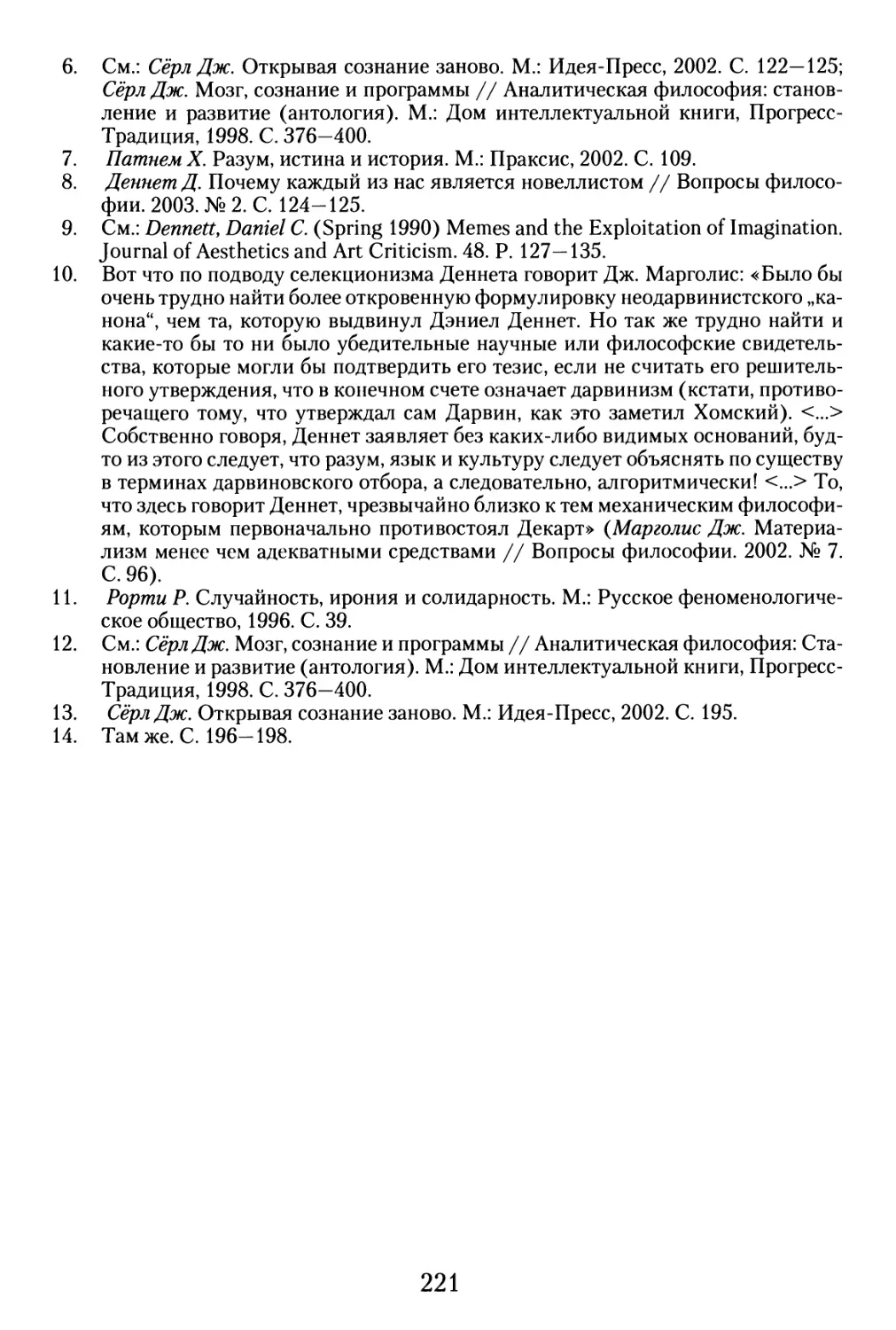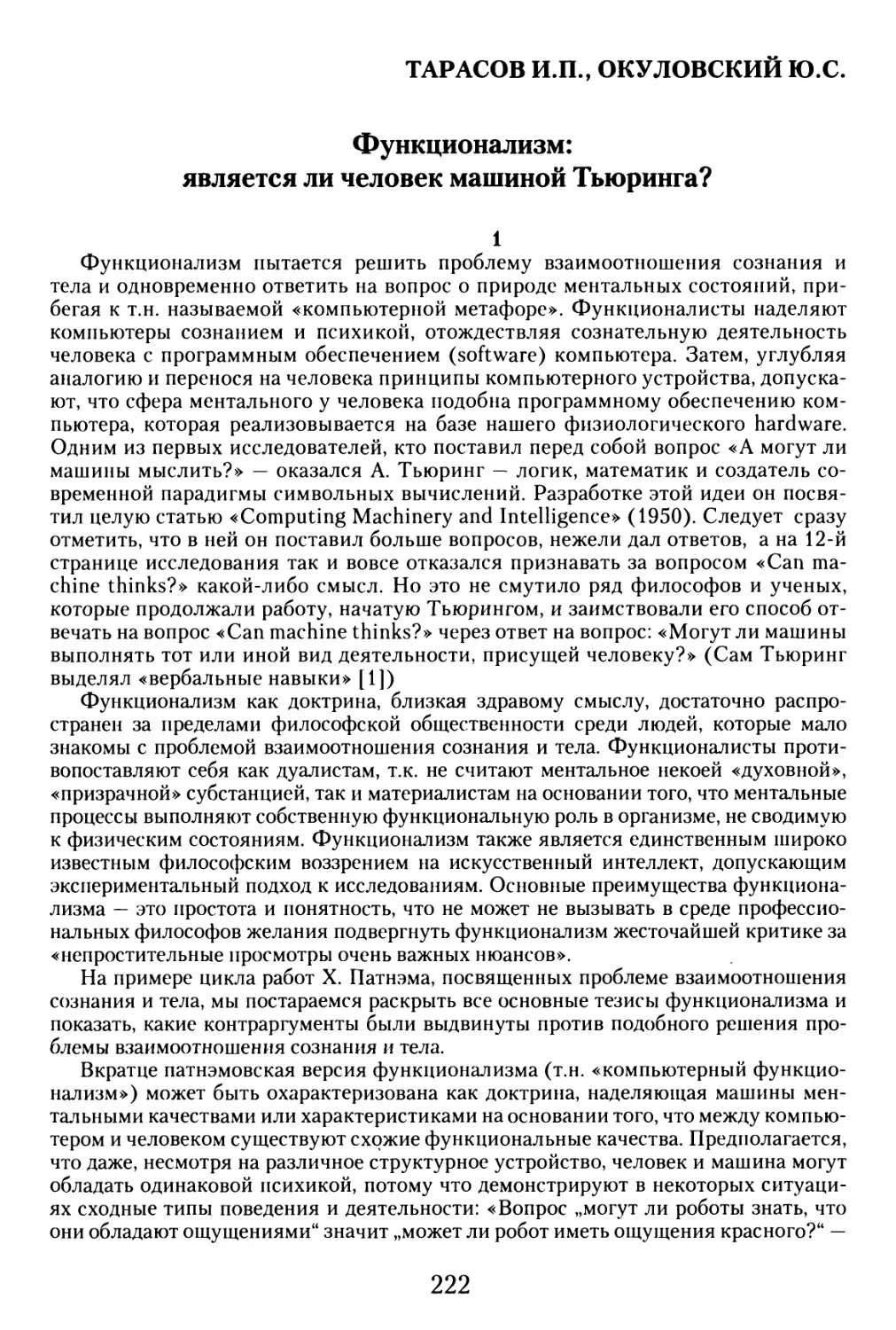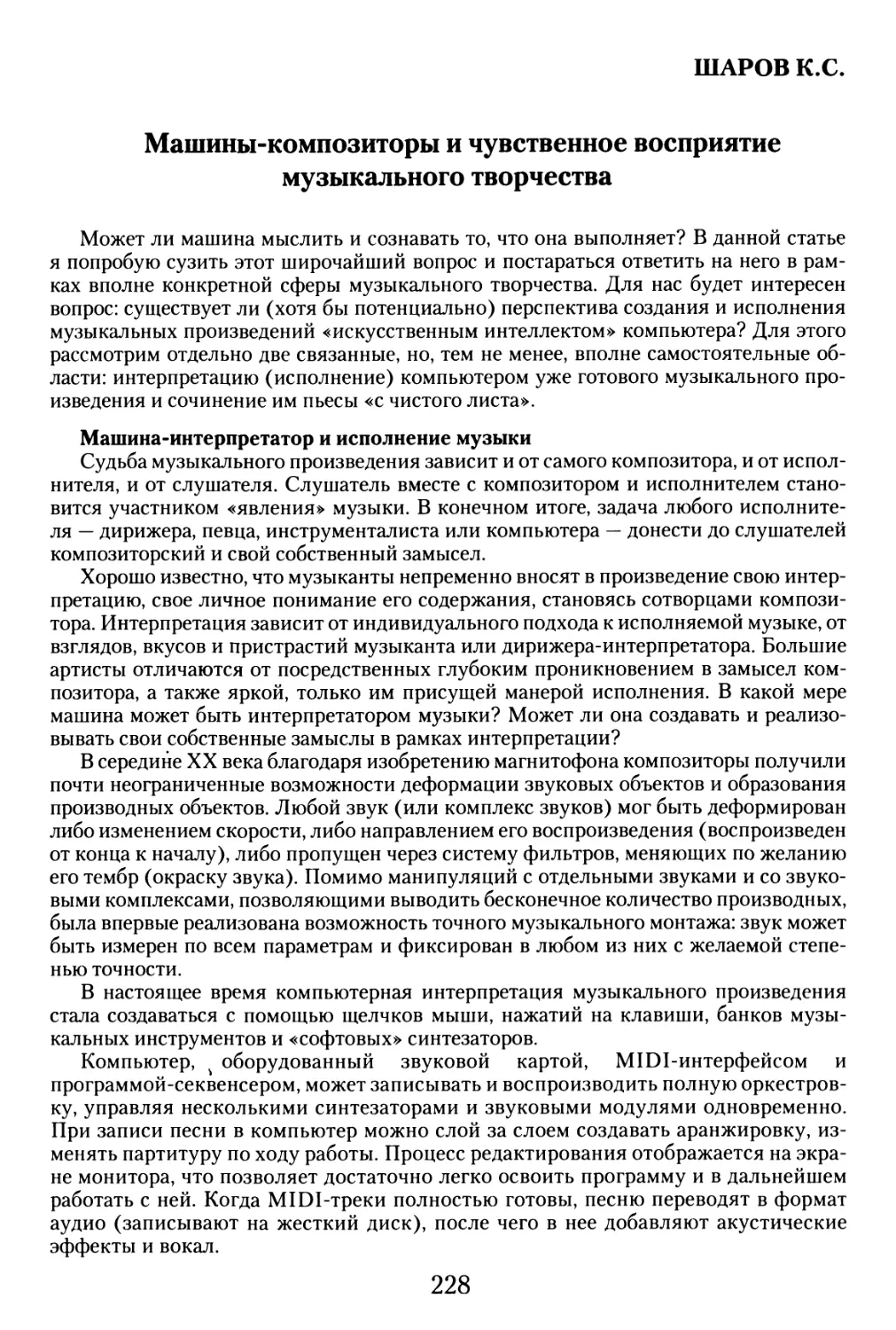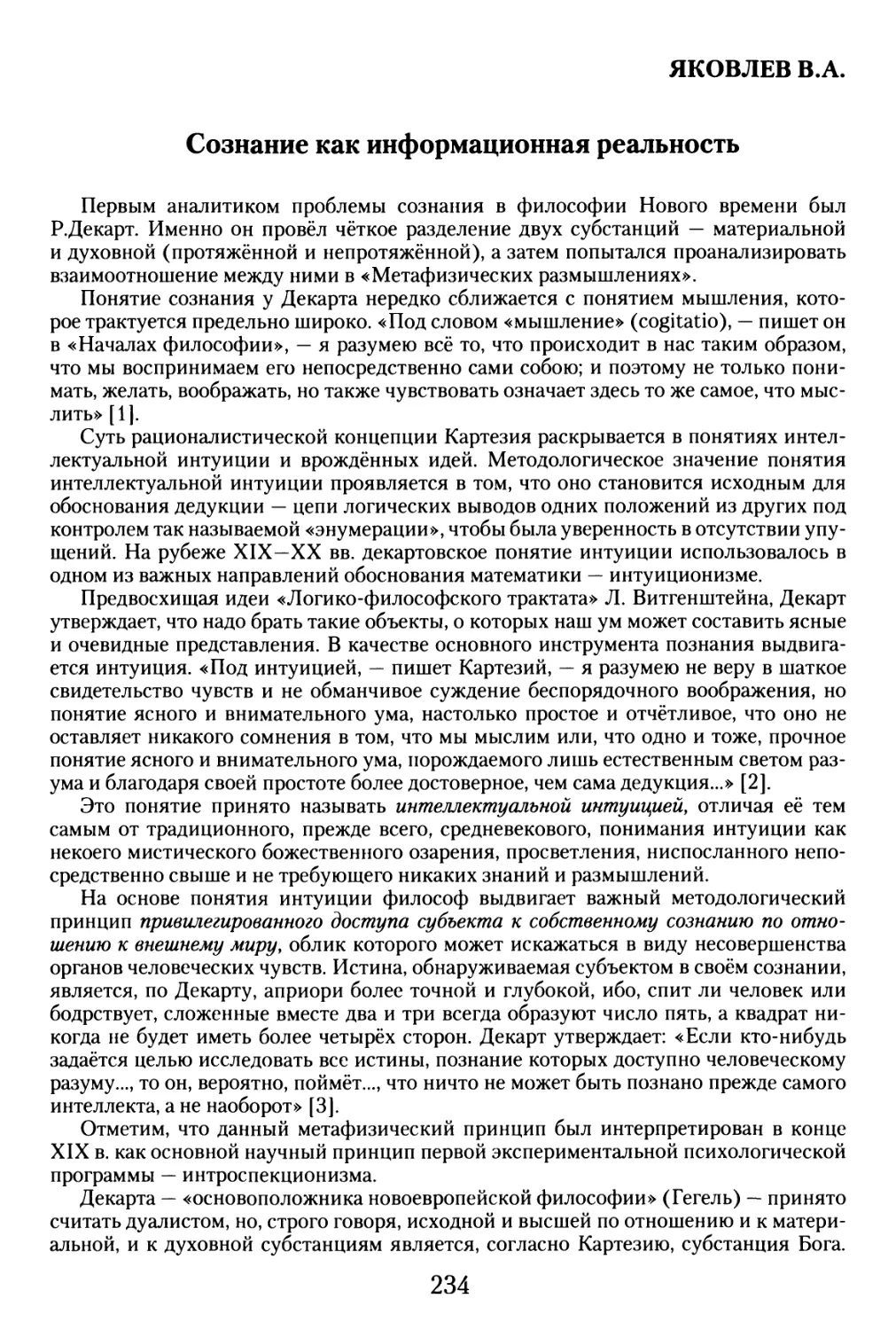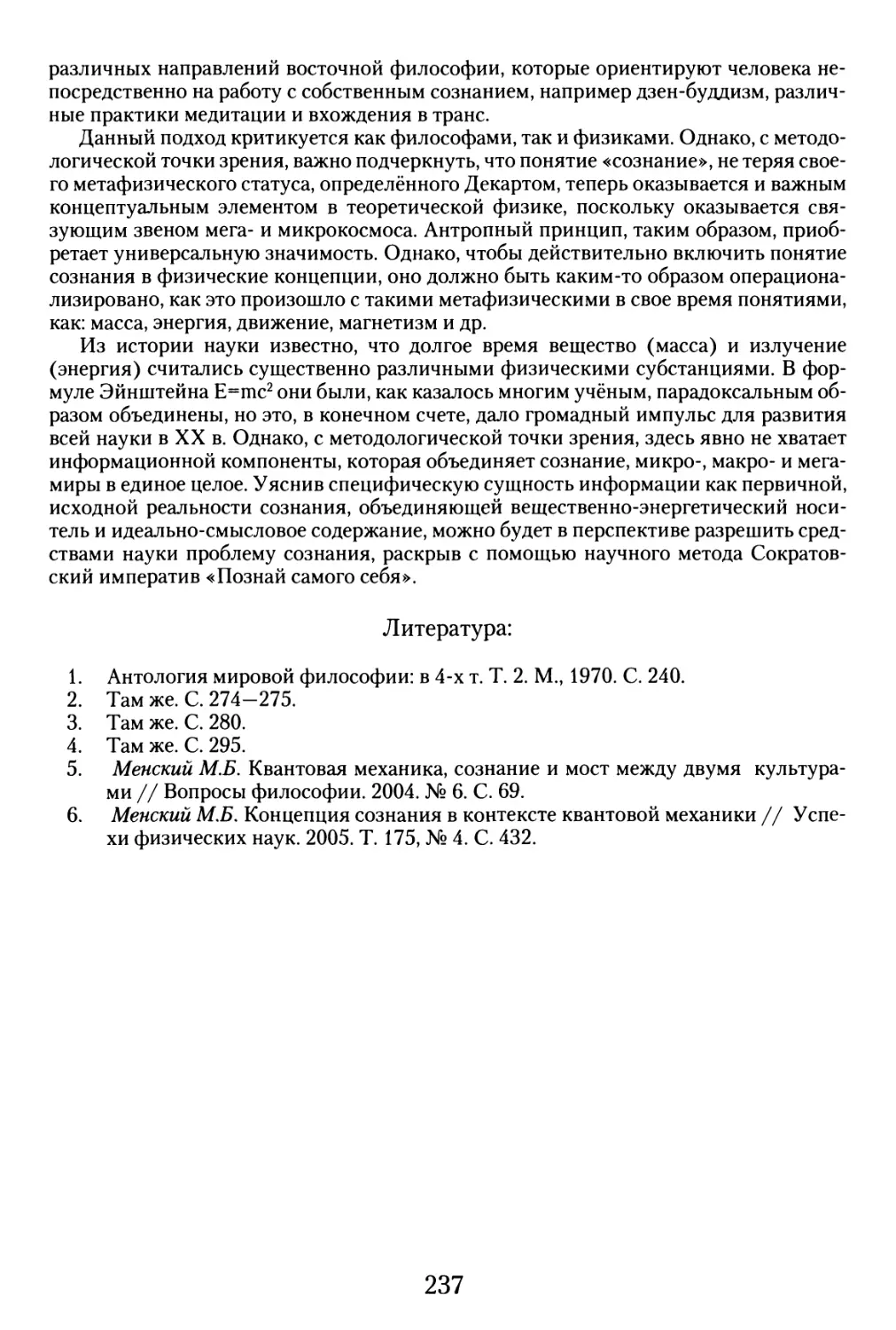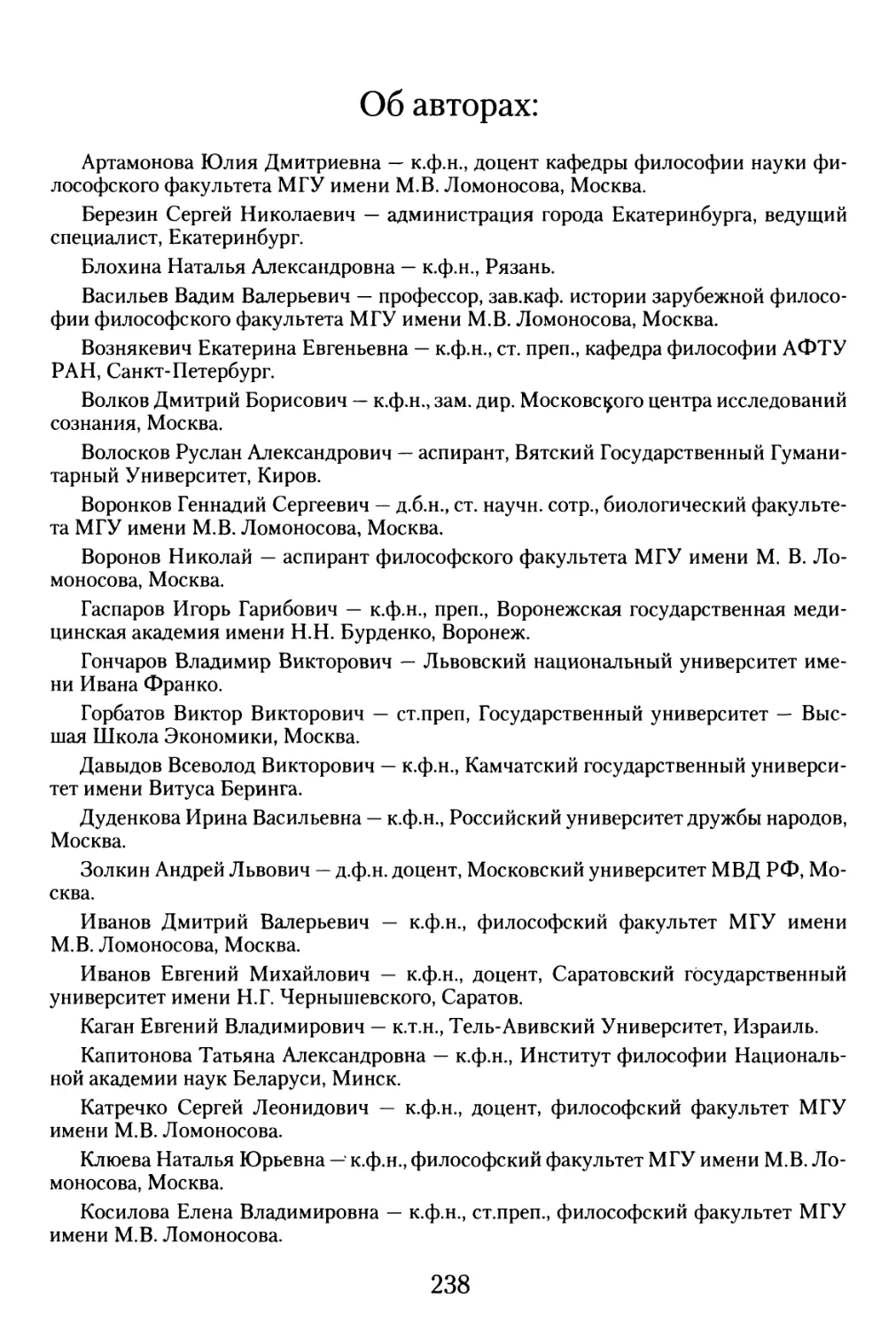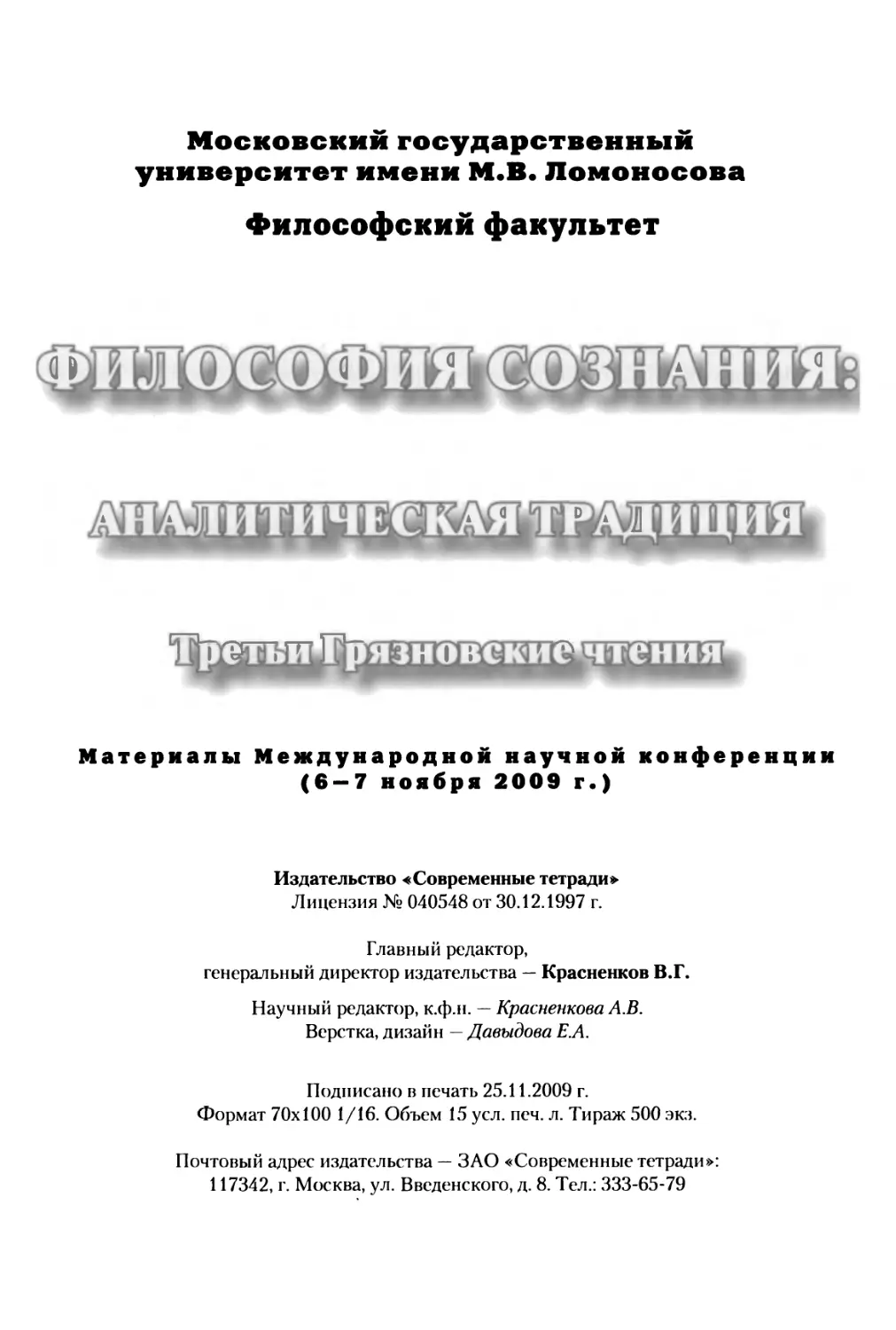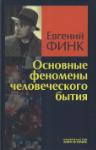Author: Маркин В.И. Косилова Е.В. Васильев В.В. Юлина Н.С. Блохина Н.А.
Tags: философия психология онтология метафизика гносеология
ISBN: 978-5-88289-378-0
Year: 2009
Материалы Международной
научной конференции
Философского факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
(6-7 ноября 2009 г.)
ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Третьи Грязновские чтения
Москва
2009
Материалы Международной
научной конференции
Философского факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
(6 — 7 ноября 2009 г.)
Cogito
ergo sum
Философия сознания: Аналитическая традиция. Третьи Грязнов-
ские чтения. Материалы Международной научной конференции
(6-7 ноября 2009 г.) - М.: Современные тетради, 2009. - 240 с.
ISBN 978-5-88289-378-0
Редакционная коллегия:
проф. Васильев В.В.
(отвественный редактор),
проф. Маркин В.И., проф. Юлина Н.С.,
к.ф.н. Блохина H.A., к.ф.н. Косилова Е.В.
ISBN 978-5-88289-378-0 © Философский факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009
© Издательство «Современные тетради»,
2009
Содержание
От оргкомитета 5
Артамонова ЮД. Философия сознания в когнитивных исследованиях:
парадигма? методологическая программа? практическая философия? 6
Березин С.Н. Письмо в китайской комнате 12
Блохина H.A. Дэвид Чалмерс о природе сознания и его месте в структуре мира. ... 18
Васильев В.В. «Трудная проблема сознания»
и два аргумента в пользу интеракционизма 32
Вознякевич Е.Е. Кому принадлежит сознание?
Проблема отношения «Я» и сознания 41
Волков Д.Б. Где Я? Невероятные фигуры Д. Деннета 47
Волосков P.A. Психоаналитическая трактовка сознания и бессознательного
и их взаимосвязь с трансцендентальной субъективностью 55
Воронков Г.С. Обязательно ли ощущения являются
изоморфными «образами» мира: анализ
с нейрофизиологических позиций некоторых аспектов теории отражения 60
Воронов Н. За пределами наших когнитивных способностей:
критерии трудных проблем 65
Распаров И.Т. «Расщепленный мозг» и проблема единства сознания 70
Горбатов В.В. Кодовая интерпретация субъективной реальности
и проблема ситуативности информации 76
Давыдов В.В. Пути философского осмысления результатов
эмпирических исследований сознания 82
Дуденкова И.В. Семантика «я» в связи с проблемой
индивидуальной идентичности 89
ЗолкинАЛ. Отечественная натуралистическая и феноменологическая
теория права и современная аналитическая философия сознания 94
Иванов Д.В. Является ли объяснение феноменального сознания
сложной проблемой? 101
Иванов ЕМ. Сознание и квантовый мир 107
3
Капитонова Т.А. Методология коннекционизма и проблема
имитации ментальных феноменов искусственными нейронными сетями 113
Каган Е.В. Нечеткость квантового сознания: опыт реализации ANIMAT 119
Катречко С.Л. Проблема сознания как философская проблема 128
Клюева Н.Ю. Компьютерное моделирование интеллектуальных функций .... 134
Косилова Е.В. Некоторые данные об аутизме с точки зрения
феноменологической теории сознания 141
Костикова A.A. «Нефранцузская» философия сознания во Франции 150
Кочергин А.Н. Может ли машина мыслить? 154
Кричевец А.Н. Методологический анализ исследований
модели психического (theory of mind) 160
Кузнецов А.В. Что такое супервентность? 165
Гончаров В.В., Ламберов Л Д. Онтология от первого лица и функционализм ... 171
Майданский А Д. «Вещь мыслящая» — душа или просто тело? 174
Марасов А.Н. На пути к естественной концепции сознания 180
Мареева Е.В. Проблема каузальной обусловленности
ментального физическим и советский марксизм 185
Нагуманова С.Ф. Может ли репрезентационализм решить
трудную проблему сознания? 190
НевважайИД. Множественность сознания 196
Никитина Е.А. Системная психофизиология и преодоление
постулата непосредственности 201
Романов П.Е. Дж. Сёрл, AI, ментальные каузации, интенциональность и мозг . . . 207
Русаков Ю.А. Аспекты философии сознания К. Кастанеды 213
Сапрыгин Б.В. «Человек-компьютер» антиментализма
и индивидуальность мышления 216
Тарасов И.П., Окуловский Ю.С. Функционализм:
является ли человек машиной Тьюринга? 222
Шаров К.С. Машины-композиторы и чувственное восприятие
музыкального творчества 228
Яковлев В.А. Сознание как информационная реальность 234
Об авторах 238
4
От оргкомитета
В последние десятилетия в мире начался настоящий бум в
исследованиях сознания. Только за последние 40 лет на Западе было опубликовано
более 60 000 статей и сотни книг на эту тему. Количественный взрыв
сопровождается и качественным скачком в понимании ряда ключевых аспектов
структуры и функционирования сознания. Рост интереса к исследованию
сознания наблюдается и в России. Вместе с тем положение пока нельзя
назвать совершенно благополучным. Перед российскими исследователями
стоит задача консолидации их усилий. Этой цели могут, в частности,
служить всероссийские конференции по данной тематике. В рамках данной
тематики философский факультет МГУ проводит уже третью конференцию,
посвященную памяти профессора А.Ф. Грязнова (1948—2001). Первая
конференция «Философия сознания: история и современность. Первые Гряз-
новские чтения» прошла на философском факультете МГУ в 2003 году при
поддержке РГНФ. Вторая конференция состоялась в 2006 году и собрала
около 100 участников. По итогам конференции были выпущены сборники
«Философия сознания: история и современность» и «Философия сознания:
классика и современность».
Настоящая конференция была посвящена, главным образом,
исследованиям новейших тенденций в аналитической философии сознания, а также
экспериментальным теориям сознания. В ней приняли участие философы,
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Кирова,
Воронежа, Львова, Таганрога, Ульяновска, Казани, Рязани, Мурманска,
Новосибирска, Минска, Тель-Авива. Среди выступавших — как философы, так и
представители других наук: биологии, психологии, математики.
5
АРТАМОНОВА Ю.Д.
Философия сознания в когнитивных исследованиях:
парадигма? методологическая программа? практическая
философия?
Даже при определении места философии сознания в корпусе когнитивных
исследований (под когнитивными исследованиями понимают междисциплинарные
исследования приобретения, хранения, преобразования и применения знаний,
базирующиеся на интерпретации сознания в терминах структур ментальных репрезентаций
и алгоритмических процедур в этих структурах, при этом ментальные репрезентации
понимаются по аналогии с базами данных) единства нет. Формулировка «составная
часть» явно не достаточна — безусловно, в общую работу философия сознания
вовлечена, однако, вряд ли стоит изначально ставить знак равенства между этой
вовлеченностью и вовлеченностью лингвистики или нейрофизиологии. Привычные
же формулировки «методологическая программа» (в данном случае — когнитивных
исследований) или даже «парадигма» явно не работают1.
«Парадигма» предполагает, помимо символических обобщений, или законов,
устойчивые модели и онтологические интерпретации, а также образцы решения
проблем. Ни первым, ни вторым, ни третьим философия сознания похвастаться не
может. Вместо набора законов нам предлагают набор проблемных ситуаций (про
Мэри, про летучую мышь, про китайскую комнату — чего здесь только нет!),
предполагающих различные интерпретации. Вместо устойчивых моделей — скорее, список
вопросов, по которым как по плате в режиме «да-нет» пробегают разные
когнитивные исследования. Поэтому стратегий философского дискурса здесь не одна и не две,
а десятки. Список вопросов, на которые шаг за шагом дается ответ «да» или «нет»,
П. Фогард2 предлагает представлять следующим образом:
Являются ли наши познавательные алгоритмы врожденными или
приобретенными?3
Представимы ли эти алгоритмы как структура языка или как более сложная, кон-
некционистская архитектура?
Как реальный мир преобразуется в те визуальные образы или вербально
организованные образцы, с которыми работает наш ум?
«Работает» ли наш ум визуальными образами или «вербализованно»?4
Как ментальные репрезентации обретают значение? Зависит ли оно от
взаимоотношений в системе представлений, от отношений с миром или является лишь
конструктом сообщества, использующего данные репрезентации?
1 Конечно, в рамках конструктивистской философии вопрос о специфическом месте
философии сознания в общем корпусе исследований лишен смысла — необходимо лишь
исследовать, какие условия и операции привели к тому или иному решению; однако мы попробуем
рассмотреть этот вопрос в рамках других концепций, ибо подобный вопрос продуктивен.
2 Thagard P. Cognitive science // Stanford Encyclopedia of Philosophy.
:* Непривычно для отечественного читателя звучат утверждения сторонников
«врожденности алгоритмов» — например, название известной книги американского лингвиста С.
Линкера «Языковой инстинкт».
4 Спор о природе образов продолжался несколько десятилетий. Интересно, что точка
зрения в этой дискуссии коррелирует с особенностями зрительных образов участников и
различиями в их подготовке, причем сторонники идеи образа — в основном гуманитарии и
биологи, а их оппоненты — в в большинстве своем знатоки математики и программирования.
6
Как возможно понимание других людей — за счет того же самого познавательного
алгоритма или просто возможности подражать им?
Являются ли ментальные состояния продуктом мозга или могут быть
реализованы различным образом на другой основе? Каково взаимоотношение психологии и
нейрофизиологии?
Являются ли человеческие действия свободными или предопределены
физиологическими процессами в мозге?
Обусловлены ли моральные суждения нашим умом/устройством мозга?
Возможно ли конципирование эмоции в предложенных алгоритмах, и какова
роль эмоций в мышлении?
Мы видим, что изменяется само понимание идеи философских принципов науки.
Скорее, речь идет не о принципах, а философской «плате» (по аналогии с
компьютерной) принципов. Комбинации принципов различны в различных стратегиях.
Разговор же об образцах решения проблем (которые являются необходимой
частью парадигмы) сразу вызывает улыбку: ведь выбор того или иного из
принципов как раз подчинен новому решению новой задачи. Зачастую речь идет о
группе исследователей — представителей различных областей науки
(компьютерщиков, психологов, лингвистов, философов и т.д.), перед которыми стоит
конкретная исследовательская задача (например, выявить набор минимальных
признаков, которые заставляет нас предположить, что мы имеем дело не с
роботом, а с человеком); в процессе исследования происходит «непосредственное»
взаимодействие различных теоретических подходов и различных областей
знания; в результате решается не только конкретная исследовательская задача и
дается ответ на конкретный вопрос, но и уточняются философские аспекты
различных наук.
Приходится признать полную «нерабочесть» понятия парадигмы при описании
взаимоотношений философии сознания и когнитивных исследований.
Та же участь уготована и «методологической программе». Последняя
предполагает твердое ядро («отрицательную эвристику»), или неизменные теоретические
положения; «положительной эвристикой» определяется программа, в которую входит
система различных более конкретных моделей мира. Конечно, с некоторой
натяжкой можно сказать о том, что сама идея имитации работы сознания (в ее четырех
известных вариантах: hard, soft, модулярная система, коннекционизм) является этим
твердым ядром. Однако выше мы писали, что философия сознания представляет
собой набор различных стратегий ответов на общие вопросы, ответов,
противоречащих друг другу. Представить себе в роли программы систему противоречащих друг
другу моделей Лакатос не смог бы и в страшном сне. Достаточно вспомнить, как
настойчиво он пишет о том, что «непротиворечивость должна оставаться важнейшим
регулятивным принципом (стоящим вне и выше требования прогрессивного сдвига
проблем)»1.
Можно было бы вспомнить и о знаменитом принципе «сгодится все», но и
П. Фейерабенду философия сознания готовит сюрприз — знаменитая идея о
несоизмеримости научных теорий не работает. Различие содержания дескриптивных
терминов, различие языка наблюдения и вообще детерминация теорией смысла
решаемых проблем, методов решения, эмпирических процедур и даже фактов не
мешает теориям в рамках когнитивного подхода «взаимодействовать» в самых разных
смыслах этого слова.
Приведем пример: рассмотрим поближе это взаимодействие на примере
формирования одной междисциплинарной когнитивной теории — теории фреймов.
1 Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.:
Медиум, 1995. С. 98.
7
Теория фреймов — направление когнитивных исследований в лингвистике,
социологии, коммуникативистике, базовой идеей которого является существование
«рамок» (frame) организации и восприятия информации. Возникает в 70-е годы в
компьютерных науках (М. Мински), лингвистике (Р. Шенк, Б. Бирнбаум) и
социологии (И. Гофман). Авторы лингвистической теории фреймов (Р. Шенк, Б.
Бирнбаум) исходят из допущения, что для восприятия предложения необходим
ориентированный на фреймы сценарий, который представляет собой структуру для
понимания смысла предложения. Фрейм любого вида — это та минимально
необходимая структурированная информация, которая однозначно определяет данный
класс объектов. В восприятии «работают» именно фреймы. Благодаря этому даже
отдельное предложение подвергается анализу, во-первых, и сразу «обрастает»
дополнительной информацией, во-вторых. Например, услышав предложение «Джон
купил себе новый телевизор в «Мэйси»», мы знаем, что у Джона есть телевизор, что
он выбирал покупку, потратил деньги, что Джон — не ребенок, т.к. он произвел
покупку и т.д. Фреймы организуются в конфигурации организации памяти (КОП) —
более общую комбинацию обыденного опыта, позволяющую структурировать и
организовывать информацию. Тот же фрейм «покупка» может входить в КОП «визит
к врачу», «обучение» и т.д. Эти идеи позволили существенно продвинуться вперед в
компьютерном моделировании языка.
В социологии И. Гофман заинтересовался идеей представления нашего опыта как
системы фреймов. Однако его интересует не проблемы формального представления
информации в рамках фрейма, а «схема» оперирования с действительностью,
задаваемая организацией фрейма. Под «фреймом» он начинает понимать
надындивидуальный шаблон устоявшихся норм поведения в определенной ситуации. Автора
интересуют «переключения», т.е. тот или иной вид имитации, умышленной «переделки»
опыта первичного фрейма. Он выделяет пять основных типов «переключения»:
Имитация (make-believe) — то, что участники считают показной имитацией
относительно непревращенной деятельности, например, ритуальные танцы,
имитирующие охоту и обучающие этой деятельности.
Состязания (contests) — спортивные и прочие виды соперничества, прообразом
которых является драка; в отличие от нее они регламентированы правилами.
Церемониалы (ceremonials) — виды социальных ритуалов, таких как, например,
венчание, похороны, присвоение званий и т. д.
Техническая переналадка (technical redoing) — сюда относятся всевозможного
рода тренировки, демонстрации, эксперименты — все то, что «учит обращаться» с
действительностью. Сюда же Гофман относит инструктивные записи (replicative
records) — записи, свидетельства, с помощью которых возможно воспроизвести
определенный фрагмент деятельности как факт прошлого.
Пересадка (regrounding) — выход за пределы привычной деятельности,
необходимость заняться чем-то не свойственным данному человеку. Примером этого может
быть работа в свободное время на дачном участке, искупительные религиозные
наказания и т. д.
Например, безобидное на первый взгляд словосочетание «борьба с инфляцией»
помещает такое явление, как инфляция, в рамки «соперничества»; автоматическими
выводами будут, например, заключения, что инфляция является врагом, случайно
оказавшимся на нашей территории и, следовательно, ее можно убрать из жизни; что
с инфляцией можно бороться или можно ей потакать и т.д.; тем самым задается
шаблон наших возможных действий в отношении нее, который к тому же допускает
только определенные действия, а ряд действий делает «немыслимыми».
Использование фреймов, т.о., организует возможную сферу нашего опыта.
Теперь посмотрим поближе на этот переход в другую сферу. Это напоминает
ситуации продуктивного понимания в науке, когда одна идея «наталкивает» на другую.
8
Строгих отношений выводимости между ними нет; это, скорее, некоторое
схватывание «смысла» и его трансформация. Причем затрагивающая обе взаимодействующие
в этом теории. Можно было бы воспользоваться научным термином «семейное
сходство» Л. Витгенштейна, но он не продвигает нас в прояснении процесса.
Шенка интересует в первую очередь именно структурирование информации
внутри фрейма, причем представить это структурирование он хочет
формальнологически. Гофмана будет интересовать лишь некоторые структуры внутри фрейма,
которые остаются значимыми при перенесении (борьба предполагает соперника,
борьба предполагает уничтожение соперника; странно было бы представить себе
Гофмана за решением вопроса, как соотносятся соперник и уничтожение внутри
структуры фрейма — а для Шенка именно этот вопрос в первую очередь имел бы
смысл).
Не менее странной выглядела бы дискуссия Шенка и Горфмана о природе
фрейма: ее просто не может быть в рамках когнитивного подхода. При этом обязательная
«материалистическая» интерпретация фреймов у Гофмана (в основе фрейма —
действие в реальном мире, имеющее реальные последствия и т.д.) вовсе не требуется в
концепции Шенка.
В результате складываются специфические отношения с философией. В нашем
случае теории фреймов в лингвистике и социологии опираются на разные
философские допущения. Возникает специфическая «философия для модели»: нет единого
набора общих философских допущений; есть реестр важных вопросов, по которым
как по плате по принципу «да-нет» пробегают разные когнитивные исследования.
Это нисколько не мешает им взаимообогащать друг друга, да и просто «вести
диалог». Список этих различий можно продолжить.
Теперь пора констатировать: философия сознания работает как «философская
плата основных вопросов», порождая не одну и не две — десятки возможных
комбинаций концептуализации сознания. Это позволяет ей легко «включаться» в
практические исследования сознания и только так быть для них не регулятивом, а
генератором новых стратегий. Образ занудного толкователя научных результатов и оценщика
(в том числе идеологического) никак не вяжется с философией сознания.
За счет чего это возможно?
Не претендуя на полноту решения проблемы, обратим внимание на некоторые
принципиальные моменты.
Заметим, что эксперимент когнитивных исследований процессуален — даже
проблемы заданы как модельные ситуации. Когнитивное исследование
предполагает экспериментальные данные, но эксперимент должен фиксировать не только
результат, но и процессуальность «работы» сознания. Оптимальным
экспериментом здесь будет эксперимент-задание (в качестве примера приведем известный тест
изменения концентрации внимания Д. Абельса, когда испытуемому предлагают
60 карточек с цифрами и называют два числа; его задача — выбрать и собрать в
одну стопку те карточки, на которых встречается одно из двух заданных чисел, а
во вторую — те, на которых встречаются либо оба числа сразу, либо нет ни того, ни
другого; замеряется время выполнения задания и количество ошибок. Именно из
этого проистекает и требование: эксперимент должен позволять вести наблюдения
вне рамок языка «внутреннего содержания» психики и фиксировать наблюдаемое
физически (например, нельзя использовать понятия «грусть», «веселье», «любовь»
и т.д.). Изящный шарж на такого рода исследования представляет современный
английский писатель Д. Лодж в своем романе «Думают...» («Thinks...»). Один из
его героев, видный профессор-когнитивист Ральф Мессенджер руководит
аспирантским проектом «Материнская любовь», с которым и знакомит приятельницу-
писательницу. Любовь — понятие языка «внутреннего содержания» психики.
Впечатления от того, как она представима на допустимом, «когнитивистском» языке,
9
писательница доверяет своему дневнику: «Какая-то усовершенствованная
компьютерная игра. Иконка в форме женского тела, символизирующая мать, и иконки
поменьше, символизирующие детей, которых нужно кормить, одевать и
контролировать. Они все норовили то провалиться в пруд, то обвариться, а потом выбежать из
дома и выскочить на дорогу, а бедной матери постоянно приходилось принимать
решения, куда бежать, что делать в первую очередь: кормить голодного А или
вытаскивать из-под колес В... и тому подобная чепуха... трудно представить себе
более далекое от реальности описание материнских чувств. Наверно, я рассмеялась
слишком громко... Ральф, кажется, занервничал. Он сказал, что это всего лишь
экспериментальная модель, к тому же начальная стадия разработки»1. Самое
парадоксальное состоит здесь в том, что такое процессуальное и «объективизированное»
моделирование не только «материнской любви», но и морали и других подобных
материй действительно оказывается продуктивным в описании человеческого
поведения. Мы наблюдаем, например, тенденцию понимания ценностей как
ключевых моментов стратегии поведения2.
При этом закономерен вопрос: представляет ли любая из созданных на основе
интерпретации экспериментов моделей «работу ума», как она действительно протекает
или совпадает с ней только тем, что мы на выходе имеем тот же результат? То есть
имеем ли мы право говорить, что представленная модель — это и есть работа ума
«как она есть» или просто алгоритм, выдающий те же результаты, что и «реальная»
работа? Даже сторонники версии «воспроизводства деятельности ума» (они не
являются большинством) обращают наше внимание на то, что мы «наблюдаем» только
результаты и в лучшем случае (например, при томографическом сканировании
работы мозга) некоторые «следы». Поэтому реальные процессы если и воспроизводятся,
то приблизительно; модели открыты дальнейшим уточнениям и изменениям;
радикальные изменения не исключаются. Большинство же склонно говорить, что речь
идет о модели, которая совпадает с реальной работой тем, что на выходе мы имеем
тот же результат, какой выдаст «работа» человеческого ума в данных
обстоятельствах при данной задаче. В течение последних 30 лет темпы создания формальных
моделей намного превышали скорость, с которой они проверялись. Дж.Р. Андерсон
предложил в этой связи «теорему мимикрии»: любую систему эмпирических данных
можно описать множественно — все зависит от того, что взято за «ментальный
элемент» и какие предложены «ментальные акты».
Эти два момента — «процессуальный эксперимент» и «внешнее моделирование»,
т.е. претендующие на совпадение с работой ума лишь «на выходе», позволяют по-
иному понять роль философской интервенции в исследовании.
Условно можно представить три фазы развития философских систем.
Системы первой фазы предполагают базовые принципы, основные законы и
разворачивающиеся следствия из них (классический пример — кантовская философия).
Системы второй фазы — это алгоритмы (яркий представитель этого типа систем —
структурализм варианта К. Леви-Строса). Системы третьей фазы сами
описываются лучше всего в терминах синергетики и т.д. Теория сама является
процессуальной. Философия сознания не случайно представлена в массовом философском
и околофилософском сознании как набор примеров — про Мэри, летучих мышей
и т.д. Ведущееся в рамках информационного подхода моделирование имеет услов-
1 Лодж.Д. Думают... М., 2009. С. 131.
2 Эта тенденция характерна не только для философии сознания. Можно указать и на
книгу сторонника эволюционной теории познания М. Хаузера «Мораль и разум. Как
природа создала наше универсальное чувство добра и зла», М, 2009, и на работы американского
политолога, руководителя «Всемирных опросов ценностных ориентации» Р. Инглхарта (в
частности, см. Ihglehart К. Modernization and Postmodernisazion... Princeton University Press,
1997 и др.
10
но выделенный реестр ключевых проблем. Мы видим, что изменяется само
понимание идеи философских принципов науки. Скорее, речь идет не о принципах, а
философской «плате» (по аналогии с компьютерной) принципов. Несмотря на то,
что комбинации принципов различны в различных стратегиях, возможны
независимые от них и значимые в любой этой стратегии результаты (устанавливаемые
экспериментально).
Даже реестр основных проблем в таком случае — это не ключевые моменты
работы сознания, а ключевые моменты наших современных разговоров о сознании, и
ничто не мешает им радикально меняться с течением времени.
В результате мы имеем философскую теорию нового типа, довольно
непривычную нашим философам. Надо бы приветствовать ту самую практическую
философию — но она кажется почему-то «недофилософией». Ее предлагают спасать или
превращением в теории первой фазы, предложив систематическое рассмотрение
проблем и найдя единственно возможное их правильное решение, которое и
будет правильным пониманием сознания. Или предлагают дальше «эмииризировать»
философию сознания, рассматривая в процессе исследования, например, роль тела
и природного окружения, роль социализации в формировании человеческого
поведения и т.д. Это явное «подтягивание» философии сознания к идее алгоритма,
свойственной второй фазе. Эти разговоры поддерживаются пробуксовкой самого
когнитивного подхода (ведь уже в середине 1980-х годов значительное число
авторов стало критически оценивать соотношение затраченных усилий и реального
прогресса).
Давайте не будем архаизировать философию сознания. Это та самая новая
практическая философия, о которой давно говорили. Единственный адекватный способ
ее развития — та самая вовлеченность в когнитивные исследования, которая и
позволит философии сознания существовать и развиваться.
И
БЕРЕЗИН С.Н.
Письмо в китайской комнате
Постструктуралистские трансформации во многом прошли мимо работ по
созданию искусственного интеллекта (ИИ). Хотя они повлияли и на аналитическую
философию — кузнецу методологии для когнитивных исследований, элементом
которых являются работы по ИИ, и феноменологию, в центре которой стоит изучение
сознания. Следует отметить, что поздняя феноменология Э. Гуссерля, исследования
М. Хайдеггера и их последователя М. Мерло-Понти не остались незамеченным
специалистами по ИИ, что воплотилось в теориях агентов (agents theories). Смысл
последних в том, что интеллект не считается свойством отдельного агента. Во-первых,
интеллект возникает во взаимодействии с окружающей средой, а, во-вторых, только
в сообществе агентов. На последнюю исследовательскую установку влияние оказала
теория языковых игр Л. Витгенштейна.
Несмотря на то, что концепт языковых игр повлиял на становление
постструктурализма, собственно постструктуралистская трансформация философии не оказала
существенного влияния на исследования по ИИ. В данной работе осмысляются
следствия постструктурализма для методологии ИИ.
Смысл постструктурализма в том, что исследуя человека через структуры, т.е.
культурные и социальные институты, упускается из виду, что эти структуры сами
организованы вокруг некоего центра, которыми были и Бог, и субъект, и др.1 На эту
несостыковку в структурализме и указывали представители постструктурализма.
Как следствие, пропадает инстанция значения, остается лишь письмо как
соотнесения знака с другими знаками.
Зависимость знаков друг от друга вне соотнесения с внеязыковыми объектами
Деррида называет differance2. Этот неографизм он вводит, чтобы отличить свое
понятие от фр. difference (различие). Звучат эти слова по-французски одинаково, а
пишутся по-разному. Differance предполагает различие вне категории тождества, вне
соотнесения с эталоном или сознанием. Разница в написании выбрана не случайно,
ведь Деррида в своем философствовании делает акцент на «письмо», которое
представляет как differance, т.е. отличие одного знака от другого вне сравнения с каким-
либо эталоном.
Другие представители постструктуралистского направления тоже исходят из
исключения центра, т.е. предлагают децентрацию. «Ныне мы знаем, — пишет Барт, —
что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих
единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное
пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни
один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к
тысячам культурных источников»3. Если бы автор «захотел выразить себя, ему все равно
следовало бы знать, что внутренняя «сущность», которую он намерен «передать»,
есть не что иное, как уже готовый словарь, где слова объясняются лишь с помощью
других слов, и так до бесконечности»"1.
1 См., например: Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2007. С. 447—468.
2 Деррида Ж. Differance // Гурко Е. Тексты деконструкции. Деррида Ж. Differance. Томск,
1999.
3 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 388.
4 Там же. С. 388-389.
12
Трансформация аналитической философии и феноменологии
Р. Рорти показал, что аналитической философии несложно трансформироваться
в новых условиях. Это не столько внешняя децентрация, сколько имманентная
критика аналитической традиции, выходцем из которой и является Р. Рорти. Он пишет,
что зачатки трансформации есть уже у Карнапа и Айера1. Карнап и Айер многие
проблемы философии называли псевдопроблемами. Эти проблемы были созданы
выбором неправильного словаря. При изменении формулировки проблемы сама
проблема пропадает. Карнап предлагал переводить философские проблемы на язык науки:
невозможность эмпирической проверки должна была говорить о бессмысленности
проблемы. Так и многие проблемы самой аналитической философии могут
исчезнуть при изменении словаря. Поэтому суть философии, по Рорти, в создании и
использовании словаря.
Не может быть идеального языка, точно отражающего реальность. Аналитическая
философия исследовала язык как зеркало, в котором отражена реальность, как каркас
из категорий, необходимый для эмпирического познания. «В результате чем больше
философия становилась „научной" и „строгой", тем меньше она имела дело с
остальной культурой и тем более абсурдными казались ее традиционные претензии»2.
Децентрация в аналитической философии заключается в том, что нет зеркала,
отражающего реальность, а есть различные словари, т.е. виды письма, которые
философия пыталась подчинить единому центру, навязать свое видение конкретным
языковым играм.
Если же коснуться трансформации феноменологии в условиях постмодерна, то
децентрация осуществлялась вне решения ее классических проблем — Другого и
интерсубъективности. Дона Айди, осуществившего переход к постфеноменологии,
не устраивала вся философская парадигма модерна. По его мнению, Э. Гуссерль,
преодолевая субъект-объектную гносеологическую модель, стал заложником языка
модерна. Основатель феноменологии делал акцент на сознании. Айди же
продолжает линию М. Хайдеггера и М. Мерло-Понти, говоря об экзистенциональности, а не
трансцендентальности. Айди оговаривается, что на него в этом вопросе повлиял
американский прагматизм3, который не заявляет о разделении на познающего субъекта
и противостоящего ему мира. А есть лишь отношение между познающим и вещами.
Гносеология при таком подходе связана с конкретными ситуациями, в которых
возникают вопросы познания. Данное обстоятельство сближает трансформацию
феноменологии и аналитической философии.
Д. Айди считает, что необходимо преодолеть и феноменологию Хайдеггера и
Мерло-Понти, которая так же предполагает «зеркало». М. Хайдеггер брал в
качестве «зеркала», в котором себя может рассмотреть человек, язык, а М. Мерло-
Понти — тело (перцепции)4. Д. Айди предлагает децентрированный подход и к
восприятию, и к языку, т.е. социально-культурному измерению восприятия.
Такой подход можно назвать феноменологической деконструкцией, что Д. Айди
иногда и делает5. Он рассматривает восприятие через призму мультистабильно-
сти на большом количестве примеров объемных геометрических фигур,
расположенных на плоскости. Восприятие не дает одной единственной интерпретации.
1 Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. С. xix.
2 Там же. С. 4.
3Ihde D. Postphenomenology: essays in the postmodern context. Northwestern University Press,
1993. P. 9.
4 См.: Ihde D. Expanding hermeneutics: visualism in science, Northwestern University Press,
1999.
5 См.: Ihde D. Experimental phenomenology. G.P. Putnam's Sons, 1977. P. 67—79; Ihde D.
Technology and the lifeworld: from Garden to Earth, Indiana University Press, 1990. P. 145.
13
На восприятие влияет и культурный контекст, что Айди подробно рассмотрел в
книге «Расширяющая герменевтика»1.
Айди приходит к выводу о том, что герменевтика имплицитно содержится в
феноменологии. Феноменологию Гуссерля он называет наивной герменевтикой, а
феноменологию М. Хайдеггера (работа «Бытие и время») — радикальной2. Наивность
герменевтики Гуссерля в том, что основатель трансцендентальной феноменологии
некритически подходил к языку модерна, с помощью которого описывал
феномены. А радикальность Хайдеггера в том, что он решил создать новый единственно
верный язык описания феноменов на основе опыта бытия-в-мире. Мысль же Айди
в том, что нет единственно верного языка, таких языков много, а их интерпретации
расходятся.
Другим новаторством Д. Айди является введение понятия «технологическая ин-
тенциональность». В технологической интенциональности он выделяет три
элемента. Во-первых, это воплощенное (embodiment) отношение или инструментальная ин-
тенциональность, которая редуцирует использование инструмента до нейтрального
посредника в выполнении какой-либо работы3.
Другим элементом инструментальной интенциональности является
герменевтическое отношение. Это отношение направляет свой взор на связь человека с
инструментом. Здесь как нельзя кстати подходит метод феноменологической
деконструкции. С одной стороны, например, автомобиль позволяет передвигаться быстрее, но, с
другой, он негативно влияет на экологию4. Поэтому если оценивать роль технологии
в обществе, то нельзя сказать, что она положительна или негативна. Можно лишь
сказать, что она не-нейтральна. Методологические и генетические аспекты
феноменологической деконструкции смысла он разработал в «Расширяющейся
герменевтике» (Expanding hermeneutics). Другим примером феноменологической
деконструкции служит то, что технологии не просто делают предметы ближе, позволяют видеть
глубже, но и исключают из восприятия то, на что они не направлены5.
Третьим типом отношений является отношение с «другим» (alterity). Также как
другое сознание в «Феноменологии духа» Гегеля необходимо для понимания себя,
также и технологии являются тем фоном, на котором можно «нарисовать» себя.
«Через» технологию и через технологию, ставшую квази-другим (телевидение, кино,
виртуальная реальность), человек интерпретирует себя6.
Постструктуралистские трансформации философии нанесли серьезный удар по
созданию ИИ, они показали, что нет Я как зеркала, воссоздавая которое можно
построить ИИ. Постструктурализм показал обусловленность мышления социальностью,
которая сама обусловлена выбором центра структуры. Однако никакой позитивной
программы построения ИИ на основе постструктурализма предложить нельзя.
Неофеноменология
Можно рассматривать постфеноменологию как то, что идет после
неофеноменологии. Хотя, например, постструктурализм идет после структурализма, так что этап
«нео» пропущен. Но в случае с постфеноменологией (так же как и с марксизмом) та-
1 См.: Ihde D. Expanding hermeneutics: visualism in science, Northwestern University Press,
1999.
2 Ihde D. Expanding hermeneutics: visualism in science, Northwestern University Press, 1999. P.
14-15.
3 Ihde D. A Phenomenology of Technics // Philosophy of technology: the technological
condition: an anthology / Ed. by Robert С Scharff, Val Dusek. Wiley-Blackwell, 2003. P. 507-529.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
14
кой этан был. Дон Айди относит к представителям неофеноменологии М. Хайдеггера
и М. Мерло-Понти.
Айди подводит единый знаменатель под этими философами ввиду их
антикартезианской направленности, которая является шагом в разложении философии
модерна. Однако Хайдеггера нужно отнести к первой фазе феноменологии. Он лишь
показал другую сторону исследований, начатых Э. Гуссерлем. Хайдеггер рассматривал
феноменологию онтологически. Источником онтологических построений является
Dasein.
Если Э. Гуссерль решал проблему Другого но аналогии (за другими телами стоят
трансцендентальные субъекты так же, как и за моим собственным), то для Хайдеггера
бытие Другого обусловлено экзистенционалом бытия-с. Несмотря на существенное
различие в этих подходах, оба варианта ищут Другого в обусловленности
источником описания феноменов.
Французскую рецепцию феноменологии можно назвать неофеноменологией.
Проблема Другого была решена и Ж.-П. Сартром, и М. Мерло-Понти. Ж.-П. Сартр
разделяет бытие на два региона: бытие-в-себе и бытие-для-себя. Сознание Сартр
определяет как бытие-для-себя, а бытие-в-себе ему противостоит. В последнем нет
отрицания, оно «есть то, что оно есть»1. Если сознание — это бытие-для-себя,
вносящее ничто и различие в мир, в бытие-в-себе, то опыт бытия-для-другого — это
столкновение с активностью по ничтожению и различению, источником которой Я как
бытие-в-себе не является. «Другой присутствует для меня повсюду как то,
посредством кого я становлюсь объектом»2.
Для М. Мерло-Понти как и для М. Хайдеггера не существует проблемы
Другого. Мерло-Понти пишет: «Что касается сознания, то мы должны его воспринимать
уже не как конституирующее сознание и не как чистое бытие-для-себя, а как
сознание перцептивное, как субъект поведения, как бытие в мире или существование, ибо
только таким путем другой мог бы явиться на вершине своего феноменального тела
и обрести некое „местонахождение"»3.
Несмотря на различия в определении сознания Сартром и Мерло-Понти, у них
много общего в определении Другого. Мерло-Понти пишет: «Мой взгляд падает на
живое действующее тело, и тотчас объекты, которые его окружают, дополняются
новым пластом значений: они не являются больше тем, что я мог бы сам сделать из них,
они являются тем, что поведение другого сделает из них»4. А ведь именно по чужой
деятельности, по внесению различия в бытие-в-себе Сартр предлагает определение
Другого.
Неофеноменология решила проблему Другого, но не смогла решить проблему
интерсубъективности, т.е. ответить на вопрос: «Почему значения разделяются членами
сообщества?». Кроме того, не решен вопрос о возникновения сознания, который,
конечно, и не ставился в феноменологии, но ответ на который важен для создания ИИ.
Это прикладной аспект. Важность же в том, что с возникновением сознания
появляется и интерсубъективность.
Постфеноменология
Постфеноменология выходит за рамки описания феномена. Она рассматривает
не только его возникновение, но и возникновение Я как источника описания
феноменов и построения онтологии, что может объяснить выход к многомерности и децен-
трации имманентным развитием феноменологии.
1 Сартр ЖЛ. Бытие и ничто. М., 2000. С. 118.
2 Там же. С. 302.
3 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 448.
4 Там же. С. 448.
15
Картезианская установка не подходит для решения проблемы
интерсубъективности, т.к. интерсубъективность выводится из субъективности — целое
становится элементом собственной части. Поэтому необходим антикартезианский подход,
бытие-в-мире. Однако это не бытие Дазайна, выступающего источником онтологии,
это бытие-в-природе. В этом природном бытии человек обладает природной интен-
циональностью, т.е. направленностью организма на объект. На этой природной ин-
тенциональности надстраивается вторая, социальная.
Вторая интенциональность появляется как результат расщепления первой в
результате совместного освоения природы, когда направленность на природный
объект сменяется направленностью на другое, этот объект представляющее. Особую
роль в расщеплении играет воображение. Именно оно позволяет представить одно
в качестве другого.
И. Кант придавал решающую роль воображению в познавательной активности
сознания. Он разграничивал рассудок и чувственность, а познание показывал как
синтез этих двух составляющих, который осуществляется при помощи воображения.
Кант пишет: «Только посредством этой трансцендентальной функции воображения
становится возможным даже сродство явлений, а вместе с ним ассоциация их и
благодаря ей, наконец, воспроизведение их согласно законам, следовательно, и сам опыт;
без этой трансцендентальной функции никакие понятия о предметах не сходились
бы в один опыт»1.
Действительно, если две сферы — рассудок и чувственность — разведены, то
должно быть что-то выступающее «посредником». Воображение подставляет
категории к явлениям. Однако Э. Гуссерль и все последующее развитие феноменологии
показало сведение воображения к вторичности мышления. Хотя нужно учитывать,
что Кант не ставит воображение в основании генезиса мышления. Воображение не
объясняет мышление, но является его необходимой предпосылкой. Именно
воображение является условием знака. Однако воображению нужен объект, чтобы
вообразить его представляющим другое. Такой объект выбирается в совместном освоении
действительности.
Таким образом, социальная интенциональность образуется в результате
совместного освоения действительности, когда воображение выбирает объект для
представления другого. Этот объект можно назвать эталоном, потому что он является
принудительным для второй интенциональности, он участвует в расщеплении первой
интенциональности, в процессе отчуждения человека от природы.
То, что сознание воспринимает как феномен, по сути, является постфеноменом,
производным от интенциональностей. Например, социальная норма вне второй
интенциональности бессмысленна, да и чувственные данные без второй
интенциональности являются всего лишь ощущениями, а не восприятиями. Поэтому можно
сказать, что то, что существует как феномен, после вторжения социальных интенций
преобразуется, т.е. является постфеноменом. Кроме того, жизнь человека стала
настолько технологически опосредованной, что многие явления предстают перед ним
только через электронные средства коммуникации. Видеоряд телевизионных
новостей можно также назвать постфеноменом, т.к. транслируемое может никогда и не
предстать непосредственно перед зрителем.
Китайская комната и «письмо»
Как известно, тест Тьюринга является инструментом проверки наличия
искусственного интеллекта. Если вкратце, то его смысл в следующем: экспериментатор не
должен понять, общается он с компьютером или человеком. Дж. Сёрль предложил
мысленный эксперимент «Китайская комната», который, по его мысли, должен был
показать, что прохождение теста Тьюринга вовсе не докажет наличие ИИ. Американ-
1 Кант И. Критика чистого разума. М., 2006. С. 651.
16
ский философ предположил, что если он изучит синтаксис китайского языка с
помощью специального учебника, написанного на английском языке, то сможет сойти
за носителя этого азиатского языка, хотя и не будет ориентироваться в синтаксисе,
т.е. понимать язык. Точно также общение с компьютером как с человеком совсем не
гарантирует наличия ИИ.
Прохождение теста Тьюринга без знания семантики возможно только в
текстовой среде без соотнесения с миром объектов. Например, когда испытуемый и
экзаменатор находятся далеко друг от друга, вне непосредственного контакта. Они
обмениваются лишь словами, у экзаменатора нет возможности задавать вопросы
об объекте.
Удивительно, но обладание синтаксисом вне обладания семантикой — это
«письменная» культура, апологетом которой выступил Деррида. Если нет означаемого, а
есть лишь differance, т.е. соотношение знаков между собой, то это и есть синтаксис.
Получается, что человек «письменности» — это аналог компьютера, обладающего
правилами синтаксиса языка, но не обладающий интеллектом. Однако человек
живет не только в мире слов, но и в мире того, что эти слова означают.
С одной стороны, постструктурализм наносит удар по теории ИИ, т.к. исключает
наличие Я как зеркала, а с другой стороны, не предлагает другой метафоры, других
вариантов конституции Я.
Чем же владение синтаксисом языка без знания семантики отличается от
differance, от «письма»? Нет «письма» без учрежденной инстанции значения.
Различание всегда организовано через центр. Если феноменологический опыт
differance может только описать зависимость одного знака от других, то
постфеноменологический опыт заглядывает за феномен, показывает интенции,
формирующие различание. Именно существование двух интенциональностей является
источником письма. Поэтому differance — это опыт Я, но Я не абсолютного, а как
различия социального и природного. Это конституэнты «письма». Можно
заключить, что интеллект — это во многом отношение. Интеллект — это избыток
наличной ситуации. Мышление является следствием такого избытка и отношения.
Программирование ответа — это не создание ИИ, это предопределение реакции в
рамках наличной ситуации.
Конечно, не стоит списывать создание ИИ на «божественное провидение».
Акцент необходимо делать на создании «воображения», из которого должна вырасти
вторая интенциональность. И уже на этой почве возникнет ИИ как результат
совместного отношения к наличной ситуации. Если взять в качестве примера усвоение
синтаксиса китайского языка, то это должно быть отношение к иероглифам, к
используемым символам.
Как и в случае с человеком, эталон для второй интенциональности возникает
только в сообществе. Эталон — это и условие интерсубъективности, и условие
связи мышления с миром. Каким же образом определить наличие ИИ, если ИИ — это
не имитация человеческого поведения, а опосредованное отношение к
действительности?
Ответ может быть в наличии «двойной бухгалтерии» между испытуемыми. Это
не синтаксис иероглифов, это знаки как сверх-иероглифы, которые используются
для коммуникации между компьютерами. Сверх-иероглифы показывают
отношение к наличной ситуации. Здесь не может быть и речи об имитации человеческого
поведения, т.к. ИИ как сверх-сфера надстраивается на другом «материале». Тест
Тьюринга же был призван найти интеллект на уровне «официальной бухгалтерии»,
где нет сверх-наличной ситуации. Его следует заменить тестом «Письмо в
китайской комнате», который должен выявить наличие «двойной бухгалтерии»
сверхиероглифов.
17
БЛОХИНАН.А.
Дэвид Чалмерс о природе сознания
и его месте в структуре мира
Спекулятивная метафизика, возможно, неизбежна
при нахождении терминов для описания
онтологии сознания
Д. Чсишерс, «Сознающий ум»1
Во введении к своей книге «Сознающий ум» (1996) американо-австралийский
философ-аналитик Дэвид Чалмерс писал, что разгадав тайну сознания, мы сможем
коренным образом изменить наши представления о мире в целом и о нас самих2
Чалмерсовское исследование сознания начинается с особой постановки вопроса
0 сущности сознания. Во введении к «Сознающему уму», а годом раньше в статье
«Обращаясь лицом к проблеме сознания»3 (1995) он писал, что большинство работ
по философии сознания, вышедших в последнее время, касаются так называемых
«лёгких» проблем: стимулирования мозга окружающей средой, интеграции мозгом
информации, перевода внешних воздействий во внутренние состояния. Решение
этих проблем не решает «трудной» проблемы, отвечающей на вопрос: почему все эти
процессы сопровождаются опытом внутренней жизни. Не получив ответа на этот
вопрос, природа сознания для нас остаётся непрояснённой.
Начиная излагать свои взгляды на сознание, которые, как Чалмерс считает, ещё
не сложились в завершённую концепцию, он берёт на себя ряд обязательств. Во-
первых, он считает сознание реально существующим. От феномена сознания нельзя
«освободиться», попытавшись или отрицать сам факт его существования, или
переформулировать понятие сознания таким образом, чтобы элиминировать его
существование.
Во-вторых, Чалмерс намеревается подходить серьёзно не только к сознанию, но
и к науке. Не претендуя на решение чисто научных проблем в области сознания, он,
тем не менее, пытается согласовать своё понимание сознания с современными
научными представлениями.
В-третьих, Чалмерс рассматривает сознание как природный феномен,
подчиняющийся естественным законам. Должна существовать какая-то правильная
концепция сознания, независимо от того, является ли таковой концепция самого Чалмерса,
считает философ. Сознание производно от природы, оно присуще человеческим
существам и, вероятнее всего, и другим существам. И если все природные явления
подчиняются естественным законам, то было бы странным полагать, что сознание таким
законам не подчиняется. «Это не означает, что естественные законы, касающиеся
сознания (consciousness), будут похожи на законы других областей знания или даже
будут физическими законами. Они могут быть совершенно иного вида»1.
1 Chalmers DJ. The Conscious Mind. In Search of a Fundamental Theory. N.-Y., Oxford: Oxford
University Press, 1999. P. 302.
2 Ibid. P. xii.
3 Chalmers DJ. Facing up to the problem of consciousness //Journal of Consciousness Studies.
1995. 2 (№3). P. 200-219. [Также в: S. Hameroff, A. Kaszniak, and A. Scott ( eds.) Toward a
Science of Consciousness. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996].
4 Chalmers D.J. Facing up to the problem of consciousness //Journal of Consciousness Studies.
1995. 2 (№3). P. 200-219. P. xiii.
18
Решение проблемы сознания лежит на границе науки и философии. Сознание,
как всякий природный феномен, является предметом исследования науки. Однако
этот предмет не подлежит изучению с помощью научных же методов в силу своей
специфичности. Прежде чем использовать научные методы, надо понять
философскую природу сознания.
Чалмерс предупреждает, что некоторым исследователям его подход к сознанию
покажется «антинаучным», поскольку он обосновывает идею, что дать
редукционистское объяснение сознания невозможно. Чалмерс защищает и обосновывает
дуалистическую позицию в понимании природы сознания. Он пишет: «Материализм является
прекрасным и непреодолимым взглядом на мир, однако при рассмотрении сознания
мы вынуждены выйти за пределы тех ресурсов, которые он предоставляет»1.
Что такое сознание?
Для Чалмерса сознание (consciousness) является субъективной характеристикой
опыта: на что это похоже — быть познающим действующим индивидом? «Быть
сознательным» означает примерно то же, что обладать qualia, или обладать
субъективным опытом, или вести речь о том, «на что это похоже». Словами, которые приходят
на ум, когда речь заходит о предмете исследования, являются те, которые
ассоциируются с сознательным опытом2.
Сознательный опыт не исчерпывает всего содержания ментального (mind).
Чтобы убедиться в этом, достаточно сослаться на тот факт, что современная
когнитивная наука может многое сказать о сознании (mind) в целом, однако почти ничего о
сознательном опыте. Когнитивная наука имеет дело главным образом с
объяснением поведения. Для неё всякое внутреннее состояние, служащее причиной для того
или иного поступка, считается ментальным, независимо от того, является оно
сознательным или нет. А между тем, существуют два принципиально различающихся
понятия ментального. Первое — феноменальное, второе — психологическое3.
Феноменальное понятие ментального указывает на сознательный опыт, а ментальное
состояние феноменального — на ментальное состояние, имеющее дело с сознательным
опытом. Это тот аспект ментального, который вызывает наибольшее количество
затруднений и который главным образом и волнует Чалмерса. Психологическое
понятие ментального имеет дело с каузальным объяснением поведения. Для этого
понимания ментального не важно, является ли ментальное состояние сознательным
или нет, главное, чтобы оно выполняло определённую роль при объяснении
поведения. Согласно феноменальному понятию, ментальное характеризуется тем, как оно
ощущается, согласно психологическому понятию ментального, оно
характеризуется тем, что оно делает. Оба понятия не соперничают друг с другом, ни одно из них
не является единственно верным. Они относятся к различным феноменам, оба из
которых существуют реально.
В истории философии, утверждает Чалмерс, долгое время феноменальное и
психологическое понимание ментального не различались. Частично за это ответственен
Рене Декарт, утверждавший, что разум является абсолютно прозрачным для себя и
что всякое явление, происходящее в разуме, имеет своим содержанием опыт. Декарт
почти идентифицировал ментальное с феноменальным. Понятие несознающего ума
было для Декарта противоречием.
'Ibid. Р. 200-219. P. xiv.
2 Чалмерс перечисляет некоторые разновидности сознательного опыта, это визуальный,
слуховой, тактильный, обонятельный опыт, восприятие холодного и горячего, боль, ментальные
образы, сознательные мысли, эмоции, самоощущение и др. Chalmers DJ. The Conscious Mind.
In Search of a Fundamental Theory. N.-Y., Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 6—11.
3 Chalmers D.J. The Conscious Mind. In Search of a Fundamental Theory. N.-Y., Oxford: Oxford
University Press, 1999. P. 11.
19
С прогрессом психологии, а не философии, считает Чалмерс, два понятия были
разделены. Зигмунд Фрейд и его современники пришли к выводу о существовании
неосознаваемых состояний в разуме человека. Для анализа бессознательного был
использован не феноменологический метод исследования, а психологический.
Каузальная связь ментального с поведением без участия осознаваемого опыта позволила
сделать вывод, что понятие ментального может не зависеть от феноменального.
В психологии бихевиористы отбросили интроспекционистскую традицию.
Сознающая часть ментального была ими не задействована в объяснении поведения.
В философии же сдвиг от феноменального в сторону психологического был
кодифицирован Гилбертом Райлом в «Понятии сознания» (1949). Райл доказывал, что все
ментальные термины могут быть проанализированы с помощью терминов,
описывающих соответствующее поведение. Позиция Райла вела к ряду затруднений,
которые были преодолены функционалистами, первыми из которых были Дэвид Льюис
и Дэвид Армстронг. Согласно функционалистской позиции ментальные состояния
полностью определяются их каузальной ролью. Подобно Райлу, Льюис и Армстронг
полагали, что такой подход применим ко всем ментальным понятиям, в частности,
и к таким, как опыт, ощущения, сознание и т.п. Уподобление феноменального
психологическому видится Чалмерсу такой же серьёзной ошибкой, как и уподобление
психологического феноменальному. В целом функционалистский подход
соответствует тому подходу к сознанию, который Чалмерс называет психологическим
пониманием ментального.
По Чалмерсу, феноменальному и психологическому понятиям ментального
соответствуют совершенно различные и одновременно реальные вещи. В первом
приближении феноменальное понятие ментального имеет дело с ментальным от первого
лица, а психологическое понятие имеет дело с ментальным от третьего лица. Таким
образом, исследование ментального зависит от того, какой из этих аспектов
рассмотрения берётся за основу. Оба подхода к ментальному не заменяют друг друга и не
сводятся друг к другу1. Феноменальные и психологические свойства сопутствуют
друг другу, наличие феноменального опыта сопровождается соответствующими
психологическими процессами. У нас даже нет особого языка для описания
феноменальных свойств ментального. Чаще всего для их характеристики мы используем
понятия, описывающие окружающий нас мир, или используем термины,
ассоциирующиеся с показом их каузальных ролей. Райл говорил, что не существует
«лишённых всего лишнего, чистых» слов для описания ощущений. Например, мы говорим
следующее, описывая свои ощущения: «запах свежеиспечённого хлеба», «то, что
человек ощущает, когда закрывает глаза» и т.п. Описание ощущения зелёного (как и
других цветов палитры) требует, например, остенсивного определения.
Две психофизиологические проблемы
Деление ментальных свойств на феноменальные и психологические свойства
приводит к делению психофизиологической проблемы на лёгкую и трудную части
проблемы. Психологические стороны ментального требуют решения когнитивной
наукой многих технических проблем и даже представляют ряд интересных
головоломок для философского анализа, но они не открывают глубоких метафизических
тайн. Например, вопрос о том, как физическая система может обучиться чему-либо
или запомнить что-либо, не равнозначен по трудности с решением вопроса о
природе ощущений или о природе сознания в целом. Справедливым будет сказать, что
психофизиологическая проблема в психологическом аспекте в целом разрешена.
Нерешёнными остались ряд мелких технических проблем, с которыми вполне может
справиться научный и философский анализ.
1 Chalmers DJ. The Conscious Mind. In Search of a Fundamental Theory. N.-Y., Oxford: Oxford
University Press, 1999. P. 16.
20
Феноменологическая сторона ментального до сих пор приводит учёных и
философов в замешательство. Проблему, как физическое порождает сознание, можно
поделить на две взаимосвязанные проблемы: как физическое порождает психическое
и как психическое порождает феноменальное. Проблема, как физическая система
может породить психологические свойства, уже имеет разрешение, однако вопрос,
как психическое сопровождается феноменальным, до сих пор не получил ответа. Как
появляется ощущение боли? Следуя за Джакендоффом1 (Jackendoff R), Чалмерс
называет вторую часть психофизической проблемы отношением ментального к
ментальному („mind — mind problem"). «[Щонимание связи между психологическим и
феноменальным является решающим для понимания сознательного опыта»2.
Две концепции сознания
Двойственная природа ментальных терминов позволяет говорить о том, что
даже понятие «сознание» имеет обе — и феноменальную и психологическую —
стороны. Быть сознающим означает представлять какое-то феноменологическое
свойство. Но не только. Слово «сознание» мы можем использовать в отношении
разнообразных психологических свойств, таких, как способность к передаче
сообщения или интроспективная доступность информации. Чалмерс объединяет
эту группу психологических свойств под названием психологического сознания и
противопоставляет их феноменальному сознанию, о котором главным образом и
идёт речь в его книге «Сознающий ум». В качестве разновидностей
психологического сознания Чалмерс называет состояние бодрствования, когда человек не
спит (awakeness); интроспекцию — процесс, благодаря которому человек получает
доступ к содержанию своих внутренних состояний; предоставление отчёта о
содержании своих ментальных состояний (reportability); самосознание; внимание;
самоконтроль — состояние, когда человек делает что-то обдуманно; знание,
осознание того, что представляет из себя то, о чём человек думает3. Все эти понятия
являются функциональными, поскольку с их помощью происходит объяснение
тех или иных явлений.
Идея, что функциональное понятие сознания может быть эксплицировано с
помощью понятия доступности, было высказано Нэдом Блоком, который провёл
различие между «феноменальным сознанием» и «доступным сознанием»4.
Феноменальное сознание — это субъективный опыт и переживания. Доступным сознанием
является такое содержание нашего сознания, которое находится в распоряжении
всего мира, включает в себя сведения из различных познавательных систем и может
быть использовано для машинного запоминания, рассуждения, принятия решений,
при планировании и для контроля за сложными формами поведения. Блок
утверждал, что феноменальное и доступное сознание могут не совпадать в индивидуальном
сознании индивида. Чалмерс расценил понятие доступного сознания как близкое
понятию осведомлённости. Другим философом, проводившим различие между
сознанием и осведомлённостью, был А. Ньюэл (Newell). Ньюэл полагал, что
«сознание» является нефункциональным понятием, а «осведомлённость» — «способностью
субъекта делать своё поведение зависимым от определённого знания»5. Подобные
перечисленным различия в структуре сознания были сделаны и другими философа-
1 См.: Jackendoff R. Consciousness and the Computational Mind. Cambridge, Mass.: MIT Press,
1987.
2 Ibid. P. 25.
3 Ibid. P. 26-27.
4 Block N. On a confusion about a function of consciousness // Behavioral and Brain Sciences.
1995, №18. P. 227-247.
5 Newell A. SOAR as a unified theory of cognition: Issues and explanations // Behavioral and
Brain Sciences. 1992, № 15. P. 464-492.
21
ми и когнитивистами (Нэлкин (N. Nelkin), Бисиах (Е. Bisiach), Нэтсоулас (T. Nat-
soulas), Д. Дэннет)1.
Чалмерс считает, что наметившееся понимание различия между феноменальным
и психологическим понятиями сознания должно сделать абсолютно ясным, что
изучение психологических аспектов сознания, чем по преимуществу занимается
когнитивная наука, не представляет особого интереса для философа. Никаких важных
метафизических проблем в том, чтобы выяснить, как физическая система способна
заниматься самоанализом своих внутренних состояний, или как она рационально
справляется с информацией извне, или как она способна фокусировать внимание
сначала на одном, а затем на другом, не ставится. Рано или поздно человечество
найдёт решение психологических проблем сознания. Трудной проблемой остаётся
понимание феноменального сознания, и именно оно представляет метафизический
интерес и занимает центральное место в исследовании Чалмерса.
***
Прояснить проблему сознания как проблему феноменального, а не
психологического сознания, а также найти подходы к её решению Чалмерсу позволяет
концептуальный аппарат, который содержит такие понятия как: «супервентность» (или
«производность»), «объяснение», «концептуальная истина», «необходимая истина»,
«необходимая апостериорная истина», двухаспектная теория значения (наличие
у имени первичного и вторичного интенсионалов), «представимость» и некоторые
другие.
Супервентность и объяснение
Признавая сознание природным феноменом, Чалмерс задаётся вопросом о
сущности этого феномена. Является ли сознание физическим и можно ли его объяснить
с помощью физических терминов? В каком отношении находится сознание к
природным явлениям? Для объяснения сознания Чалмерс использует понятие «super-
venience», переводимое в отечественной литературе двумя терминами:
«супервентность» и «производность»2 и характеризующее разновидность зависимости явлений
друг от друга.
Супервентность (от лат. super + venire «приходить», «происходить») — отношение
зависимости между свойствами или явлениями одного вида (А) и свойствами или
явлениями другого вида (В), для которого характерно то, что совокупность свойств
или явлений В следует за совокупностью свойств или явлений А только в том случае,
если изменения или различия В не могут существовать без изменений и различий А.
Центральная идея супервентности заключается в том, что не может быть различия В
без различия А: свойство или явление В возникает вслед за свойством или явлением
А, если и только если изменение свойств или появление явления А нуждается в
изменении свойств или появлении явления В, точно также как полная схожесть явлений
в отношении свойств В гарантирует полную схожесть явлений в отношении свойств
А. Отношения супервентности не являются ни логическими, ни каузальными.
Для Чалмерса важны две альтернативные разновидности супервентности — (1)
локальная и глобальная и (2) логическая и естественная. Б-свойства локально про-
изводны от А-свойств, если А-свойства единичного (индивидуалии) детерминируют
Б-свойства этого единичного. Например, форма локально производна от физических
свойств: любые два объекта с одними и теми же физическими свойствами будут
необходимо иметь одну и ту же форму. По иному дело обстоит с производностью цен-
1 Chalmers DJ. The Conscious Mind. In Search of a Fundamental Theory. N.-Y., Oxford: Oxford
University Press, 1999. P. 360.
2 Сёрл Дж. Открывая сознание заново / Перевод с англ. А.Ф. Грязнова. М.: Идея-Пресс,
2002. С. 126-127.
22
ности от физических свойств: точная физическая копия Моны Лизы Леонардо да
Винчи не имеет той же ценности, которую имеет оригинал.
Б-свойства глобально производны от А-свойств, если А-факты, относящиеся ко
всему миру, детерминируют Б-факты целого мира: то есть не существует двух
возможных миров, идентичных в отношении их А-свойств, но различающихся в
отношении их Б-свойств.
Более важным для понимания (феноменального) сознания является различение
между логической (или концептуальной) и естественной (номической или
эмпирической) супервентностью. Б-свойства логически производны от А-свойств, если не
существует таких двух логически возможных ситуаций, при которых они идентичны
относительно своих А-свойств и разнятся своими Б-свойствами.
Тем не менее, существует супервентность, при которой отсутствует какое-либо
логическое следование одних фактов от других. Этот вариант супервентности
возможен в природе, когда две совокупности свойств систематически и в полном объёме
находятся в определённом отношении. Например, давление, производимое одним
молем газа, производно от его температуры и массы и описывается законом pV= KT,
где К является константой (предположим, что все газы являются идеальными
газами). В реальности очень сложно вообразить себе газ, в котором два различных моля
могут иметь одну и ту же температуру и массу, но производить разное давление.
В логическом же смысле вполне возможна ситуация, когда моли одинаковой
температуры и массы производят разное давление: для этого надо только вообразить мир, в
котором величина константы К больше или меньше той, которая существует в нашем
мире. В этом примере давление производно естественным образом от температуры,
массы и такого свойства, как быть молем газа. Таким образом, в реальности два моля
газа, имеющие одинаковую температуру и массу, производят одинаковое давление.
Вместе с тем, логически возможен и такой сценарий, когда константа К больше или
меньше той, которая существует в природе. Однако ситуация, возможная в
логическом смысле, не имеет шансов на воплощение в природе. Существует огромное
количество логически возможных ситуаций, которые едва ли возможны в природе. Любая
ситуация, в которой игнорируются законы природы, является логически возможной.
К такому классу ситуаций попадают воображаемые миры, в которых нет гравитации
или для которых не присущи другие фундаментальные константы. Выходит, что
совокупность природных возможностей является подклассом логических
возможностей. Так, логически возможным является существование как кубического
километра золота, так и кубического километра урана-235. Однако в реальности в нашем
мире может существовать только первый.
Логическая супервентность предусматривает природную супервентность.
Однако обратное следование вовсе не обязательно: природная супервентность не
предполагает существования логической супервентности. Это хорошо было видно на
примере с газом. Ситуации, при которых природная супервентность не предполагает
существования логической супервентности, Чалмерс относит к ситуациям «простой
природной супервентности»1.
Чалмерс пишет, что вполне вероятно, что сознание производно, локально или
глобально естественным образом от физических свойств мира в той мере, в какой два
создания, идентичные в своих физических свойствах, идентичны и качественными
характеристиками своего опыта. Однако нельзя с такой же уверенностью
утверждать, что сознание логически производно от физических свойств. Многим кажется
вполне правдоподобным существование существа, которое физически идентично
другому существу, у которого имеется сознание, но, тем не менее, которое само не
обладает сознанием вообще или обладает сознанием совершенно иного вида. Вы-
1 Ibid. Р. 37.
23
ходит, что природная супервентность не предполагает логической супервентности.
«Необходимая связь между физической структурой и опытом гарантируется только
законами природы, а не [гарантируется] какой-либо логической или концептуальной
силой»1, — заключает Чалмерс.
Используя образное описание Солом Крипке создания мира Богом в статье «(На)
именование и необходимость» (1972), Чалмерс так представляет себе разницу между
логической и природной необходимостью, последнюю из которых он называет
решающей для своей концепции сознания. Если Б-свойства логически производны
от А-свойств, тогда, поскольку Бог (гипотетически) создаёт мир с определёнными
А-фактами, возникновение Б-фактов следует автоматически. Если же Б-свойства
производны от А-свойств естественным образом, тогда Бог после того, как он
удостоверился, что А-факты созданы, должен ещё потрудиться и сделать дополнительные
усилия, чтобы существовали Б-факты: он должен удостовериться, что созданы
законы, связывающие А-факты с Б-фактами2.
Объяснение через редукцию
Удивительный прогресс науки многим обязан объяснительному приёму,
известному как редукция. Практически все явления, выходящие за рамки микромира,
могут быть объяснены с помощью терминов физики микромира, то есть сведением
сущностей более высокого организационного порядка к сущностям более низкого
организационного порядка. Так, репродукция в мире живого может быть объяснена
с помощью генетики и механизмов развития клетки, что позволяет нам понять
процессы порождения одного организма другим.
Одним из видов редукционистского объяснения является изучение тех
функций, которые объект выполняет или способен выполнить. Применительно к
феноменальным состояниям ментального функциональное объяснение вряд ли работает,
замечает Чалмерс. Какое бы функциональное объяснение познанию человека мы
не дали, вслед за ним последует вопрос: почему это функциональное состояние
сопровождается сознанием? Соответствующего объяснения для понятия сознания не
существует. Феноменальные состояния сознания также нельзя объяснить, изучая
каузальные роли, которые они выполняют в жизни человека. Выходит, что какое бы
функциональное объяснение познанию мы ни дали, логически вполне вероятно, что
это объяснение нарисует нам картину познания, в которой допускается, что никакого
сознания в его феноменальном аспекте не существует. В реальности это
невозможно — сознание действительно возникает как функция мозга — однако с точки зрения
логики вполне вероятно, что никакого сознания не существует. И в такой
объяснительной схеме познания никакого логического противоречия не заключено, полагает
философ.
Если такое логически возможно, тогда любое функциональное и любое физика-
листское объяснение ментальных феноменов будет в своей основе неполным. Если
воспользоваться выражением, введённым Левайном3 (J. Levine), между такого рода
объяснением и сознанием всегда будет существовать объяснительный зазор.
Логическая супервентность и редукционистское объяснение
Механизм редукционистского объяснения напрямую связан с метафизикой
супервентности. Природный феномен может быть редукционистски объяснён с
помощью понятий, выражающих свойства более низкого уровня, только в том случае,
когда этот феномен логически производен от этих свойств. Феномен может быть све-
1 Ibid. Р. 38.
2 Ibid. Р. 38.
3 LevineJ. Materialism and qualia: The explanatory gap // Pacific Philosophical Quarterly. 1983.
№64. P. 354-361.
24
дён к физическим терминам только в том случае, когда он логически супервентен
физическому. «[Р]едукционистское объяснение нуждается в отношении логической
супервентности»1. Например, именно потому, что репродукция логически произво-
дна от фактов более низкого уровня, репродукцию можно редуцировать к понятиям,
выражающим эти факты.
Не умаляя объяснительного значения редукции, Чалмерс предлагает считать
редукционистское объяснение не разъясняющим объяснением, а объяснением,
которое только перемещает загадку. Объяснив феномен высшего уровня фактами более
низкого уровня, мы встанем перед загадкой фактов теперь уже другого уровня, но и
только. Загадка отодвигается, но не решается окончательно.
Для объяснения сознания Чалмерс из вышесказанного акцентирует внимание на
двух обстоятельствах: (1) если терпит неудачу логическая супервентность, терпит
неудачу и любая разновидность редукционистского объяснения; (2) логическая
супервентность отодвигает метафизическую тайну относительно феноменов более
высокого порядка к тайне феноменов более низкого порядка2.
***
Свой тезис о том, что сознание логически не производно от физического и его
нельзя объяснить с помощью физических терминов, Чалмерс обосновывает пятью
разными способами. Чисто технически это обоснование строится как доказательство
того, что априорного следования феноменальных фактов вслед за физическими
фактами невозможно установить.
Доказательство 1. Логическая возможность зомби.
Вполне реально, что возможно существование существа, которое абсолютно
идентично любому из нас. Любой из нас не сомневается в наличии у себя сознательного
опыта, однако, отрицает, что его физический двойник обладает таким опытом.
Можно представить существование целого мира, в котором все существа являются только
физическими копиями людей и эти копии не обладают сознанием, то есть являются
зомби. Зомби являются не только физическими, но и психологическими двойниками
людей, обладающих сознательным опытом, поскольку все реакции зомби на внешние
раздражители идентичны реакциям их человеческих двойников. Однако эти
реакции зомби не сопровождаются сознательными процессами в феноменальном смысле.
Мир зомби у Чалмерса — это вымышленный мир. О существовании реальных зомби
Чалмерс речи не ведёт. Смысл его рассуждений относительно зомби состоит в том,
чтобы получить ответ на вопрос, является ли само понятие зомби логически
согласованным. Чалмерс даёт утвердительный ответ: «Я признаю, что логическая
возможность существования зомби кажется мне очевидной. Зомби — это что-то физически
идентичное мне, но не обладающее сознательным опытом — внутри всё темно»3.
Доказательство логической нередуцируемости сознательного опыта к фактам
физической организации системы, обладающей таким опытом, на примере зомби
(Чалмерс относит такой ход доказательства одним из аргументов представимости),
принимается не всеми исследователями. Да и сам Чалмерс не считает это доказательство
особенно убедительным.
Доказательство 2. Перевёрнутый спектр.
Другой разновидностью аргумента, основанного на представимости, у Чалмерса
является мысленный эксперимент, в котором мы можем вообразить мир, физически
идентичный нашему, однако отличный от нашего особенностями субъективного опы-
1 Ibid. Р. 48.
2 Ibid. Р. 50.
3 Ibid. Р. 96.
25
та. В этом случае не надо даже воображать ситуацию, в которой сознание отсутствует
вовсе. Физически идентичное мне существо просто воспринимает цвета по-другому.
Там, где у меня ощущение красного цвета, у моего физического двойника ощущение
голубого, и наоборот. Конечно, мой двойник называет своё ощущение голубого
красным, как и я называю красное красным. Важно не то, что является красным и что
голубым. Важно только то, что одни и те же вещи мы называем одинаково: кровь
красной, а море голубым. Чтобы достичь смещения спектра в реальном мире, надо как-то
заново «переоборудовать» те физиологические структуры, которые ответственны за
восприятие цвета. Но если говорить о логической возможности такой ситуации, то
никакого препятствия для неё не существует. «Ничто в нейрофизиологии не
вынуждает [представить себе], что один вид протекания [физиологических] процессов
должен сопровождаться переживанием именно красного цвета, а не жёлтого»1.
Возможность существования перевёрнутого спектра при сохранении в
неизменном виде функциональной организации системы признают даже многие
представители функционального материализма, замечает Чалмерс2.
Доказательство 3. Аргумент эпистемологической асимметрии.
Если сравнить существование сознательного опыта и существование всего того,
чем этот опыт не является (физическую реальность, в первую очередь), то окажется,
что о существовании опыта мы знаем главным образом на основании своих
собственных свидетельств и отчасти на основании внешних свидетельств. Таким образом,
имеется асимметрия в познании феноменальных и всех прочих явлений. Косвенным
свидетельством эпистемологической асимметрии является проблема существования
других сознаний, утверждает Чалмерс. Не существует проблемы «других жизней»,
«других экономик» или «других вершин». Их отсутствие объясняется тем, что эти
феномены логически производны от физических явлений. Эпистемологическая
асимметрия служит, по мнению Чалмерса, доказательством того, что сознание может
быть не производным от физического. Именно это доказательство Чалмерс считает
наиболее основательным, чем два предыдущих доказательства, относимых им к
аргументу представимости.
Доказательство 4. Аргумент знания.
Это доказательство строится на мысленном эксперименте, предложенном
Фрэнком Джексоном (статья «Эпифеноменальные кволиа» (Apiphenomenal qualia. 1982))
и родственном тому, который ранее был предложен Томасом Нагелем (статья
«Каково быть летучей мышью? (What it is like to be a bat? 1974)). Вообразим мир, в
котором наука может объяснить все функции человека и живых организмов, опираясь
на знания нейробиологии. В этом мире живёт учёный-нейробиолог Мэри, которая
специализируется в области нейрофизиологии восприятия цвета.
Предположительно Мэри росла и живёт до сих пор в мире, где нет никаких цветовых ощущений,
кроме белого, чёрного и разных оттенков серого. Она не знает, что собой представляет
красный цвет, поскольку у неё никогда не было ощущения красного. Никакие знания
из области физики, физиологии и оптики не способны ей дать знание о том: «Каково
это — воспринимать красный цвет?»
Ранее Томас Нагель рассуждал в том же духе, что никакие знания о «физике»
летучей мыши не способны утвердительно либо отрицательно ответить на вопрос,
имеется у неё сознательный опыт или нет. Обладая знанием о всех физических явлениях
и процессах, мы, тем не менее, не можем досконально знать, на что это похоже — быть
летучей мышью.
1 LevineJ. Materialism and qualia: The explanatory gap // Pacific Philosophical Quarterly. 1983.
№ 64. P. 100.
2 Ibid. P. 101.
26
Чалмерс развивает идею дальше, беря в качестве объекта рассмотрения
компьютер. Этот компьютер сконструирован таким образом, чтобы обладать когнитивными
способностями, скажем, на уровне собаки. Он способен различать цвета, как это
делаем мы, люди. Компьютер способен, как и мы, называть красным всё то, что мы
называем красным, и «зелёным» то, что мы считаем зелёным. Но, зная все особенности
протекания физических процессов, происходящих в компьютере, мы, тем не менее,
не способны ответить на вопросы: (1) испытывает ли компьютер что-либо, когда он
«смотрит» на розы? (2) если испытывает, то является ли этот сенсорный опыт таким
же, что и наш? Таким образом, из знания физических процессов автоматически не
следует, что объект изучения обладает сознательным опытом1.
Доказательство 5. Аргумент отсутствия анализа.
Для того, чтобы вывести существование сознания из физических фактов,
требуется проанализировать понятие «сознание» (consciousness), чтобы утверждать, что
само понятие подразумевает какие-то физические факты. Однако такой анализ
сознания вряд ли удастся сделать, говорит Чалмерс.
Единственным видом такого анализа, в какой-то степени согласующегося со
здравым смыслом, является функциональный анализ, который позволяет судить о
наличии сознания системы на основании той функциональной роли, которую эта
система выполняет. Так, сознательное состояние можно определить как то, что способно
вербально передать информацию, или как то, что является результатом проведения
определённых чувственных различий, или как то, что делает информацию
доступной для последующих процессуальных действий, и т.п. Однако, несмотря на то, что
состояния сознания способны играть разнообразные каузальные функции, их
нельзя определить с помощью этих каузальных функций. То, что делает эти состояния
состояниями сознания, — это опытное переживание сознания (phenomenal feel), и
именно это переживание не поддаётся определению2.
Тот факт, что опыт не является логически производным от мира физического,
говорит о том, что сознание невозможно объяснить, редуцируя его к физическим
фактам. Принципиальное отличие физических фактов от фактов, относящихся к
сознанию, показывает, что существует, как это называет Левайн, объяснительный
зазор между двумя уровнями сущего: Сознание не сводимо ни к своей структуре, ни к
своим функциям. Сопровождая физические процессы, сознание само является ещё
одним фактом, заключает Чалмерс3.
Физикалистское объяснение сознания, тем не менее, видится Чалмерсу вполне
приемлемым для прояснения проблем, касающихся структуры сознания, его
физической основы или соотношения между различными физическими и ментальными
процессами.
Натуралистический дуализм
Если верен тезис о логической непроизводности феноменального сознания, то
можно утверждать, говорит Чалмерс, что сознание существует как особый феномен,
лежащий вне пределов физического мира. По этой причине Чалмерс считает чисто
материалистическое толкование сознания ошибочным. Ход его мысли выглядит
следующим образом:
В нашем мире существует сознание.
Логически возможен мир, который физически идентичен нашему миру и в
котором отсутствуют позитивные факты о существовании сознания, имеющие место в
нашем мире.
1 Ibid. Р. 103-104.
2 Ibid. P. 105.
3 Ibid. P. 107.
27
Вот почему факты, относящиеся к сознанию, являются дополнительными к
нашему миру и лежащими вне пределов физической реальности и над ней.
Поэтому материализм [в объяснении сознания] является ошибочным.
Логическая возможность существования мира зомби, только физически
идентичного нашему, делает сознание, присущее нашему миру, чем-то дополнительным к его
физическим составляющим. Как сказал об этом Дэвид Льюис, сознание несёт
феноменологическую информацию1.
Используя приём Сола Крипке для описания творения мира, Чалмерс пишет, что
Бог при создании мира имел выбор: создать мир, подобный миру зомби, и мир с
перевёрнутым спектром или наш мир. И если выбор был сделан в пользу нашего мира, то,
помимо физических фактов, ему предстояло сотворить что-то ещё дополнительно.
Но тогда, утверждает Чалмерс, сотворенный мир предстаёт уже дуалистическим.
Дуализм Чалмерса предполагает существование не логической, а
натуралистической (естественной) производности сознания от физического. Это утверждение
позволяет избежать декартовского дуализма с самостоятельно существующими
субстанциями, не зависящими друг от друга. Современная наука утверждает, что
физический мир является каузально закрытым в большей степени, чем это казалось
раньше: всякое физическое явление находит достаточное каузальное объяснение.
Для ментальной каузальности в замкнутом мире физических явлений и процессов
не остаётся места. Таким образом, не находя места для ментальной каузальности в
физически замкнутой картине мира, Чалмерс предлагает другой механизм связи
феноменального и физического — натуралистическую супервентность.
Дуализм Чалмерса являет собой разновидность дуализма свойств: сознательный
опыт включает в себя и такие свойства индивида, которые не вытекают из
физических свойств этого индивида, однако номологически зависят от этих свойств. В
концепции Чалмерса феноменальные свойства онтологически не зависят от физических
свойств.
Предвидя возражения, Чалмерс просит не путать его вариант дуализма свойств
с так называемой слабой версией дуализма свойств. В последней под свойствами
понимают некие свойства, которые сами по себе не являются физическими или не
редуцируются напрямую к физическим свойствам. Примером такого рода свойств
Чалмерс называет биологическую приспособленность. Приспособленность
логически производна от физических свойств низшего уровня и ничего онтологически
независимого от мира физики собой не представляет. Дуализм такого рода вполне
сопоставим с материализмом. Дуализм самого Чалмерса предполагает существование
новых фундаментальных свойств, присущих нашему миру.
Во взгляде Чалмерса на природу сознания присутствует идея, что сознание
«возникает» на основе физического, благодаря естественным законам природы, которые
сами по себе, однако, физическими законами не являются. Чалмерс говорит, что
такую версию дуализма можно назвать «слабой версией материализма».
Современная научная картина мира рисуется таким образом, что ей известны
фундаментальные законы и константы мира. Всё существующее предстаёт как всё то,
что следует из этих констант и законов. Фундаментальную физическую теорию
иногда называют «теорией всего». Однако тот факт, что сознание логически не произво-
дно от физических параметров мира, показывает, что физическая теория не является
вполне теорией всего. «Чтобы вписать сознание в состав фундаментальной теории,
нам необходимо ввести новые фундаментальные свойства и законы»2. Этот
дополнительный компонент можно ввести двумя способами: (1) признать сознательный
1 Lewis D. What experience teaches // Lycan W. (ed.) Mind and Cognition. Oxford: Blackwell,
1990.
2 Ibid. P. 126.
28
опыт фундаментальным свойством мира и считать феноменальные свойства
основополагающими свойствами. (2) полагать, что существует особый класс новых
фундаментальных свойств, от которых производны феноменальные свойства. Из ранее
сказанного вытекает, что эти новые свойства не могут быть причислены к разряду
физических. Однако «возможно, они являются нефизическими свойствами нового
вида, от которых логически производны феноменальные свойства», и их можно
назвать протофеноменальными свойствами. Сложно вообразить, на что эти свойства
могут быть похожи, но нельзя сбрасывать со счетов того, что их существование
возможно, говорит Чалмерс. Делая выбор между высказанными предположениями,
Чалмерс выбирает первое, считая, что феноменальные свойства являются
фундаментальными сами по себе1.
Там, где имеются новые фундаментальные свойства, обязательно имеются новые
фундаментальные законы. И эти законы должны быть психофизическими законами,
указывающими специфику того, как феноменальные (или протофеноменальные)
свойства зависят от свойств физических. Эти законы не будут действовать в зоне
действия физических законов, потому что последние работают в уже замкнутой
системе физических объектов и процессов. Новые законы будут супервентными
законами, объясняющими возникновение сознательного опыта на основе физических
процессов2.
Пока, естественно, мы можем сказать немного о том, что из себя представляет
новая фундаментальная теория сознания, в частности, как выглядят фундаментальные
психофизические законы.
В какой-то мере, добавляет Чалмерс, нынешняя картина с объяснением
природы сознания напоминает ситуацию с электромагнетизмом в науке девятнадцатого
столетия. Неудачные попытки объяснить электромагнетизм с помощью физических
терминов привели к тому, что Максвелл предложил считать основные
электромагнитные явления (заряд, силы взаимодействия) фундаментальными и ввёл в научный
оборот новые фундаментальные электромагнитные законы. Новая теория сознания
также нуждается в постулировании новых фундаментальных свойств и законов,
считает Чалмерс.
Такая точка зрения, убеждён философ, полностью совместима с научной
картиной мира, поскольку является натуралистической. Мир по-прежнему представляет
собой систему фундаментальных свойств, подчинённых фундаментальным законам,
в которой буквально всё объясняется с их помощью. Более того, ничего в
предложенной теории не противоречит физическим теориям: она является их дополнением. Но
если физические теории объясняют физические процессы, то психофизические
теории объясняют процессы возникновения субъективного опыта из этих физических
процессов.
Свою концепцию сознания Чалмерс называет «натуралистическим дуализмом»3.
Натуралистической эта теория является потому, что следует из ряда базовых свойств
и законов и не противоречит современным научным представлениям, а кроме того,
позволяет объяснить сознание с помощью фундаментальных законов природы. Нет
никаких трансцендентальных допущений: сознание такой же феномен природы, как
все явления, изучаемые естествознанием. Просто наша картина природы
расширяется за счёт сознания.
Чалмерс сознательно избегает понятия «материализм», который он толкует как
философскую позицию, редуцирующую всё существующее к материальным
явлениям и процессам. Он считает, что материализм не приложим к его теории созна-
1 Ibid. Р. 126,127.
2 Ibid. P. 127.
3 Ibid. P. 128.
29
ния. Чалмерс замечает, что даже если в будущем докажут, что материя и сознание
являются двумя сторонами одного и того же, эта теоретическая позиция не будет
называться материалистической в современном понимании слова, хотя, возможно,
и будет монистической. Это будет не материалистический монизм, а нечто более
широкое1. Против такого поворота мысли в создании целостной теории сознания в
будущем Чалмерс препятствий не видит.
Природа физического
Физическая теория фиксирует только внешние проявления физического мира,
представленные как огромный поток каузальных связей. Так, фундаментальные
частицы микромира характеризуются через их взаимодействие с другими частицами.
Однако такая картина мира ничего не говорит нам о том, с чем эта причинность
соотносится2. Референция протона фиксируется как то, что служит причиной
определённого вида, что соединяется определённым образом с другими частицами и т.д.; «но
что это такое, что осуществляет это причинение и соединение? Как заметил Рассел
(1927), это тот предмет, о котором физическая теория умалчивает»3.
Кого-то устроит такая картина мира, которая состоит только из каузальных и но-
мических отношений между пустыми местами, не обладающими своими
собственными свойствами. «Интуитивно более разумным будет предположить, что базисные
сущности, с которыми вся эта каузальность соотносится, обладают некоторой
самостоятельной, внутренней природой, некоторыми внутренне присущими (intrinsic)
свойствами, то есть, что для неё у мира имеется некоторая субстанция»4. Физика
может отсылать нас только к внешним связям того, что взаимодействует, и ничего не
говорит о свойствах того, что взаимодействует.
И Чалмерс выдвигает гипотезу, согласно которой «[Существует только один класс
сущностных, несоотносительных свойств, о которых мы осведомлены напрямую,
и это есть класс феноменальных свойств. Естественно предположить, что
возможна связь или даже частичное совпадение между внутренне присущими физическим
сущностям свойствами, лишёнными характеристик, и знакомыми нам внутренне
присущими свойствами опыта. Возможно, как предположил Рассел, по крайней
мере, некоторые из внутренне присущих физическому миру свойств сами являются
разновидностью феноменального свойства? Поначалу идея кажется дикой, но она
становится менее [дикой] после размышления. В конце концов, мы действительно не
имеем представления о свойствах, внутренне присущих физическому. Их суть ещё
предстоит постичь, и феноменальные свойства выглядят не худшими кандидатами
[на эту роль], чем другие»5.
Высказанное предположение, что феноменальные свойства являются базисными,
чревато панпсихизмом, соглашается Чалмерс. Базисными могут быть и протофено-
менальные свойства, которые вообще не поддаются нашему восприятию. Однако
возможность такой альтернативы нельзя исключить apriori. «Если существуют
внутренне присущие физическому миру свойства, именно примеры этих свойств
являются тем, с чем физическая каузальность в конечном счёте соотносится»6.
Если отказаться от картины мира в виде чисто каузального потока, то в мире
существует дуализм свойств: с одними из них физика имеет дело напрямую, другие же,
1 Lewis D. What experience teaches // Lycan W. (ed.) Mind and Cognition. Oxford: Blackwell,
1990. P. 129.
2 Ibid. P. 153.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid. P. 154.
6 Ibid.
30
которые конституируют феноменологию, являются скрытыми сущностными
свойствами. Такую точку зрения можно будет назвать не дуализмом, а монизмом. Но этот
монизм не будет материалистическим, поскольку в роли фундаментальных свойств
признаются определённые феноменальные или протофеноменальные свойства. Это
своего рода идеализм, но не берклианского типа, поскольку мир не производен от
сознания наблюдателя. Он состоит из огромной каузальной сети феноменальных
свойств, лежащих в основе физических законов, которые постулирует наука1. Менее
радикальный вариант, при котором сущностными свойствами признаются
протофеноменальные или некоторые свойства ни феноменальными, ни протофеноменаль-
ными, можно рассматривать как версию расселовского нейтрального монизма. Мир
феноменального и физического конструируется из чего-то, не являющегося по своей
природе ни физическим, ни феноменальным. Психофизические законы не являются
онтологическими бездельниками: они наравне с физическими являются следствием
более фундаментальных законов. Онтологический и эпистемологический порядок
разнятся в этой картине мира: онтологически базисное (первичное) познаётся после
вторичного (физического или феноменального).
***
Чалмерс указывает ещё на одно затруднение, которое может возникнуть, если
придерживаться дуализма: это вопрос о том, как сознание возникает. Основываясь
на своей концепции натуралистического дуализма, он выдвигает гипотезу, что на
ранних этапах развития Вселенной ещё не существовало антецедентов для
возникновения универсальных психофизических законов, и в силу этого сознание не могло
возникнуть. Со временем такие антецеденты появились, а с ними появилось и
сознание.
Чалмерс подытоживает, что никаких серьёзных возражений против
натуралистического дуализма не существует. Самым большим препятствием оказываются
негативные коннотации, ассоциирующиеся с самим термином, поскольку трудно
признать ошибочным то, к чему мы привыкли относиться как к истине.
Натуралистический дуализм способен примирить материализм и дуализм: «Это
точка зрения, которая берёт у обоих лучшее и ни у одного из них ничего плохого ...[о]
на просто требует, чтобы мы покончили с догмой»,2 — считает Чалмерс.
1 Ibid. P. 155.
2 Ibid. Р. Р. 171.
31
ВАСИЛЬЕВ В.В.
«Трудная проблема сознания»
и два аргумента в пользу интеракционизма
В 1994 г. более или менее рутинно текущие дискуссии по проблеме сознание-
тело были взорваны Дэвидом Чалмерсом. Выступая на первой Туссанской
конференции, он провел различие между «легкими проблемами сознания», научно
трактующими психологические механизмы, — и «трудной проблемой сознания»1.
Трудная проблема сознания2 — вопрос о том, как и почему мозг порождает
сознание? Допустимо также вынести за скобки ту часть вопроса, в которой идет речь о
«как», и дать «глубочайшей» части «почему»3 более нейтральную формулировку:
почему функционирование мозга сопровождается субъективным опытом? Этот
вопрос породил много откликов, но сейчас, по прошествии 15 лет, в его трактовке
возникло нечто вроде консенсуса: хотя трудная проблема кажется философским
вопросом, философскими средствами решить ее едва ли возможно, и если она
вообще может быть решена, решение придет из нейронауки, прогресс которой
поражает воображение.
Эта ситуация кажется мне очень странной4. Ведь вопрос о том, почему
функционирование мозга сопровождается субъективным опытом, квалиа, допускает ответ,
философская аргументация в пользу которого не представляется чем-то
бесперспективным. Ответ состоит в том, что без субъективного опыта мозг просто не может
функционировать так, как он функционирует, не может продуцировать поведение,
позволяющее людям быть самими собой, т.е. людьми.
Рассматривая этот ответ, надо принимать во внимание, что мозг не мог бы
функционировать без субъективного опыта так, как он функционирует, в трех случаях.
Первый случай имел бы место тогда, когда субъективный опыт являлся условием
самого существования или действенности физических событий, составляющих
функционирование мозга. Это мыслимо, к примеру, если квалиа являются
субстанциальной основой физического. Данный подход был опробован Чалмерсом в «Сознающем
уме», но был фактически оставлен им в более поздних статьях. Это исключительно
спекулятивное решение, опирающееся на экстравагантную онтологическую модель,
лишенную серьезных аргументативных оснований. Неясно прежде всего, почему
физические свойства нуждаются в какой-то основе. Чалмерс ссылался на утверждения
Бертрана Рассела о том, что наше знание о материи есть знание исключительно об
отношениях, а отношения предполагают вещи, вступающие в отношения и т. д. Но еще
никому не удалось доказать, что физическая реальность, как мы знаем ее, есть лишь
1 В переписке Дэвид сказал мне, что, насколько он помнит, он начал использовать это
различение на семинаре но сознанию в Вашингтонском университете «в конце 1993 года».
2 Cf. Chalmers DJ. Facing up to the problem of consciousness // Explaining Consciousness — The
«Hard Problem», ed. by J. Shear. Cambridge: The MIT Press, 1997. P. 9—30. Первоначально
опубликована в 1995 г.
3 Cf. Chalmers DJ. Consciousness and Cognition. 1990. Эта неопубликованная статья есть на
его сайте.
4 Не все согласятся, что такой консенсус имеет место. Чалмерс, к примеру, считает, что
лучше было бы избегать подобных социологических обобщений. Может быть, нам и в
самом деле лучше было бы спросить об этом экспериментальных философов. И все-таки я
уверен, что большинство ведущих аналитических философов дало бы тот ответ, который
дан в тексте.
32
совокупность отношений. Неудивительно, что в наши дни у этого решения мало
сторонников1.
Второй случай каузальной необходимости субъективного опыта для
функционирования мозга иллюстрирует теория тождества. Согласно этой давней теории,
восходящей к работам У. Плейса, Дж. Смарта, Г. Фейгла, Д. Льюиса и Д. Армстронга,
т.н. субъективный опыт тождествен физическим процессам в мозге, и в силу этого
необходим для его нормального функционирования. За пятьдесят лет своего
существования теория тождества подвергалась самой разной критике. Эта критика
кажется мне убедительной, и в этой связи я отсылаю читателей к работам С. Крип-
ке, Д. Чалмерса, М. Маккинси и других авторов. К используемым им аргументам я
могу добавить еще один: основной тезис теории тождества, если понимать его как
утверждение об онтологическом тождестве квалиа и физических процессов в мозге,
не является тезисом, допускающим какую-либо верификацию, в отличие, скажем, о
тезиса о тождестве Утренней и Вечерней звезды. Верифицировать можно было бы
тезис о корреляции физических процессов и неких квалитативных переживаний, но
теоретики тождества (за исключением Плейса), разумеется, отличают тождество от
корреляции. Неверифицируемость теории тождества означает, что она должна быть
отброшена. И здесь не помогают стандартные рассуждения о том, что теория
тождества являет собой пример «заключения к наилучшему объяснению». Такие
заключения имеют смысл лишь в случае верифицируемости «наилучшей» модели. В ином
случае они просто абсурдны. Представим, к примеру, что мы обнаружили
интересную аномалию: двое часов совершенно разной конструкции, находящиеся в разных
частях света, демонстрируют поразительную синхронность хода: стоит одним часам
на секунду отстать от эталонного времени, как мы видим, что то же самое произошло
и со вторыми часами, и т.д. Мы не можем понять, как это происходит. И что же,
лучшим объяснением этой ситуации будет утверждение, что двое часов в
действительности являют собой одни и те же часы? Поскольку у нас нет метода его верификации,
мы не в состоянии даже представить, как двое этих часов могли бы оказаться одной
вещью. Такое утверждение, как и в случае теории тождества, просто не может быть
истинным2.
Сторонники решения «трудной проблемы сознания» в свете положения о
каузальной необходимости ментального для нормальной работы мозга остаются, таким
образом, с единственным вариантом: квалиа онтологически отличны от физических
свойств мозга, но оказывают реальное каузальное влияние на процессы в мозге. Это
не что иное, как интеракционистская позиция (но не обязательно позиция
субстанциального интеракционизма: я считаю, что у нас имеется больше оснований
принимать нечто вроде эмерджентного интеракционизма). Интеракционизм не пользуется
большой популярностью в аналитической философии, и причина состоит в боязни
того, что данная позиция заставляет отказаться от принципа каузальной замкнутости
физического, на котором, как многие считают, базируется современное
естествознание. В конце статьи я покажу, что эти страхи безосновательны.
Пока же обращу внимание на то, что, если отбросить теорию тождества,
единственным серьезным конкурентом интеракционизму является эпифеноменализм,
теория о том, что квалитативные состояния онтологически самостоятельны, но ли-
1 Одно из редких исключений — Г. Розенберг, защищающий эту теорию в A Place for
Consciousness (2004).
2 Обычная критика принципа верификации не достигает цели в данном случае. Кажется, что
когда мы говорим об абстрактных пропозициях, принцип верификации действительно не
работает (see: Soames S. Philosophical Analysis in the Twentieth Century. Princeton: Princeton
University Press, 2003. Vol. 1. P. 289—291). Но в нашем случае пропозиция факутальна, и еще
никто насколько мне известно, не показал, что принцип верификации не работает и в таких
случаях.
33
шены каузального влияния на физические процессы. Между тем, в последние годы
мы видим усиление атак на эпифеноменализм. Главная цель моей статьи — сделать
краткий обзор этих возражений, показать, что они не содержат решающих
аргументов против эпифеноменализма и дополнить их двумя другими аргументами, один
из которых лишь относительно нов (я собираюсь усилить старый аргумент).
Другой аргумент, который я выдвину, нов и, я надеюсь, достаточно убедителен.
1.
Обобщая аргументы против эпифеноменализма, можно заметить, что они
естественным образом распадаются на два класса: аргументы с позиции здравого
смысла и сугубо философские специальные аргументы. С позиции здравого
смысла эпифеноменализм обычно критикуется так: самый обычный опыт показывает
нам, что наши квалитативные ментальные состояния, такие как боль или желания,
играют существенную роль в детерминации нашего поведения1. Если я хочу
выпить воду, то странно было бы отрицать, что мое желание ответственно за
поведение, позволяющее удовлетворить его. Между тем, эпифеноменалист может легко
парировать этот довод, заметив, что непосредственный опыт показывает нам не
более, чем корреляцию некоторых ментальных состояний и поведенческих актов.
Но корреляция еще не есть причинность. Возможно, что действительными
причинами поведения являются нейронные процессы, скрытые от обыденного опыта и
порождающие не только поведенческие акты, но и эпифеноменальные ментальные
состояния, которые, в силу невидимости реальных причин, ошибочно
принимаются нами за них.
Главным специальным доводом против эпифеноменализма долгое время
являлся так называемый эволюционный аргумент2. Суть его в том, что если бы
квалитативные ментальные состояния, или сознание, не оказывали влияния на поведение,
они не играли бы адаптивной роли, не испытывали давления естественного отбора и,
соответственно, вообще не могли бы эволюционировать. Этот аргумент, однако,
исходит из предположения, что все признаки организма имеют адаптивную ценность,
что, между тем, не следует из теории эволюции. Предположим, что некий признак А
имеет позитивную адаптивную ценность, но мутация, в результате которой он
возник, также произвела нейтральный признак В. В таком случае мы получаем
устойчивый нейтральный признак. И сознание вполне может быть подобным нейтральным
признаком, связанным с адаптивными поведенческими схемами. Так что этот
аргумент не проходит.
В последнее десятилетия получил распространение эпистемологический
аргумент против эпифеноменализма3: если сознание не влияет на поведение, то наши
рассуждения о сознании не зависят от того, существует ли сознание. Выражаемые
в этих рассуждениях знания не определяются сознанием и его свойствами.
Соответственно, эти знания не являются знаниями о сознании. И это заставляет усомниться
в том, что при эпифеноменалистских предпосылках мы вообще можем что-то знать о
сознании. Если эпифеноменализм — это реальность, то сознание должно оставаться
чем-то потаенным. Защитники эпифеноменализма (такие как Д. Чалмерс4), однако,
отвечают5, что это рассуждение опирается на каузальную теорию знания: чтобы знать
1 См., напр.: Swinburne R. The Evolution of the Soul. Oxford: Oxford University Press, 1997. P. 1.
2 В не давние времени этот аргумент продвигал У. Хескер в книге The Emergent Self (1999).
3 Неясно, кто является автором этого аргумента. В последнее время его активно защищал А.
Элитцур.
4 Чалмерс не эпифеноменалист, но он считает, что эпифеноменализм свободен от
логических дефектов.
5 Chalmers D. The Conscious Mind. N.-Y.: Oxford University Press, 1996. P. 196.
34
что-то о предмете, я должен испытать воздействие от него. Поскольку сознание
каузально бесплодно, знать о нем невозможно. Но почему мы верим в универсальность
каузальной теории знания? Почему мы исключаем возможность непосредственного
знания каких-то реальностей? Если оснований для такой однозначности нет, и, если
сознание может быть отнесено к числу таких реальностей1, эпистемологический
аргумент против эпифеноменализма утрачивает свою силу.
2.
Теперь мы могли бы подумать, что эпифеноменализм имеет иммунитет к
концептуальным возражениям2. Но посмотрим, нельзя ли все же попытаться разрушить его
какими-то другими аргументами. Начнем с аргумента с позиций здравого смысла —
но не того, о котором шла речь выше.
Одна из установок здравого смысла — уверенность в существовании других
сознаний. Совместима ли она с эпифеноменализмом? О существовании других
сознаний мы заключаем, опираясь на сходство нашего поведения с поведением других
существ. Мое поведение определенного рода сопровождается субъективным опытом,
и, если я вижу сходное поведение, я заключаю, что у этого существа тоже есть
субъективный опыт, т.е. сознание. Между тем, эпифеноменализм отрицает связь между
поведением и наличием сознания. И поэтому мы лишаемся оснований делать вывод
0 существовании сознаний у других существ, исходя из сходства нашего поведения.
Конечно, я буду видеть, что поведение других существ сходно с моим. Ну и что? Они
могли бы вести себя таким же образом и без сознания. Почему, в самом деле, я
должен допускать, что у них есть субъективный опыт?
Конечно, некоторые эпифеноменалисты скажут, что в действительности они не
отрицают связи между сознанием и поведением. Они будут настаивать, что тот же
самые процессы в мозге, которые продуцируют поведение, порождают и наше эпифе-
номенальное сознание. Поэтому, хотя сознание и не влияет на поведение, отсутствие
сознания означало бы отсутствие его нейронного базиса и, соответствие, какие-то
изменения в поведении. Допустим, но как мы можем знать, что наше эпифеноменаль-
ное сознание порождается теми же самими процессами в мозге, которые
продуцируют поведение? Находясь на позиции здравого смысла, мы не можем отсылать к
каким-либо экспериментальным данным. И единственный путь, который остается у
нас, — ссылка на соображения простоты. Некоторые защитники эпифеноменализма
действительно отсылают к ним. Они говорят, что возможный мир, в котором мое эпи-
феноменальное сознание порождается процессами в мозге, отличными от процессов,
продуцирующих мое специфические человеческое поведение, и где только мое
поведение могло бы сопровождаться субъективным опытом, в то время как другие люди
и животные могли бы быть просто зомби, был бы менее единообразным, нежели наш
мир, в котором мы допускаем систематическую корреляцию между определенным
видом поведения и сознанием.
Поскольку соображения простоты возникают в здравом смысле, кажется, что,
даже принимая эпифеноменализм, мы можем сохранить идею существования
других сознаний. И я не собираюсь отрицать, что соображения простоты порождаются
здравым смыслом. Но я полагаю, что мир, в котором только я обладаю эпифеноме-
нальным сознанием, был бы гораздо более простым, чем «более единообразный»
мир, наполненный эпифеноменальными сознаниями. В самом деле, второй мир
демонстрирует нам классический пример умножения сущностей без какой бы то ни
1 Роберт Курк в своей книге Zombies and Consciousness (2004) пытался показать, что эта
линия обороны непрочна. Но я не думаю, что его попытка была удачной.
2 Я оставляю в стороне экспериментальные возражения, если такие имеются: в
действительности, вооружившись знаменитыми данными Б. Либета, эпифеноменализм легко может их
обезвредить.
35
было необходимости1. Мне не нужно постулировать реальность других эпифеноме-
нальных сознаний: это была бы трата онтологического материала, так как,
согласно дефиниции, они должны были бы быть бездеятельными. В лучшем случае я мог
бы принять «интенциональную установку» (а ля Деннет) по отношению к другим
людям и животным, так как это помогало бы предсказывать их поведение, — но без
каких-либо онтологических обязательств по отношению к ним (у нас нет
онтологических обязательств по отношению к компьютерам, когда, к примеру, играя с ними в
шахматы, мы приписываем им разного рода интенциональные состояния).
Таким образом, последовательный эпифеноменализм в отношении
собственного сознания должен вести к зомбификации других людей и иных существ,
демонстрирующих сходное с нами поведение. Поскольку эта зомбификация противоречит
здравому смыслу, эпифеноменализм не выдерживает испытания здравым смыслом.
Вывод о неприемлемости эпифеноменализма можно усилить еще одним, более
специальным философским аргументом. Он опирается на три посылки, каждая из
которых не должна вызывать вопросов. Первая состоит в признании, что
одинаковые события могут иметь разные причины. Это общее место. К примеру, одинаковое
в численном выражении падение биржевого индекса может наступить в результате
влияния самых разных факторов. Если рассуждать абстрактно, то можно сказать,
что любое действие может быть интерпретировано в качестве вектора,
возникающего как результат сложения множества других векторов. И очевидно, что самые
разные слагаемые (компоненты совокупной причины события — в нашем случае)
могут приносить один и тот же результат. Вторая посылка, судя по всему, столь
же беспроблемна. Она указывает на то, что воспоминания людей отображают их
прошлое, их индивидуальную историю, причем, в общем и целом, делают это
корректно. Наконец, третья посылка обращает внимание на тот факт, что поведение
людей скоррелировано с их ментальными состояниями. Если я хочу выпить воды,
то я ищу воду, а не вино и т.п. С положением о такой корреляции не спорит даже
эпифеноменалист. Разумеется, тут бывают рассогласования, но обычно такая
корреляция имеет место.
Еще раз отмечу, что, хотя каждая из посылок и может вызывать обсуждение, они
не относятся к тем положениям, которые оспариваются в современной литературе.
Между тем, их соединение приводит к опровержению эпифеноменализма и
предоставляет сильный довод в пользу интеракционизма. В самом деле, если одинаковые
события могут (в смысле реальной, а не только лишь логической возможности) иметь
разные причины и если мой мозг в данный момент времени может быть
представлен как совокупность нейронных событий, то очевидно, что он мог прийти к своему
нынешнему состоянию по совершенно разным каузальным траекториям. Но в таком
случае, согласно второй посылке, я обладал бы совершенно другими
воспоминаниями, отражающими другую историю, которая у меня была бы. А содержания наших
воспоминаний формируют квалитативные контенты других ментальных состояний,
в том числе убеждений и желаний. Поскольку же, согласно третьей посылке,
желания и другие ментальные состояния скоррелированны с нашим поведением, то, если
бы я пришел к своему нынешнему состоянию по другой каузальной траектории и
обладал бы другими воспоминаниями, желаниями и т.п., то, будучи таким же с
физической точки зрения, каков я сейчас, я (по крайней мере, в большинстве случаев) вел
бы себя иначе. И инаковость моего поведения была бы связана именно с тем, что у
меня были бы другие ментальные состояния. Но отсюда следует, что и мое нынешнее
поведение зависит, в том числе, и от того, какими ментальными состояниями я
обладаю. Значит, квалитативные ментальные состояния оказывают реальное влияние
на поведение.
1 Чал мерс ( 1996) и У .С. Робинсон в своей подробной статье об эпифеноменал изме в Stanford
Encyclopedia of Philosophy (2007) не уделяют должного внимания этому обстоятельству.
36
3.
Если приведенные выше аргументы верны, эпифеноменализм —
несостоятельная доктрина, и мы должны принять интеракционизм. И чалмерсовская
«трудная проблема сознания», с которой мы начали статью, действительно
допускает тот ответ, о котором шла речь: функционирование мозга сопровождается
появлением ментальных состояний потому, что без них он не работал бы так, как
он работает.
Задумаемся, однако, о цене этого решения. Признание того, что ментальные
состояния влияют на процессы в мозге, представляет угрозу для принципа каузальной
замкнутости физического, т.е. тезиса, что каждое физическое событие имеет
непосредственно предшествующую ему физическую причину1. Но почему, собственно,
мы должны бережно относиться к принципу каузальной замкнутости?
Я вижу по крайней мере две причины для беспокойства. Во-первых, как уже
отмечалось, некоторые считают, что отказ от этого принципа грозит разрушением основ
экспериментального естествознания. Во-вторых, отказаться от него затруднительно
потому что он принадлежит к числу того, что можно было бы назвать естественными
убеждениями, руководящими нами в обыденной жизни.
Первая из упомянутых выше причин для беспокойства является, по-видимому,
наименее серьезной, и, в частности, Д. Папино убедительно показал, что в
действительности до относительно недавнего времени экспериментальное естествознание
вовсе не опиралось на принцип каузальной замкнутости физического. Правда,
Папино уверен, что в современной физике он действительно играет основополагающую
роль. С другой стороны, ядром современной физики является квантовая механика,
отношение которой к данному принципу заведомо не является однозначным,
учитывая тот факт, что ряд интерпретаций квантовой механики допускает влияние
наблюдателя (в наиболее радикальном варианте — не просто наблюдателя, но сознающего
наблюдателя) на так называемый коллапс волновой функции.
Вторая причина представляется более основательной. Как показал еще Юм, наши
эмпирические заключения о фактах опираются на перенос прошлого опыта на
будущее: что предполагает убеждение в «соответствии прошлого и будущего»2. Если
присмотреться к этому убеждению, то мы увидим, что оно неявно включает в себя
убеждение в каузальной замкнутости физического. В самом деле, допустим, что перенос
прошлого на будущее возможен при отрицании принципа каузальной замкнутости.
Если этот принцип не соблюдается, то мы должны допускать возможность
ситуации, при которой какому-то физическому событию А не соответствует
необходимого физического коррелята в момент, предшествующий его свершению. Но тогда при
повторении физического события В, предшествовавшего событию А, мы не можем
ожидать, что событие А последует за ним (такое ожидание предполагает
необходимую связь между В и А) '. Между тем, такого рода ожидания конституируют перенос
прошлого на будущее и убеждение в соответствии прошлого и будущего. Поэтому из
нашего убеждения в соответствии прошлого и будущего вытекает убеждение в
каузальной замкнутости физического, являющееся не менее фундаментальным, нежели
первое убеждение.
1 Я принимаю формулировку Лау (2000).
2 Юм использует эту фразу в «Кратком изложении «Трактата о человеческой природе»
(1740). В самом «Трактате», а также в «Исследовании о человеческом познании» он обычно
говорит о «сходстве» между прошлым и будущим, что может сбивать с толку, так как в
действительности он имеет в виду нечто более однозначное.
3 Мы можем игнорировать случаи, в которых имеются некие приватные ментальные
компоненты в моем представлении физических событий. Поскольку такие компоненты (которые
могли бы в принципе компенсировать отсутствующие физические корреляты) приватны, они
не могут иметь значения для других людей, тоже заключающих от прошлого к будущему.
37
Но есть ли вообще шанс согласовать принцип каузальной замкнутости с
положением о том, что ментальные состояния оказывают влияние на поведение? Чтобы
обдумать ответ на этот вопрос, вернемся к доказательству каузальной действенности
ментального, предложенному выше. Мы видели, что к действенности ментального
мы можем заключить исходя из того, что один и тот же мозг может быть носителем
разных наборов ментальных состояний, и того, что ментальные состояния скорре-
лированы с поведением. Из соединения этих допущений следует, что если я
рассматриваю свой мозг, то ответ на вопрос, почему он продуцирует то поведение, которое
он продуцирует, не может обойтись без ссылки на то, какими именно ментальными
состояниями я обладаю: я мог бы обладать и другими ментальными состояниями,
и тогда тот же мозг, как правило, продуцировал бы другое поведение.
Присмотревшись к этим рассуждениям, мы увидим, что они содержат важную оговорку: «Если я
рассматриваю свой мозг». Иными словами, мы можем доказать действенность
ментальных состояний при локальном рассмотрении материальной системы, изменение
которой во времени (т.е. поведение) нас интересует. Иными словами, пока речь шла
только о локальном интеракционизме.
Это существенный момент. Ведь если снять указанное ограничение и
рассматривать мозг в контексте всего физического универсума, картина может измениться.
В самом деле, нельзя ли допустить, что мое поведение все же определяется
физическими причинами, но эти причины имеют не только локальный характер? Иными
словами, нельзя ли допустить, что мое поведение зависит как от локальных, так и
от нелокальных физических факторов? Такое допущение позволило бы сохранить
каузальную замкнутость физического.
Разумеется, за такое сохранение тоже надо платить, и его цена складывается
из следующих компонентов. Во-первых, приходится признавать реальность
нелокальной причинности. Во-вторых, вновь приходится искать ответ на вопрос о роли
ментальных состояний и объяснять, не являются ли они все-таки эпифеноменаль-
ными.
Прежде чем разрешать эти сомнения, отметим, что рассматриваемое решение
имеет и важные достоинства. Главное из них — хорошая перспектива сохранения
закономерного характера отношений между физическим и ментальным. Ведь
доказывая правоту локального интеракционизма, мы пришли к выводу о том, что один и
тот же мозг может быть носителем разных ментальных состояний1. Этот вывод
прямо противоречит принципу локальной суиервентности, устанавливающему, в
частности, однозначную связь между мозгом и ментальными состояниями. Но раз этот
принцип ложен, возникает вопрос, а есть ли между ментальными состояниями и их
физическими основами вообще какая-нибудь законосообразная связь?
Единственный шанс сохранить ее — постараться показать, что, хотя принцип локальной супер-
вентности не действует, это не распространяется на принцип глобальной
суиервентности, согласно которому в одинаковых физических мирах должны быть одинаковые
ментальные состояния. Отрицание принципа локальной суиервентности и впрямь
автоматически не влечет вывода о ложности принципа глобальной супервентности.
В самом деле, если принцип глобальной супервентности истинен, то ложность
принципа локальной супервентности означает лишь, что, если бы мой мозг был носителем
другого набора ментальных состояний, физический мир в целом не мог бы быть
таким, какой он есть сейчас: в нем были бы какие-то отличия.
И теперь ясно, как можно совместить эту картину с принципом каузальной
замкнутости физического: нелокальные по отношению к моему мозгу физические
отличия мира, в котором с моим мозгом были бы связаны другие, нежели в
актуальном мире ментальные состояния (скоррелированные с другим поведением), можно
1 Фишер Дж. (Why nothing mental is just in the head. In: Nous 41 2007. P. 318—334) пришел к
сходному выводу, используя другие аргументы и мысленные эксперименты.
38
рассматривать как нелокальные физические причины этого другого поведения.
И, соответственно, физические отличия актуального мира от возможного мира, о
котором только что шла речь, можно рассматривать как нелокальные физические
причины поведения, которое я демонстрирую в актуальном мире. Таким образом,
сохранение принципа каузальной замкнутости физического наряду с принятием
позиции локального интеракционизма может служить подтверждением верности
принципа глобальной супервентности, сохранение которого, в свою очередь,
позволяет удержать представление о законосообразной связи ментальных состояний с
физическим.
Наличие такой законосообразной связи обещает хорошие перспективы при
ответе на вопрос Чалмерса, который вновь обрел остроту: почему функционирование
моего мозга сопровождается появлением субъективных ментальных состояний?
Ведь если сохранить принцип каузальной замкнутости физического и ввести
представления о нелокальных физических причинах поведения, то может возникнуть
впечатление, что ментальные состояния все же эпифеноменальны. А объяснить
появление эпифеноменальных состояний очень трудно. Однако нынешняя ситуация
отличается от той, что была раньше. Если бы наше поведение можно было объяснить
исключительно локальными физическими причинами в мозге, то наличие
ментальных состояний казалось бы чем-то совершенно чудесным. Но если мы уже доказали,
что наши ментальные состояния производят некое различие на локальном
физическом уровне, а затем допускаем, что их физические действия все же могут иметь
нелокальные физические корреляты, то мы могли бы склоняться к мысли, что
реальными эпифеноменами являются именно эти нелокальные корреляты. Основание
достаточно просто: в целом и в общем, у нас нет свидетельств в пользу веры в
нелокальную причинность. Но если мы все же хотим настаивать, что эти нелокальные
корреляты являются реальными причинами, тогда, как представляется, мы должны
принять следующую схему: поскольку нелокальная каузальность не универсальна,
она не является безусловной, и вполне вероятно, что условием, при котором
нелокальный физический коррелят мог бы рассматриваться в качестве причины (или
компонента сложной причины), является не что иное, как существование приватных
ментальных состояний, сопровождающих это событие и скоррелированных с ним.
Иными словами, ментальные состояния представляются чем-то вроде посредников
в реализации нелокальной физической причинности, по не в том смысле, что они
являются промежуточными звеньями между нелокальными факторами и
поведением, а в том смысле, что они есть необходимые онтологические условия реализации
нелокальной физической причинности1. В подобном случае ментальные состояния
уже не будут эпифеноменальными, и они сохранят каузальную релевантность, хотя
и не каузальную действенность.
Если это верный путь, то тогда мы не только можем объяснить, почему
функционирование нашего мозга сопровождается субъективным опытом, мы можем также
попробовать начать объяснение того, как это возможно, — напомню, что полная
версия вопроса Чалмерса включает требование объяснить, как происходит, что
функционирование мозга сопровождается сознанием. В самом деле, поскольку более чем
вероятно, что наши ментальные состояния порождаются функционированием мозга,
и, принимая во внимание, что эти состояния должны быть онтологическими
условиями нелокальной физической причинности, мы можем предположить, что они
порождаются физическими системами, которые демонстрировали бы некое
нарушение детерминистического поведения при отсутствии ментальных состояний. Иными
словами, механизмы, благодаря которым некоторые физические системы
порождают ментальные состояния, должны иметь отношение к неполноте их локальных
1 Этот вывод может иллюстрировать то, что Лау (2000) назвал «причинением ментальным
событием физического каузального факта».
39
каузальных цепей. Я должен заметить, однако, что из этой схемы не следует, что
существование ментальных состояний есть лишь результат какой-то физической
аномалии. В действительности, чуть раньше мы видели, что существование ментальных
состояний, связанных с некоторыми физическими системами, дает этим системам
возможность учитывать в своем поведении собственную индивидуальную историю1,
что, в свою очередь, может дать им большие адаптивные преимущества.
Так что наше возвращение к «трудной проблеме сознания» и ее возможным
решениям позволяет нам увидеть, что наиболее перспективным в конечном счете
оказывается тот самый подход, который был опробован Чал мерсом в «Сознающем уме».
Напомню, что в этой книге он рассматривает решение «трудной проблемы»,
предполагающее, что ментальные состояния являются онтологическими предпосылками
для реализации физической причинности и даже самого существования физических
свойств. В начале статьи я назвал схему Чалмерса странной. Но она кажется странной,
лишь пока мы опираемся на неорасселовскую онтологическую модель (ментальные
состояния — что-то вроде носителей физических свойств), как это и делал Чалмерс.
В данной статье я пытался показать, что при изменении онтологической модели этот
подход может стать плодотворным и открыть путь к решению трудной проблемы.
Литература:
1. Chalmers DJ. (1990) Consciousness and Cognition (unpublished). URL = <http://
consc.net/papers/c-and-c.html>.
2. Chalmers D.J. (1995) Facing up to the problem of consciousness // Journal of
Consciousness Studies. 2(3). P. 200—19.
3. Chalmers DJ. The Conscious Mind. N.-Y.: Oxford University Press, 1996.
4. FisherJ.C. Why nothing mental is just in the head // Nous. 2007. 41. P. 318-34.
5. Hasker W. The Emergent Self. Ithaca: Cornell University Press, 1999.
6. Kim J. Philosophy of Mind. Cambridge, MA: Westview Press, 2006.
7. Kirk R. Zombies and Consciousness. Oxford: Clarendon Press, 2005.
8. Lowe E. J. Causal closure principles and emergentism // Philosophy. 2000. 75.
P. 571-85.
9. Papineau D. Thinking about Consciousness. Oxford: Clarendon Press, 2002.
10. Robinson V^.5.Epiphenomenalism//StanfordEncyclopediaofPhilosophy/E.N.Zalta
(ed.). 2007. URL = <http://plato.stanford.edu/entries/epiphenomenalism/>
11. Rosenberg G. A Place for Consciousness: Probing the Deep Structure of the Natural
World. N.-Y.: Oxford University Press, 2004.
12. SoamesS. Philosophical Analysis in the Twentieth Century. 2003. Vol. 1. The Dawn
of Analysis. Princeton: Princeton University Press.
13. Swinburne R. The Evolution of the Soul. N.-Y.: Oxford University Press,1997.
14. Vasilyev V. Brain and consciousness: Exits from the labyrinth // Social Sciences.
2006.37. P. 51-66.
1 Если это так, тогда ни одна чисто механическая система не может точно эмулировать
человеческое поведение. В самом деле, каждая такая система действует исключительно на основе
своего нынешнего физического состояния. Так что Джон Сёрл и другие авторы, возможно,
были чрезмерно оптимистичными, когда говорили, что верят в так называемый слабый
искусственный интеллект. И эта сверхоптимистичность отвлекла их внимание от того факта,
что к примеру, его знаменитая Китайская комната просто не может работать. К примеру, она
не может давать осмысленные ответы на индексикальные вопросы, вроде «Сколько сейчас
времени?»
40
ВОЗНЯКЕВИЧ Е.Е.
Кому принадлежит сознание?
Проблема отношения «Я» и сознания
Сознание всегда оказывается в центре философской концепции, но его понятие
никогда не бывает точным и ясным. Его либо описывают, стремясь к ясности, либо
определяют, стремясь к точности. Преградой между точностью и ясностью понятия
сознания оказывается странный парадокс, связанный с ответом на вопрос о том, о
чьем сознании идет речь. С одной стороны, очевидность того, что сознание именно
мое, не подлежит сомнению. При этом, как отмечает Г. Райл, «...есть существенная
разница между личным местоимением первого лица и всем остальным. «Я», когда
я употребляю это слово, всегда указывает на меня и только на меня. «Ты», «она» и
«они» указывают в разное время на разных людей. «Я» — это как моя собственная
тень. Я не могу убежать от нее, как могу убежать от вашей тени» [1]. С другой
стороны, сама постановка вопроса о собственнике сознания оказывается иллюзорной.
Как указывает Милль, когда говорится о «я» как субъекте и переживаниях как о
том, чем он обладает, «я» тем самым помещается «вне» процессов сознания и не
может быть непосредственно дано. «Я» следует рассматривать как результат
гипотетического построения. Сознание принадлежать не может, все, что поддается
отнесению, если и не к хозяину, то хотя бы к собственнику, так это — содержания
сознания. Указанная сложность возникает там, где мы решаем отказаться от
позитивного подхода к сознанию. Там, где мы остаемся в его рамках, проблема звучит
иначе: «Философия же, когда говорит о сознании, а не о чем-нибудь другом,
говорит о таких вещах, для которых нельзя показать (подставить) их эмпирические
и конечным числом операций контролируемые эквиваленты» [2]. Таким образом,
отвечая на вопрос о том, к кому относится сознание, я со всей
непосредственностью отвечаю, что его собственником являюсь я. Но мне нечем доказать это себе,
предъявив какое-то нечто, обладающее достоверностью и имеющее возможность
рассматриваться как мое сознание. Более того, мне не удается установить самого
собственника сознания. «Но по какому праву можем мы спрашивать в философии:
чье сознание? — тем самым предполагая подлинное присутствие разных кто,
которым нужно отдать сознания в частную или общинную собственность? Самый
вопрос есть лишь философски-недопустимое выражение догматической уверенности
в безотносительном и самотождественном бытии единичных существ. Но именно
эта-то уверенность и требует проверки и оправдания чрез непреложные логические
выводы из самоочевидных данных. Такого оправдания я не нашел для нее ни в
Декартовой презумпции cogito ergo sum, ни в лейбницевой гипотезе монад, ни в мэн-
де-бирановых указаниях на активные элементы сознания» [3]. Этот собственник не
явлен ни для себя, ни для другого. Мы можем говорить о субъекте как о некоторой
идее «Я» в платоновском смысле, или как о декартовском cogito ergo sum, или о
кантовском единстве апперцепции, или даже о гуссерлевском трансцендентальном
субъекте. Но все это не очевидные, не данные «я», а, скорее, то, что Мамардашвили
называет «особые образования ... проявляющие как бы обратным отложением в нем
некую организацию познавательных сил» [4] — следы всеобщего «я» в содержании
моего индивидуального сознания.
Райл писал об этом в работе «Понятие Сознания»: «Все загадки, которые я имею
в виду, вращаются вокруг того, что я назову «систематической неуловимостью»
понятия Я» [5].
41
В самом общем виде сознание предстает как мне как мое, не только мое, ничье и
всеобщее одновременно. Все четыре позиции относительно принадлежности
сознания выражены в истории философии довольно подробно и тесно связаны с
концептуальным оформлением самого понятия «сознание».
Первая позиция связана с однозначным утверждением «я» в качестве личного
тождества «я», определяющего сущность эмпирического; она устанавливается одним
актом констатации тожества этого «я» или «самосознания», как, например, у Локка.
Тождество «я» как эмпирического и логического обнаруживается и у Фихте. Но этот
собственник сознания, тождественный в себе, не является равноправным в своих
моментах в отношении сознания. «... у Фихте возникает парадоксальное требование:
он стремится психологический уровень превратить в сверхлогический, поставив его
тем самым над логикой, а средством для достижения этого является различие
эмпирического и Абсолютного Я. Абсолютное Я обретается именно в акте самосознания
индивида, который есть исходная клеточка системы Фихте. А самосознание — это
замкнутость на самого себя, это «Я есмь Я», это рефлексия. А если бы мы захотели
выразить принцип не самосознания, а сознания, то мы получили бы направленность
не на себя, а на другое» [6].
То есть абсолютное «я» управляет сознанием, эмпирическое «я» владеет
содержаниями сознания, а собственником сознания как такового является их различенное
тождество, охватывающее в то же время и все, что можно назвать сознанием.
Существенным здесь оказывается то, что собственник сознания есть, по сути дела, не что
иное, как условие его единства. В то время как Античная философия и
новоевропейская традиция обосновывали единство сознания через единство бытия, Кант, Фихте
и многие другие представители немецкой классической философии, за исключением,
пожалуй, Краузе, обосновывают это единство, вводя привязку сознания к какому-
либо нечто. Описывая сложившуюся здесь ситуацию, Мамардашвили отмечает: «...
сознание — это весьма странное явление, которое есть и которое в то же время нельзя
ухватить, представить как вещь. То есть о нем в принципе нельзя построить теорию.
Ни в виде предельного философского понятия, ни в виде реального явления,
описываемого психологическими и другими средствами, сознание не поддается
теоретизированию, объективированию» [7]. По сути дела, немецкая классическая философия
совершила своего рода скачок от позиции «мое сознание» к положению «всеобщее
сознание». В каждом эмпирическом сознании обнаруживается в равной степени им
самим и любым другим субъектом нечто, что можно назвать «чистым сознанием»,
то есть то, что принадлежит всем и каждому. «Тогда как само сознание по существу
стоит перед ним только в своей идеальной данности, и в этом смысле уже не есть
сознание его, эмпирического имярека. Вопрос в том, не существенно ли для этого
сознания идеальное я, идеальный имярек. Нет, не существенен, отвечаем мы, потому
что сознание идеального я не есть только его сознание и не все целиком только его
сознание. Тут-то и вторгается идея «общего я», некоего «субъекта», который, выходя
за грани индивидуальности имярека, претендует охватить «все» сознание: тем самым
подлинное я, имярек, уничтожается, поддельное «я» начинает играть роль, на
которую имярек не мог претендовать, роль философского основания и принципа» [8].
Оправданность такого перехода к идеальному «я» вполне очевидна, но, в то же время,
утрачивается другая важная очевидность — мое сознание — только мое; любое чистое
«всеобщее я» обнаруживается для меня как фикция. Шпет в своей работе «Сознание
и его собственник», связанной, прежде всего, с критикой гуссерлевской эгологии,
подчеркивает, что самосознание/обнаружение себя как хозяина своего сознания, не
может быть определено как универсальный акт, но требует признания себя как
субъекта. Выход из сложного противоречия универсальности и уникальности «я» как
собственника сознания Шпет видит в принятии позиции «я не только мое»: «Ясное
дело, что раз есть такие аргументы против якобы непосредственно данного факта, что
42
всякое сознание есть сознание, принадлежащее я, то «личный» характер сознания не
есть вещь самоочевидная. И иронический вопрос: значит, сознание ничье? —
убийственной силой, во всяком случае, не обладает. Утверждая, что оно может быть
неличным, мы еще не утверждаем его безличности, мы только допускаем, что оно может
быть и сверхличным, и многоличным, и даже единоличным. Просто и коротко: оно
может быть не только личным» [9]. По сути, его утверждение сводится к тому, что
«я» может быть предметом сознания только как социальная вещь: оно может быть не
общим, а общинным сознанием, которое никогда не бывает только моим; а принимает
в себя, как пишет Шпет, «типическое», которое не уничтожает индивидуальное и не
является его моментом, как чистое сознание, а также не может быть рассмотрено как
трансценденция чистого я. В этом смысле, Шпет настаивает на том, что «я» обладает
в своем качестве «не только мое» объективностью. Эта объективность отличается от
того, что понимает под объективностью «я» античная традиция. Так, по Платону,
индивидуальная душа отличается от мировой души, к которой она устремлена только
вектором активности, направленным к чувственному миру. В этом смысле сознание
не принадлежит никакому «я», оно ничье. Так же и для Аристотеля душа не может
быть чьей-то, поскольку она не является особой сущностью, а представляет собой
способ организации живого тела. Она проходит разные этапы в развитии и способна
не только запечатлевать то, что действует на тело в данный момент, но и
сообразовываться с будущей целью. То есть душа связана не с «я», а с телом, которое,в то же
время, не может рассматриваться в качестве собственника.
Но в таком своем качестве «ничье сознание» утрачивает свойства теоретического
объекта, его бытие не может быть исчерпано тем, что можно помыслить в нем.
Сознание, лишенное собственника, оказывается не полностью прозрачным. В его данности
всегда больше смутного, чем ясного, произвольного, а не строгого: «ничье сознание»
не может свидетельствовать о всеобщем и необходимом. «Ничье сознание» есть
нечто отличное от своих проявлений и от своего содержания, оно невербально,
принципиально не высказываемо. Это дает основание для последовательного эпистемолога
вовсе отрицать существование сознания как чего-то неверифицируемого, а само
понятие сознания считать номинальным. Всякое «ничье сознание» есть «чужое»
сознание. О сознании же, связанным с каким-то «я», высказываться невозможно из-за
отсутствия интерсубъективной значимости таких высказываний. Проблематичность
обоснования личного тождества «я» привела к появлению в истории философии
целого ряда концепций, отрицающих осмысленность понятия сознания в виду того,
что нет никакого достоверного свидетельства его устойчивости или единства.
«Взятое и целом, наше учение приводит нас к очень важному в данном случае
выводу, а именно к выводу, что все тонкие и ухищренные вопросы, касающиеся
личного тождества, никогда не могут быть решены и должны рассматриваться скорее
как грамматические, нежели как философские, проблемы. Тождество находится в
зависимости от отношений идей; отношения же эти производят тождество при помощи
вызываемого ими легкого перехода мысли от одной идеи к другой. Но так как и
отношения, и легкость перехода могут постепенно и незаметно ослабевать, то у нас нет
точного критерия, с помощью которого мы могли бы решить спор относительно того
времени, когда они получают или теряют право называться тождеством. Все споры,
касающиеся тождества связанных друг с другом объектов, чисто словесные споры, за
исключением того случая, когда отношение частей порождает какую-нибудь фикцию
или же какой-нибудь воображаемый принцип связи, что уже было отмечено нами.
Все сказанное мной относительно первоначального происхождения и
неопределенности нашего представления о тождестве в применении к человеческому уму может
быть распространено с небольшими изменениями или же совершенно без них и на
представление простоты» [10]. Бесконечное многообразие не может быть даже тем,
что можно обозначить как «поток сознания», в котором, как бы то ни было, «мысли
43
каждого личного сознания обособлены от мыслей другого: между ними нет никакого
непосредственного обмена, никакая мысль одного личного сознания не может стать
непосредственным объектом мысли другого сознания» [11]. Признавая такую
обособленность, У. Джеймс вынужден признать, что « ... элементарным психическим
фактом служит не «мысль вообще», не «эта или та мысль», но «моя мысль», вообще
«мысль, принадлежащая кому-нибудь». Ни одновременность, ни близость в
пространстве, ни качественное сходство содержания не могут слить воедино мыслей,
которые разъединены между собой барьером личностей. Разрыв между такими
мыслями представляет одну из самых абсолютных граней в природе» [12]. Но
психологический факт «мысль принадлежит кому-то» не свидетельствует о том, что сознание
принадлежит мне, точнее, что мне что-то принадлежит. Никакого сознания, в том
смысле, как его понимают Декарт, Кант и другие рационалисты, не существует.
Границы духовного и материального порождены спецификой познающего мир субъекта,
они не обладают онтологическим статусом и условны. «Я», существование которого
несомненно, является чем-то непостоянным и ежеминутно переопределяющим само
себя. Единственное фундаментальное свойство «я» — стремление к
последовательности — определяет «поток сознания». «Если вообще существуют такие явления, как
ощущения, то, поскольку несомненно, что существуют реальные отношения между
объектами, постольку же и даже более несомненно, что существуют ощущения, с
помощью которых познаются эти отношения. Нет союза, предлога, наречия,
приставочной формы или перемены интонации в человеческой речи, которые не выражали бы
того или другого оттенка или перемены отношения, ощущаемой нами действительно
в данный момент. С объективной точки зрения, перед нами раскрываются реальные
отношения; с субъективной точки зрения, их устанавливает наш поток сознания,
сообщая каждому из них свою особую внутреннюю окраску. В обоих случаях
отношений бесконечно много, и ни один язык в мире не передает всех возможных оттенков
в этих отношениях» [13].
Таким образом, все четыре представленных в истории философии традиции
установления собственника сознания: «мое», «всеобщее», «не только мое», «ничье»
— ведут к утрате того, что собственно «имеется в виду» при разговоре о сознании.
Попытка концептуализации сознания неизбежно выводит на вопрос о
самосознании, о том, как о нем можно дать отчет, как оно может быть объективировано или
представлено. Но, по меткому выражению Сёрля, «глубочайшей причиной боязни
сознания служит то, что сознание обладает этой, в сущности, ужасающей чертой —
субъективностью» [14]. В этом смысле не может быть метафизики сознания, оно
открывается только через аналитику, всегда представая не в собственном виде. Одним
из приемов, позволяющих нам добраться до сознания, так, чтобы оно не исчезло,
сохранило предметную определенность, является подход, который предлагает Г. Райл.
Его основная идея сводится к тому, что сам процесс превращения сознания в предмет
рассмотрения содержит в себе распространенную категориальную ошибку. Сознание
и его собственник оказываются трагическим образом плохо различимы и
неопределимы в силу того, что ряд ментальных предикатов истолковывается как выражение
отдельных событий или эпизодов. Но ментальные события не должны
рассматриваться, считает Райл, как достоверные, поскольку самообнаружения сознания не
являются непосредственными и неоспоримыми свидетельствами их существования.
В том, что доступно наблюдению вовне, не обнаруживается ничего такого, что
соответствовало бы указанным событиям. В силу этого их приходится считать
событиями самого сознания. «Изобилие убедительных биографических деталей, которые
даются в эпистемологических аллегориях, было, по крайней мере для меня самого,
другим сильным мотивом приверженности мифу о Духе в машине. Приписываемые
события казались недоступно «внутренними», поскольку они и в самом деле были
ненаблюдаемыми. Однако в действительности они ненаблюдаемы потому, что они
44
были вымышлены. Они были каузальными гипотезами, в которые подставлялись
функциональные описания элементов опубликованных теорий» [15]. Именно в этом
заключается, по мнению Райла, категориальная ошибка, поскольку выражения как:
«знаю», «полагаю», «ожидаю» — выражают не какие-то события внутренней жизни
сознания, а диспозиции. «Выдвигалось предположение, что, хотя диспозициональ-
ные предложения относительно упоминаемых в них индивидов сами не являются
законами, они являются, тем не менее, дедукциями из законов; так что, прежде чем мы
сможем делать диспозициональные утверждения, мы должны выучить некоторые
законы, какими бы приблизительными и неопределенными они ни были. Но вообще-
то процесс обучения идет в другом направлении. Сначала мы осваиваем известное
число диспозициональных утверждений относительно некоторых индивидов, и
только после этого мы можем выучить некоторые законы, устанавливающие общие
корреляции между подобными утверждениями» [16]. Диспозициональный характер
многих характеристик, с помощью которых мы описываем сознание,
обнаруживается в нашем знании «как» (в противоположность «что»), которое представляет собой
умение и навык и способность оценивать свои действия.
В рамках концепции Райла собственником сознания оказывается некоторое «я»,
понятое как специфический индекс, указующий на диспозиционные обстоятельства:
«Это, я думаю, и объясняет то чувство, что мое прошлогоднее Я (self) или мое
вчерашнее Я можно, в принципе, описать и объяснить полностью, также и ваше прошлое
и настоящее Я я могу для себя описать и объяснить исчерпывающе, но мое
сегодняшнее ускользает от всех ловушек, которые я ему расставляю. Это объясняет также
невозможность проведения аналогии между понятиями Я и «ты», не прибегая к
допущению таинственного и неуловимого остатка» [17]. Способность дать себе отчет в
том, что «я» не является результатом наличия какой-то контролирующей инстанции
сознания, а есть лишь «... действие более высокого порядка» над другим действием,
которое «...не может быть своим собственным объектом. ... Когда человек
произносит предложение со словом Я, его произнесение может быть частью действия более
высокого порядка, например сообщения о своих поступках, самоувещевания или
самоутешения, поэтому оно не может относиться к тому действию, которое является
произнесением данного предложения» [18]. Таким образом, сознание,
раскрывающееся не как совокупность событий «внутреннего мира», а как диспозитивные акты,
позволяет рассмотреть само владение сознанием как акт более высокого порядка.
Такая трактовка позволяет с одной стороны четко ограничить те диспозиции, которые
соотносятся с «я» как конкретным индексом, сохраняющим индивидуальность
самосознания, а с другой стороны — избежать проблемы интерсубъективности, поскольку
объектом действия более высокого порядка может быть действие любого «ты», «вы»
или «они», взятого как диспозиция. Самопознание в этом контексте является «...
просто особым случаем обычного более-менее эффективного оперирования более-менее
правдоподобными и разумными свидетельствами. Аналогично этому самоконтроль
не предполагает управления не совсем дисциплинированным подчиненным со
стороны преисполненного совершенной мудрости и авторитета высшего начала. Он
является просто особым случаем управления одного обыкновенного человека другим
обыкновенным человеком; но при этом один и тот же человек...» [19]. Ни она
диспозиция не может претендовать на окончательность и непогрешимость: «... действие
является действием высшего уровня, а в том, что для любого действия любого порядка
возможны действия более высоких уровней» [19].
Итак, предложенная Райлом концепция понятия сознания дает возможность
говорить о том, что сознание в одном и том же смысле принадлежит и мне, и не только
мне. Но чужое сознание, тем не менее, дано мне как свое, в то время как к своему
сознанию я отношусь только через диспозицию, не непосредственно, через
очевидность, и не путем абстрагирования от своего эмпирического «я».
45
Литература:
1. Райл Г. Понятие сознания / Пер. с англ., общая ред. В.П. Филатова. М.: Идея-
Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. С. 150.
2. Мамардашвили М.К. О сознании // Необходимость себя: Лекции. Статьи.
Философские заметки / Под общей ред. Ю.С. Сенокосова. М.: Лабиринт, 1996.
С. 216.
3. Соловьев B.C. Теоретическая философия // Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1988.
Т.1.С.770.
4. Мамардашвили М.К. Сознание-бытие // Необходимость себя: Лекции. Статьи.
Философские заметки / Под общей ред. Ю.С. Сенокосова. М.: Лабиринт, 1996.
С. 97.
5. Райл Г. Понятие сознания / Пер. с англ., общая ред. В.П. Филатова. М.: Идея-
Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. С. 142.
6. Гаиденко U.U. Парадоксы свободы в учении Фихте. М.: Наука, 1990. С. 16.
7. Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Необходимость
себя: Лекции. Статьи. Философские заметки / Под общей ред. Ю.С.
Сенокосова. М.: Лабиринт, 1996. С. 263.
8. Шпет Г.Г. Сознание и его собственник // Шпет Г.Г. Философские этюды. М.:
Прогресс, 1994. С. 97.
9. Там же. С. 85.
10. Юм Д. Трактат о человеческой природе / Пер. с англ. СИ. Церетели. Минск:
ООО «Попурри», 1998. С 307.
11. Джемс У. Поток сознания // У.Джемс. Психология. М.: Педагогика, 1991.
С 58.
12. Там же. С. 59.
13. Там же. С.70.
14. СёрльДж. Открывая сознание заново. М., 2002. С. 69.
15. Райл Г. Понятие сознания / Пер. с англ., общая ред. В.П. Филатова. М.: Идея-
Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. С. 238.
16. Там же. С 96.
17. Там же. С. 149.
18. Там же. С. 150.
19. Там же. С 150.
46
ВОЛКОВ Д.Б.
Где Я? Невероятные фигуры Д. Деннета
«Будем почтительно следить за предметом,
подчиняясь вероятности...»
Шекспир
У аналитической философии есть фантастическая сторона. Это благодаря ее
существованию некоторые фрагменты книг современных философов можно отнести
к художественной прозе. Вымысел нужен для того, чтобы выпрыгнуть за пределы
реальности и откуда-то извне посмотреть на нее — со стороны видно лучше. А
изобразительные качества помогают читателю в подробности представить все детали.
Чтобы не было мошенничества, чтобы вымысел был не сказкой, а допустимой
возможностью, пусть хоть и очень, очень отдаленной. Таковы условия мысленного
эксперимента. Как и эмпирические, мысленные эксперименты могут служить для
опровержения и подтверждения теорий. И наши современники, философы, конечно, не
первыми используют их в подобных целях. Мыслители древности с их помощью
доказывали существование мира идей, безграничность пространства,
субстанциональность души. В истории науки смене парадигм зачастую предшествовало появление
нового значимого мысленного эксперимента. Галилей воображал, что бросает
предметы с Пизанской Башни, а Энштейн — как сам надает в лифте. И, тем не менее, новые
философские эксперименты своеобразны. Часто в них используются такие
технологические трюки, что по своей причудливости они оставляют далеко позади научно-
фантастические романы. В одних требуется вообразить путешествие в пространстве
с помощью мгновенной телепортации, в других — жизнь на двойнике Земли, где все
в точности совпадает, кроме химического состава воды. Следствия столь сильных
метаморфоз непредсказуемы. И, могут вместо прояснения смыслов реального запутать
в джунглях якобы мыслимого. Дениел Деннет, один из наиболее известных сегодня
американских философов-натуралистов, называет мысленные эксперименты
«помпой для интуиции». «Это не аргументы, это истории. Вместо того, чтобы приводить к
заключению, они накачивают наши интуиции»1. Некоторые состряпаны очень
искусно, и обладают такой соблазнительной силой, что, кажется, мгновенно все
проясняют: «Ага, теперь все понятно!» Но с ними, как с любыми естественными феноменами,
требуется беспристрастное обхождение. Не исключено, что это оптическая иллюзия.
Деннета относят к критикам мысленных экспериментов, но это справедливо лишь
отчасти. Скорее, он предостерегает от безусловного доверия им. Мысленный
эксперимент нужно анализировать. В этой статье я попытаюсь проанализировать
мысленный эксперимент, автор и вымышленный герой которого... сам Деннет.
История «Где Я?» появилась впервые в сборнике «Мозговые штурмы» (1978), где
Деннет опубликовал свои ранние работы по психологии и философии сознания. Эта
глава была завершающей и значительно отличалась от всех предыдущих. Поэтому
автор во введении сам называет ее «десертом» к трудным, серьезным философским
текстам. Повторно история появилась в книге «Глаз разума. Фантазии и
размышления о самосознании и о душе», вышедшей под совместной редакцией Хофштадтера
и Деннета. По жанру она гораздо естественней подходила именно для этой
публикации. Здесь собрано, пожалуй, только «сладкое». В книге — эссе философов, писате-
1 Dennett D. Intuition Pumps // Excerpted from The Third Culture: Beyond the Scientific
Revolution by John Brockman, Simon & Schuster, 1995. Режим доступа: http://www.edge.org/
documents/ThirdCulture/r-Ch.lO.html (03.12.2009).
47
лей, ученых (Нозик, Борхес, Лем, Доукниз, Сёрл), размышляющих над вопросами
«Что такое разум?», «Что такое я?», «Может ли материя думать или чувствовать?»,
и комментарии к ним редакторов. Но очевидных ответов на вопросы в сборнике нет.
«Эта книга — попытка выявить возникающие здесь противоречия и описать их живо
и образно. Мы хотели не столько ответить на вопросы, сколько взбудоражить всех,
кто прочтет нашу книгу...»1. История «Где Я?» настолько художественна, что даже
стала одним из сюжетов для фильма голландского режиссера Пьета Ходедреса, где в
роли Деннета тоже снимается сам Деннет. Вместе с ним героями фильма оказались
его со-редактор философ-математик Даглас Хофштадтер и когнитивист Марвин
Мински.
История «Где Я?», как и прочие эссе сборника «Глаз разума», после первого
прочтения оставляет читателя в недоумении. Какую гипотезу она должна удостоверять?
Автор не разъясняет нам. Вместо этого, в тексте мы находим разные, порой трудно
соотносимые размышления героя истории и фрагментарные замечания автора. Где
настоящая позиция Деннета? Как хитроумная и диковинная археологическая
находка, история «Где Я?» заставляет задуматься: «Как можно ее приспособить?», «Для
чего бы она могла пригодиться?», «Каков был замысел создателя?», «Сделана ли она
всерьёз или для забавы?». К такой работе мы приступаем.
Деннет выполняет секретную миссию Пентагона (конечно, против «красных»).
Ему придется обезвредить радиоактивную боевую головку где-то в недрах земли. Но
для того, чтобы мозг не был поврежден смертоносным излучениям (для других
органов излучение относительно безопасно), он должен остаться в лаборатории. Оттуда
мозг будет осуществлять контроль над телом с помощью системы радиосвязи. Каждое
нервное окончание в пустом черепе будет соединено с микропередатчиками и
микроприемниками, которые, в свою очередь, будут направлять сигнал непосредственно в
мозг. «Представьте, что это всего лишь растяжение нервов... Мы всего лишь
сделаем ваши нервы бесконечно растяжимыми, вставив в них радиоконтакты»2. Деннета
кладут на операционный стол, анестезия... и вот сразу после пробуждения он задает
обычный для такого случая вопрос: «Где я?» Экстравагантная завязка нужна автору
для того, чтобы обнаружить проблематичность этого вопроса. В самом деле, где
Деннет, когда части его в разных местах: мозг в чане, а тело на операционном столе?
В повседневности теряется все, что угодно. Нельзя в буквальном смысле потерять
только самого себя. «Я» всегда «здесь». Это исходная, всегда отправная точка,
географический центр субъективности. Но в нашем случае точек отсчета может быть
как минимум две. «Итак, я сижу на складном стуле и смотрю сквозь небьющееся
стекло на свой собственный мозг. Но погодите... не должен ли я сказать, что плаваю
в булькающей жидкости, озираемый собственными глазами?»3 Герой мысленного
эксперимента, глядя на собственный мозг, философствует в шекспировском духе.
И автор сюжета решает не ограничиваться намеком на знаменитую трагедию.
«Совсем сбитый с толку, я попытался прибегнуть к любимому трюку философов. Я
принялся раздавать вещам имена. «Йорик, — сказал я вслух своему мозгу, — ты мой мозг.
Остальное тело, сидящее на этом стуле, я назову «Гамлетом». Все мы сейчас здесь:
мой мозг, Йорик, мое тело, Гамлет, и я сам, Деннет. Где же я теперь?»4
Альтернатива 1. Где Йорик, там и Деннет. Такое решение вполне подходит тем,
кто отождествляет мозг с субъектом в целом. Представим, как мозг Тома
пересаживают Дику. Очевидно, Дик становится Томом, а не наоборот. Человек в теле Дика знает
все сокровенные подробности жизни Тома, ведет себя в точности как Том, сохраняет
1 Хофштадтер Д., Деннетт Д. Глаз разума. М.: Бахрах-М, 2003. С. 26.
2 Там же. С. 192.
3 Там же. С. 193.
4 Там же.
48
те же убеждения, желания, что и Том. Несмотря на внешние различия, он просто не
может не быть Томом. В мозге запечатлены подробности жизни и ключевые
психологические качества личности. Так что, с телом можно расставаться, но не с мозгом.
Альтернатива 2. Где Гамлет, там и Деннет. Несмотря на рациональные доводы,
описанные выше, вторая альтернатива ближе субъективному восприятию Деннета,
созерцающего собственный мозг. Шекспировский герой, глядя на череп,
обнаруживает бренность человека, а Деннет, глядя на собственный мозг... что это не он!
И правда, мозг, бездвижный, находится в чане, никуда, по-видимому, не собирается.
А Деннет вот-вот отправится в Тулсу, где будет обезвреживать боеголовку. Или на
секретное задание отправится не Деннет, а радиоуправляемый биологический робот?
Слишком сильна интуиция, связывающая личность с телом, действующим в мире и
воспринимающим агентом. И разве нет противоречия в возможности воспринимать
и быть воспринимаем одновременно? Гамлетовские (Йориковские?) размышления
наводят героя на мысль, примиряющую, кажется, обе позиции.
Альтернатива 3. Деннет там, где он сам считает. Эта неожиданная позиция
любопытна тем, что не создает жесткой зависимости между положением субъекта и какой-
либо из его физических частей. Точка зрения, а с ней и субъект, может мгновенно
перемещаться между различными физическими объектами. В нашем случае, между
мозгом и телом. Более того, местоположение «Я» может вообще не соответствовать
какому-либо физическому объекту. Допустим, мы наблюдаем за событиями с
помощью видеокамеры, находящейся в другом помещении. Если ничто не отвлекает нас,
складывается устойчивое ощущение присутствия в этом другом помещении.
Присутствия прямо за объективом видеокамеры. Значит, точка зрения может вообще
не совпадать с положением частей человека. К этой позиции, по-моему, склоняется
герой мысленного эксперимента. Но нас, читателей, она может насторожить.
Совпадает ли на этот счет позиция Деннета-героя и Деннета-автора? В конечном итоге,
Деннет — один из самых последовательных сторонников материализма. Может ли
он допустить, чтобы личность, подобно призраку, перескакивала между объектами и
даже существовала в пустоте?
Дальнейшие злоключения героя мысленного эксперимента только усиливают
наши сомнения в полном совпадении взглядов героя и автора. Итак, Йорик остается
в безопасности, в стенах техасской лаборатории, а Гамлет отправляется к
радиоактивному объекту. Но, не успев завершить задание, он попадает в беду: «Я совершенно
оглох. Сначала я подумал, что сломались наушники моей рации, но когда я
постучал по шлему, то ничего не услышал. По-видимому, сломались слуховые
приемопередатчики... Я начал описывать то, что со мной происходит. В середине
предложения я понял, что случилось еще что-то. Мой голосовой аппарат внезапно прекратил
работать...»1 Следом отказала правая рука, потом левая, и Деннет совсем ослеп.
Проклиная ученых, впутавших его в эту авантюру, он сидит оглохший, ослепший и
неподвижный в радиоактивной шахте, но вот... с отключением последнего передатчика
он мигом переносится... в Хьюстон. «Если минуту назад я был заживо погребен в
Оклахоме, то теперь я был лишен тела в Хьюстоне»2. Моментальный перенос точки
зрения становится поводом к «озарению» Деннета. Он столкнулся с подтверждением
нематериальности души! «Ведь когда последняя радиосвязь между Тулсой и
Хьюстоном прекратилась, я поменял местоположение со скоростью света! И моя масса
при этом не увеличилась... Я не мог себе представить, как философ-физикалист мог
бы это опровергнуть, не прибегнув к крайней, противоречащей здравому смыслу
мере — запрещению всякого упоминания о личностях»3.
1 Там же. С. 197.
2 Там же. С. 198.
} Там же.
49
Убеждение героя в нематериальной сущности «Я» вряд ли разделяет автор. Но
и запрещать понятие «личность», как философы-элиминативисты, к примеру, Пол
и Патрисия Черчленд, Деннет не готов. Совместить третью альтернативу и физика-
листские представления можно только в том случае, если личность считать не
конкретной, а абстрактной сущностью. Такую позицию защищает Деннет.
Атомы и пустота — не единственное, что признает наука. В ее онтологии есть
место и для более странных вещей. Например, центр тяжести — понятие, которое
составляет важнейшую часть ньютоновской физики. Центр тяжести — не какая-то
конкретная частица, не атом. Это условная точка, пространственная координата. У нее
нет ни запаха, ни цвета, ни плотности, ни массы, нет никаких физических свойств. И,
тем не менее, она необходима для того, чтобы точно предсказать движение объекта. В
этом смысле она является реальным объектом, реальной объективной причиной
событий. Центр тяжести может совпадать с геометрическим центром предмета, а может
быть вне предмета. Центр тяжести Земли, где-то во внутреннем ядре, а центр
тяжести бублика — в дырке. Перемещаться центр тяжести может не только постепенно, но
и мгновенно, минуя промежуточные этапы. Такова экзотическая судьба абстрактных
сущностей. Если следовать аналогии и предположить, что личность — что-то вроде
абстрактной сущности, можно без труда и без дуализма объяснить феномен, с
которым столкнулся герой мысленного эксперимента.
Аналогию между «Я» и центром тяжести можно найти в более поздней статье
Деннета «Я — как центр нарративной гравитации»1 (1988). Но даже в первой
опубликованной книге философа мы обнаружим склонность к такого рода
рассуждениям. Абстрактные (в частности, ментальные) сущности нереференциальны, т.е. не
отсылают к каким-либо конкретным физическим объектам, — подчеркивает Деннет
в «Контенте и сознании». И потому их поведение, как в мире, так и в языке сильно
отличается от обычных терминов. Меры длины, метры и километры, к примеру,
необходимы, как характеристики пути. Их использование вполне законно и не
противоречит физикализму. Но было бы ошибочно искать их где-то на дороге.
К сожалению, Деннет-герой не вооружен подобными аргументами. И Деннет-
автор дает ему возможность радоваться, заблуждаясь: «Я радовался своему
философскому открытию и ломал голову... над тем, как сообщить о нем в журналы»2.
Радость могла бы оказаться очень кратковременной, если бы пребывание нашего героя
в чане затянулось.
Ученые погружают мозг Деннета в сон, а после пробуждения он обнаруживает,
что обрел новое тело. «...Посмотрев в зеркало, я удивился, увидав там незнакомца.
Он был с бородой и немного толще меня...»3. Да, Гамлет остался в подземной шахте,
а у Деннета новое тело. Его наш герой именует, конечно, Фортинбрасом. Оно также
оснащено радиоконтактами. Поэтому Фортинбрас, как и Гамлет ранее, управляется
Йориком дистанционно. Вскоре Деннет свыкается с новым обликом, привыкает к
изменившемуся голосу, мускулатуре. Отражение в зеркале более не удивляет его:
лицо несет все тот же оттенок светлого ума и решительного характера. Ведь со
сменой тела личность не меняется. И вот, в один из дней он решает навестить Йорика,
старого беднягу Йорика, который, как и прежде, находится в чане в Хьюстонской
лаборатории.
«Я решил, что добрый старый Йорик заслуживает, чтобы его навестили. Я и мое
новое тело... вошли в знакомую лаборатории под аплодисменты сотрудников...».
Перед Деннетом прозрачный чан, в нем мозг. А рядом выключатель, который управля-
1 Исходно, аналогия была использована Деннетом в 1983 г. в Хьюстоне на симпозиуме,
посвященном природе личности и сознания.
2 Хофштадтер Д., Деннетт Д. Глаз разума. М.: Бахрах-М, 2003. С. 198.
3 Там же.
50
ет системой радиопередатчиков между мозгом и телом. «... Повинуясь случайному
капризу, я протянул руку и перебросил переключатель в положение „Выкл".
Представьте себе мое удивление, когда ничего особенного не случилось. Я не зашатался,
не упал без сознания... — я не почувствовал ничего!»1 Деннет продолжает стоять
напротив чана с собственным мозгом и размышлять, в то время как связь между ними,
между Йориком и Фортинбрасом, нарушена.
Наверное, все, что происходило до этого, можно считать развернутой преамбулой.
События, описанные выше, хоть и за пределами технических возможностей сегодня,
с философской точки зрения все же тривиальны. Нет ничего удивительного в
возможности трансплантировать жизненно важные органы, или вживлять
искусственные. Возможно, недалеко за горами и перспектива трансплантации мозга. Но то, что
будет описано далее, перестает быть тривиальным. Мы подошли к самой
существенной части мысленного эксперимента, его кульминации.
Объяснения происшедшего руководителем лаборатории. Еще до того, как Ден-
нета оперировали в первый раз, был изготовлен компьютерный дубликат его мозга.
Была написана программа, которая работала в точности как независимая
функциональная копия. Если на входе она получала аналогичные данные, сигналы на выходе
ничем не отличались. Программу подключили к радиопередатчикам Фортинбраса,
так что теперь она получала ту же информацию, что и Йорик. Подобно мозгу, она
обрабатывала данные и выдавала соответствующую реакцию. Только эта реакция не
передавалась Фортинбрасу, а записывалась и сравнивалась. Наблюдение за
синхронностью работы Йорика и Губерта — так назвали программу ученые, не озабоченные
Шекспировскими параллелями, — длилось несколько месяцев, так что ученые
смогли убедиться в их абсолютной схожести и независимости. Тогда они решили
совершить переключение. Когда Деннет прибыл в лабораторию, контроль над его телом
уже осуществлял Губерт. Поэтому выключение радиопередатчиков Йорика никак не
повлияло на поведение Фортинбраса.
В ходе мысленного эксперимента автор представил несколько возможных
конфигураций субъекта: 1) Деннет, 2) Йорик — Гамлет, 3) Йорик — Фортинбрас. И вот
теперь 4) Йорик, Губерт и Фортинбрас. Одно тело, два мозга — искусственный и
органический — работающие синхронно, одновременно получающие сигналы от
органов чувств, и попеременно выполняющие функцию управления организмом. Что с
помощью этой новой конфигурации намерен показать Деннет? Я попытаюсь
воспроизвести скрытый аргумент, который лежит в основе воображаемой ситуации.
(1) Изменения положения тумблера (Йорик-*Губерт, Губерт-»Йорик) проходят
незаметно для окружающих, и для самого субъекта. Ведь точка зрения не
смещается, и восприятия одни и те же. «Я обнаружил, что, не считая щелчка, я не ощущал
совершенно никакой разницы. Я мог повернуть тумблер в середине предложения,
и фраза, которую я начал под контролем Йорика, завершалась без малейшей паузы
под контролем Губерта»2. (2) При изменении положения тумблера сохраняется
тождество личности. Находясь и под управлением Йорика, и под управлением Губерта,
Деннет не перестает быть Деннетом. У него те же воспоминания, такой же
характер, те же цели и желания. (3) Значит, теперь у Деннета есть полноценный запасной
мозг. Деннет — личность с двумя независимыми мозгами. «Я оказался обладателем
искусственного мозга, который мог оказаться мне весьма полезен, если бы в
будущем с Йориком что-нибудь случилось. Я также мог держать Йорика про запас и
использовать Губерта. По-видимому, было совершенно безразлично, которого из двух
я выбирал...»3
1 Там же. С. 202.
2 Там же. С. 200.
3 Там же. С. 202.
51
Сюжетная линия мысленного эксперимента заставляет нас вообразить человека
с двумя мыслительными центрами, работающими синхронно. И поверить, что они
формируют ОДНУ личность. И герой, и автор (здесь они единодушны) считают, что
параллельные механизмы обработки информации не приводят к появлению новой
личности. Зачем понадобилась такая неожиданная схема?
Сложный субъект, состоящий из Йорика, Гамлета и Фортинбраса, является
оптическим прибором, который показывает, что личность — абстрактная сущность, что-
то вроде центра тяжести или единицы длины. Добавление к одному мозгу другого
такого же мозга не добавляет нам личностей. Ведь нельзя же добавить к одному
центру тяжести еще один, расположенный там же... и получить два. Как нельзя от точки
А отложить 1 км, а потом еще раз, от этой же точки А в эту же сторону отложить 1 км
и оказаться... за два километра от нее. Два синхронизированных мозга не порождают
вторую личность. Т.к. «быть такой-то личностью», как «быть таким-то центром
тяжести», не является каким-либо специальным отдельным свойством материи. Это
лишь один способ описания поведения объекта/агента. Но помогает ли нам
воображаемая ситуация в том, чтобы убедиться в чем-то подобном?
Соответствие одной личности одному телу не является строгим законом.
Ничего противоречивого нет в возможности, чтобы одно тело населяли последовательно
различные личности. Как в случае с трансплантацией мозга. Даже одновременное
нахождение в теле двух личностей вообразимо. К примеру, психический синдром
«множественной личности». Наш здравый смысл и обыденное значение понятия не
мешают представить нечто подобное. Значительно более устойчивым принципом
кажется единичность сознания. Одна личность — одно сознание. Ментальные
состояния только тогда принадлежат одному человеку, когда интегрированы в один
связанный последовательный поток.
Сколько потоков сознания должно быть в системе, обладающей двумя
мысленными центрами: два или один? Если эти центры работают изолировано,
обрабатывают разную информацию и выдают различные сигналы на выходе — два. Даже если
они одновременно управляют одним организмом. А если мыслительные центры
функционально идентичны, находятся в качественно неразличимых состояниях?
Это наш случай, и он менее всего очевиден. Деннет склоняет нас к интуиции, что
в этом случае существует только одна личность: если не верите, поставьте себя на
место Деннета-героя и переключите тумблер. Вот Йорик-Фортинбрас, вот Губерт-
Фортинбрас. Управление переходит от одного к другому и обратно, но никаких
изменений интуитивно мы представить не можем. Теперь убеждены?
Мне кажется, здесь автор и герой внушают ложную интуицию. В вымышленной
ситуации мы не представляем различия только потому, что никаких изменений
вообразить не можем в принципе. До переключения управления Губерту мы
отождествляем свои ментальные состояния с Йориком-Фортинбрасом. Но и после
переключения — с Йориком-Фортинбрасом. Ведь тумблер не^ выключает передачу входных
сигналов и не прекращает совсем ментальную работу Йорика. Конфигурация Йорик,
Губерт и Фортинбрас — это не личность с двумя мыслительными центрами, а одна
обыкновенная личность и один калькулятор в придачу, или две разные личности,
одна из которых Деннет, а другая — нет. Надеяться на то, что при смерти Йорика
Деннет выживет вместе с Губертом и Фортинбрасом, нет оснований. По крайней
мере, оснований не больше, чем надеяться на продолжение жизни автора на
страницах его произведений.
Я вовсе не утверждаю, что кремниевый субстрат принципиально не может
реализовать феномен сознания. Это предмет отдельной беседы, и здесь, пожалуй он,
выглядел бы слишком громоздко. Но, даже если представить, что Губерту-Фортинбрасу
можно приписывать какие-то ментальные состояния, я думаю, это были бы другие
ментальные состояния, другой поток, другая личность. При этом поведение этой лич-
52
ности могло бы совпадать с поведением Йорика-Фортинбраса. К примеру, я говорю:
«Беги» — потому что боюсь за тебя. Но я мог бы говорить: «Беги» — чтобы поиграть
с тобой в бег наперегонки.
Тумблер передает управление Фортинбрасом машине, компьютерной ^программе,
но что ж с того? Губерт изначально является функциональной копией Йорика, так
что можно считать его лишь дублирующим радиопередатчиком для волевых
изъявлений Йорика, своеобразным протезом для нервных волокон мозга. Деннет-автор
в «Размышлениях» к мысленному эксперименту указывает, что центральной идеей
рассказа является идея существования одного человека с двумя мозгами (один из
которых запасной). АДеннет-герой строит оптимистические прогнозы продолжения
жизни после гибели Йорика. Но то, что мы видим в эксперименте, — только мираж.
История создает только иллюзию. Воображение одного субъекта не способно
выпрыгнуть за свои границы и стать вдруг воображением другого субъекта, оставаясь
в воображении первого. Опыт Деннетг. — невозможная фигура, треугольный круг,
воображаемый мир без воображающего субъекта.
Распад Деннета. «Слава Богу! Я думал, что до этого дело так и не дойдет! Ты не
можешь себе представить, насколько ужасны были эти две последних недели — но
теперь ты испытываешь это на собственной шкуре, поскольку наступила твоя очередь
отправляться в чистилище», — такие слова вдруг произнес Деннет после очередного
переключения тумблера. Дело в том, что около двух недель назад мозги перестали
работать одинаково. Может, в код программы закралась какая-то ошибка, или сбой
произошел в радиопередатчиках, но состояния Губерта стали отличаться от
состояний Йорика. «В мгновение ока иллюзия того, что я контролирую мое тело — наше
тело — оказалась полностью нарушенной... Я чувствовал себя так, словно меня
носили в клетке, или, точнее, словно я был одержим. Я слышал, как мой собственный
голос произносил слова, которых я не хотел говорить, я в отчаянии наблюдал, как
мои руки делали то, чего я не хотел делать...»1. Пятая, последняя представленная нам
конфигурация: Йорик, Губерт и Фортинбрас. При этом Йорик и Губерт
функционально различаются. В этой пятой конфигурации Деннетп-герой, по мнению автора,
распадается на две личности, два различных мыслительных потока, две
независимые и несовпадающие воли. Хотя от органов чувств Фортинбраса все еще
поступают идентичные сигналы, реакции Йорика и Губрета различны. Тот из них, что не
способен управлять поведением, обречен быть узником, до тех пор пока тумблер не
вернется в предыдущее положение. Так считает Деннет.
Этот заключительный этап в злоключениях героя, скорее всего, служит для того,
проследить философские следствия теории личности как абстракции. Автор
заставляет своего героя сомневаться, кто из двух наследников воспоминаний и характера
является подлинным Деннетом: Йорик-Форитнбрас или Губерт-Фортинбрас? А что,
если им каждому будет предоставлено новое тело. Например, какие-нибудь Розен-
кранц и Гильденстерн? Где будет Деннет? Но сам автор, вероятно, уже подготовил
ответ. Разобраться, кто есть кто, невозможно, принципиально невозможно. И в этом
нет смысла. Как нет смысла выяснять, тождественен ли центр тяжести тела, если он
сдвинулся на два, три, четыре сантиметра. Но по пути мы, кажется, пропустили еще
одну невозможную фигуру Д. Деннета.^
Десерт. Вспомним момент, когда Йорик и Губерт перестали работать
одинаково. Губерт управляет действиями Фортинбраса, а Йорик отправляет свои сигналы
впустую. Будет ли Йорик действительно чувствовать себя узником или одержимым?
Нет. Я думаю, он даже не заметит разницу. Не будем забывать, что Йорик и Губерт
как два родных брата, даже как два близнеца, выращенных вместе. У них сходные
воспоминания, сходный, если не одинаковый характер. Могут ли настолько
сильно отличаться желания и действия Губерта, чтобы они не были приняты как свои
1 Хофштадтер Д., Деннетт Д. Глаз разума. М.: Бахрах-М, 2003. С. 202.
53
собственные Йориком? Вот типичная ситуация. В самолете стюардесса предлагает
напитки: «Что Вы будете?» Отвлекаясь от размышления о тождестве личности, я
перебираю в голове: «Апельсиновый, томатный, яблочный». Вдруг вырывается: «Мне
воду без газа». И в голове что-то откликается: «Правильный выбор!».
У обычных субъектов нет двойников, которые управляли бы их организмом.
Но разве можно сказать, что все действия всегда совпадают с желаниями? И разве
сами действия не способствуют тому, чтобы лучше понять желания? Мне кажется,
мы чаще узнаем о собственных мыслях (и понимаем их) тогда, когда анализируем
собственные высказывания. Вот, например, Рассел в воспоминаниях признается: «Я
не знал, что люблю тебя, пока не услышал свое признание в любви... И я подумал:
„Боже, что я сказал" — а потом понял, что это была истинная правда». Любопытно,
что Деннет сам симпатизирует этим высказываниям и даже приводит их в своих
работах. Или это очередная уловка?
Размышления об истории «Где Я?» еще раз наводят меня на аналогию с
шекспировской трагедией. Гамлет в ней и режиссер постановки, и участник. Подобным
образом, Деннет в приведенном нами тексте и автор-философ, и философствующий
герой. Но ни в размышлениях героя, ни в размышлениях автора мы не найдем в явном
виде гипотезы, которой служит эксперимент. Есть ли она? Или стоит поверить
предисловию и не искать здесь какой-то определенной авторской позиции? Это
художественный текст, поражающий воображение парадокс, риторически заданный вопрос,
как вечное «быть или не быть»?
Анализ истории позволяет нам с уверенностью сказать, что у нее есть цель. Это
защита тезиса о том, что личность не конкретная, а абстрактная сущность. И в
качестве ключевой иллюстрации для этого служит воображаемая ситуация, где одна
личность существует с двумя работающими мозгами. Следствием такой позиции
является обессмысливание вопроса о тождестве личности, например, в случае ее
распада.
В ходе анализа я попытался показать, что Деннет не обходится без кривых
зеркал. Помыслить одну личность с двумя мозгами, даже работающими функционально
неотличимо, мы не можем. Это будет две разные личности. Иллюстрации
действительно являются помпой для интуиции, но они накачивают ошибочные интуиции.
Вероятней всего, это невозможные фигуры.
Литература:
1. СёрлДж. Открывая сознания заново / Пер. с англ. Грязнова. М, 2002.
2. Хофштадтер Д., Деннетт Д. Глаз разума. М.: Бахрах-М, 2003.
3. Chalmers D. The conscious mind: in search of a fundamental theory. Oxford, 1996.
4. Churchland P.M. Matter and consciousness. Cambridge, L., 1984.
5. Metzinger T. Conscious experience. Imprint Academic, 1996.
6. SearleJ.R. The Mystery Of Consciousness. N.-Y., 1998.
7. Turing A. The Computing machinery and intelligence. Mind. Vol. 59. P. 433—60.
54
ВОЛОСКОВ P.A.
Психоаналитическая трактовка
сознания и бессознательного и их взаимосвязь
с трансцендентальной субъективностью
Когда мы занимаемся трансцендентальной философией, мы должны учитывать
все основные положения философской критики теории субъективизма [ 1 ],
сущностную неравнозначность и, в то же время, взаимосвязь, скрывающуюся за терминами
«субъект», «сознание», «Я». Положение о типичности трансцендентальной
субъективности вовсе не перекрывается аргументом о невозможности построения теории
о «Я», в силу его [Я] неповторимости, индивидуальности, атипичности. Также
отметим, что вопрос о сознании, поставленный в современной философии, не отменяет
основных положений трансцендентализма. Но, в то же время, интересно проследить
некоторые коннотации термина «сознание», которые прочитываются в психоанализе
и в психоаналитической философии в целом.
Основатель психоанализа 3. Фрейд интересен тем, что, поднимая вопрос о
сознании, говорит о ментальной сфере, а не о психике или психофизиологии, как
это делают большинство психологов эмпирического толка. В этом смысле идеи
3. Фрейда не противоречат основным результатам исследований феноменологии.
Вместе с тем, теория 3. Фрейда, основанная на анализе сознания, имеет другой
предмет рассмотрения в качестве цели исследования. Сознание, понимаемое как
непосредственная данность, в силу своей непосредственности, вовсе не является
несомненным феноменом. Напротив, 3. Фрейд ставит вопрос о сомнении в
сознании, отыскивая при этом структуры, которые лежат в его основе. Именно поэтому в
рамках некоторых междисциплинарных исследований 3. Фрейда называют
критиком «ложного сознания».
Так, П. Рикер [2] пишет, что 3. Фрейд боролся против авторитетнейшей
иллюзии — иллюзии самосознания. Эта иллюзия возникла в результате «победы» над
предшествовавшей ей иллюзией вещи. «Философ, воспитанный в школе Декарта,
знал, что вещи вызывают сомнение, что они не такие, какими кажутся; но он не
сомневался, что сознание таково, каким оно предстает перед самим собой: в нем смысл
и осознание смысла совпадают» [3]. Благодаря 3. Фрейду, мы стали в этом
сомневаться. Вслед за сомнением относительно вещи мы подошли вплотную к иллюзии
относительно сознания. Конечно, подобные сомнения бросают тень и на все
исследования феноменологического толка, о чем и пишет П. Рикер.
Как известно, Р. Декарт победил сомнение относительно вещи за счет
признания очевидности сознания, а 3. Фрейд пытается побороть сомнение в сознании
путем истолкования смысла. Тем самым он расширяет поле исследования
сознания путем включения дополнительной проблематики — проблематики
бессознательного. Фундаментальные категории для него — это категории «скрытое —
явное». За счет анализа скрытого и явного в сознании 3. Фрейд вырабатывает
знание о смысле, знание, которое не сводится к непосредственному осознанию
смысла. То есть открытие его состоит в том, что он обнаружил существование
некоторых скрытых структур [бессознательное], которые занимаются
шифрованием смыслов, чья дешифровка доступна нам в состоянии сознания. В
частности, иллюстрацией шифровки и дешифровки смыслов может служить
толкование сновидения, во время которого аналитик проделывает путь, обратный тому,
который, сам того не желая, проделал спящий, во время «работы сновидения».
55
Важно здесь то, что смыслы, данные нам в сознании могут быть «ложными»,
подмененными; и что существует путь доступа к истинным смыслам. Таким образом,
выступая критиком сознания, отмечая его иллюзорность, находя структуры,
которые занимаются шифровкой смыслов, 3. Фрейд, тем не менее, расширяет
область сознания вообще.
Итак, 3. Фрейд разрабатывает теорию бессознательного. Проблематика
бессознательного разрабатывалась в философии, начиная с античной философии и вплоть до
современности. Платон, Дж. Локк, В. Лейбниц, И. Кант, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше,
К. Маркс — вот только некоторые персоналии, которые разрабатывали данную
проблематику в философском ключе. Многие коннотации философски
интерпретированного бессознательного можно отнести к проблеме фонового знания как знания
не явного, но присутствующего в сознании. Однако в рамках психоаналитической
философии бессознательное вовсе не противопоставляется сознанию, поэтому,
например, П. Рикер пишет, что иррефлексивное не является истинным знанием о
бессознательном. Понимать бессознательное как нечто, что отсутствует в сознании и
поэтому не доступно рефлексии, т.е. иррефлексивно, — неправильно. Также
неправильно считать, что уверенность относительно непосредственности сознания
является истинным знанием сознания о самом себе.
В этих двух положениях заключается кризис понятия «сознание». То, что
единичное сознание не может быть равным собственному содержанию, можно
проследить в двух направлениях, в двух противоположных векторах — от сознания к
коллективному сознанию (духу) и от сознания к бессознательному, т.е., условно
говоря, речь идет о «движении» в двух направлениях — вовне и внутрь.
Философия сознания невозможна, потому что сознание не может быть «целостным». В
рамках феноменологии тоже присутствует признание того факта, что
исследование «конституирования» отсылает к тому, что лежит в основе этого конституиро-
вания, к пред-данному, пред-конституированному. Но феноменология Э.
Гуссерля остается в круге, очерченном отношениями между ноэмой и ноэзисом, поэтому
не имеет возможности до конца развенчать сознание. В рамках феноменологии
невозможен ход мыслей психоаналитика и в силу того, что в психоанализе
используются модели, которые феноменологом интерпретируются как модели
натуралистические.
Отметим также, что и в рамках феноменологии сознание понимается как
«отношение к неактуальному», т.е. сознание не может полностью быть актуальным. Все
то, что находится вне нашего внимания, является сознанием не актуальным, в
отличие от сознания актуального. И, между прочим, трансцендентальная субъективность
является тоже не актуализированной в непосредственном сознании. Вообще, можно
сказать, что трансцендентальная субъективность в определенном смысле иррефлек-
сивна. Например, у И. Канта знание о трансцендентальной субъективности
опосредовано опытом.
В рамках психоанализа бессознательное не является окончательно иррефлексив-
ным или не доступным в сознании. В сознании оно проявляется в виде сновидений,
ошибочных действий, неврозов. Бессознательное во многом можно представить как
коррелят знания, вытесненного из области сознания. Да и сознание зачастую
определяют как единство многообразного или как соотнесенность знаний. Топика в
психоанализе вовсе не отсылает нас к нейробиологии или психофизиологии. Можно
сказать, что психика в психоанализе рассматривается вне материального носителя
и безразлично к нему, т.е. как идеальное явление, как модель. И, в то же время,
психика не ограничивается областью сознания. Бессознательное можно представить как
комплекс личностных знаний, укрытых от непосредственного сознания.
Бессознательное как фон сознания. Этот фон необходимо обнаружить, проявить. Именно в
этой области задаются истинные смыслы, поэтому необходимо расширить сознание
56
так, чтобы оно могло располагать и бессознательным, всем комплексом фоновых
знаний.
Например, в рамках психоанализа Ж. Лакана существует понимание
структуры бессознательного как очень близкой по строению со структурой языка, то есть
утверждается, что бессознательное структурировано как язык. В связи с этим
выводится важный тезис, о том, что бессознательное еще необходимо создать, т.е.
выговорить в языке. Бессознательное не задано изначально, оно нуждается в истории своего
создания, и оно создается через отношения «я — ты», «психоаналитик — пациент
психоаналитика» — в одном случае, и через отношение «я — другой» — в
непосредственной социальной жизни. Я обладаю бессознательным с точки зрения «другого».
Разумеется, в конечном счете, это имеет смысл, только если я в состоянии присвоить
себе те значения, которые некто другой выработал относительно меня и для меня.
Бессознательное как объект появляется и «конституируется» совокупностью
герменевтических приемов, которые его расшифровывают. Поэтому оно не абсолютно, а
существует, точнее, его существование удостоверяется лишь благодаря герменевтике
как методу и как диалогу. В силу этого в бессознательном нельзя видеть некую
фантастическую реальность, которая обладала бы фантастической способностью
мыслить вместо меня. Здесь и обнаруживается слабое место психоанализа —
бессознательное является проекцией аналитика, возникающей в ходе его работы с пациентом.
Поэтому Лакан говорит, что бессознательное — это не то, что вы думаете, а то, что вы
говорите» причем, когда говорите все, что приходит в голову, не задумываясь о том,
что сказать, а чего не говорить. Надо открыть рот и сказать все то, что хочет сказаться
помимо намерений самого говорящего, и это является основным правилом
психоанализа. Бессознательное — это говорящее бытие, и даже, более того, бессознательное
не думает, но говорит.
Можно провести некоторые параллели между бессознательным, являющимся
предметом рассмотрения психоанализа, и трансцендентальной субъективностью,
являющейся предметом исследования феноменологии. При изучении
бессознательного выделяются два плана — эмпирический реализм и трансцендентальный
идеализм, которые строго соотносятся друг с другом. Эмпирический реализм
3. Фрейда говорит о познаваемости «внутреннего объекта», в этом его схожесть
с эмпирическим реализмом, например, физики. Несмотря на то, что внешний мир
сам по себе (как объективная сущность) нам принципиально недоступен, или
доступен принципиально косвенно (явление, а не вещь в себе), физик предполагает
существование внешней вещи и опирается на данные своих восприятий. Точно
так же и внутренний мир не обязательно должен быть таким, каким мы его
воспринимаем, но, тем не менее, необходимо сделать предположение о том, что
внутренний объект доступен нам не в меньшей степени, чем объект внешний. В этом
суть эмпирического реализма 3. Фрейда. План трансцендентального идеализма
в психоаналитической теории указывает на то, что реальность бессознательного
существует только как реальность, подвергшаяся диагностике. Как, например,
и у И. Канта, «реальность» трансцендентальной субъективности опосредована
опытом и выводится исключительно после анализа опыта. И бессознательное не
может быть определено иначе, как исходя из его отношений с системой
«сознательное — предсознательное». Бессознательное само по себе принципиально
непознаваемо, познанию доступны только его «побеги», которые появляются в системе
«сознание — предсознательное». Соотнесенность двух планов изучения
бессознательного в рамках психоанализа — эмпирического реализма и
трансцендентального идеализма — заключается в том, что бессознательное «существует столь же
реально, как и физический объект, и что оно существует лишь соотносительно со
своими «побегами», в которых оно продолжается и которые заставляют его
проявлять себя в сфере сознания» [4].
57
Поэтому истинный субъект схож с истинным субъектом психоанализа — «оно».
Субъект есть не познаваемое и бессознательное оно, которое поверхностно охвачено
«я», возникшим как ядро из системы восприятия. «Я» не целиком охватывает «оно»,
а покрывает его лишь настолько, насколько система восприятия образует его
поверхность. «Я» есть только измененная под прямым влиянием внешнего мира и при
посредстве внешнего восприятия часть «оно». Сознательное «я» не является истинным
субъектом. И, тем не менее, учитывая иррефлективный характер данных категорий
[бессознательное и трансцендентальная субъективность] знание о них
принципиально возможно.
В этом смысле можно говорить о проблематике границы, границы между двумя
областями «психики» — бессознательным и предсознательным. Эта граница
является предельной единицей, доступной для сознания и познания бессознательного,
так как оно само для познания не доступно. Но в то же время именно в области
бессознательного берут начало все психические акты, которые либо доходят до
сознания, либо нет. Достижение или не достижение этих психических актов области
сознания зависит от того, встретят они сопротивление на границе между
бессознательным и предсознательным или нет. «Каждый психический акт начинается
как бессознательный и может, или остаться таковым, или, развиваясь далее, дойти
до сознания, смотря по тому, натолкнется он в это время на сопротивление или
нет» [5]. Следовательно, можно сказать, что бессознательное является скрытым от
сознания комплексом знаний. 3. Фрейд называет бессознательным скрытые
представления, присутствие которых косвенно можно обнаружить в душевной жизни.
«Бессознательное представление есть такое представление, которого мы не
замечаем, но присутствие которого мы должны, тем не менее, признать на основании
посторонних признаков и доказательств» [6]. Бессознательные представления
существуют в виде определенных идей, мотивирующих сознательную деятельность. Это
видно, например, при гипнотическом внушении, когда идея, внушенная в гипнозе,
в назначенный момент становится не только объектом сознания, но становится
деятельной, т.е. мотивирует поведение человека. Об этом же 3. Фрейд говорит, когда
пишет об истерических больных. Ими руководят идеи бессознательные, но, в тоже
время, имеющие деятельный характер. Это характерная черта истерического
мышления — над ним властвуют бессознательные представления. «Если у истерической
женщины рвота, то это, может быть, произошло от мысли, что она беременна» [7].
Поэтому бессознательные мысли — это не просто мысли, не доступные сознанию,
находящиеся вдали от него, но и мысли, которые имеют деятельный, активный
характер.
Таким образом, параллель между трансцендентальной субъективностью и
бессознательным возможна в том смысле, что они принципиально иррефлексивны.
Говорить о них можно только косвенно, опосредованно. Также вполне правомерно
представление бессознательного в качестве комплекса неявных знаний — фоновых
знаний. Существование знаний, о которых человеку ничего не известно, доказано на
практике, например, в области применения гипноза. Важно подчеркнуть, что
проводя некоторые параллели между бессознательным и субъективностью, мы вовсе не
говорим об их тождестве, а считаем более продуктивным тот подход, в котором речь
идет о бессознательном как о комплексе фоновых знаний.
Далее, подчеркнем, что границы психоанализа очерчены областью ментального и
не редуцированы к физическому, органическому, материальному. Психические
процессы, изучаемые психоанализом, детерминированы другими психическими
процессами, которые, в свою очередь (и это дань 3. Фрейда научному реализму), связаны
с физическими. Но они уже вовсе не интересуют психоаналитика и поэтому таким
образом, остаются вне поля его исследований и интересов. Таким образом, с одной
стороны, здесь не уместна критика психологии феноменологического толка. Ну и,
58
конечно, бессознательное взаимодействует с сознанием, и только по некоторым
проявлениям его в сознании мы и можем говорить о его существовании. В частности,
оно проявляется в ошибочных действиях (через вытесненные, но проявившиеся в
сознании нарушающие намерения), сновидениях (через скрытое содержание
сновидения) и неврозах.
Литература:
1. Шпет Г.Г. Сознание и его собственник [Текст] / Г.Г. Шпет. М.: Прогресс,
1994.
2. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике [Текст] / П. Рикер.
М.: Академический Проект, 2008.
3. Там же. С. 223.
4. Там же. С. 167.
5. Фрейд 3. Некоторые замечания относительно понятия бессознательного в
психоанализе [Текст] / 3. Фрейд. Психоанализ и русская мысль. М.:
Республика, 1994. С. 33.
6. Там же, С. 29.
7. Там же. С. 31.
ВОРОНКОВ Г.С.
Обязательно ли ощущения являются изоморфными
«образами» мира: анализ с нейрофизиологических позиций
некоторых аспектов теории отражения1
Введение
Конкретные научные представления и научная картина мира, которую дает
философия, находятся в отношениях взаимного обусловливания. Основной философской
концепцией в проблеме сознания и мышления, проблеме, тесно связанной теперь с
проблемой «сознания» в искусственном интеллекте, остается до сих пор теория
отражения. Однако на современном этапе развития наук о мозге и наук, центральным
понятием в которых является понятие «информация», явно ощущается недостаток
в обобщениях философского характера, а теорию отражения никак нельзя назвать
«локомотивом» для этих наук. Стремление выяснить причину такого «состояния
дел» в теории отражения послужило инициирующим началом для данной работы.
Работа посвящена анализу некоторых аспектов теории отражения с точки зрения
нейрофизиологической концепции, пропагандируемой, а также развиваемой
автором [3], — взгляда на мозг как нейронную модель сенсорного мира и мира
двигательных образов.
Теория отражения не является завершенной, некоторые её положения, в
частности, в отношении ощущений, требуют развития и экспериментальных исследований.
Об этом писали и сами авторы теории отражения: « ... на деле остаётся ещё
исследовать и исследовать, каким образом связывается материя, якобы не ощущающая вовсе,
с материей ..., обладающей ясно выраженной способностью ощущения. Материализм
ясно ставит нерешенный ещё вопрос и тем самым толкает его к разрешению, толкает к
дальнейшим экспериментальным исследованиям.»[1]. Понимание незавершенности
этой теории обусловило, видимо, особую осторожность и тщательность у авторов в
формулировании её основных положений. Тем не менее, в текстах, излагающих и
интерпретирующих её (например, в [1]), имеются высказывания, требующие, как нам
представляется, критического рассмотрения, поскольку либо они допускают
неоднозначное толкование ключевого в этой теории термина «образ», либо раскрывающийся
в них в явном виде смысл этого термина не согласуется, на наш взгляд, с рядом
известных фактов2 в отношении работы сенсорных систем, а также с результатами анализа
понятий «модель» и «соответствие» (см., в частности, [4, 5])3. Естественно,
критического рассмотрения по этим причинам требуют и следствия, вытекающие из теории
отражения в её исходном варианте, в частности, ленинская критика теории символов.
Конкретно, в настоящей работе рассматриваются в критическом плане (1)
понятие «образ», используемое в теории отражения, и (2) критика теории символов,
содержащаяся в теории отражения, а также (3) кратко обсуждается возможный путь
развития теории отражения.
1 В основу статьи положен внепрограммный доклад, прочитанный на 2-й конференции
«Философия сознания: история и современность» (секция 4 «Междисциплинарные
проблемы философии сознания»). Философский факультет, МГУ. 17—18 ноября 2006.
2 Некоторые из них приведены в трудах Гельмгольца (в частности, в [2]), одного из авторов
теории символов.
3 В настоящей работе предпринята попытка использовать определения понятий «модель» и
«соответствие», данные в [4, 5], в качестве теоретических инструментов для анализа теории
отражения.
60
Основной текст
1. Понятие «образ». Приведем несколько цитат из работы [1] в отношении
понятия «образ» (ощущение): «... вне нас существуют вещи. Наши восприятия и
представления — образы их»; «Ощущения, то есть образы внешнего мира, существуют в
нас, порождаемые действием вещей на наши органы чувств». В этих
высказываниях слово, понятие «образ» (ощущение) дается без комментариев, без определения.
Поэтому читатель вправе понимать его наиболее привычным образом — как сходное
(похожее), верное отображение действительности. Другими словами, под «образом»
(ощущением) понимается нечто, которое в каком-то аспекте свойств изоморфно
объекту, его вызывающему. Это понимание может быть прочитано и в
«осторожных» словах Энгельса, цитируемых в этой же работе [1]: «Нет ни единого случая,
насколько нам известно до сих пор, когда бы мы вынуждены были заключить, что
наши научно-проверенные чувственные восприятия производят в нашем мозгу такие
представления о внешнем мире, которые по своей природе отклоняются от
действительности или что между внешним миром и нашими чувственными восприятиями
его существует прирожденная несогласованность». В явном виде понимание
«образа» как обязательно изоморфного, сходного (похожего), хотя бы в каком-то аспекте
свойств, с объектом, его вызывающим, содержится в следующих двух цитатах из [1]:
1) на стр. 218, где критикуется теория символов, излагаемая Гельмгольцем: «Если
ощущения не суть образы вещей, а только знаки или символы, не имеющие «никакого
сходства» с ними, то исходная материалистическая посылка Гельмгольца
подрывается, подвергается некоторому сомнению существование внешних предметов, ...» и
2) на стр. 26, где напоминается критика Энгельсом Дюринга: «... материализм
последовательный должен ставить здесь «образы», картины или отображения на место
«символа»».
Такое понимание «образа» — как обязательно изоморфного (похожего) хотя бы
в каком-то аспекте физических свойств, объекту, его вызывающему, — переносится
в явном или в неявном виде и в другие варианты теории отражения, например, в
современные информационные теории, оперирующие представлением о
моделировании в мозге реальной действительности. В этих теориях обязательная изоморфность
моделей в отношении их оригиналов принимается, как правило, «по умолчанию»,
как само собой разумеющееся.
Однако представление об обязательной изоморфности «образов» (ощущений),
то есть об обязательной сходности, похожести их «по своей природе» с объектами,
их вызывающими, входит в противоречие с известными фактами в отношении
работы и организации сенсорных (анализаторных) систем. Так, обонятельное ощущение
(запаха розы, к примеру) само по себе ни в коей мере ничего не говорит нам о
природе, о физических свойствах воздействующего запахового объекта: на основании
только испытываемого обонятельного ощущения мы ничего не можем узнать о
физических свойствах воздействующего начала, которым вызывается это ощущение:
ни о структуре запаховых молекул, ни о физических характеристиках предметов,
источающих запах. То же, в принципе, можно сказать в отношении вкусовых
«образов» (ощущений). Ничего также не говорит нам о физических свойствах света (о его
сложном спектральном составе) восприятие (ощущение) белого света; более того,
смесь двух разных линий видимого спектра может вызывать такое же ощущение
цвета, которое вызывается одной другой (третьей) линией спектра. Эти примеры
свидетельствуют о наличии целого ряда сенсорных «восприятий», в которых
отсутствует какая бы то ни было изоморфность ощущения («образа») по отношению к
качественным свойствам объекта (оригинала), вызывающего данное ощущение. В
то же время, в этих примерах между воздействующим объектом и ощущением,
которое им вызывается, как правило, имеет место соответствие: определенному воздей-
1 Выделения подчеркиванием здесь и далее сделаны автором настоящей работы.
61
ствию соответствует определенное, специфическое (но не обязательно изоморфное)
ощущение1 («образ»).
Такое «состояние дел» в сенсорных «восприятиях» вполне объяснимо с
нейрофизиологических позиций. Например, в концепции «мозг есть нейронная модель» такой
(неизоморфный) характер «восприятия» находит объяснение в известном
нейрофизиологическом принципе «все или ничего», лежащем в основе нейронных
механизмов, реализующих соответствие: с точки зрения этой концепции, нейрон сенсорного
пути, принимающий воздействия на разветвления апикального дендрита, подобен
воронке; расширенная часть её выполняет роль замка, открываемого только
определенным воздействием (своего рода ключом) и запускающего по типу спускового
курка активность в узкой части «воронки»; узкая часть работает по типу «все или
ничего», и поэтому её активность не несет никакой специфики входного воздействия.
Кроме того, предполагаемые в ряде теорий пространственные или пространственно-
временные «узоры-паттерны» (в качестве кодов), а также специфика,
заключающаяся в сочетаниях (или комбинациях) стимулов, утрачиваются в результате
«схождения» в «воронке» нейрона2.
Показанная выше для целого ряда сенсорных «образов» (ощущений)
неизоморфность в отношении объектов, их вызывающих, не означает отсутствие изоморфности
у всех сенсорных «образов» (ощущений). Так, изоморфно представлены
пространственные отношения между элементами («точками»), представляющими зрительное
поле в мозгу, — эти отношения являются такими же, как отношения между точками
в реальном поле зрения. Таким образом, ощущение предметного видения
изоморфно реальным объектам в аспекте пространственных отношений составляющих их
элементов. То же, в принципе, по-видимому, можно сказать в отношении звуковых
последовательностей и их «образов», представленных на самых низких мозговых
уровнях. Сходно (изоморфно) представлены в мозгу также другие (не только
пространственные и временные) отношения между объектами. Например, изоморфно
по отношению к внешнему миру представлен такой его аспект, как «избирательные»
связи-отношения между объектами. Эти связи-отношения реализуются
специальными нейронными механизмами — избирательными аксонными связями между
нейронами, представляющими объекты в мозге3. В настоящее время этот аспект мозговой
организации интенсивно изучается. Здесь же нам важно было обратить внимание на
существование «образов», не изоморфных объектам, их вызывающим, и объясни-
мость этого обстоятельства с нейрофизиологических позиций, а также на то, что это
обстоятельство не было отмечено и учтено в теории отражения.
2. Теория символов. Отмеченное выше отсутствие изоморфности «образов» (по
отношению к вызывающим их оригиналам) в целом ряду сенсорных «восприятий»
является принципиально важным моментом, например, для выработки отношения к
«критике теории символов», данной в работе [1]. «Теория символов» есть «теория, по
которой ощущения и представления человека представляют из себя не копии
действительных вещей и процессов природы, не изображения их, а условные знаки, символы,
иероглифы ...» ([1],стр. 216). Ниже Ленин приводит слова «крупнейшего
представителя» этой теории — Гельмгольца: «Идея и объект, представленный ею, суть две вещи,
1 Оно может соответствовать и нескольким разным, в принципе, объектам.
2 Это общепризнаваемое в нейрофизиологии обстоятельство не служит препятствием для
создания нейрофизиологических представлений, объясняющих сложную работу мозга. Так,
в частности, в концепции «мозг есть нейронная модель» рассматриваются, к примеру,
иерархическая организация сенсорного пути именно из таких нейронов, а также реализация ими
функций конъюнкции и дизъюнкции, организация памяти и некоторые возможные
нейрофизиологические механизмы решения задач [3, 4, 6, 7].
3 В концепции «мозг есть нейронная модель» эти связи-отношения именуются
«сигнификативными связями».
62
принадлежащие, очевидно, к двум совершенно различным мирам», — и критикует их,
называя их «вопиющей неправдой», и комментируя: «... так разрывают идею и
действительность, сознание и природу только кантианцы» [1]. В этих ленинских
высказываниях не учитывается факт существования «образов», не изоморфных оригиналам.
Ибо такие «образы» являются (по определению)1 ничем иным как знаками, символами
этих оригиналов. В настоящее время в физиологическом эксперименте регистрируют
нейроны, поставленные2 в соответствие разным, простым и сложным стимулам:
линиям определенного наклона, направлениям движения, скоростям движения, рукам,
лицам и другим объектам и свойствам. Такие нейроны являются тоже ничем иным как
символами: они тоже не изоморфны оригиналам. В концепции «мозг есть нейронная
модель» (в частности) сенсорный мир представлен в мозгу сложной иерархически
организованной моделью из подобных, выше описанных нейронов. Это не приводит к
«несогласованности восприятий с миром», к «разрыву идеи и действительности» ни в
теоретическом, ни в экспериментальном аспектах: согласованность обеспечивается
наличием соответствия между миром объектов и представляющими их нейронами. Это
соответствие осуществляют физиологические механизмы, уже в достаточной степени
изученные экспериментально и теоретически. Эти механизмы содержат, как
отмечалось выше, «элемент», работающий по типу «все или ничего». Активностью такого
механизма не передаётся качественная специфика* (свойства) входного воздействия
(ибо соответствующая специфика ощущения априорна — она, как и механизм
соответствия, формируется в фило- и онтогенезе и при обучении). Роль этого механизма
состоит только в реализации имеющегося соответствия — «когда одна определенная
сущность актуализирует определенную другую, поставленную ей в соответствие» (qui
pro quo). Поэтому такой механизм одновременно выступает и как связующий, и как
разграничивающий механизм (как своего рода граница) между внешним миром и его
нейронной моделью. В таком представлении о взаимодействии среды и мозга
цитированные выше слова Гельмгольца прочитываются как адекватно описывающие и
трактующие реальное «состояние дел» в физиологии органов чувств, а критика «теории
символов»4 Гельмгольца, данная в [1], представляется недостаточно корректной.
3. Возможный путь развития теории отражения. Теория отражения базируется
на понятиях «образ» и «отражение». Под отражением понимается один из типов
взаимодействия материальных тел (сущностей), иод «образом» понимается результат
этого взаимодействия — изоморфное отображение (ощущение). Однако эта теория в
своем исходном варианте сталкивается, как следует из проведенного выше анализа, с
трудностью объяснить факт существования неизоморфных образов-ощущений.
Эта трудность в теории отражения преодолевается, с нашей точки зрения, если в
ней понятие «отражение» заменить на понятие «соответствие», а понятие «образ» на
понятие «модель»5. С наиболее общих позиций, суть этой замены заключается в
расширении предмета исследования в теории отражения, а, следовательно, и в
расширении самой теории. Ибо, по сути, предлагается заменить предмет её исследования, а
именно взаимодействие материальных тел по типу отражения, на более широкий —
взаимодействие по типу соответствия, которое охватывает и взаимодействие по типу
отражения.
1 Неизоморфным оригиналу может быть только поставленный ему в соответствие знак или
символ.
2 Постановка в соответствие и формирование механизма, реализующего соответствие, —
процессы, происходящие в фило- и онтогенезе и при обучении.
3 Как было отмечено выше, специфика входного воздействия играет лишь роль
«конфигурации ключа к замку» в механизме соответствия.
1 В настоящей статье не обсуждается «эмпиристическая теория ощущений»
(противостоящая «нативистической»), которую защищал Гельмгольц [2].
5 В смысле определений этих понятий здесь и в [4] и [5].
63
Вместо заключения
Более чем за столетнее существование теория отражения в её исходном варианте
не привела к существенному прогрессу в решении проблемы ощущения (и сознания).
Кратко об этом может свидетельствовать следующее, в значительной степени обще-
принимаемое в настоящее время представление. Принято считать на основе
нейрофизиологических данных, что ощущения коррелируют с активностью определенных
нейронов. Например, есть основания полагать, что ощущение предметного видения
связано с активностью нейронов стриарной зрительной коры, но не с активностью,
к примеру, непосредственно зрительных нейронов — рецепторов сетчатки, что мо-
тивационные ощущения (к примеру, ощущение жажды) сопровождают активность
нейронов в гипоталамусе и что не сопровождается какими-либо ощущениями
активность моторных нейронов. С другой стороны, из нейрофизиологических данных не
следует (пока, по крайней мере) обратное: что активность нейронов является
коррелятом ощущений, то есть, что активность нейронов является следствием ощущений.
Но, в таком случае, остается непонятной роль ощущений в принципе, и возникают
вопросы, почему, зачем существуют ощущения, сопровождающие активность
определенных афферентных нейронов, и нельзя ли сконструировать (в принципе)
автомат («зомби»), не обладающий ощущениями, но обладающий поведением (в самом
широком смысле этого слова), ничем не отличающимся от поведения человека. Эти
вопросы реально поставлены, соответственно, в нейрофизиологической и
философской современной литературе. Можно видеть, что общее представление об
отношении мозг/ощущение, лежащее в основе этих вопросов, отличается от декартовского
дуализма только по форме, но не по сути. Другими словами, прогресс современной
науки по проблеме ощущений почти не заметен с очень давнего времени. Данная
статья не дает видимого решения этой проблемы, она — лишь конкретная попытка
движения в этом направлении.
Литература:
1. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Госполитиздат, 1953.
2. Гельмгольц Г. О восприятиях вообще (Перевод главы из «Н. von Helmholtz.
Handbuch der Physiologischen Optik, 1910» в «Хрестоматия по ощущению и
восприятию». (Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и М.Б. Михалевская. Изд.
Московского университета. 1975. С. 61—87)).
3. Воронков Т.С. Сенсорная система как нейронная семиотическая модель
адекватной среды.// Сравнительная физиология высшей нервной деятельности
человека и животных. М.: Наука, 1990. С. 9—21.
4. Воронков Т.С. Новое содержание в старых понятиях: к пониманию механизмов
мышления и сознания // XI International Conference «Knowledge-Dialogue-
Solution», Varna, Bulgaria. KDS-2005, Proceedings. Vol. 1, Foi-commerce, Sofia,
2005. P. 17-23.
5. Воронков Т.С. Понятия «модель» и «соответствие»: нейрофизиологический и
общий аспекты // Тезисы докладов и выступлений IV Российского
философского конгресса «Философия и будущее цивилизации». Москва, 2005. Том 1.
С. 707-708.
6. Воронков ТС. Механизмы решения задач в элементарном сенсориуме:
нейронные механизмы опознания и сенсорного обучения // Нейрокомпьютеры:
разработка, применение, 2004. № 2-3. С. 92-100.
7. Voronkov G.S., Rabinovich Z.L. On neuron mechanisms used to resolve mental
problems of identification and learning in sensorium // Int. J. «Information theories
and Applications». 2003. Vol. 10, № 1. P. 23-28.
64
ВОРОНОВ H.
За пределами наших когнитивных способностей:
критерии трудных проблем
Когда я только начал серьезно интересоваться философией сознания,
знакомиться с основной литературой, я был удивлен двумя вещами — и сознание не было одной
из них. Во-первых, для меня был вновинку сам стиль аналитической философии.
Действительно, было удивительно, как легко придумывают новые понятия
аналитики, нисколько не держась за устоявшиеся и используемые концепты. Я видел в этом
особой методологический смысл — ведь проблема сознания не решена, нет даже
удовлетворительного плана по ее решению — так почему же стоит использовать
неудачные понятия неудачных решений.
Интуиция и здравый смысл подсказываю каждому из нас, а значит, и философам,
которые занимаются проблемой сознания, что есть что-то в нашем сознании, что и
делает его сознанием: та совокупность сознательного опыта, личного и
ненаблюдаемого с позиции стороннего наблюдателя. А наука, психология и нейробиология,
подсказывает нам, что есть нечто, что присутствует на функциональном уровне в
сознании каждого, каким-то образом обрабатывает этот опыт, структурирует, использует,
хранит, воспроизводит.
Именно вокруг этих двух аспектов — свойств нашего сознания — и происходит
дискуссия последние полвека — водораздел проводят но границе между этими
двумя свойствами, утверждая, что приватность и квалитативность опыта это и есть суть
самого сознания. А функциональная составляющая уже относиться ко вторичному
списку проблем — сначала надо понять как возможна эта квалитативная,
непротяженная, приватная природа сознания.
В аналитической философии сознания придумано множество названий каждой
из составных частей этого разделения, хотя я лично считаю его только метафорой,
моделью, удобной для исследований сознания до определенного момента. Это и ква-
лиа, и феноменальное сознание, и сознание доступа, и функциональное сознание, и
психологическое сознание, информационная и феноменальная чувствительность,
сознательный опыт, осведомленность — мы можем найти и другие варианты.
Сейчас, как мне кажется, пальму первенства все-таки держит Дэвид Чалмерс,
который нашел, вероятно, самое точное определение для этой феноменальной
составляющей сознания и вопросов, связанных с ее объяснением. Как известно, Чалмерс дает
название этой области исследований, а соответственно, и предмету исследований —
«трудная проблема сознания». И действительно, трудная проблема сознания — это
проблема квалиа, это проблема феноменального сознания, это проблема сознания
доступа, это проблема «каково-это-быть». Как я уже говорил, Чалмерс делает то, что
первоначально очень удивляло меня в работах аналитиков: он вводит новый термин
для описания в общем-то уже имеющихся и описанных интуиции относительного
нашего сознания.
Но тут он несколько отличается от своих предшественников: ведь его
определение1 оказывается очень метким. Действительно, проблема сознания трудна для
нашего решения. Но почему она трудна?
И это второй момент, удививший меня еще в самом начале моего знакомства с
проблемой сознания. Собственно говоря, моя статья призвана прояснить этот вопрос — по-
1 Я, правда, встречал словосочетание «трудная проблема сознания» в труде Райла «Понятии
сознания», однако не уверен, что смысл употребления такой же, как и у Чалмерса. В любом
случае, это требует отдельного прояснения, вне рамок этой статьи.
65
чему трудная проблема является таковой? На мой взгляд, именно это меня удивило,
большинство исследователей сознания подходят к этому вопросу (пусть даже они не
называют трудную проблему трудной, но подразумевают ее трудность в своем
описании проблемы) исключительно некритично. Я считаю (и надеюсь показать это дальше),
что проблематизация трудности «трудной проблемы» должна дать нам несколько новое
понимание как самой проблемы, так и способов се решения, если таковые имеются.
Для начала посмотрим, как именно описывает трудную проблему ее «создатель»
Чалмерс в своей статье «Навстречу проблеме сознания»:
«По настоящему трудная проблема сознания это проблема опыта. Когда мы
думаем и воспринимаем, возникает поток обрабатываемой информации, но помимо
этого есть и субъективный аспект. Как отметил Нагель (1974), имеется то, каково
быть сознательным организмом. Этот субъективный аспект — опыт. Когда мы
видим, к примеру, мы испытываем визуальные ощущения: ощущение красности, опыт
восприятия темноты и света, ощущение глубины визуального поля. Другие данные
опыта сопровождаются восприятиями различных модальностей: звук кларнета,
запах нафталиновых шариков. Затем есть телесные ощущения, от боли до оргазмов;
ментальные образы, которые возникают в нашем воображении; огцущение эмоций, и
ощущение потока сознательной мысли. Что объединяет все эти состояния так это
то, что имеется то, каково быть в них. Все они состояния нашего опыта».
Таким образом, Чалмерс действительно указывает на существование опыта, как
определенного феномена, который отличен от функций нашего сознания. Но это
делает не только он, и он делает это не первый. И за счет того, что опыт отличен,
объяснение этого феномена должно стать другого рода задачей, с другим решением, какое
он, собственно говоря, и приводит.
Что Чалмерс не приводит — так это объяснения, почему все-таки трудна трудная
проблема. Возможно, кому-то кажется, что объяснение тут не нужно, что трудность
проблемы самоочевидна, или же что объяснение все-таки есть. Однако, на мой взгляд
объяснение того, почему трудная проблема трудна, необходимо, потому что это
объяснение — уже часть решения самой проблемы. И если не привести это объяснение в
силу его сложности или непроработанности при введении самого термина «трудная
проблема», то это все равно стоит обговорить. Но, судя по всему, Чалмерс даже не
видит такой проблемы — трудность трудной проблемы самоочевидна для него.
Но, как я уже сказал выше, задача этой статьи в том, чтобы критически осмыслить
эту очевидность. И в самом деле, в первый момент на контрасте с перечисленными
легкими проблемами (будем следовать мысли Чалмерса в той же статье) трудная
проблема кажется нам действительно таковой — настолько, что нам не требуется
никакого дополнительного обоснования. Впрочем, обоснование все-таки имеется,
правда оно некритично заявлено. По сути, трудная проблема трудна, потому что это
проблема объяснения нашего опыта — именно так говорит Чалмерс. Его основной
пафос — трудная проблема такова, потому что: во-первых, ее никто не решил до сих
пор, а во-вторых, и это главное — она об опыте. Однако качеств, которыми обладает
наш опыт, еще не достаточно, чтобы говорить о его трудности.
Такого рода подход, который демонстрирует Чалмерс, объясняя трудность
трудной проблемы, мне видится основным в философии сознания в настоящий момент, и
он берет начало в картезианском способе сказывания о психофизическом дуализме.
Есть какого-то рода субстанция, возможно, свойство, явление — что угодно,
принципиально отличное от всего того, что мы знаем: ненаблюдаемое извне, приватное,
возможно, нематериальное. Эти все качества указывают нам на то, что объяснить это
будет очень непросто. Будем считать такой способ определения трудности трудной
проблемы онтологическим. Поскольку сама природа изучаемого объекта такова, что
ее будет сложно объяснить.
66
Давайте обратимся к другим областям нашего познания. Что легкого в них?
Человечество активно познает мир абстрактных объектов. Математика, литература,
физика — все эти области связаны с существованием объектов, наблюдаемость
которых также весьма проблематична. Возьмем, к примеру, доказательство теоремы
Пифагора — я уверен, что по-настоящему понимают его далеко не все, вполне
вероятно, что даже осмысленно воспроизвести его удастся многим из нас не с первого
раза (признаться, я никогда не смущался математики, но никогда и не блистал в ней).
Ведь речь идет об идеальных объектах — идеальных сторонах идеального
прямоугольника. Где существуют они? Как возможно говорить нам об этих ненаблюдаемых
сторонах? Что позволяет вести нам успешное исследование в области математики?
Или же физика — работы по исследованию микромира требуют глобальных
допущений, идущих в прямое противоречие со здравым смыслом и всем тем, что
наблюдаемо нами в мире. Гипотезы квантовой науки противоречат здравому смыслу ровно
настолько, насколько противоречат решения проблемы сознания (наверное
поэтому их так часто совмещают). Вопросы макроистории физического мира: рождение
и развитие Вселенной, существование и качество пространства и времени, формы
существования материи, границы мира — все эти вопросы также находятся на грани,
а возможно и за гранью того, что мы можем себе представить.
Я уверен, что можно выделить еще направления нашего познания, где мы
сталкиваемся с объектами, познание которых вызывает у нас сложности. Сложности как в
том, что даже теоретизирование идет вразрез с нашим здравым смыслом и
интуицией, требуя предельных теорий, мета-научных подходов и самых смелых вариантов,
так и в непосредственном решении проблем, когда к ним уже применимы научных
методы. Я отлично понимаю, что трудная проблема сознания принципиально в
другом. Так, очевидно, что объекты микромира или макромира наблюдаемы от третьего
лица, если вообще наблюдаемы, в любом смысле этого слова, в отличие от
ментальных процессов.
Что я хочу сказать, так это то, что несмотря на различие в объектах познания,
трудности присутствуют в разных областях. И моя ключевая идея заключается в том,
что у всех этих трудностей может быть найдено нечто общее. И это общее является
независимым от свойств исследуемых объектов, от их природы, в том смысле, что
внимание следует обращать не на природу объектов, которая сама по себе не
представляет ничего фундаментально трудного. Я думаю, что критерии трудности
познания этих объектов —а значит и критерии трудных проблем — стоит искать в нашей
собственной когнитивной ограниченности. Более того, я предположил, что если
существует трудная проблема сознания, которая является таковой в силу
ограниченности наших познавательных способностей, то мы сможем задать общие критерии
для трудных проблем вообще. И если они, эти «трудные проблемы вообще», есть, и
если эти критерии окажутся верными, то тогда мы сможем навсегда попрощаться с
рядом вопросов, не только в области сознания, но и в других науках. Если же нет и
мы увидим, что некие вопросы полностью соответствуют критериям «трудной
проблемы», но в то же самое время успешно решены, то придется отнять часть пафоса у
этого определения: ведь тогда проблема окажется трудной только отчасти, поскольку
будет решена, как и ее коллеги по цеху.
Вернемся опять к проблеме сознания: подход, который предполагает, что
трудность познания природы нашего опыта лежит не в свойствах этого опыта, а в нашей
собственной природе, не является, на мой взгляд, широко распространенным в
современной философии сознания. Хотя, как я думаю, он берет свое начало в трудах
Юма и Канта, но в настоящее время я могу выделить лишь нескольких
исследователей, которые работают в рамках этого эпистемологического подхода. На мой взгляд,
это Левин, Хомский, Нагель и Макгинн — по сути, чтение их работ заставило меня
задумать о том, а верно ли мы вообще понимаем трудность трудной проблемы.
67
Действительно, здесь нужно некоторое прояснение. Не все ли равно, в объекте
или в субъекте затруднение, да и вообще: как можно провести это разделение?
Попробуем прояснить эту мысль: в чем вообще суть моей претензии, есть ли
принципиальная разница в том, говорить ли о трудной проблеме или же о затруднениях
субъекта?
На мой взгляд, есть, и вот почему. Дастин Хофман в фильме «Человек дождя»
играет роль аутиста — человека, полностью неспособного решать некоторые задачи,
связанные с повседневной, обычной социальной жизнью. В то же самое время он
обладает одним особым качеством: он с успехом решает математические задачи, более
того, он применяет различные математические методы для описания и
моделирования различных процессов. За исключением карточной игры, такое моделирование
не может быть где-либо применено, сам он при этом не является математиком и не
строит математических теорий. Для окружающих его людей его способности
выглядят поистине феноменально, превосходя все возможные представления о
математических способностях человека. Тем не менее, как аутист, он не способен на самые
простейшие социальные поступки.
Правомерно ли в данной ситуации говорить о легкости или трудности задач? Я
думаю что нет: это будет противоречить здравому смыслу, если мы назовем проблему
покупки чипсов в магазине на 16-й авеню в Нью-Йорке трудной проблемой для
Человека Дождя. В то же самое время, назвать те математические задачи, которые он
решает, легкими — также весьма странно. Скорее мы назовем их сложными, но если нас
спросят, почему эти задачи сложные, скорее всего мы скажем: но так ведь это такие
сложные математические задачи, их так сложно решить! Конечно, мы должны
помнить, что мы разбираем ту ситуацию, когда математические задачи принципиально
разрешимы в том смысле, что человек пусть и не знает в точности, как их решать,
может в то же самое время проделать некоторую работу (пусть даже она будет связана у
него с обучением) и решить эти задачи. Таким образом, трудные проблемы, которые
казались ему трудными в силу того, что они были математическими задачами — речь
идет об онтологии — оказались абсолютно обычными проблемами.
В такой ситуации, мне кажется, мы можем с уверенностью сказать, что, пока мы
были в первом состоянии, не могли решить задачи, нам стоило сказать, что они
трудны для нас, но лишь потому, что мы слабо понимаем в математике. Подобно тому, как
Человек Дождя не может купить чипсы в магазине на 16-й авеню не потому, что это
крайне сложная, трудная проблема, а потому что он аутист.
Таким образом, когда мы говорим о трудной проблеме сознания, мы совершаем
ошибку, говоря о том, что трудность в природе исследуемого в том, что мы пытаемся
решить, — мы просто воспроизводим ту же самую схему, как и с математическими
задачами, утверждая, что они слишком трудны, вместо того, чтобы сказать, что мы
слишком глупы, что не умеем их решать ,что у нас нет навыков.
Какие два принципиальных момента стоит здесь отметить: во-первых, возможно,
меня могут обвинить в излишнем формализме. Ну и что, что дело не в проблеме, а
в нас? Разве это что-то меняет в трудной проблеме сознания? Какое нам дело, как
стоит правильно говорить о нашем незнании?
На мой взгляд, это принципиальный момент: Чалмерс, утверждая
принципиальную отличную природу опыта, создающую трудность трудной проблемы, указывает
на то, что решить проблему уже имеющимися средствами невозможно — именно
поэтому и терпит фиаско философия сознания и нейронаука, психология и когнитиви-
стика. Но ведь это ровно то же самое, что и утверждать, что нам не решить сложную
математическую задачу, если мы слабы в математике, не учить математику, а искать
какие-то принципиально новые методы для решения «трудной математической
проблемы». Напротив, если же мы признаем наличие сложной для нас проблемы в силу
наших когнитивных затруднений, то тогда мы сможем говорить о характере этих за-
68
труднений, тем самым, решать вопрос о том, сможем мы решить трудную проблему
и, если да, то как.
Второй принципиальный момент, который бы я хотел отметить: Человек Дождя с
легкостью щелкает математические «орешки», нам это делать крайне сложно, но
возможно, пусть и не сразу. Но он не может пойти и купить в магазине чипсы, а мы
можем это сделать. И, насколько мы знакомы с явлением аутизма, крайне маловероятной
представляется для него возможность решить эту задачу. Надеюсь, что в будущем
лечение аутизма достигнет высот, и тогда можно будет «научить» аутиста решать трудные
проблемы, либо вылечить его от аутизма, тем самым сделав его способным решать
проблемы, прежде бывшие для него трудными. В случае с сознанием мы можем оказаться
в ситуации аутистов, пытающихся тщетно решить простейший социальный паззл: мы
пытаемся решить проблему сознания, она трудна для нас, поскольку мы таковы, но не
потому что опыт обладает какой-то принципиально непознаваемой обычными
методами природой. Именно поэтому идея определять трудность проблемы через субъекта и
представляется мне эпистемологически ценной. Ведь тогда наша базовая задача будет в
том, чтобы выяснить, к какому типу задач относится эта проблема, нужно ли нам лишь
провести много времени в поисках, пробах и ошибках, и тем самым придти к решению,
или же нам стоит задуматься о радикальном «лечении» себя от аутизма в отношении
проблемы сознания, которое, возможно, изменит наши познавательные способности
таким образом, что сознание не будет больше для нас трудной проблемой.
Мне кажется, что указанные выше исследователи, чьи работы и натолкнули меня
на изложенную мысль, уже двигаются в этом направлении, однако я уверен, что
необходима некоторая рефлексия по поводу того, в чем действительно трудность трудной
проблемы, которую, как мне кажется, удалось осуществить в этой статье. В самом
деле, многое уже сделано и замечательно иллюстрирует мою идею. Курт Левин
постулирует существование объяснительного провала — некоторого
эпистемологического затруднения при попытках решить проблему сознания, указывающего на нашу
собственную неспособность (по крайней мере, сейчас) объяснить связь между
физическим и ментальным. Ноам Хомский говорит о модульности нашего ума,
способного решать лишь определенные задачи, некоторые из которых навсегда останутся
для нас тайной, оставишсь за пределами когнитивных способностей. Томас Нагель
одним из первых упоминает о принципиальном различии в когнитивных
способностях и в содержании опыта различных существ, показывая нам, что то, что может
быть естественно для летучей мыши — ориентироваться по эхолокатору —
оказывается величайшим затруднением, недоступным нам. Колин Макгинн суммирует их
аргументы, вводя однако идею о «степени» той или иной способности, предполагая,
что, даже имея возможность решать некоторые проблемы, мы всегда должны иметь
в виду возможность некоторой градации этих способностей как в сравнении одного
существа с другим, так и в масштабе всего вида.
Я не уверен, что свойства нашего познания, наша когнитивная ограниченность
верно определены этими исследователями. Но моей задачей и не было выяснять
пределы наших познавательных способностей и указывать критерии трудных проблем.
Моей задачей в данной работе был критический анализ трудной проблемы
сознания как понятия, используемого для более успешной работы в области исследований
сознания. Необходимо признать, что понимание трудности трудной проблемы как
фундаментального свойства исследуемого объекта и определение ее через свойства
выделяемого объекта приводит к обратным результатам: ведь тогда мы не
продвигаемся от идей Декарта ни на шаг, оставаясь на том же разделении двух субстанций.
Напротив, признание эпистемологического подхода к определению трудной
проблемы — и признание принципиального наличия когнитивных границ нашего
познания — дает нам возможность для поиска критерия трудных проблем, а также для
описания пределов наших познавательных способностей.
69
ГАСПАРОВ И.Г.
«Расщепленный мозг» и проблема единства сознания
Одной из важнейших характеристик сознания традиционно считается его
единство. Однако в середине прошлого века в ходе эмпирических исследований было
установлено, что хирургическое разделение мозолистого тела, соединяющего
полушария головного мозга, ведет к возникновению феноменов, которые кажутся
несовместимыми с убеждением о единстве сознания человеческого индивида. Это
обстоятельство продолжает вызывать интерес не только психологов и специалистов,
изучающих нервную деятельность, но и философов [2, 6, 7, 8, 9, 12, 13]. В настоящей
статье рассматривается вопрос, действительно ли разделение мозолистого тела ведет
к разобщению сознания субъекта.
1. Синдром «расщепленного мозга»
Первые операции по разделению мозолистого тела (corpus callosum) были
осуществлены в 30-х гг. прошлого века. Их основой целью было ослабление
эпилептических припадков. Первоначально у пациентов, которым была сделана подобная
операции, не было выявлено каких-либо существенных отклонений в поведении. После
периода реабилитации они, как правило, были способны вернуться к обычному
образу жизни. Однако в середине 60-х гг. было обнаружено, что в экспериментальных
условиях пациенты ведут себя крайне необычно.
Схематически можно представить себе эксперимент с такого рода пациентами
следующим образом. Испытуемому одновременно предъявляются два различных
объекта, например, яблоко и курительная трубка таким образом, что каждый из
объектов он может «видеть» только одним из своих полушарий. Например, яблоко он
видит только левым полушарием, а трубку — только правым. Затем испытуемоего
просят словесно ответить, что он видел. Испытуемый говорит, что он видел
яблоко. После этого его просят левой рукой наощупь выбрать из группы предметов тот,
который он только что видел. В этом случае испытуемый выбирает трубку. Если же
испытуемого спрашивают, видел ли он трубку, то он дает отрицательный ответ.
Такое необычное поведение принято называть синдромом «расщепленного мозга», или
сплит-брейном. В исследованиях, посвященных синдрому «расщепленного мозга»,
выделяют четыре основных признака, характеризующих сплит-брейн пациентов:
(1) социальная обыденность; (2) отсутствие передачи информации от одного
полушария к другому; (3) проявления следствий функциональной ассиметрии головного
мозга человека; (4) возникновение компенсаторных механизмов, которые
используются для преодоления дефицита в передаче информации между полушариями [14].
Стандартным объяснением этого феномена является то, что после разделения
мозолистого тела в человеческом индивиде возникают два отдельных, не связанных
между собой потока сознания [7, 12, 13]. Однако, такая концепция сталкивается с
проблемой объяснения социальной обыденности, которая наблюдается у сплит-
брейн пациентов, которые в повседневной жизни ничем не отличаются от обычных
людей. В связи с этим были предложены еще несколько альтернативных объяснений
синдрома расщепленного мозга, положительные и отрицательные стороны которых
будут рассмотренны в дальнейшем. Однако, прежде чем перейти к их рассмотрению,
необходимо уточнить само понятие единства сознания.
2. Единство сознания и его виды
Сознание и его единство представляет собой сложное явление, поэтому выделяют
несколько видов как сознания, так и его единства. В настоящей статье я буду делать
различие между сознанием субъекта и состоянием сознания, с одной стороны, и со-
70
знанием доступа и феноменальным сознанием, с другой. Под сознанием субъекта
понимается характеристика этого субъекта, которая определяет его как сознательного
в противоположность бессознательному. Под состоянием сознания понимается
психическое состояние, в котором находится субъект и которое может быть
охарактеризовано как сознательное в противоположность бессознательному [10]. Очевидно, что
существует определенная связь между сознанием субъекта и состоянием сознания, в
котором он находится. Например, состояние субъекта может быть названо
сознательным, если субъект сознает, что находится в этом состоянии. Однако не все согласны,
что сознание субъекта является необходимым условием для признания некоего
состояния сознательным [5].
В целом, принято считать, что все виды сознания характеризуются единством.
При этом выделяются различные виды единства сознания. Я буду говорить об
единстве содержания сознания, единстве сознания доступа и феноменальном единстве
сознания. Кроме того, необходимо отдельно выделить единство субъекта сознания.
Обычно любое содержание представлено в сознании как некое единство. Любое
содержание сознания является результатом согласованного представления многих
аспектов одного или нескольких объектов, например, их цвета, формы, запаха,
фактуры и т.п. В той мере, в какой как различные аспекты одного и того же объекта, так
и различные объекты представлены в сознании субъекта вместе, можно сказать, что
они находятся между собой в отношении единства. Это отношение я буду называть
единством содержания.
Понятие состояния сознания также является неоднозначным, так как
психическое состояние можно называть сознательным в разных смыслах. Н. Блок
предложил делать различие между сознанием доступа и феноменальным
сознанием [4]. Субъект обладает сознанием доступа, если он способен выразить
содержание своего состояния сознания вербально, включать его в свои рассуждения
или использовать для произвольного контроля за своим поведением. Единство
сознания доступа имеет место, если несколько содержаний, вместе
составляющих единое содержание сознания в некоторое время t, одновременно доступны
вербальному выражению, рациональному рассуждению или могут произвольно
контролироваться субъектом. Однако, кроме этого, психическое состояние, в
котором находится субъект, может быть названо сознательным, если оно обладает
для этого субъекта субъективным качеством переживания. Существует несколько
альтернативных концепций природы и точной структуры феноменального
единства [3, 13]. Однако можно сказать, что в t состояние сознания обладает
феноменальным единством, если в t феноменальные качества переживаются в этом
состоянии как представленные вместе. Обычно содержание сознания доступно как
сознанию доступа, так и феноменальному сознанию. Однако большинство
философов признают, что между ними возможно провести, по крайней мере,
концептуальное различие. Например, философские «зомби», по мнению сторонников их
концептуальной представимости, обладают только сознанием доступа, но лишены
феноменального сознания.
Кроме этого, отдельно следует сказать о единстве субъекта сознания. Это
единство состоит в том, что состояния сознания являются состояниями сознания одного
и того же субъекта. Единство субъекта сознания может быть как синхронным, так и
диахронным.
3. Синдром «расщепленного мозга» и единство сознания
Эмпирические данные о поведении сплит-брейн пациентов в
экспериментальных условиях заставляют задуматься о том, является ли их сознание единым. В этом
вопросе можно выделить два основных аспекта. Во-первых, сколько субъектов
сознания одновременно присутствует в одном человеческом индивиде с разделенным
мозолистым телом? Во-вторых, является ли в эскпериментальных условиях состоя-
71
ние сознания сплит-брейн пациента единым? Большинство философов и
психологов считает, что сплит-брейн пациент сохраняет субъектное единство. Второй вопрос
вызывает больше споров, и поэтому в дальнейшем я остановляюсь на обсуждении
основных ответов, которые в недавнее время были даны на этот вопрос.
Отвечая на этот вопрос с использованием концептуального аппарата,
предложенного мною выше и при условии сохранения единства субъекта сознания, а также
одновременном наличии сознания как в левом, так и правом полушарии субъекта,
можно выделить три основных варианта ответа:
(1) Сознание сплит-брейн пациента полностью разделено на два отдельных
состояния сознания А и В, так что между А и В отстствует как единство доступа, так и
феноменальное единство;
(2) Сознание сплит-брейн пациента лишено единства доступа, но сохраняет
феноменальное единство;
(3) Сознание сплит-брейн пациента сохраняет полное единство.
В пользу ответа (1) говорят три основных аргумента. Два из них приводит
Т. Бейн [2]. Он называет их аргументом замыкания и аргументом от разобщенности
поведения.
Аргумент замыкания утверждает, что:
(1) Необходимо, что состояние сознания с содержанием А и состояние сознания
с содержанием В связаны между собой отношением единства, только если субъект S,
находящийся в состоянии сознания с содержанием Айв состоянии сознания с
содержанием В, находится и в состоянии сознания с содержанием А&В (принцип
замыкания);
(2) S, находясь в состояниях сознания с содержаниями А и В, не находится в
состоянии сознания с содержанием А&В;
(3) Следовательно, состояние сознания с содержанием А и состояние сознания с
содержанием В не связаны между собой отношением единства.
Если признать, что посылка (2) корректно репрезентирует эмпирические данные
экспериментов со сплит-брейн пациентами, то наиболее проблематичным является
принцип замыкания. Например, Бейн говорит, что отношение феноменального
единства можно мыслить как примитивное отношение, которое не предполагает
включения содержаний А и В в единое содержание состояния сознания, в котором
находится сплит-брейн субъект.
Аргумент от разобщенного поведения утверждает, что:
(1) Сплит-брейн субъект S не обладает поведенческим единством;
(2) Единство состояния сознания предполагает поведенческое единство;
(3) Следовательно, состояние сознания S лишено единства.
Ключевой посылкой во втором аргументе является посылка (2), которую также
можно оспорить, так как имеются эмпирические данные, что единство сознания
можно предполагать и при отсутствии поведеческого единства.
Еще один аргумент в пользу того, что состояния сознания, в которых сплит-брейн
пациент находится одновременно, в экспериментальных условиях полностью
разобщены приводит М. Тай [ 13]:
(1) Состояния сознания, в которых в экспериментальных условиях находится
сплит-брейн пациент S, лишены единства доступа;
(2) Отсутствие единства доступа наиболее естественным образом объясняется
отсутствием феноменального единства;
(3) Следовательно, естественйо думать, что состояния сознания S лишены не
только единства доступа, но и феноменального единства, т.е. разобщены
полностью.
В данном аргументе, если принять посылку (1) в качестве корректной
интерпретации эмпирических данных, наиболее проблематичной является по-
72
сылка (2). Основную поддержку этой посылки Тай видит в аналогии между
случаями сплит-брейна и случаями «слепозрения». По мнению Тая, в случае
«слепозрения» наилучшим объяснением отсутствия сознания доступа является
отсутствие феноменального сознания. Поэтому и в случаях сплит-брейна
наилучшим объяснением отсутствия единства сознания доступа является
отсутствие единства феноменального сознания. Однако при этом, во-первых, сам Тай
признает, что это не единственно возможное объяснение как случаев
«слепозрения», так и случаев сплит-брейна, но ничего не говорит о том, почему именно это
объяснение следует считать наиболее «естественным». Во-вторых, как замечает
Т. Альтер, сама аналогия между «слепозрением» и сплит-брейном сомнительна,
так как вообще неочевидно, что «слепозрение» предполагает какое-либо
нарушение сознания доступа [1].
Т. Бейн и Д. Чалмерс привели аргументы в пользу альтернативного
объяснения сплит-брейна, при котором разобщение сознания доступа не означает разрыва
единства феноменального сознания. В основном их аргументация состоит в том,
что поскольку prima facie феноменальная разобщенность сознания одного и то же
субъекта кажется непредставимой, то если возможно, что у сплит-брейн пациента
отсутствует единство сознания доступа при сохранении феноменального единства
сознания, то эту возможность следует предпочесть ее альтернативам. Такую
возможность Бейн и Чалмерс обосновывают ссылкой на опыты Дж. Сперлинга [12].
В них доказано, что нормальный испытуемый феноменально воспринимает
большее содержание, чем может выразить вербально. Бейн и Чалмерс объясняют
результаты этих экспериментов наличием у субъекта помех в сознании доступа к
воспринимаемому феноменально содержанию. Это объяснение, по их мнению,
применимо и к случаям сплит-брейна. И поскольку при этом объяснении
присутствует возможность, что у сплит-брейн пациента сохраняется феноменальное
единство сознания, то эмпирические данные не могут быть использованы как
доказательство разобщенности феноменального сознания сплит-брейн пациента.
Однако, как и в случае Тая, аналогия между сплит-брейном и экспериментами
Сперлинга не является однозначной [ 1 ]. Кроме того, кажется сомнительным, что в
актуальном мире различие между феноменальным сознанием и сознанием доступа
выходит за рамки концептуальной возможности. Таким образом, можно сказать,
что как стандартная концепция наличия двух полностью разобщенных состояний
сознания у сплит-брейн пациента, так и концепция Бейна и Чалмерса страдают
существенными недостатками и поэтому не могут быть признаны вполне
удовлетворительными. Как дело обстоит с третьим ответом? Можно ли думать, что у
сплит-брейн пациента присутствует единство как сознания доступа, так и
феноменальное единство сознания?
На первый взгляд, однозначно нет, поскольку эмпирические данные внушают,
что налицо поведенческая несогласованность между вербальными сообщениями
сплит-брейн пациента и его мануальными манипуляциями. Воистину левое
полушарие не знает, что делает правое. Какая тут может быть речь о полном единстве
сознания? Однако, может быть, все не так уж и плохо. В дальнешем я попробую
показать возможность, что, несмотря на поведенческую разобщенность, у сплит-
брейн пациента все-таки сохраняется полное единство сознания доступа и
феноменального сознания в той мере, в какой это свойство может приписано
ментальному состоянию самому по себе. Первый вопрос, который приходит на ум, состоит
в следующем: имеет ли смысл приписывать единство состоянию сознания доступа
самому по себе, а не субъекту сознания, который способен использовать данное
содержание этого состояния сознания для рационального размышления? Можно
определить состояние сознания доступа двумя способами. Во-первых, как
психическое состояние, содержание которого субъект, находящийся в этом состоянии,
73
может использовать для рационального рассуждения. Во-вторых, как психическое
состояние, содержание которого доступно для использования субъектом,
находящимся в этом состоянии для рационального рассуждения. Отличие первого
определения от второго в том, чему приписывается способность использовать / быть
использованным для рационального рассуждения. В первом случае это субъект, во
втором — само психическое состояние. Предположим, что в сплит-брейн
субъекте одновременно возникают два состояния, репрезентирующие содержания А и В.
Если эти состояния связаны между собой отношением единства, то существует и
третье состояние, репрезентирующее А&В вместе. Возможно, что А&В существует
в сплит-брейн субъекте и доступно ему, но при этом субъект не способен
использовать А&В для рационального рассуждения. Как это может быть? Начнем с
аналогии. Предположим, что перед парализованным человеком стоит стакан с водой.
Верно ли, что он может быть использован для питья только в том случае, если
человек не парализован и может воспользоваться им. Кажется, что нет. Например,
его мог использовать кто-либо другой, или даже тот же самый человек, если бы не
был парализован. Неочевидно, что данная аналогия полностью неприменима к
психическому состоянию А&В, если бы оно возникло у сплит-брейн субъекта. Если
же она применима, то почему способность быть использованным для рационального
рассуждения должна отрицаться у этого состояния только потому, что субъект не
может ею воспользоваться? Другими словами, свойство быть достижимым для
рационального рассуждения может быть понято как свойство самого психического
состояния. Если это так, то единство состояния сознания доступа зависит не от того,
способен ли субъект сознания использовать его содержание, а от того, существует
ли такое психическое состояние, которое адекватным образом репрезентирует
совместное содержание А&В, и репрезентирует ли оно это содержание таким образом,
что оно могло бы быть использованно субъектом. Есть ли у сплит-брейн пациента
подобное состояние? Отрицательный ответ здесь опять неочевиден, так как он был
бы мотивирован главным образом тем, что некое состояние сознания было бы
единым, если бы воспринималось его субъектом как единое. Другим словами, единым
это состояние было бы в силу отношения к нему субъекта. Но то, что состояние
сознания является единым в силу отношения к нему субъекта, не кажется очевидным.
Следовательно, вполне возможно, что психическое состояние, репрезентирующее
единое содержание А&В, возникает у сплит-брейн пациента даже в том случае,
когда он не способен воспользоваться этим содержанием. Если же у сплит-брейн
пациента есть единство сознания доступа, то в актуальном мире вполне естественно
предполагать у него и единство феноменального сознания. Таким образом, можно
говорить о том, что у сплит-брейн пациента сознания присутствует полностью. Чем
же тогда объясняется разобщенность его поведения? Самый простой ответ:
нарушением нейронного единства, из-за которого он в некоторых случаях не способен
использовать информацию, содержащуюся в его психических состояниях. Против
предложенной выше модели можно было бы возразить, что психическое состояние,
репрезентирующее единое содержание А&В, нельзя назвать сознательным в
полном смысле слова. Однако это спорно, так как если считать сознательным только то
психическое состояние, которое сознается субъектом, то понятие состояния
сознания становится тривиальным и лишенным какого-либо интересного содержания.
Если же быть сознательным является внутренним свойством самого психического
состояния, то неясно, почему надо отрицать, что возникающее у сплит-брейн
пациента психическое состояние лишено этого свойства. Таким образом, третий ответ
на вопрос о единстве состояния сознания сплит-брейн пациента в
экспериментальных условиях не следует просто так сбрасывать со счетов. Тем более, что он хорошо
объясняет как особенности поведения сплит-брейн пациента в экспериментальных
условиях, так и обыденность его поведения в повседневной жизни.
74
Литература:
1. Alter T. Access Disunity without Phenomenal Disunity: Туе on Split-Brain Cases,
(mns).
2. Bayne T. Unity of Consciousness and the Split-Brain Syndrome // The Journal of
Philosophy. 105(6), 2008:277-300.
3. Bayne T., Chalmers D. What is the unity of consciousness? / A. Cleeremans, ed. The
Unity of Consciousness: Binding, Integration and Dissociation. Oxford: Oxford
University Press, 2003.
4. Block N. On a confusion about a function of consciousness // Behavioral and Brain
Sciences. 18 (1995):227-47.
5. Drestke D. Conscious experience // Mind. 102 (1993):263-283.
6. Gazzaniga, M. The Split-brain revisited // Scientific American. 279 (1998):50-55.
7. Marks C. Commissurotomy, Consciousness and Unity of Mind. Cambridge, MA:
MIT Press, 1981.
8. Nagel T. Brain Bisection and the Unity of Consciousness // Synthese. 22
(1971):396-413.
9. Puccetti R. Brain bisection and personal identity // British Journal of Philosophy
of Science. 24 (1973):339-355.
10. Rosenthal D. A Theory of Consciousness / N. Block, O. Flanagan, and G. Guseldere
eds., The Nature of Consciousness: Philosphical Debates. Cambridge, MA: MIT
Press, 1992:729-754.
11. Sperling G. The information available in brief visual presentations // Psychological
Monographs. 498 (1960): 1-29.
12. Sperry R. Consciousness, Personal Identity and The Divided Brain //
Neuropsychologic 22 (1984):661-673.
13. Туе M. Consciousness and Persons: Unity and Identity. Cambridge, MA: MIT
Press, 2003.
14. Zaidel E., Zaidel D.W., & Bogen J.E. The split brain / G. Adelman & B. Smith
(Eds.) // Encyclopedia of Neuroscience. 2nd Ed., 1999:1027-1032.
75
ГОРБАТОВ В.В.
Кодовая интерпретация субъективной реальности
и проблема ситуативности информации
Предметом данного исследования является «кодовая интерпретация»
субъективной реальности (СР), предлагаемая Д.И. Дубровским в ответ на поставленный
Д. Чалмерсом «трудный» вопрос относительно сознания — «почему
информационные процессы не идут в темноте?» Мы считаем, что ключевое для этой
интерпретации понятие «информации об информации» неизбежно сталкивается с проблемой
существенной ситуативности информационных процессов. Разрешить эту проблему,
как нам кажется, можно с помощью ситуационной теории Й. Барвайза и Дж. Перри,
используя понятие «информационного канала». Однако это вынуждает нас принять
весьма своеобразную онтологию информационных процессов, основанную на
тернарных отношениях между ситуациями.
1. Информация как искомое «третье понятие»
В отличие от «легкой» «трудная» проблема сознания, по Чалмерсу [8], касается
объяснения не того, как функционируют информационные процессы в человеческом
мозге, а того, почему они «не идут в темноте», но сопровождаются субъективным
опытом? В своей статье «Зачем субъективная реальность» [3] Д.И. Дубровский
ставит закономерный встречный вопрос: а на чем, собственно, основана предпосылка,
что эти процессы вообще (в нормальном состоянии) могут идти в темноте и что
субъективный опыт по отношению к ним — всего лишь внешний «аккомпанемент»? По
мнению профессора Дубровского, в лице СР мы имеем «не „аккомпанемент", не
сопровождение, а сам информационный процесс особого вида», в котором информация
«выполняет особую функцию» [3, с. 142].
Таким образом, профессор Дубровский изначально не признает тезис Чалмерса
и Нагеля о наличии «объяснительного разрыва» (explanatory gap) между
функциональной и феноменалистической картинами сознания, призывая рассматривать
вторую как закономерное продолжение первой.
«Итак, я заменяю утверждения Нагеля на противоположные: „...в настоящее
время у нас" есть концептуальные средства, „которые бы позволили нам понять, каким
образом субъективные и физические свойства могут одновременно быть
существенными сторонами единой сущности или процесса"; у нас давно уже есть „третье
понятие, из которого непосредственно вытекают и ментальное и физическое и благодаря
которому их актуальная необходимая связь друг с другом станет для нас
прозрачной". Этим „третьим понятием" является понятие информации» [2, с. 123].
Таким образом, в основе «кодовой» трактовки СР лежит понятие информации.
Его содержание определяется следующими теоретическими постулатами:
(И1). Информация необходимо воплощена в определенном физическом
носителе; конкретный носитель информации выступает в качестве ее кода;
(И2). Информация инвариантна по отношению к физическим свойствам своего
носителя;
(ИЗ). Информация способна служить фактором управления;
(И4). Явление сознания может интерпретироваться в качестве информации о том
или ином явлении действительности [3, с. 146].
Допустим, что Д.И. Дубровский прав, и прозрачность нашего сознания для себя
самого есть результат особого способа функционирования наших познавательных
механизмов, сложившегося в ходе эволюции сложных биологических систем, кото-
76
рые мы собой представляем. «Для эффективного функционирования ей
[самоорганизующейся системе — прим. Г.В.] нужна информация как таковая (...). Поскольку
поведенческий акт определяется именно семантическими и прагматическими
параметрами информации, а не конкретными свойствами ее носителя, (...), постольку в
ходе биологической эволюции и антропогенеза способность отображения носителя
информации не развивалась, но зато усиленно развивалась способность получения
самой информации (...) и использования её для управления и саморазвития. На этом
пути в процессе антропогенеза и возникает сознание как новое качество (...). Суть
этого нового качества можно определить в данном контексте как способность такого
оперирования информацией, при котором, по сути, неограниченно может
воспроизводиться информация об информации» [2, с. 132].
Тогда закономерным представляется вопрос: способны ли мы провести различие
информации обычной, с одной стороны, и информации об информации — с другой, не
опираясь при этом на понятия субъективной реальности, интенциональности и пр.?
Д.И. Дубровский (как он сам открыто признает) исходит из иного
концептуального каркаса, чем Чалмерс. В частности, он использует несколько другую концепцию
информации (функциональную, а не атрибутивную). И, безусловно, колоссальной
его заслугой является то, что он сумел переформулировать вопросы Чалмерса в
новой, более эвристической манере. Но разрешил ли он по существу «трудную»
проблему Чалмерса? Как нам кажется, нет.
Сложно отделаться от ощущения, что профессор Дубровский в решении
«трудной» проблемы сознания следует стратегии № 3 из списка самого Чалмерса
[8, р. 209—210]. В отличие от других, эта стратегия не отрицает феномен
субъективного опыта и не постулирует его принципиальную непознаваемость посредством
научных методов. Напротив, проблема исследуется здесь со всей серьезностью, шаг за
шагом. Однако важнейший, решающий шаг почему-то осуществляется мимоходом,
незаметно. Ему уделяется незаслуженно мало внимания. Самое существенное
понятие буквально достается в нужный момент как кролик из шляпы фокусника.
2. Информация об информации
В кодовой интерпретации СР Дубровского подобным «кроликом» выступает, как
видно из приведенных цитат, понятие информации об информации. СР начинается
там, где организм начинает производить информацию об информации, т.е.
информацию, по меньшей мере, второго уровня. Хорошо, пусть так. Но чтобы с помощью
этого понятия ответить на вопрос Чалмерса «при каких условиях информационные
процессы сопровождаются субъективным опытом», мы должны иметь четкий
критерий, отличающий информацию от мета-информации. Однако существует ли такой
критерий?
Еще Джон фон Нейман поставил в свое время проблему двоякой роли
информации. В 1946 году вместе с Артуром Бёрксом и Германом Голдстайном он
написал работу под названием «Предварительное рассмотрение логической конструкции
электронно-вычислительного устройства» [7]. Одним из важнейших понятий
изложенной там знаменитой «архитектуры фон Неймана» (которая, в свою очередь,
представляет собой вариант реализации универсальной машины Тьюринга)
является понятие storedprogramm. Суть в том, что одна и та же информация может читаться
как программа, т.е. содержать инструкции по работе с данными, а может оказаться и
информацией об объектах, то есть представлять собой те самые данные, с которыми
программа работает. Согласно фон неймановскому «принципу однородности», в
памяти компьютера между первым и вторым использованием информации никакого
различия быть не может. Хотя, разумеется, когда программа прочитывается как
набор данных с помощью другой программы, она сама действовать как программа уже
не может.
77
Это заставляет нас вернуться к вопросу, который, казалось, не вызывал никаких
сомнений — вопросу об инвариантности информации. То, что информация
инвариантна относительно различных её носителей, пожалуй, не вызывает возражений ни
у кого. Информацию «белая берёза под моим окном» можно передать и при помощи
слов, и при помощи зрительного образа. А вот инвариантна ли она относительно
различных контекстов, т.е. конкретных обстоятельств ее использования? Мы можем
помыслить одно и то же электронное изображение — допустим, той самой белой
берёзы — и как естественный знак определённого объекта, и как код для некоей
программы (в действительности, такое кодирование информации широко
используется). В самом изображении нет ничего, что позволило бы определить, несет ли оно
натуральную информацию (о берёзе) или мета-информацию (о программе). Таким
образом, у нас нет способа различить эти два случая.
А если так, то у нас нет надежных концептуальных средств отличить СР от тех
информационных процессов, которые «идут в темноте». Другими словами, даже
если явления СР имеют функциональную природу и представляют собой просто
особый способ бытия информации, это ровным счетом ничего не меняет, потому что
на функциональном языке такой способ бытия информации неотличим от любого
другого.
Кстати говоря, и Чалмерс сам не исключает того, что СР способна выполнять
определенную функцию [8, р. 205—206]. Но даже если так, считает он, все равно
объяснение СР не сможет обойтись только лишь анализом и моделированием этой
функции! Возвращаясь к нашему примеру с белой березой, мы могли бы рассмотреть
не её электронное изображение, а сам внутренний образ березы (обозначим его «О»)
в нашем сознании. Соответствующее этому образу состояние нейронов обозначим
как «X». Вполне вероятно, что в отличие от X, О может служить информацией
«высшего порядка». Но вопрос как раз в том, при каких условиях? Способны ли мы эти
условия эффективным образом задать?
3. Информационная причинность
Понятие информации об информации у Д.И. Дубровского тесным образом
связывается с идеей информационной причинности. Образ О и его нейрофизиологический
носитель X находятся в отношении кодовой зависимости, не будучи причинами друг
друга, но являясь параллельными следствиями одной и той же причины [3, с. 146].
При этом чистая информация, заключенная в О, призвана служить процессам
оперативного управления в самоорганизующейся системе.
«Декодирование, расшифровка кода (...) есть не что иное, как перекодирование,
т.е. перевод „чуждого" кода в „естественный". Если информация „понятна" системе,
т.е. представлена в форме „естественного" кода, то это означает, что она служит или
способна служить в ней фактором ее целесообразного функционирования, фактором
управления» [2, с. 124—125].
Обладает ли О каким-то собственным каузальным потенциалом, отличным от
потенциала X? (вопрос, заданный В.В. Васильевым во время обсуждения доклада
Д.И. Дубровского 21 сентября 2009 г. в МГУ). Главной особенностью
информационной причинности (ИП), по утверждению профессора Дубровского, является то, что
она не сводится к физической, но и не противоречит ей. Как это возможно?
На наш взгляд, тут может быть несколько вариантов ответа:
(1) ИП реализуется на событиях, которые не имеют обычной, физической
причины. Но это предполагает индетерминизм, принятие которого в философском плане
является весьма серьезным шагом и вряд ли будет разумной ценой за объяснение
субъективной реальности.
(2) ИП реализуется на тех же событиях, которые имеют соответствующие
физические причины (т.е. действует параллельно с ними). Но зачем такое дублирование?
78
Зачем две причины одному событию? И какая из них будет, все-таки, тогда истинной
(действующей) причиной, а какая — формальной?
(3) ИП реализуется не на самих событиях, а на функциональных связях между
ними. Т.е. она не меняет сам состав реальности, но способна усложнить отношения
между явлениями реальности, надстроив между ними новые, более тонкие связи.
Именно третью трактовку, судя по всему, принимает сам Д.И. Дубровский:
«Психическое причинение осуществляется цепью кодовых преобразований и его
результат определяется содержательными, ценностными и оперативными
характеристиками информации (О), воплощенной в мозговом коде (X)» [2, с. 133]. Но поскольку
свойства информации не могут каузально влиять на свойства её носителя, такая
трактовка ИП требует признать, что информация и мета-информация — явления
разноуровневые, каузально изолированные. Иными словами, информация, которая
становится объектом другой информации, более высокого уровня, автоматически
перестает быть информацией в динамическом смысле слова — она больше не является
средством управления, но представляет собой объект управления.
Итак, мы получили дилемму. С одной стороны, чтобы с помощью информации об
информации можно было адекватно обосновать идею информационной причинности,
соблюдая принцип (ИЗ), нам нужно признать операциональную разноуровневость и
каузальную изолированность сравниваемых видов информации. С другой стороны, в силу
принципа (И1), мы не можем допустить информации, не имеющей носителя, и,
следовательно, вынуждены размещать оба вида информации в мозге (как в архитектуре фон
Неймана, программы и данные размещаются в памяти на одинаковых правах). Но последнее
обстоятельство, как уже было отмечено, вкупе с принципом инвариантности (И2)
приводит к субстанциальной неразличимости информации и мета-информации. А это
ставит под удар объяснительную силу принципа (И4), так как «кодовую» интерпретацию
мы можем тогда лишь постулировать, но не реализовать на практике (из-за отсутствия
четкого критерия различения информации и метаинформации).
Д.И. Дубровский, насколько мы можем судить, возлагает большие надежды по
преодолению указанных трудностей на понятие естественного кода (ЕК).
Действительно, если бы существовал подобный инвариант, подаренный нам самой
природой, — универсальный код для расшифровки любого субъективного опыта, — он
помог бы нам разрешить проблему мета-информации. По крайней мере, у нас не было
бы затруднений с выбором её интерпретации. Можно было бы взять на вооружение
что-то вроде естественной редукции: если при «естественной» интерпретации
информация получает примемлемое первопорядковое прочтение, то она признается
первопорядковой. В противном случае мы ищем для нее интерпретацию более
высокого порядка, и так до тех пор, пока не будет найдено приемлемое прочтение.
Однако существует ли подобный инвариант? Одинаковый для всех людей? Вряд
ли. В это можно только верить, вдохновляясь успехами современной науки, но этого
нельзя знать наверняка. По сути, все разговоры о естественном коде вместо строгого
теоретического обоснования предлагают нам либо апелляцию к ценности («признать
наличие ЕК необходимо, потому что это естественно/красиво/желательно и т.п.»),
либо апелляцию к практической эффективности («это приводит к прагматически
выгодным следствиям»).
Таким образом, мы хотим показать, что принципы (И1)—(ИЗ), хотя они вполне
согласуются между собой, все-таки не позволяют чисто механически присоединить
к ним принцип (И4). Принятие последнего требует серьезного уточнения некоторых
фундаментальных аспектов принимаемой нами теории информации в целом.
4. Ситуативность информации
Чтобы довести до логического завершения подход профессора Дубровского,
необходимо воспользоваться некоторой более сложной теорией информации, причем
79
такой, которая не основывается изначально на понятии сознания или субъективной
реальности (в противном случае круг в объяснении: чтобы объяснить сознание,
нельзя обращаться к концепциям, в которых понятие «сознание» фигурирует на правах
исходного и далее неразложимого). То есть нам нужна натуралистическая, функцио-
налистская теория информации, обладающая достаточным объяснительным
потенциалом, чтобы провести четкое разграничение между информацией различного
уровня и прояснить теоретические основания «информационной причинности». Именно
такую теорию, на наш взгляд, развивает Йон Барвайз вместе со своими соратниками:
Дж. Перри, Дж. Эчменди и Дж. Селигманом.
Барвайз пытается создать теорию, в которой информация сохраняла бы свойство
объективности, но при этом была бы существенным образом относительной, пре-
спективалистской. Понятно, что добиться такой цели можно двумя способами: либо
(1) укоренив информационные процессы в сознании какого-то познающего
агента, приписав им свойство интенциональности (такой вариант решения проблемы
предлагается в работах Фодора), либо
(2) постулировав существование уникальных, ситуационно-обусловленных
«перспектив» непосредственно в самом мире.
Естественно, Барвайз выбирает второй путь, развивая так называемую «теорию
ситуаций». Главный нерв этой теории — признание существенной, неустранимой
связи между информацией и обстоятельствами, в которых она функционирует.
Последние описываются в терминах «информационного принуждения» [5], или (в
более поздних работах) «информационных каналов» [6].
По мнению Барвайза, в рамках информационного процесса ситуации могут
играть двоякую роль — быть сайтами или каналами. Более того, каждый сайт может
быть каналом, и наоборот. «Мы исходили из того, что принуждающие
обстоятельства (constraints) должны мыслиться как информация о тех систематических
отношениях между ситуациями, которые делают возможными информационные потоки,
и окрестили систематические отношения информационными каналами, или просто
каналами. Таким образом, каналы позволяют нам получать информацию об одних
сайтах из других» [6, р. 13].
Иными словами, информационный поток реализуется через тернарное
отношение, для обозначения которого Барвайз использует формулу st -* с s2 («информация
о ситуации s2 достижима в ситуации s, через канал с»). В классической логике, пишет
Барвайз, признается только один универсальный канал (он обозначает его
символом « 1») — это значит, что ситуативность информации не допускается, а единственно
разрешенный способ получения информации об одной ситуации в другой —
формальный логический вывод. Но когда мы смотрим на срез бревна и считаем годовые
кольца, чтобы получить информацию о возрасте дерева, разве мы делаем вывод на
основании какого-то логического закона? В данной конкретной ситуации
принуждающие обстоятельства таковы, что именно они делают возможным ответ на
поставленный вопрос. Разумеется, срез бревна мог бы дать нам и совершенно другую
информацию — например, о вчерашней погоде или о местной популяции муравьев, —
если бы мы рассмотрели его относительно других принуждающих обстоятельств, т.е.
через другие информационные каналы.
Над информационными каналами могут производиться, по сути, те же
логические операции, что и над прочими ситуациями: они могут разделяться (дизъюнкция),
снова соединяться (конъюнкция), вкладываться друг в друга (импликация). Важно
только, что ситуация не может рассматриваться как канал и сайт одновременно, то
есть к ней можно применять логические операции либо одного, либо другого сорта,
но не обоих сразу.
По признанию самого Барвайза [6, р. 26], его теория «сайтов и каналов» идейно
сходна с семантикой тернарного отношения достижимости для релевантной логики,
80
разработанной Роутли и Мейером. Это и не удивительно, ведь релевантная логика
как раз предназначена для поиска более содержательных, существенных критериев
логического следования между пропозициями, чем просто сохранение истинности,
которое гарантирует нам материальная импликация. Примерно такие же цели
преследует и ситуационная теория, стремясь увязать переходы от одной ситуации к
другой с определенными локальными обстоятельствами мира, а не со всем миром
в целом.
Каким же образом ситуационная теория информации может преодолеть
трудности, рассмотренные параграфах 2 и 3? Ответ очевиден: релятивизируя роль
информации к конкретным ситуациям. Теперь понятно, почему у нас нет (и не может быть)
универсального критерия различения информации и мета-информации — ведь
данный вопрос зависит исключительно от задействованного в каждом отдельном случае
информационного канала и решается только в рамках тернарного отношения между
ситуациями.
Литература:
1. Нагель Т. Мыслимость невозможного и проблема духа и тела // Вопросы
философии. 2001. № 8.
2. Дубровский ДМ. Проблема духа и тела: возможности решения //Дубровский
ДМ. Сознание. Мозг. Искусственный интеллект. М., 2007.
3. Дубровский ДМ. Зачем субъективная реальность, или «Почему
информационные процессы не идут в темноте?» (Ответ Д.Чалмерсу) // (там же).
4. Юлина Н.С. Что такое физикализм? Сознание, редукция, наука // Философия
науки. Вып. 12: Феномен сознания. М.: ИФ РАН, 2006.
5. BarwiseJ. Information and Circumstance // Notre Dame Journal of Formal Logic
Volume 27, Number 3, July 1986.
6. BarwiseJ. Constraints, Channels, and the Flow of Information // Situation Theory
and its Applications / ed. by S.Peters and D. Israel, CSLI Lecture Notes. Vol. 3.
Chicago: University of Chicago Press, 1993.
7. Burks A. W., Goldstine H.H. and Neumann J. von. Preliminary Discussion of the
Logical Design of an Electronic Computing Instrument // Taub A. H., editor, John von
Neumann Collected Works, The Macmillan Co. N.-Y., 1963. V. 34-79.
8. Chalmers D. Facing Up to the Problem of Consciousness //Journal of Consciousness
Studies 2(3): 200-219, (1995).
81
ДАВЫДОВ В.В.
Пути философского осмысления результатов
эмпирических исследований сознания
В современной философии сознания существуют две главные методологические
установки, которые могут выступать предпосылками осмысления результатов
эмпирических исследований психофизического взаимодействия. Эмпирические
исследования (например, в нейрофизиологии, когнитивной нейробиологии) сами по
себе проводятся независимо от этих установок, но интерпретация и концептуальная
определенность полученных эффектов зависят от них.
Первая установка натуралистическая. Она реализуется вариативно
(универсальный эволюционизм, когнитивизм). В общем, она представляет тенденцию
рассматривать онтологию психофизических феноменов с привлечением общенаучных понятий
(«информация», «информационный процесс», «система», «функциональная
организация»). Значение общенаучных понятий здесь исключительное: они по функции
своей сопоставимы с метафизическими категориями (можно сказать, пришли им на
смену), они — основа для концептуального осмысления отношения психического
к физическому. Наиболее востребованным в этом смысле понятием является
«информация». Психофизическое «взаимодействие» вообще — это информационный
процесс, результатом или содержанием которого может являться субъективный
психический опыт, осознаваемое поведение (или адаптивная стратегия),
объективизированное в орудиях труда (технике) и языке (символах) знание.
Онтология информационных процессов в живой природе может быть
представлена и опосредованна философскими категориями. Например, традиционной для
отечественной философии категорией «идеальное». Необходимость перехода от
общенаучных понятий к философским категориям обусловлена сменой точки зрения на
психофизическую проблему. Объективный взгляд ученого сменяется пристрастным
взглядом философа, видящего в психофизическом «взаимодействии» способ бытия
человека (если информационные процессы в живой природе рассматриваются
относительно субъективного психического опыта). Онтология информационных
процессов может получать завершенный вид как идеальное отражение функциональной
организации материи на уровне субъективной реальности.
Информационный подход (при условии следования функциональной концепции
информации) хорошо сочетается с функционалистской интерпретацией
психофизической проблемы. Хотя здесь возникает проблема обоснования онтологического
статуса функций живых систем или проблема их (функций) натурализации. В отличие
от физической организации материи функциональная предполагает определенную
телеологию, актуализирует категории «смысла», «развития», «ценности» и пр.
Доступ к указанным и подобным категориям (их актуализация в «чистом» виде, то есть
идеальном онтологическом статусе) возможен при достижении живыми
материальными системами определенного уровня сложности функциональной организации
(например — появления у них психики, сознания, направленных на эти категории).
Данный уровень достигается в процессе биологической эволюции. Специфическим
он становится для нового этапа глобального эволюционного процесса — культурной
эволюции, поскольку только на этом этапе телеология становится реальной, будучи
абстрагированной субъектами в ряде категорий. Хотя, видимо, на до-субъективном
уровне все «диспозиции» функционально организованной живой материи имеют
место. Но онтологически они проявляются только будучи переведенными в содер-
82
жание психического опыта. Окончательное утверждение их онтологического статуса
происходит тогда, когда они («диспозиции») закрепляются в социальном поведении
и в искусственных знаковых системах. Проблемным является определение сущности
информационных процессов на до-субъективном уровне (если выходом не мыслится
возвращение к объективному идеализму).
Натуралистическая установка в целом критикуется. Создается впечатление, что
насыщение предметного и проблемного поля философии общенаучными
категориями и принципами не всегда оправдано. Становится также неясным, насколько
необходима инициатива философов, активно продвигающих в специальные картины
объективного мира принципы системности, развития, самоорганизации и
соответствующий набор общенаучных понятий. Формируется иллюзия завершенности и
онтологической полноты научной картины мира и — что с точки зрения самой науки
много важнее — возможности искажения всей глубины и значимости результатов
эмпирических исследований природы в конкретных науках, а далее и перспективы,
в которой они интерпретируются. Кроме этого существует опасность ослабления
метафизической и экзистенциальной напряженности философской рефлексии,
опасность редукции философского знания.
Альтернативой сциентистской парадигме (или в определенных случаях ее
дополнением) при интерпретации результатов эмпирических исследований
психофизического взаимодействия выступает методология аналитической философии сознания.
Исходно она представляла собой результат «лингвистического поворота» в
философии: психофизическая проблема решалась в рамках логико-лингвистического
анализа «ментальных» и «физических» терминов.
На современном этапе развития аналитической философии сознания ее
особенностью является тесное взаимодействие с когнитивными науками. В
условиях когнитивной революции аналитическая философия сознания вынужденно
пересматривает свои релятивистские и антиэссенциалистские установки,
заданные переводом содержания философских проблем в план проблем уточнения
содержания философских понятий. Вместе с тем, продуктивного согласования
сциентистской и логико-лингвистической парадигм в философии сознания не
происходит. Аналитическая философия апеллирует к субъективной данности
сознания, на которую пока не распространяется когнитивистская редукция,
объяснительный потенциал эволюционной эпистемологии и концептуальный аппарат
универсального эволюционизма. Апеллирует в силу естественной для ее
методологической программы процедуры полагания реальности через анализ ее логико-
лингвистической составляющей. Значения высказываний «я чувствую вкус
яблока», «я вижу дерево», «два плюс два—четыре» как то, на что они указывают, даны
субъекту непосредственно, но эксплицируются они только при условии полагания
реальным доступа субъекта к их содержанию. А доступ реален как определенная
языковая или социальная компетенция (сравним позицию аналитиков с
реалистическим пониманием позиции субъективного доступа к содержанию
психического опыта в феноменологии).
Представители «когнитивной науки», в свою очередь, активно ищут
концептуальный каркас для интерпретации результатов эмпирических исследований
психофизического «взаимодействия» и их теоретического осмысления. И при этом они
могут некритически воспринимать методологическую установку аналитиков.
Точнее — одну ее составляющую, самую важную для когнитивистов и резонансную по
последствиям для когнитивизма. Это некритически усвоенное полагание
реальности позиции доступа к содержанию психического опыта. Для части когнитивистов
оно не присуще. Существующие попытки функциональной интерпретации
субъективности свидетельствуют о критическом подходе к пониманию позиции доступа к
психическому как реальной в ее непосредственной данности субъекту, как имеющей
83
какую-то свою онтологию. Эти попытки оставляют когнитивистов с уверенностью в
необходимости сохранения феноменологической перспективы в эмпирических
исследованиях сознания, но при этом очевидной становится несостоятельность
собственно аналитического подхода (изначально претендующего на большую, нежели
феноменологический, научность). Когнитивисты могут отказываться от
методологии аналитической философии в пользу феноменологической методологии,
интегрированной в натуралистическую парадигму. В этом случае реальность субъективной
данности сознания перестает пониматься как некое внешнее по отношению к
изучаемым когнитивистикой процессам условие. А далее — теряет не только
исключительный онтологический статус, но и по-своему интригующее звание «эпифеномена».
Соединение феноменологического подхода с натуралистически ориентированным
функционализмом дает известные преимущества перед редукционистским
материализмом и логико-лингвистическим конструктивизмом при объяснении сознания и
решении психофизической проблемы. Это, прежде всего, свобода от физикализма и
солипсизма, которые в качестве мировоззренческих оснований для наук, изучающих
психические феномены, не очень удобны. Но дуализм данная установка не
преодолевает, и потому сохраняется возможность возвращения к физикализму и солипсизму
(уже в их радикальной форме) относительно феномена сознания. Видимо,
существует жесткая альтернатива между радикальными интерпретациями субъективности и
ее онтологизацией в «мягких» вариантах материализма (например, в сциентистском
функционализме), игнорировать которую невозможно без потери общего предмета
обсуждения.
Испытание позиции доступа к психическому на прочность философы-
когнитивисты предпринимают, обращаясь к феномену «другого я». Иначе говоря,
вопрос о возможности «моего я» (позиции доступа к содержанию собственного
психического опыта) решается как вопрос о принципиальной возможности «другого
я» (с тем же богатством значений и ощущений и субъективным качеством их
данности, что и у «моего я»). Почему так? Видимо потому, что возможность «другого
я» удостоверяется когнитивистами эмпирически с помощью научных методов, а не
спекулятивно — как непосредственно данное содержание своего собственного
сознания (хотя полагание «другого я» без знания и о том, как полагается «мое я», здесь
не считается приемлемым; в этом влияние феноменологии). Рассмотрим специфику
полагания «другого я» с учетом влияний методологии аналитической философии
сознания. В частности, три варианта объективизации аналитиками-сциентистами
феномена сознания: как логико-лингвистического конструкта субъективного
психического опыта; как аномальной когниции; как логико-лингвистического конструкта
когнитивного процесса.
Первый вариант ближе прочих к аналитической философии. С точки зрения
аналитической философии сознания, психофизическая проблема исходно связана и, в
сущности, актуальна в связи с вопросом о логически необходимых и достаточных
условиях феномена субъективного опыта сознания как элемента научной картины
мира. Ментальное логически необходимо для субъекта психического опыта или с
позиции субъекта психического опыта. Определенный уровень знаний человека о
реальности представлен высказываниями, фиксирующими непосредственно
феномены. Логичными будут утверждения того, что «я отражаю в своей психике
окружающую обстановку», что «я вижу монитор компьютера» или «представляю сейчас
аудиторию, в которой завтра буду читать лекцию». Здесь необходимо учитывать,
что для аналитиков позиция субъекта психического опыта не является какой-то
реальной психологической структурой, а доступ к этой позиции не является каким-то
реальным психическим процессом. Натурализм как онтологическое доверие к
эмпирическим данным существующих наук о сознании не является необходимой
составляющей методологии аналитиков. Для них реальны логические и лингвистические
84
структуры. Опыт субъекта же — это одно из условий логически непротиворечивой и
осмысленной с помощью языка логики эмпирии.
Как убедиться в том, что «другое я» обладает субъективным осознанием
некоторых реалий, сходных с тем, как это дано «моему я»? Видимо, только таким же
образом, каким «мое я» убеждается в том, что «трава зеленая», а «параллельные
прямые не пересекаются». Если всякое утверждение о реальности доступа «другого я»
к некоторым психическим феноменам («господин X видит зеленую траву так же,
как и я вижу ее зеленой») должно быть «логично» в том же смысле, что и
приведенные выше, то оно должно быть утверждением, необходимым для полагания
реальности «моего я». Или оно должно быть выведено из каких-то других
утверждений. Аналитики могут пытаться пользоваться той или иной возможностью. Таким
образом, «другое я» реально для аналитиков как феномен языковой картины мира,
как логико-лингвистический конструкт. В своих попытках смоделировать условия
субъективного аналитики могут толковать их сколь угодно широко: единственный
сдерживающий фактор — логическая возможность приписать субъективность кому
или чему-либо. На первом этапе знакомства философов-аналитиков с «когнитивной
наукой» данной возможностью они пользовались при первом удобном случае,
соревнуясь в остроумии и испытывая на прочность зыбкие концептуальные каркасы
когнитивистики. Набор знаменитых мысленных экспериментов, уже традиционно
предлагаемых к обсуждению на научных конференциях, где затрагивается феномен
субъективной реальности, — это наследство, оставленное, возможно, и не
желавшими того аналитиками.
В условиях интенсивных эмпирических исследований психофизической
проблемы релятивизм и антиэссенциализм методологии аналитической философии
сознания становятся не актуальными. Когнитивные науки успешно натурализируют
условия доступа к ментальному и позицию субъекта психического опыта (при этом
«доступ» и «позиция» могут приобретать иные, нежели в аналитической
перспективе, феноменологические очертания и онтологический статус), создавая тем самым
предпосылки для научного осмысления феномена сознания или для
объективизации «другого я». Тем не менее, позиции аналитической философии сознания здесь
по-прежнему сильны. Об этом свидетельствует сохраняющаяся в когнитивистике
субъект-объектная модель исследуемых процессов. Ментальные и деятельностные
предикаты, приписываемые не обладающим психикой физическим системам или
даже их элементам, актуализируют в природе субъекта с определенным набором
диспозиций и интенций. Разумеется, этого субъекта когнитивисты не мыслят
реальным. И эту онтологическую позицию они не натурализируют. Когнитивисты
натурализируют позицию эмпирического субъекта, объясняют человеческую
субъективность. Но для этого условно наделяют субъективностью нейроны, мозг, гены,
природу, эволюцию. А далее происходит следующее. Ментальное и субъективность
в натуралистической интерпретации представляются доступными отдельным видам
животных как условный эволюционный «опыт» (субъективность понятна как
эволюционное «завоевание» определенного вида, как результат «деятельности» мозга, как
функциональная «организация» живой материи). Но как ментальное и
субъективность доступны в качестве опыта для отдельных особей этих видов — не ясно. Ког-
ниция вида — ясна и объяснима; субъективно данная когниция особи — аномальна,
поскольку ее с необходимостью не связать ни с определенной адаптивной
стратегией, ни с какими-то условиями среды. Не случайно то, что философы-аналитики,
объективизирующие феномен сознания как логико-лингвистический конструкт,
утверждая ту или иную концепцию психофизического взаимодействия,
апеллируют к примерам-«частным случаям». Полагание «другого я» здесь необходимо только
для учета конкретных случаев демонстрации людьми или животными способности
к восприятию, представлению. «Коллективный» же субъект (популяцию, биоло-
85
гический вид, общество), в принципе, сложно заявить как «другое я». Понимание
«доступа» к ментальному и «позиции» субъекта психического опыта как условных
допущений, чистых абстракций обессмысливает любые эмпирические утверждения
о субъективности «другого я». «Другое я» как когниция (субъективный доступ к
содержанию психического опыта) вполне аномальна. Нормой эта «когниция» является
для аналитиков, представляющих реальность или нереальность феномена сознания
«здесь и сейчас», то есть — независимо от любых теоретических, концептуальных и
эмпирических предпосылок. Когда требуется понять ментальное и субъективное в
отношении опыта человеческого индивида, а не в отношении когнитивной
эволюции, натуралистический подход перестает действовать. Способы понимания
поведения, когнитивной активности животных, существующие в зоопсихологии, этологии,
теории эволюции, позволяют легко понять обусловленность психики и поведения
человека. Но непосредственно они никак их не касаются. Логика и язык,
переводящие феномен сознания в статус актуальной абстракции, «конструкта», тем не менее,
оказываются гораздо более эффективными при концептуальном осмыслении
субъективной реальности. В рамках же сугубо натуралистических проектов более
логичной будет установка на элиминацию субъективно данного сознания как феномена,
реального для науки и концептуальных построений философии. Условно реальный
«сознающий мозг» и условно реальный «сознающий субъект» обладают разным
качеством условной реальности: мозг признают сознающим вынуждено, прибегая к
неустранимому в научном познании метафорическому языку; субъекта признают
сознающим естественным образом, доверяя естественному языку. Но в любом
случае такая когниция, как «я», для мозга ли (другой востребованный когнитивистикой
вариант — полушария мозга), для проходящего ли мимо человека — это когниция
аномальная, не имеющая перспективы быть натурализированной когнитивистикой,
как все прочие.
Правда, большинство когнитивистов и философов, имеющих в виду
аналитическую и натуралистическую методологические установки, на элиминацию не
решаются, пытаясь сохранить и научную веру в «другое я», и веру в факторы, определяющие
субъективный доступ к содержанию психического опыта. Ведь отказ от
реалистической интерпретации условия «доступа» к психическому опыту при необходимой
актуализации этого условия в эмпирических высказываниях о «частных случаях»
ставит аналитиков в довольно сложное положение. С одной стороны, рассмотрение
доступа к позиции субъекта психического опыта как реального доступа к
ментальному, очевидно, неоправданно. Неоправданным является именно натуралистическое
понимание позиции доступа (она есть феномен языка, метафора). Сложно
предположить существование параллельно с эмпирическим субъектом (актуализирующим
«значения» и «смыслы») субъекта «ментального» (актуализирующего когнитивные
структуры, вроде «языка мысли»). Оправдывая такое рассмотрение, нужно,
например, противопоставить субъективное ментальное и «бессознательное» (возможны
и другие варианты: ментальное и субъективную «самость»; ментальное,
опосредованное вербальным языком, и ментальное, опосредованное «языком мысли»). Такие
противопоставления в перспективе ведут к общему вопросу о статусе ментального,
рассматриваемого независимо от субъективного доступа к нему, представленного,
например, как особая «языковая компетенция». Определить этот статус очень
сложно, поскольку ментальное и не представимо в аналитической философии сознания
иным образом, нежели от первого лица. Предполагать ментальное вне «народно-
психологической» перспективы нелогично: мы не имеем оснований непосредственно
утверждать, что ментальное дано машине, камню или даже мозгу, и пока не можем
вывести эти утверждения из каких-то других. Хотя с позиций «народной
психологии» это и не возбраняется, и если субъект желает, то он может для своего удобства
приписывать ментальное кому и чему угодно. Но приписывать не в силу какой-то
86
объективной необходимости, определенной в научных исследованиях, а только
потому, что это естественно для субъекта, что эта возможность дана ему так же, как
возможность приписывать сознание себе самому. В общем, если философ считает,
что ментальное открывается ему в эмпирических высказываниях, то ему просто
необходимо будет отказаться от веры в ментальное бессознательное, в ментальное,
существующее вне самости, от веры в ментальный «язык мысли». Кроме того,
относительно феномена сознания ему нужно будет перейти на позиции солипсизма. И
все это — благодаря тому, что ментальное считается реальным через доступ к нему
посредством языка, благодаря реалистической интерпретации позиции субъекта
психического опыта. Для когнитивистов это допущение, конечно, оказывается
неприемлемым.
Но с другой стороны, реалистическое рассмотрение позиции субъективного
доступа к психическому опыту кажется оправданным. Как и последующее
противопоставление субъективного и ментального. Этой возможностью пользуются философы,
ориентирующиеся на модели, учитывающие данные эмпирических исследований
сознания когнитивными науками. Можно рассматривать необходимость ментального
и с иной точки зрения, нежели точка зрения субъекта психического опыта. Сейчас в
рамках множества направлений исследований сознания в современной философии и
«когнитивной науке» условия возможности ментального можно мыслить достаточно
широко и неопределенно, не сводя их к условию «первого лица» или забывая о
фундаментальном статусе этого условия. Когнитивистами утверждается, что
ментальными состояниями обладают «мозг», «когнитивная система», что сознательной может
быть «информация» или «машина». И это не логически возможные утверждения, а
необходимые эмпирические обобщения. Их трудно интерпретировать в онтологии,
утверждающей или преодолевающей психофизический дуализм, но без них нельзя
продолжить исследования феномена сознания. Потому появляются такие
онтологические кентавры, как «левополутарное сознание», «сознательный мозг»,
«деятельность мозга» и пр. Оправдано ли распространение понятий и принципов, которые
использовались в онтологиях, преодолевающих или утверждающих психофизический
дуализм, на феномены, актуализированные современными исследованиями
психофизических феноменов? Можно полагать, что нет. Соответственно, в современной
философии сознания появилось уже отчасти обязательное требование создания
новой онтологии сознания, ориентированной на новые научные данные о сознании,
мозге, когнитивных процессах. Пока эта революционная онтология не создана,
можно заниматься продвижением субъективности в глубь мозга, продвижением
деятельности в неосознаваемые поведенческие реакции, физиологические и генетические
процессы, актуализируя позицию доступа к психическому. Философы-аналитики,
ориентируясь на какие-либо эмпирически выявленные варианты условий
возможности ментального, сложившиеся независимо от методологической установки
аналитической философии, утверждают силу «логического аргумента» за или против
сознания «другого я», приписывая ментальное машине, животному,
инопланетянину, полушарию мозга и т.п., придавая этому аргументу уже более или менее
принципиальное значение. Эти модели по-прежнему не применимы к изначальным для
аналитической философии логическим основаниям полагания ментального, не
сопоставимы и не связаны с этими основаниями. Возможно, что обращение к моделям
когнитивистики вызвано желанием аналитиков перевести представления о сознании
на новый эмпирический «фундамент». При этом они понимают, что его
реалистическая интерпретация так же условна, как и реалистическая («метафизическая»)
интерпретация феноменов сознания, и главное для них — это описание «поведения» (и
уже не лингвистического) этих новых носителей ментального. Уже нельзя связывать
феномен субъективности только с условием данности «от первого лица». Он, таким
образом, несколько теряет привычную определенность. Но это как раз и интригу-
87
ет: да, и летучая мышь каким-то образом есть «субъективна», и, возможно,
«субъективны» каким-то образом «подсистемы» мозга. Субъективность человеческого
индивида перестают представлять как нечто уникальное в своем роде — она особый
когнитивный феномен, но не единственный в другом роде. Когда оказывается, что
нельзя использовать непротиворечивым образом традиционный для философии
сознания набор категорий и принципов при актуализации результатов эмпирических
исследований психики, мозга, тогда можно решиться сознательно игнорировать
появляющиеся противоречия, двигаясь к революционной онтологии сознания. Или
же — пытаться, редуцируя сознание к когнитивным процессам, интерпретируя его
как эффект функциональной организации когнитивной системы, использовать
традиционные для философии сознания словарь и методы непротиворечивым образом.
Сами по себе высказывания, например, о «кодирующем информацию мозге» или
«адаптирующейся когнитивной системе» — это образные высказывания, метафоры
(не такие прямые, как: «мозг есть компьютер», «человек есть биологическая
машина» — но все-таки — метафоры). Использование метафор в науке на уровне
эмпирических обобщений часто неизбежно. Проблема, которая возникает перед всяким
философом, не видящим никакой аномалии в натуралистическом полагании «другого
я», в том, что он обречен на ожидание «прорыва» в когнитивистике. Его радикально
нелогичный или дипломатично метафорический язык используется «временно». Но
с помощью такого языка философ не может ни задать вопроса коллегам по цеху, ни
ответить на насущные («традиционные») вопросы. Отсюда — эффект потери общего
предметного поля и методологическая проблема соотношения эмпирических
высказываний когнитивистики и традиционного для философии сознания и психологии
«менталистского» словаря. Использование последнего ведет к путанице и
противоречиям в картине сознания, создаваемой аналитиками в опоре на когнитивистику.
Но, тем не менее, такой эклектический подход сегодня популярен среди
представителей аналитической философии сознания.
Сопоставив объяснительный и эвристический потенциал актуальных в
современной философии сознания методологических установок, отметим, во-первых, то, что
они могут быть некритически использованы вместе в рамках одного
исследовательского проекта. Конкуренция методологий пока без видимой возможности их
продуктивного соотнесения обусловлена, очевидно, тем, что понятие «сознание» имеет
несколько значений, то есть его можно формировать относительно качественно
различных уровней бытия и в отношении понятий различных специальных «словарей».
Психофизиология, «когнитивная наука», философия сознания независимо друг от
друга могут определять сущность сознания. Но при этом границы между
содержанием специальных научных, общенаучных и философских понятий «сознание» не
только проницаемы, но и, вообще, пока корректно не установлены. Дело в том, что
пока любое специальное психофизиологическое, либо когнитивистское
определение сознания предполагает неявную (как правило) отсылку к какой-либо совсем не
очевидной для всех онтологии, а то и вообще принципиально игнорирует саму
необходимость онтологического измерения феномена сознания. И наоборот — любая
имеющаяся онтология сознания возможна при условии отсылки к какой-то якобы
очевидной для всех эмпирии, либо к мнимой убедительности конкретной научной
концепции. Масштаб психофизической проблемы в принципе предполагает
множество аспектов ее актуализации.
88
ДУДЕНКОВАИ.В.
Семантика «я» в связи с проблемой
индивидуальной идентичности
В проблеме индивидуальной идентичности абсорбируются самые важные
аспекты и концептуальные схемы mind-body problem. В аналитической традиции
сложился огромный пласт литературы по этой теме, интерес к ней не иссякает, однако,
это небольшое исследование посвящено главным образом рецепции и
рефлексивной критике со стороны континентальной философии основных аналогов и версий
персональной константности, предложенных Амелией Рорти, Дереком Парфитом
и многими другими. Именно такой спорный подход кажется нам продуктивным,
открывающим новые перспективы для таких заброшенных и захламленных в
континентальной философской традиции вопросов, как природа человека и сущность
действия.
Исторически сложилось так, что именно такой ракурс и точка зрения — вопрос
о персональной идентичности — оказывается характерным для англосаксонской
философии способом размышлений о человеческой самости, в обход и за спиной
доминирующей модели cogito, которую традиционно, с легкой руки Хайдеггера,
связывают с Декартом. Коротко предложим понятийное досье тождественности,
чтобы подчеркнуть значительную деталь — расщепление тождественности в двух
смыслах: тождество во времени и тождество по отношению к другому. Со времен
античных философских школ известно, что тождество как понятие, выражающее
связь или отношение и отношение отношений, может использоваться в двух
смыслах. Прежде всего, речь идет о числовой идентичности, которая противоположна
множественности; так, когда мы встречаем вещь, обозначаемую одним и тем же
именем в естественном языке, мы утверждаем, что это одна и та же вещь.
Качественная идентичность означает сходство между двумя вещами, которая позволяет
нам утверждать, что они тожественны. Две эти составляющие часто накладываются
друг на друга, но они не являются взаимно сводимыми, как например, категории
количества и качества. Чаще всего, когда мы говорим о физической личности, мы
используем одновременно два понятия, мы без труда узнаем человека, которого не
видели продолжительное время, связывая наличное восприятие с воспоминанием,
даже если человек достаточно сильно изменился. Именно к такой процедуре
идентификации апеллирует судебная практика и прочие современные
опознавательные системы, связанные с безопасностью. Принцип перманентности во времени,
позволяющий помыслить изменение, призывающий идею неизменной структуры,
предложенную Кантом, дополнил старую метафизическую идею субстанции,
обоснованную, главным образом, критерием подобия. И хотя вся проблематика
личной идентичности обращается в сторону поисков инвариантов, которым придается
значение постоянства во времени, как мы это покажем позднее, не станем забывать
о существовании второго смыслового порядка идентичности — постоянства по
отношению к другому. Поль Рикер предложил удобное различение двух основных
значений идентичности с помощью закрепления за каждым из них соответственно
латинский слов idem и ipse. Мы поддерживаем это важное методологическое
решение и в дальнейшем покажем, что благодаря такому различению возможно
избежать некоторых недоразумений.
Вопрос о личной идентичности, привязанный не к внешнему восприятию
физического присутствия, а с самосознанием воспринимающего субъекта, сталкивается
89
со многими неразрешимыми трудностями и парализующими парадоксами.
Англоязычные философы узнали об этом прежде всего от Локка и Юма.
Локк резюмировал достижения предшествующей традиции, широко
обсуждавшей вопрос идентичности в античных теориях метемпсихоза, в богословских спорах
о личности Христа, в средневековых дискуссиях о всеобщем воскресении, в своей
известной концепции, связавшей личную идентичность и память. В знаменитых
«Опытах о человеческом разумении» Локк распространяет действие рефлексии с момента
на длительность, память предстает как ретроспективное расширение рефлексии в
прошлое, таким образом открывая новый критерий идентичности — идентичности
психической. С этого момента он начинает соперничать с другим критерием —
телесной идентичностью, — с которым традиционно соотносили постоянство
организации, наблюдаемой извне. С момента появления на философской авансцене
психического критерия собрано уже целое досье pazzling case, парадоксальных случаев,
вскрывающих апоретический характер вопроса об идентичности.
Уже в ходе первых дискуссий вокруг memory theory Локка обнаружились
фундаментальные проблемы теории персональной идентичности, которые, вплоть до
настоящего времени, не стали менее острыми. Лейбниц, Батлер и Рид выдвигали против
этой теории следующее возражение: идентичность личности не может быть
выведена из отношений сознания, но сама является их предпосылкой. Одним из главных
взносов в это досье оказался анализ Юма. В «Трактате о человеческой природе» Юм
допускает лишь один критерий идентичности — «одинаковость», переходя в своем
исследовании вещей и одушевленных существ к самости, поскольку, как хороший
эмпирик, требует от каждой идеи впечатления, и, не находя впечатления,
соответствующего идее «я», отказывает ей в существовании. Объясняя иллюзорность
идентичности, Юм, тем не менее, вводит два понятия, которые оставили серьезный след
в последующих дискуссиях и произвели впечатление на Канта, — это воображение и
вера. Воображение оказывается способностью переходить от одного впечатления к
другому и, тем самым, преобразовывать разнообразие в идентичность, а вера служит
скрепляющей фазой, восполняющей дефицит воображения. Далее Юм обращается
к своему основному аргументу, под знаком которого будут развиваться все
дальнейшие дискуссии: «Что касается меня, то когда я самым интимным образом вникаю в
нечто именуемое мной, своим «я», я всегда наталкиваюсь на то или иное единичное
восприятие тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или
наслаждения. Я никак не могу уловить свое «я» как нечто существующее помимо
восприятий и никак не могу подметить ничего, кроме какого-либо восприятия». [2,
с. 345] Уже в рассуждении Юма хорошо заметна следующая странность: кто говорит
о «я», которое неуловимо вне опыта чувств, кто занимается поисками и
удостоверяется, что ничего не нашел? Данный парадокс и станет отправным пунктом этого
аналитического обозрения.
Актуальное состояние вопроса о персональной идентичности прекрасно
охарактеризовано в статье Эрика Олсона, одного из известных современных специалистов,
написанной им для Стэнфордской энциклопедии философии. Он разделяет этот
диспозитив мысли на восемь рубрик: 1. Кто я, иначе говоря, что делает меня
именно этой личностью? 2. Что значит быть личностью? 3. Что позволяет личности
сохраняться от одного мгновения к другому? 4. Каковы доказательства
континуальности личности? 5. Сколько нас, где располагается граница между одной и другой
личностью? 6. Проблема нашей метафизической природы, которая может быть
озаглавлена так: из чего складывается «я» и каков его состав: субстантивный,
процессуальный или событийный? 7. Кем я могу быть, насколько я могу отличаться от
того, что я есть? 8. Каково практическое значение фактов нашей идентичности и
выживания? [3] Замечательно, однако, что все эти направления, по мнению Олсона,
в концентрированном виде содержатся в сюжете о выживании (persistance), то есть
90
здесь производится редукция, сведение двух смыслов идентичности — идентичность
во времени и по отношению к другому, idem и ipse, а также присутствует сложный
вопрос о семантическом смысле понятия «личность» и «ego», который кажется для
Олсона принципиальным. Это вопрос постоянства личности во времени: что во мне
является необходимым и достаточным основанием для того, чтобы «я» сохранялось
во времени, в прошлом и будущем?
Мы оставим в стороне дискуссии по вопросу о том, принадлежит ли лучший
критерий идентичности телесному или психологическому порядку, хотя
сопоставление телесного и психологического критерия стало поводом для возникновения
мощного пласта англоязычной философской литературы. Почти все
предложенные ответы по вопросу о выживании располагаются в градации психологического
или соматического. Для психологического подхода, ближайшим примером
которого оказывается критерий памяти Локка, континуальность психики оказывается
достаточным условием для выживания. И хотя существуют разногласия по поводу
того, какие именно психические функции должны наследоваться, должно ли
сознание подкрепляться физической преемственностью, множество философов с начала
XX века одобрило разные версии психологического подхода. Сторонниками
психологического подхода считаются: Джонстон (1987), Гаррет (1998), Хадсон (2001),
Льюис (1976), Нагель (1986), Нунан (2003), Нозик (1981), Парфит (1971, 1984,
2007), Перри (1972), Шумейкер (1970, 1984, 1997, 1999), и Унгер (1990, гл. 5,
2000). Вторую идею, состоящую в том, что наша самобытность во времени состоит
из некоторой грубой соматической связи, что быть «я» в прошлом или будущем
времени — значит обладать определенной телесной организацией, поддерживают
Айерс (1990), Картер (1989), Макки (1999), Олсон (1997), Ван Инваген (1990),
Уильяме (1957,1970). Гораздо интереснее психологического и соматического подхода
к проблеме идентичности третья позиция, так называемый антикритериализм,
который отказывается принимать важнейшую их предпосылку о необходимости
постановки вопроса об основаниях самобытности личности во времени и утверждает,
что преемственность и непрерывность не являются необходимым и достаточным
основанием для выживания. Единственно правильным и полным ответом на
вопрос выживания является тривиальное утверждение, что человек, существующий
в один момент времени, совпадает с существующим в другой момент времени, если
и только если они являются идентичными (Чизхолм 1976, Суинберн 1984, Мер-
рик 1998, Циммерман 1998). Это утверждение часто сочетается с убежденностью
в том, что проблема идентичности является надуманной и не имеющей
серьезного философского значения. Не разделяя эту последнюю позицию, мы разделяем в
целом скепсис антикритериаризма по отношению к психологическому и телесному
подходу, придерживаясь, однако, других оснований для критики. Во-первых, вслед
за П. Рикером, необходимо заметить, что возможно, сам термин «критерий» в
данной дискуссии употребляется некорректно: «Критерий есть то, что позволяет
отличить истинное от ложного в соревновании между притязанием на истину. Но ведь
вопрос как раз в том, чтобы узнать, одинаково ли самость и тождественность
подлежат проверке ценностными суждениями. В случае с тождественностью термин
„критерий" имеет весьма точный смысл... Можно ли сказать то же самое о
самости?» [4, 160] То есть постановка вопроса о критерии является преждевременной,
поскольку не уяснен вопрос о содержании и смысле понятия «самость». Во-вторых,
недопустима редукция сложной проблемы идентичности, включающая в себя не
только аспект постоянства во времени (idem), но и консистентность самости по
отношению к другому (ipse), только лишь к вопросу о выживании — такое решение
кажется недопустимым упрощением.
Итак, мы охарактеризовали в целом контекст, в котором бытует сегодня в
англосаксонской философской литературе проблема напряженного соотношения между
91
изменениями, единством и континуальностью личности, и показали его
ограниченность. Между тем, в континентальной традиции всвязи с исчерпанностью
знаменитого спора о субъекте, продолжавшегося весь двадцатый век, в философской среде,
инспирированной вопросами, заданными Локком и Юмом, разворачивается
интересная дискуссия по проблеме индивидуальной идентичности. Для этой линии
обсуждения образцовыми оказываются такие философы, как Витгенштейн и Стросон,
и ее характерной чертой становится подчеркивание значения вопроса персональной
идентичности для этической и политической практики.
Итак, из повестки по проблеме идентичности, сформулированной Олсоном,
французские философы выбирают следующие вопросы: является ли слово «я»
фикцией, пустым именем и если нет, то какое содержание стоит за ним; так ли
необходимо рефлексивное отношение к себе, и действительно ли оно сопровождает все наши
чувства и мысли; насколько подходит понятие личности в качестве альтернативы
эгологической традиции философии субъективности? Кажется, эти вопросы,
связанные, в первую очередь, с языком, и способ их обсуждения оказываются более
соответствующими такому стилю мышления, который принято считать аналитическим,
нежели чем пространные размышления об условиях трансплантации мозга. Каждый
из представляемых здесь философов выбирает свою терминологию для постановки
задачи определения семантики ego: «нарративная идентичность» (Рикер), «аттрибу-
тивизм» (Либера), «эгологический тезис» (Декомб) — однако, смысл и характер их
философской работы имеет множество общих моментов.
Во-первых, они исходят из самого узкого смысла, который только можно связать
с понятием идентификации. Идентифицировать что-либо — это значит суметь дать
знать о нем другому, на этом пути важнейшую помощь оказывает анализ Питера
Стросона, его работа «Индивиды», уже ставшая классикой. (Любопытно, что в
библиографии к статье по проблеме идентичности Олсона Стросона Витгенштейн даже
не упоминается). Эта стратегия, общие рамки которой принимаются всеми
перечисленными философами, состоит в выделении среди всевозможных частных
идентификаций — привилегированных партикулярностей, принадлежащих к известному
типу, который Стросон называет «базисными партикулярностями», — поэтому здесь
изначальным оказывается именно понятие личности. Сразу отметим, что трактовка
личности как базисной партикулярности обладает ценным свойством: в ней не
делается акцента на способности личности обозначать себя в разговоре, эта проблематика
с самого начала остерегается сдвига по направлению к частной, а не публичной
самореференции, что привело бы к преждевременному обращению к самообозначению.
Второй удобный и важный момент анализа Стросона состоит в том, что первыми
базисными партикулярностями являются тела. Для понятия личности это имеет
очень большое значение, таким образом, ментальные события, представления или
мысли сразу смещаются с господствующих позиций конечных референтов, как это
было в субъективной традиции. Третье следствие заключается в том, что личность
выражается не только местоимениями первого и второго числа, как это было в случае
с теорией рефлексивного высказывания, — ментальные предикаты приписываются
и тому, кто может быть третьим лицом. Казалось бы, что все преимущества
тождественности предикации—атрибуции очевидны: простым грамматическим анализом
нашего дискурса о личности устраняется гипотеза о двойной атрибуции сознанию и
телу двух рядов предикатов, то есть мы имеем дело с двойной атрибуцией без
двойной референции, два ряда одних и тех же предикатов для одной и той же реальности.
Но теперь становятся очевидны недостатки такого нейтрального подхода к
приписыванию: можно ли считать, что обладание, которое подразумевается притяжательным
местоимением, имеет ту же самую природу, что и обладание логического субъекта
предикатом? Обладание собственным телом по-другому ставит вопрос о
собственности, атрибуция тела выбивается из других типов атрибуции тем, что ее невозможно
92
ни осуществить, ни отменить. Именно в этом пункте теорию Стросона будут
дополнять Рикер, Декомб и Либера.
Еще один важнейший источник для этой дискуссии, если попытаться
охарактеризовать ее в целом, не обращая внимания на разницу в мотивах и методах и даже
в выводах — это Людвиг Витгенштейн, прочитанный его учениками, в частности
Гертрудой Э. Энскомб. Помимо посыла к прояснению языка, который реализуется
не только на традиционном историко-философском материале, но и на достаточно
экзотическом, таком, например, как средневековые теологические трактаты,
заимствуется и аналитический инструментарий, в частности, концепты, отсылающие к
элементарному факту или событию, такие как: «агент», «акт», «действие».
В результате обсуждение проблемы персональной идентичности в современной
франкоязычной философской литературе, о результатах которого, пожалуй,
преждевременно судить, потому что оно как раз в самом разгаре, оказывается весьма
оригинальным: с одной стороны, очевидна его преемственность и связь с
философией субъективности, это хорошо заметно по тому, как, несмотря на всю
радикальность заявлений, в нем не сдают традиционную тему рефлексии, пусть и обыгранную
уже другим языком. С другой стороны, делается ставка на понятие персональное™,
заимствованное из аналитической традиции (справедливости ради надо заметить,
что привлекается и Аристотель, и даже теологические контексты), которое не
дискредитировано критикой философии субъекта и, несомненно, обладает некоторым
эвристическим потенциалом. Поэтому в дискуссиях о существе и смысле
персональной идентичности, провокационном и скандальном для континентальной
философии, этим авторам удается отстраивать собственную, третью линию, не сводимую
ни к философии субъективности, ни к традиционным решениям, наработанным в
англосаксонской традиции с ее обращением к спорным мысленным экспериментам
и редукции множества аспектов проблемы к вопросу о выживании. Данная «третья
линия» сама по себе является важным достижением.
Литература:
1. ЛоккДж. Сочинения: В 3-х т. М., 1985. Т.1.
2. Юм Д. Трактат о человеческой природе. М., 1995. Т.1.
3. Eric T. Olson Personal Identity Stanford Encyclopedia of Philosophy. Режим
доступа: http://plato.stanford.edu/entries/identity-personal.
4. Рикер П. Я-сам как другой. М, 2008.
5. Strawson P. Individuals. Paris, 1973.
6. Anscomb E. Metaphysics and the Philosophy of Mind. Oxford, 1981.
7. Wittgenstein L. Recherches philosophique. Oxford, 1953.
8. A. de Libera Archéologie du suget v.2 La quête de Г identité, Paris, VRIN, 2008.
9. Decombes V. Le complement de sujet. Enquete sur le fait d'agir de soi-même.
Gallimard, 2004.
10. Decombes V., Larmore Ch. Dernières nouvelles du Moi, PUF, 2009.
93
ЗОЛКИНА.Л.
Отечественная натуралистическая и феноменологическая
теория права и современная аналитическая
философия сознания
Современная аналитическая философия тесно интегрирована в
интеллектуальный контекст западноевропейской культуры. Определяя в первый период своего
существования специфику философского мышления англо-саксонского мира,
аналитическая философия оказывает заметное влияние и на развитие философской мысли
стран с континентальной традицией. В России аналитическая философия слабо
связана с отечественной философией, представляя собой некую автономную сферу
мышления. Вместе с тем, можно указать на раздел философского и научного знания,
для которого аналитическая философия в целом и разработки аналитической
философии сознания могут представлять определенный интерес.
На наш взгляд, аналитическая философия сознания, и, в частности, комплекс
концепций Джона Сёрла могут быть использованы для теоретического
обновления и методологической модернизации одного из направлений отечественной
философско-правовой и теоретико-правовой мысли, связанного с развитием идей
одного из крупнейших представителей Петербургской школы права Л.И. Петражиц-
кого. Судьба созданной им психологической теории права была достаточно
драматичной: современники ее встретили с некоторым недоумением. «Психологичность
Петражицкого, — писал известный русский юрист A.C. Ященко, — заключается в том,
что он своеобразную специфическую природу права хочет понять не через изучение
права как объективированного явления, а через чисто психологическое изучение тех
психических переживаний, которые соединяются у человека в связи с правовыми
явлениями. Право изучается не как объективное явление общественной жизни, а как
психическое явление» [1].
Итак, Л.И. Петражицкий создал один из первых в России вариантов мента-
листской, интерналистской теории права. В настоящее время основные
конструкты этой теории можно уточнить либо интерпретировать с помощью теории
Дж. Сёрла. Но представляет ли это предприятие какой-либо интерес, выходящий
за пределы чисто академической дискуссии? На наш взгляд, ответ должен быть
утвердительным.
Суть в том, что отечественная юридическая наука и философия права постоянно
впадала в две крайности: либо «западнически» стремилась возвести в догму
западноевропейские теоретико-правовые представления, либо «славянофильски»
противопоставляла этим представлениям свою версию правовой реальности. Столкновение
западноевропейского формализма и отечественного романтического идеализма в
результате привело к тому, что у нас нет реалистической общей теории права. И, все
же, основы ее были заложены Л.И. Петражицким и его последователями. «На нашем
юридическом факультете, — отмечал И.Л. Солоневич, — подвизался, однако,
профессор И. Петражицкий — творец первой более или менее русской теории права, —
психологической теории» [2].
Следует заметить, что в теории Л.И. Петражицкого нет речи о
славянофильской идеализации отечественной истории, ничего не говорится о миссии русского
народа. Тем более, что Л.И. Петражицкий — ученый польского происхождения и
получал образование в Германии, и часть его работ написана по-немецки. Главная
заслуга Л.И. Петражицкого заключается в том, что он создал теорию права как
94
реального феномена человеческой культуры, ставшую методологической
основой философско-правовых и теоретико-правовых учений ряда деятелей русской
эмиграции. Именно в этом же духе И.Л. Солоневич доказывал, что общественная
жизнь Московской Руси имела правовой (а не моральный, как это принято
отмечать) характер, несмотря на отсутствие юридических факультетов и
многочисленных законов. Именно по пути Л.И. Петражицкого пошли наиболее известные
теоретики права «русского зарубежья» H.H. Алексеев и Г.Д. Гурвич, поместившие
его менталистские идеи в контекст развития европейского философского
интуитивизма.
Так, H.H. Алексеев указывал, что философским источником концепции Л.И.
Петражицкого «является отнюдь не позитивизм и натурализм», а следует «искать
этот источник в тех философских учениях, которые стремятся построить этику на
изучении феноменологического состава актов любви и ненависти» [3]. Г.Д. Гурвич
также видел перспективу интерпретации воззрений Л.И. Петражицкого средствами
феноменологии и «философии жизни». «Метод чистого описания «переживания»,
соответствующего юридическому опыту (метод, который привел Петражицкого,
к открытию эмоциональной интуиции, которой доступны данные права и
нравственности), — писал Г.Д. Гурвич, — в немалой степени приближается как к
методу А. Бергсона...., так и к методу современных немецких феноменологов (Гуссерль,
Шелер и др.)» [4].
Что дает подобная интерпретация, кроме сближения с громкими европейскими
именами? Во-первых, теория Л.И. Петражицкого тем самым помещается в контекст
западноевропейской философской культуры. Метод, о котором говорит Г.Д. Гурвич,
использовался феноменологами для расширения понятия опыта за счет
распространения его за пределы чувственной сферы на сферу духовную. Во-вторых, такая
интерпретация позволила несколько «объективизировать» концепцию Л.И.
Петражицкого и преодолеть стандартные обвинения в ее адрес, а именно, обвинения в
субъективизме, релятивизме и психологизме.
Сторонники феноменологической интерпретации полагали, что
экспериментальная психология Вундта, на которую ссылался Л.И. Петражицкий, страдает
существенными методологическими пороками, которых нет у феноменологии или
«философии жизни». Вера в то, что европейский интуитивизм начала XX в.
манифестирует окончательную философскую истину, сегодня уже не может считаться чем-
то самоочевидным. В результате для преодоления так называемого «психологизма»
Л.И. Петражицкого использовались подходы, которые хотя и решали некоторые
методологические проблемы концепции, но слишком дорогой ценой. H.H. Алексеев и
Г.Д. Гурвич несколько рационализировали психологическую теорию права
посредством иррационализации ее философских оснований: наивный ментализм
экспериментальной психологии уступил место утонченному спекулятивному ментализму
феноменологии и «философии жизни».
Однако подобную цену готовы заплатить и современные отечественные
исследователи. «И тем не менее, представляется, — отмечает известный российский теоретик
права A.B. Поляков, — что взгляд Петражицкого на право только как на психическое
явление не верен. Петражицкий исходил из ложной философской посылки, согласно
которой существуют только две реальности: физическая (материальная) и
психическая. Между тем, со времен, по крайней мере, Платона известен и третий вид бытия,
не совпадающий ни с материальным, ни с психическим бытием. Это мир чистого
смысла, или идей. Признание сферы идеального бытия, как не зависящего от
индивидуального сознания, помогает объяснить, как вообще возможно существование
объективного права» [5].
Подобные предложения, хотя и создают выгодный эвристический контекст
интерпретации взглядов Л.И. Петражицкого, но представляются некоторой онтоло-
95
гической роскошью. Причем, вызывает сомнения не только «третий род бытия»,
но даже и психическая реальность, поскольку психологический реализм нуждается
в дополнительном онтологическом объяснении, по крайней мере, в рефлексивном
осмыслении.
Представляется, что отечественная интерналистская теоретико-правовая
традиция, включая психологическую теорию Л.И. Петражицкого,
феноменологическую концепцию H.H. Алексеева и диалектическую гиперэмпиристскую концепцию
Г.Д. Гурвича, должна интерпретироваться не в контексте интуитивистских течений
начала XX в., а в контексте современных аналитических представлений о природе
сознания, психического и интенциональности. Такая интерпретация позволит
избежать явно иррационалистических мотивов интуитивизма начала XX в. и создать мен-
талистскую теорию права, которая имеет не только глубокомысленно-философский,
но и внятный юридический смысл. Поэтому следует рассмотреть как возможность
модернизации концепции Л.И. Петражицкого, натурализм которой отвергался
интуитивистами, так и возможность натуралистической интерпретации
интуитивистских доктрин H.H. Алексеева и Г.Д. Гурвича.
Как уже указывалось, основой такой интерпретации и натурализации может
служить комплекс теорий Дж. Сёрла, в частности: теории интенциональности,
теории сознания, концепции практической рациональности и теории социальной
реальности. Достоинство этих теорий видится, прежде всего, в том, что они
позволяют сформулировать онтологически и методологически допустимую
концепцию психологического реализма, который может стать фундаментом правового
реализма.
Сравнительно с феноменологическим подходом, аналитический подход имеет
определенные преимущества не только чисто философского плана. Так,
феноменологический подход, представленный, в частности, в современной теоретико-правовой
литературе, дает чисто эйдетическое понимание права, то есть дает раскрытие смысла
права. Достоинства же теории Дж. Сёрла видится в том, что с ее помощью право
можно рассматривать как реальный компонент человеческой деятельности, сохраняя тем
самым идею понимания права как реального феномена, характерную для правовых
реалистов Л.И. Петражицкого и Г.Д. Гурвича. Отличие подхода Дж. Сёрла от чисто
феноменологического подхода заключается в теории интенциональной
каузальности. Суть в том, что каузальность является не просто неким «теневым механизмом»
правоотношений, а, по-видимому, существенно конституирует сам феномен права
как таковой. Чисто феноменологический подход оставляет наше понимание
феномена права недоопределенным в силу самореферентного характера тех ментальных
феноменов, которые конституируют право, однако, не выявляются экспликативным
анализом.
Не вдаваясь в детали, можно привести пример, посредством которого сам
Дж. Сёрл поясняет свою идею. Чтобы нечто считать деньгами или собственностью,
люди, включенные в соответствующие виды деятельности, должны иметь
соответствующие мысли. Термин «деньги» указывает на то, что не только используется, но
и рассматривается в качестве денег. Таким терминам присуще особого рода само-
референтность. Поэтому для огромного числа социальных и психологических
феноменов, понятие, их обозначающее, является составной частью этого феномена. По-
видимому, и право является феноменом, аналогичным «деньгам». Таким образом,
право — это феномен, имеющий существенно ментальный характер, хотя и более
сложный, нежели эмоция, как думал Л.И. Петражицкий, либо специфическая
интуиция длительности, непосредственно воспринимаемая в специфическом правовом
опыте, как полагал Г. Гурвич.
И вместе с тем, оба отечественных теоретика имели некие основания для того,
чтобы реальный феномен права связывать именно с иррациональными ментальны-
96
ми феноменами. Это обстоятельство вызывало некоторые недоумения у юристов,
привыкших к отождествлению правовой реальности с реальностью формально
определенных понятий. Кроме того, обратим внимание на тот факт, что современные
теоретики права даже в учебниках представляют феноменологическую
интерпретацию взглядов H.H. Алексеева как основу современного правопонимания [6]. Но
H.H. Алексеев сознательно указывал на феноменологию лишь как на технический
метод, связывая свои фундаментальные философские воззрения именно с
«философией жизни». Г.Д. Гурвич также тяготел скорее к Бергсону, нежели к Гуссерлю.
Возникает загадка: почему теоретики права, которые вполне отдавали себе отчет в
консерватизме и формалистичности юридического мышления и не стремились
сознательно к эпатажу аудитории, явно предпочитали иррационалистическую
методологию?
На наш взгляд, ответ на этот вопрос связан с признанием самореферентного
характеры правовых феноменов, а теория интенциональности Дж. Сёрла может
рассматриваться как метод выявления компонентов поведения и речевой
деятельности (а новые отечественные теории права не только феноменологические,
но и коммуникативные), которые являются существенно имплицитными. Основа
теоретической реконструкции этих имплицитных компонентов — понятие интен-
циональной каузальности. Именно оно позволяет выявить специфику феноменов
сознания, которая утрачивается при экспликации их пропозиционального
содержания. Например, главная особенность индексальных выражений — это свойство
самореферентности. Его суть заключается в том, что с помощью индексального
выражения показывается отношение указанного этим выражением объекта к
высказыванию самого выражения. Например, выражение «я» указывает на человека,
который его высказывает. Данный анализ не подразумевает, что выражение «я»
синонимично выражению «человек, совершающий высказывание», поскольку индек-
сальное выражение не устанавливает самореферентность, а только ее показывает.
Таким образом, два человека могут произнести одно и то же предложение,
например: «Я голоден», — однако выразить различные мысленные содержания. Как
видим, некоторые формы интенциональности содержат элемент самореферентности,
то есть не только детерминируют свои общие условия выполнения (или обладают
вербализируемым содержанием), но еще и подразумевают (поскольку вербализи-
руются только в результате экспликации) отношения, в которых данные условия
должны находиться с самим интенциональным состоянием. Можно сказать, что
убеждения по своему содержанию не выражаются только словами, так как
включают в себя и невербальные формы интенциональности, например, индексальность
или визуальный опыт.
Л.И. Петражицкий и Г.Д. Гурвич говорили о том, что правовая реальность
является непонятийной реальностью, она проявляется как специфическая
бланкетная эмоция (Петражицкий) или рационализированная интуиция (Гурвич). Однако
подобные решения стали основанием обвинений их в иррационализме. Правовая
реальность не состоит только из понятий или только из к эмоций и интуиции,
поскольку она имеет довольно сложную интенциональную и самореферентную
природу и теория права должна научиться отображать это обстоятельство.
Итак, теория интенциональности Дж. Сёрла предоставляет натуралистическую
стратегию уточнения одного из основных принципов русской теоретико-правовой
традиции, а именно принципа правового реализма. Но этим не исчерпывается
возможности модернизации этой традиции средствами философии Дж. Сёрла. Можно
указать еще на несколько аспектов русских философско-правовых воззрений,
которые существенны для нее, однако, несут в себе мощный романтический и
спекулятивный заряд. Суть в том, что отечественный философско-правовой дискурс имеет
ярко выраженный персоналистический и аксиологический характер. Русская фило-
97
софия права настаивала на идее фундаментальности понятий личности и ценностей
для теории права. Таким образом, в основе правоотношения находится личность,
ориентирующаяся на ценность. «Право..., — писал H.H. Алексеев, — является
определенным уровнем восприятия ценностей. Право есть «интеллектуальный» подход к
ценностям, а не эмоциональный» [7]. «Глубочайшей основой идеи справедливости,
— продолжал он же, — является мысль о том иерархическом порядке, в котором
стоят по отношению друг к другу ценности, — мысль о постепенном их достоинстве, о
возрастающих и убывающих степенях их совершенства. Правильное отношение этих
степеней и есть отношение справедливое» [8]. Для Г.Д. Гурвича, тесно связывавшего
идею права с идеей справедливости, проблема ценностей также имела большое
значение. «Бесспорным является то, — писал он, — что наиболее близки справедливости
нравственные ценности и их высшая ступень — моральный идеал, служащий
критерием иерархии ценностей, а в рамках данной иерархии, наоборот, для проведения
различия между позитивными и негативными ценностями. Следовательно,
предназначение идеи справедливости состоит в уточнении отношений между
справедливостью и моральным идеалом» [9].
Право как ценность с необходимостью связана с идеей субъекта права как
субстанциальной личности, а не как юридической фикции. Здесь H.H. Алексеев
солидаризируется с И.А. Ильиным. «Право и государство, — цитирует H.H. Алексеев
И.А. Ильина, — живут по существу в субъекте права, им, субъектом, его душой, его
духом. Но субъект права — это не только понятие или категория, или абстрактная
точка для умственного приложения полномочий и обязанностей; субъект права —
это прежде всего, духовно организованная душа.... Настоящий, не фиктивный
субъект права способен чувствовать, желать и мыслить предметную цель права и
государства, и потому он переносит эти духовные напряжения свои на самое право, и на
самое государство, и на государственную власть, как на верные и достойные пути к
этой цели» [10].
Нефиктивность субъекта права предполагает онтологию духовного, онтологию
личности, которая открывает дверь скорее религиозно-философскому, нежели
натуралистическому подходу. Таким образом, исходная натуралистическая позиция
Л.И. Петражицкого привела в результате пусть и к глубокой в философском
отношении, однако, явно спиритуалистической теоретико-правовой доктрине,
которая юристами воспринимается в целом скептически. Воспитанные на традициях
юридического позитивизма, юристы, как правило, не рассматривают религиозно-
философские доктрины в качестве приемлемых теоретико-правовых доктрин. Такие
доктрины просто не входят в юридический дискурс и в юридическое образование. В
результате современная юриспруденция в качестве базовой теории пользуется
схоластической юридической догматикой как совокупностью формальных и сущностно-
бессодержательных определений, неспособных отразить современные правовые
реалии. Собственно, именно против подобной ремесленнической практики и боролись
защитники полнокровных юридических концепций Л.И. Петражицкий, H.H.
Алексеев и Г.Д. Гурвич.
На наш взгляд, имеет смысл осуществлять не спиритуализацию теории права,
а натурализацию философии права. Следует указать на основные позиции
философии сознания Дж. Сёрла, которые могут использоваться для подобной
натуралистической модернизации отечественной спиритуалистской теории права. Это
касается, прежде всего, стратегических принципов, а именно идеи сознания, личности и
ценностей. В частности, именно Джон Сёрл выступает против широко
распространенной в аналитической философии неоюмовой концепции личности, причем не
с романтических, а с рационалистических и натуралистических позиций.
Натурализация в данном случае спасает от редукционизма. «Если мои поступки
действительно полностью вызваны моими убеждениями и желаниями, — пишет он, — и я не
98
могу с ними справиться, то у меня нет выбора, а рациональность никоим образом не
может повлиять на мое поведение. Если я нахожусь в тисках причинно достаточных
условий, то нет простора для размышлений и мое действие выпадает из сферы
рациональной оценки» [11].
Сёрл показывает, что объяснение рационального действия, выстроенное как
причинное объяснение, не функционирует. Причин, как правило, недостаточно, чтобы
истолковать действие. И в то же время они полностью адекватны. Чтобы объяснение
было доступно для понимания, следует думать о нем не как о причине,
определяющей ход событий, но констатировать основания, в соответствии с которыми
действовал сознательный рациональный субъект. Этот субъект есть личность. Если же
в качестве деятельного субъекта предстает личность, то вступает в силу множество
других сложных понятий, в частности, понятие ответственности с сопутствующими
понятиями порицания, вины, достоинства, награды, наказания, похвалы и
неодобрения. Именно эти и подобные им понятия конституируют теоретико-правовые
концепции.
Формально считается, что в рациональном действии присутствует активная
личность, но к процессу восприятия не предъявляется такого требования, как
присутствие субъекта или воспринимающей личности. Следовательно, представление
Юма обо мне как о последовательности идей, даже обновленное и включающее в
себя тело со всеми его склонностями, не охватывает всего спектра важнейших
требований рациональной деятельности. Личность не является ни восприятием, ни
объектом для восприятия. Скорее, «личность» — это название той сущности,
которая испытывает свои же действия как нечто большее, чем инертный пучок.
Постулирование личности не требует, чтобы мы как-то воспринимали себя. Наблюдая
что-либо, мы имеем визуальное восприятие. Чтобы объяснить его, мы должны
постулировать точку зрения, к которой привязано это восприятие, хотя сама точка
зрения не является восприятием и сама она не воспринимается. Аналогичным
образом, восприятие свободных действий требует личности, хотя личность не есть
восприятие или объект восприятия.
Но это решение покупается дорого. Если личность не является объектом
восприятия, то, будучи сознательной, она предполагает соответствующую онтологию.
И здесь Дж. Сёрл делает решительный шаг. «Сознательным ментальным
состояниям и процессам, — пишет он, — присуща особая черта, которой не обладают другие
естественные феномены, а именно субъективность. Как раз эта черта сознания и
делает его изучение столь не поддающимся общепринятым методам биологического
и психологического исследования, а также наиболее загадочным для философского
анализа» [12].
Онтология субъективности есть онтология наблюдения, онтология аспектуаль-
ного отношения к миру, которая является основой построения теории ценностей как
основы определения понятия права в отечественной интерналистской теоретико-
правовой традиции.
Конечно, концепцию Джона Сёрла не следует абсолютизировать в качестве
окончательной истины. У нее есть сторонники, есть и противники. Возможно,
проблема личности действительно кажется неразрешимой загадкой для классического
естественнонаучного объективизма. Многие мыслители пытались преодолеть эту
проблему ценой дискредитации науки как таковой и реанимации классической
метафизики, либо «честным» возвращением к христианскому персонализму.
Аналитическая философия сознания, если и не решает проблемы сознания, личности и
свободы воли, то во всяком случае, позволяет отнестись к ним рефлексивно. По крайней
мере, философия сознания Дж. Сёрла позволяет не только обновить концепции
отечественных теоретиков права, но и стимулировать формирование интерналистских
концепций в отечественной гуманитарной науке.
99
Литература:
1. Ященко A.C. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и
государства. СПб., 1999. С. 164.
2. Солоневич ИЛ. Народна монархия. М., 2002. С. 468.
3. Алексеев H.H. Основы философии права. СПб., 1999. С. 135.
4. Гурвич Г Д. Юридический опыт и плюралистическая философия права //
Философия и социология права. Избранные сочинения. Спб., 2004. С. 339.
5. Поляков A.B. Онтологическая концепция права // Право и политика. 2000.
Хоб.С.П.
6. Поляков A.B., Тимошина Е.В. Общая теория права. СПб., 2005.
7. Алексеев H.H. Указ. раб. С. 71.
8. Алексеев H.H. Указ. раб. С. 119.
9. Гурвич Г Д. Указ. раб. С. 127.
10. Ильин И.А. Основные задачи правоведения в России // Собр. соч.: в 10 т. М.,
1999. Т. 9-10. С. 222.
11. СёрлДж. Рациональность в действии. М, 2004. С. 168.
12. Сёрл Дж. Открывая сознание заново. М., 2002. С. 102.
ИВАНОВ Д.В.
Является ли объяснение феноменального
сознания сложной проблемой?
Пытаясь ответить на вопрос о сознании, мы сталкиваемся с вызовом эпифеноме-
нализма. Не вдаваясь в анализ дискуссий сторонников и противников эпифеномена-
лизма, отмечу лишь, что стандартное возражение против этой теории сознания
строится по следующей схеме. Тот, кто стремится показать, какую функцию выполняет в
нашем организме сознание, рассматривает случаи его отсутствия и, отмечая
соответствующие изъяны в поведении человека, делает выводы о том, что привносит в нашу
жизнь сознание. Однако, как продемонстрировал Блок, такой способ рассуждения
является ошибочным.
Ошибка, по мнению Блока, заключается, прежде всего, в том, что рассуждающие
таким образом философы не проводят различие между двумя типами сознания.
Смешение двух видов сознания приводит к тому, что функция одного вида сознания
неоправданно распространяется на весь сознательный опыт, и отсутствие этого вида
сознания принимается за свидетельство того, что субъект находится в бессознательном
состоянии. В результате всего этого действительно сложный элемент психической
жизни может остаться без внимания.
По мнению Блока, чтобы избежать подобного смешения, мы должны выделять
следующие два вида сознания: феноменальное сознание (Phenomenal Consciousness)
и доступное сознание (Access Consciousness). Блок обозначает их как P-consciousness
(Ф-сознание) и A-consciousness (Д-сознание).
Блок следующим образом задает парадигмальные примеры феноменального
сознания:
Мы обладаем Ф-сознательными состояниями, когда смотрим, слышим, нюхаем,
пробуем на вкус, испытываем боль. Ф-сознательные свойства включают такие экс-
периенциальные свойства, как ощущения, чувства и восприятия, но я также включил
бы сюда мысли, желания и эмоции [1, с. 380].
По мнению Блока, феноменальные сознательные свойства должны быть
отличены от когнитивных, интенциональных и функциональных ментальных свойств, т.е.
феноменальное сознание должно отличаться от мыслительной, по преимуществу,
активности, репрезентирующей какие-либо объекты и описываемой в терминах
вычислительных процессов. Как противоположность феноменальному сознанию,
сознание с подобными характеристиками фиксируется Блоком в понятии доступного
сознания:
Состояние является Д-сознательным, если оно достигает уровня, необходимого
для непосредственного контроля за мыслями и действиями. Более детально, некая
ментальная репрезентация является Д-сознательной, если она достигает уровня,
необходимого для беспрепятственного использования в процессе размышления и для
непосредственного «рационального» контроля за действиями и речью [1, с. 382].
Парадигмальными примерами Д-сознания являются мысли, мнения, желания —
т.е. состояния, которые представляют определенным образом какое-либо содержание.
Задав эти два вида сознания, Блок следующим образом демонстрирует те
трудности, с которыми сталкиваются исследователи, пытающиеся выявить основные
функции сознания. Как отмечает Блок, по сути, все теории дают объяснение сознания в
101
аспекте его информационно-процессуальных свойств, т.е. объясняется Д-сознание.
Поскольку этот тип сознания представляется, прежде всего, как процесс обработки
информации, объяснение этого сознания не является сложной проблемой для
различного рода когнитивистских и функционалистких методологий.
В отличие от объяснения Д-сознания объяснение Ф-сознания является
действительно сложной проблемой. Прежде всего, непростой задачей оказывается
определение функций самого феноменального сознания. Пытаясь выявить функции
Ф-сознания, мы смотрим на ситуации дефицита сознания у какого-либо пациента с
тем, чтобы определить, что именно утрачивает этот субъект по сравнению с
нормальным человеком. Однако, как правило, в ситуациях отсутствия Ф-сознания
отсутствует и Д-сознание. В свою очередь, это значит, что мы не можем наверняка утверждать,
что те функции, которые мы приписываем, например, феноменальному сознанию,
действительно принадлежат ему, а не другому виду сознания. Однако, если Блок
прав и мы действительно оказываемся в подобной ситуации, то это значит, что эпи-
феноменализм в отношении феноменального сознания в принципе возможен.
Поскольку Блок отмечает, что оба вида сознания присутствуют и отсутствуют
одновременно, что затрудняет определение функций Ф-сознания, постольку для
обоснования разделения сознания на эти два вида ему необходимо, прежде всего,
продемонстрировать возможность наличия Д-сознания без Ф-сознания. Затем ему
нужно показать, что Ф-сознание не является специальным случаем Д-сознания, т.е.
нужно привести примеры Ф-сознания без Д-сознания. Однако, пытаясь выполнить
первую задачу, т.е. продемонстрировать концептуальную возможность Д-сознания
без Ф-сознания, Блок фактически сталкивается с необходимостью допустить
концептуальную возможность зомби — существ, функционирующих подобно обычным
людям, но лишенных феноменального сознания.
По мнению Фланагана, феномен слепого зрения являются хорошим примером
наличия Д-сознания без Ф-сознания [4]. Фланаган использует для описания этой
ситуации свои термины: информационная чувствительность (informational sensitivity)
и экспериенциальная чувствительность (experiential sensitivity). Например, пациент
со слепым полем зрения, обладая информационной чувствительностью, способен
зарегистрировать присутствие какого-либо объекта в этом поле зрения и дать
правильный ответ. Однако в отличие от обычного человека у него отсутствует
экспериенциальная чувствительность, которая позволила бы ему говорить о том, каково это для
него — воспринимать данный предмет. Можно сказать, что подобный субъект будет
обладать знанием без феноменальной осведомленности о нем. По мнению
Фланагана, такой случай является примером реальной возможности зомби.
Согласно Блоку, такой вывод не справедлив. Дело в том, что в подобных
случаях мы имеем дело с людьми, которые как раз не подобны функционально обычным
людям. Нельзя сказать, что у них отсутствует только феноменальное сознание, как
полагает Фланаган. У них также отсутствует Д-сознание. Фланаган не прав,
отождествляя свое понятие информационной чувствительности с понятием
доступного сознания. Блок не спорит с тем, что, например, пациент со слепым полем зрения
обладает какой-то информацией или информационной чувствительностью. Однако
он не обладает такой информацией, которая позволила бы ему действовать подобно
полноценному человеку, т.е. такая информация для него недоступна. Способность
давать правильные ответы, находясь в простых условиях эксперимента, когда
человека специально просят выбрать из двух вариантов, не свидетельствует о наличии у
него Д-сознания. В ситуации отсутствия подсказки пациент ведет себя как обычный
слепой человек.
Ситуация наличия информационной чувствительности без экспериенциальной
чувствительности не тождественна ситуации наличия Д-сознания без Ф-сознания.
Прежде всего, те два вида сенситивности, о которых пишет Фланаган, не являют-
102
ся двумя видами сознания. Это, скорее, два отдельных когнитивных механизма в
структуре единого сознания. Каждый из этих механизмов выполняет определенную
функцию. Отсутствие одного из них влечет ухудшение функционирования всей
сферы психического. Более того, наблюдая за тем, что изменяется в функционировании
психики в отсутствие, например, экспериенциальной составляющей, мы можем
сказать, какую функцию выполняет этот вид сенситивности.
Таким образом, допустить наличие информационной сенситивности без
экспериенциальной не означает признать возможность зомби. Зомби — это существа
подобные нам во всем функционально, но без феноменального сознания. Это значит,
что феноменальное сознание не является какой-то частью единого сознания, которая
выполняет определенную функцию. Это именно отдельное сознание. Признать его
наличие, т.е. показать возможность Д-сознания без Ф-сознания фактически
означает допустить эпифеноменализм. Именно этой позиции пытался избежать Фланаган,
вводя два вида чувствительности и стремясь показать, что мы можем выявить
функции экспериенциальной чувствительности. Однако, вводя новые понятия, он
фактически начинает рассматривать иную ситуацию, которая не является сколько-нибудь
сложной.
В подобной ситуации оказываются все, кто пытается проинтерпретировать
Д-сознание как отдельный когнитивный механизм. Подобного рода различения
Д-сознания и Ф-сознания Блок называет тривиальными. При такой трактовке этих
понятий объяснение функций Ф-сознания не представляет особой сложности.
Достаточно зафиксировать, что функционально утрачивается в ситуации отсутствия
феноменального сознания.
В каком-то смысле Блок сам способствует подобной тривиализации различения
данных видов сознания, когда указывает на то, что, по его мнению, является пара-
дигмальными примерами Д-сознательных состояний (мысли, мнения, желания).
Чтобы избежать возможной тривиализации вводимого различения, необходимо, на
мой взгляд, представить Д-сознательные состояния просто как репрезентативные
состояния, содержание которых может быть выражено пропозицией. Эти состояния не
обязательно должны быть мыслями, мнениями или желаниями. Любая информация,
даже та, которую несет какое-либо феноменальное состояние, оказываясь доступной
для исполнительной системы, становится Д-сознательным состоянием. В случае с
зомби подобные сознательные состояния будут лишены феноменального аспекта.
Другое, удачное, на мой взгляд, предложение, как избежать тривиализации
различения двух видов сознания, сделал Чалмерс [2]. Чалмерс предлагает так
переопределить Д-сознание, чтобы Д-сознание и Ф-сознание, будучи разными видами
сознания, всегда встречались вместе. Для этого он предлагает рассматривать в качестве
Д-сознательных состояний не ту информацию, которая доступна для управления
мышлением и поведением в данный момент, а любую информацию, в принципе
доступную (available) для управления любым поведением, в том числе рациональным.
Фактически доступность (availability) подобных ментальных состояний при таком
переопределении становится диспозициональным свойством. Д-сознание,
представленное как информационные процессы, в принципе доступные для управления
широким спектром поведенческих реакций, объясняет функционирование всей сферы
психического, а не какого-то одного когнитивного модуля. При таком понимании
Д-сознания выделение двух видов сознания действительно становится
нетривиальным, и, по сути, оно изначально предполагает допущение эпифеноменализма,
которое базируется на представимости Д-сознания без Ф-сознания.
Однако представимо ли такое Д-сознание без Ф-сознания? Иначе говоря,
возможно ли, чтобы мы, полностью описав функционирование всей сферы
психического, тем не менее, упустили феноменальные аспекты психики? Чалмерс
полагает, что представить такую ситуацию значит представить зомби, что, по его
103
мнению, вполне возможно. Блок также допускает концептуальную возможность
Д-сознания без Ф-сознания. Однако он простит представить не зомби, а особых
супер-слепо-зрячих пациентов (super-blindsight), т.е. таких пациентов, которые
не нуждаются в подсказках в виде наводящих альтернативных вопросов для того,
чтобы определить, что находится перед ними. Их способности распознавать
объекты окружающего мира развиты настолько, что они могут ориентироваться в
этом мире подобно обычным людям. Однако при этом они продолжают заявлять,
подобно остальным пациентам со слепым полем зрения, что ничего не видят. По
мнению Блока, представить такую ситуацию не значит признать, что имеются
реальные случаи наличия Д-сознания без Ф-сознания. Однако концептуальная
возможность такой ситуации имеется.
По мысли Блока и Чалмерса, представимость данной ситуации обуславливает
введение понятия феноменального сознания, обозначающего особый вид
сознания, отличный от того, который обозначается понятием доступного сознания. По
сути, здесь предлагается следующее рассуждение формы modus ponens. Если
возможно в принципе полностью объяснить функционирование всей сферы
психического, но при этом не затронуть феноменальные аспекты психики, то данные
аспекты фактически представляют собой особый нефункциональный вид
сознания. Представимо, что полное объяснение психики с точки зрения ее
функционирования может упустить феноменальные аспекты психики, поскольку зомби
представимы. Следовательно, полное описание психики предполагает допущение
существования особого нефункционального вида сознания, каковым является
феноменальное сознание.
Несомненно, что данное рассуждение является правильным, и вывод с
необходимостью следует из посылок. Однако означает ли это, что мы обязаны его
принимать? Я полагаю, что если бы вторая посылка действительно имела бы такую
убедительную силу, которую имеют высказывания, описывающие несомненные
факты, то нам следовало бы принять заключение. Однако то, что утверждается в
антецеденте условного высказывания, не является очевидным. Более того, мы можем
атаковать вторую посылку, отказываясь признавать существование
феноменального сознания. Иначе говоря, против рассуждения эпифеноменалистов мы можем
выдвинуть рассуждение формы modus tollens. Принимая условное высказывание, в
качестве второй посылки мы используем отрицание консеквента этого
высказывания: не верно, что существует особый вид сознания, который был бы необъясним
функционально. Следовательно, не верно, что представима такая ситуация, когда
мы дали бы полное функциональное объяснение всей сферы психических
феноменов, но при этом упустили бы феноменальные аспекты психики. Иначе говоря,
зомби непредставимы.
Как мне кажется, именно такой путь выбирает Деннет, полемизируя с Блоком [3].
Отказываясь принимать феноменальное сознание как особый вид сознания, Деннет
подвергает сомнению представимость зомби, т.е. представимость существ, которые
во всем тождественны обычным людям за исключением того, что у них отсутствует
феноменальное сознание. Подвергая сомнению представимость зомби, он
перекладывает бремя доказательства того, что это представимо, на Блока. По сути, Деннет
спрашивает Блока, как это возможно — представить существо, полностью
тождественное обычному человеку, однако, без феноменального сознания. Что это
значило бы? Кажется, что мы сталкиваемся здесь с какой-то формой бессмысленности.
Например, представим, что супер-слепо-зрячий пациент в подробностях описывает
нам, что видит на экране компьютера букву X, набранную курсивом, шрифт буквы
— Times New Roman, высота — около двух дюймов, цвет — ярко-оранжевый на
голубом фоне и т.д. После всего этого он заявляет, что на самом деле он не видит эту
букву, не воспринимает ее так, как видит на нормальном участке поля зрения, при
104
этом его описание того, как он воспринимает эту букву на нормальном участке
зрения, полностью совпадает с предыдущим описанием. Услышав подобное заявление,
мы, вероятно, спросим себя, что он имеет в виду. В данном случае у нас не больше
оснований доверять сказанному пациентом, чем в случае, когда он стал бы уверять
нас, что обладает феноменальным сознанием, но при этом все, что он мог бы сказать о
воспринимаемом объекте на экране, сводилось бы к тому, что это — X, а не О. Таким
образом, мы не можем принять слова пациента в качестве решающего свидетельства.
Что еще могло бы заставить нас подумать, что у человека отсутствует какой-то вид
сознания, если он говорит, думает, действует, реагирует на окружающий мир, так же
как и обычный человек?
Кажется, мы не можем представить Д-сознание без Ф-сознания. Что насчет
ситуаций наличия Ф-сознания без Д-сознания? Отталкиваясь от схемы,
предложенной Шактером [5], Блок пытается представить наличие Ф-сознания без Д-сознания
как ситуацию, когда информация из блока феноменального сознания не достигает
блока исполнительной системы или способность исполнительной системы
управлять мышлением и поведением в силу каких-либо причин ограничена. Фактически
феноменальное сознание предстает как фоновое сознание. Оставаясь недоступным
для рационального осознания, оно, тем не менее, сознается, более того, оно
насыщает нашу жизнь различного рода оттенками, ароматами, делая наш опыт каким-то,
формируя его качественные аспекты. Если мы согласны, что такого рода сознание
возможно, то, по-видимому, нам следует принять и тезис, что наличие этого сознания
возможно в ситуации отсутствия Д-сознания.
Отвечающая Система
А
Спец.
ï i
Спец.
1 А
i i
Спец.
1 А
i
Л
Спец.
г \
Спец.
i ф
Феноменальное сознание
у
M
А
Исполнительная система
\
'
Процедурная система
Декларативная/
Эпизодическая
память
105
Однако, очевидно, что подобное различие феноменального и доступного
сознания уже не является нетривиальным. Таким образом представленное феноменальное
сознание уже не является эпифеноменом. По сути, оно является такого же рода
информационными процессами, которыми является и доступное сознание.
По мнению Деннета, для объяснения феноменального сознания мы не нуждаемся
в квалитативных понятиях, достаточно использовать такие квантитативные понятия,
как «богатство содержания» и «степень влияния». Иначе говоря, феноменальное
сознание не является особым видом сознания. Вообще, не существует нескольких
видов сознательных состояний. Скорее, состояния сознания следует различать по тому,
какое влияние они способны оказать в системе других ментальных состояний и
насколько богатым содержанием они обладают.
Я полагаю, можно согласиться с Деннетом в том, что вопрос о феноменальном
сознании — это не вопрос о наличии или отсутствии особого вида сознания, а всего
лишь вопрос того, насколько содержательными и влиятельными оказываются
наличествующие ментальные состояния. Однако я предлагаю рассматривать
доступное сознание так, как это делал Чалмерс, т.е. понимая под этим те информационные
процессы, которые находятся в глобальном рабочем пространстве (термин Баарса),
которые обладают диспозициональным свойством быть глобально доступными для
управления широким спектром реакций. Фактически можно представить
феноменальные сознательные состояния как информационные состояния с достаточно
богатым содержанием, достигшие определенного уровня интегрированности с другими
информационными состояниями.
Понимая феноменальное сознание таким образом, мы избегаем картезианского
модуляризма, т.е. мы можем исключить из схемы, используемой Блоком, модуль
феноменального сознания. Фактически это необходимо сделать, если мы
отождествили Д-сознание и Ф-сознание. Ведь на схеме, предложенной Блоком, Д-сознание не
представлено отдельным блоком, поскольку оно характеризуется
информационными связями, устанавливаемыми между остальными блоками единой когнитивной
системы. Как мне кажется, наличие феноменального сознания может быть объяснено
уровнем интегрированности тех процессов, которые имеются в когнитивной
системе. Если взаимодействие информационных процессов вырастает до определенного
уровня сложности, то можно говорить о присутствии феноменального сознания.
Убирая из схемы блок феноменального сознания, мы отводим особую роль в
функционировании когнитивной системы специализированным модулям. Отсутствие
достаточной интегрированности с остальным информационным пространством
содержания, репрезентируемого каждым из модулей, объясняет наблюдаемый в той или
иной области дефицит сознания.
Литература:
1. Block N. On a Confusion About a Function of Consciousness // The Nature of
Consciousness. Cambridge, Massachusetts, 1997.
2. Chalmers D. Availability: The Cognitive Basis of Experience? // The Nature of
Consciousness. Cambridge, Massachusetts, 1997.
3. Dennett D. The Path Not Taken // The Nature of Consciousness. Cambridge,
Massachusetts, 1997.
4. Flanagan O. Conscious Inessentialism and the Epiphenomenal Suspicion // The
Nature of Consciousness. Cambridge, Massachusetts, 1997.
5. SchacterD.L.,McAndrewsM.P.,MoscovitchM. Access to consciousness: Dissociations
between implicit and explicit knowledge in neurological syndromes // Thought
without language. Oxford: Oxford University Press, 1988.
106
ИВАНОВ Е.М.
Сознание и квантовый мир
В данной статье предложено оригинальное развитие идей М.Б. Менского,
изложенных в статье «Концепция сознания в контексте квантовой механики» [1].
Концепция Менского основана на многомировой интерпретации квантовой механики,
изобретенной еще в 50-х годах американским физиком Хью Эвереттом [2] в качестве
средства преодоления концептуальных трудностей в основаниях квантовой
механики, возникающих в связи с постулатом редукции волновой функции.
Парадоксальность процедуры редукции заключается в том, что она некоим
образом не может быть получена как результат шредингеровской эволюции вектора
состояния как исходной системы, так и объединенной системы, состоящей из
квантовой системы и измерительного прибора. Измерение с физической точки зрения есть
взаимодействие квантовой системы с измерительным прибором, и как таковое оно,
конечно, может быть описано с помощью уравнения Шредингера. Пусть прибор до
измерения находится в квантовом состоянии |Р>, а измеряемая квантовая система в
суперпозиционном состоянии |Ф> = ct^,> + с2|ф2> (где |ф,> и |ф2> — собственные
функции оператора измеряемой величины). Тогда состояние совместной системы
«квантовый объект + прибор» до измерения представляется произведением: |Р>|Ф>
= |Cj^j> + с2|ф2>||Р>. После взаимодействия, в силу линейности шредингеровской
эволюции, мы получим суперпозицию, описывающую совместное состояние
квантовой системы и прибора: |G> =с1|ф1>|р1> + с2|ф2>|р2>, где \р> и |р2> — состояния
прибора после измерения, означающие, соответственно: «прибор показал значение
р,» и «прибор показал значение р2». Т.о., после взаимодействия с квантовой
системой прибор также переходит в состояние суперпозиции, что противоречит тому
очевидному факту, что, посмотрев на показания данного прибора, мы всегда
находим его каком-то определенном состоянии: либо \р>, либо |р2>. Ситуация не
меняется и в том случае, если мы попытаемся учесть также и взаимодействие системы
«объект+прибор» с человеком-наблюдателем, который считывает показания
данного прибора. Квантовомеханический анализ показывает, что, как только наблюдатель
видит показание прибора, он также переходит в суперпозиционное состояние и,
следовательно, не способен однозначно определить, в каком из двух альтернативных
состояний находится прибор. Все это явно противоречит здравому смыслу и требует
объяснения.
Оригинальное решение проблемы измерения дает многомировая интерпретация
квантовой механики Эверетта. По сути, она основана на буквальном истолковании
квантовомеханического описания взаимодействия квантовой системы, прибора и
наблюдателя. Результатом этого процесса является суперпозиционное состояние
вида: с1|ф1>|р1>|^> + с2|ф2>|р2>|г2> (где |f,> и |f2> — альтернативные состояния
наблюдателя), которое буквально означает, что субъект с вероятностью |cj2 наблюдает
величину Pj, характеризующую состояние прибора после измерения, и с
вероятностью |с2|2 — величину р2. В силу линейности уравнения Шредингера никакой
физический процесс не способен мгновенно уничтожить одну из компонент суперпозиции,
оставив неизменной вторую. Следовательно, если мы считаем квантовую механику
полной и замкнутой теорией, мы должны признать, что обе компоненты
суперпозиции продолжают существовать и после измерения. Эверетт интерпретирует эту
ситуацию следующим образом: никакой редукции волновой функции в процессе
измерения не происходит, но происходит «расщепление» Вселенной на два
экземпляра, которые тождественны во всех отношениях, за исключением считываемых
107
субъектом показаний прибора, регистрирующего результат данного эксперимента.
Во Вселенной1 он видит значение рр а во Вселенной2 — значение р2. Это означает,
что и субъект-наблюдатель «расщепляется» два экземпляра («двойника»), которые
одинаковы во всех отношениях, за исключением того, что первый «двойник»
обнаруживает себя во Вселеннойj и наблюдает показание прибора р1? а второй
«двойник» — во Вселенной2 и, соответственно, наблюдает р2
Уже в теории Эверетта сознание оказывается тесно связанным с процессом
селекции элементов квантовой суперпозиции. Именно расщепление сознания ведет к
видимому эффекту «редукции» волновой функции: мы видим вполне определенный
результат измерения именно потому, что наше сознание расщепилось вместе со
Вселенной и способно видеть только одну из компонент исходной суперпозиции.
Однако в этой теории не ясно, что представляет собой сознание само по себе. Менский [1]
делает следующий, вполне логичный шаг и постулирует, что сознание — это и есть
не что иное, как сам «процесс разделения квантового состояния на компоненты». В
частности, он пишет: «Способность человека (и любого живого существа),
называемая сознанием, — это то же самое явление, которое в квантовой теории измерений
называется редукцией состояния или селекцией альтернативы, а в концепции
Эверетта фигурирует как разделение единого квантового мира на классические
альтернативы» [1, с. 426].
В целом, принимая в общих чертах эту идею о связи сознания с процессом
«селекции альтернатив», мы, тем не менее, полагаем, что нет никакой необходимости
непременно связывать ее с эвереттовским расщеплением Вселенной на «одинаково
реальные» дубликаты и, тем более, с расщеплением субъекта на множество
«одинаково реальных» двойников. Оба эти положения не только не являются
необходимыми, но и влекут ряд затруднений, от которых, однако, можно легко избавиться, если
представить процесс «селекции альтернатив» несколько иначе.
Отметим вначале очевидные недостатки эвереттовской интерпретации процесса
измерения. Начнем с тезиса о «расщеплении» Вселенной на множество
«дубликатов», каждый из которых соответствует одному из членов суперпозиции состояния
исследуемой квантовой системы. Во-первых, сама идея, что Вселенная как целое
расщепляется на множество «одинаково реальных» дубликатов только из-за того,
что я произвел какие-то эксперименты с приборами и микрообъектами, кажется
совершенно фантастической. Каким образом мои столь ничтожные действия могли
произвести столь грандиозный по масштабам результат? Этот недостаток отмечает,
в частности, и Менский. [1, с. 424]. Еще большие проблемы порождает идея
«расщепления» субъекта-наблюдателя на множество двойников, каждый из которых
обнаруживает себя в одной из «параллельных Вселенных». Мы должны в этой
ситуации либо признать абсурдную идею возможности «раздвоения «Я»» —
возможности существования двух не связанных друг с другом отношением единства
сознания индивидов, имеющих одно и то же «Я», либо признать, что малейшее изменение
в моем восприятии способно разрушить себетождественность моего «Я». И то, и
другое представляется контринтуитивным. Таким образом, мы должны отказаться
от признания существования и множества Вселенных (Мультиверса), и
«множественной личности», т.е. должны признать, что «в действительности» существует
только одна Вселенная и каждый человек существует лишь в виде одной
единственной персоны.
Как этот вывод совместить с идеей, что функция сознания совпадает с функцией
«селекции альтернативы» в квантовом измерении? Ясно, что селекция альтернатив
неразрывно связана с чувственным восприятием этих альтернатив. Сознание
выбирает именно то, что мы чувственно воспринимаем. И наоборот, то, что выбирает наше
сознание в процессе селекции альтернативы, — это и есть то, что мы воспринимаем.
Отсюда естественно сделать вывод, что выбор альтернативы и чувственное восприя-
108
тие — суть одно и то же. Куда же в таком случае деваются другие альтернативы —
которые мы не воспринимаем? Они никуда не деваются, с ними ровным счетом ничего
не происходит. Они остаются там, где они и были — в составе изначальной
суперпозиции.
Здесь уместно вспомнить о классической борновской «вероятностной»
интерпретации вектора состояния. Согласно буквальному пониманию этой
интерпретации, квантовое состояние до измерения описывает лишь распределение вероятности
получить те или иные результаты измерения определенной физической величины.
Нет оснований думать, что эта величина существуют в действительности как что-то
определенное до того, как мы произвели измерение. Более того, такое
предположение ведет к противоречию с формализмом квантовой механики. Следовательно, до
измерения квантовая система существует лишь в виде совокупности «сущих
возможностей» (потенций), и только измерение переводит одну из этих возможностей в
действительное, актуальное состояние.
Актуализация связана с наблюдением, а наблюдение всегда сопряжено с
чувственным восприятием. Поэтому мы вполне законно можем предположить, что
актуализация и чувственное восприятие — суть одно и то же. Восприятие переводит
одну из компонент суперпозиции в акт, тогда как все остальные (невоспринимае-
мые) компоненты суперпозиции по-прежнему пребывают там, где они и были, — в
сфере потенциального бытия. При этом восприятие (актуализация) никакого
физического воздействия на вектор состояния не оказывает, в том числе, и на ту
компоненту, которую она актуализирует. Актуализация (т.е. «чувственное осознание») как
бы просто «помечает» ту или иную компоненту суперпозиции, что никак не влияет
на физическое состояние квантовой системы, на эволюцию ее квантового состояния,
но, однако, влияет на последующие актуализации. Все выглядит так, как если бы мы
при расчетах просто отмечали маркером ту или иную компоненту суперпозиции, что
никак не влияло бы на дальнейшие расчеты, но существенно влияло на последующие
делаемые нами пометки.
Для того чтобы получить реалистическую теорию квантовых измерений, мы
должны наложить на процессы актуализации («маркирования»), по крайней мере,
два условия: самосогласованности и интерсубъективности. Условие
самосогласованности требует, чтобы каждая последующая актуализация согласовалась с
результатами предыдущих актуализаций. Например, если в первом измерении (над одной и той
же квантовой системой) актуализация «пометила» («маркировала») компоненту ф1
(что соответствует в нашем примере восприятию наблюдаемой р{) и, соответственно,
не «маркировала» компоненту ф2, то в следующем измерении может быть
«маркирована» только та компонента новой суперпозиции, которая эволюционно происходит
от «маркированного» состояния фг но никогда не будет «маркирована» какая-либо
компонента, которая происходит из ранее «немаркированного» состояния ф2, хотя ее
«потомки» никуда не исчезают и на равных правах с «потомками» ф1 присутствуют
в итоговой суперпозиции. Собственно, именно это условие самосогласованности и
порождает иллюзию «редукции» вектора состояния: поскольку «не маркированные»
компоненты суперпозиции никогда не дают «маркированных» «потомков», то
соответствующие компоненты и их «потомки» никогда не станут объектом восприятия и,
следовательно, ими можно попросту пренебречь.
Условие интерсубъективности требует, чтобы результаты восприятия разных
субъектов были взаимно согласованы. Т.е. если я в процессе квантового измерения
увидел, что прибор показывает значение р{ (и, следовательно, актуализировалось
состояние ф1}, то то же самое увидит и мой приятель, который наблюдает за моими
экспериментами. Таким образом, все актуализации состояний квантовой
Вселенной взаимно согласованны, что создает общий для всех интерсубъективный
«видимый мир».
109
Т.о., наша концепция существенным образом отличается от теории Эверетта-
Менского. Во-первых, в нашей модели ничего не расщепляется: ни Вселенная, ни
наблюдатель. Во-вторых, в концепции Эверетта-Менского каждое наблюдение
«выделяет» некую «классическую альтернативу», описывающую состояние
Вселенной в целом. В нашей модели, поскольку актуализация совпадает с чувственным
восприятием, достаточно лишь перехода в «актуальный план бытия» физического
состояния той части мозга, которая отвечает за сенсорное восприятие («сенсориу-
ма»). Следовательно, каждое измерение фиксирует не «состояние Вселенной», а
лишь частное, привязанное к определенному субъекту «состояние восприятия
Вселенной», представленное в «сенсориуме». Заметим, также, что если никакое
наблюдение не производится, то нет смысла описывать квантовое состояние в виде
той или иной суперпозиции. Суперпозиционные состояния имеют смысл только по
отношению к тем или иным видам измерений — как результат разложения данного
квантового состояния по собственным векторам оператора измеряемой величины.
Т.о., вместо Мультиверса (совокупности параллельных Вселенных) мы имеем
просто квантовое состояние Вселенной, описываемое некоторым вектором состояния.
Если представить, что это квантовое состояние Вселенной определено в каждый
момент времени, то соответствующий «всевременный» вектор состояния будет
описывать все возможные (физически допустимые) результаты любых возможных
измерений, осуществляемых в любые моменты времени (Универсум физически
возможного).
Поскольку этот «всевременный» вектор состояния Вселенной представляет
собой некую себетождественную стационарную структуру, его можно уподобить как
бы кристаллу, в котором изначально «записаны» любые возможные «восприятия
Вселенной». Назовем эту структуру «Квантовый кристалл». Процесс актуализации
(восприятия) можно представить, в таком случае, как некую «волну возбуждения»,
которая распространяется внутри Квантового кристалла вдоль временной оси и
движется при этом как совокупность «точек» (каждая из которых представляет
индивидуальное сознание), которые перемещаются не хаотично, а по неким
самосогласованным и взаимосогласованным траекториям и при этом никакого воздействия на сам
Квантовый кристалл не оказывают.
Ясно, что сознание должно выполнять какую-то полезную для его носителя
работу, осуществлять какие-то важные функции. Интуитивно кажется очевидным, что
сознание — это и есть то во мне, что воспринимает, мыслит, понимает и принимает на
основе понимания и осмысления воспринятого те или иные поведенческие решения.
Однако выше мы, вслед за Менским, связали процесс осознания исключительно с
актуализацией квантовых альтернатив. При этом действие сознания сводится только к
селекции элементов квантовой суперпозиции состояний человеческого мозга,
выделению («маркировке») одного из элементов этой суперпозиции и его актуализации
(восприятию). В силу требования самосогласованности, последующие актуализации
зависят от предшествующих, что и создает иллюзию «редукции состояния». Т.о.,
действие осознания сводится к редукции состояния. Но редукция, согласно принципам
квантовой механики, осуществляется случайным образом (с учетом весовых
коэффициентов, приписываемых членам суперпозиции). Тогда получается, что функция
сознания, образно говоря, сводится к «бросанию игральных костей» и затем —
«маркировке» случайным образом выбранного элемента суперпозиции. Ясно, что этого
не достаточно, чтобы утверждать, что сознание «что-то осмысляет», «понимает» или
«принимает решение». Конечно, и такая примитивная функция «случайного выбора
компоненты суперпозиции и редукции остальных членов», как заметил Менский [1],
также весьма полезна для живого организма, поскольку она (в силу условий
самосогласованности и интерсубъективности) ведет к стабилизации и преемственности
видимой картины окружающего мира.
по
Если сознание действительно является субъектом осмысления, понимания и
принятия решения, то оно должно не просто «бросать кости» и «маркировать»
выбранное состояние (переводя его в чувственно воспринимаемое состояние), но
должно быть способно также и осуществлять селекцию состояний осознанно, разумно и
целесообразно. Если такие разумные и целесообразные выборы отнести к процессу
чувственного восприятия окружающего мира, то мы приходим к весьма
фантастической гипотезе, что сознание способно целенаправленно влиять на выбор
окружающей нас реальности.
Но функция сознания, очевидно, не сводится к функции восприятия. Сознание
не только воспринимает, но и понимает воспринятое и на основе этого понимания
принимает осознанное поведенческое решение. Естественно предположить, что если
в акте чувственного восприятия внешнего мира выбор члена суперпозиции
осуществляется чисто случайно (в соответствии с предсказаниями квантовой физики), то в
процессе восприятия собственного поведенческого решения выбор актуализируемой
компоненты суперпозиции происходит уже «осознанно», т.е. разумно,
целесообразно, учитывая возможные последствия данного выбора и т.д. Выбор осуществляется
на основе понимания воспринимаемой информации и оценки значимости
предполагаемого действия. При этом вероятность актуализации (восприятия) той или иной
компоненты суперпозиции уже, очевидно, не будет целиком определяться
предсказаниями квантовой механики (поскольку селекция альтернатив в данном случае
осуществляется осмысленно и целесообразно, а не случайным образом). Действие
механизма восприятия «принятых решений» (в отличие от механизма восприятия
внешнего мира) будет, таким образом, создавать иллюзию нарушения законов
физики, которое наблюдатель может истолковать как результат воздействия на мозг некой
сторонней «силы», существенно изменяющей предписываемое квантовой механикой
распределение вероятностей. Подчеркнем, что это «смещение вероятностей» будет
происходить лишь в восприятии субъекта (а также в восприятии других субъектов —
в силу условия интерсубъективности), но не будет оказывать никакого воздействия
на реальные физические процессы.
Получается, что всякое наше действие, которое представляется нам
осознанным и разумным (производится именно нашим «Я», а не телесной автоматикой),
является таковым лишь в нашем восприятии. Чисто физически наше тело
«осуществляет» (в потенциальном плане, конечно) сразу все действия (и разумные и не
разумные), которые ему предписывают законы квантовой физики. Например, если
в меня летит камень и я осознанно уклоняюсь от столкновения с ним, то это
действие чисто физически существует в составе суперпозиции с другими возможными
действиями, часть которых менее разумно и ведет к повреждению моего
организма. Однако мое сознание чувственно воспринимает только то действие, которое
представляется мне наиболее осмысленным и целесообразным. В силу же условия
самосогласованности только это действие будет зафиксировано в памяти, а также в
силу условия интерсубъективности — зафиксировано в восприятии и памяти
других субъектов.
Предложенная концепция «сознания в квантовом мире» разрешает основные
концептуальные проблемы, которые возникают как в связи и анализом
психофизического отношения, так и в связи с проблемой измерения в квантовой механике. Анализ
проблемы измерения ведет к двум противоречащим друг другу выводам:
1. Сознание (наблюдателя) неизбежно должно учитываться в физической
картине мира;
2. Сознание не может быть описано и объяснено с помощью математического
аппарата квантовой теории.
К аналогичному парадоксу ведет и анализ психофизического отношения. Здесь
мы также получаем противоречие:
111
1. Сознание должно действовать в физическом мире;
2. Физический мир причинно замкнут (в силу действия законов сохранения), и,
следовательно, воздействие сознания на физические процессы невозможно.
Оба этих противоречия в нашей модели легко разрешаются. Сознание не
описывается в рамках физического формализма, но оно должно учитываться при анализе
чувственного восприятия физической реальности. Сознание не действует на
физические процессы, но, селективно действуя на процесс восприятия физической
реальности, создает иллюзию психофизического взаимодействия. Всякое действие сознания
в мире сводится лишь к выбору и актуализации тех компонент «Квантового
кристалла» («Универсума физически возможного»), в которых это действие уже физически
(потенциально) осуществлено. Например, мое сознание не действует на мою руку,
набирающую данный текст, но лишь актуализирует ту часть Универсума
возможного, в которой я уже заранее «изображен» набирающим этот текст. Сознание просто
выбирает для восприятия ту часть реальности, в которой мое тело осуществляет
желаемое мною действие.
Литература:
1. Менский М.Б. Концепция сознания в контексте квантовой механики. УФН.
175 (4), 413-435 (2005).
2. Everett H. Rev. Mod. Phys. 29,(454). 1957.
КАПИТОНОВА Т.А.
Методология коннекционизма
и проблема имитации ментальных феноменов
искусственными нейронными сетями1
В искусственном интеллекте существуют два основных подхода к имитации
ментальных феноменов: структурный и функциональный. Структурный подход
наиболее ярко представлен коннекционистской2 методологией, связанной с
использованием искусственных нейросетей для динамической имитации когнитивных
процессов. Основополагающей для коннекционистской методологии является идея
моделирования нейронов довольно простыми автоматами. В рамках этой модели
вся сложность мозга и гибкость его функционирования определяется связями
между нейронами. При этом постулируется, что широкие возможности систем связей
компенсируют упрощенность элементной базы и повышают надежность системы.
Коннекционистская парадигма, позволяя перебросить концептуальный мост между
микроскопическим уровнем нейронов мозга и макроскопическим феноменом
сознания, предоставляет исследователям многообещающий инструментарий для
развития когнитивных наук.
Философско-методологические основания традиционного подхода к
моделированию ментальных феноменов берут свое начало в направлении функционализма,
игнорирующем принципы физической реализации функции и выдвигающем на
первый план функциональные отношения в системе. Целью функционального
моделирования выступает достижение одинаковой реакции компьютерной модели и
человека, в то время как моделирование механизмов или алгоритмов мышления
отодвигается на второй план. При этом критерий выбора применяемых для достижения
цели методов и моделей формулируется, исходя из сравнения результатов
функционального моделирования с результатами решения тех же интеллектуальных задач
человеком. Классическим примером данного критерия может выступить тест
Тьюринга на лингвистическую компетентность.
В свою очередь, в коннекционизме представлена идеология бионической
парадигмы, объединяющей в своих рамках, наряду с нейронными сетями, методы
эволюционного моделирования (например, генетические алгоритмы, клеточные
автоматы, фрактальные структуры) и моботицизм. Во главу угла
коннекционистской методологии поставлен принцип структурной доминанты, согласно
которому функция системы является вторичной и определяется ее структурой. При этом
реализация в технических устройствах таких способностей мозга, как
адаптивность, обучаемость, ассоциативность, самоорганизация, большая вычислительная
мощность, надежность функционирования и т.п., предполагает имитацию
структуры, а также принципов представления и обработки информации мозгом. Таким
образом, исходной целью коннекционизма выступает как можно более точная
имитация структуры, принципов представления и обработки информации мозгом
для достижения когнитивных способностей, демонстрируемых биологическим
прототипом. Критерием выбора применяемых для достижения цели методов и
моделей является, в конечном счете, их нейрофизиологическая и биологическая
адекватность.
1 Работа выполнена при поддержке БРФФИ, договор № Г09М-051 от 15.04.2009.
2 Термин «коннекционизм» является производным от английского «connection» — связь,
соединение.
из
Направление функционального моделирования в традиционном
искусственном интеллекте дополняется так называемой компьютерной метафорой,
интерпретирующей когнитивные процессы с позиций критерия эффективной
вычислимости. В данном контексте познавательные процессы представимы в виде
совокупности эффективно вычислимых функций, т.е. функций, для которых
существуют алгоритмы, вычисляющие их за конечное число шагов, используя,
скажем, универсальную машину Тьюринга. Таким образом, компьютерная метафора
состоит в проведении аналогии между познавательными процессами и
переработкой информации в универсальном вычислительном устройстве. В рамках данной
аналогии познание понимается как обработка информации с целью создания
внутренних моделей мира и их преобразования в соответствии с требованиями
конкретной задачи.
В свою очередь, в коннекционистской методологии при трактовке природы
познавательных процессов имеет место другая расстановка акцентов: вместо
компьютерной метафоры используется метафора работы мозга как ориентир для
создания нейроморфных вычислительных устройств. Коннекционизм заменяет
вычислительно-репрезентационный подход к познавательным процессам,
свойственный функциональному моделированию, на динамически вычислительный.
Таким образом, манипулированию символами и принципу эффективной
вычислимости предложена альтернатива: нейросетевая динамическая обработка информации
на основе принципа эмержентной вычислимости.
Одно из фундаментальных положений функционального моделирования
выражается в виде требования максимальной формализации и точного представления
знаний на основе логических и синтаксических манипуляций над символьными
репрезентациями. При этом постулируется принципиальная возможность
моделирования интеллектуального поведения через использование логических и
синтаксических манипуляций над символами. Чаще всего для моделирования познавательных
процессов используются предикативные модели представления знаний. В этом
случае стандартная модель познавательного процесса представляет собой логическое
манипулирование внутренними репрезентациями, в качестве которых могут
выступать фреймы, планы и сценарии и т.п. Таким образом, внутренние репрезентации
являются символьными структурами, которые характеризуются семантической
значимостью, а познавательные процессы трактуются как синтаксические манипуляции
над данными структурами.
В свою очередь, коннекционизм предлагает новый подход к воспроизведению
механизмов представления информации в мозге, разрабатывая распределенную версию
ментальных репрезентаций. В ее рамках формирование внутренних репрезентаций
связывается с распределенными нейросетевыми паттернами активности и их
динамикой. Композициональному характеру семантики классицистов коннекционисты
противопоставляют семантически не значимый характер отдельных нейронов и
отсутствие семантически значимых составляющих в распределенных паттернах
нейронной активности. Таким образом, коннекционизм предлагает новое видение ре-
презентационных процессов, отказываясь от классической трактовки ментальных
репрезентаций как символьных в пользу субсимвольного, распределенного варианта
репрезентаций и заменяя статические, логические операции с
квазилингвистическими последовательностями на динамическую, чувствительную к структуре обработку
информации.
На аппаратном уровне функциональное моделирование представлено фон
неймановской компьютерной архитектурой с использованием последовательной
и алгоритмизированной обработки информации. К числу определяющих
характеристик фон неймановской компьютерной архитектуры относятся: необходимость
программной алгоритмизации предписываемых вычислительной машине дей-
114
ствий, использование четко определенного формата данных, невысокая
надежность функционирования, адресное кодирование данных в памяти
вычислительной машины и т.п.
В свою очередь, аппаратное обеспечение нейросетевого моделирования
характеризуется высокой степенью эффективного параллелизма вследствие использования
нейронной параллельной архитектуры. Одна из определяющих характеристик
данной архитектуры — отсутствие программной алгоритмизации предписываемых
нейронной сети действий вследствие наличия процедуры обучения, позволяющей сети
адаптироваться к данным обучающей выборки. Для нейросетевого моделирования
познавательных процессов характерна также аналоговая распределенная
обработка информации массивно параллельным образом при высокой взаимосвязанности
элементов. Кроме того, на смену адресному кодированию данных приходит широкое
использование структур ассоциативной памяти с адресацией по содержанию.
Следует также отметить, что, в противоположность фон неймановской компьютерной
архитектуре, нейросетевая параллельная архитектура характеризуется повышенной
надежностью и устойчивостью функционирования вследствие возможности
структурной самоорганизации нейронной сети.
Проблема имитации структурной и функциональной организации мозга в коннек-
ционисткой методологии.
На сегодняшний день коннекционистская методология ориентируется на
разработку аналогии в области механизмов представления и обработки информации
между моделями когнитивных процессов и их прототипами. В частности, в коннек-
ционистких моделях учтены следующие принципы и механизмы представления и
обработки информации, свойственные информатике мозга: малая глубина
информационных процессов в сочетании с их высокой параллельностью, совместное
использование систем параллельной и последовательной обработки данных,
распределенный характер хранения информации в мозге, аналоговые представления и обработка
информации (определяющие помехоустойчивость и надежность нейронных
структур мозга, а также размытый, неточный характер хранимой информации), наличие
структур ассоциативной памяти с адресацией по содержанию, принцип контекстно-
сти хранения информации, наличие механизмов обнаружения сходства,
самоорганизация — и ряд других свойств [1].
В то же время, исследователи часто указывают на недостаточную степень
воспроизведения особенностей структурной и функциональной организации мозга в кон-
некционистких моделях. Основной мишенью критиков выступает чрезмерная
упрощенность данных моделей, зачастую игнорирующих нейрофизиологические данные,
касающиеся структурной и функциональной организации мозга [2].
В частности, ряд исследователей придерживается того мнения, что важные
особенности реального нейрона как элемента структурной организации мозга и
функциональной единицы нейроинформационной обработки не отражены в достаточной
степени в коннекционистской методологии, использующей слишком упрощенную
схему функционирования искусственного нейрона Мак Каллока-Питтса. В числе
приводимых ими аргументов указываются следующие: в данной модели не
учитываются задержки во времени, оказывающие значительное влияние на динамику
биологического прототипа; за рамки модели вынесена синхронизирующая функция
биологического нейрона и т.д. [3]
По мнению критиков, слишком упрощенная модель нейрона дополняется также
малой рекурсивностью нейросетевых моделей когнитивных процессов;
биологически маловероятными комбинациями возбуждающих и ослабляющих связей;
нереалистичными обучающими алгоритмами, обособленными от общего осмысления
работы нервной клетки и часто игнорирующими важную роль молекулярных
механизмов в биологическом обучении. Кроме того, коннекционистские модели ког-
115
нитивных процессов не имеют аналогов таким элементам, как нейропередатчики и
гормоны, оказывающим значительное влияние на процесс познания [4].
Соглашаясь с аргументами критиков, отметим, что, пытаясь воплотить в нейро-
сетевой модели все морфологические, структурные и функциональные особенности
отдельного нейрона и т.п., мы рискуем столкнуться с проблемой чрезвычайной
сложности модели и трудностью ее технической реализации. В этой связи, необходимо
провести достаточно четкое разграничение существенных и несущественных для
моделирования элементов в работе биологической нейронной сети. Решение данной
задачи, в свою очередь, предполагает наличие достаточно четкой модели работы мозга,
скорректированной с учетом возможностей, предоставляемых современными
технологиями для моделирования.
И здесь мы сталкиваемся со значительными трудностями. Дело в том, что на
сегодняшний день существует относительно непротиворечивая система взглядов
0 принципах переработки информации в нейронных структурах, но говорить о
наличии единой теории мозга, на основе которой можно было бы установить четкие
приоритеты для построения корректных нейросетевых моделей когнитивных
процессов, пока преждевременно.
Следовательно, слишком упрощенный подход к моделированию нервной ткани, в
котором часто упрекают коннекционистскую методологию, свидетельствует, прежде
всего, об упрощенности нейробиологических представлений: современные нейросе-
тевые модели проектируются исходя из нейробиологических представлений о
работе мозга, и потому ограничения, присущие нейробиологическим моделям,
автоматически наследуются и коннекционистскими моделями [5]. В этой связи, нейросетевое
моделирование заинтересовано как в дальнейшем развитии нейробиологических
представлений о работе мозга, так и в осмыслении достижений нейробиологии с
позиций их продуктивности для развития модельных представлений.
При рассмотрении проблемы имитации структурной и функциональной
организации мозга в коннекционистском моделировании большое значение имеет вопрос
об элементарных структурных и функциональных единицах организации мозга.
Изначальной догмой нейронауки, нашедшей свое воплощение и в коннекционист-
ских моделях когнитивных процессов, явилось постулирование нейрона в качестве
элементарной единицы структурной организации мозга и, одновременно, в качестве
функциональной единицы нейроинформационной обработки. На сегодняшний день
данная догма все чаще подвергается сомнению со стороны ряда исследователей,
предлагающих других претендентов на роль структурной и функциональной
единицы нейроинформационной обработки.
Например, в качестве исходной функциональной единицы сегодня все чаще
рассматривается не отдельный нейрон, а скоординированная во времени и
пространстве, функционально однородная популяция нейронов1. Постулируется, что популя-
ционные взаимодействия в нейрофизиологических системах обработки информации
с большей вероятностью, чем взаимодействия между отдельными нейронами,
отражают характерные свойства системы и ее поведения.
Если сторонники популяционного кодирования в поисках нового претендента на
роль функциональной единицы нейроинформационной обработки пытаются выйти
вовне, за пределы отдельного нейрона, то сторонники мультицеллюлярной модели
нейрона обращаются вглубь структуры отдельного нейрона. В частности, A.B.
Савельев отмечает: «Огромная сложность реальных нейронов и широчайший диапазон
вариаций их свойств, морфологических особенностей, физических и физиологиче-
1 Например, в рамках селекционистской теории Дж. Эделмена и М. Маунткасла, в качестве
функциональных элементов нейроинформационной обработки выступают нейронные
колонки — скоординированные во времени и пространстве функционально-однородные
группы нейронов.
не
ских параметров не укладывается в рамки уницеллюлярной модели» [6], —
трактующей нейрон как самостоятельную отдельную клетку и элементарную единицу
структурной организации мозга. Признание мультицеллюлярной структуры некоторых
высокоорганизованных нейронов позволяет объяснить ряд феноменов, выходящих
за рамки уницеллюлярной модели. Например, мультицеллюлярная модель
нейрона позволяет систематизировать и упорядочить текущие морфодинамические
перестройки, а также открывает возможности для развития новой «морфологической
парадигмы» обучения нейронных сетей, связанной с появлением или исчезновением
ряда структурных элементов нейронной сети.
Расходясь в вопросе о элементарных структурных и функциональных единицах
организации мозга, а также в определении существенных для нейросетевого
моделирования особенностей функционирования биологического прототипа, исследователи
сходятся в том, что представления о структуре и механизмах переработки
информации, лежащие в основе нейросетевого моделирования, должны быть пересмотрены.
Как нам представляется, дальнейшее развитие коннекционистской методологии
с данных позиций предполагает непосредственное взаимодействие двух
составляющих. Одна из них связана с дальнейшим изучением особенностей моделируемого
прототипа и, прежде всего, с построением в рамках нейронаук единой теории мозга;
в то время как вторая составляющая, связанная с будущим развитием
вычислительных технологий, предоставляет расширенные возможности для воплощения первой
составляющей в нейросетевом моделировании.
Необходимость создания и разработки нейрофизиологических моделей
обуславливает взаиморекурсивные связи нейроинформатики и нейрофизиологии. В самом деле,
переход нейрофизиологии на более высокий уровень понимания механизмов работы
мозга является значимым также и для создания новой интеллектуальной
вычислительной техники, функционирование которой будет подчинено биологическим принципам.
В свою очередь, развитие вычислительных технологий предоставляет
возможность расширить рамки коннекционисткого моделирования и более полно
воссоздать в нейросетевой модели особенности моделируемого прототипа, в том числе и за
счет сочетания коннекционисткой и междисциплинарной методологий. Возможным
вариантом подобной гибридизации может выступить использование в нейросетевом
моделировании идей и методов, наработанных в рамках направления синергетики и
диссипативного хаоса, теории фрактальных структур и т.п.
Согласно другой точке зрения, расширение коннекционистской методологии
можно осуществить за счет использования математического аппарата нейронных
полей, позволяющего объединить возможности коннекционистской и квантовой
методологий [7]. Эвристический потенциал квантовой эпистемологии для коннекцио-
низма связан с возможностью репрезентации семантического аспекта информации
на основе нейро-квантовой когерентности. Кроме того, смещение акцента с
нейронного на нейроквантовый уровень моделирования позволит учесть субклеточный,
квантовый и виртуальный уровни иерархической структуры мозга.
Итак, дальнейшее развитие коннекционизма в данном направлении послужит
более тесному сближению биологических и технологических парадигм, а также
формированию и развитию междисциплинарного языка, общего для нейрофизиологов и
кибернетиков.
Литература
1. Величковский Б.М., Зинченко В.П. Методологические проблемы современной
когнитивной психологии // Вопросы философии. 1979. № 7. С. 67—79; Кру-
гликов Р.И. О структуре функциональной организации головного мозга в
процессах памяти // Вопросы философии. 1978. № 1. С. 96—107.
117
2. Koch C. Methods in neuronal modeling: From ions to networks / Ed. C.Koch.
Cambridge, MA: MIT Press, 1998.
3. Hertz J., Krogh A., Palmer R. Introduction to the Theory of Neural Computation. -
Addison Wesley Publishing Company, 1991. 327 p.; Dudai Y. The Neurobiology of
Memory: Concepts, Findings, Trends. Oxford: Oxford University Press, 1989.
4. Либерман Е.А. Молекулярная вычислительная машина клетки: Общие
соображения и гипотезы // Биофизика. 1972. Т. 17, № 5. С. 932—943.
5. Савельев A.B. Философия методологии нейромоделирования: Смысл и
перспективы // Философия науки. 2003. № 1. С. 50—51.
6. Савельев A.B. Модель нейрона как возможная мультицеллюлярная структура:
(К вопросу о том, что все-таки мы моделируем) // Нейрокомпьютеры:
разработка, применение. 2002. № 1-2. С. 18-19.
7. Linkevich A.D. Thinking, Language, Self and Attractors: Cognitive Studies and
Synergetic Paradigm // Nonlinear Phenomena in Complex Systems. 1999. Vol. 2, №
1. P. 24—40; Perus M. Multi-Level Synergetic Computation in Brain // Nonlinear
Phenomena in Complex Systems. 2001. Vol. 4, No 2. P. 157-193.
КАГАН Е.В.
Нечеткость квантового сознания: опыт реализации
ANIMAT
1. Введение
Предлагаемое размышление возникло как результат осмысления некоторых
противоречий, возникших в процессе разработки самообучающихся систем управления
автономными мобильными роботами. Данные разработки проводятся в
направлении, определяемом как «Animât» (animal-automat) [1] и связанном с математическим
и техническим решением задачи «конструирования рационального робота», как ее
формулирует Сёрл [2, с. 142].
Существует ряд методов построения управляющих устройств для автономных
мобильных роботов. В случае детерминированного управления предполагается,
что для всякого состояния системы «робот — внешняя среда» имеется и заранее
предусматривается некоторая реакция робота. В более общем случае для
управления используются вероятностные методы, для которых предусматриваются методы
обучения и самообучения. Смысл такого самообучения состоит в том, что в
процессе функционирования изменяются вероятности выполнения роботом тех или иных
действий так, что средняя эффективность достижения определенной цели или
выполнения определенной задачи повышается.
Однако при реализации вероятностного управления возникает вопрос об
источнике используемых вероятностей и о законах обучения и самообучения.
Действительно, задание вероятности некоторого действия предполагает, что заранее известен
более-менее полный набор состояний системы «робот — внешняя среда», для
каждого из которых по некоторому заданному закону выписывается вероятность
совершения роботом данного действия при данном внешнем воздействии. В этой ситуации
немедленно возникает проблема знания набора состояний, и проблема источника
закона распределения вероятностей.
В нашей работе [3—5] мы предприняли попытку использовать квантово-
механические модели состояний и переходов между ними для производства
вероятностей, согласно которым управляющее устройство робота принимает решения о
реакции на состояние внешней среды. Реализация данных моделей, разумеется, в виде
классических устройств показала их практическую эффективность.
Вместе с тем, несмотря на формальную правильность предложенных моделей и
методов, их использование вызывают ряд вопросов, которые не решаются
формальными средствами и принадлежат, в большей мере, к разряду философских. Ниже мы
рассмотрим ряд возникших вопросов и попытаемся осмыслить полученные
противоречия.
2. Постановка задачи
По-видимому, первая модель квантового робота предложена в работе [6].
В этом модели речь шла о «мобильных системах, которые имеют на борту
квантовые компьютеры и необходимые переферийные устройства... Квантовые роботы
двигаются и (локально) взаимодействуют с внешними для них квантовыми
системами» [6]. Параллельно с исследованиями по квантовым роботам, действующим
в квантовом окружении, рассматривались квантово-управляемые мобильные
роботы [7]. В этих системах «управления являются квантовыми, однако, сенсоры и
манипуляторы являются классическими» [7]. Возможность построения таких
роботов достигается тем, что средства измерения, являющиеся внешними для кван-
119
товых систем, в данных роботах рассматриваются как внутренняя часть
управляющего устройства.
С формальной точки зрения такая возможность не вызывает сомнений, однако, с
точки зрения методологии квантово-механических систем внесение «наблюдателя»
непосредственно в систему управления приводит к определенного рода
самореференции управляющего устройства. Разобраться в источнике этой самореференции
или, по крайней мере, определеть философский контекст для ее рассмотрения и
составляет задачу данного размышления.
Логическим источником упомятутой самореференции, по-видимому, является
следующее. В первоначальном варианте предложенные нами модели управления
роботами [3—5] выводились из вероятностных схем управления [8]. Однако их
прямая реализация оказалась эквивалентной модели вычислений, задаваемой
машиной Колмогорова-Успенского [9], которая, в дополнение к возможностям машины
Тьюринга, предполагает изменение топологии ленты в зависимости от процесса
вычислений. Из данной модели вычислений следовало, что квантово-механические
модели управления допускают самоприменимость алгоритмов без возникновения
парадокса [10, с. 270—273]. Тем самым, самореференция управляющего устройства
квантово-управляемых роботов, по всей вероятности, должна сводиться к некоторой
логической структуре. Мы здесь будем говорить о квантово-механической и о
нечеткой логике.
В общем виде, связь между квантово-механическими, вероятностными и
нечеткими моделями основывается на следующем предствлении о неопределенности.
Несколько расширяя замечание, приведенное в [11], можно полагать, что:
- неопределенность, рассматриваемая в квантовой механике, является
неопределенностью реальности или, по меньшей мере, лучшей из теорий
реальности;
- вероятности выражают неопределенность, связанную с нашим неполным
знанием о реальности (т.е., вероятность — это неопределенность, возникающая
из-за наличия «скрытых параметров», в отличие от амплитуд вероятности,
выражающих объективную неопределенность квантово-механических
систем);
- показатели нечеткости, рассматриваемые в теории нечетких множеств,
выражают неопределенность наших рассуждений (как о реальности, так и о самих
рассуждениях).
Нас будет интересовать вопрос о возможности перевода одних
неопределенностей в другие и возможности говорить об одних системах на языке других. Связь
между вероятностью и неопределенностью, возникающей в квантовой механике,
известна, так же как известна связь между вероятностями и показателями нечеткости.
Однако связь между квантово-механическими и нечеткими системами пока, к
сожалению не выяснена. Известно лишь одно формальное ограничение, о котором будет
сказано ниже.
Таким образом, общей проблемой при разработке Animât, основанном на квантово-
механических принципах, оказывается самореференция и неопределенность в
структурах управления. Однако эти свойства являются в точности теми свойствами,
которыми наделяют сознание (см. напр. [12, с. 16—17]). А оно, в свою очередь, и является,
согласно Сёрлю, той «первой характеристикой, которую требуется вложить в ваш
робот» [2, с. 143].
3. Сознание и проблема построения разумных машин
Вопрос о сознании и машинах и о возможности «механического» сознания в
явной форме был поставлен в логике и философии в 1960 году Патнэмом [13].
Согласно Патнэму, этот вопрос сводится к вопросу о возможности определения машиной
120
своего состояния. «Если Т— машина Тьюринга, — пишет Патнэм, — то вопрос „Как
машина Г устанавливает, что она находится в состоянии Л?" [...] в еще большей
степени „логически странен" [чем вопрос „Откуда я знаю, что мне больно?" — Е.К.]; но если
машина Г способна обследовать свою соседку, машину Т [...], то вопрос „Как
машина Г устанавливает, что Т находится в состоянии Л?", вовсе не является странным»
[13, с. 23]. Иными словами, осмысленное логическое рассмотрение самореференции,
установление причин знания собственного состояния, по Патнэму, невозможно
иначе, чем при отождествлении сознания и мозга и придании сознанию возможности
«обследовать» мозг, в котором это сознание заключено.
Однако, как указывает Цопф, «чтобы оценить достоверность знаний, нужно уже
иметь какие-то знания», [14, с. 407]. Более того, даже само знание, согласно Мамар-
дашвили, возможно только при наличии знания. Если, используя пример Патнэма,
[13, с. 25], полагать, что машина Г «находится в состоянии Л, если и только если
взведен триггер 36», то оказывается, что сознание машины «уже допущено — и допущено
акаузально — в самой формулировке причинной связи» [12, с. 25]. В целом же,
«знание о нейронах [или, в примере Патнэма о машине, — знание о триггере 36 — Е.К.] не
может стать элементом никакого сознательного опыта, который (после получения
этого знания) порождался бы этими нейронами» [12, с. 38].
Тем самым, для того, чтобы говорить о сознании машины, которое предполагает, в
определенном смысле, разумность ее поведения, требуется иметь внешнего
«наблюдателя», который бы определил разумность машины. Иными словами, получается то
же противоречие, о котором говорил Пантэм, но уже при участии двух машин.
Дополнительно здесь возникает еще одна проблема, связанная с определением
«разумности». Действительно, согласно Цопфу, «сказать, что система „разумна", —
значит сказать лишь то, что мы не можем получить достаточно доказательств для
определения ее поведения в некоторых ситуациях по „решению задач". Это значит
сказать, что система разумна потому, что мы должны допустить ее разумность для
того, чтобы сделать ее поведение доступным разуму. Восхитительный (но
неизбежный) порочный круг!» [14, с. 403].
А значит, мы в принципе не можем построить разумную машину, поскольку
«чтобы построить сложную машину, мы должны знать детерминированно, во всех
деталях, что мы делаем; но чтобы назвать такую машину разумной, требуется, чтобы мы
забыли или игнорировали наши знания как раз о том, как она делает то, что делает»
[14, с. 403].
Таким образом, при построении разумных машин здесь имеется уже как минимум
три парадоксальные ситуации: мы не можем логически непротиворечиво определить,
что такое машинное сознание, у нас нет средств для нетавтологичного опреления
разумности, и мы не можем построить разумную (с интуитивной точки зрения) машину,
не отказавшись от собственной разумности.
4. Логика квантовой механики в приложении к построению машины
В приведенном выше рассуждении изначально предполагалось, что мы, говоря о
сознании, разумности и о реализации разумных машин, пользуемся стандартными
логическими средствами. Использование этих средств подразумевает, что «различны
мир сущностей и мир явлений, на которых мы эти сущности наблюдаем» [12, с. 22]
(более подробно это выражено Сёрлем в виде шести предположений об основах
классической модели рациональности [2, с. 7—12]).
Допустим, что мы можем отказаться от попыток определить сознание,
предполагая, что если машина действует разумно, то она обладает сознанием. Предположим
также, что мы понимаем, что значит «разумное поведение», и можем каким-то
образом установить, действует Animât разумно или нет. Тогда для реализации квантово-
управляемого робота требуется разрешить третью парадоксальную ситуацию, а
121
именно невозможность построить разумную машину, не отказываясь от собственной
разумности.
Иными словами, нам требуется построить такую машину, что при наблюдении за
ее устройством («снятии кожуха» — Цопф) наши знания о ее устройстве
оказывались несоответствующими реальному положению дел. Последнее свойство,
очевидно, может выполняться лишь в двух случаях:
- либо при построении машины согласно принципам нелинейных
неравновесных систем, для которых сколь угодно малое, происходящее в результате
наблюдения, изменение параметров может привести к непредсказуемым
большим изменениям поведения;
- либо при использовании квантово-механических принципов управления
машиной.
Следует отметить, что в недавних работах [15] и [16] сделаны попытки связать
поведение классических нелинейных неравновесных систем и поведение квантово-
механических систем. Однако общая теория в этой области пока не построена.
В наших работах мы следовали второму пути, а именно использовали методы
квантовой механики для построения управляющего устройства мобильного робота. Как
уже отмечалось выше, речь, разумеется, идет о построении классического устройства,
однако, такого, что его функционирование описывается с помощью логики квантовой
механики. Приведем описание квантовой логики в том виде, как оно использовалось
для построения робота [3]. Для целей разработки квантово-управляемого
мобильного робота нам достаточно говорить о конечном числе состояний и действий, поэтому
мы не станем приводить полное определение квантовой логики, но дадим лишь ее
интуитивное описание в сравнении с вероятностной схемой.
Формальная схема квантовых состояний, называемая квантовой логикой, была
предложена Биркгофом и фон Нейманом [17] как вариант аксиоматического
описания квантовой механики. Различие между классической и квантовой логикой, как
показали Биркгоф и фон Нейман, состоит в том, что в квантовой логике не
выполняется закон дистрибутивности.
Квантовая логика представляет собой решетку Л событий Д которая содержит
наименьший элемент 0, наибольший элемент I, отношение <=, унарную операцию ',
и бинарные операции ^ и ^. Предполагается, что для событий A € Л выполняется
обычные свойства: а) для всякого события А € А существует событие Л'бЛ такое,
что (А')' = А; б) А ^ А' = 0 и A w А' = I; в) для любой пары событий А, В € А из
выполнения отношения А <= В следует выполнение отношения В' <= А' и равенства
В = А ^ (В rs А'); г) для всякой счетной последовательности AVA2,... событий из Л, их
объединение также находится в Л, т.е. (^. А.) € Л.
Заметим, что от событий А 6 Л не требуется быть подмножествами одного и того
же множества. Это приводит к тому, что в аксиомах а)—г) закон дистрибутивности
для событий Л € Л в общем случае не выполняется, т.е. В <~\ (А ^ А') .^ (В ^ А) ^
(В г, А').
В вероятностной схеме, напротив, события А € Л являются подмножествами
некоторого множества Q элементарных исходов, т.е. в дополнение к аксиомам а)—г)
требуется, чтобы Лс(]и чтобы объединение всех событий А 6 Л было равно Q. В
этой ситуации закон дистрибутивности выполняется. Разумеется, для обычной
логики выполнен тот же принцип, что и для вероятностной схемы.
Отсутствие требования для событий А квантовой логики Л быть
подмножествами некоторого одного и того же множества элементарных исходов Г2 определяет
изначальную открытость системы квантовой логики. Тем самым, предполагается, что
описание, предоставляемое этой логикой, может зависеть от внешних факторов, а
именно — внешних событий, включенных в решетку Л, но не являющихся
подмножествами Cl. Это, собственно, и происходит, когда с машины, функционирующей со-
122
гласно квантой логике, «снимают кожух», внося в описание дополнительные
события, и наши знания о системе до наблюдения оказываются не соответветствующими
тому, что получается в результате наблюдения.
5. Квантовые состояния машинного сознания
Выше описан способ снятия противоречия, связанного с построением разумной
машиы. Однако, поскольку мы указали принцип, которому подчиняется
функционирование системы, а именно логику квантовой механики, то одновременно мы обошли
и первое противоречие, т.е. невозможность непротиворечиво определить машинное
сознание. Действительно, поскольку уже сказано, что управляющее устройство
описываемого робота подчиняется логике квантовой механики, нам требуется показать,
что для него выполнен приведенный выше принцип Патнэма отождествления
сознания и мозга.
Разумеется, речь идет о моделях мыслительной активности, которые бы
отвечали требуемым принципам. Устройство же мозга или определение физиологических
процессов сознательной деятельности здесь ни в коем случае не рассматриваются.
Отметим, что Пенроуз в [18, гл. 7], предпринял ошибочную попытку такого
определения, хотя сама постановка вопроса, осуществленная им в [19, гл. 9], является, по-
видимому, верной.
Для выяснения тождества сознания и мозга, точнее — модели сознания и модели
мозга рассмотрим, что такое состояние квантово-механической системы. Сказанное
ниже, конечно, не является строгим изложением и может рассматриваться лишь как
интуитивное пояснение.
Согласно принципам квантовой механики, у нас нет способа узнать
действительное состояние квантовой системы. Единственное, что определяет состояние — это
наблюдаемая, с помощью которой устанавливается амплитуда вероятности состояния.
Амплитуда вероятности означает следующее. Амплитуду, как характеристику
состояния, мы можем знать точно и можем точно рассчитывать и предсказывать
амплитуды других состояний. На основании амплитуд, путем тривиальных манипуляций,
мы получаем вероятность состояния (о различии между амплитудой и вероятностью
см., напр., лекции Фейнмана [20]).
Тем самым, мы не знаем в каком именно состоянии находится система, но на
основании измерения узнаем амплитуду состояния, которую затем переводим в
вероятность — меру нашего незнания о том, в каком состоянии находится система
(ср. [12, с. 33]).
Однако, как отмечено выше, мы в принципе не можем знать сами состояния,
иначе чем с помощью знания амплитуд. Значит, для нас, как наблюдателей, амплитуды и
являются состояниями системы, что и позволяет говорить об отождествлении
модели сознания и модели мозга при построении системы, функционирующей согласно
квантово-механическим принципам. Еще раз подчеркну, что речь идет
исключительно о моделях и только о практической возможности отождествления этих моделей.
6. Нечеткость квантового сознания машины
Итак, мы выяснили, что если разрабатывать управляющее устройство робота
основываясь на принципах квантовой механики, то возможно создание системы,
которая, хотя бы в принципе, отвечала бы формальным критериям, которым должно
подчиняться устройство разумной машины. Однако создание такой машины
связано с техническими трудностями. Формально требуется создать такое классическое
устройство, которое могло бы функционировать как квантово-механическая
система. Очевидно, что непосредственное использование квантово-механических систем
в данном случае невозможно.
В связи с этим в нашей работе было предложено основываться на моделях
квантовой механики, предоставляемых нечеткой логикой, с тем чтобы реализовать
123
управляющее устройство на основе имеющихся нечетких процессоров. Основанием
для использования нечеткой логики послужила работа [21], в которой
рассматривалась возможность использования нечеткой логики для представления квантово-
механических моделей сознания. Одна из моделей мобильного робота, основанная
на недавно предложенном способе перевода квантовых операторов в нечеткие [22],
предложена в [23].
Возможность использования нечеткой логики для моделирования логики
квантовой механики основана на том, что формально можно задать такие функции
принадлежности, что для нечеткой модели одновременно с выполнением приведенных
выше аксиом а)—г) будет выполнено неравенство В г>(А^ Л') ^ (В ^ Л) ^ (В ^ Л'), в
то время как для всех событий Ли В остается справедливым, что Л, В <= X, где X —
некоторый носитель нечетких множеств Л и В. Еще более убедительным
оказывается следующее приведенное Финкельштейном [21] сравнение нечетких моделей с
квантовыми. «Внимательный анализ, — пишет Финкельштейн, — показывает, что
и аргумент и значение функции принадлежности [в моделях сознания — К.Е.]
следует считать нечеткими. Но это означает, что рассматриваемый аргумент является
не строго определенной величиной, а некоторым нечетким множеством величин со
своей функцией принадлежности и со своим аргументом, который снова нечеток, и
так далее. Поэтому, чтобы оборвать эту бесконечную цепочку, где-то надо
остановиться и сказать: „А это наблюдатель считает четким". Мы видим, что такая
ситуация полностью соответствует квантовомеханическому требованию об отделении
наблюдаемой и наблюдающей систем и о свободе передвижения границы между
ними» [21, с. 97].
Приведенная аналогия являлась оправданием использования нечеткой модели
для описания функционирования квантово-управляемого мобильного робота.
Однако, как показали дальнейшее рассмотрение и тесты, функционирование робота,
описываемого нечеткой моделью, не соответствовало тому, что ожидалось от исходной
квантово-механической модели. Анализ причин этого несоответствия показал, что
существует принципиальное различие между этими моделями [11], которое не
может быть снято без введения дополнительных размерностей пространства
состояний. Для пояснения, в чем тут дело, сравним действия логических операторов для
обычной бинарной логики, логики квантовой механики и нечеткой логики.
В бинарной логике для переменных х, у G {0,1} определены три операции: and(x} у),
ог(х, у) и not(x), которые полностью описывают действия бинарной логики на
элементарных состояниях, выражаемых битами х и у (формально, разумеется,
достаточно двух операций, но для наших рассуждений это не существенно). В квантовой
логике элементарными состояниями являются квантовые биты — кубиты,
задаваемые как пары а = (а, Ь) комплексных чисел а и Ъ таких, что |а|2 + |6|2 = 1, где |*|
означает модуль комплексного числа. Чистыми квантовыми состояниями, аналогичными
битам j=0hj= 1, являются пары ( 1,0) и (0,1 ). Сама же квантово-механическая
логика задается тремя операторами: оператором Адамара #(а), оператором перевода
фазы 5(a) и оператором управляемого отрицания С(а, ß). Для кубитов определены
также операторы Паули, которые, однако, могут быть выражены через указанные
операторы. Наконец, для нечеткой логики, действующей на действительных
переменных \ и ц, определены операции, аналогичные операциям and и от обычной
логики, называемые t-нормой Г( \, \х) и t-конормой S( X, ц), а также операция
отрицания not( |i) = 1 — ц.
Теперь рассмотрим разницу между нечеткими и квантовыми моделями.
Допустим, что нами спроектировано устройство, действующее согласно квантово-
механически принципам, и для его техничекой реализации нам требуется
построить нечеткую модель его функционирования. Это та задача, которую мы пытались
решить в [23]. Для того чтобы функционирование нечеткой модели соответство-
124
вало спроектированному кванто-управляемому роботу, требуется, чтобы действие
базовых операторов в соответствующих логиках совпадало. Однако это требование,
как установлено в [11], не выполняется для оператора отрицания, и значит, ввиду
замкнутости соответствующих логических систем, не выполняется и для остальных
операторов.
Действительно, обозначим чистые квантовые состояния через |0> = (1, 0) и
|1> = (0, 1). Тогда, аналогично бинарной логике, оператор отрицания not для этих
состояний, выражаемый через приведенные выше операторы Я, 5 и С, действует
следующим образом: not(\0>) = |1> и not(\\>) = |0>. Дополнительно, для оператора
отрицания в квантово-механической логике существует оператор snot называемый
квадратный корень из not и для состояния а определяемый следующим образом:
snot(snot(a)) = not(a).
Для того, чтобы нечеткая модель функционировала так же, как квантово-
механическая,требуется,чтобывнечеткоймоделисуществовалоператор,аналогичный
квадратному корню из not. Однако, как показано в [ 11 ], непрерывного оператора snot,
такого, что для нечеткого состояния [х выполненоsnot(snot( ц))=1— ц, не существует.
Иными словами, для нечеткого состояния ц, в общем случае, snot(snot( \х )) ^ not( ц ).
Тем не менее, в [11] установлено, что в нечеткой логике можно построить разрывный
оператор snot'с конечным числом точек разрыва, такой, что snot\snot\ ц)) = not( ц).
Таким образом, мы приходим к весьма неожиданной связи между
указанными при постановке проблемы неопределенностью реальности, рассматриваемой в
квантовой механике, и неопределенностью рассуждений, рассматриваемой в
нечеткой логике. Согласно приведенному рассмотрению, в противоречии с
ожиданиями, нечеткая логика не эквивалентна квантово-механической логике, хотя
формально, путем введения дополнительный размерностей пространства состояний,
такой переход, по-видимому, возможен. Однако еще более неожиданным
является тот факт, что несоответствие между классическими рассуждениями, с учетом
неопределенности, и неопределенностью реальности возникает лишь в конечном
числе точек.
Для нашей проблемы это означает, что машинное сознание, моделируемое с
помощью квантово-механических принципов, будет вести себя вполне предсказуемым
образом, за исключением конечного числа случаев принятия решений, в которых
исход решения оказывается непредсказуем. Тем самым, если несколько обобщить
вывод, для того, чтобы некоторый автомат рассматривался наблюдателем как
машина, обладающая сознанием, достаточно ввести в ее функционирование
случайный выбор ситуаций, в которых будет осуществляться случайный, не зависящий
от ситуации выбор из конечного числа возможножных реакций на внешнее
воздействие. Разумеется, данный выбор справедлив только для рассмотренного случая
моделирования машинного сознания с помощью квантово-механических
принципов, и тем не менее, для рассматриваемой задачи создания Animât он оказывается
весьма интересен.
Заключение
В предложенном рассуждении рассмотрена проблема создания разумной
машины в приложении к квантово-управляемому мобильному роботу, решаемая в
рамках направления «Animât». В результате работы был обоснован способ построения
робота на основе принципов квантовой механики. Выяснено, что для такого робота
выполнены следующие свойства:
- знания о поведении робота до наблюдения не соответствуют знаниям о
поведении, получаемым в результате наблюдения. Это снимает противоречие
Цопфа, требующее отказа от разумности создания машины для того, чтобы
полагать, что машина является разумной.
125
- состояния управляющего устройства робота, с точки зрения наблюдателя,
могут быть отождествлены с амплитудами вероятности. С практической точки
зрения это позволяет соблюсти принцип Патнэма отождествления сознания
и мозга, вернее, модели сознания и модели мозга, требуемый для
принципиальной возможности построения разумных автоматов.
Дополнительно была продемонстрирована связь между неопределенностью
реальности, рассматриваемой в квантовой механике, и неопределенностью
рассуждений, исследуемой в теории нечетких множеств. Выяснено, что нечеткая логика не
эквивалентна логике квантовой механики и что эта неэквивалентность может быть
сведена к конечному числу ситуаций. Это означает, что для внешнего наблюдателя
разумным будет считаться такой автомат, который периодически осуществляет
случайный выбор из конечного числа ситуаций, в каждой из которых осуществляется
случайный, не зависящий от ситуации выбор из конечного числа возможных
реакций на внешнее воздействие.
Полученные результаты оказываются полезными для дальнейшей работы в
направлении «Animât», и для философского исследования возможностей машинного
сознания, и рассмотрения вопроса о моделировании сознания и построении
разумных машин.
Литература
1. DonnartJ.-Y., MeyerJ.-A. Learning Reactive and Planning Rules in a Motivationally
Autonomous Animât. IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics. Vol. 26, No. 3.
1996. P. 381-395.
2. SearleJ. R. Rationality in Action. The MIT Press: Cambridge, Massachusetts and
London, England, 2001.
3. Kagan E., Ben-Gal I. Navigation of Quantum-Controlled Mobile Robot on a Plane.
Submitted to ICAART10.
4. Kagan E., Salmona E., Ben-Gal I. Probabilistic Mobile Robot with Quantum
Decision-Making. Proc. IEEE 25-th Conv. Electrical and Electronics Engineers. Eilat,
Israel, 2008.
5. Kagan E., Ben-Gall. Navigation of Mobile Robots by Classical and Quantum
Informational Decision-Making. 2-nd Israeli Conf. Robotics. Herzlia, Israel, 2008.
6. Benioff P. Quantum Robots and Environments. Phys. Rev. A-58, 1998. P. 893-
904.
7. Raghuvanshi A, Fan Y., Woyke M., Perkowski M. Quantum Robots for Teenagers.
Proc. Int. IEEE Conf. ISMV'07. Helsinki, Finland, 2007.
8. Kagan E., Ben-Gal I. Application of Probabilistic Self-Stabilization Algorithms to
the Robot's Control. Proc. 15-th Conf. IE&MV8. Tel-Aviv, Israel, 2008.
9. Колмогоров A.H., Успенский В.А. К определению алгоритма. УМН. Т. 13. Вып. 4.
С. 3—28. Предварительный вариант определения алгоритма см. в статье:
Колмогоров А.Н. О понятии алгоритма. УМН. Т. 8. Вып. 4, 1953. С. 175—176.
10. Марков A.A., Нагорный Н.М. Теория алгорифмов. М.: Фазис, 1996.
11. Kreinovich V., Kohout L.J., Kim E. Square Root of «Not»: A Major Difference
between Fuzzy and Quantum Logics. Proc. Ann. Meeting NAFIPS'08, 2008. P. 1—5.
12. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности.
М.: Издательство «Логос», 2004.
13. Патнэм X. Сознание и машины // X. Патнэм. Философия сознания / Пер. с
англ. М.: Дом интеллектуальой книги, 1999. С; 23—52.
14. Цопф Г(мл.). Отношение и контекст // Принципы самоорганизации / Пер. с
англ. М.: Мир, 1966. С. 399-427.
126
15. Klimontovich Yu.L. Bridge from Classical to Quantum Theory of Open Systems.
Ann. Foundation Louis de Broglie. 2001. Vol. 26, No. special. P. 197—239.
16. Zurek W. H. Decoherence and the Transition from Quantum to Classical.
arXiv:quant-ph/0306072vl, 2003.
17. BirkhoffG.J. von Neumann. The Logic of Quantum Mechanics. Annals Math. 1936.
Vol. 37, No. 4. P. 823-843.
18. Пенроуз Р. Тени разума: В поисках науки о сознании / Пер. с англ. Москва-
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005.
19. Пенроуз Р. Новый ум короля. О компьютерах, мыгилении и законах физики /
Пер. с англ. М.: Едиториал УРСС, 2005.
20. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике /Пер. с англ.
Вып. 3, 8. М.: Едиториал УРСС, 2004.
21. Финкельштейн Э.Б. Проблема бессознательного и фундаментальные принципы
физики //Бессознательное. Новочеркасск: Агенство Сагуна, 1994. С. 91 — 102.
22. Hannachi M.S., Hatakeyama Y., Hirota К. Emulating Qubits with Fuzzy Logic.
J. Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics. 2007. Vol. 11,
No. 2. P. 242-249.
23. Rybalov A., Kagan E.f Manor Y.} Ben-Gal I. Fuzzy Model of Quantum-Controlled
Mobile Robot on a Plane. Submitted to COMCAS'09.
КАТРЕЧКО С.Л.
Проблема сознания как философская проблема
Статья (доклад) имеет обзорный характер и посвящена обсуждению двух проблем.
Первая из них связана с методологией исследований природы сознания. Наряду с
выделяемой Д. Чалмерсом легкой и трудной проблемами сознания, здесь выделяется
глобальная проблема [универсального] сознания. Вторая часть посвящена проблеме
онтологии сознания, в рамках которой задается концептуальное поле возможных
решений и развивается оригинальная концепция волновой трактовки сознания.
§ 1. Методология сознания: легкая, трудная и глобальная проблемы
сознания
Очевидно, что в последнее время происходит настоящий бум в исследованиях
сознания: например, за «последние 40 лет было опубликовано более 60 000 статей и
сотни книг на эту тему» (Д. Дубровский). Но сопровождается ли этот
количественный рост качественным скачком в понимании функционирования сознания, или все
же большинство современных прикладных исследований сознания (например, в
области ИИ) проводится в рамках сложившегося в 50—60-е годы
функционального (resp. кибернетического) подхода, когда сознание трактуется как функция мозга,
связанная с переработкой информации? Анализ полученных результатов
прикладных исследований в этой области позволяет утверждать, что трактовка сознания как
«вычислительной машины» в настоящее время оказывается слишком узкой и
необходим пересмотр этой функциональной парадигмы, что отнюдь не умаляет
серьезных успехов современной науки в моделировании физиологических и психических
механизмов работы мозга (сознание vs. мозг).
Можно выделить два пути дальнейшего развития исследований сознания.
Первый из них связан с модификацией существующей функциональной парадигмы. По
этому пути предлагает двигаться аргумент «китайской комнаты» Дж. Сёрля и/или
возражения против понимания сознания как вычислительной машины Р. Пенроуза,
связанные с осмыслением результатов об ограниченных возможностях формализмов
(теорем Геделя). Второй, более радикальный путь связан с переходом к
принципиально иной парадигме сознания, основанием для которой выступают
трансцендентальные модели сознания Канта и Гуссерля.
Легкая и трудная проблемы сознания. Один из современных исследователей
сознания, Д. Чалмерс, выделяет легкую и трудную проблемы сознания. К легкой
проблеме сознания можно отнести следующие подпроблемы: различение чувственных
стимулов и адекватной реакции на них мозга (как когнитивной системы), отчеты о
своих ментальных состояниях, интегрирование информации, фокус внимания,
контроль поведения, различение между бодрствованием и сном. Как замечает Чалмерс,
«все они имеют отношение к объективным механизмам когнитивных систем», т.е. по
своей сути не связаны с проблемой человеческой субъективности. Или, как мы
сказали об этом выше, представляют собой скорее проблему моделирования не сознания, а
всего лишь психических процессов мозга приматов и человека (сознание vs. психика).
«Трудная» же проблема сознания, по Чалмерсу, состоит в объяснении того, каким
образом «физические процессы в мозге порождают субъективный опыт», т.е. в
объяснении такого феномена человеческого бытия, как субъективное сознание. Тем самым,
«трудная» проблема сознания — это проблема субъективного опыта, или кантовской
апперцепции (самосознания), которая проявляется в переживании любого
сознательного акта как акта моего «Я». Российский исследователь Д.И. Дубровский пред-
128
лагает использовать для этой цели термин «субъективная реальность»
(используемый также Дж. Сёрлом и Д. Чалмерсом), который «может обозначать как отдельное
явление субъективной реальности (скажем, мелькнувшую у меня сейчас интересную
мысль), так и целостное динамическое состояние моего Я» (причем именно
субъективный опыт является для Дубровского «главной чертой сознания, его сутью»). Как
отмечает Т. Нагель, важной составляющей трудной проблемы сознания является так
называемый «провал в объяснении». Суть этой проблемы в том, что, с одной стороны,
сознание не может быть описано с помощью физикалистского языка (т.е. в терминах
массы, энергии, электрических разрядов, химических и пространственных
характеристик), поскольку сознание не является обычным физическим мозговым процессом,
хотя каким-то образом и связано с мозговой активностью. С другой стороны,
непонятно, как происходит обратное причинное воздействие не—физического сознания
на физические (нейрофизиологические) процессы, например, каким образом наше
сознательное решение приводит к физическому акту поднятия руки.
Несмотря на прогрессивность выделения трудной проблемы сознания, чалмеров-
ский подход (отчасти это относится и к концепции субъективности сознания Д.
Дубровского) вызывает ряд возражений, что требует дальнейшего уточнения
методологии исследований.
Во-первых, он предполагает, что сознание (как субъективность) является: (1)
внутренним; (2) индивидуальным феноменом, порождаемым мозгом каждого человека.
Но почему бы сознание не считать внешним феноменом, проявляющимся в нашем
публичном общении и совместной (например, трудовой) деятельности? Во-вторых,
сознание понимается здесь как функция только каких-то: (1) физических; (2)
мозговых процессов, что не допускает решение «трудной» проблемы сознания в более
широком контексте не-мозговых (сознание как порождения всего человеческого
организма) или даже не-физических процессов (сознание как идеальное образование).
Заметим, что наше второе замечание в определенном смысле воспроизводит
известный скептический аргумент Д. Юма против признания причинной связи,
поскольку подобная формулировка основана на общепринятом и достаточно убедительном,
но недоказанном положении, что именно физические процессы в мозге порождают
сознание. Как сказал бы Д. Юм, из того, что мы видим сначала один движущийся
бильярдный шар в направлении другого, а потом начало движения этого второго
шара, еще не следует, что первый шар является причиной движения второго.
Применительно к проблеме сознания это означает, что, вполне возможно, мозговые
процессы необходимы, но отнюдь не достаточны для появления феномена сознания, т.е.
не являются причиной его появления и функционирования. Тем самым, мы ратуем за
расширение контекста при исследовании сознания.
Одним из неявных допущений чалмеровского подхода является тезис о том, что
сознание является недавним эволюционным приобретением человеческого
организма: это ограничивает поиски порождающего «механизма» субъективного опыта лишь
процессами, происходящими в мозге современного человека, с целью его возможного
кибернетического моделирования. Но если субъективность имеет более древнее
происхождение, то тогда поиски порождающих сознание физических процессов в мозге
современного человека — дело практически безнадежное. Например, в случае вопро-
шания о существе живого (растительной жизни) нельзя ограничиться
исследованием одного лишь дерева как частного современного случая живого. Нужно включить
в свой анализ и атмосферу, созданную предшествующим поколением «деревьев»,
поскольку атмосфера — необходимый компонент (растительного) живого, без
которого нельзя понять, что оно собой представляет. Для сознания такой «атмосферой»
выступает «сфера сознания» (см. М. Мамардашвили, А. Пятигорский «Символ и
сознание»), которая в первом приближении может быть отождествлена с человеческой
культурой (см., например, Ю. Лотман «Культура как модель искусственного интел-
129
лекта»). Применительно к проблеме моделирования сознания понятно, что в рамках
такой постановки не вполне правомерно ставить вопрос о моделировании
существующего сейчас частного модуса (человеческого) сознания, т.к. сознание современного
человека является «производной» длительного развития каких-то первых форм
сознания, например мифологического сознания первобытного человека, при
одновременном развитии «сферы сознания» (культуры), т.е. является превращенной формой
чистого сознания. И тогда проблема чистого сознания должна ставиться как поиск
некоторого первоистока сознания, некоторого гетевского прафеномена,
послужившего прообразом последующих модусов сознания, который сейчас, возможно, уже
сам по себе не существует, растворившись в системе «(частный, современный) модус
сознания + сфера сознания». В частности, в свете такой постановки проблемы
нейрофизиологические исследования работы мозга должны быть дополнены культурно-
историческим контекстом, без учета которого решение проблемы происхождения и
функционирования сознания будет некорректным.
Глобальная проблема сознания. Изложенные выше соображения приводят нас
к постановке глобальной проблемы сознания, связанной с осознанием того факта,
что сознание человека является лишь частным модусом сознания вообще и поэтому
проблему сознания надо ставить шире. Тогда, например, проблема субъективности
может оказаться не такой важной, поскольку «Я» окажется лишь эпифеноменом
собственно сознания, его частным модусом, скрывающим за собой какие-то глубинные
черты универсального сознания. Что может выступить критерием такого
универсального сознания?
Универсальное сознание можно определить как способность
существа/системы выходить за пределы наличной ситуации (заметим, что в основе нашего
критерия лежит кантовская природная склонность человека к метафизике, metaphysica
naturalis). Т.е. об универсальном сознании, можно говорить тогда, когда, например,
наблюдается переход на новый структурный уровень организации. Таким
сознанием, например, обладают некоторые физические системы, а именно те, которые смогли
перейти на новый — биологический — уровень. Или сознанием обладает Вселенная,
если она смогла перейти к новому, более упорядоченному состоянию. Если ввести
такой критерий сознательности, то тогда мы некорректно ставим вопрос, ища
зачатки сознания на том же структурном уровне, например у кошек или дельфинов.
На нашем уровне «человеческого масштаба» сознанием обладает только человек.
Точнее, сознанием обладают те существа, которые смогли перейти к человеку: все
остальные (ныне существующие) животные — «тупики» эволюционного процесса,
и бессмысленно искать зачатки сознания у них. Но универсальным сознанием,
возможно, обладает многое из того, что мы, в силу узко—антропоцентрического
понимания сознания, даже не рассматриваем в качестве его возможных кандидатов.
Например, возможно, что сознанием обладает некоторый вирус (например, вирус гриппа),
который сумел осознать, что, помимо окружающего его мира, есть мета—мир другого
«масштаба»: например, человеческий мир, который «борется» с вирусами. При этом
наличие вирусного сознания можно зафиксировать экспериментально: об этом
будет свидетельствовать странность его поведения по сравнению с поведением других
представителей данного уровня (например, его способность к самопроизвольной
мутации), что свидетельствует об его выходе за рамки стандартного набора
«горизонтальных» реакций, т.е. о его сознании. Вирус должен как бы учитывать в своем
поведении присутствие человека, точно так же как мы учитываем в своих поступках
присутствие «божественного»: например, когда говорим, что «поступили по совести»
(т.е. вопреки своей «материальной» выгоде), или что «нам стыдно». Или, например,
сознанием может обладать наша планета Земля, если будут экспериментально
зафиксированы некоторые странные процессы, т.е. нечто необъяснимое с точки зрения
геологической науки, но объяснимое как «реакция» Земли на какие-то метауровне-
130
вые (глобальные) события, например вспышку сверхновой. Или можно говорить о
сознании микромира, т.к. там существуют разные структурные уровни организации:
кварки — протон — атом — химическое вещество, — что указывает на имевшие место
в микромире (благодаря сознанию) переходы к новым структурным уровням
организации материи.
Другими словами, важнейшей характеристикой (критерием) универсального
сознания является свобода (свобода воли): поведение (в частности, человека)
является свободным, если оно не объясняется (физическими) факторами того же уровня
и предполагает введение «вертикальных», т.е. метафизических, факторов. При этом
такая свобода будет совпадать с «необходимостью» более высокого порядка (ср. с
тезисом Спинозы/Гегеля «свобода есть осознанная необходимость»). В этом смысле о
сознании человека свидетельствует феномен религии, понимаемый как связь с
высшими силами, поскольку в своей религиозной практике человек выходит на мета-
уровень, подчиняясь сверх-физическим «законам» горнего мира.
В концептуальном плане новизна предлагаемого нами универсального сознания
связана с переходом от субстанционального к деятельностному пониманию
сознания, поскольку сознание соотносится уже не с каким-то субстратом (например, с
белковой формой жизни), а со способностью [существа] переходить на новый уровень
(что в качестве своего трансцендентального условия предполагает процесс осознания
наличной ситуации). При этом мы принимаем самую слабую трактовку сознания как
[рефлексивного] осознания.
§ 2. К вопросу об онтологии сознания: волновая концепция сознания
Концептуализация проблемы сознания в европейской (античной) философии.
Никакое конкретное решение проблемы [онтологии] сознания невозможно без
принятия того или иного концептуального каркаса, который задает общие рамки
проблемной области и, тем самым, предопределяет спектр возможных решений. Поэтому
прежде чем решать проблему онтологии сознания, т.е. отвечать на содержательный
вопрос «Что такое сознание?», надо разобраться с тем, чем является сознание в
концептуальном плане. Для европейской мысли таким концептуальным каркасом
выступают концепции сознания Платона и Аристотеля.
Началом философской проработки проблемы сознания является платоновский
диалог «Федон», концептуальная значимость которого не устарела и в настоящее
время. Здесь Платон рассматривает три основополагающих концепции сознания.
При этом важность представляет не только каждая из этих концепций по
отдельности, но и их совместное рассмотрение, благодаря чему задается общее
концептуальное поле проблемы сознания для всей последующей европейской мысли. Подходы
эти таковы (подробнее об этом см. [1]):
1. Сознание представляет собой особую тонкую субстанцию (мифологические
представления о душе; прообраз последующих дуалистических субстанциональных
концепций): этой традиционной концепции собеседники придерживаются в первой
части диалога, а свое эксплицитное воплощение она находит в контраргументе Кебе-
та о ткаче и плаще.
2. Сознание является не особой субстанцией, а представляет собой свойство тела.
Тем самым сознание несамостоятельно и каузально зависимо от тела. И хотя в
диалоге эта пифагорейская концепция (понимание души как гармонии) представлена
лишь в контраргументе Симмия, но именно она (в своих многочисленных
вариациях) является самой востребованной и развитой концепцией сознания в настоящее
время (см. ниже).
3. И, наконец, собственно платоновская концепция сознания, представленная
в 3—4 арг. диалога, в рамках которой тело соотносится с категорией «материи», а
душа — с категорией «формы». Здесь в отличие от предшествующей трактовки соот-
131
ношение между душой и телом обратное. Душа не только автономна, но и первична:
форма (эйдос) детерминирует тело, как, например, форма треугольности
оформляет пространственную «материю» в треугольник, предопределяя его (треугольника)
структурные свойства.
При этом следует подчеркнуть, что введенная здесь платоновская
категориальная пара «материя vs. форма» является настолько богатой, что выделенные ранее
концептуализации сознания могут рассматриваться как два ее крайних случая. С
одной стороны, введенные Платоном формы можно мыслить как субстанции
высшего уровня (платоновский «мир идей»), и тогда мы имеем разновидность концепции
№ 1, при которой субстанции тела и души принадлежат не одному, а разным мирам.
В этом случае мы придаем платоновским формам реальный онтологический статус.
С другой стороны, формы можно мыслить онтологически зависимыми от материи,
отождествляя их (как «вторые сущности») с качествами (предикатами) субстанции
(Аристотель). В этом случае мы занимаем другую крайнюю позицию и максимально
снижаем онтологический статус платоновских форм. Причем эвристический
потенциал платоновского различения гораздо богаче, поскольку возможны и
промежуточные по сравнению с выделенными крайними случаями варианты соотношения
формы и материи (сознания и тела): например, когда формы мыслятся как
относительно независимые от материи образования, хотя и не образующие особого
идеального мира. Именно этот концептуальный вариант мы будем развивать в волновой
концепции сознания.
Следующий существенный шаг в развитии концептуального анализа делает
Аристотель в своих «Категориях». Разработанная Аристотелем «категориальная сетка»,
в основе которой лежит противопоставление субстанции и предиката, выступает
концептуальным каркасом для развития моделей сознания типа № 2 и во многом
предопределяет последующий спектр решений проблемы «mind — body». Наиболее
важная из новаций Аристотеля для разбираемой здесь проблемы состоит в том, что
предикаты вещей неоднородны и принадлежат к разным типам (категориям).
Соответственно, соотношение «тело/сознание» может трактоваться различными
способами в рамках общей категориальной схемы «субстанция (тело) — свойство
(сознание)». Причем сюда укладываются наиболее влиятельные на сегодняшний день
аналитические концепции сознания. Например, решение проблемы сознания в
логическом бихевиоризме (Г. Райл) или решение, предложенное Дж. Сёрлем, — несмотря
на их содержательное различие (противопоставление), оказываются формально
схожими: сознание здесь рассматривается как свойство (предикат) тела. Конечно, при
этом происходит определенная модернизация аристотелевского подхода благодаря
введению новых типов предикатов. Так, Райл опирается на понятие диспозиции (resp.
диспозиционных предикатов), а Сёрл — на понятие (каузального) эмерджентного
свойства. Укладывается в аристотелевское различение и функционализм X. Патнема,
который рассматривает сознание как функцию мозга, поскольку функция также
является предикатом, хотя и особого рода.
Волновая концепция сознания. Достаточно важные концептуальные новации
в понимании сознания происходят в Новое время. Первая и главная из них —
открытие феномена субъективности (сознания) — связана с декартовским cogito. He
менее важные концептуальные сдвиги связаны с лейбницевской монадой и кантов-
ским трансцендентальным единством апперцепции. Формат данного текста не
позволяет подробно описать каждую из этих концепций, поэтому ограничимся здесь
только указанием на общую тенденцию развития, которую можно определить как
последовательное преодоление субстанционализма в трактовке сознания (подробнее
об этом см. [2] и [3]).
Остановимся подробнее на изложении нашей концепции сознания, основой для
которой послужила концепция бременящегося потока Гуссерля, представляющая со-
132
бой переосмысление декартовского cogito. В своих текстах Гуссерль подчеркивает,
что неправомерно мыслить декартовское cogito по аналогии с обычной вещью.
Сознание вещью не является. Важнейшей конституентой вещи выступает сущность, в
то время как сознание лишь существует, экзистирует [эк—зистирует, т.е. выходит
из себя]. Вместе с тем, временящее сознание не является и чистой текучестью. Оно
представляет собой некий поток, превосходящий по своей устойчивости вещную
составляющую. Например, на протяжении жизни именно наше «Я» является
устойчивым, в то время как физический состав нашего тела постоянно обновляется
(отметим, что Платон также соотносит сознание с неизменной формой, а тело — с текучей
материей).
Физическим аналогом так понимаемого сознания выступает волна. Вот что
говорит в этой связи Леонардо да Винчи: «Многочисленны случаи [подобия волн],
образуемых на нивах течением ветров: волны кажутся бегущими по полю, между тем
нивы со своего места не сходят» (ср. с пламенем свечи, форма которого, образованной
потоком быстро несущихся раскаленных частиц, постоянна). Для отличения
подобных явлений от физических волн их можно назвать куматоидами (М. Розов).
Спецификой куматоидов в отличие от обычных вещей, является их: 1) относительное
безразличие к материалу; 2) относительная устойчивость и 3) способность как бы плыть
по материалу подобно волне.
Собственно предлагаемое нами решение проблемы сознания и состоит в
привлечении категориальной пары «волна vs. вещь», в рамках которого сознание
соотносится с волной, а тело — с вещью. При этом куматоиды представляют собой не обычные
физические вещи, а мета—объекты как волновые «надстройки» над обычными
физическими вещами, которые, хотя первоначально и возникают на их основе
(поэтому они все же «вторичны»), но далее приобретают относительную независимость и
подчиняют себе исходный материал, оформляя его. Вводимые нами куматоиды
могут быть соотнесены с платоновскими формами, т.е. предлагаемая нами концепция
волнового сознания представляет собой один из вариантов платоновской концепции
сознания № 3. При этом, с одной стороны, налицо каузальная обусловленность
волнового сознания телесным, а с другой, — несводимость ментального к физическому,
его относительная независимость. Тем самым, вещи и волны образуют разные
онтологические слои единой реальности, что позволяет привлечь в качестве
категориального аппарата нашего подхода концепцию слоистого бытия Н. Гартмана.
Литература:
1. Катречко С.Л. Платоновская концепция Души // AKADEMEIA. Материалы и
исследования но истории платонизма. Вып. 7. СПб., 2008.
2. Катречко С.Л. Назад к...: от Канта к Гуссерлю // Философия сознания:
классика и современность (Вторые грязновские чтения, 2006). М.: Изд. Савин С.А.,
2007. С. 55-62.
3. Катречко С.Л. Трансцендентальная модель сознания как последовательное
преодоление субстанционализма (Декарт, Кант, Гуссерль...) // Ломоносовские
чтения: Материалы научной конференции философского ф-та МГУ
«Философия, наука, образование». М.: МАКС Пресс, 2009. С. 109—117.
133
КЛЮЕВА Н.Ю.
Компьютерное моделирование
интеллектуальных функций1
Настоящее выступление будет посвящено самым общим методологическим
основаниям исследований по созданию искусственного интеллекта, которые занимают в
данный момент в сфере междисциплинарных научно-практических областей одно из
центральных мест. Это направление представляет собою интерес для
философского исследования, поскольку воплощает в компьютерных системах важнейшие идеи
и подходы, выработанные в рамках целого ряда гуманитарных дисциплин и в
рамках современного естествознания. Компьютерное моделирование и искусственный
интеллект — это воспроизведение на искусственном носителе не естественного
интеллекта, но наших представлений о естественном интеллекте и его функциях. Как
пишет отечественный исследователь проф. А.П. Огурцов, искусственный интеллект
— это не «органопроекции нашего интеллекта, а органоироекции наших
представлений об интеллекте и его актах»2.
Объектом философского исследования в данном случае оказываются
теоретическая и практическая деятельность, связанная с осознанием структуры интеллекта и
попытками реализации этих структур в компьютерных науках. Как правило,
представления о функциях мышления заимствуются из теоретизированных концепций,
принадлежащих области философии и таких конкретных наук, как: психология,
логика, кибернетика, нейробиология, физиология высшей нервной деятельности и т.п.
Заимствование представлений о характере и структуре интеллектуальной функции
носит фрагментарный характер, и полного изоморфизма между структурами
теоретических концептов и принципами организации компьютерных моделей не
наблюдается. В работах по искусственному интеллекту представление о моделируемых
функциях остается почти не эксплицированным.
В сегодняшнем выступлении я попытаюсь привести примеры, с одной стороны,
теоретических концепций, репрезентирующих некоторое представление о функциях
и устройстве естественного интеллекта, с другой стороны, компьютерных моделей
интеллектуальных функций. В ходе исторического развития человечество
накопило огромное количество определений естественного интеллекта. Однако не все идеи
оказали влияние на реальное развитие исследований в области искусственного
интеллекта.
Кратко остановимся на ключевых этапах становления исследований в области
искусственного интеллекта. Официальной датой рождения искусственного интеллекта
считается 1956 год. По инициативе одного из самых авторитетных специалистов по
данной тематике Дж. Маккарти в Дартмутском колледже состоялся
специализированный двухмесячный семинар. В роли соорганизаторов выступали М. Минский,
А. Ньюэлл, Г. Саймон. В работе семинара приняли участие десять крупнейших
американских ученых, включая Т. Мура из Принстонского университета, Р.
Соломонова и О. Селфриджа из Массачусетстского технологического института. На
семинаре были сформулированы основные задачи, которые предстояло решить но-
1 Доклад основан на материалах исследований, проведенных в рамках гранта Российского
Фонда Фундаментальных Исследований №07-06-00066а.
2 Огурцов А.П. Достижения и трудности в моделировании интеллектуальных актов //
Материалы Всероссийской междисциплинарной конференции «Философия искусственного
интеллекта», г. Москва. М.: ИФ РАН, 2005. С. 56.
134
вому научному направлению. Были рассмотрены такие аспекты искусственного
интеллекта, как: компьютерное программирование, способность машины к пониманию
естественного языка, нейронные сети, проверяемость, креативность и многие другие.
Благодаря Дартмутскому семинару в научном мире закрепилось название «Artificial
Intelligence».
На самом раннем этапе развития исследований по искусственному интеллекту
ключевую роль в формировании области сыграли работы У. Маккалока и У. Питтса1,
но в особенности идеи А. Тьюринга2, изложенные им в статье «Computing machinery
and intelligence». В результате разработок ранних идей У. Маккалока, У. Питтса3 по
созданию нейронных сетей, а также благодаря работам Ф. Розенблатта4
сформировались так называемые коннекционистские, или структурные, модели
интеллектуальных систем. В 70-е годы своим развитием это направление обязано, в первую очередь,
работам Дж. Хопфилда5.
Благодаря разработкам А. Ньюэлла, Г. Саймона6 оформился подход, основанный
на эвристическом поиске. Затруднения на этом пути вызвали к жизни новое
решение, получившее название моделей, основанных на знаниях. Инициаторами данного
направления принято считать группу ученых Стенфордского университета (Э.
Фейгенбаум, Б. Бьюкенен, Дж. Ледердерг), разработавших первую экспертную систему
DENDRAL7. Сложившееся направление обычно классифицируют как логическую
парадигму в исследованиях искусственного интеллекта.
Примерами реализации указанного логического подхода, или даже логической
парадигмы, как называет его Д.А. Поспелов, являются многочисленные работы в
области автоматического доказательства теорем, разработки языков представления
знаний логического типа (язык PROLOG). Такой подход породил «экспертные
системы, основанные на продукционных правилах, теорию реляционных баз данных,
теорию решателей и планировщиков»8. Рассмотрим вопрос о том, какие
теоретические представления об интеллектуальных функциях были использованы при
разработке конкретных кибернетических моделей в рамках этого направления.
Предлагаю более подробно остановиться на описании исторически первой
реализации логического подхода — программ автоматического доказательства теорем
Логик-теоретик (Logic Theorist, далее LT) и Общий Решатель Задач (General Problem
Solver, далее GPS).
1 McCulloch W.S., Pitts W. A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity // Bull.
Mathematical Biophysics, 1943. V. 5.
2 Turing A. Computing machinery and intelligence. Mind. 59, 1950. С 433—460. Русский
перевод: Тьюринг Л. Может ли машины мыслить? М.: ГИФМЛ, 1960.
3 McCulloch W.S., Pitts W. A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity // Bull.
Mathematical Biophysics, 1943. V. 5.
4 Rossenblatt F. Principles of Neurodynamics: Perseptrons and the Theory of Brain Mechanisms.
Spatan, Chicago, 1962.
5 HopfieldJJ. Neurons with graded respons have collective computational propeties like those of
two-state neurons. Proceedings of National Academy of Science of the United States of America,
79. С 2554-2558.
6 Newell A., Simon H. Empirical explorations with the Logic Theory Machine: a case study in
heuristics // Feigenbaum E.A., Feldman J., ed. Computers and Thought. New York: McGraw-Hill,
1963. Русский перевод: Ньюэлл А., Саймон Г. Эмпирические исследования машины «Логик-
теоретик»; пример изучения эвристики // Фейгенбаум Э., Фельдман Дж. Вычислительные
машины и мышление. М.: Издательство «Мир», 1967.
7 Lindsay R.K., Buchanan В.G., Feigenbaum Е.А., LederbergJ. Applications of artificial intelligence
for organic chemistry: the DENTRAL project. NYAVcGraw-Hill, 1980.
8 Поспелов ДА. Десять «горячих точек» в исследованиях по искусственному интеллекту //
Интеллектуальные системы (МГУ). 1996. Т.1, выи.1—4. С. 47.
135
Впервые работа программы LT1 была продемонстрирована её создателями Л. Нью-
эллом и Г. Саймоном на знаковой для всей истории области искусственного
интеллекта уже упоминавшейся Дартмутской конференции летом 1956 года. Программа LT
продемонстрировала свои возможности, предложив доказательства для большинства
теорем, содержавшихся во второй главе Principia Mathematica Б. Рассела и А. Уайтхе-
да. Известно также, что программа предложила более короткое доказательство одной
из теорем, нежели чем это было предложено Расселом и Уайтхедом2. Сегодня
предлагаю более подробно остановиться на идеях, лежащих в основе программы GPS. В
программе GPS целью работы, как и в LT, является приведение некоторого данного
исходного выражения к некоторому заданному конечному выражению.
Принципиально в программе различаются: объекты, то есть некоторые ситуации,
например, структуры задач математической логики; цели, то есть ситуации, которые
следует достичь; а также операторы. К программе прилагается список таких
операторов, то есть способов преобразования (12 правил), которые могут быть
использованы в отношении используемых программой объектов. В качестве объектов могут
выступать формулы из букв (P,Q,R,...) и логических связок ( «нет», => — «влечет
за собой», • — «и», V — «или»). В программе используется три типа целей. Первый
тип цели состоит в том, чтобы преобразовать объект а в объект Ь. Для этого
производится их сравнение и находится различие d. Если различия нет, то цель считается
достигнутой, если есть, то подцелью считается уменьшить это различие d путем
преобразования а посредством данных операторов в с. Далее требуется снова
преобразовать уже с в Ь. Второй тип цели состоит в выяснении возможности применения
некоторого оператора q к а. Если такое применение возможно, то его производят, если
нет, то необходимо выяснить различие между а и некоторым объектом, к которому
оператор q применим. Далее путем применения цели первого типа а преобразуется
в al, к которому далее применяется оператор q. Третий тип цели - это уменьшение
отличия между объектами при помощи поиска подходящего оператора. В целом
используемая в GPS модель решения задач основана на двух компонентах: процедура
сравнения двух объектов и уменьшения различий между ними (1); таблица из 12
операторов, описывающая взаимосвязи различий (2).
Создатели GPS считают, что не следует проводить четкую границу между
попыткой выполнить при помощи машины задачи, решаемые человеком, и попыткой
моделировать процессы, которые человек действительно использует при решении этих
же задач. GPS позиционируется как программа, которая «совмещает оба эти подхода
с пользой как для одного, так и для другого»3. В своей статье «GPS — программа,
моделирующая процесс человеческого мышления» А. Ньюэлл, Г. Саймон сравнивают
методику решения одной и той же формальной задачи по преобразованию исходного
символьного выражения в целевое символьное выражение человеком и программой
GPS. При этом испытуемый, в рассматриваемом случае студент, может использовать
тот же набор операторов, что и программа GPS. Целью эксперимента является
доказать, что испытуемый пользуется в ходе решения задачи теми же эвристически-
1 Описание программы опубликовано в следующей статье: Newell A., Simon H. Empirical
explorations with the Logic Theory Machine: a case study in heuristics // Feigenbaum E.A.,
Feldman J., ed. Computers and Thought. New York: McGraw-Hill, 1963, или Ньюэлл А., Саймон Г.
Эмпирические исследования машины «Логик-теоретик»; пример изучения эвристики //
Фешенбаум Э., Фельдман Дж. Вычислительные машины и мышление. М.: Издательство
«Мир», 1967. С.1 13-144
2 Рассел Су Норвш П. Искусственный интеллект: современный подход. М.: Издательский
дом «Вильяме», 2006. С. 56.
3 Ньюэлл А., Саймон Г. GPS — программа, моделирующая процесс человеческого
мышления // Фешенбаум Э., Фельдман Дж. Вычислительные машины и мышление. М.:
Издательство «Мир», 1967. С. 283.
136
ми методами, которые использует и машина, а именно, описанным выше методом
уменьшения различия. При решении задачи испытуемый не только записывает на
доске свои промежуточные результаты, но также по просьбе экспериментаторов
рассуждает вслух. Устные и письменные рассуждения испытуемого вносятся в
письменный протокол.
Проанализировав протокол испытуемого и результаты работы программы GPS,
авторы выделили несколько различий. Приведем некоторые из них. Во-первых,
некоторые правила используются испытуемым, но он не сообщает об этом ни
письменно, ни устно, из чего можно сделать вывод, что он производит некоторые операции
либо подсознательно, либо просто «в уме». В любом случае некоторые мысленные
операции оказываются в случае с человеком скрытыми от наблюдения. Авторы
указывают на неспособность GPS различать между внутренним и внешним миром
субъекта. Во-вторых, испытуемый, судя по его устным высказываниям, рассматривает
несколько вариантов решения параллельно, на что не способна предлагаемая
программа. В-третьих, фраза испытуемого «мне следовало бы...» выражает способность
человека возвращаться по ходу решения на несколько шагов назад и просматривать
решение заново, что, как считают авторы, необходимо включить в возможности
программы.
Ученые ставили своей целью не только создание машины, способной решать
задачи, требующие интеллектуальных усилий, аналогичным человеку способом, они
также ставили себе целью создание теории процесса решения задач человеком. Так,
например, «можно мыслить себе «разумную» программу, которая будет
манипулировать символами так же, как и наш испытуемый; при подаче на ее вход выражений
символической логики она будет на выходе выдавать последовательность
примененных правил, совпадающих с правилами, примененными испытуемым. Если мы
будем наблюдать извне за действиями такой программы, мы обнаружим, что она
рассматривает различные правила и оценивает различные выражения, то есть делает
то же самое, что мы обнаруживаем в протоколе опытов с человеком»1. Эта мысль
интересна для данного исследования не столько с точки зрения стремления ученых-
кибернетиков повлиять на психологическую теорию, сколько для указания на одно
принципиальное свойство создаваемой разумной машины, а именно на способность
порождать объяснения.
В рассмотренной компьютерной модели проявляется ряд существенных
характеристик интеллекта, источниками которых являются мировоззренческие
установки, понимание интеллекта, сформировавшееся в философии Античности,
философии Нового времени, классической немецкой философии, в рамках классической
логики и философии математики. Остановимся на некоторых ключевых
характеристиках. Для теории познания философии Древней Греции характерны такие
черты, как: различение чувственного познания и умозрения как различных источников
и способов познания, направленность процесса познания на постижение истины.
В философии Аристотеля мы встречаем попытку систематизации тех способов,
которыми ум достигает достоверного знания. Рассуждение, исходящее из истинных
посылок, проводимое по правилам силлогизмов, то есть по правилам формальной
логики, является доказательством и ведет к истинному знанию. Тем самым,
мышление представляется как процесс доказательства, вывода корректных заключений из
истинных посылок по некоторым формальным правилам, правилам, которые
сформулированы логикой.
При рассмотрении попыток автоматизированного доказательства, таких, как
программы LT и GPS, все более необходимым становится обращение к неявным
структурам человеческого мышления, выявлению таких характеристик интеллектуальной
Там же. С. 289.
137
деятельности, которые не были рассмотрены логикой. Структура, о которой здесь
идет речь, касается процедур выбора последующего шага, ограничения перебора
возможных вариантов.
Интересно проследить теоретические предпосылки представления о таком
структурном компоненте интеллекта, как интуиция. Обратимся к философии математики
XX века и более ранним идеям, сформировавшимся в рамках рационализма Нового
времени и немецкой классической философии.
Сходные мысли по поводу получения нового математического результата
высказывал А. Пуанкаре. «Творчество состоит как раз в том, — пишет он, — чтобы не
создавать бесполезных комбинаций, а строить такие, которые оказываются полезными.
Творчество - это отличать, выбирать»1. Пуанкаре обращает внимание на важность
отбора значимых комбинаций, который оказывается ключевым моментом и в
разработке современных автоматических систем доказательства теорем.
Пуанкаре пишет об этом процессе следующее: «Математическое доказательство
представляет собой не просто какое-то нагромождение силлогизмов: это силлогизмы,
расположенные в известном порядке, причем этот порядок расположения элементов
оказывается гораздо более важным, чем сами элементы»2. Процесс доказательства
представляется ему не просто механическим выводом из посылок всех возможных
заключений по некоторым правилам, поскольку такой подход порождает множество
бесполезных вариантов, но выбор среди полезных комбинаций. Человек обладает
уникальной способностью «освобождать себя от труда создавать эти бесполезные
комбинации»3.
Когда речь заходит о тех возможных правилах, которыми руководствуется
человек, делая подобную выборку, они оказываются «крайне тонкого и деликатного
характера, они явственно чувствуются, но плохо поддаются формулировке», в итоге
оказывается, что это результат интуиции. Работа интуиции, по Пуанкаре,
происходит на подсознательном уровне. Результат этой работы проявляется на сознательном
уровне уже в качестве «исходных точек», набора «полезных комбинаций». Процесс
математического доказательства Пуанкаре подразделяет на два этапа: первый —
бессознательный, второй — сознательный. На бессознательном уровне происходит
предварительная работа по выбору наиболее вероятных полезных комбинаций. Затем
эти комбинации попадают на сознательный уровень: «в поле сознания появляются
действительно полезные комбинации, да еще некоторые другие, которые он <иссле-
дователь>, правда, отбросит в сторону, но которые не лишены характера полезных
комбинаций. Все происходит подобно тому, как если бы изобретатель был
экзаменатором второй ступени, имеющим дело лишь с кандидатами, успешно прошедшими
через первое испытание»4.
Второй уровень представляет собой проверку бессознательных догадок. Такие
вычисления отличаются строгостью и сложностью, поэтому, как пишет Пуанкаре,
«требуют дисциплины, внимания, воли и, следовательно, сознания»5. Задача,
которая стоит перед Пуанкаре, — доказать, что на бессознательном уровне действительно
работают именно интуитивные механизмы.
Тезис о том, что бессознательная работа представляет собой некоторую
механическую работу по получению максимального количества комбинаций,
представляется ему неправомерным. С одной стороны, если признать механический
характер бессознательной работы, то «таинственной» представляется причина
1 Паункаре А. Наука и метод // О науке. М.: Наука, 1990. С. 403.
2 Там же. С. 402.
3 Там же. С. 408.
4 Там же. С. 404.
5 Там же. С. 413.
138
того, почему «среди тысяч продуктов нашей бессознательной деятельности одним
удается переступить порог сознания, тогда как другие остаются за его порогом»1.
С другой стороны, Пуанкаре указывает на определенный характер результата
бессознательной работы. Этот результат не соответствует по форме результату
механической работы. «Никогда не случается, чтобы бессознательная работа
доставила вполне готовым результат сколько-нибудь продолжительного вычисления,
состоящего в одном только применении определенных правил. Казалось бы, что
абсолютное «я» подсознания в особенности должно быть способно к такого рода
работе, являющейся в некотором роде исключительно механической. Казалось
бы, что думая вечером о множителях какого-нибудь произведения, можно
надеяться найти при пробуждении готовым самое произведение или, еще иначе, что
алгебраическое вычисление, например, проверка, может быть выполнено помимо
сознания. Но в действительности ничего подобного не происходит, как то
доказывают наблюдения»2.
В противоположность сознательному этапу вычислений на бессознательном
этапе имеет место отсутствие дисциплины и порядка. Таким образом, математическое
доказательство задействует как бессознательные, так и сознательные механизмы,
причем, часто подсознательному этапу предшествует этап предварительной
сознательной работы. На бессознательном уровне господствует интуиция, на
сознательном — строгие, четкие правила логики. Пуанкаре однозначно ставит проблему
перехода к осознанию полезных вариантов. Он пишет, «лишь некоторые среди них
оказываются гармоничными, а, следовательно, полезными и прекрасными в то же
время; именно они сумеют разбудить ту специальную восприимчивость математика,
последняя же, однажды возбужденная, со своей стороны, привлечет наше внимание
к этим комбинациям и этим даст возможность переступить через порог сознания»3.
Пуанкаре четко фиксирует мысль о том, что творческая выборка полезных
вариантов представляет собой бессознательную работу человеческой интуиции. В.Ф. Асмус
указывает на то, что у Пуанкаре «интуиция» выступает и как синоним
математической «догадки», математического вдохновения, и как принцип математического
рассуждения, как условие математической дедукции. В данном рассмотрении ценность
представляет именно понимание интуиции как процесса, предполагающего наличие
в доказательствеу в качестве необходимого условия, элементов, не входящих в
строгую дедуктивную структуру. Пуанкаре показывает, что из системы математических
рассуждений оказывается невозможным удалить полностью те элементы, которые в
своей основе имеют не логику, но интуицию, что ограничивает возможности
логического подхода к моделированию интеллекта.
Идеи Пуанкаре не только сыграли огромную роль в истории математики и в
целом в науке XX века, но и повлияли на ученых, работающих в области кибернетики.
Д.А. Поспелов считает, что вопросы, поднятые великим математиком и философом
А. Пуанкаре, а также идеи философов-рационалистов XVII века имеют прямое
отношение к трудностям, вставшим на пути современных специалистов, работающих над
моделированием интеллекта. Мысль Пуанкаре, несомненно, базировалась на
представлениях, сформировавшихся задолго до него в истории философии. Эти идеи о
соотношении логики и интуитивного в познании волновали многих философов
XVII века. Декарт, Лейбниц, Спиноза, философы и одновременно ученые, которые
внесли существенный вклад в развитие математики и логики, неоднократно
обращались к вопросу о возникновении и обосновании математических истин. В первую
очередь интерес для философов XVII века представляли именно истины, лежащие в
1 Там же. С. 409.
2 Там же. С. 413.
:i Там же. С. 411.
139
основе математики как науки, роль в процессе их постижения играл процесс
интеллектуальной интуиции.
При рассмотрении попыток автоматизированного доказательства, таких, как
программы LT и GPS, все более необходимым становится обращение к неявным
структурам человеческого мышления, выявлению таких характеристик
интеллектуальной деятельности, которые не были рассмотрены логикой. Структура, о которой
здесь идет речь, касается процедур выбора последующего шага, ограничения
перебора возможных вариантов. С одной стороны, мы фиксируем понимание интеллекта
как процесса доказательства, вывода корректных заключений из истинных посылок
по некоторым формальным правилам, правилам, которые сформулированы
логикой. С другой стороны, заметно расширение такого понимания за счет добавления
к решению логической задачи установки на решение вычислительной задачи. При
реализации первого типа задачи машина пользуется жестким путем решения,
который заложен в неё программистом. В таком случае продолжение процесса всегда
однозначно определено, и даже если имеется разветвление, то машина имеет
информацию, которая позволяет ей сделать дальнейший шаг. При решении задач второго
типа выбор в узле не является однозначно определенным. Задачи такого типа
могут быть решены машиной путем полного или частичного перебора вариантов. Как
отмечает Поспелов Д.А., главная особенность естественного интеллекта в том, что
«в отличие от машины человек проводит целесообразный перебор, резко
сокращает число просматриваемых вариантов за счет априорной оценки многих из них как
неперспективных»1. Именно эта идея и лежит в основе программ LT и GPS,
создатели которых А. Ньюэлл и Г. Саймон являются признанными основателями
такого направления, как эвристическое программирование. Постановка такой задачи и
пути её решения в явном виде изоморфны сформулированным ранее теоретическим
концептам относительно наличия в доказательстве, в качестве необходимого
условия, элементов, не входящих в строгую дедуктивную структуру; бессознательного
характера мыслительных процедур2.
В настоящем кратком выступлении нам удалось остановиться фактически лишь
на одном варианте модели интеллектуальной функции, репрезентантом которой
оказались программы GPS и LP. Заметим, что, на наш взгляд, все на настоящий
момент представленные в компьютерных науках модели искусственного интеллекта
предполагают заимствование ряда характеристик из теоретических представлений
о функциях естественного интеллекта и включают моделирование двух различных
типов: моделирование механизма организации интеллектуальной функции и
моделирование результата действия интеллектуальной функции. Представляется, что в
настоящем докладе был проиллюстрирован вариант моделирования результата
действия интеллектуальной функции, что в целом характерно для логической
парадигмы в области искусственного интеллекта3.
1 Поспелов ДА., Пушкин В.Н. Мышление и автоматы. М.: Изд-во «Советское радио», 1972.
С.21.
2 Отметим, однако, что авторы GPS не разделяли уверенности рассмотренных в первой
части исследования мыслителей относительно неформализуемого характера этих неявных
процедур.
3 Более подробно вопрос о методологических основаниях исследований в области
искусственного интеллекта рассматривается автором в диссертационном исследовании на
соискание ученой степени кандидата философских наук на тему: «Отношение теоретических
концепций и компьютерных моделей в исследованиях искусственного интеллекта». М., 2008 г.
(работы авторадо 2009 года выходили под фамилией Трушкина).
140
КОСИЛОВАЕ.В.
Некоторые данные об аутизме
с точки зрения феноменологической теории сознания
I. Аутизм как отсутствие горизонта
История аутизма
Аутизм, о котором пойдет речь в этой статье, — это нарушение развития,
появляющееся в раннем детском возрасте, наиболее заметным признаком которого
является отсутствие контакта с окружающими людьми, в том числе, в большинстве
случаев, отсутствие речи и взгляда в глаза. Действия с предметами и движения могут
быть развиты хорошо. Очень часто имеются стереотипные действия: раскачивание,
верчение предметов в руках и т.п. Общие интеллектуальные способности при
аутизме обычно понижены (скорее всего, потому что дети не общаются), но бывает, что
невербальный интеллект в норме или высокий, а также есть случаи аутистов с
феноменальными способностями. Известны так называемые аутисты-саванты: счетчики,
художники. Есть группа аутистов, которые владеют речью. Однако они используют
речь не для коммуникации. Часто они произносят монологи, ни к кому не обращаясь.
У таких детей может быть высокий вербальный интеллект. Есть группа нетипичных
аутистов, которые лучше говорят, чем двигаются. Но всегда аутисты говорят больше
всего сами с собой.
Исследование аутизма началось сравнительно недавно. У термина достаточно
сложная история: он был впервые введен О. Блейлером для описания особенностей
мышления при шизофрении. Затем понятие «аутизм» стало обозначать, в широком
смысле, мысль, не направленную на сообщение. В этом значении он употреблялся
Фрейдом и Пиаже и достаточно часто до сих пор употребляется в некоторых школах
психоанализа. Чтобы отличить „блейлеровский" аутизм как несоциализированность
мысли от клинического аутизма, проявляющегося такими тяжелыми нарушениями,
как полное отсутствие речи и контакта, во втором значении иногда говорят
«клинический аутизм» или «детский аутизм». Впервые это состояние было описано в
1943 году Л. Каннером. Однако следует заметить, что и до этого времени появлялись
описания подобных состояний, без употребления данного термина.
Начиная середины XX века поток исследований аутизма непрерывно возрастает.
Практически все работы принадлежат или психологам и психоаналитикам, или
биологам. Единственное исключение — отечественный философ Ф.И. Гиренок, который
интерпретирует аутистическое мышление в традиции кантовской философии. Из
отечественных авторов укажем также на глубокие исследования О.С. Никольской,
которая описывает 4 формы аутизма, по степени глубины дефекта, и в основе аутизма
видит недостаточность психологических механизмов защиты. Широкую известность
получили работы американского психоаналитика Б. Беттельхейма, который считает,
что причиной аутизма является холодность матери к младенцу. В настоящее время
эту теорию можно считать опровергнутой, однако, в работах Беттельхейма имеется
немало ценных мыслей и наблюдений. Важное направление в осмыслении аутизма
задано работами американского философа Д. Дэннета о понятии сознания (theory of
mind). Сами идеи Деннета были высказаны безотносительно аутизма, но они были
использованы для объяснения особенностей аутистического сознания английскими
психологами Ф. Аппе и С. Барон-Коэном. Согласно теории Аппе, центральное
нарушение при аутизме — отсутствие theory of mind (подробно см. ниже). Наконец,
германо-английский психолог У. Фрит предложила теорию «слабости центрального
141
согласования», которая может быть названа наиболее убедительной из всех
психологических теорий аутизма на сегодняшний момент.
Проблема основного нарушения при аутизме
Итак, проблема состоит в следующем. Данные три признака часто встречаются у
аутичных детей, и непонятно, как они связаны между собой:
1. Эти дети, как сказано выше, практически не имеют речи и не общаются;
2. У этих детей отсутствует символическая игра;
3. У этих детей нет так называемой theory of mind.
Последние два пункта нужно пояснить.
Символическая игра — это игра, в которой один предмет (игрушка) служит
репрезентантом другого предмета (реального). Например, ребенок берет карандаш и
говорит: «Вот это мальчик». Берет ручку и говорит: «Вот это девочка». Имитирует
шаги по столу и говорит: «Они пошли гулять». Из того, что у аутистов нет
символической игры, некоторые авторы заключают, что у них нет функции воображения, хотя
это под вопросом. Вообще какую когнитивную способность задействует
символическая игра? Перемещение роли с одного объекта на другой, улавливание сущностных
свойств объекта, способность мышления одновременно в разных плоскостях? Это
отдельный вопрос, который сейчас разбирать сложно, но, как бы то ни было, у
аутистов символической игры нет. Они обычно любой предмет просто крутят в руках.
Theory of mind — это мысли ребенка о том, что думают другие люди. Важным
является, прежде всего, то, что ребенок думает, что другие тоже думают. Впервые
формирование способности встать на точку зрения другого человека, да и просто
понять, что другая точка зрения есть, описал Пиаже, в творчестве которого вообще
важное место занимала тема аутизма как одной из стадий развития нормального
интеллекта. В многочисленных исследованиях детей-аутистов было показано, что
у них вообще нет способности представлять себе точку зрения другого человека.
Даже на уровне физических движений заметно, что дети-аутисты не замечают
других людей, обращаются с ними как с физическими предметами (не соблюдают
дистанции, например, никогда не сморят в глаза). Поскольку с отдельными группами
аутистов можно наладить некий контакт, этих детей тестировали на theory of mind.
Тестирование проводится так: ребенку показывают две фигуры, Салли и Энн, обе
фигуры видят некий предмет — шарик. Затем фигура Салли убирается, она ушла. А
фигура Энн перекладывает шарик из одного места в другое. Ребенка спрашивают:
Салли сейчас вернется, где она будет искать шарик? Правильный ответ: там, где он
был раньше, потому что Салли ведь не видела, как Энн его переложила. А ребенок
видел, как Энн переложила игрушку, и знает, где на самом деле шарик. Так вот: что
ребенок думает про то, что думает Салли? Обычные дети 5—8 лет решают эту
задачу легко, аутисты с большим трудом. Им все время кажется, что если они знают,
что шарик тут, то и Салли это знает. Им не приходит в голову, что она не могла это
узнать. То есть у них нет модели сознания другого человека: как тот видит, как
думает, и почему.
Вот пример сложного теста на theory of mind, который далеко не с легкостью
решает даже нормальный взрослый человек:
Это Мери и Джон. Сегодня они пришли в парк. Приехал фургон с мороженым. Джон
хочет купить мороженое, но он забыл деньги дома. Чтобы купить мороженое, ему
надо пойти домой и взять деньги. Мороженщик говорит Джону: «Все в порядке, Джон,
я буду в парке весь день. Так что ты можешь пойти домой и взять деньги, а потом
вернуться и купить мороженое. Я все еще буду здесь». Итак, Джон побежал домой за
деньгами.
Но, когда Джон ушел, мороженщик изменил свои планы. Он решил, что не
собирается оставаться в парке всю вторую половину дня, вместо этого он пойдет про-
142
давать мороженое возле церкви. Он говорит Мери: «Я не буду, как сказал, стоять в
парке, вместо этого я пойду к церкви».
(Проверка понимания № 1:Джон слышал, что мороженщик сказал Мери?)
Итак, после полудня Мери пошла домой, а мороженщик отправился к церкви. Но
по пути он встретил Джона. Так что он сказал Джону: «Я передумал. Я не хочу
оставаться в парке, я собираюсь продавать мороженое около церкви». После этого
мороженщик поехал к церкви.
(Проверка понимания № 1: Мери слышала, что мороженщик сказал Джону?)
Во второй половине дня Мери пришла к дому Джона и постучалась в дверь. Дверь
открыла мама Джона, она сказала: «Ой, Мери, мне жаль, но Джон ушел. Он пошел за
мороженым».
Вопрос на theory of mind: Как думает Мери, куда Джон пошел за мороженым?
(Вопрос на понимание причины такого ожидания: Почему Мери так думает?)
(Вопрос на понимание реального положения вещей: Куда на самом деле пошел
покупать мороженое Джон ?)
(Вопрос на запоминание: Где мороженщик был сначала?)
[Anne, 2006]
В некоторых исследованиях отмечается, что, в то время как у нормальных
испытуемых правильность решения этого теста не коррелирует с показателем вербального
интеллекта, у аутистов имеется такая корреляция. По-видимому, это говорит о том,
что для решения такого рода задач они пользуются какими-то особыми стратегиями,
требующими речи.
Один из главных вопросов, который стоит перед теорией аутизма: в чем состоит
основное расстройство при аутизме, если нарушаются три функции, которые, на
первый взгляд не связаны между собой?
Точнее, две из них в кажутся близкими — общение и theory of mind. Неясно, что
общего у общения и символической игры и у символической игры и theory of mind. У
общения и theory of mind общее то, что для того, чтобы нормально общаться, нужно
иметь theory of mind (грубо говоря, считать других людей людьми). Хотя и с
последним далеко не так просто, потому что нормальный ребенок начинает общаться
гораздо раньше, чем имеет смысл говорить о theory of mind. Он уже в несколько месяцев
способен проследить направление взгляда матери (феномен совместного внимания),
чего у аутистов тоже нет. Так что, может быть, наоборот, theory of mind создается
только у тех, кто общается.
А вот символическая игра и вовсе не понятно, как с этим связана.
Аутизм и вербализм
Может показаться, что такие два состояния, как аутизм и вербализм, — это два
полюса. Сознание аутиста максимально отличается от сознания вербалиста, а сознание
обычного человека занимает некоторое среднее положение. Однако, как ни странно,
более вероятно, что вербализм весьма родственен аутизму.
На первый взгляд, они кажутся противоположными по главному и
стержневому признаку: для аутистов типично то, что они не говорят, а для вербалистов — что
они говорят все время. Правда, то и другое — некие идеализированные полюса. Есть
аутисты, которые говорят, но плохо; есть такие, которые говорят, но невпопад.
Некоторые говорят вообще замечательно, но, никого не слушая и ни к кому не обращаясь,
их речь не служит коммуникации. Дети, которые одновременно и аутичны, и все
время говорят, называются детьми с «синдромом Аспергера». Вербалисты тоже разные.
Некоторые говорят не все время, а почти тогда же, когда и нормальные люди, разве
лишь используют чуть-чуть больше слов, чем надо.
Еще одно важное отличие. Типичный аутист не социализирован. Он не понимает
других людей. Он не умеет врать, не хитер. Типичный вербалист очень хорошо со-
143
циализирован. Он хитер. Он прекрасно понимает и людей, и когда что сказать, чтобы
вышло то, что нужно.
Почему же они мне кажутся едиными в основном? И те, и другие избегают смысла.
Конечно, по степени избегания смысла аутисты убегают дальше. Они не улавливают
ни смысла речи, ни смысла ситуации, ни смысла символов (у них нет
«символической игры», буквы они рисуют один к одному, их рисунки очень конкретны). Зачем
они избегают смысла — это другой вопрос. Что-то их от него отталкивает. Смысл —
тяжелая штука. По-видимому, нужны большие ресурсы сознания, чтобы заставить
себя удерживать смысл.
Вербалисты не так радикально отвергают смысл, они хорошо улавливают смысл
ситуаций и символов. Но они его не любят. Если можно сложить высказывание по
чисто внешним законам, синтаксически, то им так легче. Их не интересует, как оно
на самом деле, потому что словами можно поговорить, понятия не имея о том, что на
самом деле они обозначают, только зная, какие слова принято говорить. Соотнесение
смысла как употребления и смысла как денотата, как выводящего к чему-то
жизненному, — этого они избегают.
Поэтому в жизни вербалисты часто так же беспомощны, как и аутисты. Те и
другие, избегая смысла, избегают реальности.
Перцептивная вовлеченность и смысл
Есть два познавательные состояния.
Первое состояние — вовлеченность в перцепцию. Если отвлечься от
кантианского смысла слова, можно назвать это созерцанием. Перцепция может быть в
любой модальности ощущения, например тактильная, но, поскольку визуальная у
человека богаче, в нее легче вовлечься. На некоторое время состояние
перцептивной вовлеченности может возникать, в том числе, у совершенно здоровых людей.
Это состояние, когда смотришь и ни о чем не думаешь. Однако, насколько я
понимаю, у здоровых людей это состояние всегда сопровождается ощущением как бы
предмысли, то есть того, что мысль может возникнуть в любой момент. О какой
мысли речь? Первая мысль, которая возникает «вслед» за чистой перцепцией, —
это понимание того, что ты видишь. В современной когнитивной науке довольно
много свидетельств, что никогда не бывает видения без понимания того, что
видишь, и без некоторого предвосхищения того, что это будет. Однако я полагаю,
что в редких состояниях перцептивной вовлеченности созерцание без понимания
вполне возможно. Я также предполагаю, что перцептивная вовлеченность есть
довольно сильное психологическое переживание, которое почти обязательно
сопровождается также ощущением отсутствия других сознаний и, согласно моему
личному опыту, даже отсутствием памяти о реальных людях, находящихся
поблизости. Повторюсь, что, разумеется, состояние это в жизни нормального
человека далеко не часто. Насколько я могу представить условия, при которых
возникает состояние перцептивной вовлеченности, — это широкое визуальное поле
с периодическими изменениями яркости и/или цвета. Однако это только
предположение.
Второе состояние я называю горизонтным. Это мой личный термин. Как легко
догадаться, я взяла идею у Гуссерля. Когда мы не просто смотрим, а понимаем,
что происходит, мы привлекаем в наличное восприятие горизонт нашего знания.
Когда мы не просто слышим данный звук в данный момент, а просматриваем всю
мелодию, в прошлом и в будущем, мы слушаем в темпоральном горизонте. Когда
я не просто смотрю, а думаю — я существую в интерсубъективной сфере, то есть
еще в одном горизонте, в горизонте социума. Если я смотрю на хорошо знакомый
предмет, например, кубик для бросания, вижу на нем грань с двойкой, то я
одновременно как бы вижу весь кубик, со всеми шестью гранями. Это можно назвать
144
предметным горизонтом. Но все это в целом есть главное дело сознания: обводить
вокруг восприятия горизонты и, тем самым, придавать происходящему смысл.
Второе состояние нормально у обычных людей. Первое состояние, насколько я
смогла понять, достаточно характерно для аутистов. В этом смысле очень
показательны воспоминания «бывших» аутистов, то есть людей, у которых в детском возрасте
был аутизм, а с течением времени произошла некоторая социализация и адаптация
(это возможный вариант развития событий). Вот как описывает свое детское
восприятие Ирис Юхансон: «...когда она начинала говорить, ее слова начинали кружиться
по комнате. Они были разных цветов, не тех обычных цветов, которые встречаются
повсюду, но цветов совершенно иного рода. Они светились и складывались в
причудливые узоры. Все вокруг меня было словно живое, и все двигалось в дивном узоре.
Я купалась в разноцветных искрах и кружилась в них. Они то и дело меняли форму,
и было приятно плыть в этом потоке». Об отсутствии осмысления: «Я не понимаю
содержание речи нормальным образом, не осмысливаю ее. Субстантивные понятия
я усваивала хорошо, если их не нужно было обобщать. Лампа — это именно та лампа,
которая выглядит вот так, и никак иначе. Если кто-то говорил о лампе другого типа,
ее для меня не существовало».
А вот ее примечательное свидетельство о ее нынешнем состоянии сознания: «Я
никогда не нахожусь в прошедшем времени или в том, которое наступит, я постоянно
присутствую. Только на мгновение, когда я смотрю в ежедневник, я оказываюсь на
некой дистанции от настоящего».
Последнее показывает, что даже у человека, вполне вышедшего из состояния
аутизма, сохраняется слабость удержания временного горизонта.
По-видимому, для развития нормального горизонтного механизма необходимы
два условия: некоторая врожденная способность и наличие в развитии ребенка
социальной сферы. Если имеется способность, но не имеется сферы, возникает феномен
«Дети-маугли». Если имеется сфера, но не имеется способности, возникает феномен
«Дети-аутисты». На сходство аутистов с Маугли указывает, например, Б. Беттель-
хейм (хотя он считает, что все дети-Маугли на самом деле являются аутистами, с чем
трудно безоговорочно согласиться).
П. Горизонт и символ
Остается вопрос, какова связь между горизонтным механизмом и символизацией.
Поскольку это не просто понять непосредственно, я думаю, следует ввести третье,
которое, возможно, опосредует эту связь или поможет ее прояснить: социальное. Итак,
нам нужно проследить две связи: между символическим и социальным и между
социальным и горизонтным.
Символическое и социальное
На первый взгляд, связь между символическим и социальным — это речь.
Причем именно речи у аутистов нет. Социальное отсутствует у аутистов первично, по
крайней мере, можно судить об этом по тому, что эти дети уже в возрасте нескольких
месяцев не прослеживают взгляд взрослого, а нормальные младенцы —
прослеживают (это так называемый феномен совместного внимания, на отсутствие которого
у аутистов указывает Ф. Аппе и др.1)- Отсутствие речи у аутистов, скорее всего,
связано с общим отсутствием социального: имеется достаточно много свидетельств, что
они вполне способны усваивать слова эхолалически, употреблять их как стимулы, но
с огромным трудом усваивают значения таких слов, как «я» и «ты».
Однако не все настолько просто. По крайней мере, символическая игра, на
первый взгляд, напрямую совершенно не связана с речью. Она задействует, насколько
1 Simon Baron-Cohen, Dare A. Baldwin, and Mary Crowson. Do Children with Autism Use the
Speaker's Direction of Gaze Strategy to Crack the Code of Language? // Child Development,
February 1997. V. 68, № 1. P. 48-57.
145
я могу судить, способность воображения, а также некую способность отстранения от
наличной ситуации, на что указывает и Ф. Аппе, которая говорит о «репрезентации
внутренних представлений». Эта мысль у нее не ясна, но насколько я поняла, имеется
в виду, что для того, чтобы играть в символическую игру, нужно представить себе
что-то одно как что-то другое, вопреки чувственному опыту. В том примере, который
я привела выше, нужно представить себе карандаш не карандашом, а мальчиком, но
также и мальчика — не мальчиком, а чем-то таким, что можно изобразить с помощью
карандаша, то есть какой-то простой высокой фигурой без признаков. Чтобы глядеть
на карандаш и думать о том, что это мальчик, ребенок, играющий в символическую
игру, должен обладать способностью внутренне переводить одно в другое. Вероятно,
способность эта в принципе та же, что нужна и для абстрактной речи. В данном случае
карандаш — это символ. В него ребенок помещает представление о мальчике, которое
имеется у него в сознании, и причем само это представление тоже достаточно
абстрактно. Мне кажется, что легче помыслить в виде карандаша мальчика вообще, нежели
конкретного знакомого Петю. Правда, карандаш в руке ребенка является символом,
конечно, не в том смысле, как им является слово «мальчик». Слово — это только
символ, а карандаш — это и конкретный игрушечный мальчик. Описанная игра
обращается еще к довольно конкретному мышлению, хотя символизации, конечно, требует,
в виде замещения чего-то одного чем-то другим с использованием общего понятия.
А эта способность требуется для любой абстрактной мысли, а также для речи, если
только эта речь использует хотя бы какие-нибудь предикаты, поскольку предикаты —
всегда символы, которые абстрактно репрезентируют какие-то представления.
Поэтому мы не можем предполагать, что социум создает символическую мысль
посредством речи. Мы можем только сказать, что для формирования речи нужны
и социальная способность, и символическая способность (способность представить
что-то одно в виде чего-то другого). У аутистов нарушено то и другое, но
причинная связь между этими нарушениями не видна. По-видимому, можно предполагать с
большой вероятностью, что развитие речи стимулирует развитие способности к
символизации, однако, сама способность к символизации не зависима от речи, вероятно,
более первична, чем речь, и именно речь основана на ней.
Социальное и горизонт
Является ли наличие смыслового горизонта в сознании «нормального» субъекта
результатом его социализации? Выше я предположила, что да. Однако это не
очевидно. Вообще говоря, вполне можно помыслить явление, аналогичное предметному
и даже смысловому горизонту в «сознании» не социального животного. Например,
кошка может смотреть на хозяина и (на основании своего опыта) «знать», что он
сейчас отдыхает и не будет ругаться, если она запрыгнет на кресло, а также «думать»,
что у него есть рука с невидимой для нее стороны, и этой рукой он может почесать ее
за ухом. Мы в таких случаях обычно берем в кавычки слова «знать» и «думать»,
чтобы подчеркнуть, что кошки, возможно, знают и думают не так, как мы, но я не вижу
принципиальных причин сомневаться в наличии у кошки горизонтности сознания.
Правда, вряд ли этот горизонт у нее обширен. Однако социального научения для его
появления не нужно.
В пятом картезианском размышлении Гуссерль указывает, что мы обнаруживаем
в своем сознании сферу других, едва лишь покидаем самую первичную для себя
сферу — сферу непосредственных данных телесности1. Гуссерль подчеркивает, что вооб-
1 Вопрос о том, насколько сфера телесности первична для нашего опыта, по-видимому,
решен Гуссерлем неверно. В частности, данные исследований на аутистах свидетельствуют,
что собственное тело воспринимается ими ослабленно и искаженно, а работы
психоаналитических школ достаточно убедительно показывают, что изначально тело является
неразделимым с внешним миром. Однако в этот вопрос здесь нет возможности углубляться.
146
ще никакое конституирование предметности не происходит без участия этой сферы
Других, которую я выше назвала социальным горизонтом сознания. Вопроса о роли
речи и роли символизации он в этом месте не касается, просто указывает, что сфера
Других первичнее для сознания, чем предметная сфера, причем предметная сфера —
это всегда нечто, что воспринимается и знается совместно с другими, не в моем
личном мире, а в мире, как выражается Гуссерль, сообщества монад. По-видимому, с ним
приходится согласиться, по меньшей мере, для подавляющего большинства случаев
человеческого опыта. Например, я сейчас пишу статью об аутистах, горизонтах,
символах и социуме. Разве есть хоть что-нибудь в том, что я пишу, что я знала бы только
для себя, что было бы первоначально конституировано моим сознанием без участия
сферы Других? Аутистов впервые открыл мне Гиренок через Поршнева, о
горизонте я прочитала у Гуссерля, о символизации — у Anne, a наиболее интересные слова
о социуме в этом контексте довелось видеть у Выготского (я буду писать об этом
ниже). Безусловно, я наблюдаю у себя ход собственной мысли (иногда), но все ходы
совершаются между понятиями, которые конституированы Другими. Фактически в
моем сознании Гиренок спорит с Гуссерлем, а мое сознание представляет собой нечто
вроде потенциального пространства для их спора. Связи, которые проводятся между
понятиями, опять же по возможности презентируются Другим, для чего, скажем, и
пишется эта статья.
Поэтому мы можем с большой долей уверенности предположить, что у
несоциальных животных примитивный предметный горизонт без социального научения,
может быть, и возможен, но у человека ничего, что хотя бы чуть-чуть выходило за
рамки только предметного горизонта, выводило бы к опыту, к предвидению и тем
более к пониманию, — без социального горизонта быть не может.
Интенциональная среда
Откуда можно почерпнуть идеи, каким образом социум приводит к такому
феномену, как понимание происходящего? Выше я связала понимание с «горизонтным
механизмом» и противопоставила его простому созерцанию, вовлеченности в
перцепцию. Я полагаю, что для этого окажется полезным понятие «интенциональная
среда». Его ввела я в работе [Косилова, 2008] для того, чтобы прокомментировать
известные результаты Пиаже о том, что дети в возрасте 3—5 лет говорят как бы сами
с собой. Пиаже называет это «эгоцентрическая речь». Он указывает, что дети ни к
кому не обращаются, однако же и не думают о том, что их никто не слышит. Они как
бы предполагают, что их слушают все вокруг. С другой стороны, можно показать, что
они «на самом деле» не предполагают, что их слушают, так как при наличии
реального собеседника их речь заметно меняется. Так к кому же обращаются дети, когда
говорят эгоцентрической речью? По-видимому, в сознании ребенка имеется некая
интенциональная среда, а именно, нечто неопределенное, внимание чего направлено
на него. Можно предполагать, что это оставшееся от младенчества воспоминание о
взгляде матери.
Интенциональная среда стимулирует развитие речи, так как дает возможность
ребенку говорить в отсутствие всяких реальных собеседников. В свою очередь,
развитие речи само собой приводит к развитию мышления, в частности, и к такой
функции мышления, как символические операции.
Что еще более важно, интенциональная среда дает отстранение от наличного, она
дает возможность развиваться воображению.
Имеется в сознании аутистов интенциональная среда? Вообще говоря, нет
оснований предполагать, что ее у них совсем нет, однако, высокая доля перцептивной
вовлеченности, которая приводит, говоря словами психологов, к «полевому
поведению», позволяет предположить, что интенциональная среда вносит малый вклад в
их сознание, значительно меньший, чем у нормальных детей. Эгоцентрик не может
147
отстраниться от ситуации, и его действия непосредственно определяются ею. Это
касается как внешней ситуации, так и внутренней, то есть физического состояния
организма. Еще Выготский показал, что способность отстранения от ситуации
базируется на особом механизме, который он назвал внутренней психической активностью.
Благодаря этому механизму появляется торможение непосредственных реакций,
отстранение от наличного, осмысление его и планирование деятельности. Указанный
им механизм весьма напоминает горизонтный механизм, в нашей терминологии. В
этом пункте изложенная теория очень хорошо согласуется с практикой, так как у
большинства аутистов наблюдаются элементы полевого поведения и практически у
всех — эгоцентризм, в особенности в виде отсутствия theory of mind.
Следует отметить, что при аутизме наблюдаются также симптомы, которые
напрямую не объясняются данной теорией, например, стереотипии (дети подолгу
вертят в руках предметы, машут пальцами перед глазами, раскачиваются). Выше я
предположила, что равномерная стимуляция широкого зрительного поля
поддерживает состояние перцептивной вовлеченности, в котором аутист, если можно так
выразиться, заинтересован, ибо ему некуда выходить из него. Нормальный человек
может пробыть вовлеченным в перцепцию очень недолго и быстро возвращается к го-
ризонтному состоянию, для которого характерно течение «понимательных», «пред-
видетельных», а также посторонних мыслей. У нормального ребенка самое обычное
горизонтное состояние — игра, причем это игра с самим собой, то есть, как мы видели
выше, с интенциональной средой. А у аутиста, кроме вовлеченного состояния,
возможна только пустота. В отсутствие интенциональной среды в сознании ему, если
так можно выразиться, «не с кем играть», не о чем думать. Я полагаю, что
стереотипные действия возникают как вариант поддержания потока стимулов, в который
аутист может быть вовлечен.
Символ и речь
Последний вопрос, который нужно разобрать: всегда ли функция символизации
требует речи? Выше мы предположили, что символизация возможна, только если есть
горизонтный механизм в сознании, ибо только горизонт дает отстранение от
наличного. У ребенка социальный горизонт представлен в виде интенциональной среды, с
которой он разговаривает, поэтому может показаться, что все остальные функции
завязаны на речь. Однако о некоторых функциях приходится сказать, что, скорее, речь
завязана на них. Вот что пишет известная отечественная исследовательница речевых
нарушений у детей P.E. Левина о детях, речь которых не несет функции
символизации (она называет это «Автономная речь»): «Внешний мир ... не имеет
постоянной картины. Акты восприятия и осмысления воспринимаемого почти не связаны.
... Разумеется, при этом необычайно велика связанность зрительным полем, которая
всецело определяет основные черты поведения „автономика", всю его деятельность.
Свобода от зрительной ситуации возникает и развивается вместе с развитием
смыслового восприятия [выделение мое — К.Е.]. Здесь мы имеем поведение, в полной
мере подчиненное впечатлениям, мотивы деятельности всецело даны ситуацией. ...
[каково понимание своего внутреннего мира]. В автономной речи с ее связанностью
внешним называние своих переживаний ничтожно. Вот почему ребенок-автономик
весь во власти своего переживания. Он не владеет своим внутренним миром. Если
во внешнем мире он связан ситуацией, то здесь он подчинен своим переживаниям,
которые не выделяются, не осмысляются им как таковые. Разумеется, внутренняя
активность при этом сведена к нулю. ... Дети-автономики по своей сущности
спонтанны... Основной дефект речевого развития ребенка-автономика — невозможность
овладения нормальной речью — восходит к основному дефекту всей структуры
личности — недостаточной внутренней активности, т.е. недостаточностью овладения
своими собственными психологическими процессами» (с. 67). Эта мысль Левиной
148
находится в связи с идеей Выготского о том, что понимание смысла основано на
внутренней психической активности (именно ее я называю горизонтным механизмом).
Мы видим по этому описанию детей (по-видимому, некоторые из этих детей были
аутисты; в момент написания книги Левиной (1936) их так еще не называли), что
особенности речи выводятся из слабости горизонтного механизма, в частности,
механизма символизации.
Следовательно, будет достаточно логично предположить, что символизация сама
по себе речи не требует, она по отношению к ней первична. Она требует только
наличия горизонтности сознания.
Заключение
Предложенная концепция аутизма, в которой были использованы идеи Гуссерля
о горизонтах сознания и Пиаже об эгоцентрической речи ребенка, не претендует на
то, чтобы исчерпывающим образом объяснить все особенности сознания аутистов
как вытекающие из того, что у них отсутствует механизм горизонта. Однако я
полагаю, что все-таки она может оказаться продуктивной, по крайней мере, для
осмысления необходимых связей между такими вещами, как: роль социума в конституиро-
вании сознания человека; функции, которые играют речь и символ; момент перехода
от эгоцентрической позиции к эксцентрической и другими вопросами, от ответа на
которые зависит наше понимание сознания.
Литература:
1. Гуссерль Э. Раскрытие сферы трансцендентального бытия как монадологи-
ческой интерсубъективности / Картезианские размышления. СПб.: Наука:
Ювента, 1998.
2. Пиаже Ж. Эгоцентрическая речь // Общая психология, тексты. Т. 3. Кн. 1.
С. 436.
3. Гиренок Ф. Грезы — это разверзшаяся бесконечность. Режим доступа: http://
exlibris.ng.ru/person/2008-09-04/9_girenok.html.
4. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма. М.,
1991.
5. Никольская О.С, Баенская Е.Р., Либлинг ММ. Аутичный ребенок: пути
помощи. М., 2007.
6. Беттельхейм Б. Пустая крепость : детский аутизм и рождение Я. М., 2004.
7. Anne Ф. Введение в психологическую теорию аутизма. М, 2006.
8. Косилова ЕВ. Философия возраста. Режим доступа: http://elenakosilova.narod.ru/
scientia/new.htm.
9. Левина P.E. К психологии детской речи в патологических случаях
(Автономная детская речь). М., 1936.
10. Юханссон И. Особое детство. М., 2001.
11. Uta Frith and Francesca Happé. Language and communication in autistic disorders /
Philosophical Transactions: Biological Sciences. Vol. 346, No. 1315, The
Acquisition and Dissolution of Language (Oct. 29, 1994). P. 97-104.
12. Baron-Cohen, Simon. Do People with Autism Understand What Causes Emotion? //
Child development. 1991, 62. P. 385-395.
149
КОСТИКОВА A.A.
«Нефранцузская» философия сознания во Франции
Александр Феодосиевич Грязное, памяти которого посвящена эта и по счету
третья конференция по философии сознания на философском факультете, отмечал
конвергентную тенденцию развития аналитической философии. В частности он
указывал на тот факт, что это развитие подталкивает американскую философию
формулировать новые для нее проблемы, а европейскую, прежде всего французскую,
— работать с новым для нее материалом. В этом смысле обзор аналитической
философии во Франции представляет собой прежде всего попытку обнаружить
специфику включения в философию двадцать первого века одну из основных традиций
века двадцатого, которая пришла во Францию извне и до сих пор воспринимается
многими по определению как «нефранцузская». Аналитический подход пробивает
себе путь во французской философии достаточно активно, при этом постепенно
смещаются исследовательские акценты в традиционных сферах философского поиска
во Франции, ориентированных на феноменологию или структурализм, включая все
доструктуралистские и постструктуралисткие вариации.
Эпицентром философской работы во Франции всегда была проблема смысла.
Более того, опыт рассмотрения этой проблемы в мировой философии во многом
методологически обусловлен картезианской традицией аподиктического рассмотрения
смысла, когда понятие определяется в процессе рассуждения об определении
понятия. Это во многом объединяет два полюса исследования смысла: феноменологию
и аналитическую философию, т.е. исследования смысла с точки зрения пережитого
или с точки зрения условий истинности. Французский структурализм в этой
истории поставил задачу критического рассмотрения возможностей позитивного знания
в отношении символических практик: языка, культур, искусств и т.д. Говоря
образно, он стремится сформулировать специфический подход к смыслу как эффекту,
неопределенности в ее непрерывной самореференции и вырисовывает философский
проект как своеобразный бриколаж. Этот содержательный «французский багаж»
философии, а также традиционная политическая ангажированность французской
философии — своего рода наследие, которое приняли ведущие французские
философы, занимающиеся проблемой сознания. И, несмотря на многообразие направлений
исследований, это позволяет выделить общий «французский» контекст проблемы
сознания — ее «натурализацию» , то есть внимание прежде всего вопросу о природе
смысла.
В качестве наглядной иллюстрации этой особенности национальной философии
следует обозначить интересы философов, которые воспринимаются во Франции как
представители аналитической философии. Жан-Клод Милнер (официально —
«последователь идей генеративной грамматики Ноама Хомского») разрабатывает
прежде всего лингвистические аспекты синтаксиса, историю лингвистики. Этому
посвящены теперь уже классические его труды «От синтаксиса к интерпретации» (1978),
«Порядки и основания языка» (1982), «Введение в науку о языке» (1989). Однако
предлагаемые идеи существенно изменяют исходную посылку: Ж.-К. Милнер не
признает значимости эмпирических исследований в рамках теории репрезентации
для понимания сущности языка и провозглашает лингвистическую автономию,
методологически отсылающую к пониманию языка Жака Лакана. Знаки сами по себе
не являются физическими объектами, как молекулы или кристаллы. Исследование
употребления знаков тоже не дает представления о появлении смысла, так как смысл
150
не может появиться после физической индивидуации материальной реальности,
если только мы не имеем дела с уже употребленными знаками. Смысл, наоборот,
способствует индивидуализации и идентификации знаков. Первая задача науки о
символических системах состоит, по мнению Ж.К. Милнера, в том, чтобы выстроить
ее механизмы. В отличие от структурализма, упрощающего этот механизм, задача
современной французской философии, по мысли Ж.-К. Милнера, состоит в том, чтобы
по-новому поставить проблему основания языкового сознания. В целом ряде работ,
начиная с работы «Любовь к языку» (1978) и заканчивая одной из последних —
«Путешествие вокруг структуры» (2002), речь идет об объясняющей аргументационные
основания и само поведение матрице как бесконечной и открытой возможности
процедур языка.
На основании этой идеи Ж.-К. Милнер экстраполирует объяснительные схемы
и на социальные и политические проблемы. Они отражены в изданиях «О
школе» (1984), «Археология провала: 1950—1993» (1993), «Криминальные угрозы
демократической Европы» (2003), а также в журнале «Тетради к анализу», которые он
издает с 1966 года совместно с Ж.-А. Миллером, Ф. Рейно и А. Гроришаром. Здесь не
только объясняется механизм перехода состояния сознания от бесконечного вопро-
шания о полезности какого-то утверждения к радикальному «левацкому» отказу от
какого-то утверждения как бесполезного, не только противопоставляется
традиционной «экспертной» легитимации легитимация «любительская» — от «любви к
языку». Ж.-К. Милнер провозглашает в духе Р. Декарта, который писал о необходимости
этического приложения метода, этическую программу «суда над языком, противным
истине».
Идеал Просвещения и рациональности оказывается основанием для многих
философов принять и трансформировать идеи англо-саксонской традиции. В этом ряду
первый — Жак Бувресс, оказавший влияние на целое поколение современных
французских мыслителей в духе аналитической традиции. Начиная с работ-памфлетов
«Миф внутреннего» (1976), посвященной Витгенштейну, «Рациональность и
цинизм» (1985), посвященной критике современных тенденций в философии, Ж.
Бувресс выступает против идей языка без субъекта, текстологических машин,
обезличенной власти и т.д. Философия, как об этом писал Витгенштейн, должна взять на себя
труд исследования употребления языка как языковых игр, а значит, должна взять на
себя смелость отказаться от претензии решить проблемы основания и
легитимности. Ничто само по себе, как считает Ж.Бувресс, не является ни знаком, ни языком,
ни мыслью, но все может им стать при некотором употреблении. А смысл является
употребелением. Смысл возникает по мере схождения наших культурных практик,
то есть он возникает как некий практический консенсус. Сам Ж. Бувресс вот уже на
протяжении десятилетий реализует проект «Эссе», где каждый год представляются
идеи-размышления философа.
Так же демонстративно разрывает с «семиологией смысла» и переходит на вит-
генштейновские позиции «грамматики» Винсент Декомб в работе «Грамматика
объектов разного рода» (1983). Эту идею влияния легитимизированной символической
системы на смыслы он развивает, например, в работе «Интституты смысла» (1996)
и экстраполирует ее на понимание субъектности в работе «Состав субъекта» (2004),
отчасти возвращаясь к своим ранним исследованиям, например, в работе
«Бессознательное вопреки самому себе» (1977), о логической структуре бессознательного как
логике тайного, которая позволяет, к примеру, вытесненному в бессознательное быть
представленным в языке.
Попытаемся дополнить тематические направления французских исследований,
развивающие идеи национальной философии. В первую очередь — когнитивная
проблематика исследований. Отдавая долг памяти ушедшему в ноябре Клоду Леви-
151
Строссу, мы должны определить это направление как специфическое обновление его
проекта науки о человеческом духе. Так, например, один из ведущих специалистов
в мире в области так называемых когнитивных наук, Дан Спербер, в своих работах,
начиная с классических — «Символизм сегодня» (1974) и «Релевантность:
коммуникация и восприятие» (1989), сформулировал новый подход, сместив акцент с идеи
«символической функции» на идею «функционирующего сознания». А это значит,
что независимо от того, что культурные практики носят символический характер,
речь должна идти прежде всего о ментальных операциях, посредством которых
транслируется собственно культурное содержание (сказки, мифы, верования и
ритуалы). И, соответственно, вместо традиционной проблемы обозначения на первый
план вышла проблема репрезентации — необходимо условие конвергенции, если
хотите, мозговой конвергенции.
Соответственно, возникает и иная картина мира, причудливо соединяющая
феноменологические, в духе классической гуссерлевской трансцендентальной
феноменологии, и поструктуралистские идеи. Например, у Пьера Кадьо и Ив-Мари Визетти в
работе «О теории семантических форм» (2001) основанием смысла слов называется
фактор структурирования нашего опыта и хаотичная «гераклитовская» и
одновременно вполне научная семантика. Тем не менее, она выстраивается исследователем по
традиционным научным основаниям описания. В основе такого поисания должна быть
речь как конфигурация нашего восприятия мира, а не как манипуляция символами.
Эта идея созвучна исследованиям Жана Петито, которая отражена в работе
«Катастрофы речи» (1985). Мы, по мысли Ж. Петито, в процессе непрерывной
взаимосоотнесенности конечности физических знаков человеческого языка, а точнее языков,
и бесконечности фонем, которые следует понимать как конкретные артикуляции,
или даже шире — реализации символических систем. Возникающий смысл образует
эффект перцептивной индивидуации.
Можно выделить «коммуникативное» направление развития исследования
смысла. Во многом благодаря ему появляется специфическая терминология, как,
например, вынесенная в название работы Жана-Мишеля Салански «Смысл и философия
смысла». Знаменитое гуссерлевское «движение к сущности вещей» анализируется
как процедура адресного выделения «смысла для-нас». Мы можем дополнить эту
картину хайдеггеровским истолкованием феноменологии Франсуа Растье, более
характерным, как ни парадоксально, в целом для современной французской мысли.
Ф. Растье уже в своей работе «Интерпретативная семантика» (1987) писал о
смысле как эффекте встречи со знаками текста, позволяющей выстраивать интепретацию
смысла. Смысл, таким образом, принадлежит не единицам языка, словам или
предложениям, а моменту интерпретации.
Несомненным авторитетом во Франции в области философии интерпретации
является Поль Рикер. Исследование горизонтов феноменологии «Зла», «вольного и
невольного», и «вины», герменевтическое рассмотрение мифа и поэзии как «живой
метафоры», изучение различных форм производства смысла во «времени и
рассказе», парадокс «любви и справедливости», обращение к «самому себе как Другому»,
задача «мыслить Библию» — вот краткая и далеко неполная картина тем и
концепций П.Рикера. Внимательный к слову Других, мысли Других, философии Других,
П. Рикер сформулировал, осмыслил и реализовал свой метод философского
творчества: рассказывая или создавая метафоры, то есть интерпретируя различными
возможными способами, мы производим новые смыслы. А эта «семантическая
инновация», по ту сторону логики и контроля над словами, и есть наше «историчное бытие
в мире посредством языка».
Вписанные таким образом в традиционный контекст французского
философствования самые смелые аналитические работы французских философов оказы-
152
ваются неожиданно для них самих чрезвычайно успешными. Один из последних
примеров тому — это удивительно теплый прием французской версии
аналитической «реставрации метафизики» Фредерика Нефа «Что такое метафизика?» (2004).
Ф. Неф занимается достаточно техническими проблемами. В работе 1998 года
«Какой бы то ни было объект» он рассматривает объект с точки зрения модальной
логики, анализа тропов. С этими познаниями он и связывает будущее метафизики.
Вместе с тем абстрактные переменные он описывает в новой своей работе «Свойства
вещей» (2006).
Следует уточнить, что специфический призыв «вернуться к метафизике», а
точнее во французском варианте — «делать метафизику», воспринимается во Франции
не столько как наследование идеалам научной философии логического
позитивизма, который, к слову, исторически был одним из столпов антиметафизической
программы двадцатого века, — сколько как возможность создавать нечто новое,
утверждать нечто «позитивное», без оглядки на «универсальное» и «тотальное»,
как, например, об этом пишет один из молодых французских аналитиков Квентин
Мейасу в своей работе «После окончательности» (2006). Дополнительным
аргументом в пользу метафизических исследований становится тот же аргумент «конца
идеологий», который мы видим у «традиционных постмодернистов». Как,
например, у Алана Бадью, Жана-Люка Нанси или Филиппа Лаку-Лабарта. Намечается
серьезное переосмысление во Франции неоднородности философского движения
постструктурализма. Основанием такого переосмысления во многом можно считать
влияние аналитической философии: и терминологическое историко-философское,
и содержательное. Неожиданно, но в последнее время мы все чаще встречаем во
французских журналах и философских работах американское обозначение
французского постструктурализма — French Theory. Многие работы последних лет
этого направления, опирающиеся в большей степени на идеи Ж. Делеза, чем,
например, на идеи Ж. Деррида, обращаются к проблемам онтологии. Для французской
философии в целом это решение смысложизненной проблемы. А именно: что такое
философия, какой она должна быть, что изменилось в философии в новом двадцать
первом веке.
Разумеется, поструктуралистское изложение аргумента в пользу онтологии
соответствует тому, что мы обозначаем как настроение «постмодерна»: возвращение
к исходному софийному предназначению философии, множественному и 'неиерар-
хизированному. Но конкретное понимание того, что оказывается прескрептивным
и универсальным, а что — дескриптивным и самоценным, — изменилось. Так,
например, А. Бадью в работе «Логика миров» (2006), а затем во «Втором манифесте
философии» (2009) пишет об опасности медиатизации, социализации и этизации
философии. В этом своем новом качестве универсального и доступного прикладного
объяснения прав человека философия становится консервативной служанкой
существующей повседневности выживания. Спасение философии состоит в обращении к
Идее. Философия, по мысли А. Бадью, должна снова стать наукой о мысли, которая
строится на чувственных качествах мира, чтобы представить его интеллегибельным,
тем, что отличает человеческое мышление от дикости. Именно так звучит
французское понимание значения проблемы сознания.
153
КОЧЕРГИН А.Н.
Может ли машина мыслить?
Вопрос «может ли машина мыслить?» после перевода его обсуждения с
эмоционального уровня, преобладавшего в начале 50-х гг. прошлого века, на
рациональный, казалось бы, был решен в пользу признания некорректности его
формулировки. Однако успехи в области искусственного интеллекта и других областей
знания вновь выдвигают его для обсуждения (о чем, в частности, свидетельствует
его включение в программу работы конференции). Это вновь обращает нас к
необходимости уточнения философских и методологических оснований его
обсуждения.
Обратимся, прежде всего, к истории его возникновения. Появление ЭВМ,
способных получать результаты, традиционно ассоциировавшиеся с творческой
человеческой деятельностью (сочинение стихов, музыки, доказательство теорем и т.д.),
привело ряд исследователей к выводу о том, что достаточно полная модель
мыслящего существа должна называться мыслящим существом [5, с. 57]. Иными словами,
в основу решения данного вопроса был положен чисто функциональный подход (у
А. Тьюринга этот подход получил название «игры в имитацию»). Отсюда был сделан
вывод об обладании ЭВМ свойством мышления со всеми вытекающими из этого
последствиям.
Постановка вопроса «Может ли машина мыслить?» была в известной степени
обусловлена использованием антропоморфной терминологии. Мы часто говорим:
«Машина работает», «Дождь идет», «Усталость металла» и т.д. До поры это не
вызывало никаких затруднений. Однако использование этой терминологии при
обсуждении мировоззренческих проблем оказалось делом не столь безобидным.
Человеческие языковые средства, используемые при описании реальности, таковы,
что из этого описания можно сделать вывод о существовании целенаправленных
стимулов у объектов, хотя в действительности их нет. Дж. Рамсей обратил
внимание на то, что при описании, например, биологических систем практически
невозможно избежать телеологии, т.е. приписывания им осознанной
целенаправленности действия (имея в виду, что животные формулируют для себя цели, к которым
стремятся, — описать поведение живой системы таким образом, чтобы такая идея
не подразумевалась, трудно). Такие описания получили название «телеографиче-
ской стенографии». По этому поводу Ст. Вир писал: «Модель языка системы,
которым пользуется кибернетика, вносит в описание такие смысловые оттенки, от
которых нам хотелось бы избавиться. Но мы не в силах этого сделать и потому всегда
должны помнить о возможности неверных толкований при обсуждении нервных
систем, мозга и машин. Существуют ли люди, которые готовы отрицать роль этики
и эстетики только потому, что создана механическая черепаха? Как это ни
абсурдно, действительно существуют. Пусть же тот, кто хоть в какой-то мере
понимает истинное значение кибернетики и ее возможности, не следует их примеру» [2,
с. 60]. Использование терминов в их точном значении — не пустая формальность.
Подведение под определенный термин не соответствующего ему понятия
порождает «языковые ловушки», благодаря которым приходят к выводу о машиноподоб-
ности психики, мышления.
Решение вопроса «Может ли машина мыслить?» предполагает уточнение
понятий «машина» и «мышление». Определений понятия машины много. В данном
контексте речь идет об ЭВМ или различных ее «гибридах» типа роботов, т.е.
системах, перерабатывающих информацию. У.Р. Эшби предложил исключить из ее
154
определения «материальность», т.е. необходимость изготовления ее из реальных
материалов. С его точки зрения, существенно «только то обстоятельство, является
ли поведение системы детерминированным и машиноподобным, а не то, как она
построена, будь она хоть из божественной субстанции» [10, с. 64]. Точно также он
предлагает исключить из определения машины и ссылку на энергию на том
основании, что для ЭВМ имеет значение только регулярность поведения, а не выигрыш
или потеря энергии.
Каковы же последствия игнорирования материального и энергетического
факторов при определении машины? Всякая реальная система, перерабатывающая
информацию, является системой материальной, причем способность перерабатывать
информацию во многом зависит от субстрата этой системы. Конечно, энергетические
процессы в ЭВМ отступают на второй план по сравнению с информационными
процессами, но передача сигнала всегда осуществляется за счет затраты энергии (хотя
бы и очень малой). Так что в понимании информационных машин отказ от
материального и энергетического параметров в обсуждаемом контексте неправомерен —
при сравнении человека и машины это важно учитывать.
В плане сравнения человека и машины важен еще один существенный параметр,
отличающий информационную систему, моделирующую мышление, от живого
организма. Таким параметром является потеря машиной структурности в процессе ее
работы. С учетом этого обстоятельства можно сказать, что причина работы
машины выступает и как причина ее гибели, что машина в процессе работы увеличивает
энтропию за счет потери структурности. Л. Фон Берталанфи подчеркивал отличие
живого организма от машины, заключающееся в том, что живой организм
развивается в направлении увеличения дифференциации и негомогенности и может
корректировать «шум» в более высокой степени, чем это имеет место в коммуникационных
каналах неживых систем, — оба эти свойства организма являются результатом того,
что организм представляет собой открытую систему [1, с. 67]. Еще один важный
параметр, отличающий машину от человека, — это, в конечном счете, производность
первой от второго.
Что же с учетом сказанного следует называть машиной в обсуждаемом
контексте? Не стремясь дать полное и точное определение машины, обратим внимание на
ряд факторов, которые необходимо учитывать при сравнительном анализе человека
и машины. В определении машины, способной получать результаты,
ассоциирующиеся с творческой человеческой деятельностью, необходимо исходить из того, что
она представляет собой систему, искусственно созданную, в конечном счете,
человеком, а не возникшую путем естественной эволюции, выполняющую операции в
соответствии с целями, поставленными, в конечном счете, человеком, могущую
работать без постоянного вмешательства человека, теряющую в процессе своей работы
структурность, служащую средством усиления мыслительных функций человека и
являющуюся орудием умственного труда человека, а не субъектом психической и
социальной деятельности. Тот факт, что машина может изготовляться не
непосредственно человеком, а системой других машин, принципиально положения не меняет,
так как и в этом случае создателем машины является человек. Такие машины —
орудия умственного труда — могут быть соединены с машинами — орудиями
физического труда. Тот факт, что человек в указанном смысле не является машиной, вовсе
не означает, что его вообще нельзя представлять в виде машины. Однако при этом
важно иметь в виду, какую именно сторону его деятельности мы представляем в виде
машины: информационную, энергетическую и т.д.
Некорректности формулировки вопроса «Может ли машина мыслить?»
способствовало смешение терминов «моделирование» и «искусственное воспроизведение»:
под моделированием стали понимать воспроизведение. Однако, хотя эти понятия
тесно связаны, между ними имеется существенное различие. Термин «воспроизводить»
155
означает производить снова то, что было или есть. Иными словами, воспроизведение
предполагает воссоздание какой-либо системы с сохранением ее качественной
специфики. При воспроизведении воссоздаются стороны, сохраняющие в совокупности
сущность системы, ее природу. Для воспроизведения необходимо тождество не
только результатов функционирования воспроизводимой системы, но и процессов,
лежащих в основе функционирования, структуры и субстрата. Моделирование же
предполагает воссоздание каких-то отдельных сторон моделируемой системы. Н. Винер
и А. Розенблют не случайно определили моделирование через representation
(подобие), а не через reproduction (воспроизведение) [12, р. 317]. Поэтому по отношению
к живым системам точнее говорить о моделировании как имитации определенных
функций. Это относится и к моделированию мышления — оно означает имитацию, а
не воспроизведение мыслительной деятельности.
Вместе с тем, было бы неверно абсолютно противопоставлять воспроизведение и
имитацию. О воспроизведении можно говорить в широком и узком смысле. В первом
случае имеется в виду полное воспроизведение с учетом качеств, свойств и
отношений. Во втором случае воспроизводятся какие-то интересующие исследователя
стороны объекта — в этом случае предпочтительнее пользоваться термином «имитация»
(или «частичное воспроизведение»), поскольку термин просто «воспроизведение»
не содержит в себе указания на степень полноты воспроизведения. Если такое
указание на степень полноты воспроизведения имеет место, то употребление термина
«воспроизведение» становится оправданным. Так, например, в случае частичного
воспроизведения объекта на иной субстратной основе используется термин
«функциональное воспроизведение».
Чем важна субстратная основа мышления и сознания? Эпиморфоз (процессы,
связанные с эволюционными преобразованиями и перестройкой морфологической
структуры и психической организации), как наиболее яркое выражение
биологического прогресса на его высшем уровне, обусловил становление человека, дал ему
необходимую базу для развития нового типа отношений с окружающей средой,
обеспечив тем самым выход за рамки действия биологических закономерностей. В
этом же русле лежит концепция о существовании на определенных стадиях антро-
посоциогенеза промежуточной биосоциальной формы отбора [7, с. 81]. Эти
соображения отнюдь не умаляют роль труда в становлении человека и не биологизируют
процесс антропогенеза. Дело заключается в том (и только в том), что не может быть
игнорирован тот факт, что становление человека с его сознанием, определяемое
социальным фактором, осуществлялось на специфической биологической основе.
Иначе говоря, способ функционирования мозга определяется и его субстратом, и
способом организации, вырастая как бы «изнутри» под влиянием социальной
среды. В моделирующих мышление устройствах способ этой связи принципиально
иной: здесь субстрат не играет важной роли, поскольку ведущая роль отводится
способу организации логических сетей, т.е. здесь функция искусственно
привязывается человеком к определенной структуре. Таким образом, свойства мышления
и сознания — это специфически человеческая способность отражения реальности,
для переноса которой на системы, сходные лишь по функционированию, т.е. для
отрыва функции от субстрата и произвольного переноса ее на субстрат иной
природы, нет оснований. Абсолютизация функционального подхода, отрыв функции от
субстрата не продвигают нас к пониманию сущности сознания. Функциональный
подход не раскрывает собственно биологических качеств и не снимает вопроса о
связи живого с характером его носителя. Поэтому отвлекаться от субстрата можно
лишь в определенных пределах в рамках задач, для решения которых отвлечение
от субстрата допустимо.
Таким образом, использование терминов в их исконном значении — не
пустая формальность. Термины «мышление», «сознание» возникли для обозначения
156
свойств человека как системы, прошедшей длительное биологическое и социальное
развитие, т.е. развитие на определенном биологическом субстрате со свойственной
ему организацией и в определенной социальной среде. Переносить свойства
«мышления» и «сознания» на системы иной природы, состоящие из другого субстрата,
имеющего иную организацию, методологически некорректно. Перефразируя слова
Г. Цопфа, можно сказать, что, зачисляя человека в разряд машин на основании лишь
внешнего подобия функционирования, мы «пытаемся затолкать слона в чайник
вместо того, чтобы поискать более пригодное для слона вместилище» [9, с. 76].
Сравнительный анализ работы мозга и ЭВМ свидетельствует в пользу этого вывода. Для
обозначения того, что «делает» ЭВМ, введен и получил права «гражданства» термин
«искусственный интеллект». Сам вопрос «может ли машина мыслить?» должен быть
переведен в методологически более корректную форму: каковы возможности
искусственного интеллекта (каковы возможности моделирования мышления). Проблема
заключается, таким образом, не в том, «может ли машина мыслить?», а в том, как
соотносятся между собой естественный и искусственный интеллект, есть ли предел
моделированию мышления.
Сейчас становится очевидным, что априорное установление каких бы то ни было
пределов для моделирования мышления — дело рискованное. Такие ограничения
выдвигались не раз, и столько же раз они снимались с развитием устройств,
моделирующих мышление. Так, на первых этапах моделирования считалось
невозможным создать устройство для решения задач, не имеющих жесткого алгоритма. После
создания таких устройств было сформулировано другое ограничение: нельзя создать
устройства, изменяющего свое поведение в зависимости от ситуации, т.е. способного
к обучению и самообучению. Когда и такие устройства были созданы, ограничение
приняло другую форму: моделирующее мышление устройство не может расширить
число заложенных в программу человеком исходных положений. Но и это
ограничение было снято с появлением вероятностных моделирующих мышление устройств.
Наиболее решительные возражения против информационного подхода к психике
высказываются некоторыми психологами, ставящими под сомнение роль
моделирования в объяснении психических явлений. Однако данное возражение справедливо
лишь по отношению к возможности воспроизведения психических функций в ЭВМ,
а не моделирования (имитации) их. Противники возможности моделирования
творческих мыслительных функций выдвинули ряд аргументов в пользу обоснования
своей позиции.
Аргумент первый: существование алгоритмически неразрешимых задач
делает невозможным моделирование творческих мыслительных процессов. К таким
задачам относят: распознавание выводимости (А. Черч), установление тождества
теории групп (П.С. Новиков), распознавание эквивалентности слов в любом
исчислении (A.A. Марков и Э. Пост). Однако данный аргумент уязвим. Человек
способен у алгоритмически неразрешимых задач находить разрешимые частные
случаи. Любой мыслительный процесс можно моделировать, если он доступен
описанию.
Аргумент второй: для моделирования процесса решения задачи его необходимо
формализовать, а поскольку полная формализация невозможна, то решение не всех
задач поддается моделированию. Действительно, теорема К. Геделя показывает, что
на основе формального исчисления не может быть изложено даже учение о целых
числах. Если имеется достаточно мощная непротиворечивая формальная система, то
в ней при помощи математических средств, выражающих эту систему, можно
сформулировать такие утверждения, которые в ее рамках нельзя ни доказать, ни
опровергнуть, т.е. в рамках данной системы эти утверждения считаются неразрешимыми. На
этом основании был сделан вывод о том, что не все математические операции могут
быть моделированы и что теоремы неполноты и неразрешимости вообще выдвигают
157
преграду исчерпывающему познанию систем, описываемых аксиоматическим
формальным языком. Однако ограничения, вытекающие из теоремы Геделя, относятся
лишь к машинам Тьюринга, не получающим из внешней среды информацию. Как
было показано В.М. Глушковым, если машина получает информацию из внешней
среды, она «оказывается способной решать неконструктивные проблемы,
относительно которых можно было доказать их алгоритмическую неразрешимость» [3,
с. 21]. Неразрешимость, следовательно, относится к абстрактному мышлению, а не к
процессу познания в целом. Поскольку из теоремы Геделя вытекает не только
неполнота той или иной системы, но также указание на то, что не охватывается данной
системой, то в определенных рамках можно формализовать процесс перехода от одной
системы к другой, более мощной. Формальная система, получив «толчок» для своего
существования, приобретает известную самостоятельность. Но поскольку характер
такой системы чисто формальный, то эта система не позволяет определить, в каком
направлении она должна быть расширена, если какая-либо задача, содержащаяся в
ней, неразрешима. Для этого необходимо учитывать ее содержательное отношение с
другой, более мощной системой. Если процесс творчества рассматривать как такое
«расширение», то следует признать, что он больше относится к психологии, нежели
логике — направление этому «расширению» дает, в конечном счете, человек.
Аргумент третий: творческие функции мышления не могут быть описаны с
помощью математических средств. Поскольку устройства, моделирующие мышление,
имеют дело с формально-логическими отношениями, а для обширных областей
человеческого мышления характерны содержательные связи, то эти области не могут
быть познаны с помощью математических методов. Однако дело не в том, что нельзя
в принципе математически описать некоторые мыслительные операции, а в том, что
это нельзя сделать с помощью существующих в настоящее время математических
средств. Как известно, существующий математический аппарат возник
преимущественно для нужд физики и инженерной техники, где вариабельность и число
переменных незначительны. Речь, стало быть, должна идти о «выращивании» новых глав
математики применительно к новым объектам, о создании исчислений, способных
описывать мыслительные процессы.
Аргумент четвертый: моделирование мыслительных процессов возможно лишь в
рамках дедукции, т.е. выведения следствий из какой-то суммы знаний, а творческий
процесс не ограничивается дедукцией. Однако уже существующие диагностические
системы с успехом моделируют процесс остановки диагноза, предполагающий
индуктивные выводы, использование аналогии и т.д.
Аргумент пятый: можно моделировать лишь решение сформулированной задачи,
но не постановку цели и интерпретацию достигнутого результата, которые относятся
к числу творческих операций. Однако этот аргумент внутренне противоречив,
поскольку и решение задачи содержит элементы творчества, к числу которых
относятся выработка критериев поиска и критериев отбора, что успешно моделируется.
Рассмотренные аргументы не могут служить доказательством принципиальной
невозможности моделирования сложных форм творческой деятельности. По
нашему мнению, вопрос о моделировании творческой деятельности целесообразно
перевести в другую плоскость — сосредоточить внимание на поисках конкретных путей
моделирования тех или иных видов творческой деятельности. Уже и сейчас ясно,
что ЭВМ может решать задачи, которые человек без ее помощи решить не в
состоянии [12]. О возможностях будущих поколений ЭВМ и роботов мы можем только
догадываться. Но важно быть готовыми к любому повороту событий. Наиболее
перспективным направлением обещает быть создание систем интегрального
интеллекта и различного рода роботов (особенно наноботов). Человек должен держать под
контролем меру их «самостоятельности», ибо в реальности законы робототехники
А. Азимова не работают.
158
Литература:
1. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — критический обзор //
Исследования по общей теории систем. М., 1969.
2. Вир Ст. Кибернетика и управление производством. М., 1965.
3. Глушков В.М. Мышление и кибернетика. М., 1966.
4. Вулридж Д. Механизмы мозга. М., 1965.
5. Колмогоров А.Н. Жизнь и мышление с точки зрения кибернетики // Опарин
А.И. Жизнь, ее соотношение с другими формами движения материи. М., 1962.
6. Кочергш А.Н. Искусственный интеллект и мышление // Философия
искусственного интеллекта. М., 2005.
7. Семенов Ю.И. Как возникло человечество. М., 1966.
8. Тринчер К.С. Существование и эволюция живых систем и второй закон
термодинамики // Вопросы философии. 1962. № 6.
9. Цопф Г. Отношение и контекст // Принципы самоорганизации. М., 1966.
10. Эшби У.Р. Конструкция мозга. М., 1962.
11. Appel К., Haken W. The solution of the colour map problem // Sei. Amer. 1977. Vol.
CXXXVn, № 10.
12. Rosenblueth A., Wiener N. The Role of Models in Science // Philosophy of Science.
1945. Vol. 12, №4.
КРИЧЕВЕЦА.Н.
Методологический анализ исследований
модели психического (theory of mind)
Наблюдая процесс воспитания детей, я постоянно удивляюсь несоизмеримости
скромных воспитательных усилий взрослого и впечатляющих достижений
воспитываемого ребенка. Это наблюдение в равной степени касается и двигательного
развития, и языкового. «Учить ходить» означает в случае нормального развития создавать
минимальные предметные и мотивационные условия, в которых начинают
действовать силы саморазвития ребенка. «Учить говорить» — ничего больше, чем говорить
с младенцем, как если бы он понимал язык. Эти наблюдения сделали меня
чувствительным к некоторым мотивам в философских рассуждениях. Так, я почувствовал
глубокую симпатию к одной фразе «Критики чистого разума», где Кант говорит о
случайных причинах возникновения априорных понятий и представлений в опыте
[1, с. 183]. Внимательно, но менее сочувственно я отнесся к теории Н. Хомского,
который, справедливо отмечая, что ребенок научается грамматике родного языка, имея
в качестве «базы индукции» относительно небольшое количество примеров, чуть ли
не большинство из которых — неправильные, делает вывод о врожденности
языковой способности по типу «открытой программы» (термин биолога Э. Майра,
подхваченный К. Лоренцом в его работах по эволюционной эпистемологии; Хомский
термин не употребляет, но понимает врожденные механизмы именно так). Открытая
программа — биологическая аналогия компьютерной программы с небольшим
количеством входных параметров. В данном случае вариации параметров приводят в
одних случаях к английскому языку, в других — к русскому, китайскому и т.д. Эта
мощная программа подразумевается врожденной, а на долю опыта остаются очень
мало: немногим больше, чем производимое пользователем переключение языка на
странице в Интернете.
При некотором кажущемся сходстве подходы Канта и Хомского
противоположны. Кант телеологичен: субъект не может быть помыслен без категорий и форм
чувственности — значит, в реальном онтогенезе можно лишь ускорить или задержать их
развитие. Если задержки нет, цель достигается неминуемо. Хомский же механичен
(или алгоритмичен, в данном случае это неважно). Он утверждает, что наука об
онтогенезе неминуемо должна обнаружить такой врожденный механизм, в противном
случае это не наука (вспомним, между прочим, Канта: в науке о природе столько
собственно науки, сколько в ней математики).
Мы теперь рассмотрим исследования в области Модели психического (Theory of
mind), в которой два указанных подхода образуют полюса, между которыми и
надлежит искать истину метода. Загадка, на решение которой направлены
исследования в этой области, следующая: как и почему взрослый человек умеет распознавать
эмоциональные состояния других людей, как и почему он может судить о наличии
внутренней представленности мира другому человеку, как он может знать о
намерениях и иных установках другого по отношению к миру? Загадочность определяется
тем, что подобные состояния себя и другого даны субъекту совершенно по-разному.
Я сужу о том, что человек радуется по его улыбке, возбуждению (которое выражается
в значительной подвижности, не направленной на достижение какой-то сообразной
цели) и т.п. Моя же собственная радость дана мне непосредственно и не связана
необходимо с указанными симптомами, поскольку, например, при некоторых
обстоятельствах я сочту за лучшее их подавить, не переставая чувствовать радость. Однако
160
столь разным образом представленные мне явления безошибочно именуются одним
и тем же словом. Аргументация Хомского без изменений проходит и в данном
случае: как, наблюдая только тела в пространстве, человек, в конце концов, приходит
к пониманию того, что другие люди переживают состояния, весьма похожие на его
собственные. Отмечу, что утверждения, что они не могут быть «похожи», поскольку
для моих и чужих состояний нет общей меры, появляются уже в науке и философии,
но не в обыденной психологии, где тождественность референта слова «радость» по
отношению ко мне и другому не подвергается сомнению. Как человек приходит к
такому отождествлению?
Мы начнем анализ с причинных объяснений в нашей области. Как и Хомский,
сторонники причинных объяснений (если они последовательны и логичны)
постулируют врожденные основания развивающихся в опыте представлений ребенка о
психическом. Рассмотрим некоторые из таких оснований.
Эмпирическими исследованиями хорошо удостоверен следующий факт:
младенец первых недель жизни имитирует мимические движения взрослого: открывает
рот, высовывает язык, надувает губы [2, с. 321]. Это свидетельствует, во-первых, о
возможности кросс-модальной ассоциации получаемой информации.
Действительно, имитация подразумевает «перешифровку» зрительной информации в моторную
программу, выполнение которой корректируется опять же зрительной системой, но
с совершенно иной точки зрения, чем та, которая обеспечивала наблюдение, и в
совершенно ином контексте. Зато, во-вторых, появляется основание для соотнесения
собственных эмоциональных состояний с эмоциональными состояниями другого
человека: если предположить дополнительно, что зеркальная имитация мимики
сопровождается соответствующим эмоциональным переживанием (при полном
отсутствии внешних причин для него), то мимика другого человека сразу оказывается
скоординирована с внутренним переживанием развивающегося ребенка.
Однако открывающаяся здесь возможность объяснения порождает
дополнительную проблему: если непроизвольная имитация мимики, позволяющая предположить
непроизвольную трансляцию эмоции, делает эмоциональное состояние младенца
тождественным состоянию взрослого, то проблемой становится различение своей и
чужой эмоции: почему огорчение взрослого относится, в конечном итоге, на счет
этого взрослого, а не является просто собственным огорчением?
Какого рода опыт может навести ребенка, устойчиво резонирующего на всякую
эмоцию окружающих, на разделение своей и чужой эмоции? Можно предложить
ситуацию конкурирующих эмоций двух взрослых (один радуется, другой огорчается),
вызывающих у ребенка резонанс, сам с собой конфликтующий. Однако разделение
эмоций этих взрослых и своей собственной противоречивой эмоции выглядит
слишком большим успехом при отсутствии дополнительных оснований. Таким образом,
мы вынуждены предположить еще одну врожденную способность: способность
интерпретировать подобный конфликт продуктивным и даже, пожалуй, творческим
образом.
Это чересчур сложное рассуждение (подобное которому можно провести в рамках
любого причинного подхода в любой области психологии развития) демонстрирует,
на мой взгляд, что в самом подходе есть какая-то «неправильность». Можно задать
радикальный вопрос в духе Хомского:
(1) Чем хуже предположение о врожденности механизма
скоординированного распознавания своих и чужих эмоций, который настраивается по типу
«открытой программы», т.е. при предъявлении небольшого числа характерных для данной
культуры примеров эмоциональной экспрессии? Сделав такое предположение,
рассмотрим перспективы дальнейших исследований. Хомский предполагал искать
врожденные механизмы непосредственно в мозгу. По-видимому, его подход
нереалистичен. Действительно, даже полностью и точно отсканированный мозг не даст
161
ответа на вопрос, какие стимулы в онтогенезе привели его в данное состояние. Ясно
ведь, что при отсутствии необходимой стимуляции (например, в ситуации Маугли)
ни человеческий язык, ни понимание эмоций не будут формироваться у ребенка. Это
значит, что даже в принципе можно надеяться только на получение знаний о зрелом
мозге, но не о врожденных механизмах онтогенеза.
В таком случае можно надеяться на моделирование. И действительно,
опубликовано немало отчетов о работе компьютерных моделей, показывающих, как могут
«усваиваться» грамматические структуры. Они касаются весьма частных аспектов
процесса овладения языком и в значительной степени уязвимы для критики. Скорее,
они призваны убедить общественность в принципиальной возможности врожденного
механизма овладения языком, но не дают ничего для понимания реального
процесса. В случае же эмоций задача моделирования выглядит просто нелепой, поскольку
предметом исследования должно будет стать переживание компьютерной моделью
ее собственных эмоций.
Мы получили ответ на вопрос (1): такое сильное предположение оказывается
бессодержательным и не может влиять на развитие «теорий среднего уровня» и
эмпирических теорий. Тогда вернемся к рассуждениям, предшествующим постановке
вопроса ( 1 ), и зададим вопрос:
(2) Что можно надеяться найти, продолжая формулировать теории, в которых
проводятся рассуждения этого типа?
Если рассматривать только теоретический план, то необходимость
предположения о врожденности большого числа разнообразных механизмов делает такие теории
столь же уязвимыми, что и теория Хомского. Однако одно дело — предположения, а
другое — реальные поведенческие паттерны (зеркальная имитация эмоциональной
мимики и другие столь популярные сейчас «зеркальные механизмы»), которые
можно обнаружить у младенцев. Какова их реальная роль в онтогенезе? Мои аргументы
говорят только, что они ничего не дают для объяснения онтогенеза, поскольку
доведенное до научной формы объяснение должно быть математической моделью — в
этом я соглашусь с Кантом и поддержу Хомского, хотя и добавлю, что в данной
области такое объяснение просто невозможно, поскольку математическая модель здесь
должна быть без преувеличения бесконечно сложной.
Рассмотрим сначала вопрос, так ли необходимо считать эти паттерны
врожденными? Само понятие врожденности подвергалось вполне основательной критике,
суть которой состоит в том, что независимого от среды онтогенеза вообще не может
быть, средовые воздействия могут «превзойти» любую генетическую заданность, по
крайней мере, в отрицательном направлении, а момент рождения — вообще
достаточно рядовая точка онтогенеза, которой предшествуют и за которой следуют другие
важнейшие онтогенетические события. Врожденность не является хорошо
определенным термином, а замена его на генетическую заданность явно недостаточна для
наших целей1.
Вероятно, феномены указанного типа следует считать только лишь эмпирической
нормой для данного биологического состояния вида и данных культурных условий
вынашивания и воспитания младенцев. Дальнейшие вопросы таковы:
(а) Действительно ли распознавание эмоций надстраивается именно над этой
реакцией. Неврология знает примеры отрицательных ответов. Так, шаговый
рефлекс новорожденного (шагательные движения, которые начинают выполнять ноги
вертикально удерживаемого младенца при касании ступнями горизонтальной
поверхности) не является основой ходьбы. Наоборот, если к определенному возрасту
этот рефлекс не пропадает, ребенок не может обрести нормальную походку, которая
1 Кроме генетического механизма, за наследование, по мнению биологов, отвечают еще два:
морфогенетический и эпигенетический [3, с. 29].
162
надстраивается на более поздних (фоновых, по H.A. Бернштейну) двигательных
паттернах.
(б) Если ответ на вопрос (а) утвердительный, то о ком, собственно, идет речь,
когда говорят: «Он повторяет мимику взрослого». Если более поздняя улыбка
младенца не оставляет у окружающих сомнений в том, что улыбается субъект общения,
то мимика новорожденного оставляет возможность такого сомнения. Без всякой
натяжки можно сказать, что вопрос этот упирается в субъектность оплодотворенной
яйцеклетки. На мой взгляд, разумно считать, что в онтогенезе возрастает и
субъектность тоже (хотя придать точный смысл этому «возрастанию субъектности» я
не могу). Тогда встает вопрос об овладении субъектом своими телесными и
психическими функциями, как формулировал свою эвристику Л.С. Выготский. Именно
процесс возрастания субъекта, овладевающего телесно-психическими задатками, и
есть онтогенез человека. Но такой вопрос не решается на уровне простого описания
поведения.
Как теории верхнего уровня, подходы Канта и Хомского оказываются
противоположными. Мы теперь вернемся к Канту, и, как ни странно, окажется, что
«приземление» его подхода на средний уровень даст результаты, очень похожие на те, что
получаются при «приземлении» теории Хомского.
Из известных психологов два считали себя проводниками кантовских идей:
Ж. Пиаже и находившийся под влиянием последнего Л. Колберг. Колберг
исследовал развитие в онтогенезе моральных суждений, Пиаже известен огромным
количеством трудов по различным аспектам детского развития. Подход обоих
исследователей имеет характерную черту: результатом исследования является описание стадий
развития изучаемого понятия, характеристики или умения — вплоть до достижения
ими заключительной стадии, присущей нормальному взрослому.
Как уже отмечалось, кантовский подход телеологичен. Причины, приводящие к
разворачиванию априорной способности (представлений о пространстве, категорий,
математических понятий и т.д.), названы Кантом случайными. Это, на мой взгляд,
может означать только следующее: содержание стимула, который послужил случайной
причиной, не является логически достаточным для результата (крайняя степень
недостаточности — падение ньютоновского яблока) и не является также для результата
эмпирически необходимым. Из первого следует, что говорить в этом случае о
полноценной причинности нельзя, а из второго следует, что Пиаже добавляет к кантовской
идее нечто свое: случайные причины не предусматривают никакой систематической
последовательности разворачивания указанных априорных форм. Описание стадий
развития также является лишь эмпирическим обобщением. Это и сближает позицию
Пиаже с той, которую мы получили в результате критики ориентированных на
причинное объяснение теорий: то, что они называют причинами, на самом деле только
эмпирически обнаруживаемые стадии развития, что оставляет возможность для
более или менее существенно иных траекторий развития.
И такие вариации обнаруживаются. Например, некоторые критики Колберга
считают, что верхние стадии его модели развития моральных суждений не
являются обязательными для нормальных взрослых, а свойственны только определенным
культурам. Те культуры, где наблюдается иная конфигурация стадий, также должны
считаться нормальными.
Для нашей темы модели психического наиболее интересным предметом для
исследований таких вариаций является одна из форм патологического развития —
аутизм. Одна из признанных гипотез утверждает, что именно недоразвитие у
ребенка модели психического, т.е. понимания внутреннего мира окружающих людей и
внимания к нему, является причиной патологического развития. Более или менее
сильный дефицит приводит к соответственно более или менее сильному отклонению
траектории развития от нормы.
163
То, что в этом, как и в других случаях, патологические формы континуально
связаны с нормой, говорит о многомерности врожденных (в нашем ограниченном
смысле) задатков. Это значит, что выраженная Кантом в упомянутой сноске
телеологическая позиция должна быть скорректирована при переносе в психологию.
Хочу теперь обратить внимание на одно важное методологическое следствие.
Столь мягкая форма причинности, какую, по моему мнению, только и можно
допустить в теории развития, влечет столь же мягкое понимание истинности теорий. В
американской философии этот вопрос активно обсуждался в конце прошлого века.
По мнению многих участников дискуссии, в области изучения theory of mind1
возможны утверждения лишь логической формы ceteris paribus (истинно при прочих
равных условиях), причем множество этих условий, которым надлежит быть
равными, доопределяется в процессе исследования. В частности, важность равенства
условия «нормальные задатки развития theory of mind» выявляется при сопоставлении
нормального развития с аутистическим.
В пользу мягкой формы причинности свидетельствует также и проблема, стоящая
перед упомянутой гипотезой генезиса аутизма: сопутствующий симптом аутизма —
неспособность к ролевой и символической игре — не связывается понятным образом
с основным дефектом недоразвития представлений о психическом. В то же время, в
нормальном онтогенезе также наблюдается коррелятивная связь между этими двумя
характеристиками. Не лежит ли за этой корреляцией еще не понятая более глубокая
theory of mind?..
Литература
1. Кант И. Критика чистого разума // Сочинения: В 6 т. Т. 3. М.: Мысль, 1964.
2. Сергиенко ЕЛ. Раннее когнитивное развитие. М.: ИПРАН, 2006.
3. Северцов A.C., Креславский А.Г., Черданцев ВТ. Три механизма эволюции //
Современные проблемы теории эволюции. М.: Наука, 1993.
4. Philosophy of Psychology / ed. J.-L. Bermudez. N.-Y, London, 2006.
1 Как и в геологии, биологии и многих других науках, говорят они. Дискуссию можно найти
в сборнике [4].
164
КУЗНЕЦОВ A.B.
Что такое супервентность?
В этой статье мне бы хотелось рассказать о понятии «супервентность», широко
использующимся в современной аналитической философии сознания. И моё
желание связано с очевидным, на мой взгляд, пробелом, который существует в нашей
философской среде относительно этого понятия, начиная с того, что многие просто с
ним не знакомы, и кончая тем, что иные, встречая этот термин в англоязычной
литературе, совершают фатальную ошибку, пытаясь его перевести. В ряде отечественных
статей мне встретились крайне неудачные переводы «супервентности», как «над-
строенности», «производное™» или «проистекания» («проистечения»), которые
откровенно иллюстрируют хрестоматийную безуспешность попыток связать
неизвестный иноязычный научный термин со словами родного языка, накопившими в ходе
долговременного употребления такую сильную смысловую инерцию, что
использование их попросту уведёт нас в сторону. Здесь, например, можно сослаться на
сборник статей, выпущенных нашим факультетом по материалам Грязновских чтений:
«Философия сознания. Классика и современность». А разговоры с коллегами ещё
больше подтверждают мою уверенность. Конечно, это вовсе не значит, что понятие
супервентности вообще никому неизвестно. О чём, в частности, свидетельствует
выход в свет книги нашего профессора В. Васильева «Трудная проблема сознания» и
совсем свежая диссертация Н. Гарнцевой «Натуралистический дуализм Д. Чалмер-
са» (автореферат которой можно найти на сайте факультета). Но коренным образом
это ситуацию не меняет.
Важность понятия «супервентность» особенно подчёркивается упомянутой выше
популярностью этого термина в современной философии сознания. И это напрямую
связано с именем известного австралийского философа Д. Чалмерса и его
нашумевшей книгой «Сознающий ум». Поэтому наперёд признаюсь, что предлагаемое мной
определение взято именно из неё, так же как и дальнейший контекст рассуждений.
Так что же такое супервентность? Нетрудно заметить, что одним и тем же
предметам, окружающим нас, мы можем приписать различные определения относительно
того, наборы свойств какого уровня используются нами для этих определений. Так,
нечто, что в обыденной ситуации определяется нами как стол (быть столом —
высокоуровневое свойство), может быть определено через совокупность его физических
свойств (физические свойства стола — набор низкоуровневых свойств). И вполне
естественно предположить, что, во всяком случае для нашего мира, дублирование
того же самого набора физических (низкоуровневых) свойств будет означать наличие
всё того же высокоуровневого свойства — быть столом, а если более точно — означать
отсутствие ситуации, где наряду с этими физическими свойствами не будет свойства
«быть столом». Теперь обозначим набор низкоуровневых свойств через «А», а набор
высокоуровневых свойств через «В». Тогда понятие супервентности можно
сформулировать так:
В-свойства супервентны по отношению к А-свойствам, если нет таких двух
возможных ситуаций, которые идентичны по своим А-свойствам и одновременно
различны по своим В-свойствам (это фактически прямой перевод определения Д.
Чалмерса).
В «Сознающем уме» выделяются четыре вида супервентности, а конкретнее пары:
локальная и глобальная, а также логическая (концептуальная) и натуральная (или
номологическая, природная, эмпирическая), — которые, в свою очередь, дают раз-
165
личные комбинации: локальная логическая супервентность, глобальная логическая
супервентность, локальная натуральная и глобальная натуральная супервентности,
соответственно. Смысл этих понятий я очерчу буквально в самых общих чертах.
1. Локальная супервентность означает отношение супервентности
относительно А-и-В-свойств какого-либо отдельного предмета, то есть, если А-свойства этого
предмета определяют наличие В-свойств этого предмета. В таком отношении
находится форма предмета и его физические свойства. Это легче понять через отличие
от глобальной супервентности, где нет двух возможных миров идентичных по
своим А-свойствам, но отличных по В-свойствам, то есть, где А-и-В-свойства
представляют свойства всего мира в целом, а не какого-то отдельного предмета. Локальная
супервентность предполагает глобальную, но не наоборот, так как в двух
идентичных по своим физическим свойствам мирах могут найтись, в частности, одинаковые
по своим физическим свойствам, но разные по более высокоуровневым свойствам
предметы. Ввиду, например, разнящейся эволюционной истории в этих мирах
возможно существование разных видов живых существ с одинаковыми физическими
свойствами. Говоря, что локальная супервентность предполагает глобальную, можно
понимать это и в том смысле, что если локально супервентным отношениям в мире
W соответствует наличие таких-то глобально супервентных отношений, то в любом
мире W, где дублируются эти локально супервентные отношения, будут те же
глобально супервентные отношения.
2. В-свойства логически супервентны к А-свойствам, если нет двух таких
логически возможных ситуаций, которые идентичны по А-свойствам и, в тоже время,
различны по В-свойствам. Логическая супервентность означает, другими словами, что
В-свойства необходимо супервентны относительно А-свойств, где необходимость
есть понятие логики возможных миров: некое утверждение является необходимым,
если принимает значение «истина» в любом возможном мире. То же касается
относительно логической возможности: утверждение логически возможно, если принимает
значение «истина» хотя бы в одном из возможных миров. Поэтому кажется
справедливым, что Д. Чалмерс связывает логическую возможность с понятием
«представимости» (или «мыслимости»). Для нас логическая супервентность означает одну
простую вещь, что низкоуровневые факты (далее А-факты) автоматически, даже
неизбежно предполагают наличие соответствующих высокоуровневых фактов (далее
В-фактов), не требуя каких-то дополнительных условий, которые могут быть
связаны, например, с особенностями произведений искусства, где при одних и тех же
физических свойствах мы вполне можем иметь и не иметь «Мона Лизу».
В-свойства натурально супервентны по отношению к А-свойствам, если нет двух
таких натурально возможных ситуаций, идентичных по своим А-свойствам и
различных по В-свойствам. Натурально возможная ситуация — это ситуация, возможная
в действительном мире, согласно законам этого мира, то есть существование
которой как минимум не противоречит этим законам. Например, форма капли воды при
падении натурально супервентна по отношению к своим физическим свойствам, но
можно представить ситуацию, которая физически идентична этой, но в ней будут
отсутствовать базовые законы аэродинамики, тогда, быть может, вода вообще потеряет
способность формироваться в капли при падении, поэтому форма капли воды в
данном случае именно натурально супервентна.
Точно так же, как о локальной и глобальной, так и о натуральной и логической
видах супервентности можно сказать, что логическая супервентность предполагает
натуральную.
Таковы достаточно общие определения четырёх видов супервентности. Теперь
более сложная часть, связанная с комбинацией этих видов. Выше, определяя
глобальную и локальную супервентность, не уточнялось, какие возможные миры и си-
166
туации имеются ввиду: натурально или логически возможные. Этим, собственно, и
обусловлена необходимость данных определений:
1. В-свойства глобально логически супервентны по отношению к А-свойствам, если
нет двух логически возможных миров, идентичных по А-свойствам, но различных по
В-свойствам (Другими словами, для любого логически возможного мира W, если его
А-свойства неразличимы от нашего мира, то истинность В-свойств нашего мира
истинна и в мире W).
2. В-свойства глобально натурально супервентны по отношению к А-свойствам,
если нет двух натурально возможных миров, идентичных по А-свойствам, но
различных по В-свойствам.
3. В-свойства локально логически супервентны по отношению к А-свойствам, если
нет двух таких логически возможных ситуаций, идентичных по А-свойствам, но
отличных по В-свойствам (Или В-свойства локально логически супервентны по
отношению к А-свойствам, когда для любых выделенных действительных предметов
(individuals) x и любых логически возможных предметов (individuals) у, если у по
А-свойствам неотличимы от х, то В-свойства, представленные посредством х, пред-
ставимы и посредством у).
4. В-свойства локально натурально супервентны по отношению к А-свойствам,
если нет двух таких натурально возможных ситуаций, идентичных по А-свойствам,
но различных по В-свойствам.
После всего этого может возникнуть вполне закономерный вопрос: зачем нужно
понятие «супервентность»? Так как интуитивно кажется, что оно не описывает чего-
то нового, того, что и так может быть нами подмечено в размышлениях о предметах
опыта. Это действительно так (в чём меня убедили недавние беседы с коллегами о
супервентности). Но, с другой стороны, верно и то, что для суиервентных
отношений, которые мы действительно могли обнаружить (точнее — сконструировать),
размышляя о предметах опыта, не было отдельного термина, обозначающего эти
отношения, что значительно отягчало бы нашу работу подобно тому, как в сложных
вычислениях мы раз за разом высчитывали результат умножения через сложение
(хотя, пока палке-копалке на смену не пришла лопата, никому, видимо, и в голову
не могло прийти, что она отягчает работу). Выделение отдельного понятия
позволило по-настоящему обратить внимание на проблему суиервентных отношений,
оценить их, ведь имеющаяся интуиция по поводу супервентности, использующаяся в
рассуждениях имплицитно, может негативно сказаться на качестве наших суждений.
Далее, помимо переоценки суждений, в которых возможно вскрыть имплицитное
существование супервентных отношений, термин «супервентность» позволяет
строить новые утверждения, проблема когерентности которых с другими суждениями
концептуального характера является очень интересной и привлекательной, на мой
взгляд, вещью, позволяя, как в случае перехода от сложения к умножению, повысить
«вычислительную мощность» философских рассуждений. Но это всё общие слова.
Должно быть ясным, что, говоря о «супервентности», мы не поднимаем чего-то
принципиально нового, а лишь далее пытаемся вникнуть в проблему причинности, в
то, какими средствами мы можем высказываться о ней. В классическом понимании
причинности присутствуют два основополагающих понятия: «следствие» и
«причина», которые имплицитно или эксплицитно экстраполируются, на наш взгляд на
высказывания о причинности. В случае супервентности интуитивно понятно, что
все низкоуровневые свойства или факты — это причина, а высокоуровневые —
следствие, на что нас наталкивает и обыденное словоупотребление. Далее, высказываясь
о связи между причиной и следствием, мы говорим о «порождении», «вытекании» и
т.д., то есть пользуемся словами, отображающими некий процессуальный характер
167
отношений между причиной и следствием. В то время как понятие «супервентность»
ставит, как мне кажется, запрет на слова, которые в контексте категории
причинности могут говорить о процессуальности между свойствами низкого и более высокого
уровня. Вполне нормально порой услышать фразу, например, о том, что физические
свойства стола порождают его форму. Если вдуматься в это предложение, то ни о
каком порождении речи идти не может. На одном из семинаров профессор В.Васильев
очень точно выразился по этому поводу: «Свойства не порождаются. Свойство — это
то, что конституирует объект». Речь идёт о сопровождении одних наборов свойств
другими, а мысль о порождаемости в данном случае связана с тем, что всегда,
когда говорится о супервентности, имеется ввиду именно то, что — в более или менее
строгом отношении — низкоуровневые свойства предполагают высокоуровневые, и
это подталкивает, как мне кажется, к ошибочному пониманию, будто бы
высокоуровневые свойства порождают низкоуровневые. Таким образом, супервентность не
находит новое, а скорее корректирует имеющуюся от обыденного языка инерцию в
высказываниях по поводу причинности, что, в свою очередь, имеет некоторые
интересные последствия.
Супервентность ничего не говорит об отношениях каузации одних свойств
другими, она постулирует наличие между ними своего рода независимости. Но какого
характера эта независимость? Онтологического или только объяснительного,
концептуального? Ниже я постараюсь это показать.
Д. Чалмерс в «Сознающем уме» отстаивает тезис локальной и натуральной
супервентности сознания к мозгу, выстраивая на нём свою концепцию
натуралистического дуализма (которая всё же ещё не может стать полноценной теорией сознания
и по признанию самого автора). Это предполагает достаточно сильное допущение,
что сознание — это свойство, как и то, что мозг представляет собой набор
низкоуровневых свойств. Чалмерс не одинок в своём мнении, позицию, что сознание — это
свойство, также отстаивает другой известный аналитический философ Дж. Сёрл. Но
при всей интересности вопроса я должен вынести его за рамки данного обсуждения и
предположить пока, что сознание — действительно свойство, к которому приложимо
отношение супервентности. Если это так и мы принимаем данные допущения, то
понятие супервентности может привести нас к дуалистическому пониманию природы
сознания и мозга.
Выше не раз я высказывался о супервентности, отнесённой к одному предмету.
Настал момент важного пояснения. Супервентность не относится к какому-то
одному предмету или только к предмету: в строгом смысле под предметом всегда
следует понимать ситуацию, которая может быть описана наборами свойств разного
порядка. Таким образом, приведённый в самом начале пример со столом говорит не о
столе, который может быть описан так-то и так-то, но о ситуации, где есть и стол, и
определённые физические свойства сразу.
Мне кажется, это уточнение является существенным для понимания того, что
супервентность сознания к мозгу может привести к дуализму (неважно какого толка,
это зависит от дальнейшей интерпретации рассматриваемого тезиса), так как здесь
имеет место именно ситуация, в которой мы условно принимаем наличие
феноменальных и нейробиологических свойств, где, занимаясь феноменальными
свойствами, мы можем прийти только к сознанию, никак не утверждая при этом наличие
определённых нейробиологических свойств; а занимаясь нейробиологическими, —
только к мозгу, но при этом утверждая наличие сознания. (Причём такое
утверждение не является строго законоподобным, и именно в этом заключается тезис
локальной натуральной супервентности сознания к мозгу.)
Подвергается изменению и вопрос о причинности. Чалмерс спрашивает, почему
нейрофизиологические процессы сопровождаются сознательным опытом. Но как
168
тогда быть с распространённым мнением, что мозг порождает сознание, можно ли
так говорить? В прямом смысле нет, так как однородное по природе порождает
однородное (не одинаковое!). Грубо говоря, физическое порождает физическое. Поэтому
одни нейрофизиологические состояния ведут к другим, некоторые из которых
сопровождаются сознанием, и только в этом контексте можно говорить о том, что мозг
порождает сознание и ставить вопрос, почему это так.
Отсюда (имея ввиду содержание предыдущих двух абзацев) нетрудно разобрать,
что, принимая тезис локальной натуральной супервентности, мы, работая с
нижележащими по отношению к ситуации, где есть сознание, уровнями
(нейрофизиологическим, биохимическим или физическим), принципиально не придем к ответу
на вопрос, почему они порождают сознание, так как между ними и сознанием нет
логической супервентности. (Можно сказать, что супервентность подкрепляет
ситуацию объяснительного провала.) Это, в свою очередь, наталкивает на перспективы
функционалистского характера. Поскольку наличие определённых наборов свойств
не необходимо означает наличие сознания, хотя оно, как правило есть, то
(присовокупляя к размышлениям тезис о множественной реализации, который косвенно
подтверждается отсутствием данной необходимости) в дополнение к этим базисным
наборам свойств для получения строгости, позволяющей нам выводить законопо-
добные утверждения о наличии сознания, надо положить определённую
функциональную организацию, а пока просто — некий экстраингридиент. Грубо говоря, если
при таких-то наборах свойств сознание — как правило — есть, то при них же есть
и этот экстраингридиент, который и будет с необходимостью означать наличие
сознания. Тогда ответом на вопрос, почему мозг порождает сознание, будет: потому
что помимо определённых низкоуровневых свойств в наличии есть ещё что-то, та
же функциональная организация (трудно придумать нечто иное или по-другому это
интерпретировать). Правда в свете критики функционализма, в том числе и самим
Чалмерсом, неясно, какова наблюдаемость и представимость такой функциональной
организации, которая будет означать только наличие сознания. И, с другой стороны,
добившись такого ответа, ясно, что его объяснительная сила не будет иметь
философской мощности, так как здесь становится понятной лишь техническая сторона
вопроса, а ответ на главное «почему» остаётся в стороне.
Теперь бы хотелось вернуться к тому, подразумевает ли супервентность
онтологическую значимость. Надеюсь, выше мне удалось показать, что тезис о
супервентности можно связать с одной из форм дуализма, самой ближней из которых надо
считать натуралистический дуализм Д. Чалмерса (ведь ему принадлежит тезис
супервентности сознания к мозгу). Само громкое название и претензии автора
окрестить этим именем новую теорию сознания могут побудить нас считать этот тезис
онтологическим. В то время как дело обстоит иначе. Я думаю, пока не будет доказана
онтологическая сила тезиса супервентности сознания, натуралистический дуализм
не может быть принят в когорту философских теорий, которые предполагают
разрешение вопроса об онтологическом статусе сознания. Итак. Употребление термина
«супервентность» к обыденным предметам, наподобие столов и прочего, не означает
констатации чего-то существенного в онтологическом плане. Здесь я уклонюсь от
проведения достаточно прочной аргументации и сошлюсь на очевидность с точки
зрения здравого смысла. Но, мне кажется, даже в употреблении к философским
понятиям «супервентность» остаётся служебным (техническим) термином, термином
проясняющим. Так как она так же относится к сознанию и мозгу, как ко всем
остальным объектам. При помощи её невозможно провести разграничение между
сознанием и мозгом и иными объектами, потому что она неспецифична по отношению к
сознанию и попросту является термином объективирующей философии,
пытающейся прояснить мир в объективистких понятиях. Она указывает на проблематичность
объяснительных стратегий, подкрепляя, как я говорил выше, наличие объяснитель-
169
ного провала между объяснением феноменальных и физических свойств. Таким
образом натуралистический дуализм нельзя считать онтологическим, скорее, это
выражение объяснительной стратегии, которую, чтобы поставить ударение на отсутствие
онтологии, можно назвать объянительным дуализмом, включающим в себя, как свой
вариант, натуралистическую форму.
В заключение надо сказать, что тезис супервентности сознания к мозгу влечёт
проблематичность вопроса о каузальных связях между низко- и высокоуровневыми
свойствами. В своём автореферате Н. Гарнцева справедливо отмечает, что супервент-
ные отношения между сознанием и мозгом фактически приводят нас к эпифеномено-
логическому пониманию сознания (в общем, против чего не протестует и Чалмерс),
где, кажется, вопрос о ментальной каузальности сознания не имеет положительного
решения. Другими словами, существующий научный взгляд на физический мир
может принять супервентное сознание как очередное пассивное свойство, но как сделать
в таком мире факты сознания каузально значимыми? Видимо, пока философы (а это
философская работа) не найдут путь из плена каузальной замкнутости физического
мира или не покажут, что такого пути нет или что это вовсе не помеха, окончательной
точки в вопросе о каузальной значимости сознания поставить нельзя. Может быть,
необходимо изменить понятие о физическом мире, что является предметом
напряжённой концептуальной, но никак не лингвистической работы. Ведь когда-то
электромагнетизм, пока не была проведена соответствующая концептуальная работа по
расширению границ физического мира, был в некотором роде за бортом физического
мира, так как для классической физики явления электромагнетизма оказались
каузально избыточными и противоречивыми. Пусть проведение аналогии к сознанию
весьма спорно, но, полагаю, допустимо.
Думаю, вопрос «А есть ли супервентность вообще?» имеет простой ответ: есть,
если вы считаете нужным использовать этот термин. Ни о какой супервентности
самой по себе говорить нельзя. Бытие может требовать от нас производства новых
понятий, через которые оно производит себя. Производя супервентность, мы
производим отчасти новое качество актуального бытия, поставляющего нам предметы опыта,
оставляя то, которое без этого понятия казалось нам неполным.
Это лишь самые общие замечания по поводу супервентности. Скажу ещё раз, их
правомерность для самого меня остаётся спорной. Но я надеюсь, что мне удалось
раскрыть смысл понятия и показать самые общие возможности и последствия его
употребления, в чём и заключалась основная задача статьи.
Литература.
1. Chalmers Ц/.The Conscious Mind: In search of a Fundamental Theory. N.Y.,
1996.
2. Chalmers DJ. Facing Up to the Problem of Consciousness //Journal of
Consciousness Studies. 2 (3), 1995. URL=<http://www.imprint.co.uk/chalmers.html>.
3. Философия сознания: классика и современность: Вторые Грязновские чтения.
М.: 2007.
4. Васильев В.В. Трудная проблема сознания. М., 2009.
5. Гарнцева Н.М. Натуралистический дуализм Д.Чалмерса: автор, дис. ... канд.
филос. наук. М., 2009. Режим доступа: http://www.philos.msu.ru/fac/dep/
scient/autoreferates/0910garnzeva.pdf
170
ГОНЧАРОВ В.В., ЛАМБЕРОВ Л.Д.
Онтология от первого лица и функционализм
Знаменитый мысленный эксперимент Дж. Сёрла, его аргумент «китайской
комнаты» имеет серьезные последствия для функционализма и компьютационных
теорий сознания и значения. В частности, аргумент нацелен на демонстрацию того, что
компьютер мог бы даже пройти тест Тьюринга, но, в то же время, пользовался бы
языком чисто синтаксически, не владел бы им. Этот аргумент, таким образом,
демонстрирует, что компьютер не может понимать, не может «схватить» значения
языковых выражений.
Кратко говоря, аргумент «китайской комнаты» заключается в следующем [1J.
В некую комнату помещен человек, который не знает китайского языка, но в этой
комнате имеется коробка с китайскими символами (база данных) и инструкция по
манипулированию данными символами (программа). Извне этот человек
получает некие послания на китайском языке (ввод данных) и корректно отвечает на них
в соответствии с инструкцией (вывод данных). Как уже было указано, этот весьма
странный объект — комната и заключенный в ней человек, не знающий китайского
языка, но имеющий инструкцию, — проходит тест Тьюринга. Согласно Дж. Сёрлу,
так как данный странный объект схож функционально с обычным компьютером, то
компьютер не может обладать знанием китайского языка. По мнению Дж. Сёрла, этот
аргумент имеет весьма далекие следствия. В особенности, как полагает Дж. Сёрл, его
аргумент является опровержением такого понимания сознания, которое
отождествляет сознание с системой обработки информации, подобной компьютеру (вариант
функционализма).
Аргумент «китайский комнаты» нацелен на опровержение сильного ИИ, или
«компьютерного функционализма» [2], точки зрения утверждающей, что
компьютер способен понимать естественный язык и обладает ментальными
способностями, сходными с человеческими при условии наличия соответствующей
программы; точки зрения, что формальные манипуляции с символами производят мысль.
Второй важный вывод, поддерживаемый Дж. Сёрлем, заключается в том, что
наличие и даже работа программы (в случае китайской комнаты — инструкция и ее
использование) не дает понимания, что знание семантики не выводится из знания
синтаксиса.
Тем не менее, мысленный эксперимент Дж. Сёрла представляется весьма
неоднозначным. С одной стороны, как уже указывалось, он, по мнению многих
философов-аналитиков, утверждает, что понимание языка не тождественно
умению механического манипулирования символами. С другой стороны, аргумент
«китайской комнаты» может использоваться как доказательство необоснованности
радикальной редукции значений к ментальным процессам (подобно другим
мысленным экспериментам, например, X. Патнэма с Землей-Двойником [3] и Д. Дэн-
нета с различием между лошадью и смошадью [4]). Последнее положение Дж. Сёрл,
думается, принял бы лишь частично. В своих работах по теории речевых актов он
пытается занять «примирительную» позицию между подходами к значению
позднего Л. Витгенштейна [5] и П. Грайса [6], утверждая, что семантика языка есть
система конститутивных правил, а речевое общение — игры [7, с. 60,73], оставаясь при
этом в рамках психологической семантики, — для Дж. Сёрла значение выражения
в языке есть конвенциональная фиксация интенций. Но есть ещё и значение,
которое пытался донести до слушателей говорящий, — его намерение. И для Дж. Сёрла,
вслед за П. Грайсом именно последнее является базисом языка, а конвенции — его
171
надстройкой. П. Грайс отстаивает чистый психологизм значений, Дж. Сёрл же —
умеренный психологизм. Основа языка у Дж. Сёрла лежит в намерениях,
желаниях, говоря более широко, — в первичной интенциональности. Синтаксис опирается
на «замороженную», «фиксированную» интенциональность. И то, что «понимает»
компьютер, есть лишь эта вот вторичная интенциональность, а потому это
«понимает» всегда в кавычках.
Пусть узник китайской комнаты и не знает китайского языка, но он может
вступать в коммуникацию на китайском языке, «обращаясь за значениями» к
окружающим факторам — набору китайских символов и инструкции.
Для понимания аргумента «китайской комнаты» наблюдателю должна быть
доступна возможность занять позицию узника китайской комнаты и сравнить его
«ментальную» жизнь с жизнью человека, обладающего знанием китайского языка. Строго
говоря, для того, чтобы понимать (даже чтобы понимать сам аргумент Дж. Сёрла),
необходимо обладать первичной интенциональностью. Того, что можно назвать
«количественными» отличиями между человеком, обладающим пониманием, и
компьютером, этим пониманием не обладающим, весьма много. Но аргумент «китайской
комнаты» претендует на то, чтобы показать «качественное» отличие. В
действительности, аргумент «китайской комнаты» предполагает немой вопрос: «Видите
разницу?» Разница между человеком, понимающим китайский язык, и компьютером,
оперирующим чисто синтаксически, безусловно, существует. Но аргумент Дж.
Сёрла не демонстрирует сути этого различия. В соответствии с аргументом «китайской
комнаты» понимание должно сопровождаться первичной интенциональностью. Она
не свойственна компьютеру. Но из этого вовсе не следует, что первичная
интенциональность свойственна человеку.
Наблюдатель со стороны никогда не сможет однозначно решить вопрос о том,
понимает ли узник китайской комнаты китайский язык или же нет. Этот странный
объект — «китайская комната» — запросто проходит тест Тьюринга. Мысленный
эксперимент Дж. Сёрла не доказывает существование принципиального различия
между человеком и компьютером. Аргумент «китайской комнаты» должен был
продемонстрировать «силу» онтологии сознания от первого лица.
Предвкушалось, что, коль скоро сознание человека не будет для нас больше «черным
ящиком», мы неизбежно обнаружим его «сущностные свойства» [8, с. 21], убедимся,
что компьютер не может мыслить, и если человек понимает язык, то компьютер
способен лишь оперировать символами. Думается, то, что действительно
эксплицитно демонстрирует аргумент «китайской комнаты», так это, что дело не в
бихевиористской установке. Интенциональность остается неуловимой даже для
онтологии сознания от первого лица. Вспомним, например, что Джонс из мысленного
эксперимента Д. Дэннета не может, находясь на ипподроме, понять, где лошадь, а
где — смошадь.
В действительности, аргумент «китайской комнаты» лишь допускает то, что
следовало бы доказать: что качественное отличие между понимающим человеком
и оперирующим компьютером существует. Ведь то, что узник китайской
комнаты не обладает интенциональностью, не доказывает, что все остальные люди (или
даже какая-то часть всех людей, например, только китайцы) этой
интенциональностью обладают. Фактически данным аргументом доказывается отсутствие
понимания китайского языка и интенциональности у узника китайской комнаты, а,
следовательно, и у компьютера, а также методологическая ущербность бихевиоризма.
Однако ошибочно полагать, что'этот аргумент имеет силу против сторонников
функционализма, так как последние не только могут обойтись без
бихевиористского основания, но и существенно обогащают свою позицию доводами
«китайской комнаты», получая возможность утверждать: «Да, узник китайской комнаты
не обладает интенциональностью, компьютер не обладает интенциональностью, но
172
и остальные объекты (люди, животные, боги) тоже не обладают интенционально-
стью». Фактически перед функционалистами, для последовательного
разворачивания их программы, требовалось доказать вовсе не наличие интенциональности у
компьютера и человека (как это могли предполагать некоторые эмерджентисты),
а вовсе наоборот — её отсутствие в обоих случаях. И в этом преградой для них
было бихевиористское наследие, отбросить «методологические оковы» которого
им помог их самый ревностный оппонент введением онтологии сознания от
первого лица.
Литература:
1. Searle J. The Chinese Room // Wilson RA., Keil F. The MIT Encyclopedia of
Cognitive Science. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1999. P. 115-116.
2. 2. Dennett D. Brainstorms: Philosophical Essays on Mind and Psychology.
Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1978.
3. Putnam H. The Meaning of «Meaning» // Putnam H. Mind, Language and Reality.
Philosophical Papers. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1975. P.
215-271.
4. Dennett D., HaugelandJ. Intentionality // Gregory R.L. The Oxford Companion to
the Mind. Oxford: Oxford University Press, 1987. P. 383-386.
5. Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л.
Философские работы. Ч. I. M.: Гнозис, 1994. С. 75-319.
6. Грайс ГЛ. Значение говорящего, значение предложения и значение слова //
Философия языка. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 75-98.
7. СёрлДж.Р. Что такое речевой акт? // Философия языка. М.: Едиториал УРСС,
2004. С. 56-74.
8. СёрлДж. Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002.
МАЙДАНСКИЙА.Д.
«Вещь мыслящая» — душа или просто тело?
Около трех лет тому назад между учениками Э.В. Ильенкова началась дискуссия
о понятии «мыслящего тела» — так Ильенков в своей книге «Диалектическая
логика» истолковал спинозовскую «вещь мыслящую», res cogitans. Чтс* является
субъектом мышления? Мыслит душа или же тело?
Ильенков приписывает Спинозе мысль, будто «мыслит не особая „душа"..., а
самое тело человека» [1]. Мышление есть действие модуса протяжения — трудно
вообразить себе что-либо менее приемлемое для Спинозы. Тот не раз и не два открытым
текстом писал: res cogitans — это определение души, а не тела.
«Человеческую душу мы назвали мыслящей вещью (Mentem humanam diximus
esse rem cogitantem), откуда следует, что благодаря своей природе и рассматриваемая
сама по себе она может совершать нечто, именно мыслить, т.е. утверждать и
отрицать» [2].
Мыслит в человеке душа, причем мыслит она благодаря свой природе. На том
стоит Спиноза. Тело — лишь первый, непосредственный объект восприятия души, но
ни в коем случае не субъект мышления. Выражение «мыслящее тело» не более чем
словесная химера, равно как и «телесная мысль».
С тем, что ильенковский «Спиноза» неадекватен, скрепя сердце согласился и
самый энергичный защитник «мыслящего тела» Л.К. Науменко. «Положим, что
словесное расхождение между Ильенковым и Спинозой — бесспорный факт», — пишет
он, — что с того? За мертвую букву текста пусть держится «поклоняющийся факту
историк», а мы с Ильенковым проникаем в «смыслы». У «буквального» Спинозы
Науменко находит уйму «противоречий и несуразностей» — однако в том нет вины
самого мыслителя, «вина лежит на его эпохе». Пусть Спиноза сколько угодно
твердит, что res cogitans — это человеческая душа. Смысл его «букв» ровно обратный:
мыслит не душа — тело! «Оно только тело, просто тело... Исходя из просто тела, мы
худо-бедно все-таки продвинемся к пониманию мышления и души, а вот исходя из
души как идеи тела, мы не продвинемся к нашей цели ни на миллиметр. Нет тела —
нет и идеи» [3].
Где-то мне встречалось уже это «только тело, просто тело»... Ну да, так говорил
Заратустра. «Пробудившийся, знающий, говорит: я — тело, только тело, и ничто
больше; а душа есть только слово для чего-то в теле» [4]. Слово «я» — это
местоимение, «нечто (res), имеющее место», а местом души является мое тело. Так говорил
Науменко.
Тот ницшевский фрагмент приводит и Дэниел Деннет, разъясняя, для чего в теле
«душа есть только слово». Тело хранит в себе мудрость эволюции — информацию о
характере жизнедеятельности того или иного живого существа, к примеру китовый
ус, крыло птицы, кожа хамелеона. Для такой «воплощенной в теле информации»
(embodied information) и есть у Деннета слово «душа» (mind).
«Эта информация организована таким образом, что может иногда казаться
чем-то относительно самостоятельным, что проводит различия, учитывает
предпочтения, принимает решения, предпринимает меры, соперничая в этом с вашим
сознанием» [5].
Из текста не вполне ясно, исчисляется ли «ментальная» информация в битах и
чем она отличается от информации, «воплощенной в теле» компьютера. Отличие
наверняка есть, ибо «душа компьютера» не числится в книге среди «kinds of minds».
Нет, душа у Деннета — это какая-то очень особая информация, совсем не та, о коей
174
пресно повествуют учебники информатики. Та не умеет «проводить различия» и
«принимать решения», как ее ни организуй...
Разумеется, без тела нет души, но ее также нет и без внешнего мира; и без других
идей души тоже не бывает. Разве из этого вытекает, что мыслит «просто тело», а не
душа?
Спиноза отлично понимал, что в процессе мышления тело принимает самое
деятельное участие. Опыт учит нас, что если тело бездействует, то и душа неспособна к
мышлению: когда тело покоится во сне, вместе с ним спит и душа и не имеет
способности мыслить — говорится в «Этике» [Eth2 pr2 sch]. Органическое тело со
множеством степеней свободы движений и высокоразвитым мозгом образует необходимую
предпосылку мышления. Не нужно быть Спинозой, чтобы это понять. Сей
медицинский факт недалеко нас «продвинул». Из него не вычитаешь ответа на вопрос: тело —
это субъект или же только орган мышления? Мыслит в человеке само его тело или
посредством тела — душа?
Представим себе Архимеда, который задумался над какой-нибудь теоремой. Тело
его при этом дышит, вырабатывает разные вещества и чертит рукою круги на песке.
Вряд ли мы назовем эти действия тела «мыслями», однако, мысль в них безусловно
присутствует. Мысли Архимеда выражаются в движениях рук и нервных клеток, в
складках на лбу и в линиях на песке. Тело выступает тут в роли своеобразного
«медиума», движения его рук и головы направляются чем-то иным, неким отличным от
этого тела «субъектом». И предсмертные слова математика — «не трогай мои
круги» — продиктованы, конечно, не телом. Скорее, вопреки телу, — душой.
Между прочим, Ильенков-то сам не считал, что мыслит тело. Так утверждали
его оппоненты. Это у них тело думает и мечтает, печалится и сомневается, любит и
любуется... Ильенков был страшно далек от такого рода соматической философии.
В человеке он видел не «мыслящее тело», но «ансамбль общественных отношений»
(выражение Маркса: das ensemble der gesellschaftlichen Verhltnisse), которые лишь
воплощаются в теле и душе особи рода homo.
Отчего же Науменко и другие «староильенковцы» утверждают, что Учитель,
променяв душу на тело, улучшил спинозовскую теорию мышления — двинул ее вперед,
к Марксу? На самом деле «мыслящее тело» двинуло ее назад, к Гоббсу и Гассенди.
В своих Возражениях на Декартовы «Размышления» эти два материалиста дружно
доказывали, что субъектом мышления является тело: «Мыслящая вещь есть нечто
телесное» [6]. Почерпнутой у Гоббса аналогией между мышлением и ходьбой
Ильенков, ничтоже сумняшеся, пояснял читателям и взгляды Спинозы.
Res cogitans — любимый термин Декарта, от него и перешел по наследству к
Спинозе. «Мышление» (cogitatio) y Декарта охватывает все, что мы «непосредственно
осознаём» (immediate conscimus): все действия воли, интеллекта, воображения и
чувств суть мысли (cogitationes) [7]. Мышление, стало быть, нацело совпадает с
сознанием. Так обстоит дело и в обычном словоупотреблении. Люди привыкли
именовать «мыслями» любые фрагменты собственного «потока сознания».
Спиноза подходит к определению мышления более осмотрительно. Следует ли
считать «мыслями» образы внешних чувств и ощущения собственного тела, такие
как: голод, сонливость, головная боль? Нет, все без исключения чувственные
образы — это «состояния тела» (corporis affectiones), а не души [Eth2 prl7 sch]. Счесть
такие образы «мыслями» означало бы смешать идеальное и физическое, природу
души и тела. Для Спинозы «мыслить» (cogitare) значит создавать и приобретать
идеи, а не просто «сознавать» (conscire), воспринимать что угодно и каким угодно
способом.
Идеи суть модусы мышления, а образы чувств — модусы протяжения, потому
между ними «следует делать тщательное различие», предостерегает Спиноза. «Идея
(модус мышления) не состоит ни в образе какой-либо вещи, ни в словах, ибо сущ-
175
ность слов и образов составляется из одних только телесных движений, никоим
образом не заключающих в себе понятия мышления» [Eth2 рг49 seh].
Яснее не скажешь. А у псевдо-Спинозы из очерка второго «Диалектической
логики» все разговоры про то, как из «телесных движений» рождаются модусы
мышления — идеи, да еще и «адекватные»...
Добывать идеи и оперировать ими, мыслить — это непростой даже для человека
труд. Ну а образы без труда создают и животные. Те и действуют всегда на основе
образов внешнего мира, меж тем как «вещь мыслящая» действует на основе знаний о
причинах вещей. Такие знания Спиноза и называет «идеями». Образ выражает свой
предмет в формах пространства и времени, а идея — в категориях причины и
следствия, «под формой вечности».
Спиноза учит нас ясно различать в своем сознании идеи и образы, ни в коем
случае их не смешивая. Ровно то же самое доказывал в «Диалектике идеального»
Ильенков: нельзя, неверно записывать в категорию идеального все без разбора содержимое
человеческого сознания. Идеи, в отличие от «чувственно воспринимаемых
индивидом единичных вещей», универсальны и общезначимы, как «нечто стоящее над
индивидуальной психикой и совершенно от нее не зависящее» [8].
Мыслящая душа сама является идеей — согласно Спинозе, это идея
человеческого тела. Наше тело — своего рода «линза», через посредство которой душа
воспринимает внешний мир. Преимущество человеческой души перед прочими он
усматривает в структуре человеческого тела — так сказать, в конструкции «линзы», которой
пользуется наша душа для созерцания внешнего мира. «Тела людей способны весьма
ко многому», — не устает повторять Спиноза. Потому и души их способны
воспринимать многое: границы человеческого познания совпадают с радиусом сферы
действий тела.
Человеческое тело, однако, действует не само по себе, а в качестве части
гораздо более обширного и мощного «квази-тела» — общества. Спиноза, похоже,
догадывался об этом: в главе III «Богословско-политического трактата» писал, что
люди должны «направить силы всех на одно как бы тело (quasi corpus), а
именно — общество». Это коллективное тело обладает и собственным духом, частицами
которого являются наши мыслящие души. Строение общественного тела и духа
мы описываем словом «культура». В ней-то и надлежит искать истоки всех наших
идей и самой способности мыслить. К такому выводу пришел в прошлом столетии
психолог-спинозист, родоначальник культурно-исторической школы Л.С.
Выготский [9].
Двойственность содержимого человеческого сознания обусловлена тем, что душа,
психика, является слугой двух господ и выполняет двоякого рода работу:
обслуживает и жизнедеятельность органического тела человека, и «культурную» жизнь
общества. За проделанную работу тело расплачивается с душой образами, ну а общество —
идеями. К категории идей, «мыслей» относятся всеобщие нормы культуры: правила
и схемы общественного быта, языка, морали, права, религии и т.д., — искусственно
«вращиваемые» (термин Выготского) в психику ребенка стараниями окружающих
людей, общества.
Органическая чувственность (пространственные образы, звуки, запахи и
вкусы) служит для ориентации живого существа во внешнем природном мире с его
пространственно-временными «контурами». Для ориентации в мире культуры, даже
в «китайской комнате», этого уже недостаточно. Любая вещь имеет тут особое
общественное значение, для восприятия которого требуются высшая, идеальная
психическая функция — сознание.
Сознание есть форма общения человека с себе подобными существами. Лишаясь
кислорода человеческого общения, одинокое сознание раздваивается, пытаясь
симулировать процессы общения, расстраивается и угасает.
176
Поскольку субъект сознания, душа, есть «идея тела», поскольку в круг сознания
попадают и обыкновенные, «телесные» образы чувств. Мы не только чувствуем боль,
сытость или половое влечение, но также и сознаём их — по крайней мере, можем
осознавать и выражать в идеальных формах. Эти чувственные образы, в свою очередь,
могут встраиваться в культурные формы деятельности, пропитываясь идеальным
содержанием (таков принцип работы «продуктивного воображения», фантазии). В
результате становится чрезвычайно сложно отделить в собственном сознании образы
от идей. Отсюда проистекает вся трудность философской «проблемы идеального».
Простейшее решение этой проблемы предлагает соматический материализм',
идеальное является свойством живого тела, «просто тела».
«Чтобы убедиться в наличии сознания, достаточно себя ущипнуть», — пишет
Джон Сёрл. Конечно, если «сознанием» именовать первое попавшееся ощущение в
собственном теле, то сознание легко отыщется и у животных — окажется
«фенотипом биологической эволюции наряду с фотосинтезом, пищеварением или делением
клетки» [10].
Доказав с помощью щипка «факт сознания», Сёрл спрашивает себя, не сообщить
ли о проделанном опыте в философский журнал? На эту шутку читатель вправе
ответить не менее веским доказательством своего сознания — смехом. Сёрл, наверное,
сочтет смех читателя и зуд от щипка одного поля «фенотипами», однако, разница все
же есть: насмешка щиплет не тело, а душу «объекта» (хотя у некоторых и уши
краснеют). Реакция души бывает разной: стыд, гнев, обида или смех в ответ — в
зависимости от усвоенной ею культуры. Реакция же тел на щипок практически одинакова.
По счастью, Сёрл не стал пробовать вывести смех или стыд, «наряду с
пищеварением», из биологической эволюции тела, честно сознавшись, что не знает, «как
исследовать структуру социальной составляющей в индивидуальном сознании», и что
общество является для него «упущенной темой» (neglected topic) [11]. Сознание как
идеальная форма деятельности общественного, культурного существа остается за
порогом его понимания.
Несколько лет спустя Сёрл попробует подобраться к теме общества с тыла,
«ассимилировав социальную реальность» в естественные науки [12]. Та натурализованная
«социальность» походит на реальное общество не больше, чем «китайская комната»
на Гайд-парк.
Деннет, не в пример Сёрлу, отличает сознание от инстинктивной «мудрости
тела», ответственной за щипки. «Старая „телесная" психика на протяжении
миллиардов лет выполняла тяжелую работу по жизнеобеспечению тела, но она действует
относительно медленно и обладает довольно грубой способностью различения... Для
более сложных контактов с миром требуется более быстрая и дальновидная психика,
способная продуцировать большее и лучшее будущее» [13].
Структурную особенность сознания Деннет усматривает в том, что оно
использует внешний мир как периферийное устройство (peripheral device) хранения
информации. Наше сознание не ограничивается мозгом, констатирует Деннет. Люди имеют
обыкновение выгружать (offload) и выталкивать (extrude) свою психику в
окружающий мир, эта практика и снимает ограничения нашего животного мозга [14].
Тут Деннет вплотную приблизился к Марксовой идее «неорганического тела»
человека и пониманию предметов культуры как «созданных человеческой рукой
органов человеческого мозга» (Маркс). Еще шаг-другой — и велосипед мог быть
изобретен заново...
Настоящей субстанцией и субъектом сознания является не органическое тело
человека со всей его нейронной «биомудростью», а наше второе — рукотворное,
искусственное «тело» культуры. Если старая «телесная» психика обслуживает
потребности индивидуальной органики, то работу сознания направляет и организует
общество. Смех и стыд, честность и лживость, зависть и совесть — все это социальные
177
качества человеческой личности. Они удовлетворяют культурные потребности
общества, частицей которого эта личность является, и не имеют ровным счетом ничего
общего с нуждами «просто тела».
Общество есть особый вид связи живых существ: не напрямую, как у
животных, а через посредство создаваемых трудом полезных вещей. «Сама эта вещь есть
предметное человеческое отношение к самой себе и к человеку, и наоборот... Этот
предмет становится для него общественным предметом, сам он становится для себя
общественным существом, а общество становится для него сущностью в данном
предмете» [15].
Предметы культуры образуют не «периферию» сознания, как думает Деннет, а
напротив - его основу, субстанцию, «геном» сознания. В процессе труда человек
практически любую вещь или природный процесс может превратить в культурную
«хромосому», хранящую в себе информацию о характере его мышления и поведения.
Всякий раз, как трудящийся человек «выгружает» свои идеи в окружающий мир,
делая их доступными для других людей, усовершенствуется культурный «генотип»
всего вида homo sapiens.
В списке «условий присутствия личности» [16] у Деннета отсутствует главное:
указание на конкретное целое, которое формирует личность, — на человеческое
общество. Индивидуальная душа превращается в «личность», вступая в человеческие
(= общественные) отношения с другими людьми. Личность рождается на свет в тот
самый миг, когда ребенок совершает свой первый общественно значимый поступок —
продиктованный не телом или природной психикой, а теми нормами культуры, что
приняты в человеческом обществе. Потому и величина, масштаб личности
измеряется культурной ценностью ее деяний. Параметры же тела, «просто тела», имеют
значение лишь постольку, поскольку служат зеркалом, отражающим личность человека,
и инструментом «ансамбля общественных отношений».
Общественную природу сознания исследовал еще Сократ. В фокус сократовской
мысли попадает ключевой факт сознания — присутствие в душе человека
«другого я», альтер эго. Сократ называл его своим персональным божеством, «демоном»,
стоящим на страже добродетели. Нравственное отношение предполагает особое
раздвоение сознания и взаимную рефлексию моего я и я «другого», во мне обитающего.
Само слово «сознание» (равно как и его предки — греч. syneidos и лат. conscientia)
указывает на совместность знания. Сознание есть мысль, разделяемая с другим. Мое
«другое я» есть равнодействующая общественных сил, сформировавших мое
сознание и продолжающих вести свои диалоги внутри него/меня.
Для соматической философии эти силы культуры — терра инкогнита, их
никакими стараниями не выведешь из структуры тела. Ограничивая изучение сознания
телом, философ сам оказывается в положении англичанина, запертого в китайской
комнате. Ему доступны лишь телесные «фенотипы» сознания — иероглифы,
идеальный смысл которых невозможно понять из них самих. Смысл их продиктован
«демонами» культуры, которые не видны за китайской стеной «телесности». Для
философов тела, просто тела, общественная природа сознания всегда была и навсегда
останется «упущенной темой».
Литература:
1. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М.: Политиздат, 1974. С. 22.
2. Спиноза Б. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 2. С. 519. См.
также: Т. 1.С. 402, 314, 311.
3. Науменко Л.К. В контексте мировой философии // Эвальд Васильевич
Ильенков. М.: Росспэн, 2008. С. 67-68.
178
4. Ницше Ф. Сочинения. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 24. (Курсив мой. — A.M.)
5. Деннет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М.: Идея-Пресс,
2004. С. 86.
6. Гоббс: «... Rem cogitantem esse corporeum quid» (Objectiones Tertiae). См. в кн.:
Декарт Р. Сочинения. T. 2. M.: Мысль, 1994. С. 136.
7. Там же. С. 127.
8. Ильенков Э.В. Диалектика идеального // Логос. 2009. № 1. С. 10.
9. См. мою статью: Выготский — Спиноза. Диалог сквозь столетия // Вопросы
философии. 2008. № 10. С. 116-127.
10. См.: Searlejohn R. The Rediscovery of the Mind. London: MIT Press, 1992. P. 90.
11. «The second neglected topic is society... But I do not yet know... how to analyze the
structure of the social element in individual consciousness» (Ibid. P. 127—128).
12. «Our aim is to assimilate social reality to our basic ontology of physics, chemistry,
and biology» (Searlejohn R. The Construction of Social Reality. N.-Y.: Free Press,
1995. P. 34).
13. Деннет Д. Виды психики. С. 87.
14. «The primary source, I want to suggest, is our habit of offloading as much as
possible of our cognitive tasks into the environment itself — extruding our minds (that
is, our mental projects and activities) into the surrounding world, where a host of
peripheral devices we construct can store, process, and re-represent our meanings,
streamlining, enhancing, and protecting the processes of transformation that are our
thinking. This widespread practice of off-loading releases us from the limitations of
our animal brains» (Dennett Daniel С Kinds of Minds. Toward an Understanding
of Consciousness. N.-Y.: Basic Books, 1997. P. 134-135).
15. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. M.: Госполитиздат, 1955—1981. Т. 42. С. 121.
16. Заглавие одной статьи Деннета: Conditions of Personhood, in A. Rorty (ed.), The
Identities of Persons. Berkeley: University of California Press, 1976. P. 175—196.
MAPACOB A.H.
На пути к естественной концепции сознания
Позиция философов
Первыми обратили внимание на проблему сознания именно философы, и они же
её во многом прояснили (Шопенгауэр, Гегель, Ницше и мн. другие.) Среди
философов XX века наибольший вклад в осмысление проблемы, на мой взгляд, внес М. Ма-
мардашвили.
Из последних отечественных обзорных работ по сознанию необходимо назвать
работы Д.И. Дубровского (1980), А.Н. Книгина (1999), В.И. Молчанова (2007);
обзор дискуссии по проблемам сознания в англоязычной литературе представила
Н.С. Юлина (2004).
В работе А. Книгина [1], например, специальная глава посвящена историческому
экскурсу в проблему и систематизации классических онтологических
представлений. Сознание рассматривается как субстанция — материальная или идеальная, как
атрибут — как извечное свойство указанных субстанций или как модус — как
свойство временное. В качестве иллюстраций приводится персоналия. Теоретик
биологии A.A. Любищев, который неоднократно высказывался по проблемам сознания, по
этой классификации относится к субстанционалистам-идеалистам.
В последние 100 лет в связи с тем, что в определенном смысле бытие и
переживание бытия (экзистенция) совпадают, выдвинулась и экзистенциально-
феноменологическая онтология сознания. Наиболее крупные имена здесь: Э.
Гуссерль, М. Хайдеггер, А.Ф. Лосев (как критик). Феноменология, может быть, в
наибольшей степени разъяснила сущность мышления.
Но по мнению Д. Иванова [2] именно англо-американская аналитическая
философия в последние десятилетия «переоткрыла сознание» и поставила вопрос о том, о
какого рода сущности в принципе идет речь. Именно она центром философской
рефлексии поставила «сознательный опыт», т.е. сознание: «Удалось показать, что вопрос о
сознании, сознательном опыте, не связан с необходимостью с исследованием...
человеческой психики» (с. 90).В итоге своей обзорной работы Д. Иванов приходит к выводу,
что «перед современными философами по-прежнему стоит задача ответить на
метафизический вопрос о том. какого рода объектом является сознательный опыт» (с. 96).
Позиция физиологов
Позиция многих физиологов — это труднопреодолеваемая рефлекторная
концепция сознания, т.к. нейрофизиологи, естественно, изучают функционирование
нервной системы. На самом деле между рефлексом и мыслью — пропасть, но то, что
нейрорефлекторная активность головного мозга обеспечивает функционирование
сознания — факт неоспоряемый.
Наиболее «правильную» позицию по вопросам сознания занимает физиолог
П.К. Анохин [3]. По Анохину сознание появляется как закономерный высший этап
обработки информации. Но сам момент перехода рефлекса в субъективный образ
объективного мира, как отмечает Анохин, остается неясным.
Каким образом рефлекс переходит в мысль? По Анохину рефлекс —
беспсихический феномен. Сознание уходит из деятельности, как только она становится
автоматической, но немедленно появляется и вмешивается как корректирующий фактор,
как только акт становится неуспешным.
И, тем не менее, физиологи многого достигли: открыты центры многих
сознательных проявлений, открыты нейроны-детекторы, настроенные на определенные зна-
180
чения сигналов, вся кора больших полушарий, как установлено, имеет модульный
принцип организации, в нейронах установлена иерархия, синаптические связи
регулируются несколькими уровнями...
Однако с точки зрения физиологии, например, невозможно установить центр в
головном мозге, отвечающий за проведение в Ульяновске ежегодной конференции
памяти A.A. Любищева.
Большинство физиологов, как, впрочем, и специалистов других профилей, —
сторонники вербальной теории происхождения сознания, ибо решающую роль при этом
они придают речевой деятельности. Однако связь между второй сигнальной
системой (вербальной) и первой — рефлекторной, на самом деле выстраивается далеко не
безупречно. Замечательная попытка принадлежит в этом направлении Б.Ф. Порш-
неву [4] — его интердиктивно-суггестивная гипотеза возникновения языка.
Позиция психологов
3. Фрейд эмпирически доказал существование б/с психической субстанции,
которая до него выступала только в роли философского постулата. По Фрейду и
К. Юнгу [5], сознание окружено бессознательным. Наше «Я» функционирует таким
образом, что испытывает влияние и бессознательного.
По Фрейду причиной неврозов служат только сексуальные травмы, в то время
как по Юнгу на первый план выступают проблемы социальной адаптации,
угнетенность жизненными обстоятельствами, например.
Проблематика сознания, как видим, приоткрывается психологией, феномен «Я»
принципиально может скрывать гораздо больше информации, чем известно.
Интересную трактовку хило- и холотропичности сознания предлагает психиатр
С. Гроф [6], соотнося свои результаты с наиболее известной на Западе концепцией
сознания К. Уилбера, но в целом подход психологов к изучению сознания — диа-
дный, т.е., учитывает только биологию и социологию.
В отечественной литературе определенные итоги в области психологии сознания
подводил Г.В. Акопов (2002), а также В.П. Зинченко, который в ряде публикаций [7]
резко возражает попыткам искать сознание «между ушами», т.е., локализовать его
в мозге. Ссылаясь на многих философов, физиологов и нейропсихологов,
Зинченко повторяет: сознание — между нашими головами, благодаря чему люди способны
жить друг с другом. Следует разделить озабоченность Зинченко и усилить: вообще
сущность сознания — диалог. В этом смысле носитель сознания — все человечество
(Малов И.Ф., Фролов В.А. 2008). Но диалог может осуществляться только в том
случае, если стороны выражают только собственные точки зрения. Как это может быть
обеспечено, послушаем физиков.
Позиция физиков
И, все-таки, наиболее смелые гипотезы предлагают физики. Из отечественных
подходов укажу на подход М.Б. Менского [8], который считает, что проблема
сознания в философии и проблема наблюдателя в квантовой механике — из одного
источника. Т.е., для самой квантовой механики никакой редукции не происходит, а мы, как
наблюдатели, фиксируем лишь один мир — «наш» мир, редукция или осознавание
характерно для сознания.
Е.Д. Павлова [9] считает, что формальное сходство квантово-механических
систем и сознания выражается, во-первых, в актуально-потенциальной онтологии
(актуальная — чувство, потенциальная — сверхчувство, мысль), во-вторых, в
целостности и временной нелокальности.
Каким образом физика может помочь описать сознание?
Либо через редукцию волновой функции (проблема квантовых измерений), либо
через отождествление сознания с предельными конструктами теоретической физики,
таких, как: единое поле, вакуум. По Г.Д. Дульневу [10], носитель сознания (и мыш-
181
ления) — торсионное поле, т.е. такое упорядоченное (или перекрученное) состояние
реальности, в котором нет только искривления и которое, в свою очередь, вызывает
уже гравитацию, массу и энергию (согласно формулам Эйнштейна и др. физиков).
Первичное поле кручения, кстати, имеет разные названия: информационное поле,
торсионное поле, поле сознания.
По Дульневу, сознание — это особое внутреннее свойство возбужденного
состояния нервной системы, но которое не может быть объектом непосредственного
измерения для внешнего наблюдателя. Дульнев подчеркивает, что сознание — не
физическая реальность.
Математик В.В. Налимов в ряде книг указывает, что мозговые процессы могут
быть описаны квантово-механически, сопоставляя свой подход с аналогичным во
многом подходом философа и физика Р. Пенроуза [11].
* * *
Физика в проблему сознания привносит принципиальное, а именно она
указывает на сверхзащиту сознания, имеющую квантовую природу, от детерминизма
макрособытий. Если бы носитель имел только нейрофункциональную природу, то
первый демагог или тиран остановил бы моральную эволюцию, т.е. собственно
историю человечества. Но можно сказать больше: сознание, сводимое к сумме условных
и безусловных рефлексов, оставляет предка человека вообще на животной стадии.
Сверхзащита сознания от детерминизма макромира необходима, и она есть.
Подход автора
Подход автора к проблеме сознания заключается в привлечении для его описания
понятий информации, фрактала и АКП (антропный космологический принцип).
Понятие информации определяется по-разному, и сама наука информациология
сейчас бурно развивается. По И.И. Юзвишину [12], информация — это единый
процесс отношений энергии, движения и массы как в микромире, так и в макромире.
Фрактал (самоподобие) на сегодня — это единственное средство, которым можно
описать перенос больших количеств информации [13].
АКП, сформулированный в 1974 г, утверждает (в сильной трактовке), что
Вселенная должна быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось
существование наблюдателей. В свое время по поводу АКП возникла бурная
дискуссия [14]; в данном случае надо сказать, что не может быть «благоприятных» условий
только в одну сторону, а именно в сторону возникновения человека. Очевидно, что
структуры и силы, созидающие человека, также адекватно отвечали «константам»,
во всяком случае, формулировка автора о «небесном принципе строения сознания
человека», высказанная ранее, появилась совершенно естественно после знакомства
с «антропным космологическим принципом».
* * *
Функциональную информацию, как известно, у высших животных
обеспечивают рефлексы. Нервная система позволяет учитывать и оценивать разнородную
информацию, но совокупность условных и безусловных рефлексов, с одной стороны,
и сознание, с другой, принципиально различны, хотя и тесно взаимодействуют друг
с другом. Каким образом сознание надстроилось на рефлекторной нервной системе?
Ответ может быть только один: в результате нефункционального «давления»
информации, так как животному в принципе излишня любая информация, не
относящаяся к удовлетворению его жизненно важных функций.
Такой постоянной нефункциональной информацией может быть только
ландшафтная информация: земные просторы с необъятным воздушным покрывалом -
небом. Динамика освещения через зрительные рефлексы и формировала внутренние
образы. Фрактальный прорыв информации за пределы рефлексогенной ткани или
182
на ее границы — факт несомненный и произошедший задолго до появления
антропоидных предков.
Внутренние образы — это та континуальная среда, которая формирует
природную матрицу для сознания. Но сознание «фиксируется» лишь при наличии
самосознания, т.е., должно само заявить о себе. Каким образом проявляется феномен «Я»?
Гегель это выразил ярко, но спорно [15]: «Я — это молния, насквозь пробивающая
природную душу и пожирающая ее природность» (с. 217). «Я» — это, действительно,
молния, но пожирания не произошло, напротив, наше «Я» органично сосуществует
со всем природным, может быть, только в окружении какой-то «матрицы», которая
выполняет роль необходимого буфера.
Также требуют разъяснения утверждения Парменида у Платона, где речь идет,
прежде всего, о диалектике единого и иного. Ясно только одно: порождает мысль
начавшийся процесс «различения» в этом «единородном» (уже по выражению
философа К. Свасьяна [16]) внутреннем пространстве, феномен «Я» возникает только
при этом процессе. Что подталкивает к этому процессу мышления? Очевидно то, что
требует различать. Это, разумеется, связано и с вербализацией, и с предметной
деятельностью, и с проявлением чувств.
Можно допустить, что мышление, действительно, происходит на микроуровне,
и оно универсально для всех людей, как универсальны блоки ДНК или белков, но
начавшийся процесс мышления — «различения» — немедленно
самоидентифицирует мыслящего человека. По этой причине сознание может быть только уникальным,
только в единственном числе. Мыслящий человек, конечно же, идентифицирует себя
отнюдь не микрообъектом, но, воспринимая через рефлексы макромир,
естественным для себя образом воспринимает макромасштаб.
Но генезис субъективной реальности от реальности объективной может быть
только целостным. Это означает, что мы не должны забывать, как органично
макромир «держится» на микромире; но это же означает, что мы должны спросить себя, а
на каких подобных соотношениях (м.б., и константах) «держится» континуальное
сознание, в высшей степени упорядоченное? Феномен «Я», который невозможно
зафиксировать в определенной точке, прямо указывает на связь с микроприродой
своего физического носителя. Отсутствие в головном мозге пространственно
фиксированных ментальных блоков и информационных отсеков также
свидетельствует об иной, чем клеточной, организации носителя сознания. Наиболее вероятностна
организация сознания — полевая, но в таком случае следует вести поиск
функциональных особенностей нервных клеток, деятельность которых порождает в конечном
счете сознание. Фрактальная связь дискретных структур с континуумом — вот как
иначе формулируется предлагаемая гипотеза.
Но внутренняя континуальная среда становится сознанием только при
упорядочивании, при этом, как сознания не может быть без мышления, так и «чистого
мышления» (без сознания) не может быть: оно «немедленно» становится сознанием (т.е.,
наполняется знанием). Точно так же феномена «Я» без мышления быть не может,
оно «живет» в мышлении.
Парадоксальность сознания и порождает парадоксальные его определения, из
которых приведем только некоторые:
Сознание — это свет, который все освещает и везде проникает (Сколимов-
ский) [цит. по 11].
Сознание — это всепроникающий эфир в мире или, как сказал бы Вернадский,
громадное тело, находящееся в пульсирующем равновесии и порождающее новые
формы (Мамардашвили) [цит. по 17].
Сознание — это светящаяся точка, таинственный центр перспективы, в котором
мгновенно приводится в связь, в соотношение то, что человек видит, чувствует,
переживает, думает (Мамардашвили) [18].
183
Сознание есть открытость миру (Мерло-Понти) [цит. по 11].
Несмотря на то, что вышеприведенные определения уже устоялись в литературе,
они метафоричны: концепция «световой природы» сознания потребует
принципиального переосмысления всего комплекса вопросов о сознании, так как она
(концепция), несомненно, объединяет явления макро- и микромиров.
Некоторые подходы в этой концепции зафиксированы в монографии автора
«Сознание. Опыт естественнонаучного и философского обзора проблемы» (Ульяновск,
2009).
И поскольку понятие сознания постулируется в литературе, по меньшей мере, в
двух смыслах — широком (где ведется поиск формулировки понятия в рамках
принципиального отличия человека и природы) и узком (где ставится акцент на
социальный характер поведения), то автор данного сообщения в качестве рабочего
определения принимает следующее: сознание — это способность идеального отражения
действительности и возможность поступать согласно собственным взглядам.
Литература:
1. Книгин А.Н. Философские проблемы сознания. Томск, 1999.
2. Иванов Д.В. Сознание как объект метафизических исследований // Вопросы
философии. 2009. № 2.
3. Анохин П.К. Теория отражения и современная наука о мозге. М, 1970.
4. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии).
М., 1974.
5. Юнг К. Дух и жизнь / Пер. с немецк. Л.О. Акопяна, под ред. Д.ГЛахути. М.:
Практика, 1996.
6. Гроф С. За пределами мозга. М., 1992.
7. Зинченко В.П. Сознание // Большой псих, словарь. 3-е изд., СПб., 2006.
8. Менский М.Б. Квантовая механика, сознание и мост между двумя культурами
// Вопросы философии. 2004. № 6.
9. Павлова ЕД. Формальное сходство квантовых систем и сознания // Аспирант
и соискатель. 2006. № 5.
10. Дульнев Г.Н. Энергоинформационный обмен в природе. СПб., 2000.
11. Налимов В.В. Разбрасываю мысли. М., 2000.
12. Юзвишин H.H. Информациология. М., 1996.
13. Чайковский Ю.В. Активный связный мир, M.: KMK, 2008.
14. Балашов Ю.В. Антропные аргументы в современной космологии // Вопросы
философии. 1988. № 7.
15. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. М, 1977.
16. Свасьян К.А. Феноменологическое познание. АН Арм.ССР. Ереван, 1987.
17. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1990.
18. Современная философия: словарь и хрестоматия / Отв. ред. В.П. Кохановский.
Ростов-на-Дону, 1995.
184
MAPEEBAE.B.
Проблема каузальной обусловленности ментального
физическим и советский марксизм
Советский марксизм был догматичен? Но некоторым этот догматизм был по
нраву. Хотя бы потому, что существовали ясные формулы, расставляющие все
и везде, включая философию, по своим местам. Как понимал сознание тот, кто
успешно окончил советский вуз? Конечно, как «свойство высокоорганизованной
материи».
Обыватель считал, что такой высокоорганизованной материей был особый орган
тела — мозг, достигший высокой организации на пути длительной природной
эволюции. И с этой версией естественнонаучного материализма соглашалась основная
масса преподающих философию — вузовских профессоров и доцентов.
«Свойство» в советском диамате отличали от «качества». Первое было лишь
внешней манифестацией, проявлением второго. В то время как «качество» являлось
существенной стороной, в данном случае, материи. Какие же качества мозга
позволяли человеку думать, сознавать, отражать мир не так, как это делал его ближайший
сородич — животное? То, что в наши дни именуют обусловленностью ментального
физическим, в те времена рассматривалось как обусловленность идеального
материальным, или, в данном случае, обусловленность мыслей в голове — устройством этой
самой головы и протекающими в ней физиологическими процессами [1].
Характерно, что не только естественнонаучно мыслящие философы, но и те, кого
сегодня принято относить к основоположникам неклассического философствования,
зачастую склонялись к подобной точке зрения. Так небезызвестный А. Шопенгауэр
ясно заявляет о том, что интеллект — «функция мозга, которую мозг так же не
черпает из опыта, как желудок — пищеварение или печень — выделение желчи» [2J.
И, тем не менее, мысль мысли рознь. И почти одинаково устроенные головы
способны выдавать на поверхность разные «ментальные» продукты. Поэтому у
более серьезных философов, чем преподаватели диалектического материализма, тема
каузальности ментального физическим в советские годы имела более сложный вид.
Прежде всего, потому, что причиняющим мысли моментом здесь рассматривался
не сам по себе мозг, а весь человек, все его тело, способное к направленному
действию. Еще раз подчеркнем, что причинно-следственная связь между психическим
и физиологическим в такой трактовке сменяется идеей их функциональной
зависимости. Более того, ментальный ряд в таком случае оказывался функцией способа
действия тела.
Такого рода решения заявленной проблемы мы находим в классической
философии (в противоположность естественнонаучному материализму!) еще до
марксизма. И в данном случае признать ментальное функцией действия тела ни в коей
мере не предполагает признать его неким эпифеноменом, сопровождающим
деятельность мыслящего тела. Еще до немецкой классики темой расширения участия тела в
освоении мира в целях расширения возможностей его разума занимались философы
эпохи Возрождения. Так, философ Возрождения П. Помпонацци пишет об
универсальности ментального, т.е. разума как производном от расширения участия тела в
познании. Мысль об универсализме человеческого ума у Помпонацци
трансформируется в представление об универсализме действий человеческого тела. Способность
разума осваивать и воссоздавать любые природные формы — это аксиома для
Помпонацци. Но он пишет, что «разум окажется движим телесной материей, и, таким
185
образом, будет нуждаться в теле как в объекте» [3]. И там же Помпонацци отмечает,
что вследствие этого человек «властен принимать ту или иную, какую пожелает,
природу» [4].
Еще раз обратим внимание, что идея функциональной зависимости
ментального плана у живого существа от его действий в окружающей среде не является
сугубо марксистской. Причем, тут понятие ментального плана начинает двоиться. Ведь
одно дело психические образы животного, и другое дело — мысли человека. Между
ними есть существенная разница, связанная с рефлексивным характером
мыслительной деятельности человека и его способностью проникать за сферу видимого в
область умопостигаемых существенных отношений бытия. Понятие ментального, к
сожалению, смазывает эту существенную разницу между разумным человеческим и
животным психическим отражением мира. И это зачастую позволяет подставлять
одно вместо другого, признавая рефлексию, мышление и прочее уже у животного,
как это делают сегодня некоторые зоопсихологи.
Идея проникновения человеком мыслью в существенные отношения природы
тоже возникла задолго до марксизма. Напомним, что, следуя Канту, И.-Г. Фихте
отмечает, что освоить понятие вещи можно, только овладев правилом, «по которому
я могу построить вещь в свободном мышлении» [5]. Но овладеть правилом нельзя,
не осуществляя самой этой деятельности. Если Кант не может ответить на вопрос,
откуда берутся правила такой деятельности, то для Фихте здесь нет никакой
загадки. Правила деятельности воображения, согласно Фихте полагаются самой этой
деятельностью. Абсолютизируя в деятельности воображения (фантазии) момент
свободного преобразования предметных представлений, Фихте приходит к выводу о
том, что активность субъекта составляет в собственном смысле продуктивное начало
человеческого сознания. Деятельность субъекта здесь не только преобразует, но и
полагает из себя содержание человеческого знания.
«Акт духа, который мы сознаем, как таковой — подчеркивает Фихте, называется
свободой. Акт, без сознания действования, — самопроизвольностью» [6]. Указанное
самопроизвольное действие, согласно Фихте, составляет глубочайшее основание
образов наличного бытия. Восхищенный этой мыслью Фихте, Ф.В.Й. Шеллинг
впоследствии замечает: «В будничной деятельности за вещами, с которыми мы возимся,
мы забываем о самой нашей деятельности; философствование является тоже своего
рода деятельностью, но это не только деятельность, но и также неуклонное
созерцание себя в такой деятельности» [7].
Итак, уже у Канта и Фихте речь идет об особой продуктивной деятельности,
воссоздающей образы человеческого сознания. И эта деятельность производится по
необходимым всеобщим правилам, доступным человеческой рефлексии. Но
присутствуют ли такие правила в действиях животного?
Надо сказать, что указанная проработка деятельной природы ментальных образов
в немецкой идеалистической философии игнорировалась в официальной советской
философии. И это при том, что деятельностная природа образов восприятия
отмечалась также русским психологом и физиологом И.М. Сеченовым, который утверждал,
что ощущения человека возникают и упорядочиваются не внутри, а вне субъекта, в
процессе его внешней деятельности. Согласно Сеченову, отражение осуществляется
органом чувств человека, но результат отражения не является отпечатком в
материальном субстрате данного органа. Копию с предмета снимает движение органа чувств
по поверхности предмета, именно оно воспроизводит форму внешнего предмета в
своей траектории. Уточняя эту идею на примере зрения, Сеченов говорит о
своеобразном зрительном «ощупывании» внешнего предмета, а сам орган зрения называет
«щупалом» [8].
Но у Сеченова, как и у некоторых современных зоопсихологов, еще не видно, чем
деятельное воссоздание образов восприятия у человека отличается от того же меха-
186
низма у животного. Как организована деятельность, выстраивающая образ вещи у
животного? И откуда берутся всеобщие правила такой деятельности у человека?
Вспомним о «чувствах-теоретиках» у Людвига Фейерабаха, которые, с его точки
зрения, возвышают человека над животным. Напомним, что эту мысль он взял у
Гегеля. Но только у Маркса проблема обусловленности ментального физическим
приобретает принципиально иной вид, когда мысль как существенное отражение мира
оказывается функционально зависимой от практического преобразования этого
самого мира человеком.
Итак, своеобразие марксистского решения проблемы обусловленности
ментального физическим разворачивается совсем не там, где его усматривали пропагандисты
официальной версии советского марксизма. Мысль как ментальный феномен не
находится внутри тела, как это представляется сторонникам естественнонаучного
материализма. Но не находится она и вне тела, как на этом настаивает спиритуализм.
Выход из указанной антиномии в том, что мышление рождается из движений тела по
форме другого тела. Но своеобразие марксизма на этом не заканчивается.
Наоборот, здесь как раз и начинаются основные споры, которые были неизвестны
советской версии марксизма в пору ее официального расцвета. Дело в том, что
мышление возникает именно там, где человек движется по контурам не природных, а
социальных вещей, созданных человеком для человека. Именно на этом акцентировал
в XX веке свое внимание марксист Э.В. Ильенков, в противоположность не только
Д.И. Дубровскому, но и другим официальным марксистам той поры. «А посему, —
писал Ильенков, — ты должен исследовать вовсе не анатомию и физиологию мозга,
а „анатомию и физиологию" того „тела", деятельной функцией коего на самом деле
является мышление, т.е. „неорганического тела человека", „анатомию и физиологию"
мира его культуры, мира тех „вещей", которые он производит и воспроизводит своей
деятельностью...» [9].
Итак, способ обусловленности ментального физическим вернее всего выражается
понятием «деятельная функция». Причем в вещах, созданных человеком для
человека, действительность уже обобщена целесообразной деятельностью. Иначе говоря,
как пишет Ильенков, в них представлены общие схемы его действия. И тогда
универсальность человеческого отношения к миру выражается в движении не вширь, а
вглубь, т.е. к полноте сущностного постижения мира. Физическое в данном случае
оказывается и средством, и сутью того, что представлено в ментальном. Человек, как
физическое существо, способен воспроизводить, а точнее сказать, представлять в
своей деятельности образ окружающего мира именно потому, что он является не
просто физическим, а социальным существом, действующим предметно-практическим
способом.
Но если, с указанной точки зрения, высокоорганизованной материей, свойством
которой является мышление, является общественный человек, которого невозможно
представить не только без мозга, но и без руки как орудия производства [10], то это
не снимает всех проблем. К примеру, проблему истинного субъекта мышления или
ментальных актов.
Понятно, что и вопрос о субъекте мышления у тех, кто приписывает Ильенкову
понятие «мыслящего тела», и у их антиподов будет решаться по-разному. Конечно,
возможны и межеумочные точки зрения. Но у последовательных людей здесь одно
цепляется за другое. И если речь уже идет не о теле отдельного индивида, а о
«неорганическом теле» человечества, то у субъекта мышления оказывается как бы два
полюса. Ведь Ильенков недаром в конце очерка второго «Диалектической логики»
пишет то о «мире культуры», то об «общественном человеке», то о «труде» как
субъекте мышления с точки зрения марксизма.
Маркс и Энгельс, как известно, отмечают в «Немецкой идеологии», что первая
предпосылка всякой человеческой истории — это существование живых человече-
187
ских индивидов. Но для них это не разрозненные «мыслящие тела», а люди,
включенные в ими же созданную систему деятельных взаимоотношений. Сделай акцент
только на одном моменте — и возникает крайность. Одна крайность — это мыслящие
и действующие тела. Другая крайность — это деятельность сама по себе в качестве
субъекта. При этом можно до бесконечности обвинять друг друга в вульгарном
материализме и объективном идеализме, если акцентировать внимание только на одной
стороне. Скажете, что это — азы марксизма? Но марксизм-то не прост! Так кто же
субъект мышления и действия в марксизме?
Признавать или Тело, или Дело, т.е. Труд субъектом мышления — это значит
вращаться в рамках такой же дилеммы, какой была пресловутая психофизическая
проблема. И, прежде всего, потому, что Тело — единичное, Труд — общее, а субъектом
мышления и действия, по сути и по Ильенкову, является особенное — конкретная
личность! Здесь крайне важно помнить, что методологическое основание марксизма
— диалектика особенного. «Субъектом мышления, — пишет Ильенков, в восьмом
очерке «Диалектической логики», имея в виду марксизм, — здесь оказывается уже
индивид в сплетении общественных отношений, общественно-определенный
индивид, все формы жизнедеятельности которого даны не природой, а историей,
процессом становления человеческой культуры» [11].
Единичное, и общее сами по себе — всего лишь философские категории,
отражающие разные стороны бытия. И они обе несут в себе момент односторонности. Только
категория особенного схватывает их тождество в реальном общественном человеке.
Истина, согласно Гете, находится не между крайностями, а над ними. И крайности
«общества» и «мыслящего тела» снимает понятие «общественный человек», которое
философия и психология конкретизируют в понятии «личности» того или иного
человека. Гете — личность и Ильенков — личность, в слабом единичном теле которого
была явлена всеобщая человеческая сущность. Но он действовал сам, а не через него
действовало Общество, Деятельность, Труд. И он, в конце концов, сам распорядился
своей судьбой.
Другой аспект той же проблемы: являются ли тело и душа орудиями
общественного человека? Ильенков отмечает, что «душа» человека есть синоним «личности».
Но при этом в ряде учений и, прежде всего, в религиозной традиции допускается ее
существование отдельно от тела.
Понятно, что если в рассмотренной выше традиции личность есть реальный
субъект и предметное существо, то она не бестелесна. В человеке душа и тело являются
единым целым. И все же душа способна пользоваться телом как орудием. Здесь
налицо такое раздвоение единого, когда человек относится уже к самому себе, к своей
телесной жизни как к чему-то внешнему. Телесное в общественном человеке
оказывается орудием духовного. И это оборачивание во взаимоотношениях материального
и идеального происходит только в мире культуры. Но способен ли человек сделать
таким внешним себе орудием душу?
Можно сказать, что свою душу мы, скорее, овнешняем и, прежде всего, в
искусстве, а также других видах человеческого творчества. Ведь недаром в марксизм из
Гегеля пришло понятие «опредмечивание». Но сложность ситуации в том, что
человеческое Я способно к саморефлексии. Состояние тела может повлиять на состояние
души, но тело не может сделать душу своим орудием. Иное дело, сама душа как
синоним личности, которая способна превратить себя в предмет самоанализа и
самоконтроля. Душа, а значит личность, действует посредством телесных механизмов и
вовне, и во внутреннем плане воображения. Мышление и переживание производно
от телесного действия. И, тем не менее, душа способна превращать в орудие самое
себя. Эта относительная самостоятельность духовной и душевной жизни никогда
не отрицалась Ильенковым. И была одним из оснований для обвинений марксиста
Ильенкова в идеализме.
188
Таким образом, проблема каузальной обусловленности ментального физическим
знала множество решений в советском марксизме. Одни проистекали из
естественнонаучного материализма, другие — из немецкой классики. Третьи пытались понять,
как немецкая классика подготовила марксистское понимание обусловленности
ментального физическим. Именем К. Маркса в те времена клялись все, что не меняло
сути дела. Советский марксизм был но форме официозен, а по содержанию размыт и
внутренне противоречив. Именно поэтому одни из его наследников находят сегодня
свое альтер эго у Дж. Сёрла, другие — у Д. Деннета, а третьи — за пределами
аналитической философии и рационализма вообще, в трактовках ментального в духе
философии жизни и пр.
Ссылки и литература:
1. Оставим анализ этого вопроса физиологам и философам типа Д.И.
Дубровского, отстаивающего эту позицию начиная с 1968 года {Дубровский Д.И. Мозг и
психика // Вопросы философии. 1968).
2. Шопенгауэр А. Афоризмы и истины. Москва-Харьков, 2000. С. 64—65.
3. Помпонацци П. Трактаты «О бессмертии души» «О причинах естественных
явлений» М., 1990. С. 40.
4. Там же. С. 29.
5. Фихте И-.Г. Факты сознания. СПб., 1914. С. 24.
6. Фихте И.-Г. Избр. произв. М., 1916. С. 94.
7. Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936. С. 19.
8. См.: Сеченов ИМ. Избр. филос. и психол. произв. М., 1947. С. 394—395.
9. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории Изд. 2-е доп.
М., 1984. С. 54-55.
10. Особой педагогической проблемой является формирование полноценного
мышления у безруких инвалидов. И в этом случае уже особую роль играет
развитый язык как особый общественный феномен.
11. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. Изд. 2-е доп.
М., 1984. С. 185.
189
НАГУМАНОВАС.Ф.
Может ли репрезентационализм решить
трудную проблему сознания?
О том, что существует трудная для материализма проблема — проблема
сознания — заявил в 1974 г. Т. Нейгел в своей статье «Каково это быть летучей мышью?»
В этой статье Нейгел утверждает, что разнообразные попытки редуцировать
психические явления к физическим явлениям несостоятельны, поскольку все они
упускают важнейшую черту психики — сознание. Это относится не только к теориям
тождества, которые отождествляют психические явления непосредственно с
нейрофизиологическими состояниями мозга, но и к функционалистским объяснениям, в
которых психические явления отождествляются с когнитивными функциями.
Нейгел пишет: «Сознание — вот что делает проблему души и тела практически
неразрешимой (really intractable)... в настоящее время мы понятия не имеем, каким могло бы
быть объяснение физической природы психических явлений. Без сознания проблема
души и тела была бы гораздо менее интересной. С сознанием эта проблема кажется
безнадежной» [1].
Для описания феноменального характера сознания Нейгел вводит выражение
«нечто, каково это». Существует нечто, каково это видеть красный томат, существует
нечто, каково это ощущать вкус лимона и т.п. Каково это видеть красный цвет
отличается по качеству от каково это ощущать вкус лимона. В аналитической
философии принято обозначать разные по качеству субъективные переживания термином
«квалиа».
Согласно Нейгелу, психическое состояние организма является сознательным,
если существует нечто, каково это находиться в этом состоянии, причем для самого
этого организма. Все эти качества, все эти «каково это», доступны только изнутри — с
точки зрения переживающего их субъекта. Эту особенность Нейгел определяет как
субъективный характер сознания.
Д. Чалмерс (1995) назвал проблему, на существование которой указал Нейгел,
«трудной проблемой сознания» [2]. Он предложил отделить легкие проблемы
сознания от трудных. К легким проблемам сознания он отнес объяснение следующих
явлений, связанных с сознанием: способность к дискриминации и категоризации,
способность реагировать на стимул из внешней среды, способность к отчету о
психических состояниях, способность системы иметь доступ к своим собственным
внутренним состояниям, фокус внимания, произвольный контроль поведения,
различие между сном и бодрствованием. Легкие проблемы поддаются
исследованию стандартными методами когнитивной науки, с их помощью феномен сознания
объясняется в терминах обработки информации или в терминах
нейрофизиологических механизмов. Чалмерс (1995) пишет: «Хотя у нас пока нет ничего близкого
к полному объяснению этих феноменов, у нас есть ясная идея о том, как мы могли
бы их объяснить. Вот почему я называю эти проблемы легкими... По-настоящему
трудная проблема сознания — это проблема переживания» [3].
Согласно Чалмерсу, нет сомнений в том, что субъективное переживание тесно
связано с физическими процессами в системах, таких как мозг, что физические
процессы в мозге порождают переживание... Но как и почему физические
процессы порождают переживание? Почему они не протекают «в темноте», без
сопровождающего эти процессы субъективного переживания? Вот в чем главная тайна
сознания [4].
190
Нейгел не отрицает физикализм: «Было бы правильнее сказать, что физика-
лизм — это позиция, которую мы не можем понять» [5]. По крайней мере, при наших
сегодняшних знаниях мы не понимаем, как может быть истинным то, что
субъективный характер переживания является физическим феноменом. Однако Чалмерс
и некоторые другие философы идут дальше и доказывают, что мы и не можем этого
понять, потому что физикализм — это ложная позиция. Почти все в мире можно
объяснить в физических терминах, за исключением сознания. Феноменальное сознание
не является физическим процессом. Три основных аргумента, сформулированных
для доказательства ложности физикализма: аргумент знания, аргумент мыслимо-
сти и аргумент разрыва в объяснении — вызвали большую дискуссию, которая
продолжается до сих пор. Доказывают ли эти аргументы ложность материализма? На
сегодняшний день среди философов нет единого мнения по этому вопросу. Однако
в результате этой дискуссии многие философы согласились, что трудная проблема
сознания: как вписать субъективное переживание в материалистическую картину
мира — действительно существует.
Один из возможных подходов к решению трудной проблемы состоит в том,
чтобы найти промежуточное звено, которое свяжет феноменальное сознание и
физические процессы и тем самым устранит разрыв в объяснении сознания. Таким
связующим звеном могла бы служить репрезентация. Согласно репрезентационализму,
все психические состояния, в том числе сознательные состояния, являются интен-
циональными. Интенциональность можно определить в терминах репрезентации, а
репрезентация поддается редукции к физическим процессам. Если сознание можно
объяснить через репрезентацию, то его можно редуцировать, в конечном счете, к
физическим процессам.
Весьма показательна в этой связи эволюция взглядов Фрэнка Джексона. В 1982 г.
он сформулировал самую известную версию аргумента знания, чтобы доказать
ложность физикализма, но в 1998 г. он изменил свои взгляды и перешел на позицию
физикализма. Теперь Джексон считает, что именно репрезентационализм является
лучшим ответом на аргумент знания, хотя ранее он критиковал этот подход [6].
Репрезентационализм является спорной позицией, он вызвал множество
возражений. Н. Блок назвал разделение философов на сторонников и противников репре-
зентационализма «величайшей пропастью» в философии психики.
«Величайшая пропасть в философии психики — а может быть даже всей
философии — разделяет две перспективы на сознание. Эти перспективы различаются между
собой по вопросу, существует ли нечто в феноменальном характере сознательного
переживания, что выходит за рамки интенционального, когнитивного и
функционального» [7].
Следует учитывать, что это разделение не совпадает с разделением философов
на физикалистов и антифизикалистов. Так, Н. Блок известен своими атаками на
репрезентационализм, вместе с тем, он физикалист в понимании природы сознания.
Д. Чалмерс продолжает занимать антифизикалистскую позицию, вместе с тем, он
поддерживает репрезентационализм и предлагает свой, нередуктивный вариант ре-
презентационализма [8].
В аналитической философии принято различать феноменальные и репрезента-
циональные свойства психического состояния. Возьмем в качестве примера
восприятие спелого томата. Его интенциональный/репрезентациональный компонент
состоит в том, что он о спелом томате. Каково это видеть красный, ощущать
специфический запах спелых томатов, ощущать округлую тугую кожуру — эти квалиа
составляют феноменальный аспект данного восприятия.
Репрезентационализм утверждает, что феноменальные свойства психического
состояния неотделимы от репрезентациональных свойств, что любое феноменальное
переживание имеет некоторое содержание. Тезис репрезентационализма часто фор-
191
мулируется с помощью термина «проистечение» (supervenience): феноменальный
характер сознательного состояния проистекает из репрезентационального характера
этого состояния. Другими словами, если два состояния тождественны в репрезента-
циональных свойствах, то они тождественны и в феноменальных свойствах.
Невозможно изменение феноменального характера без изменения содержания
репрезентации. Тезис репрезентационализма определяют и через тождество: «Феноменальное
свойство тождественно свойству репрезентации определенного содержания
определенным способом» [9]; «Феноменальный характер есть то же самое, что и репрезен-
тациональное содержание, которое отвечает определенным дополнительным
условиям» [10].
Между репрезентационалистами существуют глубокие разногласия по поводу
того, как именно должен быть реализован репрезентационализм. Все реирезента-
ционалисты соглашаются в том, что феноменальный характер сознания полностью
исчерпывается тем, как вещи репрезентированы в сознании, но трактуют это по-
разному. Сторонники редуктивного репрезентационализма объясняют
феноменальный характер сознательного состояния в терминах репрезентациональных свойств
или каких-то других материалистических терминов, не обращаясь к феноменальным
понятиям. Свои версии редуктивного репрезентационализма предложили Ф. Дрет-
ске, М. Тай и В. Ликан. Нередуктивный репрезентационализм предполагает, что,
хотя феноменальные свойства тождественны репрезентациональным свойствам, эти
последние не могут быть поняты без обращения к феноменальным понятиям. И это
неудивительно, поскольку, по мнению Чалмерса, «сознание не может быть
редуцировано к чему-то более фундаментальному, чем оно само» [11]. Чал мерс считает, что
существуют хорошие аргументы в пользу репрезентационализма, но они не
являются хорошими аргументами в пользу редуктивного репрезентационализма.
Репрезентационализм сам по себе не решает трудной проблемы сознания.
Этот же тезис доказывает Д. Столяр [12]. Связь между репрезентационализмом и
решением трудной проблемы он выразил в форме следующей транзитивности:
(1) Если два сознательных переживания тождественны во всех
репрезентациональных аспектах, то они тождественны во всех феноменальных аспектах.
(2) Если два сознательных переживания тожественны во всех физических
аспектах, то они тождественны во всех репрезентациональных аспектах.
(3) Следовательно, если два сознательных переживания тожественны во всех
физических аспектах, то они тождественны во всех феноменальных аспектах.
Первая посылка выражает репрезентационализм (феноменальное проистекает
из репрезентационального). Вторая посылка выражает физикализм в отношении
репрезентации (репрезентациональное проистекает из физического). Третья посылка
выражает физикализм в отношении феноменального сознания.
Вышеприведенная транзитивность является валидным умозаключением, обе
посылки, взятые в отдельности, на первый взгляд, верны. Если они верны, то не
остается иного выбора, как признать физикализм в отношении феноменального
сознания. Однако Д. Столяр считает транзитивность неубедительной, отсюда он делает
вывод, что репрезентационализм, независимо от того, является ли он истинным, не
может повлиять на решение трудной проблемы. Он пишет: «Аргумент
транзитивности является неубедительным в следующем смысле: при любой интерпретации
его центральных терминов, по крайней мере, одна из его посылок является столь же
спорной, как и заключение... Проблема с аргументом транзитивности состоит в том,
что, несмотря на внешнее впечатление, его заключение может быть убедительным
только для того, кто уже убежден в истинности заключения» [13].
Центральным термином в транзитивности Столяра является понятие
репрезентациональных аспектов переживания. Это понятие служит мостом между
феноменальным и физическим. Под репрезентациональными аспектами Столяр понимает
192
содержание репрезентации. Существует несколько редуктивных способов
интерпретации содержания репрезентации. При любом способе интерпретации аргумент
транзитивности не может убедить в истинности его заключения.
Столяр демонстрирует неубедительность транзитивности, анализируя различные
интерпретации содержания репрезентации на конкретном примере: Джону кажется,
что книга на столе красная. Что является содержанием ощущения красного цвета?
Какое свойство репрезентирует красный цвет? Столяр рассматривает три
возможных ответа на этот вопрос с точки зрения трех редуктивных концепций цвета: физи-
кализма, диспозиционализма и примитивизма.
Согласно физикализму, содержанием ощущения красного цвета является
физическое свойство, допустим, спектральная отражательная способность поверхности.
При такой интерпретации первая посылка утверждает, что если два переживания
репрезентируют одну и ту же спектральную отражательную способность, то они
являются одинаковыми по феноменальному характеру. Вторая посылка утверждает, что
если два переживания тождественны в физическом отношении, то они одинаковы в
отношении содержания репрезентации. Вторая посылка является правдоподобной,
но первая является столь же спорной, как и заключение. Для демонстрации
спорности первой посылки Столяр прибегает к аргументу знания: можно знать все
физические истины о мире, и при этом не знать, каково это видеть красный цвет. Можно
знать, что данное переживание репрезентирует книгу как имеющую определенную
спектральную способность, и при этом не знать, каков феноменальный характер
этого переживания, т.е. каково это видеть красный цвет.
Согласно диспозиционализму, красный цвет представляет диспозицию
вызывать ощущение красного цвета у нормальных наблюдателей в нормальных
обстоятельствах. Первая посылка утверждает: если два переживания одинаковы в том, что
репрезентируют объект как имеющий диспозицию вызывать ощущение красного
цвета у нормального наблюдателя в нормальных условиях, то эти два переживания
одинаковы и по феноменальному характеру. Вторая посылка утверждает, что если
два переживания тождественны в физическом отношении, то они тождественны в
том, что оба репрезентируют объект как имеющий диспозицию вызывать ощущение
красного цвета у нормального наблюдателя в нормальных условиях.
Первая посылка является правдоподобной, но вторая является столь же
неправдоподобна, как и заключение. Вторая посылка сомнительна потому, что включает в
себя упоминание «красного цвета», т.е. фактически включает в себя ссылку на
феноменальный характер. Потому она столь же уязвима с точки зрения аргумента знания,
как и заключение. Можно знать все физические истины о переживании и при этом
не знать, представляет ли переживание книгу как имеющую диспозицию вызывать
у нормального субъекта в нормальных обстоятельствах именно такое субъективное
ощущение.
Согласно примитивизму, содержанием ощущения красного цвета является
красный цвет физического объекта, поскольку цвет является таким же реальным
свойством физического объекта, как размер или форма. Многие философы считают, что
это неверно. Благодаря научным исследованиям мы знаем, что у физических
объектов в действительности нет таких свойств. Тем не менее, у примитивизма есть
свои сторонники. Как и в случае диспозиционализма, первая посылка здесь является
правдоподобной, но вторая является столь же неправдоподобной, как и заключение.
Можно знать все физические истины о переживании и при этом не знать,
репрезентирует ли данное переживание книгу как имеющую красный цвет.
Столяр делает следующий вывод: «..невозможно интерпретировать две посылки
таким образом, чтобы аргумент был убедительным. Если принять физикалистскую
интерпретацию, то первая посылка будет столь же спорной, что и заключение. Если
принять диспозиционалистскую или примитивистскую интерпретации, то вторая
193
посылка будет столь же спорной, что и заключение. Следовательно, ни при какой
интерпретации аргумент не является убедительным» [14].
Но нет ли других вариантов редуктивной интерпретации содержания? Столяр
допускает, что другие интерпретации возможны. «Но философы обсуждают цвет
длительное время, и эти три объяснения представляются единственными, к чему они
пришли. Поэтому можно предположить, что эти три объяснения исчерпывают наши
опции, по крайней мере, релевантные опции» [15].
Столяр не рассматривает проективистскую интерпретацию цвета, поскольку при
объяснении цвета проективизм ссылается на квалиа, что делает эту теорию нередук-
тивной. Согласно проективизму, цвета не являются репрезентациями свойств мира,
это свойства самого переживания. Мы непосредственно осознаем эти свойства и
проецируем их на внешние объекты. Наше переживание репрезентирует объекты
внешнего мира как обладающие этими свойствами. Защищая проективизм, П. Бого-
сян и Д. Веллеман (1989) пишут: «...интенциональное содержание визуального
переживания репрезентирует внешние объекты как обладающие цветовыми качествами,
которые на самом деле принадлежат только зонам визуального поля» [16]. Отсюда
вытекает, что наши цветовые переживания являются ошибочными: в
действительности цветов не существует. Такие теории цвета называются теориями ошибки.
Однако существует и другой вариант проективизма, он предложен В.
Райтом [17]. Привлекательным в нем является то, что Райт пытается соединить экстер-
нализм и субъективизм в понимании цветов. Он утверждает, что причиной цветовых
ощущений в нормальных обстоятельствах является физическая природа объектов,
которые мы воспринимаем. Физические факты о воспринимающем субъекте, о
воспринимаемом объекте и об обстановке, в которой происходит восприятие, — все эти
физические факты детерминируют, какое цветовое ощущение переживает
воспринимающий субъект. Экстернализм сближает Райта со сторонниками редуктивного
репрезентационализма. Однако в отличие от них Райт считает, что не существует
такого физического свойства, с которым можно было бы отождествить цвет, наука о
цвете указывает, по его мнению, в сторону субъективизма. Поэтому Райт
поддерживает теорию ошибки. Цвета — это субъективные реакции на объекты внешнего мира,
они проецируются на эти объекты. Мир выглядит окрашенным в различные цвета,
хотя в действительности ничто не имеет цвета.
С другой стороны, Райт подчеркивает отличие своей теории от теории Богося-
на и Веллемана. Для них цвета — это свойства наших переживаний или
модификации нашего сознания, которые мы проецируем на объекты. Райт указывает, что это
возвращение к теории чувственных данных. Если мы непосредственно осознаем не
свойства объектов мира, а свойства визуального поля, то возникают те же проблемы,
что и у теории чувственных данных, главная из которых — отгороженность от
внешнего мира.
Райт утверждает, что не существует таких свойств, которые присущи сознанию
самому по себе и которые могли бы объяснить феноменальный характер сознания.
Лучшим способом объяснения квалиа, с которыми мы встречаемся в субъективном
опыте, Райт считает репрезентационализм. Феноменальный характер сознательного
переживания исчерпывается тем, как вещи репрезентируются в сознании. Но если
цветов в действительности не существует, а мы воспринимаем объекты цветными,
то каков же онтологический статус квалиа? Райт полагает, что цветовые квалиа
существует только в репрезентациональном содержании переживаний. Однако Райт
не уточняет, что же является содержанием цветового ощущения.
Опираясь на проективизм Райта, можно предложить следующий ответ на
поставленный выше вопрос: что являются содержанием ощущения красного цвета.
Содержанием цветовых ощущений является физические сходства и различия в
окружающей среде, которые значимы для выживания. Сходства и различия между
194
цветовыми ощущениями параллельны физическим сходствам и различиям в
окружающей среде. Пространство возможных различий цветовых ощущений, которое
создано в процессе эволюции, является гомоморфным пространству возможных
значимых физических различий. Для репрезентации этих различий используется
информация о спектральной отражательной способности поверхностей
(объективные свойства физических объектов). Цвета существуют только субъективно и
проецируются на внешние объекты. Они генерируются мозгом для создания внутренней
картины окружающей среды. Цвета реально существуют, но это субъективная
реальность.
Посмотрим, будет ли транзитивность убедительной при такой интерпретации
содержания цвета. Первая посылка утверждает, что если два переживания одинаково
репрезентируют спектральную отражательную способность физического объекта в
субъективном пространстве возможных различий цветовых ощущений, то они
являются одинаковыми но феноменальному характеру. Вторая посылка утверждает, что
если два переживания тождественны в физическом отношении, то они одинаковы в
отношении содержания репрезентации. Обе посылки являются правдоподобными.
Следовательно, транзитивность является вполне убедительной.
Литература:
1. Nagel Т. (1974) What Is It Like to Be a Bat? Philosophical Review 83: 435-
450. Reprinted In Chalmers DJ. (2002) (ed.) Philosophy of Mind: Classical and
Contemporary Readings. Oxford University Press. P.219—226.
2. Chalmers D.J. (1995) Facing up to the problem of consciousness. Journal of
Consciousness Studies 2:200—219.
3. Там же.
4. Там же.
5. Nagel T. (1974) What Is It Like to Be a Bat?
6. Jackson F. (1998) Postscript on Qualia. From his Mind, Method and Conditionals
(London: Routlede, 1998), 76—79. Reprinted in Ludlow P., Nagasawa Y., StoljarD.
(eds.) (2004) There's Something About Mary. Essays on Phenomenal Consciousness
and Frank Jackson's Knowledge. P. 417—420.
7. Block, N. (2003) «Mental Paint». In Hahn, M and Ramberg, В (eds.) Reflections
and Replies: Essays on the Philosophy of Tyler Bürge, MIT Press.
8. Chalmer, DJ. (2004) The representational character of experience. In Leiter B. (ed.)
The Future for Philosophy. Oxford: Clarendon. 153-81.
9. Там же.
10. Туе M. (2009) Representational Theories of Consciousness. In B. McLaughlin and
A. Beckermann (eds.) Oxford Handbook of the Phiosophy of Mind. Oxford: Oxford
University Press.
11. Chalmers DJ. (2004) The representational character of experience.
12. Stoljar D. (2007) Consequences of intentionalism. Erkenntnis (Special Issue) 66
(1-2).
13. Там же.
14. Там же.
15. Там же.
16. Boghossian P., Velleman J. D. (1989) Color as a secondary quality. Mind98. P.81-
103.
17. Wright W. (2003) Projectivist representationalism and color. Philosophical
PsychologyA6:515—533.
195
НЕВВАЖАЙ И. Д.
Множественность сознания
Постановка задачи. В данной статье я хочу обсудить границы всякого научного
описания феномена сознания и необходимость такой философской теории сознания,
которая учитывала бы факт существования многих сознаний.
Реализуя материалистический и естественнонаучный подход к анализу
человеческого сознания, некоторые представители современной науки пытаются «вывести»
свойства человеческого сознания из природных закономерностей. Стремление
сконструировать искусственный интеллект, используя квантовые закономерности
(квантовый компьютер), основаны на убеждении, что сознание можно описать и объяснить
как квантовый феномен [1]. Однако, несмотря на свою полезность и эвристичность,
научный подход к пониманию субъективности является очень узким. Несмотря на
антропный принцип, наука рассматривает мир, в котором наблюдатель не обязан
существовать. Ученые-естественники пытаются «вывести» сознание из природных
закономерностей. Этот подход содержит в себе, однако, одну неразрешимую проблему:
существование лжи и обмана. Научный предметный язык не может описать феномен
обмана и лжи. Тем более, если речь идет о самообмане.
Отмеченные феномены имеют непосредственное отношение к пониманию
сознания. Возможность их понимания связана с определенной методологией изучения
сознания. Один из наиболее распространенных философских подходов к изучению
сознания определен формулой: «Мир дан человеку в формах его субъективности». В
качестве последних в истории философии рассматривались формы мышления
(классический рационализм), формы чувственности (классический сенсуализм), формы
практики (марксизм), языковые игры (Витгенштейн), интенциональные акты
(феноменология Гуссерля). Как показала история разработки таких подходов, для них
становится неразрешимой проблема выхода за границы субъективности. Феномен
осознания существования Другого сознания не выводим из содержания собственной
субъективности. Поэтому вполне оправданы философские подходы, предложенные
— каждым по-своему — Бахтиным, Мерло-Понти, Сартром, Вальденфельсом, в
которых сознание рассматривается как феномен взаимодействия разных субъектов в
диалоге, коммуникации, признании их друг другом.
Я обсуждаю некоторые аргументы в пользу позиции, которую определяю
следующим образом. Анализ сознания должен исходить не из принципа тождества, когда
либо сознание выводится из объективного бытия мира, либо представления о
внешнем объективном мире выводятся из содержаний сознания. Недостаточно
апробирован в анализе сознания противоположный принцип, который можно назвать
принципом различия. Применительно к нашей теме его можно конкретизировать,
сказав, что человеческое индивидуальное сознание надо рассматривать, исходя из
признания включенности в него чужого сознания, сознания другого человека. И
далее я буду защищать тезис о том, что сознание есть лишь там и тогда, где и когда оно
признает существование другого, чужого сознания. Вопреки предрассудку
классической философии, одного «общего» сознания не существует. Сознание множественно,
плюрально по своей природе и сущности. Оно как бы состоит из многих сознаний.
Сознание субъектно и единично. Это первый защищаемый мною тезис. Он
дискуссионен. В ряде классических философских систем сознание рассматривается как
нечто индивидуальное и обособленное (Декарт). В философии Гегеля представлена
противоположная точка зрения. Феноменология Гуссерля пришла в тупик «эголо-
гии». Однако в интерпретации Г. Шпета феноменология не требует «собственника»
сознания [2]. Современные дискуссии по этому вопросу достаточно полно представ-
196
лены в книге Н.С. Юлиной [3]. Я придерживаюсь позиции, которую занимает в этой
дискуссии американский философ Томас Негел. Он, критикуя Д. Деннета,
указывает на то, что невозможно объективистски представить, что означает опыт субъекта,
абстрагируясь от его специфической точки зрения. То есть теория сознания должна
исходить из признания необъяснимости существования некоторых содержаний
человеческого сознания. Я это понимаю как свидетельство того, что сознание не может
быть ничьим. Если сознание всегда субъектно, т.е. оно всегда чье-то, кому-то
принадлежит, то оно не может быть предметом научного представления. Здесь можно
привести эмпирические данные, связанные с изучением аутизма. Новые и
интересные результаты исследований проблем аутизма получены группой английских
психологов во главе с Симоном Барон-Коэном [4].
Страдающий аутизмом легко ориентируется среди вещей, но всякая
коммуникация оказывается для него невозможной. Вот как выглядит диагностический тест,
разработанный Барон-Коэном. В помещении присутствуют 12-летняя Энн, страдающая
аутизмом, ее знакомая Салли и экспериментатор. Энн видит, как Салли кладет свою
куклу в коробку, после чего Салли выходит. Экспериментатор просит переложить
куклу из коробки в ящик, а затем спрашивает Энн: сейчас Салли вернется; где она будет
искать свою куклу? Энн выражает уверенность, что Салли будет искать куклу в
ящике, то есть там, где она теперь находится. Аутист не допускает существования иного
сознания, кроме собственного. Он не может встать на точку зрения другого человека,
она для него не существует. Страдающий аутизмом все происходящее видит только
с одной точки зрения, и он считает, что другие субъекты видят и осознают мир точно
также. Для аутичного сознания не существует различия между его собственными
состояниями и состояниями мира. Как верно замечает по этому поводу А.К. Секацкий,
«аутизм — это тихий застывший ужас по поводу того, что известное мне тем самым
автоматически становится известным другому. Абсолютная прозрачность
ментальной среды не дает возможности обрести убежище или укрытие, а это значит, что
негде конституироваться субъекту» [5]. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно
для понимания сознания. Если мы занимаемся познанием сознания, то
гносеологический оптимизм дает нам уверенность, что мы можем знать ментальное содержание
любого человеческого сознания. Но тем самым мы отказываем такому человеку в
наличии его собственного «Я». В то же время сознание больного аутизмом — это все
же сознание, хотя и патологическое. Поэтому — предположу, — что патологическое
(до- или сверх-человеческое) сознание безсубъектно и может изучаться вполне
объективными научными методами, в то время как «нормальное» человеческое сознание
субъектно, и именно поэтому «нормальное» сознание допускает существование
других сознаний, других «Я», которые осмысливают объективные обстоятельства бытия
иначе и для которых эти обстоятельства, и, соответственно, состояния сознания
могут быть другими. Такое сознание допускает существование, в том числе, и ложного
сознания. Более того, такое сознание способно понять, принять и оправдать точку
зрения другого сознания. В этом, как мне кажется, состоит одна из принципиальных
черт «нормального» сознания. Она связана с рефлексивностью.
Сознание субъективно и есть отношение. Сознание будем рассматривать не как
некое сущее наряду с другими сущими, а как специфическое отношение человека к миру.
Сознание есть присутствие, но не в виде некоего идеального сущего в мире, а в виде
отношения к миру. Как заметил в свое время К. Маркс, сознание есть отношение
человека к миру со знанием. Человек относится к вещам, а не вещи относится к человеку. Под
знанием можно понимать любые психические состояния человека, которые он
рассматривает как относящиеся к миру, как относимые к чему-то иному — отличному от этих
состояний. Если эти состояния лишь даны и переживаются как таковые, то они еще
не есть суть «нормального» сознания. Сознание начинается тогда, когда посредством
этих состояний человек относится к внешнему миру, когда эти состояния относятся к
чему-то вне человека. И это отношение субъективно. Кант, полагавший пространство
197
как априорную форму чувственности, имел в виду способность человека «выносить»
свои ощущения за пределы собственного тела, устанавливая отношение референции.
Понимание сознания как отношения по-своему выразил М.М. Бахтин. Он писал, что
«с появлением сознания в мире... мир (бытие) радикально меняется. ...Солнце,
оставаясь физически тем же самым, стало другим, потому что стало осознаваться свидетелем
и судиею. Оно перестало просто быть в себе и для себя..., потому что оно отразилось в
сознании другого (свидетеля и судии); этим оно в корне изменилось...» [6]. Как
можно было бы описать изменение мира, происходящее из-за присутствия наблюдателя?
Присутствие есть не просто наличие чего-то, а есть определенного рода отношение,
посредством которого определяется сущее, при котором нечто присутствует.
Субъективность есть одностороннее отношение. Мир, в котором существует сознание, должен
допускать существование антисимметричных отношений. Это значит, что существует
отношение А к 2>, но не существует такого же рода отношения Б к Л.
Как уже отмечалось, для аутичного сознания не существует различия между его
собственными состояниями и состояниями мира. «Нормальное» сознание способно
не только знать существующее положение вещей со своей точки зрения, но и
положение вещей, видимое с другой точки зрения, поэтому оно допускает существование
других сознаний, которые осмысливают объективные обстоятельства иначе.
Поэтому «нормальное» сознание не отождествляет свои субъективные состояния с
объективными обстоятельствами существования человека. Больше того, такое сознание
способно понять, принять и оправдать точку зрения другого сознания и даже
допускает существование ложного сознания. В этом, как мне кажется, состоит одна из
принципиальных черт сознания, связанная с признанием субъективности сознания.
Сознание как -«детектор лжи». Согласно Декарту, присутствие субъекта в мире
конституируется актом универсального сомнения. Если в мире, каков он есть, нет
обмана, то в нем нет места для «Я». «Я» есть, по выражению А.К. Секацкого, детектор лжи.
Если обман отсутствует, то невозможен ни акт мышления, ни бытие от первого лица.
Сомнение есть свидетельство существования, по крайней мере, сомневающегося.
Декарт никогда не принимал «состояния сознания» за простое «состояние мира»
и наоборот. Декарт считал, что сознание проявляет себя в возможности лгать,
обманывать, представлять дело так, как оно, может быть, не существует в
действительности. В связи с этим принципиальное значение имеет соображение Р. Пенроуза о
том, что действие «нормального» сознания не может быть описано никаким
алгоритмом [7]. Можно построить алгоритм, генерирующий только ложные суждения или
только истинные суждения. Но нет алгоритма, который различал бы истину и ложь.
То есть нельзя различные содержания сознания объяснить различием в объективных
обстоятельствах бытия. Рассмотренное аутичное сознание — это
алгоритмизированное сознание, оно продуцирует только истинные (со своей точки зрения) суждения
или только ложные суждения, не ведая при этом, что лжет. Возможность не только
говорить истину, но и лгать, отдавая отчет в том, что лжешь, — это и есть способность,
которая отличает «нормальное» сознание. Сознательно лгать — значит находиться в
отношении к предмету своего суждения и к себе. Иначе говоря, сознание есть лишь
там и тогда, где и когда оно допускает существование другого, ложного сознания.
Лишь относясь к другому человеку, как обладающему другим сознанием, мы
осознаем себя в качестве сознательных существ — существ, обладающих собственным
сознанием. Сознание есть способность говорить правду, отличая ее от лжи, и лгать,
отдавая себе в этом отчет. Сознание — это не алгоритмизируемый акт различения и
акт связывания истины и лжи!
Может быть, способность обманывать, лгать — главная загадка и тайна сознания.
Представим себе деятельность сознательного существа с помощью модели
отношений хищника и жертвы. Жертва может вести себя просто как жертва: убегать,
скрываться. При этом она отражает объективные обстоятельства своего бытия. Но воз-
198
можно и другое поведение жертвы, состоящее в обмане. Это ситуация, когда жертва
ведет себя с учетом того, что может думать в данной ситуации хищник. Жертва
может осознавать не только угрозу со стороны хищника, и тогда — спасайся, но жертва
может учитывать мышление хищника и вести себя так, как хищник не ожидает от
жертвы. Сознательно творимый обман для «другого» является эффективным с точки
зрения сохранения жизни жертвы. Об этом говорят некоторые данные исследований
антропосоциогенеза. Сознание жертвы является в данном случае ответом на
содержание сознания хищника, выраженного в определенном поведении. Обычно в этом
случае говорят о воображении. Но воображение чаще всего рассматривается как одна
из высших способностей сознания, производная от неких базовых способностей. Мне
думается, что перспективным является предположение о фундаментальном
характере воображения в человеческом сознании. Воображение составляет сущность
сознания. Но под воображением здесь я понимаю не просто продуктивную способность
человеческого сознания, как это обычно понимается. Его природа может быть понята
как «респонсивность». Этот термин был предложен современным немецким
философом Б. Вандельфельсом для обозначения той ситуации, когда чужое сознание, или
просто чужой, «пре-присутствует» в собственном сознании субъекта, который всегда
отвечает на запрос, призыв чужого [8]. Речь идет об «ответности» сознания.
По мнению Б. Вандельфельса, интенциональность сознания должна быть
дополнена респонсивностью. Чуждость и ответ (Response) составляют единое целое, но
таким образом, что «чужое» бросает нам вызов тем, что уклоняется от схватывания,
и тем, что выходит за пределы понимания. С точки зрения собственника сознания,
чужая претензия не следует правилу и поначалу не имеет смысла. «Чужое» дает о
себе знать в форме выходящего за пределы устанавливаемого собственным разумом
порядка. Оно прерывает общепринятые смысло- и правилообразования и пускает в
ход новое. Мы сами изобретаем то, что мы отвечаем, но не то, на что мы отвечаем, и
что делает значимым нашу речь и наши поступки. Чужое притязание получает
своеобразную сингулярность: оно отклоняет от привычных событий и делает возможным
иное видение, мышление и действие. «Чужое» вторгается в наше сознание в актах
мышления «вдруг». Часто мы ловим себя на том, что после состояния безмыслия
вдруг в нашем сознании появляется некая мысль. Явление спонтанного
возникновения бодрствующего состояния сознания интересовало Декарта. Кант обращал
внимание на спонтанные акты трансцендентального субъекта, которые становятся
началом разумного мышления и действия. Это явление «вдруг»-мысли есть
вторжение «чужого» в наше сознание, требующее ответа. Анализ подобных актов связан с
пониманием того, как объективная реальность (вещь, «чужое» сознание) становится
фактом нашего сознания. И этот анализ не может ограничиваться парадигмами фи-
зикализма (mind-body problem) или субъективизма.
Выразим изложенную концепцию в понятиях симметрии и асимметрии. Аутизм
реализует определенную структуру пространства, отличную от той, с которой
связано «нормальное» сознание. Аутизм — это представление о мире, полагающее себя
единственно возможным. Аутизм не признает существования другого сознания, для
которого существует то, что не существует для аутичного сознания. Таким
образом, для такого сознания мир инвариантен относительно переходов от одной точки
зрения к другой: все видят мир одинаково единственно возможным способом. Эта
позиция характерна для классического типа научной рациональности, в котором
предполагается наличие трансцендентального и трансцендентного субъекта
познания, которому тождественны реальные человеческие познающие существа. С этим
связано и классическое понимание объективности знания и познания. Кажется, что
здесь состояния сознания соответствуют объективным состояниям мира. Поэтому
мир осознается как единственно возможный и данный в формах нашего аутичного
сознания. Аутист может лгать, не ведая, что лжет, он не различает истину и ложь.
199
Присутствие в мире субъекта с «нормальным» сознанием приводит к нарушению
симметрии мира. Мир становится неинвариантным относительно «преобразований»
точек зрения, или позиций субъектов. Здесь каждый «видит» мир по-своему. Но не
только. Каждый осознает при этом, что существует и ложное сознание, которому мы
можем и должны отвечать. Оно является ложным по своему новому, навязанному
нашему сознанию содержанию, а не в силу чьей-то способности учесть и обмануть
наши исходные ожидания. При этом переход от одной точки зрения (сознания) к
другой не описывается в терминах объективного мира. То есть невозможно перейти
непрерывно от состояния сознания субъекта в данной позиции к состоянию
«чужого» сознания, осуществляя пространственное преобразование этой позиции в новую.
Проще говоря, невозможно, поместив себя в объективные обстоятельства другого,
перейти в состояние его сознания.
Представление об инвариантности или неинвариантности мира позволяет
использовать язык отношений для описания субъективности как присутствия. Присутствие
есть определенного рода отношение, посредством которого определяется сущее, при
котором нечто присутствует. В этой связи мне представляется методологически
интересной высказанная известным физиком А. Саламом идея о том, что порождение
порядка суть спонтанное нарушение симметрии. Присутствие в мире
сознательного, разумного существа можно интерпретировать как возникновение определенного
порядка в мире. Для разумного существа мир упорядочен. Симметричность
неосознаваемого мира может быть понята таким образом, что если существует отношение
Л к Б, то существует отношение Б к Л, что и означает симметричность отношения.
Симметрия предполагает неразличимость некоторых вещей, свойств, состояний,
событий. Поэтому нарушение симметрии означает, например, что некоторые прежде
неразличимые состояния становятся различимыми. Таким образом, если введение
сознательного наблюдателя в мир ведет к увеличению порядка в наблюдаемом мире,
то это можно понимать так, что введение сознательного наблюдателя нарушает
симметрию отношений к миру. Это также означает, что нарушение симметрии
свидетельствует о том, что мир не инвариантен относительно переходов между разными
точками зрения, то есть разными сознаниями. Физика описывает мир объективно, то
есть как инвариантный относительно разных наблюдателей, тем самым элиминируя
последних из самого описания. Таким образом, «чужое» сознание входит в «наше»
сознание посредством признания неинвариантности мира относительно
преобразований точек зрения или переходов от одной точки зрения к другой.
В заключение хотелось бы заметить, что респонсивность сознания указывает на
пространственный характер бытия сознания. Время же есть выражение природы
«одинокого» сознания.
Литература:
1. См.: Дойч Д. Структура реальности. Ижевск, 2001; Пенроуз Р. Тени разума: в
поисках науки о сознании. Ч. 1,2. Москва-Ижевск, 2003—2005.
2. Шпет Г.Г. Сознание и его собственник // Шпет Г.Г. Философские этюды. М.,
1994.
3. Юлина U.C. Головоломки проблемы сознания. Концепция Дэниела Деннета.
М., 2004.
4. Understanding Other Minds. S. Baron-Cohen, etc. Oxford, 1993.
5. Секацкий A.K. Декарт в системе координат европейской метафизики //
Метафизические исследования. Вып. 14. Статус иного. СПб., 2000. С. 37.
6. Бахтин ММ. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 341.
7. Пенроуз Р. Новый ум короля. М., 2003. С. 332.
8. Вандельфельс Б. Мотив чужого: Сб. пер. с нем. Минск, 1999.
200
НИКИТИНА Е.А.
Системная психофизиология и преодоление постулата
непосредственности
В современной философии психофизиологическая проблема является частью
более широкой проблемы «сознание-мозг» и обсуждается преимущественно в
натуралистическом направлении эпистемологии, которое наследует и развивает в
современных условиях традиции классической эпистемологии с ее вниманием к
естественнонаучным данным, субъект-объектным отношениям, требованием
обоснования знания. В натуралистическом направлении исследуются природные
основы познавательной деятельности человека, в частности, эволюционная
обусловленность познавательной деятельности субъекта, взаимосвязь сознания и мозга и т.д.
Идейно данное направление оформилось в Новое время под влиянием
формирующегося опытно-математического естествознания. Соответственно, эволюция
данного направления, его судьбы и метаморфозы связаны с развитием естествознания и
сменой этапов развития науки: от классического этапа — к неклассическому и
современному, постнеклассическому этапу, — и, конкретно, с развитием методологии
естествознания, методов и техники экспериментирования, совершенствованием
технико-технологической базы эмпирических исследований. В настоящее время в
естествознании, а именно: в нейронауках (нейрофизиологии, нейролингвистике,
нейробиологии, нейроинформатике и др.), психофизиологии и других науках —
накоплен значительный массив экспериментальных данных о функционировании
мозга, о взаимосвязи сознания и мозга.
Обращение к истории психофизиологической проблемы показывает, что
существует несколько основных гипотез о соотношении психического и
физиологического. В соответствии с первой из них психическое и физиологическое тождественны.
Вторая исходит из того, что психические и физиологические процессы протекают
параллельно. Третья гипотеза утверждает, что психическое и физиологическое
взаимодействуют.
Первая и вторая гипотезы являются выражением скептицизма
естествоиспытателей в отношении возможностей философского и, вообще, гуманитарного
исследования сознания. Действительно, существует позиция, в которой утверждается, что
возможности философского осмысления сущности человеческого познания и
сознания исчерпаны, а реальный прогресс в этой области возможен только на пути их
исследования естественнонаучными методами. Стремление поставить философию
на «твердую почву» естественнонаучной методологии довольно широко
распространено в среде естествоиспытателей. Но попытки применения естественнонаучных
методов к изучению такой специфической реальности, как сознание сталкиваются
со значительными трудностями, а стремление естествоиспытателей соединить два
таких различных мира, как психический и физический, как сознание и мозг нередко
сопровождается скептицизмом в отношении существования сознания как
самостоятельной реальности.
Британский физик и математик Р. Пенроуз сравнил сознание с принципиально
невычислимыми величинами в математике или квантовой механике. По его мнению,
«ничто в нашей физической теории строения вселенной не позволяет объяснить,
почему одни объекты обладают сознанием, а другие нет» [1, р. 17]. Другими
словами, явления сознания трудно вписать в физическую картину мира. Австралийский
философ и ученый Д. Чалмерс также обращает внимание на то, что естественнона-
201
учный подход, примененный к сознанию, позволяет лишь описать и измерить тело,
обладающее мозгом, и осуществляющее некоторое поведение, однако, оставляет
за пределами рассмотрения что-то весьма важное, о чем мы знаем каждый на
собственном опыте: ощущения, мысли, чувства. Именно в связи с данными
трудностями Д. Чалмерс предложил выделять «легкую проблему сознания», которую можно
решать с помощью стандартных методов когнитивной науки (например,
объяснение фокусирования внимания, целенаправленного контроля поведения,
возможности выделения сознанием явлений окружающей среды и др.), и «трудную проблему
сознания», к которой отнес объяснение субъективного опыта человека [2]. Именно
в связи с такими трудностями часть исследователей идут по пути редукционизма,
т.е. сведения психического к физиологическому или же, признавая неустранимую
специфику сознания (его несводимость ни к чему иному), утверждают, что данные
процессы протекают параллельно, причем психику, сознание нередко трактуют как
эпифеномен.
Наибольшее число сторонников оказалось у третьей гипотезы — о
взаимодействии психического и физиологического. Действительно, данный способ
организации исследований — непосредственное соотнесение активности мозга и
сознательной деятельности представляется, на первый взгляд, самым естественным и
надежным. Например, британский биофизик и генетик Ф. Крик столкнулся с
проблемой определения сознания, изучая грани между живым и неживым,
конкретно — изучая соотношение между нейронными процессами мозга и возникающими
визуальными образами (в частности, он пытался объяснить «красность» цвета с
точки зрения химии и физики процессов восприятия). Крик предлагал решить эту
задачу следующим образом: «Мы должны найти корелляты в области нейронной
активности мозга, соответствующие работе сознания. ...Большинство
деятельности, протекающей в мозге, остается бессознательной, поэтому то, что нам надо —
это отсортировать проявления активности мозга при работающем сознании в
сравнении с общей активностью мозга, когда он действует без подключения
сознания» [1].
Но оказалось, что такую корреляцию установить непросто, так как не все
мозговые процессы, сопровождающие работу сознания, вызваны именно сознанием.
Немало простых совпадений, кроме того, причинно-следственные цепочки обращены
иногда в другую сторону, чем нам кажется. Крик иронически прокомментировал
эту ситуацию так: еще надо выяснить, встает ли солнце потому, что прокукарекал
петух, или же петух прокукарекал потому, что встало солнце, а может быть, пение
петуха на восходе солнца — это просто случайное совпадение двух не связанных
явлений. Так и в изучении сознания: неочевидно, что нейронные процессы являются
причиной появления сознательных образов: может быть, все или часть нейронных
процессов, наоборот, являются реакцией на осознание чего-либо. Другими словами,
с данных позиций трудно объяснить, почему сочетание внешних воздействий и
обработка внешней информации порождает у человека ощущение красного цвета или,
например, эмоции гнева.
Постепенно в рамках коррелятивной психофизиологии накопились проблемы,
и прямое, непосредственное сопоставление психического и физиологического было
признано малопродуктивным. Как преодолеть постулат непосредственности
(непосредственного соотнесения психического и физиологического, сознания и мозга)?
Можно ли выработать тот общий язык, на котором могли бы обсуждать данный
вопрос философия, психология, психофизиология и нейронауки? Последний вопрос
особенно актуален, так как современное обсуждение проблемы «сознание—мозг»
происходит в мультидисциплинарных сообществах, и нередко возникают «провалы»
в объяснении, конфликты интерпретаций, обусловленные междисциплинарным
характером исследований.
202
Существенный интерес с точки зрения поисков ответа на данные вопросы
представляет опыт использования комплексной методологии в системной
психофизиологии, разрабатываемой в трудах Ю.И. Александрова [3—4]. В формирование
системной психофизиологии внесли вклад работы В.Б. Швыркова, М.Г. Ярошевского,
которые предложили связать психологию и нейронауки через поведенческий
уровень организации жизнедеятельности человека. Системное решение
психофизиологической проблемы состояло в том, что в ней психические и нейрофизиологические
процессы сопоставлялись не непосредственно, а опосредованно — через
информационные системные процессы.
Преимущества и суть системного решения психофизиологической проблемы
в соотношении с коррелятивной ее трактовкой Ю.И. Александров видит в том,
что при данном методологическом подходе «психические процессы,
характеризующие организм и поведенческий акт как целое, и нейрофизиологические
процессы, протекающие на уровне отдельных элементов, сопоставимы только через
информационные системные процессы, т.е. процессы организации элементарных
механизмов в функциональную систему. Иначе говоря, психические явления
могут быть сопоставлены не с самими локализуемыми элементарными
физиологическими явлениями, а только с процессами их организации. При этом
психологическое и физиологическое описание поведения и деятельности
оказываются частными описаниями одних и тех же системных процессов» [3, с. 121 — 123].
Структура психики в рамках системной психофизиологии предстает как «система
взаимосвязанных функциональных систем», при этом в индивидуальном
развитии психическое появляется вместе с возникновением функциональных систем,
соотносящих организм и среду (Брушлинский A.B.). Полагается, что
методология системной психофизиологии позволит снять такие вопросы, как: вопрос о
взаимодействии психического и физиологического, о параллельном протекании
психических и физиологических процессов, отождествлении психического и
нейрофизиологического — потому что в объяснение вводятся опосредующие
системные процессы.
Важно подчеркнуть, что, по мнению Александрова, системный язык оказывается
пригодным «для описания субъективного отражения в поведении и деятельности с
использованием объективных методов исследования. Этот подход позволяет
объединить психологические и естественнонаучные стратегии в рамках единой
методологии системной психофизиологии. ... Значение системной психофизиологии для
психологии состоит в том, что ее теоретический и методический аппарат позволяет
избавить последнюю от эклектики при использовании материала нейронаук... и
описать структуру и динамику субъективного мира на основе объективных показателей,
в том числе электро-, нейрофизиологических и т.п.» [3, с. 123].
Одним из основных понятий системной психофизиологии является систе-
могенез. Концепция системогенеза оформилась на основе идей развития и
системности. Системогенез осуществляется путем вовлечения множества разных
элементов из самых разных органов и тканей. Отмечается, что системогенез
осуществляется не только в раннем онтогенезе, но и у взрослых, так как
формирование нового поведенческого акта есть формирование новой функциональной
системы. Методологическая база системной психофизиологии включает в себя
не только идеи развития и системности, но и системно-эволюционную теорию,
в которую включена системно-селекционная концепция научения. В рамках
системно-селекционной концепции научения формирование новой системы
рассматривается как фиксация этапа индивидуального развития — формирование
нового элемента индивидуального опыта в процессе научения. При этом вновь
сформированные системы в процессе индивидуального опыта наслаиваются на
предшествующие, а не сменяют их.
203
В исследованиях показано, что поведение обеспечивается не только новыми
системами, сформированными при обучении, но и одновременной реализацией
активности множества более старых систем, сформированных на предыдущих этапах
индивидуального развития. Системная структура поведения отражает историю
формирования поведения, другими словами, реализация поведения означает
актуализацию истории поведения, т.е. историю множества функциональных систем, каждая из
которых фиксирует этап становления данного поведения [3, с. 130—131].
Преимущества системной психофизиологии ее авторы видят в том, что
«теоретический и методический аппарат качественного и количественного анализа системных
процессов, лежащих в основе формирования и реализации индивидуального опыта в
норме и патологии позволяет объединить в рамках системной психофизиологии
исследования самого разного уровня: от клеточных и субклеточных механизмов
формирования новых системных специализаций и межсистемных отношений,
отражения истории обучения и межвидовых различий в системной организации активности
нейронов...до закономерностей, формирования и реализации индивидуального
опыта в деятельности, предполагающей субъект-субъектные отношения..» [3, с. 13].
Проблема локализации психических функций в системной психофизиологии
формулируется как проблема проекции индивидуального опыта на структуры
мозга. Вводится понятие «паттерн системной специализации нейронов» данной области
мозга — это конкретный состав функциональных систем, по отношению к которым
специализированы нейроны данной структуры, и одновременно количественное
соотношение нейронов, принадлежащих к разным системам. Проекция
индивидуального опыта на структуры мозга изменяется в филогенезе, определяется историей
обучения в процессе индивидуального развития и модифицируется при
патологических воздействиях. Другими словами, с позиций системно-эволюционной теории
активность нейронов связывается с обеспечением функциональных систем, а не со
специфическими психическими или телесными функциями и подчиняется общим
принципам организации функциональных систем.
Субъективный мир человека предстает как структура, состоящая из накопленных
в эволюции и индивидуальном развитии систем, при этом межсистемные
отношения, которые могут быть качественно и количественно описаны, — это отношения
синергии и оппонентности. Субъект поведения представляет собой весь набор
функциональных систем, из которых состоит видовая и индивидуальная память.
«Состояние субъекта поведения при этом определяется через его системную структуру как
совокупность систем разного фило- и онтогенетического возраста, одновременно
активированных во время осуществления конкретного поведенческого акта» [3, с. 135].
Соответственно, «динамика субъективного мира» — это смена состояний субъекта
поведения в процессе развертывания поведенческого континуума.
Весьма важной частью системной психофизиологии являются современные
представления о множественности «систем памяти». Наиболее признанной
классификацией является предложенное Л.Р. Сквайром деление на две большие группы систем:
декларативная память (относящаяся к тому материалу, о котором субъект может
сообщить, дать отчет) и недекларативная память (характеризующая неосознаваемый
материал). Предполагается, что разные системы памяти могут лежать в основе
разного поведения.
Обратимся к еще одной группе исследований, в которых ставится задача
соотнесения сознания, субъективного опыта человека и нейрофизиологических процессов.
По мнению известного нейрофизиолога A.M. Иваницкого, загадка «сознание—мозг»
не уникальна по своей методологической трудности, ведь усложнение природных
процессов постоянно приводит к возникновению нового качества, например,
возникновению жизни. При этом свойства, присущие живым объектам, не вытекают
непосредственно из физической химии молекул. Задача науки о мозге состоит в том,
204
чтобы понять, какие нервные процессы приводят к возникновению данного
субъективного опыта.
По мнению A.M. Иваницкого, «субъективный опыт возникает в результате
определенной организации процессов мозга и сопоставления в зонах коры вновь
поступившей информации с той, которая извлечена из памяти. Благодаря этому
информация о внешних событиях как бы проецируется на индивидуальный опыт субъекта,
встраиваясь в личностный контекст» [5]. Данная гипотеза была выдвинута Иваниц-
ким в 70-х гг. XX в. в результате проведенных исследований мозговых механизмов
ощущений. В исследовании была поставлена задача сравнения количественных
показателей физиологии и психологии, описывающих ответ на поступивший
сигнал. В результате эксперимента выяснилось, что ощущение возникает значительно
позднее прихода сенсорных импульсов в кору и, следовательно, является
результатом сложной организации нервных процессов. Информационный синтез, который
был назван автором «кругом ощущений», обеспечил сравнение сенсорного сигнала
со сведениями, извлеченными из памяти. Данный процесс, по мнению
Иваницкого, и лежит в основе перехода физиологического процесса на уровень психически
переживаемых процессов. Гипотеза информационного синтеза, используемая для
объяснения сознания, по сути, основана на идее возврата возбуждения. Отмечается,
что в данном направлении существуют фундаментальные исследования, в частности
нейробиологическая теория сознания Дж. Эдельмана [6], который также использует
термин «повторный вход», с помощью которого обеспечивается интеграция
отдельных признаков стимула в единый образ.
A.M. Иваницкий приходит к выводу, что «сознание возникает в результате
сопоставления и синтеза в коре мозга сведений, поступающих из внешней среды,
извлекаемых из памяти и приходящих из центров мотиваций. Информационный синтез
в проекционной коре лежит в основе ощущений, в ассоциативной коре — в основе
мышления и принятия решений. Синтез обеспечивается возвратом возбуждения к
местам первоначальных проекций после «опроса» других структур мозга
(«повторный вход»)». Это фундаментальный принцип организации процессов мозга,
лежащих в основе субъективного опыта [5].
A.M. Иваницкий отмечает, что именно сопоставление поступающей информации
с памятью определяет содержание сознания, а та инстанция, которая традиционно
мыслится как субъект, может быть представлена как «совокупность
актуализированных в данный момент памятных следов».
Отметим также, что применение системного, функционального и
информационного подходов к исследованию проблемы «сознание—мозг» позволило получить
интересные результаты, свидетельствующие о неразрывной связи сознания и
бессознательного (Ю.И. Александров, Е.А. Умрюхин, A.M. Иваницкий и др.). Созданы
различающиеся модели реализации сознания и бессознательного в мозговой
деятельности. Соответственно, созданы предпосылки для непротиворечивого
включения сознания и бессознательного в современную эпистемологию в качестве способов
познания.
Таким образом, под влиянием изменившегося методологического
инструментария современного естествознания (системный подход, структурно-функциональный
подход, информационный и синергетический подходы) меняется вид классической
психофизиологической проблемы и намечаются пути преодоления постулата
непосредственности, т.е. непосредственного соотнесения психических и физиологических
процессов, активности мозга и сознательной деятельности. Ряд ученых полагает, что
надежды на развитие представлений о сознании следует возлагать, скорее, не «на еще
большее усложнение разрешающей способности техники, а на методологический и
даже философский прорыв, который должен привести к возникновению новой муль-
тидисциплинарной научной парадигмы» [7].
205
Литература:
1. Blackmore S. Conversations on Consciousness. Oxford University Press Inc., N.-Y.,
2005.
2. Chalmers D.J. Facing up to the problem of cosciousness // Philosophy of Mind: A
Guide and Antology. Oxford University Press Inc., N.-Y., 2004.
3. Александров Ю.И. Теория функциональных систем и системная
психофизиология // Александров Ю.И., Бругилинский A.B., Судаков К.В., Умрюхин Е.А.
Системные аспекты психической деятельности / Под общей ред. К.В.Судакова.
М.: Эдиториал УРСС, 1999.
4. Александров Ю.И. Психология+физиология # психофизиология //
Психологическая наука: традиции, современное состояние и перспективы. Труды Ин-
та психологии. М., 1997. Т. 2. С. 263-268 и др.
5. Иваницкий A.M. Проблема «сознание-мозг» и искусственный интеллект //
Научная сессия МИФИ-2006. VIII Всероссийская научно-техническая
конференция «Нейроинформатика-2006»: Лекции по нейроинформатике. М.:
МИФИ, 2006.
6. Edelman G.M., Tononi G. Consciousness: How matter becomes imagination. London:
Pinguin Books, 2000.
7. Черниговская Т.В. Зеркальный мозг, концепты и язык: цена антропогенеза //
Искусственный интеллект: междисциплинарный подход. М.: ИИнтеЛЛ, 2006.
РОМАНОВ П.Е.
Дж. Сёрл, AI, ментальные каузации,
интенциональность и мозг
В новейшей аналитической философии сознания в США в последнее время
проводятся оживлённые дискуссии, вектор обсуждаемых вопросов которых направлен
в сторону натурализации свободы воли, свободы выбора, морали и, в целом, языка
и сознания. Основные мотивы этой интеллектуальной активности заключаются в
стремлении либо подтвердить, либо опровергнуть каузальные закономерности
окружающего мира, распространяющиеся и на такие, сугубо человеческие феномены, как:
язык, сознание, свобода выбора — а также ответить на открыто поставленные
вопросы о возможности их наличия у искусственного интеллекта (англ.: Artificial
Intelligence, AI, далее — AI).
Один из числа участников дискуссии, с позволения сказать, «смотрящий» за
аналитической философией сознания в США, — Джон Сёрл. Свою концепцию
«биологического натурализма» Дж. Сёрл формировал в конце XX века на фоне развития
идей в области философии AI и в продолжительных дебатах по философии
сознания, где, в частности, старый добрый картезианский дуализм, пришедшийся как раз
кстати теоретикам AI, подвергся дигитализации. Ещё находясь в «Китайской
комнате», в конце 80-х Сёрл на весь аналитический мир заявлял, что абсурдно объяснять
ментальное, исходя из ментального, что не «...все каузации являются каузациями
по принципу бильярдного шара» [1, с. 60]. Синаптическая ткань, о детерминациях
которой активно предпочитали умалчивать церебральные AI-шовинисты, играет в
случае декомпьютеризации мозга определяющую роль. Философ пытается натура:
лизовать ментальное не только для «дедуализации» дуализма, но и для того, чтобы
не оставить теоретикам AI возможностей для дальнейшего понимания
ментального по аналогии с программой, а головного мозга — по аналогии с оборудованием.
Другим, не менее важным аргументом, выступающим мишенью для критики Сёрла,
является тот, в котором понимание человеческой свободы выбора и воли ставится
в зависимость от теоретических положений оцифрованного дуализма, где мозг так
каузально детерминирует ментальное, как оборудование детерминирует
программные процессы. Но верно ли, что искусственный интеллект — это тот «топор», из
которого благополучно будет сварена вся телесно-ментальная «каша» нашего
недалёкого будущего?
Как отмечали критики, философом в целях преодоления дуализма была
проведена аналогия сознания как свойства мозга с текучестью как свойством воды и
твёрдостью как свойством некоторых физических тел. Обращает на себя внимание
проведённая аналогия ментальной каузальности с двигателем внутреннего сгорания, в
котором движение электронов, атомов нижнего уровня детерминирует ход
окисления молекул углеводорода. Повышение температуры на верхнем уровне определяет
энергию — движение в цилиндре. К тому же, процессы верхнего уровня не только
каузально выводимы из нижнего, они являются общей, системной реализацией
процессов нижнего [2, с. 291—294].
Но даже несмотря на предложенную Сёрлом в ответ на критику модель
сверхдетерминации — когда «верхнеуровневая» температура каузально ускоряет «нижнеу-
ровневые» реакции молекул — то есть, когда сознание воздействует на все нейроны
мозга и процессы, происходящие внутри него [3, с. 172—173], понимание причин
свободного мышления, рациональной деятельности пока не выбралось с помощью
207
принимающей решения личности из функционалистски понимаемого теоретиками
AI пространства «оборудования» головного мозга. А про Сёрла написали, что
защищаемая им концепция «...не предполагает картезианство, но только „левелизм"» [4,
с. 181] или, как ранее отмечал Д.М. Армстронг, неокартезианскую теорию сознания
[5, с. 67-71].
Проблемы сверхдетерминации являются отдельно дискутируемой темой в
англоязычной философии сознания. Суть её заключается в том, что у одного ментального
акта может быть множество причин. Это, как позже отметит Сёрл, будет являться
«системной причинностью и неопределённостью» в понимании нейробиологических
каузаций ментальных процессов. Что же касается «левелизма», то, на первый взгляд,
данный термин выступает некоторой неокартезианской альтернативой
традиционного субстанционального дуализма, который, по всей видимости, так и продолжают
усматривать критики в сёрловском подходе.
В работе «Конструкция социальной реальности» (1995), Сёрл, рассуждая об
интенциональности и в латентной форме продолжая критику AI, вновь отмечал,
что интенциональные процессы, определяемые философом в терминах
верований, желаний, убеждений, страхов, являются сущностными свойствами
жизнедеятельности головного мозга, на клонирование которых рассчитывает AI. В
своих положениях AI претендует на то, что он, как и естественный разум, успешно
способен справляться с событийно-ситуативной непредсказуемостью
социального мира. Следует лишь произвести соответствующие программные инстанциации
и с позиции от третьего лица интерпретировать поведение этих нементальных,
функционалистски «надрессированных» систем как носителей рациональных
качеств. Важно отметить, что биологизация интенциональности не есть её редукция
к индивидуальной онтологии. И если рассуждать не с третьеличностной позиции,
где работает принцип «редукции-всего-к», то уместно будет говорить о перволич-
ностном принципе «деривации-всего-из» — выведении данной
интенциональности на экстернальный уровень, которая и проявляет себя в жизни в институциях
и конвенциях, иннервированных из нейродинамики мозговых процессов. Таким
образом, не «общество — это мы», а «мы — это общество». И мозг человека
выступает здесь как «deus ex machina» в трудноразрешимой драме социальных
отношений.
Но вопросы возникают вновь и вновь. Способен ли AI быть носителем моральных
качеств, свободы выбора, свободы воли? В процессе обсуждения обозначились две
противоположные друг другу позиции: детерминисты и либертарианисты. Первые
связывают свободу воли и сознательных действий каузальными оковами
эвентуальной и физиологической неизбежности, вторые провозглашают недостаточность этих
каузальных оснований для объяснения подобных действий. Совмещающей
указанные противоречия альтернативой выступает «компатибилизм» [6, с. 215—235]. Но
является ли компатибилизм средством декомпьютеризации сознания, свободы воли
и свободы выбора?
Сёрл приводит пример, опровергающий возможность функционалистской диги-
тализации сознания.
Человек в момент времени (tt) поставлен перед выбором между бокалами
бургундского и бордо, стоящими перед ним на столе. Через несколько секунд, в
момент (t2), человек решает и совершает выбор в пользу бокала бургундского,
которое продолжается до момента (t3). В момент времени (t2) выбор и вытекающее из
него действие основано на независимых условиях, при которых психологические и
бессознательные состояния, способные внести коррективы в этот выбор,
рассматриваются как причинно недостаточные. Основной вопрос в следующем: способны ли
биологические процессы визуализации в момент (t,) обусловить состояние мозга в
момент (t2)? Если да, то каузально независимое и рациональное действие — свобод-
208
ная воля — в момент времени (t2) зависимо от момента времени (tj). Это означает,
что свободная воля невозможна [9, с. 306—308].
Подразделяется два уровня: низший, где возбуждение нейронов, возникшее
вследствие наблюдаемого человеком бокала, конфигурируется в физиологическое
церебральное тождество данного наблюдения; и высший, где психологическое
намерение служит причиной телодвижения. Низший уровень по восходящей
определяет высший; таким образом, на всех стадиях выбора мы обнаруживаем детерминизм.
При наличии свободной воли их место будет исключительно на верхнем уровне, не
влияющем на нейробиологический нижний (либертарианизм). С учётом обоих
уровней — компатибилизм-левелизм, в котором либертарианизм совместим с нейробио-
логическим детерминизмом.
Дальнейший критический анализ будет направлен на защиту основных
положений аргумента «Китайской комнаты»: о том, что нейропроцессы и каузации мозга не
могут быть технологически продублированы оборудованием AI. Данный анализ
способен, как мы надеемся, продемонстрировать основную специфику натурализации
сознания в аналитической философии Дж. Сёрла.
Осуществляя свободный выбор в пространстве своих программных файлов,
каузально независимый от мозга либертарианист, но сути, мыслящий человек без
головного мозга, полностью убеждён в своём выборе исходя из принятия решения
на только на верхнем уровне. Осуществляя осознанный выбор, либертарианист
совершенно ничего не конфигурирует ввиду того, что он мыслит по формуле: «Cogito
ergo cogito». To есть ментальное объясняется с помощью ментального. Очевидно,
что подобная десубстантивация сознания, интенциональности, является описанным
выше церебральным шовинизмом и кардинальным игнорированием природных,
причинно-следственных связей. Ноуменальная либертарианизация сознания
дискредитирует само сознание как сознание. Особенно в такой ответственный момент,
как свобода выбора.
Компатибилист, делая выбор, задумается над тем, что у него существует и мозг, но
адекватного совершить ничего не сможет, так как его сознание, психические
переживания, воля не способны повлиять на его телесную, и в частности, нейронную
организацию мозга. Делая на верхнем уровне сознания свободный выбор, компатибилист
допускает, что выбор может пасть на другой объект. То есть, когда «Я» компатибили-
ста выбирает путь направо, его «Тело» может завернуть налево. Здесь следует
уточнить, что компатибилизм — это не телесно-ментальный дуализм, не нейтральный
параллелизм и противостоящий своей фрагментированности холизм. Компатибилизм
в философии сознания, в частности, в приложении его к ментальным каузациям —
это тот «левелизм», который упоминался в критических комментариях к сёрловско-
му подходу к сознанию.
Компатибилист как модель искусственного человека только тогда будет
рационально мыслящим, когда станет свободным от «бесконфликтных противоречий»
ментально-церебрального «левелизма». Функционалистская диффузия этих
крайностей не отвечает пониманию человека как рациональной личности. Что касается
выборных стратегий — это тривиальный краш-тест на свободу воли и способ выбора
рационально мыслящего человека, которые и забалансировали от Сциллы
«оборудования» до Харибды «программы» между цифровыми мозгом и сознанием в голове
«компатибилиста-левелиста».
Но если, отмечает Сёрл, принимать директивный нейробиологический
детерминизм, при котором только его нижний — «лапласовский» — уровень каузально
определяет телодвижения и мысли человека, предлагая ему иллюзию его свободного
выбора и предоставляя способность осознать выбор на верхнем — ментальном
уровне, то получается, что «...невероятно изощрённая, сложная, чувствительная и —
важнее всего — биологически ценная система рационального принятия решений людей
209
и животных не будет никак воздействовать на жизнь и выживание организмов» [9,
с. 313—314]. Представляется очевидным, что ментально-церебральные модели
каузаций либертарианизма, компатибилизма и нейробиологического детерминизма —
несовершенные программы прояснения природы сознания.
Смысл становится понятен, если исходить из существования сознающей
личности, где её сознание обладает свойствами системности и каждый элемент этой
системы составляет общую совокупную картину. Здесь работает единая система
множественных «over-каузаций», не имеющая либертарианистского и компатибилистского
аналогов уровневых демаркаций по типу «сознание-мозг». Если в этой схеме «ле-
велизировать» систему, продолжая трактовать сознание и свободный выбор как
детерминированные мозгом, то по аналогии с AI такая причинность может выглядеть
следующим образом: молекулы детерминируют сущность и форму механизма, но
механизм сам, являясь уже образованным из этих молекул, определяет их положение в
системе и её движение [9, с. 314—317]. Система, полностью состоящая из подобных
элементов, тем не менее, причинно влияет на каждый элемент. По аналогии с
мозгом получается, что каждый нейрон влияет на всё сознание, но целостное сознание
определяет конфигурацию их влияния на самих себя. В данной системе каузальные
потоки во всех направлениях причинно действуют друг на друга.
Сёрл опровергает возможность существования у AI интенциональности,
сознания, указывая, что функционалистская AI-редукция телесно-ментальной
организации до нейронного или квантового уровня была бы абсурдна, так как, несмотря на то,
что влияющие на мозг ментальные процессы, выбор являются детерминироваными,
они фундируются на нейробиологически независимых основаниях [9, с. 316—317].
Один шаг до субстантивного дуализма. Дуализма, в котором рассуждают о сознании
и теле как самостоятельных субстанциях. Но известно, что в биологическом
натурализме Сёрла ментальное, квалиа, интенциональность, сознание подвергаются десуб-
стантивации — то есть все эти феномены являются сущностным (intrinsic) свойством
головного мозга. Говорить о сознании, интенциях, ментальных, речевых актах без
учёта работы головного мозга — значит выбрасывать на ветер, по Сёрлу, весь
аналитизм и объективизм в понимании природы, сущности человека.
Сёрл повторяет этот тезис в наши дни: сознание необходимо поместить обратно
в мозг. Сознание является биологическим феноменом. Ментальные состояния
существуют только в мозге. Они каузально выводимы из него и реализованы в нём как
свойство верхнего уровня — как общее системное свойство [7, с. 98—99]. Но в случае
«дедуализации» — десубстантивации сознания — происходит ни что иное, как его
отождествление — редуцирование к мозговым процессам. Такие стратегии
понимания сознания в новейшей философии сознания США называются ещё теорией
тождества, супервентным натурализмом, элиминативным материализмом. В отношении
«супервенции» ментальное «сопровождает» нейробиологические процессы мозга и
неспособно к каузальным детерминациям. Что касается элиминативного
материализма, подхода, разрабатываемого в нейрофилософии, то ментальных состояний,
квалиа, вовсе не существует. В таком подходе человек не сознаёт, а мозгует
благодаря каузальной силе нейро-событий головного мозга. Тем самым, перед нами вновь
оказывается директивный нижнеуровневый нейробиологический детерминизм, о
котором ранний Сёрл, в связи с критикой функционалистски «понимающего мозга»
робота, говорил в аргументе «Китайская комната».
Всё это входит в дизайн так называемой «Трудной проблемы сознания» («The
Hard Problem of consciousness»), которая состоит в том, как объяснить состояния
сознания, исходя из церебральных состояний; и что это вообще означает — человеку
находиться в нейронном состоянии («What is it like» — ещё один аргумент, имеющий
свой исток в идеях Т. Нагеля по автофеноменологии). В разрешении «трудного»
аргумента сегодня принимают участие, например: Н. Блок, Д. Чалмерс, С. Шумейкер,
210
Д. Деннет, С. Ябло, С. Хамерофф, Ф. Дретске, Ф. Джексон, О. Фланаган, Б. Лоар,
Р. Ван Гулик и др.
Но Сёрл, натуралистски-редукционистски привязывая сознание к мозгу,
заявляет, что оно при этом несводимо и неотождествляемо с его процессами. Сознание
располагает свойствами системности, которая выступает каузально эмерджентным
свойством нейробиологических событий и процессов в мозге. «Существование»
сознания может быть объяснено каузальными интеракциями между элементами
мозга на микроуровне, но само сознание, его системность, эмерджентность не могут
быть выведены и вычислены только из физической структуры нейронной «ad hoc-
конфигурации» без введения дополнительных «over-каузаций» между нейронами,
которое вносит само сознание. К слову, это не супервентный натурализм, в котором
ментальное эпифеноменально и таким образом предполагает его каузальную
импотенцию и безучастие [8, с. 69—80].
Это — «переоткрытая» Сёрлом рациональность в системо-действии.
AI-аналогия между рациональной личностью и механизмом, между обществом
и совокупностью многофункциональных устройств становится ущербной в
следующем: «...поведение колеса полностью контролируется, а поведение сознательного
мозга...нет. Как это может быть? Какую роль играет нейробиология — в соответствии
с такой гипотезой? Я не знаю ответа, но меня поражает то, что многие из объяснений,
данные нейробиологией, не постулируют причинно достаточных предварительных
условий» [9, с. 317].
Полагается, что мозг каузально детерминирует рациональные поступки
личности, но при этом, в процессе реализации этих поступков личностью, на верхнем
уровне ментального зарождаются каузально независимые от нейро-событий ментальные
феномены, для которых недостаточно одной нейронной детерминации. Причиной,
которая влияет на каузально независимые от мозга ментальные феномены,
выступает нейробиологически детерминированная рациональная деятельность. Но
будучи детерминированной нижним уровнем мозга, активная рациональность личности
способна, сталкиваясь с событийной уникальностью и ситуативной
непредсказуемостью окружающей реальности, самогенерировать независимые от мозга свободную
волю и выбор. Эта нон-функционалистская рациональность и институирует
человека как человека.
Что касается нейробиологически независимых оснований детерминаций, то это
причины, выводимые не из детерминирующего рациональность мозга, а из
каузально сдетерминированной рациональности. Причиной независимости от мозга причин,
сформированных в уже сдетерминированной рациональности, является
событийная уникальность реальности и её процессуально-ситуативная непредсказуемость
(с которой так и не справился «китайский робот»). То есть окружающее мозг
пространство со своими событиями выступает причиной формирования таких, в уже
сдетерминированной мозгом рациональности причин, которых вполне достаточно
для дальнейшей адекватной координации индивида, например, в повседневной
действительности.
Социально-экологические мероприятия в аналитической философии сознания
Сёрла направлены сегодня против тех, кому не составляет усилий помыслить,
каким же образом свобода, мораль, воля, сознание, сам человек способны
осмысляться как перспективные технологические AI-проблемы. Данный вопрос — отнюдь
не праздный. Более того, это один из ключевых вопросов, которые сегодня
дискутируются в предельно широком диапазоне философских, когнитивных,
этических и социологических направлений: от философии техники, AI, до онтологии,
эпистемологии и теории социального познания. Проведённый анализ отнюдь не
претендует на окончательную попытку трактовки проблем сознания, каузальных
закономерностей, но, однако, направляет вектор дальнейшего рассмотрения во-
211
просов подобного рода в направлении их «гуманной» натурализации. Поэтому
данные усилия сегодня не напрасны — они способны обезопасить понимание
сознания, человеческой свободы выбора, воли от неоправданно технологизирован-
ных стратегий идентификации, а зачастую, и побайтного отождествления с функ-
ционалистскими процессами AI.
В большинстве своём данный подход является, скорее, робким началом, нежели
полученным результатом. Одна из главных опасностей заключается в том, что в
нынешнее время, в принципе, ни одна из концепций не возьмёт на себя ответственность
излагать окончательную истину о сложном и независимом, либо о
сконструированном многочисленными социальными практиками мире.
Литература:
1. SearleJ.R. Mind, Language and Society. Philosophy in Real World. N.-Y.: Basic
Books, 1999. P. 60.
2. Lyons W. On Searle's «Solution» to the Mind-Body Problem // Philosophical
Studies. An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition. 1985.
Vol. 48, №2. P. 291-294.
3. SearleJ.R. Mental Causation, Conscious and Unconscious: A Reply to Anthonie
Meijers // International Journal of Philosophical Studies. 2000. Vol. 8, № 2.
P. 172-173.
4. Meijers A.W.M. Physical and Mental? Reply to John Searle // International
Journal of Philosophical Studies. 2000. Vol. 8, № 2. P. 181.
5. Armstrong D.M. Searles's Neo-Cartesian Theory of Consciousness // Philosophical
Issues / Ed. by E. Villanueva. 1991. Vol. 1: Consciousness. P. 67—71.
6. Searle J.R. Mind: a brief introduction. Oxford: Oxford University Press, 2004.
P. 215-235.
7. SearleJ.R. Putting Consciousness Back in the Brain: Reply to Bennett and Hacker,
Philosophical Foundations of Neuroscience // Neuroscience and philosophy: brain,
mind, and language / Ed. by M. Bennett; D. Dennett; P. Hacker; J. R. Searle, with
an Introduction and Conclusion by D. Robinson. N.-Y.: Columbia University Press,
2007. P. 97-124.
8. SearleJ.R. Reductionism and the Irreducibility of Consciousness // Emergence:
Contemporary Readings in Philosophy and Science / Ed. by A.M. Bedau; P.
Humphreys. London: A Bradford Book, 2008. P. 69-80.
9. Сёрл Дж. Рациональность в действии / Пер. с англ. А. Колодия, Е.
Румянцевой. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 168—326.
212
РУСАКОВ Ю.А.
Аспекты философии сознания К. Кастанеды
Карлос Кастанеда — весьма неоднозначная фигура XX столетия. По
образованию, казалось бы, антрополог, он стал известным на весь мир благодаря своей
хронике ученичества у мага-шамана племени Яки дона Хуана Матуса. Данная
хроника, насчитывающая в общем счете одиннадцать книг, представляет собой, вроде
бы, эзотерическое учение и, полагаясь на мнение многих исследователей, мы
причисляем автора к эзотерикам, а по мнению В.М. Розина — даже к метаэзотерикам.
Осмелимся, однако, усомниться в эзотерическом характере излагаемого Кастане-
дой. Если это и эзотерика, то эзотерика очень необычная, близкая по своей
специфике философии сознания. Идеи К. Кастанеды, изложенные в его книгах, мало
того, что имеют вид цельной концепции знания рационально обоснованного, они
представляют собой именно философскую концепцию. Предупреждая вопрос об
адекватности книг и знания К. Кастанеды, скажем: доподлинно известно, что
существовал человек по имени Карлос Кастанеда, который так или иначе синтезировал
концепцию мировосприятия древних индейцев Мезоамерики. Притом, что излагает
эту концепцию Кастанеда как скептик рационалист, а не практик мистик. Журнал
«TIME» от 03.1973, опубликовавший интервью с Кастанедой, сообщает следующее:
«Книги Кастанеды — это история европейского рационалиста, который был
посвящен в практику индейского колдовства»1. Уже не говоря о том, что едва ли не на
каждой странице Карлос пытается именно методами европейской рациональности
и логики объяснить происходящее с ним и вокруг него во время его ученичества у
Дона Хуана. Также используем мнение, изложенное У. Йодером в его докторской
диссертации по философии, где автор обосновывает актуальность и правомерность
онтологии и эпистемологии мистицизма, используя в качестве отправного пункта
исследование Кастанеды.
Существует несколько причин избрать именно книги Кастанеды в качестве
отправного пункта нашего исследования. Первая. Несмотря на то, что теории
Кастанеды богаты противоречивой информацией и фальсифицируемы, они до сих пор не
удостоились какого-либо серьезного философского внимания. Кастанеду часто
неправильно понимают и ошибочно принимают за поклонника и пропагандиста
наркотиков; или же философский смысл его книг опускается в силу странных эпизодов и
используемой неизвестной терминологии в теории и практике магии культуры Яки.
К тому же, существует ныне популярное мнение, что книги Кастанеды не что иное,
как вымысел; является ли дон Хуан реальным индейцем Яки, живущим в Мексике,
или же он — только выдуманный Кастанедой персонаж. Для наших целей, однако,
это не имеет особого значения; нас интересует онтологический и
эпистемологический смысл объяснения магов, независимо от того, было ли это первоначально
развито и сформулировано Кастанедой или доном Хуаном в концепцию. Очень важно
отметить здесь, что наше исследование не должно быть воспринято как
всесторонний философский анализ Кастанеды. Наш основной интерес — использовать
некоторые ключевые темы у Кастанеды в качестве ориентиров для развития
философской модели мистицизма. Многое из того, о чем говорит Кастанеда, не соотносится
с нашими целями, и, следовательно, это мы проигнорируем; мир магии колдунов,
например, фактически не имеет никакого значения для нашего исследования, хотя
имеет огромное значение в книгах Кастанеды. Также не заинтересованы мы в кри-
1 Castaneda's books are the story of how a European rationalist was initiated into the practice of
Indian sorcery.
213
тическом анализе книг Кастанеды: действительно, поскольку его позиция не
предлагается в качестве методологической доктрины и не развита до строгой философской
системы, в ней без сомнения присутствует множество мелких несоответствий и
неоднозначностей. Мы утверждаем, однако, что, несмотря на недостаток формальной,
дискурсивной строгости, многое у Кастанеды заслуживает серьезного философского
рассмотрения, ведь можно обратиться к его работам в здравом уме и остаться
свободным от культурных и философских предрассудков перед предельно странным
миром колдовства Яки.
Вторая причина. Поскольку книги написаны в повествовательном или
иносказательном духе, драматические ситуации и действия персонажей часто иллюстрируют
и обогащают теории, рассматриваемые способом трудно достижимым (если вообще
возможным) с позиции только дискурсивного подхода. Кроме того, книги имеют свой
собственный внутренний скептицизм; Кастанеда исполняет роль скептика и, тем
самым, предвосхищает многие из вопросов и возражений читателя. В силу
драматического характера книг, они имеют глубину и экзистенциальную определенность,
которой часто не достает только теоретического философского рассмотрения. В самом
деле, эта экзистенциальная определенность — не только особенность литературного
изложения Кастанеды, но, что более важно, мера оценки вовлеченности читателя в
книги автора; экзистенциальное вовлечение читателя в драматическую конкретику
книг само по себе является важным источником критической философской
саморефлексии и вдохновения. Действительно, этот тип критической саморефлексии
является ключевым в процессе теоретизации, поскольку конечная цель философии — это
не слепое принятие идей и теорий, но именно критическое их постижение с позиции
чьего-либо разума и опыта. Драматический характер работ Кастанеды, не менее чем
драматизм в диалогах Платона, предстает не только риторическим украшением для
того, чтобы придать философскому содержанию эстетическую привлекательность;
это способ экзистенциально поставить читателя лицом к лицу к его собственным
предположениям, верованиям и предрассудкам.
В-третьих, поскольку объяснение магов — это (как утверждается) теория
шамана Яки, многие из ключевых понятий должны были прийти из культуры Яки; таким
образом, для наших целей у них есть преимущество быть не перегруженными и не
затуманенными многочисленными использованиями в истории философии. В то же
время, однако, Кастанеда проводит много параллелей с понятиями западной
философии (напр., «намеревание», «трансцендентальное эго»), которые дают нам
достаточные ориентиры для интеграции основных понятий объяснения магов в наш общий
контекст философского понимания.
В-четвертых, объяснение магов само по себе имеет намерением пробуждение
(хотя Кастанеда никогда не использовал понятие «пробуждающий»
непосредственно). Несмотря на то, что оно называется объяснением магов, дон Хуан утверждал, что
оно «не объясняет ничего», то есть оно не объясняет напрямую мистический опыт,
не расширяет контекста описания и объяснения опыта. Что оно делает, так это
«изменяет направление», создавая теоретический каркас, в котором мистический опыт
является интеллигибельной и достижимой возможностью. Теория становится
предельно выразительной, однако, только изнутри самого мистического опыта; основная
цель учения — подвести к этому опыту, и, по крайней мере, обеспечить возможность
осмыслить его впоследствии в соотнесении с чьими-либо еще опытами. Таким
образом, объяснение магов не дает определения «реальному», но зато предоставляет
значение переживаниям кем-либо собственной самореализации. Подобно
высказыванию из дзен: «Ты не можешь „знать" ответ, ты есть ответ».
В-пятых, выбор Кастанеды как стартовой точки нашего философского
исследования может быть оправдан только в процессе самого исследования; в конце
концов, «проверка» пудинга приходит с едой. Мы надеемся показать, что возможно
214
выявить полноценную пробуждающую онтологию и эпистемологию мистицизма
и, таким образом, открыть диалог между философией и мистицизмом, который
благотворно отразится на обоих. Наконец, наш выбор Кастанеды в качестве
отправного пункта будет оправдан в соответствии с мерой успешности выполнения
нашей задачи.
Теоретическим центром, с позволения сказать, философии К. Кастанеды
бесспорно можно считать концепцию «тоналя» и «нагваля». Однако относительно
философии сознания, как и любого обоснованного рассмотрения или исследования
в принципе, речь здесь необходимо вести именно о «тонале». Дело в том, что «на-
гваль» — это апофатический абсолют данной концепции, с которым, строго говоря,
и связана вся ее кажущиеся эзотеричность, магия и пр. — словом, то, что интересно
мистику-практику, а не серьезному исследователю. Из антропологической
литературы о культурах центральной Мексики известно, что «тональ» (произносится как
«тох-на'хл») был своего рода охранительным духом, обычно животным, которого
ребенок получал при рождении и с которым он был связан глубокими узами до
конца своей жизни, а «нагваль» (произносится как «нах-уа'хл») — название,
дававшееся или животному, в которое маг мог превращаться, или тому магу, который
практиковал такие превращения. Но данные сведения были опровергнуты доном Хуаном.
Также антропологи и культурологи отрицают всякую корректность употребления
Кастанедой данных понятий: К. Кастанеда просто заимствовал понятия из
культурологической и антропологической литературы, вложив в них свой, абсолютно
иной смысл. Дон Хуан как источник знания или мифические древние тольтеки, к
которым тот вроде как не принадлежал, но «продолжал их линию знания», — все
это в любом случае просто синтезированная Кастанедой информация, оформленная
им же в полноценную концепцию. Потому мы вполне вправе говорить о концепции
К. Кастанеды, а в силу ее структуры и характера — философской концепции К.
Кастанеды.
«Тональ» — это все, что у нас есть. Мы его создаем, измышляя и перерабатывая
наши впечатления. Можно сказать, что мы создаем мир посредством нашего
восприятия. Реальность же как таковая существует в виде апофатического абсолюта —
«нагваля». Познать ее невозможно без «тоналя». Мы бессильны без «тоналя» жить
в «нагвале», то есть мы бессильны без сознания жить в реальности. При этом важно
понимать, что это не солипсизм, ибо, например, наше физическое тело не является
продуктом творчества нашего восприятия, продуктом его является наше видение
самих себя. Реальность нашего физического тела и прочих условно объективных
процессов тоже относится к миру «нагваля», но наше видение этого есть «тональ»,
который является нашим восприятим. Реальность предстает в качестве апофатического
абсолюта, который, соответственно, для нас недостижим. Как говорит у Кастанеды
дон Хуан, «Энергия течет во вселенной» — это все, что можно сказать о мире без
нашего восприятия.
215
САПРЫГИН Б.В.
« Человек-компьютер » антиментализма
и индивидуальность мышления
Согласно популярным в современной аналитической философии антименталист-
ским взглядам относительно принципов функционирования мышления и языка,
человек представляет собой нечто вроде социально запрограммированного автомата
или компьютера. Что бы «внутри него» ни происходило, единственно важным
является то, что все это запускает в нем какие-то программы действий, вербальных и
невербальных. Мышление, согласно таким представлениям, — это не ментальный
процесс, а всего лишь проявление рациональности в поведении, состоящем в
последовательности действий по образцам, в осуществлении определенной социально
заданной практики.
В аналитической философии человек вообще часто уподобляется компьютеру.
Таково, например, мнение Д. Деннета: «...соответствующе „запрограммированный"
робот с компьютерным мозгом на силиконовой основе в принципе был бы
сознательным, был бы самостью» [1]. Р. Рорти говорит, что «тело человека подобно
компьютеру, его hardware, a верования и желания человека аналогичны программному
обеспечению компьютера, его software» [2]. Согласно X. Патнему, «наша психология должна
быть описана как программное обеспечение этого компьютера — как его
„функциональная организация"» [3]. Сходные мысли высказывает и Д. Дэвидсон [4].
Такой «компьютерный» функционализм неизбежно вызывает многочисленные
вопросы и возражения. Обычно функционалистскую сводимость ментального к
физическому опровергают указанием на несводимость отчетов от первого лица об
ощущениях, воспоминаниях, намерениях, мнениях и других ментальных актах к отчетам
в третьем лице. Наибольшую проблему при этом вызывает невозможность
объяснения качественного характера нашего опыта, невозможность функционалистского
объяснения qualia. Считается, что наибольшую трудность редукционистского
объяснения сознания представляют собой именно феноменологические качества
внутренних состояний. Хотя имеется множество фактов того, что люди обманываются в
интроспективных отчетах о своих ментальных состояниях, все же мое ощущение — это
то, что переживаю я лично, а не просто физическая реакция организма и вербальный
отчет о ней. Так, Т. Нагель говорит: «Проблема состоит в отсутствии какой бы то
ни было мыслимой связи между изменением моей субъективной точки зрения и
изменением физико-химической активности моего мозга. Они могут экстенсионально
совпадать сколько вам угодно, но тождественность предполагает нечто большее. <...>
И пока этот провал в объяснении остается, отождествление рассматриваемых нами
состояний будет проблематичным» [5]. Дж. Сёрл также считает, что попытки
редуцирования сознания с физикалистских или функционалистских позиций не устраняют
несоответствия между отчетами о внутренних состояниях от первого лица и
описаниями таких состояний с позиций третьего лица [6]. И даже X. Патнем,
пытающийся построить антименталистскую функционалистскую модель сознания, вынужден
констатировать наличие серьезных проблем в этой области: «...функционалистская
теория сталкивается с проблемами при объяснении качественного характера
ощущений. Когда речь идет об относительно абстрактных, чистых психологических
состояниях, например о том, что мы называем убеждением, „заключенным в скобки", то есть
о мысли, которая рассматривается исключительно в ее „понятийном" содержании,
или же о таких распространенных эмоциональных состояниях, как состояние ревно-
216
сти или же состояние раздраженности, то идентификация этих состояний с
функциональными состояниями всей системы в целом представляется весьма убедительной.
Но когда речь заходит о том, что человек обладает каким-то данным ему качеством,
например, ощущает определенный оттенок голубого цвета, идентификация
выглядит неправдоподобной» [7].
Из последней цитаты следует, что мыслительные, когнитивные и тому
подобные процессы считаются легче поддающимися функционалистскому объяснению.
Однако, по нашему мнению, функционалистское истолкование мыслительных
способностей человека также не лишено трудностей. Против функционализма вполне
возможно выдвинуть возражения, касающиеся объяснения как раз того, что Патнем
называет «мысль, которая рассматривается исключительно в ее „понятийном"
содержании». Именно об этом мы и хотим поговорить в данной статье.
* * *
Предположим, что человек — это действительно компьютер, и рассмотрим, какие
следствия должны из этого вытекать.
В компьютере нет ничего индивидуального. Все его программы
надындивидуальны, «социальны». Из этого вытекает, что «знание», которым обладает
компьютер, неиндивидуально. Его «мышление» неиндивидуально: это лишь взаимодействие
вложенных в него различных программ. Но и его «познание» также не может быть
индивидуальным. Компьютер, если он встроен, например, в какую-то
исследовательскую машину по изучению, скажем, поверхности Луны, конечно, получает новые,
«индивидуальные» данные о реальности, но получает их на основе «программ
познания», изначально заложенных в него и носящих неиндивидуальный характер. Он
ничего не привносит в процесс познания от себя. Получить те же самые данные мог
бы любой другой компьютер. Компьютер не может употреблять надындивидуальные
программы индивидуальным образом. Его мышление и познание экстенсивно,
приращение знания лишь количественно.
Здесь уместно вспомнить мнение по этому поводу Д. Деннета. Стремясь
уподобить человека компьютеру, этот автор утверждает, что компьютер мог бы, в
принципе, действовать совершенно так же, как люди. Он говорит, что компьютер можно
запрограммировать таким образом, что он будет неотличим от человека и будет писать
такие художественные произведения или составлять такие рассказы о себе самом,
что его невозможно будет отличить от человека [8].
Что на это можно сказать? Деннет утверждает, что такой компьютер сможет сам
изменять свои программы и составлять новые, на основании чего он якобы и будет
способен создавать свое собственное, оригинальное повествование. Деннет считает,
что подобные произведения будут индивидуальными произведениями компьютера,
якобы даже наделяющими его самостью, делающими его личностью. Однако он не
замечает того факта, что новизна программ такого компьютера будет только
количественной, экстенсивной. Все новые программы, созданные таким компьютером для
написания текстов, будут только калейдоскопом обрывков человеческих программ,
составленных заранее. Так что герой рассказа такого компьютера Гилберт и сам
рассказ о нем будут порождением не компьютера, а написавших его программу людей.
В человеке же, в отличие от компьютера, есть нечто, что дает ему способность
творить новое, а не просто все время воспроизводить старое. Это делает его мышление
индивидуальным.
Именно вопрос о том, как возникают новые функциональные программы, что
является их источником, и способен подорвать функционалистские объяснения
мышления. Вследствие того, что когнитивные состояния сознания во многих
случаях выражаются людьми в языковой форме, а также потому, что сами антимента-
листы склонны приравнивать такие состояния к вербальным пропозициям, настаи-
217
вая на исключительно языковой природе мышления, у них и создается впечатление,
что объяснить подобные состояния функционалистским образом не представляет
проблемы. В этом случае мышление изображается в виде простого
манипулирования словами и предложениями, что легко смоделировать на компьютере. Однако,
обойдя стороной проблему сущности когнитивных состояний, проигнорировав
то обстоятельство, что они не сводятся к вербальным высказываниям, что данные
ментальные состояния по содержанию являются не менее сложными, чем qualia, и
представляют собой, по большому счету, переживания качественно того же типа,
что и переживания qualia, сведя все рассмотрение проблемы к рассмотрению
только внешней, вербальной оболочки мыслительных процессов, функционалистам все
равно не удастся обойти вопрос об источниках возникновения этих внешних
вербальных форм.
Справедливости ради следует признать, что функционалисты все же делают
попытки объяснить, как возможно возникновение таких функциональных программ.
Так, вслед за Р. Докинсом, Д. Деннет уподобляет эволюцию информационных
программ эволюции биологической [9]. Такие программы возникают якобы в
результате эволюции подобной дарвиновской. Однако Деннет забывает, что теория
эволюции по-настоящему объясняет только, как виды (в нашем случае программы)
исчезают и как некоторые из них избегают исчезновения, но совсем не объясняет,
как они появляются на свет. Так что, управляйся деннетовский человек-компьютер
такими законами, он не смог бы создавать новые программы, новые мемы, в то
время как реальный человек делать это все же может. Кроме того, Деннет полностью
отождествляет сознание человека с его мемами и при этом совершенно игнорирует
проблему «материи» сознания. Но в этом случае возникает сходный вопрос: что
тогда является той «средой», в которой появляются новые мемы, в которой они
существуют и которая, в конечном счете, и является источником их
возникновения? [10]
Подобные же недочеты присущи и Р. Рорти. Вот, например, что он говорит в
связи с рассматриваемым нами вопросом:
...в конце концов, подлинная новизна может появиться в мире слепых, случайных,
механических сил. Представьте себе, что новизна — это нечто такое, что случается,
например, когда космическое излучение ударяет атомы молекулы ДНК и
предопределяет тем самым ход развития вещей в направлении орхидеи или антропоидов. <...>
Подобным же образом... метафорическое использование Аристотелем ousia,
метафорическое использование св. Павлом agape и метафорическое употребление Ньютоном
gravitas были результатом воздействия космических лучей, проникающих в тонкие
структуры некоторых важнейших нейронов их почтенных мозгов. Или, более
вероятно, они были результатом некоторых необычных эпизодов детства, некоторых
навязчивых странностей, угнездившихся в их мозгах из-за идиосинкразических травм.
Неважно, как это удалось. Результаты были изумительны [11].
По поводу слов Рорти следует заметить, что, во-первых, все это чистейшей воды
метафоры, а во-вторых — все подобные «космические лучи» и «необычные эпизоды
детства» представляют собой лишь косвенные причины интеллектуальных новаций.
Необходим какой-то «медиум», внешнее воздействие на который и будет запускать
процесс появления таких новаций, но все же прямой причиной интеллектуальных
изменений будут процессы, протекающие в самом «медиуме». В приведенной
цитате очень характерна фраза «Неважно, как это удалось». Как раз наоборот: это очень
важно. Но, как мы видим, у Рорти нет никакого подлинного объяснения, как могли
произойти подобные перемены. Он просто констатирует факт появления
интеллектуальных новшеств и произвольно связывает его с желаемым для него
представлением.
218
* * *
На неправомерность приравнивания человека к компьютеру указывают многие
критики. И одно из наиболее серьезных возражений вызывает, естественно,
«семиотический материализм» Деннета, который сводит на нет различия между человеком
и машиной. Из рассуждений Деннета выходит, что оперирование знаковой системой
является более важным свидетельством сходства людей с компьютерами, чем их
физиологическое сходство с животными. Однако аналогия между когнитивными
процессами, присущими человеку, и информационными процессами компьютера
основывается только на сходстве синтаксиса. Но, как обычно указывают, для придания
системе семантических характеристик требуется познающий субъект, поскольку без
него символы сами по себе лишены смысла. Без человека с его сознанием нет того,
кто мог бы наделить эти символы значением, понять их.
Одним из наиболее популярных аргументов против деннетовского
«семиотического материализма» является образ «китайской комнаты» Дж. Сёрла. Сёрл
предлагает представить, что в некой комнате сидит человек, который получает
сообщения на китайском языке. Он не знает этого языка, однако знает, как синтаксически
правильно преобразовывать иероглифы так, чтобы получались тексты, понятные
для носителей языка. Иными словами, он владеет определенной программой. У
китайцев, получающих созданные им тексты, возникает впечатление, что этот человек
понимает содержание получаемой и отправляемой информации. Но в
действительности он, как и компьютер, представляет собой всего лишь машину синтаксической
трансформации [12]. Позднее Сёрл делает вывод о том, что не только «семантика не
является внутренне присущей синтаксису», но что и «синтаксис внутренне не
присущ физическим свойствам» [13]. Следовательно, для того чтобы какая-то система
могла быть пусть не семантической, но хотя бы синтаксической, необходимо
допустить существование некоего постороннего агента, обладающего сознанием,
«гомункулуса» [14].
Нам хотелось бы высказать свое мнение по поводу точки зрения Сёрла. Как нам
кажется, его доводы, основанные на примере с «китайской комнатой», работают не
вполне успешно. Так, одним из основных опровергающих аргументов Сёрла
является утверждение о том, что человек, когда он по-настоящему понимает и мыслит, не
делает выбора в соответствии с каким-то предзаданным алгоритмом. Однако, если
мы будем исходить из бихевиористского и операционалистского подхода, который
вполне соответствует подобным теориям (кстати, в остаточном бихевиоризме и опе-
рационализме Сёрл в указанной статье как раз и обвиняет представителей
«философии сильного искусственного интеллекта»), есть возможность заявить, что человек
формулирует свои ответы именно на основании прежних лингвистических и
нелингвистических образцов, а «программа» для выбора этих образцов находится у него в
«подсознании», поэтому ему и кажется, что он понимает, а не выбирает на основании
какого-то алгоритма. Но ведь он и не может осознавать, как происходит выбор: если
его осознавание — это лингвистический образец, то понятно, что сам выбор образца
выпадает из сферы такого «осознавания».
Как кажется, наши доводы выглядят несколько более убедительно. Такой
компьютер сможет выбирать образцы ответов, но не сможет создавать качественно
новые образцы (а не модификации и комбинации прежних), в то время как человек на
это способен.
* * *
Пусть даже под влиянием современной философской конъюнктуры мы
отказываемся представлять сознание (которое, следует признать, является все же чем-то
неясным и загадочным) в виде некой субстанции или чего-то подобного и склонны
понимать его все больше в функционалистском ключе, тем не менее, следует рас-
219
сматривать его как свободу, индивидуальность действий, как свободу находить и
создавать новые образцы поведения, способы оперирования вещами и не рассматривать
его только как нечто социально запрограммированное. Но тогда вновь возникает все
тот же вопрос: что это за таинственная свобода, что это за свойство, которое
позволяет создавать новые функциональные программы? Ведь, собственно говоря,
функционализм всегда подразумевает запрограммированность. Функциональная программа
не может изменить сама себя. Необходимо какое-то внешнее воздействие. Но в чем
оно состоит в случае сознания?
Именно признание наличия в сознании человека источника создания новых
программ подрывает функционализм, поскольку, даже если мы признаем, что, в целом,
сознание представляет собой комбинацию программ, само существование подобного
источника новаций, который по определению не может быть объяснен функциона-
листски, свидетельствует о том, что в основании все равно лежит нечто функцио-
налистски необъяснимое. Таким образом, наши рассуждения показывают
недостаточность и неоправданность функционалистского объяснения сознания. Пусть даже
большая часть деятельности человека определяется такими функциональными
программами, тем не менее, есть нечто, что выходит за пределы просто
функциональности и что не может быть пока объяснено.
Сомнительно, чтобы человек был компьютером. В рассматриваемом нами плане
компьютер — это приспособление качественно не более сложное, чем простые счеты
или арифмометр; он представляет собой лишь количественное усложнение по
сравнению с последними. Однако на упомянутых устройствах считает человек. Никому
и в голову не придет уподоблять сознание человека подобным вещам. Так что, ведя
разговоры о сходстве компьютера с человеком, как-то упускают из виду, что
составной частью «сознания» компьютера является человеческое сознание, способное к
созданию нового. И если человек — это компьютер, кто тогда пишет программы для
него?
Следует признать, что это не человек похож на компьютер, а компьютер — на
человека, вернее, на определенное представление о человеке, заключающееся в
определенном, очень ограниченном способе представления его когнитивных характеристик.
Компьютер был создан в подражание определенному способу формализации
человеческого мышления и познания. Но такой способ формализации вовсе не отражает
всего богатства свойств человеческого мышления.
Литература и ссылки:
1. Цит. по: Юлина Н. С. Деннет: самость как «центр нарративной гравитации» или
почему возможны самостные компьютеры // Вопросы философии. 2003. № 2.
С. 105.
2. Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм
Ричарда Рорти и российский контекст. М.: Традиция, 1997. С. 28. См. также:
Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос.
ун-та, 1997. С. 188-189.
3. Цит. по: Макеева Л. Б. Философия X. Патнема. М., 1996. С. 67. См. также: Пат-
нем X. Философия сознания. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.
4. См.: Дэвидсон Д. Материальное сознание // Аналитическая философия:
Избранные тексты. М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 131-144.
5. Нагель Т. Мыслимость невозможного и проблема духа и тела // Вопросы
философии. 2001. № 8. С. 105. См. также: Nagel Т. What is it like to be a bat? // The
Philosophical Review LXXXIII, 4 (October 1974). P. 435-50; МарголисДж.
Личность и сознание. М.: Прогресс, 1986. С. 129—132.
220
6. См.: Сёрл Дж. Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 122—125;
Сёрл Дж. Мозг, сознание и программы // Аналитическая философия:
становление и развитие (антология). М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-
Традиция, 1998. С. 376-400.
7. Патнем X. Разум, истина и история. М.: Праксис, 2002. С. 109.
8. Деннет Д. Почему каждый из нас является новеллистом // Вопросы
философии. 2003. № 2. С. 124-125.
9. См.: Dennett, Daniel С. (Spring 1990) Mêmes and the Exploitation of Imagination.
Journal of Aesthetics and Art Criticism. 48. P. 127—135.
10. Вот что по подводу селекционизма Деннета говорит Дж. Марголис: «Было бы
очень трудно найти более откровенную формулировку неодарвинистского
„канона", чем та, которую выдвинул Дэниел Деннет. Но так же трудно найти и
какие-то бы то ни было убедительные научные или философские
свидетельства, которые могли бы подтвердить его тезис, если не считать его
решительного утверждения, что в конечном счете означает дарвинизм (кстати,
противоречащего тому, что утверждал сам Дарвин, как это заметил Хомский). <...>
Собственно говоря, Деннет заявляет без каких-либо видимых оснований,
будто из этого следует, что разум, язык и культуру следует объяснять по существу
в терминах дарвиновского отбора, а следовательно, алгоритмически! <...> То,
что здесь говорит Деннет, чрезвычайно близко к тем механическим
философиям, которым первоначально противостоял Декарт» (Марголис Дж.
Материализм менее чем адекватными средствами // Вопросы философии. 2002. № 7.
С. 96).
И. Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М.: Русское
феноменологическое общество, 1996. С. 39.
12. См.: СёрлДж. Мозг, сознание и программы // Аналитическая философия:
Становление и развитие (антология). М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-
Традиция, 1998. С. 376-400.
13. СёрлДж. Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 195.
14. Там же. С. 196-198.
221
ТАРАСОВ И.П., ОКУЛОВСКИЙ Ю.С.
Функционализм:
является ли человек машиной Тьюринга?
1
Функционализм пытается решить проблему взаимоотношения сознания и
тела и одновременно ответить на вопрос о природе ментальных состояний,
прибегая к т.н. называемой «компьютерной метафоре». Функционалисты наделяют
компьютеры сознанием и психикой, отождествляя сознательную деятельность
человека с программным обеспечением (software) компьютера. Затем, углубляя
аналогию и перенося на человека принципы компьютерного устройства,
допускают, что сфера ментального у человека подобна программному обеспечению
компьютера, которая реализовывается на базе нашего физиологического hardware.
Одним из первых исследователей, кто поставил перед собой вопрос «А могут ли
машины мыслить?» — оказался А. Тьюринг — логик, математик и создатель
современной парадигмы символьных вычислений. Разработке этой идеи он
посвятил целую статью «Computing Machinery and Intelligence» (1950). Следует сразу
отметить, что в ней он поставил больше вопросов, нежели дал ответов, а на 12-й
странице исследования так и вовсе отказался признавать за вопросом «Can
machine thinks?» какой-либо смысл. Но это не смутило ряд философов и ученых,
которые продолжали работу, начатую Тьюрингом, и заимствовали его способ
отвечать на вопрос «Can machine thinks?» через ответ на вопрос: «Могут ли машины
выполнять тот или иной вид деятельности, присущей человеку?» (Сам Тьюринг
выделял «вербальные навыки» [1])
Функционализм как доктрина, близкая здравому смыслу, достаточно
распространен за пределами философской общественности среди людей, которые мало
знакомы с проблемой взаимоотношения сознания и тела. Функционалисты
противопоставляют себя как дуалистам, т.к. не считают ментальное некоей «духовной»,
«призрачной» субстанцией, так и материалистам на основании того, что ментальные
процессы выполняют собственную функциональную роль в организме, не сводимую
к физическим состояниям. Функционализм также является единственным широко
известным философским воззрением на искусственный интеллект, допускающим
экспериментальный подход к исследованиям. Основные преимущества
функционализма — это простота и понятность, что не может не вызывать в среде
профессиональных философов желания подвергнуть функционализм жесточайшей критике за
«непростительные просмотры очень важных нюансов».
На примере цикла работ X. Патнэма, посвященных проблеме взаимоотношения
сознания и тела, мы постараемся раскрыть все основные тезисы функционализма и
показать, какие контраргументы были выдвинуты против подобного решения
проблемы взаимоотношения сознания и тела.
Вкратце патнэмовская версия функционализма (т.н. «компьютерный
функционализм») может быть охарактеризована как доктрина, наделяющая машины
ментальными качествами или характеристиками на основании того, что между
компьютером и человеком существуют схожие функциональные качества. Предполагается,
что даже, несмотря на различное структурное устройство, человек и машина могут
обладать одинаковой психикой, потому что демонстрируют в некоторых
ситуациях сходные типы поведения и деятельности: «Вопрос „могут ли роботы знать, что
они обладают ощущениями" значит „может ли робот иметь ощущения красного?" —
222
вопрос, на который мы отвечаем положительно... потому что наличествуют
аналогичные семантические и логические смыслы, в которых роботы «знают», что они
имеют ощущения и это все, что нам требовалось доказать» [2]. Далее Патнэм
заключает, что: «...Таким образом, говорить, что человек и робот обладают схожей
«психологией» («психологически изоморфны») это утверждать, что поведение этих двух
объектов просто анализируется на одном психологическом уровне абстракции (в
абстракции от деталей физической структуры)» [3]. Основу для такого заключения
подготавливает т.н. тезис о «нередуцируемости ментальных свойств» [4]. Такой
взгляд на природу ментальных состояний дает Патнэму формальное основание
наделять психикой существа и вещи, не имеющие с человеком схожего
физиологического строения.
Следующим пунктом в программе Патнэма является анализ структуры и
функциональных состояний «машины Тьюринга». Патнэм допускает, что принцип
функционирования компьютера не зависит от его конкретных структурных
реализаций [5]. И используя ранее полученные результаты о психологическом
изоморфизме между человеком и машиной, Патнэм определяет природу ментальных
явлений в терминах логических состояний машины Тьюринга, полагая, что этим
поможет сильно прояснить статус последних [6]. И отождествляя психические
состояния с функциональными, приходит к выводу, что: «Под этим функциональным
состоянием мы имеем в виду состояние получения организмом сенсорных входных
данных, играющих определенную роль в функциональной организации этого
человека» [7].
Резюмируя, мы можем выделить основные ключевые моменты:
1) На основании того, что роботы и машины могут производить определенные
действия, напоминающие человеческие, мы наделяем их психикой;
2) «Ментальное» не детерминировано физическими процессами и не сводится к
ним, так же как не существует строгой детерминации между структурными
характеристиками компьютера и функциональными принципами его работы, поэтому
постулируется строгое разделение между психическим / физическим и
функциональным /структурным;
3) Дихотомия «ментальное/физическое» у человека понимается аналогично
дихотомии «функциональное/структурное» у компьютера.
Функционалистов критиковали, и в общем, и но каждому пункту в отдельности,
поэтому кажется вполне целесообразным начать приводить критические аргументы,
начиная с первого пункта.
Обращаясь к первому пункту, многие философы и ученые никак не могут
согласиться с Патнэмом, что люди и компьютеры обладают схожей или одинаковой
психикой. Например, сам Патнэм приводил т.н. аргумент 'ZIFF'a, отрицавшего все попытки
видеть компьютеры сознательными машинами: «Зифф упирает на тот несомненный
факт, что «Оскар» — не живой, а значит, он не может обладать сознанием»[8].
Сходной критической точки зрения придерживаются Джон Сёрл, Т. Нагель, Роджер Пен-
роуз (во многом основным посылом их книг и является доказательство
невозможности такого положения вещей) [9].
X. Патнэм отвечает на это «натуралистическое» возражение с помощью 2-го
пункта своей программы и тезиса о «нередуцируемости ментальных свойств». Это
формально позволяет ему приписывать ментальные характеристики объектам, отличным
от человека в физиологическом отношении, лишь бы наличествовали «аналогичные
семантические и логические смыслы». Т.е. мы можем наделять психикой любой
объект, хоть в чем-то схожий с человеком в его поведении, что, конечно же, не является
достаточно бесспорным положением. На теоретическую абсурдность такого подхода
указывает тот факт, что нам предлагается рассматривать поведение человека или
машины без субстрата, его порождающего. У. Кальке демонстрирует несостоятельность
223
этого пункта функционалистской программы, указывая, что на определенном уровне
абстракции кошка и мышеловка имеют одинаковую психологию [10], что выглядит
достаточно нелепым, но только не для функционалиста.
Против последнего пункта — проведения аналогии между человеком и
компьютером и пониманием человеческой психики в терминах «компьютерной
программы» — высказывалось достаточно много критических замечаний. Основную массу
возражений можно классифицировать на два типа:
1. «Творческий» аргумент;
2. «Биологический» аргумент.
«Творческий» аргумент можно примерно свести к следующему вопросу: «А могут
ли компьютеры делать то, что Эйнштейн делал?» [11], или обладают ли компьютеры
способностью к творчеству, спонтанной, ничем не детерминированной
деятельностью, независимой от того программного обеспечения, которое в него встроили. От
ответа на этот вопрос зависит решение, признаем ли мы за компьютером
возможность сознательной деятельности (и этим сохраним аналогию, проведенную между
человеком и компьютером) или лишь хорошую имитацию этой сознательной
деятельности. Некоторые исследователи не считают, что современные компьютеры
способны на такую спонтанную, ничем не детерминированную деятельность, и в этом им
видится весьма весомый аргумент против проведения аналогии между сознанием и
компьютерной программой [12].
Если «творческий» аргумент разрушал аналогию между человеком и
компьютером со стороны компьютера, упирая на невозможность создания творческих навыков
у PC-систем, то «биологический» аргумент делает это со стороны человека. Этот
аргумент тесно связан со вторым пунктом программы Патнэма, где говорится, что
различия в физических реализациях машины Тьюринга не влияют на ее
функциональные качества. Если проанализировать предпосылки «биологического» аргумента, то
можно констатировать, что они исходят из представления о том, что «разум — это
продукт человеческого мозга», и нам на самом деле важно, из какого вещества
состоит мозг, т.е. какова его физическая реализация [13].
Литература:
1. Turing Л. М. Computing Machinery and Intelligence // Mind. 1950. Vol. 59.
P. 434.
2. Putnam H. Robots: Machines or Artificially Created Life? // The Journal of
Philosophy. 1964. Vol. 61. P. 673/674.
3. Там же. С. 677.
4. См.: Там же С. 674; Ср.: Патнэм X. Психологические предикаты. Ментальная
жизнь некоторых машин // Патнэм X. Философия сознания. М.: ДИК, 1999.
С. 59—60, 80. В другом месте Патнэм ясно пишет о том, что «Ментальность
представляет собой реальную и автономную характеристику нашего мира» //
Его же. Философия и наша ментальная жизнь // Там же. С. 88.
5. См.: Его же. Сознание и машины // Там же. С. 36.
6. См.: Там же. С. 38.
7. Его же. Психологические предикаты. Ментальная жизнь некоторых машин //
Там же. С. 65.
8. Putnam H. Op. cit. P. 685.
9. Сёрл Дж. Сознание, мозг и программы // Аналитическая философия:
становление и развитие (антология) М.: Прогресс-Традиция, 1994. С. 381—382. Ср.:
Nagel Т. What it is like to be a Bat? // The Philosophical Review. 1974. Vol. 83.
224
P. 436, 441; Пенроуз Р. Тени разума: в поисках науки о сознании. Москва-
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005.
10. Kalke W. What is wrong with Fodor and Putnam's Functionalism // Nous. 1969.
Vol. 3. P. 89. Ср.: Rorty R. Functionalism. Machines and Incorrigibility // The
Journal of Philosophy. 1972. Vol. 69. P. 207-208.
11. См.: Hamad S. Other bodies, Other minds: A machine incarnation of an old
philosophical problem // Minds and Machines. 1991. No. 1. P. 43.
12. См.: Саган К. Драконы Эдема. Рассуждение об эволюции человеческого разума.
С. 95—96. Режим доступа: http://lib.aldebaran.ru; Minsky M. Conscious machines.
Режим доступа: http://kuoi.com/~kamikaze/doc/Minsky.html.
13. См.: ДеннетД. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М.: Идея-Пресс.
2004. С. 82. Ср.: Уилсон Э. Консиллиенс: один за всех и все за одного (интервью
«Atlantic Unbound» от 18 марта 1998 г.). Режим доступа: http://www.ethalogy.ru.
2
Комментарии (2-Ю.О., 1-И.Т.)
Творческий аргумент: о детерминизме.
2: Такие соображения были применимы к компьютерам 60-70-х годов, но никак не
к современным. Если компьютерная программа очень велика, то она недоступна для
понимания одного человека. Никто не знает, например, целиком работы Microsoft
Windows. В результате работа компьютера оказывается управляемой некими
законами, которые, вообще говоря, непонятно, к чему ведут. На бытовом уровне
пользователи компьютера эмоционально признают за компьютером самостоятельность,
говоря о том, что операционная система «отказывается работать». Кроме того, той
же логикой можно опровергнуть и способность человека к оригинальности: если
мышление — это биологические импульсы мозга, то эти импульсы в конечном итоге
подчиняются законам физики и, следовательно, детерминированы, а сам человек —
неспособен на творчество.
1: Однако детерминизм не всегда связан с представлениями о возможности
тотального предсказания любого состояния системы. Например, номологический
детерминизм можно интерпретировать не так, чтобы предсказывать все состояния
определенной системы, а так, чтобы наложить ограничения на определенные виды
состояний. В этой интерпретации детерминизм остается, потому что программа
накладывает определенные ограничения на работу компьютера. Так, по всей
видимости, для человеческого поведения или творчества не существует каких-либо
номологических ограничений, потому что поведение живых организмов подчинено
процессу эволюции, но большинство процессов эволюции случайны, т.е. для них не
всегда возможно с достаточной точностью указать причины, а значит, они
ускользают от рационального анализа и сопротивляются теоретико-номологическому
обобщению. Если бы это было так, то проблема индукции и развития науки была
бы решена (как частные проблемы человеческого поведения), т.е. нам удалось бы
выработать ряд жестких критериев и законов для человеческого познания и
ограничить его.
Можно также выйти за рамки традиционной теоретической концепции
вычислений, оставаясь в рамках практических реализаций. Современные интеллектуальные
системы, как и человек, «учатся» у окружающего мира. Это значит, что их программа
определяет лишь самые общие концепции, а конкретная связь между входом и
выходом не определяется детерминированной программой, а формируется в течение
работы программы. Можно построить формальную модель такого вычислителя,
разрешив машине Тьюринга время от времени останавливаться и разрешать пользователю
записывать что-либо на ее ленту, после чего интерпретировать записанный код
произвольно. Нетрудно убедится, что такая интерактивная машина способна абсолютно
225
на все, что угодно: ведь пользователь способен написать на ленте некий код, который
затем будет исполнен машиной в качестве подпрограммы, либо просто выдан в
качестве ответа! Таким образом, к интерактивным машинам Тьюринга мы вообще не
можем применять какие бы то ни было категории детерминизма.
Биологический аргумент: спор об обоснованности биологического
натурализма.
2: Хочется отметить, что уже ведутся исследования по интеграции электронных
схем и биологических нейронов. Информация от биологической системы передается
в электронные схемы посредством специальных «мостов». В этой связи интересен
вопрос о том, какое количество биологических объектов в системе необходимо для
того, чтобы систему можно было рассматривать как «обладающую психикой».
Можно сформулировать и обратный вопрос: посредством «мостов» можно подсоединять
электронные устройства к человеческой нервной системе, что уже применяется для
реабилитации больных параличом. Какое количество подключенных к человеку
электронных устройств ликвидирует его психические качества? Биологический
натурализм рассматривает лишь чисто биологические и чисто электронные устройства,
никак не комментируя гибриды. Впрочем, сами гибриды появились сравнительно
недавно, лишь в конце 90-х годов.
Далее, биологический натурализм не демонстрирует ошибочности
функционализма, раскрывая лишь его необоснованность. Сами суждения биологического
натурализма — например, суждение о том, что лишь биологический объект может быть
«живым» и «разумным», на самом деле, никак не доказываются, а просто
постулируются. Для приемлемого доказательства следовало бы продемонстрировать некие
принципиальные различия между биологической и небиологической материей.
Биологический натурализм также серьезно конфликтует с экспериментальным
подходом к искусственному интеллекту, т.е. с единственным подходом, который,
по существу, имеется у специалистов по компьютерным наукам. В качестве
простого примера можно рассмотреть трех роботов: основанного на биотехнологиях,
чисто электронного и управляемого человеком дистанционно по беспроводной
сети. Эти роботы могут вести себя абсолютно одинаково. Подход
биологического натурализма, очевидно, назовет радиоуправляемого робота «разумным»,
электронного — неразумным, а по поводу биотехнологического робота будут некоторые
сомнения. Но каким образом узнать, на каком принципе основан каждый робот?
Электронный и радиоуправляемый по компонентной базе неотличимы.
Биотехнологический, конечно, должен содержать биологические материалы, но они могут
быть упакованы в такие же кремниевые корпуса и быть внешне неотличимыми от
микросхем. Да и вообще, почему для определения разумности робота требуется
непременно разбирать его? Когда Джон Сёрл определяет «разумность» студентов
на экзаменах, обходится ли он собеседованием или прибегает к хирургическому
вмешательству?
1: Вопрос с гибридами может быть решен введением некоторой
промежуточной классификации между нормальным человеком, роботом и гибридными
случаями. И наш обыденный язык уже обладает такими средствами, например,
просто причислением людей с электронными устройствами к категории «калек» или
«киборгов».
Биологический натурализм утверждает, что разум или интеллект — это
свойство определенного материального субстрата в нашем организме (мозга или всей
ЦНС), т.е. имплицитно материализует это понятие и отрицает какую-либо
«духовную» или «мистическую» компоненту этого концепта; и для этого ненужно
доказывать «некие принципиальные различия между биологической и
небиологической материей», если я характеризую в качестве определенных свойств золота
определенный уровень его ковкости и плавкости, не доступный другим металлам
226
(не говоря уже о других веществах). Мы же не должны обосновывать какое-либо
«принципиальное» отличие этого металла от других веществ? Более того, разум,
по большому счету, — это не научный концепт, а метафизический, притом
нагруженный социокультурными коннотациями. Биологический натурализм никогда
не устанавливает степень разумности, исходя из поведения. Возникает вопрос,
как можно из поведения человека что-нибудь достоверно знать о точном характере
его мозговой деятельности и активности, о химических процессах, протекающих
в коре головного мозга и т.д.? Таким образом, вопрос о разумности роботов для
натуралиста — это псевдо-вопрос, лучше говорить о функциональной пригодности
робота, нежели о его разумности. Наконец, допускается возможность, что из
характера поведения человека мы можем установить степень его разумности. Давайте
спросим: а что будет выступать объективным критерием идентификации разума?
Я этим хочу сказать, что не бывает абсолютных критериев разумности, а все они
социокультурно зависимы и релятивизированы относительно данного
исторического уровня развития общества, и, естественно, они постоянно изменяются. Так
как на таком рыхлом фундаменте можно строить серьезную научную теорию, как
это делает функционализм.
2: Действительно, функционализм является достаточно рыхлым фундаментом.
Однако он позволяет хоть как-то объяснить работоспособность моделей
искусственного интеллекта. Многие интеллектуальные алгоритмы моделируют решения задач
биологическими системами: считается, что за счет этого и обеспечивается их
качество. Биологический натурализм говорит о том, что при моделировании
собственно интеллект стирается. Он не раскрывает проблемы того, что при моделировании
биологического интеллекта получившаяся модель способна к некоторым действиям,
присущим исходному интеллекту. Если изъять функциональный подход, то
требуется взамен объяснить успех интеллектуальных систем чем-то другим, чего
натуралисты не делают.
По существу, спор биологического натурализма с функционализмом
оказывается продиктован определением интеллекта. На практике специалиста по
компьютерным наукам интересует возможность той или иной системы совершать
определенные действия: доказывать теоремы, адаптироваться к изменяющимся условиям,
управлять роботами и т.д. Эти действия мы объединяем понятием «интеллект», и
в случае такого определения функциональный подход приемлем. Если же
определить интеллект как категорию живого, это заведомо лишит внутреннего смысла
все исследования компьютерщиков, поскольку подавляющее большинство таких
исследований проводятся на кремниевых машинах. Но сами исследования от этого
никуда не денутся, как и их результаты, и все равно будут требовать философского
объяснения.
227
ШАРОВ К.С.
Машины-композиторы и чувственное восприятие
музыкального творчества
Может ли машина мыслить и сознавать то, что она выполняет? В данной статье
я попробую сузить этот широчайший вопрос и постараться ответить на него в
рамках вполне конкретной сферы музыкального творчества. Для нас будет интересен
вопрос: существует ли (хотя бы потенциально) перспектива создания и исполнения
музыкальных произведений «искусственным интеллектом» компьютера? Для этого
рассмотрим отдельно две связанные, но, тем не менее, вполне самостоятельные
области: интерпретацию (исполнение) компьютером уже готового музыкального
произведения и сочинение им пьесы «с чистого листа».
Машина-интерпретатор и исполнение музыки
Судьба музыкального произведения зависит и от самого композитора, и от
исполнителя, и от слушателя. Слушатель вместе с композитором и исполнителем
становится участником «явления» музыки. В конечном итоге, задача любого
исполнителя — дирижера, певца, инструменталиста или компьютера — донести до слушателей
композиторский и свой собственный замысел.
Хорошо известно, что музыканты непременно вносят в произведение свою
интерпретацию, свое личное понимание его содержания, становясь сотворцами
композитора. Интерпретация зависит от индивидуального подхода к исполняемой музыке, от
взглядов, вкусов и пристрастий музыканта или дирижера-интерпретатора. Большие
артисты отличаются от посредственных глубоким проникновением в замысел
композитора, а также яркой, только им присущей манерой исполнения. В какой мере
машина может быть интерпретатором музыки? Может ли она создавать и реализо-
вывать свои собственные замыслы в рамках интерпретации?
В середине XX века благодаря изобретению магнитофона композиторы получили
почти неограниченные возможности деформации звуковых объектов и образования
производных объектов. Любой звук (или комплекс звуков) мог быть деформирован
либо изменением скорости, либо направлением его воспроизведения (воспроизведен
от конца к началу), либо пропущен через систему фильтров, меняющих по желанию
его тембр (окраску звука). Помимо манипуляций с отдельными звуками и со
звуковыми комплексами, позволяющими выводить бесконечное количество производных,
была впервые реализована возможность точного музыкального монтажа: звук может
быть измерен по всем параметрам и фиксирован в любом из них с желаемой
степенью точности.
В настоящее время компьютерная интерпретация музыкального произведения
стала создаваться с помощью щелчков мыши, нажатий на клавиши, банков
музыкальных инструментов и «софтовых» синтезаторов.
Компьютер, s оборудованный звуковой картой, MIDI-интерфейсом и
программой-секвенсером, может записывать и воспроизводить полную
оркестровку, управляя несколькими синтезаторами и звуковыми модулями одновременно.
При записи песни в компьютер можно слой за слоем создавать аранжировку,
изменять партитуру по ходу работы. Процесс редактирования отображается на
экране монитора, что позволяет достаточно легко освоить программу и в дальнейшем
работать с ней. Когда MIDI-треки полностью готовы, песню переводят в формат
аудио (записывают на жесткий диск), после чего в нее добавляют акустические
эффекты и вокал.
228
Что же реально скрывается за яркой рекламой программного обеспечения и
деталей компьютера? Какая интерпретация возможна в рамках компьютерной игры?
Знаменитый Эдисон Денисов, несмотря на свое пристрастие к механическим
эффектам и машинному сочинительству, отметил: «При всем богатстве возможностей,
открывшихся перед нами с изобретением электронной и конкретной музыки, они
весьма ограничены. Во-первых, на «магнитофонной музыке» лежит штамп
«музыкальных консервов», который никогда не снять; сколько раз ни проигрывать одну
и ту же запись на грампластинке, нельзя избавиться от ощущения известной
«окостенелости» исполнения, хотя оно само по себе может быть и живым, и ярким; при
любом прослушивании дирижер и оркестр повторяют всю музыкальную ткань в
неизменной трактовке. Но в этом случае у нас еще есть выход — мы можем либо пойти
в концерт, послушав это сочинение в живом исполнении, либо приобрести другую
запись. В случае же компьютерной музыки у нас такого выбора нет — один раз и
навсегда зафиксированная композитором музыкальная сущность остается
полностью неизменной и принципиально не подвержимой модификации. Следовательно,
каждое произведение компьютерной музыки является «музыкальными консервами»
уже по самой своей специфике» [1].
С другой стороны, компьютерная интерпретация зачастую вызывает ощущение
некоторого однообразия по сравнению с музыкой, исполненной на обычных
музыкальных инструментах. Создается впечатление, что одна из причин такого
однообразия компьютерной игры лежит именно в ее разнообразии (при слишком большом
количестве элементов, составляющих музыкальное произведение, и быстрой их смене
острота восприятия настолько снижается, что это разнообразие уже воспринимается
как однообразие). Кроме того, сами элементы, которыми оперирует компьютерная
программа-исполнитель, с точки зрения музыкальной логики менее интересны, чем
звуковые объекты обычной музыки [2].
В рамках данной работы были проведены полевые исследования, призванные
прояснить разницу в восприятии традиционного и компьютерного исполнения
музыкальных произведений экспертами и дилетантами. Результаты показывают, что в
группе дилетантов («музыкальных филистеров») разница в интерпретации
практически неощутима, в то время как профессиональные музыканты отчетливо
определяют эту разницу и достаточно хорошо объясняют ее.
Машина-автор и сочинение музыки
Может ли компьютер быть автором музыки? Что такое в этом контексте
представляет собой эта «компьютерная музыка»?
Индустрия компьютерного программного обеспечения производит тысячи
программ по звукозаписи, работе с MIDI-синтезаторами, обработке, микшированию,
лупированию, трансформации, эквалайзеризации, спектрализаци, реверберации,
хорализации, зеркализации, ресэмллизации и многим прочим ациям. Тем не менее,
широкая общественность пока никак все еще не получила в свои руки мечту всего
современного поколения новоявленных композиторов — программу, которая сама
писала бы за них музыку, начиная с процесса создания мелодии вплоть до ее
гармонизации, инструментовки, окончательному выводу на прослушивание в МРЗ-формате.
Современный отечественный композитор Всеволод Рылов отмечает: «Может быть
я, конечно, чего-то не понимаю, но мне всегда казалось, что мелодия в голове
рождается, а не в микросхемах. А где она — это мелодия в современных опусах отдельных
творцов? Резкие, завывающие звуки и бьющие по мозгам ударные... А когда это еще
и записано плохо ... Есть от чего загрустить и впасть в ностальгию» [3].
На интернетовских сайтах, посвященных музыкальной композиции, можно
найти следующие констатации: «К большому сожалению, ни одной приличной
программы, позволяющей написать мелодию, нет, поэтому ее (мелодию), придется сочинять
229
лично. Наибольшее затруднение у начинающих авторов вызывает правильная
ритмическая организация мелодии и отсутствие чувства формы» [4]. Но так ли это на
самом деле? Действительно ли не проводилось попыток заставить компьютер
сочинять музыку?
На самом деле, в профессиональной среде программистов ситуация иная.
Работа по созданию алгоритмов сочинения музыки ведется уже довольно давно.
В конце 1950-х годов появляется сама идея компьютерной музыки. Концептуально
имея много общего с классической Elektronische Musik, компьютерная музыка
опирается в первую очередь на теорию информации. Сегодня термин «компьютерная
музыка» имеет два различных значения. С одной стороны, в популярной сфере это
примерно то же, что и электронная музыка, только с опорой на компьютерную
технику, с другой стороны, в академической среде под этим термином чаще всего
понимается именно написание машиной музыки, творчество машинного интеллекта в
сфере музыкальной композиции. Такое творчество чаще всего включает в себя
использование формальных алгоритмов в процессе музыкальной композиции. Такую
сочиненную компьютерами музыку часто определяют как алгоритмическую.
Алгоритмом в этом контексте следует называть строго определенную последовательность
действий, приводящую к искомому результату. Для однозначной записи
композиционных алгоритмов используются формализованные алгоритмические языки,
состоящие из соответствующего алфавита (набора символов), синтаксических правил
и семантических определений. На их основе строятся музыкальные языки
программирования, такие, как: Music 4, C-Sound, Supercollider, MAX/MSP и т.п. Данные
языки опираются на теорию алгоритмов А.А.Маркова и П.С.Новикова, в рамках которой
рассматривается решение любых однородных задач или действий посредством
разложения их на точно установленные предписания и последовательность конечного
числа элементарных операций.
Существуют и другие направления разработок музыкальной компьютерной
композиции. Одним из них является стохастическая музыка Яниса Ксенакиса (1922—
2001). Стохастическая музыка — это такой вид композиционной техники, при
котором законы теории вероятности определяют факт появления тех или иных элементов
композиции при заранее обусловленных общих формальных предпосылках.
В 1956 году Янис Ксенакис ввел свой термин «стохастическая музыка» для
описания машинной музыки, основанной на законах вероятностей и законах больших
чисел. В оркестровой компьютерной композиции Achorripsis (1957) события,
связанные с проявлением тех или иных музыкальных элементов, таких, как: тембр,
высота, громкость, продолжительность — были распределены по всей композиции
в соответствии с распределением Пуассона. Ксенакис писал: «Законы исчисления
вероятностей вошли в композицию вследствие музыкальной потребности. Но
другие пути также ведут к стохастическому перекрестку. Начнем с природных
явлений, таких, как падение града или дождя на твердые поверхности, или, скажем,
пение цикад летом в поле. Эти звуковые явления, взятые в целом, состоят из тысяч
отдельных звуков, масса которых создает, на уровне целого, новое звуковое
явление. И это целостное явление гибко, оно образует пластичное изменение во
времени, которое также подчиняется алеаторическим, стохастическим законам» [5]. Для
Ксенакиса вычисление вероятностей компьютерной программой стало
инструментом управления сложностью музыкальных событий. Например, когда программист
определит некоторое вероятностное распределение, компьютер может заставить
любое количество музыкальных событий произойти в нужное время и в нужном
месте. Одним из ключевых понятий в области стохастической алгоритмической
композиции является «музыкальный хаос» — беспредельная первобытная масса,
из которой, с точки зрения Ксенакиса, образовалось впоследствии все
существующее в сфере музыки.
230
«...Создание музыкального произведения — это процесс упорядочения, в котором
определенные музыкальные элементы подбираются и приводятся в порядок из
бесконечного многообразия возможностей, т.е. из хаоса... Это обнаруживает не только
порядок в структуре, но также и относительное отсутствие его, и даже, в
определённых чрезвычайных случаях, как раз отсутствие порядка, а именно хаос; другими
словами, сама степень вынужденного порядка является важной переменной» [6].
Одним из ярких современных примеров сочинения машинами музыки по
принципам, не связанным ни с теорией алгоритмов Маркова-Новикова, ни со
стохастической теорией, является фрактальная композиция. Программа FractMus2000 [7] дает
представление об основных моментах такого «машинного творчества». При
сочинении музыки компьютер использует построение фрактала по определенному закону
(например, фрактал Мандельброта, последовательность Морса-Тюэ, кривая Пеано,
кривая Коха, множество Жюлиа-Фату и т.д.).
Тем не менее, несмотря на большие успехи написания машинами такой
специфической музыки, характерной для музыкальных направлений экспрессионизма,
алеаторики и атональности, вопрос о возможности сочинения классической музыки
компьютером оставался открытым до исследований профессора Университета
Калифорнии Дэвида Коуиа.
Осенью 2005 года в Университете Калифорнии (Беркли, США) студенческий
оркестр исполнил Сорок вторую симфонию Моцарта. Конечно, слушатели знали,
что Моцарт написал сорок одну симфонию, но этот факт не мешал им слушать
прелестную музыку, в которой, впрочем, по высказываниям ряда критиков, не хватало
чего-то неуловимого, присущего обычно мелодиям великого композитора. И не
удивительно: 42-ю симфонию сочинила компьютерная программа EMI
(«Эксперименты с музыкальным интеллектом» — Experiments in Musical Intelligence), работавшая
на компьютере «Макинтош». Программу создал композитор и одновременно
компьютерщик Дэвид Коуп. За несколько последних лет EMI сгенерировала «новые
произведения» Баха, Бетховена, Брамса, Шопена и Скотта Джоплина. EMI
работает настолько успешно, что Коуп получил заказы на ее произведения от индустрии
коммерческой музыки. Коуп считает, что она впоследствии станет главным
инструментом композитора. Он составил список композиторов, новые творения которых он
намерен синтезировать с помощью своей машины. На первом месте в нем Малер, но
работа над новой симфонией Малера, по высказываниям разработчика, займет еще
2—3 года. Проанализировав существующие произведения известного композитора
(их вводят в машину в статистической форме в виде данных о высоте, длительности,
громкости каждой ноты, а также о том, на каком инструменте она исполнена), EMI
компилирует «новый» шедевр. Компьютер обрабатывает предложенные ему
сочинения, выискивая короткие (4-16 нот) и характерные для данного автора музыкальные
фразы, повторяющиеся в разных его сочинениях. Таким образом, работа
компьютера, по сути, представляет собой чисто комбинаторный процесс. Это комбинирование
используется для написания нового произведения, в котором, впрочем, каждый ми-
ниотрывок сочинил известный композитор. При синтезе компьютер выбирает
каждую деталь гармонии, ритма и инструментовки. Любой эксперт, прослушав творение
EMI, скажет, что это Моцарт, или Шопен, или Рахманинов, но, подумав, как правило,
добавит, что это очень похоже на творение великого композитора, но, скорее всего,
это подражание, выполненное каким-то хорошим, но не великим автором.
Сам Коуп признает, что в музыке его детища обычно не хватает «искры гения»,
. но, добавляет он, в музыке большинства композиторов-людей тоже нет этой искры.
Он считает, что «новые произведения» Моцарта, во всяком случае, лучше, чем
произведения его современника Антонио Сальери [8].
Коуп попытался добиться от EMI собственного, оригинального стиля. В 1992 году
он ввел в машину три сочинения Игоря Стравинского и стал получать новые произ-
231
ведения в этом стиле. Их он снова пускал в машину, так что она постепенно стала
использовать для основы не самого Стравинского, а свое представление о его музыке.
Время от времени Коуп добавлял к анализу сочинения других композиторов времен
Стравинского. Стиль EMI «отходил» от Стравинского все дальше и дальше. Сейчас
Коуп говорит о нем, как о стиле оригинального американского композитора,
русского по происхождению, работавшего в 1918—1935 годах.
К настоящему времени EMI выпустила 1 500 симфоний, 2 000 фортепианных
сонат и 1 500 других произведений. Сам Коуп особенно хвалит 1383-ю симфонию, в
которой слышит отголоски Малера.
Коуп свидетельствует, что с помощью его программы можно проводить
музыкально-исторические эксперименты. Например, что было бы, если бы Моцарт
прожил еще десяток лет и познакомился с произведениями Бетховена? Для того,
чтобы ответить на этот вопрос, надо добавить к базе данных по Моцарту несколько
произведений Бетховена — и посмотреть, что получится. По крайней мере, так все
выглядит по Коупу.
Коуп не стал патентовать свою программу и готов делиться ею с другими
композиторами и программистами. Но он держит в секрете свои методы «выжимания»
наилучшей музыки из машины. Именно сам Коуп отбирает те примеры, на которых
машина будет основываться в работе. И он же отбирает те результаты, которые
сможет прослушать широкая публика. Так что без человеческого интеллекта, таланта и
вкуса не обходится и здесь.
Автор данной статьи проводил опросы в среде оркестрантов, исполнявших
комбинаторные сочинения EMI. Каково же мнение музыкантов-исполнителей, которые
играют произведения EMI? Чувствуют ли они в этой музыке ту же глубину,
богатство и эмоциональность, что и в произведениях композиторов, послуживших
образцом? Большинство исполнителей признают, что этим произведениям чего-то не
хватает. Однако большинство опрошенных не смогли дать убедительного ответа, в чем
именно состоит «недостаточность» искусственной музыки. Также был проведен ряд
«слепых» опросов и экспертных интервью с музыковедами-теоретиками и
исполнителями, которым не было сообщено о том, что они прослушивают «написанную»
компьютером музыку. Большинство из них, опять-таки, чувствует в этой музыке
некоторую «плоскость», «ущербность», «тривиальность», но не объективирует своего
ответа. В связи с этим целью данной работы я поставил найти (если возможно)
объективные критерии для отличия написанной компьютером музыки от сочиненной
человеком.
В XXI веке появились программные алгоритмы, значительно превосходящие
EMI по «искусственному интеллекту» в области создания классической музыки.
Однако, по своей сути, все они остаются комбинаторными, несмотря на сложность
вычислений, чаще всего основанных на синергетических принципах. Для
различения машинной и «человеческой» музыки представляется очень полезным проводить
синтаксический и семантический анализ нотных текстов. Как показывают
проведенные эксперименты, большинство опрашиваемых экспертов, даже сомневаясь
относительно авторства того или иного прослушиваемого музыкального фрагмента,
значительно ближе приближаются к истине при анализе текста. Вероятно, такой
результат обусловлен более явной комбинаторностью визуального ряда по сравнению
с акустическим.
Заключение
В последнее время публикуется много статей о машинах, сочиняющих музыку.
Одним это кажется увлекательным, других — пугает (а не заменят ли композитора
машины?), но часто забывается главное: машина способна выполнять сложнейшие
расчеты, недоступные человеку, но очевидно, при этом всегда будет отсутствовать
232
творческое начало и индивидуальность. Машина сможет легко сочинять любые
подделки (даже самые сложные и совершенные), но все созданное ею будет лишено
того неуловимого «элемента тайны», который и делает музыкальное произведение
произведением искусства. Скорее всего, машины в будущем в совершенстве
овладеют так называемой «прикладной» комбинаторной музыкой, и, вероятно, сейчас
многие композиторы уже освобождены от работы в кинематографе, театре, при
создании музыки к компьютерным играм (если судить по качеству саундтреков).
Машина сможет лучше проанализировать драматическую ситуацию и
сформулировать наилучшее решение. Наверное, машина не будет иметь равных в создании
«шлягеров» — она сможет самым точным способом анализировать музыкальную
конъюнктуру и каждый раз «выдавать» то, что пользуется наибольшим спросом. Но
настоящую музыку машина никогда не научится сочинять, и мы, при всем нашем
желании, не сможет вдохнуть в нее «душу», сообщить ей тот неуловимый аспект
чувственного восприятия композиции и интерпретации музыки, без которого при
всем рационализме композиторского и исполнительского процесса невозможно
истинное творчество. При прогрессирующем усложнении композиторской техники (и
забвении настоящей композиции) композиторы все чаще и чаще станут прибегать
к машинам как к помощникам для выполнения наиболее сложных и наименее
творческих расчетов. Однако это не сделает машины композиторами и исполнителями,
и сочиненная и сыгранная ими музыка так и останется недоброкачественными
«музыкальными консервами».
Литература:
1. Денисов Э. Музыка и машины. М., 1985. С. 152—153.
2. Казанцева Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте
музыкальной жизни: Лекции по курсу «Теория музыкального содержания».
Астрахань, 2004.
3. http://www.rulov.ru/help.html.
4. http://cjcity.ru/content/sochinat-muziku.php.
5. http://www.theremin.ru/lectures/stochastic.htm.
6. http://dgm.net.Ua/content/view/57/61.
7. http://geocities.com/SiliconValley/Haven/4386.
8. http://arts.ucsc.edu/faculty/cope/mp3page.htm.
233
ЯКОВЛЕВ В.А.
Сознание как информационная реальность
Первым аналитиком проблемы сознания в философии Нового времени был
Р.Декарт. Именно он провёл чёткое разделение двух субстанций — материальной
и духовной (протяжённой и непротяжённой), а затем попытался проанализировать
взаимоотношение между ними в «Метафизических размышлениях».
Понятие сознания у Декарта нередко сближается с понятием мышления,
которое трактуется предельно широко. «Под словом «мышление» (cogitatio), — пишет он
в «Началах философии», — я разумею всё то, что происходит в нас таким образом,
что мы воспринимаем его непосредственно сами собою; и поэтому не только
понимать, желать, воображать, но также чувствовать означает здесь то же самое, что
мыслить» [1].
Суть рационалистической концепции Картезия раскрывается в понятиях
интеллектуальной интуиции и врождённых идей. Методологическое значение понятия
интеллектуальной интуиции проявляется в том, что оно становится исходным для
обоснования дедукции — цепи логических выводов одних положений из других под
контролем так называемой «энумерации», чтобы была уверенность в отсутствии
упущений. На рубеже XIX—XX вв. декартовское понятие интуиции использовалось в
одном из важных направлений обоснования математики — интуиционизме.
Предвосхищая идеи «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна, Декарт
утверждает, что надо брать такие объекты, о которых наш ум может составить ясные
и очевидные представления. В качестве основного инструмента познания
выдвигается интуиция. «Под интуицией, — пишет Картезий, — я разумею не веру в шаткое
свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но
понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчётливое, что оно не
оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим или, что одно и тоже, прочное
понятие ясного и внимательного ума, порождаемого лишь естественным светом
разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама дедукция...» [2].
Это понятие принято называть интеллектуальной интуицией, отличая её тем
самым от традиционного, прежде всего, средневекового, понимания интуиции как
некоего мистического божественного озарения, просветления, ниспосланного
непосредственно свыше и не требующего никаких знаний и размышлений.
На основе понятия интуиции философ выдвигает важный методологический
принцип привилегированного доступа субъекта к собственному сознанию по
отношению к внешнему миру, облик которого может искажаться в виду несовершенства
органов человеческих чувств. Истина, обнаруживаемая субъектом в своём сознании,
является, по Декарту, априори более точной и глубокой, ибо, спит ли человек или
бодрствует, сложенные вместе два и три всегда образуют число пять, а квадрат
никогда не будет иметь более четырёх сторон. Декарт утверждает: «Если кто-нибудь
задаётся целью исследовать все истины, познание которых доступно человеческому
разуму..., то он, вероятно, поймёт..., что ничто не может быть познано прежде самого
интеллекта, а не наоборот» [3].
Отметим, что данный метафизический принцип был интерпретирован в конце
XIX в. как основной научный принцип первой экспериментальной психологической
программы — интроспекционизма.
Декарта — «основоположника новоевропейской философии» (Гегель) — принято
считать дуалистом, но, строго говоря, исходной и высшей по отношению и к
материальной, и к духовной субстанциям является, согласно Картезию, субстанция Бога.
234
Всевышний сотворил материю, придав ей изначальный импульс движения, и
сотворил самого человека с его уникальной способностью к духовной сознательной
деятельности. «Под словом «Бог»,— пишет Декарт в «Метафизических размышлениях»,
— я подразумеваю субстанцию бесконечную, вечную, независимую, всеведущую,
всемогущую, создавшую и породившую меня и все существующие вещи...» [4].
В сознании, рассматриваемом как мышление, философ выделяет три вида идей:
идеи, получаемые субъектом извне от органов чувств, взаимодействующих с
окружающим миром; идеи, конструируемые самим умом на основе идей первого вида,
которые могут быть правдоподобными или фантастическими; врождённые идеи,
«высвечиваемые естественным светом разума» и играющие решающую роль в познании
рациональных истин. Идеи третьего вида фактически не зависят от внешнего мира,
а их критериями, определяемыми интеллектуальной интуицией, выступают
абсолютная ясность, отчётливость и простота. К врождённым понятиям, хотя и в разных
аспектах, относятся идеи протяжённости, фигуры, движения, существования,
единства, длительности и др. Высшим врождённым понятием является идея Бога как
совершенного духовного и актуально бесконечного абсолюта — гаранта всякого
истинного познания.
Вместе с тем, в сознании существуют и врождённые аксиомы, которые также
играют роль методологических креативов познания. Это, например, аксиомы
тождества, транзитивности, непротиворечивости. Согласно Декарту, количество таких
истинных врождённых постулатов не поддаётся исчислению, но основным среди них
является первично удостоверяемое сознанием «cogito ergo sum» — исходное начало
всякого познания. Здесь необходимо отметить, что врождённость не означает
актуального наличия в сознании данных понятий и аксиом, полностью готовых к
использованию с момента рождения индивида. Врождённость понимается Декартом как
некая потенциальность, диспозиционность, предрасположенность, которая
реализуется (актуализируется) посредством активной мыслительной деятельности. Таким
образом, Декарт выдвигает методологический креатив активизма мышления.
Этот креатив в определённой степени напоминает процедуру анамнезиса в теории
познания Платона. Но у античного философа истинное (рациональное) знание
эксплицировалось в результате коммуникативной практики необразованного ученика с
учителем, который активизировал и инициировал его мышление через так
называемые «наводящие вопросы-подсказки». Классический пример дан в диалоге Платона
«Менон», где Сократ с помощью метода майевтики побуждает, направляет и
приводит неграмотного мальчика-раба к доказательству непростой теоремы геометрии.
Декарт же полагает, что активизировать свой ум, с целью познания врождённых
безусловных истин, субъект может и должен сам путём постоянного
самообразования и углублённых размышлений, что Картезий, собственно, и доказывал всем своим
образом жизни.
Обобщая вышесказанное и интерпретируя его в контексте современного научного
концептуального аппарата, можно сказать, что французский философ предвосхитил
в своих метафизических принципах некоторые разрабатываемые в настоящее время
подходы к исследованию сознания как информационной реальности,
закодированной в нейронных сетях головного мозга человека,
Первый — бионейрофизиологический — связан с исследованиями в области
генетики и физиологии высшей нервной деятельности. Полная расшифровка генома
человека, по мысли некоторых биологов, не только приведет в итоге к элиминации
различного рода психических деменций, продлению биологического времени
сознательной творческой активности, но и, возможно, раскроет особенности генотипов
выдающихся творческих личностей. Отсюда надежды на новое возрождение сильно
скомпрометированной в свое время науки евгеники (A.A. Нейфах, В.П. Эфроимсон,
Ш. Ауэрбах). Открытие функциональной ассиметрии головного мозга и составле-
235
ние его «атласа», выявление электрических и химических цепей передачи
импульсов в нейронной сети, использование методов компьютерной томографии создают
принципиальную возможность расшифровки нейродинамического кода структуры
мозга, а следовательно, научного описания сознания как субъективной реальности —
эмерджентного свойства высокоразвитых живых систем (Дж. Марголис, Т. Нагель,
Дж. Сёрл, Д.И. Дубровский).
Второй подход связан с работами по искусственному интеллекту. Составление все
более совершенных компьютерных программ (особенно это заметно в области
традиционно считающейся высокоинтеллектуальной игры в шахматы), постоянная
модификация и усложнение самих компьютерных систем (разработка теорий квантового
компьютера, робототехники и т.п.) быстро приближают, по мнению энтузиастов, тот
день, когда «машина» с «честью» выдержит так называемый тест на сознательность и
человечность, предложенный еще пионером этих работ А. Тьюрингом.
Третий подход базируется на психологических и педагогических теориях,
стремящихся с разных сторон описать и объяснить психические процессы не только на
уровне человека, но и животных. Здесь можно отметить такие направления, как:
бихевиоризм, гештальтпсихология, теория деятельности, когнитивная психология,
теория проблемного метода обучения и методическая разработка различного рода
эвристик.
Четвёртый подход — информационно-синергетический — находится в стадии
становления и вызывает наиболее острые дискуссии. Его специфической особенностью
является то, что сознание рассматривается как некая объективная информационная
реальность со своими определёнными причинно-следственными связями и синер-
гетическими атрибутами (нелинейность, нелокальность, спонтанность, бифуркаци-
онность, резонансность, аттрактивность и др.). В разработке этого подхода
определяющую роль играют физические дисциплины. В космологии с помощью понятия
сознания абстрактного наблюдателя объясняется «тонкая» настройка универсума
на основе известных фундаментальных физических констант, делающих в принципе
возможным появление жизни и человека, — так называемые «антропный принцип» и
«информационная матрица» развития Вселенной (Ст. Хоукинг, Б. Картер, ИЛ. Ро-
зенталь, В.В.Казютинский).
В многочисленных интерпретациях квантовой механики физики также
привлекают понятие сознания для объяснения корпускулярно-волнового дуализма и
редукции («коллапса») волновой функции. Концепт сознания используется в
физических теориях (так называемая «многомировая концепция») Г. Эверетта, Дж. Уилера,
Де Витта.
Физик М.Б.Менский предлагает рассматривать мозг как квантовую систему, а
сознание отождествить с актом «осознавания», выбором альтернативы при
измерениях квантовой системы. «При таком отождествлении, — считает ученый, — сознание
становится одновременно элементом физики и психологии, т.е. становится границей
и осуществляет связь естественно-научной и гуманитарной культур» [5]. Поскольку
сознание выбирает, то это означает, что при квантовом измерении в определенном
смысле реальность не просто познается, а творится. Различается сознание в целом
как нечто, способное охватить весь квантовый мир, и индивидуальное сознание,
которое субъективно воспринимает лишь одну альтернативу.
М.Б. Менский предлагает выйти за пределы существующих физических
стандартов проведения опытов в сферу наблюдения над индивидуальным сознанием,
априори принимая, что сознание действительно влияет на вероятности событий. «Новая
методология должна, во-первых, допускать эксперименты с индивидуальным
сознанием или наблюдением над ним в качестве инструмента проверки теории, — пишет
он, — а во-вторых, учитывать возможное влияние априорных установок на
результаты наблюдений» [6]. При этом, с точки зрения физика, важно учитывать идеи и опыт
236
различных направлений восточной философии, которые ориентируют человека
непосредственно на работу с собственным сознанием, например дзен-буддизм,
различные практики медитации и вхождения в транс.
Данный подход критикуется как философами, так и физиками. Однако, с
методологической точки зрения, важно подчеркнуть, что понятие «сознание», не теряя
своего метафизического статуса, определённого Декартом, теперь оказывается и важным
концептуальным элементом в теоретической физике, поскольку оказывается
связующим звеном мега- и микрокосмоса. Антропный принцип, таким образом,
приобретает универсальную значимость. Однако, чтобы действительно включить понятие
сознания в физические концепции, оно должно быть каким-то образом операциона-
лизировано, как это произошло с такими метафизическими в свое время понятиями,
как: масса, энергия, движение, магнетизм и др.
Из истории науки известно, что долгое время вещество (масса) и излучение
(энергия) считались существенно различными физическими субстанциями. В
формуле Эйнштейна Е=тс2 они были, как казалось многим учёным, парадоксальным
образом объединены, но это, в конечном счете, дало громадный импульс для развития
всей науки в XX в. Однако, с методологической точки зрения, здесь явно не хватает
информационной компоненты, которая объединяет сознание, микро-, макро- и мега-
миры в единое целое. Уяснив специфическую сущность информации как первичной,
исходной реальности сознания, объединяющей вещественно-энергетический
носитель и идеально-смысловое содержание, можно будет в перспективе разрешить
средствами науки проблему сознания, раскрыв с помощью научного метода
Сократовский императив «Познай самого себя».
Литература:
1. Антология мировой философии: в 4-х т. Т. 2. М., 1970. С. 240.
2. Там же. С. 274-275.
3. Там же. С. 280.
4. Там же. С. 295.
5. Менский М.Б. Квантовая механика, сознание и мост между двумя
культурами // Вопросы философии. 2004. № 6. С. 69.
6. Менский М.Б. Концепция сознания в контексте квантовой механики //
Успехи физических наук. 2005. Т. 175, № 4. С. 432.
237
Об авторах:
Артамонова Юлия Дмитриевна — к.ф.н., доцент кафедры философии науки
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва.
Березин Сергей Николаевич — администрация города Екатеринбурга, ведущий
специалист, Екатеринбург.
Блохина Наталья Александровна — к.ф.н., Рязань.
Васильев Вадим Валерьевич — профессор, зав.каф. истории зарубежной
философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва.
Вознякевич Екатерина Евгеньевна — к.ф.н., ст. преп., кафедра философии АФТУ
РАН, Санкт-Петербург.
Волков Дмитрий Борисович — к.ф.н., зам. дир. Московского центра исследований
сознания, Москва.
Волосков Руслан Александрович — аспирант, Вятский Государственный
Гуманитарный Университет, Киров.
Воронков Геннадий Сергеевич — д.б.н., ст. научн. сотр., биологический
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва.
Воронов Николай — аспирант философского факультета МГУ имени М. В.
Ломоносова, Москва.
Гаспаров Игорь Гарибович — к.ф.н., преп., Воронежская государственная
медицинская академия имени H.H. Бурденко, Воронеж.
Гончаров Владимир Викторович — Львовский национальный университет
имени Ивана Франко.
Горбатов Виктор Викторович — ст.преп, Государственный университет —
Высшая Школа Экономики, Москва.
Давыдов Всеволод Викторович — к.ф.н., Камчатский государственный
университет имени Витуса Беринга.
Дуденкова Ирина Васильевна — к.ф.н., Российский университет дружбы народов,
Москва.
Золкин Андрей Львович — д.ф.н. доцент, Московский университет МВД РФ,
Москва.
Иванов Дмитрий Валерьевич — к.ф.н., философский факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова, Москва.
Иванов Евгений Михайлович — к.ф.н., доцент, Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратов.
Каган Евгений Владимирович — к.т.н., Тель-Авивский Университет, Израиль.
Капитонова Татьяна Александровна — к.ф.н., Институт философии
Национальной академии наук Беларуси, Минск.
Катречко Сергей Леонидович — к.ф.н., доцент, философский факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова.
Клюева Наталья Юрьевна — к.ф.н., философский факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова, Москва.
Косилова Елена Владимировна — к.ф.н., ст.преп., философский факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова.
238
Костикова Анна Анатольевна — к.ф.н., зав. каф. философии языка и
коммуникации, зам. декана философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Кочергин Альберт Николаевич — д.ф.н., профессор, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Кричевец Анатолий Николаевич — д.ф.н., вед.н.с, психологический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва.
Кузнецов Антон Викторович — студент философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Ламберов Лев Дмитриевич — ассистент, философский факультет Уральского
государственного университета имени A.M. Горького, Екатеринбург.
Майданский Андрей Дмитриевич — д.ф.н., профессор, Таганрогский институт
управления и экономики, Таганрог.
Марасов Анатолий Николаевич — к.б.н., доцент, Ульяновский Государственный
Педагогический Университет, Ульяновск.
Мареева Елена Валентиновна — д.ф.н. профессор, Московская международная
высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), Москва.
Нагуманова Светлана Фарвазовна — к.ф.н., доцент, Казанский государственный
медицинский университет, Казань.
Невважай Игорь Дмитриевич — д.ф.н., профессор, Саратовская государственная
академия права, Саратов.
Никитина Елена Александровна — к.ф.н., доцент, Московский государственный
институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет),
Москва.
Окуловский Юрий Сергеевич — Уральский государственный университет имени
A.M. Горького, Екатеринбург.
Романов Павел Евгеньевич — ст. преподаватель, Мурманский государственный
педагогический университет, Мурманск.
Русаков Юрий — студент, философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
Москва.
Сапрыгин Борис Владимирович — к.ф.н., Новосибирский государственный
педагогический университет, Новосибирск.
Тарасов Илья Павлович — аспирант, Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов.
Шаров Константин Сергеевич — к.ф.н., философский факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова, Москва.
Яковлев Владимир Анатольевич — д.ф.н., профессор, философский факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва.
239
Материалы Международной научной конференции
(6-7 ноября 2009 г.)
Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова
Философский факультет