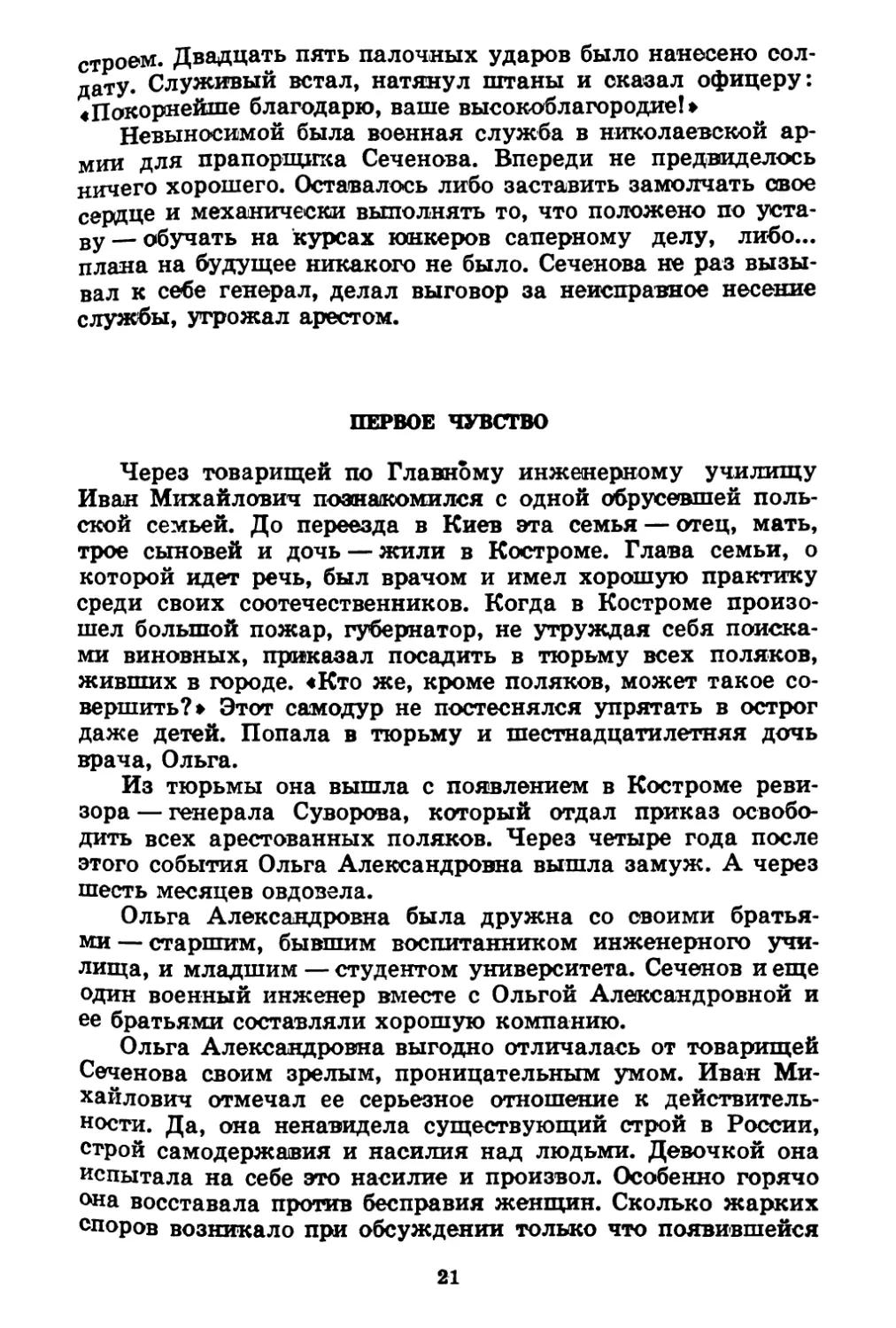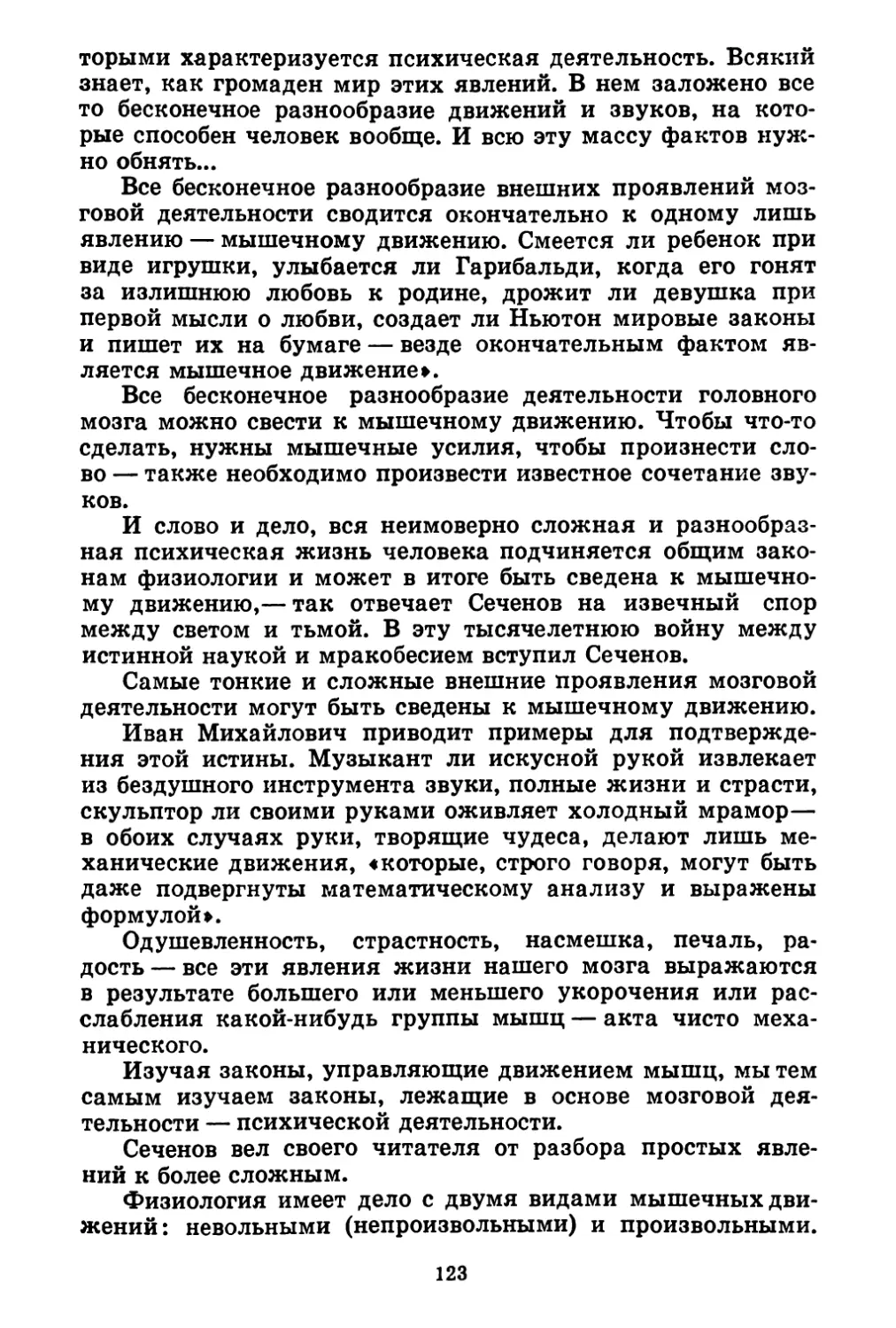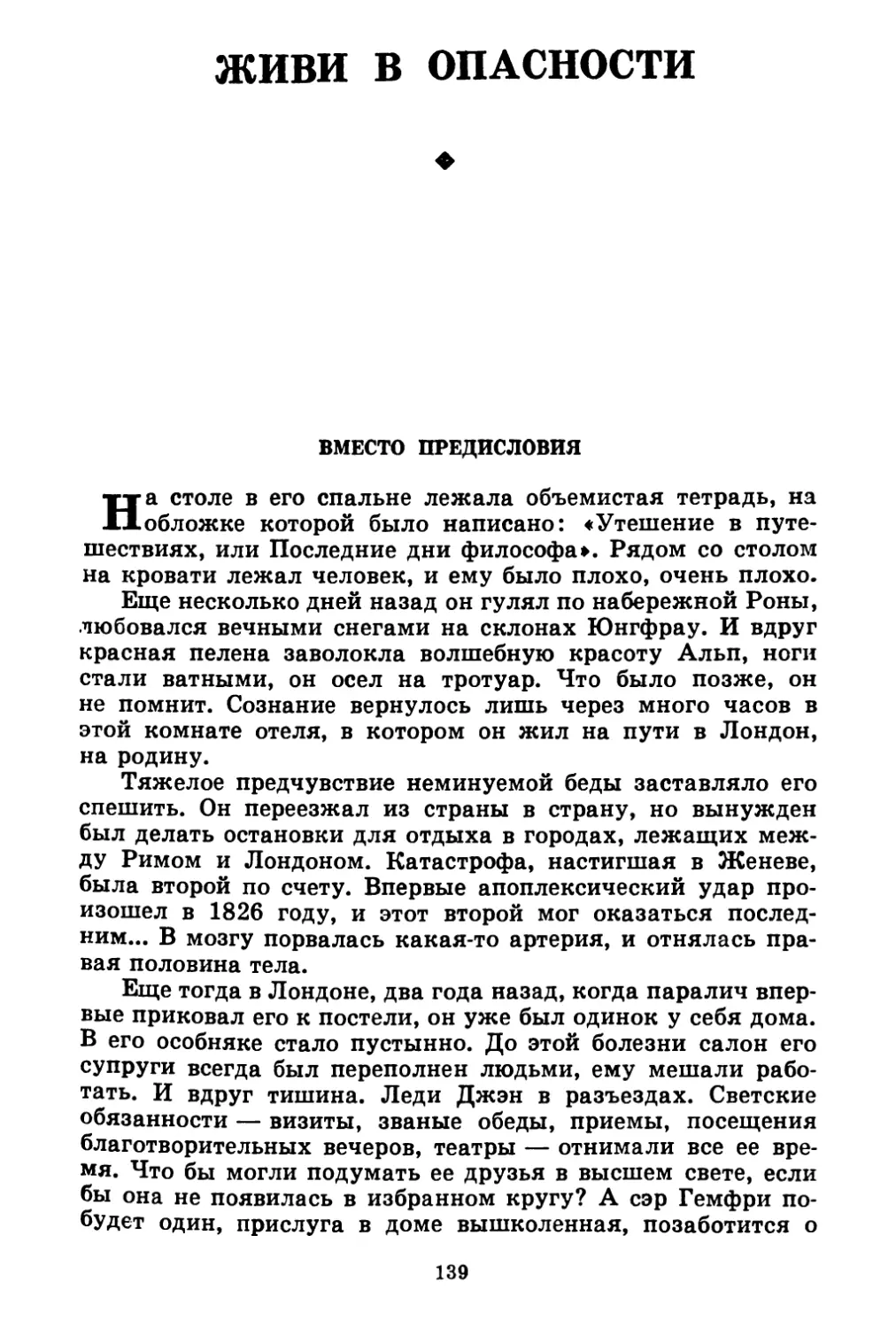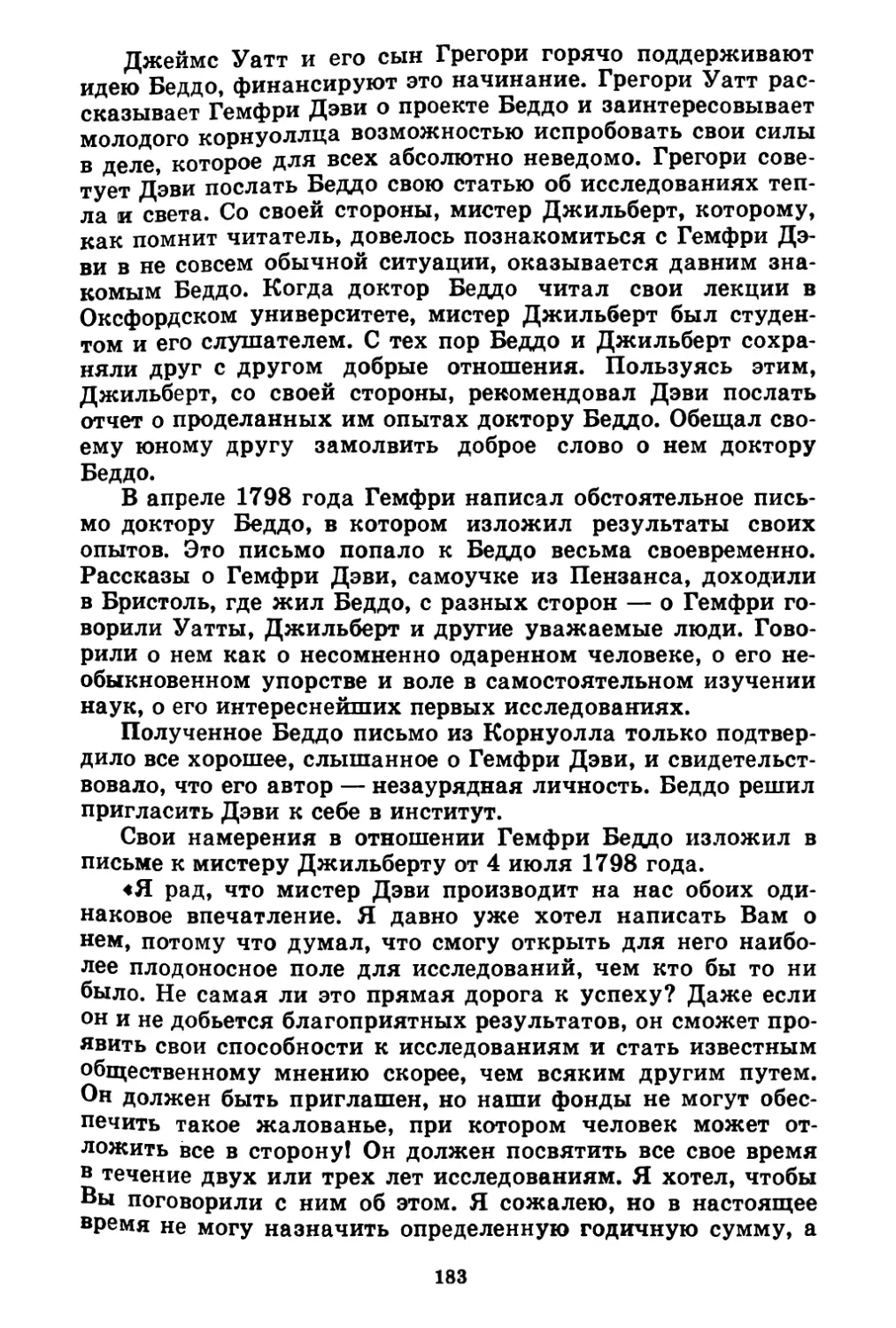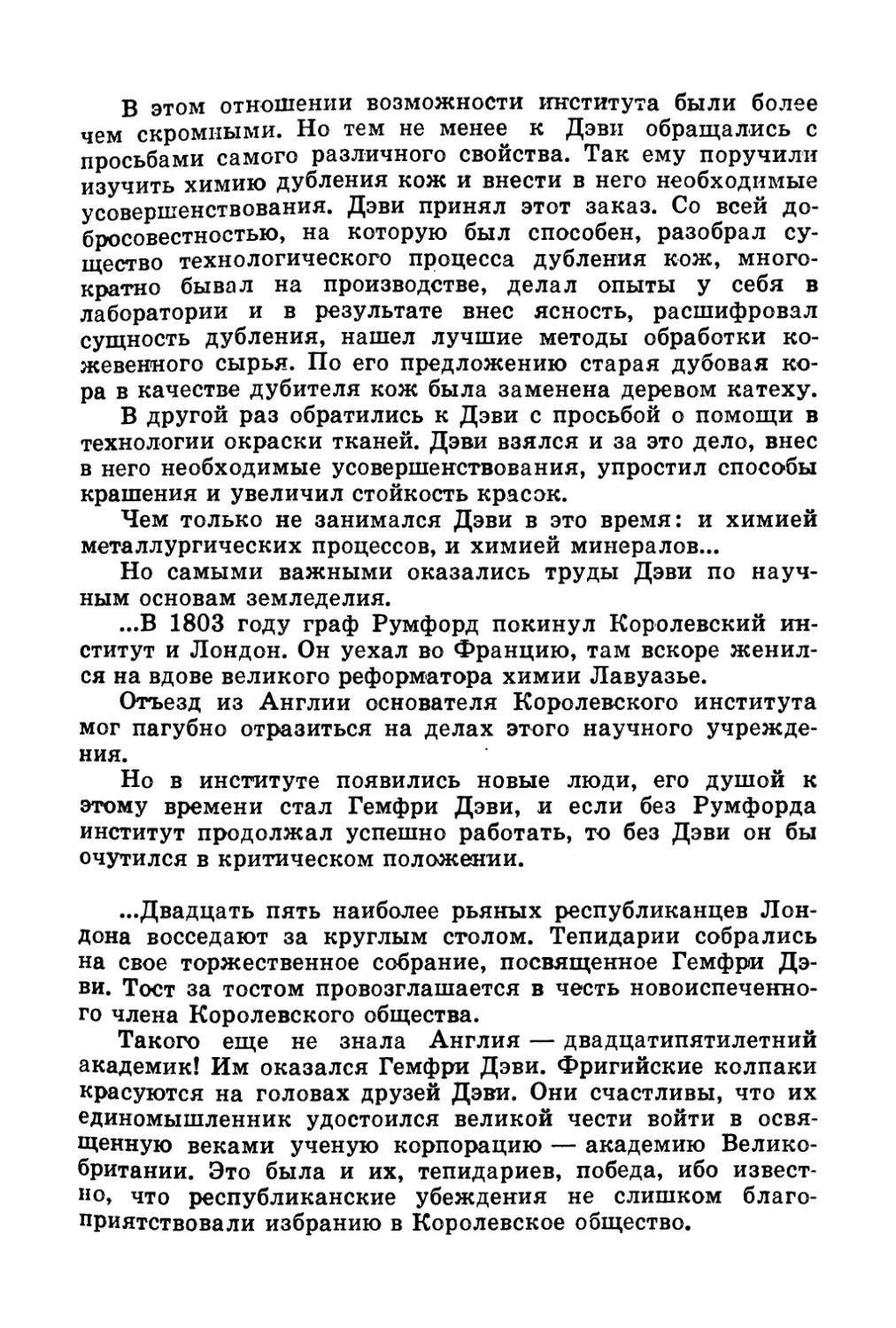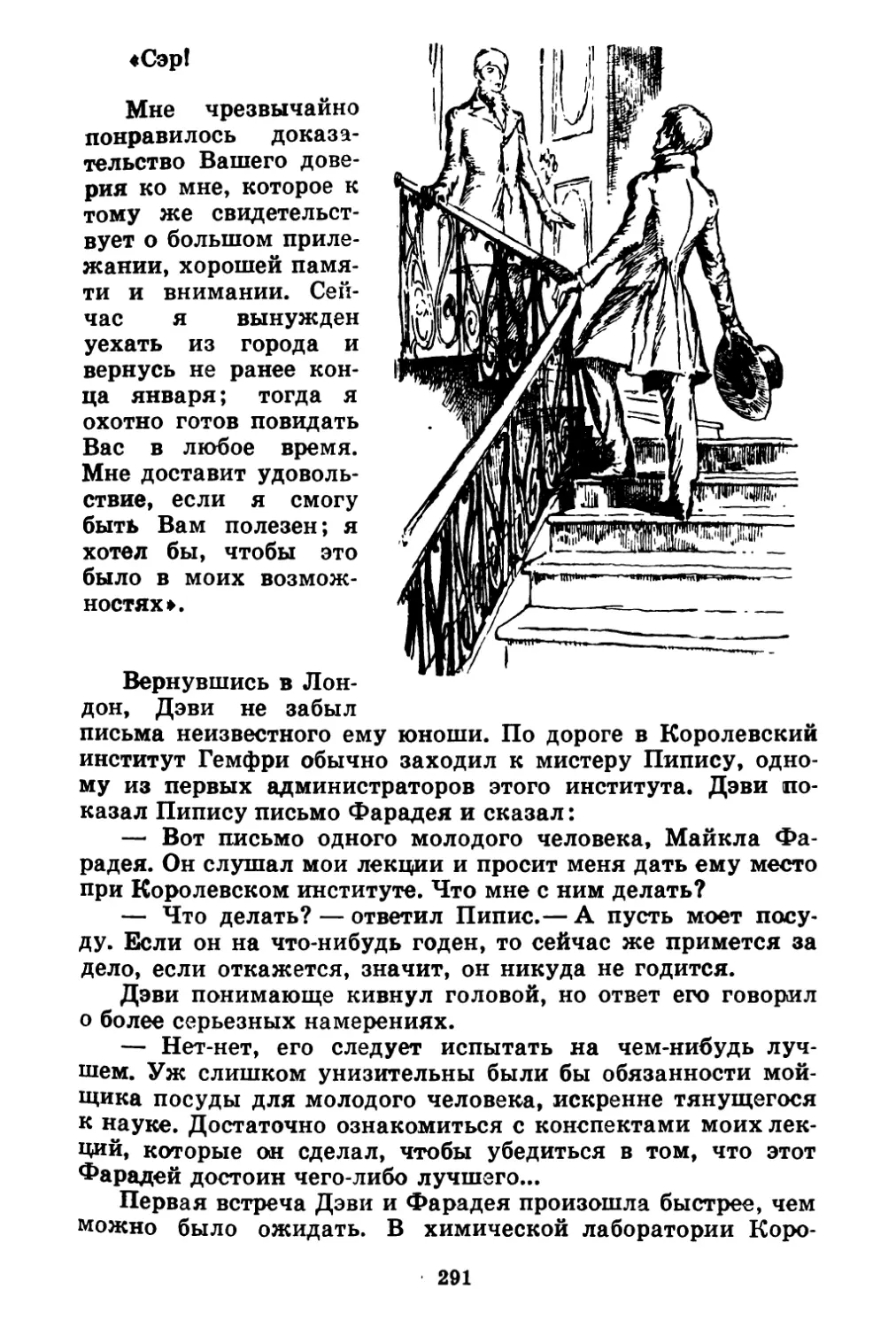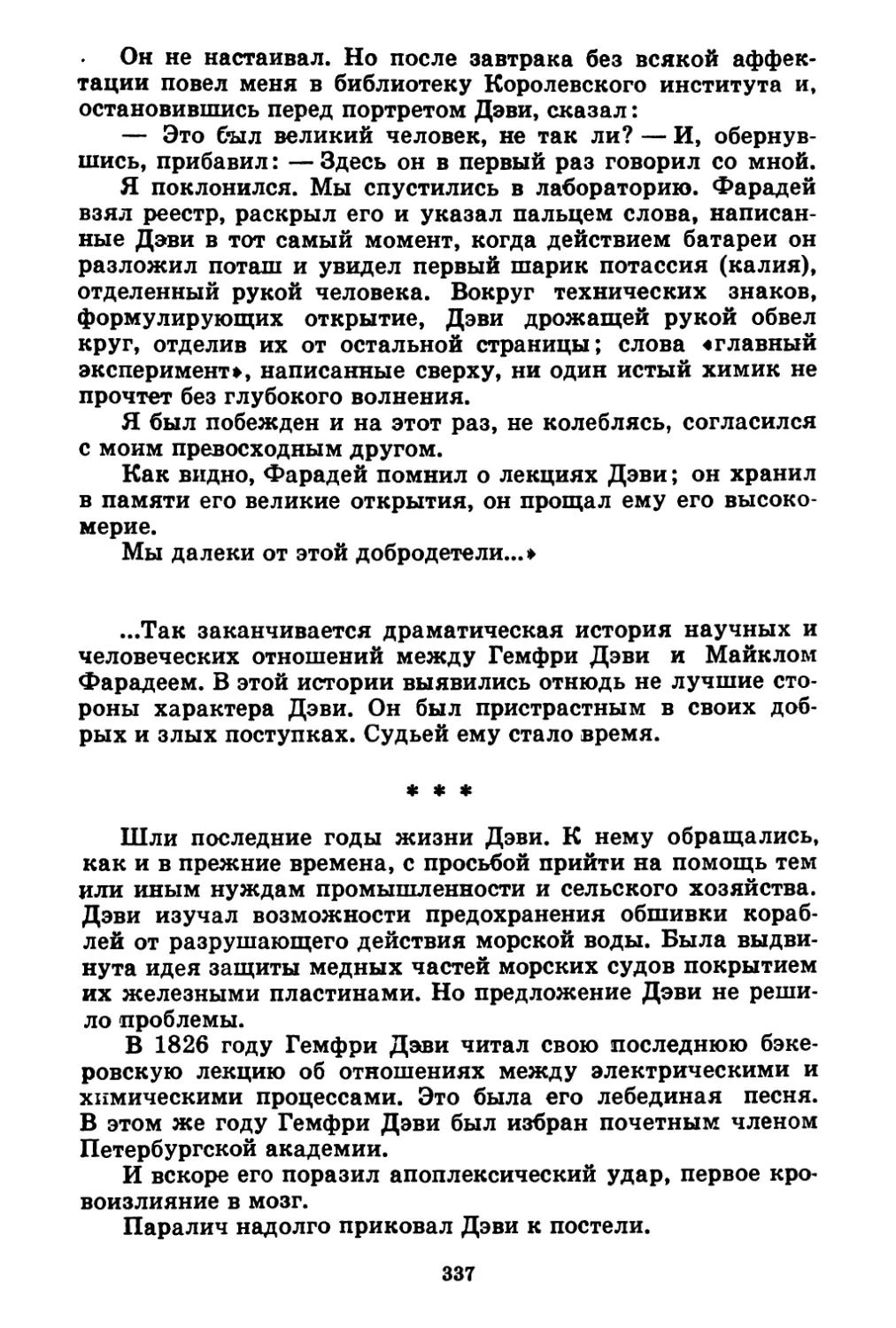Author: Могилевский Б.Л.
Tags: вселенная химия физиология научная деятельность сеченов дэви человеческий мозг
Year: 1976
Text
Борис могилевский
МОЛОДОСТЬ СЕЧЕНОВА
ЖИВИ В ОПАСНОСТИ!
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ
МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1976
Р2
М74
ПЕРЕИЗДАНИЕ
В эту книгу входят две биографические повести — о химике Гемфри Дэви и физиологе Иване Михайловиче Сеченове. Они жили в разное время и в разных странах и работали в разных областях знаний. Но их роднит любовь к науке, ненасытная жажда в поисках истины. Дэви показал человечеству, из чего состоит вселенная. Его можно назвать охотником за химическими элементами. Иван Михайлович Сеченов впервые в истории науки дерзнул приоткрыть завесу, скрывавшую тайну работы человеческого мозга.
Эта книга познакомит вас не только с крупными учеными, герои ее были интересными людьми, упорными в достижении поставленной цели, веселыми и общительными в жизни.
Рисунки
И. Астапова и И. Кускова Оформление
В. Школьника
Могилевский Б. Л.
М74 Молодость Сеченова. Живи в опасности! Биографические повести. Переизд. Рисунки И. Астапова и И. Кускова. Оформление Б. Школьника. М., «Дет. лит.», 1976.
351 с. с ил.
В книгу включены две повести: «Молодость Сеченова» — о жизни и работе известного русского физиолога; «Живи в опасности!» — о творчестве крупного английского химика и физика Гемфри Дэви.
м
70803—039 436___76
М101(03)76
Р2
МОЛОДОСТЬ СЕЧЕНОВА
4-
Глава I
КАПИТАН КОСТОМАРОВ
Дни были похожи один на другой, как капли воды,— бесцветные и тоскливые. Утром Ваня Сеченов входил в Столовую, где его встречал капитан Костомаров. Он готовил юношу для поступления в инженерное училище.
— Доброе утро,— говорил ученик учителю.
Они садились за стол и молча выпивали по стакану чаю.
Занятия начинались с арифметики. Капитан диктовал условия задачи. Только дело, ни одного лишнего слова. Позже капитан уходил на службу. А после его возвращения занятия возобновлялись.
Так прошли полгода, целиком заполненные учением. Капитан Костомаров был очень черствым человеком. За шесть месяцев занятий Ваня не услышал от него ни одного приветливого слова.
Жил Ваня в маленькой комнатушке, похожей на тюремную камеру.
«Трудно поверить, что в течение всего полугода (исключая воскресенье и праздники) я выходил на улицу только раз в неделю, вечером, в соседнюю баню»,— писал об этих временах Сеченов.
В девять часов вечера выдвигалась из шкафа постель, и мертвая тишина воцарялась в доме.
Где-то под полом еле слышно скреблись мыши. Что делалось в других комнатах, запертых на ключ, неизвестно. Спать Ивану не хотелось, глубокая тоска по родному Теплому Стану охватывала юношу. Он вспоминал родное село.
3
Бескрайние степи, зеленые весной и грязно-желтые летом, выгорели от засухи. Два ряда убогих крестьянских изб протянулись версты на полторы с востока на запад. Село принадлежит двум помещикам. Западная половина села — поместье Петра Михайловича Филатова, восточная сторона — владение Михаила Алексеевича Сеченова.
Здесь стоит двухэтажный дом. В нем двадцать комнат, двадцать окон. На фасаде дома никаких украшений. Сто лет спустя подобные строения называли коротким словом «барак».
Михаилу Алексеевичу, хозяину дома, не до украшений— всяких там колонн, портиков, каменных русалок и ангелочков,— у него пятеро сыновей и трое дочерей, а доходы с поместья небольшие.
Михаил Алексеевич уже стар. Голова его побелела. В мягких сапогах, в черных плисовых штанах и домашней фуфайке, с неизменной трубкой-носогрейкой, он каждое утро после завтрака обходит свои владения. Сначала он появляется на конном дворе. Больше всего на свете он любит красавцев коней.
Солнце медленно плывет над степью; изо дня в день, иссушая землю, дуют восточные ветры. Обливаясь потом, Михаил Алексеевич отмеривает гарнцами*1 овес для своих любимцев. Он строго наблюдает за тем, как конюхи выводят лошадей на водопой.
Солнце в зените. Михаил Алексеевич направляется к дому. Навстречу ему выбегает сынишка. У него черные как угли глаза, кудри цвета воронова крыла и лицо сильно изуродовано оспой. Это Ванюша, младший в семье Сеченовых.
Михаил Алексеевич с напускной строгостью обращается к сыну:
— Чего кружишься, как юла? Гувернантка, верно, по всему дому тебя разыскивает. Сейчас же иди в классную комнату, там сестры учат немецкую грамматику...— Смягчившись, старик добавляет: — А вечером мы с тобой сыграем на бильярде партию-другую...
Михаил Алексеевич в своей жизни учился мало. Однако он хорошо понимает значение образования и считает своим долгом внушать детям уважение к их учителям.
У Ивана непоседливый характер, живой и увлекающийся ум. Он очень любит слушать сказки и частенько обижается на свою нянюшку Настеньку за то, что та не рассказывает ему сказки.
1 Слова, отмеченные звездочками, смотри в примечаниях на стр. 343 в алфавитном порядке.
4
В этот вечер Настасья Яковлевна уже исчерпала весь свой запас сказок. Но малышу до этого и дела нет. Подавай ему новые. Лежит он в кровати, а рядом полусонная нянюшка говорит о том, как в некотором царстве жил^царь, превеликий государь. Задумал он выстроить костяной дворец. Во все концы царства 'были направлены гонцы с приказом собирать кости. Понатаскали костей видимо-невидимо, целую гору. Но кости твердые, надо их размочить. Свалили кости в воду... На этих словах Настенька умолкает. Она засыпает, утомленная дневными хлопотами. Но Ванюшка не спит, он требует продолжения сказки, тормошит свою любимицу:
— Что же было дальше, Настенька?
Нянюшка просыпается и отвечает:
— Рассказывать, Ванечка, пока нечего—кости еще мокнут.
Малыш успокаивается, большего он требовать не может: «кости еще мокнут», надо спать.
Прошли годы детства. Ивана уже пора отдавать в гимназию, везти в Казань. Но планам не суждено свершиться — умер отец. Старшие братья к этому времени стали на ноги, несовершеннолетними были лишь Иван, Варвара и Серафима.
Семья Сеченовых жила, как и все помещики, трудом своих крепостных. Покойный Михаил Алексеевич слыл в уезде человеком большой честности. «Крестьян сверх меры не притеснял, погорельцам строил избы, в голодные годы раздавал своим людям хлеб». Сеченовы обходились «на всем своем». Это означало, что все необходимое для жизни большой семьи производилось силами крепостных — ткачей, портных, сапожников, столяров, жестянщиков... А земля, обработанная руками теплостанских крестьян, давала пищу Сеченовым. После смерти Михаила Алексеевича денег, достаточных для обучения детей в городе, не оказалось.
Старший брат Вани, вернувшись однажды из Москвы в деревню, рассказал матери о своем новом знакомстве. В Москве он встретился с военным инженером. Из беседы с ним узнал, что служба военного инженера выгодна, а учение в Главном инженерном училище в Петербурге недорого: за четыре года нужно уплатить всего лишь 285 рублей. За этот скромный взнос воспитанника учат, кормят, одевают. Образование, получаемое в инженерном училище, считается вполне солидным — молодежь изучает там математические и инженерные науки. Рассказ об инженерном училище произвел на теплостанцев впечатление. Мать, Анисья Григорьевна, поразмыслив, решила отдать Ивана в это училище.
5
Пробудет он в деревне еще два года, а «когда ему исполнится четырнадцать лет, его отправят в петербургское училище.
Домашнее учение давалось Ивану легко. Раньше своих сестер он выполнял уроки, и его отпускали из классной. В свободное время он с удовольствием читал книги.
Особенно ему нравились повести Бестужева-Марлинско-го ♦, воспевшего Кавказ, героев горцев и русских воинов — участников жарких сражений в диких ущельях Дагестана.
Книги о людях смелых и гордых, честных и чистых были самыми любимыми книгами Ивана Сеченова.
Поклонником Бестужева-Марлинского был и старший брат, Александр, который служил в армии.
Под влиянием Бестужева-Марлинского Александр Сеченов подал рапорт о переводе его в действующую армию на Кавказ.
Незаметно прошли два последних года домашнего учения.
Ваня подрос, стал похож на мать и ее нерусскую родню. На его смуглом, скуластом лице сверкали красивые и выразительные глаза.
Наступил 1843 год. Ивану минуло четырнадцать лет. Пришло время покинуть родные места и отправиться в далекий, чужой Петербург. В столицу Ивана сопровождала гувернантка Вильгельмина Константиновна Штром, бывшая воспитанница Смольного института благородных девиц, уроженка Петербурга. Вильгельмина Константиновна была в семье Сеченовых своим человеком. Младшие дети обязаны ей знанием двух европейских языков — французского и немецкого.
Дорога в Петербург оказалась долгой и утомительной. После многих дней путешествия измученные путники добрались до столицы империи. Старший брат Ивана, служивший вблизи Петербурга, нашел военного инженера — капитана Костомарова, который и взялся подготовить юношу для сдачи вступительных экзаменов в инженерное училище.
Шесть месяцев готовился Иван Сеченов к вступительным экзаменам.
В августе, когда северное солнце уже скупо грело камни Петербурга, состоялся первый экзамен. Мальчику предложили решить несколько задач, письменно ответить по русскому и французскому языкам. Спросили, умеет ли он говорить по-французски. Экзамена по истории и географии не было. На этом все и закончилось. 15 августа 1843 года Иван Сеченов был принят в инженерное училище, в котором учились выдающиеся русские люди — писатели Григорович ♦, Достоевский*, герой Севастополя генерал Тотлебен...
МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК
Есть в старом Петербурге дворец — Михайловский замок. Его постройка и события, которые в нем происходили, окружены легендами. В одной из комнат этого замка был удушен своими офицерами император-самодур Павел.
Замок построен в виде четырехугольника. Главный фасад облицован красным и серым мрамором, нижний этаж возведен из гранита. Стены замка окрашены в красноватый цвет. Предание приписывает выбор красного цвета для окраски замка рыцарской любезности Павла, по приказу которого был сооружен дворец. Однажды одна из придворных дам явилась на прием в перчатках красного цвета. Павел тотчас же послал перчатку как образец составителю красок для покраски дворца.
Двадцать бронзовых пушек расставлены на специальных платформах вокруг замка. Над главным карнизом из цветного мрамора бронзовыми буквами написано что-то очень торжественное, но малопонятное: «Дому твоему подобает святыня господня и долготу дней». Внутрь замка ведут четыре большие лестницы. Гранитные ступени парадной лестницы поднимаются между двумя балюстрадами* из серого мрамора и пилястрами* из полированной бронзы. Мрамор и бронза, красное дерево и хрусталь украшают дворец.
Дворец строился быстро, и въехали в него раньше, чем он успел просохнуть.
Холодными и сырыми зимами неуютно было в его огромных залах. Огонь в каминах не давал тепла. Углы залов были покрыты тоненькой коркой льда.
После смерти Павла императорская семья покинула Михайловский замок. Ценная мебель, статуи, картины были вывезены. В замке остались лишь несколько слуг и чиновников. Провел здесь свой век и смотритель замка Иван Семенович Брызгалов. Он видел, как строили Михайловский замок, видел и императора Павла в нем. Дожил Брызгалов и до того времени, когда в замке разместилось Главное инженерное училище — единственное в стране высшее учебное заведение, готовившее для армии военных инженеров.
В 1843 году девяностолетний Брызгалов еще бродил по Петербургу в старинном однополом мундире, ботфортах, с огромной тростью, в шляпе с галунами. Родом из крестьян, он дослужился при Павле до чина майора. Брызгалов встречал в Михайловском замке юнцов, поступавших в училище, и провожал в армию блестящих, одетых в только что сшитую форму молодых инженерных офицеров.
«РЯБЧИКИ» ПРИЛЕТЕЛИ...
Окончились каникулы. В Михайловском замке раздается звонкоголосый хор вернувшихся после лагерных веселых дней воспитанников инженерного училища. Всеобщее внимание привлекают к себе «рябчики» —юное пополнение училища. Стоят они, сбившись в кучку, робкие, смущенные, не знающие, что ожидает их в этом огромном замке.
Иван Сеченов и еще несколько новеньких пришли в училище в своих штатских костюмах. Новички резко выделяются в толпе окруживших их воспитанников училища, одетых по форме, в казенные штаны и куртки.
Новеньких встретили неприязненно.
— Рябчики к нам прилетели! А нунка, давайте их проучим,— предложил верзила, воспитанник старшего класса. Он подошел к маленькому, тщедушному мальчику и начал задираться: — Вы, рябчик, кажется, забываетесь, изволите, штатская штафирка, дерзко смотреть на офицера!
— Помилуйте... Я ничего-с...— отвечает побледневший новичок.
— То-то «ничего»!.. Глядите вы у меня!
После этого многозначительного замечания последовал щелчок в нос.
Кто-то из великовозрастных воспитанников схватил другого «рябчика», круто повернул его за плечи и угостил пинком. Третьего новичка заставили побежать в камеру и принести тетрадь.
8
_____ Несите ее сюда, да смотрите живо, не то расправлюсь. Ивана Сеченова никто не тронул. Ему посчастливилось. Среди старшеклассников нашелся все-таки один смельчак, который вступился за новичка, получившего несколько оплеух от злобного «старичка»... Он бросился на обидчика и сильно ударил его. А потом заявил, что изобьет каждого, кто обидит новичка.
Иван Сеченов с восхищением смотрел на сильного и справедливого старшего товарища. В училище существовал неписаный закон: уважали сильных и смелых и ненавидели фискалов и шпионов.
ЖИЗНЬ В УЧИЛИЩЕ
«Школа для образования инженерных кондукторов» была учреждена в 1804 году. Через шесть лет ее переименовали в инженерное училище, а еще через девять лет, в 1819 году, было учреждено Главное инженерное училище. В училище два отделения: высшее — офицерское, и низшее — кондукторское. В кондукторском отделении три класса. Проучившись три года, воспитанники-кондукторы производились в офицеры и переходили в офицерские классы. Во главе кондукторской роты, состоявшей из ста двадцати пяти воспитанников, находился командир — полковник Розен. Это был храбрый, боевой офицер, служивший ранее на Кавказе. В петлице его мундира красовался орден Георгия.
...В пять часов тридцать минут утра раздавался барабанный бой. Дежурный по роте появлялся в спальнях воспитанников и громко кричал: «Вставайте, господа, вставайте!» Мигом взлетали на кроватях одеяла, юноши бежали умываться, наскоро съедали булку с чаем и к семи часам появлялись в классах. В низшем классе изучали арифметику, историю, географию. Специальным предметом — фортификацией * — занимались все шесть лет пребывания в училище. В старших классах штудировали высшую математику, физику, химию и военные дисциплины. Около семи часов ежедневно уходило на учение в классах.
Каждый воспитанник получал у товарищей прозвище. Ивана Сеченова прозвали «Деряба» (лицо мальчика было рябым).
Характер Вани начал формироваться рано. Но в Теплом Стане, среди домашних, Ваня мало проявлял твердости в суждениях, любви и неприязни к людям, самостоятельности в принятых решениях... Другое дело жизнь в Петербурге, вдали от родных. Ты уже не ребенок, ты служишь в армии,
9
почти офицер, тебя никто не имеет права, согласно закону империи, выпороть, подвергнуть телесным наказаниям. Ты должен жить и действовать согласно своим убеждениям, должен отличать добро от зла и не оставаться равнодушным ко лжи, неискренности, трусости, насилию во всех его видах, быть защитником правды, бороться за ее торжество. Здесь, в училище, поступки и суждения Вани были достаточно тверды и правдивы.
Жизнь в училище складывалась не только из занятий в классах. Учился Ваня Сеченов как нельзя лучше. С математическими науками дело шло без сучка, без задоринки. Сеченов любил математику; занятия арифметикой, алгеброй, геометрией, тригонометрией — все то, что было для многих воспитанников училища камнем преткновения, доставляло Ване удовольствие. После удачно доказанной теоремы или решения сложного уравнения он чувствовал истинное удовлетворение. Главный же предмет военно-инженерной науки—фортификация, искусство воздвигать укрепления,— любовью Сеченова не пользовался.
Кроме занятий в классах, будущих инженеров учили строевой науке. Унтер-офицеры заставляли кондукторов сотни и тысячи раз вытягиваться в струнку, затем принимать положение «вольно». Команды: «На вытяжку!», «Вольно!», «На вытяжку!», «Вольно!» — то и дело раздавались на плацу. Потом приступали к следующим упражнениям: плавно поднимали и опускали то правую, то левую ногу для маршировки тихим шагом. До полного одурения «отрабатывали» эту шагистику. Желая поддержать бодрость духа, унтер-офицер Кузьмин рассказывал юнцам, как его учил строевому искусству сам Николай Павлович. Тогда Николай I был еще великим князем — его высочеством. Невзирая на стужу, он приказывал солдатам раздеться, чтобы лучше видеть их военную выправку. Его высочество требовал от командиров, чтобы они строго проверяли, как солдаты спят. Не дай бог, если какой-нибудь служивый во сне скорчится на нарах — его немедленно разбудят, на первый раз выбранят, а затем не гневайся — выпорют березовыми прутьями.
Только изредка события нарушали однотонный режим жизни Вани в училище. Вот он заболел заушницей (свинкой). Привели его к доктору Волькенштейну. Сей эскулап не утруждал себя изучением современной медицины — лечил по старинке. Одним из универсальных средств для врачевания самых различных недугов он считал хорошую дозу рвотного. Этим же способом он и начал лечить Ваню. Дал ему «лошадиную» порцию рвотного, а потом закатил такую
10
же меру слабительного. Служитель лазарета, услышав шум в туалете, пошел туда и увидел на полу черноволосого юношу. От энергичного лечения с Ваней случился глубокий обморок. Его перенесли в комнату, уложили в постель. Но удивительно—после такого варварского метода лечения болезнь быстро завершилась благоприятным исходом.
В классе с Иваном Сеченовым сидел юнец, страдавший тяжелым недугом — непреодолимой ленью. Ленивец был отпрыском княжеского рода. Особенно не любил маленький князь решать задачи. И чего только не изобретал его изворотливый ум, чтобы, не изучая математики, все же получать удовлетворительные оценки! Он мелкими цифрами выписывал на клочках бумаги ход решения трудных задач и прятал их за галстук, под пуговицы, в карманы брюк. Взяв у экзаменатора билет, он искал у себя бумажку с нужным решением и аккуратнейшим образом переписывал его на доску. Но бывало, что и шпаргалки не выручали лентяя, и тогда он получал самые низкие оценки. К начальству училища поступила просьба от княжеской семьи: невзирая на титул их юного отпрыска, применить для его исправления розги. Начальство удовлетворило просьбу родных, и юный князь был примерно высечен. Как только об этом стало известно старшим воспитанникам, они возмутились. Закон империи не разрешает применять телесные наказания по отношению к учащимся Главного инженерного училища! И тут же старшеклассники решили выразить протест против нарушения прав воспитанников. Форму протеста выбрали такую: при первой же встрече с начальником училища Шарнгор-стом ответить молчанием на его приветствие.
Утром, когда генерал появился перед фронтом воспитанников и сказал: «Здравствуйте, господа»,— обычного «здравия желаем, ваше превосходительство» не последовало. Фельдфебель Зейме замер от страха. За неслыханную дерзость его подопечных он был лишен своего звания, а всем воспитанникам был запрещен выход из Михайловского замка по воскресным дням и праздникам в течение целого года.
ПЕРВОЕ СОМНЕНИЕ
Лето воспитанники инженерного училища проводили в лагерях, в Петергофе. Это была самая желанная пора. На лагерном приволье юноши чувствовали себя прекрасно. В жаркие летние дни будущие военные инженеры шли строем на морской пляж купаться. Их не очень утруждали уче
11
ниями, кормили лучше, чем в Петербурге, свободного времени оставалось предостаточно.
Чем разумно занять это время? В лагере Иван Сеченов испытывал острую нужду в хорошей книге — здесь не было библиотеки. Изредка в руки Сеченова попадал «Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений». В этом журнале было много рассказов и стихотворений добронравных и верноподданнических. Но иногда в журнале попадалась интересная статья о науке и технике. Особенно Ивану Сеченову запомнилась статья из 55-го тома под названием «Берцеллиус».
В ней рассказывалось об успехах химии и об одном из ее замечательных деятелей — знаменитом шведском химике Йёнсе Якобе Берцеллиусе *.
Юноша с глубоким вниманием читал:
«...Химическое изучение органической природы сделалось одною из любопытнейших отраслей наук... Успехи были изумительны, и приобретения науки в последние 10 или 12 лет по этой части были таковы, что ныне органическая химия гораздо обширнее и пространнее химии неорганической. Между тем, сколько еще известных органических тел, которые не анализированы, сколько открытий можно сделать среди тел, еще неизвестных! Применение известных нам явлений в способе соединения природы органической служит нитью, посредством которой мы можем дойти до точного и последовательного объяснения, каким образом составляются тела, подчиненные влиянию жизненных отправлений».
Плохо переведенные на русский язык выдержки из трактата Берцеллиуса выражали весьма сложные понятия. Но пытливый ум юного Сеченова легко извлек главную мысль. Законы химии распространяются на тела как мертвой, так и живой природы. Химические реакции соединения и разделения элементов объясняют законы горения дров в печке и законы дыхания животных и человека. Отныне и навсегда химические весы, стеклянные приборы, в которых протекают химические превращения, послужат изучению того, что называется жизнью. Как все это увлекательно и как далеко все это от фортификации и прочих военных дисциплин! Кто знает, быть может, именно тогда, в Петергофе, в лагерях, после ознакомления со статьей «Берцеллиус» Иван Сеченов впервые усомнился в том, что семья правильно выбрала ему дорогу в будущее. Для него, Сеченова, нашлись бы на свете более интересные вещи, чем военно-инженерное дело. Но молодости несвойственно глубоко анализировать уже сделанные в жизни ходы. Ивану Сеченову всего лишь пятнадцать
12
лет, и учитель геометрии полковник Герман вызывает нашего героя к доске:
— А пожалуйте-ка к доске, господин Сечонов, коновод всех шалостей.
«КОНОВОД ВСЕХ ШАЛОСТЕЙ»
Иван идет к доске и благополучно доказывает теорему. Сеченов по успехам в учении числится в первом десятке воспитанников своего класса. Перейдя во второй класс, он получил даже ефрейторское звание — нашивки на погоны. К чему же такая характеристика — «коновод всех шалостей», которую дал Ивану Сеченову предобрейший полковник Герман?
Известно, что учитель немецкого языка герр Миллер не умеет достойно вести себя в присутствии начальства, он пуще огня боится титулованных особ. Иван Сеченов и его однокашники видели, как Миллер встретил великого князя Михаила Павловича, родного брата Николая I, августейшего шефа инженерного училища.
У Миллера подкосились ноги, затряслись губы, он побелел как полотно, когда увидел высочайшую особу. И вот у Сеченова созрел план. Надо научить Миллера правилам поведения уважающих себя людей!
Друзья сделали маску с прорезями для глаз и носа и надели ее Ивану на лицо. Шалуны подошли к двери и под крик: «Идет великий князь!»—Иван шагнул в комнату, где герр Миллер вел урок немецкого языка. Сеченов важно прошел по классу под громкий смех воспитанников. Миллер лишился голоса, он безмолвно сидел за столом, не в силах понять, что происходит... Шум был настолько велик, что в класс немедленно явился дежурный офицер. Он сорвал с Сеченова маску и отвел возмутителя спокойствия в холодный карцер.
По словам Ивана Михайловича Сеченова, карцер в училище, с которым ему пришлось тогда впервые познакомиться, «был отвратительный — темный... угол, даже без постели. Арестанта одевали в старые, затасканные штаны и куртку и давали только подушку, так что спать приходилось на голом полу. Хорошо еще, что под дверью была щель, через которую товарищи подносили заключенному съестное подаяние, иначе сидеть в таком месте в течение нескольких дней было действительно жестоким наказанием. Долго ли я сидел, не помню; но вышел оттуда уже без ефрейторских нашивок — разжалованным».
13
Прошло немного времени после этого происшествия, и вот нагрянули новые события. Они были вызваны уже не обычной мальчишеской шалостью, а более серьезными причинами.
АВТОР ПИСЬМА БЕЗ ПОДПИСИ
Генерала Шарнгорста на посту начальника Главного инженерного училища в 1844 году сменил генерал Ламнов-ский. В царствование Николая I в стране процветала система всеобщего шпионажа. Этот испытанный метод управления генерал широко применил в училище. Но шпионов и Доносчиков в среде воспитанников ненавидели и жестоко наказывали, если ловили их с поличным. В училище был такой случай.
Один из кондукторов сделался любимцем ротного командира, он часто приходил к нему на квартиру. Скоро этот юнец получил унтер-офицерские нашивки. Среди учащихся распространились слухи, что новоиспеченный унтер-офицер фискал и шпион. Решили его наказать.
Это было ночью. По роте дежурил подозреваемый в шпионаже воспитанник. В новеньком мундире с только что пришитыми нашивками унтер-офицера он важно прохаживался по большой комнате, где спало шестьдесят его товарищей. Тускло горели сальные огарки в жестяных подсвечниках. Неожиданно в комнате стало темно, огонь погас. Несколько воспитанников бесшумно вскочили с постелей и с одеялами в руках бросились к шпиону. Они накрыли его одеялами и стали избивать. На крики о помощи в комнату вбежал дежурный офицер, его встретили градом картофеля, припасенного с ужина.
— Господа,— кричал офицер,— я под пулями бывал и не боялся!..
Но его продолжали бомбардировать. Офицер бежал из спальной и доложил ротному командиру о случившемся. На другой день вся рота была заперта в училище.
Так воспитанники ответили на желание генерала Лам-новского узаконить шпионство в жизни подначального ему учебного заведения. Честному и прямому Ивану Сеченову новые порядки также не пришлись по вкусу. Деятельный и озорной кондуктор, никому не говоря, написал генералу письмо, в котором осуждал систему позорящего училище шпионажа. В этом письме имелось предостережение: «...Смотрите, Ваше превосходительство, не все коту масленица, придет и великий пост».
14
Отсылая письмо, Сеченов понимал, что может произойти, если узнают имя автора. Поэтому письмо было написано измененным почерком и не подписано.
Генерал Ламновский получил письмо, но расследования происшествия и поисков виновника не предпринимал. Иван Сеченов хранил свою тайну недолго. Ведь ему было всего шестнадцать лет. Его поступок был сделан от чистого сердца, и как он мог не рассказать о нем близкому товарищу! Однако поверенный в тайну воспитанник оказался ябедником.
Вскоре после этой «секретной» беседы Сеченова с его однокашником дежурный офицер-надзиратель встретил Сеченова словами:
— Так вот какие вы пишете пасквили на начальство!
Однако Ивана Сеченова не смутило это замечание. Он спокойно ответил, что не понимает, о чем говорит господин офицер.
Через некоторое время Сеченова вызвал к себе командир роты полковник Розен:
— Что вы, сударь, наделали, вы написали ругательное письмо начальнику?
Это был допрос, но допрос благожелательный.
Сеченов чувствовал это и спокойно отклонил от себя обвинение. Его ответ обрадовал ротного командира, он уже больше ни о чем не расспрашивал и поторопился отпустить воспитанника. Прошло еще несколько месяцев. Учение шло своим чередом. Иван Сеченов получал хорошие отметки, учился прилежно, не участвовал в опасных шалостях. Наступил великий пост. Все воспитанники должны были исповедоваться у своего священника. Таким духовным пастырем в училище был отец Розанов. Пришел к нему и Иван Сеченов.
Началась исповедь. Все шло благополучно, ибо у юноши не было на душе таких грехов, о которых нужно просить прощения, за исключением... Неожиданно священник спросил:
— Писал ли ты, сын мой, письмо начальнику?
Сеченов ответил:
— Да, писал!
— Что же ты писал, сын мой, в этом письме?
В ответ Иван Сеченов прочитал на память все письмо от слова до слова.
После причастия воспитанников выстроили в большом зале, пришел начальник училища и поздравил всех с принятием святых тайн. Потом генерал Ламновский скомандовал:
— Воспитанник Сеченов, выйдите из строя ко мне!
15
В мыслях юноши пронеслось: «Ну, теперь я пропал!» Откуда-то издалека донесся до него звучный голос генерала:
— Ради торжественного для вас дня прощаю вам проступок, из-за которого вы лишились ефрейторского звания, и возвращаю вам это звание...
Что же случилось? Как понять поведение генерала? Было ли это, по словам Ивана Михайловича Сеченова, ♦отпущение мне более тяжкого моего греха (чем маскарад с великим князем и учителем Миллером) или прикрытие греха священника (который нарушил тайну исповеди), сказать не могу, но думаю, скорее последнее, судя по тому, что в нашем генерале не было джентльменства и по его отношению ко мне впоследствии».
УНТЕР-ОФИЦЕР СЕЧЕНОВ И СЫНОК ГЕНЕРАЛА ЛАМНОВСКОГО
Иван Сеченов переведен в старший класс. Он получил чин унтер-офицера. Теперь он должен стать примером для младших кондукторов, помогать командирам в воспитании юнцов. Однажды в училище произошла сильная драка. Воспитанники второго и третьего классов подняли шум на весь Михайловский замок. В наказание за серьезное нарушение дисциплины всем учащимся этих классов запретили по вечерам пить в столовой чай. Дежурные офицеры строго-настрого следили за выполнением приказа начальства. И лишь один воспитанник третьего класса, сын начальника училища генерала Ламновского, не выполнял приказа.
После окончания занятий он уходил на квартиру родителей, которые жили в том же здании Михайловского замка. Юный отпрыск генеральской фамилии наслаждался в кругу своей семьи и чаем и любимыми яствами, а его товарищи вынуждены были довольствоваться ломтем черного хлеба. Это было несправедливо. И унтер-офицер Иван Сеченов запретил воспитаннику Ламновскому ходить по вечерам домой впредь до окончания срока наказания.
Генерал Ламновский, узнав о приказе Сеченова, никаких шагов к его отмене не предпринял. У генерала были старые счеты со своим подчиненным, и теперь он добавил к ним обиду за собственного сынка.
ЮНЫЙ ПРАПОРЩИК
Вскоре после окончания переходных экзаменов, которые Иван Сеченов с успехом выдержал, училище ушло в лагеря. Лето промелькнуло быстро, и настала пора возвращаться в столицу. В Михайловском замке молодых офицеров ожидали приятные сюрпризы. На постелях в спальнях лежали новенькие офицерские костюмы с эполетами. Иван Михайлович позже рассказывал об этих чудесных переживаниях ранней молодости:
♦В жизни моей было немалофадостных минут, но такого радостного дня, как этот, конечно, не было. Перестаешь быть школьником, вырываешься на волю, запретов более нет; живи как хочется, да еще с деньгами в пустом до того кармане. На выход в офицеры мне, конечно, были посланы деньги из дому. Одно меня немного огорчало — не было еще усов; но я не преминул помочь этому горю и в первые же дни купил накладные и по вечерам щеголял в них по улицам».
Теперь уже не нужно было жить в замке, на казарменном положении.
Молоденьким инженерным прапорщикам было положено жалованье триста рублей в год. Этих денег хватало и на оплату квартиры, и на питание, и даже еще оставалась небольшая сумма на приобретение билетов в театры столицы. Квартиру сняли общую. У одного из товарищей был пожилой слуга, хороший повар, он и взялся кормить друзей обедом и ужином за семь с половиной рублей в месяц.
В этот сезон в Петербурге пели знаменитые итальянские певицы Борзи и Фреццолини, теноры Гуаско и Сальви, бас Тамбурини. Итальянская опера и музыка пользовались особенной любовью юного Сеченова. Восторг, который вызывала в юном прапорщике певица Фреццолини, перешел в ♦обожание самой дивы». Сеченов не пропускал ни одного спектакля с участием итальянской артистки. Но вот Фреццолини должна покинуть Петербург, гастроли заканчивались. Ивану Сеченову, неудержимо захотелось перед расставанием с певицей сказать ей «прости» и дать почувствовать, что в Петербурге она оставляет пылающее к ней сердце. Было написано письмо в стихах. Автор стихов сообщал, что будет находиться в подъезде Большого театра в четверг, по окончании утреннего спектакля. В это утро итальянцы давали оперу Моцарта* «Дон-Жуан», в которой партию Церлины пела Фреццолини.
Письмо было послано. В назначенное время юный прапорщик подошел к подъезду театра. Он долго ждал выхода
17
певицы. Наконец она появилась в дверях и быстро пробежала к своей карете. Ивану Сеченову показалось, что великая Фреццолини все-таки взглянула в его сторону.
* * *
Занятия в офицерских классах проходили ежедневно с девяти часов утра до двух часов дня. После первых дней опьянения свободой жизнь потекла в обычном русле. По-прежнему, как и в кондукторских классах, изучали высшую математику. Интегральное исчисление преподавал выдающийся математик 'Остроградский *. Математические способности своих учеников по инженерному училищу Остроградский ценил не очень высоко. Шутя, он говорил:
«Первый математик на свете — господь бог, далее по ранжиру идет великий Эйлер * — ему я ставлю высший балл — двенадцать, себе, рабу божьему Михаилу, ставлю с натяжкой — девять, вашему преподавателю дифференциального исчисления Паукеру будет довольно шести, а всем вам, други мои,— нуль...»
Если в старшем кондукторском классе любимым предметом Сеченова была физика, то в низшем офицерском классе — химия. В училище читали только неорганическую химию, преподавателем ее был Ильенков.
«НЕПОЧЕТНОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗ УЧИЛИЩА»
Минул еще один год. Закончен нижний офицерский класс. В зависимости от успехов в науках молодых офицеров ждали разные пути. Те, которые на экзаменах получили не ниже 47 V2 баллов, переходили в верхний офицерский класс со званием подпоручика. Получившие меньше баллов переходили в верхний офицерский класс без повышения в чине. А не набравшие достаточно баллов в следующий класс не переводились, их выпускали досрочно из Главного инженерного училища в армию без повышения в чине.
В нижнем офицерском классе Иван Михайлович Сеченов учился не так прилежно, как в прежние годы. Только за два-три месяца перед экзаменами он начал заниматься серьезнее, надеясь, что в результате этих занятий сможет перейти в верхний класс подпоручиком.
Главным предметом, успехи в прохождении которого учитывались при переводе из низшего класса в верхний, была фортификация и строительное искусство. К экзамену
18
требовалось вычертить рисунок одной из известных систем долговременных укреплений. За такой чертеж ставился экзаменационный балл. Никакого собственного творчества при изготовлении чертежа не требовалось — вычерчивалась и раскрашивалась уже существующая система фортификаций. Сеченов не был мастером чертежного дела; как обычно делалось в подобных случаях, он заказал изготовление чертежа в чертежной инженерного департамента. Это был старый обычай, хорошо известный начальству училища. Чертеж по заказу Сеченова был изготовлен. Капитан Андреев, преподаватель фортификации, приятель Ивана Сеченова (такой же, как и он, страстный поклонник итальянской оперы), подписал чертеж, не проверяя его в деталях.
И вот наступил день первого экзамена. Генерал Ламновский, который был не прочь свести счеты со строптивым воспитанником, вооружившись циркулем, стал скрупулезно сверять размеры чертежа 'Сеченова с масштабом. При проверке оказалось, что чертежник ошибся — вычертил мост через ров в пять сажен вместо полагающихся по масштабу трех. Это несоответствие и обнаружил генерал Ламновский, за что поставил на чертеже оценку в пятнадцать баллов. Такая оценка была для Ивана Сеченова очень неприятна — она лишила его возможности перейти в верхний офицерский класс подпоручиком. Эта неудача плохо подействовала на молодого инженерного прапорщика. Он стал небрежно готовиться к последующим экзаменам и получил второй низкий балл — по не любимому им строительному искусству. После этой второй неудачи на экзамене Ламновский, улыбаясь, говорил Сеченову:
— Если бы вам прежде сказал кто-нибудь, что вы будете стоять рядом с последними учениками в классе, вы бы не отпустили того со двора. А теперь, молодой человек, вам придется молчать.
Через день после окончания экзаменов всех вызвали в училище. Генерал торжественно вышел к строю молодых офицеров и объявил, что призвал их для того, чтобы выслушать пожелания каждого в связи с дальнейшим прохождением службы. Вызывались сначала набравшие наибольшее количество баллов. Им сообщалось о переводе в старший офицерский класс. Затем зачитывались фамилии тех, кто переводился в старший класс без изменения офицерского чипа, и, наконец, первой в третьем разряде была названа фамилия прапорщика Сеченова.
Прапорщик Иван Михайлович Сеченов! Вы перейти в верхний офицерский класс ввиду слабости знаний по фортификации и строительному искусству не можете. Вам пре
19
доставляется право назвать место службы в армии, куда бы вы хотели поехать. Не имеете ли вы каких-либо просьб?
— Имею! — коротко сказал Сеченов.— Могу ли я просить об отправлении меня в действующую армию, в кавказский саперный батальон?
— Не можете,— сухо ответил генерал Ламновский.
Позже Иван Михайлович узнал, что начальник училища не имел права распределять третьеразрядников по саперным частям. Это было не в его власти.
Через неделю Сеченов был вызван в инженерный департамент, где ему предложили получить назначение и документы для переезда к месту службы в Киев, во 2-й резервный саперный батальон.
В Петербурге началась эпидемия холеры. Под погребальный звон колоколов по умершим уезжал из столицы инженерный прапорщик Иван Михайлович Сеченов. Словами нашего героя мы заканчиваем этот период его жизни:
«Мог ли я тогда думать, что непочетное удаление из училища было для меня счастьем? Инженером я, во всяком случае, был бы никуда не годным».
Глава II
РАСПРАВА С БЕЗЗАЩИТНЫМ СОЛДАТОМ
Непрерывную дробь бьют барабаны. Солнце освещает плац, на котором двумя длинными шеренгами выстроились солдаты. В стороне стоят офицеры, и среди них — прапорщик Сечено®. В руках у солдат прутья. В начале шеренг готовят к экзекуции провинившегося сапера. С него сняли рубаху, привязывают руки к палке. И вот два солдата вводят несчастного в промежуток между двумя рядами его невольных палачей. Со свистом опускаются на голую спину тонкие, гибкие прутья.
Иван Михайлович с болью в сердце смотрит на дикую расправу с беззащитным человеком. Не выдержав этого страшного зрелища, он закрывает глаза. Наконец экзекуция заканчивается, полумертвый солдат уже не стоит на ногах, он безжизненно повис на палке, и его тащат вдоль строя. А в этот момент происходит такая сцена. Один из солдат, стоящих в шеренге, из сострадания посмел не ударить по окровавленной спине товарища. Как только закончилась расправа, офицер, командовавший солдатами, потребовал к себе этого сапера. Он приказал раздеть виновного перед
20
строем. Двадцать пять палочных ударов было нанесено солдату. Служивый встал, натянул штаны и сказал офицеру: ♦Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие!»
Невыносимой была военная служба в николаевской армии для прапорщика Сеченова. Впереди не предвиделось ничего хорошего. Оставалось либо заставить замолчать свое сердце и механически выполнять то, что положено по уста-ву — обучать на курсах юнкеров саперному делу, либо... плана на будущее никакого не было. Сеченова не раз вызывал к себе генерал, делал выговор за неисправное несение службы, угрожал арестом.
ПЕРВОЕ ЧУВСТВО
Через товарищей по Главному инженерному училищу Иван Михайлович познакомился с одной обрусевшей польской семьей. До переезда в Киев эта семья — отец, мать, трое сыновей и дочь — жили в Костроме. Глава семьи, о которой идет речь, был врачом и имел хорошую практику среди своих соотечественников. Когда в Костроме произошел большой пожар, губернатор, не утруждая себя поисками виновных, приказал посадить в тюрьму всех поляков, живших в городе. «Кто же, кроме поляков, может такое совершить?» Этот самодур не постеснялся упрятать в острог даже детей. Попала в тюрьму и шестнадцатилетняя дочь врача, Ольга.
Из тюрьмы она вышла с появлением в Костроме ревизора — генерала Суворова, который отдал приказ освободить всех арестованных поляков. Через четыре года после этого события Ольга Александровна вышла замуж. А через шесть месяцев овдовела.
Ольга Александровна была дружна со своими братьями — старшим, бывшим воспитанником инженерного училища, и младшим — студентом университета. Сеченов и еще один военный инженер вместе с Ольгой Александровной и ее братьями составляли хорошую компанию.
Ольга Александровна выгодно отличалась от товарищей Сеченова своим зрелым, проницательным умом. Иван Михайлович отмечал ее серьезное отношение к действительности. Да, она ненавидела существующий строй в России, строй самодержавия и насилия над людьми. Девочкой она испытала на себе это насилие и произвол. Особенно горячо она восставала против бесправия женщин. Сколько жарких споров возникало при обсуждении только что появившейся
21
в свет книги Легувэ «Женщина»! Ольга Александровна отвергала утверждение автора, что роль женщины высока только в семье и в школе. «Нет,— горячо возражала она,— во всех областях жизни женщина на равных правах с мужчиной может и должна работать на благо человечества. Вместе с общим движением народа к прогрессу будет улучшаться положение женщины в обществе».
Убежденность и горячность, с которыми говорила все это Ольга Александровна, проникали глубоко в душу Ивана Михайловича Сеченова. Восторженными глазами смотрел юный прапорщик на свою героиню. Да, героиню, ибо другого слова для того, чтобы выразить отношение Сеченова к этой женщине, нельзя было найти.
А разве не права была Ольга Александровна, когда говорила, что величайшую ценность в ее глазах имеют люди умственного труда, люди-светочи, несущие свет народу!
— Не в обиду вам, мои дорогие мальчики, императорской армии офицеры, скажу, что университетское образование ставлю выше любого военного. Особенно ценю Московский университет, давший нашей родине Николая Ивановича Пирогова*. Что может быть благороднее профессии врача, изучившего природу человека и идущего на помощь ближнему!
Слушал прапорщик Сеченов Ольгу Александровну и думал о своей судьбе. О том, как нелепо он выбрал свой жизненный путь. Зачем он стал саперным офицером? Зачем находится в этих душных казармах? «Сила этой молодой женщины не в том, что она кого-то поучает. Нет, она мыслит вслух, она спорит с нами, она живой, увлекающийся,
22
дорогой для меня человек». Сеченов боялся признаться себе, что любит Ольгу Александровну.
’ Она советует ему прочесть романы Жорж Санд *, и Иван Михайлович ищет по Киеву книги знаменитой французской писательницы. Он с глубоким интересом впервые в жизни читает «Фауста» Гёте*, эту бессмертную поэму вдохновенной любви и могучего разума. Он восхищается «Вильгельмом Теллем» Шиллера*, покупает и читает сочинения Лессинга ♦.
О влюбленности Сеченова никто не знает и знают все. Он думает, что тщательно скрывает от всех свою любовь (на лицах друзей нм одной подозрительной улыбки!).
Потом, коцца прошло много лет, Иван Михайлович записал :
«Моя тайна была (всем) известна: но они (Ольга Александровна, ее брат и старший товарищ — инженер) смотрели на меня справедливо, как на мальчика (мне шел во время этого знакомства 20-й год), который умел держать себя прилично и которому первая юношеская любовь полезна. Это я заключаю из того, что Ольга Александровна была всегда очень ласкова со мной, а между тем в ее женихе не было никаких проявлений ревности».
В то время Иван Михайлович еще не знал, что его любовь не разделяется Ольгой Александровной. Не знал, что его товарищ, старый друг по инженерному училищу, уже тогда был женихом Ольги Александровны. Все это тщательно скрывалось от Сеченова.
Ольга Александровна уехала из Киева, вскоре ушел в отставку и уехал товарищ по училищу. А Ивану Михайловичу и в голову не приходило связать вместе эти два факта.
Ольга Александровна обещала скоро вернуться, и прапорщик Сеченов радовался, что ему недолго придется скучать.
В отсутствие друзей Иван Михайлович много думал о своей жизни, о бесцельном существовании, которое он ведет. Постепенно созревало решение покинуть военную службу.
Несколько месяцев уже минуло с тех пор, как уехала из Киева Ольга Александровна. Был декабрь, приближались рождественские праздники. Вечера Иван Михайлович проводил с товарищами по училищу. Играли в карты. В один из таких вечеров кто-то из сидящих за столом вдруг сказал:
— А знаете ли, Ольга Александровна вышла замуж за нашего общего друга, и на днях молодые возвращаются в Киев.
23
Иван Михайлович внешне оставался спокоен. Только каким-то нелепым ходом в игре он выдал свое волнение. Товарищи тут же его поправили, поняли состояние, в котором он находился, и больше ни одного слова об Ольге Александровне не было произнесено.
Прошло еще несколько дней. Молодожены приехали в Киев. Иван Михайлович нашел в себе силы прийти к Ольге Александровне и поздравить ее с замужеством.
Отношения Ольги Александровны к Сеченову изменились. Она встретила его любезно, но без прежней простоты и душевности.
Молодого прапорщика, по его признанию, грызла ревность. Прием показался ему парадным и натянутым. Он уехал от Ольги Александровны крайне расстроенный.
ПРАПОРЩИК СЕЧЕНОВ УХОДИТ ИЗ АРМИИ
Иван Михайлович Сеченов подал рапорт с просьбой об отставке. Он решил поступить в Московский университет, на медицинский факультет.
Из Киева можно было уехать и не дожидаясь указа об отставке, взяв обычное увольнительное свидетельство. Но у Сеченова не было денег на дорогу. А просить деньги у матери Иван Михайлович считал неудобным — ведь она до сих пор еще ничего не знает о его уходе с военной службы. Сеченову помогли товарищи. Среди них нашлись богатые люди, которые дали ему взаймы.
Сброшена военная форма. В штатском костюме приехал Сеченов попрощаться с Ольгой Александровной. Эта последняя встреча была лучше предыдущей. Ивана Михайловича тепло поздравили с уходом из армии, одобрили его решение поступить в Московский университет.
Позже Иван Михайлович писал о той роли, которую сыграла в его решении круто изменить жизнь Ольга Александровна, этот первый и настоящий его друг.
«Я назвал Ольгу Александровну моей благодетельницей, и недаром. В дом ее я вошел юношей, плывшим до того инертно по руслу, в которое бросила меня судьба, без ясного сознания, куда оно может привести меня, а из ее дома я вышел с готовым жизненным планом, зная, куда идти и что делать. Кто, как не она, вывела меня из положения, которое могло сделаться для меня мертвой петлей, указав возможность выхода! Чему, как не ее внушениям, я обязан тем, что попал в университет — и именно тот, который она
24
считала передовым! — чтобы учиться медицине и помогать ближнему. Возможно, наконец, что некоторая доля ее влияния сказалась в моем позднейшем служении интересам женщин, пробивавшихся на самостоятельную дорогу».
ОТСТАВНОЙ ПРАПОРЩИК И ТЕПЛОСТАНЦЫ
В феврале 1850 года Иван Михайлович Сеченов отправился в дальнюю дорогу — из Киева в родной Теплый Стан. Прежде чем начать новую жизнь в Москве, он должен увидеть мать, свою семью и объяснить им свой поступок.
Сеченов появился в родном гнезде отставным прапорщиком — отставным или разжалованным — в конце концов, это небольшая разница для теплостанцев, для них важно другое. Младший Сеченов, по мнению домочадцев, лишился навсегда возможности выйти в люди — стать офицером, полковником или даже генералом. Военная карьера для него теперь закрыта. Что же касается его, Ивана Сеченова, прожектов на медицинском поприще, то старик сосед, помещик Михаил Федорович Филатов, главный авторитет в Теплом Стане, говорил:
* Профессоров и лекарей душа моя ненавидит, как лютых зверей».
Другой сосед советовал матери Ивана Михайловича:
♦Чего, кума, смотреть на молодчика? Пусти его, коли не любит военную службу, по гражданской; наш симбирский губернатор возьмет его, может быть, чиновником особых поручений, благо он у тебя боек, неглуп и знает языки».
И многие еще советовали Анисье Григорьевне, как ей поступить с Ванюшей. Мать плакала, но своему меньшенькому ни слова не говорила в укор. Тут, как на грех, прикатил в Теплый Стан младший сын Филатова, Николай. Он вместе с Иваном Михайловичем учился в инженерном училище. Но как все иначе, по-другому сложилось у соседского сынка! Его не выдворили из училища, из нижнего офицерского класса, как это сделали с Сеченовым. Он закончил с отличием верхний офицерский класс, был направлен в гвардейские саперы и самое главное — сделал блестящую партию: женился в столице на дочери «важного штатского генерала».
«Как не болеть сердцу бедной матери!»—думал Иван Михайлович, видя переживания Анисьи Григорьевны.
Иван Михайлович нежно любил свою мать.
...Как-то вечерком Иван Михайлович остался наедине
25
с Анисьей Григорьевной. Усевшись у ног матери, как бывало в детстве, он взял ее руку и начал неторопливо рассказывать, как на исповеди, обо всем, что он успел передумать и испытать в Петербурге и в Киеве. Близкие чувствовали, что мать и сын говорят об очень важном, и не входили в гостиную. Давно погасли свечи во всех комнатах старого дома Сеченовых, лишь в одной гостиной далеко за полночь светилось окно. Из этого долгого разговора мать больше сердцем, чем умом, поняла наконец, что учение в университете и путь ученого больше всего отвечают стремлениям ее Ванечки. Ей же только остается благословить сына на большую и нелегкую жизнь.
Еще одного близкого человека пришлось успокаивать Ивану Михайловичу — Настеньку. Милая, уже старенькая нянюшка очень огорчилась, что ей не придется увидеть своего Ванюшу в блестящем мундире офицера, в серебряных эполетах. Хотя она пожурила его один только раз, да и то в шутку.
До октября 1850 года Сеченов прожил в Теплом Стане, ожидая указа об отставке. Не имея его на руках, нельзя выехать в Москву для поступления в университет.
Шли холодные осенние дожди. Как-то утром Иван Михайлович, поднявшись с постели, не узнал знакомых ему мест. Ночью ударил мороз и пошел снег. Три дня продолжался снегопад, зима наступила неожиданно. Хорошо было гулять по теплостанской улице морозным днем! Но вот наконец пришла и бумага — указ об отставке, а вместе с ним и долгожданная свобода. В указе перечислялись факты недолгой военной карьеры Сеченова:
«Начал службу кондуктором 15 августа 1843 года. Через три года произведен в полевые инженер-прапорщики и оставлен в училище для продолжения курса наук в нижнем офицерском классе. И, наконец, высочайшим приказом 15 июня 1848 года из нижнего офицерского класса прежде окончания курса наук в Главном инженерном училище переведен во 2-й резервный саперный батальон... В походах не бывал... Похвальных листов от своего начальства не получал. Обучался: математике, словесным и военным наукам, языкам французскому и немецкому, черчению и рисованию... В штрафах по суду и без суда не был... Холост. За матерью его в Костромской и Симбирской губерниях стоит 200 душ крестьян. А сего 1850 года января в 23 день высочайшим... приказом по домашним обстоятельствам уволен со службы подпоручиком...»
Без длительных сборов Иван Михайлович отправился в далекий путь на санях в Москву.
26
Усевшись у ног матери, как бывало в детстве, он взял ее руку,,.
Прошло много дней, прежде чем Сеченов добрался до Москвы. На заставе, у шлагбаума, сани остановились. Подошел чиновник и потребовал документы. Иван Михайлович предъявил паспорт и указ об отставке^ Старик служака внимательно прочел документы и, возвращая их Сеченову, сказал:
— Эх, господин прапорщик, послужили без году неделю, да и в столицу прожигать родительские деньги!
Поднялся шлагбаум, и путешественники въехали в Москву.
Глава III
СЦЕНЫ ИЗ УНИВЕРСИТЕТСКОГО БЫТА
По приезде в Москву Иван Михайлович, еще не устроив своих домашних дел, немедленно отправился в главное здание университета на Моховой улице.
В канцелярии университета Ивана Михайловича ждала неприятная новость.
На его вопрос о возможности поступления студентом на первый курс (Медицинского факультета кто-то из чиновников ответил:
— Прием в университет уже давно закончен, ожидайте, молодой человек, приема в будущем учебном году. Впрочем, если вам так некогда, ждать вы не можете, подавайте заявление ректору с просьбой о разрешении в порядке исключения записаться вольным слушателем. В будущем же году вас зачислят после сдачи вступительного экзамена в список господ студентов.
Делать нечего, Иван Михайлович поступит на медицинский факультет вольным слушателем. Он пишет прошение ректору Московского университета о допуске к испытаниям для поступления в число вольнослушателей.
...«Родом я из дворян; уроженец Симбирской губернии, Курмышского уезда; от роду имею 22 года... воспитывался в Главном инженерном училище. Ныне, желая изучать медицину в Императорском Московском университете на медицинском факультете, покорнейше прошу Ваше превосходительство допустить меня к установленному испытанию для поступления в число вольных слушателей. При сем имею честь представить мой указ об отставке.
Сеченов»
SB
После небольшого испытания Иван Михайлович был принят вольнослушателем в Московский университет.
Перед началом занятий всех первокурсников собрали в актовом зале. Гнусавым голосом, как дьячок в церкви, инспектор давал наставления о благонравном поведении студентов. Увидев нескольких юношей с длинными волосами, инспектор оживился:
— Эти господа носят волосы противозаконной длины. Они рискуют покинуть университет, если немедленно не прекратят это безобразие. Господа студенты обязаны отдавать честь на улицах своему начальству, а также военным генералам. Как это делается? Не доходя трех шагов до их превосходительства, необходимо стать во фрунт и приложить руку к шляпе. А теперь давайте прорепетируем.
Вызывался по списку студент; он парадным шагом проходил мимо инспектора, вовремя становился во фрунт и отдавал честь. Кто проделывал это без достаточной ловкости, возвращался назад, и все повторялось до тех пор, пока студент не получал похвалы инспектора.
Современники нарисовали портрет этого первого «лектора», Ивана Абрамовича Шпейера, отставного морского офицера, сурового и беспощадного служаки, инспектора университета. Невысокий, шарообразный толстяк, черные, под гребенку стриженные волосы, золотые очки, а за стеклами — свирепые маленькие черные глазки. Пугалом называли студенты инспектора.
Они избегали встречи с ним. Инспектор обязательно находил к чему придраться. То небритая борода, то треуголка сидит не так, как ей положено, и при всех этих нарушениях
29
Шпейер поднимал визг невыразимой силы. Он кричал, топал ножками и, наконец, отправлял студента в карцер.
В первый же месяц учения жертвой Шпейера стал Сергей Боткин *, студент-медик, сын богатого московского купца.
Боткин встретил Шпейера в университетском дворе и отдал ему по всем правилам честь, но был задержан — воротник его мундира оказался не застегнутым на крючки. Сергей Боткин был наказан за то, что не с должной почтительностью выслушал брань Шпейера, не стоял, как истукан,— руки по швам, на лице покорность, раскаяние и смирение. Он сидел сутки в холодном карцере.
В двух шагах от университета находился трактир «Великобритания», излюбленное место встреч студентов. Здесь за чашкой чаю новые друзья Ивана Михайловича вели долгие разговоры об университетских нравах. Здесь вольнослушатель Сеченов узнал, что самым тяжелым проступком для студента считалось выйти на улицу без шпаги или вместо треуголки надеть фуражку. Носить фуражку в пределах города Москвы строжайше запрещалось.
Бывшему офицеру была не в новинку университетская дисциплина. В армии все это было во много раз строже и унизительнее.
В трактире студенты выкуривали бесчисленное число трубок крепчайшего табаку, читали вслух, не обращая внимания на шум,журналы «Современник»* и «Отечественные записки» *, спорили до бесчувствия о прочитанном.
* * *
Ивана Михайловича в Москву сопровождал один из дворовых Сеченовых — Феофан Васильевич. На него Анисьей Григорьевной была возложена обязанность прислуживать молодому барину. Сразу же по приезде Сеченова в белокаменную Феофан Васильевич отправился на поиски дешевой квартиры. На Никитской улице, в Хлыновском тупике, вблизи университета, он нашел две подходящие комнатенки. Запросили за них немного, и Сеченов переехал на свою первую московскую квартиру.
Студенческий быт Сеченова постепенно налаживался. Из деревни он получал триста рублей в год. Из них пятьдесят рублей вносил в канцелярию университета, это была плата за учение. Часть денег отсылал товарищам в Киев в погашение взятого долга. Платил за квартиру. На питание себе и Феофану Васильевичу оставалось около пяти рублей в месяц. И этого хватало обоим теплостанцам.
30
Хозяйка, у которой жил Сеченов, взялась готовить обеды своим постояльцам.
Феофан Васильевич был искусным башмачником; оценив обстановку, в которой он оказался со своим молодым барином, Феофан Васильевич быстро приобрел необходимые для сапожника инструменты и занялся «частной практикой» — стал брать заказы на пошив башмаков. Шил он дешево и крепко, клиентов появилось предостаточно.
НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ И ДРУЗЬЯ
Первая лекция, прослушанная Иваном Михайловичем в университете, была по анатомии *. Читал ее профессор Севрук.
Без знания того, как устроено человеческое тело, нечего делать в медицине. Анатомия — это азбука медицинской науки. С этими мыслями пришел на лекцию Севрука Иван Михайлович.
Севрук был аккуратен. Точно в восемь часов утра он появился в анатомической аудитории и, как заведенный автомат, начал читать. Читал он на латинском языке, чем поверг Сеченова в глубокое уныние. Наш неудавшийся саперный офицер не был силен в латыни. Он еще не знал, что за труднейшими латинскими названиями кроются очень простые понятия. Эта косточка называется так-то, к этому бугорку прикрепляется мышца такая-то, и дальше следовало ее латинское обозначение.
Однако с латынью следовало познакомиться. Без латинского языка на медицинском факультете шагу не ступить.
Иван Михайлович серьезно задумался над возникшей трудностью.
И, как это часто случается в жизни, выход из затрудни^ тельного положения нашелся неожиданно.
На филологическом * факультете учился студент Дмитрий Визар. Он бывал на Волге в семье, хорошо знакомой Сеченовым. О том, что Визар учится в Москве, Иван Михайлович узнал еще, в Теплом Стане. Встреча Дмитрия Визара с Иваном Михайловичем в университете была самая дружеская. В семье Визаров Сеченова приняли, как родного. Личность отставного саперного офицера была для новых друзей окружена героическим ореолом. Не так часто случалось, чтобы военная косточка — саперный офицер становился студентом университета. Одним словом, не успел Иван
31
Михайлович рассказать о своих затруднениях с латынью, как тотчас же нашел горячих охотников ему помочь. Но не только изучением латинского языка был обязан Иван Михайлович семье Визаров. В этом доме, по его словам, завершилось его нравственное воспитание, начатое в Киеве Ольгой Александровной.
В доме Визара бывали интересные для Ивана Михайловича люди. Хорошая пианистка Екатерина Сергеевна Протопопова (будущая жена композитора Бородина *); поэт Аполлон Григорьев *. Его внешний облик и темперамент довольно точно выражены в эпиграмме:
Мрачен лик, взор дико блещет, Ум от чтенья извращен... Речь парадоксами хлещет... Се — Григорьев Аполлон!..
Григорьев был московским патриотом и человеком крайних суждений в оценке литературных явлений. Так, например, он считал, что «Горе от ума» Грибоедова ♦ не гениальная комедия, а только картина нравов в сценах, написанных стихами.
Иван Михайлович Сеченов называл Григорьева змеем-искусителем.
«Добрый, умный и простой, в сущности, человек,— говорил о нем Иван Михайлович,— несмотря на несколько театральную замашку мефистофельствовать, с несравненно большим литературным образованием, чем мы, студенты, живой и увлекающийся в спорах, он вносил в воскресные вечера Визаров много оживления... и не мог не нравиться нам...»
В этот год великий русский драматург Островский * написал «Бедность не порок». Ивану Михайловичу и его новым друзьям выпало счастье слушать комедию в авторском чтении. Островский читал хорошо, и слушать его было приятно.
Дмитрий Визар оказался неутомимым организатором самых различных музыкально-драматических вечеров. Однажды он привлек своих друзей к участию в постановке «Горя от ума». Григорьев играл в спектакле две роли — Фамусова и Загорецкого, а Сеченов — Скалозуба.
Легко представить себе, как был доволен Сеченов, попав в такое милое и веселое общество! А что касается латыни, то с ней все устроилось блестяще. Вскоре Иван Михайлович с помощью Дмитрия Визара мог читать «Метаморфозы» Овидия *.
ПРОФЕССОРА МЕДИЦИНЫ
Иван Михайлович много времени отдавал подготовке к вступительным экзаменам. Осенью того же года он экзаменовался. История профессору Грановскому * была сдана на четверку. Русский язык Буслаеву — на пять. Латынь — перевод из Саллюстия * — сошла благополучно.
Теперь Сеченов на законном основании — студентом — мог продолжать учение в Московском университете, куда он так стремился.
Что же представлял собой медицинский факультет Московского университета 50-х годов прошлого века? Не обманут ли ожидания Ивана Михайловича столпы московской медицины, не разрушат ли надежды, которые он возлагал на университет?
Много времени должно пройти, прежде чем студент-медик доберется до медицины. Сначала необходимо получить естественно-научное образование, только после этого его допустят к постели больного в клинику. Без химии, физики, ботаники и зоологии — без естественных наук не может быть мыслящего врача. На первом курсе начинают изучать и анатомию человека. В описываемую эпоху на медицинском факультете еще не преподавали гистологии * — редко кто из преподавателей факультета владел методом микроскопического исследования тканей. Никто из анатомов не учил студентов, из каких клеток построены органы; из каких слоев состоит стенка артерии или вены; как устроен головной мозг; чем отличается сердечная мышца от скелетной.
Профессор анатомии Севрук был анатомом старого закала, он не признавал гистологии и описывал лишь то, что можно увидеть невооруженным глазом. Иван Михайлович с похвалой отзывался о Севруке за его добросовестность при изложении всех без исключения отделов анатомии. В течение одного года студенты получали общее представление о человеческом теле и на второй год могли уже заниматься анатомической практикой. Вооружившись скальпелем и другими хирургическими инструментами, они препарировали трупы, на практике познавая все особенности сложнейшего человеческого организма.
вие^^ЯЗаТеЛЬНЫМ пРедметом пеРв0Г° курса было богосло-
Читал эту «необходимую» для будущих врачей «науку» очень строгий и важный протоиерей Терновский.
Как-то на одной из лекций он с подобающей ученостью излагал историю всемирного потопа, подробности устрой
2 Молодость Сеченова оо
ства Ноева ковчега и волнующие эпизоды посадки на корабль «всякой твари по паре».
И вдруг священник слышит резкий звук — кто-то из студентов с усердием разгрыз орех.
У протоиерея зоркий глаз, он увидел виновника нарушения благочиния. И уже слышится грозный голос батюшки :
— Господин Малинин, я рассказываю вам о событии, столь глубоко отразившемся на судьбах человечества, а вы грызете орехи! Извольте идти вон!
Под громкий хохот студентов любитель орехов изгоняется из аудитории.
Полная противоположность строгому священнику Тер-новскому — профессор ботаники Фишер фон Вальдгейм, предобрейшее существо. Ему абсолютно безразлично, что творится в аудитории во время его лекции и сколько студентов присутствует на лекции. Вместо ста к нему ходят десять, пятнадцать человек. Однажды на лекцию пришло три человека. Профессор, поднявшись на кафедру и окинув взглядом пустую аудиторию, хитро улыбнулся, потер по привычке руки и произнес по-латыни: «Tres faciunt collegium» («И трое образуют общество»).
Добротой профессора беззастенчиво пользовались его слушатели, вернее, неслушатели. Когда приходила пора экзаменов, отвечали не по вытянутым, а по собственным, более легким билетам.
Наибольший интерес Иван Михайлович проявил к курсу физиологии *, который был объединен со сравнительной анатомией *. Эти две дисциплины преподавал профессор Иван Тимофеевич Глебов *. Сеченов позже писал о нем:
«Иван Тимофеевич человек несомненно очень умный и очень оригинальный лектор. Излюбленную им манеру излагать факты можно сравнить с манерой судебного следователя допрашивать обвиняемого: именно существенный вопрос, о котором заходила речь, он не высказывал прямо, а держал его в уме и к ответу на него подходил исподволь, иногда даже окольными путями. Как человек умный, свои постепенные подходцы он вел с виду так ловко, что они получали иногда характер некоторого ехидства. Таков же он был и на экзамене, вследствие чего студенты боялись его как огня».
С душевным трепетом приходили студенты и молодые врачи экзаменоваться к Глебову.
На одном из экзаменов Сеченов видел, как студент, испугавшись разгрома, учиненного его предшественникам, спрятался под скамьей, чтобы его не вызывали. Частенько один
34
лишь вид Ивана Тимофеевича Глебова наводил безотчетный страх на учащихся. Так, однажды молодой врач, который хотел получить звание доктора медицины, вытянул билет с вопросом о свертываемости крови. Вопрос этот был далеко не из самых трудных. Получив билет и подготовившись к ответу, врач предстал перед экзаменатором. Он начал свою речь так:
— Если возьмем палочку...— этой фразой начиналась глава о свертывании крови в известных записках лекций Глебова. Помолчав немного, врач еще раз повторил: — Если возьмем палочку...
Дальше этой фразы он не продвинулся.
Тогда начавший терять терпение профессор спросил:
— Что же будет, если взять палочку, и что будет, если ее не взять?
Экзаменующийся молчал. Ответа на вопрос профессора не последовало. Тогда Глебов написал в экзаменационном листе единицу и сказал обескураженному молодому врачу:
— Вот что будет. Палочка — в оценке ваших знаний по физиологии.
Несмотря на множество подобных анекдотических случаев, студенты уважали Глебова и лекции его посещали охотно. Когда он читал лекции, аудитория была переполнена. Как и в других русских университетах в эту эпоху, на лекциях по физиологии было очень мало опытов и демонстраций. Вот ассистент Глебова колет булавкой мозг голубя, чтобы продемонстрировать наблюдающиеся при этом нарушения движений и чувствительности. Оперированный голубь показывается студентам, чтобы те описали изменения в поведении птицы. Голубь взлетел на высокий шкаф, и молодые медики, вооружившись длинными палками и швабрами, с гиканьем выгоняют его из укромного местечка.
Другой опыт. Собаке вдувают в вену воздух, за этим быстро следует смерть животного. Этими двумя опытами заканчивается демонстрация лекций.
Иван Михайлович, вспоминая свои студенческие годы, отмечал, что преподавание физиологии в Московском университете отставало от современного состояния этой науки. В наиболее передовых университетах на Западе уже стало общепринятым, «что физиология есть прикладная физико-химия», что основные физиологические явления, законы, управляющие жизненными процессами животных и человека, основываются на физических и химических законах. «Знаменитый немецкий ученый Гельмгольц * измерил скорость распространения по нервам возбуждения. Производились интереснейшие эксперименты остановки сердца воз
35
буждением блуждающего нерва... Ничего этого на лекциях Глебова нельзя было увидеть. Об этих работах даже и не упоминалось.
Значительно содержательнее были лекции Глебова по сравнительной анатомии. Профессор с подлинным вдохновением рисовал студентам картину постепенного усложнения формы и функций различных органов — пищеварения, кровообращения, дыхания, выделения.
У одноклеточных животных пища переваривается внутри клетки. У многоклеточных животных по мере усложнения их организации совершенствуется пищеварительный канал, обособляются желудок, пищеварительные железы и толстые кишки. Органам дыхания также предшествовал долгий путь эволюции.
Иван Михайлович Сеченов, увлеченный лекциями по сравнительной анатомии, мечтал посвятить себя изучению этой науки.
После завершения курсов анатомии и физиологии, а также таких общих естественных наук, как химия, физика и ботаника, Сеченову предстояло вступить в область настоящей медицины, приступить к изучению патологии * — учения о болезнях.
Профессор патологической анатомии Алексей Иванович Полунин читал общую патологию и терапию *. Эти науки в пору студенчества Сеченова были плохо развиты. Тогда еще не существовало научной микробиологии * и учения о заразных болезнях. Еще не пришли в медицину Луи Пастер * и Илья Мечников * — творцы науки о болезнетворных микроорганизмах, прославленные охотники за микробами. А без этих научных основ ни общая патология, ни терапия не могли стать наукой в полном смысле этого слова. Естественно, что у Полунина, несмотря на его популярность среди студентов, Сеченов не мог научиться чему-либо основательному, серьезному. Иван Михайлович отмечал, что профессора Полунина, слывшего среди студентов чуть ли не самым ученым, никогда и никто не видел у микроскопа.
Постепенно Иван Михайлович разочаровывался в современной медицине. Ему, человеку, привыкшему к точному мышлению, знавшему законы математики, физики, химии, было очень неловко стоять на зыбкой почве голого практицизма. Первым толчком, послужившим к «измене медицине», Сеченов считал курс лекций профессора Топорова. Это был один из самых главных предметов на медицинском факультете — частная патология и терапия. Проще говоря, это был курс внутренних болезней — основа основ врачебного дела. Без знания этой стоящей в центре медицинского об-
36
пазования науки молодой врач беспомощен у постели больного. Придет этот врач к больному и опустит руки, не умея разобраться в сущности заболевания, в ето природе, не зная, чем помочь. -
Профессор Топоров рекомендовал студентам учебник терапии французского автора Гризолля. На лекциях Топоров часто прибегал к формулировкам из учебника Гризолля, называл его «пяти автор». Иван Михаилович поспешил приобрести рекомендованный учебник. Начал его внимательно читать и от страницы к странице все больше расстраивался. Какая же это наука — «ничего, кроме перечисления причин заболевания, симптомов (признаков) болезни, ее исходов и способов лечения; а о том, как из причин развивается болезнь, в чем ее сущность и почему в болезни помогает то или другое лекарство, ни слова».
Пытливый ум Сеченова был в смятении. Неужели это и есть научная медицина? Где тут наука? Как страшно еще раз ошибиться в своем призвании!. Врачом, сознательно лечащим больных, а не знахарем готовился быть Иван Михайлович. Он поспешил к медицинскому светилу, к тому самому Алексею Ивановичу Полунину, выше которого и медиков в Москве нет, спросить совета, как и по какой книге учиться.
Почтенный профессор удивлен горячностью Сеченова.
— Да вы, батюшка, не хотите ли подскочить выше своей головы? Гризолля я положительно не одобряю, возьмите-ка сочинение Капштатта. Но имейте в виду, молодой человек, знания берутся не только из книг, а главным образом из практики. Будете лечить, ошибаться, пройдете трудную науку у своих больных, тогда станете врачом.
Выслушав совет и абсолютно правильные мысли Полунина о роли практики, Иван Михайлович разыскивает сочинение Капштатта. Но ужас, книга стоит тридцать рублей! Таких денег у Сеченова нет. Впрочем, Капштатт обнаружен У товарищей. Сеченов жадно его просматривает. Недалеко ушел и этот автор от Гризолля.
Что же делать? Внимательно слушать лекции Николая Силыча Топорова? Но эти лекции хороши для студентов, которые не ищут теории болезней, которым научная медицина не ко двору; для таких студентов, будущих практиков, лекции Топорова весьма поучительны. У профессора огромный практический опыт. Его слова: «Зачем нам термометры да микроскопы, была бы сметка, мы и без них нажили Топоровку» — пользуются огромной популярностью у многих студентов-медиков.
Без теорий любимый профессор нажил состояние, по
37
строил на Малой Молчановке два каменных дома — Топо-ровку,— что же еще надо? Это успех, деньги, богатая жизнь, а теории, поиски научной истины — пусть этим занимаются мечтатели вроде Сеченова.
Читались на медицинском факультете и другие предметы. На лекциях по фармакологии * и рецептуре также не было и намека на толковое объяснение действия лекарства на человеческий организм. В лучшем случае говорилось, что такое-то лекарство действует от головной боли, другое — от кашля, третье — от жара...
РАЗОЧАРОВАНИЕ МОЛОДОГО МЕДИКА
Махнув рукой на такую науку, Иван Михайлович стал пропускать лекции, начал посещать занятия на других факультетах. Слушал профессора Кудрявцева — историю Реформации. В памяти навсегда остались худое, бледное лицо профессора, его тихая, красивая речь и устремленный в пространство вдохновенный взгляд. Посещал Иван Михайлович и лекции прославленного Грановского, профессора всеобщей истории.
Забросив медицинские дисциплины, Сеченов оказался обладателем довольно большого количества свободного времени. От одного из своих товарищей он узнал об увлекательно написанных «Психологических эскизах» немецкого ученого Бенеке. Приобретя книгу, Сеченов погрузился в ее изучение. Дошло до того, что однокашники по факультету стали в шутку говорить о доморощенном философе, который будто бы умудрился доказать, что свет и тьма — одно и то же.
Так был преподнесен насмешниками закон единства противоположностей.
Увлекшись философией Бенеке, который все явления психической жизни объясняет мистическими силами души, Иван Михайлович стал заядлым «душистом».
На одном из вечеров в обществе профессоров университета и писателей Иван Михайлович вступил в ожесточенный спор на тему о том, какова природа психической деятельности человеческого мозга. Оппонентом Сеченова был профессор Мин, последователь французских энциклопедис-тов*-материалистов конца XVIII века. Профессор Мин в пылу спора громогласно заявлял, что психика родится из головного мозга, подобно тому как желчь родится из печени. Иван Михайлович с поднятым забралом бился в этом
38
бою с профессором Мином, доказывая, что непознаваемые, первичные силы души руководят нашими поступками. что непозволительно святая святых — мозг человека сравнивать с какой-то там печенью. Это вульгарно и неверно.
ФЕДОР ИВАНОВИЧ ИНОЗЕМЦЕВ
Не исключена возможность, что Сеченов сделал бы новый резкий поворот в своей жизни — расстался бы с медициной, не найдя в ней того, чего искал: истинной науки, но этому помешали новые учителя Ивана Михайловича, которых он встретил на медицинском факультете Московского университета. Одним из таких учителей Сеченова был профессор Федор Иванович Иноземцев *.
Подвижный, вспыльчивый и увлекающийся, он частенько действовал вопреки здравому смыслу. Но, несмотря на это, он был прекрасный хирург и терапевт. По словам Ивана Михайловича, Иноземцев ставил на первый план не операцию, а серьезную подготовку больного к операции и тщательное лечение после операции.
Студентам посредственным, ленивым сильно доставалось от Иноземцева.
У постели больного — профессор и студенты. На вопрос профессора о течении болезни следует преглупейший ответ. Федор Иванович взрывается, его черные глаза темнеют еще больше, он топает ногами и кричит на бездарного студента: «Ротозей! Ворона!.. Вы смотрите в книгу, а видите фигу!..»
Увлекшись странной теорией, заключающейся в том, что раздражения симпатической нервной системы *, определяя характер большинства заболеваний, вызывают катар слизистых оболочек, Иноземцев, по словам Сеченова, упорно кормил всех пациентов своей клиники нашатырем как антикатаральной панацеей (средством). Поэтому его даже дразнили «салмоникой» («нашатырь» по-латыни «Sal am-moniacum»).
К больным Иноземцев был ласков и участлив. Для них у него не было другого имени, как «дружок» или «милый мой».
Здесь, в клинике профессора Иноземцева, родилась первая научная работа Сеченова-студента. Она называлась ««Значительная саркоматозная опухоль лба над правым глазом; вылущение оной с благоприятным исходом болезни», ноземцев проявил себя добрым и внимательным руководителем медика Сеченова. Но настоящая дружба между
39
профессором Иноземцевым и Иваном Михайловичем возникла не на почве хирургии. Увлечение Иноземцева ролью симпатической нервной системы в происхождении множества заболеваний, удивительное предвидение профессором значения нервной системы в учении о болезнях вызвали интерес у Сеченова.
Его студенческая научная работа «Влияют ли нервы на питание» была органически связана с проблемами, которые волновали и Иноземцева и Сеченова.
Приближались переходные экзамены с третьего на четвертый курс. В этот год Сеченов, увлеченный научной работой, не часто брал в руки учебники и ему пришлось наверстывать потерянное. Работая круглые сутки, он так утомился, что начались приливы крови к голове. Пригласили фельдшера, чтобы поставить пиявки. Все закончилось хорошо, болезнь прошла, экзамены были сданы.
ВЫБОР СВОЕЙ ДОРОГИ В НАУКЕ
В доме крупного московского чиновника Данилы Даниловича Шумахера по пятницам собирались студенты. За чаем и ужином они говорили об университетских делах, рассказывали смешные истории, мечтали о будущем. Здесь в 1853 году произошло знакомство Сеченова с Сергеем Петровичем Боткиным. В этом студенте перед Сеченовым раскрылся образ серьезного, целеустремленного человека. Боткин был одержим любовью к медицине. Он принимал ее такой, какая она есть, прекрасно понимая, что медицина находится еще в младенческом возрасте.
Иван Михайлович Сеченов, озабоченный выбором своей дороги в науке, с глубоким вниманием и с неподдельным восхищением наблюдал за талантливым Сергеем Петровичем Боткиным.
В клинике внутренних болезней преподавал молодой ученый доктор Пикулин. Он сумел в меру возможностей науки того времени осветить картину болезней легких и сердца. При помощи весьма простых приемов перкуссии (выстукивания) и аускультации (выслушивания) стало возможным различать многообразные формы легочных и сердечных заболеваний. Молодые друзья Пмкулина неутомимо — до мозолей на пальцах — наколачивали по плессиметру *.
В этих занятиях со всей очевидностью проявилось превосходство Боткина над остальными студентами. Уже тогда
40
можно было оценить его редкую одаренность. Сергею Петровичу предсказывали выдающуюся будущность. Боткин, как никто другой, буквально на лету схватывал все сложнейшие объяснения Никулина. Как виртуоз, он быстро усвоил все тончайшие оттенки выслушивания и выстукивания. С помощью этого метода он уверенно проникал в организм человека и находил в нем те или иные заболевания.
Позже в своем дневнике Сеченов писал:
«Для него (Боткина) здоровых людей не существовало, и всякий приближавшийся к нему человек интересовал его едва ли не прежде всего как больной. Он присматривался к походке и движениям лица, прислушивался, я думаю, даже к разговору. Тонкая диагностика была его страстью, и в приобретении способов к ней он упражнялся столько же, как артисты вроде Антона Рубинштейна упражняются в своем искусстве перед концертами. Раз, в начале своей профессорской карьеры, он взял меня оценщиком его умения различать звуки молоточка по плессиметру.
Становясь посредине большой комнаты с зажмуренными глазами, он велел поворачивать себя вокруг продольной оси несколько раз, чтобы не знать положения, в котором остановился, и затем, стуча молотком по плессиметру, указывал, обращен ли плессиметр к сплошной стене, стене с окнами, к открытой двери в другую комнату или даже к печке с открытой заслонкой».
И хотя недоверие Сеченова к современной ему медицине не исчезло, изменилось его отношение к своей учебе в университете. В этом, конечно, была большая заслуга Боткина. Сеченов понял простую истину: для того чтобы сделать медицинское искусство наукой, необходимо полностью овладеть тем скромным, что уже достигнуто в медицине. Только тогда можно будет пойти своим путем и, насколько позволят силы, внести свою лепту в одну из самых человеколюбивых наук. Будет время, оно не за горами, когда все науки придут на помощь медицине, сделают ее могущественной. Ради этого будущего стоит работать и жить. Конечно, настоящим врачом-клиницистом, таким, каким, вероятно, будет Боткин, Сеченов никогда не станет. Его влечет к себе физиология, которая методами точных наук — химии, физики и своим собственным экспериментальным методом будет ставить живому организму вопросы и искать на них ответы. Он будет работать для того, чтобы медицина получила научную поддержку физиологии.
* * *
В 1853 году вспыхнула война между Турцией и Россией. Всю страну облетела весть о блестящей победе русского флота при Синопе. Эскадра под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова атаковала в порту Синоп на Черном море турецкую эскадру Осман-паши и разгромила ее. Турецкий флот был уничтожен, а из русских кораблей ни один не утонул в Синопской бухте. Война вошла в новую фазу: на стороне Турции против России выступили Франция, Англия и позже—итальянское государство Сардиния. Осенью 1854 года, точнее 1 сентября, на горизонте у Севастополя показались сотни вражеских кораблей. Еще через несколько дней произошла высадка десанта противника у Евпатории. Разгорелись бои на русской земле, был осажден город-крепость Севастополь.
В Медико-хирургической академии в Петербурге ускоренными темпами готовили лекарей для действующей армии.
Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов выехал в Крым, чтобы помочь раненым защитникам Севастополя.
Вражеским армиям не удалось с ходу захватить Севастополь. Война принимала затяжной характер, количество раненых уже измерялось десятками тысяч человек, увеличивалась нужда в медицинском персонале. Зимой 1855 года в Московском университете казеннокоштным* студентам-медикам четвертого курса было объявлено, что все они будут досрочно держать выпускные экзамены и затем отправятся в Крым.
Вольнослушателям предоставлялось право самим решать, учиться ли им на пятом курсе или досрочно, с четвертого курса, после экзаменов, ехать добровольцами в армию. Для Ивана Михайловича Сеченова эта проблема решалась просто: с его врачебными знаниями и практическими навыками в клинике действующей армии делать нечего, пользы раненым он не принесет.
ОКОНЧАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА
Из Теплого Стана Сеченов получил печальное известие— умерла Анисья Григорьевна. Кончина матери была горькой неожиданностью для Ивана Михайловича. Так и не дождалась мать, когда ее сын пойдет по дороге ученого. С нежной сыновней любовью писал Сеченов о своей матери:
42
«Моя милая, добрая, умная мать была красивая в молодости, хотя в ее крови, по преданию, была... примесь калмыцкой крови. Из всех братьев я вышел в черную родню матери и от нее получил тот облик, благодаря которому Мечников, возвратясь из путешествия по Ногайской степи, roj ворил мне, что в этих палестинах что ни татарин — вылитый Иван Михайлович.
Перед женитьбой отец отправил ее (мать) в какой-то женский Суздальский монастырь для обучения грамоте и женским рукоделиям. Поэтому в детстве я ее помню ничем не отличающейся с виду от соседних пожилых помещиц, относившихся к ней из-за ее милого, кроткого нрава с большой любовью...»
Братья и сестры Ивана Михайловича, как и должно быть в хорошей и дружной семье, без споров поделили оставшееся от родителей небольшое наследство. Желающему отказаться от права на имение была назначена выплата в шесть тысяч рублей. Такое решение вполне устроило Ивана Михайловича. Он после окончания университета собирался ехать за границу, чтобы там завершить свое образование, а для такой поездки нужны были немалые деньги. Отказавшись от своих прав на имение, Иван Михайлович оговорил вольную своему верному слуге Феофану Васильевичу.
21 июня 1856 года Сеченов сдал экзамены в университете и получил свидетельство:
«За оказанные им отличные успехи определением университетского Совета... утвержден в степени лекаря с отличием, с предоставлением ему права по защищении диссертации получить диплом на степень доктора медицины».
Перед отъездом в чужие края Иван Михайлович решил посетить Теплый Стан, поклониться дорогим могилам.
В Теплом Стане, в этом маленьком, лежащем вдалеке от больших дорог и городов уголке необъятной России, жизнь внешне шла тихо и размеренно. Жил там по-прежнему старик Филатов, первый по богатству помещик. Жил отшельником, занимался садоводством и пчеловодством. Когда-то, в детстве, к нему частенько захаживал Иван Сеченов. Гостю дорогому, младшему Сеченову, Михаил Федорович Филатов был всегда рад. Возьмет он за ручку смышленого мальчугана и поведет показывать ему свое хозяйство. Заведет подальше в сад, там среди яблонь, неподалеку от заросшего камышом пруда, есть у него заветная скамеечка, пригласит лицыСТЬ И начнет пРесеРьезно рассказывать явные небьь
С молодыми Филатовыми у Ивана Михайловича Сеченова была давняя дружба.
43
В этот свой приезд в родные места Ивану Михайловичу пришлось оказывать медицинскую помощь. Первым пациентом молодого врача была нянюшка Настенька — Сеченов разрезал ей карбункул. Второй случай сложнее. У тепло-станского крестьянина застрял в пищеводе большой кусок хлеба. Пострадавший в крайнем испуге прибежал к барину доктору. Зонда у Сеченова не было. Чем же проникнуть в пищевод? Неожиданно пришла мысль взять у сестры из корсажа пластинку китового уса. Иван Михайлович привязал к концу пластинки кусок губки, смочил ее деревянным маслом и, благословясь, ввел этот «медицинский инструмент» в пищевод. Кусок хлеба был благополучно протолкнут в желудок. Благодарный пациент бросился в ноги доктору.
...Незаметно подошла осень 1856 года. В золото и пурпур оделись березы и осины. Ночи становились все длиннее, и поутру молодым ледком затягивало лужи. В такое прохладное и звонкое утро прощался Иван Михайлович с родными. Путь его был далеким. Сначала в Москву, а дальше — за границу. Уезжал он из дому в третий раз и надолго. Он уже дважды возвращался из далеких странствий в Теплый Стан. Первое возвращение было невеселым — «отставной козы барабанщиком» явился Сеченов домой, так злословили по адресу отставного подпоручика теплостанские недоброжелатели. Во второй раз он вернулся лекарем с отличием. Соседи заговорили о нем иначе — люди с университетским образованием не часто встречаются в помещичьих усадьбах. То, что настоящего доктора из Сеченова не получилось, и то, что Иван Михайлович и не собирался им быть, этого никто не знал. Теперь он уезжал за границу, чтобы совершенствоваться в науках и стать серьезным ученым в избранной им области знания.
Добрые пожелания, слезы расставания, и возок тронулся. Счастливого пути дорогому Ванюше желали его родные, сестры и братья. Счастливого пути...
Глава IV
ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ
8 февраля 1855 года пришел конец мрачному царствованию Николая I. Поражением царизма завершилась Крымская война. Защитники Севастополя вернулись домой в кабалу к помещикам-крепостникам. Разгоралось пламя крестьянских восстаний. Новый царь, Александр II, коро
44
новался в неспокойное время. Жить по-старому уже было нельзя. Если сверху не пойти на ослабление зверского крепостнического режима, если не проявить гибкости в управлении разбушевавшейся страной, может наступить самое страшное для царизма — народ опрокинет прогнивший фео-дальный строй на Руси.
Правила выезда за границу при новом царе оставались строгими, такими, какими их установил Николай I. Чтобы получить заграничный паспорт, нужно было придумать какую-нибудь более серьезную причину, чем поездка для совершенствования в науках. Такой паспорт — «по болезни» для лечения за границей — и получил Иван Михайлович. Денежная сторона поездки разрешилась с получением Сеченовым шести тысяч рублей из опекунского совета. Этих денег должно было хватить на три года жизни в Западной Европе.
Из Петербурга морем Иван Михайлович выезжает в немецкий город Штеттин. Прощальный гудок, и корабль отваливает от причала Кронштадта.
Штеттин, первый город на чужой земле, встретил Сеченова неприветливо. Туман окутывал невысокие дома с красными островерхими черепичными крышами, забирался в узкие улочки-коридоры, пронизывал сыростью до костей.
Из Штеттина Иван Михайлович проехал в Берлин. Прибыл он в столицу Пруссии за несколько дней до начала лекций. Не желая сидеть без дела и терять даром время, Сеченов решил съездить в Дрезден.
Берлин с Дрезденом соединяла железная дорога. Иван Михайлович занял свое место в маленьком купе на четырех пассажиров. Напротив Сеченова оказались аккуратный старичок и дама средних лет. Соседи о чем-то говорили между собой по-немецки. То и дело они поглядывали на необычного господина с черной как смоль шевелюрой, со смуглым лицом и слегка раскосыми глазами. Иван Михайлович заметил, что его скромная особа заинтересовала немцев. Благообразный чистенький старичок, воплощение вежливости и корректности, хотел спросить господина со столь примечательной внешностью, кто он и откуда приехал в Германию. Но заговорить с совершенно незнакомым человеком — это по меньшей мере неприлично. Однако любопытство одержало верх над законами этикета. Сто раз извиняясь, немец спросил, который час. Иван Михайлович вытащил из жилетного кармана часы и учтиво ответил. С первых же слов стало ясно, что незнакомец иностранец.
Глубокоуважаемый господин, очевидно, приехал из-за моря. Не из Южной ли Америки? — спросил старичок.
45
Иван Михайлович решил созорничать. Не задумываясь, он ответил старичку и даме:
— Да, господа, я действительно приехал в эту страну из-за моря. Но не из Америки, а из Персии, по Каспийскому морю.
Обрадовавшись возможности на родном немецком языке получить от настоящего персиянина достоверные сведения об этой сказочной стране, спутники забросали Сеченова вопросами :
— Какова природа в вашей стране? Какие люди там живут? Правда ли это, что в Персии по улицам городов свободно разгуливают тигры и слоны?
Иван Михайлович на все эти вопросы давал вполне удовлетворительные ответы. Войдя в роль, он даже начал декламировать якобы на персидском языке знакомые с детства, вычитанные из повести Марлинского* «Мулла Нур» стихи:
Гюдуль, Гюдуль ХОМ гяльды Арондынзан ягиш гяльды. Гилян, алга дур сана Чумчаным дальдур сана.
Эту строфу он присвоил Фирдоуси *.
Но вот его спросили, как называется в Персии денежная единица. Этого Сеченов не знал, пришлось ему выкручиваться ссылкой на непонимание вопроса. Ответ он дал такой : у нас в Персии, так же как и у вас в Германии, деньги делаются из серебра и из золота. Старичок, чтобы быть понятнее «персиянину», поясняя свой вопрос, сказал:
— Не рупии ли, милейший, как в Индии, ходят у вас в Персии?
46
Иван Михайлович немедленно согласился.
Приехали в Дрезден. Обязательный старичок вал иностранцу поселиться в отеле «Berliner Hof». Совет был с благодарностью принят, и Сеченов поселился в указанной ему гостинице.
Проходит два дня. Неожиданно на улице Иван Михаилович встречает свою недавнюю соседку по купе и учтиво кланяется ей. Немка приветливо улыбается и говорит:
— Здравствуйте, господин русский!
Шалость раскрыта. Очевидно, любопытные немцы уже успели навести справку, под каким именем Иван Михайлович был записан в гостинице. Но, продолжая игру, Сеченов, смеясь, отвечает даме:
— Нет, сударыня, русифицированный персиянин.
ДРЕЗДЕН—ПРАГА—ВЕНА
Пребывание в Дрездене было большим праздником для Ивана Михайловича. Утром, с восходом солнца, он отправлялся бродить по улицам города, заходил на рынок. Невероятное обилие фруктов и цветов поражало Сеченова. Подолгу стоял он на мосту через Эльбу. Смотрел, как быстро текут ее мутные воды.
Много времени провел Иван Михайлович в знаменитой Дрезденской галерее. Долго любовался он бессмертными творениями великих мастеров. У Сикстинской мадонны Рафаэля* он невольно произнес: «Vita brevis ars longa» («Жизнь коротка — искусство вечно»).
Иван Михайлович шел по залам галереи, и картины одна прекрасней другой смотрели с полотен. Здесь был Рембрандт * — певец человеческого счастья и печали. Его люди не походили на богов—Венеру и Аполлона. Они были смертные, как и все люди, в их жилах текла горячая красная кровь. Они веселились за кружкой пива, они любили и страдали. А вот прославленные художники Тициан *, Джорджоне*, Рубенс*, Мурильо*, Гольбейн...*
Дрезденский Цвингер — этот замечательный архитектурный ансамбль на берегу Эльбы, прекрасная поэма в камне вызвал восхищение Сеченова.
Побывал Иван Михайлович и в дрезденском театре. Давали оперы Моцарта и Вагнера*. Чудесно пели и играли Девриент и Девисон.
Вызывали удивление местные нравы. Дрезденские любители музыки, сидевшие в ложах, в самых патетических мес
47
тах оперы неожиданно хором расхваливали холодное пиво, которое разносили лакеи. Дамы слушали «Дон-Жуана», но не забывали вязать чулки. В театре сидели молча, ничем не выражая своего отношения к происходившему на сцене. Хорошо ли, плохо ли играют актеры, зрители безмолвны, аплодисменты здесь не приняты.
Саксонская Швейцария — волшебная страна вблизи Дрездена — запомнилась надолго. Бастей, Кенигсштейн — чудесные курортные местечки. Где-то далеко внизу, на глубине в несколько сот метров, змеится Эльба. Над головокружительными обрывами и скалами плывут белоснежные облака, и над всем этим фантастическим миром — синее-синее небо. В деревушках и городках по вечерам мелодично поют колокола. Иван Михайлович совершал это путешествие пешком. Он встречал в горах пастухов и говорил с ними на их родном языке. Однажды после чудесной ночи, проведенной на сеновале, Иван Михайлович на одном из переходов встретил крестьянина, который на обычное «гутен таг» ответил славянским «наздар». Так из Германии Сеченов незаметно прошел в Богемский лес, в Чехию. Дальше путь лежал на Злату Прагу. Древняя Прага, памятники вековой славянской культуры: Карлов мост, Пражский Кремль — Градча-ны — напоминали путешественнику славную историю трудолюбивого и талантливого народа, историю, полную самоотверженной борьбы за сохранение национальной независимости.
Из Праги Сеченов проехал в Вену и за небольшое время, которое оставалось до его возвращения в Берлин, успел осмотреть венские достопримечательности. Побывал он и в соборе святого Стефана, этой жемчужине готической архитектуры. Гулял по веселому Пратеру.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
В Берлине Ивана Михайловича ждали московские друзья, и среди них — Сергей Петрович Боткин. Начались трудовые будни молодых русских врачей. Сеченов решил заполнить пробелы в своем образовании. В Московском университете он почти не работал в химической лаборатории, поэтому в Берлине поступил в частную химическую лабораторию для глубокого изучения качественного и количественного химического анализа. Эти знания были необходимы для его будущей деятельности. Нужно было терпеливо выслушивать от лабораторного служителя наставления о том,
48
мяк следует обращаться с огнем, посудой, паяльной трубкой и прочим лабораторным оборудованием. Вскоре вся эта нехитрая наука была освоена, и Сеченов смог перейти в лабо-раторию медицинской химии.
Лабораторию медицинской химии возглавлял молодой ученый Гоппе-Зейлер. Сеченов в его лаборатории исследовал химический состав жидкостей, входящих в тело животных. Учение шло легко и быстро. Здесь у Сеченова родился план изучить острое алкогольное отравление. Мысль научно осветить влияние острого алкогольного отравления на организм человека была подсказана Ивану Михайловичу особой ролью водки в современной жизни. Сколько людей в самом цветущем возрасте погибало и погибает от алкоголя!
Алкоголизм — это страшное народное бедствие, причина бесчисленных трагедий и ранних могил, и поэтому нужно раскрыть людям картину неумолимого действия алкоголя на человеческий организм. Необходимо языком химических формул и цифр, со всей научной строгостью, показать, как химическое вещество — винный спирт — губительно влияет на дыхание, на работу сердца и кровеносных сосудов, на нервную систему и особенно на головной мозг. Это исследование не сделать в один год. Сеченов его планирует на ряд лет. Работа потребует экспериментов на человеке, и таким человеком будет сам Сеченов.
На самом себе он поставит серию опытов с острым отравлением алкоголем. Он начнет с малых доз и дойдет до смертельных. Эта работа и послужит ему материалом для докторской диссертации, конечно, при одном условии: если после всех этих рискованных экспериментов на самом себе Иван Михайлович останется жив и ему еще нужна будет докторская степень.
Накопление Сеченовым фактов об остром отравлении алкоголем, основанных на опытах, шло в лаборатории Эрнста Генриха Вебера*, крупного немецкого ученого, по старости лет уже не читавшего лекций.
Сначала Сеченов провел серию опытов по выявлению действия алкоголя на дыхание, а потом стал выяснять, как отражается прием алкоголя на азотистом обмене. Иван Михаилович делал эти исследования в двух вариантах: при нормальных условиях и при употреблении алкоголя. Чередовались дни, когда Сеченов, преодолевая отвращение к ал-голю, пил точно дозированные порции спирта, и дни, когда спирта не пил.
Изучение действия алкоголя на мышцы и нервы Сеченов проводил на лягушках.
Эксперименты на лягушках Ивану Михайловичу при
49
шлось производить впервые. Эти опыты над маленькими существами были очень полезны ученому, делавшему первые шаги в науке.
Помимо изучения действия алкоголя на организм лягушек, Сеченов ставил и другие эксперименты. В частности, он подверг проверке наделавшие много шума опыты известного французского физиолога Клода Бернара * и немецкого ученого Келликера по действию яда кураре на мышцы и нервы. Кураре — сильнейший растительный яд, который индейцы применяли для отравления наконечников своих стрел. Кураре, в отличие от других веществ, весьма своеобразно действовал на нервы и мышцы. Нервное волокно, мышечную ткань яд не отравлял, но парализовал нервные окончания в мышцах. В ходе этих опытов Ивану Михайловичу удалось обнаружить ошибку в одной из работ Клода Бернара. Сеченов вводил под кожу лягушке известное количество серно-цианистого (роданистого) калия. Опыт производился строго в тех же условиях, что и у Клода Бернара. Действие яда, по наблюдениям Ивана Михайловича, проявлялось в том, что лягушка теряла чувствительность кожи — не реагировала на щипки. Но, когда Сеченов попробовал разогнуть согнутую лапку лягушки, она ее подтянула к животу. Так был установлен факт нечувствительности кожи при сохранении способности мускулов лягушки к движению. У Бернара же все было наоборот: кожа чувствительна, а мышцы парализуются. Опыты повторялись десятки раз с одним и тем же результатом. Ошибка Бернара была очевидна. Профессор Функ, в лаборатории которого работал Иван Михайлович, проверив эксперименты Сеченова, убедился в их неопровержимости. Для установления научной истины Сеченову пришлось, невзирая на огромный авторитет Бернара, выступить со статьей в специальном журнале. Эта первая научная статья Сеченова, основанная на экспериментальных исследованиях, появилась на немецком языке в следующем, 1858 году в «Пфлюгеровском архиве». Имя Сеченова становится известным в мире физиологов.
Эта и другие научные проблемы разрабатывались Иваном Михайловичем одновременно с исследованиями по действию алкоголя на живые организмы.
В ЛАБОРАТОРИЯХ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ УЧЕНЫХ
Наибольший интерес в Берлине, как позже и в других западноевропейских городах, Иван Михайлович проявлял к работе физиологов. «
В Берлине в tv пору жил и работал всемирно известный физиолог Иоганн Мюллер* и его знаменитый ученик Дю-буа-Реймон*. В зимний семестр 1856 года Сеченов прослушал у Дюбуа-Реймона курс лекций по электрофизиологии. Аудитория этого интереснейшего ученого была невелика, всего лишь семь человек, и среди них двое русских — Сеченов и Боткин.
Электрофизиология была новой областью исследования. Эта наука для изучения физиологических процессов использовала изменения электрических потенциалов, которые возникают в органах и тканях организма.
Сеченову понравились лекции молодого немецкого ученого. Его речь текла плавно, свободно. Особенно хорошо он прочел лекцию о быстроте распространения возбуждения по нервам. Как бы вновь испытывая недавно пережитое, Дюбуа-Реймон, волнуясь, рассказывал о том, как его учитель Иоганн Мюллер сомневался в возможности измерить скорость прохождения возбуждения по нерву, то почти неизмеримо малое количество времени, когда человек почувствовал боль от ожога. За этот ничтожный промежуток времени возбуждение должно проделать известный путь по нервным проводникам. Как же измерить скорость передвижения возбуждений по нервам? Да и возможно ли это? За разрешение задачи взялся искуснейший из экспериментаторов, выдающийся ученик Мюллера — Гельмгольц.
Гельмгольц предложил гениальное по простоте решение. Он подводил электрический ток к нерву у какой-либо мышцы. Ток возбуждал нерв, мышца отвечала на это раздражение сокращением. Затем ученый раздражал электрическим током тот же нерв не у самой мышцы, а на некотором расстоянии от нее. Мышца снова сокращалась, но несколько позднее, чем в первый раз. Эта разность во времени, разделенная на длину участка нерва между двумя точками, где прикладывалось электричество, показывала скорость, с которой раздражение прошло по нерву. У лягушки, на которой ыл проведен Гельмгольцем этот эксперимент, скорость распространения возбуждения по нервам оказалась равной болМеТРаМ В секунду* Как отличалась эта сравнительно не-
ЬШая скорость от той фантастической цифры, которую ывали ученые! Предполагали, что скорость движения
51
возбуждения по нервам равна скорости света — 300 тысяч километров в секунду!
Много новых и важных истин впервые узнал Иван Михайлович на лекциях Дюбуа-Реймона. Но тем обиднее ему было слышать от уважаемого ученого ничего общего не имевшие с наукой рассуждения о человеческих расах. Вот что однажды сообщил Дюбуа-Реймон своим слушателям :
◄[Длинноголовая раса обладает всеми возможными талантами, а короткоголовая в самом лучшем случае — лишь подражательностью ».
Иван Михайлович писал в своих автобиографических записках в связи с этим замечанием Дюбуа-Реймона: «Если при этом имелись в виду россияне вообще, то суждение было для немца еще милостиво, потому что в эти годы нам не раз случалось чувствовать, что немцы смотрят на нас как на варваров...» Однако несмотря на подобное отношение некоторых крупных немецких ученых к молодым русским исследователям, Сеченов и Боткин упорно изучали все то, чего они не смогли увидеть и услышать у себя дома, на родине.
За год пребывания в Берлине Иван Михайлович слушал лекции Магнуса по физике, Розе — по аналитической химии, Иоганна Мюллера — по сравнительной анатомии, Дюбуа-Реймона — по физиологии. В Берлине составился кружок бывших воспитанников Московского университета. Приехал с театра военных действий молодой хирург Беккере, который под руководством Николая Ивановича Пирогова работал в осажденном Севастополе, в кружок вошел однокурсник Сеченова — Юнге. Сеченов, Боткин, Беккере и Юнге — все четверо старательно занимались в Берлине.
ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ В ИТАЛИЮ
Летом 1857 года Иван Михайлович решил осуществить давнюю мечту — поехать в Италию. Нашелся попутчик — один из московских товарищей по университету, который, так же как и Сеченов, учился в Германии. Этот товарищ жил в городе Вюрцбурге, куда и направился Иван Михайлович. Из Вюрцбурга друзья проехали в Мюнхен. Оттуда пешком предполагалось пройти по австрийскому Тиролю через альпийскую горную страну в Италию.
В Мюнхене Сеченов и его спутник распрощались с городской жизнью и превратились в заправских горных турис
52
тов За плечами — вещевой мешок, в руках — посох, на ногах — башмаки с толстой подошвой. Решили отказаться от проводников, вкусной еды и мягких постелей. Невдалеке~от Мюнхена они забрели в старинную солеварню Галлеин. Здесь им показали добычу каменной соли. На путешественников надели кожаные штаны, на правую руку — кожаную перчатку, а в левую дали зажженный фонарь. Экипировавшись таким образом, Иван Михайлович и его товарищ подошли ко входу в шахту. Им предложили усесться верхом на отполированное от частого пользования бревно, уходящее глубоко в подземелье. Правой рукой в кожаной перчатке они ухватились за протянутый в глубь шахты канат. И вот они уже неудержимо летят в темную пропасть, скользя по гладкому, как стекло, бревну. Где-то в конце спуска наклон уменьшился, скольжение замедлилось, и пассажиры прибыли на место. Таким видом транспорта наши туристы еще никогда в жизни не пользовались, если, конечно, исключить катание в детстве с ледяных горок.
Фантастические пещеры тускло освещались масляными плошками. Сначала наши путешественники плыли на лодках по подземным озерам, потом мчались в кромешной тьме в вагончиках узкоколейной железной дороги.
В долинах Тироля в оправе изумрудных лесов лежали живописные озера. Высокие хребты были покрыты вечными снегами. Ниже снеговой линии, на склонах гор, раскинулись альпийские луга. Оттуда слышались песни тирольских пастухов и мелодичный звон колокольчиков. Чем выше забирались путешественники в горы, тем становилось холоднее. Вот уж полетели первые снежинки.
По австрийской почтовой дороге пришли на перевал, расположенный свыше 2500 метров над уровнем моря.
«В 12 часов были уже на вершине перевала,— писал Иван Михайлович,— выше линии вечных снегов, с панора-мои^снеговых гор вокруг, и на границе страстно желанной мной Италии. Помню, какое радостное чувство охватило меня при мысли, что я уже в Италии, и как я пустился бежать на видневшуюся невдалеке почтовую станцию. Здесь уже ыли другие лица, другая одежда, красивая итальянская речь и даже красное вино вместо неизбежного до тех пор пива».
Внизу расстилалось озеро Комо, там было тепло, виднелись ковры цветов.
МИЛАН—ВЕНЕЦИЯ
В Белладжио, на озере Комо, пути друзей разошлись. Сеченов отправился в Милан, а его спутник — в Швейцарию. В Милане Сеченов встретил Сергея Петровича Боткина и вместе с ним гулял по улицам празднично украшенного города. В эти дни в Милан вернулся эрцгерцог Максимилиан, управляющий Ломбардо-Венецианским королевством от имени австрийского императора.
То были времена, когда большая часть Италии находилась под австрийским игом. В борьбе с австрийскими войсками уже стало знаменитым имя народного героя Джузеппе Гарибальди *.
Огромное впечатление на Сеченова произвел Миланский собор. Единственный в Европе мраморный готический собор. Весь он устремляется ввысь своими бесчисленными башнями, похожими на тополя. На сто восемь с половиной метров поднялась в небо его башня со шпилем. Бесчисленные украшения — каменные кружева, цветы из мрамора... Окаменевшее сказочное царство — таким увидел Сеченов Миланский собор. В трапезной монастыря Санта-Мария делла Грацие Иван Михайлович с восхищением смотрел на бессмертную фреску Леонардо да Винчи* «Тайная вечеря». Изображенные на ней человеческие фигуры, вдвое больше человеческого роста, потрясали своей драматичностью. В художественной галерее Брера Сеченов знакомился с живописными шедеврами Рафаэля, Тициана, Пьеро делла Франческа *, Джорджоне и других.
Из Милана Сеченов выехал по железной дороге в Венецию. Прибыл он в нее ночью. Венеция, этот красивейший город, была уже «открыта» русскими писателями и художниками. И все же каждый новый путешественник по-своему вновь открывал волшебную Венецию. Гёте назвал этот город «мечтой, сотканной из воздуха, воды, земли и неба».
Иван Михайлович, много раз в течение своей долгой жизни посещавший Венецию, советовал въезжать в нее, как он в свой первый визит, ночью.
«Ночью, при тусклом освещении каналов, мелькающих мимо вас смутным, таинственным образом, вы окружены невозмутимой тишиной, без единого звука, кроме легких всплесков воды под веслом гондольера. Плывешь прямо-таки очарованный...»
Иван Михайлович остановился в гостинице «Hotel di Luna». В двух шагах от нее находилась знаменитая площадь Святого Марка.
54
При вечернем освещении она была похожа на гигантскую бальную залу. По фасаду домов, в магазинах и кофейнях горели тысячи огней, а на заднем плане в темном небе вырисовывались контуры Кампанилы, собора святого Марка, и бронзовые кузнецы взмахивали своими молотами на часовой башне.
В Венеции было мало итальянцев, в самых великолепных дворцах расположились австрийские оккупанты. На чудесных мраморных балкончиках сушились солдатские портянки и белье.
Молчалива ночная Венеция, не слышно на каналах песен гондольеров.
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ МОСКОВСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
Еще в Милане Боткин сообщил Ивану Михайловичу новость: в Московском университете освобождается кафедра физиологии.
В связи с этим Сеченов пишет в своем прошении в совет медицинского факультета Московского университета:
«Со стороны человека, едва окончившего курс, не сделавшего никакого самостоятельного труда по части предмета и не имеющего, следовательно, никаких ясных доказательств, что он занимается им, такая просьба может показаться очень странной.
Странность эта, однако, уничтожается, если внимательно рассмотреть отношения наших русских врачей к современной физиологии и те условия, которым должен соответствовать в настоящее время профессор этого предмета».
Далее Иван Михайлович справедливо указывал, что в русских университетах физиология не преподается, как наука опытная, экспериментальная.
За время совершенствования за границей Сеченов изучил экспериментальную физиологию, ознакомился со множеством приборов, о которых и понятия еще не имели на родине. Это был первый аргумент Сеченова в подтверждение его прав на соискание места профессора физиологии.
Второй аргумент — наличие у Ивана Михайловича знании по высшей математике, без которых серьезные физиологические исследования немыслимы. Этих знаний не было У большинства русских физиологов.
Сеченов скромно пишет в своем прошении, что ему требуется еще двухлетний срок для завершения своей научной
55
Ответ на свое письмо Иван Михайлович просил прислать в Лейпциг, до востребования. Наступивший зимний семестр Сеченов предполагал пробыть в этом городе, где он собирался поработать на кафедрах известных профессоров — Вебера и Функе.
В научных работах названных ученых, по словам Ивана Михайловича, были * соединены оба направления современной физиологии — химическое и физико-математическое».
Через месяц после того, как Сеченов послал свое прошение, 12 октября 1857 года, оно рассматривалось на заседании медицинского факультета Московского университета. В решении было записано: «Медицинский факультет, рассмотрев внимательно программу, нашел ее вполне удовлетворительной и совершенно в том уверен, что по истечении двухлетия, то есть назначенного господином Сеченовым срока, будут труды его увенчаны полным успехом. Факультет безусловно представил бы г. Сеченова своему начальству как достойного кандидата на вакантную кафедру, если бы прежде не был им представлен доктор Эйнбродт...»
Отказав Сеченову в возможности соревноваться на получение кафедры, медицинский факультет тем не менее просил совет Московского университета довести до сведения министерства просвещения следующее: «Сеченов усердно приготовляется в чужих краях, на свой счет, к занятию кафедры... и что факультет вменяет себе в обязанность указать на г. Сеченова как на ученого, достойного со временем занять кафедру физиологии и сравнительной анатомии в одном из отечественных университетов».
В Москве было отдано предпочтение товарищу Сеченова по студенческим годам — Павлу Петровичу Эйнбродту. Ивану Михайловичу пришлось до поры до времени ждать следующей вакансии. Через год Сеченов сделал еще одну попытку обратиться с прошением о включении его в число претендентов на кафедру физиологии. На этот раз он обратился к декану медицинского факультета Казанского университета. Письмо Сеченова к декану заканчивалось так:
«...Простите мне, что я тревожу Вас просьбой — при неимении средств к жизни и невозможности заниматься практическою медициною мое искательство очень естественно. Притом я уверен, что основания, дающие мне право на это искательство, очень уважительны».
Будущее беспокоит Ивана Михайловича. Средства, на которые он живет, скоро будут исчерпаны, лечащим врачом он не станет, что же делать? Ответа из Казани на письмо Ивана Михайловича не последовало. Но появились другие перспективы. Имя Сеченова довольно быстро становилось
56
известным небольшому кругу людей, занимающихся в Рос-сии физиологией. Не так много было молодых ученых в этой важнейшей из биологических наук, чтобы Сеченов не мог найти приложение для своих сил.
ФЛОРЕНЦИЯ—РИМ
Из Венеции Сеченов отправился во Флоренцию. Путь его лежал через Феррару и Болонью. Железной дороги здесь не было, ехали в дилижансе.
Три дня бродил Иван Михайлович по улицам милои Флоренции и ее картинным галереям. В этом городе жил Данте*, сохранился камень, на котором он сидел, и место, где он первый раз встретился с Беатриче. Показали Сеченову трибуну, с которой говорил Галилей *. А в Музее естественной истории и физики Иван Михайлович посмотрел картины из жизни этого великого мыслителя. В этом городе жил и Микеланджело * и Леонардо да Винчи.
Набережная реки Арно была полна гуляющей публикой. Вот пронеслась коляска американского миллионера, запряженная двенадцатью лошадьми, а рядом — маленький, экипаж флорентийца с одной крохотной лошадкой.
Везде, где ни бывал Иван Михайлович, его поражали безграничное добродушие и доброжелательность, живость характера и горячность, восторженность и почти детская наивность удивительно симпатичных и милых итальянцев.
Во Флоренции Сеченов случайно встретился с одним из братьев Сергея Петровича Боткина, Павлом Петровичем, который весьма обрадовался встрече с ученым другом своего брата и увязался вместе с Сеченовым в дальнейшее путешествие по Италии.
Из Флоренции через Пизу Сеченов и Павел Боткин проехали в Ливорно, затем пароходом в Чивитавеккию и, наконец, в Рим.
Первый осмотр Рима. Древний Форум — колонны, арки, развалины. Огромный Колизей, где происходили бои гладиаторов. Тысячелетия прошумели на этих улицах, под этим бирюзовым небом.
Первым делом, которое нужно было сделать по приезде в Рим,— это найти жившего там Александра Андреевича Иванова*, известного русского художника; с ним Сеченов впервые познакомился еще в Берлине. Иванов взял тогда у вана Михайловича слово тотчас по прибытии в Рим с ним встретиться.
57
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ИВАНОВ
Вечерами у Сеченова собирались за чашкой чаю гости, и среди них неизменно бывал и Иванов. Художник незадолго перед этим прочел книгу Давида Штрауса «Жизнь Иисуса» и решил писать картины на сюжеты из этой книги.
Для будущих картин Иванову понадобилось знать в деталях Иерусалимский храм времен Христа. Книга с описанием храма была на английском языке. Узнав, что Сеченов немного знает английский, Иванов попросил его прочитать необходимые места из книги. Иван Михайлович с радостью согласился помочь «этому очаровательному милому старику с чистой младенческой душой». Несколько раз в неделю Иван Михайлович приходил на квартиру художника и читал ему английскую книгу сразу по-русски. Иванов сидел с начерченным им планом храма и с циркулем в руке, сверяя размеры стен, делая в записной книжке нужные замечания. Работал Иванов много, Ивану Михайловичу для отдыха приходилось устраивать перерывы в чтении.
В свободное от занятий с Ивановым время продолжались экскурсии по Риму. Величайшее впечатление произвели на Сеченова художественные сокровища Ватикана. Он видел бессмертные фрески Сикстинской капеллы Микеланджело, видел замечательные произведения старых итальянских мастеров. И он видел, как заканчивал Иванов величайшее творение искусства — «Явление Христа народу».
Знаменитый русский критик Стасов говорил: «Иванов — Рафаэль и Леонардо да Винчи нашего времени». Гоголь*, бывший близким другом Иванова, также писал, что картины такой, какую создал изнывавший в нищете и давно забытый всем миром русский художник, еще не бывало со вре-мен Рафаэля и Леонардо да Винчи.
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Путешествие по Италии закончилось. Сеченов вернулся в Германию, к работе. Наступили трудные дни в жизни Сеченова — у него почти не было денег.
В Лейпциге Сеченов был вынужден вести спартанский образ жизни. На пять зильбергрошей можно было получить тарелку супа, полпорции мяса — это уже было роскошью.
Рождественские праздники Иван Михайлович провел в Берлине со своими товарищами, с ними же встретил Новый, 1858 год.
58
Здесь, в Берлине, он занимался количественным анализом составных частей желчи.
Умение быстро и точно делать эти анализы было необходимо для изучения влияния алкоголя на работу печени. д У своих берлинских учителей Сеченов научился всему, чему мог. Больше оставаться в прусской столице не было надобности. Поразмыслив о плане своих работ, Иван Михайлович решил ехать в Вену.
Весной того же года Сеченов уже был в Вене, у виднейшего физиолога того времени — профессора Карла Людвига*. Иван Михайлович называл Людвига несравненным учителем, прославившимся вивисекторским * искусством, а также важнейшими работами по кровообращению. Людвиг, по словам Сеченова, был интернациональным учителем физиологии чуть ли не для всех молодых ученых всех частей света. Этому способствовали не только богатство знаний, педагогическое мастерство, но и личные черты характера, которые снискали ему любовь многочисленных учеников. Людвиг был неизменно приветлив и весел и в минуты отдыха и за работой. Он не только давал своим ученикам тему для научной работы и изредка те или иные указания, как это делали другие ученые, но лично участвовал в работах своих учеников, выполняя наиболее трудные части заданий. Принимая такое деятельное и непосредственное участие в работах, он лишь изредка помещал в печати свое имя рядом с именем ученика, за которого он делал порою более половины работы.
Этим он абсолютно не был похож на некоторых своих ученых коллег, которые частенько присваивали себе научные работы, выполненные в их лабораториях учениками.
В лаборатории Людвига Ивану Михайловичу предстояло исследовать влияние алкоголя на кровообращение и поглощение кровью кислорода. Весь летний сезон 1858 года ушел на эти исследования.
Чтобы знать, сколько кислорода поглощено кровью при различных степенях отравления алкоголем, нужно иметь надежный способ измерения газа в крови. Такого способа, который давал бы точный ответ на вопрос, сколько и каких газов содержится в крови, в те времена не существовало.
Трудность создания подобного измерительного прибора заключалась в следующем. Этот прибор должен поддерживать соответствующую температуру — 40 градусов тепла — и обеспечивать герметичность: не допускать проникновения Наруясного воздуха.
Все лето Иван Михайлович только и занимался тем, что выкачивал газы из крови способом, которым в то время
59
обычно пользовались. Но способ этот был неудовлетворителен, нужно было искать других путей для решения этой трудной задачи. После долгих размышлений и поисков Сеченов наконец нашел выход. Он переконструировал прибор Л. Мейера — абсорбциометр ♦, превратив его в насос с непрерывно возобновляемой пустотой и возможностью согревания крови.
Профессор Людвиг внимательно следил за работой Ивана Михайловича. Как только пробные опыты показали полную возможность извлекать из крови находившиеся в ней газы и определять их количество, профессор немедленно дал заказ мастерам сделать по указаниям Сеченова новый насос. Этот прибор тотчас после его изготовления был передан в полное распоряжение Ивана Михайловича.
Изобретенный Сеченовым прибор давал возможность исследователям выполнять ряд серьезных работ по изучению крови здорового и больного человека. Иван Михайлович, прекрасно понимая важность созданного им способа изучения газов крови, писал:
«Этим способом учение о газах крови поставлено на твердую дорогу, и эти же опыты, равно как длинная возня с абсорбциометром Л. Мейера, были причиною, что я очень значительную часть жизни посвятил вопросам о газах крови и о поглощении газов жидкостями».
Сеченову было двадцать девять лет, когда он создал этот способ исследования газов крови. Вся предшествующая жизнь, с ее ошибками и сомнениями в верности избранного пути, осталась позади. Теперь его призвание ясно — он будет работать над раскрытием сложнейших тайн жизнедеятельности человеческого организма.
ХОРОШИЕ И ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ
Если в первое время профессор Людвиг приглядывался к Сеченову, устраивал ему во время занятий своеобразные экзамены, чтобы выяснить его знания, приглашал ассистировать, желая хорошенько «прощупать» Ивана Михайловича, то после завершения Сеченовым работ по изучению газов крови отношение профессора изменилось самым решительным образом.
Карл Людвиг, далеко еще не старый человек, ему было всего лишь сорок лет, стал держать себя с Сеченовым, как хороший и добрый друг. О чем только они не беседовали за работой в лаборатории! Людвиг задавал Сеченову очень
60
много вопросов о жизни в России. Зная Лермонтова по немецким переводам, он просил Ивана Михайловича читать стихи поэта по-русски. И Иван Михайлович с воодушевлением читал «Дары Терека», «Бородино»...
Довольно часто в лабораторию Людвига приходил молодой австрийский ученый, ассистент кафедры физиологии Венского университета Александр Роллет. Он демонстрировал москвичу опыт — растворял кровяные тельца, пропуская через кровь электрические разряды. В лаборатории и произошло знакомство двух начинающих ученых. Почувствовав друг к другу симпатию, Сеченов и Роллет много времени проводили вместе. Ходили обедать в один и тот же ресторанчик, где кормили по дешевке. Вели долгие беседы по волнующим обоих научным проблемам. От Роллета Иван Михайлович узнавал о том, что делалось в лаборатории физиологии Венского университета. Но беседы друзей носили не только научный характер. Спокойный и даже флегматичный с первого взгляда Роллет был резок, когда давал оценку политическим событиям. В императорской Австро-Венгрии значительную роль с давних времен играло католическое духовенство. Богатейшие храмы и лучшие земли принадлежали множеству монашеских орденов. Тут и доминиканцы, и иезуиты, и францисканцы... Роллет не мог спокойно говорить об этой братии — врагах прогресса.
Прямой и искренний до наивности, он частенько указывал Сеченову на ошибки, которые тот допускал в немецкой речи, или на неточности в его экспериментальной работе.
«Достаточно было раз увидеть на его некрасивом лице милую, добрую улыбку, чтобы знать, что это хороший человек» — так говорил Сеченов о своем друге. Дружба Сеченова с Роллетом длилась многие годы. Позже, когда Роллет стал профессором университета в городе Граце, а Сеченов— в Петербурге, много раз Иван Михайлович приезжал в тихий австрийский городок к своему старому другу.
Работа по сбору экспериментальных материалов к докторской диссертации близилась к концу. Эта работа отнимала дни и месяцы упорного труда. Но, когда оказывалось немного свободного времени, Иван Михайлович вместе с Роллетом выбирались в Венский лес, на чудесные лесистые холмы, окружающие Вену. Выезжали на пароходе вверх по Дунаю в Линц. Любуясь быстротекущим Дунаем, зажатым отрогами австрийских Альп, Иван Михайлович с теплотой вспоминал широкое приволье родной Волги.
Когда каштаны на Пратере покрылись позолотой, в Вену приехали Беккере и Боткин. Втроем жить стало веселей. Аосле дня работы собирались у Сергея Петровичами начи
61
нались бесконечные разговоры о Питере и Москве, о друзьях в далекой России. Сумерки спускались над Веной, и из открытых окон боткинской квартиры на улицу доносились русские песни. Это пели Сеченов и Беккере. «Вниз по матушке по Волге...» — затягивал Беккере, ему баском вторил Иван Михайлович, а Боткин подыгрывал певцам на виолончели.
Русские медики, жившие в Вене, попросили Ивана Михайловича переговорить с Людвигом, не прочтет ли он специальный курс лекций по кровообращению и иннервации* кровеносных сосудов. Согласие было получено, и лекции начались.
Отношения между слушателями и профессором были в высшей степени дружеские. Вот Беккере приходит в лабораторию раньше назначенного часа лекции. Людвиг, как обычно, за работой—он пытается вставить стеклянную трубку в тонкий лимфатический сосуд.
Профессор, весело поблескивая стеклами очков, говорит молодому человеку:
— Кстати пришли! Извольте-ка сесть на мое место и вставить мне вот эту штуку в лимфатический сосуд; я над этим уже давно бьюсь.
Беккере садится на место Людвига и ловко исполняет операцию, которая не давалась профессору.
СПОР О СУТИ ЖИЗНЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ
В дружеском кружке переполох: к Боткину из Москвы приезжает невеста. Приближается день свадьбы. Шьют фраки, приобретают необходимые молодым вещи. И вдруг в один прекрасный день Сергей Петрович просыпается с сыпью на лице. Настроение испорчено, но ненадолго — оспа, к счастью, оказалась ветряной. В это суматошное время Сеченов и Боткин затеяли спор «о сути жизненных явлений». Спор не пустяковый, он касался самых сокровенных мыслей друзей, их мировоззрения. Боткин был убежденным поклонником крупного немецкого ученого-патолога профессора Рудольфа Вирхова*. Клеточная патология Вирхова, его доктрина происхождения болезней, очаровала Боткина.
Вирхов при создании клеточной патологии исходил из следующего. Он утверждал, что организм является простой суммой клеток, каждая из которых обладает самостоятельностью.
Он объявил целостность организма фантазией, отрицал
62
единство организма с окружающей средой. Это уже не просто механицизм, отсюда один шаг к идеализму, к боженьке.
Иван Михайлович Сеченов, тогда еще молодой ученый, имел смелость выступить против воззрений Вирхова.
Сеченов говорил о главном: Вирхов отрывает организм от среды. Болезнь нельзя рассматривать как простое нарушение жизненных функций какой-либо группы, суммы отдельных клеток.
«Клеточная патология Вирхова... как принцип ложна»,— заявил Сеченов.
Не входя в более глубокое рассмотрение принципиального спора двух друзей, Боткина и Сеченова, скажем, что более правильными были взгляды Ивана Михайловича, который успел со времени своего студенчества приобрести материалистические убеждения.
Спор двух друзей закончился трагикомически. Однажды очередная перепалка между «враждующими сторонами» завершилась тем, что Сергей Петрович сказал Ивану Михайловичу нечто не очень понятное, но очень обидное:
— Кто мешает конец и начало, у того в голове мочало!
Этого Сеченов перенести не мог, он рассердился, и всерьез.
Встречи друзей прекратились, а вскоре Иван Михайлович уехал из Вены в Гейдельберг.
На свадьбе Боткина он не был. О размолвке друзей стало известно и Людвигу и, конечно, приехавшей в Вену невесте Сергея Петровича. Вдогонку Сеченову было послано письмо Людвига, крайне расстроенного ссорой двух своих любимых учеников. В этом письме он сообщил Ивану Михайловичу, что свадьба Боткина уже состоялась и что молодые уехали в счастливое путешествие и скоро будут в Гейдельберге, в Германии. В письме содержалась и другая, не менее важная новость. Боткин говорил Людвигу, что он получил запрос из Петербурга от очень влиятельного человека, одного из руководителей Медико-хирургической академии, о том, где в настоящее время находится Сеченов. Далее следовала просьба, чтобы Иван Михайлович написал, как и где занимался физиологией. Потом шла приписка, в которой Людвиг просил Ивана Михайловича скорее помириться с Боткиным, а также передать поклон Бунзену* и ельмгольцу — известным гейдельбергским ученым—новым Учителям Сеченова.
Прошло немного дней, и Боткин с женой приехал в Гейдельберг. Был праздничный день. Ивана Михайловича на вартире не оказалось, гостей встречал друг Боткина и Се-нова доктор Юнге. Немедленно организовали поиски
63
Ивана Михайловича. В парке, вблизи знаменитого Гейдельбергского замка, Сеченов был вскоре обнаружен. Что последовало дальше — объятия, поздравления, поцелуи...
Больше никогда клеточную теорию Вирхова друзья не обсуждали. В этом споре каждый остался при своем мнении.
В ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ У БУНЗЕНА И ГЕЛЬМГОЛЬЦА
Маленький Гейдельберг, один из городов великого герцогства Баденского. На холме — развалины старинного замка. Смотрят в воды Неккара кудрявые дубравы. Словами Гейне * хочется встретить утро вблизи Гейдельберга:
Подымусь на гор вершины, На обрывы скал крутых, Где руины в блеске утра Замков грозных и седых.
Но не только стариной дышит этот маленький уголок Германии, пока еще раздробленной на десятки государств. Гейдельберг славится своим университетом. Здесь живут и трудятся выдающиеся ученые Бунзен и Гельмгольц. К ним приехал учиться Иван Михайлович.
У Бунзена Сеченов будет заниматься анализом смесей атмосферного воздуха с углекислым газом и прослушает курс лекций по неорганической химии. Бунзен добр и прост в обращении, работать у него одно удовольствие, но, к сожалению, у Бунзена всегда слишком много учеников. Чтобы воспользоваться химическими весами или прокалить вещество в печи, надо долго ждать своей очереди. Спустя много десятков лет Иван Михайлович писал о том, каким запомнился ему Бунзен:
«Бунзен читал превосходно и имел на лекциях привычку нюхать описываемые пахучие вещества, как бы вредны и скверны ни были запахи. Рассказывали, что раз он нанюхался чего-то до обморока. За свою слабость к взрывчатым веществам он давно уже поплатился глазом, но на своих лекциях при всяком удобном случае производил взрывы. Так и теперь, вооружившись длинной палкой с воткнутым в конце ее под прямым углом пером и надев очки, взрывал в открытых свинцовых тиглях йод-азот и хлор-азот, а затем торжественно показывал на пробитом взрывом дне капли последнего соединения. Страдая забывчивостью, он часто является на лекцию с вывернутым ухом — сохранившимся до
С4
старости наследием школьного возраста1. Когда в течение лекции взмахом руки профессора ушная раковина приходила в норму, это означало, что памятка сделала свое дело — опасный пункт не был забыт. Когда же, как это случалось нередко, ухо оставалось вывернутым по окончании лекции, молодая публика расходилась с веселыми разговорами о том, был ли забыт опасный пункт или забыто ухо. Бунзен был всеобщим любимцем, и его называли не иначе, как папа Бунзен, хотя он не был еще стариком».
Вторым профессором, у которого хотел поучиться Иван Михайлович, был Гельмгольц. Сеченов называл его великим физиологом. Гельмгольц, так же как и другой немецкий ученый, Ю. Майер, экспериментально подтвердил провозглашенный еще в XVIII веке Ломоносовым закон сохранения энергии и применил его в физиологии. Уже говорилось о том, что Гельмгольц научил физиологов методу измерения скорости проведения возбуждения по нервам. Он внес огромный вклад в создание физиологии зрения и слуха. Развивая мысль о наличии в сетчатке глаза трех элементов, чувствительных к красному, зеленому и синему цветам, Гельмгольц разработал теорию возникновения цветных зрительных ощущений. Красный, зеленый и фиолетовый цвета, по Гельмгольцу, являются первичными цветами, из оптического смешения которых возникает вся бесконечно богатая палитра красок, воспринимаемых человеческим глазом. Теория Гельмгольца выдержала испытание временем и в наши дни удовлетворительно объясняет физиологию цветных зрительных ощущений. Гельмгольц оставил человечеству свои замечательные исследования и по многим другим проблемам физиологии зрения.
Так, крупнейшие экспериментальные работы были произведены Гельмгольцем в физиологии слуха. Гельмгольцу принадлежит теория слуха, по которой в основе способности животных и человека различать один звуковой тон от другого лежит явление резонанса. Звук определенной высоты приводит в колебательное движение не всю основную звуковую мембрану, а только какую-нибудь одну группу ее волокон, резонирующих на данную звуковую частоту. Блестящий знаток высшей математики и теоретической физики, он поставил эти науки на службу физиологии и добился выдающихся результатов.
Умение привлечь точные науки к решению основных проблем живой природы, столь ясно выраженное в трудах
1 У нас, сколько я знаю, школьники не занимаются этой операцией ухом, заключающейся в том, что давлением сзади на ушную рако-ину она выдавливается вперед. (Примеч. И. М. Сеченова.)
3 Молодость Сеченова
65
Гельмгольца, особенно привлекало к нему молодого Сеченова. Иван Михайлович, так же как и Гельмгольц, пришел в физиологию, вооружившись знанием сопредельных с медициной наук.
Сеченов уже имел случай видеть Гельмгольца и слушать его лекции. Насколько велико было впечатление, произведенное ученым на Ивана Михайловича, можно судить по следующим его словам:
«Что я могу сказать об этом из ряда вон человеке? По ничтожности образования приблизиться к нему я не мог, так что видел его, так сказать, лишь издали, никогда не оставаясь притом спокойным в его присутствии... От его... фигуры с задумчивыми глазами веяло каким-то миром, словно не от мира сего. Как это ни странно, но говорю сущую правду: он производил на меня впечатление, подобное тому, какое я испытал, глядя впервые на Сикстинскую мадонну в Дрездене, тем более что его глаза по выражению были в самом деле похожи на глаза этой мадонны. Вероятно, такое же впечатление он производил и при близком знакомстве... В Германии его считали национальным сокровищем и были очень недовольны описанием одного англичанина, что с виду Гельмгольц похож скорее на итальянца, чем на немца».
С душевным волнением Иван Михайлович готовился к посещению Гельмгольца. Весь план будущего разговора с ученым был выношен заранее. Сеченов будет просить разрешения у Гельмгольца на проведение в его лаборатории четырех научных исследований в различных областях физиологии. Здесь и влияние на сердце раздражения блуждающего нерва, и изучение быстроты сокращения различных мышц у лягушки, и исследование по физиологической оптике, и, наконец, проведение опытов с изучением газов, содержащихся в молоке.
Разговор Сеченова с Гельмгольцем наконец состоялся. Ученый принял Ивана Михайловича просто, по-деловому. Гельмгольц сказал Сеченову, на что он может и на что не может рассчитывать в его лаборатории, обещал консультации по ходу исследований. В первую же встречу Гельмгольц спросил Ивана Михайловича, знает ли он английский язык. Получив положительный ответ, он дал Сеченову для ознакомления научный трактат по флюоресценции *. С этого дня Иван Михайлович начал систематически работать во Дворце природы, как пышно именовали горожане скромное двухэтажное здание, в котором размещалась лаборатория Гельмгольца.
У ЗАДУМЧИВЫХ ВОД НЕККАРА
В описываемую эпоху в Гейдельберге жило много русских. Там русские студенты учились в университете, а русские ученые совершенствовались после получения высшего образования у себя на родине. Мягкий климат, живописные окрестности, чудесный Неккар — все это привлекало в Гейдельберг туристов и просто желавших отдохнуть и подлечиться приезжих из России. Среди русских, живших в Гейдельберге. Сеченов нашел новых хороших знакомых и друзей. В их числе были Дмитрий Иванович Менделеев *, Александр Порфирьевич Бородин, семья Пассек и многие другие.
Менделеев был единодушно признан главой составившегося кружка. Несмотря на молодость, он был, по мнению Сеченова, уже настоящим ученым-химиком. Дмитрий Иванович отказался работать в убогих лабораториях гейдельбергских химиков. В одной из комнат своей квартиры он организовал собственную лабораторию, провел в нее газ, обзавелся приборами и химической посудой.
Бородин первоначально хотел работать у Бунзена, но, насмотревшись на толчею у весов и печей в его лаборатории, начал искать более удобное место.
Такое место нашлось в лаборатории молодого ученого Эрленмейера, который любезно предоставил Бородину отдельную комнату и разрешил в ней делать все, что угодно, в любое время дня и ночи.
Молодежь часто собиралась в доме Татьяны Петровны Пассек * то на чай, то на русский пирог или русские щи. Пассек была человеком высокой культуры. Родственница Герцена, вдова знатока русской старины Вадима Пассека, Татьяна Петровна жила в Гейдельберге со своими тремя сыновьями. В ее семье частым гостем бывала писательница Марко Вовчок *. Трогательные узы дружбы соединяли Татьяну Петровну с певцом украинского народа Тарасом Григорьевичем Шевченко *. О чем только не шла речь на вечерних беседах у Пассек! Давали оценку профессорам Гейдельбергского университета. Удивлялись тому, как немецкие студенты — бурши — с их бесконечными попойками и дуэлями впоследствии превращаются в добропорядочных и нудных немецких чиновников и бюргеров.
Читали у Пассек только что появившийся роман Гончарова * «Обрыв». Он казался верхом совершенства.
Александр Порфирьевич Бородин играл на фортепьяно.
Он был незаурядным пианистом. Музыкальный мир тогда еще не знал имени Бородина, им еще не была создана
67
опера * Князь Игорь». Только тесный кружок друзей наслаждался его игрой.
Сеченова, известного любителя итальянской музыки, Бородин услаждал ариями из «Севильского цирюльника» Россини *.
Играл Бородин без нот, музыкальная память была у него изумительная.
Молодых русских ученых живо интересовал быт гейдель-бержцев.
В одном из писем Бородин сообщает своим друзьям, что здесь, в Гейдельберге, калоши не нужны: в праздничные дни немки не только тротуары, но и проезжую часть улицы моют так же, как моют полы в своих квартирах.
♦Общество же немцев,— пишет Александр Порфирье-вич,— невыносимо до крайности, чопорность, сплетни ужасные,— если вы два-три дня сряду были в доме, где есть взрослые дочери и, чего боже сохрани, играли с ними в четыре руки (на фортепьяно),— поверьте, что на другой же день о вас будут говорить как о женихе... Общество немецких студентов еще противнее...— сущие мальчишки... По воскресеньям студенты пьянствуют и редкая неделя проходит без дуэли; повод к дуэли всегда один и тот же: один студент назовет другого «глупый мальчишка». И это ведется с незапамятных времен...»
♦ ♦ ♦
Осенью 1859 года Сеченов с Менделеевым решили отправиться в путешествие по Швейцарии. С мешками за плечами 15 августа друзья выехали из Гейдельберга. План путешествия выполнялся с пунктуальной точностью: путешественники поднимались на горную вершину Риги и ночевали в хижине пастухов, любовались освещенными солнцем вечными снегами альпийских вершин, катались по Фирвальдштет-скому озеру и прошли пешком весь Oberland — горную страну. В Интерлакене два дня ожидали, когда облака раскроют вершину неповторимой Юнгфрау, но так и не дождались.
Тихие, звездные ночи путешественники проводили на ароматном свежескошенном сене в каком-нибудь горном селенье. Думали о своем будущем, которое было в тумане, как эти прекрасные горные цепи, окружающие долину.
Уже заканчивалось время пребывания Сеченова за границей. Еще один семестр в Гейдельберге — и нужно выезжать на родину. Сложные чувства испытывал Иван Михайлович при мысли о возвращении в Россию. Где он будет работать — это пока еще не известно. Иван Михайлович
68
не раз писал письма влиятельным лицам на родину, но они оставались без ответа.
В письмах Сеченов сообщал: «...Мои занятия за границей приближаются к концу. В Германии я перебывал у всех физиологических знаменитостей и работаю в настоящее время у знаменитейшего из всех — Гельмгольца, бесспорно величайшего физиолога нашего столетия. Остается после побывать у Бернара... Сожалею, что физические работы большей частью дорогие и средства не позволяют мне остаться далее за границей... »
Через четыре месяца после возвращения из Швейцарии в Гейдельберг Сеченов собрался, напоследок своего пребывания за границей, посетить Париж. В конце декабря 1859 года вместе с Бородиным и Менделеевым Иван Михайлович выехал из Гейдельберга во Францию.
В ПАРИЖЕ
Граница между Германией и Францией проходила в районе Страсбурга. Наши путники переехали мост через Рейн и очутились на французской земле. Паспорта для выполнения пограничных формальностей были переданы французскому чиновнику. Он отнес их на заставу и вскоре вернулся к дилижансу, в котором находились Менделеев, Сеченов и Бородин. Чиновник брал из пачки очередной паспорт и вручал его владельцу. Менделеев и Бородин уже получили свои паспорта, но на паспорте Сеченова чиновник задержался. Он смотрел то в паспорт, то на Ивана Михайловича и, видимо, находился в затруднении: в паспорте было написано «русский», а смотрел на него человек совсем не русского типа. Чиновник строго спросил Сеченова: «Etes-vous turc monsieur? к (Вы не турок, сударь?) В ответ на этот вопрос раздался хохот всей компании. Поняв вздорность своих подозрений, французский чиновник тоже рассмеялся.
Что же было дальше, по приезде в Париж? Какая-то муха укусила Ивана Михайловича, и вместо занятий в лабораториях началась веселая жизнь — театры, балы, ночные рестораны... Незадолго до выезда во Францию он получил из России от какого-то родственника небольшое наследство в пятьсот рублей. Эти деньги были под угрозой полного исчезновения. Но наконец-то Сеченову надоели праздники — рождественские и новогодние,— и он стал посещать лекции парижских ученых. Время в Париже прошло очень быстро. Иван Михайлович и его друзья вернулись в Гейдельберг.
69
Завершился длительный период пребывания Сеченова за границей. В Италии и Франции он работал мало, в Австрии и Германии — много. В Берлине, Вене, Лейпциге и Гейдельберге Сеченов выполнил большую программу, которую он составил себе для глубокого и всестороннего овладения современной экспериментальной физиологией, а также закончил работу над своей докторской диссертацией. Она была написана и отослана в Петербург, в Медико-хирургическую академию, где предстояла ее защита. Скромно названная автором «Материалы для будущей физиологии алкогольного отравления», диссертация Сеченова отличалась богатством экспериментальных данных, широтой охвата проблемы и глубоким научным проникновением в сущность поставленной темы.
Иван Михайлович писал во вводной части диссертации:
«Труд заключает в себе факты, относящиеся только до опьянения, то есть скоротечного отравления алкоголем. Для точного исследования явлений хронической отравы, которое могло бы принести науке действительную пользу, время еще не настало. Содержание труда обусловливалось, сверх того, следующим: при определении действия всякого яда должно быть обращено внимание, по возможности, на все отравление организма или, по крайней мере, на все то, где его действие очевидно...»
Расставаясь с немецкими коллегами, Иван Михайлович, в отличие от Бородина и других своих товарищей, высказывал симпатию к «простым, добрым и сердечным» обитателям немецких городов. Германия представлялась ему «в виде исполненного мира и тишины пейзажа в пору, когда цветут сирень, яблоня и вишня, белея пятнами на зеленом фоне полян, изрезанных аллеями тополей».
Отношение немецких ученых к Сеченову было самым чистосердечным.
Последние минуты пребывания в Гейдельберге. Гельмгольц ласково прощается с Иваном Михайловичем, желает ему больших успехов на родине.
Заканчивается еще одна глава в жизни Сеченова — длительный период его подготовки к самостоятельной научной деятельности. Впереди Россия, труд и борьба за материалистическую физиологию, за превращение этой науки в один из главных устоев, на котором должна быть утверждена медицина.
Глава V
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Вечером 1 февраля 1860 года Сеченов в почтовом дилижансе прибыл из Риги в Петербург. Утомленные многодневным переездом путники вышли из экипажа. Прощались успевшие сблизиться в дороге путешественники. Иван Михайлович нанял извозчика и, погрузив багаж, пошел на Васильевский остров; там, на 19-й линии, жила его старшая сестра Анна со своей семьей.
На следующее утро после прибытия в столицу Сеченов отправился пешком в Медико-хирургическую академию. Путь этот был долог. Нужно было из конца в конец пройти Васильевский остров, перейти через Неву и продолжать бесконечную дорогу вдоль реки, мимо дворцов и роскошных особняков. Уже обессиленный, добрался Сеченов до начала Литейного проспекта. Здесь он снова перешел Неву, скованную льдом, и наконец оказался у цели — на Выборгской стороне. Около Невы расположился целый городок — Медицинская академия.
В главном административном корпусе академии Сеченова принял старый московский друг и учитель — профессор Глебов. Теперь он был одним из руководителей академии. Еще в Гейдельберге Иван Михайлович получил письмо от Глебова, в котором он обещал после защиты Сеченовым диссертации устроить молодого ученого на службу в Медикохирургическую академию.
Рукопись диссертации была готова и отдана академическому начальству. Глебов отнесся к Ивану Михайловичу очень любезно и обещал по-военному, без долгих проволочек, еще в текущем учебном 1860 году обеспечить ему научную и педагогическую работу на кафедре физиологии.
После приема у Глебова Сеченов направился в обратный путь. Он должен был еще выполнить ряд поручений товарищей по Гейдельбергу. Первое из них — зайти к доброй знакомой Дмитрия Ивановича Менделеева Феозве Никитичне (его будущей жене) и вручить ей письмо. Феозва Никитична живет по дороге на Васильевский остров, и Сеченов вскоре появляется в ее доме. Он называет себя, передает письмо и скромно ждет, пока девушка ознакомится с содержанием послания. Судя по тому, как она, читая, нет-нет, да взглянет с улыбкой на смуглое скуластое лицо Ивана Михайловича, в письме, видимо, говорится и о его скромной персоне. Действительно, послание Дмитрия Ивановича имеет прямое отношение к Сеченову.
«...Вы, вероятно, не будете пенять на меня,— пишет Менделеев,— за то, что через посредство этого письма познакомитесь с Сеченовым. Он, во-первых, бывал на своем веку во многих местах, потому есть ему что рассказать, во-вторых, он был сперва офицером, потом пошел в университет — следовательно, человек с характером. А главное, он человек виду нисколько не обещающего, но в самом-то деле человек оригинальный, теплый, хоть и кажется подчас вовсе не таким. Мне будет интересно знать Ваше мнение о нем. На этом человеке можно отчасти узнавать вкусы людей — к внешности они привязаны, она ли их руководит или же они любят простоту, прямоту, теплоту души, а не мягкость, увы, столь часто вредную.
Сеченов, если только познакомится он с Вами, расскажет много и обо мне. С ним мы ходили по Швейцарии... С ним и здесь скучали мы, и Гончарова здесь вместе читали, и от Парижа вместе были в восторге. А спросите-ка Сеченова, каков Рим, каковы римлянки,— я убежден, что, если Вы спросите его о них, он подумает, что я проболтался, а я ведь, право, ничего и не думаю. Впрочем, сам Сеченов, вероятно, расскажет Вам многое. Он может рассказать отлично, до того владеет собою... когда я на его месте и сказать бы больше ничего не мог. Вы, вероятно, не подумаете, что я рекомендую Вам ангела со всеми совершенствами, я ведь только провожу параллель со мной...»
Феозва Никитична решила показать это письмо Ивану Михайловичу. Он читает его, и они вместе смеются.
— Ну и Дмитрий Иванович, удружил, ничего не ска
72
жешь, отрекомендовал. Вот приедет сюда, я ему концерт устрою, покажу, как чужие тайны на свет божий выносить...
Сеченов поведал Феозве Никитичне о житье-бытье своем и Дмитрия Ивановича в Гейдельберге, о путешествиях по Европе. Характеристику, данную ему Менделеевым в письме, Иван Михайлович полностью оправдал — человек он действительно прямой, теплой души и чудесный рассказчик.
Через месяц после вручения Сеченовым начальству докторской диссертации была назначена публичная ее защита. Воспользовавшись свободным временем, Иван Михайлович отправился в Москву повидаться с друзьями, побывать в родном университете, взять из канцелярии необходимые документы.
ЗАЩИТА ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И ПОСТУПЛЕНИЕ НА КАФЕДРУ
5 марта 1860 года в 12 часов утра в большом конференц-зале Медико-хирургической академии была назначена защита диссертации на степень доктора медицины лекарем Иваном Сеченовым.
В столичных газетах было помещено объявление: ♦Конференция Императорской Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии приглашает господ просвещенных любителей присутствовать при защищении диссертации...»
На защиту диссертации пришло много студентов, которые какими-то неведомыми путями узнали о приезде из-за границы «молодого и очень талантливого ученого».
Иван Михайлович неторопливо и спокойно начал свою речь.
Обзор литературы по затронутой Сеченовым проблеме был невелик, ибо работ в этой области было ничтожно мало. Зато описание собственных исследований и выводов из них заняло много времени. Диссертант убедительно, на основании многочисленных опытов, показывал влияние алкоголя на физическое и химическое состояние крови, на деятельность сердца, на состояние кровеносных сосудов.
Особое внимание он уделил влиянию алкоголя на нервную систему.
Глубокий интерес представили приложенные к диссерта-Цни и прочитанные Сеченовым тезисы его будущих работ.
Вот они, сокровенные, предельно короткие и необыкновенно глубокие размышления Сеченова по главным, волновавшим его вопросам биологии и ее дочерней науки — физиологии :
73
«1. Если и существуют силы, свойственные исключительно растительному и животному организмам перед телами неорганическими, то силы эти действуют по столь же непреложным законам, как и неорганические силы.
2. Все движения, носящие в физиологии название произвольных, суть в строгом смысле рефлективные ♦.
3. Самый общий характер нормальной деятельности головного мозга (поскольку она выражается движением) есть несоответствие между возбуждением и вызываемым им действием — движением.
4. Рефлекторная ♦ деятельность головного мозга обширнее, чем спинного.
5. Нервов, задерживающих движение, нет.
6. Животная клеточка, будучи единицей в анатомическом отношении, не имеет этого смысла в физиологическом: здесь она равна окружающей среде — междуклеточному веществу.
7. На этом основании клеточная патология, в основе которой лежит физиологическая самостоятельность клеточки, или, по крайней мере, гегемония ее над окружающей средой, как принцип ложна.
8. При настоящем состоянии естественных наук единственный возможный принцип патологии есть молекулярный».
Далеко вперед смотрел Иван Михайлович, нанося на бумагу эти тезисы. В основе их — материалистическое утверждение о единстве неживой и живой природы. Иван Михайлович высказал изумительные по прозорливости мысли о материальной сущности деятельности головного мозга. Эти мысли — программа действий на многие годы не только для Сеченова, но и для последующих поколений физиологов. И, наконец, последнее в тезисах — это возвращение к теме спора между Боткиным и Сеченовым. Иван Михайлович отрицал клеточную патологию Вирхова, вытекающую из учения о самостоятельности каждой клетки в сложном многоклеточном организме. Сеченов утверждал, что все клетки в организме взаимосвязаны между собой, причем выдающуюся роль в этих межклеточных связях играет нервная система.
С глубоким вниманием профессора Медико-хирургической академии и ее студенты выслушали Сеченова. Всем было ясно: на научном небосклоне отечества появилась новая яркая звезда.
Начальство академии относилось к Сеченову очень доброжелательно. До публичной защиты диссертации ее напечатали в «Военно-медицинском журнале», без всякой на то
74
просьбы со стороны Ивана Михайловича. Благосклонность к молодому ученому проявилась и при защите диссертации. Оппоненты задали Сеченову всего несколько вопросов и были приятно удивлены тем, что он провел на себе серию рискованных опытов с употреблением больших количеств алкоголя. Добросовестность и скромность диссертанта, несомненная талантливость, с которой была написана работа, и большой экспериментальный материал, положенный в ее основу, обеспечили успех Сеченову. Но были еще причины, благодаря которым так легко устроились дела Сеченова и других его товарищей при их появлении в академии. Но об этом будет сказано позже.
В протоколе конференции академии после окончания защиты диссертации было записано:
«Конференция академии, принимая во внимание, что лекарь Сеченов в собрании ее 5 сего марта в присутствии сторонних лиц и студентов академии удовлетворительно защитил составленную им для получения степени доктора медицины диссертацию под заглавием «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения», определила: признать его доктором медицины, выдать ему на это звание установленный диплом...
Вместе с тем конференция, принимая в соображение, что доктор Сеченов в бытность свою за границей специально изучал физиологию, трудами и работами по этому предмету сделался уже известным в ученом сословии, постановила: допустить его к испытанию на звание адъюнкт-профессора *, имея в виду предоставить ему одну из имеющихся адъюнктских вакансий по выдержании им экзамена из физиологии и прикосновенных с оною предметов, для чего и пригласить его на экзамен в следующем заседании конференции, 12 марта».
Быстро минула неделя. Наступила суббота, день экзаменов для поступления Сеченова на кафедру физиологии.
Ученый секретарь академии, знаменитый химик профессор Николай Николаевич Зинин *, пригласил Ивана Михайловича в конференц-зал и объявил, что предстоят два экзамена : первый — по физиологии, второй — по зоологии со сравнительной анатомией. Сеченов охотно согласился держать любой экзамен по своей специальности — физиологии, но честно признался, что зоологией не занимался и экзамен Держать не может. Но, поскольку дело с приемом Сеченова в академию уже давно было предрешено, Зинин успокоил его, заверив, что экзамен по зоологии пустяк, чистая формальность.
После сдачи экзаменов оформление на кафедру было бы
75
стро устроено. Сеченову предложили без промедления приступить к чтению лекций по физиологии.
В автобиографических записках Иван Михайлович Сеченов объективно рассматривает причины сравнительно легкого поступления на кафедру физиологии лучшего в стране высшего медицинского учебного заведения:
«Перед нашим поступлением профессорский персонал... требовал обновления: на некоторых кафедрах доживали свой век старики, и молодых сил совсем не было... Первым делом Зинин перетащил к себе на подмогу своего большого приятеля Глебова (они вместе учились в молодости за границей) из Москвы, когда тот выслужил в университете двадцать пять лет... Из своих учеников в академии Зинин стал подготовлять будущего химика (Бородина) и будущего физика (Хлебникова), а медицинское обновление отдал, очевидно, в руки Глебова. Глебов же, как московский профессор, мог знать только москвичей; вероятно, знал нас или слышал о нас от товарищей; притом же Боткин, Беккере и я были первыми русскими учениками за границей, после того как в конце царствования императора Николая посылки медиков за границу на казенный счет прекратились. Все это вместе и было причиной, почему нас взяли в академию».
Этими благоприятными обстоятельствами Иван Михайлович объяснял свое появление в роли преподавателя физиологии в Медико-хирургической академии. Дополняя эти воспоминания, он писал: «Стоилли я тогда кафедры экспериментальной науки, говорю по совести—меньше, чем наши теперешние ассистенты, не побывавшие за границей. Эти знакомы с физиологической практикой в очень разнообразных направлениях, а я умел пока владеть лишь лягушкой и видел, правда, в лаборатории Людвига много опытов, иногда даже ассистировал в них, но сам был действительно знаком только с теми приемами, которые входили звеном в мои работы. Приняли меня потому, что таких ассистентов в России еще не было и я, с своими ограниченными сведениями, был все-таки первым из русских, вкусивших западной науки у таких корифеев ее, как мои учителя... В последнем отношении мне завидовали позднее даже немцы».
Иван Михайлович писал правду — в России физиология действительно не была еще экспериментальной наукой.
Впрочем, и на Западе физиология также только вступала на этот путь, и Ивану Михайловичу Сеченову в последующие годы не приходилось довольствоваться ролью ученика выдающихся физиологов Германии и Франции, он быстро вышел в авангард науки и стал одним из основате
76
лей экспериментальной физиологии, наиболее сложного ее раздела — центральной нервной системы.
Несколько позже Сеченова, месяца через два, в академию были приняты Боткин и Беккере. Первый — в терапевтическую клинику, второй — в хирургическую. Дружба между тремя молодыми учеными еще более укрепилась.
Пришли к концу и все тревоги, связанные с устройством в академию. 19 марта 1860 года Ивану Михайловичу предстояло прочесть первую лекцию.
Вознаграждение за труд пока будет очень скромным — адъюнкту ♦ академии полагалось получать пятьсот шестьдесят рублей в год,— но Сеченову обещали еще место ординатора ♦ в клинике; это увеличивало жалованье до тысячи двухсот рублей. На эти деньги можно было сносно жить и еще некоторую часть из них тратить на оборудование будущей физиологической лаборатории.
НАЧАЛО ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Все яснее вырисовывались ближайшие перспективы освобождения крестьян от крепостной зависимости. Первые порывы свежего ветра в общественной жизни России нашли свое отражение в записных книжках Ивана Михайловича: «1860 год памятен, я думаю, всякому, кто жил тогда в Петербурге. Все знали, что великий акт освобождения миллионов рабов вскоре совершится, и все трепетно ждали его обнародования. С некоторых пор дышалось много свободнее, чем прежде; в литературе и в обществе зарождались новые запросы, новые требования от жизни; но в этом году общее настроение, как перед большим праздником, было напряженно-тихое... Это было, конечно, очень счастливое время».
Осенью этого памятного года начиналась профессорская деятельность Сеченова. Много времени отнимала у него подготовка к чтению лекций. Он слово в слово писал текст каждой из них.
Программа курса физиологии, который читал Сеченов в 1860/61 учебном году, была обширна. Начиналась она с учения о крови. Студентам давалось представление о микроскопическом составе крови. О влиянии на кровь различных химических веществ. О способе определения количества белых и красных кровяных телец в крови. Десятки важней-пшх и увлекательных вопросов, связанных с кровью, ставил и разрешал на своих лекциях Сеченов. Эти лекции сопровождались демонстрацией многочисленных опытов. Никто
77
и никогда в России еще не читал такого обширного курса лекций по физиологии крови и кровообращения.
Кровь, этот сок совсем особенного рода, по словам гётевского Мефистофеля, кровь, с которой было связано так много образов в литературе и искусстве, кровь «благородная», и «горячая», и «живая» оказывалась прозаической жидкостью, осуществляющей важнейшие функции организма. Студент видел под микроскопом, как в капле крови плавают различной формы крошечные тельца. Эти красные и белые кровяные тельца свободно скользят вдоль стенок кровеносных сосудов, в короткое время проходят большой путь от сердца к капиллярам, волосным сосудам, и возвращаются обратно к сердцу. Красные кровяные тельца, проходя через легкие, насыщаются кислородом, необходимым для обеспечения энергией тканей организма.
Сеченов излагает учение о законах, управляющих передвижением крови в теле человека, о работе сердца, его строении, о влиянии на деятельность сердца различных нервов. Чтобы было понятно движение крови по сосудам, Иван Михайлович дает общее представление о движении жидкостей по трубкам равного диаметра с неэластичными стенками. Он учит измерять скорости движения такой жидкости. Затем он переходит к более сложным явлениям: рассказывает, как движется жидкость по трубкам с растяжимыми стенками. Сеченов обращает внимание студентов на важнейшую роль кровеносных сосудов в кровообращении, на влияние нервов на сосуды. Стоит просто перечислить несколько пунктов из обширной программы лекций Сеченова, чтобы дать понятие о том, как серьезно ставил молодой профессор в своем курсе проблемы физиологии кровообращения и дыхания :
«...18. Определение величины сердечного давления в артериях. Изменения напряжения крови по длине артерии. Влияние раздражения и перерезки бродящих нервов на величину давления крови в артериях. Влияние перевязки артерий на величину среднего давления.
...21. Влияние дыхательных движений на приток венной крови к сердцу. Влияние задержанного дыхания на деятельность сердца.
...23. Строение легких. Движения грудной клетки при дыхании.
...26. Вхождение воздуха в легкие. Изменения воздуха при дыхании. Судьба кислорода при дыхании...»
Лекции Ивана Михайловича изобиловали яркими фактами и эпизодами, взятым талантливым лектором из повседневной жизни или из литературы. Такие «лирические» от
78
ступления делали трудный научный материал увлекательным. В одной из лекций Иван Михайлович объясняет химический состав крови. Тема весьма нелегкая. Нужно сообщить множество цифр, фактов и формул. И тут Сеченов рассказывает следующее.
Однажды парижский студент-медик, узнав, что в крови человека содержится железо, решил совершить подвиг: подарить даме своего сердца железное кольцо, добытое из собственной крови. Эта странная идея целиком захватила молодого человека, и он начал через известные промежутки времени пускать себе кровь. Молодой человек не знал, очевидно, что содержание железа в крови ничтожно — нужно выпустить всю кровь из целой сотни людей, чтобы набрать около фунта железа. Кровь он химически обрабатывал, но накопление железа шло крайне медленно. Тогда влюбленный студент решил ускорить дело — он увеличил порцию выпускаемой крови и... отдал богу душу.
Своим слушателям Иван Михайлович показывал, как бьется сердце лягушки вне ее тела. Лягушечье сердце буквально прыгало, подвешенное на приборе. Если сохранить такое сердце в определенных условиях, оно будет биться еще много часов. Сеченов знакомит студентов с поразительным явлением неодновременной смерти различных органов. Животное мертво, сердце его уже не бьется, но в течение еще нескольких минут можно заставить остановившееся сердце работать. Для этого надо воспользоваться электрическим током.
В лекциях широко использовались и экскурсы в историю науки. Так, в связи с только что сообщенным фактом работы сердца вне организма Сеченов рассказывает трагическую судьбу знаменитого анатома XVI века Везалия *. В эпоху Везалия церковь, мешавшая развитию всех наук, и в особенности медицины, считала величайшим грехом рассекать, анатомировать умерших людей. Церковникам не было никакого дела до того, что, не зная, как устроено человеческое тело, врач не в силах его лечить. Узнать же анатомию человека можно было лишь одним способом — вскрывая умерших. Везалий пренебрег запретом церкви и жестоко поплатился за это. Один из больных, молодой дворянин, которого лечил Везалий, умер, несмотря на все старания врача спасти его. Каждая смерть больного — это рана на сердце врача. Надо доискаться причины смерти — таково естественное желание всякого мыслящего лекаря. Везалий попросил разрешения вырыть труп умершего дворянина. Разрешение на это было им буквально вырвано из уст церковников.
79
Один из учеников знаменитого анатома совершил гнусный поступок. Он оклеветал Везалия, донес церковным властям, что якобы видел бьющееся сердце в трупе, который вскрыл его учитель. Везалия обвинили в том, что он зарезал живого человека. Предстоял суд святой инквизиции*, Везалию грозила смерть на костре. Напрасны были попытки ученого объяснить инквизиторам, что он вскрывал мертвого человека. Везалия судили. Его не казнили, но заставили уехать в Палестину замаливать свой страшный грех — дерзкое желание узнать тайну создания божьего.
Лекции молодого профессора физиологии привлекали не только студентов Медико-хирургической академии, но и посторонних слушателей. О молодом физиологе заговорили в различных кругах петербургского общества. Сам же Иван Михайлович со свойственным ему критическим отношением к себе отзывался о своих лекциях так: «Я не во всех случаях умел отличать важное от второстепенного, не умел обозначать точно словами различных понятий и отличался вообще наклонностью к анекдотическим, иногда даже очень резким суждениям».
ПЕРВЫЙ год в академии
Кроме лекционных занятий, Иван Михайлович в первый год работы в академии готовил к печати очерки о так называемом животном электричестве. Под воздействием гальванического тока в нервах и мышцах происходят различные изменения, которые проливают свет на сущность нервно-мышечных явлений. Опыты Сеченова по применению электричества для выяснения ряда физиологических проблем обратили на себя внимание не только специалистов. Позже за эту работу Академия наук наградила Ивана Михайловича премией Демидова.
В академии Сеченов завоевал себе репутацию одного из наиболее известных и популярных профессоров.
Однако жизнь его в академии была не совсем благополучной. На исходе первого года самостоятельной педагогической и научной деятельности Сеченов написал в Гейдельберг пространное письмо Дмитрию Ивановичу Менделееву. В этом письме он рассказывал .об интригах и сплетнях, которые плетутся в академии вокруг его имени.
♦Теперь я ко всему этому попривык,— пишет Иван Михайлович,— философски твержу себе «наплевать», когда меня задевают, стал покоен, не кипячусь более и иду себе
80
мирно своей дорогой. Положением своим я вообще доволен, потому что лучшего в России для меня быть не может — везде ведь есть интриги и сплетни**
Лекциями Ивана Михайловича студенты восхищались. Правда, были между ним и студентами некоторые трения.
В его маленькую лабораторию ходили любопытные — посмотреть, как работает новая академическая знаменитость, ходили толпами. Это ежедневное паломничество в ♦физиологическую Мекку* мешало Ивану Михайловичу заниматься, и он повесил на двери объявление: «Прошу господ студентов жаловать ко мне в комнату лишь по приглашению*. Студенты объявление сорвали и по-прежнему бегали к Сеченову, мешая работать. Тогда Иван Михайлович приказал солдату запирать двери, студентам же он еще раз объяснил, что они отвлекают его от научных исследований. Наконец студенты поняли, что Иван Михайлович прав, и порядок водворился.
СОРАТНИКИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО
«Россия производит на меня очень скверное впечатление. Если мое теперешнее настроение духа будет долго продолжаться, то я непременно удеру за границу*.
Так пишет Сеченов под влиянием событий, предшествовавших 1861 году и связанных с происками реакции. Конечно, никуда Иван Михайлович не «удерет* — куда уйдешь от своей родины. Он встретит людей, которые покажут ему будущее России, и настроение переменится, другие мысли будут занимать его.
...Много интересных людей живет в Петербурге. Сколько, например, разноречивых толков слышит Сеченов о Николае Гавриловиче Чернышевском *, который стал душою журнала «Современник*. Вокруг редакции этого журнала группируются талантливые литераторы, известные общественные и научные деятели и, конечно, учащаяся молодежь. До редакции от академии рукой подать — перебраться через Неву, и по Литейному проспекту, по левой стороне, вскоре подойдешь к небольшому дому, где на втором этаже не так давно жил великий русский хирург Николай Иванович Пирогов. В том же доме, в том же подъезде, на втором этаже, напротив бывшей квартиры Пирогова, разместился «Современник*. Здесь в редакции работают Чернышевский и Некрасов *. Среди посетителей и сотрудников «Современника* можно встретить доктора Бокова, поручика в отставке Обручева.
81
С тех пор как генерал Александр Афанасьевич Обручев вышел в отставку, семья его постоянно живет в родовом селе Клепенино, Ржевского уезда, Тверской губернии. Старший сын Обручевых, Владимир, служит в гвардии, имеет чин поручика. Его сестра Мария, девушка умная и любознательная, осенью 1859 года вместе с матерью Эмилией Францевной выехала из деревни в Петербург. Причина тому — ее слабое здоровье.
Летом в Клепенино Владимир Обручев привозил своего друга, молодого доктора Петра Ивановича Бокова, который с превеликим смущением осмотрел барышню. Он-то и нашел полезным вывезти Марию Александровну в Петербург для консультации с лучшими врачами и для лечения.
Этот год заканчивался для Обручевых тревожно. Что-то неладное творилось в Петербурге с Владимиром. В последний свой приезд в Клепенино он высказал желание выйти в отставку. Отец и мать резко воспротивились этому намерению сына. Ведь блестящее будущее их сына обеспечивала только армейская служба.
Генерал Обручев был вне себя. Однако, будучи неглупым человеком, он понимал, что за этим желанием Владимира стоят какие-то серьезные, неизвестные ему мотивы, о которых сын не говорит.
И вот пришло известие из столицы — Владимир ушел в отставку. Просьбы и приказы родителей не удержали его от этого шага.
За одной бедой пришла новая. В феврале заболела вторая дочь Обручевых, Анюта. В марте ее не стало.
В апреле из Питера прибыло совместное письмо Маши и доктора Бокова. Дочь просила благословения на брак с Петром Ивановичем. Доктор Боков также просил разрешения родителей на брак с Марией Александровной.
Родители Марии Александровны мало знают Бокова. Им известно только, что Боков друг их сына Владимира, что оба они близки к редакции «Современника» и их идеи очень опасны.
После долгих раздумий Александр Афанасьевич и Эмилия Францевна все-таки дали согласие на брак своей дочери и Бокова.
В мае 1860 года Мария вместе с Володей приехала в Клепенино. Она уже была невестой доктора Бокова. На август назначена их свадьба.
Но генерал Обручев не знает главного: его дочь вступает в так называемый фиктивный брак. Это делается для того, чтобы освободиться от власти родителей и получить высшее образование.
82
Другого способа разорвать цепи семейной тирании не было.
Петр Иванович Боков был готов помочь Марии Обручевой в ее стремлении учиться, да и мог ли иначе поступить единомышленник Чернышевского, истинный представитель эпохи первой русской весны — шестидесятых годов прошлого века.
Но оставим на время семью Обручевых и доктора Бокова, вернемся к Ивану Михайловичу.
ВАКАНСИИ ПО ФИЗИОЛОГИИ В АКАДЕМИИ НАУК
На исходе 1860 года в Петербурге много говорили и писали о появившейся вакансии в Академии наук. Вакансия скромная — адъюнкта физиологии — и только для русских ученых. Последнее обстоятельство станет ясным, когда читатель узнает, что в Российской Академии наук по разряду естествознания не было ни одного русского имени.
Вопрос о том, кто будет избран в Академию наук на кафедру физиологии, волновал не только ученых.
В «Отечественных записках», одном из популярнейших литературно-художественных журналов того времени, была опубликована статья «По поводу предстоящих выборов в Академию наук». В этой статье сообщалось, что маститый ученый и мыслитель Карл Бэр * ушел в отставку и что предстоит избрать наиболее достойного его преемника. Далее журнал очень деликатно писал, что при избрании в Российскую Академию наук при равных научных заслугах предпочтение должно быть отдано русскому ученому. Упоминалось имя серьезного немецкого химика из Дерпта, профессора Кюна, но тут же указывалось, что никто из естествоиспытателей не считает его физиологом. А избрать нужно в Академию наук физиолога. Кого же? И «Отечественные записки» назвали Ивана Михайловича Сеченова. О только что появившемся в Петербурге, еще года не проработавшем на кафедре физиологии в Медико-хирургической академии молодом ученом Сеченове «Отечественные записки» писали следующее:
«...Мы только прислушиваемся к говору общества и хотим сообщить читателям одно имя, все чаще повторяемое теми, которые беспристрастно относятся к нашей Академии наук, а не хотят верить во влияние национальных неприязнен при выборе ученых. Эти лица всего утвердительнее го
83
ворят о И. М. Сеченове, как о вероятнейшем кандидате на место К. М. Бэра, и должно сознаться, что И. М. Сеченов вполне заслужил своими учеными трудами то значение, какое придает ему общество. Европейские физиологи с глубоким уважением отзываются о его работах и ставят их наряду с важнейшими современными трудами... Мы не можем... входить в подробности, но указываем только, что имя И. М. Сеченова есть одно из известнейших имен наших ученых в среде нашего общества... Вне области физиологии искать наследника К. М. Бэру академия, вероятно, никогда не вздумает. При равном достоинстве с И. М. Сеченовым ей нет никакой причины избрать не русского; об избрании же ученого, уступающего заслугами названному кандидату, едва ли может быть и речь».
После долгих колебаний и раздумий Сеченов 1 декабря 1860 года подает прошение о включении его в число соискателей на место адъюнкта Академии наук по физиологии. Но проходит три недели, и Иван Михайлович направляет в Академию наук второе прошение: «Совершенно неожиданно семейные обстоятельства заставляют меня думать, что в скором времени я буду вынужден искать значительного усиления моих теперешних материальных средств к жизни. При этом условии честное выполнение обязанностей, лежащих на каждом из членов Академии наук, если бы я удостоился высокой чести принадлежать к их числу, было бы для меня невозможным. Поэтому я и имею честь покорнейше просить конференцию академии исключить меня из числа конкурентов на место адъюнкта по кафедре физиологии».
В Академии наук шла, как обычно, закулисная борьба за кандидатуру академика. Немецкая партия ратовала за избрание профессора Кюна, русские академики склонялись к Сеченову.
Нежелание участвовать в выборных махинациях, где решающую роль играли не научные достоинства избираемого, а соотношение сил борющихся партий, было первой причиной отказа Ивана Михайловича от вступления в Академию наук. Второй причиной была величайшая скромность Сеченова, его чрезвычайно высокая требовательность к званию ученого.
Нелегко найти в истории науки такие беспощадные и резкие слова, несомненно несправедливые, какие написал о себе в связи с выборами в Академию наук Иван Михайлович Сеченов:
«Зная себе настоящую цену, я понял, что меня выбирают по поговорке: на безрыбье и рак рыба; к тому же я не имел
84
никаких оснований думать, что окажусь достойным такой высокой чести и последующей деятельностью; жить же с красными ушами не хотел и потому наотрез отказался».
На квартиру к Ивану Михайловичу прикатил непременный секретарь Академии наук, уговаривал его изменить свое решение.
_____ Дорогой Иван Михайлович, вы лишаете нашу академию возможности на длительный срок создать отечественную физиологическую научную школу. Вы бы принесли нашей академии такой же вклад, какой Гельмгольц и Мюллер принесли Германии.
Словоизвержение господина непременного секретаря не прекращалось. Решив прекратить разговор, Сеченов сказал:
— Уважаемый коллега, я не могу принять ваше любезное предложение еще и потому, что не имею в виду посвятить себя исключительно ученой карьере и буду заниматься медицинской практикой...
Ни до этого случая, ни после него Иван Михайлович медицинской практикой не занимался. Этот аргумент был нужен лишь для того, чтобы прекратить бесполезный разговор.
Всей душой желая служить отечественной науке и понимая, какие большие возможности для этого давало бы звание академика, Иван Михайлович тем не менее не пожелал идти в Академию наук.
1861 ГОД
Шеф жандармов князь Долгоруков в своих донесениях царю писал о том, что неспокойно нынче в русской деревне, бурлит народное море. Крепостные крестьяне не выходят на барщину и не платят помещикам оброка, оказывают неповиновение властям. В 1858 году крестьянские волнения охватили двадцать пять губерний России. Крестьяне, которых веками угнетатели спаивали водкой, отказываются ходить в кабак. Они громят питейные заведения, дают на мирских сходках обет не пить вина. Назначают денежные штрафы и телесные наказания тем, кто нарушит этот обет. И это неслыханное на Руси движение против водки охватывает всю страну — не является ли оно подкопом под устои Царской власти?
Сеченова радует народное движение. С каким непередаваемым удовольствием он ловит новости: в Пензенской губернии в течение трех недель разгромлены пятьдесят каба
85
ков, в Московской губернии крестьяне также разбивают питейные дома, в Тамбовской, Саратовской, Тверской, Оренбургской, Казанской, Владимирской, Смоленской, Вятской и, наконец, в родной Симбирской губерниях крепостные крестьяне громят находящиеся под охраной царских властей кабаки. Избивают откупщиков винной монополии, сельских старшин, чиновников и полицейских. Прекрасно зная губительное действие водки на организм человека, Сеченов, однако, не представлял себе огромного значения водки в жизни современной ему России.
Поэтому он с огромным интересом читал напечатанную в «Современнике» статью Чернышевского. В этой статье было написано: «Отрасль доходов, отдаваемых на откуп (читай: доходов от продажи водки.— Б. М.), составляет самую значительную часть государственного дохода... почти треть всех государственных доходов... Каждому известно, что, если село было зажиточно, пока не существовал в нем кабак, оно неминуемо беднеет вслед за основанием в нем кабака... Кабак не просто лавка, в которой продается вино... нет, кабак употребляет всю изобретательность соблазна и плутовства, чтобы стать притоном всех возможных пороков...»
Иван Михайлович еще незнаком с Чернышевским, но он признателен и благодарен автору статьи «Откупная система» за его мужественные и смелые взгляды. Чернышевский пишет об откупщиках винной монополии, но ведь каждому думающему человеку ясно, куда он метит. Накануне освобождения крестьян эта статья имеет ясную революционную направленность.
...19 февраля 1861 года царь Александр II подписал манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. 5 марта этот манифест был обнародован. Крепостные крестьяне вышли из-под крепостной зависимости. Теперь помещик уже не мог продать человека, как собаку, запретить ему уехать из своей деревни или вступить в брак. Но «...крестьян «освобождали» в России сами помещики... И эти «освободители» так повели дело, что крестьяне вышли «на свободу» ободранные до нищеты...» Они освободились от рабства, но попали в кабалу к тем же помещикам и их ставленникам. Земля оставалась собственностью помещиков. Бывшие крепостники отняли у крестьян от V5 до 2Л земель. Оставшаяся же у крестьян земля была плохой, порой вовсе не годной для хлебопашества. И за эту бросовую землю крестьяне должны были выплачивать помещикам большой выкуп. Дворовые крестьяне, которые обслуживали помещичьи семьи, «освобождались» без земельного надела, и они долж
86
ны были еще два года служить помещику. Крестьяне в царской России, по словам Владимира Ильича Ленина, по-прежнему оставались сословием, «... забитым, темным, подчиненным помещикам-крепостникам и в суде, и в управлении, и в школе, и в земстве». Вот какова была царская милость к крестьянам, вот что дал крестьянству царь-«освободитель» Александр II.
ДРУЖБА С МЕНДЕЛЕЕВЫМ
...Летом 1861 года Иван Михайлович оставался в Петербурге. Он по-прежнему жил вместе со своим другом Беккер-сом на Выборгской стороне, вблизи Медико-хирургической академии. С некоторых пор жизнь в столице стала для Сеченова более интересной. Наконец-то приехал из-за границы Дмитрий Иванович Менделеев. Не распаковав чемоданы, он побежал искать своего друга Ивана Михайловича. Долго искал и нашел его только вечером, на квартире, которую Сеченов снимал вместе с Беккерсом.
«Нашел его, вместе с Беккерсом живут, и славно живут...» — записал в своем дневнике Менделеев 17 февраля 1861 года. О своей жизни Менделеев, к сожалению, не мог сказать этого же. Его будущее было туманно, он еще не знал, где и как будет заниматься своей дорогой химией. В эти трудные для себя дни Менделеев очень часто встречался с Сеченовым, находя у него товарищескую поддержку и совет. В дневнике Менделеева изо дня в день повторяется имя Сеченова: «1 марта... Утром химию писал, потом отправился к Сеченову и обедал там с Юнге, Беккерсом и Сеченовым. Славные, право, люди... 7 марта... Сеченов пишет, что сходил к Пеликану — хочет он обо мне похлопотать,— спасибо им...»
Из записи, сделанной Дмитрием Ивановичем Менделеевым 13 марта 1861 года, мы узнаем, что Иван Михайлович Уже произведен в экстраординарные * профессора Медикохирургической академии.
В каникулярное летнее время Иван Михайлович в компании с Менделеевым часто ездит отдыхать на Елагин остров. Там, на берегу Финского залива, он делает небольшую научную работу. Сеченова заинтересовал вопрос, не содержат ли съедобные грибы ядовитые вещества. По особому заказу в лабораторию Ивана Михайловича тащат большие корзины, наполненные сыроежками. Грибы эти измельчаются, варятся в воде. Затем отцеживается слизистый отвар, ко
87
торый после удаления слизи подвергается сильному выпариванию. В результате всех этих операций в распоряжении Сеченова оставалась небольшая порция густой темно-красной жидкости. Одна капля этого зелья, введенного в тело лягушки, вызывала остановку сердца.
Это было действие ядовитого вещества — мускарина, которое Иван Михайлович впервые выделил из съедобных грибов. Позднее это же вещество было выделено из мухоморов.
БЕЗДНЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Начался новый учебный год. В аудиториях Медико-хирургической академии снова многолюдно и шумно. Вернувшиеся из родных мест студенты привезли с собой тревоги бурного 1861 года. Возле студентов, приехавших из Казанской, Самарской и Симбирской губерний, собрались толпы товарищей. Они просят рассказать со всеми подробностями о восстании крестьян в селе Бездна.
Что же случилось в селе Бездна, почему происшедшее там так взволновало всю страну?
Крестьяне не верили тому, что было написано в «Положении об освобождении крестьян». Из уст в уста, из деревни в деревню шла молва: «помещики нашу волю украли», нужно искать «волю настоящую».
Один из студентов, сын крупного казанского помещика, излагал бездненскую трагедию так: «Крестьяне взбунтовались, решили перебить сначала всех помещиков с их семействами, затем перебить дворню и, наконец, ограбить церкви, оставив из каждых 10 одну. Но приехал генерал Апраксин с отрядом солдат и навел порядок. Все зачинщики и главные смутьяны были либо убиты, либо арестованы». Что-то еще хотел сказать розовощекий, толстенький, в новом мундире студент, но его прервали, вытолкали из аудитории. Слово взял другой студент, приехавший из уездного городка Спасска, поблизости от которого разыгрались бездненские события. Студент лично беседовал с очевидцами бездненской трагедии. Он обстоятельно, неторопливо рассказал товарищам все, что было ему известно.
В селе Бездна находилось имение графа Мусина-Пушкина. Свыше 820 крепостных мужского пола жили в нем. 6 апреля крестьяне отказались выйти на барщину, объясняя управляющему графским имением, что они теперь вольные и работать на помещика не обязаны. Среди крестьян нашелся один, который «вычитал» своим односельчанам из «Поло
88
жения», что вся помещичья земля должна принадлежать крестьянам, а помещику земли — горы да долы, овраги да дороги, песок да камыш... Переступит он шаг со своей земли — гони добрым словом, не послушался — секи ему голову, получишь от царя награду. Звали его Антоном Петровым.
К вечеру 8 апреля в село Бездна прибыл исправник. Он требовал, чтобы крестьяне разошлись по домам. Но никто его не слушал, всю ночь сотни крестьян находились на площади.
9 апреля в Бездну приехали уездный предводитель дворянства и несколько чиновников. Все они отправились к дому Антона Петрова, который круглосуточно охранялся большой толпой крестьян. Снова начались увещевания, но крестьяне не хотели ничего слушать и повторяли, что они совершенно свободны.
Через два дня в Бездне появился прибывший из Петербурга граф Апраксин. Он приказал выдать ему зачинщика— Антона Петрова.
Крестьяне отвергли это требование.
Еще через день, 12 апреля, по дороге в Бездну шагали две роты под командованием поручика Половцева. С этим военным отрядом следовал вторично в Бездну и граф Апраксин. За околицу навстречу солдатам вышли два седобородых старца с хлебом и солью. К старикам на коне подъехал поручик Половцев и спросил:
— Для кого приготовили хлеб и соль?
Крестьяне ответили:
— Вашему императорскому величеству!
Половцев ускакал к графу Апраксину и передал ему слова крестьян. Граф приказал передать старикам, что хлеб и соль он не принимает и чтобы они унесли их домой. Обиженные старики понуро пошли обратно.
Карательный отряд Апраксина вошел в село. Около четырех тысяч крестьян — здесь были ходоки из сел всего уезда и даже соседних — Самарской и Симбирской губерний — окружили со всех сторон избу Антона Петрова. Граф Апраксин потребовал выдачи Петрова, но крестьяне в ответ только теснее сгрудились вокруг дома, где находился их вожак.
Тогда Апраксин отдал приказ поручику Половцеву открыть огонь по безоружной толпе. «Бедный народ только стонал после каждого выстрела, русые головы падали, облитые кровью...» Последними словами умирающих были: «Воля! Воля!..» Чтобы прекратить кровопролитие, Антон Петров вышел к войскам. Его тотчас же схватили. Около шестидесяти человек было убито, сорок один человек позже умерли
89
от ран, сообщал начальству о жертвах в Бездне спасений земский исправник.
Военно-полевой суд приговорил Антона Петрова к расстрелу.
А тем временем графа Апраксина с ликованием встречали казанские помещики.
Герцену* в «Колокол»* один из очевидцев писал: ♦ 13 апреля Воскресенская улица (главная улица Казани.— Б.М.) в 1 часу представляла вид необыкновенный. По ней катились коляски, дрожки и тарантасы. Помещики с веселыми лицами ехали к губернатору. Только что получено было известие о «победе графа». В помещичьих домах звенели бокалы с шампанским, шел пир горой. Женщины — жены и дочери крепостников — жалели о том, что убито слишком мало мужиков».
Но в Казани жили не только помещики-крепостники. В этом городе находился известный своими вольнолюбивыми традициями университет. Через четыре дня после расстрела крестьян в Бездне студенты университета и духовной академии устроили в одной из казанских церквей панихиду по убитым. Перед богослужением студенты собирали по подписке деньги в пользу сирот, оставшихся после бездненского расстрела.
— Нетрудно понять, господа,— говорил чернобородый студент из Казани своим товарищам по Медико-хирургической академии,— что панихида была нашим протестом, демонстрацией против царских кровавых опричников.
На панихиде выступил профессор истории Казанского университета Афанасий Прокофьевич Щапов *. Он поднялся на амвон и, мысленно обращаясь к жертвам Бездны, сказал:
«Вы первые нарушили наш сон, разрушили наше несправедливое сомнение, будто народ наш не способен к политическому движению... Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра, эта земля воззовет народ к восстанию и к свободе... Мир праху вашему и вечная историческая память вашему самоотверженному подвигу. Да здравствует демократическая конституция!»
В селе Кандеевке, Керенского уезда, Пензенской губер-ни, царские войска также расстреляли крестьян, которые не хотели идти на барщину. В этом селе было убито 8 человек и 27 ранено.
Волнения крестьян охватили всю империю. Вся страна от края до края бурлила в неспокойном 1861 году. Тысячи
90
«освобожденных» крестьян были отправлены на каторгу. Крестьян избивали до бесчувствия шпицрутенами. Сохранился маленький рассказ об одном крестьянине, которого били смертным боем за нежелание его идти к зверю-помещику на барщину.
♦Ну что, каешься ли? Пойдешь теперь на работу?» — спрашивали крестьянина палачи.
Спина несчастного представляла бесформенную окровавленную массу, из которой торчали куски прутьев, врезавшихся в тело. В короткие секунды отдыха от ударов крестьянин отвечал мучителям:
«На барщину не пойду!»
НА ЗАРЕ ЖЕНСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В это неспокойное время все громче раздавались голоса, требовавшие для женщин права на образование. Наиболее смелые женщины вопреки всяким запретам приходили слушать лекции известных профессоров. Многие из женщин готовились сдавать экзамены за курс мужских гимназий, чтобы позже идти в высшие учебные заведения.
В физиологической лаборатории Ивана Михайловича также появились необычные слушатели. Две девушки стали систематически посещать лекции Сеченова. Они устраивались повыше, на последних скамьях, стараясь оставаться незамеченными. Студенты держали себя по отношению к ним по-рыцарски, не подсмеивались над трудолюбивыми, все время что-то записывающими к себе в тетрадки слушательницами, укрывали их от взглядов непрошенных гостей и начальства. Впрочем, им нечего было опасаться начальства — в Медико-хирургической академии официального запрета для посещения женщинами лекций еще не последовало. Словечко в пользу этих слушательниц перед Сеченовым замолвил ассистент профессора Сергея Петровича Боткина, Петр Иванович Боков. Он же и познакомил Ивана Михайловича с ними — Надеждой Прокофьевной Сусловой и Марией Александровной Боковой.
Читатель помнит наше небольшое отступление — рассказ о семье Обручевых. Мария Александровна Обручева уже вступила в фиктивный брак с Петром Ивановичем Боковым и носила теперь его фамилию. Она получила наконец возможность учиться, не спрашивая на это разрешения любящих ее, но живущих по старинке родителей. В дворянских семьях той поры считалось неприличным девушке посещать
91
высшие учебные заведения. Девушке из состоятельной семьи не нужно было, по мнению родителей, учиться. Она должна ждать своего часа, выйти замуж за человека своего круга и стать добродетельной супругой и матерью семейства. Мария Александровна, Надежда Прокофьевна и их подруги пошли против этих вековых предрассудков.
Иван Михайлович сочувствовал зародившемуся среди русских женщин стремлению к высшему образованию. Женщины ходили не только на лекции по физиологии к Сеченову, но посмели переступить порог святая святых медиков — пришли в анатомический театр, которым в академии ведал очень строгий профессор Грубер. И велико было удивление людей, скептически настроенных к ним, когда гроза всех студентов Грубер не прогнал слушательниц из анатомического театра, а, наоборот, заявил, что он очень доволен их занятиями.
Иван Михайлович писал о научных работах, которые он дал Боковой и Сусловой:
«Как было не помочь таким достойным труженицам! В конце академического года, ради поддержания в них энергии, я дал обеим такие две темы, которые требовали очень мало подготовительных сведений и могли разрабатываться ими у себя дома. Задача одной заключалась в том, чтобы ношением очков с цветными стеклами вызывать цветную слепоту к лучам данной преломляемости и сравнивать получаемые результаты с известными симптомами врожденной цветной слепоты*. Другая имела изучать влияние те-танизации* кожи на легкие тактильные раздражения* в межплюсном пространстве и вне оного. Обе эти работы были в том же году напечатаны по-русски, а в следующем — по-немецки».
Иван Михайлович получал истинное удовольствие, помогая женщинам делать свои первые неуверенные шаги в науке.
Мария Александровна Бокова и ее «брат», как она называла своего фиктивного мужа, чудесного Петра Ивановича, стали особенно близкими Сеченову людьми. Познакомился Иван Михайлович в доме Боковых и с Владимиром Александровичем Обручевым, братом Марии Александровны. Сеченов знал, что Боков и Владимир Обручев — друзья Николая Гавриловича Чернышевского. Через этих людей, вероятно, и познакомился Иван Михайлович с Николаем Гавриловичем.
СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОЛНЕНИЯ
В столице империи Петербурге начались серьезные студенческие волнения. Искрой, вызвавшей пожар, было распоряжение нового министра просвещения адмирала Путятина о введении в университетах так называемых матрикул — своеобразных зачетных книжек, которые должны были выдаваться каждому студенту. В матрикулах регламентируется вся жизнь учащихся. Все, что должен делать и главным образом чего не должен делать студент. Он не должен собираться с товарищами и обсуждать действия любого университетского начальства и преподавателей. Он не должен учиться в университете, если у него нет денег для взноса за право учения. Он не должен... В матрикулы вписывались сведения, не был ли студент под следствием и судом и не подвергался ли административным взысканиям. Волнения вспыхнули в Петербургском университете. «Долой матрикулы! Университет — не полицейский участок! >— заявляли студенты на сходках. «Несправедливо исключать студентов из университета только за то, что они не могут платить за учение! > — слышались гневные голоса молодежи.
В ответ на волнения студентов правительство закрыло университет. Студенты вышли на улицы столицы и устроили демонстрацию протеста. Они пошли к попечителю учебного округа требовать освобождения арестованных студенческих депутатов. Полиция и жандармерия Петербурга неистовствовали. Было арестовано более тысячи студентов. Занятий в университете по-прежнему не было.
В эти бурные дни молодые русские ученые Менделеев, Сеченов, Бородин, Боткин и другие встречались чаще, чем обычно. Откровенно обсуждались распоряжения министра-адмирала, поведение властей, посадивших за решетку тысячи студентов. Искали выхода из создавшегося положения. И вот в один из вечеров у Дмитрия Ивановича появилась идея: «Учредить ввиду чрезвычайного положения в университете курс публичных лекций>. Менделеев был «убежден, что это должно удасться...>
Эта идея Менделеева была принята с восторгом всеми его товарищами. Не откладывая дела в долгий ящик, сообщили студентам о намерении читать лекции вне университетских стен. Но не так-то просто было получить разрешение властей на чтение публичных лекций.
ВСТРЕЧА СВОБОДОМЫСЛЯЩИХ
В тот день, когда была поддержана мысль Менделеева о чтении публичных лекций и составлен список предполагаемых лекторов, в квартиру Дмитрия Ивановича вбежал Сеченов и сообщил, что в Петербург из Германии приехала Татьяна Петровна Пассек. Об этом нужно было немедленно дать знать друзьям и всем отправиться на Невский, в гостиницу «Москва», к Пассек. В эти неспокойные дни так важно поговорить с близким Герцену человеком, услышать, что думает Герцен об университетских волнениях, почитать «Колокол», который, наверное, Пассек привезла с собой.
В непроглядном петербургском тумане на какой-то белой кляче Менделеев и Сеченов потащились к Татьяне Петровне Пассек. Свою приятельницу нашли в том же заячьем тулупчике, в котором она ходила в Гейдельберге.
У нее уже собралось большое общество. Пришли братья Жемчужниковы*, веселый народ. Разговоров множество.
Из дневника Менделеева мы узнаем об этой встрече свободомыслящих и высококультурных людей:
♦ ...♦Колокола» последнего читали — там все предсказано и видно, что история нашего университета так разыгралась отчасти потому, что единовременно совпали три явления: появились ♦К молодому поколению» и ♦Великорусам», потом... статьи ♦Колокола».
Революционная прокламация ♦К молодому поколению» появилась в Петербурге в сентябре 1861 года. Она была написана писателем-революционером Шелгуновым и революционным поэтом Михайловым. Прокламацию отпечатали у Герцена в Лондоне и нелегально привезли в Россию. В ней была дана ясная оценка реформы 19 февраля:
«Государь обманул ожидания народа, дал ему волю не настоящую, не ту, о которой народ мечтал и какая ему нужна».
Авторы прокламации требовали свержения царизма: «Мы смело идем навстречу революции, мы желаем ее». Молодежь призывали развертывать пропаганду среди крестьян и в армии. Эта прокламация дошла до студенчества, и ее роль в волнениях была действительно очень велика.
О прокламациях «Великорус» мы расскажем немного позже более подробно, ибо их появление было связано с жизнью близких Сеченову людей.
На встрече у Пассек читались и обсуждались выпуски герценовского «Колокола».
Герцен продолжал публиковать множество сообщений о событиях в России. Всякое мало-мальски заметное явление
94
Сеченов и его друзья читают «Колокол» Герцена.
в жизни русского общества находило свой отклик на страницах «Колокола». Вот судьба великого русского хирурга и педагога Николая Ивановича Пирогова, одного из героев Севастопольской обороны. Честный и неподкупный, смелый и прямой Пирогов, его политика в отношении народного образования, серьезные нововведения в школе — все это не понравилось властям.
Пирогова уволили с поста попечителя Киевского учебного округа: он отправляется в ссылку в свою деревушку Вишня в Винницкой области. Как провожали опального ученого, об этом писал «Колокол»:
«Проводы Н. И. Пирогова были великолепны... Это было совершение великого долга, долга опасного, и потому хвала тому доблестному мужу, который вызвал такие чувства, и хвала тем благородным товарищам его, которые их не утаили!
Отставка Н. И. Пирогова — одно из мерзейших дел России... Видеть... государя, пишущего какой-то бред... вслед за тем падение человека, которым Россия гордится,— и не покраснеть до ушей от стыда — невозможно».
Чтение номеров «Колокола» у Пассек заканчивалось. Еще одно, последнее сообщение о студенческом деле. Читает его Иван Михайлович. Гневом сверкают его черные глаза:
— «Печально стоят перед нами огромные здания, потерявшие смысл, холодные, пустые аудитории, немые кафедры; бессмысленная сила прошла тут, тупо раздавила молодую жизнь, безраскаянно успокоилась, и все пошло по старой колее,— только студентов нет, науки нет. Кто виноват? Где виновники?
Благодушный император или бездушный Путятин?
Университетская история не случайность, не каприз, а начало неминуемой борьбы... Исход борьбы может быть тот или другой, но устранение борьбы невозможно...»
ДЕЛО «ВЕЛИКОРУСА»
Теперь пора рассказать о нашумевшем в Петербурге деле «Великоруса». В этом деле участвуют брат Марии Александровны, Владимир Александрович Обручев, и ее муж, Петр Иванович Боков. Все трое с недавних пор стали добрыми друзьями Ивана Михайловича Сеченова. Все трое близки Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Что же случилось с этими честными русскими людьми?
96
Летом и осенью 1861 года в столице, помимо прокламации «К молодому поколению», появились новые прокламации. На этот раз они не были доставлены из-за границы, а изготовлены у себя дома, в России. Было выпущено три номера прокламации — газеты под названием «Великорус». Ищейки охранного отделения и жандармы сбились с ног в поисках авторов и места, где газета была напечатана.
В «Великорусе» выдвигались требования действительного освобождения крестьян — с землей, без выкупа ее крестьянами.
«Великорус» обращался к «образованным классам» с призывом взять в свои руки ведение дел из рук неспособного правительства, обуздать это правительство. Если «образованные классы» не найдут в себе сил для обновления страны, то патриоты «будут вынуждены призвать народ на дело, от которого отказались бы образованные классы»,— призвать народ к вооруженному восстанию. Прокламации «Великоруса» оказали большое революционизирующее влияние на современное общество, правительство не случайно придавало особое значение разгрому группы «Великоруса».
4 октября в дом № 1 по Загородному проспекту в Петербурге нагрянула полиция. У себя в квартире был схвачен отставной гвардии поручик Владимир Обручев, 25 лет от роду.
В тот же день произвели обыск и взяли подписку о невыезде из столицы у Петра Ивановича Бокова. Арестовали нескольких студентов.
На первом допросе Обручев признал, что распространял прокламации «Великоруса», но отказался назвать имена людей, с которыми был связан.
Боков на допросе заявил, что прокламаций не видел и не читал, но состоял в переписке с Обручевым.
При обыске у Обручева было обнаружено письмо Бокова в конверте, запечатанном печатью с буквами S. А. Этой же печатью были запечатаны некоторые из конвертов с прокламациями «Великоруса». В письме Бокова внимание жандармов привлекла фраза: «О вашей брошюре речь впереди».
Обручев до суда сидит в Петропавловской крепости, Боков со дня на день ожидает ареста.
Тревожно в доме Чернышевского.
Тревожно на душе и у Ивана Михайловича Сеченова. Мария Александровна сообщает ему обо всем, что касается дела ее брата и мужа. Она же в осторожных выражениях сообщает об аресте Володи своим родителям, в Клепенино. В семье генерала Обручева горе. Мать Марии Александровны пишет в своем дневнике:
4 Молодость Сеченова
97
♦Несчастье, постигшее Володю, было едва ли не роковым ударом для папаши...»
Царь Александр II придает делу ♦ Великоруса» особое значение. 8 декабря он приказывает всех участников дела ♦предать суду Правительствующего сената... с тем, чтобы дело о них производилось без очереди и сколько можно поспешнее». Поэтому следствие идет с невиданной скоростью. Допросы производятся и днем и ночью. Петр Иванович Боков объясняет следователю, что печать, которой он запечатал письмо к Обручеву, была не его, он воспользовался чужой печатью, где-нибудь у больных. Брошюра Обручева, о которой он упоминает в письме,— это перевод одного сочинения с французского на русский язык. Обручев обещал помочь Бокову деньгами, которые он получит за этот перевод.
Владимир Обручев со своей стороны показывает на допросе :
♦Лекарь Боков женат на моей родной сестре. Письмо от него было получено мною летом... Он не участвовал в рассылке воззвания мною. Насчет того, как письмо от него могло быть запечатано этой печатью, я никаких объяснений дать не могу».
При обыске у Обручева было отобрано еще одно письмо, вызвавшее интерес жандармов. Письмо это написано Чернышевским и послано Обручеву в деревню Клепенино.
♦Добрый друг Владимир Александрович.
Очень может быть, что недельки через две Серно-Соловье-вич* будет иметь в руках деньги. В этом он положительно уверен... А когда он будет иметь деньги, он с удовольствием отдаст Вам сумму, нужную для Зарембы.
Вы сами, пожалуйста, не хандрите, а лучше присылайте нам (хоть через Петра Ивановича или прямо адресуйте в редакцию ♦Современника») перевод Шлоссера по мере изготовления, об этом усердно прошу Вас.
Поцелуйте за меня ручку Марии Александровны и передайте мое уважение Вашей матушке.
Ваш Н. Чернышевский. 2 июня 1861 г.*
Интерес охранников к этому письму вполне понятен. Обручев свой человек в ♦Современнике». Все они — Обручев, Боков, Серно-Соловьевич, Мария Александровна, которой целует ручки сам Чернышевский,— близкие друг другу люди. Сейчас схватили с поличным одного Обручева, но жандармы готовятся к аресту еще многих революционеров и, конечно, главного из них — Чернышевского.
98
Следствие заканчивается. Установлена виновность Владимира Александровича Обручева в революционной, противоправительственной деятельности. Несмотря на все уловки следователей, обвиняемый Обручев не назвал ни одного имени своих товарищей по комитету «Великоруса». Он прямо и открыто заявил жандармам, что по соображениям чести не назовет никого из тех, с кем он был связан по революционной работе.
Что касается Бокова, то его виновность не доказана. Бокова спасли эксперты-граверы, которые не смогли установить, что оттиски на письмах с прокламациями сделаны одной и той же печатью, что и оттиск на конверте письма Бокова к Обручеву; последний был немного помят и вензель неразборчив.
Боков освобожден от ответственности, но по-прежнему находится под пристальным секретным наблюдением. Обручев осужден на пять лет каторжных работ на сибирских заводах, а по истечении срока — на многолетнее поселение в Сибири. Царь смилостивился и снизил срок каторги до трех лет, а в остальном приговор оставил в силе. С 1862 по 1873 год пробыл Обручев в Сибири; одиннадцать лет каторги и ссылки — такова была кара за распространение прокламаций «Великоруса».
Усиление преследований революционно настроенных студентов и всех группировавшихся вокруг «Современника» революционеров-демократов заставило Сеченова серьезней и глубже задуматься над условиями жизни в царской России.
СМЕРТЬ БЕККЕРСА
Иван Михайлович, по своей холостяцкой привычке, жил обычно вместе с кем-либо из своих товарищей.
Зиму 1861/62 года он жил с Беккерсом. Физиолог и хирург встречались дома за обеденным столом после трудового Дня. Они вместе делили радости и печали, вместе ходили в гости к друзьям. У Беккерса, кроме занятий по кафедре, завелась небольшая врачебная практика. Беккере, по отзыву Ивана Михайловича, «чрезвычайно добрый и мягкий человек... не мог не нравиться своим знакомым и пациентам». После объезда больных Беккере частенько возвращался поздно, когда Сеченов уже спал. Иван Михайлович журил своего друга за то, что тот ведет образ жизни, подрывающий его здоровье. Посудите сами, приходит домой в двенадцать или в час ночи. Садится за стол и готовится к завтрашним
99
лекциям. Глубокой ночью ложится спать, а рано утром появляется слуга и по личному приказанию Беккерса стаскивает с него одеяло. Случалось и так, что слуге не нужно было совершать эту операцию,— Беккере не ложился, утро заставало его сидящим за письменным столом.
Беккере страдал болезнью сердца. С такой болезнью и при таком образе жизни долго не протянешь. Иван Михайлович с глубокой печалью замечал, каким измученным и усталым было лицо товарища.
В субботу 17 марта Дмитрий Иванович Менделеев собрался навестить своих друзей. Он вышел на улицу. Погода была преподлая, падал мокрый снег. Менделеев сел в экипаж и вскоре добрался до дому, где живет Сеченов. Но что-то здесь приключилось нехорошее. У открытых дверей стоит с непокрытой головой Иван Михайлович, из глаз ручьем текут слезы. Вокруг толпа народа. «Что за история?* — думает Менделеев. В толпе говорят: «Беккере отравился цианистым калием*. Как обухом поразило это известие Дмитрия Ивановича.
Сеченов сквозь слезы рассказывает Менделееву, как произошла эта трагедия:
— Утром я не успел одеться, слышу — Беккере кричит: «Сеченов, подите сюда!* Бегу. Он стоит подле стола и говорит: «Подпишите завещание, я принял цианистый калий*. С этими словами он срывает с шеи галстук, бросается в спальню и валится на постель. Я говорю ему: «Дайте я вставлю вам палец в рот, чтобы вас вырвало*. Он успел сказать, что не хочет жить, и через каких-нибудь пять минут его уже не стало. Кто и что погубило это золотое сердце, не знаю, но, наверное, не профессорские неудачи в академии.
Так неожиданно ушел из жизни хороший друг Ивана Михайловича.
РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ ВОЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Мечта Менделеева о чтении лекций вне стен закрытого университета была близка к осуществлению. Студенческий комитет подхватил идею своих любимых профессоров и при их помощи получил разрешение начальства на чтение лекций в здании Петербургской городской думы и в соседнем Петровском (немецком) училище. Уже приглашены наиболее популярные профессора университета: кроме них, лекции будут читать преподаватели и из других учебных заведений. Петр Лаврович Лавров* согласился прочесть курс
100
философии. Николая Гавриловича Чернышевского просят читать лекции по экономике. Ивана Михайловича Сеченова приглашают для чтения лекций по физиологии. Согласились читать по своей специальности правовед Лохвицкий, физик Годолин, законовед Победоносцев...
Все складывалось как нельзя лучше, и вдруг Константин Петрович Победоносцев ♦, фигура важная и влиятельная — учитель великого князя Александра,— прислал студентам письмо с отказом от чтения лекций: ввиду многочисленных занятий он не имеет свободного времени для чтения лекций. Но Победоносцев нужен комитету не просто как профессор, научная величина, украшающая предпринятое дело,— нет, он необходим для того, чтобы начальство не очень косилось на новое дело и не спешило под каким-либо предлогом прикрыть его. Решено послать к Константину Петровичу делегацию, постараться уговорить его взять обратно свой отказ от чтения лекций.
Пришли студенты к Победоносцеву. Он вышел к молодым людям и повторил уже слышанное:
— Я очень занят!
— Но ведь ваши занятия все те же, что и раньше были,— резонно говорят студенты.
— Это правда,— отвечает Победоносцев и наконец высказывает истинную причину своего отказа, злобно выпаливает : — Вот я что вам скажу: я не хочу читать в одной компании с Чернышевским. Это шарлатан, гаер*. Если он не будет читать, то извольте, я готов.
Один из делегатов, студент Неклюдов, пытался отстаивать Чернышевского, но Победоносцев был непоколебим.
Комитету студентов было доложено о результатах посещения Победоносцева. Было решено скорее отказаться от его услуг, чем нанести ничем не оправданное оскорбление уже приглашенному для чтения лекций Николаю Гавриловичу Чернышевскому.
Однако, несмотря на решение студенческого комитета, ни Лаврову, ни Чернышевскому не довелось читать лекций в зале городской думы. Их лекции были запрещены царским правительством.
Устранив наиболее опасных лекторов, начальство разрешило чтение лекций остальным профессорам. Всего было Двадцать преподавателей, которые должны были читать тридцать шесть лекций в неделю. Заранее изготовили абонементы и разовые билеты на посещение лекций. Слушателей набралось около пятисот, в большинстве студенты закрытого Петербургского университета, а также много не учащейся публики.
101
Ивану Михайловичу, как профессору Медико-хирургической академии, на чтение лекций в думе было необходимо получить разрешение у своего академического начальства. Он написал прошение на имя президента академии, в котором просил разрешить ему читать лекции по понедельникам от 9.30 до 10.30 утра.
Желающих слушать лекцию Ивана Михайловича набралось немало. В первых рядах зала городской думы сидели пожилые господа в гражданском и военном платье. Многочисленные представители столичной интеллигенции пришли на лекцию Сеченова. Среди слушателей можно было заметить близорукого Боткина, Менделеева, Бородина, Чернышевского, Бокова с женой и ее подругой Надеждой Сусловой.
Сеченов поднялся на кафедру. Ассистент уже заканчивал подготовку к опытам. Ученый объявил слушателям, что будет читать лекции по физиологии крови, как об этом было заранее объявлено. Лекции будут сопровождаться демонстрацией опытов. Спокойно и просто Иван Михайлович начал излагать материал, как обычно обращая внимание на суть излагаемого предмета.
В дневнике Дмитрия Ивановича Менделеева не прошла незамеченной первая лекция Сеченова. Он записал:
♦5 февраля 1862. Отправился пораньше в думу на лекцию Сеченова. Экие залы-то дивные, холодно только. Сеченов читал немного популярно, но хорошо, мне так не сказать никогда...»
Каждый понедельник читал свои лекции Иван Михайлович, но 9 марта 1862 года он довел до сведения президента Медико-хирургической академии, что «по непредвиденным обстоятельствам... принужден прекратить публичные лекции в думе».
В том же зале городской думы, где читал Сеченов и другие профессора, начал читать курс лекций по философии профессор Павлов. В 60-е годы XIX века большой популярностью среди интеллигенции пользовалась книга английского историка и социолога* Бок ля* «История цивилизации в Англии». Павлов в своих лекциях держался довольно близко строю идей и мыслей Бокля.
Уже этого было достаточно, чтобы обратить на себя внимание полицейских властей. А после выступлений Павлова на вечере, устроенном в пользу нуждающихся студентов, с речью в связи с тысячелетием России его арестовали и немедленно выслали из Петербурга в захолустье — Ветлугу. Студенты были крайне взволнованы участью профессора Павлова. Это событие встревожило и профессоров, читавших
102
лекции в городской думе. Они немедленно собрались на частной квартире одного из коллег.
Большинство профессоров, в их числе Сеченов и его друзья, высказались за то, чтобы в знак протеста против высылки Павлова лекции в думе закрыть. Три голоса были против такого решения.
Один из этих трех, профессор Стасюлевич, для защиты своего взгляда воспользовался таким сравнением.
«Вы идете по улице,— говорил Стасюлевич,— вдруг на вас падает кирпич—значит ли это, что не следует ходить по улицам?»
Недолго просуществовал замечательный почин — чтение лекций народу на общественных началах.
Власть имущие постарались погасить и этот светильник знаний.
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Царские ищейки все ближе подбирались к Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Но не так-то легко было им схватить такого опытного революционера-конспиратора, каким был Чернышевский. Арестовывали многих людей, близких Чернышевскому, но прямых улик против него не было. Чего только не делали — в квартиру Чернышевского подсылали шпионов под видом горничных; дворник, агент полиции, вел наблюдение за всеми, кто приходил и уходил от Чернышевского, организовали слежку филеров за каждым шагом Николая Гавриловича.
В жандармском управлении составили список лиц, которых нужно схватить в первую очередь. В нем под номером первым стояло имя Чернышевского.
<1) Литератор ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. Подозревается в составлении воззвания «Великорус», в участии в составлении прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству...
...9) БОКОВ, доктор (находившийся под судом по делу поручика Обручева и распространения «Великоруса»). Подозревается в преступных сношениях с Чернышевским, к которому имеет во всякое время доступ...»
И в такое тревожное время, когда одна лишь встреча с Николаем Гавриловичем могла вызвать слежку шпионов, происходит сближение Сеченова с Чернышевским и его товарищами.
Однажды утром посыльный доставил Николаю Гавриловичу письмо, в нем была пригласительная карточка:
юз
«Иван Михайлович Сеченов и Петр Иванович Боков просят Александра Николаевича Пыпина и Чернышевского пожаловать к ним сегодня, часов в 9 вечера. У них соберутся приятели по случаю окончания экзаменов Марии Александровны. Qng9 Эртелев пер., д. № 2».
В этом приглашении пять имен. Пыпин — профессор университета, двоюродный брат Чернышевского. Все остальные знакомы читателю. О Бокове и Чернышевском мы только что прочли краткую справку в списке лиц, которых полиция предполагает в ближайшее время арестовать.
Мария Александровна также известна полиции, она сестра и жена участников процесса «Великоруса» —Владимира Обручева и Петра Бокова. Остается «незапятнанным» только имя Ивана Михайловича Сеченова. Впрочем, и это имя уже взято кем следует на заметку. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Близкие Сеченову люди — Боков и Мария Александровна, он хорошо знаком с поручиком Обручевым, в числе других приятелей он приглашает к себе Чернышевского.
Чернышевский принял приглашение, он придет к Боковым и Сеченову — поздравит милую и смелую Марию Александровну с окончанием экзаменов на аттестат зрелости. Начато великое дело приобщения женщин к знаниям и активной общественной жизни.
Чернышевский шел к Боковым и по другой причине: он с интересом следил за научной деятельностью Сеченова, ему была знакома история отказа Ивана Михайловича баллотироваться в Академию наук. Ему симпатичен этот молодой ученый, изгоняющий из естествознания идеализм.
Есть и третья причина, по которой Чернышевскому необходимо побывать у Боковых и Сеченова. С некоторых пор Николай Гаврилович замечает, что с Петром Ивановичем творится что-то неладное. Он стал молчалив, грустит, чаще, чем обычно, бывает у Чернышевских. Какая-то драма назревает в семье Боковых.
Петр Иванович, ставший фиктивным мужем Марии Александровны Обручевой, все сильнее любит эту умную и обаятельную женщину. Но в жизни Марии Александровны все большее место занимает Иван Михайлович Сеченов. Это знает Чернышевский.
Новые люди, готовые отдать свою жизнь на благо родного народа, найдут в себе силы и для того, чтобы достойно определить свои отношения друг к другу.
Чернышевский, уходя от Боковых, думал о том, что его встречи с Сеченовым должны быть редкими: нет необходи
104
мости ставить под угрозу научную деятельность Ивана Михайловича. Что бы ни случилось в ближайшие месяцы с ним, Чернышевским, и его единомышленниками, Сеченова надо уберечь от бурь. Ученый готовится к длительной командировке за границу — во Францию, к Клоду Бернару; очень своевременным будет этот отъезд Сеченова из России.
ПОЖАРЫ В СТОЛИЦЕ ИМПЕРИИ
...Еще в марте 1862 года конференция Медико-хирургической академии рассматривала рапорт Сеченова о выезде за границу для ознакомления с новейшими открытиями по физиологии. Конференция поддержала просьбу Сеченова и обратилась через президента академии к военному министру о разрешении этой командировки. Но канцелярская машина вращалась медленно, со скрипом. Уже весна была на исходе, соловьи заканчивали свои песни, а решения еще не было. Между тем в столице становилось все тревожнее. В конце мая в Петербурге начались большие пожары. В центре города огонь уничтожил огромный Апраксин двор — сотни лавок с товарами стали добычей пламени. То на Фонтанке, то на Васильевском острове, за Невой, на Большой и Малой Охте возникали грандиозные пожары, распространявшиеся на целые кварталы и улицы. Весь город был окутан дымом, порывы знойного ветра несли сажу и пепел. Паника охватила людей. Ночью не ложились спать, опасаясь за свою жизнь.
Полиция и ее тайные агенты распространяли слухи, что дома поджигают студенты и революционеры. Вокруг «очевидцев» собирались и слушали нелепые истории о том, что схвачены поджигатели в студенческих куртках, со спичками, паклей и фосфором в руках.
Это и была та провокация в гигантских масштабах, которую так долго готовило правительство. Полиция собрала уголовников и приказала выпустить «красного петуха». Дело было поставлено на широкую ногу. Газеты, полиция, поджигатели завопили, что пожары устраивают нигилисты. Началась расправа. В студенческой форме показываться на улицах стало опасно. Студентов хватали и избивали до смерти. Массовые аресты и обыски прокатились по всему Петербургу. Закрывались воскресные школы для рабочих, народные читальни, запрещались журналы. Все передовое, прогрессивное, что дало первые ростки после вырванных у правительства реформ, уничтожалось в огне террора.
ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ ОБРУЧЕВА
Утром 31 мая 1862 года по улицам Петербурга медленно следовала карета в окружении конных жандармов. В карете сидел «государственный преступник» Владимир Александрович Обручев. Карета направлялась на Мытную площадь, где был воздвигнут эшафот и на нем столб позора.
«Преступника» вывели из кареты. Он увидел толпу, окружившую эшафот. Почти у самого помоста отдельно стояли родные и близкие Обручева. В их числе были Боков, сестра, Мария Александровна, и Сеченов. Толпа вокруг эшафота необычная — сюда пригнали специально подобранных и оплаченных молодчиков, которые требовали, чтобы Обручеву отрубили голову за то, что он посмел пойти против царя-батюшки. Палачи на эшафоте поставили Обручева на колени, приковали цепями к столбу. Затем огласили приговор и вслед за этим над головой осужденного переломили шпагу. Это означало, что преступник лишается дворянского звания. Кто-то раздевал Обручева и натягивал на него арестантский халат с бубновым тузом на спине. Все это время глаза Владимира Александровича были устремлены на родных и друзей.
Но вот церемония гражданской казни закончилась. Обручева отвезли в Петропавловскую крепость, а оттуда — в Сибирь. Убрали Обручева. Собиралась гроза над Чернышевским.
Но, как ни старались власть имущие раздавить и уничтожить недовольных царским режимом, революционеры-демократы находили пути для распространения своих идей. В столице с недавних пор возобновил свою деятельность шахматный клуб — заведение, судя по названию, весьма далекое от политики. Членами клуба были и князья, и профессора университета, и чиновники, и студенты. Но в клубе часто бывал Николай Гаврилович Чернышевский. Клуб стал местом встречи лиц, близких Чернышевскому. Некрасов, Помяловский*, Серно-Соловьевич, Боков, Сеченов и многие другие известные и неизвестные охранке люди приезжали в шахматный клуб.
Вскоре агенты полиции распознали истинное назначение клуба—места ежедневных сходок революционеров-демократов и студенчества. По распоряжению генерал-губернатора шахматный клуб был закрыт.
Репрессии продолжались. Были временно закрыты «Современник», «Русское слово» *, вводилась строжайшая политическая цензура.
103
Гражданская казнь Владимира Ооручгва.
Готовился следующий удар реакции — арест Чернышевского. Летом 1862 года на границе было перехвачено письмо Герцена к другу Чернышевского — Серно-Соловьевичу. В этом письме Герцен предлагал издавать закрытый правительством «Современник» за границей, а Чернышевского приглашали быть руководителем журнала. Появился долгожданный предлог для ареста Чернышевского.
АРЕСТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Днем 7 июля 1862 года на Большую Московскую улицу в квартиру Николая Гавриловича Чернышевского пришли Антонович и Боков. Шел разговор об издании собрания сочинений Добролюбова*. Чернышевский внимательно слушает Антоновича и лишь изредка вставляет короткие замечания. Антонович и Боков свои люди в доме Чернышевского. Это единомышленники Николая Гавриловича, его последователи и верные товарищи.
Беседу прервал звонок в прихожей. Не дожидаясь приглашения, в гостиную вошел офицер и сказал, что ему нужно видеть господина Чернышевского.
Николай Гаврилович назвал себя и спросил, чем обязан появлению нежданного посетителя. Офицер предложил Николаю Гавриловичу переговорить наедине. Чернышевский и офицер вышли из гостиной. Полицейский пристав, который проводил их до кабинета, вернувшись в гостиную, попросил Антоновича и Бокова покинуть квартиру. Он же доверительно сообщил им, что офицер, с которым Чернышевский находится в кабинете,— полковник Ракеев, «тот самый, который сопровождал тело Пушкина для тайного погребения в Святые горы близ Михайловского».
Антонович и Боков перед уходом зашли в кабинет к Николаю Гавриловичу, чтобы попрощаться.
В это время Николай Гаврилович, отвечая на вопросы жандармского полковника, говорил:
— Нет, моя семья не на даче, а в Саратове...
— До свидания, Николай Гаврилович,— сказал Антонович.
— А вы разве уже уходите,—спросил Чернышевский,— и не подождете меня?
В ответ на слова, что им нужно уходить, Чернышевский сказал шутливым тоном:
— Ну, так до свидания! — Высоко подняв руку, он с силой опустил ее на ладонь Антоновича.
108
Выйдя на улицу, Боков и Антонович увидели стоявшую у подъезда казенную карету, в которой обычно возили арестованных. Через полчаса они вернулись, кареты у подъезда уже не было. Чернышевский был арестован и отвезен в Петропавловскую крепость. Весть об аресте Николая Гавриловича быстро разнеслась по столице. Узнал об этом и Иван Михайлович. Это событие произошло за несколько дней до его отъезда за границу.
Глава VI
ОТЪЕЗД СЕЧЕНОВА ЗА ГРАНИЦУ
В Париж Сеченов приехал до окончания летних каникул.
Занятия в лабораториях еще не начинались, и у Ивана Михайловича оказалось много свободного времени, которое он решил использовать для поездки через Марсель в Неаполь.
Стояли жаркие, безоблачные дни, когда Сеченов прибыл в Марсель. Этот город юга Франции, родина «Марсельезы», был приятен Ивану Михайловичу своим свободолюбием.
Из Марселя Средиземным морем Сеченов отправился в Неаполь. Пароход плыл вдоль берегов сказочно прекрасной Французской Ривьеры. Все сильнее жгло солнце, на палубе нельзя было показаться, отсиживались в каютах.
В Неаполе Иван Михайлович предполагал пробыть недолго. Поэтому, чтобы не терять времени, «отдал себя тотчас же по приезде в руки проводника и побывал во всех достопримечательных пунктах города и его окрестностей, не исключая, конечно, вершины Везувия, Помпеи, Лазоревого грота на Капри, Собачьей пещеры на Байском берегу».
Мирный дымок вился из кратера спящего вулкана-гиганта. Везувий был виден отовсюду. Он не всегда бывал таким тихим и спокойным, как в эти дни. Иван Михайлович ходил по улицам жертвы Везувия — древней Помпеи. Здесь некогда кипела жизнь. Следы ее встречались на каждом шагу. Вот дом римлянина. Сохранились фрески и мозаика. Здесь стояли статуэтки, а здесь — плита, где готовили пищу. В городе лавки, пекарни, театры... Отдыхая где-нибудь на ступеньках дома, можно было, забывшись, перенестись в далекое прошлое и представить себе до мельчайших деталей жизнь древнего города. По камням гулко стучит колесница, повара суетятся возле печей, слуги льют вино из амфор, девушки играют у фонтана. Но ваши грезы нарушает печальная действительность: среди античных руин бродят ни
1С9
щие — знаменитые неаполитанские лаццарони, их десятки и сотни, каждый старается чем-то вам услужить и заработать свои гроши.
Бедность в этих краях поразительная. Щедрая, сказочно богатая природа по чьей-то злой воле не в состоянии прокормить людей.
От Неаполя рукой подать до Капри. Гористый остров сложен из известняков, в которых морские волны выдолбили глубокие пещеры — гроты. Солнечные лучи проникают в эти подземные дворцы и мягким зеленоватым или голубым светом освещают их стены. Пронизывая воду, окрашивают волшебными красками дно морское, переливаются в струях драгоценными самоцветами. На весь мир славятся изумительной красотой Лазоревый грот, Голубой, Изумрудный, Белый — как было не посетить эти места на Капри! Но время короткого путешествия истекало. Сеченов отправился в обратный путь. На каком-то маленьком пароходике итальянской компании он отбыл из Неаполя в Марсель. Дул свирепый мистраль — холодный северный ветер,— и суденышко бросало, как скорлупу.
В порт Марселя вошли ночью. На пристани ни единой живой души. Откуда-то из тьмы вынырнул мальчишка и вызвался помочь путешественнику. Этот проводник обещал доставить Ивана Михайловича не в заурядный отель, а в тот, где постоянно останавливаются испанские епископы. Сеченов со свойственным ему юмором описал комнату, куда его поместили:
«Комната, которую я получил, должно быть, давно не знала испанских посетителей, потому что едва я лег в постель и затушил свечку, как меня начали терзать сотни голодных клопов; говорю без малейшего преувеличения, ибо видал, зажегши свечу, все стадо собственными глазами. Еле дозвонился портье, чтобы получить другую комнату*.
В ЛАБОРАТОРИИ КЛОДА БЕРНАРА
В первый свой приезд в Париж Иван Михайлович слушал лекции прославленного французского физиолога Клода Бернара. Но отсутствие времени не позволило тогда Сеченову ближе познакомиться с этим выдающимся ученым. Второй визит Сеченова в Париж был продолжительнее и целиком связан с работой в лаборатории Клода Бернара.
Бернар одним из первых ввел в физиологию экспериментальный метод исследования. Эксперимент, по глубокому
но
убеждению Бернара, должен был произвести революцию в физиологии.
Еще в 1843 году Бернар опубликовал свои первые работы о роли в организме животных поджелудочной железы, о ее значении в переваривании жиров. Тот же год ознаменовался еще одним крупным открытием Бернара: сахар, поступающий из кишечника в печень, преобразуется в ней в гликоген. Наука обязана Бернару основательным изучением углеводного обмена, роли в нем печени и центральной нервной системы.
Бернар отдал много труда исследованиям нервной системы. Он открыл сосудодвигательную функцию симпатических нервов. Безукоризненными по точности и непревзойденными по изяществу опытами Бернар показал, что особые нервы могут управлять состоянием кровеносных сосудов, влиять на количество крови, доставляемой через эти сосуды к определенному участку организма. Что такое артерия или вена? Грубо говоря, это трубка, через которую проходит артериальная или венозная кровь. Бернар экспериментально доказал, что нервное влияние способно изменять сечение этих трубок, увеличивая или уменьшая просвет кровеносных сосудов, и тем самым регулировать количество крови, поступающей в тот или иной участок тела.
Бернар внес серьезный вклад в учение о железах внутренней секреции. Он изучал электрические явления в организмах, образование тепла в теле животных, газы крови, влияние яда кураре на двигательные окончания нервов и много других проблем, имевших серьезное значение для медицины.
Однако Бернар, крупнейший физиолог, не понимал роли физиологии в научном мировоззрении. Он писал: «...жизненная сила управляет явлениями, которых она не производит, а физические агенты производят явления, которыми они не управляют». Сверхъестественный, божественно-мистический характер силы, стоящей над материальным миром и диктующей ему свою волю,— таково идеалистическое миропонимание Бернара.
...Лаборатория Бернара ютилась в небольшой комнате. Рядом с ней находилась аудитория, где перед скамьями слушателей возвышался стол для демонстрации опытов. Когда не было лекций, Иван Михайлович пользовался этим демонстрационным столом для своих исследований. Трудно было поверить, что в этой убогой обстановке Бернар сумел так много сделать в экспериментальной физиологии. С Бернаром работал один-единственный помощник.
Иван Михайлович описал свой рабочий день в Париже
111
у Бернара. Ровно в девять часов утра он приходил в лабораторию и принимался за своих лягушек. В первом часу дня появлялся великий физиолог со своим помощником. Подготавливались и производились опыты над животными. Сеченову разрешалось присутствовать во время операций лишь в качестве зрителя. Эксперименты заканчивались, и Иван Михайлович уходил к своему рабочему столу.
Что можно сказать об отношениях Бернара и Сеченова? Они были вежливыми и холодными. По словам Ивана Михайловича, Бернар «не был таким учителем, как немцы, и разрабатывал зарождавшиеся в голове темы всегда собственными руками, не выходя... из своего кабинета. Вот почему приезжему к нему на короткое время, как я, выучиться чему-либо в лаборатории было невозможно».
♦СЕЧЕНОВСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ»
Несмотря на такие мало способствующие творческой работе условия в лаборатории Клода Бернара, именно здесь, в Париже, Иван Михайлович вышел на главную дорогу своих научных исследований, которые сделали позже имя Ивана Михайловича Сеченова известным всему человечеству.
Какие это были исследования и каково их значение в науке?
Зачатки нервной системы появились уже на первых ступенях развития животного мира. В процессе эволюционного развития организмов все больше и больше нарастала необходимость в установлении совершенных связей между отдельными частями тела животного. Организм должен был приспосабливаться к вечно изменяющимся условиям внешней среды, в которой он жил. Для всего этого требовался аппарат, который обеспечивал бы слаженную работу всех органов тела. Объединенные в единое целое части организма при помощи этого аппарата могли бы успешно существовать в окружающей среде — питаться, расти, размножаться.
До появления в процессе эволюции нервной системы отдельные органы объединялись в целостный организм с помощью химических продуктов жизнедеятельности клеток.
Через кровь и лимфу* эти химические вещества «управляли» движениями организма, его основными жизненными функциями. Такой сигнал к действию, который нес с собой химический продукт, был медленным, не имел определенного адресата и обозначал «всем, всем, всем». Скорость передачи этого приказа была очень небольшая.
112
На смену химическим связям в организме пришли более совершенные нервные связи. Единицей, появившейся в результате миллионов лет эволюционного развития нервной системы, была нервная клетка с ее отростками — нейрон.
Нервная система у просто организованных существ, например у гидры,— это разбросанная по всему телу сеть нервных клеток с их отростками. Далее процесс развития нервной системы у примитивных животных привел к образованию нервных стволов. У позвоночных животных нервная система представляет собой уже весьма сложную организацию. Нервный ствол преобразовался в спинной мозг. Передний конец этого ствола дал начало пяти отделам головного мозга и органам чувств. От спинного мозга к периферии тела протянулись двигательные нервы.
В чем сущность азбуки, элементарных принципов работы центральной нервной системы?
За двести с лишним лет до Сеченова французским ученым и философом Рене Декартом* было введено в науку понятие рефлекса *— отражения. Он обозначал собой ответную (отраженную) реакцию организма на внешнее или внутреннее раздражение. С открытием микроскопа явилась возможность изучения тонкого строения нервной системы, были открыты чувствительные и двигательные окончания нервов. В науку вошло понятие рефлекторной дуги. Она включает в себя чувствительный нервный путь (по нему проводится раздражение от органов чувств, с периферии, к центральной нервной системе), саму центральную нервную систему, к которой приходит чувствительный импульс—раздражение с периферии, и, наконец, центробежный рабочий путь; по нему идет приказ из центральной нервной системы к рабочим органам — например, к мышцам.
Яркий луч света упал на глаз, световое раздражение воспринято чувствительными нервными окончаниями в сетчатке глаза, в соответствующий центр мозга пришло сообщение о световом раздражении. Немедленно и автоматически отдан приказ о сужении зрачка. Он послан по центробежному нервному пути. Приказ принят. Пришел в движение аппарат, суживающий зрачок,— произошел зрачковый рефлекс. Теперь через сузившуюся глазную диафрагму пройдет меньше света, световое раздражение уменьшится. При помощи зрачкового рефлекса организм нейтрализовал излишнее световое раздражение.
Притроньтесь к роговице глаза — произойдет немедленно защитное смыкание век: роговичный рефлекс; ударьте по коленному сухожилию — нога резко подскочит вверх: это коленный рефлекс. Таких рефлексов множество.
113
В приведенных примерах раздражение чувствительного нерва каждый раз вызывало сложное явление, приводившее к ответному отраженному движению. Возбуждение в мышце в ответ на раздражение приводит к движению — к сокращению мышечных волокон.
Но всегда ли раздражение чувствительного нерва приводит к ответному отраженному движению? Какова история научного изучения этой интересной проблемы?
«Лет 20 тому назад физиологи еще думали,— писал Сеченов в 1863 году,— что всякий нерв, кончающийся в мышце, будучи возбужден, непременно заставляет эту мышцу сокращаться. И вдруг Эд. Вебер ♦ показывает прямыми опытами, что возбуждение блуждающего нерва, который дает, между прочим, ветви к сердцу, не только не усиливает деятельность последнего органа, но даже парализует его.
Подивились, подивились современники и решили (большая часть современных физиологов), что такое ненормальное действие происходит оттого, что нерв не прямо кончается в мышечные волокна сердца, как в мышцах туловища, а в нервные узлы, которые рассеяны в субстанции сердечных стенок».
Не только Вебер, но и другие исследователи в последующие годы находили такие нервы-загадки, которые (если их раздражать с периферии), вместо того чтобы усиливать деятельность того или иного органа, угнетали ее. Мало-помалу физиологи вынуждены были признать, что в организмах существуют нервные влияния, которые подавляют деятельность органов, их движение. О том, где в организме источник этих тормозящих влияний, каков их смысл в сопоставлении с процессами возбуждения, никто из ученых не знал.
В Париже, в лаборатории Клода Бернара, Иван Михайлович начал свои классические исследования нервных процессов.
Опыты, которые ставил Иван Михайлович, были несложными. Обыкновенная лягушка подвешивалась за челюсть к деревянному штативу. Рядом на столе ударами отмеривал время метроном. Он отсчитывал в одну минуту сто ударов. Иван Михайлович погружал в маленький стаканчик со слабым раствором серной кислоты задние лапки свободно висящей лягушки. Метроном отстукивал двадцать ударов. В продолжение этого времени ножки лягушки оставались неподвижными. На двадцать первом ударе лапки лягушки одна за другой резко выскакивали из стаканчика. Это было нормальное рефлекторное движение в ответ на химическое раздражение кислотой.
Опыт повторялся много раз, и результаты оставались не
114
изменными: через двадцать ударов метронома лягушка отдергивала лапки.
Условия опыта изменились. Иван Михайлович обезглавил лягушку и только после такой операции опустил лапки животного в кислоту. По-прежнему маятник метронома мерно отсчитывал время. Вот он отбил десять ударов, левая лапка лягушки отдернулась кверху. На одиннадцатый удар и правая лапка ушла из кислоты. Результат очень любопытен. У обезглавленной лягушки рефлекс ускорился ровно вдвое. Отчего же это произошло? Какова роль головного мозга в сокращении времени рефлекса?
«Впрочем, что же тут раздумывать — все ясно, как этот ясный солнечный день покрытого позолотой каштанов Парижа». Если мозг лягушки не поврежден, лапки не спешат уйти из кислоты — что-то в голове тормозит наступление рефлекса.
Животное обезглавлено — это «нечто», находящееся в голове и тормозящее наступление рефлекса, устранено, и вместо двадцати ударов метронома извольте — десять!
А теперь будем усердно искать, где находится это «нечто», тормозящее рефлексы. Найдем его, назовем по имени и отчеству, определим точный адрес и уж тогда не торопясь подумаем о сущности тормозного процесса в мозгу.
План дальнейших опытов удивительно прост. Рассекать послойно мозг лягушки через большие полушария, зрительные чертоги, четверные возвышения, продолговатый мозг, продвигаясь к спинному мозгу. И все время вести строгий счет времени, необходимого для рефлекса.
Итак, ножки лягушки погружены в кислоту. Через полушария головного мозга лягушки сделан первый разрез. К обнаженной поверхности мозга приложен кристалл соли. Не забудем, что соль жадно впитывает в себя жидкость, частично обезвоживает участок мозга, к которому она приложена,— следовательно, раздражает это место мозга.
Метроном запущен. Опыт начался... Результаты тщательно записываются в тетрадь. Указывается место разреза мозга, отмечается время отдергивания лапок без раздражения мозга кристаллом поваренной соли и с раздражением солью.
Ритмично стучит метроном. Новые записи, строка за строкой появляются в тетради.
Разрез головного мозга лягушки через его среднюю часть — зрительные чертоги (бугры). Значительное кровотечение. Уже сам разрез через зрительные чертоги вызывает сильное угнетение рефлексов. Метроном отмеривает двадцать и тридцать ударов, а ножки лягушки все еще в стаканчике с кислотой.
115
Сеченов прикладывает кристалл поваренной соли на различные участки перерезанного мозга в плоскости зрительных чертогов. Сильное торможение рефлексов. Метроном отсчитывает сто ударов, а лапки лягушки недвижимы.
Делались разрезы ниже зрительных бугров, вплоть до спинного мозга. В этих случаях явления торможения рефлексов исчезали, более того: рефлексы наступали быстрее— лапки лягушки выскакивали из кислоты на пятом-шестом ударе метронома.
В журнале опытов появилась запись:
«У лягушки механизмы, задерживающие отраженные движения, лежат в зрительных буграх и продолговатом мозгу ».
Итак, обнаружено место в мозгу, откуда исходят импульсы, тормозящие отраженные рефлексы — отдергивания лапок лягушки из кислоты. Ну, и что из этого следует? Какое значение для науки может иметь этот факт — раньше или позже лягушка вытащит лапку из кислоты? Так рассуждали физиологи до Сеченова.
Но, в отличие от своих предшественников, Иван Михайлович придает найденным фактам огромное значение. Этого же мнения придерживаются ученые более позднего времени, ученые наших дней.
С открытием «сеченовского торможения», говоря словами великого продолжателя трудов Сеченова, Ивана Петровича Павлова*, «считается совершенно ходовой, установленной истиной, что вся наша нервная деятельность состоит из двух процессов: из раздражительного и тормозного, и вся наша жизнь есть постоянная встреча, соотношение этих двух процессов». Так вот на что замахнулся Сеченов!
Когда-то Архимед* сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь земной шар». Сеченов нашел такую точку опоры в решении тайны тайн, в решении самой трудной проблемы в биологии — объяснении механизма работы головного мозга. С этого момента начинался великий путь русской физиологии, путь Сеченова — Павлова.
Охваченный энтузиазмом, предчувствием особой важности проводимых исследований, Сеченов неутомимо продвигался вперед в неведомое.
А нельзя ли повторить опыт, сделанный на лягушках,— ослабить действие отраженного рефлекса на человеке?
Что же, прикажете, сударь, отрезать голову человеку? Для такого «дела» охотников не сыщешь. Впрочем, такое опасное предприятие и не потребуется. Сделаем иначе. И Сеченов производит на самом себе такой эксперимент. Он знает, и все это знают, что усилием воли можно подавить,
116
например, неудержимое желание чихнуть, сдержать себя и не закричать от сильной боли... Для этого делают отвлекающие движения — стискивают зубы, напрягают мышцы, задерживают дыхание...
Иван Михайлович опустил свой палец в слабый раствор кислоты. Через короткое время он почувствовал жжение в пальце. Сообщение о контакте пальца с кислотой пришло в мозг, там оно было принято и проявилось в ощущении жжения.
Но пальца Иван Михайлович из кислоты не вытащил. Он произвел отвлекающие движения—стиснул зубы, напряг мышцы тела, задержал воздух в легких,— и случилось то, чего ожидал Сеченов: ощущение жжения, боль исчезли. Появилась она вновь лишь тогда, когда Сеченов прекратил отвлекающие усилия.
Из подобных экспериментов Иван Михайлович сделал заключение: деятельностью механизмов, задерживающих отраженные движения (в данном случае сознательным усилием), отчасти притупляется чувствительность.
В мозгу заложены центры, способные реагировать на полученное с периферии сообщение: затормозить ответный рефлекс или ускорить его, сделать соответствующим силе раздражения из внешней среды, увеличить или уменьшить во много раз его силу,— одним словом, распорядиться действием организма.
Иван Михайлович Сеченов принес в физиологию громадной значимости открытие: в головном мозгу есть не только центры, возбуждающие (ускоряющие, усиливающие) рефлексы, но и центры, тормозящие рефлексы. С помощью этих центров возбуждения и торможения координируются (согласовываются) все жизненные проявления организма в ответ на раздражения, поступающие из внешней среды. Головной мозг дал животным возможность изумительно тонко и точно приспосабливаться к вечно меняющимся условиям жизни — позволил им жить на Земле.
Работа Сеченова была просмотрена и одобрена Клодом Бернаром. В конце 1862 года она появилась в печати под названием «Физиологическое изучение об угнетающих механизмах головного мозга на рефлекторную деятельность спинного мозга». Этот труд Иван Михайлович посвятил Карлу Людвигу, «своему высокоуважаемому учителю и Другу».
ПИСЬМА К МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ
Из Парижа в Петербург приходят письма от Ивана Михайловича. Пишет он Марии Александровне Боковой. По теме, данной Сеченовым, молодая энтузиастка науки проделала ряд опытов. Эти опыты по цветной слепоте (дальтонизму), о чем уже шла речь, признаны Сеченовым интересными, но недостаточными. Иван Михайлович пишет:
«По моем приезде в Россию мы вместе пополним недостатки. Я знаю из верных источников, что опытами с красными очками остался доволен сам Гельмгольц».
Ивана Михайловича волнуют и глубоко трогают первые самостоятельные шаги Марии Александровны. Он советует ей повременить с опытами и приступить к сдаче экзаменов за гимназический курс.
«...Этот экзамен для Вас больше чем половина дела. Кончивши его, Вы сможете уже без задней мысли отдаться медицине хоть на десять лет. Дело же Ваше со временем будет непременно выиграно. Ваши работы я перевел на немецкий язык, и в скором времени они появятся в печати. Надеюсь, что это обстоятельство не до такой степени встревожит Вашу щекотливую совесть, чтобы Вы рассердились на меня... Не сердитесь же, Марья Александровна, нам нужно быть друзьями, притом в моем поступке только и есть дурного, что он сделан без Вашего спроса...»
В письме Сеченова звучит надежда на то, что в недалеком будущем женщинам откроют доступ к высшему образованию.
Деликатно, чтобы не обидеть, не оскорбить человеческого достоинства своего молодого друга, Иван Михайлович заботливо помогает Марии Александровне утвердиться на ее трудном пути, внушает ей веру в свои силы, помогает твердо стать на ноги.
О своих делах Иван Михайлович сообщает весьма скупо: «Что касается до меня, то мои дела идут здесь очень хорошо: занят теперь вопросами чрезвычайно интересными, которые обещают много результатов. Живу по-прежнему без общества, но скучать перестал. В Париже пробуду, вероятно, до апреля. Поеду потом месяца на полтора в Вену и оттуда в Петербург. Причиной моего раннего приезда будет... желание повидаться летом с родными в Симбирской губернии... Будьте здоровы, счастливы и не забывайте преданного Вам И. Сеченова».
РАСПРАВА С ЧЕРНЫШЕВСКИМ
В Париж доходили слухи о деле Чернышевского. Строго говоря, дела не было, царское правительство из всех сил старалось найти доказательства антигосударственной деятельности Николая Гавриловича и не могло. Тогда пошли по испытанной дороге провокаций. Нашли матерого провокатора, некоего Костомарова. Он показал, что Чернышевский неоднократно встречался с ним, вел антигосударственные беседы и давал нелегальные поручения. Костомаров изготовил фальшивые письма Чернышевского, завербовал еще одного лжесвидетеля, московского пьянчужку Яковлева. Но тот подвел своих хозяев.
В «Современник» к главному редактору журнала и другу Чернышевского поэту Некрасову пришло письмо студентов, политических заключенных. В нем сообщались признания лжесвидетеля Яковлева, попавшего по пьянке в ту же тюрьму, где находились авторы письма, студенты Московского университета. В письме приводились собственные слова Яковлева:
«Я, вот видите ли, был знаком со Всеволодом Дмитриевичем Костомаровым. На днях получил записку без подписи, в которой меня приглашали явиться в гостиницу «Венеция», в 18-й номер. Явившись туда, я был крайне изумлен, застав там Костомарова, в солдатской шинели и в сопровождении жандармского офицера. Оказалось, что записка была от Костомарова, который тут же, в номере, сделал мне следующее предложение: «Вот тебе письмо к моей матери, поезжай с ним в Петербург и отдай его по адресу, мать моя научит тебя, что делать, и ежели ты последуешь ее наставлениям, то будешь хорошо вознагражден». Я должен был дать показание в III отделении в том, будто я слышал, как Николай Гаврилович Чернышевский летом 61-го года в разговоре с Костомаровым сказал следующую фразу: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон: вы ждали воли, вот вам и воля — благодарите царя». Я не знаю, что значат эти слова и зачем Костомарову нужно, чтобы я дал такое показание, но скажите мне, господа студенты: если я действительно дам такое показание, может ли сделать для меня что-нибудь Потапов (начальник III отделения канцелярии его императорского величества), может ли он, например, велеть освободить меня?»
«Ну, это вряд ли,— сказал кто-то из слушавших Яковлева.— За ложные показания Потапов будет вас скорее преследовать, потому что по закону ложный свидетель подвергается строгому наказанию».
119
Яковлев был явно озабочен таким поворотом дела.
Конечно, верить всему, что сказал этот человек, было бы легкомысленно. Однако на основании этого разговора студенты сделали следующие предположения:
1. Чернышевский действительно обвиняется в политическом преступлении.
2. Костомаров хочет с помощью Яковлева подвергнуть Чернышевского несправедливому обвинению суда.
Письмо к Николаю Алексеевичу Некрасову заканчивалось так:
«...Все это заставляет нас обратиться к Вам, милостивый государь, как человеку, вероятно, близкому к г. Чернышевскому (по редакции «Современника»), уполномочивая Вас в случае действительности наших подозрений представить это письмо куда следует, чтобы предупредить возможность несправедливого приговора суда.
Все это мы готовы в случае надобности подтвердить перед судом присягой.
Иван Гольц-Миллер
Петр Петровский-Ильенко Александр Новиков Яков Сулин Леонид Ященко.
Москва, 13 апреля 1863 года*.
Письмо из Москвы дошло до Некрасова, он передал его по назначению — генералу Потапову. Но Александр II и его правительство решило расправиться с Чернышевским. Что для них саморазоблачения лжесвидетеля? Чернышевский оставался в заточении в Петропавловской крепости.
Подготавливались акт гражданской казни, осуждение на долгие годы каторги и пожизненной ссылки Николая Гавриловича в самые гиблые места Восточной Сибири.
♦ * *
В эти тяжелые и мрачные дни, когда одно упоминание о редакции «Современника» приводило в бешенство правителей царской России, Иван Михайлович вел переговоры о сотрудничестве в журнале революционных демократов.
Он просил близких к «Современнику» Петра Ивановича и Марию Александровну Боковых выяснить у Некрасова возможность этого сотрудничества.
В письме от 11 февраля 1863 года Иван Михайлович писал:
«Благодарю Вас, Марья Александровна, за память, а
120
Петра Ивановича за хлопоты по моим делам у Некрасова. Условия, предлагаемые последним, я нахожу выгодными, но принять их еще не могу... Опыт показывает, что писать популярно я не умею. По крайней мере, вещь, которая у меня могла быть популярной, вышла совсем не такою. Начал за здравие, кончил за упокой. Впрочем, я не теряю надежды выучиться этому искусству.
Тогда мы и поведем речь с Некрасовым...»
В письме к Марии Александровне речь шла о конкретном произведении, которое Сеченов писал для «Современника».
В Париже в связи с открытием явлений центрального торможения у Ивана Михайловича зрели идеи, послужившие основой для создания его гениального труда «Рефлексы головного мозга». Они и предназначались для журнала «Современник». Это произведение, по замыслу автора, должно было отвечать всем требованиям, предъявляемым к научным сочинениям, и одновременно быть доступным и понятным для народа.
Возвратившись в мае 1863 года из-за границы в Петербург, Сеченов все лето отдал работе по созданию, как он писал, «вещи, которая играла некоторую роль» в его жизни.
«ГЕНИАЛЬНЫЙ ВЗМАХ СЕЧЕНОВСКОЙ МЫСЛИ»
Так назвал Иван Петрович Павлов вершину научного творчества Сеченова, его труд «Рефлексы головного мозга».
Прошло почти десять лет с тех пор, как студент-медик Сеченов ожесточенно спорил со своими друзьями о сущности души. О том, каков был этот спор людей, поверхностно знакомых со сложными проблемами науки, пишет во вступлении к «Рефлексам головного мозга» Иван Михайлович Сеченов:
«...Громкие фразы, широкие взгляды, светлые мысли трещат и сыплются, что твои ракеты. У иного из слушателей, молодого, робкого энтузиаста, во время спора не раз пробежит мороз по коже; другой слушает, притаив дыхание; третий сидит весь в поту. Но вот спектакль кончается. К небу летят страшные столбы огня, лопаются, гаснут... Такова обыкновенно судьба всех... споров между дилетантами. Они волнуют на время воображение слушателей, но никого не убеждают». Так, по словам Сеченова, спорили юнцы студенты в былые годы, так же спорили они и в более поздние времена, когда Иван Михайлович стал преподавателем фи
121
зиологии. Так они будут спорить во веки веков. И пусть себе спорят на здоровье. Сеченов не принадлежал к разряду таких господ, которых пугали жаркие споры молодежи. Эти господа, по мнению Ивана Михайловича, забывали случаи, когда из брожения умов рождалась со временем истина. И Сеченов предлагал всем скептикам и ханжам вспомнить, к чему привела науку, к примеру, средневековая алхимия. Сложными путями, из алхимической фантастики, из поисков средств для превращения простых химических элементов в золото, из поисков эликсира вечной молодости и всяческого волшебства, родилась современная научная химия. Сеченов шел в своем сочинении к весьма смелым мыслям. Вот что он писал:
♦ ...Странно подумать, что сталось бы... с человечеством, если бы строгим средневековым опекунам общественной мысли удалось пережечь и перетопить, как колдунов, как вредных членов общества, всех этих страстных тружеников... которые бессознательно строили химию и медицину. Да, кому дорога истина вообще, то есть не только в настоящем, но и в будущем, тот не станет нагло ругаться над мыслью, проникшей в общество, какой бы странной она ему ни казалась».
Эти емкие по содержанию строки вызывали в воображении читателя не только образы алхимиков. В ♦ Рефлексах» Сеченов поднимал свой голос за всех людей, смелых мыслью.
К передовым людям своего времени, к молодежи, обращался Иван Михайлович Сеченов. К этим ♦бескорыстным искателям будущих истин» обращался он со своими сокровенными мыслями ♦относительно психической деятельности головного мозга, которые еще никогда не были высказаны...»
Сеченов приглашал читателей вместе с ним войти в чудесный мир явлений, который родится из деятельности головного мозга.
Ученые по-разному смотрят на роль головного мозга. Одни из них, принимая мозг за орган человеческой души, ♦отделяют последнюю от первого», другие говорят, ♦что душа по своей сущности есть продукт деятельности мозга». Делая вид, что он не хочет вступать в спор с философами, Сеченов без промедления определил свою позицию в этом извечном споре между светом и тьмой.
♦Для нас, как для физиологов, достаточно и того, что мозг есть орган души, то есть такой механизм, который, будучи приведен какими ни есть причинами в движение, дает в окончательном результате тот ряд внешних явлений, ко
122
торыми характеризуется психическая деятельность. Всякий знает, как громаден мир этих явлений. В нем заложено все то бесконечное разнообразие движений и звуков, на которые способен человек вообще. И всю эту массу фактов нужно обнять...
Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению — мышечному движению. Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактом является мышечное движение».
Все бесконечное разнообразие деятельности головного мозга можно свести к мышечному движению. Чтобы что-то сделать, нужны мышечные усилия, чтобы произнести слово — также необходимо произвести известное сочетание звуков.
И слово и дело, вся неимоверно сложная и разнообразная психическая жизнь человека подчиняется общим законам физиологии и может в итоге быть сведена к мышечному движению,— так отвечает Сеченов на извечный спор между светом и тьмой. В эту тысячелетнюю войну между истинной наукой и мракобесием вступил Сеченов.
Самые тонкие и сложные внешние проявления мозговой деятельности могут быть сведены к мышечному движению.
Иван Михайлович приводит примеры для подтверждения этой истины. Музыкант ли искусной рукой извлекает из бездушного инструмента звуки, полные жизни и страсти, скульптор ли своими руками оживляет холодный мрамор— в обоих случаях руки, творящие чудеса, делают лишь механические движения, «которые, строго говоря, могут быть даже подвергнуты математическому анализу и выражены формулой».
Одушевленность, страстность, насмешка, печаль, радость — все эти явления жизни нашего мозга выражаются в результате большего или меньшего укорочения или расслабления какой-нибудь группы мышц — акта чисто механического.
Изучая законы, управляющие движением мышц, мы тем самым изучаем законы, лежащие в основе мозговой деятельности — психической деятельности.
Сеченов вел своего читателя от разбора простых явлений к более сложным.
Физиология имеет дело с двумя видами мышечных движений: невольными (непроизвольными) и произвольными.
123
Отрежьте голову лягушке и обезглавленную бросьте ее на стол. Проходят первые секунды — лягушка неподвижна, как бы мертва. Но закончилась минута, и лягушка села на задние лапки и выставила передние, опираясь на них. Не трогайте лягушку, и она просидит неподвижно долгое время. Прикоснитесь к ней — она шевельнется и опять станет недвижима. Щипните сильнее — она сделает прыжок, постарается убежать от вас. Все это невольные движения. По нерву в нервную клетку спинного мозга приходит раздражение (щипок), по другому проводу из нервной клетки в мышцу поступает «приказ» ответить сокращением на испытанное раздражение. Простой механизм — рефлекторная дуга, если этот механизм уцелел, он сработает так же неизбежно, как падение камня на землю, как взрыв пороха от огня, как всякая исправная машина. Но надрежьте чувствующий нерв, по которому идет в спинной мозг раздражение, рассеките нерв, по которому идет «приказ» о движении, или разрушьте спинной мозг — и лягушка от щипка не прыгнет. Машина сломана в одной из трех ее важнейших частей.
Первый шаг сделан — читатель узнал на обезглавленной лягушке, что такое простейший спинномозговой рефлекс.
А при целом головном мозге у животных могут происходить невольные движения, как у лягушки без головы? Да, могут. Человек невольно вздрогнул от неожиданного звука, от постороннего прикосновения к его телу... В этих случаях произошли невольные движения, подобные прыжку обезглавленной лягушки. Следовательно, в известных условиях и головной мозг, подобно спинному, может дейст
124
вовать автоматически, как машина, и тогда его деятельность также выражается невольными движениями. Это происходит, когда чувствующий нерв (зрительный, или слуховой, или какой-либо другой) раздражается неожиданно, внезапно, без всякой подготовки. Перед вами нервная дама. Вы предупредили ее, что сейчас сильно стукнете рукою по столу, и с размаху ударяете кулаком по доске. Раздается удар, звук его действует на слуховой нерв дамы не вдруг, не неожиданно; тем не менее она вздрагивает. Но продолжайте с разрешения дамы опыт — с той же силой ударяйте кулаком по столу — раз, два, три, четыре, пять... Придет время, и ваши удары перестанут действовать — нервная дама больше не вздрогнет. Она привыкла к звукам определенной силы. Ударьте по столу с большей силой — дама снова вздрогнет, несмотря на ваше предупреждение, что удар будет более сильным. Повторные удары новой силы через некоторое время также действовать не будут.
Для любого человека существует такой сильный звук, который может заставить его вздрогнуть и в том случае, когда этот звук ожидается. Нужно только, чтобы потрясение слухового нерва было сильнее того, какое ему случалось когда-либо выдерживать. То же можно сказать и относительно возбуждения зрительного, обонятельного и вкусового нервов.
«Если возбуждение чувствующего нерва сильнее того, какое ему когда-либо случалось выдерживать, то оно при всевозможных условиях вызывает роковым образом отраженные, то есть невольные, движения. Это вторая и последняя категория случаев, где головной мозг в деле произведения движений является машиной». Все другие мышечные движения, совершаемые под действием головного мозга, получили название произвольных.
Наблюдается огромная разница между состоянием человека не подготовленного или подготовленного к определенному внешнему влиянию. Вот простой пример. Человек стоит к вам спиной. Подойдите к нему сзади незаметно и слегка толкните. Не ожидавший толчка, он сдвинется с места. Другое дело, если человек будет предупрежден, тогда более сильный толчок не сдвинет его с места. В последнем случае человек противодействует внешнему влиянию: известные группы мышц по его желанию произвольно сократились, напряглись, подготовились к толчку в спину. Так будет всегда, если человек ждет какого-либо внешнего воздействия, он в силах ему противодействовать. Этот факт мы наблюдали с нервной дамой, которая научилась не вздрагивать при ударах кулаком по столу. Один человек обливается ледяной
125
водой и не вздрагивает при этом, другой спокойно работает среди трупов в анатомическом театре, третий прекрасно спит под гул артиллерийской канонады. Можно без конца приводить такие примеры — привычки к необычным внешним воздействиям. Но привыкнуть к необычным явлениям — не значит выносить их без всяких усилий, а значит искусно управлять своими усилиями.
«Итак, если человек приготовлен к какому-нибудь внешнему влиянию на его чувства, то, независимо от окончательного эффекта этого влияния (то есть произойдет ли невольное отраженное движение или нет), в нем всегда родится противодействие этому влиянию; и противодействие это выражается иногда извне мышечным движением, иногда же остается без видимого внешнего проявления».
Иван Михайлович искусно подводит читателя к мысли, которая ярким лучом света осенила самого ученого, когда он исследовал в Париже явление центрального торможения. Сеченов с величайшей убедительностью показывает неподготовленному в физиологии человеку, смысл открытия тормозных процессов в головном мозгу. Уже поднята рука ученого, чтобы сорвать покрывало таинственности, которым извечно была окружена психическая жизнь человека. Если пришедшее из внешнего мира сильное впечатление абсолютно внезапно, произойдет неизбежное — отраженное движение. Нервный центр в ответ на раздражение автоматически отдаст «приказ» к ответному движению. Если же сильное впечатление из внешнего мира произойдет не внезапно, то в дело вмешаются новые механизмы, которые будут стремиться подавить, задержать отраженные движения — на сцену выступит тормозной процесс. Когда этот процесс окажется сильнее поступившего извне раздражения, тогда отраженного (невольного, непроизвольного) движения не произойдет. В случае же, если раздражение будет сильнее тормозных препятствий, наступит невольное, но ослабленное движение.
Что же это за нервные механизмы, которые существуют в мозгу человека и задерживают, тормозят при определенных условиях отраженные, рефлекторные движения?
Сеченов возвращает нас к парижским исследованиям — открытию тормозных центров в головном мозгу.
Иван Михайлович показывает на ряде примеров влияния, исходящие из этого высшего отдела организма. Какое существует отношение между силой раздражения и отраженным движением — между толчком и его эффектами? Оправдывается ли здесь поговорка: «Как аукнется, так и откликнется»? Истина лучше всего познается в сравнении.
126
Иван Михайлович берет для сравнения явления, которые происходят без участия головного мозга,— речь идет о простом рефлексе через спинной мозг. В этом наиболее простом случае с постепенным усилением раздражения так же постепенно возрастает и напряженность (сила ответного движения).
Другое дело, когда в явление вмешивается головной мозг. Здесь отношения между силой раздражения и ответом на него несравненно сложнее. Факты чрезмерно сильных невольных движений при видимой незначительности внезапного раздражения широко известны.
Испуг! Чего человек не сделает под влиянием страха или испуга! У одного одышка, больное сердце, но, сильно испугавшись, он пробежит километры. Испуг или страх, как бы ни была мала причина, их вызвавшая,— это искра, поджигающая нервную систему, как порох. Невольные и произвольные движения становятся сильными и разнообразными. Причина, их вызвавшая, может быть ничтожна — это действительно искра, попавшая в порох. К таким явлениям, усиливающим невольные и произвольные движения при посредстве головного мозга, относятся чувственные наслаждения в обширном смысле слова. Ребенок увидел ярко окрашенный предмет и засмеялся, стал двигать ручонками и ножками. Голодному дали пищу — и он с жадностью набросился на нее. Но тот же человек, наевшийся до отвала, к запаху пищи становится равнодушным. Как понять эти явления физиологически? Происходит нечто похожее на состояние испуга: и в том и в другом случае головной мозг либо усиливает, либо угнетает рефлексы, влияет на невольные движения...
Если организм получил слабое возбуждение, а реакция на него поразительно сильная, или, наоборот, получено сильнейшее возбуждение, а реакция на него слабая, вялая,— виной всему этому головной мозг! Это его работа...
К рефлексам с усиленным против возбуждения концом относятся человеческие страсти. Мысль — с точки зрения физиологической — это рефлекс с угнетенным концом: возбуждение, психологический анализ и синтез в головном мозгу и отсутствие третьей части рефлекса — движения.
Это отсутствие третьего члена рефлекса — движения — вызвано деятельностью головного мозга, его нервных центров. Они задерживают, тормозят завершение рефлекса, не дают ему дойти до ответного движения. Человек испытывает страшную боль — он должен был бы кричать, но сильный человек молча переносит боль. Есть болевое ощущение, осознанное в мозгу, есть два члена рефлекторной триады, но нет
127
последнего члена — человек молча переносит страдание. Человек страдает, он осознает страдание, думает, мыслит о нем — «психический рефлекс без конца (без движения) — это мысль», учит Сеченов.
Доказательствам мапгинности, неизбежности и произвольных движений, доказательствам зависимости человеческого мышления от причин, лежащих вне человека, посвящается большая часть сеченовских «Рефлексов головного мозга».
Как в математическом исследовании упустишь одно какое-либо, пусть ничтожное, действие — и дальнейшие вычисления невозможны, так и в классическом труде Сеченова, произведении в высшей степени стройном, одно положение, одна мысль с железной логикой вытекают из другого.
Учение о рефлексах, о деятельности головного мозга в эпоху, когда Сеченов писал свой знаменитый труд, находилось лишь на первой стадии своего развития. Оно переживало юношеский период. Дорога Сеченовым была избрана с изумительной прозорливостью, но по ней были сделаны лишь первые шаги. Иван Михайлович все это прекрасно понимал. Многие положения в его учении были лишь научными гипотезами. Надо было обладать сеченовским гением, чтобы из весьма небольшого экспериментального материала создать сложнейшую теорию. Последующие поколения физиологов подтверждали опытом, исследованием то, что у Ивана Михайловича было только научным предвидением. Лишь немногие положения о рефлексах были последующими открытиями оспорены.
О своей работе Иван Михайлович писал в высшей степени скромно:
«Но что же тогда все ваше учение, спросят меня? Чистейшая гипотеза, в смысле обособления у человека трех механизмов, управляющих явлениями сознательной и бессознательной психической жизни (чисто отражательного аппарата, механизма, задерживающего и усиливающего рефлексы), отвечаю я. Кому гипотеза в этом смысле кажется слабой, плохо доказанной или просто не нравится, тот может, конечно, отвергнуть ее, и дело через это, в сущности, нисколько не пострадает, потому что моя главная задача заключается в том, чтобы доказать, что все акты сознательной и бессознательной жизни, по способу происхождения, суть рефлексы. Объяснения же, почему концы этих рефлексов в одних случаях ослаблены до нуля, в других, напротив, усилены, представляют вопросы уже второстепенной важности. Кто найдет лучшее объяснение, я первый порадуюсь».
заключительный аккорд
Среда создает человека, она формирует его характер, особенности его психики. Из простых явлений — рефлексов, их торможения и ускорения,— как из цветных камешков, возникает чудесная мозаика, бесконечно меняющиеся картины деятельности головного мозга. Смело отметая расовые предрассудки современного ему общества, Сеченов писал: «Умного негра, лапландца, башкира европейское воспитание... делает человеком, чрезвычайно мало отличающимся со стороны психического содержания от образованного европейца...»
«Рефлексы головного мозга» били и бьют по идеалистическим представлениям о душе человека, об особой, неземной сущности его психики. Все на этой планете подчиняется общим законам жизни. Не из самого себя рождаются наши мысли, поступки, движения — все они нуждаются во внешних возбуждениях.
«Когда человек, сильно утомившись физически, засыпает мертвым сном, то психическая деятельность такого человека падает, с одной стороны, до нуля — в таком состоянии человек не видит снов,— с другой — он отличается чрезвычайно резкой бесчувственностью к внешним раздражениям : его не будит ни свет, ни сильный звук, ни даже самая боль. Совпадение бесчувствия к внешним раздражениям с уничтожением психической деятельности встречается далее в опьянении вином, хлороформом и в обмороках. Люди знают это, и никто не сомневается, что оба акта стоят в причинной связи. Разница в воззрениях на предмет лишь та, что одни уничтожение сознания считают причиной бесчувственности, другие — наоборот. Колебание между этими воззрениями, однако, невозможно. Выстрелите над ухом мертво спящего человека из 1, 2, 3, 100 и т. д. пушек, он проснется, и психическая деятельность мгновенно появляется; а если бы слуха у него не было, то можно выстрелить теоретически и из миллиона пушек — сознание не пришло бы. Не было бы зрения — было бы то же самое с каким угодно сильным световым возбуждением; не было бы чувства в коже — самая страшная боль оставалась бы без последствий. Одним словом, человек, мертво заснувший и лишившийся чувствующих нервов, продолжал бы спать мертвым сном до смерти.
Пусть говорят теперь, что без внешнего чувственного раздражения возможна хоть на миг психическая деятельность и ее выражение — мышечное движение».
Нашлось немало людей, которым оказалась не по вкусу
Молодость Сеченова
129
материалистическая теория Сеченова. Попытка ввести физиологические основы в психические процессы привела Ивана Михайловича не к спору с каким-либо ученым, несогласным с новой теорией, а к конфликту с господствовавшим в царской России реакционно-идеалистическим мировоззрением. Сеченов бросил вызов тем, кто душил все передовое и мыслящее в огромной и обездоленной стране
ПРОРЫВ ЦЕНЗУРНОЙ блокады
Свой труд Иван Михайлович закончил летом 1863 года и отдал его в опальный журнал «Современник», который после ареста Чернышевского возглавлял великий русский поэт Некрасов.
Сочинение Сеченова под названием «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы» должно было появиться в свет в десятом номере «Современника». В типографии уже был готов набор сочинения, автору посланы корректурные листы для чтения. Одновременно вся корректура очередного номера «Современника» была представлена в цензурный комитет.
Труд Ивана Михайловича попал в руки цензора Веселого. В своей докладной записке цензор называл сочинение Сеченова «серьезным ученым материалистическим трактатом, доказывающим, что мозг с нервной и мышечною системами представляет превосходную машину, производящую всевозможные акты психической жизни...». Далее цензор писал, что «автор хотя и нигде прямо не касается религиозных верований и нравственных или политических начал, но тем не менее подрывает их, подводя самым обширным образом идею материализма во все акты жизни человека. Если смотреть с этой точки зрения на предлежащее сочинение, то нельзя одобрить его к печати. Но, с другой стороны, нельзя не заметить, что при сильном распространении учения о материализме в Западной Европе оно проникает к нам различными путями и не может быть задержано цензурой».
Исходя из таких соображений, что все равно дорогу материализму не преградить, цензор предложил разрешить к выходу в свет сочинение Сеченова, несмотря на то что оно ♦ подрывает религиозные верования и нравственные и политические начала». С мнением цензора Веселого согласился и цензурный комитет.
Но ошибется тот, кто решит, что на этом и исчезли цен
130
зурные рогатки, чинимые сочинению Сеченова. Статью передали в министерство внутренних дел. Тайный советник Пржецлавский был ее вторым цензором. Он обвинил автора статьи в том, что тот, приводя человека «в состояние чистой машины», ниспровергает все моральные основы общества, уничтожает религиозный догмат жизни будущей... По его мнению, сочинение Сеченова помещать в «Современнике» ни в коем случае нельзя.
Основываясь на заключении тайного советника Прже-цлавского, совет министра внутренних дел по делам книгопечатания 3 октября 1863 года рассмотрел вопрос о запрещении публикации в «Современнике» труда Сеченова. В решении этого судилища по делам печати было черным по белому написано: «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы» направлена к отрицанию нравственных основ общества, к потрясению догмата о бессмертии души и вообще религиозных начал... А посему совет полагал: воспретить помещение этой статьи в «Современнике» и дозволить напечатать оную в медицинском или другом специальном периодическом издании...» Название сочинения было предложено изменить, чтобы устранить указание на материалистические, вытекающие из него выводы.
Таким образом, опасный труд Сеченова был запрещен в «Современнике» или в каком-либо другом литературном журнале, предназначенном для широкой публики.
Сочинение Ивана Михайловича Сеченова появилось в свет в журнале «Медицинский вестник» под измененным названием: «Рефлексы головного мозга». Начальство, ведавшее цензурой, рассчитывало, что в научном журнале статья Сеченова пройдет незамеченной, ее прочтут лишь десятки специалистов. Однако эти расчеты оказались построенными на песке. За «Медицинским вестником» в столице и в^ провинции буквально охотились. Каждый интеллигентный человек искал случая ознакомиться с «Рефлексами головного мозга».
Гениальная попытка Сеченова объяснить работу головного мозга с научных позиций, раскрыть в самых общих чертах законы, управляющие психической деятельностью человека, вызвала горячий отклик у передовых людей.
Через три года вокруг «Рефлексов головного мозга» снова забурлили страсти. Идя навстречу требованиям многочисленных читателей и почитателей, Иван Михайлович подготовил свой труд к отдельному изданию. В типографии А. Головачева были отпечатаны три тысячи экземпляров книги И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга».
Предварительной цензуры для сдачи в печать такого ро
131
да произведений не требовалось. Только лишь после изготовления тиража узаконенное количество экземпляров книги должно было доставляться властям для получения разрешения на ее продажу. Как только книга Сеченова была прислана в цензуру, последовало распоряжение о запрещении ее выпуска в свет. Начальство отдало приказ об аресте всего тиража «преступного» издания и предложило полиции неусыпно наблюдать за тем, чтобы ни один экземпляр книги не исчез из типографии.
Книгу Сеченова необходимо упрятать подальше, чтобы никто ее не увидел. Вот ведь какой неугомонный этот господин Сеченов! Хорошо понимает, что запрещение печатать его зловредное сочинение в «Современнике» было сделано «в видах отстранения пропагандирования его сочинения». Знал это, а вот поди ж, пытается издать книгу отдельным изданием.
Совет главного управления по делам печати при министерстве внутренних дел «полагал означенную книгу, по силе ст. 14 Отд. III закона 6 апреля 1865 года, арестовать и подвергнуть оную судебному преследованию». Министр утвердил это решение и предложил начать судебное преследование против автора и издателя книги «Рефлексы головного мозга».
Из Цензурного комитета к прокурору петербургского окружного суда летит бумага с просьбой о начале судебного преследования Сеченова и об уничтожении книги, «ведущей к развращению нравов».
Но Иван Михайлович человек не из трусливого десятка. Угроза судебного преследования не заставила Сеченова склонить голову перед грубой силой. Он нашел дельного юриста и с его помощью начал встречное судебное дело против министерства внутренних дел! Сеченов требовал вызова в суд уполномоченного от комитета по делам печати и объяснений причин ареста «Рефлексов».
И случилось непонятное. Окружной петербургский суд принял иск Сеченова на министерство внутренних дел!
Оскорбленные чиновники на суд не явились, и произошло нечто неслыханное. «1866 года ноября 24-го дня петербургский окружной суд заслушал дело по прошению профессора Ивана Михайловича Сеченова о снятии ареста, наложенного Петербургским цензурным комитетом на книгу «Рефлексы головного мозга».
Нашла коса на камень — министерство внутренних дел столкнулось с министерством юстиции. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что окружной суд по законам империи не имеет права судить о действиях чиновников из
132
цензуры, их дела разбирает более высокая инстанция — Судебная палата. Дело Сеченова перешло в ведение Судебной палаты.
Прокурор не нашел возможности предпринять судебное преследование против автора «Рефлексов ». Но что делать с книгой? Сжечь ее, как сжигали во времена Коперника ♦ и Галилея еретические ♦ книги? Министр внутренних дел Валуев пишет управляющему министерством юстиции князю Урусову о «Рефлексах» следующее:
«Смысл и значение предлагаемой им теории понятны. Объяснять в общедоступной книге, хотя бы и с физиологической точки зрения, внутренние движения человека действиями внешних влияний на нервы и отражением этих влияний на головной мозг — не значит ли выставлять на место учения о бессмертии духа новое учение, признающее в человеке лишь одну материю... и, по мнению Вашего сиятельства, сочинение Сеченова неоспоримо вредного направления».
Сеченов, как на это вполне справедливо указывает министр, объясняет психическую деятельность человека «внешними влияниями на нервы и отражением этих влияний на головной мозг». Что же, граф Валуев неплохо разобрался в учении Ивана Михайловича Сеченова. Правильно он понял и то, что автор «Рефлексов» «на место учения о бессмертии духа выставил новое учение, признающее в человеке лишь одну материю». Да, да, «лишь одну материю», и в этом — главная суть учения великого физиолога.
Трудно было бы заподозрить прокуратуру и министерство юстиции в симпатиях к материализму вообще и к труду Сеченова в частности. Одна из причин нежелания этих учреждений вести судебное преследование против ученого заключалась в том, чтобы не раздувать пламени идей, защищаемых Сеченовым. Другой причиной отрицательного отношения органов юстиции к попыткам полицейских кругов устроить суд над Сеченовым и его детищем, «Рефлексами головного мозга», было сомнение в успешном окончании судебного дела, проводимого в условиях гласности. Так прямо и писал об этом князь Урусов министру Валуеву:
«Разделяя и со своей стороны выраженные прокурором С.-Петербургской судебной палаты сомнения в успешном окончании судебного по этому делу преследования, я не могу к изложенным в заключении его основаниям не присовокупить еще, что гласное развитие материалистических теорий при судебном производстве этого дела может иметь последствием своим распространение этих теорий в обществе вследствие возбуждения особого интереса к содержанию этой книги... поэтому и ввиду приводимых выше затрудне
133
ний, выражаемых прокурорским надзором в судебном преследовании книги Сеченова «Рефлексы головного мозга*, я полагал бы более осторожным не давать дальнейшего хода возбужденному Цензурным комитетом преследованию книги...*
Вот, собственно, и вся история с опубликованием «Рефлексов головного мозга*. Хотели бы утопить автора и его книгу, да руки коротки, боялись общественного мнения, боялись, что, чем больше будут чинить препятствий «Рефлексам*, тем популярнее они будут в обществе.
Иван Михайлович был готов к самому худшему. Он говорил своим друзьям, что придет в суд с лягушкой и повторит перед присяжными заседателями свой опыт. Тогда они увидят, кто прав: совет главного управления по делам печати или он, Сеченов.
31 августа 1867 года было сделано распоряжение о снятии ареста с книги «Рефлексы головного мозга*, и она вышла в свет.
Эпилог
♦ ЧТО ДЕЛАТЬ? ♦
Жизнь государственного преступника № 1, как называли Чернышевского тюремщики, в каменном мешке Алексеевского равелина ♦ была наполнена неустанным трудом. Николай Гаврилович добился разрешения получать книги, и его литературная деятельность не прекращалась ни на один день. Здесь, в крепости, Николай Гаврилович создал свой знаменитый роман «Что делать?»
...В один из воскресных дней февраля 1863 года по Литейному проспекту Петербурга мчались дрожки, на которых ехал редактор журнала «Современник» поэт Некрасов. Рысак попался расчудесный, и Николай Алексеевич, увлеченный быстрой ездой, не заметил, как с его колен упал на мостовую сверток. В нем находилась рукопись романа Чернышевского. Некрасов только что получил роман из цензуры и вез его в редакцию журнала.
Когда Некрасов подъехал к редакции, рукописи Чернышевского не оказалось. Она была утеряна. Немедленно в газеты дали объявление с просьбой доставить в редакцию «Современника» за хорошее вознаграждение утерянную рукопись. К счастью для русской литературы, все закончилось благополучно. Рукопись была подобрана на улице каким-то бедным чиновником и возвращена Некрасову.
Роман Чернышевского о новых людях, об их идеалах, стремлениях и их морали был написан о его современниках.
Это поколение русских людей принесло с собой революционные идеи 60-х годов. В центре романа — герои, которых писатель видел среди окружавшей его молодежи.
Название романа — «Что делать?» — определяет его главную идею: что нужно сделать для освобождения родной страны от самодержавия, от господства крепостников.
Самоотверженный революционер Рахметов — главный герой. Его окружают близкие по идеалам люди: Лопухов,
135
Вера Павловна и Кирсанов. Сюжетная канва романа очень близка к истории отношений хорошо известных Николаю Гавриловичу людей — доктора Бокова, Марии Александровны Обручевой и Сеченова.
Друг и единомышленник Владимира Обручева, Петр Боков, желая освободить его сестру Марию Александровну от родительской опеки, вступил с ней в фиктивный брак.
Мария Александровна слушала лекции молодого физиолога Ивана Михайловича Сеченова. Дружба, возникшая между Сеченовым и Боковой, перешла в глубокую любовь. Петр Иванович Боков, хотя он и очень любил Марию Александровну, не стал мешать ее чувству. Он сумел сохранить дружбу и с Марией Александровной и с Иваном Михайловичем.
В одном из вариантов пятой главы романа «Что делать?» Николай Гаврилович Чернышевский лично засвидетельствовал, что все существенные в его рассказе факты пережиты его добрыми знакомыми. Так, быть может, личная жизнь Ивана Михайловича Сеченова и близких ему людей послужила Чернышевскому богатым источником для создания романа «Что делать?».
Образы Сеченова, Марии Александровны Обручевой и Петра Ивановича Бокова вобрали в себя все лучшие черты людей 60-х годов прошлого века — готовность к борьбе за счастье народное, чистоту в отношениях друг с другом, безграничную жажду знаний.
Влияние романа «Что делать?» на самые широчайшие круги русского общества было исключительным. «Кто не читал и не перечитывал этого знаменитого произведения? — писал Плеханов.— Кто не увлекался им, кто не становился под его благотворным влиянием лучше, чище, бодрее и смелее? Кого не поражала нравственная чистота главных действующих лиц?»
После опубликования романа в «Современнике» в 1863 году дальнейшие его издания были запрещены, молодежь переписывала роман от руки, он издавался нелегально. Один из таких экземпляров романа «Что делать?», изданный нелегально за границей, находился в библиотеке юноши Владимира Ульянова. По словам Надежды Константиновны Крупской, Владимир Ильич Ленин «знал до мельчайших подробностей «Что делать?».
Как мы уже писали, документов о близости между Сеченовым и Чернышевским почти не осталось. Произошло так, быть может, и потому, что опытнейший из конспираторов Николай Гаврилович Чернышевский оберегал от подозрений политических ищеек Сеченова. Возможно, потому так
136
бедны и скупы дошедшие до нас сведения об отношениях между Чернышевским и Сеченовым.
Вот один из разрозненных фактов, доказывающий знакомство Чернышевского и Сеченова.
Дочь известного академика, историка русской литературы, Александра Николаевича Пыпина (двоюродного брата Чернышевского), Вера Александровна Пыпина, оставила воспоминания о семье Сеченовых. В этих воспоминаниях она пишет: «Не так давно, перебирая старые отцовские бумаги, я снова нашла визитную карточку П. И. Бокова, где на обратной стороне надпись: П. И. Боков и И. М. Сеченов приглашают Чернышевского и Александра Николаевича (Пыпина) по случаю окончания экзаменов Марии Александровны».
Далее Пыпина пишет: «Знакомство Пыпина с Сеченовым завязалось у Чернышевского, и отношения с тех пор установились самые дружеские». Сеченов, следовательно, бывал у Чернышевского. Это общение продолжалось длительное время, прервалось оно лишь в связи с отъездом Сеченова за границу и арестом Чернышевского.
♦ ♦ ♦
...Лето 1867 года. Сеченов живет в Граце (Австрия), Мария Александровна, его друг и в недалеком будущем жена,— в Петербурге. Скоро она уедет в Швейцарию, чтобы там получить медицинское образование — она готовится стать врачом по глазным болезням. В письмах Петра Ивановича Бокова к матери Марии Александровны, Эмилии Францевне Обручевой, еще чувствуется неутихшая боль.
«...Она (Мария Александровна) «это единственное существо», как Вы ее называете в Вашем письме ко мне, действительно есть «единственное существо», которое я ценю, люблю более всех на белом свете. Уверяю Вас, как честный человек, что мы живем с ней в самых лучших отношениях, и если она по характеру сошлась более с удивительным из людей русских, дорогим сыном нашей бедной Родины, Иваном Михайловичем, так это только усилило наше общее счастье. Вы сами его видели, а я еще к тому прибавлю, что Иван Михайлович, конечно, не говоря уже об уме и таланте его, принадлежит к людям рыцарской честности и изумительной доброты. И вы можете представить, до какой степени, наша жизнь счастливей, имея членом семьи Ивана Михайловича».
На этом можно было бы и закончить наше небольшое
137
повествование о молодости Ивана Михайловича Сеченова. Осталось дописать еще несколько строк.
Открытие механизмов, которые управляют психической жизнью человека, этот необычайно важный раздел науки о жизни мозга, начинается с трудов Ивана Михайловича Сеченова.
Из десятилетия в десятилетие Сеченов вел непрерывные бои с реакционерами от науки за утверждение великого учения о законах работы мозга человека. Это он, Сеченов, а позже Павлов, Введенский *, Ухтомский *, Бехтерев *, Быков ♦ и другие русские ученые создали физиологию высшей нервной деятельности, принесли немеркнущую славу русской науке.
Сеченов работал почти во всех областях физиологической науки: он создал учение о газах крови, писал о ♦животном электричестве», он впервые в истории начал глубокое научное исследование физиологии труда человека.
Пройдут годы, родина Сеченова и вместе с ней все человечество будут жить в коммунистическом обществе, и благодарные потомки никогда не забудут Ивана Михайловича Сеченова, который вложил свой вдохновенный труд в раскрытие величайших загадок и чудес жизни — работы мозга.
ЖИВИ В ОПАСНОСТИ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
На столе в его спальне лежала объемистая тетрадь, на обложке которой было написано: ♦Утешение в путешествиях, или Последние дни философа». Рядом со столом на кровати лежал человек, и ему было плохо, очень плохо.
Еще несколько дней назад он гулял по набережной Роны, любовался вечными снегами на склонах Юнгфрау. И вдруг красная пелена заволокла волшебную красоту Альп, ноги стали ватными, он осел на тротуар. Что было позже, он не помнит. Сознание вернулось лишь через много часов в этой комнате отеля, в котором он жил на пути в Лондон, на родину.
Тяжелое предчувствие неминуемой беды заставляло его спешить. Он переезжал из страны в страну, но вынужден был делать остановки для отдыха в городах, лежащих между Римом и Лондоном. Катастрофа, настигшая в Женеве, была второй по счету. Впервые апоплексический удар произошел в 1826 году, и этот второй мог оказаться последним... В мозгу порвалась какая-то артерия, и отнялась правая половина тела.
Еще тогда в Лондоне, два года назад, когда паралич впервые приковал его к постели, он уже был одинок у себя дома. В его особняке стало пустынно. До этой болезни салон его супруги всегда был переполнен людьми, ему мешали работать. И вдруг тишина. Леди Джэн в разъездах. Светские обязанности — визиты, званые обеды, приемы, посещения благотворительных вечеров, театры — отнимали все ее время. Что бы могли подумать ее друзья в высшем свете, если бы она не появилась в избранном кругу? А сэр Гемфри побудет один, прислуга в доме вышколенная, позаботится о
139
нем, покой для него сейчас полезнее всего — так сказал лейб-медик его величества Георга IV, пользующий ее мужа.
Уже тогда в туманном, зимнем Лондоне сэр Гемфри понял, что жизнь его подходит к концу. Не опоздать бы с подведением итогов. Он подошел к своему пятидесятилетию. В Англии джентльмены в таком возрасте не считались стариками. Но он сжигал свою жизнь быстрее других, и потому было самое время оглянуться в прошлое, оценить свои действия и мысли на пороге небытия. Тогда он стал писать свою исповедь-завещание: «Утешение в путешествиях...»
Страсть к путешествиям проявилась у него еще в юности. С тех далеких времен, когда он убедился, что на свете, кроме Корнуолла, бухты Маунт-Бей и мыса Лендс-Энд (Конец Света), существует большая Англия, его родина; что за проливом Ла-Манш лежат страны огромного европейского континента, что мир велик и необъятен,— с тех пор он постоянно стремился расширять свои горизонты, стал бродягой. Неодолимая потребность в передвижениях стала его второй натурой. Он уезжал из Англии на целые годы. Жизнь в Италии, Франции, Швейцарии, Германии и в других странах длилась месяцами.
Друзья спрашивали, отчего он бежит из любимой им, счастливой Англии, кто и что гонит его с Британских островов?.. Что ответить на это? Все до крайности было сложно и запутанно. Быть может, в этой рукописи, что лежит сейчас на столе в женевском отеле, найдется ответ на самые трудные вопросы его жизни. А быть может, и нет этих ответов. Невозможно самому быть судьей своих деяний...
Пройдут годы и десятилетия, найдутся люди, которые оценят добро и зло, важное и пустое, содеянное им... И, быть может, для более верной оценки его жизни и оставленного им людям потребуется не один судья, а несколько — каждый из них будет говорить о том, что ближе ему,— их общий ответ пусть будет и его, Гемфри Дэви, приговором, наставлением и завещанием будущим поколениям.
ГЛАВА, В КОТОРОЙ РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ ИМЯ ГЕРОЯ ПОВЕСТИ И КРАТКО ИЗЛАГАЮТСЯ ЕГО ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
В разное время и при разных обстоятельствах автор этой книги в беседах с учеными или из книг узнавал поражавшие его воображение истории о чудесах науки и техники, о больших и малых изобретениях и открытиях. Некоторые
140
из этих историй стерлись, ушли из памяти, другие запомнились на многие годы. Несколько таких, отложившихся в сознании происшествий из далеких друг от друга областей науки, были, как это ни странно, связаны с одним и тем же именем ученого и изобретателя. Это имя, думалось автору, весьма распространенное в Англии, и объясняло то, что различные изобретения и открытия совершались людьми с одной и той же фамилией.
Запавшие в памяти автора эпизоды из жизни ученых Англии скорее всего относились к однофамильцам. Вот они.
* * *
Прерывистые гудки заводов и фабрик, паровозов, пароходов — везде, во всем мире это сигналы тревоги... Но значение этих сигналов бедствия с особой силой ощущаешь на горных предприятиях. В любое время суток, днем или глухой ночью, прерывисто закричит шахтный гудок, и защемит сердце: под землей люди, и с ними несчастье. Их близкие, старики, жены и дети, накинув на себя что попало, задыхаясь, бегут к шахте... Еще не известно, кто жив, а кого уже нет. Сейчас поднимут наверх изувеченных...
Обвалилась ли слабая кровля и погребла под собой шахтеров, взорвался ли рудничный газ и под землей бушует пожар...
Было время, когда взрывы рудничного газа уносили ежегодно тысячи и тысячи жизней. Так продолжалось испокон веков: каменноугольные шахты были кладбищем горняков. Средств борьбы со взрывами рудничного газа почти не существовало. Вентиляция была жалкой или вовсе отсутствовала, и каждый спуск шахтера в забой мог стать для него последним.
Наука не знала, как помочь людям этого тяжелейшего труда. Но нашелся человек, который бросил вызов слепым и губительным силам природы. Имя этого человека навеки было связано с изобретенной им безопасной лампочкой для шахтеров. Эта хитроумная лампочка была устроена так, что язычок ее пламени в наполненной газом шахте не вызывал взрывов.
♦ ♦ ♦
В конце восемнадцатого и в начале девятнадцатого века итальянский ученый Вольта подарил человечеству невиданный дотоле источник электричества в приборе, получившем название вольтова столба. Медные и цинковые или серебря
141
ные и цинковые кружочки перемежались суконными прокладками, смоченными соленой водой.
♦Столб, составленный из последовательно положенных друг на друга кружков меди, цинка и влажного сукна,— чего стали бы вы ожидать от такой комбинации? — писал известный французский исследователь Араго.— Но этот столб представляет собой прибор, чудеснее которого никогда не изобретал человек, не исключая телескопа и паровой машины.
Простого соприкосновения двух металлов, которые при этом ничего не теряют и ничего не получают, достаточно, чтобы этот волшебный прибор давал истечения, способные своим светом соперничать с самыми сильными горючими веществами, способные своей силой разлагать самые прочные химические соединения, способные даже восстанавливать на несколько мгновений механизм жизни в бездыханном трупе».
Не доискиваясь сущности процессов, происходящих в вольтовом столбе, не понимая причин его чудесного действия, один молодой ученый в Лондоне, сомневавшийся в элементарной природе щелочей — едкого кали и натра, приступил к опытам, обессмертившим его имя. Этот замечательный охотник за элементами, пользуясь силой мощного вольтова столба (это было похоже на то, что охотник вышел в джунгли, впервые вооруженный не луком со стрелами, а огнестрельным оружием), разложил щелочи, доказал, что они сложные вещества, дал человечеству сначала калий и натрий, а затем барий, стронций, магний и другие еще никому не ведомые металлы. Такой удачной охоты за элементами наука еще не знала. И имя этого охотника за элементами вошло навсегда в историю химии...
♦ ♦ ♦
Сын Джеймса Уатта — Грегори был болен чахоткой. Спасения от этой страшной болезни в те времена не было, миллионы людей гибли от нее. Сестренка Грегори уже умерла. Смерть занесла свой меч и над сыном великого изобретателя паровой машины.
Порой возникали надежды на то или иное новое чудодейственное средство, способное спасти обреченных. Но на поверку оказывалось, что поднимался и лопался очередной мыльный пузырь. Отчаявшиеся больные попадали в руки шарлатанов, знахарей, наживавшихся на несчастье своих доверчивых пациентов. Новые средства не выдерживали испытания временем, были химерами.
142
Нечто более серьезное представляла собой перспектива использования вновь открытых газов для лечения некоторых болезней.
Близ большого портового города Бристоля, на западном побережье Англии, был основан Пневматический институт для исследований этих газов. Одним из устроителей института, внесшим большую сумму денег на его организацию, был Джеймс Уатт. Госпиталь и химическую лабораторию института возглавил молодой ученый, обладавший не только острым умом, но и репутацией бесстрашного человека.
Летели во все стороны осколки стекла, взрывались колбы, реторты — он рисковал жизнью весело и беззаботно. Он вдыхал вновь открытые газы, испытывал их действие на себе. А газы-новички вели себя коварно. От вдыхания одного глотка некоторых из них молодой ученый падал замертво, и его с большим трудом возвращали к жизни. Придя в сознание, этот безумец, в ответ на обвинения в безрассудном риске говорил: «Я знал, на что иду. И счастлив, что могу служить науке и людям. Моим девизом, с которым я пришел в лабораторию, от первого шага и до последнего будет: «Живи в опасности!» В науке трусливым натурам делать нечего...»
Газы, которые открывал и исследовал молодой ученый, были разные. Одни угрожали жизни экспериментатора, другие...
Еще в юности наш химик заинтересовался закисью азота — газом, тогда еще почти не изученным. В хорошо оборудованной лаборатории Пневматического института ему удалось в большом количестве получить закись азота. Как и другие газы, он испытывал этот газ на себе. Однажды во время очередного эксперимента химик потерял сознание.
Так молодой ученый открыл способность закиси азота выключать сознание человека, подвергать его организм такому состоянию, которое мы теперь называем состоянием наркоза.
Работая с закисью азота, молодой химик заметил, что, вдыхая этот газ, он становился веселым, безудержно смеялся и находился в радостном возбуждении до тех пор, пока продолжалось действие замечательного газа. О «веселящем газе», как его тогда назвали в широких кругах общества, говорили повсюду. В лабораторию началось настоящее паломничество. Популярность молодого химика росла. Все хотели на себе испытать действие волшебного средства, могущего разнообразить монотонность жизни и уменьшать ее тяготы.
Вновь открытые в Пневматическом институте газы не
143
спасли Грегори Уатта. Но сама идея использования газов для лечения людей не погибла. Прошло с тех пор более полутора веков, и уже в наши дни кислород, закись азота и многие другие газообразные вещества вошли в арсенал современной медицины и помогают лечению многих и многих тяжких недугов.
♦ ♦ ♦
Одной из величайших проблем науки была, есть и будет задача о двух колосьях. И тот ученый, который поможет землепашцу вырастить два колоса там, где раньше рос один, заслужит любовь и признание человечества.
О том, как относился к задаче о двух колосьях молодой английский химик, говорит его книга «Основания земледельческой химии». Вот что написано там: «Открытия, касающиеся земледелия, принадлежат не только тому времени и той стране, где они были сделаны, но они суть достояния веков грядущих и всего человеческого рода: ибо доставляют средства к пропитанию будущих поколений, умножению народонаселения и к увеличению самих сладостей жизни».
Этот ученый одним из первых учил земледельцев использовать химические удобрения для повышения урожайности...
О его трудах и их значении в истории земледелия писал Фридрих Энгельс: «В этот водоворот было вовлечено решительно все. Произошел полный переворот в земледелии... Крупные арендаторы затрачивали капитал на улучшение почвы... Осушали и удобряли почву... Воспользовались и прогрессом науки». Далее Энгельс упоминает имя ученого, который «...с успехом применил химию к земледелию...».
Наука пришла на помощь земледелию — в этом видели великий смысл почина молодого английского химика Маркс и Энгельс.
♦ * *
Выдающийся французский астроном и писатель, автор чудесных книг о космосе, о жизни на иных планетах — Камилл Фламмарион ежегодно проводил свои каникулы на острове Джерси в проливе Ла-Манш, недалеко от берегов Бретани. Здесь Фламмарион встретился с произведением, которое в рукописи лежало на столе в номере женевского отеля. Написавший это произведение человек, как мы уже знаем, погибал от смертельной болезни, вдали от своей родины — Англии.
144
с...Вот уже несколько лет, как я провожу конец летнего сезона на острове Джерси,— писал Фламмарион.— Остров невелик, его протяжение не превышает величины Парижа... Здесь океан бросает свои бурные волны на гигантские скалы и утесы... В иные дни голубые воды тихого моря, чистые как зеркало, отражают лазурное небо... На заходе солнца, когда дневное светило медленно погружается в море, вдали видны берега Франции, красные еще от заката. Вскоре сумерки расстилают свои вуали над зеленым островом... Вечерняя звезда зажигается на западе. Бродя по скалам, мы удивлены волнообразными колебаниями фосфорического моря, и наша мысль, поднимаясь еще выше, чем свет из морских пучин, выше острова и континента, летит к звездам, мерцающим в бесконечности, к островам Вселенной, приветствуя другие земли, другие небеса...
В продолжение трех дней нескончаемый дождь отвесно падает с неба, вызывая меланхолию и непобедимую скуку. Устав от чтения неинтересных журналов и мало расположенный для письма, я спустился из моего отеля погулять, направляясь к площади Сент-Илер на Кинг-стрите. Большой
145
книжный магазин... Я хотел найти что-либо новое и терпеливо шарил по полкам. Мои глаза встретили маленькую книжку, перевязанную тонкой тесьмой. Автор книжечки был сэр Гемфри... И мое внимание, естественно, остановилось на имени этого одного из самых знаменитых ученых современности. Книга называлась «Утешение в путешествиях, или Последние дни философа». «Утешение в путешествиях»? Прекрасно! — говорю я себе. Книга не должна быть плохой. Пусть она будет веселой или печальной — неважно. Если она меня не развлечет, то во всяком случае чему-нибудь научит. Я унес этот томик, как уносят недавно открытую, до сих пор не известную драгоценность. Под дождем я вернулся в мое маленькое жилище в отеле «Золотое яблоко». Я сгорал от нетерпения, чтобы попробовать этот новый фрукт, рискуя, однако, отбросить через четверть часа произведение великого химика... Я открыл книгу в три часа дня, к первому часу ночи я был еще во власти этого глубокого ума ученого и мудреца... Я привязался к этому чтению, конечно, не как к роману, который читают с ожесточением до драматической развязки, но как привязываются к серьезному разговору о великих проблемах природы и наших судеб... Я нашел в этом чтении не только нарисованную рукой мастера картину прогресса современной науки... Я был потрясен, встретив в этом знаменитом химике отрадное сходство убеждений между мной и им... По возвращении в Париж я выражал нескольким людям науки мою живую симпатию к этому оригинальному произведению и нашел лишь нескольких французских ученых, которые знали ее по заголовку. Некоторые цитировали из нее, никогда ее не читая. Только один имел эту книгу в своей библиотеке... это историк химии. В то же время какая-то молодая особа, приехавшая из Ирландии... говорила с энтузиазмом об этой самой книге и именно о путешествии по планетам...»
Ученые-современники хвалили это сочинение, называя его «произведением умирающего Платона». Автор этой книги был для Англии тем, чем Гумбольдт для Германии, Лаплас для Франции, а значит, главой научного движения... Он заменил Лавуазье, устанавливая законы, которые невозможно было опровергнуть... Он показал, что ряд тел, рассматриваемых как простые, на самом деле сложные... Он установил, что кислород не является основой всех кислот... Он открыл калий и натрий, которые плавают на поверхности воды, потому что легче ее, и вдруг зажигаются в этой жидкости, разбрасывая снопы искр... После этих двух металлов он открыл барий, стронций, кальций, магний... набрасывал основы электрохимии... Кто не знает лампы, спа
146
сительницы шахтеров, которой теперь обязаны жизнью тысячи рабочих — это тоже его творение...
Великий биолог Кювье говорил о нем: «Ему заказывали открытия так же, как заказывают доставку чего-либо». Для этого человека — великого народного изобретателя, не было секретов природы.
Итак, Гемфри Дэви. Это он был героем и творцом всех приведенных нами историй; замечательный ученый, философ и поэт...
О нем и пойдет речь в последующих главах нашей невыдуманной повести.
ПЕНЗАНС — ГОРОДОК ЕГО ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
Домики Пензанса, маленького городка в Корнуолле на крайнем юго-западе Англии, покрыты черепицей или соломой, аккуратно подстриженной на отвесах. Стены домов белые, как меловые скалы на побережье близ Дувра. Черные балки придают им в сочетании с белыми стенами особую прелесть.
Так строили в Англии при Тюдорах в XVI веке.
Идет дождь. Корнуолл — край туманов и дождей. Старая поговорка гласит: «Южный ветер приносит туда ливни, а северный возвращает их». Мокрое место Пензанс, определенно мокрое... С запада с большой скоростью мчатся темные дождевые облака, проносятся так низко, что, того и гляди, заденут за шпиль ратуши. Но вот в сером тумане облаков образуются разрывы, появляются синие лоскуты неба, и лучи солнца проливаются на Рыночную улицу, на весь Пензанс.
На солнышко из аптеки мистера Борлаза вышел аптекарский ученик. Его зовут Гемфри Дэви. Долговязый парень с вьющимися шелковистыми волосами, с миловидным по-девичьи лицом. После многочасовых занятий с лекарственными специями неплохо погреться на солнышке, подышать морским воздухом. Лучшего места для наблюдения, чем забор, не найти: вся улица как на ладони.
Юноша ловко, одним махом, взлетел на забор. Кто идет по улице, как идет?.. Публика все знакомая.
Вот появилась миссис Харлей с болонкой в руках — беленьким существом злобного нрава, норовящим вцепиться в нос ближнему.
Миссис Харлей — частый посетитель аптеки, оптовый покупатель горчичников, валерьяны. Лицо ее как сморщен
147
ное печеное яблоко. Дэви пытается собрать кожу на своей физиономии, как у миссис Харлей. Старушка скрылась из виду. Бегут девочки с соседней улицы — двойняшки. Не поймешь, какая из них Долли, какая Молли — родная мать и та ошибается. Гемфри окликает двойняшек, хлопает себя руками по бедрам и кукарекает... От усердия он чуть не срывается с забора, но, ловко ухватившись за столб, повисает в воздухе. Мгновение, и он снова удобно восседает на вершине. Двойняшки звонко смеются. На улице показался очень толстый и важный незнакомый джентльмен с тростью, похожий в своем великолепии на индюка.
Гемфри считает своим долгом как-то отметить появление на улице Пензанса столь необычного господина. Он пристраивает ладони к ушам и, изображая некое весьма лопоухое существо, корчит взирающему на него с любопытством прохожему замысловатую рожу и показывает язык...
Незнакомец оказался одним из известных ученых Англии — мистером Джильбертом. Богатый землевладелец Дэвис Гидди когда-то изучал в Кембридже математику. Прошли годы, он изменил свою фамилию на Джильберт и под этим именем вошел в науку.
Мистер Джильберт заинтересовался странным парнем, валявшим дурака на заборе, и узнал, что он отличается и другими чудачествами. Соседи давно опасаются за целость своих домов из-за взрывов, раздающихся в спальне доктора Тонкина, приходящегося парню чем-то вроде приемного отца. Этот молодец производит в спальне почтенного доктора химические опыты, большей частью оканчивающиеся взрывами.
Мистер Джильберт узнает имя парня — Гемфри Дэви — и решает познакомиться с молодым человеком, счастливо сочетающим в себе резвость и шаловливость мальчишки с пытливым умом химика-самоучки и уже известного в Пензансе помощника местного аптекаря Борлаза.
Дэви приглашен в дом к мистеру Джильберту. С понятной робостью и даже страхом собрался Гемфри к богатому джентльмену, которому он вчера посмел показать язык. Мать и мистер Тонкин не должны знать об этом визите... Предстоят неприятные минуты, в течение которых Гемфри должен как-то объяснить мистеру Джильберту свое поведение на заборе.
Гемфри приглашен пройти в кабинет толстого и важного джентльмена.
— Добрый день, сэр!..
— Добрый день, мистер Дэви! Садитесь в кресло и расскажите мне о своих занятиях в спальне доктора Тонкина.
148
На улице показался важный незнакомый джентльмен с тростью.
Ожидавший выговора за свое неприличное поведение Дэ-еи лишился дара речи.
Мистер Джильберт подошел к юноше, дружески притронулся к его плечу:
— Ну, ну, не смущайтесь, ведь вы не из робкого десятка. Вчера я мог в этом убедиться...— дружелюбно сказал мистер Джильберт.
Гемфри осмелел и заговорил:
— Мои занятия химией—только небольшая часть общего плана самообразования, который я неукоснительно выполняю. Положение моей семьи не позволило мне поступить в университет: для этого не было денег. Меня определили к мистеру Борлазу аптекарским учеником. Свободное от службы время я отдаю изучению наук.
Мистер Джильберт внимательно слушал юношу. Теперь перед ним сидел не шалопай, которого он впервые увидел на заборе, а серьезный молодой человек с оригинальным умом и весьма интересными мыслями.
Гемфри продолжал свой рассказ:
— Первыми моими книгами по химии были «Химический словарь» Никольсена и «Элементы химии» Лавуазье. Сначала я читал эти книги для того, чтобы лучше разбираться в медицине. Химия все более проникает в медицину, без нее шагу не ступить в фармакологии. Чтобы уяснить себе течение болезненных процессов, нужно хорошо знать химию человеческого организма. Врачи все более стремятся дополнить картину анатомического строения человека сущностью непрерывных физиологических изменений, происходящих в организме, а они, в свою очередь, зависят от каких-то химических превращений. «Элементы химии» Лавуазье показались мне занятной книгой. Но только читать книгу — дело бессмысленное. Химия—наука опытная, это не история и не филология, где истина познается в процессе чтения. В химии надо по возможности экспериментом проверять идеи автора. Ни одного утверждения Лавуазье я не хотел и не мог принимать на веру. Поэтому и решил подвергнуть проверке с пристрастием «Элементы химии»... Вот и получилось, что спальня мистера Тонкина превратилась в мою походную лабораторию.
Рюмки и чашки, старые трубки, какие-то пузырьки и прочий хлам за неимением лучшего составили оборудование лаборатории. Серная, соляная и азотная кислоты, щелочи и другие химические вещества я с разрешения мистера Бор-лаза мог взять в аптеке. В первых весьма несложных опытах я добивался иллюстраций к основным положениям Лавуазье. Моя сестра Дженни помогала мне, и потому ее одеж
150
да так же, как, впрочем, и моя, частенько страдали от химических упражнений. Бывали и взрывы. Предвидя опасность, я отсылал Дженни из лаборатории, выводя ее из спальни мистера Тонкина, и оставался там один. Химия — коварная госпожа, от которой можно ожидать всего. И каждый, кто имеет с ней дело, должен положить себе за правило: «Хочешь познать истину — не бойся опасностей. Живи в опасности!»
Мои самостоятельные опыты, не связанные с уяснением книжных, уже кем-то открытых фактов, начались с того, что я определял влияние некоторых кислот и щелочей на цвет овощей. Затем я принялся добывать газы из твердых и жидких тел. Изучал растворы и наблюдал за выпадением в осадок солей металлов. Добрый доктор Тонкин и мистер Борлаз не на шутку обеспокоены моими опытами. Они считают, что я вышел за рамки необходимых мне познаний в медицине. Я слышал, как мистер Тонкин после сравнительно небольших и столь обычных в химической лаборатории эксцессов — взорвалась ли какая-нибудь колба или еще что-то в этом же роде — испуганно кричал:
«Этот мальчик Гемфри неугомонен! Когда-нибудь он взорвет нас всех и поднимет этот дом на воздух».
Визит к мистеру Джильберту явно затягивался. Но собеседнику Гемфри Дэви были интересны его объяснения, становилось ясным: этот аптекарский ученик стоит того, чтобы обратить на него внимание. До поры до времени, до подходящего случая, способного изменить жизнь юного пейзанского энтузиаста науки, он разрешит ему пользоваться своей библиотекой и составит протекцию для посещения химической лаборатории медеплавильного завода.
* * *
За несколько месяцев до встречи с мистером Джильбер-том Гемфри познакомился с Грегори Уаттом, сыном знаменитого Джеймса Уатта, давшего миру паровую машину.
Джеймс Уатт имел давние дела в Корнуолле — крае рудокопов, где с незапамятных времен добывали металлические руды. Паровая машина Уатта впервые нашла здесь применение в качестве насоса для откачки воды на рудниках по добыче медной и оловянной руды.
Грегори Уатт приехал в Пензанс по предписанию врачей. Он страдал болезнью легких — туберкулезом. Мягкий климат крайнего юго-запада Англии был для него более благоприятен, чем зима в Бирмингеме, где постоянно жила семья Уаттов.
151
Мать Гемфри Дэви из-за материальных затруднений была вынуждена устроить у себя небольшой пансион. Вместе с постояльцами смогла бы кормиться и ее семья. Грегори Уатт поселился в доме Дэви.
Джеймс Уатт не был в восторге от поездки сына в Корнуолл. Самые тяжелые годы борьбы за признание паровой машины были в его памяти связаны с Корнуоллом. Измученный тяжбой с владельцами рудников, которым он устанавливал паровые машины, Джеймс Уатт писал из Корнуолла своему компаньону Болтону:
«Приезжайте сюда сами и уладьте все! Душевный покой и избавление от Корнуолла — вот моя постоянная молитва».
Из-за непрерывных споров с шахтовладельцами все в Корнуолле рисовалось великому механику в черных красках. Он писал о людях, с которыми ему приходилось иметь дело: «Население очень негостеприимное и грубое... способное есть сало, предназначенное для смазки машин...» В запальчивости чего не наговоришь...
Уатт-младший имел возможность убедиться в несправедливости выданной отцом характеристики жителям Корнуолла.
Он был радушно принят в семье Дэви, а в лице Гемфри нашел преданного друга.
Гемфри с обожанием относился к Грегори Уатту. Вся страна к тому времени признала гениальность его отца. Паровая машина Джеймса Уатта открывала новую эру в истории всего человечества.
Полным ходом шла промышленная революция в Англии, недалеки были годы, когда паровая машина, выйдя с заводов и фабрик, станет на рельсы, появится паровоз Стефенсона и Черепанова. Морские суда сбросят паруса и пойдут навстречу будущему, движимые силой пара,— родятся пароходы. Одним словом, было достаточно причин для того, чтобы в глазах Дэви ореол славы сиял над всеми Уаттами, и в их числе над Грегори Уаттом.
Отец Грегори был не только гениальным механиком и инженером, но и ученым. Честь открытия состава воды принадлежала не только англичанину Кавендишу (1783 год, январь); одновременно с ним и совершенно независимо от него Джеймс Уатт представил в Королевское общество (Английская академия наук) доклад: «Мысли о составных частях воды и кислорода», в котором писал: «...вода, свет и тепло суть единственные продукты бурного соединения водорода с кислородом, и, следовательно, вода состоит из кислорода и водорода».
Доклад Уатта пролежал, к сожалению, целый год под
152
сукном в Королевском обществе и был прочитан только в 1784 году. Друзья Уатта настаивали на его приоритете.
Много позже, под старость, Уатт однажды сказал: «Не все ли равно, кто первый открыл состав воды; важно то, что он открыт».
Гемфри Дэви, увлекавшийся химическими опытами, имел возможность от Грегори Уатта получать сведения о самых важных, волнующих проблемах химии.
Грегори Уатт, ставший близким другом юного Гемфри Дэви, сумел заинтересовать юношу из Пензанса не только новыми идеями в технике и химии. Джеймс Уатт входил в «Лунное общество», объединявшее ученых, инженеров, изобретателей и философов Бирмингема, играл в нем видную роль и рассказывал сыну о его работе.
«Лунное общество» — клуб свободомыслящих интеллигентов — посвящало свои собрания не только научным вопросам. Когда революционные события во Франции достигли своего высшего предела, беседы в «Лунном обществе» приняли опасный с точки зрения правительства характер.
От Грегори Уатта Гемфри смог узнать о настроениях, царивших в «Лунном обществе», узнать, о чем говорили в своей среде такие англичане, как Уатт, Смол, Болтон, Пристли, поэт Дарвин, ботаник Витерлинг, механик Эджуорт и другие. Симпатии Джеймса Уатта, знаменитого химика Джозефа Пристли и всего «Лунного общества» были на стороне французских республиканцев.
Один из британских парламентских краснобаев, Берк, разглагольствуя о французской революции, вопил: «Одна мысль о составе нового правительства наполняет нас чувством отвращения и ужаса». В публичной полемике с Берком член бирмингемского «Лунного общества» Пристли разоблачал клевету на революционный народ Франции.
«Я удивляюсь, что революция произошла так легко и с таким незначительным пролитием крови». Великий английский химик Пристли учил свой и французский народ тому, что: «Королевская власть похожа на растение, которое, распустив корни, способно пышно разрастаться. И если у него обрывают побеги, на их месте сейчас же вырастают новые». По сути дела, Пристли предлагал не останавливаться на ограничении монархической власти. Вместо разделения прав больших и малых феодалов, он рекомендовал уничтожать и тех и других.
Отвечая на клевету Берка по адресу нового строя во Франции, Пристли писал: «Я не буду подвергать сомнению ваш дар пророчества. Быть может, вы обладаете талантом видеть все события... Но из кого бы ни состояло Националь
153
ное собрание Франции, не может быть сомнения в том, что члены его являются более подлинными представителями народа, чем члены нашей палаты общин. Потому что не может быть худших представителей, чем эти депутаты. Палата общин, по мнению большей части народа, является только простой насмешкой над представительством».
Вот с какими людьми встречался Грегори Уатт в доме своего отца. О судьбе членов «Лунного общества» речь пойдет ниже. А пока, после столь затянувшейся характеристики нового друга юного Гемфри, вернемся в маленький Пензанс — в город детства и отрочества нашего героя. Чтобы больше не возвращаться к биографическим данным Гемфри, укажем на некоторые из них.
Гемфри родился 17 декабря 1778 года в семье Роберта Дэви. Об этом факте гласит и надпись, сделанная рукой отца новорожденного на переплете фамильной Библии. Гемфри был старшим сыном Роберта и Грации Дэви.
Семья Дэви происходила из Норфолька (в северо-восточной Англии), ее представители появились в Корнуолле еще во времена королевы Англии и Ирландии Елизаветы, в XVI веке. Кто-то из Дэви был приглашен герцогом Болтонским управлять одним из его поместий в округе Людгван.
Дэви были иоменами — свободными землевладельцами, мелкопоместными бедными дворянами. Этот почтенный род, если можно доверять надгробным памятникам, имел много добродетелей: его отпрыски не были контрабандистами, потоплением кораблей (пиратством) не занимались и большей частью умирали в собственных постелях.
Дедушка Гемфри, Эдмунд Дэви, был строительным подрядчиком. Шахтовладельцы охотно сдавали Эдмунду Дэви подряды на строительство шахтных построек и жилых домов. Но в пятидесятых годах XVIII века добыча олова в Корнуолле стала заметно падать: сказалась конкуренция с заморскими странами, более богатыми оловянной рудой. Шахтеры в поисках куска хлеба устремились в американские колонии Англии, население Корнуолла сокращалось. В этом горнозаводском крае стали заниматься рыбной ловлей и огородничеством. Корнуолл постепенно превращался в «огород Лондона». Дела Эдмунда Дэви также пошатнулись.
Они не улучшились и в последующие годы. Англия объявила войну своим заокеанским колониям в Северной Америке. «Правительство его величества» обложило американцев налогами, не получив на это согласия американских законодательных органов. Отношения между Англией и Америкой дошли до точки кипения, и началась жестокая
154
война. О том, насколько жестокой была эта война, свидетельствует одно из решений английского парламента, утвердившего отпуск средств на изготовление «семисот двадцати ножей для скальпирования пленных американцев».
В Англии из-за войны каждые девять из десяти рабочих остались без работы. В 1766 году на войну была израсходована астрономическая цифра — 140 миллионов фунтов стерлингов.
Эта война не была популярна в Англии. В народе говорили: «Поражение колонистов поставило бы наши вольности в опасность».
...Эдмунд Дэви умер, оставив старшему сыну Роберту маленькую собственность — усадьбу в Варфеле. Это было весьма небольшое наследство. Но жители Пензанса из так называемого среднего сословия вели очень скромный образ жизни, были неприхотливы.
Роберт Дэви, получивший от дедушки Эдмунда небольшую собственность, не унаследовал от него того, что называется практической сметкой. Биографы семьи Дэви указывали на беспомощность, расточительность и непостоянство характера Роберта. Еще при жизни отца Роберт Дэви обучался резьбе по дереву и впоследствии достиг кое-чего в граверном искусстве. Эта профессия при общем упадке дел в Пензансе не могла дать Роберту средств для жизни все возраставшей его семьи. Были у Роберта и другие предосудительные с точки зрения горожан привычки. Большую часть своего времени он тратил на полевую охоту и неудачные сельскохозяйственные опыты. Жена Роберта Дэви, Грация Миллет, приемная дочь местного врача мистера Тонкина, в отличие от мужа, была женщиной спокойной, уравновешенной, хорошо знавшей мир, в котором она жила. Грация Миллет часто жаловалась на своего мужа, на его причуды. Их брак нельзя было назвать счастливым.
...Дом Роберта Дэви на Рыночной улице расположен так, что из его окон хорошо виден полукруглый морской залив — Маунт-Бей. На западе полукружие этого залива оканчивается скалистым кряжем мыса Лендс-Энд, а на востоке мысом Лизард. На небольшом расстоянии от берега из моря поднимается правильная пирамида горы св. Михаила, на вершине которой высятся колокольни старинного аббатства.
Дикие утесы, холмы и скалы, уходящие далеко в море...
Пролив Ла-Манш отделяет континент, французскую Бретань, от Англии, ее юго-западной оконечности, Корнуолла. Если стать на мысе Лендс-Энд лицом к проливу, направо — необозримые просторы Атлантического океана, прямо и налево — Ла-Манш и где-то далеко на востоке — Северное мо
155
ре. Побережье Корнуолла лежит на пересечении великих морских путей. Корабли, идущие из Европы на запад в океан, долго еще видят мысы Лендс-Энд и Старт-Пойнт.
Вдали от побережья в вечно неспокойном море группа островов.
Зеленая равнина, как гласит старинная легенда, простиралась когда-то между Корнуоллом и островами. Называлась она долиной Лайонес и Лелотсау. Сорок деревень расположились в этой сказочной долине. Однажды ночью подземные толчки и страшное наводнение унесли луга, леса и все сорок деревень на дно морское... На гербе одной старинной фамилии изображена лошадь, выскакивающая из воды. Это все, что осталось от некогда цветущей долины.
На родине Гемфри Дэви, в Пензансе, как рассказывает историческая хроника, целые гряды холмов исчезли в море. Гора св. Михаила некогда находилась среди лесистой равнины. Прошли века, теперь гора эта находится в бухте Маунт-Бей и поочередно превращается то в остров, то в полуостров, в зависимости от прилива и отлива.
Только шесть дней в году здесь стоит безветренная погода. Ветер выдувает в скалах пещеры. В некоторых из них жители Корнуолла находили кремневые орудия каменного века. Корнуолл — исторический музей под открытым небом. Могильные курганы на холмах, круги вертикальных камней, колеблющиеся скалы — все говорит о днях давнопрошедших...
Девяти месяцев от роду наш герой начал ходить. Не достигнув и двух лет, он уже свободно говорил. Первенец в семье, Гемфри был любимцем родителей и многочисленной родни. Это был толстенький голубоглазый малыш с вьющимися каштановыми волосами. Верхняя губа его была задорно приподнята вверх. Годы шли, и Гемфри уже играл со своими сверстниками на улице в шумные игры. Чуткий слух матери издалека улавливал звонкий смех расшалившегося сына. Если игры становились слишком шумными, мать, к великому неудовольствию Гемфри, водворяла его домой. Ока читала ему сказки и басни, и это очень скоро успокаивало малыша. Самым большим удовольствием Гемфри было слушать старинные английские легенды, которые ему рассказывала бабушка. Впечатление от легенд было настолько сильным, что Гемфри часто во сне повторял приключения Робина Гуда, участвовал в турнирах короля Ричарда Львиное Сердце.
Пяти лет Гемфри с помощью домашнего учителя научился читать и писать. Басни Эзопа и «Странствия пилигрима» были его первыми и любимыми книжками.
155
Домашний учитель, наблюдая за быстрым развитием своего талантливого ученика* посоветовал родителям отдать мальчика в школу мистера Гаритона. Гемфри тогда пошел седьмой год. Школа Гаритона, призванная просвещать молодое поколение Пензанса, была ниже всякой критики. Сам мистер Гаритон был, мягко говоря, не очень грамотным джентльменом. «Система» мистера Гаритона в воспитании детей сводилась к отсутствию какой-либо системы, и дети обучались больше в школьном дворе, чем в классах школы. Воспитанники мистера Гаритона были предоставлены самим себе и жаловаться на свою занятость не могли. Но изредка, а это, видимо, было связано с принятием больших доз виски, мистеру Гаритону доставляло большое удовольствие мучить детей, заставляя их читать по памяти длинные отрывки из произведений римских классиков. Малейшая неточность — и длинная линейка гуляла по голове и плечам проштрафившегося ученика.
Гемфри Дэви мистер Гаритон недолюбливал.
Частенько этот недостойный воспитатель вызывал Гемфри к себе и, не уставая повторять:
Теперь, мальчик Дави, Теперь, сэр! Ты у меня! И никто не спасет тебя, Хороший мальчик Дэви! —
хватал Гемфри за уши и с наслаждением драл их до тех пор, пока жертва, изловчившись, не ухитрялась вырваться из его лап и убежать подальше от школы.
Однажды Гаритон в очередной раз потребовал Гемфри к себе в кабинет. Гемфри предстал перед ним с большими пластырями на ушах.
«Что это такое! Почему заклеены уши?» — спросил грозный педагог.
Деви с печальным выражением лица ответил Гаритону:
«Я налепил пластыри, чтобы предотвратить отмирание моих ушей...»
Методы Гаритона, к счастью, не причинили большого вреда Дэви...
В школе Гаритона особенно большим почетом пользовалось преподавание греческого и латинского языков.
Часто вечером, после зубрежки неправильных латинских глаголов, Дэви стоял, прислонившись горячим лицом к холодному оконному стеклу. Там, за окном, шел нескончаемый дождь, и струи воды змеились по стеклам. А вдали шумел морской прибой. Дэви тосковал по теплу и солнцу. Ему было тяжко из-за слишком частых встреч с гибкой линей-
157
кой мистера Гаритона. Ему осточертели ненавистные греческий и латинский языки, на которых никто из самых уважаемых людей Пензанса никогда не говорит.
Бесконечно долго тянутся эти осенние дни в школе, а дома мать и бабушка, которые чудесно рассказывают старинные английские сказки и легенды. Жуткие рассказы бабушки о привидениях в заброшенных замках навсегда вреза
лись в память Гемфри. От бабушки он унаследовал свои поэтические наклонности. Может быть, храня детские впечатления, он на всю жизнь остался немного суеверным. Уже будучи известным ученым, в зените славы путешествуя по Европе, Дэви удивлял своих коллег требованием скрещивать вилки и ножи после каждого блюда.
Никакие попытки мистера Гаритона отравить существование живому и жизнерадостному мальчику цели не достигли. Много лет спустя, вспоминая время, проведенное в школе мистера Гаритона, Гемфри писал матери:
♦В конце концов способ, с помощью которого нас обучают латинскому и греческому, не влияет на наш умственный склад. Я считаю счастьем, что, будучи ребенком, был предоставлен в значительной степени самому себе. Никакого плана учебы не было, и мне нравилась праздность в школе мистера Гаритона. Может быть, этим обстоятельством я обязан своим небольшим талантом и его особенному применению».
Поэтические наклонности Гемфри, разбуженные матерью и бабушкой, были хорошо оценены его сверстниками. Многие юноши Пензанса прибегали к помощи Гемфри, когда им нужно было составить письма, стихотворные послания и веселые эпиграммы своим возлюбленным. Богатое поэтическое воображение и прекрасная память сделали из Дэви чудесного рассказчика.
Неподалеку от дома, на Рыночной улице, где жили Дэви и где позже Гемфри обучался в аптеке мистера Борлаза, находилась самая большая гостиница Пензанса «Звезда». Здесь, под балконом отеля, дружки Гемфри собирались для
158
того, чтобы послушать очередной рассказ из серии «Арабских сказок», придуманных их одаренным товарищем.
Одно фантастическое приключение следовало за другим, причудливой фантазии Гемфри не было пределов. Он сам писал о своем даре импровизации:
«Прочитав несколько книг, я был охвачен желанием рассказывать их и постепенно начал выдумывать, составлять собственные рассказы. Быть может, и это было причиной моей оригинальности. Я никогда не любил подражать, а только изобретать».
Школа мистера Гаритона, кроме элементарных математических познаний и некоторых навыков в переводе латинских стихов на английский язык, ничего Дэви не дала. Большую часть знаний, которые обычно английские дети получают в школах второй ступени, в так называемых грамматических школах, Гемфри Дэви приобрел в библиотеке доктора Тонкина.
После смерти отца, Роберта Дэви, Гемфри постоянно жил У доктора Тонкина. Почтенный эскулап лелеял мечту о том, что способный мальчик, когда вырастет, станет врачом в Пензансе.
159
Гемфри любил мастерить фейерверки. Местом, где изго-товлялись все эти петарды и шутихи, служила пустая комната, бывшая некогда спальней доктора Тонкина. Здесь мистер Тонкин, когда достиг преклонного возраста, лечился от своих многочисленных недугов. В комнате у него была установлена механическая лошадь, на которой в плохую погоду доктор упражнялся в верховой езде. «Комнатная лошадь» представляла собой большое кресло, укрепленное на досках с пружинами. Из этих досок Гемфри сделал стол, на котором он строил свои ракеты и приготовлял прыгающих лягушек.
Семья Дэви для экономии средств довольно много времени проводила в усадьбе Варфел, той самой, которую Эдмунд Дэви — дедушка Гемфри — оставил в наследство Роберту Дэви. Давно уже умер дедушка Эдмунд и отец Гемфри Роберт Дэви.
Когда большая семья Дэви жила в Варфеле, Гемфри находился в Пензансе у мистера Тонкина. Во время летних каникул и в частые перерывы школьных зацятий Гемфри уезжал в Варфел.
Дорога в Варфел протяженностью в пять километров проходила по живописнейшему уголку Корнуолла. Глубокие каньоны, густо заросшие буйной растительностью, напоминали джунгли. Того и гляди, из-за поворота покажется огромная полосатая кошка. Неудержимая фантазия рисовала Гемфри крадущихся тигров, лесных разбойников, уносила его в далеко прошедшие эпохи рыцарства. Этому способствовали и многочисленные памятники старины. То там, то здесь высились огромные каменные гряды, холмы и дольмены — дело рук человеческих. Черными провалами зияли заброшенные шахты и штольни.
Все это распаляло воображение мальчика и возбуждало любознательность.
С удочкой и с ружьем он подолгу блуждал по лесам и холмам, пока не забирался в такую дикую чащу, что и выбраться из нее не мог на протяжении многих часов. Душа подростка наполнялась здесь поэтическим восторгом, и рождались юношеские стихи и афоризмы.
Мистер Никольс, товарищ школьных лет Гемфри, рисуя портрет своего сверстника, писал:
«Уже тогда можно было наблюдать особенности мышления и поведения Гемфри. В очень жаркий день компания взрослых, Гемфри и я отправились пешком погулять. Все жаловались на изрядную жару. Я расстегнул свою курточку. Гемфри же шествовал в курточке, наглухо застегнутой на все пуговицы до самого подбородка. Когда Гемфри спро-
160
сили, почему он не расстегивается, он важно заявил: «Яхочу держать жару извне, а не подпускать ее к себе». Мы все рассмеялись над его словами, но меня поразила оригинальность и независимость суждений Гемфри».
♦ ♦ ♦
Гемфри вырос в нескладного юношу, узкогрудого и немного сутулого.
В начале 1793 года он закончил школу мистера Гаритона. В том же году его отправили в городок Труро близ Пензанса для пополнения знаний в школе известного тогда педагога Кердью. Все расходы по устройству Гемфри в эту школу взял на себя, как и в предыдущие годы, доктор Тонкин. В школе Кердью Гемфри пробыл менее одного года. Зимой 1793/94 года он уже вернулся домой в Пензанс.
После окончания школьного курса Гемфри болтался многие месяцы без дела. Большую часть своего времени он проводил в скитаниях по окрестностям Пензанса, на охоте и рыбной ловле.
...Группа подростков шествует по Рыночной улице, распевая песни. Среди других голосов слышен голос запевалы. Голос резок и нестроен; он иногда срывается и тогда звучит совсем по-петушиному. Общий хохот шумной компании сопровождает эти далеко не музыкальные переходы. Вряд ли и сам Гемфри получал удовольствие от своего пения, но человек он упорный, продолжал запевать... Когда-нибудь его голос приобретет необходимую выразительность и красоту, а пока... пока сверстникам весело.
Был поздний вечер, море, как всегда, было неспокойно. При входе в бухту, у гряды подводных скал и кладбища разбившихся кораблей, ветер рывками раскачивал сигнальный колокол. Далеко в море и по побережью неслись звуки, напоминавшие погребальный звон, предупреждая о невидимой опасности. В этот тревожный вечер к пристани в Пензансе причалило небольшое судно.
Спустили трап, на берег сходили пассажиры. Была слышна французская речь. Несколько мужчин в черной длинной одежде сошли на берег первыми, за ними проследовали женщины, многие с детьми на руках. Вскоре группа приезжих двинулась по пустынным и темным улицам Пензанса, отыскивая пристанище. Ежедневно с той стороны Ла-Манша прибывали большие и малые корабли, доставляли на английский берег беглецов из охваченной революцией Франции.
21 января 1793 года были казнены король Франции Людовик XVI и его жена, ненавистная стране Мария Антуанет-
Q Молодость Сеченова
16J
та. «Людовик должен умереть, дабы жила республика»,— говорил вождь якобинцев Робеспьер, и это была воля народа Франции. Этот народ поднялся на борьбу с монархией, дворянством, светскими и церковными феодалами, на борьбу со всеми, кто веками угнетал тружеников городов и деревень.
Контрреволюция пыталась остановить движение истории. Дворяне и священники пытались обмануть отсталых и забитых крестьян Вандеи и Бретани, но шквал революции смыл реакционную накипь со скалистых берегов французского побережья Ла-Манша. Морские волны донесли эмигрантов до английской стороны пролива.
Пелена лжи, распространяемая эмигрантами, как дымовая завеса скрывала истинный смысл событий, потрясших Францию и весь европейский континент.
Правительство Георга III ясно представляло себе, чем чреват для Англии пример, показанный народом Французской республики, и принимало свои меры. Англия воевала с республиканской Францией.
В 1793 году правительство Питта провело в парламенте целый ряд законов против революционных выступлений.
Лидер парламентской оппозиции Фокс говорил: «Правительство обратило каждого не только в инквизитора, но в судью, шпиона, доносчика, восстановило отца на сына, брата на брата». Этими позорными средствами правящая клика надеялась поддержать спокойствие в Англии.
Английское правительство охотно принимало контрреволюционных французских эмигрантов, и те помогали ему бо
162
роться против всех, кто выражал свое сочувствие и симпатии республиканцам. Французские дворяне и церковники осели также и в Пензансе, ожидая удобного случая с ножом в руках вернуться во Францию.
В это бурное время Гемфри исполнилось пятнадцать лет. В доме Дэви в качестве преподавателя французского языка появился субъект в черной сутане, беглый священник из Вандеи. Этот, с позволения сказать, учитель вдалбливал в голову своего ученика не только спряжения французских глаголов, но по мере сил своих пытался привить юнцу ненависть к санкюлотам*. Попытки эти успеха не имели: слишком неприятной для Дэви была сама персона господина Дюгара, беглого монаха...
Первая любовь...
В конце Рыночной улицы стоит мрачный дом, окна в нем всегда закрыты жалюзи. В доме этом живет девушка, не знающая английского языка. Ее семья также бежала из Франции. Гемфри знакомится с юной француженкой, пытается использовать свои более чем скромные познания французского языка. Гемфри пишет стихи и посвящает их девушке. Он влюблен. Но его новая знакомая не проявляет интереса к узкогрудому, длинному парню, смешно произносящему обыкновенные французские слова.
Оставшееся безответным чувство вызывает разочарование в жизни. Гемфри впадает в состояние глубокого пессимизма.
Он кончил школу. Что будет делать завтра? Чтобы уйти от мрачных размышлений о своем будущем, Гемфри ребячится, веселье в шумной компании сверстников сменяется унынием, нелюдимостью.
Так печально проходит 1794 год. Позже Гемфри Дэви говорил, что этот год был для него самым опасным, что никогда ему так не грозила опасность остаться заурядным, никчемным человеком.
В этом году семья Дэви лишилась кормильца. У гроба отца, низко опустив голову, стояли младшие сестры и брат, мать и Гемфри. Сухие, потускневшие глаза мальчика свидетельствовали о глубине постигшего его горя.
Гемфри хорошо знал, что отец и он по складу характера очень близки друг к другу. Об этом неоднократно говорили взрослые.
От отца он унаследовал свою отнюдь не английскую горячность, неспокойную натуру.
Гроб с телом отца опущен в могилу. Мистер Тонкин произнес надгробное слово, призывая семью крепиться и не поддаваться ударам судьбы...
163
Смерть отца сделала Гемфри старшим мужчиной в семье.
Приближалось совершеннолетие, и он должен теперь нести ответственность за своих младших сестер и брата. Пора наконец прервать связи с компанией уличных шалопаев.
ГЕМФРИ ДАЕТ СЕБЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ...
...Расставив удочки, Гемфри мечтал о будущем. На берегу горного ручья, в полном одиночестве, он рисовал себе заманчивые картины. Вот он уезжает из Корнуолла, пересекает на дилижансе всю Англию и поступает в славный Эдинбургский университет. Полный благородных чувств, он заносит в свою записную книжку:
♦Пусть каждый день делает меня лучшим, более полезным, менее эгоистичным и более преданным делу человечества и делу науки».
Поплавок судорожно вздрагивал и нырял под воду. Гемфри уже забыл о ♦деле человечества» и с азартом вытаскивал пятнистую, золотистую форель.
...Университет так же далек от Гемфри, как это ослепительное солнце от прозрачной воды в горном ручье. В университетах могут учиться только сыновья богатых людей, а семья Дэви не только не может выделить и пенни на учение Гемфри, но сама нуждается в помощи. И он, Гемфри, должен идти работать.
Но куда? В Пензансе делать нечего, разве что продолжать рыбную ловлю... В течение долгого времени, когда еще был жив отец, Гемфри внушали презрение к бедному люду — к черни. Он часто слышал рассказы об ужасных, взбунтовавшихся толпах, ♦посмевших поднять руку» на церковь, на власть имущих. Теперь его семья тоже бедняки, чернь...
Гемфри понемногу начал сочувствовать бедным людям, поднявшимся на борьбу против обидчиков, на борьбу за кусок хлеба...
О будущем Гемфри думал не только он сам, но и близкие ему люди. Мистер Тонкин, единственная опора семьи Дэви, был уже стар. Седина густо припудрила его виски. С большим трудом лекарь Пензанса выходил из дома для выполнения своего врачебного долга. Старость требовала большего покоя и отдыха, чем это мог себе позволить доктор. За свою долгую жизнь мистер Тонкин научился хорошо различать людей, видеть их сильные и слабые стороны. Он знал, что Гемфри умен, легко усваивает новые знания,
164
изобретателен (чего стоит лишь одна его лаборатория, в спальню теперь зойти нельзя), немного взбалмошен, чувствителен сверх меры, но эти черты характера с годами исчезнут.
«Как нефть успокаивает бушующий океан, так годы осаживают слишком высокие взлеты чувств».
Доктор Тонкин упустил из виду лишь одно: после того как нефть прекратит свое действие, океан бушует с еще большей силой...
Итак, решено: Гемфри должен посвятить свою жизнь служению
медицине. Мистер Тонкин имеет право решающего голоса при определении жизненного пути своего воспитанника. О поступлении на медицинский факультет какого-либо университета не может быть и речи, это и не требуется. Тонкин здесь, в Пензансе, сделает из Гемфри врача. Сначала Гемфри пойдет в учение к аптекарю, а затем...
Однажды мать приказала Гемфри надеть праздничный костюм. Это произошло 10 февраля 1795 года. День был будничный, и, естественно, Гемфри удивился необычному предложению матери. Но через полчаса все выяснилось. В аптеке мистера Борлаза был подписан контракт, согласно которому Гемфри делался аптекарским учеником. Мистер Тонкин привел в действие первый пункт своего плана превращения Гемфри в пейзанского эскулапа. Мечты юноши об университете рухнули как карточный домик. Начиналась новая, малопривлекательная жизнь.
Гемфри ничего не оставалось, как принять решение мистера Тонкина и матери и добросовестно осваивать аптекарское ремесло. Но на этом он не остановится. Если не удастся поступить в университет, Гемфри пройдет свой собственный курс университетских наук здесь, в Пензансе... И да будет так...
Без чьей-либо помощи Гемфри составляет широкий план
165
самообразования в объеме университетского курса. Вот этот план.
1. Теология, или религия, изучаемая через природу. Этика или нравственные добродетели, изучаемые через откровение.
2. География.
3. Моя профессия: ботаника, фармакология, учение о болезнях, анатомия, хирургия, химия.
4. Логика.
5. Языки: английский, французский, латинский, греческий, итальянский, испанский, еврейский.
6. Физика: учение о свойствах тел природы, явлениях природы, учение о жидкостях, свойства организованной материи.
7. Астрономия.
8. Механика.
9. Риторика и ораторское искусство.
10. История и хронология.
11. Математика.
Соотечественник Дэви, выдающийся английский химик и физик Вильям Рамзай, много десятков лет спустя писал: «Кто из нас приступал к занятиям, столь обширным вширь и вглубь?»
Библиотека мистера Джильберта. Все время, свободное от работы в аптеке Борлаза, Гемфри проводит здесь, среди книг.
Мистер Джильберт не мешает чтению юноши. Заходит в библиотеку редко, посмотрит на склоненную над книгой голову и уйдет.
Однажды Гемфри забыл в библиотеке свои тетради. Это был удобный случай познакомиться с тем, что интересует молодого человека, какие идеи и факты привлекают его внимание и зафиксированы в его записях. Не в правилах джентльмена заглядывать в чужие тетради. Но мистером Джиль-бертом в данном случае руководит не праздное любопытство. Для будущего Гемфри важно, чтобы его наставник поближе познакомился с его духовным миром.
О, этот Гемфри Дэви, как и предполагал мистер Джильберт, совсем не так прост, каким он кажется со стороны. Вот записи из его тетради. Что интересует молодого человека?
«Исследование правды и политические убеждения».
«Тело».
«Организованная материя».
«О правительстве».
«О доверчивости и легковерии».
166
«Доказательства того, что способность мыслить зависит от строения тела*.
«О счастье*.
«О нравственном долге*.
«Защита материализма*.
Он читает сочинения Локка, Беркли, Гельвеция, знакомится и с Кантом...
Любопытен этот молодой человек: то показывает язык, сидя на заборе, а здесь Гельвеций и Кант! Вот и пойми, каков он, этот Гемфри! Интересы его чересчур широки, быть может, он несколько разбрасывается... Но это не беда, хочет сразу встретиться со всеми великими умами. Не боится перегрузок для своего мозга. Но почитаем записи самого Гемфри.
Трудно отделить, где Гемфри цитирует, пересказывает мысли автора, сочинение которого он читает, а где высказывает собственные суждения о прочитанном. Впрочем, это и неважно. Интересен сам отбор идей, сделанный Гемфри. Записи в его тетради, видимо, созвучны тому, с чем он только что познакомился.
Какие мысли Гемфри занес в тетрадь в связи с темой «Защита материализма*?
«Если мы проследим процесс мышления от самых его истоков, мы убедимся в том, что оно обязано своим существованием ощущениям. Ребенок является на свет без идей, и, следовательно, он не думает. Все его действия обусловливаются инстинктом. Когда он голоден, он пьет молоко своей матери и отличается от животных лишь большей своей беспомощностью. Его ощущения еще не развиты. Его внимание трудно возбудимо, память неотчетлива и слаба. С возрастом нервы становятся крепче, а мозг сильнее, ощущения тоньше и память лучше. Как результат развития памяти и ощущений появляются суждения, развивается здравый смысл и, наконец, человеческий ум. Очень постепенен переход ума от чувства к науке. Достигая зенита к расцвету жизни, умственные способности начинают медленно угасать*.
Не доискиваясь источников, послуживших основой для создания только что нарисованной Гемфри картины, можно лишь подивиться, как современно звучат мысли Гемфри о роли мозга и ощущений в духовной жизни человека, записанные более ста семидесяти лет назад.
Гемфри высказывает свои суждения о боге и о религии. По примеру Исаака Ньютона, он склонен признать существование бога, исходя из анализа так называемых «конечных причин*.
167
«...Если материя анемична, неподвижна, неорганизованна, она всегда оставалась бы такой, если бы не было причины, толчка извне, к ее движению...»
Но мир не анемичен, не неподвижен, в нем все в движении... И тогда Дэви выдвигает предположение:
«...Если бы каждая частица материи была склонна к движению, мир представлял бы из себя хаос «прыгающих атомов». Случай не мог бы сделать мир таким, каким он есть, и неизбежно должна была существовать сила, которая породила движение и создала мыслящие органические системы. Эта сила должна быть активной, могущественной и разумной. Таковы основы «естественной религии».
Все эти высказывания или пересказ чужих мыслей молодого Гемфри Дэви показывают его замечательное общее развитие и... отсутствие истинно научных, опытных знаний.
Пройдет много лет, вместо этих туманных суждений о хаосе «прыгающих атомов» и о роли божественной силы в создании мыслящих систем зрелый ученый — Гемфри Дэви скажет:
«Один хороший эксперимент лучше, чем вся изобретательность Ньютона». Его религией станет наука, и больше всего на свете он будет верить фактам. А пока он не постесняется высказать и такое:
«Прохладность ночей в Египте объясняется насыщенностью воздуха большим количеством селитры».
Мистер Джильберт, улыбаясь, отодвигает тетради Дэви, набивает трубку табаком, закуривает и скрывается в облаках ароматного дыма.
Неизменные участники бесконечных споров с Гемфри — доктор Тонкин и бабушка Дэви. Это похоже на поединок искусного фехтовальщика с неумелыми соперниками. Выпад, рапира выброшена вперед и вот-вот коснется корпуса противника. Прыжок назад, взмах рапирой, опять укол... Прыгает, отскакивает, как резиновый мяч, нападает, ошеломляет своими неожиданными пируэтами Гемфри. Обессилевший в споре мистер Тонкин в изнеможении говорит:
— Вот что я тебе скажу, Гемфри, у тебя самый ловкий на каламбуры язык, который я когда-либо встречал.
Кончается словесная перепалка. Мистер Тонкин просит Гемфри почитать свои стихи. Да, он пишет стихи! Стихи пишут все нормальные люди в семнадцатилетнем возрасте. Гемфри не исключение из общего правила. Поэма называется «Сыновья гения» — Гемфри работал над ней много месяцев. Позже ее включили в «Ежегодную антологию» 1799 года, издававшуюся Саути, Вордсвортом и Кольриджем — поэтами так называемой «Озерной школы». О них, ставших
168
друзьями Дэви в более поздний период его жизни, пойдет речь ниже. А пока мы видим Гемфри, читающего свою поэму:
Ужасную завесу ночи прорывая, Лучи луны играют в океане.
И волны светятся дрожащим светом, И легкий ветерок рябит морскую гладь.
Мерцающие звезды в Зодиаке Бледнеют пред мертвящими лучами, Сияют там, где шар Венеры светит, Блистают куполом чудесным над волнами.
И если суеверье правит темною душою И мешает развернуться энергии людской, Вдохновенный гений над ней стоит высоко.
Природой вдохновенный, сын гения Над всем земным встает; богатство, Благородство он презирает, великим Делом увлекаясь.
Природа родного Корнуолла всегда глубоко волновала Гемфри. Прибрежные утесы в шторм, когда обезумевшие волны с неистовой яростью бьются о камень, горные потоки, низвергающиеся с заоблачных высот,— все эти проявления взбунтовавшейся стихии пробуждали в Гемфри поэтическую фантазию.
Величественный утес! Ты рожден в неведомое время, Долго били тебя валы, и волны долго
Через твои катились камни и жизнь
Твою тем украшали; тебя раскрашивал и желтый мох, Тебя и росы одевали в покров зеленый, Орлы ютилися в твоих пещерах.
И долго будешь ты еще стоять неизменимо, И мощь людская разобьется о тебя.
Ни молнии, ни силе урагана, ни волнам моря Не одолеть твоей гигантской мощи.
Увлечение поэзией не мешало Гемфри шаг за шагом с поразительным упорством осуществлять намеченный им для себя план самообразования. Биографы Дэви, и в первую очередь его брат Джон, собирали записи о том, как трудно было Дэви овладеть курсом университетских наук дома.
В 1796 году Гемфри начинает заниматься математикой. В течение одного года он осваивает всю среднюю математику. В курс средней математики, или, как ее называл Гемфри, «математические элементарные начатки», входили: дроби простые и десятичные, извлечение корней, алгебра (до квадратных уравнений), элементы эвклидовой геометрии, логарифмы и т. д.— курс для того времени достаточно со
169
лидный. Как и все другие дисциплины своего «плана занятий», математику Гемфри изучал без чьей бы то ни было помощи. Впрочем, в Пензансе при всем желании получить эту помощь было не от кого. Упражнения Гемфри делал аккуратно и с большой точностью.
Математику Дэви штудировал в твердой уверенности, что она ему будет необходима для дальнейших занятий по химии и физике. «План занятий» предусматривал строгую последовательность в изучении наук, и, естественно, математика в нем предшествовала химии и физике.
Гемфри Дэви можно назвать «корнуоллским Ломоносовым».
История наук в Англии знает имена великих ученых, которые, не получив систематического университетского образования, внесли в сокровищницу знаний свой бесценный вклад, но она почти не знает примеров многолетней, упорной подготовки к ученой деятельности без всякой помощи, в условиях самого отдаленного и глухого уголка этой страны.
Ученик аптекаря Борлаза готовится к чему-то большему, чем звание лекаря, уготованное ему мистером Тонкиным. Эти обширные занятия Гемфри, выходящие за рамки «специальных медицинских знаний», пока ничьего внимания не привлекают и осуждения не встречают. Более того, знакомство Гемфри с такими почтенными людьми, как Грегори Уатт и мистер Джильберт, свидетельствует о том, что парень явно берется за ум, что его увлечение рыбной ловлей, бродяжничество, писание стихов уступили место серьезному отношению к наукам. Этот Гемфри умный малый, раз с ним находят о чем говорить такие господа, как мистер Уатт и мистер Джильберт. Пензанс получит в свое время хорошего доктора.
Так думают мистер Тонкин и аптекарь Борлаз.
А тем временем аптекарский ученик проходит предложенный самому себе курс учения: усердно изучает физиологию и анатомию. Вторично «открывает» кровообращение и восхищается своим гениальным предшественником Гарвеем. Непрерывно идет процесс накопления знаний. Формируется энциклопедист Гемфри Дэви.
* * *
Незабываемыми были прогулки с Грегори Уаттом по окрестностям Пензанса. Эти прогулки не имели ничего общего с бесцельным бродяжничеством подростка Гемфри в недавние годы. Удобно устроившись где-нибудь на вершине
170
скалы так, чтобы были видны уходящие в бесконечность просторы Атлантики и быстротекущие воды Ла-Манша, друзья заводили долгие беседы.
Однажды Грегори рассказал Гемфри о полученном из Бирмингема тревожном письме от отца. Там началась травля «Лунного общества». Мракобесы Бирмингема, науськиваемые правительственными провокаторами, решили разделаться с «лунниками». Надо положить конец всей революционной пропаганде, которую ведут «лунники».
— Мой старший брат Джеймс недавно вернулся из Франции. Пусть это останется между нами и ни одна душа не узнает об этом. Джеймс вступил в Париже в партию якобинцев и с оружием в руках боролся с
защитниками королевской власти. Кое-что об этом пронюхали бирмингемские святоши и бешеные роялисты, в результате вот это...— Григори вытащил из кармана куртки конверт.— Его доставил мне от отца друг нашей семьи. В письме сообщается о нападении на членов «Лунного общества». Дело происходило так. Общество устроило официальный обед, чествовали мистера Болтона в связи с его шестидесятилетием. Вдруг с улицы послышался рев толпы. В открытые окна полетели камни, и с криками «Долой философов, да здравствует церковь и король!» разъяренные обскуранты ворвались в дом, стали избивать участников торжества, переломали мебель и затем по улицам Бирмингема кинулись к дому Пристли. Своевременно предупреж
171
денный Пристли и его семья укрылись у друзей. Отец и его компаньон Болтон, опасаясь налета погромщиков на наш завод, вооружили рабочих и приготовились дать решительный отпор распоясавшимся реакционерам. Через некоторое время кровавый погром закончился. После бирмингемских событий Джозеф Пристли и его семья покинули Англию, уехали в Америку... Наша страна лишилась великого ученого и гражданина, а наша семья — самого близкого и верного друга...
Грегори Уатт мог бы еще о многом рассказать Гемфри Дэви, ведь он был в центре событий. И кто знает, может быть, не только туберкулез явился причиной его появления здесь в Корнуолле. До поры до времени ему нужно было пожить вдали от Бирмингема.
Грегори оставил университет, где учился, и, по словам современника, «с умом, слишком обогащенным для своего возраста познаниями в науке и литературе, с духом выше всех благ мирских, с духом, посвященным приобретению знаний», появился в Пензансе.
Сначала Грегори не замечал Гемфри: мало ли кто живет в этом заброшенном богом городке? Затем ему явно не понравился самоуверенный характер сына хозяйки. Но это отношение к Гемфри было непродолжительным. Могучий ум Дэви вскоре очаровал Грегори Уатта. Они подружились, и эта дружба не прекращалась до ранней смерти Грегори.
Теперь Гемфри и Грегори сидят на скалах корнуоллского побережья. Их карманы набиты различными минералами. Здесь и медный колчедан, и касситерит — оловянный камень, и чудесные друзы дымчатого кварца.
Грегори предлагает Гемфри спуститься в заброшенную шахту. Вход в шахту находится неподалеку от места отдыха молодых людей. Гемфри советует Грегори не спускаться. Шахту он знает, бывал в ней не раз. Она залита водой. Лесенки подгнили, спуск небезопасен.
— Вашему здоровью, Грегори, эти экскурсии по подземному царству Корнуолла могут нанести большой вред.
— Мне уж вряд ли может что-нибудь очень повредить. Пошли в шахту! — предложил Грегори.
Молодые люди направились к полуразвалившемуся строению, там был вход в шахту. Грегори еле поспевал за Гемфри, спускаясь под холодными струями воды по скользким узеньким деревянным лесенкам.
В поисках руд ценных металлов корнуоллцы в течение веков создавали свои знаменитые шахты и штольни. Сплошь и рядом ствол шахты пробивался почти у самой кромки прибоя, а горизонтальные горные выработки — штольни и
172
штреки — глубоко под землей уходили далеко в море. Эти подземные галереи, тянувшиеся на многие километры под дном Атлантического океана или Ла-Манша, заливало водой. Шум моря раздавался над ненадежной кровлей горных разработок, и самые смелые рудокопы во время бури содрогались, слыша грохот волн над своими головами.
Гемфри и Грегори спускались в шахту, расположенную на южной стороне пейзанской бухты. Гемфри помнил, когда он еще мальчишкой наблюдал, как один рабочий начал долбить землю, где потом была пробита эта шахта. Углубляли шахту так близко к берегу, что работать можно было только несколько часов в сутки. Два раз в сутки прилив заливал шахту и, приступая к работе, нужно было выкачивать воду.
Решили тщательно просмолить деревянную башенку и таким образом оградить шахту от вторжения воды. Затем на сваях был построен мост длиной в одну милю. С прибрежных скал прямо по этому мосту шахтеры шли к месту работы. Оловянный камень из шахты Уэрра, так звали владельца этой шахты, из недр земных, подавали на поверхность «моря» и потом по мосту перевозили на берег.
Однажды в бурную ночь волны сорвали с якоря небольшой корабль. Долго обезумевшие водяные валы бросали судно, пока оно не наскочило на башенку шахты Уэрра и не разрушило ее. Глубокий рудник был залит водой и с того времени больше не разрабатывался. Разоренному шахтовладельцу (он был прежде простым рабочим) снова пришлось уйти работать по найму на другие шахты.
Когда на шахтах Корнуолла начали ставить для водоотлива паровые машины Уатта, вспомнили о богатствах шахты Уэрра, и один из первых паровых насосов был установлен на ней.
Историю шахты Уэрра Гемфри со всеми подробностями рассказал своему спутнику.
Вымокшие, но довольные тем, что набрали целую кучу интереснейших минералов, Дэви и Уатт поднимались из царства земных недр. На солнышке, под теплым ветром с Атлантики, они повесили сушить свое платье, а сами пошли купаться в море.
Грегори Уатт был в восторге от корнуоллского «самородка». Он диву давался, откуда у этого парня такие интересные и глубокие мысли о духовной жизни человека, о роли науки и искусства в современном обществе. В тетрадях Гемфри он читал:
«Атеизм — необходимое последствие материализма».
«Постоянство в отношении убеждений — настоящий яд
174
для интеллектуальной жизни, убивающей ее яркость и свежесть».
Если под постоянством убеждений Дэви подразумевал окостеневшие догмы в науке и практике, трудно было с ним не согласиться. Хорош этот деревенский увалень, высказывающий такие мысли!
ДОЛГИЙ ПУТЬ химии
Истоки химии теряются в глубокой древности. Слово «химия» появилось, вероятно, в Египте. Оно произошло от египетского корня «ХАМ» или «ХЕМИ», что означает само название страны Египет, а также цвет «черный». Каким образом от столь далеких понятий, как название страны и цвета, это слово перешло к науке, сказать трудно. Легче объяснить то, что подразумевалось под словом «химия», вернее, «алхимия» на протяжении многих веков. Целью алхимии в древности и в средние века было превращение обыкновенных металлов, главным образом меди и свинца, в золото и серебро.
Алхимики упорно, столетие за столетием, при помощи фантастического философского камня искали способ превращения дешевых металлов в драгоценные. Они искали также «жизненный эликсир» — средство к достижению бессмертия — вечной жизни.
Некий итальянский поэт и алхимик Аугурелли был допущен в 1514 году на аудиенцию к папе Льву X. На приеме Аугурелли преподнес папе Льву X свою поэму об алхимии, в которой воспевал способы получения искусственного золота. Поэт-алхимик рассчитывал на щедрое вознаграждение от главы католической церкви.
Лев X вежливо принял поэму, но подарил алхимику пустой мешок! Он заявил разочарованному итальянцу:
— Тому, кто обладает столь великим искусством, недостает лишь кошелька для золота.
Погоня за сказочным «жизненным эликсиром» не увенчалась успехом. Фантастический способ получения золота из простых металлов открыт не был. И все же алхимики принесли большую пользу и услугу человечеству: накопили ^значительный опыт в проведении химических превращений. Они пытались проложить дорогу в сказочную и загадочную страну, пытались раскрыть тайну строения материи; из алхимии выросла современная научная химия. Таким образом, алхимики перекинули мост между химиче-
175
сними представлениями ученых древности и научной химией.
Какими же были эти химические представления в древности?
Великий философ Древней Греции Демокрит признавал, что в основе всего мироздания лежат атомы. Для Демокрита все атомы были подобны, неделимы, несжимаемы и не имели начала и конца. Демокриту также принадлежало основное положение химии — из ничего ничто произойти не может.
Другой ученый древности грек Эмпедокл, развивая те же идеи, что и Демокрит, еще ближе подошел к великим открытиям научной химии, провозглашенным две с лишним тысячи лет спустя Ломоносовым и Лавуазье.
Эмпедокл учил: «Из ничего не возникает ничего: ничто из того, что существует, не может быть уничтожено. Всякая перемена в природе не что иное, как соединение и разделение частей. Сущность природы заключается в вечном круговороте». В другую эпоху эти замечательные мысли нашли свое подтверждение в открытиях современной химии. Эти мысли легли в основу материалистического мировоззрения.
Роберт Бойль, живший в XVII веке, вошел в историю химии своим учением о химических элементах. Он утверждал, что элементы — эти части сложных тел — нельзя разложить на разнородные составные части. Он также высказал впервые мнение, что химия станет истинной наукой, лишь отделившись от алхимии и от медицины.
Задачи химии не в извлечении и превращении металлов, не в приготовлении лекарств, а в ее способности опытами и наблюдениями решать общие законы науки.
После Бойля в течение целого века в химии мучительно медленно шел процесс отхода от фантастических представлений алхимиков. Их место заняло воззрение, что все тела, способные гореть, состоят из особого вещества — флогистона («флогистос»—по-гречески означает «воспламеняющийся»).
Эта теория предполагала, что чем больше флогистона содержится в данном теле, тем более оно способно к горению. Таким образом, уголь состоит из почти чистого флогистона.
Флогистон, соединяясь с известями, дает металлы. Теряя флогистон, металлы превращаются в известь — землистые вещества.
Этому взгляду на мифический флогистон, на строение вещества суждено было продержаться вплоть до времени обучения Гемфри Дэви в школе мистера Гаритона.
176
Отец флогистонной теории — немецкий ученый Георг Шталь — не придал никакого значения установленному Бойлем понятию химического элемента. Он пренебрег значением этого понятия для химической науки и посему с невероятной легкостью счел металлы сложными веществами, а окислы металлов (извести, земли) веществами более простыми. Таким образом, все было поставлено
в угоду флогистонной теории с ног на голову. Эти заблуждения стойко держались в химии, и даже такие великие химики, какими были Карл Шееле, Джозеф Блэк и другие, разделяли их.
С концом XVIII века пришел конец и флогистонной теории.
Отец современной химии Антуан Лоран Лавуазье во Франции, Кавендиш и Пристли в Англии, Ломоносов в России, а с ними и ряд других ученых положили начало научным представлениям в химии.
В химию были введены весы, и гениальные пророчества древних получили блестящее подтверждение. Лавуазье утвердил в науке закон неуничтожаемости вещества. С этого времени началась история современной химии.
Уатт в механике, Лавуазье в химии, Пьер Лаплас в астрономии закладывали фундамент современного естествознания. В это замечательное время великих открытий Гемфри вступал в жизнь, готовился дальше нести эстафету науки.
Шел 1798 год. Гемфри к этому времени исполнилось девятнадцать лет.
Определенных планов на ближайшее будущее у него не было. Аптека Борлаза ему осточертела. Общение с Грегори Уаттом и Джильбертом, людьми высокообразованными, настолько отличавшимися от обывателей Пензанса, что их можно было принять за пришельцев с другой планеты, значительно расширило умственный горизонт Дэви, но радости не принесло. Его, сына бедных родителей, не получившего систематического образования, отделяла от его ученых дру
177
зей непреодолимая стена. Он должен сказать спасибо Уатту и Джильберту за то, что они показали ему безбрежные просторы науки, и затем, сказав еще большее спасибо мистеру Борлазу, готовить себя к аптекарскому ремеслу. Таков был внешний ход умозаключений Дэви и его близких. Но где-то в тайниках его души теплилась надежда на лучшее будущее. И он не хотел погасить в себе этот огонек. Гемфри работал в аптеке и не прекращал заниматься химией.
Получив некоторый практический навык в несложной лабораторной работе сначала в спальне доктора Тонкина, а затем в лаборатории медеплавильного завода, Дэви приступил к проведению самостоятельных исследований.
Это сказано слишком пышно — самостоятельных исследований! Речь шла о скромных опытах, которые задумал Гемфри. Лаборатория медеплавильной компании «Гейль Коппер Хауз» была настоящей лабораторией, а не свалкой разного мусора, которой пользовался до этого Гемфри.
С волнением осматривал Дэви эту хорошо оборудованную лабораторию. Большинство приборов и аппаратов он ранее видел лишь на рисунках в книгах по химии.
♦Буйный восторг, который проявил Дэви,— пишет современник,— при виде химических аппаратов, до тех пор известных ему лишь по гравюрам, невозможно описать. Особенно привлек его внимание воздушный насос. Он играл с клапанами и трубками с непосредственностью ребенка, занятого осмотром новой и любимой игрушки».
Четыре месяца работал Гемфри в этой лаборатории. За это время у него создались свои особые взгляды на природу света и тепла. Он провел серию ставших позже классическими экспериментов с таянием льда. То были прелюбопытнейшие опыты. Получив из замороженной воды два кусочка льда, он принялся тереть один о другой. Вследствие возникшего при трении тепла лед таял. Этот опыт Дэви производил при температуре ниже точки замерзания воды и в пространстве, откуда был выкачан воздух.
Вывод, который сделал Дэви из этих опытов, был прямо противоположен существовавшим воззрениям.
Тепло — это не вещество, как думало большинство ученых того времени, а вид движения. Кусочки льда движутся один по отношению к другому, трутся, выделяя тепло. Тепло вызывает таяние льда — значит, тепло есть вид движения. Еще не осознав как следует всего значения опыта, Гемфри близко подошел к открытию взаимосвязей между материей и энергией.
Первым, кто познакомился со странными опытами Дэ-
178
ёи и с еще более странными выводами, которые он сделал из них, был Джильберт, человек достаточно искушенный в запутаннейших проблемах современной ему науки. И еще раз Джильберт понял, что его первые впечатления об этом парне из Пензанса не обманули его. Этот молодой человек стбит того, чтобы ему помогать на трудной дороге к знаниям.
Химия как наука переживала младенческий период. Одним из ответвлений этой науки в период ее зарождения была так называемая ятрохимия *. Основатель ятрохимии швейцарец Теофраст Парацельс, чье имя золотыми буквами вписано в раннюю историю медицины, утверждал, что «настоящая цель химии заключается не в изготовлении золота, а в приготовлении лекарств».
Ятрохимия стремилась слить медицину с химией и тем самым выводила древнейшее искусство лечения людей на научную дорогу. Не следует, однако, думать, что сразу же после многовекового периода алхимического волшебства наступит эра истинно научного развития химии. Шелухи в головах крупнейших представителей ятрохимии было предостаточно. Так Парацельс верил, что лихорадка и чума происходят от избытка в теле человека серы. А при избытке ртути наступают параличи, а излишек соли вызывает водянку. Крупицы истины были завалены удивительными по наивности и бездоказательности утверждениями, столь же фантастическими, как и пресловутые «философские камни» алхимиков.
Густой туман продолжал еще застилать глаза ученых. В этом тумане ощупью, в течение мучительно долгих лет, пробирались к истине люди, посвятившие себя изучению химии. Ятрохимики сыграли свою роль в этом далеком от нас периоде развития химии. Один из них заметил, что олово и свинец при прокаливании увеличиваются в весе, и высказал предположение, что это увеличение происходит благодаря воздуху, который присоединяется к металлам. Другой ятрохимик весьма способствовал развитию металлургии, изучал серную кислоту, занимался перегонкой янтаря и получил янтарную кислоту. Третий разработал способ получения фосфорной кислоты из костей животных... Можно и дальше продолжить перечень открытий ятрохи-миков.
Близость ятрохимии к медицине, к искусству приготовления лекарств — фармации, была помехой для всестороннего развития химии как одной из основных естественных наук. Поэтому наряду с ятрохимией развивалась техническая химия; приложение химических знаний к запросам че
179
ловечества в области технологии. Но техническая химия так же, как и ятрохимия, не ставила основных теоретических проблем химии, не способствовала созданию первых научных теорий в этой области науки.
Одно из интересных направлений в развитии химии создали ученые, работавшие с газами.
Родоначальником химии газов — пневматической химии — был Ван-Гельмонт ♦. Он и ввел в научный обиход слово «газ». Он получил первое газообразное вещество, не похожее на воздух. Действием кислот на известняк он получил так называемый «лесной газ». Этот же газ образовывался при брожении молодого вина, а также при горении угля.
Тогда еще ученые не знали того, что теперь знает любой школьник. «Лесной газ» был общеизвестным углекислым газом.
Ван-Гельмонт прославил свое имя в науке не только работами в области пневматической химии. Пытливый и неугомонный человек, он задался выяснением тайны роста растений. Где источник жизни растений? Для ответа на этот фундаментальный для науки вопрос он поставил гениальный по простоте и глубочайший по своей сути опыт.
Восемьдесят килограммов предварительно высушенной земли он всыпал в глиняный горшок. В этот же горшок был высажен саженец ивы, который весил два килограмма.
Шли годы. Удивительный эксперимент Ван-Гельмонта продолжался. В течение нескольких лет ничего, кроме дождевой воды, в горшок не поступало. А ива росла и росла. По истечении пяти лет ивовый саженец превратился в деревцо. Опыт был закончен. Глиняный горшок разбили, землю, которая была в нем, высушили и взвесили. За пять лет ее убыло всего лишь шестьдесят граммов. Взвесили ивовое деревцо. Его вес оказался равным шестидесяти восьми килограммам. Так как в горшок, кроме воды, ничего не поступало, и ива росла и росла, то почтенный доктор сделал вывод: деревья с их листьями, корой и корнями растут из одной только воды.
«Вода — источник питания и жизни растений». С легкой руки доктора Ван-Гельмонта этот вывод вошел в науку.
Лишь много лет спустя ученые доказали, что является действительным источником жизни в зеленом мире.
Главным итогом развития пневматической химии было установление важного факта — воздух не единственное газообразное состояние материи. Кроме воздуха, в природе имеются и другие газы. Англичанин Блэк ♦, соотечествен
180
ник Гемфри Дэви, еще в середине восемнадцатого века выделил газ... из камня. Современникам это казалось чудом. Блэк вслед за Ван-Гельмонтом действовал на мрамор соляной кислотой и получил углекислый газ. Нагревая белую магнезию, он также получил «связанный воздух» — углекислый газ. Два других ученых сделали крупнейшее открытие — получили кислород. Это были химики Карл Шееле и уже известный нам руководитель «Лунного общества» в Бирмингеме Джозеф Пристли. Обоим ученым чудились широчайшие возможности воздействия кислорода на организм человека.
На исходе восемнадцатого столетия людям казалось, что эти открываемые один за другим газы способны совершить переворот в медицине.
ДОКТОР БЕДДО ОТКРЫВАЕТ ГЕМФРИ ДЭВИ
Одним из учеников Джозефа Блэка, получившего газ из камня, был Томас Беддо. Этот неизвестный в ученых кругах человек изучал в Лондоне и в Оксфорде медицину. После получения звания доктора медицины Томас Беддо читал лекции по химии в том же Оксфордском университете.
Хочется задержаться на рассказе о жизненном пути и характере человека, которому довелось сыграть видную роль в судьбе Гемфри Дэви.
Известен энтузиазм, который проявил Беддо, получив сообщение о революции во Франции, о казни Марии Антуанетты и короля Франции Людовика XVI.
Столь неуместный в королевской Англии восторг Беддо в связи с победой французских санкюлотов был встречен руководителями Оксфордского университета с нескрываемой враждебностью. Это в конце концов и послужило причиной ухода Беддо в отставку.
Чем занимался Беддо после увольнения из университета? Он переехал из Оксфорда на свою родину в Шропшир и там, будучи дипломированным врачом, начал лечить больных. Увлечение пневматической химией, надежды на то, что вновь открытые газы предоставят врачам еще не виданные возможности для лечения тяжелых болезней, захватило и Томаса Беддо. Об этом он писал Эразму Дарвину (физиологу и поэту, деду Чарлза Дарвина) и Джозефу Пристли.
В письмах живо обсуждались перспективы использования газов в медицине.
Несколько позже в Бирмингеме Беддо встретился с чле
181
нами * Лунного общества» и стал близок семье Джеймса Уатта.
Еще в 1793 году в Беддо возникла идея учредить институт и клинику для исследований и лечения больных, используя некоторые газы. Эта идея была тепло встречена друзьями Беддо, и начался длительный период собирания средств для будущей клиники. Первый взнос был не очень велик — 200 фунтов стерлингов, но со временем пропаганда новых идей в медицине принесла свои плоды, появились более щедрые пожертвователи.
В 1794 году Томас Беддо женился на Анне Эджуорт, юной сестре писательницы Марии Эджуорт. Гемфри Дэви, которому позже пришлось близко сойтись с семьей Беддо, дал живую характеристику обоим супругам, заметно выделявшимся среди людей, с которыми Гемфри приходилось иметь дело.
«Доктор Беддо, говоря откровенно,— писал Дэви,— один из самых странных людей, которых я когда-либо видел. Очень толстый и маленький, он отнюдь не обладает изящными манерами и внешне ничем не напоминает жреца науки... Скупой на жесты и сухой человек, но его лицо очень приятно. Он холоден при разговоре и, по-видимому, весьма занят своими собственными взглядами и теориями. Ничто не может быть контрастом к его несомненному равнодушию при споре, чем его дикое и деятельное воображение, которое было таким же поэтичным, как и у Дарвина.
Миссис Беддо — прямая противоположность доктору: остроумная и веселая, она очень привлекательна. С высокой культурностью и добрым сердцем она соединяет большую простоту».
Прошло еще четыре года, прежде чем идея Беддо о создании Пневматического института начала воплощаться в жизнь. «Лунники» — члены «Лунного общества» — оказали решающую финансовую помощь Беддо, и особое рвение к новому начинанию проявил Уатт. Его сыну становилось все хуже и хуже, и Пневматический институт воспринимался им как последняя попытка спасти Грегори. Это была, к сожалению, лишь соломинка, за которую пытались ухватиться Уатты.
Было ли это случайным совпадением, когда перекрестились пути-дороги доктора Беддо и юного Гемфри Дэви?
Много написано о роли случая в жизни замечательных людей. А случай на поверку бывал всегда хорошо подготовлен рядом предшествующих событий.
Беддо загорается желанием организовать специальный Пневматический институт.
182
Джеймс Уатт и его сын Грегори горячо поддерживают идею Беддо, финансируют это начинание. Грегори Уатт рассказывает Гемфри Дэви о проекте Беддо и заинтересовывает молодого корнуоллца возможностью испробовать свои силы в деле, которое для всех абсолютно неведомо. Грегори советует Дэви послать Беддо свою статью об исследованиях тепла и света. Со своей стороны, мистер Джильберт, которому, как помнит читатель, довелось познакомиться с Гемфри Дэви в не совсем обычной ситуации, оказывается давним знакомым Беддо. Когда доктор Беддо читал свои лекции в Оксфордском университете, мистер Джильберт был студентом и его слушателем. С тех пор Беддо и Джильберт сохраняли друг с другом добрые отношения. Пользуясь этим, Джильберт, со своей стороны, рекомендовал Дэви послать отчет о проделанных им опытах доктору Беддо. Обещал своему юному другу замолвить доброе слово о нем доктору Беддо.
В апреле 1798 года Гемфри написал обстоятельное письмо доктору Беддо, в котором изложил результаты своих опытов. Это письмо попало к Беддо весьма своевременно. Рассказы о Гемфри Дэви, самоучке из Пензанса, доходили в Бристоль, где жил Беддо, с разных сторон — о Гемфри говорили Уатты, Джильберт и другие уважаемые люди. Говорили о нем как о несомненно одаренном человеке, о его необыкновенном упорстве и воле в самостоятельном изучении наук, о его интереснейших первых исследованиях.
Полученное Беддо письмо из Корнуолла только подтвердило все хорошее, слышанное о Гемфри Дэви, и свидетельствовало, что его автор — незаурядная личность. Беддо решил пригласить Дэви к себе в институт.
Свои намерения в отношении Гемфри Беддо изложил в письме к мистеру Джильберту от 4 июля 1798 года.
«Я рад, что мистер Дэви производит на нас обоих одинаковое впечатление. Я давно уже хотел написать Вам о нем, потому что думал, что смогу открыть для него наиболее плодоносное поле для исследований, чем кто бы то ни было. Не самая ли это прямая дорога к успеху? Даже если он и не добьется благоприятных результатов, он сможет проявить свои способности к исследованиям и стать известным общественному мнению скорее, чем всяким другим путем. Он должен быть приглашен, но наши фонды не могут обеспечить такое жалованье, при котором человек может отложить все в сторону! Он должен посвятить все свое время в течение двух или трех лет исследованиям. Я хотел, чтобы Вы поговорили с ним об этом. Я сожалею, но в настоящее время не могу назначить определенную годичную сумму, а
183
также не могу быть уверенным в том, что все жертвователи согласятся с моими планами. Я написал уже главным из них и не буду терять время, чтобы известить всех».
...Уже более пяти лет прошло с тех пор, как доктор Беддо задумал организовать Пневматический институт, но из-за скудности пожертвований он до сих пор не имел возможности его открыть. Нечем вознаградить труд горстки сотрудников, которых он намерен пригласить.
В самые последние дни Беддо получил 2500 фунтов стерлингов от двух своих богатых пациентов. Деньги эти предназначены в фонд будущего института. И Беддо наконец решил больше не затягивать дела. Он написал письмо Гемфри и получил от него ответ — на известных условиях согласие приступить к работе в институте.
Эти «известные условия» и повергли доктора Беддо в уныние.
Во втором письме к мистеру Джильберту он писал:
«Я получил письмо от мистера Дэви. С тех пор как я ознакомился с Вашим последним посланием, он не один раз упоминал о подобающем содержании как о предварительном условии для занятия места возглавляющего Пневматический институт. Я боюсь, что наши фонды не позволят назначить значительное содержание; тем не менее он должен быть приглашен. Я не могу понять, что он подразумевает под словом «подобающее», но, может быть, все трудности исчезнут после переговоров; по крайней мере, я думаю, что Ваши переговоры с мистером Дэви будут лучшим способом для устранения трудностей, чем наша переписка. Мне кажется, что это назначение будет не чем иным, как частью медицинского образования мистера Дэви, и сбережет ему немало средств. Оно может также послужить основой для его репутации, и, конечно, с моей стороны будет сделано все, чтобы он пользовался доверием, которое он заслуживает. Он вовсе не обязан открывать целительные свойства газов для той или иной болезни; он может заслужить аплодисменты ясными доказательствами даже отрицательных результатов.
Во время моих поездок по стране я собрал множество важных и любопытных фактов у разных практиков. Это родило идею собирания и публикации подобных фактов, которые наша часть страны будет время от времени предлагать. Если бы имелась возможность производить химические эксперименты, касающиеся органической природы, я бы их тоже помещал. Если мистеру Дэви нравится такой путь опубликования его работ, я с удовольствием помещу их на первых страницах первого тома, но я не хочу, чтобы
184
он «жертвовал» для этого независимостью суждений или наклонностей ».
Гемфри еще не расторг своего ученического контракта с аптекарем Борлазом. Миссис Дэви, мать Гемфри, еще ничего не знает о переписке сына с мистером Беддо. Она ужаснется, узнав о намерении Гемфри покинуть родной Пензанс, где ему предуготована карьера врача. В ученическом ранце Гемфри Дэви уже лежит магический маршальский жесл, который должен открыть ему дорогу в большую науку. Этот самоучка чувствует силу своих крыльев, он не страшится полета в неизвестность... и он еще ставит условия своего появления в Пневматическом институте. Он требует «подобающего содержания» и не слышит в ответ смеха Беддо. Нет, Беддо говорит, что он, Дэви, «должен быть приглашен» «возглавляющим Пневматический институт».
Двадцатилетний юноша из далекого Пензанса, не имеющий университетского образования, и вдруг руководитель научного института! Удивительная трансформация, не правда ли?
Письмо Беддо отражает характер человека, его написавшего: фантазер, провидец, прожектер... Но в том же письме есть вполне резонные и трезвые мысли о том, что Пневматический институт будет для Гемфри своеобразным учебным заведением, в котором молодой корнуоллец завершит свое медицинское образование, не затратив на это денег. И если он человек действительно чего-то стоящий, здесь, в Бристоле, он сможет добиться доверия ученых, которым пока не известен...
Скоро наступит день отъезда Гемфри из Пензанса в далекий Бристоль.
С доктором Беддо обо всем договорились.
Гемфри, наладив удочки и необходимую рыболовную снасть, пошел в последний раз к излюбленному месту на горном ручье, где отлично ловилась форель. На рыбалке, в уединении, можно собраться с мыслями и уяснить себе, что же, собственно, произошло. Эти размышления, занесенные по обыкновению Дэви на страницы записной книжки, хорошо отражают душевное состояние Гемфри в переломный момент его жизни.
«Я не могу сослаться для своей характеристики ни на богатство, ни на власть, ни на знатное происхождение, и все же я верю, что буду не менее полезен человечеству и моим Друзьям, чем те, кто родился со всеми этими преимуществами... Постепенно я начинаю осознавать свои силы, сравнивая их с силами других. Однако энтузиазм, который создал мою независимость, не пропал. Я уже больше не беспокоил
185
ся о том, что думают обо мне другие, и не гонялся за славой. Порожденное только одним чувством — любовью к правде — желание видеть вещи в их истинном свете затмило все другие помыслы... Этот характер я думал совершенствовать, отбрасывая от себя всякое проявление лжи и лицемерия... Теперь я проделал все опыты, которые можно сделать здесь: я их сумею быстро собрать и систематизировать, но это лучше сделать в Клифтоне, чем в Пензансе».
Многому научиться у Беддо вряд ли рассчитывал Дэви. Быть может, в Пензанс от общих друзей дошли до Гемфри слухи о странных «научных» опытах, производимых Беддо. Так, например, Беддо загонял в палаты, где лежали его пациенты, коров. Предполагалось, что больным очень полезно вдыхать «ароматы», привносимые в помещение животными.
Можно себе представить, как Гемфри Дэви с его критическим умом отнесся бы к таким, с позволения сказать, опытам.
Особых иллюзий относительно ценности научных достижений этого института не питал и Беддо. Он заранее говорил Дэви, что полный крах его, Беддо, научных идей, полученный в результате экспериментов, будет принят как успех Дэви.
Итак, 2 октября 1798 года Дэви покинул Пензанс и в дилижансе отправился в Бристоль, вблизи которого, в городке Клифтон, разместился Пневматический институт доктора Беддо.
По английским масштабам путешествие это, протяженностью в четыреста километров, было не близким. К тому же конная тяга — дилижанс не принадлежал к наиболее резвым видам передвижения.
Позади остались грустные последние минуты прощания с родными, слезы матери и сестер...
Быстро проехали отрезок пути до городка Труро, убогой столицы Корнуолла. Всё места, знакомые Дэви. Дальше дорога пошла в неведомую страну... Мелькали незнакомые поселения, городки. Менялся и внешний облик людей.
На третий день дилижанс прибыл в Эксетер, главный город графства Девоншир, один из центров выделки английских шерстяных тканей.
В дилижансе вместе с Гемфри ехали его знакомые по Пензансу, и составилась компания, сделавшая путешествие веселым и приятным. В письме к родным Гемфри сообщал:
«...В Эксетер я прибыл во время празднования победы
186
Нельсона *. Город был великолепно иллюминован, и жители веселились. Меня познакомили с несколькими почтенными горожанами, и мистер Руссель мне так понравился, что я прожил у него два дня. На утро после праздника я объехал в обществе Русселя прекрасные окрестности города...»
Бристоль, куда направлялся Гемфри, был большим промышленным и портовым городом в устье реки Эвон, впадавшей в морской залив, получивший имя Бристольского. Было время, когда Бристоль был первым по величине портом Западного побережья Англии. Отсюда снаряжались заатлантические экспедиции в американские колонии Великобритании. Когда-то Бристоль превышал по численности населения столицу страны Лондон.
Из Бристоля в 1497 году к неведомым берегам вышла экспедиция Джона и Себастьяна Кабот ♦ и на четырнадцать месяцев ранее Христофора Колумба достигла берегов Нового Света.
Но миновали эти славные времена, Бристоль на западе Англии уступил пальму первенства Ливерпулю. Упадок Бристоля, как, впрочем, и многих других городов Англии, связывали с цепко сохранявшимися от средневековья привилегиями городских цехов. Коренные горожане из поколения в поколение принадлежали к ремесленным цехам — ткачей, каменщиков, цирюльников, к торговым гильдиям и другим городским сословиям. Горожане имели так называемые «Свободные права», и все, кто вновь селился в Бристоле, не могли найти работу и вынуждены были искать счастья в других местах.
Город же от этих порядков приходил в упадок, уступал первенство тем городам, где быстрее шли на слом пережитки феодализма.
Доктор Томас Беддо жил со своей семьей в Бристоле. Клифтон, где нашел приют вновь образованный Пневматический институт, в описываемую эпоху был пригородом, куда бристольские судовладельцы и купцы уезжали отдыхать от трудов праведных.
Здесь был уголок природы, еще не тронутой промышленностью. Крутой холм возвышался над зажатым в ущелье Звоном. Где-то внизу катила в океан свои воды река, а наверху, на утесе, теснились увитые до крыш диким виноградом домики Клифтона.
Старинные, еще со времен Тюдоров, постройки; белые стены с переплетением черных дубовых балок, перекладин; аккуратные соломенные или черепичные крыши; скалы, покрытые зеленым бархатом мха; кудрявые лиственные леса и звучащая на разные голоса река—все это привлекало
187
в Клифтон художников и поэтов. Такое чудесное месторасположение Клифтона и наплыв в него курортной публики сыграли свою роль в популяризации Пневматического института не только в пределах графства Глостершир, в котором находился Бристоль, но и во всей Англии.
Через девять дней после приезда в Клифтон Дэви уже писал матери второе письмо:
«Дорогая мама!
У меня много свободного времени, и я посвящу его письму к Вам. Я расскажу Вам про новые замечательные события, случившиеся со мной со времени моего отъезда. Я надеюсь, что Вы получили мое последнее, поспешно написанное письмо, в котором я уведомил Вас о моем благополучном приезде и об оказанном мне хорошем приеме.
Теперь я должен дать Вам более подробный отчет о Клифтоне и моих новых друзьях — мистере и миссис Беддо и об их семье. Клифтон расположен на холме, с которого открывается прекрасный вид на Бристоль и его окрестности, и в то же время он достаточно удален от шума и грязи большого города. Здесь в одном месте собраны дома, скалы, леса, город и деревня, и внизу протекает воспетый поэтами прекрасный Эвон. Трудно найти более красивое место, оно по красоте своей равно Пензансу и заливу Горной бухты. Наш дом большой и красивый, мои комнаты велики и удобны и, что лучше всего, у меня прекрасная лаборатория.
Мистер Беддо ценит мои открытия и согласен во всем с моей теорией, чего я, сказать по правде, не ожидал. Мне передана вся работа по Пневматическому институту.
Миссис Беддо показала мне прекрасные окрестности Клифтона, так как доктор слишком занят для прогулок. Я посетил одного из крупнейших вкладчиков Пневматического института, и он принял меня очень любезно. Недели через две поеду в Бирмингем повидать мистера Уатта и Кейра, но до тех пор я Вам еще напишу. Я сейчас занят обдумыванием организации при институте небольшой больницы и метода ведения работ. Мы собираемся печататься
188
у Коттля в Бристоле, и все мое время будет отдано подготовке к печати. Аудитория для чтения лекций еще закрыта, но если мне удастся найти в Бристоле большую комнату и подписчиков, то по желанию доктора Беддо я прочту там цикл лекций по химии...
Вам будет приятно узнать, что все мои надежды исполнились и что мое положение таково, каким я его желал. Это, впрочем, не мешает мне вспоминать Пензанс и моих друзей и желать встречи с ними. Нужно много времени, чтобы привыкнуть к новым местам и новым знакомым.
Ваш любящий сын Гемфри Дэзи».
ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ
Бурно растет промышленность Англии. Гибнут мелкие предприятия, возникают большие заводы и фабрики. Новые станки, сила пара одних обогащают, других лишают куска хлеба. С ростом производства увеличивается смертность от грозных болезней. На первом месте туберкулез. Чахотка косит людей без разбора, и старых и малых.
На постройку и деятельность Пневматического института поступают пожертвования. Среди благодетелей люди разные — и заводчики, пытающиеся подачкой откупиться от нарастающего недовольства рабочих, и либерально настроенные люди науки, мечтающие своими слабыми силами отбить у смерти тысячи жизней. И те и другие по расчету или по наивности возлагают надежды на недавно открытые газы.
Верит ли в эту панацею от всех болезней Гемфри Дэви? Понимает ли он, что в случае провала неизбежно окажется в роли козла отпущения? Впрочем, он не первое лицо в затеянной игре. Доктор Беддо знает, что делает... Во всяком случае, он, Дэви, отдаст все свои силы, не пощадит здоровья, если нужно и жизни, чтобы вырвать у природы одну из ее многочисленных тайн. Спасут ли газы жизнь погибающих от чахотки или нет, их влияние на организм человека Дэви будет тщательно изучать.
Вышел в свет первый том «Дополнений к физическим и медицинским познаниям, собранным на Западе Англии Томасом Беддо».
В первом же томе были напечатаны «Заметки о природе тепла и света», размышления Гемфри Дэви, возникшие у него в результате экспериментов с таянием льда.
189
В статье Дэви изложил свои взгляды на сущность света и тепла.
Что можно сказать об этой первой научной публикации Дэви? Девять десятых ее содержания полны остроумных, но невероятных умозаключений. Но одна десятая часть «Заметок» была вполне достойна научного гения Дэви. Он доказывал, что тепло не материя, а вид энергии — движение.
Через некоторое время автор «Заметок» назвал свою работу «детским лепетом» и раздражался, когда кто-нибудь напоминал ему об этой статье.
Гемфри Дэви всю жизнь выражал недоверие всем теориям, не подтвержденным большим и серьезным экспериментальным материалом. Современники, а еще больше последующие поколения химиков удивлялись, что Дэви недооценил атомную теорию своего знаменитого соотечественника Джона Дальтона ♦, жившего в ту же эпоху, что и герой нашего повествования. Теоретические основы атомной теории Дальтона были просты и ясны каждому химику, однако с экспериментальным подтверждением этой теории дело обстояло весьма и весьма не просто. Свои взгляды Дальтон опубликовал в сочинении «Новая система химической философии». Первая часть этого труда появилась в 1808 году, вторая, посвященная Дэви и Генри, в 1810 году. Великое открытие Дальтона не вызвало одобрения Дэви из-за осложнений в экспериментальном подтверждении взглядов своего выдающегося коллеги.
Несмотря на то что Дэви быстро разочаровался в своих научных взглядах на тепло и свет, они получили большую известность в ученом мире.
В начальный период жизни в Клифтоне Дэви познакомился с сыном Джозефа Пристли, знаменитого химика и выдающегося общественного деятеля, друга французской революции. Дэви должен был учить молодого Пристли химии, а Пристли учил своего учителя лучше разбираться в происходящих в мире политических событиях. Каждый из них был вполне компетентен в своей области.
Молодой Пристли рассказал Дэви о трагической судьбе своего отца.
Джозеф Пристли был сыном фабриканта-суконщика из города Лидса в графстве Йоркшир. В юности Джозеф проявил интерес к богословию и стал священником. Но, по свидетельству современников, «его сухость и недостаток красноречия» оттолкнули от него прихожан. Тогда Джозеф пытался найти себя на педагогическом поприще, он заведо
190
вал школой. Для этой школы Пристли приобрел электростатическую машину и воздушный насос, действие которых показывал ученикам. Эта работа с приборами оказалась для Пристли лучом света, который озарил его будущее. Путешествие из провинции в Лондон решило его участь. Случай свел Пристли с Бенджамином Франклином ♦, а беседы с ним внушили ему мысль заняться историей открытий в области электричества. Через год он написал «Историю электричества», в которой ясно изложил зарождение и первоначальное развитие этой отрасли физики.
До Пристли в науке было известно всего лишь два газообразных вещества: углекислый газ и водород. Пристли подверг тщательному исследованию эти газы и открыл ряд новых газообразных веществ. Среди них были: азот, окись азота, хлористый водород и аммиак. Благодаря Пристли стали также известны закись азота, сернистая кислота, и, конечно, обессмертило имя Пристли одновременное и независимое от Лавуазье и Шеели открытие кислорода. Случилось так, что кислород открыли три ученых — имена всех их навсегда останутся в памяти человечества.
1 августа 1774 года Пристли, нагревая окись ртути, красный порошок, наблюдал выделение неизвестного газа, но только в следующем году он обнаружил чудесное свойство этого газа поддерживать дыхание и горение. Это и был кислород. Сделав так много в химии, Джозеф Пристли любил повторять, что он не химик и все им сделанное в области химии — чистая случайность.
Весть о том, что Джозефу Пристли было присвоено звание французского гражданина, и избрание его одним из революционных департаментов своим депутатом вызвало бешенство реакционеров.
Неравный поединок Пристли с власть имущими привел к тому, что Пристли эмигрировал в Америку. Но подлые руки врагов нашли его и за океаном. На одном из званых обедов Джозеф Пристли был отравлен тайными агентами английского правительства. Никто из других участников этого обеда не пострадал. Отрава предназначалась лишь одному Пристли.
Джозеф Пристли погиб. Его жена и младший сын также Умерли в Америке. Но один из сыновей вернулся в Англию, и в Клифтоне он посещал лекции Гемфри Дэви по химии.
Может быть, сын знаменитого Джозефа Пристли и привез из Америки Гемфри Дэви последнее письмо своего отца.
Вот отрывок из этого письма.
«Сэр, я читал Ваши труды, и они принесли мне много
191
удовольствия. Будучи стар и зная, что я уже многого сделать не успею, я радуюсь тому, что в моей стране останется такой талантливый работник в великой области экспериментальной науки. Мне было уже около сорока лет, когда я провел мои первые эксперименты с воздухом, да и то без предварительных знаний химии. Их я почерпнул уже впоследствии из книг. У меня также не было нужных аппаратов. Неожиданный успех доставил мне все необходимое. Я радуюсь тому, что вы еще так молоды, и, видя начало вашей карьеры, не могу сомневаться в успехе».
Далее в письме Пристли просил Дэви прислать информацию о прогрессе науки в Европе.
Вечерами в доме мистера Беддо собирался цвет интеллигенции Бристоля. Очаровательная хозяйка Анна Беддо-Эд-жуорт и ее сестра, известная романистка Мария Эджуорт, их экстравагантный отец, вся популярная не только в Бристоле семья Беддо-Эджуортов была центром притяжения бристольского общества. Здесь бывали знаменитые поэты Саути, Кольридж и Вордсворт. Поэты были в расцвете своих талантов. Это были романтики, трубадуры, воспевавшие рыцарские времена, идеализировавшие английское средневековье.
С открытой войной против «Озерной школы», как называли себя поэты-романтики, выступил Джордж Байрон, великий поэт Англии.
«Озерная школа», ее литературное направление оказали влияние на поэтические опыты Гемфри Дэви.
В доме Беддо постепенно из угловатого и простодушного парня Гемфри Дэви превращался в светского человека.
Из Бристоля Гемфри ездил в Бирмингем и там был сердечно принят всей семьей Уаттов.
К искренней радости Грегори, его друг, сын квартирной хозяйки из Пензанса, за короткий срок подвергся удивительной перемене, стал известен как молодой и талантливый ученый, руководитель исследовательского института в Бристоле. Друзья шумно и непосредственно радовались происшедшей метаморфозе.
Еще в Пензансе Дэви добывал небольшие порции закиси азота. Этот газ неизменно привлекал внимание Дэви. Какая-то интуиция, догадка толкали молодого химика к работе с закисью азота. Гемфри чувствовал, что здесь скрываются любопытные и неожиданные находки.
Поселившись в Клифтоне и став единоличным распорядителем богатой химической лаборатории, Гемфри начал по-
192
лучать закись азота в больших количествах. Этот газ не имел цвета, запах его был несильным, приятно сладковатым. Тлеющая лучинка вспыхивала в нем ярким пламенем.
Еще в 1776 году старший товарищ Дэви по науке, все тот же Джозеф Пристли, действовал на двуокись азота одним из восстановителей — сернистым калием или влажными железными опилками. Происходил процесс восстановления, часть кислорода от двуокиси азота отнималась, а вновь образованное вещество и было закисью азота.
Известный французский ученый, химик Клод Бертолле, получил закись азота осторожным нагреванием азотнокислого аммония. Нагреваясь, аммоний распадался на закись азота и две части воды. Способ Бертолле для получения закиси азота применяется и в наше время.
В апреле 1799 года Гемфри начал испытывать действие закиси азота на самом себе. Дэви вдыхал сначала небольшие порции этого газа и убедился, что в малых дозах он пригоден для дыхания, вернее, не приводит к каким-либо видимым признакам отравления.
Доктор Беддо присутствовал при первых, не совсем удачных из-за несовершенства техники эксперимента попытках Дэви дышать закисью азота. Началось методическое, скрупулезное исследование влияния закиси азота на человека. Количество газа постепенно увеличивалось. Дэви по-прежнему оставался и ученым, пытающимся приподнять завесу над неведомым, и подопытным кроликом. С этих пор и навсегда, пока билось в груди его смелое сердце, он спокойно испытывал на себе все вновь открытые газы и неизменно следовал своему жизненному правилу: «Живи в опасности!» Ты, ученый, знал, что идешь в неведомое, и будь готов к любым неожиданностям, презирай опасности.
*7 Молодость Сеченова
193
Несколько раз в неделю происходили эти сеансы вдыхания закиси азота. Доктор Беддо тщательно следил за состоянием здоровья экспериментатора. Все мельчайшие отклонения тщательно анализировали и заносили в журнал опытов. На страницах журнала появлялись такие записи: ♦Наблюдается необычное возбуждение», «появился беспричинный смех», «безудержный смех до изнурения», «беспорядочные телодвижения», «кратковременная потеря сознания...»
— Незнакомые картины и образы проплывали предо мной,— рассказывал Дэви вечером миссис Беддо после случившегося в лаборатории.
В этот вечер в салоне Анны Беддо были гости. Молва о том, что произошло с Гемфри, пронеслась по Клифтону. И герой дня должен был рассказать обо всем сам.
— Это было состояние восторженного вдохновения,— продолжал Дэви,— мои эмоции были возвышены энтузиазмом, в течение одной минуты я прогуливался по комнате совершенно безразличный ко всему, что мне говорили. Придя в себя, я почувствовал желание поскорее поведать всем мое открытие, сделанное во время опыта. Я совершил усилие, чтобы собрать мысли, но они были слабы и неточны...
Слушатели молча сидели, зачарованные фантастической картиной, которую рисовал перед ними Гемфри. Тишину нарушил голос доктора Томаса Беддо:
— Я убежден, что наш дорогой друг совершил научный эксперимент, который войдет в историю химии. И теперь нет сомнения: Дэви подарил медицине чудесное средство. Закисью азота будут лечить паралитиков...
Гемфри слушал речь увлекающегося Беддо и думал о будущих опытах, о новых экспериментах.
Случилось так, что во время серии опытов по вдыханию закиси азота у Гемфри прорезывался зуб мудрости. Зубная боль мешала ему работать. Дэви метался по лаборатории в поисках чего-либо такого, чтобы ослабить боль, и ничего не находил. Оставалось терпеть и заниматься делом.
Гемфри садится за лабораторный стол, берет в руки резиновую трубку, соединенную с резервуаром, где хранится закись азота, прислоняет маску к лицу и открывает кран. Вдох, еще вдох и еще раз вдох... И неожиданность! После нескольких глотков закиси азота прекратилась, оборвалась зубная боль. Что это, случайное совпадение? Неужели закись азота обладает обезболивающим действием? Надо проверить этот факт со всей строгостью, как того требует значимость вновь открытого факта.
Проходило сравнительно небольшое время, и зубная
194
боль вновь возвращалась. Дэви вдыхал закись азота, боль исчезала. Множество таких опытов окончательно убедило Гемфри в обезболивающем действии закиси азота. Так впервые в науке было открыто анестезирующее свойство закиси азота, используемое и в наше время в медицине.
С необычной быстротой сначала в Бристоле, затем в Лондоне и дальше по Европе разнеслась весть об удивительных экспериментах молодого химика из Клифтона: вдыхая закись азота, человек становился веселым.
Как это часто бывает с судьбой нового открытия, его значение на первых порах было сильно преувеличено.
В Клифтон началось паломничество, все хотели на себе испытать действие чудесного газа. Популярность двадцатидвух летнего Гемфри Дэви возрастала. Имя молодого ученого, нашедшего «жизненный эликсир», поймавшего неуловимую химеру средневековых алхимиков, стало известно не только в Англии, но и на континенте.
Дэви же прекрасно понимал всю скромность открытия и не придавал большого научного значения этим первым своим шагам в науке. Но он отдавал себе полный отчет в том, что «бум», поднятый во всем мире вокруг закиси азота, или, как ее назвали, веселящего газа, сыграет свою роль в его личной судьбе как ученого и судьбе Пневматического института.
Стояли чудесные дни ранней осени. Иногда ветер приносил в кабинет золотые листья. Чистый морской воздух насыщался ароматом листвы и цветов.
Гемфри стоял у широко раскрытого окна. Лучи солнца освещали его каштановые, вьющиеся волосы, загоревшее лицо и выразительные глаза. Он только что вернулся из лаборатории и, не зная, что предпринять, в нерешительности смотрел в окно. Ему уже надоела шумиха с веселящим газом. Каждый божий день сеансы по вдыханию газа для желающих. Не аудитория для чтения лекций, а театр-балаган. Высокопоставленные господа валят валом, и им не откажешь: на их пожертвования живет Пневматический институт. Надышатся газом — смех, гам, пугающие проявления чувств молодых дам и девушек к красавцу ученому. Все это выбивает из колеи научной работы. Барышни из богатых и аристократических фамилий Гемфри не интересуют. К великому горю, дама его сердца, которая действительно волнует его, прекрасная, очаровательная женщина, далека от него, как те миры, которые мерцают на ночном небосклоне. Это жена мистера Беддо!
195
В ней красота внешности прекрасно гармонирует с красотой ума и души. Благодаря Анне Беддо он принят в обществе выдающихся людей Англии. Поэты: Саути, Кольридж, Вордсворт, романисты: мисс Мария Эджуорт, Тобин-сы и многие другие литераторы страны — его близкие друзья. Как чудесно чувствует он себя среди этих замечательных людей! Нет, нельзя искренне не восхищаться Анной Беддо. Гемфри знает, как она относится к нему — уважение уже давно перешло в чувство живейшей симпатии и дружбы. Ее письма к нему составлены в выражениях, не оставляющих сомнений в том, что миссис Беддо симпатизирует и восхищается Дэви. Ее письма-сонеты говорят о тех же чувствах приязни, а быть может, и любви.
В свою очередь, письма Дэви к Анне Беддо также полны самых добрых и дружеских чувств. Работа в лаборатории не заглушила потребности Дэви выражать и свои мысли и чувства в поэтической форме.
На каком профессиональном уровне стояли поэтические опыты Гемфри Дэви? Его современники, известные поэты Англии, относились к ним со всей серьезностью, считали Дэви своим коллегой. Они утверждали, что если бы Гемфри не стал знаменитым ученым, он вошел бы в историю Англии видным поэтом.
В эти горячие дни суматохи и какого-то праздничного оживления в Пневматическом институте благодаря открытию особых свойств веселящего газа Гемфри получил письмо от Роберта Саути. В нем не только говорилось об успешных занятиях Дэви химией, в письме раскрывались различные стороны жизни Гемфри и его друзей. Неповторимый аромат далекой эпохи витает над этим письмом.
Датированное 4 мая 1799 года письмо Роберта Саути начинается разбором поэмы Гемфри Дэви «Горная бухта»:
♦...Ваша «Горная бухта», мой дорогой Дэви, разочаровала меня своей длиной. Оттого, что поэма хороша, я ждал еще большего. В ней есть известный подъем и взлет, выряженный в потоке белых стихов. Это похоже на эффект, производимый на чувства мощными звуками органа. То же я ощущал в ритмах Мильтона*, иногда Уакенсайда, наслаждение совершенно независимое от духа и смысла самой поэзии. Я думаю, что человек, который не понимает ни слова, даже и он получил бы удовольствие и эмоциональное воздействие, услышав такие строки, прочитанные голосом истинного поэта.
В Бристоле у вас было хорошее общество, но ни один человек из него не был ценителем поэзии. У доктора Беддо вкус только к чему-то весьма пессимистическому...
196
Дорогой Дэви, работайте изо всех сил... Мой дорогой человек, в окно, у которого я сижу, видны горы, разбившие свой лагерь, словно гиганты, поставившие свои шатры. И сколько света струится из гор. Дэви, мне до боли хочется, чтобы Вы были с нами. Вордсворт такой ленивый парень, что я не берусь что-либо обещать за него. В момент получения Вашего письма я писал ему...»
Далее Роберт Саути просит Дэви не отсылать издателям стихи, которые поэт оставил у него. Саути считает необходимым начать том своих произведений с поэмы «Братья», «...которую я читал Вам на Поуэл-стрит... Я верю, что вызвал к жизни спящего барда с могучим голосом. Он проснется и извлечет меч Органтира, который низвергнет волшебника Годиверса, сбросит его корону на землю...»
Саути идиллически рисует свою жизнь: «...мы пили чай вечером, накануне того дня, когда я уехал из Гразмира, на острове посредине прелестного озера. Наш чайник качался над костром, свисая с сосновой ветки, а я лежал и смотрел на леса, горы и озеро, по которому пробегала легкая рябь. Это была чудесная панорама — глубокое зеркало воды, просвечивающееся через дымок, поднимавшийся от чистых красных поленьев и сосновых шишек, которые мы подбрасывали в огонь. Потом мы сделали огромный костер, подкладывая в него охапки веток. Огонь неистовствовал, ветки вздыхали и изгибались под вздымающимся столбом дыма. Этот фантастический костер и мы, смеющиеся и танцующие вокруг него дикий танец, наши красные от отсветов пламени лица в сгустившихся вокруг лиловых сумерках — образ всего этого над тихим озером никогда не исчезнет из нашей памяти».
Письмо Саути, написанное в свойственном ему приподнятом романтическом стиле, характеризует близкие и дружеские отношения между поэтом и молодым химиком. Эти отношения между Дэви и Саути, между Дэви и другими выдающимися литераторами Англии продолжались многие годы.
Паломничество в Пневматический институт не прекращалось. Веселящий газ еще долгое время привлекал внимание публики. Стремление подышать веселящим газом чем-то напоминало пристрастие к наркотикам. Правда, особого вреда это небольшое опьянение закисью азота не приносило, и число лиц, которые могли его испытать, в общем, было не столь уж велико, тем не менее Дэви решил уменьшить демонстрации действия веселящего газа. Шум вокруг всего этого мешал научной работе.
Итоги исследований закиси азота Дэви резюмировал в
197
следующих словах: «Так как закись азота убивает боль, то она может быть с успехом использована при хирургических операциях с небольшим пролитием крови».
На протяжении жизни Гемфри Дэви закись азота в хирургической практике не применялась. Еще не пришло время для ее использования. Только лишь через сорок четыре года американский зубной врач Гораций Уэлз продемонстрировал болеутоляющие свойства закиси азота при удалении зубов.
Общий наркоз при обширных хирургических вмешательствах впервые начал осуществляться при помощи хлороформа и эфира.
Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов первым среди хирургов применил эфирный наркоз в полевых условиях на войне, оперируя раненых.
Хлороформ и эфир оказались более надежными, но и опасными анестезирующими веществами, применявшимися в хирургии. И только в наше время закись азота — веселящий газ находит широкое применение в современной хирургии и в других областях медицины.
В операционных наших дней, в этих прекрасно оснащенных всеми могучими средствами современной науки и техники храмах медицины, хирурги все чаще применяют закись азота. Больной спокойно засыпает, а после операции его пробуждение не будет сопровождаться осложнениями, которые часто подстерегали больных после эфирного и хлороформного наркозов. И пусть люди, те, кто оперировал, и те, которых оперировали, добром вспомнят имя Гемфри Дэви, молодого химика из Клифтона, первым изучившего чудесные свойства закиси азота — веселящего газа.
В результате исследований действия закиси азота на человека и животных Дэви написал капитальный труд в 580 страниц и опубликовал его в январе 1800 года.
Так Гемфри отметил начало нового, девятнадцатого столетия.
ЖИВИ В ОПАСНОСТИ!
Изучение влияния различных газов на организм человека продолжалось. На очереди было исследование действия водорода.
Ассистент подал Дэви трубку, и струя водорода потекла в рот Гемфри. В первый момент вдыхание этого газа эффекта не произвело, но через тридцать секунд Дэви стало трудно дышать. Беддо распорядился прекратить подачу
198
водород?, но Гемфри условным знаком потребовал продолжения опыта. Действие газа усиливалось. Щеки Дэви стали пурпурными, сердце ускоренно билось, пульс еле прощупывался. Еще несколько глотков водорода, и эксперимент мог закончиться катастрофой. Беддо бросился к Гемфри и сам вырвал трубку, ведущую к аппарату, выделяющему водород.
Жизнь Дэви каждый день висела на волоске, но опыты продолжались. Вдыхание азота, смешанного с небольшим количеством углекислоты, также вызвало симптомы тяжелого отравления.
Очередные эксперименты велись со светильным газом (метаном), заведомо ядовитым веществом.
Первая порция метана сделала пульс нитевидным, почти неощутимым, мускулы всего тела казались парализованными. Вторая порция газа лишила Дэви способности ощущать внешний мир. Третья порция привела его в бессознательное состояние, рука не смогла подняться, чтобы перекрыть доступ газа. И опять жизнь или смерть — решали секунды. Ассистенту посчастливилось вовремя закрыть вентиль, прекратить опыт. К Гемфри постепенно возвращалось сознание, и он прошептал слабым голосом:
— Я не думаю умирать!
Дэви, очевидно, не знал, насколько близко к гибели он был во время этого эксперимента с вдыханием метана. После этого опыта с ядовитым газом он тяжело болел. Работа в лаборатории была временно прервана.
Особым здоровьем Гемфри никогда не отличался. Опыты с вдыханием газов в немалой степени способствовали преждевременному разрушению его организма.
Наряду с изучением физиологического действия закиси азота Дэви исследовал и другие соединения этого химического элемента. За десять месяцев 1800 года он собрал много новых фактов — определил состав азотной кислоты, окиси азота, двуокиси азота и аммиака. Изучая состав воздуха, Дэви раньше многих других химиков определил, что главные составные части воздуха — это азот и кислород.
В результате этих работ Дэви в Клифтоне были исследованы важнейшие соединения азота, кислорода и водорода. Но программа работ Дэви в Пневматическом институте была ^значительно шире, чем только изучение газов. Еще весной 1799 года в плане очередных экспериментов он наметил разложение соляной, борной и плавиковой кислот. История повторилась. У аптекаря Борлаза Гемфри вышел из рамок медицины и фармакологии. У Беддо в Пневматическом институте ему было мало изучать только газы, масштабы ис
199
следований расширились — Дэви вторгся в новые области химии.
В ноябре 1800 года Гемфри написал пространное письмо своей матери в Пензанс. В нем раскрываются большие и малые заботы молодого ученого, его внутренний мир.
«Дорогая мама!
Если бы я мог подумать, что шестинедельное мое молчание принесет Вам хотя бы малейшее огорчение, я бы уже давно написал. Я слишком увлекся своей любимой работой, экспериментированием, и, кроме этого, должен был развлекать двух друзей, посетивших институт. Один из них наш бывший жилец Грегори Уатт, который Вам кланяется, о другом я Вам уже говорил. Его имя Томсон ♦, и бог дал ему душу, поднимающую его над обычной сутолокой этого мира.
Благодарю за Ваши подарки, я их все получил, и они мне пригодились. Много раз, когда я ужинал прекрасными маринованными сардинками, я вспоминал про тихие вечера в маленькой гостиной, где, сидя против Вас за столом, мы разговаривали о неизвестном будущем. Как мало я тогда предугадывал мое нынешнее положение и взаимоотношения с миром. Тогда я не думал, что покину родные места на такой долгий срок, что буду испытывать столь бурное желание опять их посетить. Я с радостью встречу приближение времени, когда смогу снова увидеть свой родной дом и отплатить благодарностью Вам, моим теткам и доктору Тонкину. Мой следующий визит не будет таким коротким, как предыдущий. Я прогощу у Вас два или три месяца. Вы сдали в наем половину своего дома. Осталась ли у Вас спальня и маленькая комната для лаборатории? Которую половину Вы сдали? Когда я приеду в Пензанс, мы решим все относительно Джона*. Я хочу, чтобы он изучал французский язык и латынь у мистера Дюгара. Расход этот я охотно беру на себя. Ни за что не помещайте его к Гаритону. Я уже давно достал краски и, если в течение недели не будет судна, отправлю их на лошадях. Я напишу Китти в следующем месяце. Очень рад, что Грейс поправляется, передайте ей мой поклон. Передайте, пожалуйста, мистеру Борлазу, что книгу ему я постараюсь найти в Лондоне.
Все развивается прекрасно. Мое здоровье чудесно. Я очень хочу знать все о Вас. Вы можете писать о сотнях интересующих меня вещей, а не только о себе. Поклонитесь от меня всем моим друзьям, в особенности доктору Тонкину, моим теткам и дядям. Передайте мою любовь Китти, Грейс, Бетти и Джону.
Прощайте, дорогая мама.
Ваш любящий сын Гемфри Дэви*.
200
Дэви часто встречался с поэтами «Озерной школы».
В письме подкупающая искренность, любовь к своей семье и родине, забота о младших сестрах и брате, о матери— во всем этом черты характера Гемфри Дэви, не только выдающегося ученого, но и чуткого человека с разнообразными интересами.
Гемфри очень любил природу. В Пензансе и здесь, в Клифтоне, он много времени проводил на реке, ловил рыбу, бродил по живописным холмам близ Бристоля.
По-прежнему Дэви увлекался стихами и часто встречался с поэтами «Озерной школы», своими друзьями Саути, Кольриджем и Вордсвортом.
Один из английских биографов Дэви — Гроузер — безжалостно писал о поэтических опытах Дэви:
«Стихи эти представляют скорее физиологический интерес, чем поэтический...»
Поэты, современники Дэви, относились к его поэзии более благосклонно.
♦ * *
...Как оживить, сделать зримым время, когда Гемфри Дэви, верный своему девизу: «Живи в опасности!», совершал рискованные эксперименты с газами? Писать исторический трактат о положении Англии в конце XVIII века, накануне нового, XIX столетия? Это не в характере биографического повествования. Тогда, быть может, из различных сторон общественной жизни Англии того времени выложить мозаичную картину, и она даст общее представление об эпохе, в которой жил наш герой?
Итак, общественная жизнь.
В Бирмингеме, где жили близкие друзья Дэви, якобы найдены три тысячи кинжалов. В городе паника: революция угрожает Англии. В парламенте — палате общин — реакционер Берк вопит о каких-то «черных сердцах», угрожающих королевству. Как провинциальный трагик — с закатыванием глаз, утробным голосом — он разыгрывает ♦сцены с кинжалами». Трагик успеха не снискал, но в палате общин обсуждается акт об изменнических действиях, имеющий целью оборвать все связи с бунтовщиками французами. Создается шпионская организация по подслушиванию разговоров в общественных местах... Приостановлено действие закона о неприкосновенности личности, людей хватают за «измену королю и церкви».
Война с революционной Францией требует огромных средств, вводятся новые и новые налоги. Во многих городах страны вспыхивают голодные бунты.
202
Один современник пишет: «Ужасно было видеть, с какой голодной жадностью матери уносили зерно в своих передниках, чтобы накормить ребятишек».
Отчаявшиеся люди громят мясные лавки, амбары...
Изголодавшихся людей хватали на улицах городов, в лачугах, и заключали в тюрьмы. Английские тюрьмы называли бесчестием для цивилизации. Тюремный тиф уносил больше жертв, чем палачи. Сотни и тысячи несчастных в оковах томились в подземельях, лишенные света, воздуха, воды и часто пищи. Суд был долгий и несправедливый. Невинные годами содержались в заключении в ожидании суда. Осужденные, избегшие виселицы, продавались в рабство. Цена белого раба равнялась двадцати фунтам стерлингов...
...Дороги в Англии в эту эпоху были в ужасном состоянии. Одну из них Артур Юнг описывает так: «Выбоины в четыре фута (более метра) глубины; тонул в грязи летом во время дождей». На узких проселочных дорогах повозки так глубоко погружались в грязь, что для их извлечения требовалось тридцать или сорок лошадей.
В Корнуолле и в большинстве других графств зимой дороги были большей частью непроезжими ни для кого, кроме всадника на доброй лошади.
Что сказать о медицинском обслуживании в Англии в списываемую эпоху?
Служители бога здоровья Эскулапа в этой стране делились на две касты. Высшая каста — собственно медики, пользовавшиеся всеми привилегиями. Низшая каста — хирурги и цирюльники. И совсем уж париями были аптекари. Научной медицины как таковой не было. Хирурги не имели возможности изучать анатомию человека на трупах: действовали всяческие запреты на вскрытие умерших. Свирепствовали эпидемии оспы и других острозаразных болезней — чумы, холеры, чахотки. Вакцинация против оспы по методу Дженнера — врача из Беркли в графстве Глочестер-шире — была признана лишь в 1796 году...
В сельском хозяйстве страны шел неумолимый процесс огораживания — уничтожались пустоши, разделялись общинные поля, и как следствие из этого постепенно исчезал мелкий земледелец, превращался в батрака, наемного рабочего. Оставались богатые землевладельцы — лендлорды и фермеры.
Паровая машина Уатта совершала триумфальное шествие по стране, она становилась главным двигателем во всех отраслях промышленности...
В 1802 году в одном из районов Лондона впервые был применен газ для уличного освещения. Еще через год газо
203
вое освещение появилось на многих фабриках и заводах. Когда газ впервые подали для освещения палаты общин в Вестминстерском дворце, члены палаты с большой осторожностью дотрагивались до труб и удивлялись тому, что они холодные — газ долго считали огнем...
Промышленная революция охватывала одну отрасль промышленности за другой. Особенно большие изменения претерпело производство тканей. В этой области техники было больше рабочих, чем в любой другой. Преобладал ручной труд.
И вот грянул гром: в 1784 году Эдмунд Картрайт ♦ изобрел механический ткацкий станок, а в 1789 году он же взял патент на чесальную машину для шерсти — «Большой Бен». Появились машины и в прядильном деле. Таким образом, механизация охватила всю текстильную промышленность, и ее следствием стала массовая безработица среди текстильщиков, разорение хозяев мелких и мельчайших мастерских. Голод стучал в лачуги ткачей, прядильщиков, чесальщиков.
Изобретение машин в ткацкой промышленности привело к волнениям рабочих. В палату общин было внесено предложение о запрещении пользования машинами.
Разумеется, это предложение было отвергнуто...
Изменилась мода в английских городах. Исчезли напудренные парики, мужчины и женщины стали носить свои природные волосы. Обычный зонтик заменил палку с набалдашником, и джентльмены могли теперь ходить по улицам, не боясь дождя. Короткие брюки до колен уступили место панталонам, застегивавшимся пуговицами на средине икр, до которых доходили так называемые гессенские сапоги. К концу века брюки уже снизились до щиколоток. Лишь при дворе Георга III еще носили короткие брюки с пряжками — там царствовали старые порядки.
Излюбленными цветами одежды стали голубой, земляничный и темно-оливковый. Жилеты делали из белого шелка с богатой вышивкой. Вместо треуголок появились высокие шляпы в форме сахарной головы, с маленькими полями. Для полноты картины франты носили стеклышко в глазу — монокли или лорнетку.
Теперь читатель может себе представить, как одевался Гемфри Дэви, который ко всему, что касалось моды, относился весьма внимательно.
Естественно, что в буржуазном обществе мода интересовала лишь состоятельных людей — аристократов, представителей среднего сословия — буржуа. В столице Англии Лондоне на Бонд-стрит, Оксфорд-стрит, Пикадилли или в Сити фланировали богатые бездельники. И в том же Лондо
204
не ежедневно «50 тысяч человек, просыпаясь утром, не знали, где они проведут следующую ночь. Счастливейшие из них, которым удавалось приберечь до вечера пару пенсов, отправлялись в один из так называемых ночлежных домов, которых было множество во всех больших городах, и за свои деньги находили там приют, крышу над головой...»
В 1793 году острый нож гильотины прервал жизнь короля Франции Людовика XVI. Одним тираном в Европе стало меньше. Французская революция нашла сильнейший отзвук в разорванных и раздробленных феодалами провинциях Италии.
Начало XIX века совпало с бурными событиями не только в политической жизни Европы, возвышением Наполеона Бонапарта, но и в области науки.
С берегов Средиземного моря дошли сведения о новых открытиях ученых Луиджи Гальвани и Алессандро Вольта. Появился не известный еще никому источник электрической энергии. В жизнь входила новая могучая сила.
♦ЖИВОТНОЕ» ИЛИ ♦МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ» ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
На южном склоне Альп, обращенном к Италии, в чудесной долине Длинного озера, дремлет небольшой городок Комо. Горы покрыты садами, оливковыми рощами, дубовыми и каштановыми лесами.
Комо существует десятки столетий. В эпоху римского могущества его называли Комум, через город проходила дорога в варварские страны Средней Европы. Здесь в семье уважаемого гражданина Вольта в 1745 году родился сын Алессандро.
Когда Алессандро минули восемнадцать лет и наступила пора умственной зрелости, он увлекся опытами по электричеству. Он имел дело с так называемой электрической машиной. Стеклянный диск, вращаясь, терся о кожаные подушки, а возникающие при этом заряды статического электричества отводились по металлическим проволокам.
Незадолго до этого герой освобождения американских колоний от английского владычества Бенджамин Франклин производил удивительные и крайне опасные опыты. Он, образно говоря, «накинул узду на молнию». По намоченному дождем шнурку от воздушного змея молния устремлялась... в лейденскую банку* Покоритель молний указал на общую природу атмосферного электричества и электриче
205
ского заряда, полученного от электрической машины, с которой возился Вольта.
Другой замечательный ученый — Георг Рихман, человек безграничной отваги, в далекой России также изучал молнии, их природу и поплатился за свою дерзость жизнью. Это был истинный герой и мученик науки.
Но вернемся к Алессандро Вольта. Новые открытия в области электрических явлений надолго привлекли к себе внимание итальянского юноши. Вольта стал изучать электрические чудеса. В описываемое время опыты с электричеством не имели научной основы, это был период накопления еще неизвестных фактов. Работы Вольта начали приобретать известность сначала в Италии, а затем и в других странах Европы. Старинный университет итальянского города Павия, где работал Алессандро Вольта, заслуженно гордился молодым профессором.
В другом итальянском городе, Болонье, в 1788 году торжественно отпраздновали семисотлетие университета. Ученые многих стран Европы приехали на торжества в честь знаменитого учебного заведения, одного из старейших в мире. Съезд ученых во время пожара войны, охватившего весь континент, был сам по себе показателем огромного уважения к городу Болонье и ее университету. Этот университет имел свои стародавние славные традиции. Ряд столетий он управлялся исключительно студентами. Совет студентов выбирал профессуру, вел административные дела и руководил всей университетской жизнью. Почти с самого основания университета (в 1088 году) женщины имели полное право быть в числе его студентов и профессоров. На фоне средневекового мракобесия это явление было уникальным.
Не удивительно поэтому, что университет в Болонье вызывал к себе любовь передовых людей и ненависть реакционеров. В числе юбиляров был также профессор анатомии и физиологии Луиджи Гальвани. Имя его, вероятно, кануло бы в вечность вместе с другими скромными и трудолюбивыми профессорами университета, не особенно возвышавшимися над средним уровнем науки своего времени. Но Гальвани была предуготована другая судьба.
Однажды Гальвани готовился к очередной лекции по анатомии на тему: «Сокращение мышечных волокон». Шум голосов студентов из аудитории напоминал рев толпы во время боя быков. Пора было начинать лекцию.
Пока Гальвани и его ассистент препарировали лягушку для демонстрации опытов во время лекции, студенты раз-
206
Елекались. Высокий рыжий детина, взобравшись на стул, дирижировал импровизированным хором. Низким басом он выводил весьма неблагозвучные рулады. Содержание песни было несложным. Папа римский отпускал грехи провинившемуся студенту, вина которого заключалась в краже яиц с фермы доброго католика. Студент, ссылаясь на бедственное, полуголодное существование землячества, оправдывал свой поступок тем, что трудился для общего блага. Роль папы играл рыжий дирижер, студента изображала вся шумная компания.
На столе возле кафедры профессора лежала уже отпрепарированная лягушка. Тут же на столе стояла небольшая электрическая машина. Подготовка к лекции закончилась, и Гальвани бегло просматривал конспект. Первый ассистент почтительно ожидал распоряжения о начале лекции и от нечего делать машинально вертел ручку стеклянного диска электрической машины. Искра, как обычно, пробегала между шаровидными полюсами машины. Второй ассистент взял пинцет и, решив расправить лягушачьи ножки, случайно прикоснулся кончиком пинцета к толстым бедренным нервам лягушки.
И вдруг неожиданно для всех, когда пинцет притронулся к нерву, ножки лягушки начали сокращаться, подпрыгивать, как будто это была сильная судорога у живой лягушки.
Этот неожиданный танец лягушонка видел ассистент, вертевший ручку электрической машины. Он уверял своего коллегу, что сокращение мускулов ножки лягушки происходит каждый раз, когда возникает искра между полюсами электрической машины и одновременно с этим пинцет ассистента касается бедренного нерва лягушки.
Проверили раз и еще раз полученный результат—искра, пинцет, нерв, судорога ножки — все подтвердилось. Стоявший у стола Гальвани также хорошо видел это явление. Но нужно было начинать лекцию...
Гальвани в этот день читал лекцию с необычным подъемом. Он с большим воодушевлением втолковывал сразу притихшим и впавшим в привычную лекционную апатию студентам о наличии в живых существах особой жизненной и божественной силы, которая отличает весь живой мир от мертвой природы. Ни студенты, ни профессор не имели никакого понятия о том, что же это такое— «жизненная сила», как ее себе предметно представить. Сколько таких лжетеорий, относившихся скорее к фантастике, чем к науке, провозглашали с кафедры серьезные и умудренные опытом профессора.
207
Покончив с «жизненной силой», сейчас же после лекции чрезвычайно заинтересовавшийся танцами лягушки Гальвани повторил случайные наблюдения своих ассистентов. Ножка лягушонка судорожно двигалась, как только пинцет прикасался к оголенному нерву, а между полюсами машины пробегала искра.
Вот собственная запись Гальвани об этом историческом опыте:
«...У меня явилось до невероятности страстное желание проверить это явление и выяснить, что за ним скрывается. Я сам поэтому прикоснулся кончиком ножа сначала к одному, затем к другому нерву, и в этот же момент один из присутствующих вызвал электрическую искру... Несомненные, сильные сокращения охватывали отдельные мышцы в тот самый момент, когда появлялась искра...»
Было ли явление, открытое Гальвани и его учениками, знакомо другим ученым? Что электрические разряды вызывают сокращение мышц, было известно и до Гальвани. Но Гальвани не обладал столь обширными познаниями, которые могли бы объяснить ему сущность наблюдаемых им явлений. Будучи истинным исследователем, упорным в поисках ответа на запутанные проблемы науки, он пытался различными средствами всячески видоизменять условия опытов, досконально изучать действие электричества на организм. В частности, его занимал вопрос о действии атмосферного электричества на животных.
В бездонной синеве итальянского неба плыли белоснежные кучевые облака. Солнце щедро освещало и грело пеструю и шумную Болонью. Неожиданно набегали темные тучи, и столь редкий в этих местах ливень проливался на истосковавшуюся по влаге землю. Воздух наполнялся чудесным запахом цветов.
В результате появления атмосферного послегрозового электричества в воздухе ощущался живительный озон.
На балкон изящного старинного здания вышел профессор Гальвани. Воспользовавшись только что отшумевшей грозой, он захотел проверить, сможет ли атмосферное электричество оказать на ножки лягушек то же действие, что и искра электрической машины.
Лицо ученого, сосредоточенное и почти угрюмое, выражало внутреннее волнение. В руках у Гальвани медные крючья, на которых подвешены препарированные лягушачьи ножки. Профессор поднес подвешенную на медном крючке ножку к железной балюстраде своего балкона.
208
Медь прикоснулась к железу, и мгновенно сократившиеся мускулы заставили смешно подпрыгнуть ножки лягушки.
Гальвани удовлетворенно улыбнулся — еще один опыт подтвердил его идею о животном электричестве. Внизу у балкона собралась толпа, с удивлением наблюдавшая за танцами лягушек на профессорском балконе.
— Профессор Гальвани решил разорить владельца кукольного театра сеньора Нучито: наш старый университет, видимо, не в силах содержать своих ученых! — Важный господин в черном бархатном жилете, выдавивший из своих уст эту тираду, презрительно усмехнулся и двинулся дальше вдоль улицы.
Толпа смеялась, глядя на забавное зрелище. Дети кричали профессору:
— Сеньор Луиджи, бросьте бедным бамбино пару лягушиных ножек! Мы тоже попробуем устроить танцы. Сеньор Луиджи, киньте нам лягушек, ведь у вас их так много!— Ребятишки звонко смеялись вместе со взрослыми...
Профессор Гальвани, поглощенный своими раздумьями над только что проведенными наблюдениями, не слышал выкриков толпы, собравшейся на мостовой под его балконом.
Закончив опыты, он удалился с балкона. Карабинер разгонял публику — времена были неспокойные, и городские власти не рекомендовали темпераментным обывателям слишком бурно выражать свои чувства.
Гальвани был осторожен в опубликовании каких-либо выводов из произведенных им многочисленных экспериментов. Он ярый противник поспешных научных теорий. Какое-то отношение к открытым фактам у него, конечно, есть. «Но как легко мы сами вводим себя в заблуждение своими опытами: мы слишком часто видим и находим именно то, что мы хотим видеть и находить»,— говорит Гальвани и решает продолжить наблюдения в новых вариантах.
На этот раз Гальвани возобновил свои опыты в лаборатории. Он держал препарированную лягушку подвешенной на металлическом крючке так, чтобы лапки животного касались серебряной чашки, другой рукой он дотрагивался металлической палочкой до чашки.
На эти манипуляции ножки лягушки отвечали сильными сокращениями. И всегда эти сокращения почему-то были более сильными, когда проводящая цепь между нервами и мышцами лягушки состояла из разных металлов.
После многих и многих серий опытов, совершавшихся на протяжении ряда лет, Гальвани решился наконец опубликовать свою теорию.
209
В 1791 году написанная по-латыни статья Гальвани увидела свет. Это была теория гальванизма. Статья была помещена в седьмом томе научных сочинений академии в Болонье. Опыты Гальвани на лягушках повторялись везде. Бедные земноводные стали «мученицами науки».
Выводы Гальвани везде подтверждались; Тайна жизни, казалось, найдена в электрических явлениях.
Теория «животного электричества», ее сущность состояла, как думал Гальвани, в том, что в теле животных организмов развивается электричество. Согласно теории, каждое мышечное волокно в отдельности представляет элементарную лейденскую банку, внутренняя обкладка которой образуется из нервоподобного волокна, служащего проводником электричества. Мозг, по теории Гальвани, обладает способностью направлять в мышцу «электрическую жидкость» и вызывать электрический эффект.
Легко нам с вершины второй половины XX века говорить о наивном и полуфантастическом характере теории Гальвани, но для своего времени, как, впрочем, и для всего развития науки, он сделал один из самых трудных первых шагов: он был у истоков учения об электричестве.
Алессандро Вольта на первых порах своей научной деятельности принимал теорию гальванического электричества. Но, повторяя опыты с лягушками своего знаменитого соотечественника, Вольта стал сомневаться в правильности научных выводов Гальвани.
Вольта напряженно работал над изучением гальванических явлений. В процессе своих исследований он постоянно обращал внимание на одно, казалось бы, маловажное обстоятельство. Гальвани в опытах с лягушками всегда пользовался крючьями или другими проводниками из двух различных металлов. При этих условиях опыта лягушачьи ножки отчаянно дергались.
Но когда Вольта при тех же условиях опыта брал проводники из одного и того же металла, скажем железа, и притрагивался ими к нерву и мышце лягушачьей ножки, никакого подергивания не наблюдалось.
Ухватившись за этот факт, Вольта стремительно двинулся дальше. К изумлению своих учеников, Вольта приступил к чрезвычайно странным опытам. Однажды он попросил ассистента помочь ему проверить некоторые испробованные уже на себе эксперименты. Он усадил ассистента на стул и через минуту вернулся с двумя металлическими пластинками.
— А теперь, дорогой коллега, произведем маленький опыт. Пожалуйста, закройте глаза и высуньте язык.
210
Ассистенту показалось, что он ослышался, и с непонимающим видом продолжал смотреть на патрона.
_____ Простите, сеньор профессор, я сегодня немного рассеян, что мне нужно сделать?
Вольта еще раз спокойно, без раздражения сказал:
_____ Высуньте язык и плотно прикройте веки. Не бойтесь, мой друг, ничего плохого я вам не причиню.
Вольта притронулся к языку ассистента одной из двух плотно сжатых металлических пластинок.
— Что вы чувствуете?—спросил Вольта.
— Кислый вкус. Мне показалось, что капля сока, выдавленная из лимона, попала на мой язык.
— А теперь?—Профессор коснулся языка другой пластинкой.
— Вкус питьевой соды, профессор.
— Чудесно, мой друг! Я очень доволен вашими успехами в науке.
Вольта радостно пожал руку своему обескураженному помощнику.
Минуло несколько дней. Вольта снова пригласил ассистента участвовать в странных для физической лаборатории опытах. На этот раз профессор был не в духе и порывисто пересекал лабораторию большими шагами из угла в угол.
— Пройдите в кабинет и возьмите там серебряную ложку!— на ходу строго приказал он ассистенту.
Ложка была немедленно доставлена.
Привыкший к причудам профессора, ассистент аккуратно выполнил и другие мелкие распоряжения.
И снова ассистент усажен на стул. Вольта приблизился к нему.
— Прошу вас соблюдать полное спокойствие, мы произведем абсолютно безопасный опыт. Возьмите в рот серебряную ложку, а эту оловянную пластинку приложите к глазному яблоку... Хорошо. А теперь я соединяю проволокой ложку и пластинку.
В этот момент ассистент непроизвольно откинулся назад.
— Профессор, мне показалось, что яркий луч солнца осветил мой глаз.
Так повторялось многократно. Каждый раз, как только серебряная ложка, торчавшая изо рта, и оловянная пластинка замыкались проволокой, слезящийся глаз ассистента как бы озарялся лучом света.
— Превосходно, мой друг. Теперь мы сможем дать достойный ответ профессору Луиджи Гальвани. Лучший способ проявления любви к учителю — это новый шаг вперед по дороге к истине.
211
Вольта в порыве чувств обнял своего ассистента. Затем, словно обращаясь к воображаемой аудитории, произнес:
— В результате соприкосновения двух разнородных металлов рождается элeктpичecтвoi Ножка лягушки, язык и глаз человека в этих случаях являются только весьма чувствительными указателями образования электричества. Нет «животного электричества», нет никакой особой жизненной силы, есть «металлическое электричество». При соединении металлы выступают не только в роли проводников, как в других случаях, но и истинными двигателями и возбудителями электричества, и именно в этом заключается открытие величайшей важности.
Вольта хорошо понял, что полученные им факты и их интерпретация имеют первостепенное значение. Он отнюдь не преувеличивал значения своего открытия. Да, это было открытие величайшей важности.
Ученый мир не сразу признал теорию Вольта. Возникли два враждующих лагеря ученых. Одни соглашались с Гальвани и признавали «животное электричество»—это были главным образом немецкие ученые. Английские исследователи в большинстве были приверженцами Вольта, признавая единое происхождение электричества металлического и других электрических явлений.
Накал борьбы двух направлений в науке об электричестве достиг своей вершины, когда неожиданно в 1798 году умер Гальвани, а еще через год произошло событие, на истории которого стоит задержаться. Оно приведет читателя после долгого экскурса в историю гальванизма снова к герою нашего повествования Гемфри Дэви.
Итак, наконец наступил последний в XVIII веке 1799 год.
В научной работе Алессандро Вольта в этом последнем году столетия наступила как будто пауза. Не появлялись в печати его новые работы. Но Вольта не отдыхал: происходил напряженный, невидимый для чужих глаз процесс осмысливания всего, что накопилось в науке об электричестве.
Вольта непрерывно думал над тем, как увеличить те буквально микроскопические количества электричества, которые он получал при известных уже читателю опытах соединения разнородных металлов. Вольта искал пути, которые увеличили бы ничтожное электрическое напряжение пары металлов.
Серьезно говорить о «металлическом электричестве», имея в своем научном багаже опыты с такими сверхчувствительными электроскопами, какими были в опытах Воль
212
та глаз и язык человека, а у Гальвани — ножка лягушки, было очень трудно. Об этом писал сам Вольта: «Существуют, однако, еще люди, на которых такие опыты производят больше впечатления, когда знаки полученного электричества довольно велики, когда электрометр показывает много градусов... Хотели бы они даже увидеть искру... Нужно еще удовлетворить и этих людей».
Идея Вольта свелась к тому, что он расположил в определенный ряд три различных соприкасающихся между собой проводника электричества и эту триаду многократно повторил так, что достигнутое напряжение представляло собой сумму всех отдельных напряжений.
Гениальность Вольта проявилась в том, что он предвидел еще никем не придуманный и тем более экспериментально не осуществленный принцип сложения напряжений.
Как это выглядело на практике? Вольта дал две системы прибора, позже получившего его имя — вольтова столба. В первом варианте столб состоял из последовательно накладывавшихся друг на друга пластин цинка, серебра и влажного картона. От верхней — начальной и нижней — конечной пары цинка и серебра отходила проволока. Соприкосновение верхней и нижней проволоки рождало искру или сопровождалось накаливанием. Развивалось электричество тем более сильное, чем больше было в столбе триад — цинк, серебро, влажный картон.
Второй вариант отличался от первого лишь иным техническим оформлением, сущность же оставалась одна и та же.
Доказательством процессов, происходящих в столбе, служили, кроме искры, более или менее сильные удары, ощущавшиеся людьми, включавшимися в электрическую цепь. Чтобы усилить действие столба, картонные или кожаные кружочки, следовавшие после пары металлов, смачивались щелочным или кислотным раствором.
Слава изобретателя первого в истории науки по тем временам мощного прибора, рождавшего электричество, была не менее ослепительной, чем самая мощная искра вольтова столба. Газеты были полны отчетами о чудесах, производимых вольтовым столбом. Эксперименты Вольта повторялись всюду.
Наполеон Бонапарт, ревностно создававший себе репутацию покровителя наук, учредил большую премию за исследования в области вольтова электричества.
213
Первым эту премию на торжественном заседании Академии наук в Париже получил Алессандро Вольта. Он прочитал доклад о своих исследованиях и сошел с трибуны под гром оваций.
Биограф Вольта, знаменитый французский математик Араго, писал о триумфе великого итальянца:
«Столб, составленный из кружков медного, цинкового и влажного суконного. Чего можно ожидать наперед от такой комбинации? Но этот столб из разнородных металлов, разделенных небольшим количеством жидкости, составляет снаряд, чудесней которого никогда не изобретал человек, не исключая даже телескопа и паровой машины».
Развивая и критикуя взгляды Гальвани, Вольта подарил человечеству прибор, который дал сильнейший толчок развитию естествознания.
События развивались. 20 марта 1800 года Вольта в письме к президенту Лондонского королевского общества Джозефу Бенксу изложил свои довольно простые и, может быть, потому и гениальные взгляды на гальванизм и описание вольтова столба.
Бенке тут же рассказал об этом открытии Вольта своим ученым друзьям Никольсену и Карлейлю. Те, недолго мешкая, соорудили вольтов столб. Этот чудесный прибор мог бы собрать и школьник.
Испытывая все, что может сделать электрическая энергия вольтова столба, удачливые англичане однажды погрузили концы от противоположных пар металлических пластин в каплю воды. Подобные опыты случались и у самого Вольта, но он ничего примечательного в них не увидел. Карлейль и Никольсен, в отличие от Вольта, обратили самое пристальное внимание на выделение каких-то пузырьков газа каждый раз, когда концы проволок от столба погружались в каплю воды. Это было одно из первых великих деяний, которое произвел вольтов столб.
Никольсен и Карлейль, пользуясь вольтовым столбом, разложили воду на ее составные части — кислород и водород. Свою работу расторопные англичане успели опубликовать еще до того, как сам Вольта известил мир о своем изобретении. Так родилась новая наука — электрохимия. Никольсен и Карлейль достойно использовали открытие Вольта.
Вольтов столб уже начал свою изумительную работу в различных областях науки, а ученые мужи из академий судили и рядили о том, что такое «вольтаическое электричество» и есть ли оно вообще...
Надо отдать справедливость дотошным академикам:
214
они через год полностью подтвердили все основные положения Алессандро Вольта. Он доказал, что электричество, получаемое от вольтова столба, ничем не отличается от электричества, добываемого путем трения на электрической машине.
Как грибы после дождя, везде появляются вольтовы столбы.
В далеком и холодном Петербурге в 1802 году Василий Владимирович Петров, профессор и академик Петербургской академии наук, построил «огромную наипаче» батарею, состоявшую из 4200 медных и цинковых пластин.
В том же году Петров с помощью своей батареи обнаружил явление электрической дуги. Соединив с проводниками от двух полюсов батареи два кусочка древесного угля, Петров увидел ослепительно яркий огонь с короной расходящихся лучей. Это была первая в мире электрическая дуга Петрова, в пламени которой спустя многие десятки лет человечество начало плавить тысячи и миллионы тонн металла. Петров доказал своими исследованиями возможность практического применения электрической дуги для целей освещения и плавления металлов и заслуженно вошел в историю науки как первый в мире электротехник.
Вот какие события произошли в конце XVIII и на заре XIX веков.
События, которые во многом определили будущее Гемфри Дэви.
Открытия Гальвани и Вольта, исследования Никольсена и Карлейля стали известны любимцу бристольского общества, прошумевшего на всю Англию своими «газовыми атаками» в Пневматическом институте.
Популярность ученого, открывшего способ временного забвения, отключения людей от все увеличивающихся тревог жизни, дала ему доступ в круги так называемого высшего общества. Гемфри Дэви, выходцу из бедной семьи, недавно переместившемуся из медвежьего угла — Пензанса — в большой город Бристоль, льстило общение со снобами-аристократами.
Он, бедный юноша, своим трудом пробивающий тропу в джунглях современного общества, стоит (так казалось Дэви) на равной ноге с молодыми людьми английской элиты.
Его приглашают на званые вечера, он посещает кабачки для избранной публики, все меньше и меньше времени остается для работы в лаборатории. Чем все это кончится? Не уготована ли ему роль однодневки в науке?
Этого, к счастью, не произошло.
215
В письме к другу Гемфри писал об этом первом в его жизни серьезном испытании, о том, как он забрался в болото, имя которому «свет», и как выбрался из него:
«...Оглядываясь на пройденный путь с того времени, как я покинул мой дом, я не всегда вздрагивал при виде опасностей, которым подвергался. Я был в том возрасте, когда страсти наиболее могущественны. Когда безумие и честолюбие, не ограниченные опытом, властвуют над душой. В больших городах, этих притонах пороков и разврата, искушения наступают со всех сторон. Активный ум, глубокое идеальное чувство добра, надежда на будущее спасли меня... Я прошел сквозь опаснейший период своей жизни, совершив немного ошибок. Я провел этот период, работая на пользу человечеству...»
Первое известное в биографических источниках упоминание Дэви о крупных открытиях в области электрических, явлений относится к началу 1801 года. Но еще в сентябре предыдущего, 1800 года Гемфри основательно ознакомился со всем, что имело отношение к гальванизму и вольтову столбу. В октябре этого года в одном из своих писем он высказал предположение, что гальванизм и эффект вольтова столба — явления химического характера. Окисление металлических поверхностей в пластинах вольтова столба рождает электрический ток.
Дэви придавал новому направлению в изучение электричества очень большое значение. В письме к доброму и старому другу, доктору Тонкину, олицетворявшему собой родной Пензанс, Гемфри дал краткий отчет о своей жизни в Клифтоне, об исследованиях в Пневматическом институте, о последних событиях в Англии и в науке:
«Уважаемый сэр!
...Никогда еще общественные дела в Англии не были более запутанны, а надежды на мир и благополучие более слабыми, чем теперь. Апатия, царствующая в общественной жизни и морали, к счастью, не превалирует в медицине и физических науках. Сельское хозяйство как искусство никогда не изучалось так страстно, как сейчас. Естественные науки обогатились за последнее время многими любопытными открытиями, среди которых гальванизм — феномен, обещающий объяснить многие явления природы. В медицине прививка коровьей оспы занимает важнее место. Она применяется не только в Англии, но и во всем мире, и обещает окончательно ликвидировать черную оспу.
Мои открытия в области закиси азота, веселящего газа,
216
начинают привлекать всеобщий интерес. Эксперименты были успешно повторены профессором Эдинбургского университета, начавшим работать в том же направлении. Я получил письма с благодарностями и похвалами моей работе от крупнейших ученых Англии. Мне стыдно быть таким эгоистом, но я не могу говорить об успехах Пневматического института, не говоря о себе. Число наших пациентов все увеличивается, и институт, несмотря на политическую ненависть к его основателю, пользуется везде большим уважением, даже в коммерческом городе Бристоле. Я скоро пришлю Вам отчет об успехах в излечении самых упорных болезней новыми лекарствами. Закись азота оказалась весьма полезной в некоторых случаях паралича. Я искренне надеюсь, что Вы проживете эту зиму без возвращения Вашего недомогания.
Нигде погода не была лучше в апреле, чем та, которая стоит здесь сейчас, в январе. Кажется, что осень и весна сливаются в одно, не будучи разделены зимой. Я сейчас вполне здоров и счастлив.
Мне очень везет в экспериментах. Я обогащаю свои познания и одновременно работаю на всеобщую пользу. Цдин-ственное мое огорчение — это сознание того, что я удален от Вас, моих друзей и родных. Если бы я был ближе, я бы попытался быть Вам полезным, отплатить за все, что Вы сделали для меня, мой благодетель и друг.
Пока же я должен надеятьс! на будущее, чтобы сделать это.
Какое бы положение я ни занимал, я всегда буду помнить о своей благодарности Вам.
Остаюсь с искренним уважением и любовью
Гемфри Дэви».
Из письма Дэви видно, что его положение в Пневматическом институте было весьма прочным. Его популярность в Англии непрерывно росла, причем, нечего греха таить, росла эта популярность быстрее, чем его научные заслуги. Но надо отдать должное Гемфри: он обладал обостренным чувством нового в науке, тянулся к этому новому. Так было С учением о газах: Дэви сумел здесь составить себе имя. Та же удивительная чуткость молодого ученого к новому В науке, врожденная способность выделить из тысячи вновь открытых фактов самые важные и интересные проявились у Дэви и по отношению к открытиям Гальвани и Вольта.
За несколько месяцев 1800 года Дэви успел написать и
217
опубликовать ряд научных работ о гальванизме Ч Как мощным магнитом Дэви тянуло ко всему, что имело отношение к новым источникам электрической энергии.
Наблюдения Дэви над работой вольтова столба, удачные способы усиления его мощности имели теоретическое и практическое значение.
Вот некоторые из его наблюдений. Цинк не способен разлагать чистую воду, и если смочить цинковые пластинки химически чистой, без всяких примесей, водой, вольтов столб работать не будет. Почему? Если выкачать воздух из замкнутого пространства, в котором помещен вольтов столб — тот же результат: столб бездействует, электроэнергии не производит. Еще шаг — вольтов столб, погруженный в водород, не работает.
В кислороде все проходит наоборот: вольтов столб действует лучше, чем в обычном воздухе. Специалист по газам, Дэви досконально изучил влияние различных газообразных веществ на интенсивность работы вольтова столба. В одних газах электрической искры вообще не получалось, в других же, как, например, в кислороде, искра была значительно больше обычной. Все эти факты нужно было осмыслить и дать им научное объяснение.
Горячая, увлеченная работа Дэви над изучением электрических явлений продолжалась.
Особый интерес Дэви, естественно, вызвали работы Карлейля и Никольсена над разложением воды при помощи электричества. Ведь это был первый случай в истории науки, когда энергия электричества разложила сложное химическое вещество — воду. Первый случай, всего лишь первый... Тут есть над чем задуматься, намечая план своих научных исследований.
Повторяя и видоизменяя опыты Карлейля и Никольсена по разложению воды, Дэви обнаружил любопытный факт. Он соединял один полюс вольтова столба со стаканом, наполненным водой. В этот же стакан он погружал пальцы своей левой руки. Пальцы правой руки в это же время находились в другом стакане воды, не имевшем контакта с
1 «О некоторых экспериментах, проделанных с гальваническим аппаратом сеньора Вольта». Эта статья появилась в результате первого знакомства Дэви с вольтовым столбом.
«Дополнительные эксперименты с гальваническим электричеством».
«Заметки о некоторых наблюдениях над причинами гальванического феномена и о методах увеличения мощности вольтова столба».
«Отчет о дополнительных экспериментах и наблюдениях над гальваническим элементом».
«Заметки о гальванизме».
218
полюсами вольтова столба. И оказалось, что во втором стакане также происходило разложение воды на кислород и водород.
Так ДЬви установил важный факт: его тело, мускулы животных и знаменитые ножки лягушек Гальвани, стебли растений, листья, даже мокрые нитки являются проводниками электрического тока, но, разумеется, не в одинаковой степени.
Дэви не просто открыл еще никому не известные свойства некоторых тел проводить электрический ток, он не ограничился констатацией новых фактов в науке об электричестве. Этого для Дэви было мало...
В вольтовых столбах кружочки сукна, кожи и других материалов, которые отделяли друг от друга металлические пластины, смачивали обычной водой. Дэви же в результате своих исследований решил смачивать их кислотами различной концентрации. И нашел, что электрический удар наибольшей силы дает комбинация, в которой участвует азотная кислота. Вольтов столб, построенный Дэви, при меньшем количестве металлических кружков оказался мощнее других больших вольтовых столбов. Так шаг за шагом Дэви начал продвигаться в новой неизведанной для всех ученых мира, его современников, области электрических явлений. Это были первые и скромные успехи — начало славного пути, приведшего Дэви впоследствии в Английскую академию наук и поставившего его во главе научной мысли не только Великобритании, но и всей Европы.
ДЭВИ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ЛОНДОН
Судьба людей, их жизненный путь зависят от многих обстоятельств, больших и малых. Огромное влияние на жизнь отдельного человека оказывает политический и экономический характер общества.
Положение семьи в обществе, разделенном на богатых и бедных, во многом определяет воспитание и объем образования подрастающего поколения. Велико значение людей, которые сопровождали детство и юность человека. Все эти и другие причины, их взаимосвязь, столкновения определяют будущее человека.
На примере Гемфри Дэви хорошо видно, какую роль в формировании его характера сыграли чудесный Корнуолл, семья, доктор Тонкин, аптекарь Борлаз, Грегори Уатт, мистер Джильберт и, наконец, доктор Беддо. Целая галерея
219
индивидуальностей. Не будь их в начале жизни Дэви, вряд ли он стал бы ученым.
И вот Гемфри снова на перепутье жизненных дорог, и здесь не обошлось без участия человека, прозорливо увидевшего в клифтонском молодом химике нечто большее, чем он тогда был.
Кто же был человек, которого заинтересовал Гемфри Дэви?
Имя этого человека Бенджамин Томпсон. Американец английского происхождения, он во время войны за независимость английских колоний в Северной Америке перешел на сторону англичан, уехал в Англию и там приобрел состояние, женившись на богатой женщине. С 1784 года он жил в Баварии, где занимал пост военного министра. Здесь, в Баварии, он получил титул графа Румфорда. Под этим именем он и вошел в историю науки.
Работая в мюнхенском арсенале, Румфорд обратил внимание на выделение тепла при сверлении стволов пушек. Его размышления по поводу этого явления шли наперекор существовавшей тогда теории теплорода. Согласно этой теории, тепло — некий род материи. Румфорд так же, как и Дэви (один при сверлении пушек, другой при трении кусочков льда), сделал вывод, что тепло есть особый род движения. Эти воззрения Румфорда и Дэви через полвека привели к появлению кинетической теории тепла. Румфорд, без сомнения, был знаком с опубликованными в научной печати экспериментами Дэви с таянием льда при трении. Это сыграло свою роль при встрече Дэви и Румфорда.
В 1798 году граф Румфорд вернулся в Англию в роли баварского посланника. Еще до возвращения в Англию Румфорд предложил организовать «Общество для улучшения положения бедных», в составе которого была бы организация по широкому распространению новых изобретений. Граф был человеком весьма широких интересов.
В марте 1799 года в Лондоне по идее Румфорда было основано учреждение, которому оказал поддержку король, и поэтому оно получило название Королевского института.
Официальная программа института гласила:
«Создан для распространения научных знаний и содействия повсеместному введению полезных механических изобретений и улучшений, а также для доказательства посредством естественно-научных докладов и экспериментов возможности применения научных данных в повседневной жизни».
Технический переворот в Англии настойчиво требовал тесной связи промышленности с наукой. Фабрикам и заво
220
дам, получившим новые машины, требовались рабочие, умеющие работать на этих машинах. Эти квалифицированные рабочие должны были заменить своим трудом миллионную армию ремесленников, многие из которых лишались куска хлеба. Королевский институт и был призван в интересах растущего капиталистического общества вывести науку из тиши кабинетов и лабораторий, нести знания фабричным рабочим, разрабатывать научно-технические проблемы, имеющие практическое значение для промышленности.
В марте 1800 года в большом, специально построенном доме на Альбемарл-стрит в Лондоне был торжественно открыт Королевский институт. Первым президентом Королевского института стал видный английский ученый сэр Джозеф Бенке. Граф Румфорд был фактическим руководителем института. В помещении института находилась и его резиденция.
Дело было поставлено солидно. Видимо, участие в числе вкладчиков института короля обязывало, чтобы Королевский институт был учреждением первоклассным. Лаборатории, аудитории для чтения лекций, библиотека — все, вплоть до квартир сотрудникам, было предусмотрено с соответствующим размахом. Пригласили даже «хорошего повара».
Одним из первых в институте появился Томас Гарнетт — профессор химии. На Гарнетта была возложена и обязанность научного секретаря.
Гарнетт в институте не прижился. Здесь было недостаточно обладать серьезными научными знаниями, вести интересную экспериментальную работу. Одним из важнейших требований к профессорам института было наличие у них дара красноречия, умения увлечь широкую аудиторию эффектными опытами на публичных лекциях. Вызвать бурю аплодисментов* как в театре, привлечь лекциями внимание общественности, прессы. Скромный и немногословный Гарнетт этим требованиям не удовлетворял. Нужен был другой человек, и он вскоре нашелся — им оказался Гемфри Дэви. Граф Румфорд был хорошо наслышан о молодом чародее из Клифтона. Случилось так, что в Бристоль приехал из Шотландии профессор Эдинбургского университета доктор Хоп.
Дэви очень любил Шотландию и часто посещал ее. В более поздние годы приезды в страну Бёрнса были связаны еще с тем, что жена Гемфри происходила из Шотландии.
В Бристоле доктор Хоп познакомился с Дэви, и тот произвел на шотландского гостя самое лучшее впечатление. Хи
221
мик из Клифтона проявил подлинный энтузиазм по отношению ко всему, что было связано с наукой. Его знания химии были обширны и глубоки. Личное обаяние, остроумие и умение держать себя в обществе дополняло общий привлекательный образ нового знакомого Хопа.
Гость из Эдинбурга знал, что Королевский институт нуждается в молодых, талантливых лекторах, и тотчас же после знакомства с Дэви написал своему другу, графу Рум-форду.
Письмо о Дэви пришло в самый подходящий момент. Румфорд искал заместителя Гарнетту. Не будучи лично знаком с Дэви, граф помнил его имя не только как нашумевшего исследователя веселящего газа, но и своего единомышленника во взглядах на природу тепла и света.
Дэви получает официальное приглашение для работы в Королевском институте.
В январе 1801 года из Клифтона в Пензанс ушло очередное письмо Гемфри. В этом письме матери он сообщал о приближающихся важных переменах в его жизни.
«Дорогая мама!
Последние три недели я был занят очень серьезным делом. Оно мешало мне написать Вам, тете и Китти. Теперь я использую несколько свободных минут, чтобы сообщить Вам о моем хорошем самочувствии и что я получил очень лестное предложение покинуть Пневматический институт для постоянного места в Лондоне. Вы, вероятно, слышали о Королевском институте, основанном графом Румфордом и другими аристократами. Это прекрасное учреждение нуждается лишь в талантливых людях, чтобы сделать его весьма полезным. Граф Румфорд предложил мне работать в нем в роли помощника лектора по химии и экспериментатора института. Но это только временно, в дальнейшем я буду единственным профессором химии. Назначение столь же почетное, как и любой научный пост в государстве... Сегодня я напишу в Лондон с целью точно выяснить условия назначения, после чего решу, принимать его или нет. Доктор Беддо благородно согласился освободить меня от работы в Пневматическом институте, если я решу его покинуть. Все же мне очень не хочется его покидать. Разве что для очень больших преимуществ? Я знаю, что Вы будете очень рады видеть меня в кругу работников Королевского института, но без полной независимости я не соглашусь ни на какое назначение.
Ваш любящий сын Гемфри Дэви*.
222
16 февраля 1801 года на заседании совета попечителей Королевского института Гемфри Дэви был утвержден в штате института в качестве ассистента профессора химии, руководителя химической лаборатории и помощника издателя журнала института. В протоколе совета было записано также: «Разрешить ему (Дэви) занять комнату в доме института, снабжать его углем для камина и свечами и платить жалование — сто гиней в год».
♦ ♦ ♦
Великобритания. Осколок Европы, брошенный в океан. Небольшая страна, сыгравшая выдающуюся роль в истории цивилизации. Страна, давшая миру ученых, мореплавателей, писателей и поэтов, философов и революционеров. Страна, давшая приют Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу.
Энгельс, покинувший Германию, нашел родину в Англии.
Корабль приближается к неведомым берегам, на палубе стоит молодой Энгельс, всматривается в даль, в будущее.
О встрече с Англией из-под его пера появились такие строки:
♦Солнце закатывается на северо-западе; налево от него из моря поднимается блестящая полоса, прибрежье Кента, южный берег Темзы. На море ложатся уже туманы сумерек, только на западе, на море, как и на небо, пал пурпур вечера; на востоке небо густо-голубого цвета, и оттуда появилась уже яркая Венера; на юго-западе вдоль горизонта тянется Маргет, из окон которого отражаются краски вечера, длинная, золотая полоса в волшебном свете; а теперь машите шапками и приветствуйте свободную Англию радостными криками и полными стаканами. Спокойной ночи, до радостного пробуждения в Лондоне.
...О, какая дивная поэзия заключена в провинциях Британии! Часто кажется, что ты находишься в golden days of merry England 1 и вот-вот увидишь Шекспира с ружьем за плечом, крадущимся в кустарниках за чужой дичью, или Же удивляешься, что на этой зеленой лужайке не разыгрывается в действительности одна из его божественных комедий. Ибо, где бы ни происходило в его пьесах действие — в Италии, Франции или Наварре,— по существу перед нами всегда merry England, родина его чудацких простолюдинов, его умничающих школьных учителей, его милых, странных
1 Золотые дни счастливой Англии.
223
женщин; на всем видишь, что действие может происходить только под английским небом».
Такой виделась Энгельсу еще малознакомая ему Англия, родина Гемфри Дэви, страна немыслимых контрастов богатства и нищеты.
Позже, глубже познав страну изгнания, куда он эмигрировал с берегов Рейна, чтобы вместе с Карлом Марксом создавать гениальное учение о классовом обществе, о законах его развития и неминуемого революционного его преобразования, Энгельс подчеркнул строки английского буржуазного историка и философа Карлейля о том, что такое Англия и какова в ней жизнь богатых и бедных:
«Положение Англии... по справедливости считается одним из самых угрожающих и вообще самых необычных, какие когда-либо видел свет. Англия изобилует всякого рода богатствами, и все же Англия умирает от голода. В неизменном изобилии зеленеет и цветет земля Англии, волнуясь золотой нивой, густо усеянная мастерскими со всякого рода орудиями труда, с пятнадцатью миллионами рабочих, слывущих самыми сильными, искусными и усердными, каких когда-либо знала наша земля; эти люди находятся среди нас; работа, исполненная ими, плоды, созданные их руками, имеются тут в избытке, всюду в самом пышном изобилии,— и вот, словно по волшебству, раздается зловещее повеление: «Не прикасайтесь к ним, вы, рабочие, и вы, занятые делом господа, а также и вы, праздные господа; никто из вас не смеет их тронуть, никто из вас не смеет ими насладиться — это заколдованные плоды!»
«Запрет этот прежде всего касается рабочих»,— говорит вслед за этим Энгельс.
Гемфри собирается к переезду из Бристоля в Лондон. Он будет служить в Королевском институте, своим трудом исследователя-ученого будет способствовать славе Англии.
«Заколдованный плод»... На улицах Лондона он увидит умирающих от голода людей, он увидит праздных аристократов.
Что же это за город? Столица мира, как утверждали истые англичане.
Большая часть огромного, широко раскинувшегося города лежит на северном, левом берегу полноводной, еле вмещающейся в своем ложе грязной Темзы. На правом, южном, берегу рабочие кварталы с их черно-серыми от копоти и грязи двух- и одноэтажными домами, бесконечные склады, причалы, доки.
Центральная часть Лондона, его историческое ядро — Сити. Здесь Английский банк, биржа — храмы золота, где
224
продаются и покупаются судьбы народов и государств. Сити — древняя часть Лондона, корнями уходящая в эпоху римского владычества. Когда-то здесь располагался лагерь римских легионеров. Сити примыкает к Темзе, к Тауэру — мрачной крепости, тюрьме.
За Тауэром Уайтчепель — кварталы бедноты. Еще дальше рабочий и портовый Лондон. На запад, на северо-запад от Сити районы богатых — Лондон буржуазии и аристократов. На юго-западе знаменитые лондонские парки: Гайд-парк, Кенсингтон-парк. Гайд-парк — деревенская Англия в центре города-гиганта. Луга и рощи. Здесь отдыхают не имеющие возможности уехать из города на воскресный день, располагаются на тенистых полянах целыми семьями.
Ближе к Темзе и западнее Сити Вестминстерское аббатство, знаменитая башня и часы Биг Бен, парламент — средоточие государственной власти Великобритании. Город-спрут, его щупальца протянулись к трущобам Ист-Энда, Уайтчепеля и десятков других районов, населенных бедняками.
Нищета разрушает семьи. Дряхлый отец или малый ребенок, и тот и другой считаются поденщиками — рабочими на день. Голодающие семьи спешат устроить своих детей. В окрестностях Лондона, в местечке Снайтель-Филдс, два раза в неделю происходит торг детьми. Родители привозят детей обоего пола в возрасте от девяти до пятнадцати лет. Отцы и матери зазывают покупателей, как на конных рынках, выхваливая силу, смышленость, кротость продаваемого ребенка. Никто не справляется о характере, нравственности или образе жизни покупателей детей, все дело в цене...
Лондонцы обедают в пять часов, в восемь пьют чай, а в одиннадцать ужинают. Люди победнее обедают в три часа. Чай пьют и бедные и богатые. Это по средствам даже обитателям Ист-Энда.
У причальных стенок, у набережных стоят старые корабли. На кораблях содержатся по четыреста — пятьсот пленных французов. День и ночь их охраняют часовые. Пленные живут здесь годами, ибо неизвестно, когда закончится война между Англией и бурлящей общественными страстями Францией. Пленных никогда не спускают на землю. Лишь безнадежно больных отправляют на родину. Часто от реки по прилегающим кварталам несутся дикие вопли мнимых и настоящих сумасшедших пленников. На кораблях пленные вырезают из кожи безделушки, плетут из соломы шляпы...
Город живет сложной и многообразной жизнью. Еже
8 Молодость Сеченова
225
дневно во все стороны из Лондона выезжает тысяча дилижансов, в каждом по восемнадцати пассажиров. Дилижансы показывают чудеса подвижности: по немыслимо плохим дорогам Англии они курсируют со скоростью пятнадцати километров в час.
...Переговоры Дэви с Румфордом закончены. Дэви вернется в Клифтон для прощания с друзьями и перевозки в Лондон своей библиотеки, оборудования химической лаборатории, вещей, с которыми связан его повседневный быт.
Клифтонские друзья бродят как в воду опущенные. Отъезд Дэви воспринимается ими как конец Пневматического института. Особенно тяжело переживает уход Гемфри доктор Беддо. Жизнь этого незаурядного и доброго человека не удалась.
Был ли Беддо действительно неудачником в науке? Если говорить о главном деле его жизни — исследовании и использовании в медицине газообразных веществ,— это дело оказалось лишь эффектным фейерверком, высоко взметнувшимся в небо и быстро погасшим. Повторилась история, знакомая по судьбам многих деятелей науки. Беддо опередил свое время. Важность газов для медицины получила свое признание лишь в наши дни. Лечение многих болезней кислородом, применение закиси азота в хирургии и многое другое вошло в практику медицины через полтора столетия после кончины Беддо.
При его жизни из всех газов лишь чистый воздух был необходим человеку.
Но вернемся к печальным дням отъезда Дэви из Бристоля.
Одним из больших и добрых дел Беддо было его участие в становлении Дэви-ученого. В Пневматическом институте, как и обещал Беддо, Гемфри полностью завершил свое образование. Его знания получили необходимую полноту, его умственный горизонт неизмеримо расширился, он приобрел блестящую технику эксперимента.
Пензанс, Клифтон, Лондон...
Дилижанс увозил молодого ученого из Бристоля в столицу Англии. За окном мелькали зеленые поля с неизменным признаком английского сельского ландшафта — изгородями. В полях бродили стада овец и коров. Все меньше лесов оставалось в средней Англии. Дилижанс проезжал через селения и города — большие и малые. Все больше и больше мастерских, фабрик и заводов поднималось в этой стране, поставлявшей изделия своей промышленности всему свету.
Дилижанс нередко утопал в ямах, и тогда Гемфри вме
226
сте с другими пассажирами помогал кучерам вытаскивать экипаж из трясин.
В одном селении в дилижанс сел священник. Он также спешил в Лондон. Из беседы выяснилась причина его поездки. Бедственное положение служителей церкви вынудило их послать своего коллегу к главе англиканской церкви.
Викарий рассказывал с горечью:
— Во многих приходах священники обходят крестьян со своим ножом, ложкой и вилкой — обедают у прихожан по очереди то в одном, то в другом доме. Это заменяет священнику жалованье, которого он не видит годами. Паства отказывается содержать пастырей.
В разговор вступили все пассажиры. Двойник мистера Пикквика, толстый господин, похожий на коммивояжера, в подтверждение жалобы викария стал читать вслух объявления провинциальной газеты:
— «Священник, доведенный до крайней нищеты, обращается к щедрости мирян. Всякое подаяние, даже поношенное платье, будет принято с большой благодарностью».
Второе объявление гласило: «Бедный священник, обремененный многочисленным семейством, которого он не в состоянии содержать из получаемого жалованья, прибегает с мольбой к щедротам богатых братьев во христе. Вся его надежда на эти щедроты».
Гемфри Дэви сидел в углу и не принимал участия в затянувшейся дискуссии о положении священнослужителей в Англии.
Дилижанс резко остановился. В дверцу просунулась голова жандарма, которого обеспокоил необычный шум, доносившийся из экипажа. Сразу наступила тишина...
Близился Лондон. К заставе подъехали ночью, но до утра в город не впускали — время было тревожное.
Альбемарл-стрит, Королевский институт. Огромное здание, где Дэви предстоит провести годы жизни.
Не успевший стряхнуть дорожную пыль молодой человек из Клифтона спокойно входит в необъятный кабинет руководителя института. За массивным письменным столом восседает граф Румфорд. Он поднимается со своего места и идет навстречу Гемфри.
— Рад встретиться с уважаемым коллегой! Прошу садиться и чувствовать себя в этом большом доме вполне непринужденно. Отныне он должен стать и вашим домом.
Испытующий взгляд Румфорда скользит по фигуре Дэви. Граф не очень доволен этим осмотром. Институту нужны лекторы с представительной внешностью, иначе их никто не будет слушать.
227
своих многочисленных обя-
Там, в провинции, он околдовывал своих слушателей. Но здесь Лондон, публика другая и требования к лекторам иные...
— Итак, мистер Дэви, мы пригласили вас на должность помощника лектора по химии Гарнетта. Мы назначаем вас также директором химической лаборатории и просим участвовать в издании наших журналов. Обязанностей, как видите, немало, но вы молоды и вам все по плечу...
Гемфри немногословен. Условия работы в Королевском институте ему сообщены письменно. Он согласен их принять и готов без промедления приступить к выполнению занностей.
Разместившись в отведенной ему квартире, Дэви первым долгом тщательно ознакомился со всем, что находилось в химической лаборатории, руководителем которой он был назначен.
Это была огромная комната, почти зал, освещаемый не только боковым светом из окон, но и светом сверху, проходившим через специальные фонари — стеклянные просветы крыши. В лаборатории был водопровод, устройство для вентиляции. Просторное помещение лаборатории как бы делилось на два отделения. Первое собственно лаборатория, второе — малая аудитория, уставленная рядами кресел, поднимающимися один над другим. Здесь читались лекции по практической химии.
Оборудование лаборатории было богаче, чем в Пневматическом институте. Чего только здесь не было! Песочные ванны для подогрева, мощная печь, передвижная кузница с двойными мехами, разнообразные гальванические элементы, корытца для ртути и воды, газомеры, фильтры и множество лабораторной посуды и принадлежностей. Середину комнаты занимал длинный стол. По стенам до самого потолка высились многоярусные полки. На столе, на полу, на полках — стеклянные и глиняные банки с химикалиями. Жидкости и порошки всех цветов радуги. Причудливые колбы, изогнутые стеклянные трубки, шары из стек-
228
ла — все это загромождало столы и делало лабораторию чем-то похожей на лавку старьевщика. Более точные приборы, инструменты, которым могли нанести вред кислотные испарения, хранились в специальной комнате. Там стояли святая святых химиков — весы и воздушные насосы для откачки воздуха и газов.
Лаборатория и ее оснащение понравились Дэви. Опытный глаз экспериментатора сразу оценил ее достоинства. Здесь не было ничего лишнего, и появилось многое, чего до сих пор не имел в своем распоряжении химик из Клифтона.
Комнаты, отведенные Гемфри для жилья, были удобны и находились в том же здании, что и лаборатория. Дэви не был избалован комфортом и роскошью. Ему было безразлично устройство занимаемых им квартир. Мебель простая, казенная, самая необходимая. Единственное произведение искусства — маленькая фарфоровая статуэтка Венеры, подаренная Дэви в его юношеские годы. Веджвуд, обладавший талантом скульптора, был ее автором.
Порядка в комнатах, где жил Дэви, не было. Книги, бумаги валялись повсюду так, что затрудняли передвижение по комнате. Наступал момент, когда в этом хаосе и Дэви уже не мог разобраться, тогда объявлялся аврал — все книги и бумаги собирались в охапки и забрасывались в большой шкаф.
В Лондон к старшему брату приезжал изредка Джон Дэви. Ему-то и поручал Гемфри пересматривать содержимое «свалки»-шкафа и сжигать все, что окажется неинтересным. Среди бумаг были записные книжки и его, Дэви, переписка. Джон, безмерно любивший старшего брата, не в пример Гемфри, был человеком аккуратным, более того, скрупулезно педантичным. Благодаря этим его качествам Удалось сохранить почти весь архив Гемфри, оказалось возможным ознакомиться с ценнейшими документами, характеризующими жизнь великого английского химика.
Дэви обживался в новой для него обстановке Лондона и
229
Королевского института. Проверял действие аппаратов, приборов, качество химикалиев, знакомился с людьми, которые работали в институте.
Почти одновременно начались экспериментальные работы и чтение лекций.
Помощник лектора по химии Гемфри Дэви читал свои лекции в той половине большого лабораторного зала, где амфитеатром расположились кресла для публики.
Определенного лекционного плана пока не было, лекции читались по отдельным, наиболее интересным для широкой и неподготовленной аудитории темам. Цель лекций — заинтересовать слушателей химией, на вполне конкретных примерах показать связь науки с обыденной жизнью и производством различных необходимых человеку веществ и изделий в промышленности.
Эксперименты и опыты производятся по ходу лекции.
Сочетание увлекательной речи лектора с «волшебством» химических преобразований, производимых тут же в лекционном зале, обычно производило глубокое впечатление на так называемую публику с улицы, на людей самых различных интересов и подготовки, от полуграмотных до студентов университета.
На лекции запросто заходили любознательные лондонцы. На первую, так сказать, пробную лекцию Дэви пришли важные господа из руководства Королевского института — президент Бенке и граф Румфорд.
Внешность провинциала Гемфри Дэви не произвела при первом знакомстве благоприятного впечатления на графа. Тем придирчивее он приготовился слушать вводную лекцию клифтонской знаменитости.
Публики собралось предостаточно: всем было интересно послушать нашумевшего химика, приводившего с помощью веселящего газа людей в блаженное состояние веселья и отрешения от земных дрязг.
Дэви читал так называемую обзорную лекцию о месте и значении химии в естествознании, в жизни человечества.
Худощавый молодой человек, с каштановыми вьющимися волосами, с выразительными живыми глазами, стоял за столом, на котором были расставлены приборы для намеченных в ходе лекции опытов. Шаг за шагом Дэви вводил своих слушателей в мир химических превращений. На глазах публики совершались изумительные «фокусы» — жидкости меняли свои цвета, бесцветная становилась пурпурной, нежно-розовой или густо-черной. Вещества жидкие меняли свои свойства, становились кашицеобразными, затем отвердевали и приобретали плотность камня. Клубились
230
Гемфри Дэви читает лекцию по химии.
дымы различной окраски. Раздавались взрывы. В руках Дэви все жило необыкновенной, фантастической жизнью.
Негромким голосом Гэмфри рисовал своим слушателям увлекательную картину торжества научного исследования. Это не была обычная, спокойная лекция с традиционным бокалом воды для лектора на кафедре. Подвижный и нервный Дэви говорил с таким темпераментом, с такой верой в науку, каких еще никто не слышал в этих стенах. Адвокат, защищающий человека, которому грозит виселица; депутат парламента, громящий продажную администрацию; священник, призывающий с амвона к любви к ближнему; оратор в Гайд-парке, выступающий перед тысячной толпой — все они могли позавидовать силе огня, выразительности и подкупающей простоте незнакомого в Лондоне лектора, еще юноши.
Сопоставляя пути алхимии и научной химии, показывая значение химии в земледелии, в металлургии, в производстве пищевых продуктов, в текстильном производстве, во всех областях техники, Дэви в своей лекции звал слушателей идти в науку, уважать и ценить труд ученых, верить в могущество знания.
Прослушав первую лекцию Дэви, граф Румфорд воскликнул :
— Чего бы он ни потребовал, институт ему даст, если это, конечно, будет в наших силах...
С таким же ошеломляющим успехом, как первую, Дэви читал и последующие лекции. Молва о лекциях Дэви быстро распространилась по Лондону.
Один из епископов англиканской церкви, побывавший на лекции Дэви, недолго думая предложил Гемфри служить церкви, обещая высокое духовное звание. Такие люди, как Дэви, умеющие «глаголом жечь сердца», были крайне необходимы церкви, роль которой в Англии была сравнительно невелика.
КЛУБ ТЕПИДАРИЕВ
Был обычный пасмурный, осенний день. Усталый после экспериментов в лаборатории и чтения очередной лекции Дэви отправился бродить по Лондону. Он прошелся по торговой фешенебельной Оксфорд-стрит, миновал Трафальгарскую площадь, вышел на улицу, ведущую к Темзе.
Гемфри стоял на берегу полноводной реки и думал о переменах, происшедших с ним, о новых экспериментах, о
232
мощном вольтовом столбе, который устанавливался в его лаборатории.
Поток его мыслей был неожиданно прерван голосом незнакомца.
Без всяких церемоний неизвестный человек, стоявший возле Дэви, отрекомендовал себя другом семей Уаттов и Пристли.
Он заявил ошеломленному Гемфри:
— Я член клуба тепидариев. От наших друзей мы информированы о ваших убеждениях. Они сходны с тем, что и нам представляется справедливым. Короче говоря, двадцать четыре наиболее ярых республиканца Лондона, объединенных в нашем клубе, предлагают вам стать двадцать пятым членом их семьи... Семьи, где строго действует правило: один за всех, все за одного...
Дэви дал согласие на встречу с людьми, назвавшими себя друзьями его друзей — Уаттов и Пристли. Только на встречу и ни на что большее. Впрочем, и такое поведение Дэви выдавало в нем провинциала. Настоящий лондонец в эти тревожные для Англии времена ни за что бы не со
гласился разговаривать с незнакомыми ему людьми на серьезные темы. Это было опасным легкомыслием и признаком дурного тона.
Где и когда состоялась встреча Дэви с тепидариями, о чем там шел разговор — неизвестно. Результатом этого контакта Дэви с маленькой замкнутой группой лондонских
233
республиканцев — людей в большинстве своем весьма влиятельных — было избрание его членом этого клуба.
Кто такие были теиидарии и что означало само название их клуба?
Если следовать более или менее точному значению латинского слова «тепидарий», то оно означает «любитель горячих бань», или, по-русски, любитель парилки. Иносказательно — сторонник решительных, горячих действий в политике. Человек, встретивший Дэви на набережной Темзы, охарактеризовал своих друзей как рьяных республиканцев. Один из английских биографов Дэви — Гроузер предполагает, что общество тепидариев сделало много для того, чтобы имя клифтонского химика стало популярным в огромном Лондоне.
Как и предполагал граф Румфорд, молодой человек из Бристоля был именно тем драгоценным камнем, который он избрал для старательной шлифовки.
Уже первые лекции помощника лектора по химии имели значительно больший успех, чем все лекции профессора Гарнетта.
Ровно через год после появления Гемфри Дэви в Королевском институте просьба профессора Гарнетта об отставке была охотно принята. Профессором химии в институте был назначен Гемфри Дэви.
В новогодний день 1 января 1802 года Гемфри Дэви прочел свою ставшую знаменитой вводную лекцию к курсу химии. На этой лекции присутствовал весь цвет лондонского общества. Первые люди в стране по положению и талантам, ученые и писатели, деловые люди и бездельники, «синие чулки» и великосветские дамы, старые и молодые — пришли на лекцию Дэви.
— Неравный раздел собственности и труда, различие сословий и положений среди человечества являются источником могущества в цивилизованном мире, его движущими силами, самой его душой.— Взволнованный голос Дэви зазвучал в абсолютной тишине насторожившегося зала.
Первые слова лекции по химии произвели двойственное впечатление: какое отношение к химии имеют имущественные различия людей, различия в сословиях? — думали одни. Другие смутно догадывались, что в этих словах молодого ученого кроется огромный смысл всей жизни современного общества...
Не в этой аудитории, не в чинной обстановке Королевского института могло раскрыться истинное значение слов Гемфри Дэви. На улицах Парижа, в недавно прогремевшей революции, в огне ее сражений раскрывалось историческое
234
значение истины, сформулированной скромным лондонским химиком. Жестокая борьба классов действительно была основой этого мира насилия и несправедливости.
Дэви, мечтая о мирном сотрудничестве классов, выражал надежду, что ученые и промышленники станут работать вместе с рабочими, спаянные прогрессом науки.
_____ Прекрасная химия — мать наук — должна стать рычагом для борьбы за цивилизацию,— говорил Дэви.
Влюбленный в свою науку, он показывал, как химия делает объектом своего изучения все, буквально все, что окружает нас в природе и в жизни.
Огонь, вода, дождь, град и снег, превращения мертвой материи в живое существо — все это относится к области химических явлений. Механика зависит от химии потому, что движение материальных частиц зависит от свойств материи. Например, экспериментальная теория столкновения материальных тел не может быть выведена из опытов с телами, разлагающими друг друга при соприкосновении.
Естественная история тесно связана с химией, так как она изучает внешние свойства тел, в то время как химия показывает их внутреннее строение, их подлинную природу. Естественная история изучает постоянные, не меняющиеся формы вещей, тогда как химия, изучая законы их изменений, развивает и объясняет их активные силы.
Минералогия состояла просто из коллекции плохо подобранных терминов, пока введение химического анализа не создало основы классификации минералов, покоящиеся на их химическом составе.
Ботаника и зоология пронизаны химией, ибо от химических процессов зависят питание и рост существ, разнообразное изменение их форм, постоянное возникновение новых существ и, наконец, их смерть и разложение...
Дэви подчеркнул особое значение химии для земледелия. На этот постоянный интерес Гемфри Дэви к сельскохозяйственной химии, или, как ее иначе назвали, агрохимии, обратил внимание Фридрих Энгельс.
В одной из своих работ Энгельс писал: «...Гемфри Дэви с успехом применил химию к земледелию». Но все это было позже.
В своей же вступительной лекции Дэви говорил:
— Земля бесплодна. Чтобы удобрить ее, надо знать причины бесплодия. Химический анализ легко дает ответ на этот вопрос. Вредят железные соли — их можно разложить известью. Мешает избыток кремнистого песка — надо прибавить глины и известковой земли. Мало органических веществ — нужно добавить навоза...
235
Земледелие невозможно улучшить, не прибегая к химии. Для странника, путешествующего ночью, вернейшее средство не сбиться с дороги блуждающими огоньками — взять самому в руки фонарь...
Медицина и психология тоже обязаны химии большинством своих методов. Химией является искусство приготовления лекарств, и незнание фармакологических процессов не раз имело тяжелые последствия.
Зная очень мало о законах своего собственного существования, человек все же извлек много полезных сведений из изысканий в области природы дыхания.
Прогресс в астрономии тоже до некоторой степени зависит от развития химии, от химического совершенства материалов, нужных для астрономических приборов.
Ценность химии не исчерпывается ее дополнением к другим наукам. Ее можно применить в большинстве обиходных процессов.
Все шире развертываются перед зачарованными слушателями безграничные просторы науки. Малопонятные и сложные теории в его устах приобретают наглядность, становятся понятными.
Люди добывают и обрабатывают металлы, люди изготовляют кожи, приготовляют стекло, фарфор, люди производят десятки тысяч самых различных вещей, и везде химическая технология является научной основой производства предметов, составляющих материальную основу жизни нашего общества... Нет сил определить всеобъемлющее значение химии для человечества. Окинув взглядом историю мысли, мы ясно увидим последствия влияния химических знаний на человеческий ум.
Дикарь не способен открыть причины окружающих его явлений. Он или дрожит перед собственными суеверными вымыслами, или пассивно, безвольно отдает себя во власть природы и стихии. Наука дала людям представление о мире и взаимоотношениях в нем. Больше того, она дала им творческую силу, сделала человека хозяином земли, могущим изменять окружающую его природу.
Умудренные науками, мы не должны спокойно отдыхать, довольные достигнутым.
Наука много сделала для человека, но может сделать еще больше. Преимущества, которые она нам уже принесла, должны дать нам надежду на получение еще больших благ. Мы можем надеяться вступить на более высокую ступень культуры и счастья, чем теперь...
236
Дэви в вводной лекции провозгласил свой химический манифест, впрочем не только химический...
Как встретили современники новую восходящую звезду на научном небосводе Лондона? Вот одно из многочисленных свидетельств слушателей Дэви :
♦Его молодость, простота, его природное красноречие, глубокие познания в науках, удачные примеры, иллюстрации и хорошо произведенные опыты возбуждали всеобщее внимание и беспредельный восторг. Комплименты, приглашения и подарки посыпались на него дождем со всех сторон; всякий искал его общества и гордился знакомством с ним».
Итак, богиня удачи, успеха Фортуна не перестает благоволить Гемфри Дэви.
Светские дамы пишут в его честь хвалебные оды, его наперебой зовут в самые изысканные салоны Лондона... И... человек слаб, ему вредят слишком громкие проявления почета и признания. Дэви все меньше времени проводит в лаборатории.
Еле успев сбросить рабочее платье, он спешит надеть вечерний костюм, и вот он уже на званом обеде или на великосветском балу.
Угроза, уже однажды возникшая в Бристоле, в более серьезном виде встала перед Дэви в Лондоне. Продолжая вести светский образ жизни, он смог бы скоро потерять всякое значение в науке.
Наука — особа щепетильная и требует постоянного внимания и служения. Нельзя одновременно быть видным ученым и любимцем лондонских салонов. До поры до времени Дэви ухитряется служить двум богам.
Но как долго он сможет так жить?
Живой и увлекающийся человек, жадно впитывающий в себя все новые впечатления, Дэви в первые годы жизни в Лондоне не смог в полной мере противостоять натиску «света». Но когда новизна впечатлений прошла, когда в один прекрасный день он подвел итоги первых лет своей лондонской жизни, он без труда увидел потерянные, упущенные возможности в науке и никчемность салонной жизни.
Были, конечно, попытки оправдать свое существование в двух чуждых друг другу сферах, были колебания.
А вот и свидетельство этих колебаний между любимым делом и светским бездельем.
Дэви писал в 1803 году:
«Действительное и живое существование я веду только среди предметов моей научной работы. Обычные развлече
237
ния и удовольствия мне нужны только в качестве перерывов в потоке моих мыслей».
Таким был Гемфри Дэви. Поглощенный новой увлекательной научной проблемой, он забрасывал на многие месяцы своих светских друзей, не имевших за душой ничего, кроме аристократической спеси и денег. В эти периоды своей жизни Гемфри работал запоем и был необычайно продуктивен в научных исследованиях.
Но наступали времена затишья в лаборатории, и снова Дэви появлялся в великосветских салонах и клубах Лондона, остроумный, веселый, желанный. Исчезал ученый, появлялся блестящий лондонский денди.
Брат Гемфри Дэви, Джон, писал в связи с этим: «В обществе Гемфри скорее являлся как слуга моды, чем как слуга науки».
В первые годы своей работы в Королевском институте Дэви приходил в лабораторию около десяти часов утра и работал в ней до четырех часов дня. В пять часов он обедал и больше в лабораторию не возвращался. Это было правило.
Но часто, увлекшись работой, он не покидал лабораторию сутками.
После обеда, к вечеру, если он не был куда-либо приглашен, он отправлялся в клуб играть на бильярде или шел в театр. Дома в свободное время любил читать романы.
В лаборатории Дэви работал в чрезвычайно быстром темпе. Этот головокружительный темп работы приводил Дэви к небрежности и курьезам. Так, исправляя ошибки в тетрадях опытов, он по рассеянности вместо пера опускал в чернильницу палец и замазывал им фразу или расчет. Он вел параллельно несколько экспериментов, переходя от одного к другому без всякого видимого порядка.
К своим аппаратам в лаборатории он относился без должного уважения. В случае необходимости ему ничего не стоило грубо отломать часть одного прибора, чтобы ♦прилепить» к другому, нужному в данную минуту.
Существуют испокон веков ходульные представления о чудаковатых гениях. Гемфри Дэви был удобной мишенью для таких россказней и анекдотов. Таков удел многих незаурядных личностей. В их непохожести «на всех» недалекие люди ищут и находят черты характера, дающие им сомнительное право на обывательскую болтовню. Дэви не избежал этой участи.
В задачи Королевского института, кроме распространения в обществе научных знаний чтением лекций, входило также всемерное содействие развитию многих отраслей производства.
238
В этом отношении возможности института были более чем скромными. Но тем не менее к Дэви обращались с просьбами самого различного свойства. Так ему поручили изучить химию дубления кож и внести в него необходимые усовершенствования. Дэви принял этот заказ. Со всей добросовестностью, на которую был способен, разобрал существо технологического процесса дубления кож, многократно бывал на производстве, делал опыты у себя в лаборатории и в результате внес ясность, расшифровал сущность дубления, нашел лучшие методы обработки кожевенного сырья. По его предложению старая дубовая кора в качестве дубителя кож была заменена деревом катеху.
В другой раз обратились к Дэви с просьбой о помощи в технологии окраски тканей. Дэви взялся и за это дело, внес в него необходимые усовершенствования, упростил способы крашения и увеличил стойкость красок.
Чем только не занимался Дэви в это время: и химией металлургических процессов, и химией минералов...
Но самыми важными оказались труды Дэви по научным основам земледелия.
...В 1803 году граф Румфорд покинул Королевский институт и Лондон. Он уехал во Францию, там вскоре женился на вдове великого реформатора химии Лавуазье.
Отъезд из Англии основателя Королевского института мог пагубно отразиться на делах этого научного учреждения.
Но в институте появились новые люди, его душой к этому времени стал Гемфри Дэви, и если без Румфорда институт продолжал успешно работать, то без Дэви он бы очутился в критическом положении.
...Двадцать пять наиболее рьяных республиканцев Лондона восседают за круглым столом. Тепидарии собрались на свое торжественное собрание, посвященное Гемфри Дэви. Тост за тостом провозглашается в честь новоиспеченного члена Королевского общества.
Такого еще не знала Англия — двадцатипятилетний академик! Им оказался Гемфри Дэви. Фригийские колпаки красуются на головах друзей Дэви. Они счастливы, что их единомышленник удостоился великой чести войти в освященную веками ученую корпорацию — академию Великобритании. Это была и их, тепидариев, победа, ибо известно, что республиканские убеждения не слишком благоприятствовали избранию в Королевское общество.
ЗАДАЧА О ДВУХ КОЛОСЬЯХ
Министерство земледелия Великобритании, озабоченное состоянием сельского хозяйства в стране, принимало меры к распространению среди земледельцев научных знаний, способных поднять урожайность в полеводстве и повысить продуктивность скота в животноводстве. Беда была в том, что наука о земледелии находилась в зачаточном состоянии, не было крупных ученых, посвятивших свой труд благородной задаче вырастить два колоса там, где прежде рос один.
Министерство земледелия обратилось к Гемфри Дэви с просьбой прочесть курс лекций о связи химии с физиологией растений. Дэви принял это предложение и стал ежегодно читать лекции, в которых излагал результаты научных работ своих и других ученых на тему «химия и растительный мир». В результате этих ежегодных курсов лекций через много лет сложилась книга под названием «Основания земледельческой химии».
Любовь Гемфри к труду земледельца, очевидно, перешла к нему по наследству. Еще в Пензансе Роберт Дэви производил сельскохозяйственные опыты, которые оказались неудачными. Присматриваясь к работе отца на огороде и в поле, Гемфри также стал делать «опыты». Так он с детства начал накапливать факты из жизни растений.
Сельскохозяйственной химии как науки в ту пору не существовало. Должен был появиться ученый, который из разрозненных наблюдений и фактов, из первых экспериментов смог бы строить рациональные способы ведения сельского хозяйства.
Рост народонаселения в стране, бурно развивающаяся промышленность настоятельно требовали внедрения научных методов в земледелие. Больше хлеба, больше мяса, молока — это было веление времени. Жить дальше по старинке было нельзя. Дэви по молодости лет, видимо, и не представлял, какую тяжесть взвалил на свои неокрепшие плечи. Учить рациональному ведению сельского хозяйства, где закостенели вековые традиции, закладывать основы новой науки — агрохимии,— и все это должен делать он, двадцатипятилетний химик, так мало еще свершивший в науке.
На протяжении года Дэви читал курс лекций по агрономической химии. Каков был круг вопросов, которые он затрагивал в своих лекциях? Кстати, здесь уместно сказать, что упомянутая выше книга Дэви по агрохимии была молниеносно издана в Англии и не менее быстро переведе
240
на на все основные европейские языки, в том числе и на русский язык. Перевод был сделан в годы, когда еще жили Байрон и Пушкин, архаичным, допушкинским языком.
На странице пятой «Оснований земледельческой химии», изложенной сэром Гемфри Дэви (перевод с английского, изданный тщанием Императорского Вольного Экономического Общества в Санкт-Петербурге в 1832 году), утверждается, что «...посредством разложения, произведенного с помощью химических приборов, в последнее время изобретенных, дознано, что все видоизменения тел вещественных разделяются на небольшое число таких материй, которые не могут разлагаться далее, и посему почитаются при нынешнем состоянии химии простыми веществами. Таковых начал ныне мы знаем до пятидесяти двух. В сем числе сорок металлов, восемь горючих веществ и четыре вещества, соединяющиеся с металлами и горючими телами и образующие с ними кислоты, щелочи и другие подобные составы. Действием притягательных сил химические начала соединяются в сложные тела. В простейших своих соединениях они образуют разные кристаллические тела, отличающиеся правильностью своей формы. В соединениях же более сложных составляют многоразличные вещества, растительные и животные, одаренные высшею степенью организации. От влияния теплоты, света и электричества происходят беспрерывные перемены; вещество принимает новый вид, и разрушение одного рода существ ведет к сохранению других: растворение и отвердевание, истлевание и возобновление тесно между собой связаны, и в то самое время, когда разные части в системе естества находятся в непрестанном волнении и преобразовании, порядок и согласие в целой природе остаются нерушимыми...»
Через языковые препоны архаического допушкинского стиля в этой выдержке из книги Дэви ясно проступают представления, которые царили в химии первой четверти прошлого века. Число известных элементов (начал) было вдвое меньше, чем в наше время, понятия металлоидов еще не было, хотя их свойства примерно те же, что и в «горючих веществах и веществах, соединяющихся с металлами» У Дэви. Многие общие воззрения Дэви на круговорот веществ в природе, на влияние энергии на природу химических тел и их преобразования... и многое другое звучит вполне современно и показывает, какого научного мыслителя получила наука и ее важнейшая отрасль химия в лице еще молодого английского ученого Гемфри Дэви.
Переходя в своем труде к собственно агрохимическим проблемам, Дэви делает множество интереснейших наблю
241
дений, сообщает огромное число новых фактов и производит глубокие обобщения.
Дэви подчеркивает великое значение для земледелия опытничества и систематических наблюдений в поле.
Не о бесплодном созерцании идет речь. Наблюдать, по Дэви, значит применять точные методы, в частности взвешивать. Вот его собственные на этот счет слова в уже приводившемся переводе 1832 года:
«Для хлебопашества нет ничего полезнее опытов с подробным и ученым (научным.— Б. М.) изложением всех обстоятельств, их сопровождающих. Искусство возделывания земли совершенствуется по мере большей точности методов, при оном наблюдаемых. Здесь, как при физических исследованиях, взвешивать должно все причины: большое различие может произойти в результате даже от выпавшего на полдюйма более или менее дождя в течение лета, или от нескольких градусов температуры, или даже от небольшого различия в нижнем растительном слое, или покатости земли».
Не менее интересные мысли были высказаны Дэви по физиологии растений, точнее, о питании и дыхании растений. Дэви Гемфри повторил опыты Пристли и нашел: «...что во время произрастания при солнечном свете угле-твор (углерод) из углекислоты воздуха присоединяется к растениям, а кислотвор (кислород) приобщается к атмосфере». Иными словами, в процессе фотосинтеза растения извлекают из атмосферы углерод и выделяют в нее кислород. В добавление к этому Дэви писал: «Поглощение углекислого газа и освобождение кислотвора (кислорода) совершается листьями, которые не перестают производить сии отправления и по снятии с дерева, если будут заключены в воздухе, содержащем угольную кислоту: они поглощают ее, а освобождают из себя кислотвор, даже и в воде, содержащей в себе растворенную угольную кислоту в несколько жидком состоянии».
Лекции Дэви вызвали большой интерес всех слоев общества, так или иначе связанных с земледелием. В последующие времена, вплоть до наших дней, этой стороне научного творчества Дэви придавали мало значения.
И как же здесь еще раз не вспомнить, что писал Фридрих Энгельс о прогрессивной роли Дэви в развитии агрономической науки:
«В этот общий поток было вовлечено решительно все. Произошел переворот и в земледелии. Не только владение землей и ее обработка перешли, как мы видели, в другие руки,— сельское хозяйство было затронуто и в другом от
242
ношении. Крупные арендаторы стали затрачивать капитал на улучшение почвы, сносить ненужные изгороди, осушать и удобрять, применять лучшие орудия и вводить систематическое плодосеменное хозяйство... Им также помог прогресс науки: сэр Г. Дэви с успехом применил химию в земледелии, а развитие техники дало крупным арендаторам ряд преимуществ».
Химия впервые в истории человечества вышла на зеленеющие нивы. Наука пришла на помощь земледелию. В этом великий смысл почина Дэви.
В те теперь уже далекие времена, когда жил Гемфри Дэви, не переставали твердить набившую оскомину формулу, что население земного шара растет быстрее, чем возрастают возможности прокормить человечество. И не потеряла значения отповедь, которую дал Мальтусу Энгельс в «Очерках политической экономии» :
«...Вся система Мальтуса построена на следующем расчете. Население возрастает якобы в геометрической прогрессии: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 и т. д., производительная сила земли — в арифметической прогрессии: 1 + 2 + 3 + 4 + + 5 + 6. Разница очевидная, устрашающая, но верна ли она? Где доказано, что производительная способность земли растет в арифметической прогрессии? Площадь обрабатываемой земли ограничена — допустим. Рабочая сила, применяемая на этой площади, возрастает с ростом населения; допустим даже, что величина урожая с увеличением затраты труда не всегда повышается в той же степени, что и труд; тогда остается еще третий элемент, не имеющий, конечно, для экономиста никакого значения,— наука, а ее прогресс так же бесконечен и происходит, по меньшей мере, так же быстро, как и рост населения. Какими успехами обязано земледелие этого века одной только химии, даже только двум лицам — сэру Гемфри Дэви и Юстусу Либиху? Но наука растет, по меньшей мере, с такой же быстротой, как и население; население растет пропорционально численности последнего поколения, наука движется вперед пропорционально массе знаний, унаследованных ею от предшествующего поколения, следовательно, при самых обыкновенных условиях она также растет в геометрической прогрессии. А что невозможно для науки? »
Какой верой в силу науки звучат эти слова Энгельса!
Дэви положил серьезное начало научному ведению земледелия. Его лекции по агрохимии вызвали небывалый отклик не только в Лондоне: из далекого Дублина, столицы Ирландии, пришло приглашение повторить их. Гемфри выехал в Ирландию.
243
О том, как встретили Дэви в Дублине и какое впечатление на него произвела Ирландия, Гемфри писал домой в Пензанс:
«Балина, Ирландия, 24 октября.
Моя дорогая матушка!
Я здоров и хорошо себя чувствую в отдаленной и прелестной части Ирландии, где я путешествую с двумя друзьями.
Через два-три дня я вернусь в Дублин и буду очень рад получить там вести от Вас или моих сестер. Я надеюсь, что Вы все вполне здоровы и счастливы.
Я слышал о Джоне несколько дней тому назад, он хорошо себя чувствовал и был в весьма хорошем настроении.
Лаборатория в Дублине, которая была расширена так, чтобы вместить 550 человек, все же не вместила и половины желающих присутствовать на моих лекциях. 550 билетов, выпущенных Дублинским обществом на цикл лекций стоимостью в две гинеи каждый, были распроданы в течение первой недели. И мне говорили, что сейчас за билет предлагают от 10 до 20 гиней. Это я говорю только Вам, ибо знаю, что Вам будет приятно узнать, что Ваш сын довольно популярен и не вполне бесполезен. Здесь все от самых важных до самых неизвестных проявляют ко мне всяческое внимание и доброту.
Я приеду навестить Вас так скоро, как только смогу.
...Я надеюсь, что небо будет продолжать хранить и благословлять мать, столь заслуживающую благодарность от ее детей.
Остаюсь Ваш горячо любящий сын Г. Дэви».
В другом письме к своему другу Поолу Дэви писал после возвращения из Ирландии в Лондон:
«Мне нужно многое рассказать Вам об Ирландии. Это остров, который мог бы стать новой и великой страной. Здесь плодоносная почва, изобретательное крестьянство... богатая аристократия, но бедой нации продолжает оставаться бедность, царящая среди низших классов. Все они рабы без всяких шансов на то, чтобы стать свободными... Изменения в политических учреждениях едва ли приведут к успеху. Надо сперва внедрить мануфактуры, распределить фермы, а также сделать заработную плату соответствующей труду...»
Гемфри Дэви, ученый новой формации, сумел через стекло пробирок и колб увидеть большой человеческий мир и его беды.
244
«Земледелие невозможно улучшить, не прибегая к химии. Для странника, путешествующего ночью, вернейшее средство не сбиться с дороги блуждающими огоньками — взять самому в руки фонарь»,— говорил Дэви. И, возможно за этими словами стояло нечто большее, чем овладение знаниями...
Дэви пригласили в Дублин вторично. Полюбился ирландцам этот англичанин.
Дублинский университет присвоил Гемфри Дэви, так и не сумевшему получить университетского образования, почетное звание доктора юридических наук! Это было первое и, увы, последнее отличие, полученное Дэви от университетов Великобритании. Будущий президент Английского Королевского общества, член многих зарубежных Академий наук, общепризнанный энциклопедист и глава научного движения в химии, Дэви не удостоился внимания университетских снобов.
Заканчивая главу об ученом, поставившем перед собой разрешение великой задачи о двух колосьях, приведем высказанные Гемфри Дэви интересные мысли о круговороте кислорода — источника жизни на земном шаре.
Он говорил: «Животные ни при одном из своих отправлений не выделяют кислорода, а, наоборот, непрерывно его потребляют. Но животное царство в сравнении с растительным очень незначительно. Количество углекислого газа, образующегося при выдыхании, сжигании и брожении веществ, также невелико в сравнении со всем объемом атмосферы! Растения, поставляющие в продолжение всей своей жизни кислород в атмосферу, с избытком удовлетворяют потребности природы.
На это, казалось бы, можно возразить: если листва растений очищает воздух, то осенью и зимой, когда она опадает, воздух в нашем климате должен портиться? Это было бы так, если бы ветры беспрестанно не смешивали различные части атмосферы. Ветры несутся иногда со скоростью 60—100 миль в час. Во время нашей зимы юго-западные ветры приносят воздух, очищенный в бескрайних лесах и равнинах Южной Америки. Бури и ураганы, свирепствующие у нас обычно в начале и около середины зимы, приводят воздух в непрестанное движение и приносят из-за океана кислород, необходимый для поддержания жизни животных организмов. Бури и ураганы, в которых суеверие видит гнев божий или действие злых духов,— дары, необходимые Для поддержания порядка в природе».
В ЗЕНИТЕ НАУЧНОЙ СЛАВЫ
В письме в Пензанс Гемфри обещал приехать к родным на длительный срок. Эта поездка была связана с очередной научной работой, которую Дэви проводил в Королевском институте. На этот раз не нужды сельского хозяйства привлекли внимание ученого. Растущая промышленность Англии требовала создания серьезной сырьевой базы. В Англии имелись богатые месторождения угля, это была энергетическая основа промышленной революции. Хуже обстояло дело с сырьем для металлургии черных и особенно цветных металлов. Геология Англии, закономерности распространения полезных ископаемых на острове — все это еще не подвергалось серьезному научному обобщению. Дэви, уроженец Корнуолла, с детства полюбивший горное дело, с охотой взялся за исследования геологии Англии и ее минеральных ресурсов.
Тогда еще не существовало такой науки, которая через сто лет получила название геохимии — истории происхождения и распространения на Земле химических элементов— металлов и неметаллов. Выдающийся русский ученый, академик Владимир Иванович Вернадский, один из создателей геохимии, много раз отмечал имя Гемфри Дэви, стоявшего у истоков новой науки. Дэви не просто описывал геологические особенности отдельных районов Великобритании, он искал закономерности распространения полезных ископаемых.
«Высочайшие горы Великобритании, равно как и во всем Старом Свете, состоят из гранита. Гранит встречается в глубинах земных, до коих проникла человеческая неутомимость...» — отмечал Гемфри Дэви в своих геологических заметках.
Размышляя далее о характере залегания руд металлов, он указывал:
«...Жилы с металлическими включениями заполняют собой вертикальные расщелины, более или менее наклоненные к горизонту. Эти расщелины наполнены веществами, отличными от окружающих пород: кварц, плавиковый шпат, известковый шпат либо отдельно, либо вместе заполняют расщелины земные.
Жилы в твердом граните редко содержат в себе значительное количество полезных металлов, но жилы, пронизывающие мягкие граниты или гнейсы, содержат олово, медь и свинец. Медь и железо суть единственные металлы, обыкновенно находимые в жилах змеевика. Слюдистый сланец, сиенит и зернистый мрамор редко заключают в себе метал
246
лы. Свинец, олово, медь, железо и многие другие металлы встречаются в жилах хлоритового сланца... Когда жилы выходят на поверхность земную, можно судить по ним о содержании металлов.
Если в жиле есть плавиковый пшат, то можно ожидать металлические вещества. Бурый порошок на поверхности жилы всегда означает железо, а часто и олово; бледно-желтый порошок — свинец, а зеленый цвет — медь».
Найдя какой-либо минерал, Дэви ищет его взаимосвязи с другими минералами, спутниками полезных ископаемых. Дэви ищет и находит в геологической летописи родной страны ответы на насущные запросы промышленности, указывает, где и в каком количестве имеются или должны быть руды металлов. Глубокая научная эрудиция сочетается у Дэви со здравым смыслом практика.
Результатом геологических изысканий Дэви было открытие новых месторождений полезных ископаемых.
В 1805 году Дэви получил за свои работы по минералогии высший знак отличия Английской академии наук — Королевского общества — медаль Колби.
Уже упоминавшийся в этом повествовании биограф Дэви— Гроузер писал: «Если вся его (Дэви) деятельность заслуживала такой награды, то именно его работы по минералогии меньше всего». Гроузер указывает дальше, какое чувство зависти должны были переживать современные Дэви английские минералоги, когда двадцатишестилетнему химику присудили высшую награду за работу в их области наук. Эти, может быть, и серьезные ученые не шли далее внешнего описания минералов, мыслили рутинно. Дэви же смело вторгался в соседние с химией отрасли знания. Он указывал, что ему чужды искусственные перегородки, возводимые между науками. И действительно, минералогия была бы только плохо подобранной коллекцией камней, если бы химический анализ не раскрыл внутреннего строения минералов. Потому-то химик Дэви и стал лучшим минералогом.
Приближалось время охоты Гемфри Дэви за химическими элементами. Электрическая энергия мощных вольтовых столбов должна была помочь удачливому химику из Корнуолла вскрыть истинную сущность ряда привычных людям предметов.
Ничто не предвещало бури в лаборатории Королевского института на Альбемарл-стрит. Хозяин лаборатории оставался верен своим привычкам. Он по-прежнему был убежден в том, что успех в науке требует от ученого оставаться живым человеком, не превращаться в кабинетного и лабо
247
раторного затворника. Поэзия, рыбная ловля, охота, музыка — все волновало Гемфри. Его особенной любовью пользовались лондонские театры. Итальянская опера, Ковент-Гарден, Пантеон и в первую очередь, конечно, театр Друри-Лейн * часто видели в своих стенах химика Королевского института. Дэви был знаком с выдающимися артистами своего времени.
Любопытен эпизод, характеризующий близость Гемфри к поэзии и театру, происшедший в 1805 году.
В Друри-Лейне предстояла премьера комедии «Медовый месяц», вызвавшая много толков. Заканчивались репетиции, но автор еще не дал театру текст пролога. Оставалось всего три дня до объявленной премьеры. Билеты все проданы. Гемфри запасся местами в ложу и предвкушал удовольствие от нового спектакля.
Накануне премьеры в лабораторию Дэви забежал один из его приятелей и сообщил о внезапной кончине автора комедии. Волнуясь и заикаясь, театральный «болельщик» с неподдельным волнением выпалил:
— А пролога-то к пьесе нет!
Гемфри как мог успокоил взволнованного театрала.
Через два часа стихотворный пролог к пьесе был готов, и Дэви принес его в театр.
Пришел день премьеры.
Спектакль имел большой успех. Соавтор-инкогнито вместе со всем зрительным залом горячо аплодировал актерам.
...Из Бирмингема пришла печальная весть. Умер дорогой для Гемфри Дэви человек: не стало Грегори Уатта. Чахотка свела в могилу близкого друга, которому молодой ученый был обязан очень многим...
Сообщение о смерти Грегори Уатта Гемфри перенес как тяжелое личное горе. Дэви послал Джеймсу Уатту взволнованное письмо...
Как коротка жизнь и беспредельны задачи науки! Нельзя терять дорогого времени. И Дэви исчезает из поля зрения лондонского «избранного общества».
В химической лаборатории Королевского института идет напряженная работа. Дэви стремится всесторонне исследовать все возможные химические действия электричества. В том, что электрическая энергия способна совершать многообразные изменения веществ, нет никаких сомнений. Нужно шаг за шагом, не торопясь и не мешкая, разобраться в существе целого мира еще неизвестных явлений.
Несколько лет назад на материке был произведен такой
248
опыт: сквозь раствор соли серебра был пропущен электрический ток. И серебро из раствора последовало по направлению движения электричества — от положительного полюса к отрицательному- Это, видимо, был один из первых примеров воздействия электричества на химическое соединение— соль серебра и выделение чистого металла.
Дэви заметил, что если оба полюса вольтова столба опустить в два сообщающихся между собой сосуда с водой или в два сосуда, соединенных влажным асбестом, то у положительного полюса собирается кислота, у отрицательного щелочь.
Но для любого химика существует истина — из ничего ничто не образуется. Откуда же могут взяться полученные у полюсов батареи вещества? Из воды? Она многократно дистиллировалась, очищалась — и, кроме кислорода с водородом, ничего более не должна содержать. Проволока от батареи к сосудам с водой была платиновой — она также не может повлиять на результаты опыта. Оставались на подозрении сосуды из стекла, в которые наливалась вода. Стекло действительно оказалось источником выделения щелочи. Стенки сосудов из агата поставляли в раствор воды кислоту. Из поваренной соли, всегда существующей в виде примеси в обыкновенной воде, также выделялась кислота — соляная.
Золотые сосуды, имевшие форму конуса, помещенные под колокол (из которого насосом выкачивался воздух) и присоединенные к вольтовой батарее, дали наиболее убедительный ответ об источниках образования при электролизе кислоты и щелочи. Восемнадцать часов продолжался опыт. Результаты: у отрицательного полюса на лакмусовую бумажку ничто не действовало, а у положительного лакмус приобретал слабо заметный красный оттенок. Дэви записал в тетрадь опытов, что при большем доступе воздуха лакмус окрасился бы сильнее: за это время образовалось бы большее количество кислоты из углекислого газа, содержащегося в воздухе.
Дэви ставит еще более убедительный опыт. Золотые сосуды с максимально очищенной водой помещают под колокол, из которого выкачан воздух и пространство под ним заполнено чистым водородом. Процесс электролиза длился двадцать четыре часа, и к концу опыта ни в одном из сосудов вода не оказывала ни малейшего действия на лакмус!
Дэви записал: «Таким образом, по-видимому, не подлежит сомнению, что химически чистая вода разлагается электричеством исключительно на газообразные вещества — на кислород и водород. И всегда появление у полюсов кислоты и щелочи связано с примесями...»
249
«Гальванизм не создает никаких новых веществ, а только разлагает существующие, доставляя их к тому или другому полюсу».
Так резюмировал эти опыты известный немецкий ученый Вильгельм Оствальд, написавший «Историю электрохимии», основы которой закладывал герой нашей повести.
Традиционное ежегодное заседание Королевского общества 20 ноября было посвящено физическим наукам. В 1806 году оно ознаменовалось блестящим докладом Гемфри Дэви. Этот доклад или, вернее, лекция называлась: «О некоторых химических действиях электричества».
В завещании известного английского натуралиста Генри Бэкера (1698—1774) была высказана воля, чтобы ежегодно перед Королевским обществом читалась лекция о наиболее выдающейся научной работе, произведенной в этом году. Чести прочтения бэкеровской лекции в 1806 году и удостоился Гемфри Дэви.
Ученый подвел первые итоги своим исследованиям в электрохимии. В своей лекции Дэви впервые поставил вопрос о существовании положительного и отрицательного электричества.
«Если рассмотреть электрическую энергию всех тел, то кислород и все тела, содержащие его в большом количестве, окажутся отрицательными, а водород, металлы и все горючие вещества (углеродистые соединения) — положительными».
Каждый факт, добытый Дэви в результате многочисленных экспериментов, представлял собой блок, закладываемый в стройное здание теории химического действия электрического тока.
Остроумнейшие опыты Дэви, пролившие свет на происхождение щелочей и кислот при электролизе воды, содержащей примеси, послужили ему для создания теории, по которой все вещества, обнаруживающие химическое сродство, находятся в состоянии противоположного электрического заряда. Поэтому положительный полюс притягивает к себе частицы, заряженные отрицательно. А отрицательный полюс завершает процесс, притягивая частицы, заряженные положительно. Так происходит электролиз Ч Чем
1 С современной точки зрения молекулы кислот, оснований и щелочей в растворах распадаются на частицы (ионы), одна из которых заряжена положительно (катион), другая отрицательно (анион). При пропускании электрического тока через эти растворы, заряженные частицы начинают двигаться к электродам противоположного знака. Происходящая при этом отдача (прием) заряда частицей делает ее нейтральной, н она либо отлагается на электроде, либо выделяется в виде молекулы в раствор. В этом сущность электролиза.
250
мощнее вольтов столб, тем энергичнее идет процесс электролиза. И на свет появляются элементы сложных веществ, до сих пор считавшихся неразложимыми.
Дэви не ограничивается изложением вновь открытых им фактов и выводов, к которым приводят все новые и новые открытия.
Его мысль летит свободно и высоко, его богатое, поэтическое воображение гармонично сливается со строгим мышлением ученого, и в результате появляются обобщения поразительной широты.
«В природе непрерывно происходят колебания электрического равновесия. Весьма вероятно, что эти колебания, связанные с явлением разложения и переноса, существенно изменяют течение химических процессов, разыгрывающихся в различных частях нашей системы.
Электрические феномены, которые предшествуют землетрясениям и вулканическим извержениям, описанные большинством наблюдателей этих событий, можно очень легко объяснить, исходя из вышеустановленной точки зрения.
Наряду с этими внезапными резкими изменениями в различных частях внутренних слоев земного шара должны происходить изменения электрического состояния, более постоянные и спокойные.
Там, где встречаются слои пирита и слои угольной обманки, где находятся в соприкосновении друг с другом или с каким-нибудь проводником чистые металлы или их сернистые соединения, наконец, там, где различные слои содержат различные соли, должно постоянно обнаруживаться электричество; весьма возможно и то, что действие последнего было существенным для возникновения многих минеральных образований.
Природное электричество до сих пор было мало исследовано, за исключением того случая, когда оно, концентрируясь в атмосфере, делается могущественным и очевидным.
Вероятно, что его медленное и бесшумное действие во всех частях поверхности земли окажется более непосредственным и существенным образом связанным с круговоротом сил в природе; исследования по этому вопросу, несомненно, прольют свет на науку о земле и, возможно, отдадут в наше распоряжение новые силы».
Дэви пришел к твердому убеждению, что можно разложить любое химическое соединение, дело только лишь в силе вольтова столба.
Искатель новых элементов нашел точку опоры!
С кафедры Королевского общества прозвучали на весь мир вдохновенные слова Гемфри Дэви о том, что может сде
251
лать электричество в изменениях и превращениях материи руками человека.
Бэкеровская лекция Дэви подытожила все то, что сделало к его времени человечество в области электрических исследований.
После этой знаменитой лекции за Дэви утвердилась слава гениального ученого.
Взгляды Дэви на роль электрических явлений в природе были настолько глубокими, что кажутся созвучными не началу XIX века, а нашему времени.
Якоб Берцелиус, известный шведский ученый, много позже писал из Стокгольма: «Я проверил и продолжил работы Дэви в области электрохимии и подтверждаю, что они являются ценнейшим вкладом в сокровищницу мировой науки».
Чтобы судить о громадном впечатлении, произведенном на ученый мир лекцией Дэви, достаточно остановиться лишь на одном факте.
Война Англии и Франции продолжалась. У мыса Трафальгар, что на испанском побережье Атлантического океана, 21 октября 1806 года произошло сражение между английским и французским флотами. В результате битвы погиб национальный герой Англии Нельсон и три тысячи офицеров и матросов флота его королевского величества. Флот Наполеона потерял семь тысяч человек.
Ценой огромных потерь Англия вторично одержала морскую победу над Францией.
Испанские берега стали свидетелями морской трагедии, закончившейся гибелью многих тысяч людей. Жестокая буря, разыгравшаяся вслед за сражением, докончила то, что не успели сделать пушки военных кораблей.
Все более обострялась борьба между капиталистическими хищниками Европы. Наполеон издает известный приказ о блокаде европейских гаваней. Он объявляет английские товары и английские суда добычей каждого желающего.
В этот напряженный момент Французская академия присуждает Гемфри Дэви награду в три тысячи франков за лекцию по электрохимии.
Нетрудно себе представить действительное значение работ Дэви, если, несмотря на самую острую ненависть правящей клики Франции ко всему английскому, Французская академия все же присуждает англичанину Дэви почетную премию. Не надо также забывать, что научный авторитет академии был таков, что признание ею научных заслуг какого-либо ученого было равносильно мировому признанию этих заслуг.
252
В Париж, как в Мекку правоверные, приезжали со всех концов земного шара ученые для апробации своих открытий и исследований. Париж целый год занимался «проверкой» гениальных работ Алессандро Вольта, а теперь академия наградила ученого по ту сторону Ла-Манша!
Как отнеслись к этой награде в Лондоне? Дэви принял премию, вызвав ожесточенный вой лондонских газет. Они возмущались антипатриотическим поступком профессора Королевского института, предлагали вернуть деньги парижским «негодяям», грозили расправой.
Дэви высоко ценил знаки признания лучшей академии. Наука была для него дороже интересов Даунинг-стрит*. Клуб тепидариев был вправе гордиться своим членом.
Наступил 1807 год, великий год в жизни Гемфри Дэви. В этом году Дэви был избран одним из трех секретарей Королевского общества. Указывают, что Дэви считался наиболее активным секретарем общества и был в центре всех его дел.
...Красной нитью, прошедшей через всю бэкеровскую лекцию Дэви в 1806 году, была мысль, что никакое сложное тело, если оно действительно сложное, не сможет противостоять электрическому току достаточной силы. Такое тело будет разложено на свои простые, составные части. Найдено было звено, ухватившись за которое стало возможным вытащить на свет цепочку новых, дотоле неизвестных, элементов.
Дэви перебирал в своей памяти историю открытия химических элементов. Минувшие столетия проносились перед его умственным взором.
Мышьяк — серовато-белые кристаллы, открытые в XIII веке Альбертом Великим. Далеко из тумана веков вырисовывается силуэт этого человека. Он не был королем или вельможей, и титул Великий получил от современников и потомков за необыкновенную эрудицию и глубину научных познаний. Увы, за эти же качества он был обвинен в колдовстве.
Дэви знал не одну легенду, связанную с этим полумифическим человеком.
Сурьма — ее открытие в XV веке связано с именем Василия Валентина. Металлический блеск позволяет отнести сурьму к семье металлов.
^Железо, медь, олово, ртуть — известны со времен глубокой древности. Пять тысяч лет прошло с тех пор, как человек впервые научился выплавлять железо. Медь — мягкий металл, олово еще мягче. В незапамятные времена, когда еще не знали железа, случай натолкнул человека на твер
253
дый сплав меди и олова: бронзовый век предшествовал веку железному. И еще раньше — век каменный, век алюмосиликатов, когда человек совсем не знал простых элементов.
...Сотни тысяч лет назад на юго-западе Европы появился доисторический человек; в его руках кусок еле обтесанного камня — каменный топор, а на плечах звериная шкура.
Проходят тысячи и тысячи лет. Огромные ледники покрывают земной шар. Отступает и снова охватывает землю холод.
Многие животные ушли на юг, где солнце согревало их и голод не заставлял до полного истощения безрезультатно рыскать по пустынным степям Севера.
Мамонт, одетый в меховую шубу, пещерные медведь и лев, исполинский олень выжили и, несмотря на холод, остались в Европе. Каменный топор спас человека от гибели.
Мысли Дэви делают скачок через бесконечную череду веков.
...Эпоха зарождения научной химии: Лавуазье, Пристли, Кавендиш, Шееле и другие открывают новые химические элементы. Становится известным все большее число простых тел, из которых построена вселенная.
Кислород открыт в 1772 году Шееле, но в истории можно найти указания на более раннее знакомство с этим газом.
Леонардо да Винчи в XV веке знал две составные части воздуха, одна из них участвовала в горении.
Пристли, независимо от Шееле, в 1774 году также открывает кислород. Лавуазье устанавливает элементарную природу газа, дающего жизнь, доказывает истину, что вода — сложное вещество. Он же устанавливает неразложимость серы. Еще одним химическим элементом больше, одним научным заблуждением меньше.
Азот открыт англичанином Даниелем Резерфордом в 1772 году. Лавуазье дает этому газу название — азот (безжизненный).
Еще три-четыре элемента, и обзор простых тел закончен. Неужели это все?
Близилось время открытий новых простых тел.
...Это были шесть сумасшедших недель, когда, не выходя из лаборатории, Дэви разрабатывал, пользуясь любимой им геологической терминологией, золотую жилу, самую богатую в его короткой и бурной жизни.
Объектом исследований Дэви на этот раз стали едкие щелочи — едкие натр и кали, занимавшие с незапамятных времен видное место не только в химических лабораториях, но известных мыловарам и аптекарям.
Что же представляли собой эти вещества, приковавшие
254
к себе внимание Дэви? Что было известно о едких щелочах к тому времени, когда они буквально заворожили Гемфри Дэви?
По внешнему виду они походили на беловатые твердые камни. В руках их долго не удержишь: почувствуешь жжение. Ццкие щелочи способны сжечь кожу и мышцы до костей. Отсюда произошло название «едкие щелочи». Получают их обычно из менее агрессивных веществ — поташа и соды.
Едкие щелочи обладают способностью притягивать к себе воду. Раствор едкой щелочи на ощупь скользок, как мыло. Изготовление моющих средств не обходится без едких щелочей, которые способны растворять многие твердые тела, нейтрализовать кислоты, превращая их в соли.
Всякая щелочь, в том числе и едкая,— антипод кислоты. Синяя краска, лакмус, краснеет при соприкосновении с кислотой, щелочь возвращает ей синий цвет.
Химики признавали щелочи за простые, не разложимые более вещества. Для них едкое кали и едкий натр были такими же элементами, как и железо, фосфор, сера.
Только Лавуазье в 1789 году посмел усомниться в этом. Он полагал, что щелочи есть окислы еще неизвестных науке металлов. Последнее обстоятельство и послужило для Дэви одной из причин исследования едких щелочей.
Еще в 1800 году, производя первые опыты с применением вольтова столба, Деви пытался разложить поташ. Ему удалось тогда лишь добиться сгущения раствора щелочи у одного из полюсов батареи.
В 1807 году он снова поставил перед собой задачу раскрытия тайны едких щелочей. Дэви так же, как и Лавуазье, особенным чутьем охотника за новыми химическими элементами подозревал, что щелочи — сложные тела. Вольтов столб достаточной мощности мог бы пролить свет на истинную природу едких щелочей.
Небольшой вольтов столб возвышается на лабораторном столе среди кажущегося беспорядка, столь привычного и необходимого Гемфри Дэви. Несмотря на свой кипучий темперамент, Дэви неумолимо строг и точен в проведении экспериментов и в документации своей научной работы. Ни один факт, ни одна цифра не минует «Большого журнала».
Записи указывали на самое главное...
Первоначально Дэви решил пропустить электрический ток через водный раствор едкого кали. В распоряжении ученого была батарея утроенной силы: первая из 24 пар пластинок цинка и меди, каждая величиной в 12 квадратных дюймов; вторая — из 100 пар в 6 квадратных дюймов
255
и третья из 150 пар пластинок в 4 квадратных дюйма; все три батареи были заряжены раствором квасцов и азотной кислоты.
Эта комбинация трех батарей давала электрический ток большой силы и мощности.
В стеклянном сосуде находился раствор едкого кали. В сосуд были опущены проводники от соединенных в единую батарею вольтовых столбов.
Реакция шла бурно. Из нагревшегося раствора вырывались пузырьки газов — это были кислород и водород, освобожденные потоком неукротимых электронов... Но кислород и водород уже открыты, и Дэви, неоднократно подвергая электролизу воду, получал эти газы.
Таким образом, ничего нового электролиз водного раствора едкого кали Гемфри не принес. Электрический ток разлагал воду, а едкая щелочь оставалась загадкой за семью печатями.
Что чувствовал Гемфри Дэви, потерпев неудачу в первой попытке взять приступом едкое кали? Вот что пишет об этом брат Гемфри, Джон Дэви:
♦Я никогда не забуду его вида, когда он бывал сильно погружен в свое любимое занятие. Его рвение доходило до энтузиазма, который сообщался всем окружающим. С радостным лицом, с руками столь же быстрыми, как и его ум, он был неутомим в своей работе. Успех его радовал, но неудачи и несчастные случаи во время экспериментов, даже происшедшие по вине учеников и помощников, он сносил с большим спокойствием, чем можно было бы ожидать от человека его темперамента*.
Но на этот раз ученики и помощники ни в чем не были повинны. Дело застопорилось всерьез, и нужно было искать новых путей, чтобы заставить едкое кали открыть свою тайну. Дэви не унывал. На то и существуют трудности, чтобы их преодолевать. План действий был изменен.
Присутствие воды, по-видимому, предохраняет щелочи от разложения. С водными растворами едкого кали больше работать нет смысла.
В платиновую ложку, соединенную с сильно заряженной положительной стороной (полюсом) вольтовой батареи из 100 пластин в 6 дюймов каждая, Дэви насыпал щепотку сухого едкого кали. С помощью кислорода, который вдувался в пламя спиртовой горелки, Дэви получил очень высокую температуру огненной струи. Эта струя огня направлялась на едкое кали в платиновой ложке. Щелочь расплавилась и в течение нескольких минут поддерживалась в состоянии ярко-красного каления. Сверху в расплавленную
256
массу щелочи погружалась платиновая проволока, соединенная с отрицательным полюсом батареи.
Электрическая цепь замкнулась. По предположению экспериментатора должно было начаться разложение расплавленного едкого кали.
Что же увидел Дэви?
«При этом разложении,— пишет ученый,— был виден чрезвычайно интенсивный свет и колонна пламени, которая, по-видимому, находилась в связи с выделением горючего вещества и подымалась над точкой соприкосновения проволоки с кали».
Лиловое пламя, которое наблюдал Дэви, свидетельствовало, что сгорает какое-то еще никому не известное вещество. Но как ни старался экспериментатор собрать это вещество, оно оставалось неуловимым. Гемфри оставил запись об этих неудачных попытках поимки неизвестного вещества, горевшего загадочным лиловым светом.
«Я произвел несколько опытов над электризацией кали, расплавленного нагреванием, в надежде собрать горючее вещество, однако безуспешно; мне удалось добиться желанного результата только тогда, когда...»
Но мы на этом прервем запись Дэви.
Вторая серия опытов над разложением едкого кали также окончилась без определенного результата. Ответа на вопрос — сложное или простое вещество едкое кали — пока не было.
Гемфри Дэви анализировал причины повторной неудачи.
Высушенная щелочь не проводит электрического тока, поэтому пришлось прибегнуть к расплавлению щелочи струей пламени из спиртовки. Но необходимо отказаться от пламени спиртовки и щелочь не расплавлять. Нужно построить опыт так, чтобы электричество и плавило и разлагало едкое кали.
Этот октябрьский осенний день начался для Гемфри необычно. И вообще череда последних дней была не похожа на размеренный ритм жизни Дэви до этих злосчастных опытов с едким кали. Недаром его назвали — едкое кали. Твердый орешек, зубы сломать на нем не мудрено.
Рано утром Дэви прошел из своих комнат в лабораторию, которая размещалась этажом ниже. Там его ждал кузен Эдмунд Дэви, его помощник в эти памятные дни.
Гемфри распорядился, чтобы ему дали кусочек сухого едкого кали. Из угла под шкафом он взял платиновую пластинку-кружочек и положил на него поданную ему щелочь: нужно было выдержать кусочек кали на воздухе, чтобы его поверхность немного отсырела.
9 Молодость Сеченова
257
Дэви налаживал батарею; мерно отсчитывал секунды маятник больших старинных часов.
Ученый двигался по лаборатории все быстрее и быстрее. Загремела стеклянная банка, осколки стекла рассыпались по полу.
Желтый лондонский туман превратил это утро в вечер. Сквозь пелену тумана засветились рожки газовых уличных фонарей... По Альбемарл-стрит, словно призраки, плыли мрачные тени прохожих.
Наступило время действовать.
Во второй бэкеровской лекции 20 ноября 1807 года Дэви рассказал об этом решающем опыте:
«Маленький кусочек едкого кали, который в течение нескольких секунд был выставлен на воздух, так что его поверхность сделалась проводящей, был помещен на изолированный платиновый диск, соединенный с отрицательным полюсом интенсивно действовавшей батареи в 250 пластин с поверхностью в 6 дюймов и в 4 дюйма; в то же время платиновая проволока, соединенная с положительным полюсом, была приведена в соприкосновение с верхней поверхностью щелочи. Весь прибор находился на открытом воздухе.
При этих условиях вскоре обнаружилось энергичное действие. Кали начало плавиться у обеих точек электризации, причем у верхней поверхности наблюдалось энергичное выделение газа; у нижней, отрицательной поверхности, газ не выделялся, вместо этого появлялись маленькие шарики с сильным металлическим блеском, внешне ничем не отличавшиеся от ртути. Некоторые из них сейчас же после своего образования сгорали со взрывом и с появлением яркого пламени, другие не сгорали, а только тускнели, и поверхность их покрывалась в конце концов белой пленкой.
Многочисленные опыты вскоре показали, что эти шарики состоят именно из того вещества, которое я искал и которое является легко воспламеняющимся основанием кали».
Когда Дэви увидел крохотные крупинки нового вещества, загоравшиеся в воздухе, он запрыгал по комнате, как ребенок, не будучи в силах сдержать свою радость. Волшебное творение Вольта впервые в руках Гемфри Дэви показало, что оно способно творить чудеса. Дэви подарил человечеству новый химический элемент и назвал его «потас-сиум» — во многих странах мира этот металл так называют и по сию пору. У нас он известен под именем «калий».
За открытием калия последовало скрупулезное изучение его свойств. Для этого потребовалось получить много крупинок нового металла. Это была нелегкая задача из-за
258
строптивого характера калия. Он был страшно агрессивен по отношению к другим химическим веществам, стремился к соединению с ними и особенное пристрастие имел к кислороду. Калий либо мгновенно сгорал в воздухе в момент своего выделения из щелочи, либо постепенно тускнел, терял металлический блеск, покрывался пленкой окиси. Пленка набухала, и вскоре крупинки калия превращались в сероватую кашицеобразную массу. Калий превращался в то, из чего он был добыт,— в едкое кали. Лакмус точно сигнализировал об этом — окрашивался в синий цвет.
Попробовал Дэви бросить калий в воду. Его удельный вес оказался меньшим, чем вода, и тонуть он не стал.
Действие калия на воду, по словам Дэви, «...сопряжено с некоторыми очень красивыми явлениями. Брошенный в воду или приведенный в соприкосновение с каплей воды при обыкновенной температуре, он чрезвычайно энергично разлагает ее, так, что происходит мгновенный взрыв, появляется яркое пламя, и в результате получается раствор чистого кали (едкого кали — щелочи)». Если шарик калия поместить на лед, то он сейчас же загорается ярким пламенем, причем во льду образуется углубление с раствором едкого кали.
Следовали опыт за опытом для уяснения всех сторон буйного характера вновь открытого металла. В кислотах он самовозгорается, так же, как и в воде, горит лиловым пламенем, нагретый в смеси с окислами других металлов легко их восстанавливает, отнимая от окислов кислород. Таким образом, Дэви получил из окисей цинка и свинца сплав этих металлов с калием. Свойство калия восстанавливать из окислов металлов чистые металлы или их сплавы было взято Дэви на особую заметку. Острый ум Дэви мгновенно оценил это свойство калия. Арсенал средств для разрушения сложных веществ, для открытия новых химических элементов пополнился. Теперь и вольтов столб и калий будут взяты на вооружение Дэви в его охоте за элементами.
По-прежнему оставались трудности сохранения калия. В чем его хранить, какую клетку цридумать, чтобы обуздать его дикий нрав?
Поиски длились долго, и, как это часто бывает, решение оказалось ближе, чем его ждали. В обычном керосине резвый металл успокоился, умиротворился, не окислялся, не самовозгорался, не терял металлического блеска. В керосине калий можно было хранить в течение долгого времени.
Точка плавления калия оказалась равной 52,5°С. При охлаждении он превращался в мягкое и ковкое твердое тело с блеском полированного серебра. Вблизи точки замер
259
зания воды калий становился хрупким. Разбитый на кусочки, он обнаруживал кристаллическое строение, под микроскопом калий казался составленным из прекрасных кристалликов совершенной белизны и безукоризненного металлического блеска.
Чтобы превратить калий в пар, требовалась температура, близкая к красному калению. Калий оказался хорошим проводником электричества и прекрасным проводником тепла.
Колебаний в том, что калий металл, у Дэви не было. Его сродство кислороду не противоречило свойствам металлов. Его легкость — калий плавал не только на поверхности воды, но был легче керосина,— и это качество также не смущало Дэви. Изучив общие свойства калия, Дэви спешил с постановкой экспериментов над другой щелочью.
Едкий натр — родной брат едкого кали. Успех с разложением едкого кали и получение из него металла окрылил Гемфри Дэви. Он должен разрушить и едкий натр, чтобы получить еще один никому не известный металл. Для разложения натриевой щелочи понадобился вольтов столб большей мощности, чем при опытах с едким кали.
Путь к разложению едкого натра был тот же, что и в случае с едким кали. Батарея из двухсот пятидесяти пластин, примененная Дэви для разложения едкого натра, принесла полный успех. Полученные металлические шарики напомнили своего сородича — калия.
В момент образования новорожденные металлические крупицы часто сгорали, а иногда взрывались, распадаясь на мельчайшие шарики, которые с большой скоростью проносились по воздуху. Образуя удивительно красивые огненные струи, они напоминали маленький фейерверк.
Свойства металла из едкого натра, названного Дэви со-дием, а у нас известного под именем натрия, были схожи со свойствами металла из едкого кали. Это были металлы-близнецы. Только натрий был немного спокойней калия. Он также оказался легче воды, также питал особое пристрастие к кислороду, окислялся на воздухе, покрываясь пленкой едкого натра. Брошенный в воду, натрий не горел, но, шипя, с бурным выделением газа, подпрыгивая, бегал как полоумный по поверхности воды. Сохранять его приходилось так же, как и калий, под слоем нефти или керосина.
Характеризуя далее натрий, Дэви указывал на его белый цвет, непрозрачность, металлический блеск, сходство с серебром, ковкость и мягкость, большую, чем у каких бы то ни было металлов.
260
«Если слегка надавить на него платиновым ножом, он расплющивается на тоненькие листочки»,— писал Дэви. Натрий так же, как и калий, хорошо проводит электричество и тепло. Химические действия натрия аналогичны действию калия.
Подводя итог исследованиям свойств вновь открытых металлов, Дэви писал:
«Можно ли назвать основания кали и натра металлами? Большинство ученых, которым был поставлен этот вопрос, отвечали на него утвердительно. Действительно, тела эти сходятся с металлами по своему блеску... ковкости, способности проводить тепло и электричество и по своим химическим свойствам.
Вряд ли можно считать их низкий удельный вес достаточной причиной для того, чтобы выделить их в новую группу тел, ибо и между металлами наблюдаются в этом отношении заметные колебания: так платина в четыре раза тяжелее теллура, да и, кроме того, при установлении научного разделения тел на группы нужно руководствоваться аналогиями между возможно большим количеством свойств.
Поэтому я полагаю, что при построении названий для этих металлов нужно воспользоваться теми же окончаниями, что и для других новооткрытых металлов. Окончания эти по своему происхождению являются латинскими, но теперь они сделались у нас общеупотребительными.
Калий и натрий — вот имена, которые я решил дать двум новым веществам, и какие бы изменения ни произошли впоследствии в теориях, касающихся строения тел, вряд ли в этих терминах может содержаться ошибка; их можно рассматривать просто как обозначения для металлов из кали (англ.— поташ) и натра (англ.— сода). По поводу этого словообразования я советовался со многими выдающимися учеными нашей страны, и большинство одобрило мой выбор.
Возможно, что названия эти более выразительны, чем изящны, но я не мог найти других названий, говорящих о каком-нибудь специфическом свойстве, которое не было бы общим у обоих элементов. Для основания натра можно было бы еще почерпнуть что-нибудь в греческом языке, но аналогичный метод нельзя применить к основанию кали, ибо древние, по-видимому, не знали различия между двумя видами щелочей».
Неделя шла за неделей, Дэви лихорадочно работал, все глубже продвигался в страну неведомую, непознанную. Вольтов столб в его руках продолжал совершать чудеса.
261
Об открытиях Дэви говорила вся страна. В газетах можно было найти такие строки: «Как? В обыкновенной соде, в обыкновенном поташе обнаружены такие удивительные металлы! Они легче дерева и воды, легче воска, горючее угля? Ведь это невероятно! Наши ученые превзошли средневековых алхимиков! Завтра они, пожалуй, электрическим способом из нюхательного табака начнут производить золото, алмазы или еще черт знает что!»
В далекой от Англии Северной Пальмире — Петербурге — сын крепостного крестьянина, русский химик и физик Семен Прокофьевич Власов, одним из первых в Европе тем же, что и Дэви, путем электролиза получил щелочные металлы — натрий и калий.
А химик из Королевского института, слава о котором гремела по всей Англии, не разгибая спины трудился в лаборатории. Он уже пробовал разлагать энергией вольтова столба барит, предвидя в нем еще не открытый химический элемент — барий. Он разлагал стронциан в поисках еще не известного никому стронция. Все дальше шел молодой ученый. Он мечтал о разложении извести, в которой предполагал обнаружить кальций. Он пророчески видел в магнезии магний и, наконец, пробовал при помощи вольтова столба разорвать цепи, связывающие кислород с еще неведомым металлом в глиноземе (окиси алюминия).
В записках Дэви можно найти строки: «Если бы мне посчастливилось получить металлическое вещество, которое я ищу, я предложил бы для него название — алюминий».
Труднейшая задача получения из глинозема алюминия была поставлена в науке впервые. Дэви был настолько убежден в том, что в глиноземе скрывается еще никем не виданный металл, что заранее дал ему название.
На протяжении последующих лет Дэви неоднократно возвращался к опытам по разложению окиси алюминия — глинозема. Будто пророчески видел великое будущее крылатого металла.
...Дэви дописывал текст своей второй бэкеровской лекции; завтра с кафедры Королевского общества он поведает миру о своих открытиях.
«Широкое поле для исследований открывается благодаря активности и сродству новых металлов, выделенных из щелочей».
Дэви говорит о важнейшем значении калия и натрия для будущих открытий в химии.
262
«Металлы эти, несомненно, станут могущественными средствами анализа, и, обладая сродством кислороду, которое превышает сродство всех других известных веществ, они, возможно, окажутся более действенными, чем электричество по отношению к некоторым из еще не-разложенных тел.
Так я нашел, что калий окисляется в углекислоте, разлагая ее; будучи нагрет с углекислой известью, он выделяет углерод. Подобным же образом он окисляется и в соляной кислоте...
Знакомство с природой щелочей и выводы, по аналогии к которым оно приводит, открывает ряд новых горизонтов. Быть может, оно позволит решить многие геологические проблемы и покажет, что в образовании горных пород принимали участие силы,
о существовании которых до сих пор и не подозревали.
Легко было бы еще более распространить эти гипотетические соображения, но я не хочу далее отнимать время у общества, тем более что целью моей лекции было не построение гипотез, а изложение ряда новых фактов».
Да, целью лекции Дэви было не построение гипотез, а изложение ряда новых фактов! Обладавший даром научного предвидения и богатой фантазией, Дэви был не в силах усмотреть в далекой дымке грядущего, как человечество использует вновь открытые им металлы и их соединения.
Несколько слов об одном из «крестников» Дэви, о «гороскопе» калия.
Юстус Либих, ОДИН И8 основоположников химии, говорил более ста лет назад: «Без калия и фосфора, без этих
263
двух элементов, не может быть плодородия наших полей». Ему и пришла по тому времени фантастическая мысль удобрять поля калием, азотом, фосфором.
...И минули с тех пор многие и многие годы.
Калийные и фосфорные удобрения в наше время сотнями тысяч тонн поступают на поля. Сказочно выросли урожаи.
В СССР запасы окиси калия превышают запасы этого ценнейшего вещества во всем мире. В нашей стране выросла мощная промышленность для получения солей калия и сопутствующего калию в виде «отбросов» магния — металла, который так же обязан своим рождением Гемфри Дэви, металлу, открывшему невиданные возможности в строительстве самолетов и ракет.
...Заканчивался 1807 год. Он прошел для Дэви в напряженном труде и ознаменовался выдающимися открытиями металлов из щелочей — калия и натрия. Огромное нервное напряжение этого года и предыдущих лет сказалось на организме Гемфри Дэви, получившем серьезный урон, когда он исследовал газы еще в Бристоле. Гемфри Дэви, импульсивному человеку, нужно было немногое, чтобы он вышел из обычного равновесия. Сейчас же нервы ученого стали вести себя чрезвычайно странно. Дэви очень переутомился. Некоторая неорганизованность, вообще свойственная ему, особенно резко проявилась в эти штурмовые месяцы его жизни.
Однажды он пулей ворвался в свою лабораторию.
Накидка полетела на стул. Вьющиеся волосы закрывали высокий лоб, глаза лихорадочно блестели. Капли пота скатывались по лицу. Гемфри спешил приняться за работу. Десятки новых экспериментов, задуманных им, могут оказаться не сделанными: Дэви вдруг испугался, что умрет, не окончив работы, и удесятерил и без того бешеные темпы своей научной деятельности.
Раскаленные пары калия окружили белоснежную мелкую россыпь смешанного с железными опилками глинозема, и смесь расплавилась.
Через некоторое время после окончания реакции Дэви извлек из тигля белый слиток. Он испробовал его крепость. Слиток был тверже и легче железа. Гемфри подверг химическому анализу полученный сплав. В смеси с железом оказался неведомый металл. Глинозем был разложен, но чистого алюминия, как об этом уже говорилось, Дэви не получил.
«СМЕРТЬ ПОТРЯСЛА СВОИМ КОПЬЕМ, НО НЕ УДАРИЛА»
Предел жизненных сил Гемфри был превышен. Наступила депрессия, нервы не выдержали неестественного подъема последних месяцев и недель. Дэви серьезно заболел. Это произошло 23 ноября 1807 года после его очередной лекции в Королевском институте.
Немедленно вызванные врачи не смогли установить диагноза заболевания. Но болезнь прогрессировала. Дэви терял сознание, высокая температура сжигала его грудь. Шли недели, улучшения не наблюдалось. Медицина была бессильна ему помочь.
Но это был золотой период в жизни Гемфри Дэви, и все, даже болезнь, увеличивало его славу и популярность. Если бы он занимал высочайшее положение в обществе, был бы крупнейшим политическим деятелем или принадлежал бы к узкому кругу высшей аристократии, то и тогда ему не оказывалось бы большего внимания, о нем не заботились бы и не тревожились так, как в эти дни его тяжелой болезни.
Когда недуг достиг критического состояния, врачи не успевали давать ответы многочисленным посетителям, осаждавшим дом, где жил ученый.
Во время болезни Дэви толпы лондонцев собирались у витрин редакции «Таймса» и других газет; ежедневно вывешивавшиеся бюллетени о здоровье Дэви приносили тревогу. И Лондон гудел, как встревоженный улей. Дэви любили во всех слоях общества. Его смелые социальные идеи, его материализм, обаяние его поэтической личности и, главное, слава мирового ученого — все привлекало к нему сердца сдержанных в проявлении своих чувств англичан.
Несколько врачей ухаживали за Гемфри с исключительным вниманием и бескорыстием, как близкие друзья. Двое из них — доктора Бэбингтон и Фрэнк действительно на протяжении ряда лет были приятелями Дэви.
Доктор Бэйли, призванный, когда положение больного ухудшилось и ему грозила наибольшая опасность, не отставал от Бэбингтона и Фрэнка в преданности и самоотверженности.
Гемфри Дэви борется за свою жизнь, положение еще остается критическим. Но в Королевском институте все идет так, как этого хотел бы сам Гемфри. Назначено открытие курса лекций, в лаборатории ведутся практические занятия.
Январь 1808 года. Доктор Дибдин начинает вводную лекцию в большом зале Королевского института. Лектор
265
взволнован, он говорит о человеке, который олицетворяет собой Королевский институт. Он говорит о Гемфри Дэви:
— Леди и джентльмены! Прежде чем я привлеку ваше внимание к открытию этих лекций, цикл которьП£ я буду иметь честь читать в этом сезоне, разрешите мне отвлечься на несколько минут, чтобы остановиться на тех странных условиях, при которых в очередной раз открывается институт.
Разрешите объяснить, как это случилось, что мне, а не более достойному лицу, выпала честь первым обратиться к вам с речью.
Управление нашего института поручило мне сообщить вам весть, которую ни один ум, не чуждый лучшим чувствам человеческой натуры, не может слышать без смешанного чувства радости и печали.
Мистер Дэви, могучие и частые речи которого, подкрепленные замечательными экспериментами, вам так хорошо известны, последние пять недель находился между жизнью и смертью.
Влияние последних экспериментов, иллюстрирующих его выдающиеся открытия, сильная слабость, вызванная работой, привели его к горячке, настолько сильной, что она грозила смертью.
Про него можно сказать языком нашего бессмертного поэта Мильтона, что «смерть своим копьем потрясла, но не ударила».
Если бы небо захотело лишить мир пользы, приносимой его оригинальным талантом и колоссальным трудолюбием, то того, что он уже совершил, было бы достаточно, чтобы поставить его в один ряд с величайшими научными деятелями этой страны.
Чтобы это не показалось ни на чем не основанной похвалой, я по просьбе правления института кратко начерчу уже пройденный им путь и назову изобретения, о которых лишь упоминал.
Й сделаю это с тем большим удовольствием, что мне доставлена честь и право говорить о трудах Гемфри Дэви...
Произведя обзор научным трудам Гемфри Дэви, доктор Дибдин подводил итоги деятельности выдающегося ученого i
— Его открытия могут по всей справедливости занять место в одном ряду с наиболее значительными исследованиями, когда-либо сделанными в химии. Большой прорыв в химической системе был заполнен. На самые темные ее участки был пролит блестящий свет. Перспективы становились все многочисленней и интересней, химия превра
266
щалась в науку, и человек, знающий химию, все больше восхищался ею и надеялся на будущие значительные результаты.
Имя мистера Дэви ввиду этих открытий будет занесено на скрижали науки наряду с наиболее знаменитыми мыслителями его времени. Его страна будет иметь достаточно причин, чтобы гордиться им, и не малая честь для Королевского института, что эти выдающиеся открытия были сделаны в его стенах, в этой лаборатории, этими инструментами, столь удачно отданными в пользование самому замечательному профессору химии...
Для нас и для каждого просвещенного англичанина будет ясно, что страна, родившая на свет двух Бэконов и Бойля, в эти дни показала себя достойной своей прошлой славы работами Дэви...
Болезнь Гемфри Дэви, как бы она серьезна ни была, в настоящее время начинает проходить, и мы можем надеяться, во всяком случае по последним известиям, что период выздоровления уже недалек...
Понадобилось еще много недель, прежде чем Гемфри смог встать на ноги. К исполнению своих обязанностей профессора химии Дэви приступил лишь 12 марта 1808 года. Умственная деятельность восстанавливалась значительно быстрее, чем физические силы. Не имея возможности работать в лаборатории, Гемфри, выздоравливая, занимался отделкой своей поэмы, начатой несколько лет назад. Позже он ее напечатал. На заглавном листе рукописи рукою Дэви было начертано:
«Написано после выздоровления от тяжелой болезни».
В дневнике, который вел Гемфри, об этом времени записано: «Январь, 24. Выздоравливаю после девятинедельной горячки, весьма опасной и с желчными припадками». Здесь же вслед за двумя строчками о перенесенной тяжелой болезни Дэви, стремящийся к любимому делу, пишет «Заметки о новых открытиях и экспериментах, сделанных г. д.». Далее следуют его суждения по поводу сложных тел и возможности их разложения на химические элементы.
Пока Гемфри Дэви боролся с опасным недугом, сообщение об открытии щелочных металлов обежало весь мир. Вековая легенда о том, что щелочи — простые тела, была разрушена смелыми экспериментами Гемфри Дэви.
Ученые многих стран после сенсационных исследований Дэви занялись опытами с использованием энергии вольтовых столбов. Предпринимались бесчисленные попытки с помощью электрического тока разлагать всевозможные ве
267
щества. Окрыленные триумфом Дэви, ученые подкладывали под полюса батарей все, что попадало под руку, пробовали разлагать заведомо элементарные вещества. Впрочем, спекулятивное увлечение постепенно утихало...
После выздоровления Дэви в его лаборатории появился новый большой вольтов столб, построенный на средства, собранные по подписке во время его болезни.
Воображение Гемфри Дэви не ставило пределов расщепляющему действию электрического тока. Казалось, достаточно усилить вольтов столб, и ни одно сложное тело не устоит перед его разрушающим действием. Все элементы сложных тел будут выяснены, и основы химии непоколебимо установлены.
Ученые начала XIX века верили в неисчерпаемые силы такого, в общем, скромного прибора, каким был вольтов столб.
При помощи вольтова столба Дэви и его коллеги пытались проникнуть в тайны строения химических веществ. Пытливый ум человека напрягал усилия для познания строения материи...
Через полтора века, в наши дни, снова идет грандиозное наступление на тайны строения материи. Наука познает закономерности жизни микромира, в ее руках уже не вольтов столб, а могучие синхрофазотроны. Открываются новые и новые частицы сложнейшей системы ядра химических элементов, открываются новые элементы, число их уже давно перевалило за сто...
Таков длинный и славный путь науки, у истоков которой стоял Гемфри Дэви, один из первых охотников за химическими элементами.
В первой после выздоровления лекции из цикла на тему «Электрохимическая наука» Дэви сопоставлял прошлое и настоящее химии:
«Здесь мы увидим, что вольтов столб дал нам ключ к наиболее таинственным и неизведанным закоулкам природы. До этого открытия наши средства были очень ограничены: поле пневматических (изучение газов.— Б. М.) изысканий было истощено, и для экспериментатора оставалось немногое — только мелочные и кропотливые процессы.
Теперь же перед нами безграничное пространство нового в науке, неисследованная страна благородного и плодородного вида, обетованная для науки земля».
Удивительные для людей нашего века слова! Химия,
268
научная химия, только начиналась, а ее блестящий представитель сетует на то, что экспериментатору в ней нечего делать, все изучено, остались лишь мелочные и кропотливые процессы!
Была ночь, когда Гемфри Дэви сблизил два полюса своей вновь построенной батареи. Ярчайший свет на несколько секунд ослепил ученого.
Дэви получил то, что позже назвали вольтовой дугой. Это был второй случай получения загадочного света в истории науки. Первую вольтову дугу шестью годами ранее Дэви в далеком Петербурге наблюдал другой ученый — Василий Владимирович Петров.
Свои исследования он опубликовал в 1803 году в книге под длинным заглавием: ;
«Известие о гальванивольтовских опытах, которые производил профессор физики Василий Петров посредством огромной наипаче батареи, состоящей иногда из 4200 медных и цинковых кружков и находящейся при Санкт-петербургской Медико-хирургической академии».
Среди других опытов, описанных в этом сочинении Петрова, было сообщение об открытии вольтовой дуги.
Петров клал на стеклянную пластинку небольшие брусочки угля, соединял их с проводниками своей уникальной батареи и сближал угли до расстояния от 7,5 до 2,5 миллиметра.
Каждый раз при сближении углей друг с другом обнаруживался «весьма яркий белого цвета свет или пламя», от которого, по словам Петрова, «темный покой довольно ясно освещен быть может».
Петров не ограничился открытием явления вольтовой дуги, он производил опыты восстановления металлов из их окислов. Таким образом, ему удалось при помощи вольтовой дуги и угольного порошка получать из окиси свинца свинец, из окиси ртути ртуть и другие металлы из их окислов.
Петров добился сваривания металлов в пламени вольтовой дуги. Современная электросварка восходит к замечательным опытам Петрова: он основоположник этой отрасли техники.
Трудной была жизнь Василия Петрова, замечательного и самобытного ученого мирового значения. Открытия и научные работы Петрова на многие годы оказались забытыми. Затерялась даже его могила, на ней не было надгробной доски, не сохранилось и портрета ученого...
269
Но вернемся в Лондон. Зима 1808 года. Зима по-лондонски — трава в Гайд-парке зеленеет и в январе и в феврале... Лондонские туманы бывают не так часто, как об этом пишут в книгах.
Весеннее солнце в феврале!
Дэви, по обыкновению, носится метеором по лаборатории. Он снова колдует над глиноземом и разговаривает сам с собой:
— Где эта железная проволока? Ведь только что я видел ее на столе.
Через несколько минут поисков проволока найдена и накаляется в пламени газовой горелки.
На платиновую пластинку насыпана горка белоснежного глинозема. Гемфри берет светящуюся в полумраке лаборатории раскаленную железную проволоку и осторожно вводит ее в глинозем. Электроды мощной батареи подводятся к концам раскаленной железной проволоки, и возникает ослепительная вольтова дуга. Опыт начался, электрический ток ринулся на штурм глинозема. Это сложное тело, по убеждению Дэви, содержит в себе металл, которому он уже успел дать имя — алюминий. В пламени вольтовой дуги окись алюминия — глинозем расплавился, и сама железная проволока тоже расплавилась.
Комок неизвестного вещества остывал бесконечно долго. Дэви терял терпение. Он хотел поскорее выяснить, что же он получил. Испытание металлического комка показало почти те же результаты, что и в первый раз, когда Гемфри пытался разложить глинозем. В сплаве присутствовало железо, его источник — железная проволока и неизвестный металл. Чистого алюминия и на этот раз Дэви не получил. Даже знаменитый вольтов столб, делавший в руках Дэви чудеса, не смог дать определенных результатов. Почему? Ответ на этот вопрос пришел не скоро: минули многие десятилетия, прежде чем наука смогла распознать тайну алюминия.
Планета Земля переживала свое раннее детство. Остывал еще раскаленный земной шар. Проходили бесконечной чередой миллионы и миллионы лет. Поверхность Земли покрывалась тонкой корой, но кора прорывалась, и расплавленные массы горных пород заливали огненной лавой огромные территории. То были океаны огня.
В процессе охлаждения земного шара происходило непрерывное перемешивание химических элементов, из которых он состоял. Более тяжелые элементы — железо, золо
270
то, свинец, никель — оказывались в глубинах земли. На поверхности земного шара, естественно, скапливались более легкие элементы. И среди них были алюминий и кремний. Они вместе с кислородом образовывали как бы шлаковый слой, всплывавший на поверхность земли. Земная кора, которая, остывая, становилась все прочнее, в большой степени состояла из соединений алюминия, кремния и кислорода. Они составили более восьмидесяти процентов веса земной коры — литосферы.
Остроумными способами ученые измерили удельные веса земной коры и всей массы земного шара. Соответственные цифры были равны двум с половиной и пяти с половиной. Очевидно, в недрах земли под тонкой пленкой земной коры преобладают уже названные тяжелые металлы — железо, никель, свинец, золото и серебро. Они-то значительно повышают общий удельный вес земли.
Не нужно думать, что распространение элементов во всех слоях земли строго соответствовало их удельным весам. За долгие эпохи развития нашей планеты произошли огромные перемещения и передвижки в земной коре. Создавались горы, солнце и ветер разрушали их. Поверхность земли стала похожей на морщинистое печеное яблоко. Лава прорывала земную кору. Происходили катастрофические извержения вулканов. Благодаря этим грозным явлениям из глубины на поверхность прорывались тяжелые элементы. Легкие и тяжелые элементы частично менялись местами. И все же большинство горных складок на земле образовалось из алюмосиликатов — соединений кремния и алюминия с кислородом. Панцирь земли — алюмосиликаты — плотно охватывает всю ее поверхность.
Плывут облака, задевая вершины Гималаев, в небо устремились гордыми головами горные массивы Памира. Алюминий и кремний в земной коре — это и Альпы, и Анды, и Гималаи, и Памир.
Несколько оборотов вспять совершил маховик истории. Перед нами Древний Египет. Десятки тысяч изможденных людей строят пирамиды и храмы. Эти памятники жестокого труда пересекают тысячелетия — алюмосиликаты бесконечно старше многих современных народов.
Еще несколько оборотов колеса — и перед нами древний Вавилон. Вавилонская клинопись связана с алюминием — письмена наносились на глиняные дощечки, подвергались обжигу. Дощечки живут до сих пор и рассказывают нам о многом чудесном, спасенном ими от забвения.
Опять вертится маховик истории. Человек каменного века борется за жизнь. Природные алюминиевые соедине
271
ния — те же алюмосиликаты — приходят на помощь: каменным топором • человек побеждает смерть, борется за существование. Человечество знакомо с неметаллическими соединениями алюминия с доисторических времен. Камни и глина — старые друзья человека. Давно знают люди и прекрасные драгоценные камни: синий сапфир, кроваво-красный рубин, похожий на весеннее небо, лазоревый камень бирюзу. Все это — и камни, и глина, и самоцветы — представители огромной семьи алюминиевых соединений.
Но как случилось, что алюминий, составляющий свыше семи процентов веса земной коры, был исследован лишь только в течение последнего века? Почему железо, содержание которого в земной коре вдвое меньше алюминия, выплавляют сотнями миллионов тонн, а производство алюминия не так давно не превышало сотен тысяч тонн. Не случайно в прошлом веке алюминий за его дороговизну и сложность выплавки назвали «серебром из глины».
Тайна алюминия заключалась в его прочнейшем союзе с кислородом. Окись алюминия, глинозем — одно из самых прочных соединений кислорода с металлами. Попробуйте разложить глинозем на его составные части — алюминий и кислород!
Попытались подвергнуть окись алюминия, смешанную с углем, действию высоких температур, чтобы таким способом получить чистый алюминий. Увы! Узы, соединявшие алюминий с кислородом, можно было разорвать лишь при температуре в две тысячи градусов, но при такой температуре только что появившийся металл испарялся и в парообразном состоянии немедленно вновь соединялся с кислородом воздуха, оседая в виде хлопьев окиси алюминия, глинозема.
В таком безвыходном положении оказались ученые, пытавшиеся этим способом разрешить задачу получения серебристого металла.
После этого длительного, но далеко не полного экскурса в историю алюминия легко представить, какой крепкий орешек пытался раскусить Гемфри Дэви.
Убедившись в невозможности испытанным способом выделить из глинозема чистый алюминий, Дэви искал новые объекты для электрохимического разложения. Охота за новыми, еще не известными человечеству элементами продолжалась.
Для более ясного обозначения пути, по которому в глубь неведомого продвигался Гемфри Дэви, имеет смысл в самых сжатых чертах дать представление о системе химических элементов, какой она была до Менделеева и какой стала
272
после открытия им великого закона — периодичности свойств элементов.
В 1807 году современник Дэви, известный английский химик и физик Джон Дальтон возродил атомистические воззрения древних, согласно которым всякое вещество состоит из неделимых частичек материи, атомов. Дальтон ввел в химию понятие атомного веса. «Новая система химической философии» — так называлось основное сочинение Дальтона, в котором он изложил свою теорию. Вторая часть этого труда, появившаяся в свет в 1810 году, была посвящена Гемфри Дэви. Атомный вес водорода Дальтон принял за единицу. Атомные веса других химических элементов соотносились к атомному весу водорода. Атомная теория Дальтона, к которой Гемфри Дэви отнесся скептически, послужила основанием для дальнейшего развития химии.
Якоб Берцелиус — шведский ученый, многие годы состоявший в дружеской переписке с Гемфри Дэви,— в 1811 году в целях систематизации уже известных химических элементов подразделил их на две большие группы, имеющие ряд сходных признаков. Первая группа, вошедшая в химию под названием «металлов» (от древнееврейского глагола «matal»— «ковать»), характеризовалась непрозрачностью, наличием специфического блеска и, наконец, способностью при электролизе солей металла отлагаться на отрицательном полюсе вольтовой батареи.
Неметаллы, или, как их называли, металлоиды, отличались от металлов тем, что не имели их свойств.
Это деление, как выяснилось позже, было весьма условным: некоторые металлы, как, например, олово и сурьма, имели смешанные свойства, их можно было назвать метал-ло-металлоидами.
В 1829 году Иоганн Доберейнер собрал сходные по своим признакам элементы, как, например, открытые Дэви кальций, стронций и барий (об этом пойдет речь ниже), в тройки и заметил, что атомный вес промежуточного элемента равен арифметическому среднему двух крайних. Таким образом, Доберейнер впервые пытался вывести зависимость между атомным весом и свойствами элемента.
Во второй половине XIX века Александр Шанкуртуа, Джон Ньюленде, Лотар Мейер расположили элементы в порядке возрастания их атомного веса. Например, натрий, атомный вес которого 23, магний, алюминий и т. д. до хлора, атомный вес которого 35,5, и дальше, но следующий по величине атомного веса элемент калий с атомным весом 39 очень похож по своим свойствам, как это убедительно показал в начале века Дэви, на натрий. За ним поместили
273
кальций, очень напоминающий следующий за натрием магний.
Таким образом, ученые заметили некоторую повторяемость свойств элементов. Но многие элементы тогда еще не были открыты, поэтому в системе были частые пропуски.
И наконец, в 1871 году великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев расположил химические элементы по горизонтали в порядке возрастания их атомного веса, а по вертикали собирал их в группы с близкими друг к другу свойствами; первая вертикаль — элементы, похожие пг своим свойствам на натрий и калий, вторая вертикаль — элементы со свойствами магния, кальция и бария и т. д. При этом получилось, что в третьей вертикали после алюминия должны были стоять два элемента, тогда еще не известные. Менделеев предположил, что эти элементы в природе существуют, но еще не открыты. Исследуя свойства соседних элементов, Менделеев гениально предсказал все свойства двух еще не открытых элементов. Позже открытые скандий и галлий до малейших подробностей обладали свойствами, которыми их наделил Менделеев. Провозглашенный закон гласил: все химические и большинство физических свойств элементов являются периодической функцией их атомного веса.
Периодический закон Менделеева стал путеводной нитью для работы всех последующих поколений химиков.
Дальнейшее развитие науки — открытие супругами Кюри радиоактивности, работы Нильса Бора и других исследователей показали, что атом неделим, но, в свою очередь, является сложной системой, которую в простейшем случае (в начале XX века) представляли состоящей из положительных (протонов) и отрицательных (электронов) частиц.
Английский ученый Генри Мозли на основании этих более поздних исследований так формулировал периодический закон Менделеева: «Свойства элементов есть периодическая функция положительного заряда ядра атома».
Периодическая система элементов Менделеева, до величайших открытий нашего времени в области строения ядра атомов, складывалась из девяти вертикальных групп элементов с одинаковыми свойствами (причем одна группа — инертных газов гелий, неон и др.— не была ни открыта, ни даже предсказана Менделеевым, но она вполне подтверждает его периодический закон) и семи горизонтальных групп, так называемых периодов групп с неповторяющимися свойствами. Атомный номер каждого элемента численно равен
274
количеству протонов — положительно заряженных частиц ядра-
Из обзора этой таблицы становится особенно наглядной титаническая работа, которую совершил Гемфри Дэви, открывший большинство элементов первой и второй групп; свойства соединений элементов седьмой группы (хлор, йод, фтор) также впервые были тщательно изучены Гемфри Дэви.
Пользуясь уже хорошо испытанным электрохимическим методом, Гемфри Дэви продолжал задавать вопросы природе веществ, определять, какие из них простые и какие сложные, таящие в себе неведомые химические элементы. На этот раз исследованию должны были подвергнуться вещества, в составе которых Дэви прозорливо предвидел присутствие щелочноземельных металлов (вторая группа элементов), еще до тех пор не известных науке.
Эти металлы в свободном состоянии не встречаются, по-тому-то никто их никогда и не видел. Они входят в состав сложных соединений, таких, как минерал барит — тяжелый шпат, который на Кавказе, в Грузии, образует целые горы.
Барит с добавлением хрома и кислорода давным-давно известен художникам под названием баритовая желть. Это вещество способно в талантливых руках мастера чудесно передавать золотые краски осени.
В 1808 году Гемфри Дэви с помощью вольтова столба, этой замечательной палочки-выручалочки, разложил барит, и перед изумленными современниками появился еще один новый химический элемент — металл барий.
Одной тайной на свете стало меньше.
Лабораторию Королевского института давно уже можно было называть фабрикой по производству новых химических элементов. Дэви продолжал удивлять и потрясать научный мир.
На очереди был следующий элемент из той же второй группы щелочноземельных металлов.
На дне океанов живут моллюски, кораллы; причудлива и прекрасна игра их форм и цветов. Растут, веками поднимаясь со дна морского, и наконец появляются, освещенные жаркими лучами южного солнца, сказочные атоллы — коралловые острова. Своим рождением они обязаны живым существам, всю свою жизнь выделявшим известь.
Неповторимые по красоте мраморные плиты, колонны, скульптуры, то черно-строгие, то розовые, как кожа человека, с сотнями и тысячами рисунков, способных восхитить самых строгих ценителей прекрасного. Известняк, мел, мра
275
мор — много их разнообразных соединений, таящих в себе еще не открытый, не известный науке металл.
Земная кора — условное понятие, шестнадцать километров в глубь земного шара от дневной поверхности. Почти четыре процента веса земной коры принадлежит металлу, который искал Гемфри Дэви.
Вольтов столб в руках Дэви продолжает творить чудеса. В известняке, разбитом энергией электричества, таился металл — кальций. Дэви изучает свойства только что открытого им металла. Кальций — белый блестящий металл, плавится при температуре 780°, тягуч и легко поддается обработке. Кальций всего лишь в полтора раза тяжелее воды и в пять раз легче железа; его главное замечательное свойство — легкость.
Более ста пятидесяти лет прошло с тех пор, как Дэви открыл кальций, но только в наши дни наступает время широкого использования этого металла в науке и технике.
Третьим из группы щелочноземельных металлов был открыт стронций. В 1787 году в окрестностях местечка Стронциан (Англия) был найден неизвестный минерал, получивший название стронцианита.
Через пять лет было высказано предположение, что в стронцианите содержится металл.
И в 1808 году при помощи электролиза гидрата окиси стронция Дэви открывает этот металл и дает ему имя стронций. Если соли бария окрашивают бенгальские огни и фейерверки в зеленый цвет, то соли стронция — в яркий пурпур. Барий и стронций — правильнее, сернистые соединения этих элементов — в присутствии сернистых же тяжелых металлов фосфоресцируют, то есть светятся в темноте.
Открытый через столетие родственный по периодической системе элементов барию сказочный радий излучает в пространство огромные количества лучистой энергии; но это явление совершенно другого характера и не имеет ничего общего с фосфоресценцией бария и стронция. Барий, стронций и радий имеют много других сходных свойств, потому они и находятся в одной группе элементов менделеевской таблицы.
Итак, в течение двух лет (1807—1808) Гемфри Дэви открыл пять металлов: калий, натрий, кальций, барий и стронций. Не только открыл их, но и детально изучил. Свойства вновь открытых металлов благодаря труду Дэви оказались исследованными лучше, чем особенности металлов, известных человечеству со времен седой древности.
Интерес Дэви к судьбе химических элементов в земной коре был разнообразен и глубок. Пожалуй, ни у одного из
276
химиков той поры не возникало столько вопросов в связи со сложным процессом жизни различных элементов на земле. На этой основе уже в другую эпоху возникла новая наука — геохимия, изучающая кругооборот веществ в природе и химическую историю их на нашей планете.
Один из крупнейших и известнейших геохимиков современности — академик Владимир Иванович Вернадский в своих знаменитых «Очерках геохимии», отмечая, что «геохимия — наука двадцатого столетия», указывал на участие Гемфри Дэви в формировании этой науки. Вернадский характеризовал деятельность Дэви в области геохимии как одну из малоизвестных сторон его творчества: «Гемфри Дэви — блестящий экспериментатор, физик и химик, охватывавший всю науку своего времени, мыслитель, шедший своим путем и задумавшийся над проблемами бытия, одаренный глубоким поэтическим пониманием природы, все время связывавший науку с жизнью,— является одной из самых ярких фигур первой половины столь богатого ими XIX столетия.
Дэви оказал огромное влияние на науку своего времени своими лекциями, многочисленными статьями и книгами, блестящими опытами. В его работах мы найдем на каждом шагу данные об истории химических элементов в земной коре... Его работы явились прообразом всех позднейших трактатов по химии, всегда связывавших изложение химии элементов с их геохимией...»
♦ » ♦
Заканчивался 1808 год. В ноябре Гемфри Дэви должен был в третий раз выступать с бэкеровской лекцией и еще раз подтвердить свое исключительное положение в английской науке. Кроме сообщения о трех открытых металлах — барии, стронции и кальции, Дэви готовился осветить не менее важный вопрос. Дело это было до чрезвычайности запутанным, но оно стояло на перекрестке химических проблем, с ним связывалась система химической науки.
На исходе третьей четверти XVIII века ученый Шееле, имя которого уже неоднократно упоминалось на страницах этой книги, обрабатывая соляной кислотой перекись марганца, получил неизвестный газ. Это был ядовитый газ желтовато-зеленого цвета, с острым запахом.
При вдыхании его появлялось кровохарканье и могла наступить смерть.
Реформатор химии Лавуазье в свое время провозгласил теорию, согласно которой все кислоты без исключения со
277
держат в себе кислород. По теории Лавуазье, следовало, что кислород входит и в состав соляной кислоты.
Величайшего авторитета Лавуазье было достаточно, чтобы его кислородная теория кислот стала общепризнанной. Это было первое заблуждение.
Автором второго заблуждения стал знаменитый французский химик Клод Бертолле. Он высказал предположение, что соляная кислота — это соединение неизвестного металла мурия с кислородом. А ядовитый газ, полученный Шееле, Бертолле назвал окисленной соляной кислотой. И это было уже третьим заблуждением.
Биографы часто пишут о том, что Дэви обладал каким-то особым чутьем к ошибочным теоретическим построениям в химии. Как хотите называйте это — научной интуицией, особой придирчивостью ко всему, что не может быть многократно проверено опытом.
Дэви снова ринулся в бой.
Поскольку проблема была связана с именем двух великих химиков и каждый из них посильно способствовал ее затемнению, Дэви начал с того, что подверг сомнению утверждение Лавуазье о том, что все кислоты, включая и соляную, содержат в себе кислород.
Началась серия экспериментов. Действительно, азотная, серная, фосфорная и другие кислоты содержат в себе кислород. Здесь все правильно и давно известно. Но как быть с соляной кислотой? Сколько ни пытался Гемфри Дэви выделить из соляной кислоты хоть пузырек кислорода, ничего не получалось. Свой марш сквозь строй авторитетов Дэви совершал крайне осмотрительно. Но, окончательно убедившись, что в соляной кислоте нет кислорода, Дэви не побоялся поколебать авторитет великих химиков. Он один пошел против общепризнанных корифеев химии и победил. Победил по всем пунктам предложенной программы.
Первый. Что такое ядовитый газ желто-зеленого цвета? Сложное ли оно вещество?
Бертолле назвал его окисленной соляной кислотой. Дважды содержащей кислород. « Окисленная* — значит, содержит кислород, и еще содержащая кислород потому, что кислота — окисленная соляная кислота. Дважды кислород! А его нет и нет! Полное отсутствие кислорода. И следует сенсационный вывод: газ, полученный Шееле,— простое тело, химический элемент. И готово название («хлорин* — желто-зеленый), точно соответствующее его виду. Это название, данное Дэви хлору — хлорин, до сих пор сохраняется в английском языке.
Второй пункт — кислородная теория кислот Лавуазье,
278
ее универсальность. Теория должна быть универсальна, иначе какая же она теория? А в соляной кислоте нет кисло-рода — это доказано. Но она от этого не перестает быть кислотой со всеми свойственными кислотам признаками. И вместо несуществующей, не подтвержденной фактами кислородной теории кисЛот Лавуазье Гемфри Дэви выдвинул новую теорию кислот — водородную. В науке и технике нет кислот, которые не содержали бы в своем составе водород. Выдвинутая Гемфри Дэви водородная теория кислот имела для химии не меньшее значение, чем установление им элементарной природы хлора.
Подчеркивая научную скромность Дэви, известный английский химик, историк этой науки, писал: «Множество соединений хлора, среди них кислородные соединения его, были впервые получены Дэви. При всем этом он не позволил себе догматического утверждения, что этот газ есть элемент. Напротив того, он выразился по этому поводу следующим образом: «В рассуждениях, которые я позволил себе здесь развить, ни кислород, ни хлор, ни фтор не названы элементами. Я утверждал только, что ни один из них до сих пор не был разложен».
Водородная теория кислот Дэви, пришедшая на смену ошибочной кислородной, встретила среди ученых отнюдь не единодушное признание. Крупнейшие химики Жозеф Луи Гей-Люссак и Луи Жак Тенар возражали против теории кислот Дэви.
Но английский химик остался победителем в этом научном споре.
Мы говорили о чудесном даре научного предвидения, которым обладал Гемфри Дэви. Да, он, несомненно, видел в своей науке — химии — дальше многих других современников. Но Дэви, как и всякий другой, даже очень одаренный ученый, совершал ошибки. Так случилось и в 1808 году, когда он пытался расщепить такие вещества, как серу, фосфор и некоторые другие тела, в элементарном составе которых не было сомнений.
Не было сомнений... Это не аргумент для Дэви. Сколько новых элементов он открыл, сомневаясь в том, что тела, в которых они находились, были простыми телами. Все их считали телами простыми, неразложимыми. А он их разложил. На этот раз осечка! Сера, фосфор, углерод действительно простые тела, элементы, и надо признать ошибочность своих предположений о том, что они вещества сложные. Верховный судья в химии — опыт, эксперимент. Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ЛЕДИ ДЖЭИ И ДРУГИЕ...
Интенсивность научной работы Гемфри Дэви не всегда была постоянной. Она скорее носила волнообразный характер. Периоды безоглядной, запойной работы сменялись длительными промежутками времени, когда Дэви меньше бывал в лаборатории и отдавал щедрую дань светской жизни.
Если годы 1806, 1807 и 1808 можно отнести к наиболее продуктивным в научной деятельности Дэви — в эти годы он открыл щелочные и щелочноземельные металлы,— то последующие 1809, 1810 и 1811 годы отмечались некоторым спадом в его научной работе.
Но и в это время Дэви выполнил большой объем экспериментальных исследований, о чем свидетельствует один только список его научных трудов, опубликованных за этот период.
Все свои научные статьи Дэви печатал в знаменитых «Известиях Королевского общества». Из содержания этих статей видно, что Дэви продолжал электрохимические исследования «щелочей, фосфора, серы, углеродистых веществ и кислот».
В бэкеровской лекции за 1809 год Дэви говорил о «металлах из щелочей и из земель, и о некоторых комбинациях водорода».
В 1810 году продолжались «исследования природы окисленной соляной кислоты, ее соединений...». В следующем, 1811 году Гемфри Дэви писал о своих работах с соединениями хлора и кислорода.
Несмотря на тяжелый удар, нанесенный здоровью Дэви в Бристоле при работе с ядовитыми газами, и на полное истощение нервной системы в пору открытия им новых металлов, современники отмечали, что в 1811 году (когда Гемфри уже вступил в четвертое десятилетие своей жизни) ему можно было дать не более двадцати пяти лет. Дэви называли самым красивым человеком в Англии. Досужие коллекционеры отечественных знаменитостей умудрились найти некоторые данные о Дэви: рост 5 футов 7 дюймов, хорошо развитая мускулатура, ускоренное дыхание. Указывали также на то, что Дэви был человеком подвижным, нервным, с неожиданно быстрыми реакциями.
Дэви всю свою жизнь любил поэзию. Лучшим отдыхом от напряженной работы в лаборатории было для него поэтическое творчество. Обладая неудержимой фантазией, Дэви умел ее сдерживать там, где успех решала научная педантичность. Зато он давал полную свободу своему воображению, когда сочинял стихи. В описываемый период его
280
жизни Дэви создал грандиозную поэму «Эпос Моисея», написанную пятистопным ямбом.
Записные книжки Дэви всегда были полны афоризмами, характеризующими их автора как человека глубоко и оригинально осмысливавшего жизнь современного ему общества.
Гэмфри Дэви писал: ♦Потомство орла так же, как и дети ночных птиц, вначале бывает ослеплено солнцем, оно причиняет им боль, но орлята не перестают смотреть на него до тех пор, пока не начинают наслаждаться его великолепием. Другие же птицы обычно избегают его прекрасных лучей...»
В другом месте записной книжки Дэви можно найти такую мысль: ♦Древние во многом уступают современному человеку, но если бы не было Аристотеля, то, весьма вероятно, не было бы и Бэкона.
Греческие мудрецы создали инструменты, благодаря которым были покорены сами. Каждый факт из истории развития человеческой мысли доказывает, что прогресс общества — всеобщий прогресс — происходит так, что различные части его плотно соприкасаются друг с другом. Если бы это случалось иначе, то мы, пришедшие в конце системы, сделали бы очень мало».
И еще одна запись Дэви в его тетради: ♦Наибольшая польза, принесенная экспериментальными науками, заключается в том, что они дали подлинный прогресс уму; они явились как работа начатая, но не оконченная. В них нет духа или чувства подражания, обычно останавливающего и тормозящего энергию человека. Открытие — наибольший стимул к труду, величайший стимул к новым изысканиям, и титул ♦открывателя» — наиболее почетный из всех, которые можно дать человеку науки».
Как ясны и определенны эти мысли Дэви о роли ♦экспериментальной науки» в развитии человеческих знаний! Как верно Дэви характеризует самую природу творчества ученого-экспериментатора — испытателя природы!
Он имеет дело с фактами, им самим добытыми. Он не может повторять уже кем-то сделанное, открытое, увиденное. Он может лишь подвергнуть строгой проверке чистоту чужого эксперимента, может дать иное толкование результатам опыта. И двигаться дальше по нехоженым тропам науки. Ставить природе вопросы и получать на них ответы.
Эта запись — научное кредо Гемфри Дэви, высказанное самому себе, его отношение к науке, которой отдана жизнь.
К сожалению, Дэви не всегда был верен им же высказанному положению о том, что титул ♦открывателя» наи
281
более почетный из всех, который можно дать человеку науки. Он был очень чувствителен ко всему, что отличало людей высшего света, аристократов, от обычных людей, из которых он сам вышел. Может быть, с этим были связаны события, о которых сейчас пойдет речь.
Осенью 1811 года Гемфри Дэви познакомился с миссис Эприс. Изящная, темноволосая, с очень живым характером, миссис Эприс приехала в Лондон из Эдинбурга — столицы Шотландии, где она входила в избранное общество литераторов и художников. Она была близким другом многих писателей и, в частности, известной французской писательницы Жермены Сталь. Миссис Эприс рано потеряла мужа, богатого шотландского помещика. Овдовев, она недолго горевала о своем супруге. Злые языки говорили, что молодая вдова не раз разбивала сердца своих почитателей.
Леди Джен приходилась дальней родственницей знаменитому шотландскому писателю Вальтеру Скотту. В дневниках Скотта есть упоминание о его любви к леди Джэн, отмечается ее сильный характер.
Вальтер Скотт увидел в ее облике живость креолки и очарование француженки, к этим чертам он добавлял еще присутствие у леди Джэн «благородных принципов глубокого рердца».
Хорошо познавший на личном опыте многие стороны характера леди Джэн Майкл Фарадей писал:
«Как ловца львов я поставил бы леди Джэн против всего света. Она накинула аркан даже на самого Байрона. Когда она приехала в Лондон, у нее не было никаких сомнений, что Дэви вскоре станет одним из ее почитателей. Незадолго до этого он был с ней в опере, где давали ее любимых Валтона и Коттона «Веселый рыболов»...»
Далее Фарадей рассказывает о том, как постепенно сближались два человека — леди Джэн и Гемфри Дэви, сыгравшие немалую роль в его собственной жизни...
В одном из писем к Байрону Вальтер Скотт, приглашая поэта к себе в поместье Эберсдорф в Шотландии, напоминал о леди Джэн, «как об одной из тех дам, которые делают его дом очень привлекательным».
Леди Джэн хворала. Письмо Гемфри Дэви к ней, датированное 1 января 1812 года, проливает свет на отношения между ними.
«Я надеюсь,— пишет Дэви,— что скверная погода не усилила Вашего нездоровья и что облачное небо не погрузило Вас в меланхолию. Надеюсь, что Вы чувствуете себя
282
Гемфри часто навещал леди Джэн во время ее болезни.
хорошо, что Вы счастливы, и утешаюсь этой мыслью. Я выяснил, что пятница — это клубный день Королевского общества и что в этот день я должен обедать в клубе. Все прочие дни принадлежат Вам, этот день тоже, если Вы прикажете, будет Вашим, но я знаю, что Вы желаете, чтобы я делал то, что я должен делать. И в настоящее время Вы не можете сомневаться в исключительной природе Вашего влияния на меня и Вашей абсолютной власти».
Леди Джэн серьезно болела, и в течение всего времени ее болезни Гемфри проявлял к ней трогательную заботу и внимание.
Его любовь к миссис Эприс пришла неожиданно, как снежный обвал в горах. В послании к младшему брату Джону слышится восторженный отзыв Гемфри о человеке, которого он полюбил.
♦Дорогой брат!
Большое спасибо за Ваше последнее письмо. Я был тогда очень несчастен. Леди, которую я люблю больше, чем кого бы то ни было из живых существ, была больна. Теперь она здорова, и я счастлив — миссис Эприс согласилась выйти за меня замуж. Когда это событие случится, я не стану завидовать ни королям, ни принцам, ни владыкам».
Гемфри Дэви накануне крутого перелома в его жизни. Он женится. И еще одно событие совершается в эти знаменательные для Дэви дни. Во втором письме к брату, написанном за день до свадьбы, 10 апреля 1812 года, Гемфри сообщает об этом событии:
♦Мой дорогой брат!
Извините меня за то, что я ничего не пишу о науке. Я был слишком занят вещами, от которых зависит счастье всей моей будущей жизни. Прежде чем Вы получите это письмо, я надеюсь, что все уже будет улажено, и через несколько недель я смогу вернуться к моим привычным работам и научным изысканиям.
Завтра я женюсь, и предо мной прекрасная перспектива счастья с наиболее любезной и интеллектуальной женщиной из всех, которых я когда-либо знал.
Принц-регент без просьб как моих, так и моих друзей посвятил меня в рыцари. Это отличие не часто выпадало на долю ученых, но я горжусь им, так как его носил величайший гений человечества. Во всяком случае, это доказательство, что двор заметил мои жалкие попытки работать на пользу науки. Я открыл чистую гидрофосфорную кислоту, содержащую две доли воды и четыре фосфорной кислоты.
284
Она разлагается под влиянием тепла... Я сделал несколько интересных открытий (экономических) по серной кислоте, но об этом напишу позже... Верьте мне, дорогой Джон, что я всегда буду готов сделать что угодно для распространения Ваших взглядов.
В скором времени я соо»бщу Вам мое мнение на Ваше образование.
Остаюсь, мой дорогой брат, глубоко любящий Вас
Гемфри Дэви».
Это письмо открывает нечто новое в характере Дэви. Ведь совсем недавно он говорил о том, что титул 4 открывателя» — наиболее почетный из всех, которые можно дать человеку науки. А теперь он с радостью и гордостью пишет брату о том, что принц-регент пожаловал ему дворянское звание — рыцаря. Что двор обратил внимание «на мои жалкие попытки работать на пользу науки».
Да тот ли это Дэви, которого мы видели за столом клуба республиканцев-тепидариев? Неужели этот независимый человек движется в сторону тех, кого раньше презирал? Неужели так быстро проявилось влияние на Дэви обожаемой им леди Джэн?
Ответа на все эти вопросы пока нет.
Но нельзя здесь обойти молчанием некоторые места из дневника Майкла Фарадея, относящиеся к тому, что могло произойти и произошло с нравственным обликом Гемфри Дэви после того, как он женился на прекрасной черноглазой шотландке.
Вот что говорит об этом Фарадей:
<С самого начала союз Дэви и леди Джэн не был счастливым браком. У Дэви была очень глубокая натура, и самой привлекательной чертой его характера была его поразительная привязанность к матери и семье. В зените своей славы он использовал каждую малейшую возможность посетить семью в Корнуолле, его письма постоянно показывали его волнение и тревогу об образовании младших сестер. Три года Джон работал в Королевском институте у Гемфри, который помог затем ему материально получить высшее образование в Эдинбурге.
Дэви очень любил детей, и они создали бы ему большое разнообразие в жизни, но в его браке с леди Джэн детей не было.
Джон Дэви много писал о том, как знакомство Гемфри с леди Джэн превратилось в дружбу, а дружба в любовь, поднявшуюся с обеих сторон до искреннего и страстного
285
обожания. И все-таки было бы лучше для них обоих никогда не встретиться. Леди Джэн, несмотря на всю ее привлекательность, абсолютно не была приспособлена к семейной жизни. Она была страшно вспыльчива, ей доставляла неизменное удовольствие толпа поклонников, она страдала частыми и сильными недугами».
Какая-то часть картины, нарисованной Фарадеем, была вызвана взаимной антипатией между Фарадеем и женой Дэви. Но общая оценка взаимоотношений Гемфри и леди Джэн, данная Фарадеем, видимо, соответствовала действительности.
Было бы легкомысленным отнести на счет леди Джэн все причины, повлиявшие на перемены мировоззрения и характера Дэви. Аристократизм, стремление подражать титулованным богатым бездельникам было болезнью талантливого Вальтера Скотта.
Похоже, что первые симптомы этой болезни появились и у сэра Гемфри Дэви.
Лето 1812 года Дэви и леди Джэн провели в горной Шотландии. Замок Аботсфорд, куда направились Дэви, находился среди дикой и суровой природы; все вокруг напоминало о прошлом воинственных и гордых горцев.
Вальтер Скотт, владелец замка, находил здесь неисчерпаемый источник тем для своих романов.
С живописной горы видна река Твид, на склонах горы растет зеленый вереск, змейкой вьются горные тропки от замка к реке. На противоположном берегу Твида живописно расположились фермы. Все здесь дышит поэзией неповторимых шотландских гор.
Километрах в двенадцати от замка, у развалин аббатства Дрейборг, находится могила Вальтера Скотта. Он пожелал остаться навечно вблизи угрюмых развалин, много раз им воспетых.
Но в 1812 году летом никто здесь не думал о смерти. Замок Вальтера Скотта стал местом, где прошли самые счастливые месяцы жизни Гемфри Дэви и его супруги.
Современник Дэви и Скотта, один из гостей замка Аботсфорд, бесхитростно рисует охоту на зайцев, в которой принимали участие все упомянутые действующие лица — Дэви, леди Джэн, Вальтер Скотт и другие:
«Сэр Вальтер, поднявшись на своего любимца Сибил, вооружившись огромным ружьем, возглавлял кавалькаду, в которой насчитывалось около дюжины молодых людей и девиц. Всадники были охвачены охотничьим азартом. Эт© относилось и к молодым спортсменам и к людям старшего возраста. В их числе были сэр Гемфри Дэви, доктор
286
Волластон и патриарх шотландской литературы Генри Маккензи.
Охотники спускались с горы, шли на близком расстоянии друг от друга, захватывая широким фронтом заросли вереска. Дэви, рядом с которым мне довелось идти, опытной рукой держал поводья и, глядя на свои огромные охотничьи сапоги, шутил: «Боже мой, неужели я представляю собой одного из последних менестрелей?»
Будучи чужим человеком в этой горной стране, Дэви не прятался в гриву лошади, как сделал бы другой на его месте. Нет, он возвышался в седле с гордо поднятой головой.
Сэр Вальтер приветствовал его с победой и кричал: «Еще!»
Я позже видел Дэви в различных ситуациях, но нигде не встречал его в таком чудесном, живописном виде и на такой высоте, как в Аботсфорде».
И еще один отзвук из памятного для нашего героя 1812 года.
Джордж Байрон пишет в своем дневнике:
«...Читал биографию мистера Ричарда Ловел Эджуорта, отца известной мисс Эджуорт, написанную им самим и дочерью. Имя их стало знаменитым*. Помню, что в 1813 году встречал их в лондонском высшем свете (в котором я составлял тогда частицу, сегмент круга, миллионную долю, нуль от какой-то суммы) на тогдашних приемах и на завтраке у сэра Гемфри и леди Дэви, куда в тот раз был приглашен и я. Я был львом 1812 года, мисс Эджуорт и мадам де Сталь...— достопримечательностями следующего года».
Дом Дэви, с тех пор как в нем поселилась леди Джэн, стал в Лондоне одним из пристанищ избранного круга лиц,
287
того, что Байрон именовал лондонским высшим светом. Леди Джэн чувствовала себя в этом обществе как рыба в воде. Что же касается Гемфри, или, как его надлежало теперь называть, сэра Гемфри, то здесь не все обстояло так просто. Следуя вновь предписанному себе правилу о том, что «человек должен гордиться почестями, но не быть чванным», сэр Гемфри, в общем, был очень доволен своим восхождением на аристократический Олимп, но все чаще тосковал по привычным радостям жизни ученого, тосковал по лаборатории. Она была рядом, близко и где-то далеко. В исследованиях Дэви обозначился застой, долго затянувшаяся пауза.
Справедливости ради надо указать, что в этом «застойном» для экспериментирования 1812 году Дэви ухитрился выпустить большой научный труд: «Элементы химической философии» (книга эта известна и под названием «Элементы химии»). Посвящен был этот труд жене — леди Джэн. В нем автор не только подводил итоги своим многолетним исследованиям, но ставил и решал ряд теоретических проблем в химической науке. Книга Дэви была встречена среди европейских ученых с большим вниманием и получила достойную оценку.
Осенью Дэви возвратился в Лондон и возобновил научные занятия. В зимнем сезоне 1812/13 года Дэви предстояло прочесть последний курс лекций в качестве профессора Королевского института. Подходил к концу и период электрохимических, наиболее важных исследований ученого.
В 1813 году сэр Гемфри собирался вместе с леди Джэн отправиться в путешествие на континент.
Близилось время бесконечных скитаний.
САМОЕ ВЕЛИКОЕ ОТКРЫТИЕ ДЭВИ
Этим открытием не был еще не известный науке элемент или еще неведомая ученым закономерность в течении химических процессов. На этот раз ничего подобного не было. Что же это было за открытие, которое сам Гемфри Дэви назвал «самым великим моим открытием»? Ученый открывает ученого. Передает эстафету науки, чтобы не прервалась ее победная поступь.
Майкл Фарадей — сын лондонского кузнеца Джеймса Фарадея, ученик переплетчика. Не один год уже длится обучение немудреному искусству переплетения книг. Майкл аккуратно складывает стопы книжных листов, сши-
288
вает, проклеивает корешки книг. А вечерами, после долгого рабочего дня, читает.без разбора еще не переплетенные книги.
Хозяин книжной лавки Жорж Рибо — француз, бежавший в свое время из Франции, не мешает чтению своего ученика. Он и сам любит читать, пусть читает и ученик — больше будет знать, полезнее станет как работник в переплетной мастерской.
Постепенно из массы книг, прочитанных Фарадеем, особое его внимание привлекают книги по химии и физике. Нет слов, интересны и иные романы, путешествия, сказки Шехеразады, но Майкла поражают не сказочные чудеса, а чудеса природы — извержения вулканов, землетрясения, великие открытия Уатта, Стефенсона, биографии людей, без колебаний отдавших свою жизнь ради познания истины.
Имена Ньютона,. Галилея, Коперника, Леонардо да Винчи, Джордано Бруно стали известны Фарадею из прочитанных книг и осветили его лишенную радостей жизнь жалкого ученика-переплетчика.
В письме к известному ученому Густаву Деляриву, написанному в зрелые годы, Фарадей рассказал о значении чтения в его молодости:
♦Пожалуйста, не думайте, что я был глубоким мыслителем или отличался ранним развитием; я был резв и имел сильное воображение, я верил столько же в «Тысячу и одну ночь», сколько и в Энциклопедию. Но к фактам я относился с особым вниманием, и это меня спасло. Факту я мог довериться, но каждому утверждению мог противопоставить и возражение. Так проверил я книгу миссис Марсе «Беседы по химии» с помощью ряда опытов, на производство которых у меня были средства, после чего я убедился, что книга соответствует фактам, насколько я их понимал. Я чувствовал, что нашел якорь своим химическим познаниям, и крепко ухватился за него. Причина моего глубокого уважения к миссис Марсе заключается в том, что она открыла молодому уму явления и законы необъятного мира естественнонаучных знаний».
В жизни каждого человека среди сотен прочитанных книг есть *акая, которая запомнилась больше других. Книга помогает растущему человеку выбрать свой путь.
Нечто подобное случилось с Фарадеем. Скромная книжечка Марсе «Беседы по химии», как это видно из только что приведенного письма Фарадея, сделала свое доброе дело. Семя упало на благоприятную почву.
Каким образом попал Фарадей в Королевский институт на заключительный цикл лекций Дэви по химии, сказать
10 Молодость Сеченова
289
трудно. По одной версии, он узнал о лекциях из афиш. Можно понять, какой интерес у молодого переплетчика вызвала эта афиша. Ведь он уже вкусил от древа познания, он уже причастен к химии — делал опыты, проверяя достоверность книги миссис Марсе. А теперь есть возможность услышать и увидеть всемирно известного сэра Гемфри Дэви, приобщиться к высотам химии.
Фарадей одолжил у старшего брата, Роберта, один шиллинг и начал посещать аудиторию Королевского института.
Другая версия указывает, что один из клиентов книжной лавки Рибо, некий Дене, ученый, узнав о влечении юноши к наукам, посоветовал ему посещать общедоступные лекции знаменитого лондонского химика.
Майкл Фарадей уточнил обстоятельства, приведшие его в аудиторию Королевского института.
♦Когда я учился переплетному делу,— пишет Фарадей,— я имел большую склонность к опытам и питал сильное отвращение к ремеслу. Случилось так, что один господин, член Королевского института, брал меня с собой на несколько последних лекций сэра Гемфри Дэви на Альбе-марл-стрит. Я записывал лекции и затем обрабатывал в особой тетради. Мое желание бросить ремесло, занятие, которое я считал плохим и себялюбивым, и отдать себя служению науке, которая, как я думал, делает своих молодых служителей хорошими и глубокомыслящими, побудило меня наконец сделать смелый и наивный шаг — написать сэру Гемфри Дэви. Я выразил свое желание, равно как и надежду, что при случае он его удовлетворит. Вместе с тем я послал записи его лекций».
Кто будет учить молодого рабочего, кто будет кормить его, если он перестанет работать по двенадцать часов в сутки? В сотый раз ставил перед собой Фарадей этот вопрос и не находил на него ответа. Между тем его записи на лекциях Дэви превратились в изящную и красивую книгу. Все 380 страниц книги охватывал прекрасный кожаный переплет. Эта уникальная книга до сих пор хранится в Королевском институте. В ней автограф Фарадея: «Пусть эта книга будет проявлением моей искренней радости и дорогой памятью о чудесных лекциях Дэви».
Дэви получил письмо и переплетенную книгу, запись его лекций по химии. Это было второе письмо Фарадея с просьбой принять его на любую работу в институт. На первое письмо сэру Джозефу Бенксу, президенту института, Фарадей просто не получил никакого ответа.
Ответ Дэви на письмо Фарадея носил вежливо доброжелательный, ни к чему не обязывающий характер:
290
«Сэр!
вынужден и
Мне чрезвычайно понравилось доказательство Вашего доверия ко мне, которое к тому же свидетельствует о большом прилежании, хорошей памяти и внимании. Сейчас я
уехать из города вернусь не ранее конца января; тогда я охотно готов повидать Вас в любое время. Мне доставит удовольствие, если я смогу быть Вам полезен; я хотел бы, чтобы это было в моих возможностях*.
Вернувшись в Лондон, Дэви не забыл письма неизвестного ему юноши. По дороге в Королевский институт Гемфри обычно заходил к мистеру Пипису, одному из первых администраторов этого института. Дэви показал Пипису письмо Фарадея и сказал:
— Вот письмо одного молодого человека, Майкла Фарадея. Он слушал мои лекции и просит меня дать ему место при Королевском институте. Что мне с ним делать?
— Что делать? — ответил Пипис.— А пусть моет посуду. Если он на что-нибудь годен, то сейчас же примется за дело, если откажется, значит, он никуда не годится.
Дэви понимающе кивнул головой, но ответ его говорил о более серьезных намерениях.
— Нет-нет, его следует испытать на чем-нибудь лучшем. Уж слишком унизительны были бы обязанности мойщика посуды для молодого человека, искренне тянущегося к науке. Достаточно ознакомиться с конспектами моих лекций, которые он сделал, чтобы убедиться в том, что этот Фарадей достоин чего-либо лучшего...
Первая встреча Дэви и Фарадея произошла быстрее, чем можно было ожидать. В химической лаборатории Коро
291
левского института Дэви начал серию экспериментов по синтезированию хлористого азота, только что открытого одним французским химиком. Дэви получил об этом сообщение из Парижа от знаменитого математика и физика Доминико Араго, который писал, что его шурин Дюлонг получил жидкое вещество маслянистого вида, содержащее хлор и азот. Это открытие, далее сообщал Араго, стоило Дюлонгу глаза и трех пальцев. Хлористый азот оказался одним из самых взрывчатых веществ, с которыми до тех пор имели дело химики.
Верный своему жизненному правилу ученого, прокладывающего путь в незнаемое, на котором могут оказаться любые неожиданности, положивший себе за правило жить в опасности, Дэви немедленно принялся за исследования. Предупреждение Араго о скверном нраве хлористого азота не было принято во внимание, никаких мер предосторожности Дэви, по своему обыкновению, не предпринял.
В одном из первых же опытов Дэви убедился в том, что Араго не бросал слов на ветер.
Осколки стекла от разорвавшейся колбы впились в лицо, Дэви получил серьезное повреждение глаза. Настолько серьезное, что не мог писать и читать. Тогда-то Дэви и вспомнил о молодом переплетчике. За Фарадеем был послан служитель из Королевского института.
Невзирая на ругань и оскорбления нового хозяина Де-ляроша, к которому Фарадей поступил на работу после окончания учения у мистера Рибо, молодой переплетчик немедленно направился в институт к Дэвш
К своему ужасу, Фарадей увидел Дэви с забинтованным лицом, с повязкой на глазах.
Дэви попросил Фарадея выполнить ряд поручений. Он записал в тетрадь результаты наблюдений, которые Дэви из-за буйного характера хлористого азота и ранения не успел сделать. Затем Дэви продиктовал Фарадею несколько писем. Одно из них было адресовано брату, вот его содержание :
♦Дорогой Джон!
Я открыл способ соединения азота и хлора. Следует подвергать действию хлора очень слабый раствор аммиака, или раствор нитрата аммония, или оксалата аммония. Следует быть очень осторожным. Количество вещества не должно превышать размеры булавочной головки. Я взял чуть-чуть больше, и взрыв привел к серьезному повреждению глаза. Но, как мне сказали, зрение мое не пострадает. Сейчас я вижу очень плохо».
292
Гемфри Дэви, зная, как огорчит его письмо всех родных в Пензансе, умолчал о всей серьезности ранения лица и глаза. Джон Дэви в своих мемуарах о брате, описывая опыты с хлористым азотом и результаты взрыва, указывал, что поражение глаза было настолько тяжелым, что Гемфри долго ничего не видел и был оторван от лабораторной работы.
Прошло два месяца после взрыва хлористого азота, и в очередном письме Гемфри сообщал Джону:
«Глаз мой снова находится в таком воспаленном состоянии, что пришлось прибегнуть к проколу слизистой и роговой оболочки. Мне пришлось отложить все свои опыты*.
При таких драматических обстоятельствах произошла первая встреча Дэви с Фарадеем. Выполнив несколько мелких поручений Дэви, Фарадей вернулся в переплетную мастерскую Деляроша.
Шли дни. Миновали январь и февраль 1813 года. Фарадей постепенно стал забывать о Королевском институте, он потерял надежду когда-либо снова быть вблизи Гемфри Дэви и служить науке.
Но Дэви не забыл о своем обещании сделать для Фарадея возможным работать в Королевском институте.
В протокол дирекции института от 13 марта 1813 года было внесено предложение Дэви о приеме на службу Майкла Фарадея, и принято соответствующее постановление:
«Сэр Гемфри Дэви имеет честь уведомить дирекцию, что он нашел лицо, желающее занять при институте место, которое занимал в последнее время Уильям Пейн. Имя этого лица — Майкл Фарадей. Он молодой человек двадцати двух лет. Насколько мог заметить или узнать сэр Гемфри Дэви, он вполне годен на это место. У него, по-видимому, хорошие навыки, деятельный и живой нрав и разумное поведение. Он согласен поступить на те же условия, на каких служил господин Пейн, когда оставил институт.
Постановили: Майклу Фарадею разрешить вступить в должность, прежде исполнявшуюся господином Пейном на тех же условиях*.
Фарадей должен был выполнять работу, составлявшую нечто среднее между обязанностями лабораторного служителя и ассистента. В эти обязанности входило: «...обслуживать лекторов и профессоров при подготовке к занятиям, помогать им во время лекций. Когда понадобятся какие-либо инструменты или приборы, наблюдать за их осторожной переноской из модельной, кладовой и лаборатории в аудиторию; чистить их и по миновании надобности снова Доставлять на место. Докладывать руководителю о повреж
293
дениях и для этой цели вести постоянный журнал. Один раз в неделю заниматься чисткой моделей в репозиториуме и не реже одного раза в месяц чистить и обтирать пыль со всех инструментов в стеклянных ящиках».
Фарадей с радостью принял более чем скромные условия своей работы в институте. Ему положили жалованье 25 шиллингов в неделю, а Гемфри Дэви в напутствие молодому человеку сказал:
— Помните, Майкл, наука — особа черствая, в денежном отношении она лишь скуцо вознаграждает тех, кто посвящает себя служению ей. Я не советую вам бросать прежнего места.
Фарадей в ответ на эти сугубо деловые соображения Дэви о тяжелом уделе служителей науки высказал свои мысли о назначении науки:
— Я всегда думал о возвышенных и нравственных переживаниях, которые свойственны людям науки...
Гемфри Дэви улыбнулся и ответил Фарадею:
— Я не хочу разочаровывать вас и высоко ценю ваше отношение к науке и ученым. Я предоставлю опыту нескольких лет исправить ваш идеализм и ваши взгляды.
На этом разговор был закончен. Так началась научная карьера переплетчика Майкла Фарадея.
Прошло много лет, и Фарадей обессмертил свое имя, обогатив науку великими открытиями. Одним из них было явление электромагнитной индукции. На смену гальванизму, вольтовым батареям шло электричество, каким мы его знаем в наше время. Приближалась эпоха мощных электрогенераторов, электромоторов, начинался век электричества. Истоками этого века в развитии науки и техники человеческого общества были работы Фарадея. Три тысячи параграфов в тридцати сериях его записок шаг за шагом раскрывали людям сущность электрических явлений.
Но все это произошло позже. Пока же Фарадей в лаборатории Дэви учился азбуке науки, перенимал методы научной работы у замечательного мастера.
Весной, в апреле 1813 года, Гемфри Дэви собрался посетить свою родину. Леди Джэн холодно отнеслась к этому намерению. Но это не изменило решения Гемфри. Он согласился лишь с тем, что поедет летом с женой в Шотландию после возвращения из Пензанса.
В письме к брату Джону он писал:
«Я еду в Корнуолл. Прошу, напишите мне письмо, адресуя в Пензанс. Мы отправляемся (довольно большой компанией) на запад и собираемся по пути удить рыбу. Я хотел бы, чтобы Вы были с нами. Я уеду из города недели на три.
294
Мы пришли к выводу выехать на лето в Шотландию. Я и леди Джон будем рады видеть Вас там. Решено ехать через Эдинбург и провести довольно много времени в Сазерленде, поэтому я решил до отъезда в Шотландию побывать в Пензансе — повидать мать и сестер. Путешествие будет спешным, быстрым и прерывистым, чтобы брать с собой леди Джэн, Блека, Ворбюртона, Пеписа и Солиса, составляющих нашу компанию, комбинирующую рыболовство с минералогией.
Я уже совсем поправился, и Джэн себя чувствует хорошо. Последний месяц в Лондоне мы провели неплохо. Я выделил фтор из фтористого соединения серебра, фтористого соединения натрия и фтористого соединения свинца при помощи хлора. Фтор — новый окислитель, образующий три мощные кислоты. У него колоссальная способность соединяться со всеми металлами и разлагать стекло. Как сказочные воды Стикса, его невозможно сохранять даже в ослином копыте.
Я только сейчас окончил печатание моих сельскохозяйственных лекций и вышлю Вам экземпляр, как только смогу...
Поклонись от меня Муру. Я хочу произвести несколько экспериментов, прежде чем напишу ему на эту тему. Скажи ему это. До последней недели мой глаз мешал мне писать».
Из письма Дэви к брату впервые становится известным, что ученый провел огромную работу по исследованию соединений фтора. Еще не успело восстановиться зрение после экспериментов с самым взрывчатым на земле веществом— хлористым азотом; веществом, о котором Дэви писал, что оно «более мощное, нежели порох, возможно, изменит характер грядущих войн и будет влиять на состояние нашего общества».
А Дэви снова, верный своему правилу жить в опасности, смело идет навстречу неведомому.
В химии нет ничего опаснее, чем работа с фтористыми соединениями. Ядовитый газ фтор — правильнее, его кислота, разъедает стекло. Из прозрачного оно становится молочно-белым. Что же говорить о легких ученого, вдыхающего пары этой ядовитой кислоты?!
Открытие фтора составило одну из интереснейших страниц истории химии.
Дэви после работы с фтором был очень болен, об этом он довольно осторожно пишет брату.
Можно с уверенностью сказать, что к 1813 году, когда Гемфри было всего лишь тридцать пять лет, его здоровье
295
было уже сильно подорвано, и рассчитывать на долгую жизнь он не мог. Слишком велик был урон, нанесенный ему в непрерывных боях за науку, за истину.
Многие химики поплатились жизнью при работе с фтором.
Только в 1886 году удалось впервые получить фтор в свободном состоянии.
Одно из соединений, в которое входил фтор (криолит), помогло вывести алюминий из узких стен лабораторий на широкую дорогу промышленного производства, сделать этот чудесный металл одним из устоев современной техники. Речь идет об электролизе глинозема (окиси алюминия) в электролизных ваннах по способу Эру и Холла, принятому сейчас во всем мире.
Дэви принадлежала заслуга первых глубоких исследований фтористых соединений; важно, что он первым доказал аналогию фтора и хлора.
Поездка в Корнуолл заканчивалась. Гемфри с нескрываемой нежностью и грустью прощался с родными. Слезы блестели в глазах сестер, матери и Гемфри.
Лишь леди Джэн была невозмутимо спокойна: поскорее бы закончилась эта провинциальная, чувствительная сцена. Пора в дилижанс. Дорога в Лондон дальняя...
Этот 1813 год был для семьи Дэви годом путешествий. Не успели вернуться из Пензанса, надо собираться в Шотландию, где предстояло провести лето. Возвратились из Шотландии, приблизилась вплотную давно задуманная поездка на континент.
Наступила осень. Только что получено особое разрешение от Наполеона на проезд через Францию и на посещение вулканов Оверни. Война между Францией и Англией продолжалась. Англичанину получить разрешение на въезд во Францию в это время было невозможно. Но к английскому ученому с мировой известностью, к сэру Гемфри Дэви, правительство Франции относилось благосклонно.
Майкл Фарадей приглашен принять участие в поездке Дэви на континент. Он будет выполнять обязанности ассистента в походной лаборатории и личного секретаря Гемфри Дэви.
Приготовления к путешествию закончены, но в самый последний момент слуга, который должен обслуживать семью Дэви, заявил о своем отказе от поездки. То ли он заболел, то ли внял мольбам жены не бросаться в пасть узурпатора Наполеона. Путешествие во Францию для рядовых англичан представлялось в те времена равносильным самоубийству.
296
Кто же будет обслуживать семью Дэви? Леди Джэн везет с собой служанку. Сэр Гемфри привык себя обслуживать сам, ему камердинер не нужен. Но леди Джэн категорически заявляет: в столь дальнее путешествие без слуги, с одной горничной, она ехать не может...
Гемфри Дэви вызвал Фарадея к себе в кабинет:
— Мой слуга неожиданно отказался ехать с нами на континент. Времени, чтобы найти подходящего человека, уже нет, завтра мы должны выехать из Лондона. Не согласитесь ли вы временно взять на себя обязанности эконома? В Париже, я надеюсь, мы отыщем необходимого нам человека.
Не желая расстраивать поездку, Фарадей дает свое согласие выполнять обязанности эконома, обещает помогать своими услугами леди Джэн до подыскания на континенте специального человека.
УТЕШЕНИЕ В ПУТЕШЕСТВИЯХ
Все вещи погружены в карету. Путешествие в Европу началось.
Экипаж оставил позади лондонскую заставу и мчится на юг, к берегу Ла-Манша, в портовый город Плимут.
На одной из почтовых станций Гемфри шлет последнее письмо матери:
^Октябрь» 14» 181.3 года.
Дорогая мама!
Мы сейчас отправляемся на континент в путешествие с научной целью; оно, я надеюсь, будет приятным для нас и полезным для мира.
Мы быстро поедем через Францию в Италию, а оттуда в Сицилию и вернемся через Германию. Эти страны заверили нас в том, что нам будет оказана всяческая помощь. Мы будем там, вероятно, год или два.
...Когда я вернусь, я, наверно, мирно устроюсь жить в своей родной стране.
Ваш глубоко любящий сын Г. Дэви»-
В путешествие Дэви и Фарадей взяли с собой портативные аппараты, необходимые для химических исследований.
Это, возможно, была первая в мире передвижная лаборатория.
297
15 октября путешественники прибыли в Плимут и в тот же день погрузились на корабль, курсирующий между Англией и Францией.
Фарадей со свойственной ему аккуратностью с первого же дня путешествия начал вести дневник. Первая запись в нем гласила: «Сегодня утром начинается новая эпоха в моей жизни. Никогда, насколько я помню, дальше двенадцати миль от Лондона я не бывал».
Путешествие для Фарадея должно было стать университетом, которого он никогда не видывал. Сын рабочего Лондона, с детских лет трудившийся по найму, Фарадей, благодаря своим способностям, твердой воле и счастливому стечению обстоятельств, приблизился к заветной цели — служению науке. Самоучка в лучшем и высоком смысле этого слова, он в длительном общении с Дэви и со многими выдающимися учеными Европы в этой поездке пройдет свои университеты.
Очень скоро после начала путешествия Фарадей понял, что сделал большую ошибку, согласившись с предложением Дэви выполнять роль эконома, проще говоря, слуги леди Джэн. Столкновения с женой патрона следовали одно за другим. Ее желание властвовать и унижать было безудержным, оно омрачало все полезное и доброе, что мог приобрести Фарадей в этой поездке.
«Увы, каково было мое безумие — покинуть родину и всех любивших меня, кого любил и я сам,— пишет Фарадей.— И на время, неопределенное по своей продолжительности, но, несомненно, длительное, обещающее, быть может, протянуться вечность! В чем состоят хваленые преимущества, при этом получаемые? Знание? Да, знание, но какое? Знание света, людей, обычаев, книг, языков — все это вещи сами по себе ценные. Но каждый день показывает, что я продался каким-то самым низменным целям. Увы, как
298
унизительно быть ученым, когда это ставит нас в один уровень с плутами и негодяями! Как отвратительно, когда это служит только для показа хитросплетений и обмана вокруг! Можно ли это сравнить с добродетелью и целостностью тех, кто, научившись у одной природы, проводят жизнь довольные, счастливые, с незапятнанной честью, с чистыми помыслами в борьбе за то, чтобы делать добро и избегать зла, творя другим то, что хотели бы сами получить от них».
В этом письме большее, чем обида от унизительного положения, в котором очутился Фарадей в семье сэра Гемфри Дэви, путешествующего с научной целью. Фарадей, остро чувствующий человек, сравнивает нравы, царящие в научной среде, со знакомой ему жизнью рабочего люда. Итог не в пользу жрецов науки. Сколько больших и малых подлостей наблюдал Фарадей вокруг себя, чтобы иметь право написать то, что он написал в своем письме!
Судно доставило путешественников во французский порт Марлё. Здесь произошла непредвиденная задержка. Пограничная охрана, невзирая на особое разрешение, имевшееся у Дэви на посещение Франции, задержала путешественников на целую неделю в Марле.
Положение Франции в эти дни было очень тревожным. В трехдневном сражении под Лейпцигом, вошедшем в историю под именем «Битвы народов», союзные армии России, Пруссии и Австрии разбили французские войска. Наполеон был вынужден уйти за Рейн, к границам Франции. Пока где-то что-то выясняли, проходили дни. Но наконец появилось откуда-то разрешение Дэви ехать в Париж.
27 октября огромная карета Дэви, построенная по специальному заказу, влекомая четверкой лошадей, миновала парижскую заставу.
Дэви поселился в одном из лучших отелей Парижа. Были нанесены первые визиты коллегам по науке, а 2 ноября Дэви был гостем Французской академии наук. Несмотря на оказываемые ему всяческие почести, Дэви держался вполне независимо.
В числе других встреч в Париже Гемфри Дэви был очень рад повидать графа Бенджамина Румфорда, благодаря которому тринадцать лет назад молодой химик из Бристоля, герой эпопеи веселящего газа, был приглашен в Лондон, в Королевский институт. Румфорд, как известно, вскоре после появления Дэви в Лондоне покинул Англию и поселился в Париже. Вдова Лавуазье стала его женой.
Обед у графа Румфорда прошел в дружеской обстановке. Радушный хозяин был поражен превращением, которое
299
произошло с Гемфри Дэви. Угловатый, неотесанный провинциал, каким Румфорд его встретил в Лондоне, превратился в лондонского денди — сэра Гемфри, ученого с мировой известностью.
Приемы, званые обеды, завтраки, столь милые сердцу леди Джэн, перемежались с делом. Дэви усердно знакомился со всем новым, что было во французском естествознании и в первую очередь, конечно, химии.
Пользуясь своей походной лабораторией, Дэви при помощи Фарадея повторял и проверял некоторые научные факты, ставшие ему известными в Париже. Например, с запутанной историей, связанной с именем господина Кур-туа, занимавшегося получением селитры из морских водорослей. Спрос на селитру, которая требовалась для производства пороха, был очень высок, и дела Куртуа шли великолепно. Но в ходе производства возникали неполадки, которые было необходимо быстро устранять.
Стенки котлов, в которых вываривались водоросли, покрывались накипью темного цвета. Рабочие заметили, что эта темная накипь разъедает металл, из которого сделаны котлы. Это нарушало ход производства. Котлы быстро приходили в негодность. Обеспокоенный этим Куртуа собрал большую порцию накипи и передал ее для исследования ученым.
По поручению заводчика этим делом занялись химики Дезорм и Клеман.
Неизвестным веществом, причинявшим неприятности Куртуа, заинтересовался французский химик Гей-Люссак.
Наиболее удивительными свойствами «накипи господина Куртуа» была ее способность при нагревании превращаться в газ фиолетового цвета и образовывать кислоту, имеющую свойства соляной кислоты.
Клеман, Дезорм и Гей-Люссак пришли к выводу, что «накипь господина Куртуа» и образует именно соляную кислоту.
Но кому, как не Дэви, знатоку всего, что касалось соляной кислоты, исследовать «накипь Куртуа».
Клеман передал Дэви небольшое количество накипи. По просьбе английского химика ему также передали для исследования золу водорослей, перерабатываемых на соле-варках.
Дэви и Фарадей учинили допрос с пристрастием полученным образцам неизвестного вещества. Опыты в походной лаборатории продолжались несколько дней.
«Накипь Куртуа»—лиловый порошок, смешанный с цинковыми опилками и тщательно стертый с ними, превра
300
щался в жидкость. Нагретая с фосфором накипь образовывала легковоспламеняющийся газ. В воде она не растворялась, в спирте образовывала темно-коричневый спиртовой раствор. Нагретая в присутствии нашатыря накипь превращалась в сильно взрывчатое вещество.
Так неожиданно Дэви еще раз утолил свою никогда не проходившую жажду по сильным ощущениям при экспериментах.
Живи в опасности, где бы ты ни был — в лаборатории ли Королевского института в Лондоне, или в походной лаборатории в Париже, или еще бог знает где...
Результаты были сенсационными. Йод («йодес» — по-гречески «лиловый») — так был назван порошок, представленный Дэви для испытаний,— оказался еще одним простым телом, химическим элементом, по мнению приехавшего знаменитого англичанина, аналогичным хлору. Дэви удалось доказать, что неизвестная кислота, полученная из «накипи Куртуа», отличается от соляной, это новая кислота — йодная.
Выводы Дэви противоречили воззрениям самого крупного химика Франции Гей-Люссака, который наотрез отказался признать их правильными. Возник страстный научный спор.
И лишь года через два, проделав громадное количество исследований, Гей-Люссак убедился в правильности взглядов Дэви и публично отказался от своего ошибочного мнения.
Часы, которые Фарадей проводил с Дэви в лаборатории, были для него счастливыми. Дэви был совершенно другим, чем в домашней обстановке, в присутствии леди Джэн. В лаборатории учитель и ученик работали на равных, здесь не действовал табель о рангах, высшим законом для обоих была истина.
После спора с Гей-Люссаком научный авторитет Дэви на континенте неизмеримо возрос. Честь открытия йода, по существу, принадлежит Дэви, детальное изучение его свойств — Гей-Люссаку.
Все началось с хлора, затем пришла очередь фтора и, наконец, в Париже подоспел йод. Все эти элементы, прошедшие через руки Гемфри Дэви, как он в этом многократно убеждался, имели много общего. Они вместе с бромом вошли в химию под названием галоидов (или галогенов) и в таблице Менделеева оказались в VII группе, являясь самыми энергичными металлоидами.
Дэви заканчивал доклад о химической природе йода для отсылки в Лондон, в Королевское общество.
301
Времени в Париже было предостаточно. Дэви успевал поработать в своей походной лаборатории, аккуратно наносил визиты приглашавшим его коллегам, любовался красотами неповторимого города и поздно вечером записывал увиденное. Так из-под пера Дэви появились портреты, любопытные характеристики людей науки, с которыми он встречался.
«Гюйтон де Морво* очень стар; когда я с ним познакомился, ему было между семьюдесятью и восемьюдесятью годами. Несмотря на то что он был страстным республиканцем, Бонапарт дал ему титул барона. Его манеры мягки и кротки. Вот доказательство твердости его духа. Пообещав свой голос одному лицу, желавшему быть избранным в члены-корреспонденты института (Французская академия наук), он сдержал свое слово, и моему (Дэви) избранию не хватило лишь его голоса, чтобы быть избранным единогласно. Никогда прежде не бывав во Франции и не интересуясь порядком выборов, я, пожалуй, так и не узнал бы об этом, если б он сам не рассказал мне во время обеда у него в доме.
Вок лен* склонялся к закату св^ей жизни. Когда я его встретил, он производил впечатление химика другого века, принадлежащего скорее к фармацевтической лаборатории, чем к философской (научной.— Б. М.). И все же он жил в Жарден дю Руа. Ничто не могло быть более странным, чем его манеры, жизнь и хозяйство. Две старые девы де Фуркруа, дочери известного профессора, вели его дом. Я помню, что когда впервые посетил его, меня провели в какую-то спальню, одновременно служившую гостиной. Одна из этих дам лежала в кровати и занималась приготовлениями к обеду: чистила трюфели. Воклен захотел, чтоб часть их была немедленно приготовлена мне на завтрак, и мне стоило большого труда отклонить эту любезность. Ничто не могло быть более странным, чем простота его речи. У него совсем отсутствовал такт, и даже в присутствии молодых он заводил разговоры на темы из райских времен, никогда не обсуждаемые в обществе.
Кювье*, даже в его речи и манерах сразу виден большой человек. Большая сила и красноречие в разговоре. Большие познания как в научной, так и в других областях. Я бы сказал, что он самый талантливый человек из всех виденных мною, но гением его не назвал бы.
Александр фон Гумбольдт* — один из самых приятных людей, когда-либо мною встреченных. Светский, скромный, вежливый, полный ума, он был прекрасным собеседником. Его путешествия показывают его предпри
802
имчивость, его работа — доказательство разнообразности его знаний.
Гей-Люссак* — подвижный, быстрый, изобретательный человек с очень активным умом. Я поставил бы его во главе ныне живущих французских химиков.
Бертолле* — очень любезный человек, даже когда он был другом Наполеона — хороший, скромный, прекрасный и честный. Стоя намного ниже Лапласа в интеллектуальном отношении, он превосходит его в моральном. Бертолле не производит впечатления гениального человека, зато при взгляде на Лапласа чувствуешь, что видишь гения.
Лаплас*, будучи министром Наполеона, был несколько важен и формален, держался скорее снисходительно, чем любезно. Он говорит как человек, не только чувствующий свое могущество, но и желающий, чтобы его собеседник тоже чувствовал это. Я слыхал, что он очень гордился своими орденами. Один из них даже прицепил к своему халату. Это было в 1813 году. В 1820 году, когда я его увидел снова, его повелитель уже пал. Манеры его изменились. Он стал мягче, и поведение его сделалось более благородным.
Я запомнил первый день, когда я встретил его. Это было, мне кажется, в ноябре 1813 года. Я говорил с ним об атомной теории в химии и выразил надежду, что наука в конце концов сведется к математическим правилам, подобным тем, какие он так успешно установил для механических свойств тел. К моим словам он отнесся с пренебрежением, почти презрением, как бы возмущаясь тем, что какие-то результаты в химии можно сравнивать даже в далеком будущем с его достижениями.
Когда я обедал с ним в 1820 году, мы обсуждали тот же вопрос; он говорил очень кротко и соглашался со всеми достижениями Джона Дальтона. Правда, наше положение уже изменилось. Он был среди старой (наполеоновской) аристократии Франции и не являлся более интеллектуальным вождем молодого аристократического поколения; я же> прежде молодой неизвестный химик, готовился по желанию моих коллег занять кресло, освященное последними днями Ньютона !.
Шанталь* — долгое время министр внутренних дел Бонапарта, был активным, хитрым интриганом и одновременно придворным химиком, довольно хорошо знакомым с положением химической науки во Франции. Не очень точный в разговоре, слегка хвастливый, но добродушный и
1 Гемфри Дэви готовился занять высокий пост президента Королевского общества (Английской академии наук).
303
хороший собеседник. Больше светский человек, чем ученый. Говорят, что именно он был автором наполеоновских декретов, направленных против английской торговли. Если это так, то он сделал для военной славы Британии больше кого бы то ни было, за исключением своего повелителя».
Не предназначавшиеся для посторонних глаз интимные заметки Гемфри Дэви о своих научных собеседниках, многие из которых имели огромное значение в истории наук, оставляют двойственное впечатление. С одной стороны, Дэви фиксирует свое внимание на малозначащих, бытовых подробностях жизни ученых, с которыми ему довелось встречаться, с другой — он останавливается на важнейших научных проблемах, дает политическую характеристику своим современникам — французским ученым. Такое чередование важного и второстепенного дает возможность Дэви создавать удивительно рельефные образы своих коллег.
Лаплас, которого мало знают как министра Наполеона, создал знаменитую гипотезу о происхождении Солнечной системы. На смену ей пришли новые теории, но канто-лапласовская космогеническая гипотеза возвышается в истории астрономии и философии, как прекрасный памятник человеческому гению.
Труды Лапласа в геометрии, физике и астрономии поставили его во главе научной мысли Франции первой четверти XIX века.
Бертолле и Гей-Люссак навсегда вошли в историю химии и в описываемое время являлись общепризнанными вожаками французской школы химиков.
Воклен, о странностях которого пишет Дэви, так же, как и его английский коллега, начал свою карьеру аптекарским учеником. Ближайший помощник Фуркруа*, он быстро выдвинулся в его лаборатории, и в 1791 году сделался уже членом Французской академии наук. Из многочисленных его работ в неорганической и органической химии отметим открытие хрома, указание на существование циановой кислоты, получение в чистом виде органического вещества — мочевины.
В 1809 году Фуркруа умер, и заботу о его дочерях взял на себя Воклен.
Гюйтон де Морво, о твердости духа которого пишет Дэви, в свое время голосовал в Конвенте за смертную казнь Людовику XVI и являлся членом Комитета общественной безопасности. Ярый флогистоник, он вскоре перешел к более современным химическим воззрениям. Много сил отдал развитию воздухоплавания, предлагал использовать аэростаты для военных целей.
304
Кювье — один из наиболее выдающихся зоологов конца XVIII и начала XIX века. Он выполнил огромную работу по классификации животного мира. Противник эволюционной теории, в публичном споре в академии он одержал победу над эволюционистом Ламарком и этим на какое-то время закрепил ошибочное представление о неизменности видов. Он выдвинул фантастическую теорию, по которой каждый геологический период, имевший свою фауну и флору, заканчивался катастрофой; все гибло, чтобы снова, известным только одному Кювье способом, возродиться в новую геологическую эпоху.
Таким образом, Париж, когда его посетил Гемфри Дэви, блистал созвездием ученых, каким не мог похвалиться ни один город в мире.
Время, назначенное Дэви для пребывания в Париже, истекало. Он прожил в столице Франции около двух месяцев и 23 декабря 1813 года, накануне рождественских праздников, покинул Париж.
Дэви направились, как и было запланировано, на юг Франции, а затем должны были пересечь границу и переехать в Италию. Новый, 1814 год путешественники встретили в дороге. 8 января они прибыли в Лион и затем проследовали в Монпелье.
Обещанный Фарадею слуга в Париже нанят не был, Дэви не сдержал своего слова, и ассистент по-прежнему выполнял обязанности эконома и должен был помогать горничной обслуживать леди Джэн.
Среди инцидентов, которые возникали между Фарадеем и невзлюбившей его надменной и властолюбивой леди Джэн, был и такой.
Леди Джэн прихватила с собой в Европу маленькую собачку. Фарадей что-то делал в лаборатории, когда вошла супруга Дэви.
— Песик проголодался. Принесите ему что-нибудь повкуснее из кухни. А затем погуляйте с ним по бульвару.
Фарадей, не отрываясь от дела, спокойно ответил леди Джэн:
— Через несколько минут закончу работу и позову вашу горничную.
— Она занята, приводит в порядок мои туалеты. Я прошу вас заняться песиком.
— Я сожалею, миледи, но ничем вам помочь не могу. Забота о песике не входит в мои обязанности.
Леди Джэн вспылила, сказав что-то злое и обидное для Фарадея, круто повернулась и ушла.
О том, чем кончались эти стычки между Фарадеем и
305
леди Джэн, о тактике, которую в целях самозащиты выработал помощник Дэви, пишет он сам:
«Она очень заносчива и горда, в такой степени, что должна обязательно заставить всех своих окружающих почувствовать свою власть. Она желает править всем, жить в свое удовольствие и не любит, когда другим хорошо... Вся ее жизнь состоит из формы, этикета и манер. Я убедился в том, что она ненавидит меня. Ее злобное нерасположение ко мне заставляет ее третировать меня и не давать мне заниматься моими занятиями.
Сначала все это было для меня причиной больших неудобств и делало меня очень грустным и несчастным. Но когда я ближе познакомился с обычаями света ее среды, я лучше понял ее действительный характер и научился сопротивляться ее власти и не подчиняться ее нравоучениям. И, как это ни странно, мое поведение в отношении к леди Джэн дало возможность сдержать ее желчность. Сейчас я смеюсь над ее мелкими издевательствами. Стычки между нами приводят к тому, что все дуются друг на друга. И сэр Гемфри едва ли может быть нейтральным. Причиной всех моих несчастий было то, что жена слуги Дэви смертельно испугалась поездки на континент. Ее муж, который происходил из Фландрии, по ее представлениям, если поедет с сэром Гемфри, домой живым не вернется. Слезы этой женщины оказались сильнее аргументов сэра Гемфри, и она умолила хозяина оставить ее мужа в Англии, а самому лишиться слуги».
Дорогой ценой уплатил Фарадей за свое желание быть вблизи Дэви. Если бы леди Джэн не стала между Фарадеем и Дэви, возможно их отношения приняли бы совершенно другой характер. Фарадей в письмах на родину к своему другу Бенджамену Абботу старается отвести свою Душу:
«Вы думаете о путешествии. Я с Вами согласен, что пу-
306
тешествие дает много опыта... Но о себе скажу, что если бы я представлял себе ясно все, что меня ожидает, я бы ни за что не уехал из Лондона. Много раз мне очень хотелось бросить все и вернуться домой. Меня удерживало только желание извлечь из своего путешествия всю ту нравственную и умственную пользу, которую оно может мне принести. Я начал изучать языки и хотел бы продвинуться дальше. Я узнал много нового о жизни и обычаях народов, и мне хочется знать еще больше. Наконец, постоянное общение с сэром Гемфри Дэви дает неповторимый случай для усовершенствования знаний по химии. Все это определяет мое решение закончить путешествие с сэром Гемфри. Но Вы должны знать, дорогой друг, что я жертвую для этого многим, очень многим...»
Рассказывая далее о положении, в которое поставила его семья Дэви, Фарадей отметил, что «...сэр Гемфри всегда старался избавить меня от черной работы, и, когда мы оставались где-либо на продолжительное время, я обычно имел одного или больше помощников. Сейчас, хотя мы живем в отеле, у нас два человека мужской прислуги. Но я остаюсь по-прежнему приближенным слугой и должен не только заведовать расходами семьи, но смотреть за прислугой, за столом, за всем хозяйством.
Все это было бы ничего, если бы я путешествовал с одним сэром Гемфри или если бы леди Джэн была похожа на него. Но она бывает так несправедлива ко мне, к слугам и к самому сэру Гемфри...».
Богатая светская дама искала в знаменитом муже всего, кроме страсти к науке. В первые годы замужества победы в семье одерживала леди Джэн, и поэтому ее муж отдавал науке все меньше и меньше времени. А когда, увлекшись новой научной проблемой, Дэви реже появлялся в обществе, наступал разлад. Несхожесть характеров, противоречивость интересов в итоге сделали брак Дэви неудачным. Многие годы супруги не жили вместе, Дэви один ски
307
тался по различным странам Европы, пока не закончил свою жизнь вдали от родины. В его последний час леди Джэн с ним не было...
Вторую половину января и часть февраля Дэви провели на Лазурном берегу в Ницце. Здесь они пересекли границу Франции и переехали в Италию. Турин и Генуя были первыми большими городами, в которых побывали английские путешественники.
21 марта 1814 года Гемфри Дэви и Фарадей прибыли во Флоренцию. Прекрасная Флоренция — музей под открытым небом. На каждом шагу произведения искусств, которым нет равных в мире. Микеланджело, Данте, Галилей, Петрарка — они здесь жили и творили. Флоренция хранит труды великих сынов человечества.
Несмотря на то что Дэви был англичанином, в ученых кругах Франции к нему, представителю страны, с которой идет война, отнеслись вполне дружелюбно, а его открытия, которые он умудрялся делать в походной лаборатории, сделали его имя еще более популярным.
В Италии, где не было антипатии ко всему английскому, Дэви встретили с распростертыми объятиями. Перед ним были открыты двери всех научных учреждений.
Во Флоренции средоточием научных интересов была так называемая Академия дель Чименто. Президент академии оказался радушным хозяином. Он показал Дэви и Фарадею все достопримечательности, хранившиеся веками во Флоренции. Дэви увидел телескоп, через который Галилей первым среди ученых увидел спутников Юпитера. Телескоп представлял собою немудреное сооружение — трубу из бумаги и дерева, в которую были вставлены два выпуклых стекла: одно на внешнем, другое на внутреннем конце трубы. Этот телескоп был сделан руками Галилея.
Здесь же, в Академии дель Чименто, в кабинете естественной истории, Дэви показали самое большое зажигательное стекло, которое он когда-либо встречал. В планах ученого уже давно значилось исследование алмаза. Оно требовало создания очень высокой температуры, чтобы сжечь алмаз и выяснить химический состав продуктов его сгорания. Флорентийское зажигательное стекло, состоявшее из одной линзы размером в тарелку и второе — с блюдце, могло обеспечить необходимую температуру для сжигания алмаза.
Опыт был подготовлен со всей тщательностью, на которую были способны Фарадей и Дэви. Проведенная серия экспериментов дала результаты, которые Дэви сообщил в Королевское общество 23 июня 1814 года.
308
Еще Ньютон высказал предположение о том, что алмаз — горючее тело. Но экспериментального подтверждения этой гипотезы гениального Ньютона не было, если не считать одного случая. Этот единственный опыт здесь же, во Флоренции, и при помощи этого же уникального зажигательного стекла более ста лет до появления в Академии дель Чименто сэра Гемфри Дэви был произведен без соблюдения элементарных научных правил и не публиковался. Ходили слухи, что тот алмаз сгорел...
О химической природе алмаза в более поздние времена высказывались различные суждения. Ученые Био и Араго утверждали, что алмаз содержит водород и немного кислорода.
В стеклянной колбе, наполненной кислородом, на платиновой пластинке лежал алмаз. Колба была герметически закупорена. Фарадей по приказу Дэви фокусировал солнечный луч на алмаз. Солнечное пятнышко точно уместилось на гранях камня.
И вот на глазах экспериментаторов и собравшихся зрителей — ученых алмаз стал темнеть и уменьшаться в размерах. Стекло колбы сильно нагрелось, и Дэви попросил Фарадея на время отодвинуть зажигательный прибор. Колба остыла, и опыт продолжался. Алмаз загорелся! Он горел хорошо заметным красноватым огнем.
Зажигательную линзу отодвинули — алмаз продолжал гореть. И еще солнечные лучи фокусировали на камне. Через несколько минут весь алмаз сгорел, исчез.
Произведенный анализ содержимого в колбе показал, что алмаз состоял из чистого углерода, который при сгорании образовал с кислородом, находившимся в колбе, углекислоту.
Опыты с алмазом были повторены. Результаты оказались такими же.
Дэви доказал, что алмаз представляет собой кристалл чистого углерода. Он писал: «Алмаз дает, собственно говоря, то же самое, что и простой древесный уголь. Только последний содержит крошечное количество водорода». Но спрашивает Дэви, может ли такое количество водорода, достигающее одной пятидесятитысячной доли всего вещества, вызвать столь большую разницу в физических свойствах угля и алмаза? Он считает это маловероятным.
Во времена Дэви, когда производился опыт с алмазом во Флоренции, считалось почти аксиомой — вещества не могут быть совершенно одинаковыми по химическому составу и в то же время различными по своим физическим свойствам. Эта доктрина была разрушена опытом Дэви по
309
сожжению алмаза. Уголь, графит, алмаз различны по физическим свойствам, а химически одинаковы и первый, и второй, и третий — углерод. Так работа Дэви проложила путь к признанию существования в природе явлений аллотропии * и изомерии *.
Из Флоренции путешественники отправились в Рим. Где-то в пути их застало сенсационное сообщение о том, что русские войска вступили в Париж. Закончилась многолетняя война, которую вели союзники — Англия, Россия и Австрия с Францией Наполеона. Закончилась эта война поражением Наполеона.
Апрель 1814 года Дэви провел в Риме. Вечный город произвел глубокое впечатление на Гемфри Дэви. Он полюбил Рим и много раз в течение последующих лет приезжал сюда, чтобы на «руинах дней, давно минувших, мечтать о днях прекрасных, днях грядущих».
В одном из своих поэтико-философских произведений Дэви отражает мысли и чувства, которые пробудил в нем Рим:
«Я был в Риме в 1814 и 1818 годах...
В один из прекрасных дней... мы отправились в Колизей. Я не мог оторваться от созерцания величественных остатков прошлого...
Мир, как и человек, цветет в молодости, развивается вместе с возрастом и приходит в упадок со старостью, но разница лишь в том, что развалины сохраняют остатки своей красоты... Солнце цивилизации поднялось на востоке и продвинулось на запад, а теперь плывет над меридианом. Очень вероятно, что через несколько веков оно будет садиться за горизонтом на стороне нового мира».
В Риме Дэви вел светскую жизнь, выезжал на приемы, принимал римскую знать у себя. Леди Джэн была счастлива, это была ее стихия.
Но долго так продолжаться не могло. Дэви отдал распоряжение Фарадею готовиться к поездке в Неаполь и к восхождению на Везувий. С давних пор английского химика интересовали явления вулканизма. Он хотел глубже познать геохимические процессы, связанные с вулканической деятельностью. Для такого рода исследований лучшего места, чем Везувий, не найти.
В Неаполь Дэви приехал в чудесные дни начала мая. Три дня он знакомился с городом, встречался с различными лицами, в первую очередь с учеными Неаполя.
На четвертый день была назначена первая поездка к Везувию. Расстояние от Неаполя до подножия вулкана около десяти километров. Пара резвых коней, легкая коляска,
зю
Г, -и Фарадой спускаются в кратер вулкана.
й Дэви с Фарадеем менее чем в час доехали от Неаполя до Везувия.
Шапка дыма прикрывала вершину огнедышащей горы. Взяв с собой проводника, Дэви и его ассистент начали подниматься по склонам Везувия. Тропинка змеилась вверх среди виноградников и маслиновых рощ. Обманчивое спокойствие царило вокруг. Только широкие черные полосы застывшей лавы, протянувшиеся по склонам, напоминали о грозных катастрофах. О том же свидетельствовал серый пепел, в котором вязли ноги, и облако дыма, закрывающее жерло вулкана.
Дэви прошедшей ночью из Неаполя видел, как Везувий освещался фонтаном раскаленных камней.
На полпути к вершине вулкана был сделан привал. В пастушьей хижине путники нашли приют для отдыха. Вторая часть дороги была значительно трудней первой. Внизу остались виноградники и рощи деревьев. Голая пустыня вздыбилась в небо.
Первым к огромной воронке кратера вулкана добрался более молодой и здоровый Фарадей. Дэви немного поотстал. Он медленно поднимался к кратеру, останавливался, ворошил палкой горячую землю, из которой кое-где фонтанчиками бил пар и вился удушливый дым. На счастье путешественников, ветер относил дым из кратера в противоположную сторону, что дало им возможность взглянуть в пасть дьявола, увидеть адское пламя и клокочущую лаву. Земля под ногами не была спокойна, ее трясло частой и мелкой дрожью. Испытывать судьбу в ожидании очередного извержения вулканических бомб, газов и пламени явно не следовало. Но Дэви уже вступил на свою любимую тропу — живи в опасности! — и столкнуть его с этой тропы было трудно.
Он предложил Фарадею спуститься немного по внутреннему склону кратера: уже не заглянуть, а войти в пасть дьявола.
Фарадей двинулся вслед за патроном. Оставалось около тридцати метров до большой трещины, из которой бешено рвались пламя и дым. На черных буграх остывающей лавы, на которой стояли ученые, Дэви приметил участки бурого цвета й тут же уверенно определил их химический состав — это было хлористое железо.
Ветер стал менять направление.
Фарадей не успел собрать несколько кусков того, что Дэви назвал хлористым железом, как удушливый дым обволок ученых. Дэви и Фарадей, задыхаясь, еле успели вырваться из кратера вулкана.
312
Оставаться здесь, на вершине Везувия, и дальше было безумием. Необходимо было, не теряя ни секунды, уходить от беды. И снова вернуться сюда, как только старый Везувий успокоится.
Эти восхождения на вулкан Дэви повторял много раз.
Из Неаполя семья Дэви проследовала обратно в Рим и в середине июня прибыла в Милан, один из красивейших городов Италии, знаменитый своим беломраморным, каменнокружевным чудесным собором, оперным театром Ла Скала.
Но Милан интересовал Дэви главным образом тем, что здесь жил гениальный Вольта. Можно понять, с какими чувствами Гемфри Дэви и Фарадей готовились к встрече с Вольта, чтобы выразить свое глубочайшее уважение человеку, сыгравшему такую огромную роль в развитии науки и в их жизни.
Но встреча с Вольта оказалась иной, чем ожидали английские гости.
Гемфри Дэви описывает свой визит к Алессандро Вольта: «Я видел Вольта в Милане в 1814 году. В это время он был уже в преклонном возрасте, думается, было ему тогда почти восемьдесят лет и чувствовал он себя неважно. Нельзя сказать, чтобы речь его отличалась особым блеском. Взгляды его были довольно ограниченны, но тем не менее чувствовалась большая его изобретательность и одаренность. Манеры его были чрезвычайно просты, он не производил впечатления светского человека».
Чем объяснить эту холодную и бледную характеристику, которую Дэви дал великому Вольта?
Один из биографов Гемфри Дэви, доктор Перис, пытается объяснить «отсутствие блеска в речи великого итальянского физика» особыми обстоятельствами его встречи с лондонским химиком.
Дэви заблаговременно сообщил Вольта о точном часе и дне своего визита. Вольта решил с должным этикетом принять Дэви и в парадном платье ждал своего знаменитого современника.
Но Гемфри Дэви появился перед Вольта в будничном платье, которое он никогда не носил при посторонних.
Вольта был настолько поражен этим видом сэра Гемфри Дэви, что на некоторое время онемел. Эта скованность шокированного видом гостя престарелого Вольта и была причиной впечатления, какое Дэви вынес от встречи с почитаемым творцом «вольтова электричества».
Беседа двух ученых, к сожалению, оказалась холодной, натянутой.
313
Почему Дэви на приеме у Вольта был так скромно одет, понять трудно, тем более что сэр Гемфри, когда он шел на светские приемы, умел и любил одеваться в парадное платье. Может быть, Дэви рассчитывал не на официальный прием, а хотел побеседовать с ученым с глазу на глаз, в лабораторной обстановке?..
Вели ли Дэви и Вольта разговор о фундаментальных проблемах науки? Сведений об этом нет. Но сам факт встречи ученых трех поколений был знаменательным и глубоко символичным. Встретились Вольта, открывший науке тайну гальванического электричества и подаривший людям мощный источник электрического тока — свой чудесный снаряд; Дэви, использовавший вольтов столб и с его помощью создавший новое направление в химии; и Фарадей, который понес далее эстафету науки, своим многолетним трудом обеспечив наступление века электричества.
Из Милана Дэви выехал в сказочную Венецию и далее проследовал в Швейцарию.
В Женеве он прожил до середины сентября. А когда осень вступила в свои права, путешественники возвратились в Италию.
В Женеве Дэви и Фарадея встретило большое общество известных ученых. Среди них были член правительства Женевской республики — физик и доктор медицины Шарль Делярив и известный естествоиспытатель, профессор минералогии и геологии Женевской академии, член Лондонского королевского общества — Николай Теодор Соссюр.
Делярив предоставил в распоряжение Дэви и его спутников просторное помещение в своем доме и сделал все возможное, чтобы как можно удобнее и приятнее устроить их жизнь. Деляриву были известны две страсти своего гостя — наука и рыбная ловля. О науке говорить не надо, всем была известна одержимость сэра Гемфри химией, физикой и многим другим в естествознании. Что же касается охоты и рыбной ловли, то один из друзей Дэви как-то вполне серьез-
314
но заявил: «Он помешан на рыбной ловле! Таких маньяков удочки и крючка еще не знал свет!»
Зная это, Делярив предоставил в распоряжение Дэви свою лабораторию и сделал все, что мог, для лучшей рыбной ловли на Женевском озере и охоты в ближайших горах.
Здесь, в Женеве, в доме Делярива, произошло неприятное столкновение Фарадея с четой Дэви, которое отложилось горьким осадком на всю их жизнь. В биографической литературе, посвященной Гемфри Дэви и Майклу Фарадею, этот эпизод изла-
гается в различных вариантах, но суть его одна и та же.
Видимо, никто из Дэви не удосужился, как этого требуют приличия, представить Деляриву Фарадея.
Однажды на охоте Делярив оказался наедине с Фарадеем, и между ними завязалась беседа. Делярив спросил молодого человека, которого он принимал за слугу сэра Гемфри Дэви, нравятся ли ему окружающие Женеву покрытые вечными снегами вершины и особенно жемчужина Альп — гора Юнгфрау. Фарадей в восторженных словах выразил восхищение красотой гор. Он высказал мысль о том, что людям, живущим ближе к природе, вероятно, легче ее изучать, чем ученым, запертым в каменные мешки больших городов.
Делярива заинтересовал столь необычно мыслящий слуга сэра Гемфри.
Делярив спросил Фарадея, что он читал, что его интересует в науке. Фарадей скромно назвал своей любимицей химию. Постепенно в разговоре, незаметно для самого себя, Фарадей рассказал Деляриву о своих наблюдениях в лаборатории, об опытах, которые он провел и о которых не знал даже Дэви. Делярив все больше и больше поражался любознательностью и серьезными познаниями своего молодого собеседника.
Появились с трофеями возбужденные и веселые охотники, и беседа между Деляривом и Фарадеем прервалась.
315
Когда шумная компания возвращалась домой, Делярив спросил у Дэви:
— Скажите, будьте добры, кто этот молодой человек, который приехал вместе с вами? Вы нас не познакомили, и я имел глупость принять его за вашего слугу.
— Да, он отчасти прислуживает нам,— смущенно ответил Дэви.— Недавно я его пригласил в Королевский институт лаборантом химической лаборатории. Он выполняет обязанности моего секретаря.
— Лаборант Королевского института, секретарь, слуга — как это необычно! — прошептал Делярив и добавил так, чтобы слышал Дэви: — Мне он показался очень приятным и сведущим человеком.
На этом Дэви прервал разговор, который был ему не по душе.
Пришло время обеда. До этого не обращавший внимания на Фарадея радушный хозяин сказал:
— Где же мистер Фарадей? Попросите его поторопиться, скажите, что мы садимся за стол.
Леди Джэн, которую Делярив хотел под руку провести к столу, нарушила этикет и, обратившись к мужу, стала по-английски что-то взволнованно говорить. Сэр Гемфри, который должен был вести к столу супругу Делярива, слушал леди Джэн. А затем обратился к Деляриву с заявлением:
— Извините, друг мой, Фарадей не обедает с нами за одним столом.
— Отчего же? Что это значит? — спросил Делярив.
— Видите ли,— сэр Гемфри был смущен,— моя жена очень строго соблюдает приличия... Она находит неудобным...
— ...сидеть рядом с таким милым молодым человеком?
— Друг мой, мы, англичане, строже относимся к общественным различиям и правилам хорошего тона, чем другие народы,— сухо закончил сэр Гемфри.
Деляриву, как любезному хозяину, ничего не оставалось другого, как еще раз пригласить гостей к столу и распорядиться о том, чтобы Фарадею накрыли стол отдельно, здесь же в столовой. Во время обеда Делярив несколько раз поднимался со своего места и подходил к Фарадею, стараясь всячески выказать ему свое внимание.
Фарадей нашел в лице Делярива доброго друга. Эта дружба продолжалась до самой смерти Делярива.
В Женеве Дэви оставался до середины сентября 1814 года. С приближением зимы он вернулся в Италию и жил до марта 1815 года в Риме. Среди других занятий, которым
316
он посвящал свое время, было исследование состава древних красок.
Прошли тысячелетия, но краски, которыми пользовались художники древности, сохраняли свою свежесть. Надо было раскрыть одну из тайн древности, выяснить, из чего’ приготовлялись эти краски.
Знаменитый итальянский скульптор Антонио Канова, пламенный поклонник древнеримского искусства, помогал Дэви. Канова снабдил Дэви литературой и другими сведениями, касающимися красок, найденных в сооружениях Древнего Рима и Помпей.
В результате долгой и кропотливой химико-аналитической работы Дэви раскрыл состав древних красок. Он нашел, что старинные красные цвета состоят из нескольких вариантов охры и киновари, а также вещества, которое Дэви называл мениум. Желтые краски оказались смесями охр и мела, или охр и мениума. Дэви не смог раскрыть секрета золотой краски древних—аурипигмента («аури»— «золото», <пигментум» — «краска»).
Позже было выяснено, что аурипигмент представляет собой минерал — желтую мышьяковую обманку, химическое соединение — сернистый мышьяк — вещество золотистого или лимонно-желтого цвета. Глубокий оранжевожелтый цвет, обнаруженный на штукатурке в руинах возле монумента Кая Цестия, состоял из смеси веществ, названных настикутом и мениумом. Синие цвета оказались смесью египетской и александрийской сини с большим или меньшим добавлением мела.
Дэви также интересовался ходом раскопок Помпей, которые проводились под покровительством сначала маршала Мюрата, затем короля Неаполя.
Прежде чем покинуть Италию, Дэви вернулся в Неаполь, чтобы попрощаться с Везувием.
В это время происходило извержение вулкана. Дэви несколько раз, презирая опасность, приближался к кратеру насколько только мог. Отравленный газами, чуть ли не обгоревший, он был счастлив от встречи с Везувием, как будто с живым существом.
В эти дни свидания с Везувием Дэви определенно превращался в огнепоклонника.
21 марта 1815 года Дэви и Фарадей покинули Неаполь. Их путь на родину лежал через Рим, Верону, Инсбрук, Ульм, Штутгарт, Гейдельберг и Рейн.
Письмо Фарадея родным в Лондон успело прибыть в Англию раньше путешественников.
Вот что он писал:
317
«Моя дорогая мама, я пишу Вам с великой радостью это последнее письмо из-за границы. Думаю, и Вы будете радоваться, узнав, что через три дня я выезжаю в Англию. Я не осведомлен о причинах внезапного нашего возвращения. Но с меня достаточно самого факта.
Мы поспешно оставили Неаполь, может быть из-за волнений в неаполитанской армии, быстро проехали через Рим, пересекли Тироль, прокатились по Германии, въехали в Голландию и сейчас мы в Брюсселе, откуда завтра выезжаем в Остенде. Там мы сядем на корабль и высадимся на землю, которой я никогда больше не покину. Я тысячу раз старался представить себе свидание с Вами и с друзьями, но я чувствую, что никакое воображение не может сравниться с действительностью.
День нашего приезда в Лондон точно не известен, и я прошу Вас не справляться о нем нигде. Вы можете быть уверены, что по прибытии в Лондон я нигде не задержусь по дороге на Вемут-стрит.
Сообщите об этом самым близким друзьям и, конечно, прежде всего Бенджамену и Роберту.
Мое возвращение домой кажется мне почти чудом. Мысли мои разбегаются, и я не знаю, что сказать, хотя хочется еще и еще беседовать с Вами. Но лучше кончить.
До свидания, драгоценная мамочка, до настоящего свидания.
Это самое короткое и самое (для меня) радостное письмо, которое я когда-либо писал».
Путешественники вернулись в Лондон 23 апреля 1815 года. Они пробыли на континенте полтора года.
Через несколько дней после своего приезда Гемфри Дэви также написал письмо матери в Пензанс. Оно было телеграфно коротким:
«Мы провели очень приятное и поучительное путешествие, и леди Джэн согласна со мной в том, что Англия единственная страна, в которой стоит жить, как бы ни интересно было посмотреть другие страны. Вчера я купил хороший дом на Гросвенор-стрит, и мы обоснуемся в этой счастливой стране».
Далеко не для всех родина Дэви была счастливой страной. В этом он мог убеждаться на каждом шагу.
Еще до отъезда Дэви на континент Англию облетело сообщение об ужасном взрыве в Ньюкасле на шахте Феллин
318
га. Оно привело в содрогание всю страну. В течение нескольких секунд было убито сто человек. Под похоронный звон колоколов из шахты поднимали наверх до неузнаваемости изуродованные трупы углекопов. Сотни людей остались калеками на всю жизнь. Крики жен и детей разрывали сердца.
Взрывы газа на каменноугольных шахтах ежегодно уносили тысячи и тысячи жертв. Никакой техники безопасности на подземных работах не существовало. Каждый рабочий поминутно находился под страшной угрозой гибели.
ПОБЕДА ДЭВИ НАД ГРЕМУЧИМ ГАЗОМ
Положение Дэви, к которому обратились с просьбой предпринять что-либо, изобрести что-то для безопасной работы шахтеров, было нелегким. Никто на свете, в том числе и сам Дэви, не знал, что в данном случае можно предложить.
Но речь шла о спасении тысяч людей самого тяжелого и благородного труда — углекопов. Дэви прекрасно сознавал всю ответственность за взятое поручение. Он выдал миру вексель, но сможет ли он его оплатить?
Рудничный газ — метан не имеет запаха, и его присутствие трудно обнаружить. Соединяясь с воздухом, метан образует взрывчатую смесь. Вентиляционных устройств во времена Дэви почти не существовало; достаточно было огонька шахтерской коптилки, чтобы вызвать взрыв, вызвать непоправимое несчастье.
Газ взрывается, рушатся своды горных выработок. Страшная сила взрыва крушит деревянные подпорки, удерживающие нависающую над головами людей кровлю •— горные породы, гибнут углекопы, застигнутые на рабочих местах. Начавшись в одном месте, взрыв мгновенно распространяется по всем участкам шахты. Катастрофа завершается пожаром. Спасательные команды еще долго не могут проникнуть через огонь и хаос разрушения к месту гибели шахтеров.
Но в черном мраке подземелья работать без света нельзя, необходимо освещать угольные копи. Нужен светильник, огонь которого не приходил бы в соприкосновение со взрывчатой смесью метана и воздуха — гремучим газом.
Дэви и Фарадей работают над изучением пламени. О том, какая это была увлекательная проблема, можно убедиться, прочитав написанную в более позднее время Фара
319
деем ставшую классической научно-популярную книжечку ♦История свечи».
Дэви, приучивший себя, невзирая на опасности, иметь дело с любыми взрывчатыми веществами, добывает немного гремучего газа и терпеливо изучает его свойства.
Задача проясняется, Дэви пробует отделить источник света от взрывчатого вещества. Напрягая всю свою изобретательность, он придумывает различные колпачки, сетки, ставит их между язычком пламени светильника и гремучим газом.
И опять летят во все стороны куски стекла, ранят руки и лицо экспериментатора. Но опыты продолжаются...
Наконец, через две-три недели упорных поисков, перебинтованный Дэви делает свое знаменитое открытие.
Когда горящая лампочка, покрытая металлической сеткой, была помещена в баллон, наполненный гремучим газом, произошло чудо — газ не взорвался!
На этот раз в лаборатории не валялись на полу осколки стекла и приборов: как только лампа оказалась в газовой среде, внутри сетки, окружающей язычок пламени, что-то вспыхнуло, хлопнуло и лампочка погасла. В баллоне остался невзорвавшийся рудничный газ.
В этот день опыт повторялся многократно, и каждый раз в сетке что-то вспыхивало, и лампа гасла. Очевидно, газ, проникавший вместе с воздухом через отверстия металлической сетки, взрывался под сеткой и тушил пламя.
Но самое замечательное состояло в том, что через металлическую сетку взрыв из лампы не передавался наружу и взрывчатая смесь в баллоне не взрывалась.
Дэви удалось остроумно использовать хорошую теплопроводность металлической сетки и, окружив ею обычную масляную шахтерскую лампочку, предотвратить распространение пламени во внешнюю атмосферу, наполненную взрывчатым рудничным газом.
В работе по исследованию пламени и изобретению безопасной рудничной лампы непосредственно участвовал и Фарадей.
Об этом писал Гемфри Дэви:
♦Я чувствую себя весьма обязанным Майклу Фарадею за содействие при моих опытах».
Была завершена первая половина дела. Никто еще не знал, как безопасная лампочка Дэви поведет себя в шахте.
Изобретение Дэви испытывалось на покинутой из-за насыщенности рудничным газом шахте-убийце.
320
По узким лесенкам, под непрерывными струями мутных ручьев воды несколько смельчаков во главе с Гемфри Дэви спустились по стволу шахты до самого дна. Тусклый свет лампочки освещал черные от сырости деревянные стены шахтного колодца. Тишина. Только непрерывно булькают падающие с большой высоты тяжелые капли воды. Вошли в подземную галерею.
Желтый луч скользит над головами шахтеров и, подпрыгивая, бежит дальше. Смоченное водой, поблескивает черное золото — уголь.
Идут медленно, неторопливо, никто не знает, какие неожиданности преподнесет заброшенная шахта. Но Дэви спокоен. Он верит в свое изобретение.
При повороте в тупиковый штрек лампочка вдруг издала звук хлопушки, ярко вспыхнула и тут же погасла.
Молча, понимая величие минуты, стояли в темноте смельчаки, согласившиеся вместе с сэром Гемфри спуститься в газовую шахту. В первый раз, который мог стать для них последним, они стали свидетелями управляемого взрыва рудничного газа под колпаком из металлической сетки — взрыва, после которого не рушилась кровля, не умирали люди, не бушевал пожар.
Уже упоминавшийся в этой книге биограф Дэви Гроузер писал:
«Два великих события потрясли Англию в 1816 году: победа Веллингтона над Наполеоном и победа Дэви над рудничным газом».
Два события, несопоставимых по своему значению и
11 Молодость Сеченова
321
сущности. Первое — победа, завоеванная большой кровью, стоившая тысяч и тысяч жизней. Второе — бескровная победа ученого, отдавшего свой гений людям.
Лампочка Дэви оказалась спасительницей шахтеров,
Гемфри Дэви предложили взять патент на его чудесное изобретение. Он смог бы получать огромные доходы от продажи права на промышленное производство безопасных ламп. Но Дэви категорически отказался от этого предложения. Он заявил, что единственное его желание — всегда служить человечеству: «Лучшим вознаграждением за мои работы будет сознание того, что я сделал добро мне подобным».
Дэви не хотел своим патентом ставить препоны быстрому распространению важного изобретения, сохраняющего жизни сотен тысяч подземных рабочих.
В Лондон на Гросвенор-стрит, где жил ученый, посыпались письма. В одних были отчеты об испытаниях безопасной лампочки, в других волнующие выражения человеческой благодарности.
Некий мистер Бадло, видимо горный инженер, писал в своем послании:
«Вместо того чтобы продвигаться дюйм за дюймом со свечой, как обычно, по шахтам, подозреваемым в том, что там содержится взрывчатый газ, для того чтобы убедиться в его присутствии, мы двигаемся твердо вперед с безопасными лампами и с полной уверенностью в этой безопасности наблюдаем состояние шахты.
Я испытываю особое удовлетворение, останавливаясь на этом предмете, который представляет большую важность не только для великих целей человечества, но и для интересов страны... Потому что я убежден: это счастливое изобретение безопасной лампы сделает доступным большое количество угольных шахт, которые иначе оставались бы недоступными к разработке».
В каждом из полученных Дэви писем высказывалось изумление и восхищение тем, что «такой простой инструмент мог позволить взглянуть в лицо до сих пор непокоренному врагу».
Вот еще одно письмо — адрес углекопов из Уайтхевена, найденный среди бумаг Дэви и датированный 18 сентября 1816 года: ’
«Мы, нижеподписавшиеся шахтеры из уайтхевенских угольных разработок, принадлежащих графу Лондсдейлу, обращаемся с искренней благодарностью к сэру Гемфри Дэви за его бесценное изобретение безопасной лампы, которая явилась для нас истинным охранителем жизни.
322
Это единственное, что в наших силах, и что мы можем предложить Вам. Мы почтительнейше преподносим это наше выражение благодарности».
Адрес был подписан восемьюдесятью двумя шахтерами. Большинство из них вместо подписи поставило крестик.
Вскоре лампочка Дэви стала необходимейшим предметом шахтерского снаряжения на каменноугольных шахтах всего мира. Она, в частности, способствовала широкому развитию английской угольной промышленности.
В угольных районах Дэви стал популярным человеком.
В 1817 году шахтовладельцы подарили Дэви ценный серебряный сервиз стоимостью в 2500 фунтов стерлингов.
Гениальное изобретение Дэви сразу поднимало угольную промышленность на несколько ступеней выше. Шахты, прежде заброшенные из-за большой концентрации гремучего газа, вновь вступали в строй.
Но была и оборотная сторона медали. Шахтовладельцы воспользовались лампочкой Дэви, чтобы сократить и без того мизерные средства, расходуемые для устройства вентиляции в угольных шахтах. Взрывов не было, но углекопы задыхались в наполненных газом, плохо проветриваемых шахтах.
Лампочка Дэви, как и любое другое изобретение в капиталистическом обществе, вместо того чтобы обеспечить рабочим лучшие условия труда, повысить их благосостоя
323
ние, принесла выгоду шахтовладельцам и послужила дополнительным средством эксплуатации шахтеров.
С трудом поспевая за общим признанием заслуг Гемфри Дэви, принц-регент даровал ему звание баронета. Дэви стал для Англии тем, кем был для Германии Гумбольдт, для Франции Лаплас — признанным главой научной мысли.
В 1817 году Дэви был избран членом Французской академии наук. За свои исследования пламени и изобретение безопасной лампочки Дэви получил национальную награду — медаль Румфорда.
* * *
В семье Дэви уже давно нарастал разлад. Леди Джэн все больше отдалялась от своего супруга. Ее интересы не имели ничего общего с тем, что волновало сэра Гемфри.
Люди, встречавшиеся с ней в эти годы, пишут о ее внешней привлекательности, уме и... о чем-то отталкивающем в ее нравственном облике.
«По приглашению сэра Гемфри я посетил в это утро леди Дэви. Я нашел ее в гостиной, занятой рукоделием. Содержимое ее корзинки было разбросано перед ней на столе, и все выглядело очень по-домашнему. Она небольшого роста, черноглазая, с очень приятным лицом, с необычайно милой улыбкой. Речь ее отличается необыкновенным умом и выразительностью... Я никогда не встречал женщину, столь красноречивую, но есть в ее речи некоторый оттенок нарочитости и претенциозности».
Эта запись взята из жизнеописания современника Дэви — мистера Тикнера.
Брат Гэмфри, доктор Джон Дэви, лицо вряд ли беспристрастное, со своей стороны писал о леди Джэн:
«Леди Джэн, несомненно, была предназначена для того, чтобы блистать в салонах. Однако она была лишена мягких черт, которые создают счастливую жизнь в семье. Она отличалась изысканным вкусом, занималась делами благотворительности и в то же время была внутренне холодна, своевольна и чрезвычайно независима. Она была создана скорее для того, чтобы вызывать восхищение, нежели любовь. Она не была счастливой натурой и не была способна давать счастье другим. Едва ли ее союз с Гемфри был удачным, и я, скорее, сказал бы: для обоих лучше было бы, если бы они никогда не встретились».
Сам Гемфри Дэви, прямо не называя имен, так сказать абстрактно, в письме к другу высказывал свою горечь о своей столь быстро ушедшей любви:
324
♦Я полагаю, что в основном все зависит от характера более, чем от интеллекта и других личных черт. Самые тонкие вина и амброзия современных столов будут испорчены двумя-тремя каплями горького экстракта, и дурной характер имеет тот же самый эффект в жизни. Речь здесь идет не о больших жертвах и не об исполнении долга с большой буквы, но о мелочах, где улыбки, и доброта, и маленькие услуги, ежеминутно оказываемые, создают благополучие и уют».
Вряд ли Гемфри Дэви имел в виду мещанское благополучие, он тосковал по человеческому теплу, горевал о том, что рядом с ним нет настоящего друга. Не было этого друга в доме Дэви, но, быть может, были друзья вне дома. Гемфри был человеком общительным, веселым. У него, как у всякого человека, были свои пристрастия, увлечения и антипатии. Он до самозабвения любил удить рыбу.
Остались живые зарисовки о том, каким Дэви бывал на рыбалке.
«Сентябрьским утром,— пишет один из друзей Дэви,— большая компания направилась на рыбную ловлю. Наиболее живописной фигурой был знаменитый изобретатель безопасной лампочки для углекопов. Он приехал ради своего любимого спорта — рыболовства. И его рыболовецкий костюм, коричневая шляпа с нахлобученными полями, простроченная и с множеством петель и бантиков; сапоги, достойные голландского контрабандиста; и сверх всего сюртук, подбитый подкладкой цвета брюха форели, составляли забавный контраст с аккуратной одеждой, обтянутыми бриджами и хорошо начищенными жокейскими сапогами менее изысканных членов компании.
Я видел сэра Гемфри во многих местах и в самом разнообразном обществе, но я никогда не встречал его в таком авантажном (блестящем) виде, как на этой рыбной ловле. Его хозяин (Вальтер Скотт) и он были в восторге друг от друга, и их взаимное восхищение составляло незабываемое зрелище.
Дэви был по натуре поэт, а Скотт, хотя и вовсе не был ученым в точном смысле этого слова, мог, я думаю, весьма вероятно заниматься изучением естественных наук с усердием и успехом, если бы ему повезло и он имел бы таких учителей, каких имел сэр Гемфри Дэви в своем раннем детстве. Каждый из них старался заставить другого рассказать какую-либо интересную историю. И они делали это так очаровательно, что я не припомню ничего подобного за всю свою жизнь. Скотт со своими романтическими рассказами затрагивал самые глубокие чувства слушателей. Его вдох
325
новляло присутствие сэра Гемфри. В свою очередь, Дэви никогда не излагал свои взгляды на какой-либо научный вопрос с такой степенью экспрессии и красноречия, как это он делал в обществе Вальтера Скотта».
В этом описании все живо и точно, за исключением указания на роль учителя, которого Дэви имел в раннем детстве. Вряд ли мистер Гаритон с его линейкой, гулявшей по спине юного Гемфри, мог бы претендовать на какое-либо значение в формировании таланта своего ученика.
Через месяц после окончания исследований пламени и создания безопасной шахтерской лампочки, которые заняли важное место в научном творчестве Дэви, наступил период относительного затишья. Пауза в научной работе ученого была связана с неурядицами в его семейной жизни. Эти осложнения в жизни супругов Дэви не оставались незамеченными для окружающих.
Вальтер Скотт говорил о Гемфри Дэви и о леди Джэн:
«Она обладала характером, и Дэви также имел ясно выраженный характер. Эти два характера весьма отличались друг от друга. Дошло до того, что отношения их в домашней жизни стали походить на то, как относятся кошка к собаке. Из этого не могло получиться ничего хорошего».
В поисках выхода из создавшегося сложного положения Гемфри Дэви и леди Дэви решили за благо сменить лондонский образ жизни, предпринять второе путешествие на континент.
Вернувшись из первой поездки в Европу, Дэви обещал больше не покидать родину. Но он же как-то сказал своему другу, что не хочет умереть, не побывав еще раз в Италии.
Различные обстоятельства ускорили осуществление желаний Дэви и его супруги.
...На берегу Неаполитанского залива, в семи километрах от Неаполя, во время катастрофического извержения Везувия 24 августа 79 года нашей эры, был разрушен и засыпан (вместе с Помпеями) город Геркуланум. Раскопки этого города начались в 1738 году и с перерывами продолжались до 1818 года. Они велись и в более поздние времена. Раскопки затруднялись толстым и твердым слоем слежавшегося в туф вулканического пепла. Чтобы добраться до развалин Геркуланума, нужно было снять слой туфа высотой двенадцать метров.
326
В Геркулануме были открыты театр, улицы жилых домов, а также библиотека, содержавшая большое число свитков папируса с сочинениями древних авторов. Эти свитки папируса, пролежавшие в земле около двух тысяч лет, окаменели, и не было возможности их развернуть, ознакомиться с тем, что в них написано.
В начале лета 1818 года Дэви писал матери:
«Дорогая матушка, мы собираемся совершить очень интересную поездку. Я прежде всего думаю посетить углекопов Фландрии, которые мне прислали очень милое письмо с приглашением и с благодарностью за то, что я способствовал спасению их жизней. Затем мы поедем в Австрию, где я покажу леди Дэви Вену, и мы посетим рудники. А напоследок, до того как вернуться, я собираюсь посетить Неаполь.
Я имею распоряжение от имени его королевского высочества принца-регента проделать ряд экспериментов над некоторыми весьма интересными рукописями, которые я надеюсь расшифровать. Вчера мне была оказана честь, я имел аудиенцию у его королевского высочества, и он в самых добрых и милостивых выражениях поручил мне обследовать этот предмет. Мы будем отсутствовать несколько месяцев. Передайте мою любовь моим сестрам и тетушкам».
В Неаполь Дэви прибыл только осенью, после посещения Фландрии и Австрии, как это и намечалось ранее. Здесь он начал свои исследования древних рукописей, сохранившихся в Геркулануме.
Дэви подвергал свитки папируса действию горячего пара и затем обрабатывал хлором. Первые его результаты были довольно удачны. Было установлено, что папирус меньше пострадал от пламени, чем это предполагалось. Серьезные изменения произошли от постепенного превращения растительной структуры папируса в течение веков в лигнит — в бурый уголь.
И все же, несмотря на большие трудности, Дэви удалось развернуть некоторое количество папирусов из Геркуланума.
В дальнейшем в работе возник ряд затруднений. Требовались новые настойчивые поиски для получения окончательного результата.
Изучение вулканических явлений на Везувии отняло много времени и сил. Брались сотни проб: газов, выделяющихся из расщелин кратера, лавы, горных пород. Вулканологи и геологи получили благодаря работам Дэви много новых фактов и гипотез о деятельности вулканов и строении земной коры.
327
На лето Дэви покидал Неаполь, а зимой возвращался обратно. Его путешествие продолжалось около двух лет. Лишь 6 июня 1820 года он вернулся в Англию.
Второе путешествие на континент не изменило характера отношений между супругами. Напротив, они стали еще более напряженными. Леди Джэн и Гемфри Дэви жили обособленно. Оба устали от непрекращавшихся стычек, видели это свое неустроенное существование, но ничего изменить не хотели и не могли.
Жизненный путь Дэви близился к концу. Здоровье, подорванное годами опасной работы, день ото дня становилось все хуже. Самый тонкий и сложный механизм в человеке — нервная система — была истощена настолько, что даже продолжительное путешествие не смогло принести улучшения. Дэви был серьезно болен. Может быть, этим отчасти и объяснялось его неровное и часто вопиюще несправедливое отношение к верному и талантливому ученому, который рос возле него — к Фарадею.
Летом 1820 года умер сэр Джозеф Бенке, около сорока двух лет занимавший пост президента Королевского общества. Он был избран на этот пост до рождения Гемфри Дэви. После смерти Бенкса Гемфри Дэви объявил о намерении выставить свою кандидатуру на освободившееся место.
30 ноября 1820 года Гемфри Дэви был избран президентом Королевского общества. Давняя мечта осуществилась, он сидел в кресле, которое когда-то занимал Исаак Ньютон. Это была величайшая почесть, которой может быть удостоен ученый в Англии.
Теперь Дэви мог оказывать непосредственное влияние на развитие в стране науки и промышленности. Это его, естественно, радовало. Дэви создал специальный план контроля и направления научной деятельности национальных лабораторий, поддерживал всемерное развитие Гринвичской астрономической обсерватории, предпринял шаги к созданию нового Британского музея естественной истории.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ УЧЕНОГО
Еще не закончился 1820 год. Гемфри Дэви на исходе этого года предполагал посетить родные пенаты, встретиться с матерью и сестрами в Корнуолле. Но этим планам помешало одно событие в науке, которое заставило Дэви остаться в Лондоне и засучив рукава приняться в лаборатории за проверку некоторых важных фактов.
328
В письме Гемфри Дэви брату Джону коротко изложена суть дела:
«Мой дорогой Джон, я собирался в Корнуолл, но увлекся интересными исследованиями и не могу сдвинуться с места, пока не выведу заключения.
Я узнал (повторяя некоторые неопределенные эксперименты Эрстедта), что вольтов столб обладает магнитной силой. Соединяя плюс и минус электричества, мы получаем магнетизм так же, как и тепло.
Я глубоко заинтересован этим вопросом, обещающим объяснить многое в теории Земли. Не говорите никому об этом. Я надеюсь через два или три дня сообщить Вам все детали, и Вы сразу поймете всю важность вопроса... Фарадей открыл соединение хлора и древесного угля... Я пишу Вам на столе, на котором занимаюсь магнетизмом... Если мне удастся закончить мою работу к 24 (ноября), то я приеду до сессии Королевского общества.
Остаюсь, дорогой Джон, очень искренне любящий друг и брат Ваш Г. Дэви».
Таким образом стало известно, что задержало сэра Гемфри Дэви в Лондоне.
Из Копенгагена по всему свету разнеслась весть об удивительных открытиях Ганса-Христиана Эрстедта: датский ученый связал в один узел магнетизм и электричество.
Магнитная стрелка, обычно одним своим концом показывающая на север, отклонялась в сторону на запад или восток, в зависимости от того, с какой стороны подносили к ней медную проволоку, по которой протекал электрический ток от одного к другому полюсу вольтовой батареи. Казалось бы, простая вещь — электричество заставляет менять положение магнитной стрелки. Простая вещь для людей, далеких от науки. Она взволновала весь ученый мир.
Джон Дэви в своих воспоминаниях о брате рассказал о том, как известие об открытии Эрстедта дошло до сведения Гемфри Дэви.
Он узнал об опытах Эрстедта из письма одного друга. Этим Джон Дэви и объяснял то место в послании брата, где он называет эксперименты Эрстедта «неопределенными». Неопределенными потому, что Дэви имел перед собой не научную статью, а лишь только беглое упоминание об открытии в частном письме приятеля.
Если бы Дэви познакомился с подлинными описаниями опыта Эрстедта, он бы сразу понял, что речь идет о великом открытии, вряд ли менее важном, чем труды, увековечившие имена Вольта, Гальвани и Франклина.
Несложные эксперименты Эрстедта были повторены
329
Дэви в лаборатории Королевского института, видимо, с участием Фарадея, который все эти годы блестяще подготавливал многие опыты своего учителя. В итоге своих наблюдений Дэви подтвердил факты, открытые Эрстедтом, и со своей стороны заявил, что медная проволока или другой любой проводник во время прохождения тока становится магнитом: притягивает железные опилки. Электрическим током можно намагничивать металлические предметы. Дэви установил также, что сила магнетизма, как и тепловая энергия, пропорциональны количеству переданного электричества.
Опираясь на добытые факты, Дэви предположил, что земной магнетизм также обязан своим происхождением электричеству. Его вариации зависят от изменений электрических токов в земле ввиду ее движения, внутренних химических перемен и отношения земного шара к влиянию солнца.
Северные сияния, полагал Дэви, также зависят от электрической природы земного магнетизма.
Дэви возражал против отождествления магнетизма и электричества. Он указывал на ставшие известными факты, что магнитные силы действуют через проводники и непроводники, действуют на большие расстояния одинаково хорошо через воздух, воду, стекло и металл. Дэви предпринял попытки воздействия магнитом на химические вещества, но, как он сам писал, это ему не удалось.
В записке в Королевское общество Дэви изложил все свои наблюдения над природой магнетизма и выдвинул предложение о создании мощных магнитов и возможного их использования для практических и научных целей. В частности, Дэви указывал на то, что «притягательная сила магнита может служить к открытию в земле находящегося там железа».
Исследовав ряд интересных свойств магнетизма и высказав чрезвычайно важные соображения о природе земного магнетизма, Дэви все же не пошел в этой области по большой дороге великих открытий. Это сделали Фарадей и Ампер.
О первых работах в этом направлении Фарадея пойдет речь ниже.
Ампер в Париже, изучив законы взаимодействия электрических токов, положил начало новой отрасли науки об электричестве — электродинамике.
Однажды в лабораторию Дэви зашел секретарь Королевского общества Волластон *. Это было в середине 1821 года. Разговаривали о разном. В числе других научных проблем,
ззо
о которых шла речь во время этой беседы, Волластон затронул всех волновавшую тогда тему электромагнетизма. Волластон поделился с Дэви своим предположением, что проволока, через которую пропущен электрический ток, должна вращаться вокруг своей оси под действием магнита. И обратно: можно превратить отклонения магнитной стрелки в непрерывное вращение ее вокруг проводника, по которому течет электрический ток.
Волластон рассказывал Дэви о пока что неудавшемся эксперименте, поставленном для проверки высказанного предположения.
При этой беседе двух ученых, как обычно, присутствовал Фарадей.
Дэви согласился с Волластоном о необходимости вернуться к неудавшемуся эксперименту со вращением проводника электрического тока вблизи магнита.
Фарадею в ту пору была заказана статья по истории электромагнетизма для одного научного журнала. Чтобы заказанный очерк наиболее полно охватил интересную проблему, дотошный Фарадей решил провести в лаборатории все опыты, относившиеся к только что начавшейся истории электромагнетизма. Он привык писать лишь о том, что проделал собственными руками.
Проверялись опыты французских ученых...
И тут Фарадей вспомнил о разговоре Дэви и Волластона и о неудавшемся эксперименте, который должен был подтвердить предположение о том, что проводник вблизи магнита должен вращаться.
Дэви и Волластон уехали из Лондона на рождественские каникулы в приморский курортный городок. А Фарадей продолжал работать в лаборатории. И в первый день рождества сообщил своей супруге Саре Вернар о большом успехе : неудачный опыт Волластона удался.
Опыт был поставлен просто и очень изобретательно. В серебряную чашу была налита ртуть. В центре чаши был закреплен магнит, его северный полюс возвышался над зеркалом ртути. В ртути плавала пробка, сквозь которую была продета медная проволока. Нижний конец проволоки был погружен в ртуть, а верхний прикреплен к шарниру, в свою очередь соединенному проводником с полюсом вольтовой батареи. Другой полюс батареи был присоединен ко дну серебряной чаши.
Электрическая цепь таким образом проходила через серебро чаши и ртуть к концу проволоки из пробки, погруженной в ртуть. Верхний конец медной проволоки на выходе из пробки шел к противоположному полюсу вольтовой
331
батареи. Электрическая цепь была замкнута. Проволоке в плавающей пробке сообщалась максимальная подвижность.
Ток включен, и совершилось чудо: пробка с медной проволокой завертелась вокруг магнита. Перемена полюсов батареи заставила пробку с проволокой вращаться в обратную сторону.
Тот же эффект наблюдался, когда магнит переворачивался другим полюсом — менялось направление движения пробки с медной проволокой.
Предположение Волластона подтвердилось: Фарадей первым в мире осуществил эффект электромагнитного вращения.
Далее события разворачивались в такой последовательности. Фарадей опубликовал статью <0 некоторых новых электромагнитных движениях и о теории магнетизма», в которой описал свои опыты.
Мысль о том, что необходимо как-то указать на работу Волластона — его неудавшийся опыт, впервые высказанное им предположение о возможности электромагнитного вращения,— возникала у Фарадея, когда он писал свою статью.
Но появилось затруднение: ни Волластона, ни Дэви не было в Лондоне.
Как же быть? Издатель торопит со сдачей статьи, следующий номер журнала выйдет лишь через три месяца. Указывать в статье на работу Волластона, которая нигде еще не публиковалась и не сообщалась в научном докладе, без разрешения автора было неудобно.
И Фарадей сдает статью без упоминания имени Волластона.
Открытие электромагнитного вращения — проводника под током вокруг магнита и обратно магнита вокруг проводника — выдвинуло Фарадея в первую шеренгу крупнейших европейских ученых, разрабатывающих самую новую отрасль физики — электромагнетизм.
1821 год и работы Фарадея вошли в летопись величайших завоеваний человеческого гения — впервые было осуществлено непрерывное превращение электрической энергии в механическую и открыта обратная возможность превращения механической энергии в электрическую.
Это открытие было огромно по своему научному значению. Оно вело в грядущий век электричества, послужило толчком к многочисленным попыткам создания новых двигателей — электрических моторов "и новых генераторов электрического тока — динамо-машин.
332
Однако открытие Фарадея принесло ему не только славу, но и горе.
По Лондону распространились слухи о том, что молодой ученый совершил плагиат. Самое обидное и неприятное заключалось в том, что эти слухи не опровергались учителем Фарадея — Дэви. Биографы Фарадея указывали на то, что он никогда и нигде не отрицал факта, что идея Волластона, не подкрепленная результатами экспериментов, побудила его приступить к собственным исследованиям электромагнитного вращения.
Клевета принимала большие размеры, Фарадей находился в тяжелом положении. Помощи от Дэви по-прежнему не было, и Фарадей решает, отвергая советы друзей, не раздувать инцидента, обратиться непосредственно к Волластону.
«Я полагаю,— писал Фарадей Волластону,— что не поврежу себе в ваших глазах, прибегнув к наиболее простым и прямым средствам для выяснения возникшего недоразумения».
Откровенный разговор Фарадея с Волластоном на время положил конец слухам, толкам и пересудам.
Фарадей признал свою бестактность, выразившуюся в том, что в статье не было указано имя Волластона, впервые подавшего идею вращения проводника вокруг магнита.
Волластон принял меры к реабилитации Фарадея.
Отношения Дэви и Фарадея претерпели большие испытания. На этот раз леди Джэн прямого отношения к делу не имела, разве лишь то, что она непрерывно влияла на сэра Гемфри, развивая в нем неприязнь к своему талантливому молодому сотруднику.
На глазах Дэви недавний его помощник быстро поднимался на небосклоне английской науки, а сам Дэви так же быстро угасал.
Его честолюбие не могло мириться с этим фактом. Естественное чувство гордости за открытого им ученого в болезненном восприятии сэра Гемфри уступало место зависти и раздражению.
Накапливались мелкие причины к отчуждению Дэви от Фарадея.
Много лет Дэви изучал хлор и его соединения. Но первым, кто сумел получить сжиженный хлор, был Фарадей.
Когда возникли сомнения в абсолютной безопасности лампочек Дэви, экспертный совет попросил многих ученых высказаться на этот счет. Все отзывы были единодушны — лампочка Дэви признана достойной ее творца, ее надежность была вне всяких подозрений.
333
Только один голос прозвучал диссонансом в этом хоре одобрения гениальному изобретению Дэви. Причем это был голос человека, ближе всех других стоявшего у колыбели безопасной лампочки — голос Фарадея. Он указал на мелкую деталь, которую надлежало поправить. Фарадей не нашел способа в свое время сообщить Дэви об этом мелком недостатке и вынес вопрос на комиссию экспертов. Деталь тут же была исправлена, но Дэви остался глубоко обиженным. Он не подумал о том, сколько обид и унижений было нанесено Фарадею самим Дэви и его семьей.
Итак, отношения Дэви и Фарадея год от года осложнялись.
История с Волластоном как будто забылась, но потом снова возник ее рецидив.
В марте 1823 года Дэви читал обзорный доклад об электромагнетизме. В конце своего сообщения сэр Гемфри счел необходимым указать на заслуги Волластона:
«Мне не удастся надлежащим образом закончить свое сообщение, если я не упомяну об одном обстоятельстве в истории развития электромагнетизма, которое, будучи хорошо известным многим членам нашего общества, тем не менее, как я уверен, никогда не было достоянием широкой публики; а именно о том, что мы обязаны проницательности доктора Волластона первой мыслью о возможности вращения электромагнитной проволоки вокруг ее оси вследствие приближения магнита».
Это справедливое признание заслуг Волластона не могло вызвать с чьей-либо стороны каких-нибудь возражений. Но в отчете о заседании Королевского общества, написанном неким Брейли и появившемся в научном журнале, сказанное Дэви приобрело другой смысл.
В редакции Брейли это место в сообщении Дэви звучало так:
«Не будь неудачи с этим экспериментом, поставленным доктором Волластоном и засвидетельствованным сэром Гемфри, вследствие аварии, случившейся с аппаратом, он (Волластон) открыл бы это явление».
Отчет Брейли, исказивший истинное положение дела, глубоко оскорбил Фарадея. Он немедленно встретился с Гемфри Дэви и услышал ot своего учителя признание, что ♦отчет был неточен и несправедлив».
Дэви посоветовал Фарадею написать опровержение в научный журнал, где была опубликована заметка Брейли.
Совет Дэви о публикации опровержения был осуществлен.
Его текст был написан Фарадеем.
334
< В предыдущем номере мы пытались дать полный отчет о важном сообщении, сделанном сэром Гемфри Дэви Королевскому обществу 5 марта. Однако мы просим наших читателей не принимать во внимание пяти строк этого отчета, которые являются не только неправильными, но прямо лживыми. Стремясь избёжать акта несправедливости к третьему лицу, мы отсылаем читателя к оригиналу доклада, когда тот будет опубликован».
Несмотря на это печатное опровержение наветов на Фарадея, клевета возродилась и поползла из дома в дом.
Предстояли выборы новых членов в Королевское общество. На заседании 1 мая 1823 года секретарь зачитал заявление двадцати девяти членов, среди которых был Волластон :
«Мистер Майкл Фарадей, отлично знающий химию, автор многих сочинений,,напечатанных в трудах Королевского общества, желает вступить в число членов этого общества, и мы, нижеподписавшиеся, рекомендуем лично нам известного Фарадея как лицо, особенно достойное этой чести, и полагаем, что он будет для нас полезным и ценным сочленом».
До того как Фарадей выразил желание баллотироваться в число членов Королевского общества, он имел беседу на эту тему со своим учителем и президентом общества сэром Гемфри Дэви.
Разговор произошел в лаборатории. Дэви спросил Фарадея:
— Вы выставили свою кандидатуру в Королевское общество?
— Ее выставили двадцать девять членов общества,— ответил Фарадей.
— Вы должны снять свою кандидатуру.
— Я не могу этого сделать, так как выставил ее не я, а члены Королевского общества.
— Вы должны побудить их взять свое предложение обратно.
— Заранее знаю, что они этого не сделают.
— Тогда это сделаю я как президент общества!
— Вероятно, сэр Гемфри Дэви сделает то, что сочтет полезным для Королевского общества.
На этом неприятная беседа между Дэви и Фарадеем оборвалась.
Трудно объяснить даже в свете всего, что произошло за последние годы между Дэви и Фарадеем, это ожесточение учителя против им же открытого гения.
Понимая, что в деле своего избрания в Королевское об
335
щество будут еще играть роль клеветнические слухи, связанные с Волластоном, Фарадей решил еще раз посетить секретаря Королевского общества.
К этому времени уже десять раз, по традиции общества, зачитывалось на общих собраниях заявление о приеме Фарадея.
После приведенной неприятной встречи Фарадея и Дэви прошло уже полгода.
Фарадей откровенно рассказал Волластону о своем разговоре с Дэви, о своем убеждении, что по-прежнему ему вредят отзвуки истории с публикацией трактата об электромагнитном вращении. Волластон с сочувствием выслушал Фарадея и обещал предпринять шаги к выяснению позиции Дэви.
Волластон разговаривал с Дэви и тотчас после этого написал письмо измученному Фарадею:
«Я исполнил свое обещание и убедился, что сэр Гемфри Дэви не намерен настаивать на своем противодействии Вашему избранию. Полагаю, что Вы бы лично могли объясниться с ним по этому поводу. Он ничего против Вас не имеет».
Следуя совету Волластона, Фарадей посетил Дэви. Это была встреча, ничего общего не имевшая с той первой, принесшей столько огорчения Фарадею. Сэр Гемфри говорил о своем нездоровье и назвал печальным недоразумением все, что произошло полгода назад. Он пожелал Фарадею всяческих успехов в научной деятельности. Что повлияло на столь крутое изменение отношения Дэви к Фарадею, ответить трудно.
8 января 1824 года состоялась баллотировка Фарадея в Королевское общество. Фарадей был избран всеми голосами, только один черный шар был против... Кто подал этот шар, осталось тайной. Надо думать, что этот шар подан был кем угодно, только не Дэви.
В дальнейшем их отношения улучшились, и после смерти Дэви Фарадей неизменно с глубокой признательностью и уважением вспоминал своего учителя.
Известный французский ученый химик Жан Батист Дюма в открытом заседании Французской академии, 18 мая 1868 года, посвященном Фарадею, говорил о том, каким остался в памяти Фарадея его учитель Гемфри Дэви:
«Фарадей никогда не забывал, чем был обязан Дэви. Однажды, спустя двадцать лет после смерти Дэви, я завтракал у Фарадея. Он без сомнения заметил холодность, с какой я встретил его восторженные замечания о великих открытиях Дэви.
336
Он не настаивал. Но после завтрака без всякой аффектации повел меня в библиотеку Королевского института и, остановившись перед портретом Дэви, сказал:
— Это был великий человек, не так ли? — И, обернувшись, прибавил: — Здесь он в первый раз говорил со мной.
Я поклонился. Мы спустились в лабораторию. Фарадей взял реестр, раскрыл его и указал пальцем слова, написанные Дэви в тот самый момент, когда действием батареи он разложил поташ и увидел первый шарик потассия (калия), отделенный рукой человека. Вокруг технических знаков, формулирующих открытие, Дэви дрожащей рукой обвел круг, отделив их от остальной страницы; слова «главный эксперимент», написанные сверху, ни один истый химик не прочтет без глубокого волнения.
Я был побежден и на этот раз, не колеблясь, согласился с моим превосходным другом.
Как видно, Фарадей помнил о лекциях Дэви; он хранил в памяти его великие открытия, он прощал ему его высокомерие.
Мы далеки от этой добродетели...»
...Так заканчивается драматическая история научных и человеческих отношений между Гемфри Дэви и Майклом Фарадеем. В этой истории выявились отнюдь не лучшие стороны характера Дэви. Он был пристрастным в своих добрых и злых поступках. Судьей ему стало время.
* * *
Шли последние годы жизни Дэви. К нему обращались, как и в прежние времена, с просьбой прийти на помощь тем или иным нуждам промышленности и сельского хозяйства. Дэви изучал возможности предохранения обшивки кораблей от разрушающего действия морской воды. Была выдвинута идея защиты медных частей морских судов покрытием их железными пластинами. Но предложение Дэви не решило проблемы.
В 1826 году Гемфри Дэви читал свою последнюю бэке-ровскую лекцию об отношениях между электрическими и химическими процессами. Это была его лебединая песня. В этом же году Гемфри Дэви был избран почетным членом Петербургской академии.
И вскоре его поразил апоплексический удар, первое кровоизлияние в мозг.
Паралич надолго приковал Дэви к постели.
337
В доме тишина — леди Джэн постоянно куда-то выезжала. Больной ученый имел предостаточно времени, чтобы подвести итоги своей жизни. В пораженном недугом мозгу теснились воспоминания, проплывали события давних и близких лет...
Как только явления паралича стали проходить, Дэви решил уехать в Италию.
Разрыв с леди Джэн нарастал вместе с обострением болезни.
В январе 1827 года Гемфри уезжает из Лондона вместе со своим братом Джоном. Леди Джэн не нашла нужным сопровождать больного мужа.
В Европе, на континенте, Дэви пробыл около года. Боязнь умереть вдали от родины заставила его вернуться в Англию.
Чувствуя, что жить осталось совсем немного, он подает в отставку и уходит с поста президента Королевского общества.
Очутившись впервые в положении человека, отошедшего от главного дела жизни — науки, Дэви пишет исповедь рыболова — книгу «Салмония».
Весной 1828 года, когда скупое северное солнце стало пригревать почерневшие от сырости и времени лондонские дома, Дэви в последний раз выехал из Англии, чтобы попрощаться со ставшей для него второй родиной — Италией. Его сопровождал друг — мистер Тобин.
Уже написана последняя научная статья — «Заметки об электричестве ската», она прислана в Англию из Рима. В ней Дэви подводит итог многолетним наблюдениям за природой электричества некоторых рыб.
И уже наступил последний в жизни Гемфри Дэви 1829 год. 19 февраля в Риме произошло второе кровоизлияние в мозг. Жить оставалось считанные дни, Дэви ясно понимал это... Но получил еще одну отсрочку, теперь она исчислялась не годами, а месяцами.
Дэви шлет прощальное письмо в Лондон леди Джэн.
В Женеве, за несколько часов до смерти, Гемфри получает ответное послание из Лондона:
«Я получила, любимый мой сэр Гемфри, письмо, подписанное Вашей рукой, с драгоценным для меня изъявлением нежности.
До сегодняшнего дня меня задерживали здесь доктора Бебингтон и Клар, но завтра я выезжаю. Я буду путешествовать с возможной скоростью, чтобы прибыть не слишком поздно. Я еще надеюсь обнять Вас, ибо столь ясные и прекрасные выражения чувств не могли исходить от умираю
338
щего... Ваши желания останутся для меня священными, и я буду слепо повиноваться высказанным в Вашем письме приказам.
Да сохранит Вас господь; верьте, что Ваше благородное письмо еще увеличило ту любовь, которую я всегда питала к Вам.
Ваши слова, полные доброты, будут служить мне щитом в дальнейшей жизни. Мне нечего больше сказать, кроме того, что Ваша слава — священный залог, память о Вас — честь, Ваша жизнь — еще надежда.
Ваша преданная и любящая Джэн Дэви*.
Письмо леди Джэн было меньшим утешением для умирающего, чем простые выражения человеческой скорби. Когда-то холодный блеск и блестящие манеры мадам Эприс нравились Гемфри Дэви. Но теперь к чему они? Трудно отделаться от мысли, что леди Джэн рассчитывала на то, что ее письмо будет впоследствии опубликовано.
Она не ошиблась в своих расчетах. Холодное и умное письмо...
30 мая 1829 года в одном из отелей в Женеве, в час ночи, Гемфри Дэви умер.
Через широко открытые окна в комнату проникал чудесный воздух гор, запах цветов, весны... На небе загадочно мерцали звезды.
Дэви не успел доехать до берегов любимой им Англии. Смерть настигла его на пятьдесят первом году жизни.
Джон Дэви, родной брат и лучший друг, выехал к умирающему, но прибыл поздно...
♦ * *
Гемфри Дэви — классик естествознания, один из основоположников химии, поэт и философ, Трудно определить, что было самым важным в научном творчестве Гемфри Дэви. То, что сегодня представляется менее значительным, завтра может оказаться одним из краеугольных камней научной мысли. История наук знает примеры, когда заброшенные, преданные забвению научные истины возрождались вновь на более высоком уровне знаний.
Электрохимия, основателем которой справедливо называют Гемфри Дэви, за рремя, прошедшее после его смерти, сделала гигантский рывок вперед. Электролиз глубоко проник в технику. Хлор, натрий, калий, алюминий, магний, медь и другие материалы производятся электролитическим путем во многих миллионах тонн. Как не вспомнить в наш
339
век легких металлов и химизации техники добрым словом имя человека, стоявшего у истоков этого направления в развитии современной цивилизации.
Как не вспомнить имя человека, расширившего узкие рамки традиционной химии, которые он встретил в своей молодости.
Химия урожаев — земледельческая химия, геохимия — химия Земли и других планет Солнечной системы, физическая химия, стоящая на стыке двух наук химии и физики,— все эти отрасли знания обязаны своим зарождением Гемфри Дэви. Он в меру своих сил очищал химию от неверных и путаных представлений, он ввел в науку до наших дней дожившие понятия и термины. Все, что теперь кажется само собой разумеющимся, в его время постигалось ценой величайших усилий и труда.
Девятнадцатый век подготовил изумительные свершения науки нашего времени. Он богат великими именами — среди них имя Гемфри Дэви.
В Вестминстерском аббатстве, в Лондоне, где спят выдающиеся сыны Англии, покоится прах Гемфри Дэви, человека и ученого, жившего в опасности ради служения делу человечества и прогресса.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА СЕЧЕНОВА
1829. 1 августа — в селе Теплый Стан (ныне село Сеченово), Курмыш-ского уезда, Симбирской губернии, родился Иван Михайлович Сеченов.
1843. 15 августа — принят в Главное инженерное училище в Петербурге.
1848. 21 июня — из нижнего офицерского класса Главного инженерного училища прежде окончания курса наук переведен для несения военной службы во 2-й резервный саперный батальон в Киев.
1850. 23 января — «по домашним обстоятельствам» уволен с военной службы в чине подпоручика.
Октябрь — записывается вольнослушателем на медицинский факультет Московского университета.
1856. 21 июня — со степенью лекаря с отличием и с правом после защиты диссертации получить степень доктора медицины оканчивает Московский университет. Осенью этого года выезжает за границу для усовершенствования в науках.
I860. 1 февраля — после нескольких лет работы в лабораториях западноевропейских ученых (Гоппе-Зейлера в Берлине, Функе в Лейпциге, Людвига в Вене, Бунзена и Гельмгольца в Гейдельберге и др.) возвращается на родину, в Петербург.
Февраль — в «Военно-медицинском журнале» публикуется докторская диссертация Сеченова «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения».
5 марта — защищает диссертацию и получает звание доктора медицины.
16 апреля — принят адъюнкт-профессором на кафедру физиологии в Медико-хирургическую академию в Петербурге.
1861. 11 марта — единогласно избран конференцией Медико-хирургической академии экстраординарным профессором.
Сентябрь — в «Медицинском вестнике» напечатаны публичные лекции И. М. Сеченова «О растительных актах в животной жизни». В них впервые сформулировано понятие о связи организма с окружающей средой.
1862. Июнь — выезжает в годичный отпуск за границу. Работает в Париже в лаборатории Клода Бернара. Здесь открывает нервные механизмы «центрального торможения».
1863. Май — возвращение из-за границы в Петербург.
12 июня — получил Демидовскую премию Академии наук за сочинение «О животном электричестве».
341
3 октября — запрещение министра внутренних дел публикации в журнале «Современник» труда Сеченова «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы». Под измененным названием, «Рефлексы головного мозга», сочинение Сеченова опубликовано в журнале «Медицинский вестник».
1864. 4 апреля — утвержден в звании ординарного профессора физиологии Медико-хирургической академии.
1865. Лето — первая совместная поездка с М. А. Боковой за границу. Знакомство с И. И. Мечниковым и А. О. Ковалевским.
1866—1867. Запрещение издания «Рефлексов головного мозга» отдельной книгой, арест тиража книги. Выход в свет книги «Физиология нервной системы». Снятие ареста с «Рефлексов головного мозга» и выход книги в свет.
1867—1868. Работал в Австрии, в г. Граце, в лаборатории своего друга Роллета. Открытие явления суммации и следа в нервных центрах. Опубликование труда «Об электрическом и химическом раздражении спинномозговых нервов лягушки». Вышел в свет перевод книги Ч. Дарвина «Происхождение видов» под редакцией И. М. Сеченова.
1869. Декабрь — избрание членом-корреспондентом Академии наук.
1870. 20 декабря — выходит в отставку из Медико-хирургической академии в связи с забаллотированием И. И. Мечникова в профессора академии.
1871. 22 марта — перешел профессором в Новороссийский (Одесский) университет. Занимается изучением газов крови.
1876. Февраль — избрание профессором Петербургского университета.
1878. Март — апрель — в «Вестнике Европы» напечатаны очерки Сеченова «Элементы мысли».
1879. Публикация научной работы «О поглощении угольной кислоты соляными растворами и кровью». Доклад на VI съезде русских естествоиспытателей и врачей о газах крови.
1881. Публикация в «Вестнике Европы» статьи «Учение о несвободе воли с практической стороны».
1886—1888. Участие в организации Высших женских курсов (Бестужевских) в Петербурге и чтение на них лекций по физиологии.
1888. 8 февраля — венчание с М. А. Боковой.
1889. 17 февраля — уходит из Петербургского университета; получает приват-доцентуру в Московском университете.
1891. Избран профессором физиологии Московского университета.
1894. 4 января — открывает IX съезд русских естествоиспытателей и врачей и читает доклад «О предметном мышлении с физиологической точки зрения»; выход в свет статьи «Физиологический критерий для установления длины рабочего дня».
1896. 22 марта — утвержден в звании заслуженного профессора Московского университета.
1901. Публикация «Очерка рабочих движений». Выход в отставку из Московского университета.
1903. Чтение лекций по физиологии в Пречистенских классах для рабочих.
1904. 9 февраля — попечитель Московского учебного округа запрещает Сеченову преподавать в Пречистенских классах.
29 декабря — избрание почетным членом Академии наук.
1905. 2 (15) ноября — кончина Ивана Михайловича Сеченова от воспаления легких. Похороны на Ваганьковском кладбище. Спустя много лет прах его перенесен на Новодевичье кладбище.
ПРИМЕЧАНИЯ
Абсорбция — процесс поглощения веществ из растворов или из смеси газов твердыми телами или жидкостью.
Абсорбциометр — прибор, в котором происходит абсорбция.
Адъюнкт — помощник; в дореволюционной России и в некоторых других странах — лицо, занимающее младшую ученую должность в научном учреждении (а д ъ ю н к т-профессор — помощник профессора).
Алексеевский равелин — часть Петропавловской крепости в Петербурге, служил тюрьмой для революционеров.
Аллотропия — существование одного и того же химического элемента в виде двух или нескольких простых веществ.
Анатомия — наука о внешних формах, внутреннем строении, а также (отчасти) о функциях и развитии живого организма.
Из наблюдений о существующем сходстве и различиях в строении организмов животных и человека возникла сравнительная анатомия. Эта наука помогает выяснить родственные связи между организмами различных групп и ооветить происхождение их в процессе эволюции. Патологическая анатомия — в отличие от анатомии, изучающей нормальные, здоровые организмы, изучает болезненные изменения организмов, что имеет важное значение для медицины, стремящейся найти причины заболеваний.
Антонович, Максим Алексеевич (1835—1918) — русский демократ-просветитель, философ-материалист; последователь Чернышевского и Добролюбова, активный сотрудник «Современника».
Архимед (ок. 287—212 до н. э.) — величайший физик и математик древности. Архимед установил закон рычага, открыл закон гидростатики.
Балюстрада — перила балконов, лестниц, состоящие из ряда столбиков с перекладиной наверху.
Басов, Василий Александрович (1812—1879) — русский физиолог и хирург.
Бернар, Клод (1813—1878) — выдающийся французский физиолог. Ему принадлежат классические работы по изучению действия сока поджелудочной железы и роли печени в образовании гликогена. Открыл сосудодвигательную функцию симпатической нервной системы; определил значение отдельных нервов в организме и сделал много других важных исследований.
343
Бертолле, Клод Луи (1748—1822) — известный французский химик. Участник египетского похода Наполеона. Научный консультант императора. Впервые применил хлор для беления тканей и бумаги. Автор труда «Опыт химической статики», в котором связал представление о массе с химическими реакциями. Известны его работы во многих областях химии.
Берцеллиус, Иёнс Якоб (1779—1848) — знаменитый шведский химик, минералог. Развивал атомную теорию в химии, открыл ряд новых химических элементов. Ввел современные знаки атомов химических элементов.
Бестужев-Марлинский, Александр Александрович (1797— 1837) — русский писатель, декабрист. В день восстания, 14 декабря 1825 года, вывел на Сенатскую площадь в Петербурге Московский полк. После разгрома восстания сослан рядовым на Кавказ, где и погиб в стычке с горцами.
Бехтерев, Владимир Михайлович (1857—1927) — выдающийся русский психиатр, один из основателей русской экспериментальной психологии.
Блек, Джозеф (1728—1799) — английский химик и физик.
Бок ль, Генри Томас (1821—1862)—английский буржуазный историк. Развитие общества объяснял влиянием географических условий на психологию народов. Автор широко известной в свое время книги «История цивилизации в Англии».
Бородин, Александр Порфирьевич (1833—1887) — известный русский композитор и выдающийся ученый-химик. «Талант Бородина равно могуч и поразителен как в симфонии, так и в опере и в романсе»,— писал В. В. Стасов. Бородин написал более сорока работ по химии, впервые получил фтористый бензол и другие органические соединения.
Боткин, Сергей Петрович (1832—1889) — выдающийся врач-терапевт, ученый-материалист, один из основоположников русской научной медицины, крупный общественный деятель.
Бунзен, Роберт (1811—1899) — известный немецкий ученый-химик. Разработал методы газового и спектрального анализов. Пользуясь спектральным анализом, открыл элементы цезий и рубидий. Впервые получил металлические литий, кальций, барий и стронций.
Быков, Константин Михайлович (1886—1959) — известный советский физиолог, ученик И. П. Павлова; успешно развивал павловское учение о высшей нервной деятельности, исследуя влияние коры больших полушарий головного мозга на деятельность внутренних органов.
Бэр, Карл Максимович (1792—1876) — крупный русский ученый-естествоиспытатель, основатель науки о развитии зародыша — эмбриологии.
Вагнер, Рихард (1813—1883)—знаменитый немецкий композитор. Наиболее значительные оперы Вагнера — «Тангейзер», «Лоэнгрин», оперный цикл «Кольцо Нибелунгов», музыкальная драма «Тристан и Изольда».
Ван-Гельмонт, Ян Баптист (1577—1644) — голландский естествоиспытатель, занимавшийся химией, физиологией и медициной.
Введенский, Николай Евгеньевич (1852—1922) — великий русский физиолог. Блестяще продолжил и развивал исследования И. М. Сеченова в области изучения нервной системы.
Вебер, Эрнст Генрих (1795—1878) — немецкий анатом и физиолог. Один из первых подробно описал строение симпатической нервной системы. Вместе со своим братом Эдуардом (1806—1870) открыл важный факт: угнетающее (тормозящее) действие блуждающих нервов на деятельность сердца.
344
Везалий, Андрей (15X4—1564) — крупный анатом эпохи Возрождения. Впервые в истории дал научное, основанное на собственных исследованиях описание человеческого тела. Везалий поставил анатомию на научную основу и оказал большое влияние на дальнейшее развитие ее.
Вивисекция — то же, что живосечение: операции на живых организмах.
Вирхов, Рудольф (1821—1902) — известный немецкий ученый и политический деятель. Вирхов был открытым врагом эволюционной теории, он отрывал жизнедеятельность клетки от организма, отрицал связь организма с условиями среды. Однако внес много ценного в науку, заложив основы научной патологии — науки о болезненных изменениях тканей и органов. Как политический деятель был одним из основателей либеральной партии, выступавшей против Бисмарка. К концу жизни оказался в лагере крайних реакционеров.
Воклен, Луи (1763—1829) — французский химик, известен оригинальными исследованиями в неорганической и органической химии. Создал химическую школу. Его ученики — Шеврель, Тенар и другие. Написал «Введение в аналитическую химию», получившее большую известность.
Волластон, Уильям Хайд (1766—1828) — английский естествоиспытатель. Работал в области химии и физики.
Гаер (от нем. Geiger — скрипач) — здесь: паяц, шут.
Галилей, Галилео (1564—1642) — великий итальянский физик и астроном. Первый применил телескоп к наблюдению и изучению небесных светил. Защищал и развивал теорию Коперника об обращении Земли вокруг Солнца и о суточном вращении Земли вокруг своей оси. За свои научные воззрения, за борьбу против церкви подвергался преследованиям инквизиции.
Гарибальди, Джузеппе (1807—1882) — народный герой Италии, борец за национальное освобождение и объединение Италии революционным путем. Маркс и Энгельс называли Гарибальди борцом за свободу.
Г а р н ц — старая русская мера веса сыпучих тел, равная 3,28 литра.
Гейне, Генрих (1797—1856) — великий немецкий поэт и публицист. Беспощадный критик феодализма, церкви и буржуазного мещанства. Широко известны его «Книга песен», «Путевые картины», «Германия. Зимняя сказка». Большое влияние на творчество Гейне оказал К. Маркс.
Гельмгольц, Герман (1821—1894)— один из крупнейших немецких естествоиспытателей. Сыграл большую роль в обосновании закона сохранения и превращения энергии. Произвел фундаментальные исследования в различных областях физики и физиологии. Известны его работы по нервно-мышечной физиологии, физиологии слуха и зрения.
Герцен, Александр Иванович (1812—1870) — великий русский революционный демократ, философ-материалист, писатель, публицист. Автор литературных произведений: «Кто виноват?», «Сорока-воровка», «Доктор Крупов», «Былое и думы».
Гете, Иоганн Вольфганг (1749—1832) — великий немецкий поэт и мыслитель. Автор всемирно известных литературных произведений: «Страдания молодого Вертера», «Фауст» и многие другие. Написал несколько работ по вопросам естествознания («Опыт о метаморфозе растений»). Ф. Энгельс упоминает Гете среди ученых, предвосхитивших современную теорию развития.
Гей-Люссак, Жозеф Луи (1778—1850) — один из самых выдаю
345
щихся химиков XIX столетия. Известны законы Гей-Люссака о газах. Открыл циан, сконструировал башню для производства серной кислоты, провел классические работы по галоидам, соединениям фосфора.
Гистология — наука о строении, развитии и свойствах тканей животных и человека. В состав гистологии входит учение о живой клетке — цитология и микроскопическая анатоми я— наука о микроскопическом строении органов.
Глебов, Иван Тимофеевич (1806—1884) — профессор физиологии и сравнительной анатомии медицинского факультета Московского университета.
Гоголь, Николай Васильевич (1809—1852) — великий русский писатель; создал гениальную комедию «Ревизор» — сатиру на самодержавно-крепостнический строй, поэму «Мертвые души», где показал разложение феодально-крепостнического уклада, «Вечера на хуторе близ Диканьки» и др.
Гольбейн, Ганс Младший (1497—1543) — выдающийся немецкий живописец и график эпохи Возрождения. Замечательный портретист, создавший большую галерею портретов современников, в их числе — портрет одного из первых социалистов-утопистов Томаса Мора.
Гончаров, Иван Александрович (1812—1891) — выдающийся русский писатель, автор романов, рисующих картины русской жизни: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».
Грановский, Тимофей Николаевич (1813—1855) — русский ученый и общественный деятель. Профессор всеобщей истории Московского университета. В своих блестящих по форме и содержанию лекциях обличал крепостничество, провозглашал идеи гуманизма.
Грибоедов, Александр Сергеевич (1795—1829) — великий русский писатель. Автор гениальной комедии в стихах «Горе от ума».
Григорович, Дмитрий Васильевич (1822—1899) — русский писатель. Автор повестей «Деревня», «Антон Горемыка», в которых показал тяжелую жизнь крепостной деревни.
Григорьев, Аполлон Александрович (1822—1864) — русский критик и поэт.
Гумбольдт, Александр (1769—1859) — знаменитый натуралист и путешественник; в своем всеобъемлющем труде «Космос» он подводит итог человеческим познаниям во всех областях науки.
Гюйтон де Морво, Луи Бернар (1737—1816) — французский химик, одним из первых выдвинул мысль о химической номенклатуре, разделявшей тела на элементы и соединения. «Метод химической номенклатуры», опубликованный в 1787 году, носит имена Лавуазье, Гюйто-на де Морво, Бертолле и Фуркруа.
Дальтон, Джон (1766—1844) — английский химик и физик, член Лондонского королевского общества.
Данте, Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт, создатель национального литературного итальянского языка. Автор гениальной поэмы «Божественная комедия». Беатриче Портинари — дама, которую Данте воспевал в своих стихах.
Даунинг-стрит — улица в Лондоне, на которой расположена резиденция английского премьер-министра.
Друри-Лейн — один из старейших лондонских театров, добившихся всеобщего признания со времени руководства этим театром знаменитого актера и театрального деятеля Давида Гаррика (1717—1779). Дэви, Джон, младший брат Гэмфри,— военный хирург и химик, автор многих биографических книг, посвященных Гемфри Дэви, издатель его 12-томного собрания сочинений.
Декарт, Рене (1596—1650) — выдающийся французский философ, физик, математик, физиолог. К. Маркс говорил, что в физике Декарта
346
«материя представляет собой... единственное основание бытия и познания».
Джорджоне (1477, или 1478,— 1510) — выдающийся итальянский живописец, один из крупнейших мастеров Возрождения. Его лучшие полотна — «Три философа», «Спящая Венера», «Концерт».
Добролюбов, Николай Александрович (1836—1861) — великий русский революционный демократ, философ и критик. Друг и соратник Н. Г. Чернышевского.
Достоевский, Федор Михайлович (1821—1881) — выдающийся русский писатель. Широко известны его романы: «Бедные люди», «Братья Карамазовы», «Идиот» и другие произведения.
Дюбу а-Реймон, Эмиль (1818—1896) — знаменитый немецкий физиолог; прославился своими работами по изучению электрофизиологии. Считал, что наука невсесильна и не все доступно познанию человека (отсюда его «семь мировых загадок»).
Еретические книги — излагающие взгляды или правила, отступающие от общепринятых.
Жемчужниковы, братья Владимир Михайлович (1830—1884) и Алексей Михайлович (1821—1908)—совместно с А. К. Толстым были участниками группы поэтов, выступавших под псевдонимом «Козьма Прутков». Юмористические и сатирические произведения Козьмы Пруткова пользовались в обществе большой популярностью.
Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван: 1804—1876) — французская писательница. Автор многочисленных романов: «Товарищ круговых путешествий», «Консуэло», «Валентина» и др.
Зинин, Николай Николаевич (1812—1880)—выдающийся русский химик. Синтезировал анилин, что послужило основой для создания анилино-красочной промышленности. Во время Крымской войны предложил использовать нитроглицерин для снаряжения гранат. Основал крупнейшую казанскую школу русских химиков.
Иванов, Александр Андреевич (1806—1858) — великий русский живописец. Его картина «Явление Христа народу» и этюды к ней принадлежат к числу высших достижений русской и мировой реалистической живописи.
Изомерия — явление в химии, заключающееся в том, что существуют соединения, обладающие одинаковым составом и молекулярным весом, но различающиеся по строению, физическим и химическим свойствам.
Инквизиция — сыскное и судебное учреждение католической церкви. На кострах и в застенках инквизиции погибли сотни тысяч невинных людей.
Иннервация — обеспеченность какого-либо органа или ткани нервными волокнами.
Иноземцев, Федор Иванович (1802—1869) — видный русский хирург и терапевт, профессор Московского университета.
Кабот, Джон и Себастьян — отец и сын, моряки из Бристоля.
Казеннокоштные студенты — учившиеся в университете за счет государства — казны.
Картрайт, Эдмунд (1743—1823) — английский изобретатель. Изобретенный им ткацкий станок, наряду с прядильным станком и паровой машиной, как отмечал Ф. Энгельс, «...дали первый толчок к промышленной революции...».
«Колокол» — газета, издававшаяся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым за границей с 1857 по 1867 год. «Колокол» выступал против самодержавия и крепостничества, сыграл значительную роль в развитии революционного движения в России.
Коперник, Николай (1473—1543) — великий польский астроном,
347
выдающийся деятель эпохи Возрождения. Совершил переворот в естествознании, отказавшись от принятого в течение тысячелетий учения о неподвижности Земли. Коперник раскрыл истинное строение солнечной системы.
Кювье, Жорж (1769—1832) — французский зоолог, противник эволюционной теории. При Людовике-Филиппе — пэр Франции. Член французской академии.
Лавров, Петр Лаврович (1823—1900) — русский социолог и публицист, теоретик народничества, противник марксизма.
Лаплас, Пьер Симон (1749—1827) — великий астроном и математик. Автор знаменитой космогонической гипотезы, носящей имя Канта-Лапласа. Создатель классической небесной механики.
Леонардо да Винчи (1452—1519)— гениальный итальянский художник и ученый эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи, по словам Ф. Энгельса, был «...не только великим художником, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики».
Лессинг, Готхольд Эфраим (1729—1781) — великий немецкий мыслитель, критик и писатель. Лессинг выступал против феодальной идеологии, против вмешательства религии в науки.
Лимфа — прозрачная (или слегка мутноватая) жидкость, циркулирующая в межклеточных пространствах и лимфатической системе позвоночных животных и человека.
Людвиг, Карл (1816—1895) — выдающийся немецкий физиолог. Труды Людвига посвящены различным вопросам физиологии. Он исследовал сердечно-сосудистую систему, почки, лимфу, слюнные железы.
Марлинский — см. Бестужев-Марлинский.
Марко Вовчок — псевдоним украинской писательницы Велин-ской-Маркович Марии Александровны (1834—1907). В своих рассказах Марко Вовчок правдиво рисовала тяжелую жизнь крестьян, изобличала крепостное право.
Менделеев, Дмитрий Иванович (1834—1907)— великий русский ученый. Творец периодического закона химических элементов, одного из основных законов естествознания. Оставил свыше четырехсот научных трудов в различных областях науки и техники.
Мечников, Илья Ильич (1845—1916) — великий русский биолог, основоположник современной микробиологии.
Микеланджело, Буонарроти (1475—1564) — гениальный итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения.
Микробиология — наука о микроорганизмах — мельчайших живых существах. Микробиология изучает строение, жизненные процессы, изменчивость микроорганизмов.
Моцарт, Вольфганг Амадей (1756—1791) — великий австрийский композитор. Огромной популярностью пользуются его оперы «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная флейта».
Мурильо, Бартоломе Эстебан (1617(18)—1682) — крупный испанский живописец. Наряду с многочисленными картинами на религиозные темы писал жанровые — «Мальчик с собакой», «Продавщица фруктов».
Мюллер, Иоганн (1801—1858) — профессор физиологии и сравнительной анатомии в Берлине.
Некрасов, Николай Алексеевич (1821—1877) — великий русский поэт, революционный демократ. Певец русского революционнокрестьянского движения. Поэзию Некрасова высоко ценил В. И. Ленин.
Нельсон, Горацио (1758—1805) — английский адмирал. Национальный герой Великобритании, прославившийся во многих морских
348
битвах. Погиб в сражении при Трафальгаре, когда был уничтожен франко-испанский флот.
Овидий (полное имя Публий Овидий Назон; 43 г. до н. э.— 17 г. н. э.) — римский поэт. Автор знаменитого сборника «Метаморфозы». С периода Возрождения сюжеты из «Метаморфоз» широко использовались в новеллах позднейших авторов и в драматургии.
Ординатор — врач, заведующий отделением, палатой в больницах, клиниках.
Островский, Александр Николаевич (1823—1886) — великий русский драматург. Его пьесы <Свои люди сочтемся», «Гроза», «Горячее сердце», «Волки и овцы», «Лес» пользуются большим успехом и в наши дни. Произведения Островского направлены против самодержавия и крепостничества. Островский сотрудничал в журнале «Современник».
Остроградский, Михаил Васильевич (1801—1861) — выдающийся русский математик, академик. Автор многочисленных трудов по математической физике, механике, гидродинамике, теории упругости, теплоты, баллистики и других научных проблем.
«Отечественные записки» — русский литературно-политический журнал. Основан в 1810 году. В «Отечественных записках» печатались произведения А. И. Герцена, Н. П. Огарева, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева. В апреле 1884 года журнал был закрыт.
Павлов, Иван Петрович (1849—1936) — великий русский ученый-физиолог, создатель материалистического учения о высшей нервной деятельности. Павлов открыл и изучил условные рефлексы. Работы Павлова охватывают почти все разделы физиологии. Выдающиеся исследования Павлова относятся к области физиологии кровообращения и пищеварения.
П а с се к, Татьяна Петровна (урожденная Кучина; 1810—1889) — русская писательница, близкая родственница А. И. Герцена, жена историка и этнографа Вадима Васильевича Пассека. Детские годы ее прошли в тесной дружбе с Герценом. В 1859—1861 годах часто встречалась с Герценом за границей. В 80-х годах издавала и редактировала детский журнал «Игрушечка».
Пастер, Луи (1822—1895) — выдающийся французский ученый, основоположник науки о микроскопических живых существах. Разработал метод предохранительных прививок от тяжелейших болезней.
Патология — наука о болезненных процессах в организме; общая патология изучает все патологические процессы, встречающиеся в организме; частная патология исследует процессы, наблюдающиеся при отдельных болезнях.
Пилястра — четырехугольная колонна, одной стороной вдающаяся в стену.
Пирогов, Николай Иванович (1810—1881)—знаменитый русский хирург, педагог и общественный деятель. Создал русскую школу хирургии.
Плессиметр — пластинка, употребляемая при выстукивании (перкуссии) больного специальным молоточком.
Победоносцев, Константин Петрович (1827—1907) — русский государственный деятель, реакционер. Фанатический приверженец самодержавия, мракобес и черносотенец.
Пол унин, Алексей Иванович (1820—1888) — русский ученый патологоанатом, профессор Московского университета.
Помяловский, Николай Герасимович (1835—1863) — выдающийся русский писатель-демократ. Герои его романов — «Мещанское счастье», «Молотов» — простые люди из народа, разночинцы, враждебные дворянству.
349
Рафаэль, Санти (1483—1520) — великий итальянский художник эпохи Возрождения. Известны полотна Рафаэля «Мадонна в зелени», «Мадонна садовница», прославленные росписи залов Ватикана «Афинская школа». Вершина творчества Рафаэля «Сикстинская мадонна».
Рембрандт, Харменс ван Рейн (1606—1669) — гениальный голландский живописец и гравер-офортист. Всемирно известны его картины «Автопортрет с Саскией», «Даная», «Ночной дозор», «Снятие с креста».
Рефлекс (от лат. reflexus — обращение назад) — отражение; реакция животного организма в ответ на раздражения чувствительных нервных волокон.
Рефлекторный (или рефлективный) — бессознательный.
Россини, Джоаккино (1792—1868) — крупнейший итальянский композитор, автор опер «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль» и др.
Рубенс, Петер Пауль (1577—1640) — великий фламандский живописец. Писал на мифологические и религиозные сюжеты: «Вакх», «Персей и Андромеда», «Воздвижение креста»; исторические: «Бедствия войны»; народные: «Крестьянский танец»; портреты: «Камеристка», «Елена Фоурмен» и др.
«Русское слово» — литературный и политический журнал демократического направления. Выходил в Петербурге в 1859—1866 годах.
Саллюстий, Гай Крисп (86—35 гг. до н. э.)—римский историк. До нашего времени дошли «История» — труд, охватывающий период 78—67 гг. до н. э., «О заговоре Катилины», «Югуртинская война».
Санкюлоты — представители городской бедноты, революционеры в эпоху французской революции конца XVHI века.
Серно-Соловьевич, Николай Александрович (1834—1866) — революционер-демократ, сотрудник «Современника», друг Чернышевского. Один из организаторов тайного революционного общества 80-х годов «Земля и воля». В 1862 году был арестован, приговорен к двенадцати годам каторги и пожизненной ссылке в Сибирь.
Симпатическая нервная система — часть вегетативной (регулирующей деятельность внутренних органов) нервной системы. По нервным волокнам симпатической нервной системы проводятся сигналы, вызывающие сужение кровеносных сосудов, усиление и учащение сердцебиения, повышение обмена веществ и т. д.
«Современник» — прогрессивный русский журнал, созданный А. С. Пушкиным в 1836 году в Петербурге. С 1847 года издавался поэтом Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым. В 60-е годы «Современник» стал органом революционной демократии. Вместе с Некрасовым журналом руководил Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. В 1866 году, после покушения Д. В. Каракозова на царя Александра II, «Современник» был закрыт.
Социология — наука об обществе.
Стасов, Владимир Васильевич (1824—1906) — выдающийся русский художественный и музыкальный критик. Своей деятельностью способствовал развитию русского реалистического искусства.
Тактильные раздражения — раздражения нервных окончаний в коже, вызывающие ощущения прикосновения, давления.
Терапия — отрасль медицины, наука о внутренних болезнях, об их предупреждении и лечении.
Тетанизация — приведение мышц в состояние длительного сокращения (судорожное сокращение).
Тициан, Вечеллио ди Кадоре (1477—1576)—великий итальянский живописец. Всемирно известны его полотна: «Любовь земная и небесная», «Ипполито Риминальди», «Святой Себастьян» и др.
350
Томсон, Томас (1773—1852) — шотландский химик и историк химии.
Ухтомский, Алексей Алексеевич (1875—1942) — советский физиолог; изучал процессы возбуждения и торможения.
Фармакология — наука о действии лекарственных веществ на организм.
Физиология — наука, изучающая процессы жизнедеятельности, протекающие в организме человека и животных; устанавливает связь этих процессов от условий существования организмов.
Филология — совокупность наук, изучающих язык и письменность.
Фирдоуси, Абуль Касим (род. между 934 и 941 — ум. 1020) — великий поэт-классик таджикской и персидской литературы.
Флюоресценция — свечение тел, возбуждаемое посторонним освещением; продолжается очень короткое время после прекращения освещения.
Фортификация — отрасль военно-инженерного дела, изучающая способы укрепления местности.
Франческа, Пьеро делла (ок. 1416—1492) — выдающийся итальянский живописец эпохи Возрождения.
Франклин, Бенджамин (1706—1790) — выдающийся американский политический деятель и крупный ученый-физик. Одним из первых изучал атмосферное электричество и доказал электрическую природу молнии. Изобрел громоотвод. Автор общей теории электрических явлений (унитарной). Положил начало научному исследованию океанического течения — Гольфстрима.
Фуркруа, Антуан Франсуа (1755—1809) — французский химик и политический деятель, член французской академии наук.
Цветная слепота — неспособность различать некоторые цвета (частичная); полная — человек не различает никаких цветов.
Чернышевский, Николай Гаврилович (1828—1889) — великий русский революционный демократ, философ-материалист, ученый, критик, писатель, вождь революционно-демократического движения 60-х годов XIX века.
Шевченко, Тарас Григорьевич (1814—1861) — великий украинский народный поэт, выступал как пламенный патриот, выразитель интересов революционного украинского крестьянства. Его произведения: сборник стихов «Кобзарь», поэмы «Гайдамаки», «Варнак» и др.
Шиллер, Иоганн-Фридрих (1759—1805) — великий немецкий поэт и драматург. Наиболее известные произведения Шиллера — драмы: «Разбойники», «Коварство и любовь», «Дон-Карлос».
Щапов, Афанасий Прокофьевич (1830—1876) — русский историк, профессор Казанского университета. За речь в память убитых во время Бездненского восстания крестьян арестован и выслан.
Эйлер, Леонард (1707—1783) — великий математик, физик и астроном, член Петербургской и Берлинской академий наук.
Экстраординарный профессор — сверхштатный, не занимающий кафедры.
Энциклопедисты — идеологи (выразители системы идей) предреволюционной французской буржуазии XVIII века, объединившиеся вокруг издания «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел». Во главе «Энциклопедии» стоял философ-материалист Д. Дидро. Среди сотрудников были Вольтер и Руссо. Энциклопедисты выступали против монархии и церкви.
Ятрохимия (от греческого слова «ятрос» — «врач») — направление науки XVI—XVII веков, стремившееся поставить химию на службу медицине.
СОДЕРЖАНИЕ
МОЛОДОСТЬ СЕЧЕНОВА.......................... 3
ЖИВИ В ОПАСНОСТИ!...........................139
Основные даты жизни и деятельности Ивана Михайловича Сеченова...............................341 -
Примечания......................343
Для среднего и старшего возраста
Борис Лъвович Могилевский
МОЛОДОСТЬ СЕЧЕНОВА ЖИВИ В ОПАСНОСТИ!
Биографические повести
Ответственный редактор Г. А. Иванова. Художественный редактор Н. 3. Левинская. Технический редактор Г. Г. Стан. Корректоры Е. А. Флорова и Е. И. Щербакова. Сдано в набор 13/V 1975 г. Подписано к печати 26/XII 1975 г. Формат 60x90*/ie« Вум. тип огр. № 1. Усл. печ. л. 22. Уч.-изд. л. 21,63. Тираж 100 000 вкз. А14299. Зак. № 872. Цена 90 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Сущевский вал, 49.
Цена 90 коп.
БОРИС МОГИЛЕВСКИЙ
МОЛОДОСТЬ СЕЧЕНОВА ЖИВИ В ОПАСНОСТИ!
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"