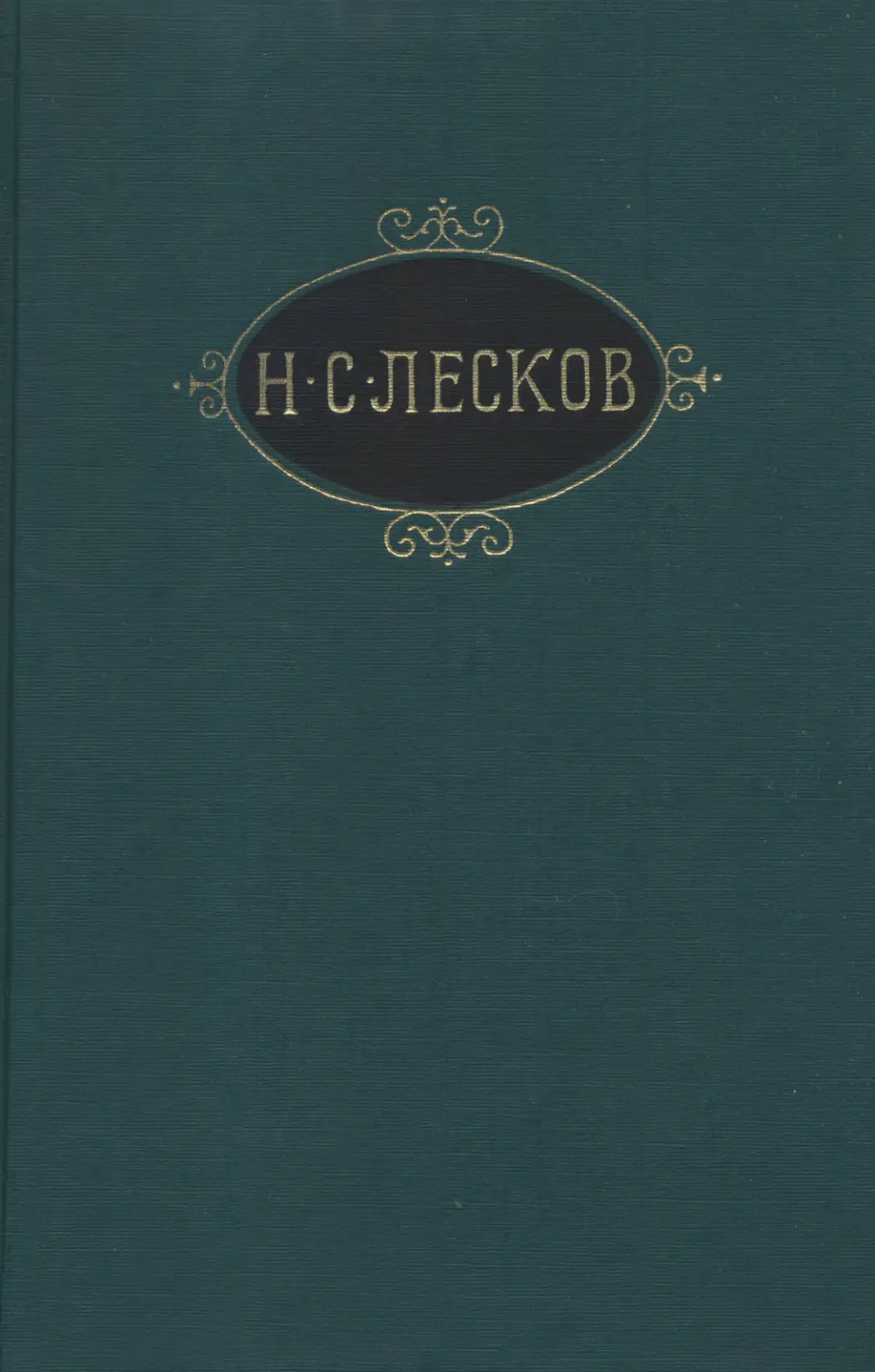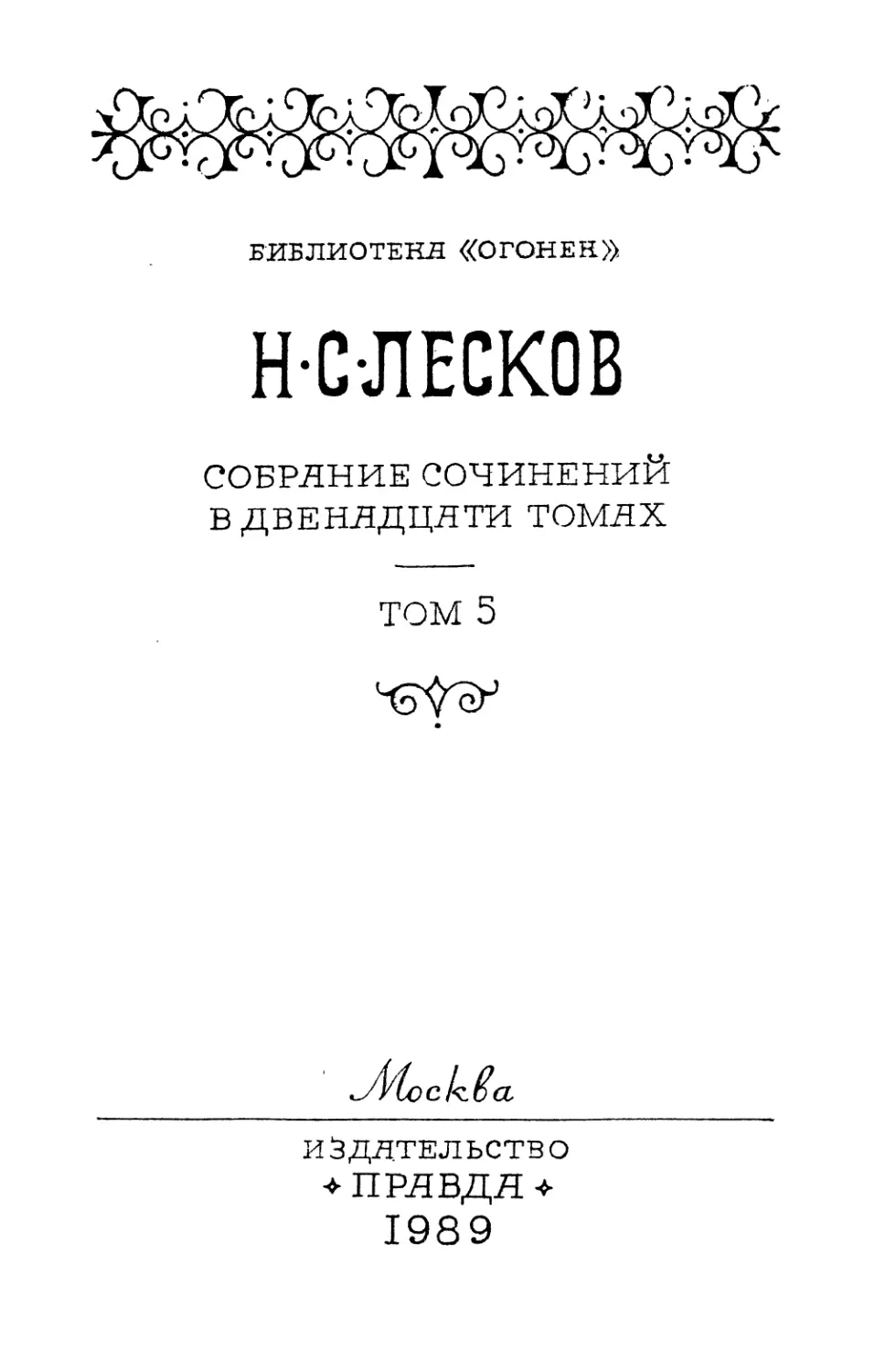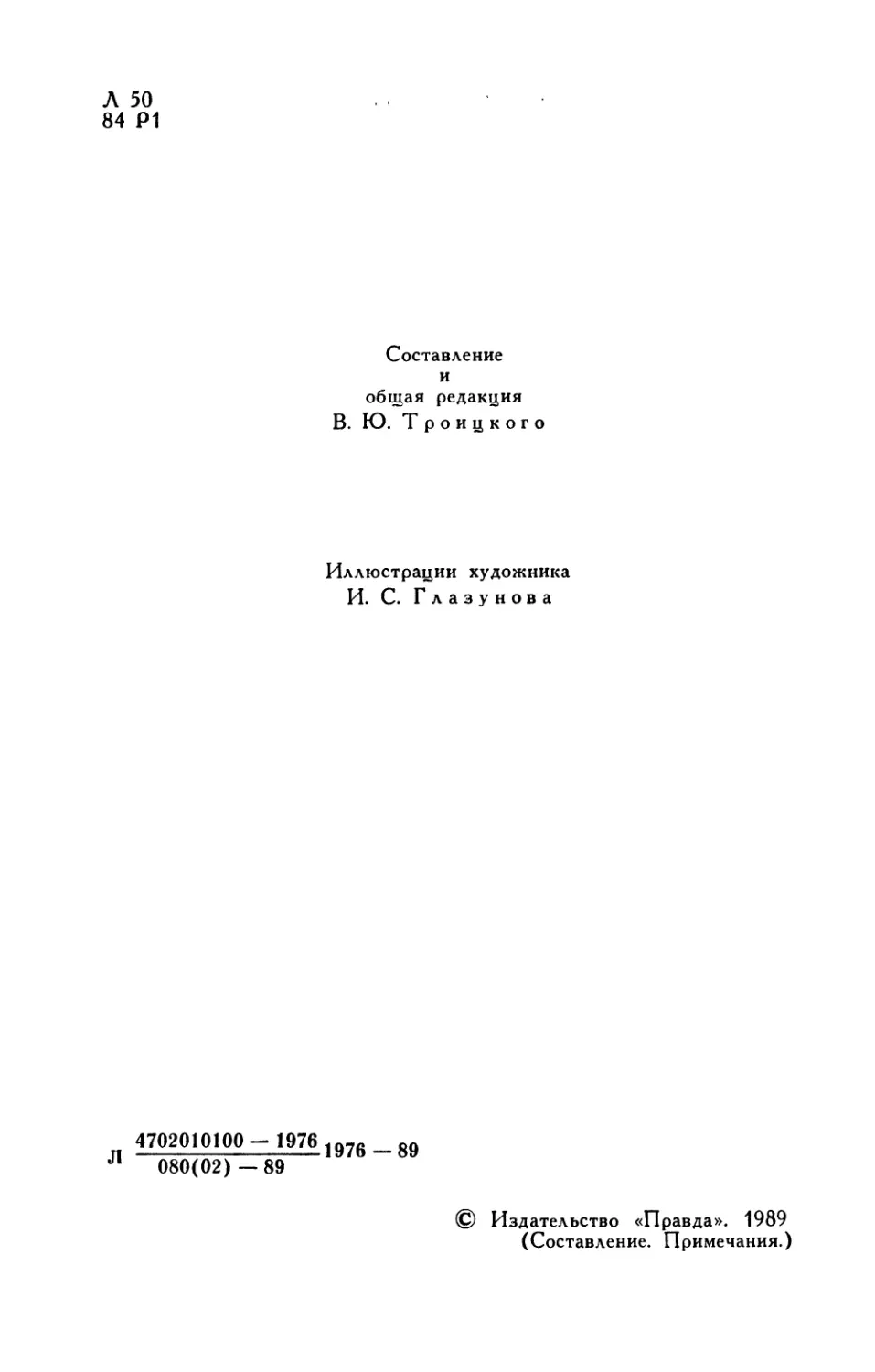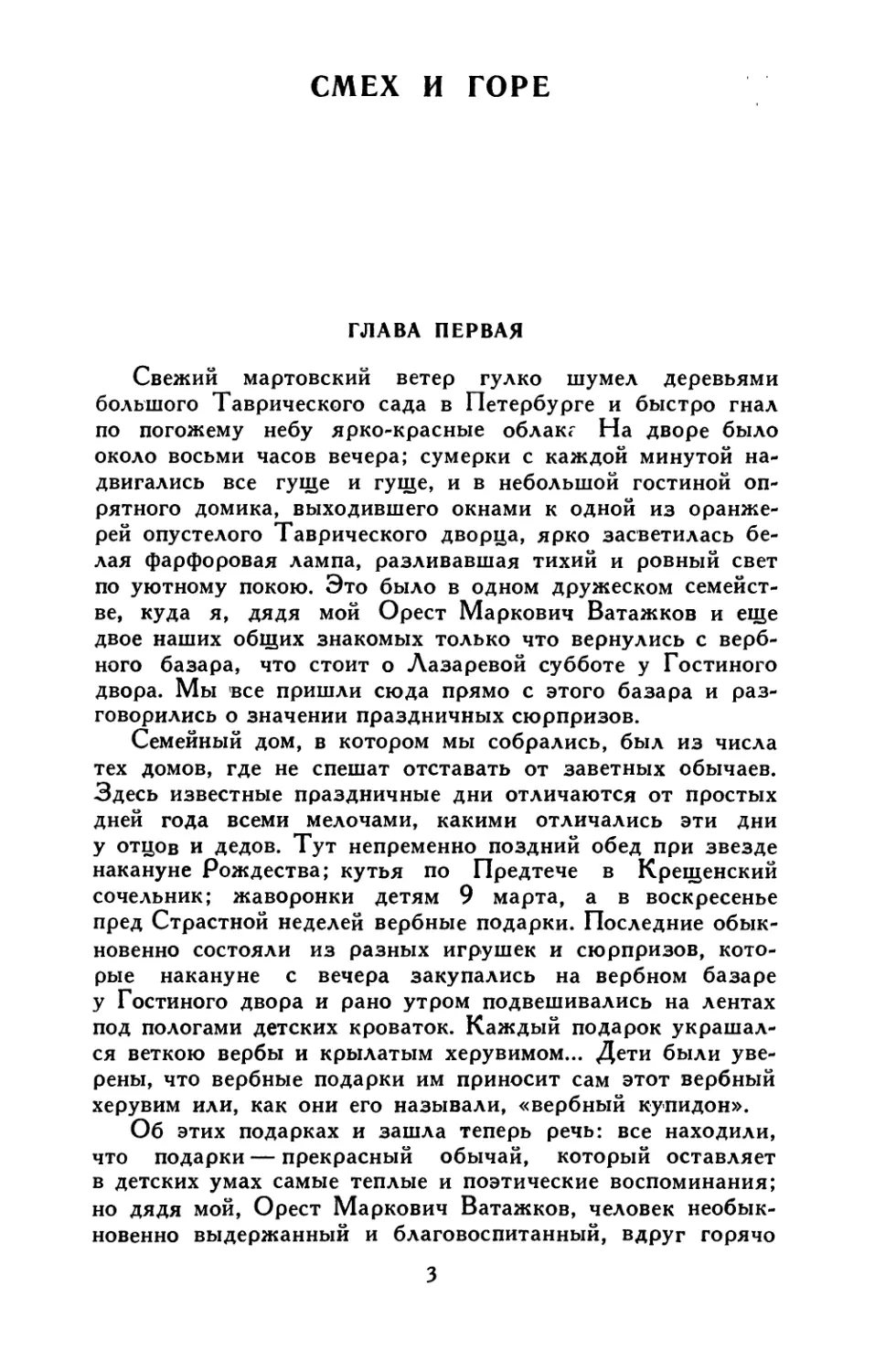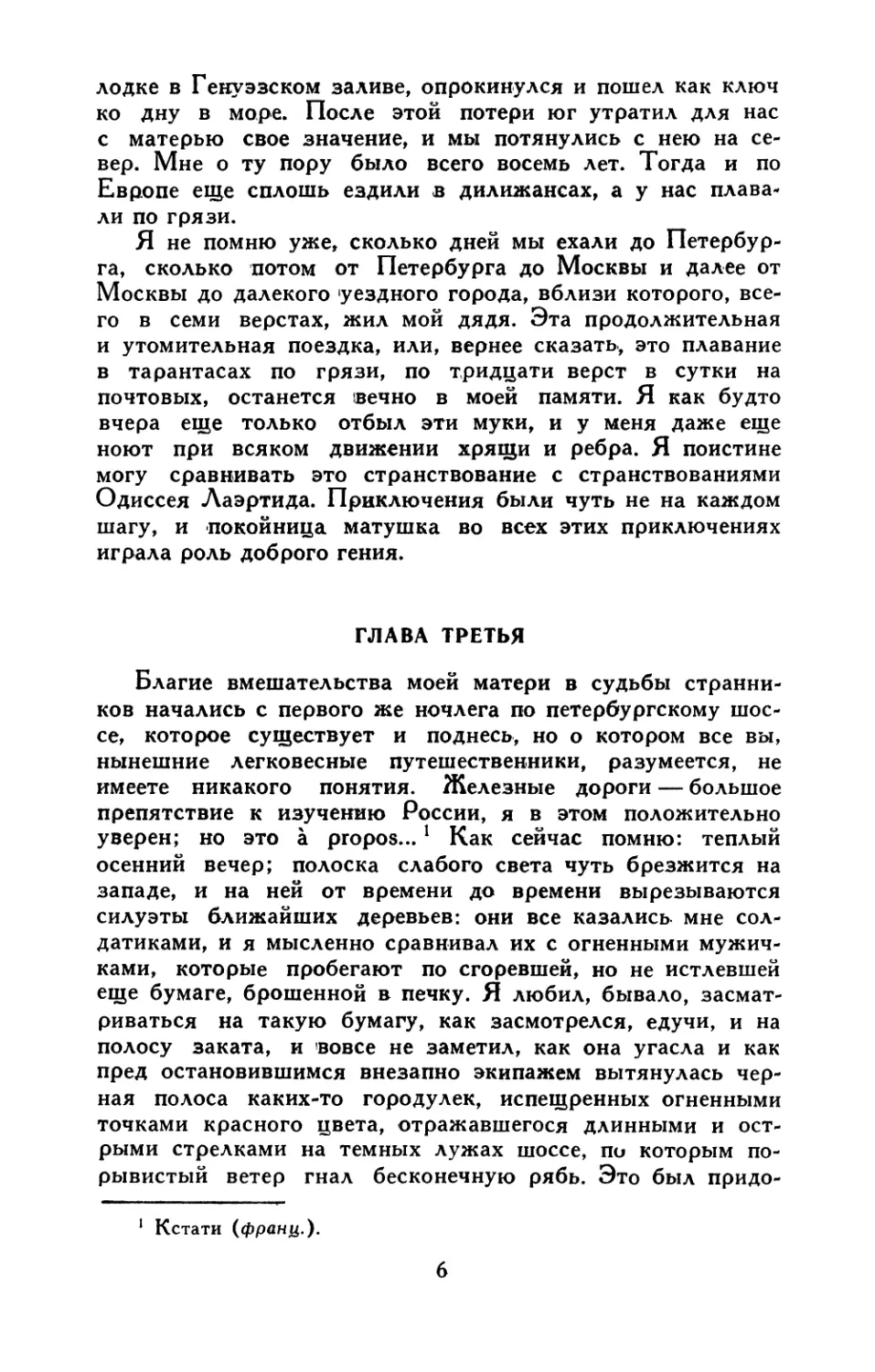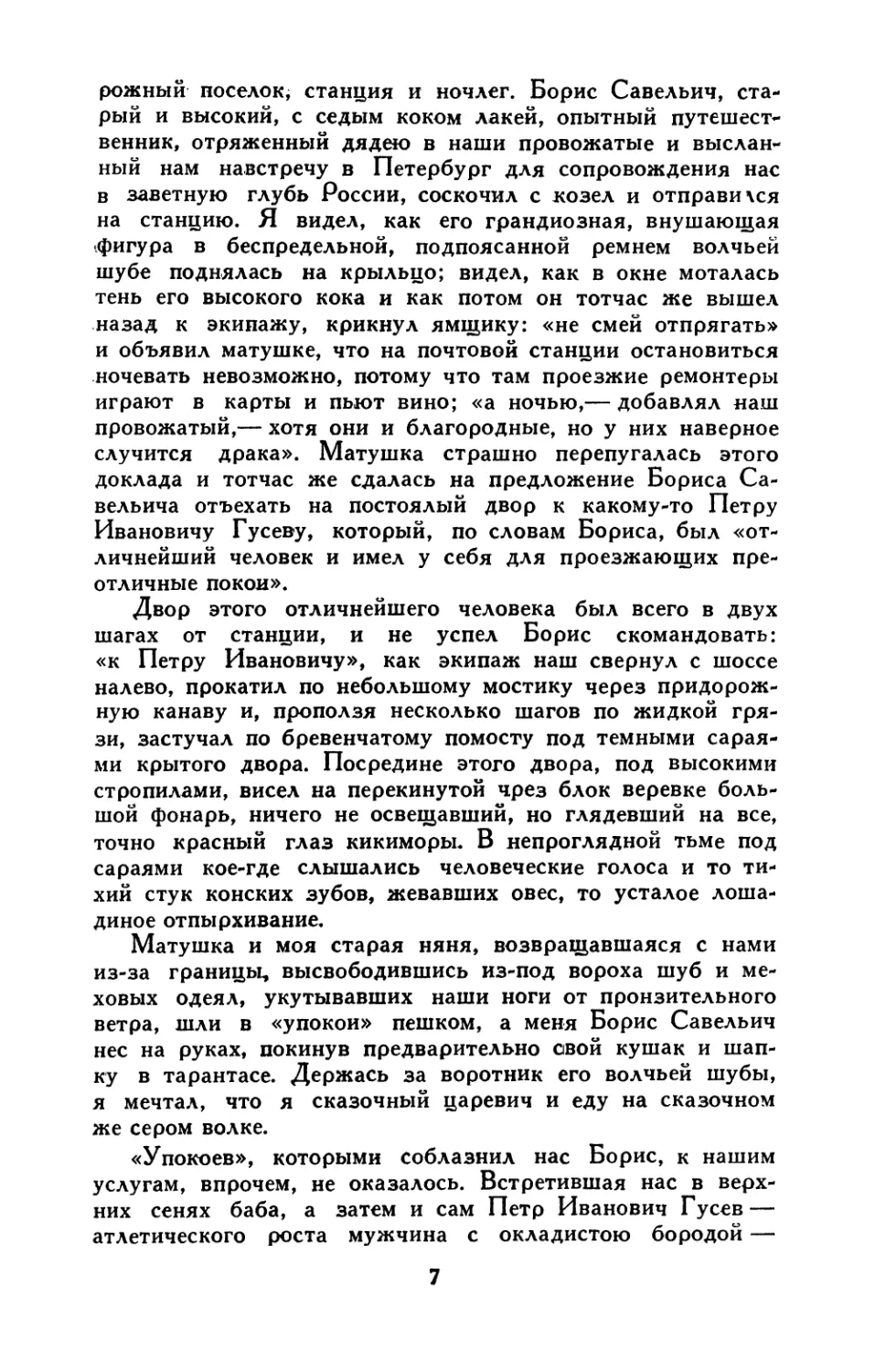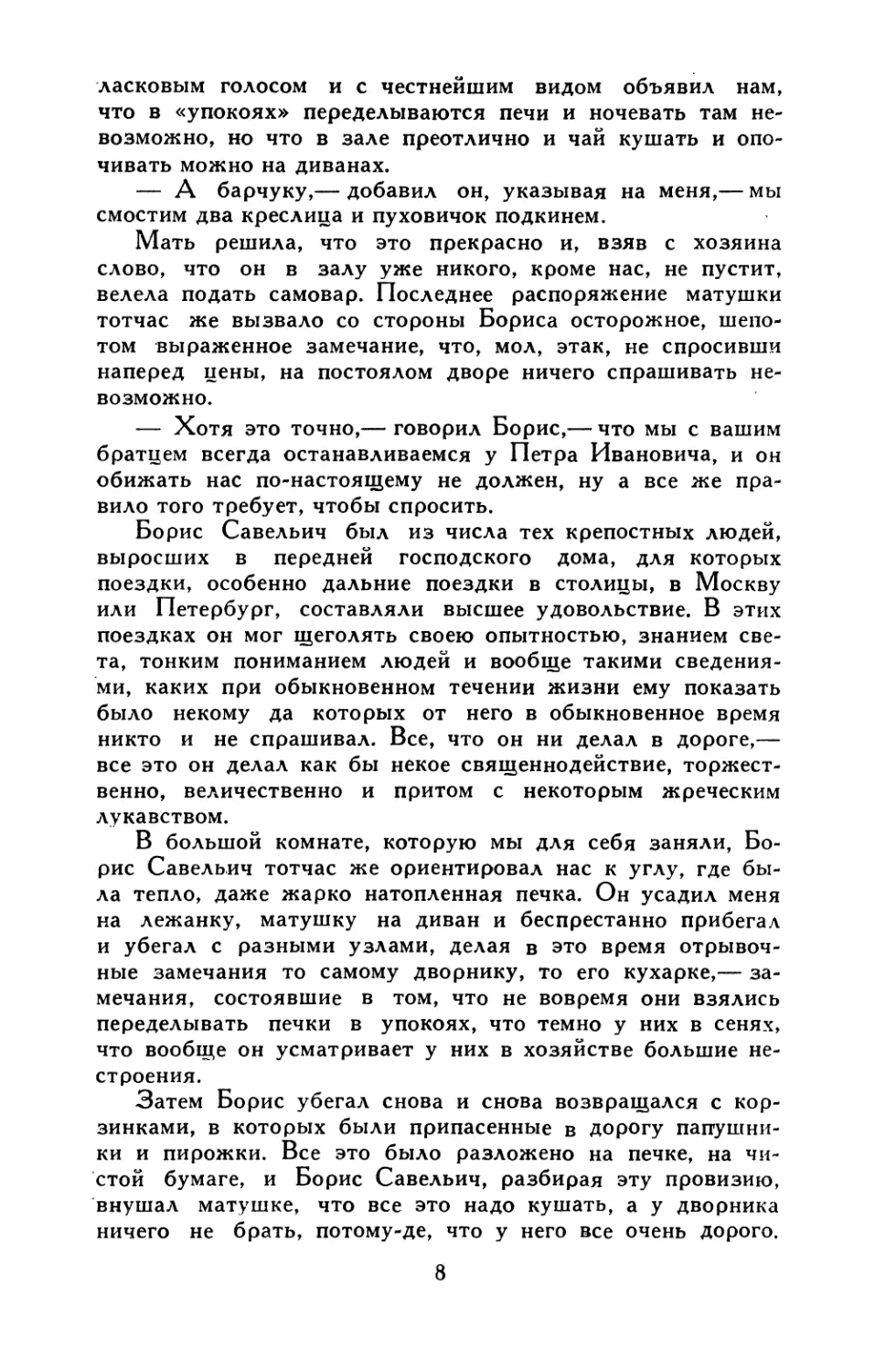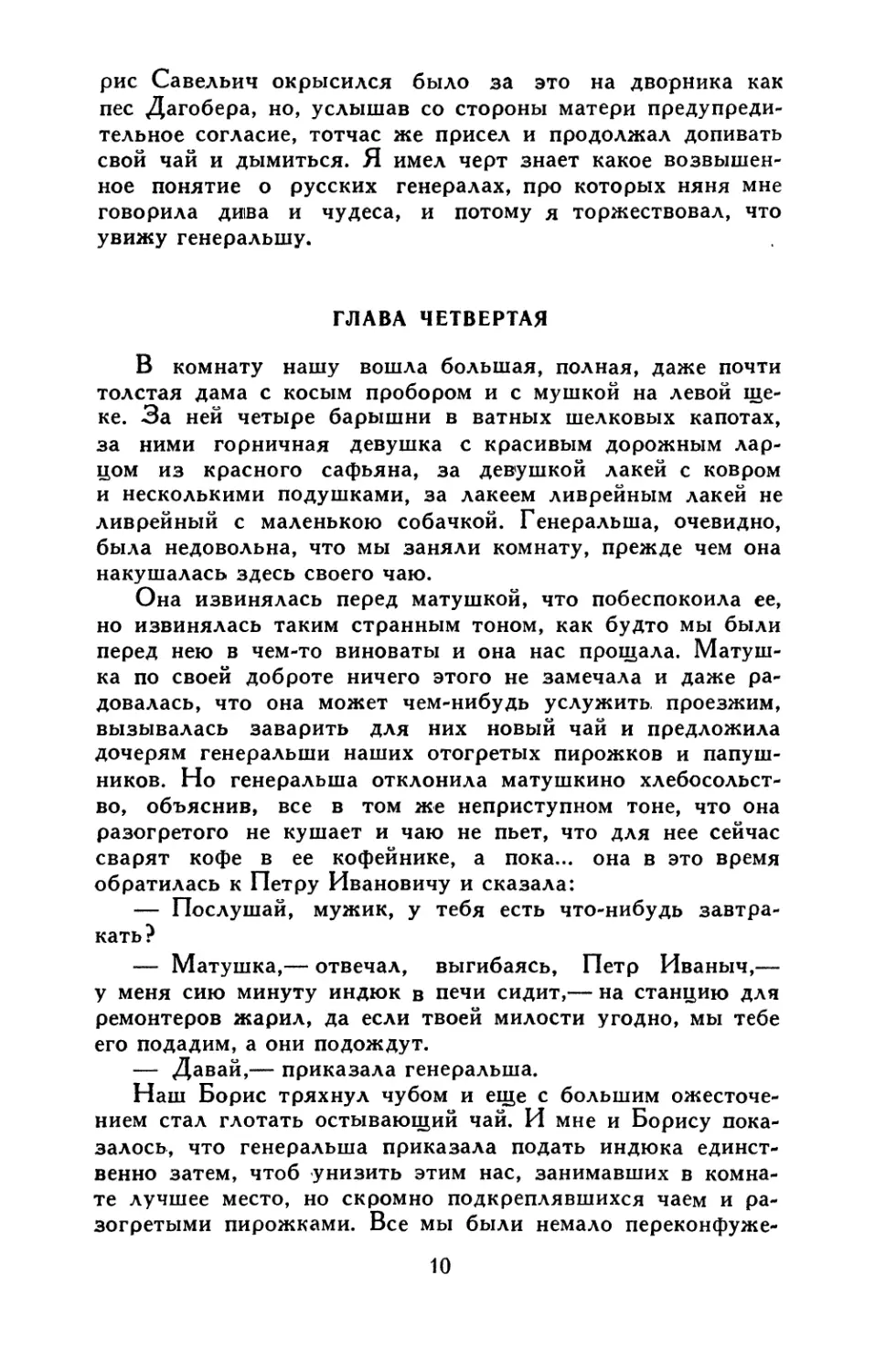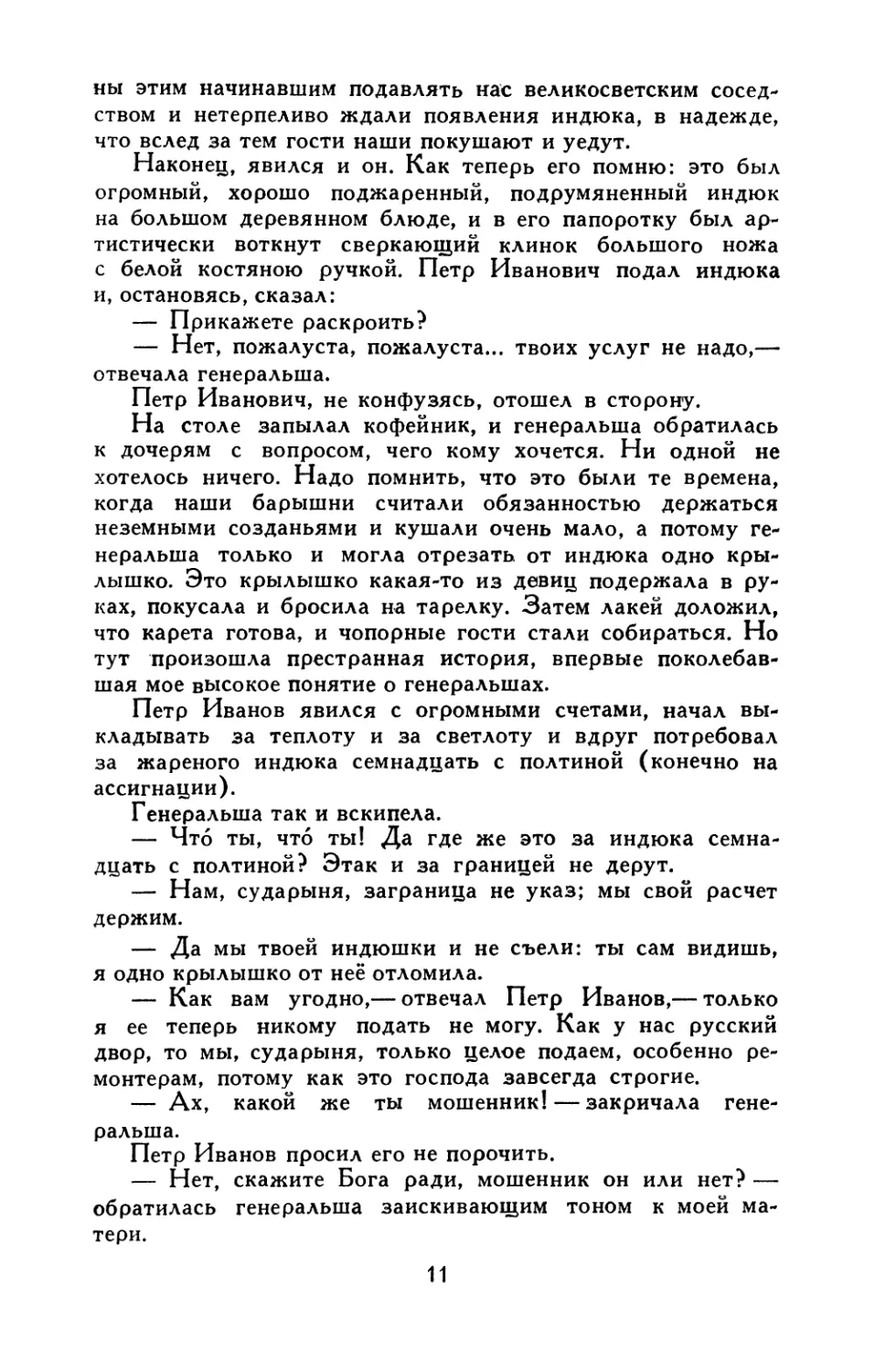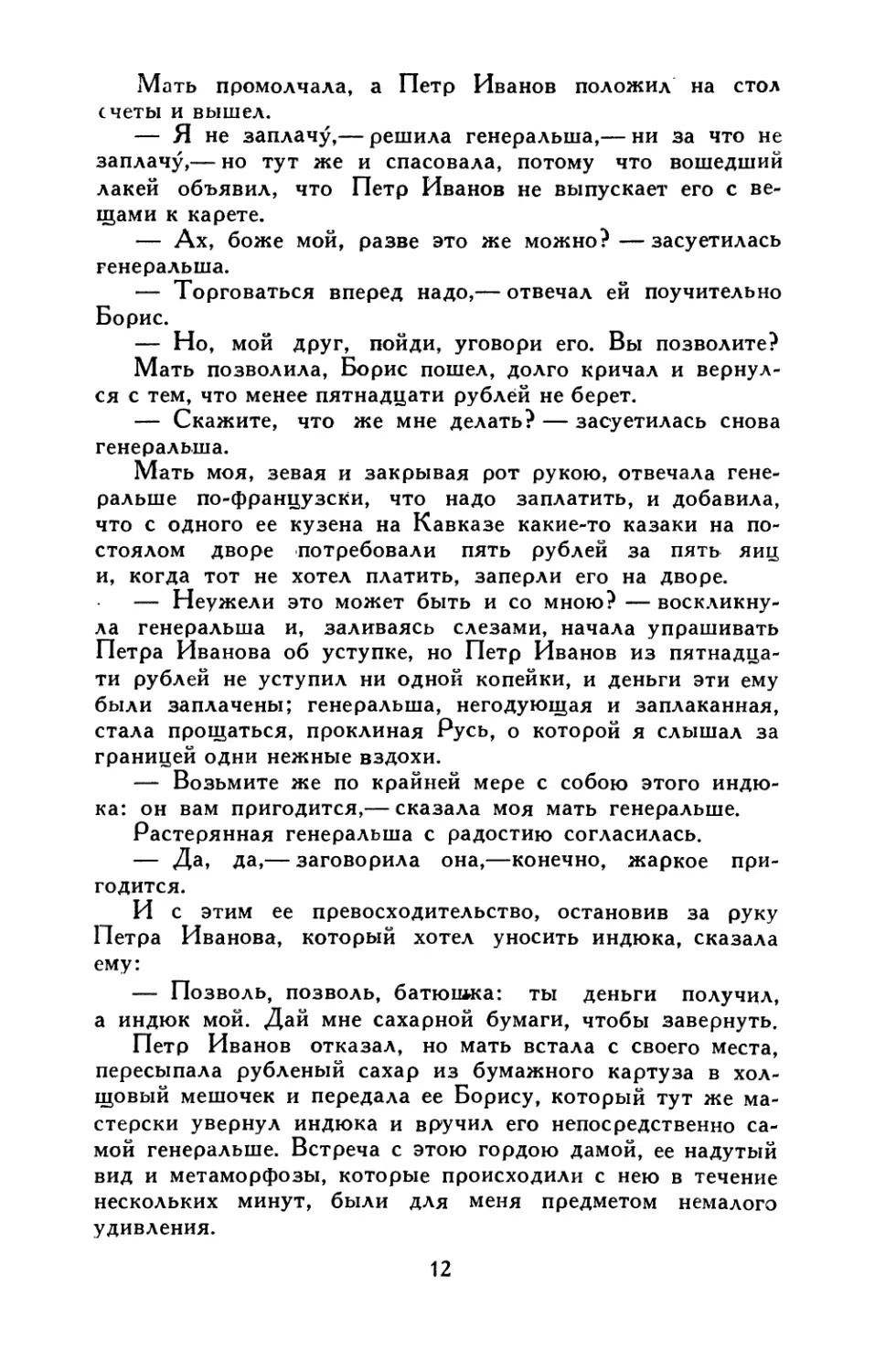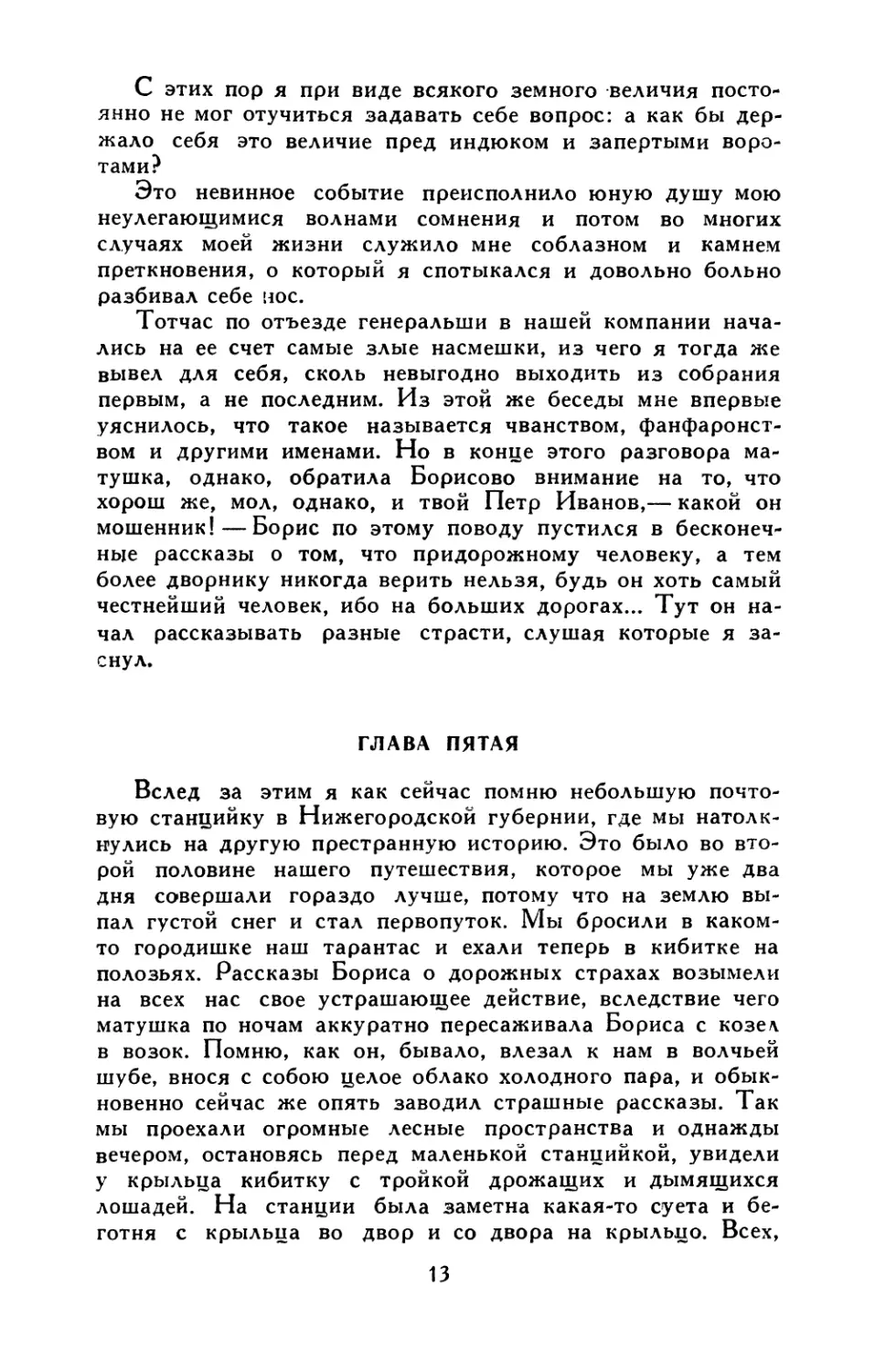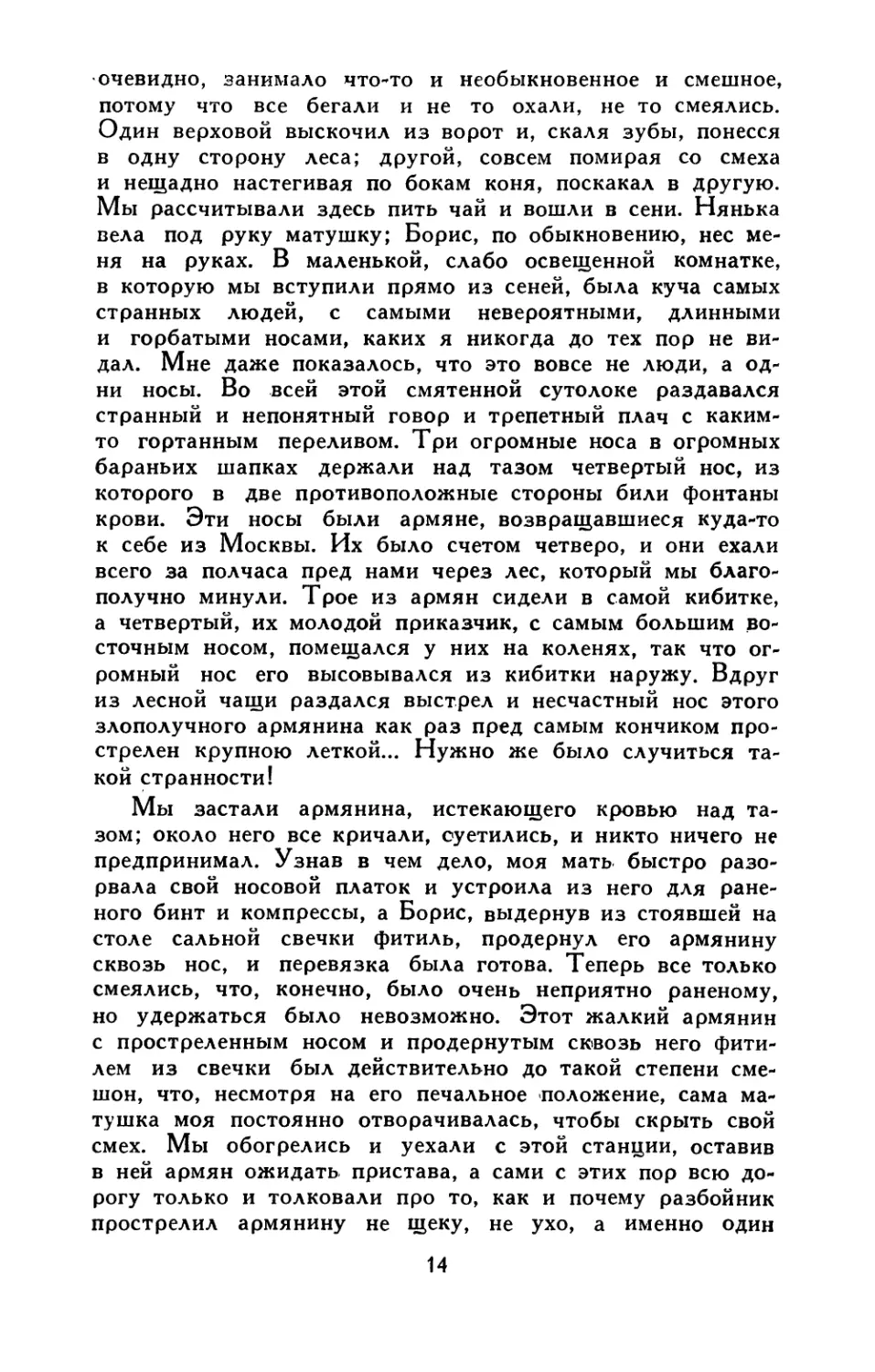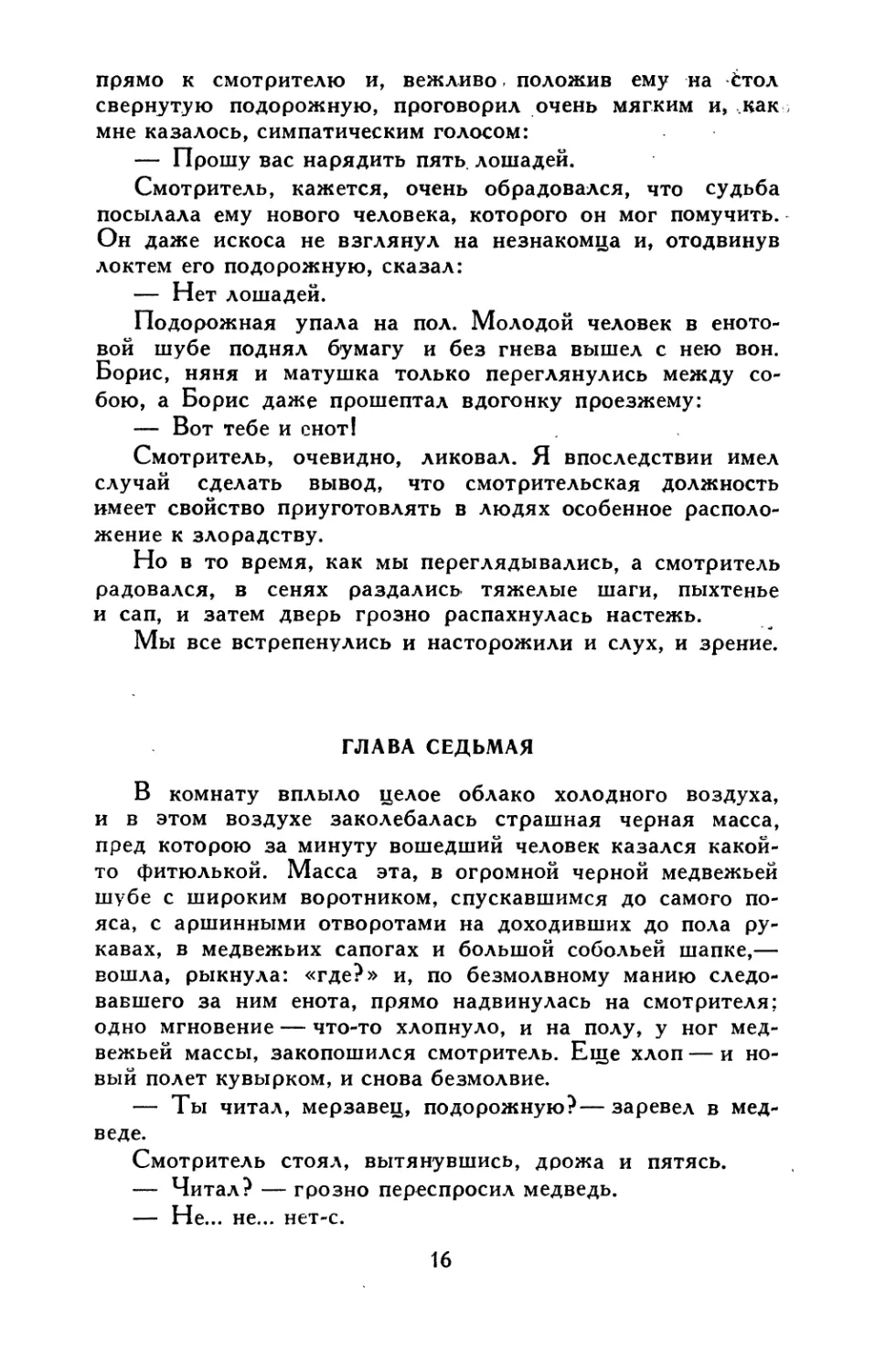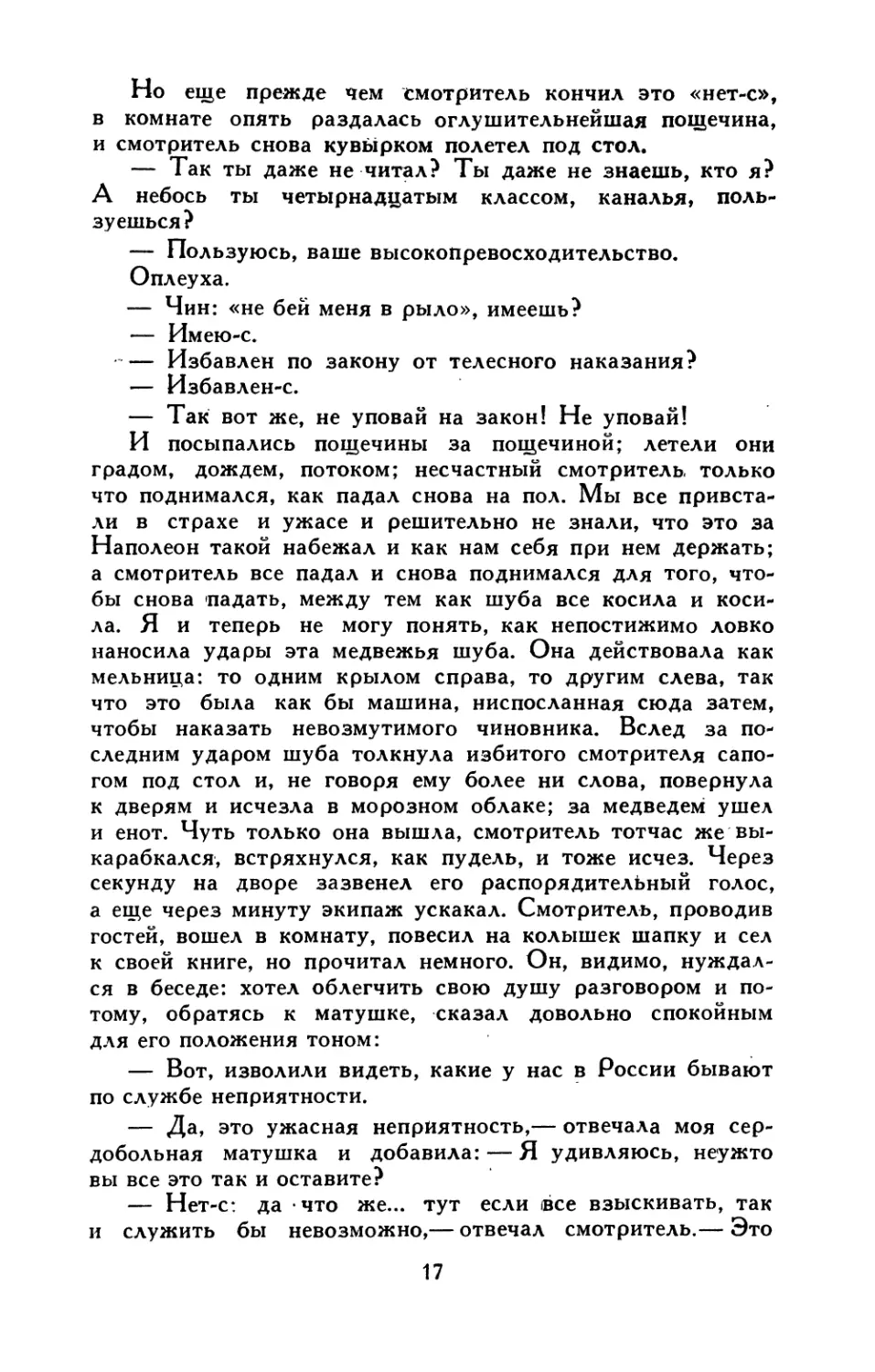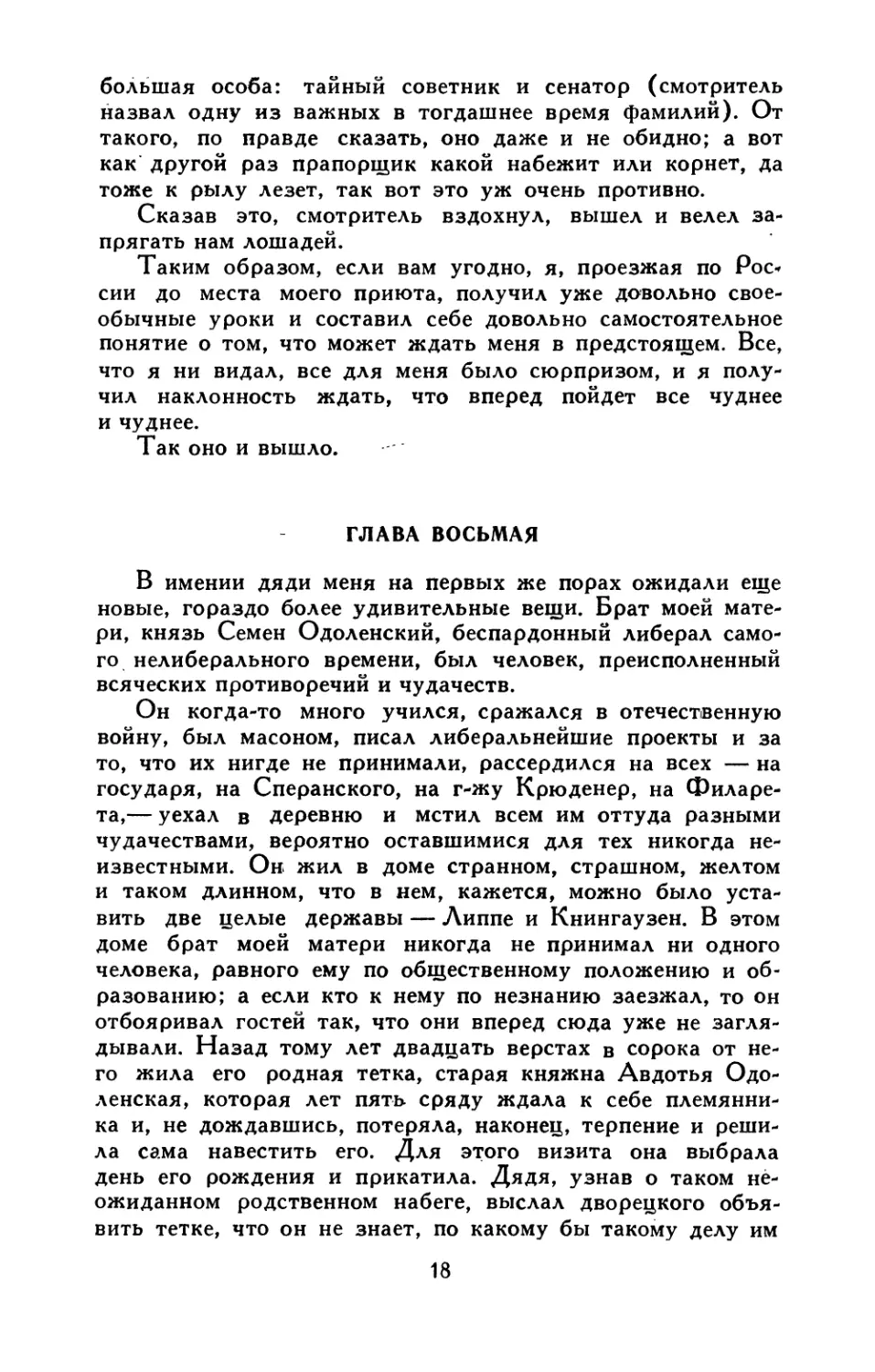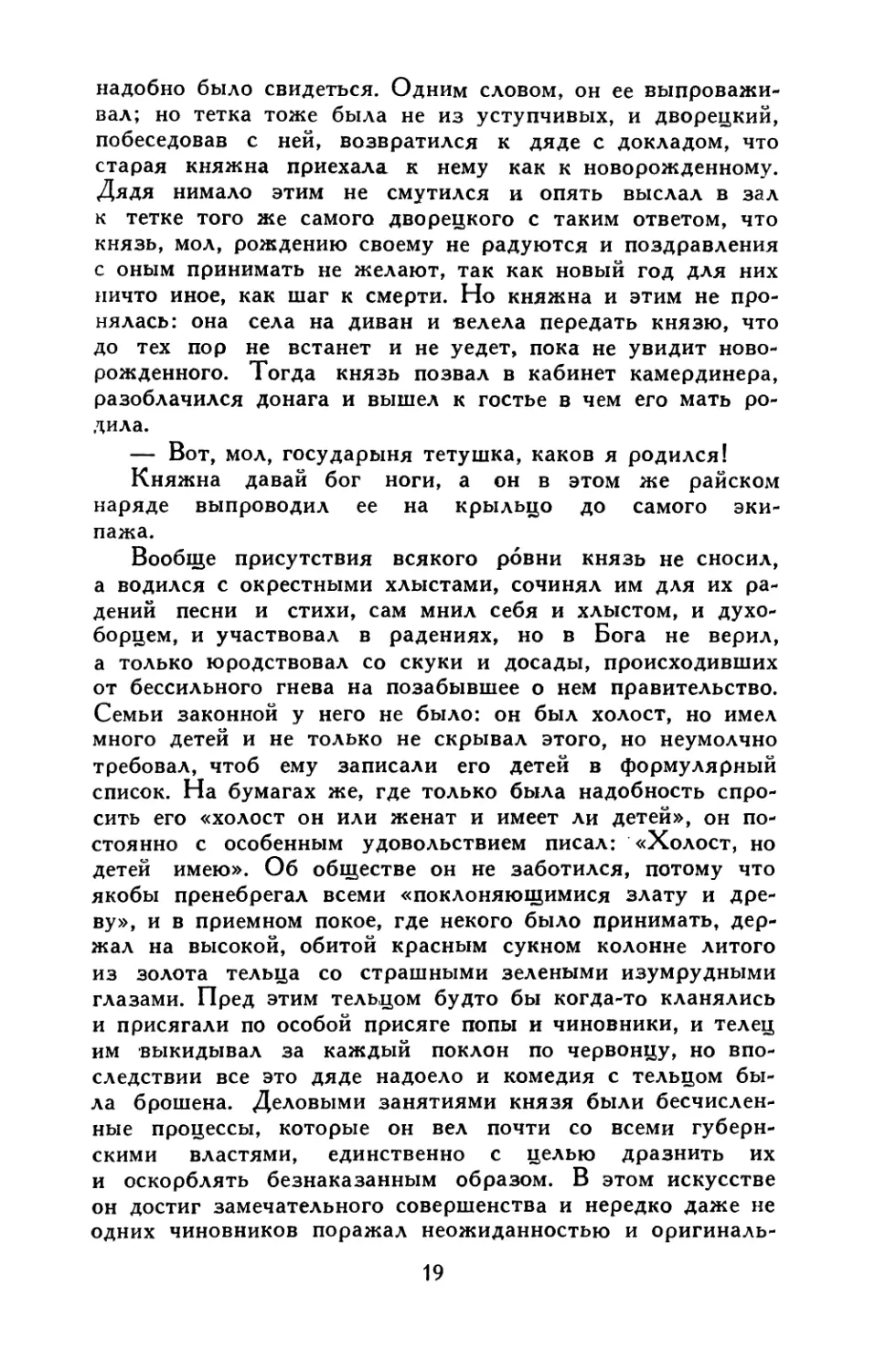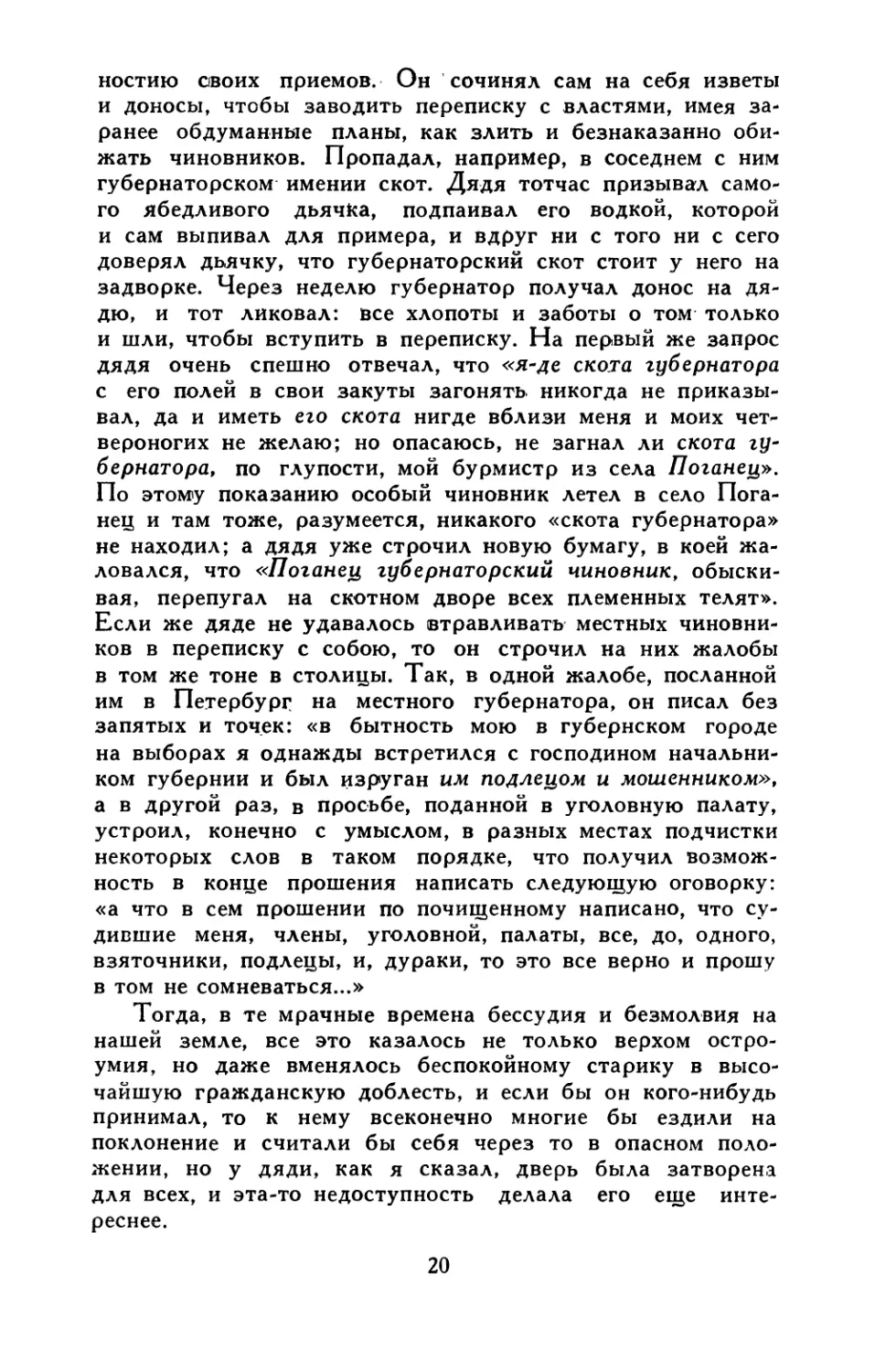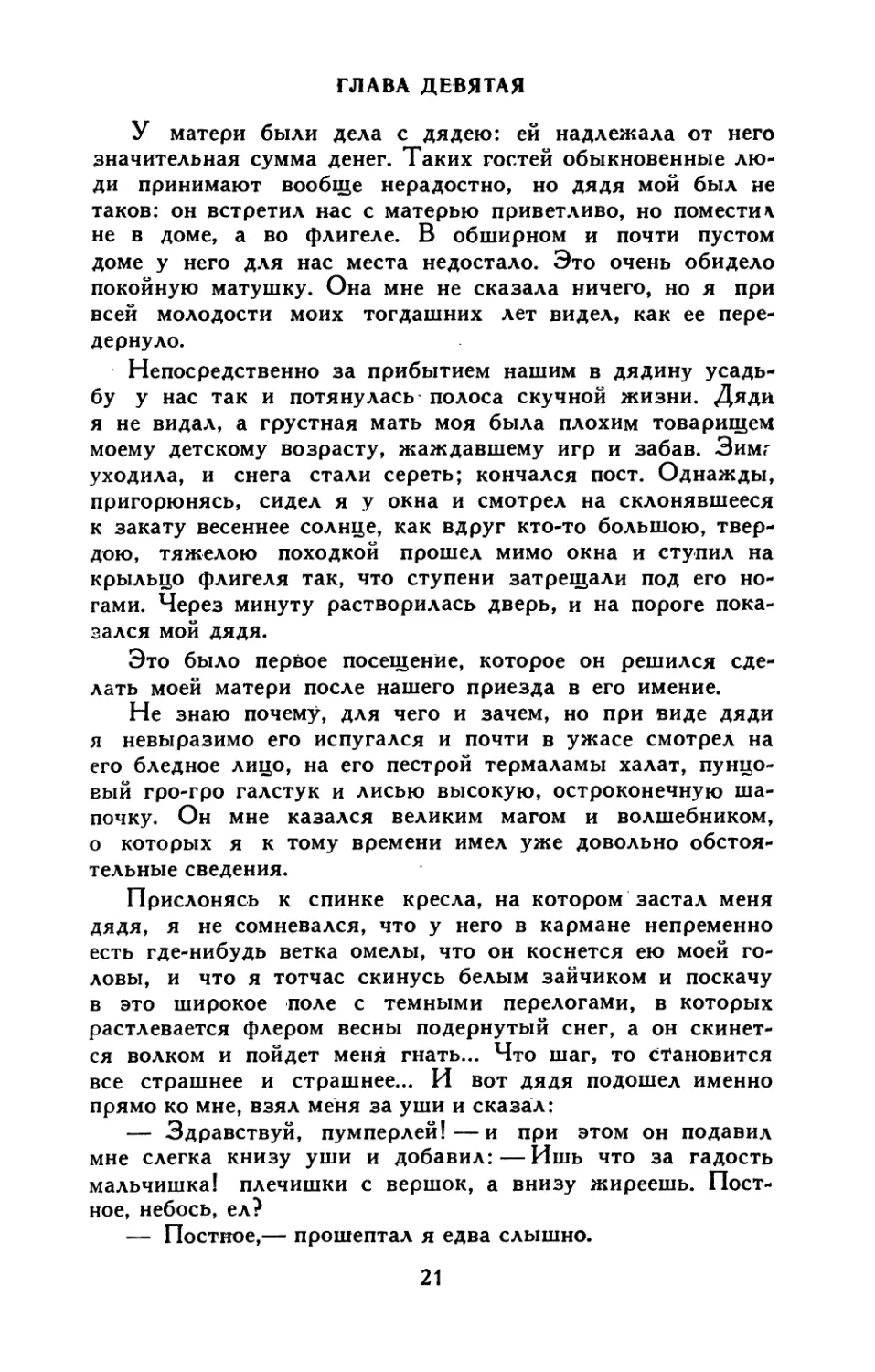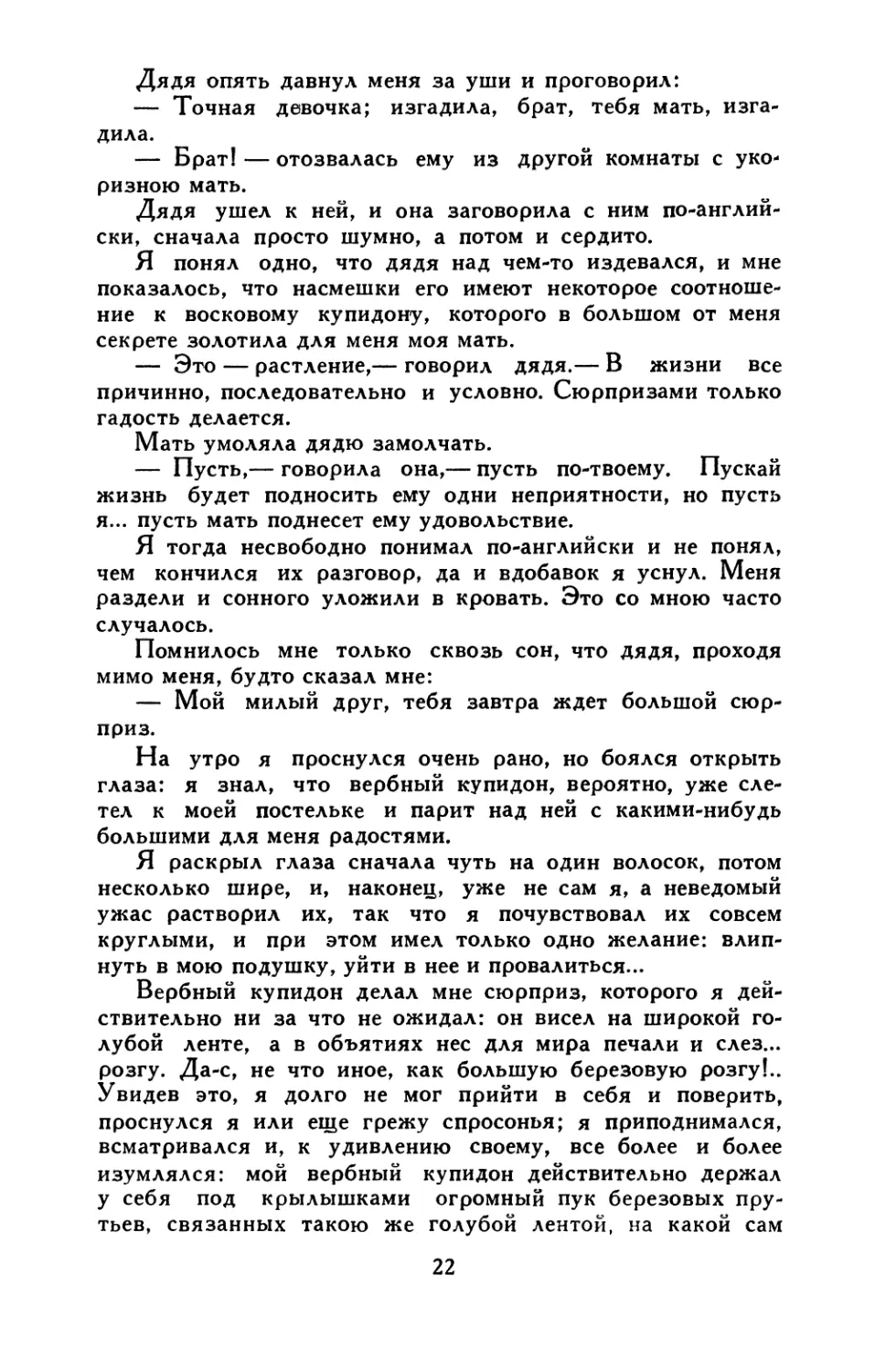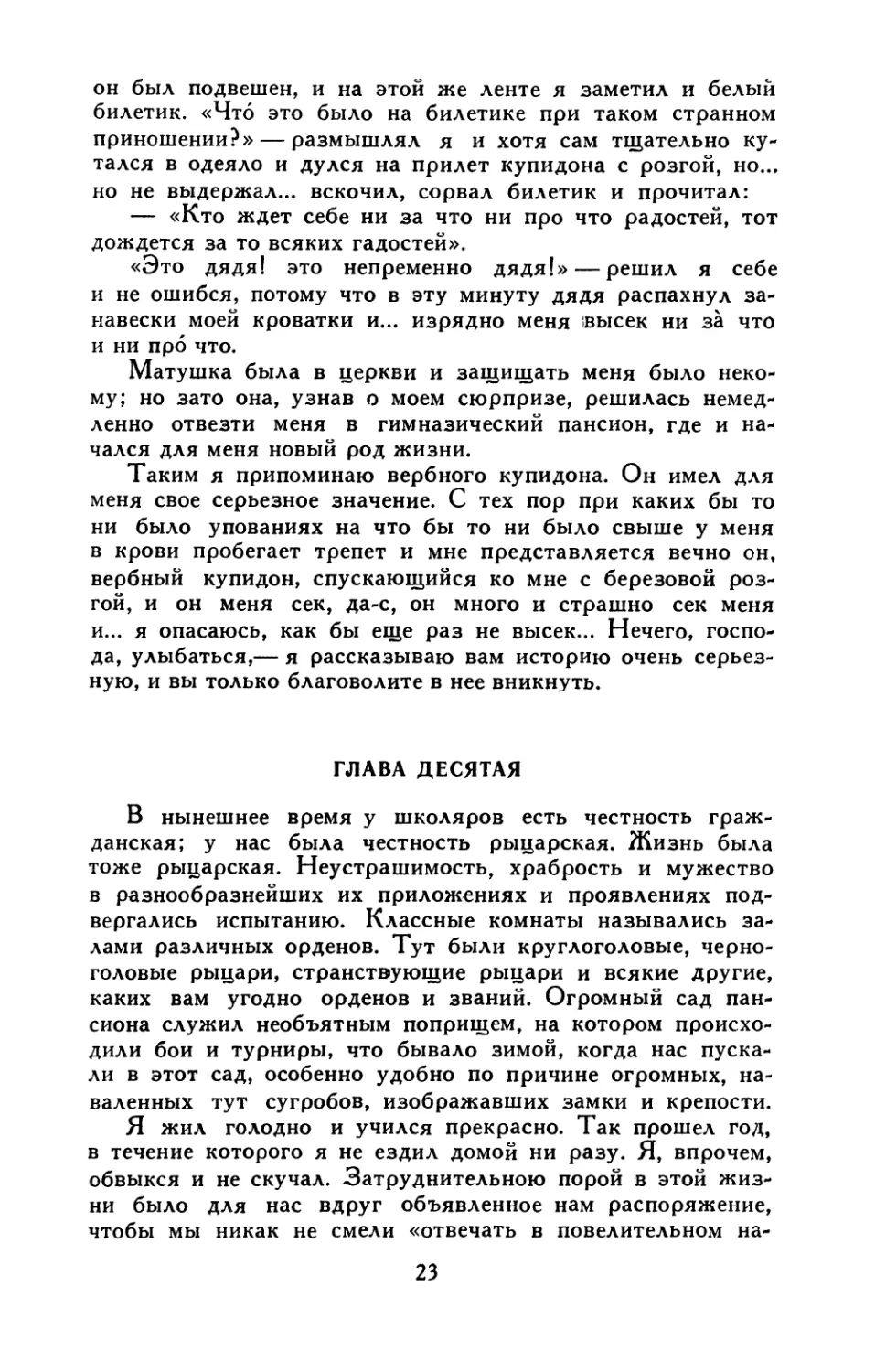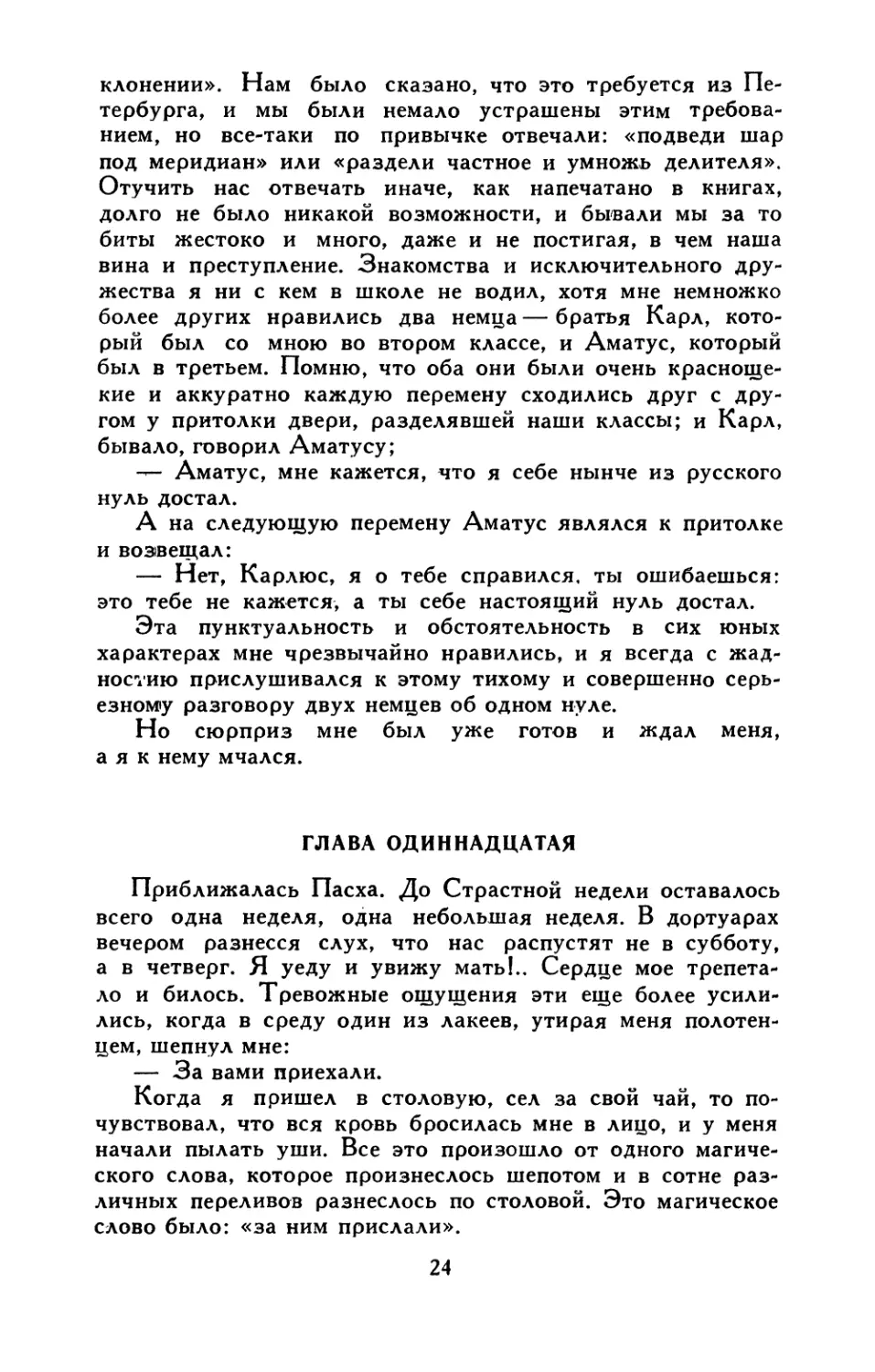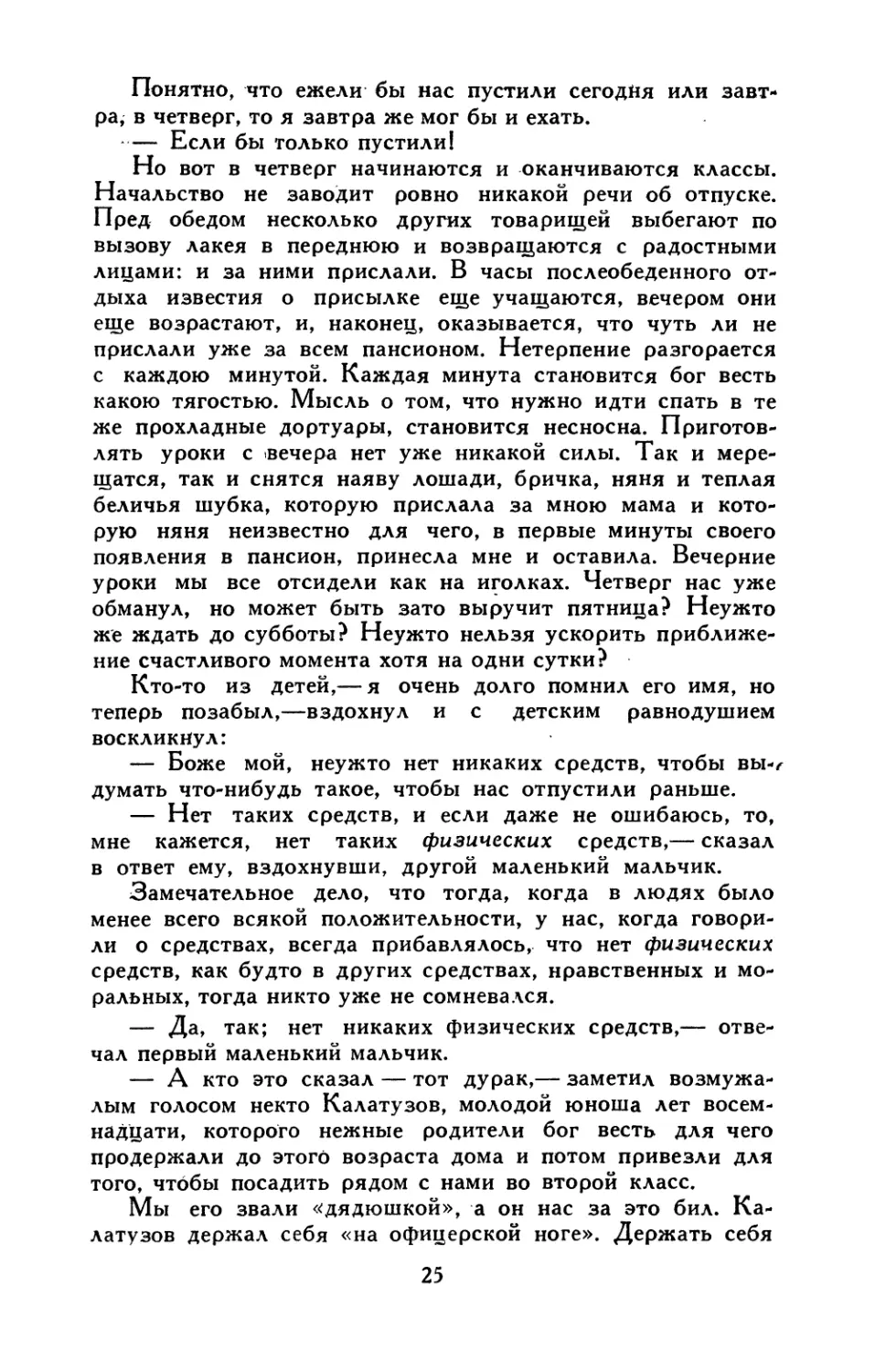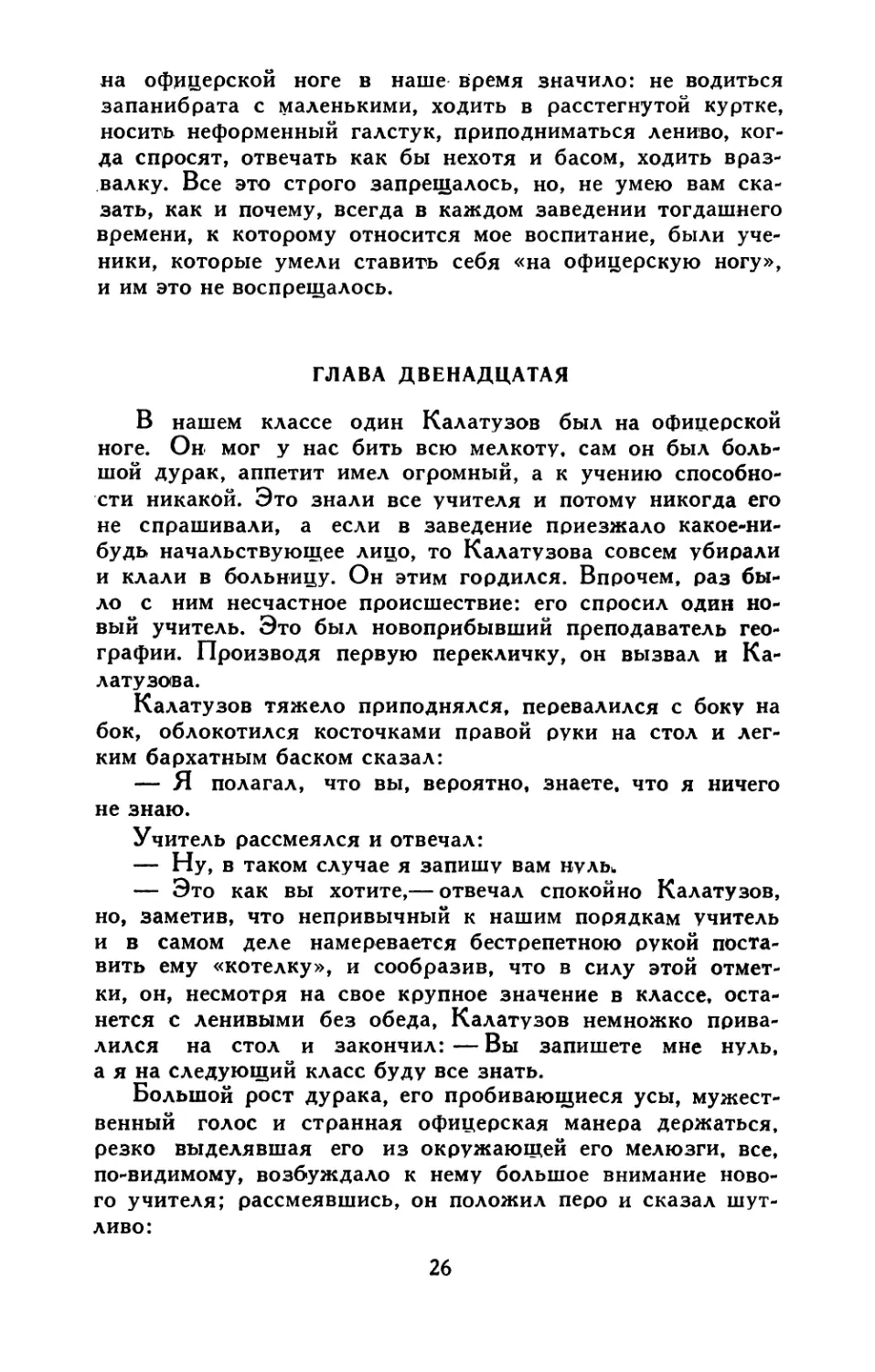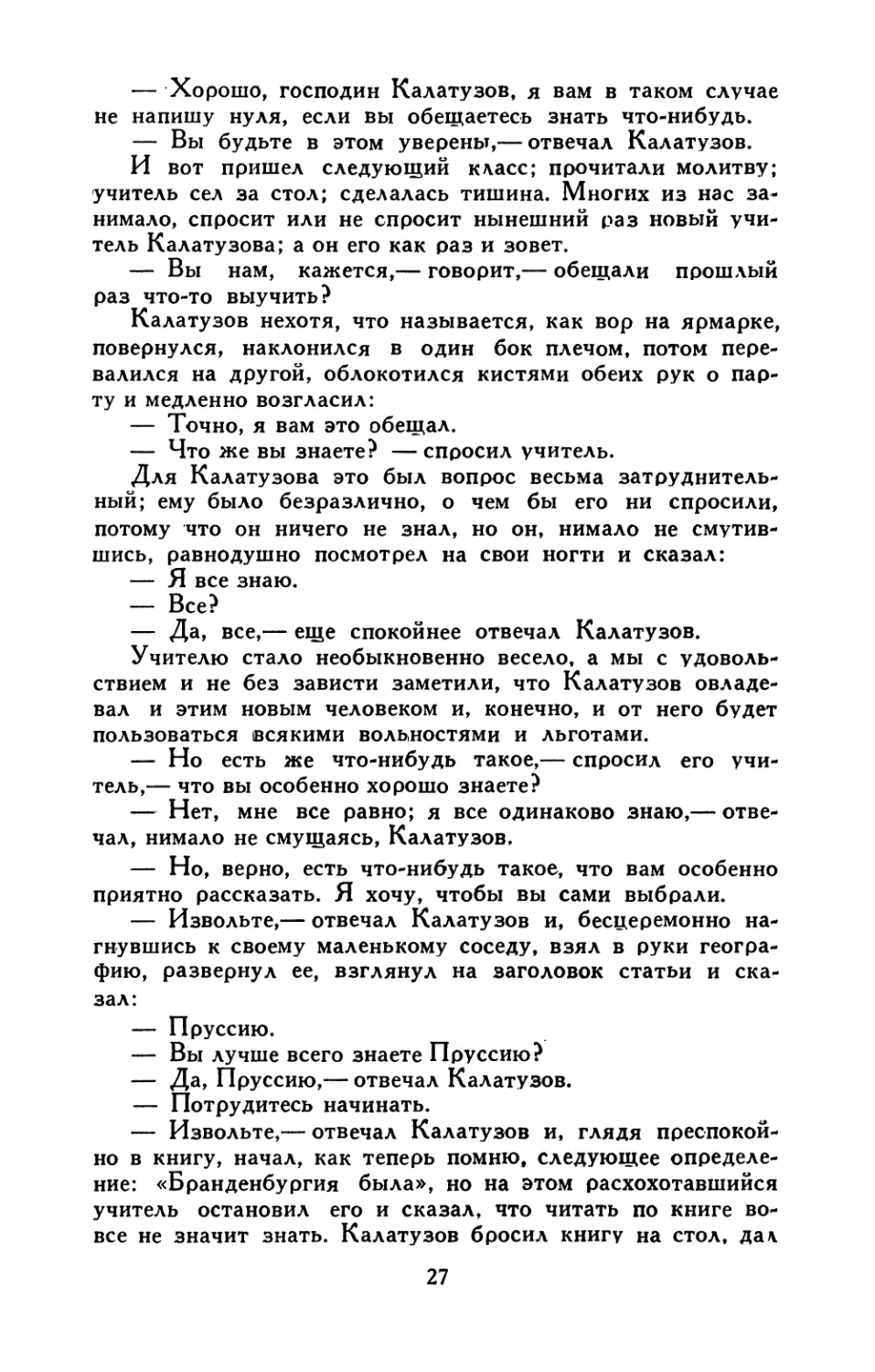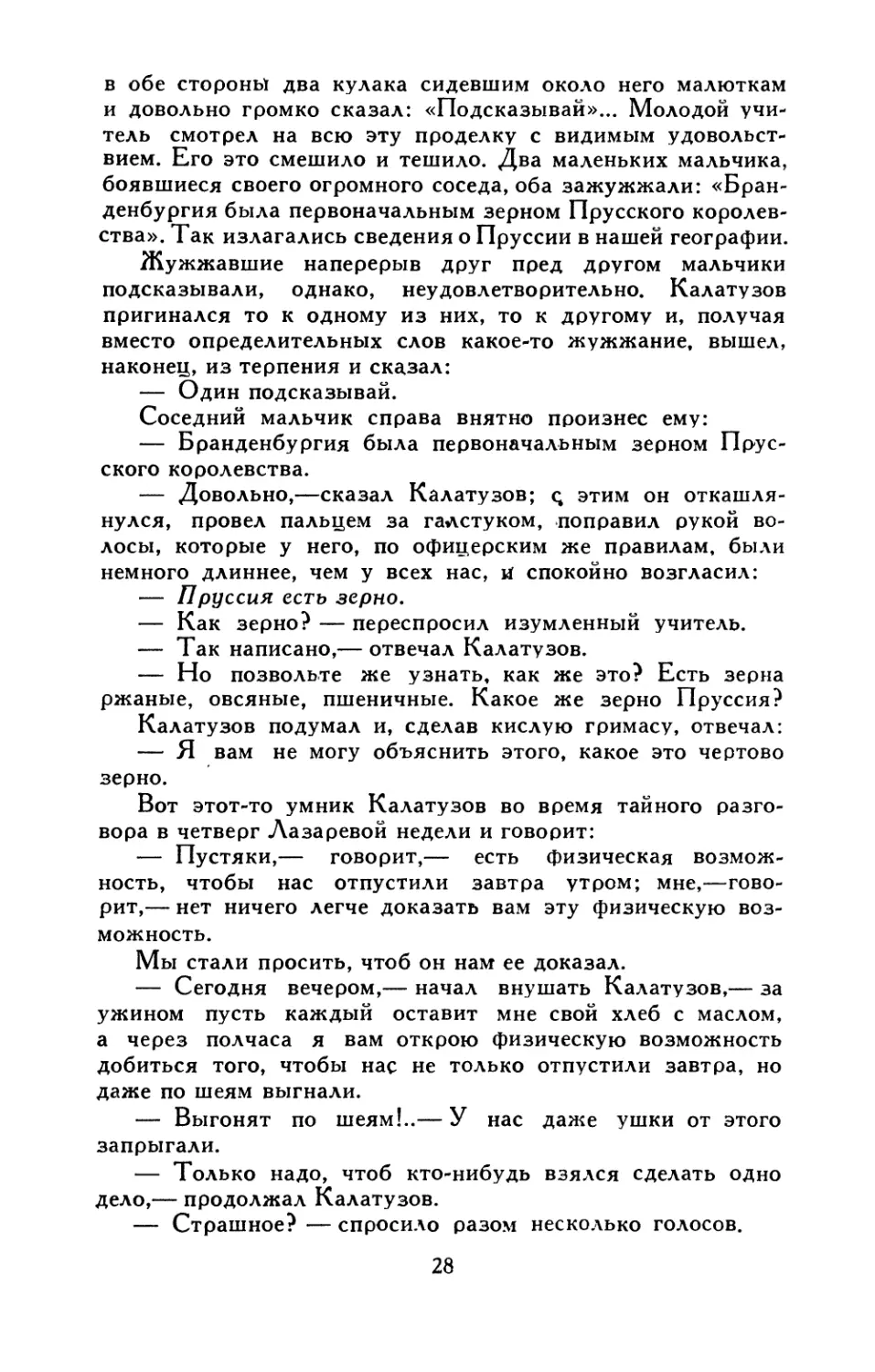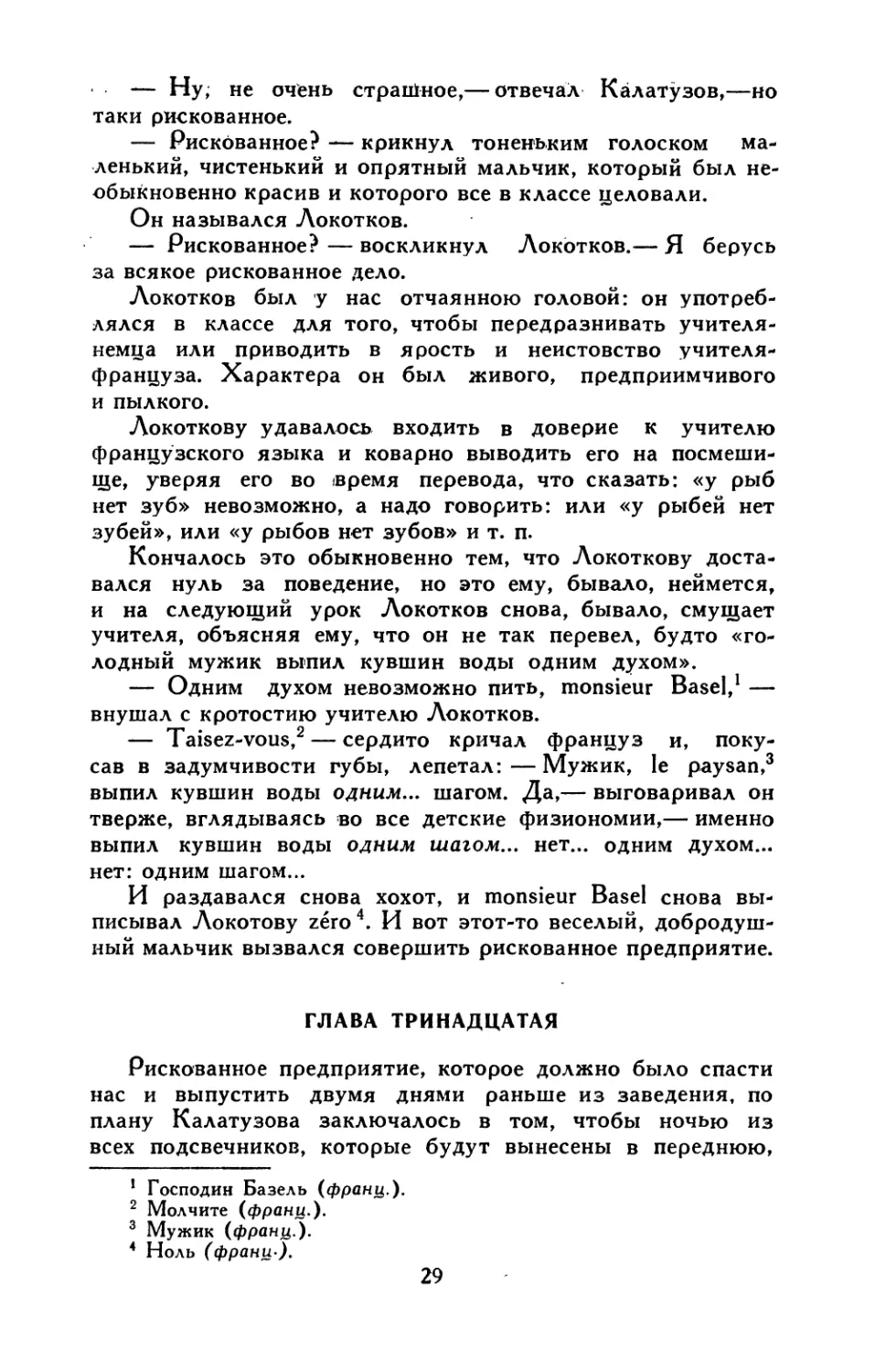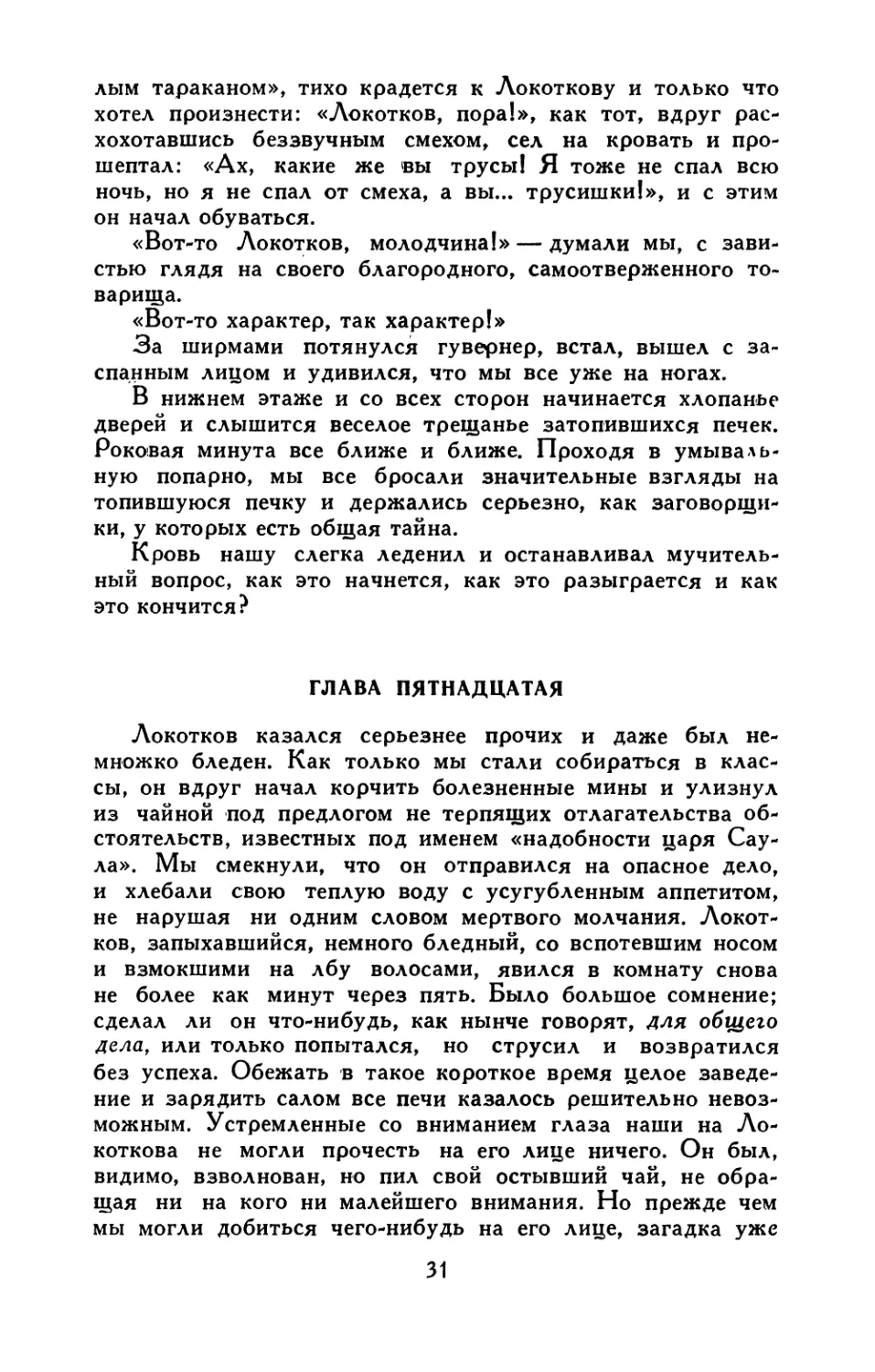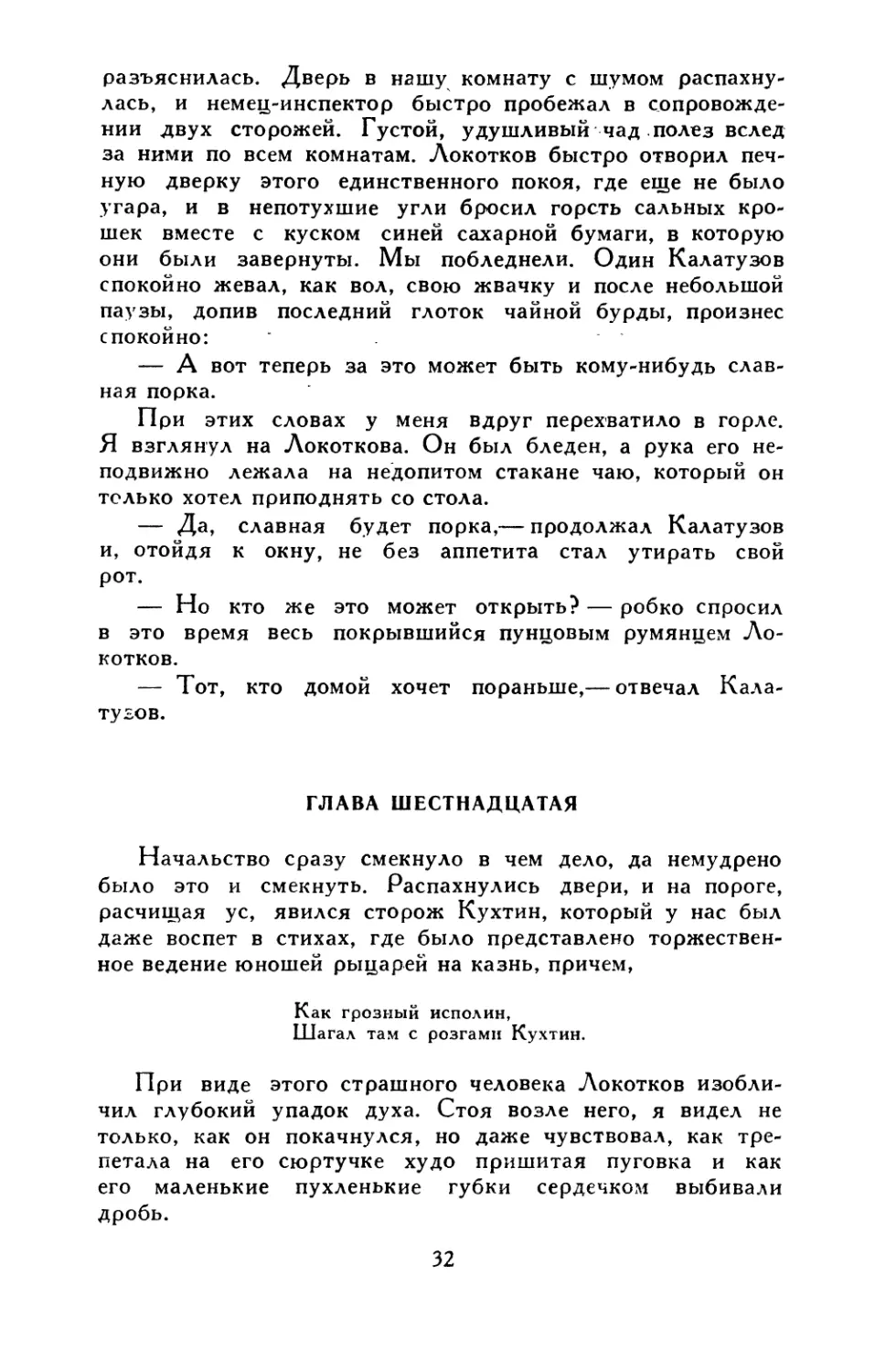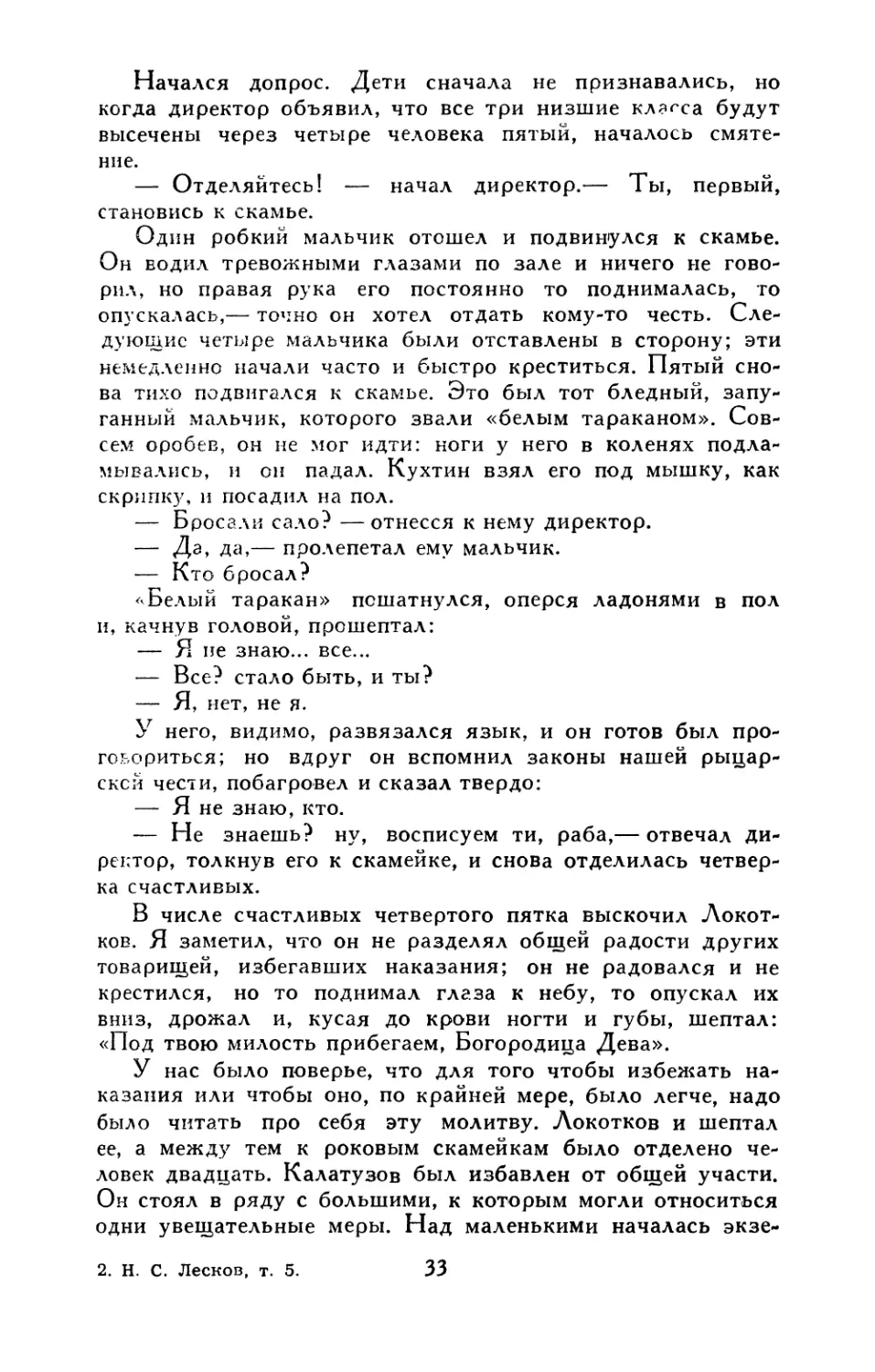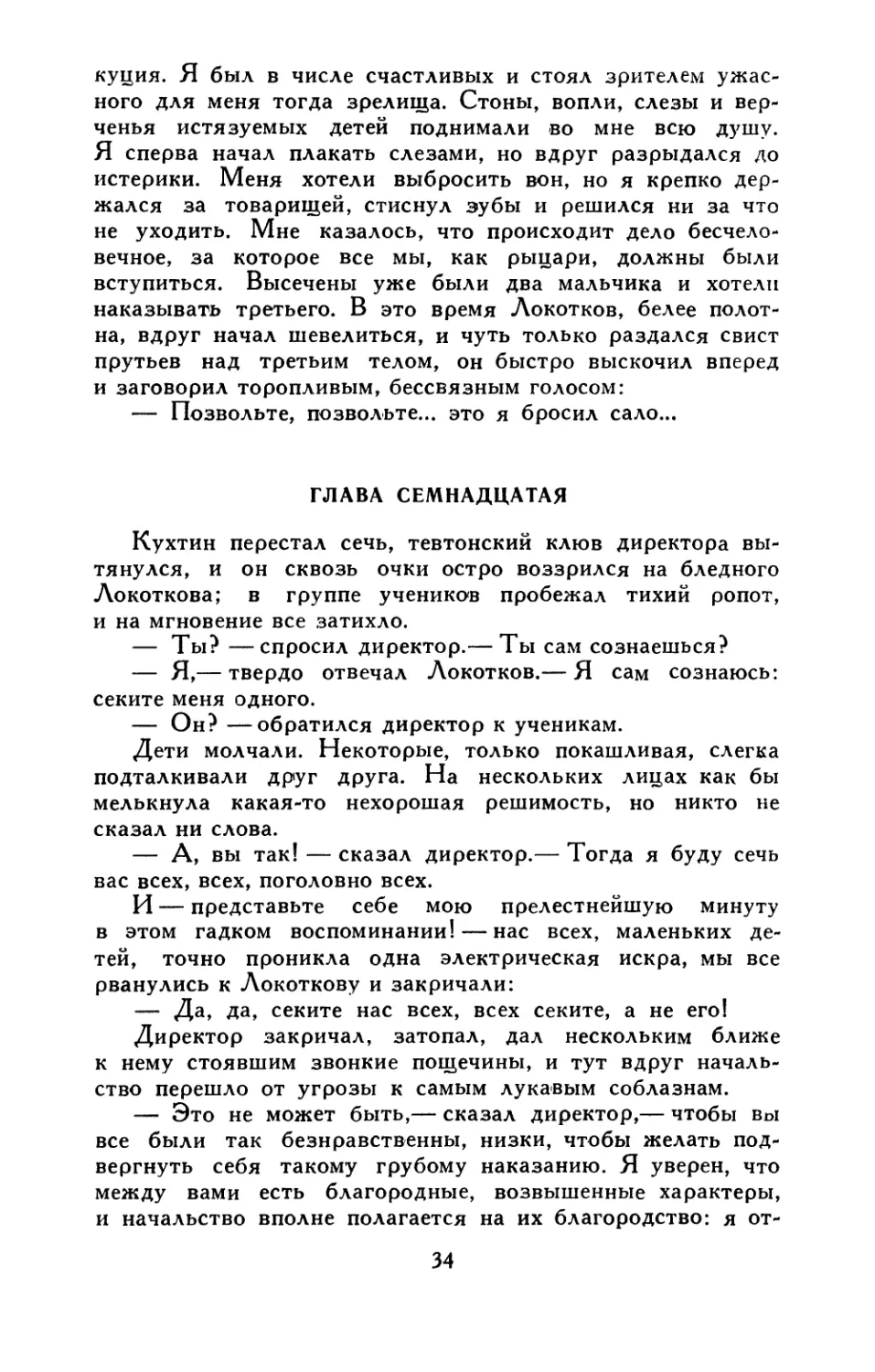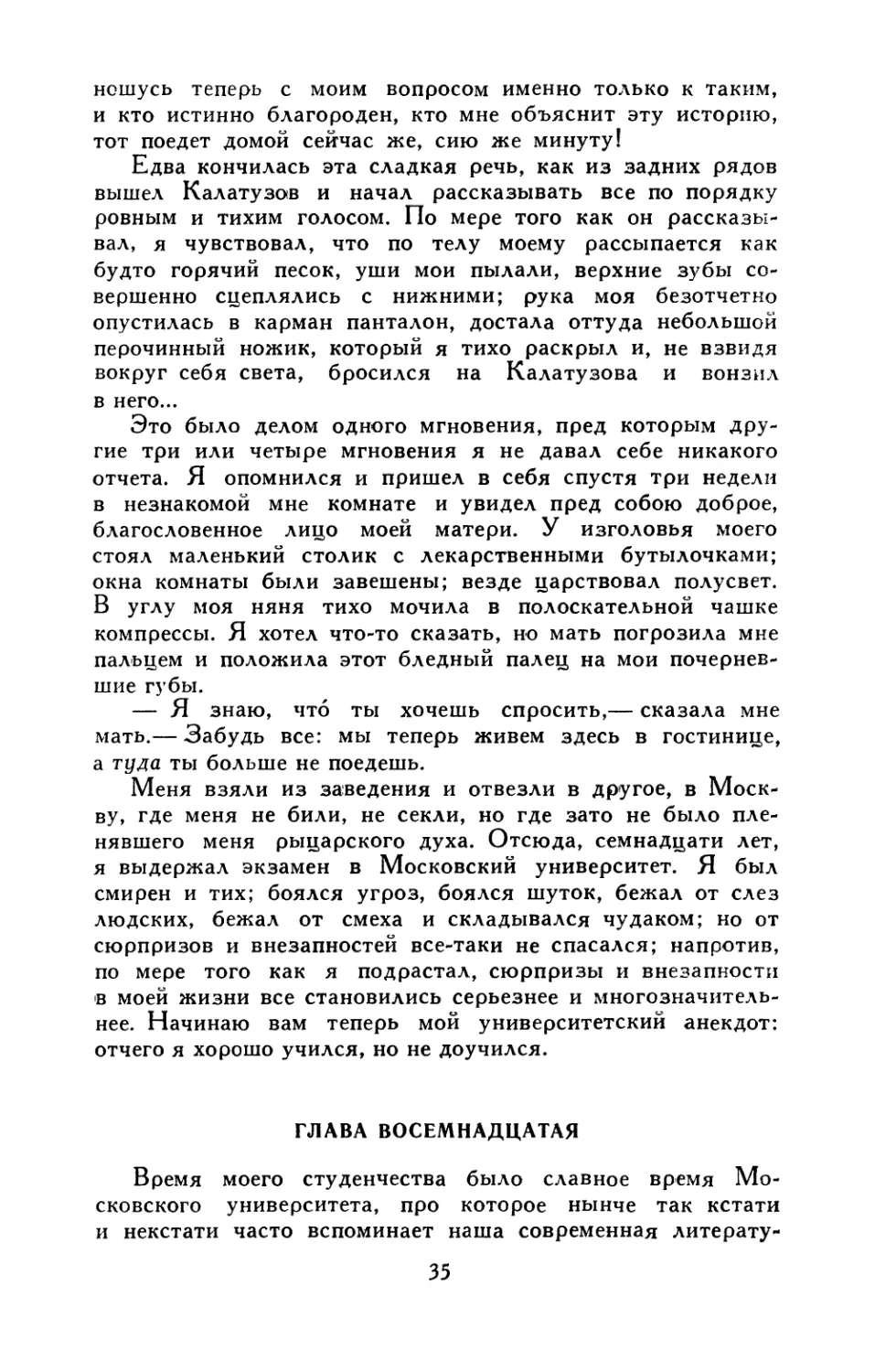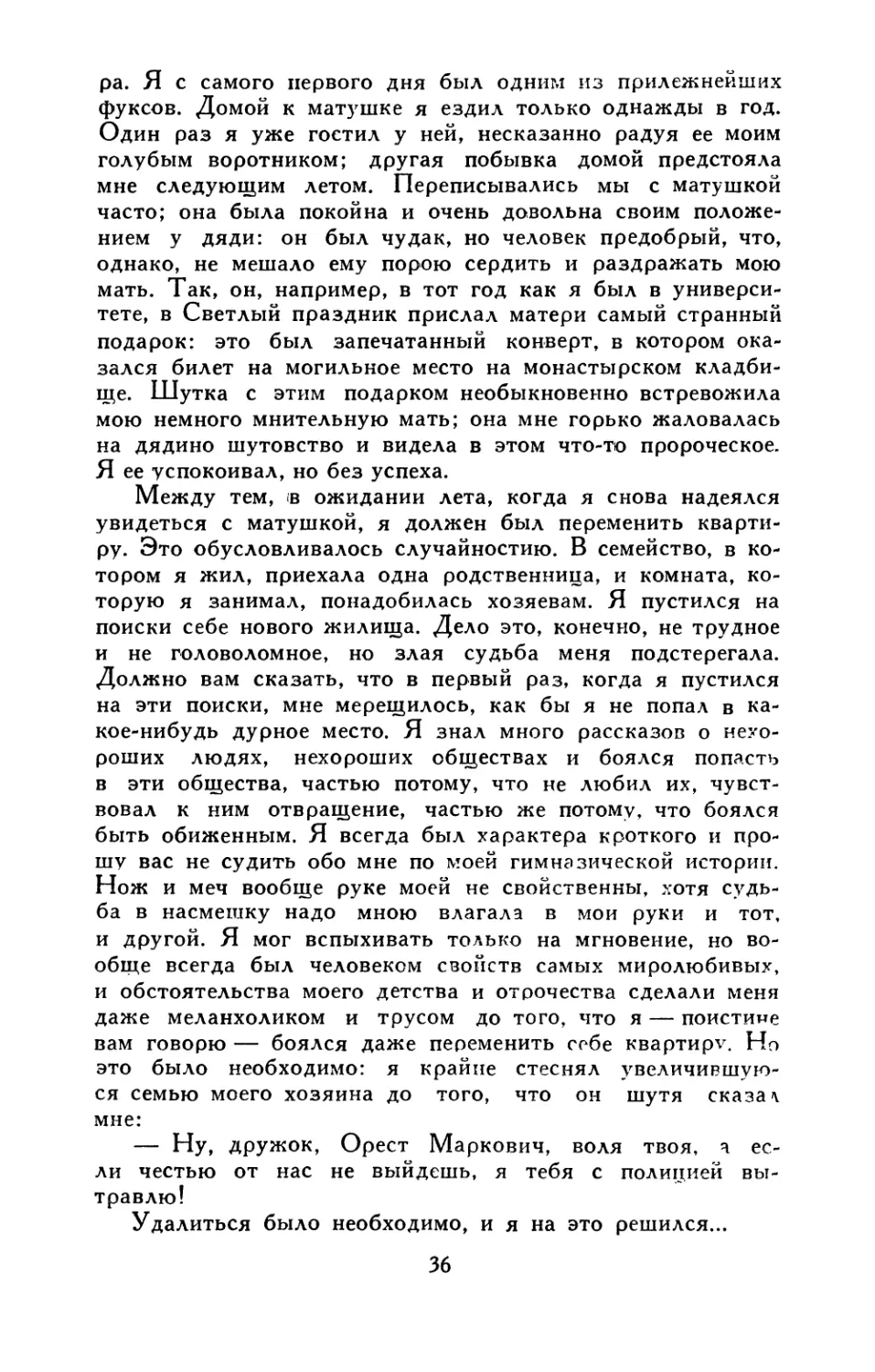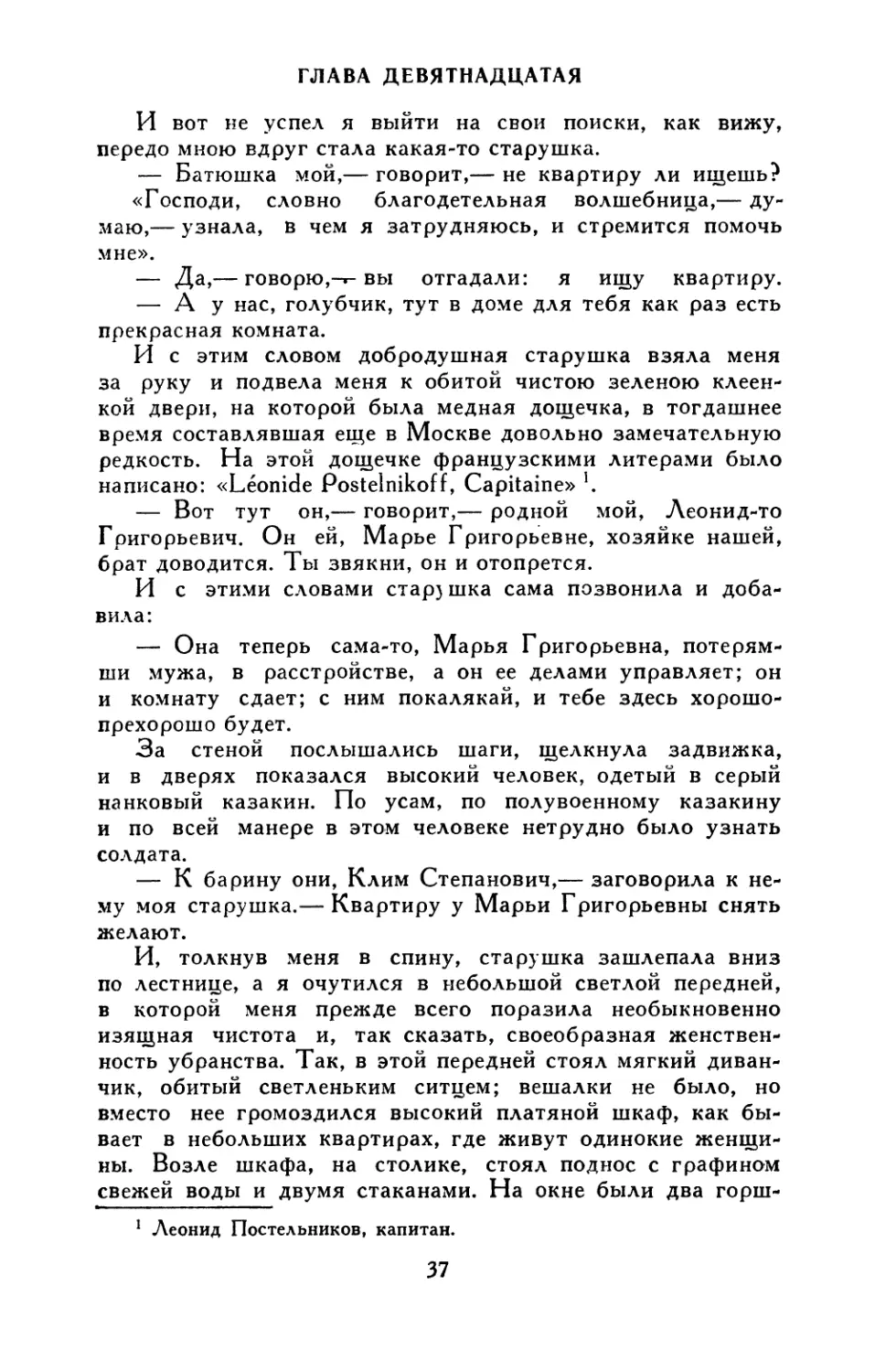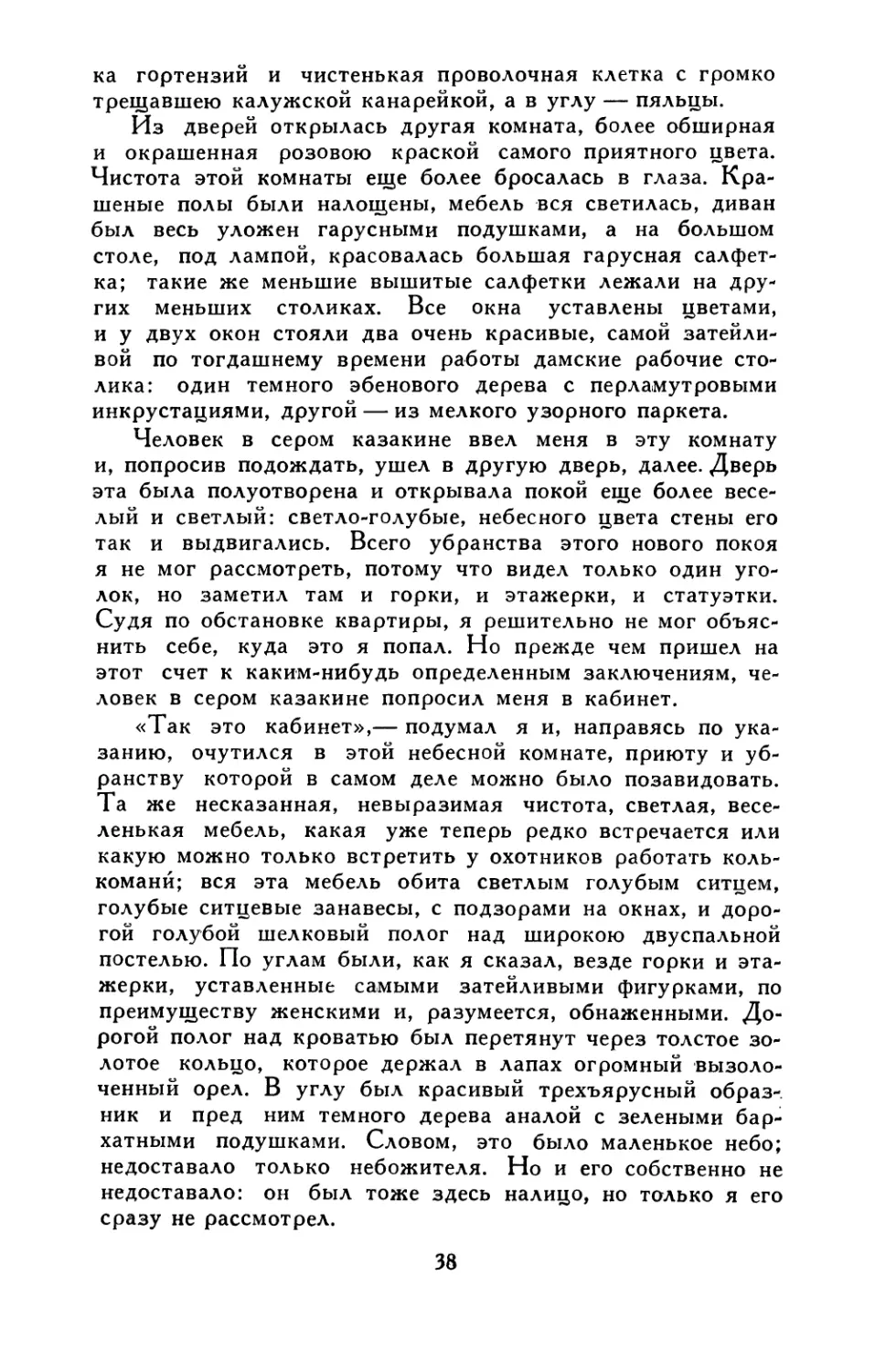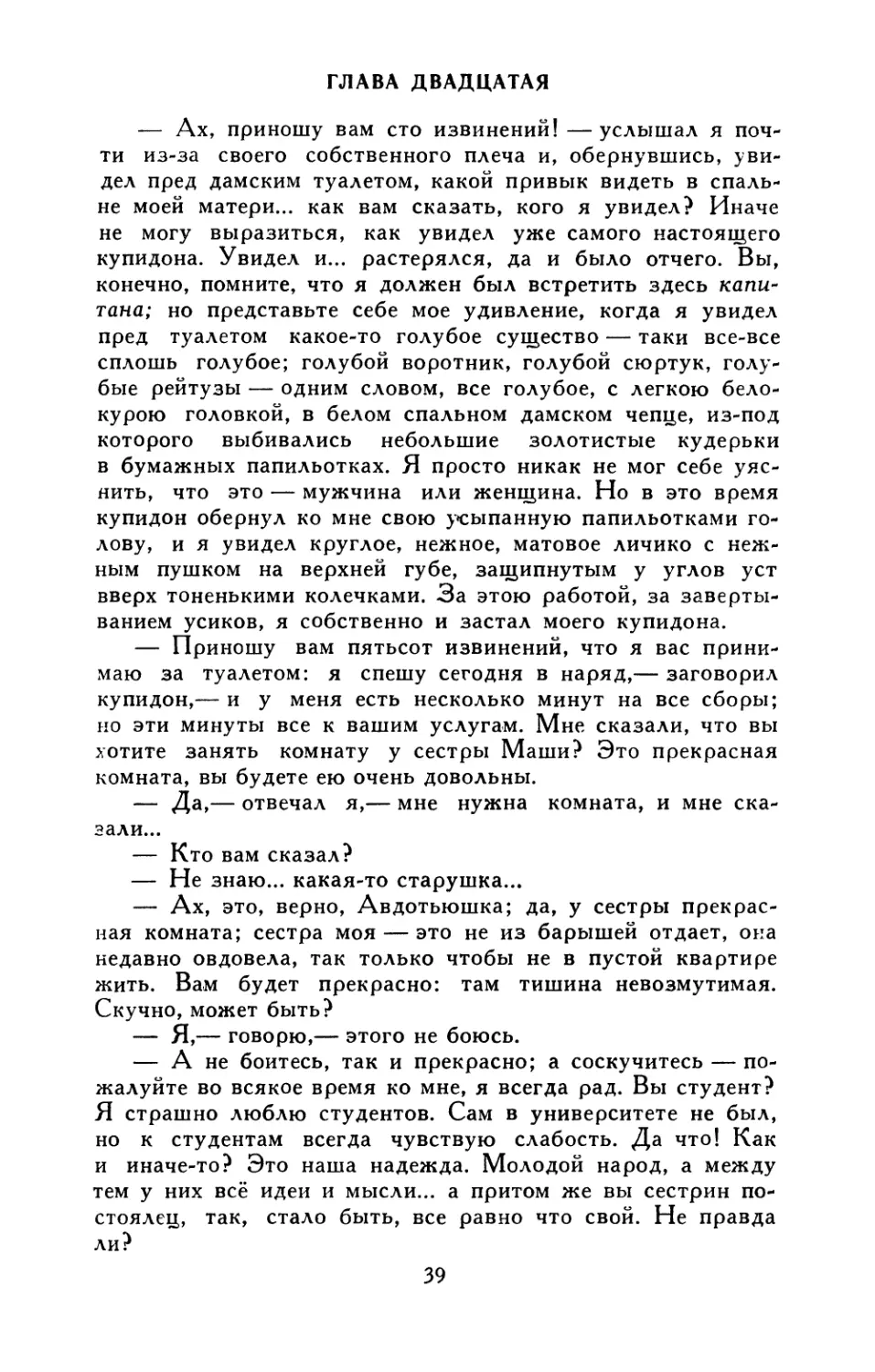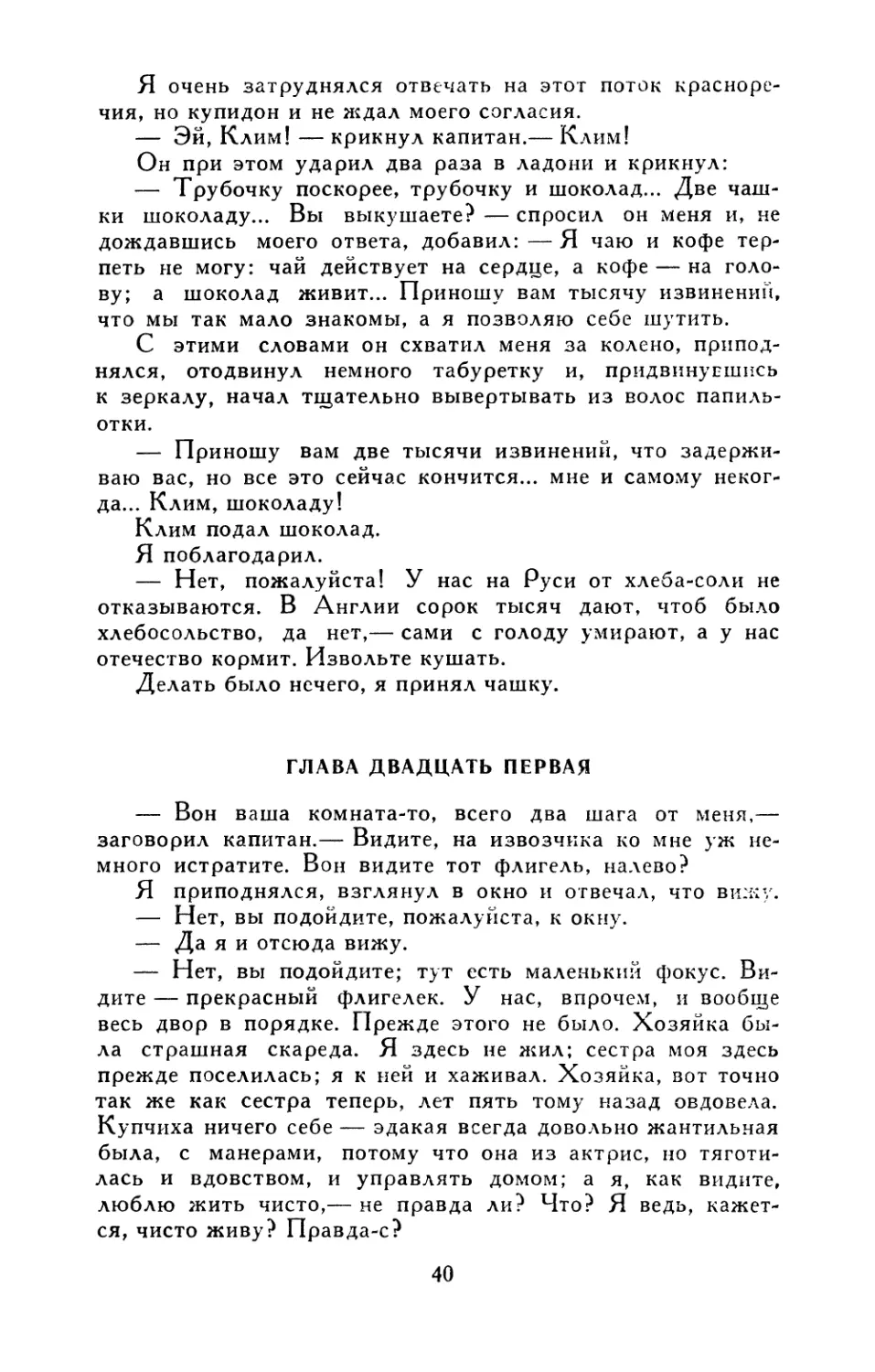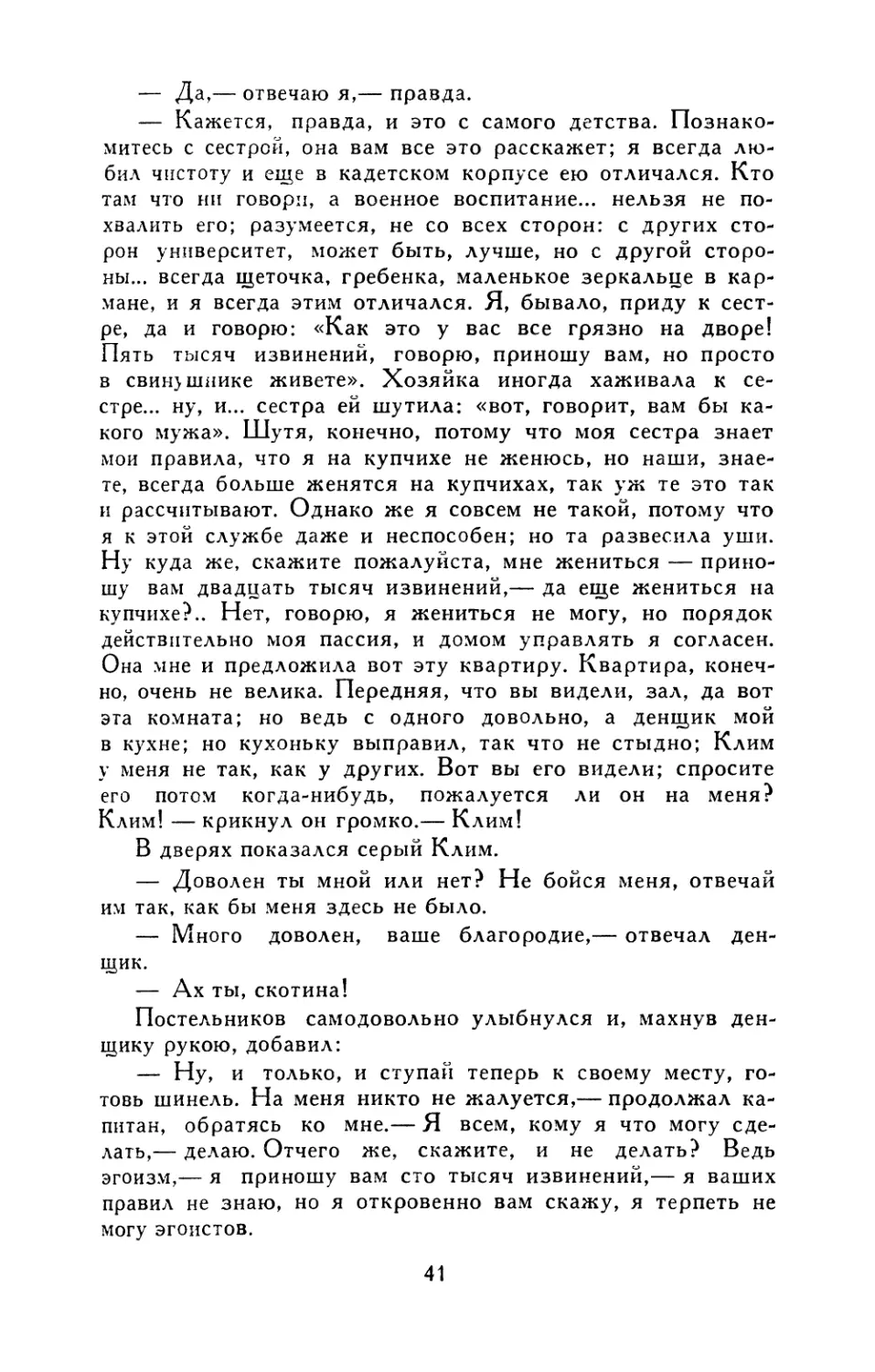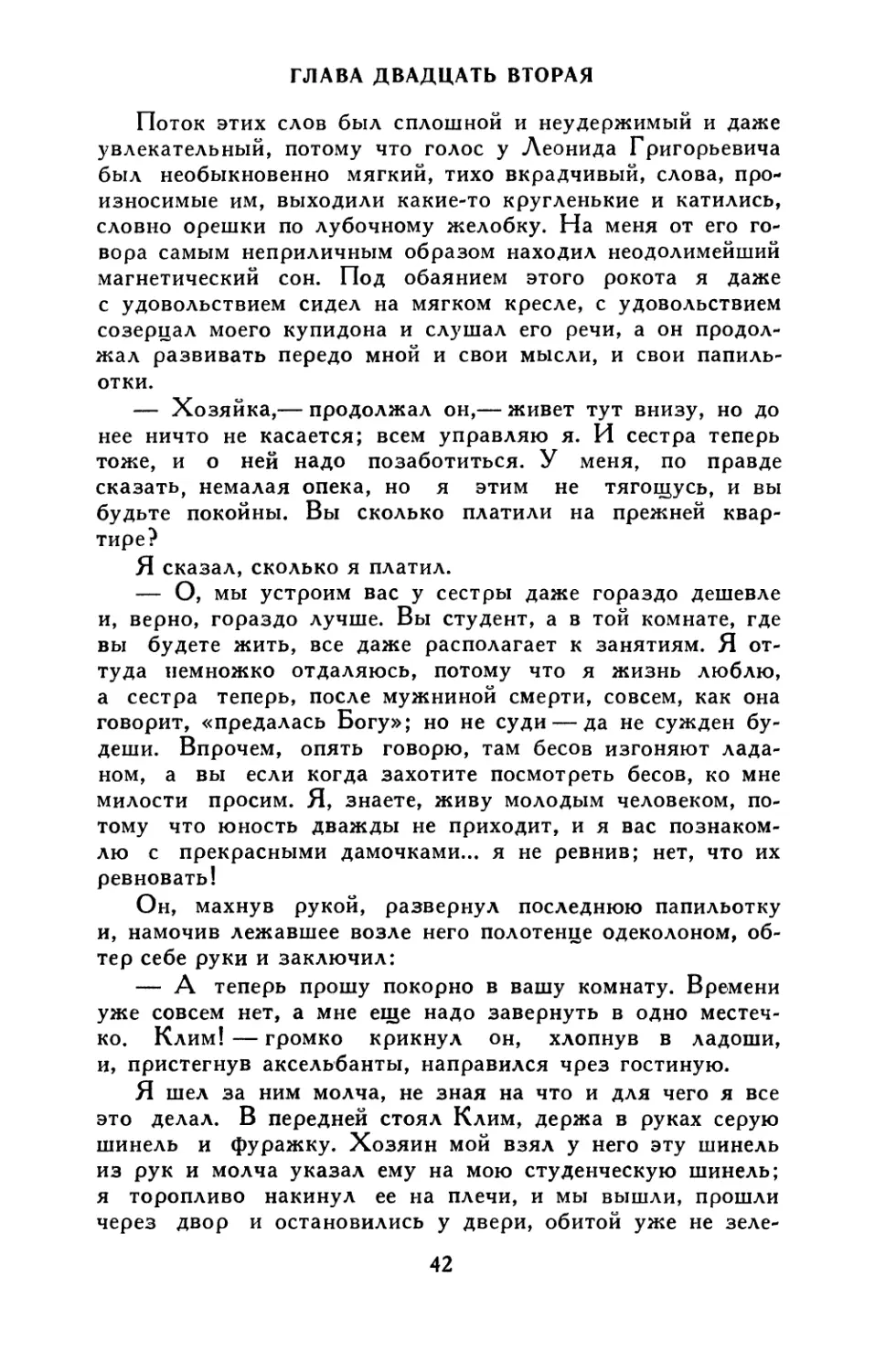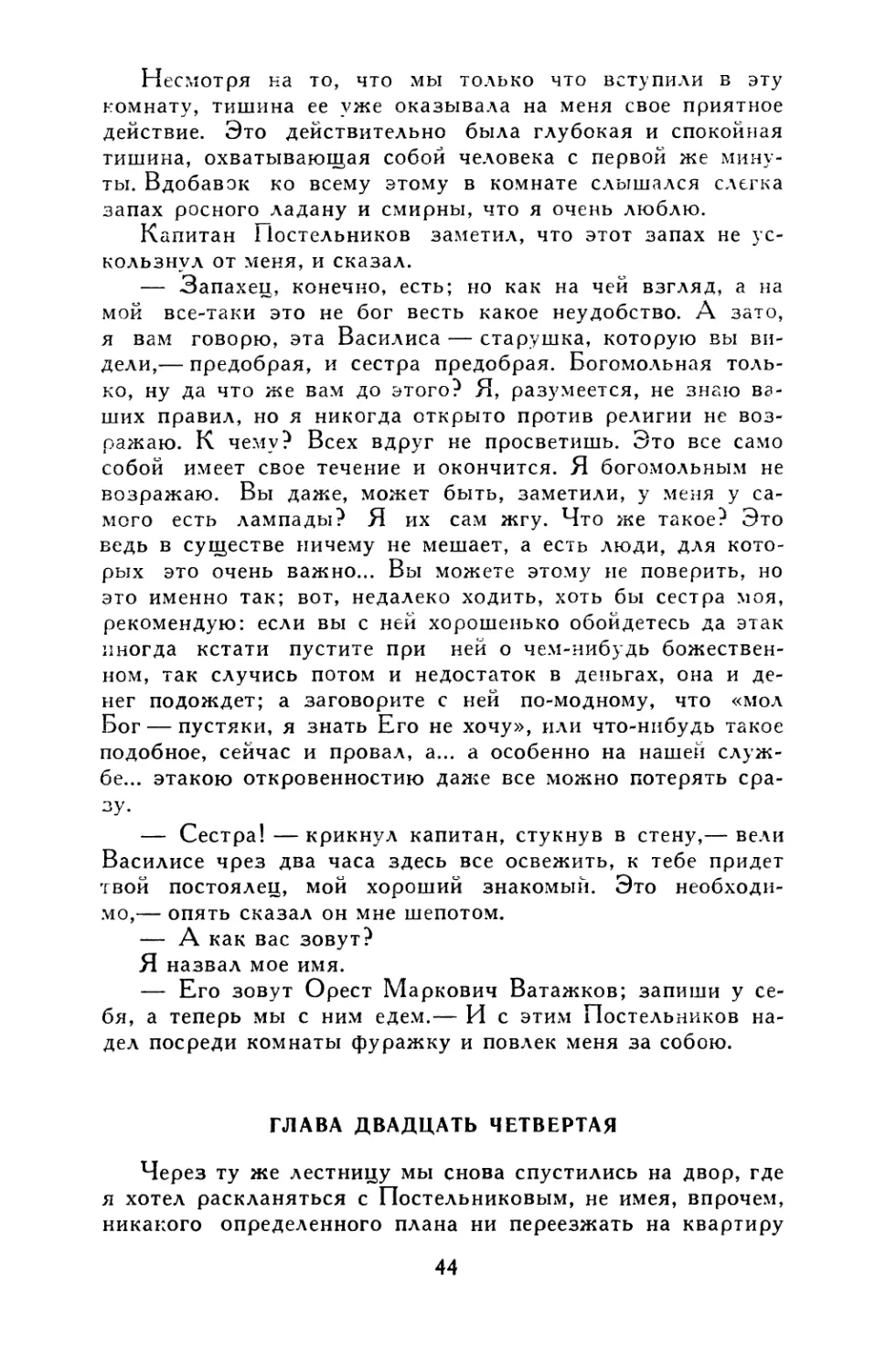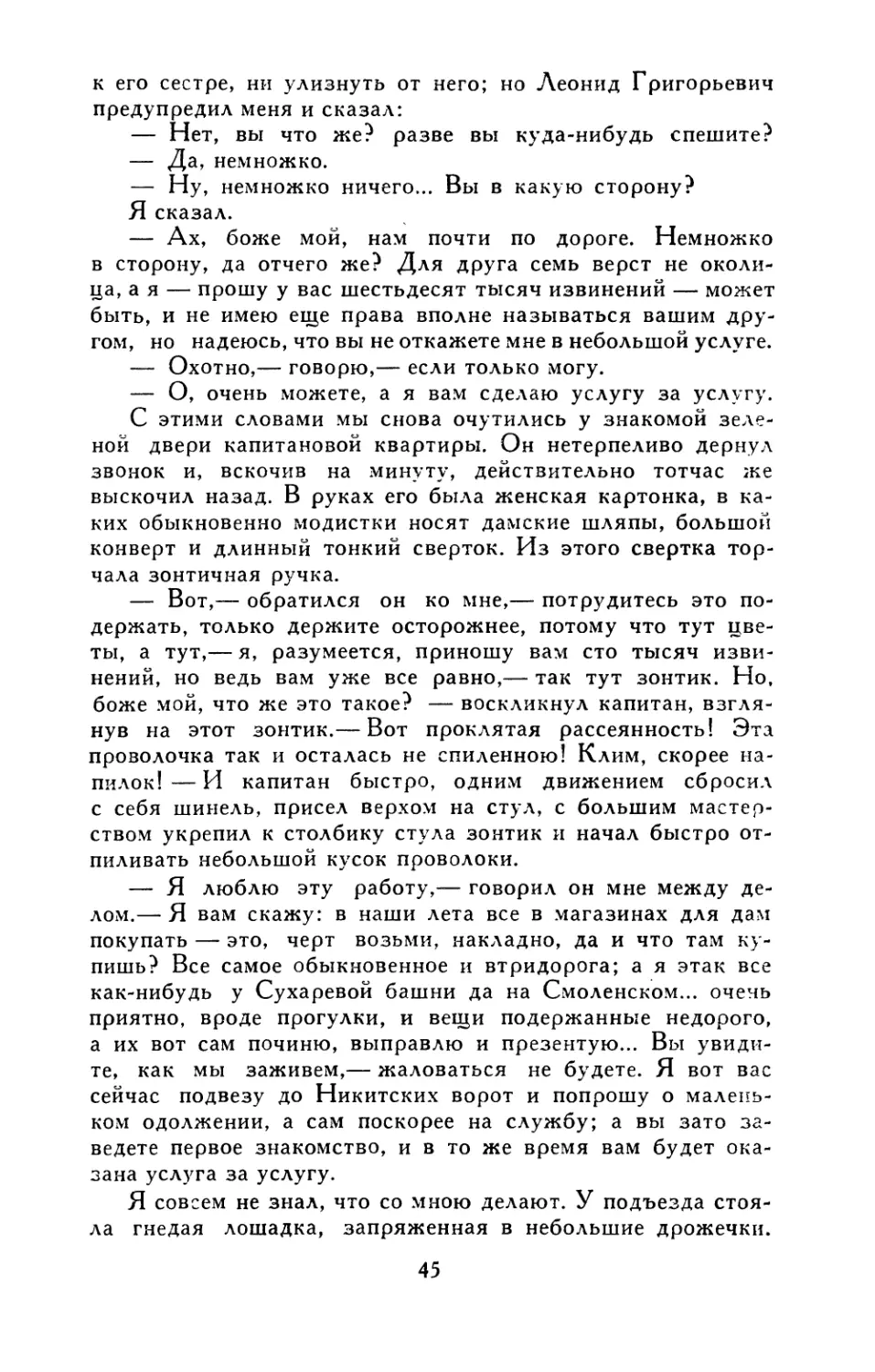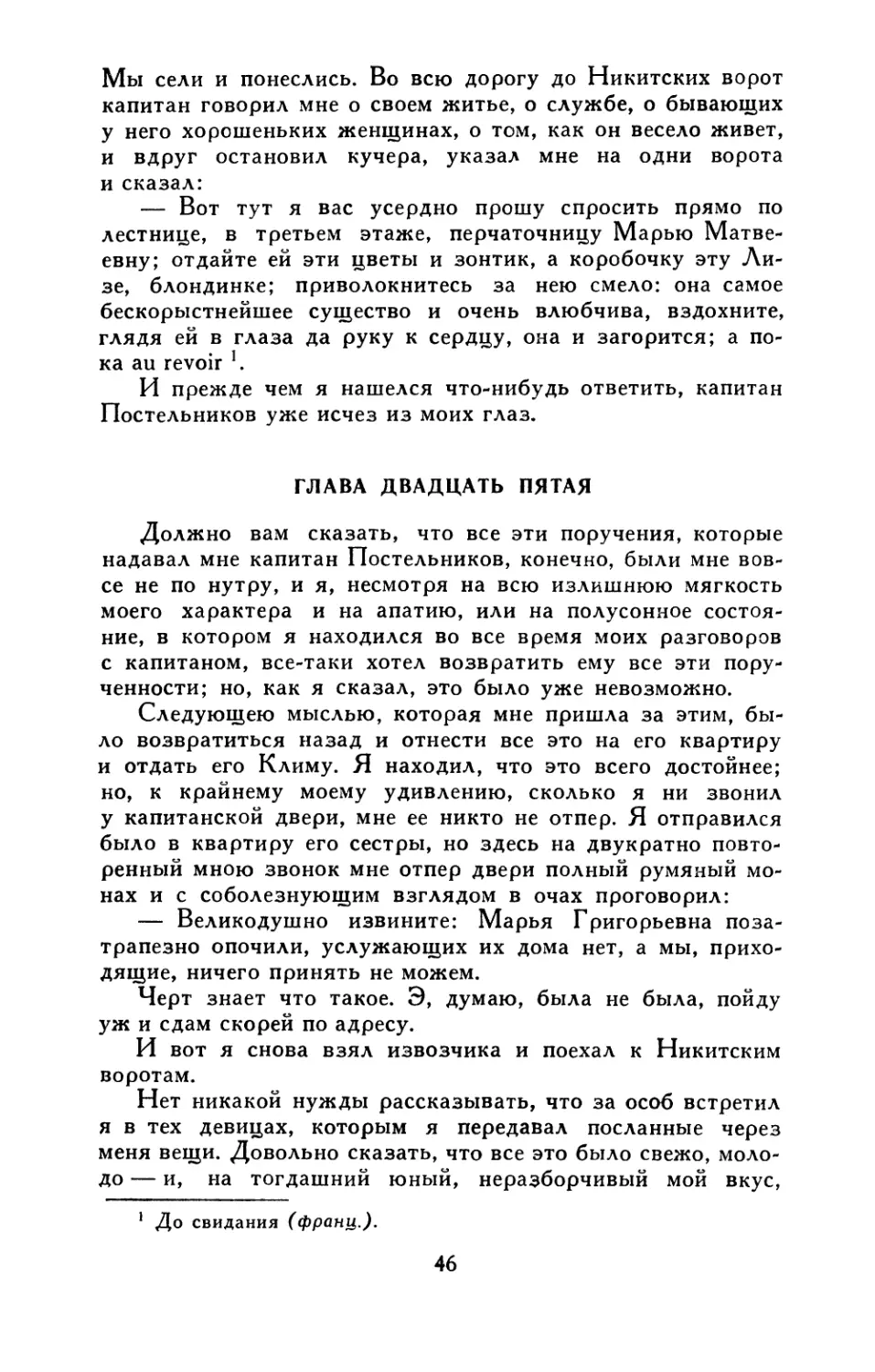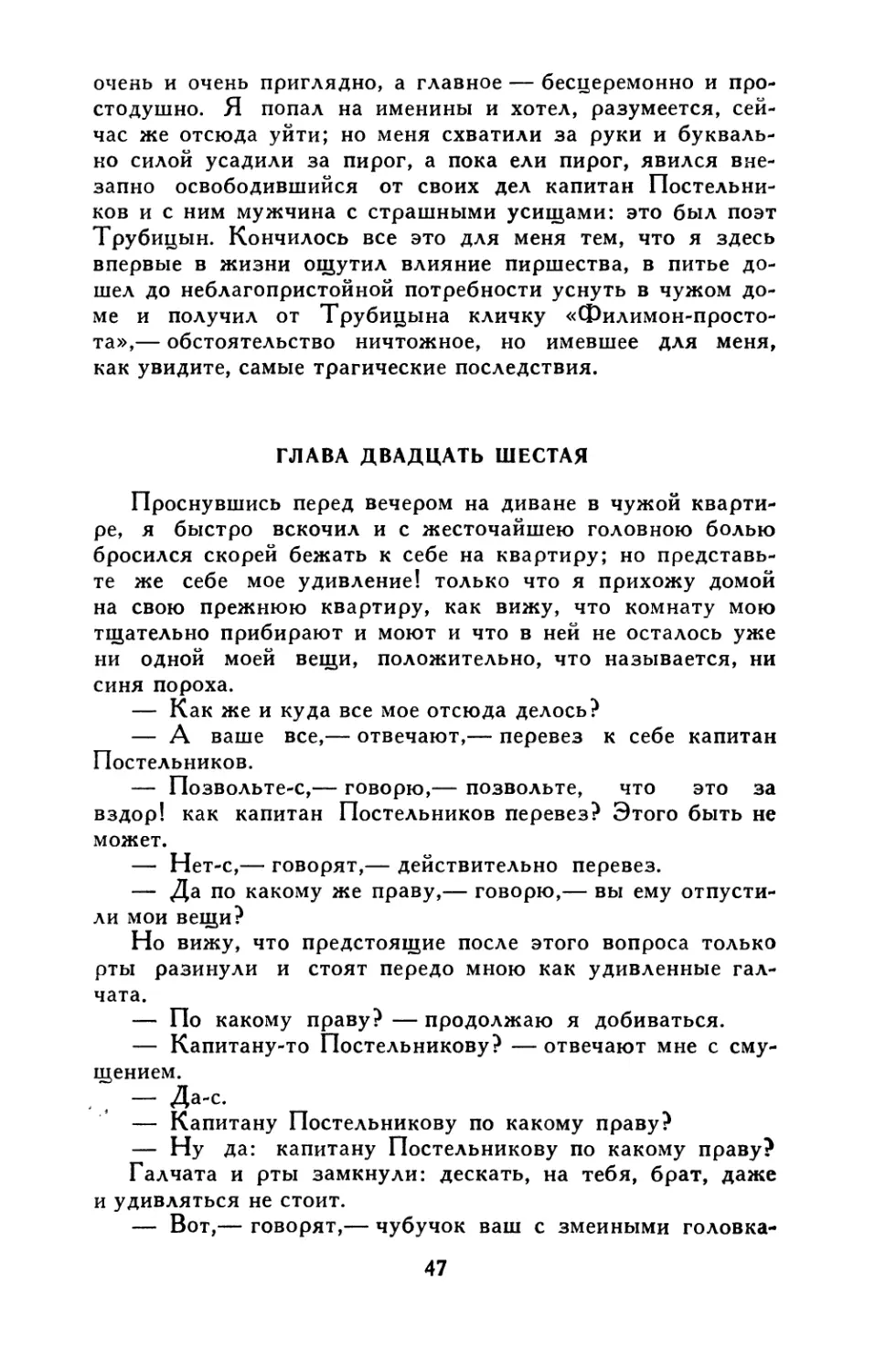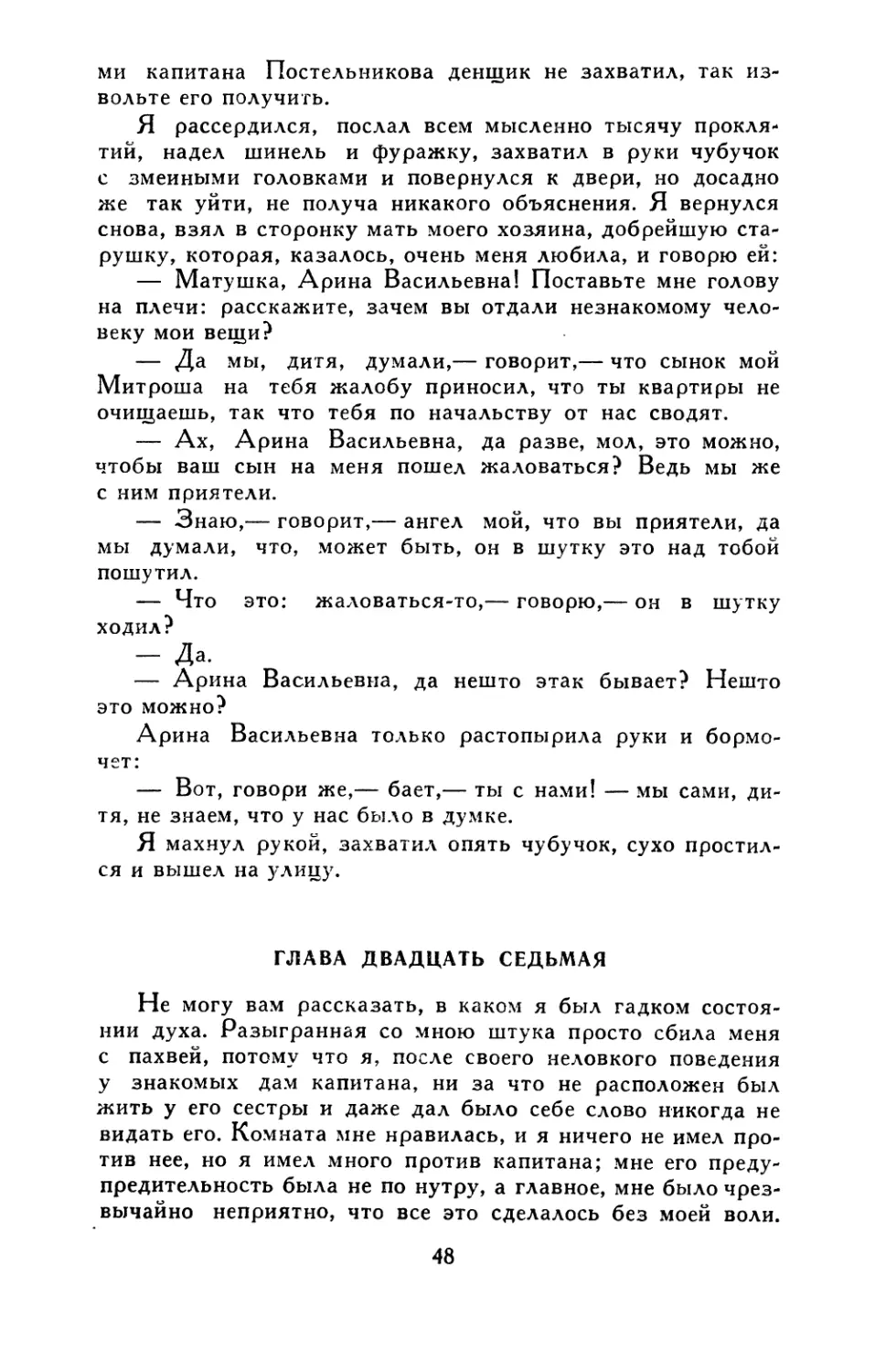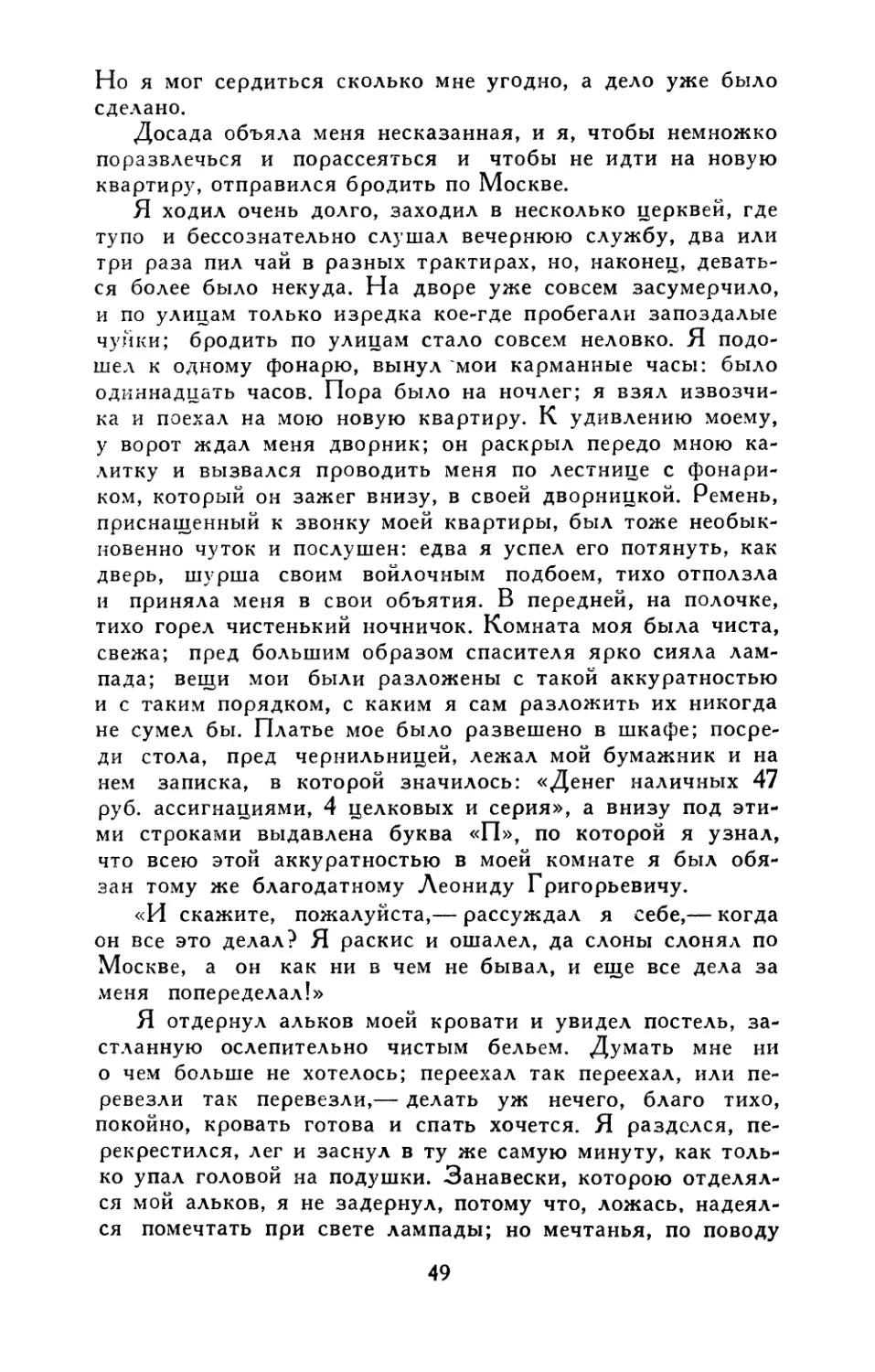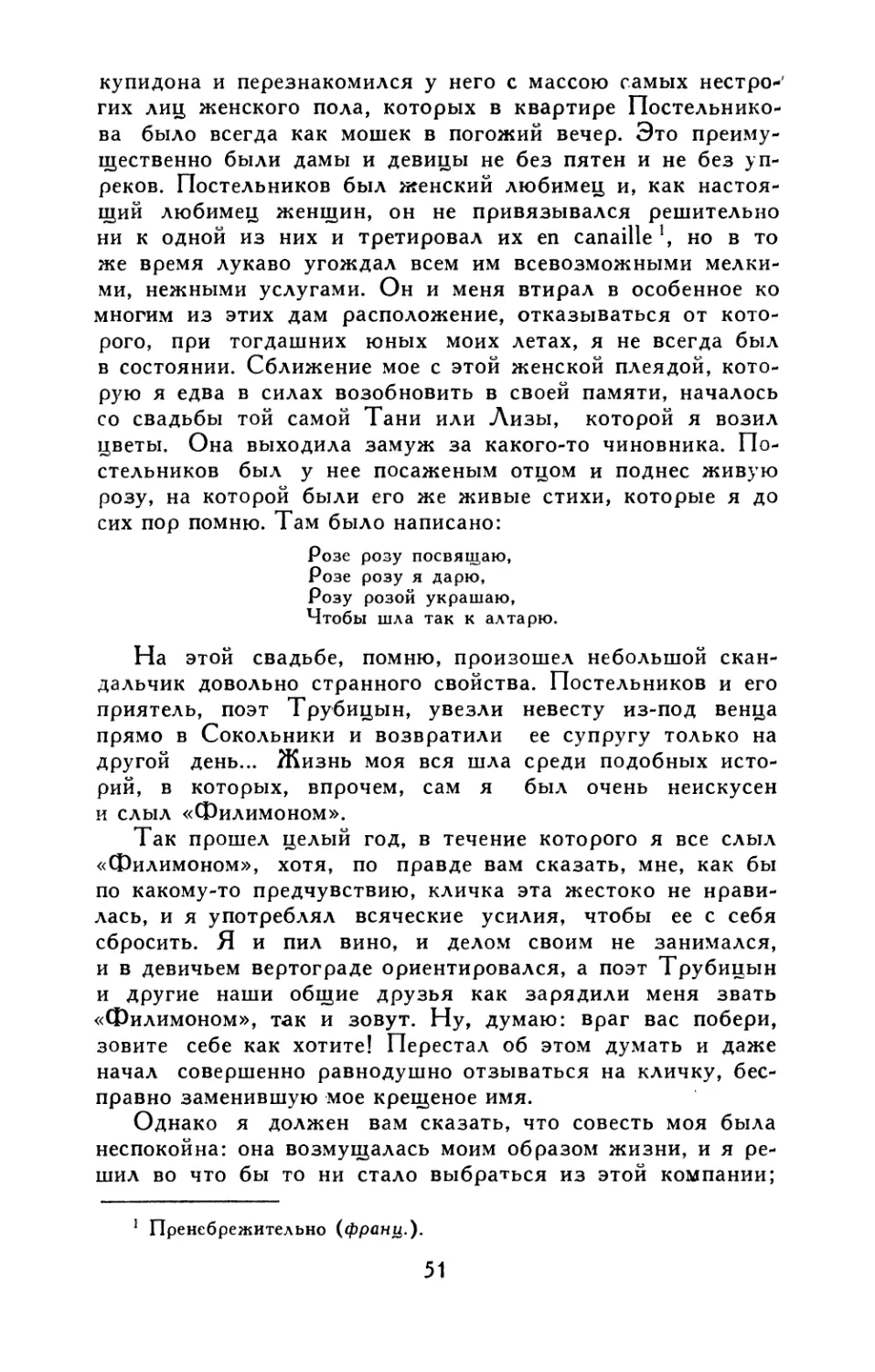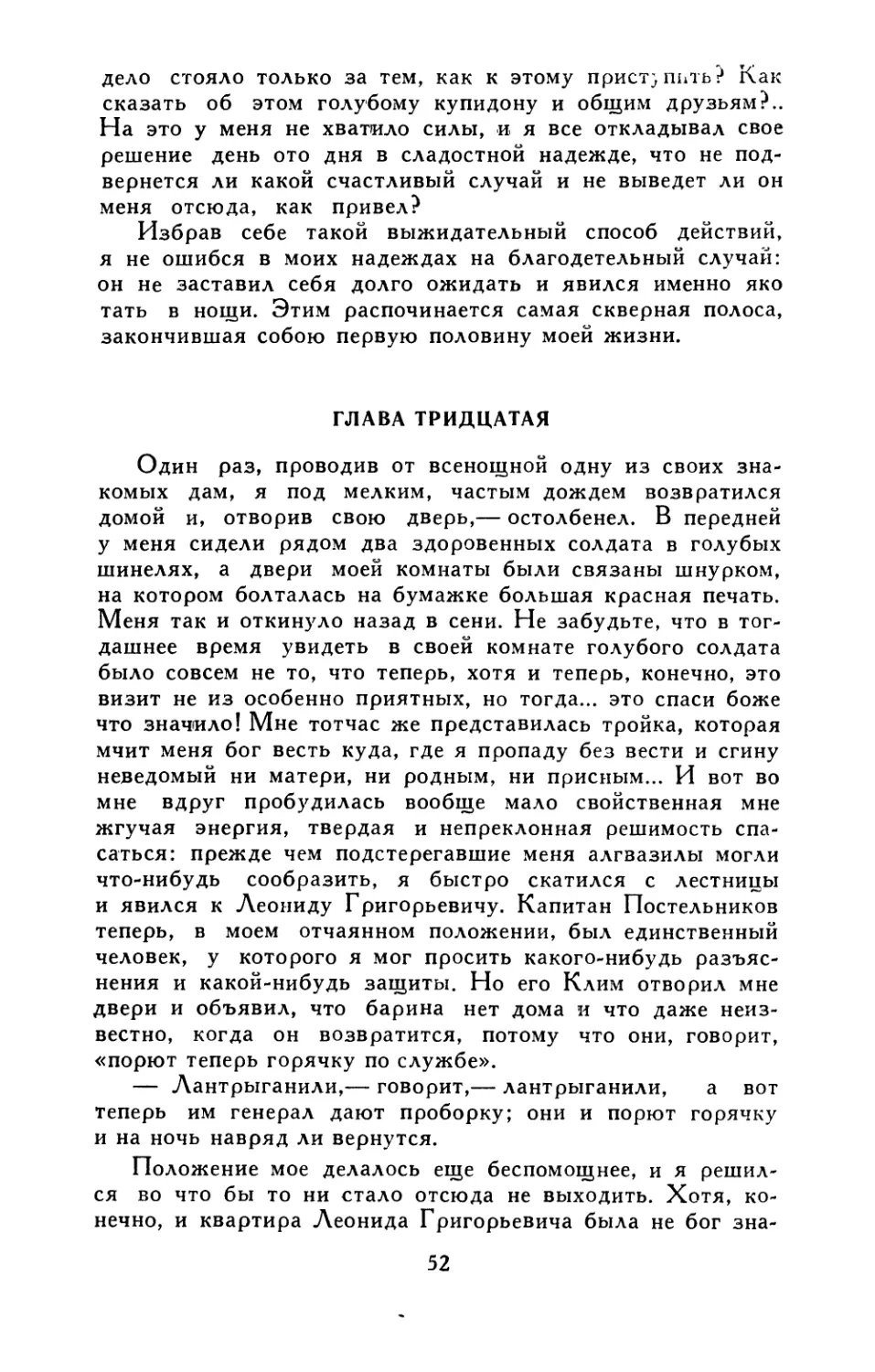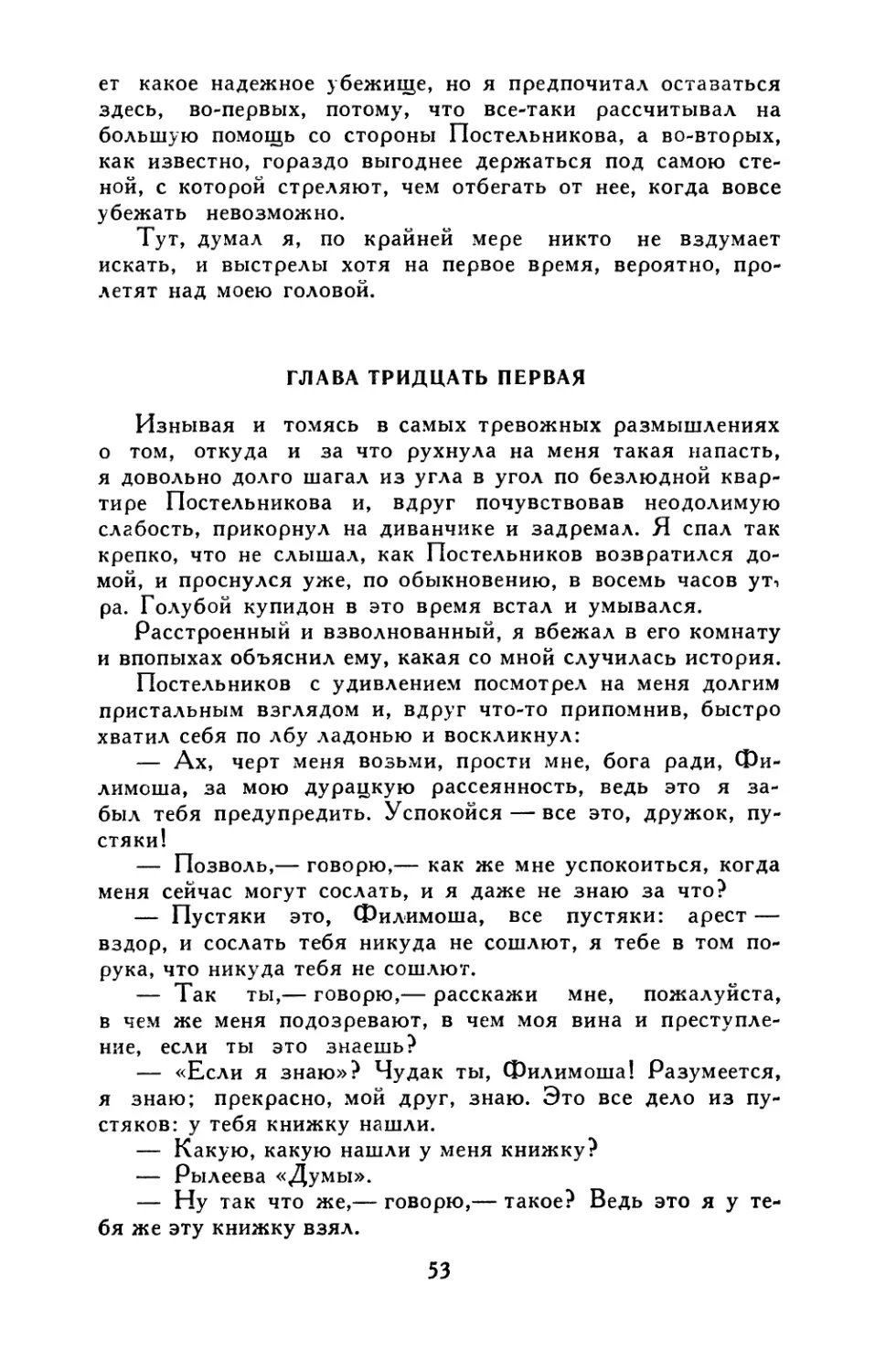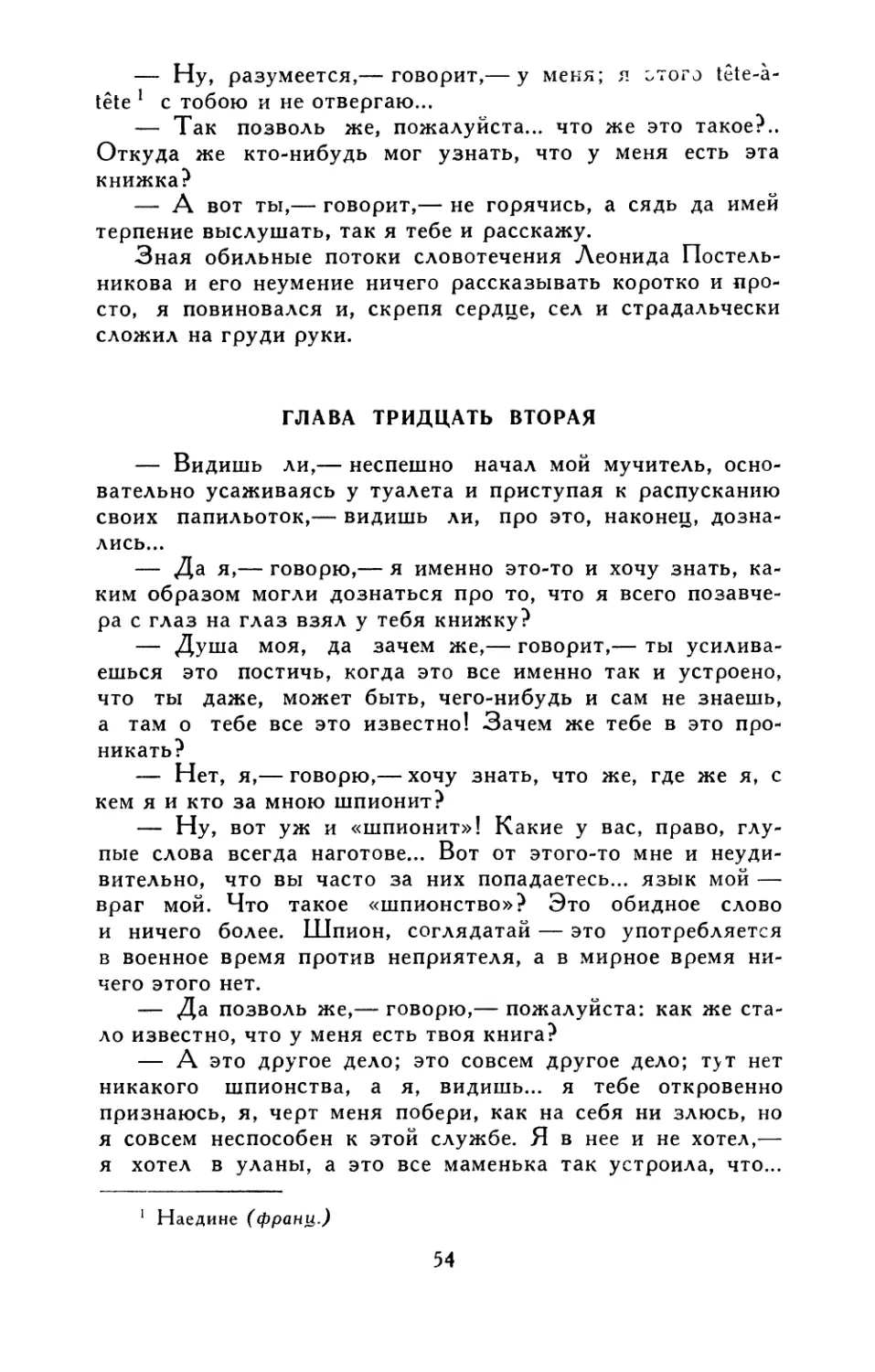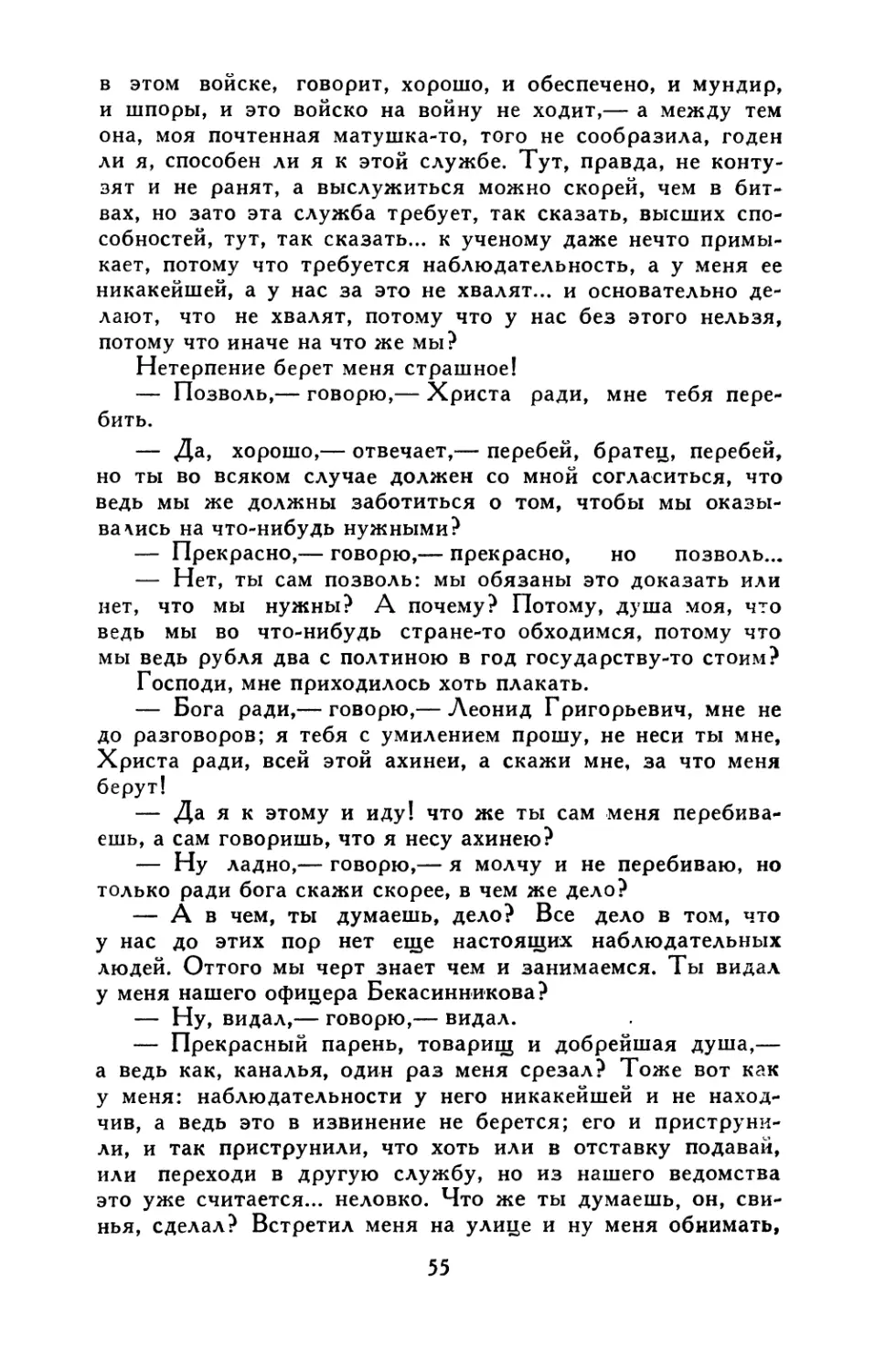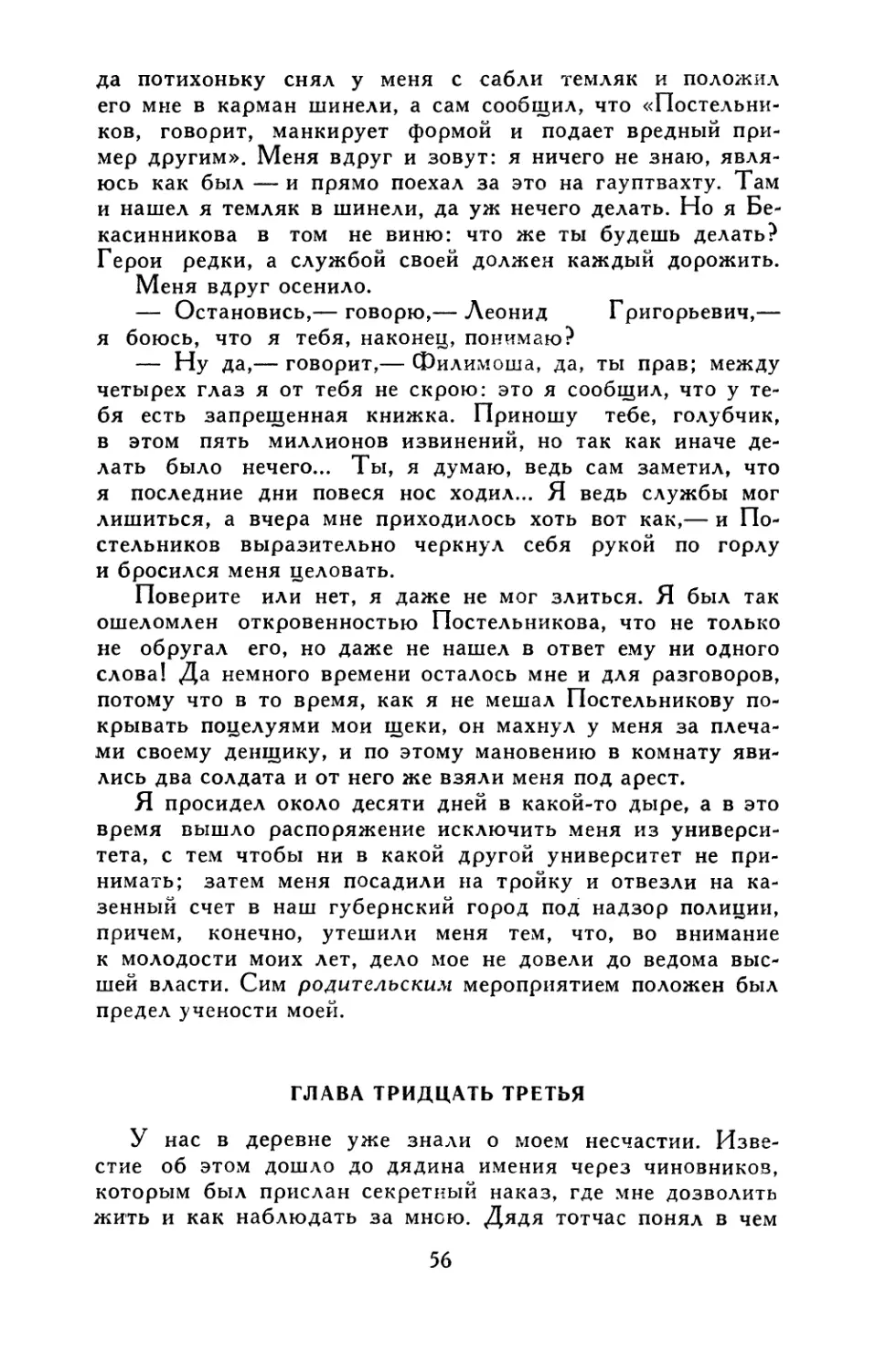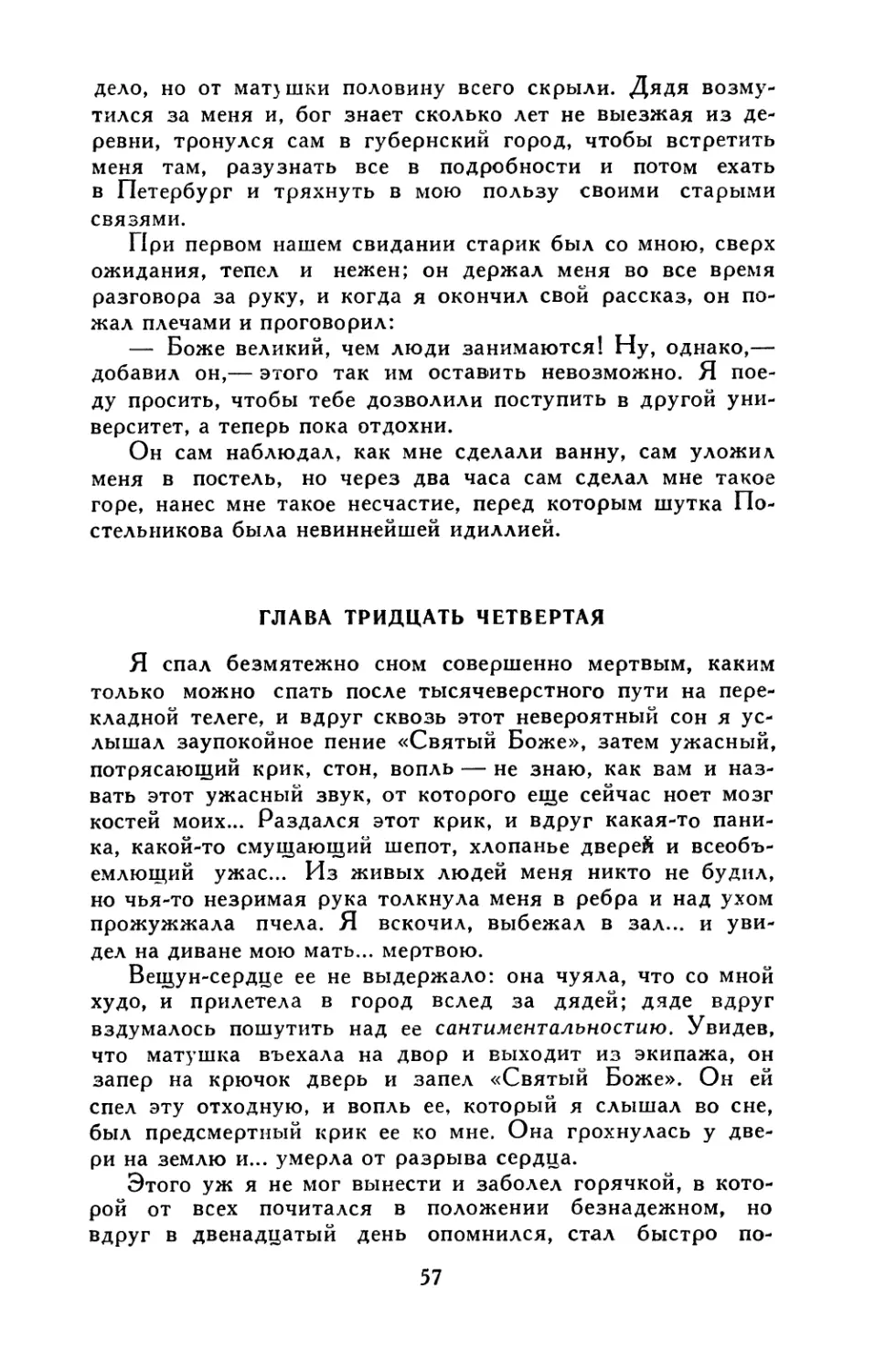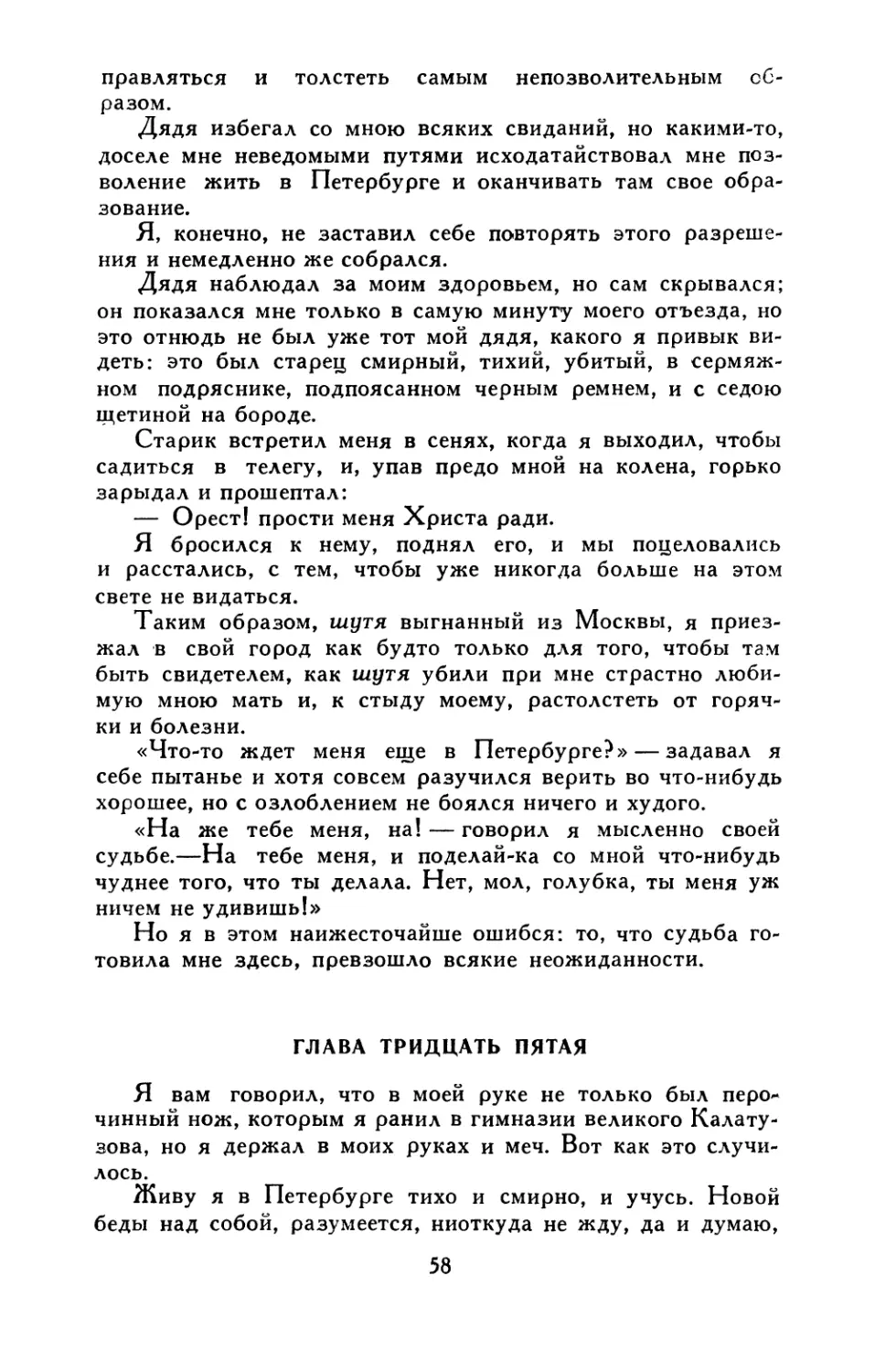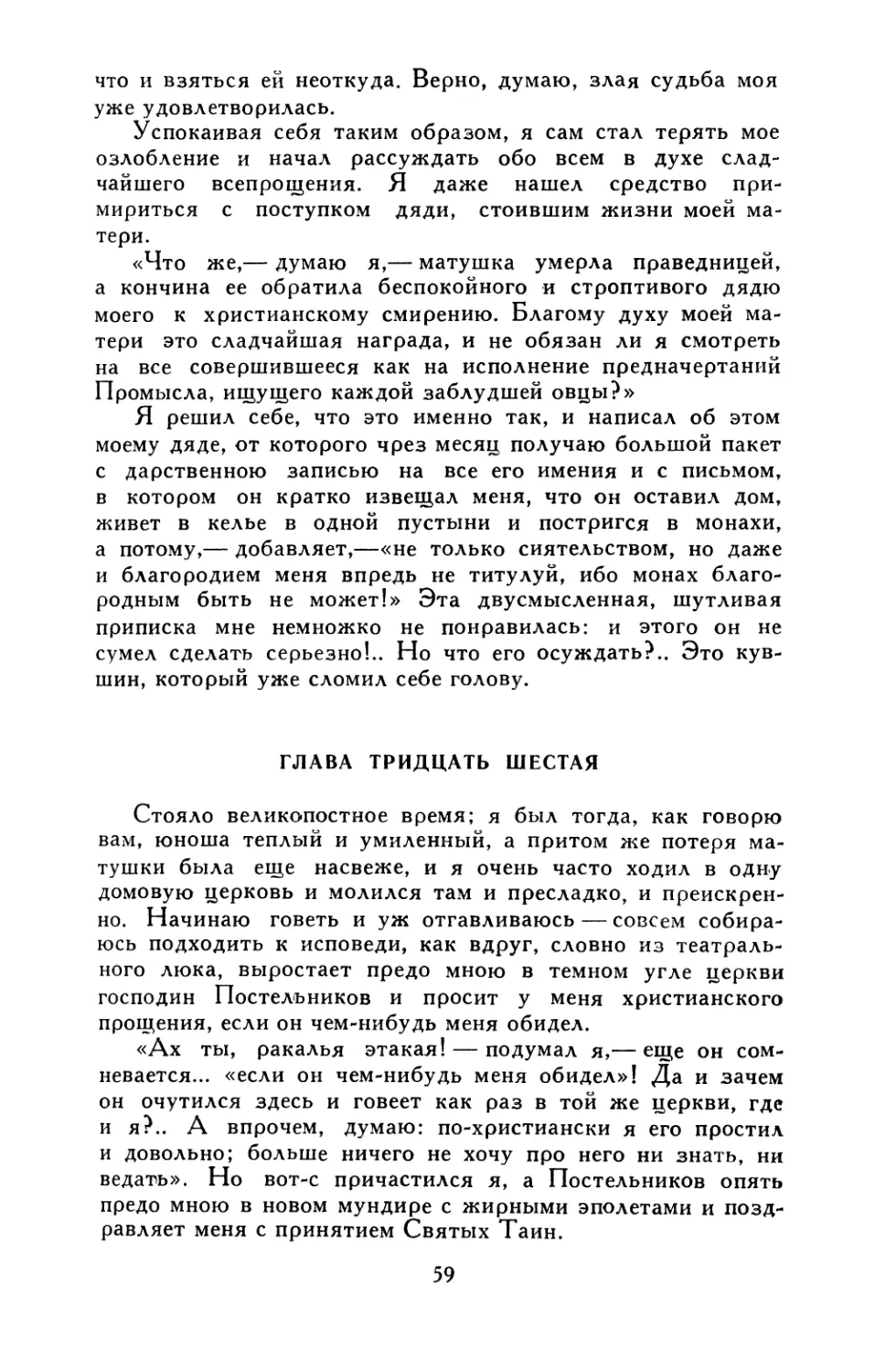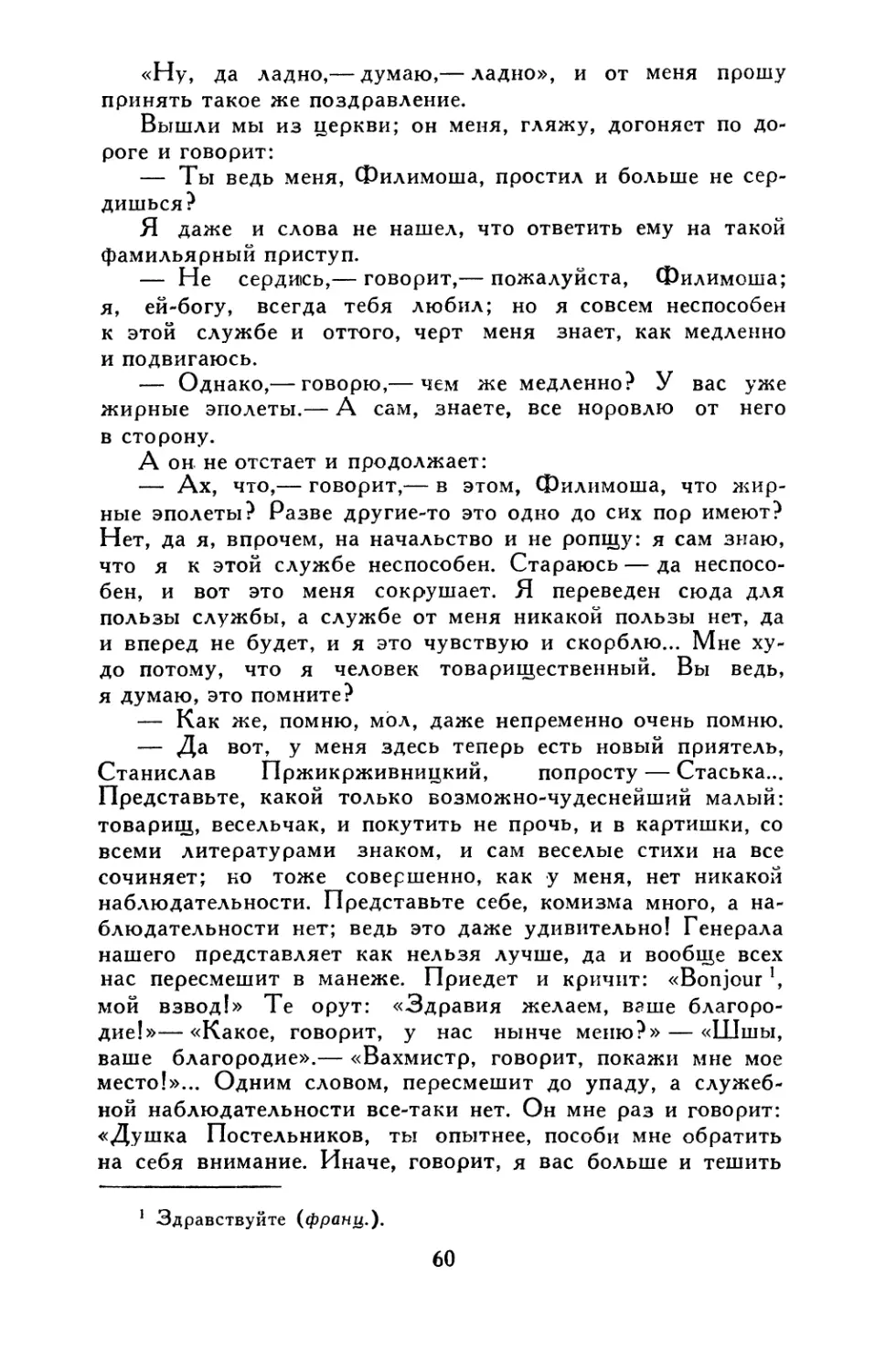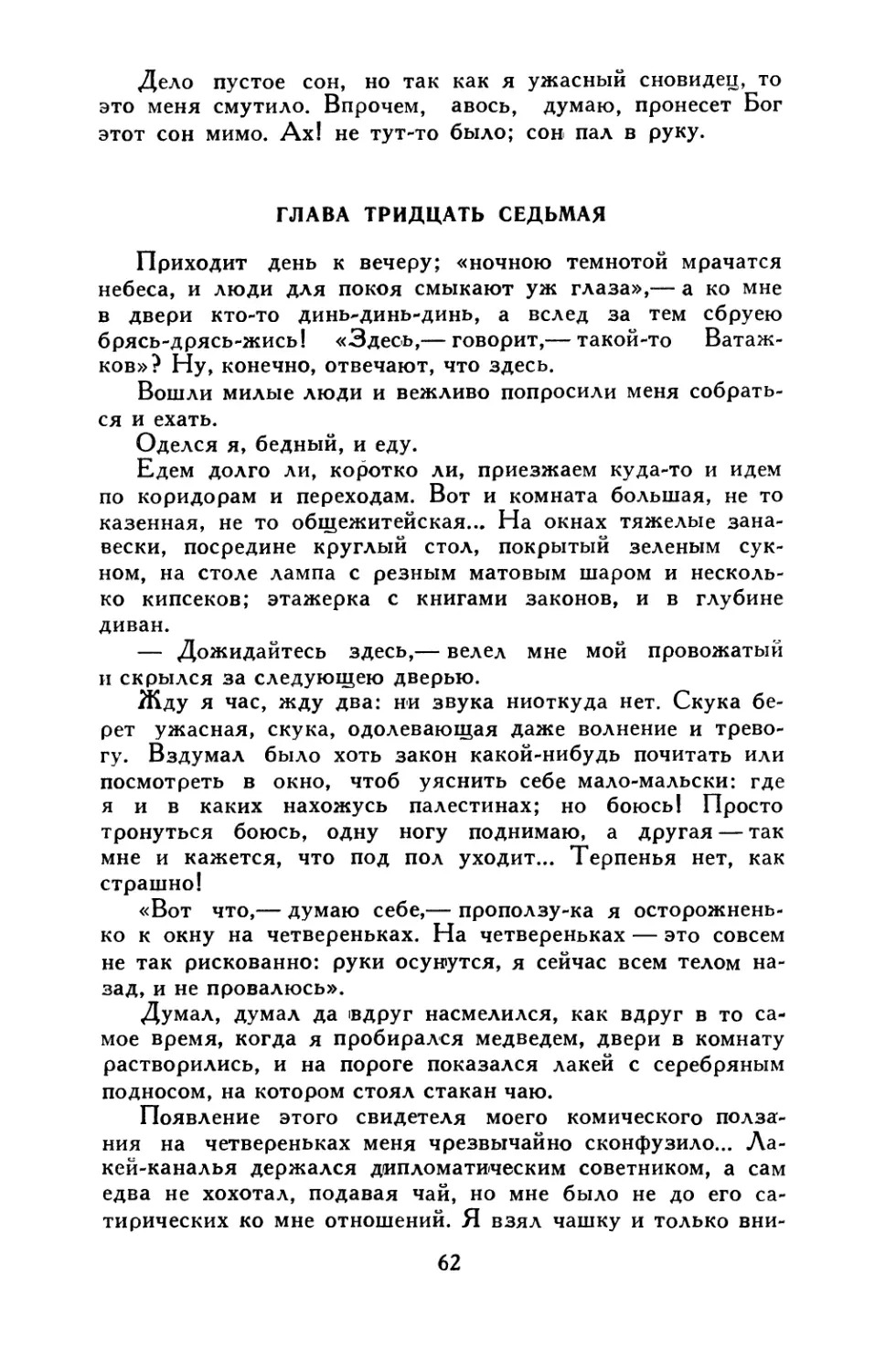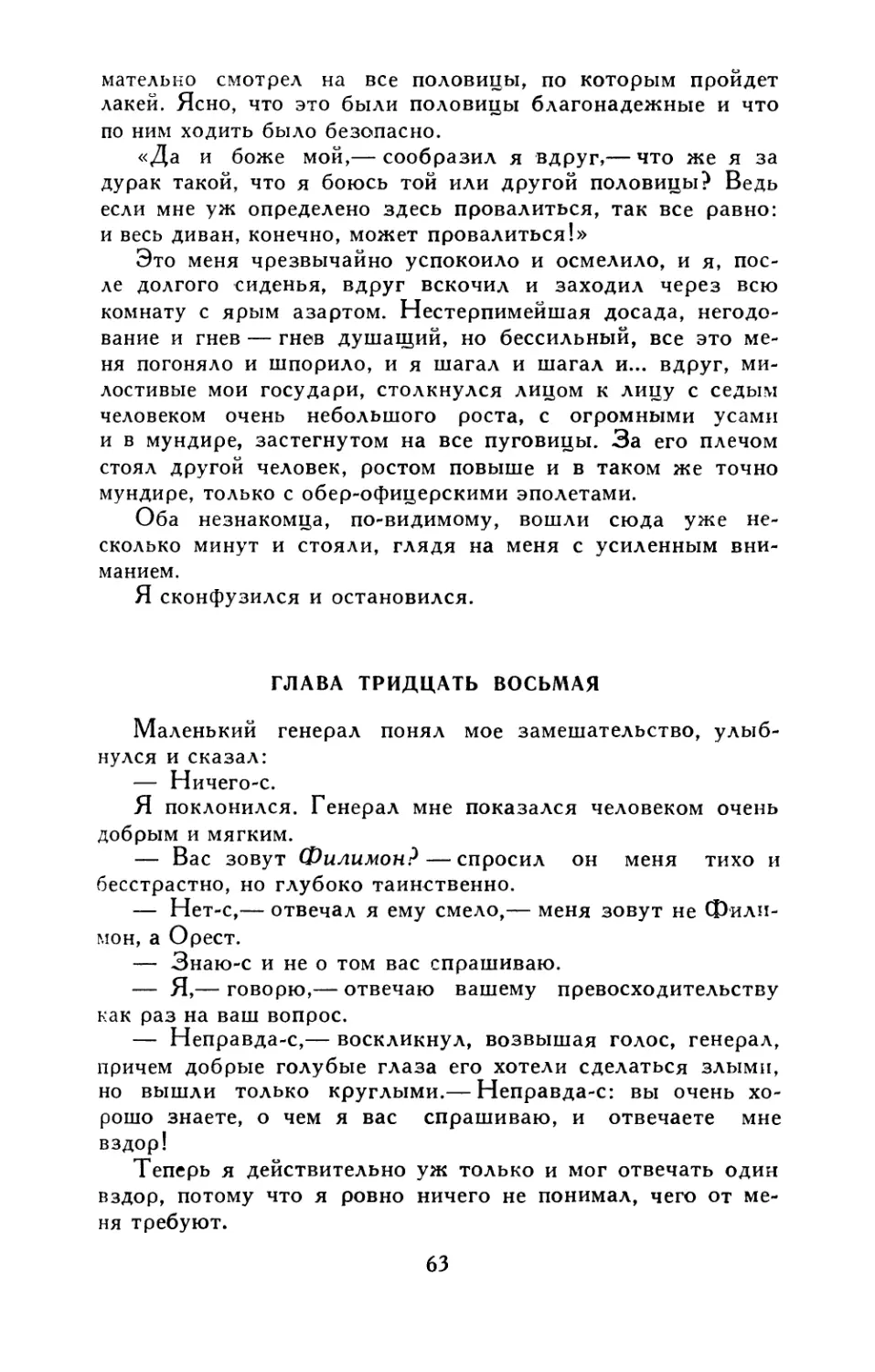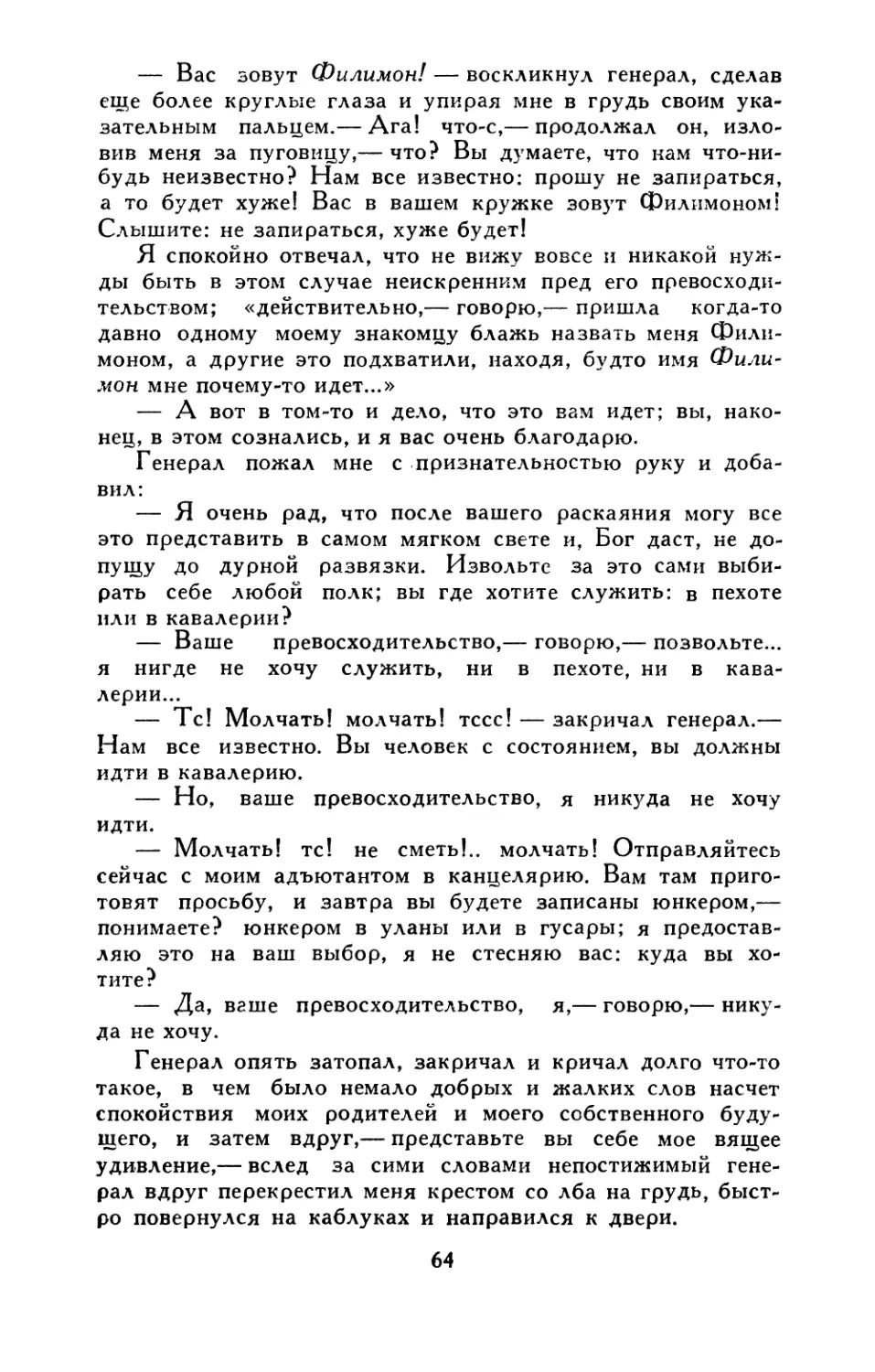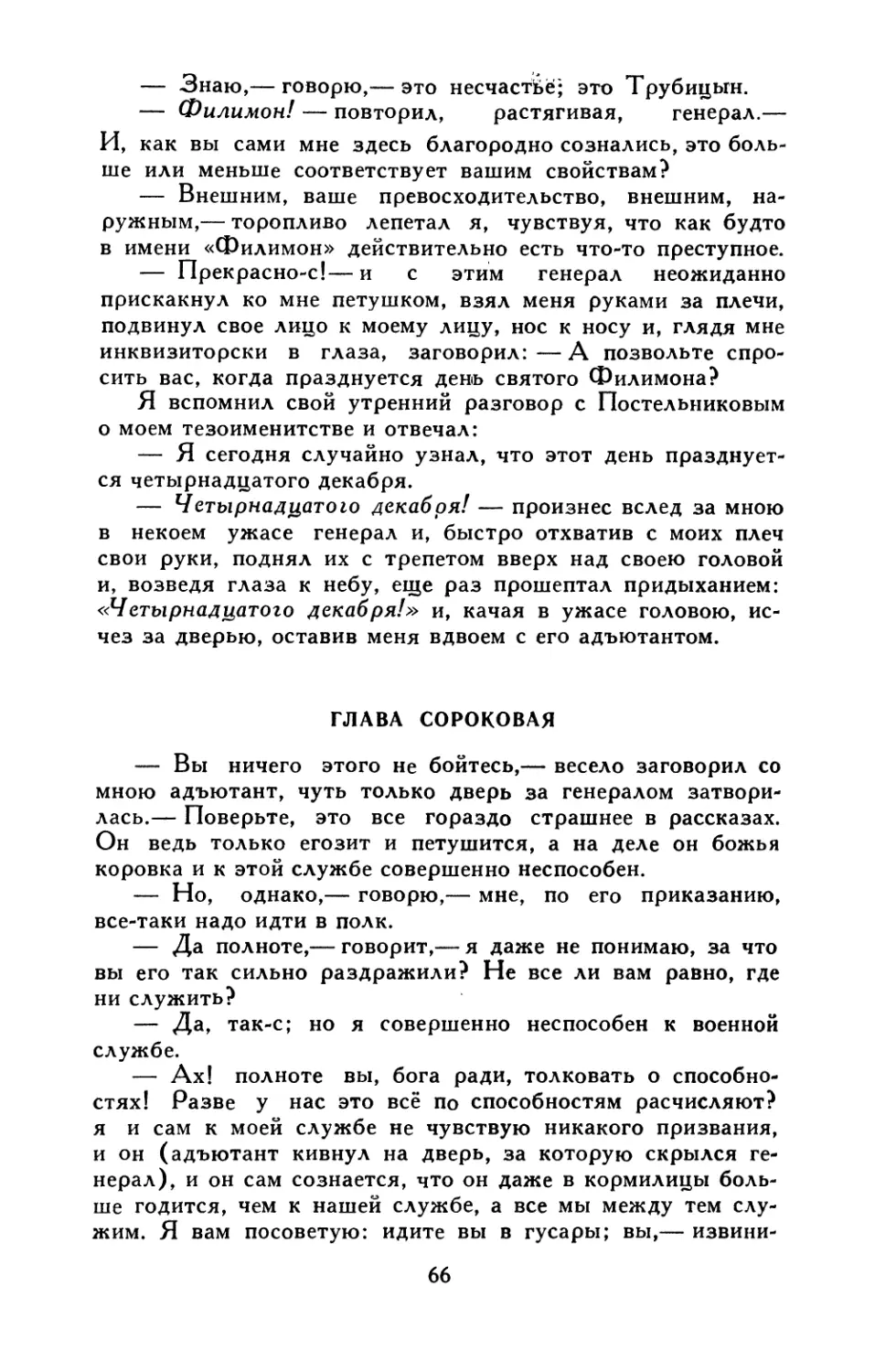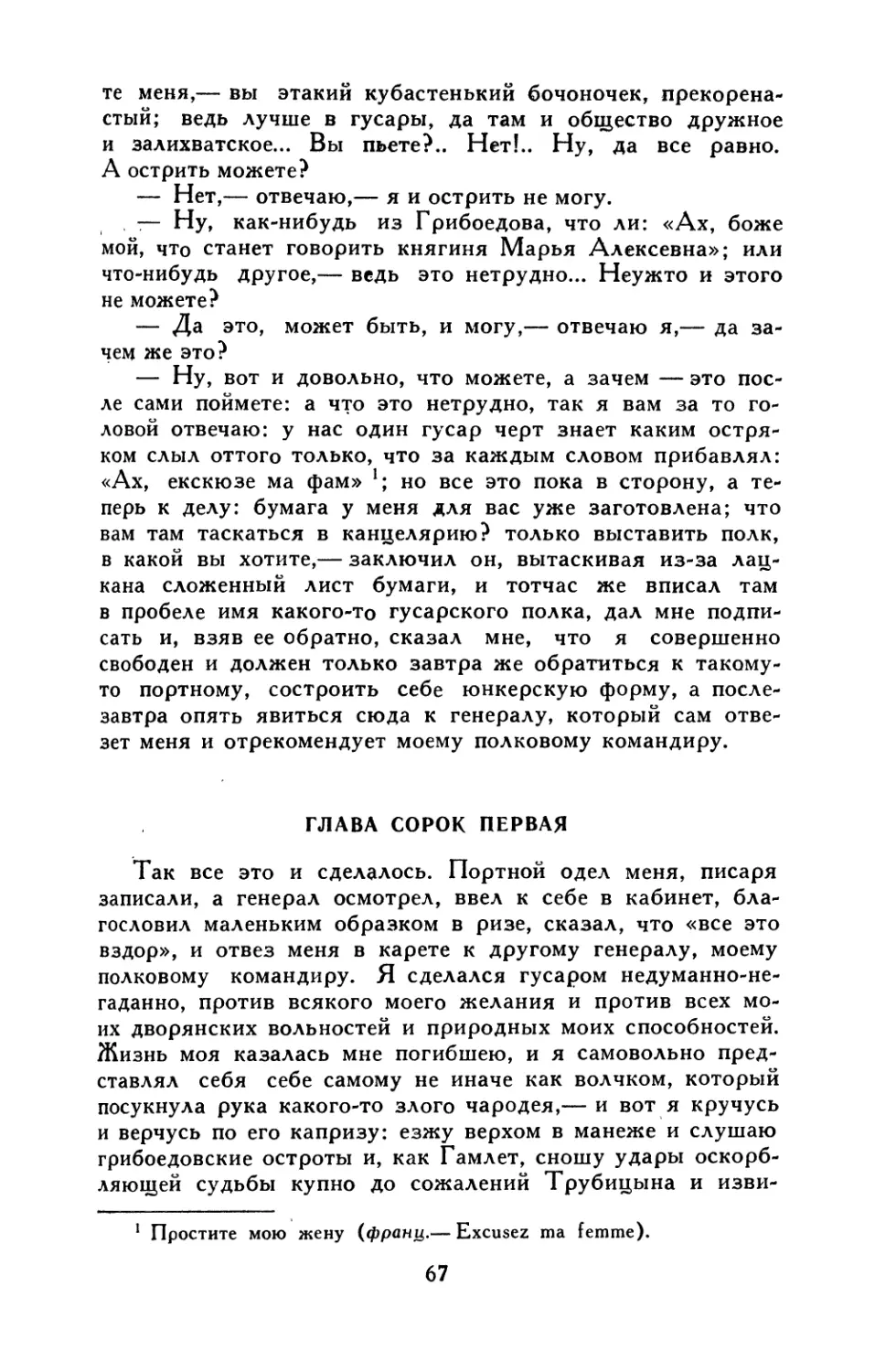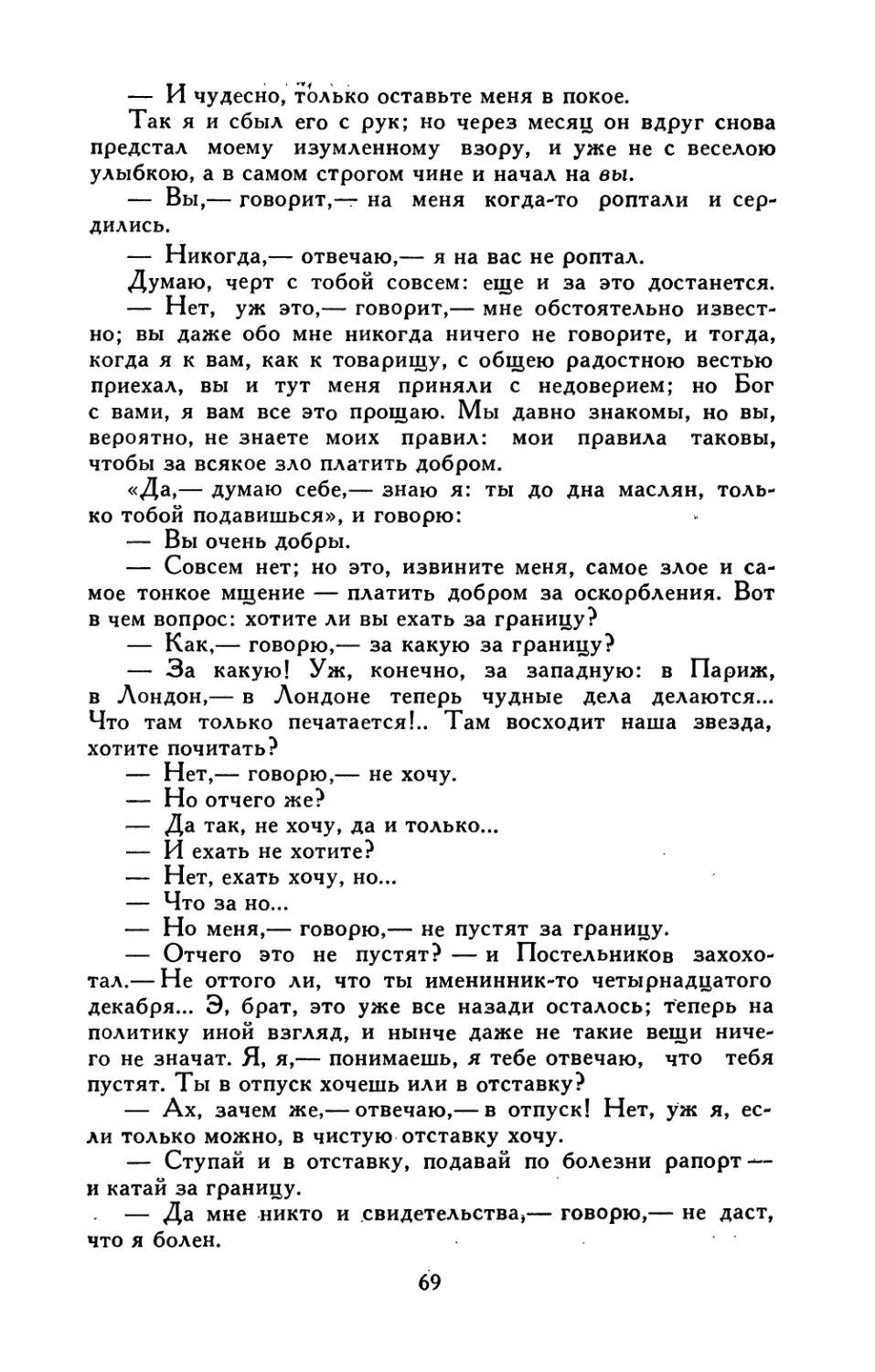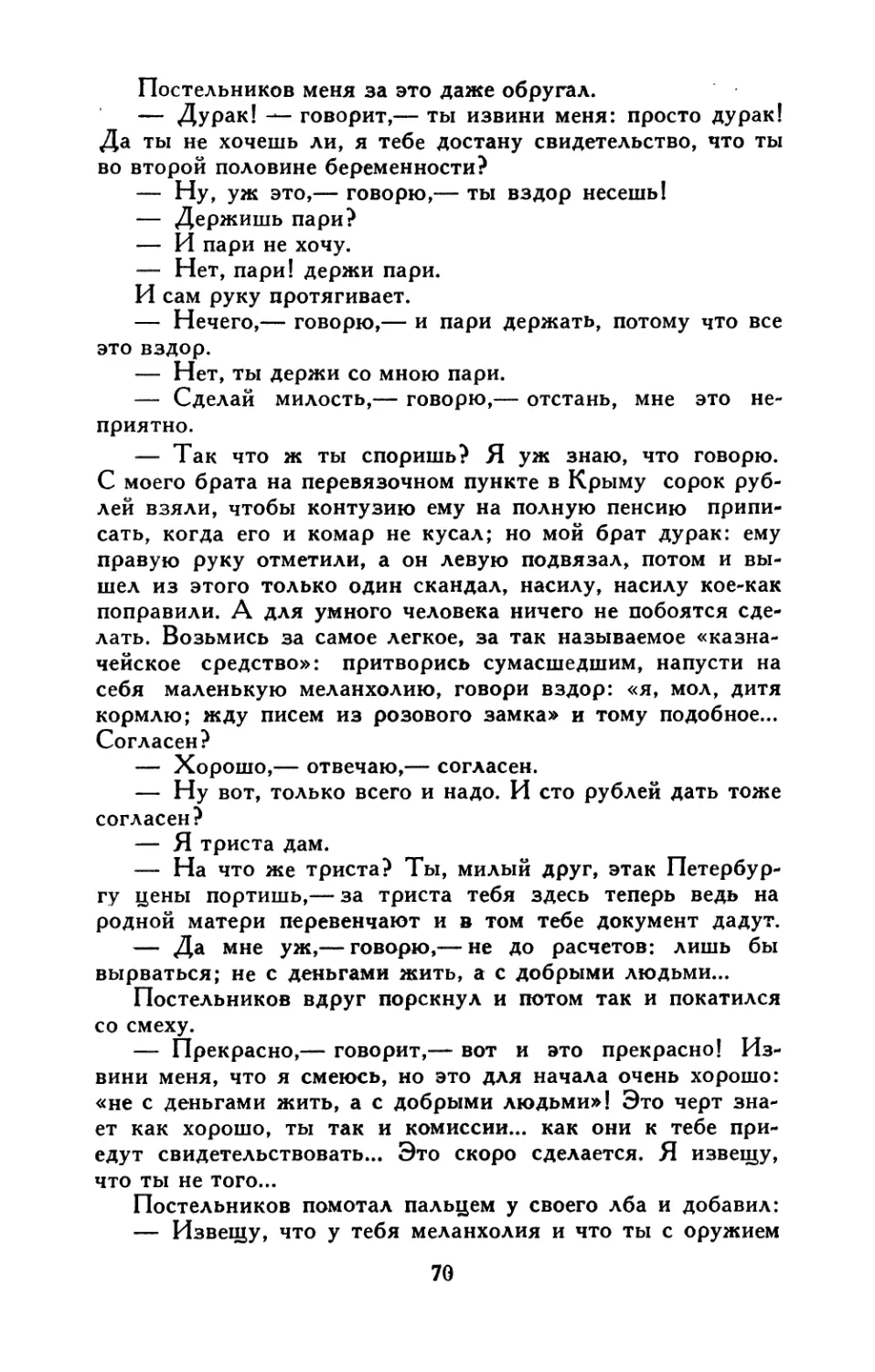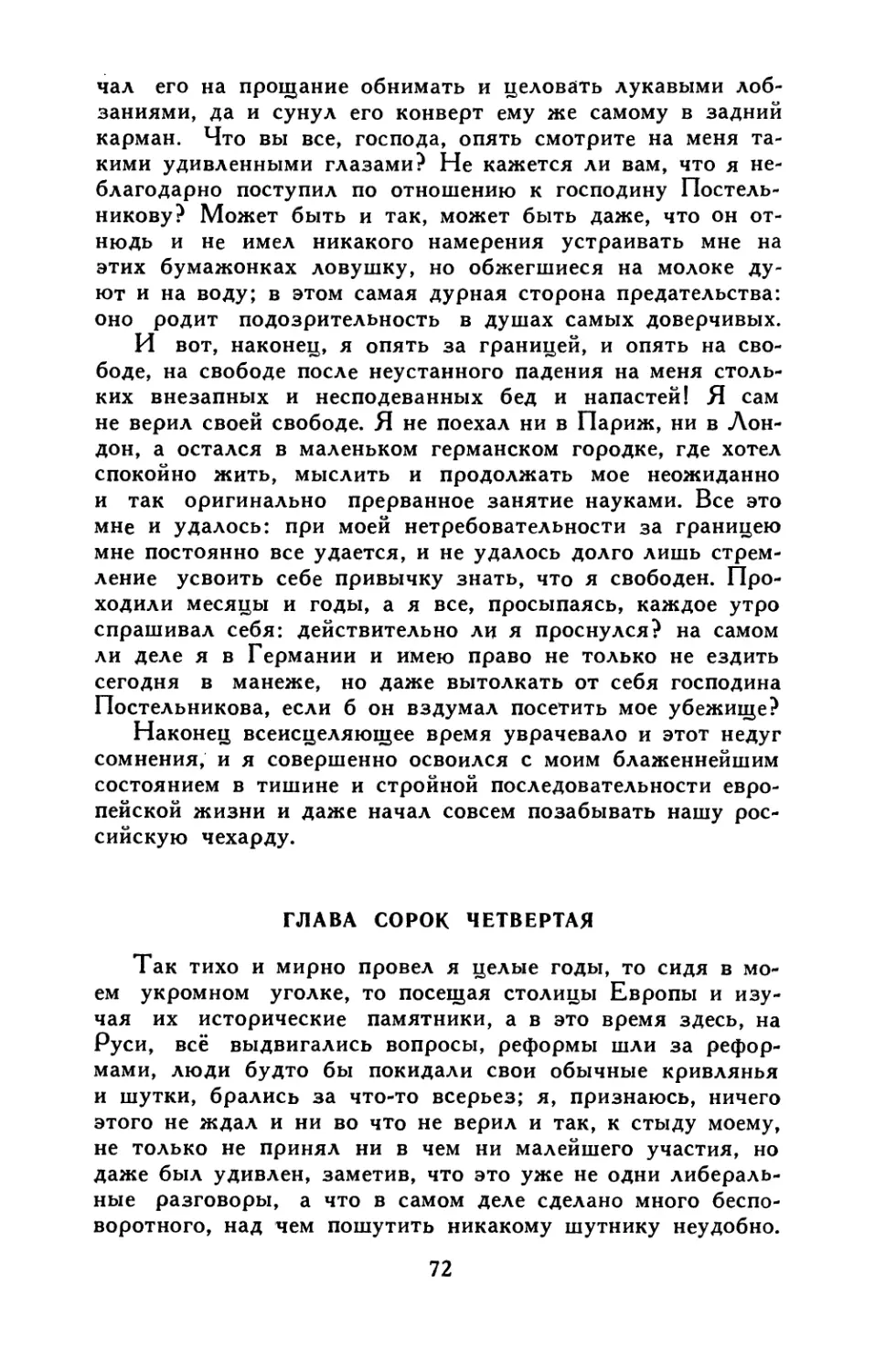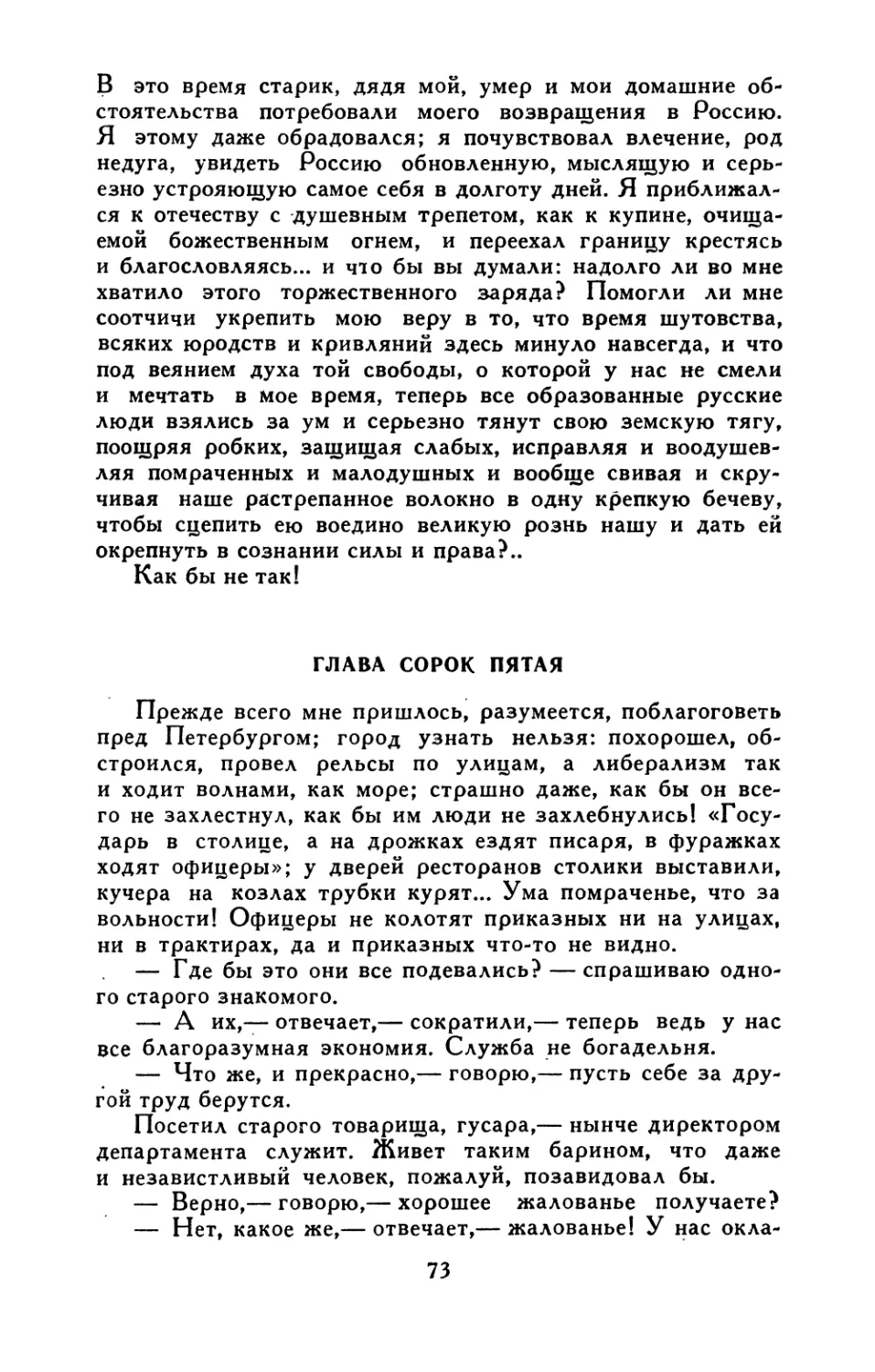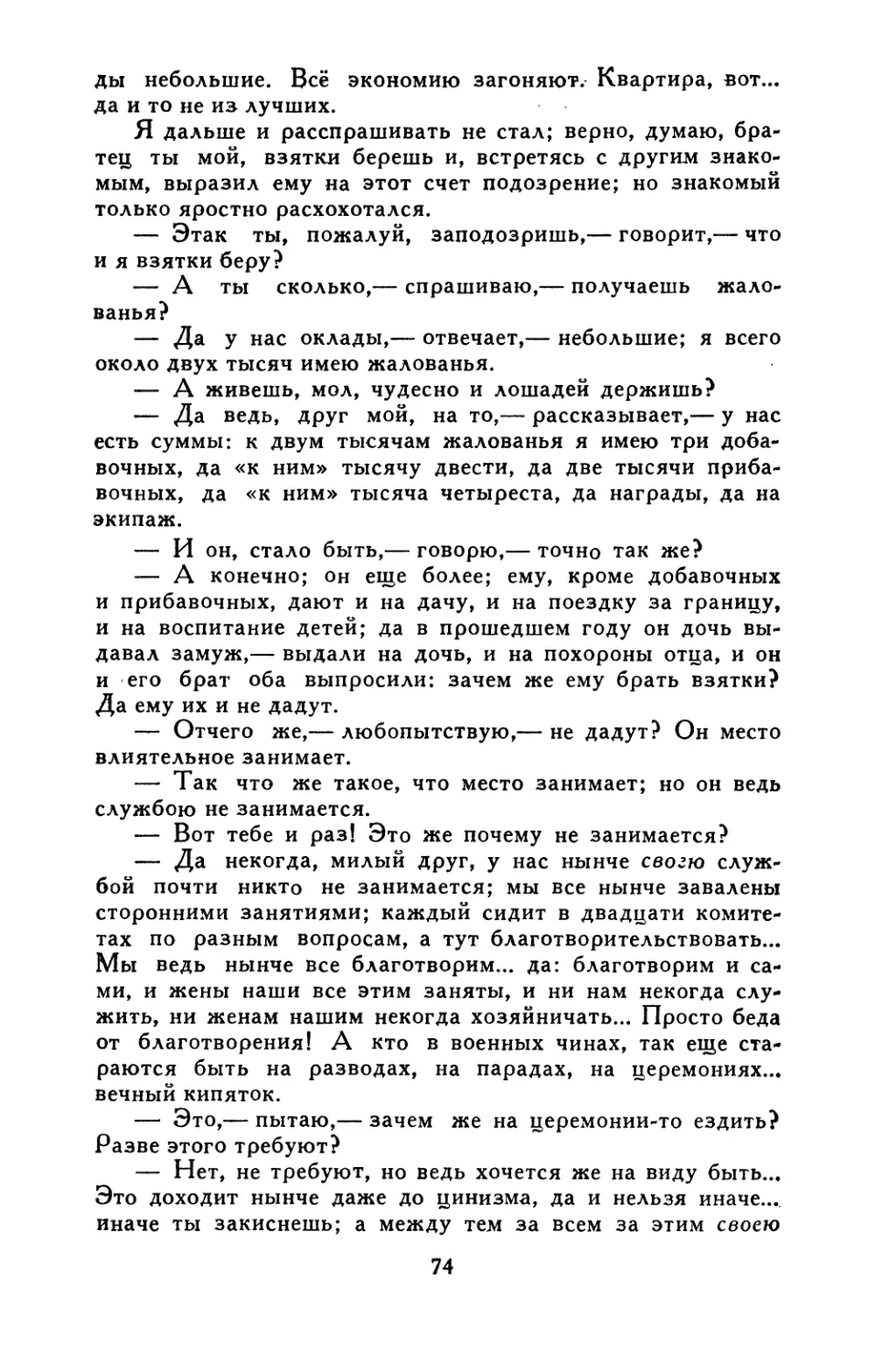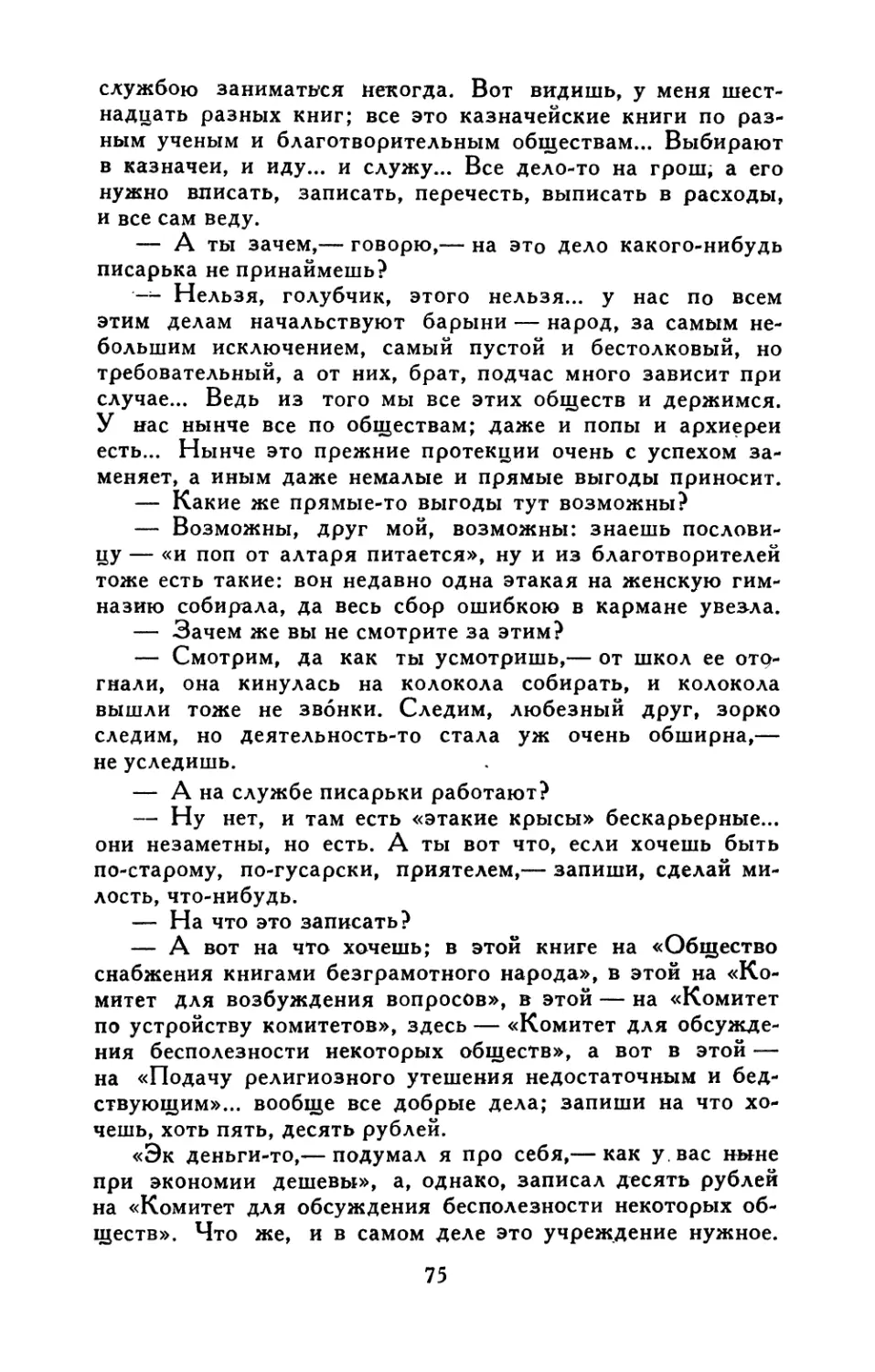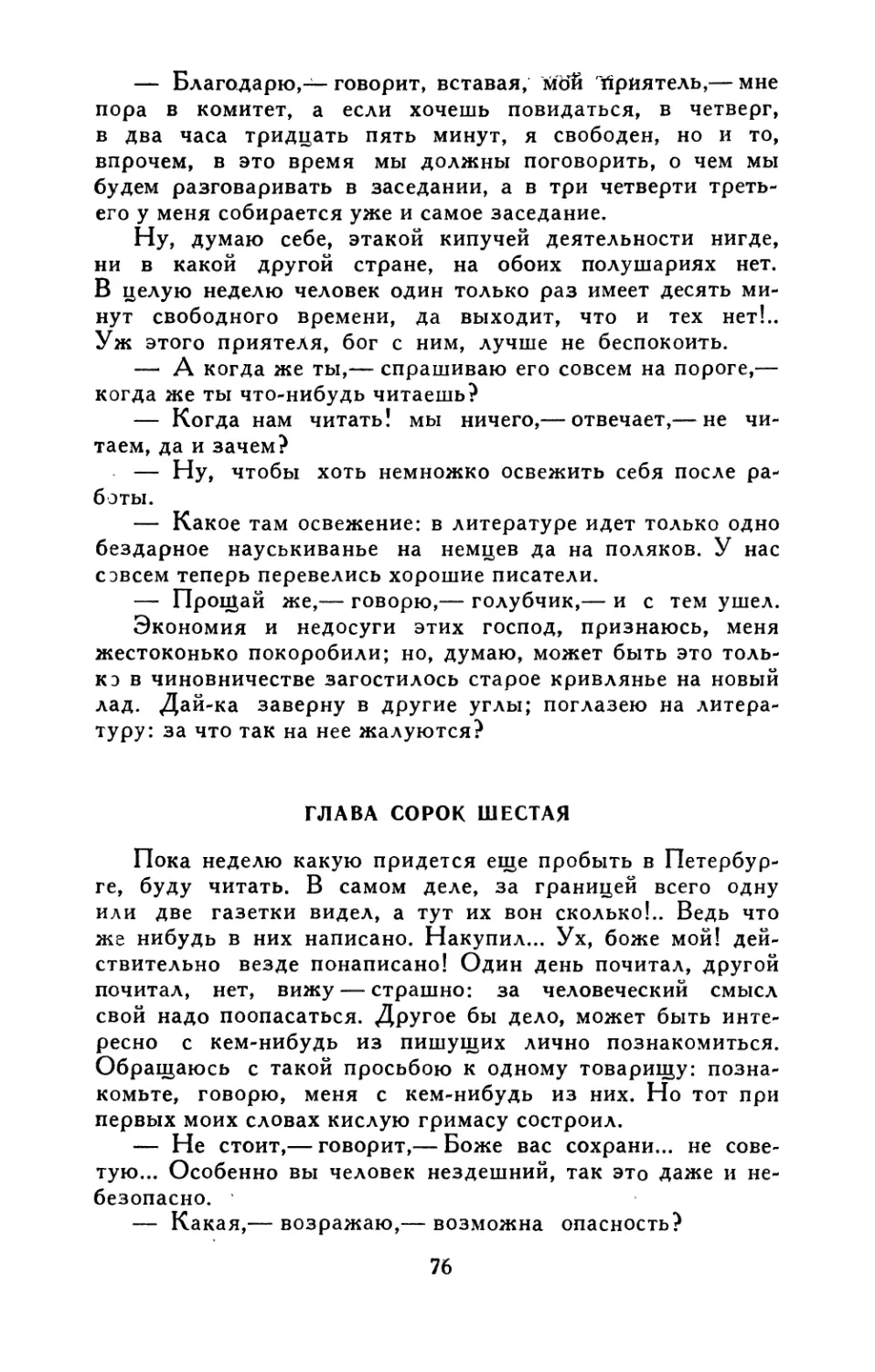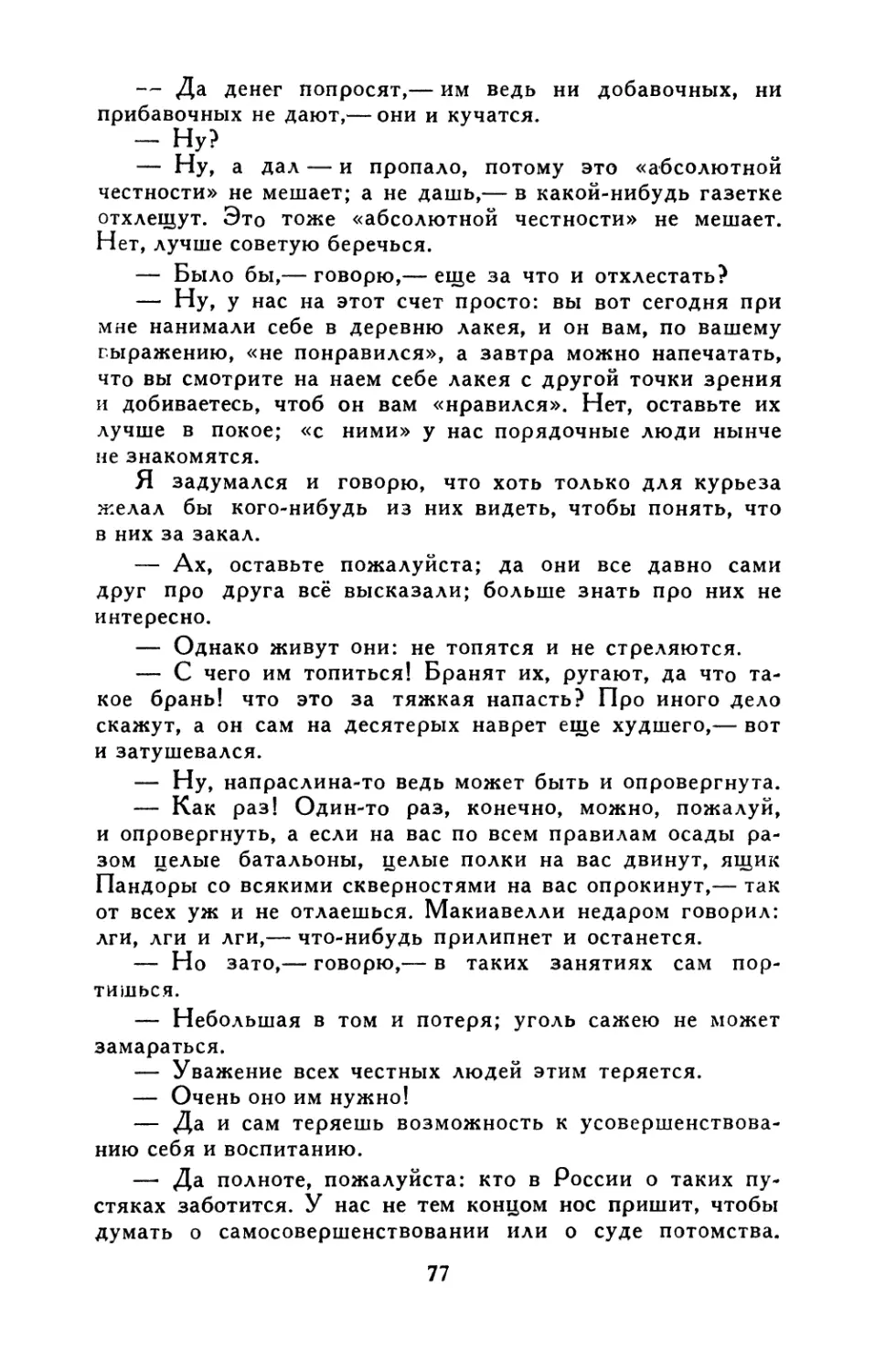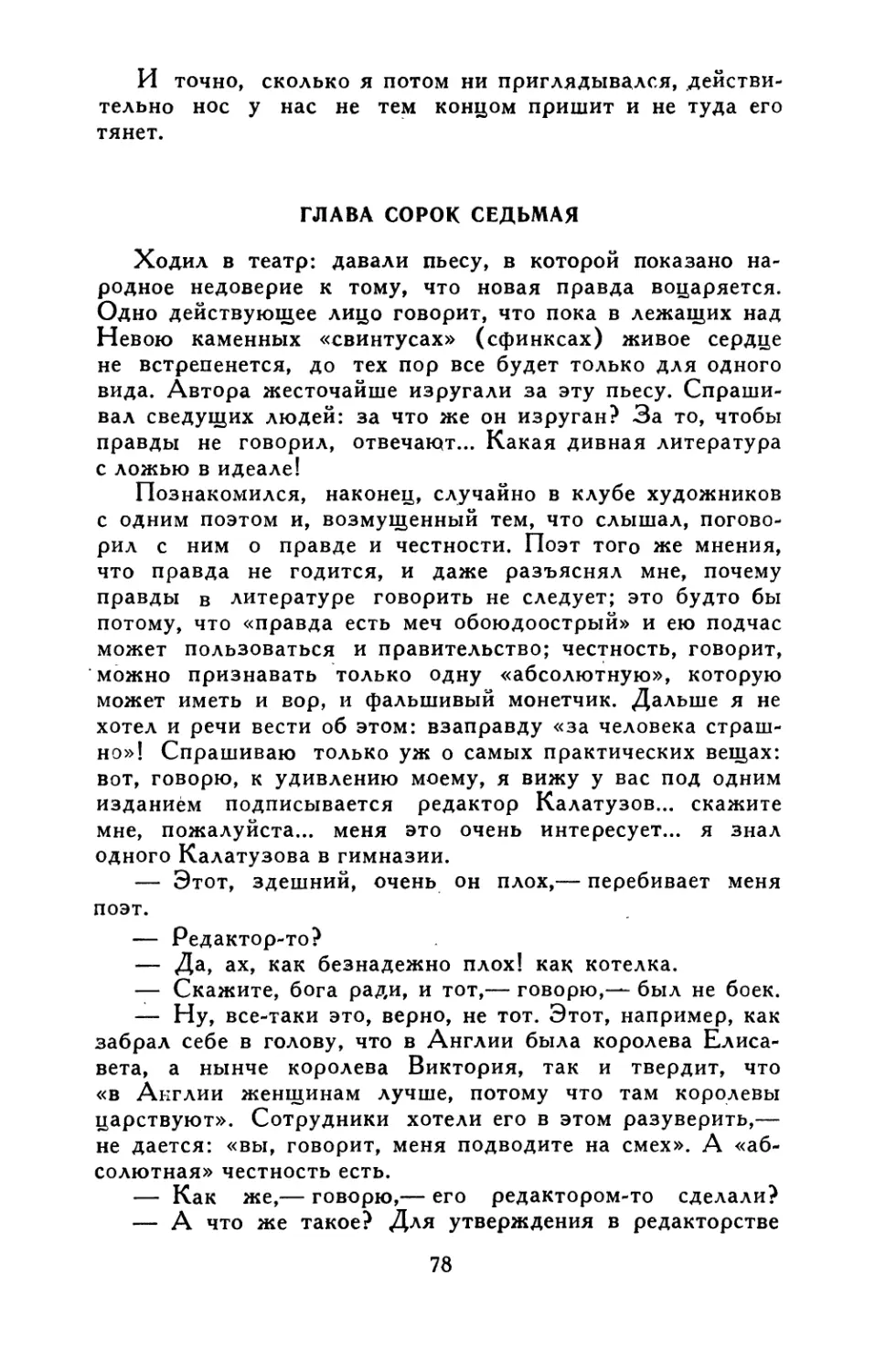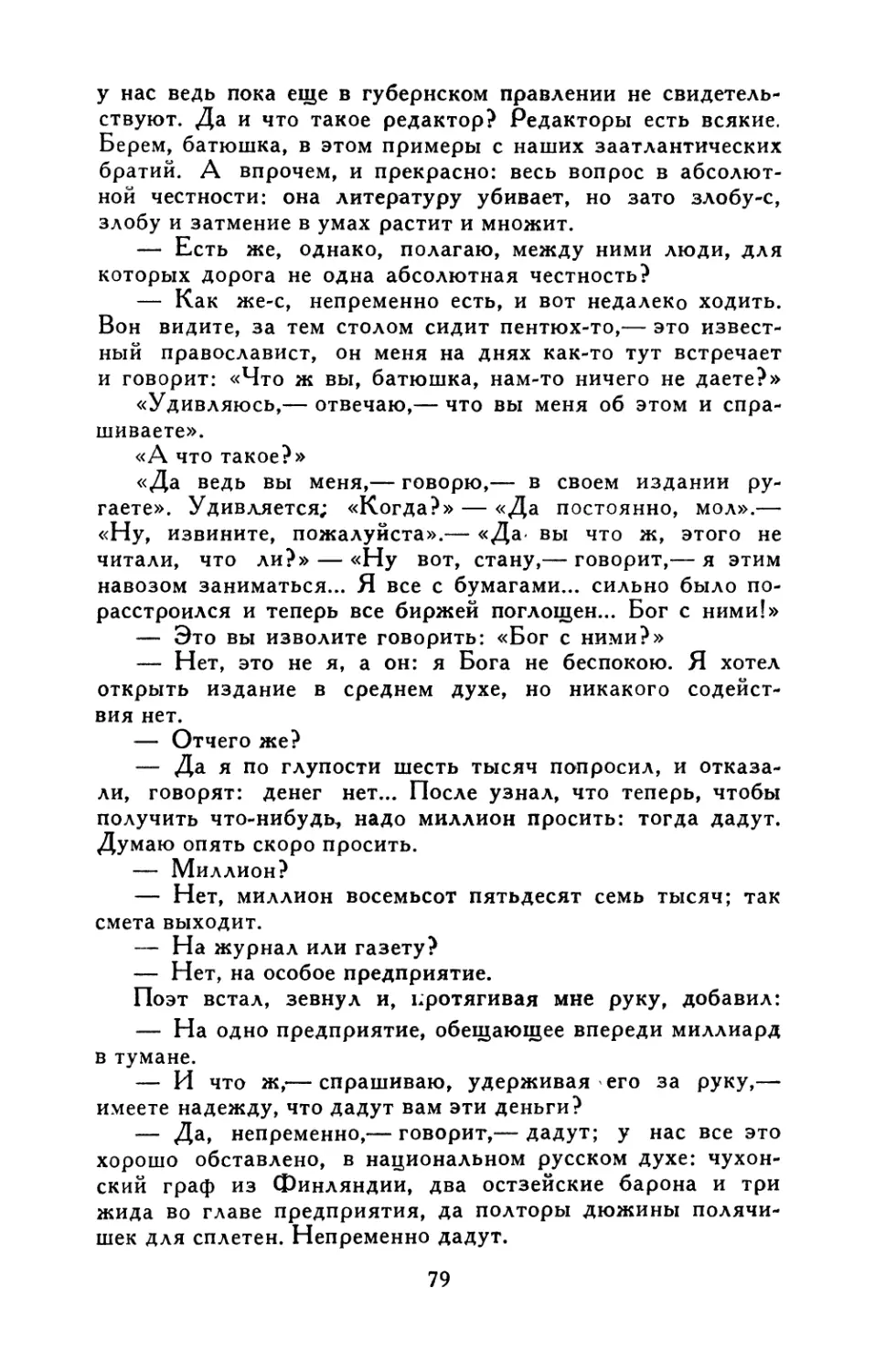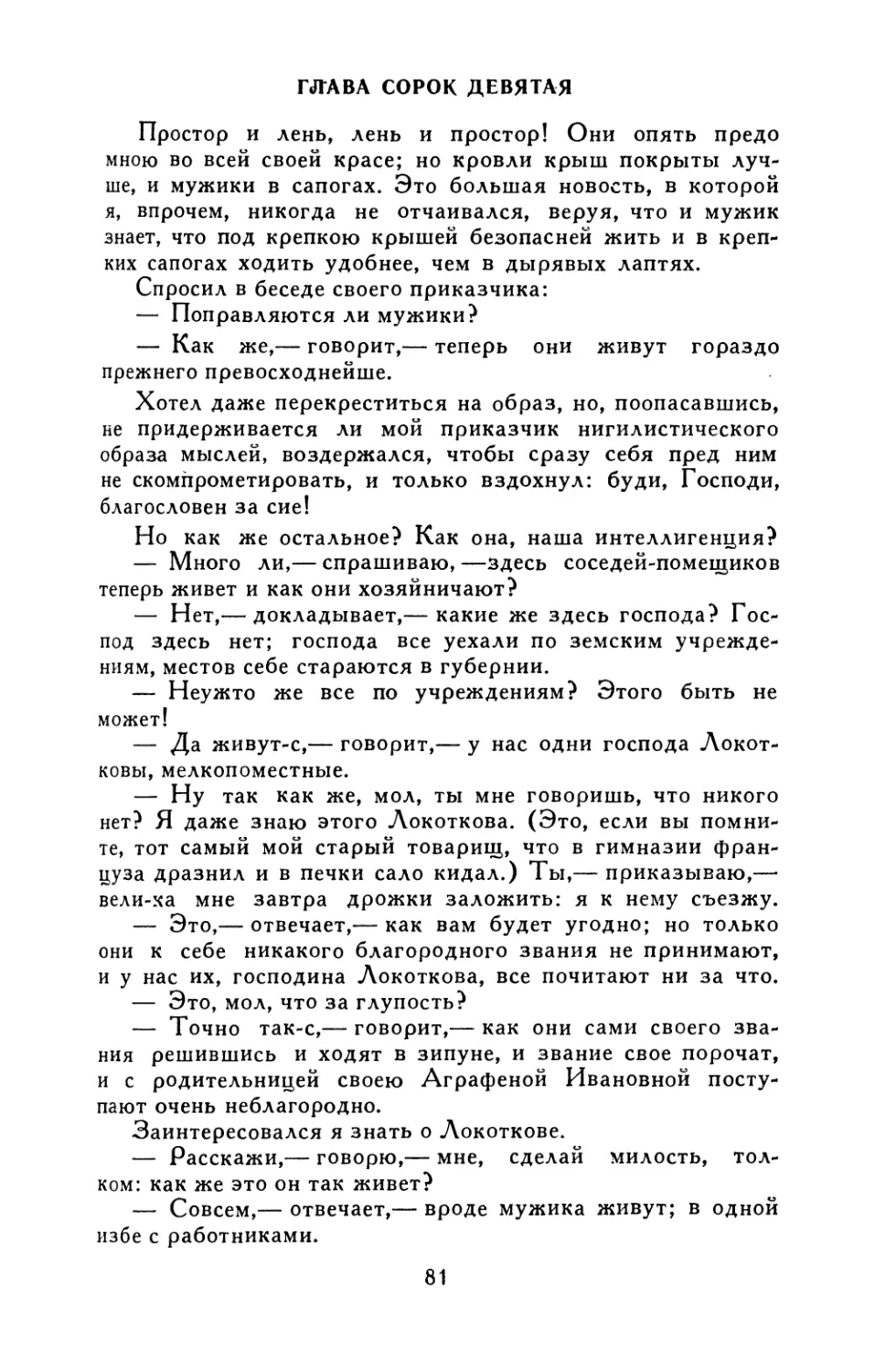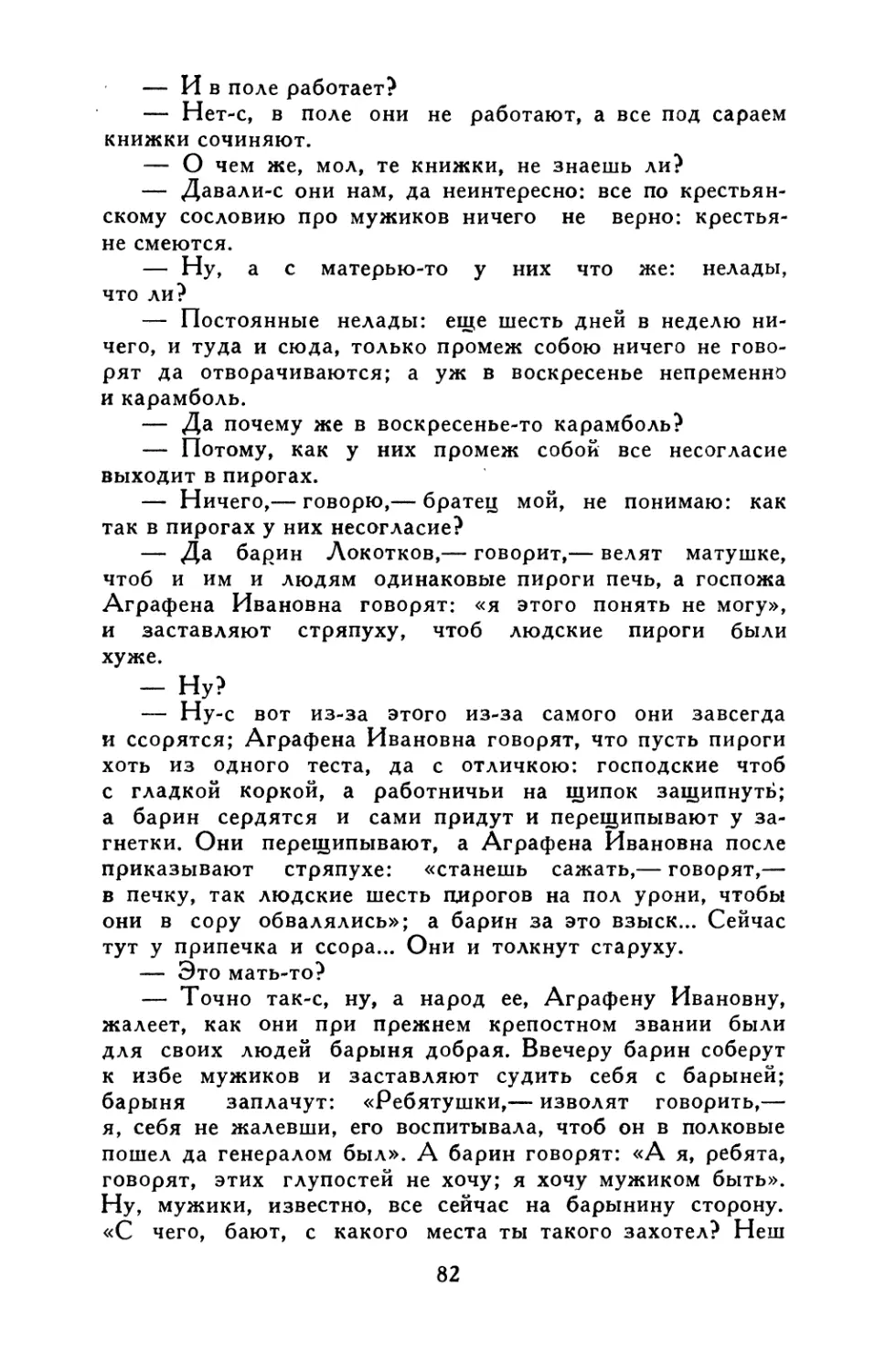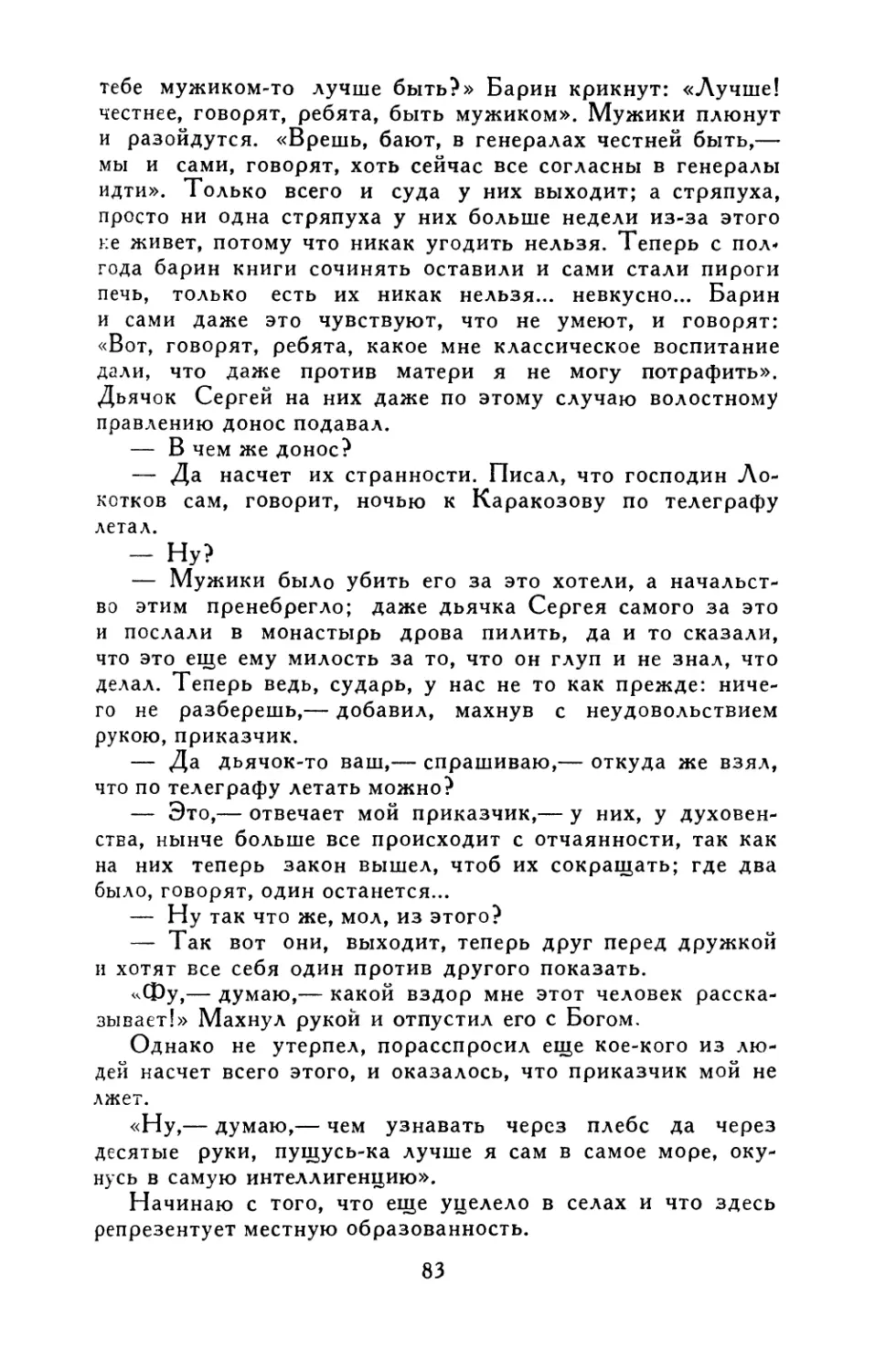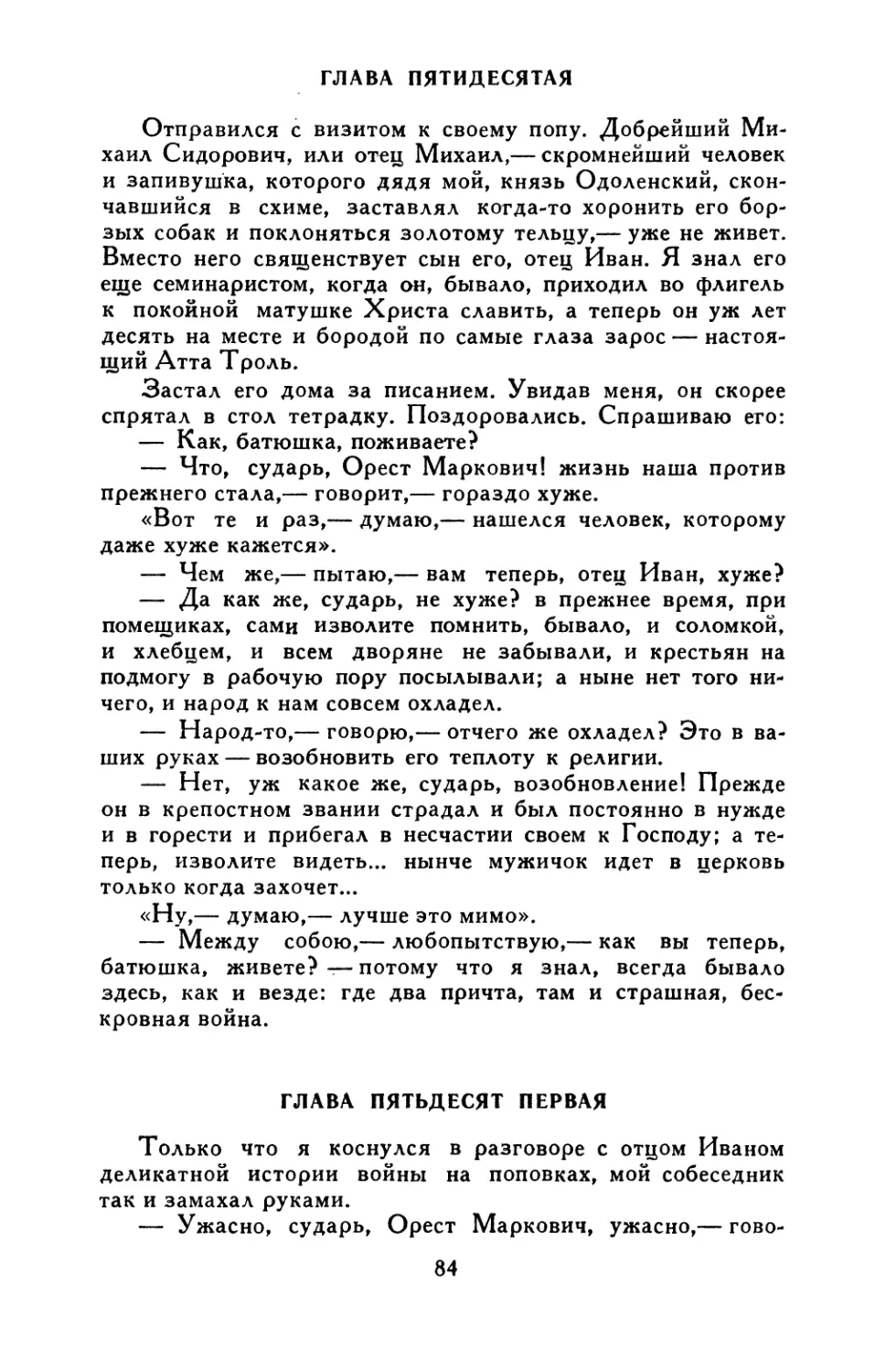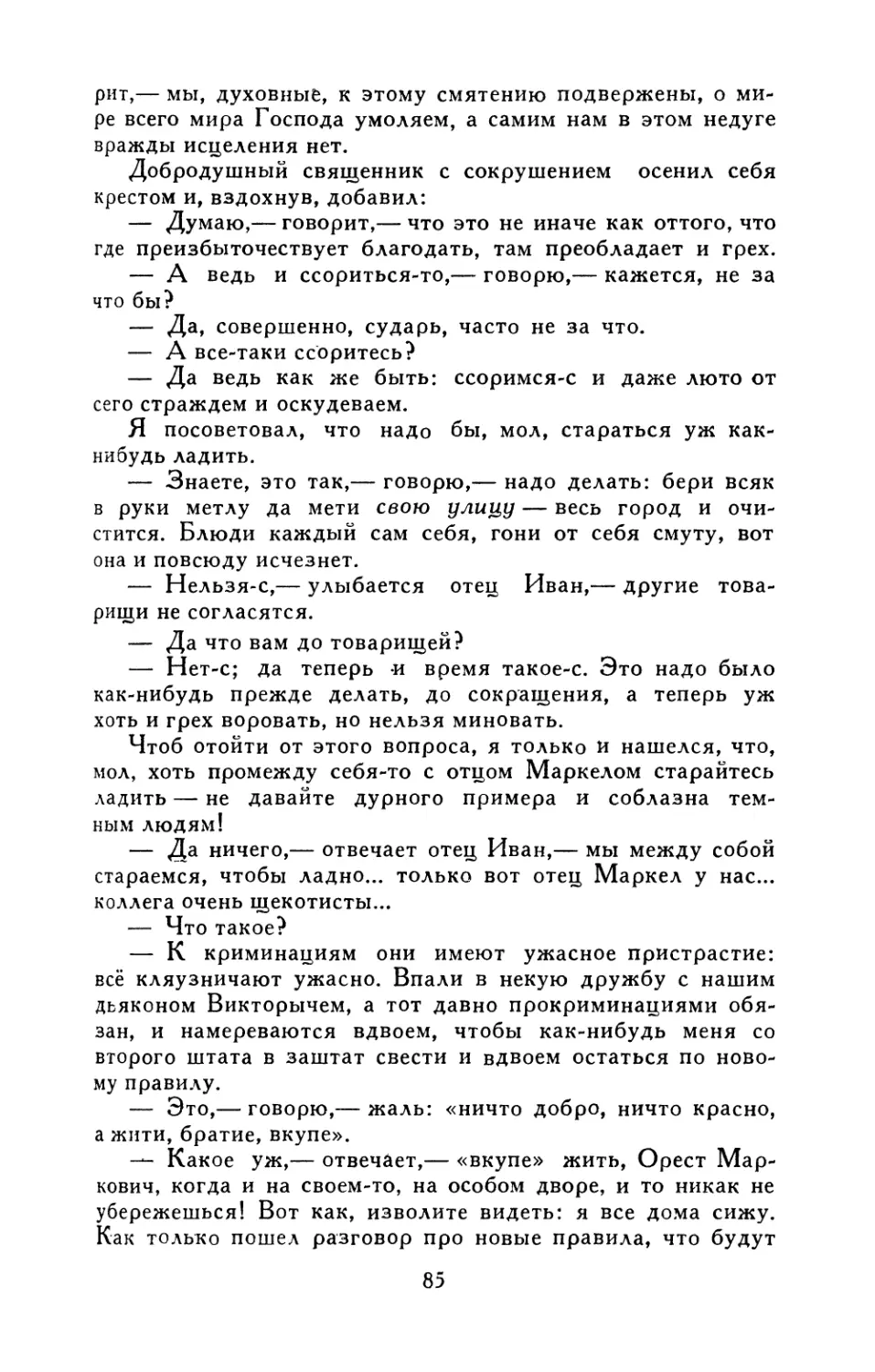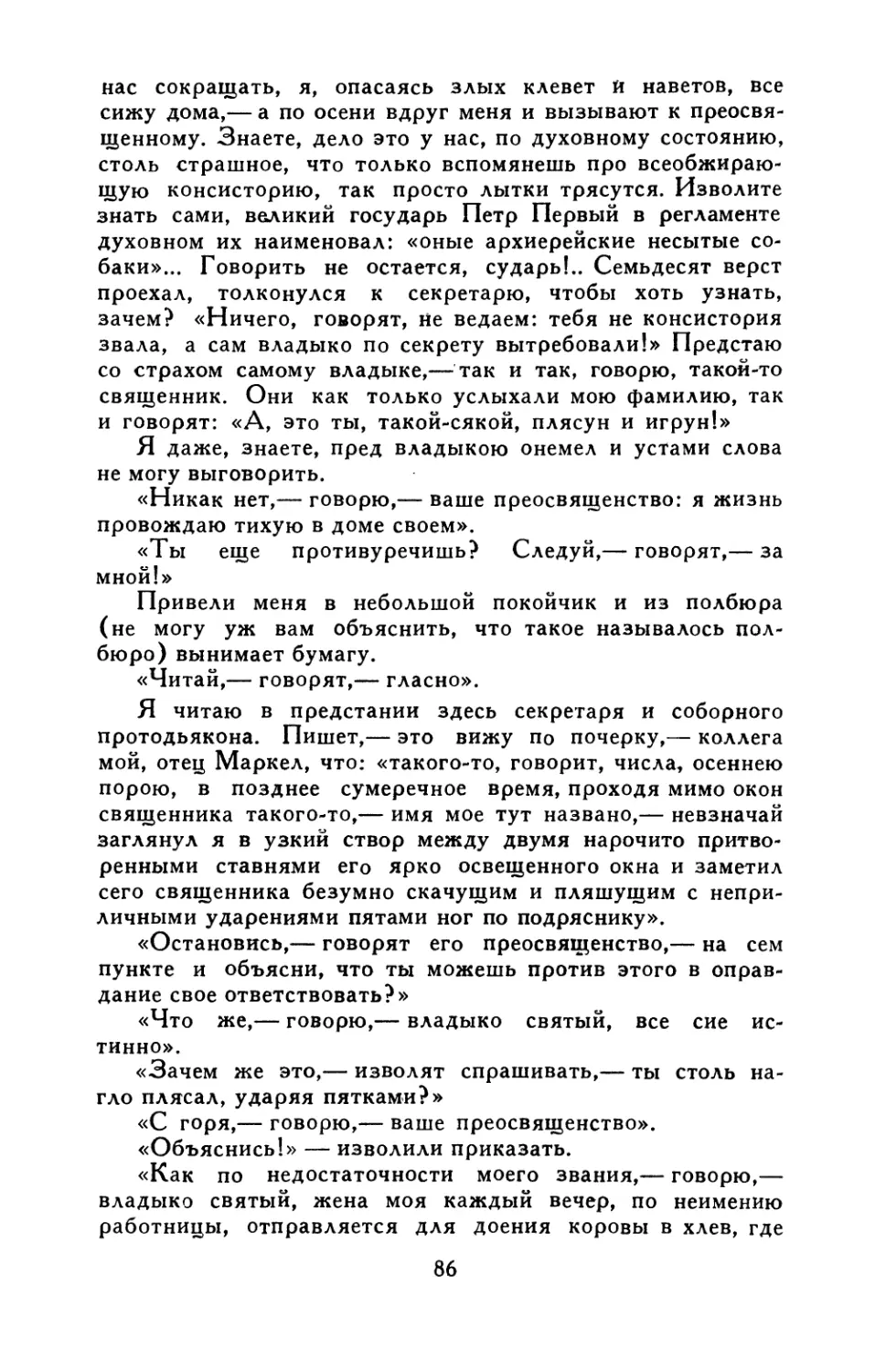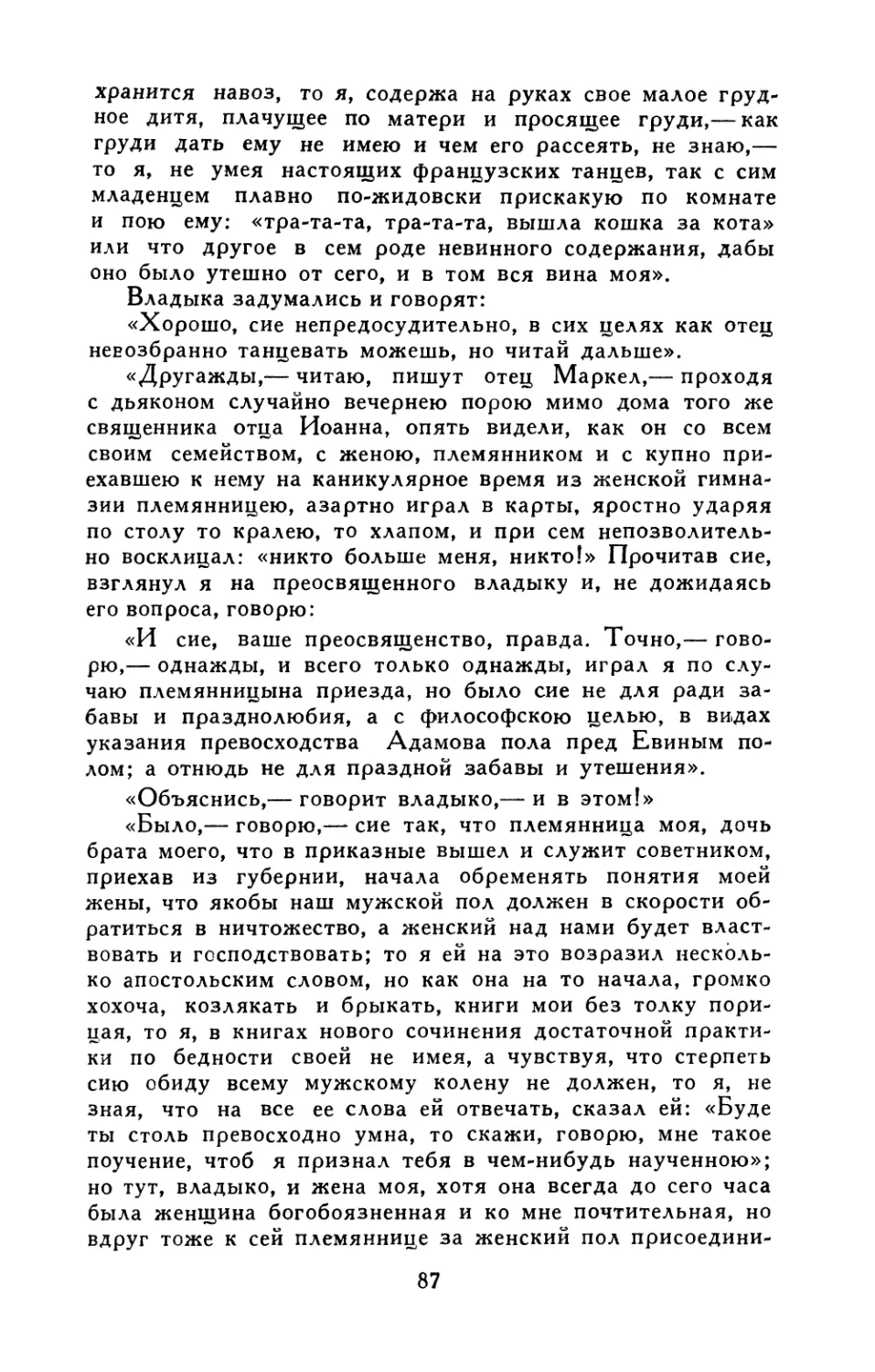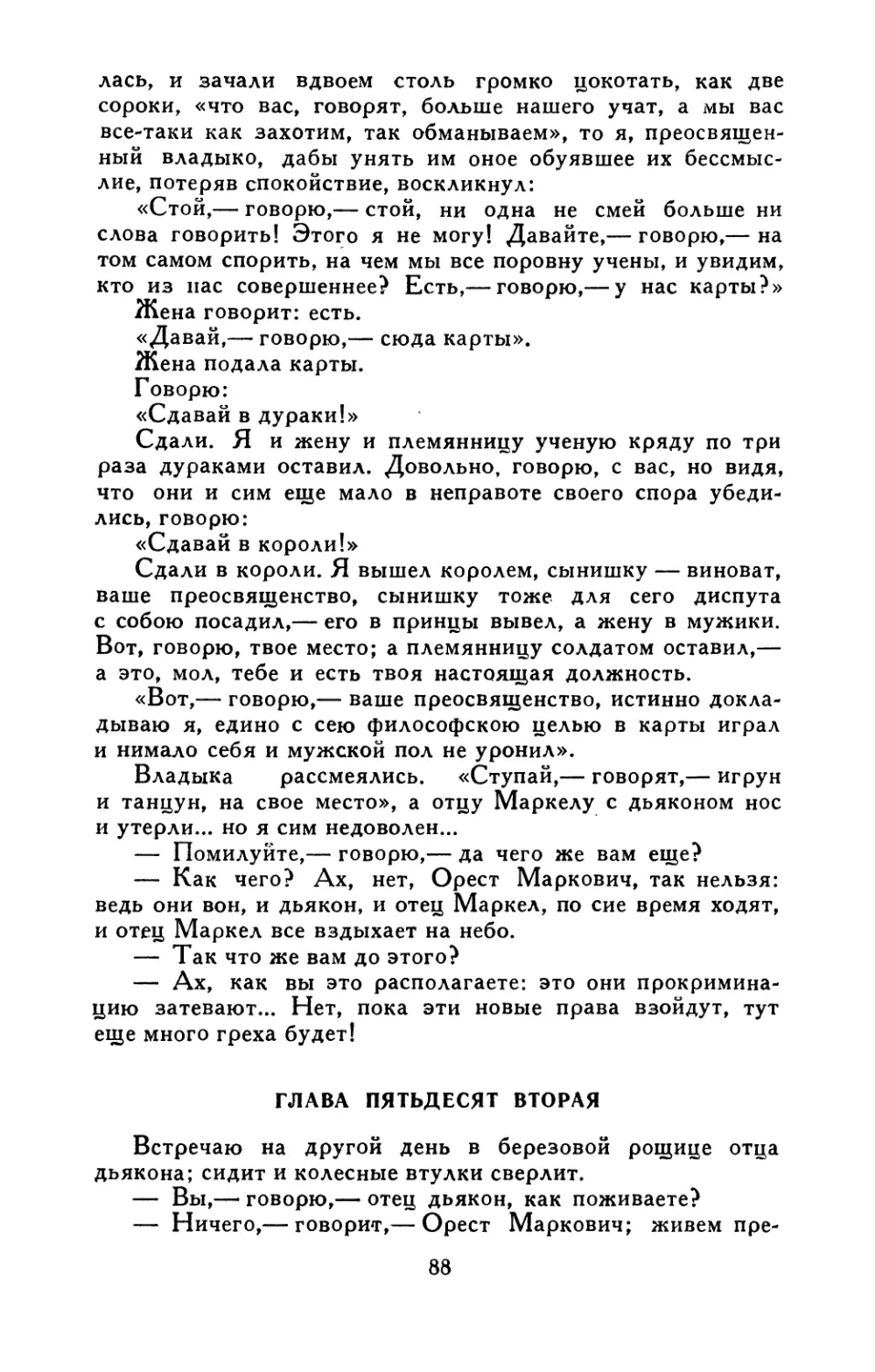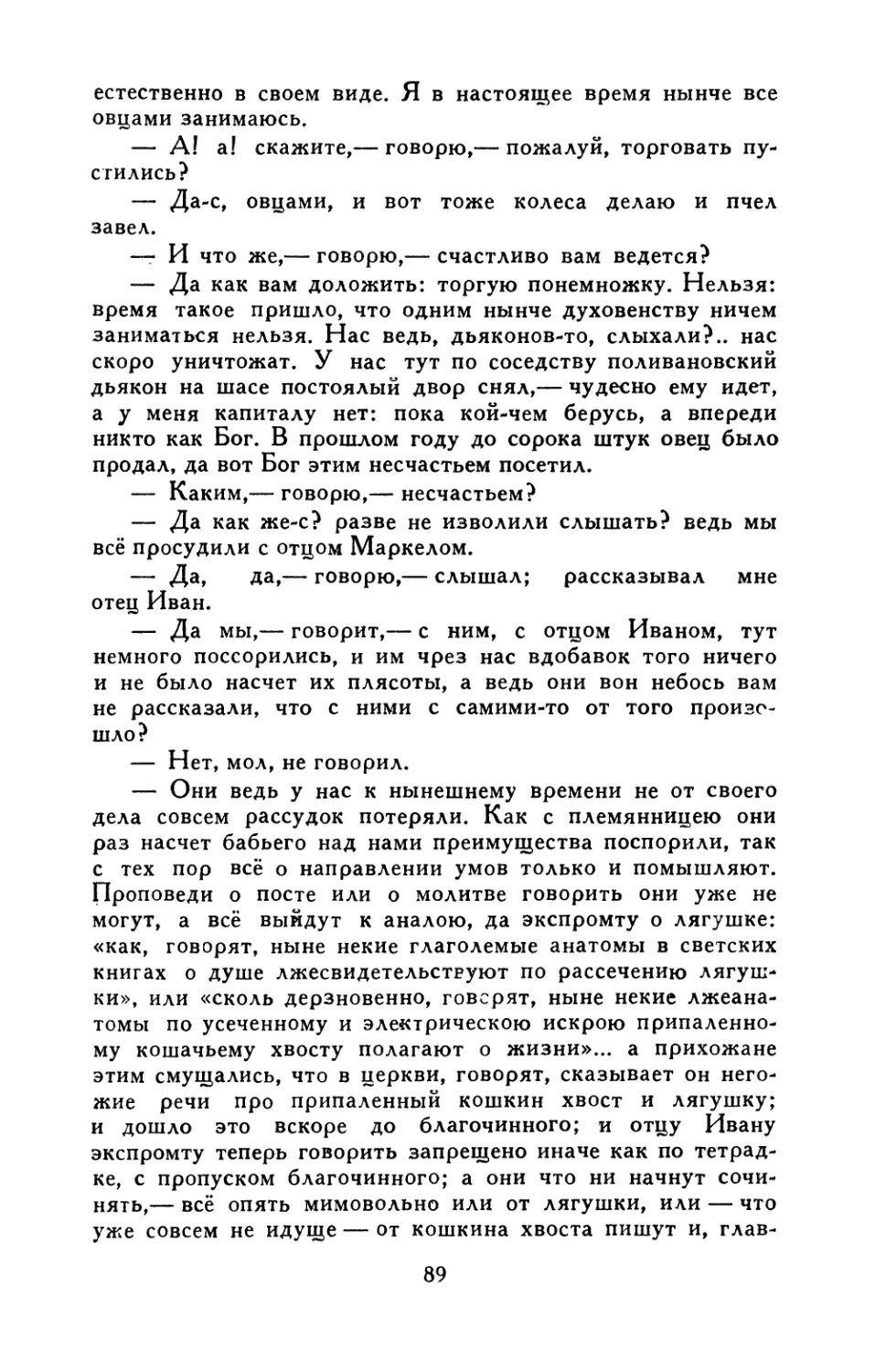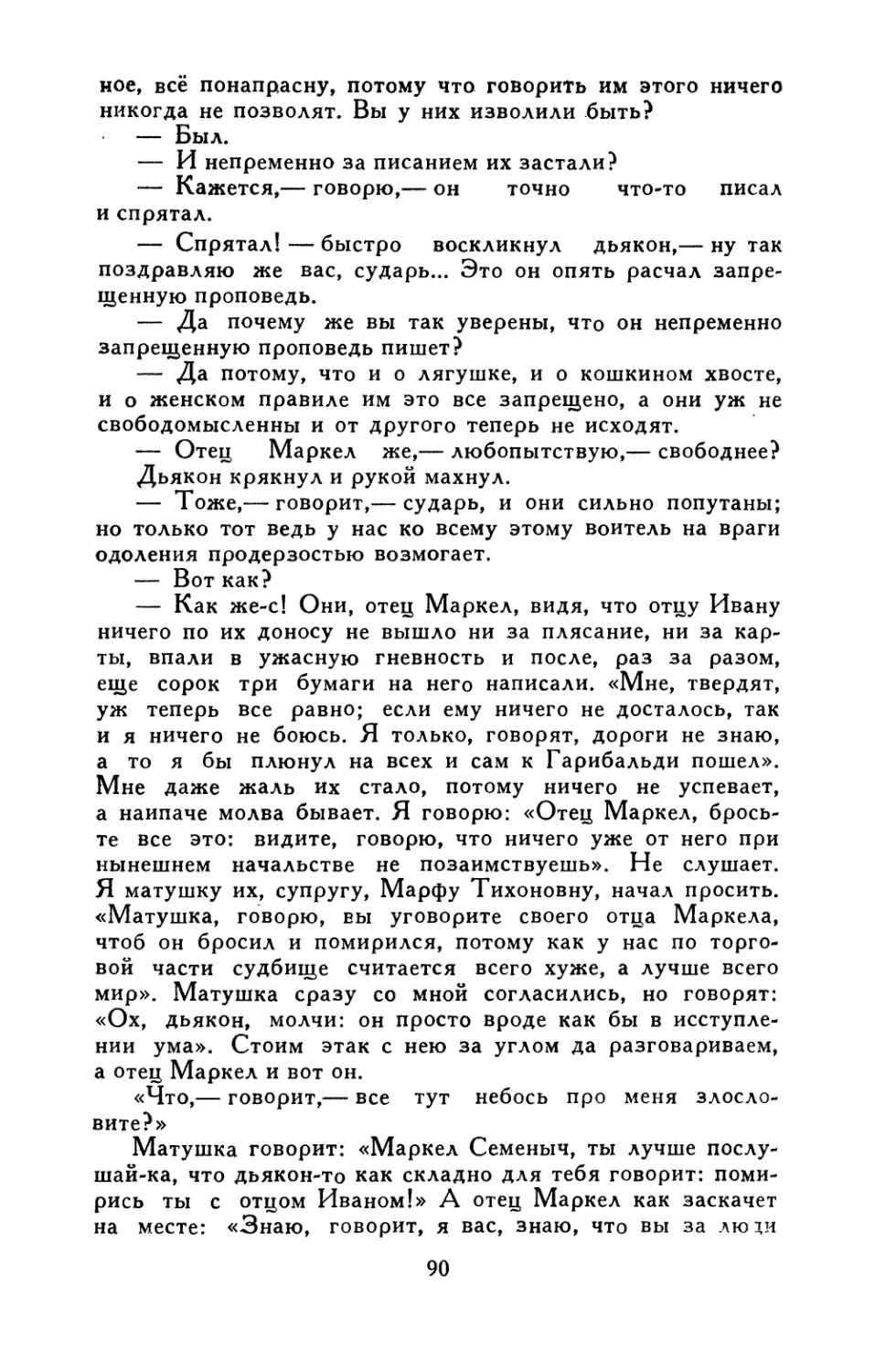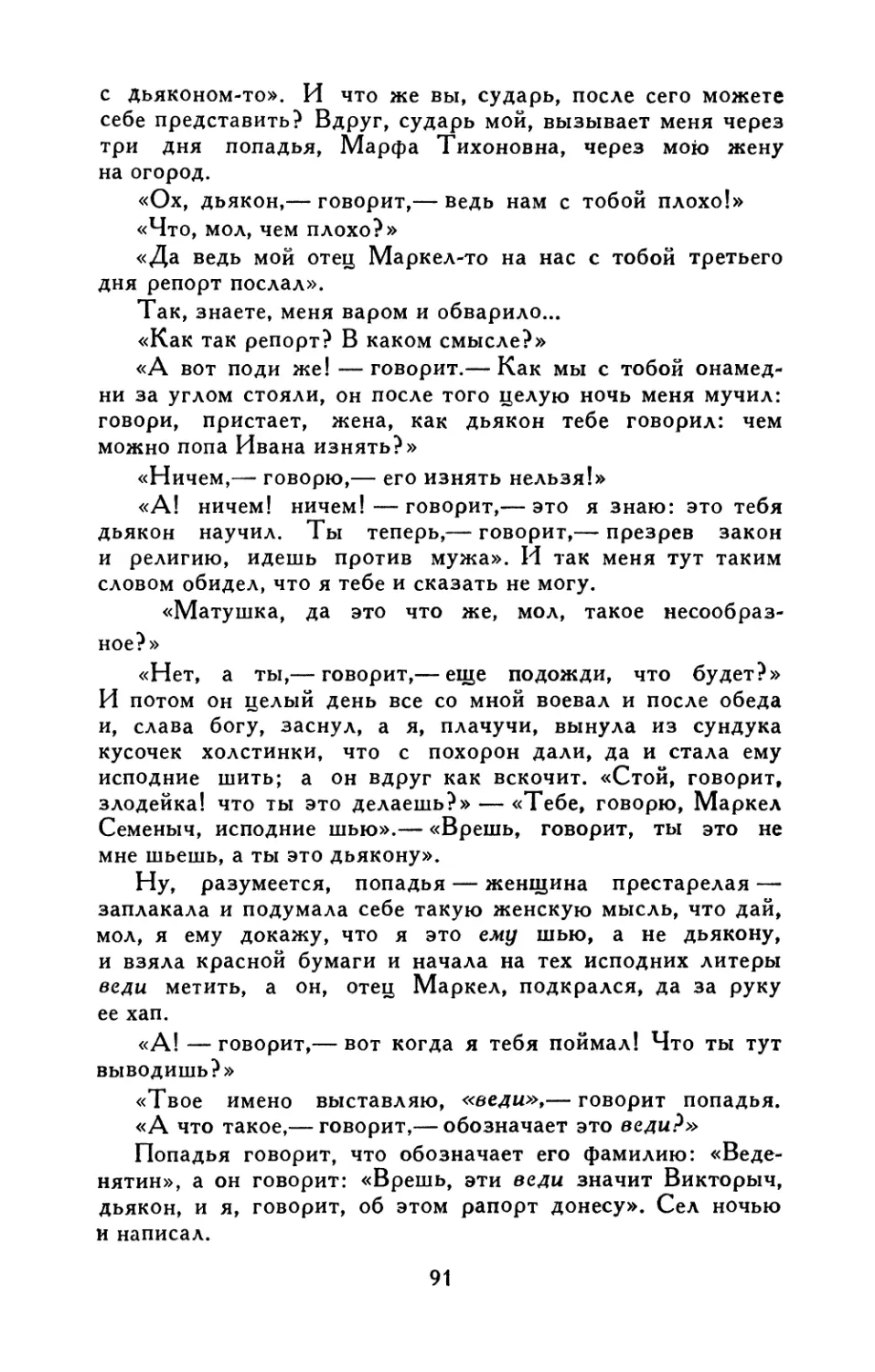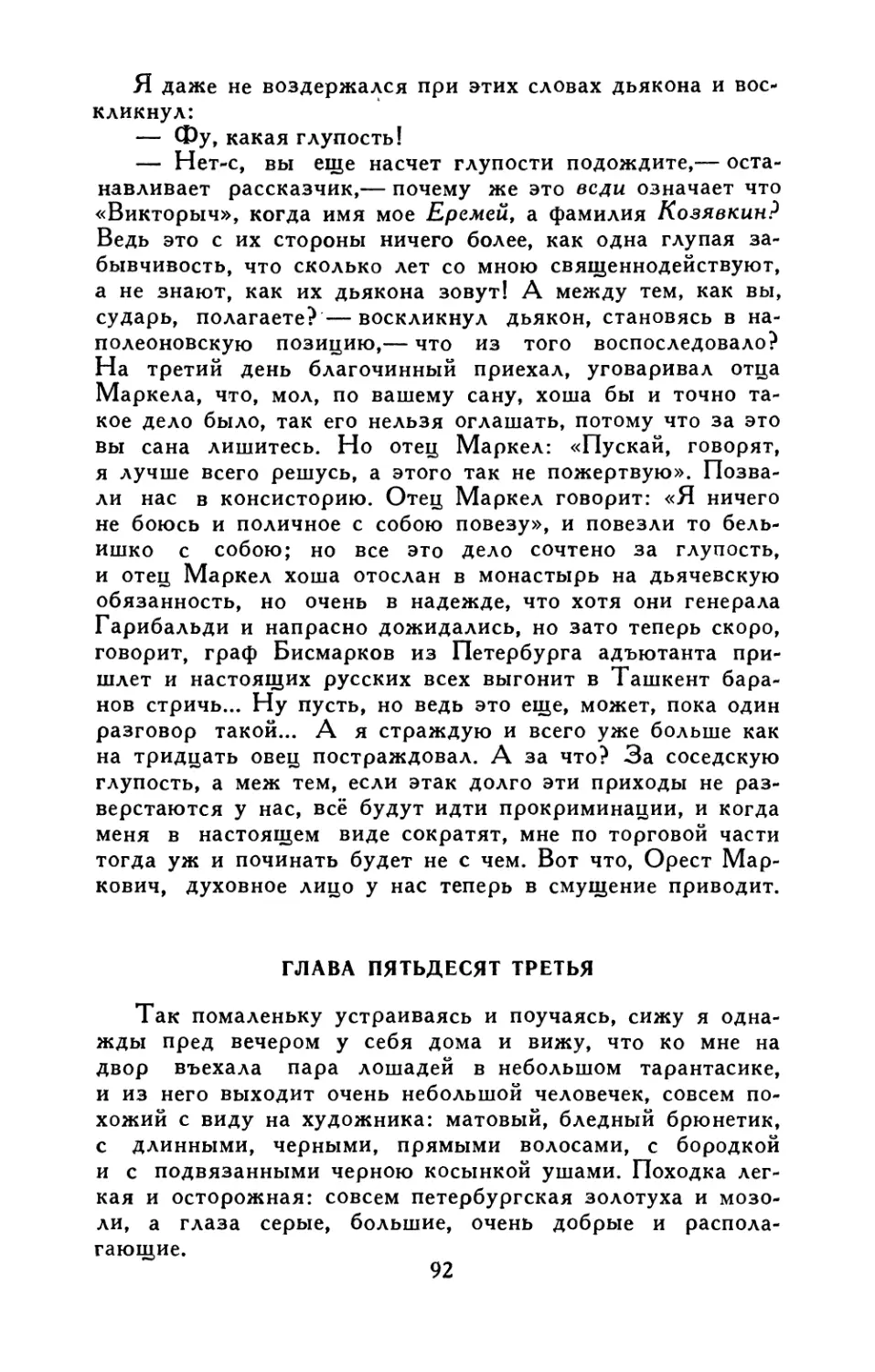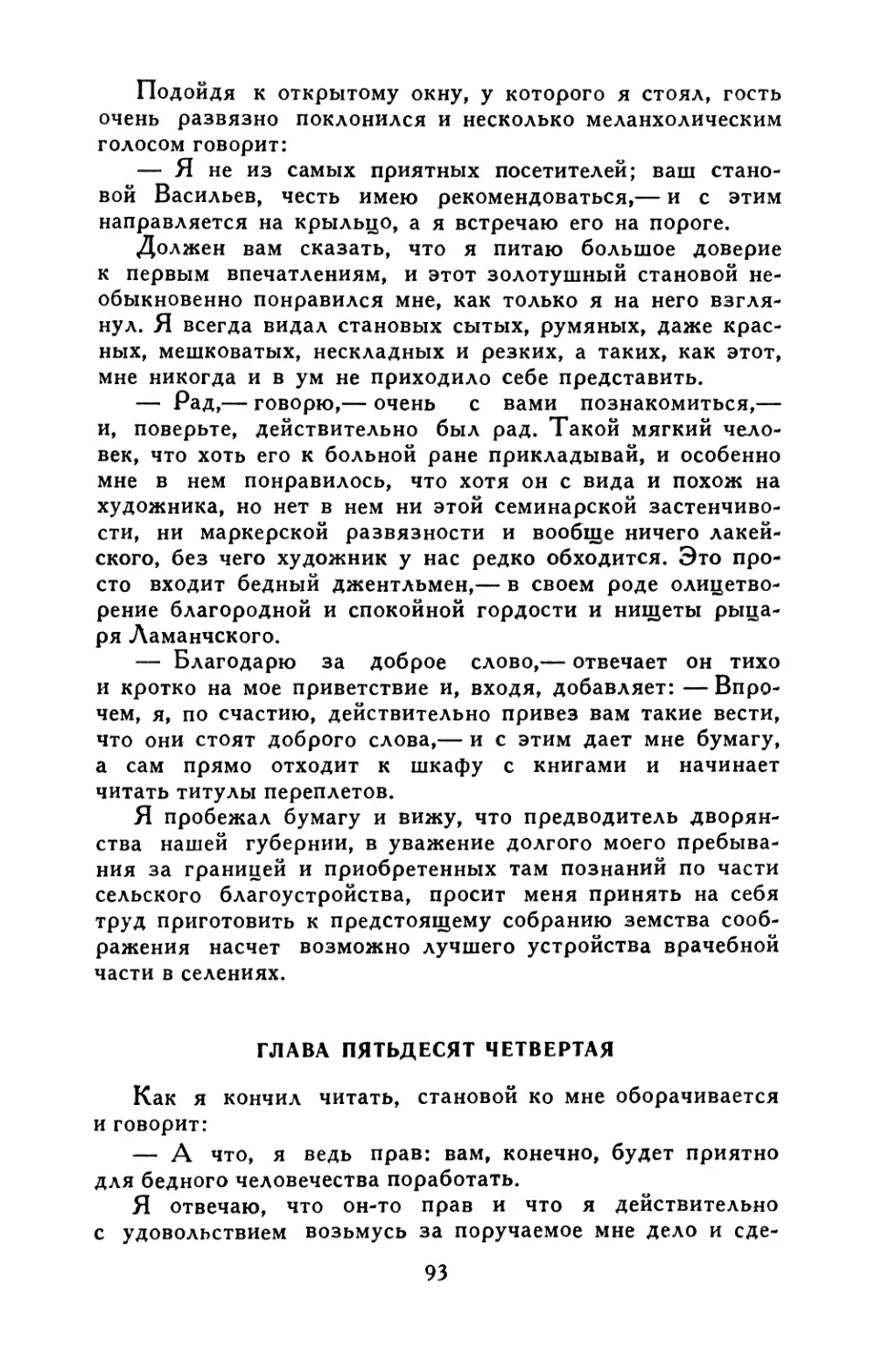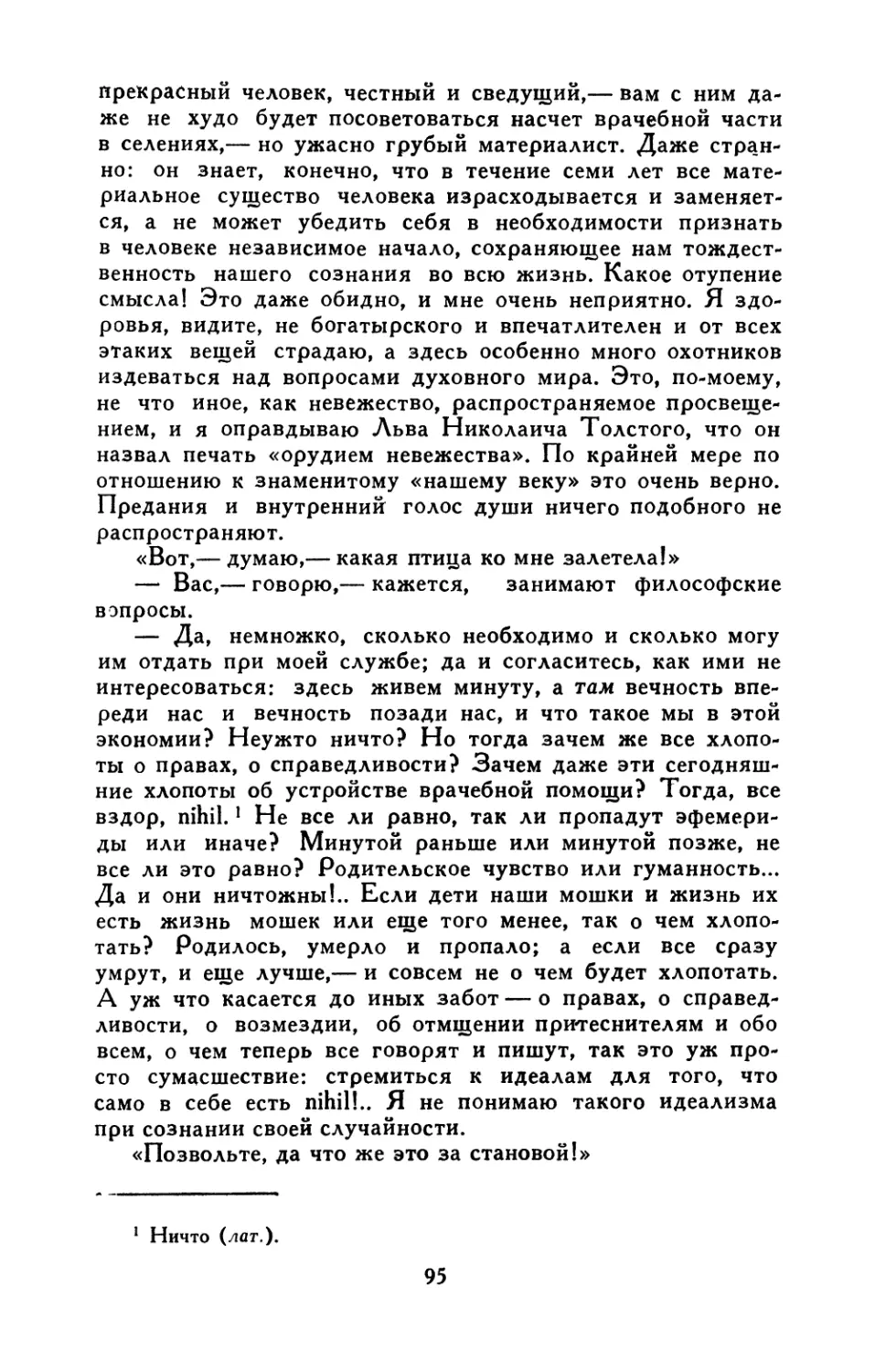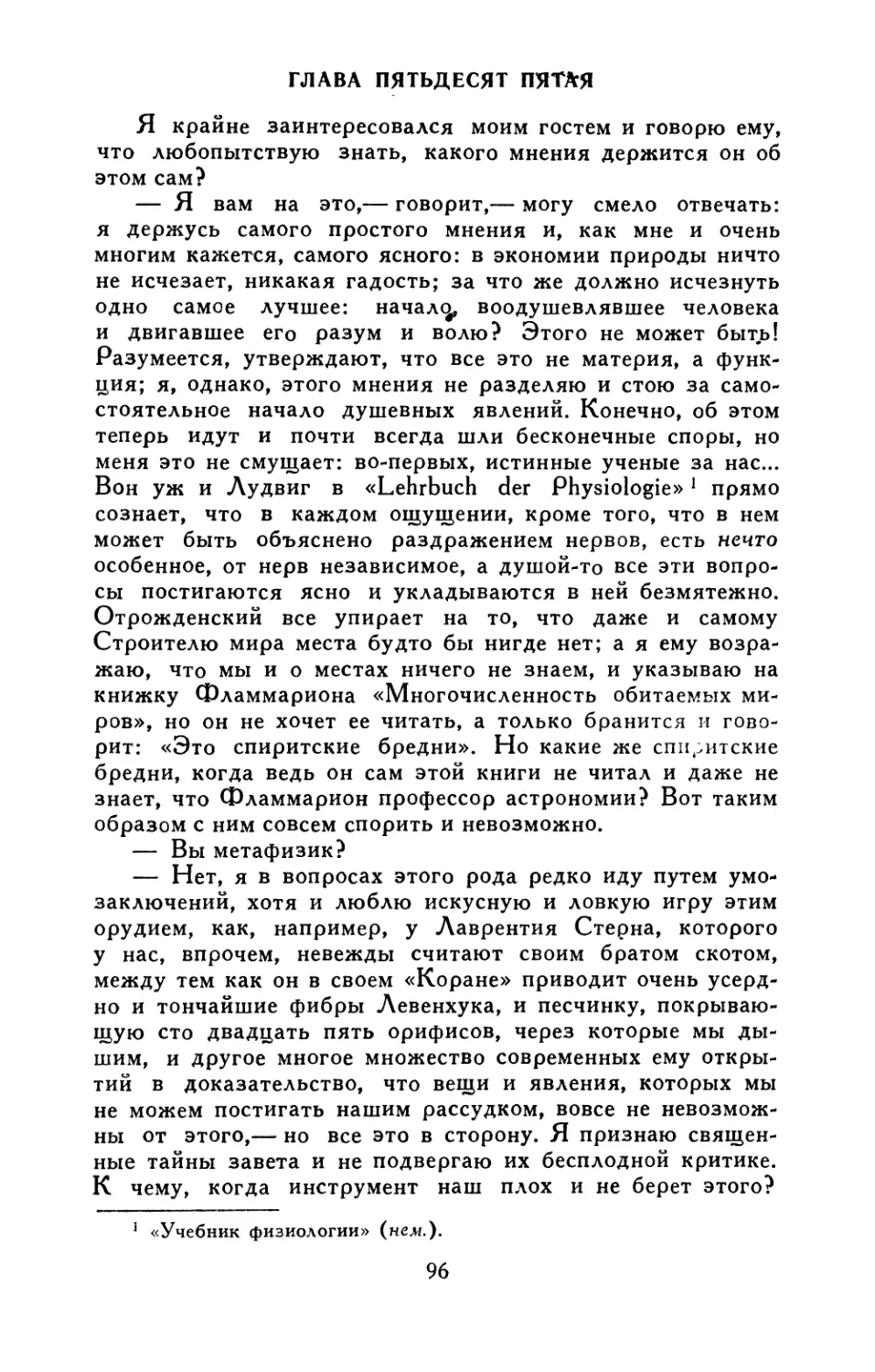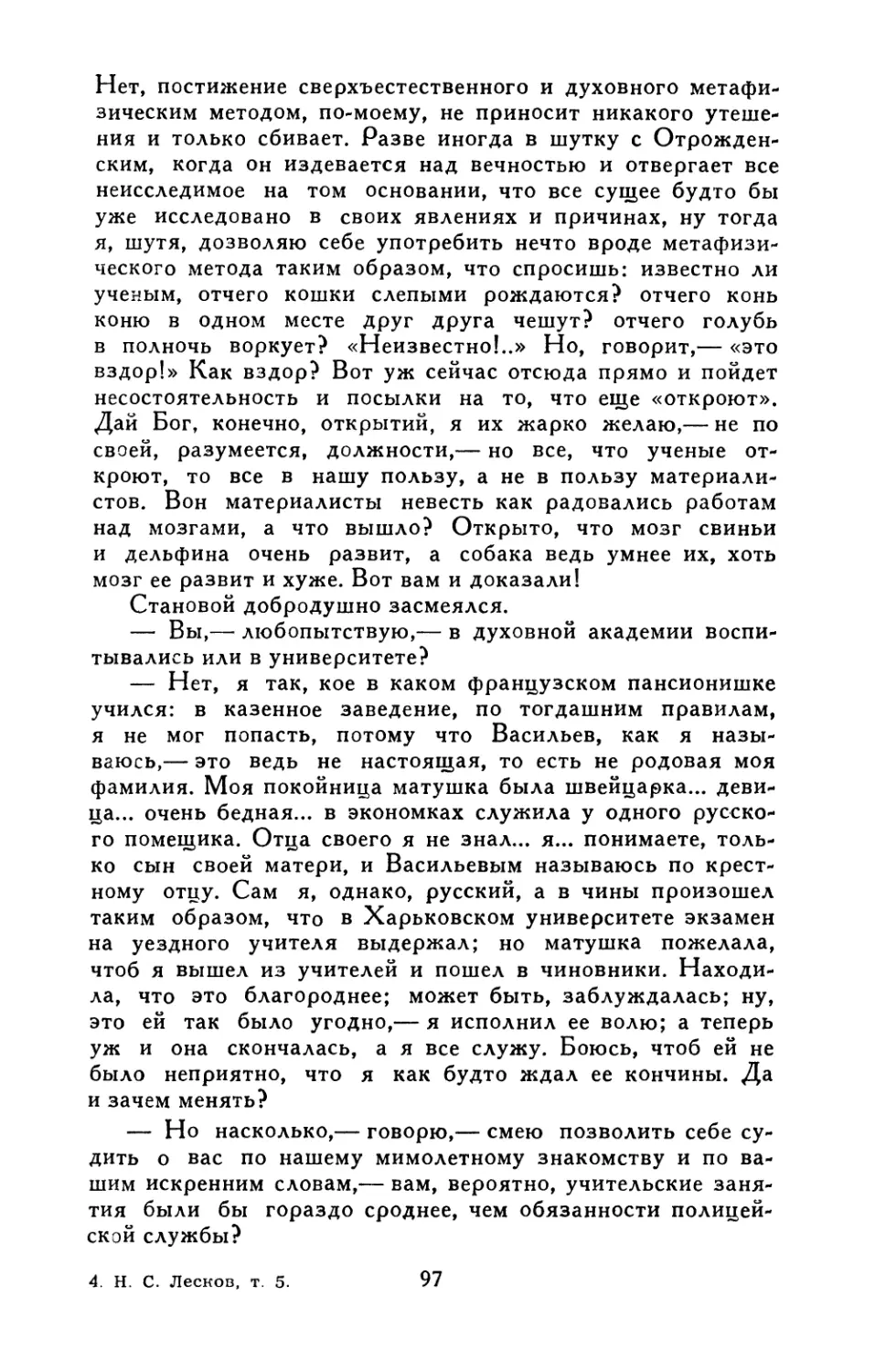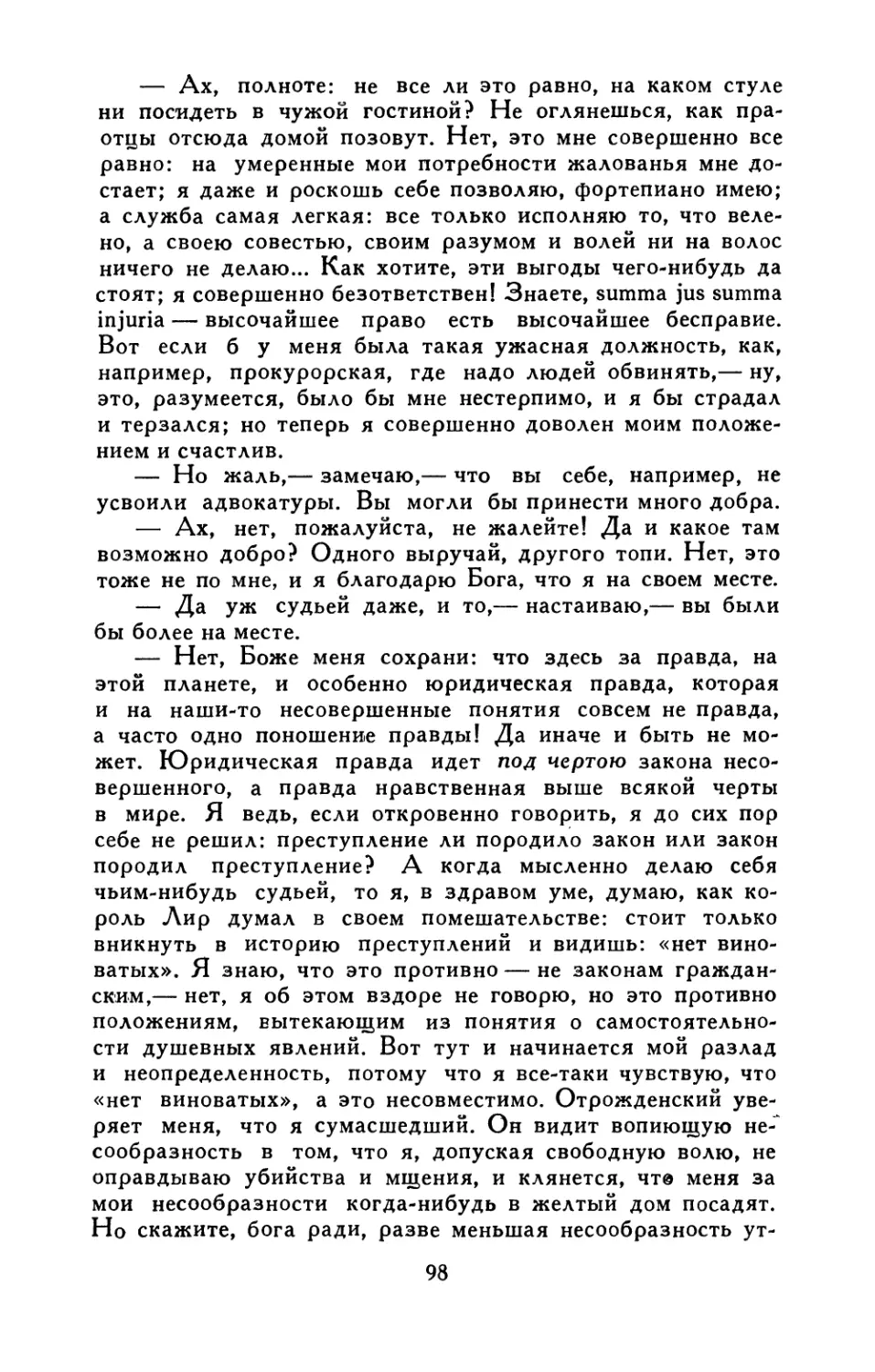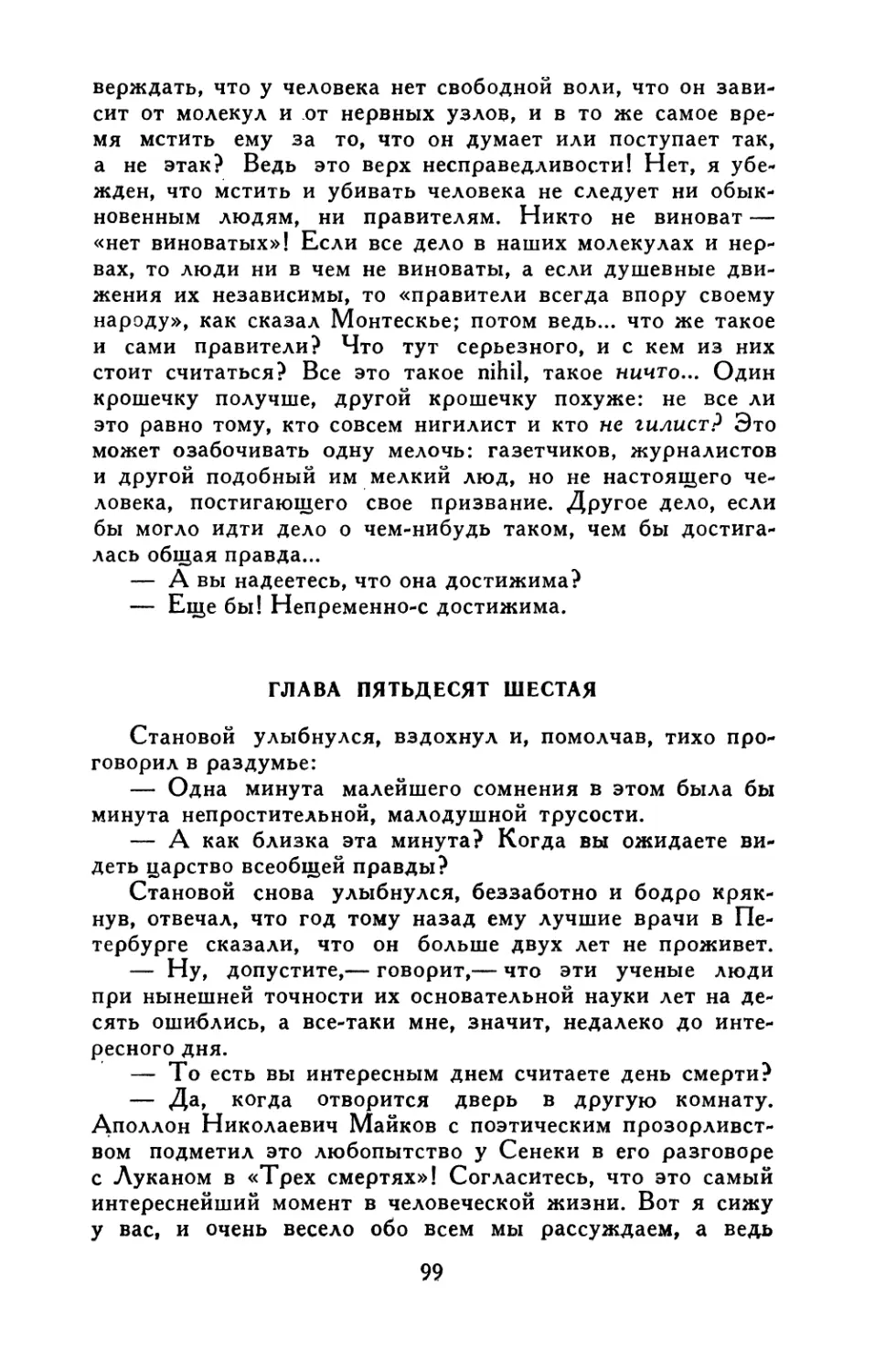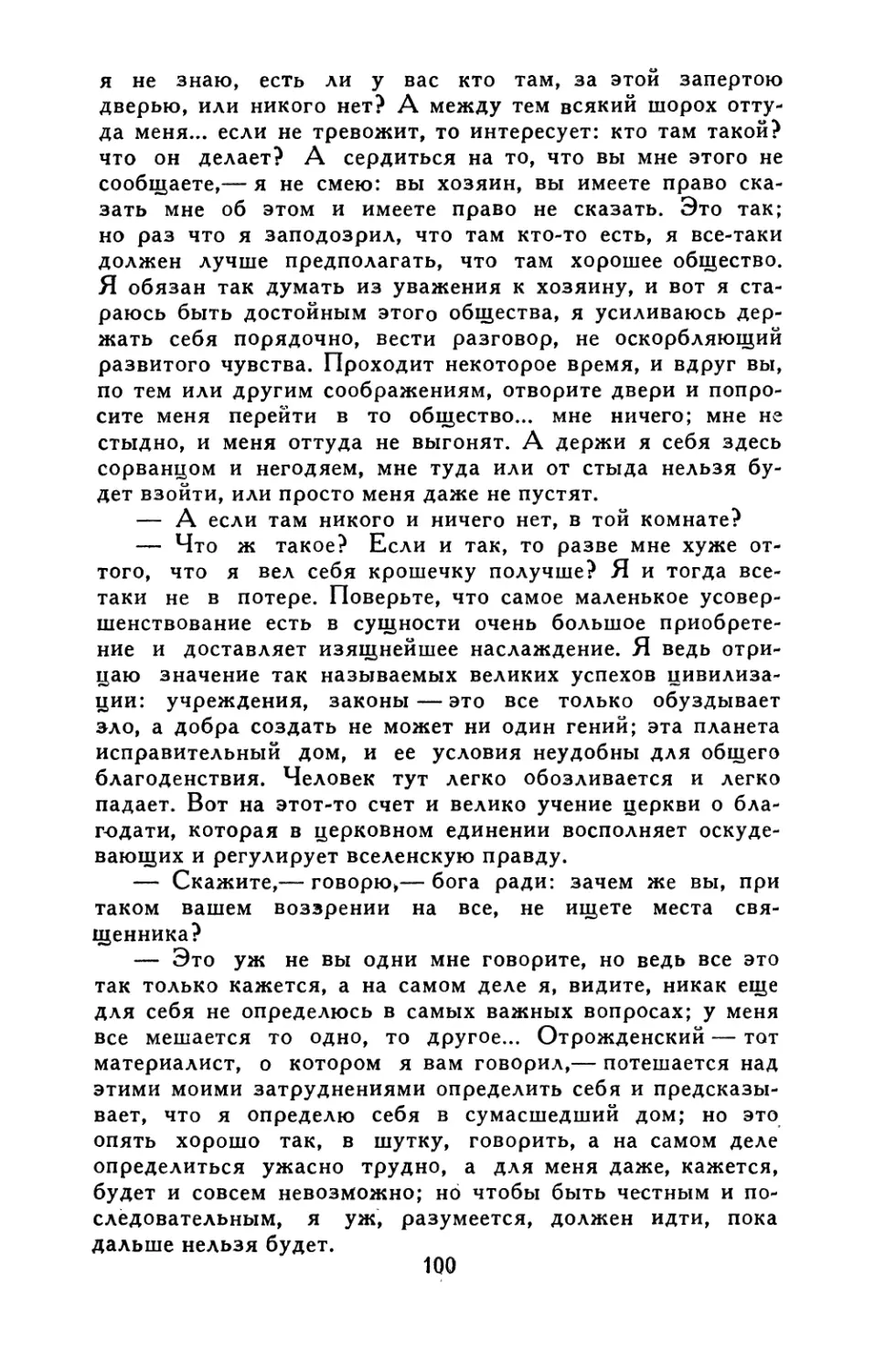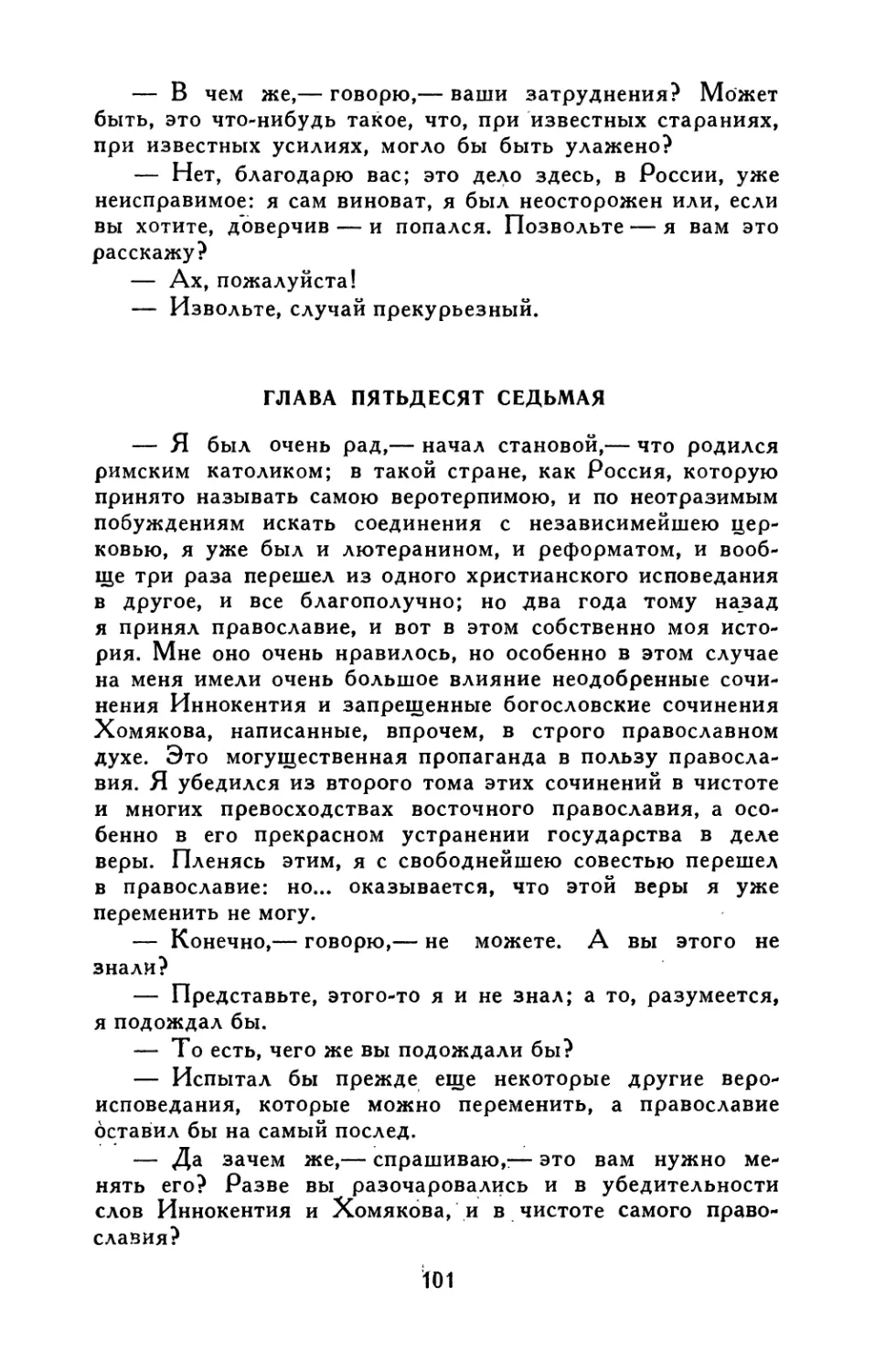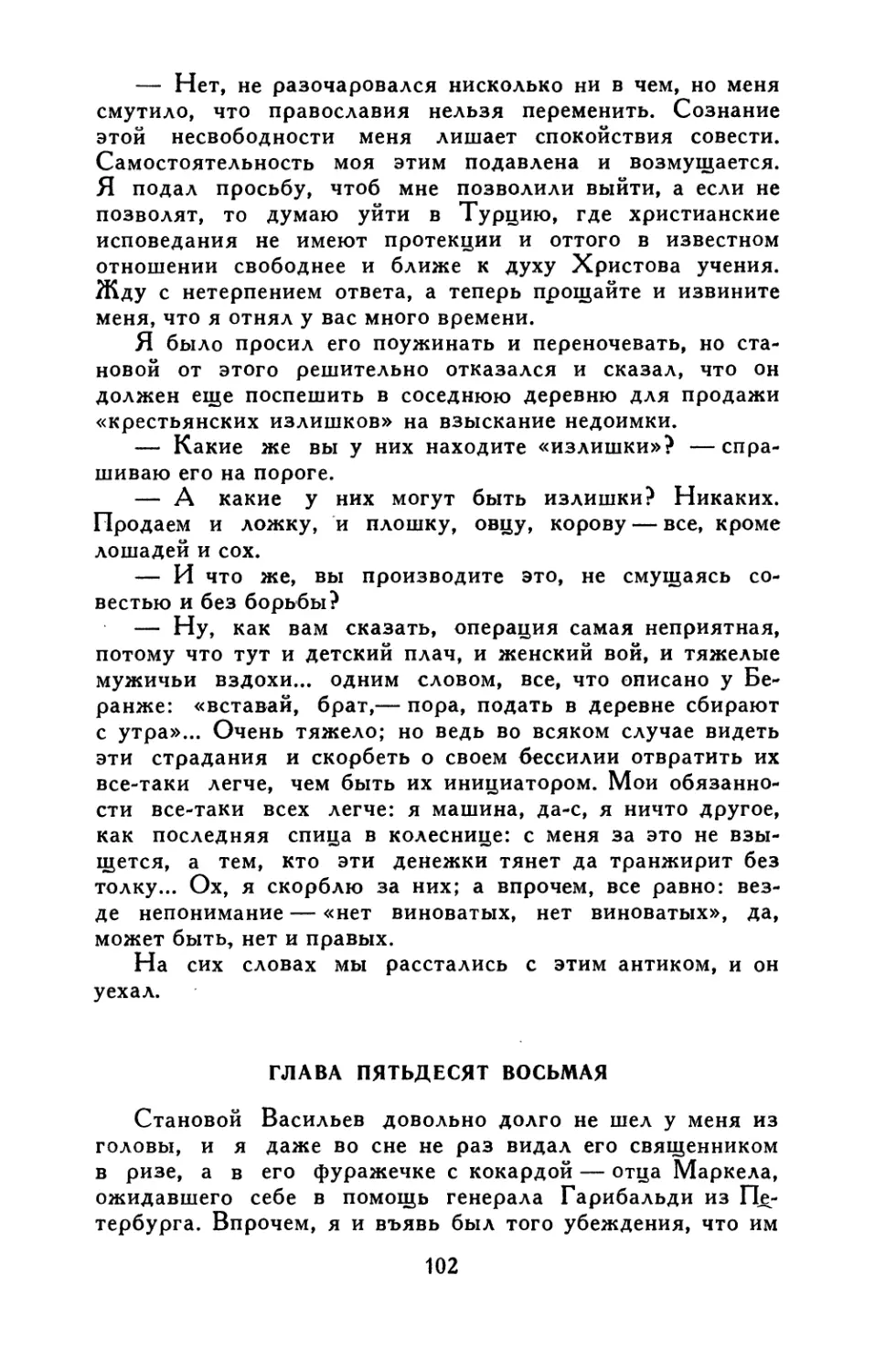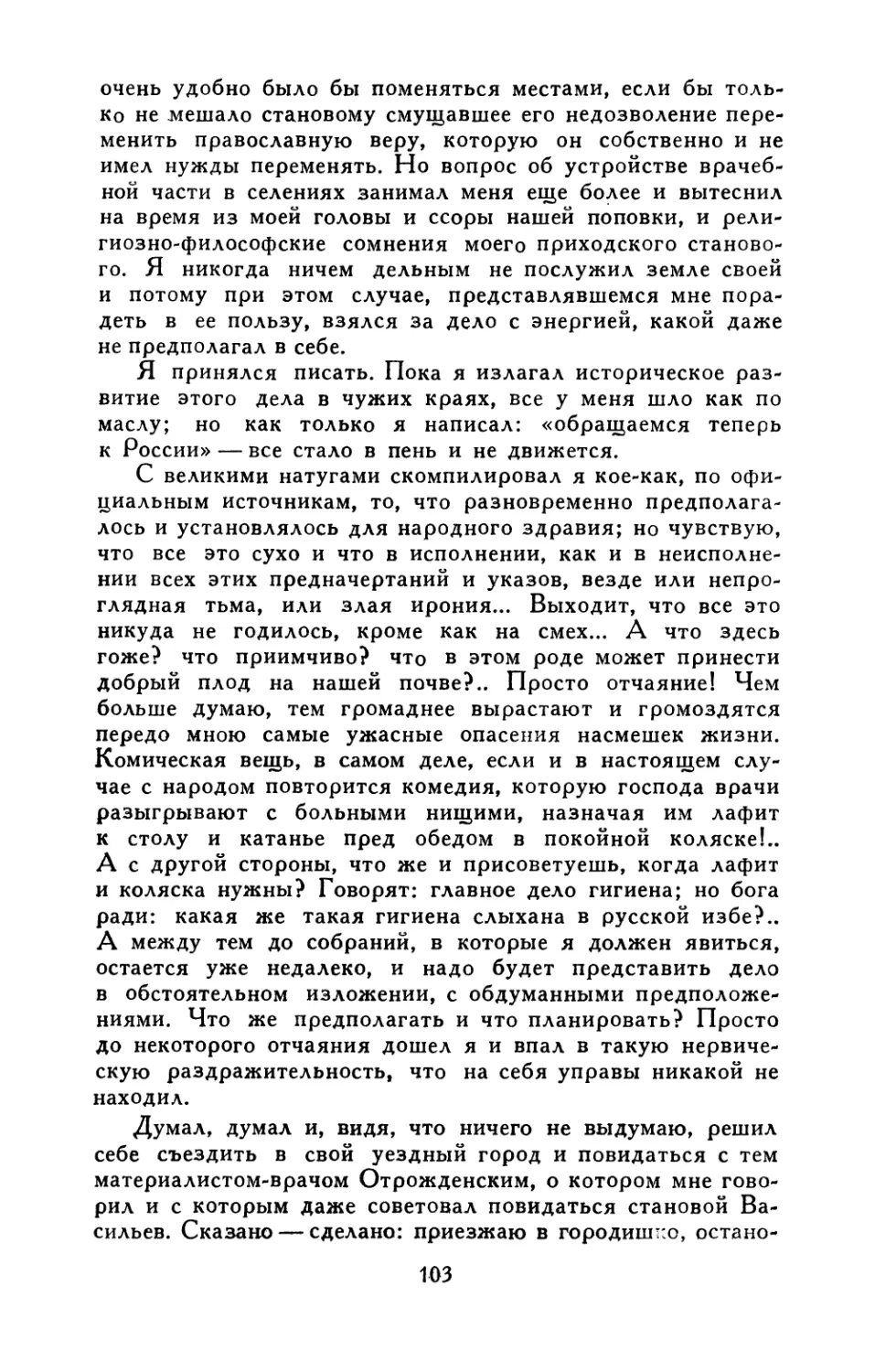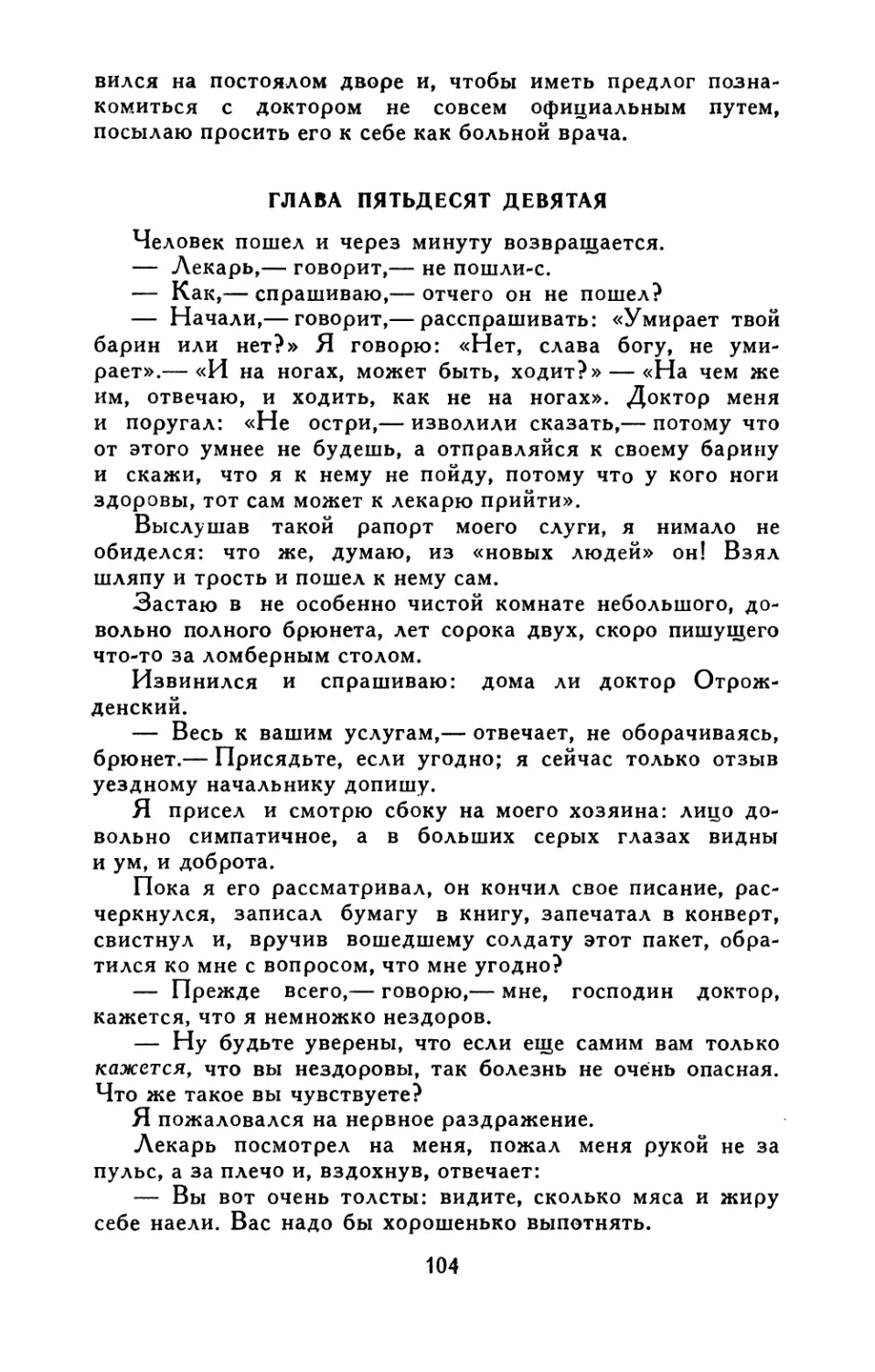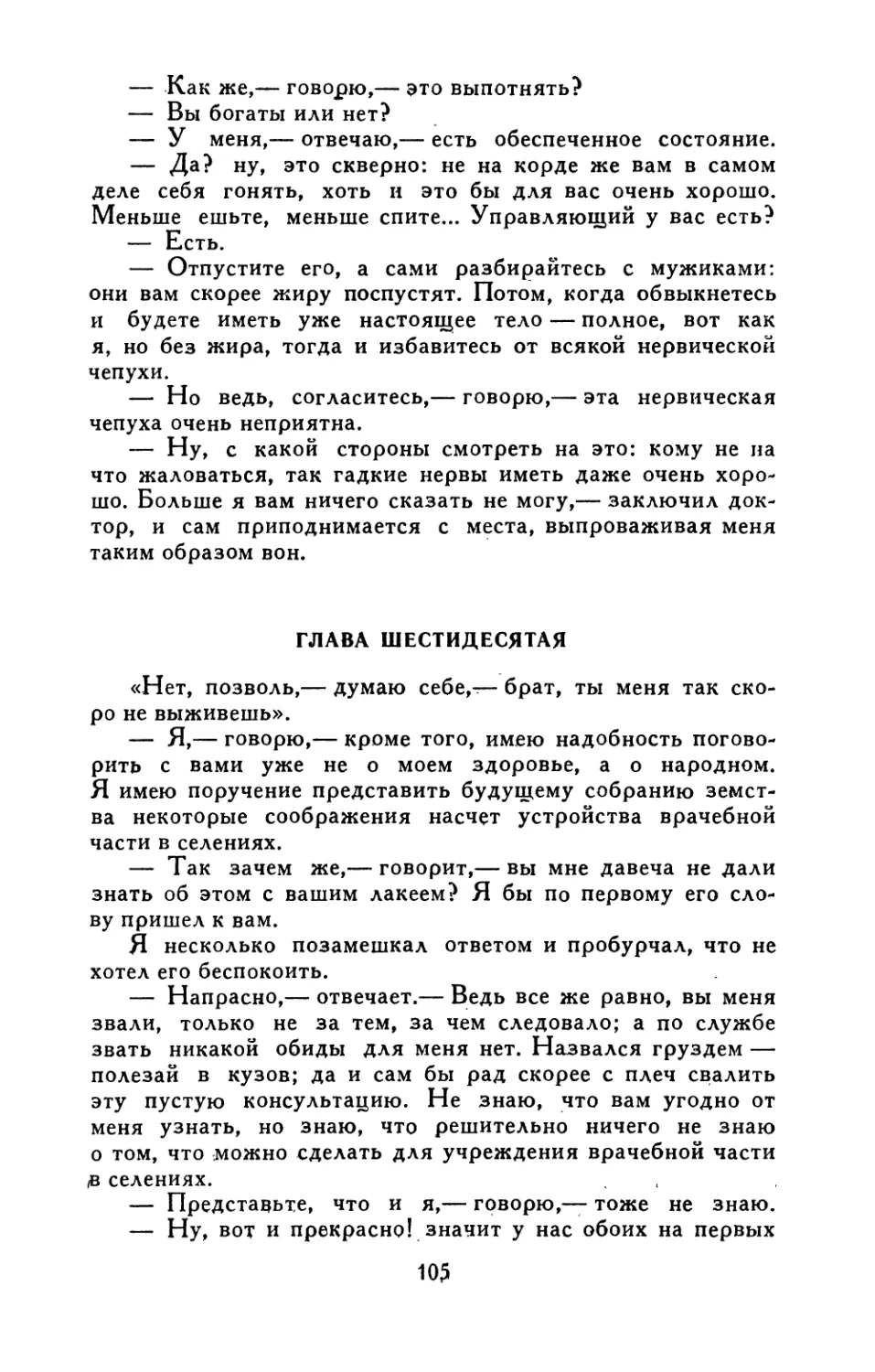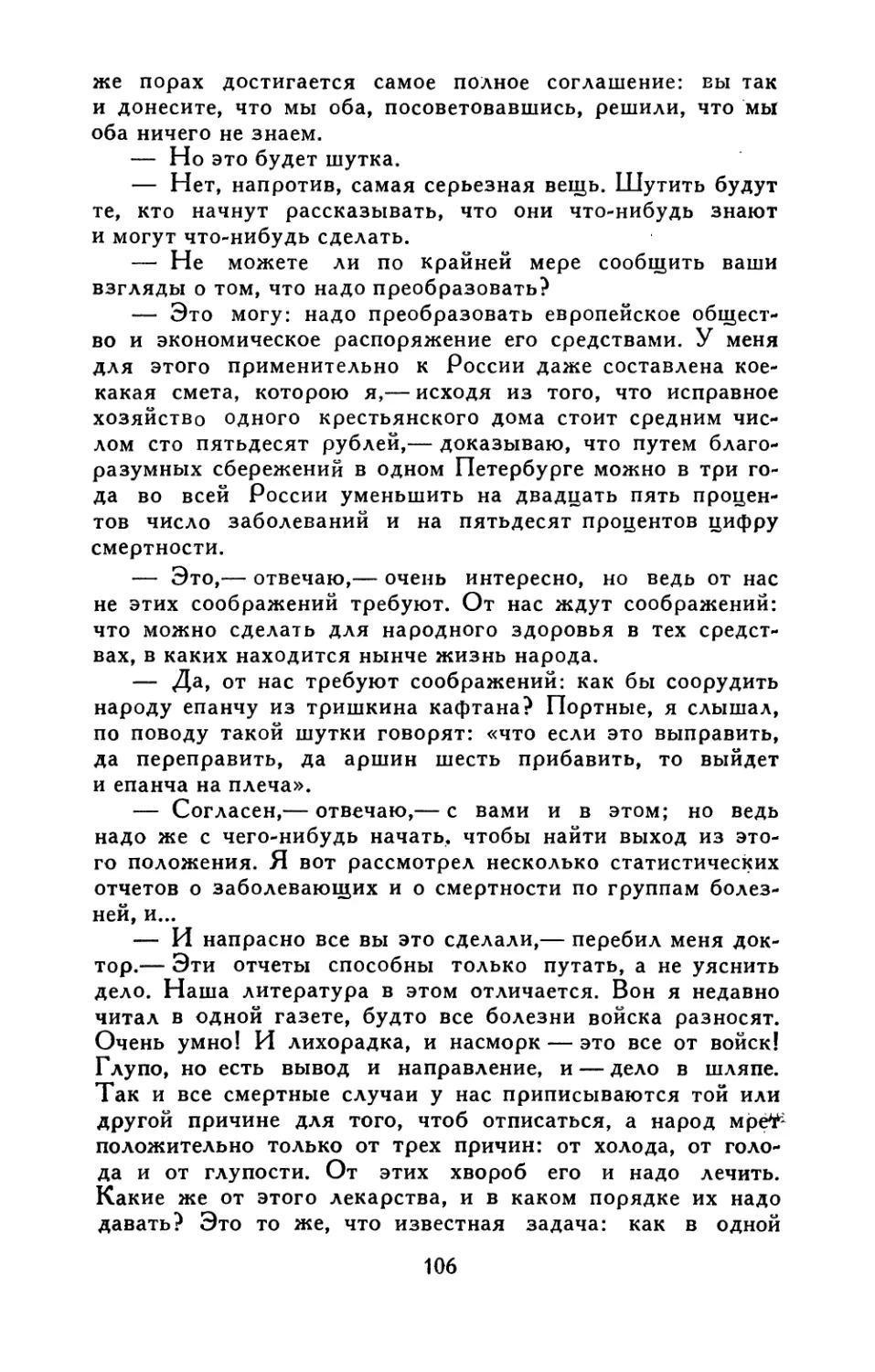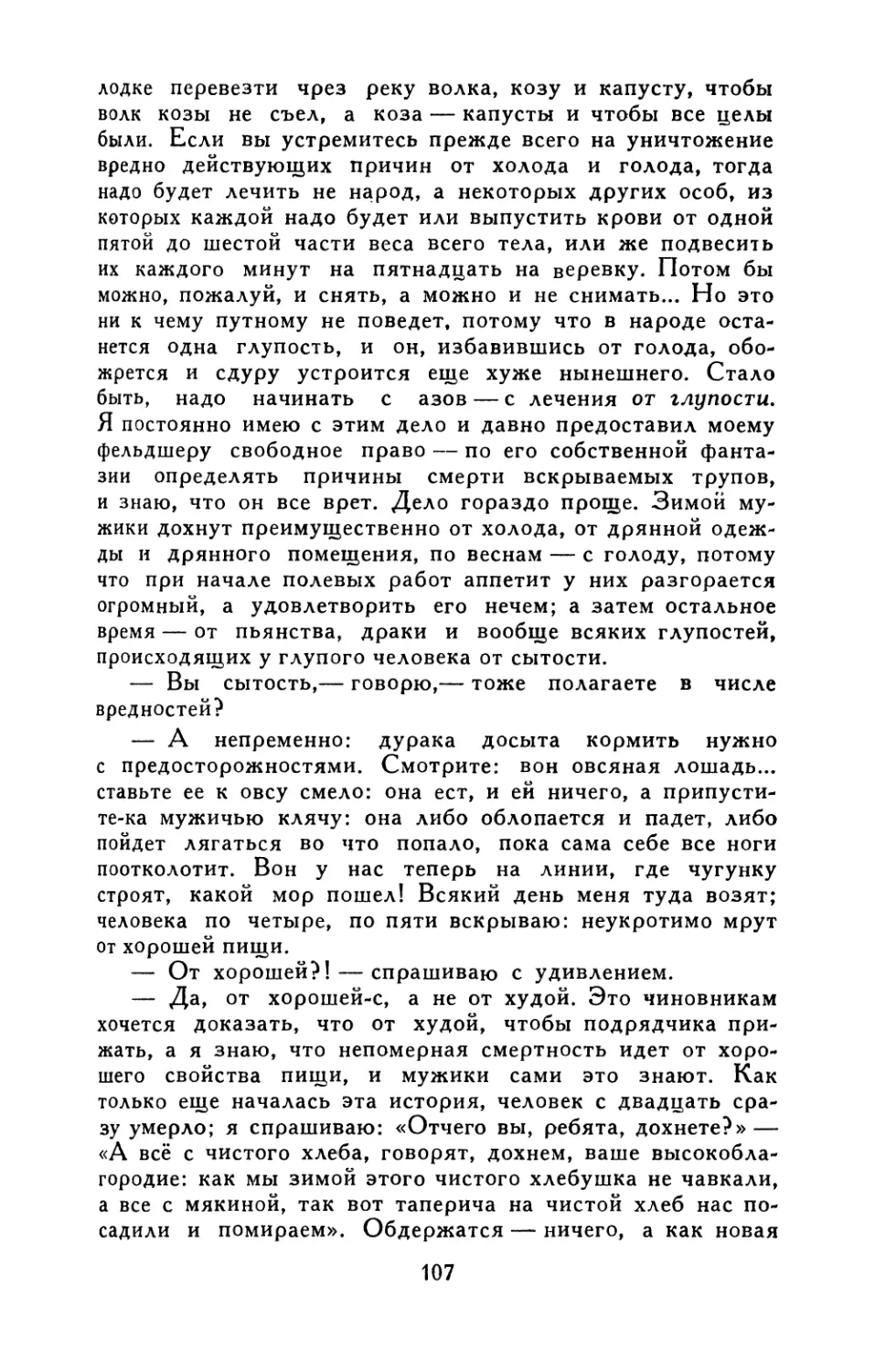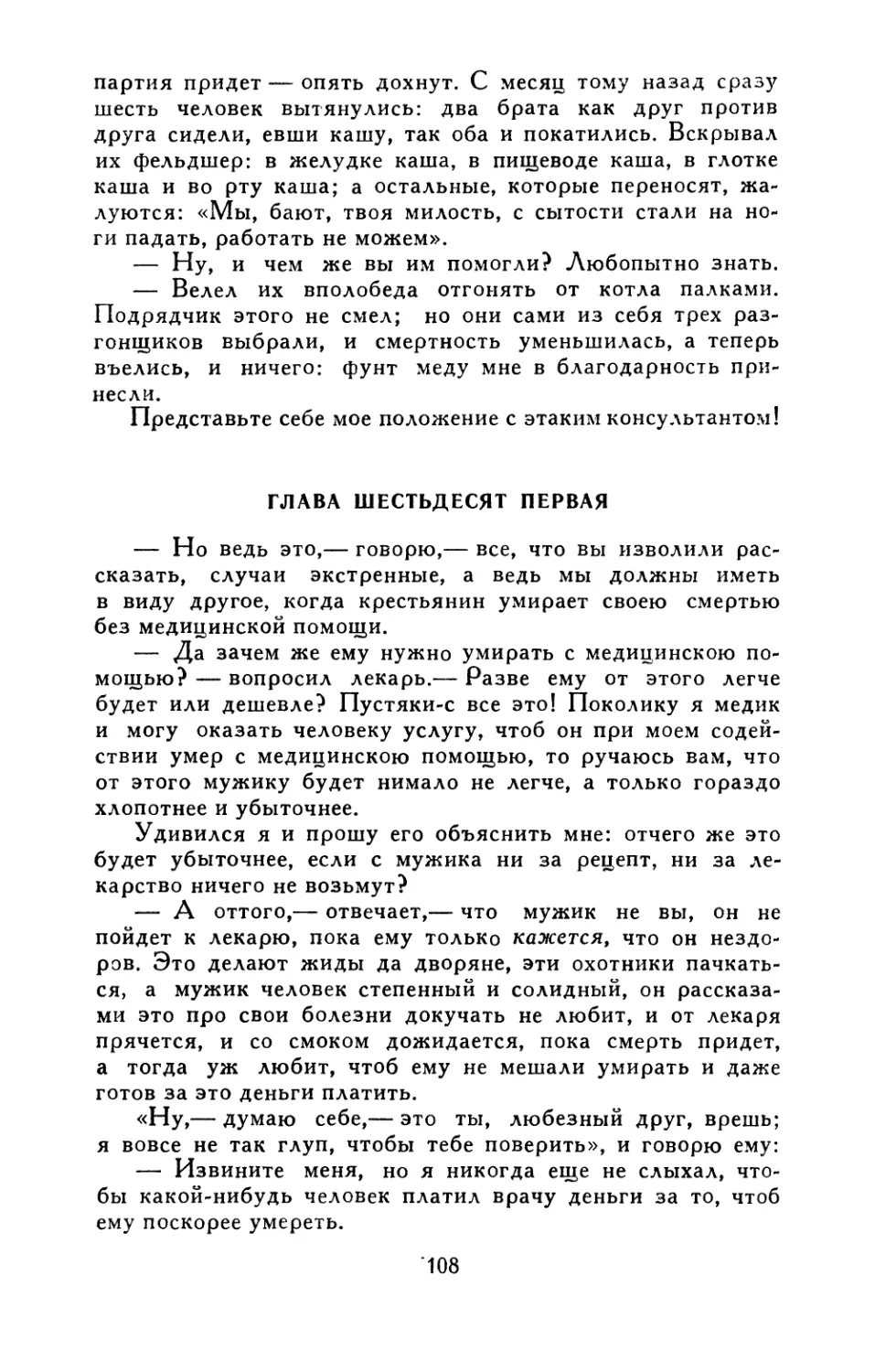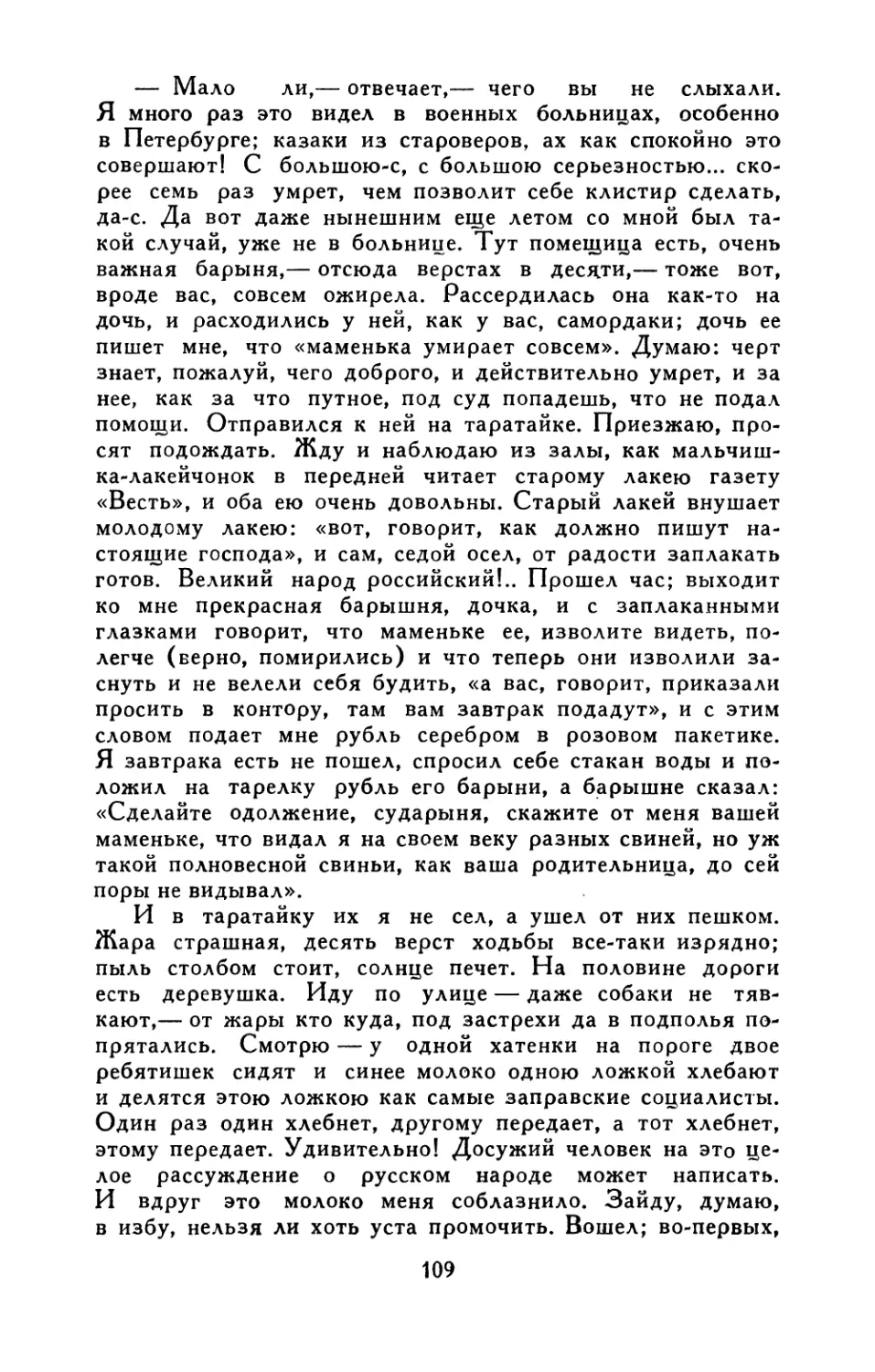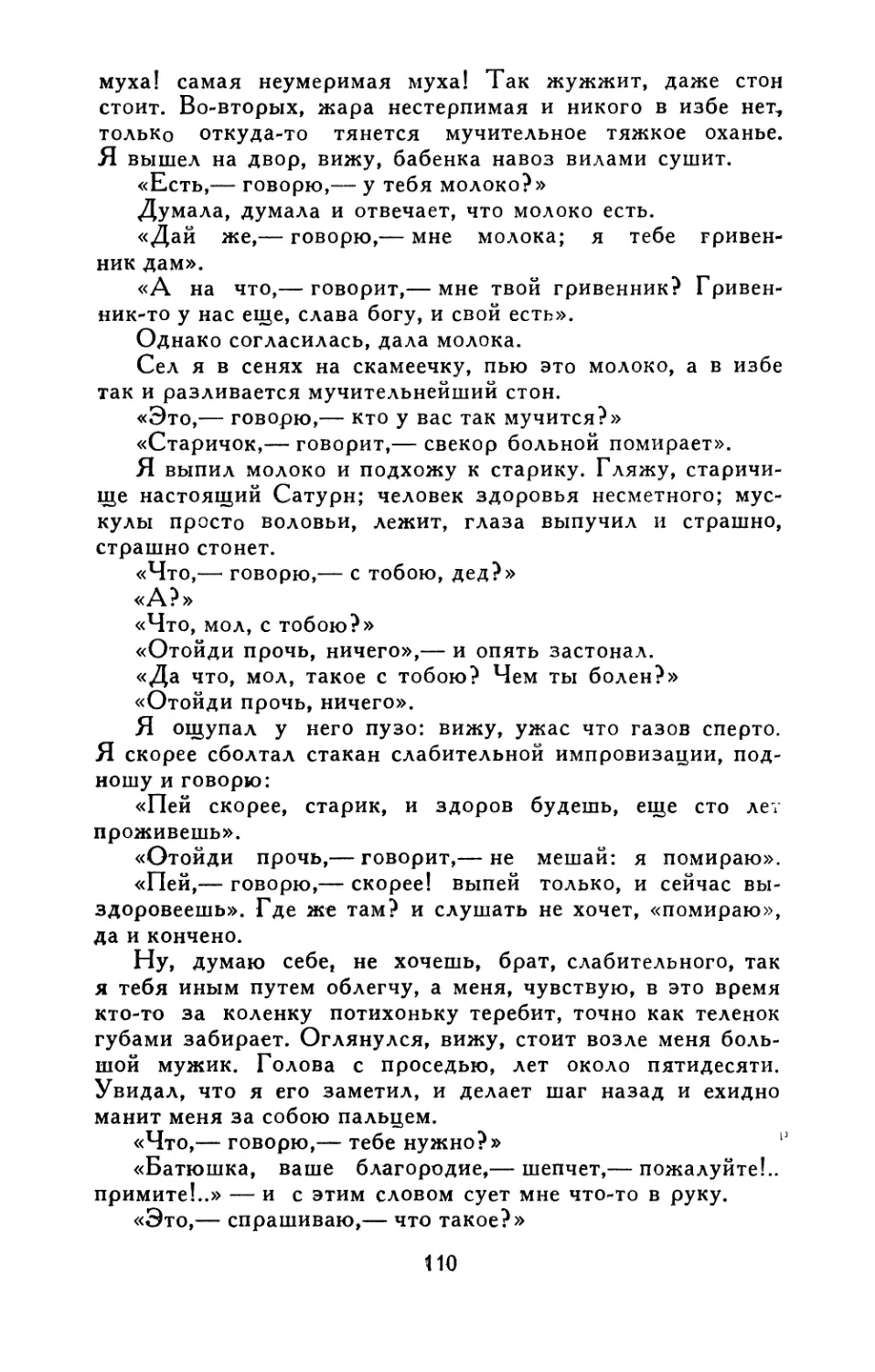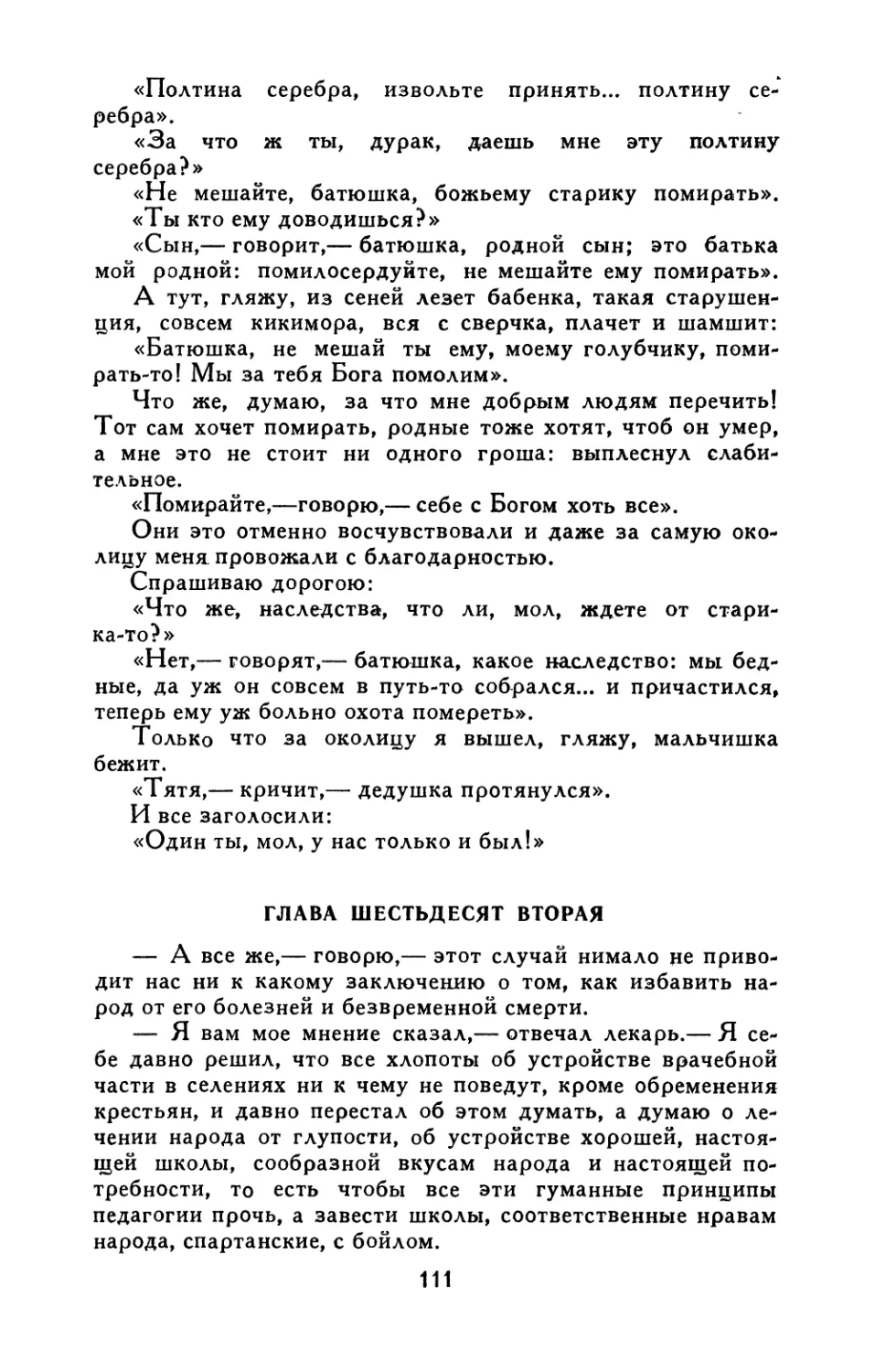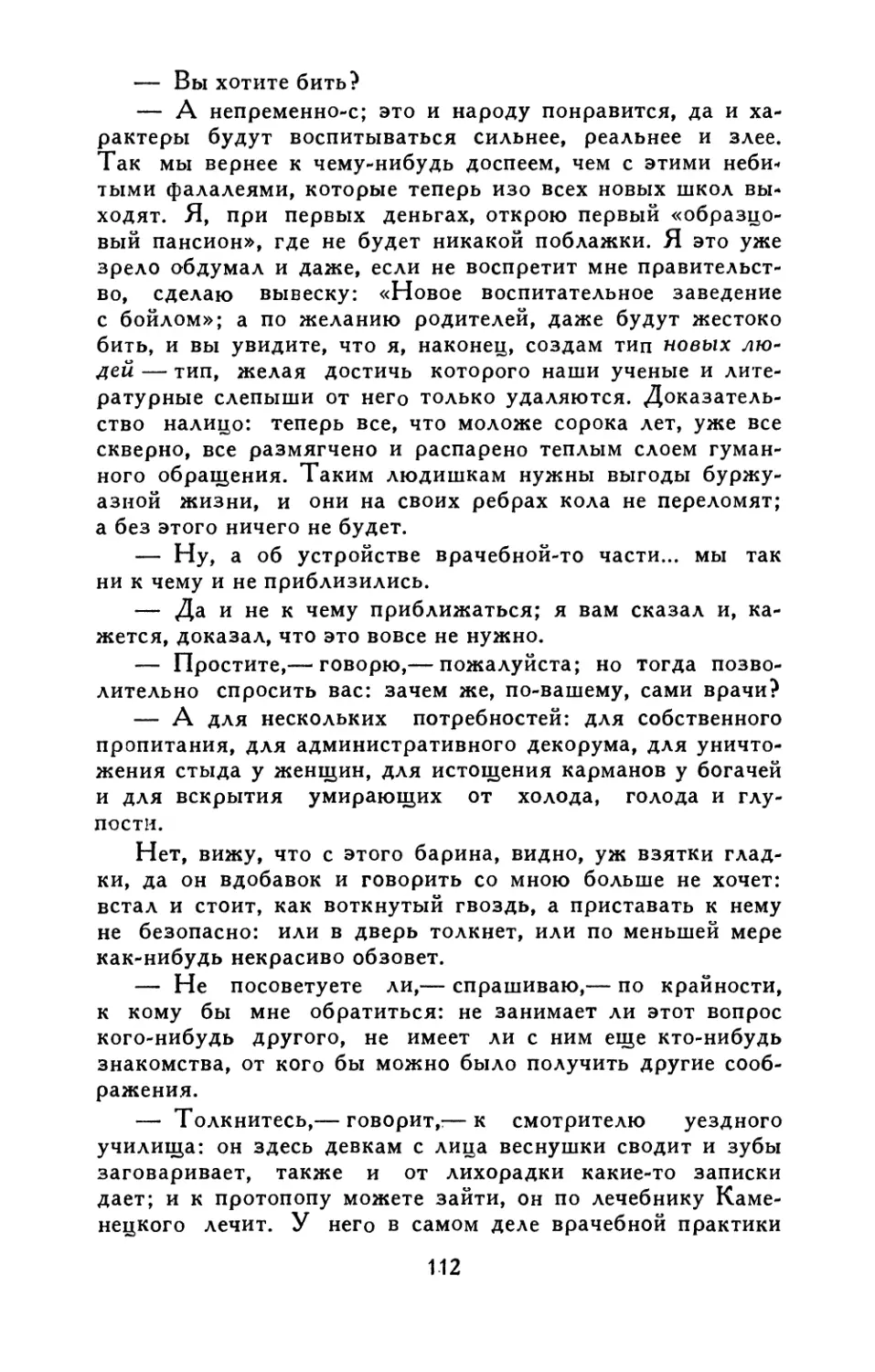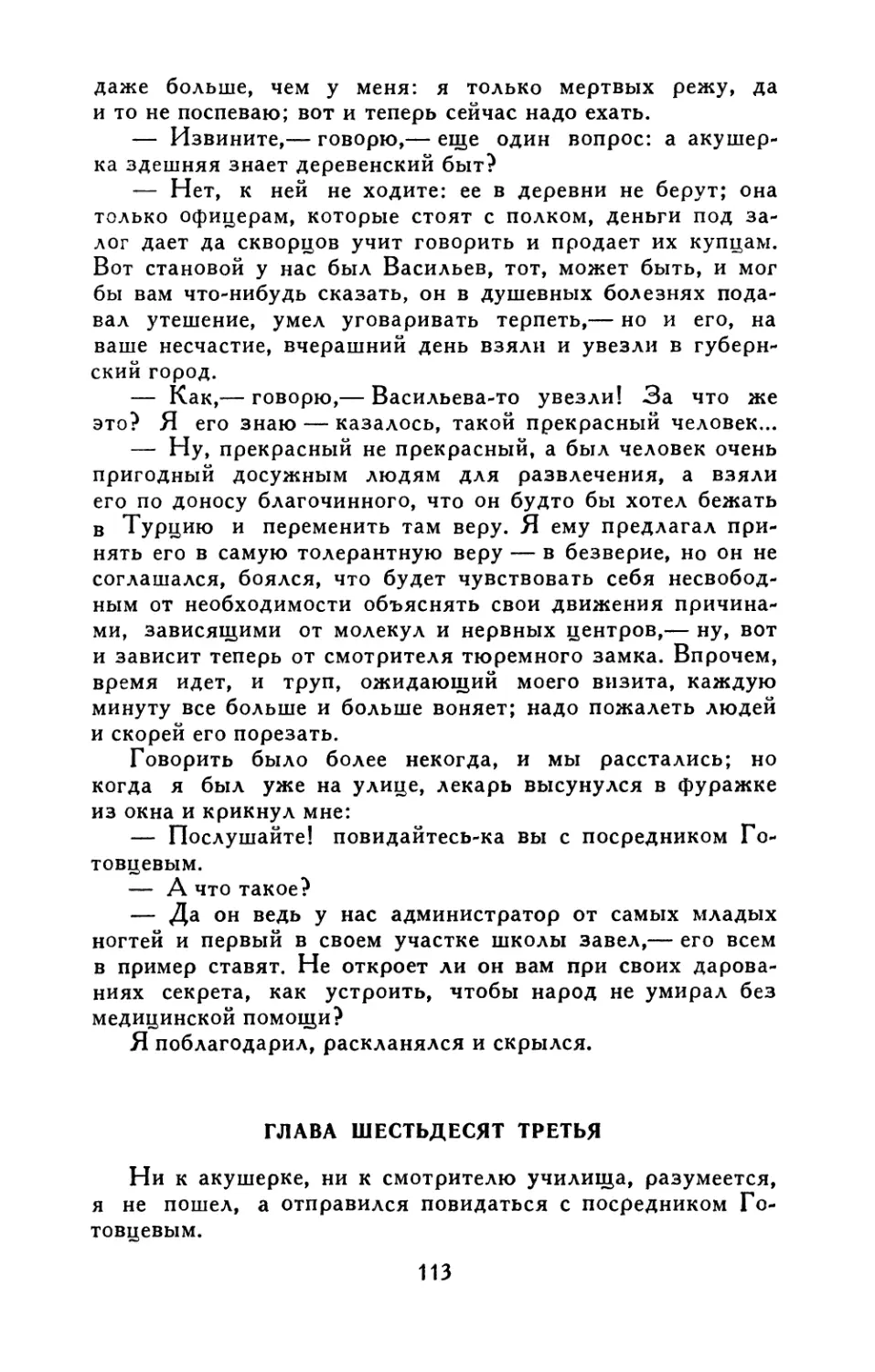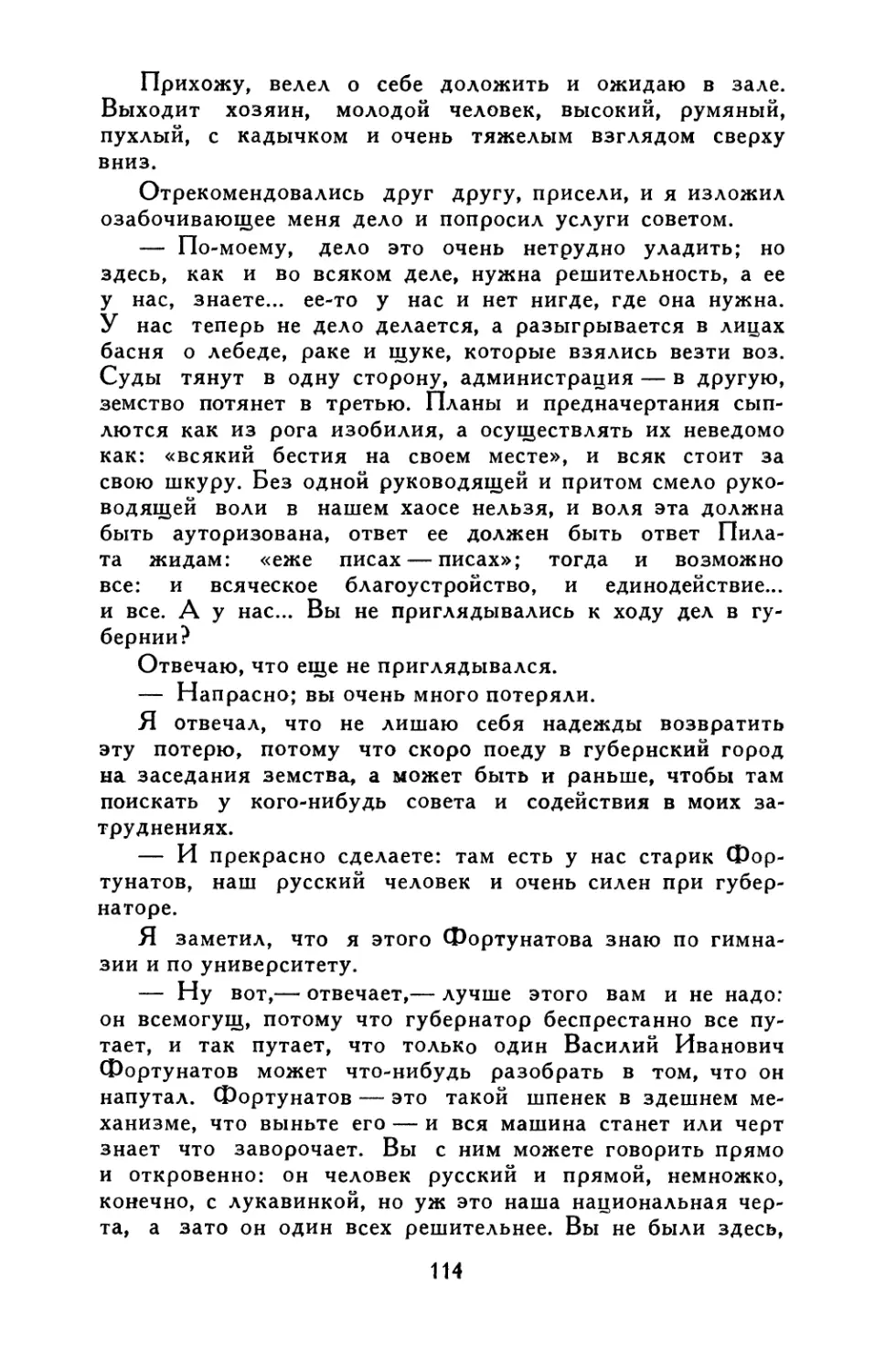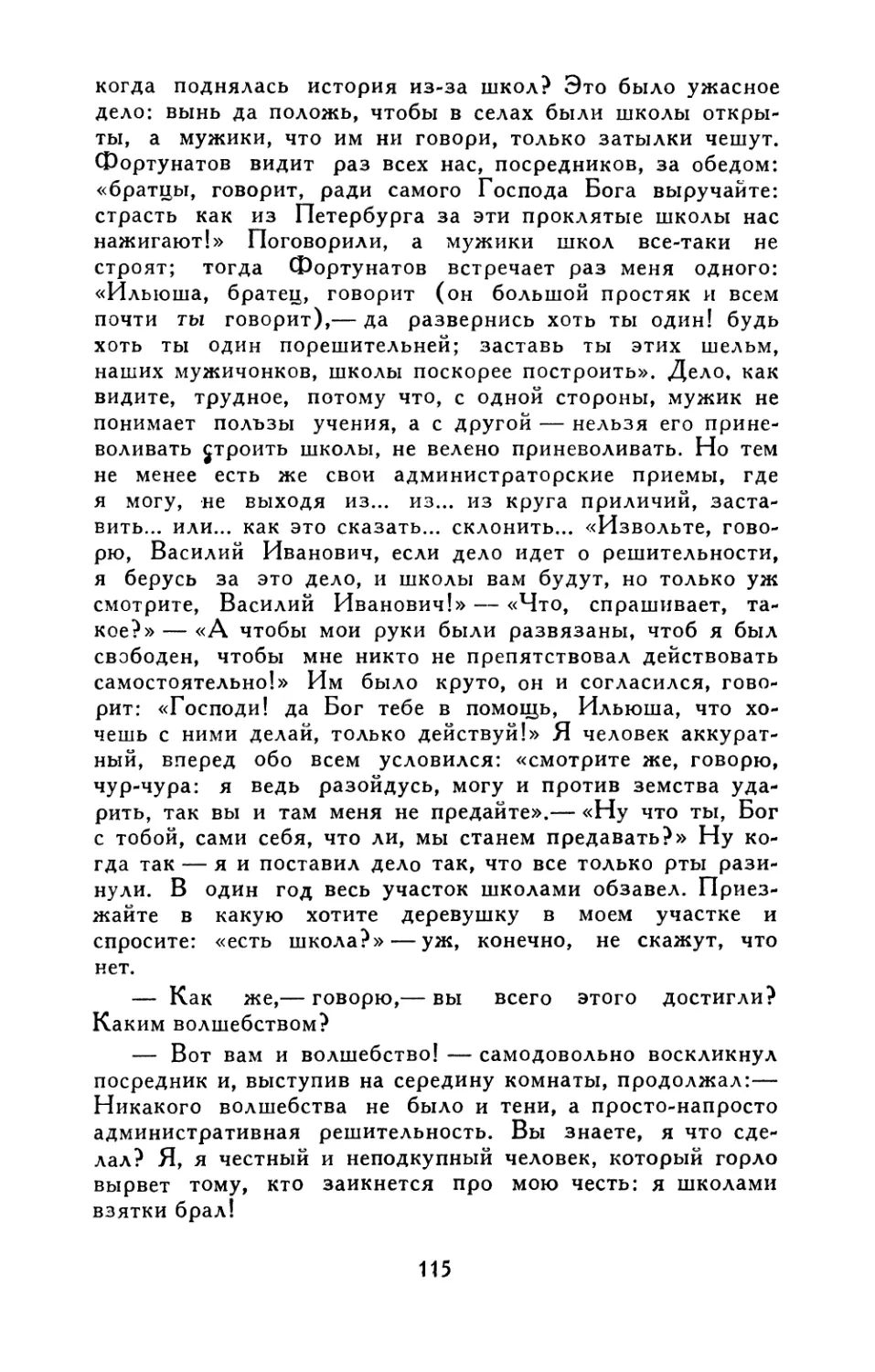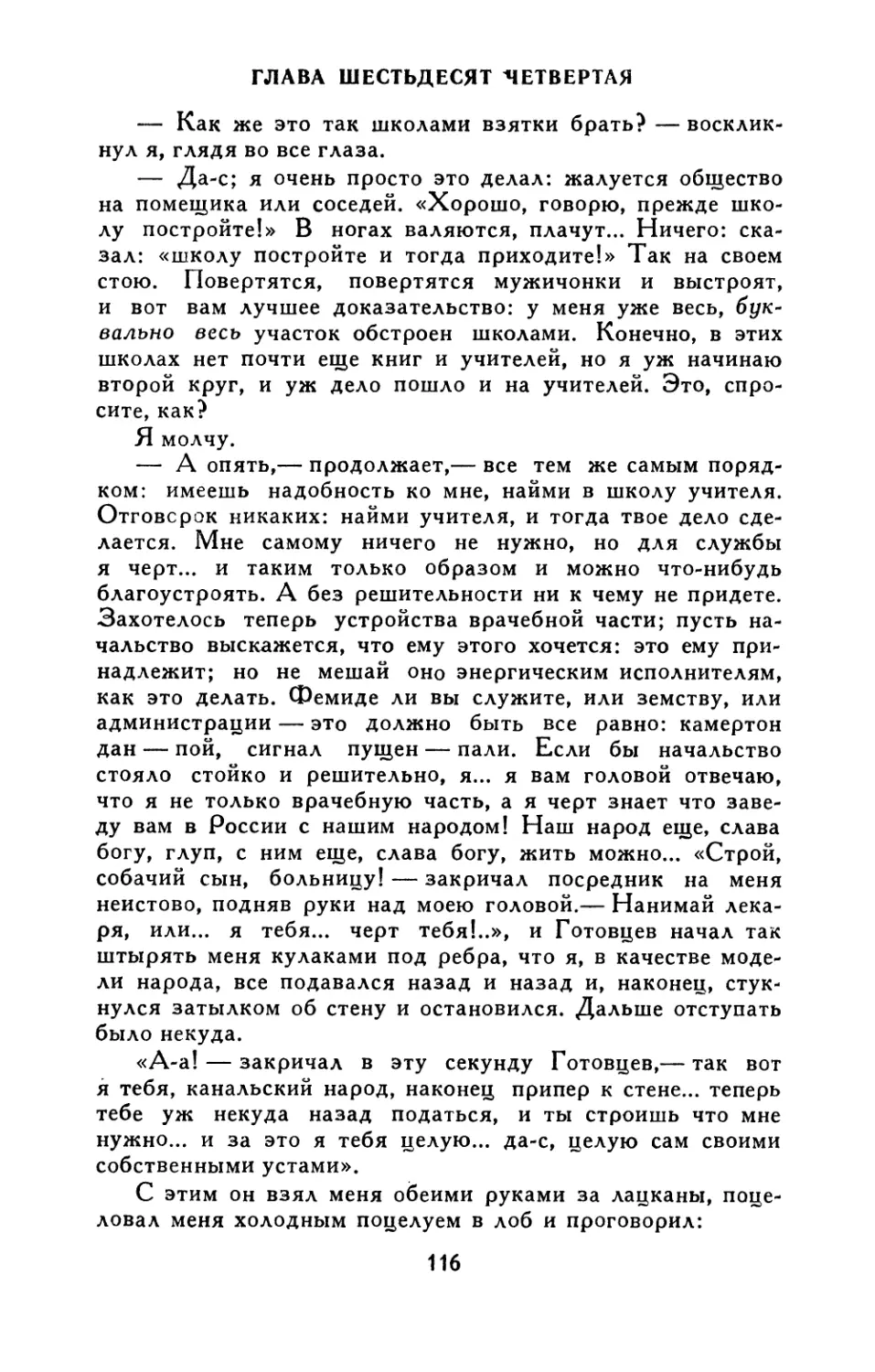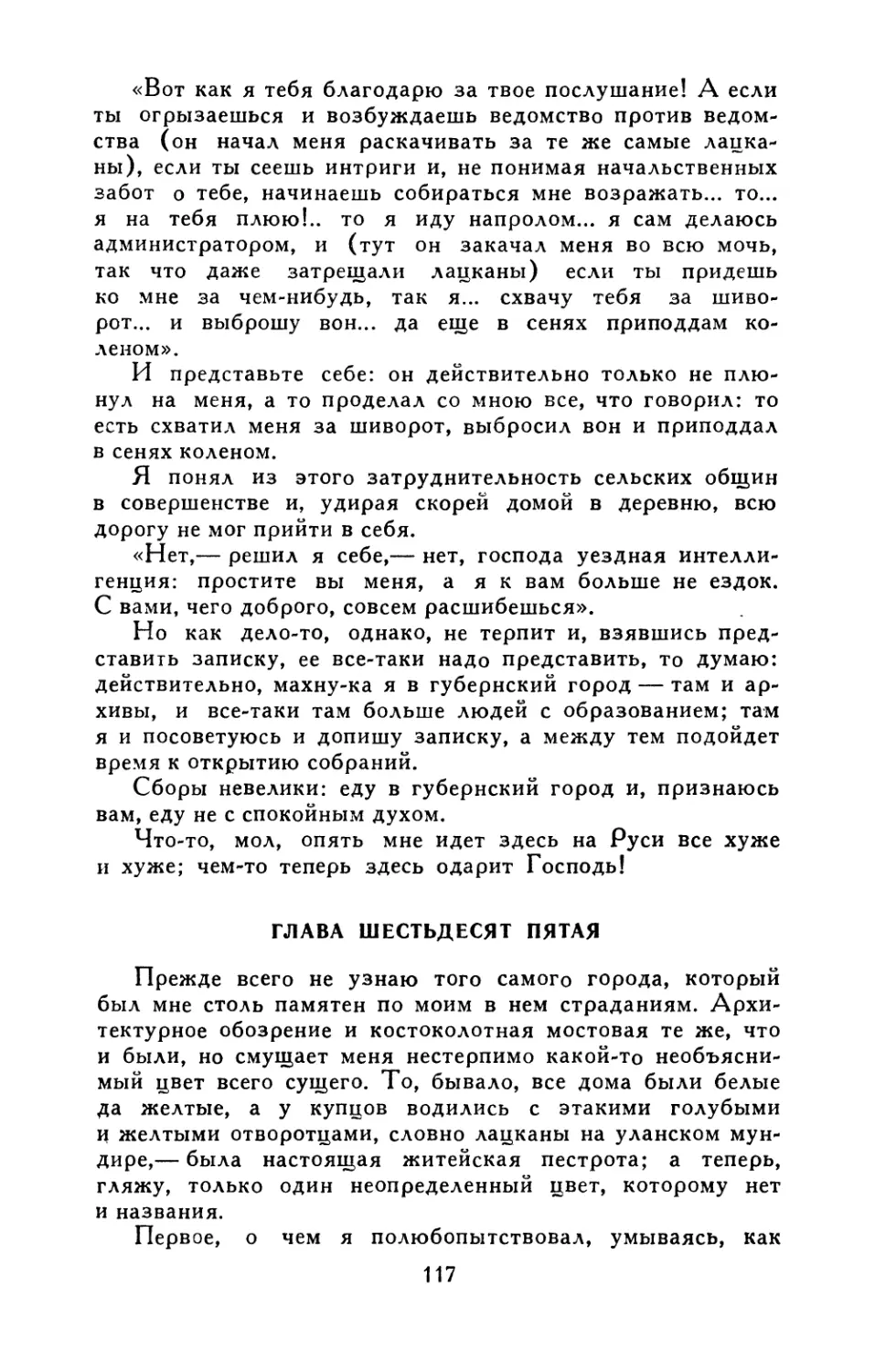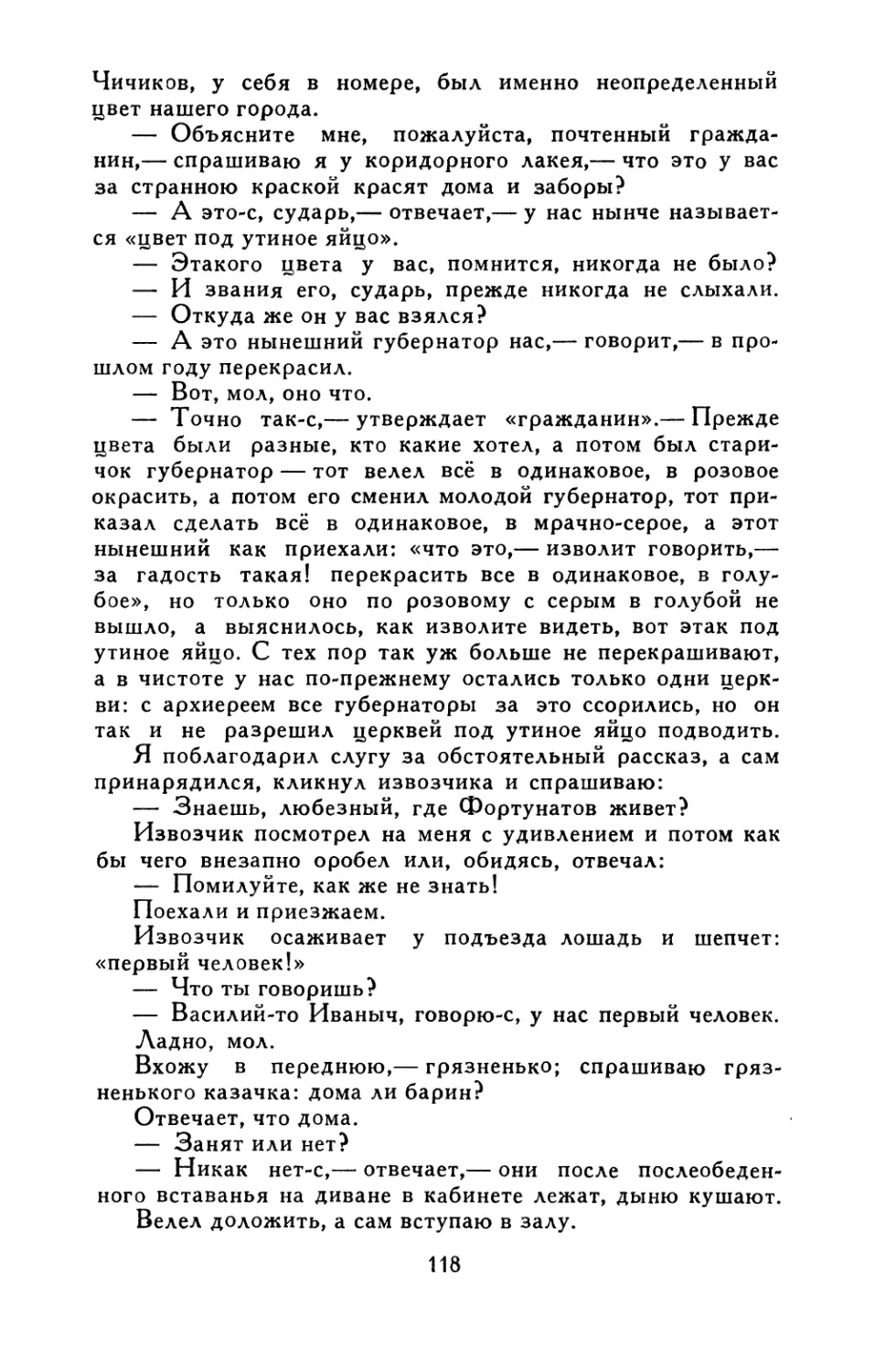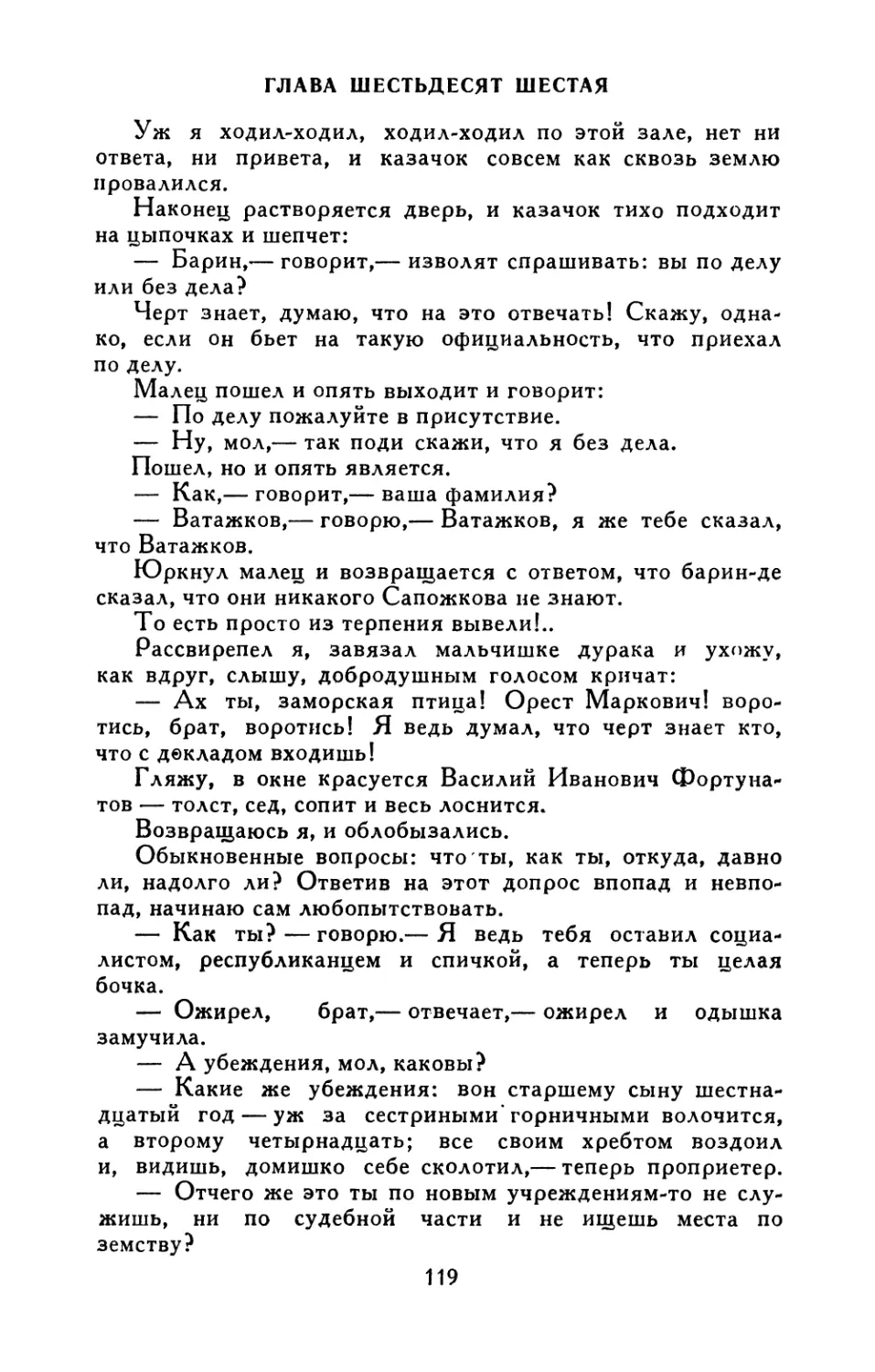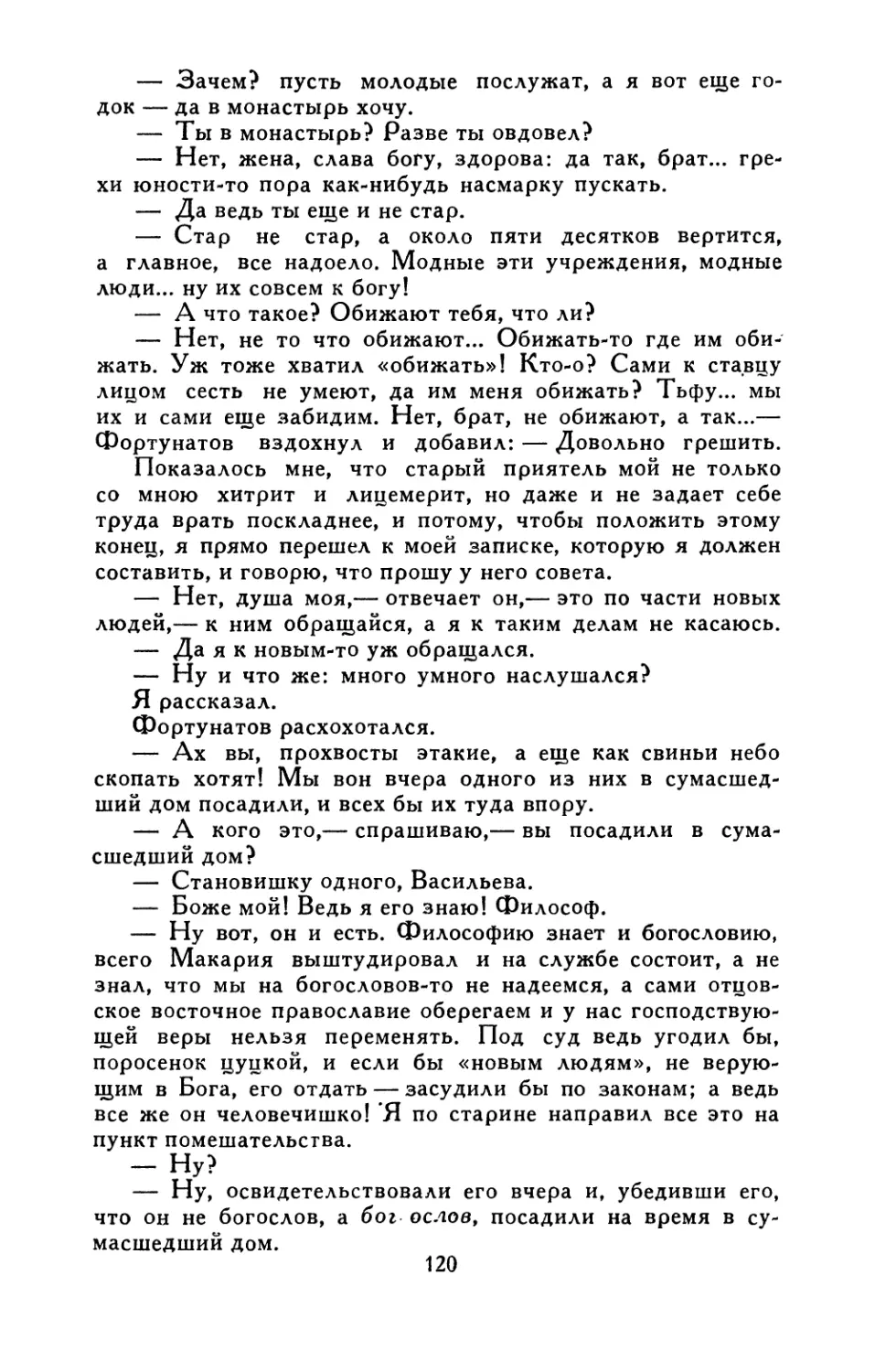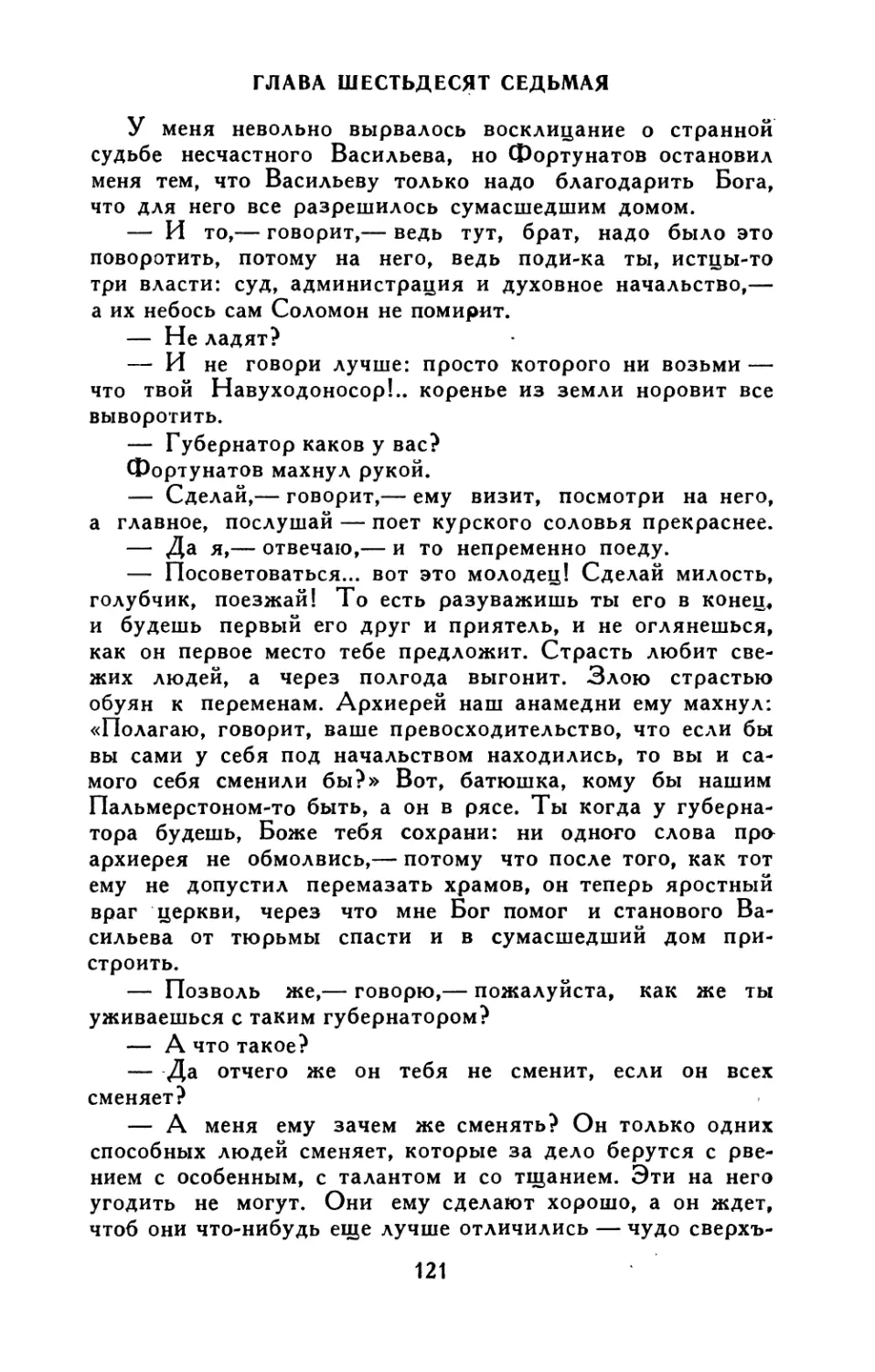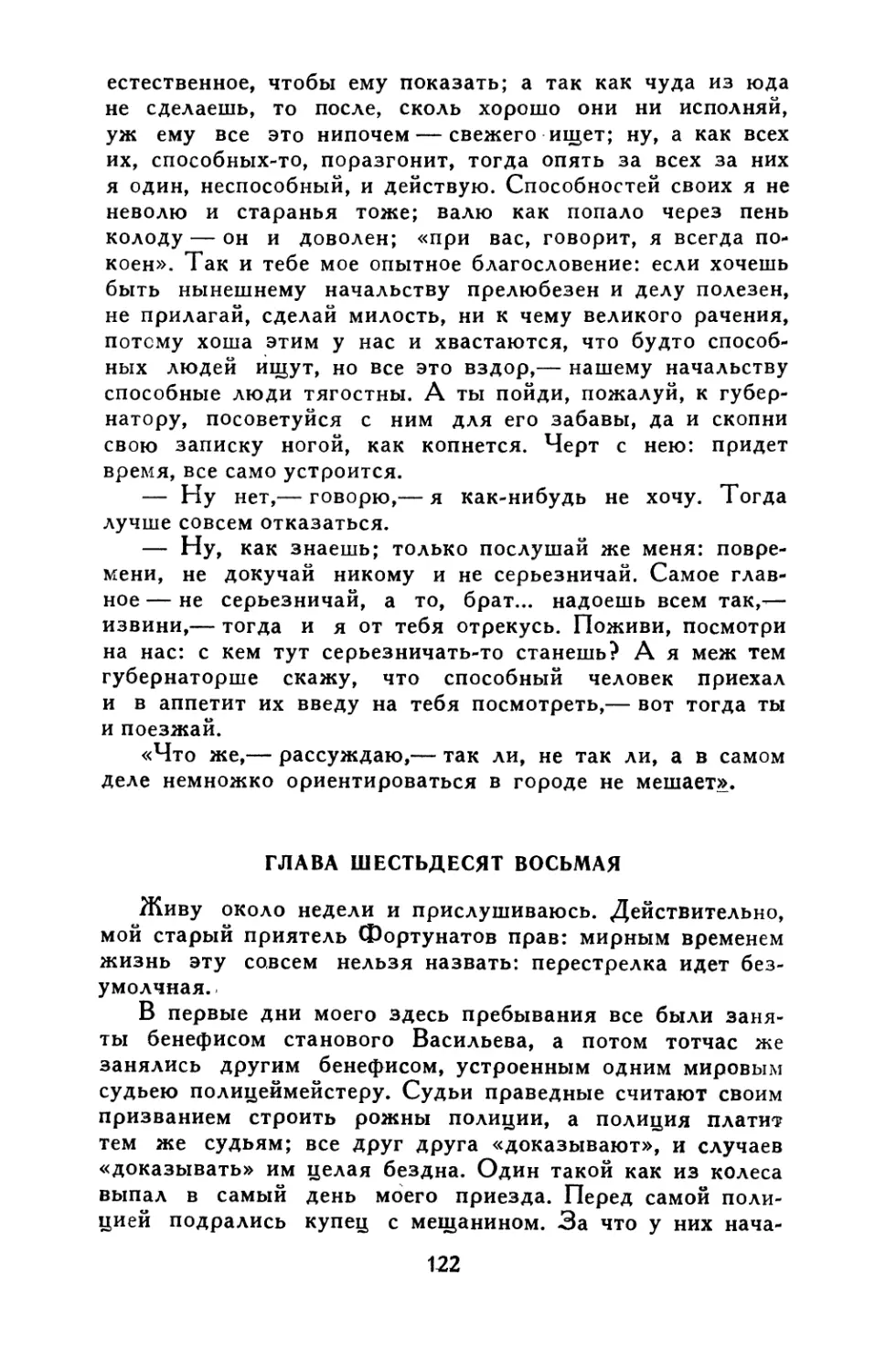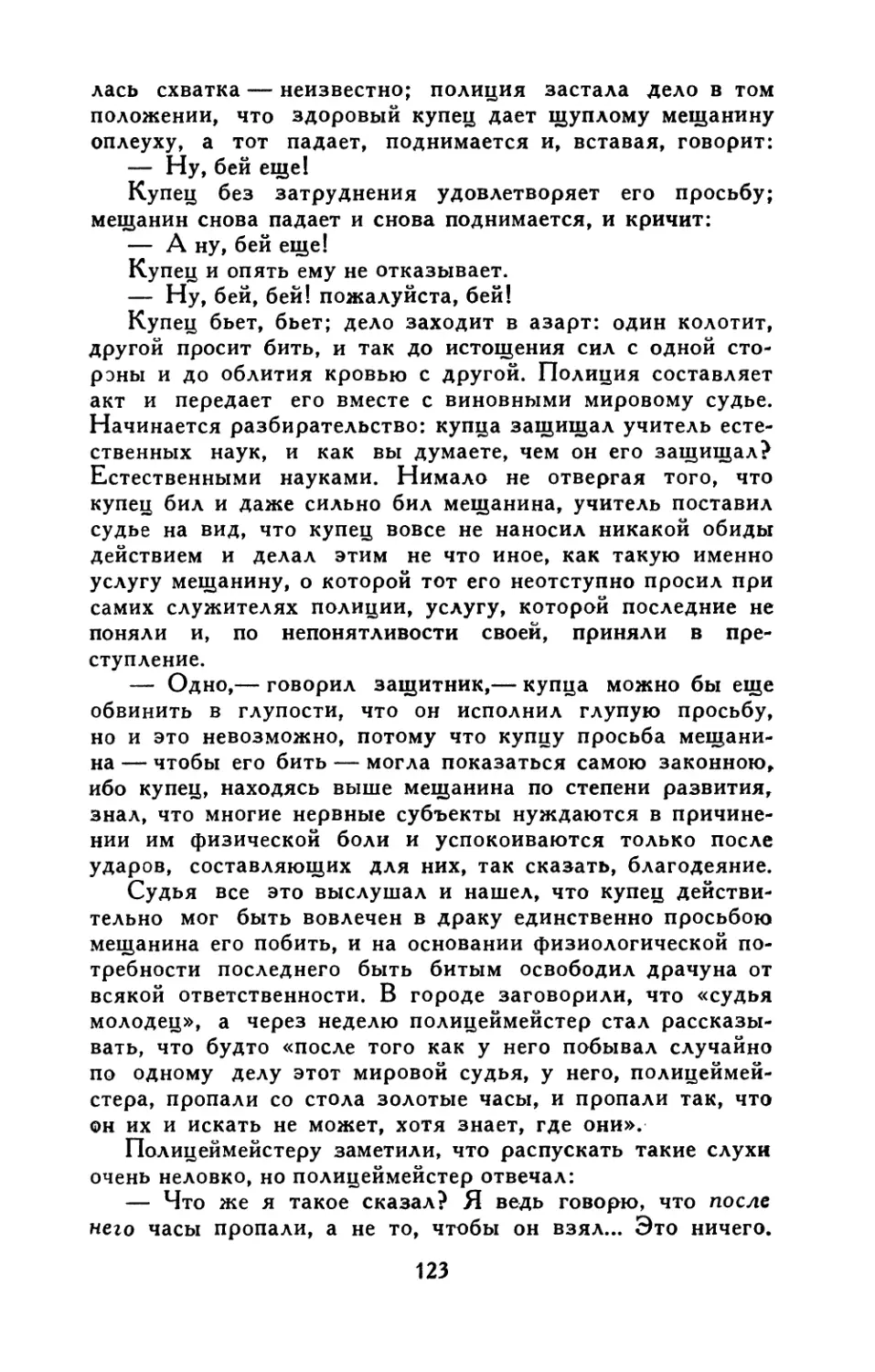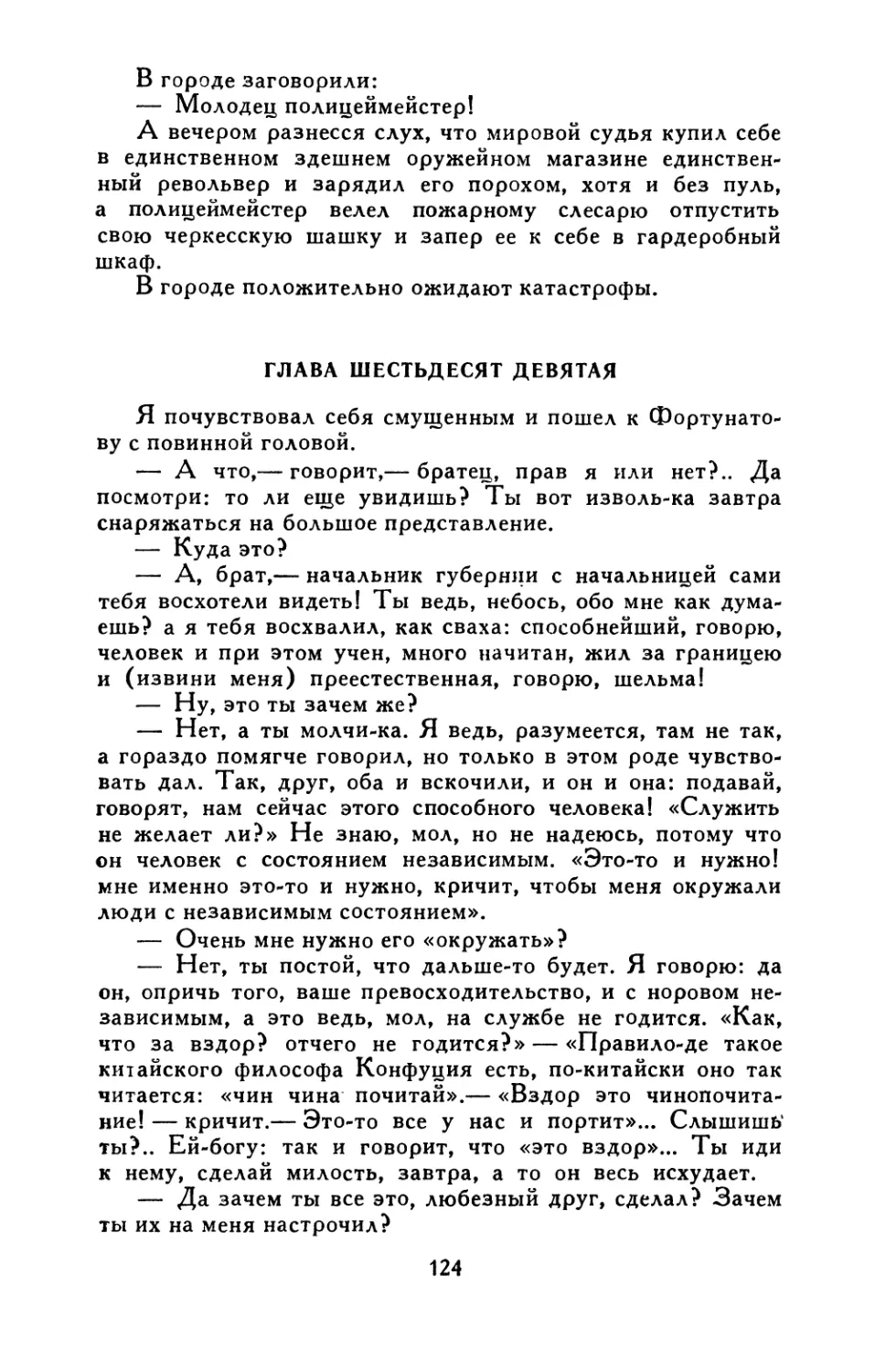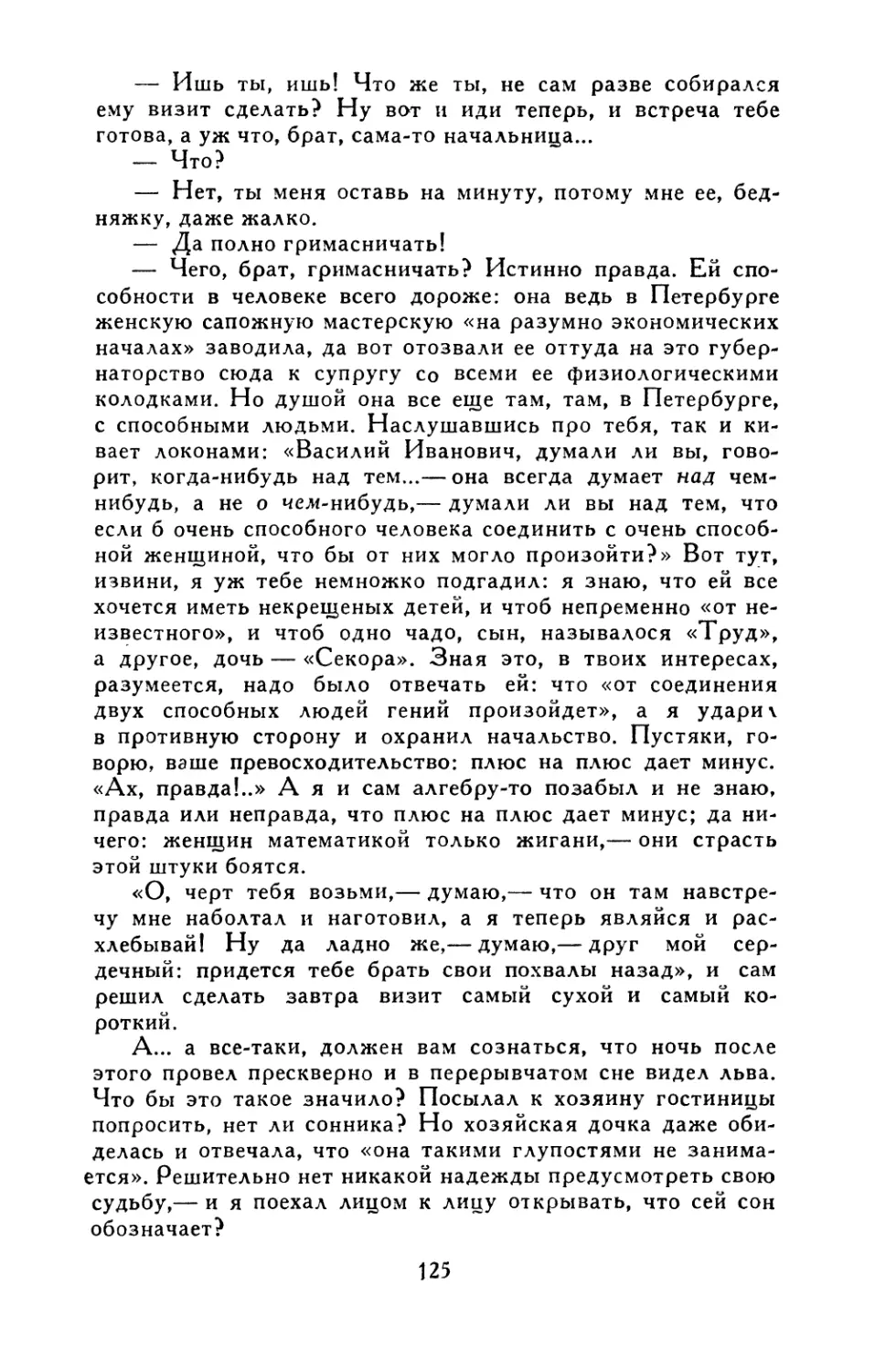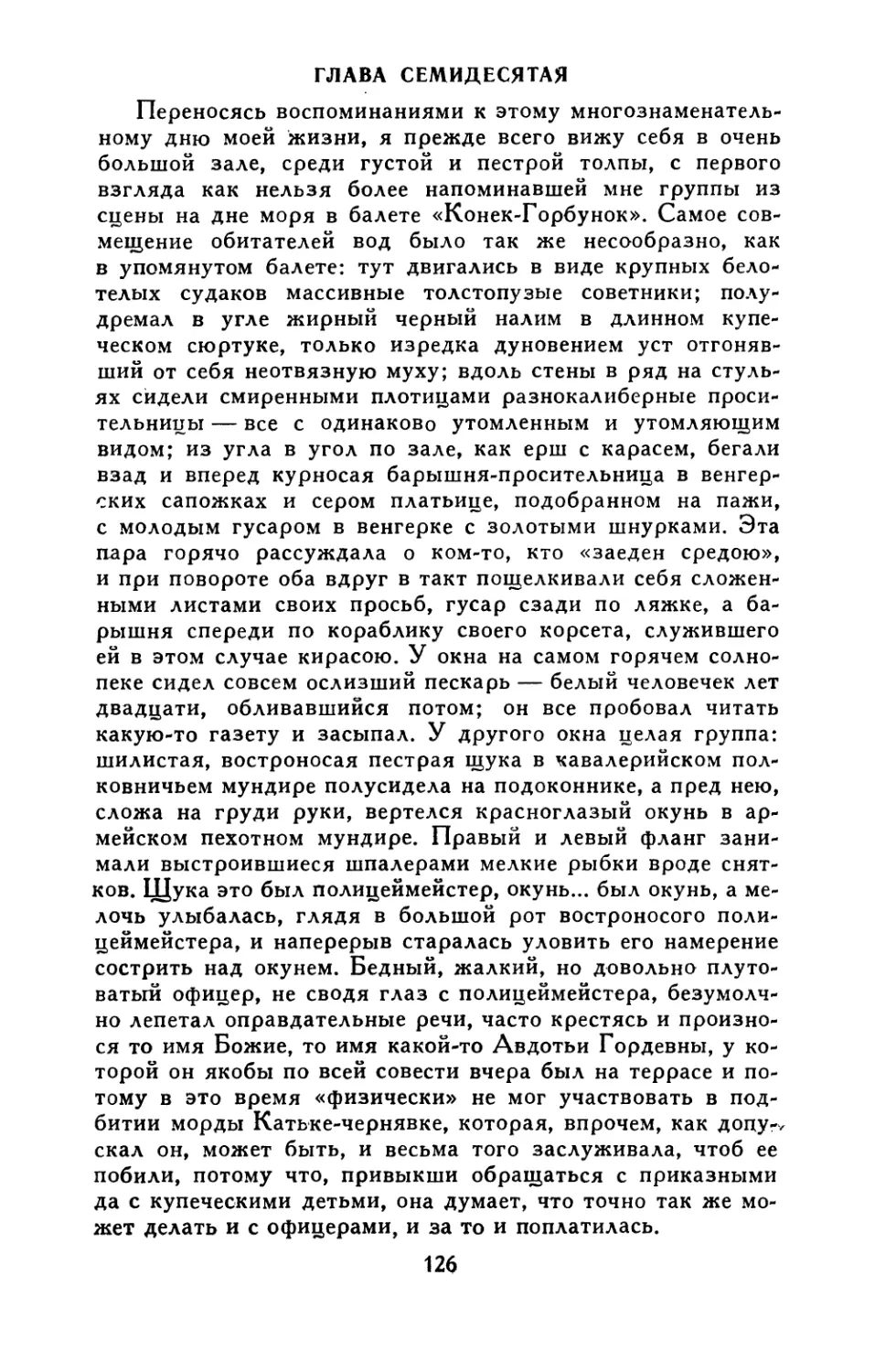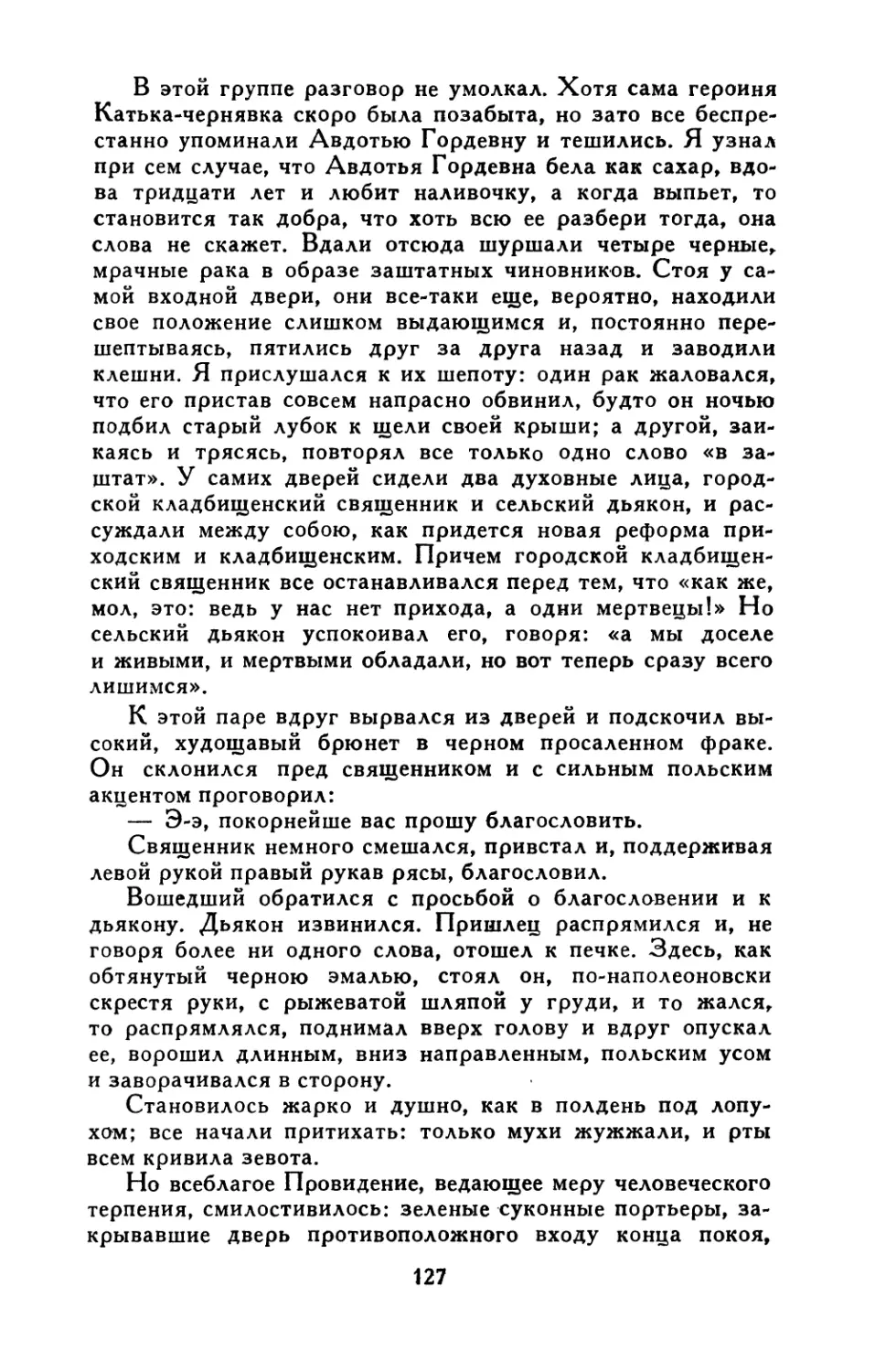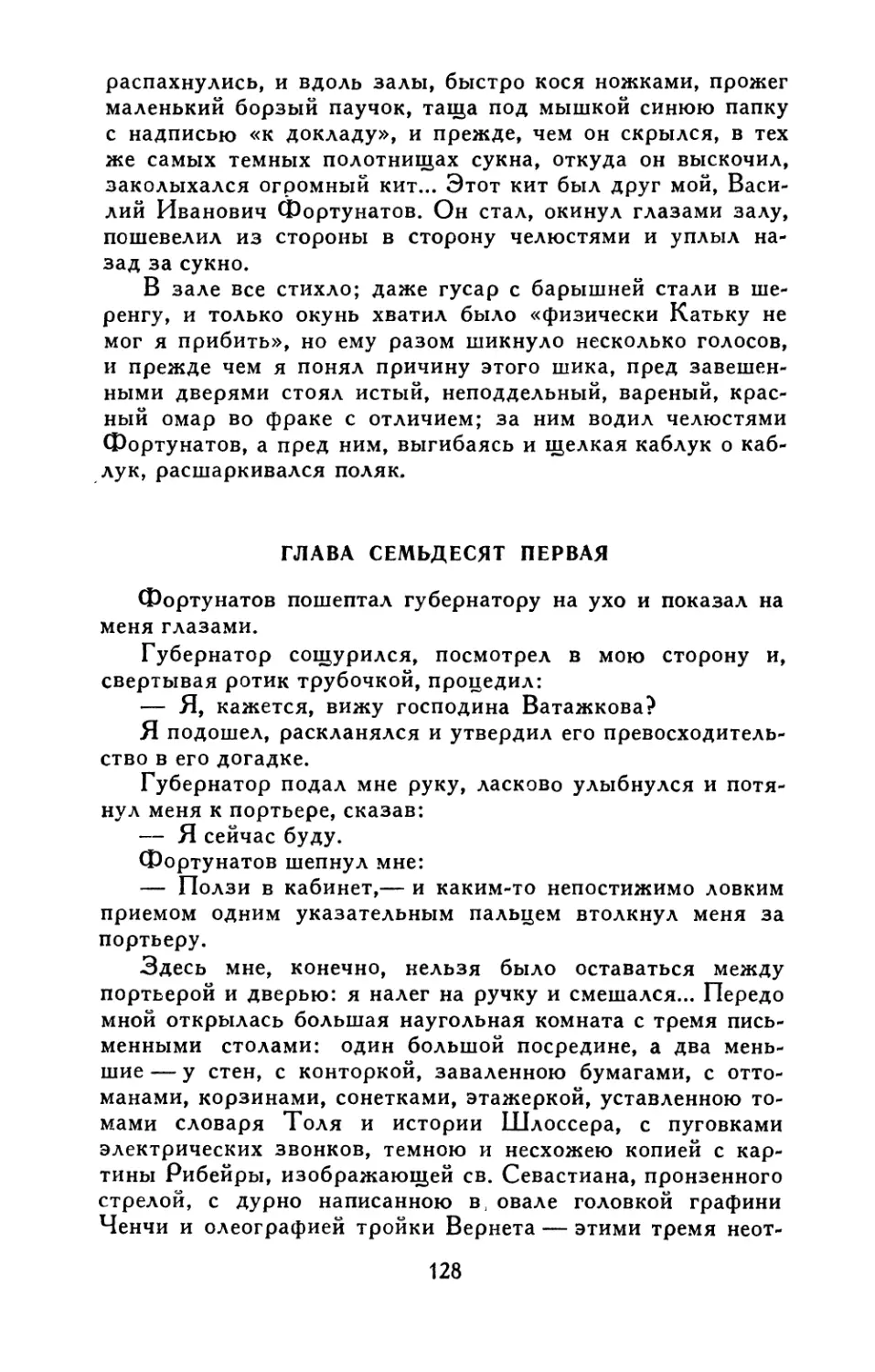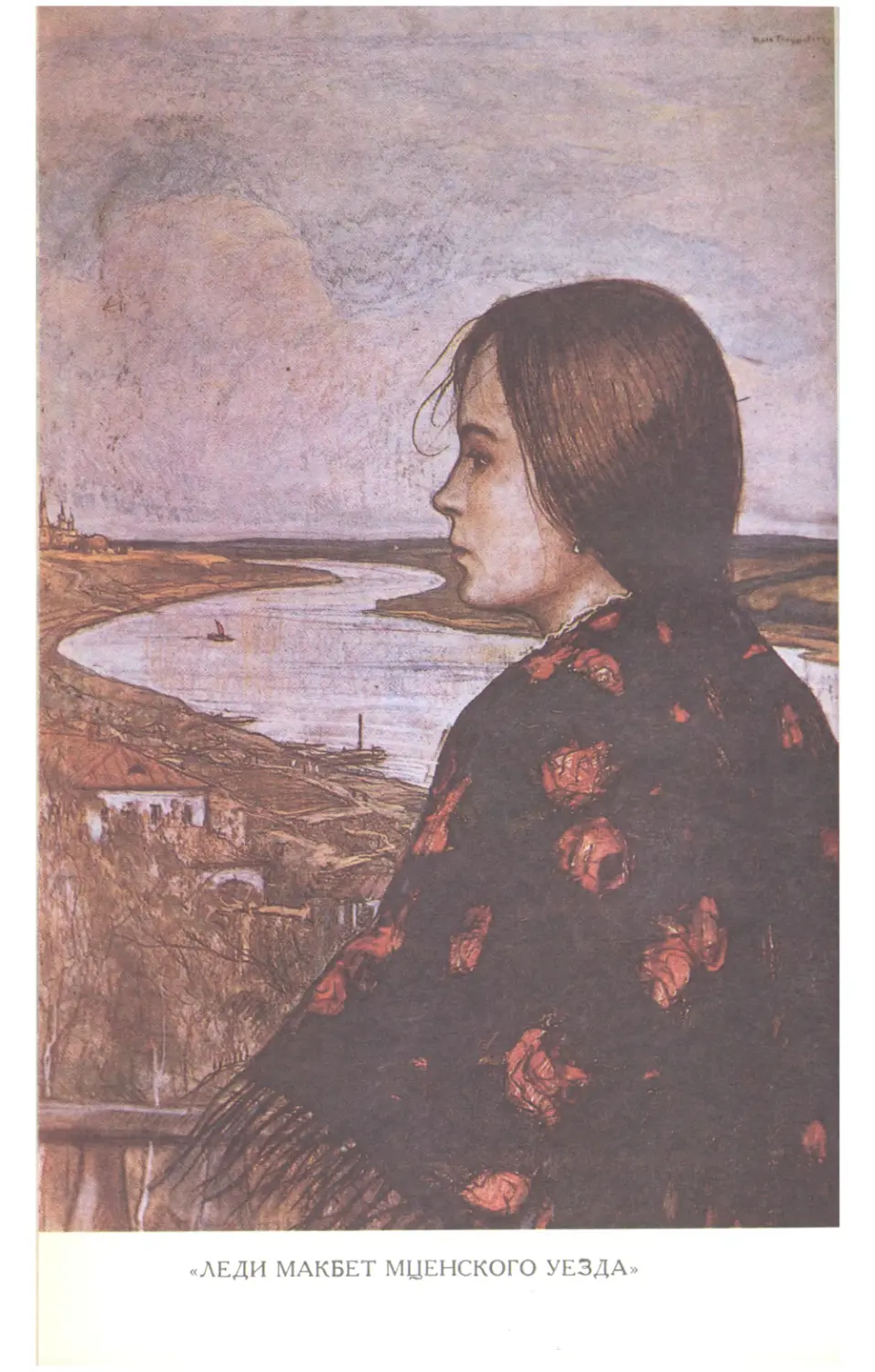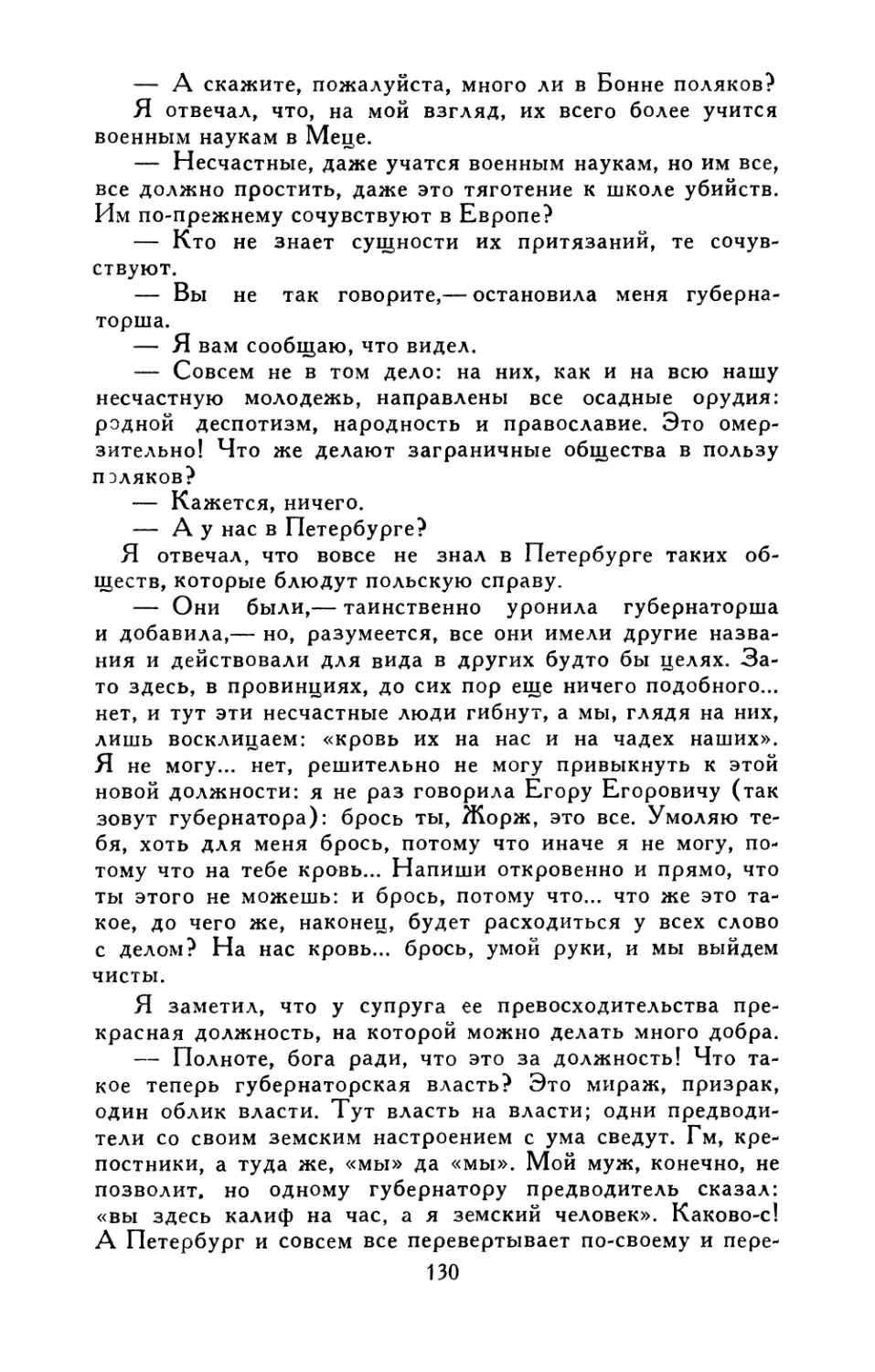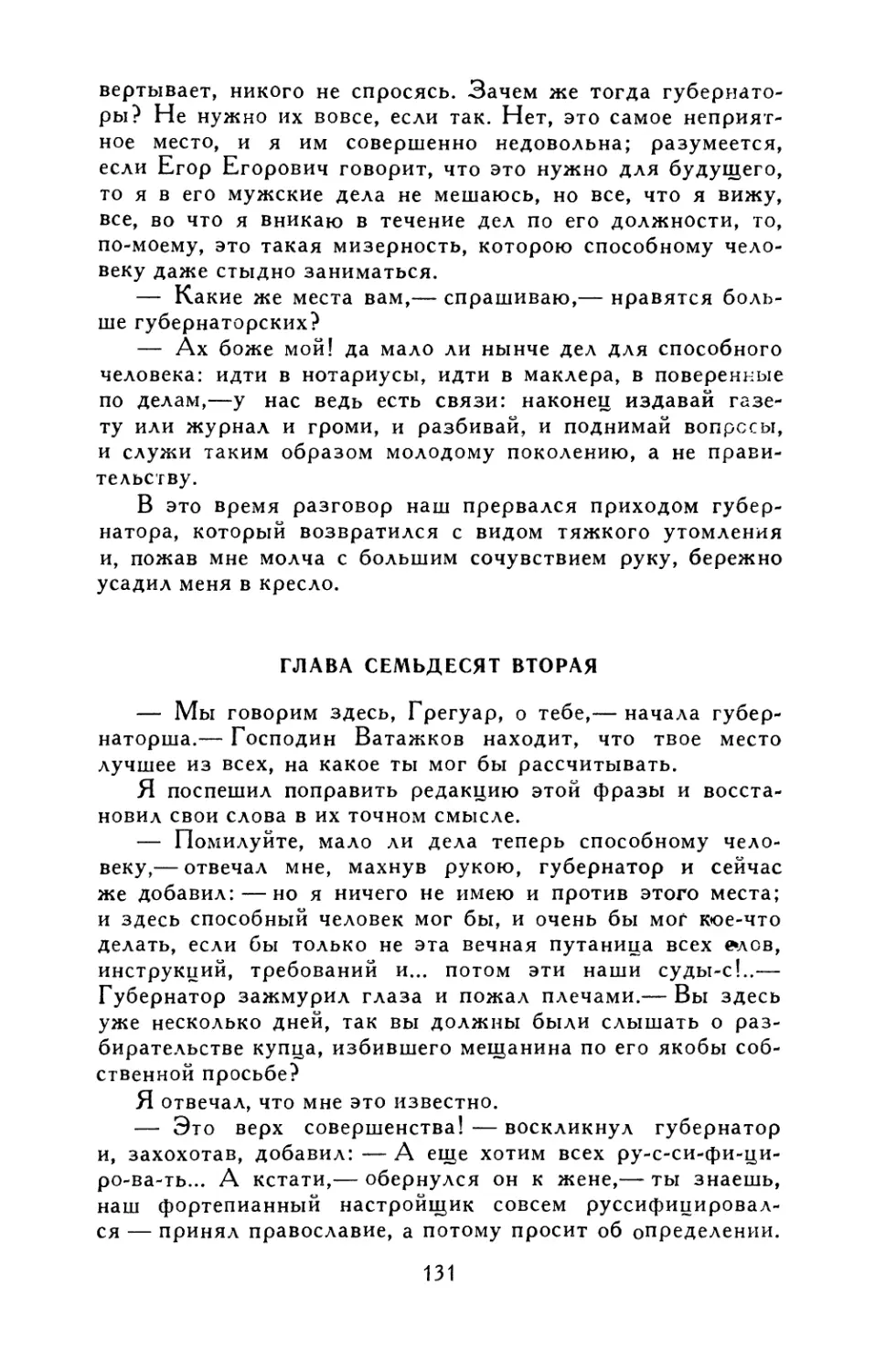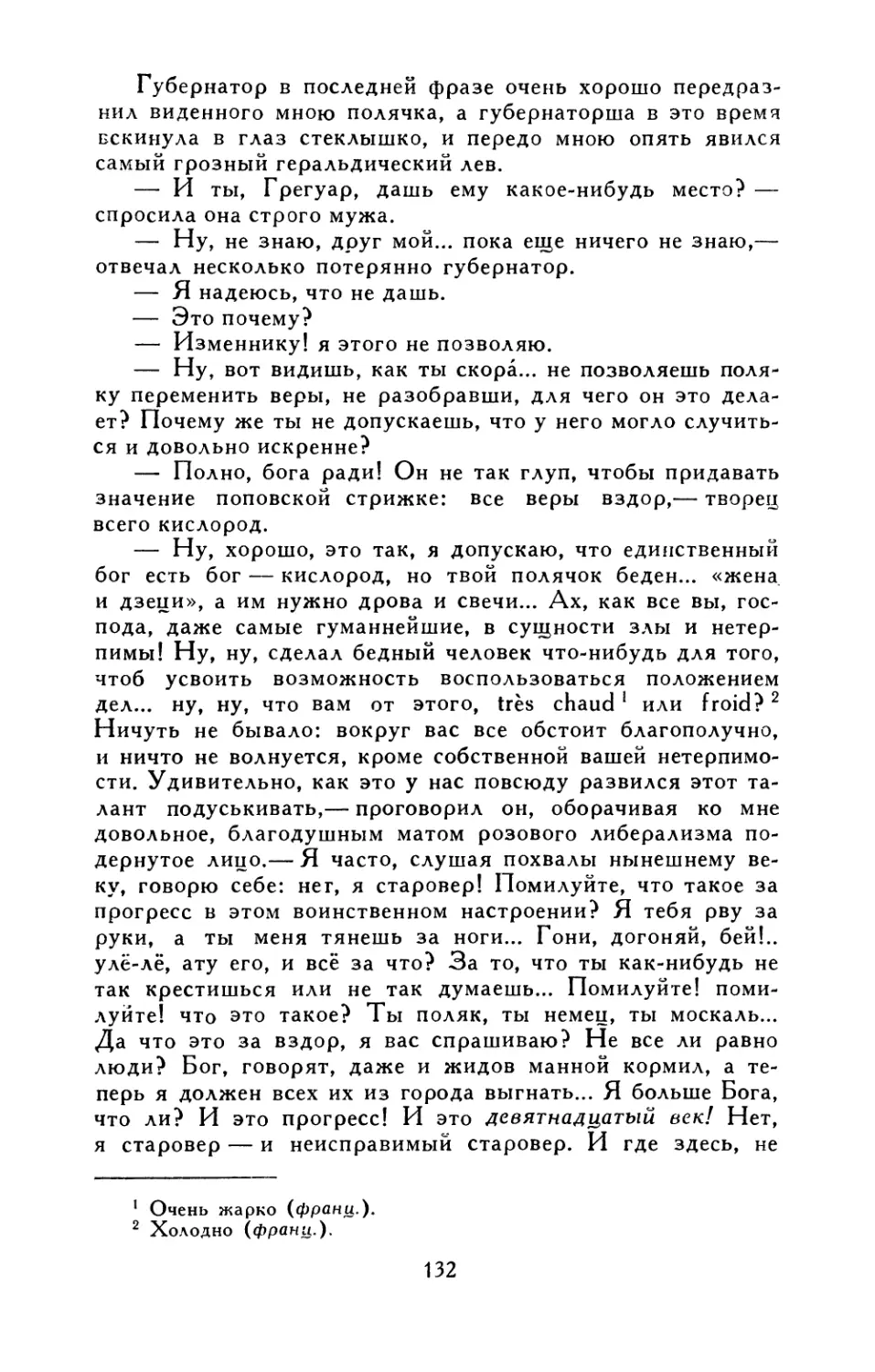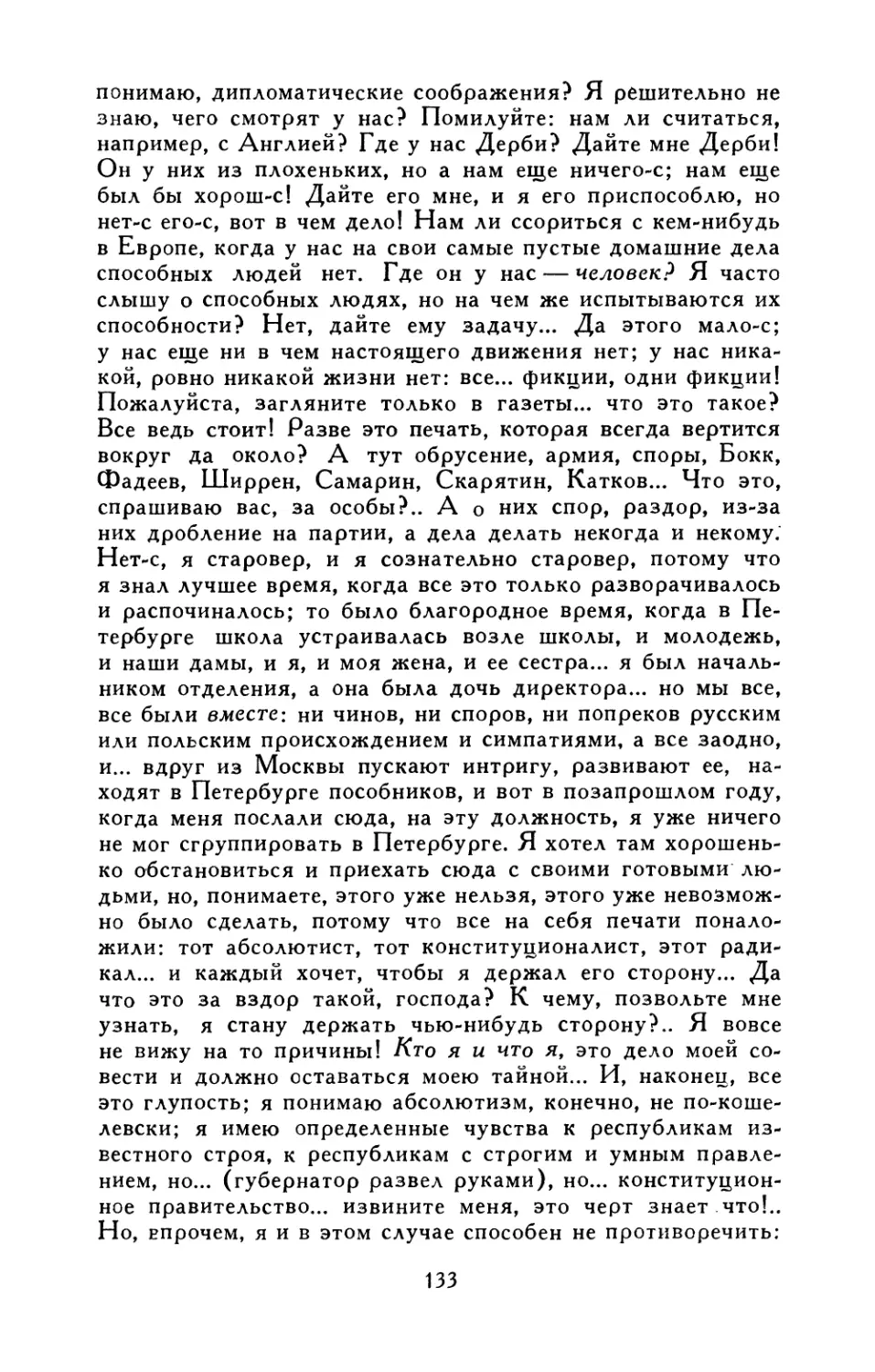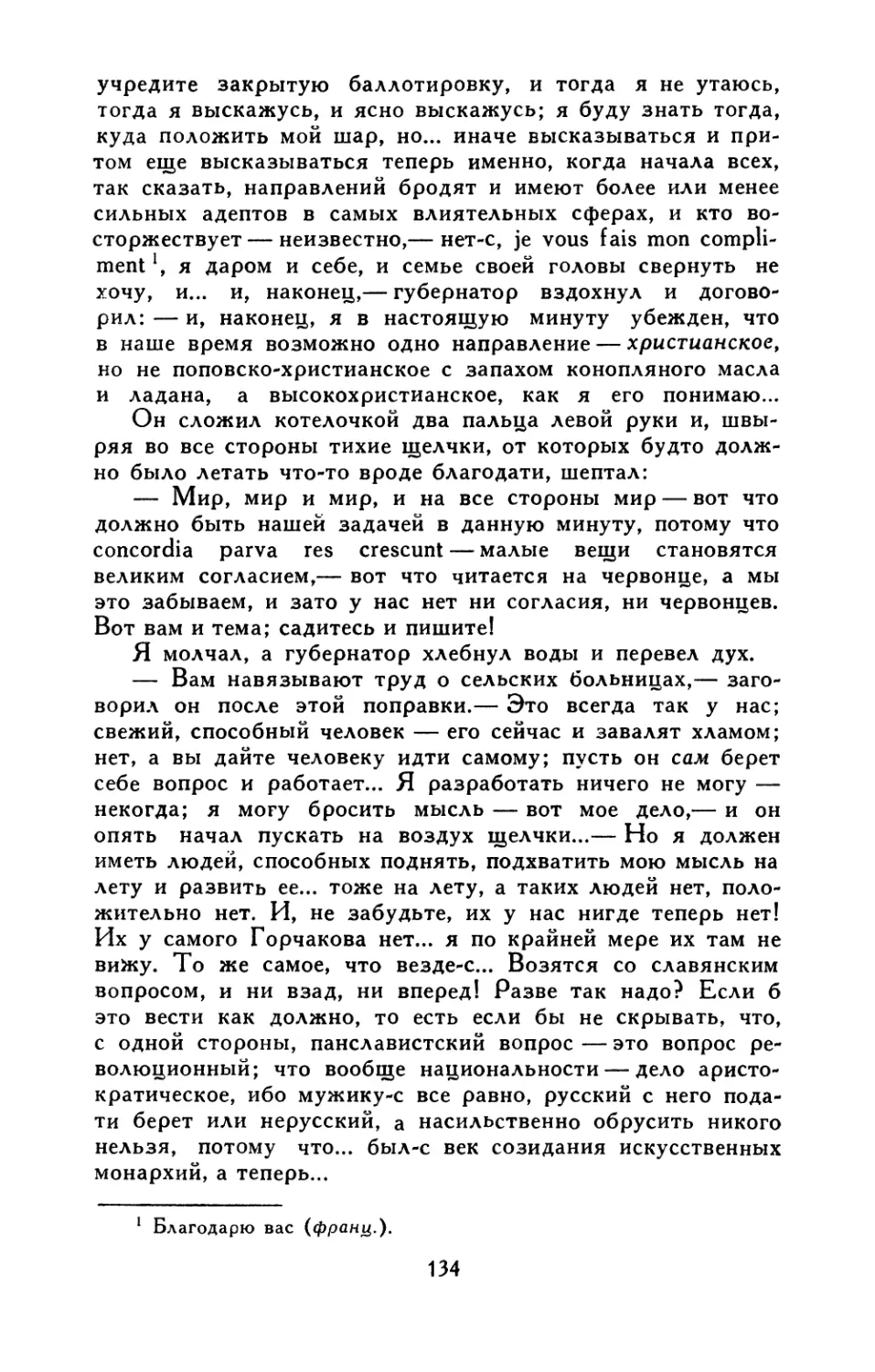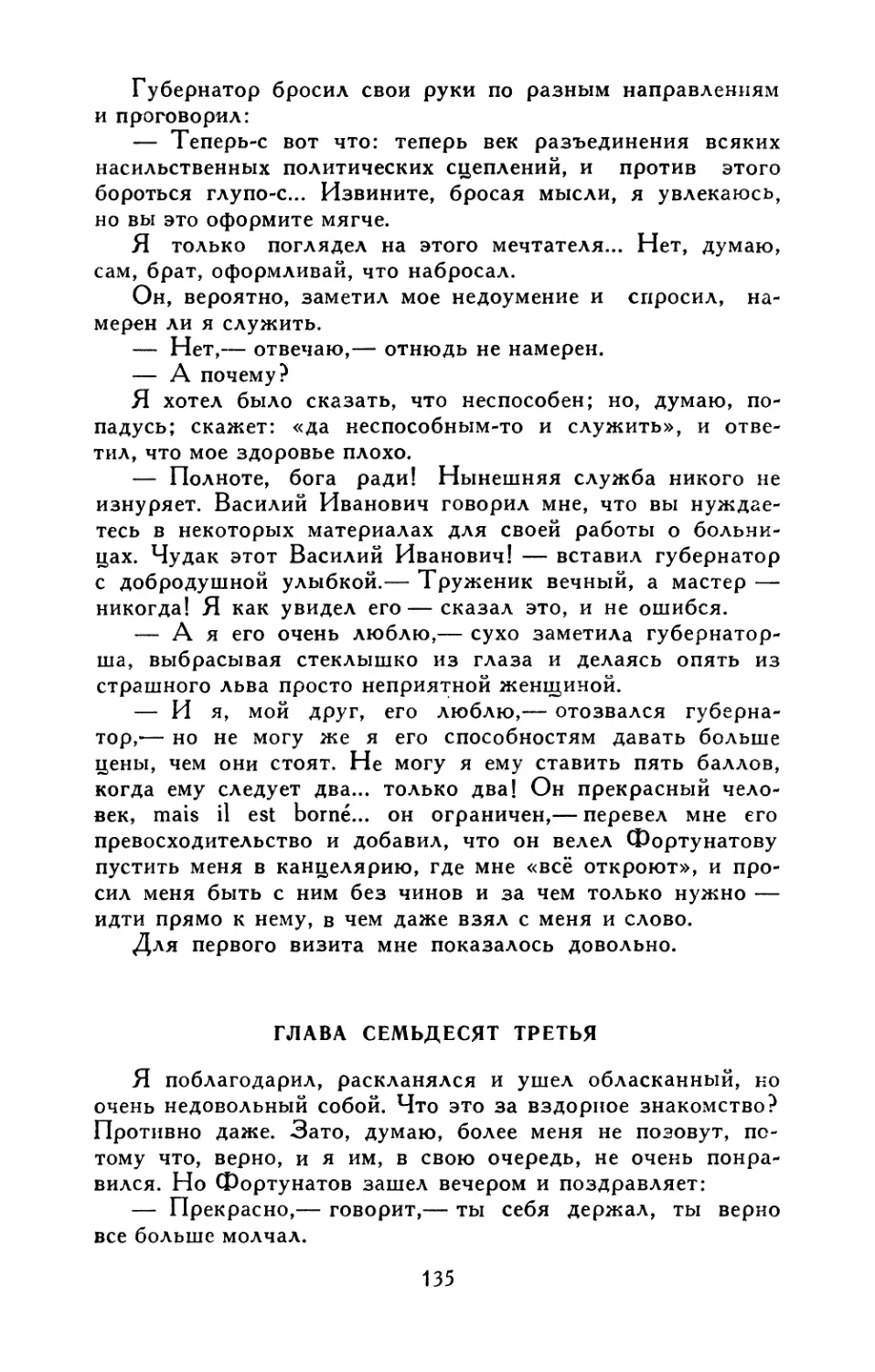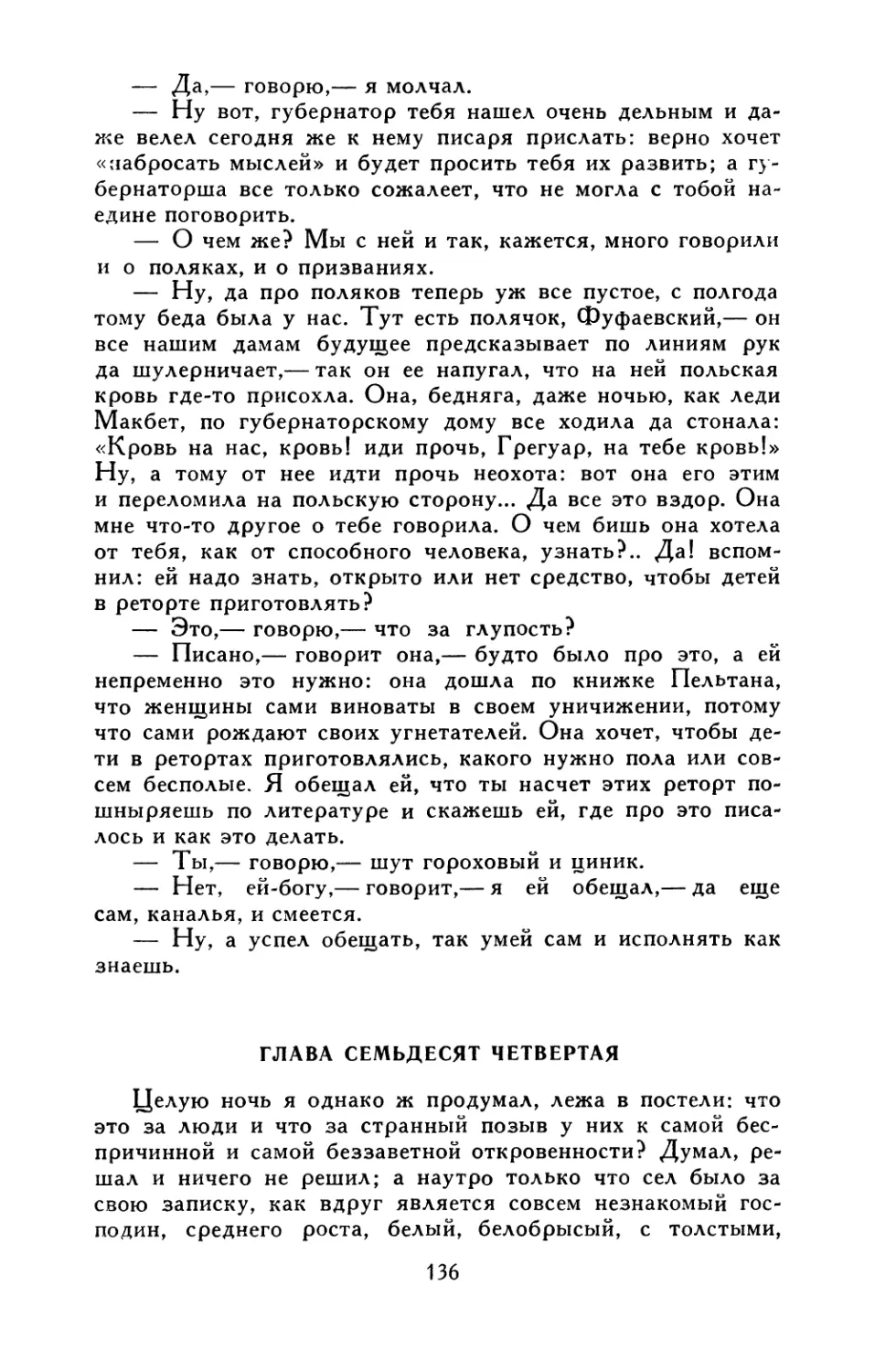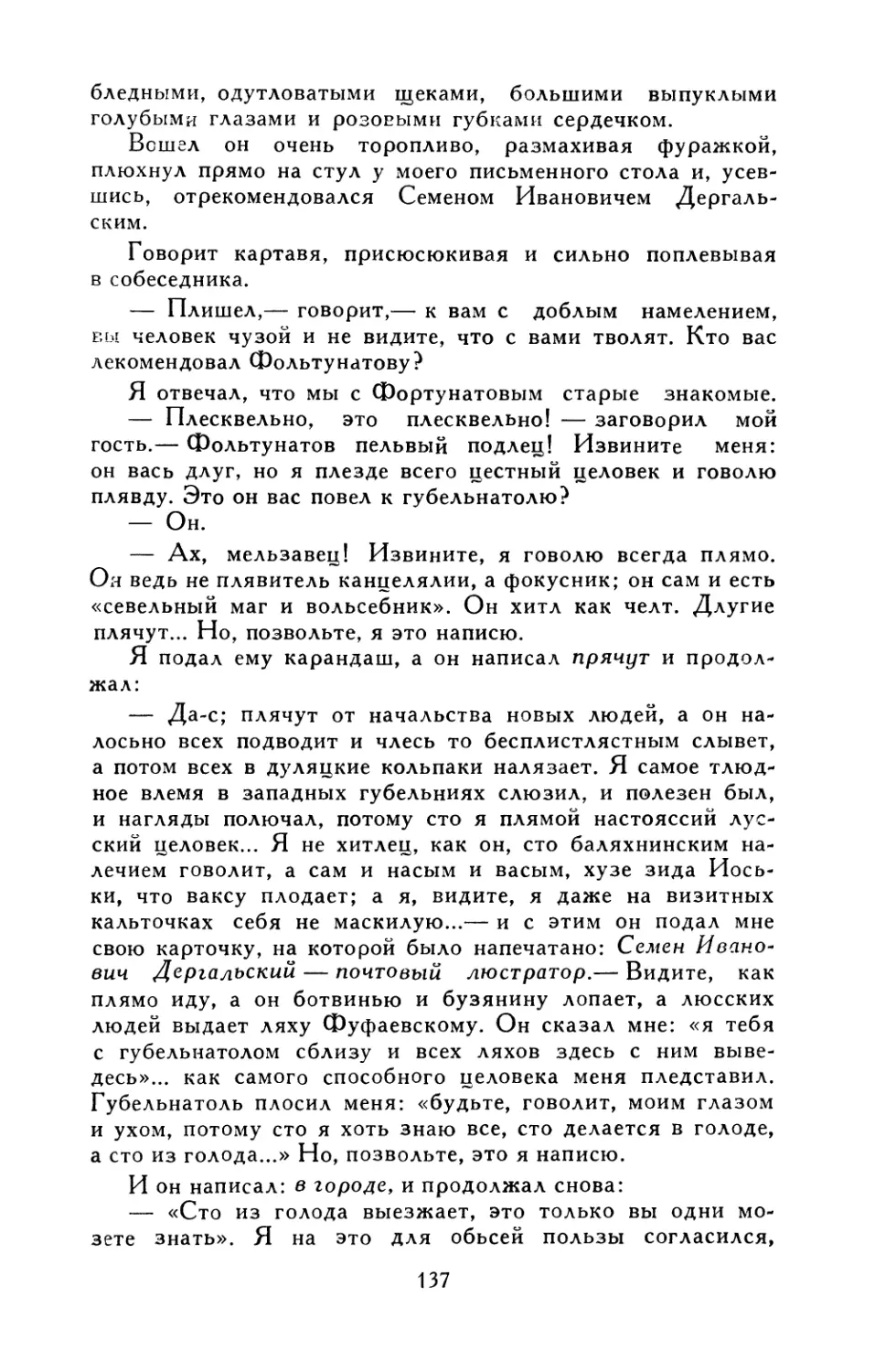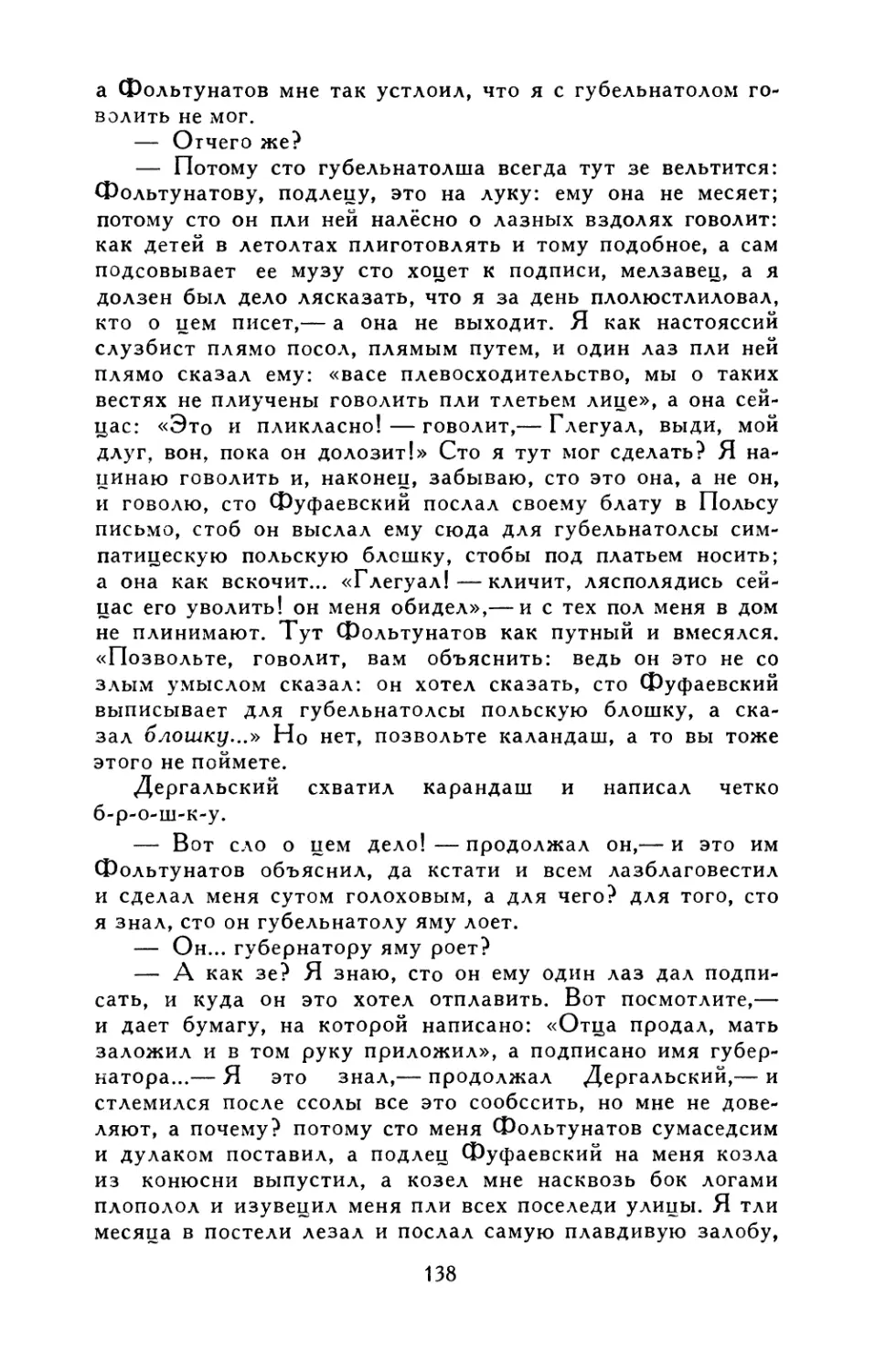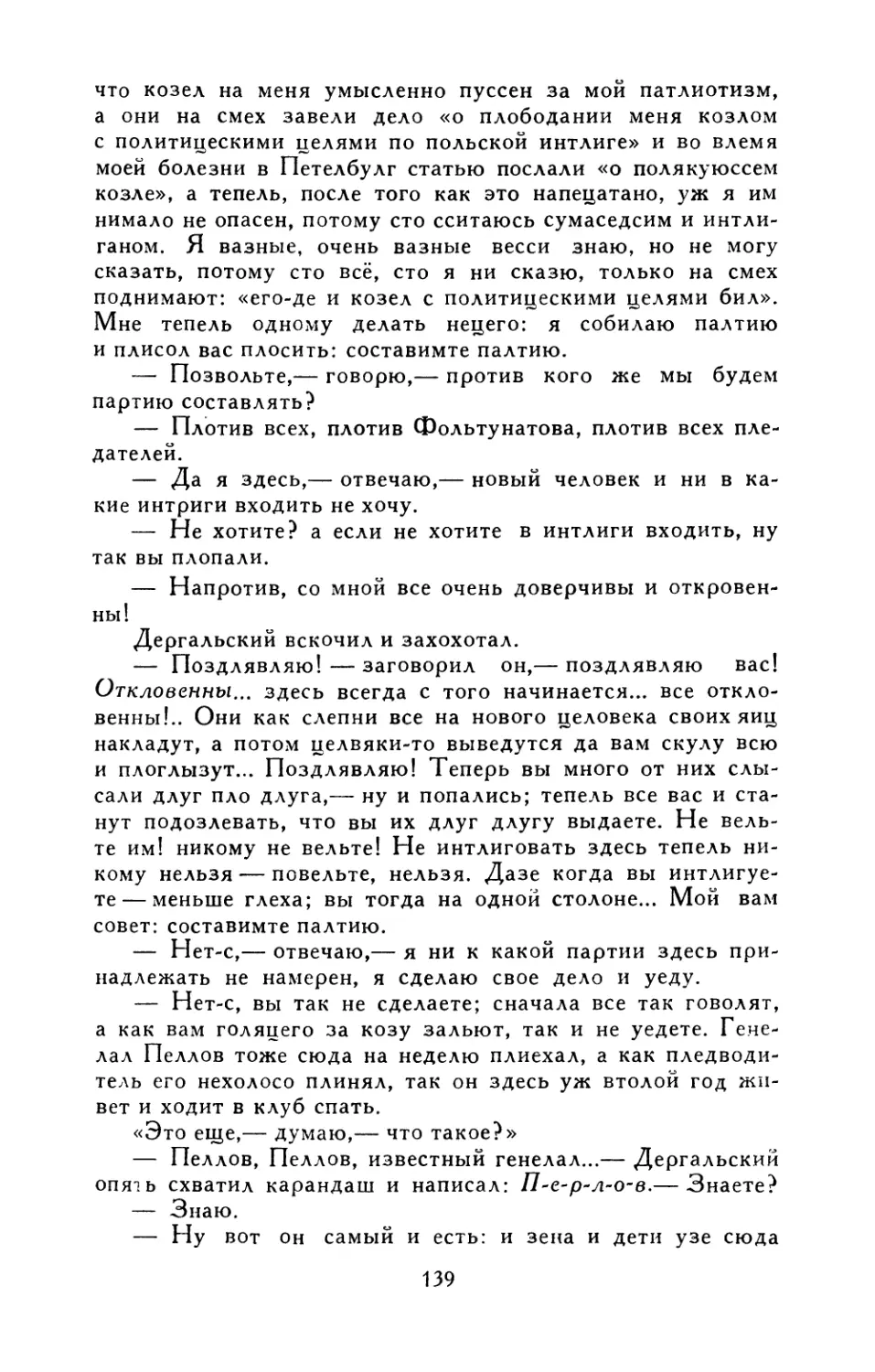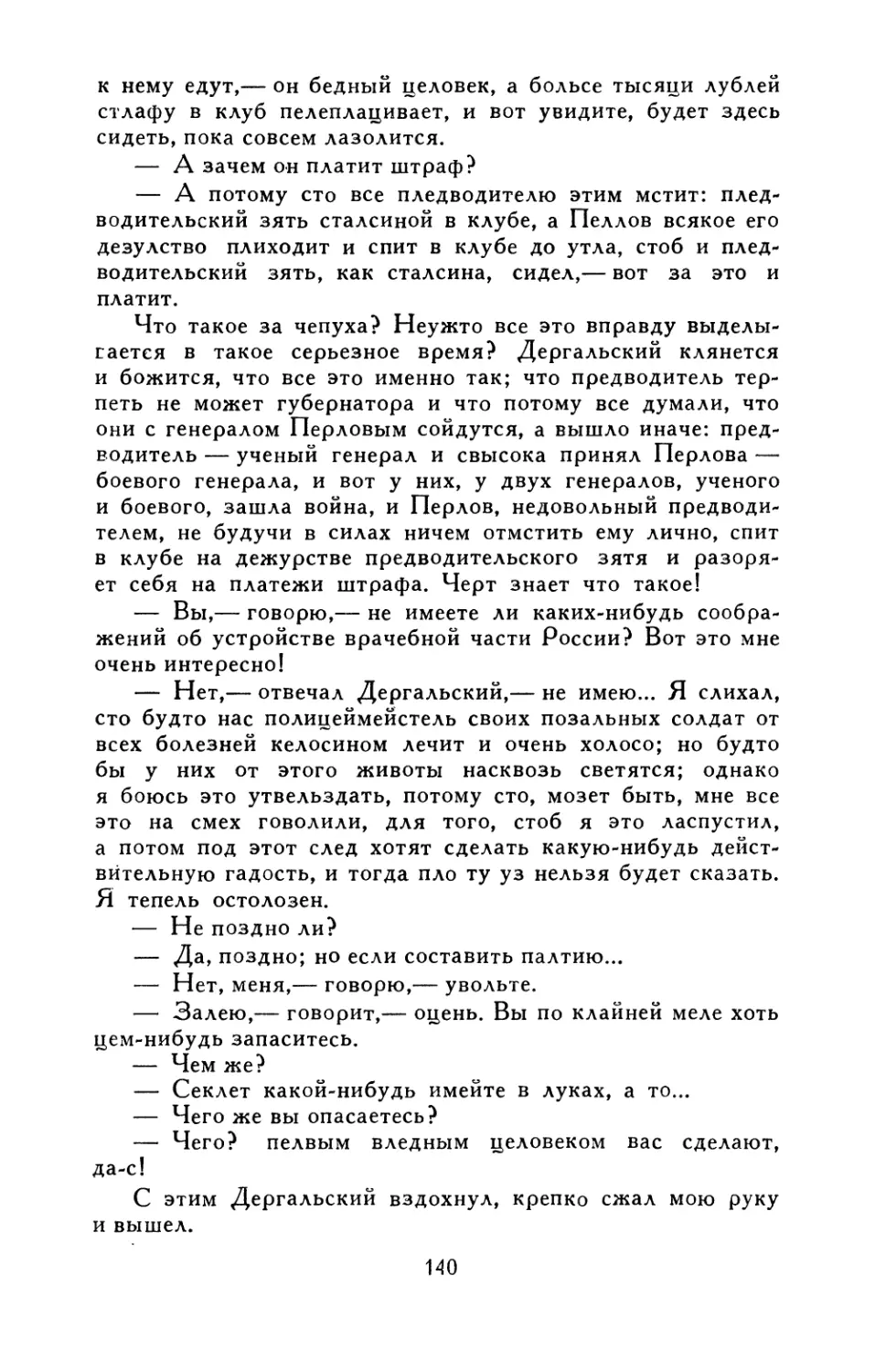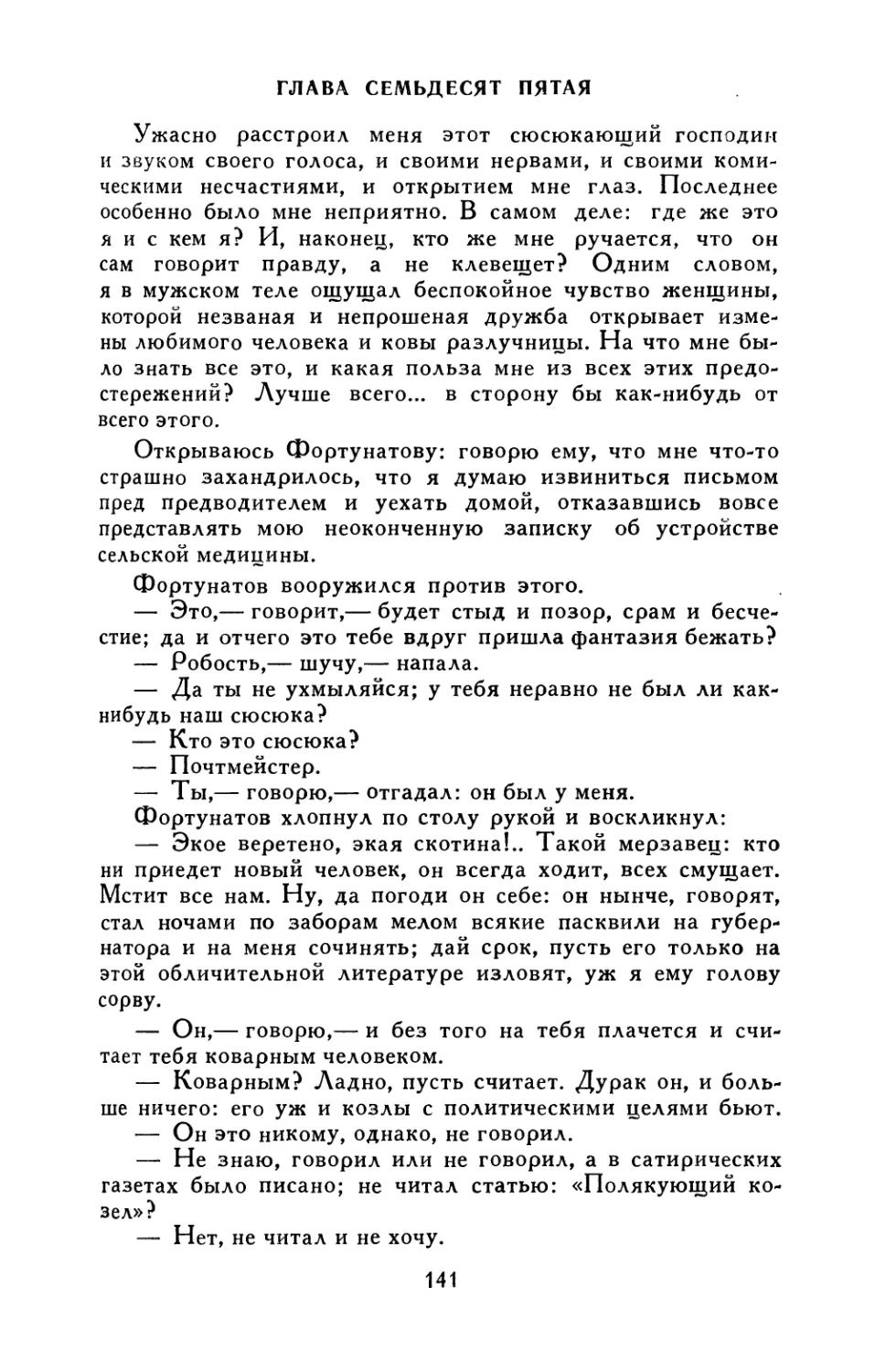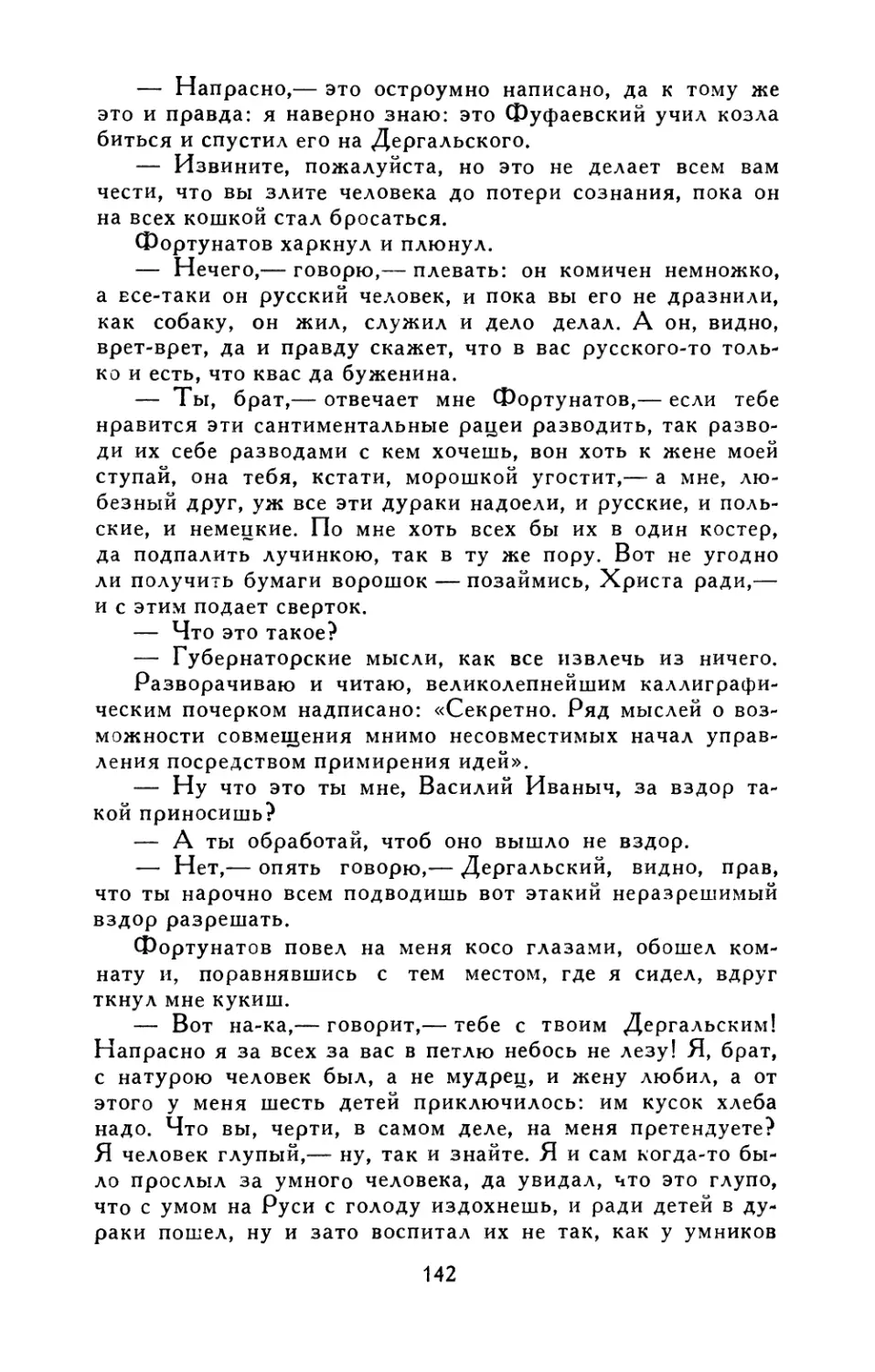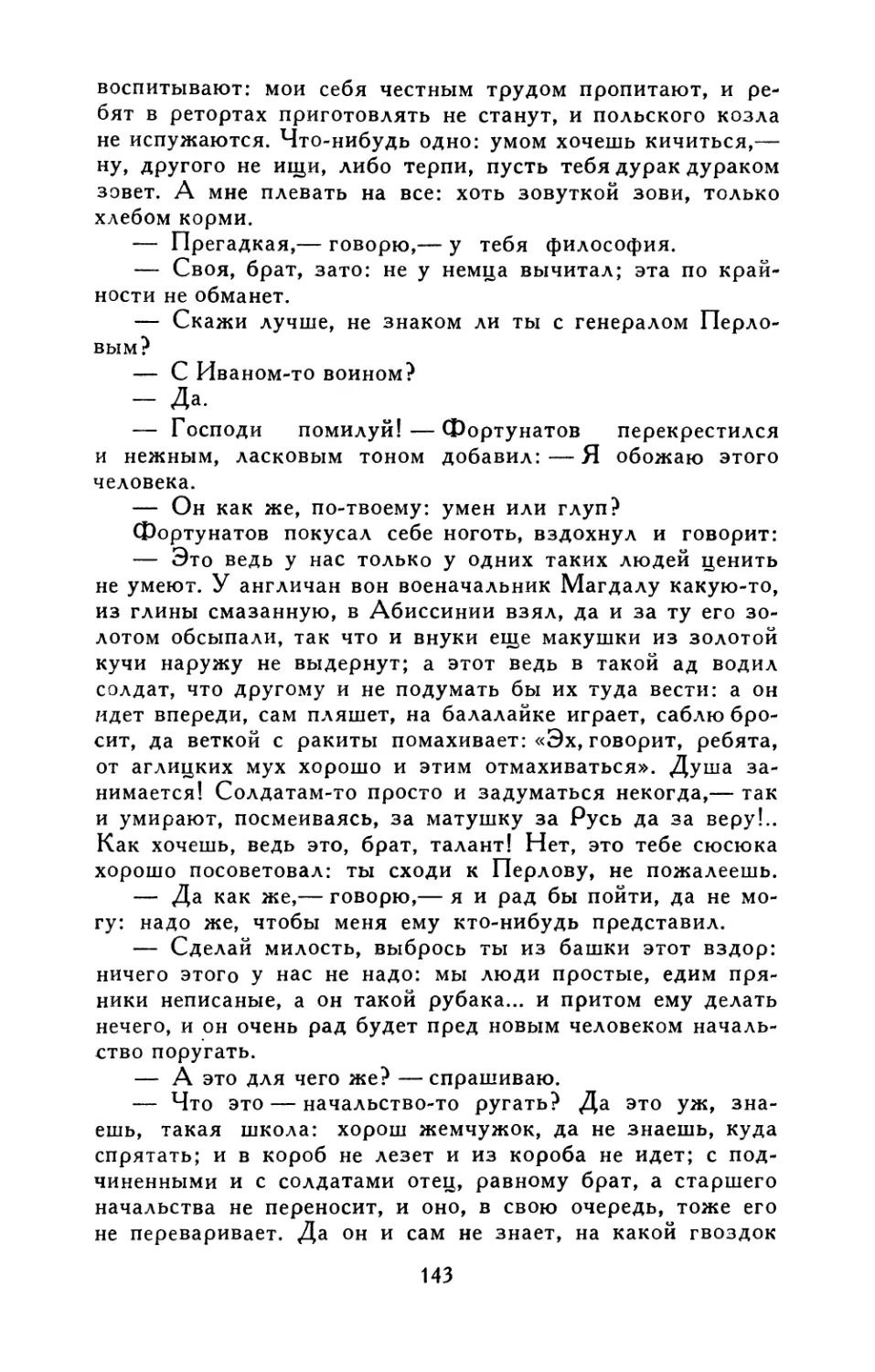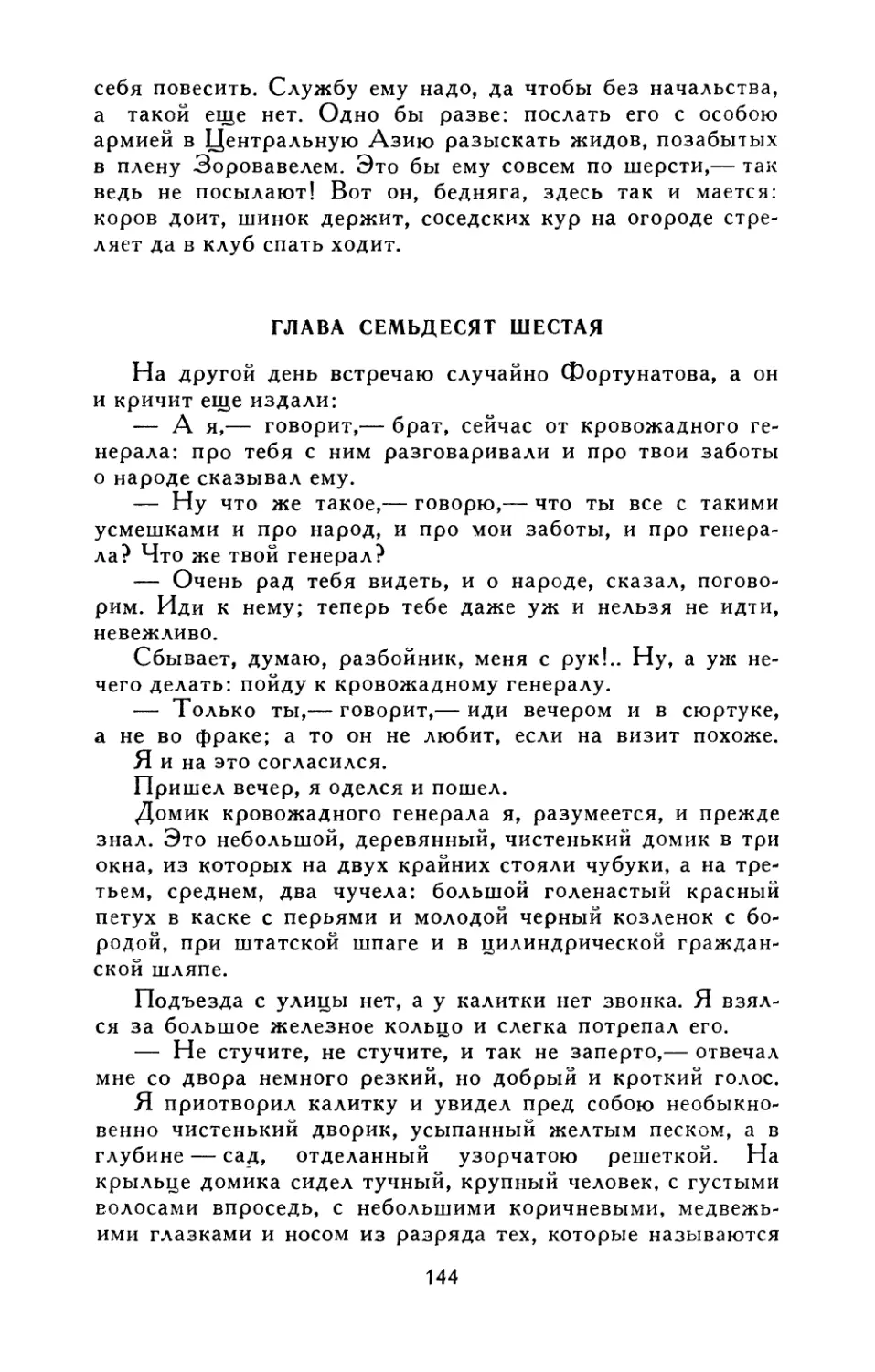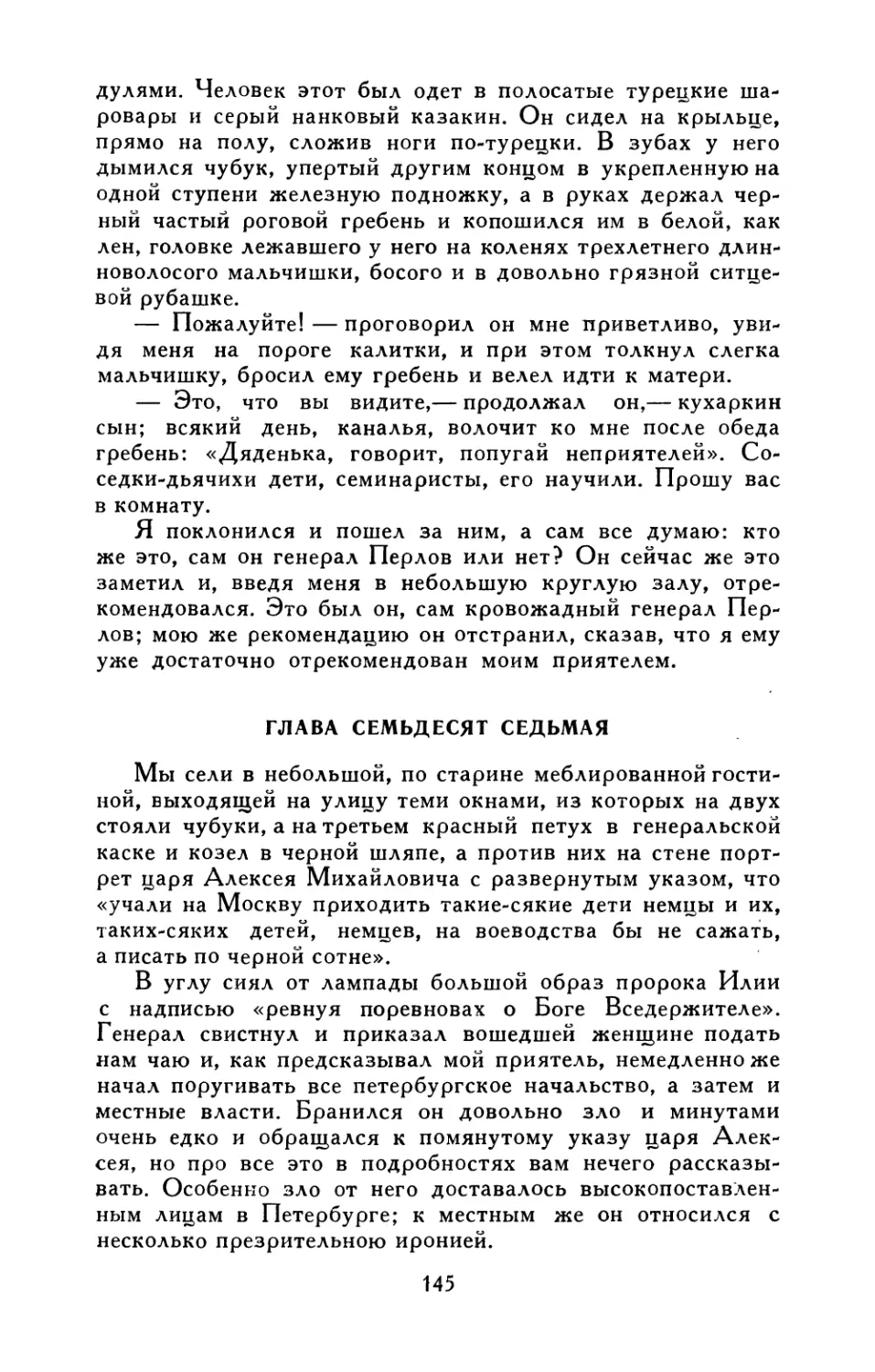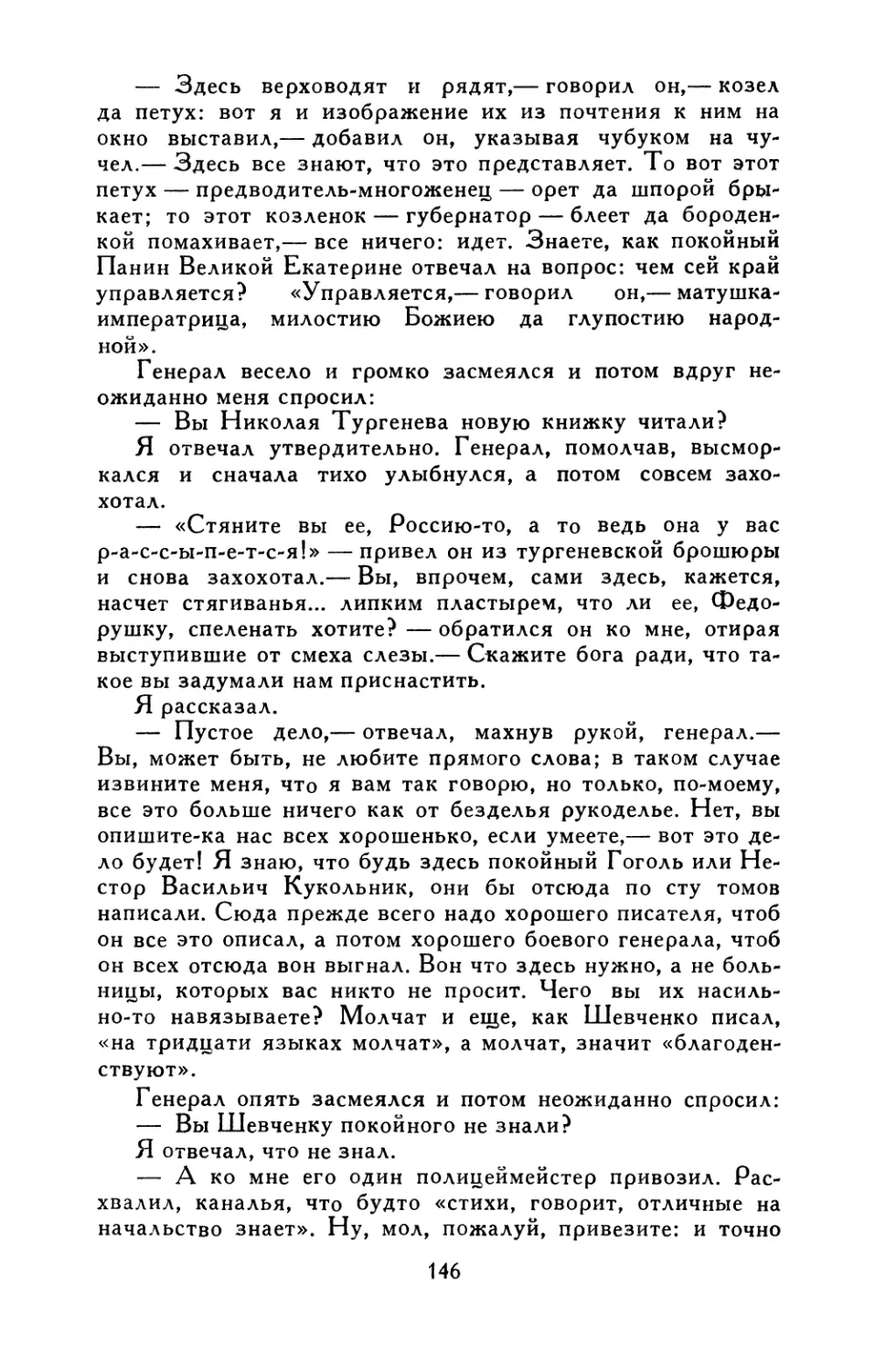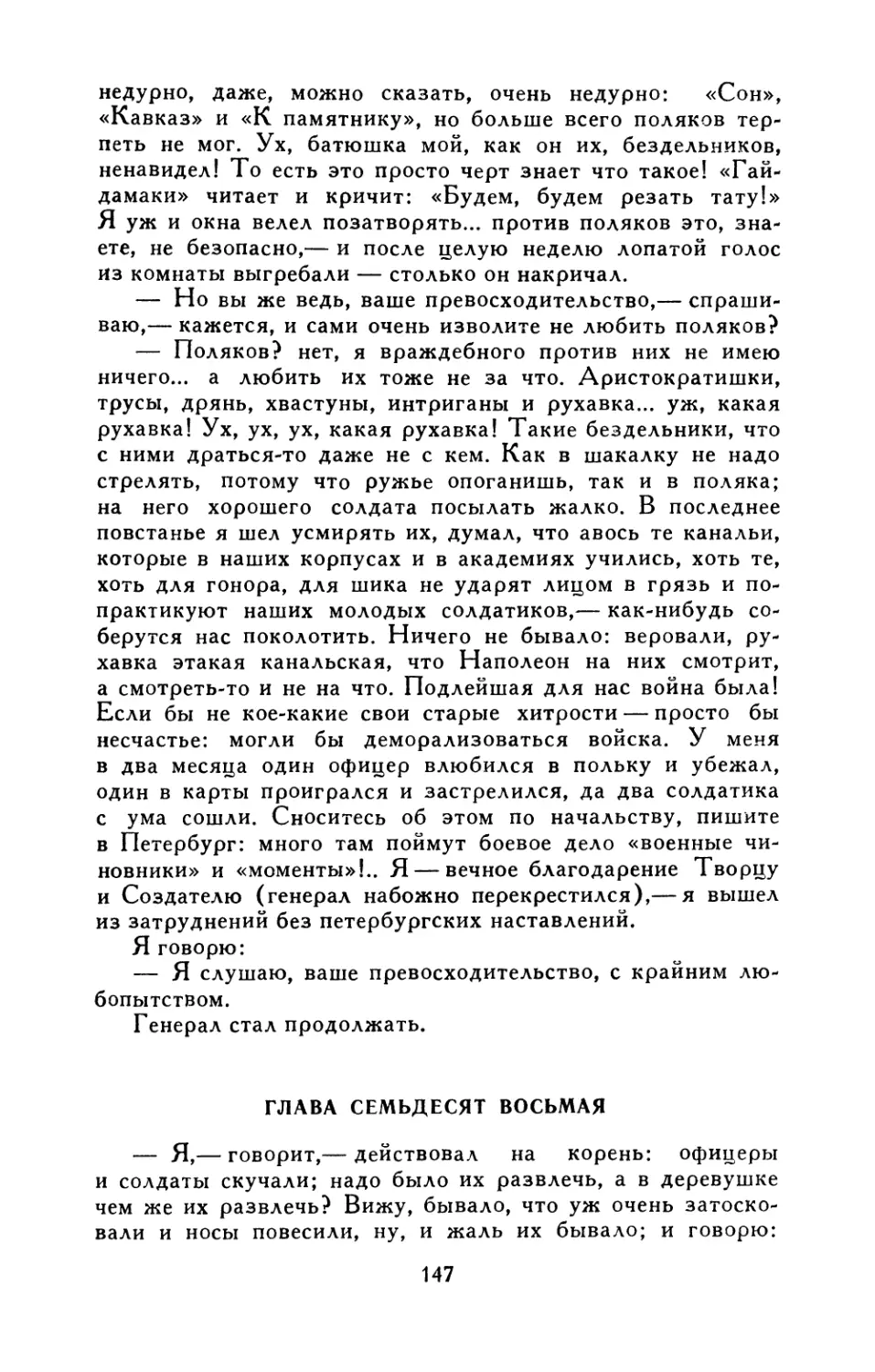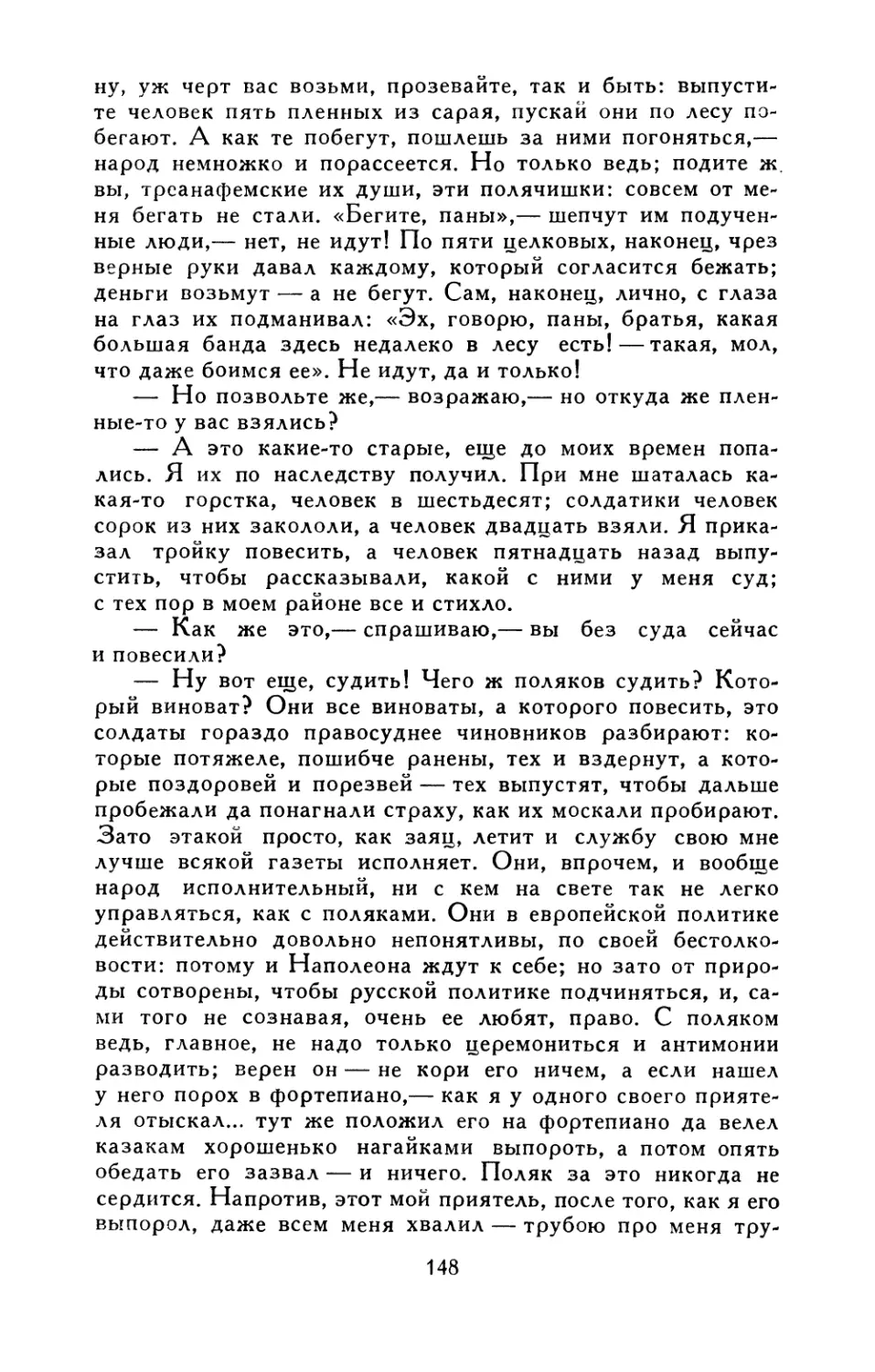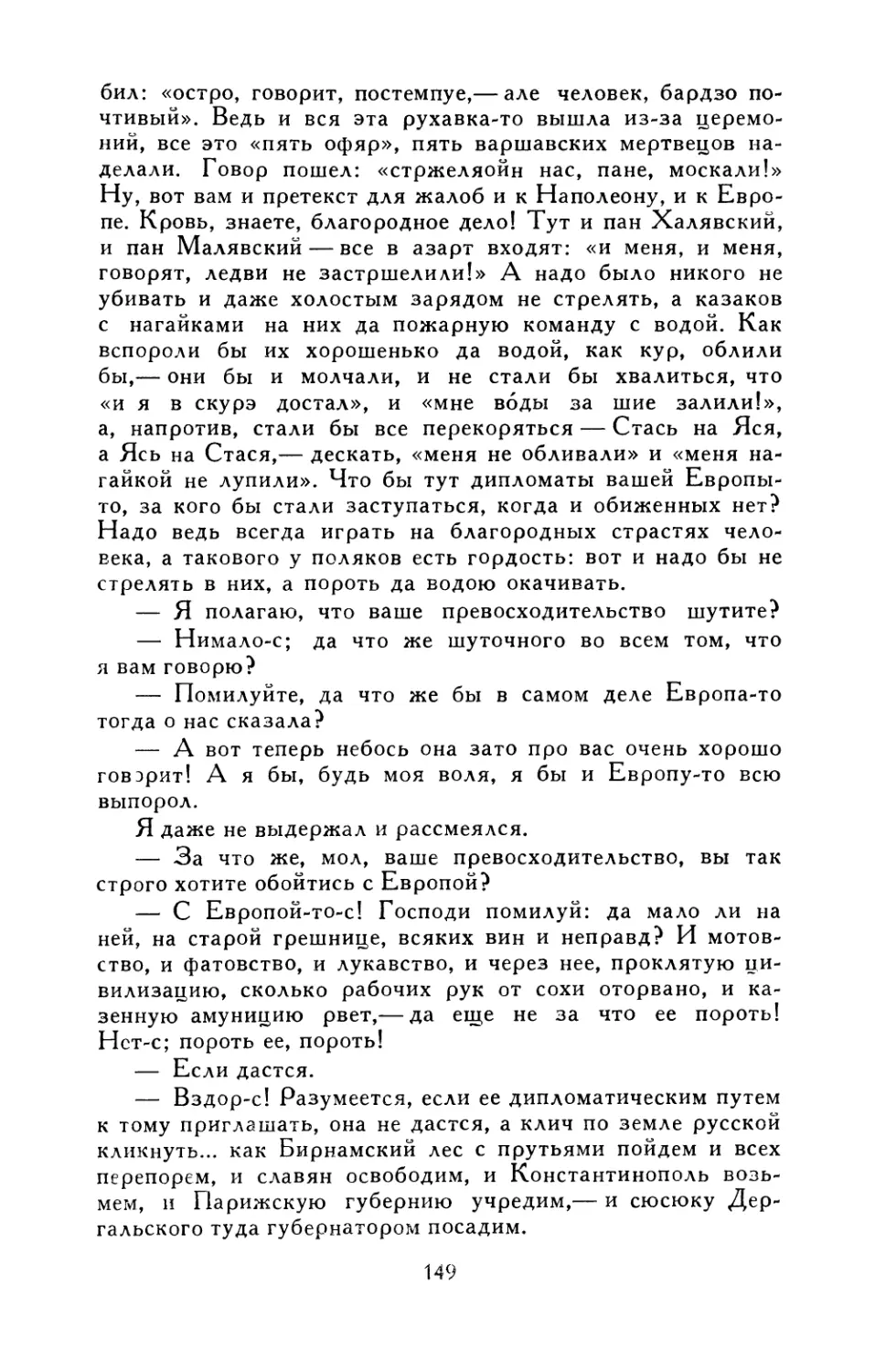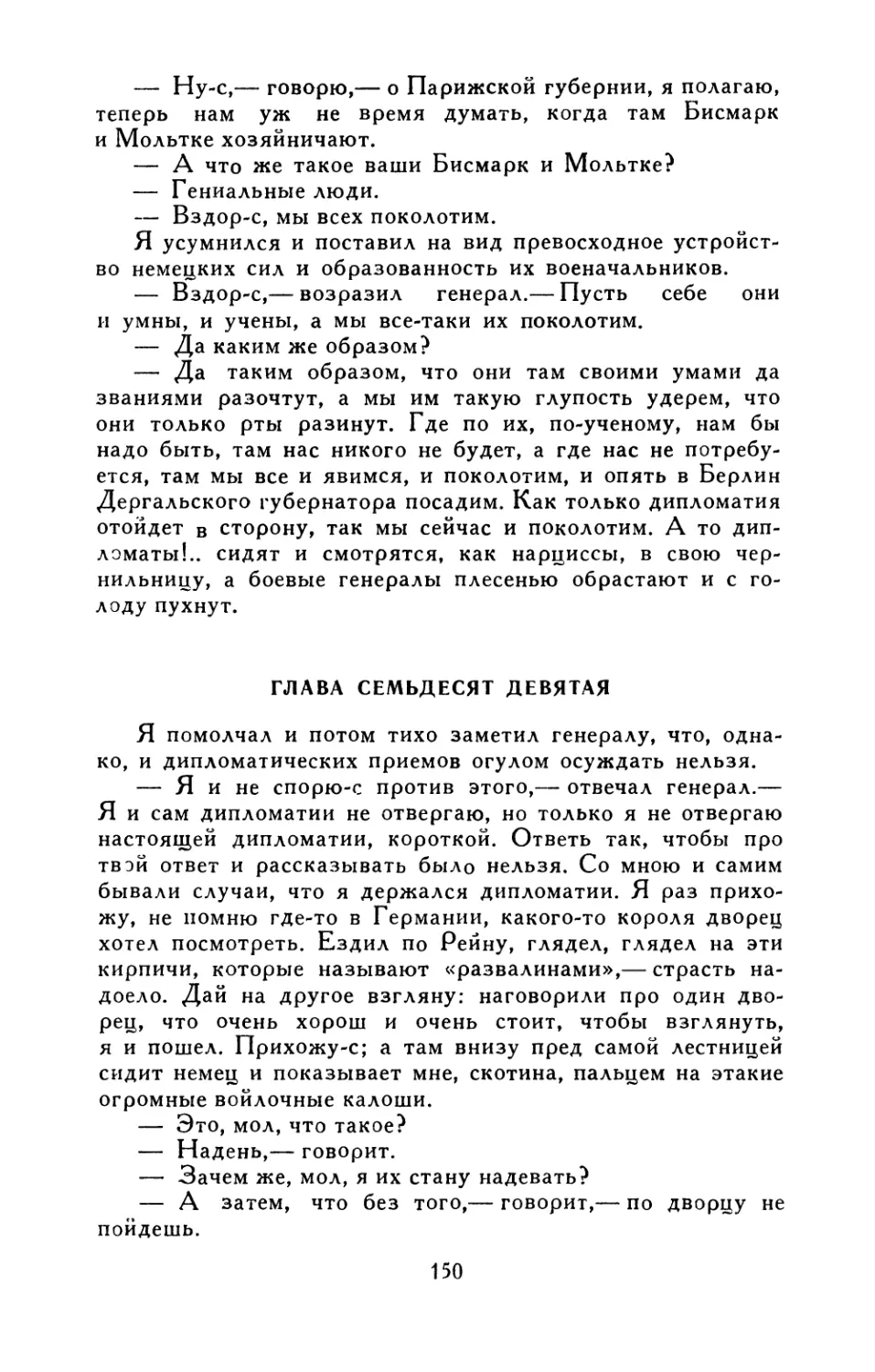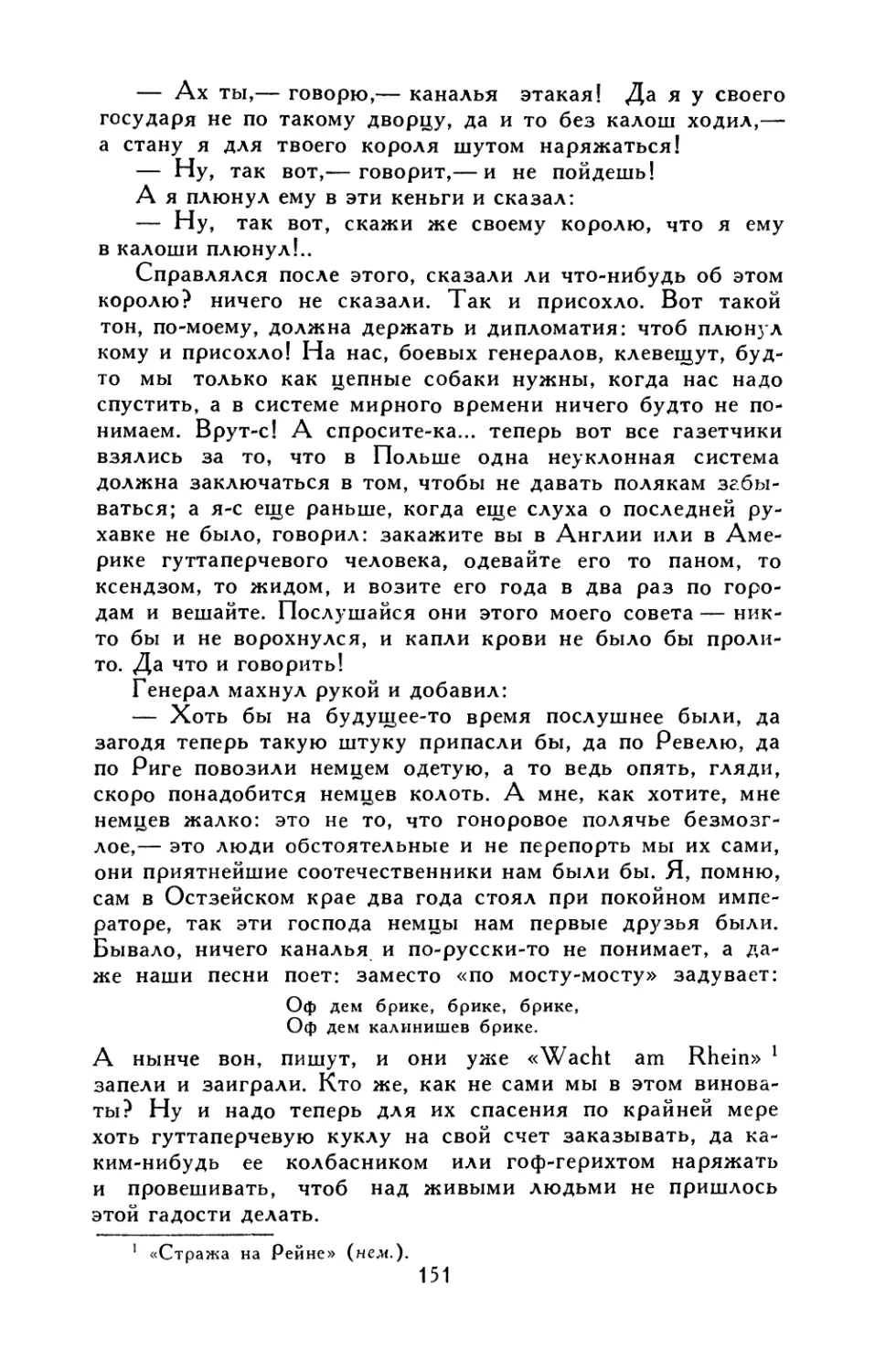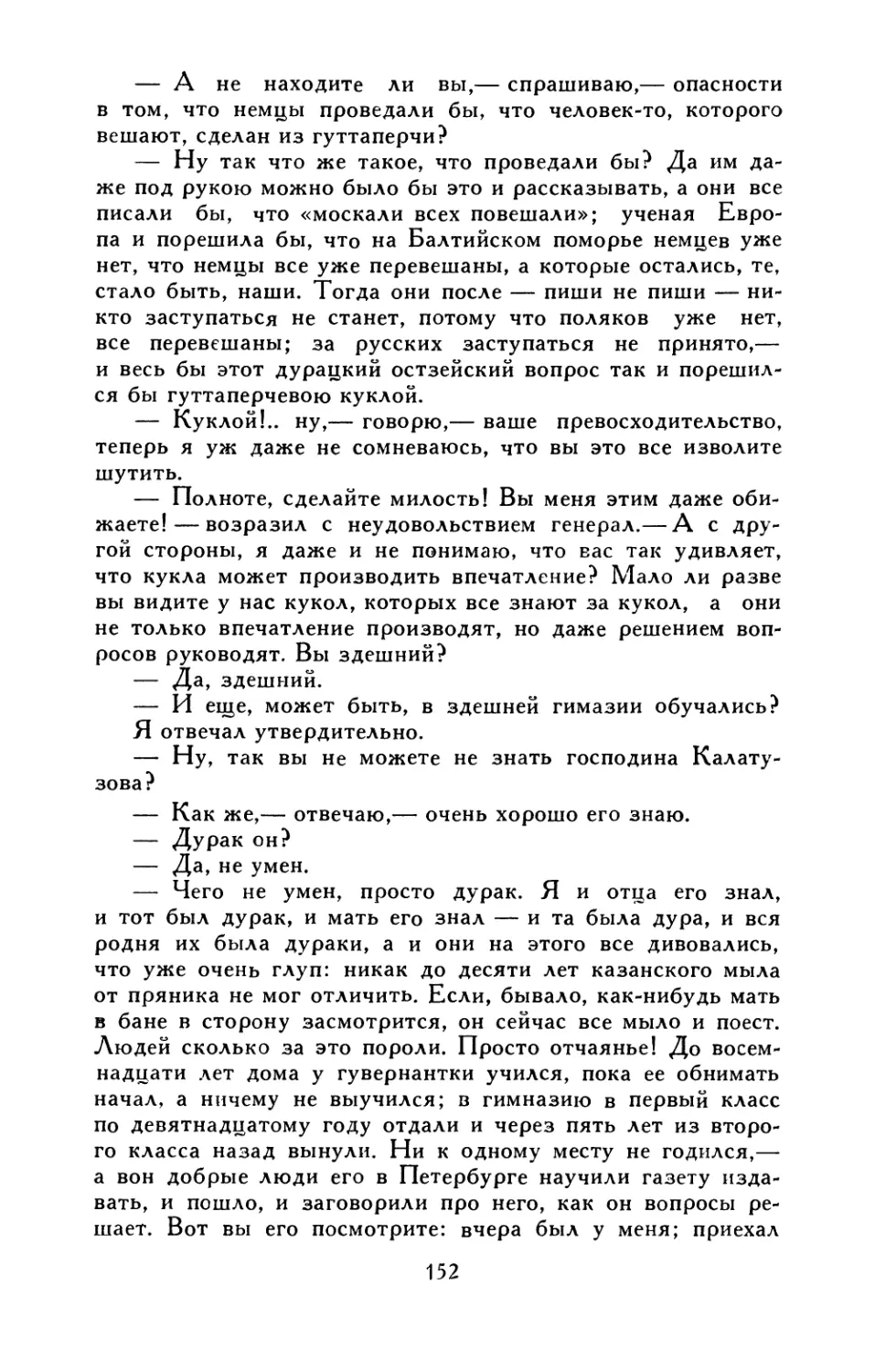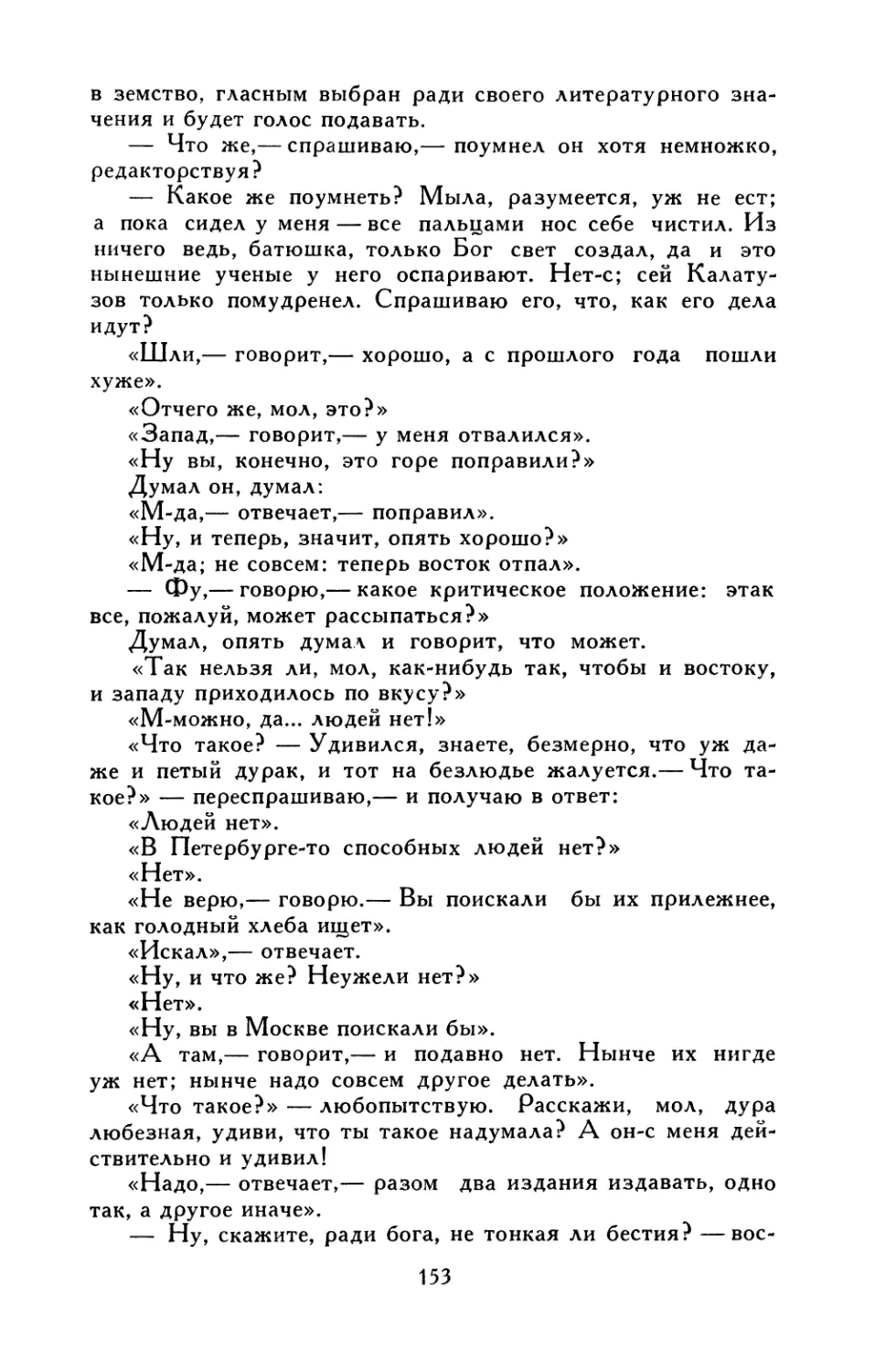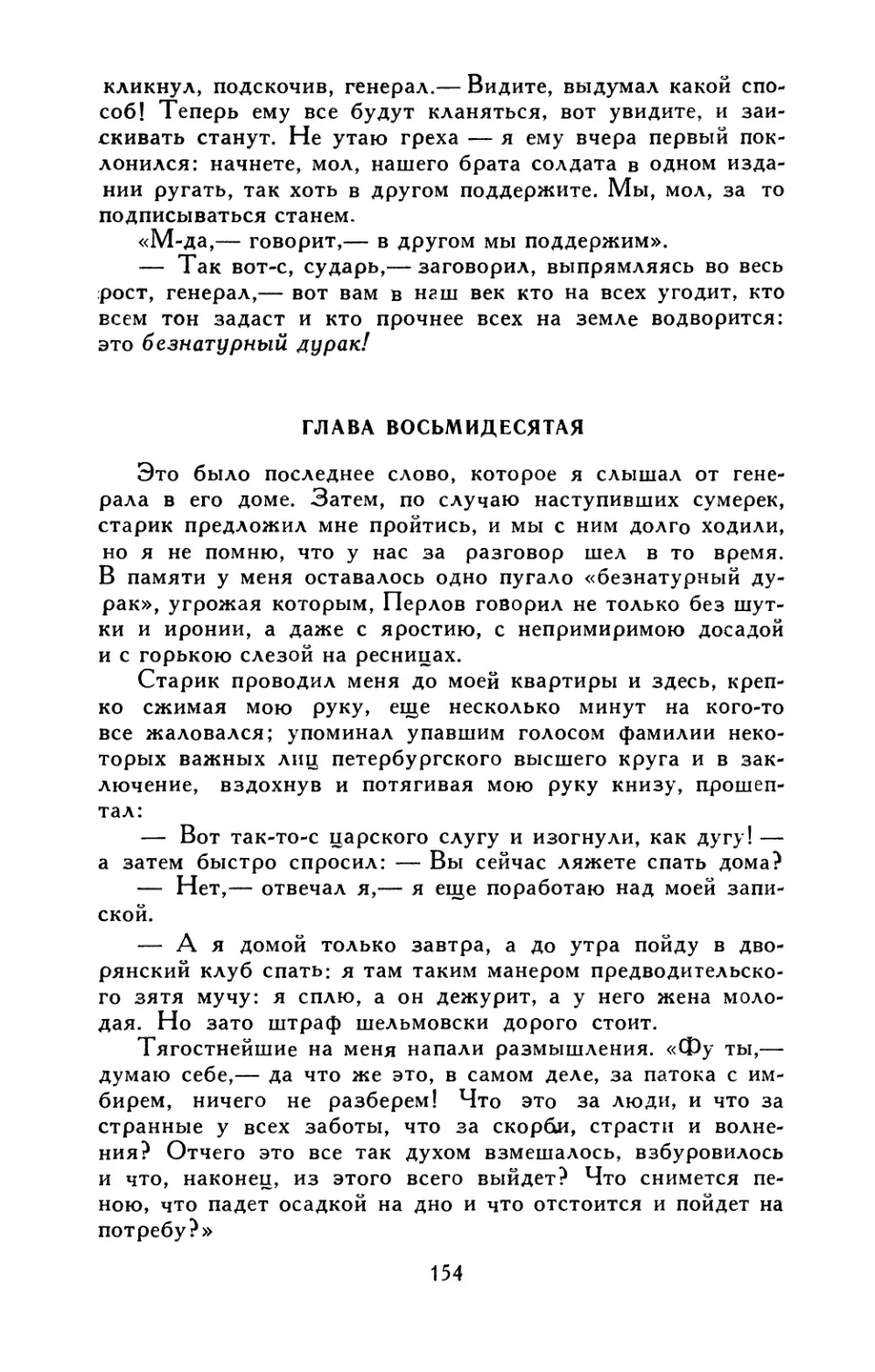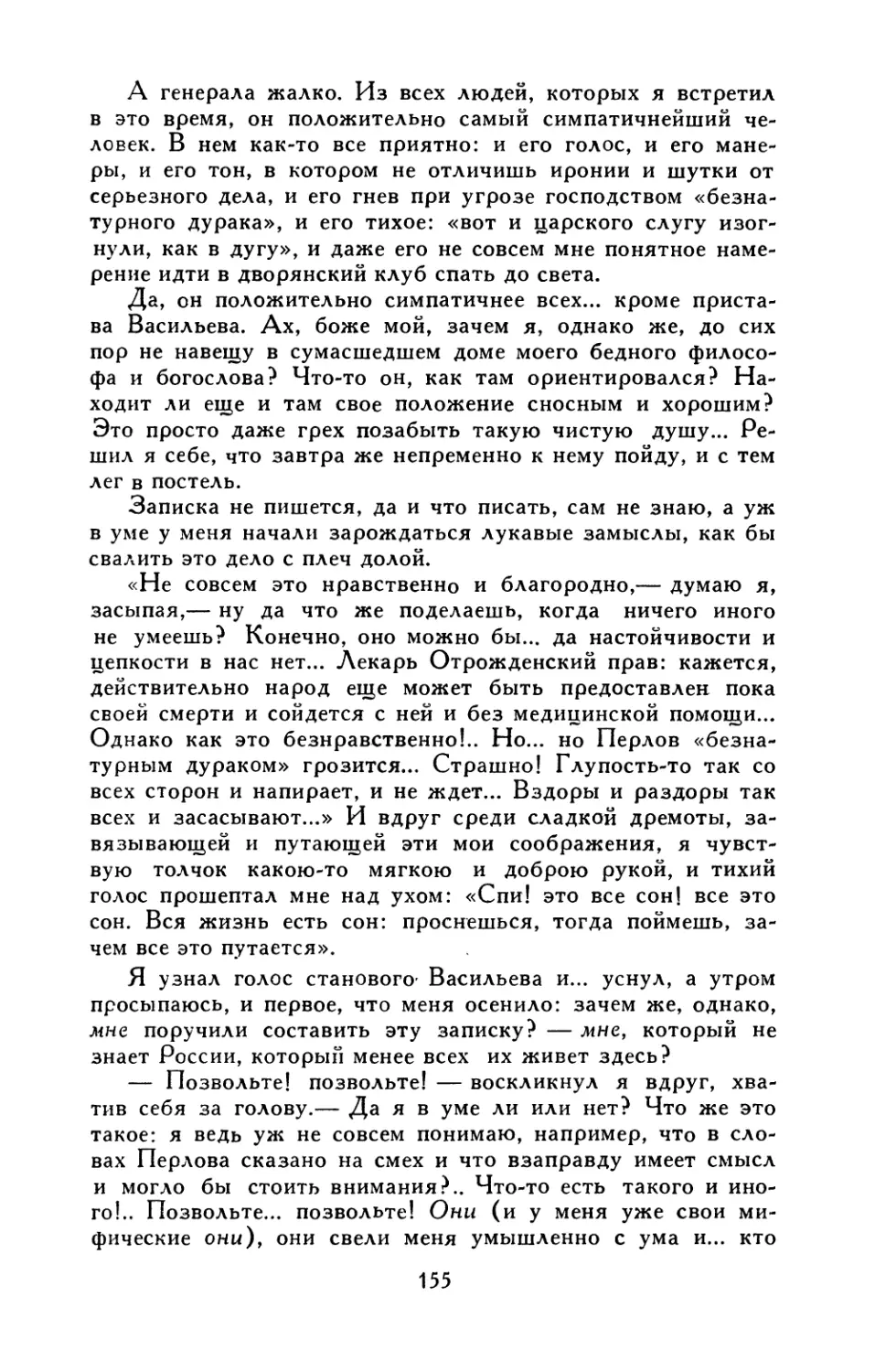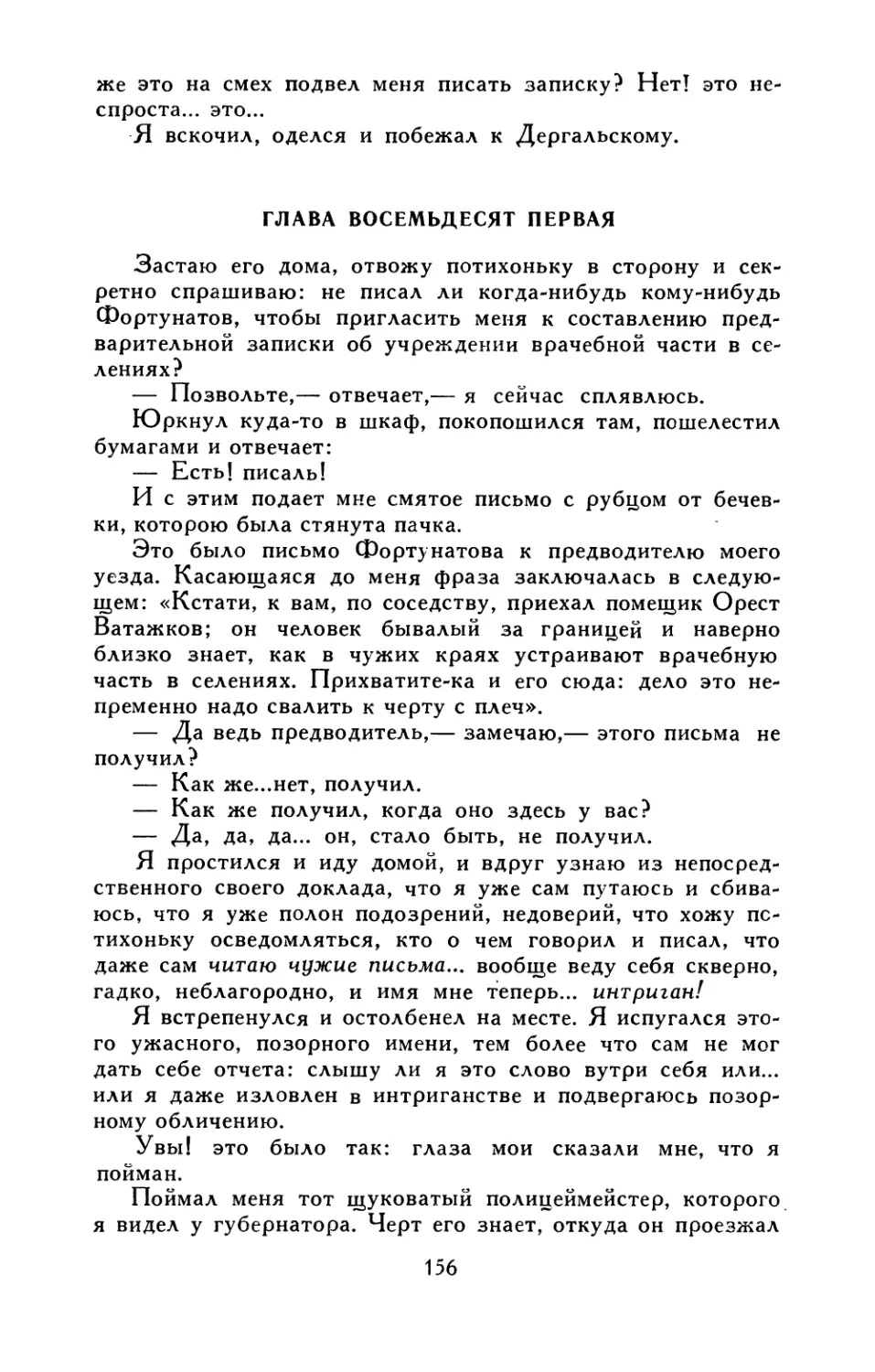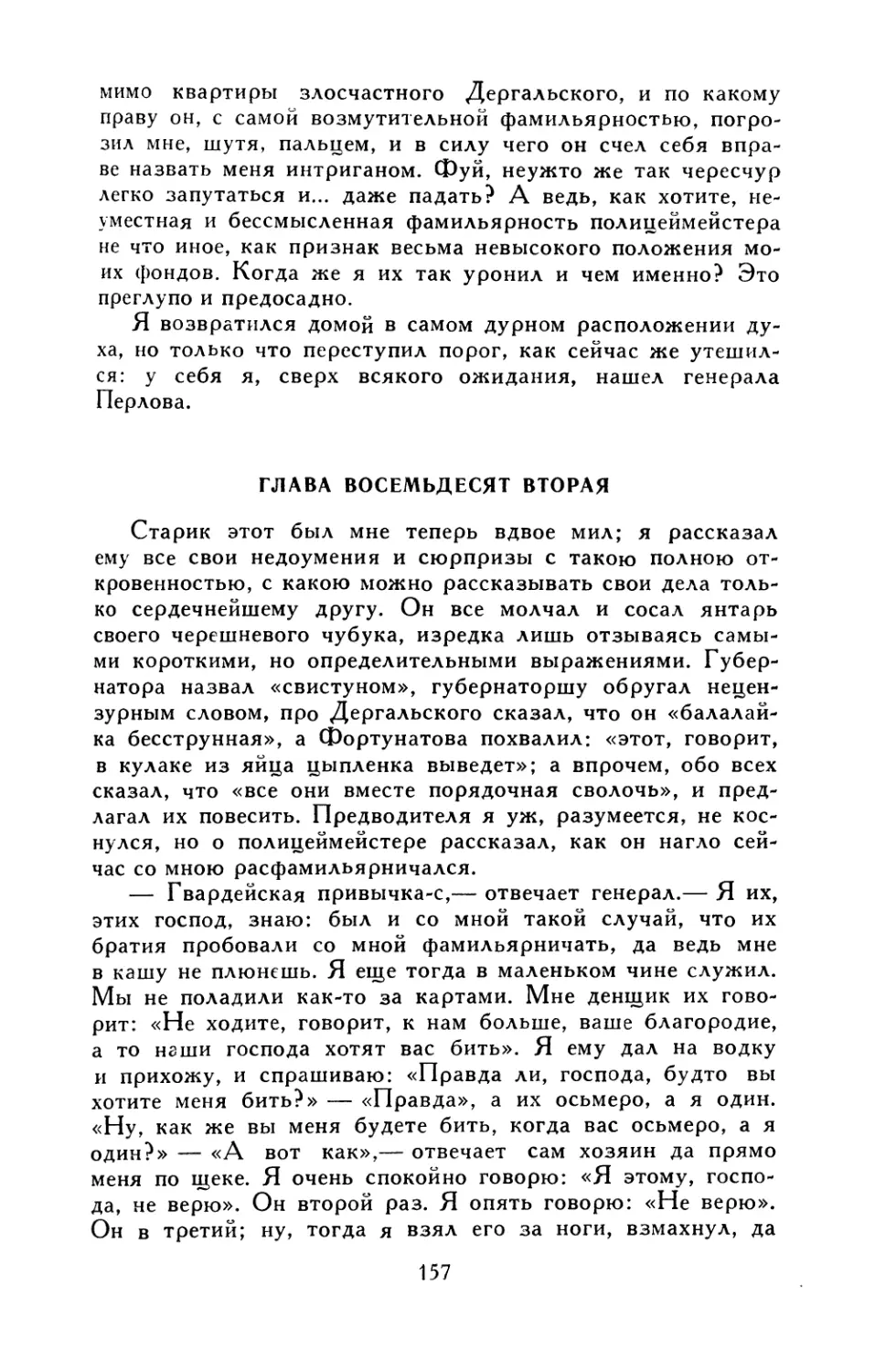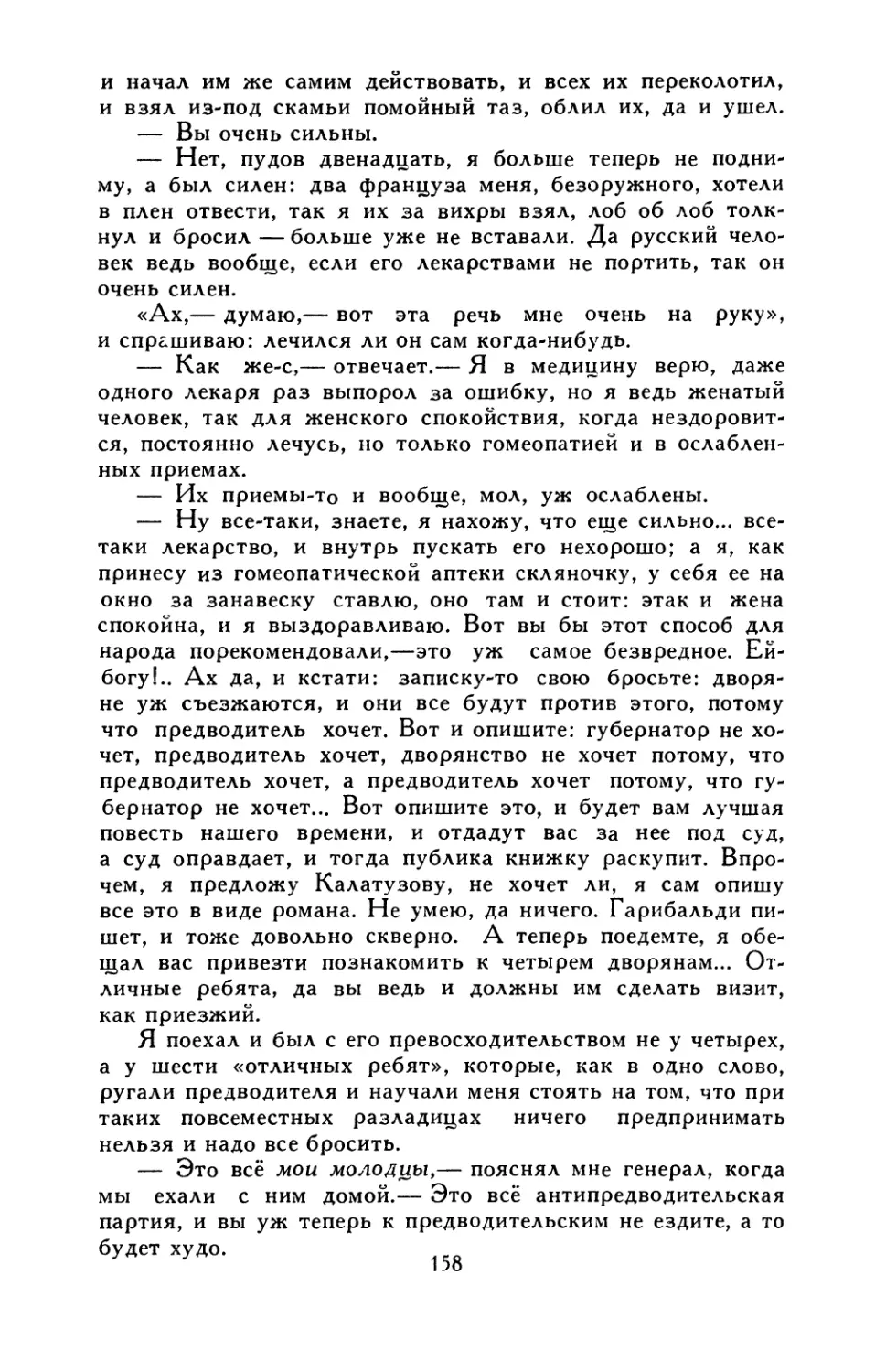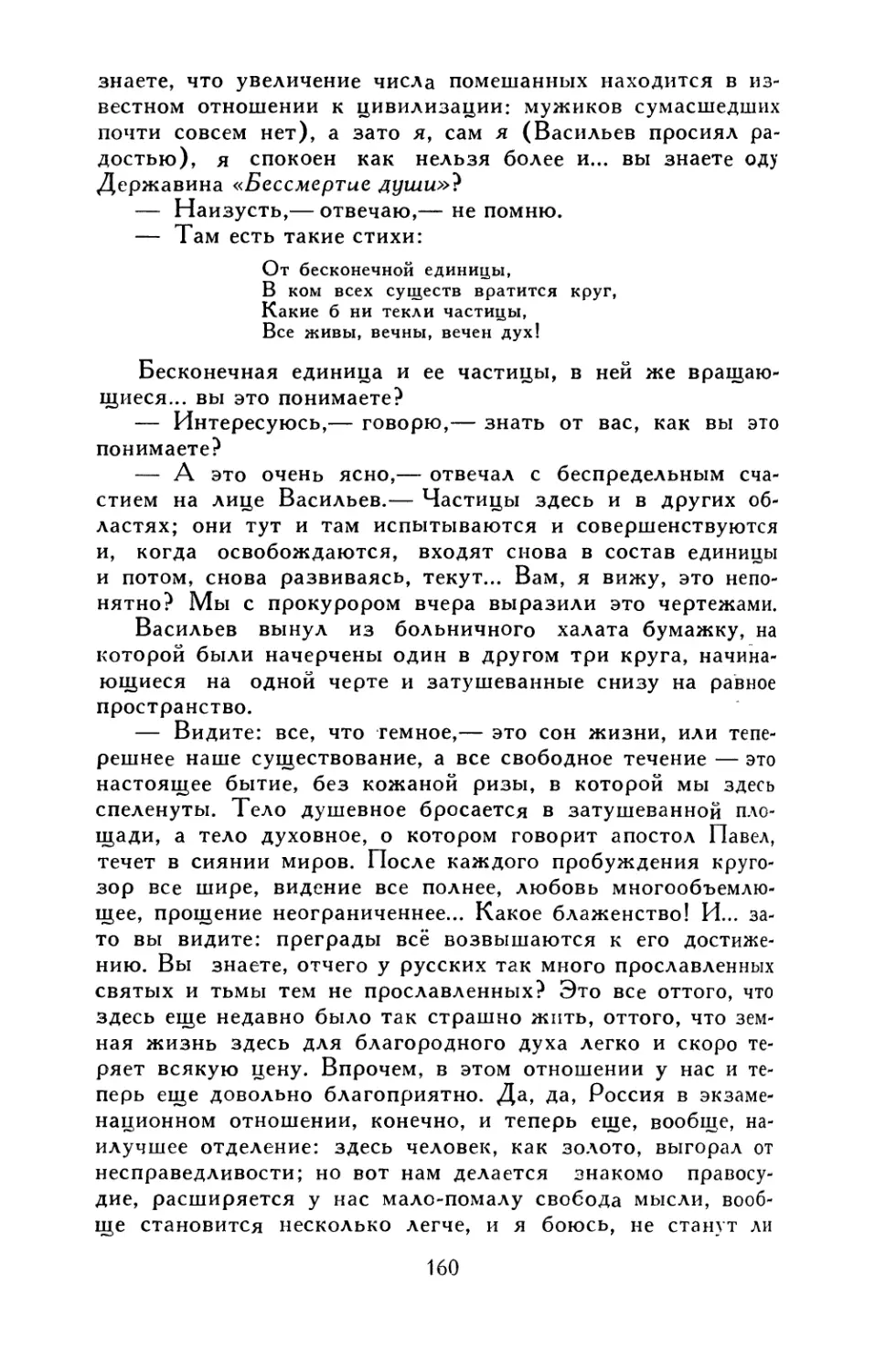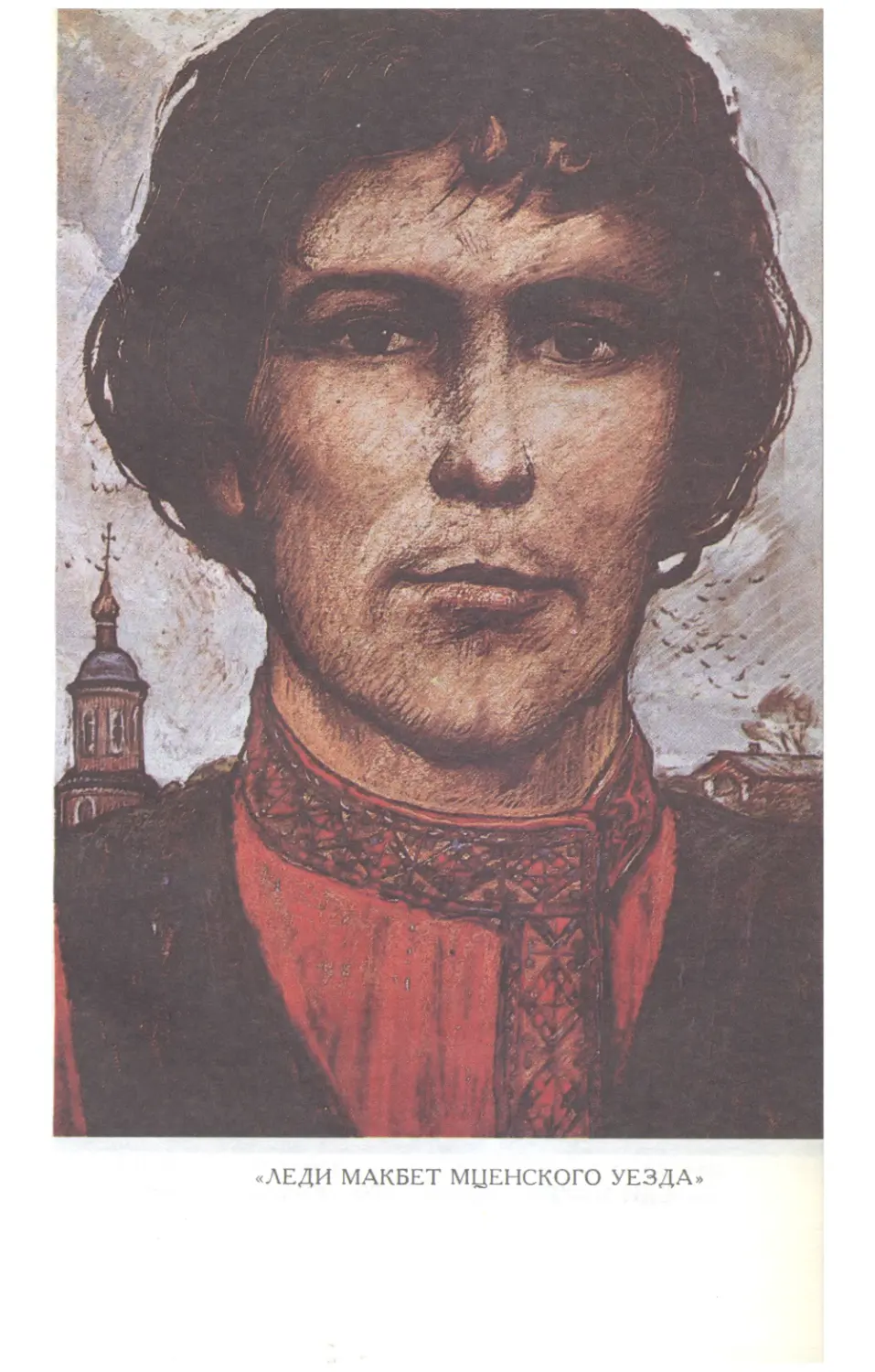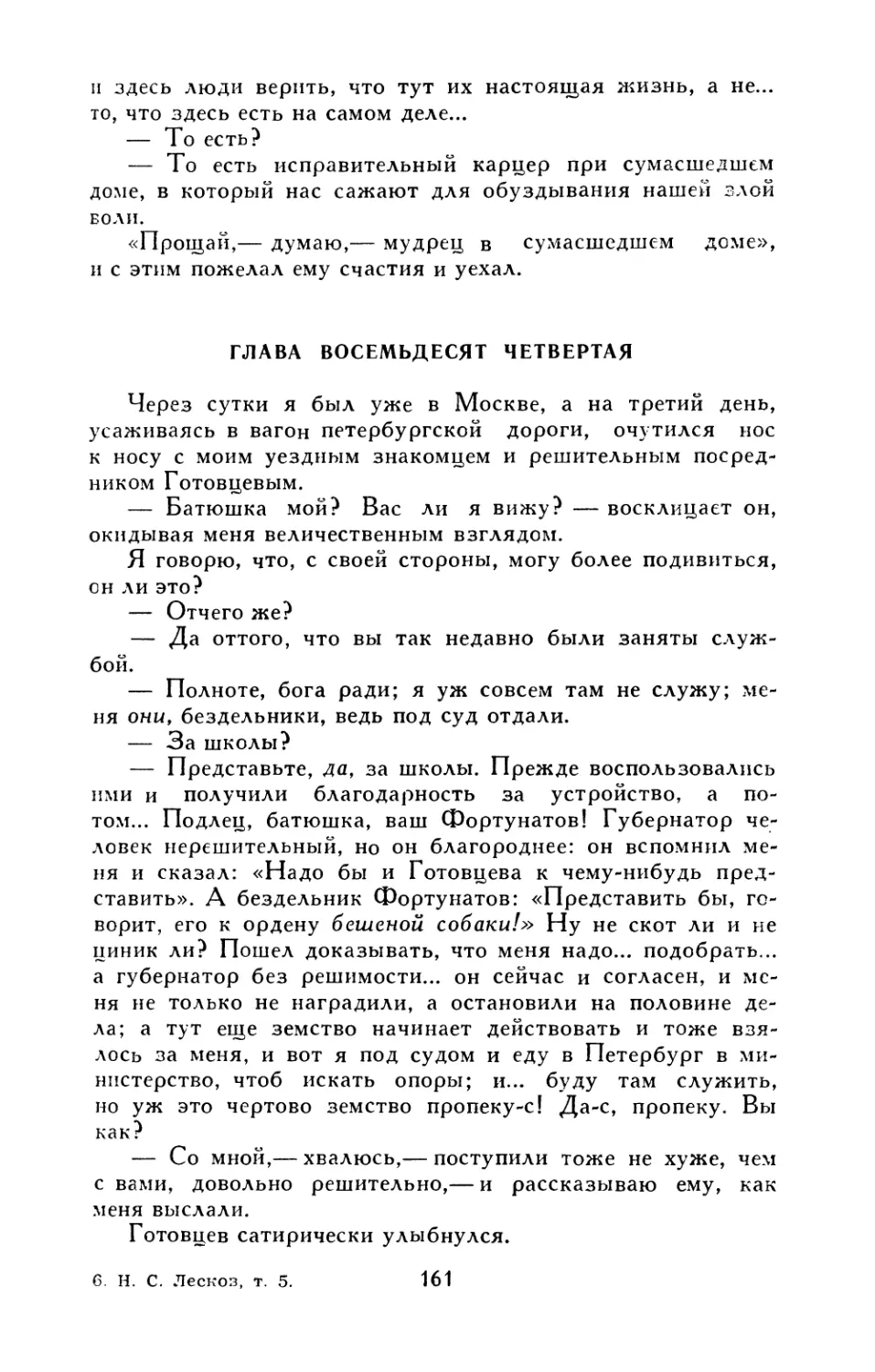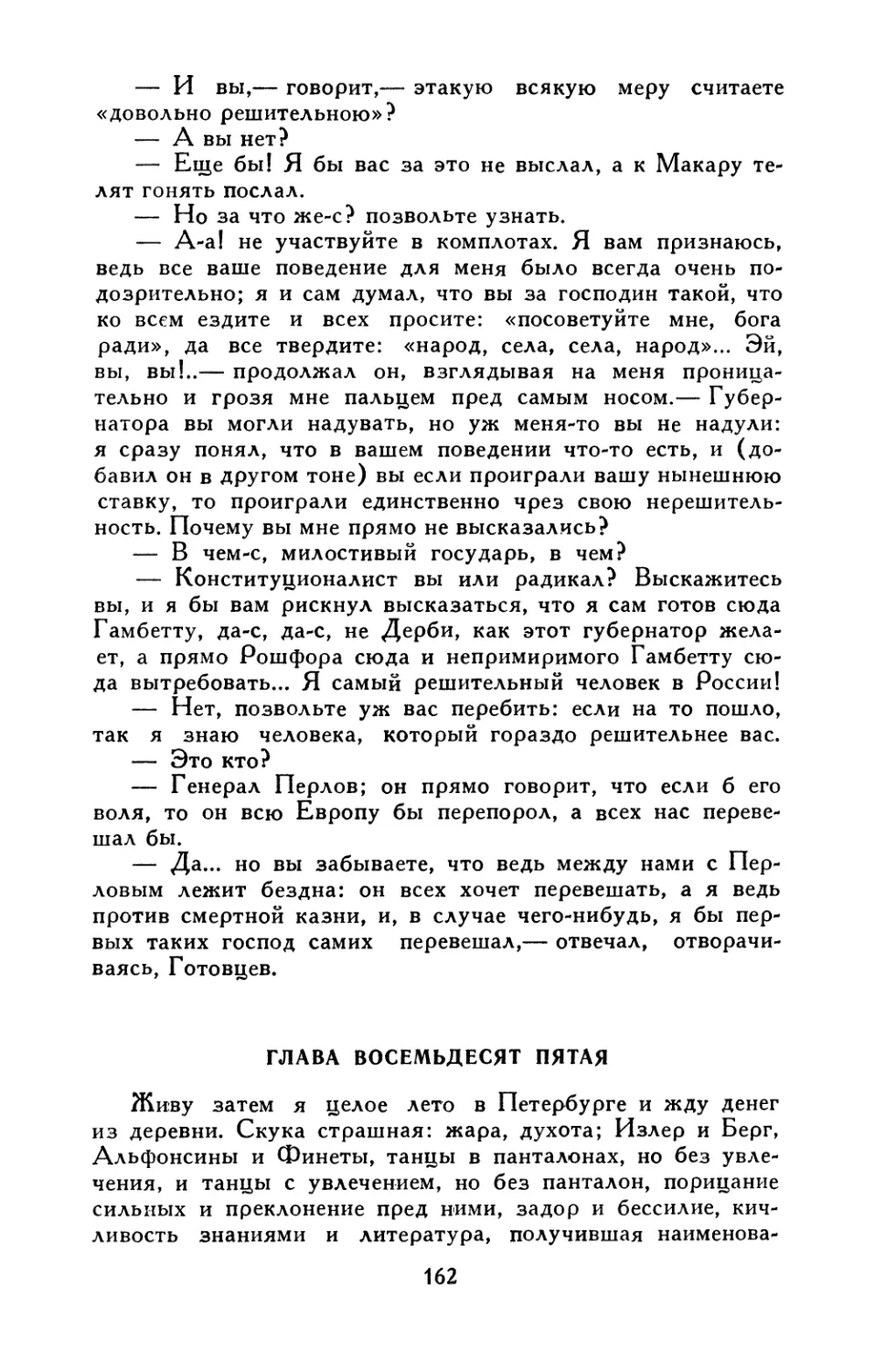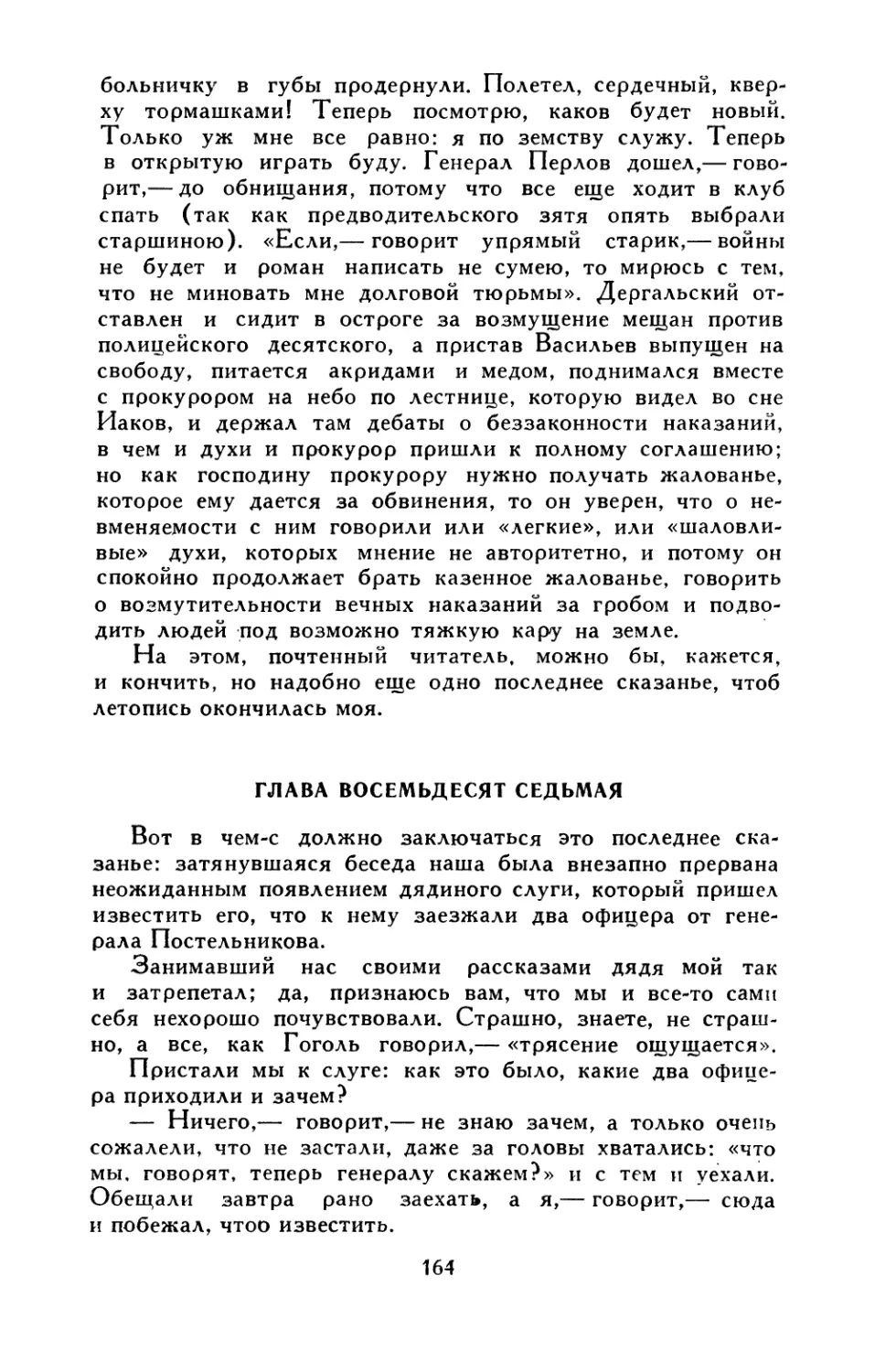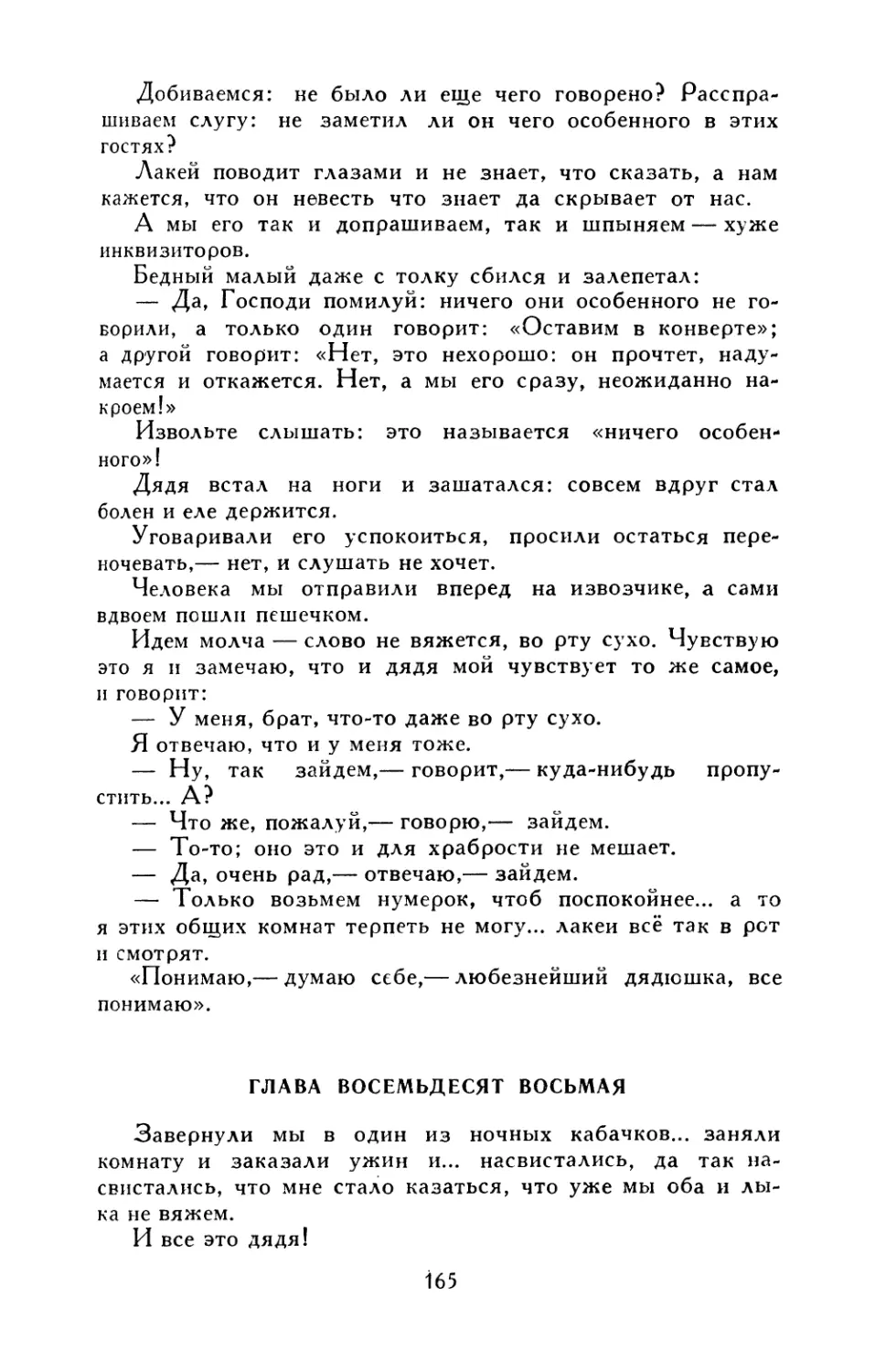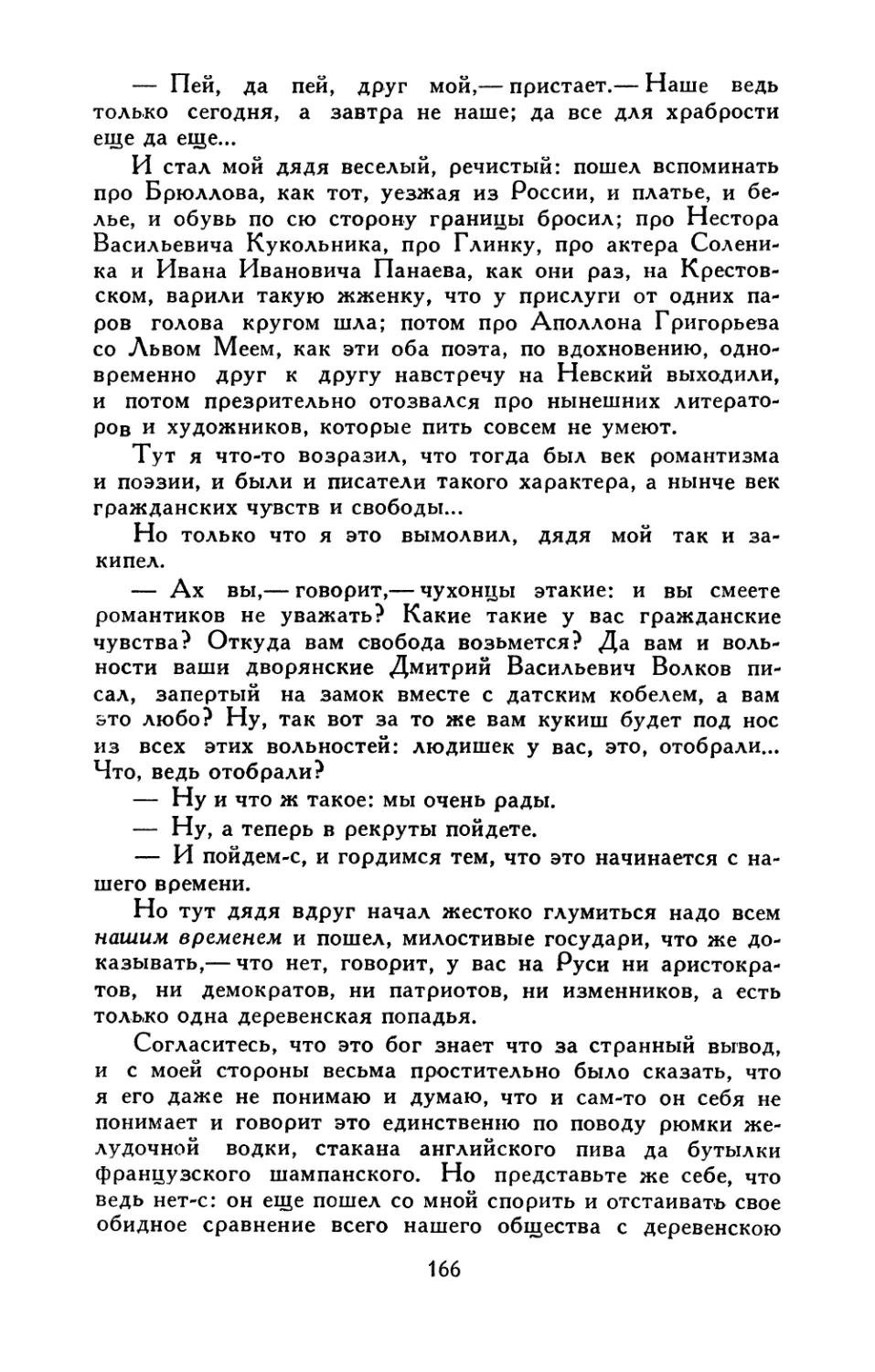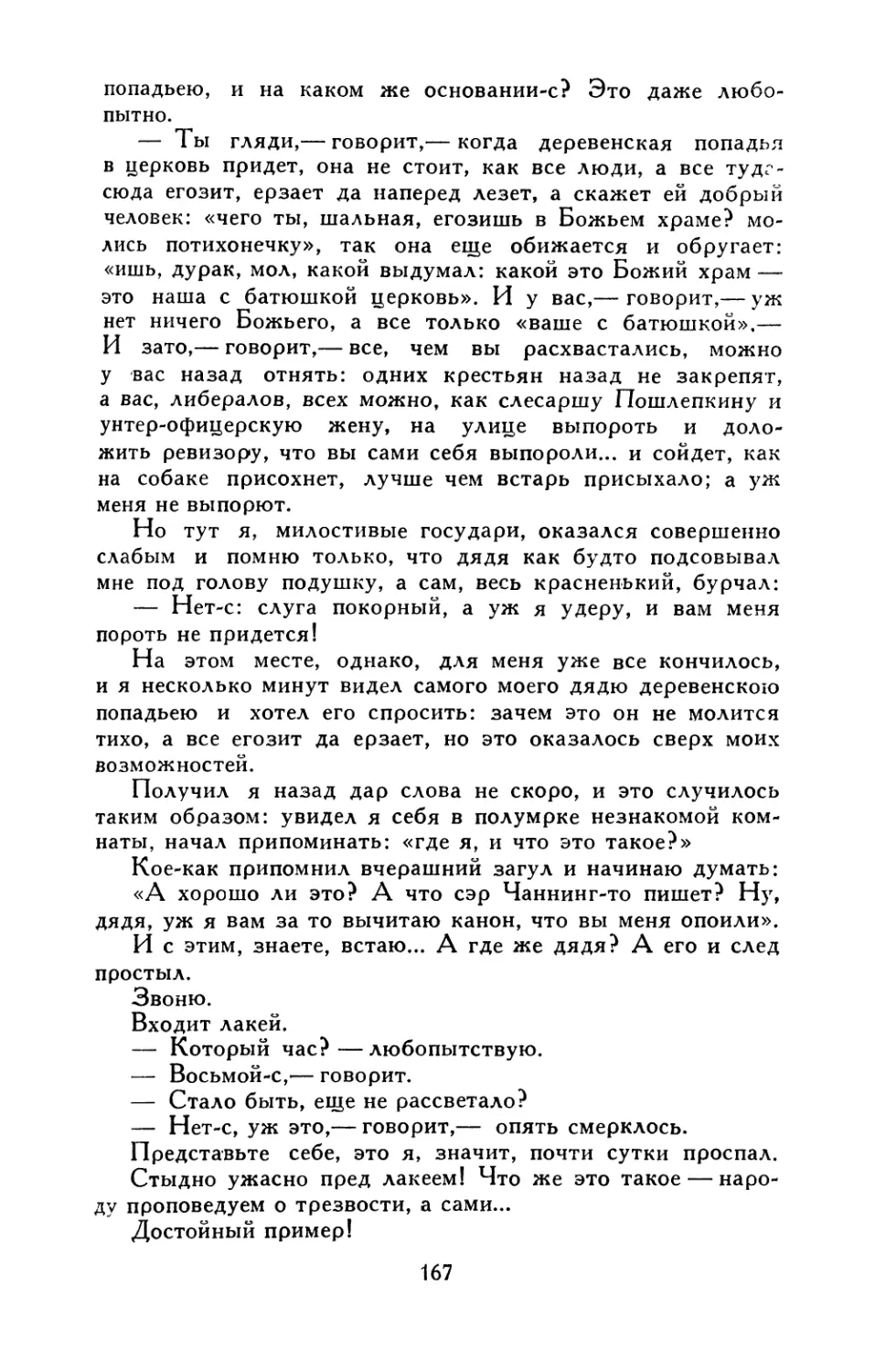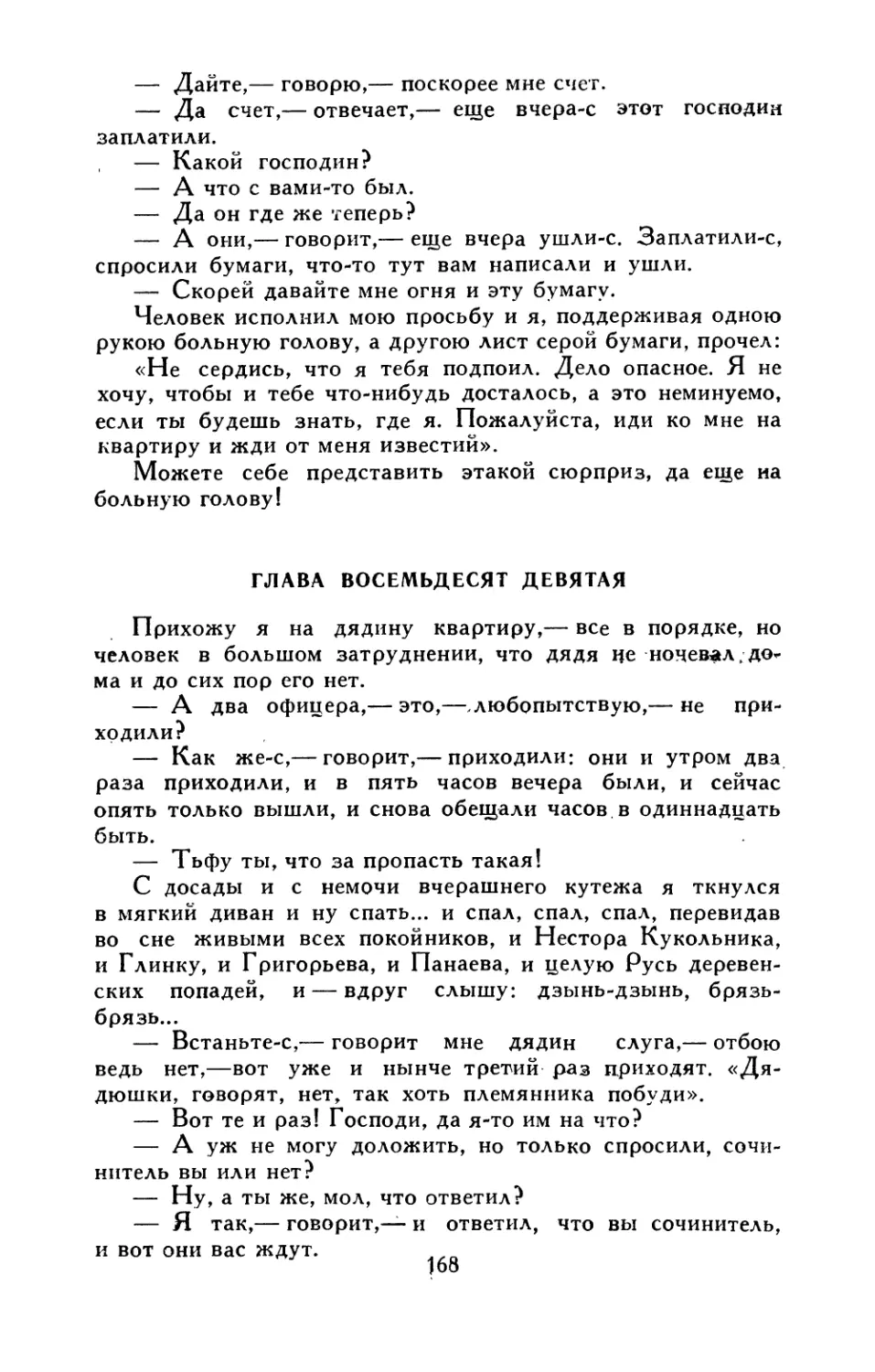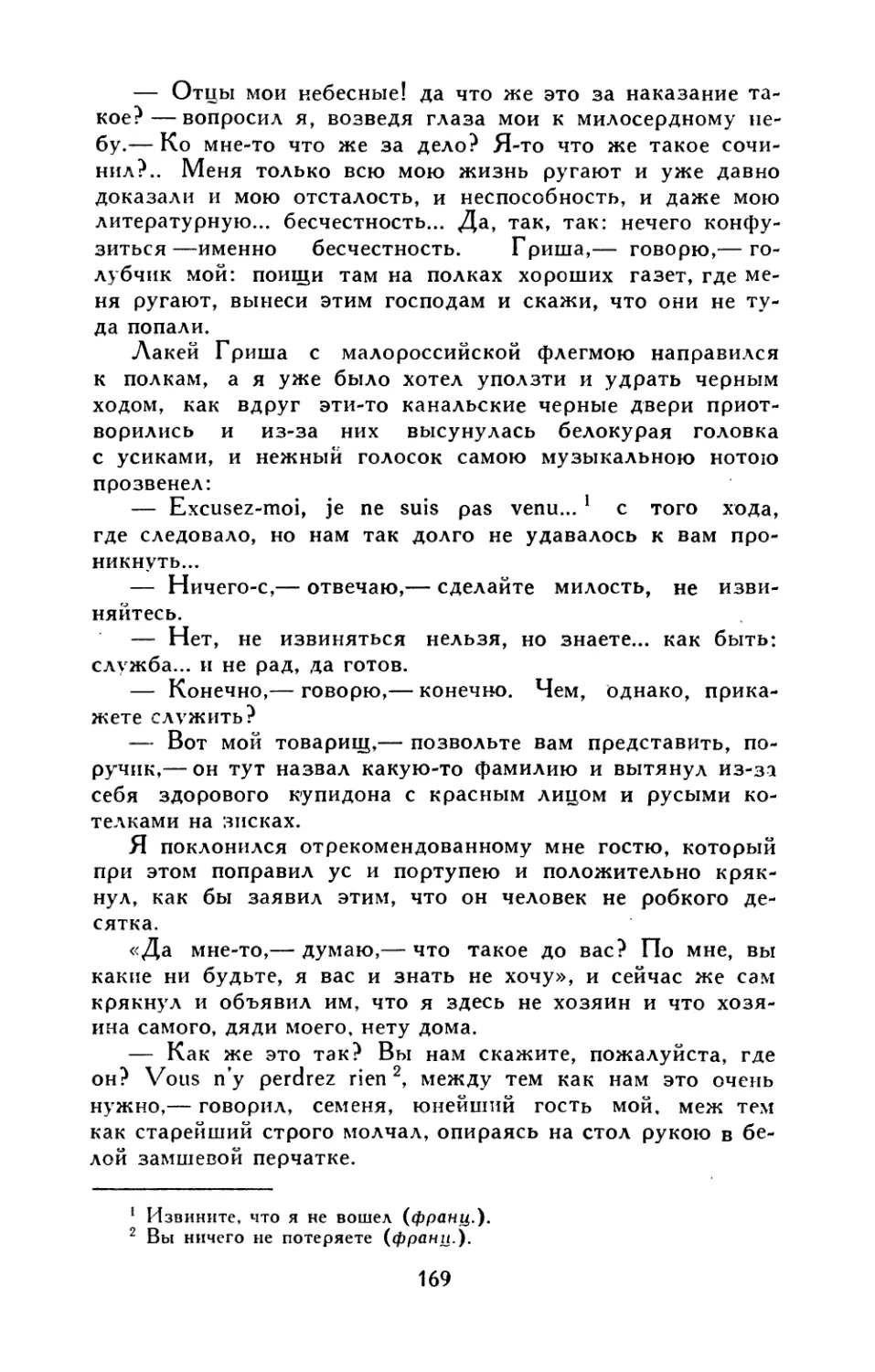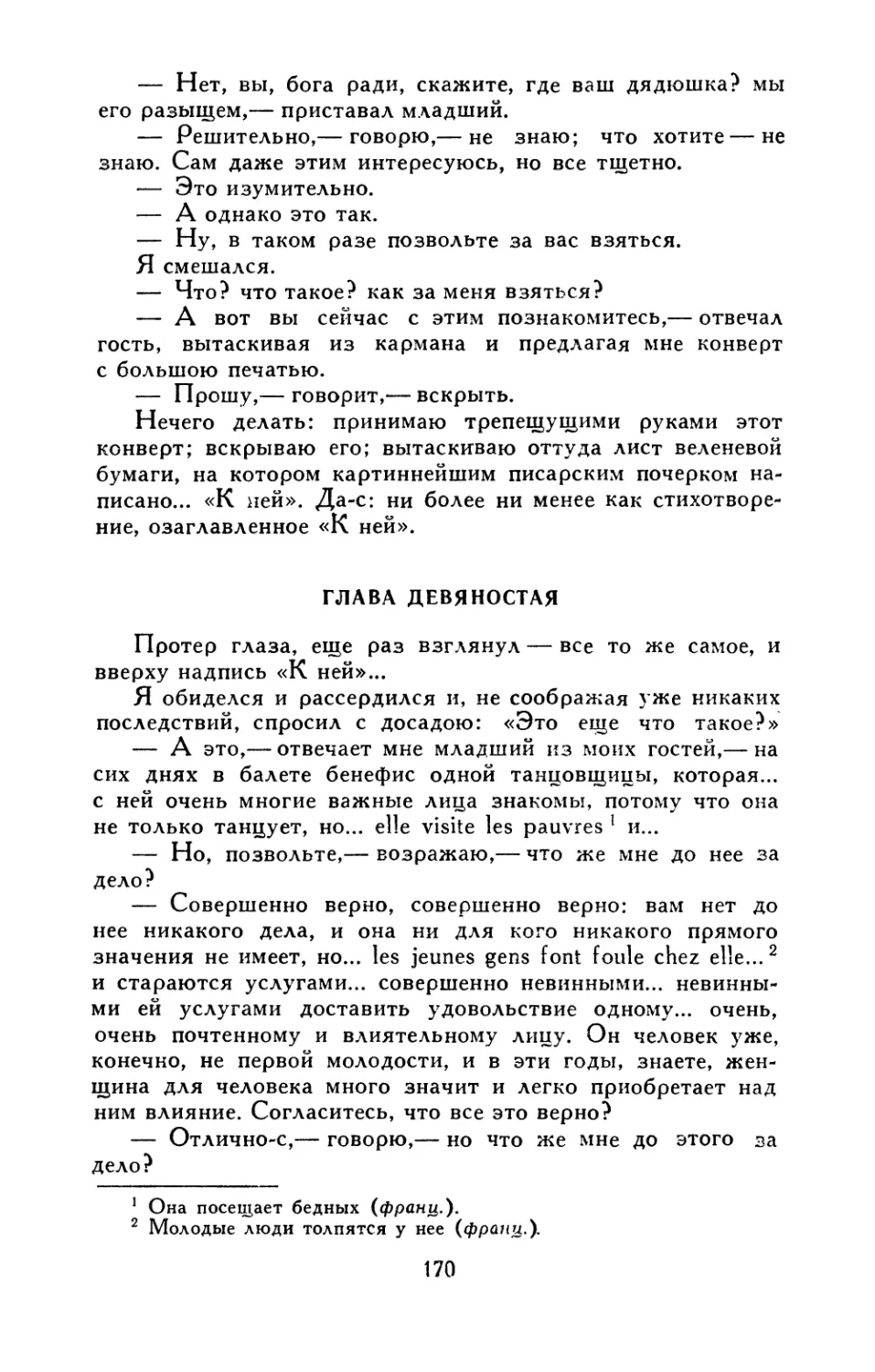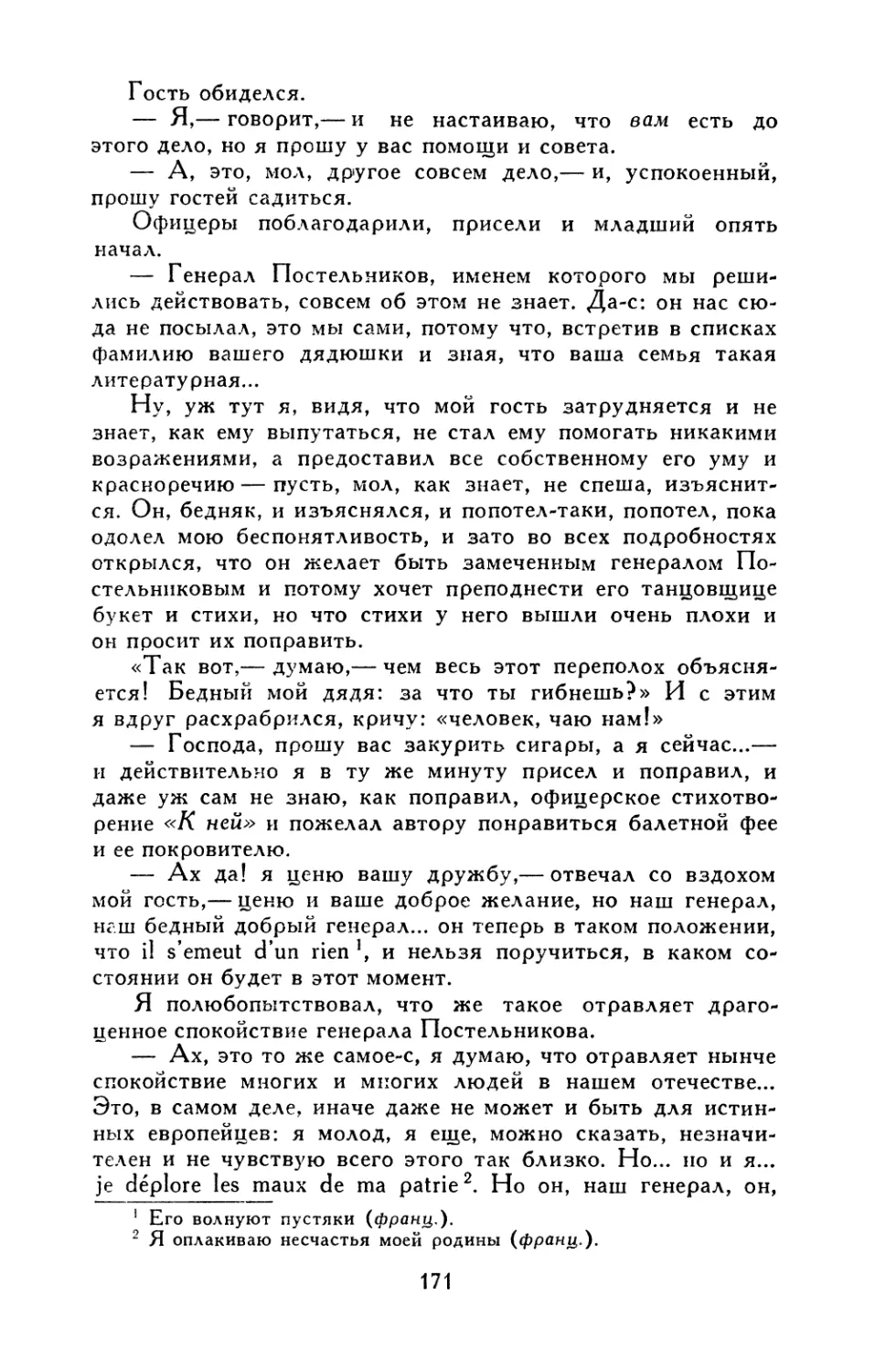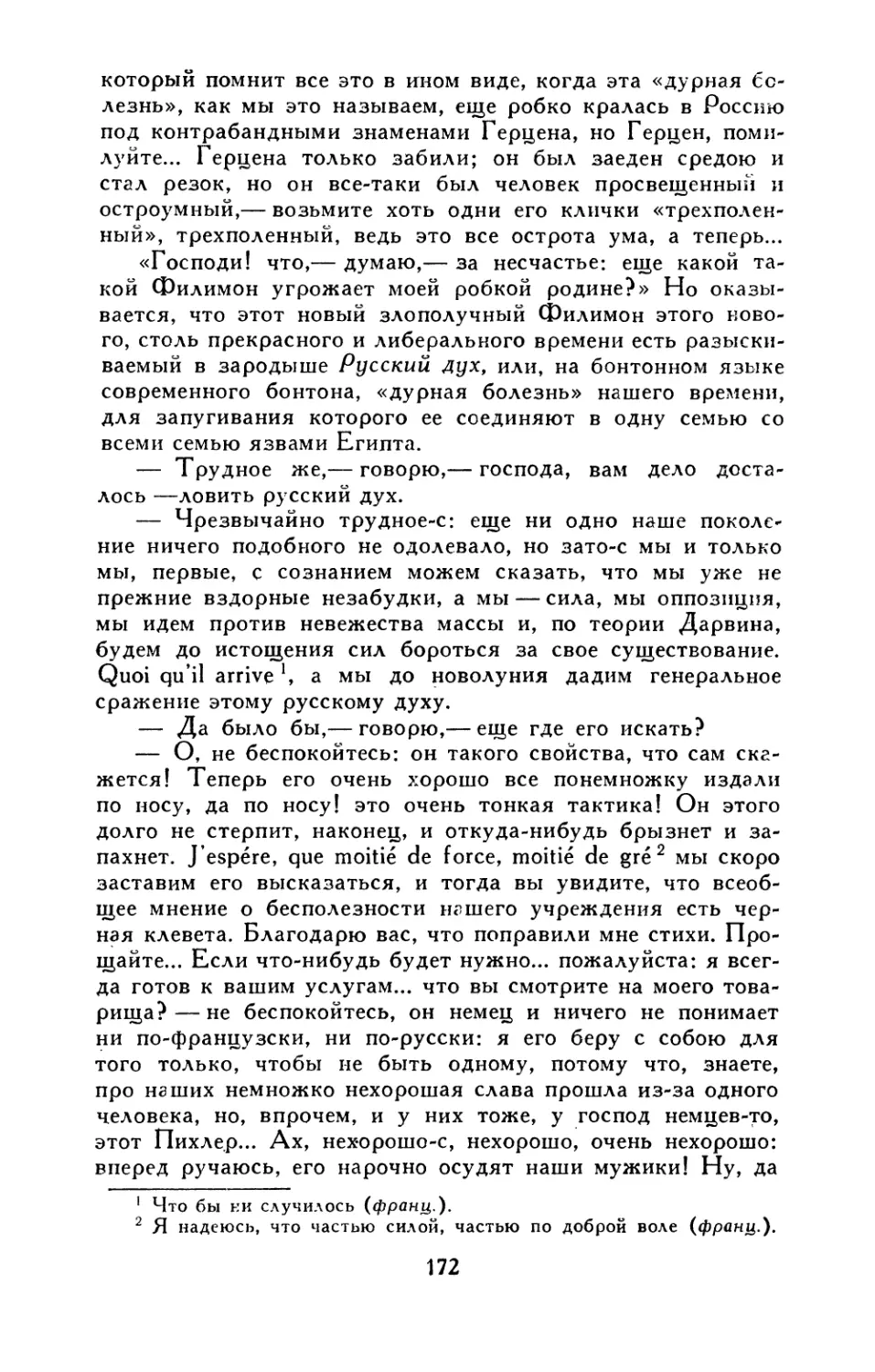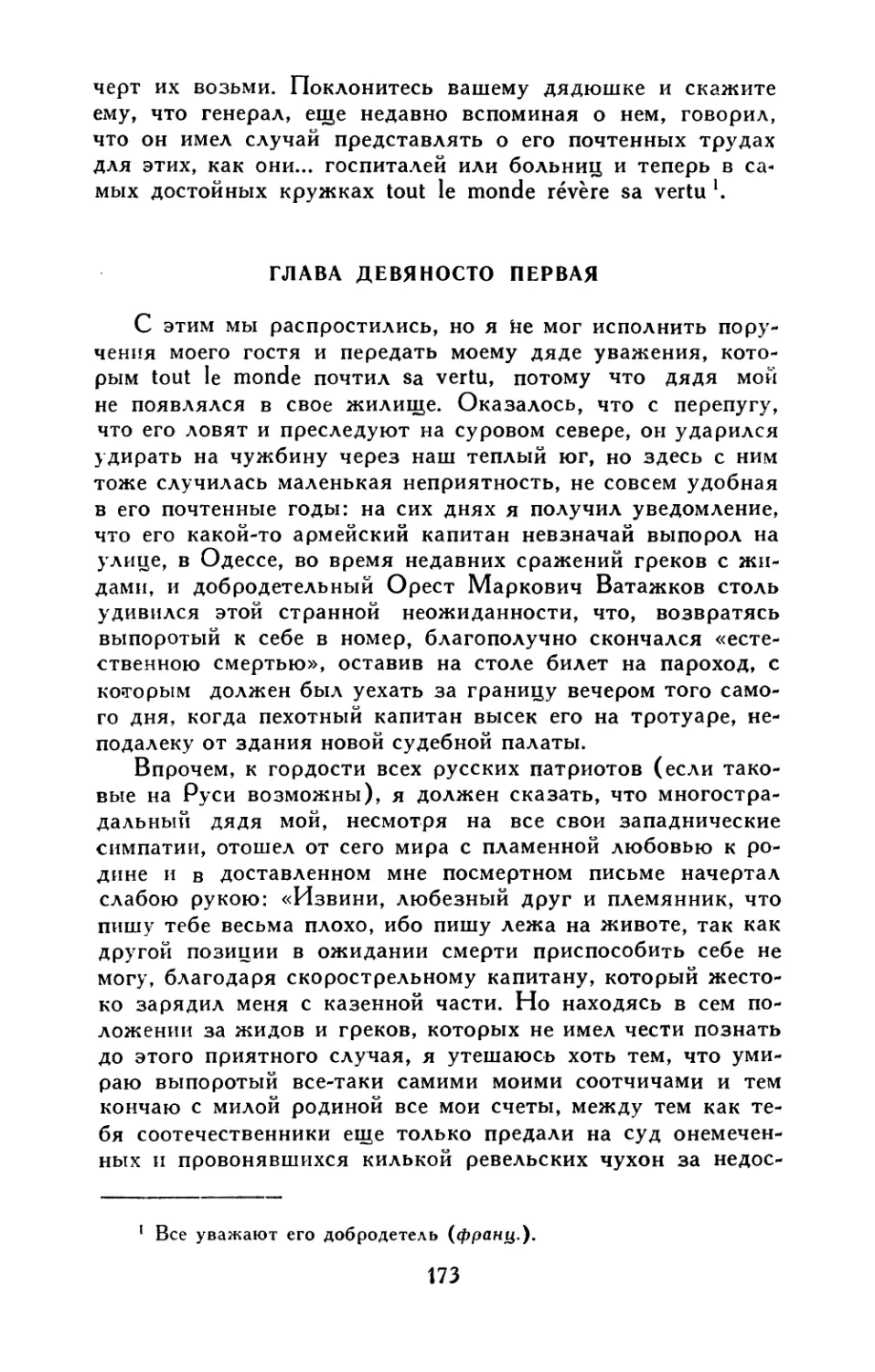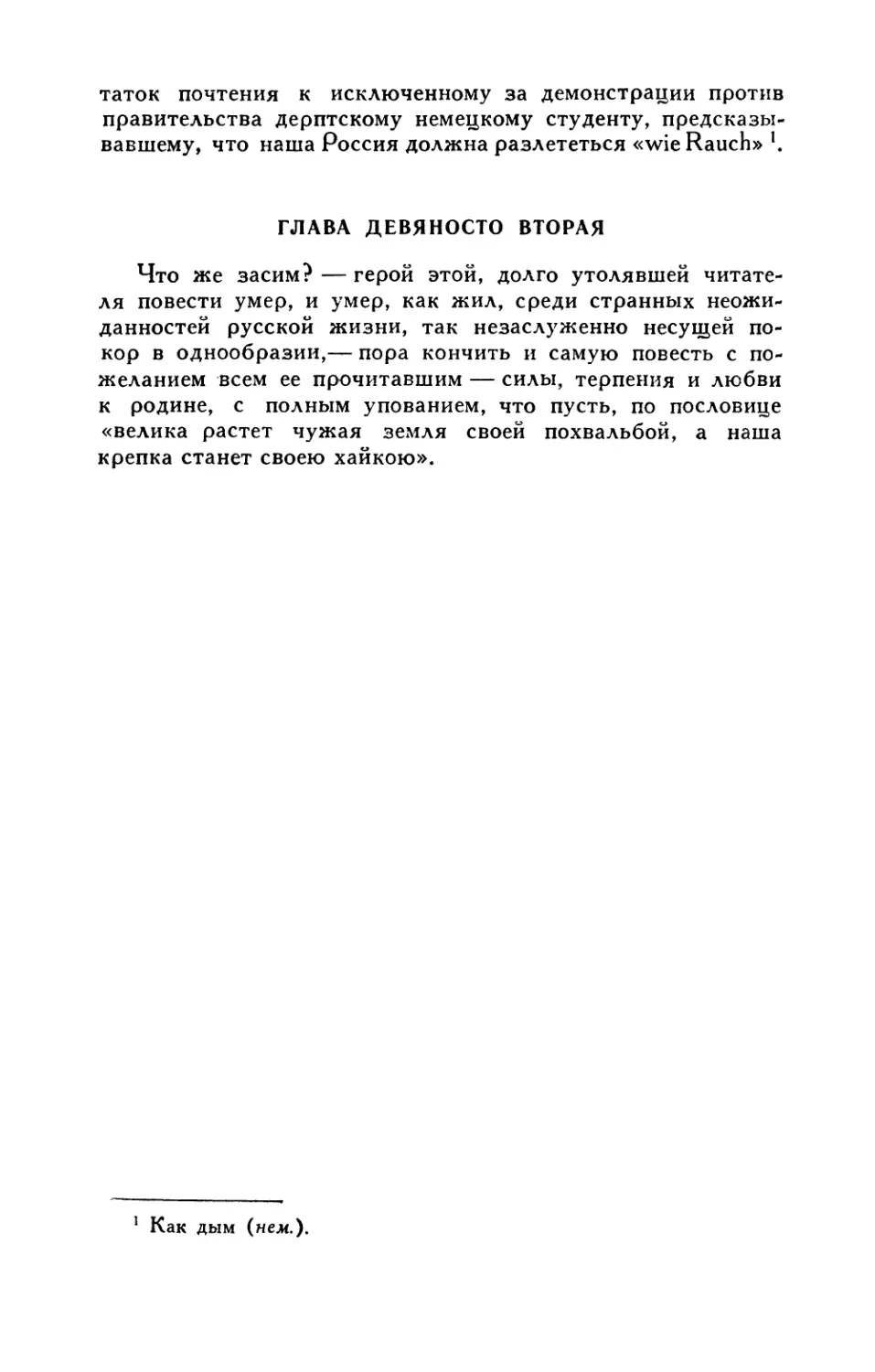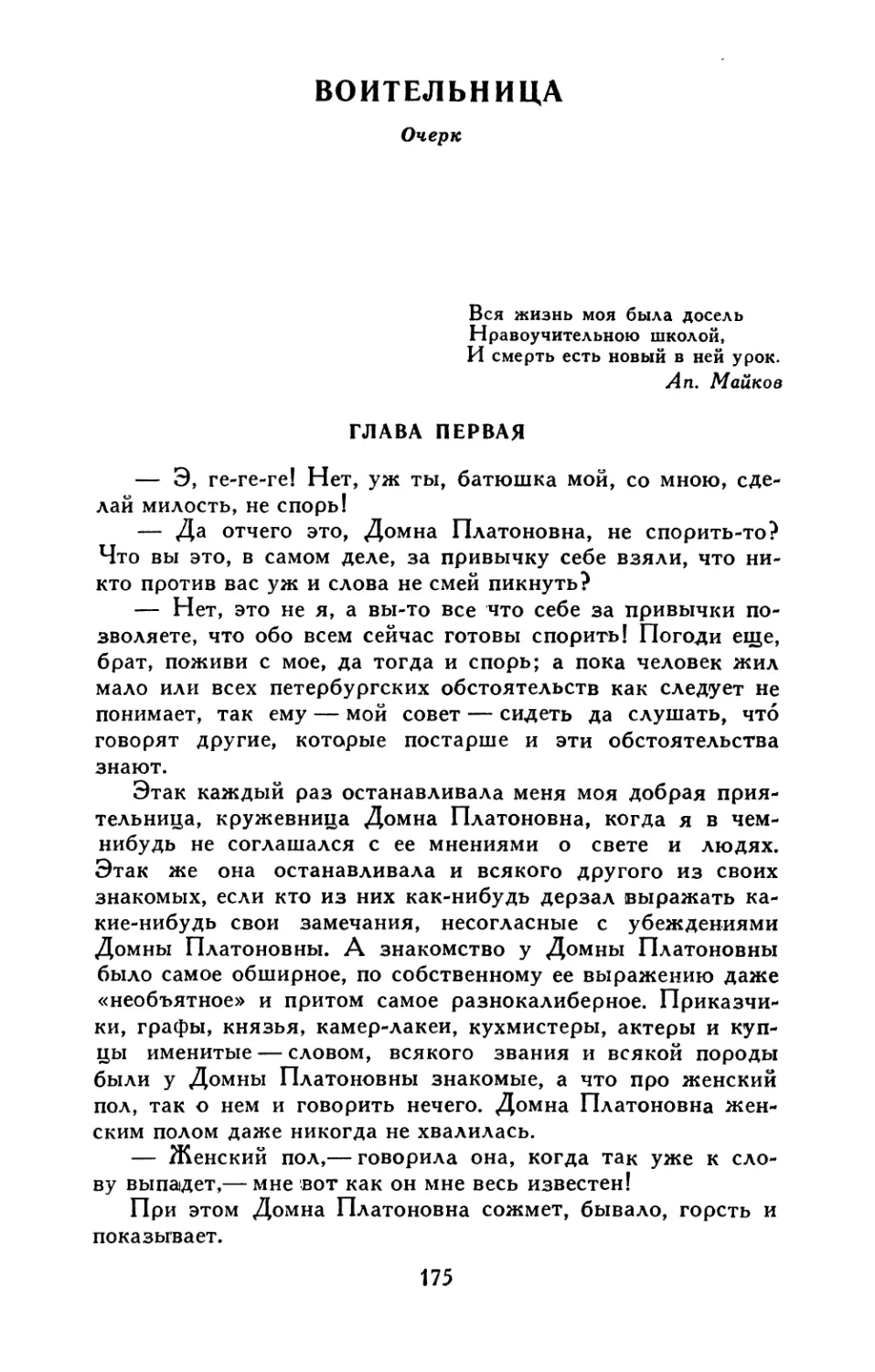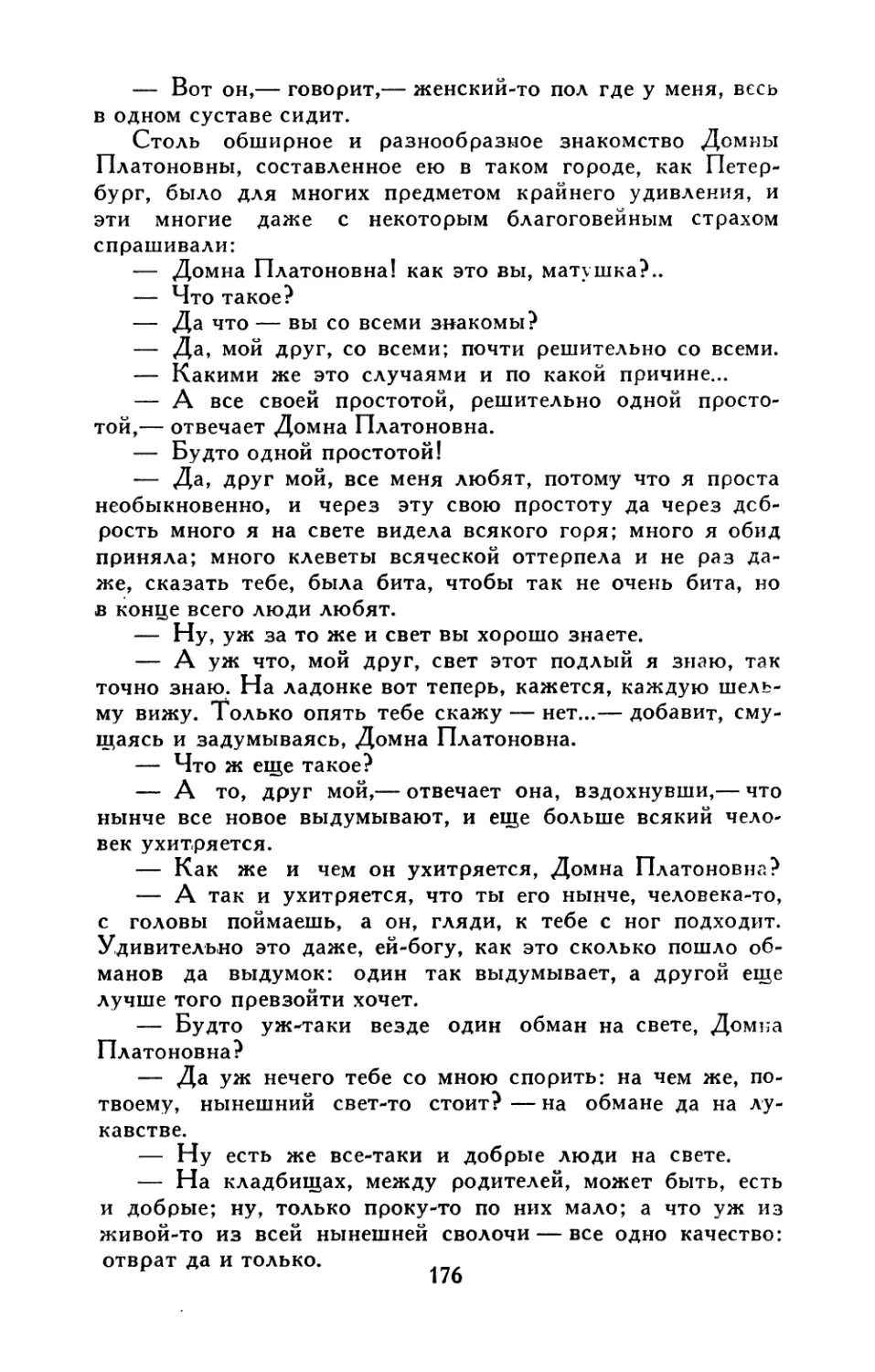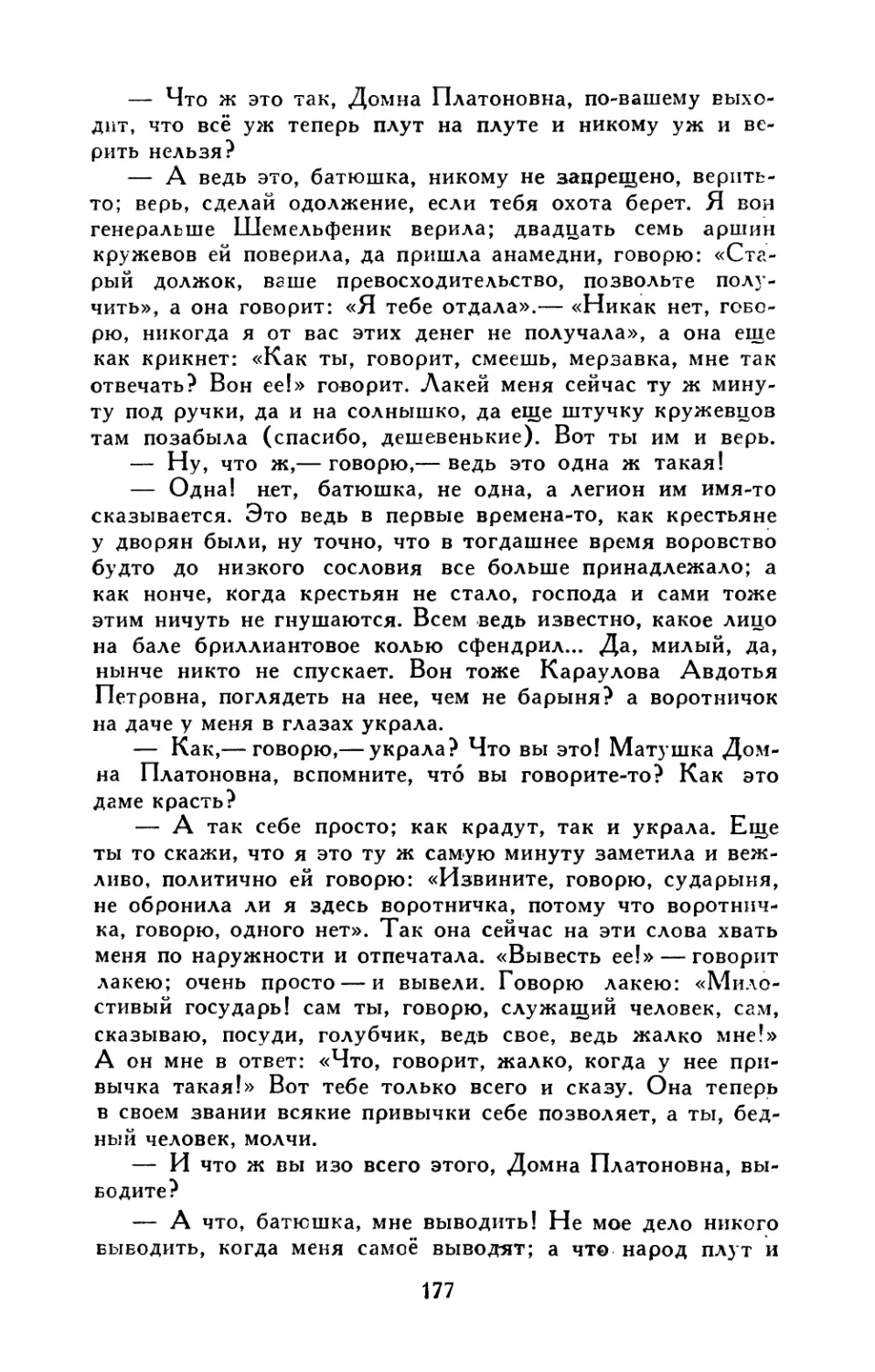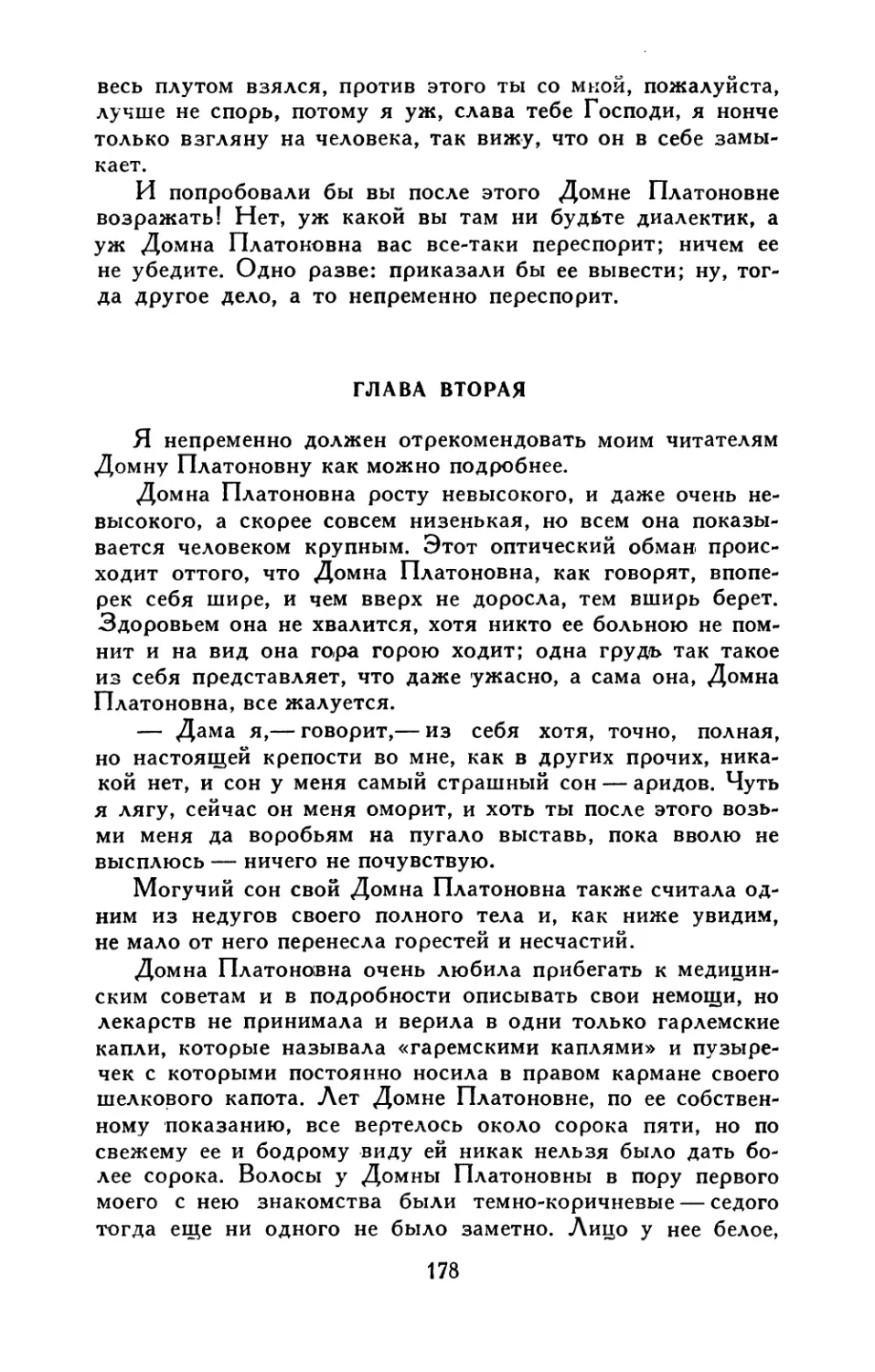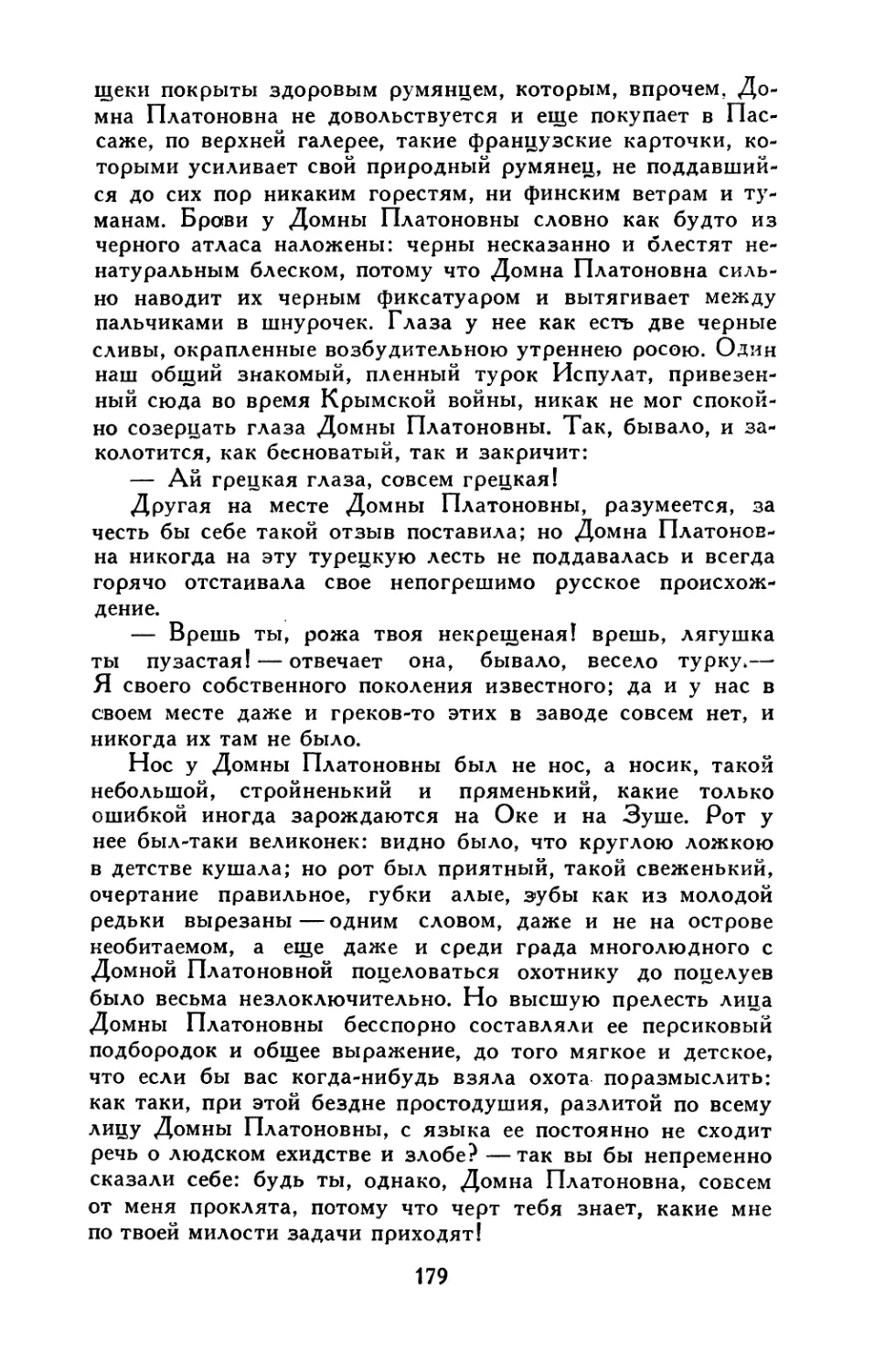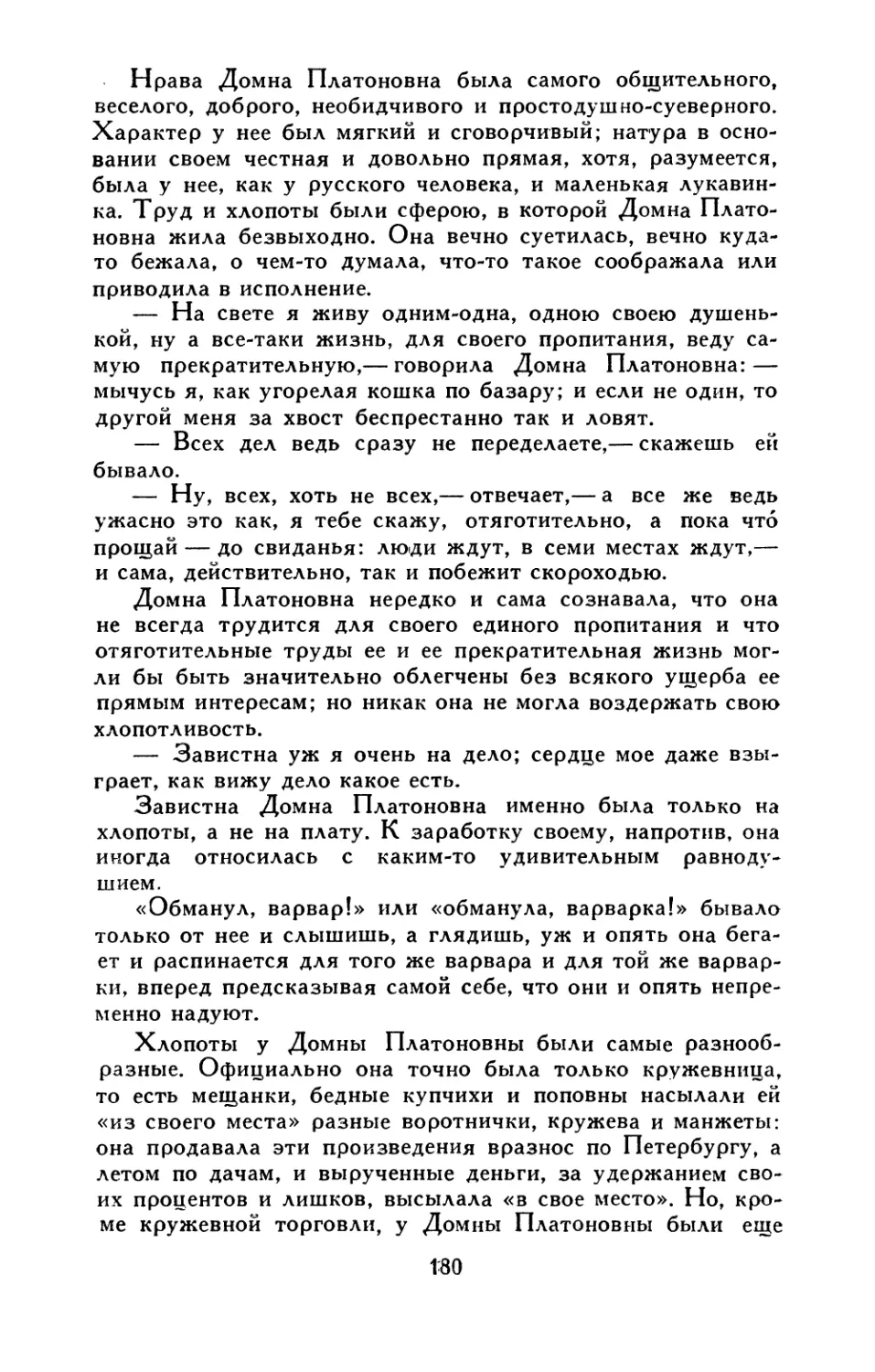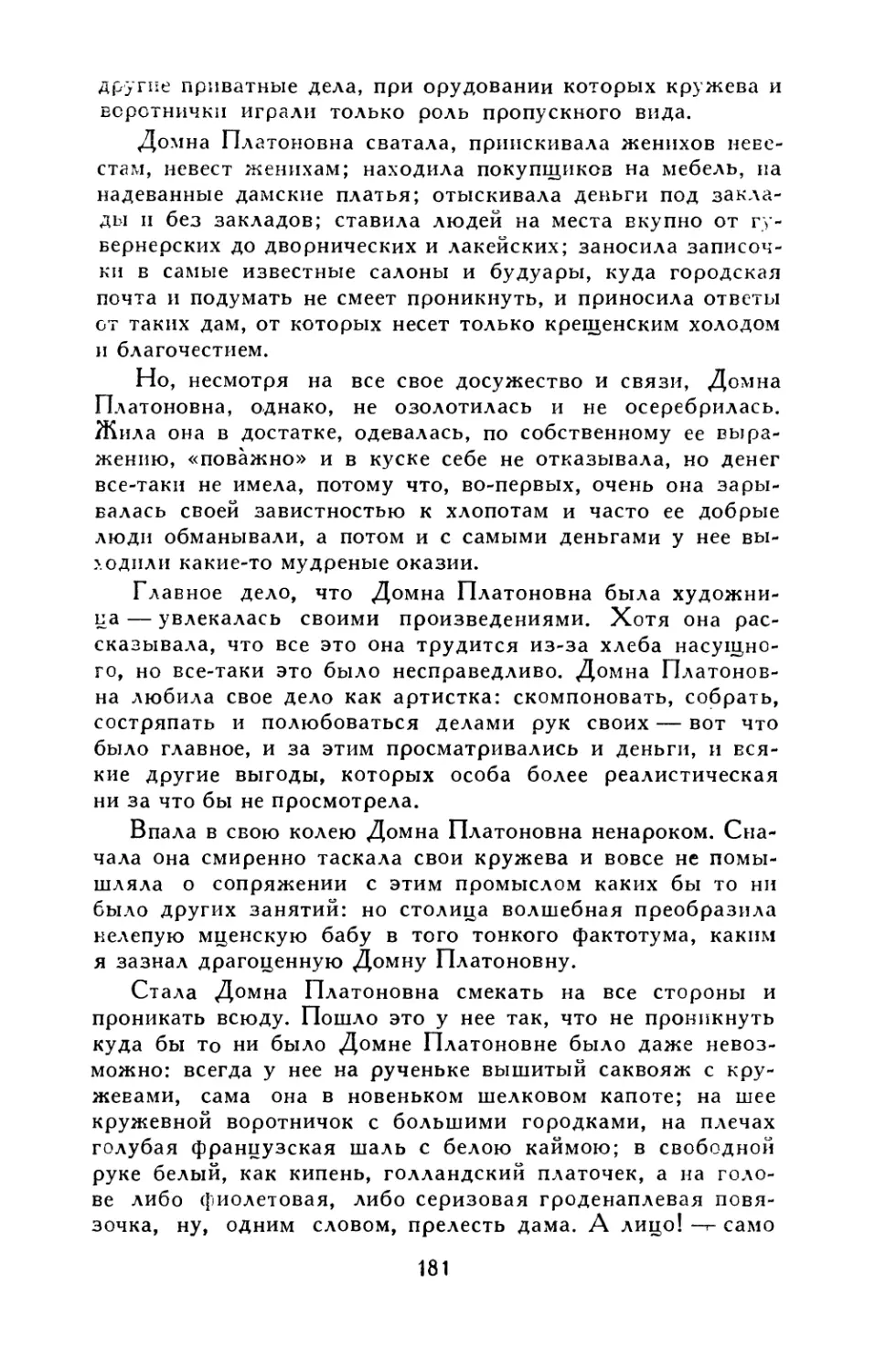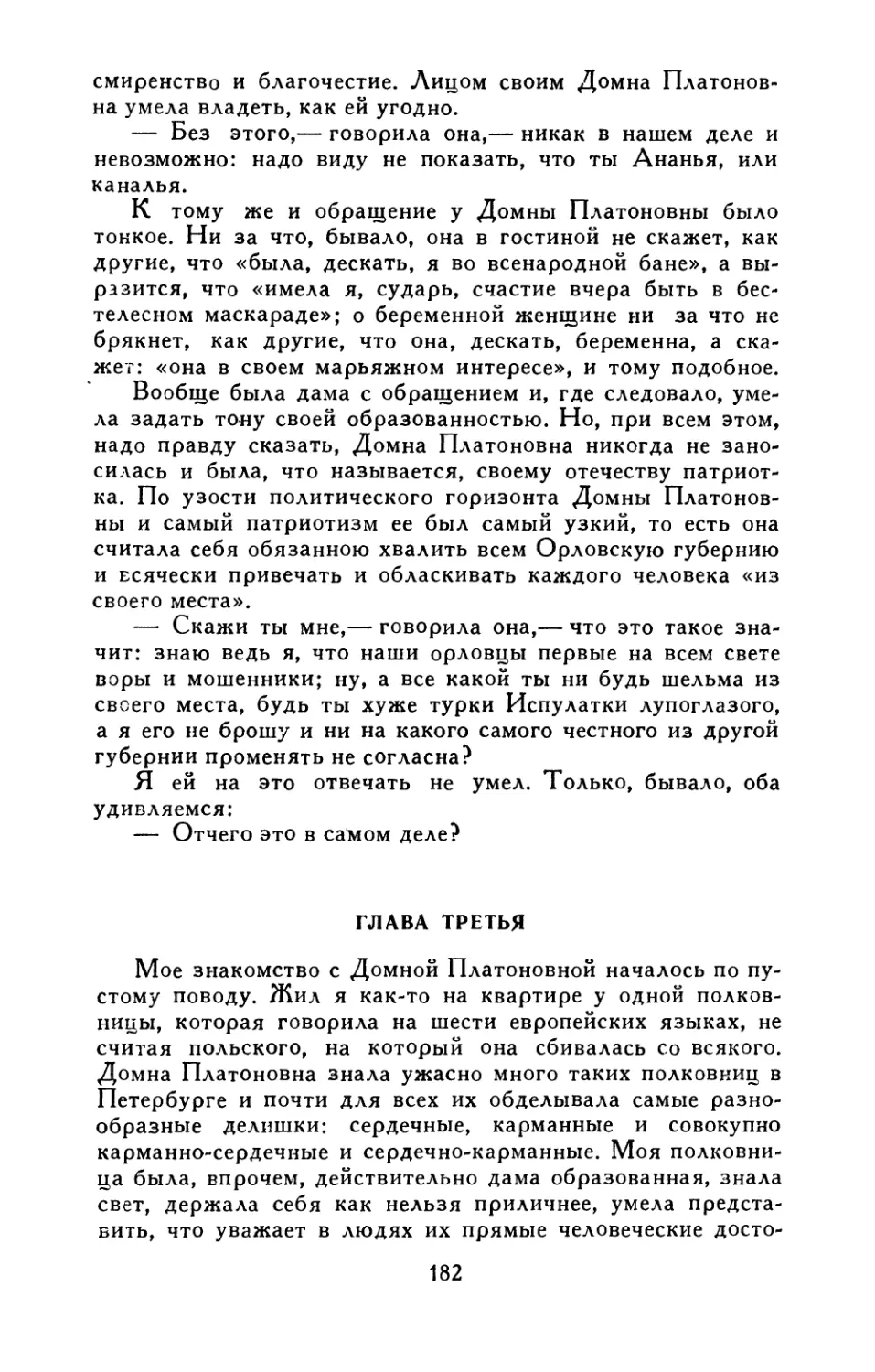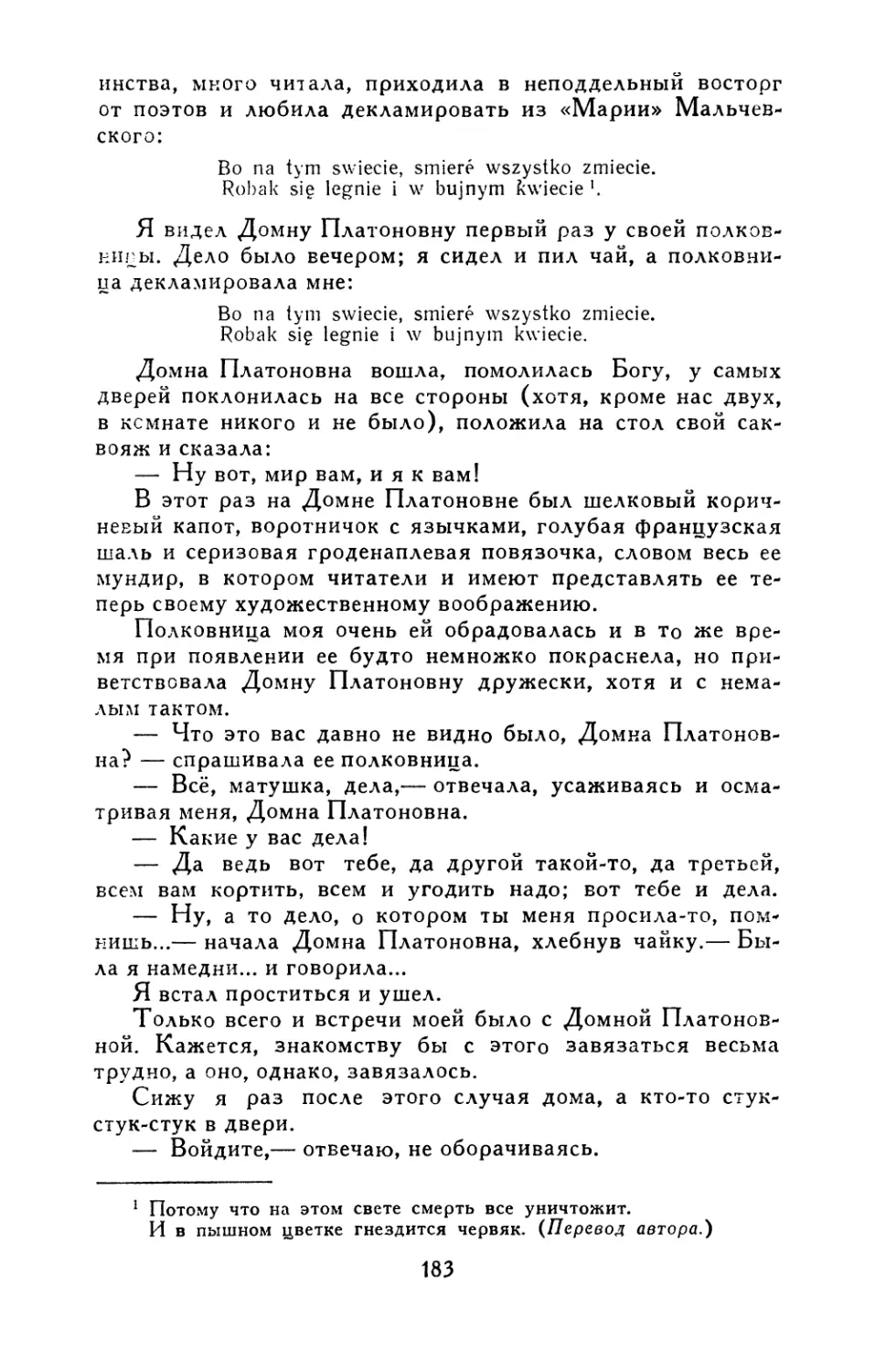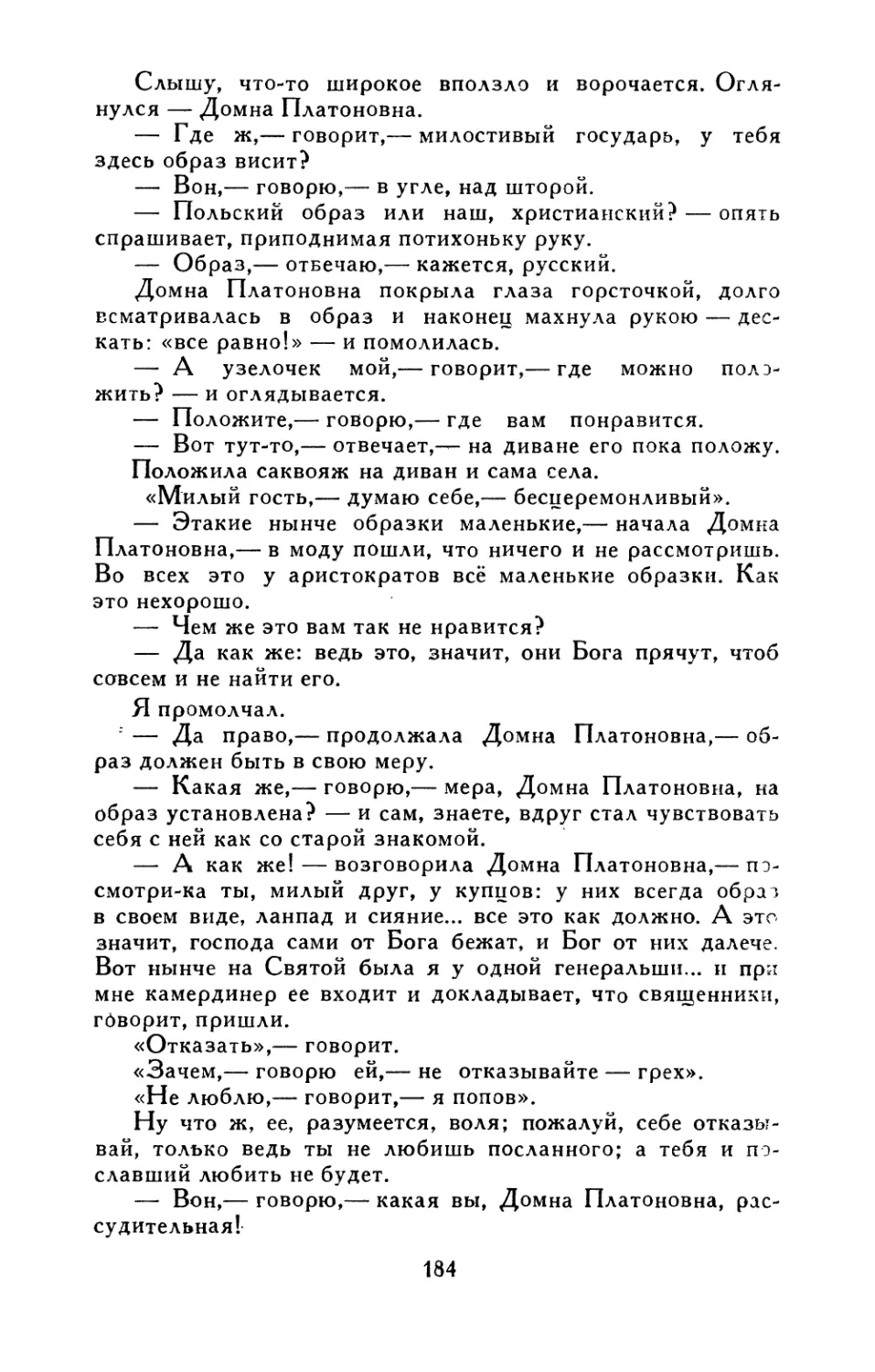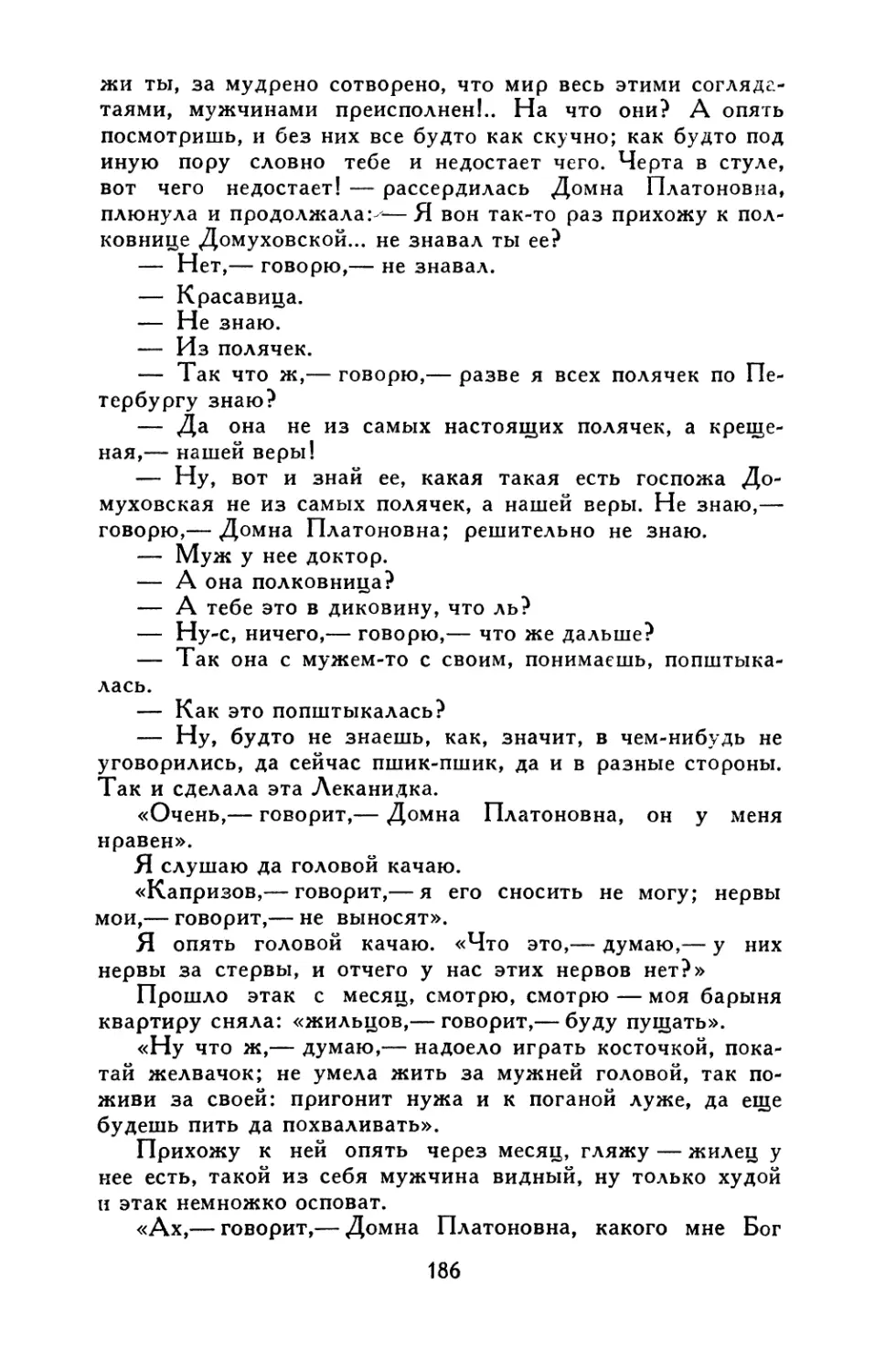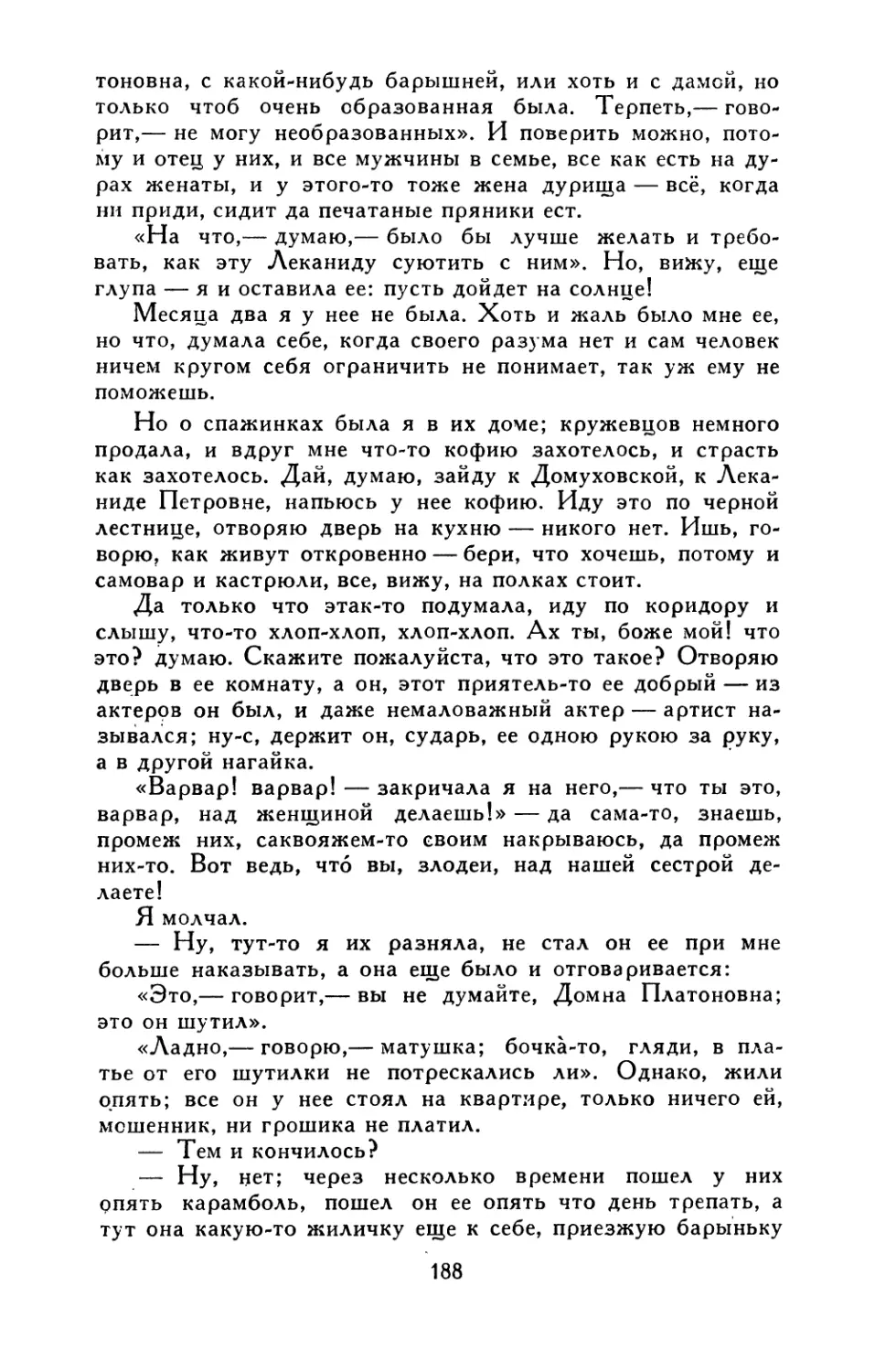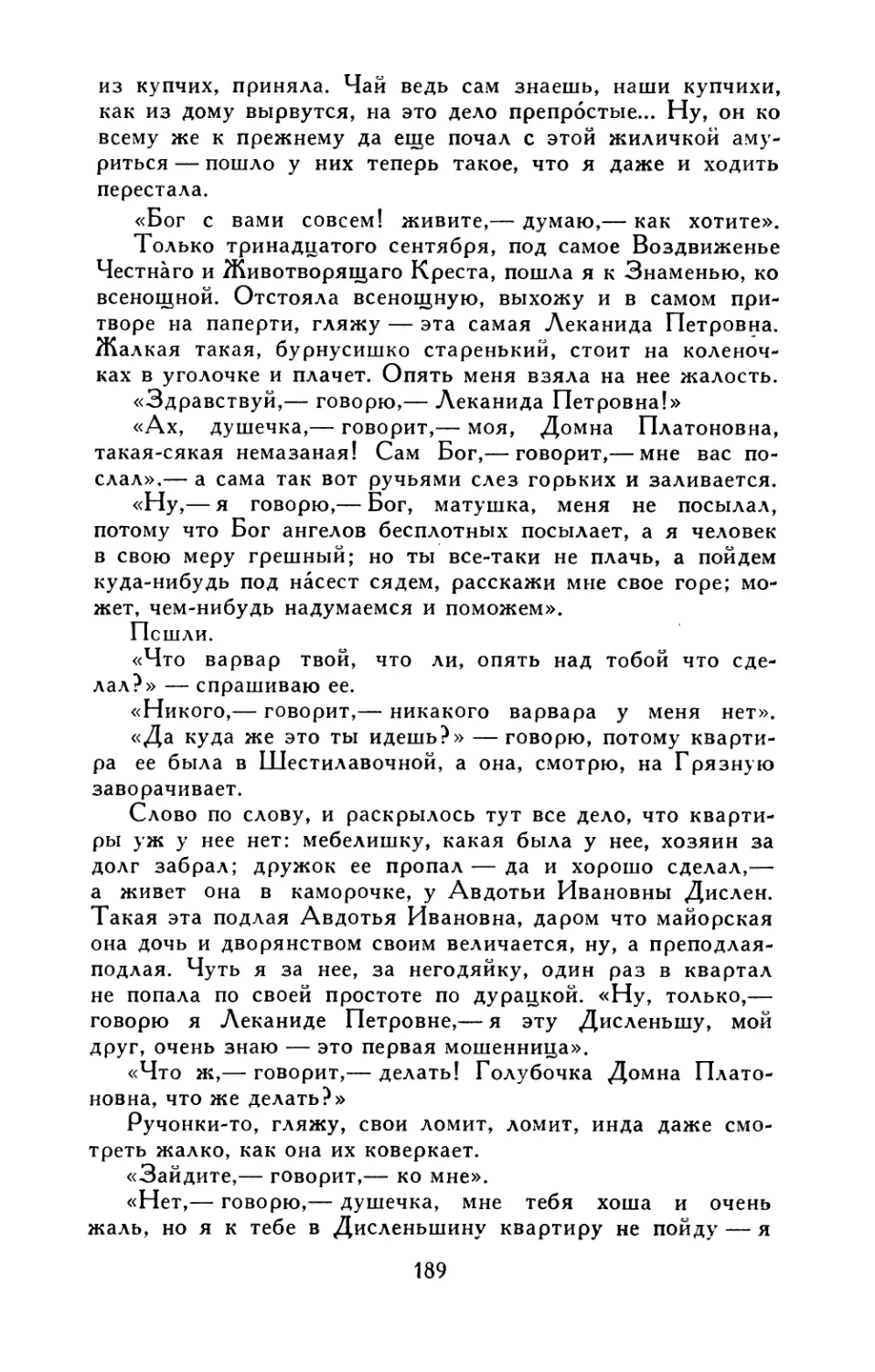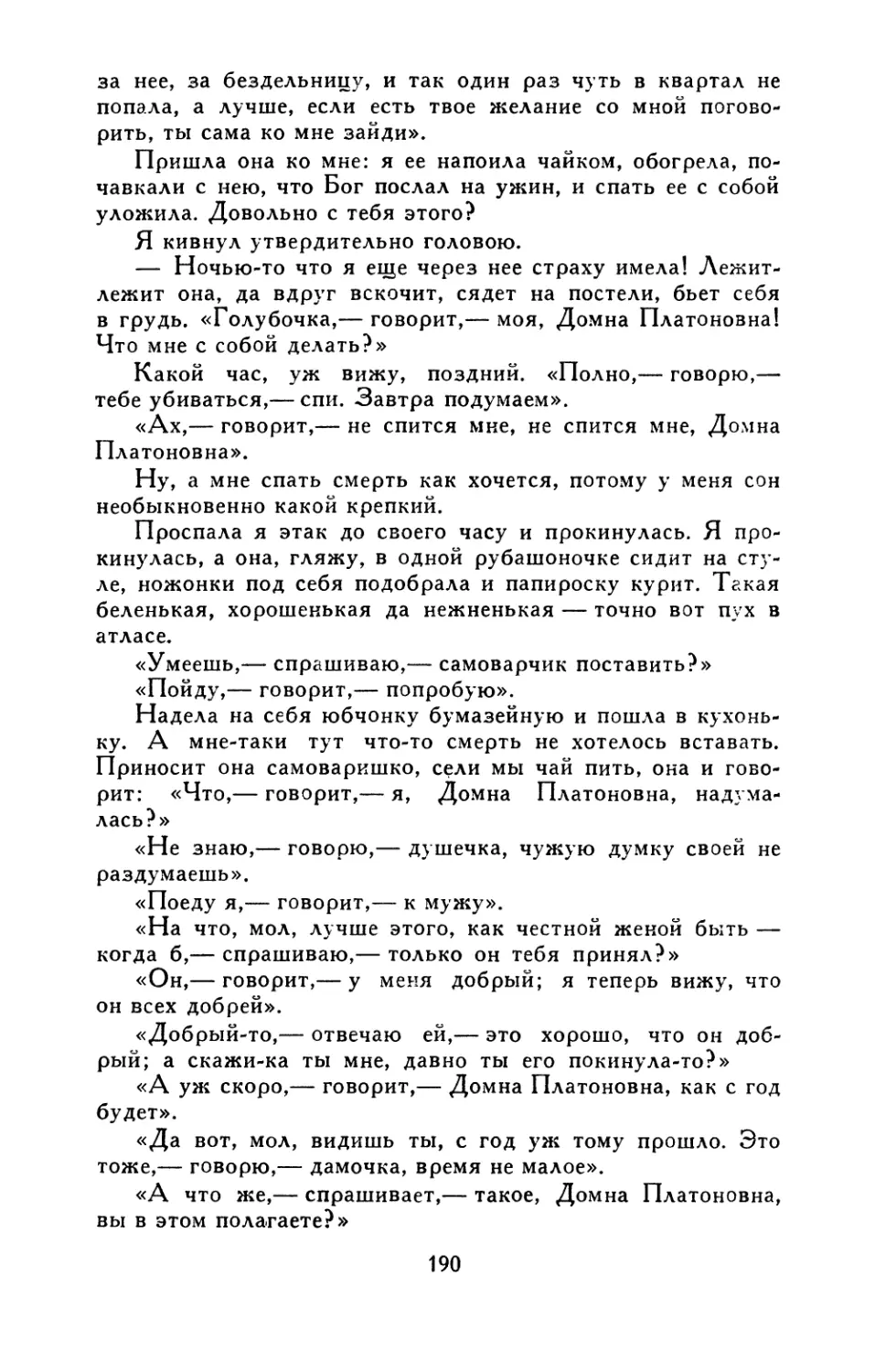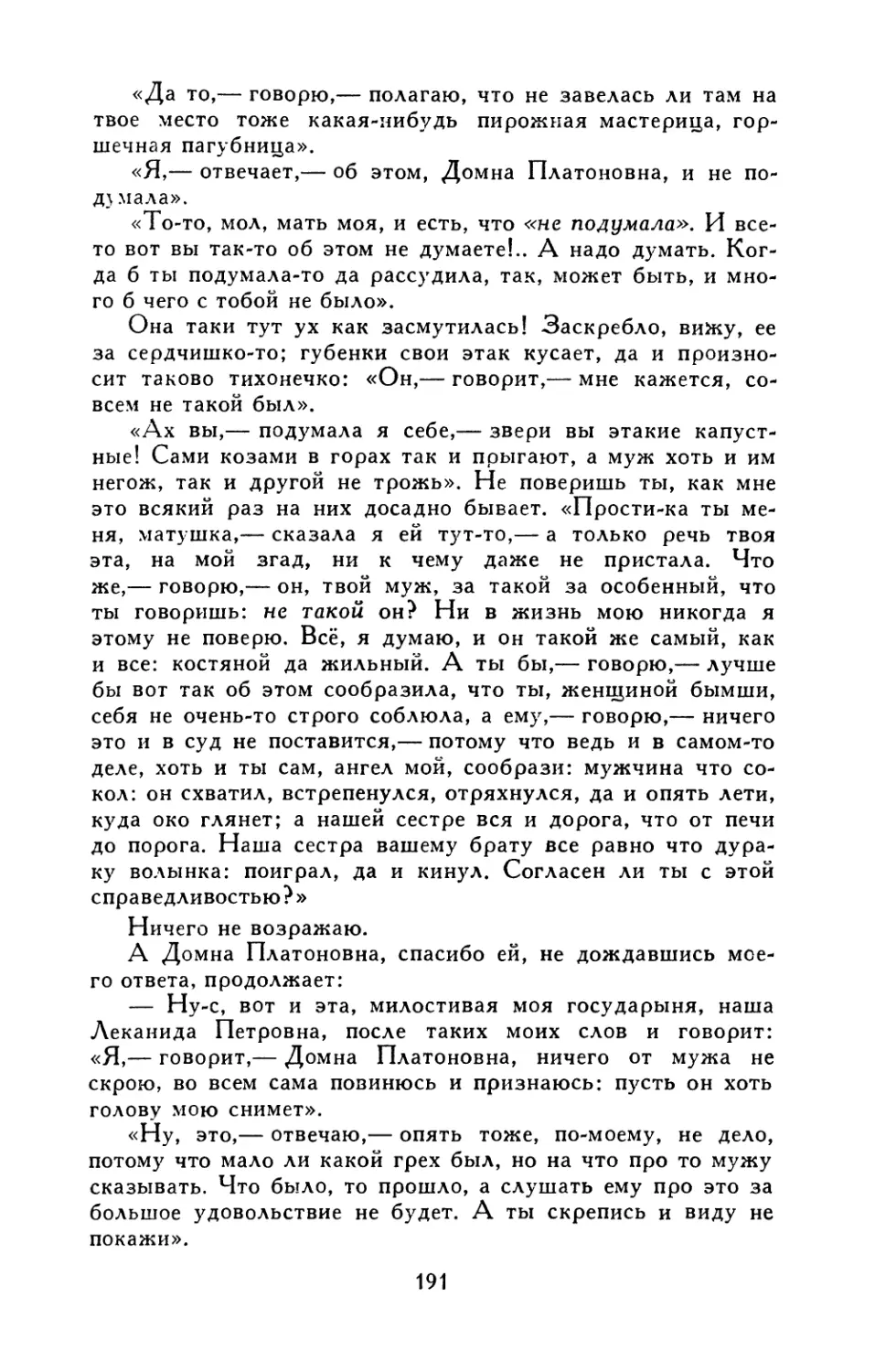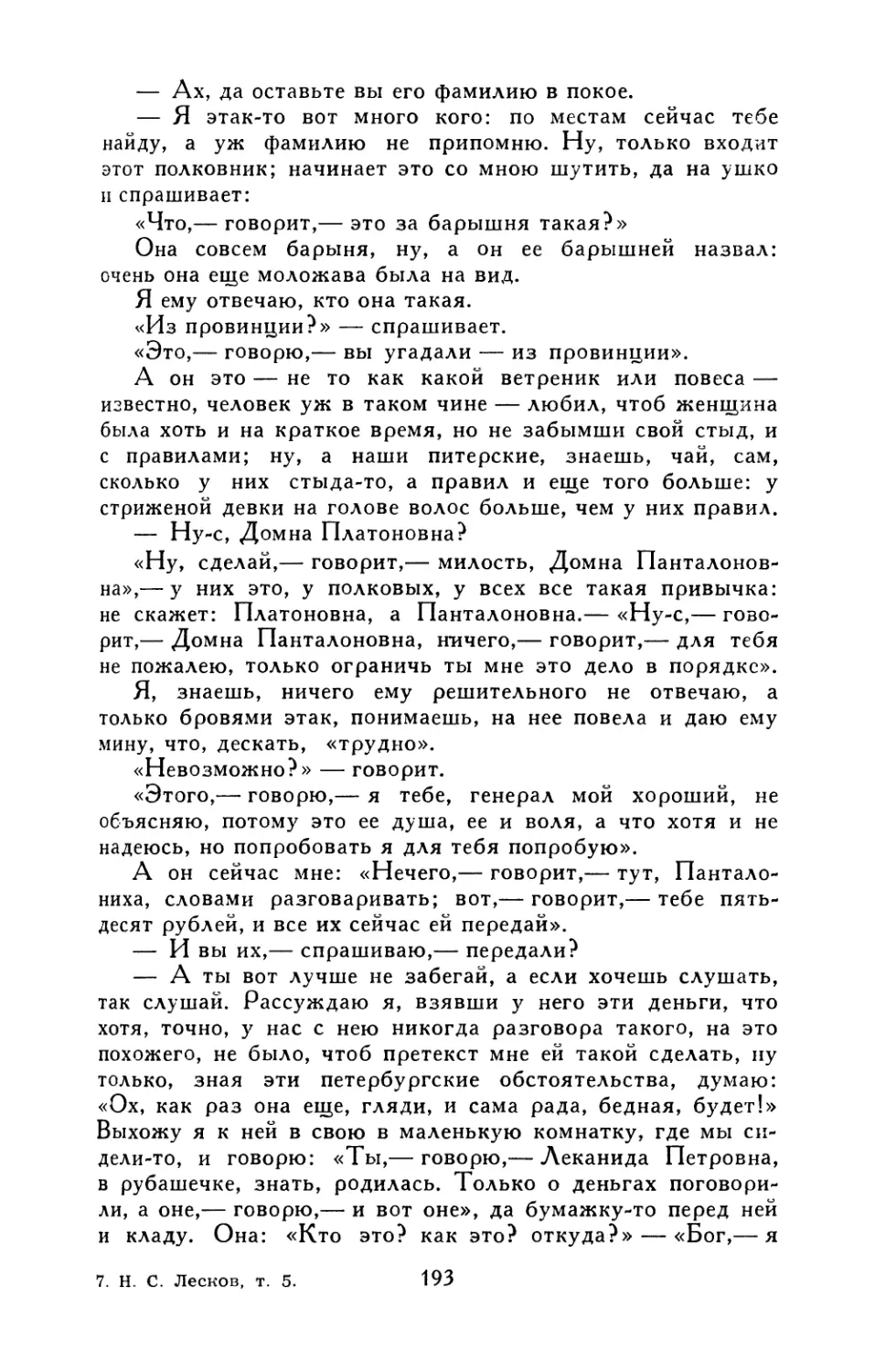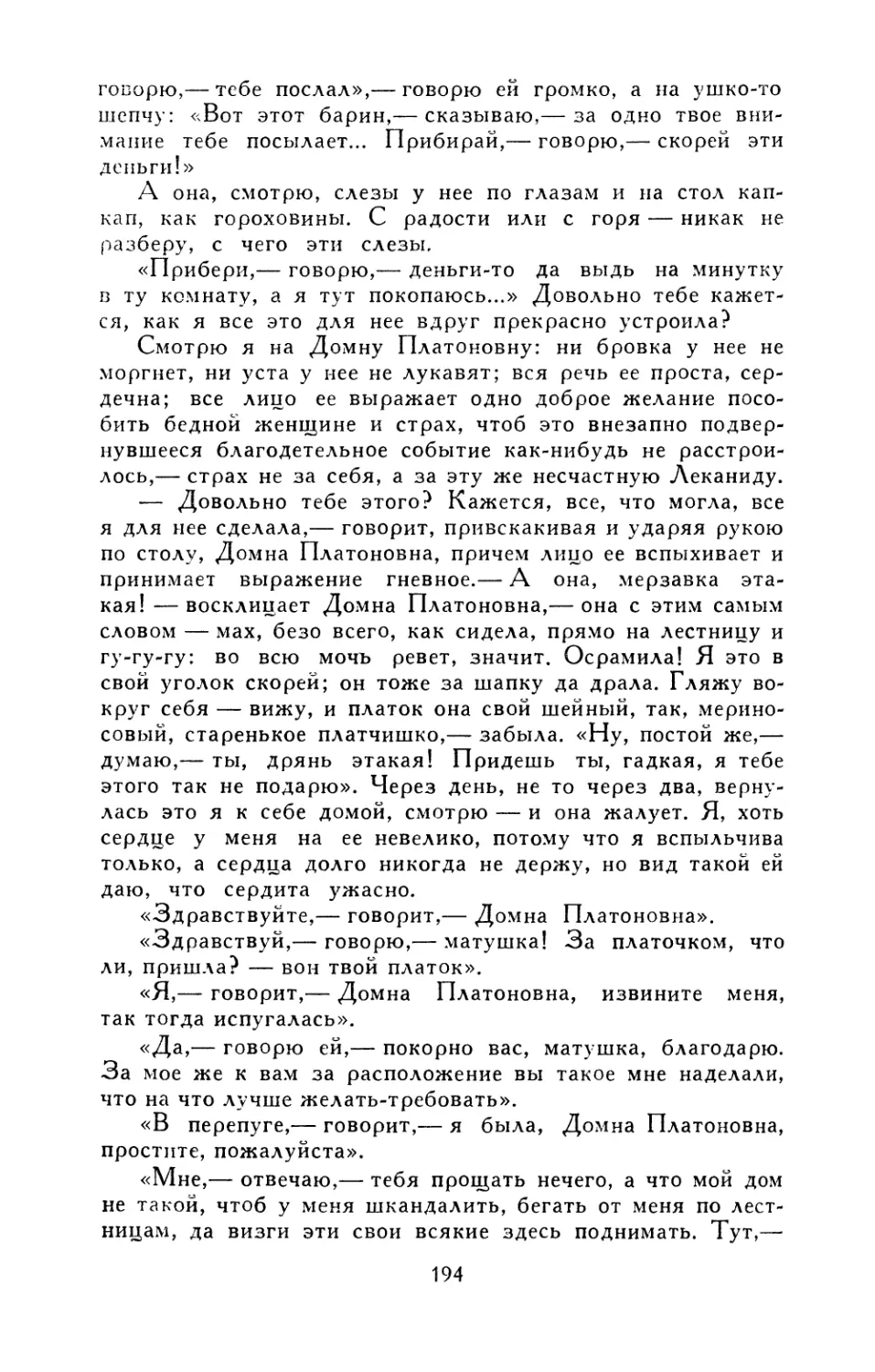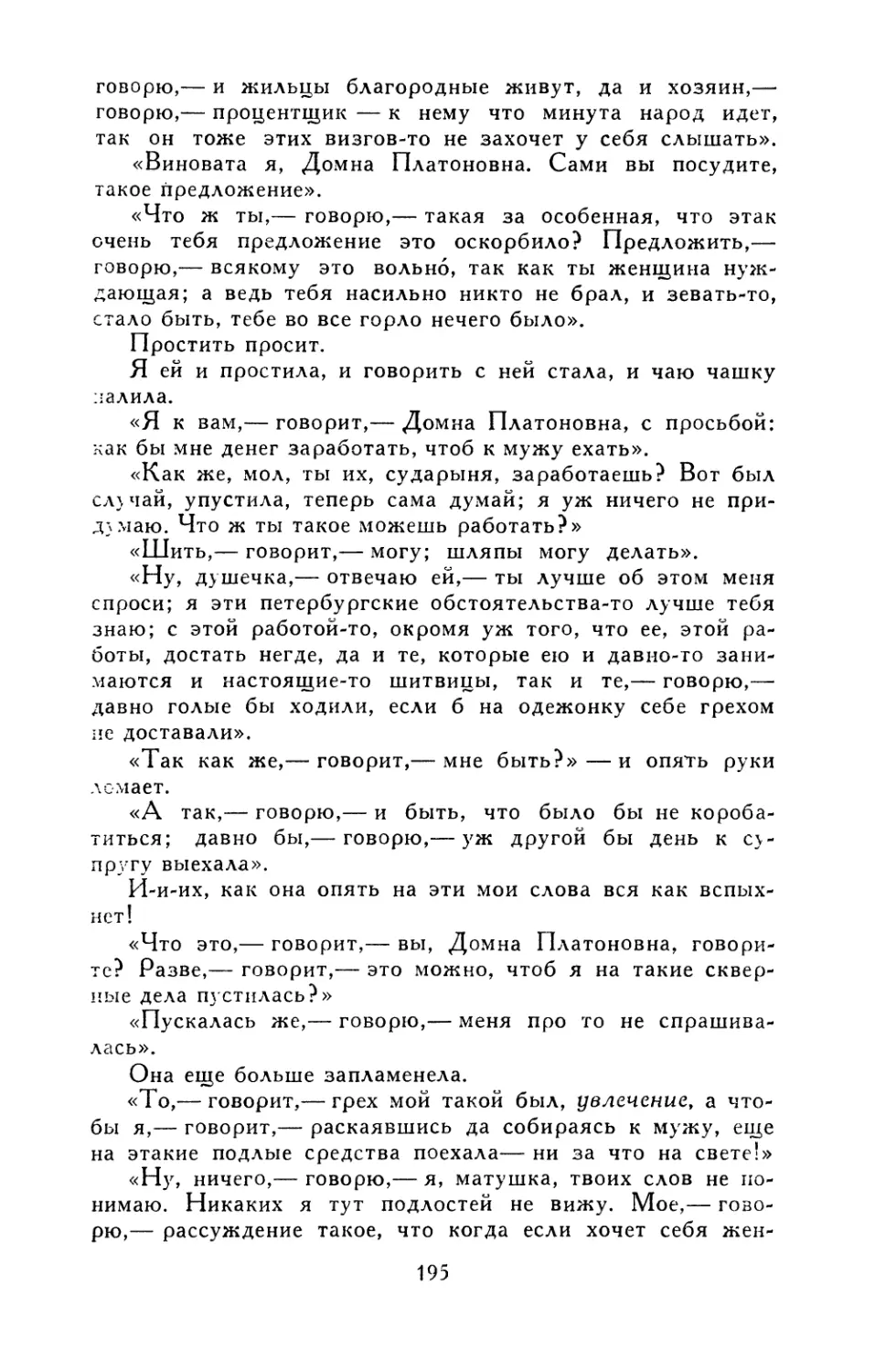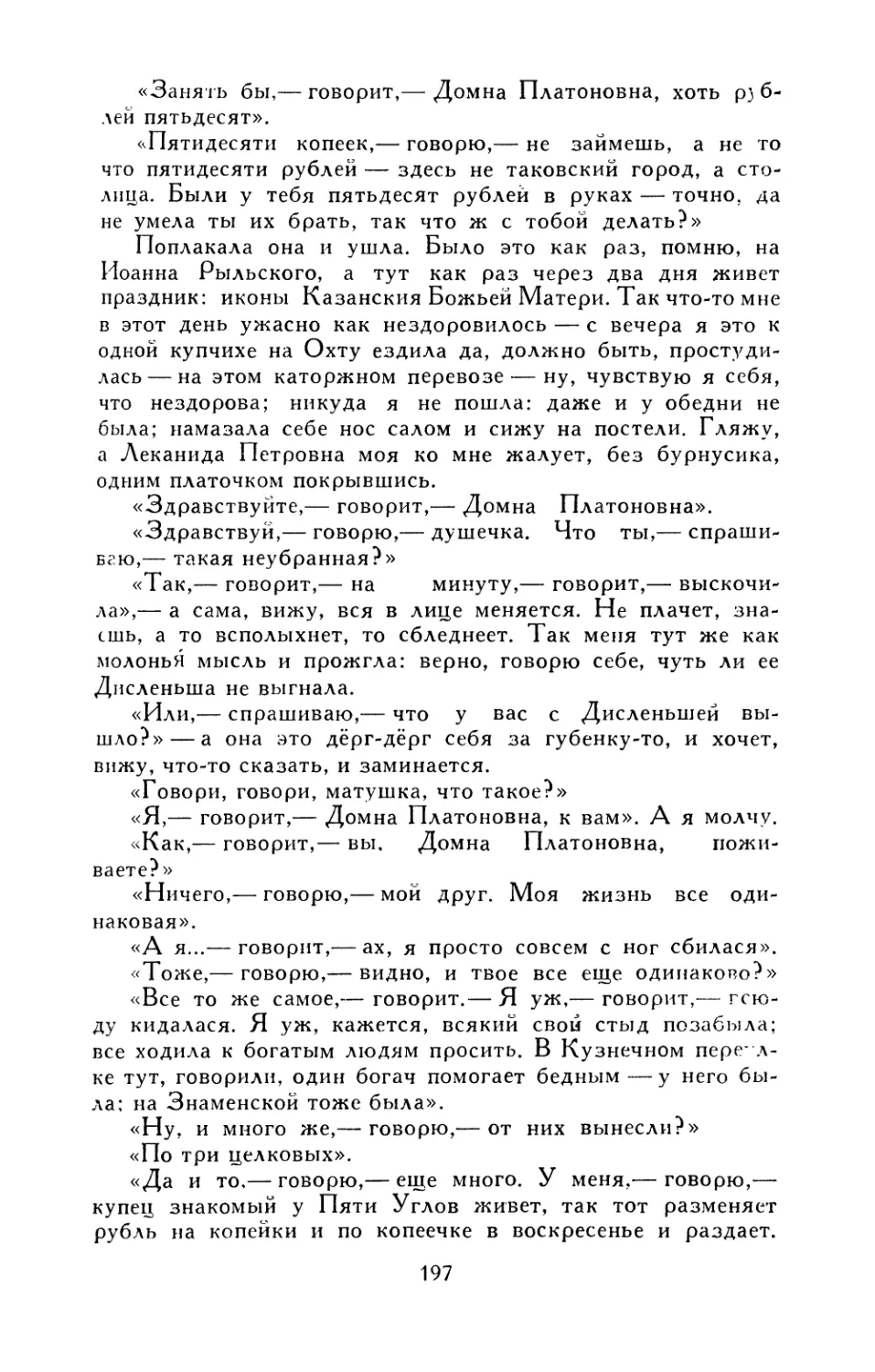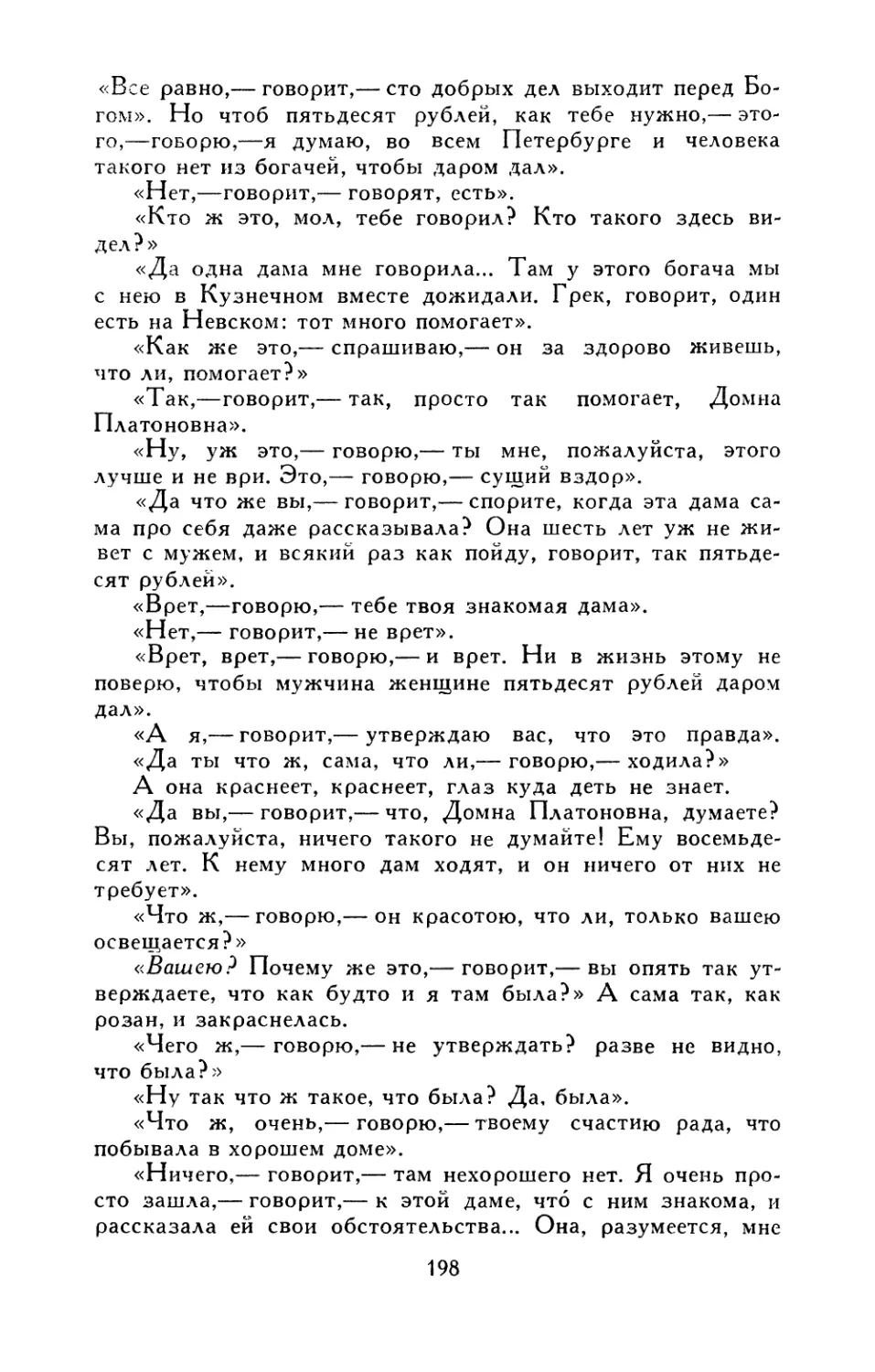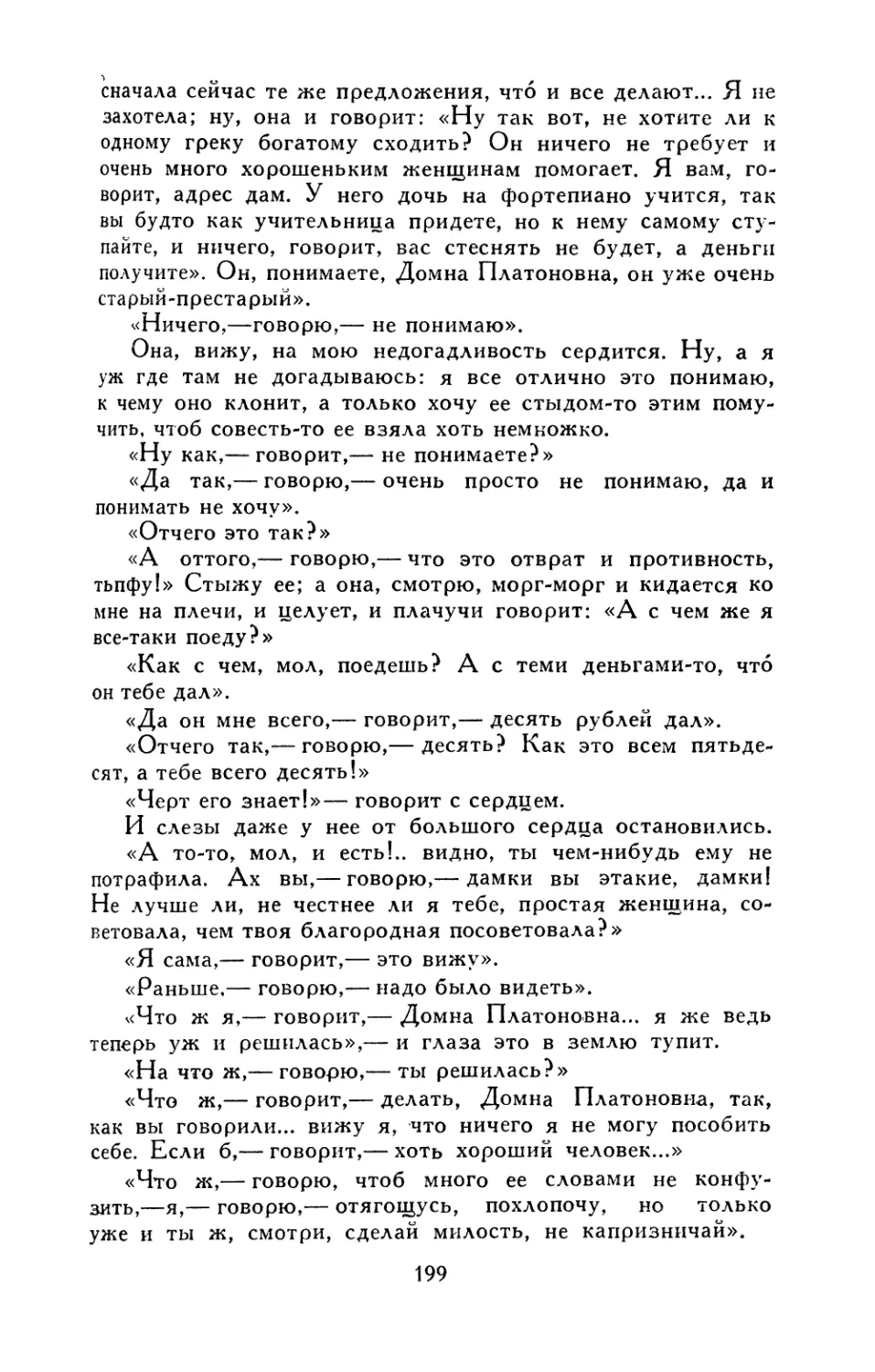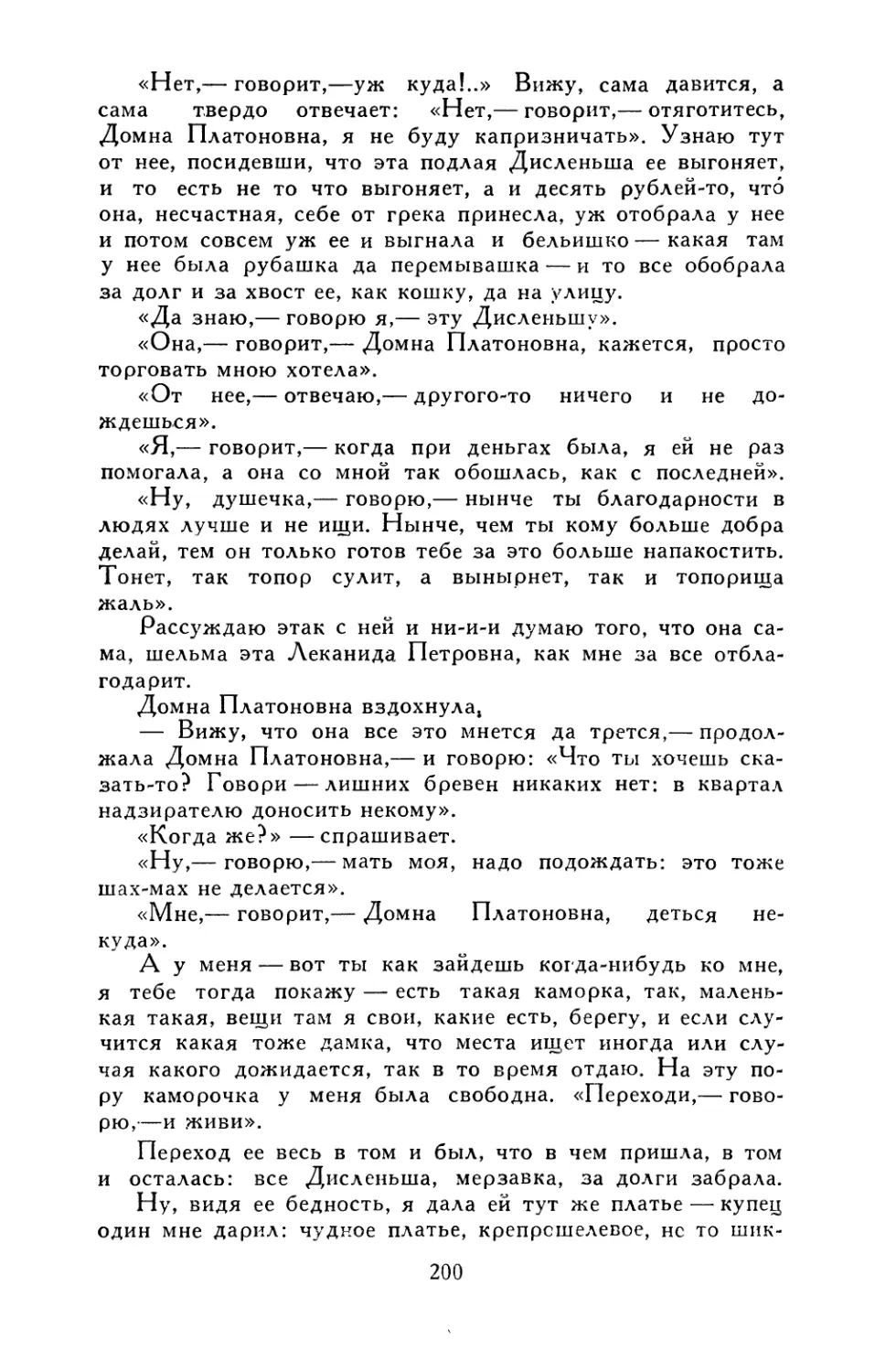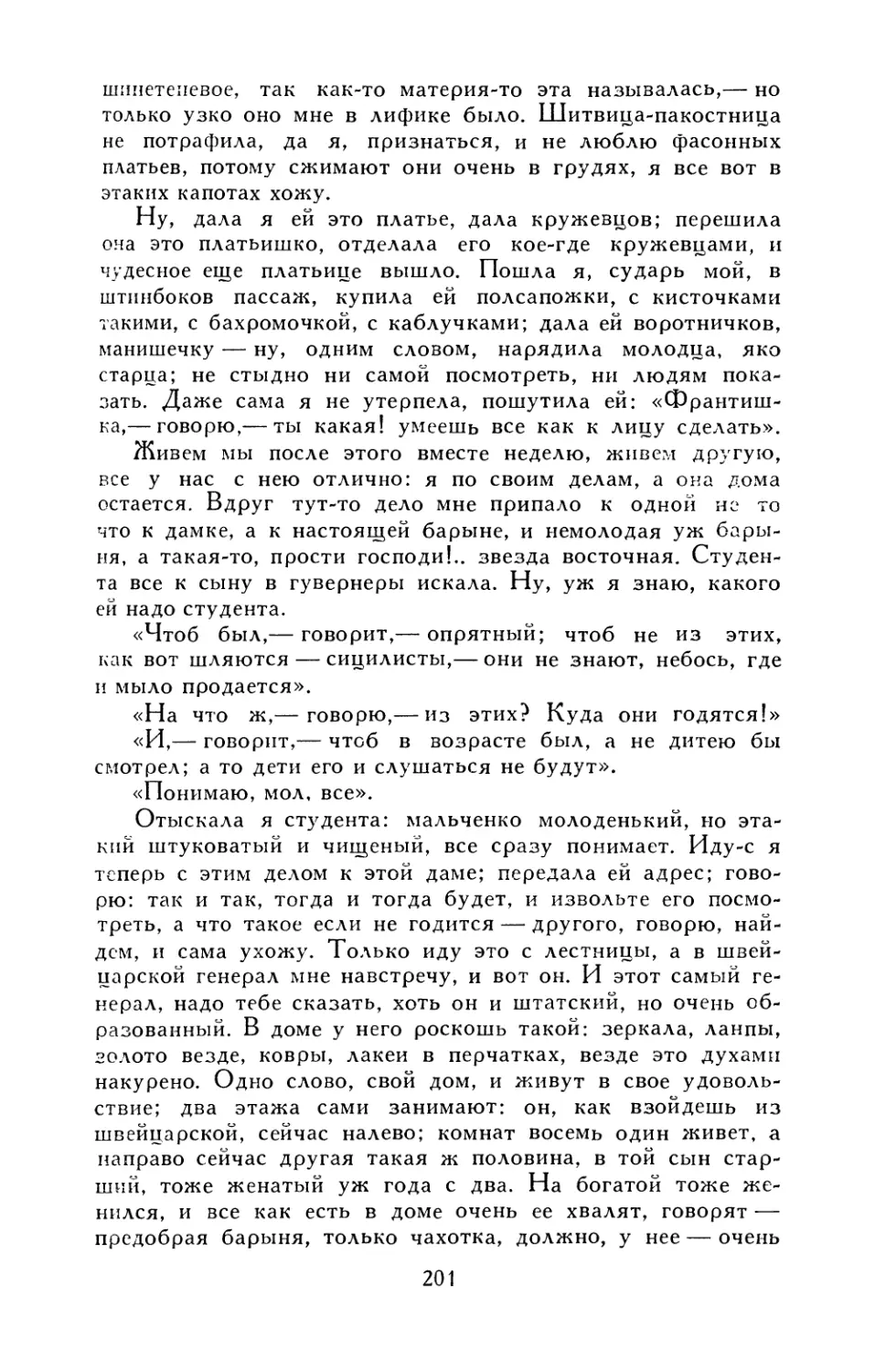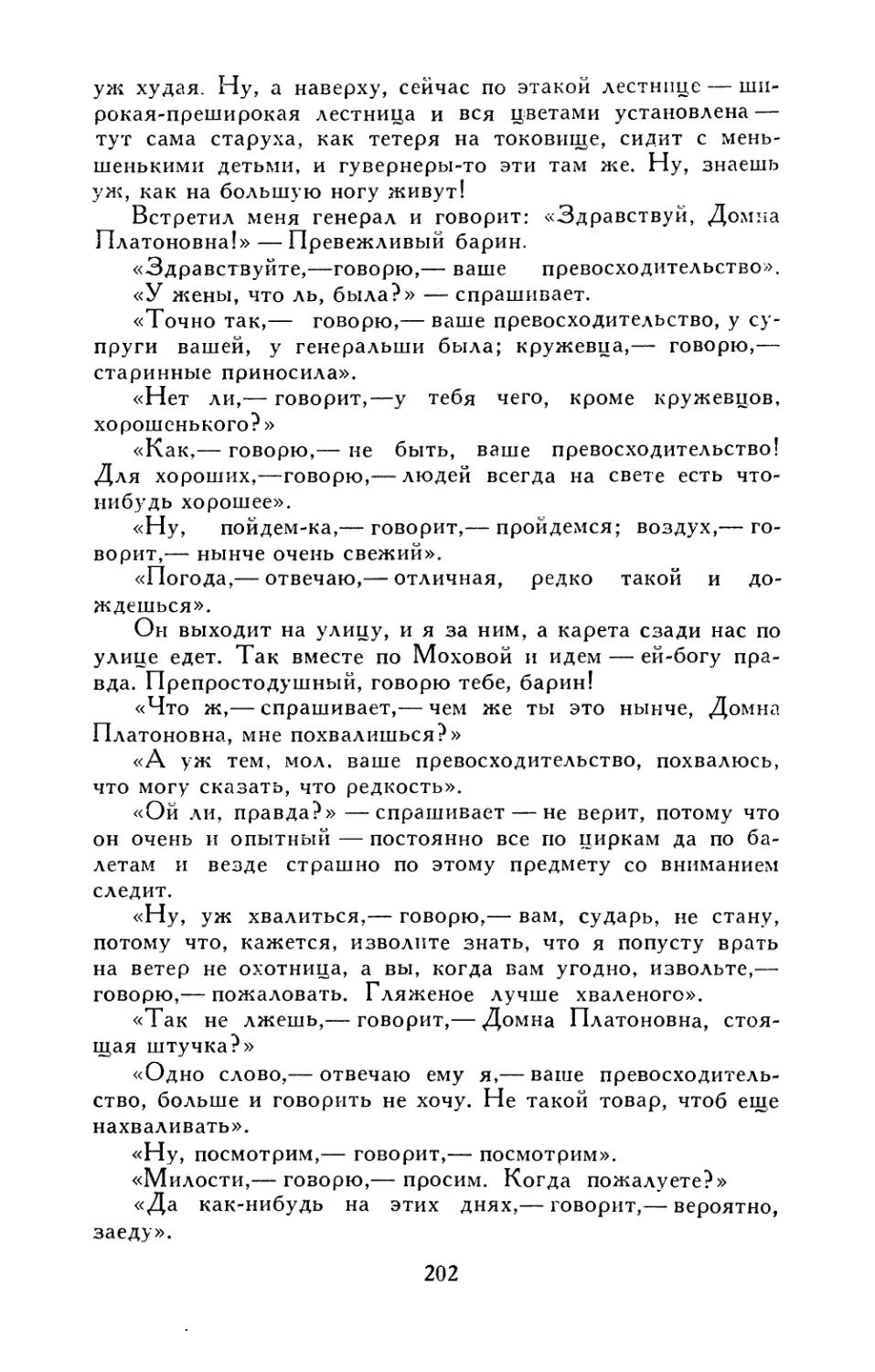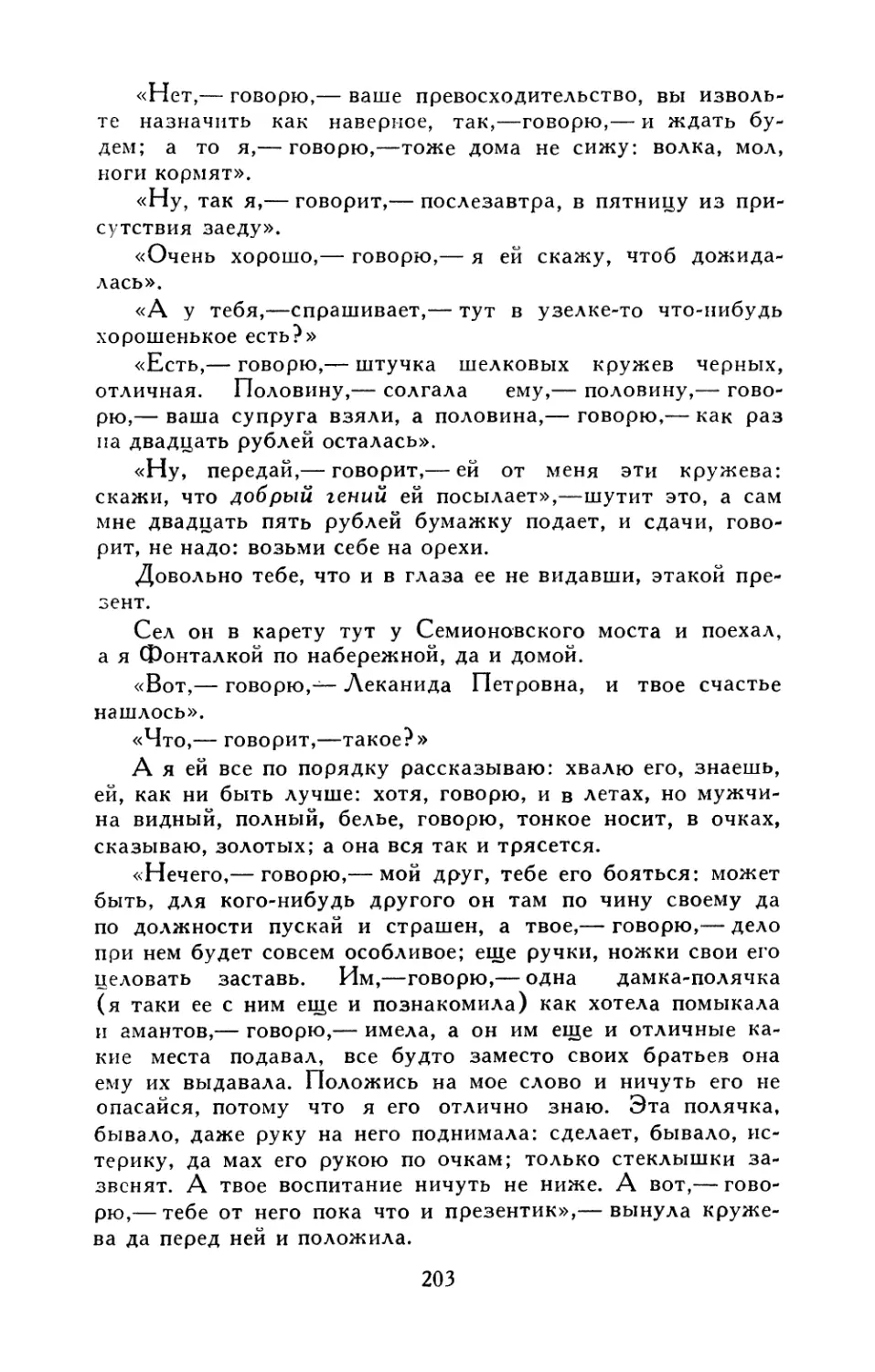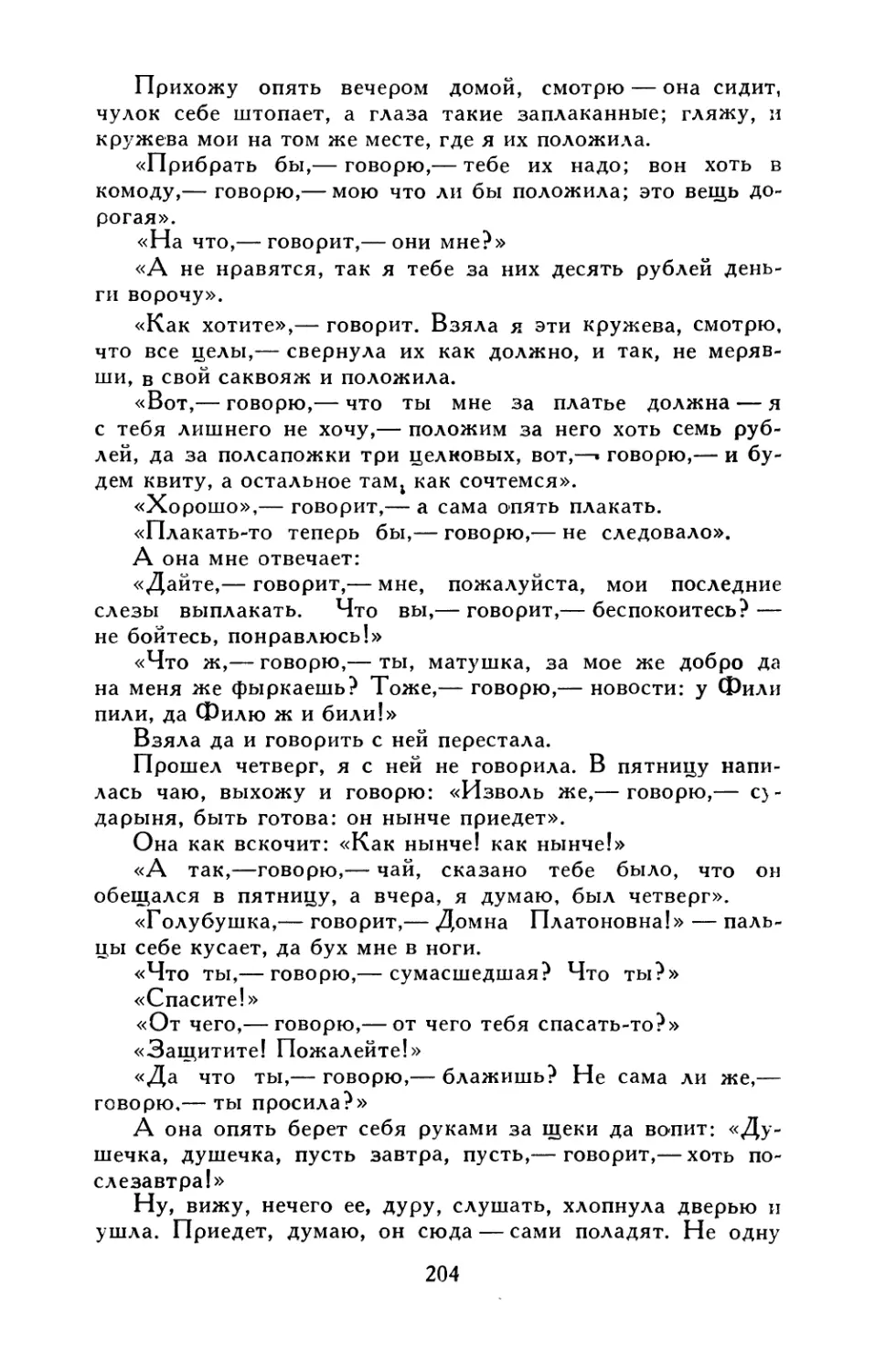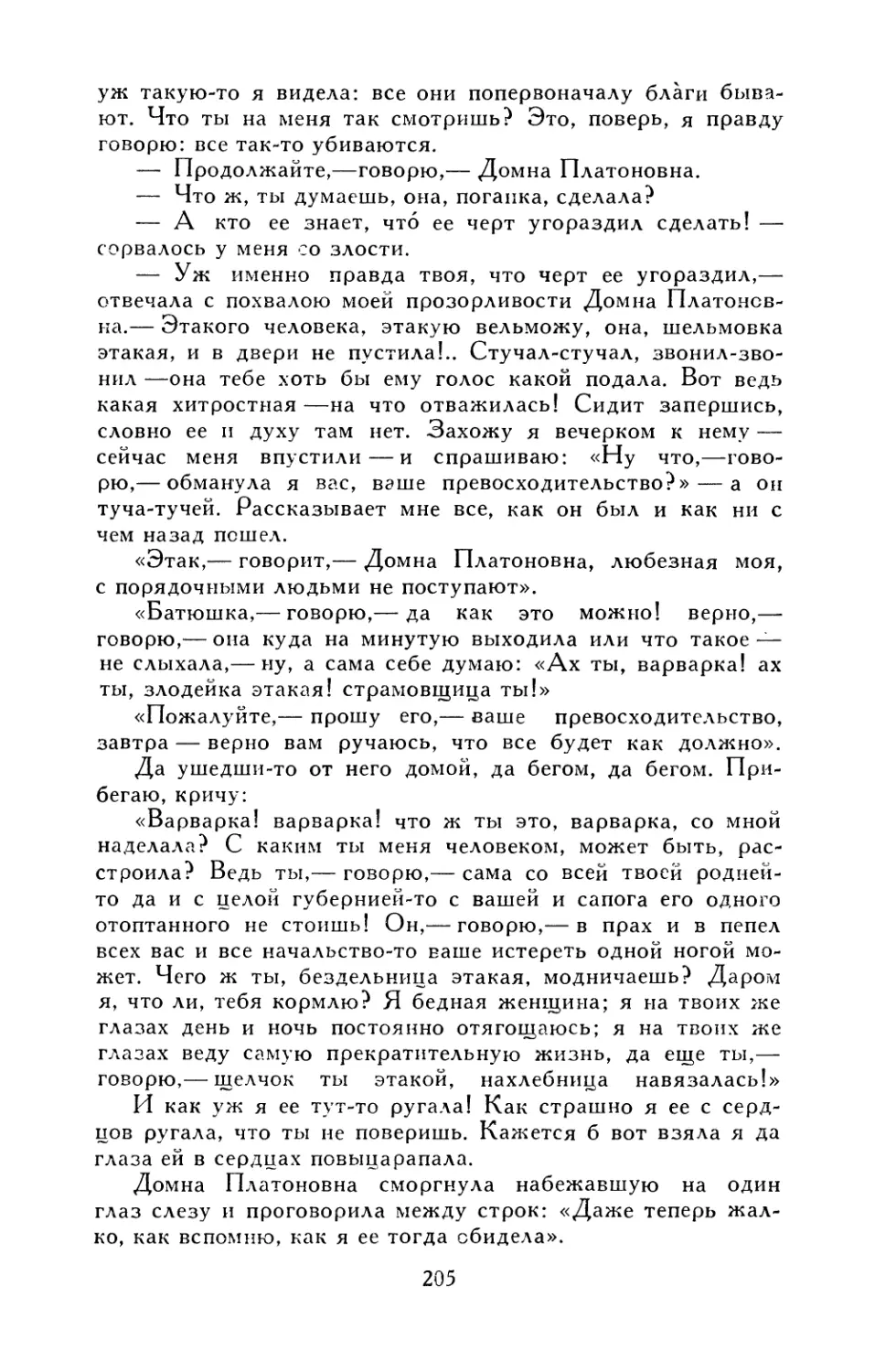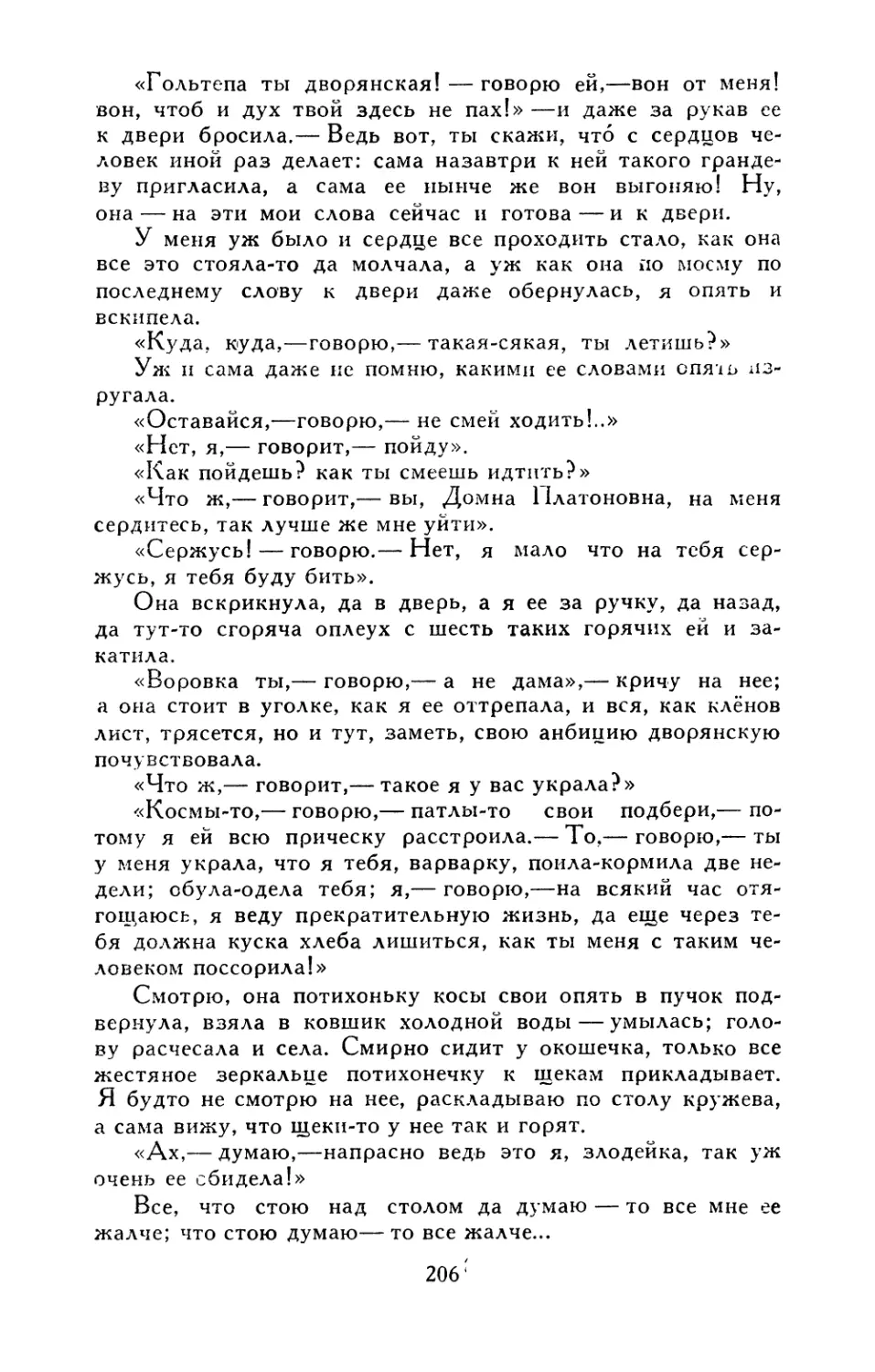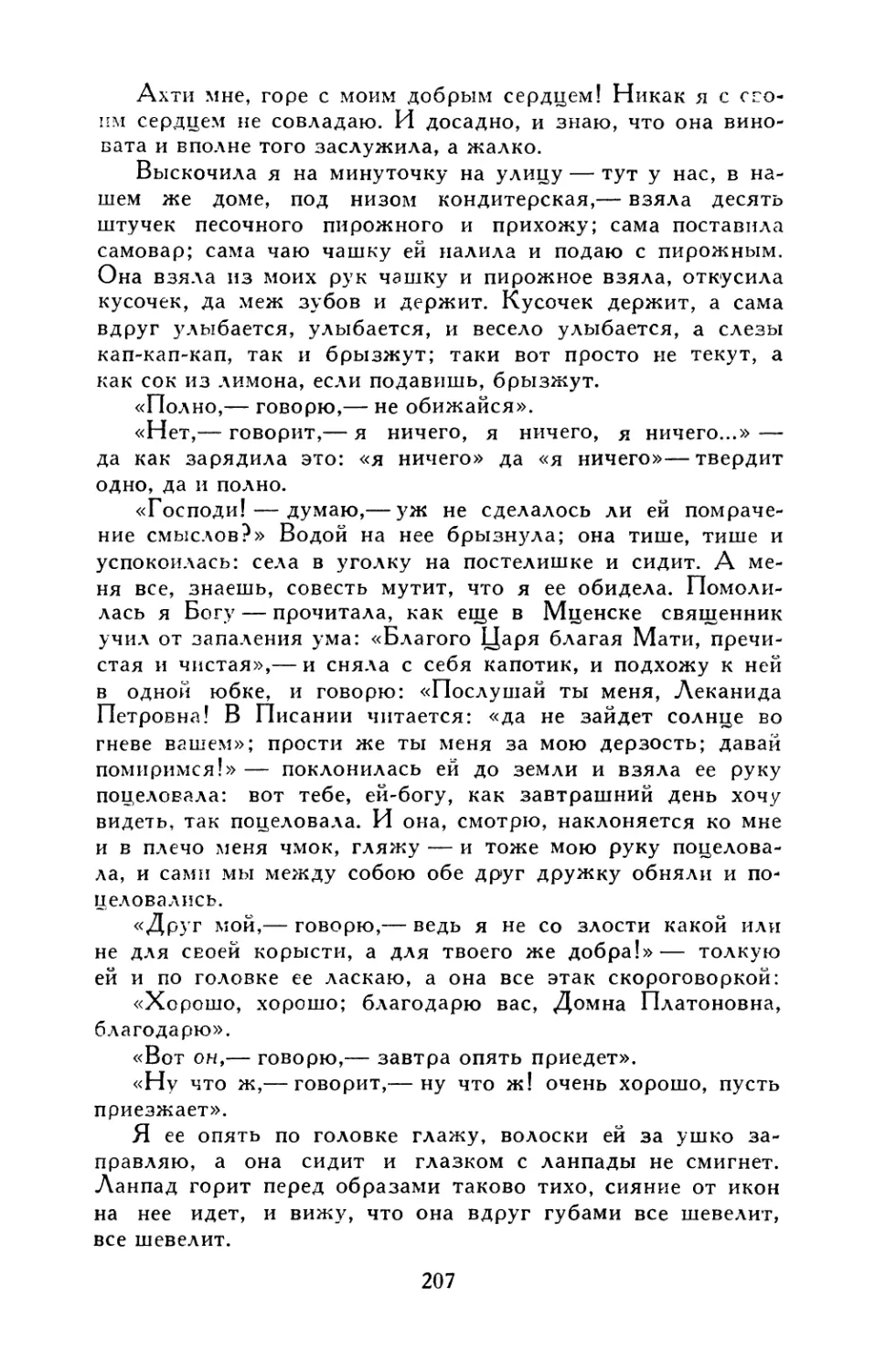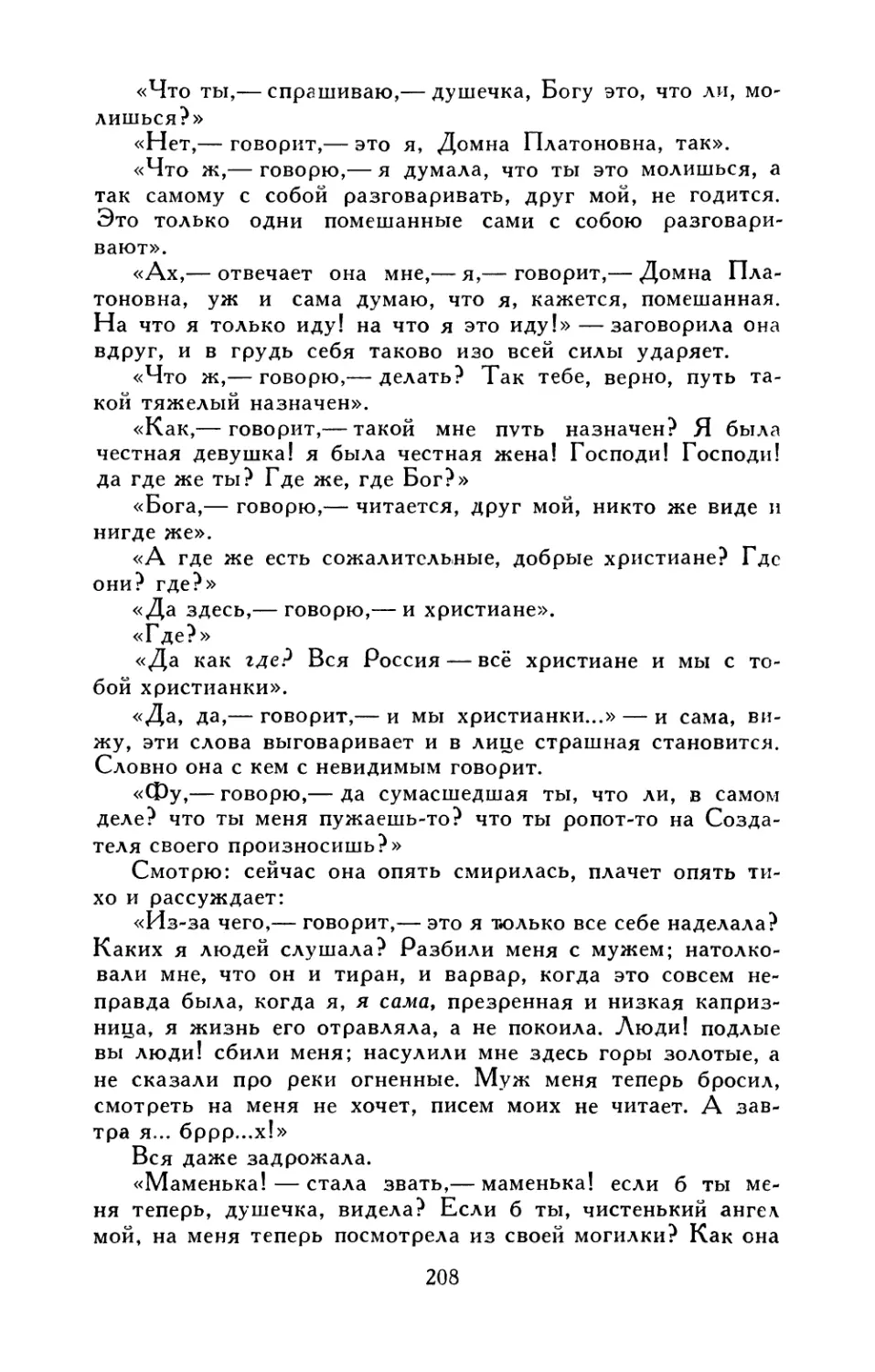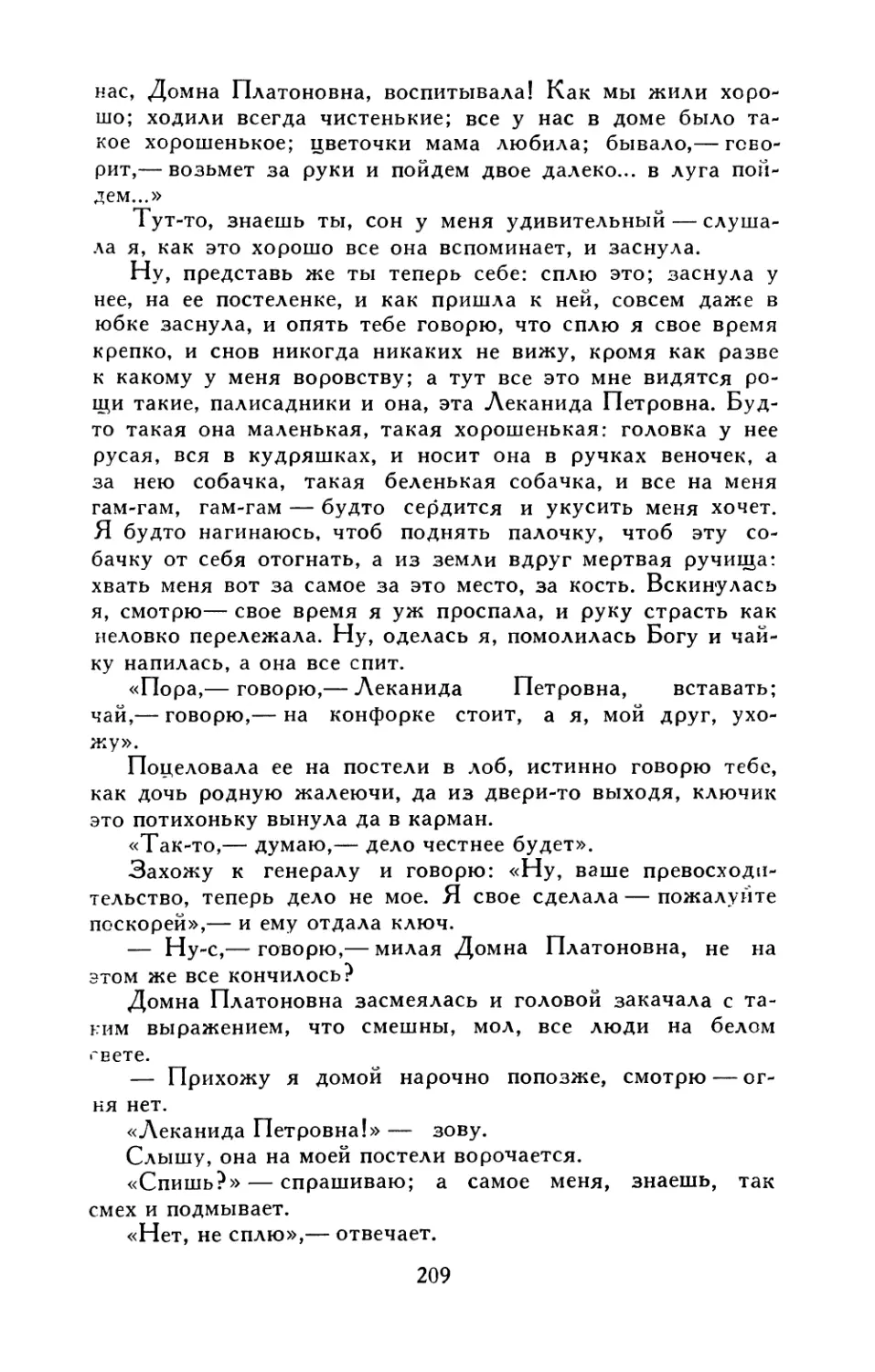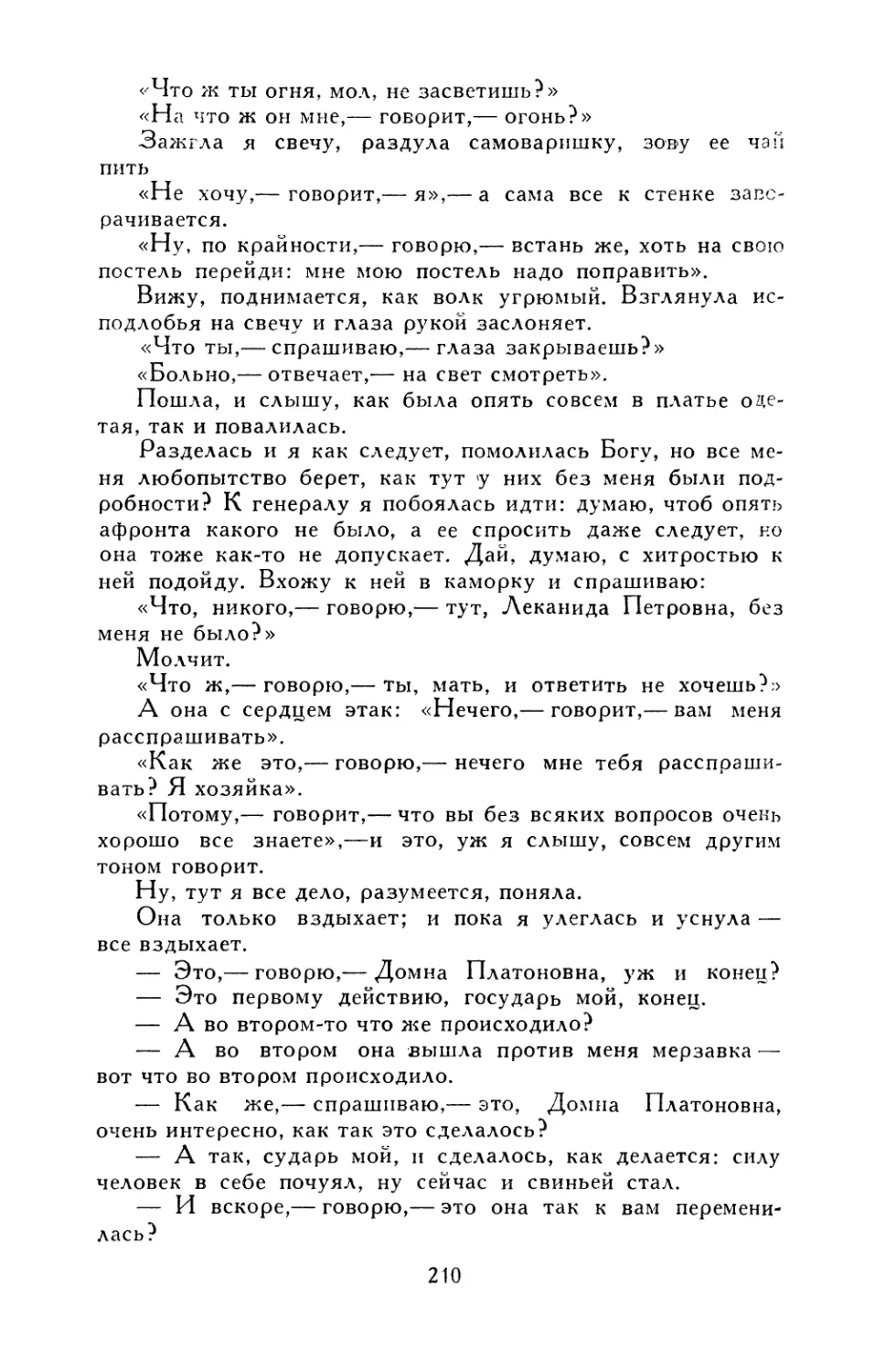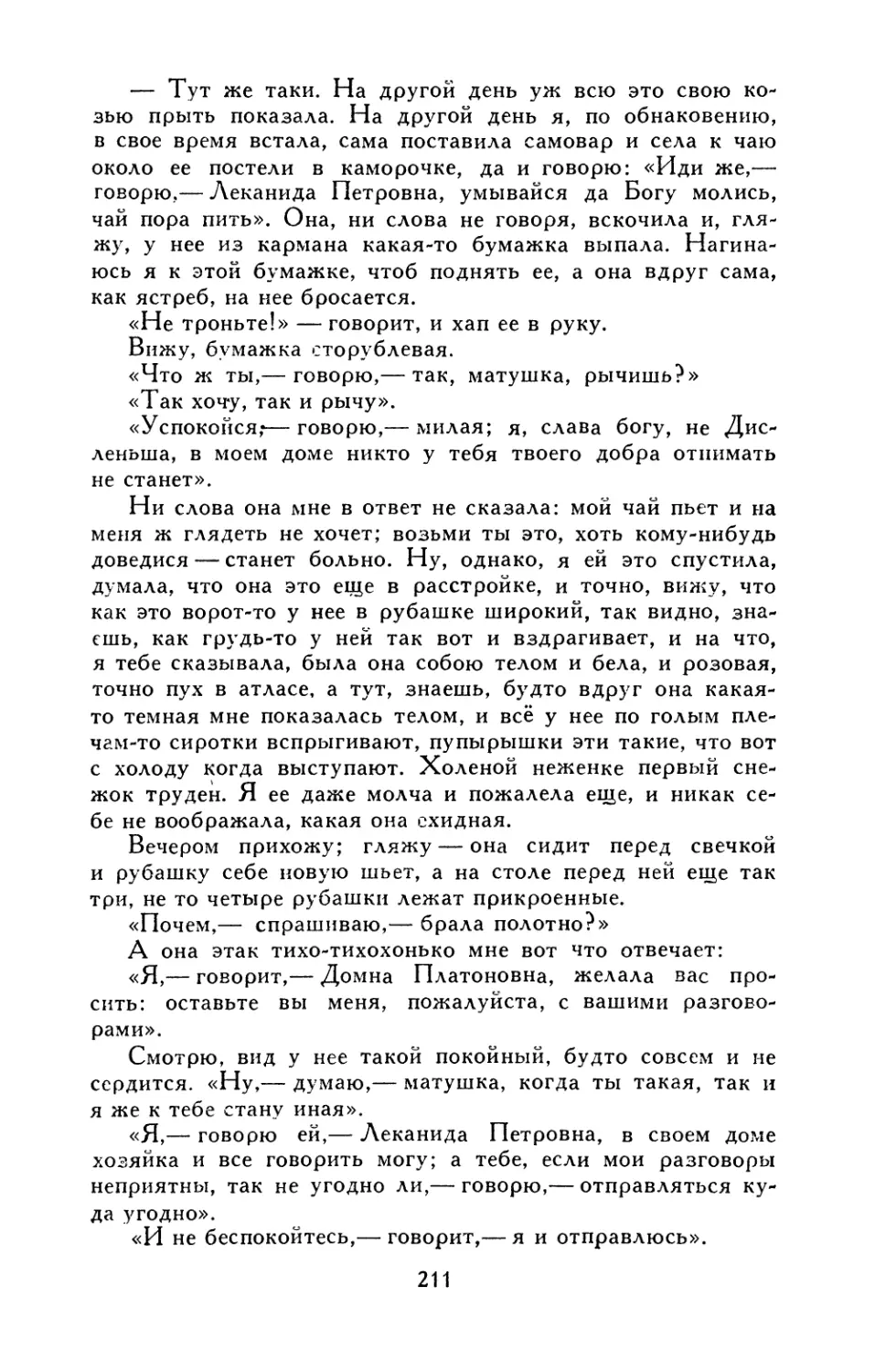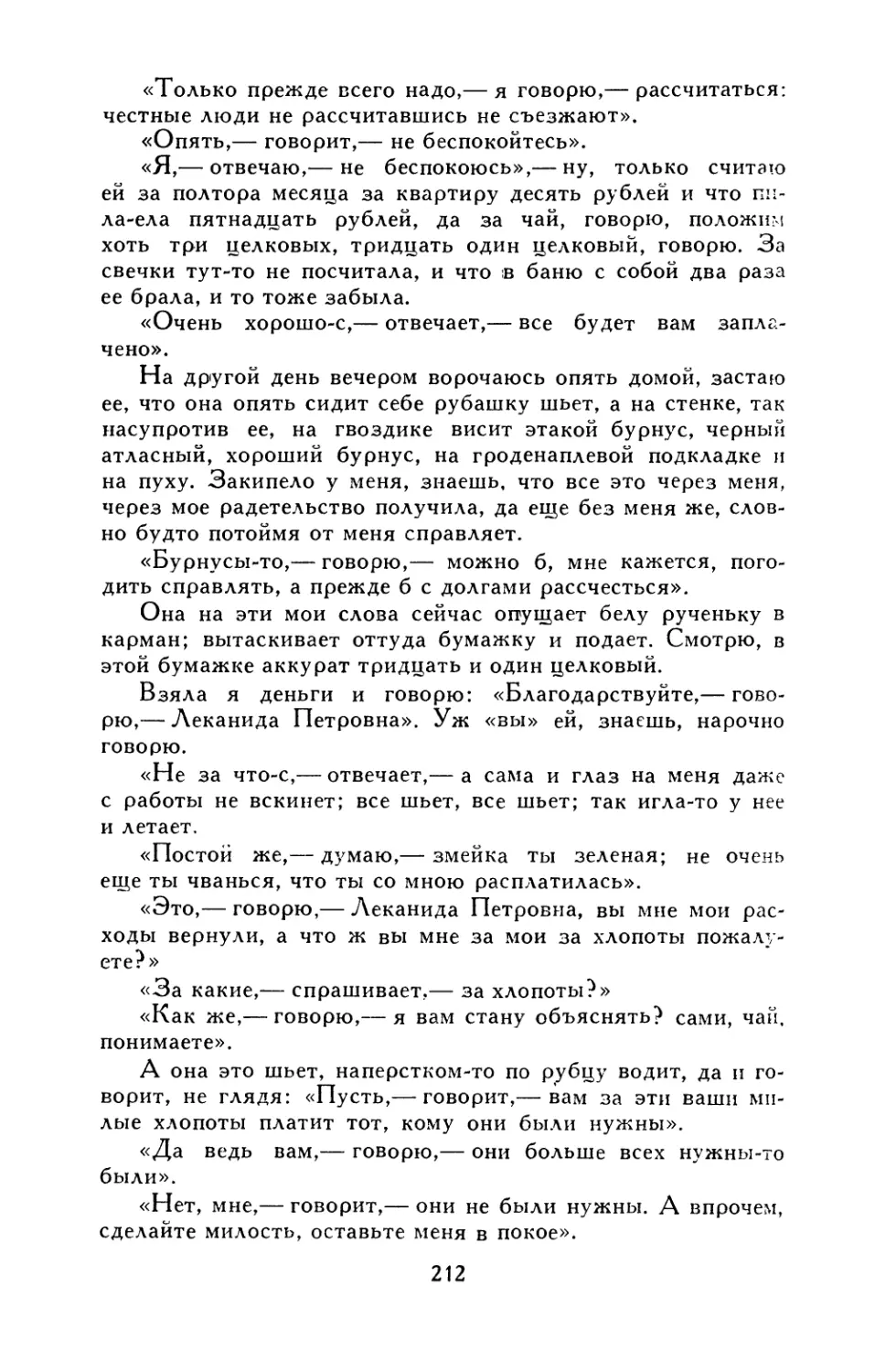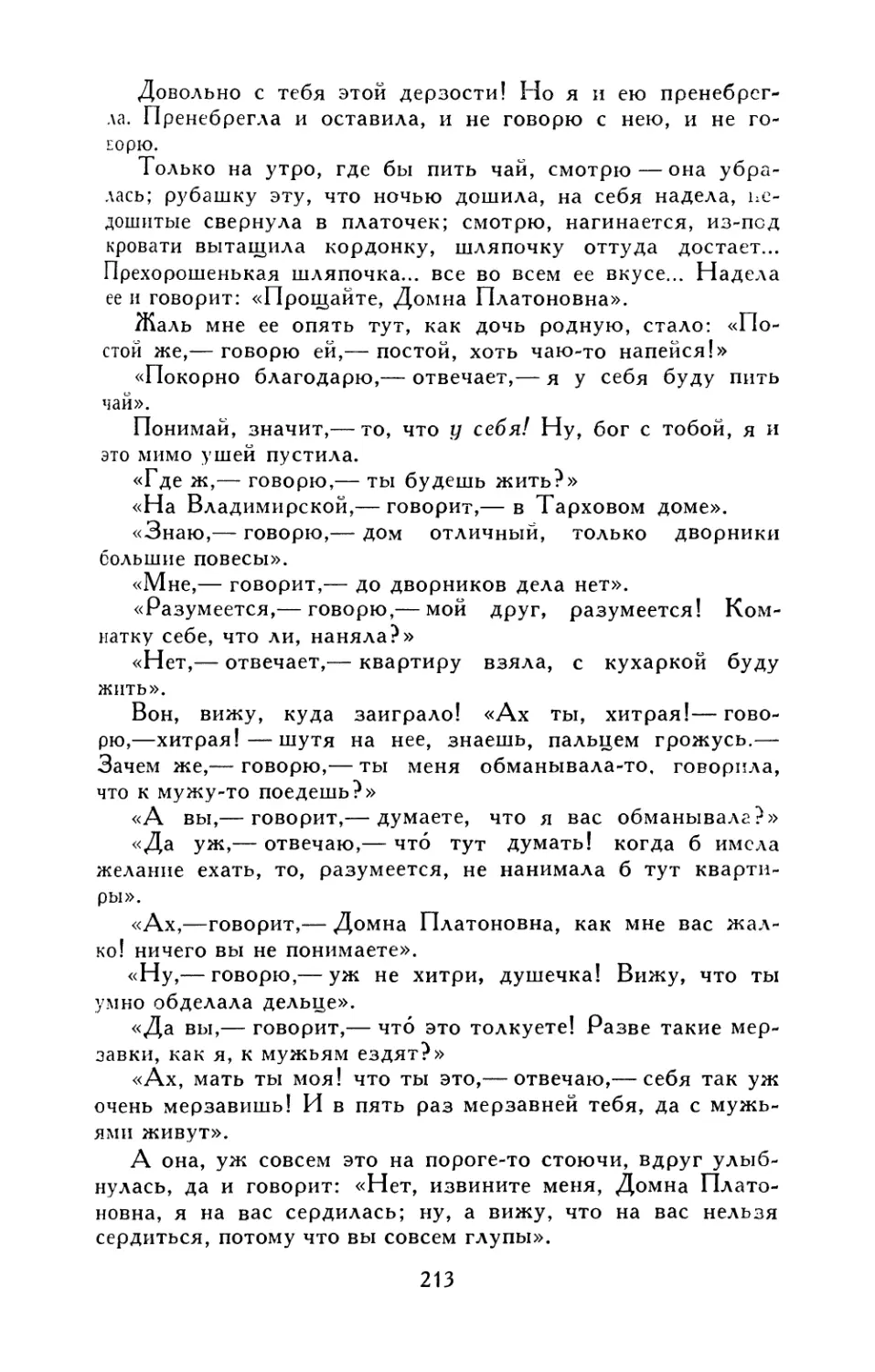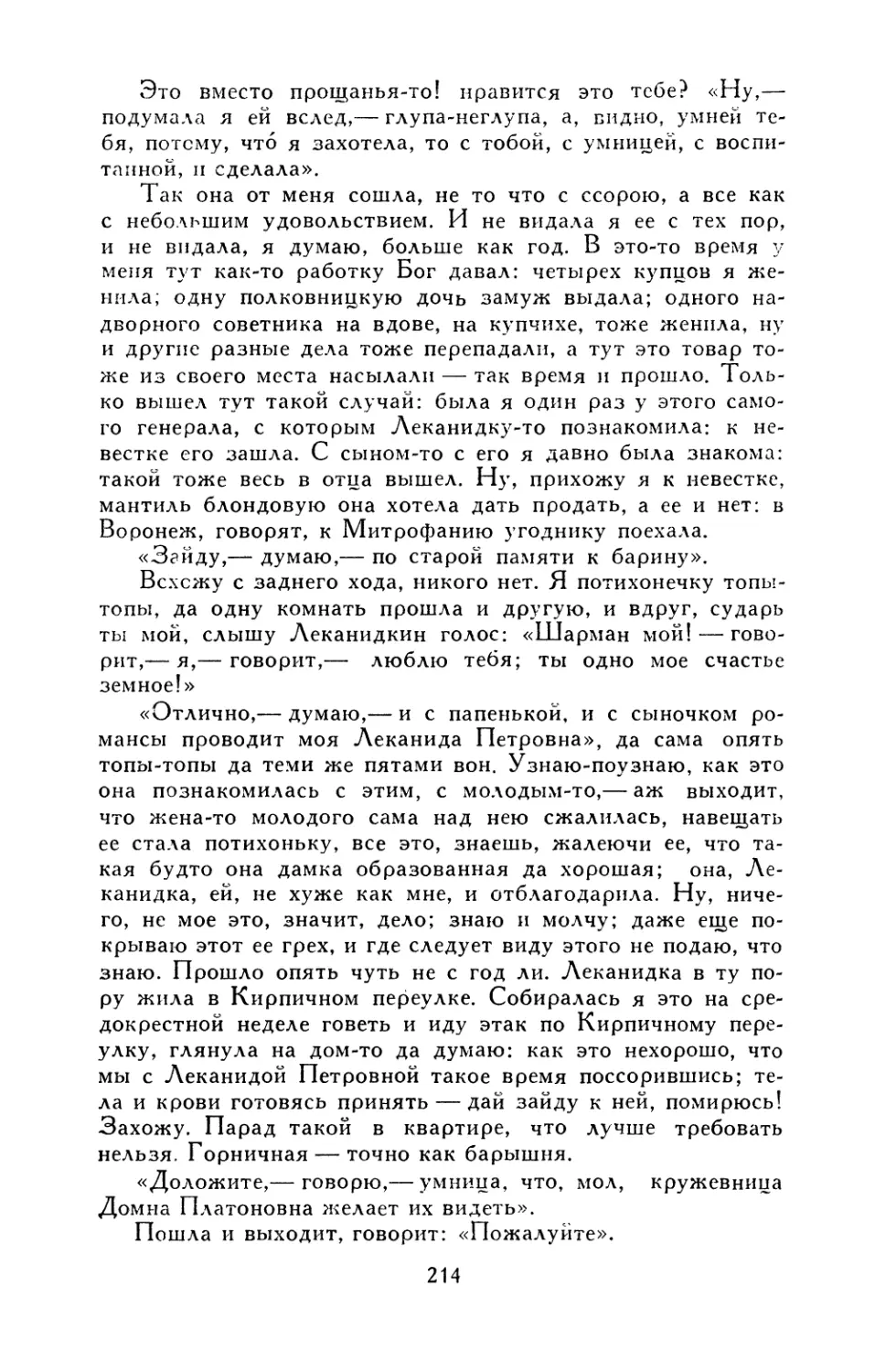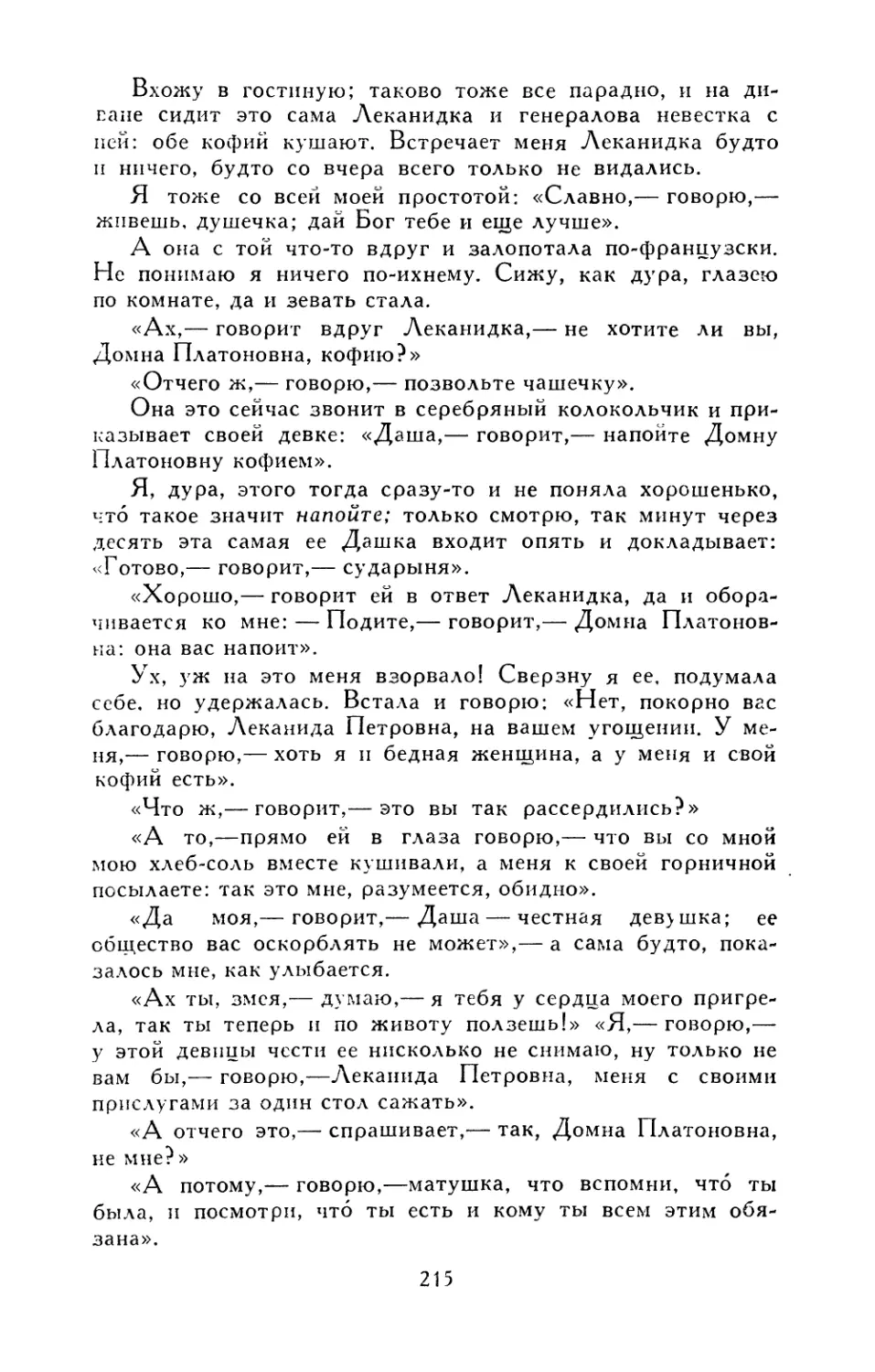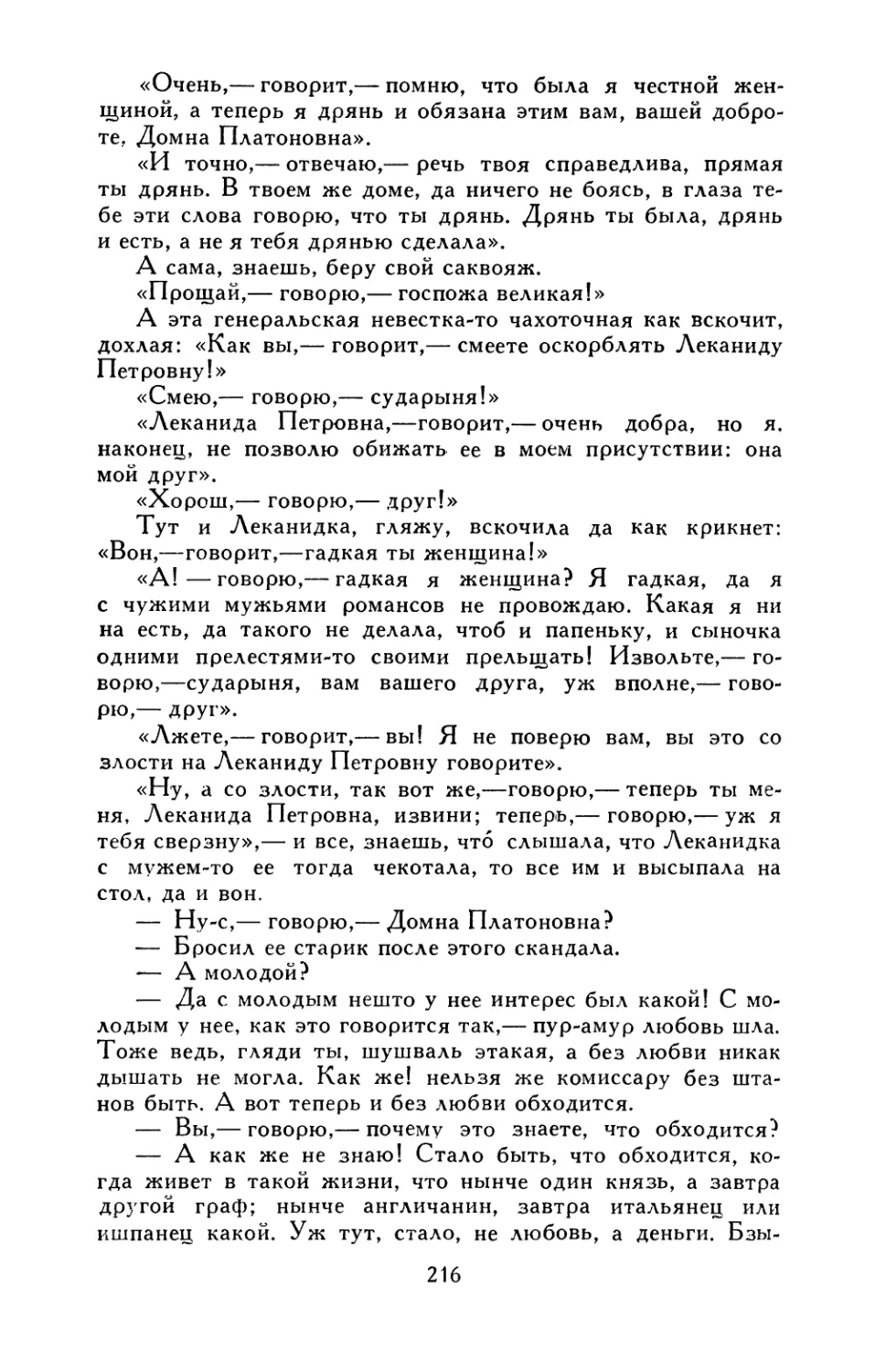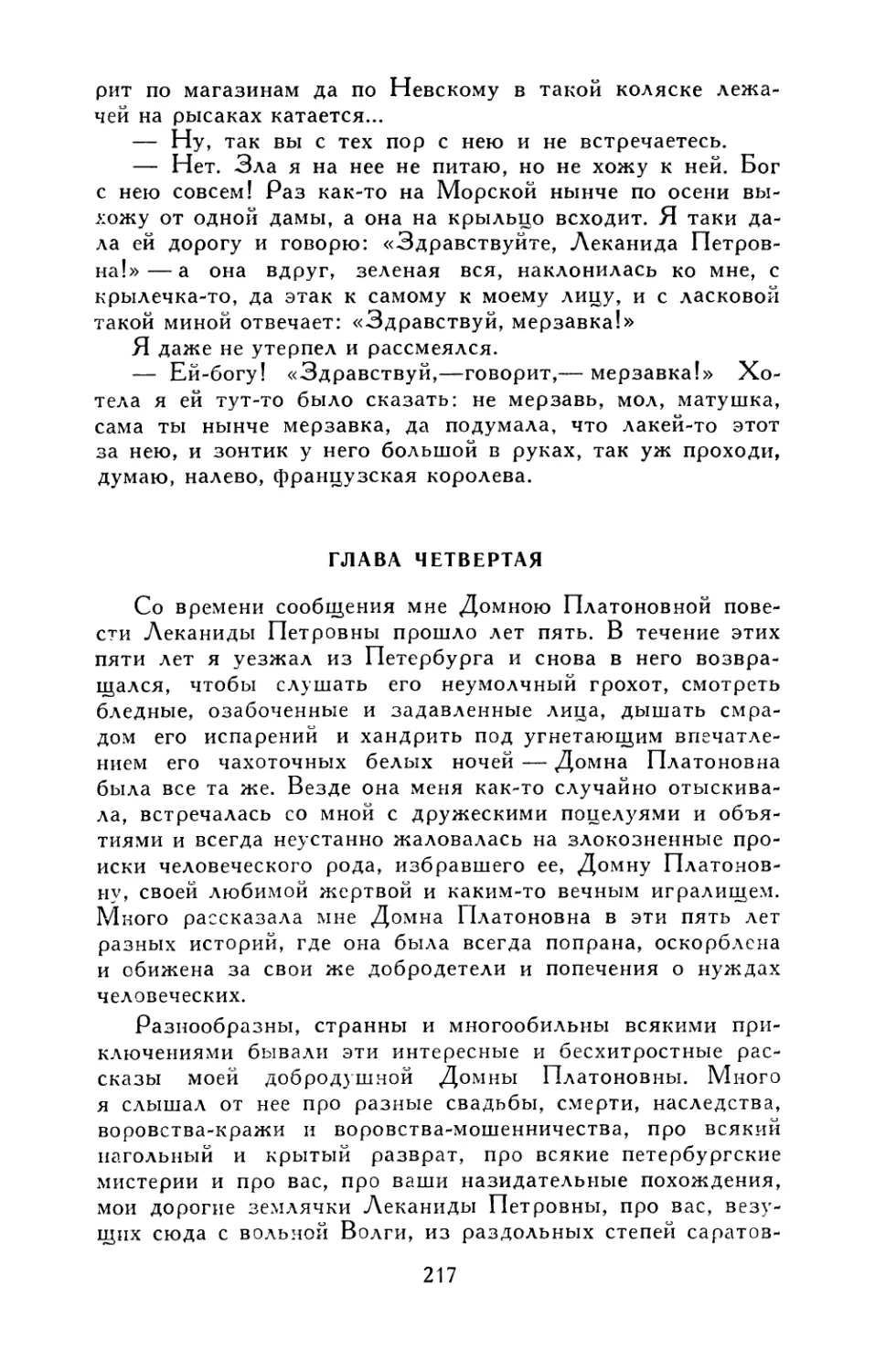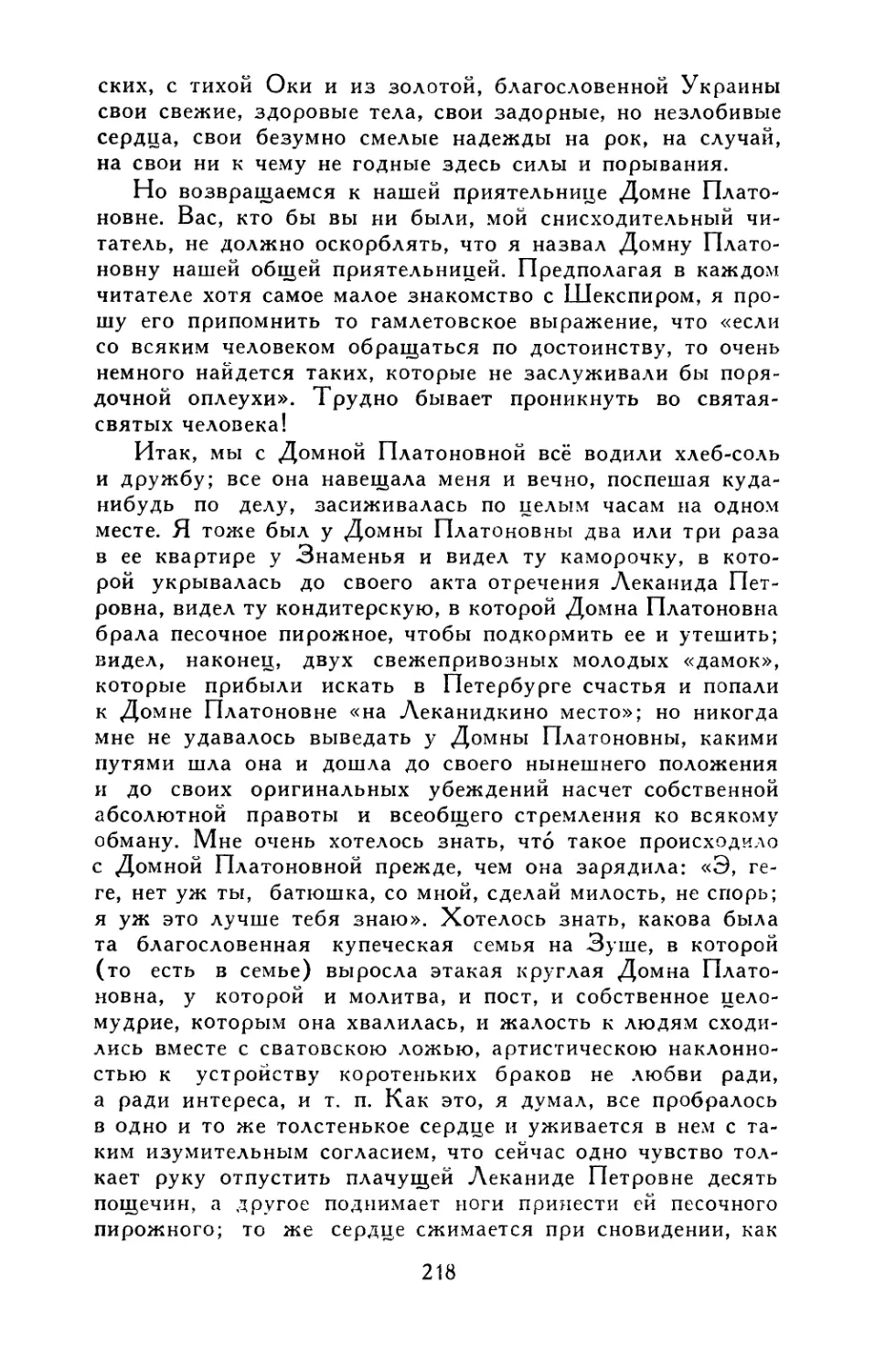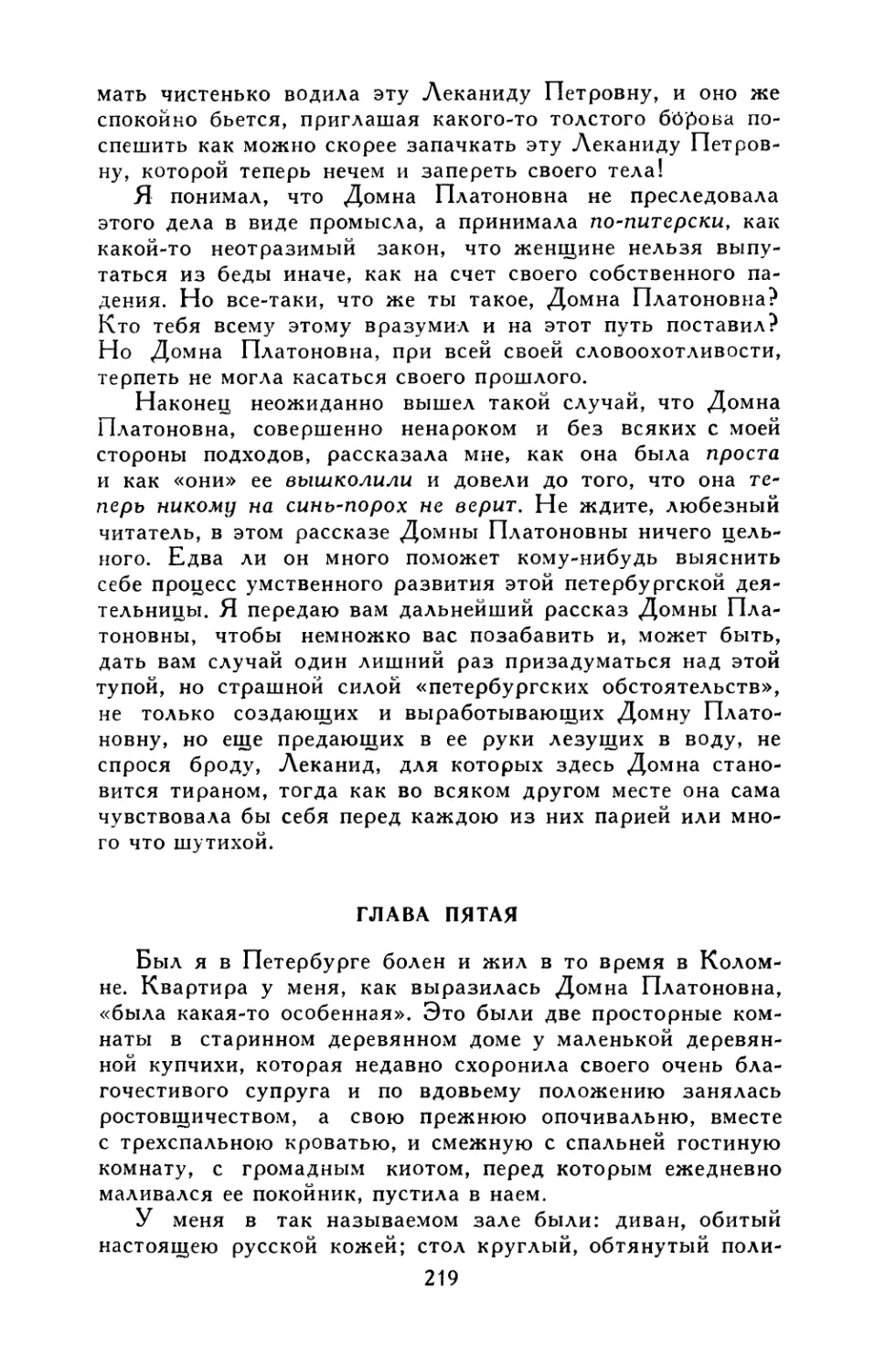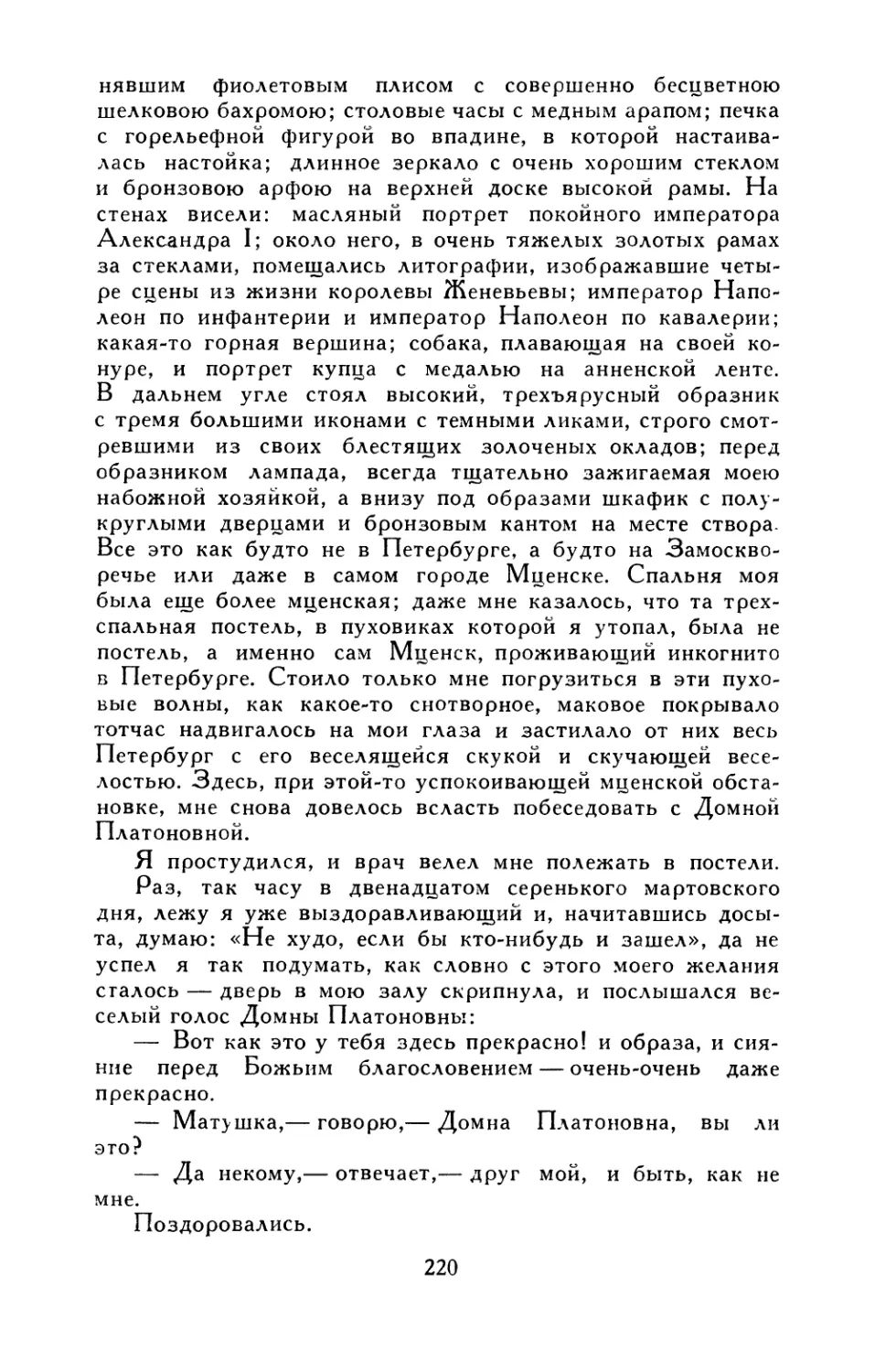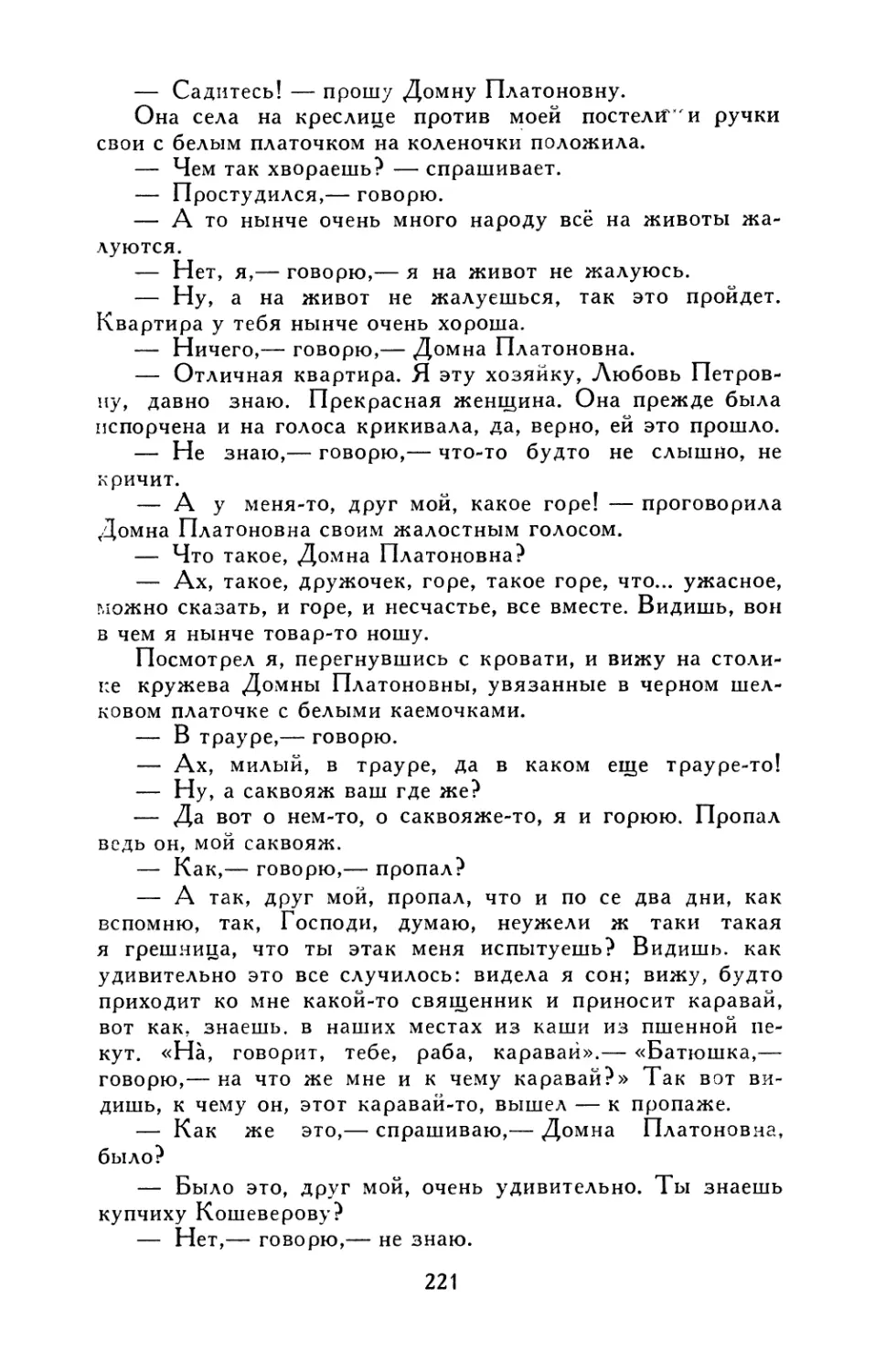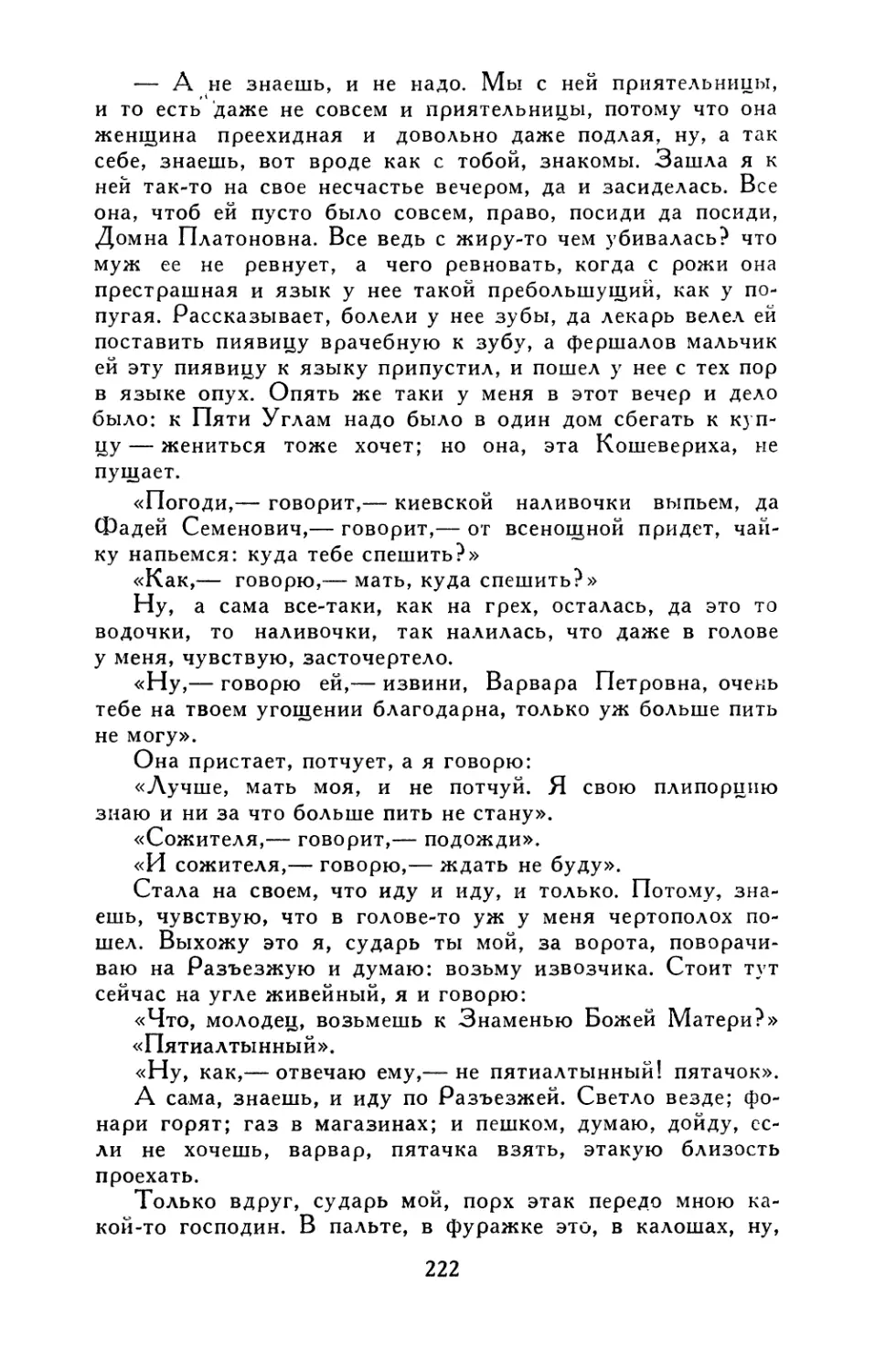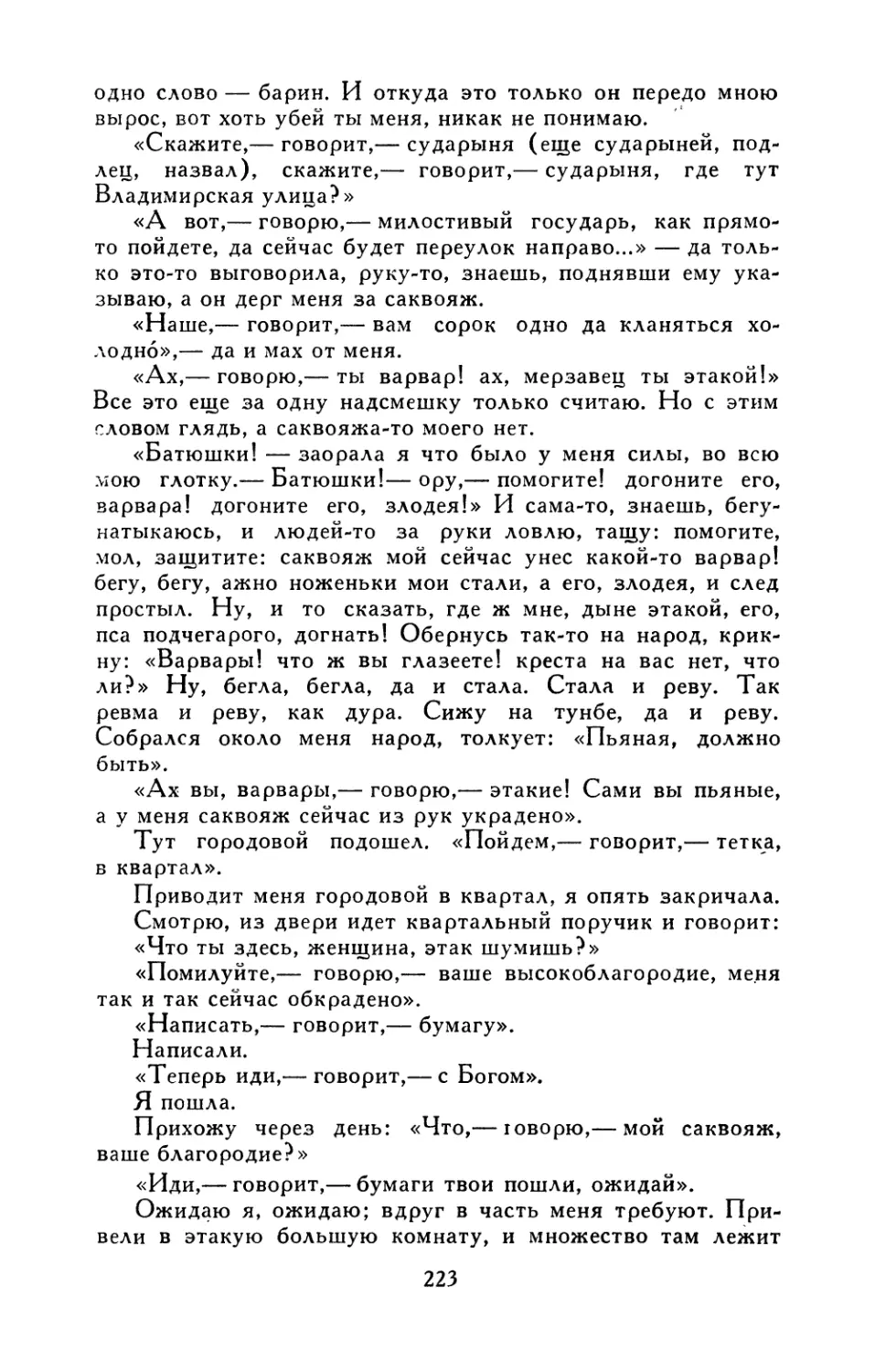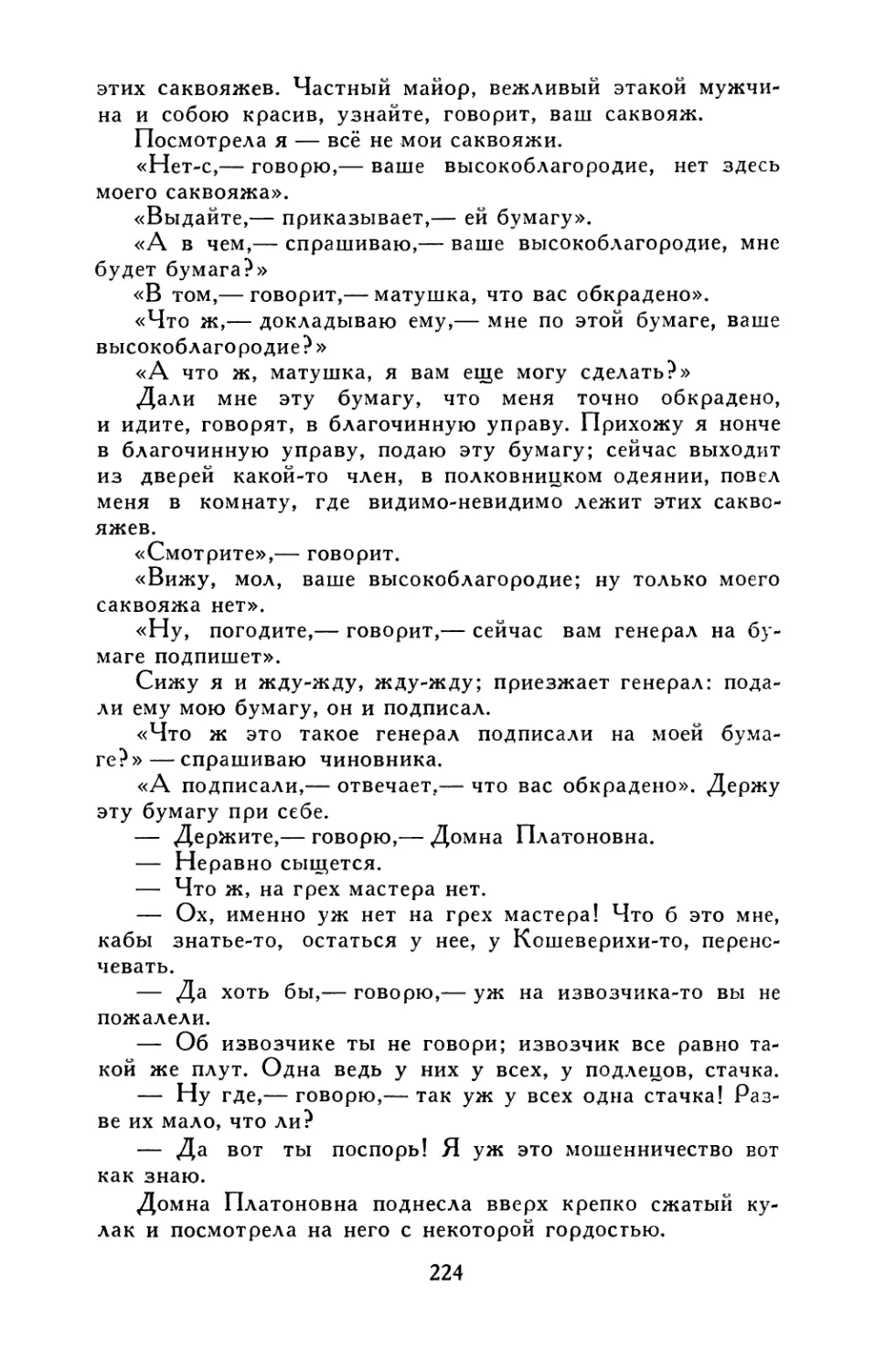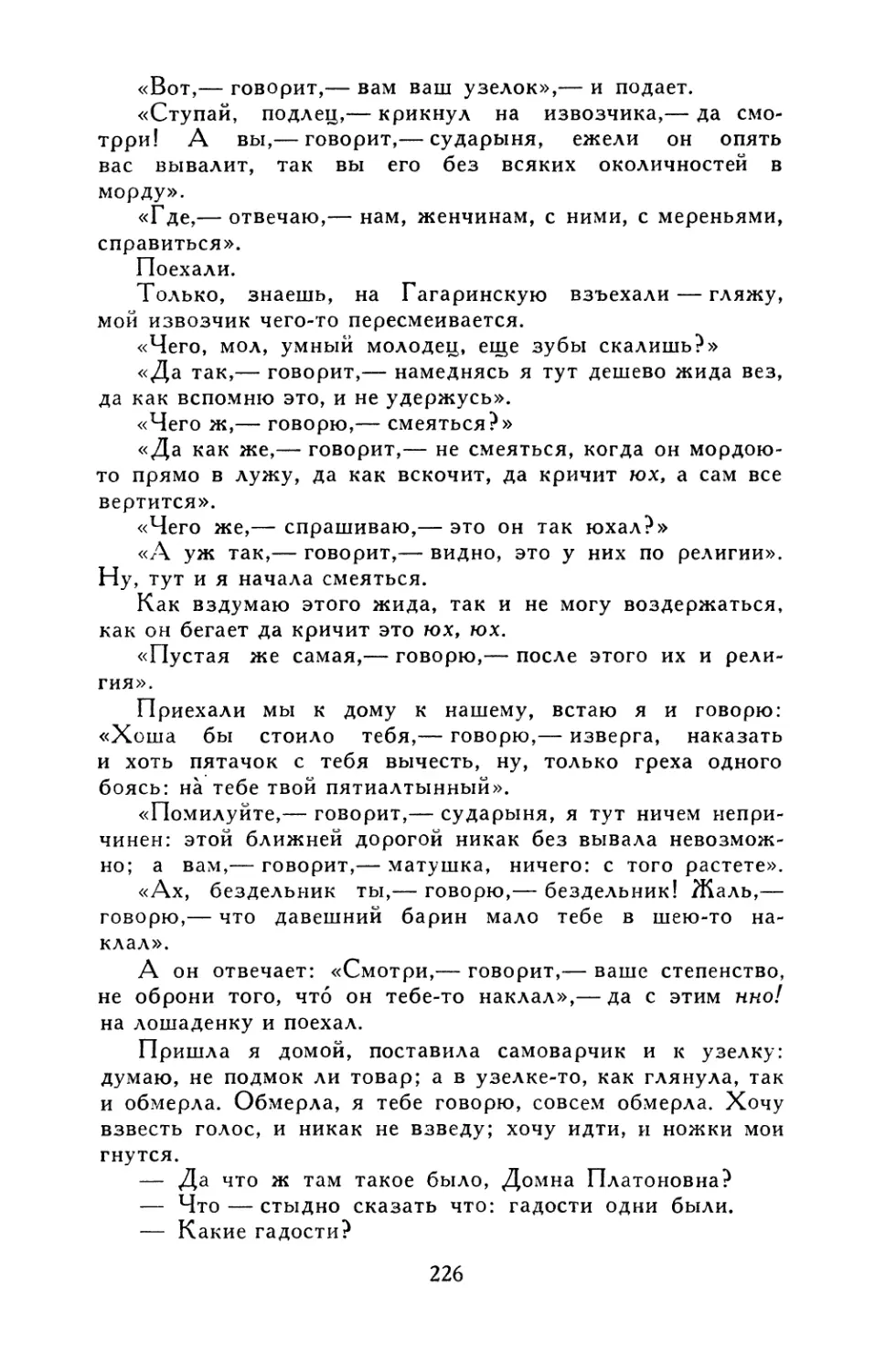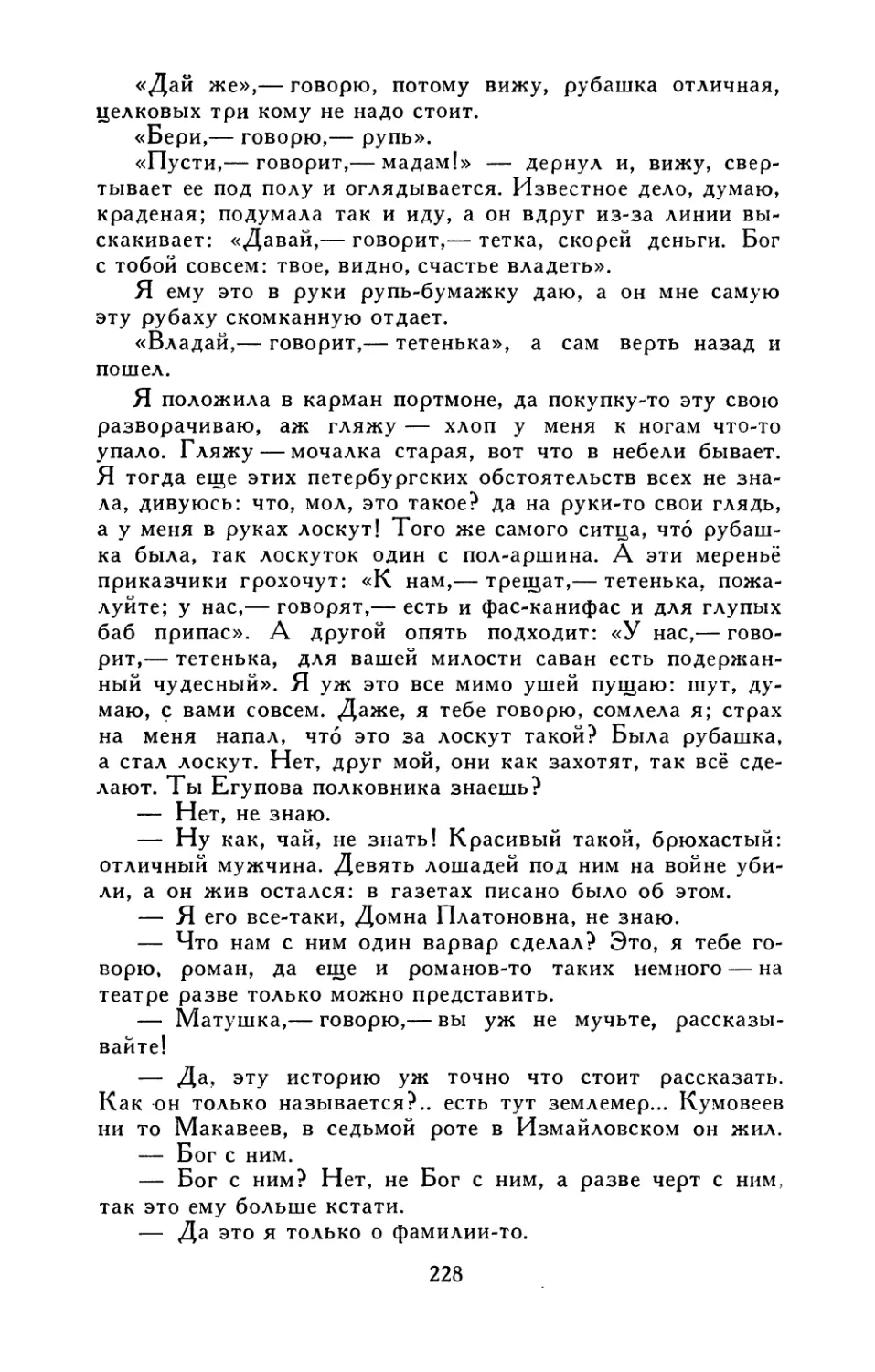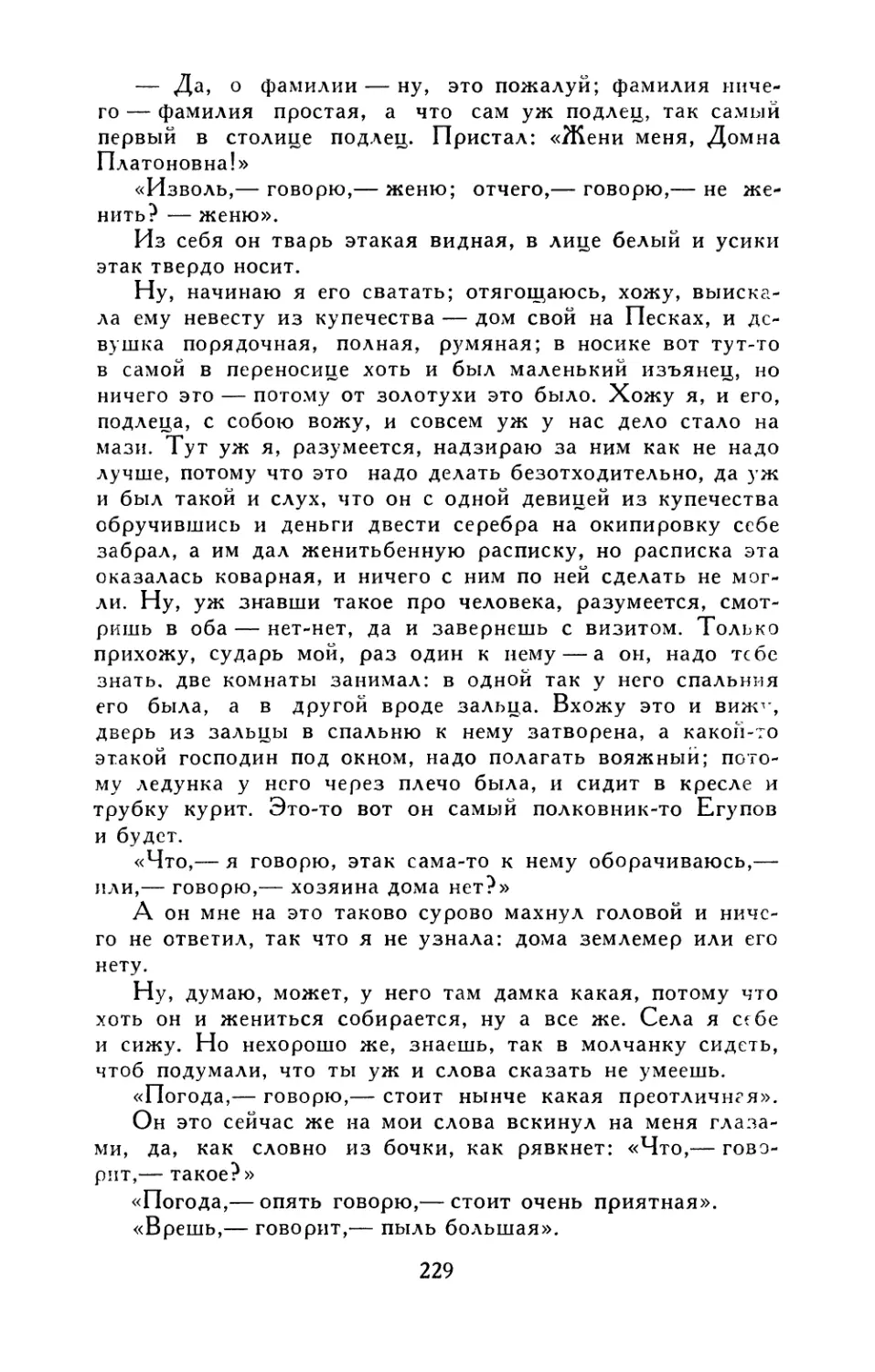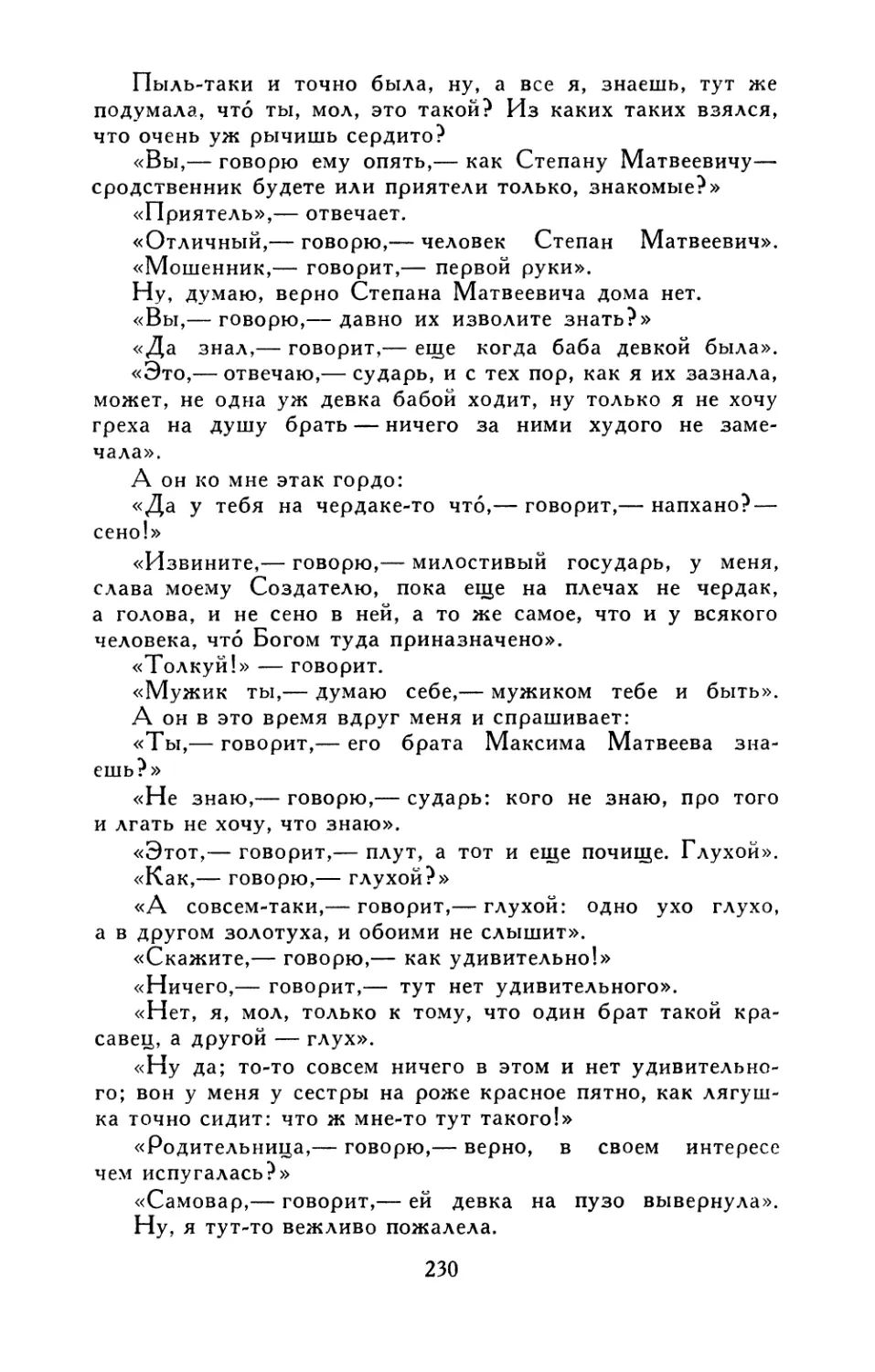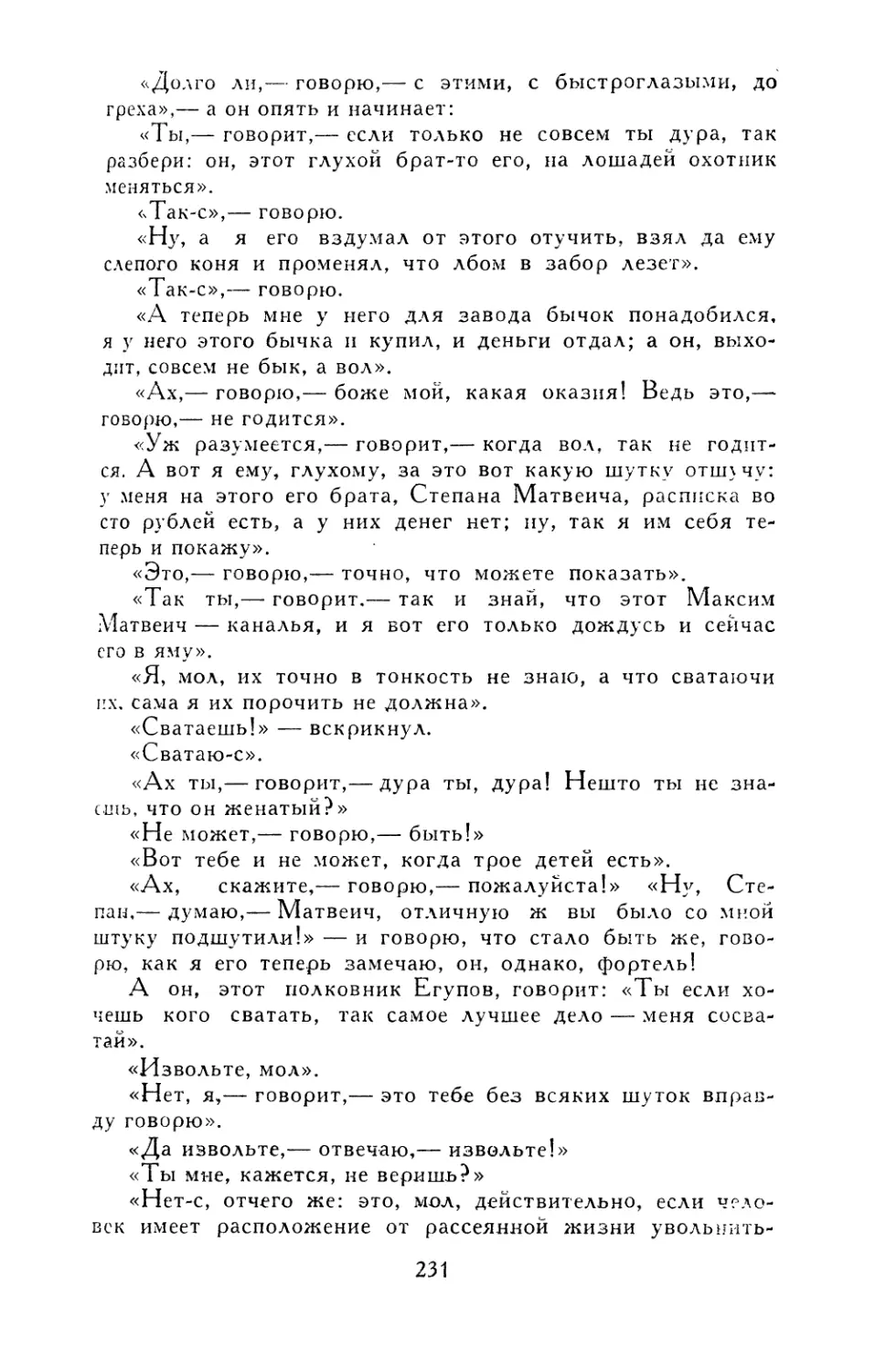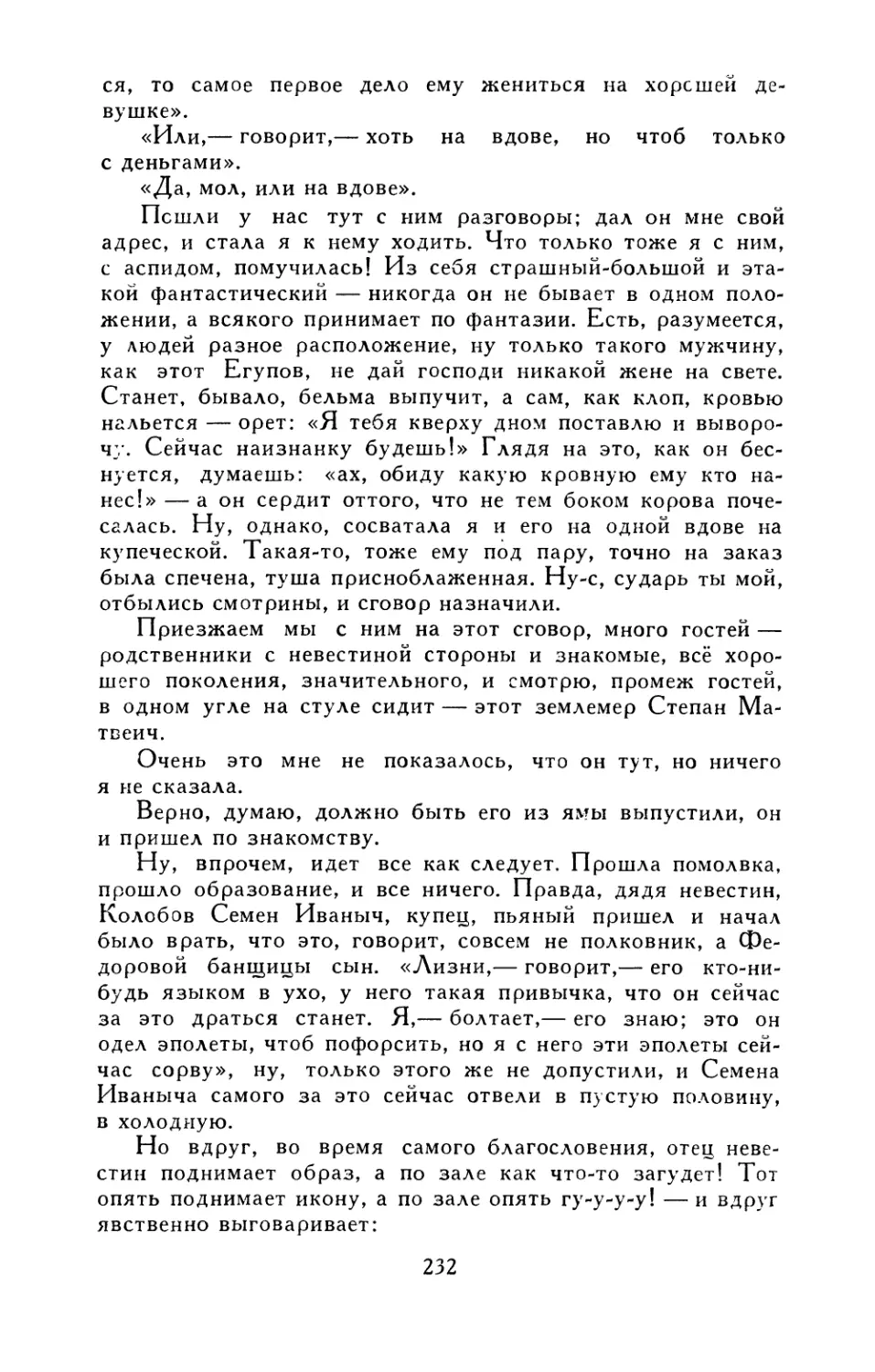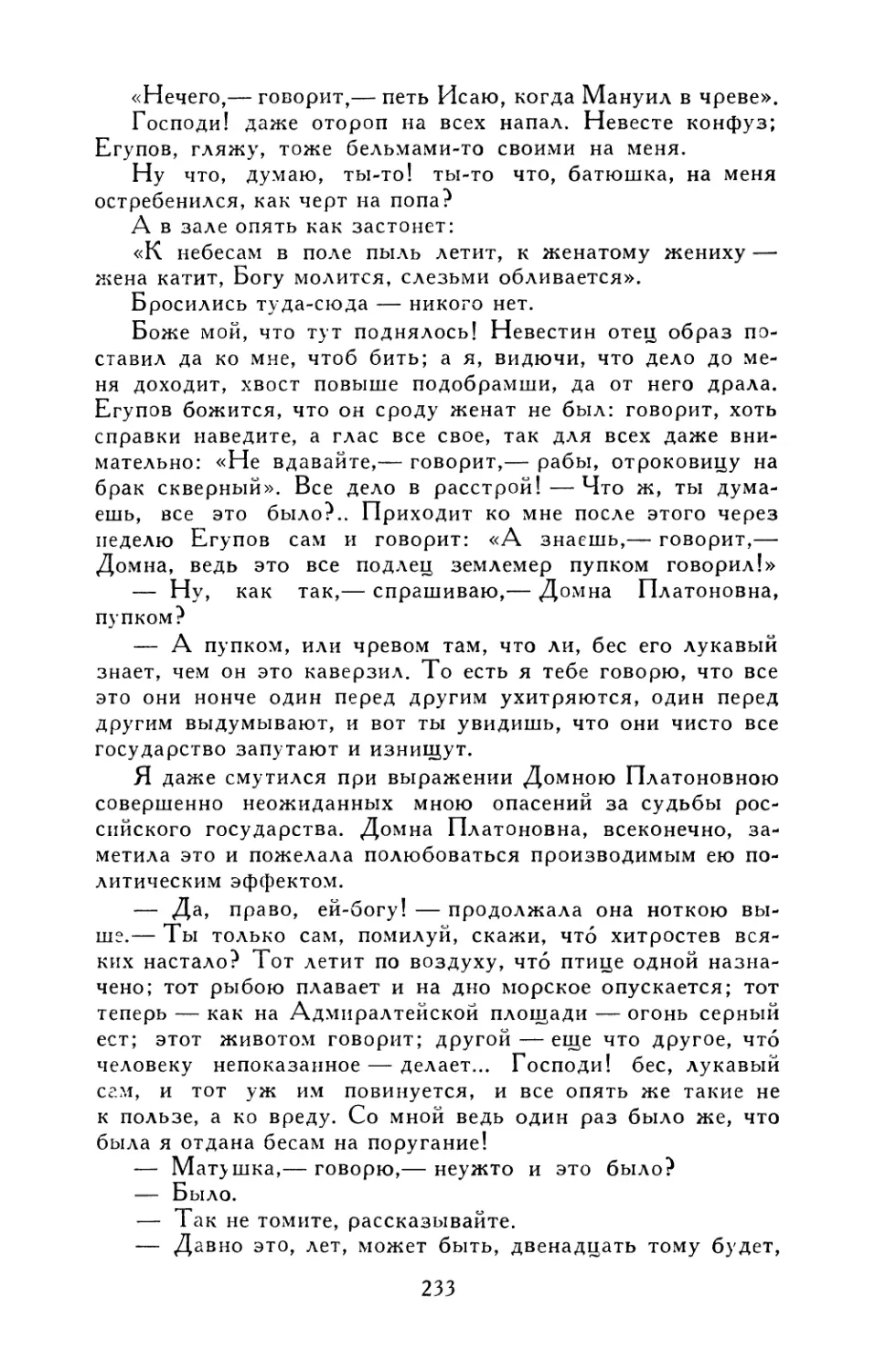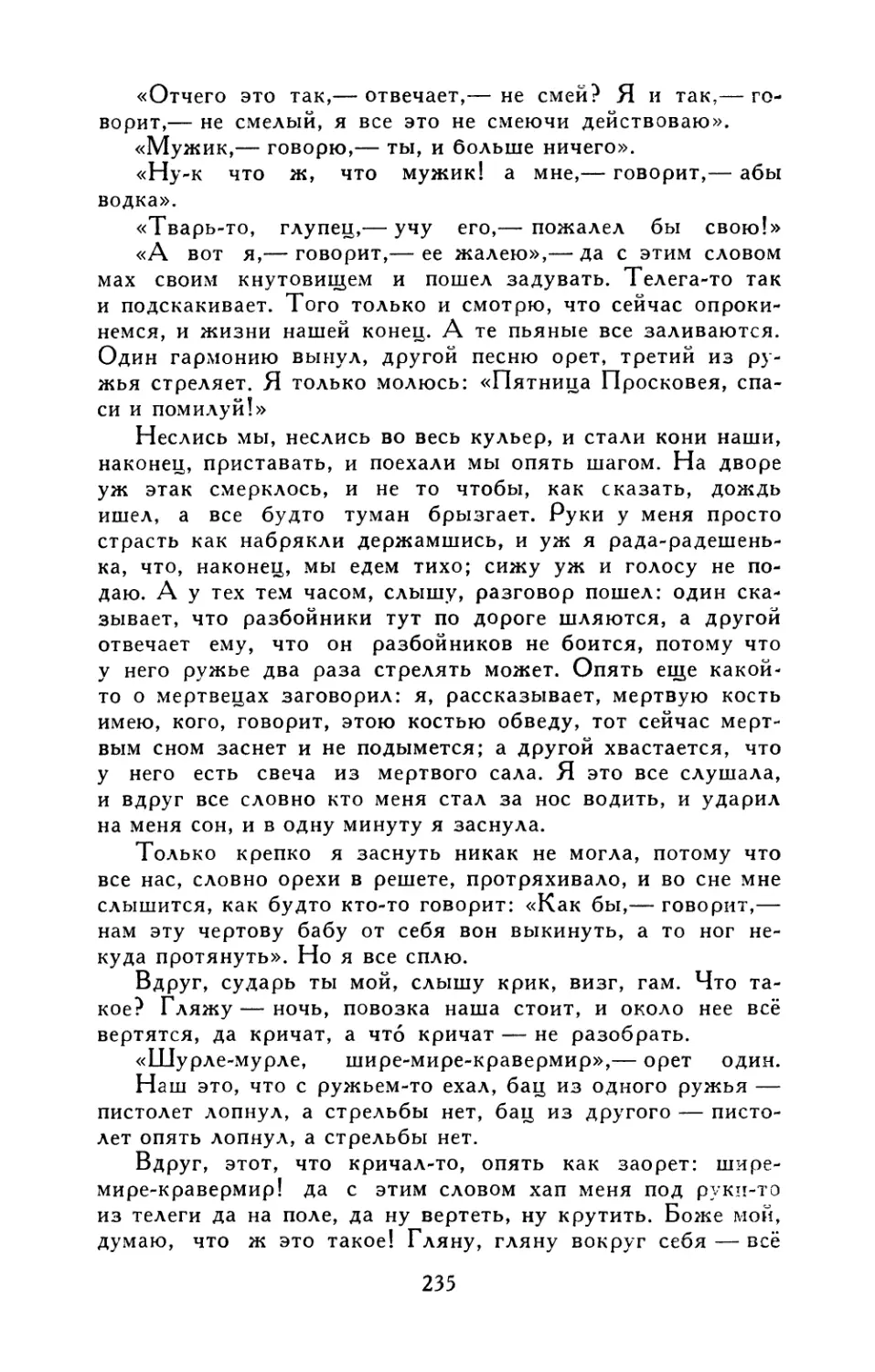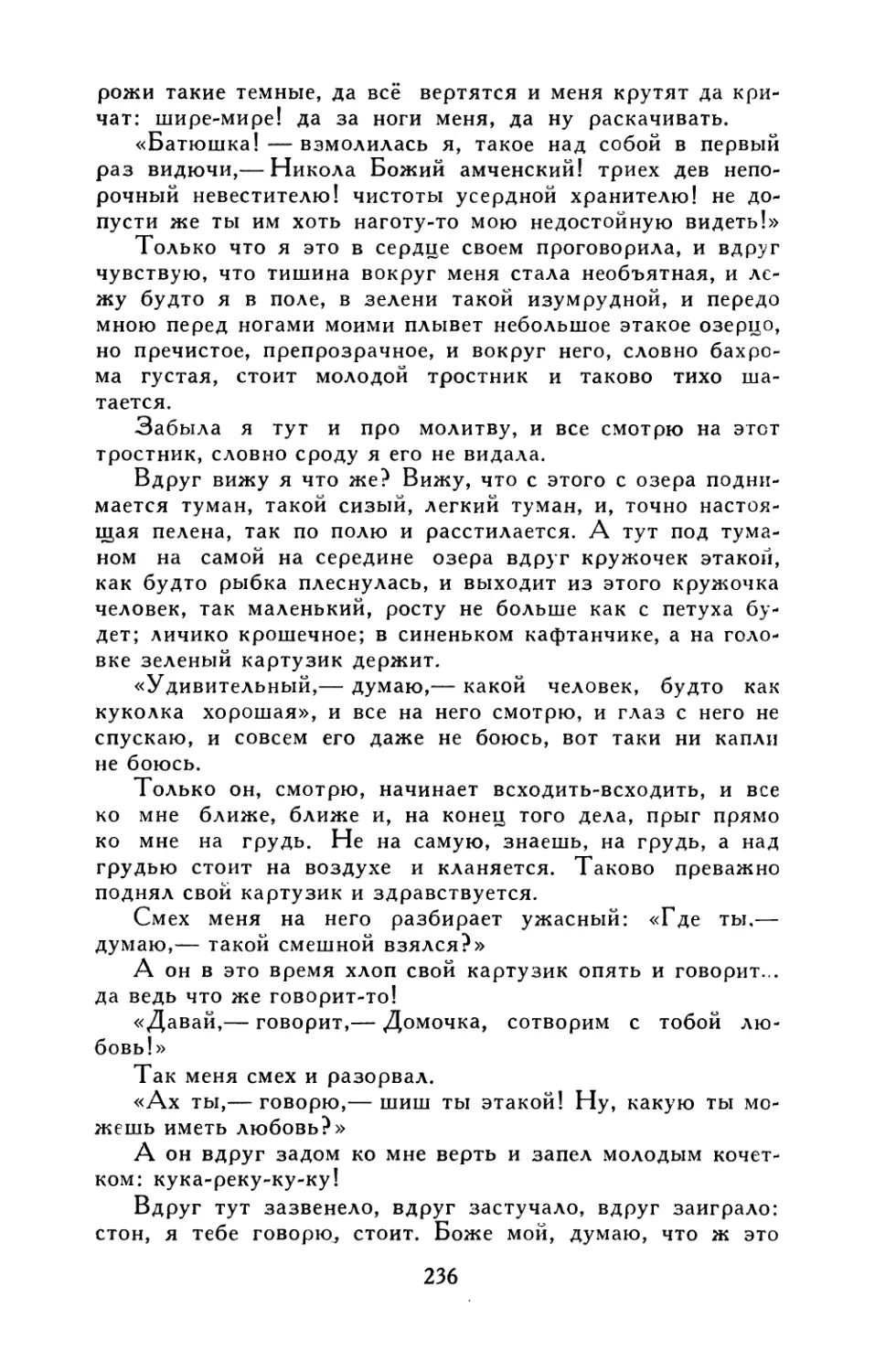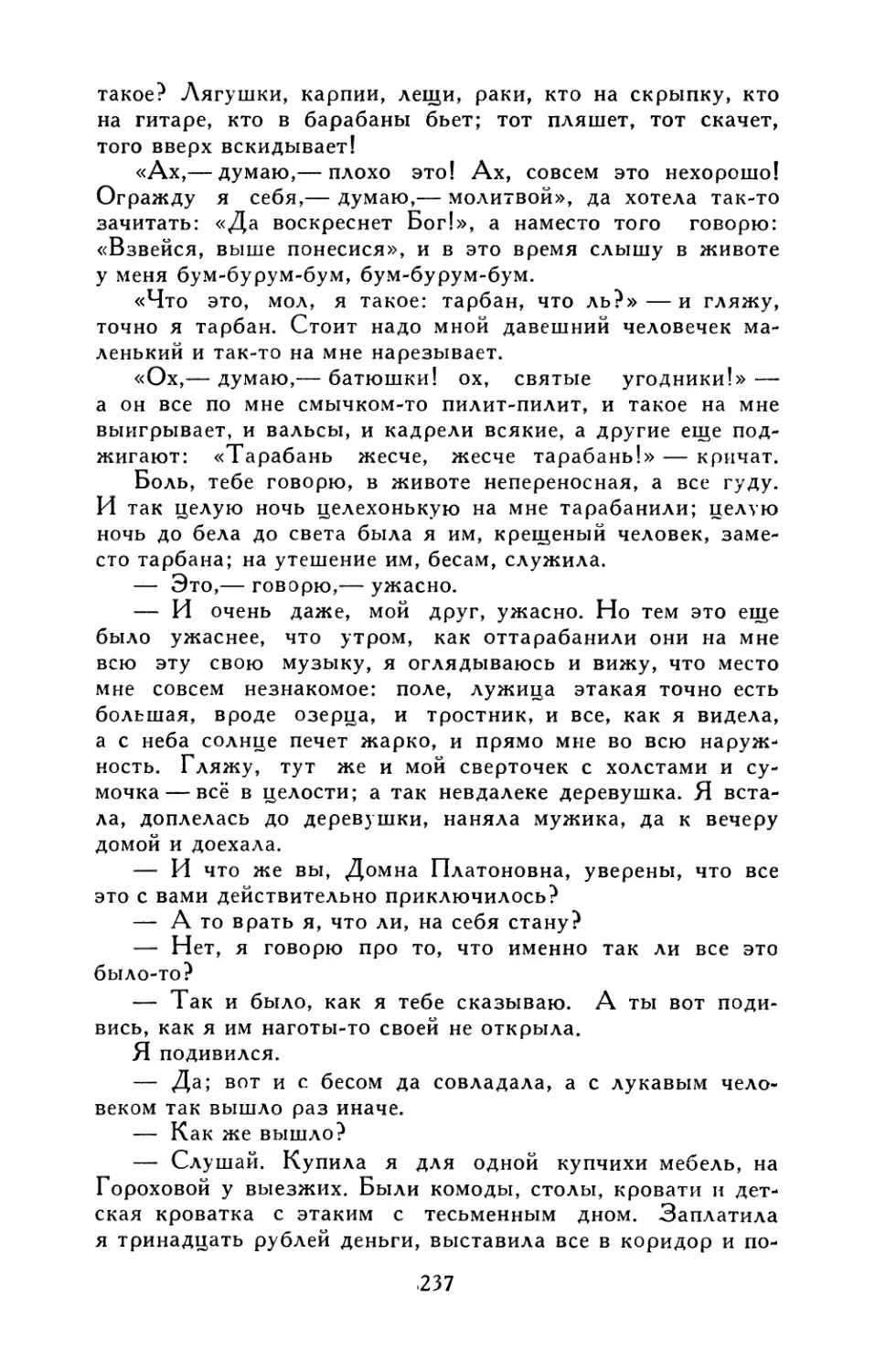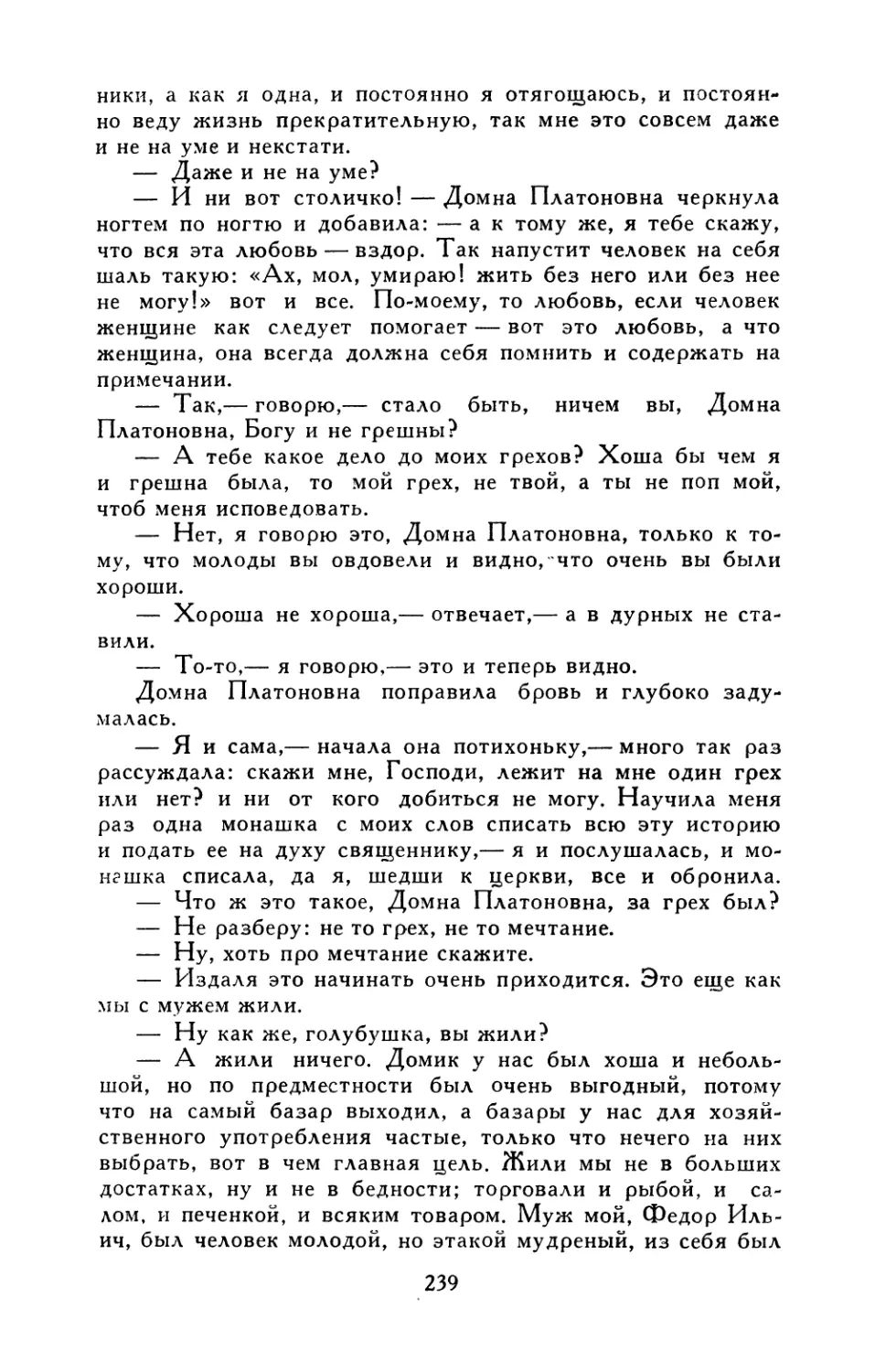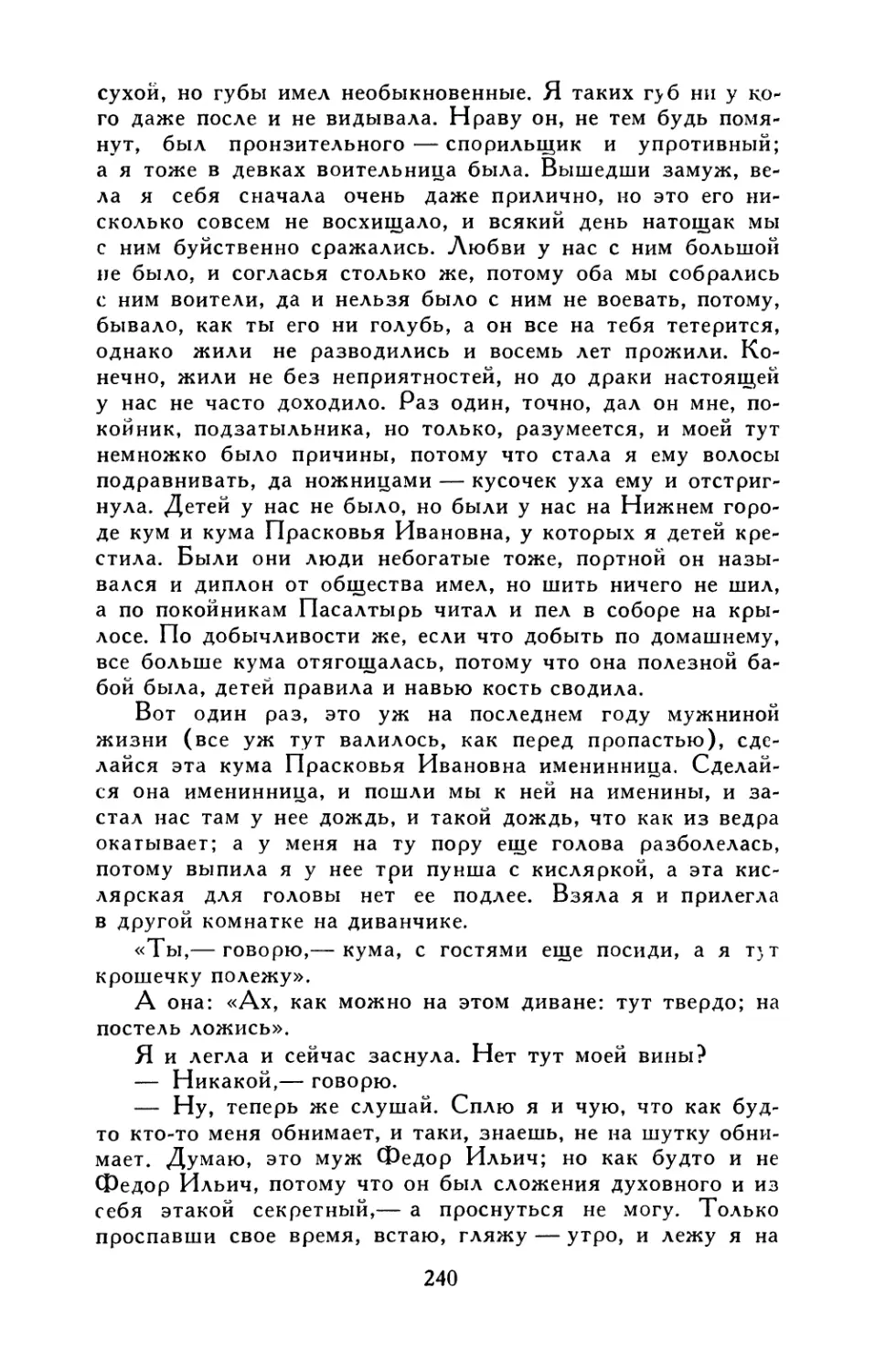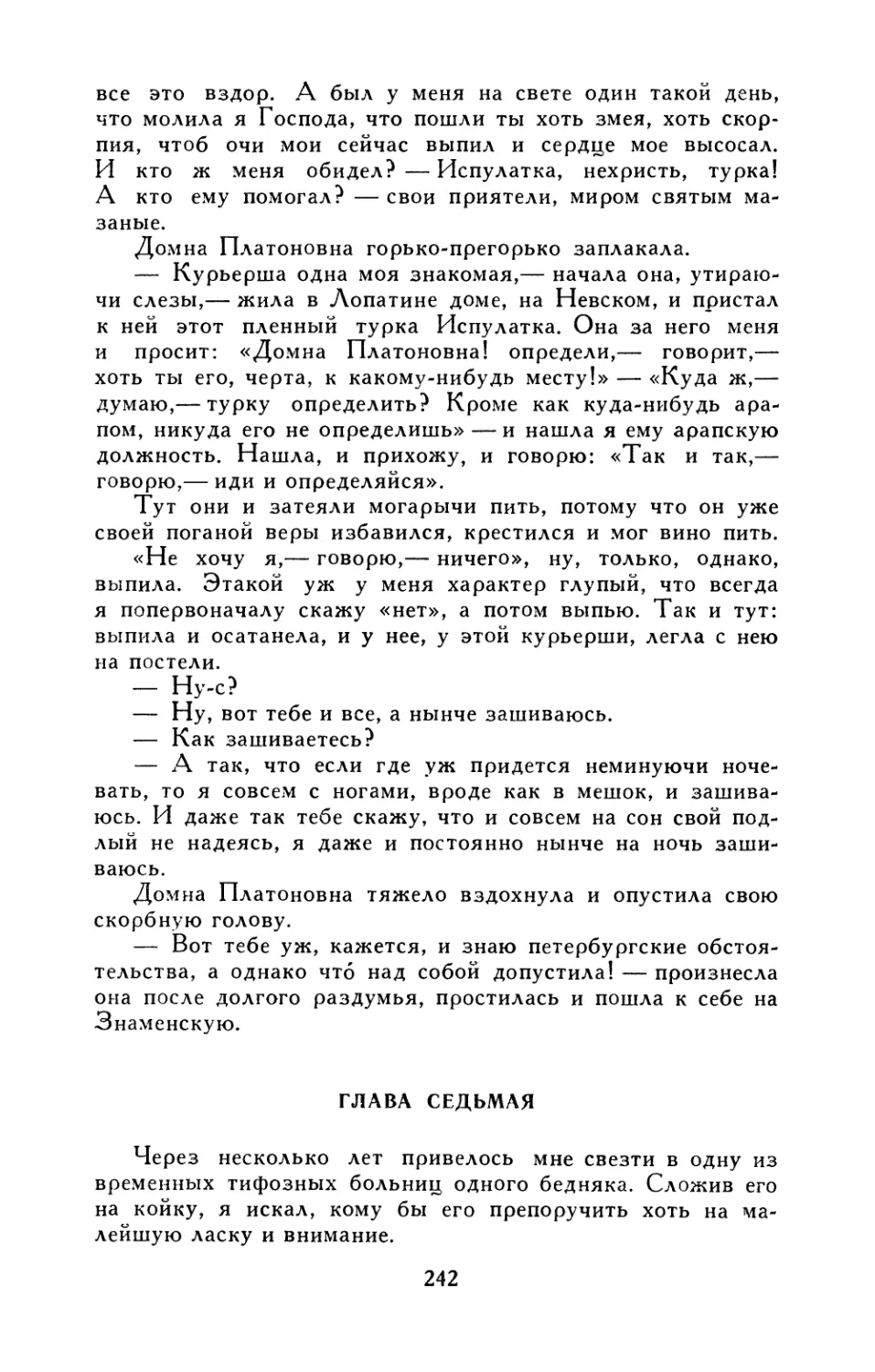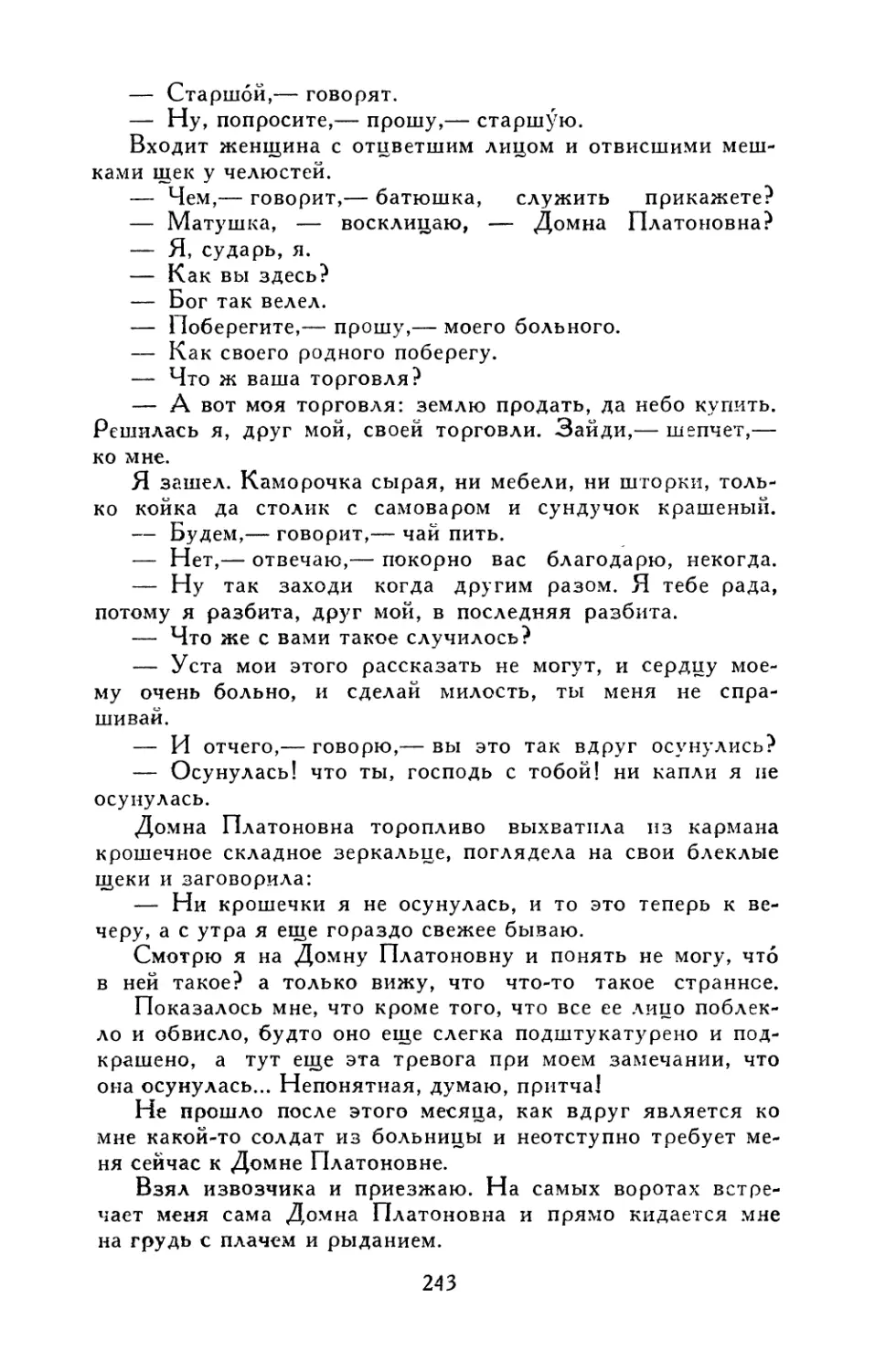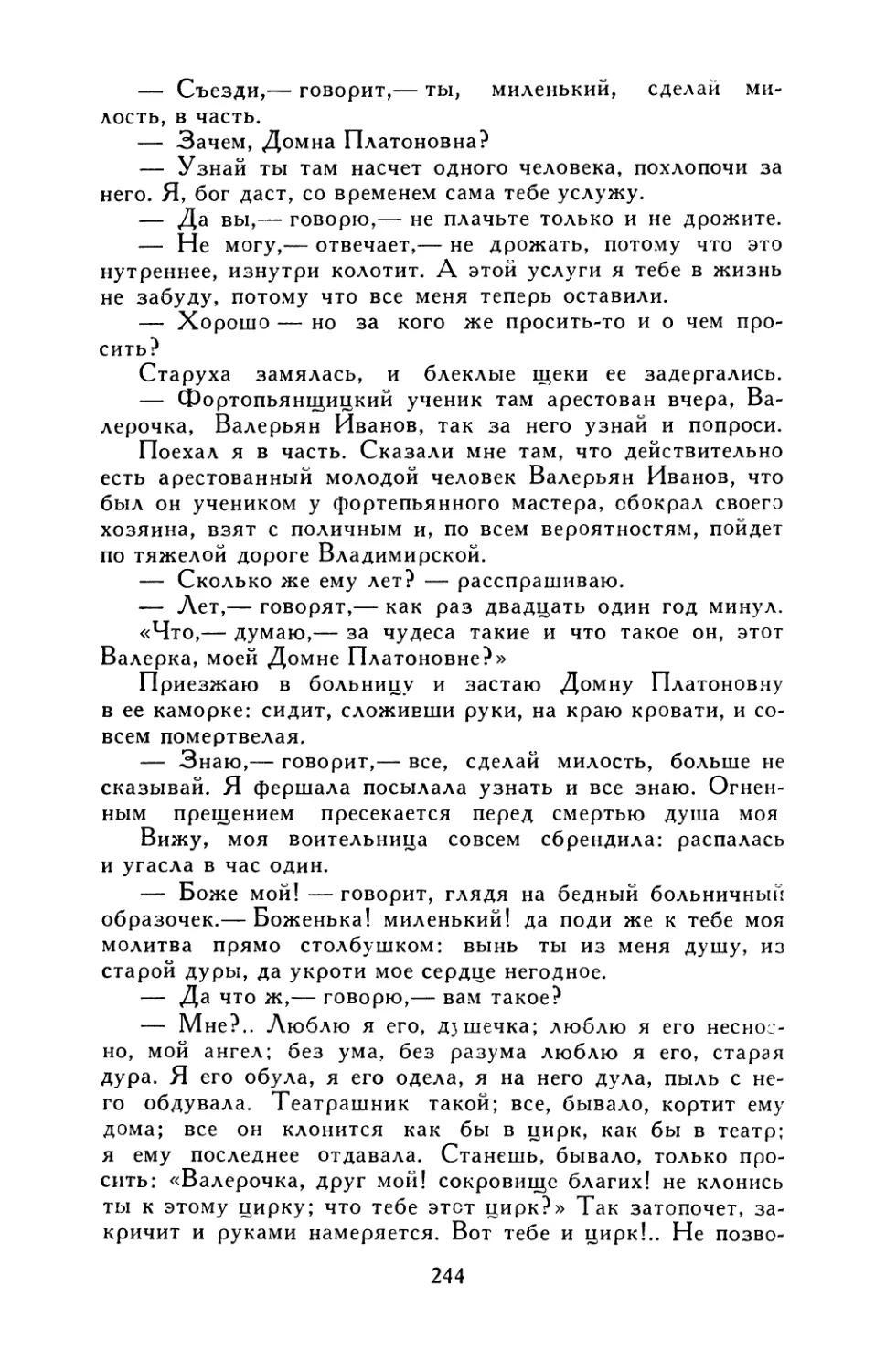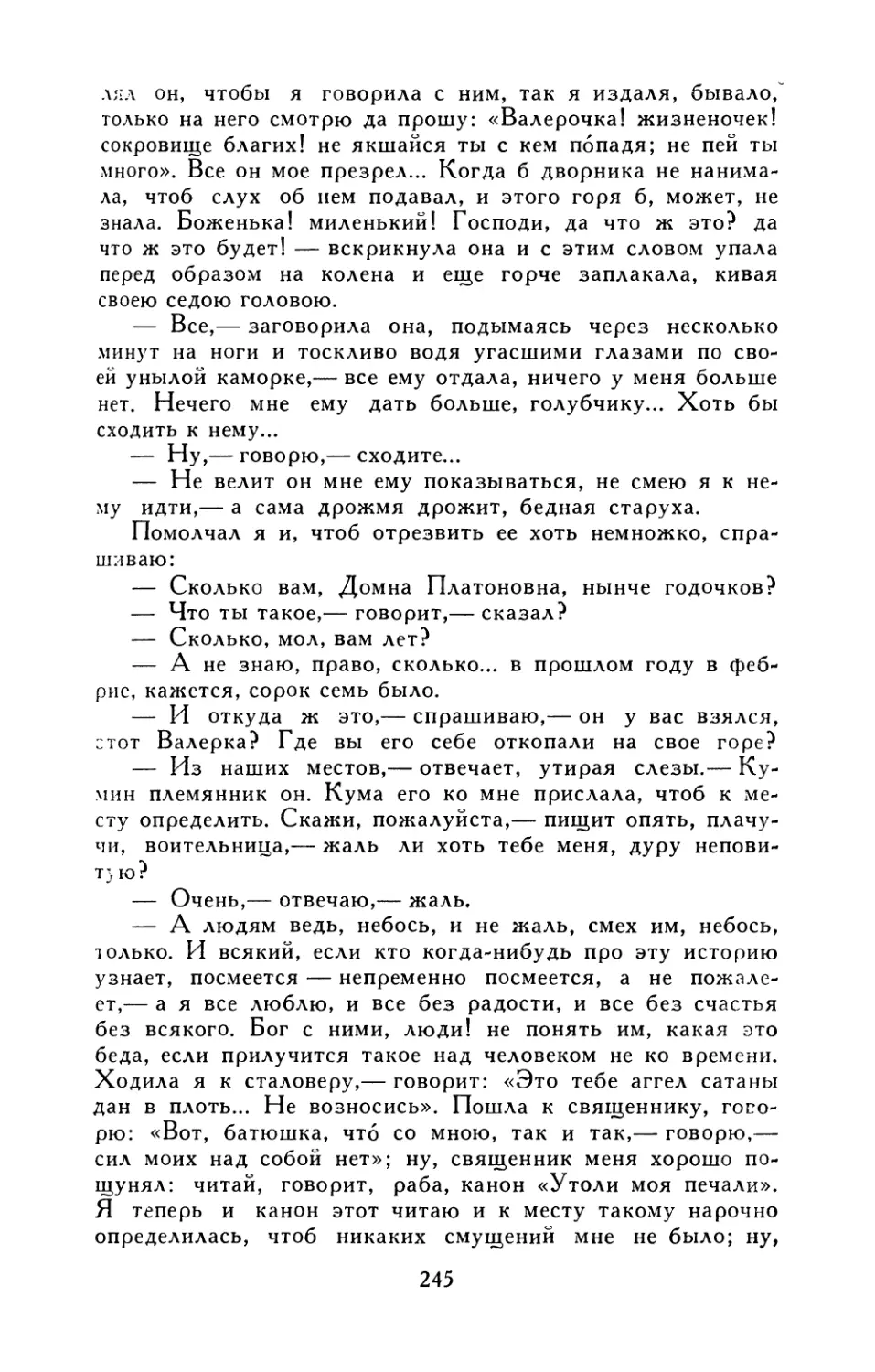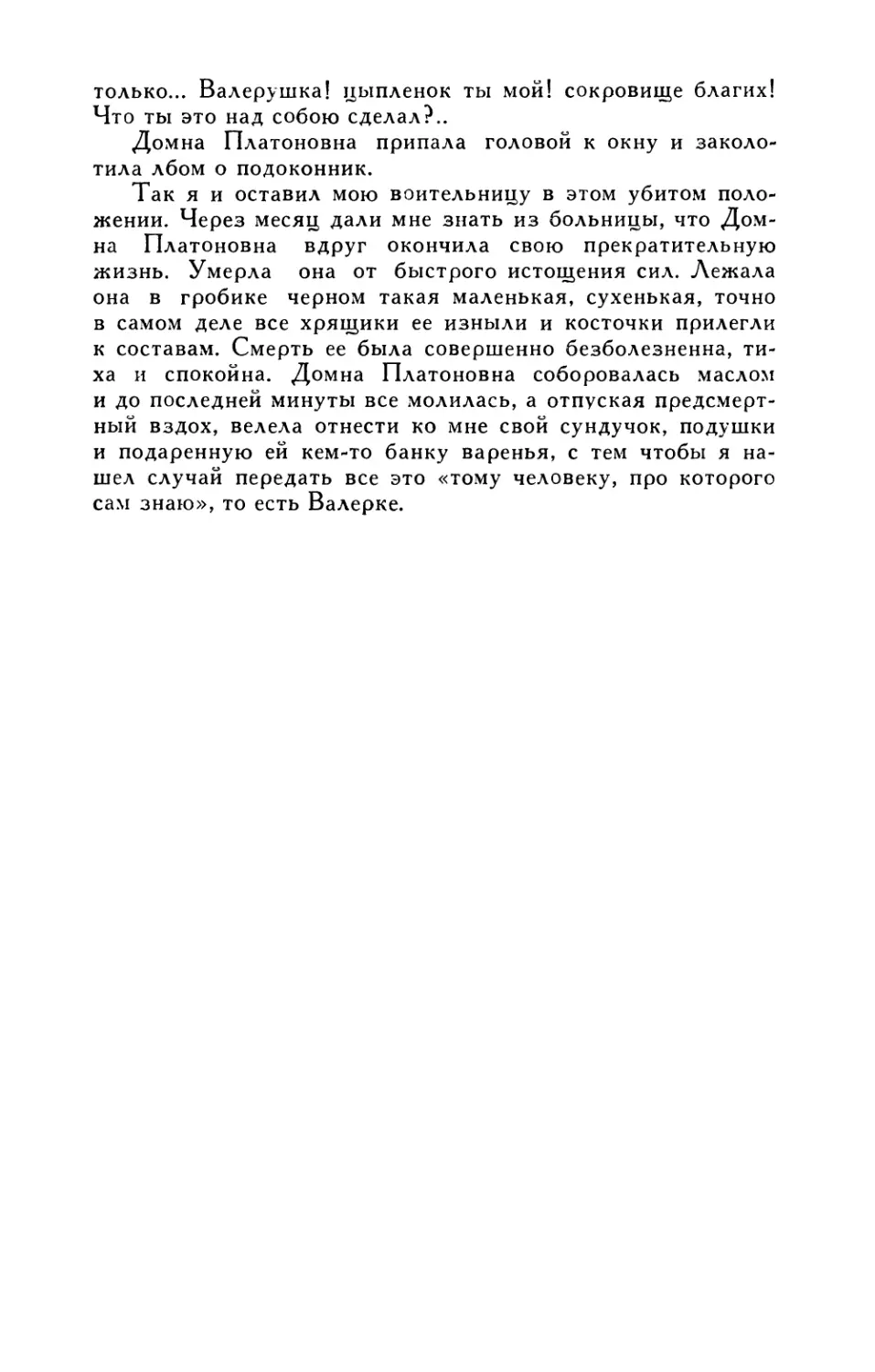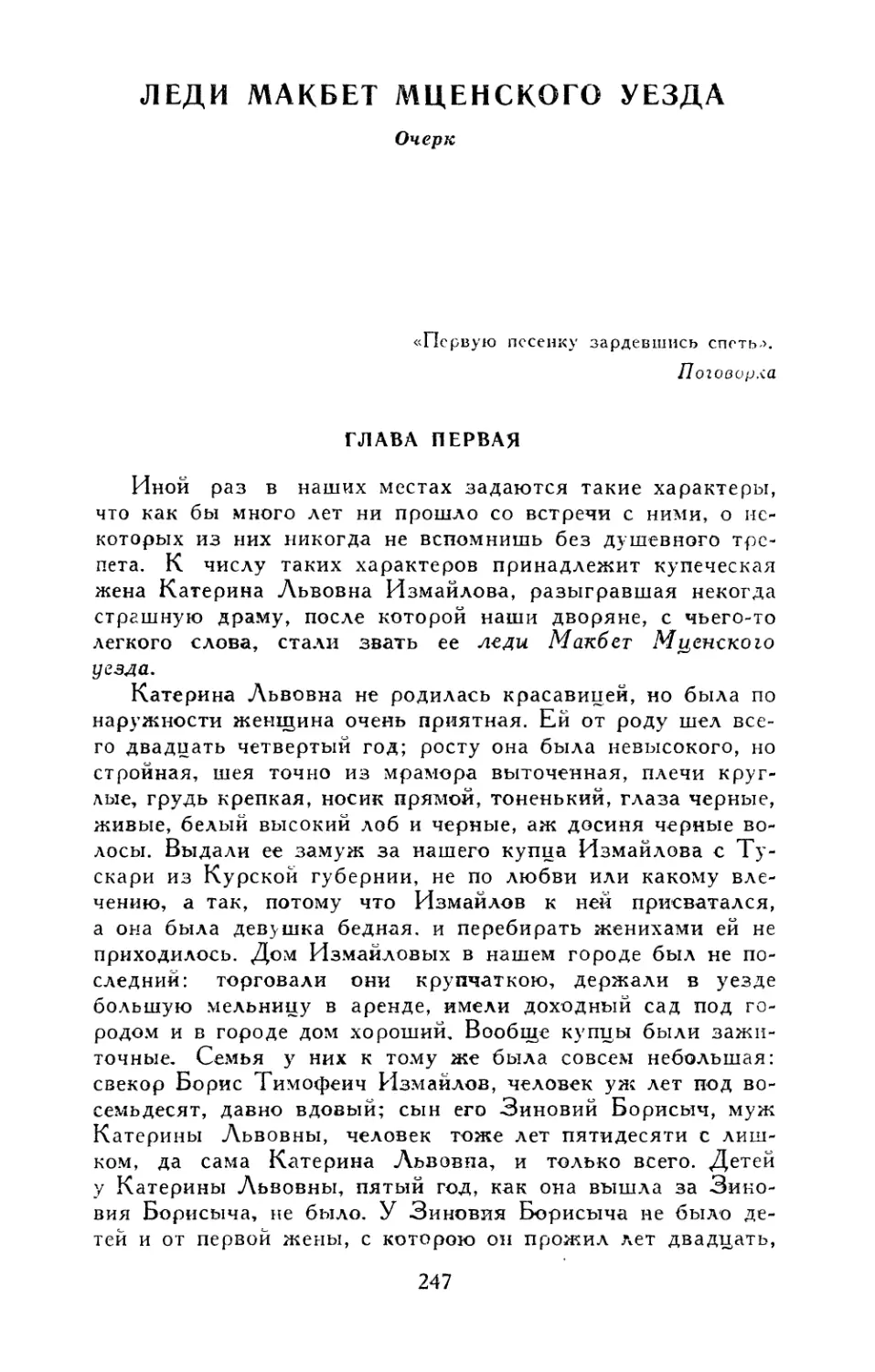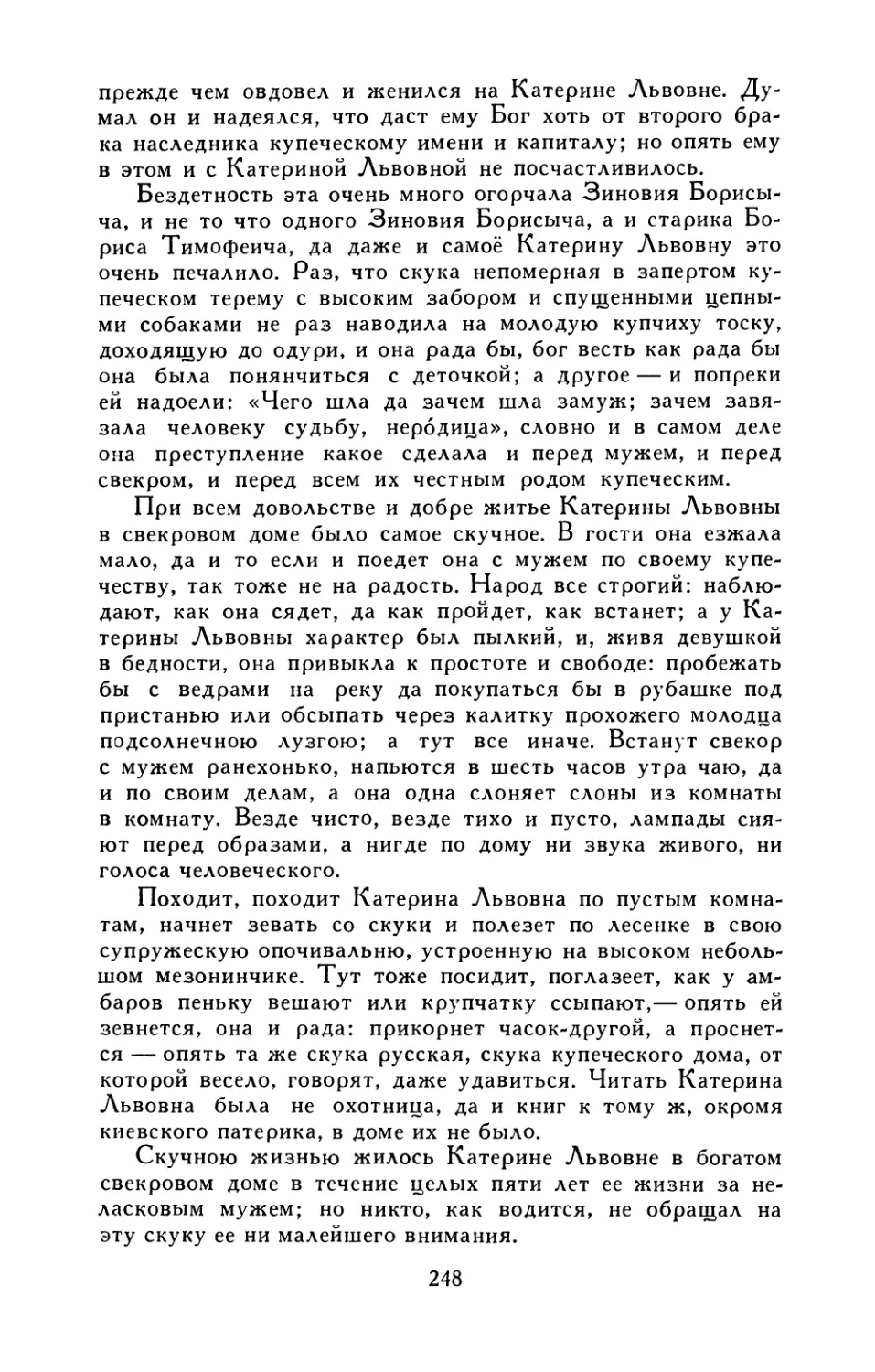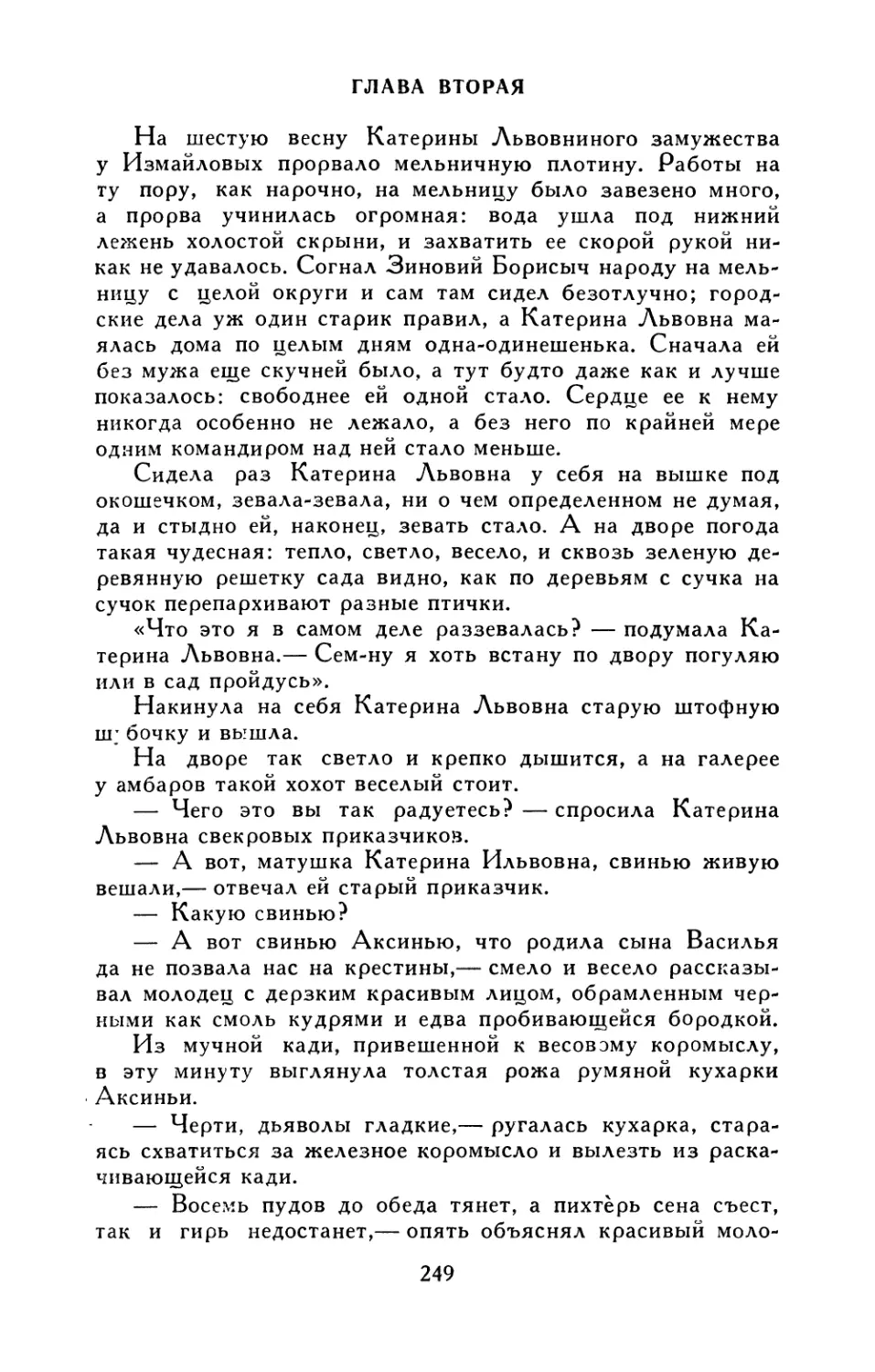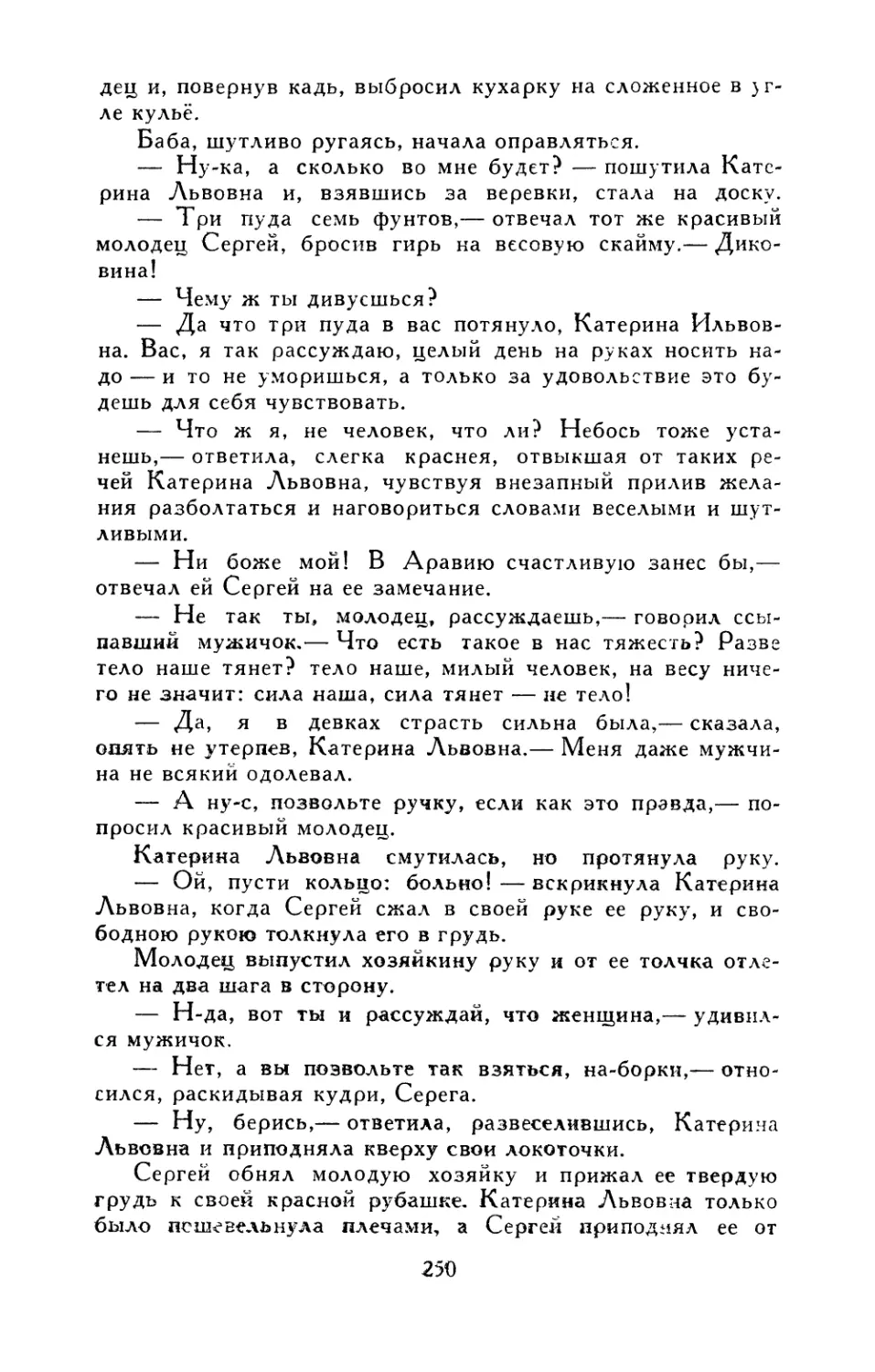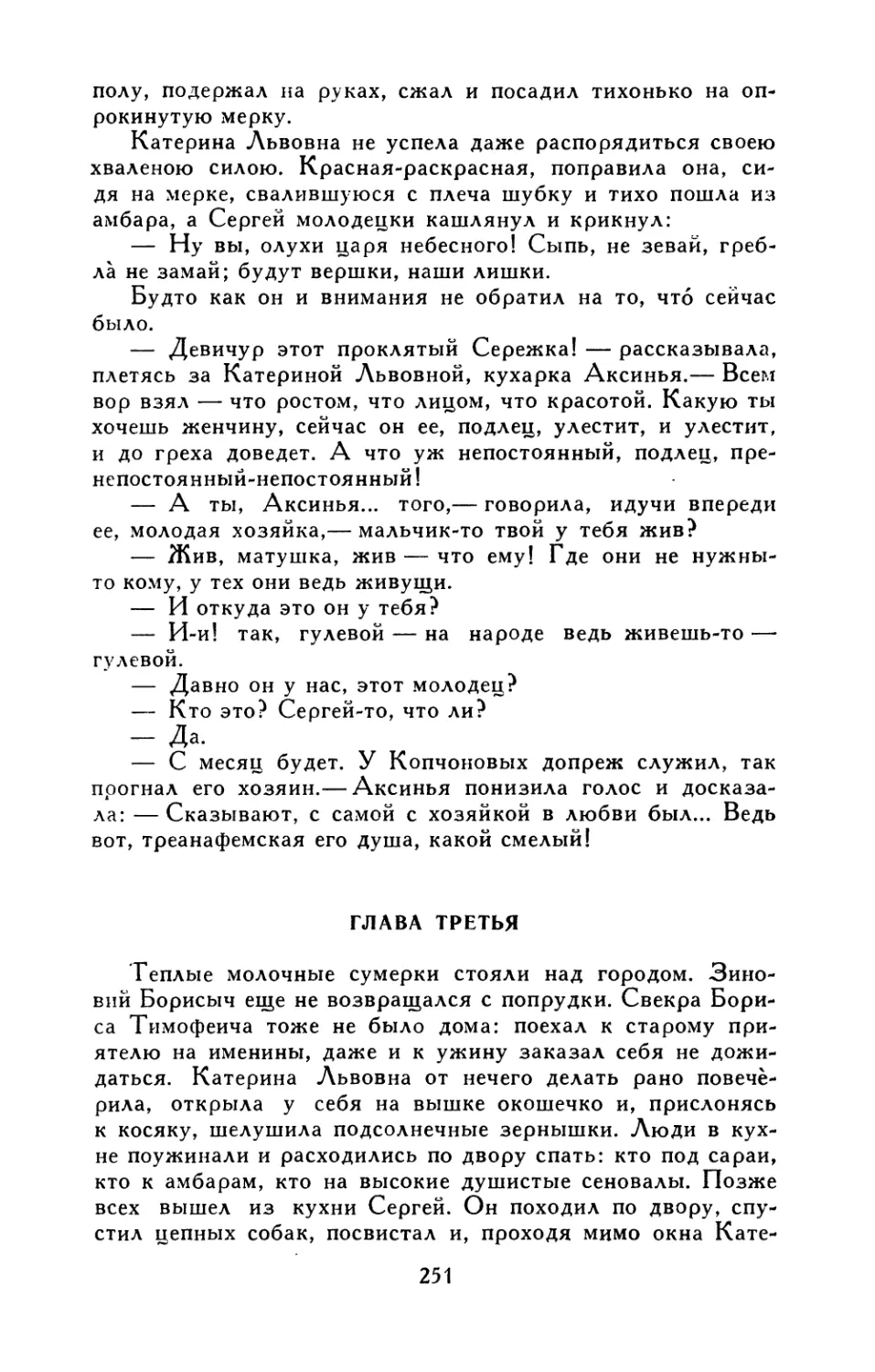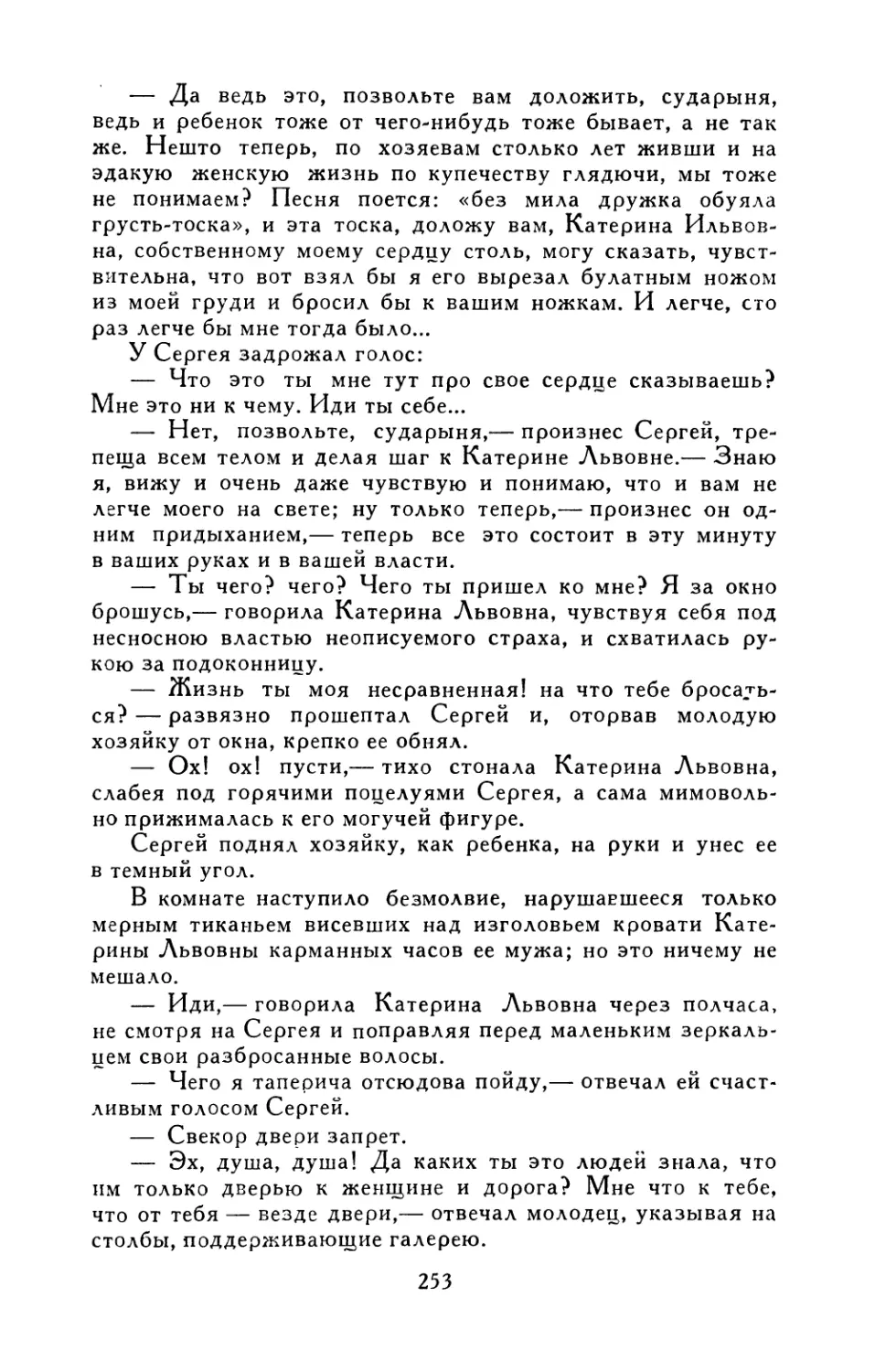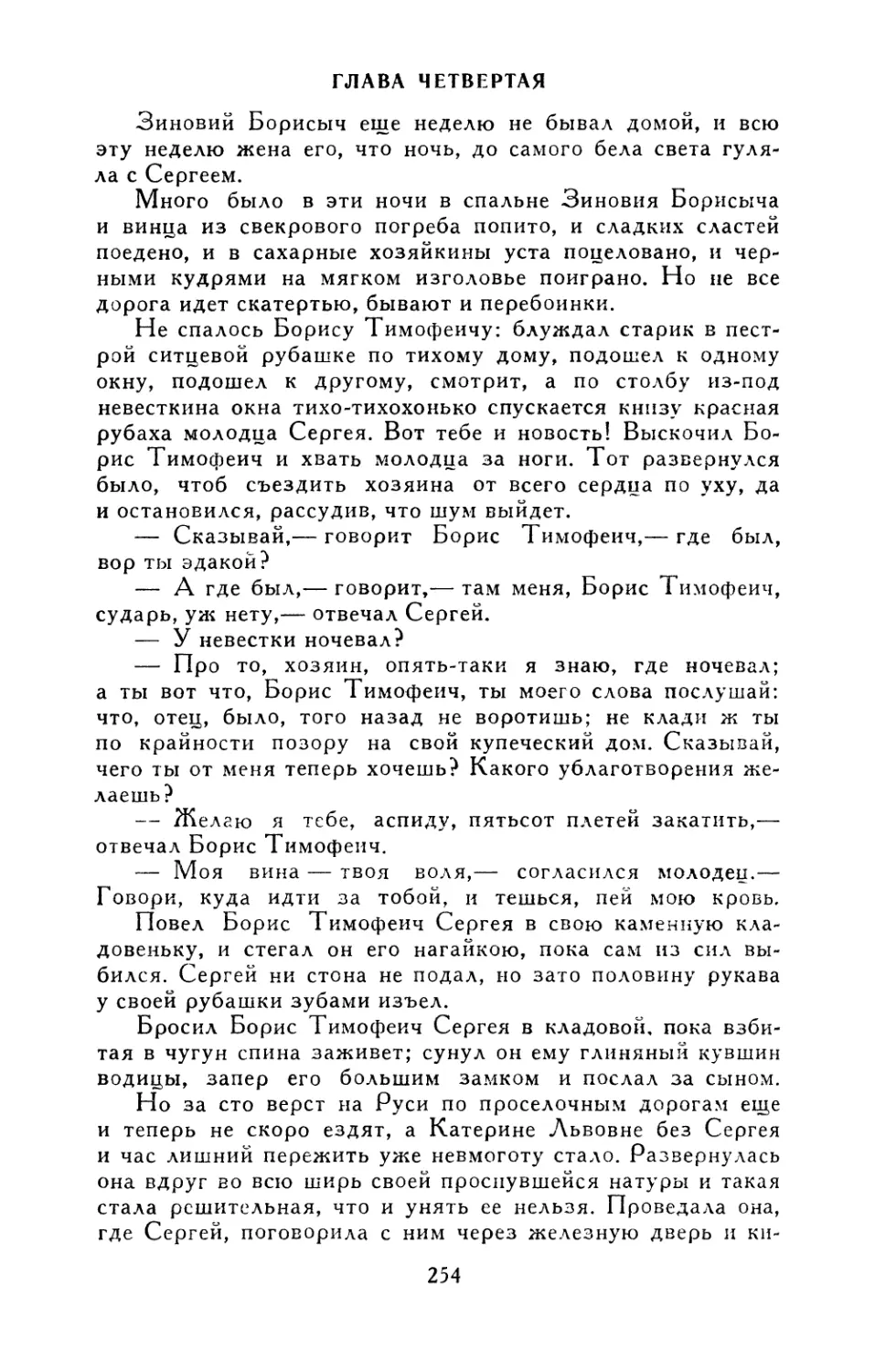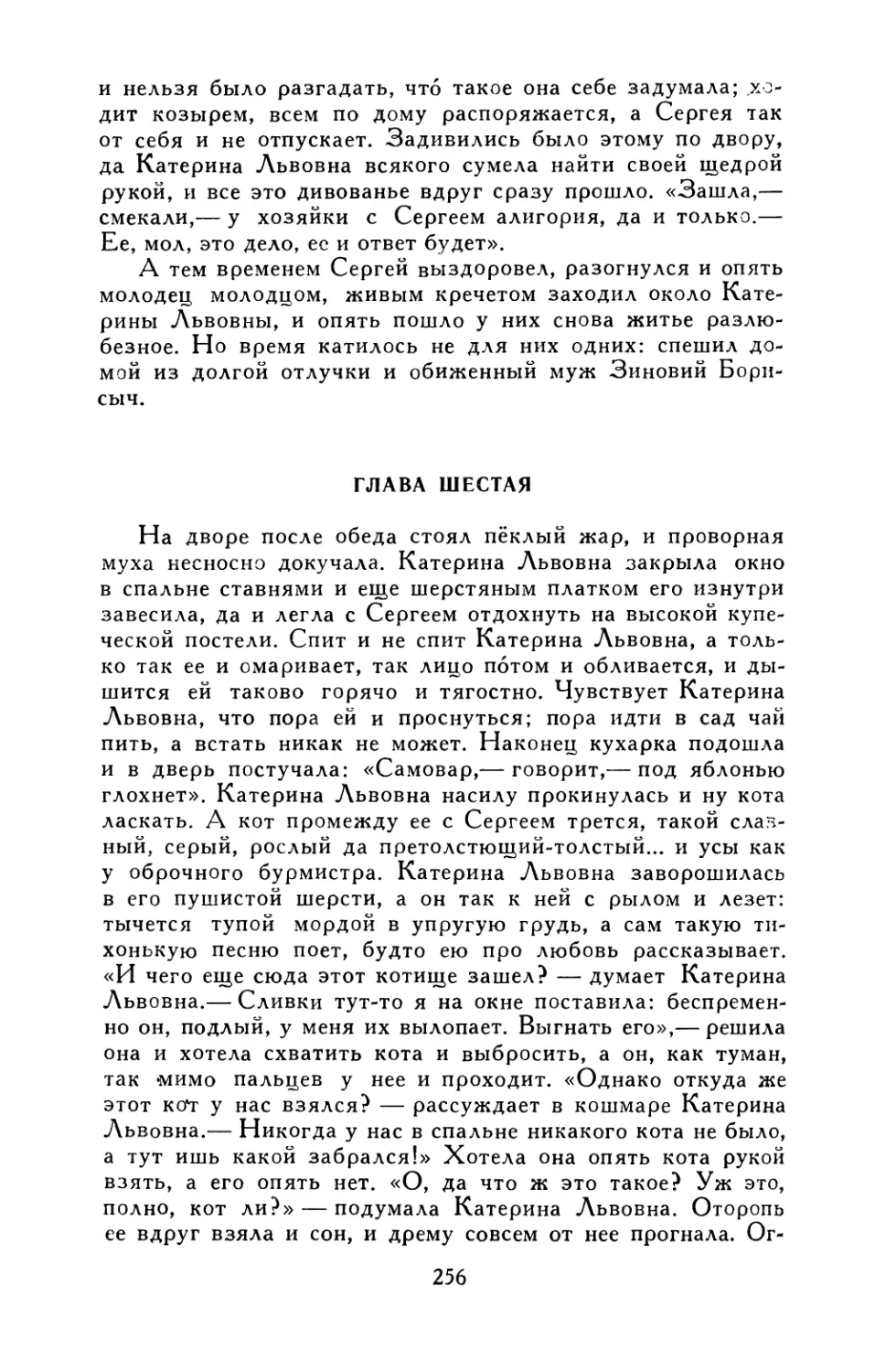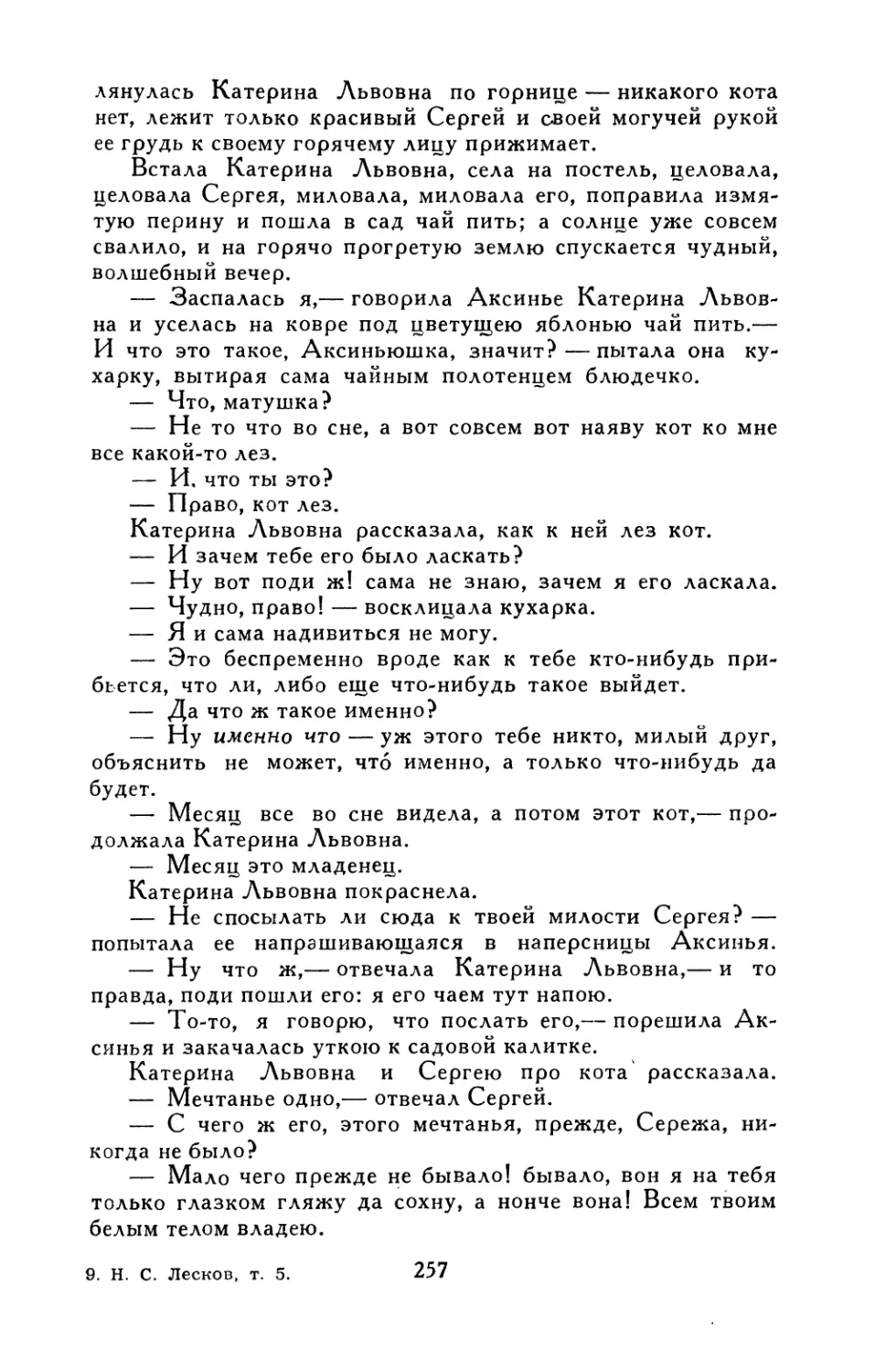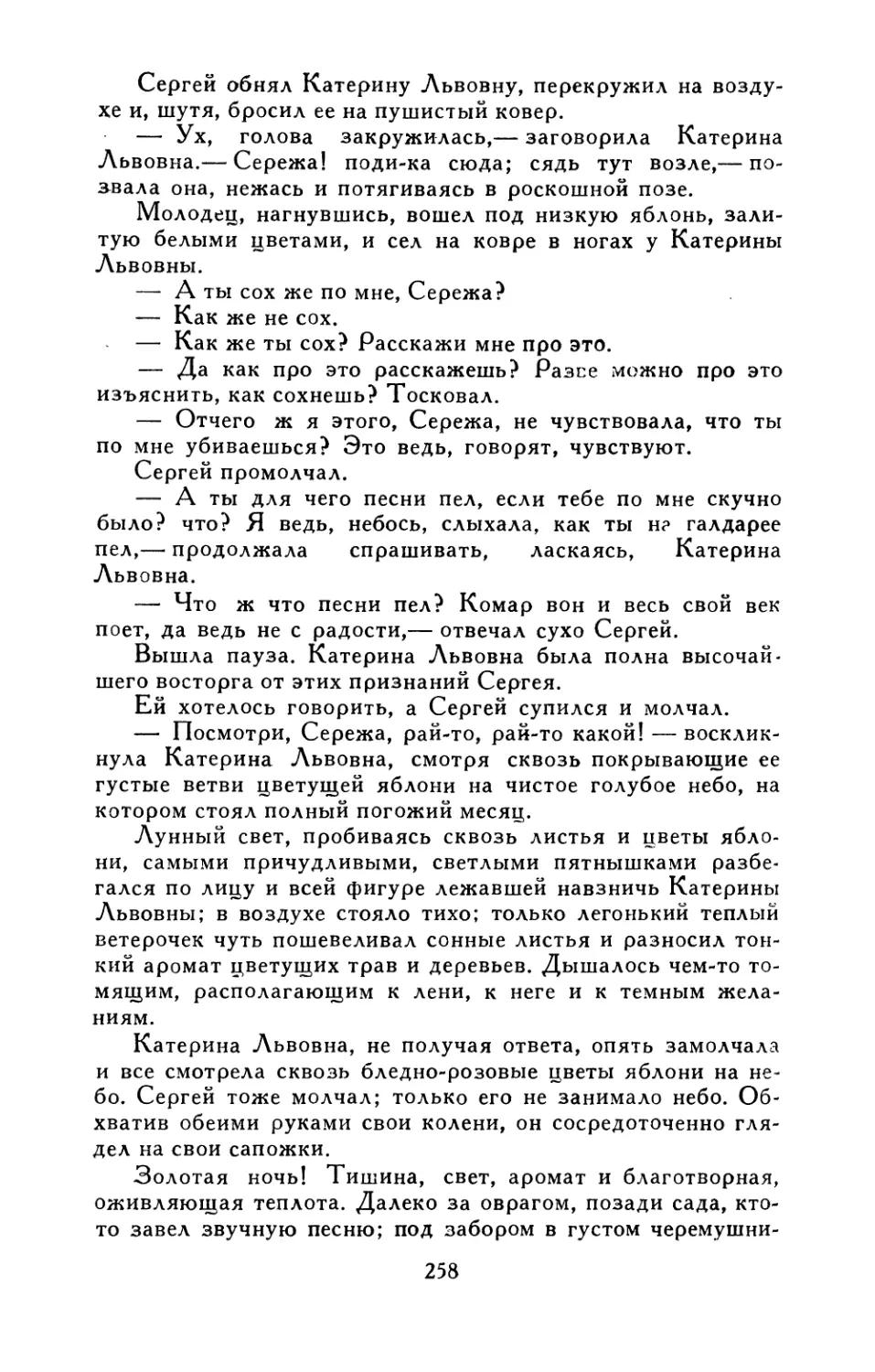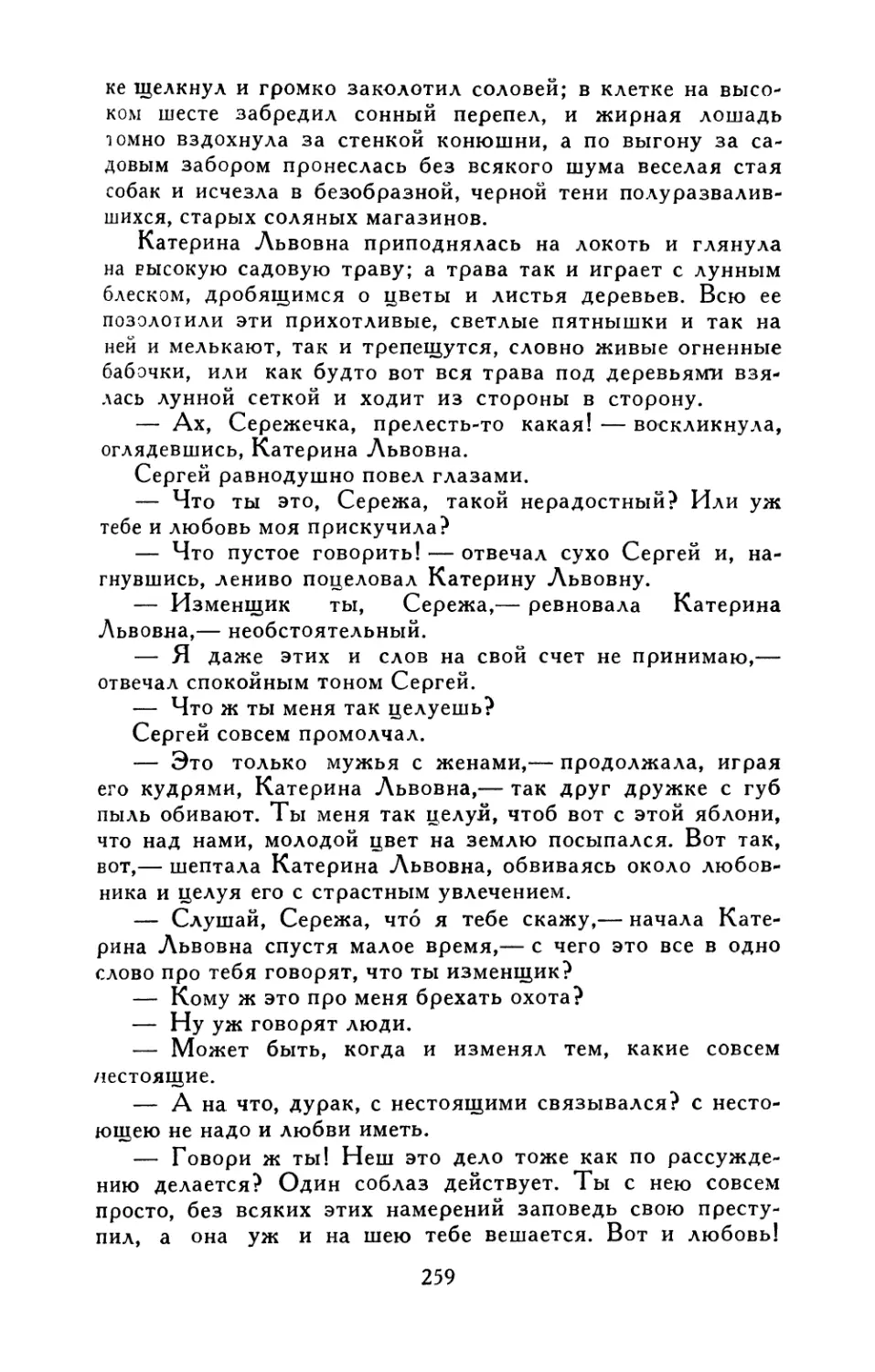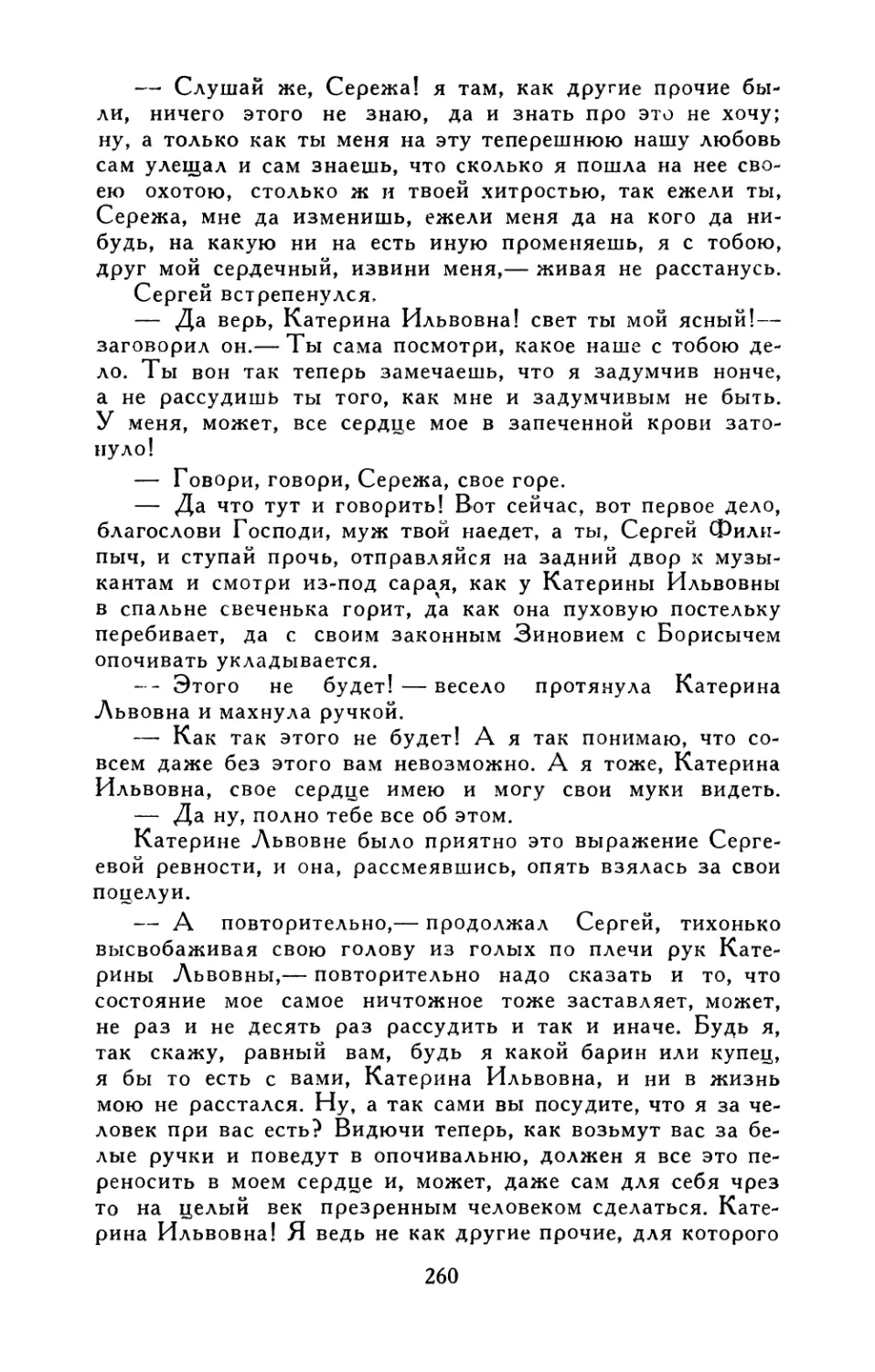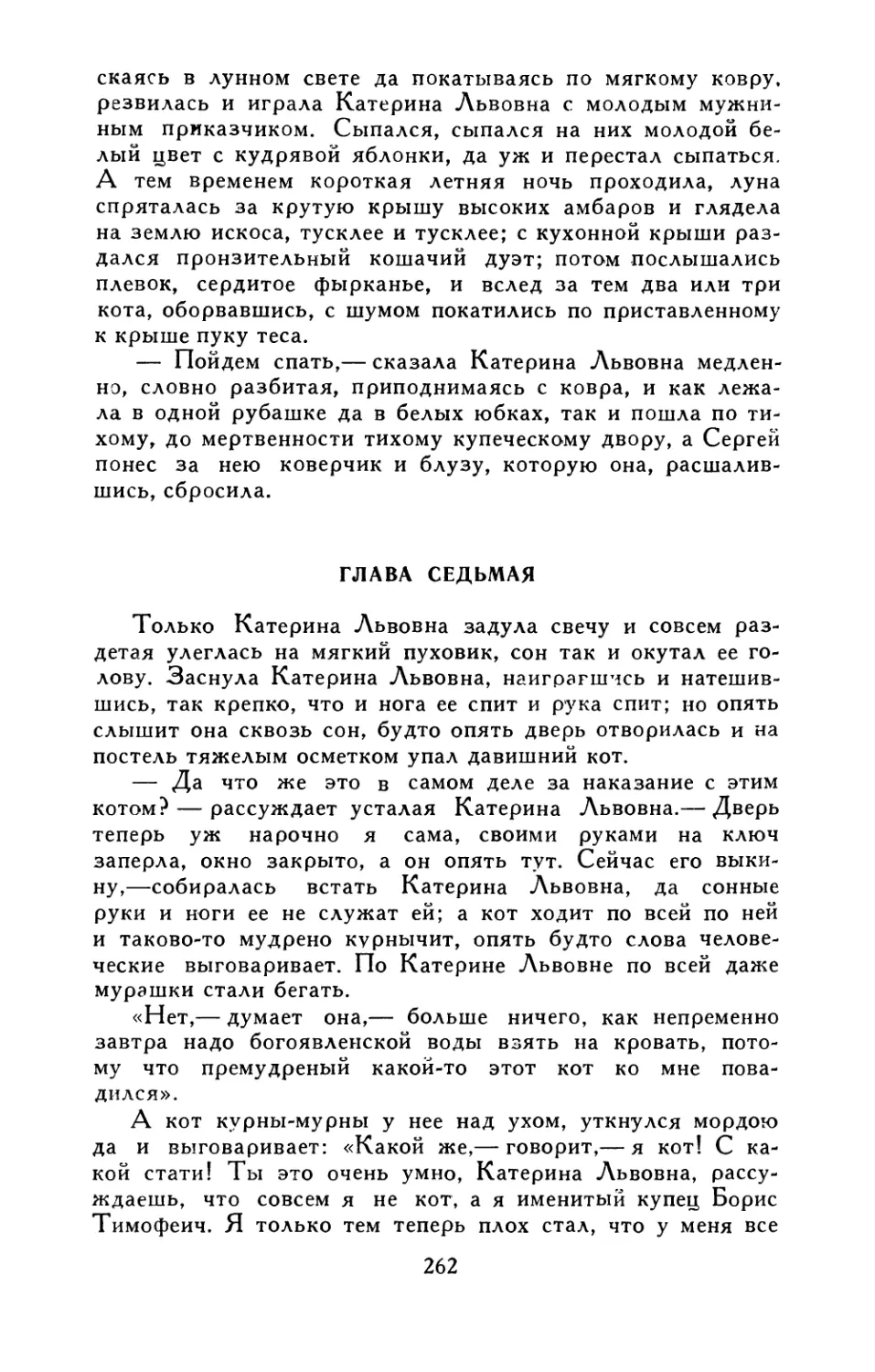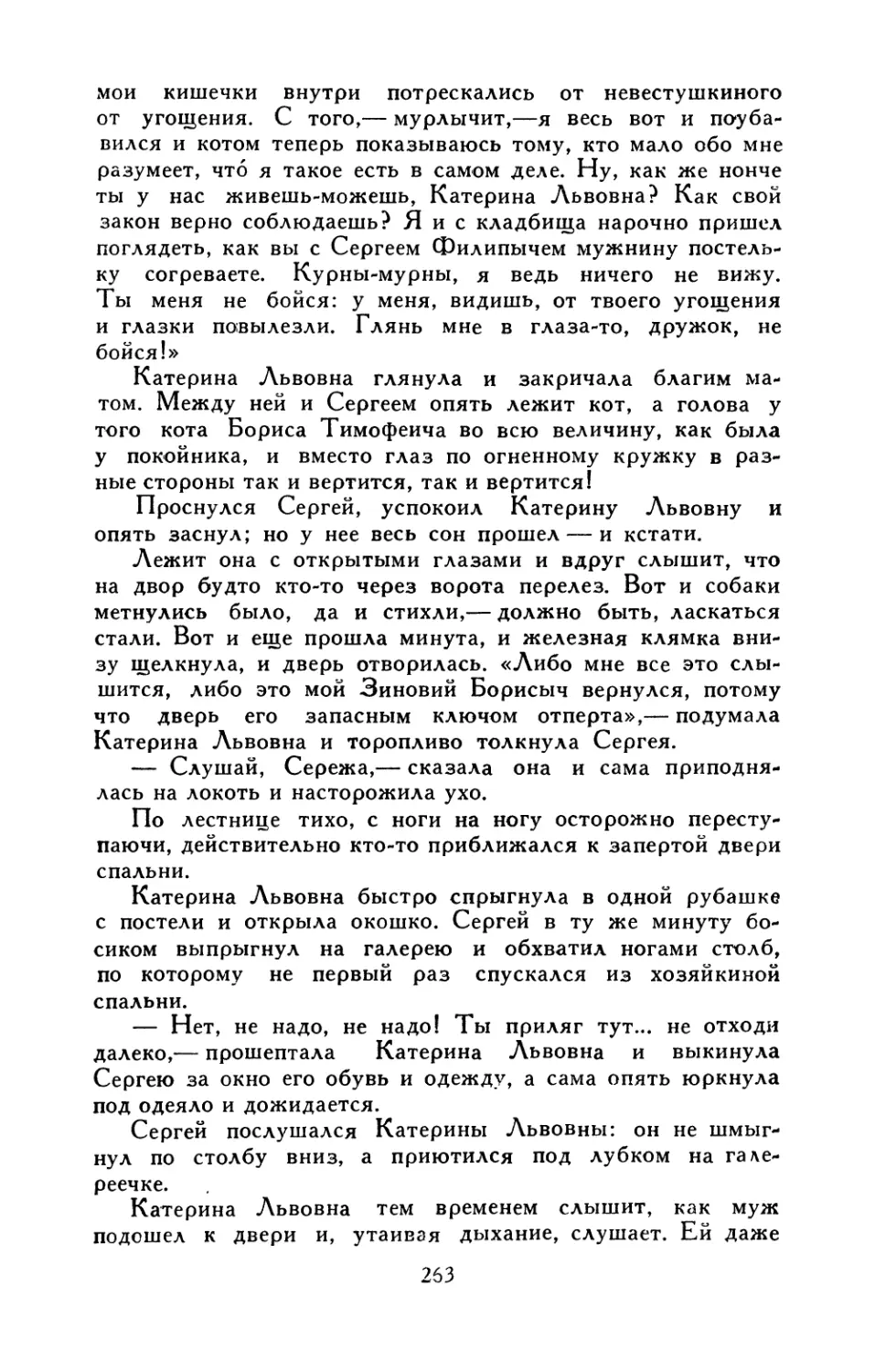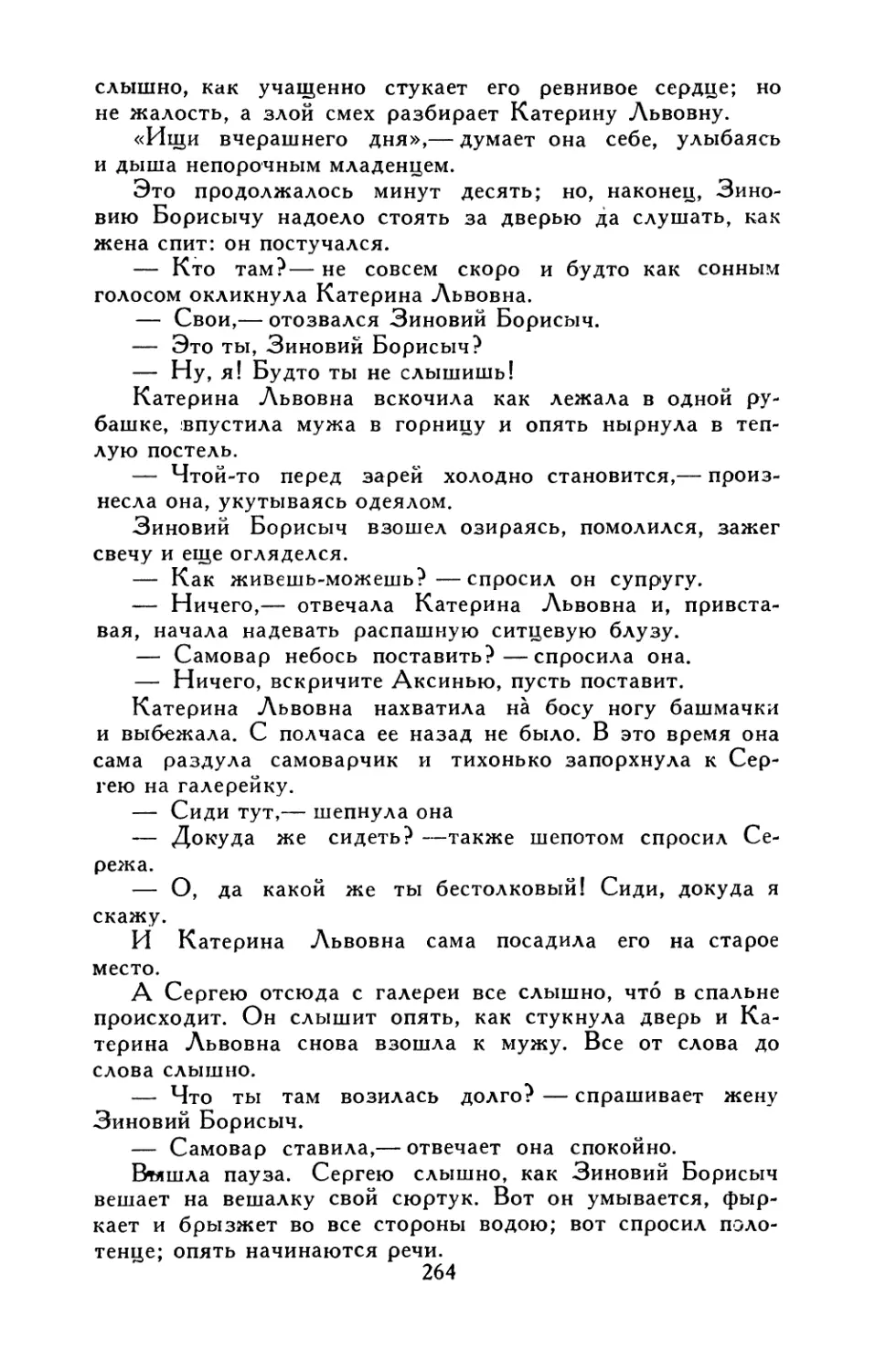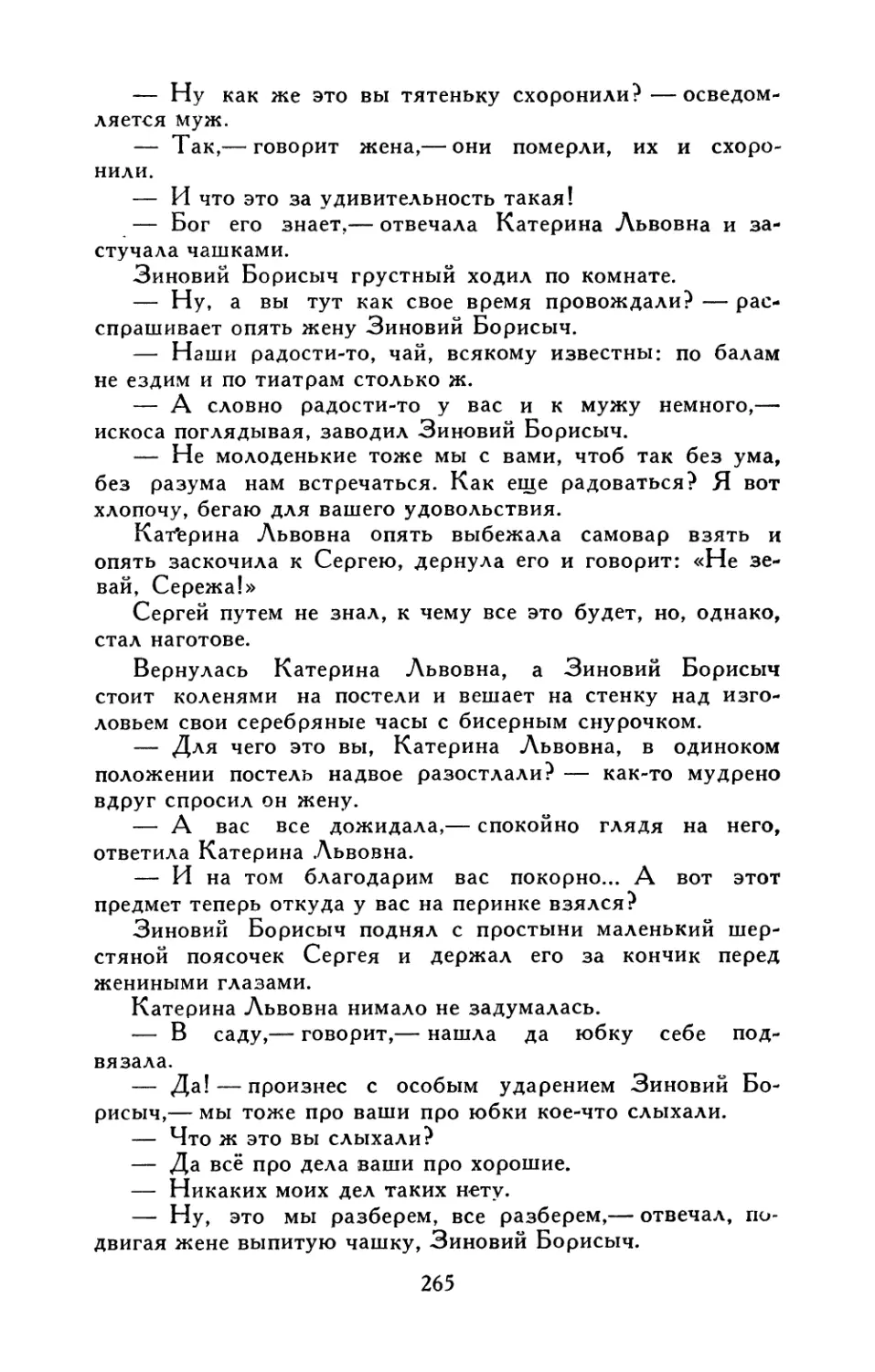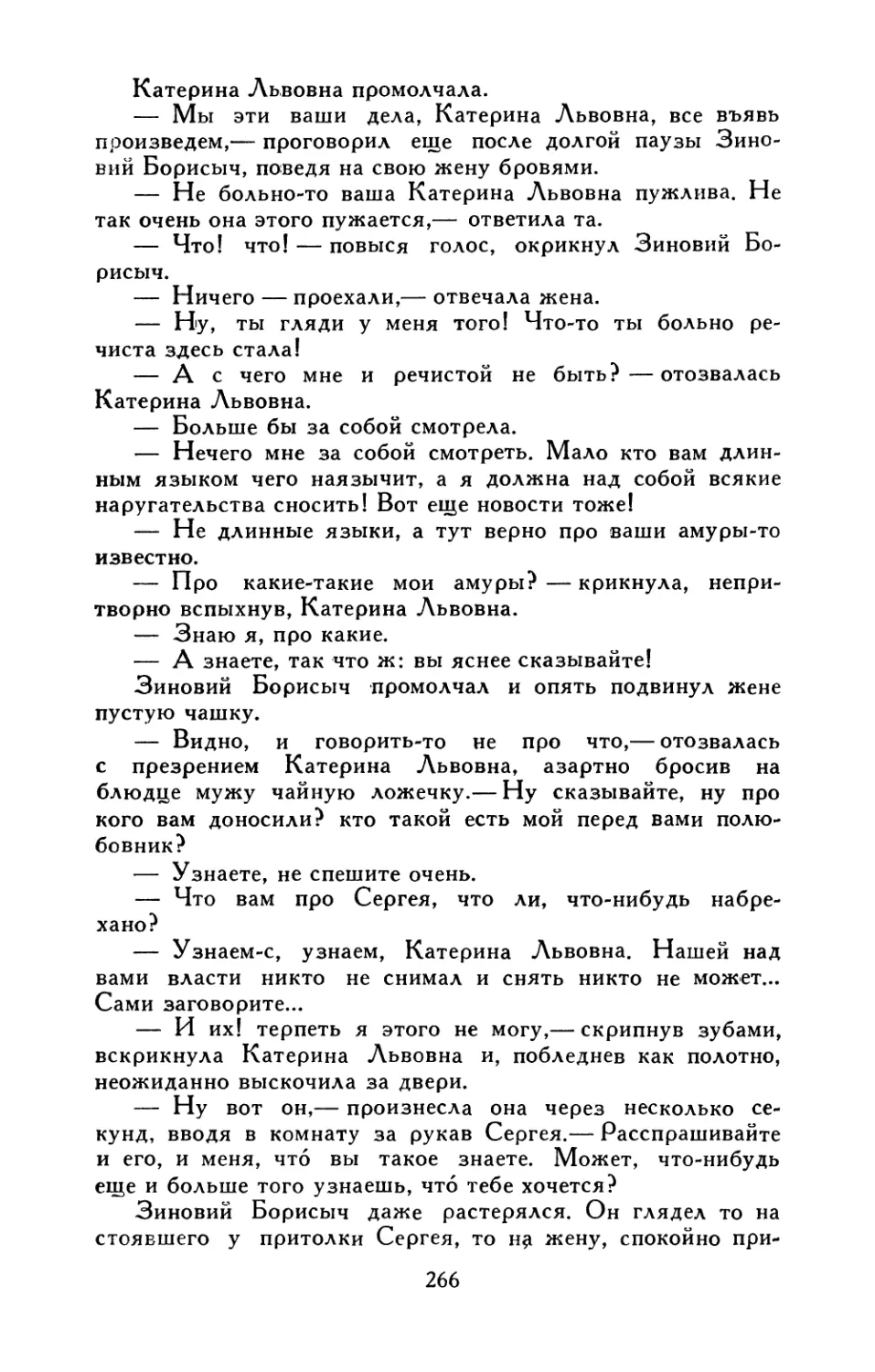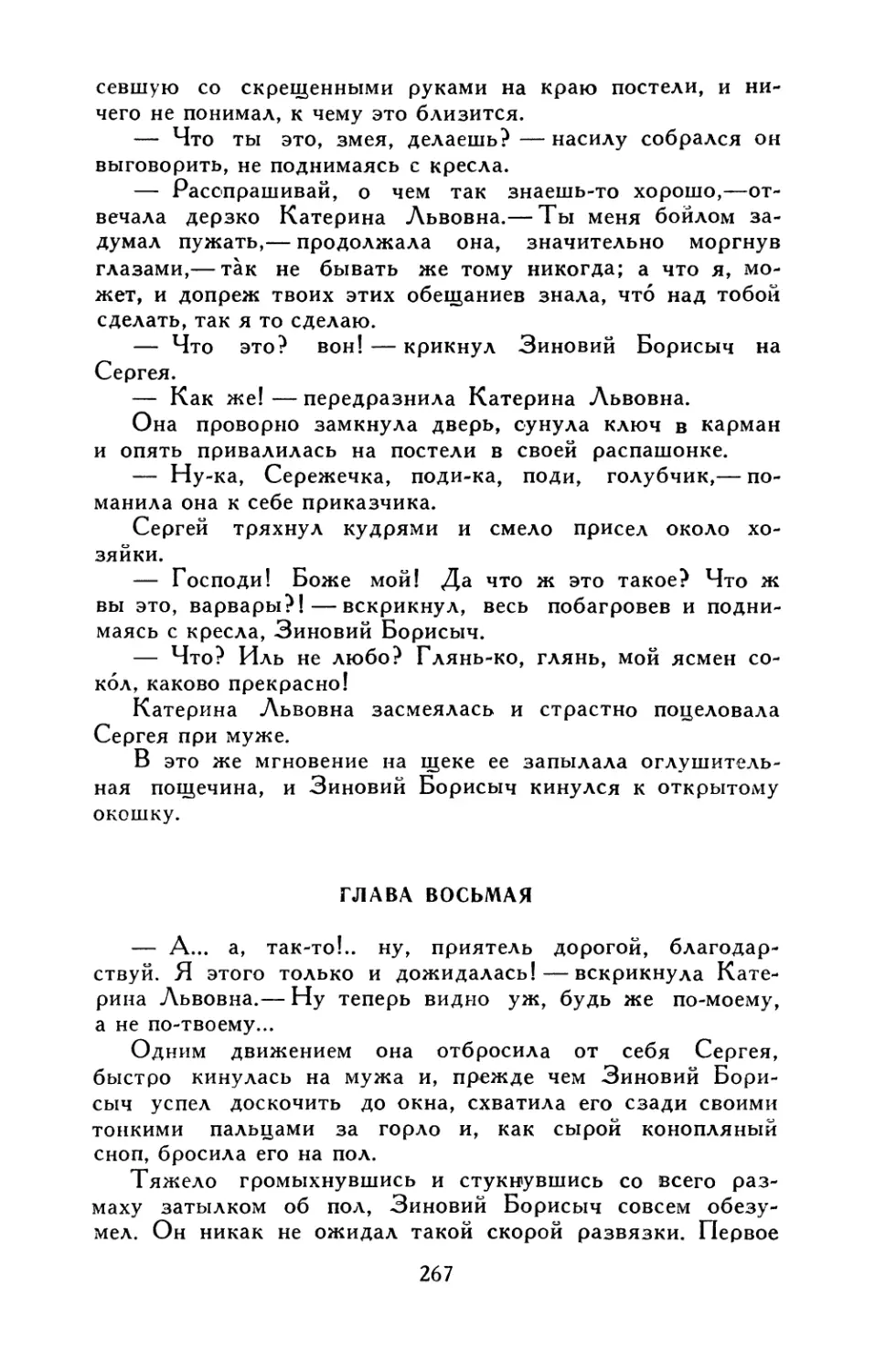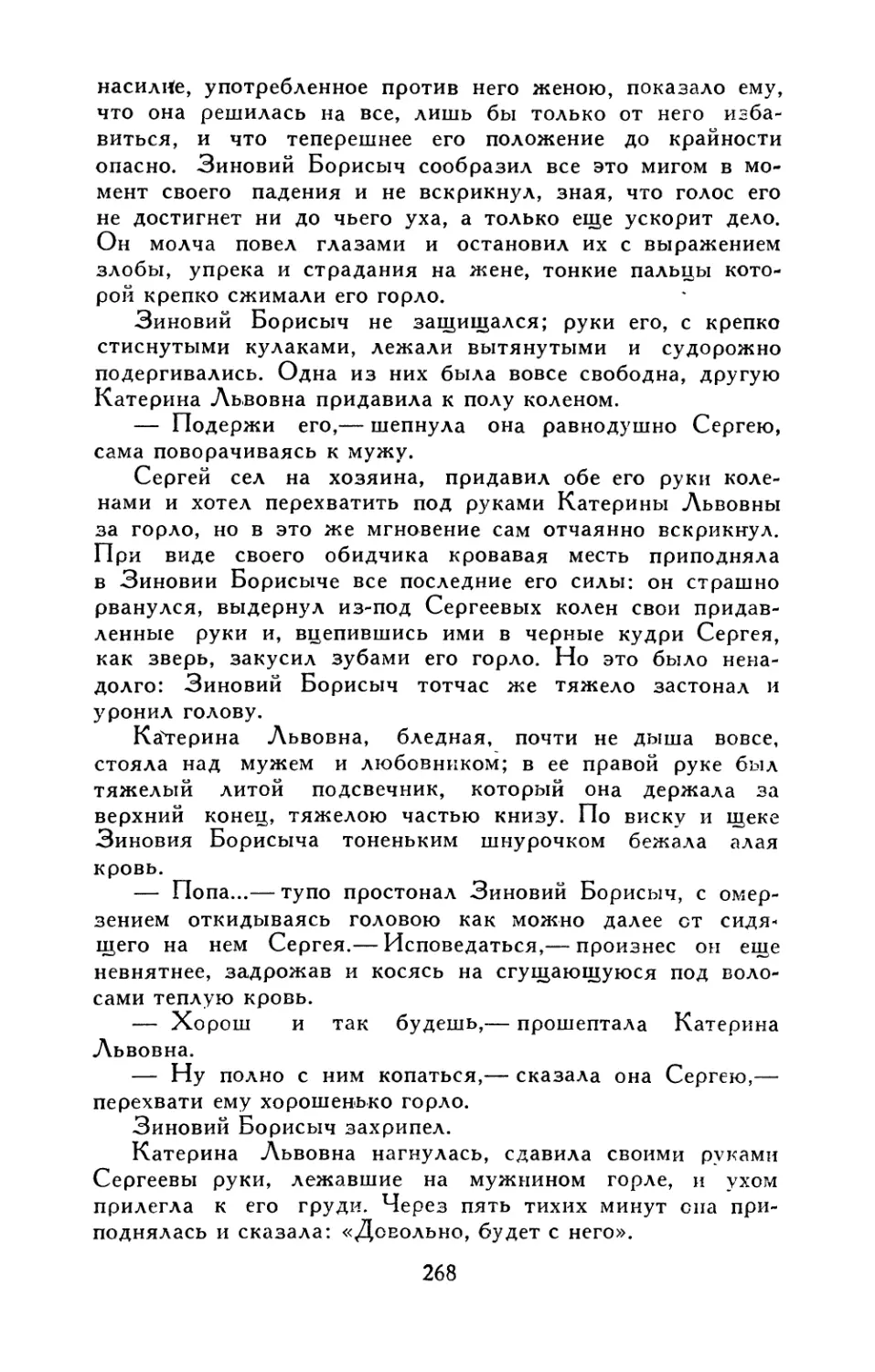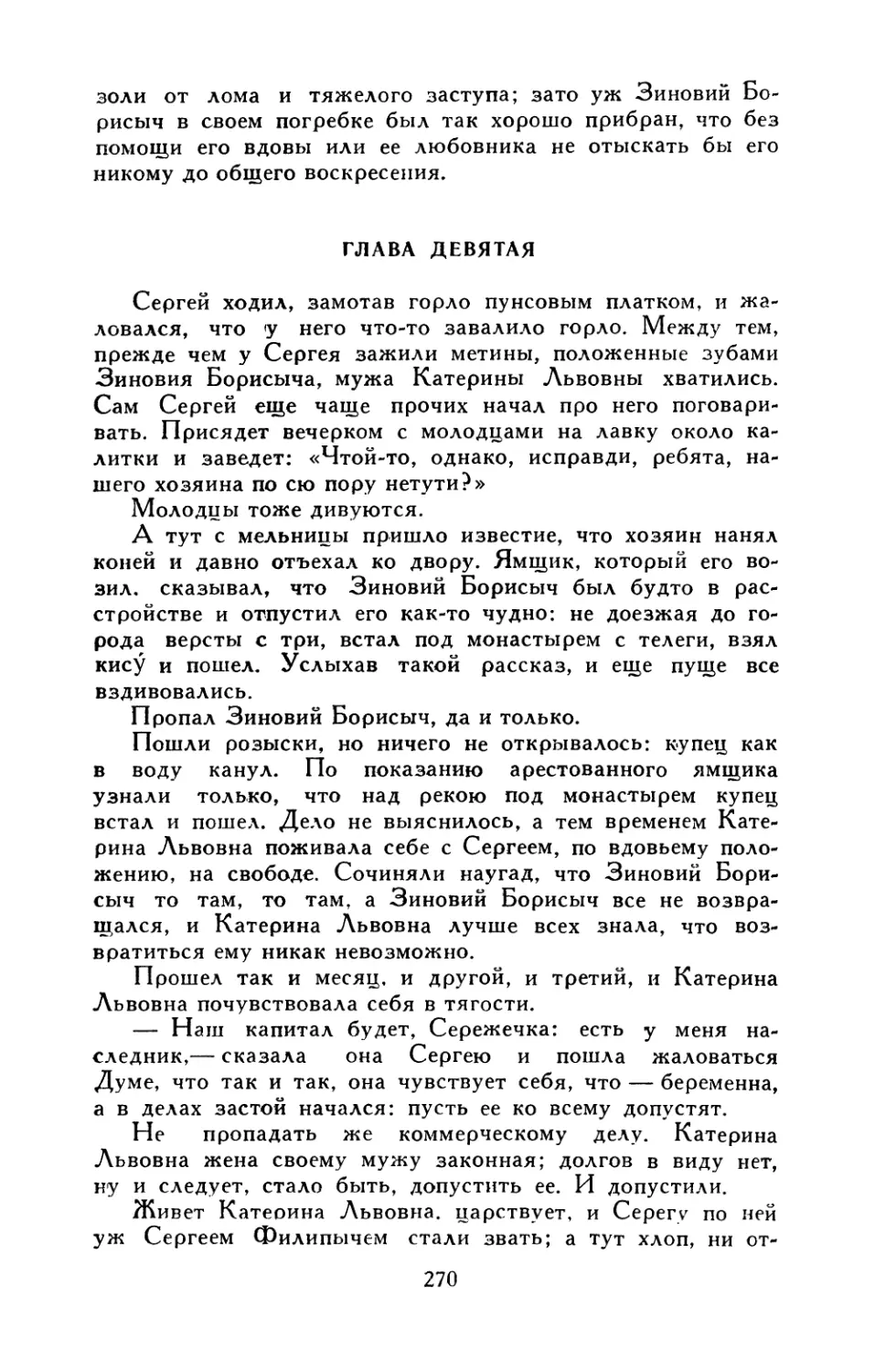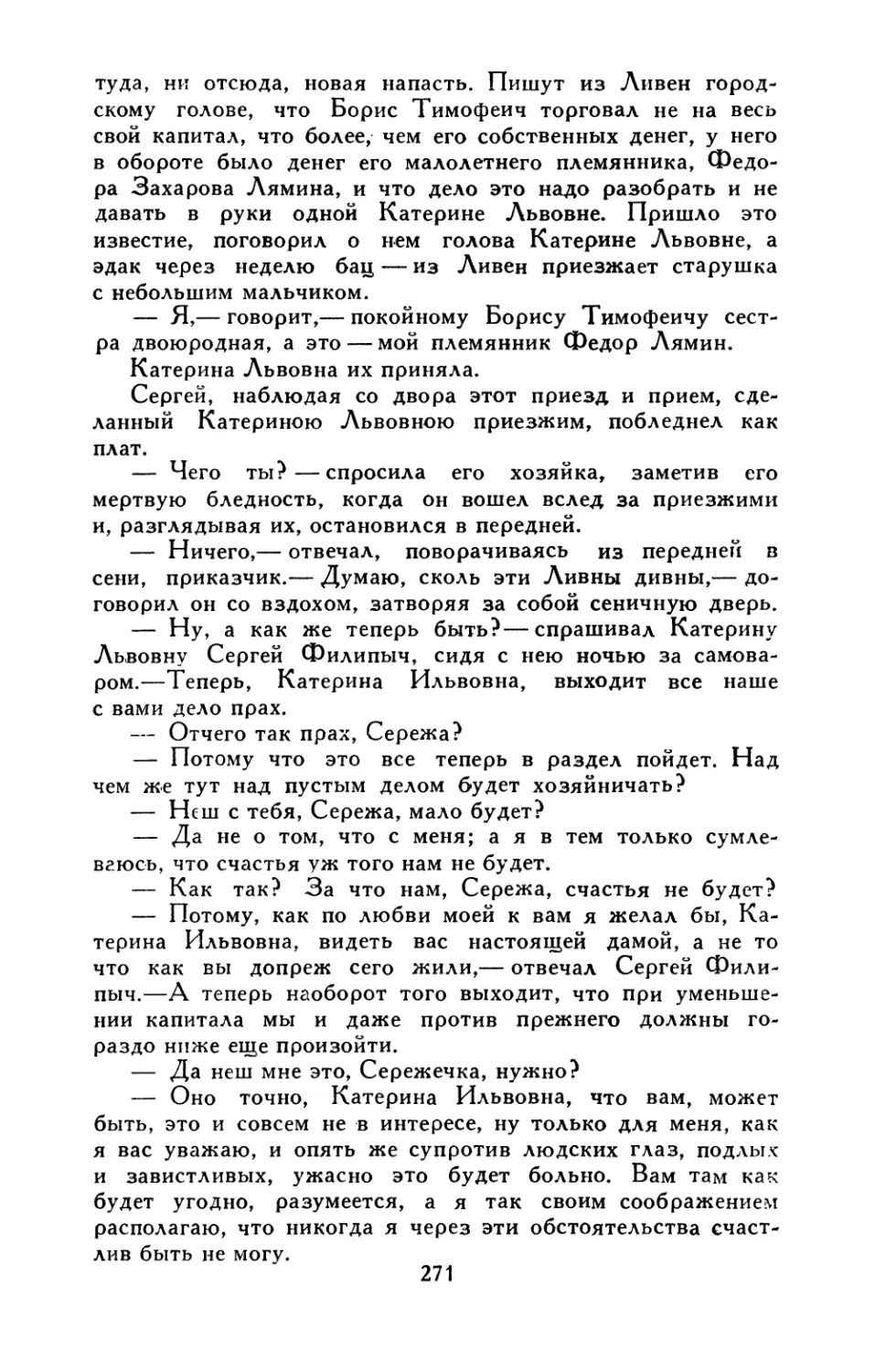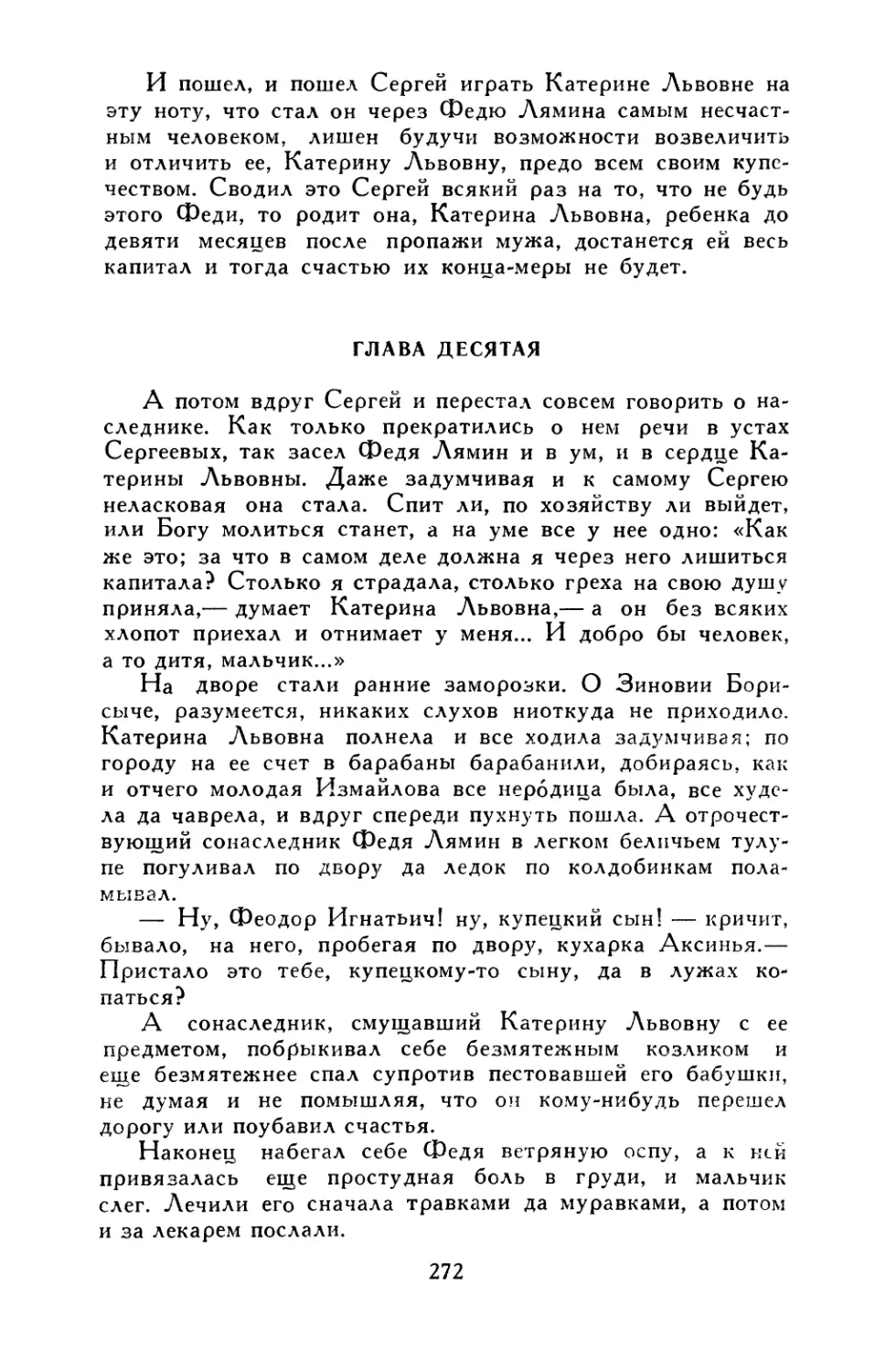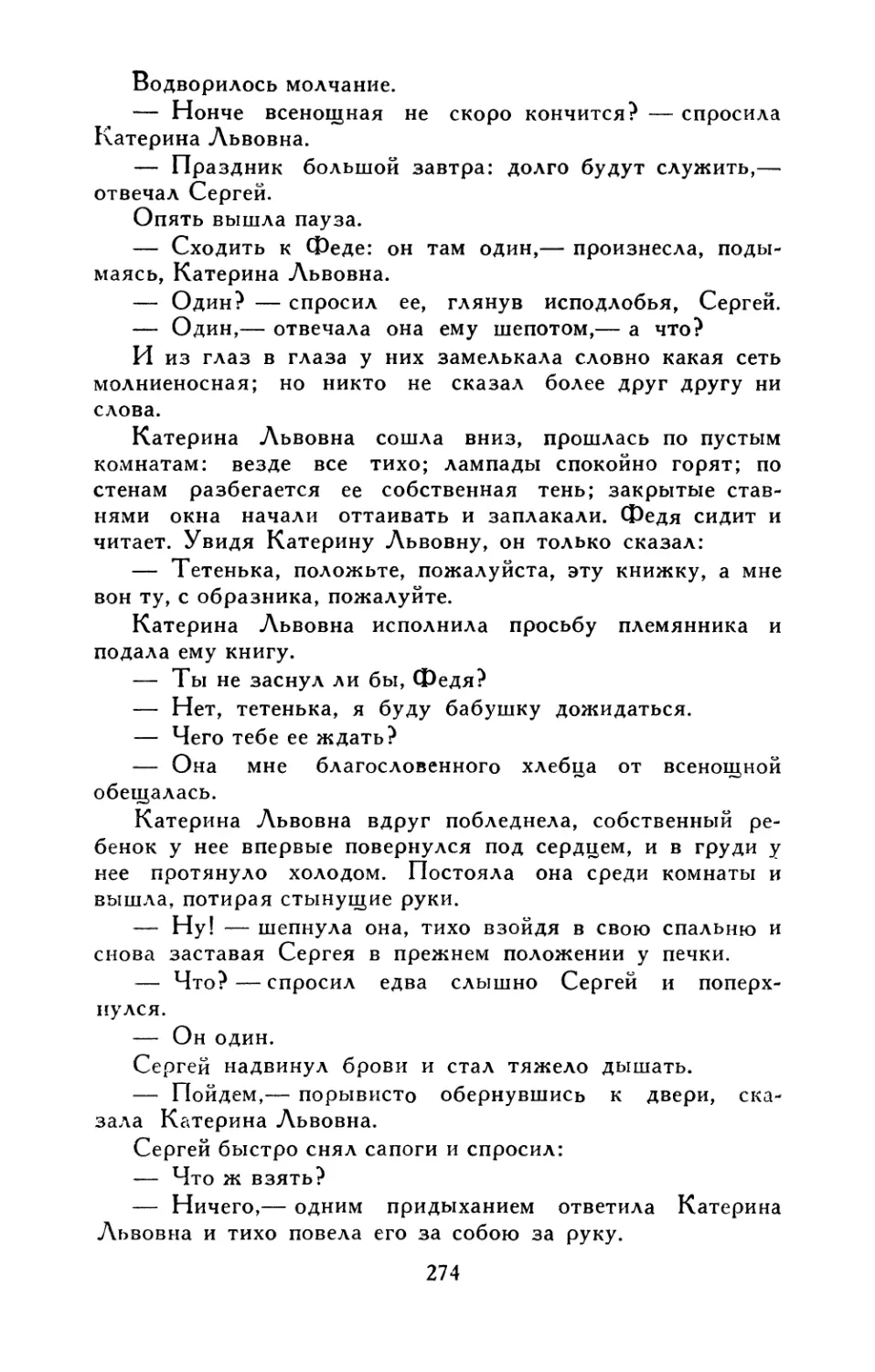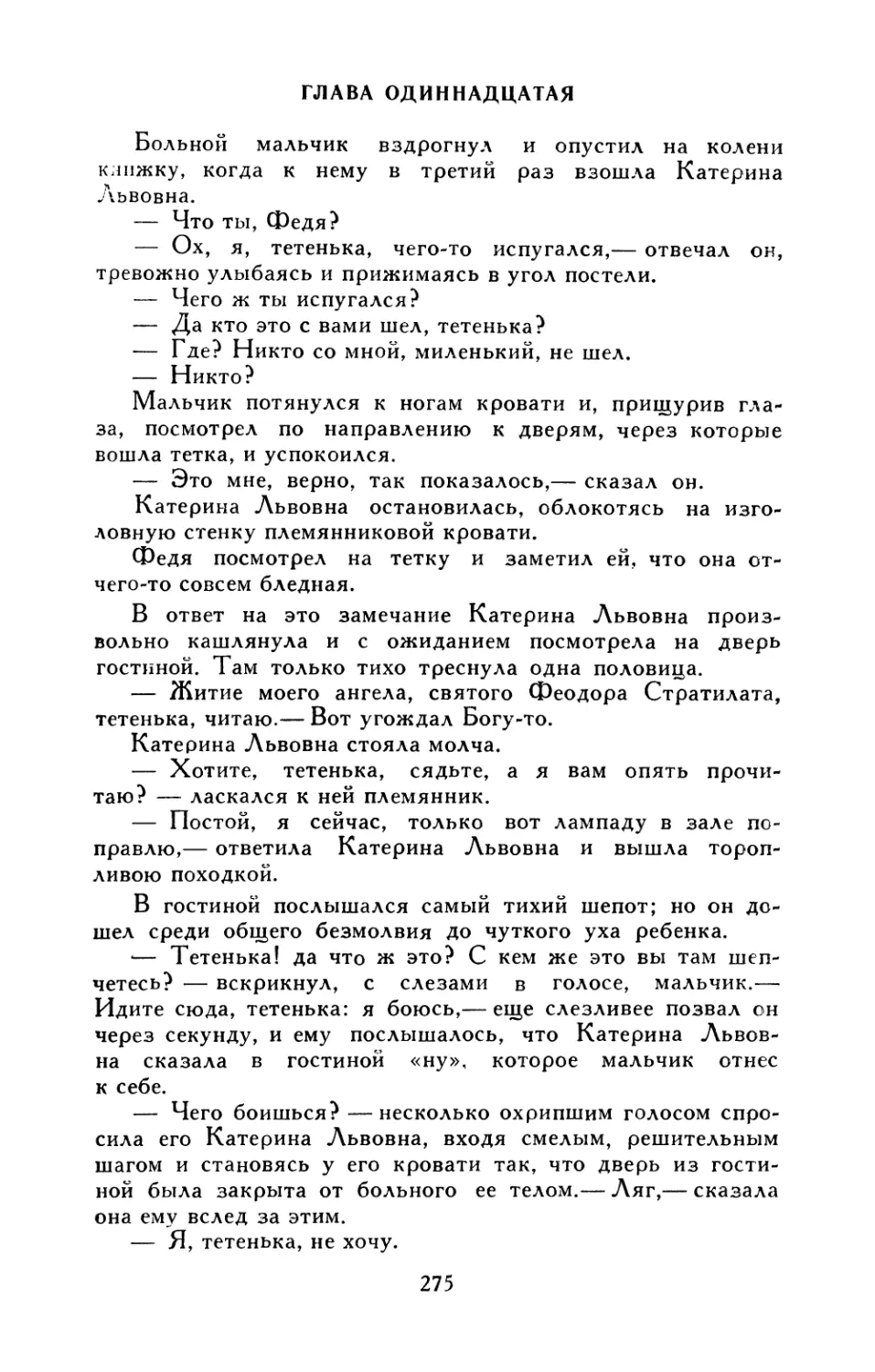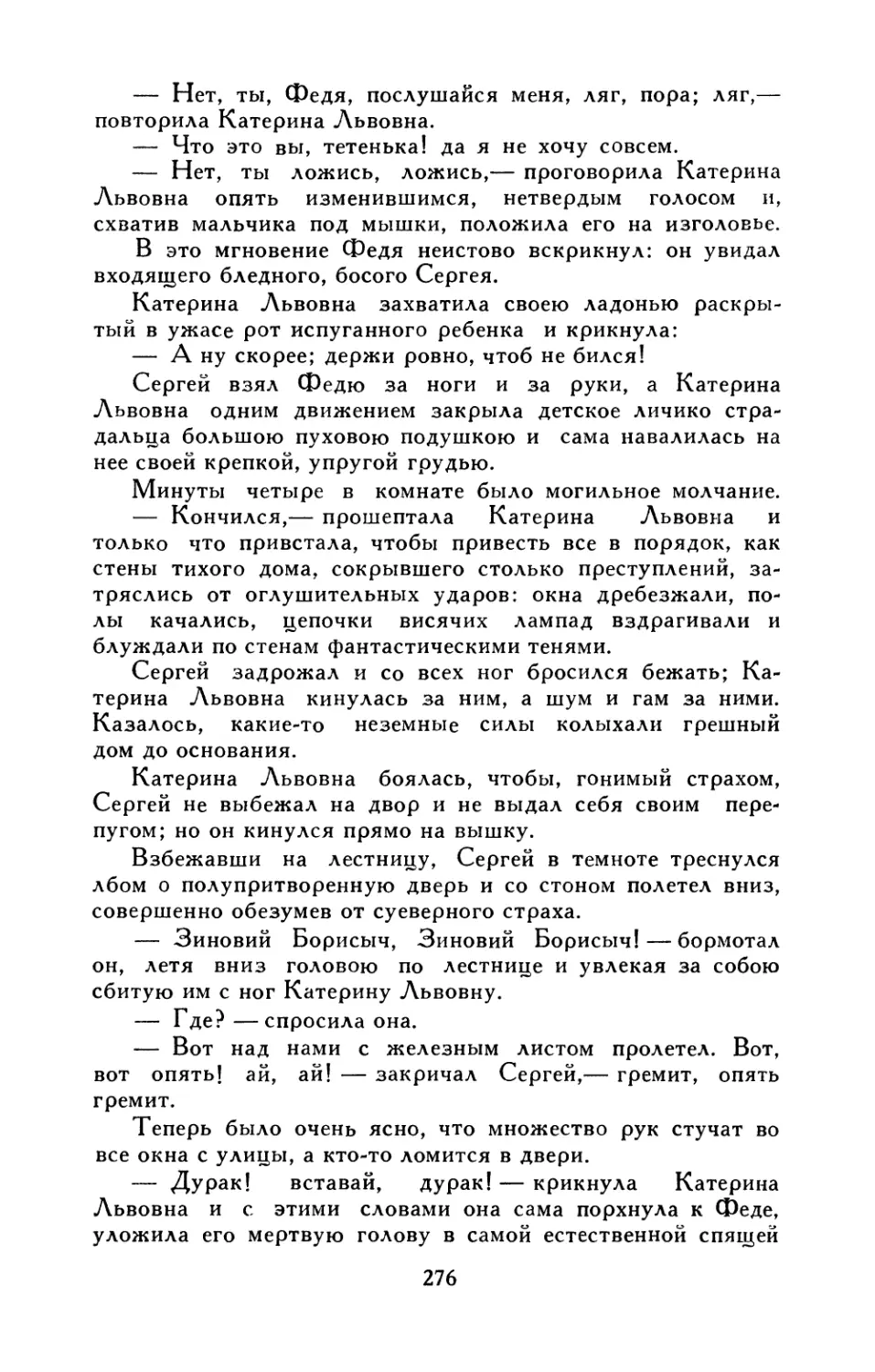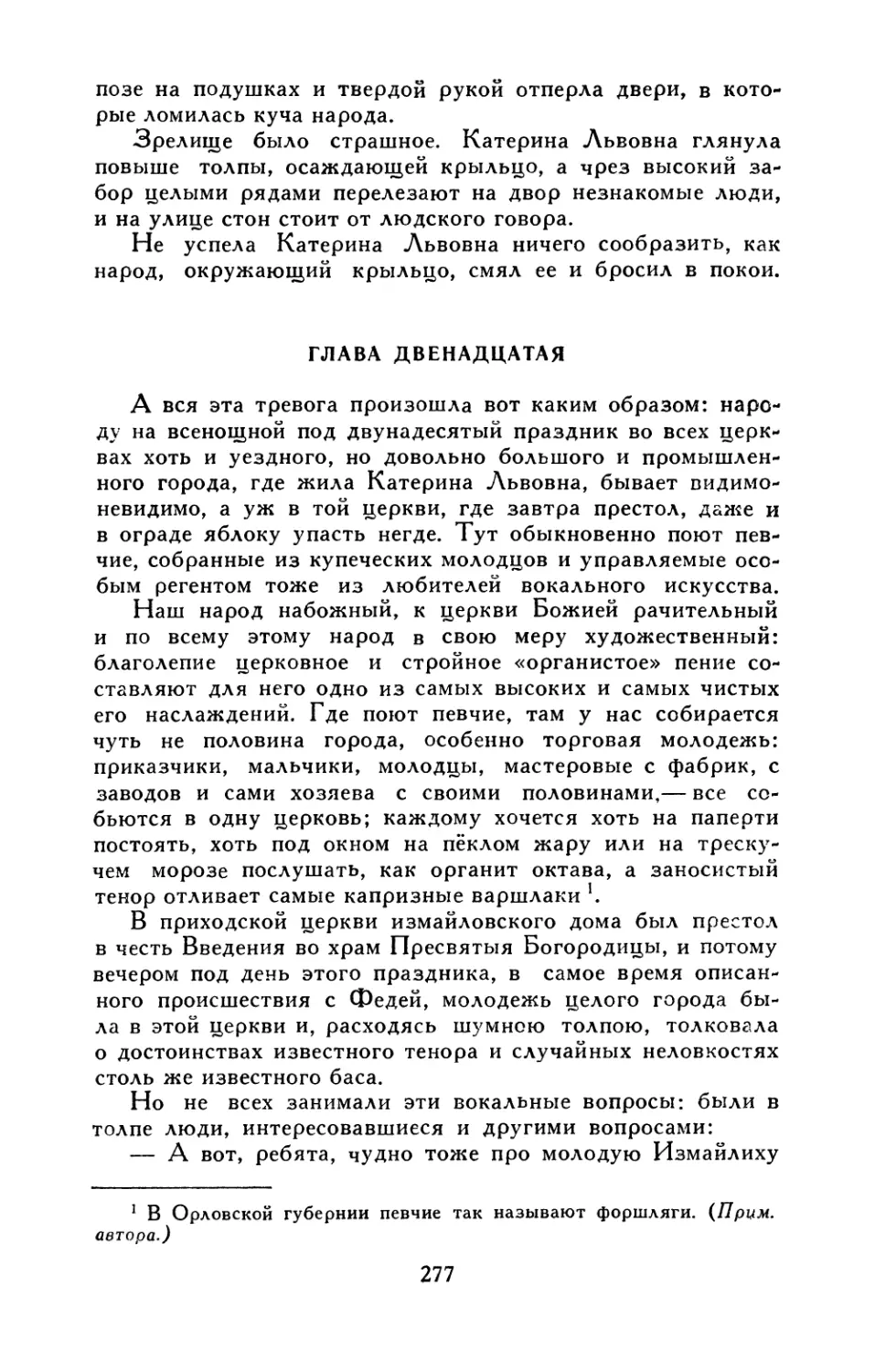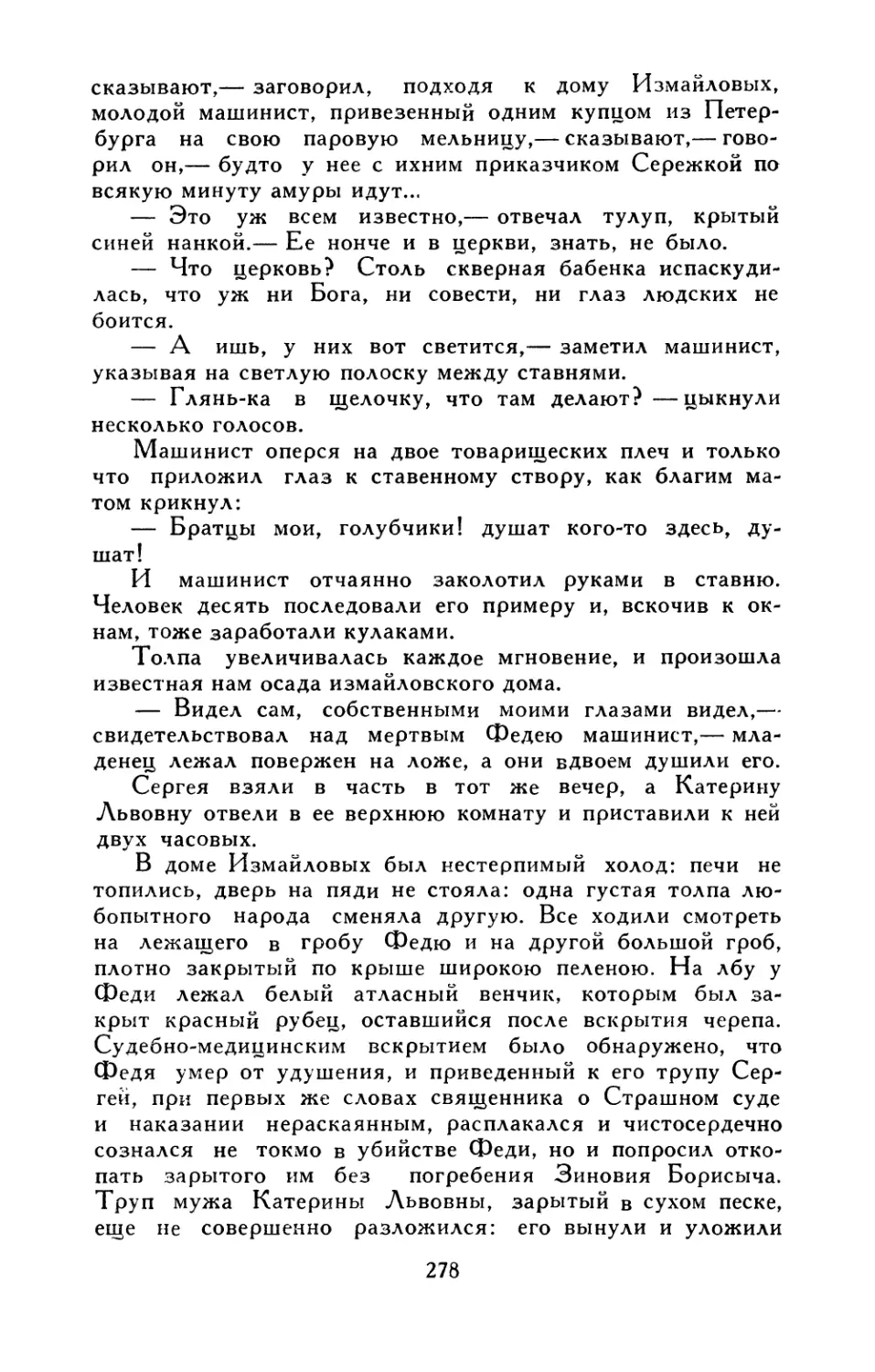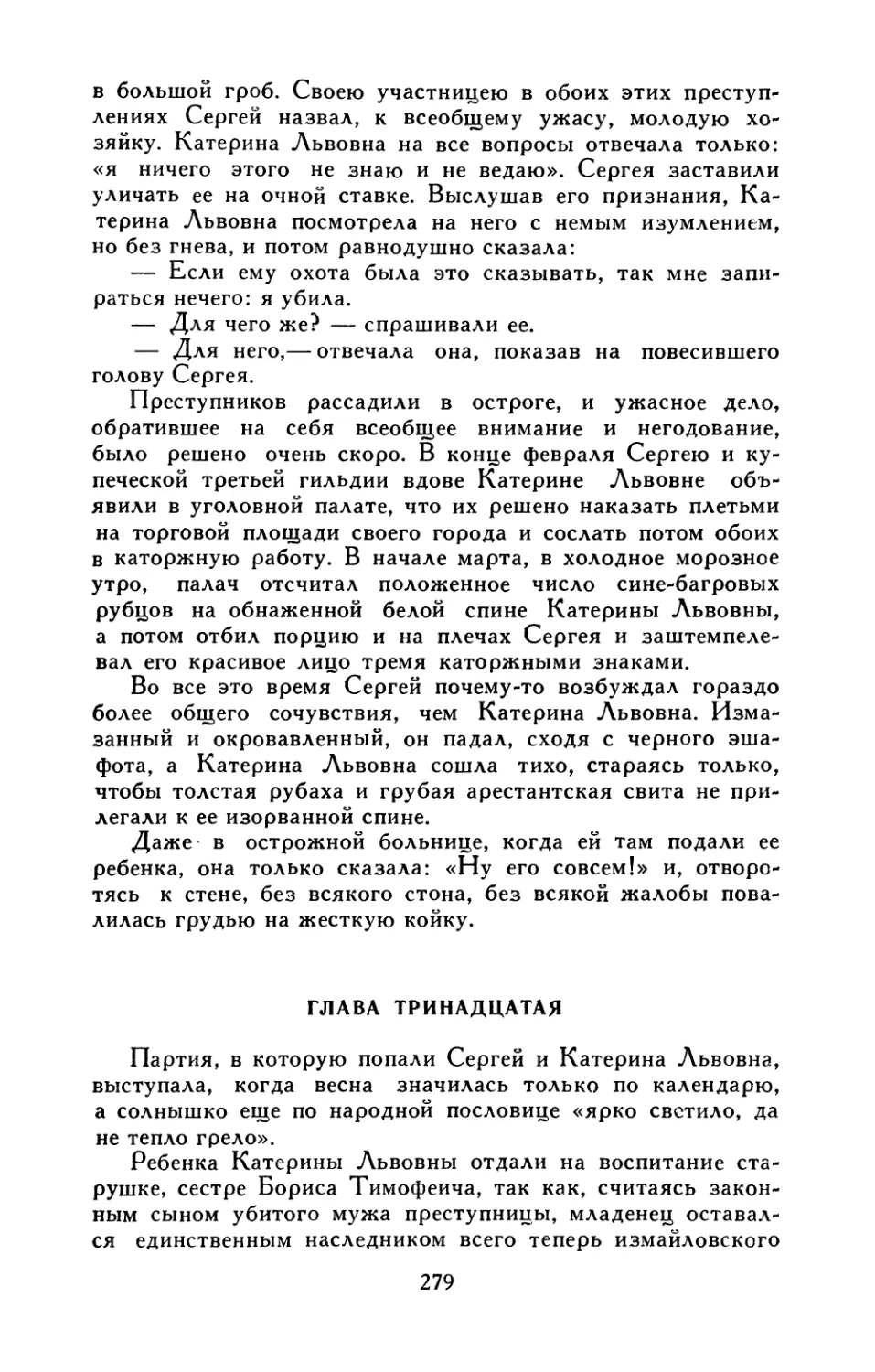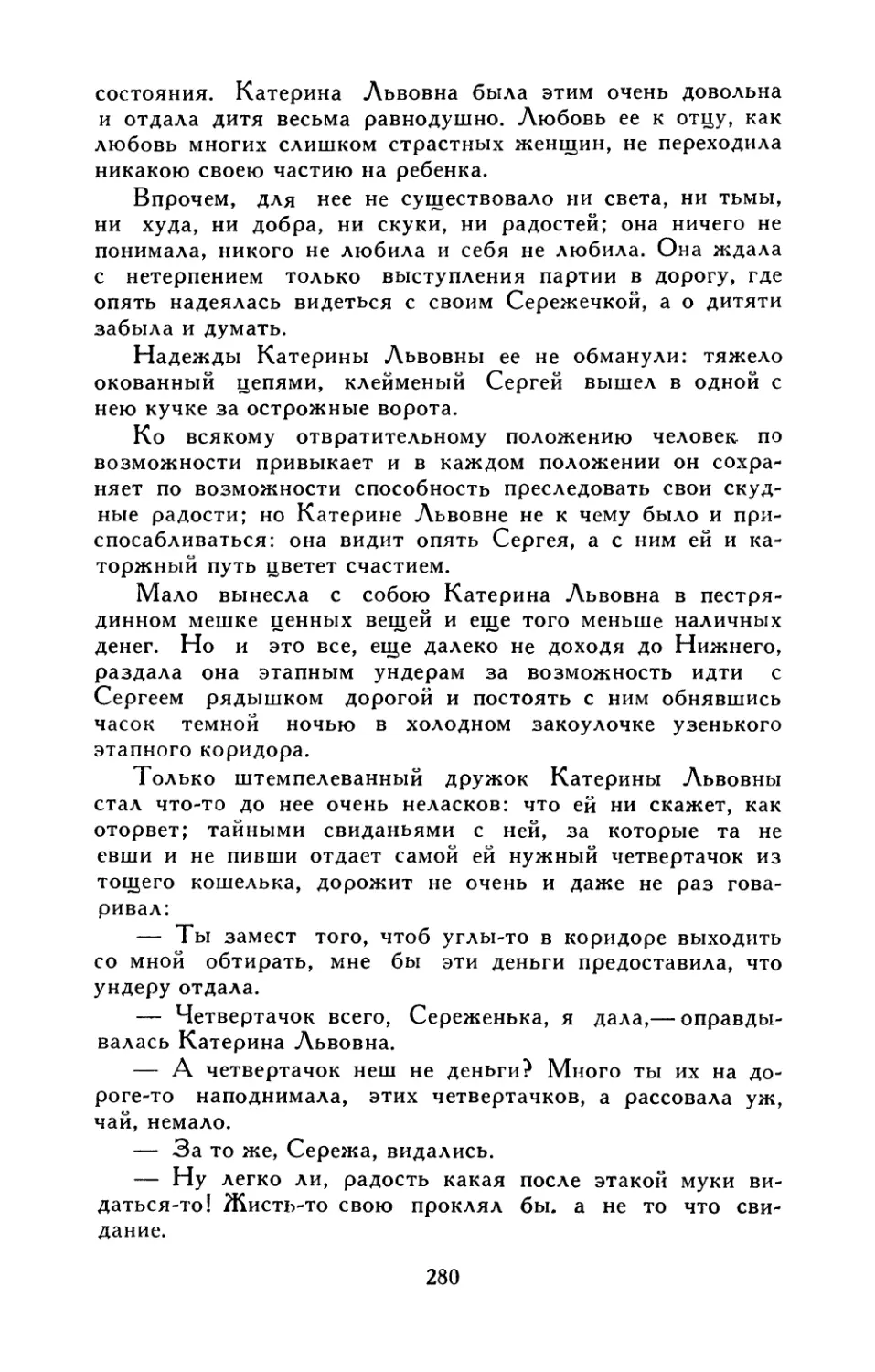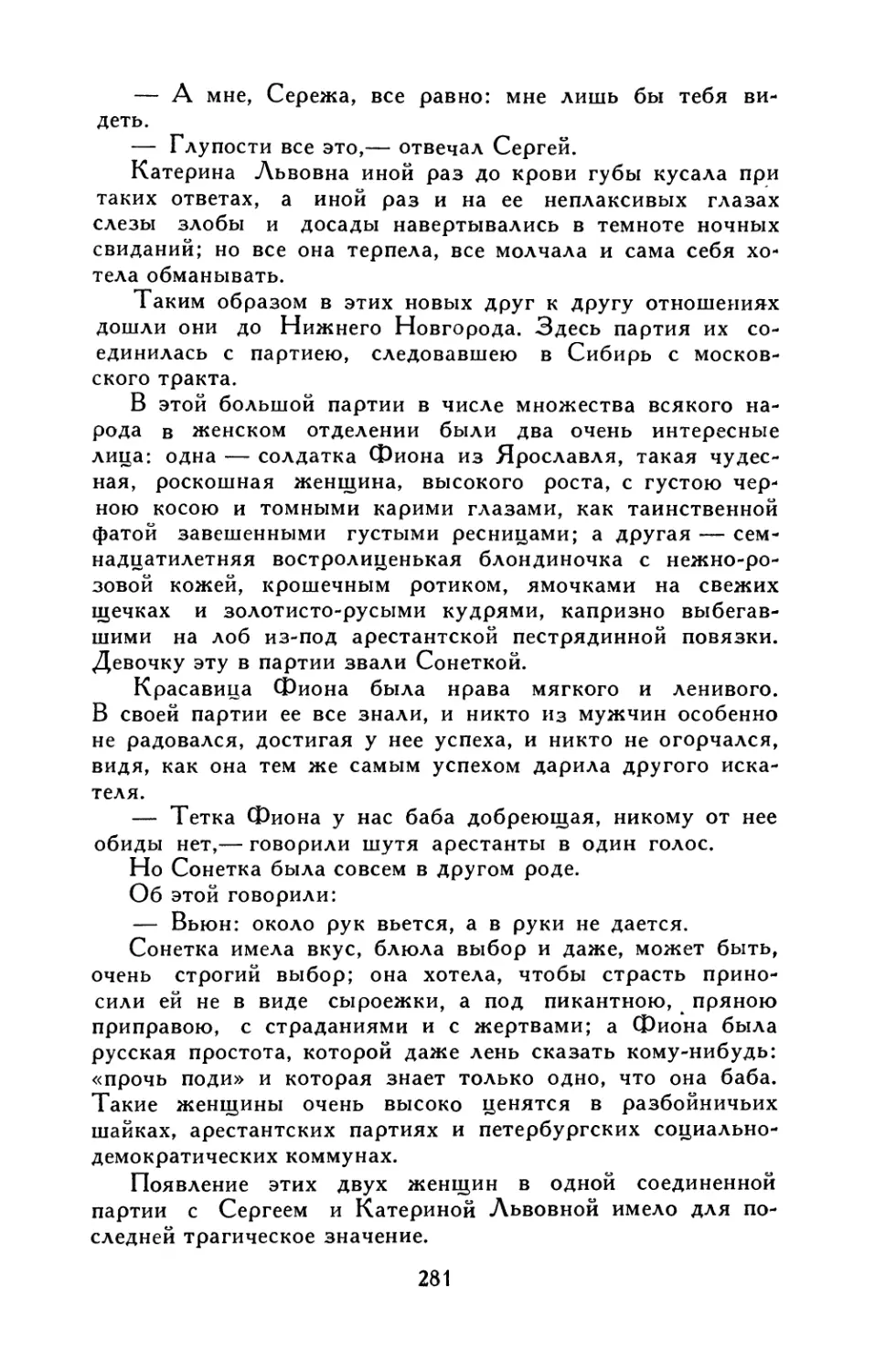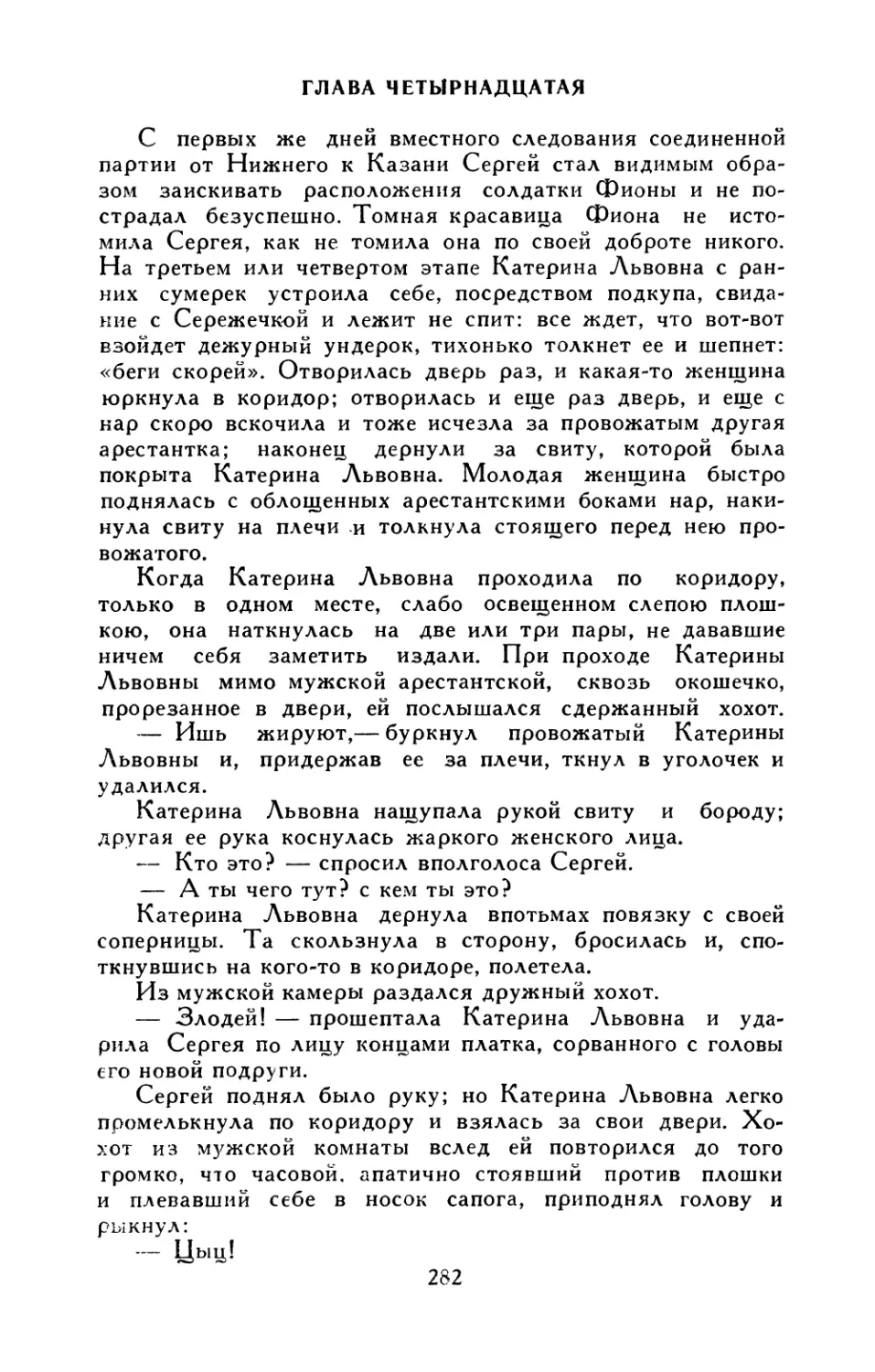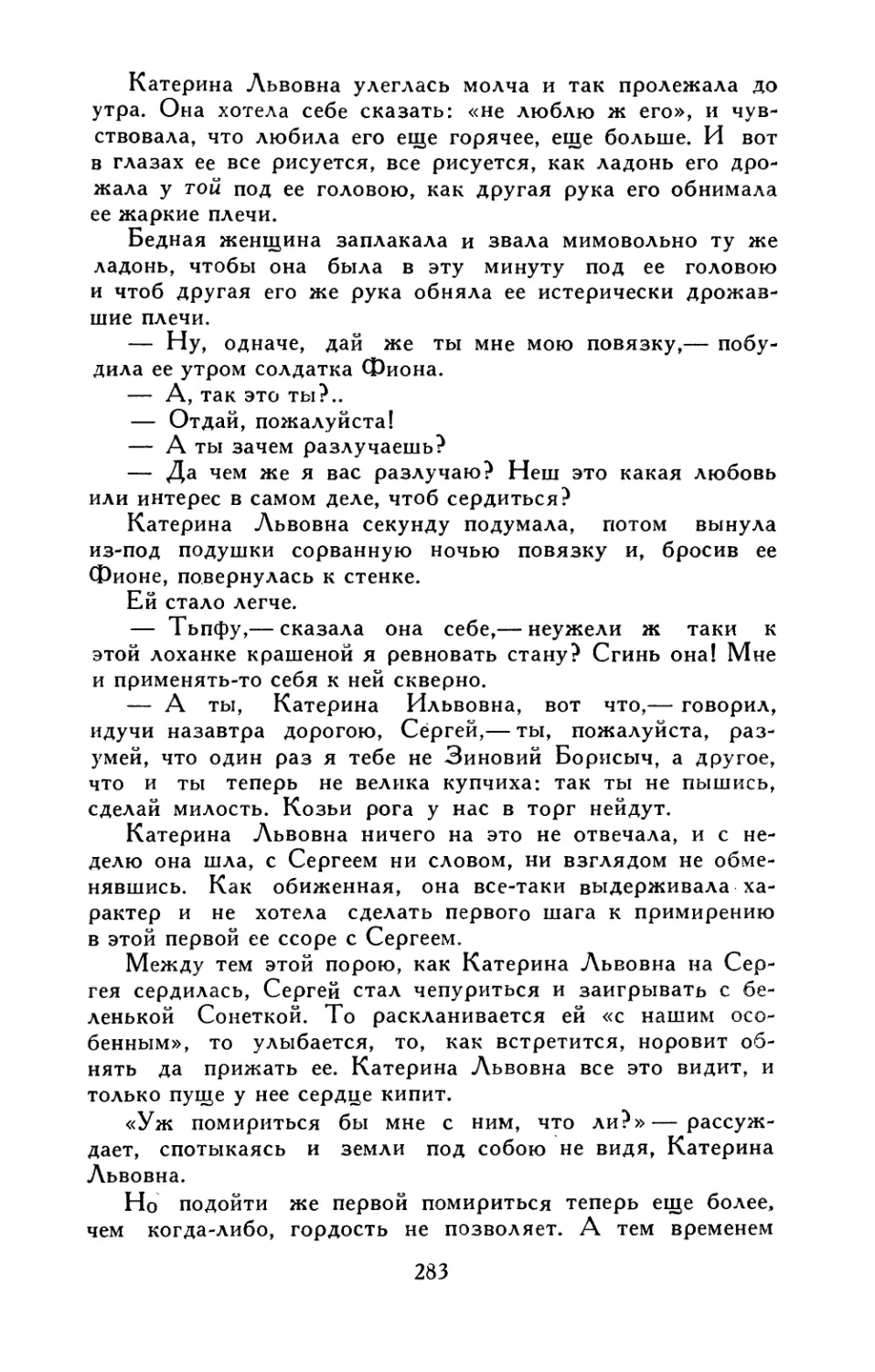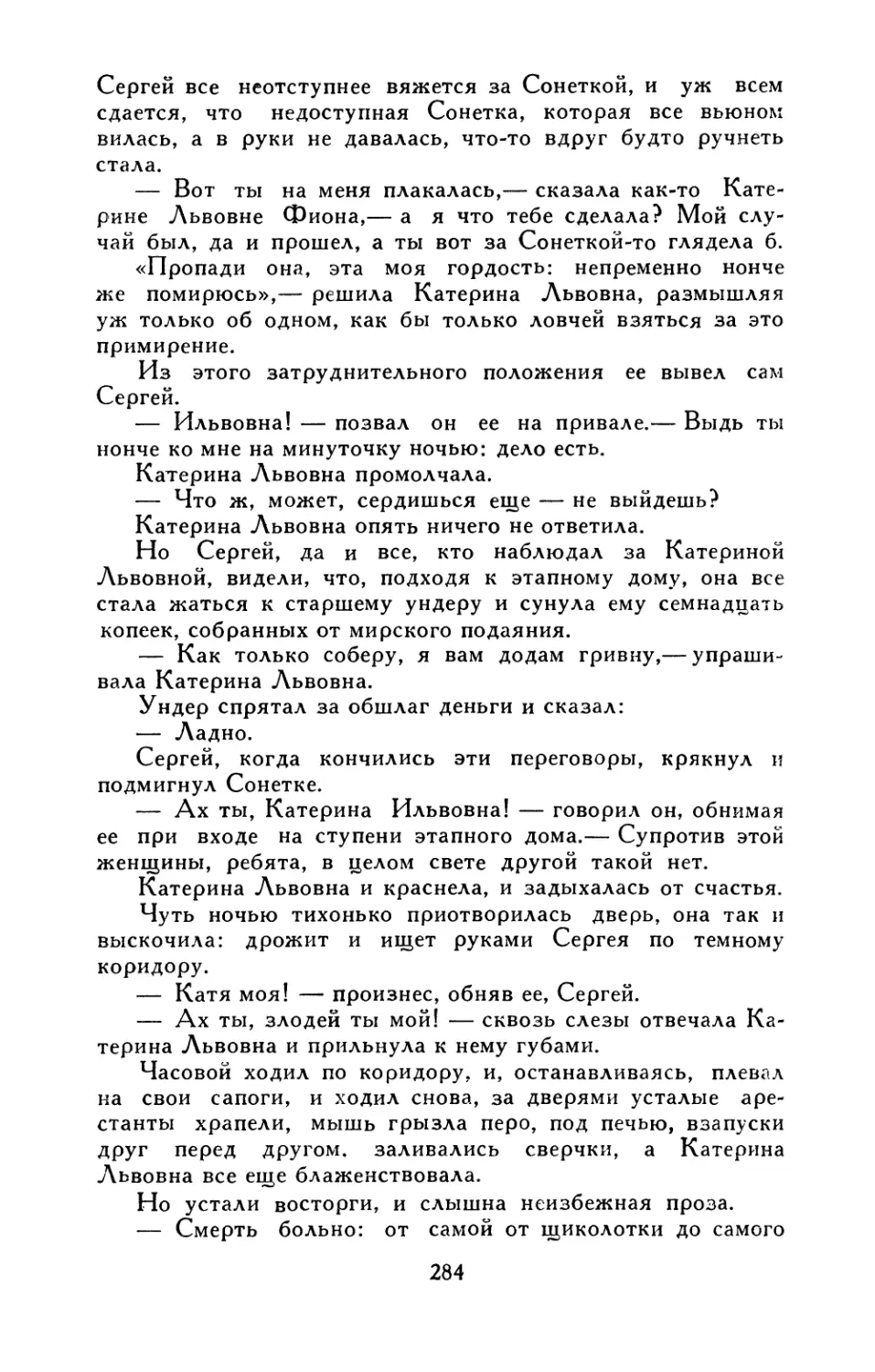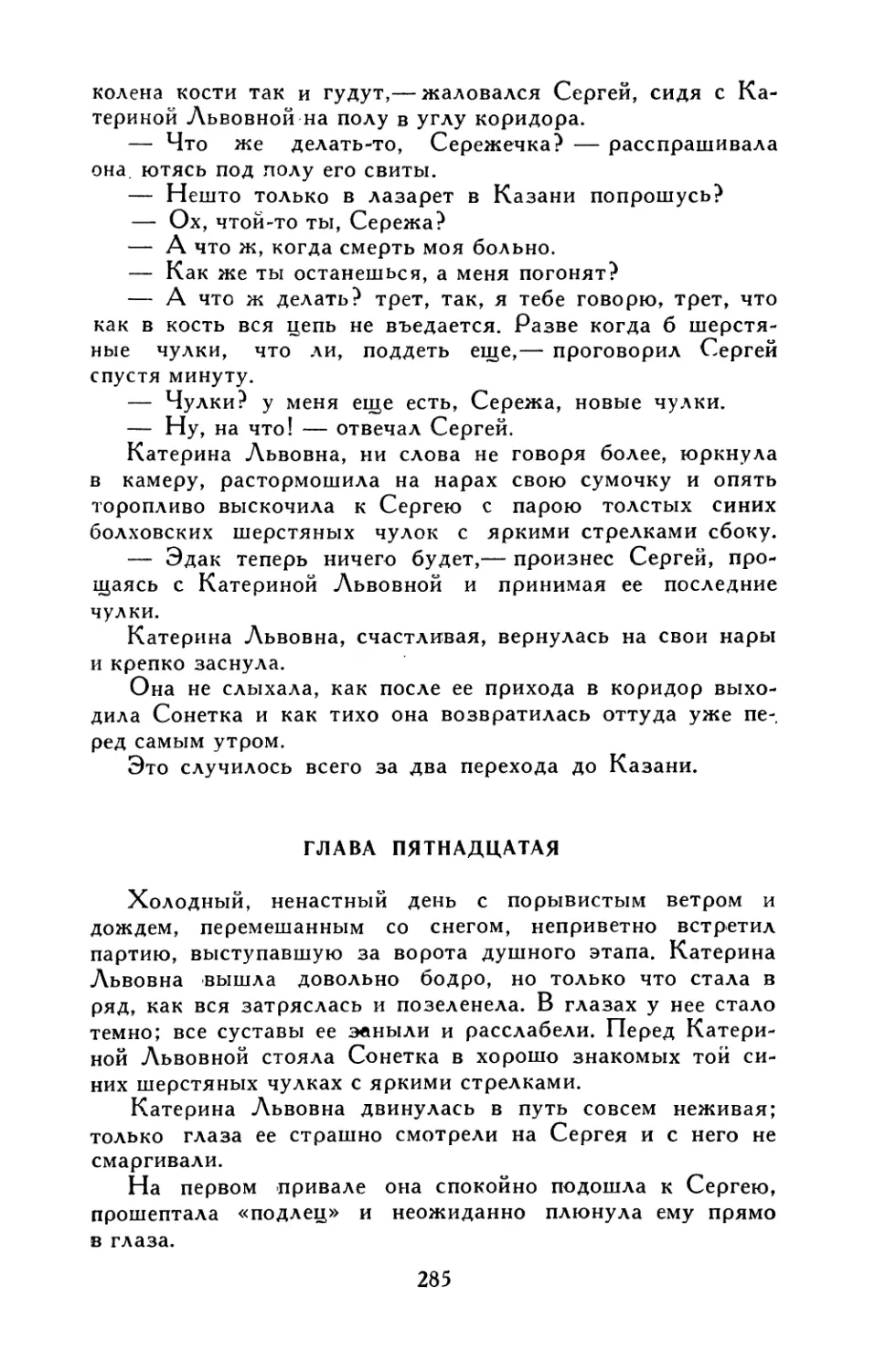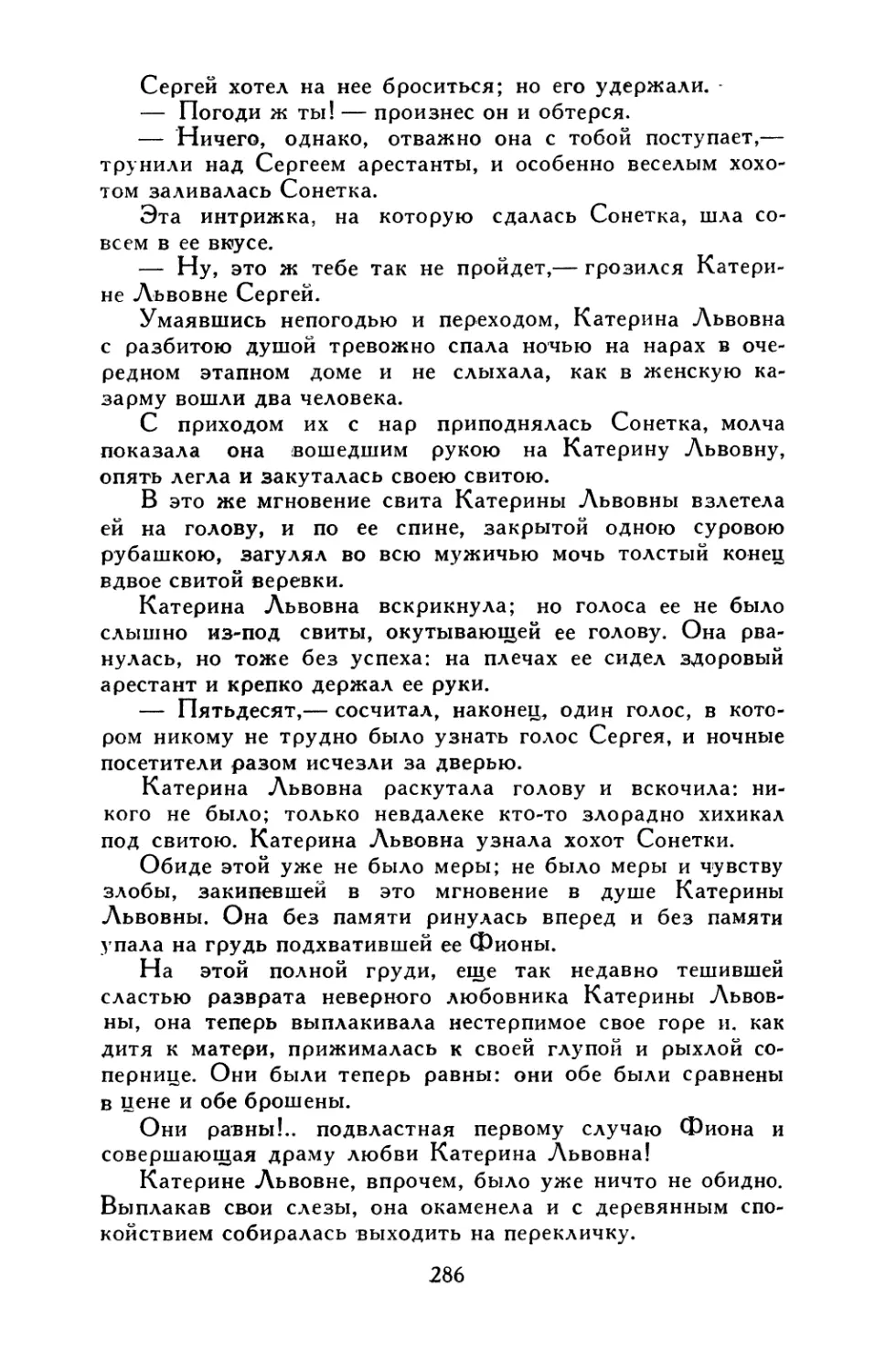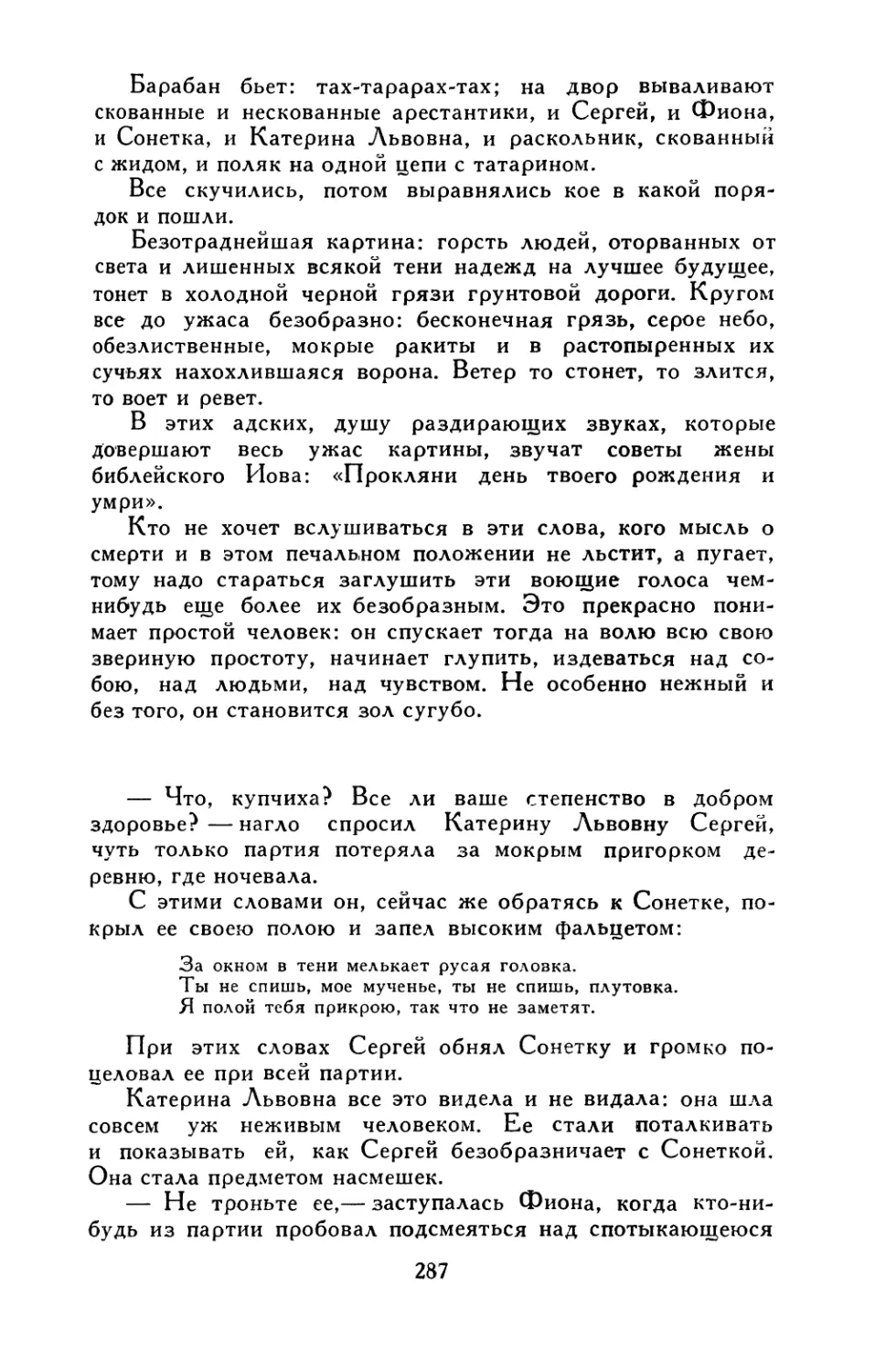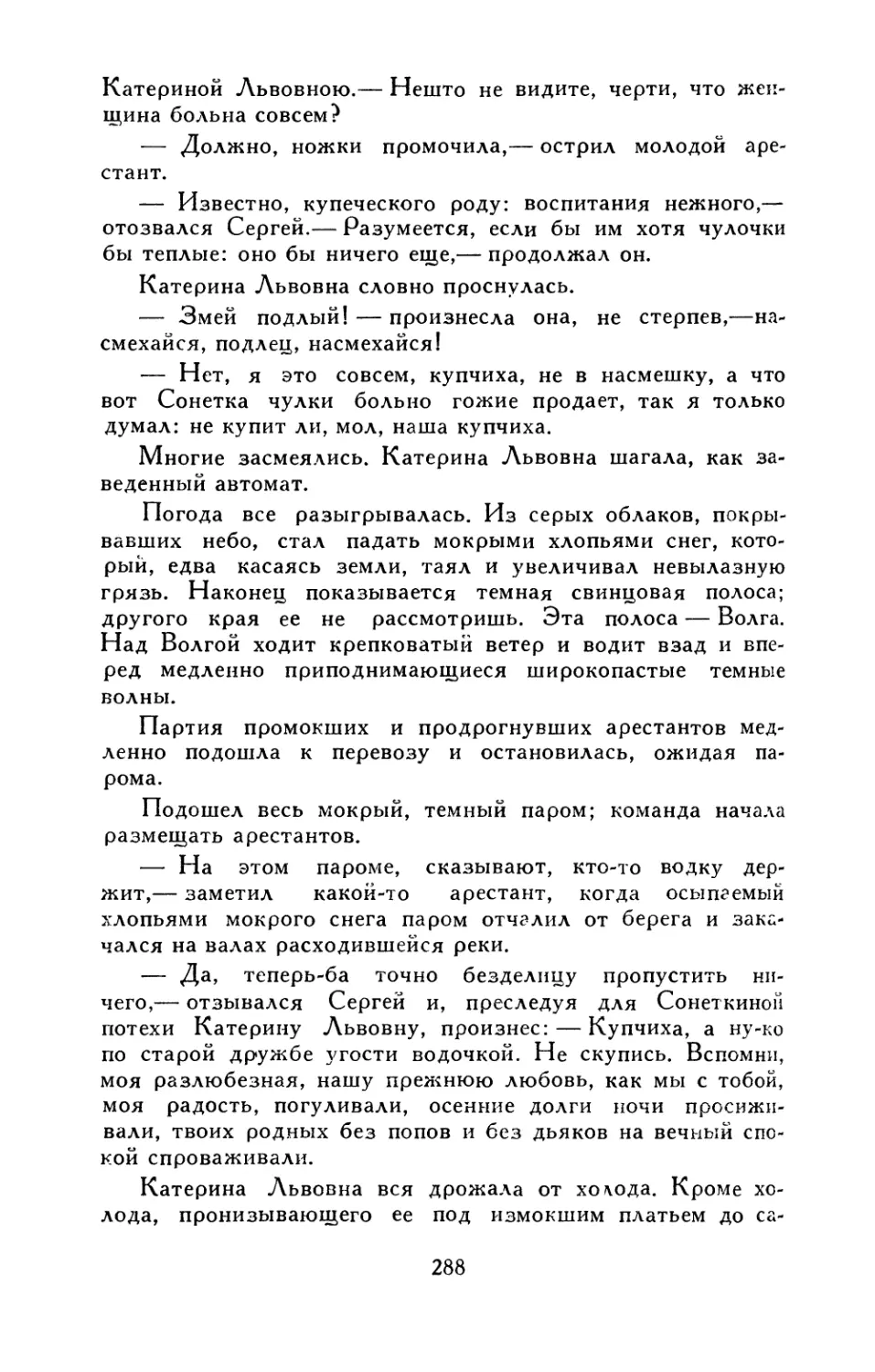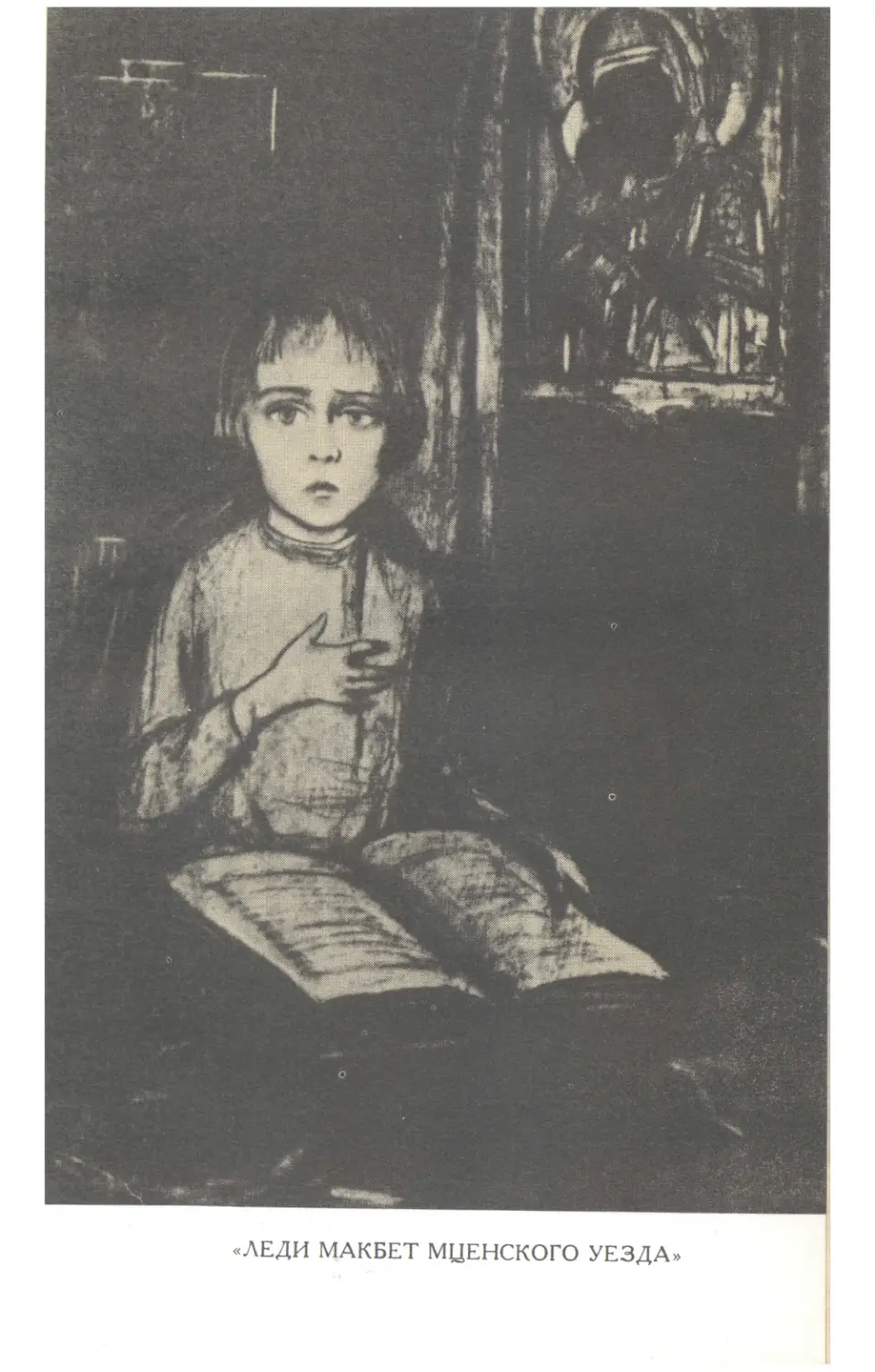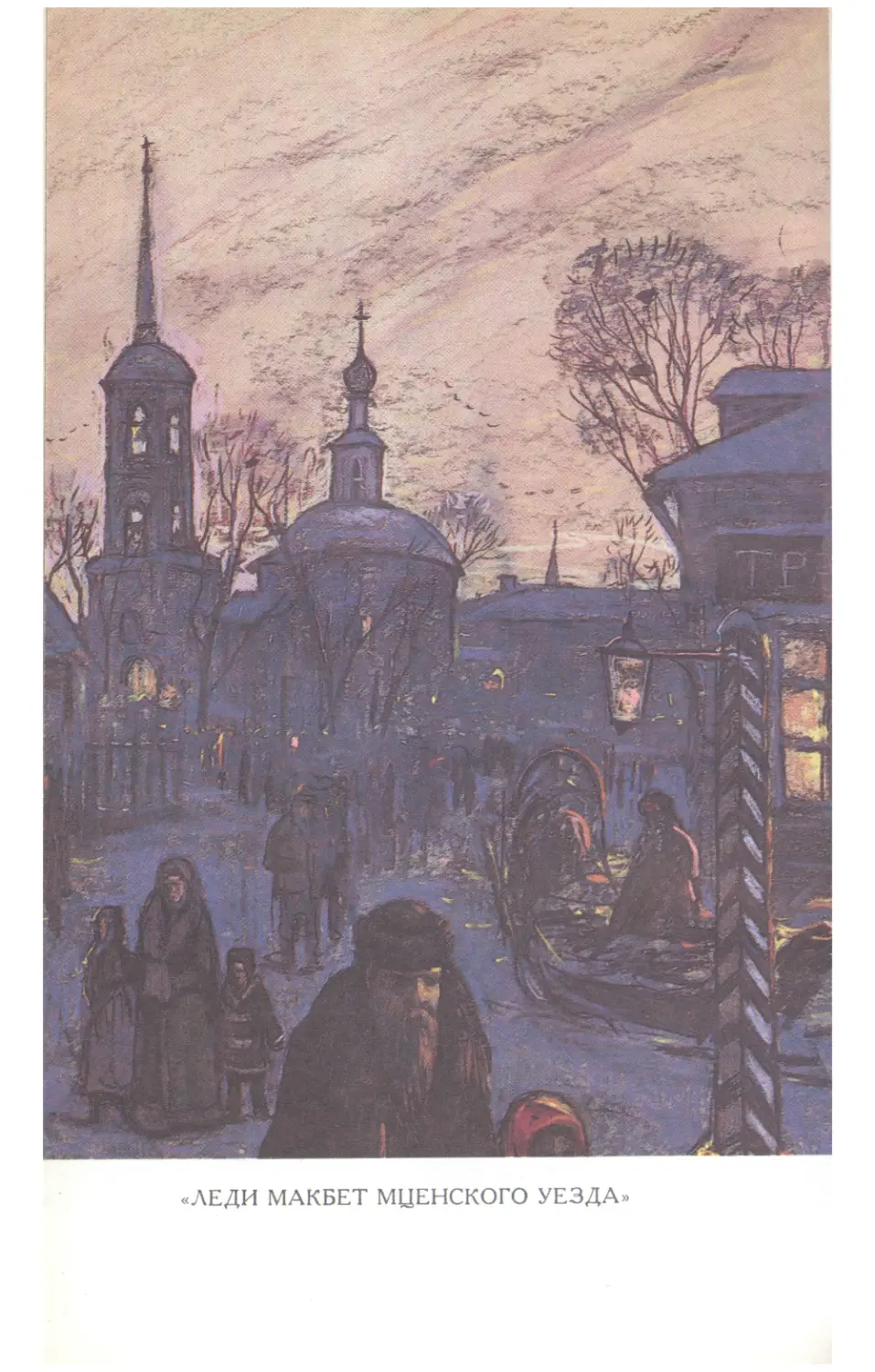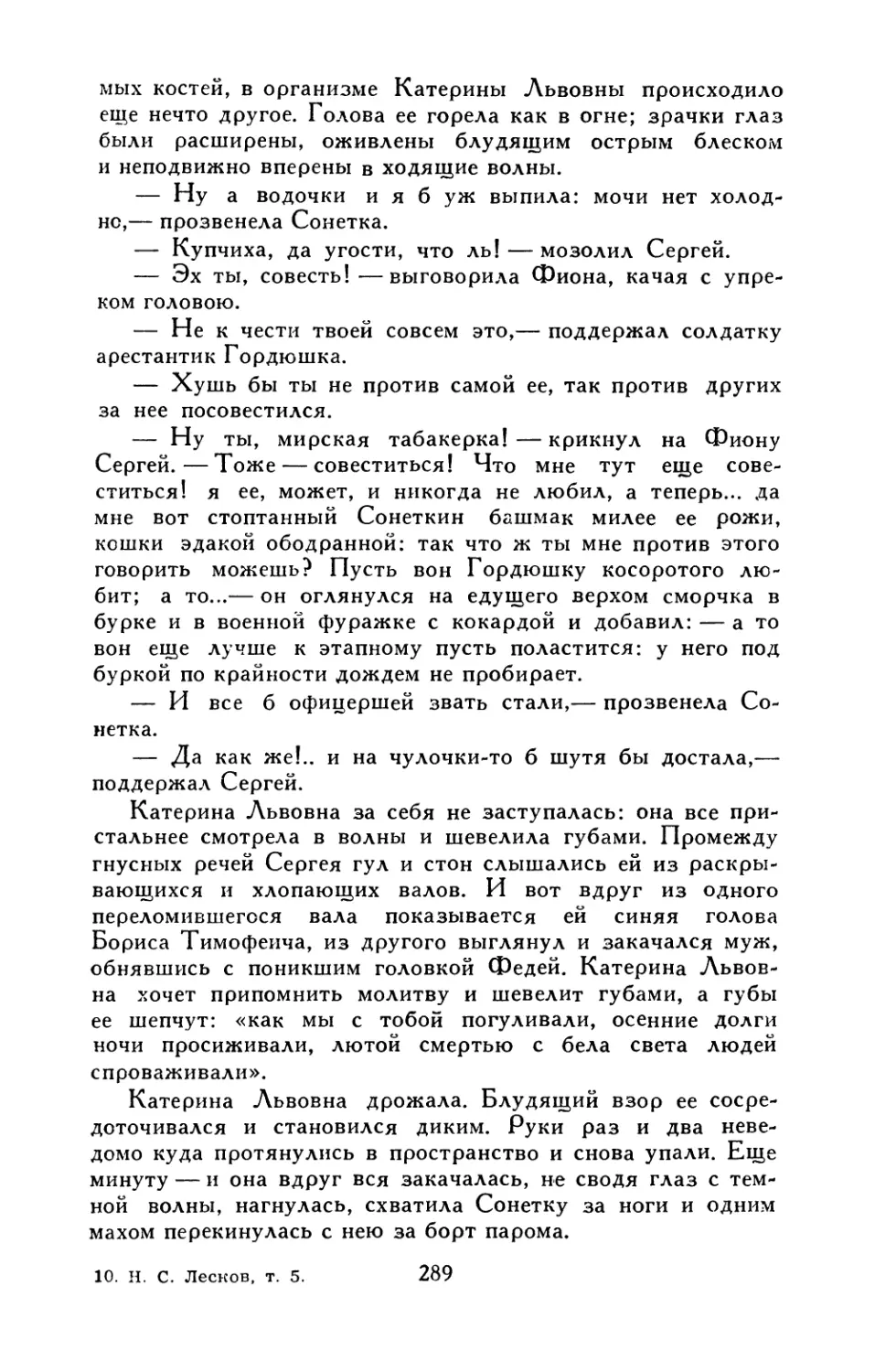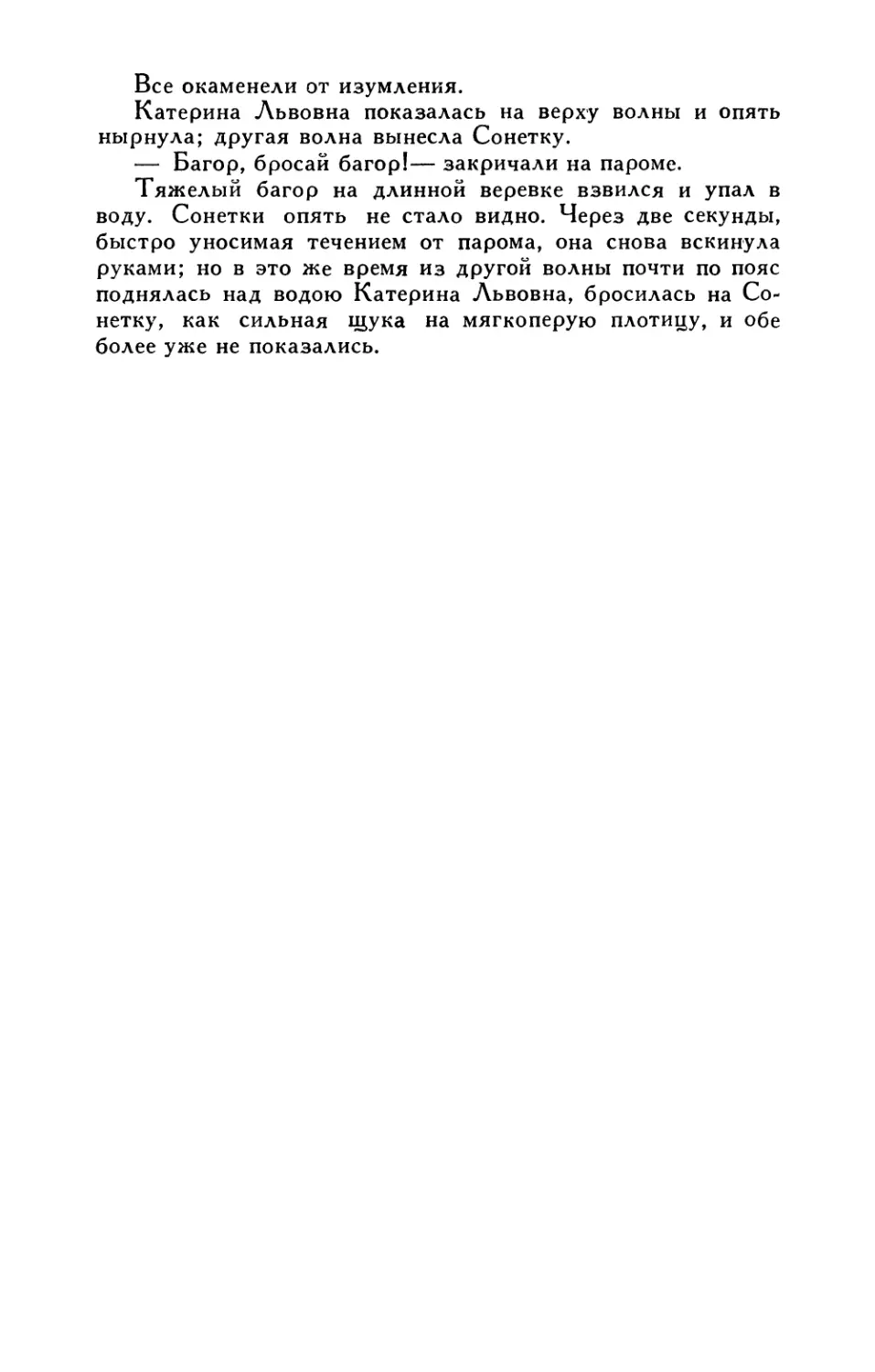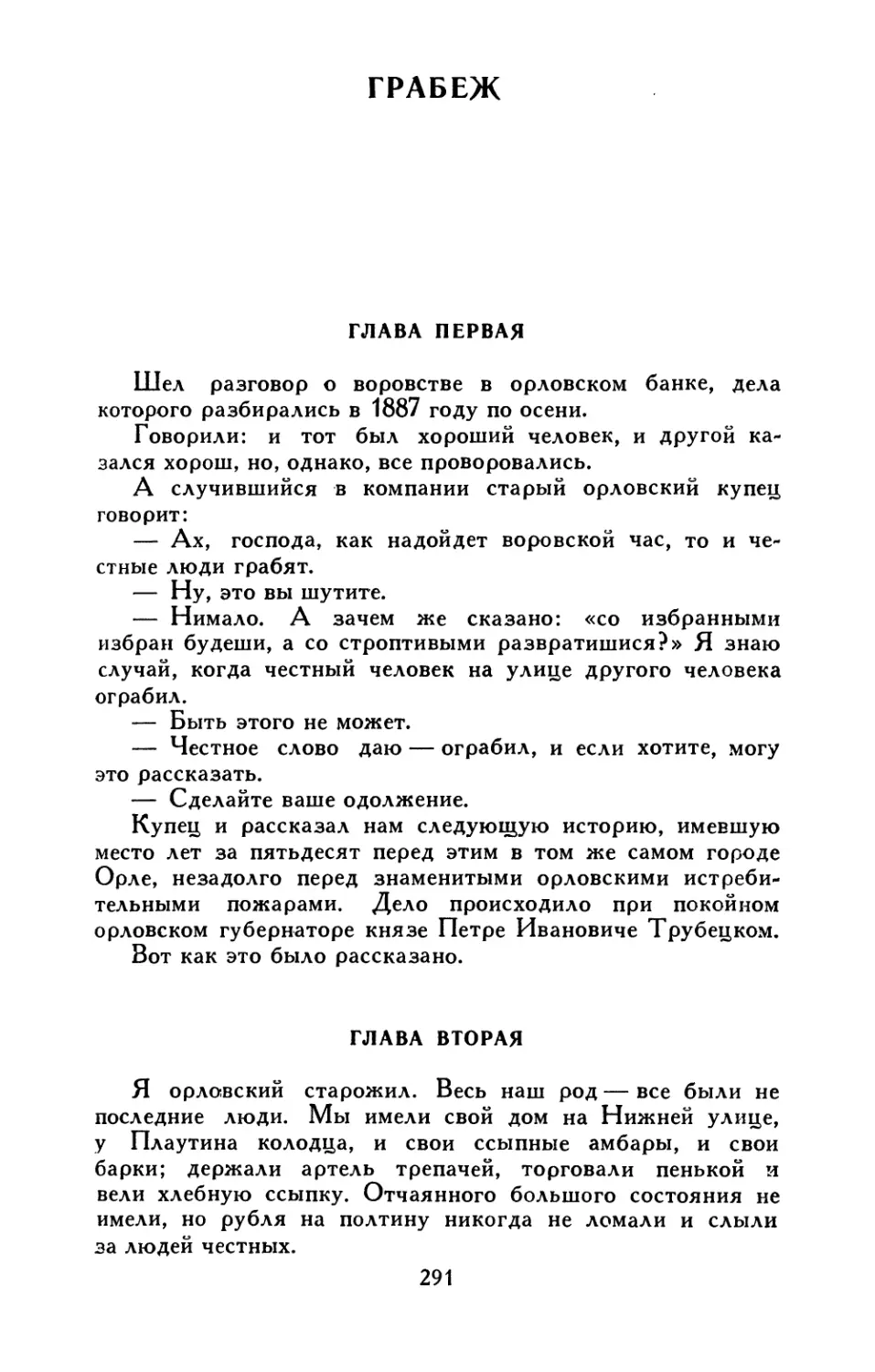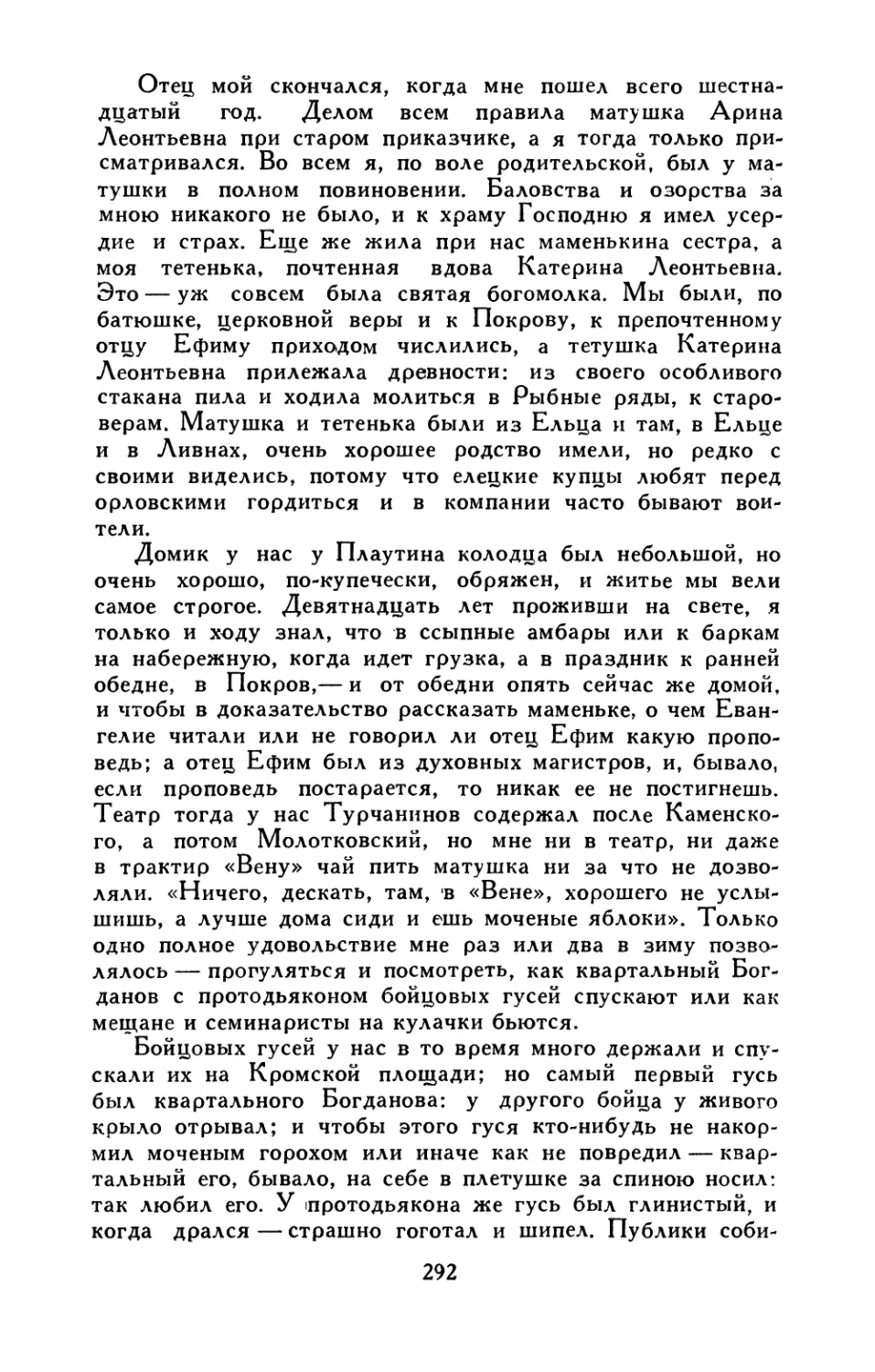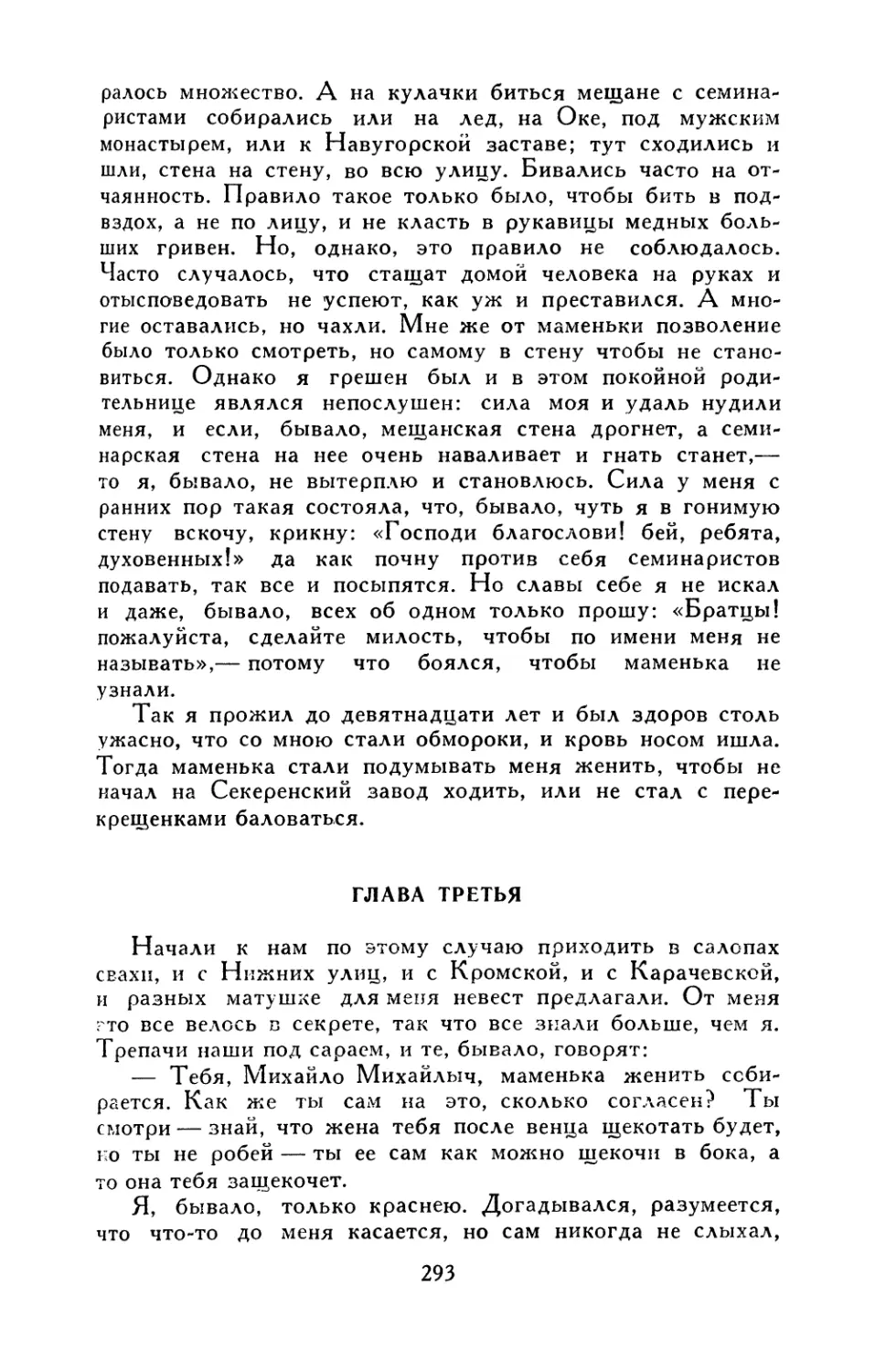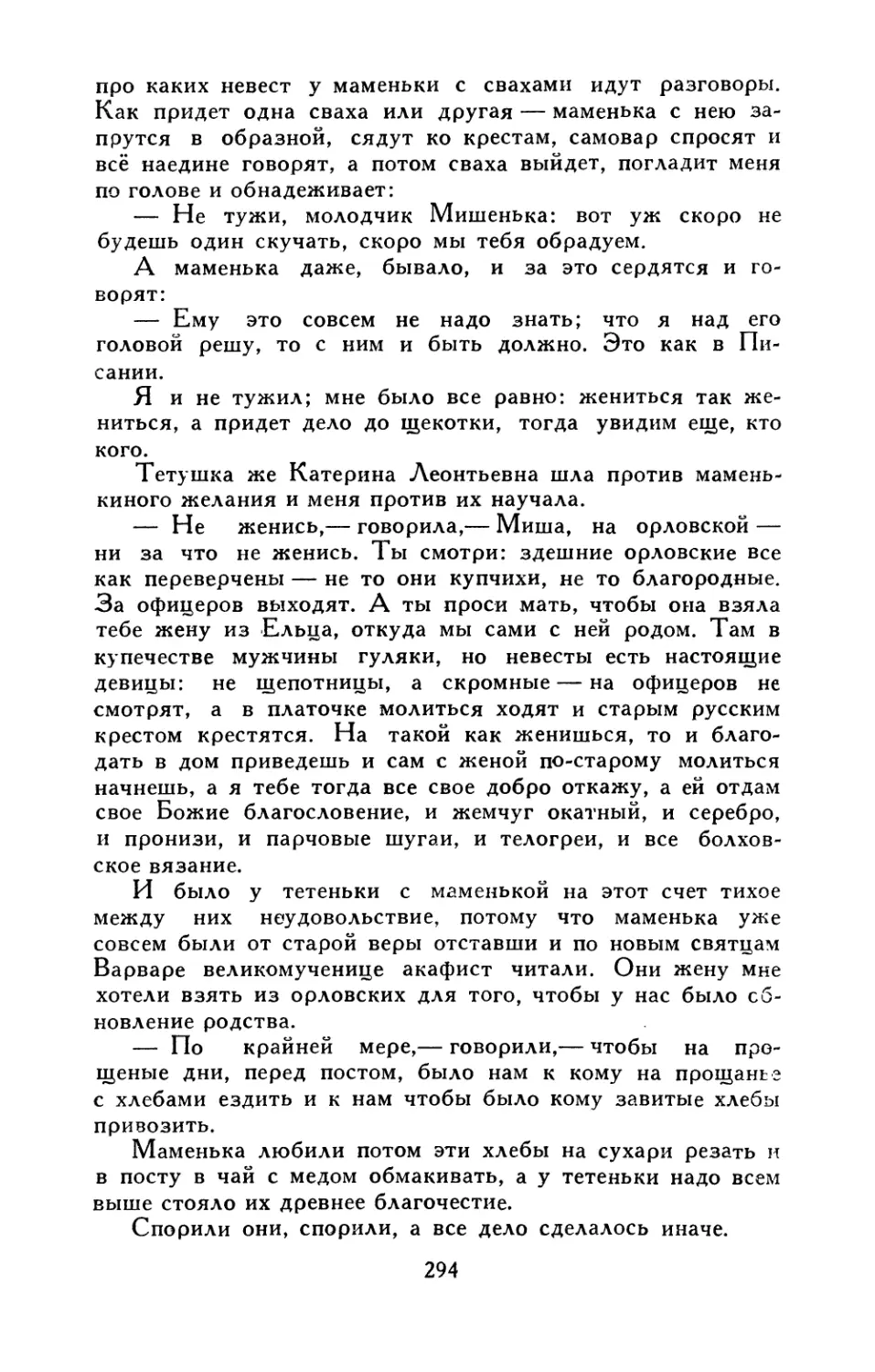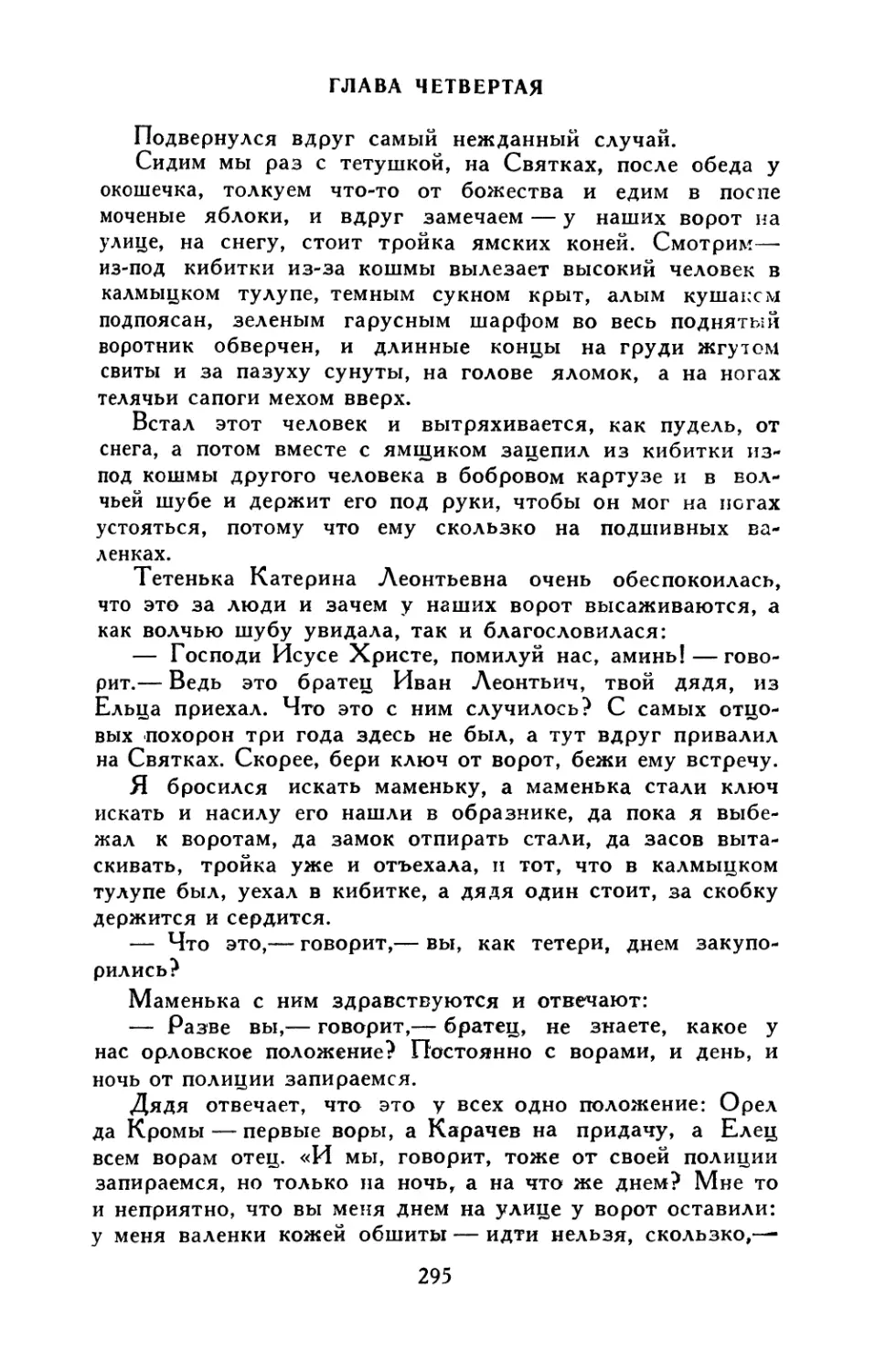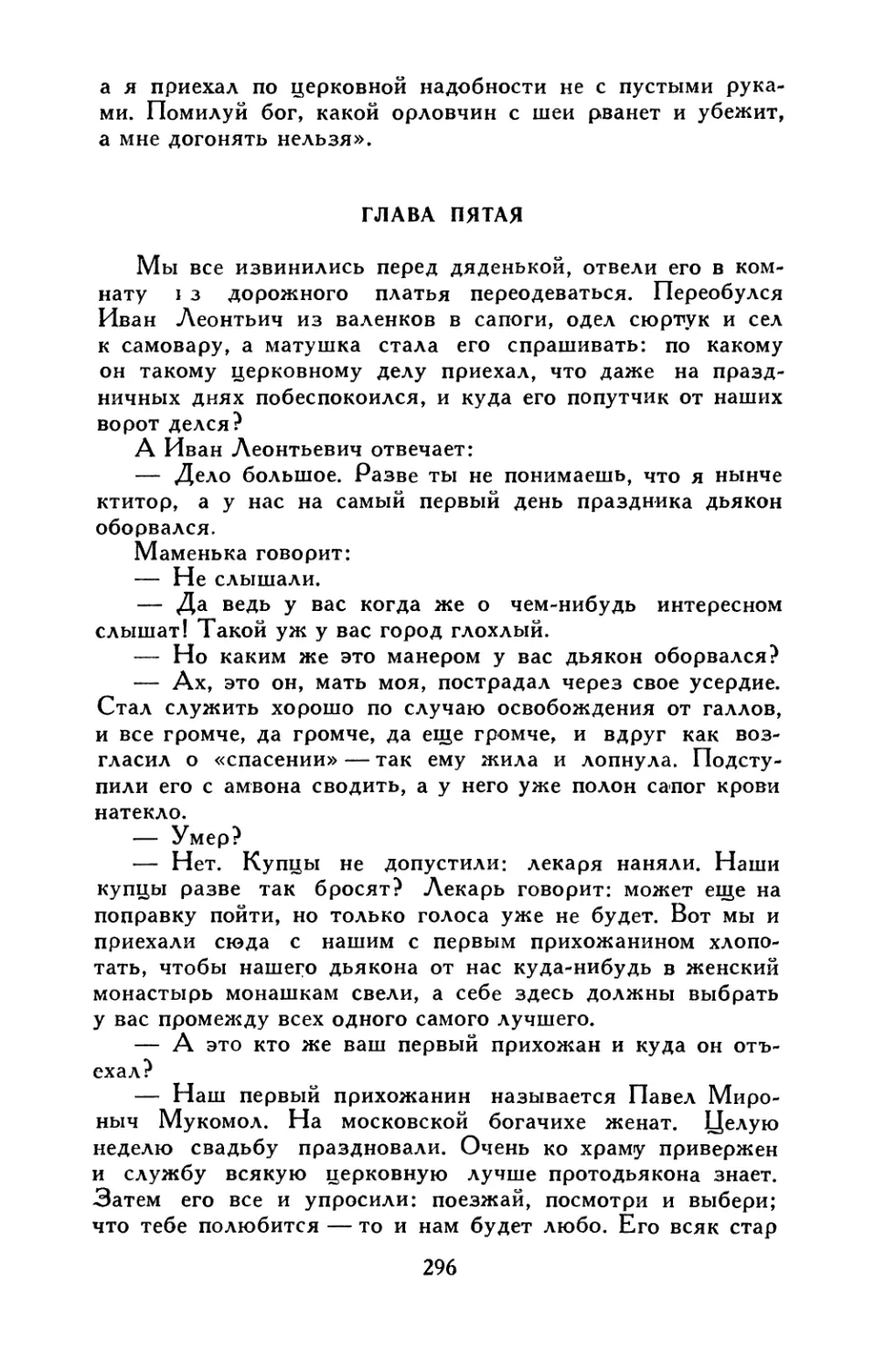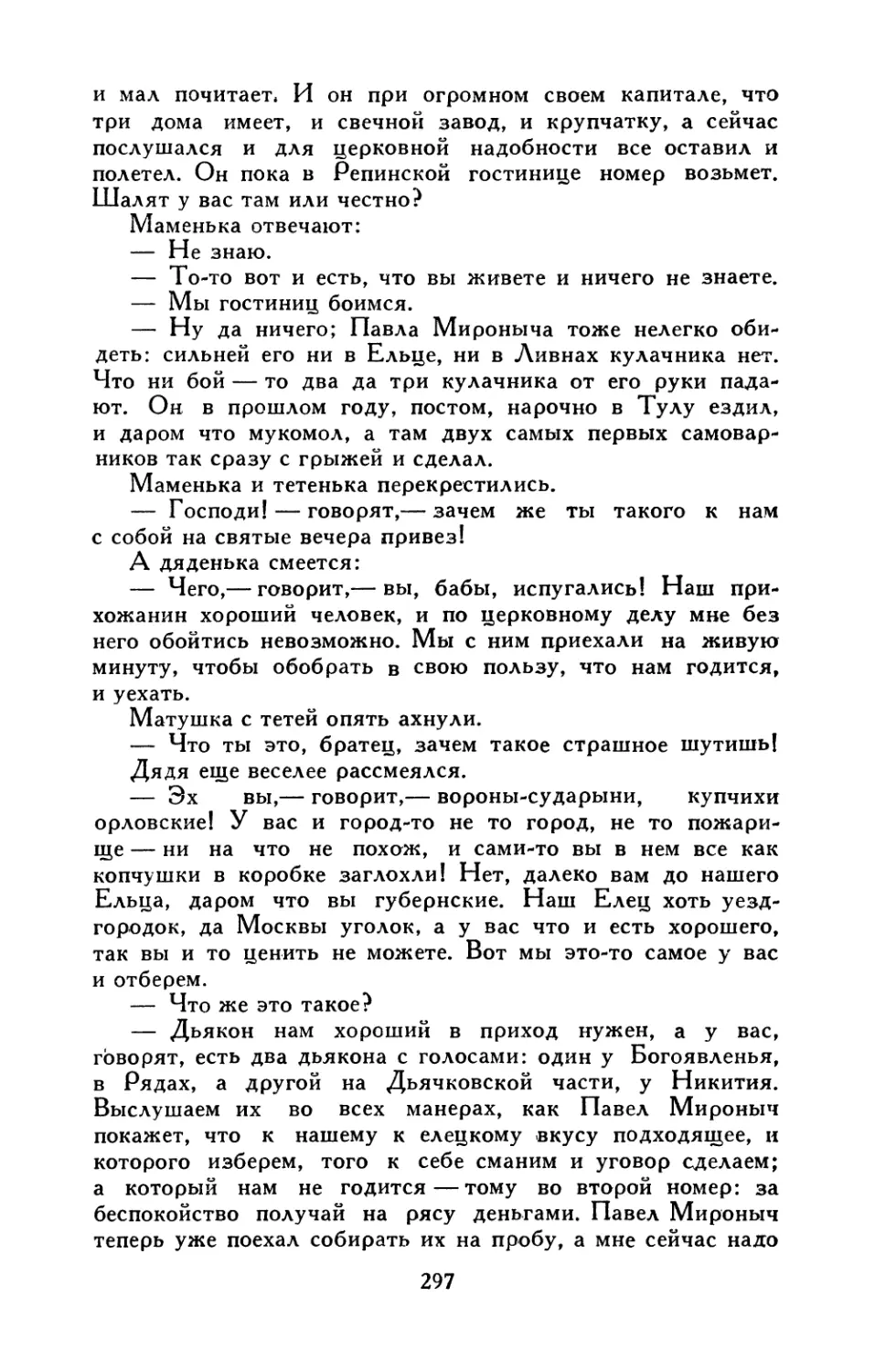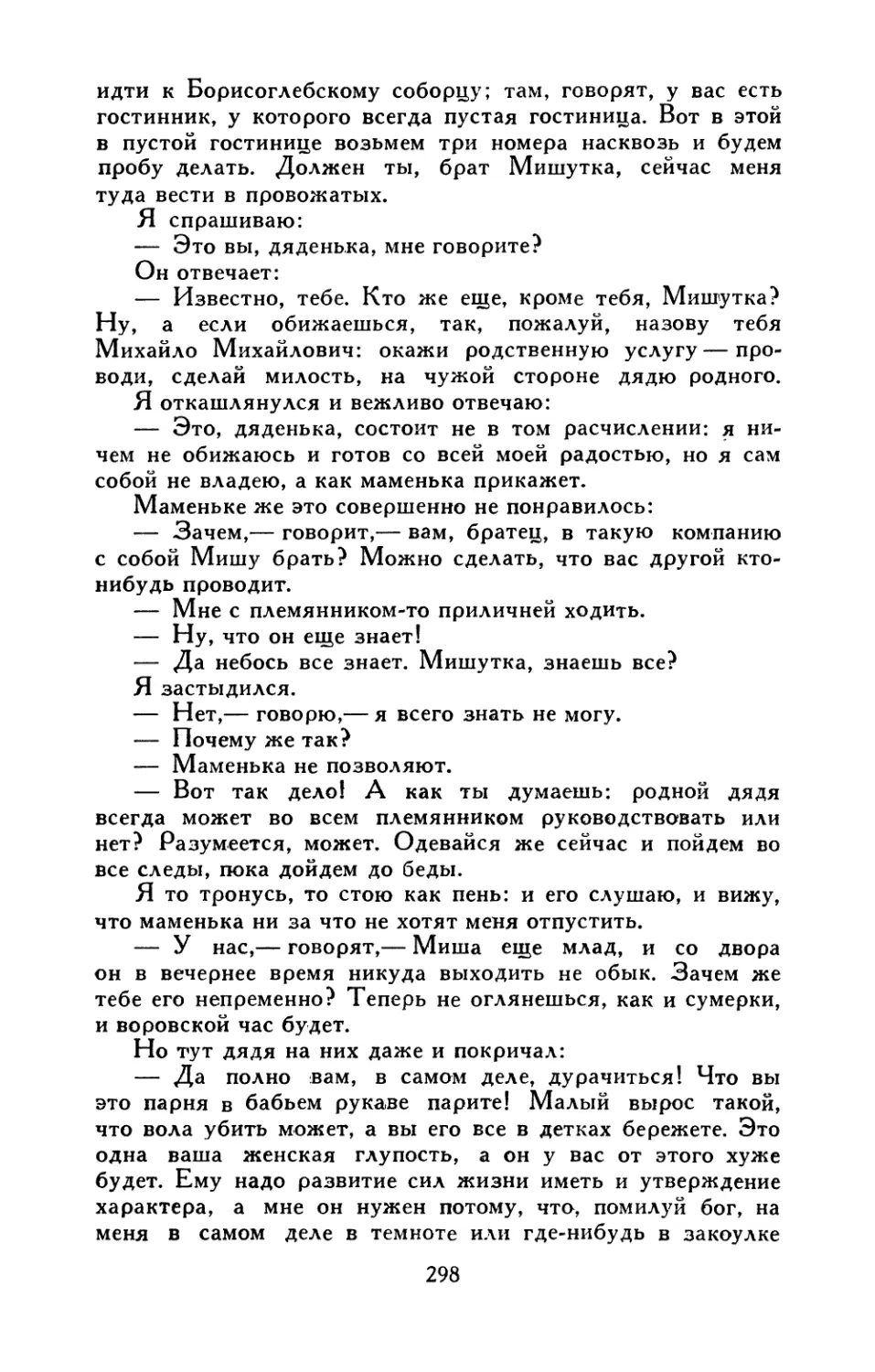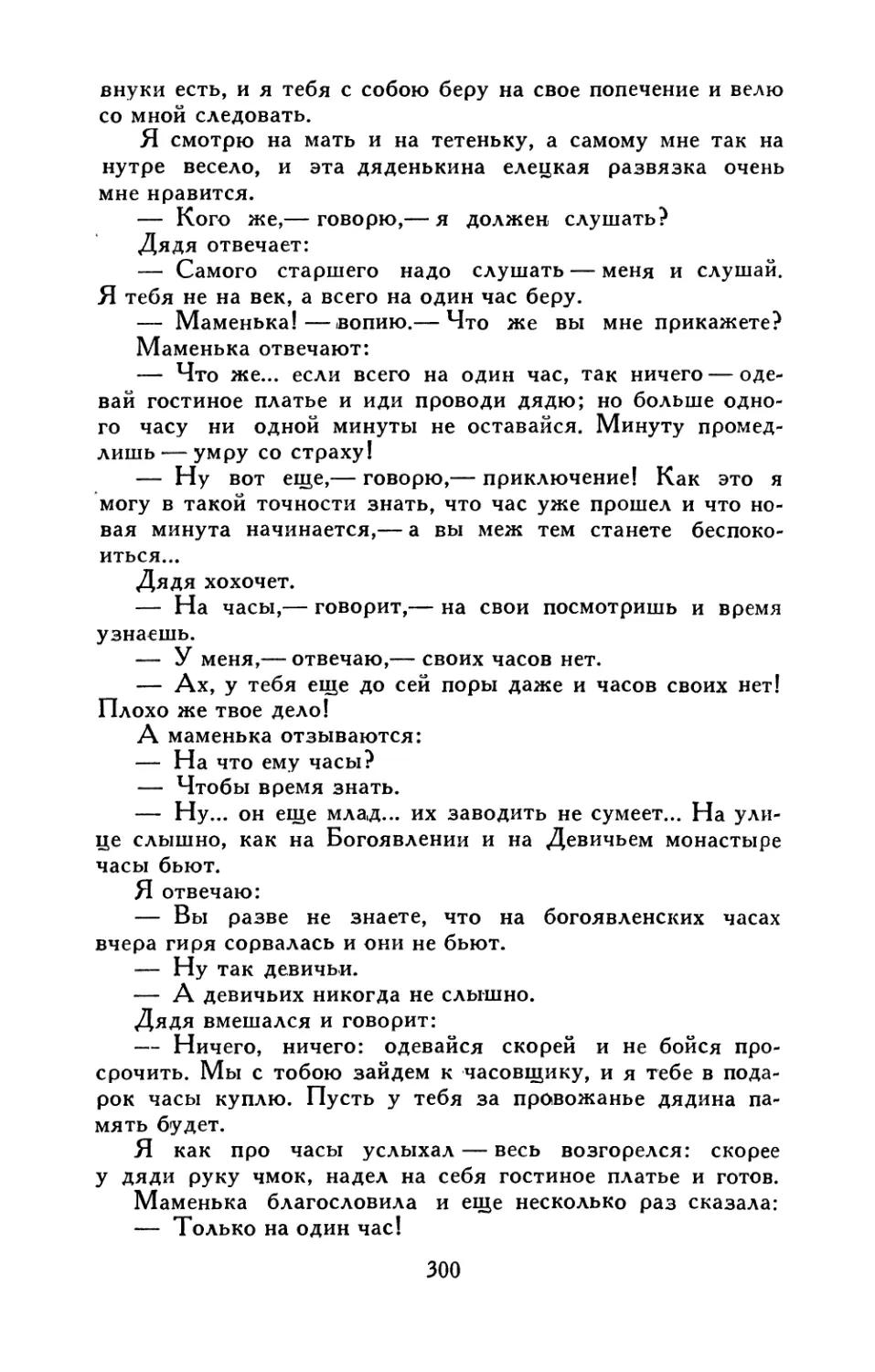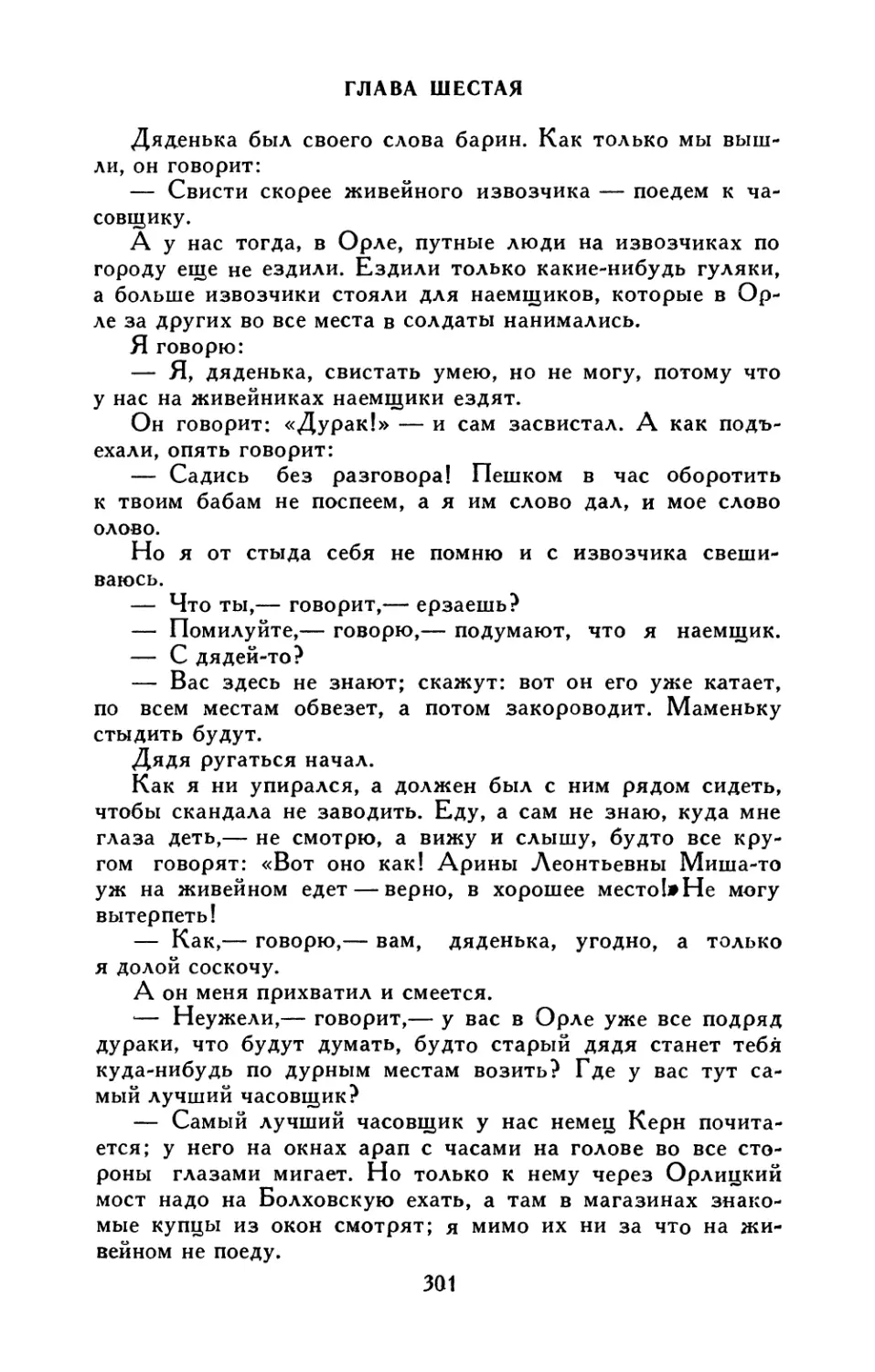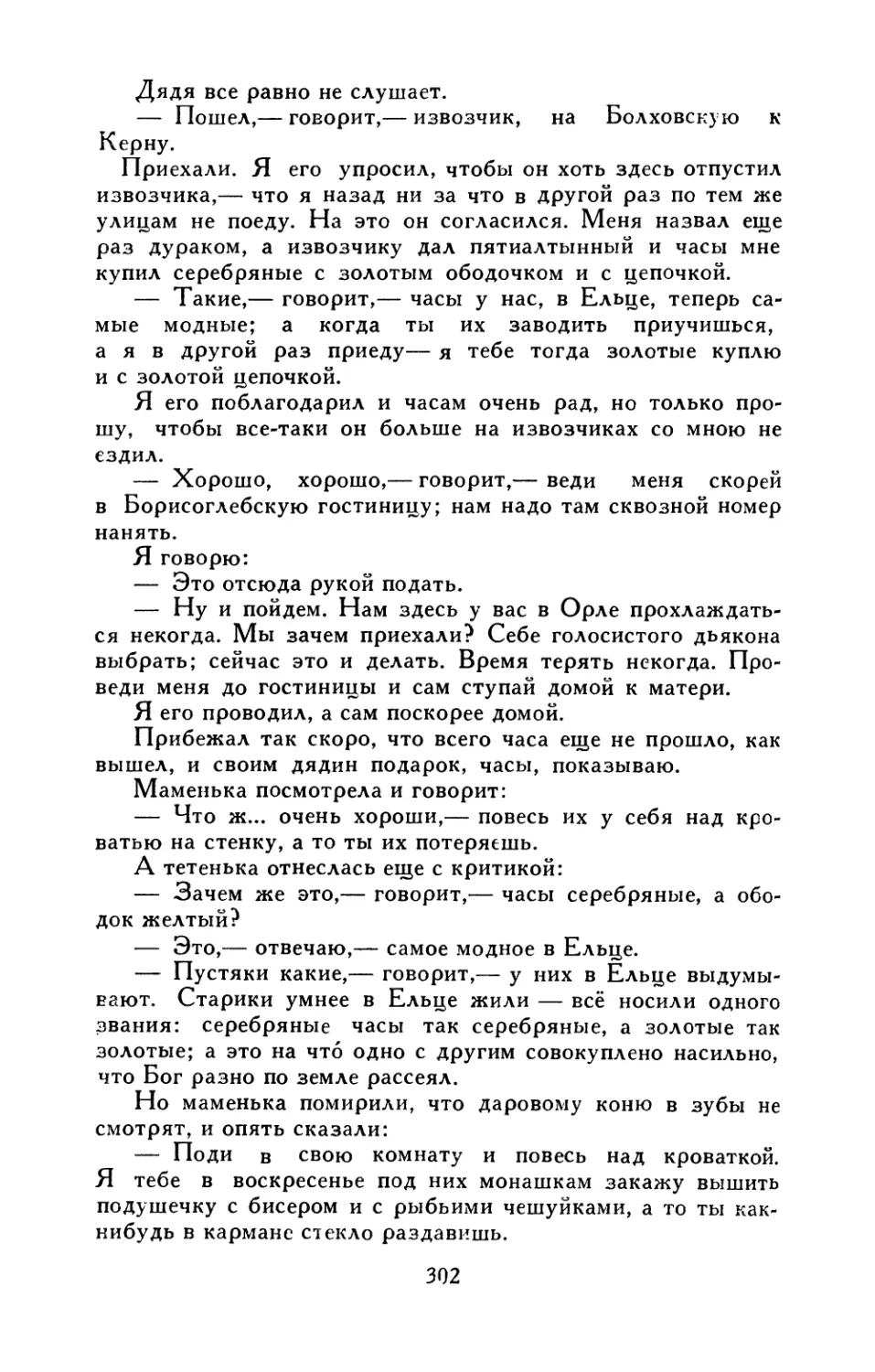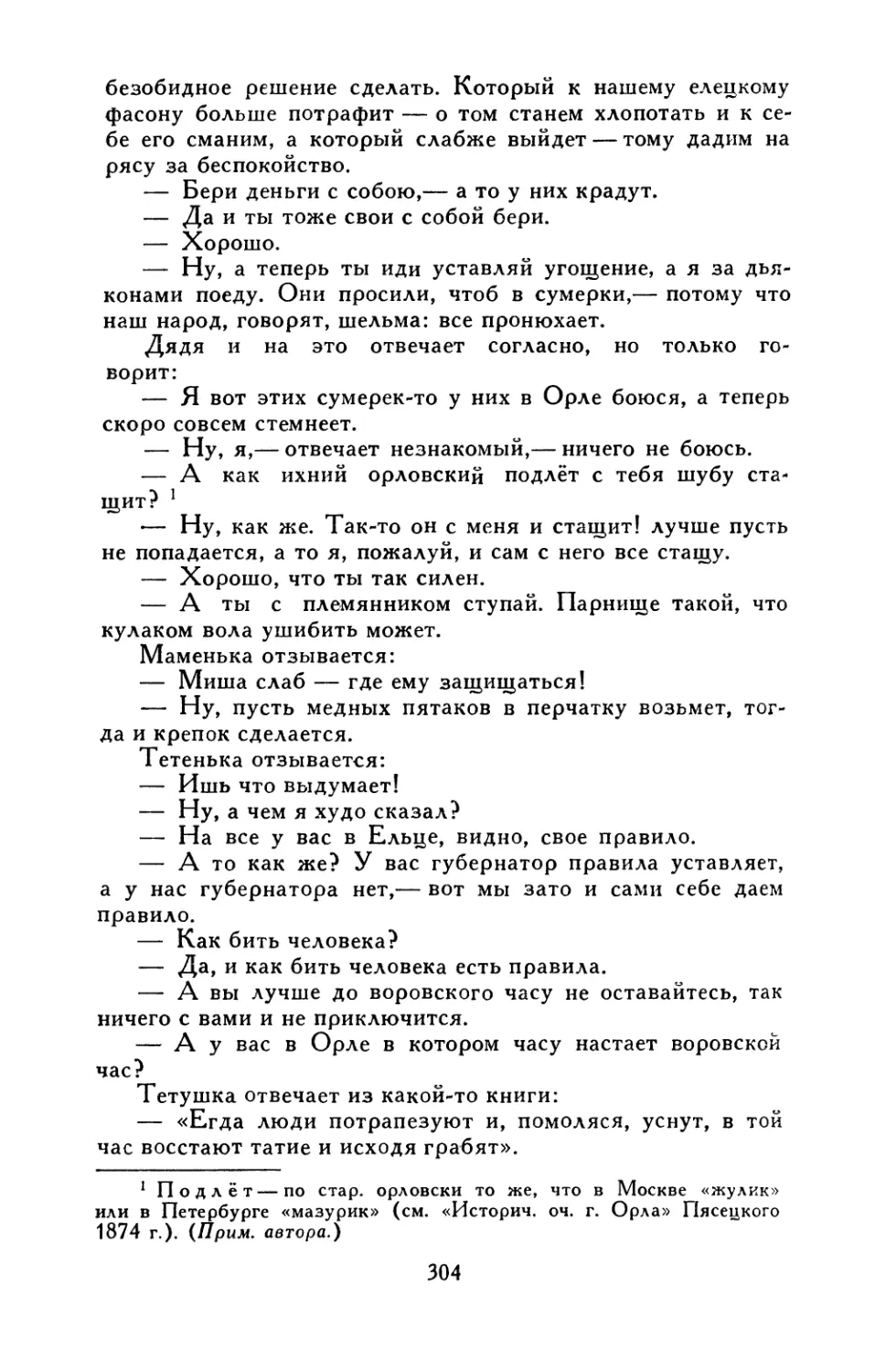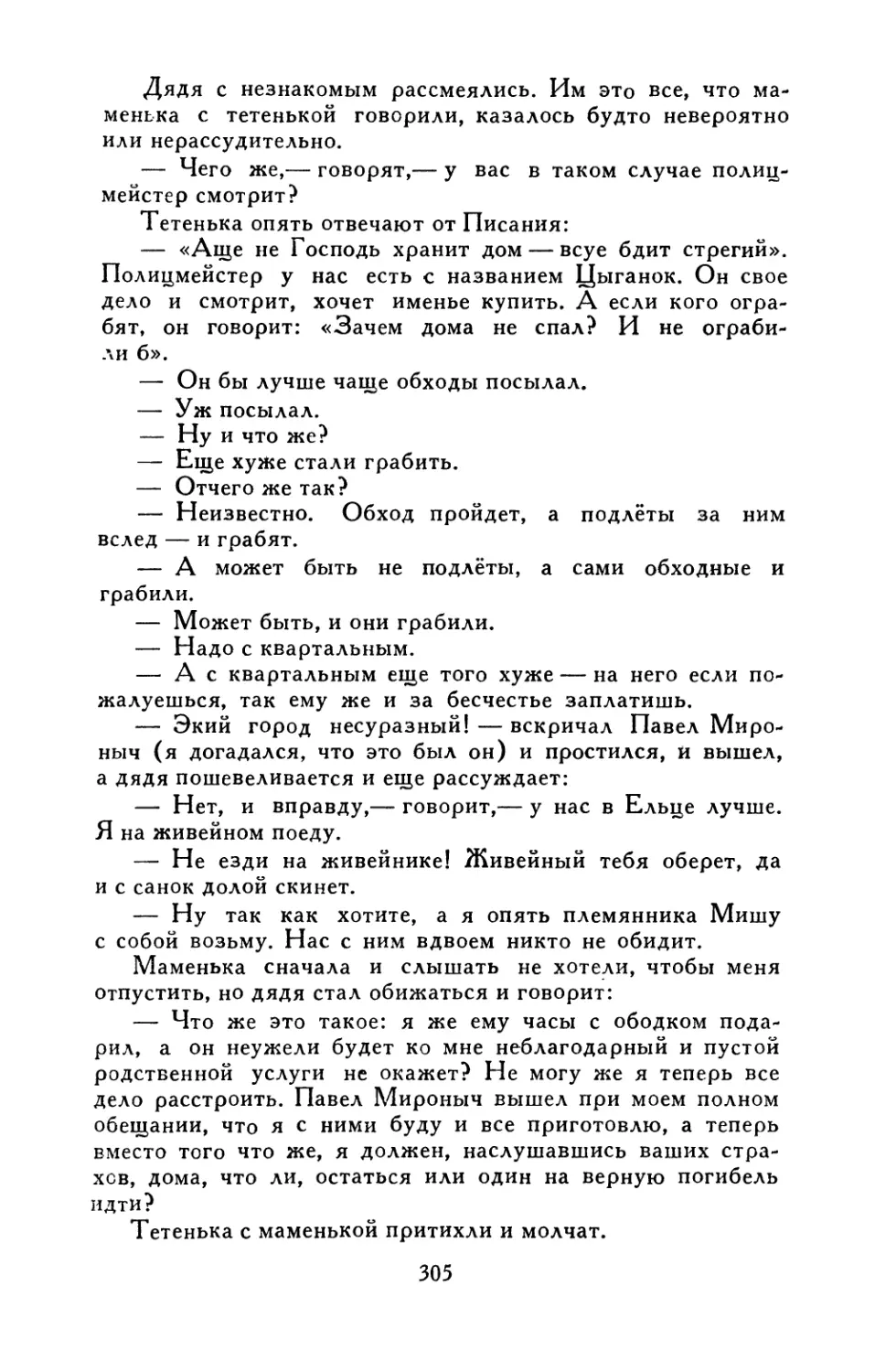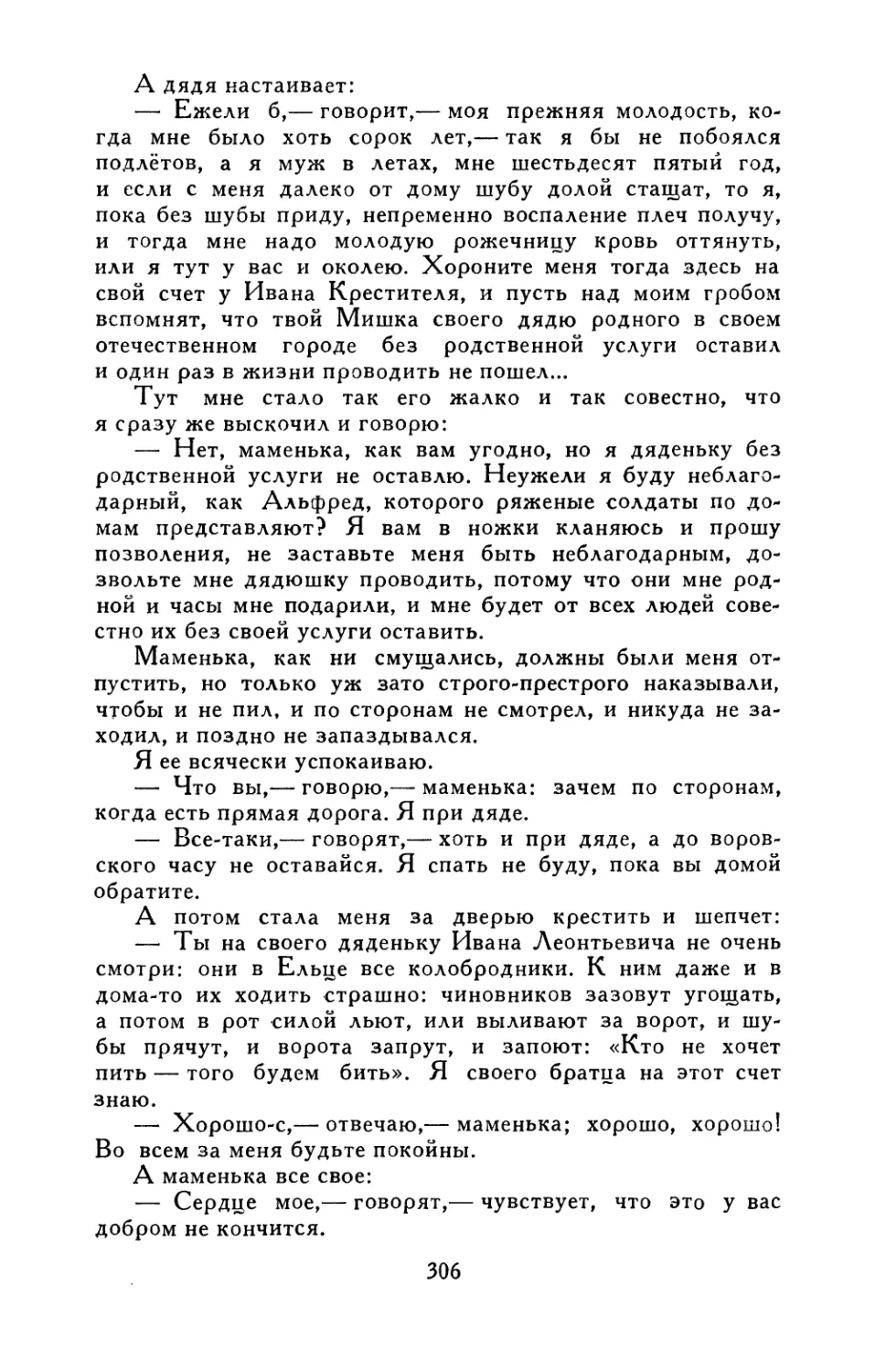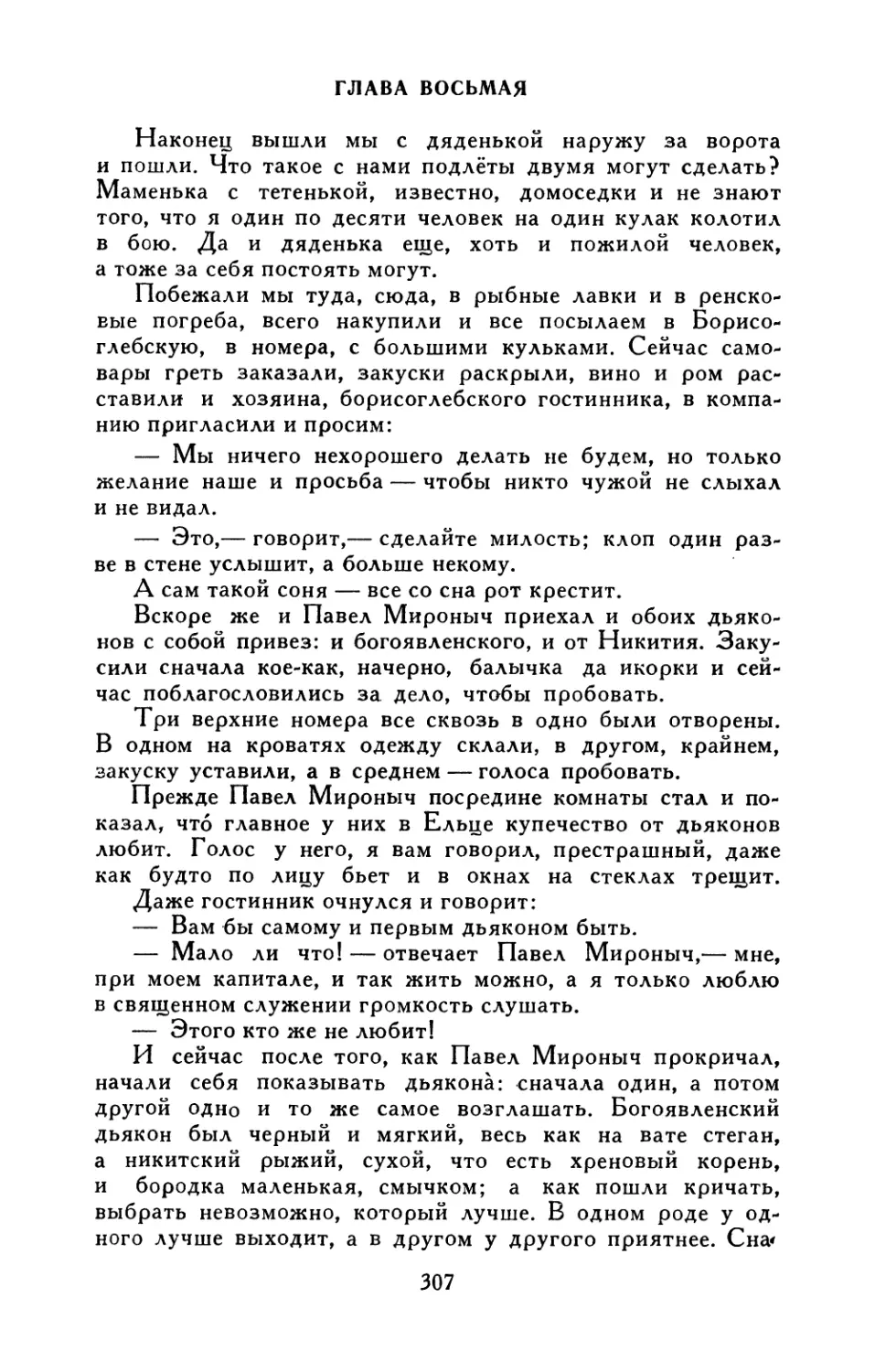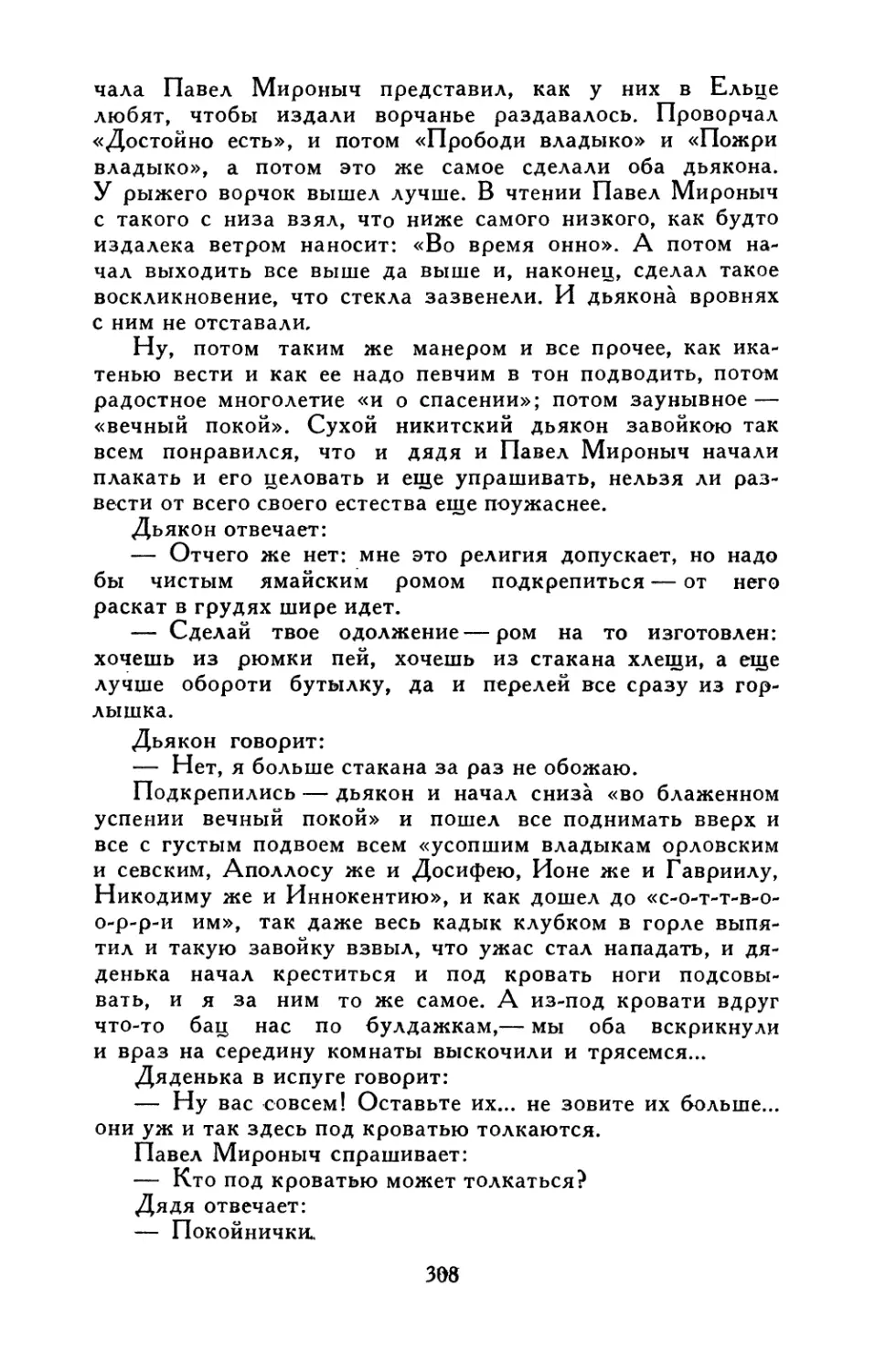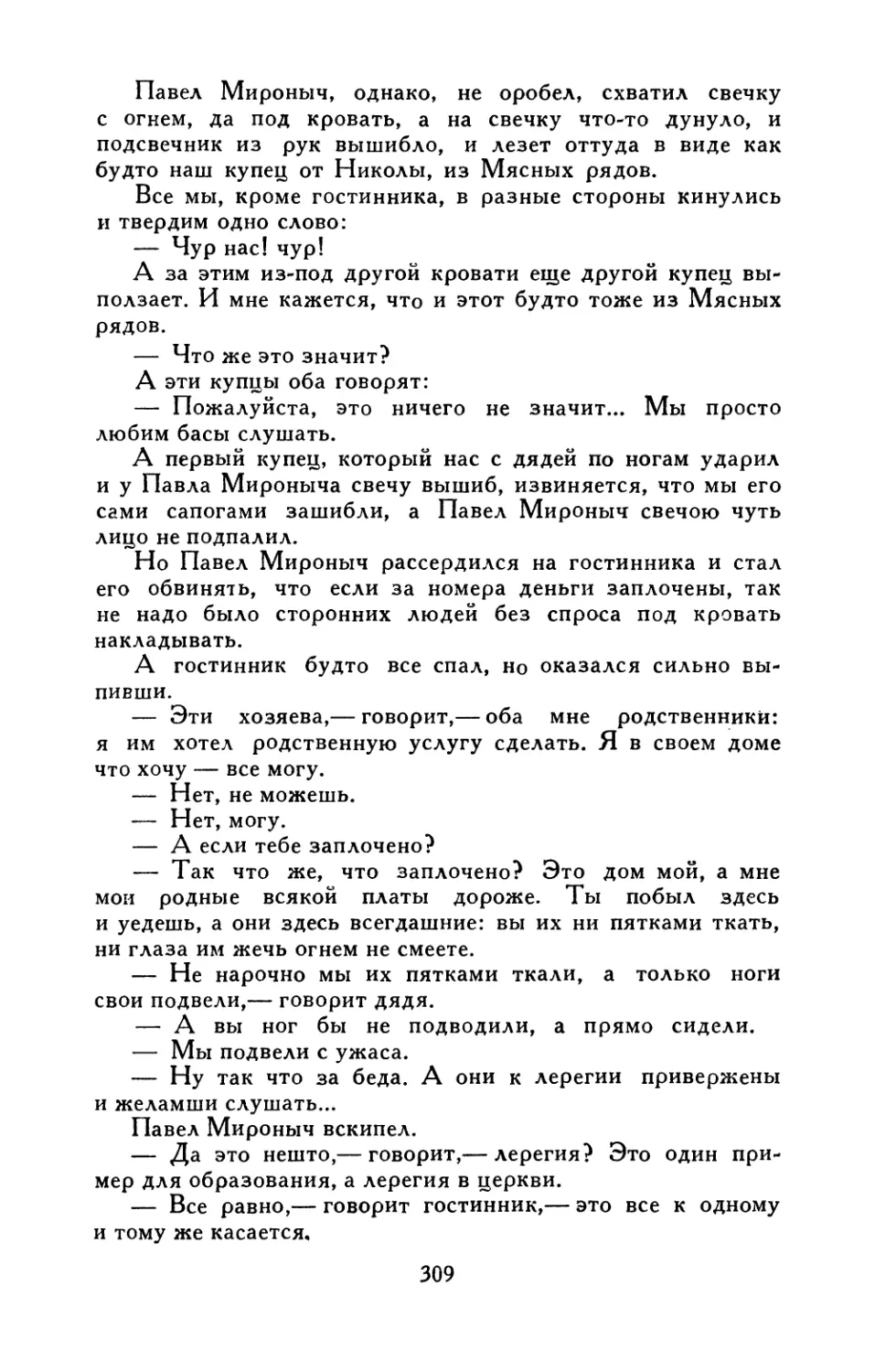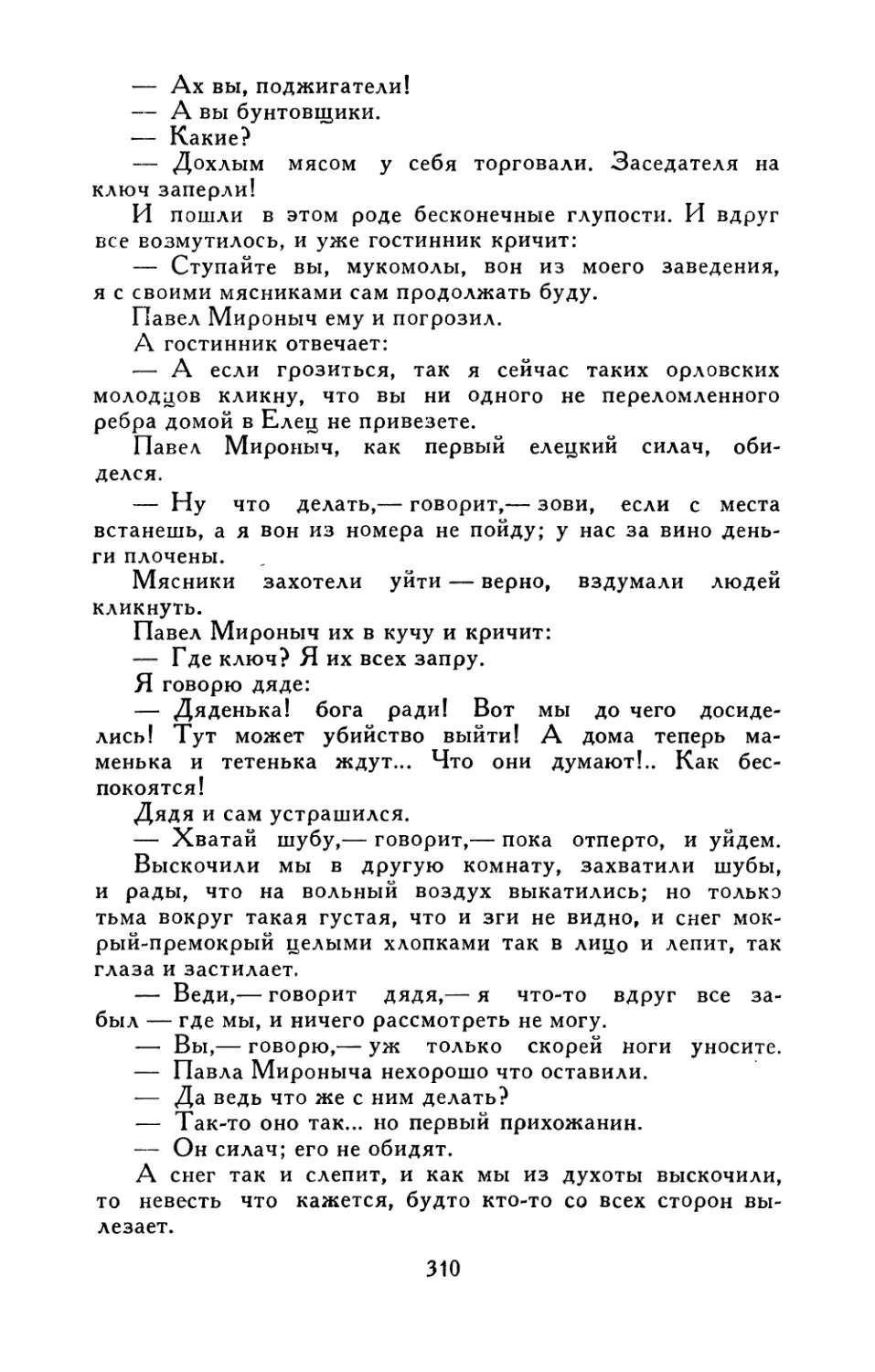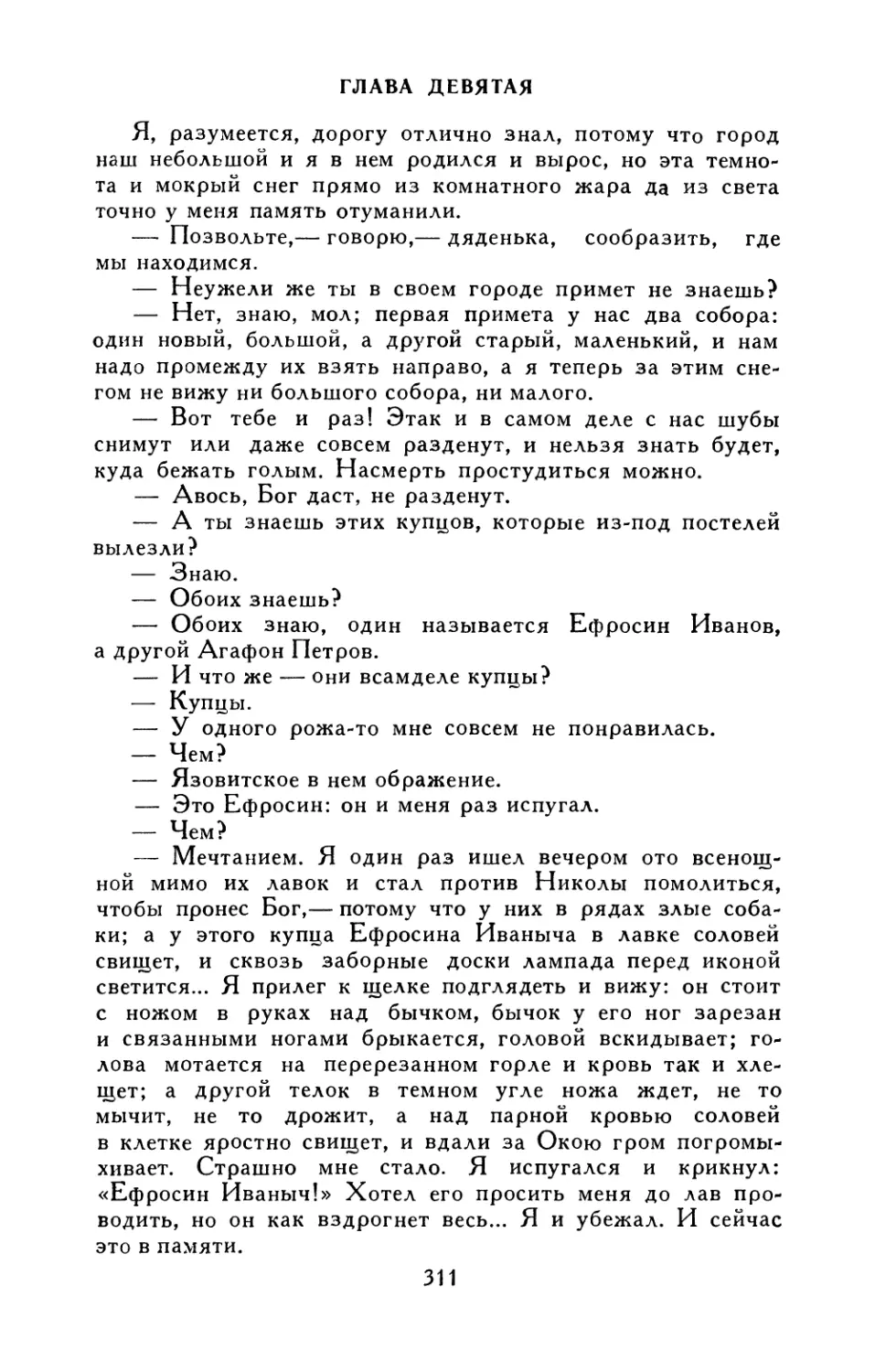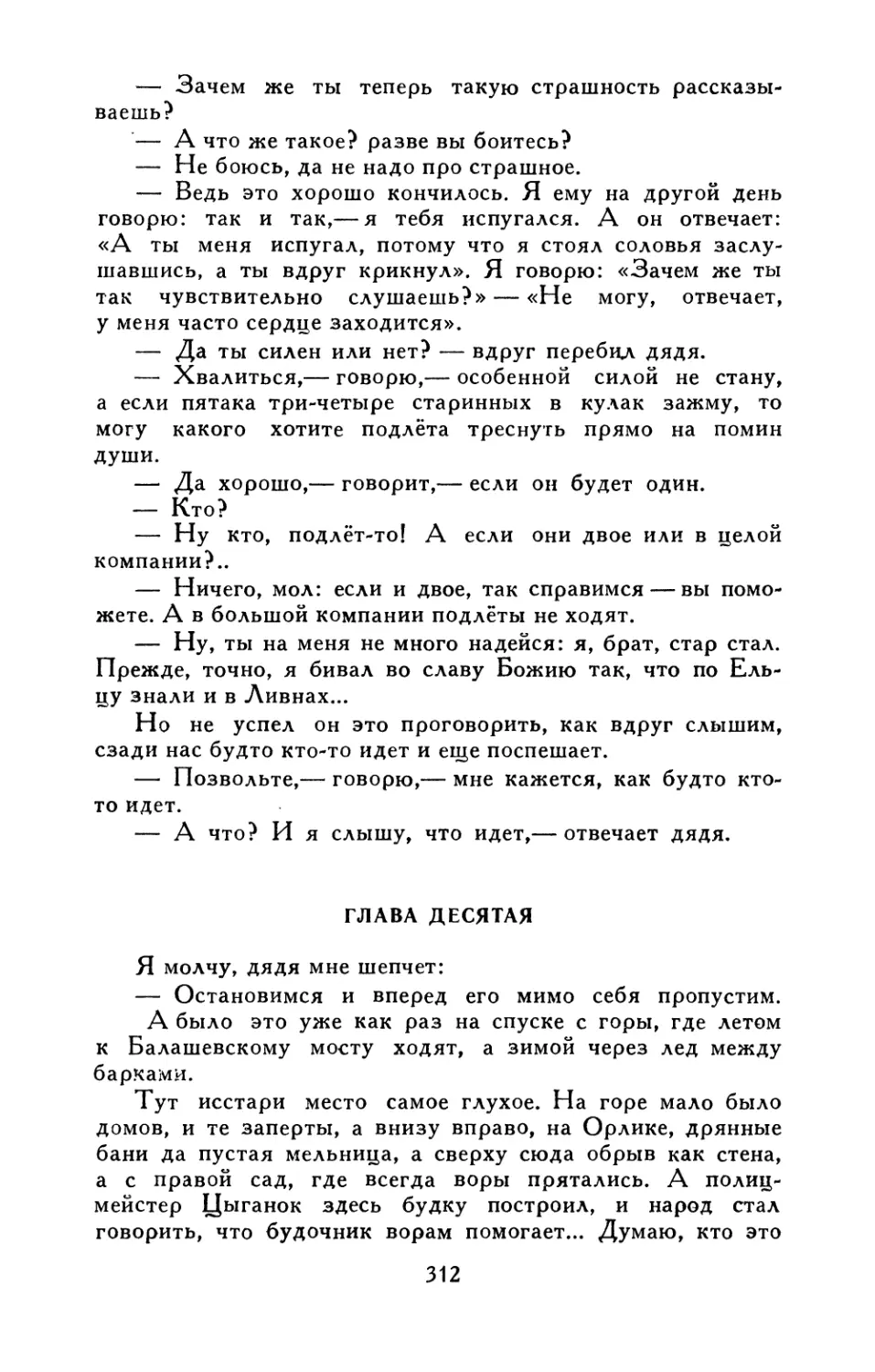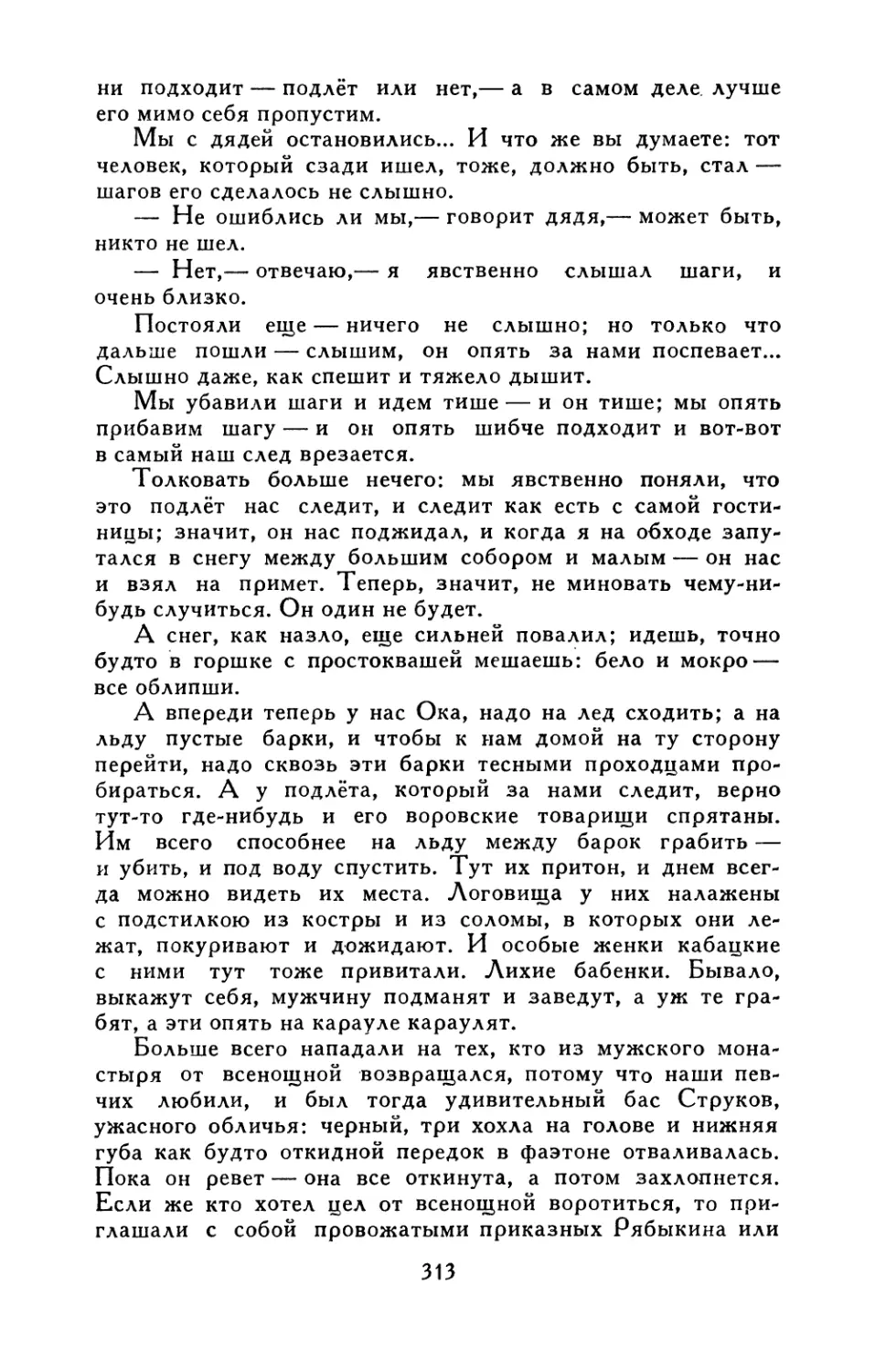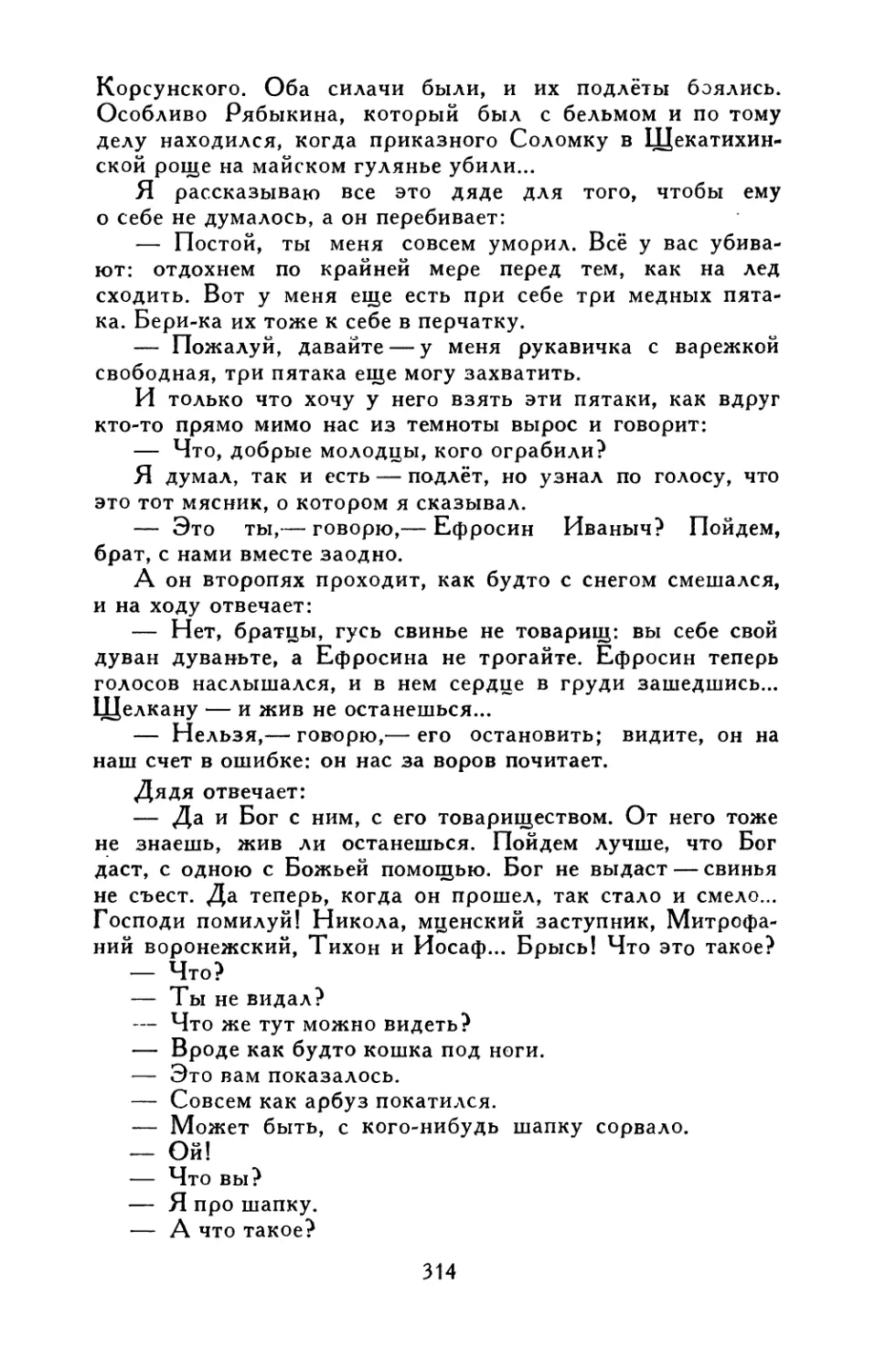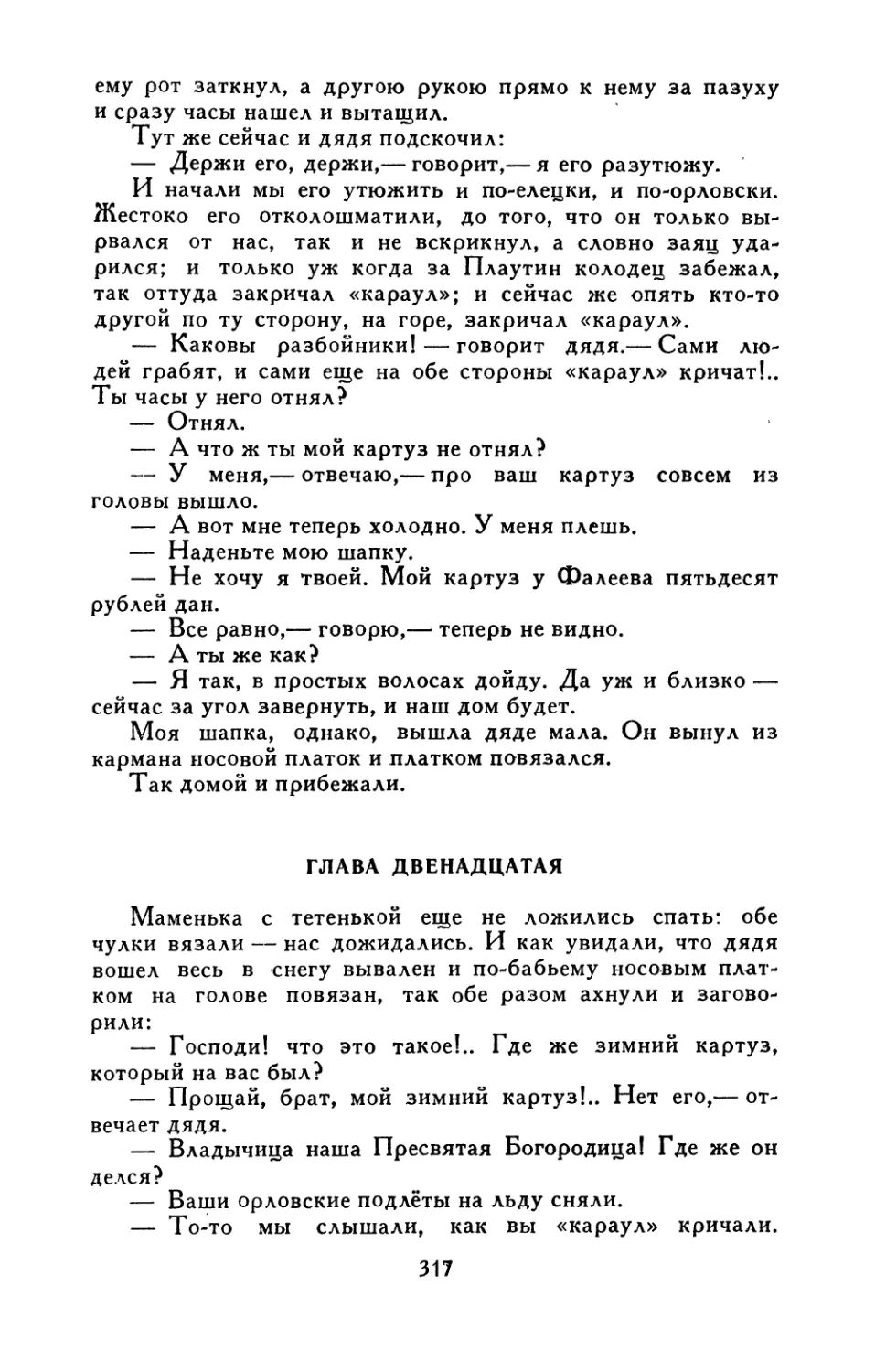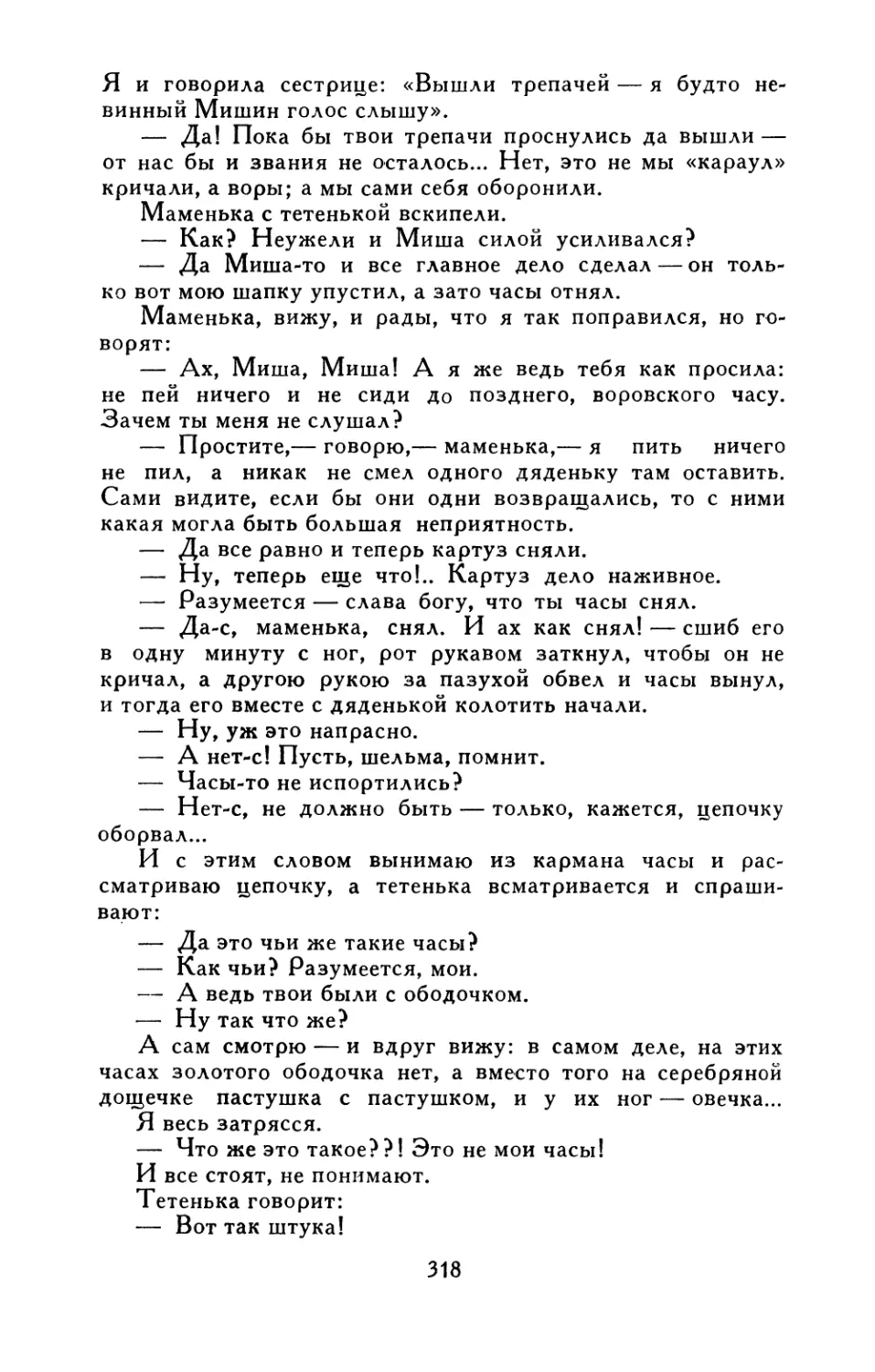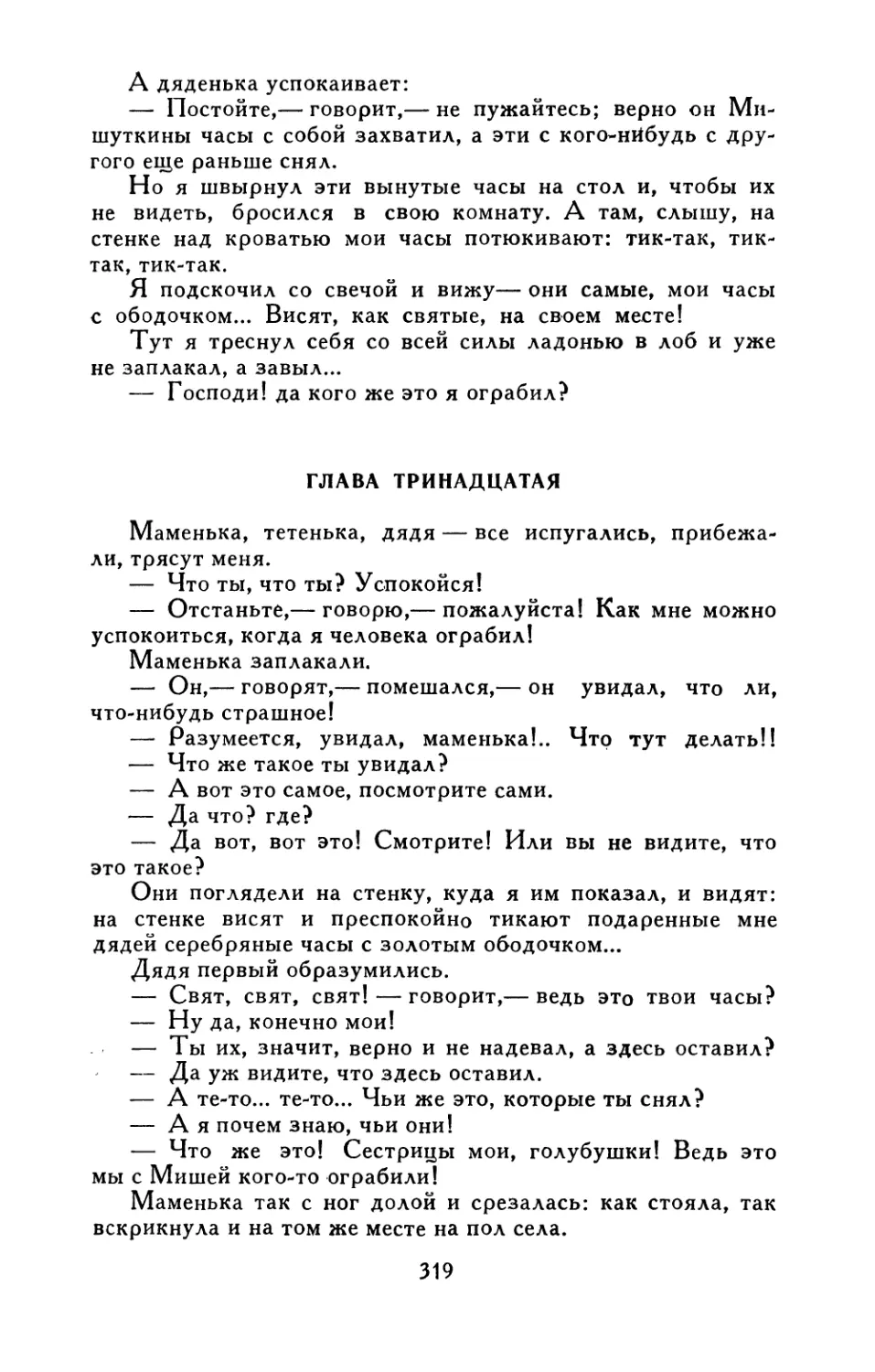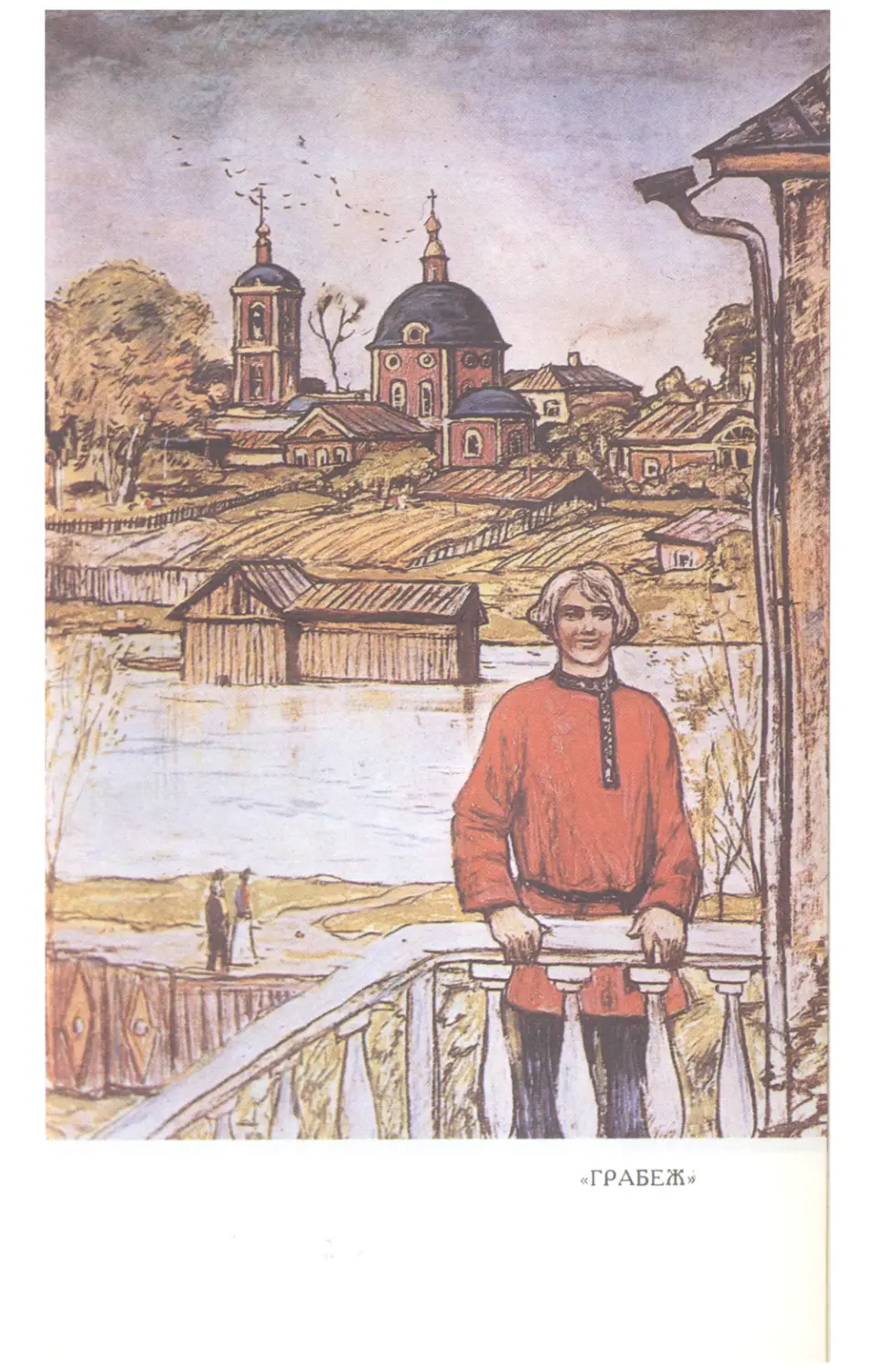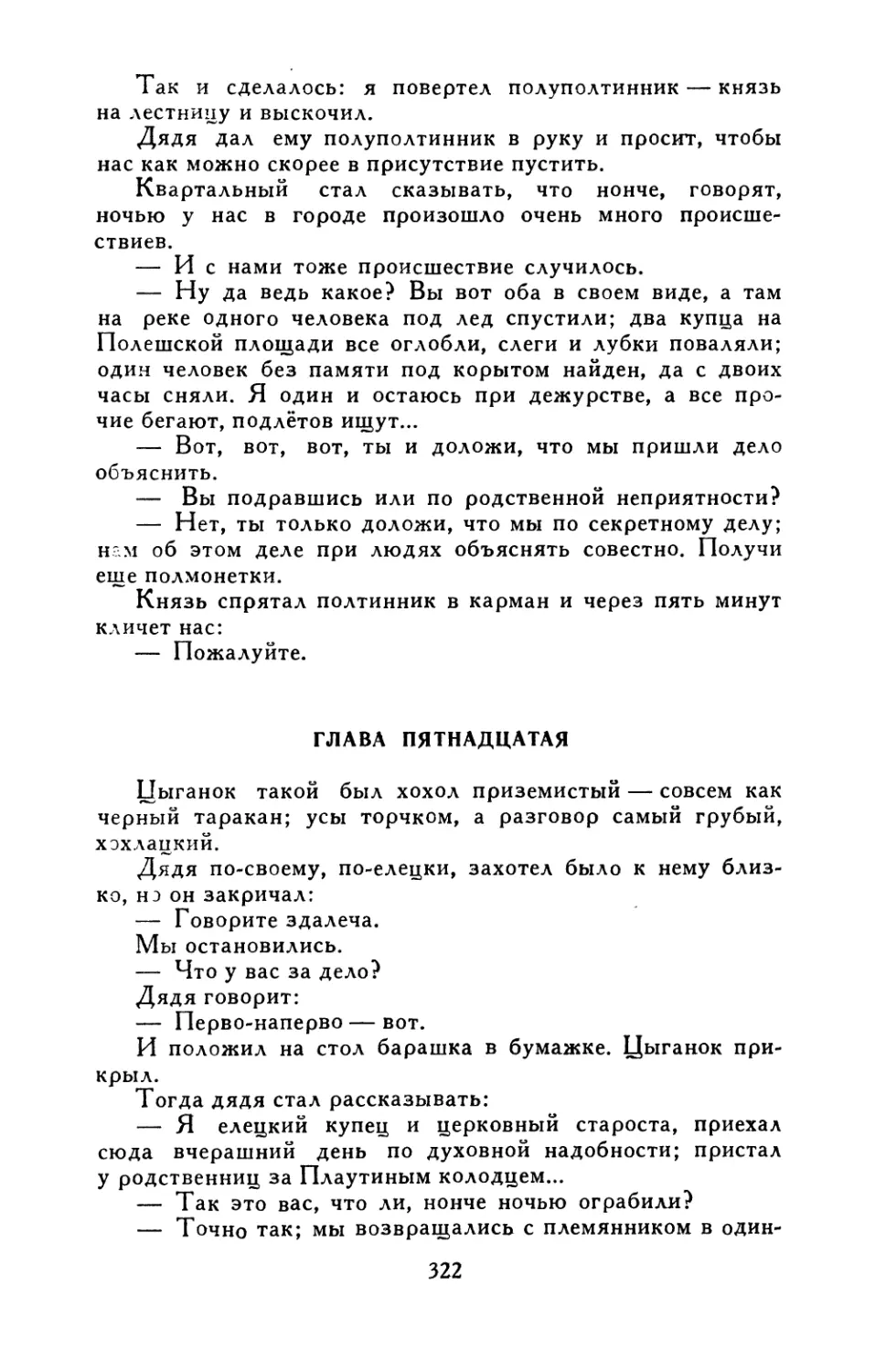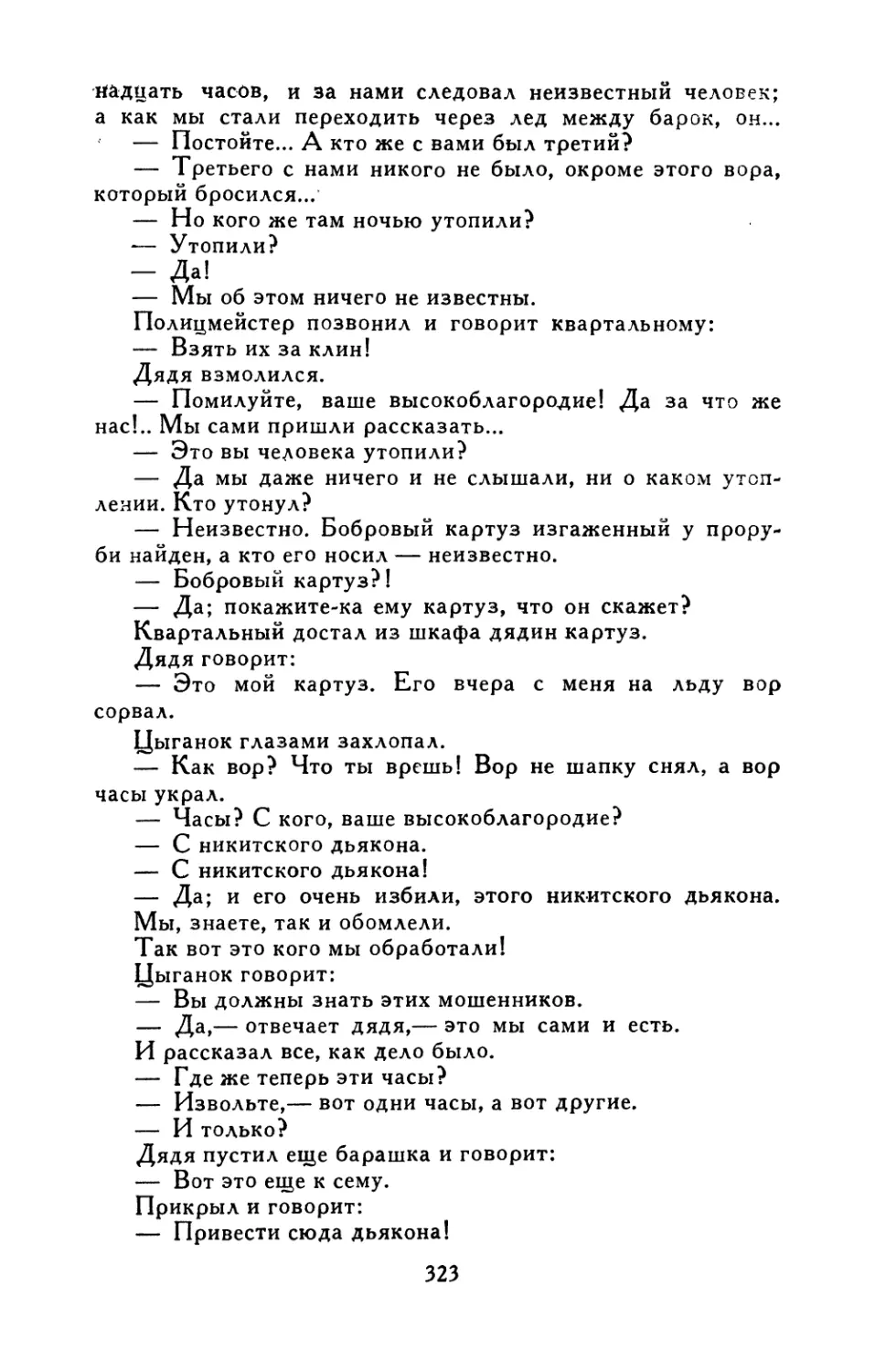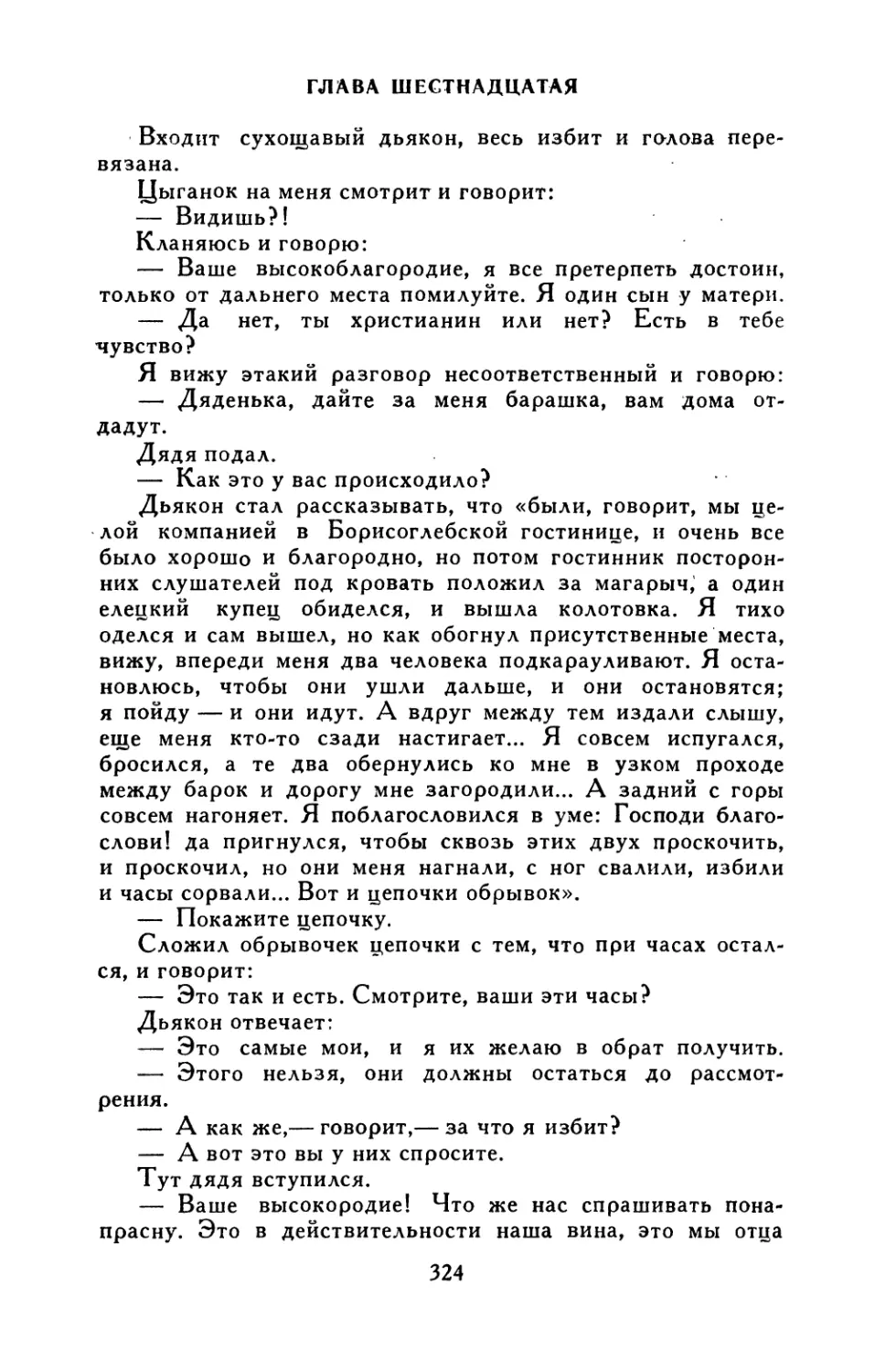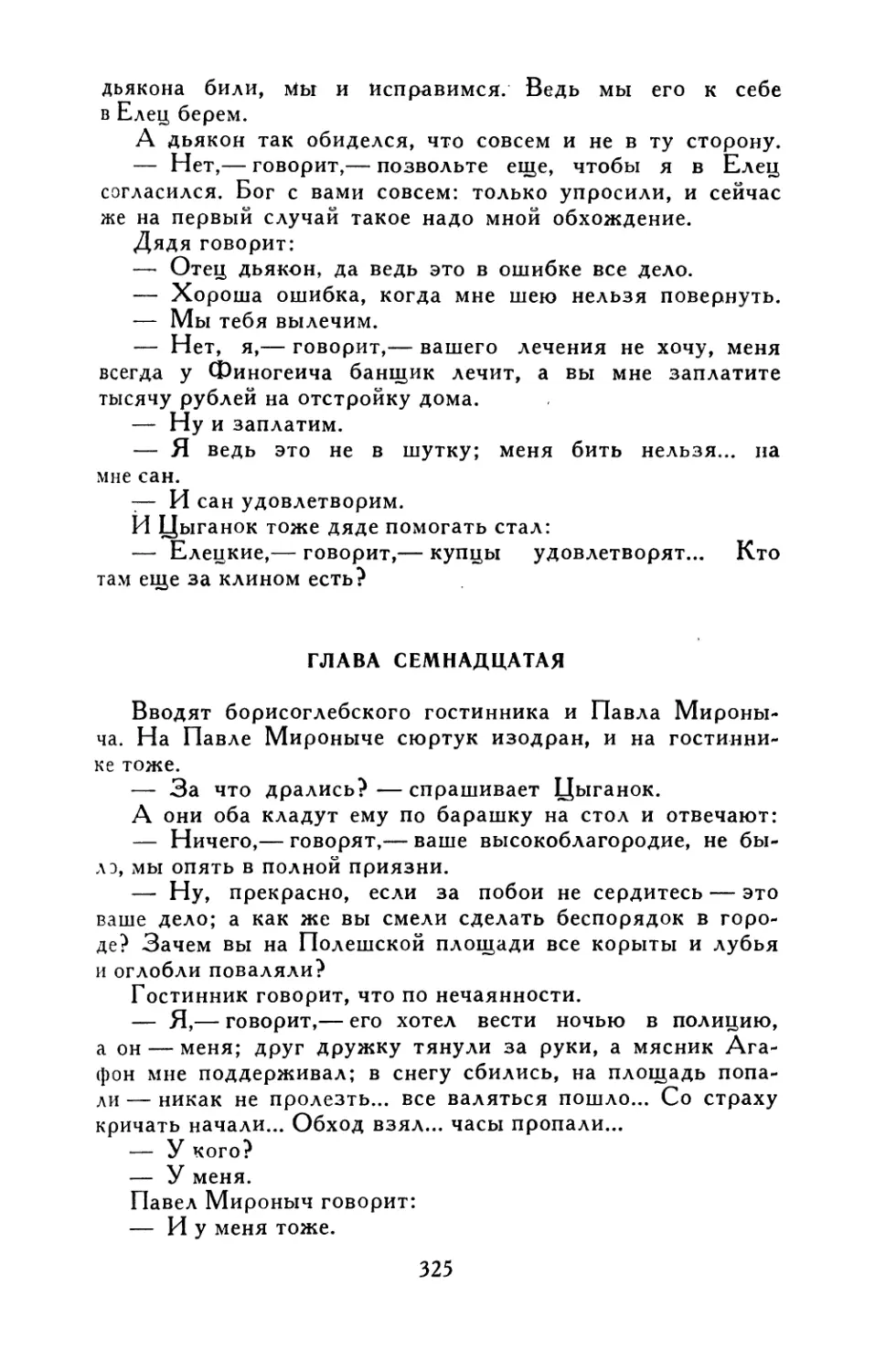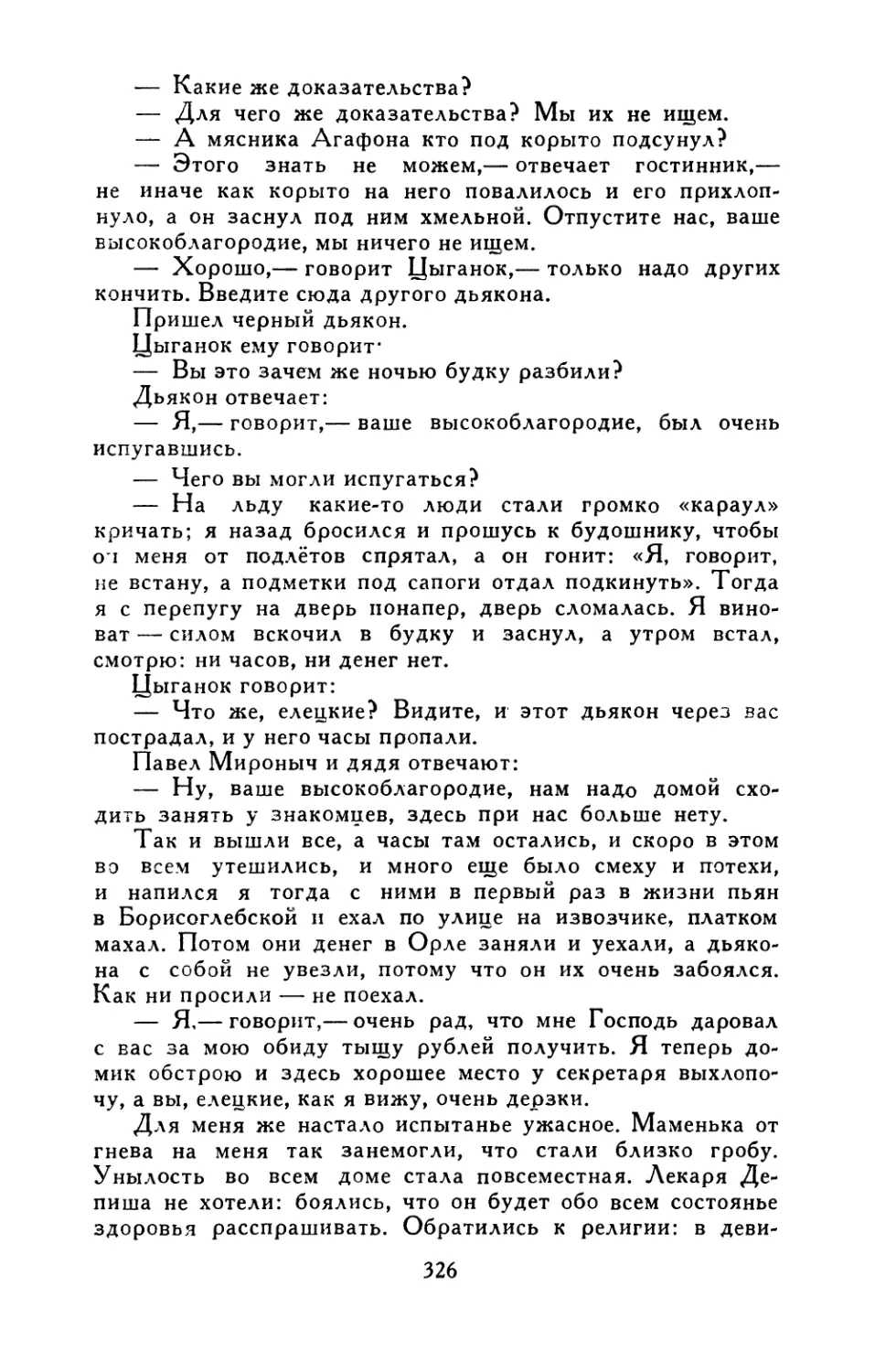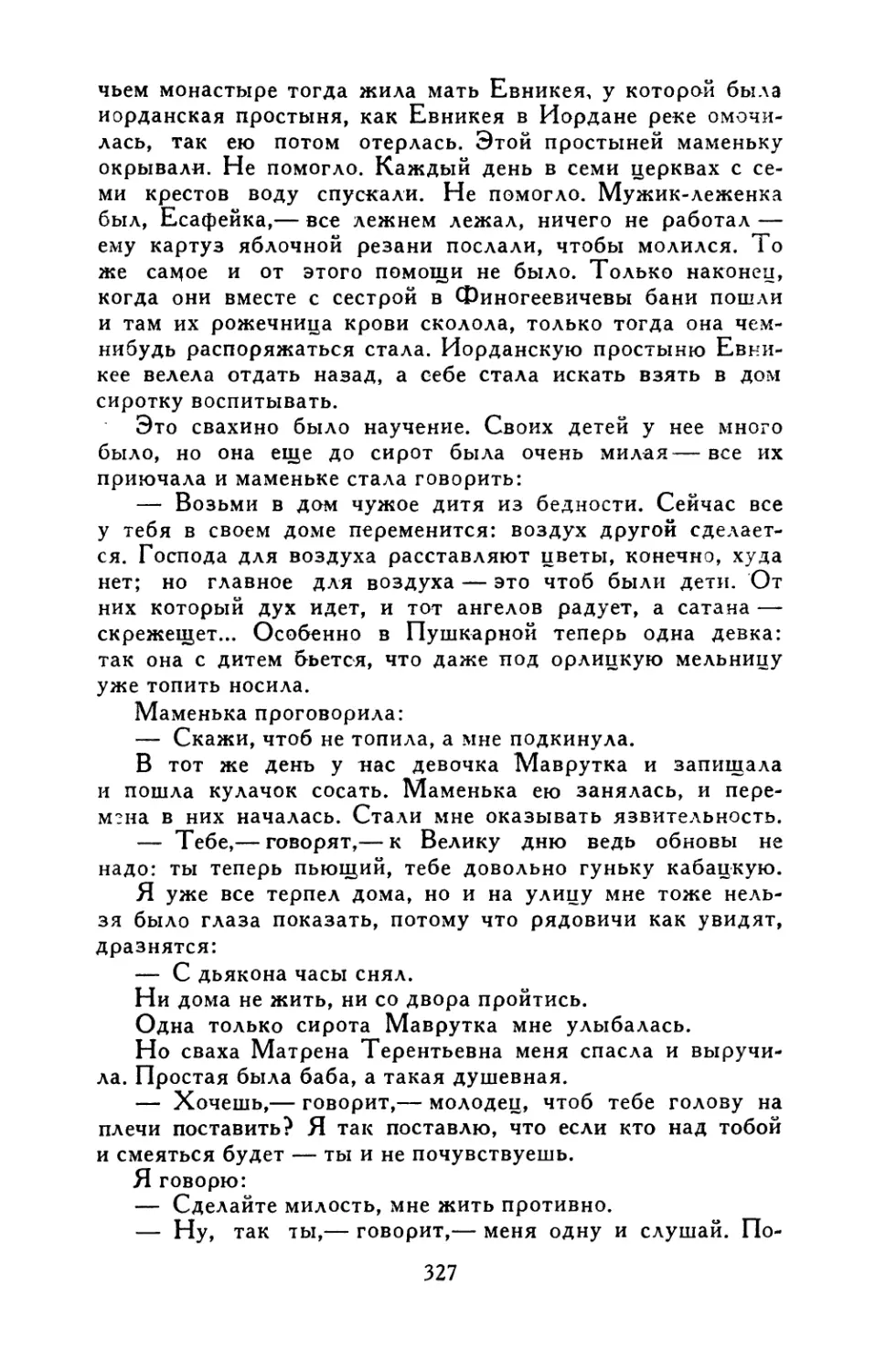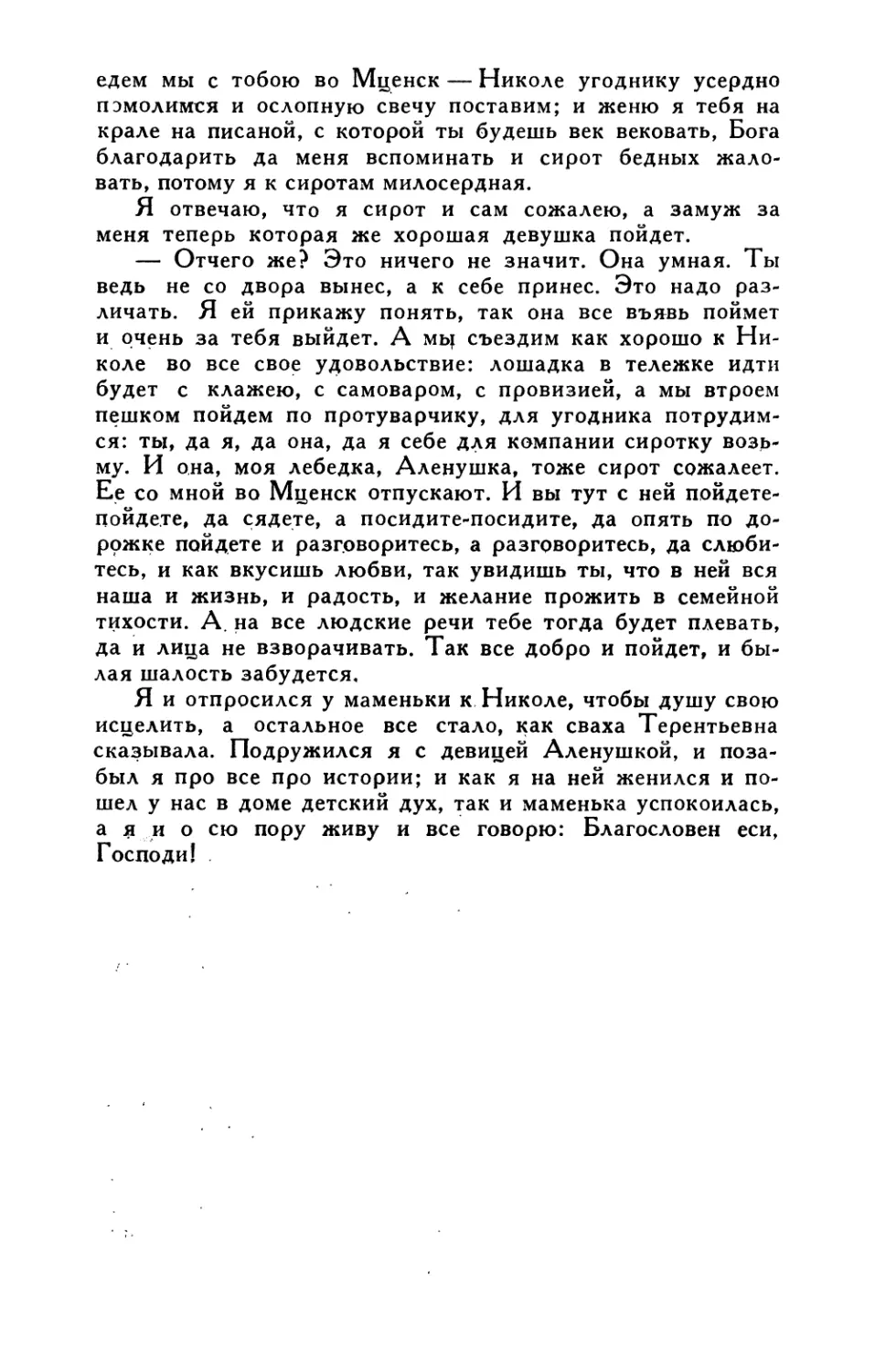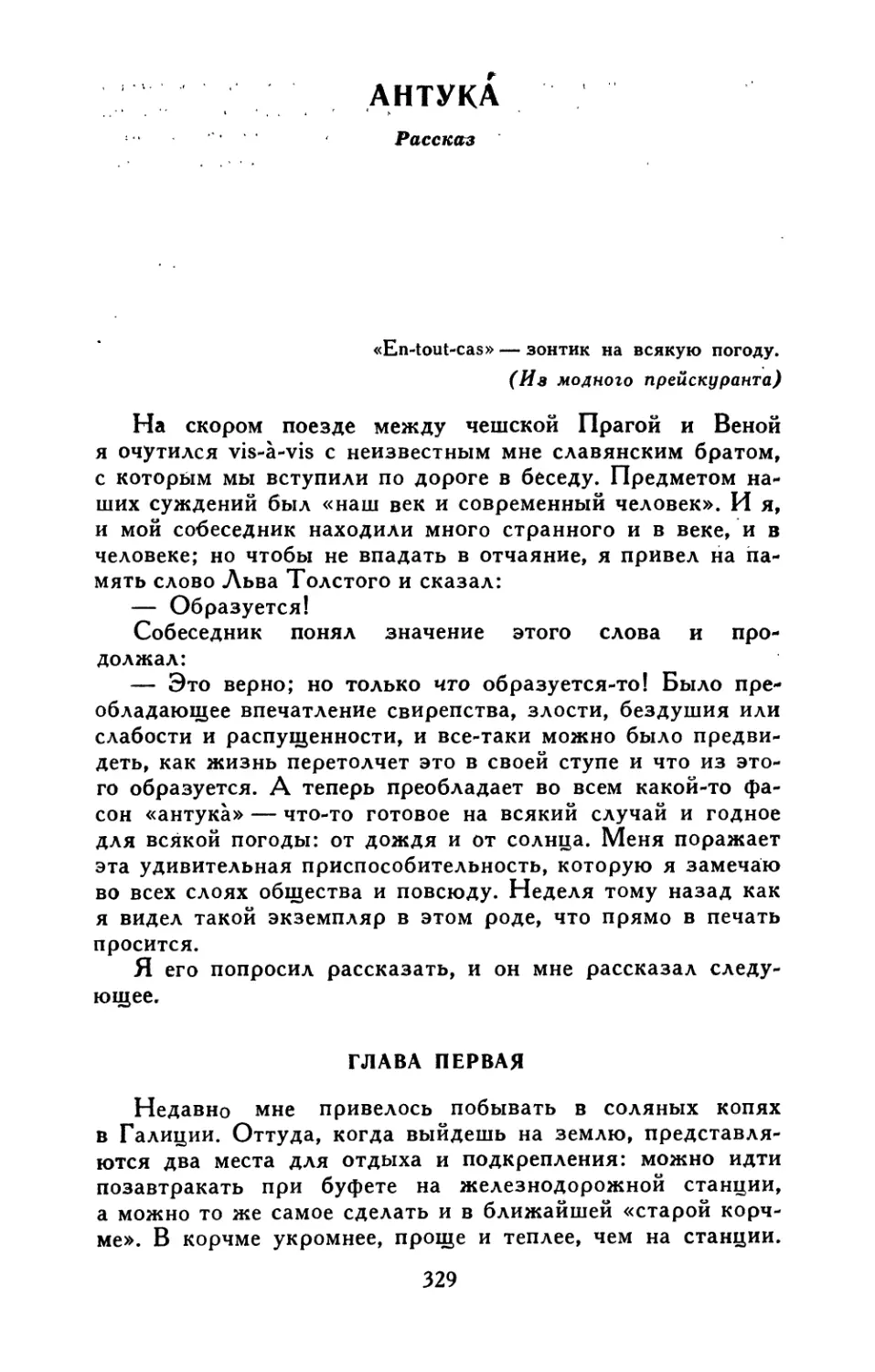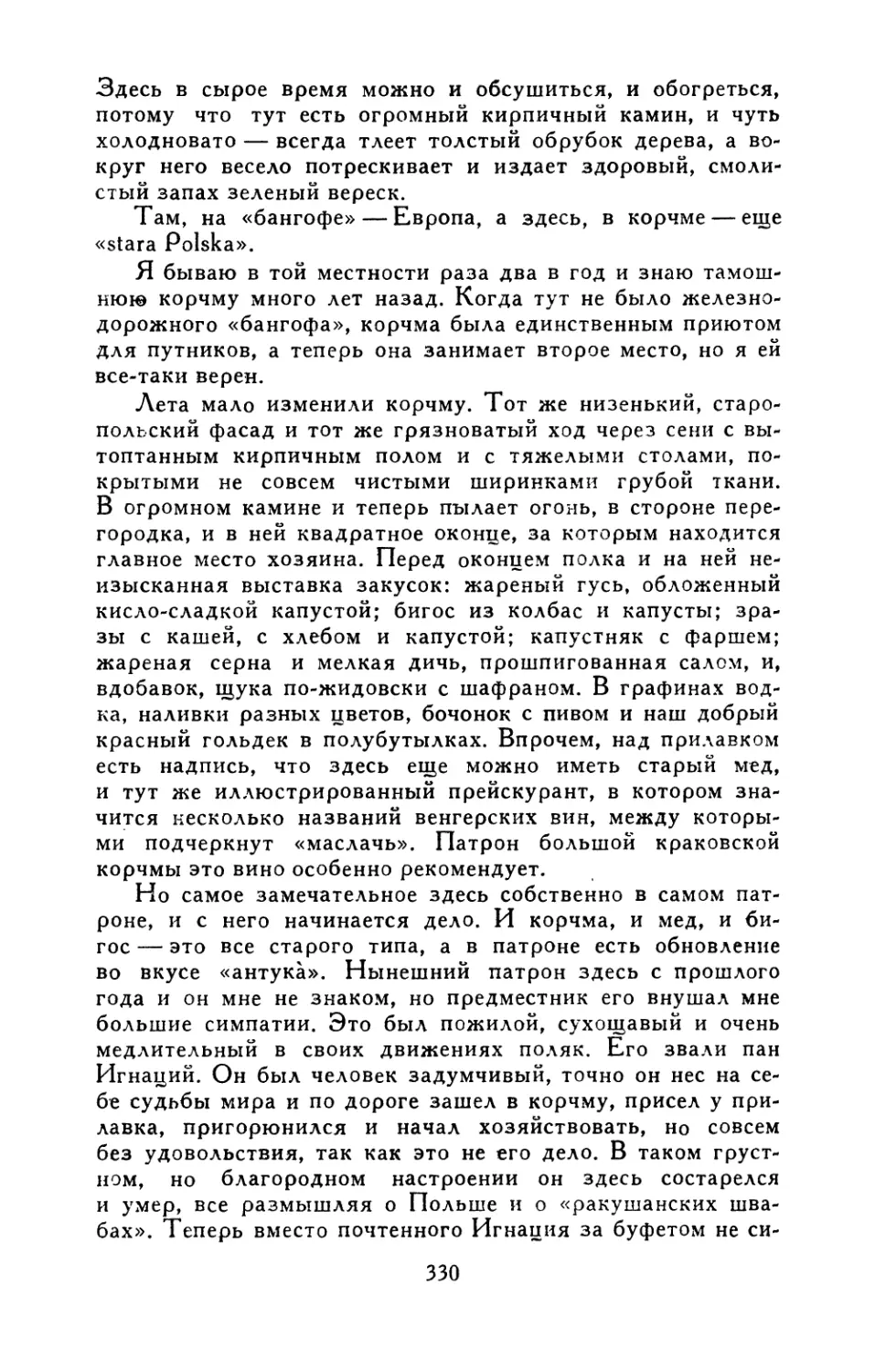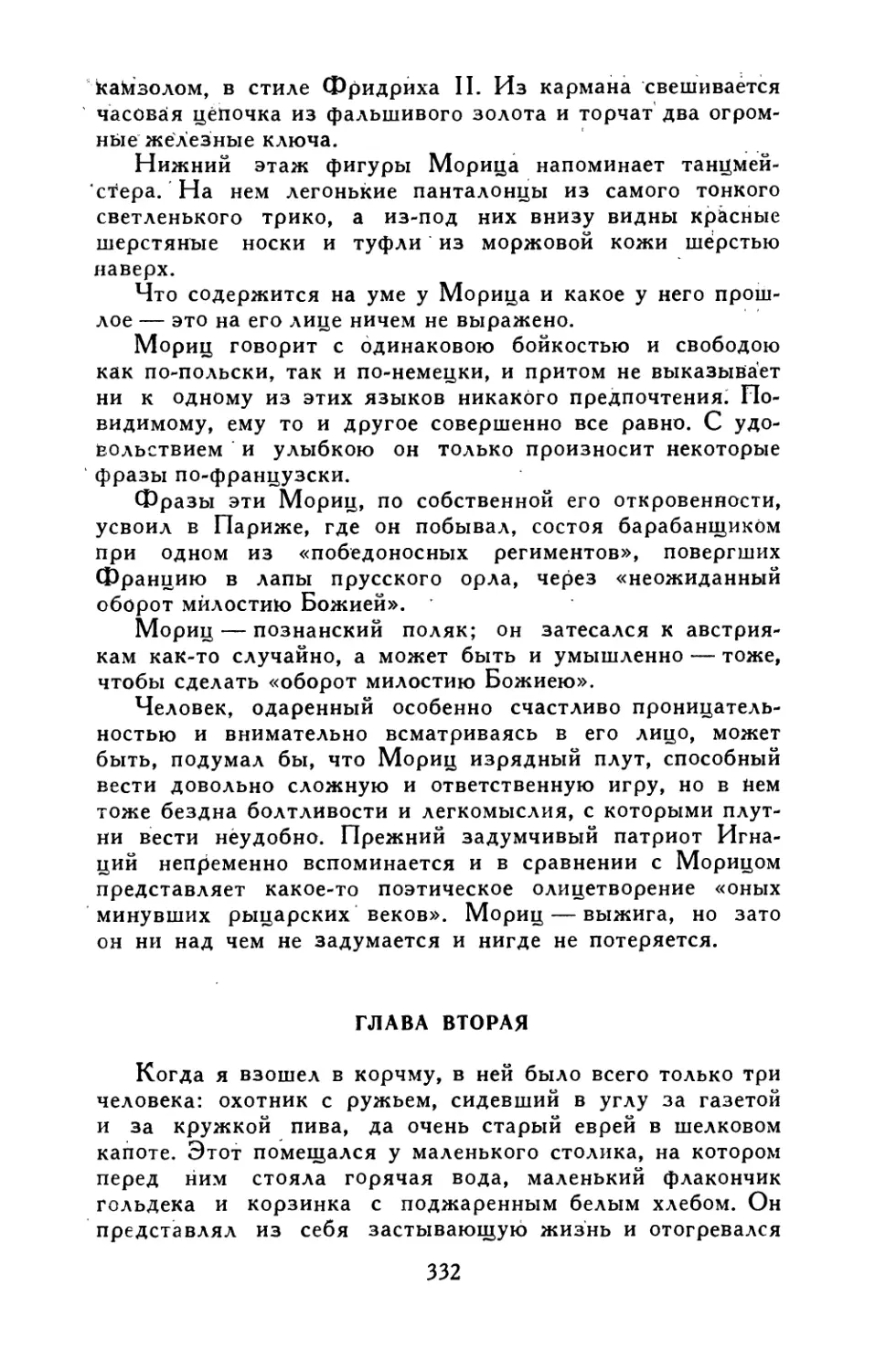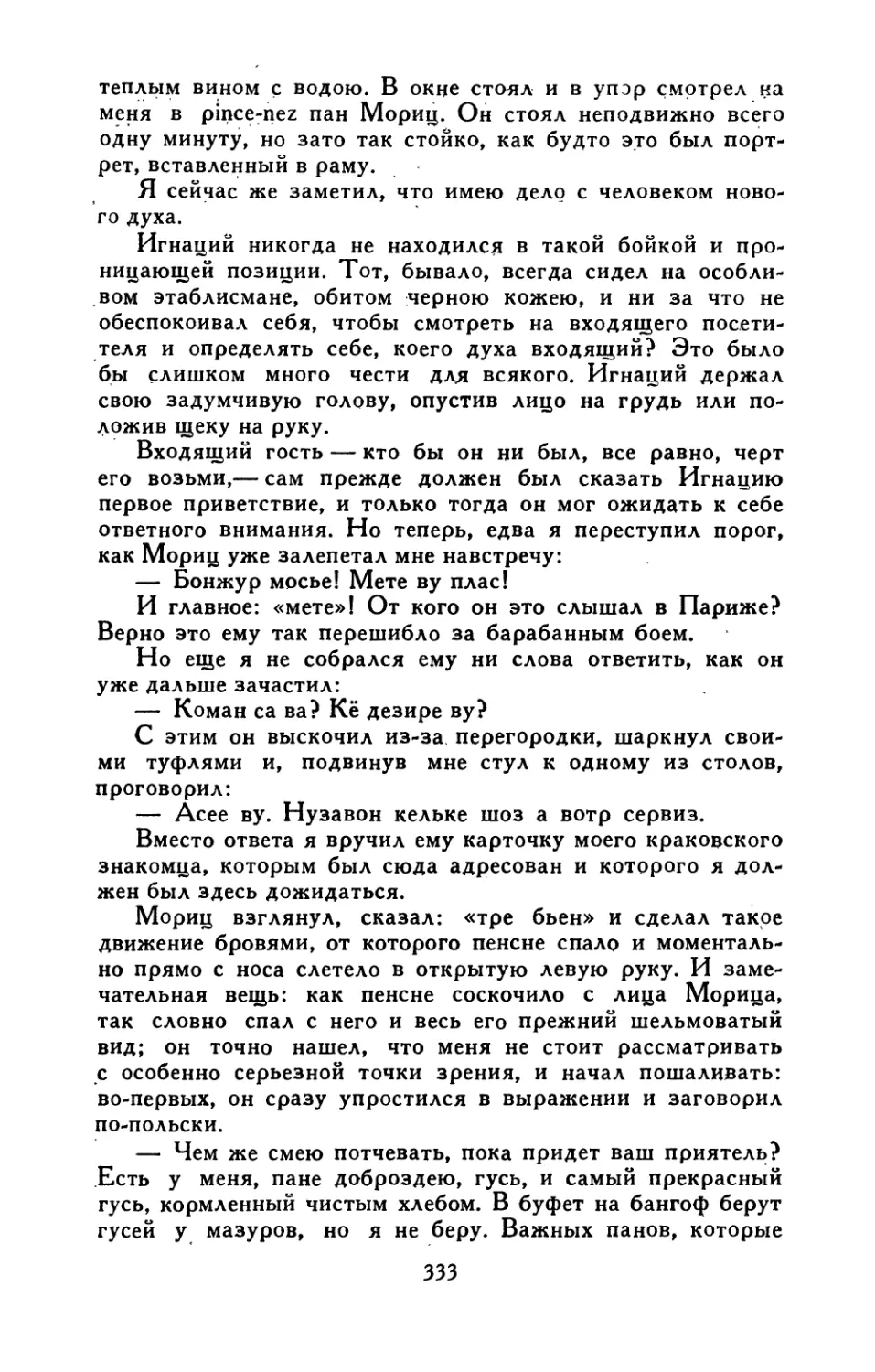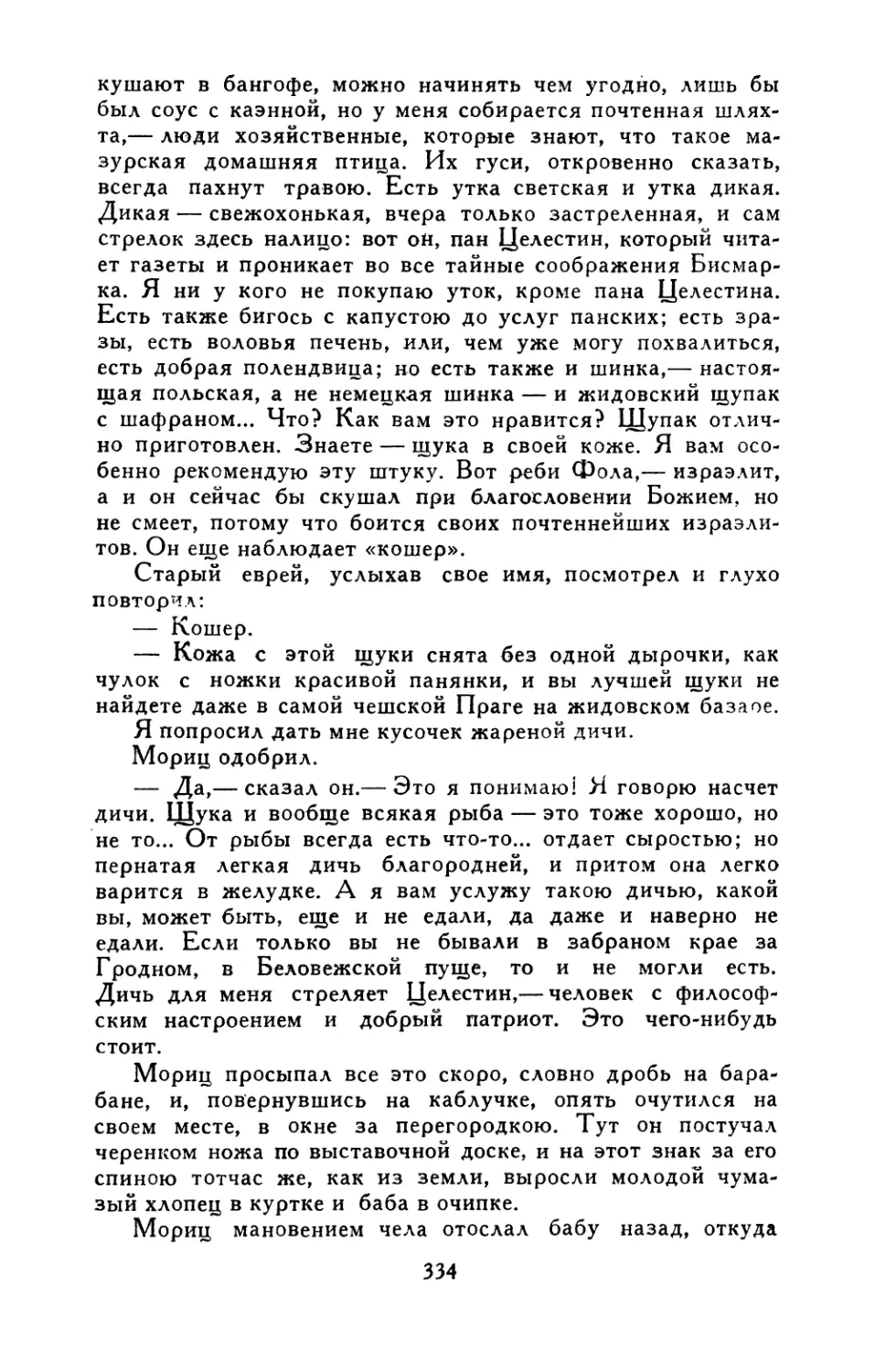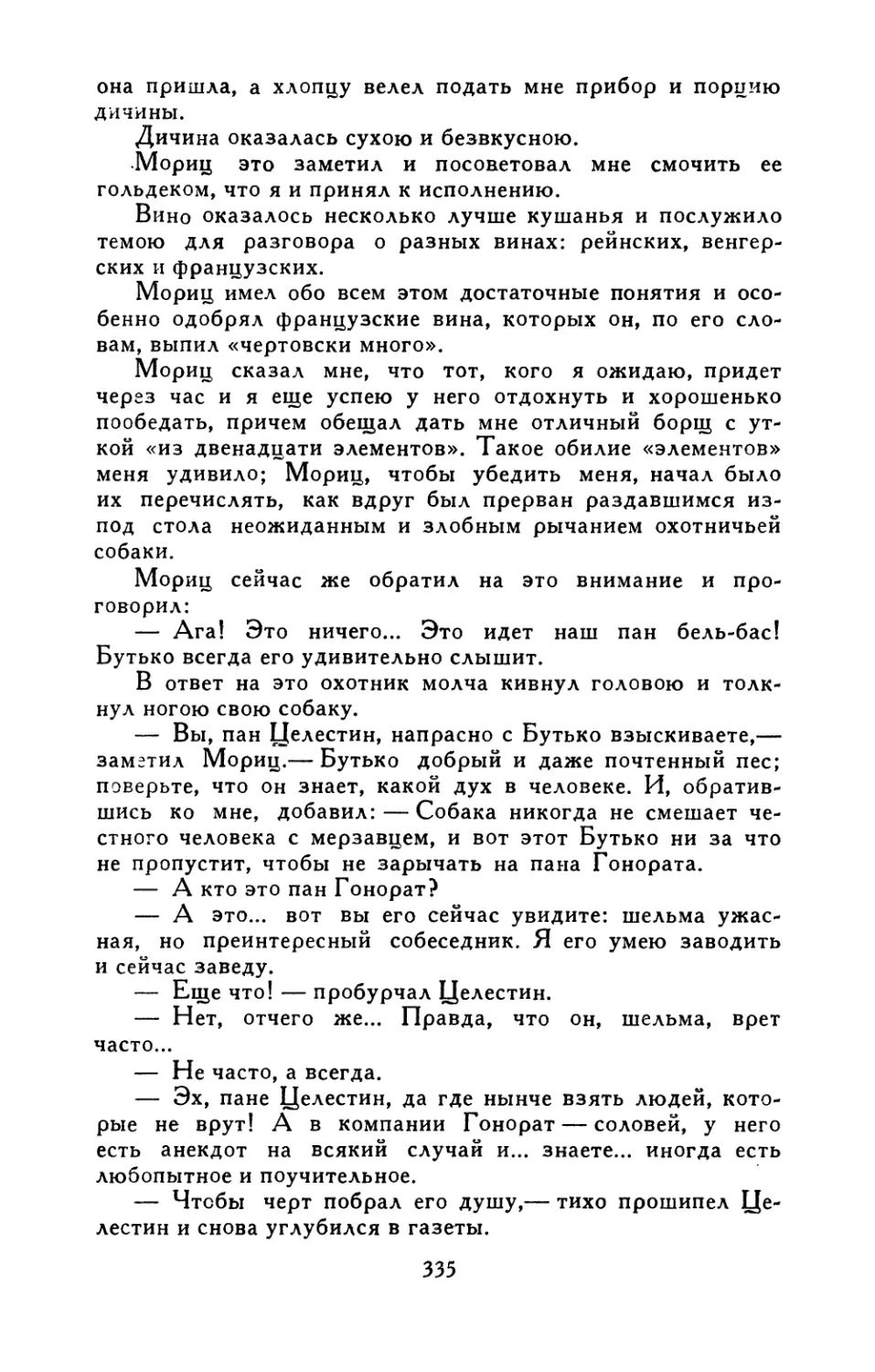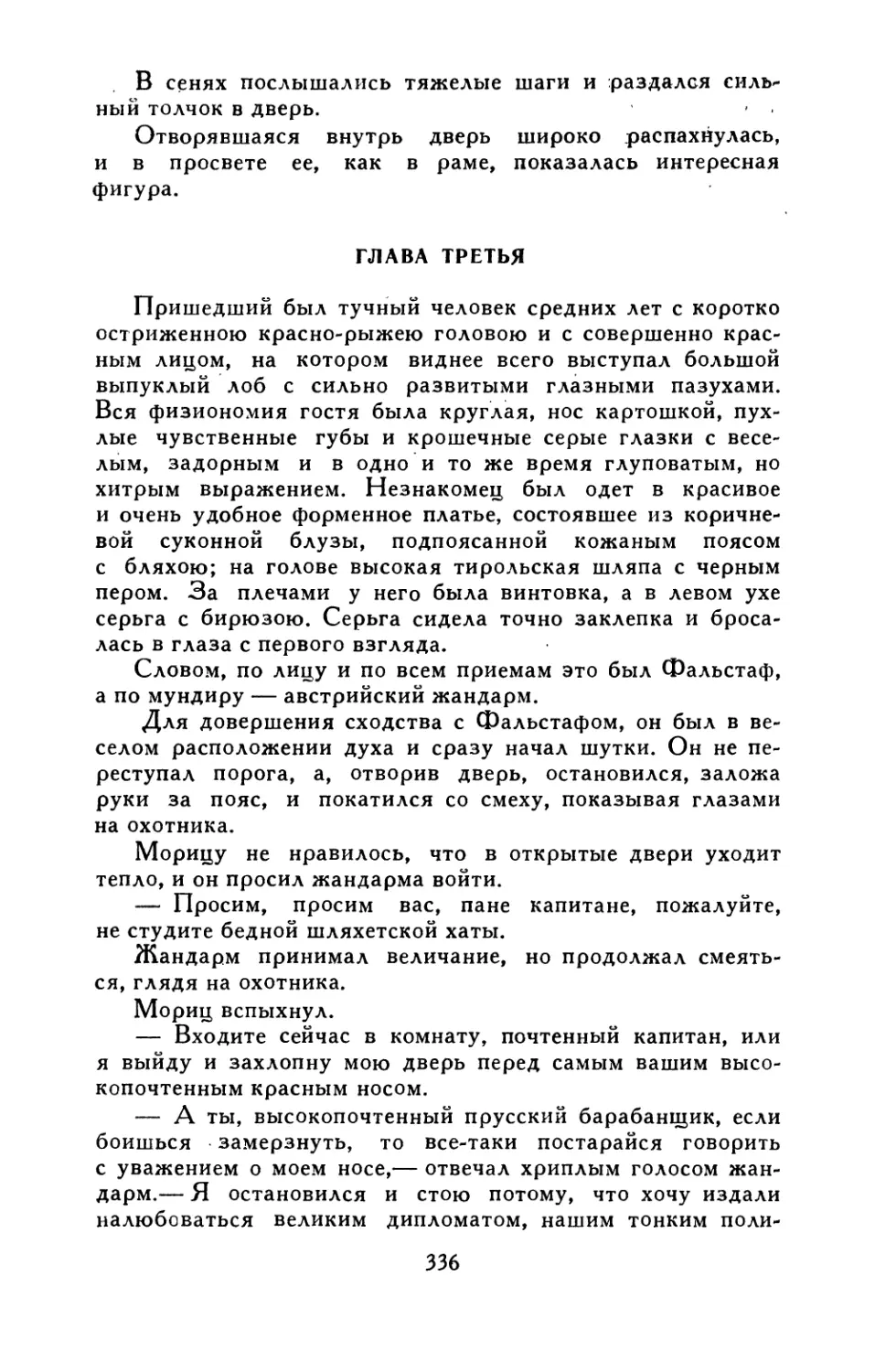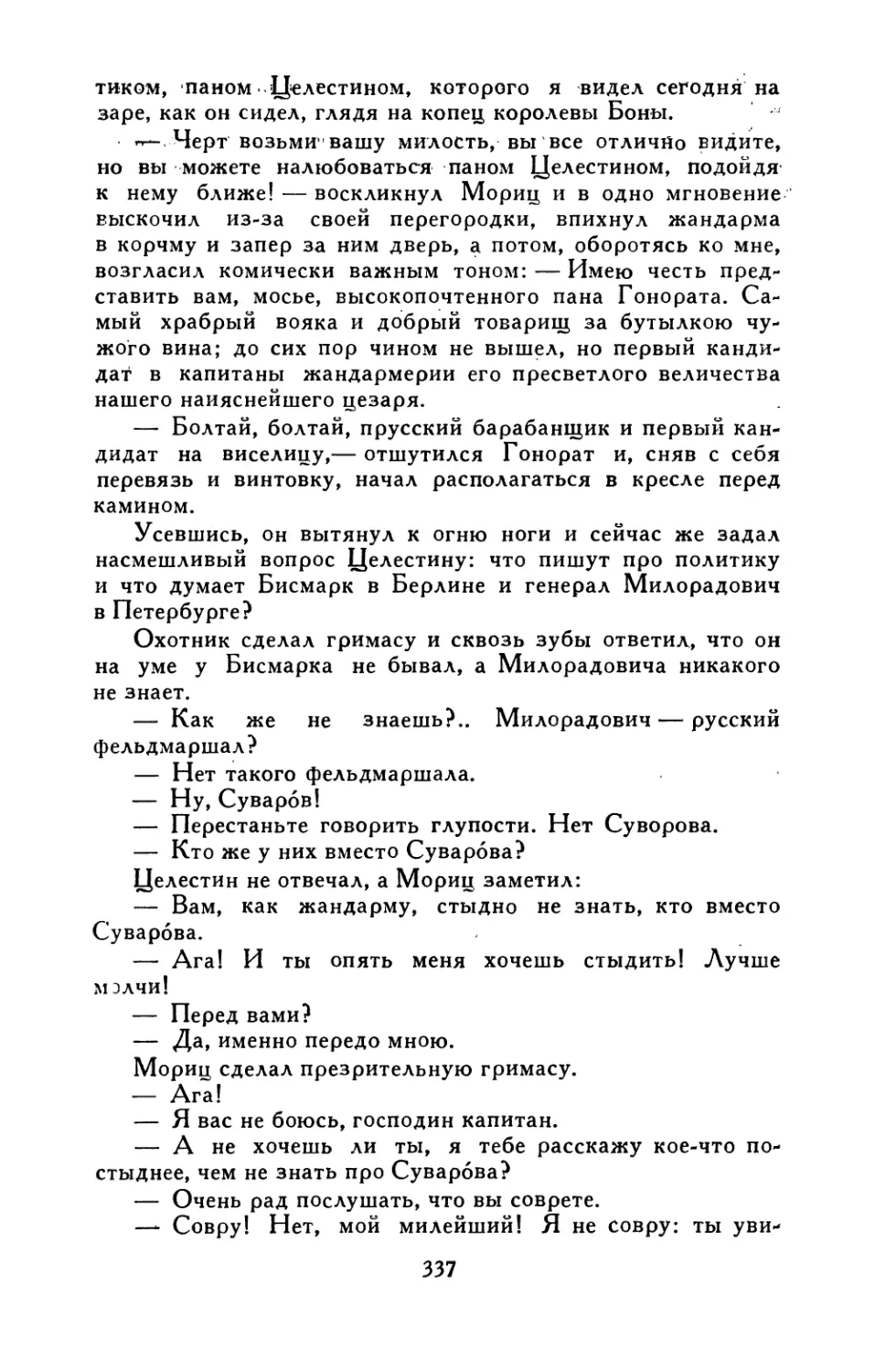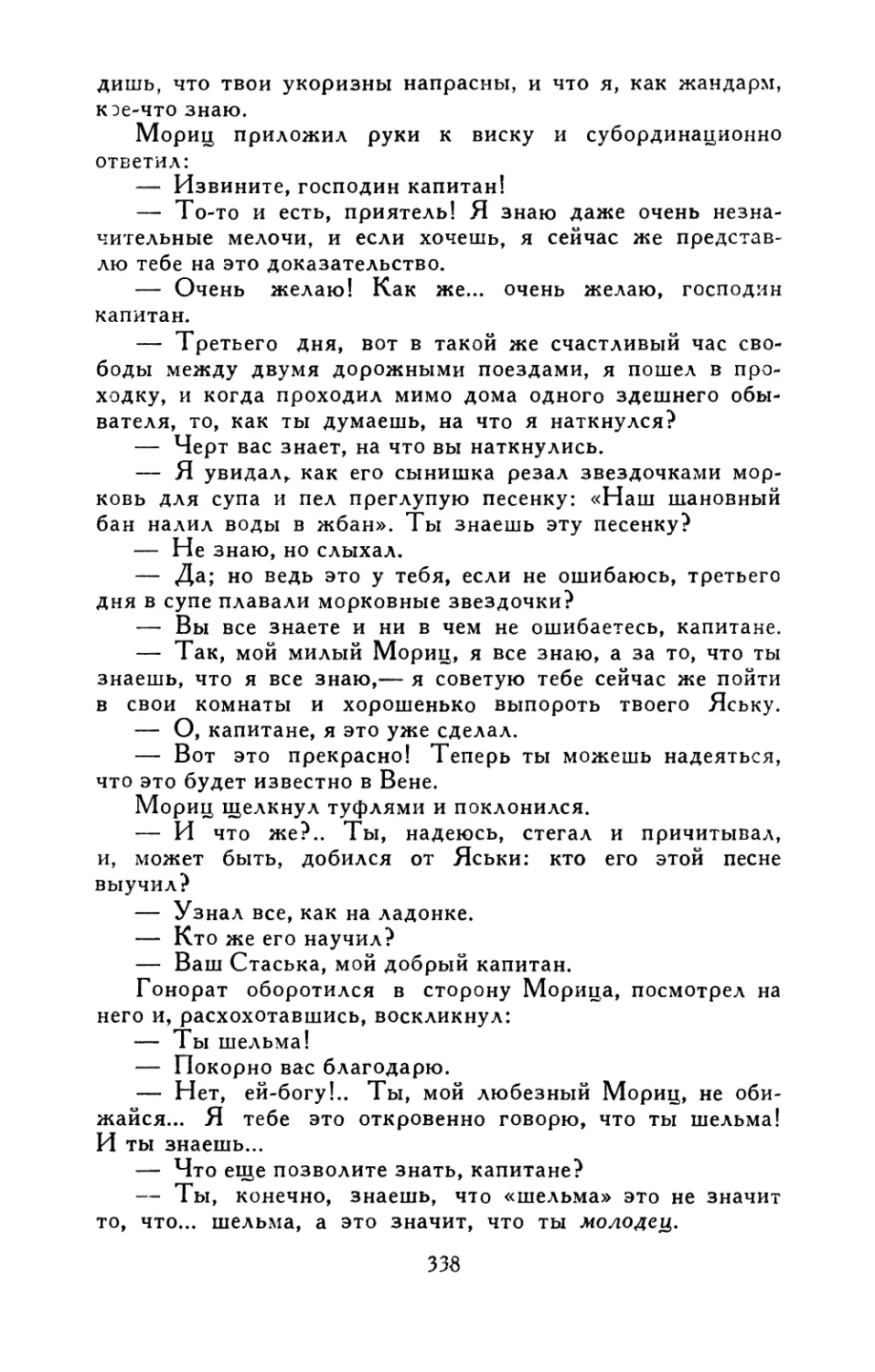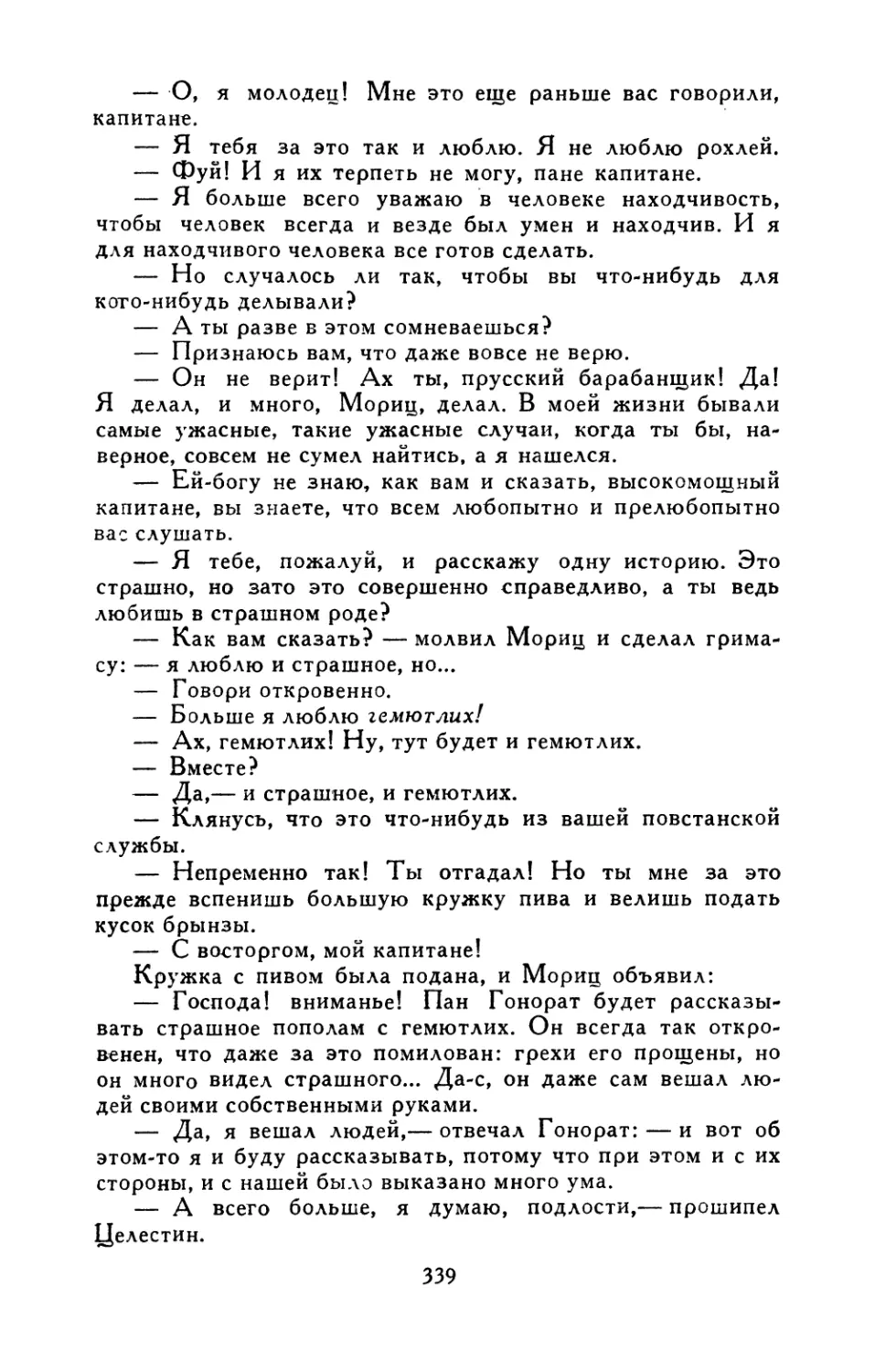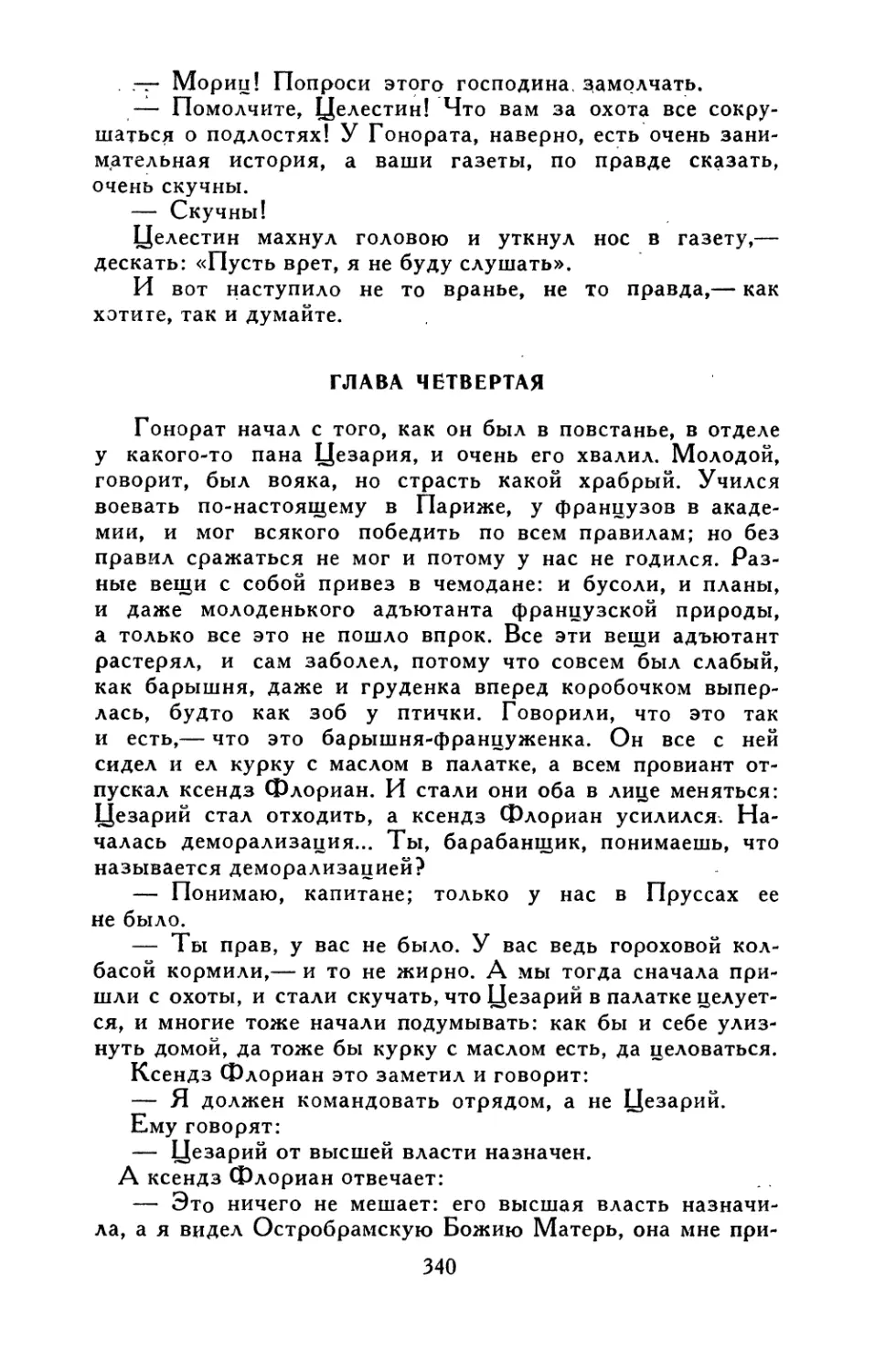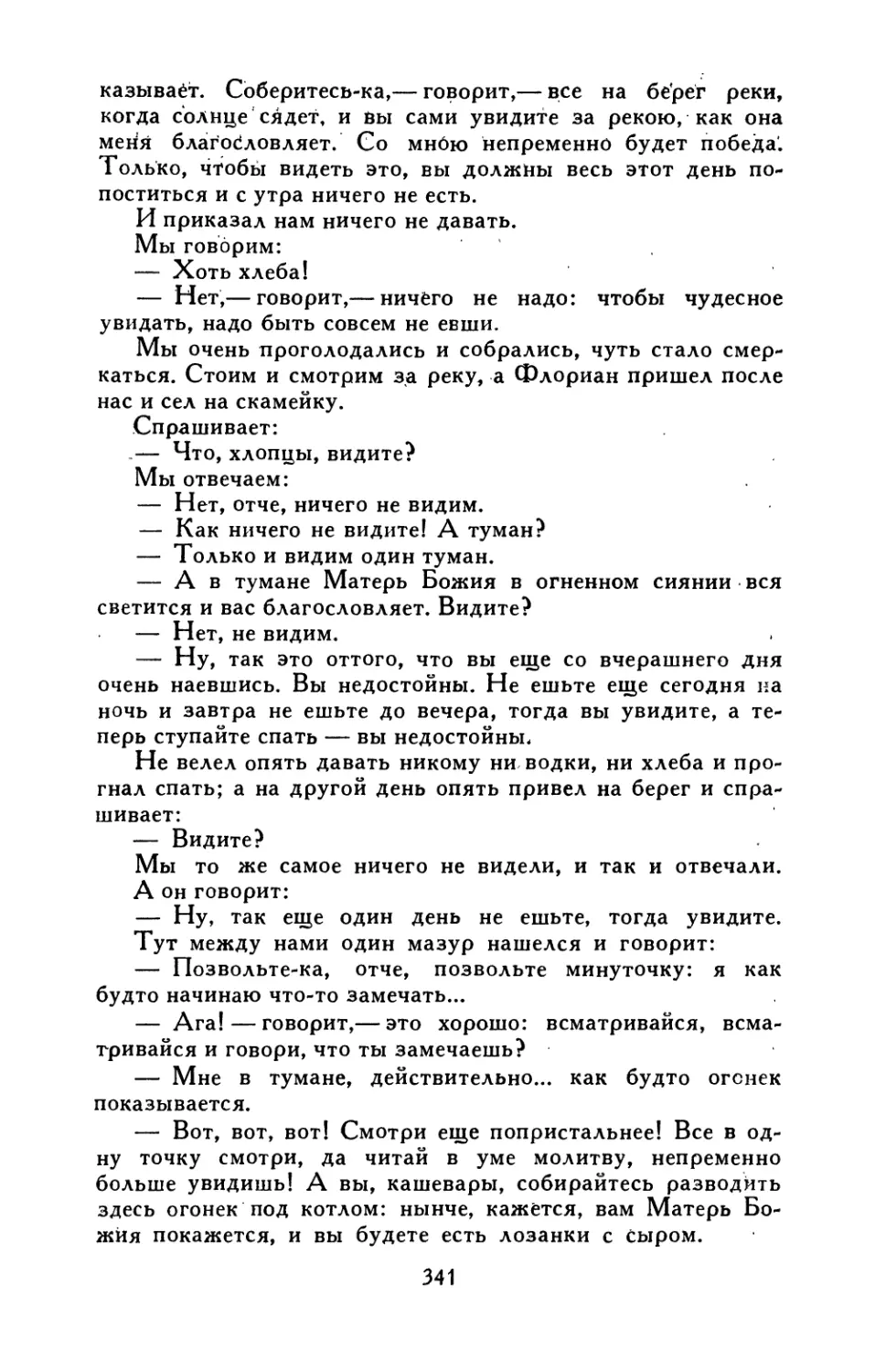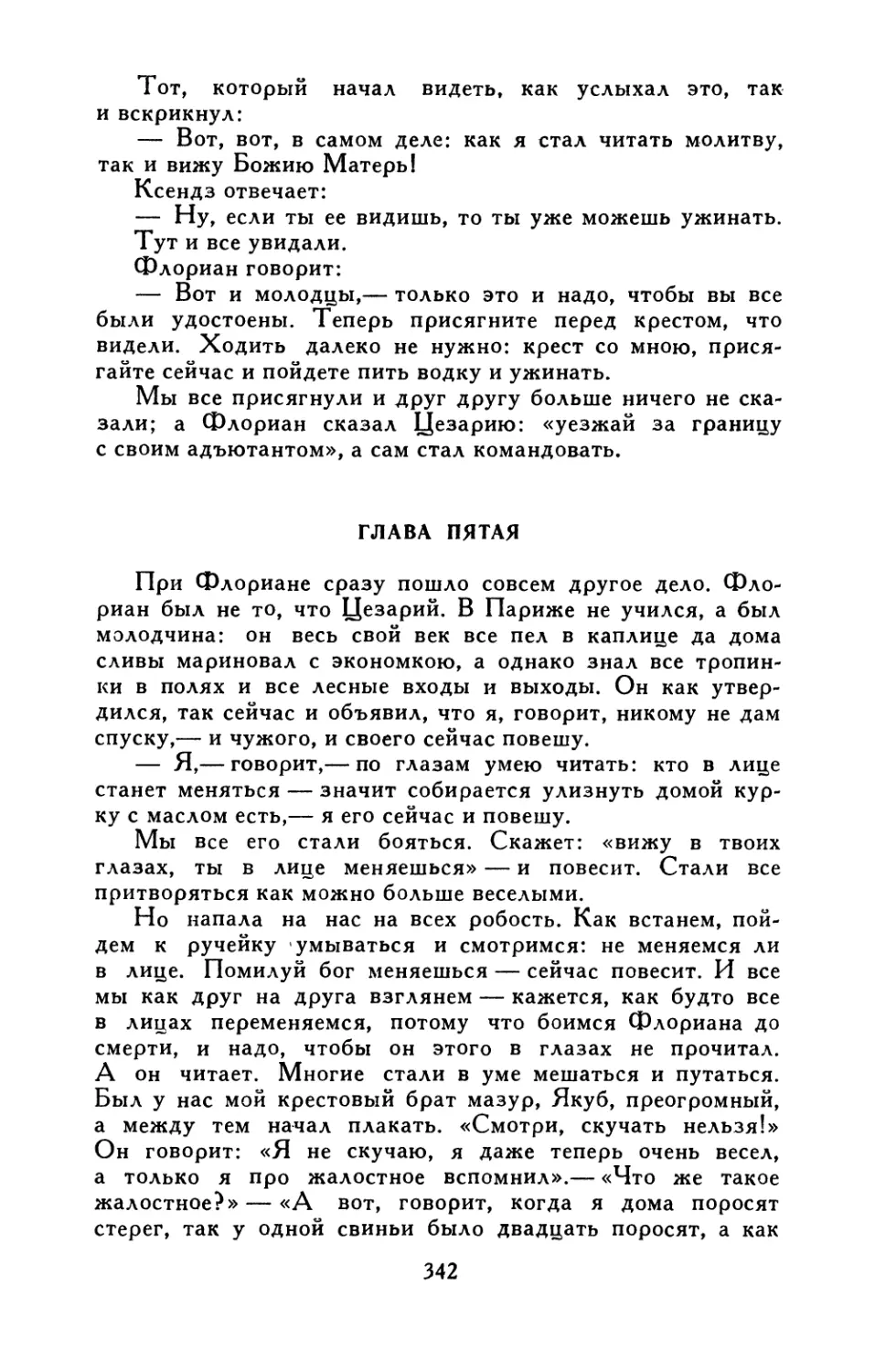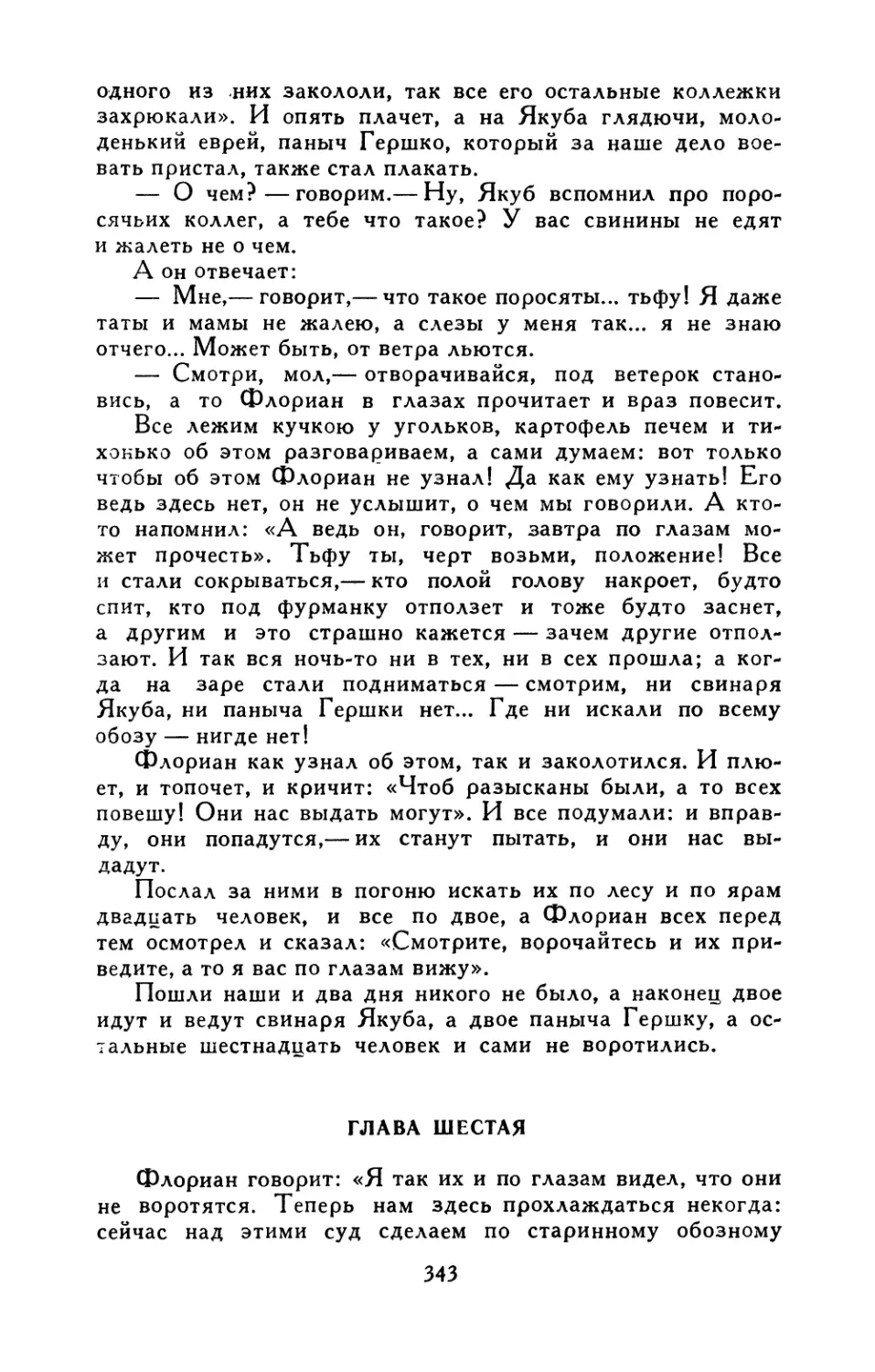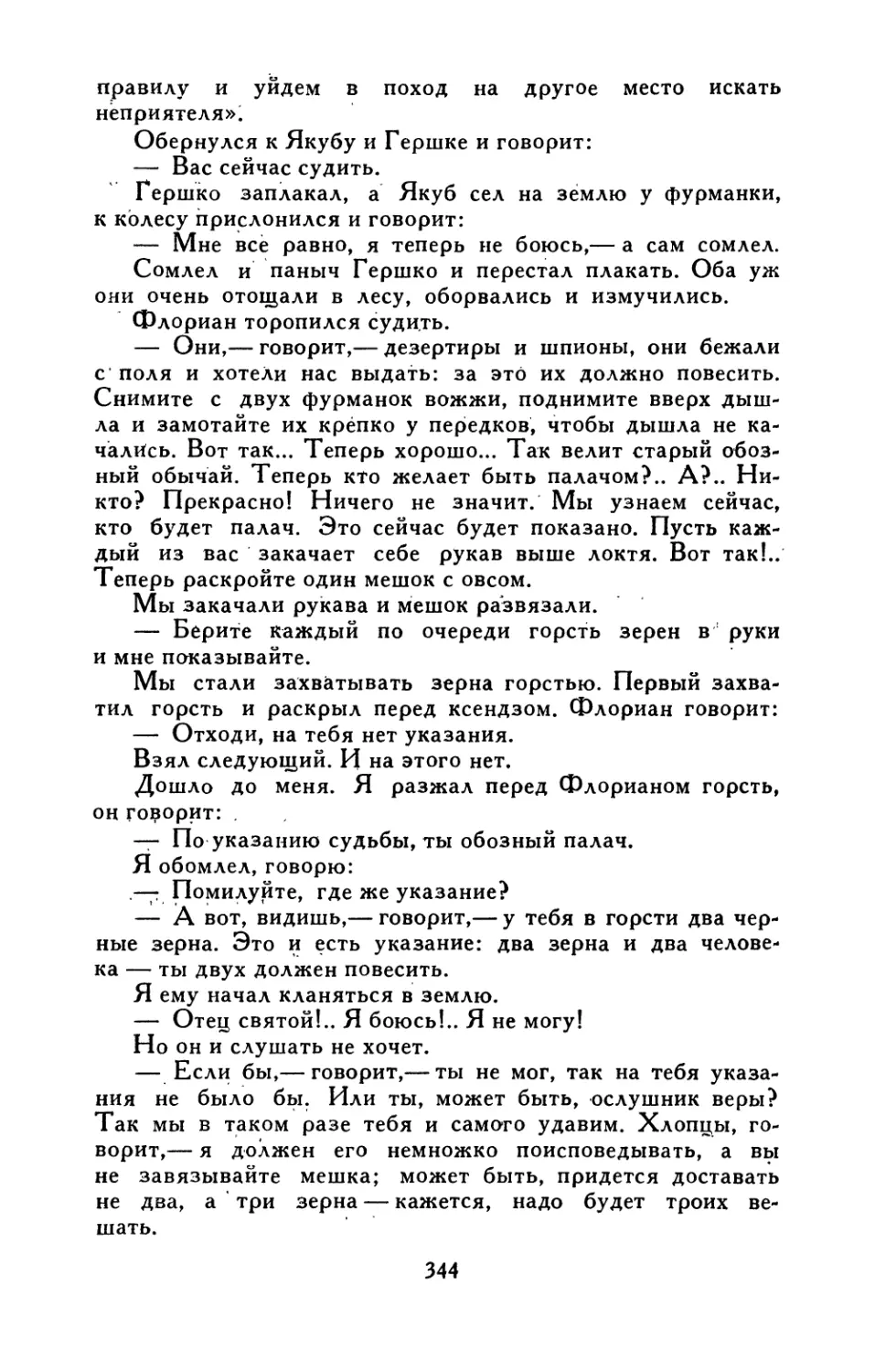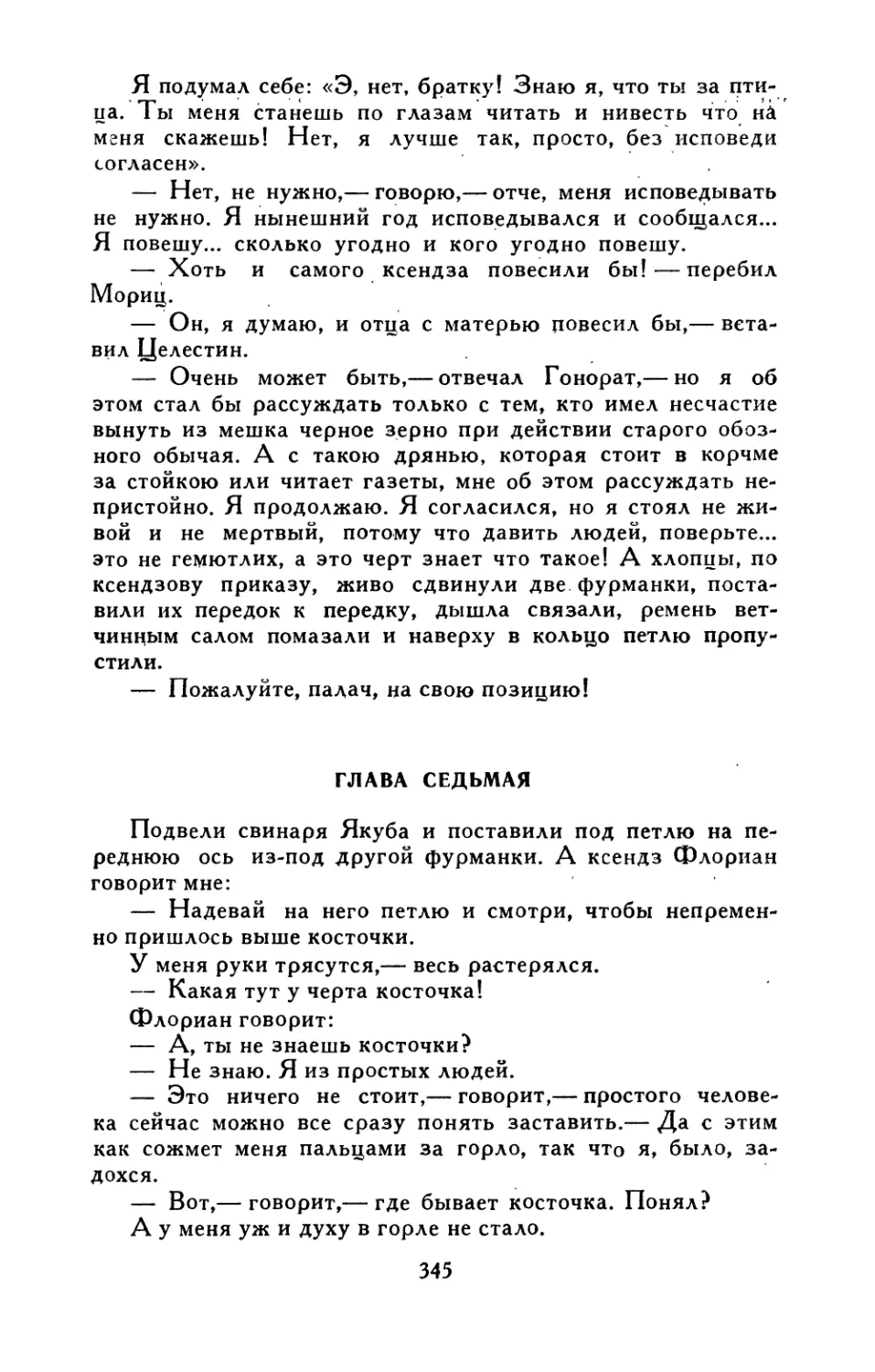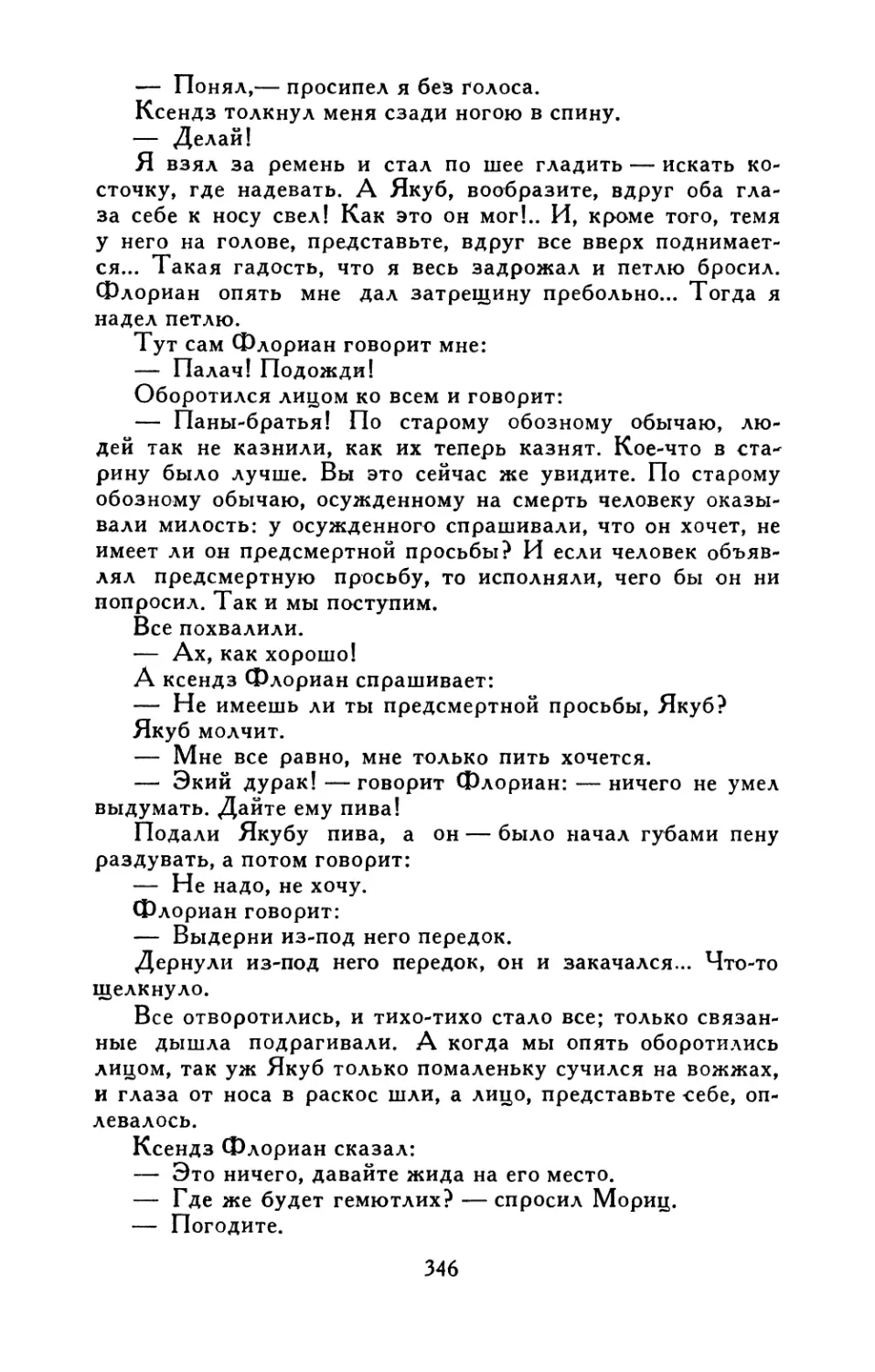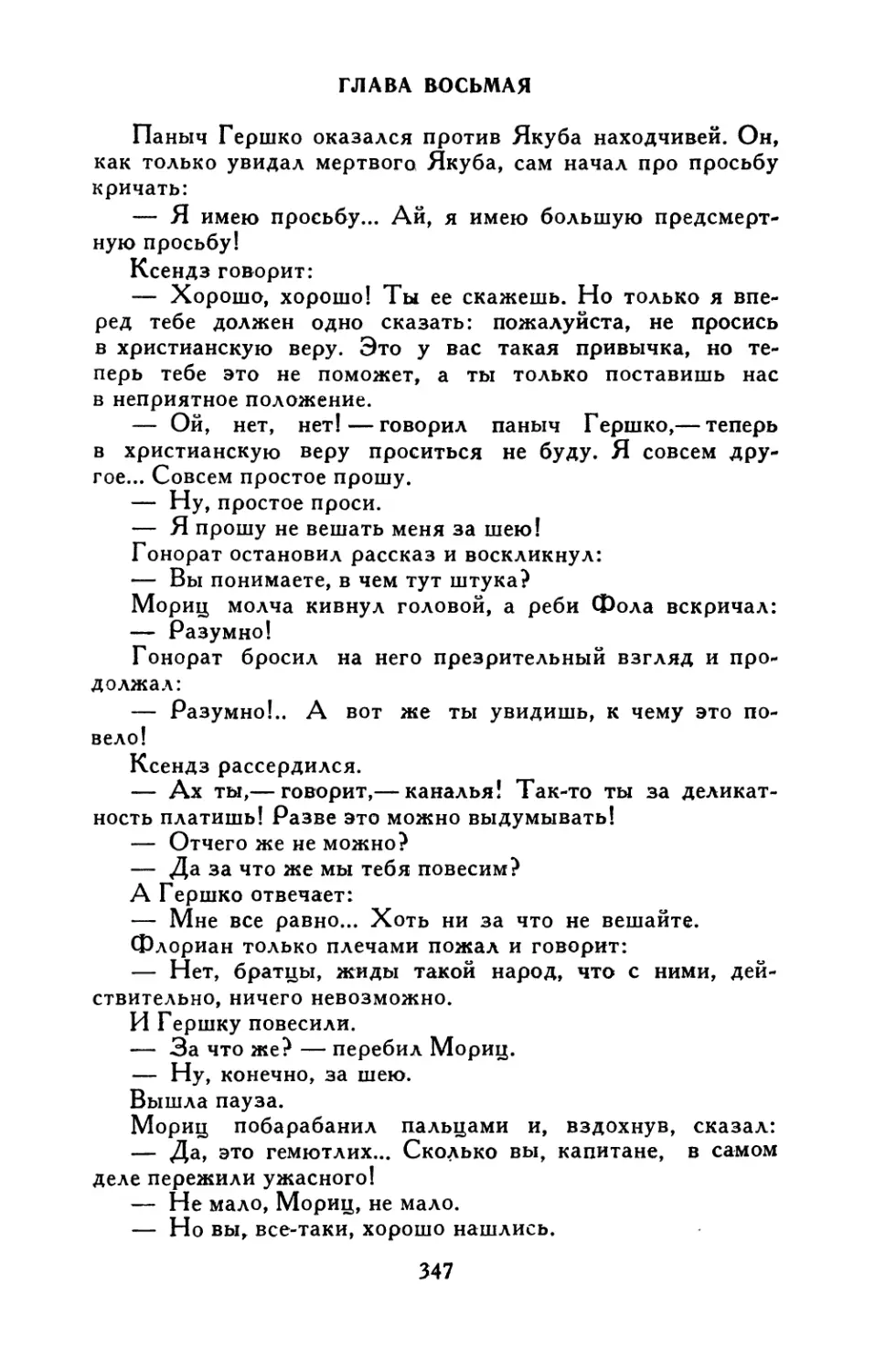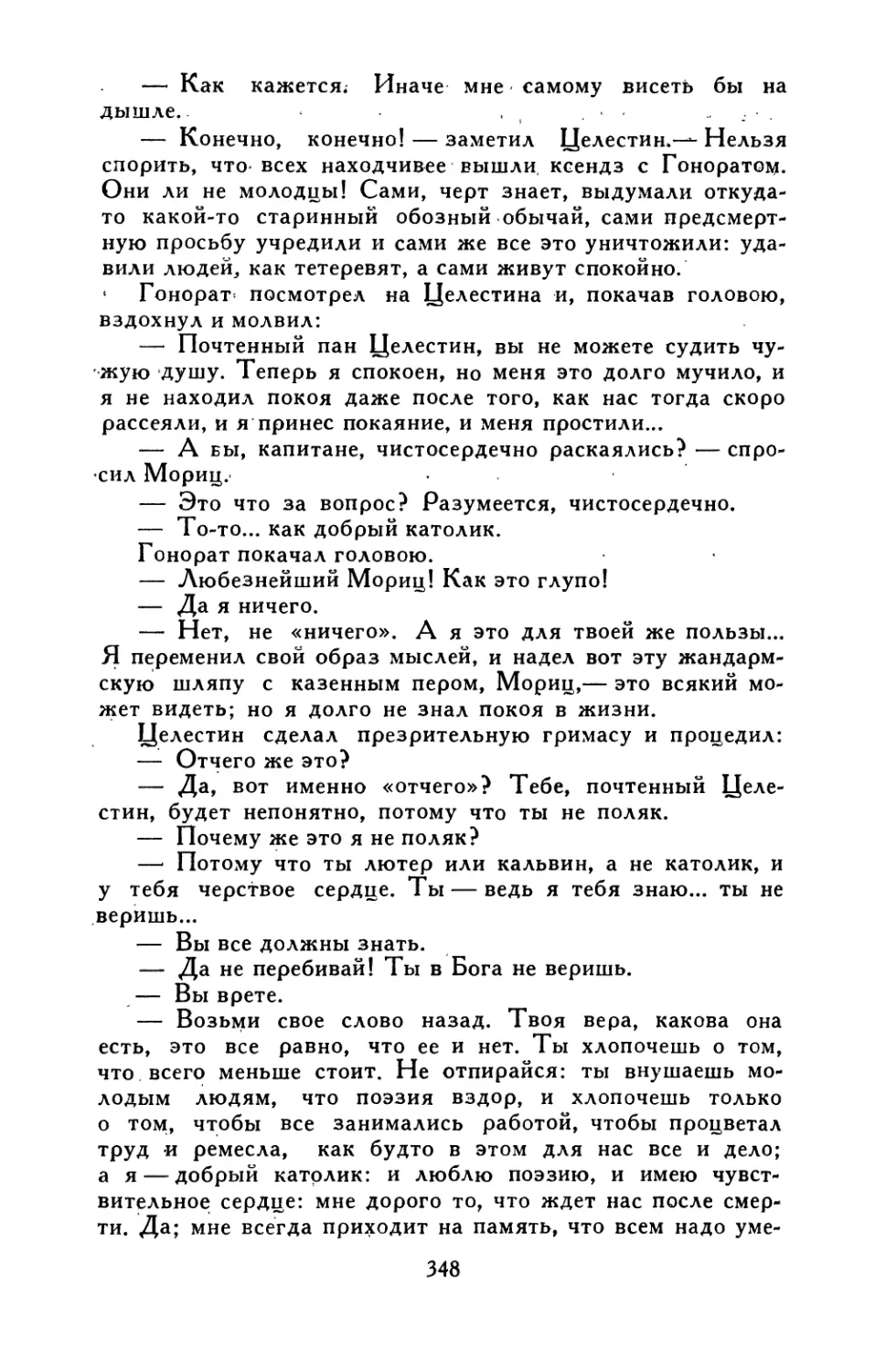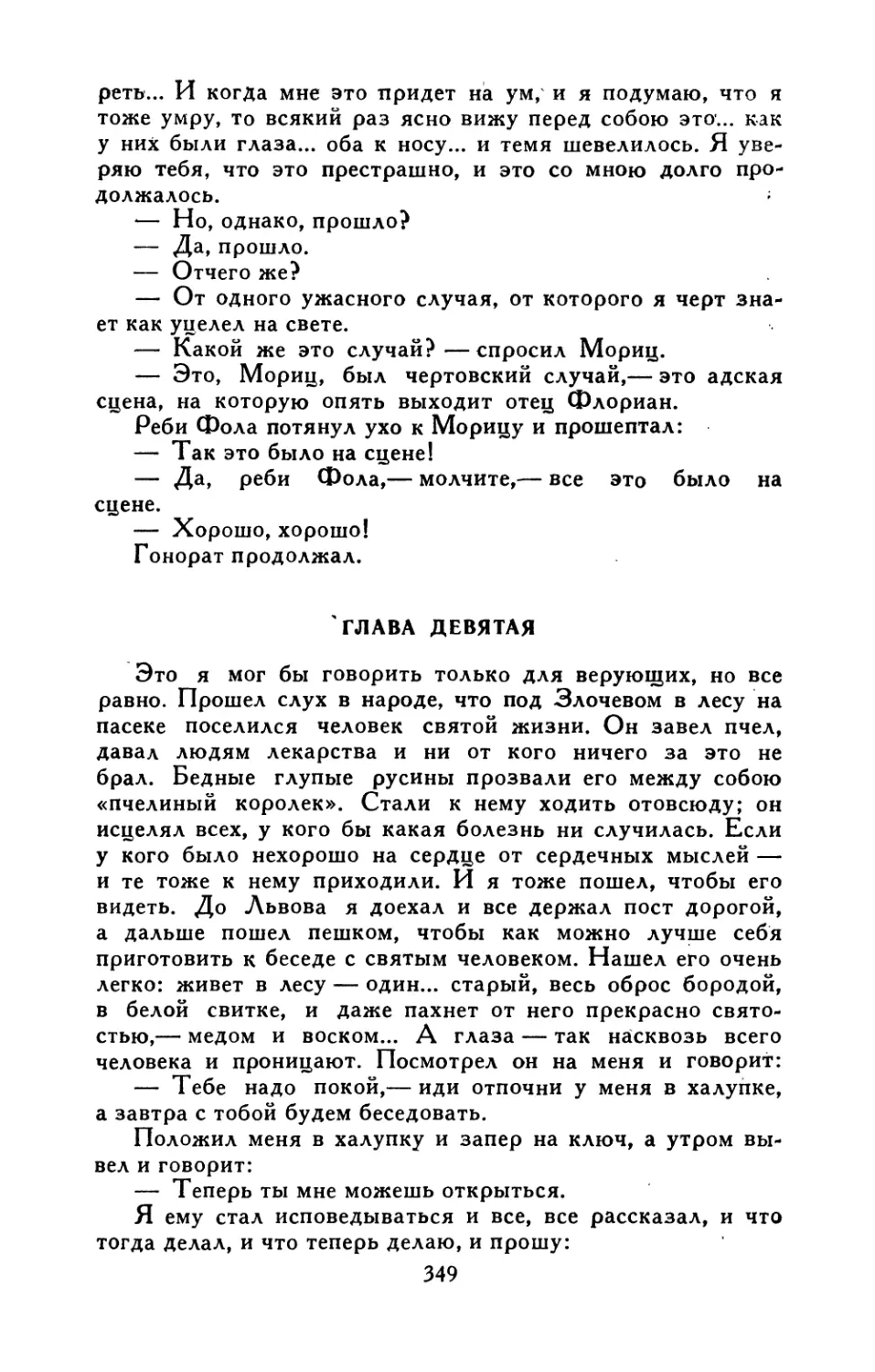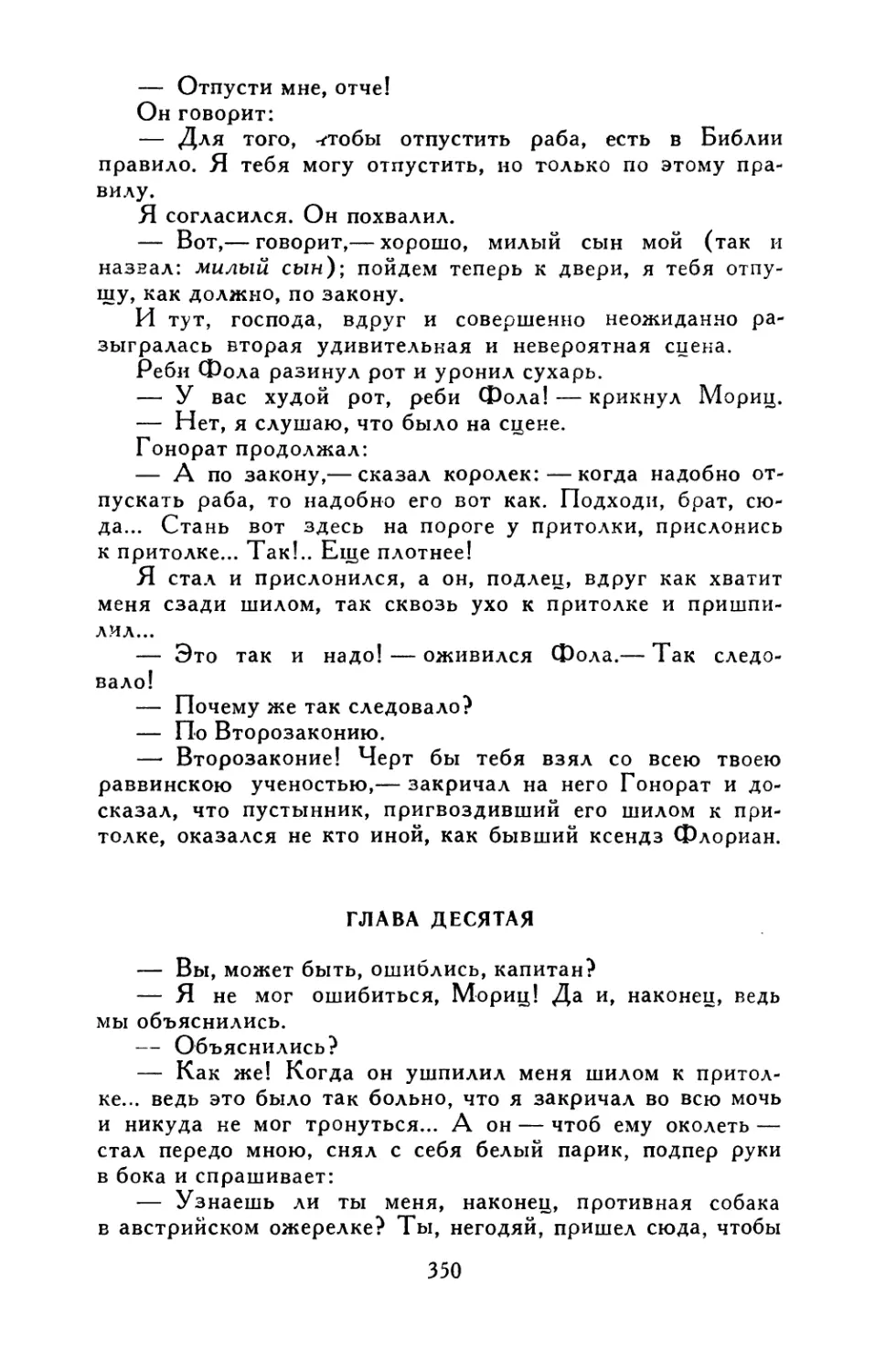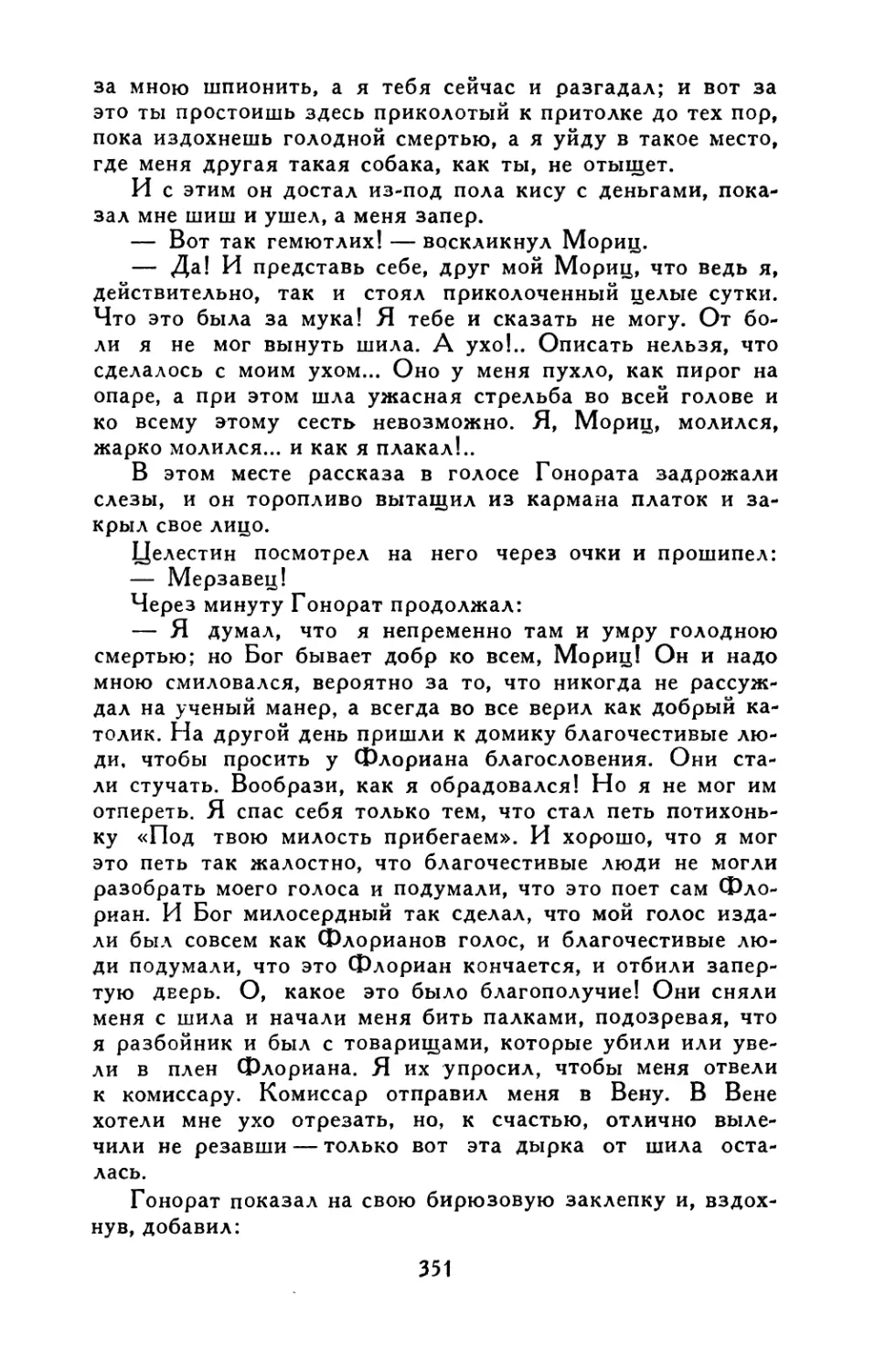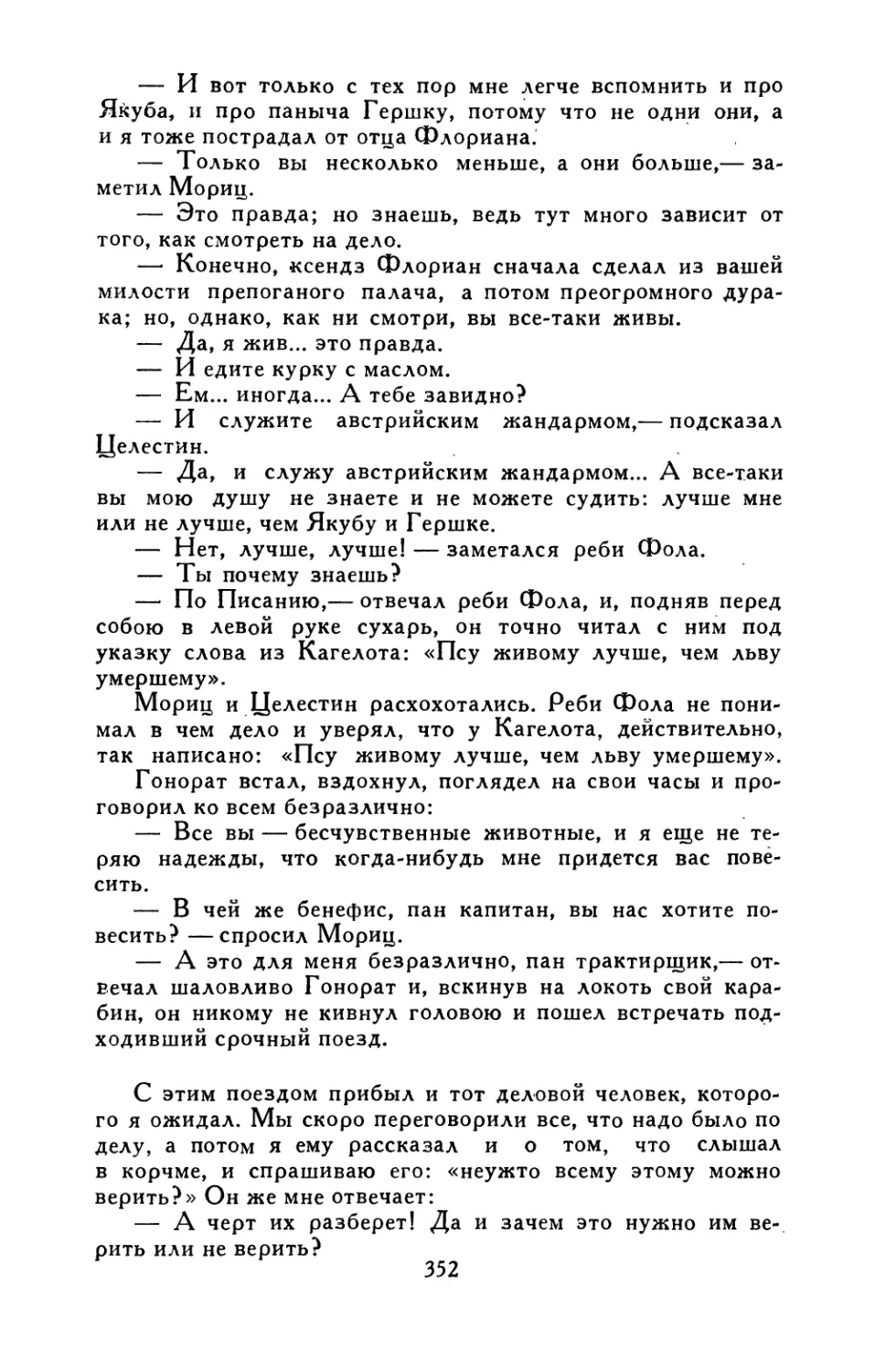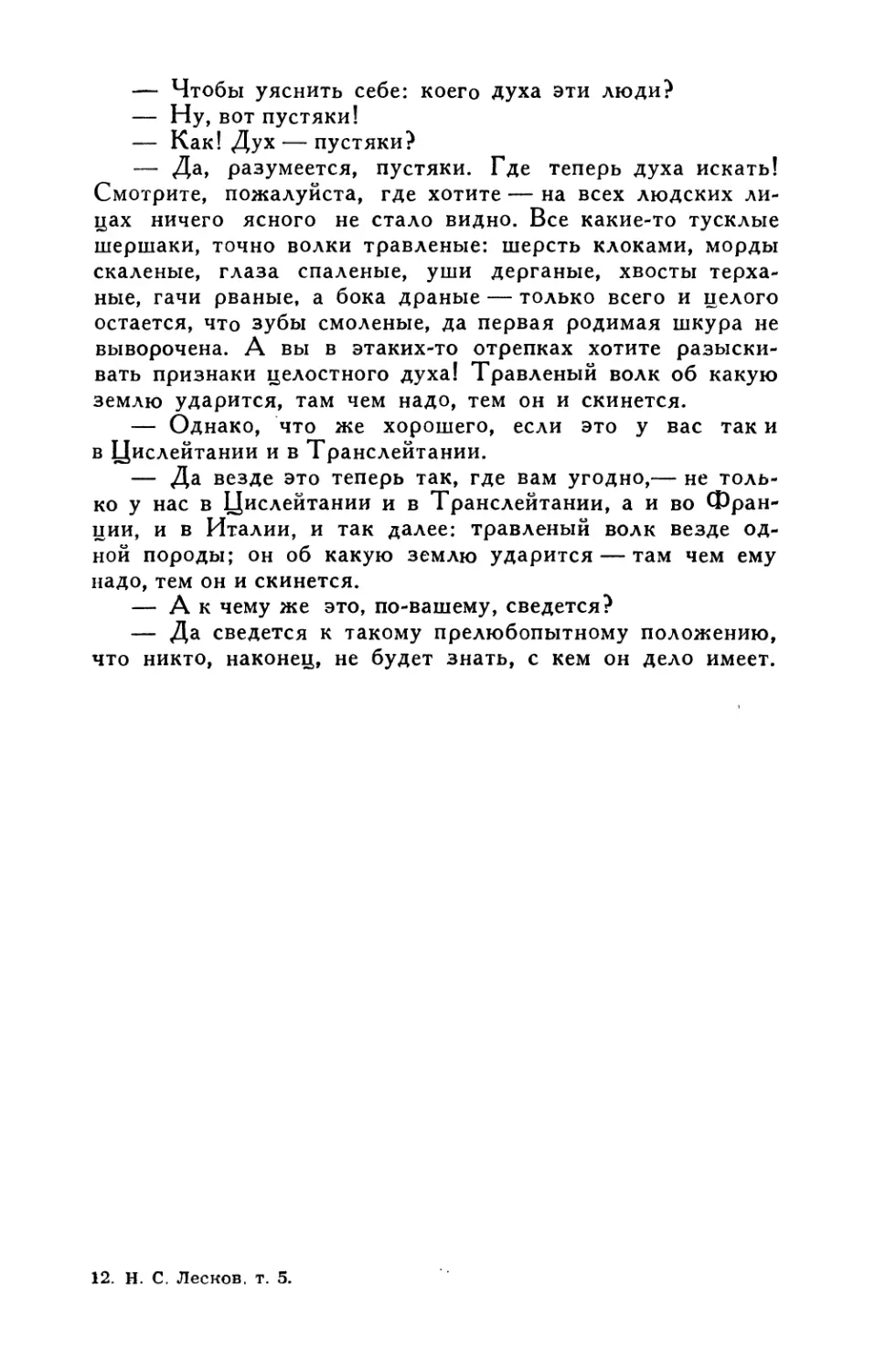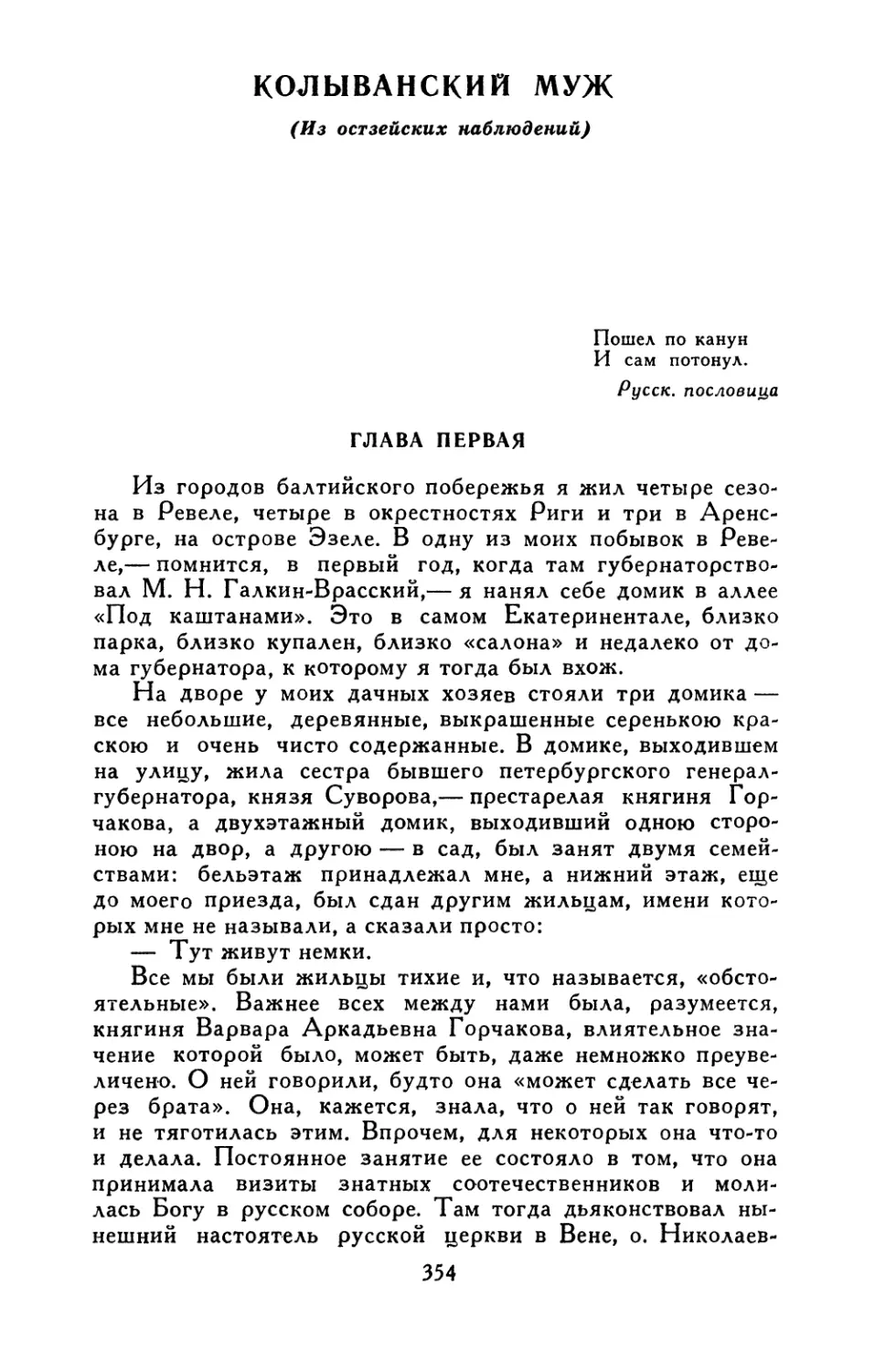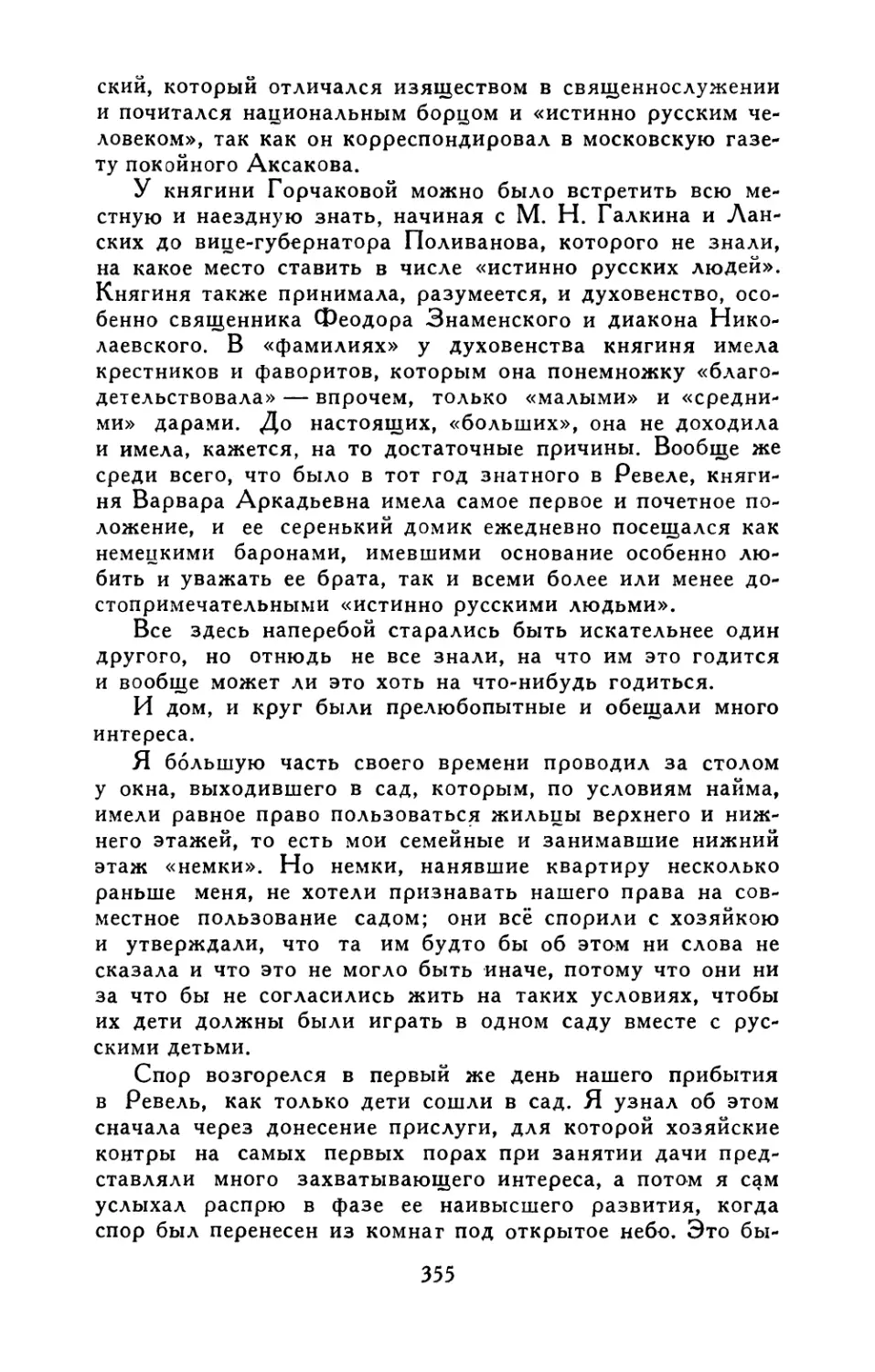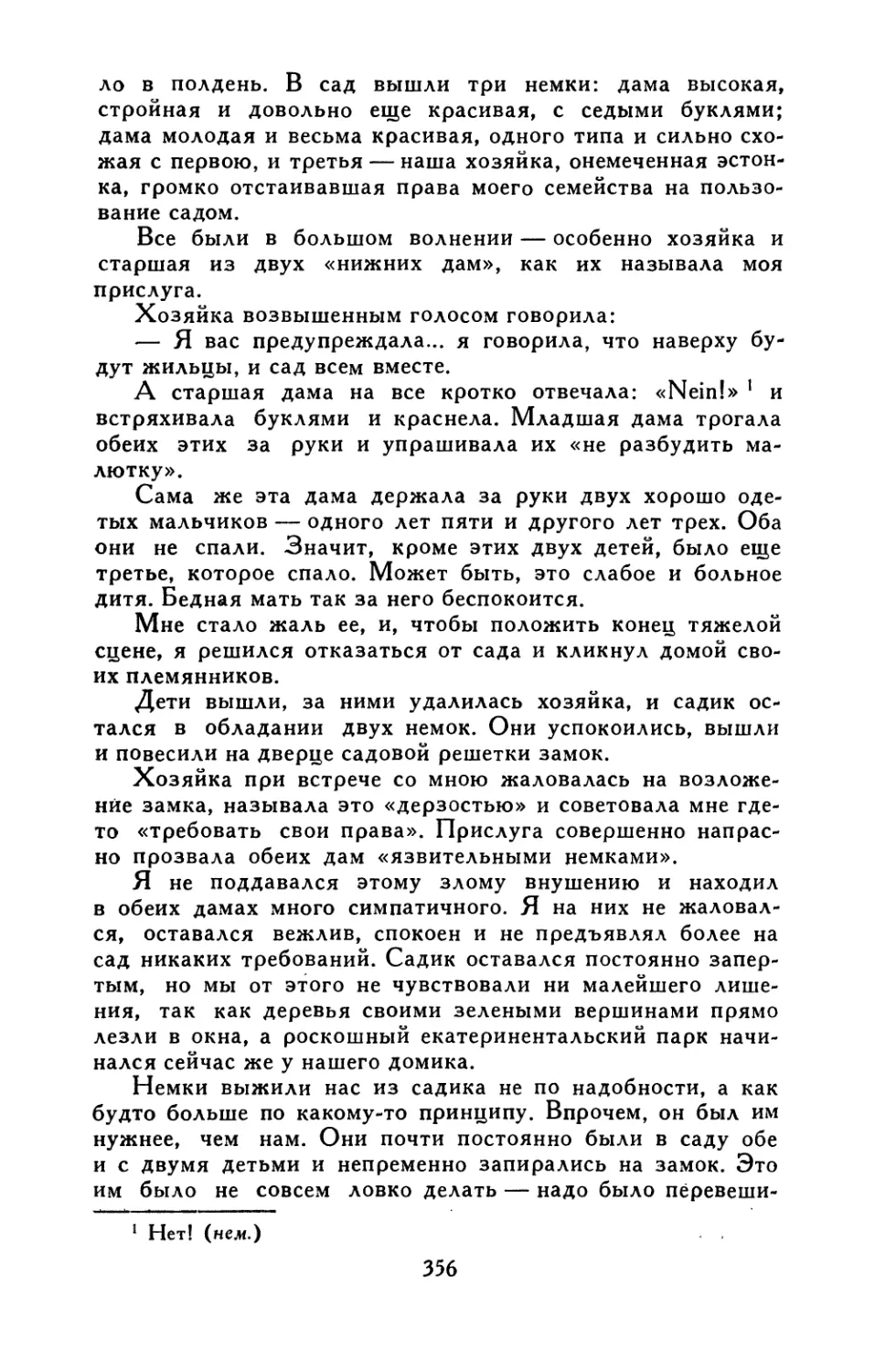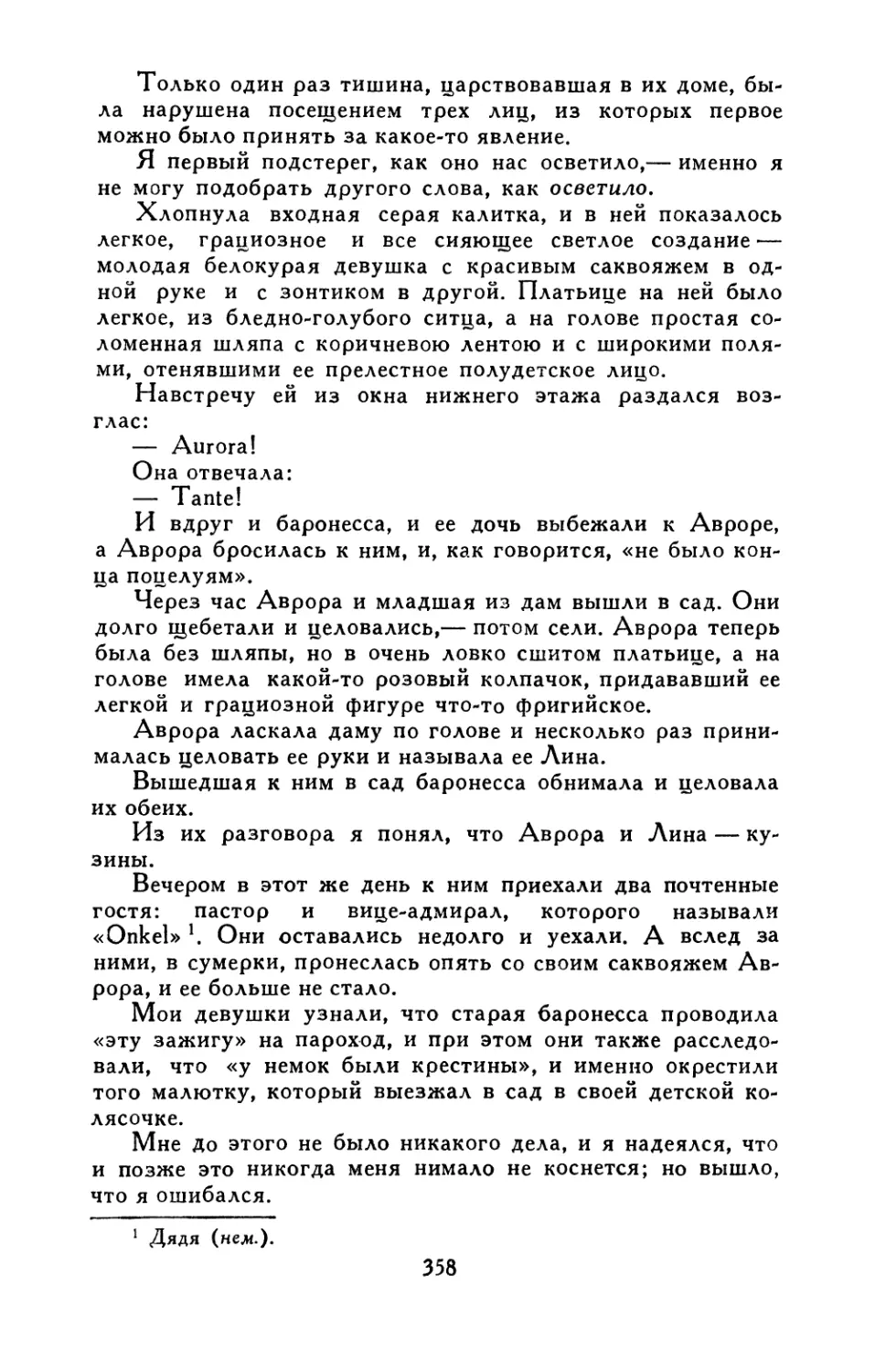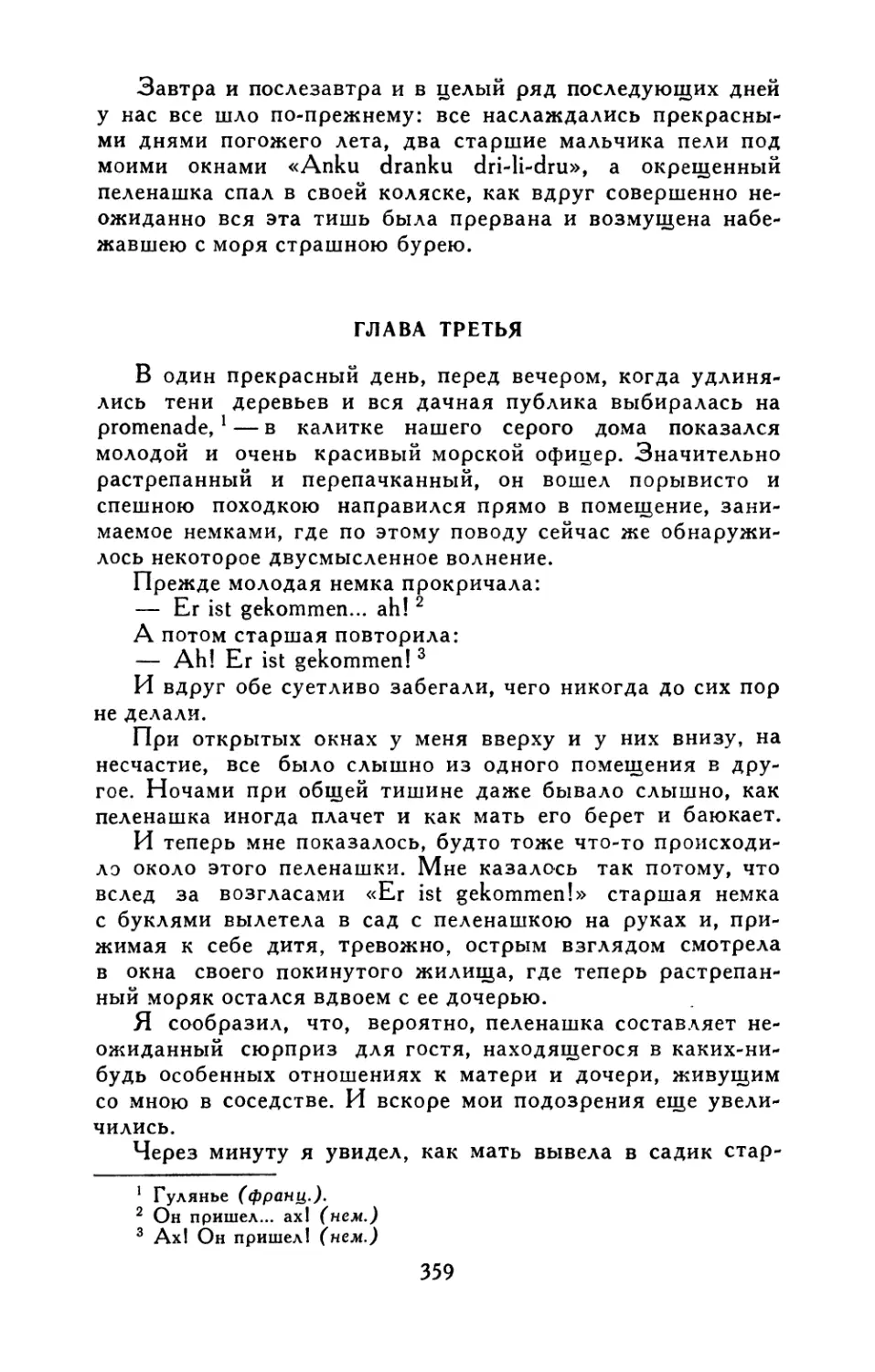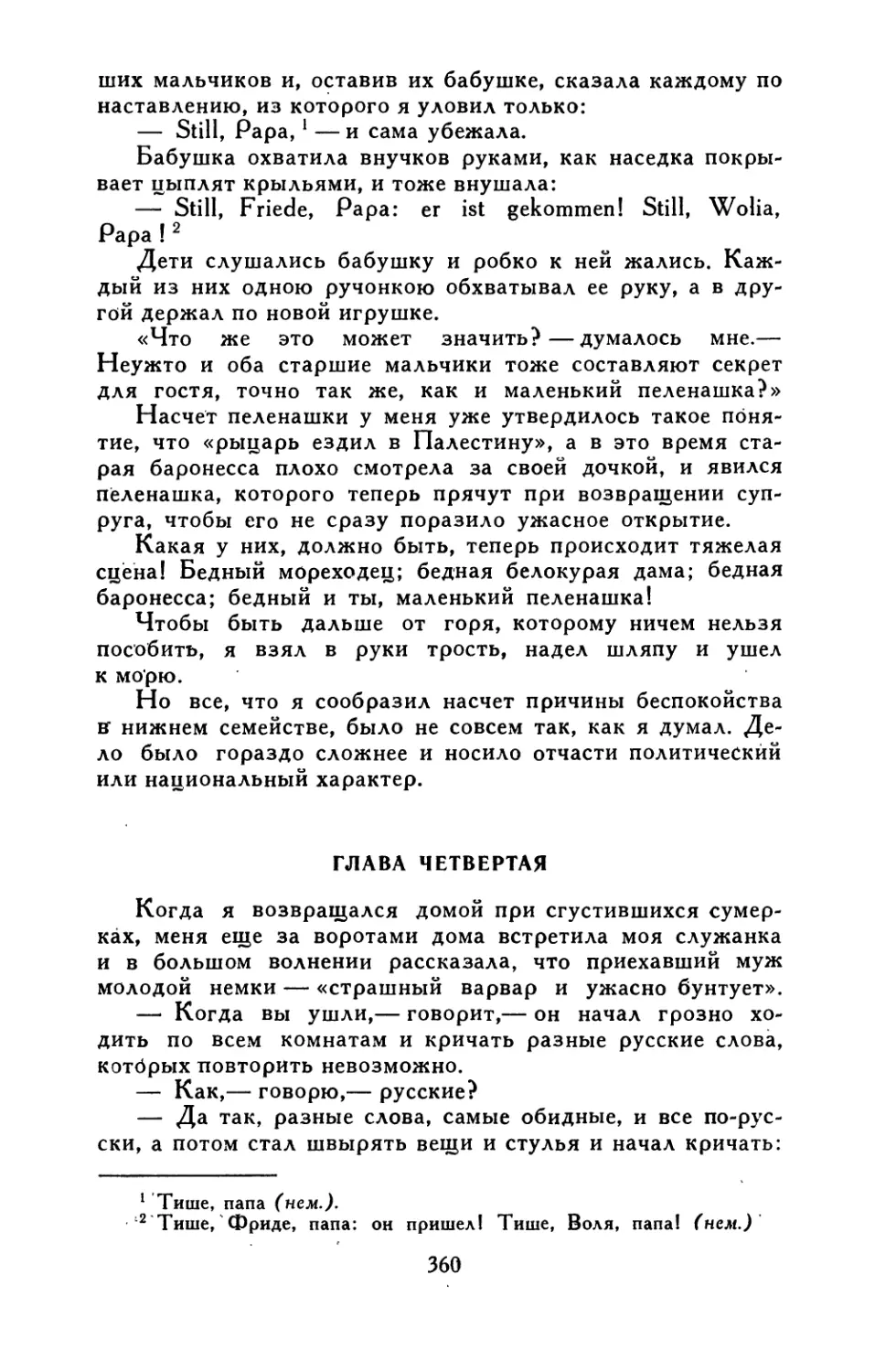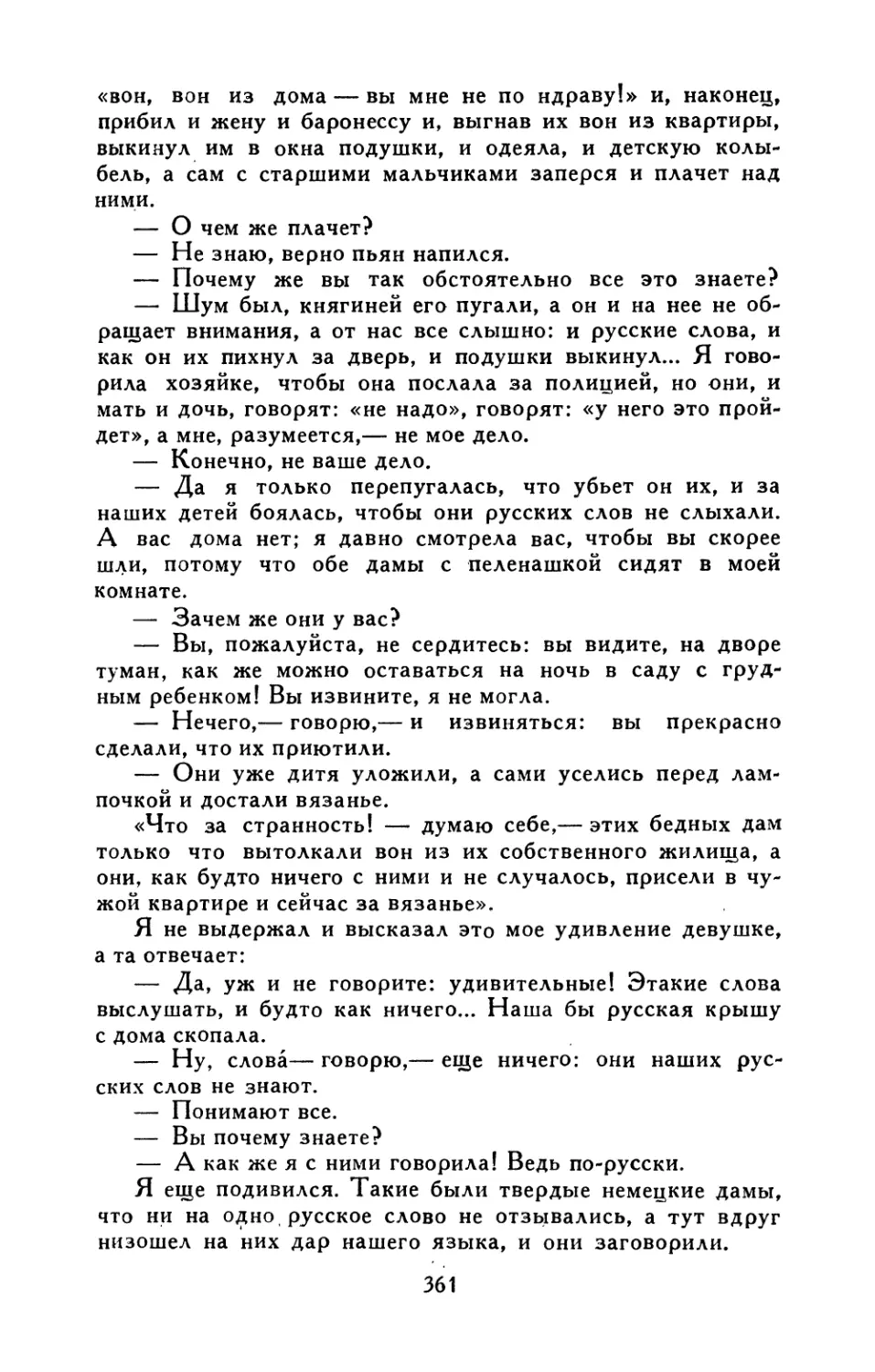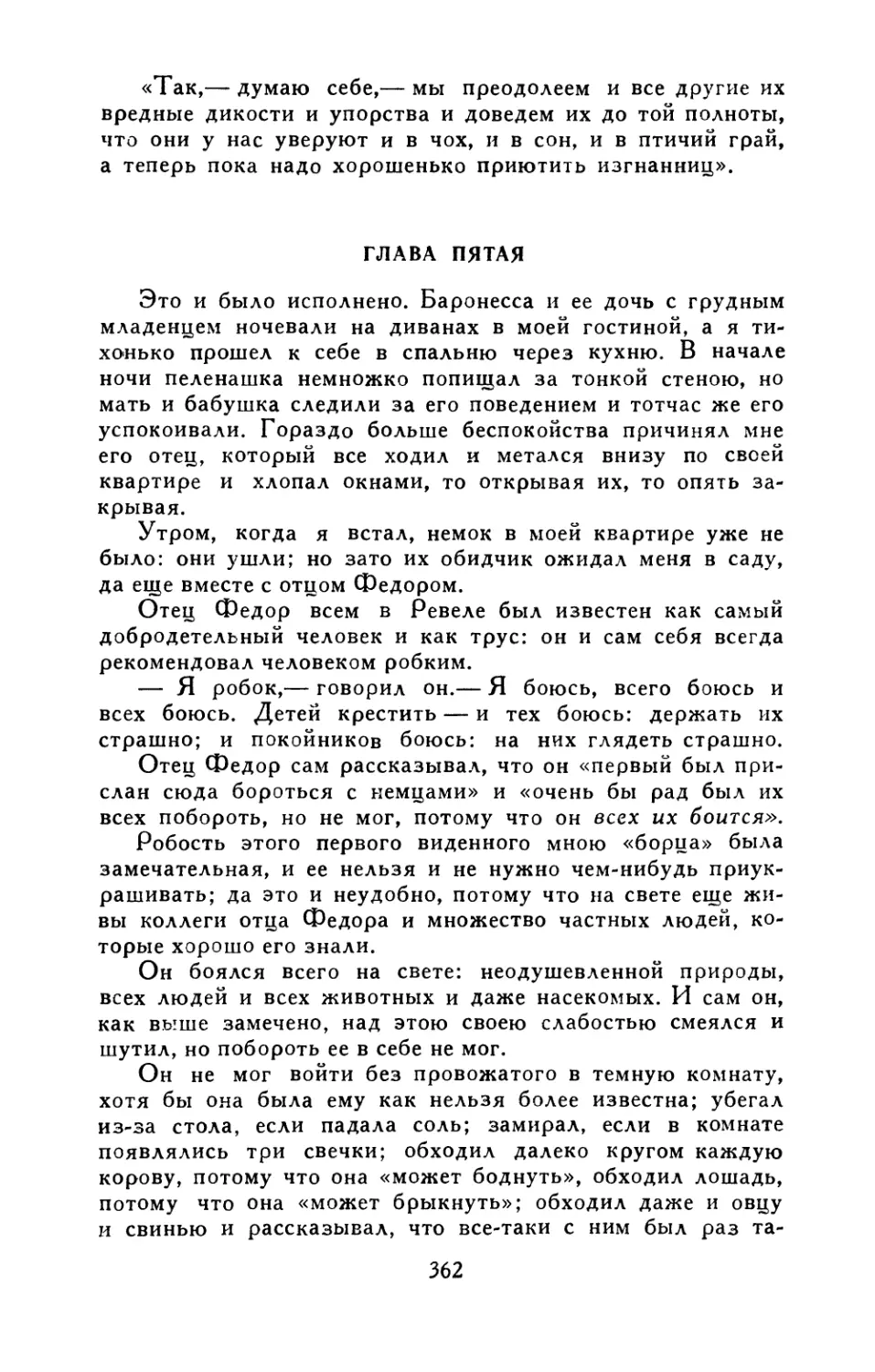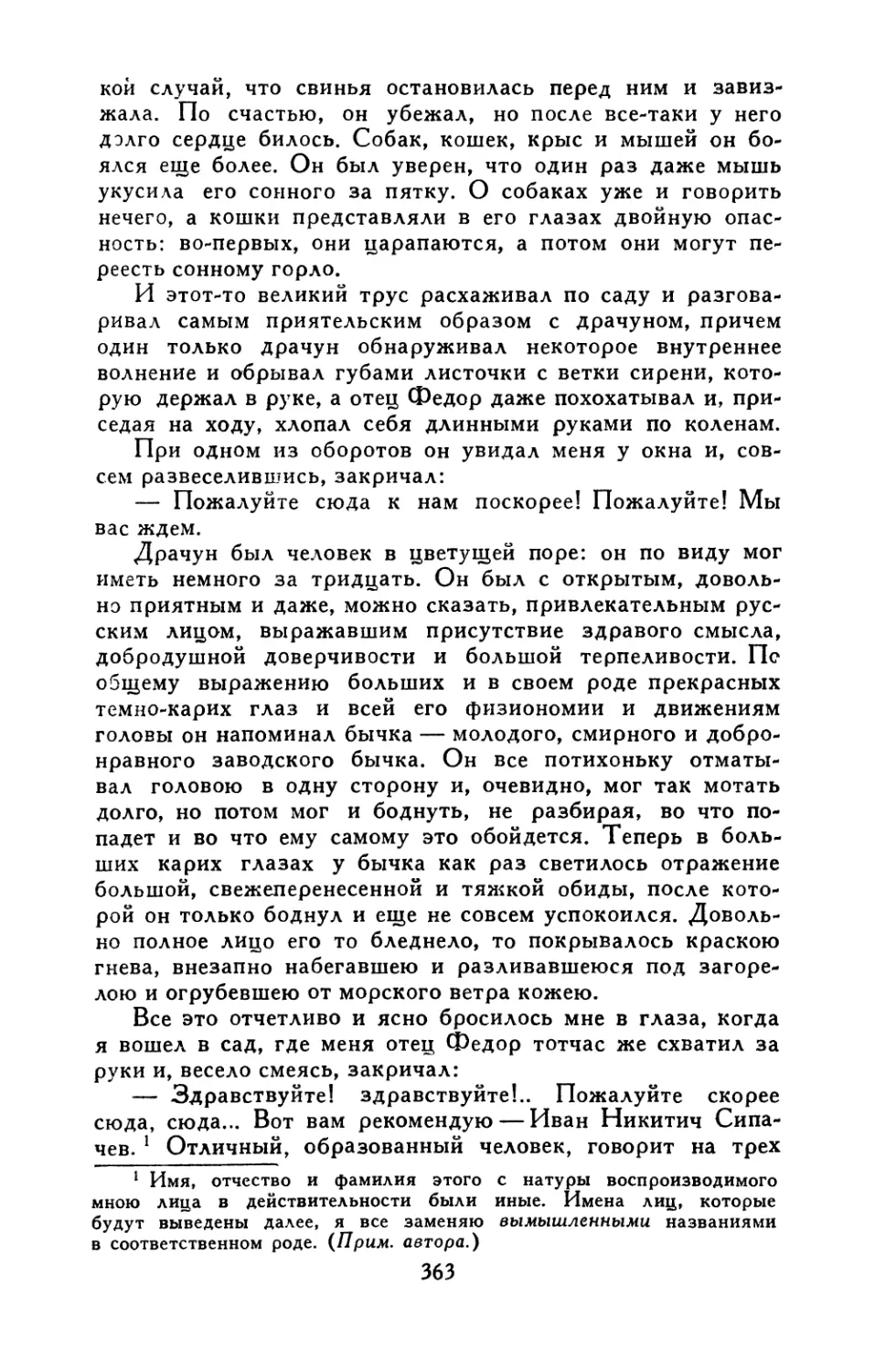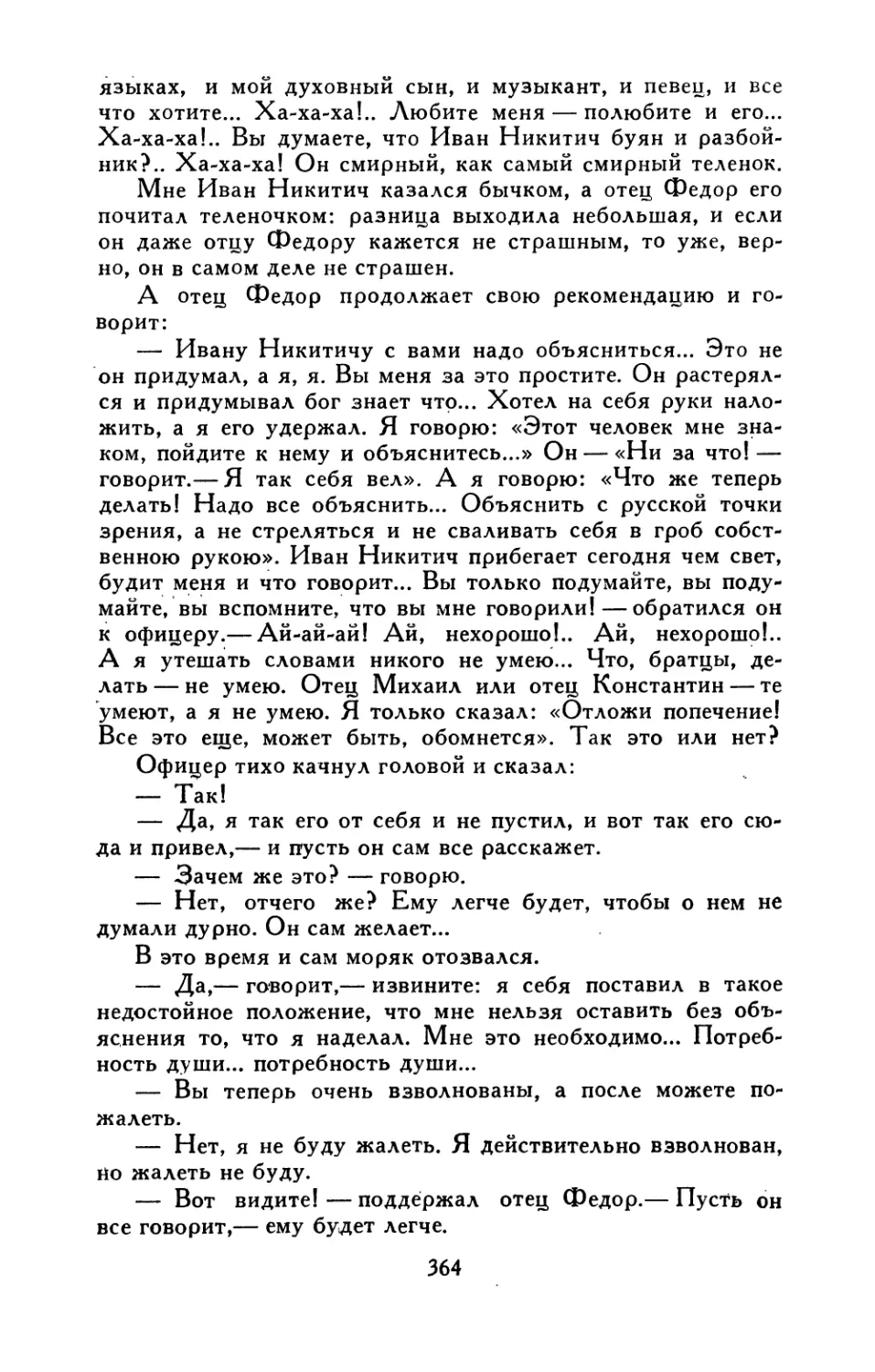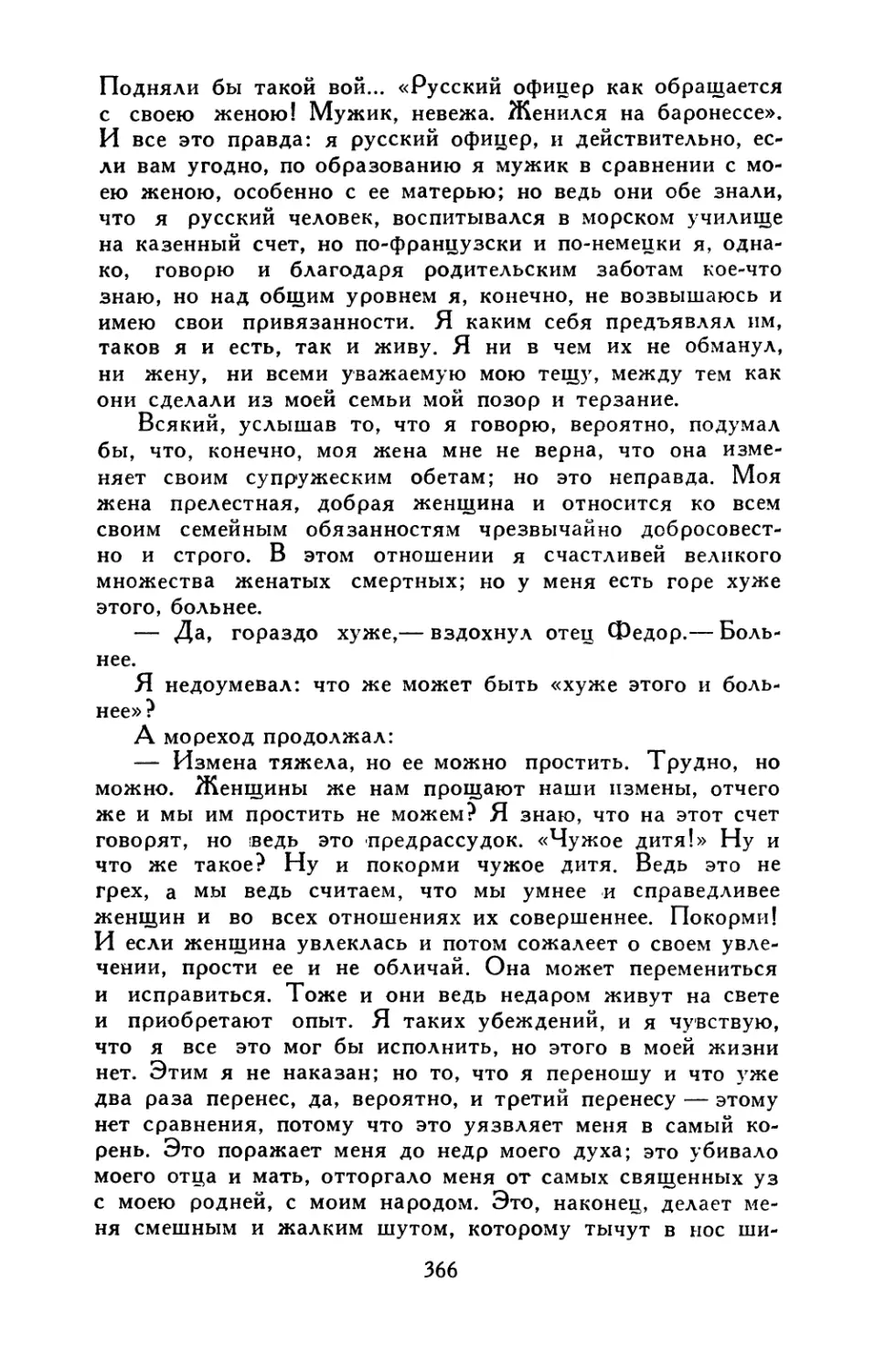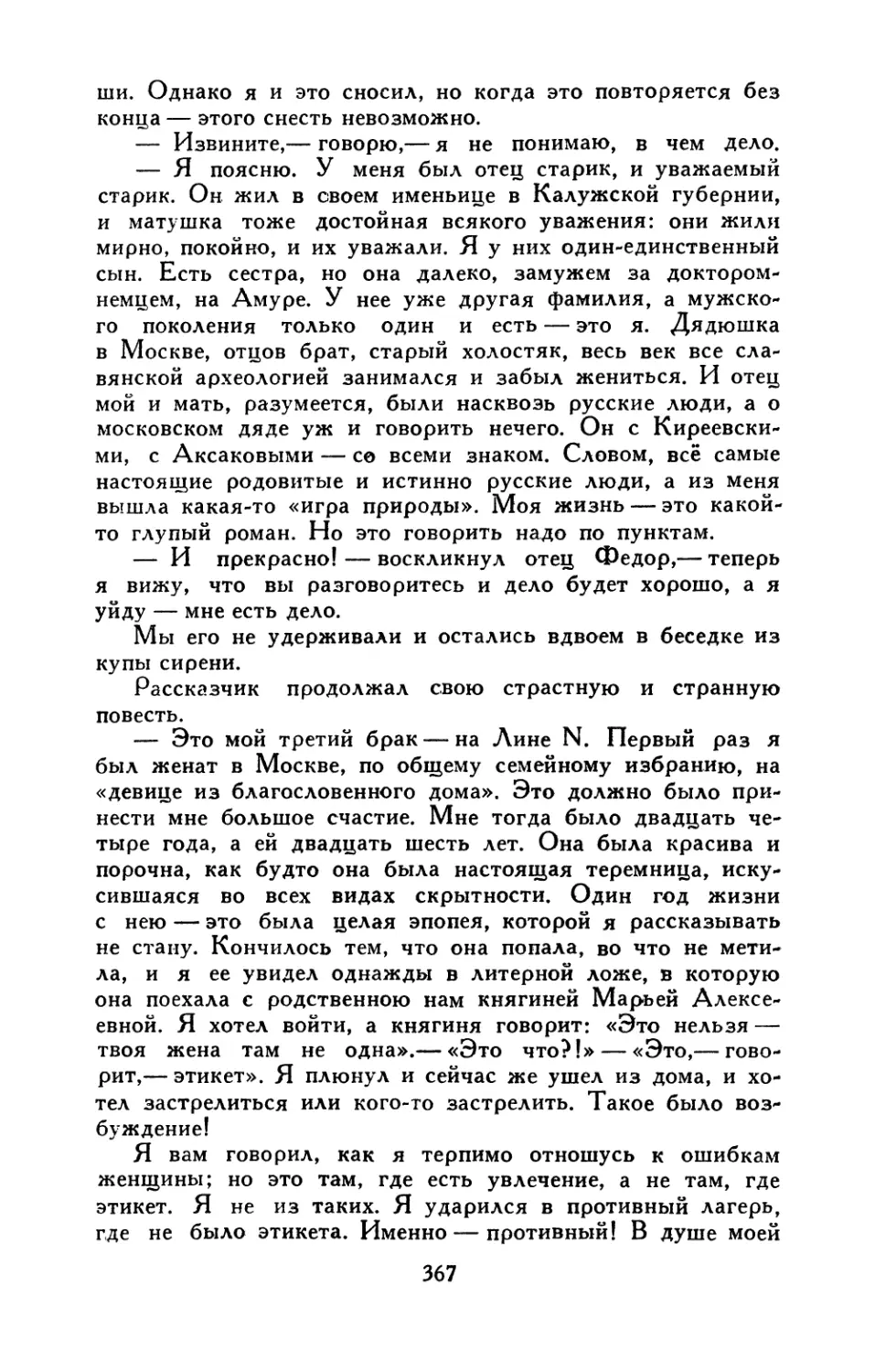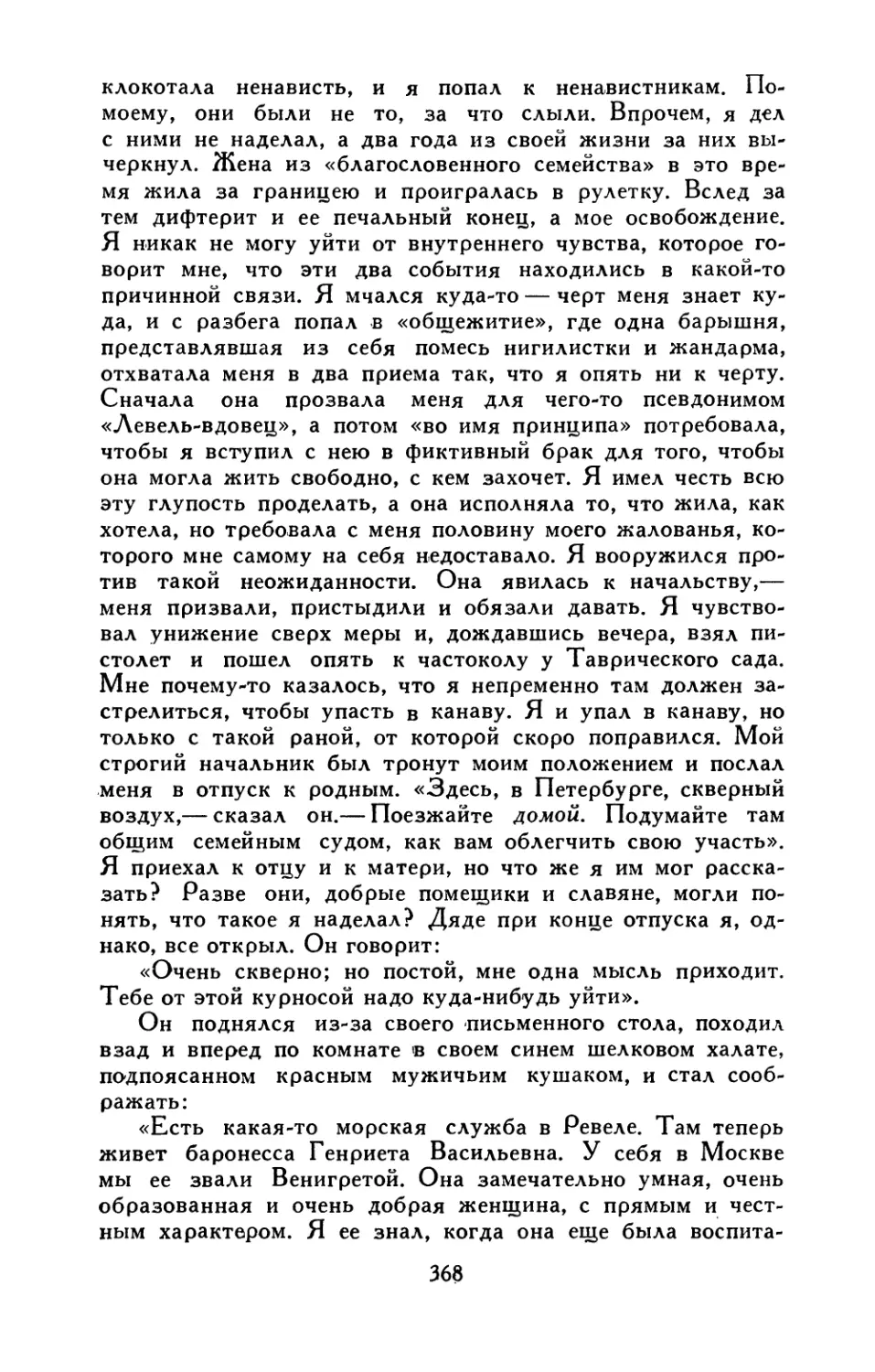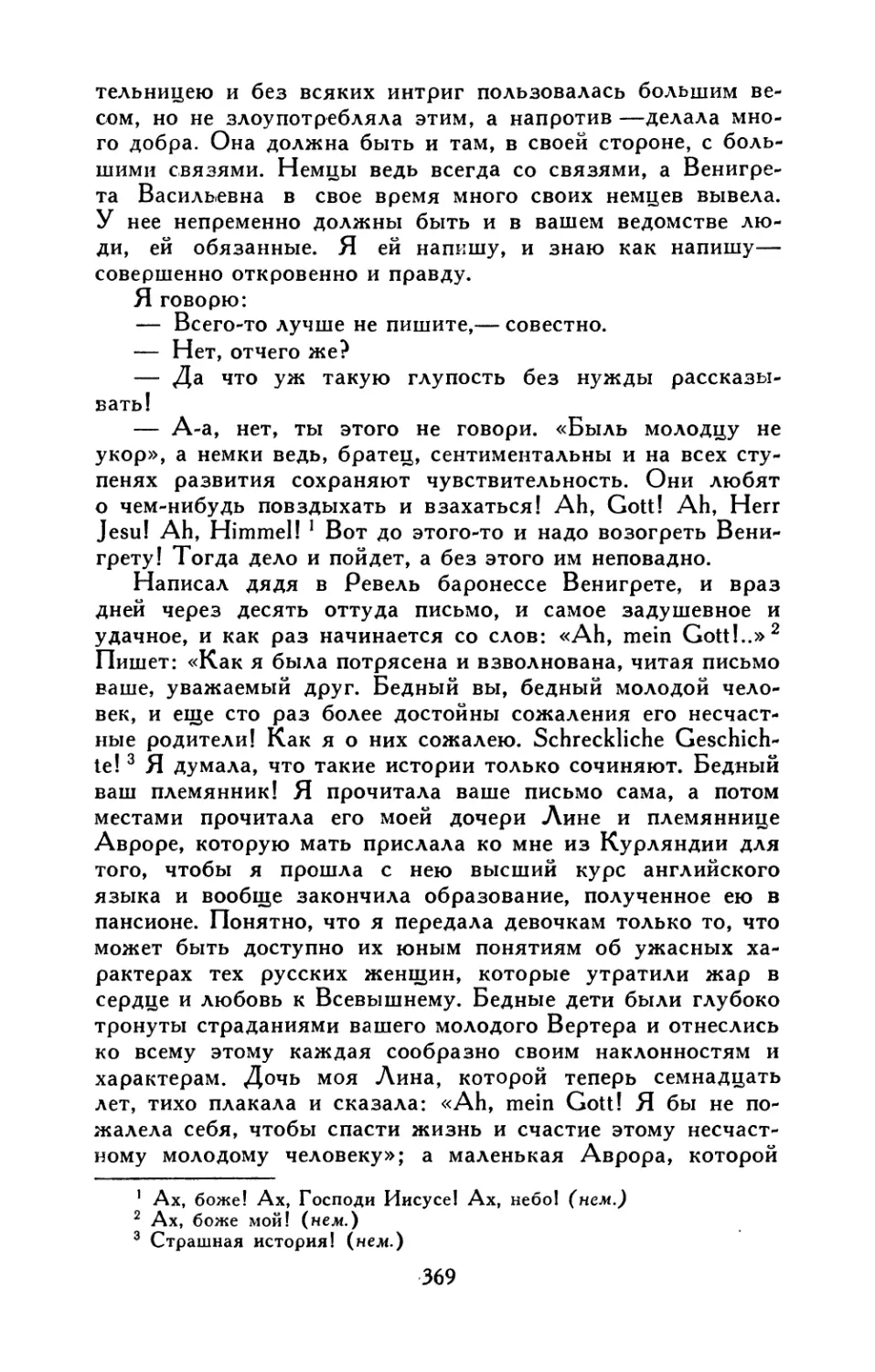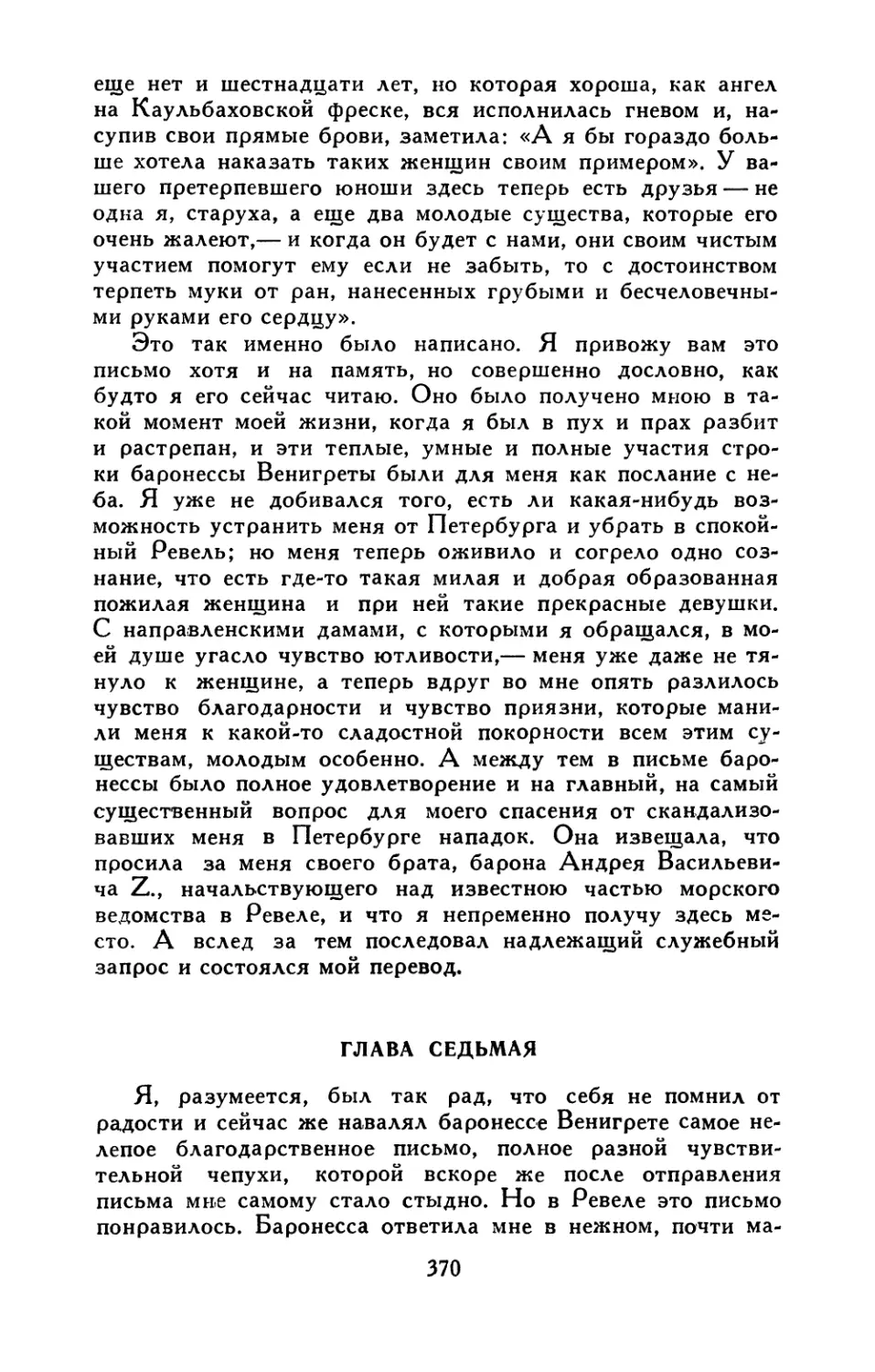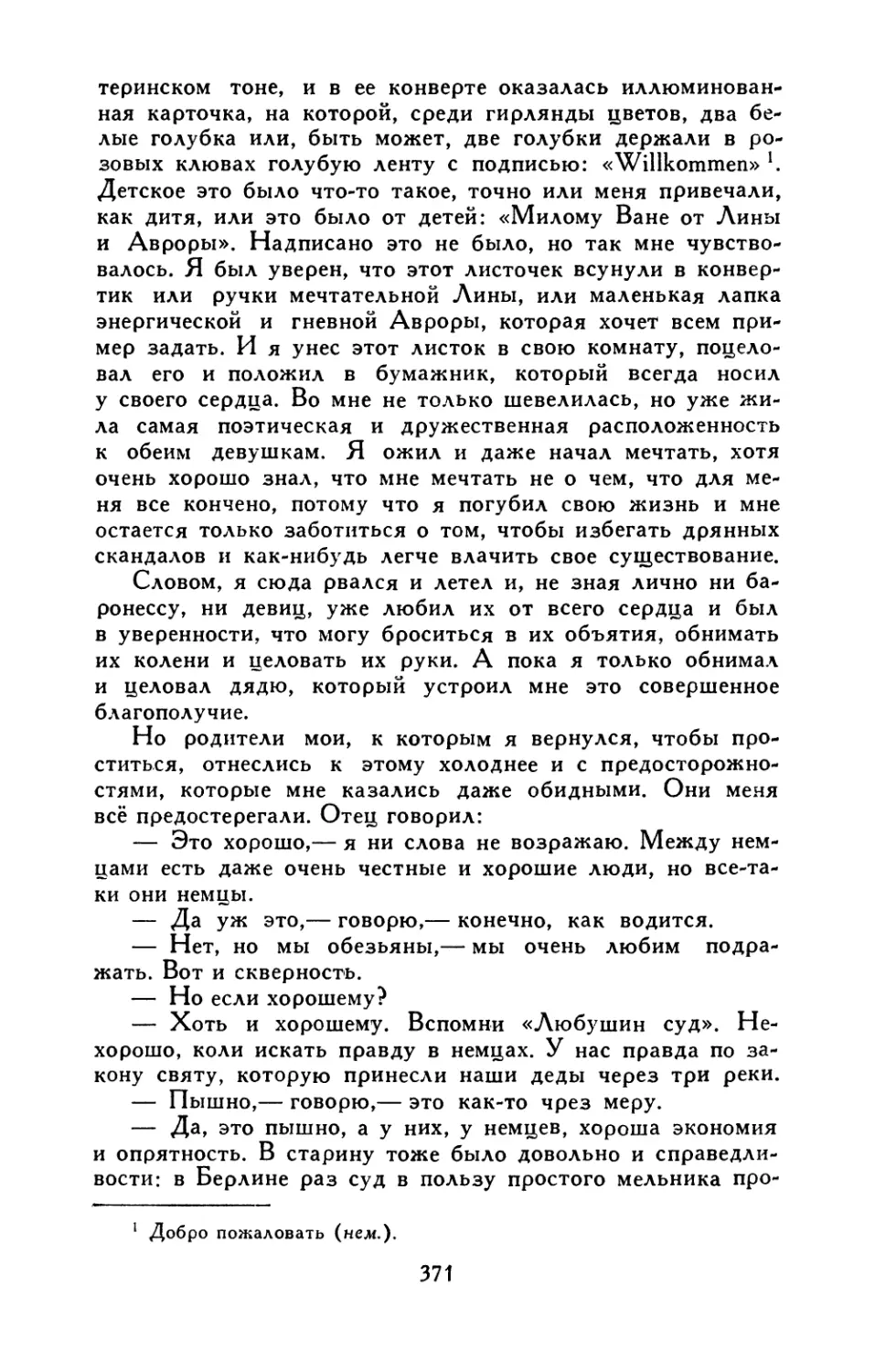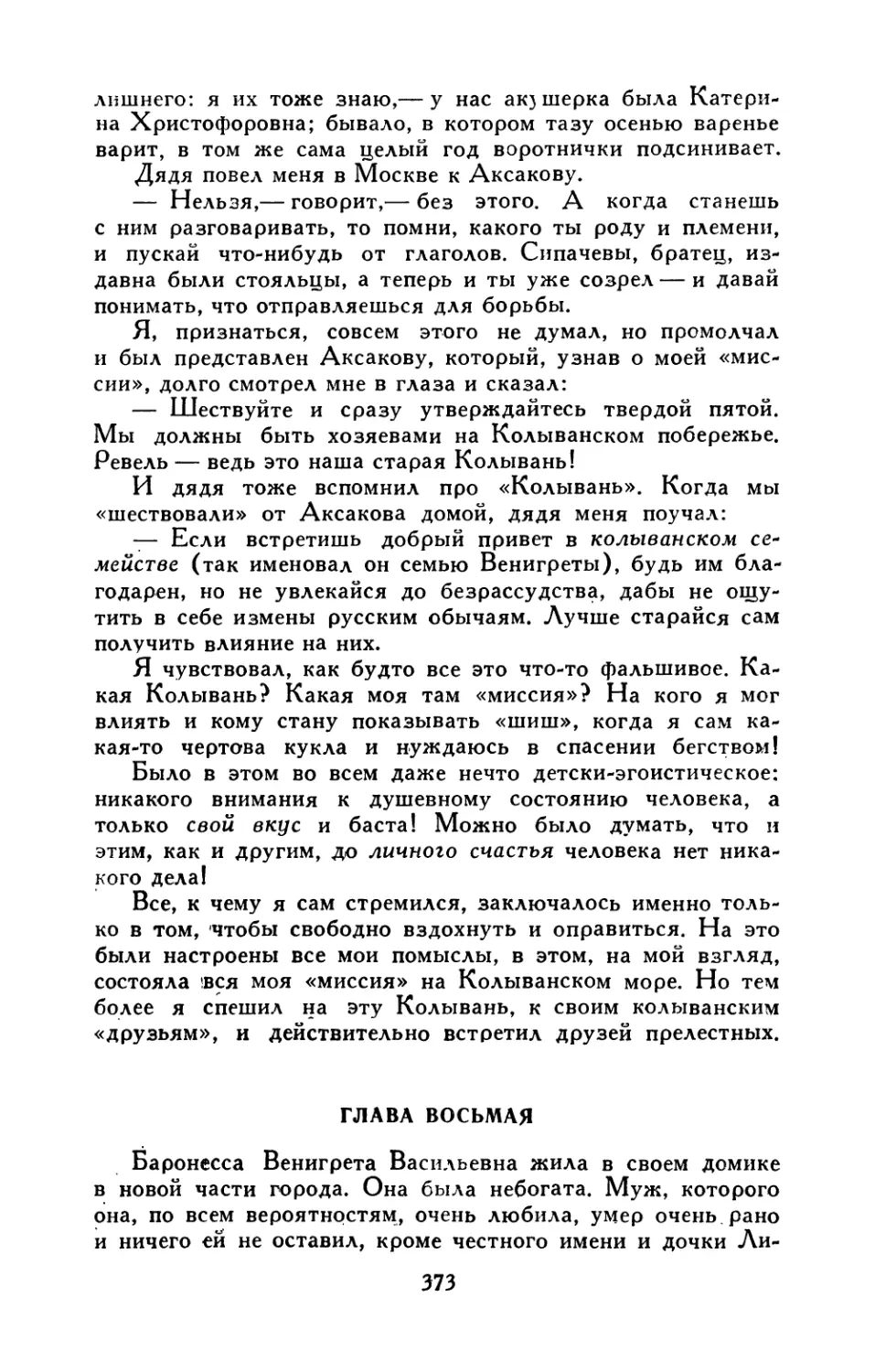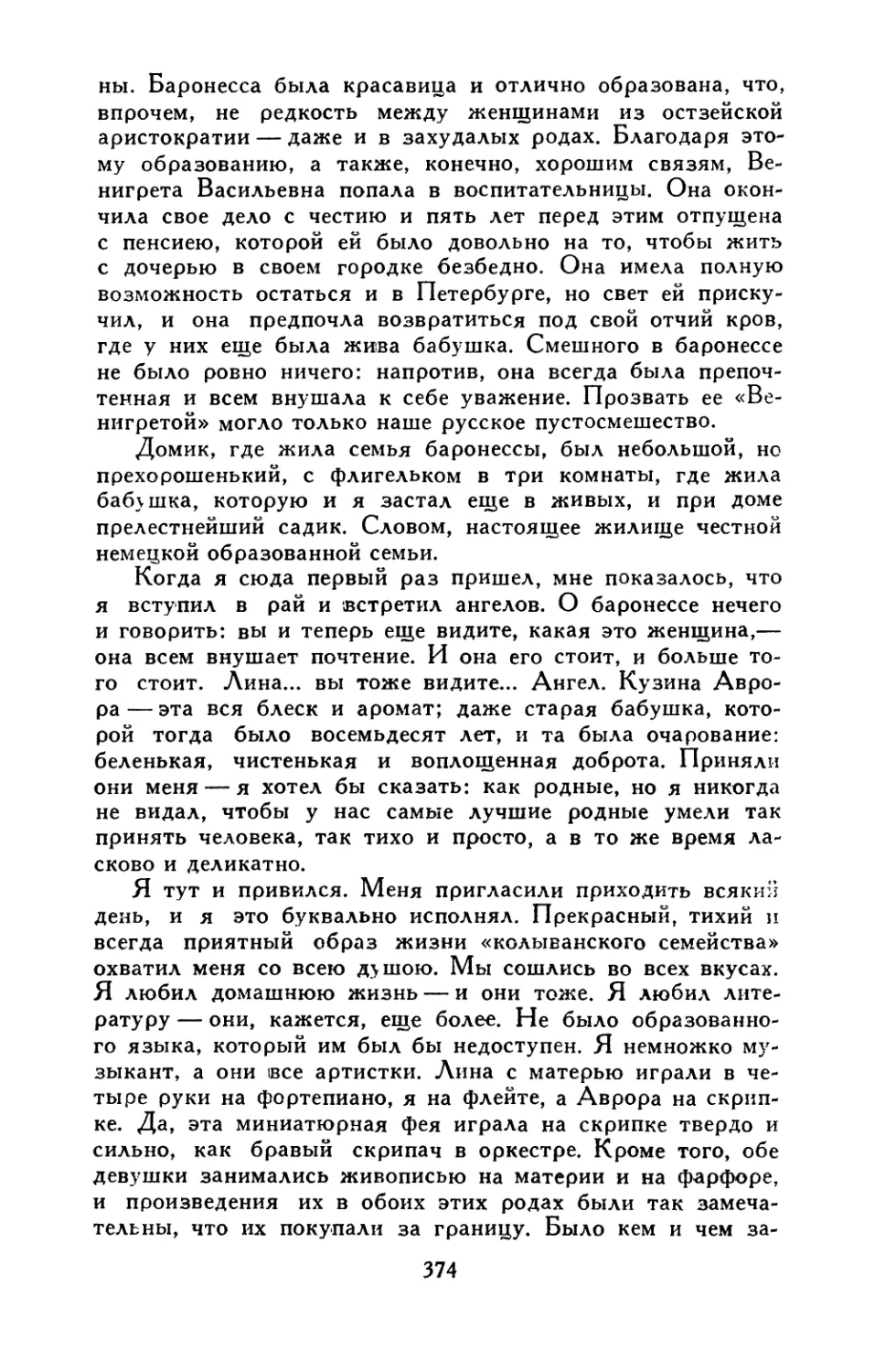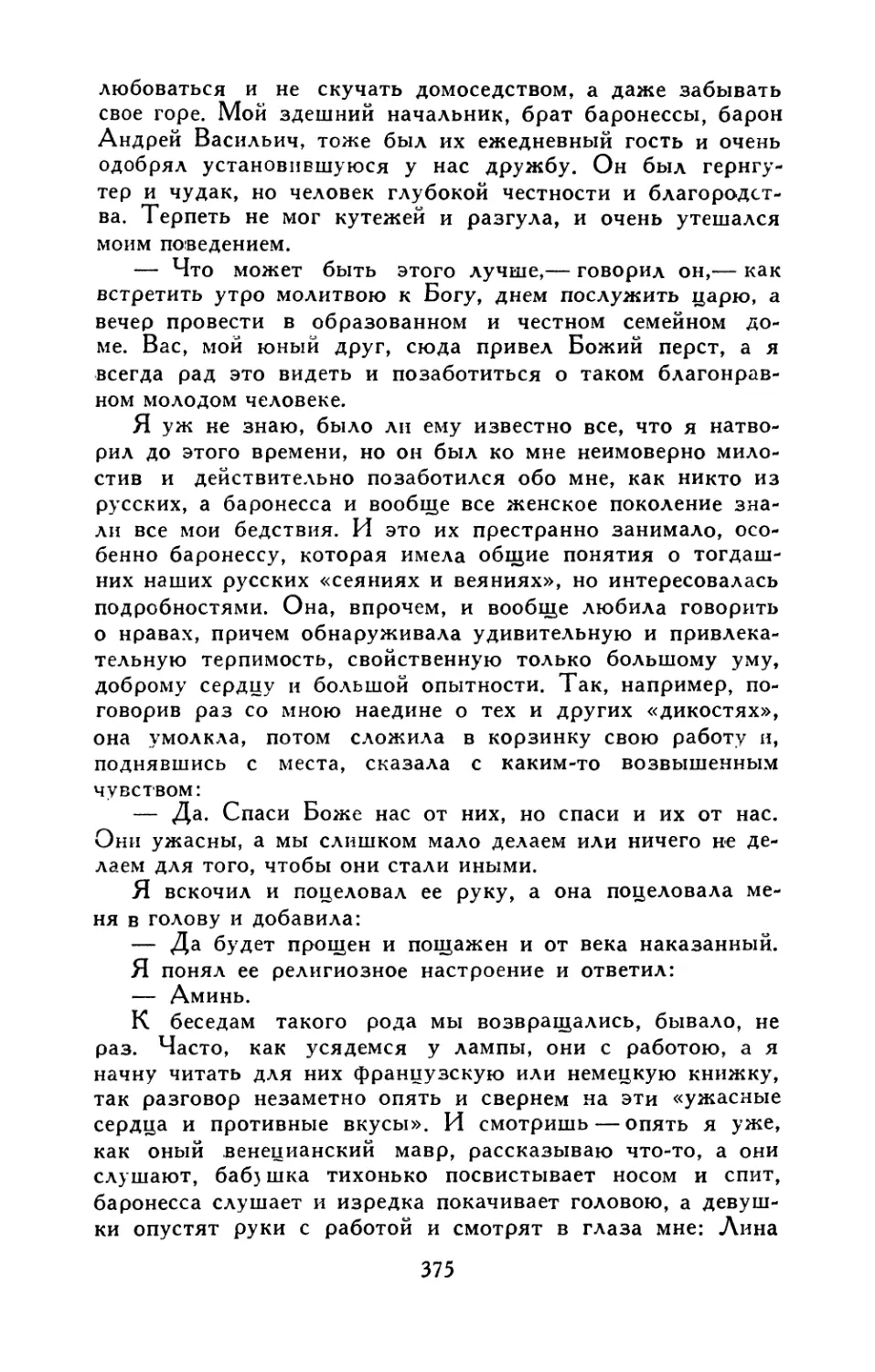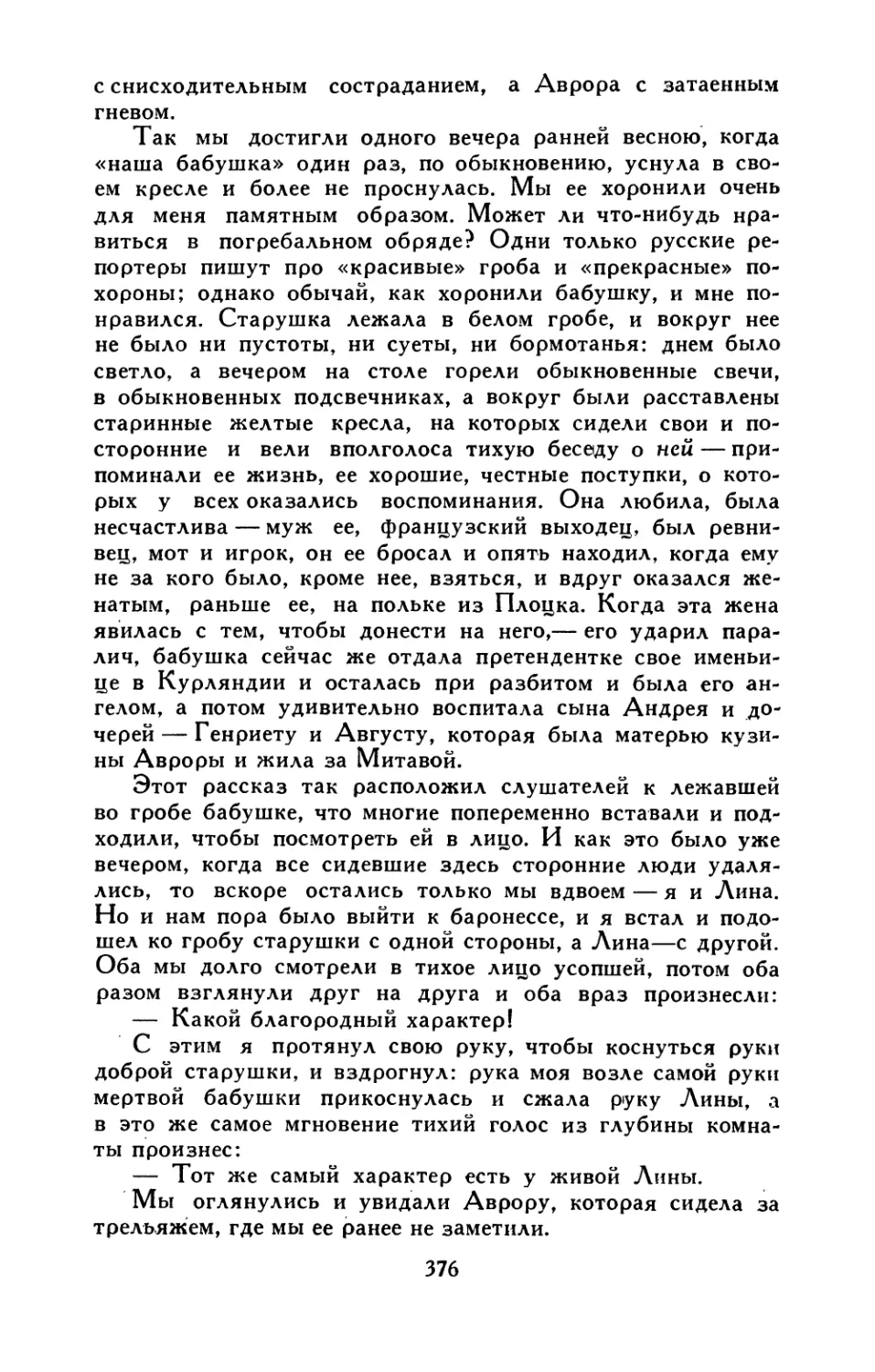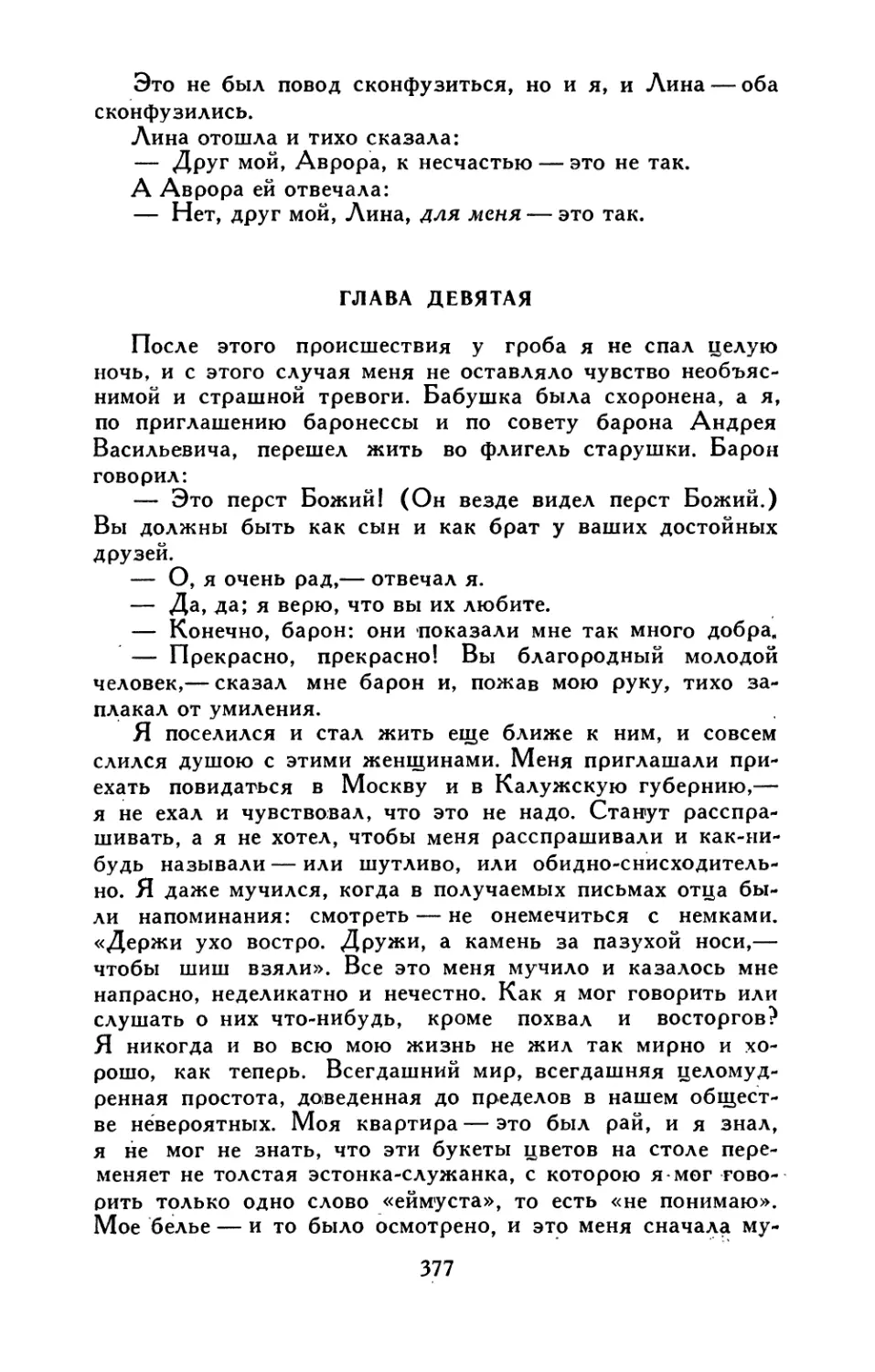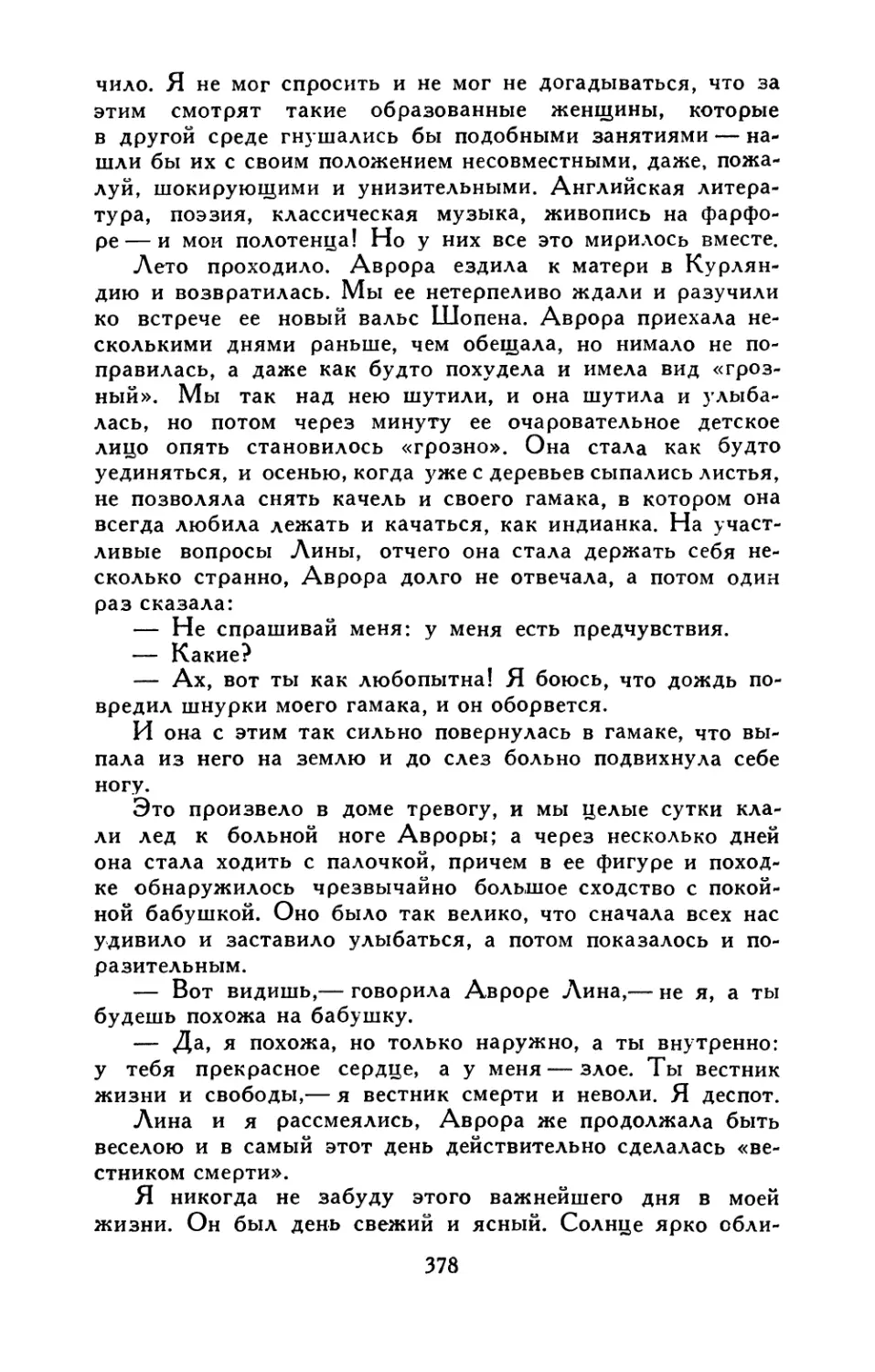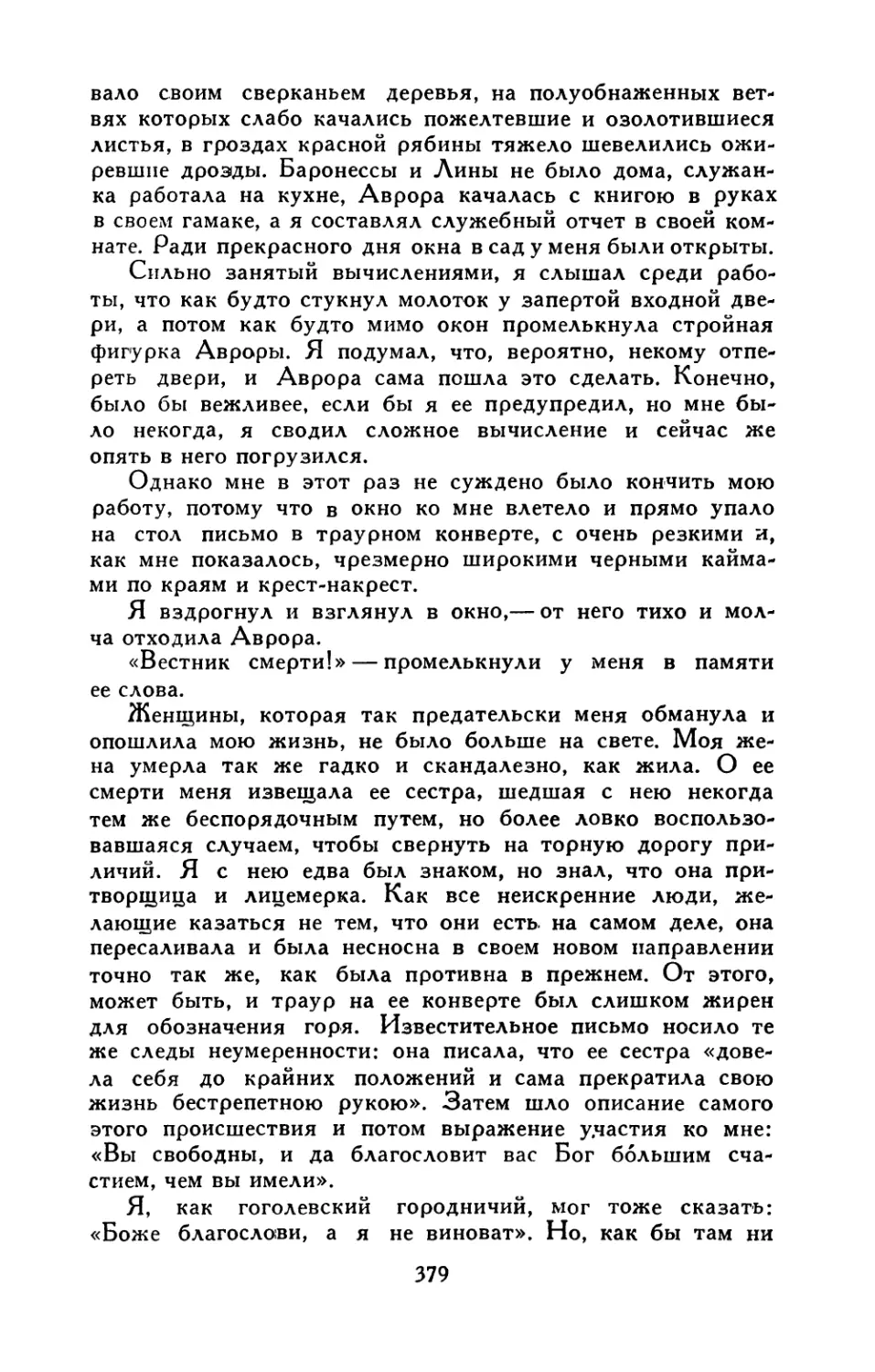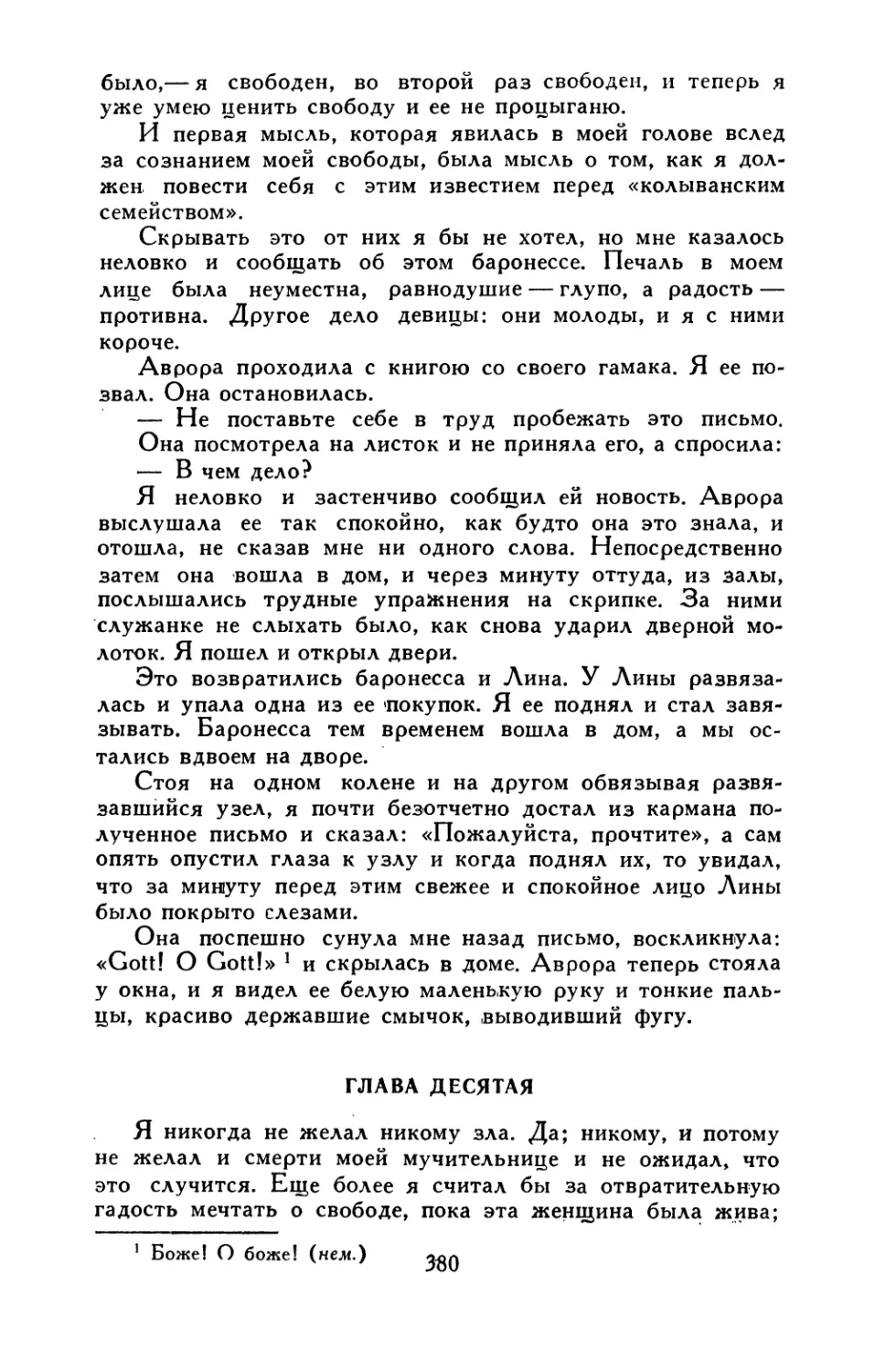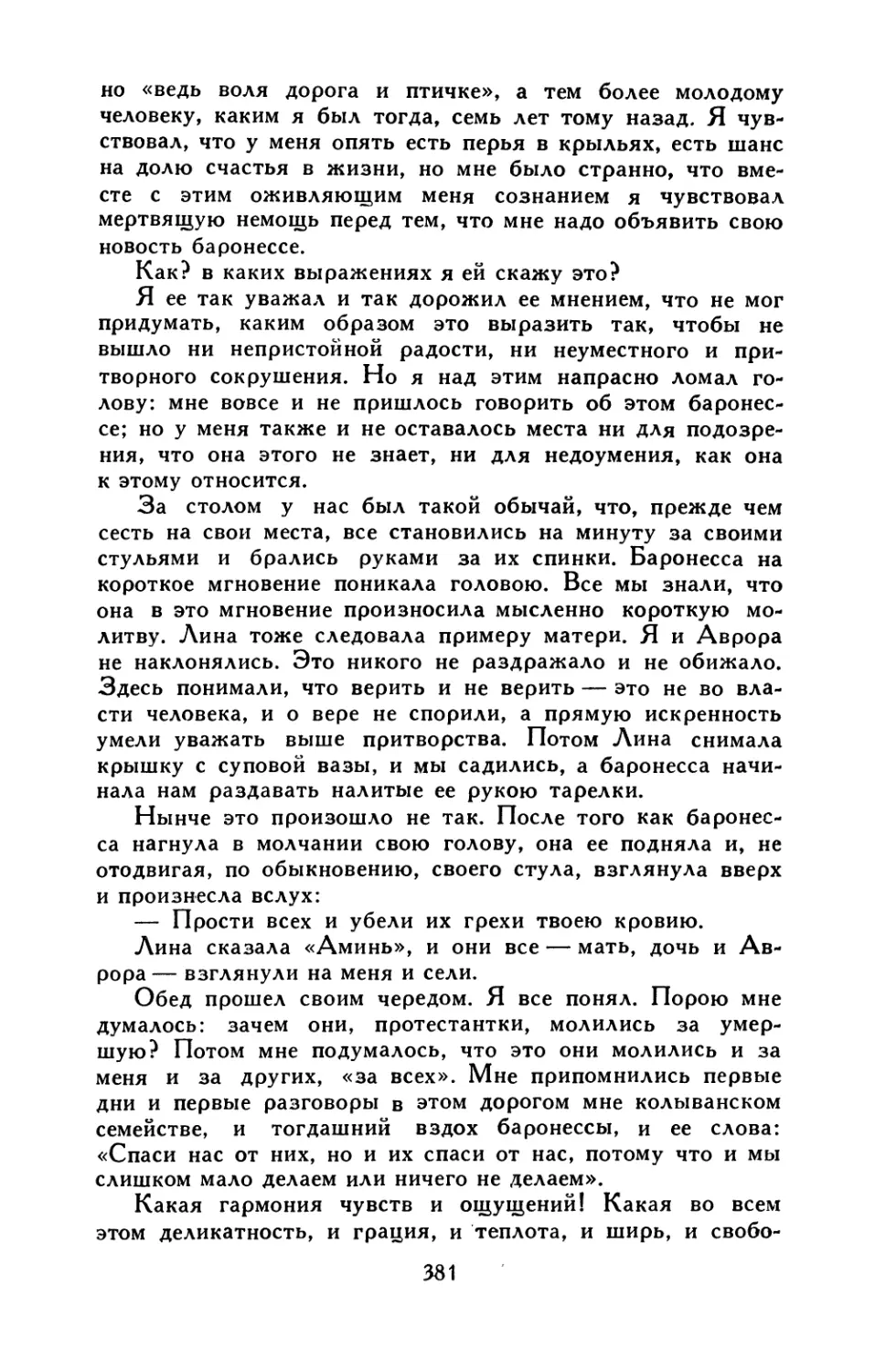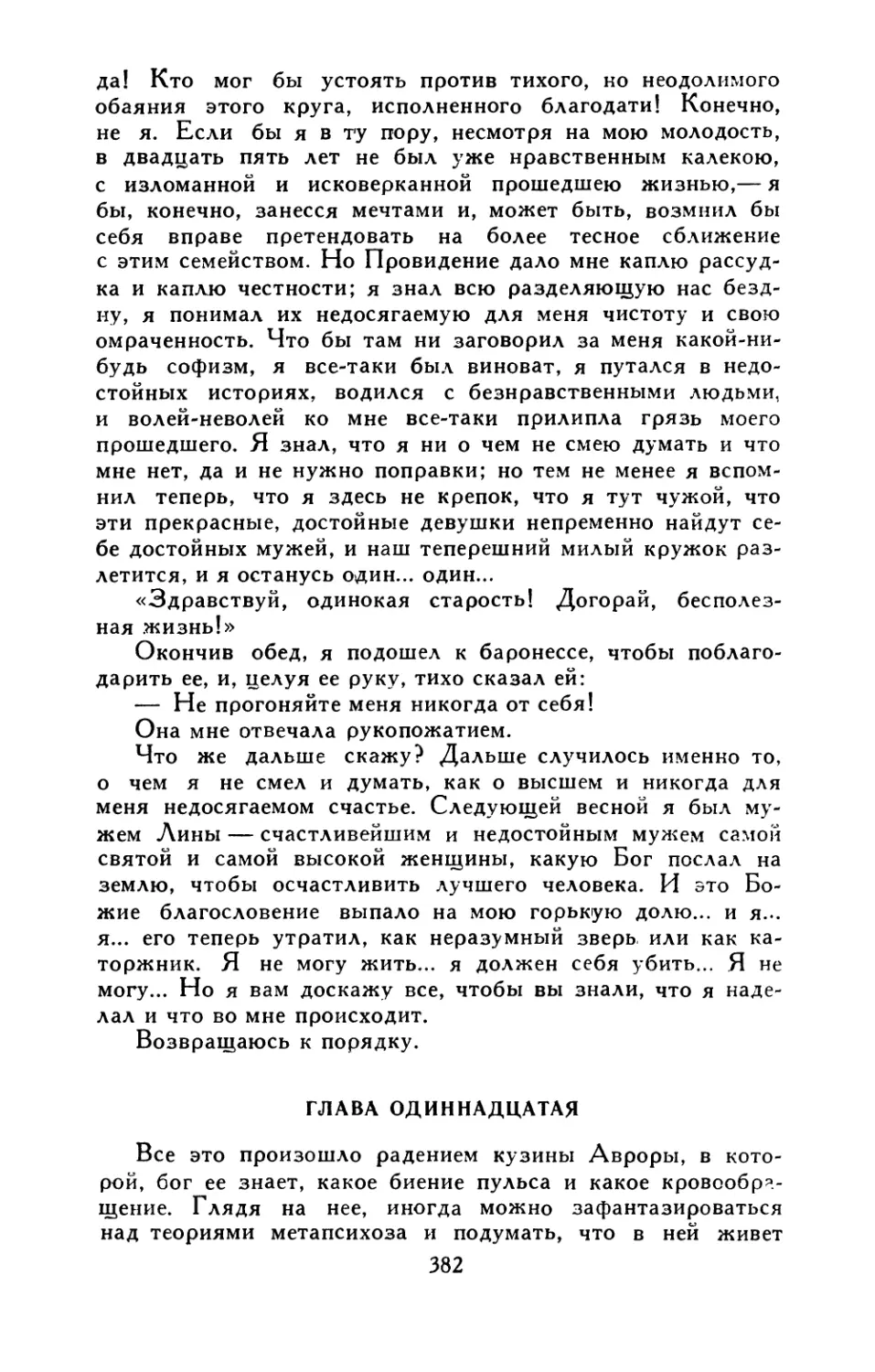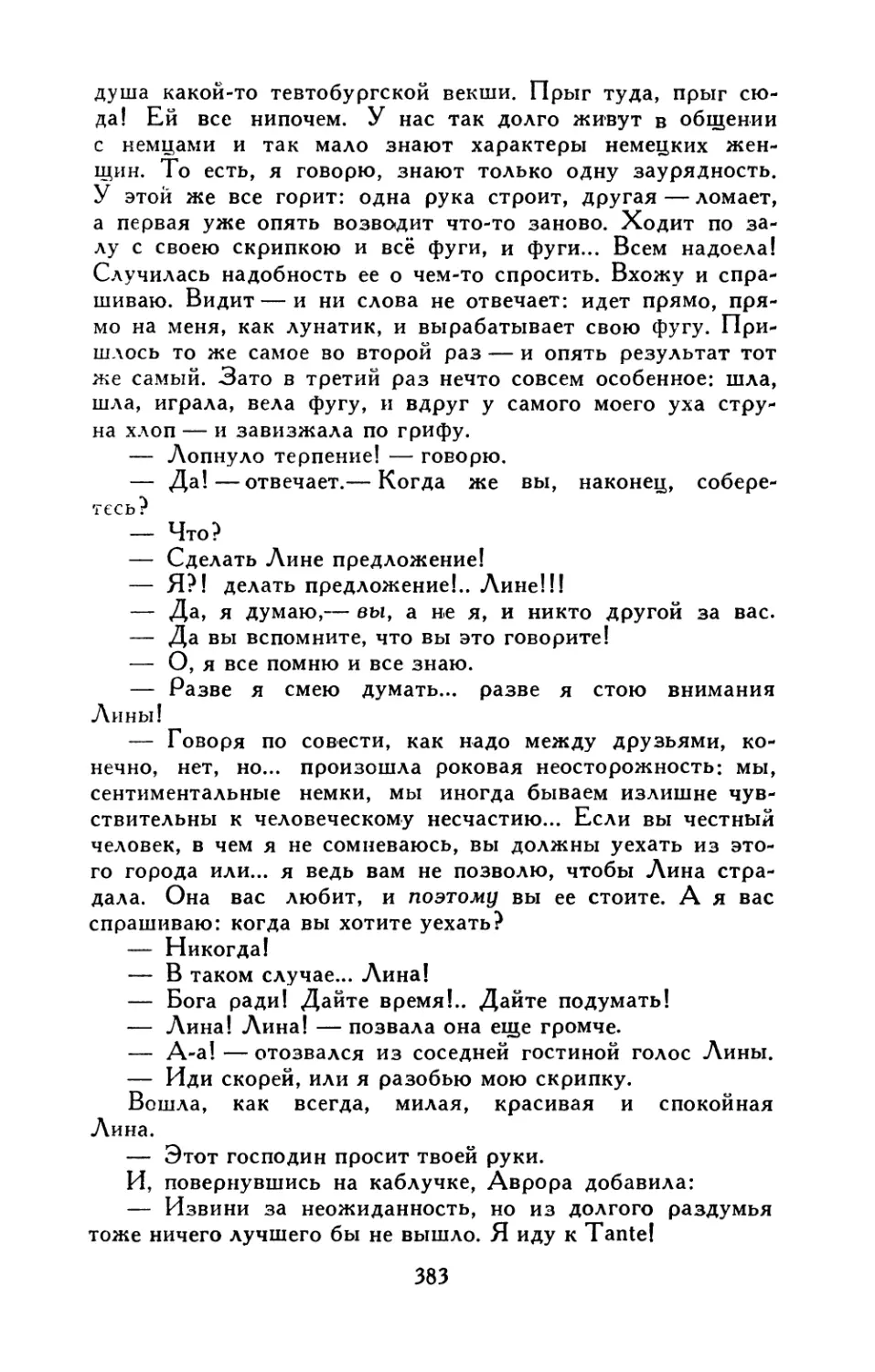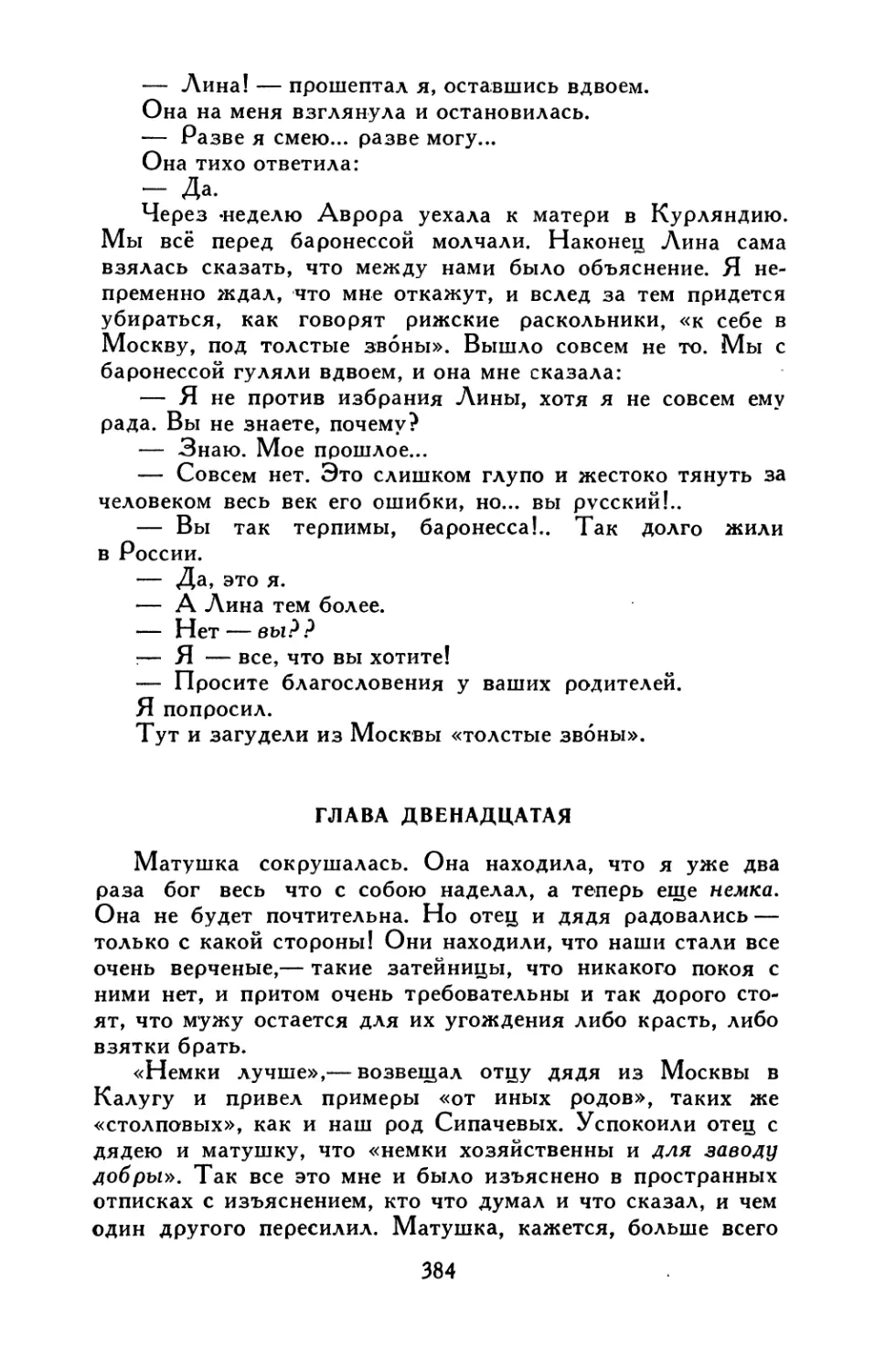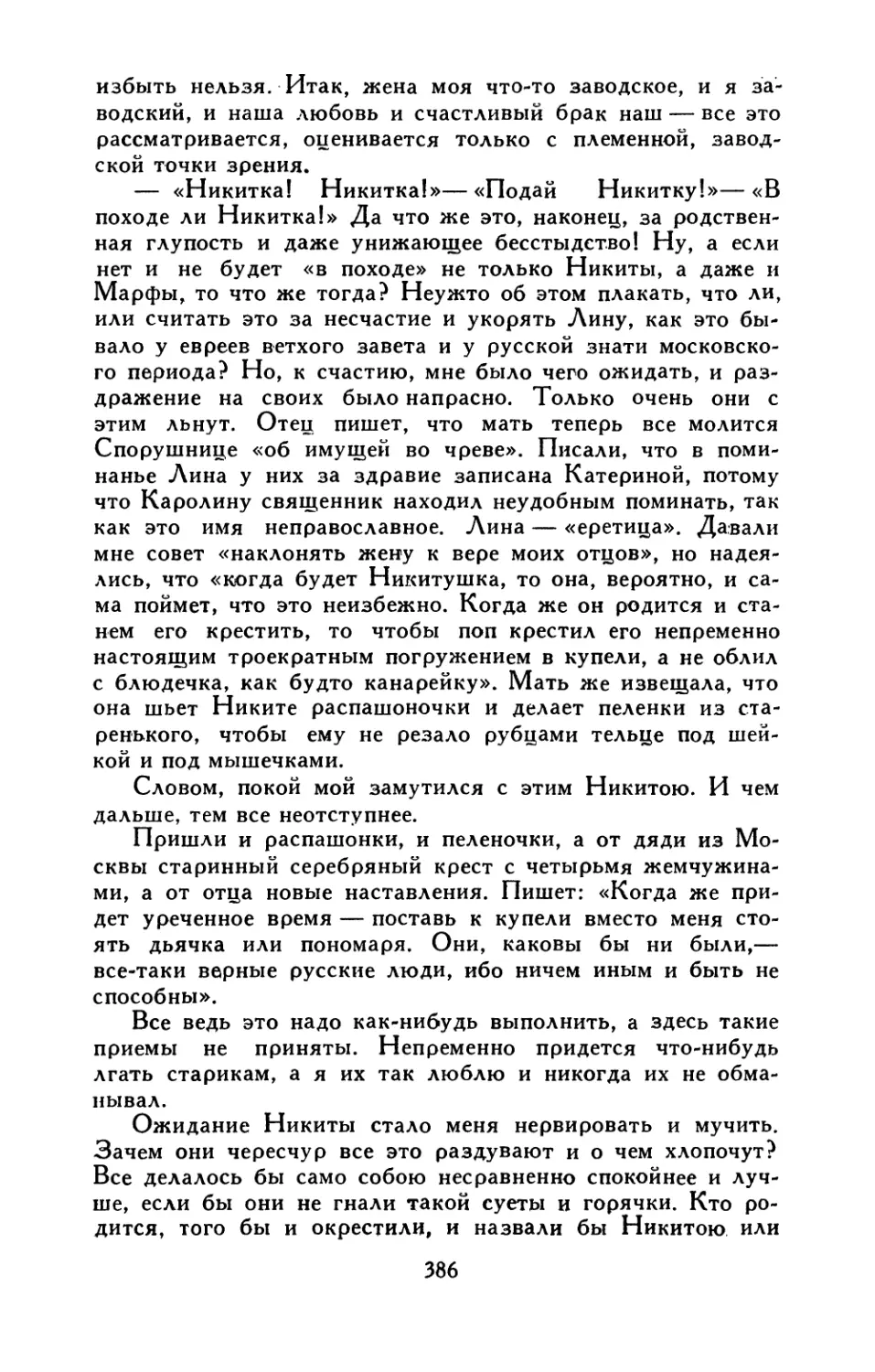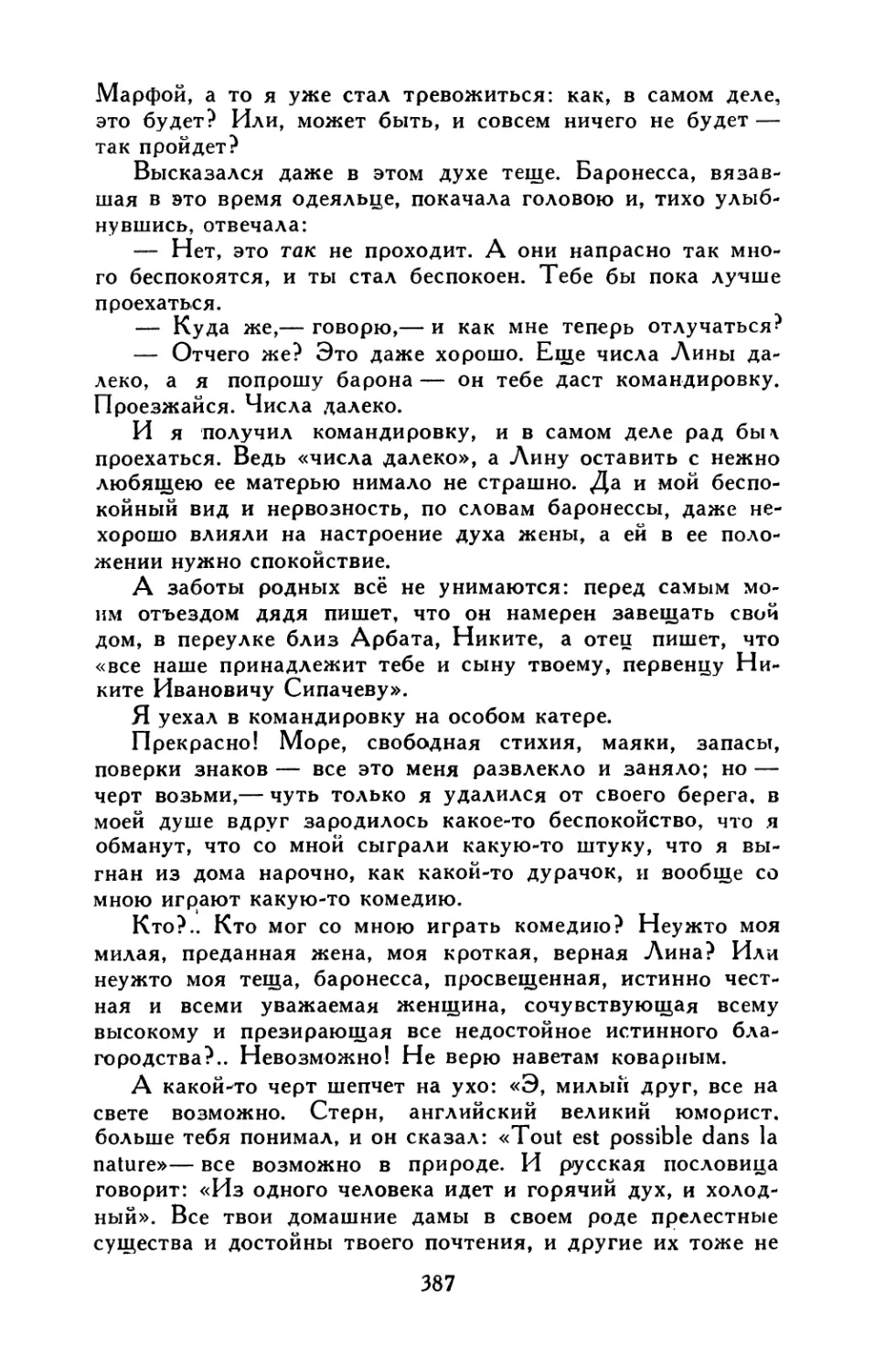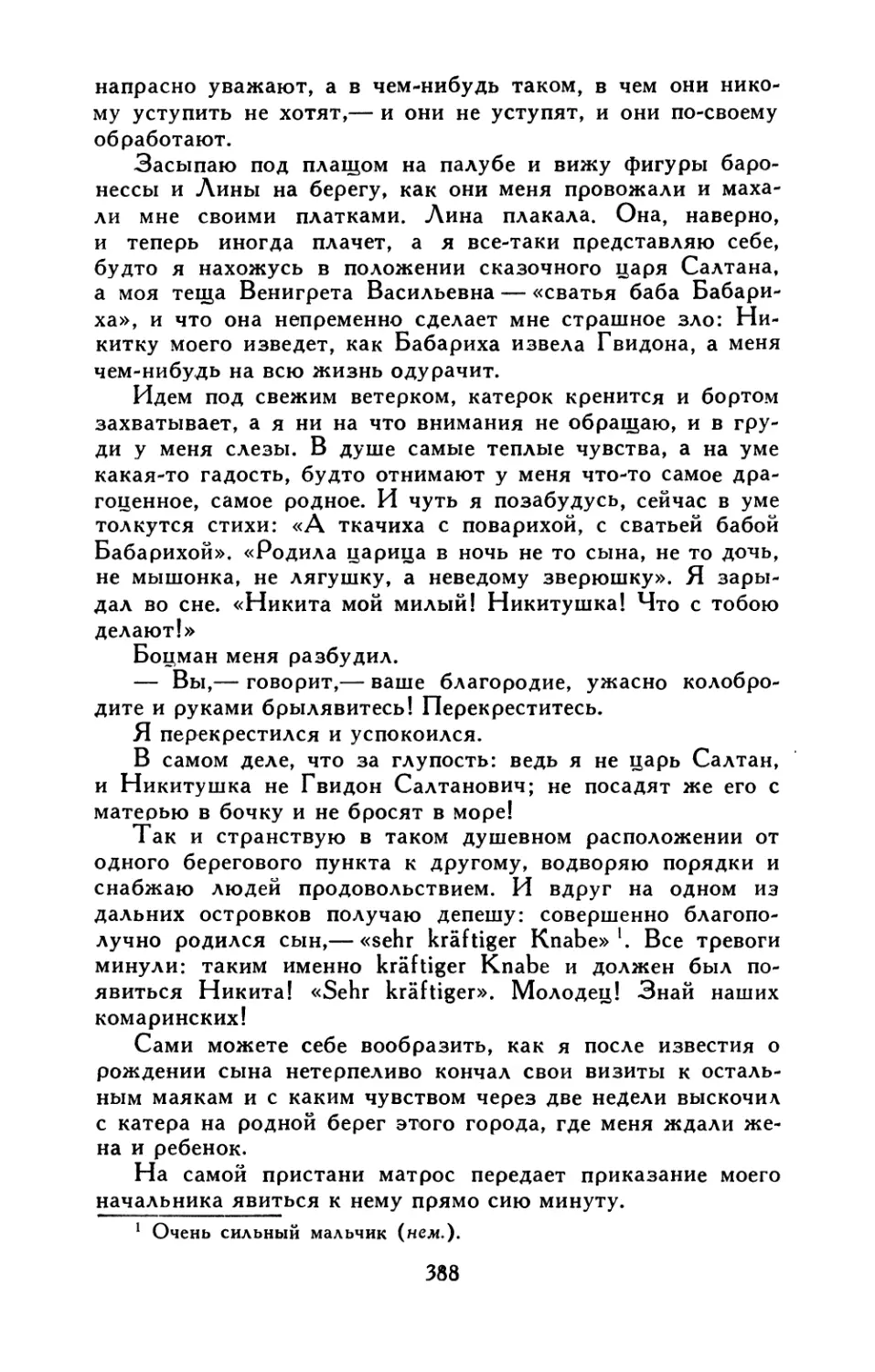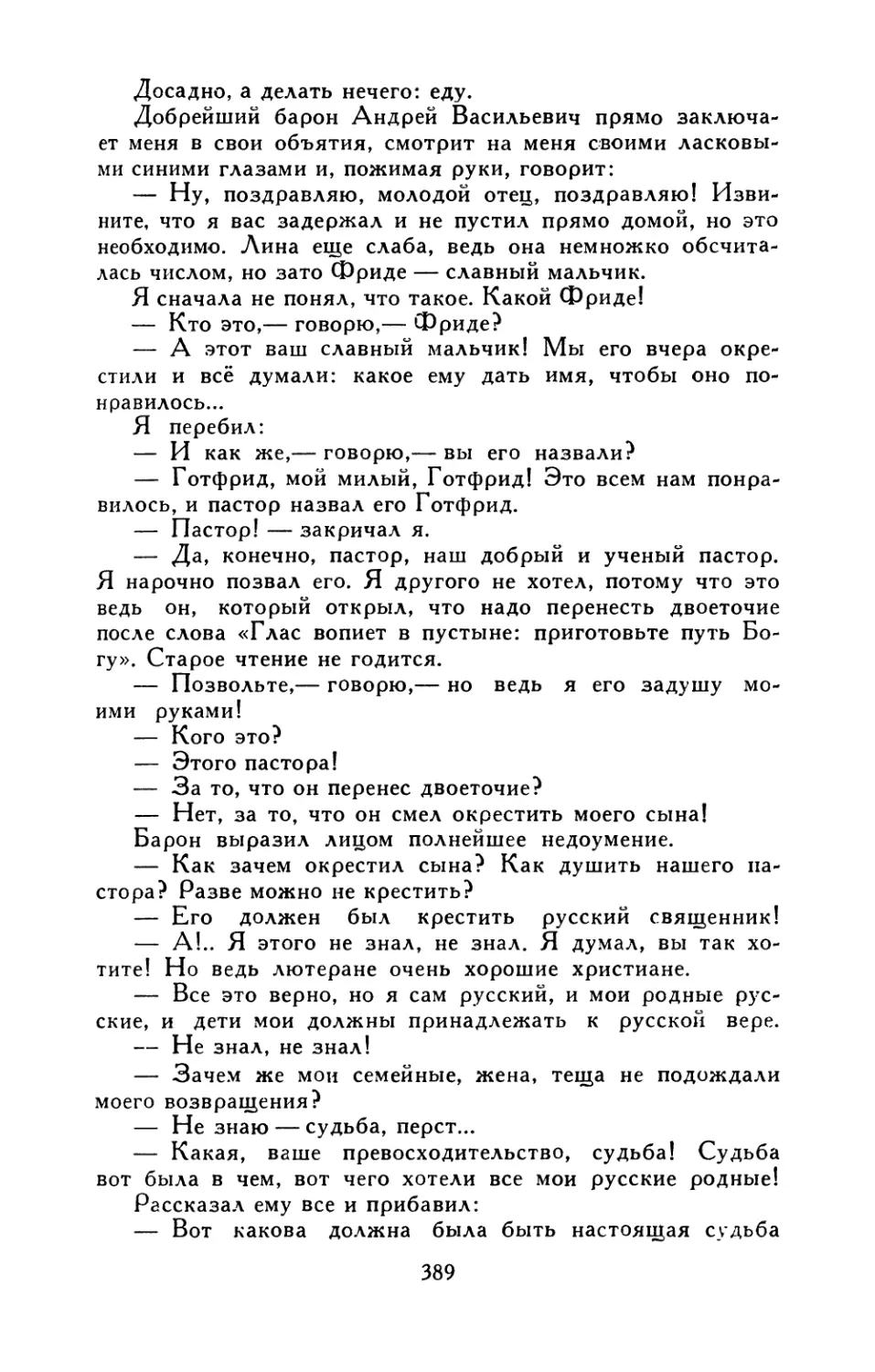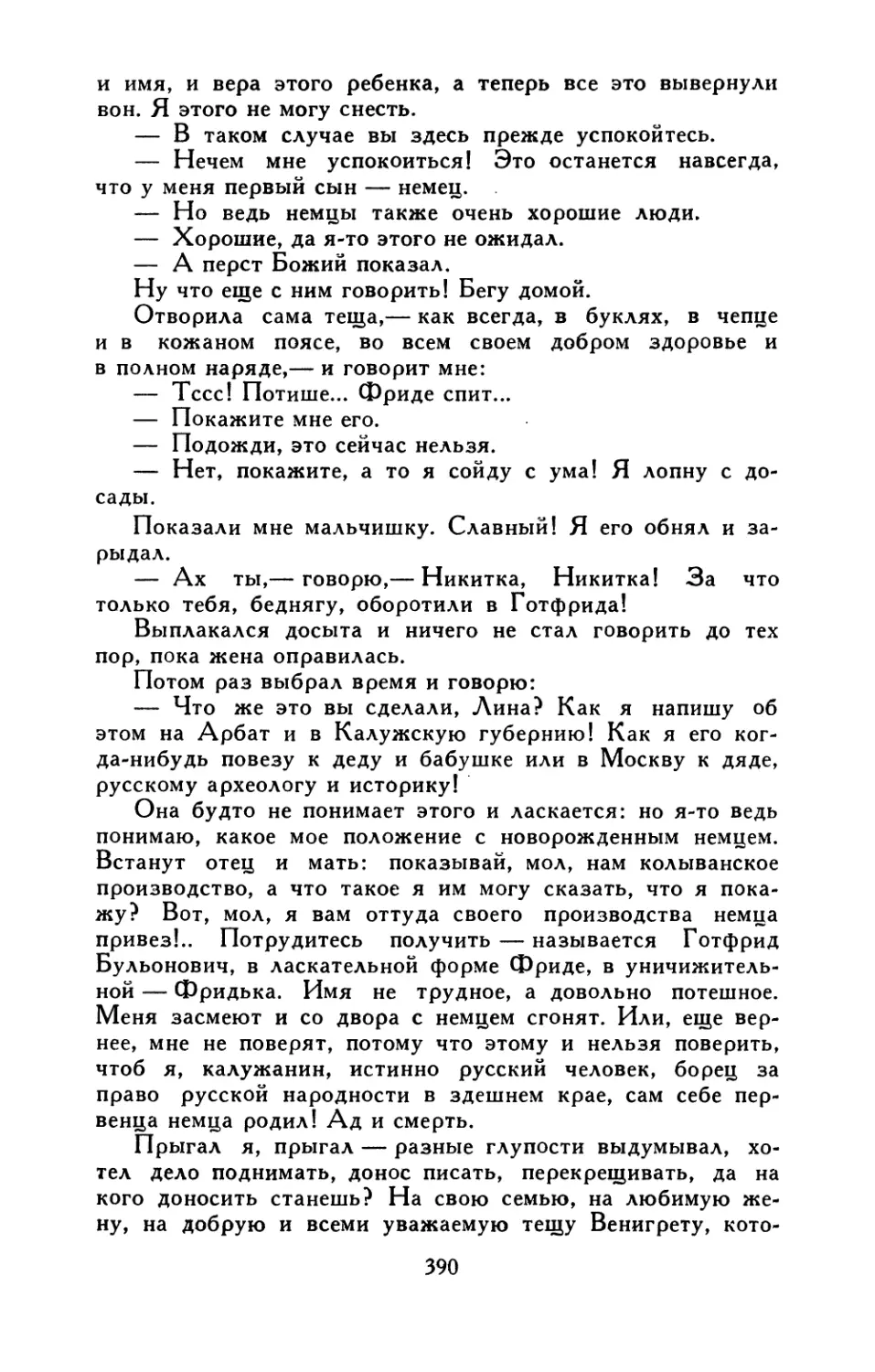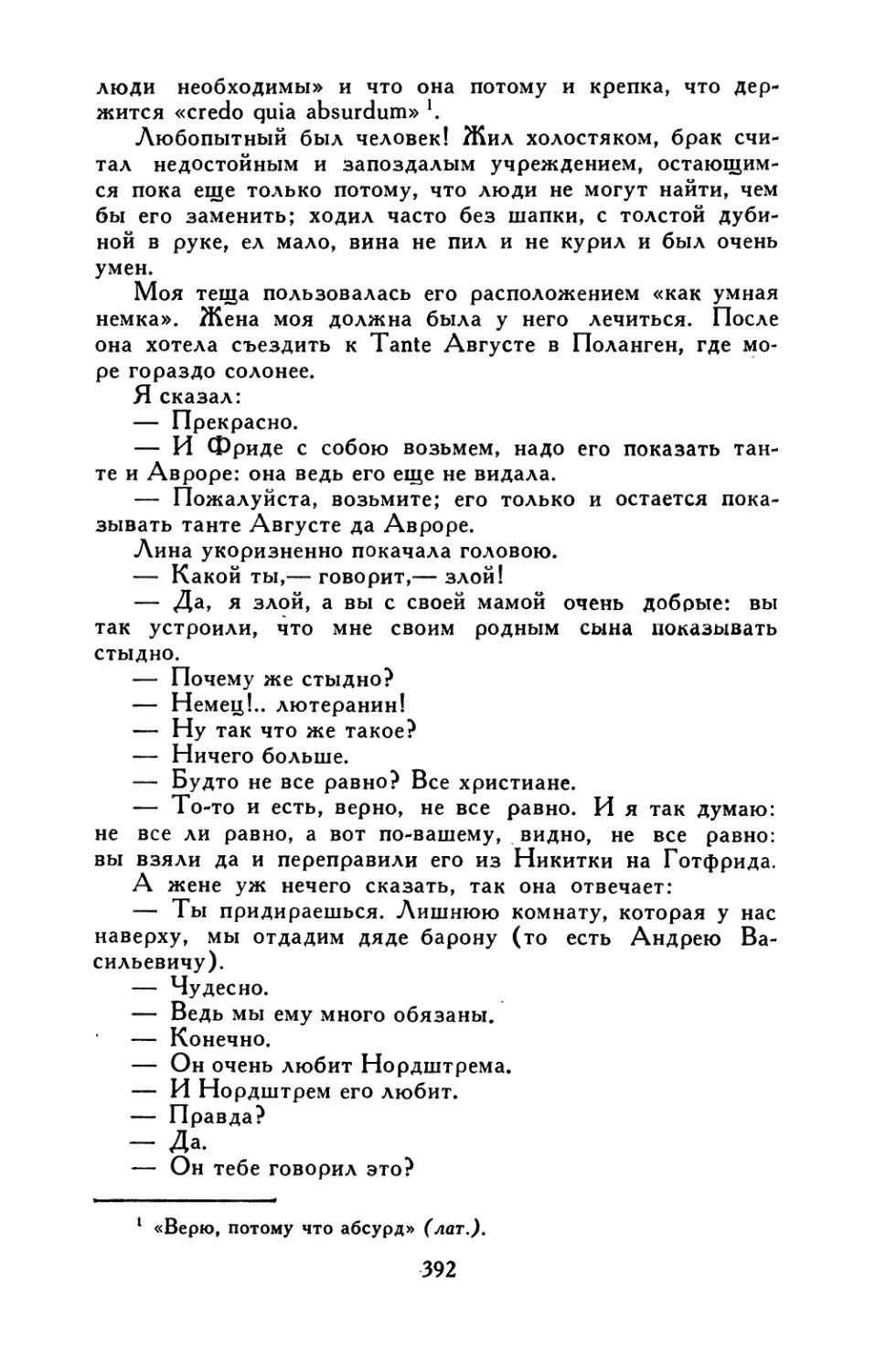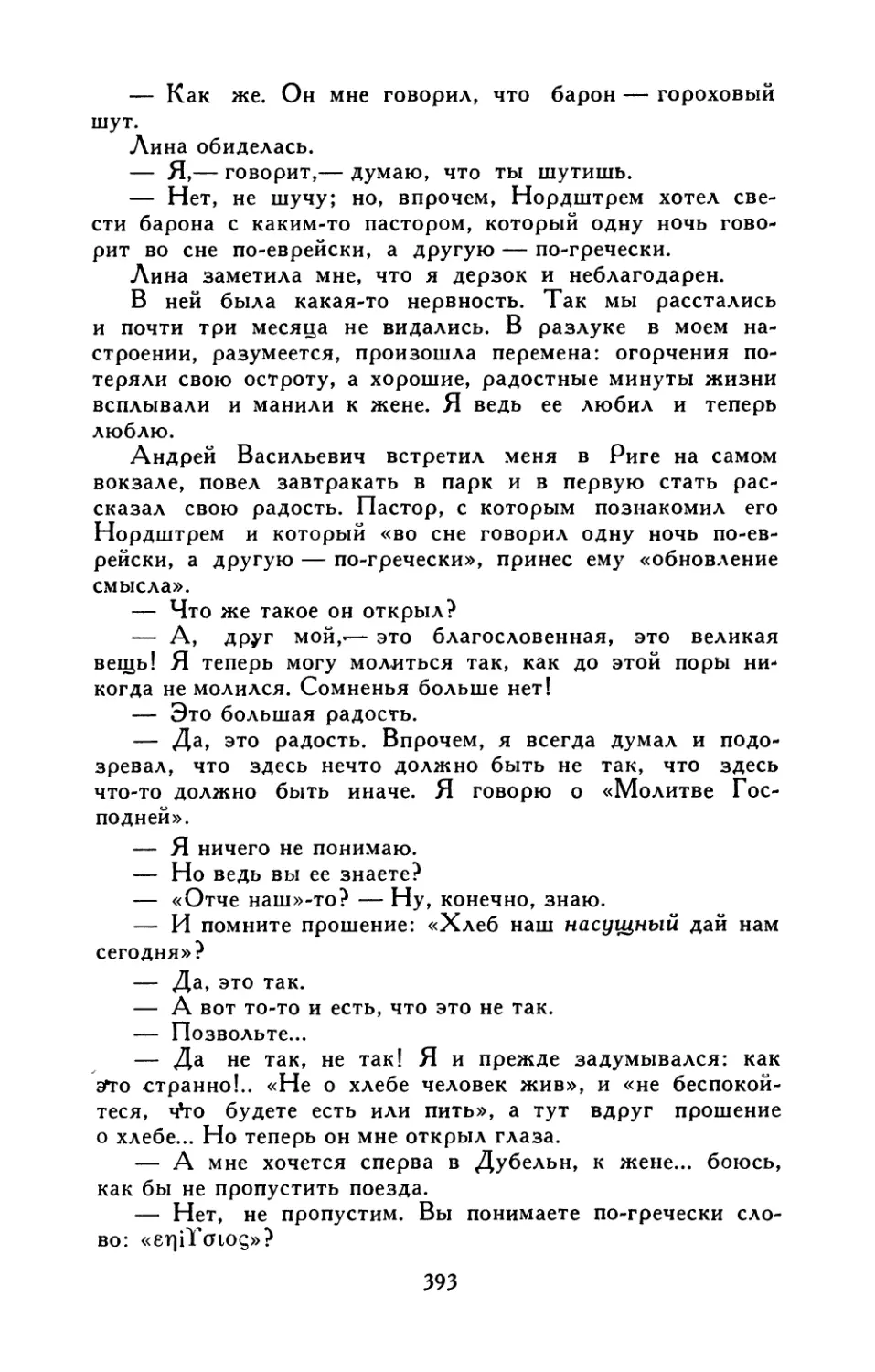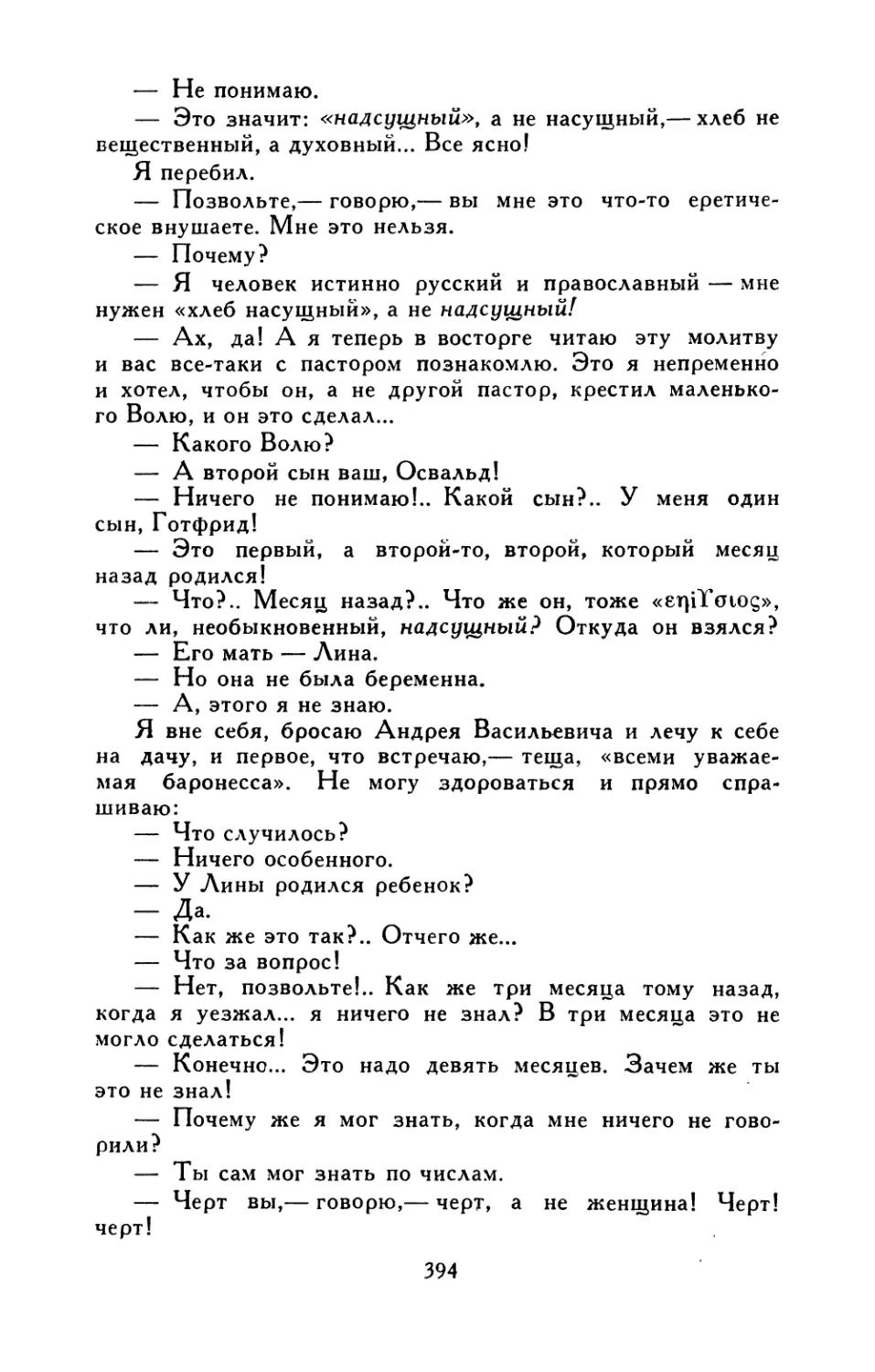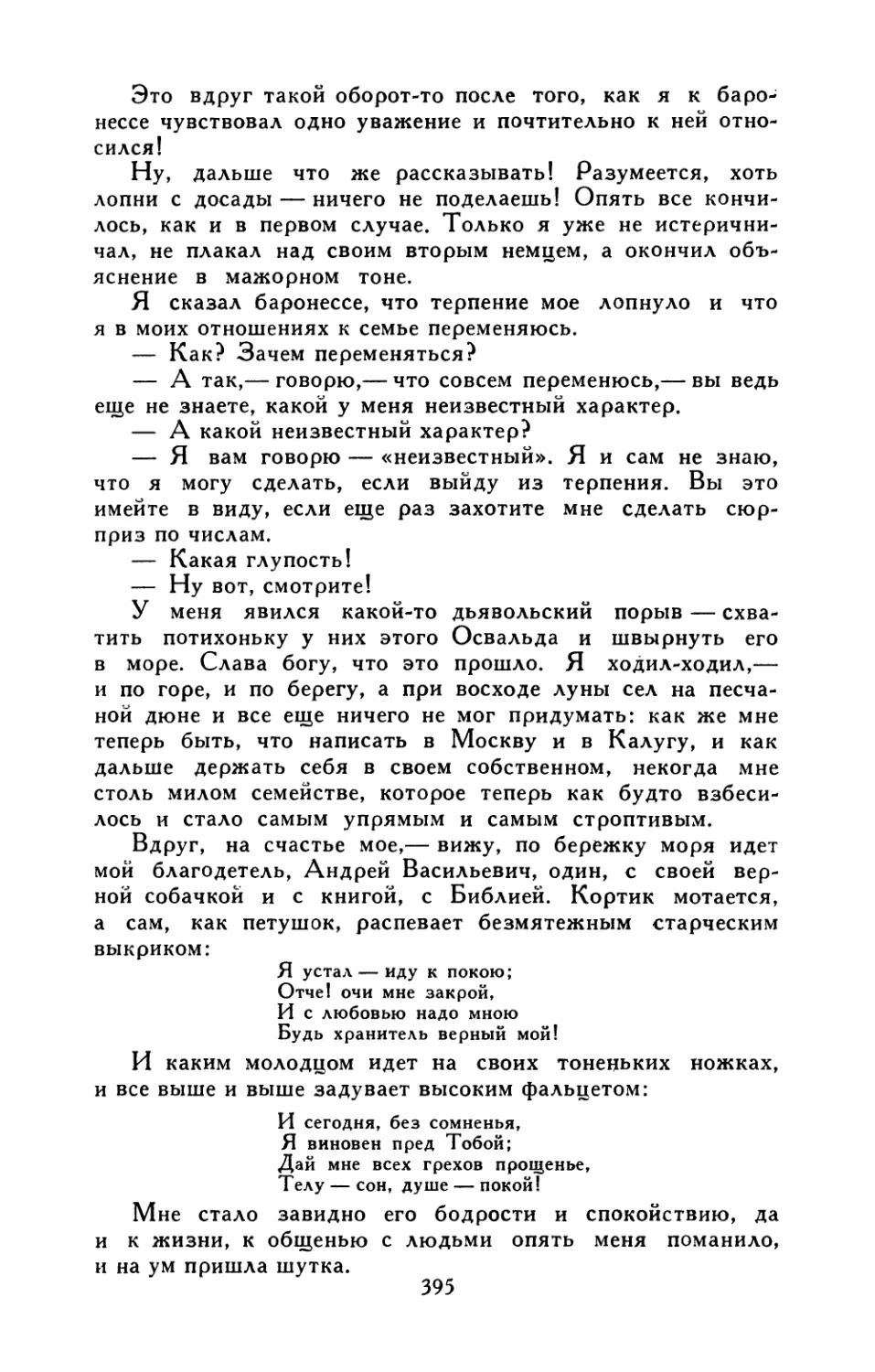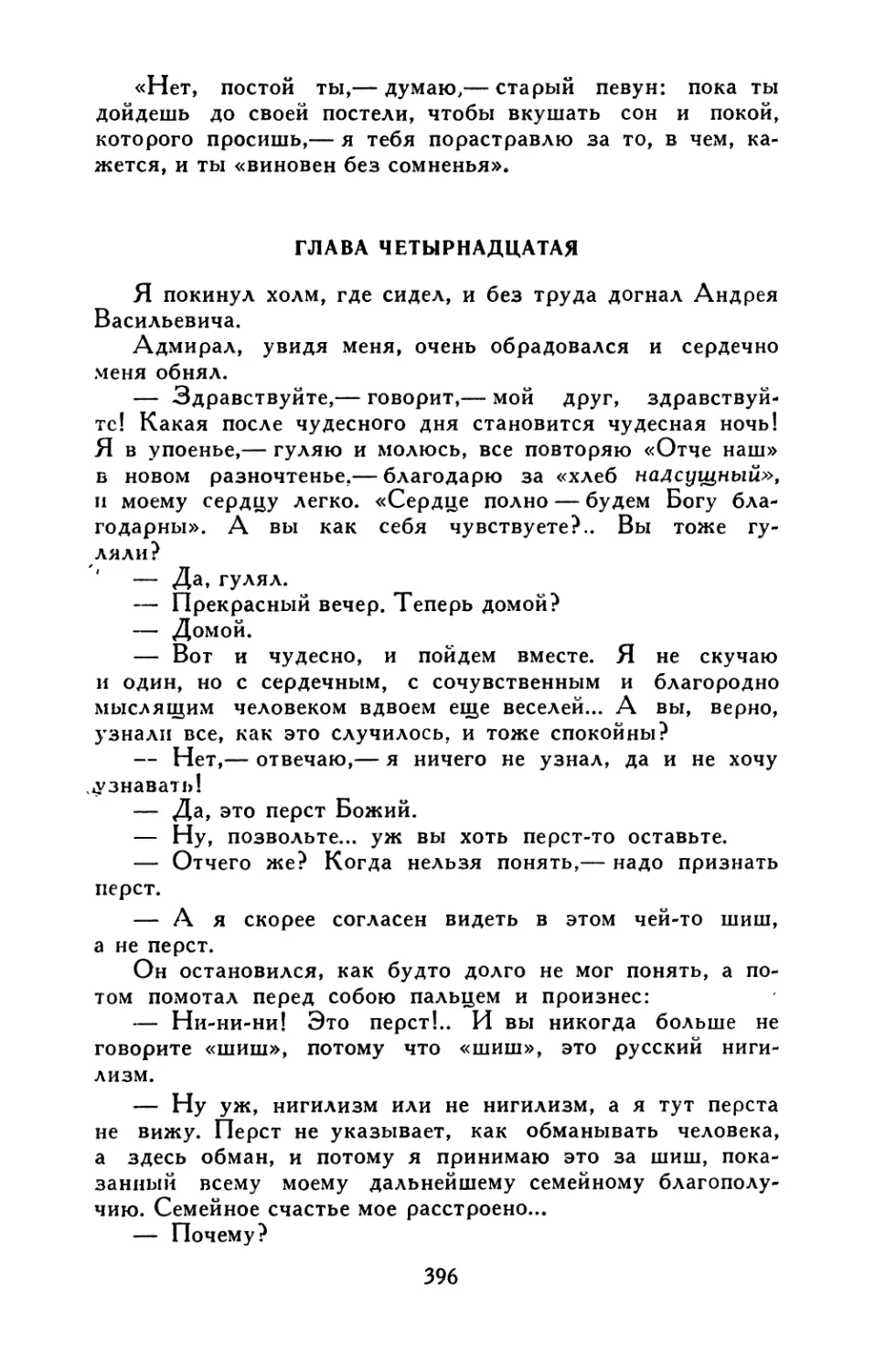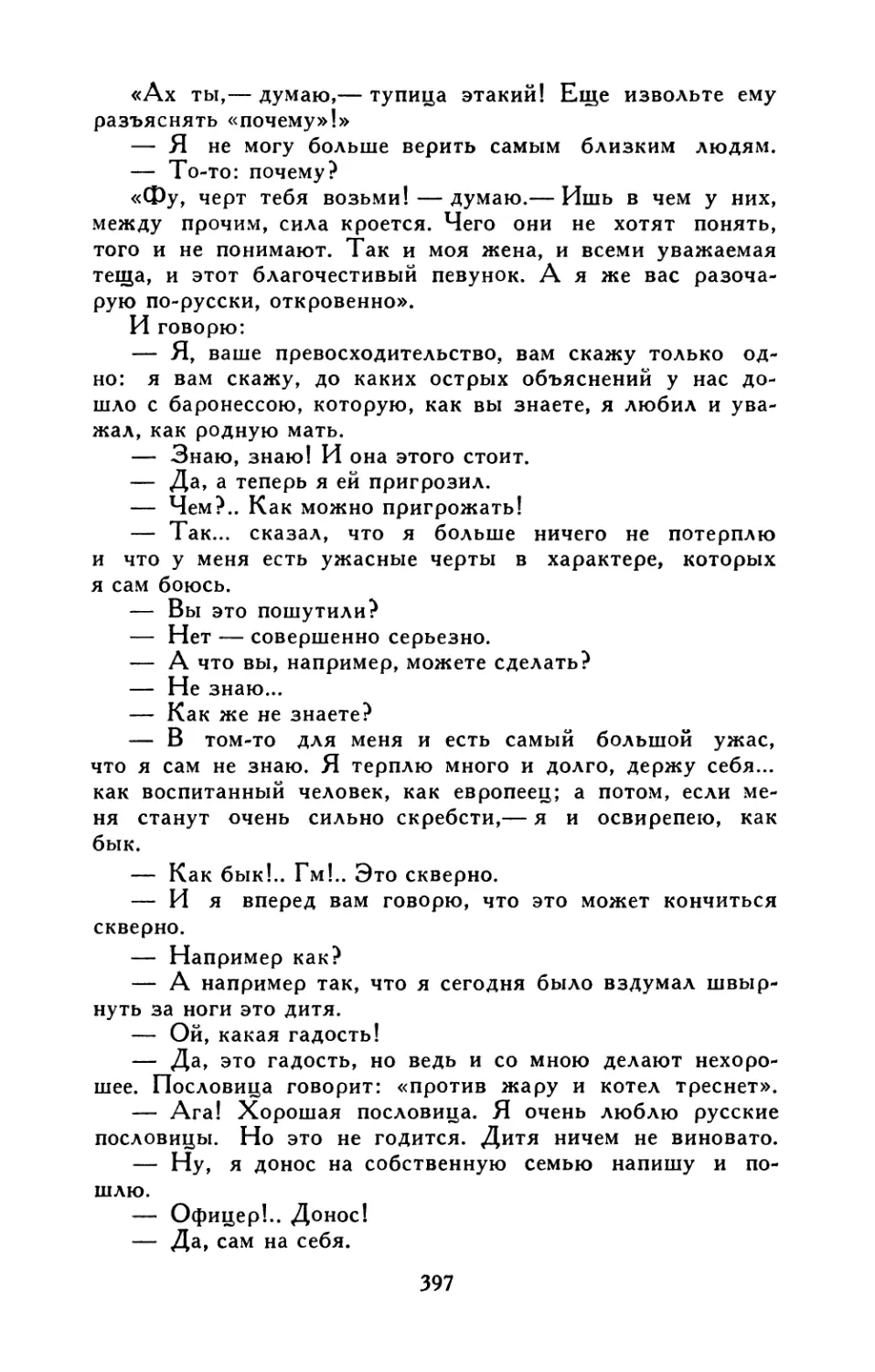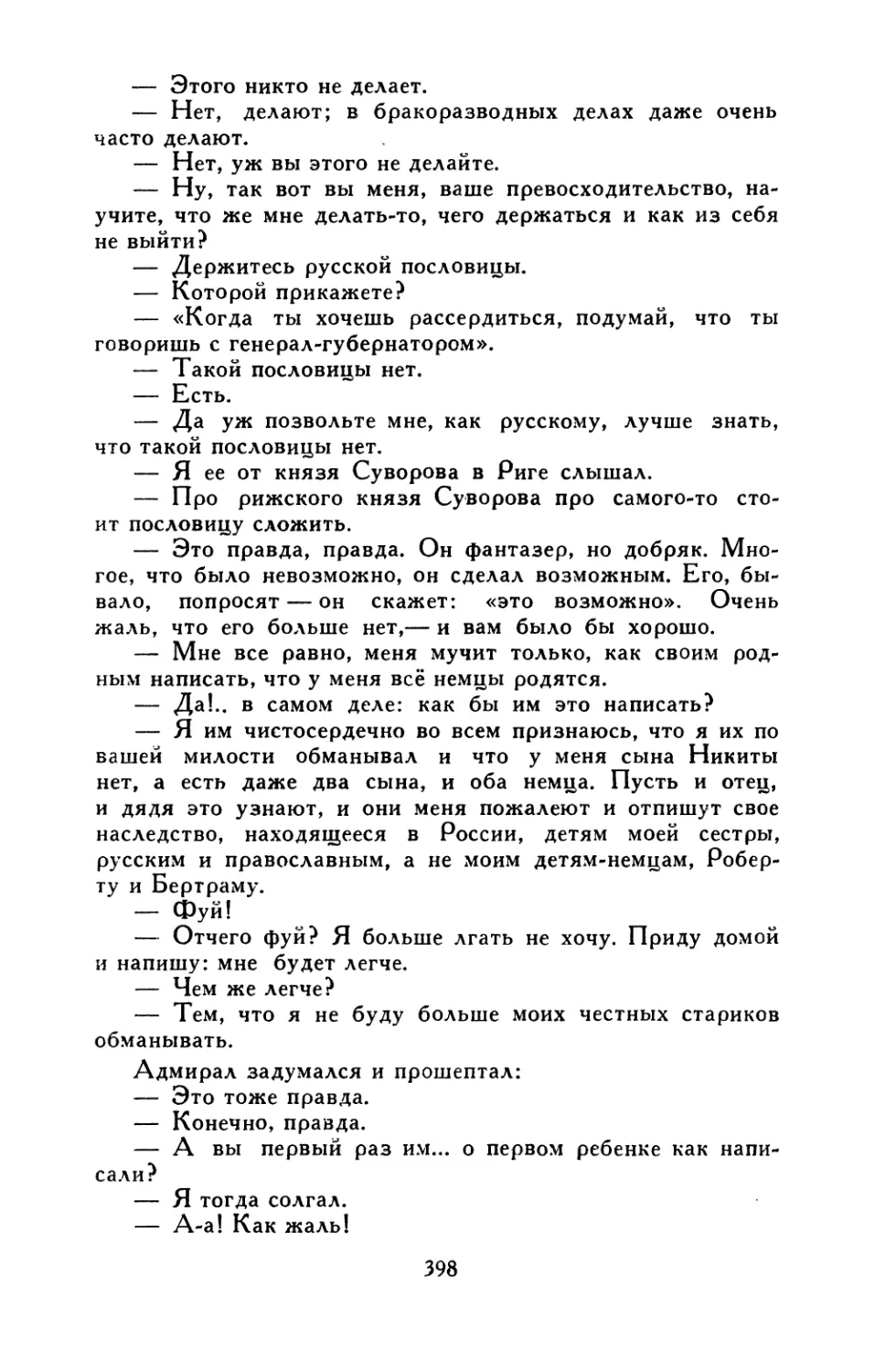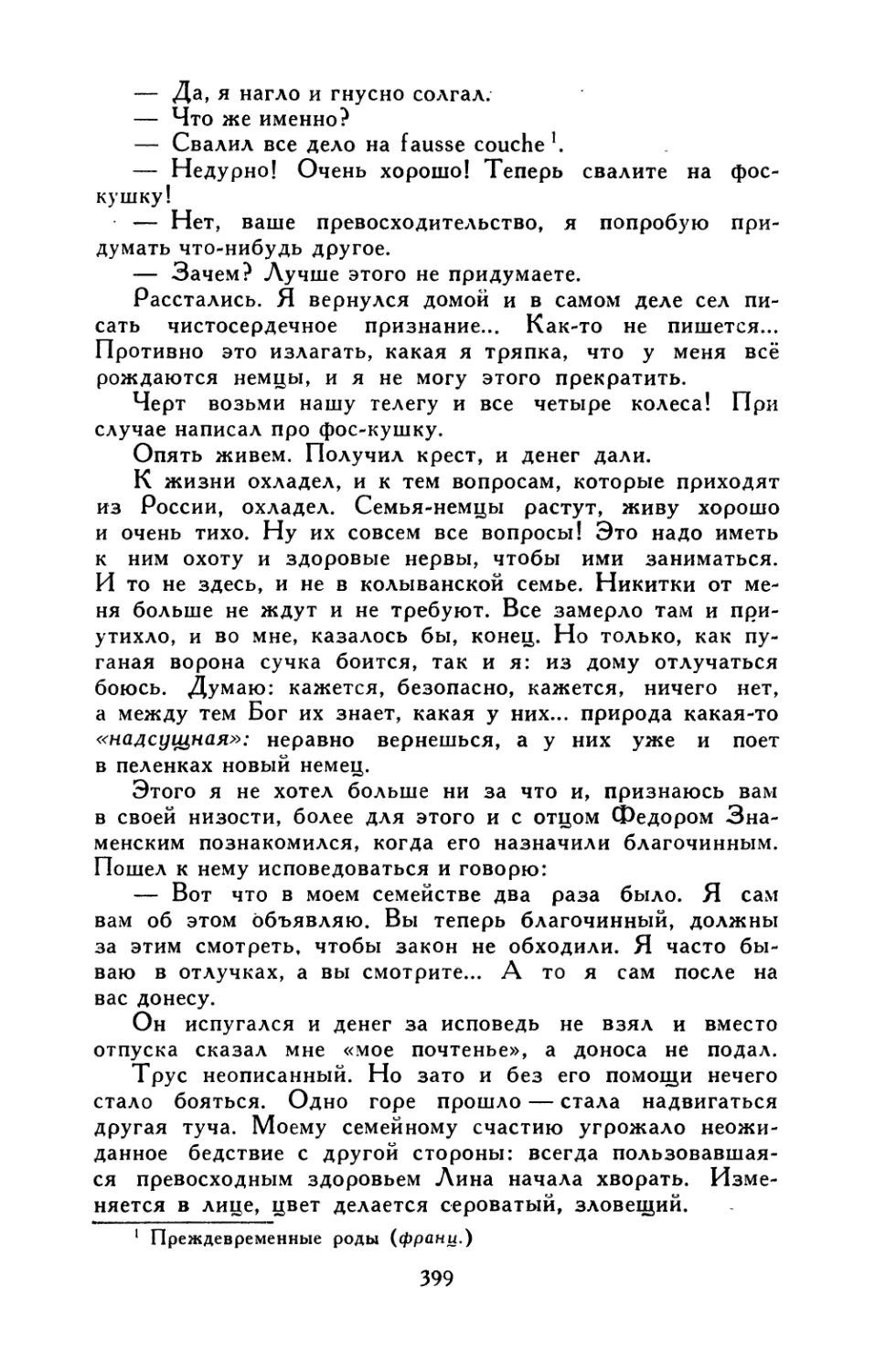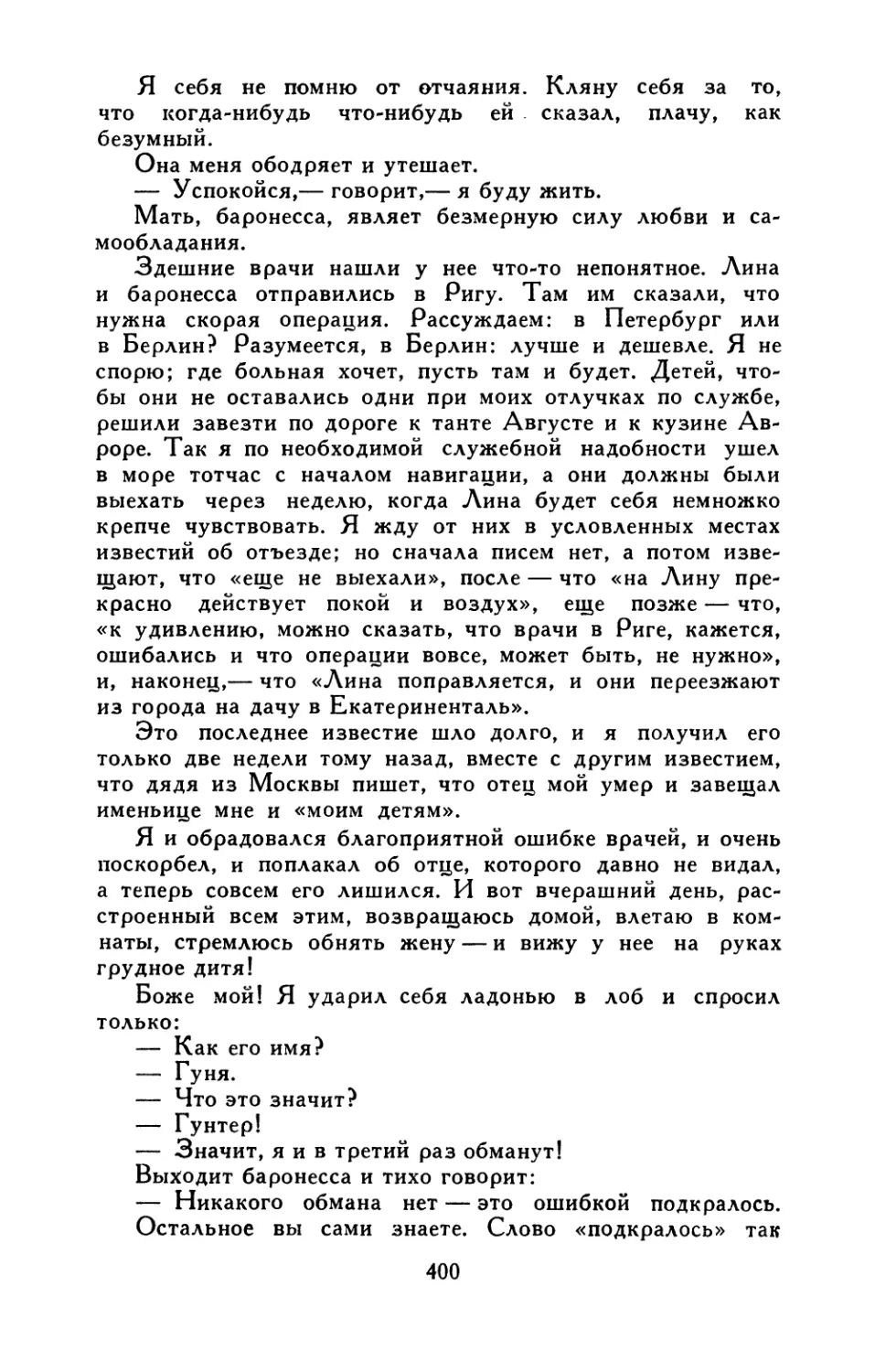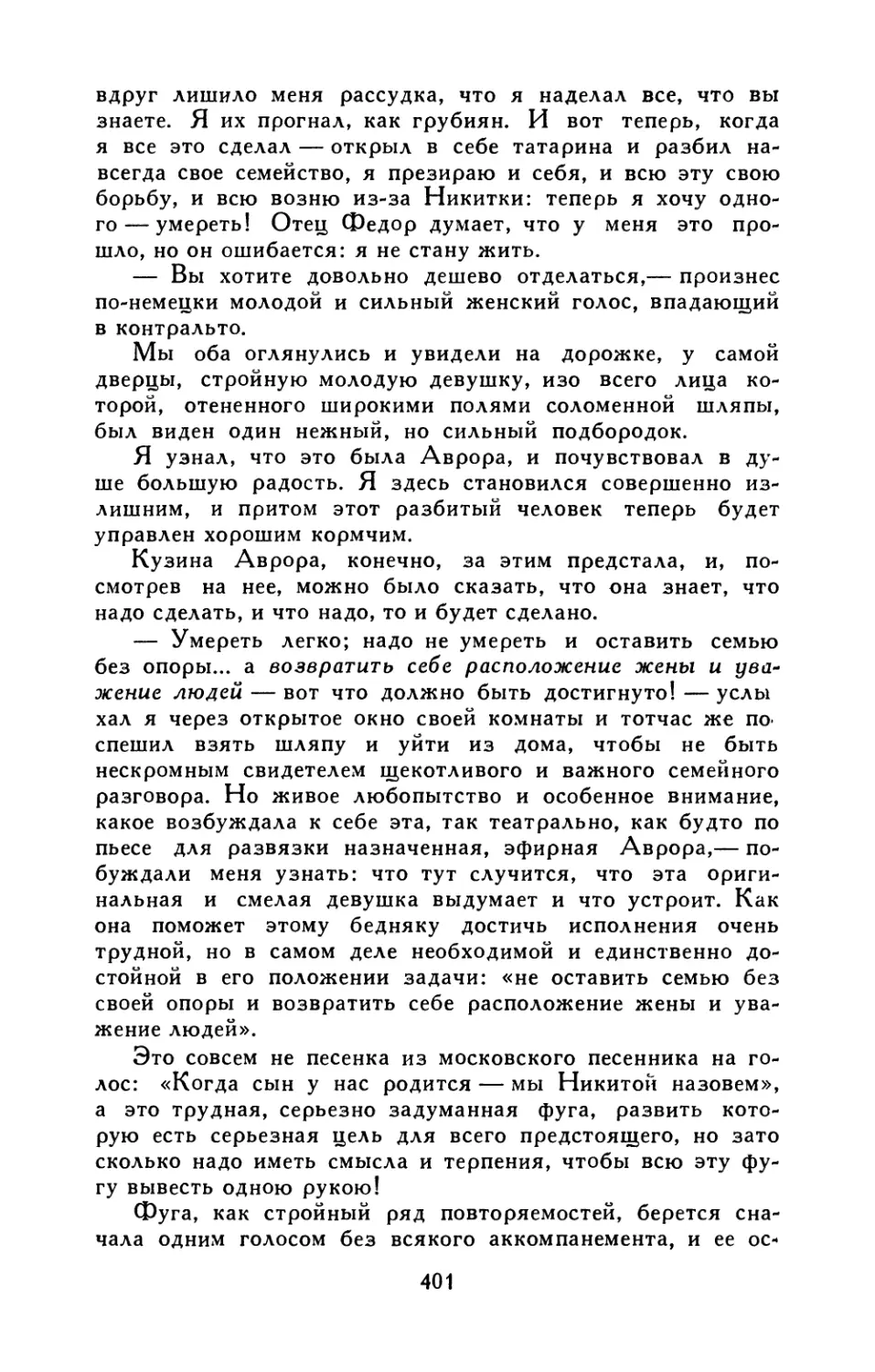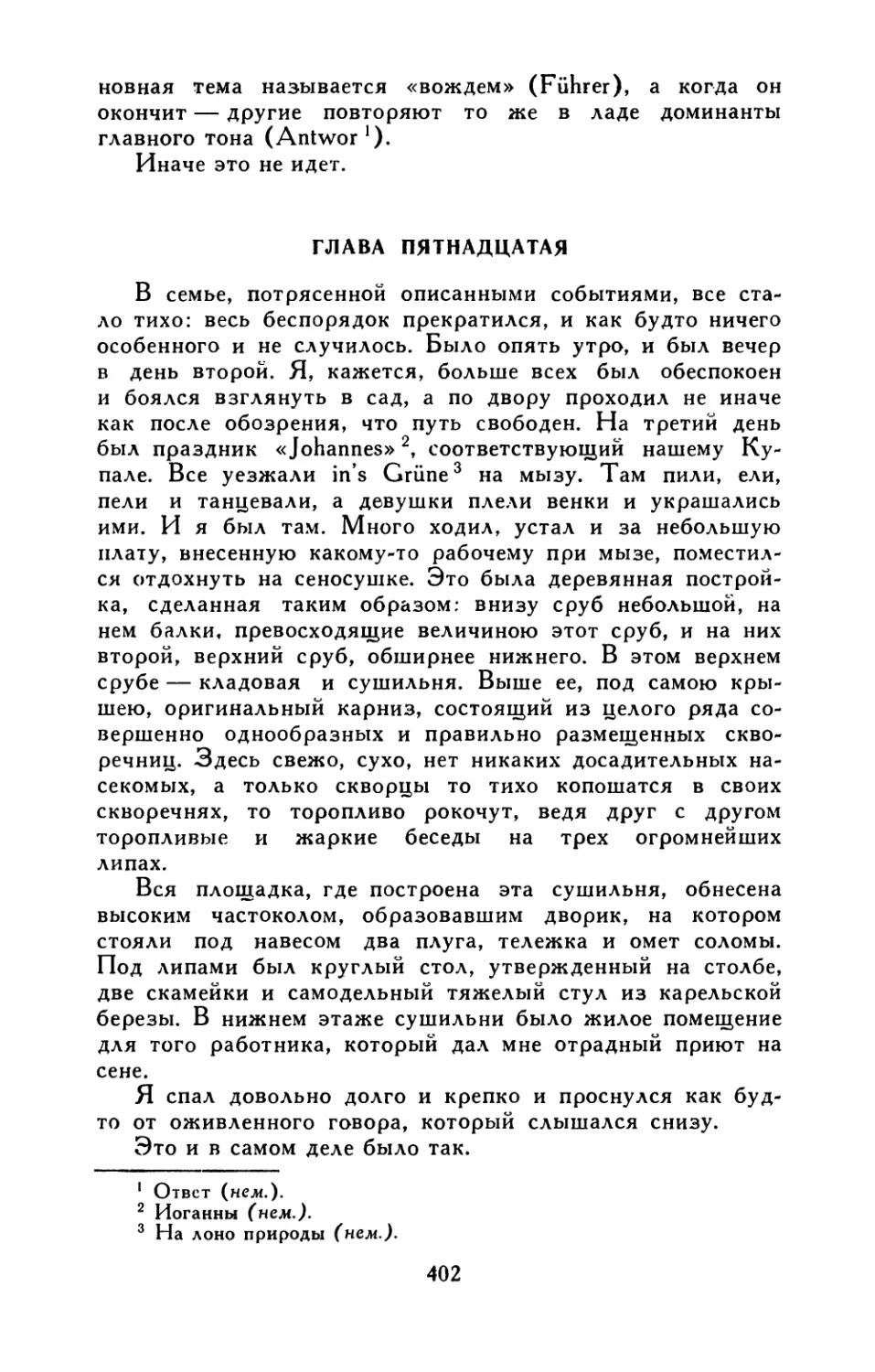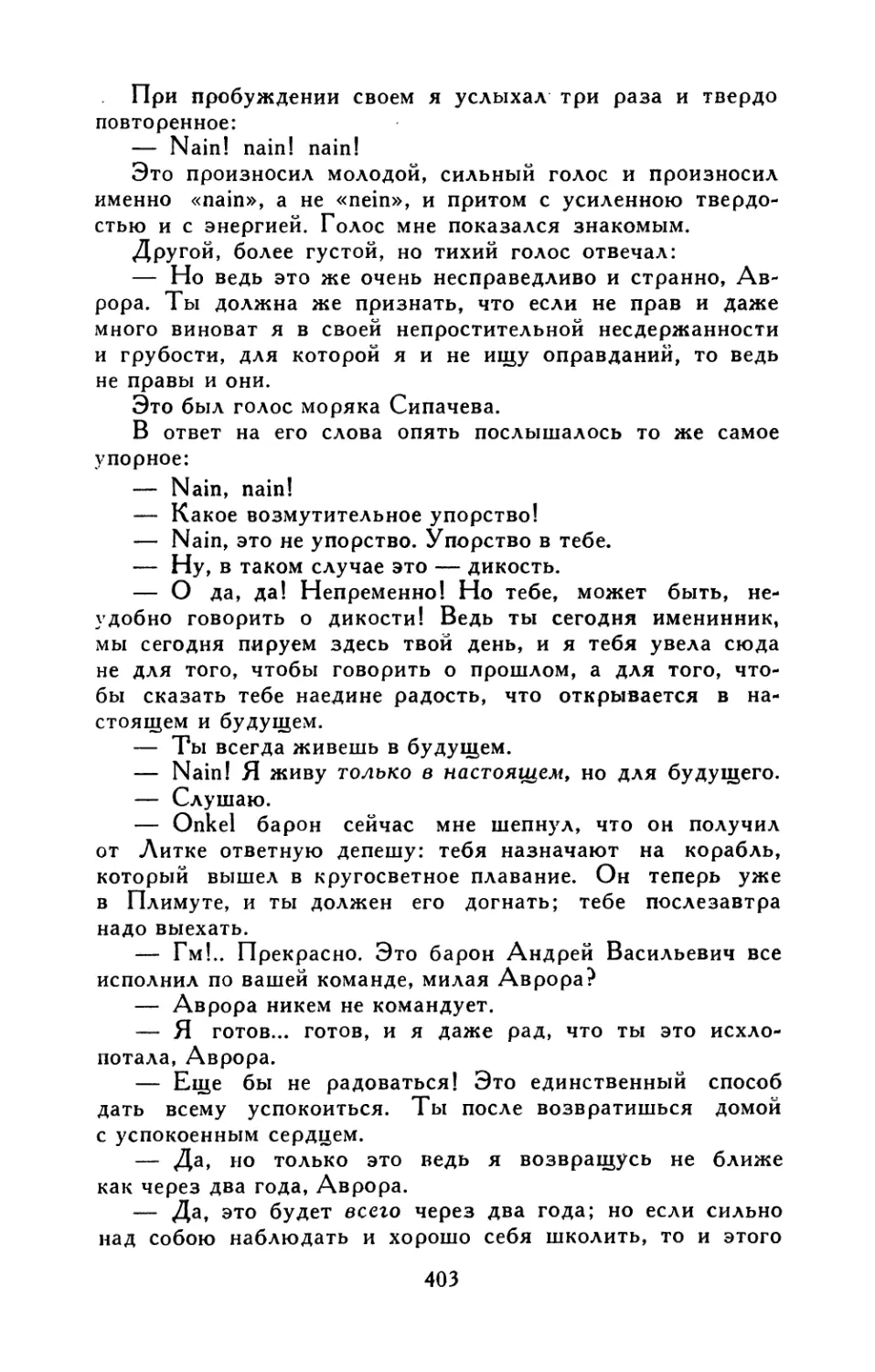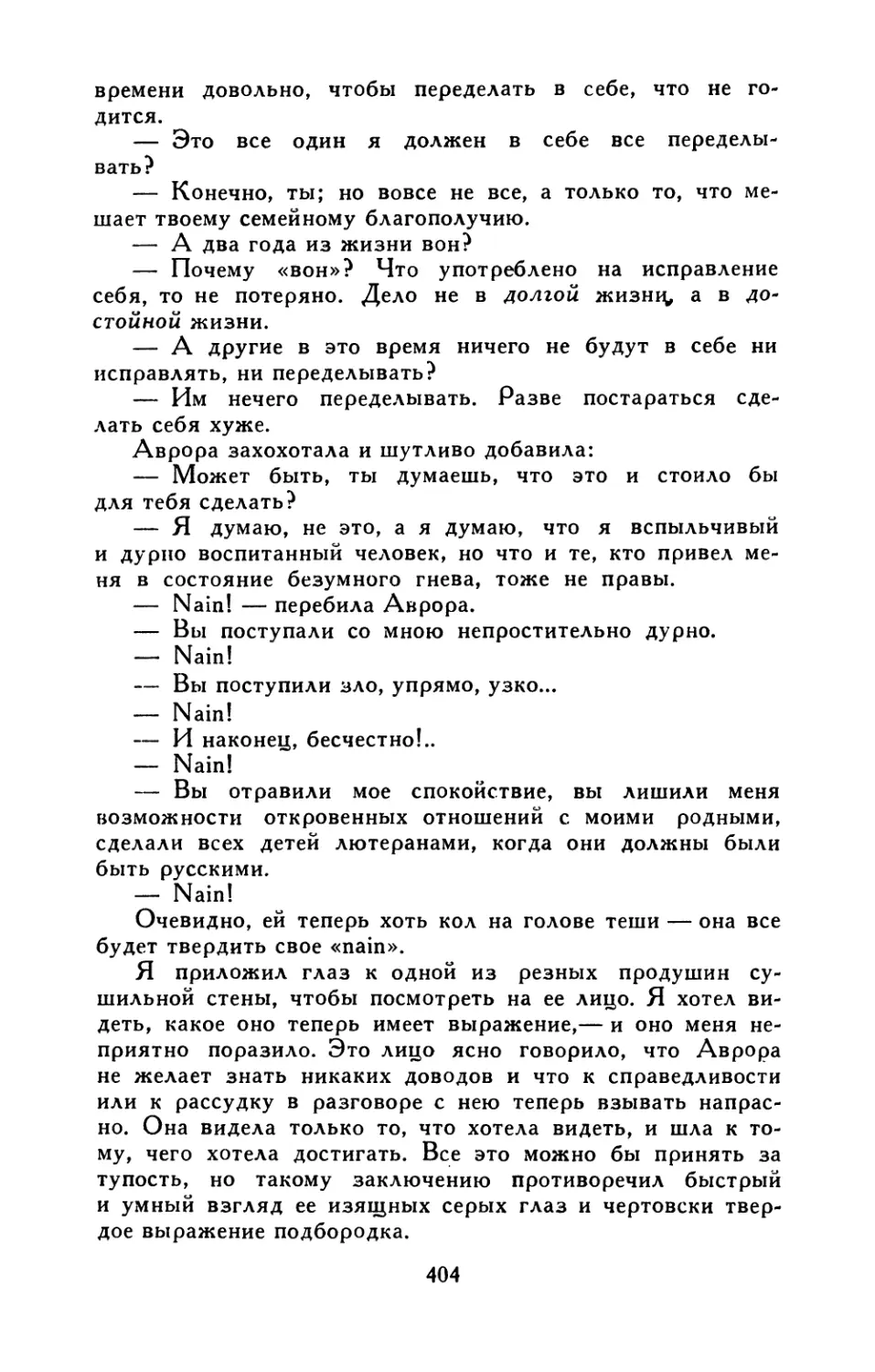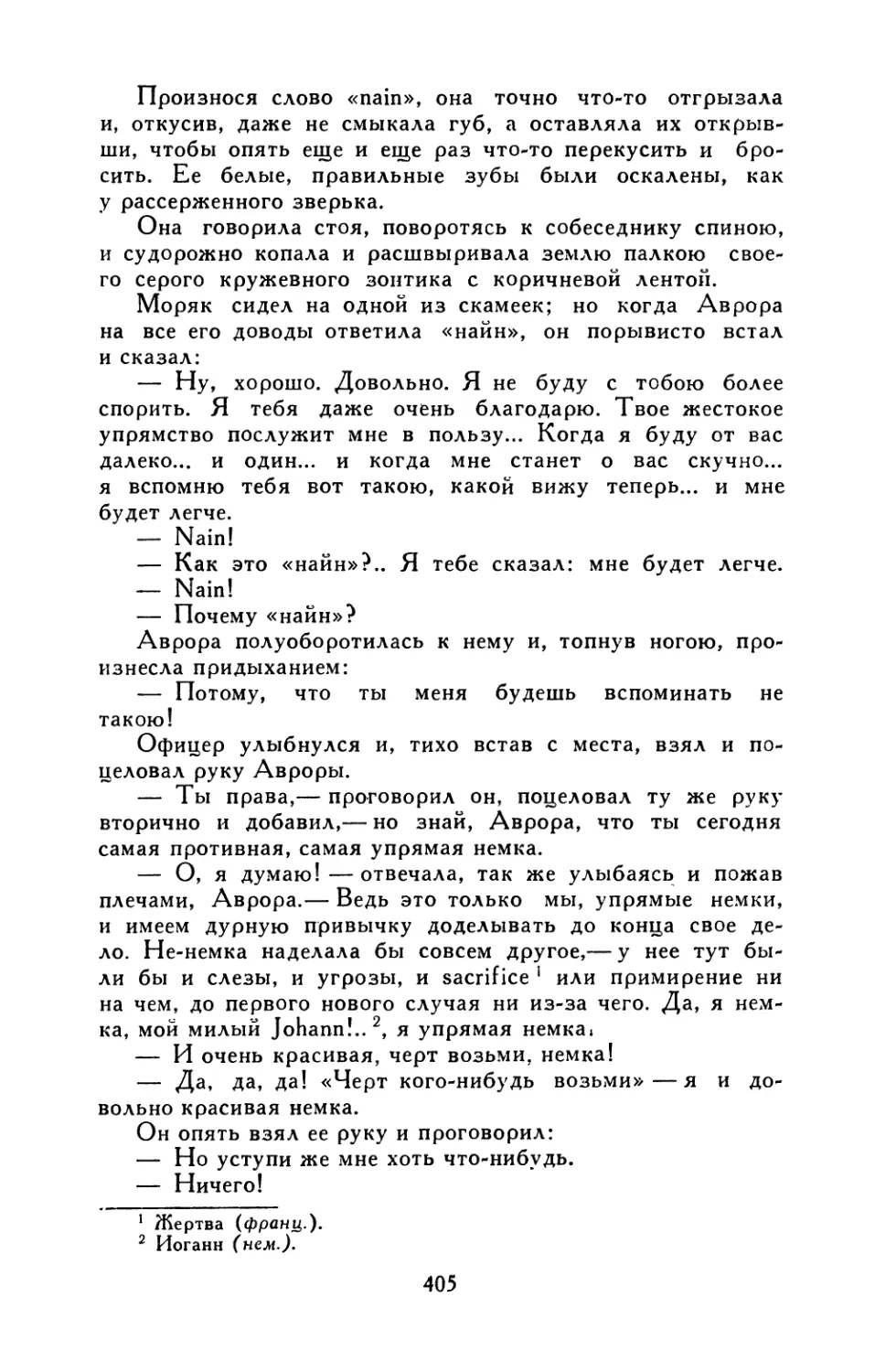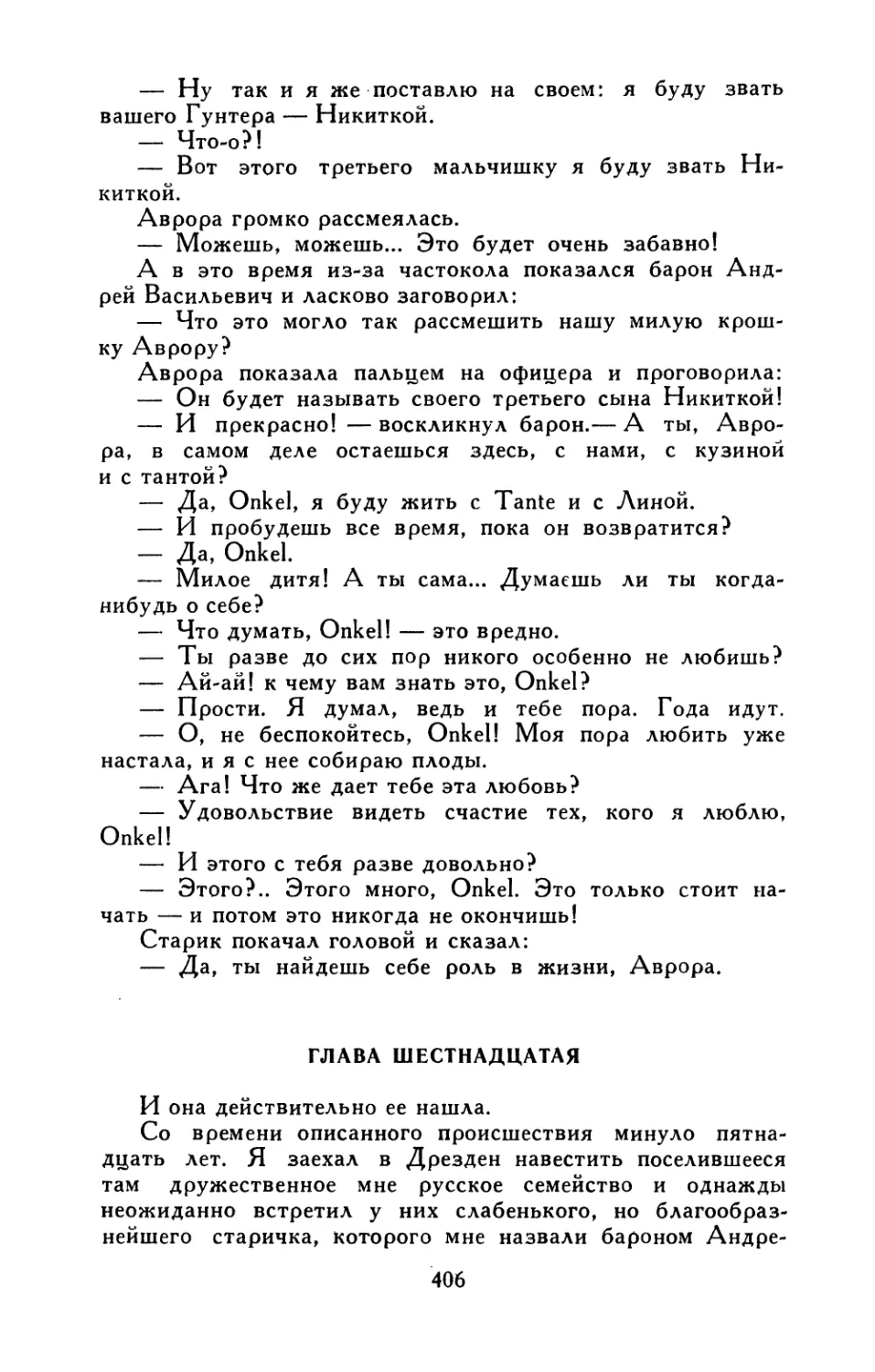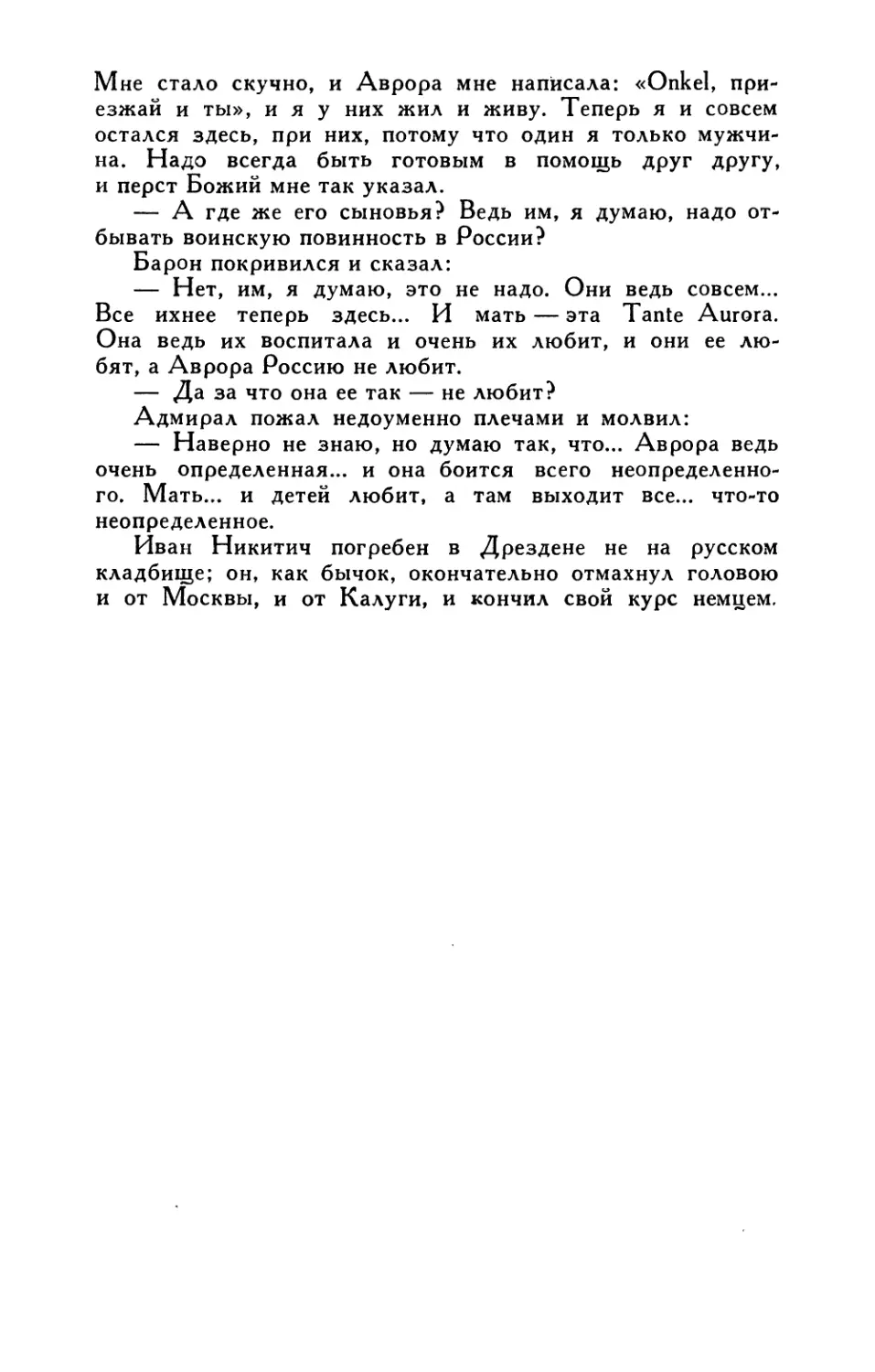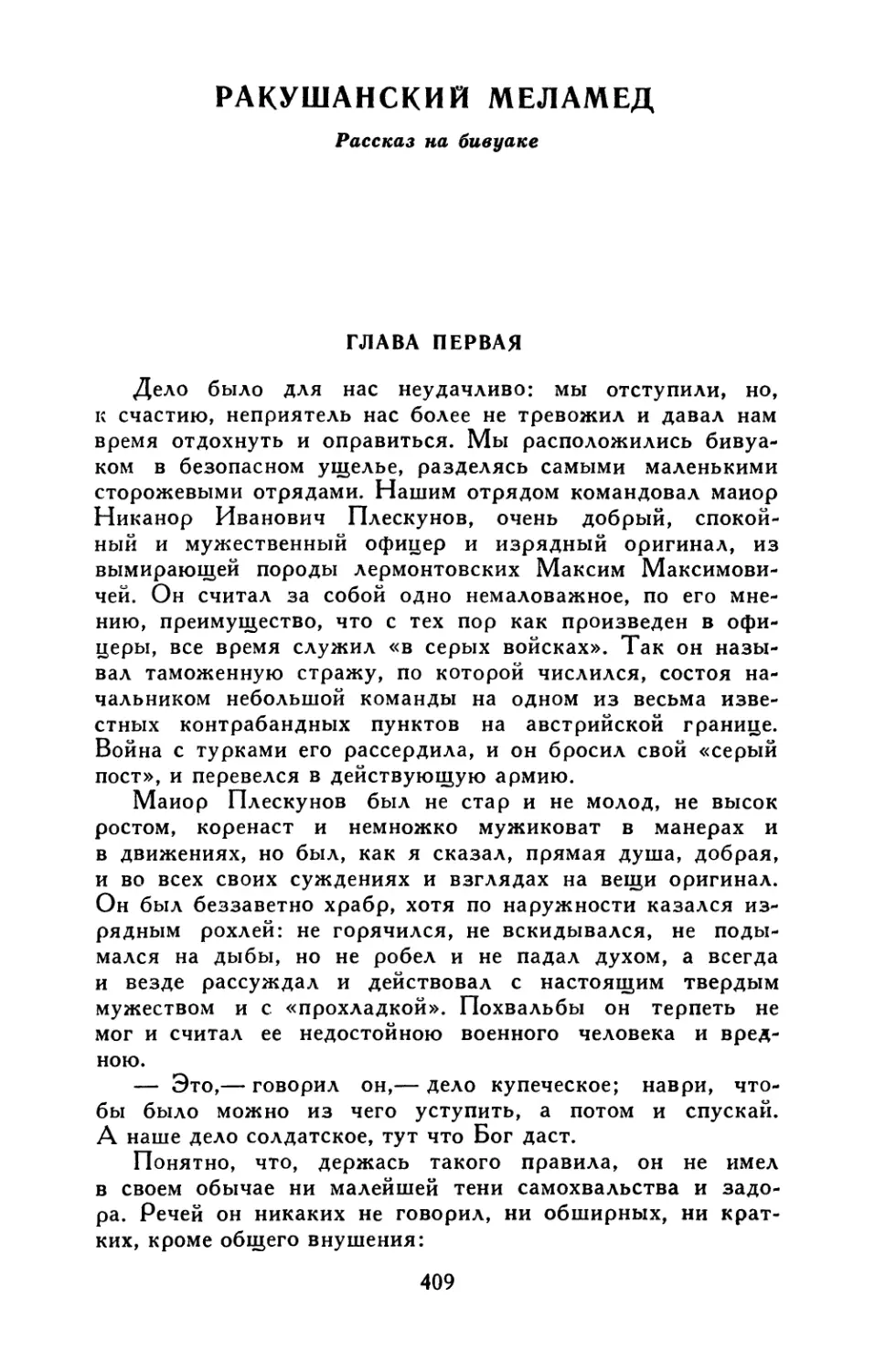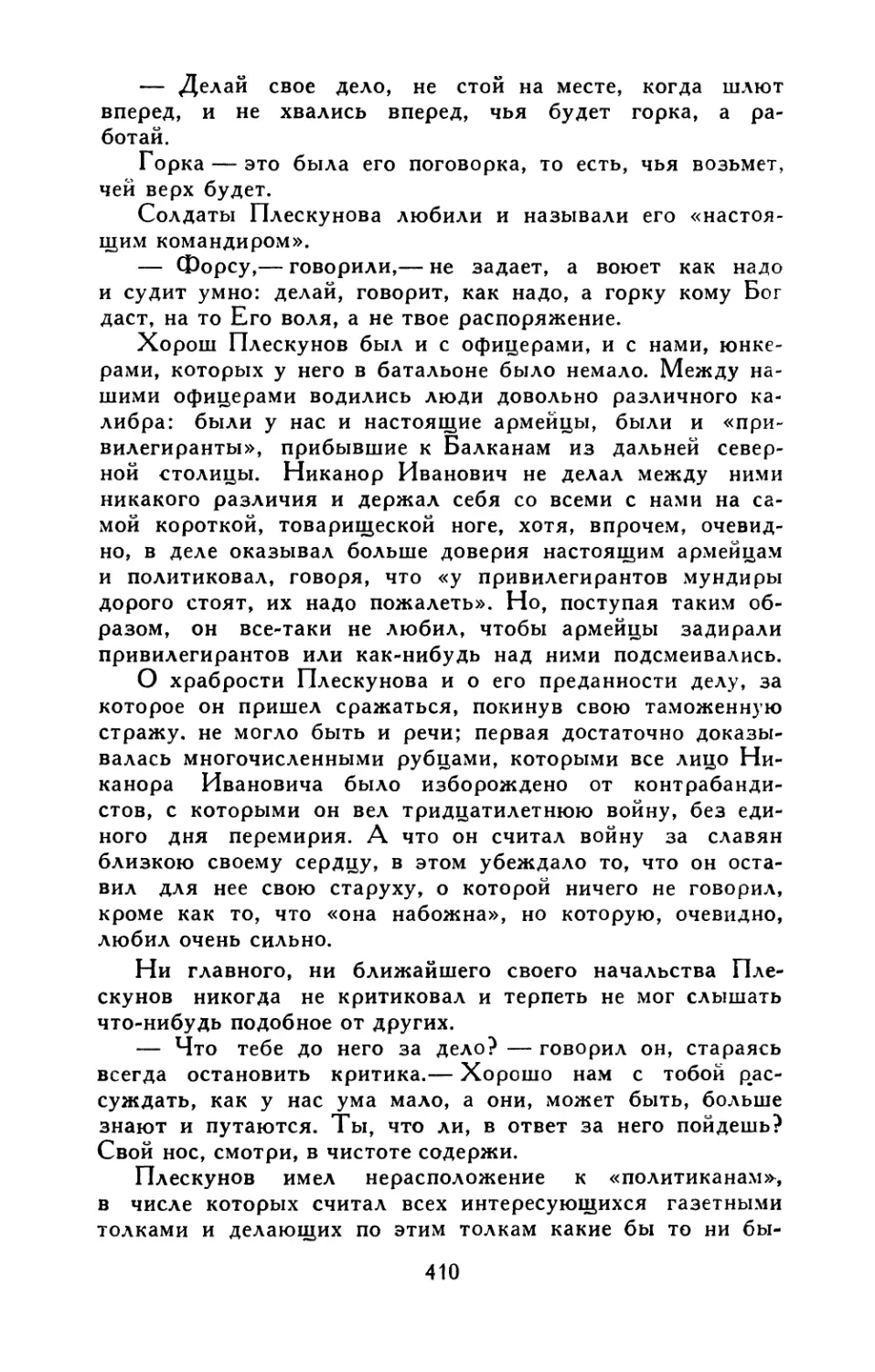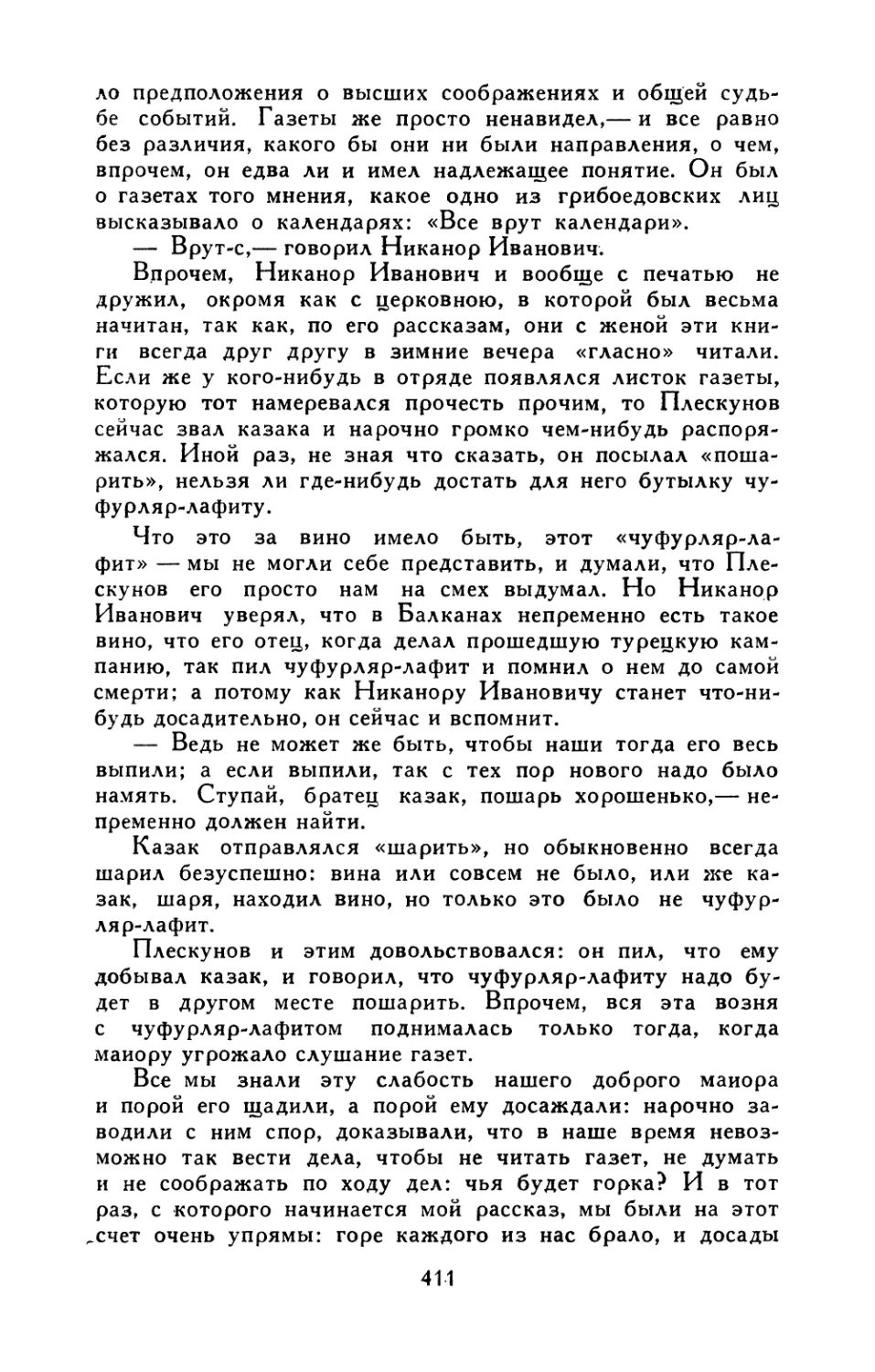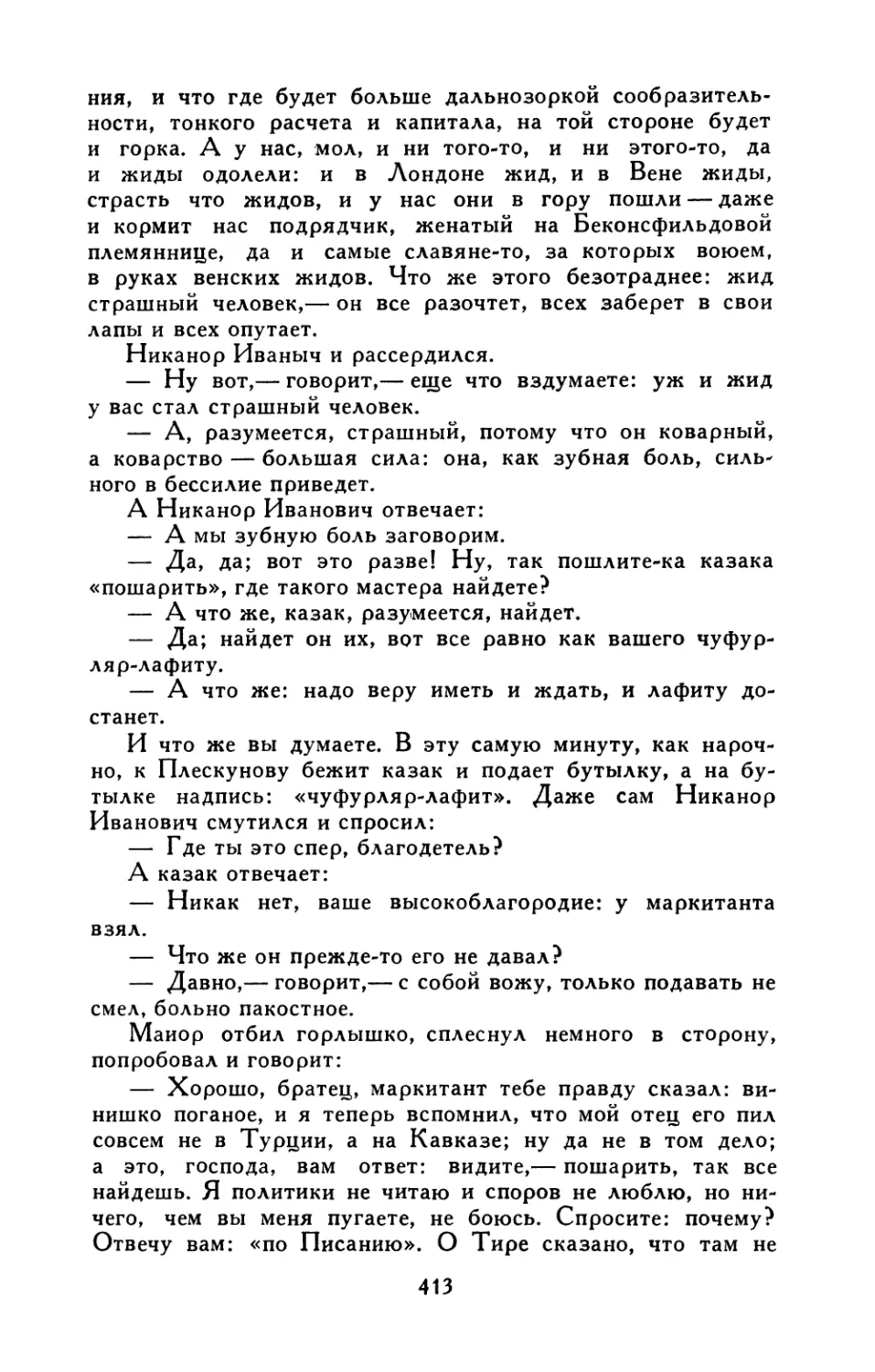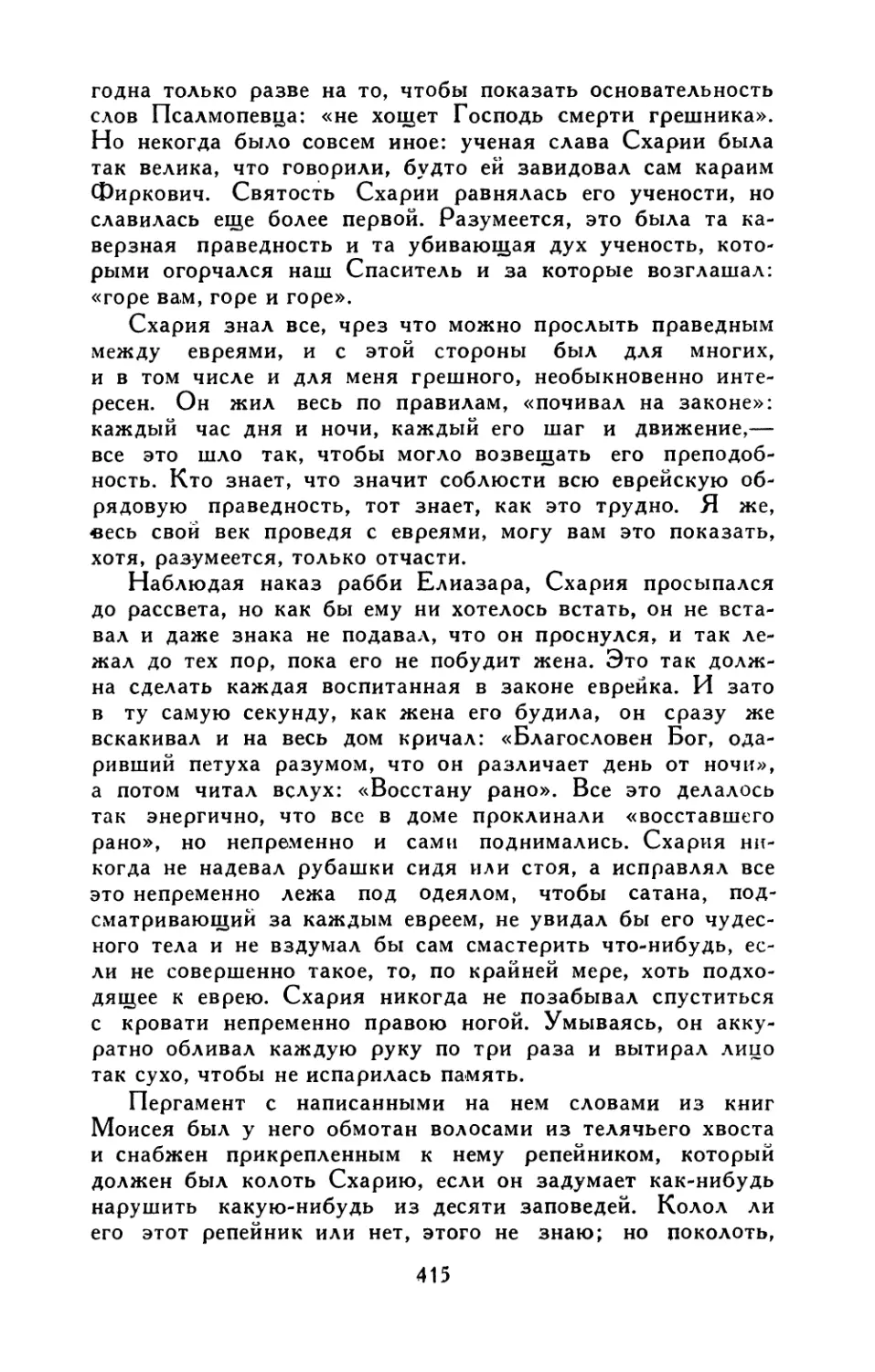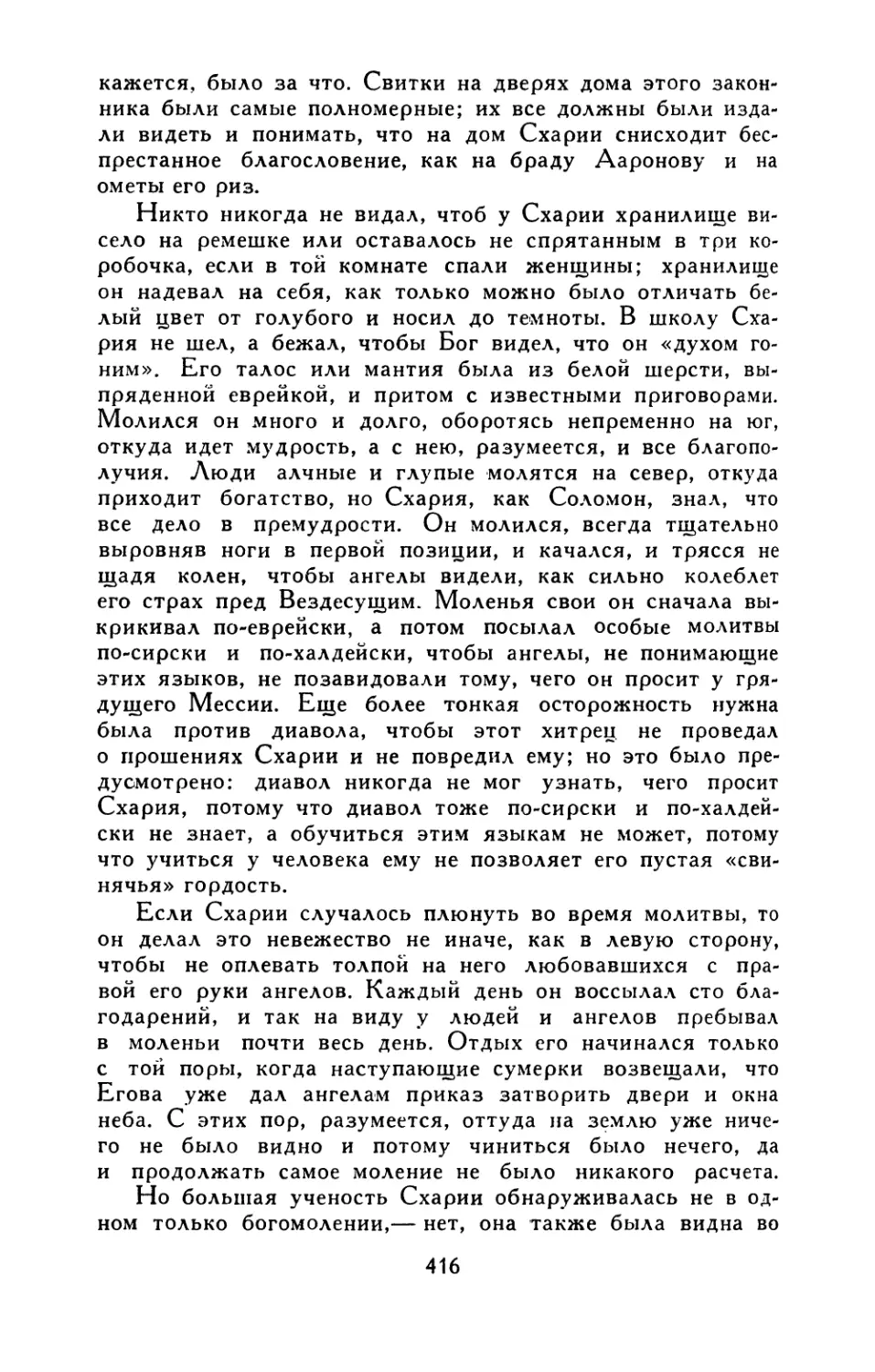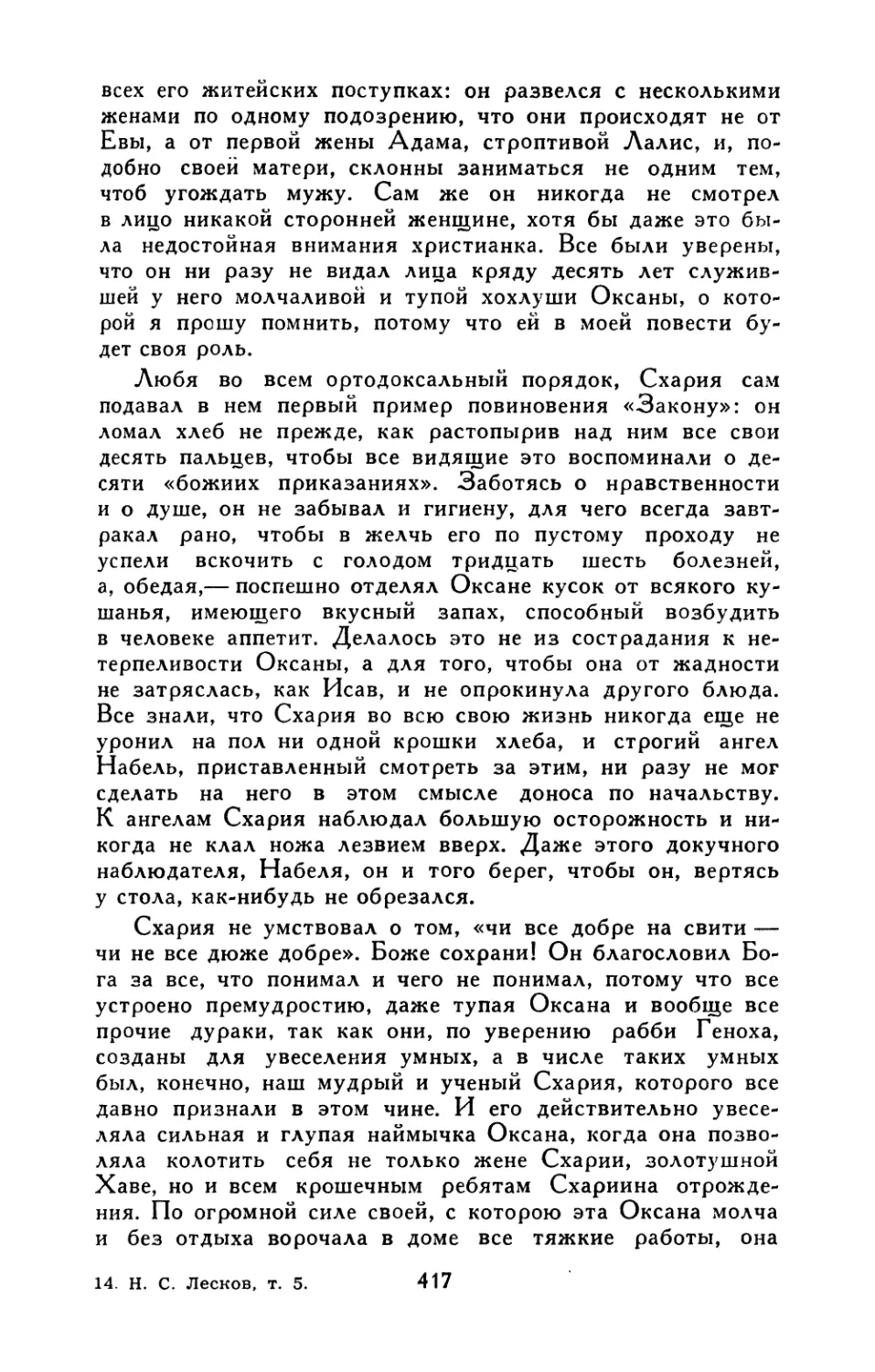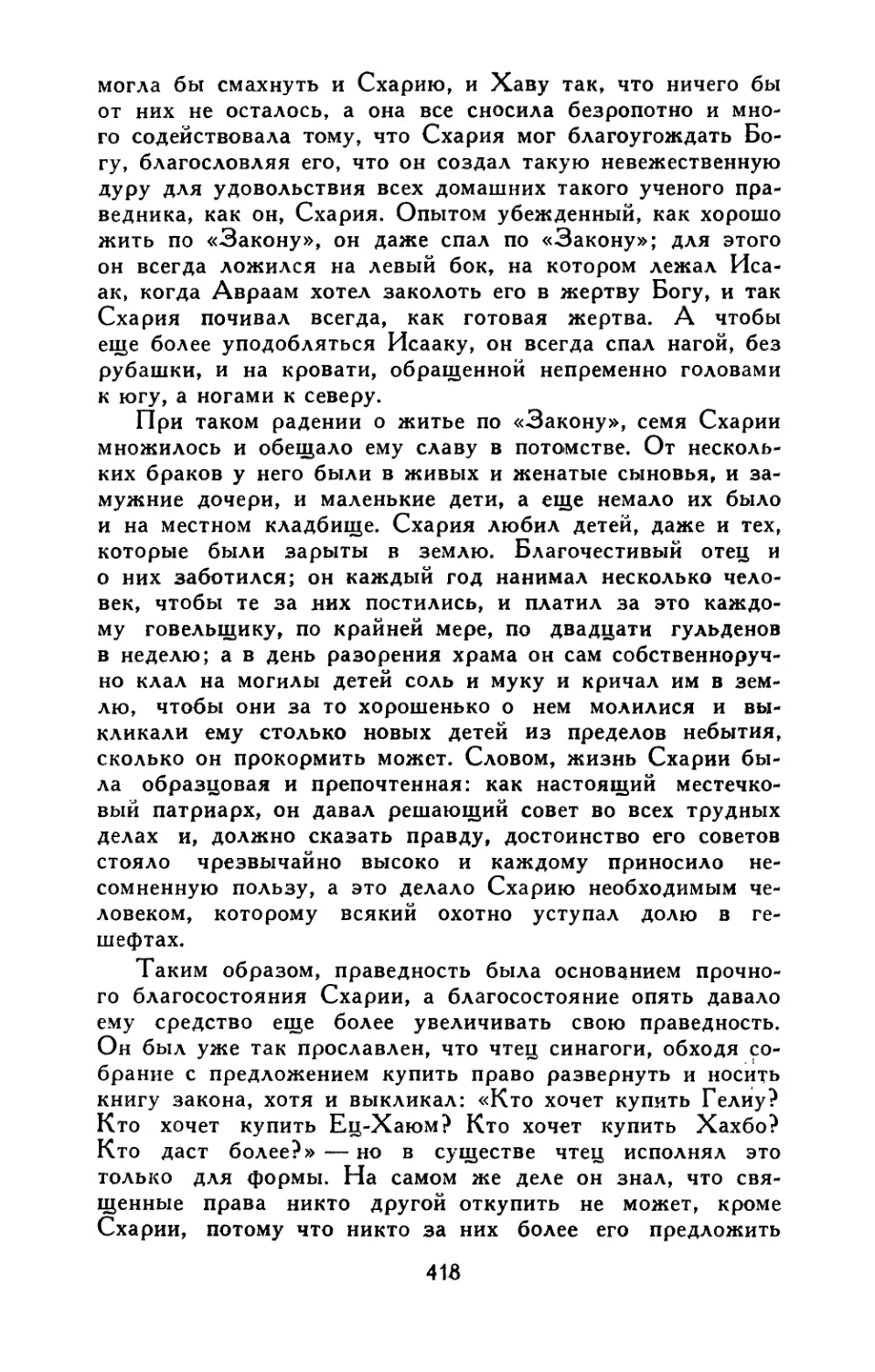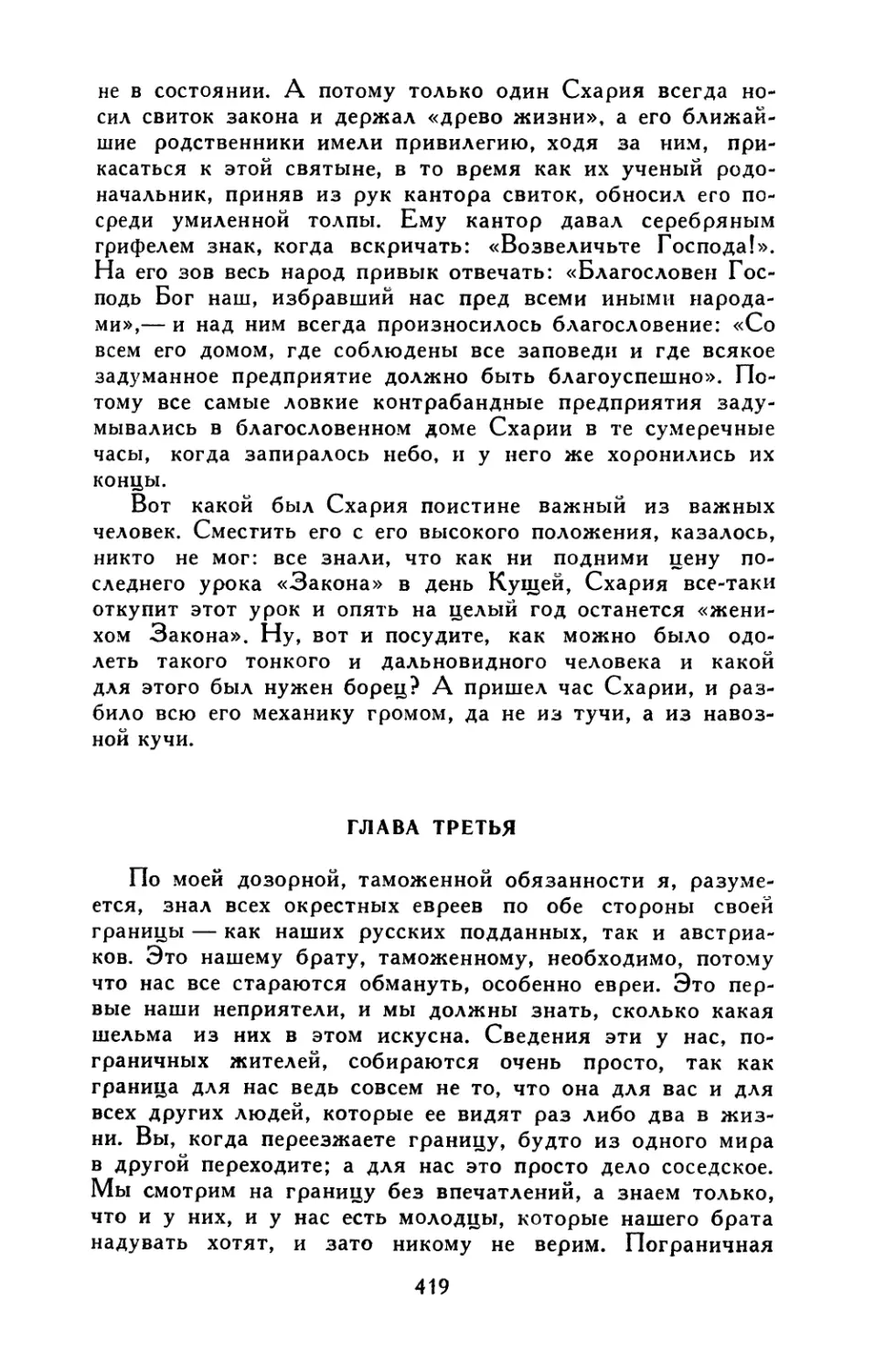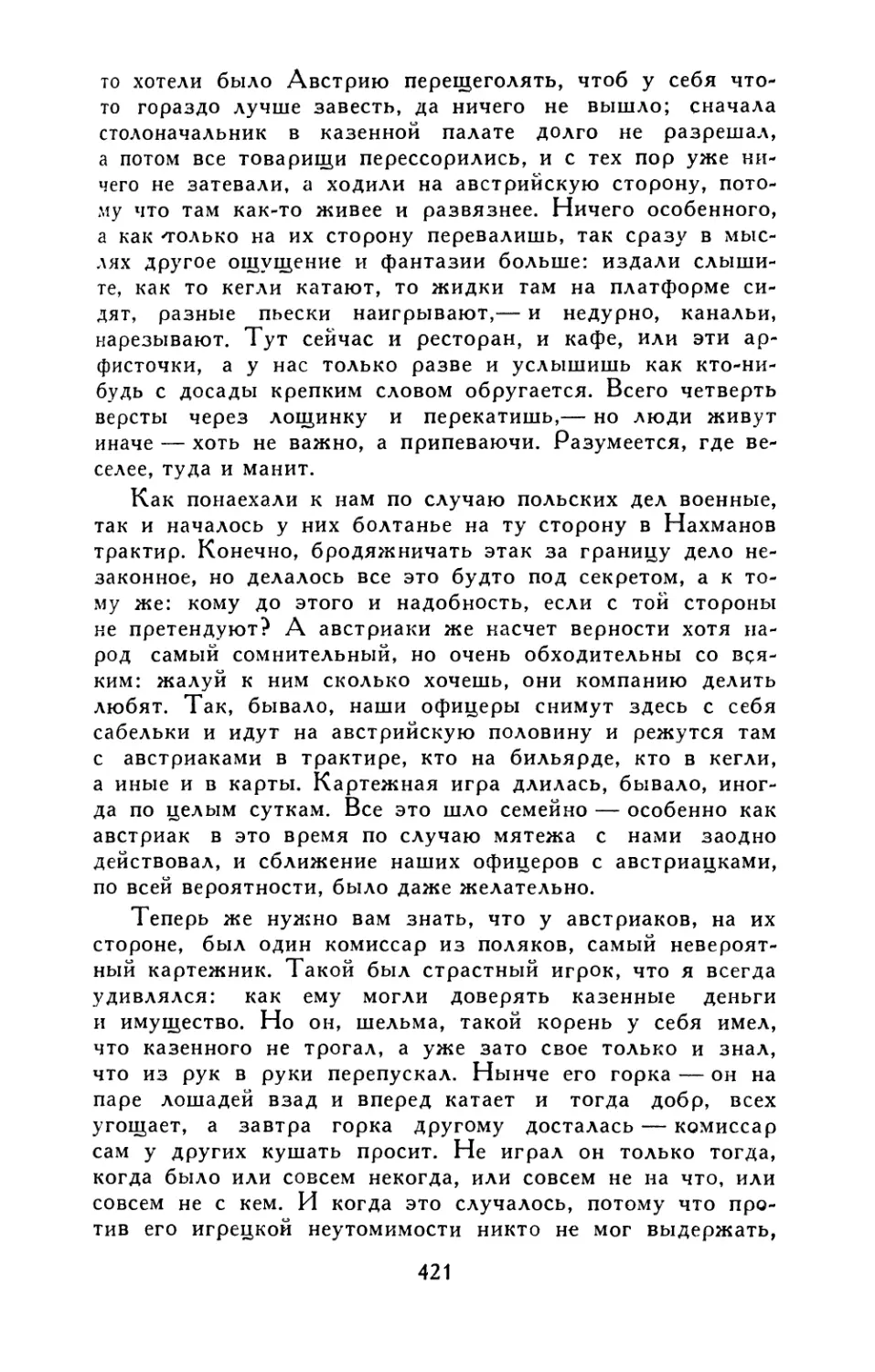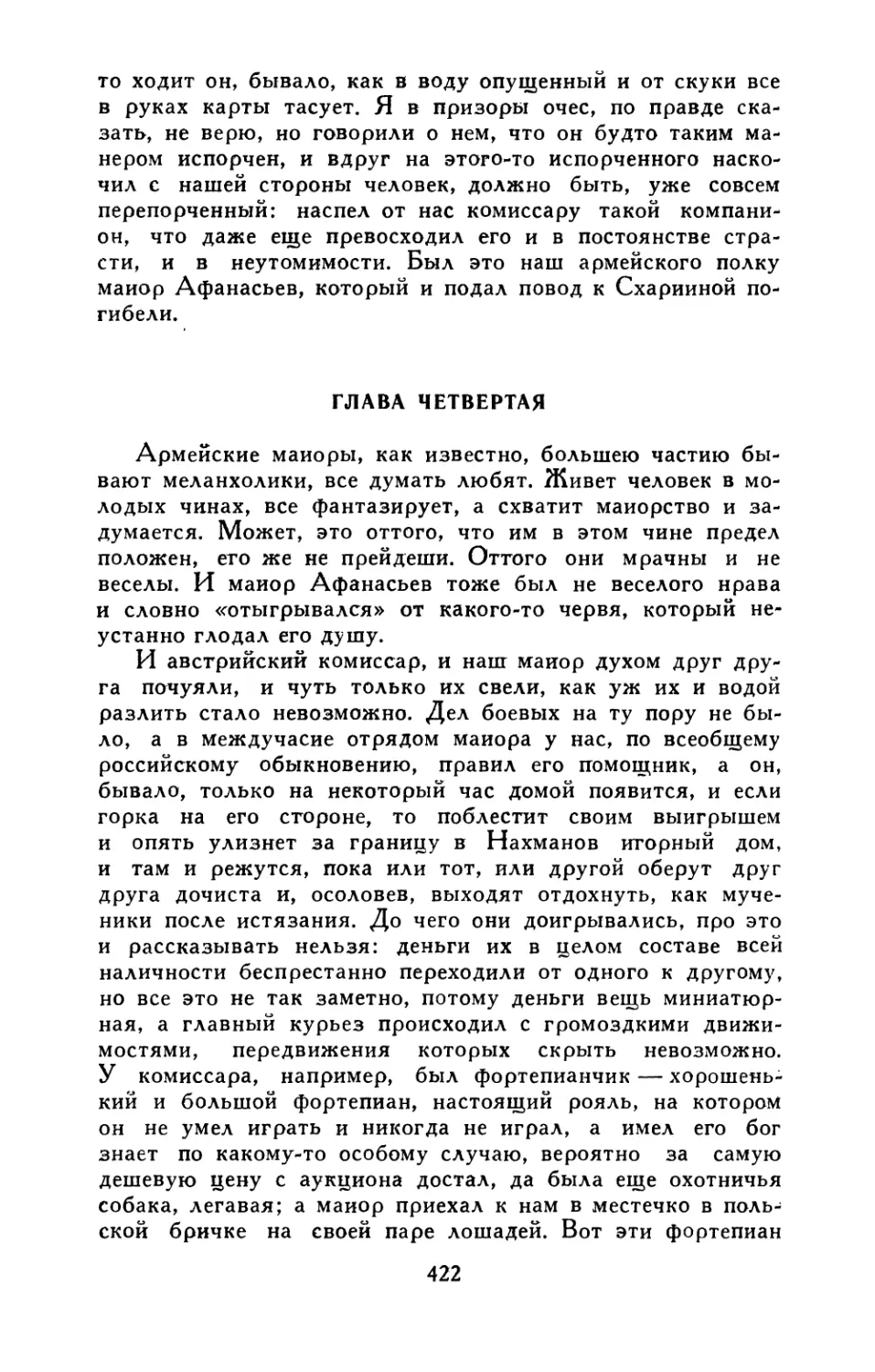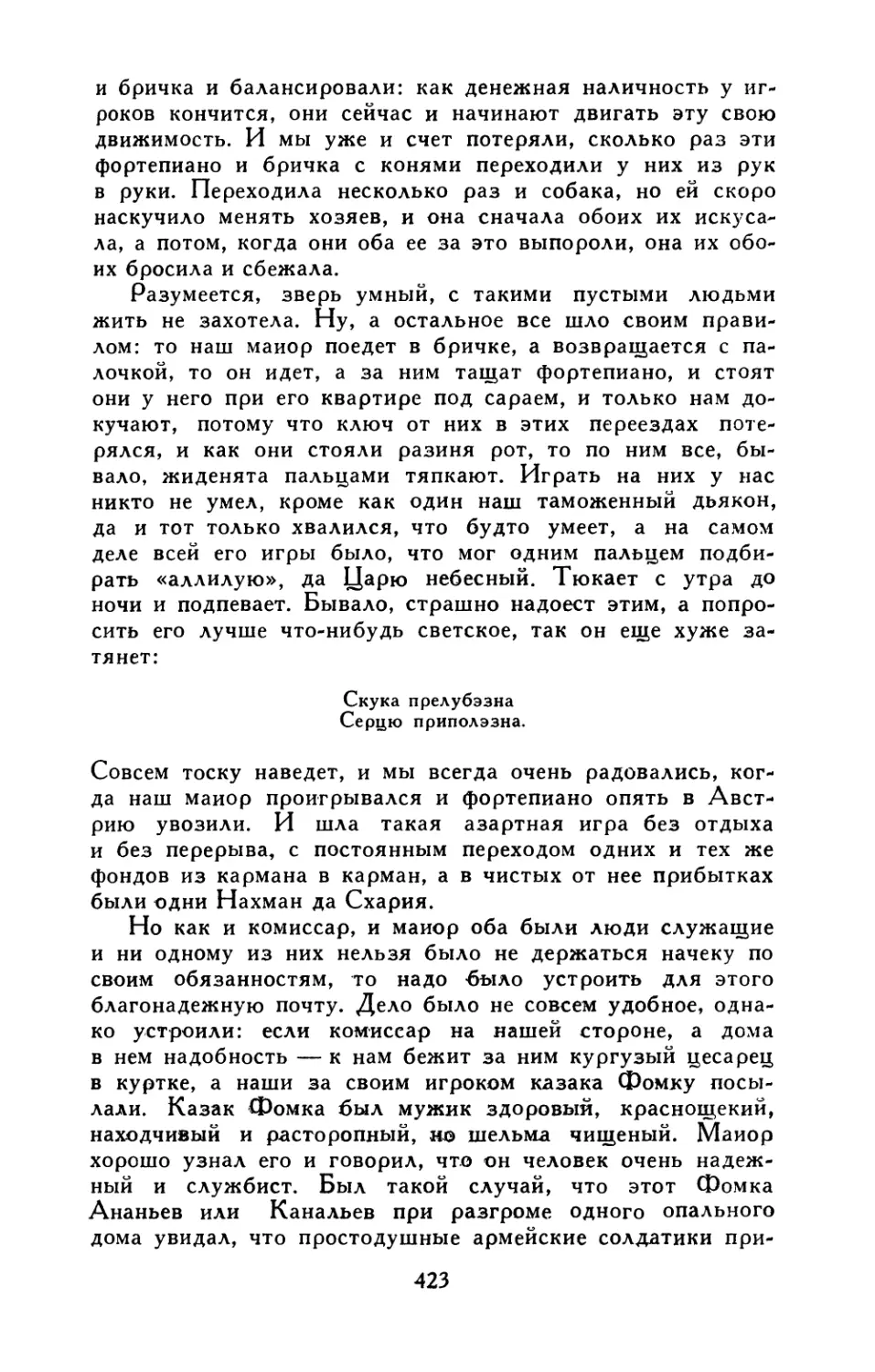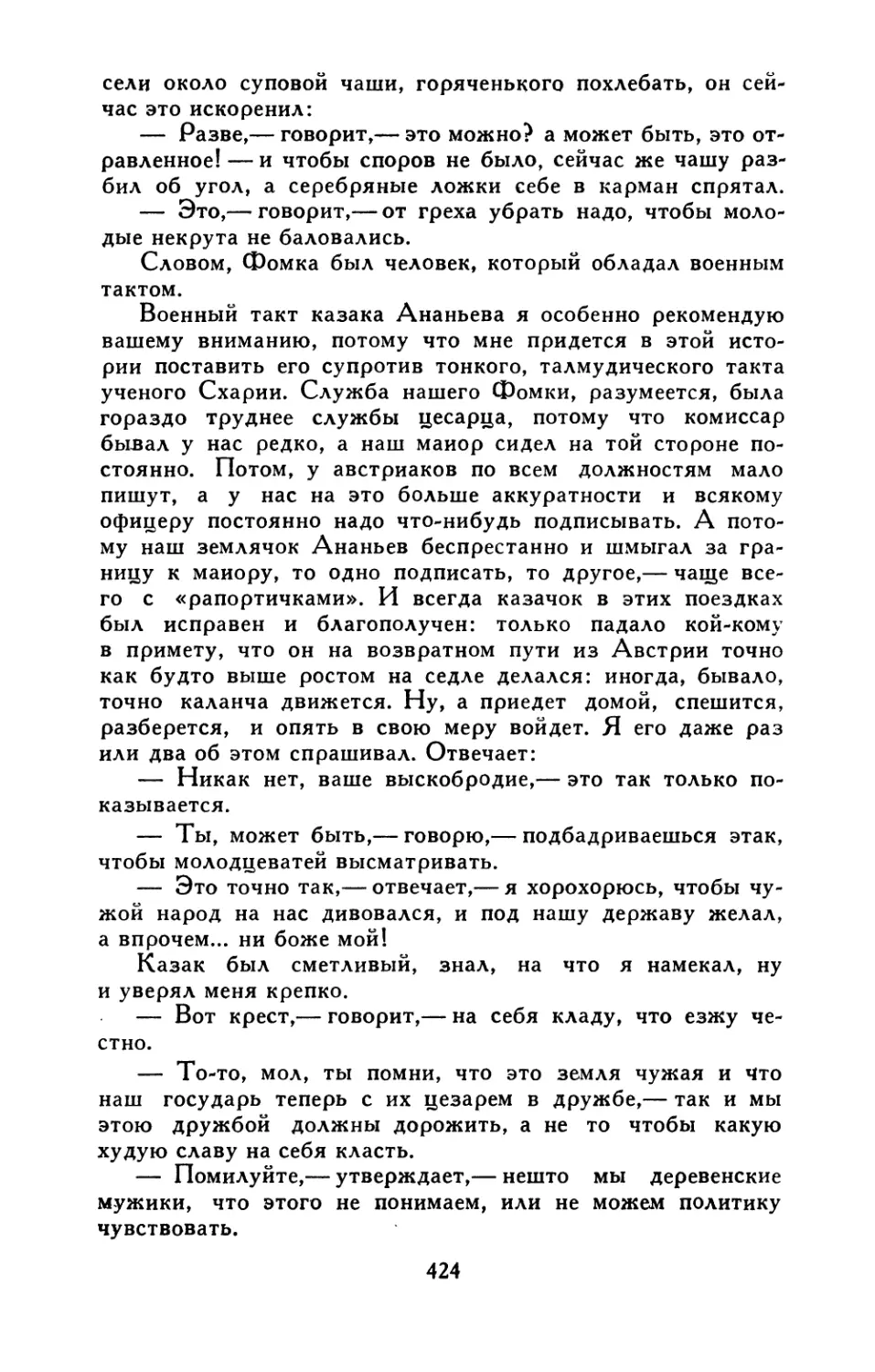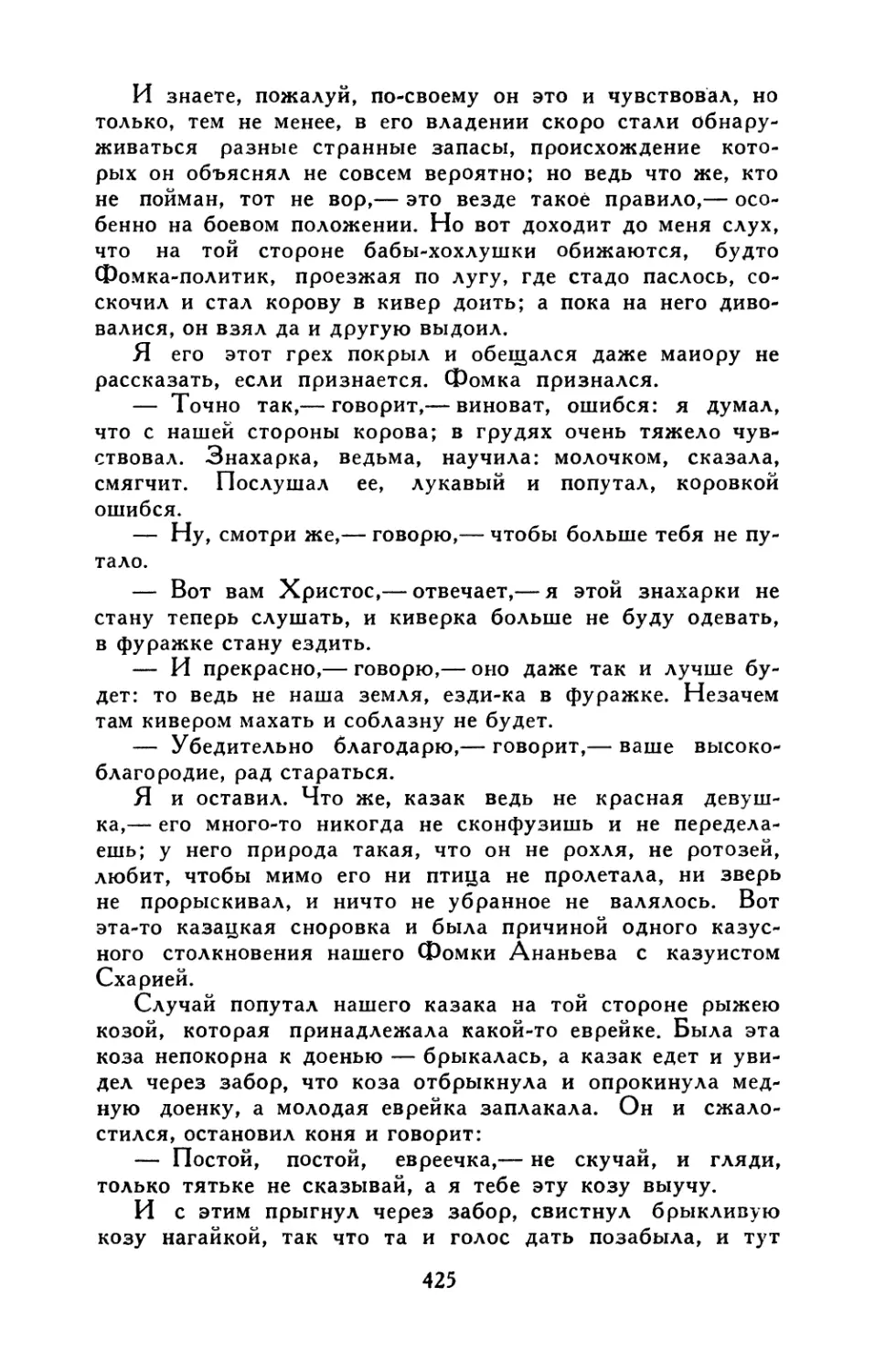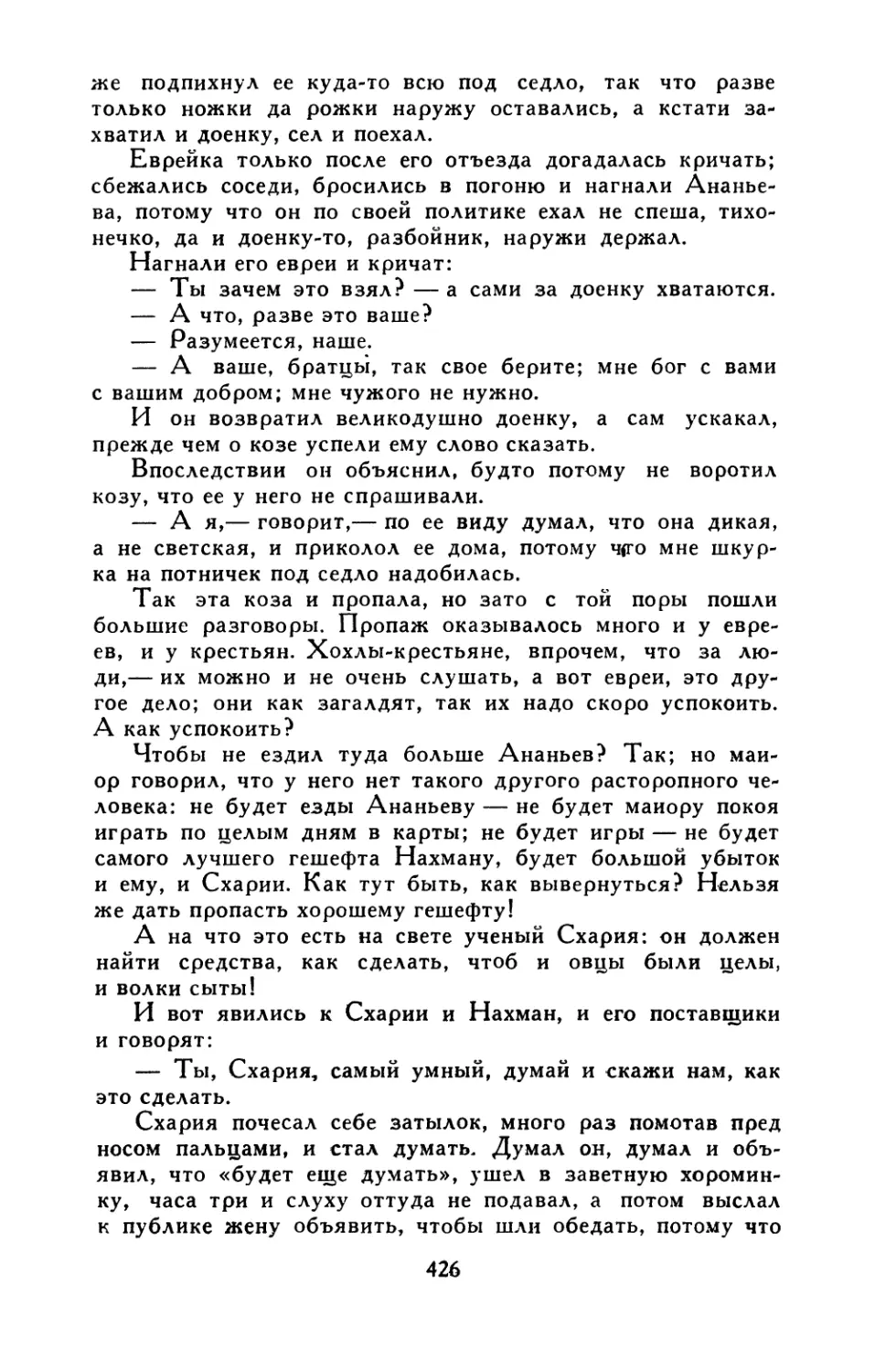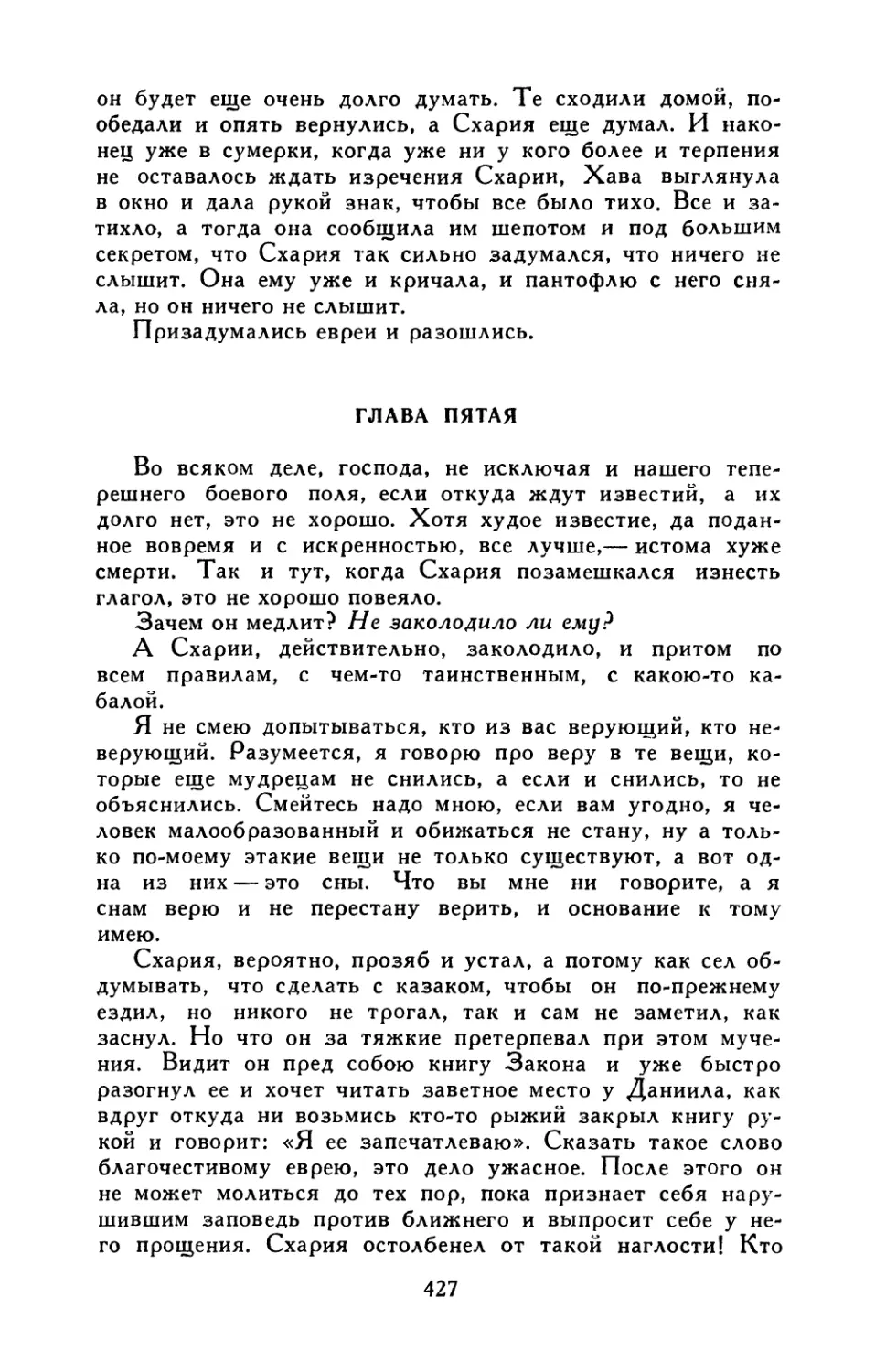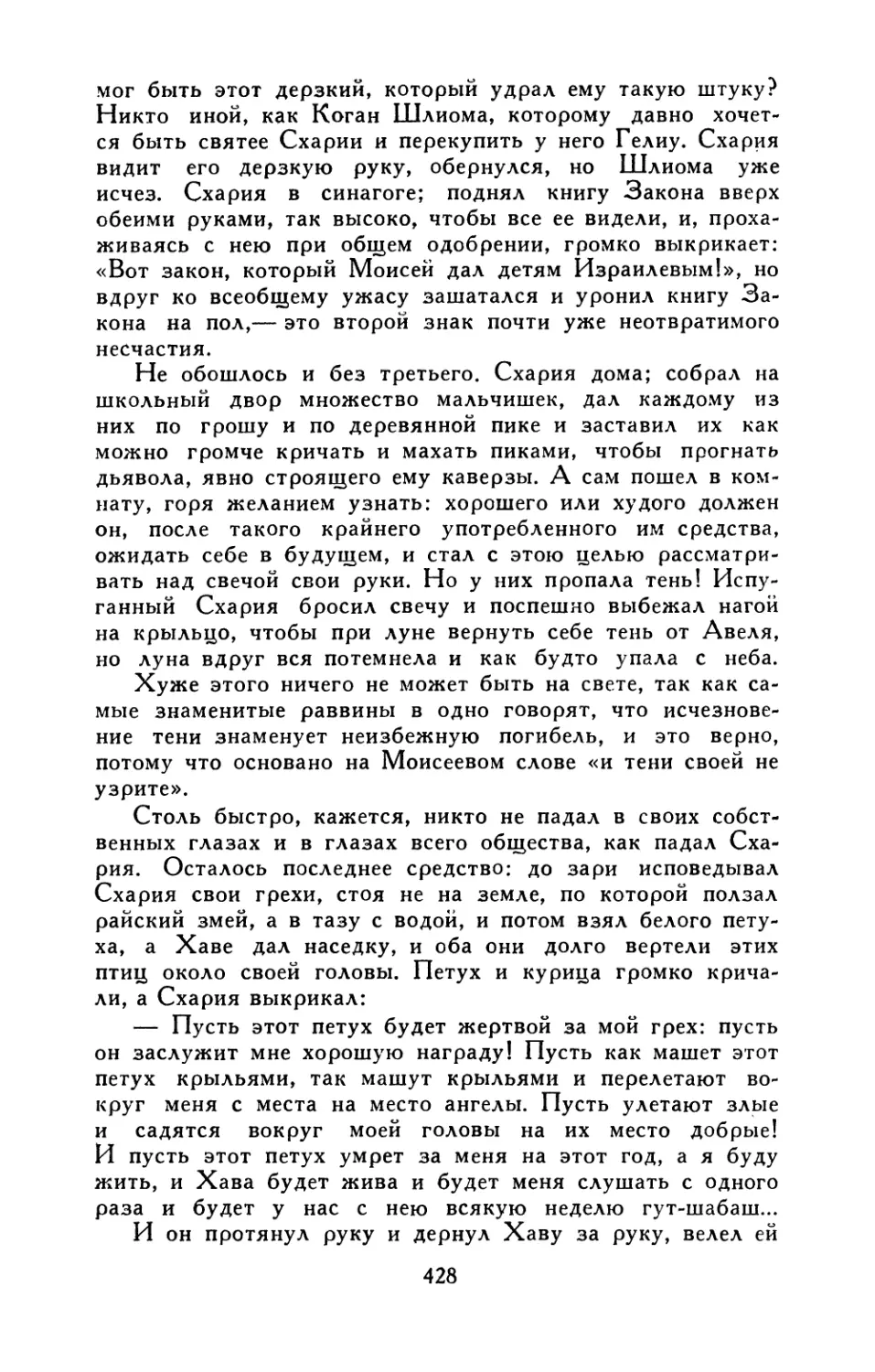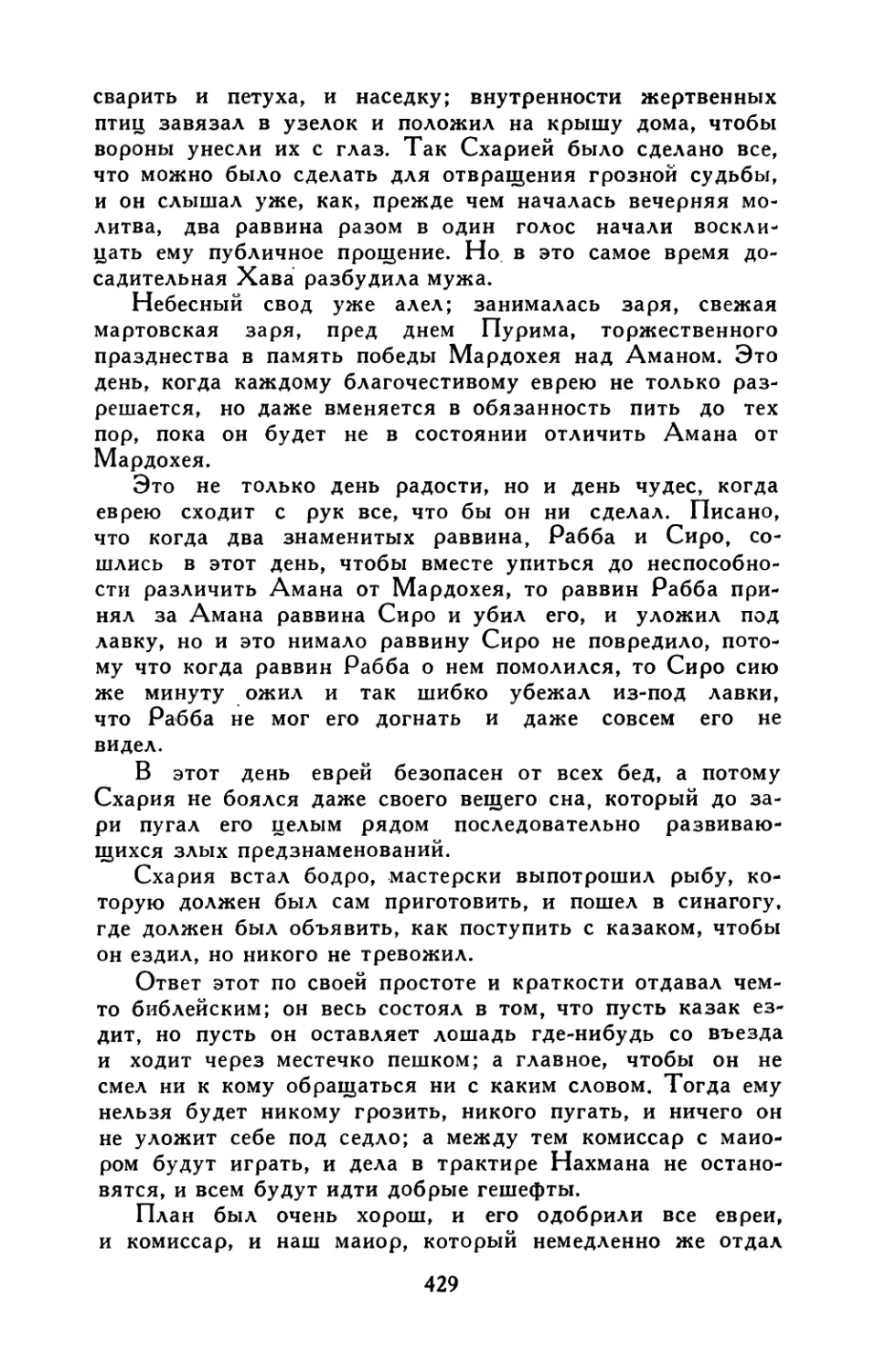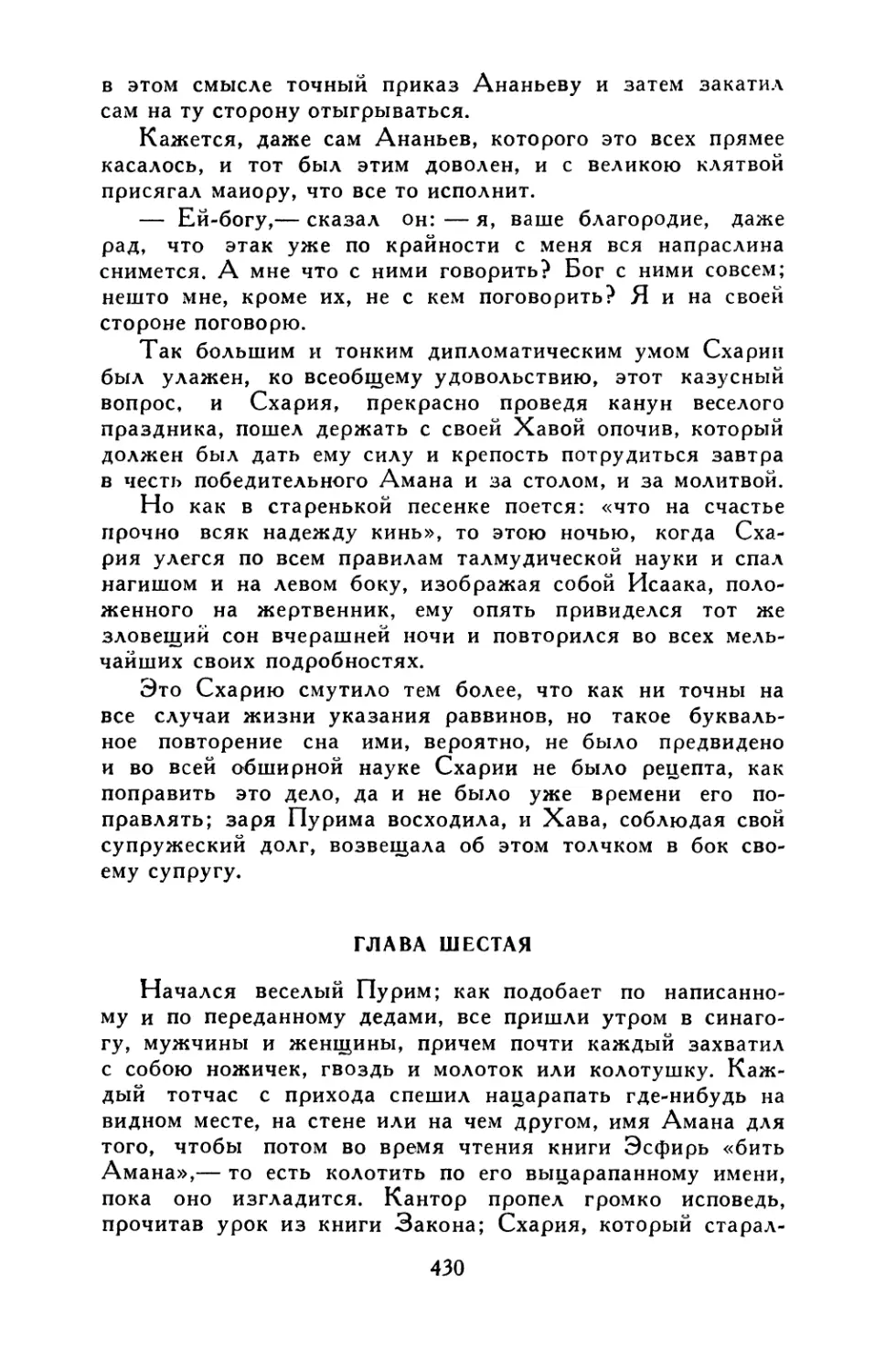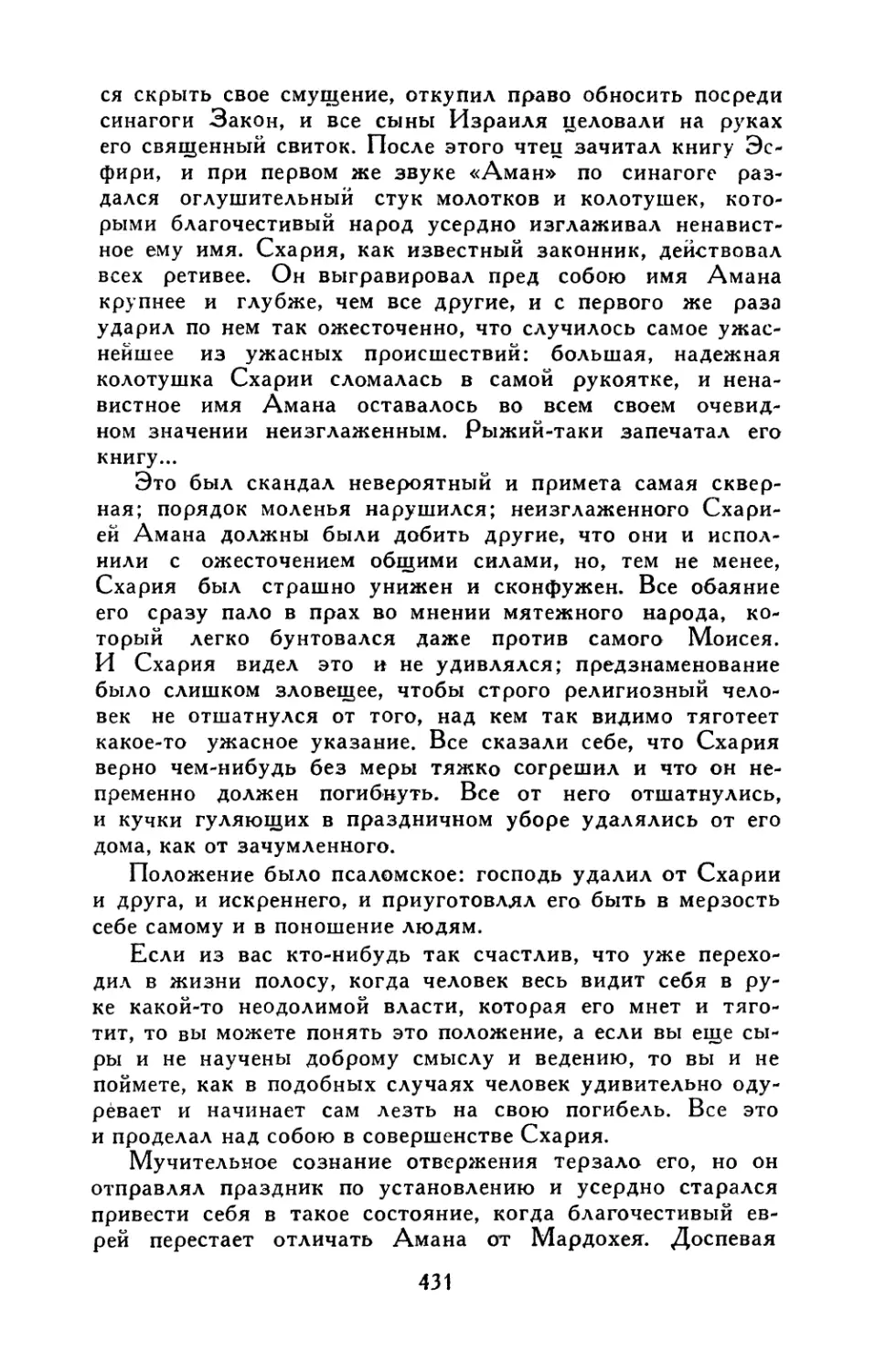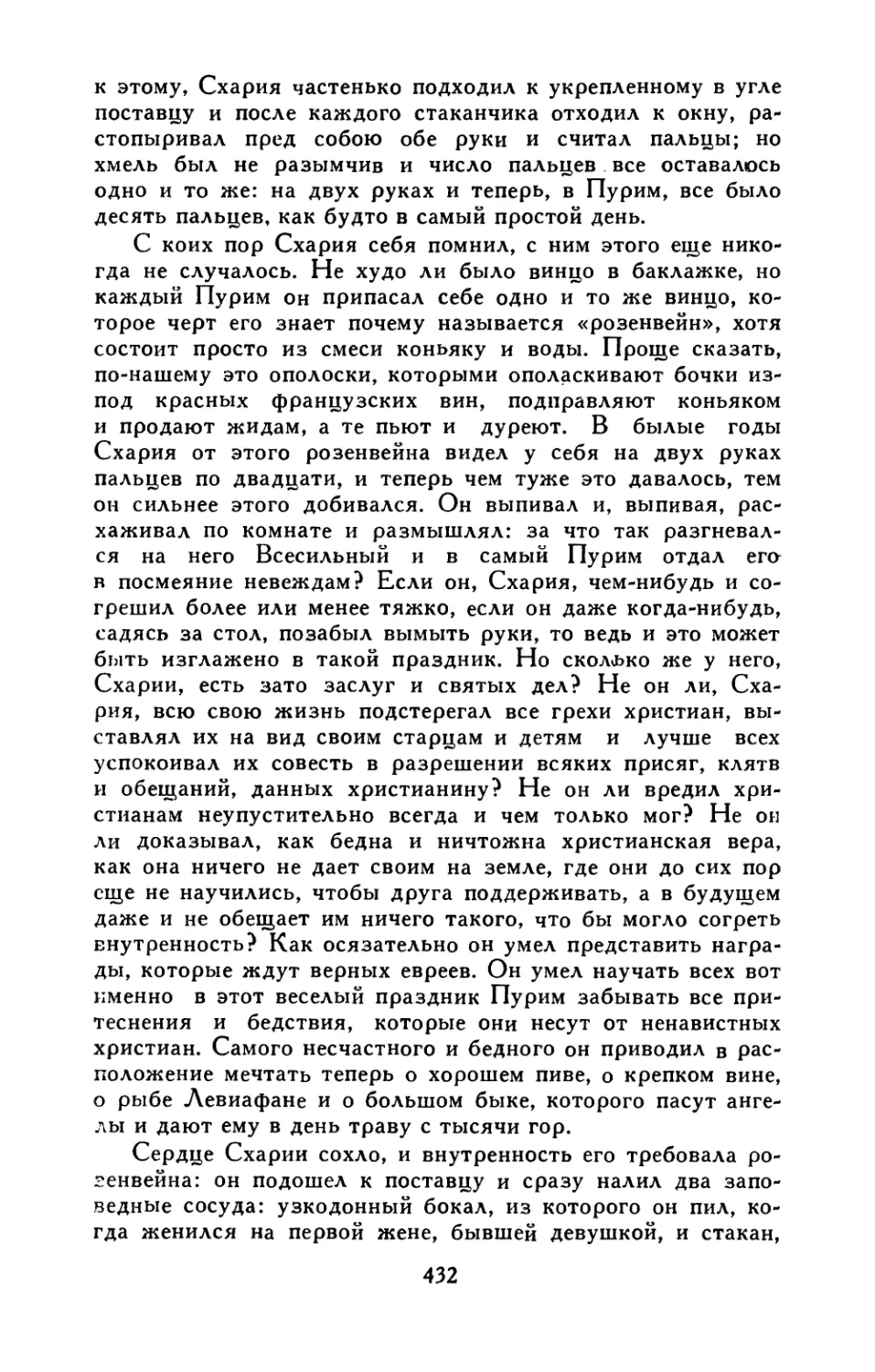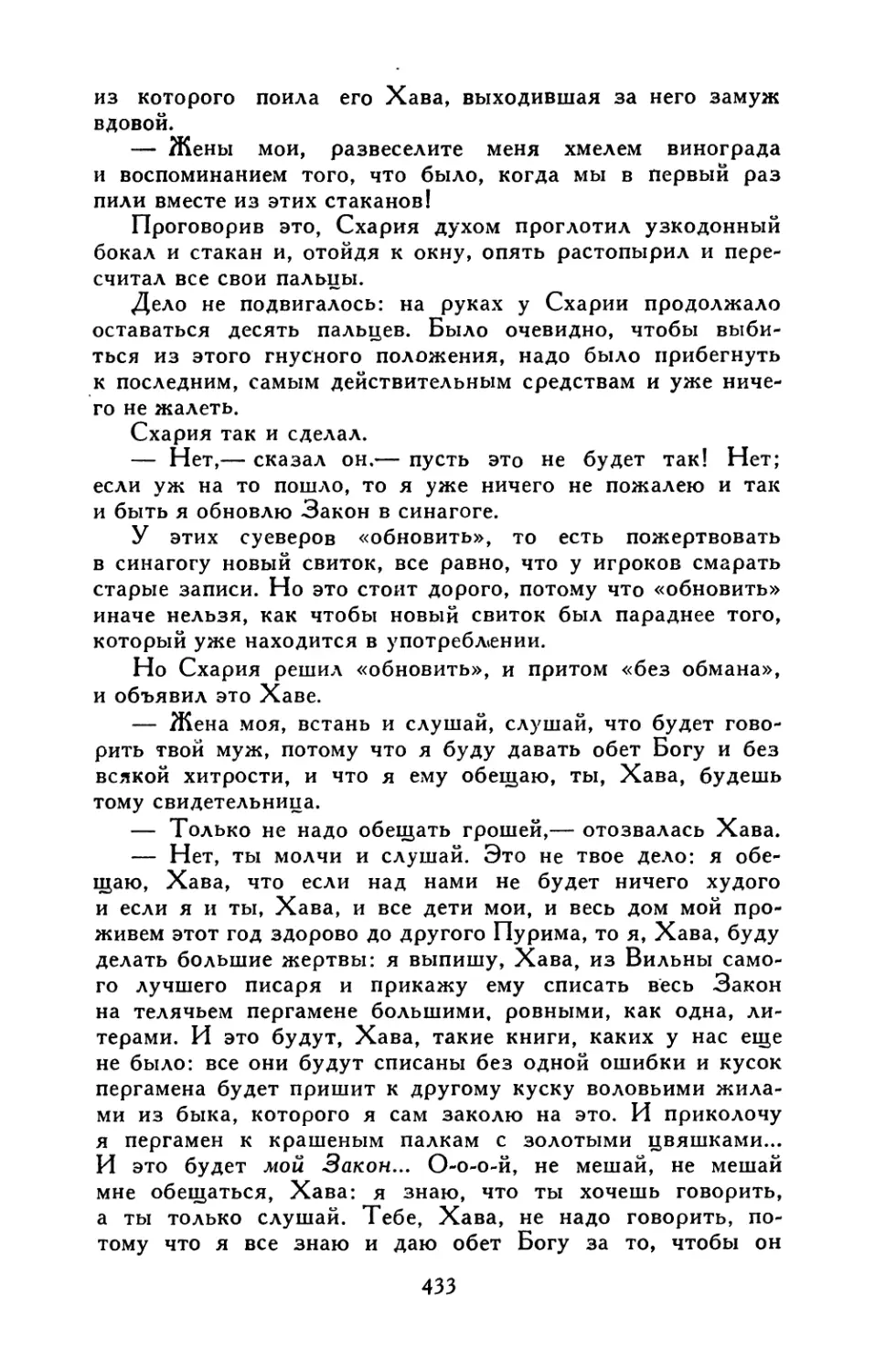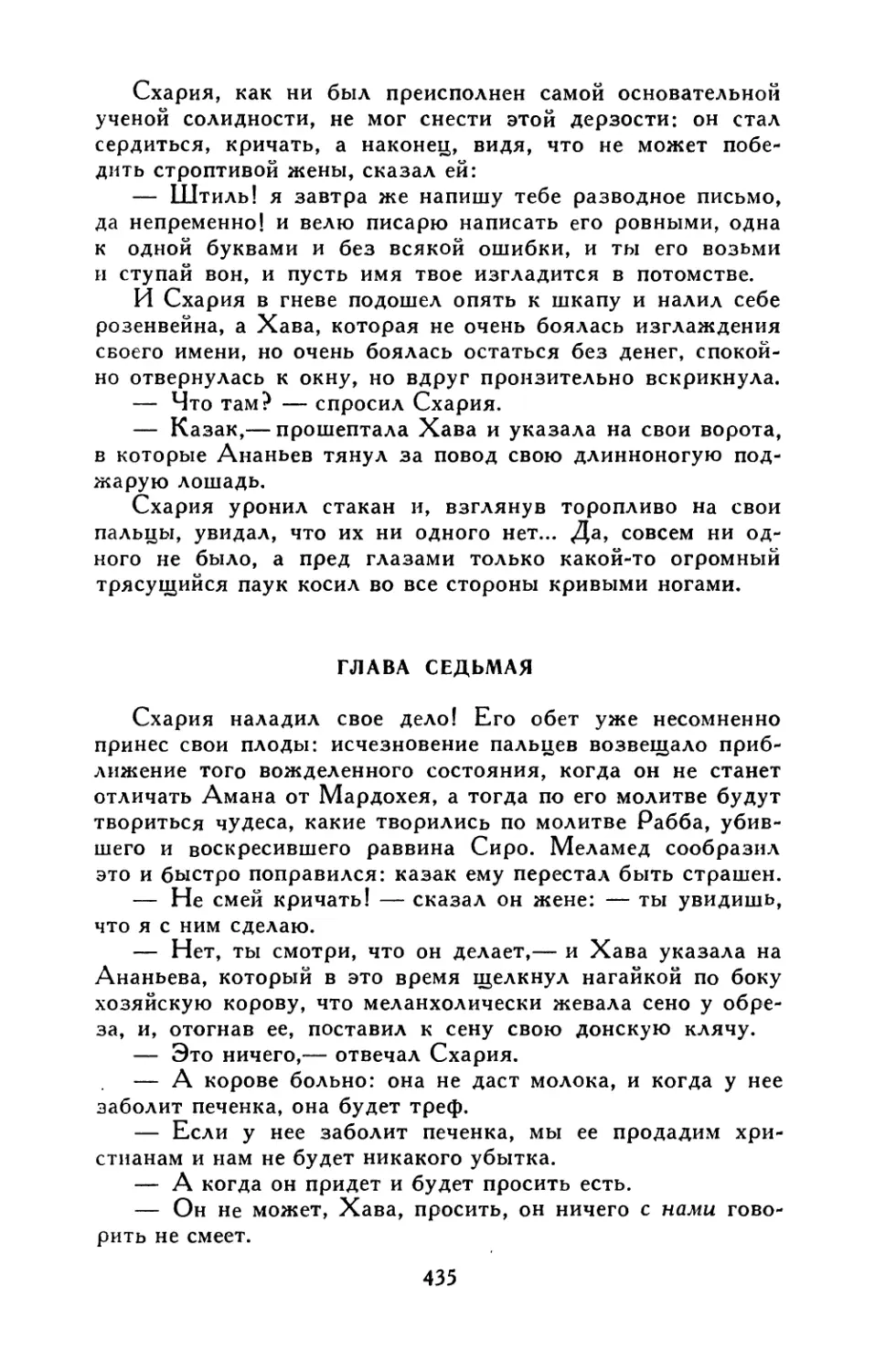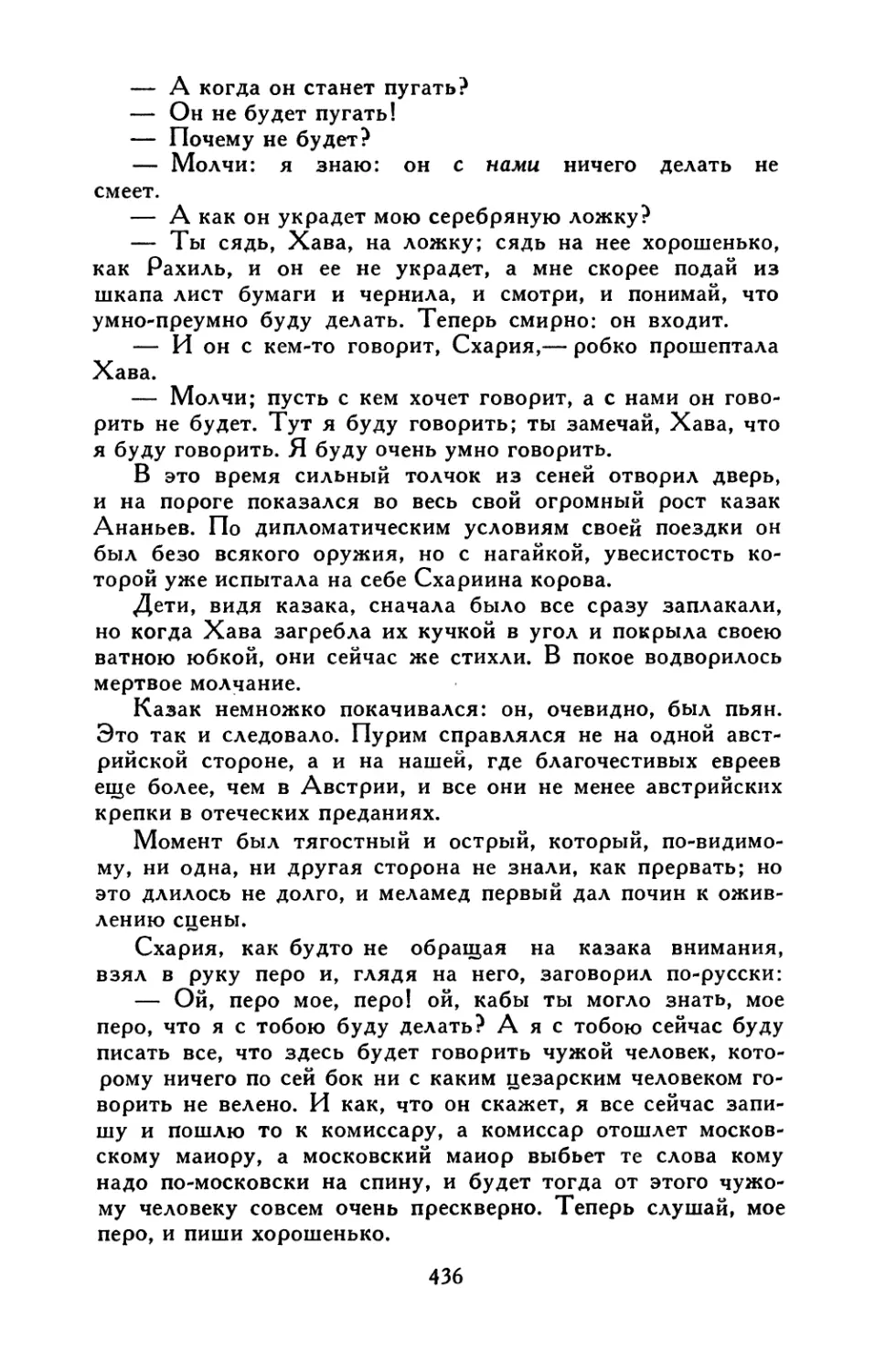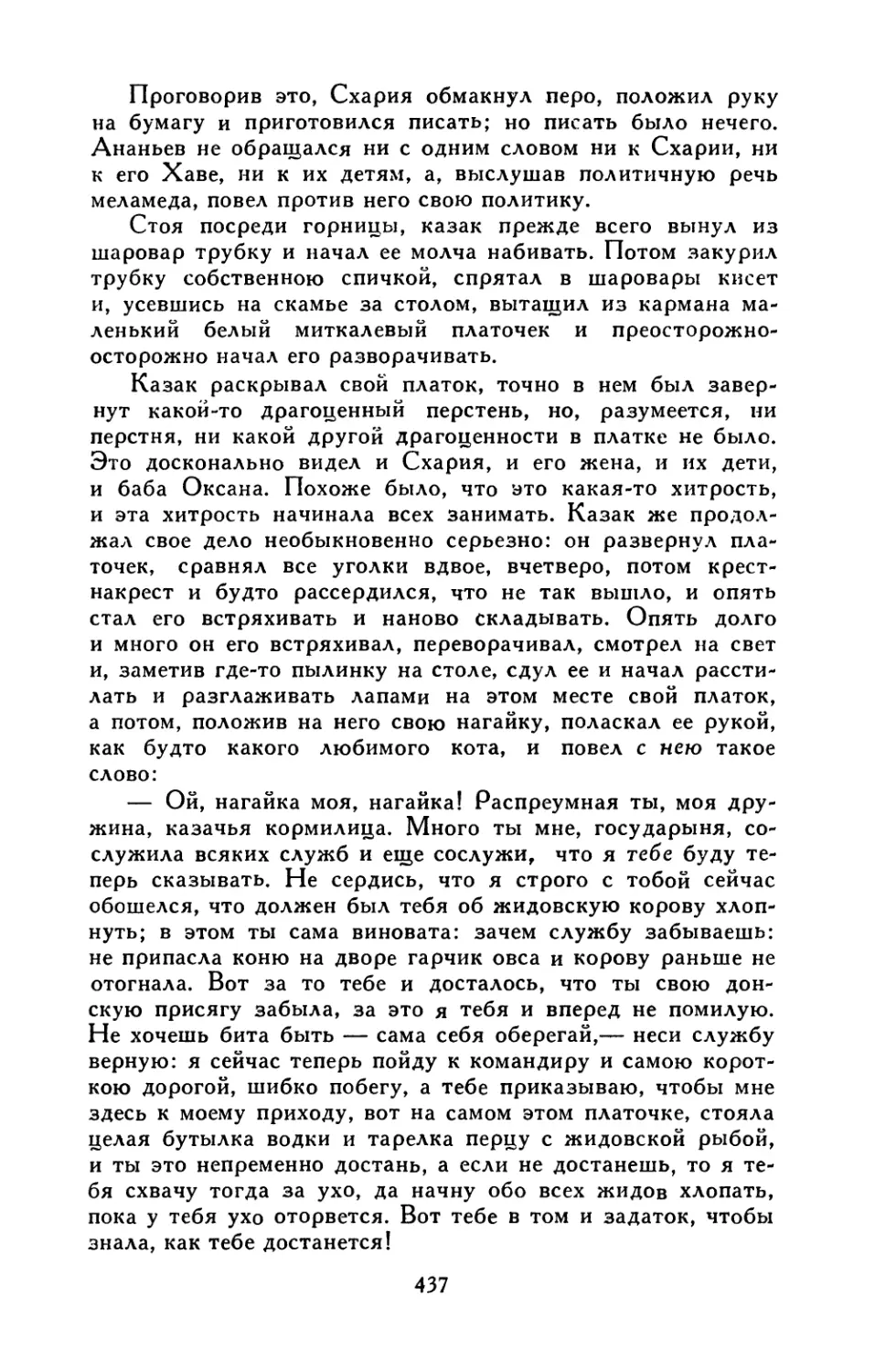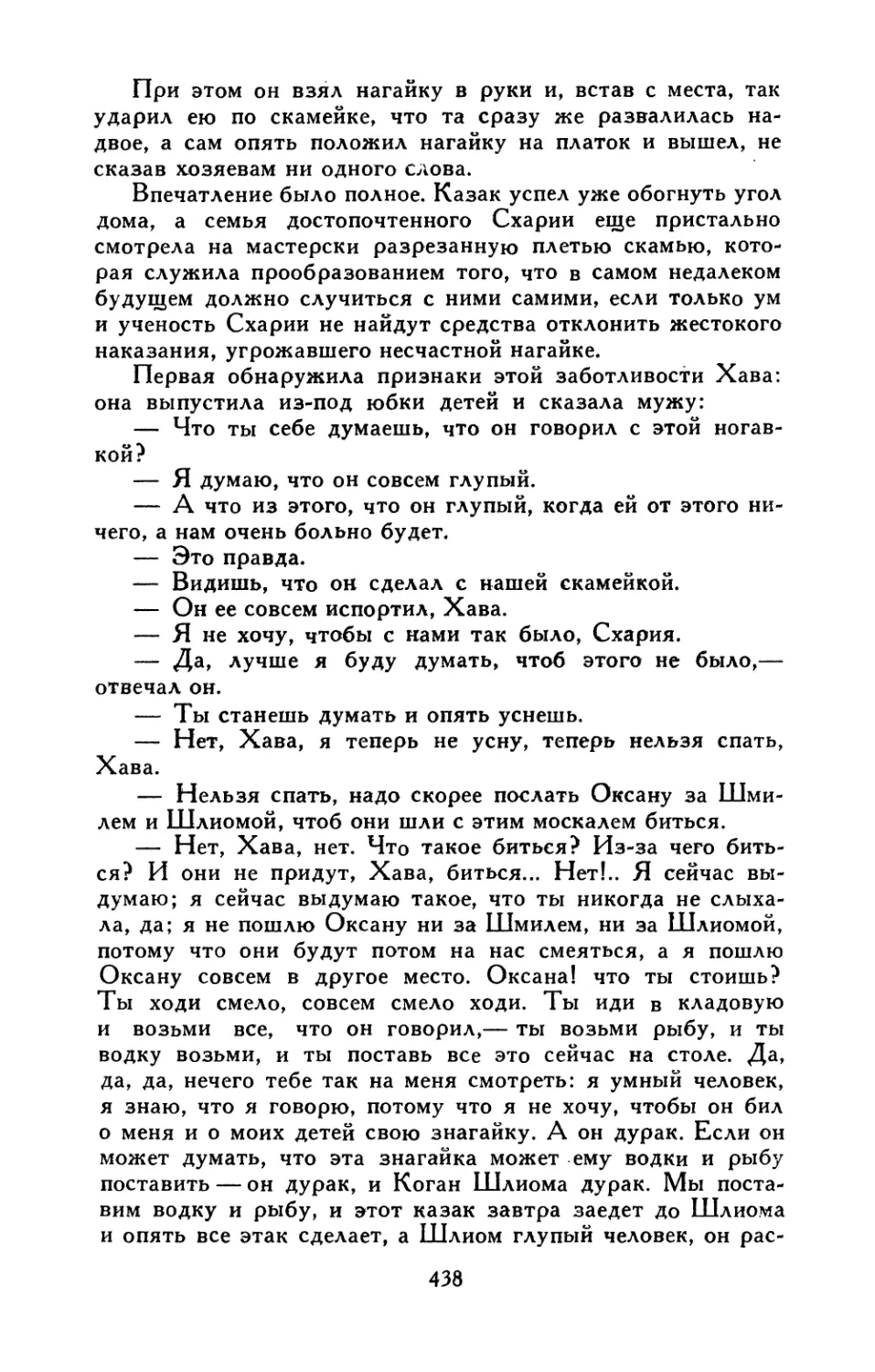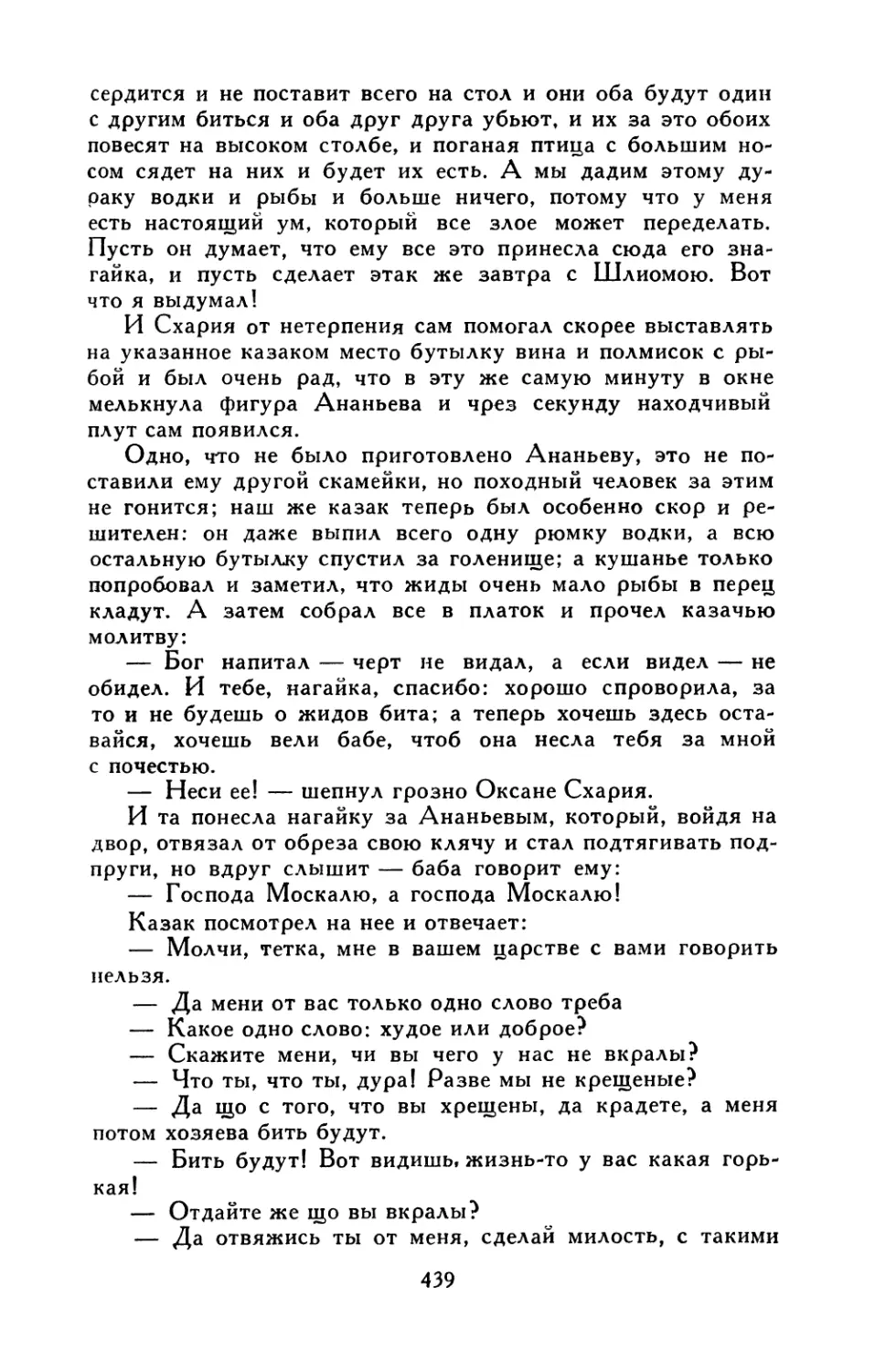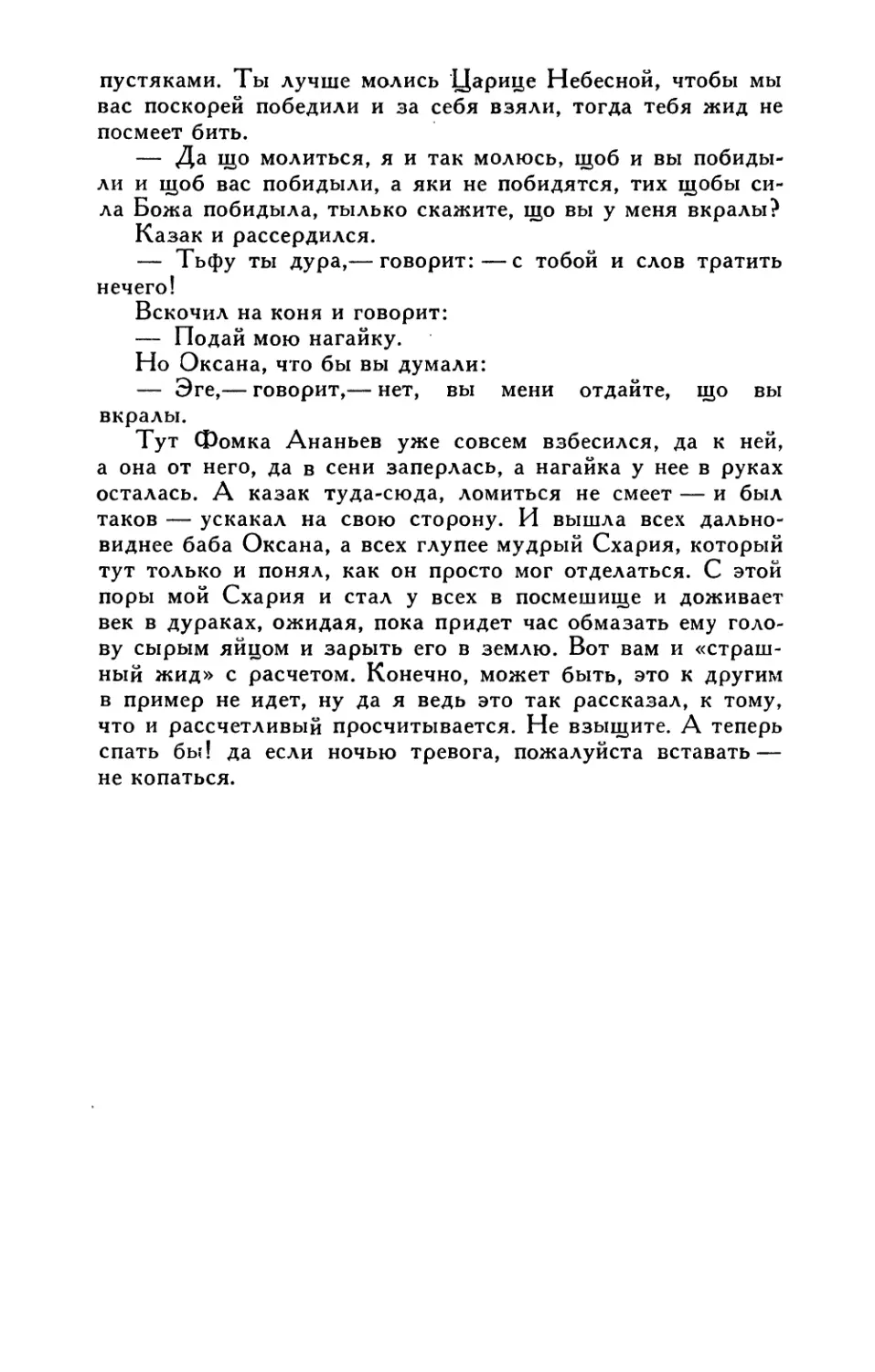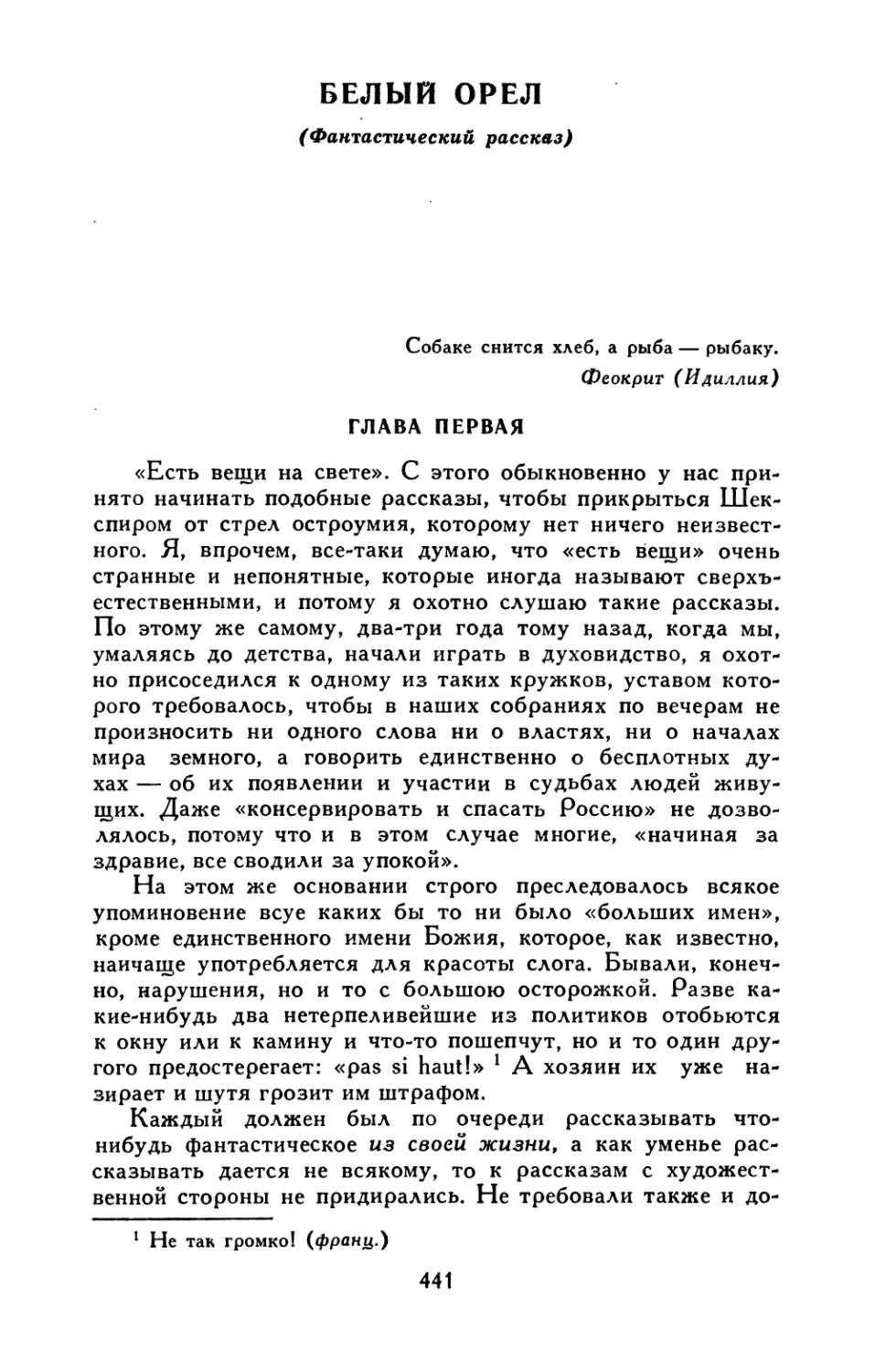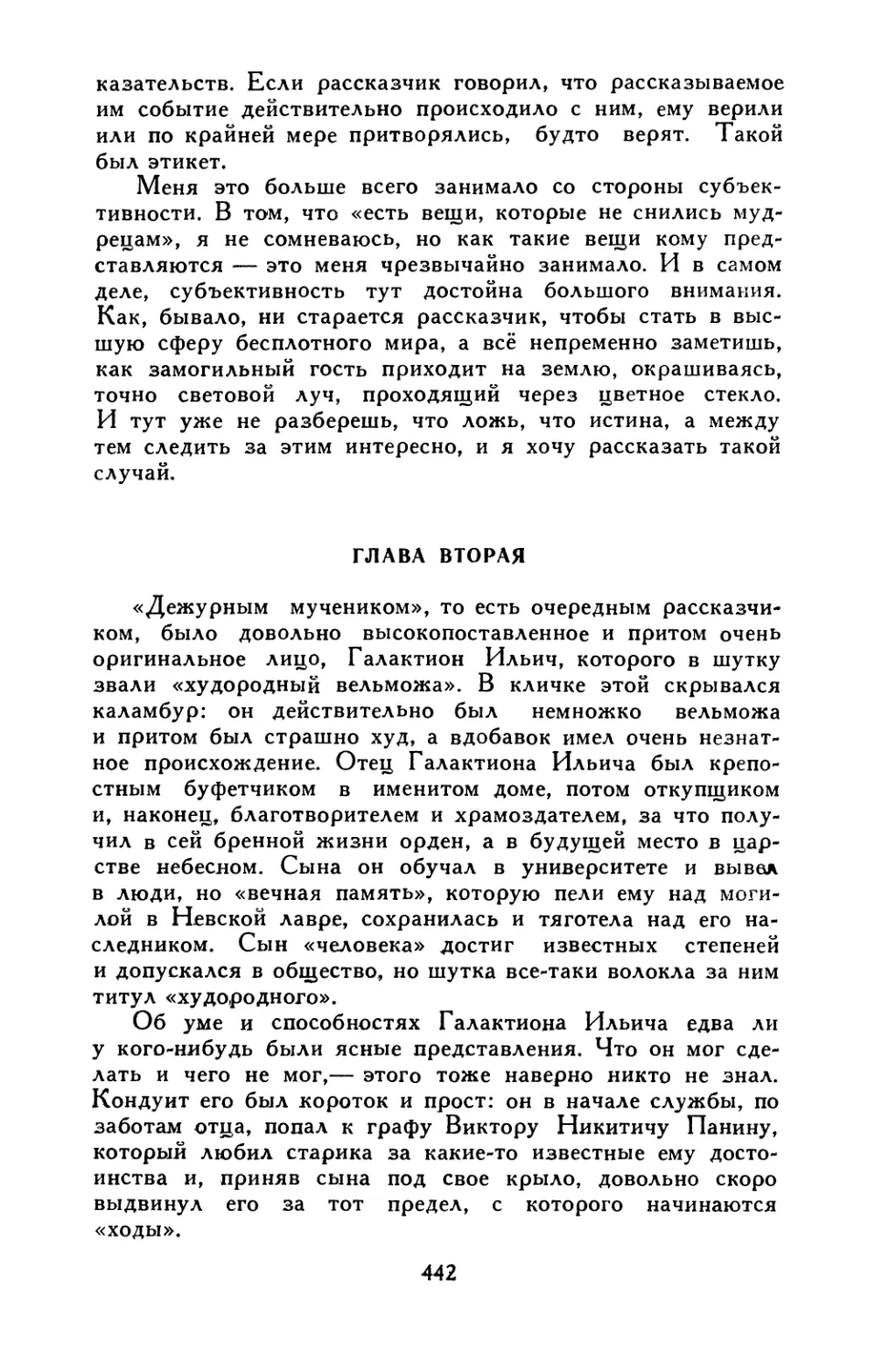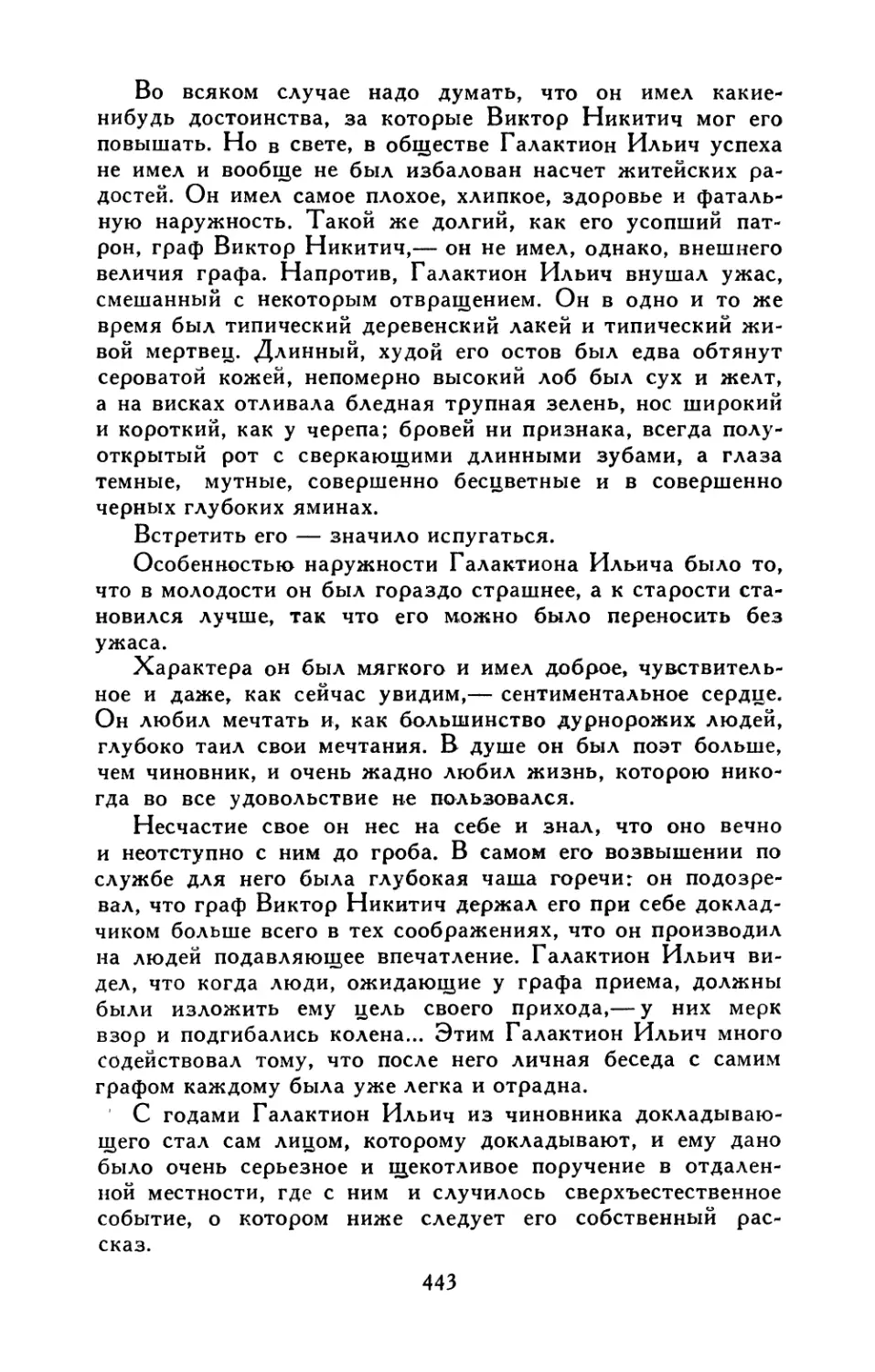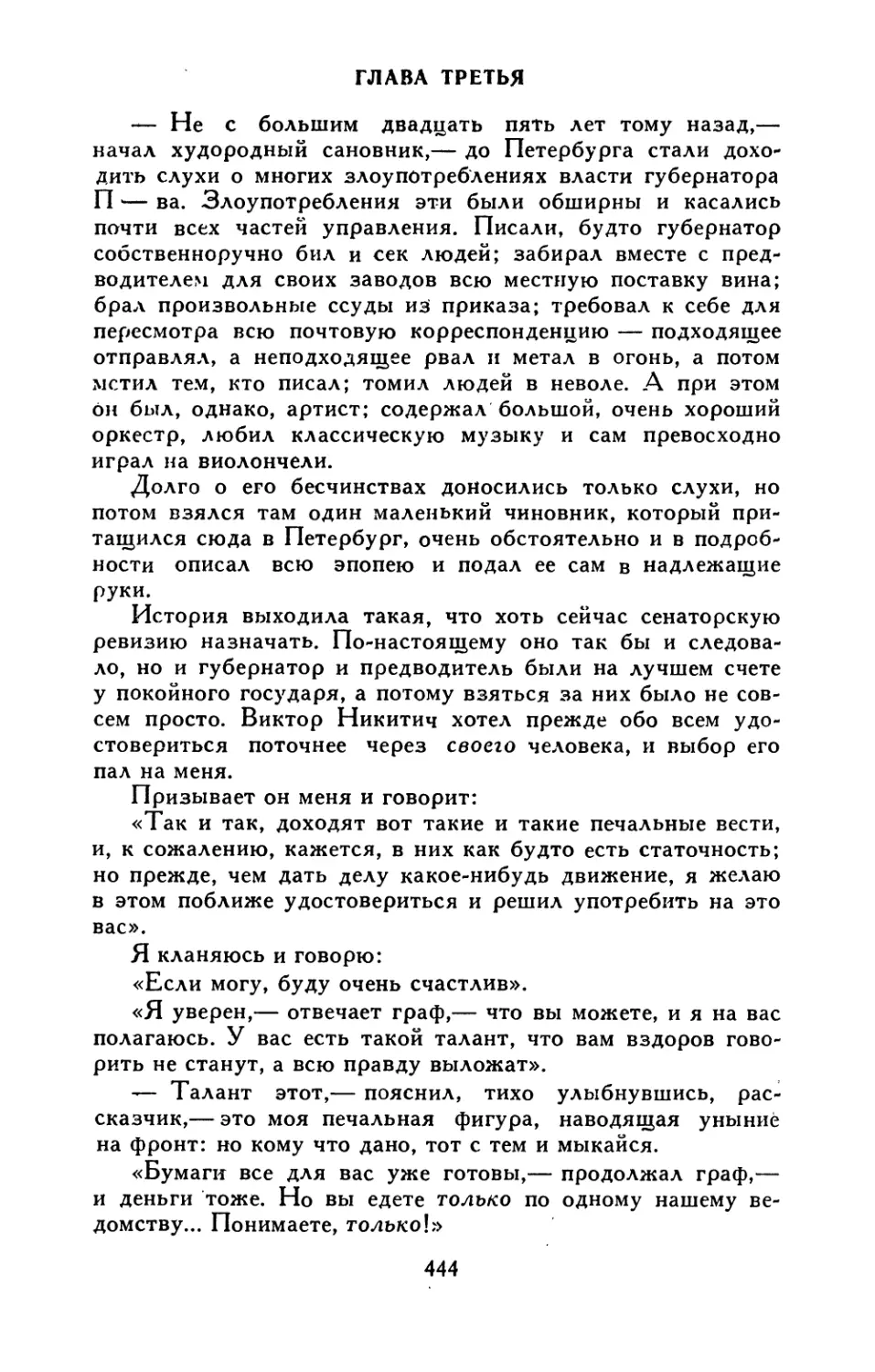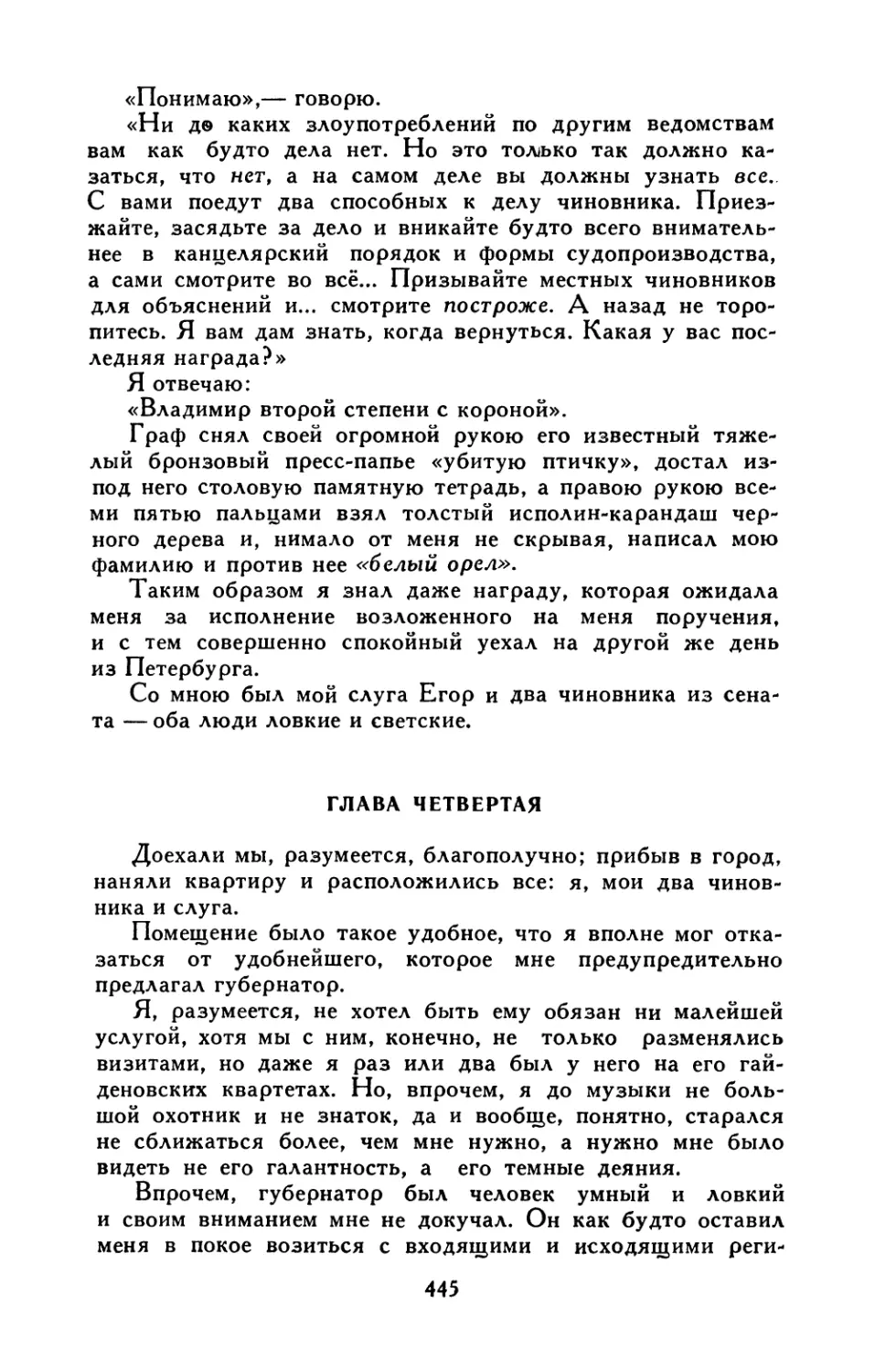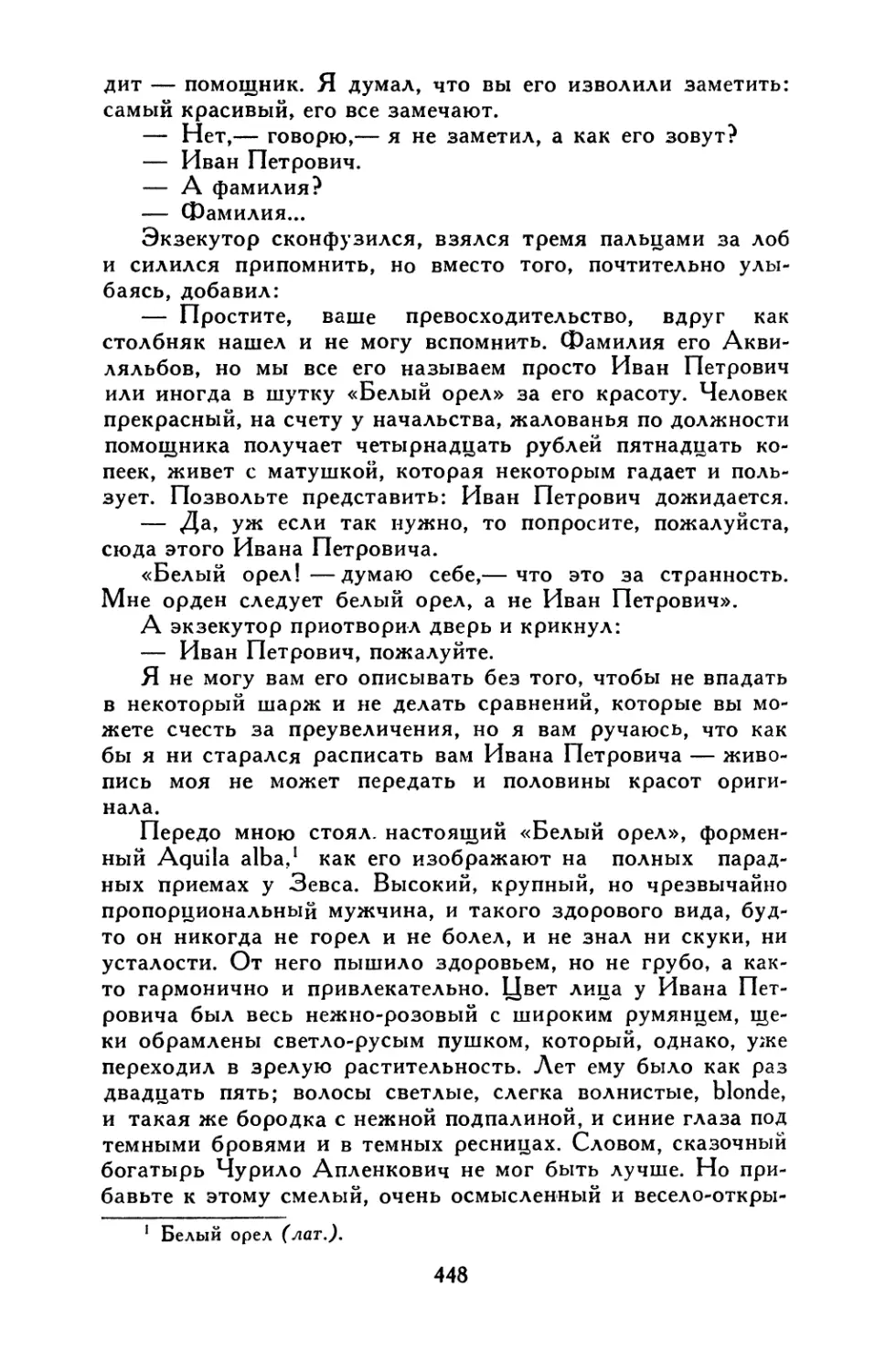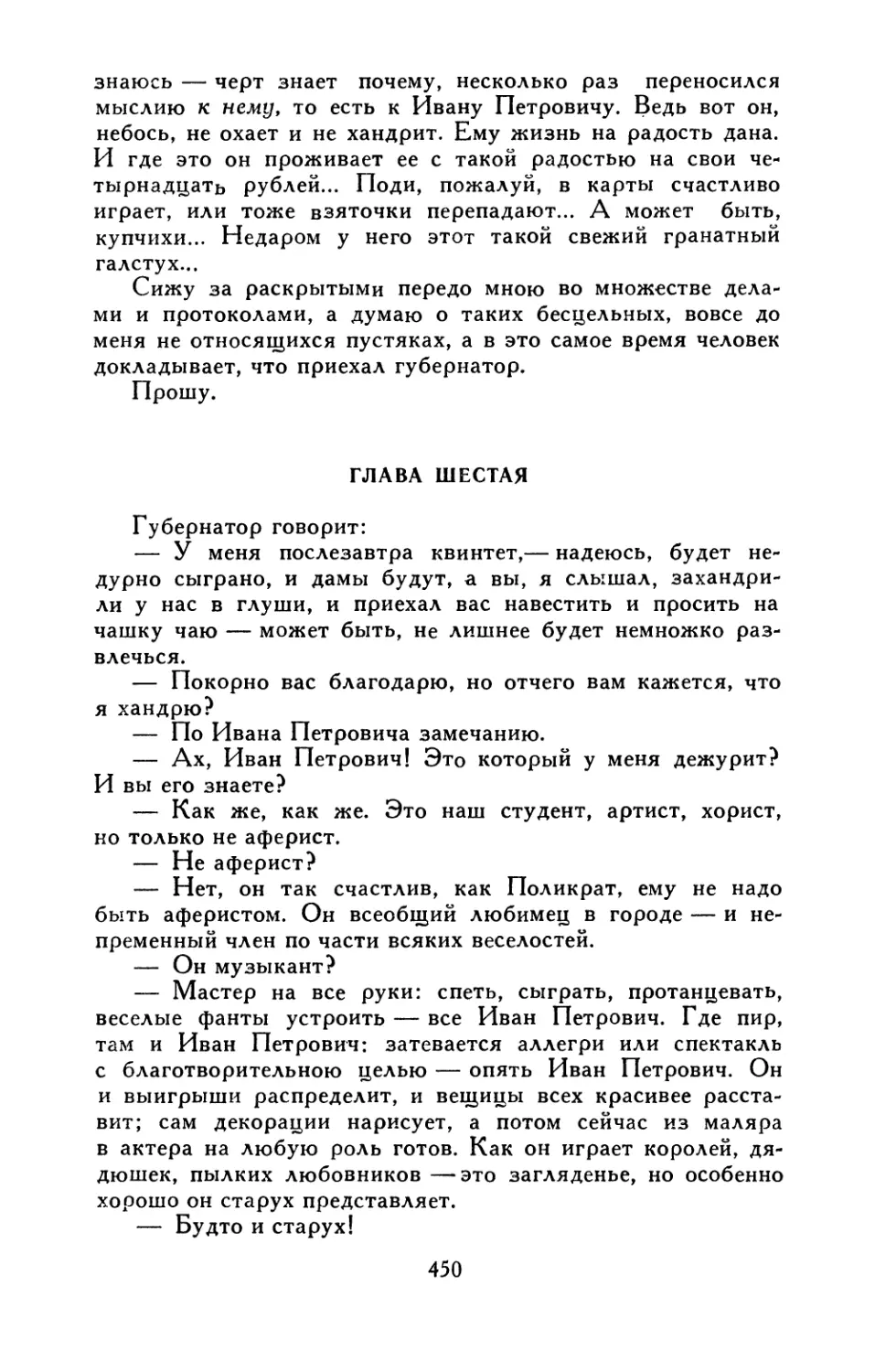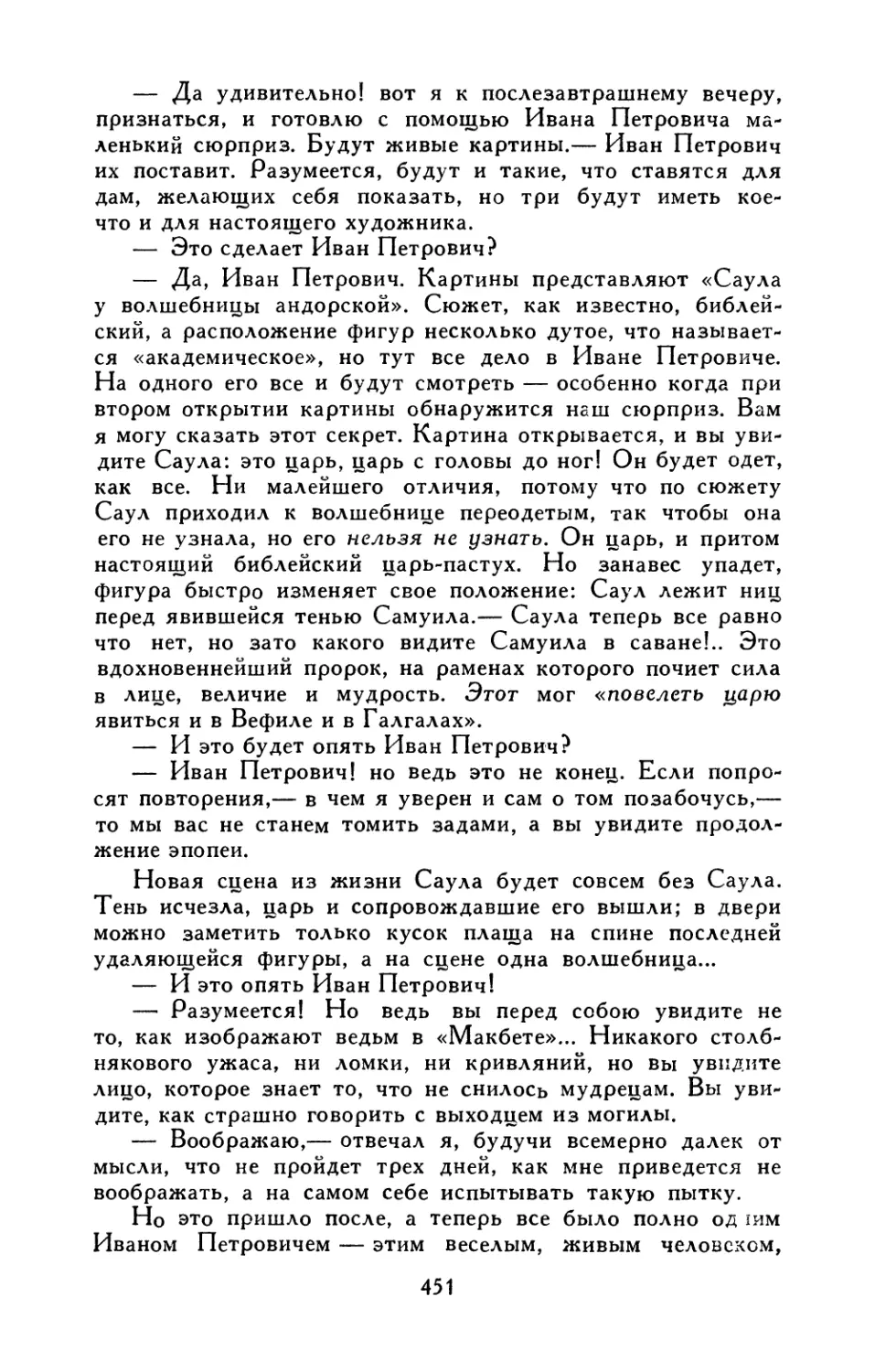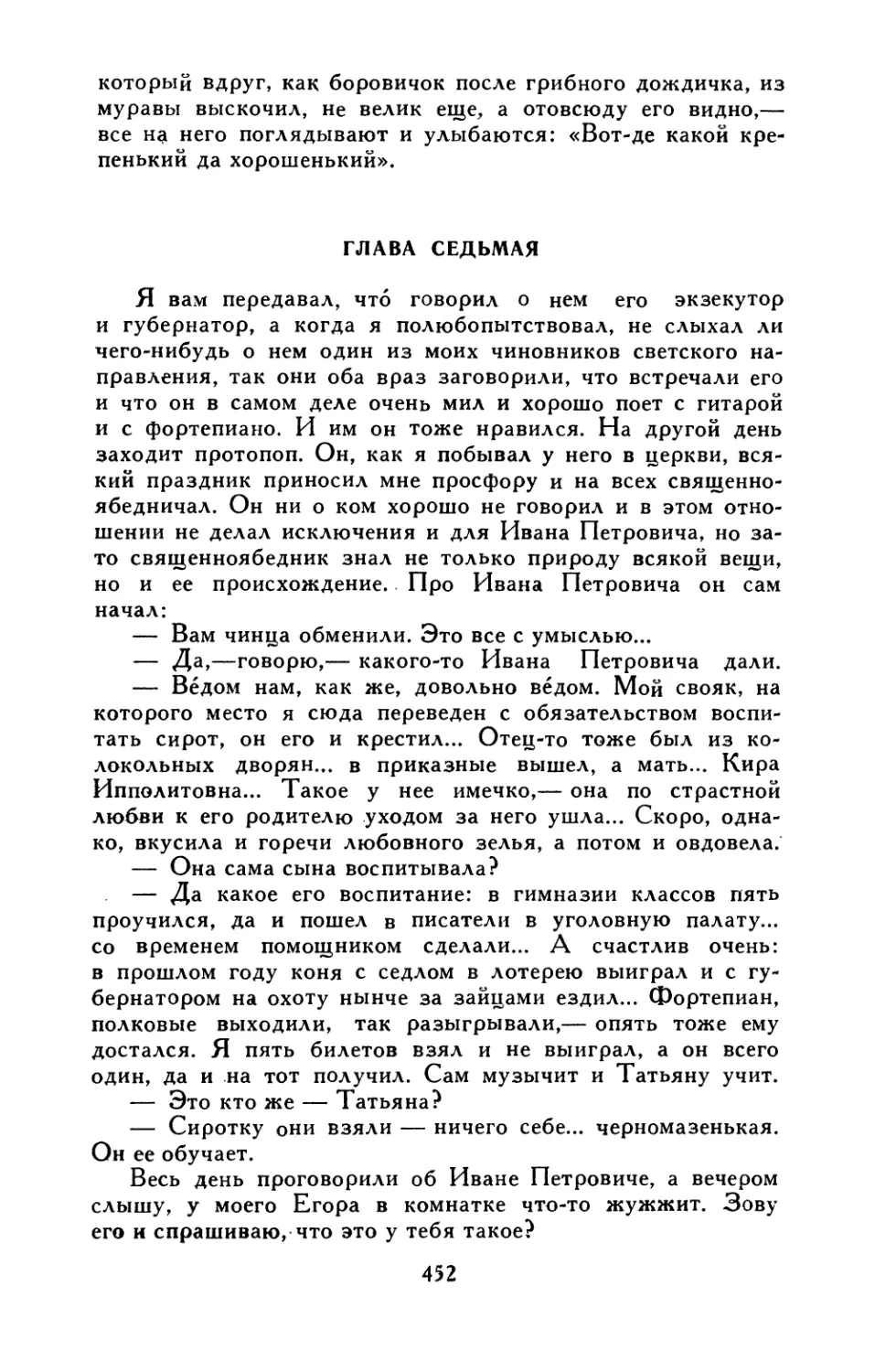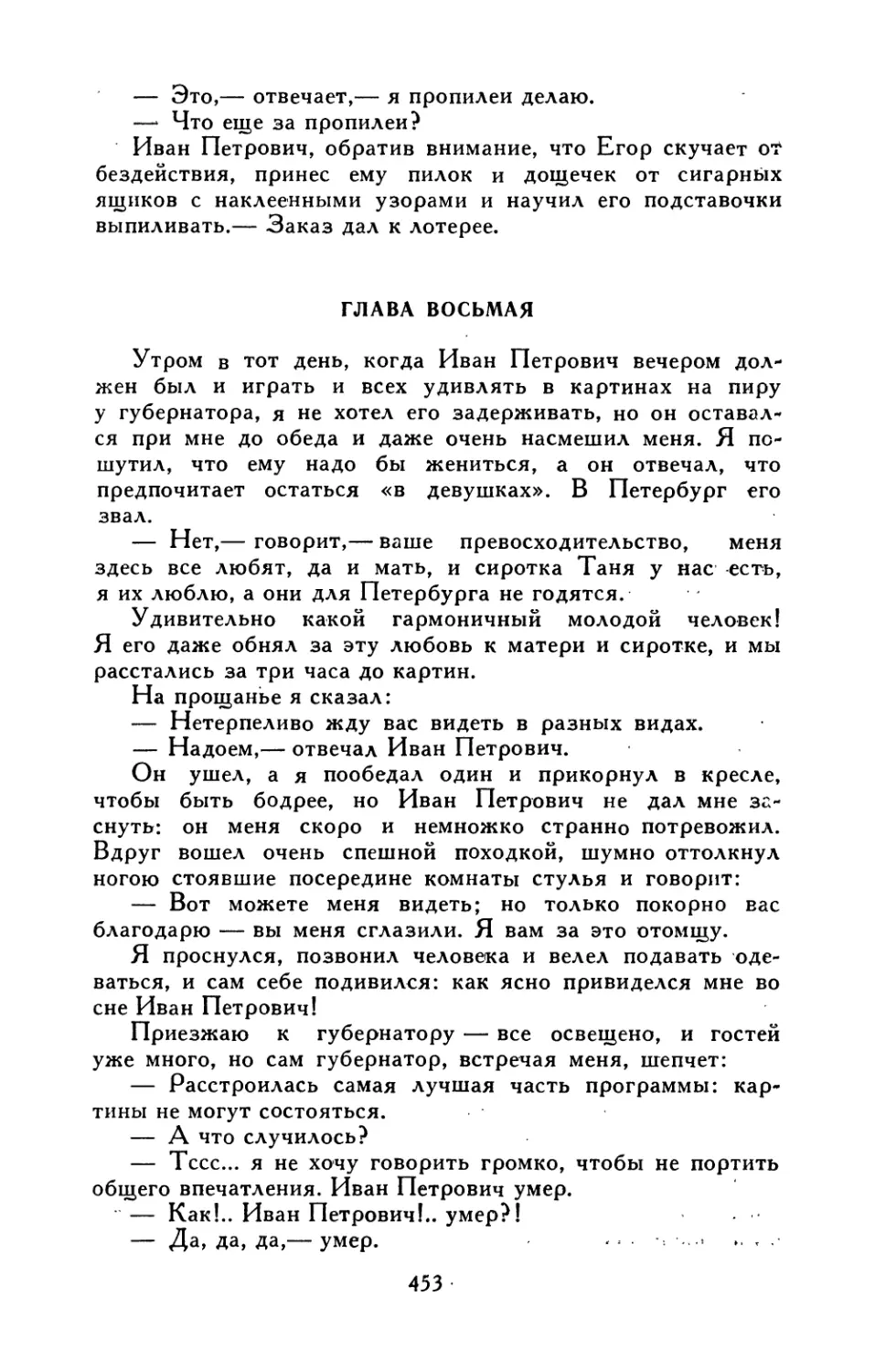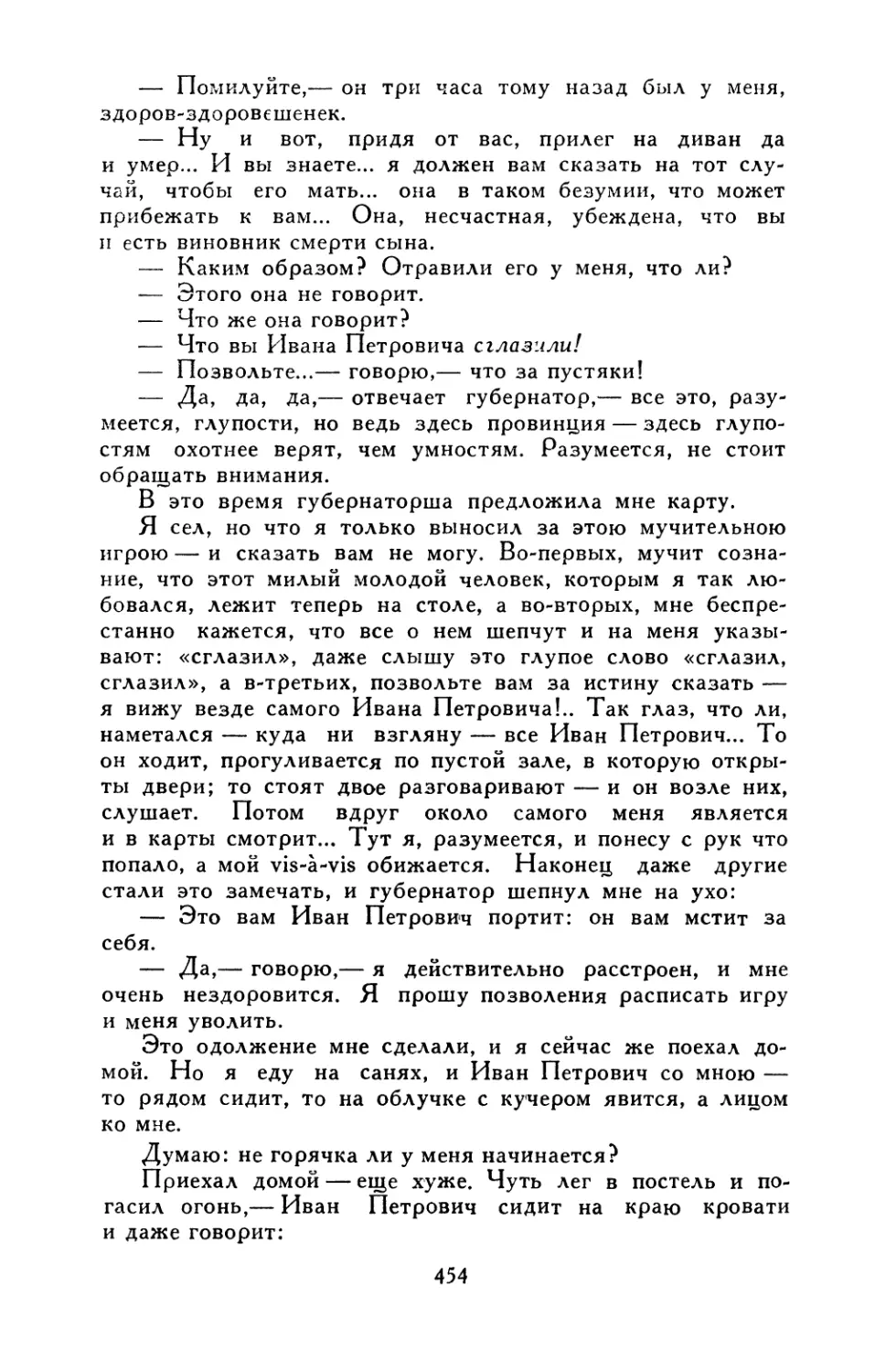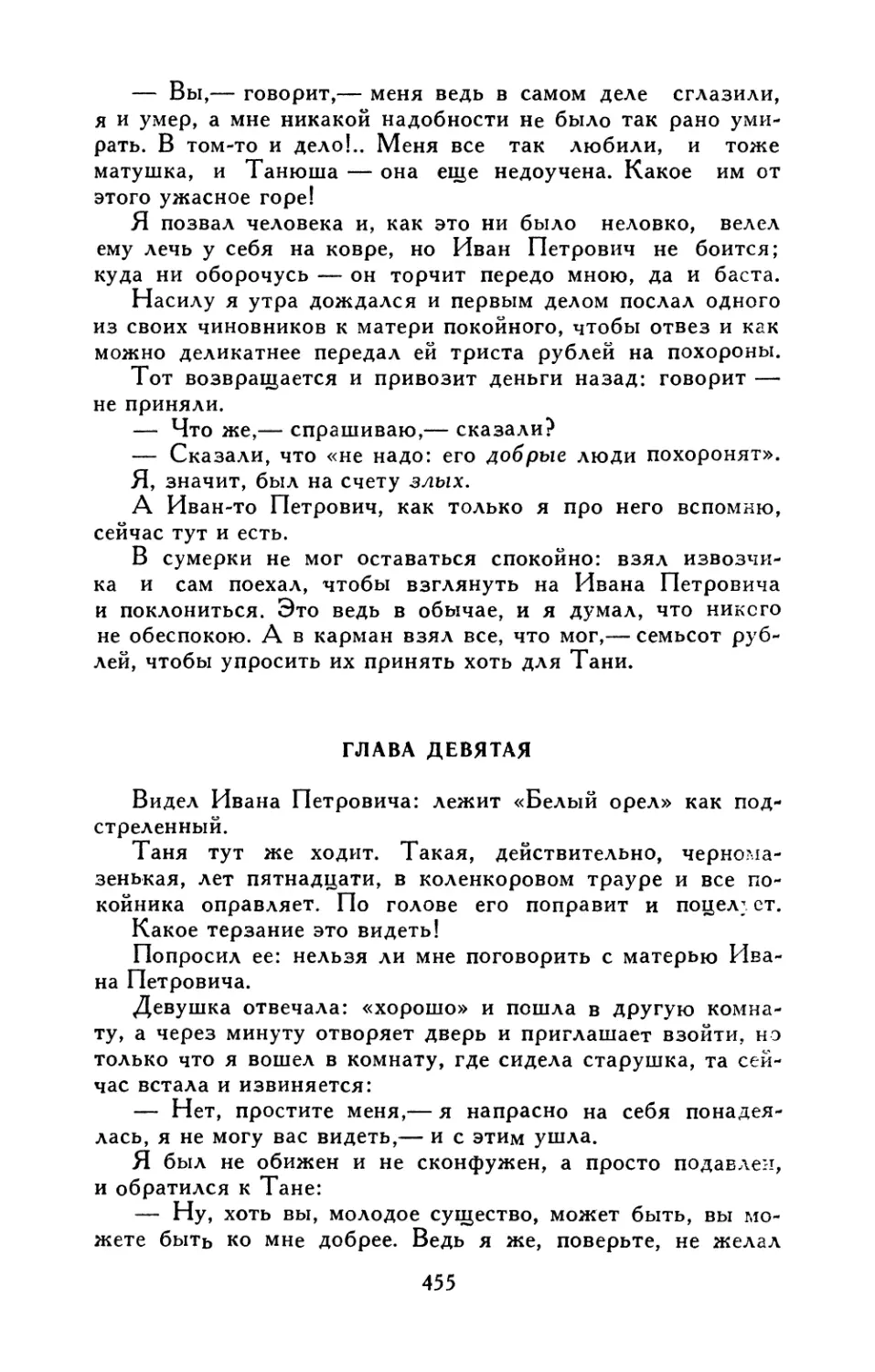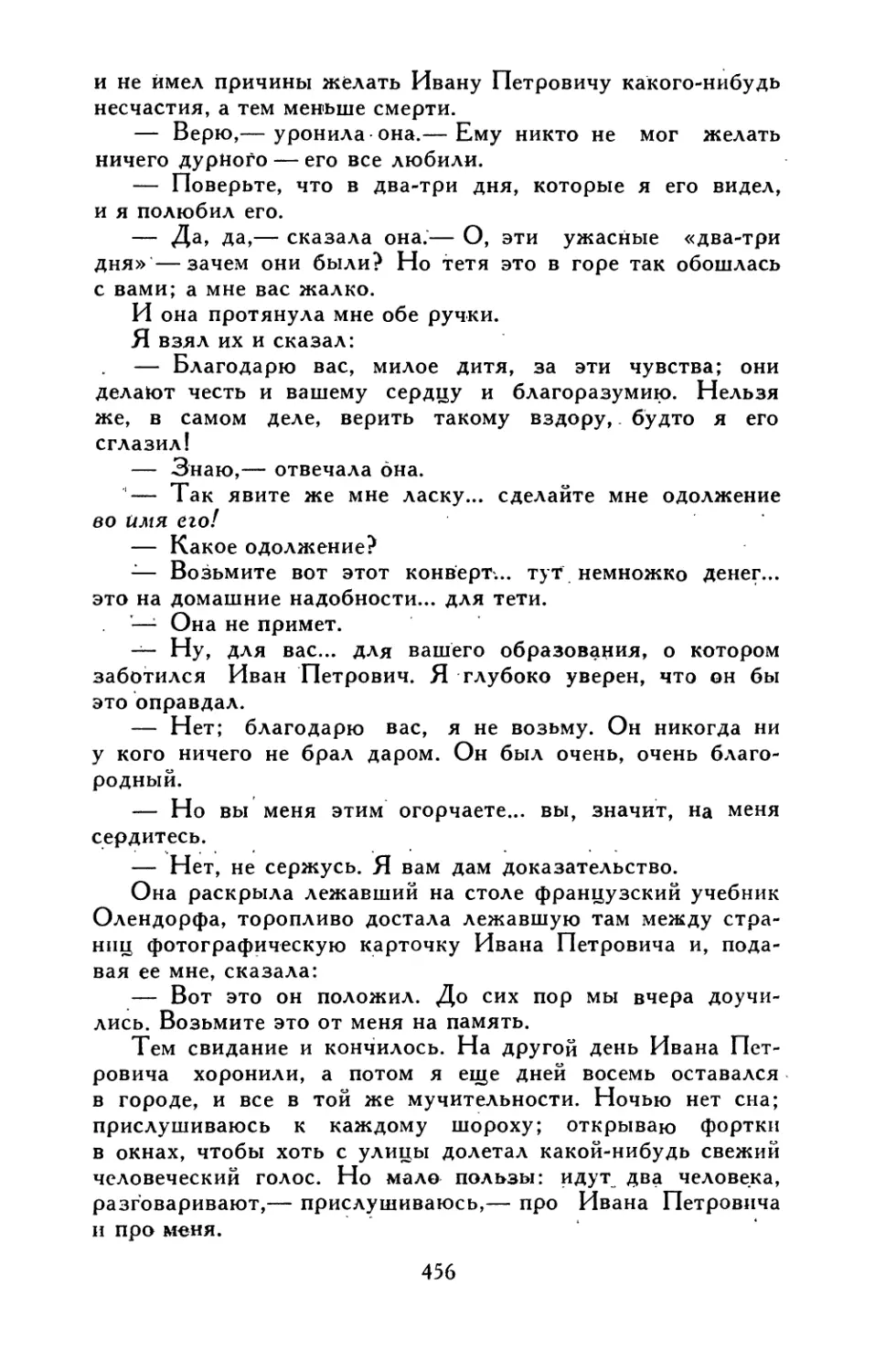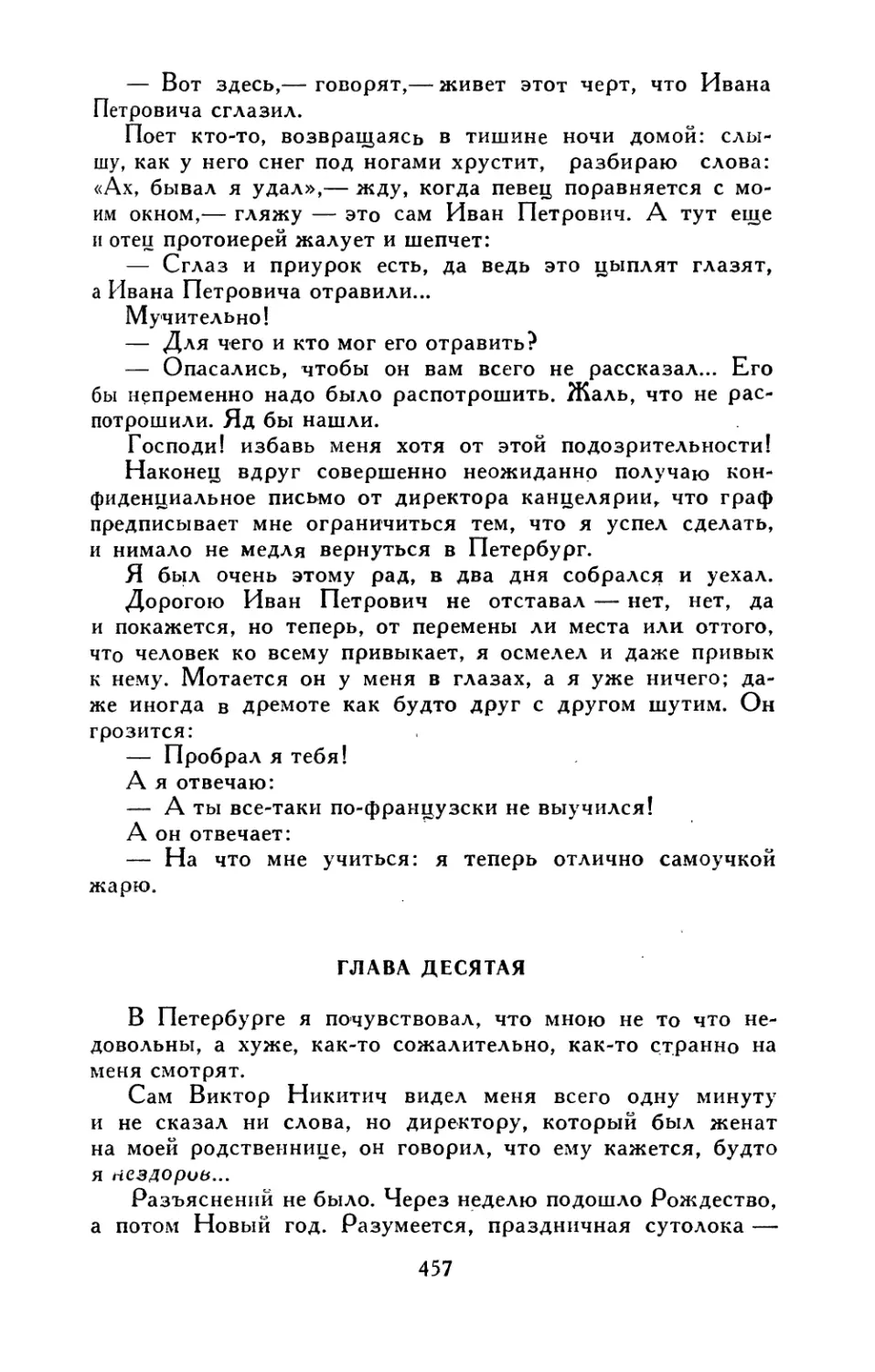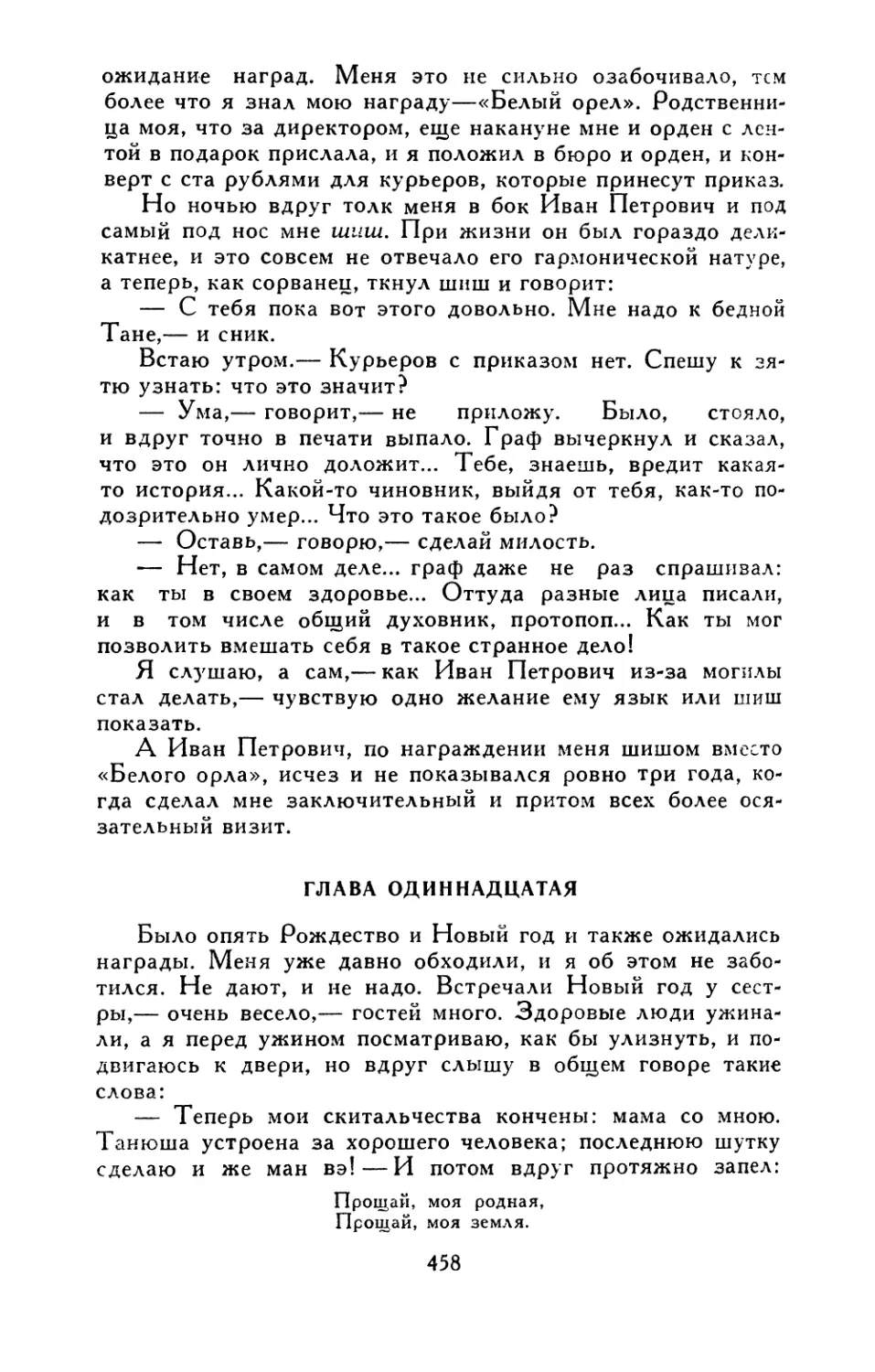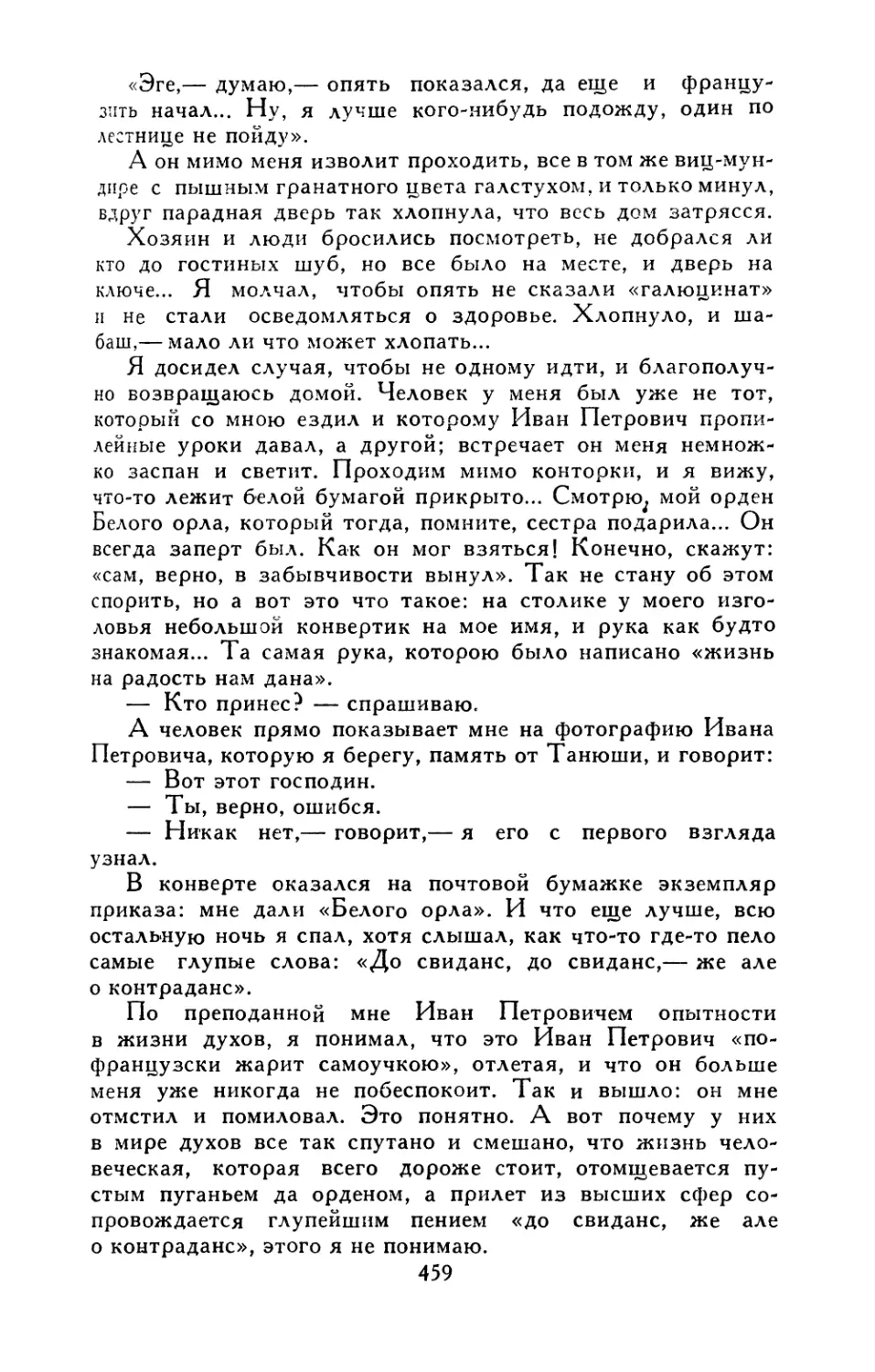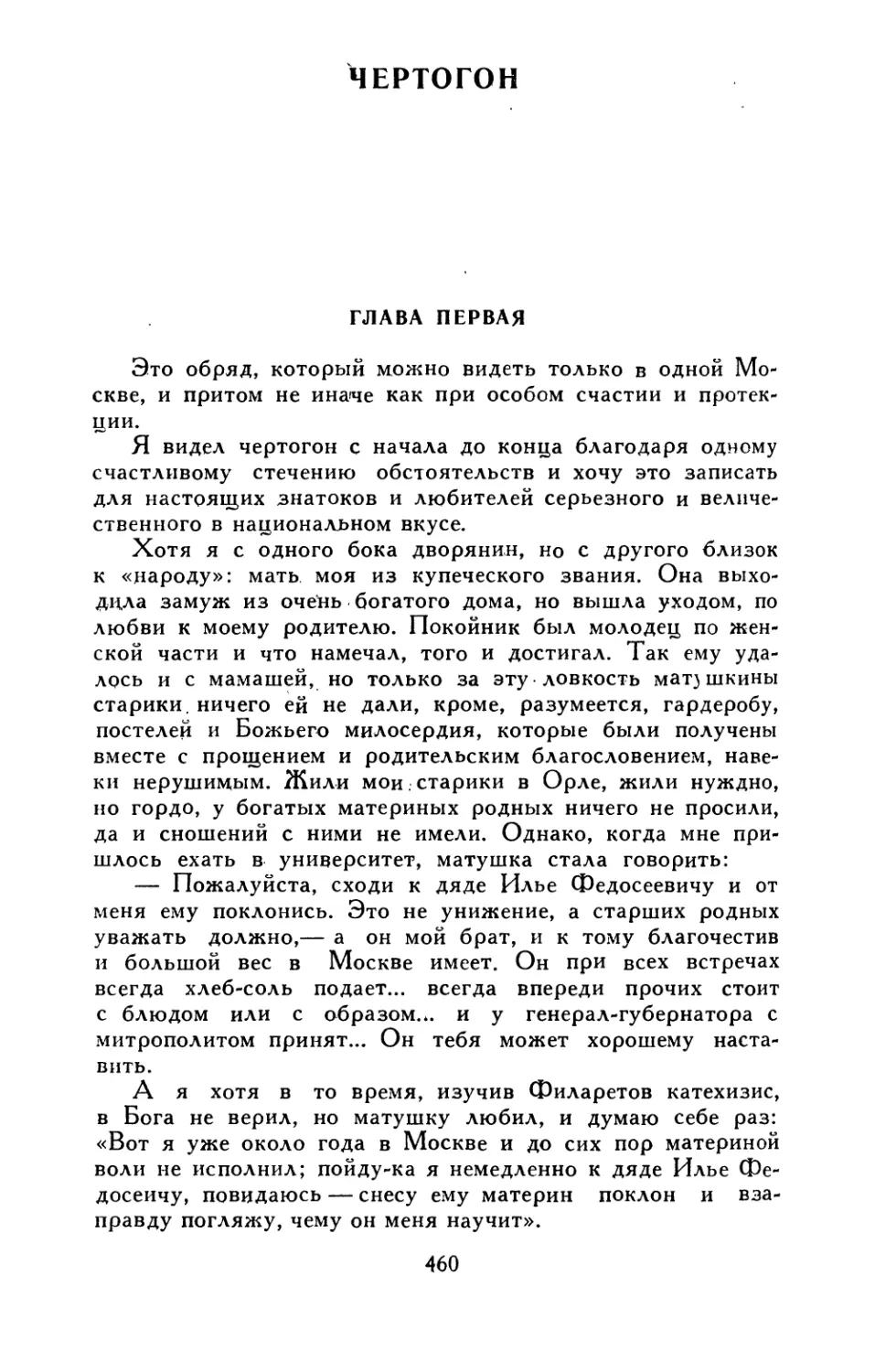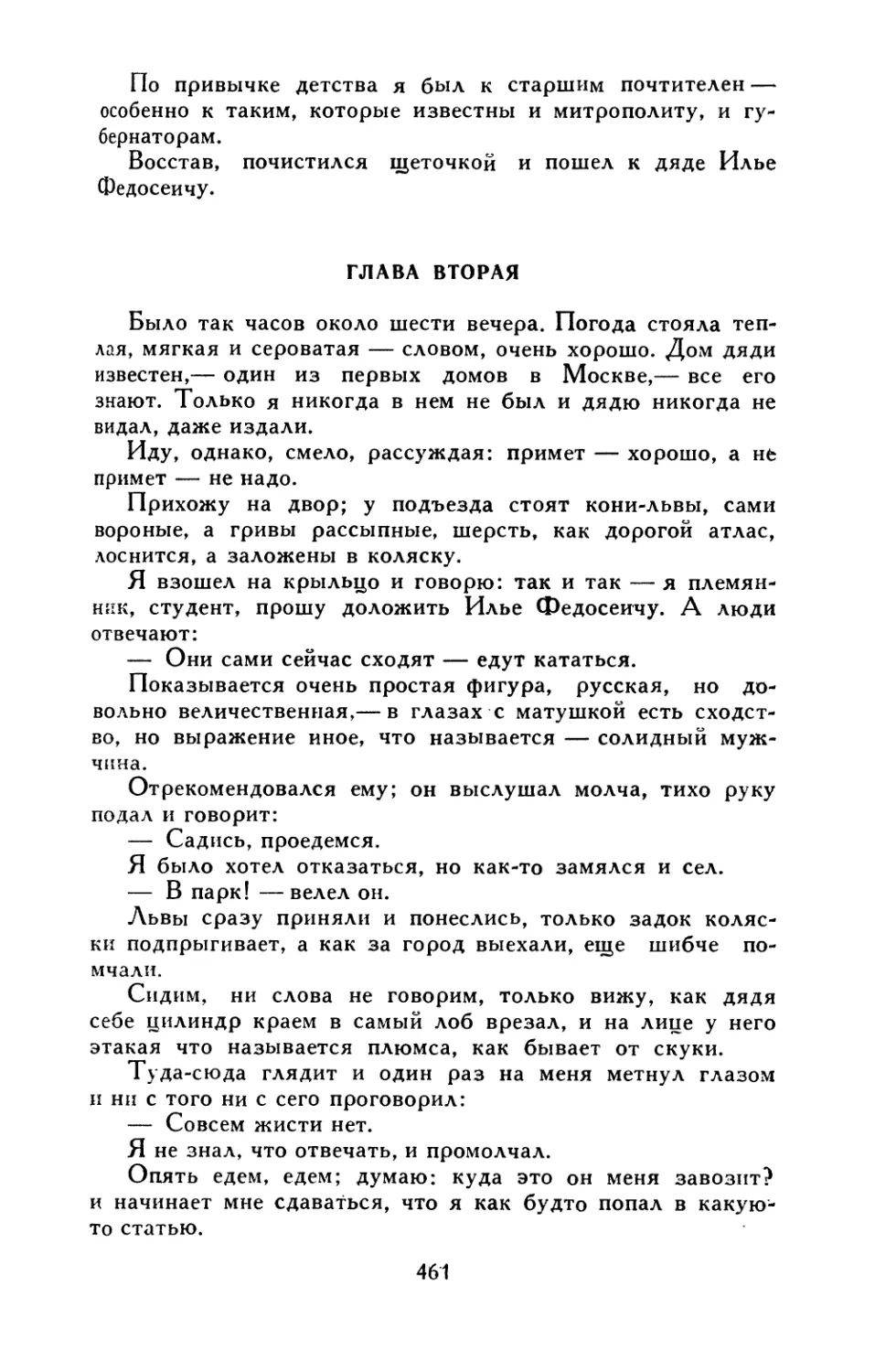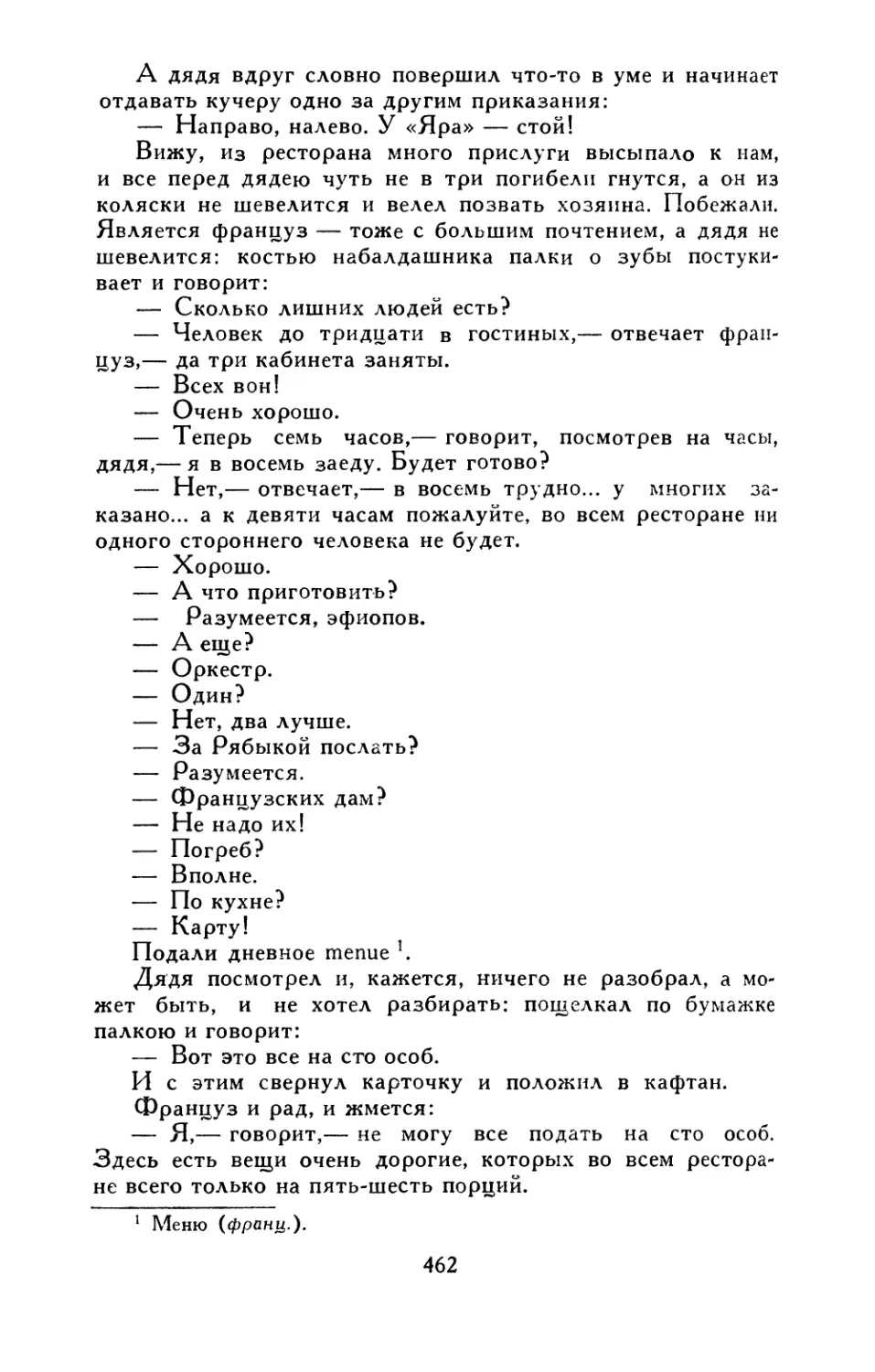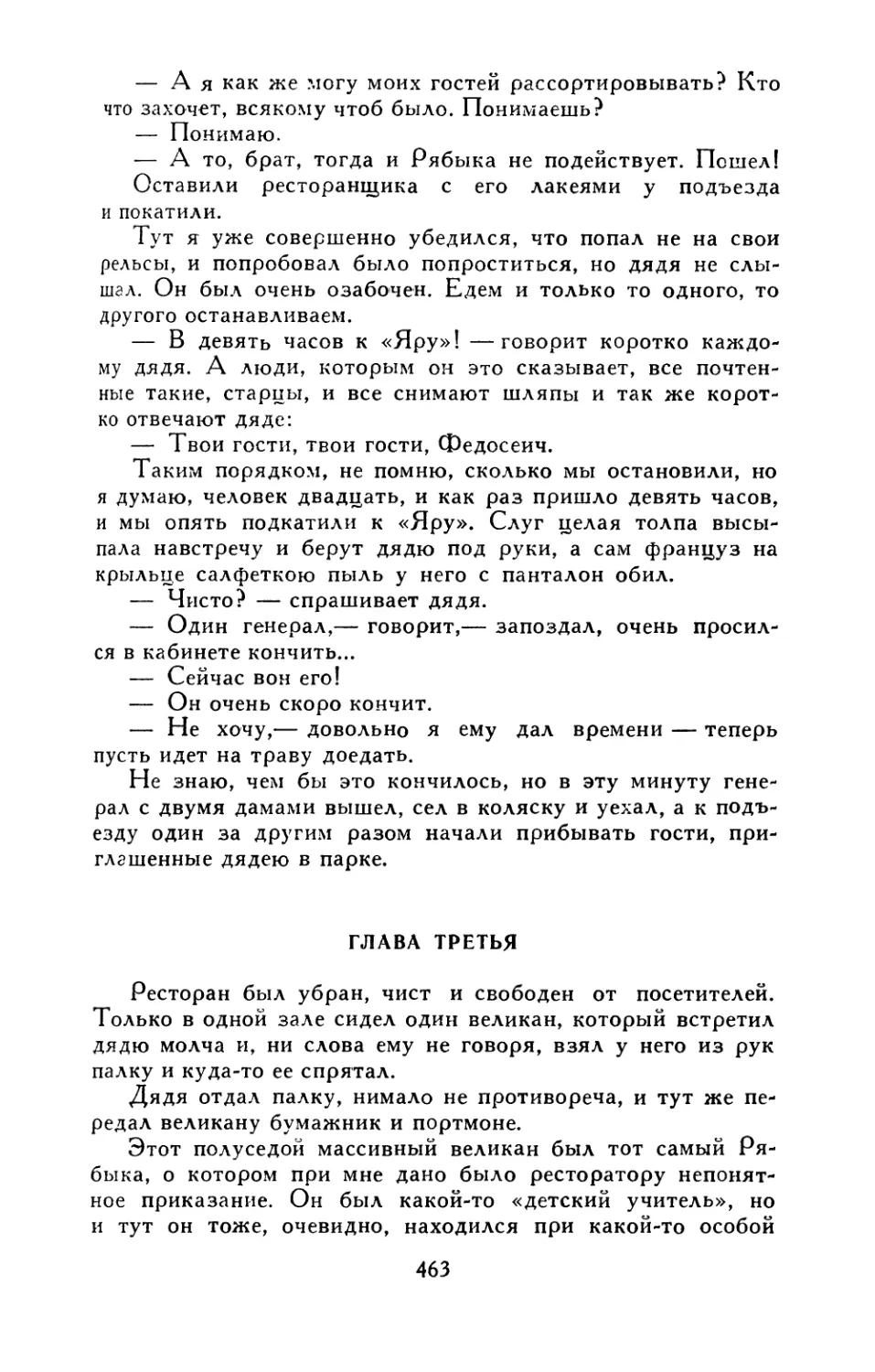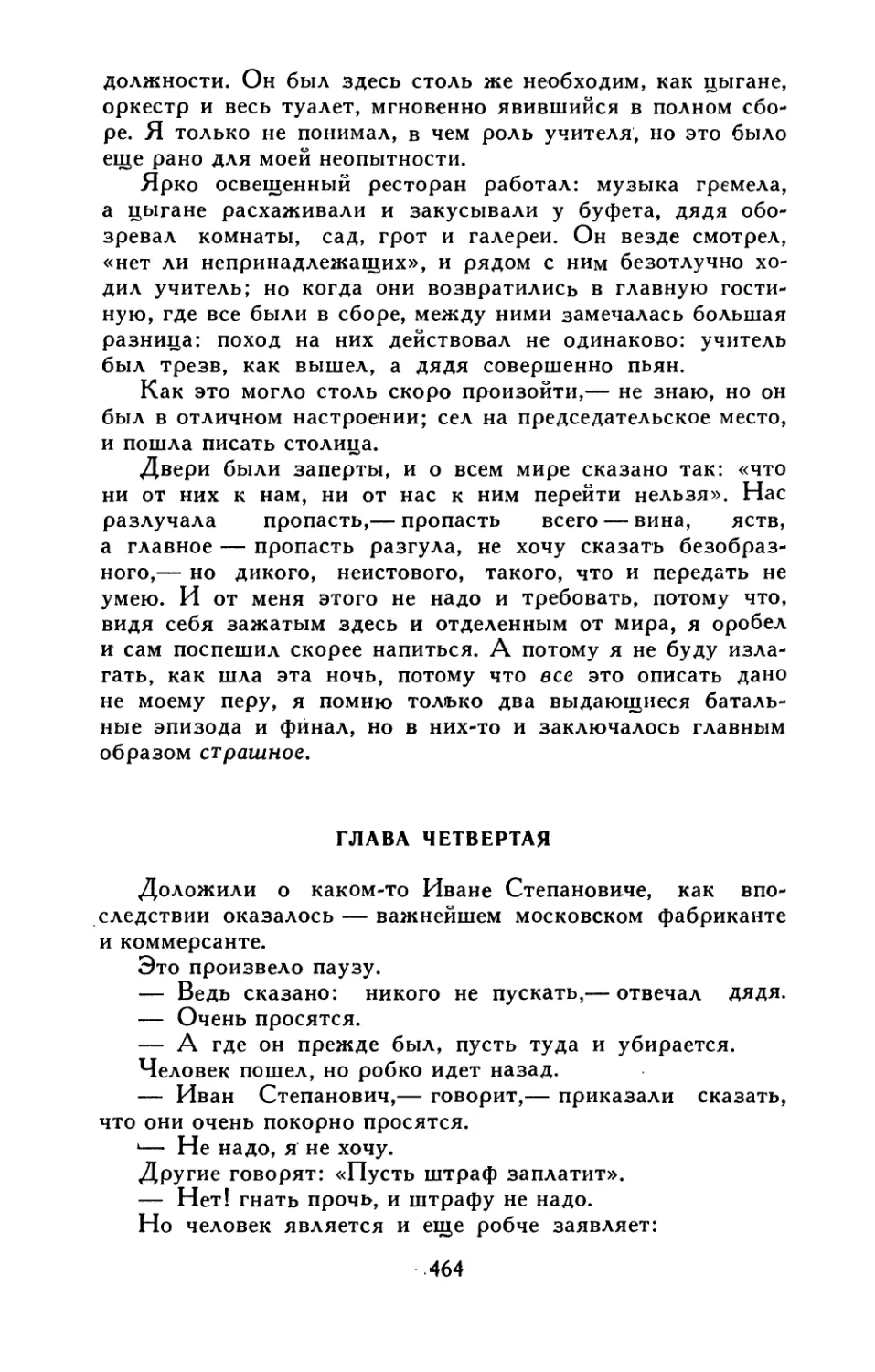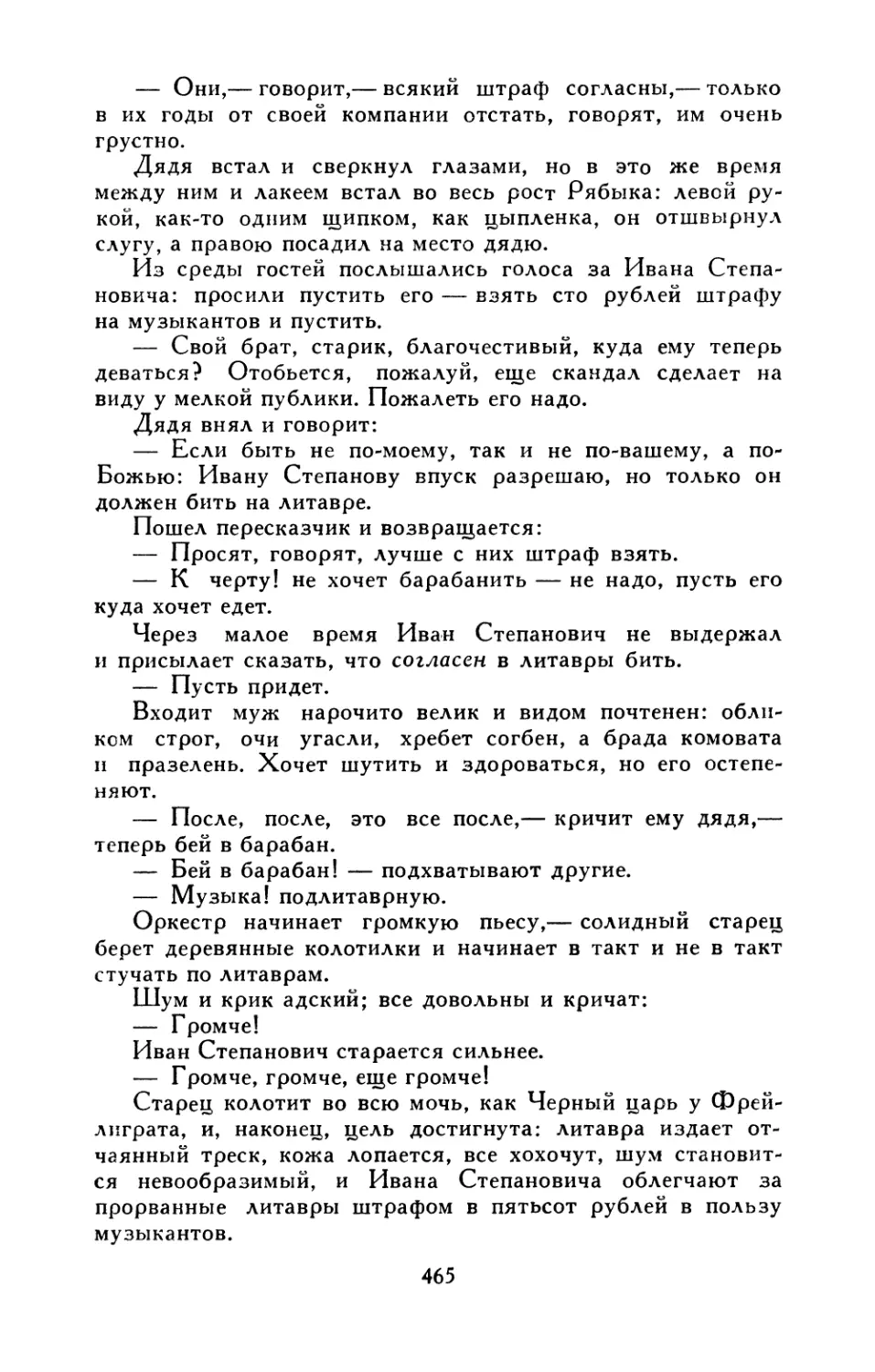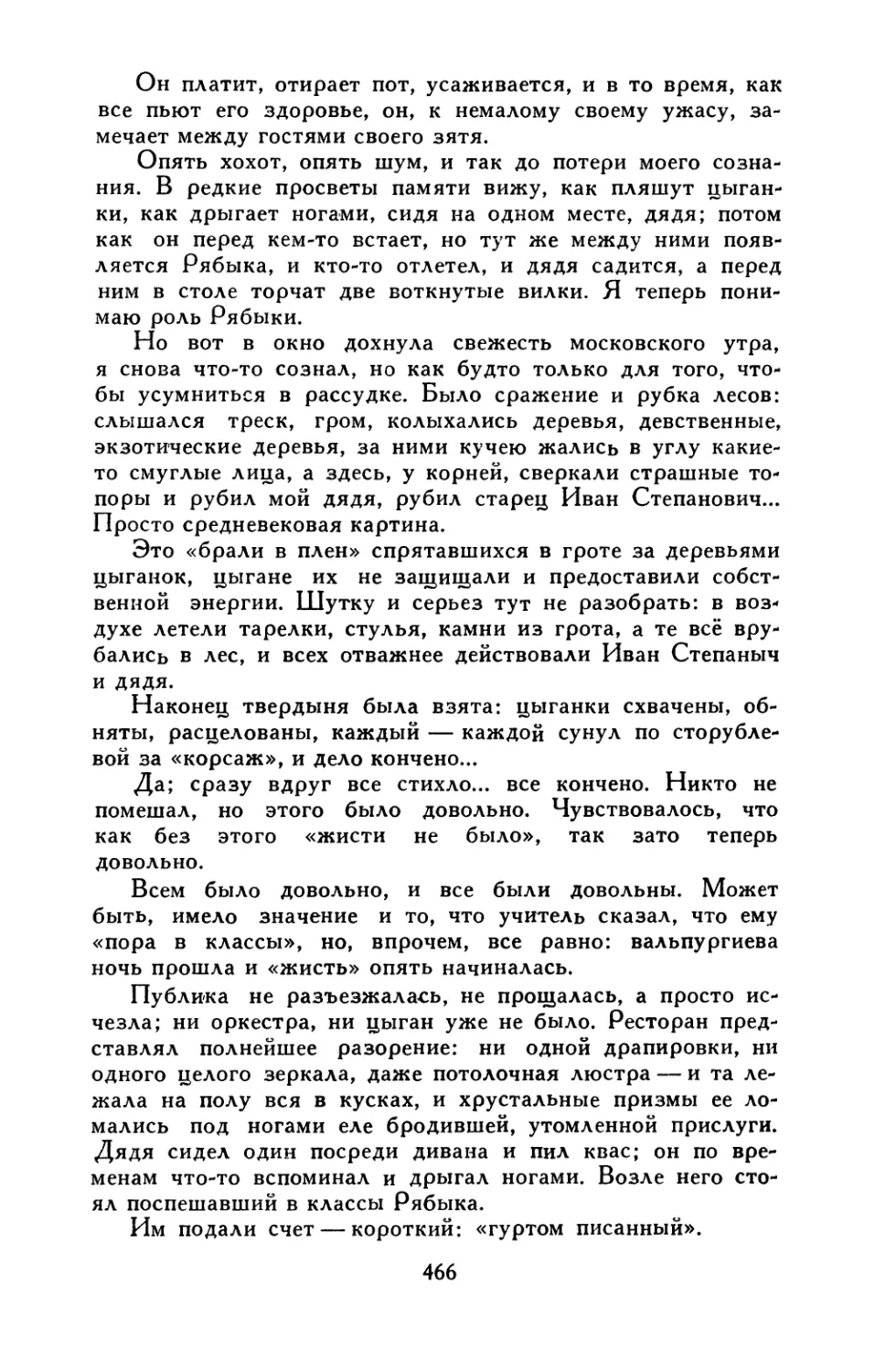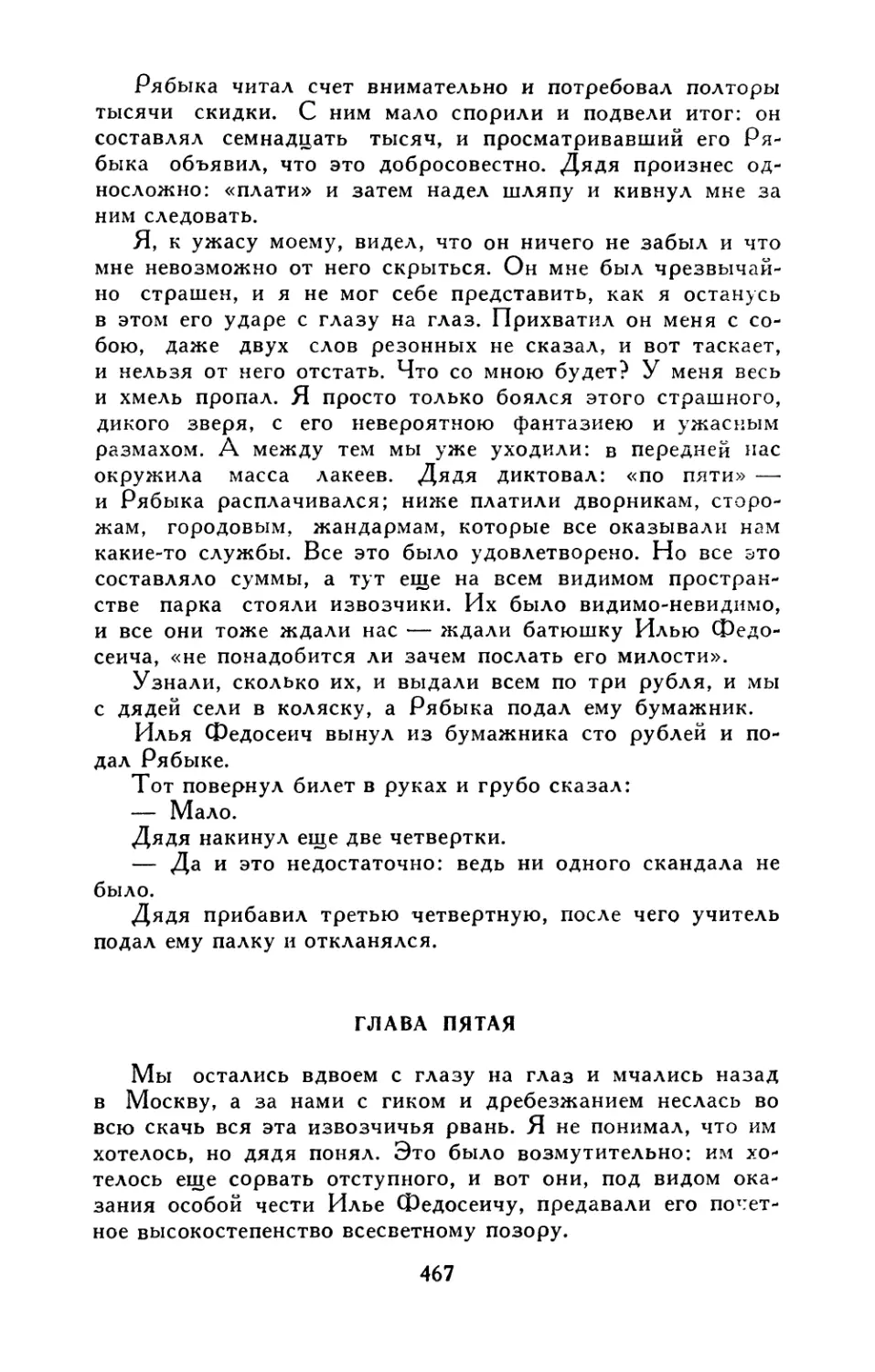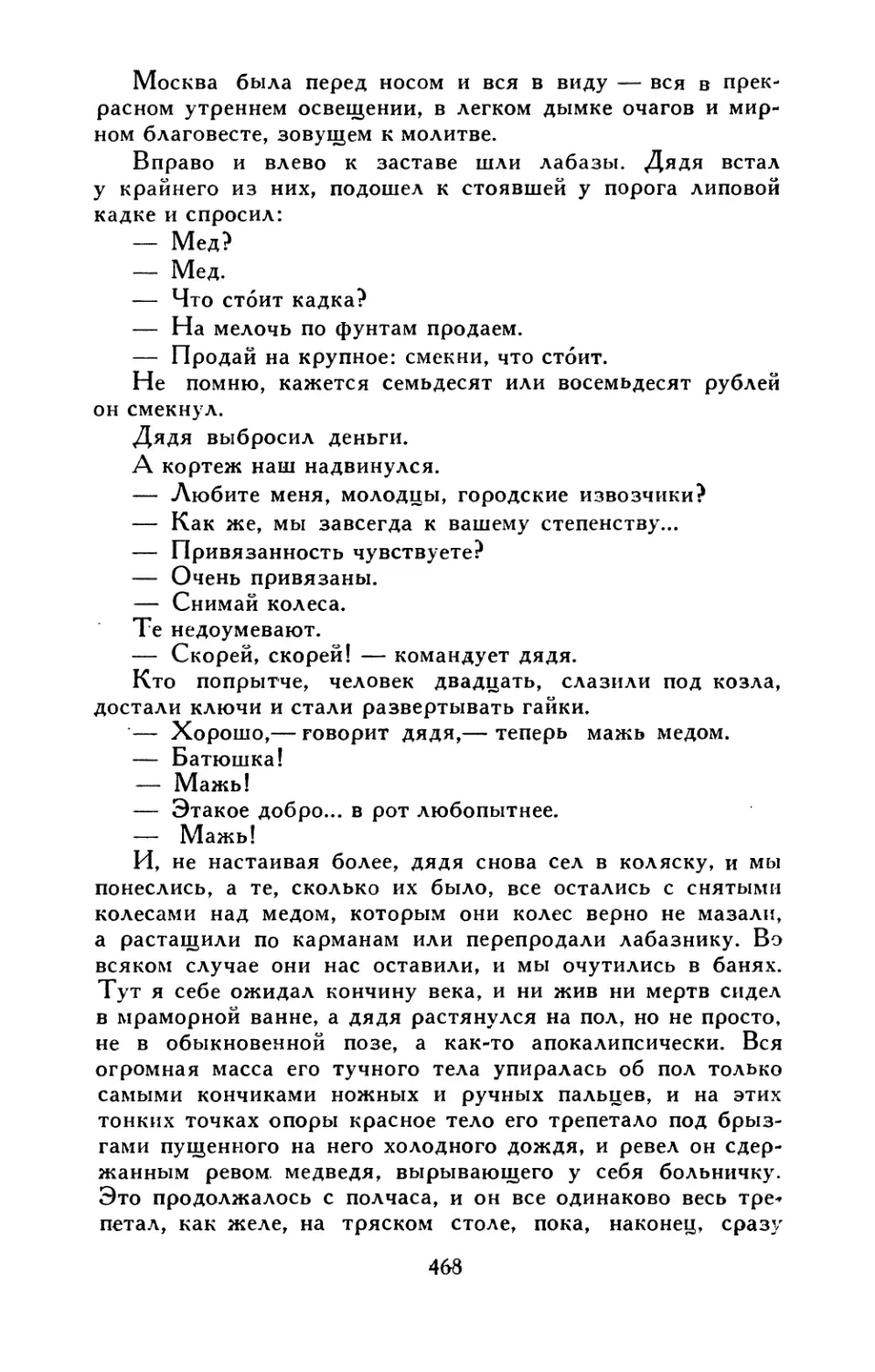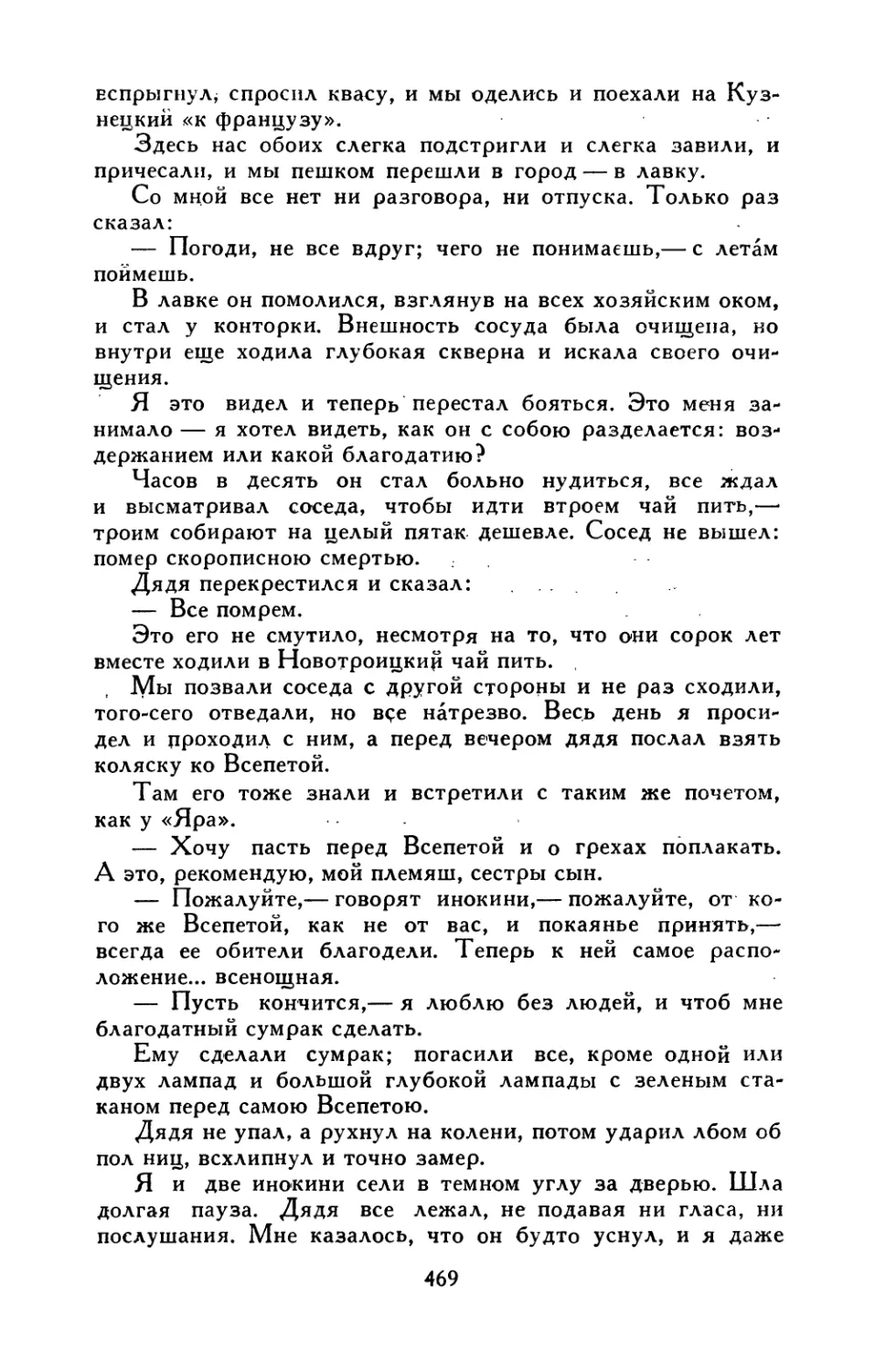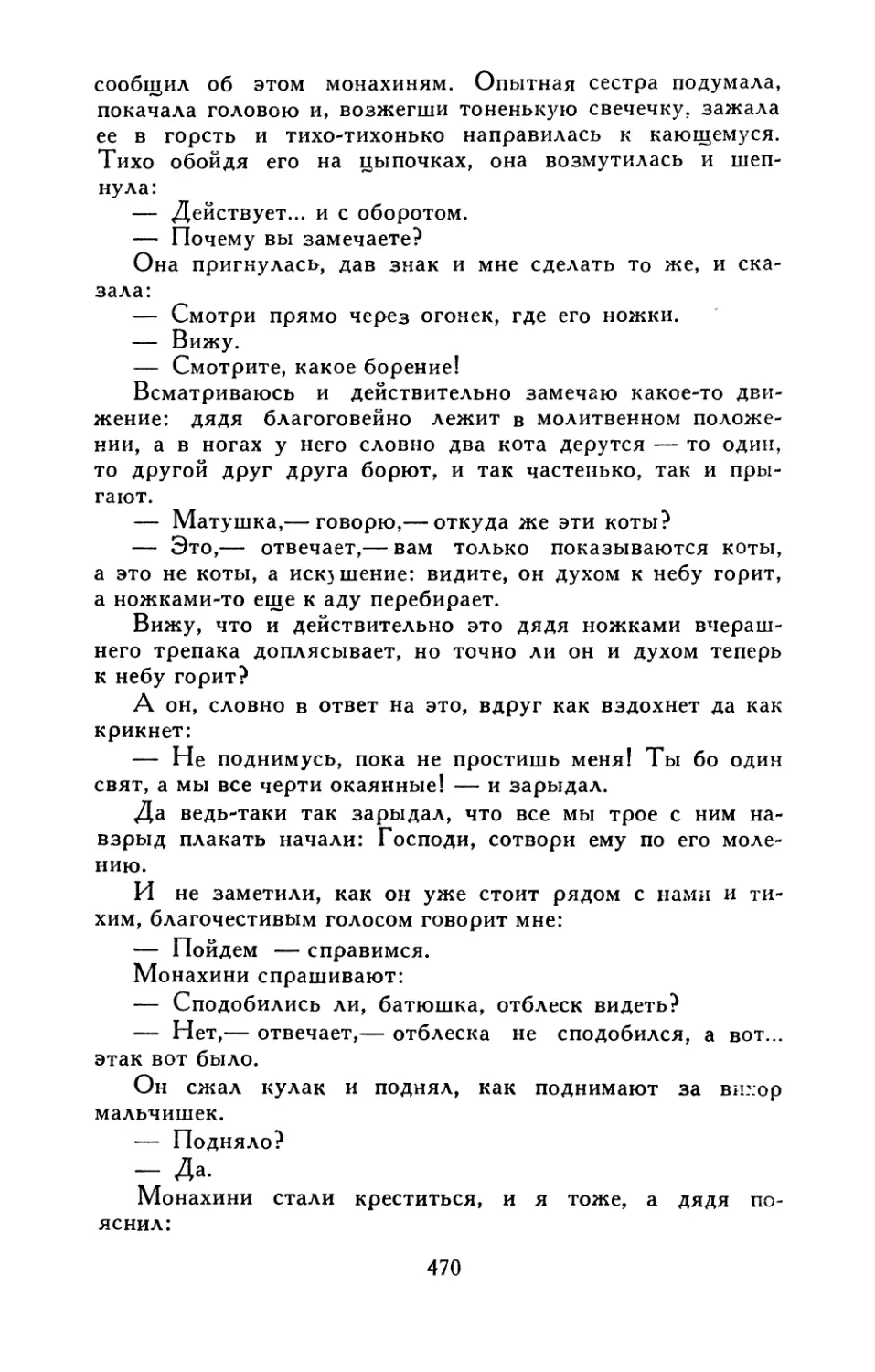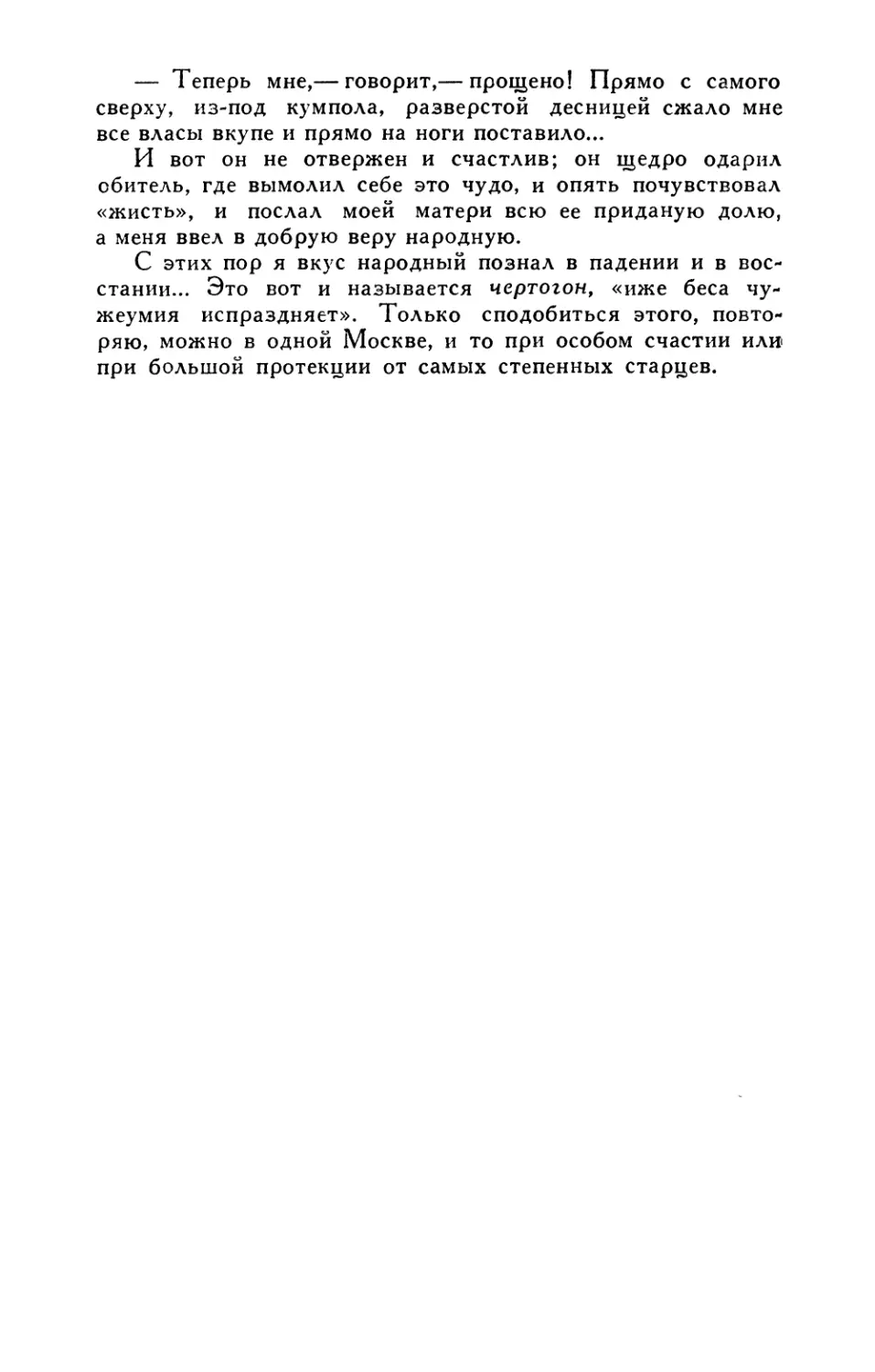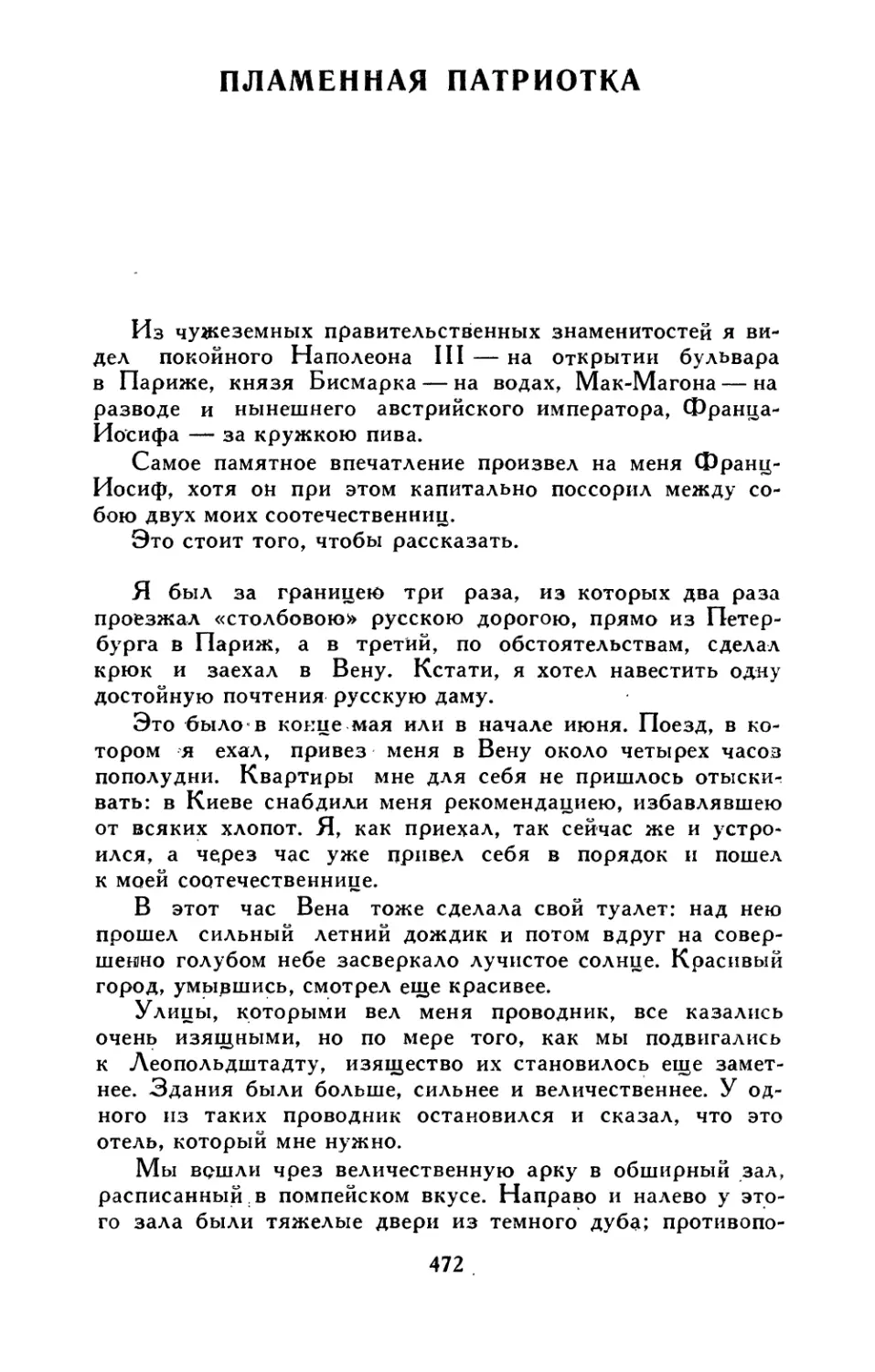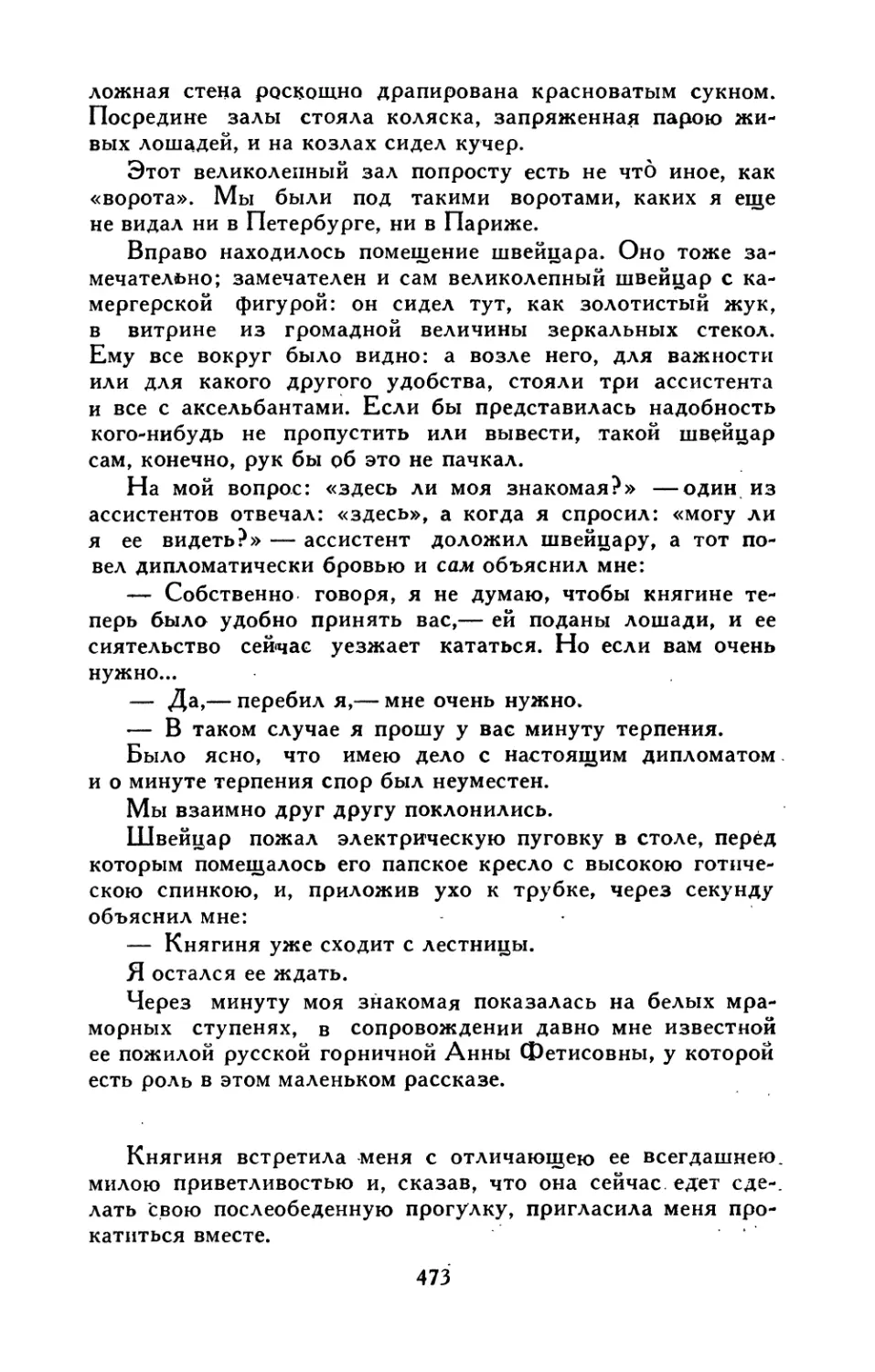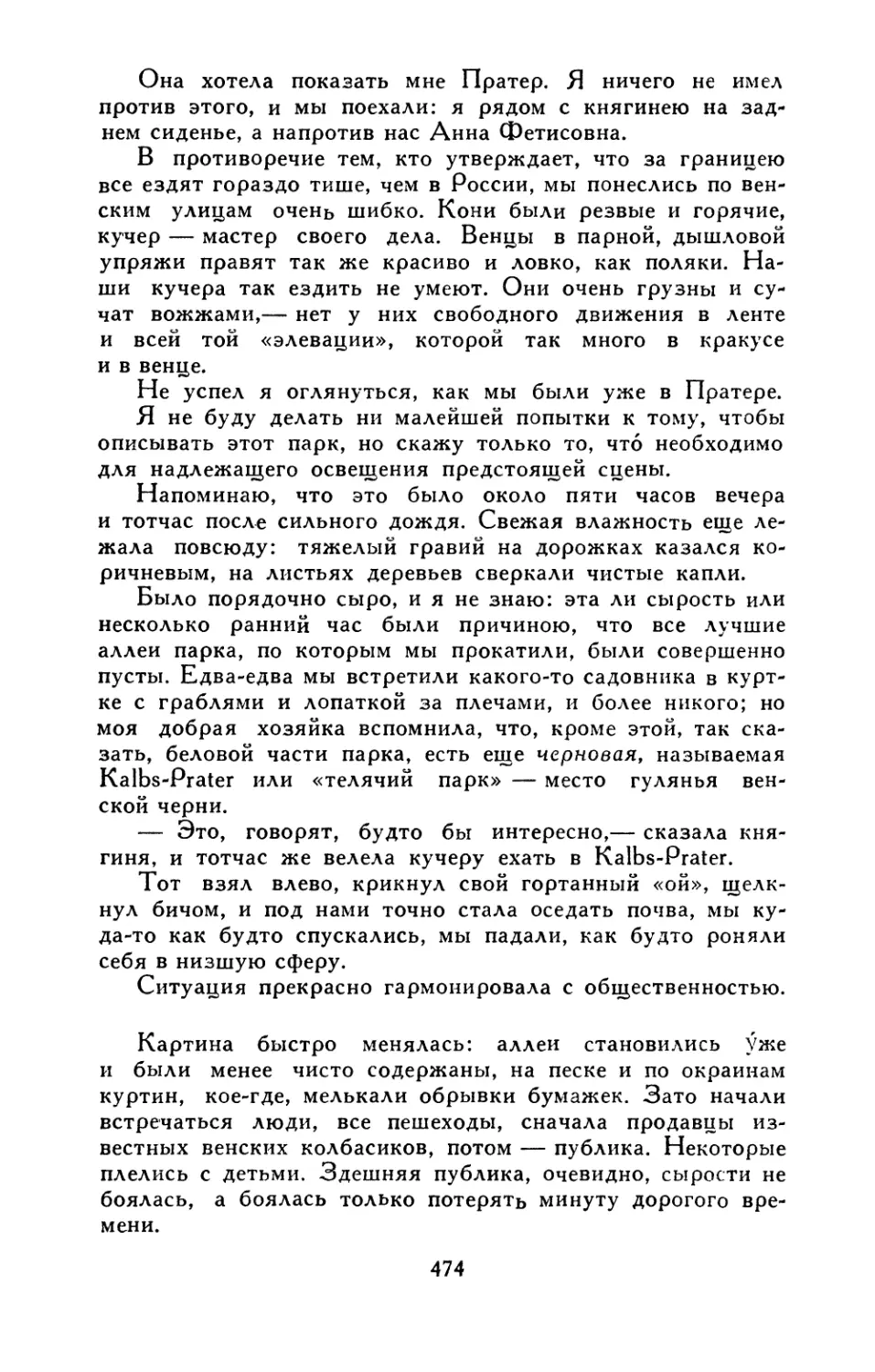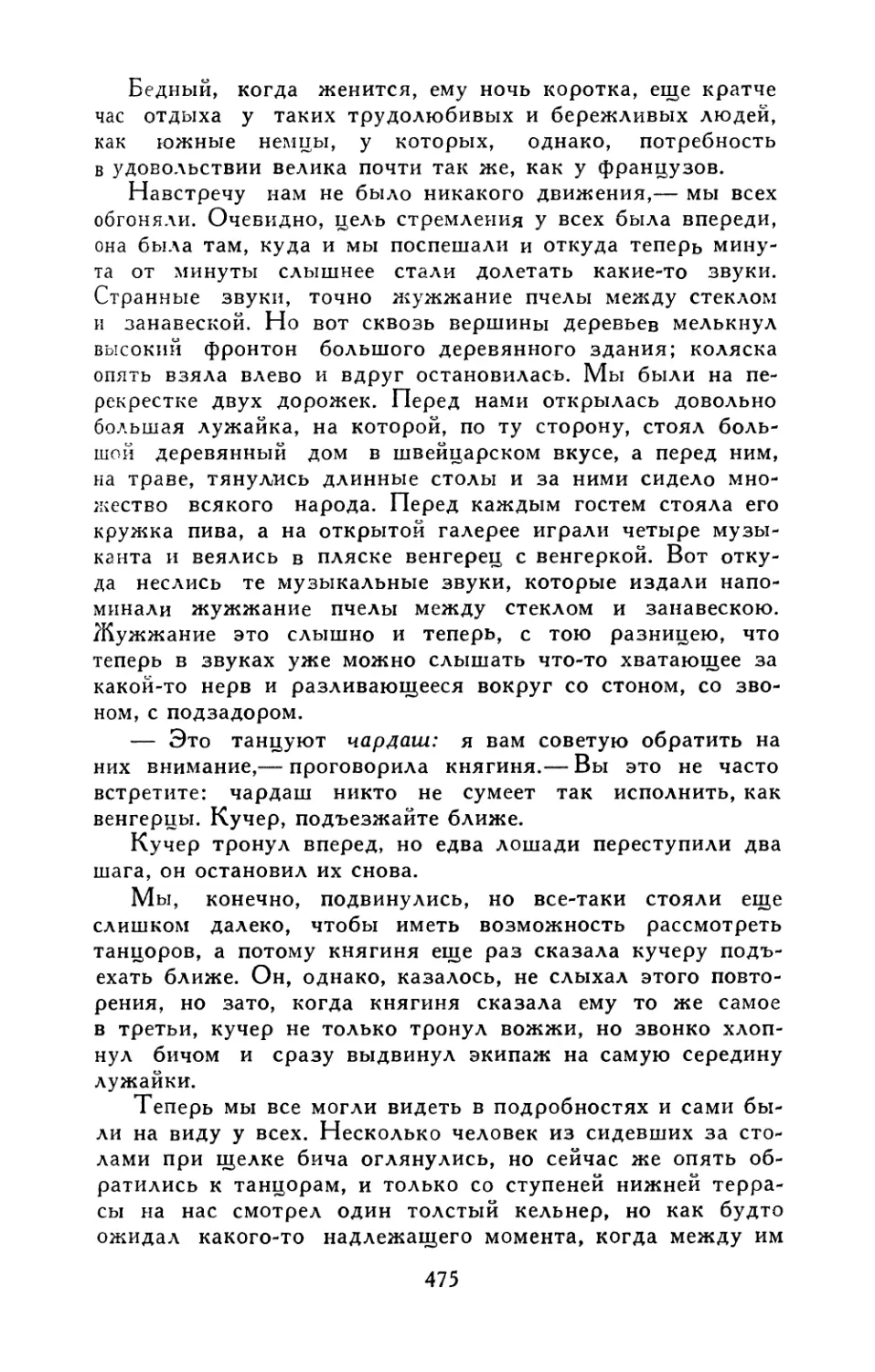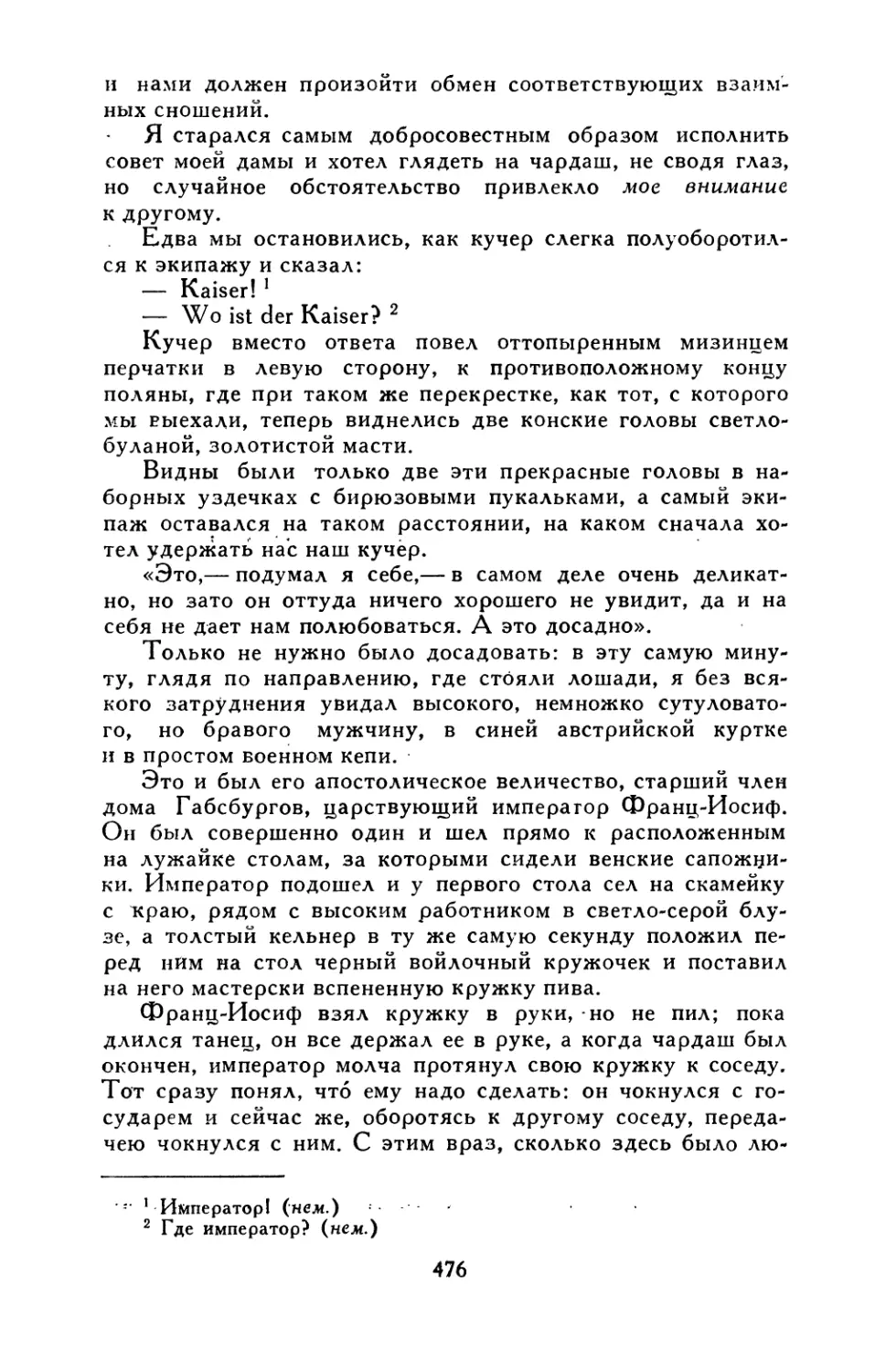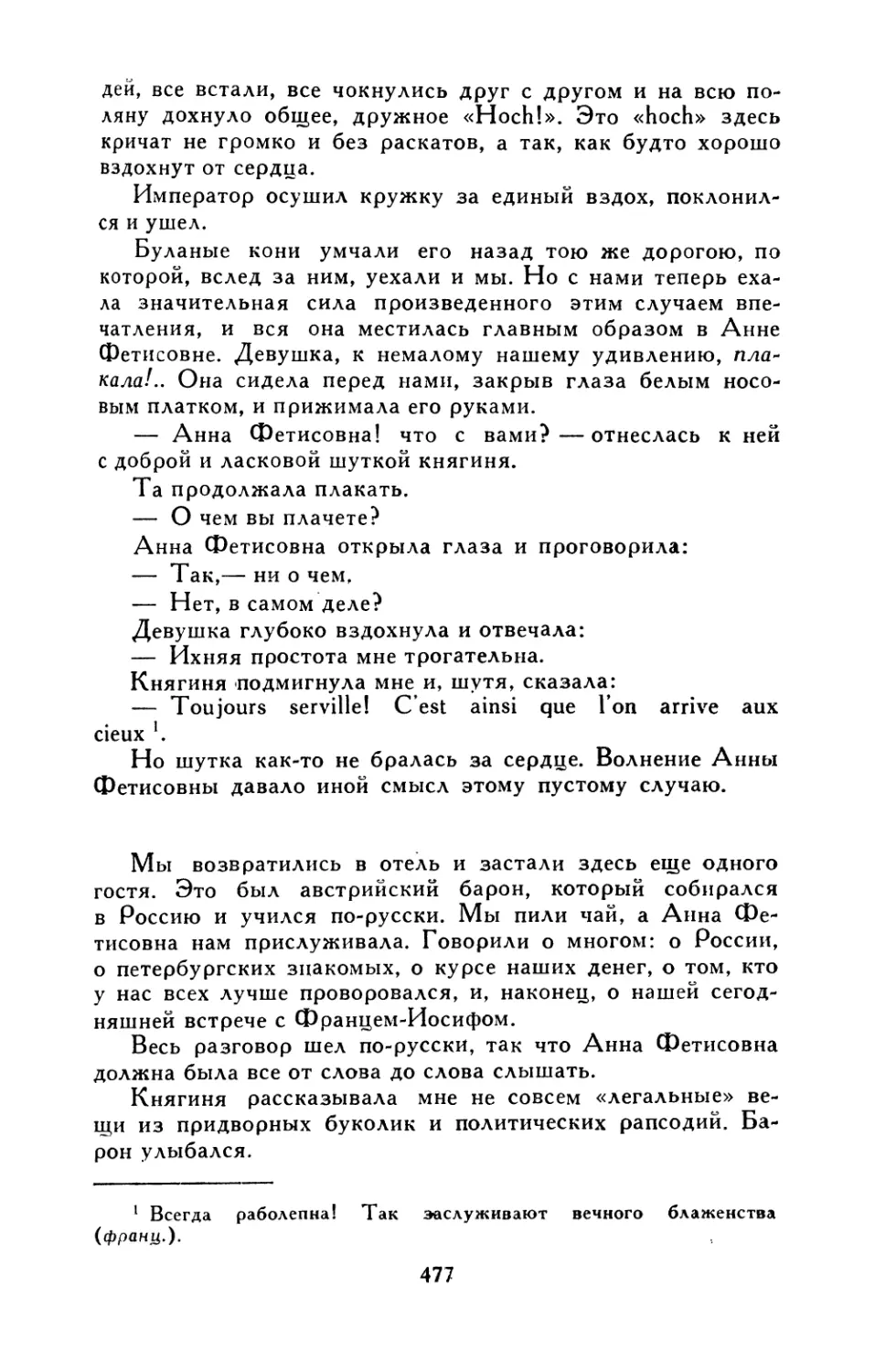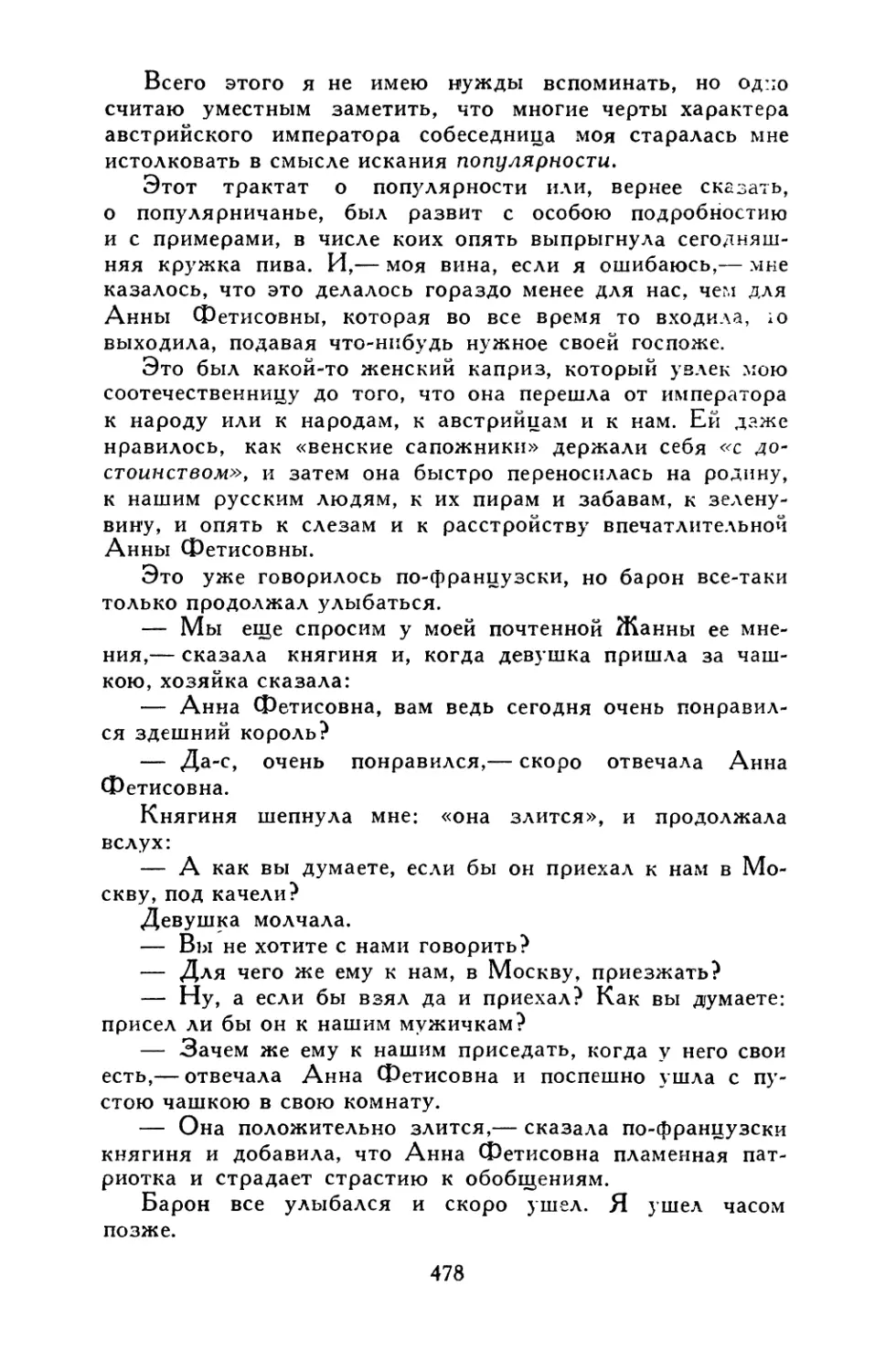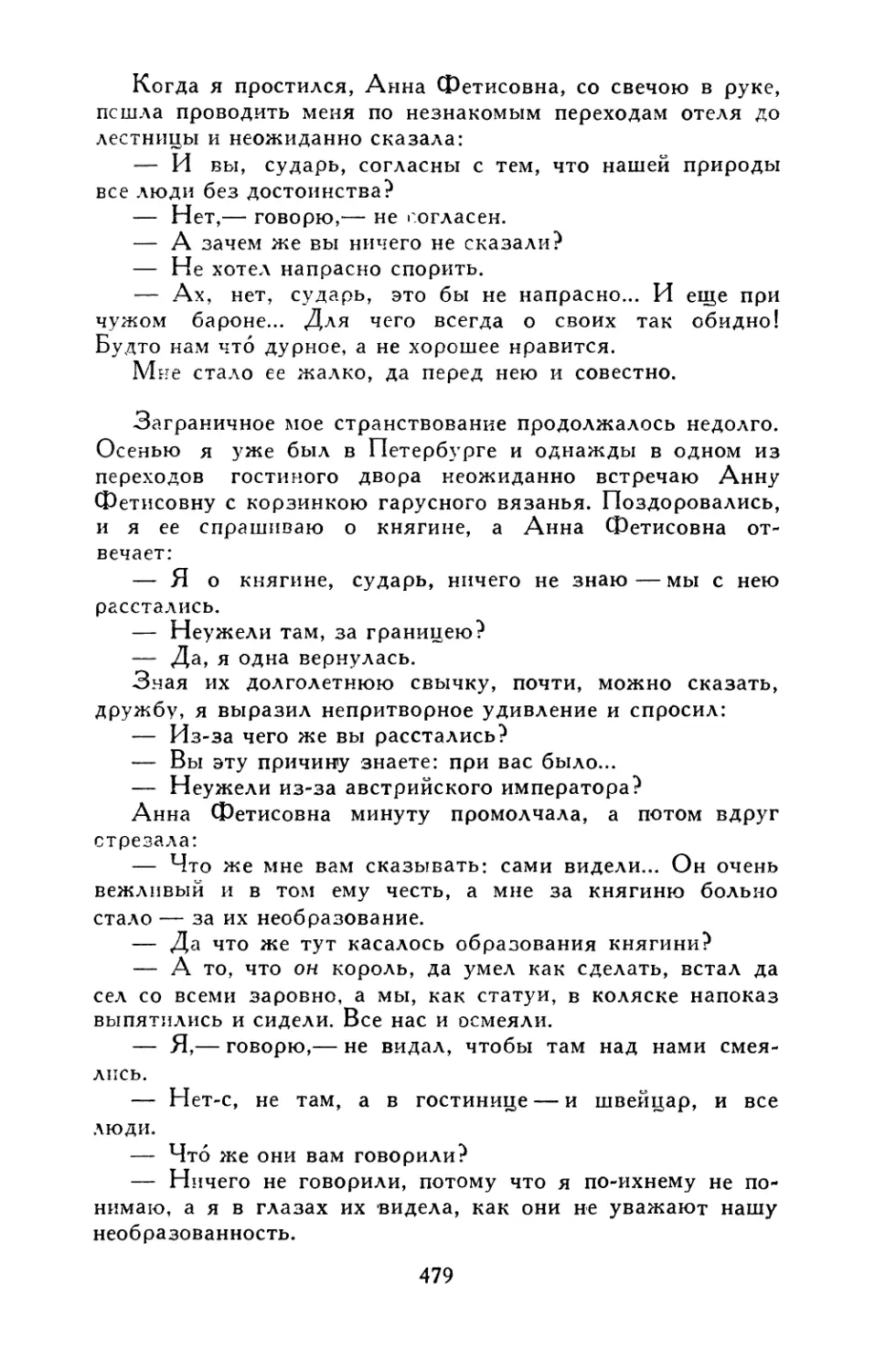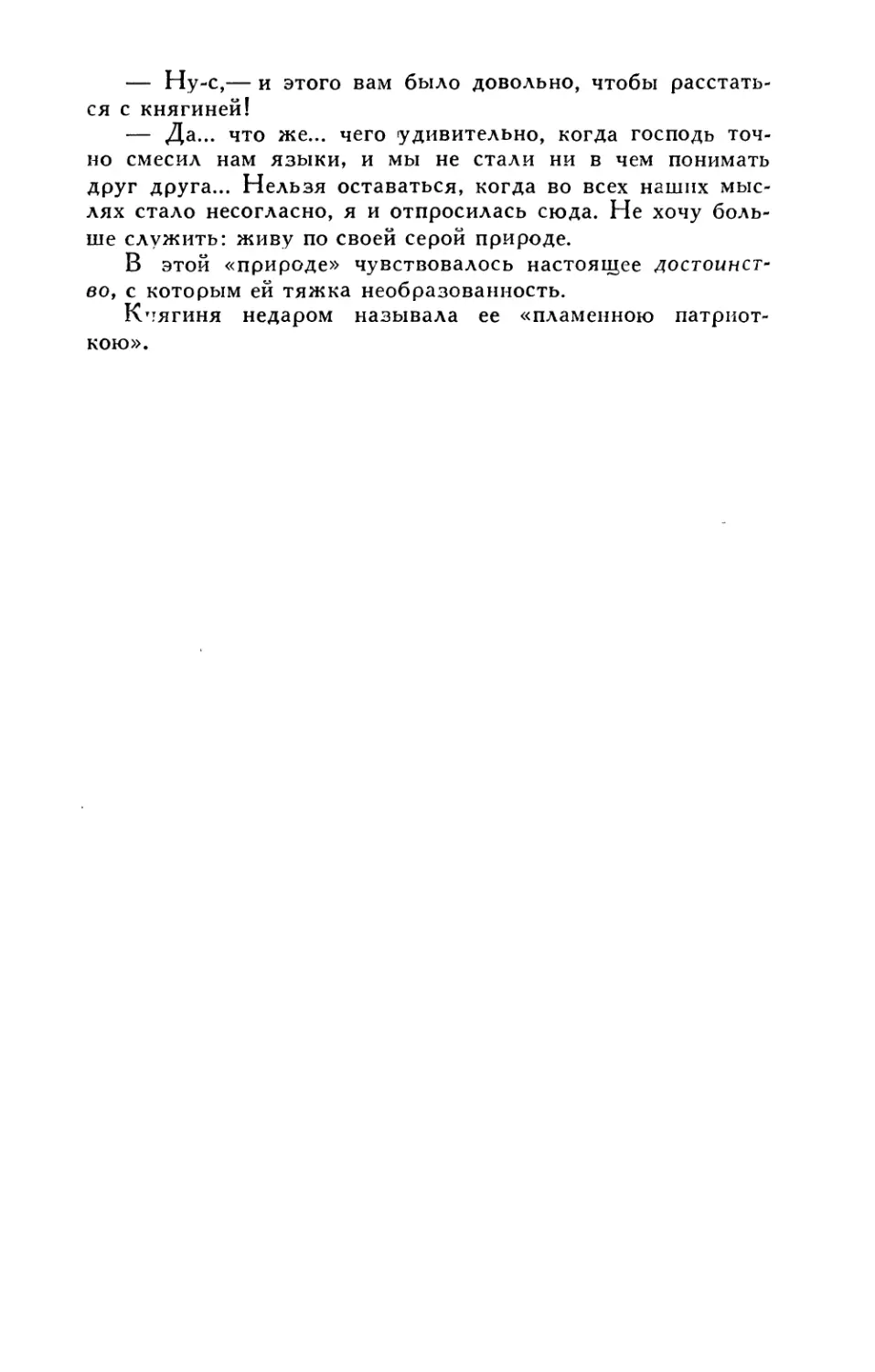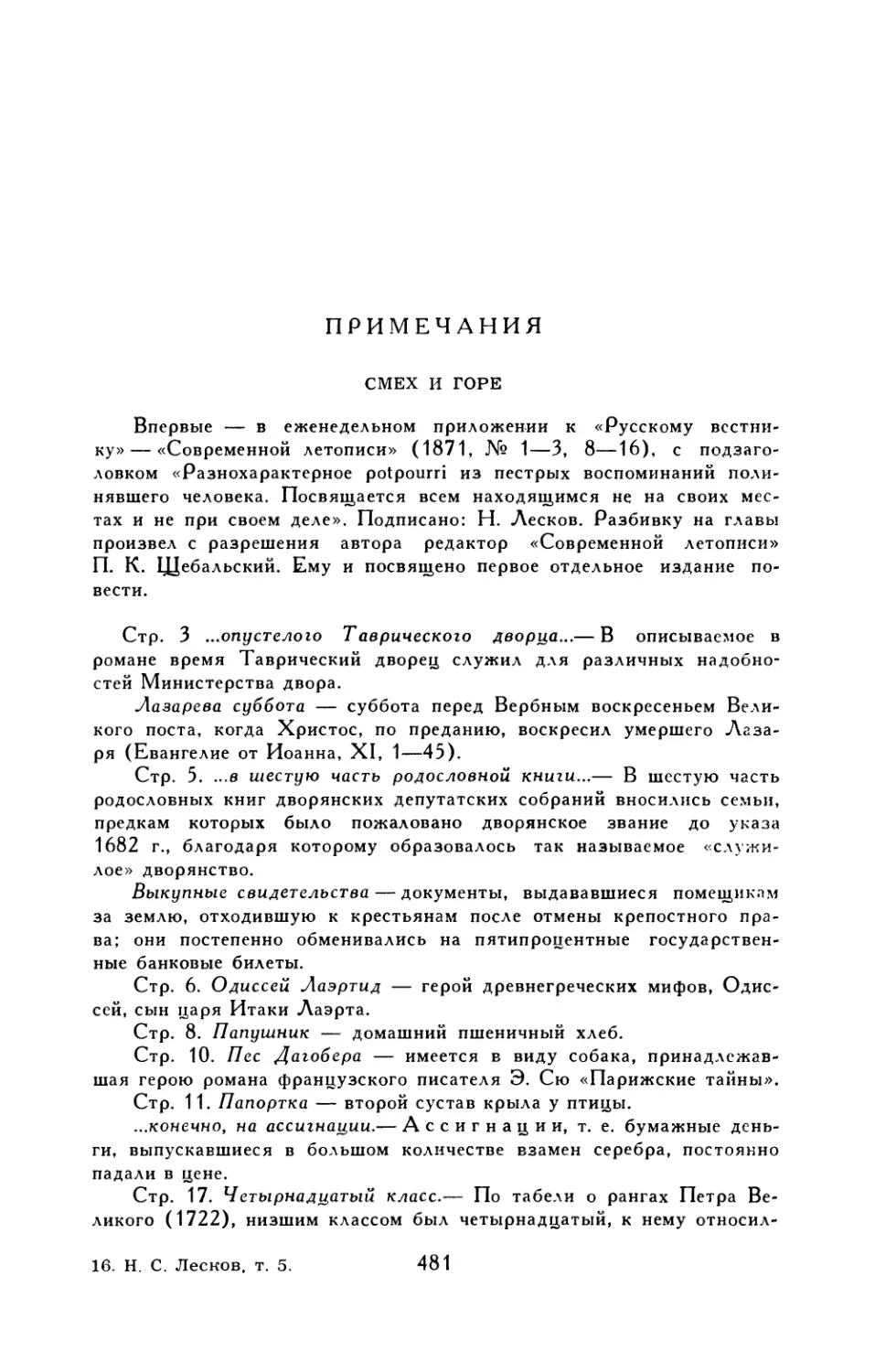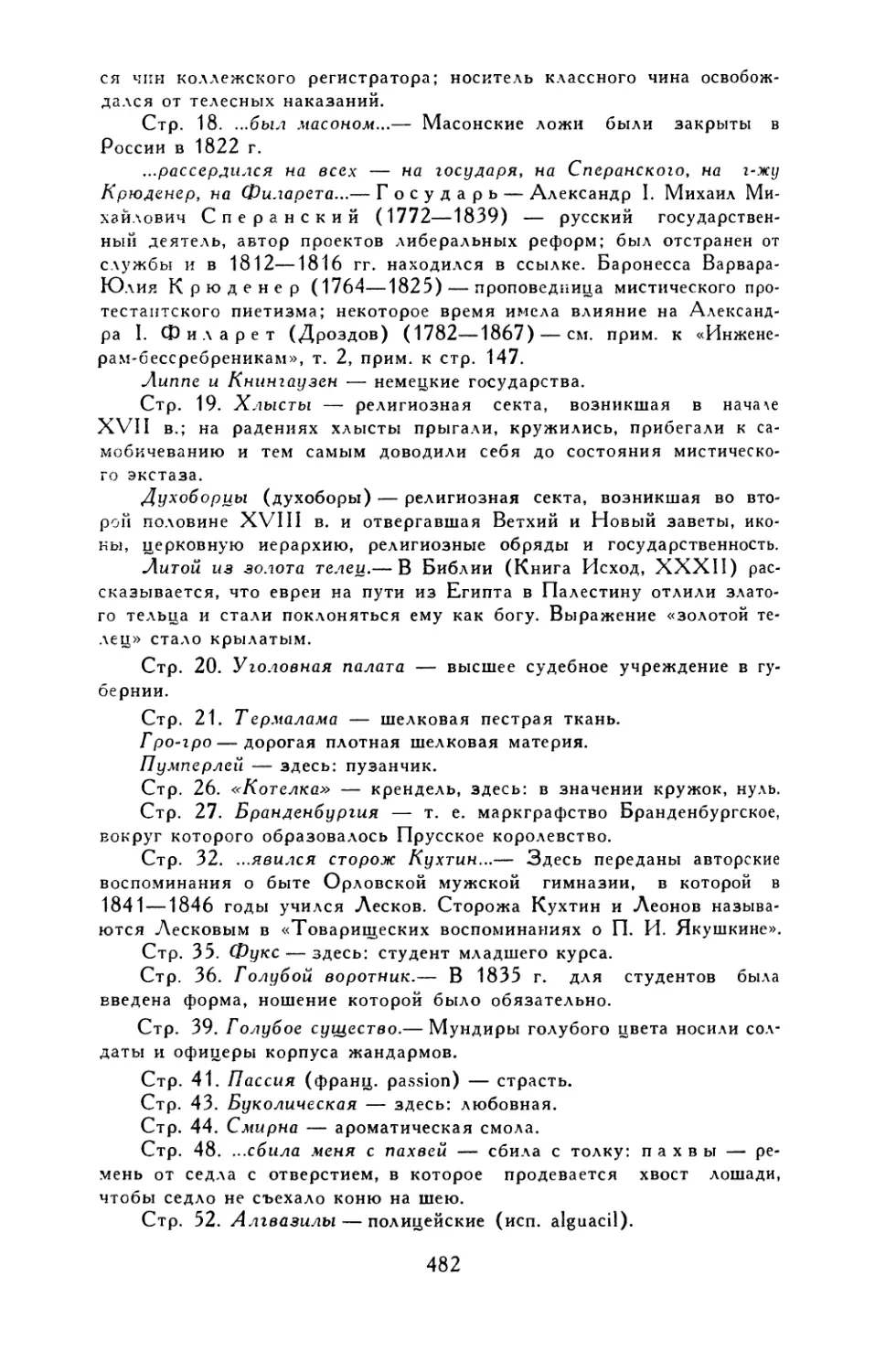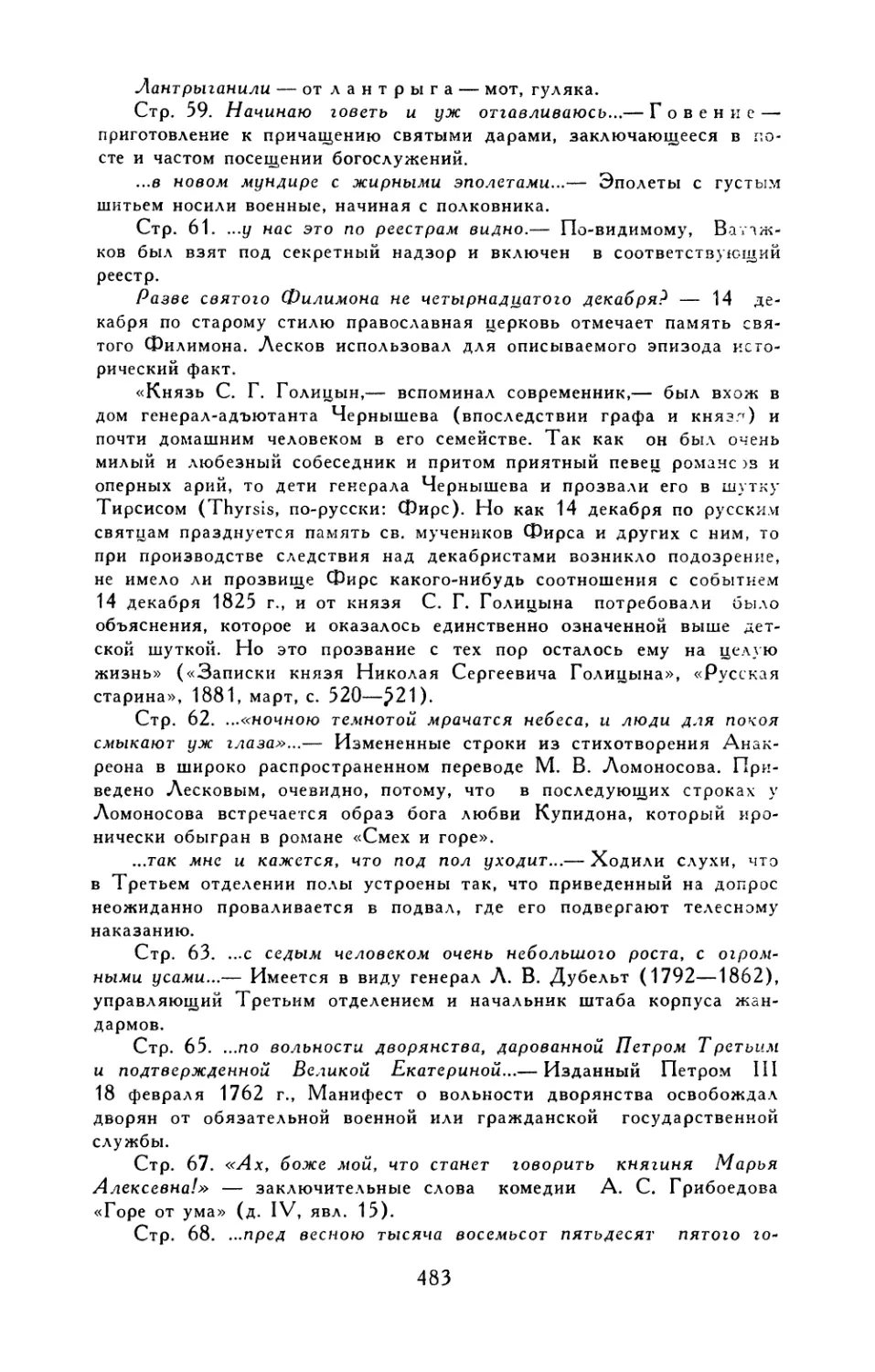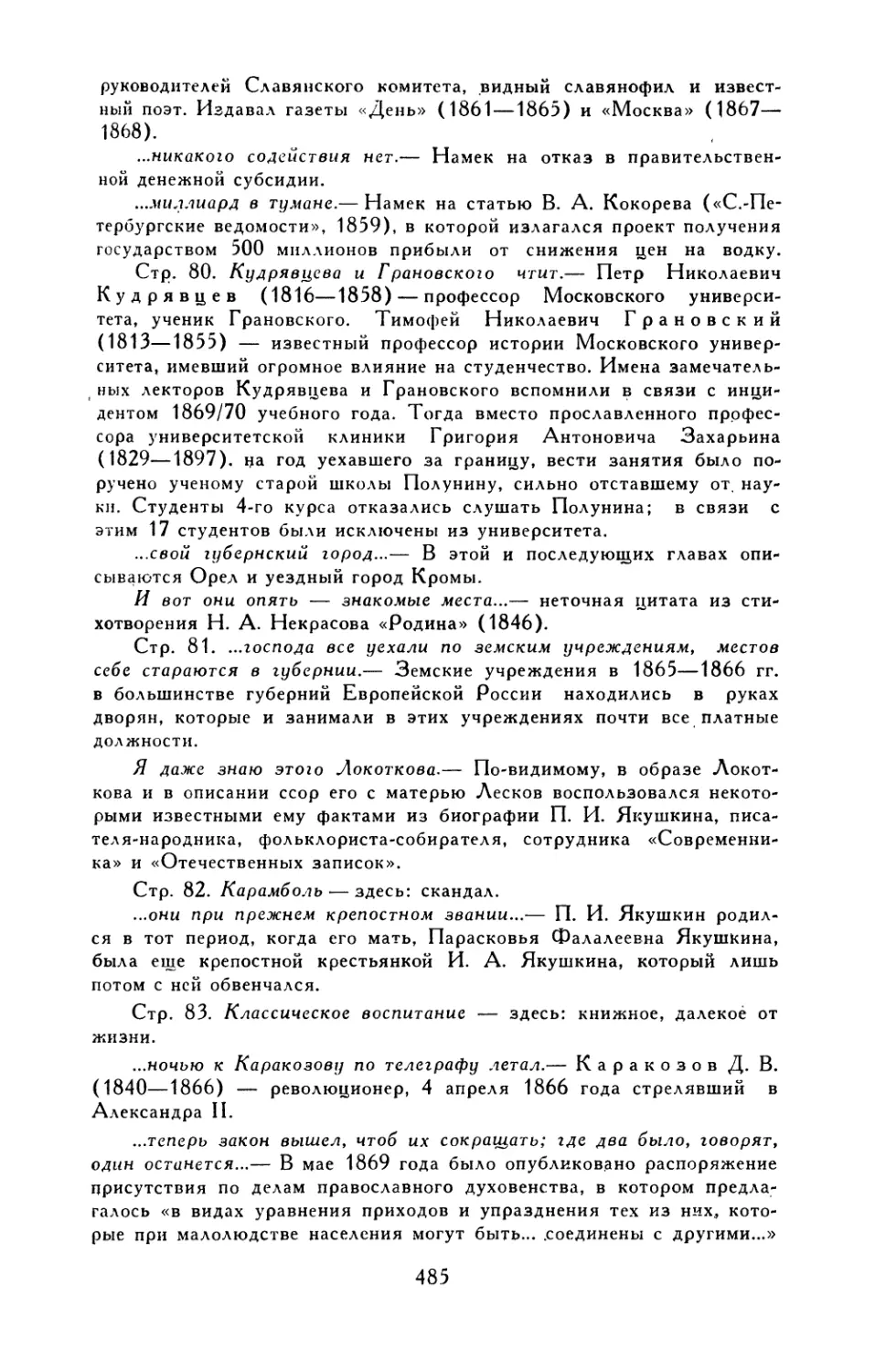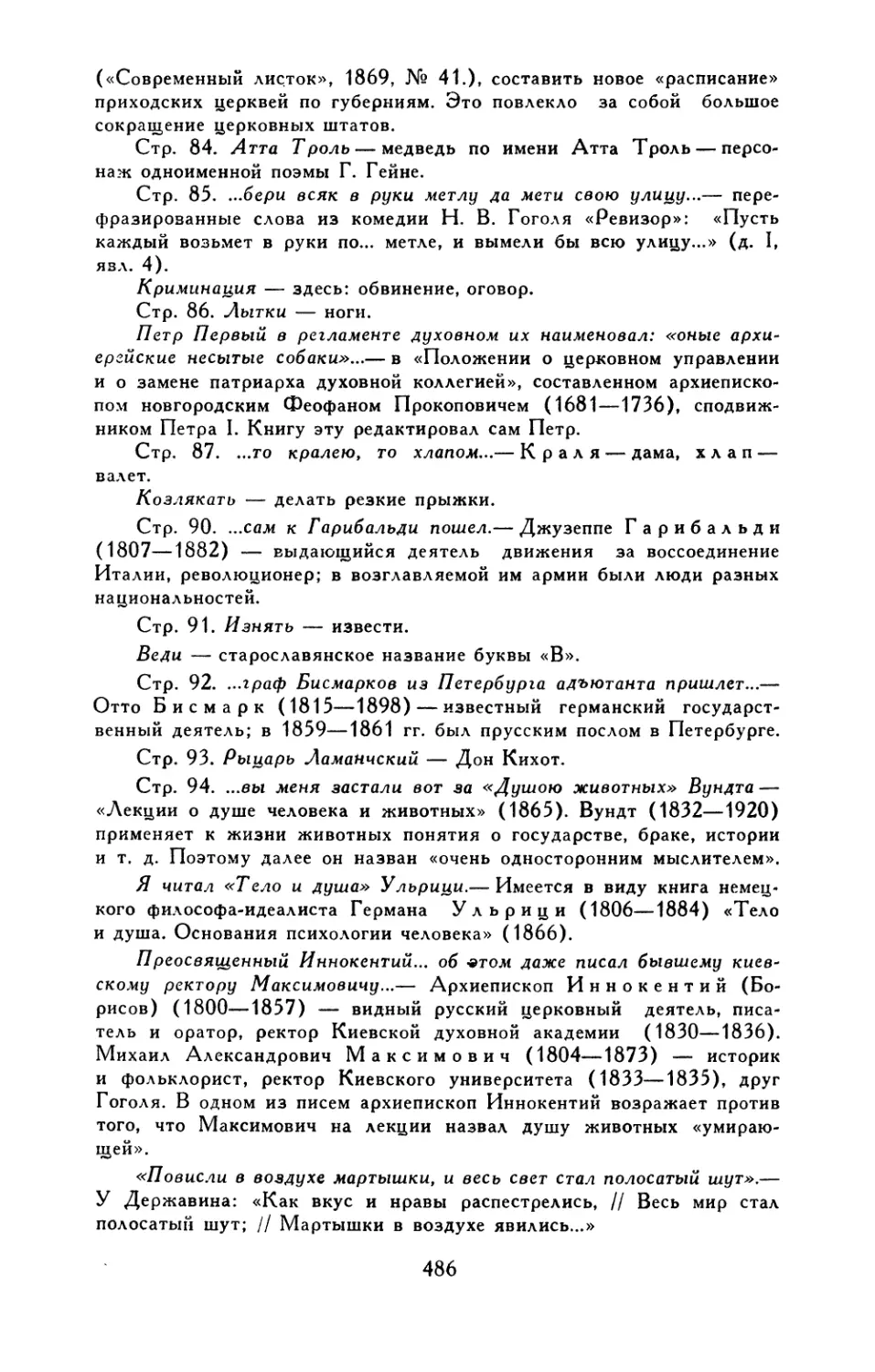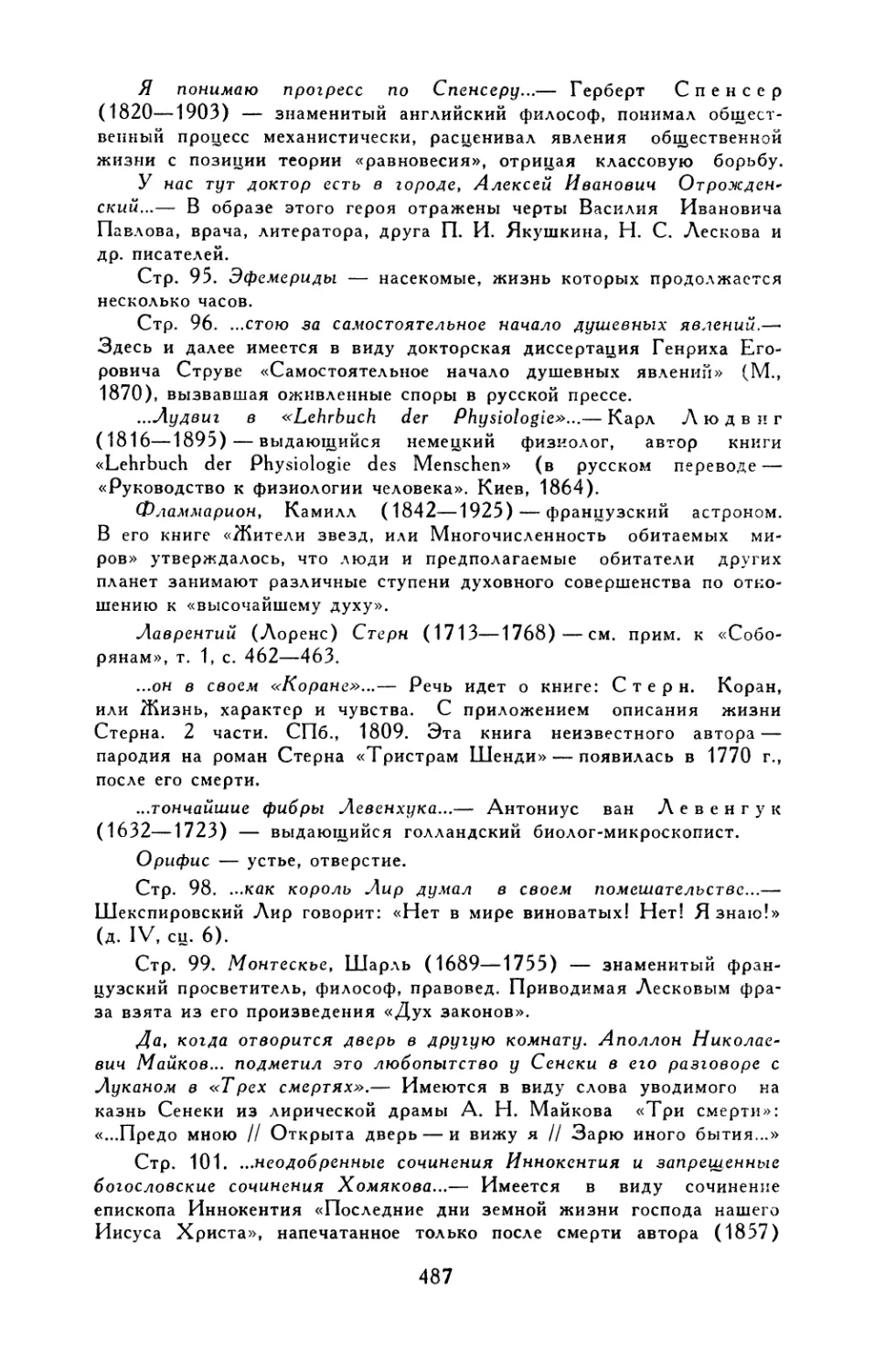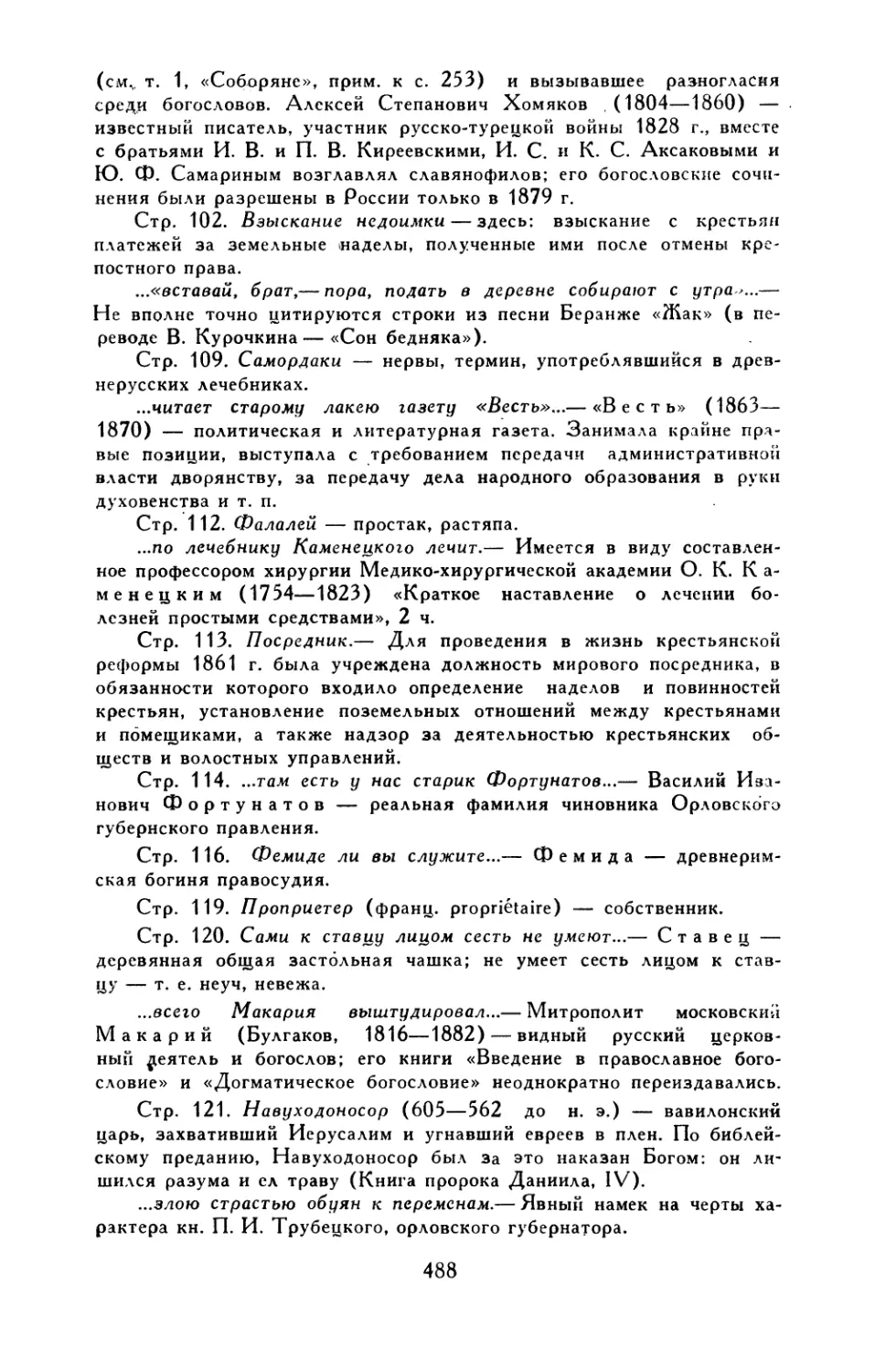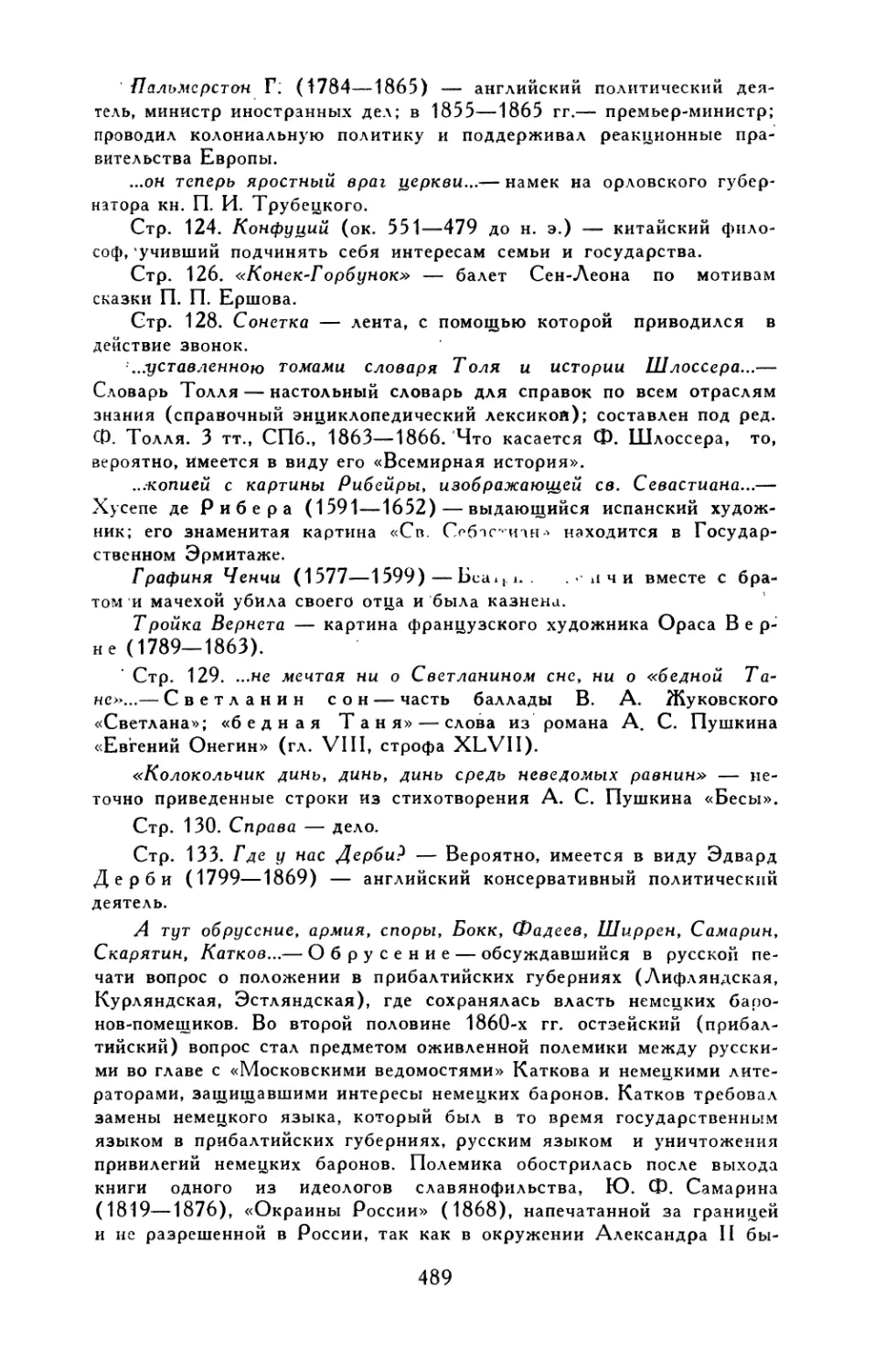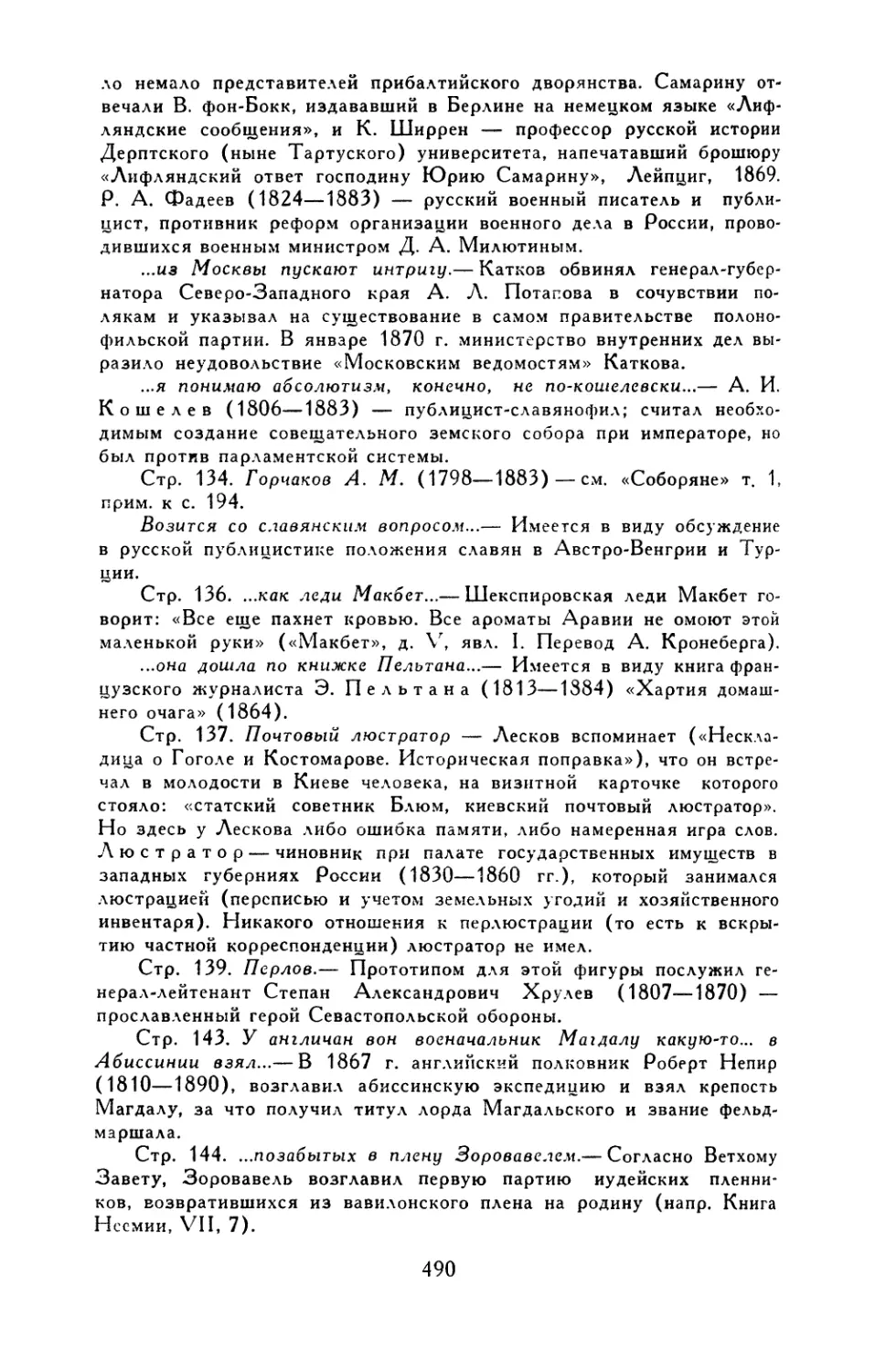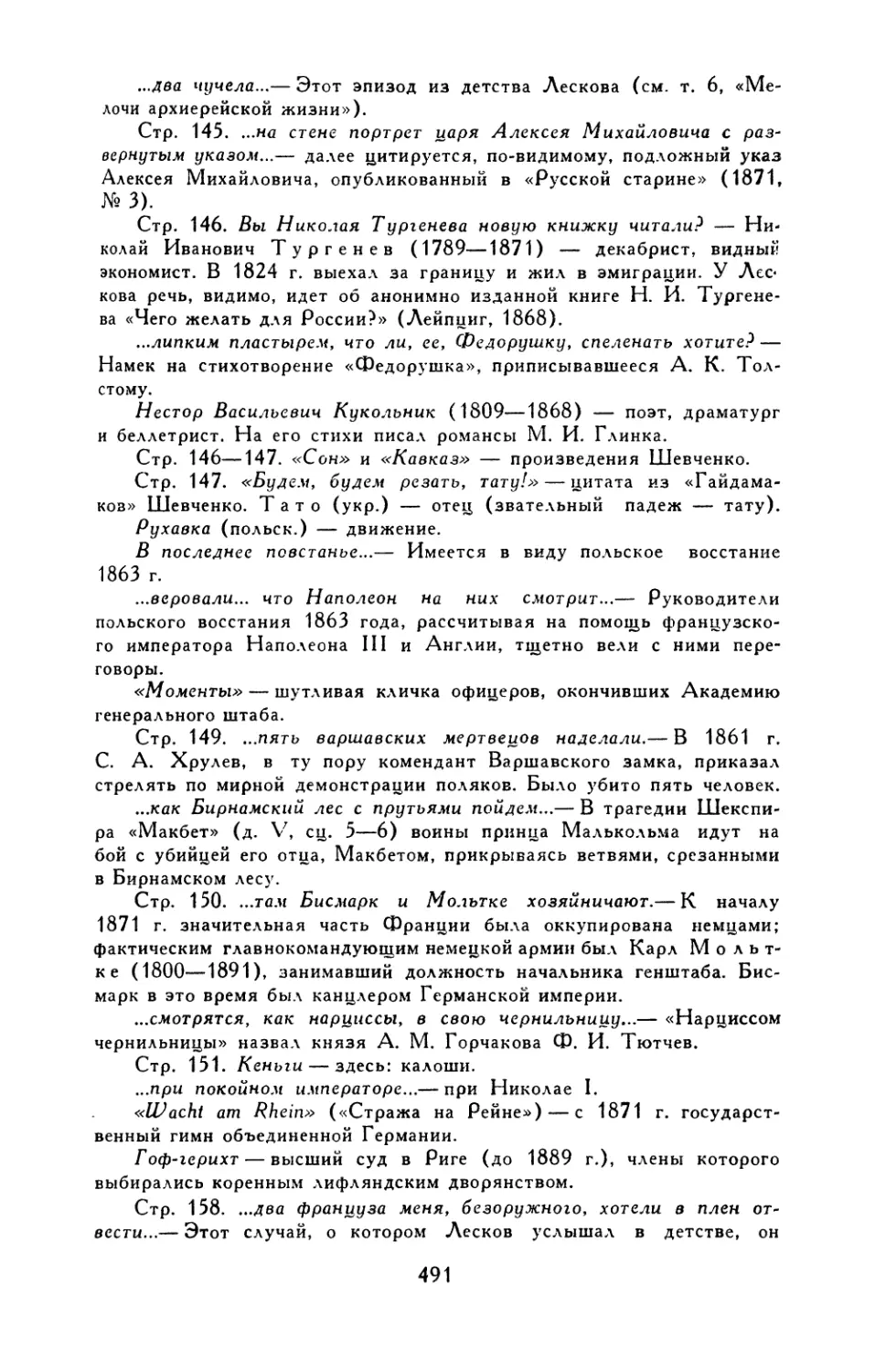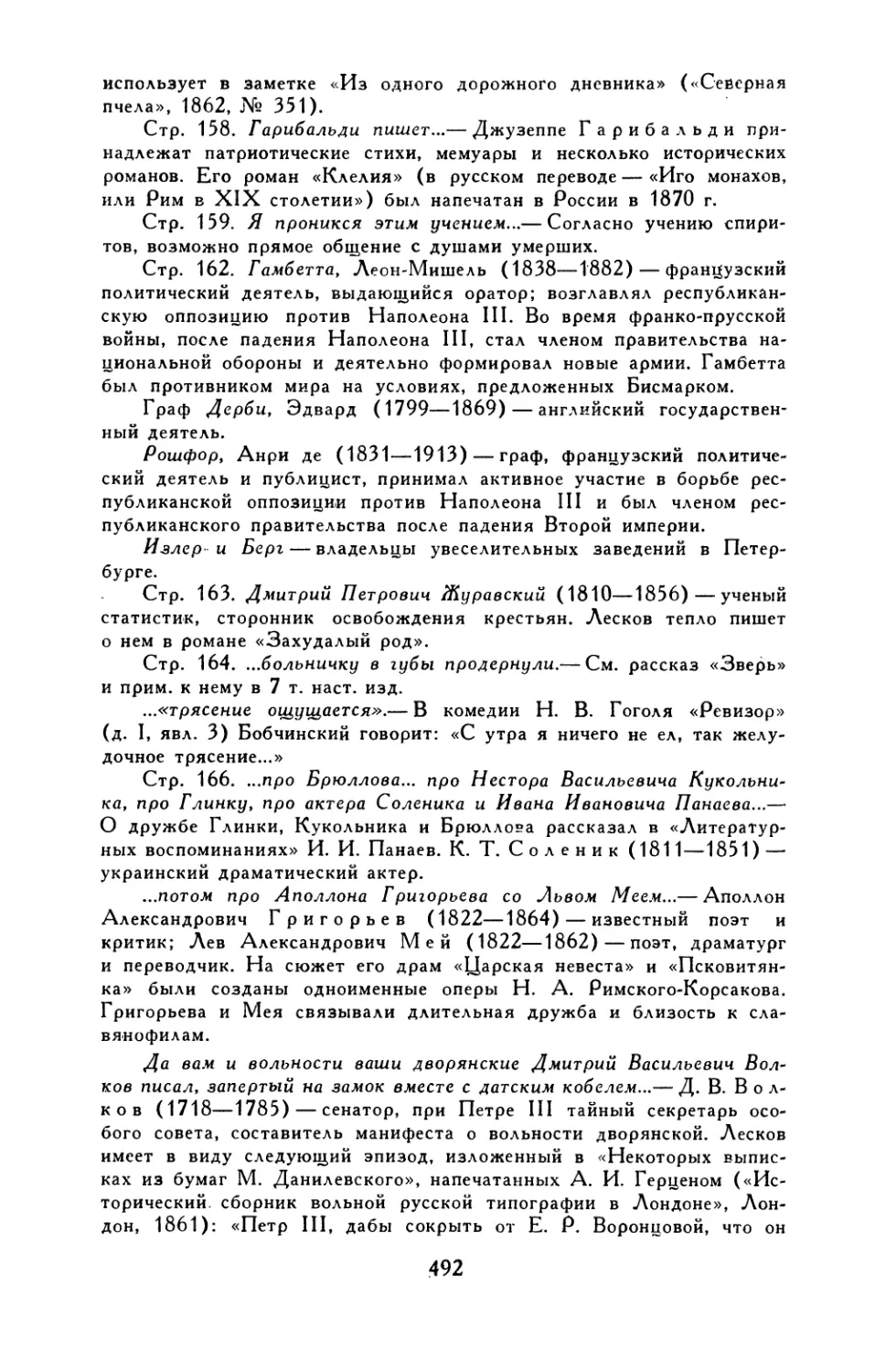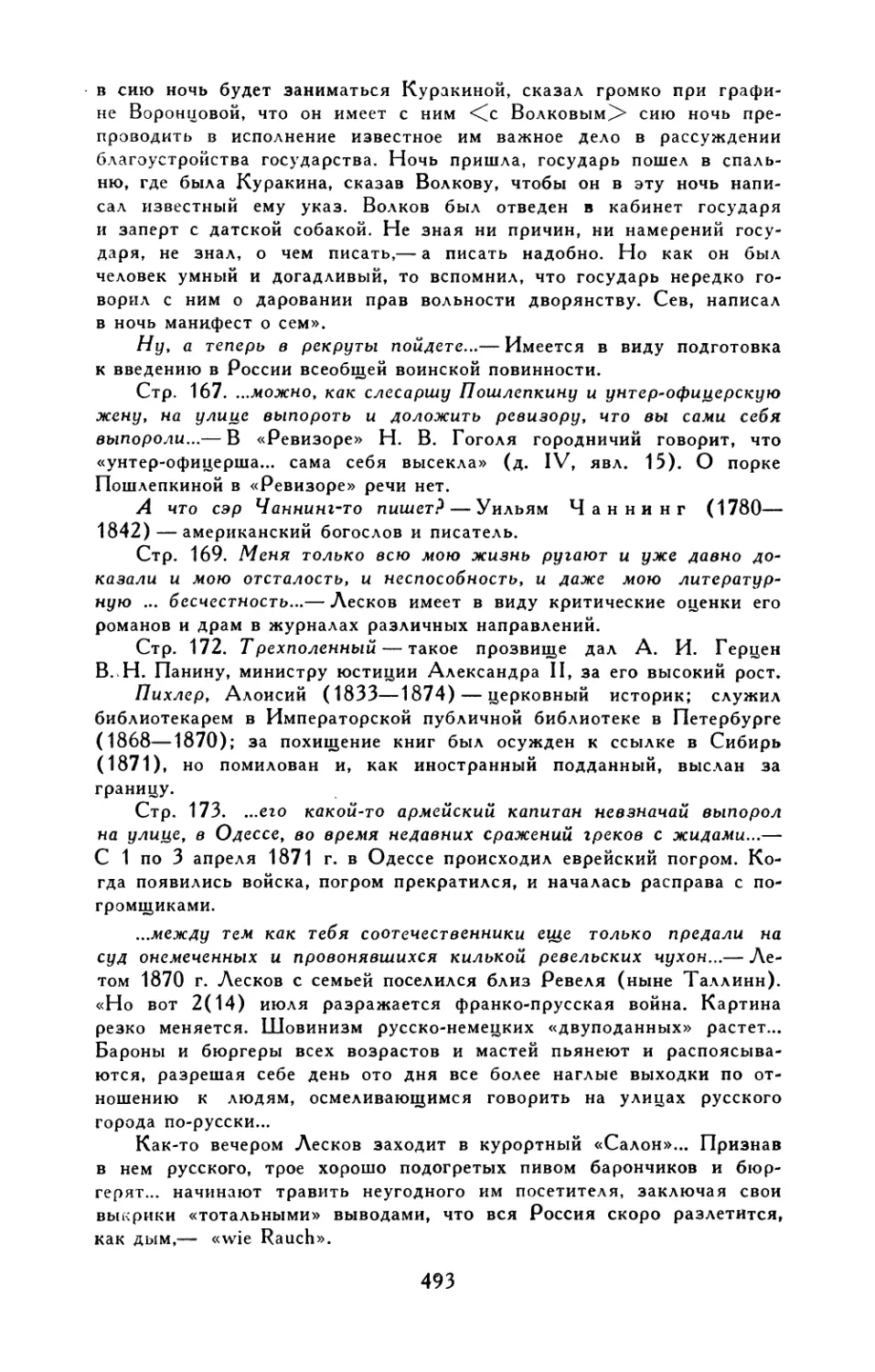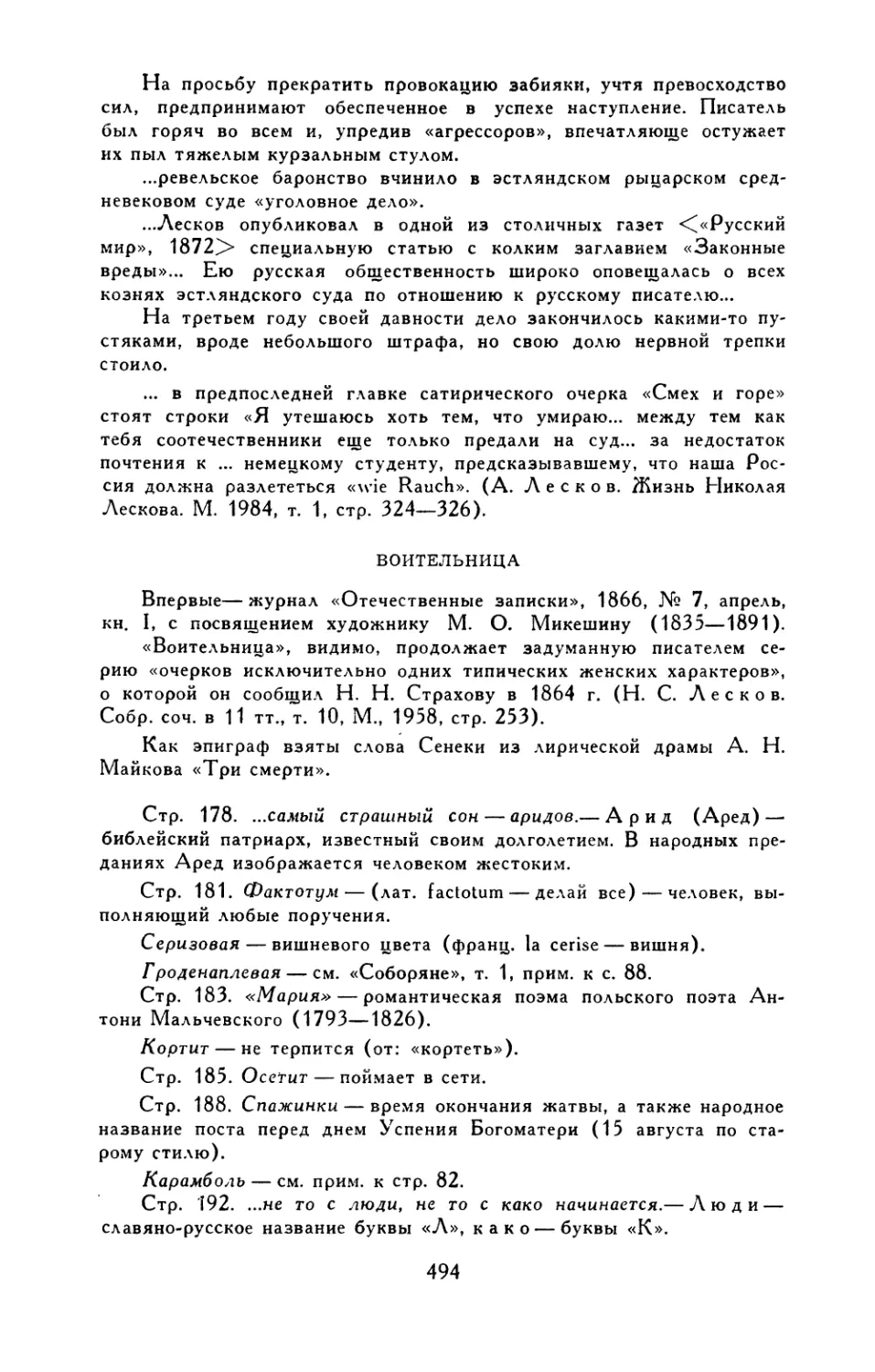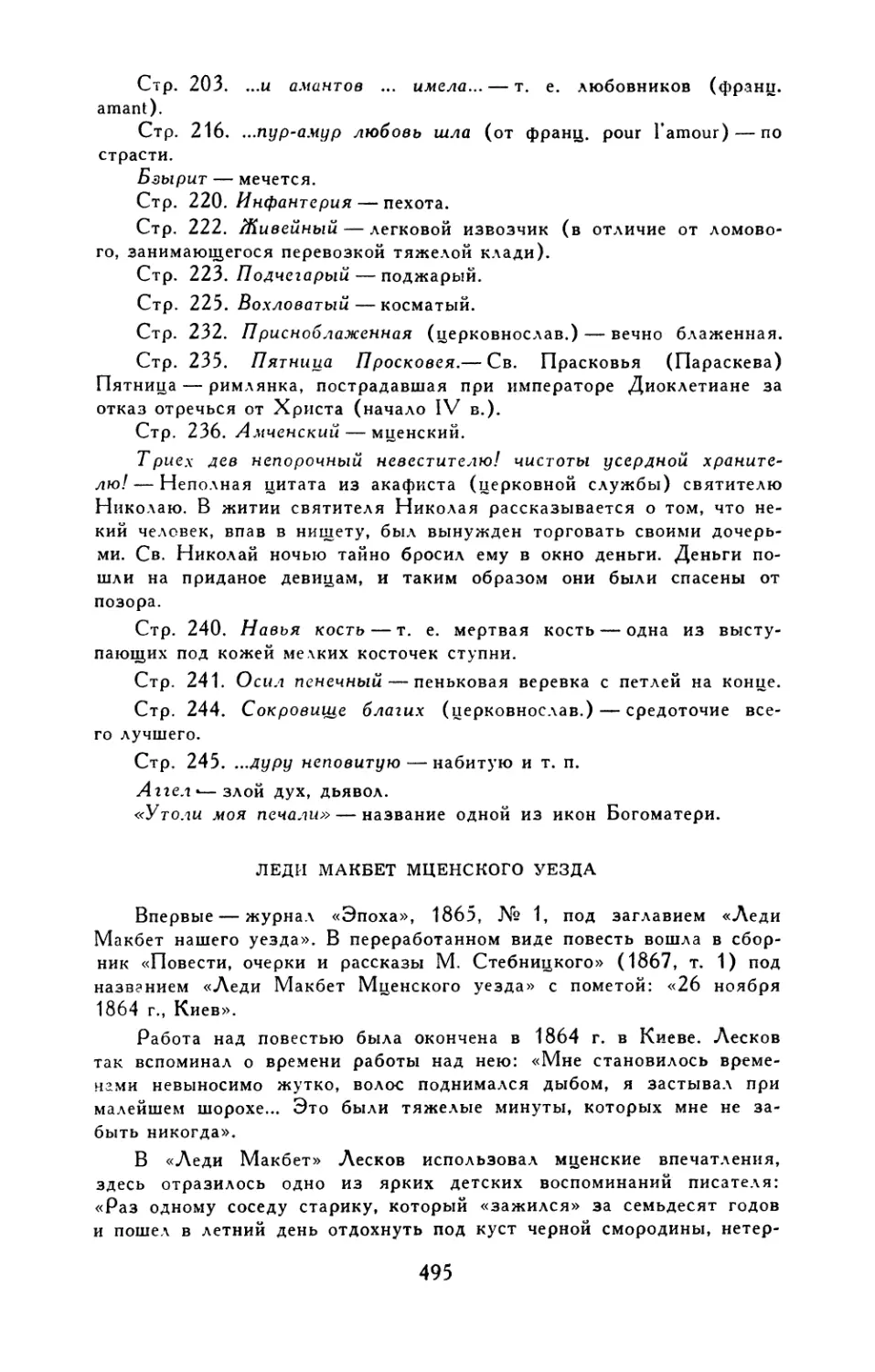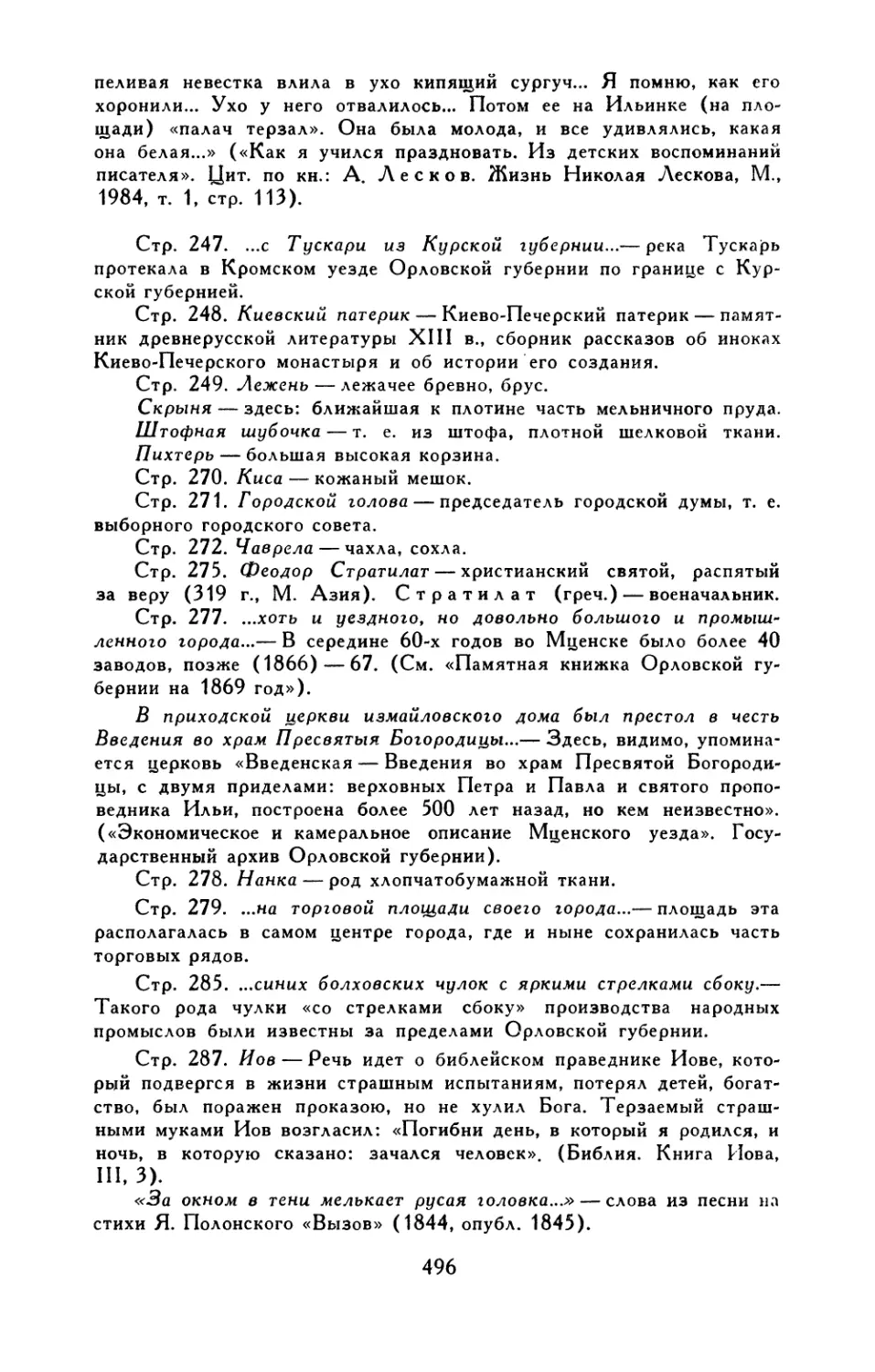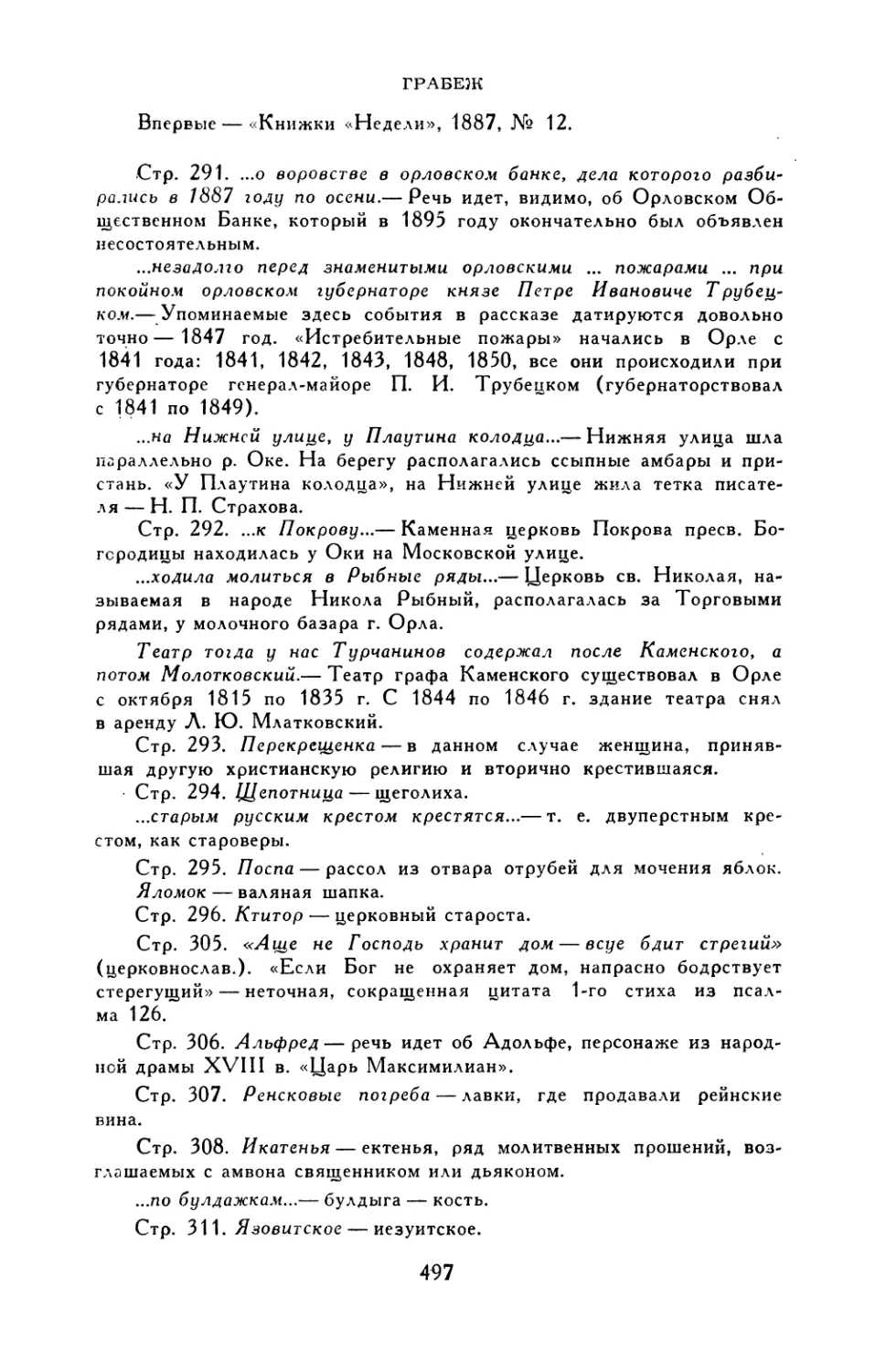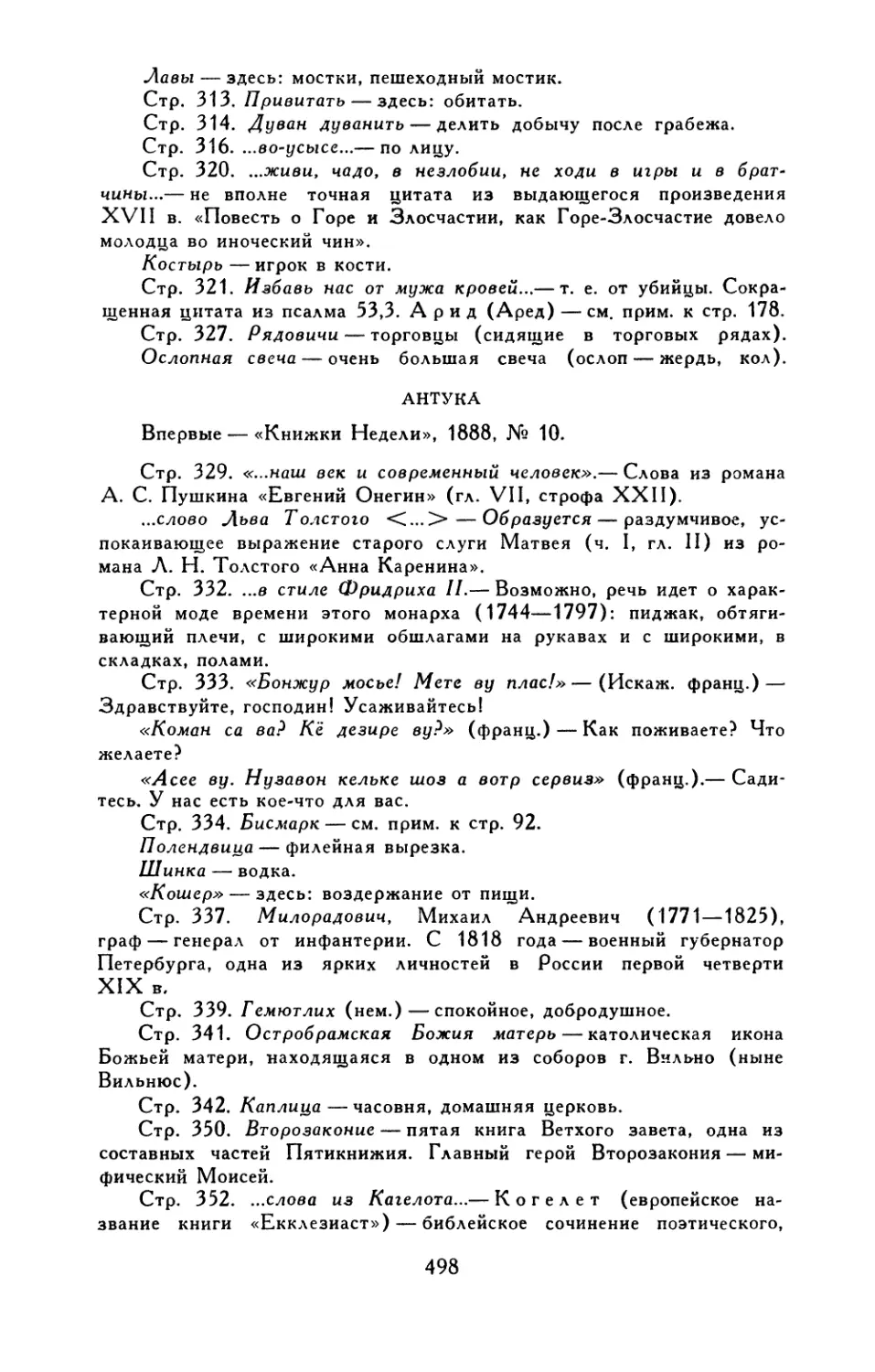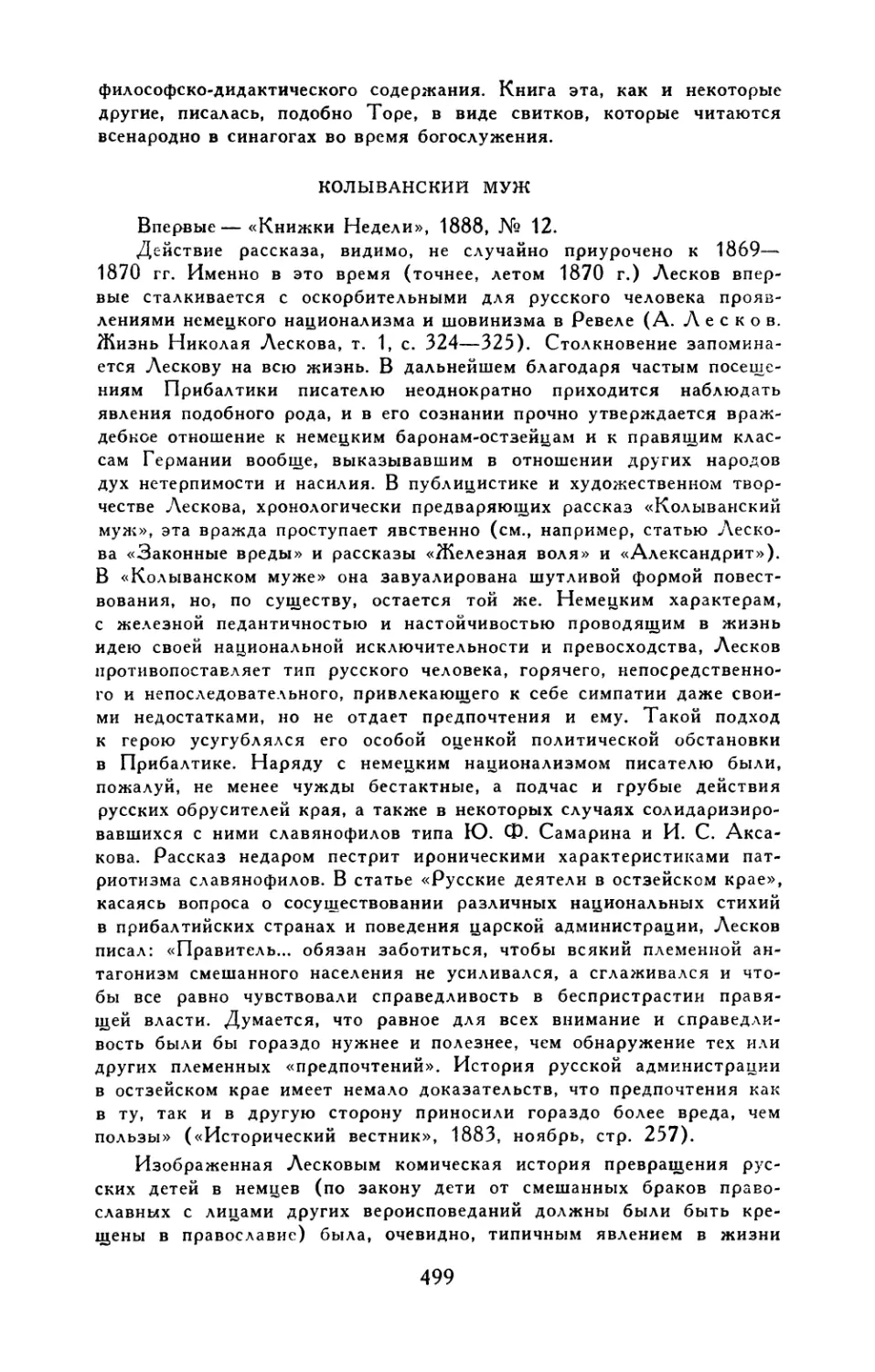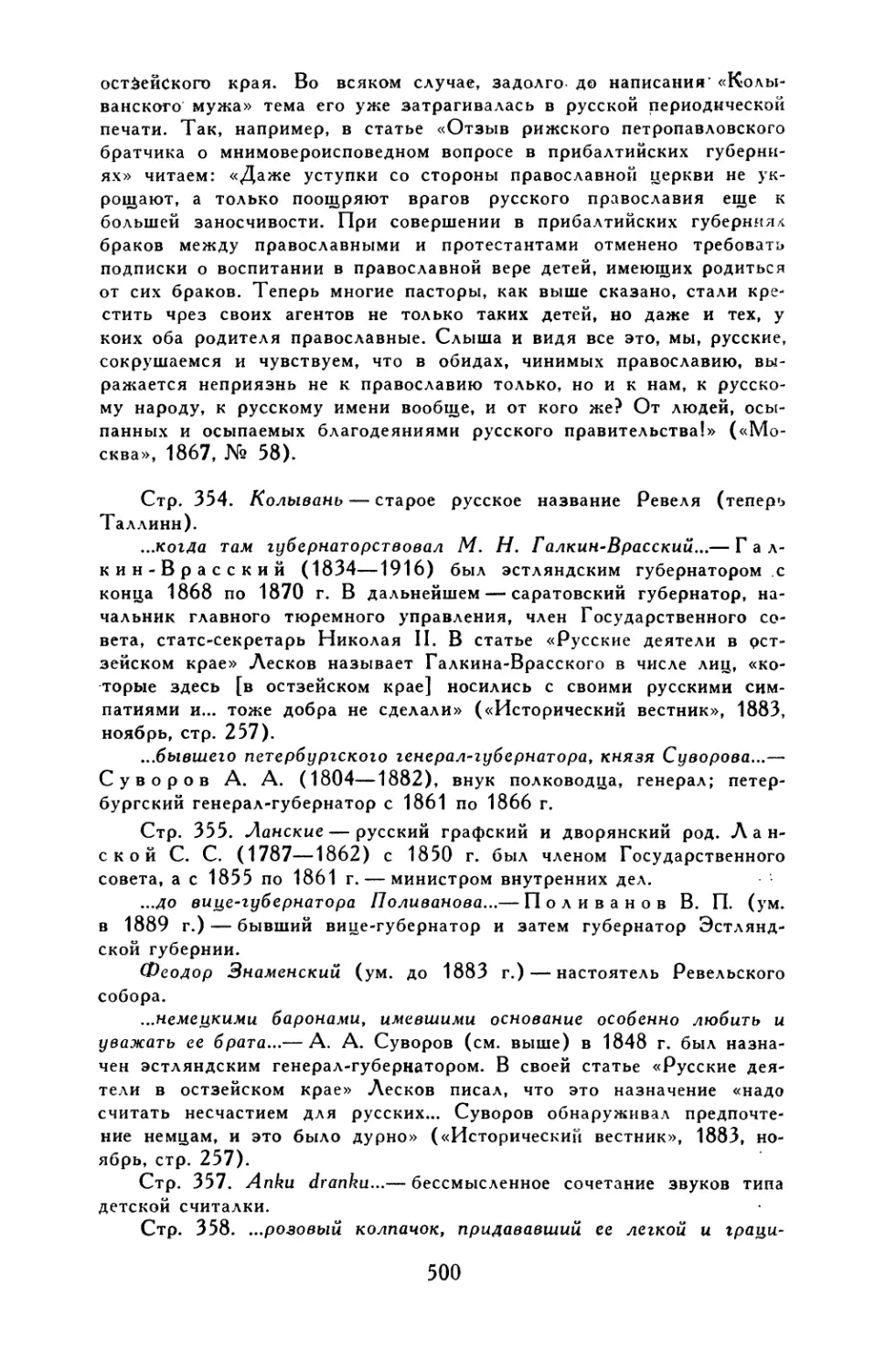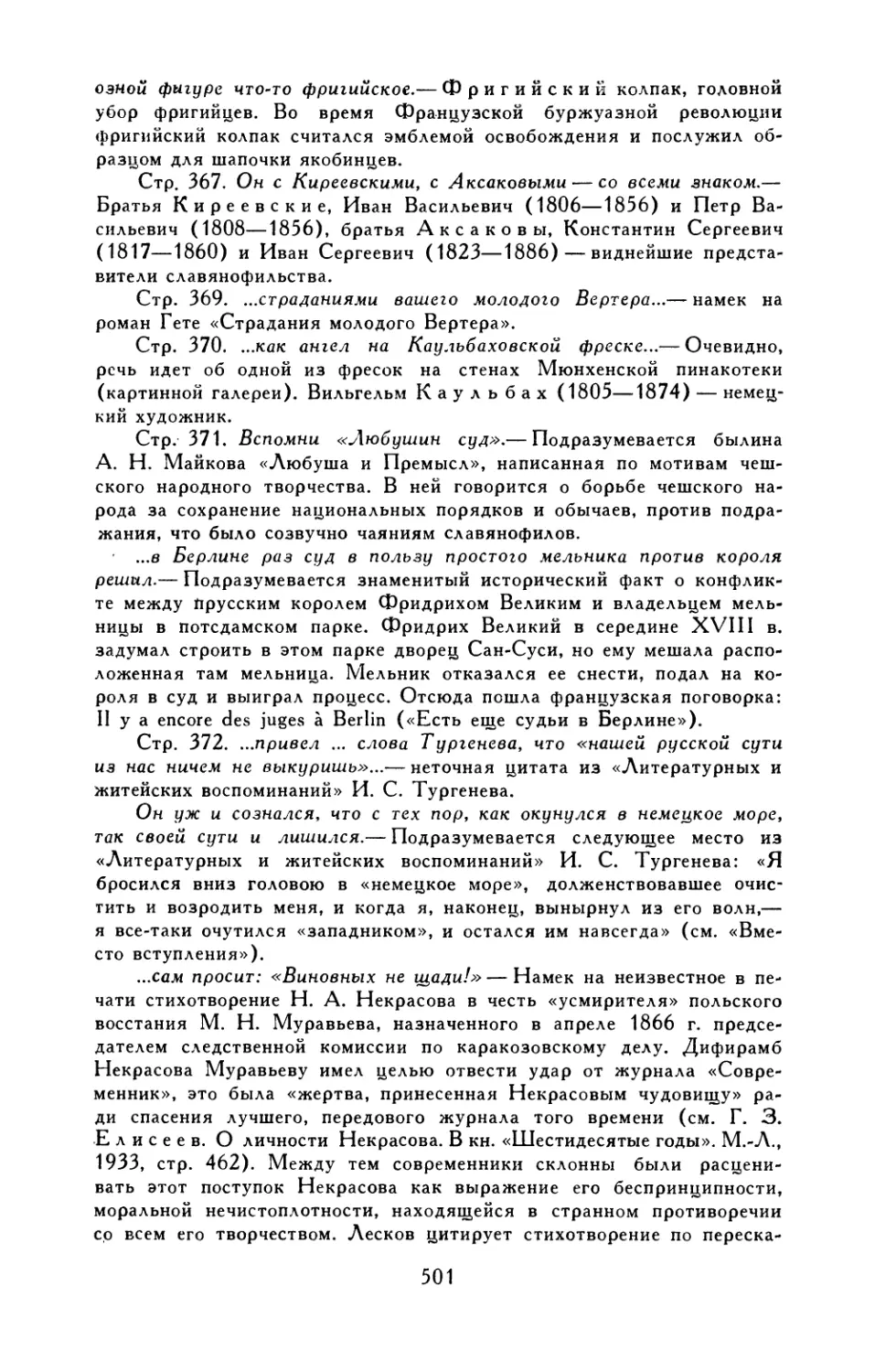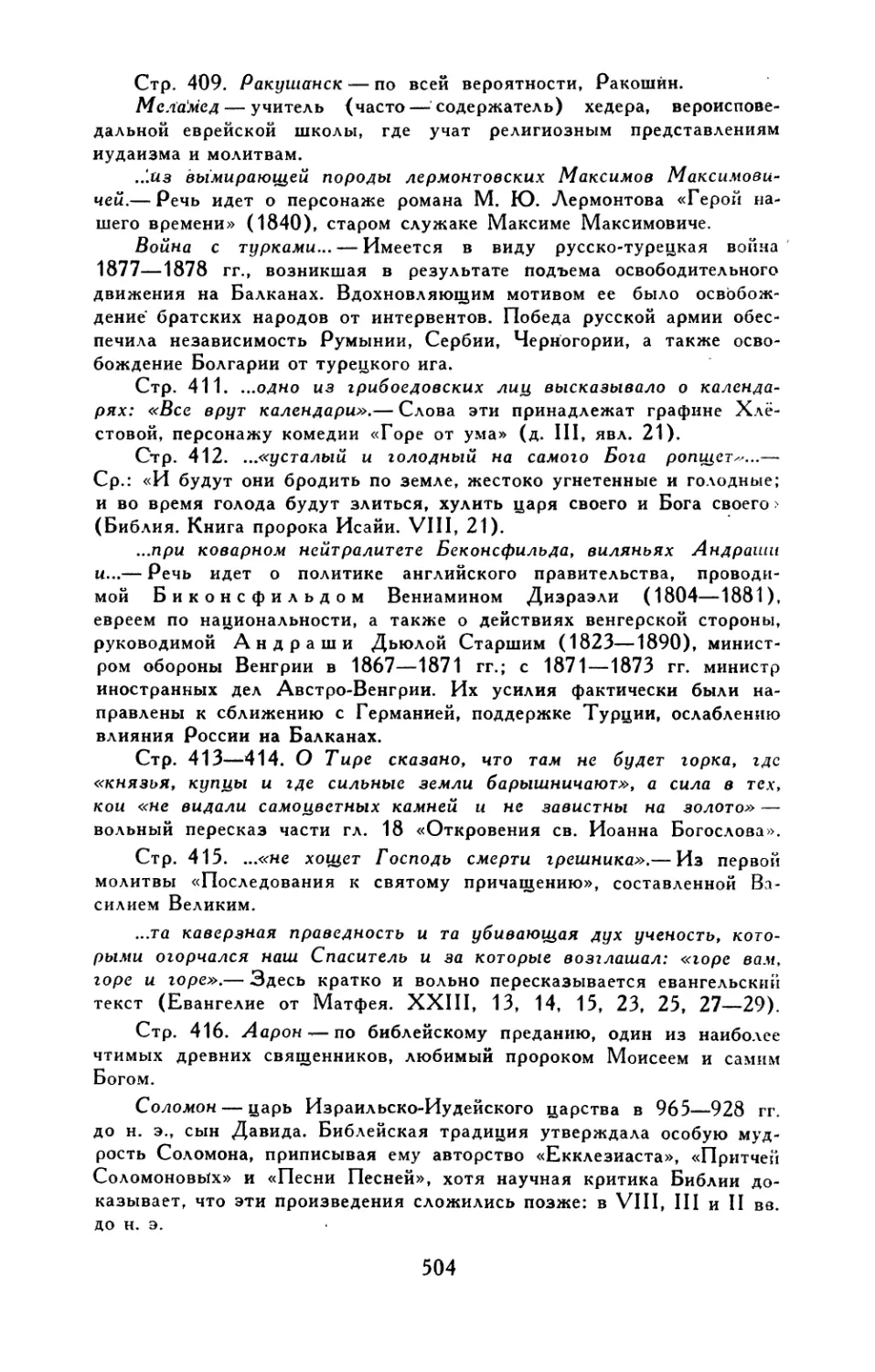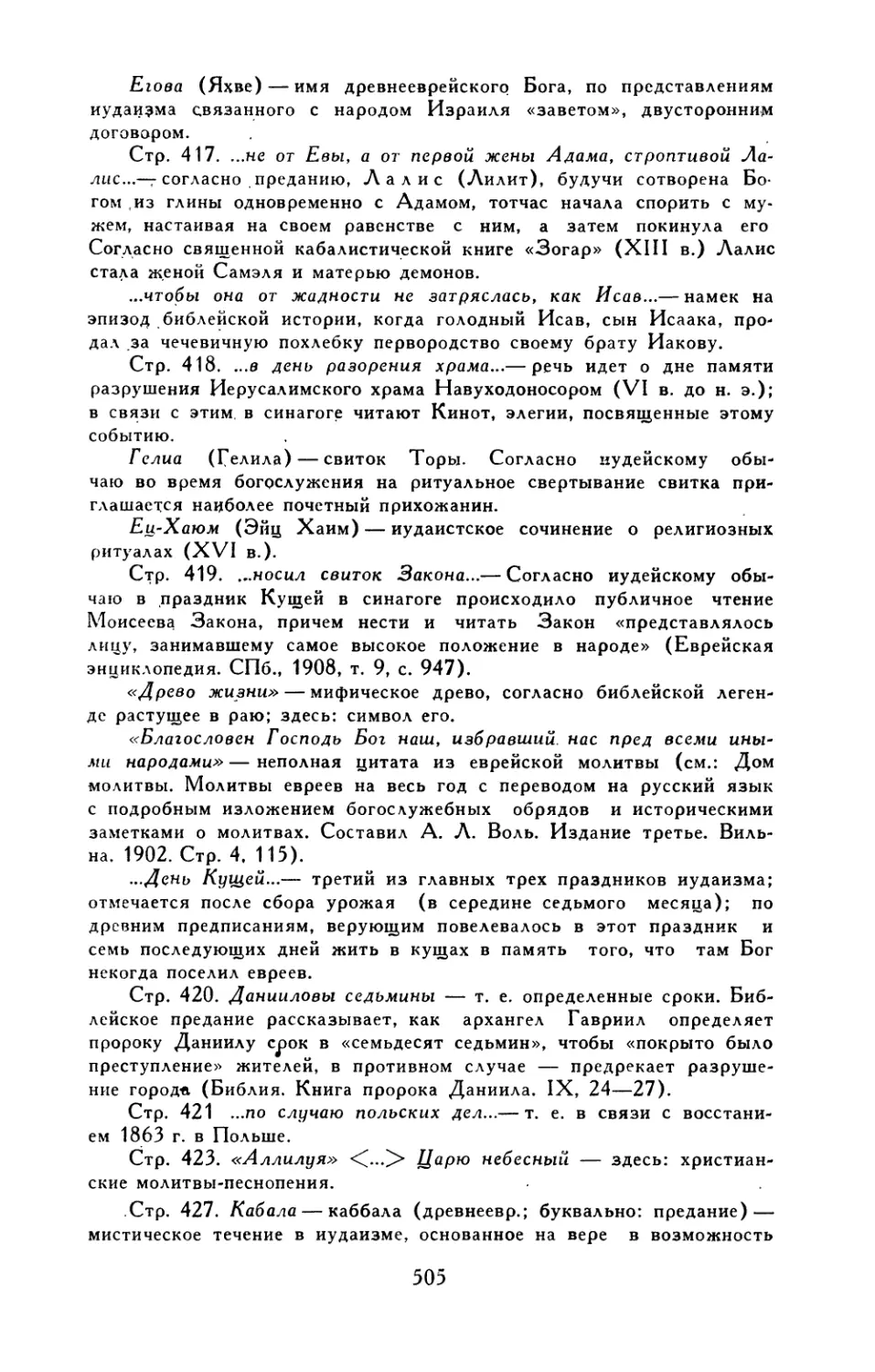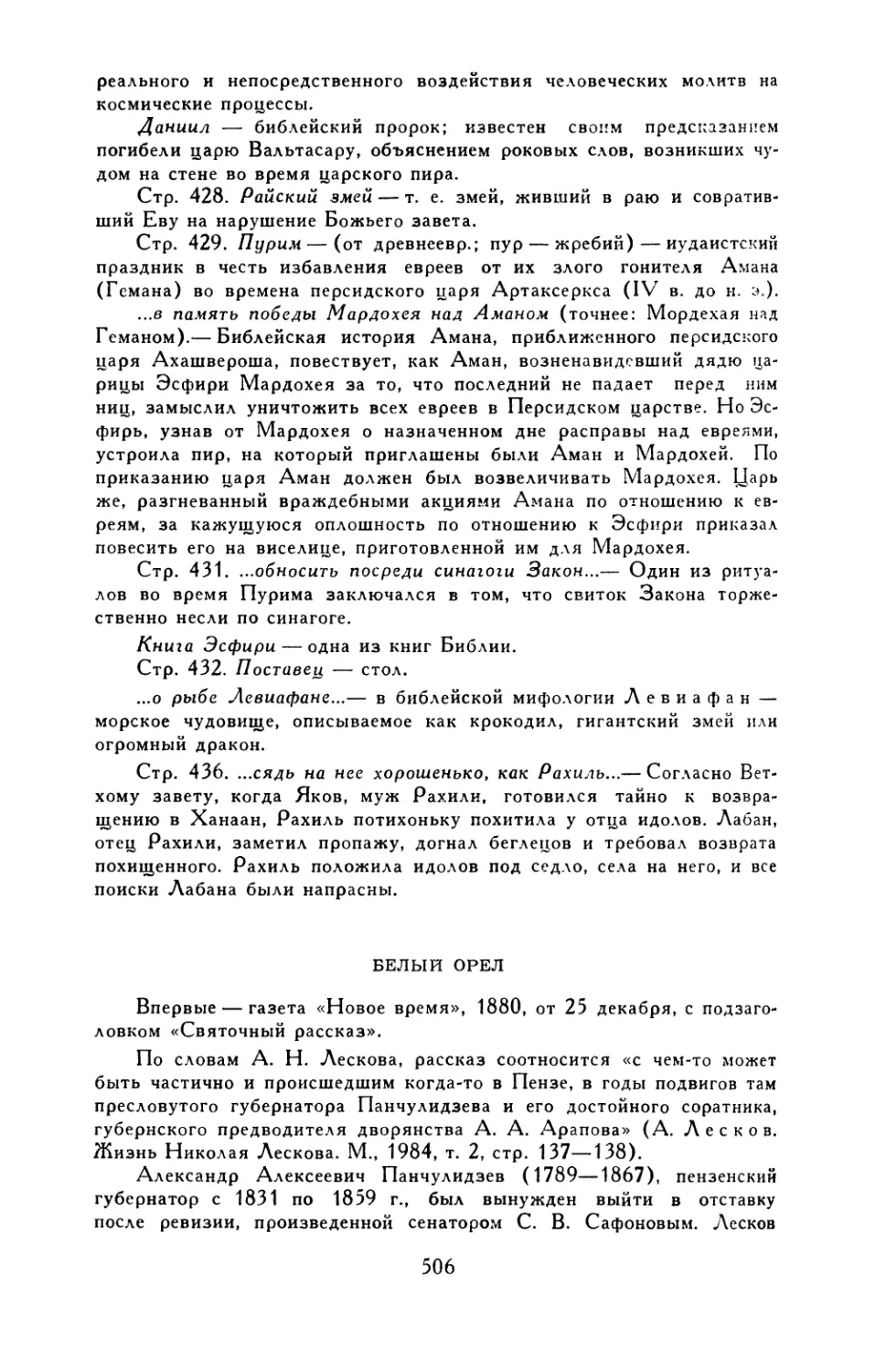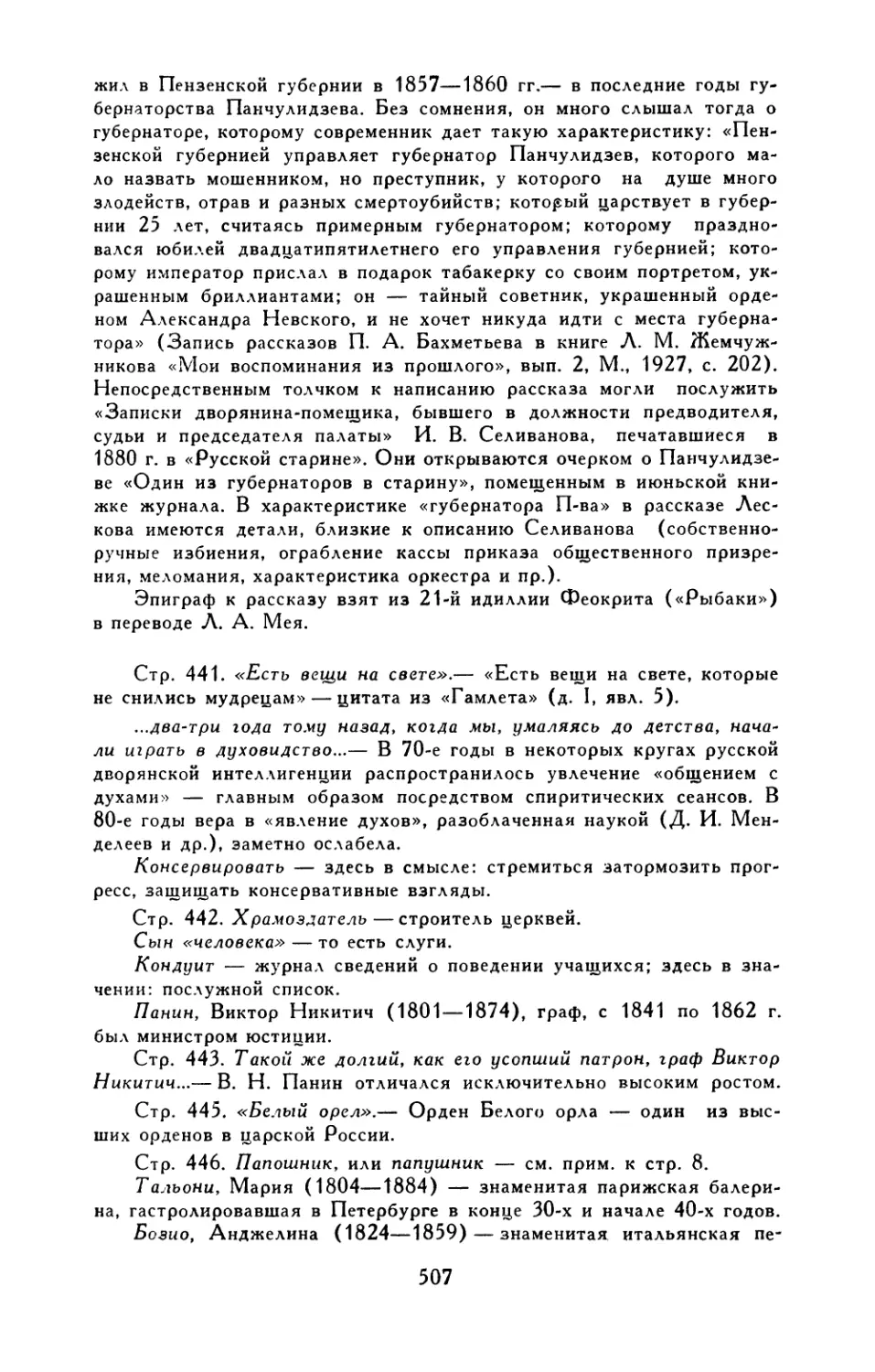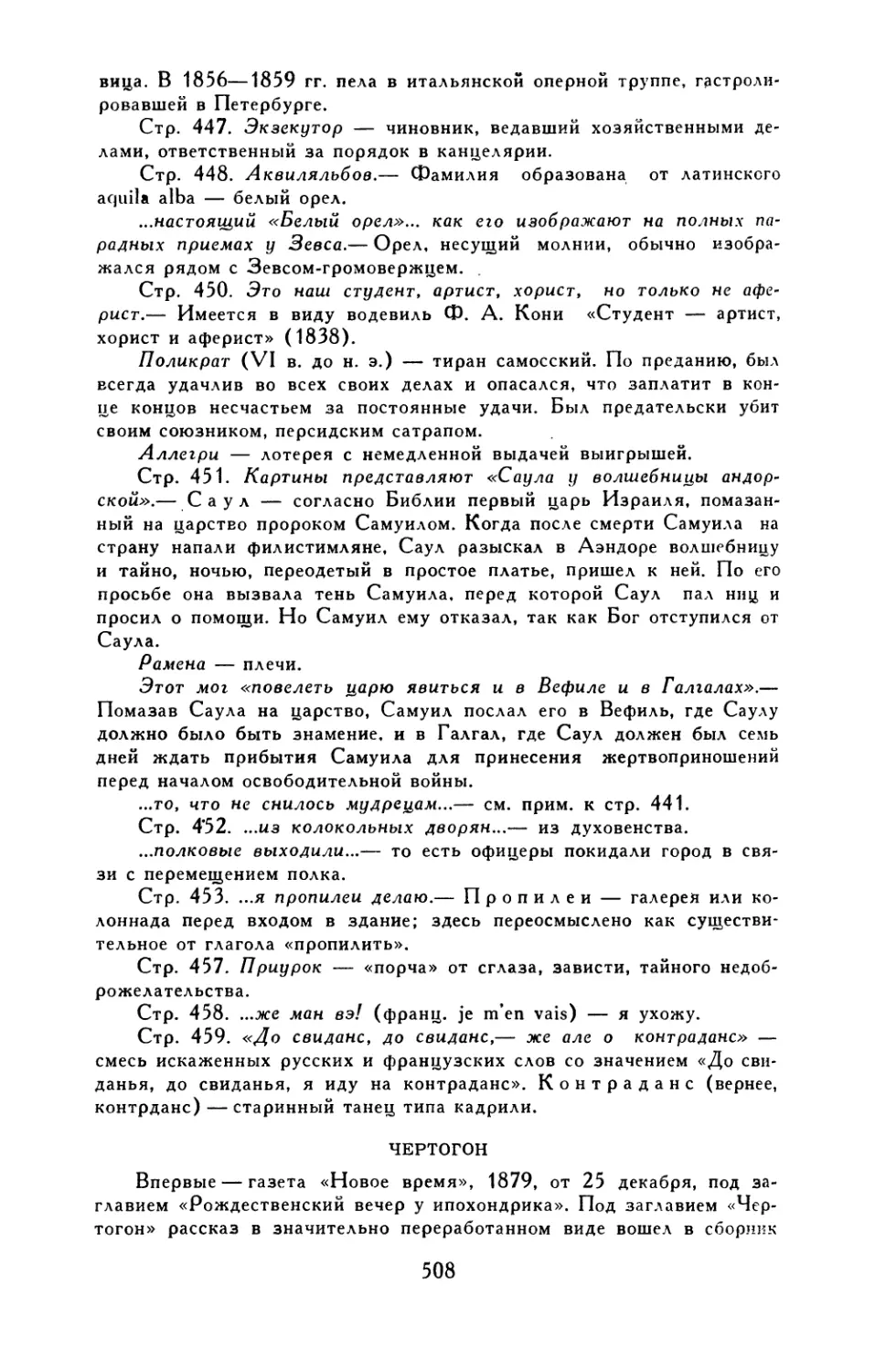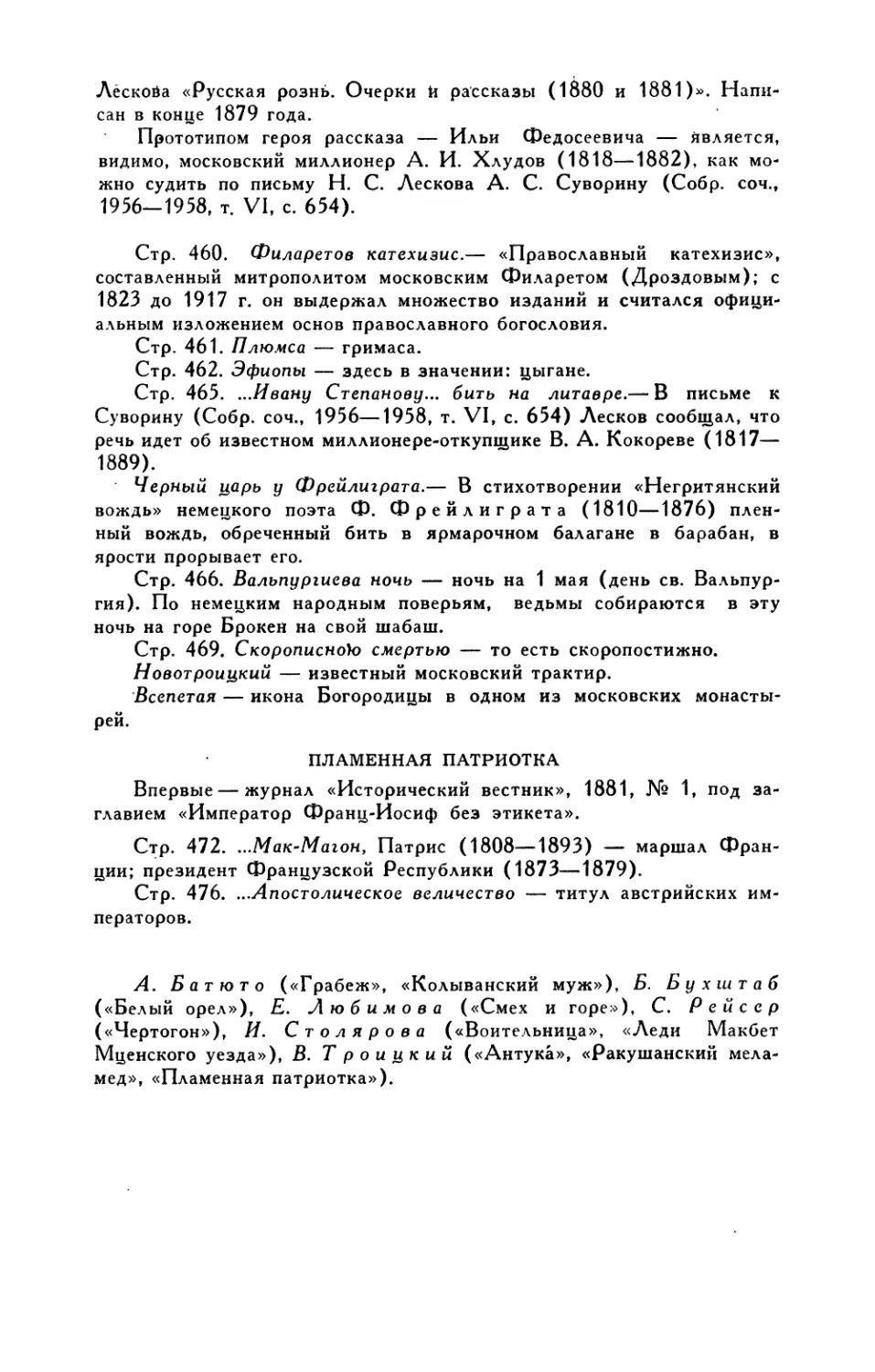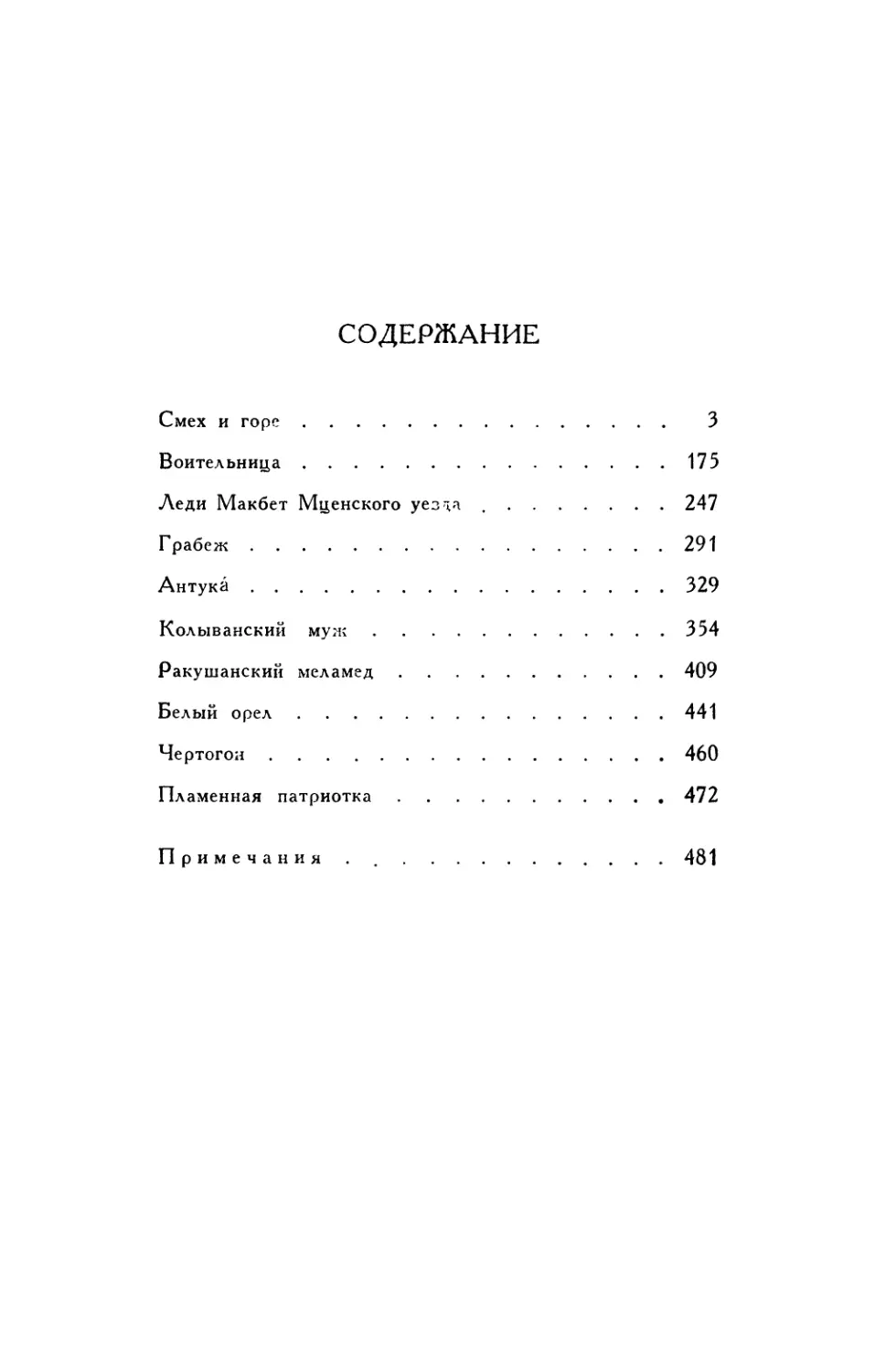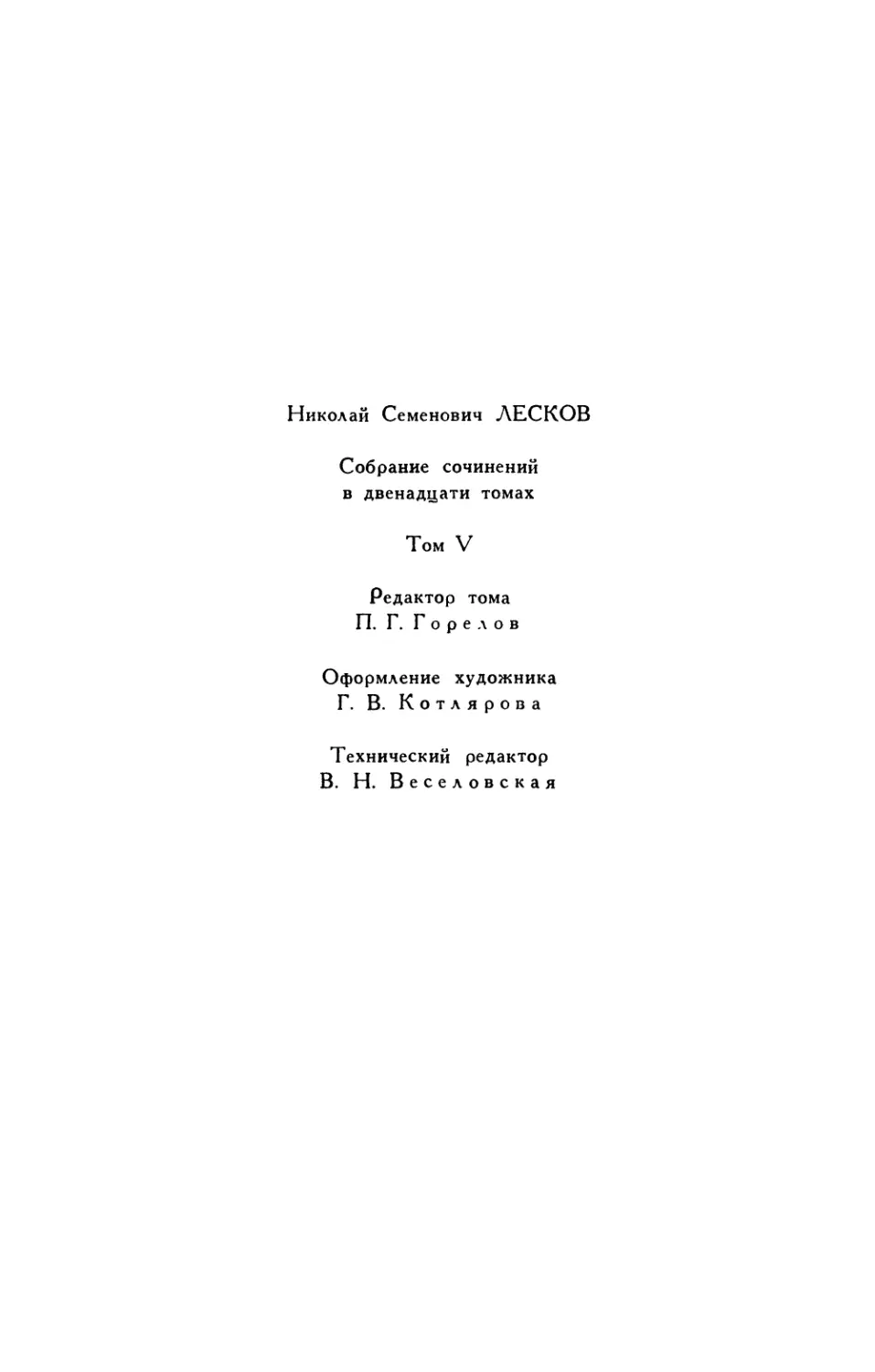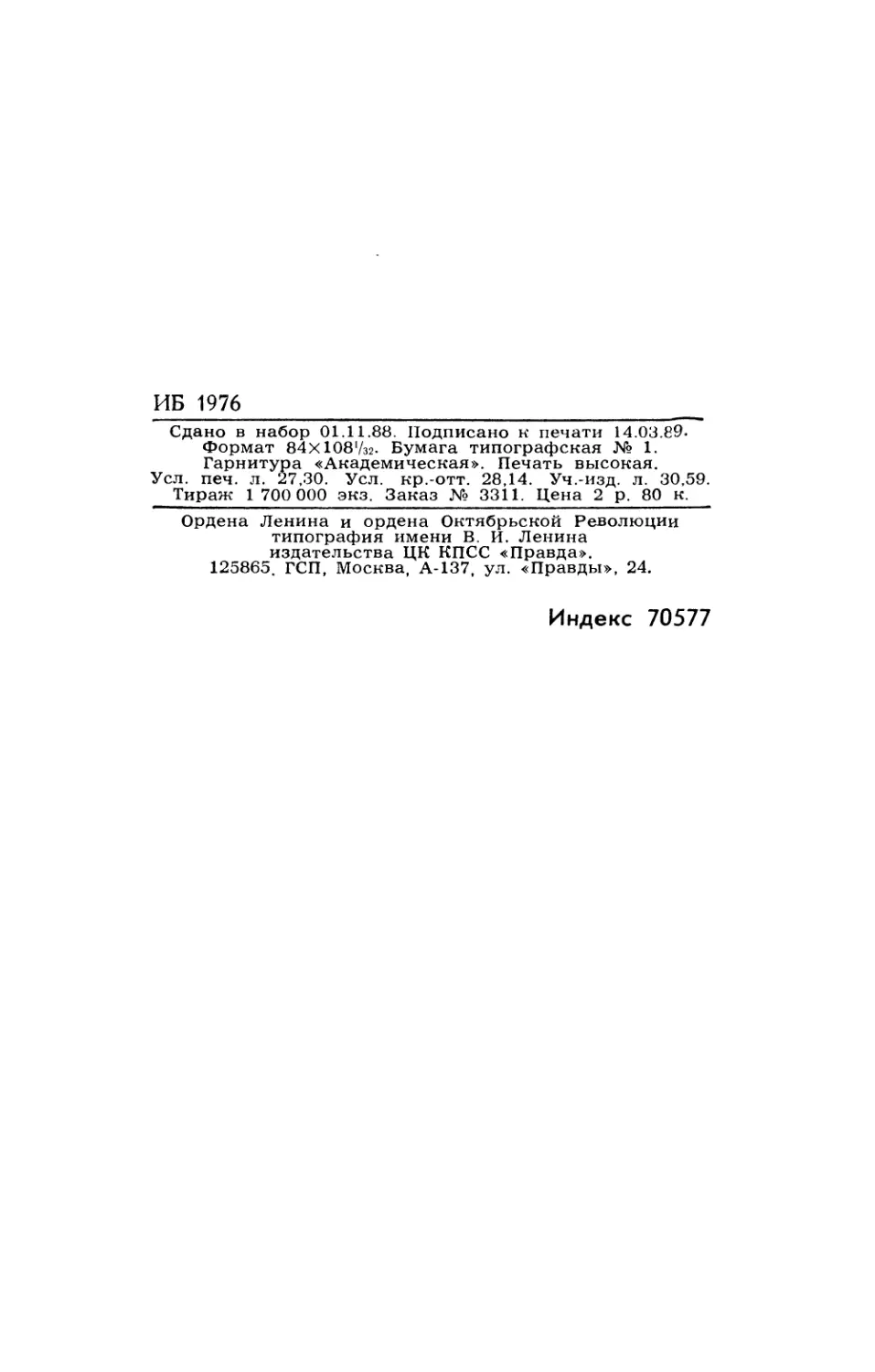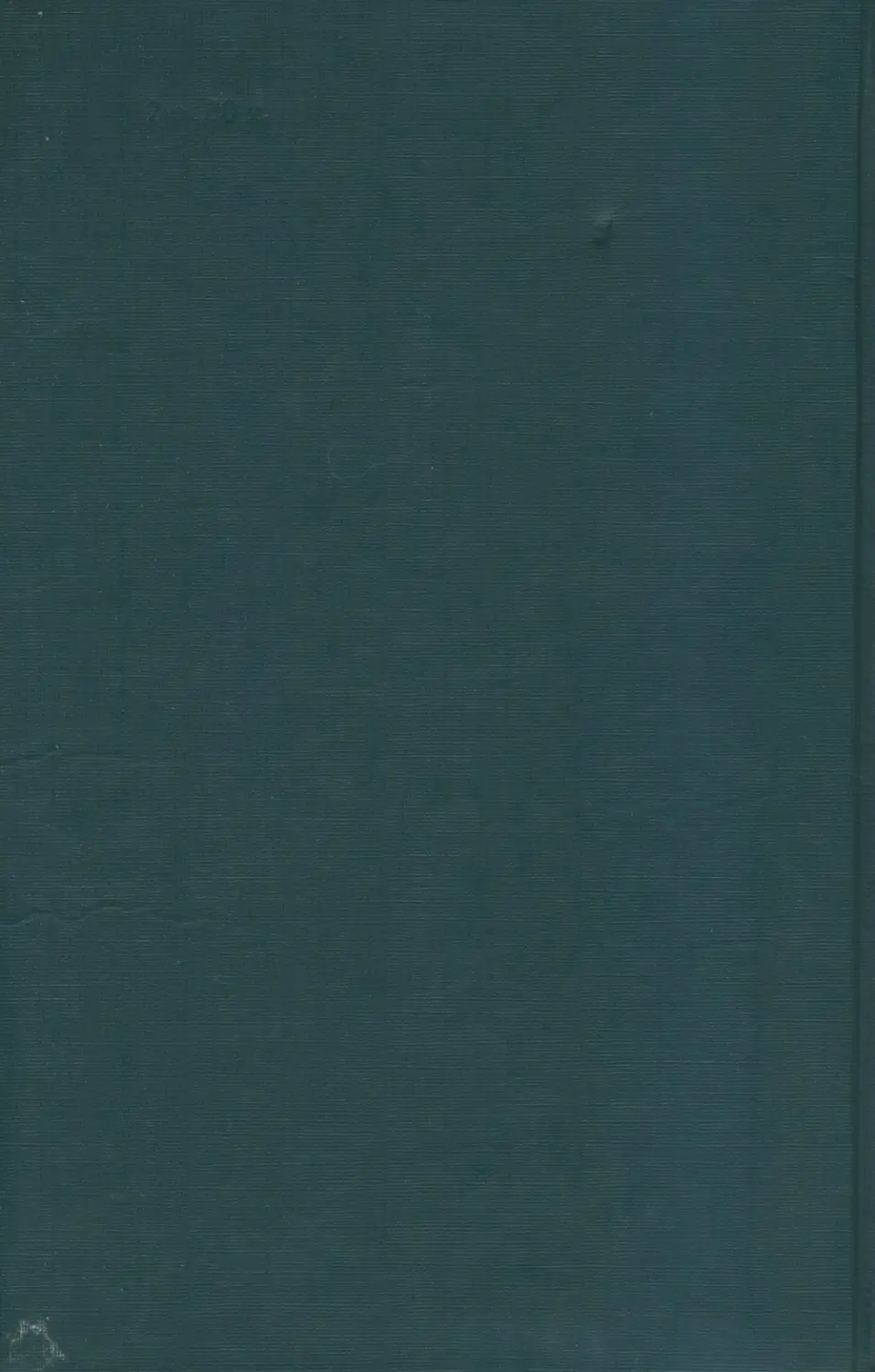Author: Лесков Н.С.
Tags: русская литература православие русская классика издательство правда лесков золотой век литературы библиотека огонек
Year: 1989
Text
БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
Н.С.ЛЕСКОВСОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ 5
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРАВДА
1989
Л 50
84 Р1
Составление
и
общая редакция
В. Ю. Троицкого
Иллюстрации художника
И. С. Глазунова
4702010100- 1976 ,976 _89
Л 080(02)—89
© Издательство «Правда». 1989
(Составление. Примечания.)
СМЕХ И ГОРЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Свежий мартовский ветер гулко шумел деревьями
большого Таврического сада в Петербурге и быстро гнал
по погожему небу ярко-красные облака. На дворе было
около восьми часов вечера; сумерки с каждой минутой на¬
двигались все гуще и гуще, и в небольшой гостиной оп¬
рятного домика, выходившего окнами к одной из оранже¬
рей опустелого Таврического дворца, ярко засветилась бе¬
лая фарфоровая лампа, разливавшая тихий и ровный свет
по уютному покою. Это было в одном дружеском семейст¬
ве, куда я, дядя мой Орест Маркович Ватажков и еще
двое наших общих знакомых только что вернулись с верб¬
ного базара, что стоит о Лазаревой субботе у Гостиного
двора. Мы все пришли сюда прямо с этого базара и раз¬
говорились о значении праздничных сюрпризов.
Семейный дом, в котором мы собрались, был из числа
тех домов, где не спешат отставать от заветных обычаев.
Здесь известные праздничные дни отличаются от простых
дней года всеми мелочами, какими отличались эти дни
у отцов и дедов. Тут непременно поздний обед при звезде
накануне Рождества; кутья по Предтече в Крещенский
сочельник; жаворонки детям 9 марта, а в воскресенье
пред Страстной неделей вербные подарки. Последние обык¬
новенно состояли из разных игрушек и сюрпризов, кото¬
рые накануне с вечера закупались на вербном базаре
у Гостиного двора и рано утром подвешивались на лентах
под пологами детских кроваток. Каждый подарок украшал¬
ся веткою вербы и крылатым херувимом... Дети были уве¬
рены, что вербные подарки им приносит сам этот вербный
херувим или, как они его называли, «вербный купидон».
Об этих подарках и зашла теперь речь: все находили,
что подарки — прекрасный обычай, который оставляет
в детских умах самые теплые и поэтические воспоминания;
но дядя мой, Орест Маркович Ватажков, человек необык¬
новенно выдержанный и благовоспитанный, вдруг горячо
3
запротиворечил и стал настаивать, что все сюрпризы вред¬
ны и не должны иметь места при воспитании нигде, а тем
паче в России.
— Потому,— продолжал дядя,— что здесь и без того
что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный; так
зачем же вводить детей в заблуждение и приучать их
ждать от внезапности чего-нибудь приятного? Я допускаю
в виде сюрприза только одно — сечь ребенка.
Все переглянулись; кое-кто улыбнулся.
— Это и понятно, что Оресту Марковичу неприятно
говорить о детях и о детстве,— сказала хозяйка.— Старые
холостяки не любят детей.
— Опять должен вам возражать,— отвечал дядя.—
Хотя я уже и действительно в таких летах, что не могу
обижаться именем старого холостяка, но тем не менее де¬
тей я люблю, а сюрпризы для них считаю вредными, по¬
тому что это вселяет в них ложные надежды и мечтания.
Надо приготовлять детей к жизни сообразно ожидающим
их условиям, а так как жизнь на Руси чаще всего самых
лучших людей ни за что ни про что бьет, то в виде сюр¬
приза можно только разве бить и наилучших детей и то
преимущественно в те дни, когда они заслуживают особой
похвалы.
— Вы чудачествуете, Орест Маркович?
— Нимало: вербные купидоны для меня, как и для
ваших детей, еще не перешли в область прошедшего,
и я говорю о них даже не без замирания сердца.
— Это шутка?
— Нисколько. Что за шутка серьезными вещами.
— Так это история?
— Даже несколько историй, если вам угодно: лучше
сказать, это такое же potpourri из сюрпризов, как бы¬
вает potpourri из песен.
— И вы, может быть, будете так любезны, что рас¬
скажете нам кое-что из вашего potpourri?
— Охотно,— отвечал мой дядя,— тем более, что здесь
и тепло, и светло, и приятно, и добрые снисходительные
слушатели, а мое potpourri варьировано на интереснейшую
тему.
— А именно?
— А именно вот на какую: все полагают, что на Руси
жизнь скучна своим однообразием, и ездят отсюда за гра¬
ницу развлекаться, тогда как я утверждаю и буду иметь
Попурри (франц.).
4
честь вам доказать, что жизнь нигде так не преизобилует
самыми внезапнейшими разнообразиями, как в России.
По крайней мере я уезжаю отсюда за границу именно
для успокоения от калейдоскопической пестроты русской
жизни и думаю, что я не единственный экземпляр в своем
роде.
— Орест Маркович! Мы вас слушаем.
— Милостивые государи! Я повинуюсь и начинаю.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Большинству здесь присутствующих обстоятельно из¬
вестно, что я происхожу из довольно древнего русского
дворянского рода. Я записан в шестую часть родословной
книги своей губернии; получил в наследство по разным
прямым и боковым линиям около двух тысяч душ кре¬
стьян; учился когда-то и в России и за границей; служил
неволею в военной службе; холост, корнет в отставке,
имею преклонные лета, живу постоянно за границей
и проедаю там мои выкупные свидетельства; очень люблю
Россию, когда ее не вижу, и непомерно раздражаюсь про¬
тив нее, когда живу в ней; а потому наезжаю в нее как
можно реже, в экстренных случаях, подобных тому, от ко¬
торого сегодня только освободился. Я рассказываю вам
все очень подробно и не утаиваю никаких мелочей моего
характера, эгоистического и мелкого, не делающего мне
ни малейшей чести. Я знаю, что вы меня за это не почтите
вашим особенным вниманием, но я уже, во-первых, стар,
чтобы заискивать себе чье-нибудь расположение лестью
и притворством, а во-вторых, строгая истина совершенно
необходима в моем полуфантастическом рассказе для того,
чтобы вы ни на минуту не заподозрили меня во лжи, пре¬
увеличениях и утайках.
В воспитании моем есть что-то необыкновенное. Я рус¬
ский, но родился и вырос вне России. Должность родных
лип, под которыми я впервые осмотрелся, исправляли для
меня южные каштаны, я крещен в воде итальянской реки,
и глаза мои увидали впервые солнце на итальянском не¬
бе. Родители мои постоянно жили в Италии. Отец мой
не был изгнанник, но тем не менее север был для него
вреден, и он предпочитал родине чужие края. Мать моя
тосковала по России и научила меня любить ее и стре¬
миться к ней. Когда мне минуло шесть лет, стремлению
этому суждено было осуществиться: отец мой, катаясь на
5
лодке в Генуэзском заливе, опрокинулся и пошел как ключ
ко дну в море. После этой потери юг утратил для нас
с матерью свое значение, и мы потянулись с нею на се¬
вер. Мне о ту пору было всего восемь лет. Тогда и по
Европе еще сплошь ездили в дилижансах, а у нас плава¬
ли по грязи.
Я не помню уже, сколько дней мы ехали до Петербур¬
га, сколько потом от Петербурга до Москвы и далее от
Москвы до далекого уездного города, вблизи которого, все¬
го в семи верстах, жил мой дядя. Эта продолжительная
и утомительная поездка, или, вернее сказать, это плавание
в тарантасах по грязи, по тридцати верст в сутки на
почтовых, останется вечно в моей памяти. Я как будто
вчера еще только отбыл эти муки, и у меня даже еще
ноют при всяком движении хрящи и ребра. Я поистине
могу сравнивать это странствование с странствованиями
Одиссея Лаэртида. Приключения были чуть не на каждом
шагу, и покойница матушка во всех этих приключениях
играла роль доброго гения.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Благие вмешательства моей матери в судьбы странни¬
ков начались с первого же ночлега по петербургскому шос¬
се, которое существует и поднесь, но о котором все вы,
нынешние легковесные путешественники, разумеется, не
имеете никакого понятия. Железные дороги — большое
препятствие к изучению России, я в этом положительно
уверен; но это a propos... Как сейчас помню: теплый
осенний вечер; полоска слабого света чуть брезжится на
западе, и на ней от времени до времени вырезываются
силуэты ближайших деревьев: они все казались мне сол¬
датиками, и я мысленно сравнивал их с огненными мужич¬
ками, которые пробегают по сгоревшей, но не истлевшей
еще бумаге, брошенной в печку. Я любил, бывало, засмат¬
риваться на такую бумагу, как засмотрелся, едучи, и на
полосу заката, и вовсе не заметил, как она угасла и как
пред остановившимся внезапно экипажем вытянулась чер¬
ная полоса каких-то городулек, испещренных огненными
точками красного цвета, отражавшегося длинными и ост¬
рыми стрелками на темных лужах шоссе, по которым по¬
рывистый ветер гнал бесконечную рябь. Это был придо¬
1 Кстати (франц.).
6
рожный поселок, станция и ночлег. Борис Савельич, ста¬
рый и высокий, с седым коком лакей, опытный путешест¬
венник, отряженный дядею в наши провожатые и выслан¬
ный нам навстречу в Петербург для сопровождения нас
в заветную глубь России, соскочил с козел и отправился
на станцию. Я видел, как его грандиозная, внушающая
фигура в беспредельной, подпоясанной ремнем волчьей
шубе поднялась на крыльцо; видел, как в окне моталась
тень его высокого кока и как потом он тотчас же вышел
назад к экипажу, крикнул ямщику: «не смей отпрягать»
и объявил матушке, что на почтовой станции остановиться
ночевать невозможно, потому что там проезжие ремонтеры
играют в карты и пьют вино; «а ночью,— добавлял наш
провожатый,— хотя они и благородные, но у них наверное
случится драка». Матушка страшно перепугалась этого
доклада и тотчас же сдалась на предложение Бориса Са¬
вельича отъехать на постоялый двор к какому-то Петру
Ивановичу Гусеву, который, по словам Бориса, был «от¬
личнейший человек и имел у себя для проезжающих пре¬
отличные покои».
Двор этого отличнейшего человека был всего в двух
шагах от станции, и не успел Борис скомандовать:
«к Петру Ивановичу», как экипаж наш свернул с шоссе
налево, прокатил по небольшому мостику через придорож¬
ную канаву и, проползя несколько шагов по жидкой гря¬
зи, застучал по бревенчатому помосту под темными сарая¬
ми крытого двора. Посредине этого двора, под высокими
стропилами, висел на перекинутой чрез блок веревке боль¬
шой фонарь, ничего не освещавший, но глядевший на все,
точно красный глаз кикиморы. В непроглядной тьме под
сараями кое-где слышались человеческие голоса и то ти¬
хий стук конских зубов, жевавших овес, то усталое лоша¬
диное отпырхивание.
Матушка и моя старая няня, возвращавшаяся с нами
из-за границы, высвободившись из-под вороха шуб и ме¬
ховых одеял, укутывавших наши ноги от пронзительного
ветра, шли в «упокой» пешком, а меня Борис Савельич
нес на руках, покинув предварительно свой кушак и шап¬
ку в тарантасе. Держась за воротник его волчьей шубы,
я мечтал, что я сказочный царевич и еду на сказочном
же сером волке.
«Упокоев», которыми соблазнил нас Борис, к нашим
услугам, впрочем, не оказалось. Встретившая нас в верх¬
них сенях баба, а затем и сам Петр Иванович Гусев —
атлетического роста мужчина с окладистою бородой —
7
ласковым голосом и с честнейшим видом объявил нам,
что в «упокоях» переделываются печи и ночевать там не¬
возможно, но что в зале преотлично и чай кушать и опо¬
чивать можно на диванах.
— А барчуку,— добавил он, указывая на меня,— мы
смостим два креслица и пуховичок подкинем.
Мать решила, что это прекрасно и, взяв с хозяина
слово, что он в залу уже никого, кроме нас, не пустит,
велела подать самовар. Последнее распоряжение матушки
тотчас же вызвало со стороны Бориса осторожное, шепо¬
том выраженное замечание, что, мол, этак, не спросивши
наперед цены, на постоялом дворе ничего спрашивать не¬
возможно.
— Хотя это точно,— говорил Борис,— что мы с вашим
братцем всегда останавливаемся у Петра Ивановича, и он
обижать нас по-настоящему не должен, ну а все же пра¬
вило того требует, чтобы спросить.
Борис Савельич был из числа тех крепостных людей,
выросших в передней господского дома, для которых
поездки, особенно дальние поездки в столицы, в Москву
или Петербург, составляли высшее удовольствие. В этих
поездках он мог щеголять своею опытностью, знанием све¬
та, тонким пониманием людей и вообще такими сведения¬
ми, каких при обыкновенном течении жизни ему показать
было некому да которых от него в обыкновенное время
никто и не спрашивал. Все, что он ни делал в дороге,—
все это он делал как бы некое священнодействие, торжест¬
венно, величественно и притом с некоторым жреческим
лукавством.
В большой комнате, которую мы для себя заняли, Бо¬
рис Савельич тотчас же ориентировал нас к углу, где бы¬
ла тепло, даже жарко натопленная печка. Он усадил меня
на лежанку, матушку на диван и беспрестанно прибегал
и убегал с разными узлами, делая в это время отрывоч¬
ные замечания то самому дворнику, то его кухарке,— за¬
мечания, состоявшие в том, что не вовремя они взялись
переделывать печки в упокоях, что темно у них в сенях,
что вообще он усматривает у них в хозяйстве большие не¬
строения.
Затем Борис убегал снова и снова возвращался с кор¬
зинками, в которых были припасенные в дорогу папушни¬
ки и пирожки. Все это было разложено на печке, на чи¬
стой бумаге, и Борис Савельич, разбирая эту провизию,
внушал матушке, что все это надо кушать, а у дворника
ничего не брать, потому-де, что у него все очень дорого.
8
— Я про ужин для себя полюбопытствовал,— говорил
Борис,— да полтину просит, так я ему в глаза и плюнул.
Матушку такая резкость смутила, и она поставила это
Борису на вид; но тот только махнул рукой и отвечал,
что с торговым человеком на Руси иначе обходиться не¬
возможно.
— Их, матушка! — уверял он,— и поп, когда крестит,
так в самое темя им три раза плюет.
Это меня очень заинтересовало, и я снова замечтался,
как это производится указанная Борисом процедура,
а между тем был подан самовар; я выпил одну чашку,
почувствовал влечение ко сну и меня уложили на той же
теплой лежанке. Матушка расхаживала по комнате, чтобы
размять ноги, а Борис с нянькою сели за чай; они пили
очень долго и в совершенном молчании. Я, потягиваясь на
лежанке, все наблюдал, как моя нянька краснела и, как
мне казалось, распухала. Она мне тогда представлялась
белой пиявкой, каких я, впрочем, никогда не видал; я ду¬
мал: вот еще, вот еще раздуется моя няня и хлопнет.
И точно, старуха покраснела, раздулась, расстегнула даже
платок на груди и отпала. Но Борис Савельич упорно
оставался один за столом. Он сидел прямо, как будто про¬
глотил аршин, и наливал себе мерно стакан за стаканом
с очевидным непреложным намерением выпить весь само¬
вар до последней капли. Он не раздувался и не краснел,
как няня, но у него зато со всяким хлебком престрашно
выворачивались веки глаз и из седого его чуба вылетал
и возносился легкий пар. Мне очень хотелось спать, но
я не мог уснуть, потому что все мною наблюдаемое чрез¬
вычайно меня занимало. Это была она, моя заветная, моя
долгожданная Россия, которую я жаждал видеть ежесе¬
кундно. Она была в этой бесприютной комнате, в этом пу¬
затом самоваре, в этом дымящемся чубе Бориса...
Но наблюдениям моим готов был и иной материал.
Среди таких занятий нашей компании, о которых
я рассказываю, под окнами послышался шум от подъехав¬
шего экипажа и вслед за тем стук в ворота и говор. Ня¬
ня взглянула в окно и сказала:
— Шестерная карета!
— Ну, как приехали, так и уедут,— отвечал ей Бо¬
рис,— останавливаться негде.
Но в эту минуту на пороге явился умильный Петр
Иванович и с заискивающею, подобострастною улыбкою
начал упрашивать мать во что бы то ни стало дозволить
напиться чаю в нашей комнате проезжей генеральше. Бо¬
9
рис Савельич окрысился было за это на дворника как
пес Дагобера, но, услышав со стороны матери предупреди¬
тельное согласие, тотчас же присел и продолжал допивать
свой чай и дымиться. Я имел черт знает какое возвышен¬
ное понятие о русских генералах, про которых няня мне
говорила дива и чудеса, и потому я торжествовал, что
увижу генеральшу.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В комнату нашу вошла большая, полная, даже почти
толстая дама с косым пробором и с мушкой на левой ще¬
ке. За ней четыре барышни в ватных шелковых капотах,
за ними горничная девушка с красивым дорожным лар¬
цом из красного сафьяна, за девушкой лакей с ковром
и несколькими подушками, за лакеем ливрейным лакей не
ливрейный с маленькою собачкой. Генеральша, очевидно,
была недовольна, что мы заняли комнату, прежде чем она
накушалась здесь своего чаю.
Она извинялась перед матушкой, что побеспокоила ее,
но извинялась таким странным тоном, как будто мы были
перед нею в чем-то виноваты и она нас прощала. Матуш¬
ка по своей доброте ничего этого не замечала и даже ра¬
довалась, что она может чем-нибудь услужить проезжим,
вызывалась заварить для них новый чай и предложила
дочерям генеральши наших отогретых пирожков и папуш¬
ников. Но генеральша отклонила матушкино хлебосольст¬
во, объяснив, все в том же неприступном тоне, что она
разогретого не кушает и чаю не пьет, что для нее сейчас
сварят кофе в ее кофейнике, а пока... она в это время
обратилась к Петру Ивановичу и сказала:
— Послушай, мужик, у тебя есть что-нибудь завтра¬
кать?
— Матушка,— отвечал, выгибаясь, Петр Иваныч,—
у меня сию минуту индюк в печи сидит,— на станцию для
ремонтеров жарил, да если твоей милости угодно, мы тебе
его подадим, а они подождут.
— Давай,— приказала генеральша.
Наш Борис тряхнул чубом и еще с большим ожесточе¬
нием стал глотать остывающий чай. И мне и Борису пока¬
залось, что генеральша приказала подать индюка единст¬
венно затем, чтоб унизить этим нас, занимавших в комна¬
те лучшее место, но скромно подкреплявшихся чаем и ра¬
зогретыми пирожками. Все мы были немало переконфуже¬
10
ны этим начинавшим подавлять нас великосветским сосед¬
ством и нетерпеливо ждали появления индюка, в надежде,
что вслед за тем гости наши покушают и уедут.
Наконец, явился и он. Как теперь его помню: это был
огромный, хорошо поджаренный, подрумяненный индюк
на большом деревянном блюде, и в его папоротку был ар¬
тистически воткнут сверкающий клинок большого ножа
с белой костяною ручкой. Петр Иванович подал индюка
и, остановясь, сказал:
— Прикажете раскроить?
— Нет, пожалуста, пожалуста... твоих услуг не надо,—
отвечала генеральша.
Петр Иванович, не конфузясь, отошел в сторону.
На столе запылал кофейник, и генеральша обратилась
к дочерям с вопросом, чего кому хочется. Ни одной не
хотелось ничего. Надо помнить, что это были те времена,
когда наши барышни считали обязанностью держаться
неземными созданьями и кушали очень мало, а потому ге¬
неральша только и могла отрезать от индюка одно кры¬
лышко. Это крылышко какая-то из девиц подержала в ру¬
ках, покусала и бросила на тарелку. Затем лакей доложил,
что карета готова, и чопорные гости стали собираться. Но
тут произошла престранная история, впервые поколебав¬
шая мое высокое понятие о генеральшах.
Петр Иванов явился с огромными счетами, начал вы¬
кладывать за теплоту и за светлоту и вдруг потребовал
за жареного индюка семнадцать с полтиной (конечно на
ассигнации).
Генеральша так и вскипела.
— Что ты, что ты! Да где же это за индюка семна¬
дцать с полтиной? Этак и за границей не дерут.
— Нам, сударыня, заграница не указ; мы свой расчет
держим.
— Да мы твоей индюшки и не съели: ты сам видишь,
я одно крылышко от неё отломила.
— Как вам угодно,— отвечал Петр Иванов,— только
я ее теперь никому подать не могу. Как у нас русский
двор, то мы, сударыня, только целое подаем, особенно ре¬
монтерам, потому как это господа завсегда строгие.
— Ах, какой же ты мошенник! — закричала гене¬
ральша.
Петр Иванов просил его не порочить.
— Нет, скажите Бога ради, мошенник он или нет? —
обратилась генеральша заискивающим тоном к моей ма¬
тери.
11
Мать промолчала, а Петр Иванов положил на стол
счеты и вышел.
— Я не заплачу,— решила генеральша,— ни за что не
заплачу,— но тут же и спасовала, потому что вошедший
лакей объявил, что Петр Иванов не выпускает его с ве¬
щами к карете.
— Ах, боже мой, разве это же можно? — засуетилась
генеральша.
— Торговаться вперед надо,— отвечал ей поучительно
Борис.
— Но, мой друг, пойди, уговори его. Вы позволите?
Мать позволила, Борис пошел, долго кричал и вернул¬
ся с тем, что менее пятнадцати рублей не берет.
— Скажите, что же мне делать? — засуетилась снова
генеральша.
Мать моя, зевая и закрывая рот рукою, отвечала гене¬
ральше по-французски, что надо заплатить, и добавила,
что с одного ее кузена на Кавказе какие-то казаки на по¬
стоялом дворе потребовали пять рублей за пять яиц
и, когда тот не хотел платить, заперли его на дворе.
— Неужели это может быть и со мною? — воскликну¬
ла генеральша и, заливаясь слезами, начала упрашивать
Петра Иванова об уступке, но Петр Иванов из пятнадца¬
ти рублей не уступил ни одной копейки, и деньги эти ему
были заплачены; генеральша, негодующая и заплаканная,
стала прощаться, проклиная Русь, о которой я слышал за
границей одни нежные вздохи.
— Возьмите же по крайней мере с собою этого индю¬
ка: он вам пригодится,— сказала моя мать генеральше.
Растерянная генеральша с радостию согласилась.
— Да, да,— заговорила она,— конечно, жаркое при¬
годится.
И с этим ее превосходительство, остановив за руку
Петра Иванова, который хотел уносить индюка, сказала
ему:
— Позволь, позволь, батюшка: ты деньги получил,
а индюк мой. Дай мне сахарной бумаги, чтобы завернуть.
Петр Иванов отказал, но мать встала с своего места,
пересыпала рубленый сахар из бумажного картуза в хол¬
щовый мешочек и передала ее Борису, который тут же ма¬
стерски увернул индюка и вручил его непосредственно са¬
мой генеральше. Встреча с этою гордою дамой, ее надутый
вид и метаморфозы, которые происходили с нею в течение
нескольких минут, были для меня предметом немалого
удивления.
12
С этих пор я при виде всякого земного величия посто¬
янно не мог отучиться задавать себе вопрос: а как бы дер¬
жало себя это величие пред индюком и запертыми воро¬
тами?
Это невинное событие преисполнило юную душу мою
неулегающимися волнами сомнения и потом во многих
случаях моей жизни служило мне соблазном и камнем
преткновения, о который я спотыкался и довольно больно
разбивал себе нос.
Тотчас по отъезде генеральши в нашей компании нача¬
лись на ее счет самые злые насмешки, из чего я тогда же
вывел для себя, сколь невыгодно выходить из собрания
первым, а не последним. Из этой же беседы мне впервые
уяснилось, что такое называется чванством, фанфаронст¬
вом и другими именами. Но в конце этого разговора ма¬
тушка, однако, обратила Борисово внимание на то, что
хорош же, мол, однако, и твой Петр Иванов,— какой он
мошенник! — Борис по этому поводу пустился в бесконеч¬
ные рассказы о том, что придорожному человеку, а тем
более дворнику никогда верить нельзя, будь он хоть самый
честнейший человек, ибо на больших дорогах... Тут он на¬
чал рассказывать разные страсти, слушая которые я за¬
снул.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Вслед за этим я как сейчас помню небольшую почто¬
вую станцийку в Нижегородской губернии, где мы натолк¬
нулись на другую престранную историю. Это было во вто¬
рой половине нашего путешествия, которое мы уже два
дня совершали гораздо лучше, потому что на землю вы¬
пал густой снег и стал первопуток. Мы бросили в каком-
то городишке наш тарантас и ехали теперь в кибитке на
полозьях. Рассказы Бориса о дорожных страхах возымели
на всех нас свое устрашающее действие, вследствие чего
матушка по ночам аккуратно пересаживала Бориса с козел
в возок. Помню, как он, бывало, влезал к нам в волчьей
шубе, внося с собою целое облако холодного пара, и обык¬
новенно сейчас же опять заводил страшные рассказы. Так
мы проехали огромные лесные пространства и однажды
вечером, остановясь перед маленькой станцийкой, увидели
у крыльца кибитку с тройкой дрожащих и дымящихся
лошадей. На станции была заметна какая-то суета и бе¬
готня с крыльца во двор и со двора на крыльцо. Всех,
13
очевидно, занимало что-то и необыкновенное и смешное,
потому что все бегали и не то охали, не то смеялись.
Один верховой выскочил из ворот и, скаля зубы, понесся
в одну сторону леса; другой, совсем помирая со смеха
и нещадно настегивая по бокам коня, поскакал в другую.
Мы рассчитывали здесь пить чай и вошли в сени. Нянька
вела под руку матушку; Борис, по обыкновению, нес ме¬
ня на руках. В маленькой, слабо освещенной комнатке,
в которую мы вступили прямо из сеней, была куча самых
странных людей, с самыми невероятными, длинными
и горбатыми носами, каких я никогда до тех пор не ви¬
дал. Мне даже показалось, что это вовсе не люди, а од¬
ни носы. Во всей этой смятенной сутолоке раздавался
странный и непонятный говор и трепетный плач с каким-
то гортанным переливом. Три огромные носа в огромных
бараньих шапках держали над тазом четвертый нос, из
которого в две противоположные стороны били фонтаны
крови. Эти носы были армяне, возвращавшиеся куда-то
к себе из Москвы. Их было счетом четверо, и они ехали
всего за полчаса пред нами через лес, который мы благо¬
получно минули. Трое из армян сидели в самой кибитке,
а четвертый, их молодой приказчик, с самым большим во¬
сточным носом, помещался у них на коленях, так что ог¬
ромный нос его высовывался из кибитки наружу. Вдруг
из лесной чащи раздался выстрел и несчастный нос этого
злополучного армянина как раз пред самым кончиком про¬
стрелен крупною леткой... Нужно же было случиться та¬
кой странности!
Мы застали армянина, истекающего кровью над та¬
зом; около него все кричали, суетились, и никто ничего не
предпринимал. Узнав в чем дело, моя мать быстро разо¬
рвала свой носовой платок и устроила из него для ране¬
ного бинт и компрессы, а Борис, выдернув из стоявшей на
столе сальной свечки фитиль, продернул его армянину
сквозь нос, и перевязка была готова. Теперь все только
смеялись, что, конечно, было очень неприятно раненому,
но удержаться было невозможно. Этот жалкий армянин
с простреленным носом и продернутым сквозь него фити¬
лем из свечки был действительно до такой степени сме¬
шон, что, несмотря на его печальное положение, сама ма¬
тушка моя постоянно отворачивалась, чтобы скрыть свой
смех. Мы обогрелись и уехали с этой станции, оставив
в ней армян ожидать пристава, а сами с этих пор всю до¬
рогу только и толковали про то, как и почему разбойник
прострелил армянину не щеку, не ухо, а именно один
14
нос? Признаюсь вам, я до сих пор считаю это собы¬
тие совершенно чрезвычайным, и когда заходит где-либо
речь о Промысле или о фатализме, я всегда невольно при¬
поминаю себе этого армянина, получившего в нос первое
предостережение.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Третье путевое происшествие, которое живыми черта¬
ми врезалось в моей памяти, было уже всего за полтора¬
ста верст от дядина имения. На дворе стояла сухая мо¬
розная ночь. Снег скрипел под полозьями и искрился, как
рафинад. На лошадях и на людях сверкали морозные иг¬
лы. Мы подъехали к большому неприветливому дому, по¬
хожему на заброшенные боярские хоромы. Это тоже была
станция, на которой нам категорически отказали в лоша¬
дях и не обещали даже дать их вскорости. Делать было
нечего, мы выбрались из кибитки и пошли на станцию.
В единственной большой комнате, назначенной и для про¬
езжающих и для смотрительского стола, мы нашли серди¬
того-пресердитого вида человека в старой, поношенной бе¬
кеше. Это был станционный смотритель. Он сидел, под¬
перши голову обеими руками, и смотрел в огромную, туск¬
ло освещаемую сальным огарком книгу. При нашем появ¬
лении он не тронулся и не ворохнулся, но тем не менее
видно было, что чтение не сильно его занимало, потому
что он часто зевал, вскидывал глазами на пламя свечи,
очищал пальцами нагар и, поплевав на пальцы, опять ле¬
ниво переводил глаза к книге. В комнате было мертвое
молчание, прерываемое лишь то тихим и робким, то гром¬
ким и азартным чириканьем сверчка где-то за старою
панелью теплой печки. И вот опять на столе чай — это
единственное универсальное лекарство от почтовой скуки;
опять няня краснеет, опять дымится Борисов чуб, а смот¬
ритель все сидит и не удостоивает нас ни взгляда, ни
звука. Бог знает, до чего бы додержал нас здесь этот не¬
возмутимый человек, если бы на выручку нам не подо¬
спело самое неожиданное обстоятельство.
Среди мертвой тишины под окнами послышался скрип
полозьев, и в комнату вошел бойкою и щеголеватою по¬
ходкой новый путешественник. Это был высокий и строй¬
ный молодой человек в хорошей енотовой шубе, подпоя¬
санной красным гарусным шарфом, и в франтовской круг¬
лой меховой шапочке из бобрового котика. Он подошел
15
прямо к смотрителю и, вежливо положив ему на стол
свернутую подорожную, проговорил очень мягким и, как
мне казалось, симпатическим голосом:
— Прошу вас нарядить пять лошадей.
Смотритель, кажется, очень обрадовался, что судьба
посылала ему нового человека, которого он мог помучить.
Он даже искоса не взглянул на незнакомца и, отодвинув
локтем его подорожную, сказал:
— Нет лошадей.
Подорожная упала на пол. Молодой человек в еното¬
вой шубе поднял бумагу и без гнева вышел с нею вон.
Борис, няня и матушка только переглянулись между со¬
бою, а Борис даже прошептал вдогонку проезжему:
— Вот тебе и енот!
Смотритель, очевидно, ликовал. Я впоследствии имел
случай сделать вывод, что смотрительская должность
имеет свойство приуготовлять в людях особенное располо¬
жение к злорадству.
Но в то время, как мы переглядывались, а смотритель
радовался, в сенях раздались тяжелые шаги, пыхтенье
и сап, и затем дверь грозно распахнулась настежь.
Мы все встрепенулись и насторожили и слух, и зрение.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В комнату вплыло целое облако холодного воздуха,
и в этом воздухе заколебалась страшная черная масса,
пред которою за минуту вошедший человек казался какой-
то фитюлькой. Масса эта, в огромной черной медвежьей
шубе с широким воротником, спускавшимся до самого по¬
яса, с аршинными отворотами на доходивших до пола ру¬
кавах, в медвежьих сапогах и большой собольей шапке,—
вошла, рыкнула: «где?» и, по безмолвному манию следо¬
вавшего за ним енота, прямо надвинулась на смотрителя;
одно мгновение — что-то хлопнуло, и на полу, у ног мед¬
вежьей массы, закопошился смотритель. Еще хлоп — и но¬
вый полет кувырком, и снова безмолвие.
— Ты читал, мерзавец, подорожную? — заревел в мед¬
веде.
Смотритель стоял, вытянувшись, дрожа и пятясь.
— Читал? — грозно переспросил медведь.
— Не... не... нет-с.
16
Но еще прежде Чем смотритель кончил это «нет-с»,
в комнате опять раздалась оглушительнейшая пощечина,
и смотритель снова кувырком полетел под стол.
— Так ты даже не читал? Ты даже не знаешь, кто я?
А небось ты четырнадцатым классом, каналья, поль¬
зуешься?
— Пользуюсь, ваше высокопревосходительство.
Оплеуха.
— Чин: «не бей меня в рыло», имеешь?
— Имею-с.
— Избавлен по закону от телесного наказания?
— Избавлен-с.
— Так вот же, не уповай на закон! Не уповай!
И посыпались пощечины за пощечиной; летели они
градом, дождем, потоком; несчастный смотритель только
что поднимался, как падал снова на пол. Мы все привста¬
ли в страхе и ужасе и решительно не знали, что это за
Наполеон такой набежал и как нам себя при нем держать;
а смотритель все падал и снова поднимался для того, что¬
бы снова падать, между тем как шуба все косила и коси¬
ла. Я и теперь не могу понять, как непостижимо ловко
наносила удары эта медвежья шуба. Она действовала как
мельница: то одним крылом справа, то другим слева, так
что это была как бы машина, ниспосланная сюда затем,
чтобы наказать невозмутимого чиновника. Вслед за по¬
следним ударом шуба толкнула избитого смотрителя сапо¬
гом под стол и, не говоря ему более ни слова, повернула
к дверям и исчезла в морозном облаке; за медведем ушел
и енот. Чуть только она вышла, смотритель тотчас же вы¬
карабкался, встряхнулся, как пудель, и тоже исчез. Через
секунду на дворе зазвенел его распорядительный голос,
а еще через минуту экипаж ускакал. Смотритель, проводив
гостей, вошел в комнату, повесил на колышек шапку и сел
к своей книге, но прочитал немного. Он, видимо, нуждал¬
ся в беседе: хотел облегчить свою душу разговором и по¬
тому, обратясь к матушке, сказал довольно спокойным
для его положения тоном:
— Вот, изволили видеть, какие у нас в России бывают
по службе неприятности.
— Да, это ужасная неприятность,— отвечала моя сер¬
добольная матушка и добавила: — Я удивляюсь, неужто
вы все это так и оставите?
— Нет-с: да что же... тут если все взыскивать, так
и служить бы невозможно,— отвечал смотритель.— Это
17
большая особа: тайный советник и сенатор (смотритель
назвал одну из важных в тогдашнее время фамилий). От
такого, по правде сказать, оно даже и не обидно; а вот
как другой раз прапорщик какой набежит или корнет, да
тоже к рылу лезет, так вот это уж очень противно.
Сказав это, смотритель вздохнул, вышел и велел за¬
прягать нам лошадей.
Таким образом, если вам угодно, я, проезжая по Рос¬
сии до места моего приюта, получил уже довольно свое¬
обычные уроки и составил себе довольно самостоятельное
понятие о том, что может ждать меня в предстоящем. Все,
что я ни видал, все для меня было сюрпризом, и я полу¬
чил наклонность ждать, что вперед пойдет все чуднее
и чуднее.
Так оно и вышло.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В имении дяди меня на первых же порах ожидали еще
новые, гораздо более удивительные вещи. Брат моей мате¬
ри, князь Семен Одоленский, беспардонный либерал само¬
го нелиберального времени, был человек, преисполненный
всяческих противоречий и чудачеств.
Он когда-то много учился, сражался в отечественную
войну, был масоном, писал либеральнейшие проекты и за
то, что их нигде не принимали, рассердился на всех — на
государя, на Сперанского, на г-жу Крюденер, на Филаре¬
та,— уехал в деревню и мстил всем им оттуда разными
чудачествами, вероятно оставшимися для тех никогда не¬
известными. Он жил в доме странном, страшном, желтом
и таком длинном, что в нем, кажется, можно было уста¬
вить две целые державы — Липпе и Кнингаузен. В этом
доме брат моей матери никогда не принимал ни одного
человека, равного ему по общественному положению и об¬
разованию; а если кто к нему по незнанию заезжал, то он
отбояривал гостей так, что они вперед сюда уже не загля¬
дывали. Назад тому лет двадцать верстах в сорока от не¬
го жила его родная тетка, старая княжна Авдотья Одо¬
ленская, которая лет пять сряду ждала к себе племянни¬
ка и, не дождавшись, потеряла, наконец, терпение и реши¬
ла сама навестить его. Для этого визита она выбрала
день его рождения и прикатила. Дядя, узнав о таком не¬
ожиданном родственном набеге, выслал дворецкого объя¬
вить тетке, что он не знает, по какому бы такому делу им
18
надобно было свидеться. Одним словом, он ее выпроважи¬
вал; но тетка тоже была не из уступчивых, и дворецкий,
побеседовав с ней, возвратился к дяде с докладом, что
старая княжна приехала к нему как к новорожденному.
Дядя нимало этим не смутился и опять выслал в зал
к тетке того же самого дворецкого с таким ответом, что
князь, мол, рождению своему не радуются и поздравления
с оным принимать не желают, так как новый год для них
ничто иное, как шаг к смерти. Но княжна и этим не про¬
нялась: она села на диван и велела передать князю, что
до тех пор не встанет и не уедет, пока не увидит ново¬
рожденного. Тогда князь позвал в кабинет камердинера,
разоблачился донага и вышел к гостье в чем его мать ро¬
дила.
— Вот, мол, государыня тетушка, каков я родился!
Княжна давай бог ноги, а он в этом же райском
наряде выпроводил ее на крыльцо до самого эки¬
пажа.
Вообще присутствия всякого ровни князь не сносил,
а водился с окрестными хлыстами, сочинял им для их ра¬
дений песни и стихи, сам мнил себя и хлыстом, и духо¬
борцем, и участвовал в радениях, но в Бога не верил,
а только юродствовал со скуки и досады, происходивших
от бессильного гнева на позабывшее о нем правительство.
Семьи законной у него не было: он был холост, но имел
много детей и не только не скрывал этого, но неумолчно
требовал, чтоб ему записали его детей в формулярный
список. На бумагах же, где только была надобность спро¬
сить его «холост он или женат и имеет ли детей», он по¬
стоянно с особенным удовольствием писал: «Холост, но
детей имею». Об обществе он не заботился, потому что
якобы пренебрегал всеми «поклоняющимися злату и дре¬
ву», и в приемном покое, где некого было принимать, дер¬
жал на высокой, обитой красным сукном колонне литого
из золота тельца со страшными зелеными изумрудными
глазами. Пред этим тельцом будто бы когда-то кланялись
и присягали по особой присяге попы и чиновники, и телец
им выкидывал за каждый поклон по червонцу, но впо¬
следствии все это дяде надоело и комедия с тельцом бы¬
ла брошена. Деловыми занятиями князя были бесчислен¬
ные процессы, которые он вел почти со всеми губерн¬
скими властями, единственно с целью дразнить их
и оскорблять безнаказанным образом. В этом искусстве
он достиг замечательного совершенства и нередко даже не
одних чиновников поражал неожиданностью и оригиналь-
19
ностию своих приемов. Он сочинял сам на себя изветы
и доносы, чтобы заводить переписку с властями, имея за¬
ранее обдуманные планы, как злить и безнаказанно оби¬
жать чиновников. Пропадал, например, в соседнем с ним
губернаторском имении скот. Дядя тотчас призывал само¬
го ябедливого дьячка, подпаивал его водкой, которой
и сам выпивал для примера, и вдруг ни с того ни с сего
доверял дьячку, что губернаторский скот стоит у него на
задворке. Через неделю губернатор получал донос на дя¬
дю, и тот ликовал: все хлопоты и заботы о том только
и шли, чтобы вступить в переписку. На первый же запрос
дядя очень спешно отвечал, что «я-де скота губернатора
с его полей в свои закуты загонять никогда не приказы¬
вал, да и иметь его скота нигде вблизи меня и моих чет¬
вероногих не желаю; но опасаюсь, не загнал ли скота гу¬
бернатора, по глупости, мой бурмистр из села Поганец».
По этому показанию особый чиновник летел в село Пога¬
нец и там тоже, разумеется, никакого «скота губернатора»
не находил; а дядя уже строчил новую бумагу, в коей жа¬
ловался, что «Поганец губернаторский чиновник, обыски¬
вая, перепугал на скотном дворе всех племенных телят».
Если же дяде не удавалось втравливать местных чиновни¬
ков в переписку с собою, то он строчил на них жалобы
в том же тоне в столицы. Так, в одной жалобе, посланной
им в Петербург на местного губернатора, он писал без
запятых и точек: «в бытность мою в губернском городе
на выборах я однажды встретился с господином начальни¬
ком губернии и был изруган им подлецом и мошенником»,
а в другой раз, в просьбе, поданной в уголовную палату,
устроил, конечно с умыслом, в разных местах подчистки
некоторых слов в таком порядке, что получил возмож¬
ность в конце прошения написать следующую оговорку:
«а что в сем прошении по почищенному написано, что су¬
дившие меня, члены, уголовной, палаты, все, до, одного,
взяточники, подлецы, и, дураки, то это все верно и прошу
в том не сомневаться...»
Тогда, в те мрачные времена бессудия и безмолвия на
нашей земле, все это казалось не только верхом остро¬
умия, но даже вменялось беспокойному старику в высо¬
чайшую гражданскую доблесть, и если бы он кого-нибудь
принимал, то к нему всеконечно многие бы ездили на
поклонение и считали бы себя через то в опасном поло¬
жении, но у дяди, как я сказал, дверь была затворена
для всех, и эта-то недоступность делала его еще инте¬
реснее.
20
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
У матери были дела с дядею: ей надлежала от него
значительная сумма денег. Таких гостей обыкновенные лю¬
ди принимают вообще нерадостно, но дядя мой был не
таков: он встретил нас с матерью приветливо, но поместил
не в доме, а во флигеле. В обширном и почти пустом
доме у него для нас места недостало. Это очень обидело
покойную матушку. Она мне не сказала ничего, но я при
всей молодости моих тогдашних лет видел, как ее пере¬
дернуло.
Непосредственно за прибытием нашим в дядину усадь¬
бу у нас так и потянулась полоса скучной жизни. Дяди
я не видал, а грустная мать моя была плохим товарищем
моему детскому возрасту, жаждавшему игр и забав. Зима
уходила, и снега стали сереть; кончался пост. Однажды,
пригорюнясь, сидел я у окна и смотрел на склонявшееся
к закату весеннее солнце, как вдруг кто-то большою, твер¬
дою, тяжелою походкой прошел мимо окна и ступил на
крыльцо флигеля так, что ступени затрещали под его но¬
гами. Через минуту растворилась дверь, и на пороге пока¬
зался мой дядя.
Это было первое посещение, которое он решился сде¬
лать моей матери после нашего приезда в его имение.
Не знаю почему, для чего и зачем, но при виде дяди
я невыразимо его испугался и почти в ужасе смотрел на
его бледное лицо, на его пестрой термаламы халат, пунцо¬
вый гро-гро галстук и лисью высокую, остроконечную ша¬
почку. Он мне казался великим магом и волшебником,
о которых я к тому времени имел уже довольно обстоя¬
тельные сведения.
Прислонясь к спинке кресла, на котором застал меня
дядя, я не сомневался, что у него в кармане непременно
есть где-нибудь ветка омелы, что он коснется ею моей го¬
ловы, и что я тотчас скинусь белым зайчиком и поскачу
в это широкое поле с темными перелогами, в которых
растлевается флером весны подернутый снег, а он скинет¬
ся волком и пойдет меня гнать... Что шаг, то становится
все страшнее и страшнее... И вот дядя подошел именно
прямо ко мне, взял меня за уши и сказал:
— Здравствуй, пумперлей! — и при этом он подавил
мне слегка книзу уши и добавил: — Ишь что за гадость
мальчишка! плечишки с вершок, а внизу жиреешь. Пост¬
ное, небось, ел?
— Постное,— прошептал я едва слышно.
21
Дядя опять давнул меня за уши и проговорил:
— Точная девочка; изгадила, брат, тебя мать, изга¬
дила.
— Брат! — отозвалась ему из другой комнаты с уко¬
ризною мать.
Дядя ушел к ней, и она заговорила с ним по-англий¬
ски, сначала просто шумно, а потом и сердито.
Я понял одно, что дядя над чем-то издевался, и мне
показалось, что насмешки его имеют некоторое соотноше¬
ние к восковому купидону, которого в большом от меня
секрете золотила для меня моя мать.
— Это — растление,— говорил дядя.— В жизни все
причинно, последовательно и условно. Сюрпризами только
гадость делается.
Мать умоляла дядю замолчать.
— Пусть,— говорила она,— пусть по-твоему. Пускай
жизнь будет подносить ему одни неприятности, но пусть
я... пусть мать поднесет ему удовольствие.
Я тогда несвободно понимал по-английски и не понял,
чем кончился их разговор, да и вдобавок я уснул. Меня
раздели и сонного уложили в кровать. Это со мною часто
случалось.
Помнилось мне только сквозь сон, что дядя, проходя
мимо меня, будто сказал мне:
— Мой милый друг, тебя завтра ждет большой сюр¬
приз.
На утро я проснулся очень рано, но боялся открыть
глаза: я знал, что вербный купидон, вероятно, уже сле¬
тел к моей постельке и парит над ней с какими-нибудь
большими для меня радостями.
Я раскрыл глаза сначала чуть на один волосок, потом
несколько шире, и, наконец, уже не сам я, а неведомый
ужас растворил их, так что я почувствовал их совсем
круглыми, и при этом имел только одно желание: влип¬
нуть в мою подушку, уйти в нее и провалиться...
Вербный купидон делал мне сюрприз, которого я дей¬
ствительно ни за что не ожидал: он висел на широкой го¬
лубой ленте, а в объятиях нес для мира печали и слез...
розгу. Да-с, не что иное, как большую березовую розгу!..
Увидев это, я долго не мог прийти в себя и поверить,
проснулся я или еще грежу спросонья; я приподнимался,
всматривался и, к удивлению своему, все более и более
изумлялся: мой вербный купидон действительно держал
у себя под крылышками огромный пук березовых пру¬
тьев, связанных такою же голубой лентой, на какой сам
22
он был подвешен, и на этой же ленте я заметил и белый
билетик. «Что это было на билетике при таком странном
приношении?» — размышлял я и хотя сам тщательно ку¬
тался в одеяло и дулся на прилет купидона с розгой, но...
но не выдержал... вскочил, сорвал билетик и прочитал:
— «Кто ждет себе ни за что ни про что радостей, тот
дождется за то всяких гадостей».
«Это дядя! это непременно дядя!» — решил я себе
и не ошибся, потому что в эту минуту дядя распахнул за¬
навески моей кроватки и... изрядно меня высек ни за что
и ни про что.
Матушка была в церкви и защищать меня было неко¬
му; но зато она, узнав о моем сюрпризе, решилась немед¬
ленно отвезти меня в гимназический пансион, где и на¬
чался для меня новый род жизни.
Таким я припоминаю вербного купидона. Он имел для
меня свое серьезное значение. С тех пор при каких бы то
ни было упованиях на что бы то ни было свыше у меня
в крови пробегает трепет и мне представляется вечно он,
вербный купидон, спускающийся ко мне с березовой роз¬
гой, и он меня сек, да-с, он много и страшно сек меня
и... я опасаюсь, как бы еще раз не высек... Нечего, госпо¬
да, улыбаться,— я рассказываю вам историю очень серьез¬
ную, и вы только благоволите в нее вникнуть.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
В нынешнее время у школяров есть честность граж¬
данская; у нас была честность рыцарская. Жизнь была
тоже рыцарская. Неустрашимость, храбрость и мужество
в разнообразнейших их приложениях и проявлениях под¬
вергались испытанию. Классные комнаты назывались за¬
лами различных орденов. Тут были круглоголовые, черно¬
головые рыцари, странствующие рыцари и всякие другие,
каких вам угодно орденов и званий. Огромный сад пан¬
сиона служил необъятным поприщем, на котором происхо¬
дили бои и турниры, что бывало зимой, когда нас пуска¬
ли в этот сад, особенно удобно по причине огромных, на¬
валенных тут сугробов, изображавших замки и крепости.
Я жил голодно и учился прекрасно. Так прошел год,
в течение которого я не ездил домой ни разу. Я, впрочем,
обвыкся и не скучал. Затруднительною порой в этой жиз¬
ни было для нас вдруг объявленное нам распоряжение,
чтобы мы никак не смели «отвечать в повелительном на¬
23
клонении». Нам было сказано, что это требуется из Пе¬
тербурга, и мы были немало устрашены этим требова¬
нием, но все-таки по привычке отвечали: «подведи шар
под меридиан» или «раздели частное и умножь делителя».
Отучить нас отвечать иначе, как напечатано в книгах,
долго не было никакой возможности, и бывали мы за то
биты жестоко и много, даже и не постигая, в чем наша
вина и преступление. Знакомства и исключительного дру¬
жества я ни с кем в школе не водил, хотя мне немножко
более других нравились два немца — братья Карл, кото¬
рый был со мною во втором классе, и Аматус, который
был в третьем. Помню, что оба они были очень красноще¬
кие и аккуратно каждую перемену сходились друг с дру¬
гом у притолки двери, разделявшей наши классы; и Карл,
бывало, говорил Аматусу;
— Аматус, мне кажется, что я себе нынче из русского
нуль достал.
А на следующую перемену Аматус являлся к притолке
и возвещал:
— Нет, Карлюс, я о тебе справился, ты ошибаешься:
это тебе не кажется, а ты себе настоящий нуль достал.
Эта пунктуальность и обстоятельность в сих юных
характерах мне чрезвычайно нравились, и я всегда с жад¬
ностию прислушивался к этому тихому и совершенно серь¬
езному разговору двух немцев об одном нуле.
Но сюрприз мне был уже готов и ждал меня,
а я к нему мчался.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Приближалась Пасха. До Страстной недели оставалось
всего одна неделя, одна небольшая неделя. В дортуарах
вечером разнесся слух, что нас распустят не в субботу,
а в четверг. Я уеду и увижу мать!.. Сердце мое трепета¬
ло и билось. Тревожные ощущения эти еще более усили¬
лись, когда в среду один из лакеев, утирая меня полотен¬
цем, шепнул мне:
— За вами приехали.
Когда я пришел в столовую, сел за свой чай, то по¬
чувствовал, что вся кровь бросилась мне в лицо, и у меня
начали пылать уши. Все это произошло от одного магиче¬
ского слова, которое произнеслось шепотом и в сотне раз¬
личных переливов разнеслось по столовой. Это магическое
слово было: «за ним прислали».
24
Понятно, что ежели бы нас пустили сегодня или завт¬
ра, в четверг, то я завтра же мог бы и ехать.
— Если бы только пустили!
Но вот в четверг начинаются и оканчиваются классы.
Начальство не заводит ровно никакой речи об отпуске.
Пред обедом несколько других товарищей выбегают по
вызову лакея в переднюю и возвращаются с радостными
лицами: и за ними прислали. В часы послеобеденного от¬
дыха известия о присылке еще учащаются, вечером они
еще возрастают, и, наконец, оказывается, что чуть ли не
прислали уже за всем пансионом. Нетерпение разгорается
с каждою минутой. Каждая минута становится бог весть
какою тягостью. Мысль о том, что нужно идти спать в те
же прохладные дортуары, становится несносна. Приготов¬
лять уроки с вечера нет уже никакой силы. Так и мере¬
щатся, так и снятся наяву лошади, бричка, няня и теплая
беличья шубка, которую прислала за мною мама и кото¬
рую няня неизвестно для чего, в первые минуты своего
появления в пансион, принесла мне и оставила. Вечерние
уроки мы все отсидели как на иголках. Четверг нас уже
обманул, но может быть зато выручит пятница? Неужто
же ждать до субботы? Неужто нельзя ускорить приближе¬
ние счастливого момента хотя на одни сутки?
Кто-то из детей,— я очень долго помнил его имя, но
теперь позабыл,— вздохнул и с детским равнодушием
воскликнул:
— Боже мой, неужто нет никаких средств, чтобы вы¬
думать что-нибудь такое, чтобы нас отпустили раньше.
— Нет таких средств, и если даже не ошибаюсь, то,
мне кажется, нет таких физических средств,— сказал
в ответ ему, вздохнувши, другой маленький мальчик.
Замечательное дело, что тогда, когда в людях было
менее всего всякой положительности, у нас, когда говори¬
ли о средствах, всегда прибавлялось, что нет физических
средств, как будто в других средствах, нравственных и мо¬
ральных, тогда никто уже не сомневался.
— Да, так; нет никаких физических средств,— отве¬
чал первый маленький мальчик.
— А кто это сказал — тот дурак,— заметил возмужа¬
лым голосом некто Калатузов, молодой юноша лет восем¬
надцати, которого нежные родители бог весть для чего
продержали до этого возраста дома и потом привезли для
того, чтобы посадить рядом с нами во второй класс.
Мы его звали «дядюшкой», а он нас за это бил. Ка¬
латузов держал себя «на офицерской ноге». Держать себя
25
на офицерской ноге в наше время значило: не водиться
запанибрата с маленькими, ходить в расстегнутой куртке,
носить неформенный галстук, приподниматься лениво, ког¬
да спросят, отвечать как бы нехотя и басом, ходить враз¬
валку. Все это строго запрещалось, но, не умею вам ска¬
зать, как и почему, всегда в каждом заведении тогдашнего
времени, к которому относится мое воспитание, были уче¬
ники, которые умели ставить себя «на офицерскую ногу»,
и им это не воспрещалось.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В нашем классе один Калатузов был на офицерской
ноге. Он мог у нас бить всю мелкоту, сам он был боль¬
шой дурак, аппетит имел огромный, а к учению способно¬
сти никакой. Это знали все учителя и потому никогда его
не спрашивали, а если в заведение приезжало какое-ни¬
будь начальствующее лицо, то Калатузова совсем убирали
и клали в больницу. Он этим гордился. Впрочем, раз бы¬
ло с ним несчастное происшествие: его спросил один но¬
вый учитель. Это был новоприбывший преподаватель гео¬
графии. Производя первую перекличку, он вызвал и Ка¬
латузова.
Калатузов тяжело приподнялся, перевалился с боку на
бок, облокотился косточками правой руки на стол и лег¬
ким бархатным баском сказал:
— Я полагал, что вы, вероятно, знаете, что я ничего
не знаю.
Учитель рассмеялся и отвечал:
— Ну, в таком случае я запишу вам нуль.
— Это как вы хотите,— отвечал спокойно Калатузов,
но, заметив, что непривычный к нашим порядкам учитель
и в самом деле намеревается бестрепетною рукой поста¬
вить ему «котелку», и сообразив, что в силу этой отмет¬
ки, он, несмотря на свое крупное значение в классе, оста¬
нется с ленивыми без обеда, Калатузов немножко прива¬
лился на стол и закончил: — Вы запишете мне нуль,
а я на следующий класс буду все знать.
Большой рост дурака, его пробивающиеся усы, мужест¬
венный голос и странная офицерская манера держаться,
резко выделявшая его из окружающей его мелюзги, все,
по-видимому, возбуждало к нему большое внимание ново¬
го учителя; рассмеявшись, он положил перо и сказал шут¬
ливо:
26
— Хорошо, господин Калатузов, я вам в таком случае
не напишу нуля, если вы обещаетесь знать что-нибудь.
— Вы будьте в этом уверены,— отвечал Калатузов.
И вот пришел следующий класс; прочитали молитву;
учитель сел за стол; сделалась тишина. Многих из нас за¬
нимало, спросит или не спросит нынешний раз новый учи¬
тель Калатузова; а он его как раз и зовет.
— Вы нам, кажется,— говорит,— обещали прошлый
раз что-то выучить?
Калатузов нехотя, что называется, как вор на ярмарке,
повернулся, наклонился в один бок плечом, потом пере¬
валился на другой, облокотился кистями обеих рук о пар¬
ту и медленно возгласил:
— Точно, я вам это обещал.
— Что же вы знаете? — спросил учитель.
Для Калатузова это был вопрос весьма затруднитель¬
ный; ему было безразлично, о чем бы его ни спросили,
потому что он ничего не знал, но он, нимало не смутив¬
шись, равнодушно посмотрел на свои ногти и сказал:
— Я все знаю.
— Все?
— Да, все,— еще спокойнее отвечал Калатузов.
Учителю стало необыкновенно весело, а мы с удоволь¬
ствием и не без зависти заметили, что Калатузов овладе¬
вал и этим новым человеком и, конечно, и от него будет
пользоваться всякими вольностями и льготами.
— Но есть же что-нибудь такое,— спросил его учи¬
тель,— что вы особенно хорошо знаете?
— Нет, мне все равно; я все одинаково знаю,— отве¬
чал, нимало не смущаясь, Калатузов.
— Но, верно, есть что-нибудь такое, что вам особенно
приятно рассказать. Я хочу, чтобы вы сами выбрали.
— Извольте,— отвечал Калатузов и, бесцеремонно на¬
гнувшись к своему маленькому соседу, взял в руки геогра¬
фию, развернул ее, взглянул на заголовок статьи и ска¬
зал:
— Пруссию.
— Вы лучше всего знаете Пруссию?
— Да, Пруссию,— отвечал Калатузов.
— Потрудитесь начинать.
— Извольте,— отвечал Калатузов и, глядя преспокой¬
но в книгу, начал, как теперь помню, следующее определе¬
ние: «Бранденбургия была», но на этом расхохотавшийся
учитель остановил его и сказал, что читать по книге во¬
все не значит знать. Калатузов бросил книгу на стол, дал
27
в обе стороны два кулака сидевшим около него малюткам
и довольно громко сказал: «Подсказывай»... Молодой учи¬
тель смотрел на всю эту проделку с видимым удовольст¬
вием. Его это смешило и тешило. Два маленьких мальчика,
боявшиеся своего огромного соседа, оба зажужжали: «Бран¬
денбургия была первоначальным зерном Прусского королев¬
ства». Так излагались сведения о Пруссии в нашей географии.
Жужжавшие наперерыв друг пред другом мальчики
подсказывали, однако, неудовлетворительно. Калатузов
пригинался то к одному из них, то к другому и, получая
вместо определительных слов какое-то жужжание, вышел,
наконец, из терпения и сказал:
— Один подсказывай.
Соседний мальчик справа внятно произнес ему:
— Бранденбургия была первоначальным зерном Прус¬
ского королевства.
— Довольно,— сказал Калатузов; с этим он откашля¬
нулся, провел пальцем за галстуком, поправил рукой во¬
лосы, которые у него, по офицерским же правилам, были
немного длиннее, чем у всех нас, и спокойно возгласил:
— Пруссия есть зерно.
— Как зерно? — переспросил изумленный учитель.
— Так написано,— отвечал Калатузов.
— Но позвольте же узнать, как же это? Есть зерна
ржаные, овсяные, пшеничные. Какое же зерно Пруссия?
Калатузов подумал и, сделав кислую гримасу, отвечал:
— Я вам не могу объяснить этого, какое это чертово
зерно.
Вот этот-то умник Калатузов во время тайного разго¬
вора в четверг Лазаревой недели и говорит:
— Пустяки,— говорит,— есть физическая возмож¬
ность, чтобы нас отпустили завтра утром; мне,— гово¬
рит,— нет ничего легче доказать вам эту физическую воз¬
можность.
Мы стали просить, чтоб он нам ее доказал.
— Сегодня вечером,— начал внушать Калатузов,— за
ужином пусть каждый оставит мне свой хлеб с маслом,
а через полчаса я вам открою физическую возможность
добиться того, чтобы нас не только отпустили завтра, но
даже по шеям выгнали.
— Выгонят по шеям!..— У нас даже ушки от этого
запрыгали.
— Только надо, чтоб кто-нибудь взялся сделать одно
дело,— продолжал Калатузов.
— Страшное? — спросило разом несколько голосов.
28
— Ну, не очень страшное,— отвечал Калатузов,— но
таки рискованное.
— Рискованное? — крикнул тоненьким голоском ма¬
ленький, чистенький и опрятный мальчик, который был не¬
обыкновенно красив и которого все в классе целовали.
Он назывался Локотков.
— Рискованное? — воскликнул Локотков.— Я берусь
за всякое рискованное дело.
Локотков был у нас отчаянною головой: он употреб¬
лялся в классе для того, чтобы передразнивать учителя-
немца или приводить в ярость и неистовство учителя-
француза. Характера он был живого, предприимчивого
и пылкого.
Локоткову удавалось входить в доверие к учителю
французского языка и коварно выводить его на посмеши¬
ще, уверяя его во время перевода, что сказать: «у рыб
нет зуб» невозможно, а надо говорить: или «у рыбей нет
зубей», или «у рыбов нет зубов» и т. п.
Кончалось это обыкновенно тем, что Локоткову доста¬
вался нуль за поведение, но это ему, бывало, неймется,
и на следующий урок Локотков снова, бывало, смущает
учителя, объясняя ему, что он не так перевел, будто «го¬
лодный мужик выпил кувшин воды одним духом».
— Одним духом невозможно пить, monsieur Basel, —
внушал с кротостию учителю Локотков.
— Taisez-vous, — сердито кричал француз и, поку¬
сав в задумчивости губы, лепетал: — Мужик, lе paysan,
выпил кувшин воды одним... шагом. Да,— выговаривал он
тверже, вглядываясь во все детские физиономии,— именно
выпил кувшин воды одним шагом... нет... одним духом...
нет: одним шагом...
И раздавался снова хохот, и monsieur Basel снова вы¬
писывал Локотову zero. И вот этот-то веселый, добродуш¬
ный мальчик вызвался совершить рискованное предприятие.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Рискованное предприятие, которое должно было спасти
нас и выпустить двумя днями раньше из заведения, по
плану Калатузова заключалось в том, чтобы ночью из
всех подсвечников, которые будут вынесены в переднюю,
1 Господин Базель (франц.).
2 Молчите (франц.).
3 Мужик (франц.).
4 Ноль (франц.).
29
накрасть огарков и побросать их в печки: сделается-де
угар, и нас отпустят с утра.
План был прост и гениален.
Что за тревожная ночь за сим наступила! Тишина бы¬
ла замечательная: не спал никто, но все притворялись спя¬
щими. Маленький Локотков, в шерстяных чулках, которые
были доставлены мне нянею для путешествия, надел на
себя мне же доставленную шубку мехом навыворот, чтоб
испугать, если невзначай кого встретит, и с перочинным
ножиком и с двумя пустыми жестяными пиналями отпра¬
вился на очистку оставленных подсвечников. Поход совер¬
шился благополучно. Локотков возвратился, сало украде¬
но, но сам вор как будто занемог; он лег на постель
и не разговаривал. Это было вследствие тревоги и волне¬
ния. Мы это понимали.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
На небе засерело туманное, тяжелое апрельское утро. Нам
все не спится. Еще минута, и вот начинается перепархива¬
ние с одной кровати на другую, начинаются нервная го¬
рячка и страх. На некоторых кроватях мальчики поме¬
щаются по двое, и здесь и там повсеместно идет тихий
шепот и подсмеиванье над тем, что будет и как будет.
Кое-кто сообщает идиллические описания своей деревуш¬
ки, своего домика, но и между идиллиями и между хохо¬
том все беспрестанно оборачиваются на кроватку, на кото¬
рой лежит Локотков. Он, кажется, спит; его никто не бес¬
покоит. Все чувствуют к нему невольное почтение и хоте¬
ли бы пробудить его, но считают это святотатством. Кто-
то тихо подкрался к нему, посмотрел в глаза, прислушался
к дыханию и покачал головой. Что значит это неопредели¬
тельное покачиванье головой — никому неизвестно, но по
дортуару тихо разносится «спит». И вот еще минута.
Всем кажется, что Локоткова пора бы, наконец, будить,
но ни у кого не достает решимости. Наконец где-то да¬
леко внизу, на крыльце, завизжал и хлопнул дверной
блок.
Это истопники несут дрова... роковая минута прибли¬
жается: сейчас начнут топить. Дух занимается. У всех
на уме одно и у всех одно движение — будить Локот¬
кова.
Длинный, сухой ученик с совершенно белыми волосами
и белесоватыми зрачками глаз, прозванный в классе «бе-
30
дым тараканом», тихо крадется к Локоткову и только что
хотел произнести: «Локотков, пора!», как тот, вдруг рас¬
хохотавшись беззвучным смехом, сел на кровать и про¬
шептал: «Ах, какие же вы трусы! Я тоже не спал всю
ночь, но я не спал от смеха, а вы... трусишки!», и с этим
он начал обуваться.
«Вот-то Локотков, молодчина!» — думали мы, с зави¬
стью глядя на своего благородного, самоотверженного то¬
варища.
«Вот-то характер, так характер!»
За ширмами потянулся гувернер, встал, вышел с за¬
спанным лицом и удивился, что мы все уже на ногах.
В нижнем этаже и со всех сторон начинается хлопанье
дверей и слышится веселое трещанье затопившихся печек.
Роковая минута все ближе и ближе. Проходя в умываль¬
ную попарно, мы все бросали значительные взгляды на
топившуюся печку и держались серьезно, как заговорщи¬
ки, у которых есть общая тайна.
Кровь нашу слегка леденил и останавливал мучитель¬
ный вопрос, как это начнется, как это разыграется и как
это кончится?
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Локотков казался серьезнее прочих и даже был не¬
множко бледен. Как только мы стали собираться в клас¬
сы, он вдруг начал корчить болезненные мины и улизнул
из чайной под предлогом не терпящих отлагательства об¬
стоятельств, известных под именем «надобности царя Сау¬
ла». Мы смекнули, что он отправился на опасное дело,
и хлебали свою теплую воду с усугубленным аппетитом,
не нарушая ни одним словом мертвого молчания. Локот¬
ков, запыхавшийся, немного бледный, со вспотевшим носом
и взмокшими на лбу волосами, явился в комнату снова
не более как минут через пять. Было большое сомнение;
сделал ли он что-нибудь, как нынче говорят, для общего
дела, или только попытался, но струсил и возвратился
без успеха. Обежать в такое короткое время целое заведе¬
ние и зарядить салом все печи казалось решительно невоз¬
можным. Устремленные со вниманием глаза наши на Ло¬
коткова не могли прочесть на его лице ничего. Он был,
видимо, взволнован, но пил свой остывший чай, не обра¬
щая ни на кого ни малейшего внимания. Но прежде чем
мы могли добиться чего-нибудь на его лице, загадка уже
31
разъяснилась. Дверь в нашу комнату с шумом распахну¬
лась, и немец-инспектор быстро пробежал в сопровожде¬
нии двух сторожей. Густой, удушливый чад полез вслед
за ними по всем комнатам. Локотков быстро отворил печ¬
ную дверку этого единственного покоя, где еще не было
угара, и в непотухшие угли бросил горсть сальных кро¬
шек вместе с куском синей сахарной бумаги, в которую
они были завернуты. Мы побледнели. Один Калатузов
спокойно жевал, как вол, свою жвачку и после небольшой
паузы, допив последний глоток чайной бурды, произнес
спокойно:
— А вот теперь за это может быть кому-нибудь слав¬
ная порка.
При этих словах у меня вдруг перехватило в горле.
Я взглянул на Локоткова. Он был бледен, а рука его не¬
подвижно лежала на недопитом стакане чаю, который он
только хотел приподнять со стола.
— Да, славная будет порка,— продолжал Калатузов
и, отойдя к окну, не без аппетита стал утирать свой
рот.
— Но кто же это может открыть? — робко спросил
в это время весь покрывшийся пунцовым румянцем Ло¬
котков.
— Тот, кто домой хочет пораньше,— отвечал Кала¬
тузов.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Начальство сразу смекнуло в чем дело, да немудрено
было это и смекнуть. Распахнулись двери, и на пороге,
расчищая ус, явился сторож Кухтин, который у нас был
даже воспет в стихах, где было представлено торжествен¬
ное ведение юношей рыцарей на казнь, причем,
Как грозный исполин,
Шагал там с розгами Кухтин.
При виде этого страшного человека Локотков изобли¬
чил глубокий упадок духа. Стоя возле него, я видел не
только, как он покачнулся, но даже чувствовал, как тре¬
петала на его сюртучке худо пришитая пуговка и как
его маленькие пухленькие губки сердечком выбивали
дробь.
32
Начался допрос. Дети сначала не признавались, но
когда директор объявил, что все три низшие класса будут
высечены через четыре человека пятый, началось смяте¬
ние.
— Отделяйтесь! — начал директор.— Ты, первый,
становись к скамье.
Один робкий мальчик отошел и подвинулся к скамье.
Он водил тревожными глазами по зале и ничего не гово¬
рил, но правая рука его постоянно то поднималась, то
опускалась,— точно он хотел отдать кому-то честь. Сле¬
дующие четыре мальчика были отставлены в сторону; эти
немедленно начали часто и быстро креститься. Пятый сно¬
ва тихо подвигался к скамье. Это был тот бледный, запу¬
ганный мальчик, которого звали «белым тараканом». Сов¬
сем оробев, он не мог идти: ноги у него в коленях подла¬
мывались, и он падал. Кухтин взял его под мышку, как
скрипку, и посадил на пол.
— Бросали сало? — отнесся к нему директор.
— Да, да,— пролепетал ему мальчик.
— Кто бросал?
«Белый таракан» пошатнулся, оперся ладонями в пол
и, качнув головой, прошептал:
— Я не знаю... все...
— Все? стало быть, и ты?
— Я, нет, не я.
У него, видимо, развязался язык, и он готов был про¬
говориться; но вдруг он вспомнил законы нашей рыцар¬
ской чести, побагровел и сказал твердо:
— Я не знаю, кто.
— Не знаешь? ну, восписуем ти, раба,— отвечал ди¬
ректор, толкнув его к скамейке, и снова отделилась четвер¬
ка счастливых.
В числе счастливых четвертого пятка выскочил Локот¬
ков. Я заметил, что он не разделял общей радости других
товарищей, избегавших наказания; он не радовался и не
крестился, но то поднимал глаза к небу, то опускал их
вниз, дрожал и, кусая до крови ногти и губы, шептал:
«Под твою милость прибегаем, Богородица Дева».
У нас было поверье, что для того чтобы избежать на¬
казания или чтобы оно, по крайней мере, было легче, надо
было читать про себя эту молитву. Локотков и шептал
ее, а между тем к роковым скамейкам было отделено че¬
ловек двадцать. Калатузов был избавлен от общей участи.
Он стоял в ряду с большими, к которым могли относиться
одни увещательные меры. Над маленькими началась экзе¬
2. Н. С. Лесков, т. 5.
33
куция. Я был в числе счастливых и стоял зрителем ужас¬
ного для меня тогда зрелища. Стоны, вопли, слезы и вер¬
ченья истязуемых детей поднимали во мне всю душу.
Я сперва начал плакать слезами, но вдруг разрыдался до
истерики. Меня хотели выбросить вон, но я крепко дер¬
жался за товарищей, стиснул зубы и решился ни за что
не уходить. Мне казалось, что происходит дело бесчело¬
вечное, за которое все мы, как рыцари, должны были
вступиться. Высечены уже были два мальчика и хотели
наказывать третьего. В это время Локотков, белее полот¬
на, вдруг начал шевелиться, и чуть только раздался свист
прутьев над третьим телом, он быстро выскочил вперед
и заговорил торопливым, бессвязным голосом:
— Позвольте, позвольте... это я бросил сало...
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Кухтин перестал сечь, тевтонский клюв директора вы¬
тянулся, и он сквозь очки остро воззрился на бледного
Локоткова; в группе учеников пробежал тихий ропот,
и на мгновение все затихло.
— Ты? — спросил директор.— Ты сам сознаешься?
— Я,— твердо отвечал Локотков.— Я сам сознаюсь:
секите меня одного.
— Он? — обратился директор к ученикам.
Дети молчали. Некоторые, только покашливая, слегка
подталкивали друг друга. На нескольких лицах как бы
мелькнула какая-то нехорошая решимость, но никто не
сказал ни слова.
— А, вы так! — сказал директор.— Тогда я буду сечь
вас всех, всех, поголовно всех.
И — представьте себе мою прелестнейшую минуту
в этом гадком воспоминании! — нас всех, маленьких де¬
тей, точно проникла одна электрическая искра, мы все
рванулись к Локоткову и закричали:
— Да, да, секите нас всех, всех секите, а не его!
Директор закричал, затопал, дал нескольким ближе
к нему стоявшим звонкие пощечины, и тут вдруг началь¬
ство перешло от угрозы к самым лукавым соблазнам.
— Это не может быть,— сказал директор,— чтобы вы
все были так безнравственны, низки, чтобы желать под¬
вергнуть себя такому грубому наказанию. Я уверен, что
между вами есть благородные, возвышенные характеры,
и начальство вполне полагается на их благородство: я от¬
34
ношусь теперь с моим вопросом именно только к таким,
и кто истинно благороден, кто мне объяснит эту историю,
тот поедет домой сейчас же, сию же минуту!
Едва кончилась эта сладкая речь, как из задних рядов
вышел Калатузов и начал рассказывать все по порядку
ровным и тихим голосом. По мере того как он рассказы¬
вал, я чувствовал, что по телу моему рассыпается как
будто горячий песок, уши мои пылали, верхние зубы со¬
вершенно сцеплялись с нижними; рука моя безотчетно
опустилась в карман панталон, достала оттуда небольшой
перочинный ножик, который я тихо раскрыл и, не взвидя
вокруг себя света, бросился на Калатузова и вонзил
в него...
Это было делом одного мгновения, пред которым дру¬
гие три или четыре мгновения я не давал себе никакого
отчета. Я опомнился и пришел в себя спустя три недели
в незнакомой мне комнате и увидел пред собою доброе,
благословенное лицо моей матери. У изголовья моего
стоял маленький столик с лекарственными бутылочками;
окна комнаты были завешены; везде царствовал полусвет.
В углу моя няня тихо мочила в полоскательной чашке
компрессы. Я хотел что-то сказать, но мать погрозила мне
пальцем и положила этот бледный палец на мои почернев¬
шие губы.
— Я знаю, что ты хочешь спросить,— сказала мне
мать.— Забудь все: мы теперь живем здесь в гостинице,
а туда ты больше не поедешь.
Меня взяли из заведения и отвезли в другое, в Моск¬
ву, где меня не били, не секли, но где зато не было пле¬
нявшего меня рыцарского духа. Отсюда, семнадцати лет,
я выдержал экзамен в Московский университет. Я был
смирен и тих; боялся угроз, боялся шуток, бежал от слез
людских, бежал от смеха и складывался чудаком; но от
сюрпризов и внезапностей все-таки не спасался; напротив,
по мере того как я подрастал, сюрпризы и внезапности
в моей жизни все становились серьезнее и многозначитель¬
нее. Начинаю вам теперь мой университетский анекдот:
отчего я хорошо учился, но не доучился.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Время моего студенчества было славное время Мо¬
сковского университета, про которое нынче так кстати
и некстати часто вспоминает наша современная литерату¬
35
ра. Я с самого первого дня был одним из прилежнейших
фуксов. Домой к матушке я ездил только однажды в год.
Один раз я уже гостил у ней, несказанно радуя ее моим
голубым воротником; другая побывка домой предстояла
мне следующим летом. Переписывались мы с матушкой
часто; она была покойна и очень довольна своим положе¬
нием у дяди: он был чудак, но человек предобрый, что,
однако, не мешало ему порою сердить и раздражать мою
мать. Так, он, например, в тот год как я был в универси¬
тете, в Светлый праздник прислал матери самый странный
подарок: это был запечатанный конверт, в котором ока¬
зался билет на могильное место на монастырском кладби¬
ще. Шутка с этим подарком необыкновенно встревожила
мою немного мнительную мать; она мне горько жаловалась
на дядино шутовство и видела в этом что-то пророческое.
Я ее успокоивал, но без успеха.
Между тем, в ожидании лета, когда я снова надеялся
увидеться с матушкой, я должен был переменить кварти¬
ру. Это обусловливалось случайностию. В семейство, в ко¬
тором я жил, приехала одна родственница, и комната, ко¬
торую я занимал, понадобилась хозяевам. Я пустился на
поиски себе нового жилища. Дело это, конечно, не трудное
и не головоломное, но злая судьба меня подстерегала.
Должно вам сказать, что в первый раз, когда я пустился
на эти поиски, мне мерещилось, как бы я не попал в ка¬
кое-нибудь дурное место. Я знал много рассказов о нехо¬
роших людях, нехороших обществах и боялся попасть
в эти общества, частью потому, что не любил их, чувст¬
вовал к ним отвращение, частью же потому, что боялся
быть обиженным. Я всегда был характера кроткого и про¬
шу вас не судить обо мне по моей гимназической истории.
Нож и меч вообще руке моей не свойственны, хотя судь¬
ба в насмешку надо мною влагала в мои руки и тот,
и другой. Я мог вспыхивать только на мгновение, но во¬
обще всегда был человеком свойств самых миролюбивых,
и обстоятельства моего детства и отрочества сделали меня
даже меланхоликом и трусом до того, что я — поистине
вам говорю — боялся даже переменить себе квартиру. Но
это было необходимо: я крайне стеснял увеличившую¬
ся семью моего хозяина до того, что он шутя сказал
мне:
— Ну, дружок, Орест Маркович, воля твоя, а ес¬
ли честью от нас не выйдешь, я тебя с полицией вы¬
травлю!
Удалиться было необходимо, и я на это решился...
36
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
И вот не успел я выйти на свои поиски, как вижу,
передо мною вдруг стала какая-то старушка.
— Батюшка мой,— говорит,— не квартиру ли ищешь?
«Господи, словно благодетельная волшебница,— ду¬
маю,— узнала, в чем я затрудняюсь, и стремится помочь
мне».
— Да,— говорю,— вы отгадали: я ищу квартиру.
— А у нас, голубчик, тут в доме для тебя как раз есть
прекрасная комната.
И с этим словом добродушная старушка взяла меня
за руку и подвела меня к обитой чистою зеленою клеен¬
кой двери, на которой была медная дощечка, в тогдашнее
время составлявшая еще в Москве довольно замечательную
редкость. На этой дощечке французскими литерами было
написано: «Leonide Postelnikoff, Capitaine».
— Вот тут он,— говорит,— родной мой, Леонид-то
Григорьевич. Он ей, Марье Григорьевне, хозяйке нашей,
брат доводится. Ты звякни, он и отопрется.
И с этими словами старушка сама позвонила и доба¬
вила:
— Она теперь сама-то, Марья Григорьевна, потерям¬
ши мужа, в расстройстве, а он ее делами управляет; он
и комнату сдает; с ним покалякай, и тебе здесь хорошо-
прехорошо будет.
За стеной послышались шаги, щелкнула задвижка,
и в дверях показался высокий человек, одетый в серый
нанковый казакин. По усам, по полувоенному казакину
и по всей манере в этом человеке нетрудно было узнать
солдата.
— К барину они, Клим Степанович,— заговорила к не¬
му моя старушка.— Квартиру у Марьи Григорьевны снять
желают.
И, толкнув меня в спину, старушка зашлепала вниз
по лестнице, а я очутился в небольшой светлой передней,
в которой меня прежде всего поразила необыкновенно
изящная чистота и, так сказать, своеобразная женствен¬
ность убранства. Так, в этой передней стоял мягкий диван¬
чик, обитый светленьким ситцем; вешалки не было, но
вместо нее громоздился высокий платяной шкаф, как бы¬
вает в небольших квартирах, где живут одинокие женщи¬
ны. Возле шкафа, на столике, стоял поднос с графином
свежей воды и двумя стаканами. На окне были два горш¬
1 Леонид Постельников, капитан.
37
ка гортензий и чистенькая проволочная клетка с громко
трещавшею калужской канарейкой, а в углу — пяльцы.
Из дверей открылась другая комната, более обширная
и окрашенная розовою краской самого приятного цвета.
Чистота этой комнаты еще более бросалась в глаза. Кра¬
шеные полы были налощены, мебель вся светилась, диван
был весь уложен гарусными подушками, а на большом
столе, под лампой, красовалась большая гарусная салфет¬
ка; такие же меньшие вышитые салфетки лежали на дру¬
гих меньших столиках. Все окна уставлены цветами,
и у двух окон стояли два очень красивые, самой затейли¬
вой по тогдашнему времени работы дамские рабочие сто¬
лика: один темного эбенового дерева с перламутровыми
инкрустациями, другой — из мелкого узорного паркета.
Человек в сером казакине ввел меня в эту комнату
и, попросив подождать, ушел в другую дверь, далее. Дверь
эта была полуотворена и открывала покой еще более весе¬
лый и светлый: светло-голубые, небесного цвета стены его
так и выдвигались. Всего убранства этого нового покоя
я не мог рассмотреть, потому что видел только один уго¬
лок, но заметил там и горки, и этажерки, и статуэтки.
Судя по обстановке квартиры, я решительно не мог объяс¬
нить себе, куда это я попал. Но прежде чем пришел на
этот счет к каким-нибудь определенным заключениям, че¬
ловек в сером казакине попросил меня в кабинет.
«Так это кабинет»,— подумал я и, направясь по ука¬
занию, очутился в этой небесной комнате, приюту и уб¬
ранству которой в самом деле можно было позавидовать.
Та же несказанная, невыразимая чистота, светлая, весе¬
ленькая мебель, какая уже теперь редко встречается или
какую можно только встретить у охотников работать коль¬
комани; вся эта мебель обита светлым голубым ситцем,
голубые ситцевые занавесы, с подзорами на окнах, и доро¬
гой голубой шелковый полог над широкою двуспальной
постелью. По углам были, как я сказал, везде горки и эта¬
жерки, уставленные самыми затейливыми фигурками, по
преимуществу женскими и, разумеется, обнаженными. До¬
рогой полог над кроватью был перетянут через толстое зо¬
лотое кольцо, которое держал в лапах огромный вызоло¬
ченный орел. В углу был красивый трехъярусный образ¬
ник и пред ним темного дерева аналой с зелеными бар¬
хатными подушками. Словом, это было маленькое небо;
недоставало только небожителя. Но и его собственно не
недоставало: он был тоже здесь налицо, но только я его
сразу не рассмотрел.
38
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
— Ах, приношу вам сто извинений! — услышал я поч¬
ти из-за своего собственного плеча и, обернувшись, уви¬
дел пред дамским туалетом, какой привык видеть в спаль¬
не моей матери... как вам сказать, кого я увидел? Иначе
не могу выразиться, как увидел уже самого настоящего
купидона. Увидел и... растерялся, да и было отчего. Вы,
конечно, помните, что я должен был встретить здесь капи¬
тана; но представьте себе мое удивление, когда я увидел
пред туалетом какое-то голубое существо — таки все-все
сплошь голубое; голубой воротник, голубой сюртук, голу¬
бые рейтузы — одним словом, все голубое, с легкою бело¬
курою головкой, в белом спальном дамском чепце, из-под
которого выбивались небольшие золотистые кудерьки
в бумажных папильотках. Я просто никак не мог себе уяс¬
нить, что это — мужчина или женщина. Но в это время
купидон обернул ко мне свою усыпанную папильотками го¬
лову, и я увидел круглое, нежное, матовое личико с неж¬
ным пушком на верхней губе, защипнутым у углов уст
вверх тоненькими колечками. За этою работой, за заверты¬
ванием усиков, я собственно и застал моего купидона.
— Приношу вам пятьсот извинений, что я вас прини¬
маю за туалетом: я спешу сегодня в наряд,— заговорил
купидон,— и у меня есть несколько минут на все сборы;
но эти минуты все к вашим услугам. Мне сказали, что вы
хотите занять комнату у сестры Маши? Это прекрасная
комната, вы будете ею очень довольны.
— Да,— отвечал я,— мне нужна комната, и мне ска¬
зали...
— Кто вам сказал?
— Не знаю... какая-то старушка...
— Ах, это, верно, Авдотьюшка; да, у сестры прекрас¬
ная комната; сестра моя — это не из барышей отдает, она
недавно овдовела, так только чтобы не в пустой квартире
жить. Вам будет прекрасно: там тишина невозмутимая.
Скучно, может быть?
— Я,— говорю,— этого не боюсь.
— А не боитесь, так и прекрасно; а соскучитесь — по¬
жалуйте во всякое время ко мне, я всегда рад. Вы студент?
Я страшно люблю студентов. Сам в университете не был,
но к студентам всегда чувствую слабость. Да что! Как
и иначе-то? Это наша надежда. Молодой народ, а между
тем у них всё идеи и мысли... а притом же вы сестрин по¬
стоялец, так, стало быть, все равно что свой. Не правда
ли?
39
Я очень затруднялся отвечать на этот поток красноре¬
чия, но купидон и не ждал моего согласия.
— Эй, Клим! — крикнул капитан.— Клим!
Он при этом ударил два раза в ладони и крикнул:
— Трубочку поскорее, трубочку и шоколад... Две чаш¬
ки шоколаду... Вы выкушаете? — спросил он меня и, не
дождавшись моего ответа, добавил: — Я чаю и кофе тер¬
петь не могу: чай действует на сердце, а кофе — на голо¬
ву; а шоколад живит... Приношу вам тысячу извинений,
что мы так мало знакомы, а я позволяю себе шутить.
С этими словами он схватил меня за колено, припод¬
нялся, отодвинул немного табуретку и, придвинувшись
к зеркалу, начал тщательно вывертывать из волос папиль¬
отки.
— Приношу вам две тысячи извинений, что задержи¬
ваю вас, но все это сейчас кончится... мне и самому неког¬
да... Клим, шоколаду!
Клим подал шоколад.
Я поблагодарил.
— Нет, пожалуйста! У нас на Руси от хлеба-соли не
отказываются. В Англии сорок тысяч дают, чтоб было
хлебосольство, да нет,— сами с голоду умирают, а у нас
отечество кормит. Извольте кушать.
Делать было нечего, я принял чашку.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
— Вон ваша комната-то, всего два шага от меня,—
заговорил капитан.— Видите, на извозчика ко мне уж не¬
много истратите. Вон видите тот флигель, налево?
Я приподнялся, взглянул в окно и отвечал, что вижу.
— Нет, вы подойдите, пожалуйста, к окну.
— Да я и отсюда вижу.
— Нет, вы подойдите; тут есть маленький фокус. Ви¬
дите — прекрасный флигелек. У нас, впрочем, и вообще
весь двор в порядке. Прежде этого не было. Хозяйка бы¬
ла страшная скареда. Я здесь не жил; сестра моя здесь
прежде поселилась; я к ней и хаживал. Хозяйка, вот точно
так же как сестра теперь, лет пять тому назад овдовела.
Купчиха ничего себе — эдакая всегда довольно жантильная
была, с манерами, потому что она из актрис, но тяготи¬
лась и вдовством, и управлять домом; а я, как видите,
люблю жить чисто,— не правда ли? Что? Я ведь, кажет¬
ся, чисто живу? Правда-с?
40
— Да,— отвечаю я,— правда.
— Кажется, правда, и это с самого детства. Познако¬
митесь с сестрой, она вам все это расскажет; я всегда лю¬
бил чистоту и еще в кадетском корпусе ею отличался. Кто
там что ни говори, а военное воспитание... нельзя не по¬
хвалить его; разумеется, не со всех сторон: с других сто¬
рон университет, может быть, лучше, но с другой сторо¬
ны... всегда щеточка, гребенка, маленькое зеркальце в кар¬
мане, и я всегда этим отличался. Я, бывало, приду к сест¬
ре, да и говорю: «Как это у вас все грязно на дворе!
Пять тысяч извинений, говорю, приношу вам, но просто
в свинушнике живете». Хозяйка иногда хаживала к се¬
стре... ну, и... сестра ей шутила: «вот, говорит, вам бы ка¬
кого мужа». Шутя, конечно, потому что моя сестра знает
мои правила, что я на купчихе не женюсь, но наши, знае¬
те, всегда больше женятся на купчихах, так уж те это так
и рассчитывают. Однако же я совсем не такой, потому что
я к этой службе даже и неспособен; но та развесила уши.
Ну куда же, скажите пожалуйста, мне жениться — прино¬
шу вам двадцать тысяч извинений,— да еще жениться на
купчихе?.. Нет, говорю, я жениться не могу, но порядок
действительно моя пассия, и домом управлять я согласен.
Она мне и предложила вот эту квартиру. Квартира, конеч¬
но, очень не велика. Передняя, что вы видели, зал, да вот
эта комната; но ведь с одного довольно, а денщик мой
в кухне; но кухоньку выправил, так что не стыдно; Клим
у меня не так, как у других. Вот вы его видели; спросите
его потом когда-нибудь, пожалуется ли он на меня?
Клим! — крикнул он громко.— Клим!
В дверях показался серый Клим.
— Доволен ты мной или нет? Не бойся меня, отвечай
им так, как бы меня здесь не было.
— Много доволен, ваше благородие,— отвечал ден¬
щик.
— Ах ты, скотина!
Постельников самодовольно улыбнулся и, махнув ден¬
щику рукою, добавил:
— Ну, и только, и ступай теперь к своему месту, го¬
товь шинель. На меня никто не жалуется,— продолжал ка¬
питан, обратясь ко мне.— Я всем, кому я что могу сде¬
лать,— делаю. Отчего же, скажите, и не делать? Ведь
эгоизм,— я приношу вам сто тысяч извинений,— я ваших
правил не знаю, но я откровенно вам скажу, я терпеть не
могу эгоистов.
41
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Поток этих слов был сплошной и неудержимый и даже
увлекательный, потому что голос у Леонида Григорьевича
был необыкновенно мягкий, тихо вкрадчивый, слова, про¬
износимые им, выходили какие-то кругленькие и катились,
словно орешки по лубочному желобку. На меня от его го¬
вора самым неприличным образом находил неодолимейший
магнетический сон. Под обаянием этого рокота я даже
с удовольствием сидел на мягком кресле, с удовольствием
созерцал моего купидона и слушал его речи, а он продол¬
жал развивать передо мной и свои мысли, и свои папиль¬
отки.
— Хозяйка,— продолжал он,— живет тут внизу, но до
нее ничто не касается; всем управляю я. И сестра теперь
тоже, и о ней надо позаботиться. У меня, по правде
сказать, немалая опека, но я этим не тягощусь, и вы
будьте покойны. Вы сколько платили на прежней квар¬
тире?
Я сказал, сколько я платил.
— О, мы устроим вас у сестры даже гораздо дешевле
и, верно, гораздо лучше. Вы студент, а в той комнате, где
вы будете жить, все даже располагает к занятиям. Я от¬
туда немножко отдаляюсь, потому что я жизнь люблю,
а сестра теперь, после мужниной смерти, совсем, как она
говорит, «предалась Богу»; но не суди — да не сужден бу¬
деши. Впрочем, опять говорю, там бесов изгоняют лада¬
ном, а вы если когда захотите посмотреть бесов, ко мне
милости просим. Я, знаете, живу молодым человеком, по¬
тому что юность дважды не приходит, и я вас познаком¬
лю с прекрасными дамочками... я не ревнив; нет, что их
ревновать!
Он, махнув рукой, развернул последнюю папильотку
и, намочив лежавшее возле него полотенце одеколоном, об¬
тер себе руки и заключил:
— А теперь прошу покорно в вашу комнату. Времени
уже совсем нет, а мне еще надо завернуть в одно местеч¬
ко. Клим! — громко крикнул он, хлопнув в ладоши,
и, пристегнув аксельбанты, направился чрез гостиную.
Я шел за ним молча, не зная на что и для чего я все
это делал. В передней стоял Клим, держа в руках серую
шинель и фуражку. Хозяин мой взял у него эту шинель
из рук и молча указал ему на мою студенческую шинель;
я торопливо накинул ее на плечи, и мы вышли, прошли
через двор и остановились у двери, обитой уже не зеле¬
42
ною сияющею клеенкой, а темным, толстым, серым сукном.
Звонок здесь висел на довольно широком черном ремне,
и когда капитан потянул за этот ремень, нам послышался
не веселый, дребезжащий звук, а как бы удар маленького
колокола, когда он ударяет от колеблемой ветром веревки.
Прошла минута, нам никто не отворял, Постельников сно¬
ва дернул за ремень. Снова раздался заунывный звук,
и дверь неслышным движением проползла по полу и рас¬
пахнулась. Пред нами стояла старушка, бодренькая, вост¬
роносенькая, покрытая темным коричневым платочком.
Капитан осведомился, дома ли сестра и есть ли у нее кто-
нибудь.
— Есть-с,— отвечала старушка.
— Монахи?
— Отец Варлаамий и Евстигнея с Филаретушкой.
— Ну, вот и прекрасно! Пусть они себе там и сидят.
Скажи: постояльца рекомендую знакомого. Это необходи¬
мо,— добавил он мне шепотом и тотчас же снова начал
вслух: — Вот видите, налево, этот коридор? там у сестры
три комнаты; в двух она живет, а третья там у нее образ¬
ная; а это вот прямо дверь — тут кабинет зятев был; вот
там в нее и ход; а это и есть ваша комната. Глядите,— заклю¬
чил он, распахивая передо мной довольно высокие белые
двери в комнату, которую действительно можно было наз¬
вать прекрасною.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Комната, предлагаемая мне голубым купидоном, была
большой наугольный покой в два окна с одной стороны,
и в два — с другой. Весь он выходил в большой густой
сад, деревья которого обещали весной и летом много про¬
хлады и тени. Стены комнаты были оклеены дорогими ко¬
ричневыми обоями, на которых миллион раз повторялась
одна и та же буколическая сцена между пастухом и пас¬
тушкой. В углу стоял большой образ, и пред ним тихо
мерцала лампада. Вокруг стен выстроилась тяжелая мебель
красного дерева с бронзой, обитая темно-коричневым
сафьяном. Два овальные стола были покрыты коричневым
сукном; бюро красного дерева с бронзовыми украшениями;
дальше письменный стол и кровать в алькове, задернутая
большим вязаным ковром; одним словом, такая комната,
какой я никогда и не думал найти за мои скромные день¬
ги. Неудобств, казалось, никаких.
43
Несмотря на то, что мы только что вступили в эту
комнату, тишина ее уже оказывала на меня свое приятное
действие. Это действительно была глубокая и спокойная
тишина, охватывающая собой человека с первой же мину¬
ты. Вдобавок ко всему этому в комнате слышался слегка
запах росного ладану и смирны, что я очень люблю.
Капитан Постельников заметил, что этот запах не ус¬
кользнул от меня, и сказал.
— Запахец, конечно, есть; но как на чей взгляд, а на
мой все-таки это не бог весть какое неудобство. А зато,
я вам говорю, эта Василиса — старушка, которую вы ви¬
дели,— предобрая, и сестра предобрая. Богомольная толь¬
ко, ну да что же вам до этого? Я, разумеется, не знаю ва¬
ших правил, но я никогда открыто против религии не воз¬
ражаю. К чему? Всех вдруг не просветишь. Это все само
собой имеет свое течение и окончится. Я богомольным не
возражаю. Вы даже, может быть, заметили, у меня у са¬
мого есть лампады? Я их сам жгу. Что же такое? Это
ведь в существе ничему не мешает, а есть люди, для кото¬
рых это очень важно... Вы можете этому не поверить, но
это именно так; вот, недалеко ходить, хоть бы сестра моя,
рекомендую: если вы с ней хорошенько обойдетесь да этак
иногда кстати пустите при ней о чем-нибудь божествен¬
ном, так случись потом и недостаток в деньгах, она и де¬
нег подождет; а заговорите с ней по-модному, что «мол
Бог — пустяки, я знать Его не хочу», или что-нибудь такое
подобное, сейчас и провал, а... а особенно на нашей служ¬
бе... этакою откровенностию даже все можно потерять сра¬
зу.
— Сестра! — крикнул капитан, стукнув в стену,— вели
Василисе чрез два часа здесь все освежить, к тебе придет
твой постоялец, мой хороший знакомый. Это необходи¬
мо,— опять сказал он мне шепотом.
— А как вас зовут?
Я назвал мое имя.
— Его зовут Орест Маркович Ватажков; запиши у се¬
бя, а теперь мы с ним едем.— И с этим Постельников на¬
дел посреди комнаты фуражку и повлек меня за собою.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Через ту же лестницу мы снова спустились на двор, где
я хотел раскланяться с Постельниковым, не имея, впрочем,
никакого определенного плана ни переезжать на квартиру
44
к его сестре, ни улизнуть от него; но Леонид Григорьевич
предупредил меня и сказал:
— Нет, вы что же? разве вы куда-нибудь спешите?
— Да, немножко.
— Ну, немножко ничего... Вы в какую сторону?
Я сказал.
— Ах, боже мой, нам почти по дороге. Немножко
в сторону, да отчего же? Для друга семь верст не околи¬
ца, а я — прошу у вас шестьдесят тысяч извинений — может
быть, и не имею еще права вполне называться вашим дру¬
гом, но надеюсь, что вы не откажете мне в небольшой услуге.
— Охотно,— говорю,— если только могу.
— О, очень можете, а я вам сделаю услугу за услугу.
С этими словами мы снова очутились у знакомой зеле¬
ной двери капитановой квартиры. Он нетерпеливо дернул
звонок и, вскочив на минуту, действительно тотчас же
выскочил назад. В руках его была женская картонка, в ка¬
ких обыкновенно модистки носят дамские шляпы, большой
конверт и длинный тонкий сверток. Из этого свертка тор¬
чала зонтичная ручка.
— Вот,— обратился он ко мне,— потрудитесь это по¬
держать, только держите осторожнее, потому что тут цве¬
ты, а тут,— я, разумеется, приношу вам сто тысяч изви¬
нений, но ведь вам уже все равно,— так тут зонтик. Но,
боже мой, что же это такое? — воскликнул капитан, взгля¬
нув на этот зонтик.— Вот проклятая рассеянность! Эта
проволочка так и осталась не спиленною! Клим, скорее на¬
пилок! — И капитан быстро, одним движением сбросил
с себя шинель, присел верхом на стул, с большим мастер¬
ством укрепил к столбику стула зонтик и начал быстро от¬
пиливать небольшой кусок проволоки.
— Я люблю эту работу,— говорил он мне между де¬
лом.— Я вам скажу: в наши лета все в магазинах для дам
покупать — это, черт возьми, накладно, да и что там ку¬
пишь? Все самое обыкновенное и втридорога; а я этак все
как-нибудь у Сухаревой башни да на Смоленском... очень
приятно, вроде прогулки, и вещи подержанные недорого,
а их вот сам починю, выправлю и презентую... Вы увиди¬
те, как мы заживем,— жаловаться не будете. Я вот вас
сейчас подвезу до Никитских ворот и попрошу о малень¬
ком одолжении, а сам поскорее на службу; а вы зато за¬
ведете первое знакомство, и в то же время вам будет ока¬
зана услуга за услугу.
Я совсем не знал, что со мною делают. У подъезда стоя¬
ла гнедая лошадка, запряженная в небольшие дрожечки.
45
Мы сели и понеслись. Во всю дорогу до Никитских ворот
капитан говорил мне о своем житье, о службе, о бывающих
у него хорошеньких женщинах, о том, как он весело живет,
и вдруг остановил кучера, указал мне на одни ворота
и сказал:
— Вот тут я вас усердно прошу спросить прямо по
лестнице, в третьем этаже, перчаточницу Марью Матве¬
евну; отдайте ей эти цветы и зонтик, а коробочку эту Ли¬
зе, блондинке; приволокнитесь за нею смело: она самое
бескорыстнейшее существо и очень влюбчива, вздохните,
глядя ей в глаза да руку к сердцу, она и загорится; а по¬
ка au revoir
И прежде чем я нашелся что-нибудь ответить, капитан
Постельников уже исчез из моих глаз.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Должно вам сказать, что все эти поручения, которые
надавал мне капитан Постельников, конечно, были мне вов¬
се не по нутру, и я, несмотря на всю излишнюю мягкость
моего характера и на апатию, или на полусонное состоя¬
ние, в котором я находился во все время моих разговоров
с капитаном, все-таки хотел возвратить ему все эти пору¬
ченности; но, как я сказал, это было уже невозможно.
Следующею мыслью, которая мне пришла за этим, бы¬
ло возвратиться назад и отнести все это на его квартиру
и отдать его Климу. Я находил, что это всего достойнее;
но, к крайнему моему удивлению, сколько я ни звонил
у капитанской двери, мне ее никто не отпер. Я отправился
было в квартиру его сестры, но здесь на двукратно повто¬
ренный мною звонок мне отпер двери полный румяный мо¬
нах и с соболезнующим взглядом в очах проговорил:
— Великодушно извините: Марья Григорьевна поза¬
трапезно опочили, услужающих их дома нет, а мы, прихо¬
дящие, ничего принять не можем.
Черт знает что такое. Э, думаю, была не была, пойду
уж и сдам скорей по адресу.
И вот я снова взял извозчика и поехал к Никитским
воротам.
Нет никакой нужды рассказывать, что за особ встретил
я в тех девицах, которым я передавал посланные через
меня вещи. Довольно сказать, что все это было свежо, моло¬
до — и, на тогдашний юный, неразборчивый мой вкус,
1 До свидания (франц.).
46
очень и очень приглядно, а главное — бесцеремонно и про¬
стодушно. Я попал на именины и хотел, разумеется, сей¬
час же отсюда уйти; но меня схватили за руки и букваль¬
но силой усадили за пирог, а пока ели пирог, явился вне¬
запно освободившийся от своих дел капитан Постельни¬
ков и с ним мужчина с страшными усищами: это был поэт
Трубицын. Кончилось все это для меня тем, что я здесь
впервые в жизни ощутил влияние пиршества, в питье до¬
шел до неблагопристойной потребности уснуть в чужом до¬
ме и получил от Трубицына кличку «Филимон-просто¬
та»,— обстоятельство ничтожное, но имевшее для меня,
как увидите, самые трагические последствия.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Проснувшись перед вечером на диване в чужой кварти¬
ре, я быстро вскочил и с жесточайшею головною болью
бросился скорей бежать к себе на квартиру; но представь¬
те же себе мое удивление! только что я прихожу домой
на свою прежнюю квартиру, как вижу, что комнату мою
тщательно прибирают и моют и что в ней не осталось уже
ни одной моей вещи, положительно, что называется, ни
синя пороха.
— Как же и куда все мое отсюда делось?
— А ваше все,— отвечают,— перевез к себе капитан
Постельников.
— Позвольте-с,— говорю,— позвольте, что это за
вздор! как капитан Постельников перевез? Этого быть не
может.
— Нет-с,— говорят,— действительно перевез.
— Да по какому же праву,— говорю,— вы ему отпусти¬
ли мои вещи?
Но вижу, что предстоящие после этого вопроса только
рты разинули и стоят передо мною как удивленные гал¬
чата.
— По какому праву? — продолжаю я добиваться.
— Капитану-то Постельникову? — отвечают мне с сму¬
щением.
— Да-с.
— Капитану Постельникову по какому праву?
— Ну да: капитану Постельникову по какому праву?
Галчата и рты замкнули: дескать, на тебя, брат, даже
и удивляться не стоит.
— Вот,— говорят,— чубучок ваш с змеиными головка¬
47
ми капитана Постельникова денщик не захватил, так из¬
вольте его получить.
Я рассердился, послал всем мысленно тысячу прокля¬
тий, надел шинель и фуражку, захватил в руки чубучок
с змеиными головками и повернулся к двери, но досадно
же так уйти, не получа никакого объяснения. Я вернулся
снова, взял в сторонку мать моего хозяина, добрейшую ста¬
рушку, которая, казалось, очень меня любила, и говорю ей:
— Матушка, Арина Васильевна! Поставьте мне голову
на плечи: расскажите, зачем вы отдали незнакомому чело¬
веку мои вещи?
— Да мы, дитя, думали,— говорит,— что сынок мой
Митроша на тебя жалобу приносил, что ты квартиры не
очищаешь, так что тебя по начальству от нас сводят.
— Ах, Арина Васильевна, да разве, мол, это можно,
чтобы ваш сын на меня пошел жаловаться? Ведь мы же
с ним приятели.
— Знаю,— говорит,— ангел мой, что вы приятели, да
мы думали, что, может быть, он в шутку это над тобой
пошутил.
— Что это: жаловаться-то,— говорю,— он в шутку
ходил?
— Да.
— Арина Васильевна, да нешто этак бывает? Нешто
это можно?
Арина Васильевна только растопырила руки и бормо¬
чет:
— Вот, говори же,— бает,— ты с нами! — мы сами, ди¬
тя, не знаем, что у нас было в думке.
Я махнул рукой, захватил опять чубучок, сухо простил¬
ся и вышел на улицу.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Не могу вам рассказать, в каком я был гадком состоя¬
нии духа. Разыгранная со мною штука просто сбила меня
с пахвей, потому что я, после своего неловкого поведения
у знакомых дам капитана, ни за что не расположен был
жить у его сестры и даже дал было себе слово никогда не
видать его. Комната мне нравилась, и я ничего не имел про¬
тив нее, но я имел много против капитана; мне его преду¬
предительность была не по нутру, а главное, мне было чрез¬
вычайно неприятно, что все это сделалось без моей воли.
48
Но я мог сердиться сколько мне угодно, а дело уже было
сделано.
Досада объяла меня несказанная, и я, чтобы немножко
поразвлечься и порассеяться и чтобы не идти на новую
квартиру, отправился бродить по Москве.
Я ходил очень долго, заходил в несколько церквей, где
тупо и бессознательно слушал вечернюю службу, два или
три раза пил чай в разных трактирах, но, наконец, девать¬
ся более было некуда. На дворе уже совсем засумерчило,
и по улицам только изредка кое-где пробегали запоздалые
чуйки; бродить по улицам стало совсем неловко. Я подо¬
шел к одному фонарю, вынул мои карманные часы: было
одиннадцать часов. Пора было на ночлег; я взял извозчи¬
ка и поехал на мою новую квартиру. К удивлению моему,
у ворот ждал меня дворник; он раскрыл передо мною ка¬
литку и вызвался проводить меня по лестнице с фонари¬
ком, который он зажег внизу, в своей дворницкой. Ремень,
приснащенный к звонку моей квартиры, был тоже необык¬
новенно чуток и послушен: едва я успел его потянуть, как
дверь, шурша своим войлочным подбоем, тихо отползла
и приняла меня в свои объятия. В передней, на полочке,
тихо горел чистенький ночничок. Комната моя была чиста,
свежа; пред большим образом спасителя ярко сияла лам¬
пада; вещи мои были разложены с такой аккуратностью
и с таким порядком, с каким я сам разложить их никогда
не сумел бы. Платье мое было развешено в шкафе; посре¬
ди стола, пред чернильницей, лежал мой бумажник и на
нем записка, в которой значилось: «Денег наличных 47
руб. ассигнациями, 4 целковых и серия», а внизу под эти¬
ми строками выдавлена буква «П», по которой я узнал,
что всею этой аккуратностью в моей комнате я был обя¬
зан тому же благодатному Леониду Григорьевичу.
«И скажите, пожалуйста,— рассуждал я себе,— когда
он все это делал? Я раскис и ошалел, да слоны слонял по
Москве, а он как ни в чем не бывал, и еще все дела за
меня попеределал!»
Я отдернул альков моей кровати и увидел постель, за¬
стланную ослепительно чистым бельем. Думать мне ни
о чем больше не хотелось; переехал так переехал, или пе¬
ревезли так перевезли,— делать уж нечего, благо тихо,
покойно, кровать готова и спать хочется. Я разделся, пе¬
рекрестился, лег и заснул в ту же самую минуту, как толь¬
ко упал головой на подушки. Занавески, которою отделял¬
ся мой альков, я не задернул, потому что, ложась, надеял¬
ся помечтать при свете лампады; но мечтанья, по поводу
49
внезапного крепкого сна, не случилось; зато около полуно¬
чи меня начал осенять целый рой самых прихотливых сно¬
видений. Мы с Постельниковым не то летели, не то вали¬
лись на землю откуда-то совсем из другого мира, не то
в дружественных объятиях, не то в каком-то невольном
сцеплении. Я был какой-то темный, неопределенный; он та¬
кой же голубой, каким я его видел и каким он мне только
и мог представляться; но у него, кроме того, были большие
влажные крылышки; помахивая ими, он меня словно всего
склеивал, и свист от взмахов этих крыльев и сладостно
и резко раздавался в моем слухе. Затем вдруг мы очути¬
лись в этой самой комнате и ездили по ней долго и дол¬
го, пока вдруг капитан дал мне в нос щелчок, и я прос¬
нулся.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Пробуждение мое было удивительно не менее самого
сна. Во-первых, я увидел над собою — кого бы вы думали?
Точно так, как бывало в моем детстве, я увидел над моим
изголовьем свежего, воскового купидона, привешенного
к алькову моей кровати. У купидона под крылышками бы¬
ла бархатная ермолочка на розовой шелковой подкладке,
а на ней пришпилена бумажка, опять точно так же с над¬
писью, как бывало во время моего детства. Это меня по¬
разило. Я приподнялся с кровати и с некоторым удовольст¬
вием устремил глаза мои на бумажку. На ней было напи¬
сано: «Оресту Марковичу Ватажкову на новоселье, в знак
дружбы и приязни. Постельников».
«Черт знает, чего этот человек так нахально лезет ко
мне в дружбу?» — подумал я и только что хотел при¬
встать с кровати, как вдруг двери моей комнаты распахну¬
лись, и в них предстал сам капитан Постельников. Он нес
большой крендель, а на кренделе маленькую вербочку. Это
было продолжение подарков на мое новоселье, и с этих
пор для меня началась новая жизнь, и далеко не похваль¬
ная.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
По моему безволию и малохарактерности я, конечно,
сблизился с капитаном Постельниковым безмерно и зато
стал заниматься науками гораздо менее и гораздо хуже,
чем прежде. Все свое время я проводил у моего голубого
50
купидона и перезнакомился у него с массою самых нестро¬
гих лиц женского пола, которых в квартире Постельнико¬
ва было всегда как мошек в погожий вечер. Это преиму¬
щественно были дамы и девицы не без пятен и не без уп¬
реков. Постельников был женский любимец и, как настоя¬
щий любимец женщин, он не привязывался решительно
ни к одной из них и третировал их en canaille, но в то
же время лукаво угождал всем им всевозможными мелки¬
ми, нежными услугами. Он и меня втирал в особенное ко
многим из этих дам расположение, отказываться от кото¬
рого, при тогдашних юных моих летах, я не всегда был
в состоянии. Сближение мое с этой женской плеядой, кото¬
рую я едва в силах возобновить в своей памяти, началось
со свадьбы той самой Тани или Лизы, которой я возил
цветы. Она выходила замуж за какого-то чиновника. По¬
стельников был у нее посаженым отцом и поднес живую
розу, на которой были его же живые стихи, которые я до
сих пор помню. Там было написано:
Розе розу посвящаю,
Розе розу я дарю,
Розу розой украшаю,
Чтобы шла так к алтарю.
На этой свадьбе, помню, произошел небольшой скан¬
дальчик довольно странного свойства. Постельников и его
приятель, поэт Трубицын, увезли невесту из-под венца
прямо в Сокольники и возвратили ее супругу только на
другой день... Жизнь моя вся шла среди подобных исто¬
рий, в которых, впрочем, сам я был очень неискусен
и слыл «Филимоном».
Так прошел целый год, в течение которого я все слыл
«Филимоном», хотя, по правде вам сказать, мне, как бы
по какому-то предчувствию, кличка эта жестоко не нрави¬
лась, и я употреблял всяческие усилия, чтобы ее с себя
сбросить. Я и пил вино, и делом своим не занимался,
и в девичьем вертограде ориентировался, а поэт Трубицын
и другие наши общие друзья как зарядили меня звать
«Филимоном», так и зовут. Ну, думаю: враг вас побери,
зовите себе как хотите! Перестал об этом думать и даже
начал совершенно равнодушно отзываться на кличку, бес¬
правно заменившую мое крещеное имя.
Однако я должен вам сказать, что совесть моя была
неспокойна: она возмущалась моим образом жизни, и я ре¬
шил во что бы то ни стало выбраться из этой компании;
1 Пренебрежительно (франц.).
51
дело стояло только за тем, как к этому приступить? Как
сказать об этом голубому купидону и общим друзьям?..
На это у меня не хватило силы, и я все откладывал свое
решение день ото дня в сладостной надежде, что не под¬
вернется ли какой счастливый случай и не выведет ли он
меня отсюда, как привел?
Избрав себе такой выжидательный способ действий,
я не ошибся в моих надеждах на благодетельный случай:
он не заставил себя долго ожидать и явился именно яко
тать в нощи. Этим распочинается самая скверная полоса,
закончившая собою первую половину моей жизни.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
Один раз, проводив от всенощной одну из своих зна¬
комых дам, я под мелким, частым дождем возвратился
домой и, отворив свою дверь,— остолбенел. В передней
у меня сидели рядом два здоровенных солдата в голубых
шинелях, а двери моей комнаты были связаны шнурком,
на котором болталась на бумажке большая красная печать.
Меня так и откинуло назад в сени. Не забудьте, что в тог¬
дашнее время увидеть в своей комнате голубого солдата
было совсем не то, что теперь, хотя и теперь, конечно, это
визит не из особенно приятных, но тогда... это спаси боже
что значило! Мне тотчас же представилась тройка, которая
мчит меня бог весть куда, где я пропаду без вести и сгину
неведомый ни матери, ни родным, ни присным... И вот во
мне вдруг пробудилась вообще мало свойственная мне
жгучая энергия, твердая и непреклонная решимость спа¬
саться: прежде чем подстерегавшие меня алгвазилы могли
что-нибудь сообразить, я быстро скатился с лестницы
и явился к Леониду Григорьевичу. Капитан Постельникоз
теперь, в моем отчаянном положении, был единственный
человек, у которого я мог просить какого-нибудь разъяс¬
нения и какой-нибудь защиты. Но его Клим отворил мне
двери и объявил, что барина нет дома и что даже неиз¬
вестно, когда он возвратится, потому что они, говорит,
«порют теперь горячку по службе».
— Лантрыганили,— говорит,— лантрыганили, а вот
теперь им генерал дают проборку; они и порют горячку
и на ночь навряд ли вернутся.
Положение мое делалось еще беспомощнее, и я решил¬
ся во что бы то ни стало отсюда не выходить. Хотя, ко¬
нечно, и квартира Леонида Григорьевича была не бог зна¬
52
ет какое надежное убежище, но я предпочитал оставаться
здесь, во-первых, потому, что все-таки рассчитывал на
большую помощь со стороны Постельникова, а во-вторых,
как известно, гораздо выгоднее держаться под самою сте¬
ной, с которой стреляют, чем отбегать от нее, когда вовсе
убежать невозможно.
Тут, думал я, по крайней мере никто не вздумает
искать, и выстрелы хотя на первое время, вероятно, про¬
летят над моею головой.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Изнывая и томясь в самых тревожных размышлениях
о том, откуда и за что рухнула на меня такая напасть,
я довольно долго шагал из угла в угол по безлюдной квар¬
тире Постельникова и, вдруг почувствовав неодолимую
слабость, прикорнул на диванчике и задремал. Я спал так
крепко, что не слышал, как Постельников возвратился до¬
мой, и проснулся уже, по обыкновению, в восемь часов ут-,
ра. Голубой купидон в это время встал и умывался.
Расстроенный и взволнованный, я вбежал в его комнату
и впопыхах объяснил ему, какая со мной случилась история.
Постельников с удивлением посмотрел на меня долгим
пристальным взглядом и, вдруг что-то припомнив, быстро
хватил себя по лбу ладонью и воскликнул:
— Ах, черт меня возьми, прости мне, бога ради, Фи¬
лимоша, за мою дурацкую рассеянность, ведь это я за¬
был тебя предупредить. Успокойся — все это, дружок, пу¬
стяки!
— Позволь,— говорю,— как же мне успокоиться, когда
меня сейчас могут сослать, и я даже не знаю за что?
— Пустяки это, Филимоша, все пустяки: арест —
вздор, и сослать тебя никуда не сошлют, я тебе в том по¬
рука, что никуда тебя не сошлют.
— Так ты,— говорю,— расскажи мне, пожалуйста,
в чем же меня подозревают, в чем моя вина и преступле¬
ние, если ты это знаешь?
— «Если я знаю»? Чудак ты, Филимоша! Разумеется,
я знаю; прекрасно, мой друг, знаю. Это все дело из пу¬
стяков: у тебя книжку нашли.
— Какую, какую нашли у меня книжку?
— Рылеева «Думы».
— Ну так что же,— говорю,— такое? Ведь это я у те¬
бя же эту книжку взял.
53
— Ну, разумеется,— говорит,— у меня; я этого tete-a-
tete с тобою и не отвергаю...
— Так позволь же, пожалуйста... что же это такое?..
Откуда же кто-нибудь мог узнать, что у меня есть эта
книжка?
— А вот ты,— говорит,— не горячись, а сядь да имей
терпение выслушать, так я тебе и расскажу.
Зная обильные потоки словотечения Леонида Постель¬
никова и его неумение ничего рассказывать коротко и про¬
сто, я повиновался и, скрепя сердце, сел и страдальчески
сложил на груди руки.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
— Видишь ли,— неспешно начал мой мучитель, осно¬
вательно усаживаясь у туалета и приступая к распусканию
своих папильоток,— видишь ли, про это, наконец, дозна¬
лись...
— Да я,— говорю,— я именно это-то и хочу знать, ка¬
ким образом могли дознаться про то, что я всего позавче¬
ра с глаз на глаз взял у тебя книжку?
— Душа моя, да зачем же,— говорит,— ты усилива¬
ешься это постичь, когда это все именно так и устроено,
что ты даже, может быть, чего-нибудь и сам не знаешь,
а там о тебе все это известно! Зачем же тебе в это про¬
никать?
— Нет, я,— говорю,— хочу знать, что же, где же я, с
кем я и кто за мною шпионит?
— Ну, вот уж и «шпионит»! Какие у вас, право, глу¬
пые слова всегда наготове... Вот от этого-то мне и неуди¬
вительно, что вы часто за них попадаетесь... язык мой —
враг мой. Что такое «шпионство»? Это обидное слово
и ничего более. Шпион, соглядатай — это употребляется
в военное время против неприятеля, а в мирное время ни¬
чего этого нет.
— Да позволь же,— говорю,— пожалуйста: как же ста¬
ло известно, что у меня есть твоя книга?
— А это другое дело; это совсем другое дело; тут нет
никакого шпионства, а я, видишь... я тебе откровенно
признаюсь, я, черт меня побери, как на себя ни злюсь, но
я совсем неспособен к этой службе. Я в нее и не хотел,—
я хотел в уланы, а это все маменька так устроила, что...
1 Наедине (франц.)
54
в этом войске, говорит, хорошо, и обеспечено, и мундир,
и шпоры, и это войско на войну не ходит,— а между тем
она, моя почтенная матушка-то, того не сообразила, годен
ли я, способен ли я к этой службе. Тут, правда, не конту¬
зят и не ранят, а выслужиться можно скорей, чем в бит¬
вах, но зато эта служба требует, так сказать, высших спо¬
собностей, тут, так сказать... к ученому даже нечто примы¬
кает, потому что требуется наблюдательность, а у меня ее
никакейшей, а у нас за это не хвалят... и основательно де¬
лают, что не хвалят, потому что у нас без этого нельзя,
потому что иначе на что же мы?
Нетерпение берет меня страшное!
— Позволь,— говорю,— Христа ради, мне тебя пере¬
бить.
— Да, хорошо,— отвечает,— перебей, братец, перебей,
но ты во всяком случае должен со мной согласиться, что
ведь мы же должны заботиться о том, чтобы мы оказы¬
вались на что-нибудь нужными?
— Прекрасно,— говорю,— прекрасно, но позволь...
— Нет, ты сам позволь: мы обязаны это доказать или
нет, что мы нужны? А почему? Потому, душа моя, что
ведь мы во что-нибудь стране-то обходимся, потому что
мы ведь рубля два с полтиною в год государству-то стоим?
Господи, мне приходилось хоть плакать.
— Бога ради,— говорю,— Леонид Григорьевич, мне не
до разговоров; я тебя с умилением прошу, не неси ты мне,
Христа ради, всей этой ахинеи, а скажи мне, за что меня
берут!
— Да я к этому и иду! что же ты сам меня перебива¬
ешь, а сам говоришь, что я несу ахинею?
— Ну ладно,— говорю,— я молчу и не перебиваю, но
только ради бога скажи скорее, в чем же дело?
— А в чем, ты думаешь, дело? Все дело в том, что
у нас до этих пор нет еще настоящих наблюдательных
людей. Оттого мы черт знает чем и занимаемся. Ты видал
у меня нашего офицера Бекасинникова?
— Ну, видал,— говорю,— видал.
— Прекрасный парень, товарищ и добрейшая душа,—
а ведь как, каналья, один раз меня срезал? Тоже вот как
у меня: наблюдательности у него никакейшей и не наход¬
чив, а ведь это в извинение не берется; его и приструни¬
ли, и так приструнили, что хоть или в отставку подавай,
или переходи в другую службу, но из нашего ведомства
это уже считается... неловко. Что же ты думаешь, он, сви¬
нья, сделал? Встретил меня на улице и ну меня обнимать,
55
да потихоньку снял у меня с сабли темляк и положил
его мне в карман шинели, а сам сообщил, что «Постельни¬
ков, говорит, манкирует формой и подает вредный при¬
мер другим». Меня вдруг и зовут: я ничего не знаю, явля¬
юсь как был — и прямо поехал за это на гауптвахту. Там
и нашел я темляк в шинели, да уж нечего делать. Но я Бе¬
касинникова в том не виню: что же ты будешь делать?
Герои редки, а службой своей должен каждый дорожить.
Меня вдруг осенило.
— Остановись,— говорю,— Леонид Григорьевич,—
я боюсь, что я тебя, наконец, понимаю?
— Ну да,— говорит,— Филимоша, да, ты прав; между
четырех глаз я от тебя не скрою: это я сообщил, что у те¬
бя есть запрещенная книжка. Приношу тебе, голубчик,
в этом пять миллионов извинений, но так как иначе де¬
лать было нечего... Ты, я думаю, ведь сам заметил, что
я последние дни повеся нос ходил... Я ведь службы мог
лишиться, а вчера мне приходилось хоть вот как,— и По¬
стельников выразительно черкнул себя рукой по горлу
и бросился меня целовать.
Поверите или нет, я даже не мог злиться. Я был так
ошеломлен откровенностью Постельникова, что не только
не обругал его, но даже не нашел в ответ ему ни одного
слова! Да немного времени осталось мне и для разговоров,
потому что в то время, как я не мешал Постельникову по¬
крывать поцелуями мои щеки, он махнул у меня за плеча¬
ми своему денщику, и по этому мановению в комнату яви¬
лись два солдата и от него же взяли меня под арест.
Я просидел около десяти дней в какой-то дыре, а в это
время вышло распоряжение исключить меня из универси¬
тета, с тем чтобы ни в какой другой университет не при¬
нимать; затем меня посадили на тройку и отвезли на ка¬
зенный счет в наш губернский город под надзор полиции,
причем, конечно, утешили меня тем, что, во внимание
к молодости моих лет, дело мое не довели до ведома выс¬
шей власти. Сим родительским мероприятием положен был
предел учености моей.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
У нас в деревне уже знали о моем несчастии. Изве¬
стие об этом дошло до дядина имения через чиновников,
которым был прислан секретный наказ, где мне дозволить
жить и как наблюдать за мною. Дядя тотчас понял в чем
56
дело, но от матушки половину всего скрыли. Дядя возму¬
тился за меня и, бог знает сколько лет не выезжая из де¬
ревни, тронулся сам в губернский город, чтобы встретить
меня там, разузнать все в подробности и потом ехать
в Петербург и тряхнуть в мою пользу своими старыми
связями.
При первом нашем свидании старик был со мною, сверх
ожидания, тепел и нежен; он держал меня во все время
разговора за руку, и когда я окончил свой рассказ, он по¬
жал плечами и проговорил:
— Боже великий, чем люди занимаются! Ну, однако,—
добавил он,— этого так им оставить невозможно. Я пое¬
ду просить, чтобы тебе дозволили поступить в другой уни¬
верситет, а теперь пока отдохни.
Он сам наблюдал, как мне сделали ванну, сам уложил
меня в постель, но через два часа сам сделал мне такое
горе, нанес мне такое несчастие, перед которым шутка По¬
стельникова была невиннейшей идиллией.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Я спал безмятежно сном совершенно мертвым, каким
только можно спать после тысячеверстного пути на пере¬
кладной телеге, и вдруг сквозь этот невероятный сон я ус¬
лышал заупокойное пение «Святый Боже», затем ужасный,
потрясающий крик, стон, вопль — не знаю, как вам и наз¬
вать этот ужасный звук, от которого еще сейчас ноет мозг
костей моих... Раздался этот крик, и вдруг какая-то пани¬
ка, какой-то смущающий шепот, хлопанье дверей и всеобъ¬
емлющий ужас... Из живых людей меня никто не будил,
но чья-то незримая рука толкнула меня в ребра и над ухом
прожужжала пчела. Я вскочил, выбежал в зал... и уви¬
дел на диване мою мать... мертвою.
Вещун-сердце ее не выдержало: она чуяла, что со мной
худо, и прилетела в город вслед за дядей; дяде вдруг
вздумалось пошутить над ее сантименталъностию. Увидев,
что матушка въехала на двор и выходит из экипажа, он
запер на крючок дверь и запел «Святый Боже». Он ей
спел эту отходную, и вопль ее, который я слышал во сне,
был предсмертный крик ее ко мне. Она грохнулась у две¬
ри на землю и... умерла от разрыва сердца.
Этого уж я не мог вынести и заболел горячкой, в кото¬
рой от всех почитался в положении безнадежном, но
вдруг в двенадцатый день опомнился, стал быстро по¬
57
правляться и толстеть самым непозволительным об¬
разом.
Дядя избегал со мною всяких свиданий, но какими-то,
доселе мне неведомыми путями исходатайствовал мне поз¬
воление жить в Петербурге и оканчивать там свое обра¬
зование.
Я, конечно, не заставил себе повторять этого разреше¬
ния и немедленно же собрался.
Дядя наблюдал за моим здоровьем, но сам скрывался;
он показался мне только в самую минуту моего отъезда, но
это отнюдь не был уже тот мой дядя, какого я привык ви¬
деть: это был старец смирный, тихий, убитый, в сермяж¬
ном подряснике, подпоясанном черным ремнем, и с седою
щетиной на бороде.
Старик встретил меня в сенях, когда я выходил, чтобы
садиться в телегу, и, упав предо мной на колена, горько
зарыдал и прошептал:
— Орест! прости меня Христа ради.
Я бросился к нему, поднял его, и мы поцеловались
и расстались, с тем, чтобы уже никогда больше на этом
свете не видаться.
Таким образом, шутя выгнанный из Москвы, я приез¬
жал в свой город как будто только для того, чтобы там
быть свидетелем, как шутя убили при мне страстно люби¬
мую мною мать и, к стыду моему, растолстеть от горяч¬
ки и болезни.
«Что-то ждет меня еще в Петербурге?» — задавал я
себе пытанье и хотя совсем разучился верить во что-нибудь
хорошее, но с озлоблением не боялся ничего и худого.
«На же тебе меня, на! — говорил я мысленно своей
судьбе.— На тебе меня, и поделай-ка со мной что-нибудь
чуднее того, что ты делала. Нет, мол, голубка, ты меня уж
ничем не удивишь!»
Но я в этом наижесточайше ошибся: то, что судьба го¬
товила мне здесь, превзошло всякие неожиданности.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Я вам говорил, что в моей руке не только был перо¬
чинный нож, которым я ранил в гимназии великого Калату¬
зова, но я держал в моих руках и меч. Вот как это случи¬
лось.
Живу я в Петербурге тихо и смирно, и учусь. Новой
беды над собой, разумеется, ниоткуда не жду, да и думаю,
58
что и взяться ей неоткуда. Верно, думаю, злая судьба моя
уже удовлетворилась.
Успокаивая себя таким образом, я сам стал терять мое
озлобление и начал рассуждать обо всем в духе слад¬
чайшего всепрощения. Я даже нашел средство при¬
мириться с поступком дяди, стоившим жизни моей ма¬
тери.
«Что же,— думаю я,— матушка умерла праведницей,
а кончина ее обратила беспокойного и строптивого дядю
моего к христианскому смирению. Благому духу моей ма¬
тери это сладчайшая награда, и не обязан ли я смотреть
на все совершившееся как на исполнение предначертаний
Промысла, ищущего каждой заблудшей овцы?»
Я решил себе, что это именно так, и написал об этом
моему дяде, от которого чрез месяц получаю большой пакет
с дарственною записью на все его имения и с письмом,
в котором он кратко извещал меня, что он оставил дом,
живет в келье в одной пустыни и постригся в монахи,
а потому,— добавляет,— «не только сиятельством, но даже
и благородием меня впредь не титулуй, ибо монах благо¬
родным быть не может!» Эта двусмысленная, шутливая
приписка мне немножко не понравилась: и этого он не
сумел сделать серьезно!.. Но что его осуждать?.. Это кув¬
шин, который уже сломил себе голову.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Стояло великопостное время; я был тогда, как говорю
вам, юноша теплый и умиленный, а притом же потеря ма¬
тушки была еще насвеже, и я очень часто ходил в одну
домовую церковь и молился там и пресладко, и преискрен¬
но. Начинаю говеть и уж отгавливаюсь — совсем собира¬
юсь подходить к исповеди, как вдруг, словно из театраль¬
ного люка, выростает предо мною в темном угле церкви
господин Постельников и просит у меня христианского
прощения, если он чем-нибудь меня обидел.
«Ах ты, ракалья этакая! — подумал я,— еще он сом¬
невается... «если он чем-нибудь меня обидел»! Да и зачем
он очутился здесь и говеет как раз в той же церкви, где
и я?.. А впрочем, думаю: по-христиански я его простил
и довольно; больше ничего не хочу про него ни знать, ни
ведать». Но вот-с причастился я, а Постельников опять
предо мною в новом мундире с жирными эполетами и позд¬
равляет меня с принятием Святых Таин.
59
«Ну, да ладно,— думаю,— ладно», и от меня прошу
принять такое же поздравление.
Вышли мы из церкви; он меня, гляжу, догоняет по до¬
роге и говорит:
— Ты ведь меня, Филимоша, простил и больше не сер¬
дишься?
Я даже и слова не нашел, что ответить ему на такой
фамильярный приступ.
— Не сердись,— говорит,— пожалуйста, Филимоша;
я, ей-богу, всегда тебя любил; но я совсем неспособен
к этой службе и оттого, черт меня знает, как медленно
и подвигаюсь.
— Однако,— говорю,— чем же медленно? У вас уже
жирные эполеты.— А сам, знаете, все норовлю от него
в сторону.
А он не отстает и продолжает:
— Ах, что,— говорит,— в этом, Филимоша, что жир¬
ные эполеты? Разве другие-то это одно до сих пор имеют?
Нет, да я, впрочем, на начальство и не ропщу: я сам знаю,
что я к этой службе неспособен. Стараюсь — да неспосо¬
бен, и вот это меня сокрушает. Я переведен сюда для
пользы службы, а службе от меня никакой пользы нет, да
и вперед не будет, и я это чувствую и скорблю... Мне ху¬
до потому, что я человек товарищественный. Вы ведь,
я думаю, это помните?
— Как же, помню, мол, даже непременно очень помню.
— Да вот, у меня здесь теперь есть новый приятель,
Станислав Пржикрживницкий, попросту — Стаська...
Представьте, какой только возможно-чудеснейший малый:
товарищ, весельчак, и покутить не прочь, и в картишки, со
всеми литературами знаком, и сам веселые стихи на все
сочиняет; ко тоже совершенно, как у меня, нет никакой
наблюдательности. Представьте себе, комизма много, а на¬
блюдательности нет; ведь это даже удивительно! Генерала
нашего представляет как нельзя лучше, да и вообще всех
нас пересмешит в манеже. Приедет и кричит: «Bonjour,
мой взвод!» Те орут: «Здравия желаем, ваше благоро¬
дие!» — «Какое, говорит, у нас нынче меню?» — «Шшы,
ваше благородие».— «Вахмистр, говорит, покажи мне мое
место!»... Одним словом, пересмешит до упаду, а служеб¬
ной наблюдательности все-таки нет. Он мне раз и говорит:
«Душка Постельников, ты опытнее, пособи мне обратить
на себя внимание. Иначе, говорит, я вас больше и тешить
1 Здравствуйте (франи,.).
60
не хочу, потому что на меня начинают находить прегорькие
минуты».— «Да, друг ты мой,— отвечаю я ему,— да мне
самому не легче тебя». И я это не лгу. Вы не поверите, что
я бог знает как обрадовался, узнав, что вы в Петербурге.
— А вы почему,— говорю,— это узнали?
— Да как же,— говорит,— не узнать? Ведь у нас это
по реестрам видно.
— Гм, да, мол, вот что... по реестрам у вас видно.
А он продолжает, что хотел было даже ко мне прие¬
хать, «чтобы душу отвести», да все, говорит, ждал случая.
Ух, батюшки, так меня и кольнуло!
— Как, какого,— говорю,— вы ждали случая?
— А какого-нибудь,— отвечает,— чтобы в именины
или в рожденье... нагрянуть к вам с хлебом и солью...
А кстати, вы когда именинник? — И тотчас же сам и от¬
гадывать.— Чего же,— говорит,— я, дурак, спрашиваю,
будто я не знаю, что четырнадцатого декабря?
Это вовсе неправда, но мне, разумеется, следовало бы
так и оставить его на этот счет в заблуждении; но я это
не сообразил и со страха, чтоб он на меня не нагрянул,
говорю: я вовсе и не именинник четырнадцатого декабря.
— Как,— говорит,— не именинник? Разве святого
Филимона не четырнадцатого декабря?
— Я,— отвечаю,— этого не знаю, когда святого Фи¬
лимона, да и мне можно это и не знать, потому что я вов¬
се не Филимон, а Орест.
— Ах, и вправду! — воскликнул Постельников.—
Представьте: сила привычки! Я даже и позабыл: ведь это
Трубицын поэт вас Филимоном прозвал... Правда, правда,
это он прозвал... а у меня есть один знакомый, он действи¬
тельно именинник четырнадцатого декабря, так он даже
просил консисторию переменить ему имя, потому... пото¬
му... что... четырнадцатого декабря... Да!.. четырнадца¬
того...
И вдруг Постельников воззрился на меня острым, при¬
стальным взглядом, еще раз повторил слово «четырнад¬
цатое декабря» и с этим тихо, в рассеянности пожал мне
руку и медленно ушел от меня в сторону.
Я был очень рад, что от него освободился, пришел до¬
мой, пообедал и пресладостно уснул, но вдруг увидел во
сне, что Постельников подал меня на блюде в виде поро¬
сенка под хреном какому-то веселому господину, которого
назвал пои этом Стаськой Пржикрживницким.
— На,— говорит,— Стася, кушай, совсем готовый:
и ошпарен, и сварен.
61
Дело пустое сон, но так как я ужасный сновидец, то
это меня смутило. Впрочем, авось, думаю, пронесет Бог
этот сон мимо. Ах! не тут-то было; сон пал в руку.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Приходит день к вечеру; «ночною темнотой мрачатся
небеса, и люди для покоя смыкают уж глаза»,— а ко мне
в двери кто-то динь-динь-динь, а вслед за тем сбруею
брясь-дрясь-жись! «Здесь,— говорит,— такой-то Ватаж¬
ков»? Ну, конечно, отвечают, что здесь.
Вошли милые люди и вежливо попросили меня собрать¬
ся и ехать.
Оделся я, бедный, и еду.
Едем долго ли, коротко ли, приезжаем куда-то и идем
по коридорам и переходам. Вот и комната большая, не то
казенная, не то общежитейская... На окнах тяжелые зана¬
вески, посредине круглый стол, покрытый зеленым сук¬
ном, на столе лампа с резным матовым шаром и несколь¬
ко кипсеков; этажерка с книгами законов, и в глубине
диван.
— Дожидайтесь здесь,— велел мне мой провожатый
и скрылся за следующею дверью.
Жду я час, жду два: ни звука ниоткуда нет. Скука бе¬
рет ужасная, скука, одолевающая даже волнение и трево¬
гу. Вздумал было хоть закон какой-нибудь почитать или
посмотреть в окно, чтоб уяснить себе мало-мальски: где
я и в каких нахожусь палестинах; но боюсь! Просто
тронуться боюсь, одну ногу поднимаю, а другая — так
мне и кажется, что под пол уходит... Терпенья нет, как
страшно!
«Вот что,— думаю себе,— проползу-ка я осторожнень¬
ко к окну на четвереньках. На четвереньках — это совсем
не так рискованно: руки осунутся, я сейчас всем телом на¬
зад, и не провалюсь».
Думал, думал да вдруг насмелился, как вдруг в то са¬
мое время, когда я пробирался медведем, двери в комнату
растворились, и на пороге показался лакей с серебряным
подносом, на котором стоял стакан чаю.
Появление этого свидетеля моего комического полза¬
ния на четвереньках меня чрезвычайно сконфузило... Ла¬
кей-каналья держался дипломатическим советником, а сам
едва не хохотал, подавая чай, но мне было не до его са¬
тирических ко мне отношений. Я взял чашку и только вни-
62
мательно смотрел на все половицы, по которым пройдет
лакей. Ясно, что это были половицы благонадежные и что
по ним ходить было безопасно.
«Да и боже мой,— сообразил я вдруг,— что же я за
дурак такой, что я боюсь той или другой половицы? Ведь
если мне уж определено здесь провалиться, так все равно:
и весь диван, конечно, может провалиться!»
Это меня чрезвычайно успокоило и осмелило, и я, пос¬
ле долгого сиденья, вдруг вскочил и заходил через всю
комнату с ярым азартом. Нестерпимейшая досада, негодо¬
вание и гнев — гнев душащий, но бессильный, все это ме¬
ня погоняло и шпорило, и я шагал и шагал и... вдруг, ми¬
лостивые мои государи, столкнулся лицом к лицу с седым
человеком очень небольшого роста, с огромными усами
и в мундире, застегнутом на все пуговицы. За его плечом
стоял другой человек, ростом повыше и в таком же точно
мундире, только с обер-офицерскими эполетами.
Оба незнакомца, по-видимому, вошли сюда уже не¬
сколько минут и стояли, глядя на меня с усиленным вни¬
манием.
Я сконфузился и остановился.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Маленький генерал понял мое замешательство, улыб¬
нулся и сказал:
— Ничего-с.
Я поклонился. Генерал мне показался человеком очень
добрым и мягким.
— Вас зовут Филимон? — спросил он меня тихо и
бесстрастно, но глубоко таинственно.
— Нет-с,— отвечал я ему смело,— меня зовут не Фили¬
мон, а Орест.
— Знаю-с и не о том вас спрашиваю.
— Я,— говорю,— отвечаю вашему превосходительству
как раз на ваш вопрос.
— Неправда-с,— воскликнул, возвышая голос, генерал,
причем добрые голубые глаза его хотели сделаться злыми,
но вышли только круглыми.— Неправда-с: вы очень хо¬
рошо знаете, о чем я вас спрашиваю, и отвечаете мне
вздор!
Теперь я действительно уж только и мог отвечать один
вздор, потому что я ровно ничего не понимал, чего от ме¬
ня требуют.
63
— Вас зовут Филимон! — воскликнул генерал, сделав
еще более круглые глаза и упирая мне в грудь своим ука¬
зательным пальцем.— Ага! что-с,— продолжал он, изло¬
вив меня за пуговицу,— что? Вы думаете, что нам что-ни¬
будь неизвестно? Нам все известно: прошу не запираться,
а то будет хуже! Вас в вашем кружке зовут Филимоном!
Слышите: не запираться, хуже будет!
Я спокойно отвечал, что не вижу вовсе и никакой нуж¬
ды быть в этом случае неискренним пред его превосходи¬
тельством; «действительно,— говорю,— пришла когда-то
давно одному моему знакомцу блажь назвать меня Фили¬
моном, а другие это подхватили, находя, будто имя Фили¬
мон мне почему-то идет...»
— А вот в том-то и дело, что это вам идет; вы, нако¬
нец, в этом сознались, и я вас очень благодарю.
Генерал пожал мне с признательностью руку и доба¬
вил:
— Я очень рад, что после вашего раскаяния могу все
это представить в самом мягком свете и, Бог даст, не до¬
пущу до дурной развязки. Извольте за это сами выби¬
рать себе любой полк; вы где хотите служить: в пехоте
или в кавалерии?
— Ваше превосходительство,— говорю,— позвольте...
я нигде не хочу служить, ни в пехоте, ни в кава¬
лерии...
— Тс! Молчать! молчать! тссс! — закричал генерал.—
Нам все известно. Вы человек с состоянием, вы должны
идти в кавалерию.
— Но, ваше превосходительство, я никуда не хочу
идти.
— Молчать! тс! не сметь!.. молчать! Отправляйтесь
сейчас с моим адъютантом в канцелярию. Вам там приго¬
товят просьбу, и завтра вы будете записаны юнкером,—
понимаете? юнкером в уланы или в гусары; я предостав¬
ляю это на ваш выбор, я не стесняю вас: куда вы хо¬
тите?
— Да, ваше превосходительство, я,— говорю,— нику¬
да не хочу.
Генерал опять затопал, закричал и кричал долго что-то
такое, в чем было немало добрых и жалких слов насчет
спокойствия моих родителей и моего собственного буду¬
щего, и затем вдруг,— представьте вы себе мое вящее
удивление,— вслед за сими словами непостижимый гене¬
рал вдруг перекрестил меня крестом со лба на грудь, быст¬
ро повернулся на каблуках и направился к двери.
64
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Отчаяние придало мне неожиданную смелость: я бро¬
сился вслед за генералом, схватил его решительно за руку
и зычно воскликнул:
— Ваше превосходительство! воля ваша, а я не могу...
Извольте же мне по крайней мере сказать, что же я такое
сделал? За что же я должен идти в военную службу?
— Вы ничего не сделали,— тихо и безгневно отвечал
мне генерал.— Но не думайте, что нам что-нибудь неизве¬
стно: нам все известно, мы на то поставлены, и мы знаем,
что вы ничего не сделали.
— Так за что же-с, за что,— говорю,— меня в военную
службу?
— А разве военная служба — это наказание? Военная
служба это презерватив.
— Но помилуйте,— говорю,— ваше превосходитель¬
ство; вы только извольте на меня взглянуть: ведь я сов¬
сем к военной службе неспособен, и я себя к ней ни¬
когда не предназначал, притом же... я дворянин, и по воль¬
ности дворянства, дарованной Петром Третьим и подтвер¬
жденной Великой Екатериной...
— Те! тс! не сметь! молчать! тс! ни слова больше! —
замахал на меня обеими руками генерал, как бы стараясь
вогнать в меня назад вылетевшие из моих уст слова.—
Я вам дам здесь рассуждать о вашей Великой Екатерине!
Тссс! Что такое ваша Великая Екатерина? Мы лучше вас
знаем, что такое Великая Екатерина!.. черная женщина!..
не сметь, не сметь про нее говорить!..
И генерал снова повернул к двери.
Отчаяние мною овладело страшное.
— Но, бога ради! — закричал я, снова догнав и схва¬
тив генерала дерзостно за руку.— Я вам повинуюсь, пови¬
нуюсь, потому что не могу не повиноваться...
— Не можете, да, не можете и не должны! — прогово¬
рил мягче прежнего генерал.
По тону его голоса и по его глазам мне показалось, что
он не безучастлив к моему положению.
Я этим воспользовался.
— Умоляю же,— говорю,— ваше превосходительство,
только об одном: не оставьте для меня вечной тайной,
в чем моя вина, за которую я иду в военную службу?
Генерал, не сердясь, сложил наполеоновски свои руки
на груди и, отступив от меня шаг назад, проговорил:
— Вас прозвали Филимон!
3. H. С. Лесков, т. 5.
65
— Знаю,— говорю,— это несчастье; это Трубицын.
— Филимон! — повторил, растягивая, генерал.—
И, как вы сами мне здесь благородно сознались, это боль¬
ше или меньше соответствует вашим свойствам?
— Внешним, ваше превосходительство, внешним, на¬
ружным,— торопливо лепетал я, чувствуя, что как будто
в имени «Филимон» действительно есть что-то преступное.
— Прекрасно-с! — и с этим генерал неожиданно
прискакнул ко мне петушком, взял меня руками за плечи,
подвинул свое лицо к моему лицу, нос к носу и, глядя мне
инквизиторски в глаза, заговорил: — А позвольте спро¬
сить вас, когда празднуется день святого Филимона?
Я вспомнил свой утренний разговор с Постельниковым
о моем тезоименитстве и отвечал:
— Я сегодня случайно узнал, что этот день празднует¬
ся четырнадцатого декабря.
— Четырнадцатого декабря! — произнес вслед за мною
в некоем ужасе генерал и, быстро отхватив с моих плеч
свои руки, поднял их с трепетом вверх над своею головой
и, возведя глаза к небу, еще раз прошептал придыханием:
«Четырнадцатого декабря!» и, качая в ужасе головою, ис¬
чез за дверью, оставив меня вдвоем с его адъютантом.
ГЛАВА СОРОКОВАЯ
— Вы ничего этого не бойтесь,— весело заговорил со
мною адъютант, чуть только дверь за генералом затвори¬
лась.— Поверьте, это все гораздо страшнее в рассказах.
Он ведь только егозит и петушится, а на деле он божья
коровка и к этой службе совершенно неспособен.
— Но, однако,— говорю,— мне, по его приказанию,
все-таки надо идти в полк.
— Да полноте,— говорит,— я даже не понимаю, за что
вы его так сильно раздражили? Не все ли вам равно, где
ни служить?
— Да, так-с; но я совершенно неспособен к военной
службе.
— Ах! полноте вы, бога ради, толковать о способно¬
стях! Разве у нас это всё по способностям расчисляют?
я и сам к моей службе не чувствую никакого призвания,
и он (адъютант кивнул на дверь, за которую скрылся ге¬
нерал), и он сам сознается, что он даже в кормилицы боль¬
ше годится, чем к нашей службе, а все мы между тем слу¬
жим. Я вам посоветую: идите вы в гусары; вы,— извини¬
66
те меня,— вы этакий кубастенький бочоночек, прекорена¬
стый; ведь лучше в гусары, да там и общество дружное
и залихватское... Вы пьете?.. Нет!.. Ну, да все равно.
А острить можете?
— Нет,— отвечаю,— я и острить не могу.
— Ну, как-нибудь из Грибоедова, что ли: «Ах, боже
мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна»; или
что-нибудь другое,— ведь это нетрудно... Неужто и этого
не можете?
— Да это, может быть, и могу,— отвечаю я,— да за¬
чем же это?
— Ну, вот и довольно, что можете, а зачем — это пос¬
ле сами поймете: а что это нетрудно, так я вам за то го¬
ловой отвечаю: у нас один гусар черт знает каким остря¬
ком слыл оттого только, что за каждым словом прибавлял:
«Ах, екскюзе ма фам»; но все это пока в сторону, а те¬
перь к делу: бумага у меня для вас уже заготовлена; что
вам там таскаться в канцелярию? только выставить полк,
в какой вы хотите,— заключил он, вытаскивая из-за лац¬
кана сложенный лист бумаги, и тотчас же вписал там
в пробеле имя какого-то гусарского полка, дал мне подпи¬
сать и, взяв ее обратно, сказал мне, что я совершенно
свободен и должен только завтра же обратиться к такому-
то портному, состроить себе юнкерскую форму, а после¬
завтра опять явиться сюда к генералу, который сам отве¬
зет меня и отрекомендует моему полковому командиру.
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ
Так все это и сделалось. Портной одел меня, писаря
записали, а генерал осмотрел, ввел к себе в кабинет, бла¬
гословил маленьким образком в ризе, сказал, что «все это
вздор», и отвез меня в карете к другому генералу, моему
полковому командиру. Я сделался гусаром недуманно-не¬
гаданно, против всякого моего желания и против всех мо¬
их дворянских вольностей и природных моих способностей.
Жизнь моя казалась мне погибшею, и я самовольно пред¬
ставлял себя себе самому не иначе как волчком, который
посукнула рука какого-то злого чародея,— и вот я кручусь
и верчусь по его капризу: езжу верхом в манеже и слушаю
грибоедовские остроты и, как Гамлет, сношу удары оскорб¬
ляющей судьбы купно до сожалений Трубицына и изви¬
1 Простите мою жену (франи,.— Excusez ша femme).
67
нений Постельникова, а все-таки не могу вооружиться про¬
тив моря бед и покончить с ними разом; с мосту да в во¬
ду... Что вы на меня так удивленно смотрите? Ей-богу,
я в пору моей воинской деятельности часто и много помыш¬
лял о самоубийстве, да только все помышлял, но, по сла¬
бости воли, не решался с собою покончить. А в это время
меня произвели в корнеты, и вдруг... в один прекрасный
день, пред весною тысяча восемьсот пятьдесят пятого года
в скромном жилище моем раздается бешеный звонок, за¬
тем шум в передней, бряцанье сабли, восклицания безум¬
ной радости, и в комнату ко мне влетает весь сияющий
Постельников!..
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
Увидав Постельникова, да еще в такие мудреные дни,
я даже обомлел, а он ну меня целовать, ну меня вертеть
и поздравлять.
«Что такое?» — думаю себе, и как я ни зол был на
Постельникова, а спрашиваю его, с чем он меня поздрав¬
ляет?
— Дружище мой, Филимоша,— говорит,— ты свобо¬
ден!
— Что? что,— говорю,— такое?
— Мы свободны!
«Э,— думаю,— нет, брат, не надуешь!»
— Да радуйся же! — говорит,— скот ты этакий: ра¬
дуйся и поздравляй ее!
— Кого-с? — пытаю с удивлением.
— Да ее, ее, нашу толстомясую мать Федору Иванов¬
ну! Ну, Россию, что ли, Россию! будто ты не понимаешь:
она свободна, и все должны радоваться.
— Нет, мол, не надуешь, не хочу радоваться.
— Да, пойми же, пентюх, пойми: с-в-о-б-о-д-е-н...
Слово-то ты это одно пойми!
— И понимать,— говорю,— ничего не хочу.
— Ну, так ты,— говорит,— после этого даже не скот,
а раб... понимаешь ли ты, раб в своей душе!
«Ладно,— думаю,— отваливай, дружок, отваливай».
— Да ты, шут этакий,— пристает,— пойми только, ку¬
да мы теперь пойдем, какие мы антраша теперь станем
выкидывать!
— Ничего,— отвечаю,— и понимать не хочу.
— Так вот же тебе за то и будут на твою долю одно:
«ярмо с гремушкою да бич».
68
— И чудесно, только оставьте меня в покое.
Так я и сбыл его с рук; но через месяц он вдруг снова
предстал моему изумленному взору, и уже не с веселою
улыбкою, а в самом строгом чине и начал на вы.
— Вы,— говорит,— на меня когда-то роптали и сер¬
дились.
— Никогда,— отвечаю,— я на вас не роптал.
Думаю, черт с тобой совсем: еще и за это достанется.
— Нет, уж это,— говорит,— мне обстоятельно извест¬
но; вы даже обо мне никогда ничего не говорите, и тогда,
когда я к вам, как к товарищу, с общею радостною вестью
приехал, вы и тут меня приняли с недоверием; но Бог
с вами, я вам все это прощаю. Мы давно знакомы, но вы,
вероятно, не знаете моих правил: мои правила таковы,
чтобы за всякое зло платить добром.
«Да,— думаю себе,— знаю я: ты до дна маслян, толь¬
ко тобой подавишься», и говорю:
— Вы очень добры.
— Совсем нет; но это, извините меня, самое злое и са¬
мое тонкое мщение — платить добром за оскорбления. Вот
в чем вопрос: хотите ли вы ехать за границу?
— Как,— говорю,— за какую за границу?
— За какую! Уж, конечно, за западную: в Париж,
в Лондон,— в Лондоне теперь чудные дела делаются...
Что там только печатается!.. Там восходит наша звезда,
хотите почитать?
— Нет,— говорю,— не хочу.
— Но отчего же?
— Да так, не хочу, да и только...
— И ехать не хотите?
— Нет, ехать хочу, но...
— Что за но...
— Но меня,— говорю,— не пустят за границу.
— Отчего это не пустят? — и Постельников захохо¬
тал.— Не оттого ли, что ты именинник-то четырнадцатого
декабря... Э, брат, это уже все назади осталось; теперь на
политику иной взгляд, и нынче даже не такие вещи ниче¬
го не значат. Я, я,— понимаешь, я тебе отвечаю, что тебя
пустят. Ты в отпуск хочешь или в отставку?
— Ах, зачем же,— отвечаю,— в отпуск! Нет, уж я, ес¬
ли только можно, в чистую отставку хочу.
— Ступай и в отставку, подавай по болезни рапорт —
и катай за границу.
— Да мне никто и свидетельства,— говорю,— не даст,
что я болен.
69
Постельников меня за это даже обругал.
— Дурак! — говорит,— ты извини меня: просто дурак!
Да ты не хочешь ли, я тебе достану свидетельство, что ты
во второй половине беременности?
— Ну, уж это,— говорю,— ты вздор несешь!
— Держишь пари?
— И пари не хочу.
— Нет, пари! держи пари.
И сам руку протягивает.
— Нечего,— говорю,— и пари держать, потому что все
это вздор.
— Нет, ты держи со мною пари.
— Сделай милость,— говорю,— отстань, мне это не¬
приятно.
— Так что ж ты споришь? Я уж знаю, что говорю.
С моего брата на перевязочном пункте в Крыму сорок руб¬
лей взяли, чтобы контузию ему на полную пенсию припи¬
сать, когда его и комар не кусал; но мой брат дурак: ему
правую руку отметили, а он левую подвязал, потом и вы¬
шел из этого только один скандал, насилу, насилу кое-как
поправили. А для умного человека ничего не побоятся сде¬
лать. Возьмись за самое легкое, за так называемое «казна¬
чейское средство»: притворись сумасшедшим, напусти на
себя маленькую меланхолию, говори вздор: «я, мол, дитя
кормлю; жду писем из розового замка» и тому подобное...
Согласен?
— Хорошо,— отвечаю,— согласен.
— Ну вот, только всего и надо. И сто рублей дать тоже
согласен?
— Я триста дам.
— На что же триста? Ты, милый друг, этак Петербур¬
гу цены портишь,— за триста тебя здесь теперь ведь на
родной матери перевенчают и в том тебе документ дадут.
— Да мне уж,— говорю,— не до расчетов: лишь бы
вырваться; не с деньгами жить, а с добрыми людьми...
Постельников вдруг порскнул и потом так и покатился
со смеху.
— Прекрасно,— говорит,— вот и это прекрасно! Из¬
вини меня, что я смеюсь, но это для начала очень хорошо:
«не с деньгами жить, а с добрыми людьми»! Это черт зна¬
ет как хорошо, ты так и комиссии... как они к тебе при¬
едут свидетельствовать... Это скоро сделается. Я извещу,
что ты не того...
Постельников помотал пальцем у своего лба и добавил:
— Извещу, что у тебя меланхолия и что ты с оружием
70
в руках небезопасен, а ты: «не с деньгами, мол, жить,
а с добрыми людьми», и вообще чем будешь глупее, тем
лучше.
И с этим Постельников, сжав мою руку, исчез.
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ
Два-три дня я прожил так, на власть Божию, но в боль¬
шом расстройстве, и многим, кто видел меня в эти дни,
казался чрезвычайно странным. Совершеннее притворять¬
ся меланхоликом, как выходило у меня без всякого при¬
творства, было невозможно. На третий день ко мне нагря¬
нула комиссия, с которой я, в крайнем моем замешатель¬
стве, решительно не знал, что говорить.
Рассказывал им за меня всё Постельников, до упаду
смеявшийся над тем, как он будто бы на сих днях приходит
ко мне, а я будто сижу на кровати и говорю, что «я дитя
кормлю»; а через неделю он привез мне чистый отпуск за
границу, с единственным условием взять от него какие-то
бумаги и доставить их в Лондон для напечатания в «Ко¬
локоле».
— Конечно,— убеждал меня Постельников,— ты не
подумай, Филимоша, что я с тем только о тебе и хлопо¬
тал, чтобы ты эти бумажонки отвез; нет, на это у нас те¬
перь сколько угодно есть охотников, но ты знаешь мои
правила: я дал тем нашим лондонцам-то слово с каждым
знакомым, кто едет за границу, что-нибудь туда посылать,
и потому не нарушаю этого порядка и с тобой; свези и ты
им кой-что. Да здесь, впрочем, все и довольно невинное:
насчет нашего генерала и насчет дворни. В Берлине ты все
это можешь даже смело в почтовый ящик бросить,— отту¬
да уж оно дойдет.
Признаюсь вам, принимая вручаемый мне Постельнико¬
вым конверт, я был твердо уверен, что он, по своей «не¬
способности к своей службе», непременно опять хочет сыг¬
рать на меня. Ошибался я или нет, но план его мне казал¬
ся ясен: только что я выеду, меня цап-царап и схватят
с поличным — с бумагами про какую-то дворню и про ге¬
нерала.
«Нет, черт возьми,— думаю,— довольно: более не под¬
дамся», и сшутил с его письмом такую же штуку, какую
он рассказывал про темляк, то есть «хорошо, говорю, мой
друг; благодарю тебя за доверие... Как же, отвезу, непре¬
менно отвезу и лично Герцену в руки отдам»,— а сам на¬
71
чал его на прощание обнимать и целовать лукавыми лоб¬
заниями, да и сунул его конверт ему же самому в задний
карман. Что вы все, господа, опять смотрите на меня та¬
кими удивленными глазами? Не кажется ли вам, что я не¬
благодарно поступил по отношению к господину Постель¬
никову? Может быть и так, может быть даже, что он от¬
нюдь и не имел никакого намерения устраивать мне на
этих бумажонках ловушку, но обжегшиеся на молоке ду¬
ют и на воду; в этом самая дурная сторона предательства:
оно родит подозрительность в душах самых доверчивых.
И вот, наконец, я опять за границей, и опять на сво¬
боде, на свободе после неустанного падения на меня столь¬
ких внезапных и несподеванных бед и напастей! Я сам
не верил своей свободе. Я не поехал ни в Париж, ни в Лон¬
дон, а остался в маленьком германском городке, где хотел
спокойно жить, мыслить и продолжать мое неожиданно
и так оригинально прерванное занятие науками. Все это
мне и удалось: при моей нетребовательности за границею
мне постоянно все удается, и не удалось долго лишь стрем¬
ление усвоить себе привычку знать, что я свободен. Про¬
ходили месяцы и годы, а я все, просыпаясь, каждое утро
спрашивал себя: действительно ли я проснулся? на самом
ли деле я в Германии и имею право не только не ездить
сегодня в манеже, но даже вытолкать от себя господина
Постельникова, если б он вздумал посетить мое убежище?
Наконец всеисцеляющее время уврачевало и этот недуг
сомнения, и я совершенно освоился с моим блаженнейшим
состоянием в тишине и стройной последовательности евро¬
пейской жизни и даже начал совсем позабывать нашу рос¬
сийскую чехарду.
ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ
Так тихо и мирно провел я целые годы, то сидя в мо¬
ем укромном уголке, то посещая столицы Европы и изу¬
чая их исторические памятники, а в это время здесь, на
Руси, всё выдвигались вопросы, реформы шли за рефор¬
мами, люди будто бы покидали свои обычные кривлянья
и шутки, брались за что-то всерьез; я, признаюсь, ничего
этого не ждал и ни во что не верил и так, к стыду моему,
не только не принял ни в чем ни малейшего участия, но
даже был удивлен, заметив, что это уже не одни либераль¬
ные разговоры, а что в самом деле сделано много беспо¬
воротного, над чем пошутить никакому шутнику неудобно.
72
В это время старик, дядя мой, умер и мои домашние об¬
стоятельства потребовали моего возвращения в Россию.
Я этому даже обрадовался; я почувствовал влечение, род
недуга, увидеть Россию обновленную, мыслящую и серь¬
езно устрояющую самое себя в долготу дней. Я приближал¬
ся к отечеству с душевным трепетом, как к купине, очища¬
емой божественным огнем, и переехал границу крестясь
и благословляясь... и что бы вы думали: надолго ли во мне
хватило этого торжественного заряда? Помогли ли мне
соотчичи укрепить мою веру в то, что время шутовства,
всяких юродств и кривляний здесь минуло навсегда, и что
под веянием духа той свободы, о которой у нас не смели
и мечтать в мое время, теперь все образованные русские
люди взялись за ум и серьезно тянут свою земскую тягу,
поощряя робких, защищая слабых, исправляя и воодушев¬
ляя помраченных и малодушных и вообще свивая и скру¬
чивая наше растрепанное волокно в одну крепкую бечеву,
чтобы сцепить ею воедино великую рознь нашу и дать ей
окрепнуть в сознании силы и права?..
Как бы не так!
ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ
Прежде всего мне пришлось, разумеется, поблагоговеть
пред Петербургом; город узнать нельзя: похорошел, об¬
строился, провел рельсы по улицам, а либерализм так
и ходит волнами, как море; страшно даже, как бы он все¬
го не захлестнул, как бы им люди не захлебнулись! «Госу¬
дарь в столице, а на дрожках ездят писаря, в фуражках
ходят офицеры»; у дверей ресторанов столики выставили,
кучера на козлах трубки курят... Ума помраченье, что за
вольности! Офицеры не колотят приказных ни на улицах,
ни в трактирах, да и приказных что-то не видно.
— Где бы это они все подевались? — спрашиваю одно¬
го старого знакомого.
— А их,— отвечает,— сократили,— теперь ведь у нас
все благоразумная экономия. Служба не богадельня.
— Что же, и прекрасно,— говорю,— пусть себе за дру¬
гой труд берутся.
Посетил старого товарища, гусара,— нынче директором
департамента служит. Живет таким барином, что даже
и независтливый человек, пожалуй, позавидовал бы.
— Верно,— говорю,— хорошее жалованье получаете?
— Нет, какое же,— отвечает,— жалованье! У нас окла¬
73
ды небольшие. Всё экономию загоняют. Квартира, вот...
да и то не из лучших.
Я дальше и расспрашивать не стал; верно, думаю, бра¬
тец ты мой, взятки берешь и, встретясь с другим знако¬
мым, выразил ему на этот счет подозрение; но знакомый
только яростно расхохотался.
— Этак ты, пожалуй, заподозришь,— говорит,— что
и я взятки беру?
— А ты сколько,— спрашиваю,— получаешь жало¬
ванья?
— Да у нас оклады,— отвечает,— небольшие; я всего
около двух тысяч имею жалованья.
— А живешь, мол, чудесно и лошадей держишь?
— Да ведь, друг мой, на то,— рассказывает,— у нас
есть суммы: к двум тысячам жалованья я имею три доба¬
вочных, да «к ним» тысячу двести, да две тысячи приба¬
вочных, да «к ним» тысяча четыреста, да награды, да на
экипаж.
— И он, стало быть,— говорю,— точно так же?
— А конечно; он еще более; ему, кроме добавочных
и прибавочных, дают и на дачу, и на поездку за границу,
и на воспитание детей; да в прошедшем году он дочь вы¬
давал замуж,— выдали на дочь, и на похороны отца, и он
и его брат оба выпросили: зачем же ему брать взятки?
Да ему их и не дадут.
— Отчего же,— любопытствую,— не дадут? Он место
влиятельное занимает.
— Так что же такое, что место занимает; но он ведь
службою не занимается.
— Вот тебе и раз! Это же почему не занимается?
— Да некогда, милый друг, у нас нынче своею служ¬
бой почти никто не занимается; мы все нынче завалены
сторонними занятиями; каждый сидит в двадцати комите¬
тах по разным вопросам, а тут благотворительствовать...
Мы ведь нынче все благотворим... да: благотворим и са¬
ми, и жены наши все этим заняты, и ни нам некогда слу¬
жить, ни женам нашим некогда хозяйничать... Просто беда
от благотворения! А кто в военных чинах, так еще ста¬
раются быть на разводах, на парадах, на церемониях...
вечный кипяток.
— Это,— пытаю,— зачем же на церемонии-то ездить?
Разве этого требуют?
— Нет, не требуют, но ведь хочется же на виду быть...
Это доходит нынче даже до цинизма, да и нельзя иначе...
иначе ты закиснешь; а между тем за всем за этим своею
74
службою заниматься некогда. Вот видишь, у меня шест¬
надцать разных книг; все это казначейские книги по раз¬
ным ученым и благотворительным обществам... Выбирают
в казначеи, и иду... и служу... Все дело-то на грош, а его
нужно вписать, записать, перечесть, выписать в расходы,
и все сам веду.
— А ты зачем,— говорю,— на это дело какого-нибудь
писарька не принаймешь?
— Нельзя, голубчик, этого нельзя... у нас по всем
этим делам начальствуют барыни — народ, за самым не¬
большим исключением, самый пустой и бестолковый, но
требовательный, а от них, брат, подчас много зависит при
случае... Ведь из того мы все этих обществ и держимся.
У нас нынче все по обществам; даже и попы и архиереи
есть... Нынче это прежние протекции очень с успехом за¬
меняет, а иным даже немалые и прямые выгоды приносит.
— Какие же прямые-то выгоды тут возможны?
— Возможны, друг мой, возможны: знаешь послови¬
цу — «и поп от алтаря питается», ну и из благотворителей
тоже есть такие: вон недавно одна этакая на женскую гим¬
назию собирала, да весь сбор ошибкою в кармане увезла.
— Зачем же вы не смотрите за этим?
— Смотрим, да как ты усмотришь,— от школ ее ото¬
гнали, она кинулась на колокола собирать, и колокола
вышли тоже не звонки. Следим, любезный друг, зорко
следим, но деятельность-то стала уж очень обширна,—
не уследишь.
— А на службе писарьки работают?
— Ну нет, и там есть «этакие крысы» бескарьерные...
они незаметны, но есть. А ты вот что, если хочешь быть
по-старому, по-гусарски, приятелем,— запиши, сделай ми¬
лость, что-нибудь.
— На что это записать?
— А вот на что хочешь; в этой книге на «Общество
снабжения книгами безграмотного народа», в этой на «Ко¬
митет для возбуждения вопросов», в этой — на «Комитет
по устройству комитетов», здесь — «Комитет для обсужде¬
ния бесполезности некоторых обществ», а вот в этой —
на «Подачу религиозного утешения недостаточным и бед¬
ствующим»... вообще все добрые дела; запиши на что хо¬
чешь, хоть пять, десять рублей.
«Эк деньги-то,— подумал я про себя,— как у вас ныне
при экономии дешевы», а, однако, записал десять рублей
на «Комитет для обсуждения бесполезности некоторых об¬
ществ». Что же, и в самом деле это учреждение нужное.
75
— Благодарю,— говорит, вставая, мой приятель,— мне
пора в комитет, а если хочешь повидаться, в четверг,
в два часа тридцать пять минут, я свободен, но и то,
впрочем, в это время мы должны поговорить, о чем мы
будем разговаривать в заседании, а в три четверти треть¬
его у меня собирается уже и самое заседание.
Ну, думаю себе, этакой кипучей деятельности нигде,
ни в какой другой стране, на обоих полушариях нет.
В целую неделю человек один только раз имеет десять ми¬
нут свободного времени, да выходит, что и тех нет!..
Уж этого приятеля, бог с ним, лучше не беспокоить.
— А когда же ты,— спрашиваю его совсем на пороге,—
когда же ты что-нибудь читаешь?
— Когда нам читать! мы ничего,— отвечает,— не чи¬
таем, да и зачем?
— Ну, чтобы хоть немножко освежить себя после ра¬
боты.
— Какое там освежение: в литературе идет только одно
бездарное науськиванье на немцев да на поляков. У нас
сзвсем теперь перевелись хорошие писатели.
— Прощай же,— говорю,— голубчик,— и с тем ушел.
Экономия и недосуги этих господ, признаюсь, меня
жестоконько покоробили; но, думаю, может быть это толь¬
ко в чиновничестве загостилось старое кривлянье на новый
лад. Дай-ка заверну в другие углы; поглазею на литера¬
туру: за что так на нее жалуются?
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ
Пока неделю какую придется еще пробыть в Петербур¬
ге, буду читать. В самом деле, за границей всего одну
или две газетки видел, а тут их вон сколько!.. Ведь что
же нибудь в них написано. Накупил... Ух, боже мой! дей¬
ствительно везде понаписано! Один день почитал, другой
почитал, нет, вижу — страшно: за человеческий смысл
свой надо поопасаться. Другое бы дело, может быть инте¬
ресно с кем-нибудь из пишущих лично познакомиться.
Обращаюсь с такой просьбою к одному товарищу: позна¬
комьте, говорю, меня с кем-нибудь из них. Но тот при
первых моих словах кислую гримасу состроил.
— Не стоит,— говорит,— Боже вас сохрани... не сове¬
тую... Особенно вы человек нездешний, так это даже и не¬
безопасно.
— Какая,— возражаю,— возможна опасность?
76
— Да денег попросят,— им ведь ни добавочных, ни
прибавочных не дают,— они и кучатся.
— Ну?
— Ну, а дал — и пропало, потому это «абсолютной
честности» не мешает; а не дашь,— в какой-нибудь газетке
отхлещут. Это тоже «абсолютной честности» не мешает.
Нет, лучше советую беречься.
— Было бы,— говорю,— еще за что и отхлестать?
— Ну, у нас на этот счет просто: вы вот сегодня при
мне нанимали себе в деревню лакея, и он вам, по вашему
гыражению, «не понравился», а завтра можно напечатать,
что вы смотрите на наем себе лакея с другой точки зрения
и добиваетесь, чтоб он вам «нравился». Нет, оставьте их
лучше в покое; «с ними» у нас порядочные люди нынче
не знакомятся.
Я задумался и говорю, что хоть только для курьеза
желал бы кого-нибудь из них видеть, чтобы понять, что
в них за закал.
— Ах, оставьте пожалуйста; да они все давно сами
друг про друга всё высказали; больше знать про них не
интересно.
— Однако живут они: не топятся и не стреляются.
— С чего им топиться! Бранят их, ругают, да что та¬
кое брань! что это за тяжкая напасть? Про иного дело
скажут, а он сам на десятерых наврет еще худшего,— вот
и затушевался.
— Ну, напраслина-то ведь может быть и опровергнута.
— Как раз! Один-то раз, конечно, можно, пожалуй,
и опровергнуть, а если на вас по всем правилам осады ра¬
зом целые батальоны, целые полки на вас двинут, ящик
Пандоры со всякими скверностями на вас опрокинут,— так
от всех уж и не отлаешься. Макиавелли недаром говорил:
лги, лги и лги,— что-нибудь прилипнет и останется.
— Но зато,— говорю,— в таких занятиях сам пор¬
тишься.
— Небольшая в том и потеря; уголь сажею не может
замараться.
— Уважение всех честных людей этим теряется.
— Очень оно им нужно!
— Да и сам теряешь возможность к усовершенствова¬
нию себя и воспитанию.
— Да полноте, пожалуйста: кто в России о таких пу¬
стяках заботится. У нас не тем концом нос пришит, чтобы
думать о самосовершенствовании или о суде потомства.
77
И точно, сколько я потом ни приглядывался, действи¬
тельно нос у нас не тем концом пришит и не туда его
тянет.
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ
Ходил в театр: давали пьесу, в которой показано на¬
родное недоверие к тому, что новая правда воцаряется.
Одно действующее лицо говорит, что пока в лежащих над
Невою каменных «свинтусах» (сфинксах) живое сердце
не встрепенется, до тех пор все будет только для одного
вида. Автора жесточайше изругали за эту пьесу. Спраши¬
вал сведущих людей: за что же он изруган? За то, чтобы
правды не говорил, отвечают... Какая дивная литература
с ложью в идеале!
Познакомился, наконец, случайно в клубе художников
с одним поэтом и, возмущенный тем, что слышал, погово¬
рил с ним о правде и честности. Поэт того же мнения,
что правда не годится, и даже разъяснял мне, почему
правды в литературе говорить не следует; это будто бы
потому, что «правда есть меч обоюдоострый» и ею подчас
может пользоваться и правительство; честность, говорит,
можно признавать только одну «абсолютную», которую
может иметь и вор, и фальшивый монетчик. Дальше я не
хотел и речи вести об этом: взаправду «за человека страш¬
но»! Спрашиваю только уж о самых практических вещах:
вот, говорю, к удивлению моему, я вижу у вас под одним
изданием подписывается редактор Калатузов... скажите
мне, пожалуйста... меня это очень интересует... я знал
одного Калатузова в гимназии.
— Этот, здешний, очень он плох,— перебивает меня
поэт.
— Редактор-то?
— Да, ах, как безнадежно плох! как котелка.
— Скажите, бога ради, и тот,— говорю,— был не боек.
— Ну, все-таки это, верно, не тот. Этот, например, как
забрал себе в голову, что в Англии была королева Елиса¬
вета, а нынче королева Виктория, так и твердит, что
«в Англии женщинам лучше, потому что там королевы
царствуют». Сотрудники хотели его в этом разуверить,—
не дается: «вы, говорит, меня подводите на смех». А «аб¬
солютная» честность есть.
— Как же,— говорю,— его редактором-то сделали?
— А что же такое? Для утверждения в редакторстве
78
у нас ведь пока ещё в губернском правлении не свидетель¬
ствуют. Да и что такое редактор? Редакторы есть всякие.
Берем, батюшка, в этом примеры с наших заатлантических
братий. А впрочем, и прекрасно: весь вопрос в абсолют¬
ной честности: она литературу убивает, но зато злобу-с,
злобу и затмение в умах растит и множит.
— Есть же, однако, полагаю, между ними люди, для
которых дорога не одна абсолютная честность?
— Как же-с, непременно есть, и вот недалеко ходить.
Вон видите, за тем столом сидит пентюх-то,— это извест¬
ный православист, он меня на днях как-то тут встречает
и говорит: «Что ж вы, батюшка, нам-то ничего не даете?»
«Удивляюсь,— отвечаю,— что вы меня об этом и спра¬
шиваете».
«А что такое?»
«Да ведь вы меня,— говорю,— в своем издании ру¬
гаете». Удивляется; «Когда?» — «Да постоянно, мол».—
«Ну, извините, пожалуйста».— «Да вы что ж, этого не
читали, что ли?» — «Ну вот, стану,— говорит,— я этим
навозом заниматься... Я все с бумагами... сильно было по¬
расстроился и теперь все биржей поглощен... Бог с ними!»
— Это вы изволите говорить: «Бог с ними?»
— Нет, это не я, а он: я Бога не беспокою. Я хотел
открыть издание в среднем духе, но никакого содейст¬
вия нет.
— Отчего же?
— Да я по глупости шесть тысяч попросил, и отказа¬
ли, говорят: денег нет... После узнал, что теперь, чтобы
получить что-нибудь, надо миллион просить: тогда дадут.
Думаю опять скоро просить.
— Миллион?
— Нет, миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч; так
смета выходит.
— На журнал или газету?
— Нет, на особое предприятие.
Поэт встал, зевнул и, протягивая мне руку, добавил:
— На одно предприятие, обещающее впереди миллиард
в тумане.
— И что ж,— спрашиваю, удерживая его за руку,—
имеете надежду, что дадут вам эти деньги?
— Да, непременно,— говорит,— дадут; у нас все это
хорошо обставлено, в национальном русском духе: чухон¬
ский граф из Финляндии, два остзейские барона и три
жида во главе предприятия, да полторы дюжины полячи¬
шек для сплетен. Непременно дадут.
79
Я заплатил за столом деньги за себя и за поэта —
и ушел. Это, кстати, был последний день моего пребыва¬
ния в Петербурге.
ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ
Москву я проехал наскоро: пробыл только всего один
день и посетил двух знакомых... Люди уже солидные —
у обоих дети в университете.
Здесь Петербург не чествуют; там, говорят, все искрив¬
лялись: «кто с кем согласен и кто о чем спорит — и того не
разберешь. Они скоро все провалятся в свою финскую яму».
Давно, я помню, в Москве всё ждут этого петербург¬
ского провала и всё еще не теряют надежды, что эта бла¬
гая радость их совершится.
— А вас,— любопытствую,— Бог милует, не боитесь
провалиться?
— Ну, мы!.. Петербург, брат,— говорят,— строен мил¬
лионами, а Москва — веками. Под нами земля прочная.
Там, в Петербурге-то, у вас вон уж, говорят, отцов режут
да на матерях женятся, а нас этим не увлечешь: тут у нас
и храмы, и мощи — это наша святыня, да и в учености
наша молодежь своих светильников имеет... предания...
Кудрявцева и Грановского чтит. Разумеется, Кудрявцев
и Грановский уж того... немножко для нашего времени не
годятся... а все ж, если бы наш университет еще того...
немножко бы ему хорошей чемерицы в нос, а студенты
чтоб от профессоров не зависели, и университет бы наш
даже еще кое-куда годился.., а то ни одного уже профес¬
сора хорошего не стало.
— Как ни одного?
— Да решительно ни одного: в петербургских газетах
их славно за это отжаривают.
Вот тебе и «наши предания», и «наша святыня».
Экой вздор какой! Экая городьба!
Поел у Гурина пресловутой утки с груздями, заболел
и еду в деревню; свой губернский город, в котором меня
так памятно секли, проезжаю мимо; не останавливаюсь
и в уездном и являюсь к себе в Одоленское — Ватаж¬
ково тож.
И вот они опять — знакомые места,
Где жизнь отцов моих, беспечна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата мелкого и мелкого тиранства!..
Что-то здесь нового, на этих сонных нивах, на этой
черноземной пажити?
80
ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ
Простор и лень, лень и простор! Они опять предо
мною во всей своей красе; но кровли крыш покрыты луч¬
ше, и мужики в сапогах. Это большая новость, в которой
я, впрочем, никогда не отчаивался, веруя, что и мужик
знает, что под крепкою крышей безопасней жить и в креп¬
ких сапогах ходить удобнее, чем в дырявых лаптях.
Спросил в беседе своего приказчика:
— Поправляются ли мужики?
— Как же,— говорит,— теперь они живут гораздо
прежнего превосходнейше.
Хотел даже перекреститься на образ, но, поопасавшись,
не придерживается ли мой приказчик нигилистического
образа мыслей, воздержался, чтобы сразу себя пред ним
не скомпрометировать, и только вздохнул: буди, Господи,
благословен за сие!
Но как же остальное? Как она, наша интеллигенция?
— Много ли,— спрашиваю,— здесь соседей-помещиков
теперь живет и как они хозяйничают?
— Нет,— докладывает,— какие же здесь господа? Гос¬
под здесь нет; господа все уехали по земским учрежде¬
ниям, местов себе стараются в губернии.
— Неужто же все по учреждениям? Этого быть не
может!
— Да живут-с,— говорит,— у нас одни господа Локот¬
ковы, мелкопоместные.
— Ну так как же, мол, ты мне говоришь, что никого
нет? Я даже знаю этого Локоткова. (Это, если вы помни¬
те, тот самый мой старый товарищ, что в гимназии фран¬
цуза дразнил и в печки сало кидал.) Ты,— приказываю,—
вели-ка мне завтра дрожки заложить: я к нему съезжу.
— Это,— отвечает,— как вам будет угодно; но только
они к себе никакого благородного звания не принимают,
и у нас их, господина Локоткова, все почитают ни за что.
— Это, мол, что за глупость?
— Точно так-с,— говорит,— как они сами своего зва¬
ния решившись и ходят в зипуне, и звание свое порочат,
и с родительницей своею Аграфеной Ивановной посту¬
пают очень неблагородно.
Заинтересовался я знать о Локоткове.
— Расскажи,— говорю,— мне, сделай милость, тол¬
ком: как же это он так живет?
— Совсем,— отвечает,— вроде мужика живут; в одной
избе с работниками.
81
— И в поле работает?
— Нет-с, в поле они не работают, а все под сараем
книжки сочиняют.
— О чем же, мол, те книжки, не знаешь ли?
— Давали-с они нам, да неинтересно: все по крестьян¬
скому сословию про мужиков ничего не верно: крестья¬
не смеются.
— Ну, а с матерью-то у них что же: нелады,
что ли?
— Постоянные нелады: еще шесть дней в неделю ни¬
чего, и туда и сюда, только промеж собою ничего не гово¬
рят да отворачиваются; а уж в воскресенье непременно
и карамболь.
— Да почему же в воскресенье-то карамболь?
— Потому, как у них промеж собой все несогласие
выходит в пирогах.
— Ничего,— говорю,— братец мой, не понимаю: как
так в пирогах у них несогласие?
— Да барин Локотков,— говорит,— велят матушке,
чтоб и им и людям одинаковые пироги печь, а госпожа
Аграфена Ивановна говорят: «я этого понять не могу»,
и заставляют стряпуху, чтоб людские пироги были
хуже.
— Ну?
— Ну-с вот из-за этого из-за самого они завсегда
и ссорятся; Аграфена Ивановна говорят, что пусть пироги
хоть из одного теста, да с отличкою: господские чтоб
с гладкой коркой, а работничьи на щипок защипнуть;
а барин сердятся и сами придут и перещипывают у за¬
гнетки. Они перещипывают, а Аграфена Ивановна после
приказывают стряпухе: «станешь сажать,— говорят,—
в печку, так людские шесть пирогов на пол урони, чтобы
они в сору обвалялись»; а барин за это взыск... Сейчас
тут у припечка и ссора... Они и толкнут старуху.
— Это мать-то?
— Точно так-с, ну, а народ ее, Аграфену Ивановну,
жалеет, как они при прежнем крепостном звании были
для своих людей барыня добрая. Ввечеру барин соберут
к избе мужиков и заставляют судить себя с барыней;
барыня заплачут: «Ребятушки,— изволят говорить,—
я, себя не жалевши, его воспитывала, чтоб он в полковые
пошел да генералом был». А барин говорят: «А я, ребята,
говорят, этих глупостей не хочу; я хочу мужиком быть».
Ну, мужики, известно, все сейчас на барынину сторону.
«С чего, бают, с какого места ты такого захотел? Неш
82
тебе мужиком-то лучше быть?» Барин крикнут: «Лучше!
честнее, говорят, ребята, быть мужиком». Мужики плюнут
и разойдутся. «Врешь, бают, в генералах честней быть,—
мы и сами, говорят, хоть сейчас все согласны в генералы
идти». Только всего и суда у них выходит; а стряпуха,
просто ни одна стряпуха у них больше недели из-за этого
не живет, потому что никак угодить нельзя. Теперь с пол¬
года барин книги сочинять оставили и сами стали пироги
печь, только есть их никак нельзя... невкусно... Барин
и сами даже это чувствуют, что не умеют, и говорят:
«Вот, говорят, ребята, какое мне классическое воспитание
дали, что даже против матери я не могу потрафить».
Дьячок Сергей на них даже по этому случаю волостному
правлению донос подавал.
— В чем же донос?
— Да насчет их странности. Писал, что господин Ло¬
котков сам, говорит, ночью к Каракозову по телеграфу
летал.
— Ну?
— Мужики было убить его за это хотели, а начальст¬
во этим пренебрегло; даже дьячка Сергея самого за это
и послали в монастырь дрова пилить, да и то сказали,
что это еще ему милость за то, что он глуп и не знал, что
делал. Теперь ведь, сударь, у нас не то как прежде: ниче¬
го не разберешь,— добавил, махнув с неудовольствием
рукою, приказчик.
— Да дьячок-то ваш,— спрашиваю,— откуда же взял,
что по телеграфу летать можно?
— Это,— отвечает мой приказчик,— у них, у духовен¬
ства, нынче больше все происходит с отчаянности, так как
на них теперь закон вышел, чтоб их сокращать; где два
было, говорят, один останется...
— Ну так что же, мол, из этого?
— Так вот они, выходит, теперь друг перед дружкой
и хотят все себя один против другого показать.
«Фу,— думаю,— какой вздор мне этот человек расска¬
зывает!» Махнул рукой и отпустил его с Богом.
Однако не утерпел, порасспросил еще кое-кого из лю¬
дей насчет всего этого, и оказалось, что приказчик мой не
лжет.
«Ну,— думаю,— чем узнавать через плебс да через
десятые руки, пущусь-ка лучше я сам в самое море, оку¬
нусь в самую интеллигенцию».
Начинаю с того, что еще уцелело в селах и что здесь
репрезентует местную образованность.
83
ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ
Отправился с визитом к своему попу. Добрейший Ми¬
хаил Сидорович, или отец Михаил,— скромнейший человек
и запивушка, которого дядя мой, князь Одоленский, скон¬
чавшийся в схиме, заставлял когда-то хоронить его бор¬
зых собак и поклоняться золотому тельцу,— уже не живет.
Вместо него священствует сын его, отец Иван. Я знал его
еще семинаристом, когда он, бывало, приходил во флигель
к покойной матушке Христа славить, а теперь он уж лет
десять на месте и бородой по самые глаза зарос — настоя¬
щий Атта Троль.
Застал его дома за писанием. Увидав меня, он скорее
спрятал в стол тетрадку. Поздоровались. Спрашиваю его:
— Как, батюшка, поживаете?
— Что, сударь, Орест Маркович! жизнь наша против
прежнего стала,— говорит,— гораздо хуже.
«Вот те и раз,— думаю,— нашелся человек, которому
даже хуже кажется».
— Чем же,— пытаю,— вам теперь, отец Иван, хуже?
— Да как же, сударь, не хуже? в прежнее время, при
помещиках, сами изволите помнить, бывало, и соломкой,
и хлебцем, и всем дворяне не забывали, и крестьян на
подмогу в рабочую пору посылывали; а ныне нет того ни¬
чего, и народ к нам совсем охладел.
— Народ-то,— говорю,— отчего же охладел? Это в ва¬
ших руках — возобновить его теплоту к религии.
— Нет, уж какое же, сударь, возобновление! Прежде
он в крепостном звании страдал и был постоянно в нужде
и в горести и прибегал в несчастии своем к Господу; а те¬
перь, изволите видеть... нынче мужичок идет в церковь
только когда захочет...
«Ну,— думаю,— лучше это мимо».
— Между собою,— любопытствую,— как вы теперь,
батюшка, живете? — потому что я знал, всегда бывало
здесь, как и везде: где два причта, там и страшная, бес¬
кровная война.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
Только что я коснулся в разговоре с отцом Иваном
деликатной истории войны на поповках, мой собеседник
так и замахал руками.
— Ужасно, сударь, Орест Маркович, ужасно,— гово¬
84
рит,— мы, духовные, к этому смятению подвержены, о ми¬
ре всего мира Господа умоляем, а самим нам в этом недуге
вражды исцеления нет.
Добродушный священник с сокрушением осенил себя
крестом и, вздохнув, добавил:
— Думаю,— говорит,— что это не иначе как оттого, что
где преизбыточествует благодать, там преобладает и грех.
— А ведь и ссориться-то,— говорю,— кажется, не за
что бы?
— Да, совершенно, сударь, часто не за что.
— А все-таки ссоритесь?
— Да ведь как же быть: ссоримся-с и даже люто от
сего страждем и оскудеваем.
Я посоветовал, что надо бы, мол, стараться уж как-
нибудь ладить.
— Знаете, это так,— говорю,— надо делать: бери всяк
в руки метлу да мети свою улицу — весь город и очи¬
стится. Блюди каждый сам себя, гони от себя смуту, вот
она и повсюду исчезнет.
— Нельзя-с,— улыбается отец Иван,— другие това¬
рищи не согласятся.
— Да что вам до товарищей?
— Нет-с; да теперь и время такое-с. Это надо было
как-нибудь прежде делать, до сокращения, а теперь уж
хоть и грех воровать, но нельзя миновать.
Чтоб отойти от этого вопроса, я только и нашелся, что,
мол, хоть промежду себя-то с отцом Маркелом старайтесь
ладить — не давайте дурного примера и соблазна тем¬
ным людям!
— Да ничего,— отвечает отец Иван,— мы между собой
стараемся, чтобы ладно... только вот отец Маркел у нас...
коллега очень щекотисты...
— Что такое?
— К криминациям они имеют ужасное пристрастие:
всё кляузничают ужасно. Впали в некую дружбу с нашим
дьяконом Викторычем, а тот давно прокриминациями обя¬
зан, и намереваются вдвоем, чтобы как-нибудь меня со
второго штата в заштат свести и вдвоем остаться по ново¬
му правилу.
— Это,— говорю,— жаль: «ничто добро, ничто красно,
а жити, братие, вкупе».
Какое уж,— отвечает,— «вкупе» жить, Орест Мар¬
кович, когда и на своем-то, на особом дворе, и то никак не
убережешься! Вот как, изволите видеть: я все дома сижу.
Как только пошел разговор про новые правила, что будут
85
нас сокращать, я, опасаясь злых клевет и наветов, все
сижу дома,— а по осени вдруг меня и вызывают к преосвя¬
щенному. Знаете, дело это у нас, по духовному состоянию,
столь страшное, что только вспомянешь про всеобжираю¬
щую консисторию, так просто лытки трясутся. Изволите
знать сами, великий государь Петр Первый в регламенте
духовном их наименовал: «оные архиерейские несытые со¬
баки»... Говорить не остается, сударь!.. Семьдесят верст
проехал, толконулся к секретарю, чтобы хоть узнать,
зачем? «Ничего, говорят, не ведаем: тебя не консистория
звала, а сам владыко по секрету вытребовали!» Предстаю
со страхом самому владыке,— так и так, говорю, такой-то
священник. Они как только услыхали мою фамилию, так
и говорят: «А, это ты, такой-сякой, плясун и игрун!»
Я даже, знаете, пред владыкою онемел и устами слова
не могу выговорить.
«Никак нет,— говорю,— ваше преосвященство: я жизнь
провождаю тихую в доме своем».
«Ты еще противуречишь? Следуй,— говорят,— за
мной!»
Привели меня в небольшой покойчик и из полбюра
(не могу уж вам объяснить, что такое называлось пол¬
бюро) вынимает бумагу.
«Читай,— говорят,— гласно».
Я читаю в предстании здесь секретаря и соборного
протодьякона. Пишет,— это вижу по почерку,— коллега
мой, отец Маркел, что: «такого-то, говорит, числа, осеннею
порою, в позднее сумеречное время, проходя мимо окон
священника такого-то,— имя мое тут названо,— невзначай
заглянул я в узкий створ между двумя нарочито притво¬
ренными ставнями его ярко освещенного окна и заметил
сего священника безумно скачущим и пляшущим с непри¬
личными ударениями пятами ног по подряснику».
«Остановись,— говорят его преосвященство,— на сем
пункте и объясни, что ты можешь против этого в оправ¬
дание свое ответствовать?»
«Что же,— говорю,— владыко святый, все сие ис¬
тинно».
«Зачем же это,— изволят спрашивать,— ты столь на¬
гло плясал, ударяя пятками?»
«С горя,— говорю,— ваше преосвященство».
«Объяснись!» — изволили приказать.
«Как по недостаточности моего звания,— говорю,—
владыко святый, жена моя каждый вечер, по неимению
работницы, отправляется для доения коровы в хлев, где
86
хранится навоз, то я, содержа на руках свое малое груд¬
ное дитя, плачущее по матери и просящее груди,— как
груди дать ему не имею и чем его рассеять, не знаю,—
то я, не умея настоящих французских танцев, так с сим
младенцем плавно по-жидовски прискакую по комнате
и пою ему: «тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота»
или что другое в сем роде невинного содержания, дабы
оно было утешно от сего, и в том вся вина моя».
Владыка задумались и говорят:
«Хорошо, сие непредосудительно, в сих целях как отец
невозбранно танцевать можешь, но читай дальше».
«Другажды,— читаю, пишут отец Маркел,— проходя
с дьяконом случайно вечернею порою мимо дома того же
священника отца Иоанна, опять видели, как он со всем
своим семейством, с женою, племянником и с купно при¬
ехавшею к нему на каникулярное время из женской гимна¬
зии племянницею, азартно играл в карты, яростно ударяя
по столу то кралею, то хлапом, и при сем непозволитель¬
но восклицал: «никто больше меня, никто!» Прочитав сие,
взглянул я на преосвященного владыку и, не дожидаясь
его вопроса, говорю:
«И сие, ваше преосвященство, правда. Точно,— гово¬
рю,— однажды, и всего только однажды, играл я по слу¬
чаю племянницына приезда, но было сие не для ради за¬
бавы и празднолюбия, а с философскою целью, в видах
указания превосходства Адамова пола пред Евиным по¬
лом; а отнюдь не для праздной забавы и утешения».
«Объяснись,— говорит владыко,— и в этом!»
«Было,— говорю,— сие так, что племянница моя, дочь
брата моего, что в приказные вышел и служит советником,
приехав из губернии, начала обременять понятия моей
жены, что якобы наш мужской пол должен в скорости об¬
ратиться в ничтожество, а женский над нами будет власт¬
вовать и господствовать; то я ей на это возразил несколь¬
ко апостольским словом, но как она на то начала, громко
хохоча, козлякать и брыкать, книги мои без толку пори¬
цая, то я, в книгах нового сочинения достаточной практи¬
ки по бедности своей не имея, а чувствуя, что стерпеть
сию обиду всему мужскому колену не должен, то я, не
зная, что на все ее слова ей отвечать, сказал ей: «Буде
ты столь превосходно умна, то скажи, говорю, мне такое
поучение, чтоб я признал тебя в чем-нибудь наученною»;
но тут, владыко, и жена моя, хотя она всегда до сего часа
была женщина богобоязненная и ко мне почтительная, но
вдруг тоже к сей племяннице за женский пол присоедини-
87
лась, и зачали вдвоем столь громко цокотать, как две
сороки, «что вас, говорят, больше нашего учат, а мы вас
все-таки как захотим, так обманываем», то я, преосвящен¬
ный владыко, дабы унять им оное обуявшее их бессмыс¬
лие, потеряв спокойствие, воскликнул:
«Стой,— говорю,— стой, ни одна не смей больше ни
слова говорить! Этого я не могу! Давайте,— говорю,— на
том самом спорить, на чем мы все поровну учены, и увидим,
кто из нас совершеннее? Есть,— говорю,— у нас карты?»
Жена говорит: есть.
«Давай,— говорю,— сюда карты».
Жена подала карты.
Говорю:
«Сдавай в дураки!»
Сдали. Я и жену и племянницу ученую кряду по три
раза дураками оставил. Довольно, говорю, с вас, но видя,
что они и сим еще мало в неправоте своего спора убеди¬
лись, говорю:
«Сдавай в короли!»
Сдали в короли. Я вышел королем, сынишку — виноват,
ваше преосвященство, сынишку тоже для сего диспута
с собою посадил,— его в принцы вывел, а жену в мужики.
Вот, говорю, твое место; а племянницу солдатом оставил,—
а это, мол, тебе и есть твоя настоящая должность.
«Вот,— говорю,— ваше преосвященство, истинно докла¬
дываю я, едино с сею философскою целью в карты играл
и нимало себя и мужской пол не уронил».
Владыка рассмеялись. «Ступай,— говорят,— игрун
и танцун, на свое место», а отцу Маркелу с дьяконом нос
и утерли... но я сим недоволен...
— Помилуйте,— говорю,— да чего же вам еще?
— Как чего? Ах, нет, Орест Маркович, так нельзя:
ведь они вон, и дьякон, и отец Маркел, по сие время ходят,
и отец Маркел все вздыхает на небо.
— Так что же вам до этого?
— Ах, как вы это располагаете: это они прокримина¬
цию затевают... Нет, пока эти новые права взойдут, тут
еще много греха будет!
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
Встречаю на другой день в березовой рощице отца
дьякона; сидит и колесные втулки сверлит.
— Вы,— говорю,— отец дьякон, как поживаете?
— Ничего,— говорит,— Орест Маркович; живем пре-
88
естественно в своем виде. Я в настоящее время нынче все
овцами занимаюсь.
— А! а! скажите,— говорю,— пожалуй, торговать пу¬
стились?
— Да-с, овцами, и вот тоже колеса делаю и пчел
завел.
— И что же,— говорю,— счастливо вам ведется?
— Да как вам доложить: торгую понемножку. Нельзя:
время такое пришло, что одним нынче духовенству ничем
заниматься нельзя. Нас ведь, дьяконов-то, слыхали?.. нас
скоро уничтожат. У нас тут по соседству поливановский
дьякон на шасе постоялый двор снял,— чудесно ему идет,
а у меня капиталу нет: пока кой-чем берусь, а впереди
никто как Бог. В прошлом году до сорока штук овец было
продал, да вот Бог этим несчастьем посетил.
— Каким,— говорю,— несчастьем?
— Да как же-с? разве не изволили слышать? ведь мы
всё просудили с отцом Маркелом.
— Да, да,— говорю,— слышал; рассказывал мне
отец Иван.
— Да мы,— говорит,— с ним, с отцом Иваном, тут
немного поссорились, и им чрез нас вдобавок того ничего
и не было насчет их плясоты, а ведь они вон небось вам
не рассказали, что с ними с самими-то от того произо¬
шло?
— Нет, мол, не говорил.
— Они ведь у нас к нынешнему времени не от своего
дела совсем рассудок потеряли. Как с племянницею они
раз насчет бабьего над нами преимущества поспорили, так
с тех пор всё о направлении умов только и помышляют.
Проповеди о посте или о молитве говорить они уже не
могут, а всё выйдут к аналою, да экспромту о лягушке:
«как, говорят, ныне некие глаголемые анатомы в светских
книгах о душе лжесвидетельствуют по рассечению лягуш¬
ки», или «сколь дерзновенно, говорят, ныне некие лжеана¬
томы по усеченному и электрическою искрою припаленно¬
му кошачьему хвосту полагают о жизни»... а прихожане
этим смущались, что в церкви, говорят, сказывает он него¬
жие речи про припаленный кошкин хвост и лягушку;
и дошло это вскоре до благочинного; и отцу Ивану
экспромту теперь говорить запрещено иначе как по тетрад¬
ке, с пропуском благочинного; а они что ни начнут сочи¬
нять,— всё опять мимовольно или от лягушки, или — что
уже совсем не идуще — от кошкина хвоста пишут и, глав¬
89
ное, всё понапрасну, потому что говорить им этого ничего
никогда не позволят. Вы у них изволили быть?
— Был.
— И непременно за писанием их застали?
— Кажется,— говорю,— он точно что-то писал
и спрятал.
— Спрятал! — быстро воскликнул дьякон,— ну так
поздравляю же вас, сударь... Это он опять расчал запре¬
щенную проповедь.
— Да почему же вы так уверены, что он непременно
запрещенную проповедь пишет?
— Да потому, что и о лягушке, и о кошкином хвосте,
и о женском правиле им это все запрещено, а они уж не
свободомысленны и от другого теперь не исходят.
— Отец Маркел же,— любопытствую,— свободнее?
Дьякон крякнул и рукой махнул.
— Тоже,— говорит,— сударь, и они сильно попутаны;
но только тот ведь у нас ко всему этому воитель на враги
одоления продерзостью возмогает.
— Вот как?
— Как же-с! Они, отец Маркел, видя, что отцу Ивану
ничего по их доносу не вышло ни за плясание, ни за кар¬
ты, впали в ужасную гневность и после, раз за разом,
еще сорок три бумаги на него написали. «Мне, твердят,
уж теперь все равно; если ему ничего не досталось, так
и я ничего не боюсь. Я только, говорят, дороги не знаю,
а то я бы плюнул на всех и сам к Гарибальди пошел».
Мне даже жаль их стало, потому ничего не успевает,
а наипаче молва бывает. Я говорю: «Отец Маркел, брось¬
те все это: видите, говорю, что ничего уже от него при
нынешнем начальстве не позаимствуешь». Не слушает.
Я матушку их, супругу, Марфу Тихоновну, начал просить.
«Матушка, говорю, вы уговорите своего отца Маркела,
чтоб он бросил и помирился, потому как у нас по торго¬
вой части судбище считается всего хуже, а лучше всего
мир». Матушка сразу со мной согласились, но говорят:
«Ох, дьякон, молчи: он просто вроде как бы в исступле¬
нии ума». Стоим этак с нею за углом да разговариваем,
а отец Маркел и вот он.
«Что,— говорит,— все тут небось про меня злосло¬
вите?»
Матушка говорит: «Маркел Семеныч, ты лучше послу¬
шай-ка, что дьякон-то как складно для тебя говорит: поми¬
рись ты с отцом Иваном!» А отец Маркел как заскачет
на месте: «Знаю, говорит, я вас, знаю, что вы за люди
90
с дьяконом-то». И что же вы, сударь, после сего можете
себе представить? Вдруг, сударь мой, вызывает меня через
три дня попадья, Марфа Тихоновна, через мою жену
на огород.
«Ох, дьякон,— говорит,— ведь нам с тобой плохо!»
«Что, мол, чем плохо?»
«Да ведь мой отец Маркел-то на нас с тобой третьего
дня репорт послал».
Так, знаете, меня варом и обварило...
«Как так репорт? В каком смысле?»
«А вот поди же! — говорит.— Как мы с тобой онамед¬
ни за углом стояли, он после того целую ночь меня мучил:
говори, пристает, жена, как дьякон тебе говорил: чем
можно попа Ивана изнять?»
«Ничем,— говорю,— его изнять нельзя!»
«А! ничем! ничем! — говорит,— это я знаю: это тебя
дьякон научил. Ты теперь,— говорит,— презрев закон
и религию, идешь против мужа». И так меня тут таким
словом обидел, что я тебе и сказать не могу.
«Матушка, да это что же, мол, такое несообраз¬
ное?»
«Нет, а ты,— говорит,— еще подожди, что будет?»
И потом он целый день все со мной воевал и после обеда
и, слава богу, заснул, а я, плачучи, вынула из сундука
кусочек холстинки, что с похорон дали, да и стала ему
исподние шить; а он вдруг как вскочит. «Стой, говорит,
злодейка! что ты это делаешь?» — «Тебе, говорю, Маркел
Семеныч, исподние шью».— «Врешь, говорит, ты это не
мне шьешь, а ты это дьякону».
Ну, разумеется, попадья — женщина престарелая —
заплакала и подумала себе такую женскую мысль, что дай,
мол, я ему докажу, что я это ему шью, а не дьякону,
и взяла красной бумаги и начала на тех исподних литеры
веди метить, а он, отец Маркел, подкрался, да за руку
ее хап.
«А! — говорит,— вот когда я тебя поймал! Что ты тут
выводишь?»
«Твое имено выставляю, «веди»,— говорит попадья.
«А что такое,— говорит,— обозначает это веди?»
Попадья говорит, что обозначает его фамилию: «Веде¬
нятин», а он говорит: «Врешь, эти веди значит Викторыч,
дьякон, и я, говорит, об этом рапорт донесу». Сел ночью
и написал.
91
Я даже не воздержался при этих словах дьякона и вос¬
кликнул:
— Фу, какая глупость!
— Нет-с, вы еще насчет глупости подождите,— оста¬
навливает рассказчик,— почему же это веди означает что
«Викторыч», когда имя мое Еремей, а фамилия Козявкин?
Ведь это с их стороны ничего более, как одна глупая за¬
бывчивость, что сколько лет со мною священнодействуют,
а не знают, как их дьякона зовут! А между тем, как вы,
сударь, полагаете? — воскликнул дьякон, становясь в на¬
полеоновскую позицию,— что из того воспоследовало?
На третий день благочинный приехал, уговаривал отца
Маркела, что, мол, по вашему сану, хоша бы и точно та¬
кое дело было, так его нельзя оглашать, потому что за это
вы сана лишитесь. Но отец Маркел: «Пускай, говорят,
я лучше всего решусь, а этого так не пожертвую». Позва¬
ли нас в консисторию. Отец Маркел говорит: «Я ничего
не боюсь и поличное с собою повезу», и повезли то бель¬
ишко с собою; но все это дело сочтено за глупость,
и отец Маркел хоша отослан в монастырь на дьячевскую
обязанность, но очень в надежде, что хотя они генерала
Гарибальди и напрасно дожидались, но зато теперь скоро,
говорит, граф Бисмарков из Петербурга адъютанта при¬
шлет и настоящих русских всех выгонит в Ташкент бара¬
нов стричь... Ну пусть, но ведь это еще, может, пока один
разговор такой... А я страждую и всего уже больше как
на тридцать овец постраждовал. А за что? За соседскую
глупость, а меж тем, если этак долго эти приходы не раз¬
верстаются у нас, всё будут идти прокриминации, и когда
меня в настоящем виде сократят, мне по торговой части
тогда уж и починать будет не с чем. Вот что, Орест Мар¬
кович, духовное лицо у нас теперь в смущение приводит.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
Так помаленьку устраиваясь и поучаясь, сижу я одна¬
жды пред вечером у себя дома и вижу, что ко мне на
двор въехала пара лошадей в небольшом тарантасике,
и из него выходит очень небольшой человечек, совсем по¬
хожий с виду на художника: матовый, бледный брюнетик,
с длинными, черными, прямыми волосами, с бородкой
и с подвязанными черною косынкой ушами. Походка лег¬
кая и осторожная: совсем петербургская золотуха и мозо¬
ли, а глаза серые, большие, очень добрые и распола¬
гающие.
92
Подойдя к открытому окну, у которого я стоял, гость
очень развязно поклонился и несколько меланхолическим
голосом говорит:
— Я не из самых приятных посетителей; ваш стано¬
вой Васильев, честь имею рекомендоваться,— и с этим
направляется на крыльцо, а я встречаю его на пороге.
Должен вам сказать, что я питаю большое доверие
к первым впечатлениям, и этот золотушный становой не¬
обыкновенно понравился мне, как только я на него взгля¬
нул. Я всегда видал становых сытых, румяных, даже крас¬
ных, мешковатых, нескладных и резких, а таких, как этот,
мне никогда и в ум не приходило себе представить.
— Рад,— говорю,— очень с вами познакомиться,—
и, поверьте, действительно был рад. Такой мягкий чело¬
век, что хоть его к больной ране прикладывай, и особенно
мне в нем понравилось, что хотя он с вида и похож на
художника, но нет в нем ни этой семинарской застенчиво¬
сти, ни маркерской развязности и вообще ничего лакей¬
ского, без чего художник у нас редко обходится. Это про¬
сто входит бедный джентльмен,— в своем роде олицетво¬
рение благородной и спокойной гордости и нищеты рыца¬
ря Ламанчского.
— Благодарю за доброе слово,— отвечает он тихо
и кротко на мое приветствие и, входя, добавляет: — Впро¬
чем, я, по счастию, действительно привез вам такие вести,
что они стоят доброго слова,— и с этим дает мне бумагу,
а сам прямо отходит к шкафу с книгами и начинает
читать титулы переплетов.
Я пробежал бумагу и вижу, что предводитель дворян¬
ства нашей губернии, в уважение долгого моего пребыва¬
ния за границей и приобретенных там познаний по части
сельского благоустройства, просит меня принять на себя
труд приготовить к предстоящему собранию земства сооб¬
ражения насчет возможно лучшего устройства врачебной
части в селениях.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
Как я кончил читать, становой ко мне оборачивается
и говорит:
— А что, я ведь прав: вам, конечно, будет приятно
для бедного человечества поработать.
Я отвечаю, что он-то прав и что я действительно
с удовольствием возьмусь за поручаемое мне дело и сде¬
93
лаю все, что в силах, но только жалею, что очень мало
знаю условия теперешнего сельского быта в России, и до¬
бавил, что большой пользы надо бы ожидать лишь от
таких людей, как он и другие, на глазах которых начались
и совершаются все нынешние реформы.
— И, полноте! — отвечает становой,— да у меня-то
о таких практических делах вовсе и соображения нет.
Я вот больше все по этой части,— и он кивнул рукой на
шкаф с книгами.
Нам подали чай, и мы сели за стол.
— Вам,— начинает становой,— можно очень позавидо¬
вать: вы, кажется, совсем определились.
Я посмотрел на него вопросительно. Он понял мое не¬
доумение и сейчас объяснил:
— Я это сужу по вашим книгам,— у вас все более кни¬
ги исторические.
— Это,— отвечаю,— книги подбора моего покойного
дяди, а вы меня застали вот за «Душою животных» Вунд¬
та,— и показываю ему книгу.
— Не читал,— говорит,— да и не желаю. Господин
Вундт очень односторонний мыслитель. Я читал «Тело
и душа» Ульрици. Это гораздо лучше. Признавать душу
у всех тварей это еще не бог весть какое свободомыслие,
да и вовсе не ново. Преосвященный Иннокентий ведь тоже
не отвергал души животных. Я слышал, что он об этом
даже писал бывшему киевскому ректору Максимовичу, но
что нам еще пока до душ животных, когда мы своей души
не понимаем? Согласитесь — это важнее.
Я согласился, что стремление постичь свою душу очень
важно.
— Очень рад, что вы так думаете,— отвечал стано¬
вой,— а у нас этим важнейшим делом в жизни преступно
пренебрегают. А кричат: «наш век! наш век!» Скажите
же, пожалуйста, в чем же превосходство этого века пред
веками Платона, Сократа, Сенеки, Плутарха, Канта
и Гегеля? Что тогда стремились понять, за то теперь даже
взяться не знают. Это ли прогресс!.. Нет-с: это регресс,
и это еще Гавриилом Романовичем Державиным замечено
и сказано в его оде «На счастие», что уж человечество
теряет умственный устой: «Повисли в воздухе мартышки,
и весь свет стал полосатый шут». Я понимаю прогресс по
Спенсеру, то есть прогресс вижу в наисовершеннейшем
раскрытии наших способностей; но этот «наш век» какие
же раскрыл способности? Одни самые грубые. У нас тут
доктор есть в городе, Алексей Иванович Отрожденский,
94
прекрасный человек, честный и сведущий,— вам с ним да¬
же не худо будет посоветоваться насчет врачебной части
в селениях,— но ужасно грубый материалист. Даже стран¬
но: он знает, конечно, что в течение семи лет все мате¬
риальное существо человека израсходывается и заменяет¬
ся, а не может убедить себя в необходимости признать
в человеке независимое начало, сохраняющее нам тождест¬
венность нашего сознания во всю жизнь. Какое отупение
смысла! Это даже обидно, и мне очень неприятно. Я здо¬
ровья, видите, не богатырского и впечатлителен и от всех
этаких вещей страдаю, а здесь особенно много охотников
издеваться над вопросами духовного мира. Это, по-моему,
не что иное, как невежество, распространяемое просвеще¬
нием, и я оправдываю Льва Николаича Толстого, что он
назвал печать «орудием невежества». По крайней мере по
отношению к знаменитому «нашему веку» это очень верно.
Предания и внутренний голос души ничего подобного не
распространяют.
«Вот,— думаю,— какая птица ко мне залетела!»
— Вас,— говорю,— кажется, занимают философские
вопросы.
— Да, немножко, сколько необходимо и сколько могу
им отдать при моей службе; да и согласитесь, как ими не
интересоваться: здесь живем минуту, а там вечность впе¬
реди нас и вечность позади нас, и что такое мы в этой
экономии? Неужто ничто? Но тогда зачем же все хлопо¬
ты о правах, о справедливости? Зачем даже эти сегодняш¬
ние хлопоты об устройстве врачебной помощи? Тогда, все
вздор, nihil. Не все ли равно, так ли пропадут эфемери¬
ды или иначе? Минутой раньше или минутой позже, не
все ли это равно? Родительское чувство или гуманность...
Да и они ничтожны!.. Если дети наши мошки и жизнь их
есть жизнь мошек или еще того менее, так о чем хлопо¬
тать? Родилось, умерло и пропало; а если все сразу
умрут, и еще лучше,— и совсем не о чем будет хлопотать.
А уж что касается до иных забот — о правах, о справед¬
ливости, о возмездии, об отмщении притеснителям и обо
всем, о чем теперь все говорят и пишут, так это уж про¬
сто сумасшествие: стремиться к идеалам для того, что
само в себе есть nihil!.. Я не понимаю такого идеализма
при сознании своей случайности.
«Позвольте, да что же это за становой!»
1 Ничто (лат.).
95
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ
Я крайне заинтересовался моим гостем и говорю ему,
что любопытствую знать, какого мнения держится он об
этом сам?
— Я вам на это,— говорит,— могу смело отвечать:
я держусь самого простого мнения и, как мне и очень
многим кажется, самого ясного: в экономии природы ничто
не исчезает, никакая гадость; за что же должно исчезнуть
одно самое лучшее: начало, воодушевлявшее человека
и двигавшее его разум и волю? Этого не может быть!
Разумеется, утверждают, что все это не материя, а функ¬
ция; я, однако, этого мнения не разделяю и стою за само¬
стоятельное начало душевных явлений. Конечно, об этом
теперь идут и почти всегда шли бесконечные споры, но
меня это не смущает: во-первых, истинные ученые за нас...
Вон уж и Лудвиг в «Lehrbuch der Physiologie» прямо
сознает, что в каждом ощущении, кроме того, что в нем
может быть объяснено раздражением нервов, есть нечто
особенное, от нерв независимое, а душой-то все эти вопро¬
сы постигаются ясно и укладываются в ней безмятежно.
Отрожденский все упирает на то, что даже и самому
Строителю мира места будто бы нигде нет; а я ему возра¬
жаю, что мы и о местах ничего не знаем, и указываю на
книжку Фламмариона «Многочисленность обитаемых ми¬
ров», но он не хочет ее читать, а только бранится и гово¬
рит: «Это спиритские бредни». Но какие же спиритские
бредни, когда ведь он сам этой книги не читал и даже не
знает, что Фламмарион профессор астрономии? Вот таким
образом с ним совсем спорить и невозможно.
— Вы метафизик?
— Нет, я в вопросах этого рода редко иду путем умо¬
заключений, хотя и люблю искусную и ловкую игру этим
орудием, как, например, у Лаврентия Стерна, которого
у нас, впрочем, невежды считают своим братом скотом,
между тем как он в своем «Коране» приводит очень усерд¬
но и тончайшие фибры Левенхука, и песчинку, покрываю¬
щую сто двадцать пять орифисов, через которые мы ды¬
шим, и другое многое множество современных ему откры¬
тий в доказательство, что вещи и явления, которых мы
не можем постигать нашим рассудком, вовсе не невозмож¬
ны от этого,— но все это в сторону. Я признаю священ¬
ные тайны завета и не подвергаю их бесплодной критике.
К чему, когда инструмент наш плох и не берет этого?
1 «Учебник физиологии» (нем.).
96
Нет, постижение сверхъестественного и духовного метафи¬
зическим методом, по-моему, не приносит никакого утеше¬
ния и только сбивает. Разве иногда в шутку с Отрожден¬
ским, когда он издевается над вечностью и отвергает все
неисследимое на том основании, что все сущее будто бы
уже исследовано в своих явлениях и причинах, ну тогда
я, шутя, дозволяю себе употребить нечто вроде метафизи¬
ческого метода таким образом, что спросишь: известно ли
ученым, отчего кошки слепыми рождаются? отчего конь
коню в одном месте друг друга чешут? отчего голубь
в полночь воркует? «Неизвестно!..» Но, говорит,— «это
вздор!» Как вздор? Вот уж сейчас отсюда прямо и пойдет
несостоятельность и посылки на то, что еще «откроют».
Дай Бог, конечно, открытий, я их жарко желаю,— не по
своей, разумеется, должности,— но все, что ученые от¬
кроют, то все в нашу пользу, а не в пользу материали¬
стов. Вон материалисты невесть как радовались работам
над мозгами, а что вышло? Открыто, что мозг свиньи
и дельфина очень развит, а собака ведь умнее их, хоть
мозг ее развит и хуже. Вот вам и доказали!
Становой добродушно засмеялся.
— Вы,— любопытствую,— в духовной академии воспи¬
тывались или в университете?
— Нет, я так, кое в каком французском пансионишке
учился: в казенное заведение, по тогдашним правилам,
я не мог попасть, потому что Васильев, как я назы¬
ваюсь,— это ведь не настоящая, то есть не родовая моя
фамилия. Моя покойница матушка была швейцарка... деви¬
ца... очень бедная... в экономках служила у одного русско¬
го помещика. Отца своего я не знал... я... понимаете, толь¬
ко сын своей матери, и Васильевым называюсь по крест¬
ному отцу. Сам я, однако, русский, а в чины произошел
таким образом, что в Харьковском университете экзамен
на уездного учителя выдержал; но матушка пожелала,
чтоб я вышел из учителей и пошел в чиновники. Находи¬
ла, что это благороднее; может быть, заблуждалась; ну,
это ей так было угодно,— я исполнил ее волю; а теперь
уж и она скончалась, а я все служу. Боюсь, чтоб ей не
было неприятно, что я как будто ждал ее кончины. Да
и зачем менять?
— Но насколько,— говорю,— смею позволить себе су¬
дить о вас по нашему мимолетному знакомству и по ва¬
шим искренним словам,— вам, вероятно, учительские заня¬
тия были бы гораздо сроднее, чем обязанности полицей¬
ской службы?
4. Н. С. Лесков, т. 5.
97
— Ах, полноте: не все ли это равно, на каком стуле
ни посидеть в чужой гостиной? Не оглянешься, как пра¬
отцы отсюда домой позовут. Нет, это мне совершенно все
равно: на умеренные мои потребности жалованья мне до¬
стает; я даже и роскошь себе позволяю, фортепиано имею;
а служба самая легкая: все только исполняю то, что веле¬
но, а своею совестью, своим разумом и волей ни на волос
ничего не делаю... Как хотите, эти выгоды чего-нибудь да
стоят; я совершенно безответствен! Знаете, summa jus summa
injuria — высочайшее право есть высочайшее бесправие.
Вот если б у меня была такая ужасная должность, как,
например, прокурорская, где надо людей обвинять,— ну,
это, разумеется, было бы мне нестерпимо, и я бы страдал
и терзался; но теперь я совершенно доволен моим положе¬
нием и счастлив.
— Но жаль,— замечаю,— что вы себе, например, не
усвоили адвокатуры. Вы могли бы принести много добра.
— Ах, нет, пожалуйста, не жалейте! Да и какое там
возможно добро? Одного выручай, другого топи. Нет, это
тоже не по мне, и я благодарю Бога, что я на своем месте.
— Да уж судьей даже, и то,— настаиваю,— вы были
бы более на месте.
— Нет, Боже меня сохрани: что здесь за правда, на
этой планете, и особенно юридическая правда, которая
и на наши-то несовершенные понятия совсем не правда,
а часто одно поношение правды! Да иначе и быть не мо¬
жет. Юридическая правда идет под чертою закона несо¬
вершенного, а правда нравственная выше всякой черты
в мире. Я ведь, если откровенно говорить, я до сих пор
себе не решил: преступление ли породило закон или закон
породил преступление? А когда мысленно делаю себя
чьим-нибудь судьей, то я, в здравом уме, думаю, как ко¬
роль Лир думал в своем помешательстве: стоит только
вникнуть в историю преступлений и видишь: «нет вино¬
ватых». Я знаю, что это противно — не законам граждан¬
ским,— нет, я об этом вздоре не говорю, но это противно
положениям, вытекающим из понятия о самостоятельно¬
сти душевных явлений. Вот тут и начинается мой разлад
и неопределенность, потому что я все-таки чувствую, что
«нет виноватых», а это несовместимо. Отрожденский уве¬
ряет меня, что я сумасшедший. Он видит вопиющую не¬
сообразность в том, что я, допуская свободную волю, не
оправдываю убийства и мщения, и клянется, что меня за
мои несообразности когда-нибудь в желтый дом посадят.
Но скажите, бога ради, разве меньшая несообразность ут¬
98
верждать, что у человека нет свободной воли, что он зави¬
сит от молекул и от нервных узлов, и в то же самое вре¬
мя мстить ему за то, что он думает или поступает так,
а не этак? Ведь это верх несправедливости! Нет, я убе¬
жден, что мстить и убивать человека не следует ни обык¬
новенным людям, ни правителям. Никто не виноват —
«нет виноватых»! Если все дело в наших молекулах и нер¬
вах, то люди ни в чем не виноваты, а если душевные дви¬
жения их независимы, то «правители всегда впору своему
народу», как сказал Монтескье; потом ведь... что же такое
и сами правители? Что тут серьезного, и с кем из них
стоит считаться? Все это такое nihil, такое ничто... Один
крошечку получше, другой крошечку похуже: не все ли
это равно тому, кто совсем нигилист и кто не гилист? Это
может озабочивать одну мелочь: газетчиков, журналистов
и другой подобный им мелкий люд, но не настоящего че¬
ловека, постигающего свое призвание. Другое дело, если
бы могло идти дело о чем-нибудь таком, чем бы достига¬
лась общая правда...
— А вы надеетесь, что она достижима?
— Еще бы! Непременно-с достижима.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ
Становой улыбнулся, вздохнул и, помолчав, тихо про¬
говорил в раздумье:
— Одна минута малейшего сомнения в этом была бы
минута непростительной, малодушной трусости.
— А как близка эта минута? Когда вы ожидаете ви¬
деть царство всеобщей правды?
Становой снова улыбнулся, беззаботно и бодро кряк¬
нув, отвечал, что год тому назад ему лучшие врачи в Пе¬
тербурге сказали, что он больше двух лет не проживет.
— Ну, допустите,— говорит,— что эти ученые люди
при нынешней точности их основательной науки лет на де¬
сять ошиблись, а все-таки мне, значит, недалеко до инте¬
ресного дня.
— То есть вы интересным днем считаете день смерти?
— Да, когда отворится дверь в другую комнату.
Аполлон Николаевич Майков с поэтическим прозорливст¬
вом подметил это любопытство у Сенеки в его разговоре
с Луканом в «Трех смертях»! Согласитесь, что это самый
интереснейший момент в человеческой жизни. Вот я сижу
у вас, и очень весело обо всем мы рассуждаем, а ведь
99
я не знаю, есть ли у вас кто там, за этой запертою
дверью, или никого нет? А между тем всякий шорох отту¬
да меня... если не тревожит, то интересует: кто там такой?
что он делает? А сердиться на то, что вы мне этого не
сообщаете,— я не смею: вы хозяин, вы имеете право ска¬
зать мне об этом и имеете право не сказать. Это так;
но раз что я заподозрил, что там кто-то есть, я все-таки
должен лучше предполагать, что там хорошее общество.
Я обязан так думать из уважения к хозяину, и вот я ста¬
раюсь быть достойным этого общества, я усиливаюсь дер¬
жать себя порядочно, вести разговор, не оскорбляющий
развитого чувства. Проходит некоторое время, и вдруг вы,
по тем или другим соображениям, отворите двери и попро¬
сите меня перейти в то общество... мне ничего; мне не
стыдно, и меня оттуда не выгонят. А держи я себя здесь
сорванцом и негодяем, мне туда или от стыда нельзя бу¬
дет взойти, или просто меня даже не пустят.
— А если там никого и ничего нет, в той комнате?
— Что ж такое? Если и так, то разве мне хуже от¬
того, что я вел себя крошечку получше? Я и тогда все-
таки не в потере. Поверьте, что самое маленькое усовер¬
шенствование есть в сущности очень большое приобрете¬
ние и доставляет изящнейшее наслаждение. Я ведь отри¬
цаю значение так называемых великих успехов цивилиза¬
ции: учреждения, законы — это все только обуздывает
зло, а добра создать не может ни один гений; эта планета
исправительный дом, и ее условия неудобны для общего
благоденствия. Человек тут легко обозливается и легко
падает. Вот на этот-то счет и велико учение церкви о бла¬
годати, которая в церковном единении восполняет оскуде¬
вающих и регулирует вселенскую правду.
— Скажите,— говорю,— бога ради: зачем же вы, при
таком вашем воззрении на все, не ищете места свя¬
щенника?
— Это уж не вы одни мне говорите, но ведь все это
так только кажется, а на самом деле я, видите, никак еще
для себя не определюсь в самых важных вопросах; у меня
все мешается то одно, то другое... Отрожденский — тот
материалист, о котором я вам говорил,— потешается над
этими моими затруднениями определить себя и предсказы¬
вает, что я определю себя в сумасшедший дом; но это
опять хорошо так, в шутку, говорить, а на самом деле
определиться ужасно трудно, а для меня даже, кажется,
будет и совсем невозможно; но чтобы быть честным и по¬
следовательным, я уж, разумеется, должен идти, пока
дальше нельзя будет.
100
— В чем же,— говорю,— ваши затруднения? Может
быть, это что-нибудь такое, что, при известных стараниях,
при известных усилиях, могло бы быть улажено?
— Нет, благодарю вас; это дело здесь, в России, уже
неисправимое: я сам виноват, я был неосторожен или, если
вы хотите, доверчив — и попался. Позвольте — я вам это
расскажу?
— Ах, пожалуйста!
— Извольте, случай прекурьезный.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
— Я был очень рад,— начал становой,— что родился
римским католиком; в такой стране, как Россия, которую
принято называть самою веротерпимою, и по неотразимым
побуждениям искать соединения с независимейшею цер¬
ковью, я уже был и лютеранином, и реформатом, и вооб¬
ще три раза перешел из одного христианского исповедания
в другое, и все благополучно; но два года тому назад
я принял православие, и вот в этом собственно моя исто¬
рия. Мне оно очень нравилось, но особенно в этом случае
на меня имели очень большое влияние неодобренные сочи¬
нения Иннокентия и запрещенные богословские сочинения
Хомякова, написанные, впрочем, в строго православном
духе. Это могущественная пропаганда в пользу правосла¬
вия. Я убедился из второго тома этих сочинений в чистоте
и многих превосходствах восточного православия, а осо¬
бенно в его прекрасном устранении государства в деле
веры. Пленясь этим, я с свободнейшею совестью перешел
в православие: но... оказывается, что этой веры я уже
переменить не могу.
— Конечно,— говорю,— не можете. А вы этого не
знали?
— Представьте, этого-то я и не знал; а то, разумеется,
я подождал бы.
— То есть, чего же вы подождали бы?
— Испытал бы прежде еще некоторые другие веро¬
исповедания, которые можно переменить, а православие
оставил бы на самый послед.
— Да зачем же,— спрашиваю,— это вам нужно ме¬
нять его? Разве вы разочаровались и в убедительности
слов Иннокентия и Хомякова, и в чистоте самого право¬
славия?
101
— Нет, не разочаровался нисколько ни в чем, но меня
смутило, что православия нельзя переменить. Сознание
этой несвободности меня лишает спокойствия совести.
Самостоятельность моя этим подавлена и возмущается.
Я подал просьбу, чтоб мне позволили выйти, а если не
позволят, то думаю уйти в Турцию, где христианские
исповедания не имеют протекции и оттого в известном
отношении свободнее и ближе к духу Христова учения.
Жду с нетерпением ответа, а теперь прощайте и извините
меня, что я отнял у вас много времени.
Я было просил его поужинать и переночевать, но ста¬
новой от этого решительно отказался и сказал, что он
должен еще поспешить в соседнюю деревню для продажи
«крестьянских излишков» на взыскание недоимки.
— Какие же вы у них находите «излишки»? — спра¬
шиваю его на пороге.
— А какие у них могут быть излишки? Никаких.
Продаем и ложку, и плошку, овцу, корову — все, кроме
лошадей и сох.
— И что же, вы производите это, не смущаясь со¬
вестью и без борьбы?
— Ну, как вам сказать, операция самая неприятная,
потому что тут и детский плач, и женский вой, и тяжелые
мужичьи вздохи... одним словом, все, что описано у Бе¬
ранже: «вставай, брат,— пора, подать в деревне сбирают
с утра»... Очень тяжело; но ведь во всяком случае видеть
эти страдания и скорбеть о своем бессилии отвратить их
все-таки легче, чем быть их инициатором. Мои обязанно¬
сти все-таки всех легче: я машина, да-с, я ничто другое,
как последняя спица в колеснице: с меня за это не взы¬
щется, а тем, кто эти денежки тянет да транжирит без
толку... Ох, я скорблю за них; а впрочем, все равно: вез¬
де непонимание — «нет виноватых, нет виноватых», да,
может быть, нет и правых.
На сих словах мы расстались с этим антиком, и он
уехал.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ
Становой Васильев довольно долго не шел у меня из
головы, и я даже во сне не раз видал его священником
в ризе, а в его фуражечке с кокардой — отца Маркела,
ожидавшего себе в помощь генерала Гарибальди из Пе¬
тербурга. Впрочем, я и въявь был того убеждения, что им
102
очень удобно было бы поменяться местами, если бы толь¬
ко не мешало становому смущавшее его недозволение пере¬
менить православную веру, которую он собственно и не
имел нужды переменять. Но вопрос об устройстве врачеб¬
ной части в селениях занимал меня еще более и вытеснил
на время из моей головы и ссоры нашей поповки, и рели¬
гиозно-философские сомнения моего приходского станово¬
го. Я никогда ничем дельным не послужил земле своей
и потому при этом случае, представлявшемся мне пора¬
деть в ее пользу, взялся за дело с энергией, какой даже
не предполагал в себе.
Я принялся писать. Пока я излагал историческое раз¬
витие этого дела в чужих краях, все у меня шло как по
маслу; но как только я написал: «обращаемся теперь
к России» — все стало в пень и не движется.
С великими натугами скомпилировал я кое-как, по офи¬
циальным источникам, то, что разновременно предполага¬
лось и установлялось для народного здравия; но чувствую,
что все это сухо и что в исполнении, как и в неисполне¬
нии всех этих предначертаний и указов, везде или непро¬
глядная тьма, или злая ирония... Выходит, что все это
никуда не годилось, кроме как на смех... А что здесь
гоже? что приимчиво? что в этом роде может принести
добрый плод на нашей почве?.. Просто отчаяние! Чем
больше думаю, тем громаднее вырастают и громоздятся
передо мною самые ужасные опасения насмешек жизни.
Комическая вещь, в самом деле, если и в настоящем слу¬
чае с народом повторится комедия, которую господа врачи
разыгрывают с больными нищими, назначая им лафит
к столу и катанье пред обедом в покойной коляске!..
А с другой стороны, что же и присоветуешь, когда лафит
и коляска нужны? Говорят: главное дело гигиена; но бога
ради: какая же такая гигиена слыхана в русской избе?..
А между тем до собраний, в которые я должен явиться,
остается уже недалеко, и надо будет представить дело
в обстоятельном изложении, с обдуманными предположе¬
ниями. Что же предполагать и что планировать? Просто
до некоторого отчаяния дошел я и впал в такую нервиче¬
скую раздражительность, что на себя управы никакой не
находил.
Думал, думал и, видя, что ничего не выдумаю, решил
себе съездить в свой уездный город и повидаться с тем
материалистом-врачом Отрожденским, о котором мне гово¬
рил и с которым даже советовал повидаться становой Ва¬
сильев. Сказано — сделано: приезжаю в городишко, остано¬
103
вился на постоялом дворе и, чтобы иметь предлог позна¬
комиться с доктором не совсем официальным путем,
посылаю просить его к себе как больной врача.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ
Человек пошел и через минуту возвращается.
— Лекарь,— говорит,— не пошли-с.
— Как,— спрашиваю,— отчего он не пошел?
— Начали,— говорит,— расспрашивать: «Умирает твой
барин или нет?» Я говорю: «Нет, слава богу, не уми¬
рает».— «И на ногах, может быть, ходит?» — «На чем же
им, отвечаю, и ходить, как не на ногах». Доктор меня
и поругал: «Не остри,— изволили сказать,— потому что
от этого умнее не будешь, а отправляйся к своему барину
и скажи, что я к нему не пойду, потому что у кого ноги
здоровы, тот сам может к лекарю прийти».
Выслушав такой рапорт моего слуги, я нимало не
обиделся: что же, думаю, из «новых людей» он! Взял
шляпу и трость и пошел к нему сам.
Застаю в не особенно чистой комнате небольшого, до¬
вольно полного брюнета, лет сорока двух, скоро пишущего
что-то за ломберным столом.
Извинился и спрашиваю: дома ли доктор Отрож¬
денский.
— Весь к вашим услугам,— отвечает, не оборачиваясь,
брюнет.— Присядьте, если угодно; я сейчас только отзыв
уездному начальнику допишу.
Я присел и смотрю сбоку на моего хозяина: лицо до¬
вольно симпатичное, а в больших серых глазах видны
и ум, и доброта.
Пока я его рассматривал, он кончил свое писание, рас¬
черкнулся, записал бумагу в книгу, запечатал в конверт,
свистнул и, вручив вошедшему солдату этот пакет, обра¬
тился ко мне с вопросом, что мне угодно?
— Прежде всего,— говорю,— мне, господин доктор,
кажется, что я немножко нездоров.
— Ну будьте уверены, что если еще самим вам только
кажется, что вы нездоровы, так болезнь не очень опасная.
Что же такое вы чувствуете?
Я пожаловался на нервное раздражение.
Лекарь посмотрел на меня, пожал меня рукой не за
пульс, а за плечо и, вздохнув, отвечает:
— Вы вот очень толсты: видите, сколько мяса и жиру
себе наели. Вас надо бы хорошенько выпотнять.
104
— Как же,—говорю,— это выпотнять?
— Вы богаты или нет?
— У меня,— отвечаю,— есть обеспеченное состояние.
— Да? ну, это скверно: не на корде же вам в самом
деле себя гонять, хоть и это бы для вас очень хорошо.
Меньше ешьте, меньше спите... Управляющий у вас есть?
— Есть.
— Отпустите его, а сами разбирайтесь с мужиками:
они вам скорее жиру поспустят. Потом, когда обвыкнетесь
и будете иметь уже настоящее тело — полное, вот как
я, но без жира, тогда и избавитесь от всякой нервической
чепухи.
— Но ведь, согласитесь,— говорю,— эта нервическая
чепуха очень неприятна.
— Ну, с какой стороны смотреть на это: кому не на
что жаловаться, так гадкие нервы иметь даже очень хоро¬
шо. Больше я вам ничего сказать не могу,— заключил док¬
тор, и сам приподнимается с места, выпроваживая меня
таким образом вон.
ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ
«Нет, позволь,— думаю себе,— брат, ты меня так ско¬
ро не выживешь».
— Я,— говорю,— кроме того, имею надобность погово¬
рить с вами уже не о моем здоровье, а о народном.
Я имею поручение представить будущему собранию земст¬
ва некоторые соображения насчет устройства врачебной
части в селениях.
— Так зачем же,— говорит,— вы мне давеча не дали
знать об этом с вашим лакеем? Я бы по первому его сло¬
ву пришел к вам.
Я несколько позамешкал ответом и пробурчал, что не
хотел его беспокоить.
— Напрасно,— отвечает.— Ведь все же равно, вы меня
звали, только не за тем, за чем следовало; а по службе
звать никакой обиды для меня нет. Назвался груздем —
полезай в кузов; да и сам бы рад скорее с плеч свалить
эту пустую консультацию. Не знаю, что вам угодно от
меня узнать, но знаю, что решительно ничего не знаю
о том, что можно сделать для учреждения врачебной части
в селениях.
— Представьте, что и я,— говорю,— тоже не знаю.
— Ну, вот и прекрасно! значит у нас обоих на первых
105
же порах достигается самое полное соглашение: вы так
и донесите, что мы оба, посоветовавшись, решили, что мы
оба ничего не знаем.
— Но это будет шутка.
— Нет, напротив, самая серьезная вещь. Шутить будут
те, кто начнут рассказывать, что они что-нибудь знают
и могут что-нибудь сделать.
— Не можете ли по крайней мере сообщить ваши
взгляды о том, что надо преобразовать?
— Это могу: надо преобразовать европейское общест¬
во и экономическое распоряжение его средствами. У меня
для этого применительно к России даже составлена кое-
какая смета, которою я,— исходя из того, что исправное
хозяйство одного крестьянского дома стоит средним чис¬
лом сто пятьдесят рублей,— доказываю, что путем благо¬
разумных сбережений в одном Петербурге можно в три го¬
да во всей России уменьшить на двадцать пять процен¬
тов число заболеваний и на пятьдесят процентов цифру
смертности.
— Это,— отвечаю,— очень интересно, но ведь от нас
не этих соображений требуют. От нас ждут соображений:
что можно сделать для народного здоровья в тех средст¬
вах, в каких находится нынче жизнь народа.
— Да, от нас требуют соображений: как бы соорудить
народу епанчу из тришкина кафтана? Портные, я слышал,
по поводу такой шутки говорят: «что если это выправить,
да переправить, да аршин шесть прибавить, то выйдет
и епанча на плеча».
— Согласен,— отвечаю,— с вами и в этом; но ведь
надо же с чего-нибудь начать, чтобы найти выход из это¬
го положения. Я вот рассмотрел несколько статистических
отчетов о заболевающих и о смертности по группам болез¬
ней, и...
— И напрасно все вы это сделали,— перебил меня док¬
тор.— Эти отчеты способны только путать, а не уяснить
дело. Наша литература в этом отличается. Вон я недавно
читал в одной газете, будто все болезни войска разносят.
Очень умно! И лихорадка, и насморк — это все от войск!
Глупо, но есть вывод и направление, и — дело в шляпе.
Так и все смертные случаи у нас приписываются той или
другой причине для того, чтоб отписаться, а народ мрет
положительно только от трех причин: от холода, от голо¬
да и от глупости. От этих хвороб его и надо лечить.
Какие же от этого лекарства, и в каком порядке их надо
давать? Это то же, что известная задача: как в одной
106
лодке перевезти чрез реку волка, козу и капусту, чтобы
волк козы не съел, а коза — капусты и чтобы все целы
были. Если вы устремитесь прежде всего на уничтожение
вредно действующих причин от холода и голода, тогда
надо будет лечить не народ, а некоторых других особ, из
которых каждой надо будет или выпустить крови от одной
пятой до шестой части веса всего тела, или же подвесить
их каждого минут на пятнадцать на веревку. Потом бы
можно, пожалуй, и снять, а можно и не снимать... Но это
ни к чему путному не поведет, потому что в народе оста¬
нется одна глупость, и он, избавившись от голода, обо¬
жрется и сдуру устроится еще хуже нынешнего. Стало
быть, надо начинать с азов — с лечения от глупости.
Я постоянно имею с этим дело и давно предоставил моему
фельдшеру свободное право — по его собственной фанта¬
зии определять причины смерти вскрываемых трупов,
и знаю, что он все врет. Дело гораздо проще. Зимой му¬
жики дохнут преимущественно от холода, от дрянной одеж¬
ды и дрянного помещения, по веснам — с голоду, потому
что при начале полевых работ аппетит у них разгорается
огромный, а удовлетворить его нечем; а затем остальное
время — от пьянства, драки и вообще всяких глупостей,
происходящих у глупого человека от сытости.
— Вы сытость,— говорю,— тоже полагаете в числе
вредностей?
— А непременно: дурака досыта кормить нужно
с предосторожностями. Смотрите: вон овсяная лошадь...
ставьте ее к овсу смело: она ест, и ей ничего, а припусти¬
те-ка мужичью клячу: она либо облопается и падет, либо
пойдет лягаться во что попало, пока сама себе все ноги
поотколотит. Вон у нас теперь на линии, где чугунку
строят, какой мор пошел! Всякий день меня туда возят;
человека по четыре, по пяти вскрываю: неукротимо мрут
от хорошей пищи.
— От хорошей?! — спрашиваю с удивлением.
— Да, от хорошей-с, а не от худой. Это чиновникам
хочется доказать, что от худой, чтобы подрядчика при¬
жать, а я знаю, что непомерная смертность идет от хоро¬
шего свойства пищи, и мужики сами это знают. Как
только еще началась эта история, человек с двадцать сра¬
зу умерло; я спрашиваю: «Отчего вы, ребята, дохнете?» —
«А всё с чистого хлеба, говорят, дохнем, ваше высокобла¬
городие: как мы зимой этого чистого хлебушка не чавкали,
а все с мякиной, так вот таперича на чистой хлеб нас по¬
садили и помираем». Обдержатся — ничего, а как новая
107
партия придет — опять дохнут. С месяц тому назад сразу
шесть человек вытянулись: два брата как друг против
друга сидели, евши кашу, так оба и покатились. Вскрывал
их фельдшер: в желудке каша, в пищеводе каша, в глотке
каша и во рту каша; а остальные, которые переносят, жа¬
луются: «Мы, бают, твоя милость, с сытости стали на но¬
ги падать, работать не можем».
— Ну, и чем же вы им помогли? Любопытно знать.
— Велел их вполобеда отгонять от котла палками.
Подрядчик этого не смел; но они сами из себя трех раз¬
гонщиков выбрали, и смертность уменьшилась, а теперь
въелись, и ничего: фунт меду мне в благодарность при¬
несли.
Представьте себе мое положение с этаким консультантом!
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
— Но ведь это,— говорю,— все, что вы изволили рас¬
сказать, случаи экстренные, а ведь мы должны иметь
в виду другое, когда крестьянин умирает своею смертью
без медицинской помощи.
— Да зачем же ему нужно умирать с медицинскою по¬
мощью? — вопросил лекарь.— Разве ему от этого легче
будет или дешевле? Пустяки-с все это! Поколику я медик
и могу оказать человеку услугу, чтоб он при моем содей¬
ствии умер с медицинскою помощью, то ручаюсь вам, что
от этого мужику будет нимало не легче, а только гораздо
хлопотнее и убыточнее.
Удивился я и прошу его объяснить мне: отчего же это
будет убыточнее, если с мужика ни за рецепт, ни за ле¬
карство ничего не возьмут?
— А оттого,— отвечает,— что мужик не вы, он не
пойдет к лекарю, пока ему только кажется, что он нездо¬
ров. Это делают жиды да дворяне, эти охотники пачкать¬
ся, а мужик человек степенный и солидный, он рассказа¬
ми это про свои болезни докучать не любит, и от лекаря
прячется, и со смоком дожидается, пока смерть придет,
а тогда уж любит, чтоб ему не мешали умирать и даже
готов за это деньги платить.
«Ну,— думаю себе,— это ты, любезный друг, врешь;
я вовсе не так глуп, чтобы тебе поверить», и говорю ему:
— Извините меня, но я никогда еще не слыхал, что¬
бы какой-нибудь человек платил врачу деньги за то, чтоб
ему поскорее умереть.
108
— Мало ли,— отвечает,— чего вы не слыхали.
Я много раз это видел в военных больницах, особенно
в Петербурге; казаки из староверов, ах как спокойно это
совершают! С большою-с, с большою серьезностью... ско¬
рее семь раз умрет, чем позволит себе клистир сделать,
да-с. Да вот даже нынешним еще летом со мной был та¬
кой случай, уже не в больнице. Тут помещица есть, очень
важная барыня,— отсюда верстах в десяти,— тоже вот,
вроде вас, совсем ожирела. Рассердилась она как-то на
дочь, и расходились у ней, как у вас, самордаки; дочь ее
пишет мне, что «маменька умирает совсем». Думаю: черт
знает, пожалуй, чего доброго, и действительно умрет, и за
нее, как за что путное, под суд попадешь, что не подал
помощи. Отправился к ней на таратайке. Приезжаю, про¬
сят подождать. Жду и наблюдаю из залы, как мальчиш¬
ка-лакейчонок в передней читает старому лакею газету
«Весть», и оба ею очень довольны. Старый лакей внушает
молодому лакею: «вот, говорит, как должно пишут на¬
стоящие господа», и сам, седой осел, от радости заплакать
готов. Великий народ российский!.. Прошел час; выходит
ко мне прекрасная барышня, дочка, и с заплаканными
глазками говорит, что маменьке ее, изволите видеть, по¬
легче (верно, помирились) и что теперь они изволили за¬
снуть и не велели себя будить, «а вас, говорит, приказали
просить в контору, там вам завтрак подадут», и с этим
словом подает мне рубль серебром в розовом пакетике.
Я завтрака есть не пошел, спросил себе стакан воды и по¬
ложил на тарелку рубль его барыни, а барышне сказал:
«Сделайте одолжение, сударыня, скажите от меня вашей
маменьке, что видал я на своем веку разных свиней, но уж
такой полновесной свиньи, как ваша родительница, до сей
поры не видывал».
И в таратайку их я не сел, а ушел от них пешком.
Жара страшная, десять верст ходьбы все-таки изрядно;
пыль столбом стоит, солнце печет. На половине дороги
есть деревушка. Иду по улице — даже собаки не тяв¬
кают,— от жары кто куда, под застрехи да в подполья по¬
прятались. Смотрю — у одной хатенки на пороге двое
ребятишек сидят и синее молоко одною ложкой хлебают
и делятся этою ложкою как самые заправские социалисты.
Один раз один хлебнет, другому передает, а тот хлебнет,
этому передает. Удивительно! Досужий человек на это це¬
лое рассуждение о русском народе может написать.
И вдруг это молоко меня соблазнило. Зайду, думаю,
в избу, нельзя ли хоть уста промочить. Вошел; во-первых,
109
муха! самая неумеримая муха! Так жужжит, даже стон
стоит. Во-вторых, жара нестерпимая и никого в избе нет,
только откуда-то тянется мучительное тяжкое оханье.
Я вышел на двор, вижу, бабенка навоз вилами сушит.
«Есть,— говорю,— у тебя молоко?»
Думала, думала и отвечает, что молоко есть.
«Дай же,— говорю,— мне молока; я тебе гривен¬
ник дам».
«А на что,— говорит,— мне твой гривенник? Гривен¬
ник-то у нас еще, слава богу, и свой есть».
Однако согласилась, дала молока.
Сел я в сенях на скамеечку, пью это молоко, а в избе
так и разливается мучительнейший стон.
«Это,— говорю,— кто у вас так мучится?»
«Старичок,— говорит,— свекор больной помирает».
Я выпил молоко и подхожу к старику. Гляжу, старичи¬
ще настоящий Сатурн; человек здоровья несметного; мус¬
кулы просто воловьи, лежит, глаза выпучил и страшно,
страшно стонет.
«Что,— говорю,— с тобою, дед?»
«А?»
«Что, мол, с тобою?»
«Отойди прочь, ничего»,— и опять застонал.
«Да что, мол, такое с тобою? Чем ты болен?»
«Отойди прочь, ничего».
Я ощупал у него пузо: вижу, ужас что газов сперто.
Я скорее сболтал стакан слабительной импровизации, под¬
ношу и говорю:
«Пей скорее, старик, и здоров будешь, еще сто лет
проживешь».
«Отойди прочь,— говорит,— не мешай: я помираю».
«Пей,— говорю,— скорее! выпей только, и сейчас вы¬
здоровеешь». Где же там? и слушать не хочет, «помираю»,
да и кончено.
Ну, думаю себе, не хочешь, брат, слабительного, так
я тебя иным путем облегчу, а меня, чувствую, в это время
кто-то за коленку потихоньку теребит, точно как теленок
губами забирает. Оглянулся, вижу, стоит возле меня боль¬
шой мужик. Голова с проседью, лет около пятидесяти.
Увидал, что я его заметил, и делает шаг назад и ехидно
манит меня за собою пальцем.
«Что,— говорю,— тебе нужно?»
«Батюшка, ваше благородие,— шепчет,— пожалуйте!..
примите!..» — и с этим словом сует мне что-то в руку.
«Это,— спрашиваю,— что такое?»
110
«Полтина серебра, извольте принять... полтину се¬
ребра».
«За что ж ты, дурак, даешь мне эту полтину
серебра?»
«Не мешайте, батюшка, божьему старику помирать».
«Ты кто ему доводишься?»
«Сын,— говорит,— батюшка, родной сын; это батька
мой родной: помилосердуйте, не мешайте ему помирать».
А тут, гляжу, из сеней лезет бабенка, такая старушен¬
ция, совсем кикимора, вся с сверчка, плачет и шамшит:
«Батюшка, не мешай ты ему, моему голубчику, поми¬
рать-то! Мы за тебя Бога помолим».
Что же, думаю, за что мне добрым людям перечить!
Тот сам хочет помирать, родные тоже хотят, чтоб он умер,
а мне это не стоит ни одного гроша: выплеснул слаби¬
тельное.
«Помирайте,— говорю,— себе с Богом хоть все».
Они это отменно восчувствовали и даже за самую око¬
лицу меня провожали с благодарностью.
Спрашиваю дорогою:
«Что же, наследства, что ли, мол, ждете от стари¬
ка-то?»
«Нет,— говорят,— батюшка, какое наследство: мы бед¬
ные, да уж он совсем в путь-то собрался... и причастился,
теперь ему уж больно охота помереть».
Только что за околицу я вышел, гляжу, мальчишка
бежит.
«Тятя,— кричит,— дедушка протянулся».
И все заголосили:
«Один ты, мол, у нас только и был!»
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
— А все же,— говорю,— этот случай нимало не приво¬
дит нас ни к какому заключению о том, как избавить на¬
род от его болезней и безвременной смерти.
— Я вам мое мнение сказал,— отвечал лекарь.— Я се¬
бе давно решил, что все хлопоты об устройстве врачебной
части в селениях ни к чему не поведут, кроме обременения
крестьян, и давно перестал об этом думать, а думаю о ле¬
чении народа от глупости, об устройстве хорошей, настоя¬
щей школы, сообразной вкусам народа и настоящей по¬
требности, то есть чтобы все эти гуманные принципы
педагогии прочь, а завести школы, соответственные нравам
народа, спартанские, с бойлом.
111
— Вы хотите бить?
— А непременно-с; это и народу понравится, да и ха¬
рактеры будут воспитываться сильнее, реальнее и злее.
Так мы вернее к чему-нибудь доспеем, чем с этими неби¬
тыми фалалеями, которые теперь изо всех новых школ вы¬
ходят. Я, при первых деньгах, открою первый «образцо¬
вый пансион», где не будет никакой поблажки. Я это уже
зрело обдумал и даже, если не воспретит мне правительст¬
во, сделаю вывеску: «Новое воспитательное заведение
с бойлом»; а по желанию родителей, даже будут жестоко
бить, и вы увидите, что я, наконец, создам тип новых лю¬
дей — тип, желая достичь которого наши ученые и лите¬
ратурные слепыши от него только удаляются. Доказатель¬
ство налицо: теперь все, что моложе сорока лет, уже все
скверно, все размягчено и распарено теплым слоем гуман¬
ного обращения. Таким людишкам нужны выгоды буржу¬
азной жизни, и они на своих ребрах кола не переломят;
а без этого ничего не будет.
— Ну, а об устройстве врачебной-то части... мы так
ни к чему и не приблизились.
— Да и не к чему приближаться; я вам сказал и, ка¬
жется, доказал, что это вовсе не нужно.
— Простите,— говорю,— пожалуйста; но тогда позво¬
лительно спросить вас: зачем же, по-вашему, сами врачи?
— А для нескольких потребностей: для собственного
пропитания, для административного декорума, для уничто¬
жения стыда у женщин, для истощения карманов у богачей
и для вскрытия умирающих от холода, голода и глу¬
пости.
Нет, вижу, что с этого барина, видно, уж взятки глад¬
ки, да он вдобавок и говорить со мною больше не хочет:
встал и стоит, как воткнутый гвоздь, а приставать к нему
не безопасно: или в дверь толкнет, или по меньшей мере
как-нибудь некрасиво обзовет.
— Не посоветуете ли,— спрашиваю,— по крайности,
к кому бы мне обратиться: не занимает ли этот вопрос
кого-нибудь другого, не имеет ли с ним еще кто-нибудь
знакомства, от кого бы можно было получить другие сооб¬
ражения.
— Толкнитесь,— говорит,— к смотрителю уездного
училища: он здесь девкам с лица веснушки сводит и зубы
заговаривает, также и от лихорадки какие-то записки
дает; и к протопопу можете зайти, он по лечебнику Каме¬
нецкого лечит. У него в самом деле врачебной практики
112
даже больше, чем у меня: я только мертвых режу, да
и то не поспеваю; вот и теперь сейчас надо ехать.
— Извините,— говорю,— еще один вопрос: а акушер¬
ка здешняя знает деревенский быт?
— Нет, к ней не ходите: ее в деревни не берут; она
только офицерам, которые стоят с полком, деньги под за¬
лог дает да скворцов учит говорить и продает их купцам.
Вот становой у нас был Васильев, тот, может быть, и мог
бы вам что-нибудь сказать, он в душевных болезнях пода¬
вал утешение, умел уговаривать терпеть,— но и его, на
ваше несчастие, вчерашний день взяли и увезли в губерн¬
ский город.
— Как,— говорю,— Васильева-то увезли! За что же
это? Я его знаю — казалось, такой прекрасный человек...
— Ну, прекрасный не прекрасный, а был человек очень
пригодный досужным людям для развлечения, а взяли
его по доносу благочинного, что он будто бы хотел бежать
в Турцию и переменить там веру. Я ему предлагал при¬
нять его в самую толерантную веру — в безверие, но он не
соглашался, боялся, что будет чувствовать себя несвобод¬
ным от необходимости объяснять свои движения причина¬
ми, зависящими от молекул и нервных центров,— ну, вот
и зависит теперь от смотрителя тюремного замка. Впрочем,
время идет, и труп, ожидающий моего визита, каждую
минуту все больше и больше воняет; надо пожалеть людей
и скорей его порезать.
Говорить было более некогда, и мы расстались; но
когда я был уже на улице, лекарь высунулся в фуражке
из окна и крикнул мне:
— Послушайте! повидайтесь-ка вы с посредником Го¬
товцевым.
— А что такое?
— Да он ведь у нас администратор от самых младых
ногтей и первый в своем участке школы завел,— его всем
в пример ставят. Не откроет ли он вам при своих дарова¬
ниях секрета, как устроить, чтобы народ не умирал без
медицинской помощи?
Я поблагодарил, раскланялся и скрылся.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
Ни к акушерке, ни к смотрителю училища, разумеется,
я не пошел, а отправился повидаться с посредником Го¬
товцевым.
113
Прихожу, велел о себе доложить и ожидаю в зале.
Выходит хозяин, молодой человек, высокий, румяный,
пухлый, с кадычком и очень тяжелым взглядом сверху
вниз.
Отрекомендовались друг другу, присели, и я изложил
озабочивающее меня дело и попросил услуги советом.
— По-моему, дело это очень нетрудно уладить; но
здесь, как и во всяком деле, нужна решительность, а ее
у нас, знаете... ее-то у нас и нет нигде, где она нужна.
У нас теперь не дело делается, а разыгрывается в лицах
басня о лебеде, раке и щуке, которые взялись везти воз.
Суды тянут в одну сторону, администрация — в другую,
земство потянет в третью. Планы и предначертания сып¬
лются как из рога изобилия, а осуществлять их неведомо
как: «всякий бестия на своем месте», и всяк стоит за
свою шкуру. Без одной руководящей и притом смело руко¬
водящей воли в нашем хаосе нельзя, и воля эта должна
быть ауторизована, ответ ее должен быть ответ Пила¬
та жидам: «еже писах — писах»; тогда и возможно
все: и всяческое благоустройство, и единодействие...
и все. А у нас... Вы не приглядывались к ходу дел в гу¬
бернии?
Отвечаю, что еще не приглядывался.
— Напрасно; вы очень много потеряли.
Я отвечал, что не лишаю себя надежды возвратить
эту потерю, потому что скоро поеду в губернский город
на заседания земства, а может быть и раньше, чтобы там
поискать у кого-нибудь совета и содействия в моих за¬
труднениях.
— И прекрасно сделаете: там есть у нас старик Фор¬
тунатов, наш русский человек и очень силен при губер¬
наторе.
Я заметил, что я этого Фортунатова знаю по гимна¬
зии и по университету.
— Ну вот,— отвечает,— лучше этого вам и не надо;
он всемогущ, потому что губернатор беспрестанно все пу¬
тает, и так путает, что только один Василий Иванович
Фортунатов может что-нибудь разобрать в том, что он
напутал. Фортунатов — это такой шпенек в здешнем ме¬
ханизме, что выньте его — и вся машина станет или черт
знает что заворочает. Вы с ним можете говорить прямо
и откровенно: он человек русский и прямой, немножко,
конечно, с лукавинкой, но уж это наша национальная чер¬
та, а зато он один всех решительнее. Вы не были здесь,
114
когда поднялась история из-за школ? Это было ужасное
дело: вынь да положь, чтобы в селах были школы откры¬
ты, а мужики, что им ни говори, только затылки чешут.
Фортунатов видит раз всех нас, посредников, за обедом:
«братцы, говорит, ради самого Господа Бога выручайте:
страсть как из Петербурга за эти проклятые школы нас
нажигают!» Поговорили, а мужики школ все-таки не
строят; тогда Фортунатов встречает раз меня одного:
«Ильюша, братец, говорит (он большой простяк и всем
почти ты говорит),— да развернись хоть ты один! будь
хоть ты один порешительней; заставь ты этих шельм,
наших мужичонков, школы поскорее построить». Дело, как
видите, трудное, потому что, с одной стороны, мужик не
понимает пользы учения, а с другой — нельзя его прине¬
воливать утроить школы, не велено приневоливать. Но тем
не менее есть же свои администраторские приемы, где
я могу, не выходя из... из... из круга приличий, заста¬
вить... или... как это сказать... склонить... «Извольте, гово¬
рю, Василий Иванович, если дело идет о решительности,
я берусь за это дело, и школы вам будут, но только уж
смотрите, Василий Иванович!» — «Что, спрашивает, та¬
кое?» — «А чтобы мои руки были развязаны, чтоб я был
свободен, чтобы мне никто не препятствовал действовать
самостоятельно!» Им было круто, он и согласился, гово¬
рит: «Господи! да Бог тебе в помощь, Ильюша, что хо¬
чешь с ними делай, только действуй!» Я человек аккурат¬
ный, вперед обо всем условился: «смотрите же, говорю,
чур-чура: я ведь разойдусь, могу и против земства уда¬
рить, так вы и там меня не предайте».— «Ну что ты, Бог
с тобой, сами себя, что ли, мы станем предавать?» Ну ко¬
гда так — я и поставил дело так, что все только рты рази¬
нули. В один год весь участок школами обзавел. Приез¬
жайте в какую хотите деревушку в моем участке и
спросите: «есть школа?» — уж, конечно, не скажут, что
нет.
— Как же,— говорю,— вы всего этого достигли?
Каким волшебством?
— Вот вам и волшебство! — самодовольно воскликнул
посредник и, выступив на середину комнаты, продолжал: —
Никакого волшебства не было и тени, а просто-напросто
административная решительность. Вы знаете, я что сде¬
лал? Я, я честный и неподкупный человек, который горло
вырвет тому, кто заикнется про мою честь: я школами
взятки брал!
115
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
— Как же это так школами взятки брать? — восклик¬
нул я, глядя во все глаза.
— Да-с; я очень просто это делал: жалуется общество
на помещика или соседей. «Хорошо, говорю, прежде шко¬
лу постройте!» В ногах валяются, плачут... Ничего: ска¬
зал: «школу постройте и тогда приходите!» Так на своем
стою. Повертятся, повертятся мужичонки и выстроят,
и вот вам лучшее доказательство: у меня уже весь, бук¬
вально весь участок обстроен школами. Конечно, в этих
школах нет почти еще книг и учителей, но я уж начинаю
второй круг, и уж дело пошло и на учителей. Это, спро¬
сите, как?
Я молчу.
— А опять,— продолжает,— все тем же самым поряд¬
ком: имеешь надобность ко мне, найми в школу учителя.
Отговорок никаких: найми учителя, и тогда твое дело сде¬
лается. Мне самому ничего не нужно, но для службы
я черт... и таким только образом и можно что-нибудь
благоустроять. А без решительности ни к чему не придете.
Захотелось теперь устройства врачебной части; пусть на¬
чальство выскажется, что ему этого хочется: это ему при¬
надлежит; но не мешай оно энергическим исполнителям,
как это делать. Фемиде ли вы служите, или земству, или
администрации — это должно быть все равно: камертон
дан — пой, сигнал пущен — пали. Если бы начальство
стояло стойко и решительно, я... я вам головой отвечаю,
что я не только врачебную часть, а я черт знает что заве¬
ду вам в России с нашим народом! Наш народ еще, слава
богу, глуп, с ним еще, слава богу, жить можно... «Строй,
собачий сын, больницу! — закричал посредник на меня
неистово, подняв руки над моею головой.— Нанимай лека¬
ря, или... я тебя... черт тебя!..», и Готовцев начал так
штырять меня кулаками под ребра, что я, в качестве моде¬
ли народа, все подавался назад и назад и, наконец, стук¬
нулся затылком об стену и остановился. Дальше отступать
было некуда.
«А-а! — закричал в эту секунду Готовцев,— так вот
я тебя, канальский народ, наконец припер к стене... теперь
тебе уж некуда назад податься, и ты строишь что мне
нужно... и за это я тебя целую... да-с, целую сам своими
собственными устами».
С этим он взял меня обеими руками за лацканы, поце¬
ловал меня холодным поцелуем в лоб и проговорил:
116
«Вот как я тебя благодарю за твое послушание! А если
ты огрызаешься и возбуждаешь ведомство против ведом¬
ства (он начал меня раскачивать за те же самые лацка¬
ны), если ты сеешь интриги и, не понимая начальственных
забот о тебе, начинаешь собираться мне возражать... то...
я на тебя плюю!.. то я иду напролом... я сам делаюсь
администратором, и (тут он закачал меня во всю мочь,
так что даже затрещали лацканы) если ты придешь
ко мне за чем-нибудь, так я... схвачу тебя за шиво¬
рот... и выброшу вон... да еще в сенях приподдам ко¬
леном».
И представьте себе: он действительно только не плю¬
нул на меня, а то проделал со мною все, что говорил: то
есть схватил меня за шиворот, выбросил вон и приподдал
в сенях коленом.
Я понял из этого затруднительность сельских общин
в совершенстве и, удирая скорей домой в деревню, всю
дорогу не мог прийти в себя.
«Нет,— решил я себе,— нет, господа уездная интелли¬
генция: простите вы меня, а я к вам больше не ездок.
С вами, чего доброго, совсем расшибешься».
Но как дело-то, однако, не терпит и, взявшись пред¬
ставить записку, ее все-таки надо представить, то думаю:
действительно, махну-ка я в губернский город — там и ар¬
хивы, и все-таки там больше людей с образованием; там
я и посоветуюсь и допишу записку, а между тем подойдет
время к открытию собраний.
Сборы невелики: еду в губернский город и, признаюсь
вам, еду не с спокойным духом.
Что-то, мол, опять мне идет здесь на Руси все хуже
и хуже; чем-то теперь здесь одарит Господь!
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ
Прежде всего не узнаю того самого города, который
был мне столь памятен по моим в нем страданиям. Архи¬
тектурное обозрение и костоколотная мостовая те же, что
и были, но смущает меня нестерпимо какой-то необъясни¬
мый цвет всего сущего. То, бывало, все дома были белые
да желтые, а у купцов водились с этакими голубыми
и желтыми отворотцами, словно лацканы на уланском мун¬
дире,— была настоящая житейская пестрота; а теперь,
гляжу, только один неопределенный цвет, которому нет
и названия.
Первое, о чем я полюбопытствовал, умываясь, как
117
Чичиков, у себя в номере, был именно неопределенный
цвет нашего города.
— Объясните мне, пожалуйста, почтенный гражда¬
нин,— спрашиваю я у коридорного лакея,— что это у вас
за странною краской красят дома и заборы?
— А это-с, сударь,— отвечает,— у нас нынче называет¬
ся «цвет под утиное яйцо».
— Этакого цвета у вас, помнится, никогда не было?
— И звания его, сударь, прежде никогда не слыхали.
— Откуда же он у вас взялся?
— А это нынешний губернатор нас,— говорит,— в про¬
шлом году перекрасил.
— Вот, мол, оно что.
— Точно так-с,— утверждает «гражданин».— Прежде
цвета были разные, кто какие хотел, а потом был стари¬
чок губернатор — тот велел всё в одинаковое, в розовое
окрасить, а потом его сменил молодой губернатор, тот при¬
казал сделать всё в одинаковое, в мрачно-серое, а этот
нынешний как приехали: «что это,— изволит говорить,—
за гадость такая! перекрасить все в одинаковое, в голу¬
бое», но только оно по розовому с серым в голубой не
вышло, а выяснилось, как изволите видеть, вот этак под
утиное яйцо. С тех пор так уж больше не перекрашивают,
а в чистоте у нас по-прежнему остались только одни церк¬
ви: с архиереем все губернаторы за это ссорились, но он
так и не разрешил церквей под утиное яйцо подводить.
Я поблагодарил слугу за обстоятельный рассказ, а сам
принарядился, кликнул извозчика и спрашиваю:
— Знаешь, любезный, где Фортунатов живет?
Извозчик посмотрел на меня с удивлением и потом как
бы чего внезапно оробел или, обидясь, отвечал:
— Помилуйте, как же не знать!
Поехали и приезжаем.
Извозчик осаживает у подъезда лошадь и шепчет:
«первый человек!»
— Что ты говоришь?
— Василий-то Иваныч, говорю-с, у нас первый человек.
Ладно, мол.
Вхожу в переднюю,— грязненько; спрашиваю гряз¬
ненького казачка: дома ли барин?
Отвечает, что дома.
— Занят или нет?
— Никак нет-с,— отвечает,— они после послеобеден¬
ного вставанья на диване в кабинете лежат, дыню кушают.
Велел доложить, а сам вступаю в залу.
118
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ
Уж я ходил-ходил, ходил-ходил по этой зале, нет ни
ответа, ни привета, и казачок совсем как сквозь землю
провалился.
Наконец растворяется дверь, и казачок тихо подходит
на цыпочках и шепчет:
— Барин,— говорит,— изволят спрашивать: вы по делу
или без дела?
Черт знает, думаю, что на это отвечать! Скажу, одна¬
ко, если он бьет на такую официальность, что приехал
по делу.
Малец пошел и опять выходит и говорит:
— По делу пожалуйте в присутствие.
— Ну, мол,— так поди скажи, что я без дела.
Пошел, но и опять является.
— Как,— говорит,— ваша фамилия?
— Ватажков,— говорю,— Ватажков, я же тебе сказал,
что Ватажков.
Юркнул малец и возвращается с ответом, что барин-де
сказал, что они никакого Сапожкова не знают.
То есть просто из терпения вывели!..
Рассвирепел я, завязал мальчишке дурака и ухожу,
как вдруг, слышу, добродушным голосом кричат:
— Ах ты, заморская птица! Орест Маркович! воро¬
тись, брат, воротись! Я ведь думал, что черт знает кто,
что с докладом входишь!
Гляжу, в окне красуется Василий Иванович Фортуна¬
тов — толст, сед, сопит и весь лоснится.
Возвращаюсь я, и облобызались.
Обыкновенные вопросы: что ты, как ты, откуда, давно
ли, надолго ли? Ответив на этот допрос впопад и невпо¬
пад, начинаю сам любопытствовать.
— Как ты? — говорю.— Я ведь тебя оставил социа¬
листом, республиканцем и спичкой, а теперь ты целая
бочка.
— Ожирел, брат,— отвечает,— ожирел и одышка
замучила.
— А убеждения, мол, каковы?
— Какие же убеждения: вон старшему сыну шестна¬
дцатый год — уж за сестриными горничными волочится,
а второму четырнадцать; все своим хребтом воздоил
и, видишь, домишко себе сколотил,— теперь проприетер.
— Отчего же это ты по новым учреждениям-то не слу¬
жишь, ни по судебной части и не ищешь места по
земству?
119
— Зачем? пусть молодые послужат, а я вот еще го¬
док — да в монастырь хочу.
— Ты в монастырь? Разве ты овдовел?
— Нет, жена, слава богу, здорова: да так, брат... гре¬
хи юности-то пора как-нибудь насмарку пускать.
— Да ведь ты еще и не стар.
— Стар не стар, а около пяти десятков вертится,
а главное, все надоело. Модные эти учреждения, модные
люди... ну их совсем к богу!
— А что такое? Обижают тебя, что ли?
— Нет, не то что обижают... Обижать-то где им оби¬
жать. Уж тоже хватил «обижать»! Кто-о? Сами к ставцу
лицом сесть не умеют, да им меня обижать? Тьфу... мы
их и сами еще забидим. Нет, брат, не обижают, а так...—
Фортунатов вздохнул и добавил: — Довольно грешить.
Показалось мне, что старый приятель мой не только
со мною хитрит и лицемерит, но даже и не задает себе
труда врать поскладнее, и потому, чтобы положить этому
конец, я прямо перешел к моей записке, которую я должен
составить, и говорю, что прошу у него совета.
— Нет, душа моя,— отвечает он,— это по части новых
людей,— к ним обращайся, а я к таким делам не касаюсь.
— Да я к новым-то уж обращался.
— Ну и что же: много умного наслушался?
Я рассказал.
Фортунатов расхохотался.
— Ах вы, прохвосты этакие, а еще как свиньи небо
скопать хотят! Мы вон вчера одного из них в сумасшед¬
ший дом посадили, и всех бы их туда впору.
— А кого это,— спрашиваю,— вы посадили в сума¬
сшедший дом?
— Становишку одного, Васильева.
— Боже мой! Ведь я его знаю! Философ.
— Ну вот, он и есть. Философию знает и богословию,
всего Макария выштудировал и на службе состоит, а не
знал, что мы на богословов-то не надеемся, а сами отцов¬
ское восточное православие оберегаем и у нас господствую¬
щей веры нельзя переменять. Под суд ведь угодил бы,
поросенок цуцкой, и если бы «новым людям», не верую¬
щим в Бога, его отдать — засудили бы по законам; а ведь
все же он человечишко! Я по старине направил все это на
пункт помешательства.
— Ну?
— Ну, освидетельствовали его вчера и, убедивши его,
что он не богослов, а бог ослов, посадили на время в су¬
масшедший дом.
120
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
У меня невольно вырвалось восклицание о странной
судьбе несчастного Васильева, но Фортунатов остановил
меня тем, что Васильеву только надо благодарить Бога,
что для него все разрешилось сумасшедшим домом.
— И то,— говорит,— ведь тут, брат, надо было это
поворотить, потому на него, ведь поди-ка ты, истцы-то
три власти: суд, администрация и духовное начальство,—
а их небось сам Соломон не помирит.
— Не ладят?
— И не говори лучше: просто которого ни возьми —
что твой Навуходоносор!.. коренье из земли норовит все
выворотить.
— Губернатор каков у вас?
Фортунатов махнул рукой.
— Сделай,— говорит,— ему визит, посмотри на него,
а главное, послушай — поет курского соловья прекраснее.
— Да я,— отвечаю,— и то непременно поеду.
— Посоветоваться... вот это молодец! Сделай милость,
голубчик, поезжай! То есть разуважишь ты его в конец,
и будешь первый его друг и приятель, и не оглянешься,
как он первое место тебе предложит. Страсть любит све¬
жих людей, а через полгода выгонит. Злою страстью
обуян к переменам. Архиерей наш анамедни ему махнул:
«Полагаю, говорит, ваше превосходительство, что если бы
вы сами у себя под начальством находились, то вы и са¬
мого себя сменили бы?» Вот, батюшка, кому бы нашим
Пальмерстоном-то быть, а он в рясе. Ты когда у губерна¬
тора будешь, Боже тебя сохрани: ни одного слова про
архиерея не обмолвись,— потому что после того, как тот
ему не допустил перемазать храмов, он теперь яростный
враг церкви, через что мне Бог помог и станового Ва¬
сильева от тюрьмы спасти и в сумасшедший дом при¬
строить.
— Позволь же,— говорю,— пожалуйста, как же ты
уживаешься с таким губернатором?
— А что такое?
— Да отчего же он тебя не сменит, если он всех
сменяет?
— А меня ему зачем же сменять? Он только одних
способных людей сменяет, которые за дело берутся с рве¬
нием с особенным, с талантом и со тщанием. Эти на него
угодить не могут. Они ему сделают хорошо, а он ждет,
чтоб они что-нибудь еще лучше отличились — чудо сверхъ¬
121
естественное, чтобы ему показать; а так как чуда из юда
не сделаешь, то после, сколь хорошо они ни исполняй,
уж ему все это нипочем — свежего ищет; ну, а как всех
их, способных-то, поразгонит, тогда опять за всех за них
я один, неспособный, и действую. Способностей своих я не
неволю и старанья тоже; валю как попало через пень
колоду — он и доволен; «при вас, говорит, я всегда по¬
коен». Так и тебе мое опытное благословение: если хочешь
быть нынешнему начальству прелюбезен и делу полезен,
не прилагай, сделай милость, ни к чему великого рачения,
потому хоша этим у нас и хвастаются, что будто способ¬
ных людей ищут, но все это вздор,— нашему начальству
способные люди тягостны. А ты пойди, пожалуй, к губер¬
натору, посоветуйся с ним для его забавы, да и скопни
свою записку ногой, как копнется. Черт с нею: придет
время, все само устроится.
— Ну нет,— говорю,— я как-нибудь не хочу. Тогда
лучше совсем отказаться.
— Ну, как знаешь; только послушай же меня: повре¬
мени, не докучай никому и не серьезничай. Самое глав¬
ное — не серьезничай, а то, брат... надоешь всем так,—
извини,— тогда и я от тебя отрекусь. Поживи, посмотри
на нас: с кем тут серьезничать-то станешь? А я меж тем
губернаторше скажу, что способный человек приехал
и в аппетит их введу на тебя посмотреть,— вот тогда ты
и поезжай.
«Что же,— рассуждаю,— так ли, не так ли, а в самом
деле немножко ориентироваться в городе не мешает».
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ
Живу около недели и прислушиваюсь. Действительно,
мой старый приятель Фортунатов прав: мирным временем
жизнь эту совсем нельзя назвать: перестрелка идет без¬
умолчная.
В первые дни моего здесь пребывания все были заня¬
ты бенефисом станового Васильева, а потом тотчас же
занялись другим бенефисом, устроенным одним мировым
судьею полицеймейстеру. Судьи праведные считают своим
призванием строить рожны полиции, а полиция платит
тем же судьям; все друг друга «доказывают», и случаев
«доказывать» им целая бездна. Один такой как из колеса
выпал в самый день моего приезда. Перед самой поли¬
цией подрались купец с мещанином. За что у них нача¬
122
лась схватка — неизвестно; полиция застала дело в том
положении, что здоровый купец дает щуплому мещанину
оплеуху, а тот падает, поднимается и, вставая, говорит:
— Ну, бей еще!
Купец без затруднения удовлетворяет его просьбу;
мещанин снова падает и снова поднимается, и кричит:
— А ну, бей еще!
Купец и опять ему не отказывает.
— Ну, бей, бей! пожалуйста, бей!
Купец бьет, бьет; дело заходит в азарт: один колотит,
другой просит бить, и так до истощения сил с одной сто¬
роны и до облития кровью с другой. Полиция составляет
акт и передает его вместе с виновными мировому судье.
Начинается разбирательство: купца защищал учитель есте¬
ственных наук, и как вы думаете, чем он его защищал?
Естественными науками. Нимало не отвергая того, что
купец бил и даже сильно бил мещанина, учитель поставил
судье на вид, что купец вовсе не наносил никакой обиды
действием и делал этим не что иное, как такую именно
услугу мещанину, о которой тот его неотступно просил при
самих служителях полиции, услугу, которой последние не
поняли и, по непонятливости своей, приняли в пре¬
ступление.
— Одно,— говорил защитник,— купца можно бы еще
обвинить в глупости, что он исполнил глупую просьбу,
но и это невозможно, потому что купцу просьба мещани¬
на — чтобы его бить — могла показаться самою законною,
ибо купец, находясь выше мещанина по степени развития,
знал, что многие нервные субъекты нуждаются в причине¬
нии им физической боли и успокоиваются только после
ударов, составляющих для них, так сказать, благодеяние.
Судья все это выслушал и нашел, что купец действи¬
тельно мог быть вовлечен в драку единственно просьбою
мещанина его побить, и на основании физиологической по¬
требности последнего быть битым освободил драчуна от
всякой ответственности. В городе заговорили, что «судья
молодец», а через неделю полицеймейстер стал рассказы¬
вать, что будто «после того как у него побывал случайно
по одному делу этот мировой судья, у него, полицеймей¬
стера, пропали со стола золотые часы, и пропали так, что
он их и искать не может, хотя знает, где они».
Полицеймейстеру заметили, что распускать такие слухи
очень неловко, но полицеймейстер отвечал:
— Что же я такое сказал? Я ведь говорю, что после
него часы пропали, а не то, чтобы он взял... Это ничего.
123
В городе заговорили:
— Молодец полицеймейстер!
А вечером разнесся слух, что мировой судья купил себе
в единственном здешнем оружейном магазине единствен¬
ный револьвер и зарядил его порохом, хотя и без пуль,
а полицеймейстер велел пожарному слесарю отпустить
свою черкесскую шашку и запер ее к себе в гардеробный
шкаф.
В городе положительно ожидают катастрофы.
ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ
Я почувствовал себя смущенным и пошел к Фортунато¬
ву с повинной головой.
— А что,— говорит,— братец, прав я или нет?.. Да
посмотри: то ли еще увидишь? Ты вот изволь-ка завтра
снаряжаться на большое представление.
— Куда это?
— А, брат,— начальник губернии с начальницей сами
тебя восхотели видеть! Ты ведь, небось, обо мне как дума¬
ешь? а я тебя восхвалил, как сваха: способнейший, говорю,
человек и при этом учен, много начитан, жил за границею
и (извини меня) преестественная, говорю, шельма!
— Ну, это ты зачем же?
— Нет, а ты молчи-ка. Я ведь, разумеется, там не так,
а гораздо помягче говорил, но только в этом роде чувство¬
вать дал. Так, друг, оба и вскочили, и он и она: подавай,
говорят, нам сейчас этого способного человека! «Служить
не желает ли?» Не знаю, мол, но не надеюсь, потому что
он человек с состоянием независимым. «Это-то и нужно!
мне именно это-то и нужно, кричит, чтобы меня окружали
люди с независимым состоянием».
— Очень мне нужно его «окружать»?
— Нет, ты постой, что дальше-то будет. Я говорю: да
он, опричь того, ваше превосходительство, и с норовом не¬
зависимым, а это ведь, мол, на службе не годится. «Как,
что за вздор? отчего не годится?» — «Правило-де такое
китайского философа Конфуция есть, по-китайски оно так
читается: «чин чина почитай».— «Вздор это чинопочита¬
ние! — кричит.— Это-то все у нас и портит»... Слышишь
ты?.. Ей-богу: так и говорит, что «это вздор»... Ты иди
к нему, сделай милость, завтра, а то он весь исхудает.
— Да зачем ты все это, любезный друг, сделал? Зачем
ты их на меня настрочил?
124
— Ишь ты, ишь! Что же ты, не сам разве собирался
ему визит сделать? Ну вот и иди теперь, и встреча тебе
готова, а уж что, брат, сама-то начальница...
— Что?
— Нет, ты меня оставь на минуту, потому мне ее, бед¬
няжку, даже жалко.
— Да полно гримасничать!
— Чего, брат, гримасничать? Истинно правда. Ей спо¬
собности в человеке всего дороже: она ведь в Петербурге
женскую сапожную мастерскую «на разумно экономических
началах» заводила, да вот отозвали ее оттуда на это губер¬
наторство сюда к супругу со всеми ее физиологическими
колодками. Но душой она все еще там, там, в Петербурге,
с способными людьми. Наслушавшись про тебя, так и ки¬
вает локонами: «Василий Иванович, думали ли вы, гово¬
рит, когда-нибудь над тем...— она всегда думает над чем-
нибудь, а не о чем-нибудь,— думали ли вы над тем, что
если б очень способного человека соединить с очень способ¬
ной женщиной, что бы от них могло произойти?» Вот тут,
извини, я уж тебе немножко подгадил: я знаю, что ей все
хочется иметь некрещеных детей, и чтоб непременно «от не¬
известного», и чтоб одно чадо, сын, называлося «Труд»,
а другое, дочь — «Секора». Зная это, в твоих интересах,
разумеется, надо было отвечать ей: что «от соединения
двух способных людей гений произойдет», а я ударил
в противную сторону и охранил начальство. Пустяки, го¬
ворю, ваше превосходительство: плюс на плюс дает минус.
«Ах, правда!..» А я и сам алгебру-то позабыл и не знаю,
правда или неправда, что плюс на плюс дает минус; да ни¬
чего: женщин математикой только жигани,— они страсть
этой штуки боятся.
«О, черт тебя возьми,— думаю,— что он там навстре¬
чу мне наболтал и наготовил, а я теперь являйся и рас¬
хлебывай! Ну да ладно же,— думаю,— друг мой сер¬
дечный: придется тебе брать свои похвалы назад», и сам
решил сделать завтра визит самый сухой и самый ко¬
роткий.
А... а все-таки, должен вам сознаться, что ночь после
этого провел прескверно и в перерывчатом сне видел льва.
Что бы это такое значило? Посылал к хозяину гостиницы
попросить, нет ли сонника? Но хозяйская дочка даже оби¬
делась и отвечала, что «она такими глупостями не занима¬
ется». Решительно нет никакой надежды предусмотреть свою
судьбу,— и я поехал лицом к лицу открывать, что сей сон
обозначает?
125
ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ
Переносясь воспоминаниями к этому многознаменатель¬
ному дню моей жизни, я прежде всего вижу себя в очень
большой зале, среди густой и пестрой толпы, с первого
взгляда как нельзя более напоминавшей мне группы из
сцены на дне моря в балете «Конек-Горбунок». Самое сов¬
мещение обитателей вод было так же несообразно, как
в упомянутом балете: тут двигались в виде крупных бело¬
телых судаков массивные толстопузые советники; полу¬
дремал в угле жирный черный налим в длинном купе¬
ческом сюртуке, только изредка дуновением уст отгоняв¬
ший от себя неотвязную муху; вдоль стены в ряд на стуль¬
ях сидели смиренными плотицами разнокалиберные проси¬
тельницы — все с одинаково утомленным и утомляющим
видом; из угла в угол по зале, как ерш с карасем, бегали
взад и вперед курносая барышня-просительница в венгер¬
ских сапожках и сером платьице, подобранном на пажи,
с молодым гусаром в венгерке с золотыми шнурками. Эта
пара горячо рассуждала о ком-то, кто «заеден средою»,
и при повороте оба вдруг в такт пощелкивали себя сложен¬
ными листами своих просьб, гусар сзади по ляжке, а ба¬
рышня спереди по кораблику своего корсета, служившего
ей в этом случае кирасою. У окна на самом горячем солно¬
пеке сидел совсем ослизший пескарь — белый человечек лет
двадцати, обливавшийся потом; он все пробовал читать
какую-то газету и засыпал. У другого окна целая группа:
шилистая, востроносая пестрая щука в кавалерийском пол¬
ковничьем мундире полусидела на подоконнике, а пред нею,
сложа на груди руки, вертелся красноглазый окунь в ар¬
мейском пехотном мундире. Правый и левый фланг зани¬
мали выстроившиеся шпалерами мелкие рыбки вроде снят¬
ков. Щука это был полицеймейстер, окунь... был окунь, а ме¬
лочь улыбалась, глядя в большой рот востроносого поли¬
цеймейстера, и наперерыв старалась уловить его намерение
сострить над окунем. Бедный, жалкий, но довольно плуто¬
ватый офицер, не сводя глаз с полицеймейстера, безумолч¬
но лепетал оправдательные речи, часто крестясь и произно¬
ся то имя Божие, то имя какой-то Авдотьи Гордевны, у ко¬
торой он якобы по всей совести вчера был на террасе и по¬
тому в это время «физически» не мог участвовать в под¬
битии морды Катьке-чернявке, которая, впрочем, как допу¬
скал он, может быть, и весьма того заслуживала, чтоб ее
побили, потому что, привыкши обращаться с приказными
да с купеческими детьми, она думает, что точно так же мо¬
жет делать и с офицерами, и за то и поплатилась.
126
В этой группе разговор не умолкал. Хотя сама героиня
Катька-чернявка скоро была позабыта, но зато все беспре¬
станно упоминали Авдотью Гордевну и тешились. Я узнал
при сем случае, что Авдотья Гордевна бела как сахар, вдо¬
ва тридцати лет и любит наливочку, а когда выпьет, то
становится так добра, что хоть всю ее разбери тогда, она
слова не скажет. Вдали отсюда шуршали четыре черные,
мрачные рака в образе заштатных чиновников. Стоя у са¬
мой входной двери, они все-таки еще, вероятно, находили
свое положение слишком выдающимся и, постоянно пере¬
шептываясь, пятились друг за друга назад и заводили
клешни. Я прислушался к их шепоту: один рак жаловался,
что его пристав совсем напрасно обвинил, будто он ночью
подбил старый лубок к щели своей крыши; а другой, заи¬
каясь и трясясь, повторял все только одно слово «в за¬
штат». У самих дверей сидели два духовные лица, город¬
ской кладбищенский священник и сельский дьякон, и рас¬
суждали между собою, как придется новая реформа при¬
ходским и кладбищенским. Причем городской кладбищен¬
ский священник все останавливался перед тем, что «как же,
мол, это: ведь у нас нет прихода, а одни мертвецы!» Но
сельский дьякон успокоивал его, говоря: «а мы доселе
и живыми, и мертвыми обладали, но вот теперь сразу всего
лишимся».
К этой паре вдруг вырвался из дверей и подскочил вы¬
сокий, худощавый брюнет в черном просаленном фраке.
Он склонился пред священником и с сильным польским
акцентом проговорил:
— Э-э, покорнейше вас прошу благословить.
Священник немного смешался, привстал и, поддерживая
левой рукой правый рукав рясы, благословил.
Вошедший обратился с просьбой о благословении и к
дьякону. Дьякон извинился. Пришлец распрямился и, не
говоря более ни одного слова, отошел к печке. Здесь, как
обтянутый черною эмалью, стоял он, по-наполеоновски
скрестя руки, с рыжеватой шляпой у груди, и то жался,
то распрямлялся, поднимал вверх голову и вдруг опускал
ее, ворошил длинным, вниз направленным, польским усом
и заворачивался в сторону.
Становилось жарко и душно, как в полдень под лопу¬
хом; все начали притихать: только мухи жужжали, и рты
всем кривила зевота.
Но всеблагое Провидение, ведающее меру человеческого
терпения, смилостивилось: зеленые суконные портьеры, за¬
крывавшие дверь противоположного входу конца покоя,
127
распахнулись, и вдоль залы, быстро кося ножками, прожег
маленький борзый паучок, таща под мышкой синюю папку
с надписью «к докладу», и прежде, чем он скрылся, в тех
же самых темных полотнищах сукна, откуда он выскочил,
заколыхался огромный кит... Этот кит был друг мой, Васи¬
лий Иванович Фортунатов. Он стал, окинул глазами залу,
пошевелил из стороны в сторону челюстями и уплыл на¬
зад за сукно.
В зале все стихло; даже гусар с барышней стали в ше¬
ренгу, и только окунь хватил было «физически Катьку не
мог я прибить», но ему разом шикнуло несколько голосов,
и прежде чем я понял причину этого шика, пред завешен¬
ными дверями стоял истый, неподдельный, вареный, крас¬
ный омар во фраке с отличием; за ним водил челюстями
Фортунатов, а пред ним, выгибаясь и щелкая каблук о каб¬
лук, расшаркивался поляк.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
Фортунатов пошептал губернатору на ухо и показал на
меня глазами.
Губернатор сощурился, посмотрел в мою сторону и,
свертывая ротик трубочкой, процедил:
— Я, кажется, вижу господина Ватажкова?
Я подошел, раскланялся и утвердил его превосходитель¬
ство в его догадке.
Губернатор подал мне руку, ласково улыбнулся и потя¬
нул меня к портьере, сказав:
— Я сейчас буду.
Фортунатов шепнул мне:
— Ползи в кабинет,— и каким-то непостижимо ловким
приемом одним указательным пальцем втолкнул меня за
портьеру.
Здесь мне, конечно, нельзя было оставаться между
портьерой и дверью: я налег на ручку и смешался... Передо
мной открылась большая наугольная комната с тремя пись¬
менными столами: один большой посредине, а два мень¬
шие — у стен, с конторкой, заваленною бумагами, с отто¬
манами, корзинами, сонетками, этажеркой, уставленною то¬
мами словаря Толя и истории Шлоссера, с пуговками
электрических звонков, темною и несхожею копией с кар¬
тины Рибейры, изображающей св. Севастиана, пронзенного
стрелой, с дурно написанною в овале головкой графини
Ченчи и олеографией тройки Вернета — этими тремя неот¬
128
разимыми произведениями, почти повсеместно и в провин¬
циях и в столицах репрезентующих любовь к живописи ни¬
чего не понимающих в искусстве хозяев. Эти три картины,
с которыми, конечно, каждому доводилось встречаться
в чиновничьих домах, всегда производили на меня точно
такое впечатление, какое должны были ощущать сказоч¬
ные русские витязи, встречавшие на распутье столбы с тре¬
мя надписями: «самому ли быть убиту, или коню быть
съедену, или обоим в плен попасть». Тут: или быть прон¬
зенным стрелою, как св. Севастиан, и, как он же, ждать
себе помощи от одного неба, или совершать преступление
над преступником и презирать тех, кто тебя презирает, как
сделала юная графиня Ченчи, или нестись отсюда по до¬
лам, горам, скованным морозом рекам и перелогам на бе¬
шеной тройке, вовсе не мечтая ни о Светланином сне, ни
о «бедной Тане», какая всякому когда-либо мерещилась,
нестись и нестись, даже не испытуя по-гоголевски «Русь,
куда стремишься ты?» а просто... «колокольчик динь, динь,
динь средь неведомых равнин»... Но все дело не в том,
и не это меня остановило, и не об этом я размышлял, ко¬
гда, отворив дверь губернаторского кабинета, среди
описанной обстановки увидел пред самым большим пись¬
менным столом высокое с резными украшениями кресло,
обитое красным сафьяном, и на нем... настоящего геральди¬
ческого льва, каких рисуют на щитах гербов. Лев окинул
меня суровым взглядом в стеклышко и, вместо всякого
приветствия, прорычал:
— Доклад уже кончен, и губернатор более заниматься
не будет...
Я еще не собрался ничего на это отвечать, как в каби¬
нет вскочил Фортунатов и, подбежав ко льву, назвал мою
фамилию и опять выкатил теми же пятами.
Лев приподнялся, движением брови выпустил из орби¬
ты стеклышко и... вместе с тем из него все как будто выпа¬
ло: теперь я видел, что это была просто женщина, еще не
старая, некрасивая, с черными локонами, крупными чер¬
тами и повелительным, твердым выражением лица. Одета
она была строго, в черное шелковое платье без всякого бан¬
та за спиной; одним словом, это была губернаторша.
Она довольно приветливо для ее геральдического вели¬
чия протянула мне руку и спросила, давно ли я из-за гра¬
ницы, где жил и чем занимался. Получив от меня на
последний вопрос ответ, что я отставным корнетом пошел
доучиваться в Боннский университет, она меня за это по¬
хвалила и затем прямо спросила:
5. Н. С. Лесков, т. 5.
129
— А скажите, пожалуйста, много ли в Бонне поляков?
Я отвечал, что, на мой взгляд, их всего более учится
военным наукам в Меце.
— Несчастные, даже учатся военным наукам, но им все,
все должно простить, даже это тяготение к школе убийств.
Им по-прежнему сочувствуют в Европе?
— Кто не знает сущности их притязаний, те сочув¬
ствуют.
— Вы не так говорите,— остановила меня губерна¬
торша.
— Я вам сообщаю, что видел.
— Совсем не в том дело: на них, как и на всю нашу
несчастную молодежь, направлены все осадные орудия:
родной деспотизм, народность и православие. Это омер¬
зительно! Что же делают заграничные общества в пользу
поляков?
— Кажется, ничего.
— А у нас в Петербурге?
Я отвечал, что вовсе не знал в Петербурге таких об¬
ществ, которые блюдут польскую справу.
— Они были,— таинственно уронила губернаторша
и добавила,— но, разумеется, все они имели другие назва¬
ния и действовали для вида в других будто бы целях. За¬
то здесь, в провинциях, до сих пор еще ничего подобного...
нет, и тут эти несчастные люди гибнут, а мы, глядя на них,
лишь восклицаем: «кровь их на нас и на чадех наших».
Я не могу... нет, решительно не могу привыкнуть к этой
новой должности: я не раз говорила Егору Егоровичу (так
зовут губернатора): брось ты, Жорж, это все. Умоляю те¬
бя, хоть для меня брось, потому что иначе я не могу, по¬
тому что на тебе кровь... Напиши откровенно и прямо, что
ты этого не можешь: и брось, потому что... что же это та¬
кое, до чего же, наконец, будет расходиться у всех слово
с делом? На нас кровь... брось, умой руки, и мы выйдем
чисты.
Я заметил, что у супруга ее превосходительства пре¬
красная должность, на которой можно делать много добра.
— Полноте, бога ради, что это за должность! Что та¬
кое теперь губернаторская власть? Это мираж, призрак,
один облик власти. Тут власть на власти; одни предводи¬
тели со своим земским настроением с ума сведут. Гм, кре¬
постники, а туда же, «мы» да «мы». Мой муж, конечно, не
позволит, но одному губернатору предводитель сказал:
«вы здесь калиф на час, а я земский человек». Каково-с!
А Петербург и совсем все перевертывает по-своему и пере¬
130
вертывает, никого не спросясь. Зачем же тогда губернато¬
ры? Не нужно их вовсе, если так. Нет, это самое неприят¬
ное место, и я им совершенно недовольна; разумеется,
если Егор Егорович говорит, что это нужно для будущего,
то я в его мужские дела не мешаюсь, но все, что я вижу,
все, во что я вникаю в течение дел по его должности, то,
по-моему, это такая мизерность, которою способному чело¬
веку даже стыдно заниматься.
— Какие же места вам,— спрашиваю,— нравятся боль¬
ше губернаторских?
— Ах боже мой! да мало ли нынче дел для способного
человека: идти в нотариусы, идти в маклера, в поверенные
по делам,— у нас ведь есть связи: наконец издавай газе¬
ту или журнал и громи, и разбивай, и поднимай вопросы,
и служи таким образом молодому поколению, а не прави¬
тельству.
В это время разговор наш прервался приходом губер¬
натора, который возвратился с видом тяжкого утомления
и, пожав мне молча с большим сочувствием руку, бережно
усадил меня в кресло.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
— Мы говорим здесь, Грегуар, о тебе,— начала губер¬
наторша.— Господин Ватажков находит, что твое место
лучшее из всех, на какое ты мог бы рассчитывать.
Я поспешил поправить редакцию этой фразы и восста¬
новил свои слова в их точном смысле.
— Помилуйте, мало ли дела теперь способному чело¬
веку,— отвечал мне, махнув рукою, губернатор и сейчас
же добавил: — но я ничего не имею и против этого места;
и здесь способный человек мог бы, и очень бы мог кое-что
делать, если бы только не эта вечная путаница всех слов,
инструкций, требований и... потом эти наши суды-с!..—
Губернатор зажмурил глаза и пожал плечами.— Вы здесь
уже несколько дней, так вы должны были слышать о раз¬
бирательстве купца, избившего мещанина по его якобы соб¬
ственной просьбе?
Я отвечал, что мне это известно.
— Это верх совершенства! — воскликнул губернатор
и, захохотав, добавил: — А еще хотим всех ру-с-си-фи-ци-
ро-ва-ть... А кстати,— обернулся он к жене,— ты знаешь,
наш фортепианный настройщик совсем русифицировал¬
ся — принял православие, а потому просит об определении.
131
Губернатор в последней фразе очень хорошо передраз¬
нил виденного мною полячка, а губернаторша в это время
вскинула в глаз стеклышко, и передо мною опять явился
самый грозный геральдический лев.
— И ты, Грегуар, дашь ему какое-нибудь место? —
спросила она строго мужа.
— Ну, не знаю, друг мой... пока еще ничего не знаю,—
отвечал несколько потерянно губернатор.
— Я надеюсь, что не дашь.
— Это почему?
— Изменнику! я этого не позволяю.
— Ну, вот видишь, как ты скора... не позволяешь поля¬
ку переменить веры, не разобравши, для чего он это дела¬
ет? Почему же ты не допускаешь, что у него могло случить¬
ся и довольно искренне?
— Полно, бога ради! Он не так глуп, чтобы придавать
значение поповской стрижке: все веры вздор,— творец
всего кислород.
— Ну, хорошо, это так, я допускаю, что единственный
бог есть бог — кислород, но твой полячок беден... «жена
и дзеци», а им нужно дрова и свечи... Ах, как все вы, гос¬
пода, даже самые гуманнейшие, в сущности злы и нетер¬
пимы! Ну, ну, сделал бедный человек что-нибудь для того,
чтоб усвоить возможность воспользоваться положением
дел... ну, ну, что вам от этого, tres chaud или froid?
Ничуть не бывало: вокруг вас все обстоит благополучно,
и ничто не волнуется, кроме собственной вашей нетерпимо¬
сти. Удивительно, как это у нас повсюду развился этот та¬
лант подуськивать,— проговорил он, оборачивая ко мне
довольное, благодушным матом розового либерализма по¬
дернутое лицо.— Я часто, слушая похвалы нынешнему ве¬
ку, говорю себе: нет, я старовер! Помилуйте, что такое за
прогресс в этом воинственном настроении? Я тебя рву за
руки, а ты меня тянешь за ноги... Гони, догоняй, бей!..
улё-лё, ату его, и всё за что? За то, что ты как-нибудь не
так крестишься или не так думаешь... Помилуйте! поми¬
луйте! что это такое? Ты поляк, ты немец, ты москаль...
Да что это за вздор, я вас спрашиваю? Не все ли равно
люди? Бог, говорят, даже и жидов манной кормил, а те¬
перь я должен всех их из города выгнать... Я больше Бога,
что ли? И это прогресс! И это девятнадцатый век! Нет,
я старовер — и неисправимый старовер. И где здесь, не
1 Очень жарко (франц.).
2 Холодно (франц.).
132
понимаю, дипломатические соображения? Я решительно не
знаю, чего смотрят у нас? Помилуйте: нам ли считаться,
например, с Англией? Где у нас Дерби? Дайте мне Дерби!
Он у них из плохеньких, но а нам еще ничего-с; нам еще
был бы хорош-с! Дайте его мне, и я его приспособлю, но
нет-с его-с, вот в чем дело! Нам ли ссориться с кем-нибудь
в Европе, когда у нас на свои самые пустые домашние дела
способных людей нет. Где он у нас — человек? Я часто
слышу о способных людях, но на чем же испытываются их
способности? Нет, дайте ему задачу... Да этого мало-с;
у нас еще ни в чем настоящего движения нет; у нас ника¬
кой, ровно никакой жизни нет: все... фикции, одни фикции!
Пожалуйста, загляните только в газеты... что это такое?
Все ведь стоит! Разве это печать, которая всегда вертится
вокруг да около? А тут обрусение, армия, споры, Бокк,
Фадеев, Ширрен, Самарин, Скарятин, Катков... Что это,
спрашиваю вас, за особы?.. А о них спор, раздор, из-за
них дробление на партии, а дела делать некогда и некому.
Нет-с, я старовер, и я сознательно старовер, потому что
я знал лучшее время, когда все это только разворачивалось
и распочиналось; то было благородное время, когда в Пе¬
тербурге школа устраивалась возле школы, и молодежь,
и наши дамы, и я, и моя жена, и ее сестра... я был началь¬
ником отделения, а она была дочь директора... но мы все,
все были вместе: ни чинов, ни споров, ни попреков русским
или польским происхождением и симпатиями, а все заодно,
и... вдруг из Москвы пускают интригу, развивают ее, на¬
ходят в Петербурге пособников, и вот в позапрошлом году,
когда меня послали сюда, на эту должность, я уже ничего
не мог сгруппировать в Петербурге. Я хотел там хорошень¬
ко обстановиться и приехать сюда с своими готовыми лю¬
дьми, но, понимаете, этого уже нельзя, этого уже невозмож¬
но было сделать, потому что все на себя печати понало¬
жили: тот абсолютист, тот конституционалист, этот ради¬
кал... и каждый хочет, чтобы я держал его сторону... Да
что это за вздор такой, господа? К чему, позвольте мне
узнать, я стану держать чью-нибудь сторону?.. Я вовсе
не вижу на то причины! Кто я и что я, это дело моей со¬
вести и должно оставаться моею тайной... И, наконец, все
это глупость; я понимаю абсолютизм, конечно, не по-коше¬
левски; я имею определенные чувства к республикам из¬
вестного строя, к республикам с строгим и умным правле¬
нием, но... (губернатор развел руками), но... конституцион¬
ное правительство... извините меня, это черт знает что!..
Но, впрочем, я и в этом случае способен не противоречить:
133
учредите закрытую баллотировку, и тогда я не утаюсь,
тогда я выскажусь, и ясно выскажусь; я буду знать тогда,
куда положить мой шар, но... иначе высказываться и при¬
том еще высказываться теперь именно, когда начала всех,
так сказать, направлений бродят и имеют более или менее
сильных адептов в самых влиятельных сферах, и кто во¬
сторжествует — неизвестно,— нет-с, je vous fais mon compli¬
ment, я даром и себе, и семье своей головы свернуть не
хочу, и... и, наконец,— губернатор вздохнул и догово¬
рил: — и, наконец, я в настоящую минуту убежден, что
в наше время возможно одно направление — христианское,
но не поповско-христианское с запахом конопляного масла
и ладана, а высокохристианское, как я его понимаю...
Он сложил котелочкой два пальца левой руки и, швы¬
ряя во все стороны тихие щелчки, от которых будто долж¬
но было летать что-то вроде благодати, шептал:
— Мир, мир и мир, и на все стороны мир — вот что
должно быть нашей задачей в данную минуту, потому что
concordia parva res crescunt — малые вещи становятся
великим согласием,— вот что читается на червонце, а мы
это забываем, и зато у нас нет ни согласия, ни червонцев.
Вот вам и тема; садитесь и пишите!
Я молчал, а губернатор хлебнул воды и перевел дух.
— Вам навязывают труд о сельских больницах,— заго¬
ворил он после этой поправки.— Это всегда так у нас;
свежий, способный человек — его сейчас и завалят хламом;
нет, а вы дайте человеку идти самому; пусть он сам берет
себе вопрос и работает... Я разработать ничего не могу —
некогда; я могу бросить мысль — вот мое дело,— и он
опять начал пускать на воздух щелчки...— Но я должен
иметь людей, способных поднять, подхватить мою мысль на
лету и развить ее... тоже на лету, а таких людей нет, поло¬
жительно нет. И, не забудьте, их у нас нигде теперь нет!
Их у самого Горчакова нет... я по крайней мере их там не
вижу. То же самое, что везде-с... Возятся со славянским
вопросом, и ни взад, ни вперед! Разве так надо? Если б
это вести как должно, то есть если бы не скрывать, что,
с одной стороны, панславистский вопрос — это вопрос ре¬
волюционный; что вообще национальности — дело аристо¬
кратическое, ибо мужику-с все равно, русский с него пода¬
ти берет или нерусский, а насильственно обрусить никого
нельзя, потому что... был-с век созидания искусственных
монархий, а теперь...
1 Благодарю вас (франц.).
134
Губернатор бросил свои руки по разным направлениям
и проговорил:
— Теперь-с вот что: теперь век разъединения всяких
насильственных политических сцеплений, и против этого
бороться глупо-с... Извините, бросая мысли, я увлекаюсь,
но вы это оформите мягче.
Я только поглядел на этого мечтателя... Нет, думаю,
сам, брат, оформливай, что набросал.
Он, вероятно, заметил мое недоумение и спросил, на¬
мерен ли я служить.
— Нет,— отвечаю,— отнюдь не намерен.
— А почему?
Я хотел было сказать, что неспособен; но, думаю, по¬
падусь; скажет: «да неспособным-то и служить», и отве¬
тил, что мое здоровье плохо.
— Полноте, бога ради! Нынешняя служба никого не
изнуряет. Василий Иванович говорил мне, что вы нуждае¬
тесь в некоторых материалах для своей работы о больни¬
цах. Чудак этот Василий Иванович! — вставил губернатор
с добродушной улыбкой.— Труженик вечный, а мастер —
никогда! Я как увидел его — сказал это, и не ошибся.
— А я его очень люблю,— сухо заметила губернатор¬
ша, выбрасывая стеклышко из глаза и делаясь опять из
страшного льва просто неприятной женщиной.
— И я, мой друг, его люблю,— отозвался губерна¬
тор,— но не могу же я его способностям давать больше
цены, чем они стоят. Не могу я ему ставить пять баллов,
когда ему следует два... только два! Он прекрасный чело¬
век, mais il est borne... он ограничен,— перевел мне его
превосходительство и добавил, что он велел Фортунатову
пустить меня в канцелярию, где мне «всё откроют», и про¬
сил меня быть с ним без чинов и за чем только нужно —
идти прямо к нему, в чем даже взял с меня и слово.
Для первого визита мне показалось довольно.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
Я поблагодарил, раскланялся и ушел обласканный, ко
очень недовольный собой. Что это за вздорное знакомство?
Противно даже. Зато, думаю, более меня не позовут, по¬
тому что, верно, и я им, в свою очередь, не очень понра¬
вился. Но Фортунатов зашел вечером и поздравляет:
— Прекрасно,— говорит,— ты себя держал, ты верно
все больше молчал.
135
— Да,— говорю,— я молчал.
— Ну вот, губернатор тебя нашел очень дельным и да¬
же велел сегодня же к нему писаря прислать: верно хочет
«набросать мыслей» и будет просить тебя их развить; а гу¬
бернаторша все только сожалеет, что не могла с тобой на¬
едине поговорить.
— О чем же? Мы с ней и так, кажется, много говорили
и о поляках, и о призваниях.
— Ну, да про поляков теперь уж все пустое, с полгода
тому беда была у нас. Тут есть полячок, Фуфаевский,— он
все нашим дамам будущее предсказывает по линиям рук
да шулерничает,— так он ее напугал, что на ней польская
кровь где-то присохла. Она, бедняга, даже ночью, как леди
Макбет, по губернаторскому дому все ходила да стонала:
«Кровь на нас, кровь! иди прочь, Грегуар, на тебе кровь!»
Ну, а тому от нее идти прочь неохота: вот она его этим
и переломила на польскую сторону... Да все это вздор. Она
мне что-то другое о тебе говорила. О чем бишь она хотела
от тебя, как от способного человека, узнать?.. Да! вспом¬
нил: ей надо знать, открыто или нет средство, чтобы детей
в реторте приготовлять?
— Это,— говорю,— что за глупость?
— Писано,— говорит она,— будто было про это, а ей
непременно это нужно: она дошла по книжке Пельтана,
что женщины сами виноваты в своем уничижении, потому
что сами рождают своих угнетателей. Она хочет, чтобы де¬
ти в ретортах приготовлялись, какого нужно пола или сов¬
сем бесполые. Я обещал ей, что ты насчет этих реторт по¬
шныряешь по литературе и скажешь ей, где про это писа¬
лось и как это делать.
— Ты,— говорю,— шут гороховый и циник.
— Нет, ей-богу,— говорит,— я ей обещал,— да еще
сам, каналья, и смеется.
— Ну, а успел обещать, так умей сам и исполнять как
знаешь.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
Целую ночь я однако ж продумал, лежа в постели: что
это за люди и что за странный позыв у них к самой бес¬
причинной и самой беззаветной откровенности? Думал, ре¬
шал и ничего не решил; а наутро только что сел было за
свою записку, как вдруг является совсем незнакомый гос¬
подин, среднего роста, белый, белобрысый, с толстыми,
136
бледными, одутловатыми щеками, большими выпуклыми
голубыми глазами и розовыми губками сердечком.
Вошел он очень торопливо, размахивая фуражкой,
плюхнул прямо на стул у моего письменного стола и, усев¬
шись, отрекомендовался Семеном Ивановичем Дергаль¬
ским.
Говорит картавя, присюсюкивая и сильно поплевывая
в собеседника.
— Плишел,— говорит,— к вам с доблым намелением,
вы человек чузой и не видите, что с вами тволят. Кто вас
лекомендовал Фольтунатову?
Я отвечал, что мы с Фортунатовым старые знакомые.
— Плесквельно, это плесквельно! — заговорил мой
гость.— Фольтунатов пельвый подлец! Извините меня:
он вась длуг, но я плезде всего цестный целовек и говолю
плявду. Это он вас повел к губельнатолю?
— Он.
— Ах, мельзавец! Извините, я говолю всегда плямо.
Он ведь не плявитель канцелялии, а фокусник; он сам и есть
«севельный маг и вольсебник». Он хитл как челт. Длугие
плячут... Но, позвольте, я это написю.
Я подал ему карандаш, а он написал прячут и продол¬
жал:
— Да-с; плячут от начальства новых людей, а он на¬
лосьно всех подводит и члесь то бесплистлястным слывет,
а потом всех в дуляцкие кольпаки налязает. Я самое тлюд¬
ное влемя в западных губельниях слюзил, и полезен был,
и нагляды полючал, потому сто я плямой настояссий лус¬
ский целовек... Я не хитлец, как он, сто баляхнинским на¬
лечием говолит, а сам и насым и васым, хузе зида Иось¬
ки, что ваксу плодает; а я, видите, я даже на визитных
кальточках себя не маскилую...— и с этим он подал мне
свою карточку, на которой было напечатано: Семен Ивано¬
вич Дергальский — почтовый люстратор.— Видите, как
плямо иду, а он ботвинью и бузянину лопает, а люсских
людей выдает ляху Фуфаевскому. Он сказал мне: «я тебя
с губельнатолом сблизу и всех ляхов здесь с ним выве¬
десь»... как самого способного целовека меня пледставил.
Губельнатоль плосил меня: «будьте, говолит, моим глазом
и ухом, потому сто я хоть знаю все, сто делается в голоде,
а сто из голода...» Но, позвольте, это я написю.
И он написал: в городе, и продолжал снова:
— «Сто из голода выезжает, это только вы одни мо¬
зете знать». Я на это для обьсей пользы согласился,
137
а Фольтунатов мне так устлоил, что я с губельнатолом го¬
волить не мог.
— Отчего же?
— Потому сто губельнатолша всегда тут зе вельтится:
Фольтунатову, подлецу, это на луку: ему она не месяет;
потому сто он пли ней налёсно о лазных вздолях говолит:
как детей в летолтах плиготовлять и тому подобное, а сам
подсовывает ее музу сто хоцет к подписи, мелзавец, а я
долзен был дело лясказать, что я за день плолюстлиловал,
кто о цем писет,— а она не выходит. Я как настояссий
слузбист плямо посол, плямым путем, и один лаз пли ней
плямо сказал ему: «васе плевосходительство, мы о таких
вестях не плиучены говолить пли тлетьем лице», а она сей¬
цас: «Это и пликласно! — говолит,— Глегуал, выди, мой
длуг, вон, пока он долозит!» Сто я тут мог сделать? Я на¬
цинаю говолить и, наконец, забываю, сто это она, а не он,
и говолю, сто Фуфаевский послал своему блату в Польсу
письмо, стоб он выслал ему сюда для губельнатолсы сим¬
патицескую польскую блошку, стобы под платьем носить;
а она как вскочит... «Глегуал! — кличит, лясполядись сей¬
цас его уволить! он меня обидел»,— и с тех пол меня в дом
не плинимают. Тут Фольтунатов как путный и вмесялся.
«Позвольте, говолит, вам объяснить: ведь он это не со
злым умыслом сказал: он хотел сказать, сто Фуфаевский
выписывает для губельнатолсы польскую блошку, а ска¬
зал блошку...» Но нет, позвольте каландаш, а то вы тоже
этого не поймете.
Дергальский схватил карандаш и написал четко
б-р-о-ш-к-у.
— Вот сло о цем дело! — продолжал он,— и это им
Фольтунатов объяснил, да кстати и всем лазблаговестил
и сделал меня сутом голоховым, а для чего? для того, сто
я знал, сто он губельнатолу яму лоет.
— Он... губернатору яму роет?
— А как зе? Я знаю, сто он ему один лаз дал подпи¬
сать, и куда он это хотел отплавить. Вот посмотлите,—
и дает бумагу, на которой написано: «Отца продал, мать
заложил и в том руку приложил», а подписано имя губер¬
натора...— Я это знал,— продолжал Дергальский,— и
стлемился после ссолы все это сообссить, но мне не дове¬
ляют, а почему? потому сто меня Фольтунатов сумаседсим
и дулаком поставил, а подлец Фуфаевский на меня козла
из конюсни выпустил, а козел мне насквозь бок логами
плополол и изувецил меня пли всех поселеди улицы. Я тли
месяца в постели лезал и послал самую плавдивую залобу,
138
что козел на меня умысленно пуссен за мой патлиотизм,
а они на смех завели дело «о плободании меня козлом
с политицескими целями по польской интлиге» и во влемя
моей болезни в Петелбулг статью послали «о полякуюссем
козле», а тепель, после того как это напецатано, уж я им
нимало не опасен, потому сто сситаюсь сумаседсим и интли¬
ганом. Я вазные, очень вазные весси знаю, но не могу
сказать, потому сто всё, сто я ни сказю, только на смех
поднимают: «его-де и козел с политицескими целями бил».
Мне тепель одному делать нецего: я собилаю палтию
и плисол вас плосить: составимте палтию.
— Позвольте,— говорю,— против кого же мы будем
партию составлять?
— Плотив всех, плотив Фольтунатова, плотив всех пле¬
дателей.
— Да я здесь,— отвечаю,— новый человек и ни в ка¬
кие интриги входить не хочу.
— Не хотите? а если не хотите в интлиги входить, ну
так вы плопали.
— Напротив, со мной все очень доверчивы и откровен¬
ны!
Дергальский вскочил и захохотал.
— Поздлявляю! — заговорил он,— поздлявляю вас!
Откловенны... здесь всегда с того начинается... все откло¬
венны!.. Они как слепни все на нового целовека своих яиц
накладут, а потом целвяки-то выведутся да вам скулу всю
и плоглызут... Поздлявляю! Теперь вы много от них слы¬
сали длуг пло длуга,— ну и попались; тепель все вас и ста¬
нут подозлевать, что вы их длуг длугу выдаете. Не вель¬
те им! никому не вельте! Не интлиговать здесь тепель ни¬
кому нельзя — повельте, нельзя. Дазе когда вы интлигуе¬
те — меньше глеха; вы тогда на одной столоне... Мой вам
совет: составимте палтию.
— Нет-с,— отвечаю,— я ни к какой партии здесь при¬
надлежать не намерен, я сделаю свое дело и уеду.
— Нет-с, вы так не сделаете; сначала все так говолят,
а как вам голяцего за козу зальют, так и не уедете. Гене¬
лал Пеллов тоже сюда на неделю плиехал, а как пледводи¬
тель его нехолосо плинял, так он здесь уж втолой год жи¬
вет и ходит в клуб спать.
«Это еще,— думаю,— что такое?»
— Пеллов, Пеллов, известный генелал...— Дергальский
опять схватил карандаш и написал: П-е-р-л-о-в.— Знаете?
— Знаю.
— Ну вот он самый и есть: и зена и дети узе сюда
139
к нему едут,— он бедный целовек, а больсе тысяци лублей
стлафу в клуб пелеплацивает, и вот увидите, будет здесь
сидеть, пока совсем лазолится.
— А зачем он платит штраф?
— А потому сто все пледводителю этим мстит: плед¬
водительский зять сталсиной в клубе, а Пеллов всякое его
дезулство плиходит и спит в клубе до утла, стоб и плед¬
водительский зять, как сталсина, сидел,— вот за это и
платит.
Что такое за чепуха? Неужто все это вправду выделы¬
вается в такое серьезное время? Дергальский клянется
и божится, что все это именно так; что предводитель тер¬
петь не может губернатора и что потому все думали, что
они с генералом Перловым сойдутся, а вышло иначе: пред¬
водитель — ученый генерал и свысока принял Перлова —
боевого генерала, и вот у них, у двух генералов, ученого
и боевого, зашла война, и Перлов, недовольный предводи¬
телем, не будучи в силах ничем отмстить ему лично, спит
в клубе на дежурстве предводительского зятя и разоря¬
ет себя на платежи штрафа. Черт знает что такое!
— Вы,— говорю,— не имеете ли каких-нибудь сообра¬
жений об устройстве врачебной части России? Вот это мне
очень интересно!
— Нет,— отвечал Дергальский,— не имею... Я слихал,
сто будто нас полицеймейстель своих позальных солдат от
всех болезней келосином лечит и очень холосо; но будто
бы у них от этого животы насквозь светятся; однако
я боюсь это утвельздать, потому сто, мозет быть, мне все
это на смех говолили, для того, стоб я это ласпустил,
а потом под этот след хотят сделать какую-нибудь дейст¬
вительную гадость, и тогда пло ту уз нельзя будет сказать.
Я тепель остолозен.
— Не поздно ли?
— Да, поздно; но если составить палтию...
— Нет, меня,— говорю,— увольте.
— Залею,— говорит,— оцень. Вы по клайней меле хоть
цем-нибудь запаситесь.
— Чем же?
— Секлет какой-нибудь имейте в луках, а то...
— Чего же вы опасаетесь?
— Чего? пелвым вледным целовеком вас сделают,
да-с!
С этим Дергальский вздохнул, крепко сжал мою руку
и вышел.
140
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ
Ужасно расстроил меня этот сюсюкающий господин
и звуком своего голоса, и своими нервами, и своими коми¬
ческими несчастиями, и открытием мне глаз. Последнее
особенно было мне неприятно. В самом деле: где же это
я и с кем я? И, наконец, кто же мне ручается, что он
сам говорит правду, а не клевещет? Одним словом,
я в мужском теле ощущал беспокойное чувство женщины,
которой незваная и непрошеная дружба открывает изме¬
ны любимого человека и ковы разлучницы. На что мне бы¬
ло знать все это, и какая польза мне из всех этих предо¬
стережений? Лучше всего... в сторону бы как-нибудь от
всего этого.
Открываюсь Фортунатову: говорю ему, что мне что-то
страшно захандрилось, что я думаю извиниться письмом
пред предводителем и уехать домой, отказавшись вовсе
представлять мою неоконченную записку об устройстве
сельской медицины.
Фортунатов вооружился против этого.
— Это,— говорит,— будет стыд и позор, срам и бесче¬
стие; да и отчего это тебе вдруг пришла фантазия бежать?
— Робость,— шучу,— напала.
— Да ты не ухмыляйся; у тебя неравно не был ли как-
нибудь наш сюсюка?
— Кто это сюсюка?
— Почтмейстер.
— Ты,— говорю,— отгадал: он был у меня.
Фортунатов хлопнул по столу рукой и воскликнул:
— Экое веретено, экая скотина!.. Такой мерзавец: кто
ни приедет новый человек, он всегда ходит, всех смущает.
Мстит все нам. Ну, да погоди он себе: он нынче, говорят,
стал ночами по заборам мелом всякие пасквили на губер¬
натора и на меня сочинять; дай срок, пусть его только на
этой обличительной литературе изловят, уж я ему голову
сорву.
— Он,— говорю,— и без того на тебя плачется и счи¬
тает тебя коварным человеком.
— Коварным? Ладно, пусть считает. Дурак он, и боль¬
ше ничего: его уж и козлы с политическими целями бьют.
— Он это никому, однако, не говорил.
— Не знаю, говорил или не говорил, а в сатирических
газетах было писано; не читал статью: «Полякующий ко¬
зел»?
— Нет, не читал и не хочу.
141
— Напрасно,— это остроумно написано, да к тому же
это и правда: я наверно знаю: это Фуфаевский учил козла
биться и спустил его на Дергальского.
— Извините, пожалуйста, но это не делает всем вам
чести, что вы злите человека до потери сознания, пока он
на всех кошкой стал бросаться.
Фортунатов харкнул и плюнул.
— Нечего,— говорю,— плевать: он комичен немножко,
а все-таки он русский человек, и пока вы его не дразнили,
как собаку, он жил, служил и дело делал. А он, видно,
врет-врет, да и правду скажет, что в вас русского-то толь¬
ко и есть, что квас да буженина.
— Ты, брат,— отвечает мне Фортунатов,— если тебе
нравится эти сантиментальные рацеи разводить, так разво¬
ди их себе разводами с кем хочешь, вон хоть к жене моей
ступай, она тебя, кстати, морошкой угостит,— а мне, лю¬
безный друг, уж все эти дураки надоели, и русские, и поль¬
ские, и немецкие. По мне хоть всех бы их в один костер,
да подпалить лучинкою, так в ту же пору. Вот не угодно
ли получить бумаги ворошок — позаймись, Христа ради,—
и с этим подает сверток.
— Что это такое?
— Губернаторские мысли, как все извлечь из ничего.
Разворачиваю и читаю, великолепнейшим каллиграфи¬
ческим почерком надписано: «Секретно. Ряд мыслей о воз¬
можности совмещения мнимо несовместимых начал управ¬
ления посредством примирения идей».
— Ну что это ты мне, Василий Иваныч, за вздор та¬
кой приносишь?
— А ты обработай, чтоб оно вышло не вздор.
— Нет,— опять говорю,— Дергальский, видно, прав,
что ты нарочно всем подводишь вот этакий неразрешимый
вздор разрешать.
Фортунатов повел на меня косо глазами, обошел ком¬
нату и, поравнявшись с тем местом, где я сидел, вдруг
ткнул мне кукиш.
— Вот на-ка,— говорит,— тебе с твоим Дергальским!
Напрасно я за всех за вас в петлю небось не лезу! Я, брат,
с натурою человек был, а не мудрец, и жену любил, а от
этого у меня шесть детей приключилось: им кусок хлеба
надо. Что вы, черти, в самом деле, на меня претендуете?
Я человек глупый,— ну, так и знайте. Я и сам когда-то бы¬
ло прослыл за умного человека, да увидал, что это глупо,
что с умом на Руси с голоду издохнешь, и ради детей в ду¬
раки пошел, ну и зато воспитал их не так, как у умников
142
воспитывают: мои себя честным трудом пропитают, и ре¬
бят в ретортах приготовлять не станут, и польского козла
не испужаются. Что-нибудь одно: умом хочешь кичиться,—
ну, другого не ищи, либо терпи, пусть тебя дурак дураком
зовет. А мне плевать на все: хоть зовуткой зови, только
хлебом корми.
— Прегадкая,— говорю,— у тебя философия.
— Своя, брат, зато: не у немца вычитал; эта по край¬
ности не обманет.
— Скажи лучше, не знаком ли ты с генералом Перло¬
вым?
— С Иваном-то воином?
— Да.
— Господи помилуй! — Фортунатов перекрестился
и нежным, ласковым тоном добавил: — Я обожаю этого
человека.
— Он как же, по-твоему: умен или глуп?
Фортунатов покусал себе ноготь, вздохнул и говорит:
— Это ведь у нас только у одних таких людей ценить
не умеют. У англичан вон военачальник Магдалу какую-то,
из глины смазанную, в Абиссинии взял, да и за ту его зо¬
лотом обсыпали, так что и внуки еще макушки из золотой
кучи наружу не выдернут; а этот ведь в такой ад водил
солдат, что другому и не подумать бы их туда вести: а он
идет впереди, сам пляшет, на балалайке играет, саблю бро¬
сит, да веткой с ракиты помахивает: «Эх, говорит, ребята,
от аглицких мух хорошо и этим отмахиваться». Душа за¬
нимается! Солдатам-то просто и задуматься некогда,— так
и умирают, посмеиваясь, за матушку за Русь да за веру!..
Как хочешь, ведь это, брат, талант! Нет, это тебе сюсюка
хорошо посоветовал: ты сходи к Перлову, не пожалеешь.
— Да как же,— говорю,— я и рад бы пойти, да не мо¬
гу: надо же, чтобы меня ему кто-нибудь представил.
— Сделай милость, выбрось ты из башки этот вздор:
ничего этого у нас не надо: мы люди простые, едим пря¬
ники неписаные, а он такой рубака... и притом ему делать
нечего, и он очень рад будет пред новым человеком началь¬
ство поругать.
— А это для чего же? — спрашиваю.
— Что это — начальство-то ругать? Да это уж, зна¬
ешь, такая школа: хорош жемчужок, да не знаешь, куда
спрятать; и в короб не лезет и из короба не идет; с под¬
чиненными и с солдатами отец, равному брат, а старшего
начальства не переносит, и оно, в свою очередь, тоже его
не переваривает. Да он и сам не знает, на какой гвоздок
143
себя повесить. Службу ему надо, да чтобы без начальства,
а такой еще нет. Одно бы разве: послать его с особою
армией в Центральную Азию разыскать жидов, позабытых
в плену Зоровавелем. Это бы ему совсем по шерсти,— так
ведь не посылают! Вот он, бедняга, здесь так и мается:
коров доит, шинок держит, соседских кур на огороде стре¬
ляет да в клуб спать ходит.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ
На другой день встречаю случайно Фортунатова, а он
и кричит еще издали:
— А я,— говорит,— брат, сейчас от кровожадного ге¬
нерала: про тебя с ним разговаривали и про твои заботы
о народе сказывал ему.
— Ну что же такое,— говорю,— что ты все с такими
усмешками и про народ, и про мои заботы, и про генера¬
ла? Что же твой генерал?
— Очень рад тебя видеть, и о народе, сказал, погово¬
рим. Иди к нему; теперь тебе даже уж и нельзя не идти,
невежливо.
Сбывает, думаю, разбойник, меня с рук!.. Ну, а уж не¬
чего делать: пойду к кровожадному генералу.
— Только ты,— говорит,— иди вечером и в сюртуке,
а не во фраке; а то он не любит, если на визит похоже.
Я и на это согласился.
Пришел вечер, я оделся и пошел.
Домик кровожадного генерала я, разумеется, и прежде
знал. Это небольшой, деревянный, чистенький домик в три
окна, из которых на двух крайних стояли чубуки, а на тре¬
тьем, среднем, два чучела: большой голенастый красный
петух в каске с перьями и молодой черный козленок с бо¬
родой, при штатской шпаге и в цилиндрической граждан¬
ской шляпе.
Подъезда с улицы нет, а у калитки нет звонка. Я взял¬
ся за большое железное кольцо и слегка потрепал его.
— Не стучите, не стучите, и так не заперто,— отвечал
мне со двора немного резкий, но добрый и кроткий голос.
Я приотворил калитку и увидел пред собою необыкно¬
венно чистенький дворик, усыпанный желтым песком, а в
глубине — сад, отделанный узорчатою решеткой. На
крыльце домика сидел тучный, крупный человек, с густыми
Болосами впроседь, с небольшими коричневыми, медвежь¬
ими глазками и носом из разряда тех, которые называются
144
дулями. Человек этот был одет в полосатые турецкие ша¬
ровары и серый нанковый казакин. Он сидел на крыльце,
прямо на полу, сложив ноги по-турецки. В зубах у него
дымился чубук, упертый другим концом в укрепленную на
одной ступени железную подножку, а в руках держал чер¬
ный частый роговой гребень и копошился им в белой, как
лен, головке лежавшего у него на коленях трехлетнего длин¬
новолосого мальчишки, босого и в довольно грязной ситце¬
вой рубашке.
— Пожалуйте! — проговорил он мне приветливо, уви¬
дя меня на пороге калитки, и при этом толкнул слегка
мальчишку, бросил ему гребень и велел идти к матери.
— Это, что вы видите,— продолжал он,— кухаркин
сын; всякий день, каналья, волочит ко мне после обеда
гребень: «Дяденька, говорит, попугай неприятелей». Со¬
седки-дьячихи дети, семинаристы, его научили. Прошу вас
в комнату.
Я поклонился и пошел за ним, а сам все думаю: кто
же это, сам он генерал Перлов или нет? Он сейчас же это
заметил и, введя меня в небольшую круглую залу, отре¬
комендовался. Это был он, сам кровожадный генерал Пер¬
лов; мою же рекомендацию он отстранил, сказав, что я ему
уже достаточно отрекомендован моим приятелем.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
Мы сели в небольшой, по старине меблированной гости¬
ной, выходящей на улицу теми окнами, из которых на двух
стояли чубуки, а на третьем красный петух в генеральской
каске и козел в черной шляпе, а против них на стене порт¬
рет царя Алексея Михайловича с развернутым указом, что
«учали на Москву приходить такие-сякие дети немцы и их,
таких-сяких детей, немцев, на воеводства бы не сажать,
а писать по черной сотне».
В углу сиял от лампады большой образ пророка Илии
с надписью «ревнуя поревновах о Боге Вседержителе».
Генерал свистнул и приказал вошедшей женщине подать
нам чаю и, как предсказывал мой приятель, немедленно же
начал поругивать все петербургское начальство, а затем и
местные власти. Бранился он довольно зло и минутами
очень едко и обращался к помянутому указу царя Алек¬
сея, но про все это в подробностях вам нечего рассказы¬
вать. Особенно зло от него доставалось высокопоставлен¬
ным лицам в Петербурге; к местным же он относился с
несколько презрительною иронией.
145
— Здесь верховодят и рядят,— говорил он,— козел
да петух: вот я и изображение их из почтения к ним на
окно выставил,— добавил он, указывая чубуком на чу¬
чел.— Здесь все знают, что это представляет. То вот этот
петух — предводитель-многоженец — орет да шпорой бры¬
кает; то этот козленок — губернатор — блеет да бороден¬
кой помахивает,— все ничего: идет. Знаете, как покойный
Панин Великой Екатерине отвечал на вопрос: чем сей край
управляется? «Управляется,— говорил он,— матушка-
императрица, милостию Божиею да глупостию народ¬
ной».
Генерал весело и громко засмеялся и потом вдруг не¬
ожиданно меня спросил:
— Вы Николая Тургенева новую книжку читали?
Я отвечал утвердительно. Генерал, помолчав, высмор¬
кался и сначала тихо улыбнулся, а потом совсем захо¬
хотал.
— «Стяните вы ее, Россию-то, а то ведь она у вас
р-а-с-с-ы-п-е-т-с-я!» — привел он из тургеневской брошюры
и снова захохотал.— Вы, впрочем, сами здесь, кажется,
насчет стягиванья... липким пластырем, что ли ее, Федо¬
рушку, спеленать хотите? — обратился он ко мне, отирая
выступившие от смеха слезы.— Скажите бога ради, что та¬
кое вы задумали нам приснастить.
Я рассказал.
— Пустое дело,— отвечал, махнув рукой, генерал.—
Вы, может быть, не любите прямого слова; в таком случае
извините меня, что я вам так говорю, но только, по-моему,
все это больше ничего как от безделья рукоделье. Нет, вы
опишите-ка нас всех хорошенько, если умеете,— вот это де¬
ло будет! Я знаю, что будь здесь покойный Гоголь или Не¬
стор Васильич Кукольник, они бы отсюда по сту томов
написали. Сюда прежде всего надо хорошего писателя, чтоб
он все это описал, а потом хорошего боевого генерала, чтоб
он всех отсюда вон выгнал. Вон что здесь нужно, а не боль¬
ницы, которых вас никто не просит. Чего вы их насиль¬
но-то навязываете? Молчат и еще, как Шевченко писал,
«на тридцати языках молчат», а молчат, значит «благоден¬
ствуют».
Генерал опять засмеялся и потом неожиданно спросил:
— Вы Шевченку покойного не знали?
Я отвечал, что не знал.
— А ко мне его один полицеймейстер привозил. Рас¬
хвалил, каналья, что будто «стихи, говорит, отличные на
начальство знает». Ну, мол, пожалуй, привезите: и точно
146
недурно, даже, можно сказать, очень недурно: «Сон»,
«Кавказ» и «К памятнику», но больше всего поляков тер¬
петь не мог. Ух, батюшка мой, как он их, бездельников,
ненавидел! То есть это просто черт знает что такое! «Гай¬
дамаки» читает и кричит: «Будем, будем резать тату!»
Я уж и окна велел позатворять... против поляков это, зна¬
ете, не безопасно,— и после целую неделю лопатой голос
из комнаты выгребали — столько он накричал.
— Но вы же ведь, ваше превосходительство,— спраши¬
ваю,— кажется, и сами очень изволите не любить поляков?
— Поляков? нет, я враждебного против них не имею
ничего... а любить их тоже не за что. Аристократишки,
трусы, дрянь, хвастуны, интриганы и рухавка... уж, какая
рухавка! Ух, ух, ух, какая рухавка! Такие бездельники, что
с ними драться-то даже не с кем. Как в шакалку не надо
стрелять, потому что ружье опоганишь, так и в поляка;
на него хорошего солдата посылать жалко. В последнее
повстанье я шел усмирять их, думал, что авось те канальи,
которые в наших корпусах и в академиях учились, хоть те,
хоть для гонора, для шика не ударят лицом в грязь и по¬
практикуют наших молодых солдатиков,— как-нибудь со¬
берутся нас поколотить. Ничего не бывало: веровали, ру¬
хавка этакая канальская, что Наполеон на них смотрит,
а смотреть-то и не на что. Подлейшая для нас война была!
Если бы не кое-какие свои старые хитрости — просто бы
несчастье: могли бы деморализоваться войска. У меня
в два месяца один офицер влюбился в польку и убежал,
один в карты проигрался и застрелился, да два солдатика
с ума сошли. Сноситесь об этом по начальству, пишите
в Петербург: много там поймут боевое дело «военные чи¬
новники» и «моменты»!.. Я — вечное благодарение Творцу
и Создателю (генерал набожно перекрестился),— я вышел
из затруднений без петербургских наставлений.
Я говорю:
— Я слушаю, ваше превосходительство, с крайним лю¬
бопытством.
Генерал стал продолжать.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ
— Я,— говорит,— действовал на корень: офицеры
и солдаты скучали; надо было их развлечь, а в деревушке
чем же их развлечь? Вижу, бывало, что уж очень затоско¬
вали и носы повесили, ну, и жаль их бывало; и говорю:
147
ну, уж черт вас возьми, прозевайте, так и быть: выпусти¬
те человек пять пленных из сарая, пускай они по лесу по¬
бегают. А как те побегут, пошлешь за ними погоняться,—
народ немножко и порассеется. Но только ведь; подите ж.
вы, треанафемские их души, эти полячишки: совсем от ме¬
ня бегать не стали. «Бегите, паны»,— шепчут им подучен¬
ные люди,— нет, не идут! По пяти целковых, наконец, чрез
верные руки давал каждому, который согласится бежать;
деньги возьмут — а не бегут. Сам, наконец, лично, с глаза
на глаз их подманивал: «Эх, говорю, паны, братья, какая
большая банда здесь недалеко в лесу есть! — такая, мол,
что даже боимся ее». Не идут, да и только!
— Но позвольте же,— возражаю,— но откуда же плен¬
ные-то у вас взялись?
— А это какие-то старые, еще до моих времен попа¬
лись. Я их по наследству получил. При мне шаталась ка¬
кая-то горстка, человек в шестьдесят; солдатики человек
сорок из них закололи, а человек двадцать взяли. Я прика¬
зал тройку повесить, а человек пятнадцать назад выпу¬
стить, чтобы рассказывали, какой с ними у меня суд;
с тех пор в моем районе все и стихло.
— Как же это,— спрашиваю,— вы без суда сейчас
и повесили?
— Ну вот еще, судить! Чего ж поляков судить? Кото¬
рый виноват? Они все виноваты, а которого повесить, это
солдаты гораздо правосуднее чиновников разбирают: ко¬
торые потяжеле, пошибче ранены, тех и вздернут, а кото¬
рые поздоровей и порезвей — тех выпустят, чтобы дальше
пробежали да понагнали страху, как их москали пробирают.
Зато этакой просто, как заяц, летит и службу свою мне
лучше всякой газеты исполняет. Они, впрочем, и вообще
народ исполнительный, ни с кем на свете так не легко
управляться, как с поляками. Они в европейской политике
действительно довольно непонятливы, по своей бестолко¬
вости: потому и Наполеона ждут к себе; но зато от приро¬
ды сотворены, чтобы русской политике подчиняться, и, са¬
ми того не сознавая, очень ее любят, право. С поляком
ведь, главное, не надо только церемониться и антимонии
разводить; верен он — не кори его ничем, а если нашел
у него порох в фортепиано,— как я у одного своего прияте¬
ля отыскал... тут же положил его на фортепиано да велел
казакам хорошенько нагайками выпороть, а потом опять
обедать его зазвал — и ничего. Поляк за это никогда не
сердится. Напротив, этот мой приятель, после того, как я его
выпорол, даже всем меня хвалил — трубою про меня тру-
148
бил: «остро, говорит, постемпуе,— але человек, бардзо по¬
чтивый». Ведь и вся эта рухавка-то вышла из-за церемо¬
ний, все это «пять офяр», пять варшавских мертвецов на¬
делали. Говор пошел: «стржеляойн нас, пане, москали!»
Ну, вот вам и претекст для жалоб и к Наполеону, и к Евро¬
пе. Кровь, знаете, благородное дело! Тут и пан Халявский,
и пан Малявский — все в азарт входят: «и меня, и меня,
говорят, ледви не застршелили!» А надо было никого не
убивать и даже холостым зарядом не стрелять, а казаков
с нагайками на них да пожарную команду с водой. Как
вспороли бы их хорошенько да водой, как кур, облили
бы,— они бы и молчали, и не стали бы хвалиться, что
«и я в скурэ достал», и «мне воды за шие залили!»,
а, напротив, стали бы все перекоряться — Стась на Яся,
а Ясь на Стася,— дескать, «меня не обливали» и «меня на¬
гайкой не лупили». Что бы тут дипломаты вашей Европы-
то, за кого бы стали заступаться, когда и обиженных нет?
Надо ведь всегда играть на благородных страстях чело¬
века, а такового у поляков есть гордость: вот и надо бы не
стрелять в них, а пороть да водою окачивать.
— Я полагаю, что ваше превосходительство шутите?
— Нимало-с; да что же шуточного во всем том, что
я вам говорю?
— Помилуйте, да что же бы в самом деле Европа-то
тогда о нас сказала?
— А вот теперь небось она зато про вас очень хорошо
говорит! А я бы, будь моя воля, я бы и Европу-то всю
выпорол.
Я даже не выдержал и рассмеялся.
— За что же, мол, ваше превосходительство, вы так
строго хотите обойтись с Европой?
— С Европой-то-с! Господи помилуй: да мало ли на
ней, на старой грешнице, всяких вин и неправд? И мотов¬
ство, и фатовство, и лукавство, и через нее, проклятую ци¬
вилизацию, сколько рабочих рук от сохи оторвано, и ка¬
зенную амуницию рвет,— да еще не за что ее пороть!
Нет-с; пороть ее, пороть!
— Если дастся.
— Вздор-с! Разумеется, если ее дипломатическим путем
к тому приглашать, она не дастся, а клич по земле русской
кликнуть... как Бирнамский лес с прутьями пойдем и всех
перепорем, и славян освободим, и Константинополь возь¬
мем, и Парижскую губернию учредим,— и сюсюку Дер¬
гальского туда губернатором посадим.
149
— Ну-с,— говорю,— о Парижской губернии, я полагаю,
теперь нам уж не время думать, когда там Бисмарк
и Мольтке хозяйничают.
— А что же такое ваши Бисмарк и Мольтке?
— Гениальные люди.
— Вздор-с, мы всех поколотим.
Я усумнился и поставил на вид превосходное устройст¬
во немецких сил и образованность их военачальников.
— Вздор-с,— возразил генерал.— Пусть себе они
и умны, и учены, а мы все-таки их поколотим.
— Да каким же образом?
— Да таким образом, что они там своими умами да
званиями разочтут, а мы им такую глупость удерем, что
они только рты разинут. Где по их, по-ученому, нам бы
надо быть, там нас никого не будет, а где нас не потребу¬
ется, там мы все и явимся, и поколотим, и опять в Берлин
Дергальского губернатора посадим. Как только дипломатия
отойдет в сторону, так мы сейчас и поколотим. А то дип¬
ломаты!.. сидят и смотрятся, как нарциссы, в свою чер¬
нильницу, а боевые генералы плесенью обрастают и с го¬
лоду пухнут.
ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ
Я помолчал и потом тихо заметил генералу, что, одна¬
ко, и дипломатических приемов огулом осуждать нельзя.
— Я и не спорю-с против этого,— отвечал генерал.—
Я и сам дипломатии не отвергаю, но только я не отвергаю
настоящей дипломатии, короткой. Ответь так, чтобы про
твой ответ и рассказывать было нельзя. Со мною и самим
бывали случаи, что я держался дипломатии. Я раз прихо¬
жу, не помню где-то в Германии, какого-то короля дворец
хотел посмотреть. Ездил по Рейну, глядел, глядел на эти
кирпичи, которые называют «развалинами»,— страсть на¬
доело. Дай на другое взгляну: наговорили про один дво¬
рец, что очень хорош и очень стоит, чтобы взглянуть,
я и пошел. Прихожу-с; а там внизу пред самой лестницей
сидит немец и показывает мне, скотина, пальцем на этакие
огромные войлочные калоши.
— Это, мол, что такое?
— Надень,— говорит.
— Зачем же, мол, я их стану надевать?
— А затем, что без того,— говорит,— по дворцу не
пойдешь.
150
— Ах ты,— говорю,— каналья этакая! Да я у своего
государя не по такому дворцу, да и то без калош ходил,—
а стану я для твоего короля шутом наряжаться!
— Ну, так вот,— говорит,— и не пойдешь!
А я плюнул ему в эти кеньги и сказал:
— Ну, так вот, скажи же своему королю, что я ему
в калоши плюнул!..
Справлялся после этого, сказали ли что-нибудь об этом
королю? ничего не сказали. Так и присохло. Вот такой
тон, по-моему, должна держать и дипломатия: чтоб плюнул
кому и присохло! На нас, боевых генералов, клевещут, буд¬
то мы только как цепные собаки нужны, когда нас надо
спустить, а в системе мирного времени ничего будто не по¬
нимаем. Врут-с! А спросите-ка... теперь вот все газетчики
взялись за то, что в Польше одна неуклонная система
должна заключаться в том, чтобы не давать полякам забы¬
ваться; а я-с еще раньше, когда еще слуха о последней ру¬
хавке не было, говорил: закажите вы в Англии или в Аме¬
рике гуттаперчевого человека, одевайте его то паном, то
ксендзом, то жидом, и возите его года в два раз по горо¬
дам и вешайте. Послушайся они этого моего совета — ник¬
то бы и не ворохнулся, и капли крови не было бы проли¬
то. Да что и говорить!
Генерал махнул рукой и добавил:
— Хоть бы на будущее-то время послушнее были, да
загодя теперь такую штуку припасли бы, да по Ревелю, да
по Риге повозили немцем одетую, а то ведь опять, гляди,
скоро понадобится немцев колоть. А мне, как хотите, мне
немцев жалко: это не то, что гоноровое полячье безмозг¬
лое,— это люди обстоятельные и не перепорть мы их сами,
они приятнейшие соотечественники нам были бы. Я, помню,
сам в Остзейском крае два года стоял при покойном импе¬
раторе, так эти господа немцы нам первые друзья были.
Бывало, ничего каналья и по-русски-то не понимает, а да¬
же наши песни поет: заместо «по мосту-мосту» задувает:
Оф дем брике, брике, брике,
Оф дем калинишев брике.
А нынче вон, пишут, и они уже «Wacht am Rhein»
запели и заиграли. Кто же, как не сами мы в этом винова¬
ты? Ну и надо теперь для их спасения по крайней мере
хоть гуттаперчевую куклу на свой счет заказывать, да ка¬
ким-нибудь ее колбасником или гоф-герихтом наряжать
и провешивать, чтоб над живыми людьми не пришлось
этой гадости делать.
1 «Стража на Рейне» (нем.).
151
— А не находите ли вы,— спрашиваю,— опасности
в том, что немцы проведали бы, что человек-то, которого
вешают, сделан из гуттаперчи?
— Ну так что же такое, что проведали бы? Да им да¬
же под рукою можно было бы это и рассказывать, а они все
писали бы, что «москали всех повешали»; ученая Евро¬
па и порешила бы, что на Балтийском поморье немцев уже
нет, что немцы все уже перевешаны, а которые остались, те,
стало быть, наши. Тогда они после — пиши не пиши — ни¬
кто заступаться не станет, потому что поляков уже нет,
все перевешаны; за русских заступаться не принято,—
и весь бы этот дурацкий остзейский вопрос так и порешил¬
ся бы гуттаперчевою куклой.
— Куклой!.. ну,— говорю,— ваше превосходительство,
теперь я уж даже не сомневаюсь, что вы это все изволите
шутить.
— Полноте, сделайте милость! Вы меня этим даже оби¬
жаете! — возразил с неудовольствием генерал.— А с дру¬
гой стороны, я даже и не понимаю, что вас так удивляет,
что кукла может производить впечатление? Мало ли разве
вы видите у нас кукол, которых все знают за кукол, а они
не только впечатление производят, но даже решением воп¬
росов руководят. Вы здешний?
— Да, здешний.
— И еще, может быть, в здешней гимазии обучались?
Я отвечал утвердительно.
— Ну, так вы не можете не знать господина Калату¬
зова?
— Как же,— отвечаю,— очень хорошо его знаю.
— Дурак он?
— Да, не умен.
— Чего не умен, просто дурак. Я и отца его знал,
и тот был дурак, и мать его знал — и та была дура, и вся
родня их была дураки, а и они на этого все дивовались,
что уже очень глуп: никак до десяти лет казанского мыла
от пряника не мог отличить. Если, бывало, как-нибудь мать
в бане в сторону засмотрится, он сейчас все мыло и поест.
Людей сколько за это пороли. Просто отчаянье! До восем¬
надцати лет дома у гувернантки учился, пока ее обнимать
начал, а ничему не выучился; в гимназию в первый класс
по девятнадцатому году отдали и через пять лет из второ¬
го класса назад вынули. Ни к одному месту не годился,—
а вон добрые люди его в Петербурге научили газету изда¬
вать, и пошло, и заговорили про него, как он вопросы ре¬
шает. Вот вы его посмотрите: вчера был у меня; приехал
152
в земство, гласным выбран ради своего литературного зна¬
чения и будет голос подавать.
— Что же,— спрашиваю,— поумнел он хотя немножко,
редакторствуя?
— Какое же поумнеть? Мыла, разумеется, уж не ест;
а пока сидел у меня — все пальцами нос себе чистил. Из
ничего ведь, батюшка, только Бог свет создал, да и это
нынешние ученые у него оспаривают. Нет-с; сей Калату¬
зов только помудренел. Спрашиваю его, что, как его дела
идут?
«Шли,— говорит,— хорошо, а с прошлого года пошли
хуже».
«Отчего же, мол, это?»
«Запад,— говорит,— у меня отвалился».
«Ну вы, конечно, это горе поправили?»
Думал он, думал:
«М-да,— отвечает,— поправил».
«Ну, и теперь, значит, опять хорошо?»
«М-да; не совсем: теперь восток отпал».
— Фу,— говорю,— какое критическое положение: этак
все, пожалуй, может рассыпаться?»
Думал, опять думал и говорит, что может.
«Так нельзя ли, мол, как-нибудь так, чтобы и востоку,
и западу приходилось по вкусу?»
«М-можно, да... людей нет!»
«Что такое? — Удивился, знаете, безмерно, что уж да¬
же и петый дурак, и тот на безлюдье жалуется.— Что та¬
кое?» — переспрашиваю,— и получаю в ответ:
«Людей нет».
«В Петербурге-то способных людей нет?»
«Нет».
«Не верю,— говорю.— Вы поискали бы их прилежнее,
как голодный хлеба ищет».
«Искал»,— отвечает.
«Ну, и что же? Неужели нет?»
«Нет».
«Ну, вы в Москве поискали бы».
«А там,— говорит,— и подавно нет. Нынче их нигде
уж нет; нынче надо совсем другое делать».
«Что такое?» — любопытствую. Расскажи, мол, дура
любезная, удиви, что ты такое надумала? А он-с меня дей¬
ствительно и удивил!
«Надо,— отвечает,— разом два издания издавать, одно
так, а другое иначе».
— Ну, скажите, ради бога, не тонкая ли бестия? — вос¬
153
кликнул, подскочив, генерал.— Видите, выдумал какой спо¬
соб! Теперь ему все будут кланяться, вот увидите, и заи¬
скивать станут. Не утаю греха — я ему вчера первый пок¬
лонился: начнете, мол, нашего брата солдата в одном изда¬
нии ругать, так хоть в другом поддержите. Мы, мол, за то
подписываться станем.
«М-да,— говорит,— в другом мы поддержим».
— Так вот-с, сударь,— заговорил, выпрямляясь во весь
рост, генерал,— вот вам в наш век кто на всех угодит, кто
всем тон задаст и кто прочнее всех на земле водворится:
это безнатурный дурак!
ГЛАВА ВОСЬМИДЕСЯТАЯ
Это было последнее слово, которое я слышал от гене¬
рала в его доме. Затем, по случаю наступивших сумерек,
старик предложил мне пройтись, и мы с ним долго ходили,
но я не помню, что у нас за разговор шел в то время.
В памяти у меня оставалось одно пугало «безнатурный ду¬
рак», угрожая которым, Перлов говорил не только без шут¬
ки и иронии, а даже с яростию, с непримиримою досадой
и с горькою слезой на ресницах.
Старик проводил меня до моей квартиры и здесь, креп¬
ко сжимая мою руку, еще несколько минут на кого-то
все жаловался; упоминал упавшим голосом фамилии неко¬
торых важных лиц петербургского высшего круга и в зак¬
лючение, вздохнув и потягивая мою руку книзу, прошеп¬
тал:
— Вот так-то-с царского слугу и изогнули, как дугу! —
а затем быстро спросил: — Вы сейчас ляжете спать дома?
— Нет,— отвечал я,— я еще поработаю над моей запи¬
ской.
— А я домой только завтра, а до утра пойду в дво¬
рянский клуб спать: я там таким манером предводительско¬
го зятя мучу: я сплю, а он дежурит, а у него жена моло¬
дая. Но зато штраф шельмовски дорого стоит.
Тягостнейшие на меня напали размышления. «Фу ты,—
думаю себе,— да что же это, в самом деле, за патока с им¬
бирем, ничего не разберем! Что это за люди, и что за
странные у всех заботы, что за скорбя, страсти и волне¬
ния? Отчего это все так духом взмешалось, взбуровилось
и что, наконец, из этого всего выйдет? Что снимется пе¬
ною, что падет осадкой на дно и что отстоится и пойдет на
потребу?»
154
А генерала жалко. Из всех людей, которых я встретил
в это время, он положительно самый симпатичнейший че¬
ловек. В нем как-то все приятно: и его голос, и его мане¬
ры, и его тон, в котором не отличишь иронии и шутки от
серьезного дела, и его гнев при угрозе господством «безна¬
турного дурака», и его тихое: «вот и царского слугу изог¬
нули, как в дугу», и даже его не совсем мне понятное наме¬
рение идти в дворянский клуб спать до света.
Да, он положительно симпатичнее всех... кроме приста¬
ва Васильева. Ах, боже мой, зачем я, однако же, до сих
пор не навещу в сумасшедшем доме моего бедного филосо¬
фа и богослова? Что-то он, как там ориентировался? На¬
ходит ли еще и там свое положение сносным и хорошим?
Это просто даже грех позабыть такую чистую душу... Ре¬
шил я себе, что завтра же непременно к нему пойду, и с тем
лег в постель.
Записка не пишется, да и что писать, сам не знаю, а уж
в уме у меня начали зарождаться лукавые замыслы, как бы
свалить это дело с плеч долой.
«Не совсем это нравственно и благородно,— думаю я,
засыпая,— ну да что же поделаешь, когда ничего иного
не умеешь? Конечно, оно можно бы... да настойчивости и
цепкости в нас нет... Лекарь Отрожденский прав: кажется,
действительно народ еще может быть предоставлен пока
своей смерти и сойдется с ней и без медицинской помощи...
Однако как это безнравственно!.. Но... но Перлов «безна¬
турным дураком» грозится... Страшно! Глупость-то так со
всех сторон и напирает, и не ждет... Вздоры и раздоры так
всех и засасывают...» И вдруг среди сладкой дремоты, за¬
вязывающей и путающей эти мои соображения, я чувст¬
вую толчок какою-то мягкою и доброю рукой, и тихий
голос прошептал мне над ухом: «Спи! это все сон! все это
сон. Вся жизнь есть сон: проснешься, тогда поймешь, за¬
чем все это путается».
Я узнал голос станового Васильева и... уснул, а утром
просыпаюсь, и первое, что меня осенило: зачем же, однако,
мне поручили составить эту записку? — мне, который не
знает России, который менее всех их живет здесь?
— Позвольте! позвольте! — воскликнул я вдруг, хва¬
тив себя за голову.— Да я в уме ли или нет? Что же это
такое: я ведь уж не совсем понимаю, например, что в сло¬
вах Перлова сказано на смех и что взаправду имеет смысл
и могло бы стоить внимания?.. Что-то есть такого и ино¬
го!.. Позвольте... позвольте! Они (и у меня уже свои ми¬
фические они), они свели меня умышленно с ума и... кто
155
же это на смех подвел меня писать записку? Нет! это не¬
спроста... это...
Я вскочил, оделся и побежал к Дергальскому.
ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
Застаю его дома, отвожу потихоньку в сторону и сек¬
ретно спрашиваю: не писал ли когда-нибудь кому-нибудь
Фортунатов, чтобы пригласить меня к составлению пред¬
варительной записки об учреждении врачебной части в се¬
лениях?
— Позвольте,— отвечает,— я сейчас сплявлюсь.
Юркнул куда-то в шкаф, покопошился там, пошелестил
бумагами и отвечает:
— Есть! писаль!
И с этим подает мне смятое письмо с рубцом от бечев¬
ки, которою была стянута пачка.
Это было письмо Фортунатова к предводителю моего
уезда. Касающаяся до меня фраза заключалась в следую¬
щем: «Кстати, к вам, по соседству, приехал помещик Орест
Ватажков; он человек бывалый за границей и наверно
близко знает, как в чужих краях устраивают врачебную
часть в селениях. Прихватите-ка и его сюда: дело это не¬
пременно надо свалить к черту с плеч».
— Да ведь предводитель,— замечаю,— этого письма не
получил?
— Как же...нет, получил.
— Как же получил, когда оно здесь у вас?
— Да, да, да... он, стало быть, не получил.
Я простился и иду домой, и вдруг узнаю из непосред¬
ственного своего доклада, что я уже сам путаюсь и сбива¬
юсь, что я уже полон подозрений, недоверий, что хожу по¬
тихоньку осведомляться, кто о чем говорил и писал, что
даже сам читаю чужие письма... вообще веду себя скверно,
гадко, неблагородно, и имя мне теперь... интриган!
Я встрепенулся и остолбенел на месте. Я испугался это¬
го ужасного, позорного имени, тем более что сам не мог
дать себе отчета: слышу ли я это слово вутри себя или...
или я даже изловлен в интриганстве и подвергаюсь позор¬
ному обличению.
Увы! это было так: глаза мои сказали мне, что я
пойман.
Поймал меня тот щуковатый полицеймейстер, которого
я видел у губернатора. Черт его знает, откуда он проезжал
156
мимо квартиры злосчастного Дергальского, и по какому
праву он, с самой возмутительной фамильярностью, погро¬
зил мне, шутя, пальцем, и в силу чего он счел себя впра¬
ве назвать меня интриганом. Фуй, неужто же так чересчур
легко запутаться и... даже падать? А ведь, как хотите, не¬
уместная и бессмысленная фамильярность полицеймейстера
не что иное, как признак весьма невысокого положения мо¬
их фондов. Когда же я их так уронил и чем именно? Это
преглупо и предосадно.
Я возвратился домой в самом дурном расположении ду¬
ха, но только что переступил порог, как сейчас же утешил¬
ся: у себя я, сверх всякого ожидания, нашел генерала
Перлова.
ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
Старик этот был мне теперь вдвое мил; я рассказал
ему все свои недоумения и сюрпризы с такою полною от¬
кровенностью, с какою можно рассказывать свои дела толь¬
ко сердечнейшему другу. Он все молчал и сосал янтарь
своего черешневого чубука, изредка лишь отзываясь самы¬
ми короткими, но определительными выражениями. Губер¬
натора назвал «свистуном», губернаторшу обругал нецен¬
зурным словом, про Дергальского сказал, что он «балалай¬
ка бесструнная», а Фортунатова похвалил: «этот, говорит,
в кулаке из яйца цыпленка выведет»; а впрочем, обо всех
сказал, что «все они вместе порядочная сволочь», и пред¬
лагал их повесить. Предводителя я уж, разумеется, не кос¬
нулся, но о полицеймейстере рассказал, как он нагло сей¬
час со мною расфамильярничался.
— Гвардейская привычка-с,— отвечает генерал.— Я их,
этих господ, знаю: был и со мной такой случай, что их
братия пробовали со мной фамильярничать, да ведь мне
в кашу не плюнешь. Я еще тогда в маленьком чине служил.
Мы не поладили как-то за картами. Мне денщик их гово¬
рит: «Не ходите, говорит, к нам больше, ваше благородие,
а то наши господа хотят вас бить». Я ему дал на водку
и прихожу, и спрашиваю: «Правда ли, господа, будто вы
хотите меня бить?» — «Правда», а их осьмеро, а я один.
«Ну, как же вы меня будете бить, когда вас осьмеро, а я
один?» — «А вот как»,— отвечает сам хозяин да прямо
меня по щеке. Я очень спокойно говорю: «Я этому, госпо¬
да, не верю». Он второй раз. Я опять говорю: «Не верю».
Он в третий; ну, тогда я взял его за ноги, взмахнул, да
157
и начал им же самим действовать, и всех их переколотил,
и взял из-под скамьи помойный таз, облил их, да и ушел.
— Вы очень сильны.
— Нет, пудов двенадцать, я больше теперь не подни¬
му, а был силен: два француза меня, безоружного, хотели
в плен отвести, так я их за вихры взял, лоб об лоб толк¬
нул и бросил — больше уже не вставали. Да русский чело¬
век ведь вообще, если его лекарствами не портить, так он
очень силен.
«Ах,— думаю,— вот эта речь мне очень на руку»,
и спрашиваю: лечился ли он сам когда-нибудь.
— Как же-с,— отвечает.— Я в медицину верю, даже
одного лекаря раз выпорол за ошибку, но я ведь женатый
человек, так для женского спокойствия, когда нездоровит¬
ся, постоянно лечусь, но только гомеопатией и в ослаблен¬
ных приемах.
— Их приемы-то и вообще, мол, уж ослаблены.
— Ну все-таки, знаете, я нахожу, что еще сильно... все-
таки лекарство, и внутрь пускать его нехорошо; а я, как
принесу из гомеопатической аптеки скляночку, у себя ее на
окно за занавеску ставлю, оно там и стоит: этак и жена
спокойна, и я выздоравливаю. Вот вы бы этот способ для
народа порекомендовали,— это уж самое безвредное. Ей-
богу!.. Ах да, и кстати: записку-то свою бросьте: дворя¬
не уж съезжаются, и они все будут против этого, потому
что предводитель хочет. Вот и опишите: губернатор не хо¬
чет, предводитель хочет, дворянство не хочет потому, что
предводитель хочет, а предводитель хочет потому, что гу¬
бернатор не хочет... Вот опишите это, и будет вам лучшая
повесть нашего времени, и отдадут вас за нее под суд,
а суд оправдает, и тогда публика книжку раскупит. Впро¬
чем, я предложу Калатузову, не хочет ли, я сам опишу
все это в виде романа. Не умею, да ничего. Гарибальди пи¬
шет, и тоже довольно скверно. А теперь поедемте, я обе¬
щал вас привезти познакомить к четырем дворянам... От¬
личные ребята, да вы ведь и должны им сделать визит,
как приезжий.
Я поехал и был с его превосходительством не у четырех,
а у шести «отличных ребят», которые, как в одно слово,
ругали предводителя и научали меня стоять на том, что при
таких повсеместных разладицах ничего предпринимать
нельзя и надо все бросить.
— Это всё мои молодцы,— пояснял мне генерал, когда
мы ехали с ним домой.— Это всё антипредводительская
партия, и вы уж теперь к предводительским не ездите, а то
будет худо.
ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
С этой поры я, милостивые государи, увидел себя не
только помешанным, но даже в силках, от которых так
долго и ревностно отбивался. И пребывал я совсем отума¬
ненный на заседаниях, на обедах, даваемых, по здешнему
выражению, с «генералом Перловым»; был приглашаем
«на генерала Перлова» и утром, и вечером я слушал, как
он жестоко казнил все и всех. Сам я больше молчал и от¬
зывался на все только изредка, но представьте же себе, что
при всем этом... меня из губернии выслали. Что, как и по¬
чему? ничего этого не знаю, но приехал полицеймейстер
и попросил меня уехать. Ходил я за объяснениями к губер¬
натору — не принял; ходил к Фортунатову — на нервы
жалуется и говорит: «Ничего я, братец, не знаю», ходил
к Перлову — тот говорит: «Повесить бы их всех и больше
ничего, но вы, говорит, погодите: я с Калатузовым поладил
и роман ему сочинять буду, там у меня все будет описано».
Навестил в последний вечер станового Васильева
в сумасшедшем доме. Он спокоен как нельзя более.
— Как же,— говорю,— вы это все сносите?
— А что ж? — отвечает,— тут прекрасно, и, знаете ли,
я здесь даже совершенно успокоился насчет многого.
— Определились?
— Совершенно определился. Я христианство как рели¬
гию теперь совсем отвергаю. Мне в этом очень много по¬
мог здешний прокурор; он нас навещает и дает мне
«Revue Spirite» Я проникся этим учением и, усвоив
его, могу оставаться членом какой угодно церкви; перед су¬
дом спиритизма религиозные различия — это не более как
«обычаи известной гостиной», не более. А ведь в чужом до¬
ме надо же вести себя так, как там принято. Внутренних
моих убеждений, истинной моей веры я не обязан предъ¬
являть и осуждать за иноверство тоже нужды не имею.
У спиритов это очень ясно; у них, впрочем, все ясно: ви¬
новатых нет, но не абсолютно. Преступление воли карает¬
ся, но кара не вечна; она смягчается по мере заслуг и смы¬
вает преступления воли. Я очень рад, что мне назначили
этот экзамен здесь.
— Будто,— говорю,— ваше спокойствие нимало не
страдает даже от здешнего общества?
— Я этого не сказал, мое... Что мое, то, может быть,
немножко и страдает, но ведь это кратковременно, и потом
все это плоды нашей цивилизации (вы ведь, конечно,
1 «Спиритическое обозрение» (франц.).
159
знаете, что увеличение числа помешанных находится в из¬
вестном отношении к цивилизации: мужиков сумасшедших
почти совсем нет), а зато я, сам я (Васильев просиял ра¬
достью), я спокоен как нельзя более и... вы знаете оду
Державина «Бессмертие души»?
— Наизусть,— отвечаю,— не помню.
— Там есть такие стихи:
От бесконечной единицы,
В ком всех существ вратится круг,
Какие б ни текли частицы,
Все живы, вечны, вечен дух!
Бесконечная единица и ее частицы, в ней же вращаю¬
щиеся... вы это понимаете?
— Интересуюсь,— говорю,— знать от вас, как вы это
понимаете?
— А это очень ясно,— отвечал с беспредельным сча¬
стием на лице Васильев.— Частицы здесь и в других об¬
ластях; они тут и там испытываются и совершенствуются
и, когда освобождаются, входят снова в состав единицы
и потом, снова развиваясь, текут... Вам, я вижу, это непо¬
нятно? Мы с прокурором вчера выразили это чертежами.
Васильев вынул из больничного халата бумажку, на
которой были начерчены один в другом три круга, начина¬
ющиеся на одной черте и затушеванные снизу на равное
пространство.
— Видите: все, что темное,— это сон жизни, или тепе¬
решнее наше существование, а все свободное течение — это
настоящее бытие, без кожаной ризы, в которой мы здесь
спеленуты. Тело душевное бросается в затушеванной пло¬
щади, а тело духовное, о котором говорит апостол Павел,
течет в сиянии миров. После каждого пробуждения круго¬
зор все шире, видение все полнее, любовь многообъемлю¬
щее, прощение неограниченнее... Какое блаженство! И... за¬
то вы видите: преграды всё возвышаются к его достиже¬
нию. Вы знаете, отчего у русских так много прославленных
святых и тьмы тем не прославленных? Это все оттого, что
здесь еще недавно было так страшно жить, оттого, что зем¬
ная жизнь здесь для благородного духа легко и скоро те¬
ряет всякую цену. Впрочем, в этом отношении у нас и те¬
перь еще довольно благоприятно. Да, да, Россия в экзаме¬
национном отношении, конечно, и теперь еще, вообще, на¬
илучшее отделение: здесь человек, как золото, выгорал от
несправедливости; но вот нам делается знакомо правосу¬
дие, расширяется у нас мало-помалу свобода мысли, вооб¬
ще становится несколько легче, и я боюсь, не станут ли
160
и здесь люди верить, что тут их настоящая жизнь, а не...
то, что здесь есть на самом деле...
— То есть?
— То есть исправительный карцер при сумасшедшем
доме, в который нас сажают для обуздывания нашей злой
БОЛИ.
«Прощай,— думаю,— мудрец в сумасшедшем доме»,
и с этим пожелал ему счастия и уехал.
ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
Через сутки я был уже в Москве, а на третий день,
усаживаясь в вагон петербургской дороги, очутился нос
к носу с моим уездным знакомцем и решительным посред¬
ником Готовцевым.
— Батюшка мой? Вас ли я вижу? — восклицает он,
окидывая меня величественным взглядом.
Я говорю, что, с своей стороны, могу более подивиться,
он ли это?
— Отчего же?
— Да оттого, что вы так недавно были заняты служ¬
бой.
— Полноте, бога ради; я уж совсем там не служу; ме¬
ня они, бездельники, ведь под суд отдали.
— За школы?
— Представьте, да, за школы. Прежде воспользовались
ими и получили благодарность за устройство, а по¬
том... Подлец, батюшка, ваш Фортунатов! Губернатор че¬
ловек нерешительный, но он благороднее: он вспомнил ме¬
ня и сказал: «Надо бы и Готовцева к чему-нибудь пред¬
ставить». А бездельник Фортунатов: «Представить бы, го¬
ворит, его к ордену бешеной собаки!» Ну не скот ли и не
циник ли? Пошел доказывать, что меня надо... подобрать...
а губернатор без решимости... он сейчас и согласен, и ме¬
ня не только не наградили, а остановили на половине де¬
ла; а тут еще земство начинает действовать и тоже взя¬
лось за меня, и вот я под судом и еду в Петербург в ми¬
нистерство, чтоб искать опоры; и... буду там служить,
но уж это чертово земство пропеку-с! Да-с, пропеку. Вы
как?
— Со мной,— хвалюсь,— поступили тоже не хуже, чем
с вами, довольно решительно,— и рассказываю ему, как
меня выслали.
Готовцев сатирически улыбнулся.
6. Н. С. Лесков, т. 5.
161
— И вы,— говорит,— этакую всякую меру считаете
«довольно решительною»?
— А вы нет?
— Еще бы! Я бы вас за это не выслал, а к Макару те¬
лят гонять послал.
— Но за что же-с? позвольте узнать.
— A-а! не участвуйте в комплотах. Я вам признаюсь,
ведь все ваше поведение для меня было всегда очень по¬
дозрительно; я и сам думал, что вы за господин такой, что
ко всем ездите и всех просите: «посоветуйте мне, бога
ради», да все твердите: «народ, села, села, народ»... Эй,
вы, вы!..— продолжал он, взглядывая на меня проница¬
тельно и грозя мне пальцем пред самым носом.— Губер¬
натора вы могли надувать, но уж меня-то вы не надули:
я сразу понял, что в вашем поведении что-то есть, и (до¬
бавил он в другом тоне) вы если проиграли вашу нынешнюю
ставку, то проиграли единственно чрез свою нерешитель¬
ность. Почему вы мне прямо не высказались?
— В чем-с, милостивый государь, в чем?
— Конституционалист вы или радикал? Выскажитесь
вы, и я бы вам рискнул высказаться, что я сам готов сюда
Гамбетту, да-с, да-с, не Дерби, как этот губернатор жела¬
ет, а прямо Рошфора сюда и непримиримого Гамбетту сю¬
да вытребовать... Я самый решительный человек в России!
— Нет, позвольте уж вас перебить: если на то пошло,
так я знаю человека, который гораздо решительнее вас.
— Это кто?
— Генерал Перлов; он прямо говорит, что если б его
воля, то он всю Европу бы перепорол, а всех нас переве¬
шал бы.
— Да... но вы забываете, что ведь между нами с Пер¬
ловым лежит бездна: он всех хочет перевешать, а я ведь
против смертной казни, и, в случае чего-нибудь, я бы пер¬
вых таких господ самих перевешал,— отвечал, отворачи¬
ваясь, Готовцев.
ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ
Живу затем я целое лето в Петербурге и жду денег
из деревни. Скука страшная: жара, духота; Излер и Берг,
Альфонсины и Финеты, танцы в панталонах, но без увле¬
чения, и танцы с увлечением, но без панталон, порицание
сильных и преклонение пред ними, задор и бессилие, кич¬
ливость знаниями и литература, получившая наименова-
162
иие «орудия невежества»... Нет, нет, эта страна, может
быть, и действительно очень хорошее «экзаменационное
отделение», но... я слишком слабо приготовлен: мне нужно
что-нибудь полегче, пооднообразнее, поспокойнее. А пока,
даст Бог, можно будет уехать за границу; вспомнилось
мне, что я художник, и взялся сделать вытравкой портрет
Дмитрия Петровича Журавского — человека, как известно,
всю свою жизнь положившего на то, чтоб облегчить тя¬
желую долю крестьян и собиравшего гроши своего зара¬
ботка на их выкуп... Как хотите, характер первой величи¬
ны,— как его не передать потомству? Сделал доску и по¬
нес ее в редакцию одного иллюстрированного издания.
«Дарю, мол, вам ее,— печатайте».
Благодарят: говорят, что им этого не надо: это-де не
интересно.
— Помилуйте,— убеждаю их,— ведь это человек боль¬
шой воли, человек дела, а не фарсов, и притом человек,
делавший благое дело в сороковых годах, когда почти не
было никаких средств ничего путного делать.
— А его,— спрашивают,— повесили или не повесили?
— Нет, не повесили.
— И он из тюрьмы не убежал?
— Он и в тюрьме-то вовсе не был: он действовал за¬
конно.
— Ну, так уж это,— отвечают,— даже и совсем не
интересно.
Отхожу и, как герой «Сентиментального путешествия»
Стерна, говорю:
— Нет, это положительно лучше во Франции, потому
что там даже наших веневских баб, Авдотью и Марью,
и тех увековечили и по сю пору шоколад с их изображе¬
нием продают.
И вот-с дела мои идут скверно: имение не продается,
и я даже зазимовал в Петербурге.
ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ
О Рождестве меня навещает Фортунатов: радостный-
прерадостный, веселый-превеселый.
— На три дня,— говорит,— всего приехал, и то тебя
разыскал.
Пошли рассказы: губернатора уже нет.
— Он очень мне надокучил,— говорит Фортунатов,—
и, наконец, я его даванул в затылок, так что ему сразу
163
больничку в губы продернули. Полетел, сердечный, квер¬
ху тормашками! Теперь посмотрю, каков будет новый.
Только уж мне все равно: я по земству служу. Теперь
в открытую играть буду. Генерал Перлов дошел,— гово¬
рит,— до обнищания, потому что все еще ходит в клуб
спать (так как предводительского зятя опять выбрали
старшиною). «Если,— говорит упрямый старик,— войны
не будет и роман написать не сумею, то мирюсь с тем,
что не миновать мне долговой тюрьмы». Дергальский от¬
ставлен и сидит в остроге за возмущение мещан против
полицейского десятского, а пристав Васильев выпущен на
свободу, питается акридами и медом, поднимался вместе
с прокурором на небо по лестнице, которую видел во сне
Иаков, и держал там дебаты о беззаконности наказаний,
в чем и духи и прокурор пришли к полному соглашению;
но как господину прокурору нужно получать жалованье,
которое ему дается за обвинения, то он уверен, что о не¬
вменяемости с ним говорили или «легкие», или «шаловли¬
вые» духи, которых мнение не авторитетно, и потому он
спокойно продолжает брать казенное жалованье, говорить
о возмутительности вечных наказаний за гробом и подво¬
дить людей под возможно тяжкую кару на земле.
На этом, почтенный читатель, можно бы, кажется,
и кончить, но надобно еще одно последнее сказанье, чтоб
летопись окончилась моя.
ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ
Вот в чем-с должно заключаться это последнее ска¬
занье: затянувшаяся беседа наша была внезапно прервана
неожиданным появлением дядиного слуги, который пришел
известить его, что к нему заезжали два офицера от гене¬
рала Постельникова.
Занимавший нас своими рассказами дядя мой так
и затрепетал; да, признаюсь вам, что мы и все-то сами
себя нехорошо почувствовали. Страшно, знаете, не страш¬
но, а все, как Гоголь говорил,— «трясение ощущается».
Пристали мы к слуге: как это было, какие два офице¬
ра приходили и зачем?
— Ничего,— говорит,— не знаю зачем, а только очень
сожалели, что не застали, даже за головы хватались: «что
мы, говорят, теперь генералу скажем?» и с тем и уехали.
Обещали завтра рано заехать, а я,— говорит,— сюда
и побежал, чтоо известить.
164
Добиваемся: не было ли еще чего говорено? Расспра¬
шиваем слугу: не заметил ли он чего особенного в этих
гостях?
Лакей поводит глазами и не знает, что сказать, а нам
кажется, что он невесть что знает да скрывает от нас.
А мы его так и допрашиваем, так и шпыняем — хуже
инквизиторов.
Бедный малый даже с толку сбился и залепетал:
— Да, Господи помилуй: ничего они особенного не го¬
ворили, а только один говорит: «Оставим в конверте»;
а другой говорит: «Нет, это нехорошо: он прочтет, наду¬
мается и откажется. Нет, а мы его сразу, неожиданно на¬
кроем!»
Извольте слышать: это называется «ничего особен¬
ного»!
Дядя встал на ноги и зашатался: совсем вдруг стал
болен и еле держится.
Уговаривали его успокоиться, просили остаться пере¬
ночевать,— нет, и слушать не хочет.
Человека мы отправили вперед на извозчике, а сами
вдвоем пошли пешечком.
Идем молча — слово не вяжется, во рту сухо. Чувствую
это я и замечаю, что и дядя мой чувствует то же самое,
и говорит:
— У меня, брат, что-то даже во рту сухо.
Я отвечаю, что и у меня тоже.
— Ну, так зайдем,— говорит,— куда-нибудь пропу¬
стить... А?
— Что же, пожалуй,— говорю,— зайдем.
— То-то; оно это и для храбрости не мешает.
— Да, очень рад,— отвечаю,— зайдем.
— Только возьмем нумерок, чтоб поспокойнее... а то
я этих общих комнат терпеть не могу... лакеи всё так в рот
и смотрят.
«Понимаю,— думаю себе,— любезнейший дядюшка, все
понимаю».
ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ
Завернули мы в один из ночных кабачков... заняли
комнату и заказали ужин и... насвистались, да так на¬
свистались, что мне стало казаться, что уже мы оба и лы¬
ка не вяжем.
И все это дядя!
165
— Пей, да пей, друг мой,— пристает.— Наше ведь
только сегодня, а завтра не наше; да все для храбрости
еще да еще...
И стал мой дядя веселый, речистый: пошел вспоминать
про Брюллова, как тот, уезжая из России, и платье, и бе¬
лье, и обувь по сю сторону границы бросил; про Нестора
Васильевича Кукольника, про Глинку, про актера Солени¬
ка и Ивана Ивановича Панаева, как они раз, на Крестов¬
ском, варили такую жженку, что у прислуги от одних па¬
ров голова кругом шла; потом про Аполлона Григорьева
со Львом Меем, как эти оба поэта, по вдохновению, одно¬
временно друг к другу навстречу на Невский выходили,
и потом презрительно отозвался про нынешних литерато¬
ров и художников, которые пить совсем не умеют.
Тут я что-то возразил, что тогда был век романтизма
и поэзии, и были и писатели такого характера, а нынче век
гражданских чувств и свободы...
Но только что я это вымолвил, дядя мой так и за¬
кипел.
— Ах вы,— говорит,— чухонцы этакие: и вы смеете
романтиков не уважать? Какие такие у вас гражданские
чувства? Откуда вам свобода возьмется? Да вам и воль¬
ности ваши дворянские Дмитрий Васильевич Волков пи¬
сал, запертый на замок вместе с датским кобелем, а вам
это любо? Ну, так вот за то же вам кукиш будет под нос
из всех этих вольностей: людишек у вас, это, отобрали...
Что, ведь отобрали?
— Ну и что ж такое: мы очень рады.
— Ну, а теперь в рекруты пойдете.
— И пойдем-с, и гордимся тем, что это начинается с на¬
шего времени.
Но тут дядя вдруг начал жестоко глумиться надо всем
нашим временем и пошел, милостивые государи, что же до¬
казывать,— что нет, говорит, у вас на Руси ни аристокра¬
тов, ни демократов, ни патриотов, ни изменников, а есть
только одна деревенская попадья.
Согласитесь, что это бог знает что за странный вывод,
и с моей стороны весьма простительно было сказать, что
я его даже не понимаю и думаю, что и сам-то он себя не
понимает и говорит это единственно по поводу рюмки же¬
лудочной водки, стакана английского пива да бутылки
французского шампанского. Но представьте же себе, что
ведь нет-с: он еще пошел со мной спорить и отстаивать свое
обидное сравнение всего нашего общества с деревенскою
166
попадьею, и на каком же основании-с? Это даже любо¬
пытно.
— Ты гляди,— говорит,— когда деревенская попадья
в церковь придет, она не стоит, как все люди, а все тудг-
сюда егозит, ерзает да наперед лезет, а скажет ей добрый
человек: «чего ты, шальная, егозишь в Божьем храме? мо¬
лись потихонечку», так она еще обижается и обругает:
«ишь, дурак, мол, какой выдумал: какой это Божий храм —
это наша с батюшкой церковь». И у вас,— говорит,— уж
нет ничего Божьего, а все только «ваше с батюшкой».—
И зато,— говорит,— все, чем вы расхвастались, можно
у вас назад отнять: одних крестьян назад не закрепят,
а вас, либералов, всех можно, как слесаршу Пошлепкину и
унтер-офицерскую жену, на улице выпороть и доло¬
жить ревизору, что вы сами себя выпороли... и сойдет, как
на собаке присохнет, лучше чем встарь присыхало; а уж
меня не выпорют.
Но тут я, милостивые государи, оказался совершенно
слабым и помню только, что дядя как будто подсовывал
мне под голову подушку, а сам, весь красненький, бурчал:
— Нет-с: слуга покорный, а уж я удеру, и вам меня
пороть не придется!
На этом месте, однако, для меня уже все кончилось,
и я несколько минут видел самого моего дядю деревенскою
попадьею и хотел его спросить: зачем это он не молится
тихо, а все егозит да ерзает, но это оказалось сверх моих
возможностей.
Получил я назад дар слова не скоро, и это случилось
таким образом: увидел я себя в полумрке незнакомой ком¬
наты, начал припоминать: «где я, и что это такое?»
Кое-как припомнил вчерашний загул и начинаю думать:
«А хорошо ли это? А что сэр Чаннинг-то пишет? Ну,
дядя, уж я вам за то вычитаю канон, что вы меня опоили».
И с этим, знаете, встаю... А где же дядя? А его и след
простыл.
Звоню.
Входит лакей.
— Который час? — любопытствую.
— Восьмой-с,— говорит.
— Стало быть, еще не рассветало?
— Нет-с, уж это,— говорит,— опять смерклось.
Представьте себе, это я, значит, почти сутки проспал.
Стыдно ужасно пред лакеем! Что же это такое — наро¬
ду проповедуем о трезвости, а сами...
Достойный пример!
167
— Дайте,— говорю,— поскорее мне счет.
— Да счет,— отвечает,— еще вчера-с этот господин
заплатили.
— Какой господин?
— А что с вами-то был.
— Да он где же теперь?
— А они,— говорит,— еще вчера ушли-с. Заплатили-с,
спросили бумаги, что-то тут вам написали и ушли.
— Скорей давайте мне огня и эту бумагу.
Человек исполнил мою просьбу и я, поддерживая одною
рукою больную голову, а другою лист серой бумаги, прочел:
«Не сердись, что я тебя подпоил. Дело опасное. Я не
хочу, чтобы и тебе что-нибудь досталось, а это неминуемо,
если ты будешь знать, где я. Пожалуйста, иди ко мне на
квартиру и жди от меня известий».
Можете себе представить этакой сюрприз, да еще на
больную голову!
ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ
Прихожу я на дядину квартиру,— все в порядке, но
человек в большом затруднении, что дядя не ночевал до¬
ма и до сих пор его нет.
— А два офицера,— это,— любопытствую,— не при¬
ходили?
— Как же-с,— говорит,— приходили: они и утром два
раза приходили, и в пять часов вечера были, и сейчас
опять только вышли, и снова обещали часов в одиннадцать
быть.
— Тьфу ты, что за пропасть такая!
С досады и с немочи вчерашнего кутежа я ткнулся
в мягкий диван и ну спать... и спал, спал, спал, перевидав
во сне живыми всех покойников, и Нестора Кукольника,
и Глинку, и Григорьева, и Панаева, и целую Русь деревен¬
ских попадей, и — вдруг слышу: дзынь-дзынь, брязь-
брязь...
— Встаньте-с,— говорит мне дядин слуга,— отбою
ведь нет,— вот уже и нынче третий раз приходят. «Дя¬
дюшки, говорят, нет, так хоть племянника побуди».
— Вот те и раз! Господи, да я-то им на что?
— А уж не могу доложить, но только спросили, сочи¬
нитель вы или нет?
— Ну, а ты же, мол, что ответил?
— Я так,— говорит,— и ответил, что вы сочинитель,
и вот они вас ждут.
— Отцы мои небесные! да что же это за наказание та¬
кое? — вопросил я, возведя глаза мои к милосердному не¬
бу.— Ко мне-то что же за дело? Я-то что же такое сочи¬
нил?.. Меня только всю мою жизнь ругают и уже давно
доказали и мою отсталость, и неспособность, и даже мою
литературную... бесчестность... Да, так, так: нечего конфу¬
зиться — именно бесчестность. Гриша,— говорю,— го¬
лубчик мой: поищи там на полках хороших газет, где ме¬
ня ругают, вынеси этим господам и скажи, что они не ту¬
да попали.
Лакей Гриша с малороссийской флегмою направился
к полкам, а я уже было хотел уползти и удрать черным
ходом, как вдруг эти-то канальские черные двери приот¬
ворились и из-за них высунулась белокурая головка
с усиками, и нежный голосок самою музыкальною нотою
прозвенел:
— Excusez-moi, je ne suis pas venu... с того хода,
где следовало, но нам так долго не удавалось к вам про¬
никнуть...
— Ничего-с,— отвечаю,— сделайте милость, не изви¬
няйтесь.
— Нет, не извиняться нельзя, но знаете... как быть:
служба... и не рад, да готов.
— Конечно,— говорю,— конечно. Чем, однако, прика¬
жете служить?
— Вот мой товарищ,— позвольте вам представить, по¬
ручик,— он тут назвал какую-то фамилию и вытянул из-за
себя здорового купидона с красным лицом и русыми ко¬
телками на висках.
Я поклонился отрекомендованному мне гостю, который
при этом поправил ус и портупею и положительно кряк¬
нул, как бы заявил этим, что он человек не робкого де¬
сятка.
«Да мне-то,— думаю,— что такое до вас? По мне, вы
какие ни будьте, я вас и знать не хочу», и сейчас же сам
крякнул и объявил им, что я здесь не хозяин и что хозя¬
ина самого, дяди моего, нету дома.
— Как же это так? Вы нам скажите, пожалуйста, где
он? Vous n’y perdrez rien, между тем как нам это очень
нужно,— говорил, семеня, юнейший гость мой, меж тем
как старейший строго молчал, опираясь на стол рукою в бе¬
лой замшевой перчатке.
1 Извините, что я не вошел (франц.).
2 Вы ничего не потеряете (франц.).
169
— Нет, вы, бога ради, скажите, где ваш дядюшка? мы
его разыщем,— приставал младший.
— Решительно,— говорю,— не знаю; что хотите — не
знаю. Сам даже этим интересуюсь, но все тщетно.
— Это изумительно.
— А однако это так.
— Ну, в таком разе позвольте за вас взяться.
Я смешался.
— Что? что такое? как за меня взяться?
— А вот вы сейчас с этим познакомитесь,— отвечал
гость, вытаскивая из кармана и предлагая мне конверт
с большою печатью.
— Прошу,— говорит,— вскрыть.
Нечего делать: принимаю трепещущими руками этот
конверт; вскрываю его; вытаскиваю оттуда лист веленевой
бумаги, на котором картиннейшим писарским почерком на¬
писано... «К пей». Да-с: ни более ни менее как стихотворе¬
ние, озаглавленное «К ней».
ГЛАВА ДЕВЯНОСТАЯ
Протер глаза, еще раз взглянул — все то же самое, и
вверху надпись «К ней»...
Я обиделся и рассердился и, не соображая уже никаких
последствий, спросил с досадою: «Это еще что такое?»
— А это,— отвечает мне младший из моих гостей,— на
сих днях в балете бенефис одной танцовщицы, которая...
с ней очень многие важные лица знакомы, потому что она
не только танцует, но... elle visite les pauvres и...
— Но, позвольте,— возражаю,— что же мне до нее за
дело?
— Совершенно верно, совершенно верно: вам нет до
нее никакого дела, и она ни для кого никакого прямого
значения не имеет, но... les jeunes gens font foule chez elle...
и стараются услугами... совершенно невинными... невинны¬
ми ей услугами доставить удовольствие одному... очень,
очень почтенному и влиятельному лицу. Он человек уже,
конечно, не первой молодости, и в эти годы, знаете, жен¬
щина для человека много значит и легко приобретает над
ним влияние. Согласитесь, что все это верно?
— Отлично-с,— говорю,— но что же мне до этого за
дело?
1 Она посещает бедных (франц.).
2 Молодые люди толпятся у нее (франц.).
170
Гость обиделся.
— Я,— говорит,— и не настаиваю, что вам есть до
этого дело, но я прошу у вас помощи и совета.
— А, это, мол, другое совсем дело,— и, успокоенный,
прошу гостей садиться.
Офицеры поблагодарили, присели и младший опять
начал.
— Генерал Постельников, именем которого мы реши¬
лись действовать, совсем об этом не знает. Да-с: он нас сю¬
да не посылал, это мы сами, потому что, встретив в списках
фамилию вашего дядюшки и зная, что ваша семья такая
литературная...
Ну, уж тут я, видя, что мой гость затрудняется и не
знает, как ему выпутаться, не стал ему помогать никакими
возражениями, а предоставил все собственному его уму и
красноречию — пусть, мол, как знает, не спеша, изъяснит¬
ся. Он, бедняк, и изъяснялся, и попотел-таки, попотел, пока
одолел мою беспонятливость, и зато во всех подробностях
открылся, что он желает быть замеченным генералом По¬
стельниковым и потому хочет преподнести его танцовщице
букет и стихи, но что стихи у него вышли очень плохи и
он просит их поправить.
«Так вот,— думаю,— чем весь этот переполох объясня¬
ется! Бедный мой дядя: за что ты гибнешь?» И с этим
я вдруг расхрабрился, кричу: «человек, чаю нам!»
— Господа, прошу вас закурить сигары, а я сейчас...—
и действительно я в ту же минуту присел и поправил, и
даже уж сам не знаю, как поправил, офицерское стихотво¬
рение «К ней» и пожелал автору понравиться балетной фее
и ее покровителю.
— Ах да! я ценю вашу дружбу,— отвечал со вздохом
мой гость,— ценю и ваше доброе желание, но наш генерал,
наш бедный добрый генерал... он теперь в таком положении,
что il s’emeut d’un lien, и нельзя поручиться, в каком со¬
стоянии он будет в этот момент.
Я полюбопытствовал, что же такое отравляет драго¬
ценное спокойствие генерала Постельникова.
— Ах, это то же самое-с, я думаю, что отравляет нынче
спокойствие многих и многих людей в нашем отечестве...
Это, в самом деле, иначе даже не может и быть для истин¬
ных европейцев: я молод, я еще, можно сказать, незначи¬
телен и не чувствую всего этого так близко. Но... но и я...
je deplore les maux de ma patrie. Но он, наш генерал, он,
1 Его волнуют пустяки (франц.).
2 Я оплакиваю несчастья моей родины (франц.).
171
который помнит все это в ином виде, когда эта «дурная бо¬
лезнь», как мы это называем, еще робко кралась в Россию
под контрабандными знаменами Герцена, но Герцен, поми¬
луйте... Герцена только забили; он был заеден средою и
стал резок, но он все-таки был человек просвещенный и
остроумный,— возьмите хоть одни его клички «трехполен¬
ный», трехполенный, ведь это все острота ума, а теперь...
«Господи! что,— думаю,— за несчастье: еще какой та¬
кой Филимон угрожает моей робкой родине?» Но оказы¬
вается, что этот новый злополучный Филимон этого ново¬
го, столь прекрасного и либерального времени есть разыски¬
ваемый в зародыше Русский дух, или, на бонтонном языке
современного бонтона, «дурная болезнь» нашего времени,
для запугивания которого ее соединяют в одну семью со
всеми семью язвами Египта.
— Трудное же,— говорю,— господа, вам дело доста¬
лось — ловить русский дух.
— Чрезвычайно трудное-с: еще ни одно наше поколе¬
ние ничего подобного не одолевало, но зато-с мы и только
мы, первые, с сознанием можем сказать, что мы уже не
прежние вздорные незабудки, а мы — сила, мы оппозиция,
мы идем против невежества массы и, по теории Дарвина,
будем до истощения сил бороться за свое существование.
Quoi qu’il arrive, а мы до новолуния дадим генеральное
сражение этому русскому духу.
— Да было бы,— говорю,— еще где его искать?
— О, не беспокойтесь: он такого свойства, что сам ска¬
жется! Теперь его очень хорошо все понемножку издали
по носу, да по носу! это очень тонкая тактика! Он этого
долго не стерпит, наконец, и откуда-нибудь брызнет и за¬
пахнет. J’espere, que moitie de force, moitie de gre мы скоро
заставим его высказаться, и тогда вы увидите, что всеоб¬
щее мнение о бесполезности нашего учреждения есть чер¬
ная клевета. Благодарю вас, что поправили мне стихи. Про¬
щайте... Если что-нибудь будет нужно... пожалуйста: я всег¬
да готов к вашим услугам... что вы смотрите на моего това¬
рища? — не беспокойтесь, он немец и ничего не понимает
ни по-французски, ни по-русски: я его беру с собою для
того только, чтобы не быть одному, потому что, знаете,
про наших немножко нехорошая слава прошла из-за одного
человека, но, впрочем, и у них тоже, у господ немцев-то,
этот Пихлер... Ах, нехорошо-с, нехорошо, очень нехорошо:
вперед ручаюсь, его нарочно осудят наши мужики! Ну, да
1 Что бы ни случилось (франц.).
2 Я надеюсь, что частью силой, частью по доброй воле (франц.).
172
черт их возьми. Поклонитесь вашему дядюшке и скажите
ему, что генерал, еще недавно вспоминая о нем, говорил,
что он имел случай представлять о его почтенных трудах
для этих, как они... госпиталей или больниц и теперь в са¬
мых достойных кружках tout le monde revere sa vertu.
ГЛАВА ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ
С этим мы распростились, но я не мог исполнить пору¬
чения моего гостя и передать моему дяде уважения, кото¬
рым tout le monde почтил sa vertu, потому что дядя мой
не появлялся в свое жилище. Оказалось, что с перепугу,
что его ловят и преследуют на суровом севере, он ударился
удирать на чужбину через наш теплый юг, но здесь с ним
тоже случилась маленькая неприятность, не совсем удобная
в его почтенные годы: на сих днях я получил уведомление,
что его какой-то армейский капитан невзначай выпорол на
улице, в Одессе, во время недавних сражений греков с жи¬
дами, и добродетельный Орест Маркович Ватажков столь
удивился этой странной неожиданности, что, возвратясь
выпоротый к себе в номер, благополучно скончался «есте¬
ственною смертью», оставив на столе билет на пароход, с
ко-торым должен был уехать за границу вечером того само¬
го дня, когда пехотный капитан высек его на тротуаре, не¬
подалеку от здания новой судебной палаты.
Впрочем, к гордости всех русских патриотов (если тако¬
вые на Руси возможны), я должен сказать, что многостра¬
дальный дядя мой, несмотря на все свои западнические
симпатии, отошел от сего мира с пламенной любовью к ро¬
дине и в доставленном мне посмертном письме начертал
слабою рукою: «Извини, любезный друг и племянник, что
пишу тебе весьма плохо, ибо пишу лежа на животе, так как
другой позиции в ожидании смерти приспособить себе не
могу, благодаря скорострельному капитану, который жесто¬
ко зарядил меня с казенной части. Но находясь в сем по¬
ложении за жидов и греков, которых не имел чести познать
до этого приятного случая, я утешаюсь хоть тем, что уми¬
раю выпоротый все-таки самими моими соотчичами и тем
кончаю с милой родиной все мои счеты, между тем как те¬
бя соотечественники еще только предали на суд онемечен¬
ных и провонявшихся килькой ревельских чухон за недос¬
1 Все уважают его добродетель (франц.).
173
таток почтения к исключенному за демонстрации против
правительства дерптскому немецкому студенту, предсказы¬
вавшему, что наша Россия должна разлететься «wie Rauch».
ГЛАВА ДЕВЯНОСТО ВТОРАЯ
Что же засим? — герой этой, долго утолявшей читате¬
ля повести умер, и умер, как жил, среди странных неожи¬
данностей русской жизни, так незаслуженно несущей по¬
кор в однообразии,— пора кончить и самую повесть с по¬
желанием всем ее прочитавшим — силы, терпения и любви
к родине, с полным упованием, что пусть, по пословице
«велика растет чужая земля своей похвальбой, а наша
крепка станет своею хайкою».
1 Как дым (нем.).
ВОИТЕЛЬНИЦА
Очерк
Вся жизнь моя была досель
Нравоучительною школой,
И смерть есть новый в ней урок.
Ап. Майков
ГЛАВА ПЕРВАЯ
— Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты, батюшка мой, со мною, сде¬
лай милость, не спорь!
— Да отчего это, Домна Платоновна, не спорить-то?
Что вы это, в самом деле, за привычку себе взяли, что ни¬
кто против вас уж и слова не смей пикнуть?
— Нет, это не я, а вы-то все что себе за привычки по¬
зволяете, что обо всем сейчас готовы спорить! Погоди еще,
брат, поживи с мое, да тогда и спорь; а пока человек жил
мало или всех петербургских обстоятельств как следует не
понимает, так ему — мой совет — сидеть да слушать, что
говорят другие, которые постарше и эти обстоятельства
знают.
Этак каждый раз останавливала меня моя добрая прия¬
тельница, кружевница Домна Платоновна, когда я в чем-
нибудь не соглашался с ее мнениями о свете и людях.
Этак же она останавливала и всякого другого из своих
знакомых, если кто из них как-нибудь дерзал выражать ка¬
кие-нибудь свои замечания, несогласные с убеждениями
Домны Платоновны. А знакомство у Домны Платоновны
было самое обширное, по собственному ее выражению даже
«необъятное» и притом самое разнокалиберное. Приказчи¬
ки, графы, князья, камер-лакеи, кухмистеры, актеры и куп¬
цы именитые — словом, всякого звания и всякой породы
были у Домны Платоновны знакомые, а что про женский
пол, так о нем и говорить нечего. Домна Платоновна жен¬
ским полом даже никогда не хвалилась.
— Женский пол,— говорила она, когда так уже к сло¬
ву выпадет,— мне вот как он мне весь известен!
При этом Домна Платоновна сожмет, бывало, горсть и
показывает.
175
— Вот он,— говорит,— женский-то пол где у меня, весь
в одном суставе сидит.
Столь обширное и разнообразное знакомство Домны
Платоновны, составленное ею в таком городе, как Петер¬
бург, было для многих предметом крайнего удивления, и
эти многие даже с некоторым благоговейным страхом
спрашивали:
— Домна Платоновна! как это вы, матушка?..
— Что такое?
— Да что — вы со всеми знакомы?
— Да, мой друг, со всеми; почти решительно со всеми.
— Какими же это случаями и по какой причине...
— А все своей простотой, решительно одной просто¬
той,— отвечает Домна Платоновна.
— Будто одной простотой!
— Да, друг мой, все меня любят, потому что я проста
необыкновенно, и через эту свою простоту да через доб¬
рость много я на свете видела всякого горя; много я обид
приняла; много клеветы всяческой оттерпела и не раз да¬
же, сказать тебе, была бита, чтобы так не очень бита, но
в конце всего люди любят.
— Ну, уж за то же и свет вы хорошо знаете.
— А уж что, мой друг, свет этот подлый я знаю, так
точно знаю. На ладонке вот теперь, кажется, каждую шель¬
му вижу. Только опять тебе скажу — нет...— добавит, сму¬
щаясь и задумываясь, Домна Платоновна.
— Что ж еще такое?
— А то, друг мой,— отвечает она, вздохнувши,— что
нынче все новое выдумывают, и еще больше всякий чело¬
век ухитряется.
— Как же и чем он ухитряется, Домна Платоновна?
— А так и ухитряется, что ты его нынче, человека-то,
с головы поймаешь, а он, гляди, к тебе с ног подходит.
Удивительно это даже, ей-богу, как это сколько пошло об¬
манов да выдумок: один так выдумывает, а другой еще
лучше того превзойти хочет.
— Будто уж-таки везде один обман на свете, Домна
Платоновна?
— Да уж нечего тебе со мною спорить: на чем же, по-
твоему, нынешний свет-то стоит? — на обмане да на лу¬
кавстве.
— Ну есть же все-таки и добрые люди на свете.
— На кладбищах, между родителей, может быть, есть
и добрые; ну, только проку-то по них мало; а что уж из
живой-то из всей нынешней сволочи — все одно качество:
отврат да и только.
— Что ж это так, Домна Платоновна, по-вашему выхо¬
дит, что всё уж теперь плут на плуте и никому уж и ве¬
рить нельзя?
— А ведь это, батюшка, никому не запрещено, верить-
то; верь, сделай одолжение, если тебя охота берет. Я вон
генеральше Шемельфеник верила; двадцать семь аршин
кружевов ей поверила, да пришла анамедни, говорю: «Ста¬
рый должок, ваше превосходительство, позвольте полу¬
чить», а она говорит: «Я тебе отдала».— «Никак нет, гово¬
рю, никогда я от вас этих денег не получала», а она еще
как крикнет: «Как ты, говорит, смеешь, мерзавка, мне так
отвечать? Вон ее!» говорит. Лакей меня сейчас ту ж мину¬
ту под ручки, да и на солнышко, да еще штучку кружевцов
там позабыла (спасибо, дешевенькие). Вот ты им и верь.
— Ну, что ж,— говорю,— ведь это одна ж такая!
— Одна! нет, батюшка, не одна, а легион им имя-то
сказывается. Это ведь в первые времена-то, как крестьяне
у дворян были, ну точно, что в тогдашнее время воровство
будто до низкого сословия все больше принадлежало; а
как нонче, когда крестьян не стало, господа и сами тоже
этим ничуть не гнушаются. Всем ведь известно, какое лицо
на бале бриллиантовое колью сфендрил... Да, милый, да,
нынче никто не спускает. Вон тоже Караулова Авдотья
Петровна, поглядеть на нее, чем не барыня? а воротничок
на даче у меня в глазах украла.
— Как,— говорю,— украла? Что вы это! Матушка Дом¬
на Платоновна, вспомните, что вы говорите-то? Как это
даме красть?
— А так себе просто; как крадут, так и украла. Еще
ты то скажи, что я это ту ж самую минуту заметила и веж¬
ливо, политично ей говорю: «Извините, говорю, сударыня,
не обронила ли я здесь воротничка, потому что воротнич¬
ка, говорю, одного нет». Так она сейчас на эти слова хвать
меня по наружности и отпечатала. «Вывесть ее!» — говорит
лакею; очень просто — и вывели. Говорю лакею: «Мило¬
стивый государь! сам ты, говорю, служащий человек, сам,
сказываю, посуди, голубчик, ведь свое, ведь жалко мне!»
А он мне в ответ: «Что, говорит, жалко, когда у нее при¬
вычка такая!» Вот тебе только всего и сказу. Она теперь
в своем звании всякие привычки себе позволяет, а ты, бед¬
ный человек, молчи.
— И что ж вы изо всего этого, Домна Платоновна, вы¬
водите?
— А что, батюшка, мне выводить! Не мое дело никого
выводить, когда меня самоё выводят; а что народ плут и
177
весь плутом взялся, против этого ты со мной, пожалуйста,
лучше не спорь, потому я уж, слава тебе Господи, я нонче
только взгляну на человека, так вижу, что он в себе замы¬
кает.
И попробовали бы вы после этого Домне Платоновне
возражать! Нет, уж какой вы там ни будьте диалектик, а
уж Домна Платоновна вас все-таки переспорит; ничем ее
не убедите. Одно разве: приказали бы ее вывести; ну, тог¬
да другое дело, а то непременно переспорит.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Я непременно должен отрекомендовать моим читателям
Домну Платоновну как можно подробнее.
Домна Платоновна росту невысокого, и даже очень не¬
высокого, а скорее совсем низенькая, но всем она показы¬
вается человеком крупным. Этот оптический обман проис¬
ходит оттого, что Домна Платоновна, как говорят, впопе¬
рек себя шире, и чем вверх не доросла, тем вширь берет.
Здоровьем она не хвалится, хотя никто ее больною не пом¬
нит и на вид она гора горою ходит; одна грудь так такое
из себя представляет, что даже ужасно, а сама она, Домна
Платоновна, все жалуется.
— Дама я,— говорит,— из себя хотя, точно, полная,
но настоящей крепости во мне, как в других прочих, ника¬
кой нет, и сон у меня самый страшный сон — аридов. Чуть
я лягу, сейчас он меня сморит, и хоть ты после этого возь¬
ми меня да воробьям на пугало выставь, пока вволю не
высплюсь — ничего не почувствую.
Могучий сон свой Домна Платоновна также считала од¬
ним из недугов своего полного тела и, как ниже увидим,
не мало от него перенесла горестей и несчастий.
Домна Платоновна очень любила прибегать к медицин¬
ским советам и в подробности описывать свои немощи, но
лекарств не принимала и верила в одни только гарлемские
капли, которые называла «гаремскими каплями» и пузыре¬
чек с которыми постоянно носила в правом кармане своего
шелкового капота. Лет Домне Платоновне, по ее собствен¬
ному показанию, все вертелось около сорока пяти, но по
свежему ее и бодрому виду ей никак нельзя было дать бо¬
лее сорока. Волосы у Домны Платоновны в пору первого
моего с нею знакомства были темно-коричневые — седого
тогда еще ни одного не было заметно. Лицо у нее белое,
178
щеки покрыты здоровым румянцем, которым, впрочем. До¬
мна Платоновна не довольствуется и еще покупает в Пас¬
саже, по верхней галерее, такие французские карточки, ко¬
торыми усиливает свой природный румянец, не поддавший¬
ся до сих пор никаким горестям, ни финским ветрам и ту¬
манам. Брови у Домны Платоновны словно как будто из
черного атласа наложены: черны несказанно и блестят не¬
натуральным блеском, потому что Домна Платоновна силь¬
но наводит их черным фиксатуаром и вытягивает между
пальчиками в шнурочек. Глаза у нее как есть две черные
сливы, окрапленные возбудительною утреннею росою. Один
наш общий знакомый, пленный турок Испулат, привезен¬
ный сюда во время Крымской войны, никак не мог спокой¬
но созерцать глаза Домны Платоновны. Так, бывало, и за¬
колотится, как бесноватый, так и закричит:
— Ай грецкая глаза, совсем грецкая!
Другая на месте Домны Платоновны, разумеется, за
честь бы себе такой отзыв поставила; но Домна Платонов¬
на никогда на эту турецкую лесть не поддавалась и всегда
горячо отстаивала свое непогрешимо русское происхож¬
дение.
— Врешь ты, рожа твоя некрещеная! врешь, лягушка
ты пузастая! — отвечает она, бывало, весело турку,—
Я своего собственного поколения известного; да и у нас в
своем месте даже и греков-то этих в заводе совсем нет, и
никогда их там не было.
Нос у Домны Платоновны был не нос, а носик, такой
небольшой, стройненький и пряменький, какие только
ошибкой иногда зарождаются на Оке и на Зуше. Рот у
нее был-таки великонек: видно было, что круглою ложкою
в детстве кушала; но рот был приятный, такой свеженький,
очертание правильное, губки алые, зубы как из молодой
редьки вырезаны — одним словом, даже и не на острове
необитаемом, а еще даже и среди града многолюдного с
Домной Платоновной поцеловаться охотнику до поцелуев
было весьма незлоключительно. Но высшую прелесть лица
Домны Платоновны бесспорно составляли ее персиковый
подбородок и общее выражение, до того мягкое и детское,
что если бы вас когда-нибудь взяла охота поразмыслить:
как таки, при этой бездне простодушия, разлитой по всему
лицу Домны Платоновны, с языка ее постоянно не сходит
речь о людском ехидстве и злобе? — так вы бы непременно
сказали себе: будь ты, однако, Домна Платоновна, совсем
от меня проклята, потому что черт тебя знает, какие мне
по твоей милости задачи приходят!
179
Нрава Домна Платоновна была самого общительного,
веселого, доброго, необидчивого и простодушно-суеверного.
Характер у нее был мягкий и сговорчивый; натура в осно¬
вании своем честная и довольно прямая, хотя, разумеется,
была у нее, как у русского человека, и маленькая лукавин¬
ка. Труд и хлопоты были сферою, в которой Домна Плато¬
новна жила безвыходно. Она вечно суетилась, вечно куда-
то бежала, о чем-то думала, что-то такое соображала или
приводила в исполнение.
— На свете я живу одним-одна, одною своею душень¬
кой, ну а все-таки жизнь, для своего пропитания, веду са¬
мую прекратительную,— говорила Домна Платоновна: —
мычусь я, как угорелая кошка по базару; и если не один, то
другой меня за хвост беспрестанно так и ловят.
— Всех дел ведь сразу не переделаете,— скажешь ей
бывало.
— Ну, всех, хоть не всех,— отвечает,— а все же ведь
ужасно это как, я тебе скажу, отяготительно, а пока что
прощай — до свиданья: люди ждут, в семи местах ждут,—
и сама, действительно, так и побежит скороходью.
Домна Платоновна нередко и сама сознавала, что она
не всегда трудится для своего единого пропитания и что
отяготительные труды ее и ее прекратительная жизнь мог¬
ли бы быть значительно облегчены без всякого ущерба ее
прямым интересам; но никак она не могла воздержать свою
хлопотливость.
— Завистна уж я очень на дело; сердце мое даже взы¬
грает, как вижу дело какое есть.
Завистна Домна Платоновна именно была только на
хлопоты, а не на плату. К заработку своему, напротив, она
иногда относилась с каким-то удивительным равноду¬
шием.
«Обманул, варвар!» или «обманула, варварка!» бывало
только от нее и слышишь, а глядишь, уж и опять она бега¬
ет и распинается для того же варвара и для той же варвар¬
ки, вперед предсказывая самой себе, что они и опять непре¬
менно надуют.
Хлопоты у Домны Платоновны были самые разнооб¬
разные. Официально она точно была только кружевница,
то есть мещанки, бедные купчихи и поповны насылали ей
«из своего места» разные воротнички, кружева и манжеты:
она продавала эти произведения вразнос по Петербургу, а
летом по дачам, и вырученные деньги, за удержанием сво¬
их процентов и лишков, высылала «в свое место». Но, кро¬
ме кружевной торговли, у Домны Платоновны были еще
180
другие приватные дела, при орудовании которых кружева и
воротнички играли только роль пропускного вида.
Домна Платоновна сватала, приискивала женихов неве¬
стам, невест женихам; находила покупщиков на мебель, на
надеванные дамские платья; отыскивала деньги под закла¬
ды и без закладов; ставила людей на места вкупно от гу¬
вернерских до дворнических и лакейских; заносила записоч¬
ки в самые известные салоны и будуары, куда городская
почта и подумать не смеет проникнуть, и приносила ответы
от таких дам, от которых несет только крещенским холодом
и благочестием.
Но, несмотря на все свое досужество и связи, Домна
Платоновна, однако, не озолотилась и не осеребрилась.
Жила она в достатке, одевалась, по собственному ее выра¬
жению, «поважно» и в куске себе не отказывала, но денег
все-таки не имела, потому что, во-первых, очень она зары¬
валась своей завистностью к хлопотам и часто ее добрые
люди обманывали, а потом и с самыми деньгами у нее вы¬
ходили какие-то мудреные оказии.
Главное дело, что Домна Платоновна была художни¬
ца — увлекалась своими произведениями. Хотя она рас¬
сказывала, что все это она трудится из-за хлеба насущно¬
го, но все-таки это было несправедливо. Домна Платонов¬
на любила свое дело как артистка: скомпоновать, собрать,
состряпать и полюбоваться делами рук своих — вот что
было главное, и за этим просматривались и деньги, и вся¬
кие другие выгоды, которых особа более реалистическая
ни за что бы не просмотрела.
Впала в свою колею Домна Платоновна ненароком. Сна¬
чала она смиренно таскала свои кружева и вовсе не помы¬
шляла о сопряжении с этим промыслом каких бы то ни
было других занятий: но столица волшебная преобразила
нелепую мценскую бабу в того тонкого фактотума, каким
я зазнал драгоценную Домну Платоновну.
Стала Домна Платоновна смекать на все стороны и
проникать всюду. Пошло это у нее так, что не проникнуть
куда бы то ни было Домне Платоновне было даже невоз¬
можно: всегда у нее на рученьке вышитый саквояж с кру¬
жевами, сама она в новеньком шелковом капоте; на шее
кружевной воротничок с большими городками, на плечах
голубая французская шаль с белою каймою; в свободной
руке белый, как кипень, голландский платочек, а на голо¬
ве либо фиолетовая, либо серизовая гроденаплевая повя¬
зочка, ну, одним словом, прелесть дама. А лицо! — само
181
смиренство и благочестие. Лицом своим Домна Платонов¬
на умела владеть, как ей угодно.
— Без этого,— говорила она,— никак в нашем деле и
невозможно: надо виду не показать, что ты Ананья, или
каналья.
К тому же и обращение у Домны Платоновны было
тонкое. Ни за что, бывало, она в гостиной не скажет, как
другие, что «была, дескать, я во всенародной бане», а вы¬
разится, что «имела я, сударь, счастие вчера быть в бес¬
телесном маскараде»; о беременной женщине ни за что не
брякнет, как другие, что она, дескать, беременна, а ска¬
жет: «она в своем марьяжном интересе», и тому подобное.
Вообще была дама с обращением и, где следовало, уме¬
ла задать тону своей образованностью. Но, при всем этом,
надо правду сказать, Домна Платоновна никогда не зано¬
силась и была, что называется, своему отечеству патриот¬
ка. По узости политического горизонта Домны Платонов¬
ны и самый патриотизм ее был самый узкий, то есть она
считала себя обязанною хвалить всем Орловскую губернию
и всячески привечать и обласкивать каждого человека «из
своего места».
— Скажи ты мне,— говорила она,— что это такое зна¬
чит: знаю ведь я, что наши орловцы первые на всем свете
воры и мошенники; ну, а все какой ты ни будь шельма из
своего места, будь ты хуже турки Испулатки лупоглазого,
а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой
губернии променять не согласна?
Я ей на это отвечать не умел. Только, бывало, оба
удивляемся:
— Отчего это в самом деле?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Мое знакомство с Домной Платоновной началось по пу¬
стому поводу. Жил я как-то на квартире у одной полков¬
ницы, которая говорила на шести европейских языках, не
считая польского, на который она сбивалась со всякого.
Домна Платоновна знала ужасно много таких полковниц в
Петербурге и почти для всех их обделывала самые разно¬
образные делишки: сердечные, карманные и совокупно
карманно-сердечные и сердечно-карманные. Моя полковни¬
ца была, впрочем, действительно дама образованная, знала
свет, держала себя как нельзя приличнее, умела предста¬
вить, что уважает в людях их прямые человеческие досто¬
182
инства, много читала, приходила в неподдельный восторг
от поэтов и любила декламировать из «Марии» Мальчев¬
ского:
Во па tym swiecie, smiere wszystko zmiecie.
Robak sig legnie i w bujnym kwiecie.
Я видел Домну Платоновну первый раз у своей полков¬
ницы. Дело было вечером; я сидел и пил чай, а полковни¬
ца декламировала мне:
Во па tym swiecie, smiere wszystko zmiecie.
Robak sie legnie i w bujnym kwiecie.
Домна Платоновна вошла, помолилась Богу, у самых
дверей поклонилась на все стороны (хотя, кроме нас двух,
в комнате никого и не было), положила на стол свой сак¬
вояж и сказала:
— Ну вот, мир вам, и я к вам!
В этот раз на Домне Платоновне был шелковый корич¬
невый капот, воротничок с язычками, голубая французская
шаль и серизовая гроденаплевая повязочка, словом весь ее
мундир, в котором читатели и имеют представлять ее те¬
перь своему художественному воображению.
Полковница моя очень ей обрадовалась и в то же вре¬
мя при появлении ее будто немножко покраснела, но при¬
ветствовала Домну Платоновну дружески, хотя и с нема¬
лым тактом.
— Что это вас давно не видно было, Домна Платонов¬
на? — спрашивала ее полковница.
— Всё, матушка, дела,— отвечала, усаживаясь и осма¬
тривая меня, Домна Платоновна.
— Какие у вас дела!
— Да ведь вот тебе, да другой такой-то, да третьей,
всем вам кортить, всем и угодить надо; вот тебе и дела.
— Ну, а то дело, о котором ты меня просила-то, пом¬
нишь...— начала Домна Платоновна, хлебнув чайку.— Бы¬
ла я намедни... и говорила...
Я встал проститься и ушел.
Только всего и встречи моей было с Домной Платонов¬
ной. Кажется, знакомству бы с этого завязаться весьма
трудно, а оно, однако, завязалось.
Сижу я раз после этого случая дома, а кто-то стук-
стук-стук в двери.
— Войдите,— отвечаю, не оборачиваясь.
1 Потому что на этом свете смерть все уничтожит.
И в пышном цветке гнездится червяк. (Перевод автора.)
183
Слышу, что-то широкое вползло и ворочается. Огля¬
нулся — Домна Платоновна.
— Где ж,— говорит,— милостивый государь, у тебя
здесь образ висит?
— Вон,— говорю,— в угле, над шторой.
— Польский образ или наш, христианский? — опять
спрашивает, приподнимая потихоньку руку.
— Образ,— отвечаю,— кажется, русский.
Домна Платоновна покрыла глаза горсточкой, долго
всматривалась в образ и наконец махнула рукою — дес¬
кать: «все равно!» — и помолилась.
— А узелочек мой,— говорит,— где можно поло¬
жить? — и оглядывается.
— Положите,— говорю,— где вам понравится.
— Вот тут-то,— отвечает,— на диване его пока положу.
Положила саквояж на диван и сама села.
«Милый гость,— думаю себе,— бесцеремонливый».
— Этакие нынче образки маленькие,— начала Домна
Платоновна,— в моду пошли, что ничего и не рассмотришь.
Во всех это у аристократов всё маленькие образки. Как
это нехорошо.
— Чем же это вам так не нравится?
— Да как же: ведь это, значит, они Бога прячут, чтоб
совсем и не найти его.
Я промолчал.
— Да право,— продолжала Домна Платоновна,— об¬
раз должен быть в свою меру.
— Какая же,— говорю,— мера, Домна Платоновна, на
образ установлена? — и сам, знаете, вдруг стал чувствовать
себя с ней как со старой знакомой.
— А как же! — возговорила Домна Платоновна,— по¬
смотри-ка ты, милый друг, у купцов: у них всегда образ
в своем виде, ланпад и сияние... все это как должно. А это
значит, господа сами от Бога бежат, и Бог от них далече.
Вот нынче на Святой была я у одной генеральши... и при
мне камердинер ее входит и докладывает, что священники,
говорит, пришли.
«Отказать»,— говорит.
«Зачем,— говорю ей,— не отказывайте — грех».
«Не люблю,— говорит,— я попов».
Ну что ж, ее, разумеется, воля; пожалуй, себе отказы¬
вай, только ведь ты не любишь посланного; а тебя и по¬
славший любить не будет.
— Вон,— говорю,— какая вы, Домна Платоновна, рас¬
судительная!
184
— А нельзя,— отвечает,— мой друг, нынче без рассу¬
ждения. Что ты сколько за эту комнату платишь?
— Двадцать пять рублей.
— Дорого.
— Да и мне кажется дорого.
— Да что ж,— говорит,— не переедешь?
— Так,— говорю,— возиться не хочется.
— Хозяйка хороша.
— Нет, полноте,— говорю,— что вы там с хозяйкой.
— Ц-ты! Говори-ка, брат, кому-нибудь другому, да не
мне; я знаю, какие все вы, шельмы.
«Ничего,— думаю,— отлично ты, гостья дорогая, вы¬
ражаешься».
— Они, впрочем, полячки-то эти ловкие тоже,— про¬
должала, зевнув и крестя рот, Домна Платоновна,— они
это с рассуждением делают.
— Напрасно,— говорю,— вы, Домна Платоновна, так
о моей хозяйке думаете: она женщина честная.
— Да тут, друг милый, и бесчестия ей никакого нет:
она человек молодой.
— Речи ваши,— говорю,— Домна Платоновна, умные
и справедливые, но только я-то тут ни при чем.
— Ну, был ни при чем, стал городничом; знаю уж я
эти петербургские обстоятельства, и мне толковать про них
нечего.
«И вправду,— думаю,— тебя, матушка, не разуве¬
ришь».
— А ты ей помогай — плати, мол, за квартиру-то,—
говорила Домна Платоновна, пригинаясь ко мне и ударяя
меня слегка по плечу.
— Да как же говорю,— не платить?
— А так — знаешь, ваш брат, как осетит нашу сестру,
так и норовит сейчас все на ее счет...
— Полноте, что это вы! — останавливаю Домну Плато¬
новну.
— Да, дружок, наша-то сестра, особенно русская, в
любви-то куда ведь она глупа: «на, мой сокол, тебе», го¬
това и мясо с костей срезать да отдать; а ваш брат шама¬
тон этим и пользуется.
— Да полноте вы, Домна Платоновна, какой я ей лю¬
бовник.
— Нет, а ты ее жалей. Ведь если так-то посудить, ведь
жалка, ей-богу же, друг мой, жалка наша сестра! Нашу
сестру уж как бы надо было бить да драть, чтоб она от
вас, поганцев, подальше береглась. И что это такое, ска¬
185
жи ты, за мудрено сотворено, что мир весь этими согляда¬
таями, мужчинами преисполнен!.. На что они? А опять
посмотришь, и без них все будто как скучно; как будто под
иную пору словно тебе и недостает чего. Черта в стуле,
вот чего недостает! — рассердилась Домна Платоновна,
плюнула и продолжала: — Я вон так-то раз прихожу к пол¬
ковнице Домуховской... не знавал ты ее?
— Нет,— говорю,— не знавал.
— Красавица.
— Не знаю.
— Из полячек.
— Так что ж,— говорю,— разве я всех полячек по Пе¬
тербургу знаю?
— Да она не из самых настоящих полячек, а креще¬
ная,— нашей веры!
— Ну, вот и знай ее, какая такая есть госпожа До¬
муховская не из самых полячек, а нашей веры. Не знаю,—
говорю,— Домна Платоновна; решительно не знаю.
— Муж у нее доктор.
— А она полковница?
— А тебе это в диковину, что ль?
— Ну-с, ничего,— говорю,— что же дальше?
— Так она с мужем-то с своим, понимаешь, попштыка¬
лась.
;— Как это попштыкалась?
— Ну, будто не знаешь, как, значит, в чем-нибудь не
уговорились, да сейчас пшик-пшик, да и в разные стороны.
Так и сделала эта Леканидка.
«Очень,— говорит,— Домна Платоновна, он у меня
нравен».
Я слушаю да головой качаю.
«Капризов,— говорит,— я его сносить не могу; нервы
мои,— говорит,— не выносят».
Я опять головой качаю. «Что это,— думаю,— у них
нервы за стервы, и отчего у нас этих нервов нет?»
Прошло этак с месяц, смотрю, смотрю — моя барыня
квартиру сняла: «жильцов,— говорит,— буду пущать».
«Ну что ж,— думаю,— надоело играть косточкой, пока¬
тай желвачок; не умела жить за мужней головой, так по¬
живи за своей: пригонит нужа и к поганой луже, да еще
будешь пить да похваливать».
Прихожу к ней опять через месяц, гляжу — жилец у
нее есть, такой из себя мужчина видный, ну только худой
и этак немножко осповат.
«Ах,— говорит,— Домна Платоновна, какого мне Бог
186
жильца послал — деликатный, образованный и добрый та¬
кой, всеми моими делами занимается».
«Ну, деликатиться-то мол, они нынче все уж, матушка,
выучились, а когда во все твои дела уж он взошел, так и
на что ж того и законней?»
Я это смеюсь, а она, смотрю, пых-пых, да и спламе¬
нела.
Ну, мой суд такой, что всяк себе как знает, а что если
только добрый человек, так и умные люди не осудят и Бог
простит. Заходила я потом еще раза два, все застаю: си¬
дит она у себя в каморке да плачет.
«Что так,— говорю,— мать, что рано соленой водой
умываться стала?»
«Ах,— говорит,— Домна Платоновна, горе мое та¬
кое»,— да и замолчала.
«Что, мол,— говорю,— такое за горе? Иль живую рыб¬
ку съела?»
«Нет,— говорит,— ничего такого, слава богу, нет».
«Ну, а нет,— говорю,— так все другое пустяки».
«Денег у меня ни грошика нет».
«Ну, это,— думаю,— уж действительно дрянь дело; но
знаю я, что человека в такое время не надо печалить».
«Денег,— говорю,— нет — перед деньгами. А жильцы
ж твои?» — спрашиваю.
«Один,— говорит,— заплатил, а то пустые две комна¬
ты».
«Вот уж эта мерзость запустения,— говорю,— в вашем
деле всего хуже. Ну, а дружок-то твой?» Так уж, знаешь,
без церемонии это ее спрашиваю.
Молчит, плачет. Жаль мне ее стало: слабая, вижу, не¬
разумная женщина.
«Что ж,— говорю,— если он наглец какой, так и вон
его».
Плачет на эти слова, ажно платок мокрый за кончики
зубами щипет.
«Плакать,— говорю,— тебе нечего и убиваться из-за
них, из-за поганцев, тоже не стоит, а что отказала ему, да
только всего и разговора, и найдем себе такого, что и лю¬
бовь будет, и помощь; не будешь так-то зубами щелкать да
убиваться». А она руками замахала: «не надо! не надо! не
надо!» да сама кинулась в постель головой, в подушки, и
надрывается, ажно как спинка в платье не лопнет. У меня
на то время был один тоже знакомый купец (отец у него
по Суровской линии свой магазин имеет), и просил он ме¬
ня очень: «Познакомь,— говорит,— ты меня, Домна Пла¬
187
тоновна, с какой-нибудь барышней, или хоть и с дамой, но
только чтоб очень образованная была. Терпеть,— гово¬
рит,— не могу необразованных». И поверить можно, пото¬
му и отец у них, и все мужчины в семье, все как есть на ду¬
рах женаты, и у этого-то тоже жена дурища — всё, когда
ни приди, сидит да печатаные пряники ест.
«На что,— думаю,— было бы лучше желать и требо¬
вать, как эту Леканиду суютить с ним». Но, вижу, еще
глупа — я и оставила ее: пусть дойдет на солнце!
Месяца два я у нее не была. Хоть и жаль было мне ее,
но что, думала себе, когда своего разума нет и сам человек
ничем кругом себя ограничить не понимает, так уж ему не
поможешь.
Но о спажинках была я в их доме; кружевцов немного
продала, и вдруг мне что-то кофию захотелось, и страсть
как захотелось. Дай, думаю, зайду к Домуховской, к Лека¬
ниде Петровне, напьюсь у нее кофию. Иду это по черной
лестнице, отворяю дверь на кухню — никого нет. Ишь, го¬
ворю, как живут откровенно — бери, что хочешь, потому и
самовар и кастрюли, все, вижу, на полках стоит.
Да только что этак-то подумала, иду по коридору и
слышу, что-то хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ах ты, боже мой! что
это? думаю. Скажите пожалуйста, что это такое? Отворяю
дверь в ее комнату, а он, этот приятель-то ее добрый — из
актеров он был, и даже немаловажный актер — артист на¬
зывался; ну-с, держит он, сударь, ее одною рукою за руку,
а в другой нагайка.
«Варвар! варвар! — закричала я на него,— что ты это,
варвар, над женщиной делаешь!» — да сама-то, знаешь,
промеж них, саквояжем-то своим накрываюсь, да промеж
них-то. Вот ведь, что вы, злодеи, над нашей сестрой де¬
лаете!
Я молчал.
— Ну, тут-то я их разняла, не стал он ее при мне
больше наказывать, а она еще было и отговаривается:
«Это,— говорит,— вы не думайте, Домна Платоновна;
это он шутил».
«Ладно,— говорю,— матушка; бочка-то, гляди, в пла¬
тье от его шутилки не потрескались ли». Однако, жили
опять; все он у нее стоял на квартире, только ничего ей,
мошенник, ни грошика не платил.
— Тем и кончилось?
— Ну, нет; через несколько времени пошел у них
опять карамболь, пошел он ее опять что день трепать, а
тут она какую-то жиличку еще к себе, приезжую барыньку
188
из купчих, приняла. Чай ведь сам знаешь, наши купчихи,
как из дому вырвутся, на это дело препростые... Ну, он ко
всему же к прежнему да еще почал с этой жиличкой аму¬
риться — пошло у них теперь такое, что я даже и ходить
перестала.
«Бог с вами совсем! живите,— думаю,— как хотите».
Только тринадцатого сентября, под самое Воздвиженье
Честнаго и Животворящаго Креста, пошла я к Знаменью, ко
всенощной. Отстояла всенощную, выхожу и в самом при¬
творе на паперти, гляжу — эта самая Леканида Петровна.
Жалкая такая, бурнусишко старенький, стоит на коленоч¬
ках в уголочке и плачет. Опять меня взяла на нее жалость.
«Здравствуй,— говорю,— Леканида Петровна!»
«Ах, душечка,— говорит,— моя, Домна Платоновна,
такая-сякая немазаная! Сам Бог,— говорит,— мне вас по¬
слал»,— а сама так вот ручьями слез горьких и заливается.
«Ну,— я говорю,— Бог, матушка, меня не посылал,
потому что Бог ангелов бесплотных посылает, а я человек
в свою меру грешный; но ты все-таки не плачь, а пойдем
куда-нибудь под насест сядем, расскажи мне свое горе; мо¬
жет, чем-нибудь надумаемся и поможем».
Пошли.
«Что варвар твой, что ли, опять над тобой что сде¬
лал?» — спрашиваю ее.
«Никого,— говорит,— никакого варвара у меня нет».
«Да куда же это ты идешь?» — говорю, потому кварти¬
ра ее была в Шестилавочной, а она, смотрю, на Грязную
заворачивает.
Слово по слову, и раскрылось тут все дело, что кварти¬
ры уж у нее нет: мебелишку, какая была у нее, хозяин за
долг забрал; дружок ее пропал — да и хорошо сделал,—
а живет она в каморочке, у Авдотьи Ивановны Дислен.
Такая эта подлая Авдотья Ивановна, даром что майорская
она дочь и дворянством своим величается, ну, а преподлая-
подлая. Чуть я за нее, за негодяйку, один раз в квартал
не попала по своей простоте по дурацкой. «Ну, только,—
говорю я Леканиде Петровне,— я эту Дисленьшу, мой
друг, очень знаю — это первая мошенница».
«Что ж,— говорит,— делать! Голубочка Домна Плато¬
новна, что же делать?»
Ручонки-то, гляжу, свои ломит, ломит, инда даже смо¬
треть жалко, как она их коверкает.
«Зайдите,— говорит,— ко мне».
«Нет,— говорю,— душечка, мне тебя хоша и очень
жаль, но я к тебе в Дисленьшину квартиру не пойду — я
189
за нее, за бездельницу, и так один раз чуть в квартал не
попала, а лучше, если есть твое желание со мной погово¬
рить, ты сама ко мне зайди».
Пришла она ко мне: я ее напоила чайком, обогрела, по¬
чавкали с нею, что Бог послал на ужин, и спать ее с собой
уложила. Довольно с тебя этого?
Я кивнул утвердительно головою.
— Ночью-то что я еще через нее страху имела! Лежит-
лежит она, да вдруг вскочит, сядет на постели, бьет себя
в грудь. «Голубочка,— говорит,— моя, Домна Платоновна!
Что мне с собой делать?»
Какой час, уж вижу, поздний. «Полно,— говорю,—
тебе убиваться,— спи. Завтра подумаем».
«Ах,— говорит,— не спится мне, не спится мне, Домна
Платоновна».
Ну, а мне спать смерть как хочется, потому у меня сон
необыкновенно какой крепкий.
Проспала я этак до своего часу и прокинулась. Я про¬
кинулась, а она, гляжу, в одной рубашоночке сидит на сту¬
ле, ножонки под себя подобрала и папироску курит. Такая
беленькая, хорошенькая да нежненькая — точно вот пух в
атласе.
«Умеешь,— спрашиваю,— самоварчик поставить?»
«Пойду,— говорит,— попробую».
Надела на себя юбчонку бумазейную и пошла в кухонь¬
ку. А мне-таки тут что-то смерть не хотелось вставать.
Приносит она самоваришко, сели мы чай пить, она и гово¬
рит: «Что,— говорит,— я, Домна Платоновна, надума¬
лась?»
«Не знаю,— говорю,— душечка, чужую думку своей не
раздумаешь».
«Поеду я,— говорит,— к мужу».
«На что, мол, лучше этого, как честной женой быть —
когда б,— спрашиваю,— только он тебя принял?»
«Он,— говорит,— у меня добрый; я теперь вижу, что
он всех добрей».
«Добрый-то,— отвечаю ей,— это хорошо, что он доб¬
рый; а скажи-ка ты мне, давно ты его покинула-то?»
«А уж скоро,— говорит,— Домна Платоновна, как с год
будет».
«Да вот, мол, видишь ты, с год уж тому прошло. Это
тоже,— говорю,— дамочка, время не малое».
«А что же,— спрашивает,— такое, Домна Платоновна,
вы в этом полагаете?»
190
«Да то,— говорю,— полагаю, что не завелась ли там на
твое место тоже какая-нибудь пирожная мастерица, гор¬
шечная пагубница».
«Я,— отвечает,— об этом, Домна Платоновна, и не по¬
думала».
«То-то, мол, мать моя, и есть, что «не подумала». И все-
то вот вы так-то об этом не думаете!.. А надо думать. Ког¬
да б ты подумала-то да рассудила, так, может быть, и мно¬
го б чего с тобой не было».
Она таки тут ух как засмутилась! Заскребло, вижу, ее
за сердчишко-то; губенки свои этак кусает, да и произно¬
сит таково тихонечко: «Он,— говорит,— мне кажется, со¬
всем не такой был».
«Ах вы,— подумала я себе,— звери вы этакие капуст¬
ные! Сами козами в горах так и прыгают, а муж хоть и им
негож, так и другой не трожь». Не поверишь ты, как мне
это всякий раз на них досадно бывает. «Прости-ка ты ме¬
ня, матушка,— сказала я ей тут-то,— а только речь твоя
эта, на мой згад, ни к чему даже не пристала. Что
же,— говорю,— он, твой муж, за такой за особенный, что
ты говоришь: не такой он? Ни в жизнь мою никогда я
этому не поверю. Всё, я думаю, и он такой же самый, как
и все: костяной да жильный. А ты бы,— говорю,— лучше
бы вот так об этом сообразила, что ты, женщиной бымши,
себя не очень-то строго соблюла, а ему,— говорю,— ничего
это и в суд не поставится,— потому что ведь и в самом-то
деле, хоть и ты сам, ангел мой, сообрази: мужчина что со¬
кол: он схватил, встрепенулся, отряхнулся, да и опять лети,
куда око глянет; а нашей сестре вся и дорога, что от печи
до порога. Наша сестра вашему брату все равно что дура¬
ку волынка: поиграл, да и кинул. Согласен ли ты с этой
справедливостью?»
Ничего не возражаю.
А Домна Платоновна, спасибо ей, не дождавшись мое¬
го ответа, продолжает:
— Ну-с, вот и эта, милостивая моя государыня, наша
Леканида Петровна, после таких моих слов и говорит:
«Я,— говорит,— Домна Платоновна, ничего от мужа не
скрою, во всем сама повинюсь и признаюсь: пусть он хоть
голову мою снимет».
«Ну, это,— отвечаю,— опять тоже, по-моему, не дело,
потому что мало ли какой грех был, но на что про то мужу
сказывать. Что было, то прошло, а слушать ему про это за
большое удовольствие не будет. А ты скрепись и виду не
покажи».
191
«Ах, нет! — говорит,— ах, нет, я лгать не хочу».
«Мало,— говорю,— чего не хочешь! Сказывается: грех
воровать, да нельзя миновать».
«Нет, нет, нет, я не хочу, не хочу! Это грех обманы¬
вать».
Зарядила свое, да и баста.
«Я,— говорит,— прежде все опишу, и если он про¬
стит — получу ответ, тогда и поеду».
«Ну, делай, мол, как знаешь; тебя, видно, милая, не на¬
учишь. Дивлюсь только,— говорю,— одному, что какой
это из вас такой новый завод пошел, что на грех идете, вы
тогда с мужьями не спрашиваетесь, а промолчать, прости
Господи, о пакостях о своих — греха боитесь. Гляди,— го¬
ворю,— бабочка, не кусать бы тебе локтя!»
Так-таки оно все на мое вышло. Написала она письмо,
в котором, уж бог ее знает, все объяснила, должно
быть,— ответа нет. Придет, плачет-плачет — ответа нет.
«Поеду,— говорит,— сама; слугою у него буду».
Опять я подумала — и это одобряю. Она, думаю, хоро¬
шенькая, пусть хоть по-первоначалу какое время и погне¬
вается, а как она на глазах будет, авось опять дух, во тьме
приходящий, спутает; может, и забудется. Ночная кукушка,
знаешь, дневную всегда перекукует.
«Ступай,— говорю,— все ж муж, не полюбовник, все
скорей смилуется».
«А где б,— говорит,— мне, Домна Платоновна, денег
на дорогу достать?»
«А своих-то,— спрашиваю,— аль уж ничего нет?»
«Ни грошика,— говорит,— нет; я уж и Дисленьше
должна».
«Ну, матушка, денег доставать здесь остро».
«Взгляните,— говорит,— на мои слезы».
«Что ж,— говорю,— дружок, слезы? — слезы слезами,
и мне даже самой очень тебя жаль, да только Москва сле¬
зам не верит, говорит пословица. Под них денег не дадут».
Она плачет, я это тоже с нею сижу, да так промеж се¬
бя и разговариваем, а в комнату ко мне шасть вдруг этот
полковник... как его зовут-то?
— Да ну, бог там с ним, как его зовут!
— Уланский, или как их это называются-то они? —
инженер?
— Да бог с ним, Домна Платоновна.
— Ласточкин он, кажется, будет по фамилии, или как
не Ласточкин? Так как-то птичья фамилия и не то с люди,
не то с како начинается...
192
— Ах, да оставьте вы его фамилию в покое.
— Я этак-то вот много кого: по местам сейчас тебе
найду, а уж фамилию не припомню. Ну, только входит
этот полковник; начинает это со мною шутить, да на ушко
и спрашивает:
«Что,— говорит,— это за барышня такая?»
Она совсем барыня, ну, а он ее барышней назвал:
очень она еще моложава была на вид.
Я ему отвечаю, кто она такая.
«Из провинции?» — спрашивает.
«Это,— говорю,— вы угадали — из провинции».
А он это — не то как какой ветреник или повеса —
известно, человек уж в таком чине — любил, чтоб женщина
была хоть и на краткое время, но не забымши свой стыд, и
с правилами; ну, а наши питерские, знаешь, чай, сам,
сколько у них стыда-то, а правил и еще того больше: у
стриженой девки на голове волос больше, чем у них правил.
— Ну-с, Домна Платоновна?
«Ну, сделай,— говорит,— милость, Домна Панталонов¬
на»,— у них это, у полковых, у всех все такая привычка:
не скажет: Платоновна, а Панталоновна.— «Ну-с,— гово¬
рит,— Домна Панталоновна, ничего,— говорит,— для тебя
не пожалею, только ограничь ты мне это дело в порядке».
Я, знаешь, ничего ему решительного не отвечаю, а
только бровями этак, понимаешь, на нее повела и даю ему
мину, что, дескать, «трудно».
«Невозможно?» — говорит.
«Этого,— говорю,— я тебе, генерал мой хороший, не
объясняю, потому это ее душа, ее и воля, а что хотя и не
надеюсь, но попробовать я для тебя попробую».
А он сейчас мне: «Нечего,— говорит,— тут, Пантало¬
ниха, словами разговаривать; вот,— говорит,— тебе пять¬
десят рублей, и все их сейчас ей передай».
— И вы их,— спрашиваю,— передали?
— А ты вот лучше не забегай, а если хочешь слушать,
так слушай. Рассуждаю я, взявши у него эти деньги, что
хотя, точно, у нас с нею никогда разговора такого, на это
похожего, не было, чтоб претекст мне ей такой сделать, ну
только, зная эти петербургские обстоятельства, думаю:
«Ох, как раз она еще, гляди, и сама рада, бедная, будет!»
Выхожу я к ней в свою в маленькую комнатку, где мы си¬
дели-то, и говорю: «Ты,— говорю,— Леканида Петровна,
в рубашечке, знать, родилась. Только о деньгах поговори¬
ли, а оне,— говорю,— и вот оне», да бумажку-то перед ней
и кладу. Она: «Кто это? как это? откуда?» — «Бог,— я
7. Н. С. Лесков, т. 5.
193
говорю,— тебе послал»,— говорю ей громко, а на ушко-то
шепчу: «Вот этот барин,— сказываю,— за одно твое вни¬
мание тебе посылает... Прибирай,— говорю,— скорей эти
деньги!»
А она, смотрю, слезы у нее по глазам и на стол кап-
кап, как гороховины. С радости или с горя — никак не
разберу, с чего эти слезы.
«Прибери,— говорю,— деньги-то да выдь на минутку
в ту комнату, а я тут покопаюсь...» Довольно тебе кажет¬
ся, как я все это для нее вдруг прекрасно устроила?
Смотрю я на Домну Платоновну: ни бровка у нее не
моргнет, ни уста у нее не лукавят; вся речь ее проста, сер¬
дечна; все лицо ее выражает одно доброе желание посо¬
бить бедной женщине и страх, чтоб это внезапно подвер¬
нувшееся благодетельное событие как-нибудь не расстрои¬
лось,— страх не за себя, а за эту же несчастную Леканиду.
— Довольно тебе этого? Кажется, все, что могла, все
я для нее сделала,— говорит, привскакивая и ударяя рукою
по столу, Домна Платоновна, причем лицо ее вспыхивает и
принимает выражение гневное.— А она, мерзавка эта¬
кая! — восклицает Домна Платоновна,— она с этим самым
словом — мах, безо всего, как сидела, прямо на лестницу и
гу-гу-гу: во всю мочь ревет, значит. Осрамила! Я это в
свой уголок скорей; он тоже за шапку да драла. Гляжу во¬
круг себя — вижу, и платок она свой шейный, так, мерино¬
совый, старенькое платчишко,— забыла. «Ну, постой же,—
думаю,— ты, дрянь этакая! Придешь ты, гадкая, я тебе
этого так не подарю». Через день, не то через два, верну¬
лась это я к себе домой, смотрю — и она жалует. Я, хоть
сердце у меня на ее невелико, потому что я вспыльчива
только, а сердца долго никогда не держу, но вид такой ей
даю, что сердита ужасно.
«Здравствуйте,— говорит,— Домна Платоновна».
«Здравствуй,— говорю,— матушка! За платочком, что
ли, пришла? — вон твой платок».
«Я,— говорит,— Домна Платоновна, извините меня,
так тогда испугалась».
«Да,— говорю ей,— покорно вас, матушка, благодарю.
За мое же к вам за расположение вы такое мне наделали,
что на что лучше желать-требовать».
«В перепуге,— говорит,— я была, Домна Платоновна,
простите, пожалуйста».
«Мне,— отвечаю,— тебя прощать нечего, а что мой дом
не такой, чтоб у меня шкандалить, бегать от меня по лест¬
ницам, да визги эти свои всякие здесь поднимать. Тут,—
194
говорю,— и жильцы благородные живут, да и хозяин,—
говорю,— процентщик — к нему что минута народ идет,
так он тоже этих визгов-то не захочет у себя слышать».
«Виновата я, Домна Платоновна. Сами вы посудите,
такое предложение».
«Что ж ты,— говорю,— такая за особенная, что этак
очень тебя предложение это оскорбило? Предложить,—
говорю,— всякому это вольно, так как ты женщина нуж¬
дающая; а ведь тебя насильно никто не брал, и зевать-то,
стало быть, тебе во все горло нечего было».
Простить просит.
Я ей и простила, и говорить с ней стала, и чаю чашку
палила.
«Я к вам,— говорит,— Домна Платоновна, с просьбой:
как бы мне денег заработать, чтоб к мужу ехать».
«Как же, мол, ты их, сударыня, заработаешь? Вот был
случай, упустила, теперь сама думай; я уж ничего не при¬
думаю. Что ж ты такое можешь работать?»
«Шить,— говорит,— могу; шляпы могу делать».
«Ну, душечка,— отвечаю ей,— ты лучше об этом меня
спроси; я эти петербургские обстоятельства-то лучше тебя
знаю; с этой работой-то, окромя уж того, что ее, этой ра¬
боты, достать негде, да и те, которые ею и давно-то зани¬
маются и настоящие-то шитвицы, так и те,— говорю,—
давно голые бы ходили, если б на одежонку себе грехом
не доставали».
«Так как же,— говорит,— мне быть?» — и опять руки
ломает.
«А так,— говорю,— и быть, что было бы не короба¬
титься; давно бы,— говорю,— уж другой бы день к су¬
пругу выехала».
И-и-их, как она опять на эти мои слова вся как вспых¬
нет!
«Что это,— говорит,— вы, Домна Платоновна, говори¬
те? Разве,— говорит,— это можно, чтоб я на такие сквер¬
ные дела пустилась?»
«Пускалась же,— говорю,— меня про то не спрашива¬
лась».
Она еще больше запламенела.
«То,— говорит,— грех мой такой был, увлечение, а что¬
бы я,— говорит,— раскаявшись да собираясь к мужу, еще
на этакие подлые средства поехала — ни за что на свете!»
«Ну, ничего,— говорю,— я, матушка, твоих слов не по¬
нимаю. Никаких я тут подлостей не вижу. Мое,— гово¬
рю,— рассуждение такое, что когда если хочет себя жен¬
195
щина на настоящий путь поворотить, так должна она всем
этим пренебрегать».
«Я,— говорит,— этим предложением пренебрегаю».
Очень, слышь, большая барыня! Так там с своим с ко¬
нопастым безо всякого без путя сколько время валандалась,
а тут для дела, для собственного покоя, чтоб на честную
жизнь себя повернуть — шагу одного не может, видишь,
ступить, минута уж ей одна и та тяжелая очень стала.
Смотрю опять на Домну Платоновну — ничего в ней нет
такого, что лежит печатью на специалистках по части об¬
разования жертв «общественного недуга», а сидит передо
мною баба самая простодушная и говорит свои мерзости с
невозмутимою уверенностью в своей доброте и непроходи¬
мой глупости госпожи Леканидки.
— «Здесь, говорю,— продолжает Домна Платонов¬
на,— столица; здесь даром, матушка, никто ничего не даст
и шагу-то для тебя не ступит, а не то что деньги».
Этак поговорили — она и пошла. Пошла она, и недели
с две, я думаю, ее не было видно. На конец того дела яв¬
ляется голубка вся опять в слезах и опять с своими охами
да вздохами.
«Вздыхай,— говорю,— ангел мой, не вздыхай, хоть
грудь надсади, но как я хорошо петербургские обстоятель¬
ства знаю, ничего тебе от твоих слез не поможется».
«Боже мой! — сказывает,— у меня уж, кажется, как
глаза от слез не вылезут, голова как не треснет, грудь бо¬
лит. Я уж,— говорит,— и в общества сердобольные обра¬
щалась: пороги все обила — ничего не выходила».
«Что ж, сама ж,— говорю,— виновата. Ты бы меня
расспросила, что эти все общества значат. Туда,— гово¬
рю,— для того именно и ходят, чтоб только последние баш¬
маки дотаптывать».
«Взгляните,— говорит,— сами, какая я? На что я ста¬
ла похожа».
«Вижу,— отвечаю ей,— вижу, мой друг, и нимало не
удивляюсь, потому горе только одного рака красит, но по¬
мочь тебе,— говорю,— ничем не могу».
С час тут-то она у меня сидела и все плакала, и даже,
правду сказать, уж и надоела.
«Нечего,— говорю ей на конец того,— плакать-то: ни¬
чего от этого не поможется; а умнее сказать, надо поко¬
риться».
Смотрю, слушает с плачем и — уж не сердится.
«Ничего,— говорю,— друг любезный, не поделаешь: не
ты первая, не ты будешь и последняя».
196
«Занять бы,— говорит,— Домна Платоновна, хоть руб¬
лей пятьдесят».
«Пятидесяти копеек,— говорю,— не займешь, а не то
что пятидесяти рублей — здесь не таковский город, а сто¬
лица. Были у тебя пятьдесят рублей в руках — точно, да
не умела ты их брать, так что ж с тобой делать?»
Поплакала она и ушла. Было это как раз, помню, на
Иоанна Рыльского, а тут как раз через два дня живет
праздник: иконы Казанския Божьей Матери. Так что-то мне
в этот день ужасно как нездоровилось — с вечера я это к
одной купчихе на Охту ездила да, должно быть, простуди¬
лась — на этом каторжном перевозе — ну, чувствую я себя,
что нездорова; никуда я не пошла: даже и у обедни не
была; намазала себе нос салом и сижу на постели. Гляжу,
а Леканида Петровна моя ко мне жалует, без бурнусика,
одним платочком покрывшись.
«Здравствуйте,— говорит,— Домна Платоновна».
«Здравствуй,— говорю,— душечка. Что ты,— спраши¬
ваю,— такая неубранная?»
«Так,— говорит,— на минуту,— говорит,— выскочи¬
ла»,— а сама, вижу, вся в лице меняется. Не плачет, зна¬
ешь, а то всполыхнет, то сбледнеет. Так меня тут же как
молонья мысль и прожгла: верно, говорю себе, чуть ли ее
Дисленьша не выгнала.
«Или,— спрашиваю,— что у вас с Дисленьшей вы¬
шло?» — а она это дёрг-дёрг себя за губенку-то, и хочет,
вижу, что-то сказать, и заминается.
«Говори, говори, матушка, что такое?»
«Я,— говорит,— Домна Платоновна, к вам». А я молчу.
«Как,— говорит,— вы, Домна Платоновна, пожи¬
ваете?»
«Ничего,— говорю,— мой друг. Моя жизнь все оди¬
наковая».
«А я...— говорит,— ах, я просто совсем с ног сбилася».
«Тоже,— говорю,— видно, и твое все еще одинаково?»
«Все то же самое,— говорит.— Я уж,— говорит,— всю¬
ду кидалася. Я уж, кажется, всякий свои стыд позабыла;
все ходила к богатым людям просить. В Кузнечном переул¬
ке тут, говорили, один богач помогает бедным — у него бы¬
ла; на Знаменской тоже была».
«Ну, и много же,— говорю,— от них вынесли?»
«По три целковых».
«Да и то,— говорю,— еще много. У меня,— говорю,—
купец знакомый у Пяти Углов живет, так тот разменяет
рубль на копейки и по копеечке в воскресенье и раздает.
197
«Все равно,— говорит,— сто добрых дел выходит перед Бо¬
гом». Но чтоб пятьдесят рублей, как тебе нужно,— это¬
го,—говорю,— я думаю, во всем Петербурге и человека
такого нет из богачей, чтобы даром дал».
«Нет,— говорит,— говорят, есть».
«Кто ж это, мол, тебе говорил? Кто такого здесь ви¬
дел?»
«Да одна дама мне говорила... Там у этого богача мы
с нею в Кузнечном вместе дожидали. Грек, говорит, один
есть на Невском: тот много помогает».
«Как же это,— спрашиваю,— он за здорово живешь,
что ли, помогает?»
«Так,— говорит,— так, просто так помогает, Домна
Платоновна».
«Ну, уж это,— говорю,— ты мне, пожалуйста, этого
лучше и не ври. Это,— говорю,— сущий вздор».
«Да что же вы,— говорит,— спорите, когда эта дама са¬
ма про себя даже рассказывала? Она шесть лет уж не жи¬
вет с мужем, и всякий раз как пойду, говорит, так пятьде¬
сят рублей».
«Врет,— говорю,— тебе твоя знакомая дама».
«Нет,— говорит,— не врет».
«Врет, врет,— говорю,— и врет. Ни в жизнь этому не
поверю, чтобы мужчина женщине пятьдесят рублей даром
дал».
«А я,— говорит,— утверждаю вас, что это правда».
«Да ты что ж, сама, что ли,— говорю,— ходила?»
А она краснеет, краснеет, глаз куда деть не знает.
«Да вы,— говорит,— что, Домна Платоновна, думаете?
Вы, пожалуйста, ничего такого не думайте! Ему восемьде¬
сят лет. К нему много дам ходят, и он ничего от них не
требует».
«Что ж,— говорю,— он красотою, что ли, только вашею
освещается?»
«Вашею? Почему же это,— говорит,— вы опять так ут¬
верждаете, что как будто и я там была?» А сама так, как
розан, и закраснелась.
«Чего ж,— говорю,— не утверждать? разве не видно,
что была?»
«Ну так что ж такое, что была? Да, была».
«Что ж, очень,— говорю,— твоему счастию рада, что
побывала в хорошем доме».
«Ничего,— говорит,— там нехорошего нет. Я очень про¬
сто зашла,— говорит,— к этой даме, что с ним знакома, и
рассказала ей свои обстоятельства... Она, разумеется, мне
198
сначала сейчас те же предложения, что и все делают... Я не
захотела; ну, она и говорит: «Ну так вот, не хотите ли к
одному греку богатому сходить? Он ничего не требует и
очень много хорошеньким женщинам помогает. Я вам, го¬
ворит, адрес дам. У него дочь на фортепиано учится, так
вы будто как учительница придете, но к нему самому сту¬
пайте, и ничего, говорит, вас стеснять не будет, а деньги
получите». Он, понимаете, Домна Платоновна, он уже очень
старый-престарый».
«Ничего,— говорю,— не понимаю».
Она, вижу, на мою недогадливость сердится. Ну, а я
уж где там не догадываюсь: я все отлично это понимаю,
к чему оно клонит, а только хочу ее стыдом-то этим пому¬
чить, чтоб совесть-то ее взяла хоть немножко.
«Ну как,— говорит,— не понимаете?»
«Да так,— говорю,— очень просто не понимаю, да и
понимать не хочу».
«Отчего это так?»
«А оттого,— говорю,— что это отврат и противность,
тьпфу!» Стыжу ее; а она, смотрю, морг-морг и кидается ко
мне на плечи, и целует, и плачучи говорит: «А с чем же я
все-таки поеду?»
«Как с чем, мол, поедешь? А с теми деньгами-то, что
он тебе дал».
«Да он мне всего,— говорит,— десять рублей дал».
«Отчего так,— говорю,— десять? Как это всем пятьде¬
сят, а тебе всего десять!»
«Черт его знает!» — говорит с сердцем.
И слезы даже у нее от большого сердца остановились.
«А то-то, мол, и есть!.. видно, ты чем-нибудь ему не
потрафила. Ах вы,— говорю,— дамки вы этакие, дамки!
Не лучше ли, не честнее ли я тебе, простая женщина, со¬
ветовала, чем твоя благородная посоветовала?»
«Я сама,— говорит,— это вижу».
«Раньше,— говорю,— надо было видеть».
«Что ж я,— говорит,— Домна Платоновна... я же ведь
теперь уж и решилась»,— и глаза это в землю тупит.
«На что ж,— говорю,— ты решилась?»
«Что ж,— говорит,— делать, Домна Платоновна, так,
как вы говорили... вижу я, что ничего я не могу пособить
себе. Если б,— говорит,— хоть хороший человек...»
«Что ж,— говорю, чтоб много ее словами не конфу¬
зить,— я,— говорю,— отягощусь, похлопочу, но только
уже и ты ж, смотри, сделай милость, не капризничай».
199
«Нет,— говорит,— уж куда!..» Вижу, сама давится, а
сама твердо отвечает: «Нет,— говорит,— отяготитесь,
Домна Платоновна, я не буду капризничать». Узнаю тут
от нее, посидевши, что эта подлая Дисленьша ее выгоняет,
и то есть не то что выгоняет, а и десять рублей-то, что
она, несчастная, себе от грека принесла, уж отобрала у нее
и потом совсем уж ее и выгнала и бельишко — какая там
у нее была рубашка да перемывашка — и то все обобрала
за долг и за хвост ее, как кошку, да на улицу.
«Да знаю,— говорю я,— эту Дисленьшу».
«Она,— говорит,— Домна Платоновна, кажется, просто
торговать мною хотела».
«От нее,— отвечаю,— другого-то ничего и не до¬
ждешься».
«Я,— говорит,— когда при деньгах была, я ей не раз
помогала, а она со мной так обошлась, как с последней».
«Ну, душечка,— говорю,— нынче ты благодарности в
людях лучше и не ищи. Нынче, чем ты кому больше добра
делай, тем он только готов тебе за это больше напакостить.
Тонет, так топор сулит, а вынырнет, так и топорища
жаль».
Рассуждаю этак с ней и ни-и-и думаю того, что она са¬
ма, шельма эта Леканида Петровна, как мне за все отбла¬
годарит.
Домна Платоновна вздохнула.
— Вижу, что она все это мнется да трется,— продол¬
жала Домна Платоновна,.— и говорю: «Что ты хочешь ска¬
зать-то? Говори — лишних бревен никаких нет: в квартал
надзирателю доносить некому».
«Когда же?» — спрашивает.
«Ну,— говорю,— мать моя, надо подождать: это тоже
шах-мах не делается».
«Мне,— говорит,— Домна Платоновна, деться не¬
куда».
А у меня — вот ты как зайдешь когда-нибудь ко мне,
я тебе тогда покажу — есть такая каморка, так, малень¬
кая такая, вещи там я свои, какие есть, берегу, и если слу¬
чится какая тоже дамка, что места ищет иногда или слу¬
чая какого дожидается, так в то время отдаю. На эту по¬
ру каморочка у меня была свободна. «Переходи,— гово¬
рю,— и живи».
Переход ее весь в том и был, что в чем пришла, в том
и осталась: все Дисленьша, мерзавка, за долги забрала.
Ну, видя ее бедность, я дала ей тут же платье — купец
один мне дарил: чудное платье, крепрошелевое, не то шик-
200
шинетеневое, так как-то материя-то эта называлась,— но
только узко оно мне в лифике было. Шитвица-пакостница
не потрафила, да я, признаться, и не люблю фасонных
платьев, потому сжимают они очень в грудях, я все вот в
этаких капотах хожу.
Ну, дала я ей это платье, дала кружевцов; перешила
она это платьишко, отделала его кое-где кружевцами, и
чудесное еще платьице вышло. Пошла я, сударь мой, в
штинбоков пассаж, купила ей полсапожки, с кисточками
такими, с бахромочкой, с каблучками; дала ей воротничков,
манишечку — ну, одним словом, нарядила молодца, яко
старца; не стыдно ни самой посмотреть, ни людям пока¬
зать. Даже сама я не утерпела, пошутила ей: «Франтиш¬
ка,— говорю,— ты какая! умеешь все как к лицу сделать».
Живем мы после этого вместе неделю, живем другую,
все у нас с нею отлично: я по своим делам, а она дома
остается. Вдруг тут-то дело мне припало к одной не то
что к дамке, а к настоящей барыне, и немолодая уж бары¬
ня, а такая-то, прости господи!.. звезда восточная. Студен¬
та все к сыну в гувернеры искала. Ну, уж я знаю, какого
ей надо студента.
«Чтоб был,— говорит,— опрятный; чтоб не из этих,
как вот шляются — сицилисты,— они не знают, небось, где
и мыло продается».
«На что ж,— говорю,— из этих? Куда они годятся!»
«И,— говорит,— чтоб в возрасте был, а не дитею бы
смотрел; а то дети его и слушаться не будут».
«Понимаю, мол, все».
Отыскала я студента: мальченко молоденький, но эта¬
кий штуковатый и чищеный, все сразу понимает. Иду-с я
теперь с этим делом к этой даме; передала ей адрес; гово¬
рю: так и так, тогда и тогда будет, и извольте его посмо¬
треть, а что такое если не годится — другого, говорю, най¬
дем, и сама ухожу. Только иду это с лестницы, а в швей¬
царской генерал мне навстречу, и вот он. И этот самый ге¬
нерал, надо тебе сказать, хоть он и штатский, но очень об¬
разованный. В доме у него роскошь такой: зеркала, ланпы,
золото везде, ковры, лакеи в перчатках, везде это духами
накурено. Одно слово, свой дом, и живут в свое удоволь¬
ствие; два этажа сами занимают: он, как взойдешь из
швейцарской, сейчас налево; комнат восемь один живет, а
направо сейчас другая такая ж половина, в той сын стар¬
ший, тоже женатый уж года с два. На богатой тоже же¬
нился, и все как есть в доме очень ее хвалят, говорят —
предобрая барыня, только чахотка, должно, у нее — очень
201
уж худая. Ну, а наверху, сейчас по этакой лестнице — ши¬
рокая-преширокая лестница и вся цветами установлена —
тут сама старуха, как тетеря на токовище, сидит с мень¬
шенькими детьми, и гувернеры-то эти там же. Ну, знаешь
уж, как на большую ногу живут!
Встретил меня генерал и говорит: «Здравствуй, Домна
Платоновна!» — Превежливый барин.
«Здравствуйте,— говорю,— ваше превосходительство».
«У жены, что ль, была?» — спрашивает.
«Точно так,— говорю,— ваше превосходительство, у су¬
пруги вашей, у генеральши была; кружевца,— говорю,—
старинные приносила».
«Нет ли,— говорит,— у тебя чего, кроме кружевцов,
хорошенького?»
«Как,— говорю,— не быть, ваше превосходительство!
Для хороших,— говорю,— людей всегда на свете есть что-
нибудь хорошее».
«Ну, пойдем-ка,— говорит,— пройдемся; воздух,— го¬
ворит,— нынче очень свежий».
«Погода,— отвечаю,— отличная, редко такой и до¬
ждешься».
Он выходит на улицу, и я за ним, а карета сзади нас по
улице едет. Так вместе по Моховой и идем — ей-богу пра¬
вда. Препростодушный, говорю тебе, барин!
«Что ж,— спрашивает,— чем же ты это нынче, Домна
Платоновна, мне похвалишься?»
«А уж тем, мол, ваше превосходительство, похвалюсь,
что могу сказать, что редкость».
«Ой ли, правда?» — спрашивает — не верит, потому что
он очень и опытный — постоянно все по циркам да по ба¬
летам и везде страшно по этому предмету со вниманием
следит.
«Ну, уж хвалиться,— говорю,— вам, сударь, не стану,
потому что, кажется, изволите знать, что я попусту врать
на ветер не охотница, а вы, когда вам угодно, извольте,—
говорю,— пожаловать. Гляженое лучше хваленого».
«Так не лжешь,— говорит,— Домна Платоновна, стоя¬
щая штучка?»
«Одно слово,— отвечаю ему я,— ваше превосходитель¬
ство, больше и говорить не хочу. Не такой товар, чтоб еще
нахваливать».
«Ну, посмотрим,— говорит,— посмотрим».
«Милости,— говорю,— просим. Когда пожалуете?»
«Да как-нибудь на этих днях,— говорит,— вероятно,
заеду».
202
«Нет,— говорю,— ваше превосходительство, вы изволь¬
те назначить как наверное, так,— говорю,— и ждать бу¬
дем; а то я,— говорю,— тоже дома не сижу: волка, мол,
ноги кормят».
«Ну, так я,— говорит,— послезавтра, в пятницу из при¬
сутствия заеду».
«Очень хорошо,— говорю,— я ей скажу, чтоб дожида¬
лась».
«А у тебя,— спрашивает,— тут в узелке-то что-нибудь
хорошенькое есть?»
«Есть,— говорю,— штучка шелковых кружев черных,
отличная. Половину,— солгала ему,— половину,— гово¬
рю,— ваша супруга взяли, а половина,— говорю,— как раз
на двадцать рублей осталась».
«Ну, передай,— говорит,— ей от меня эти кружева:
скажи, что добрый гений ей посылает»,— шутит это, а сам
мне двадцать пять рублей бумажку подает, и сдачи, гово¬
рит, не надо: возьми себе на орехи.
Довольно тебе, что и в глаза ее не видавши, этакой пре¬
зент.
Сел он в карету тут у Семионовского моста и поехал,
а я Фонталкой по набережной, да и домой.
«Вот,— говорю,— Леканида Петровна, и твое счастье
нашлось».
«Что,— говорит,— такое?»
А я ей все по порядку рассказываю: хвалю его, знаешь,
ей, как ни быть лучше: хотя, говорю, и в летах, но мужчи¬
на видный, полный, белье, говорю, тонкое носит, в очках,
сказываю, золотых; а она вся так и трясется.
«Нечего,— говорю,— мой друг, тебе его бояться: может
быть, для кого-нибудь другого он там по чину своему да
по должности пускай и страшен, а твое,— говорю,— дело
при нем будет совсем особливое; еще ручки, ножки свои его
целовать заставь. Им,— говорю,— одна дамка-полячка
(я таки ее с ним еще и познакомила) как хотела помыкала
и амантов,— говорю,— имела, а он им еще и отличные ка¬
кие места подавал, все будто заместо своих братьев она
ему их выдавала. Положись на мое слово и ничуть его не
опасайся, потому что я его отлично знаю. Эта полячка,
бывало, даже руку на него поднимала: сделает, бывало, ис¬
терику, да мах его рукою по очкам; только стеклышки за¬
звенят. А твое воспитание ничуть не ниже. А вот,— гово¬
рю,— тебе от него пока что и презентик»,— вынула круже¬
ва да перед ней и положила.
203
Прихожу опять вечером домой, смотрю — она сидит,
чулок себе штопает, а глаза такие заплаканные; гляжу, и
кружева мои на том же месте, где я их положила.
«Прибрать бы,— говорю,— тебе их надо; вон хоть в
комоду,— говорю,— мою что ли бы положила; это вещь до¬
рогая».
«На что,— говорит,— они мне?»
«А не нравятся, так я тебе за них десять рублей день¬
ги ворочу».
«Как хотите»,— говорит. Взяла я эти кружева, смотрю,
что все целы,— свернула их как должно, и так, не меряв¬
ши, в свой саквояж и положила.
«Вот,— говорю,— что ты мне за платье должна — я
с тебя лишнего не хочу,— положим за него хоть семь руб¬
лей, да за полсапожки три целковых, вот,— говорю,— и бу¬
дем квиту, а остальное тaм, как сочтемся».
«Хорошо»,— говорит,— а сама опять плакать.
«Плакать-то теперь бы,— говорю,— не следовало».
А она мне отвечает:
«Дайте,— говорит,— мне, пожалуйста, мои последние
слезы выплакать. Что вы,— говорит,— беспокоитесь? —
не бойтесь, понравлюсь!»
«Что ж,— говорю,— ты, матушка, за мое же добро да
на меня же фыркаешь? Тоже,— говорю,— новости: у Фили
пили, да Филю ж и били!»
Взяла да и говорить с ней перестала.
Прошел четверг, я с ней не говорила. В пятницу напи¬
лась чаю, выхожу и говорю: «Изволь же,— говорю,— су¬
дарыня, быть готова: он нынче приедет».
Она как вскочит: «Как нынче! как нынче!»
«А так,— говорю,— чай, сказано тебе было, что он
обещался в пятницу, а вчера, я думаю, был четверг».
«Голубушка,— говорит,— Домна Платоновна!» — паль¬
цы себе кусает, да бух мне в ноги.
«Что ты,— говорю,— сумасшедшая? Что ты?»
«Спасите!»
«От чего,— говорю,— от чего тебя спасать-то?»
«Защитите! Пожалейте!»
«Да что ты,— говорю,— блажишь? Не сама ли же,—
говорю,— ты просила?»
А она опять берет себя руками за щеки да вопит: «Ду¬
шечка, душечка, пусть завтра, пусть,— говорит,— хоть по¬
слезавтра!»
Ну, вижу, нечего ее, дуру, слушать, хлопнула дверью и
ушла. Приедет, думаю, он сюда — сами поладят. Не одну
204
уж такую-то я видела: все они попервоначалу благи быва¬
ют. Что ты на меня так смотришь? Это, поверь, я правду
говорю: все так-то убиваются.
— Продолжайте,— говорю,— Домна Платоновна.
— Что ж, ты думаешь, она, поганка, сделала?
— А кто ее знает, что ее черт угораздил сделать! —
сорвалось у меня со злости.
— Уж именно правда твоя, что черт ее угораздил,—
отвечала с похвалою моей прозорливости Домна Платонов¬
на.— Этакого человека, этакую вельможу, она, шельмовка
этакая, и в двери не пустила!.. Стучал-стучал, звонил-зво¬
нил — она тебе хоть бы ему голос какой подала. Вот ведь
какая хитростная — на что отважилась! Сидит запершись,
словно ее и духу там нет. Захожу я вечерком к нему —
сейчас меня впустили — и спрашиваю: «Ну что,— гово¬
рю,— обманула я вас, ваше превосходительство?» — а он
туча-тучей. Рассказывает мне все, как он был и как ни с
чем назад пошел.
«Этак,— говорит,— Домна Платоновна, любезная моя,
с порядочными людьми не поступают».
«Батюшка,— говорю,— да как это можно! верно,—
говорю,— она куда на минутую выходила или что такое —
не слыхала,— ну, а сама себе думаю: «Ах ты, варварка! ах
ты, злодейка этакая! страмовщица ты!»
«Пожалуйте,— прошу его,— ваше превосходительство,
завтра — верно вам ручаюсь, что все будет как должно».
Да ушедши-то от него домой, да бегом, да бегом. При¬
бегаю, кричу:
«Варварка! варварка! что ж ты это, варварка, со мной
наделала? С каким ты меня человеком, может быть, рас¬
строила? Ведь ты,— говорю,— сама со всей твоей родней-
то да и с целой губернией-то с вашей и сапога его одного
отоптанного не стоишь! Он,— говорю,— в прах и в пепел
всех вас и все начальство-то ваше истереть одной ногой мо¬
жет. Чего ж ты, бездельница этакая, модничаешь? Даром
я, что ли, тебя кормлю? Я бедная женщина; я на твоих же
глазах день и ночь постоянно отягощаюсь; я на твоих же
глазах веду самую прекратительную жизнь, да еще ты,—
говорю,— щелчок ты этакой, нахлебница навязалась!»
И как уж я ее тут-то ругала! Как страшно я ее с серд¬
цов ругала, что ты не поверишь. Кажется б вот взяла я да
глаза ей в сердцах повыцарапала.
Домна Платоновна сморгнула набежавшую на один
глаз слезу и проговорила между строк: «Даже теперь жал¬
ко, как вспомню, как я ее тогда обидела».
205
«Гольтепа ты дворянская! — говорю ей,— вон от меня!
вон, чтоб и дух твой здесь не пах!» — и даже за рукав ее
к двери бросила.— Ведь вот, ты скажи, что с сердцов че¬
ловек иной раз делает: сама назавтри к ней такого гранде¬
ву пригласила, а сама ее нынче же вон выгоняю! Ну,
она — на эти мои слова сейчас и готова — и к двери.
У меня уж было и сердце все проходить стало, как она
все это стояла-то да молчала, а уж как она по моему по
последнему слову к двери даже обернулась, я опять и
вскипела.
«Куда, куда,— говорю,— такая-сякая, ты летишь?»
Уж и сама даже не помню, какими ее словами опять из¬
ругала.
«Оставайся,— говорю,— не смей ходить!..»
«Нет, я,— говорит,— пойду».
«Как пойдешь? как ты смеешь идтить?»
«Что ж,— говорит,— вы, Домна Платоновна, на меня
сердитесь, так лучше же мне уйти».
«Сержусь! — говорю.— Нет, я мало что на тебя сер¬
жусь, я тебя буду бить».
Она вскрикнула, да в дверь, а я ее за ручку, да назад,
да тут-то сгоряча оплеух с шесть таких горячих ей и за¬
катила.
«Воровка ты,— говорю,— а не дама»,— кричу на нее;
а она стоит в уголке, как я ее оттрепала, и вся, как клёнов
лист, трясется, но и тут, заметь, свою анбицию дворянскую
почувствовала.
«Что ж,— говорит,— такое я у вас украла?»
«Космы-то,— говорю,— патлы-то свои подбери,— по¬
тому я ей всю прическу расстроила.— То,— говорю,— ты
у меня украла, что я тебя, варварку, поила-кормила две не¬
дели; обула-одела тебя; я,— говорю,— на всякий час отя¬
гощаюсь, я веду прекратительную жизнь, да еще через те¬
бя должна куска хлеба лишиться, как ты меня с таким че¬
ловеком поссорила!»
Смотрю, она потихоньку косы свои опять в пучок под¬
вернула, взяла в ковшик холодной воды — умылась; голо¬
ву расчесала и села. Смирно сидит у окошечка, только все
жестяное зеркальце потихонечку к щекам прикладывает.
Я будто не смотрю на нее, раскладываю по столу кружева,
а сама вижу, что щеки-то у нее так и горят.
«Ах,— думаю,— напрасно ведь это я, злодейка, так уж
очень ее обидела!»
Все, что стою над столом да думаю — то все мне ее
жалче; что стою думаю — то все жалче...
206
Ахти мне, горе с моим добрым сердцем! Никак я с сто¬
им сердцем не совладаю. И досадно, и знаю, что она вино¬
вата и вполне того заслужила, а жалко.
Выскочила я на минуточку на улицу — тут у нас, в на¬
шем же доме, под низом кондитерская,— взяла десять
штучек песочного пирожного и прихожу; сама поставила
самовар; сама чаю чашку ей налила и подаю с пирожным.
Она взяла из моих рук чашку и пирожное взяла, откусила
кусочек, да меж зубов и держит. Кусочек держит, а сама
вдруг улыбается, улыбается, и весело улыбается, а слезы
кап-кап-кап, так и брызжут; таки вот просто не текут, а
как сок из лимона, если подавишь, брызжут.
«Полно,— говорю,— не обижайся».
«Нет,— говорит,— я ничего, я ничего, я ничего...» —
да как зарядила это: «я ничего» да «я ничего» — твердит
одно, да и полно.
«Господи! — думаю,— уж не сделалось ли ей помраче¬
ние смыслов?» Водой на нее брызнула; она тише, тише и
успокоилась: села в уголку на постелишке и сидит. А ме¬
ня все, знаешь, совесть мутит, что я ее обидела. Помоли¬
лась я Богу — прочитала, как еще в Мценске священник
учил от запаления ума: «Благого Царя благая Мати, пречи¬
стая и чистая»,— и сняла с себя капотик, и подхожу к ней
в одной юбке, и говорю: «Послушай ты меня, Леканида
Петровна! В Писании читается: «да не зайдет солнце во
гневе вашем»; прости же ты меня за мою дерзость; давай
помиримся!» — поклонилась ей до земли и взяла ее руку
поцеловала: вот тебе, ей-богу, как завтрашний день хочу
видеть, так поцеловала. И она, смотрю, наклоняется ко мне
и в плечо меня чмок, гляжу — и тоже мою руку поцелова¬
ла, и сами мы между собою обе друг дружку обняли и по¬
целовались.
«Друг мой,— говорю,— ведь я не со злости какой или
не для своей корысти, а для твоего же добра!» — толкую
ей и по головке ее ласкаю, а она все этак скороговоркой:
«Хорошо, хорошо; благодарю вас, Домна Платоновна,
благодарю».
«Вот он,— говорю,— завтра опять приедет».
«Ну что ж,— говорит,— ну что ж! очень хорошо, пусть
приезжает».
Я ее опять по головке глажу, волоски ей за ушко за¬
правляю, а она сидит и глазком с ланпады не смигнет.
Ланпад горит перед образами таково тихо, сияние от икон
на нее идет, и вижу, что она вдруг губами все шевелит,
все шевелит.
207
«Что ты,— спрашиваю,— душечка, Богу это, что ли, мо¬
лишься?»
«Нет,— говорит,— это я, Домна Платоновна, так».
«Что ж,— говорю,— я думала, что ты это молишься, а
так самому с собой разговаривать, друг мой, не годится.
Это только одни помешанные сами с собою разговари¬
вают».
«Ах,— отвечает она мне,— я,— говорит,— Домна Пла¬
тоновна, уж и сама думаю, что я, кажется, помешанная.
На что я только иду! на что я это иду!» — заговорила она
вдруг, и в грудь себя таково изо всей силы ударяет.
«Что ж,— говорю,— делать? Так тебе, верно, путь та¬
кой тяжелый назначен».
«Как,— говорит,— такой мне путь назначен? Я была
честная девушка! я была честная жена! Господи! Господи!
да где же ты? Где же, где Бог?»
«Бога,— говорю,— читается, друг мой, никто же виде и
нигде же».
«А где же есть сожалительные, добрые христиане? Где
они? где?»
«Да здесь,— говорю,— и христиане».
«Где?»
«Да как где? Вся Россия — всё христиане и мы с то¬
бой христианки».
«Да, да,— говорит,— и мы христианки...» — и сама, ви¬
жу, эти слова выговаривает и в лице страшная становится.
Словно она с кем с невидимым говорит.
«Фу,— говорю,— да сумасшедшая ты, что ли, в самом
деле? что ты меня пужаешь-то? что ты ропот-то на Созда¬
теля своего произносишь?»
Смотрю: сейчас она опять смирилась, плачет опять ти¬
хо и рассуждает:
«Из-за чего,— говорит,— это я только все себе наделала?
Каких я людей слушала? Разбили меня с мужем; натолко¬
вали мне, что он и тиран, и варвар, когда это совсем не¬
правда была, когда я, я сама, презренная и низкая каприз¬
ница, я жизнь его отравляла, а не покоила. Люди! подлые
вы люди! сбили меня; насулили мне здесь горы золотые, а
не сказали про реки огненные. Муж меня теперь бросил,
смотреть на меня не хочет, писем моих не читает. А зав¬
тра я... бррр...х!»
Вся даже задрожала.
«Маменька! — стала звать,— маменька! если б ты ме¬
ня теперь, душечка, видела? Если б ты, чистенький ангел
мой, на меня теперь посмотрела из своей могилки? Как она
208
нас, Домна Платоновна, воспитывала! Как мы жили хоро¬
шо; ходили всегда чистенькие; все у нас в доме было та¬
кое хорошенькое; цветочки мама любила; бывало,— гово¬
рит,— возьмет за руки и пойдем двое далеко... в луга пой¬
дем...»
Тут-то, знаешь ты, сон у меня удивительный — слуша¬
ла я, как это хорошо все она вспоминает, и заснула.
Ну, представь же ты теперь себе: сплю это; заснула у
нее, на ее постеленке, и как пришла к ней, совсем даже в
юбке заснула, и опять тебе говорю, что сплю я свое время
крепко, и снов никогда никаких не вижу, кромя как разве
к какому у меня воровству; а тут все это мне видятся ро¬
щи такие, палисадники и она, эта Леканида Петровна. Буд¬
то такая она маленькая, такая хорошенькая: головка у нее
русая, вся в кудряшках, и носит она в ручках веночек, а
за нею собачка, такая беленькая собачка, и все на меня
гам-гам, гам-гам — будто сердится и укусить меня хочет.
Я будто нагинаюсь, чтоб поднять палочку, чтоб эту со¬
бачку от себя отогнать, а из земли вдруг мертвая ручища:
хвать меня вот за самое за это место, за кость. Вскинулась
я, смотрю — свое время я уж проспала, и руку страсть как
неловко перележала. Ну, оделась я, помолилась Богу и чай¬
ку напилась, а она все спит.
«Пора,— говорю,— Леканида Петровна, вставать;
чай,— говорю,— на конфорке стоит, а я, мой друг, ухо¬
жу».
Поцеловала ее на постели в лоб, истинно говорю тебе,
как дочь родную жалеючи, да из двери-то выходя, ключик
это потихоньку вынула да в карман.
«Так-то,— думаю,— дело честнее будет».
Захожу к генералу и говорю: «Ну, ваше превосходи¬
тельство, теперь дело не мое. Я свое сделала — пожалуйте
поскорей»,— и ему отдала ключ.
— Ну-с,— говорю,— милая Домна Платоновна, не на
этом же все кончилось?
Домна Платоновна засмеялась и головой закачала с та¬
ким выражением, что смешны, мол, все люди на белом
свете.
— Прихожу я домой нарочно попозже, смотрю — ог¬
ня нет.
«Леканида Петровна!» — зову.
Слышу, она на моей постели ворочается.
«Спишь?» — спрашиваю; а самое меня, знаешь, так
смех и подмывает.
«Нет, не сплю»,— отвечает.
209
«Что ж ты огня, мол, не засветишь?»
«На что ж он мне,— говорит,— огонь?»
Зажгла я свечу, раздула самоваришку, зову ее чай
пить.
«Не хочу,— говорит,— я»,— а сама все к стенке заво¬
рачивается.
«Ну, по крайности,— говорю,— встань же, хоть на свою
постель перейди: мне мою постель надо поправить».
Вижу, поднимается, как волк угрюмый. Взглянула ис¬
подлобья на свечу и глаза рукой заслоняет.
«Что ты,— спрашиваю,— глаза закрываешь?»
«Больно,— отвечает,— на свет смотреть».
Пошла, и слышу, как была опять совсем в платье оде¬
тая, так и повалилась.
Разделась и я как следует, помолилась Богу, но все ме¬
ня любопытство берет, как тут у них без меня были под¬
робности? К генералу я побоялась идти: думаю, чтоб опять
афронта какого не было, а ее спросить даже следует, но
она тоже как-то не допускает. Дай, думаю, с хитростью к
ней подойду. Вхожу к ней в каморку и спрашиваю:
«Что, никого,— говорю,— тут, Леканида Петровна, без
меня не было?»
Молчит.
«Что ж,— говорю,— ты, мать, и ответить не хочешь?»
А она с сердцем этак: «Нечего,— говорит,— вам меня
расспрашивать».
«Как же это,— говорю,— нечего мне тебя расспраши¬
вать? Я хозяйка».
«Потому,— говорит,— что вы без всяких вопросов очень
хорошо все знаете»,— и это, уж я слышу, совсем другим
тоном говорит.
Ну, тут я все дело, разумеется, поняла.
Она только вздыхает; и пока я улеглась и уснула —
все вздыхает.
— Это,— говорю,— Домна Платоновна, уж и конец?
— Это первому действию, государь мой, конец.
— А во втором-то что же происходило?
— А во втором она вышла против меня мерзавка —
вот что во втором происходило.
— Как же,— спрашиваю,— это, Домна Платоновна,
очень интересно, как так это сделалось?
— А так, сударь мой, и сделалось, как делается: силу
человек в себе почуял, ну сейчас и свиньей стал.
— И вскоре,— говорю,— это она так к вам перемени¬
лась?
210
— Тут же таки. На другой день уж всю это свою ко¬
зью прыть показала. На другой день я, по обнаковению,
в свое время встала, сама поставила самовар и села к чаю
около ее постели в каморочке, да и говорю: «Иди же,—
говорю,— Леканида Петровна, умывайся да Богу молись,
чай пора пить». Она, ни слова не говоря, вскочила и, гля¬
жу, у нее из кармана какая-то бумажка выпала. Нагина¬
юсь я к этой бумажке, чтоб поднять ее, а она вдруг сама,
как ястреб, на нее бросается.
«Не троньте!» — говорит, и хап ее в руку.
Вижу, бумажка сторублевая.
«Что ж ты,— говорю,— так, матушка, рычишь?»
«Так хочу, так и рычу».
«Успокойся,— говорю,— милая; я, слава богу, не Дис¬
леньша, в моем доме никто у тебя твоего добра отнимать
не станет».
Ни слова она мне в ответ не сказала: мой чай пьет и на
меня ж глядеть не хочет; возьми ты это, хоть кому-нибудь
доведися — станет больно. Ну, однако, я ей это спустила,
думала, что она это еще в расстройке, и точно, вижу, что
как это ворот-то у нее в рубашке широкий, так видно, зна¬
ешь, как грудь-то у ней так вот и вздрагивает, и на что,
я тебе сказывала, была она собою телом и бела, и розовая,
точно пух в атласе, а тут, знаешь, будто вдруг она какая-
то темная мне показалась телом, и всё у нее по голым пле¬
чам-то сиротки вспрыгивают, пупырышки эти такие, что вот
с холоду когда выступают. Холеной неженке первый сне¬
жок труден. Я ее даже молча и пожалела еще, и никак се¬
бе не воображала, какая она ехидная.
Вечером прихожу; гляжу — она сидит перед свечкой
и рубашку себе новую шьет, а на столе перед ней еще так
три, не то четыре рубашки лежат прикроенные.
«Почем,— спрашиваю,— брала полотно?»
А она этак тихо-тихохонько мне вот что отвечает:
«Я,— говорит,— Домна Платоновна, желала вас про¬
сить: оставьте вы меня, пожалуйста, с вашими разгово¬
рами».
Смотрю, вид у нее такой покойный, будто совсем и не
сердится. «Ну,— думаю,— матушка, когда ты такая, так и
я же к тебе стану иная».
«Я,— говорю ей,— Леканида Петровна, в своем доме
хозяйка и все говорить могу; а тебе, если мои разговоры
неприятны, так не угодно ли,— говорю,— отправляться ку¬
да угодно».
«И не беспокойтесь,— говорит,— я и отправлюсь».
211
«Только прежде всего надо,— я говорю,— рассчитаться:
честные люди не рассчитавшись не съезжают».
«Опять,— говорит,— не беспокойтесь».
«Я,— отвечаю,— не беспокоюсь»,— ну, только считаю
ей за полтора месяца за квартиру десять рублей и что пи¬
ла-ела пятнадцать рублей, да за чай, говорю, положим
хоть три целковых, тридцать один целковый, говорю. За
свечки тут-то не посчитала, и что в баню с собой два раза
ее брала, и то тоже забыла.
«Очень хорошо-с,— отвечает,— все будет вам запла¬
чено».
На другой день вечером ворочаюсь опять домой, застаю
ее, что она опять сидит себе рубашку шьет, а на стенке, так
насупротив ее, на гвоздике висит этакой бурнус, черный
атласный, хороший бурнус, на гроденаплевой подкладке и
на пуху. Закипело у меня, знаешь, что все это через меня,
через мое радетельство получила, да еще без меня же, слов¬
но будто потоймя от меня справляет.
«Бурнусы-то,— говорю,— можно б, мне кажется, пого¬
дить справлять, а прежде б с долгами рассчесться».
Она на эти мои слова сейчас опущает белу рученьку в
карман; вытаскивает оттуда бумажку и подает. Смотрю, в
этой бумажке аккурат тридцать и один целковый.
Взяла я деньги и говорю: «Благодарствуйте,— гово¬
рю,— Леканида Петровна». Уж «вы» ей, знаешь, нарочно
говорю.
«Не за что-с,— отвечает,— а сама и глаз на меня даже
с работы не вскинет; все шьет, все шьет; так игла-то у нее
и летает.
«Постой же,— думаю,— змейка ты зеленая; не очень
еще ты чванься, что ты со мною расплатилась».
«Это,— говорю,— Леканида Петровна, вы мне мои рас¬
ходы вернули, а что ж вы мне за мои за хлопоты пожалу¬
ете?»
«За какие,— спрашивает,— за хлопоты?»
«Как же,— говорю,— я вам стану объяснять? сами, чай,
понимаете».
А она это шьет, наперстком-то по рубцу водит, да и го¬
ворит, не глядя: «Пусть,— говорит,— вам за эти ваши ми¬
лые хлопоты платит тот, кому они были нужны».
«Да ведь вам,— говорю,— они больше всех нужны-то
были».
«Нет, мне,— говорит,— они не были нужны. А впрочем,
сделайте милость, оставьте меня в покое».
212
Довольно с тебя этой дерзости! Но я и ею пренебрег¬
ла. Пренебрегла и оставила, и не говорю с нею, и не го-
ЕОрЮ.
Только на утро, где бы пить чай, смотрю — она убра¬
лась; рубашку эту, что ночью дошила, на себя надела, не¬
дошитые свернула в платочек; смотрю, нагинается, из-под
кровати вытащила кордонку, шляпочку оттуда достает...
Прехорошенькая шляпочка... все во всем ее вкусе... Надела
ее и говорит: «Прощайте, Домна Платоновна».
Жаль мне ее опять тут, как дочь родную, стало: «По¬
стой же,— говорю ей,— постой, хоть чаю-то напейся!»
«Покорно благодарю,— отвечает,— я у себя буду пить
чай».
Понимай, значит,— то, что у себя! Ну, бог с тобой, я и
это мимо ушей пустила.
«Где ж,— говорю,— ты будешь жить?»
«На Владимирской,— говорит,— в Тарховом доме».
«Знаю,— говорю,— дом отличный, только дворники
большие повесы».
«Мне,— говорит,— до дворников дела нет».
«Разумеется,— говорю,— мой друг, разумеется! Ком¬
натку себе, что ли, наняла?»
«Нет,— отвечает,— квартиру взяла, с кухаркой буду
жить».
Вон, вижу, куда заиграло! «Ах ты, хитрая! — гово¬
рю,— хитрая! — шутя на нее, знаешь, пальцем грожусь.—
Зачем же,— говорю,— ты меня обманывала-то, говорила,
что к мужу-то поедешь?»
«А вы,— говорит,— думаете, что я вас обманывала?»
«Да уж,— отвечаю,— что тут думать! когда б имела
желание ехать, то, разумеется, не нанимала б тут кварти¬
ры».
«Ах,—говорит,— Домна Платоновна, как мне вас жал¬
ко! ничего вы не понимаете».
«Ну,— говорю,— уж не хитри, душечка! Вижу, что ты
умно обделала дельце».
«Да вы,— говорит,— что это толкуете! Разве такие мер¬
завки, как я, к мужьям ездят?»
«Ах, мать ты моя! что ты это,— отвечаю,— себя так уж
очень мерзавишь! И в пять раз мерзавней тебя, да с мужь¬
ями живут».
А она, уж совсем это на пороге-то стоючи, вдруг улыб¬
нулась, да и говорит: «Нет, извините меня, Домна Плато¬
новна, я на вас сердилась; ну, а вижу, что на вас нельзя
сердиться, потому что вы совсем глупы».
213
Это вместо прощанья-то! нравится это тебе? «Ну,—
подумала я ей вслед,— глупа-неглупа, а, видно, умней те¬
бя, потому, что я захотела, то с тобой, с умницей, с воспи¬
танной, и сделала».
Так она от меня сошла, не то что с ссорою, а все как
с небольшим удовольствием. И не видала я ее с тех пор,
и не видала, я думаю, больше как год. В это-то время у
меня тут как-то работку Бог давал: четырех купцов я же¬
нила; одну полковницкую дочь замуж выдала; одного на¬
дворного советника на вдове, на купчихе, тоже женила, ну
и другие разные дела тоже перепадали, а тут это товар то¬
же из своего места насылали — так время и прошло. Толь¬
ко вышел тут такой случай: была я один раз у этого само¬
го генерала, с которым Леканидку-то познакомила: к не¬
вестке его зашла. С сыном-то с его я давно была знакома:
такой тоже весь в отца вышел. Ну, прихожу я к невестке,
мантиль блондовую она хотела дать продать, а ее и нет: в
Воронеж, говорят, к Митрофанию угоднику поехала.
«Зайду,— думаю,— по старой памяти к барину».
Всхожу с заднего хода, никого нет. Я потихонечку топы-
топы, да одну комнать прошла и другую, и вдруг, сударь
ты мой, слышу Леканидкин голос: «Шарман мой! — гово¬
рит,— я,— говорит,— люблю тебя; ты одно мое счастье
земное!»
«Отлично,— думаю,— и с папенькой, и с сыночком ро¬
мансы проводит моя Леканида Петровна», да сама опять
топы-топы да теми же пятами вон. Узнаю-поузнаю, как это
она познакомилась с этим, с молодым-то,— аж выходит,
что жена-то молодого сама над нею сжалилась, навещать
ее стала потихоньку, все это, знаешь, жалеючи ее, что та¬
кая будто она дамка образованная да хорошая; она, Ле¬
канидка, ей, не хуже как мне, и отблагодарила. Ну, ниче¬
го, не мое это, значит, дело; знаю и молчу; даже еще по¬
крываю этот ее грех, и где следует виду этого не подаю, что
знаю. Прошло опять чуть не с год ли. Леканидка в ту по¬
ру жила в Кирпичном переулке. Собиралась я это на сре¬
докрестной неделе говеть и иду этак по Кирпичному пере¬
улку, глянула на дом-то да думаю: как это нехорошо, что
мы с Леканидой Петровной такое время поссорившись; те¬
ла и крови готовясь принять — дай зайду к ней, помирюсь!
Захожу. Парад такой в квартире, что лучше требовать
нельзя. Горничная — точно как барышня.
«Доложите,— говорю,— умница, что, мол, кружевница
Домна Платоновна желает их видеть».
Пошла и выходит, говорит: «Пожалуйте».
214
Вхожу в гостиную; таково тоже все парадно, и на ди¬
ване сидит это сама Леканидка и генералова невестка с
ней: обе кофий кушают. Встречает меня Леканидка будто
и ничего, будто со вчера всего только не видались.
Я тоже со всей моей простотой: «Славно,— говорю,—
живешь, душечка; дай Бог тебе и еще лучше».
А она с той что-то вдруг и залопотала по-французски.
Не понимаю я ничего по-ихнему. Сижу, как дура, глазею
по комнате, да и зевать стала.
«Ах,— говорит вдруг Леканидка,— не хотите ли вы,
Домна Платоновна, кофию?»
«Отчего ж,— говорю,— позвольте чашечку».
Она это сейчас звонит в серебряный колокольчик и при¬
казывает своей девке: «Даша,— говорит,— напойте Домну
Платоновну кофием».
Я, дура, этого тогда сразу-то и не поняла хорошенько,
что такое значит напойте; только смотрю, так минут через
десять эта самая ее Дашка входит опять и докладывает:
«Готово,— говорит,— сударыня».
«Хорошо,— говорит ей в ответ Леканидка, да и обора¬
чивается ко мне: — Подите,— говорит,— Домна Платонов¬
на: она вас напоит».
Ух, уж на это меня взорвало! Сверзну я ее, подумала
себе, но удержалась. Встала и говорю: «Нет, покорно вас
благодарю, Леканида Петровна, на вашем угощении. У ме¬
ня,— говорю,— хоть я и бедная женщина, а у меня и свой
кофий есть».
«Что ж,— говорит,— это вы так рассердились?»
«А то,— прямо ей в глаза говорю,— что вы со мной
мою хлеб-соль вместе кушивали, а меня к своей горничной
посылаете: так это мне, разумеется, обидно».
«Да моя,— говорит,— Даша — честная девушка; ее
общество вас оскорблять не может»,— а сама будто, пока¬
залось мне, как улыбается.
«Ах ты, змея,— думаю,— я тебя у сердца моего пригре¬
ла, так ты теперь и по животу ползешь!» «Я,— говорю,—
у этой девицы чести ее нисколько не снимаю, ну только не
вам бы,— говорю,— Леканида Петровна, меня с своими
прислугами за один стол сажать».
«А отчего это,— спрашивает,— так, Домна Платоновна,
не мне?»
«А потому,— говорю,— матушка, что вспомни, что ты
была, и посмотри, что ты есть и кому ты всем этим обя¬
зана».
215
«Очень,— говорит,— помню, что была я честной жен¬
щиной, а теперь я дрянь и обязана этим вам, вашей добро¬
те,. Домна Платоновна».
«И точно,— отвечаю,— речь твоя справедлива, прямая
ты дрянь. В твоем же доме, да ничего не боясь, в глаза те¬
бе эти слова говорю, что ты дрянь. Дрянь ты была, дрянь
и есть, а не я тебя дрянью сделала».
А сама, знаешь, беру свой саквояж.
«Прощай,— говорю,— госпожа великая!»
А эта генеральская невестка-то чахоточная как вскочит,
дохлая: «Как вы,— говорит,— смеете оскорблять Леканиду
Петровну!»
«Смею,— говорю,— сударыня!»
«Леканида Петровна,— говорит,— очень добра, но я,
наконец, не позволю обижать ее в моем присутствии: она
мой друг».
«Хорош,— говорю,— друг!»
Тут и Леканидка, гляжу, вскочила да как крикнет:
«Вон,— говорит,— гадкая ты женщина!»
«А! — говорю,— гадкая я женщина? Я гадкая, да я
с чужими мужьями романсов не провождаю. Какая я ни
на есть, да такого не делала, чтоб и папеньку, и сыночка
одними прелестями-то своими прельщать! Извольте,— го¬
ворю,— сударыня, вам вашего друга, уж вполне,— гово¬
рю,— друг».
«Лжете,— говорит,— вы! Я не поверю вам, вы это со
злости на Леканиду Петровну говорите».
«Ну, а со злости, так вот же,— говорю,— теперь ты ме¬
ня, Леканида Петровна, извини; теперь,— говорю,— уж я
тебя сверзну»,— и все, знаешь, что слышала, что Леканидка
с мужем-то ее тогда чекотала, то все им и высыпала на
стол, да и вон.
— Ну-с,— говорю,— Домна Платоновна?
— Бросил ее старик после этого скандала.
— А молодой?
— Да с молодым нешто у нее интерес был какой! С мо¬
лодым у нее, как это говорится так,— пур-амур любовь шла.
Тоже ведь, гляди ты, шушваль этакая, а без любви никак
дышать не могла. Как же! нельзя же комиссару без шта¬
нов быть. А вот теперь и без любви обходится.
— Вы,— говорю,— почему это знаете, что обходится?
— А как же не знаю! Стало быть, что обходится, ко¬
гда живет в такой жизни, что нынче один князь, а завтра
другой граф; нынче англичанин, завтра итальянец или
ишпанец какой. Уж тут, стало, не любовь, а деньги. Бзы-
216
рит по магазинам да по Невскому в такой коляске лежа¬
чей на рысаках катается...
— Ну, так вы с тех пор с нею и не встречаетесь.
— Нет. Зла я на нее не питаю, но не хожу к ней. Бог
с нею совсем! Раз как-то на Морской нынче по осени вы¬
хожу от одной дамы, а она на крыльцо всходит. Я таки да¬
ла ей дорогу и говорю: «Здравствуйте, Леканида Петров¬
на!» — а она вдруг, зеленая вся, наклонилась ко мне, с
крылечка-то, да этак к самому к моему лицу, и с ласковой
такой миной отвечает: «Здравствуй, мерзавка!»
Я даже не утерпел и рассмеялся.
— Ей-богу! «Здравствуй,— говорит,— мерзавка!» Хо¬
тела я ей тут-то было сказать: не мерзавь, мол, матушка,
сама ты нынче мерзавка, да подумала, что лакей-то этот
за нею, и зонтик у него большой в руках, так уж проходи,
думаю, налево, французская королева.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Со времени сообщения мне Домною Платоновной пове¬
сти Леканиды Петровны прошло лет пять. В течение этих
пяти лет я уезжал из Петербурга и снова в него возвра¬
щался, чтобы слушать его неумолчный грохот, смотреть
бледные, озабоченные и задавленные лица, дышать смра¬
дом его испарений и хандрить под угнетающим впечатле¬
нием его чахоточных белых ночей — Домна Платоновна
была все та же. Везде она меня как-то случайно отыскива¬
ла, встречалась со мной с дружескими поцелуями и объя¬
тиями и всегда неустанно жаловалась на злокозненные про¬
иски человеческого рода, избравшего ее, Домну Платонов¬
ну, своей любимой жертвой и каким-то вечным игралищем.
Много рассказала мне Домна Платоновна в эти пять лет
разных историй, где она была всегда попрана, оскорблена
и обижена за свои же добродетели и попечения о нуждах
человеческих.
Разнообразны, странны и многообильны всякими при¬
ключениями бывали эти интересные и бесхитростные рас¬
сказы моей добродушной Домны Платоновны. Много
я слышал от нее про разные свадьбы, смерти, наследства,
воровства-кражи и воровства-мошенничества, про всякий
нагольный и крытый разврат, про всякие петербургские
мистерии и про вас, про ваши назидательные похождения,
мои дорогие землячки Леканиды Петровны, про вас, везу¬
щих сюда с вольной Волги, из раздольных степей саратов¬
217
ских, с тихой Оки и из золотой, благословенной Украины
свои свежие, здоровые тела, свои задорные, но незлобивые
сердца, свои безумно смелые надежды на рок, на случай,
на свои ни к чему не годные здесь силы и порывания.
Но возвращаемся к нашей приятельнице Домне Плато¬
новне. Вас, кто бы вы ни были, мой снисходительный чи¬
татель, не должно оскорблять, что я назвал Домну Плато¬
новну нашей общей приятельницей. Предполагая в каждом
читателе хотя самое малое знакомство с Шекспиром, я про¬
шу его припомнить то гамлетовское выражение, что «если
со всяким человеком обращаться по достоинству, то очень
немного найдется таких, которые не заслуживали бы поря¬
дочной оплеухи». Трудно бывает проникнуть во святая-
святых человека!
Итак, мы с Домной Платоновной всё водили хлеб-соль
и дружбу; все она навещала меня и вечно, поспешая куда-
нибудь по делу, засиживалась по целым часам на одном
месте. Я тоже был у Домны Платоновны два или три раза
в ее квартире у Знаменья и видел ту каморочку, в кото¬
рой укрывалась до своего акта отречения Леканида Пет¬
ровна, видел ту кондитерскую, в которой Домна Платоновна
брала песочное пирожное, чтобы подкормить ее и утешить;
видел, наконец, двух свежепривозных молодых «дамок»,
которые прибыли искать в Петербурге счастья и попали
к Домне Платоновне «на Леканидкино место»; но никогда
мне не удавалось выведать у Домны Платоновны, какими
путями шла она и дошла до своего нынешнего положения
и до своих оригинальных убеждений насчет собственной
абсолютной правоты и всеобщего стремления ко всякому
обману. Мне очень хотелось знать, что такое происходило
с Домной Платоновной прежде, чем она зарядила: «Э, ге-
ге, нет уж ты, батюшка, со мной, сделай милость, не спорь;
я уж это лучше тебя знаю». Хотелось знать, какова была
та благословенная купеческая семья на Зуше, в которой
(то есть в семье) выросла этакая круглая Домна Плато¬
новна, у которой и молитва, и пост, и собственное цело¬
мудрие, которым она хвалилась, и жалость к людям сходи¬
лись вместе с сватовскою ложью, артистическою наклонно¬
стью к устройству коротеньких браков не любви ради,
а ради интереса, и т. п. Как это, я думал, все пробралось
в одно и то же толстенькое сердце и уживается в нем с та¬
ким изумительным согласием, что сейчас одно чувство тол¬
кает руку отпустить плачущей Леканиде Петровне десять
пощечин, а другое поднимает ноги принести ей песочного
пирожного; то же сердце сжимается при сновидении, как
218
мать чистенько водила эту Леканиду Петровну, и оно же
спокойно бьется, приглашая какого-то толстого борова по¬
спешить как можно скорее запачкать эту Леканиду Петров¬
ну, которой теперь нечем и запереть своего тела!
Я понимал, что Домна Платоновна не преследовала
этого дела в виде промысла, а принимала по-питерски, как
какой-то неотразимый закон, что женщине нельзя выпу¬
таться из беды иначе, как на счет своего собственного па¬
дения. Но все-таки, что же ты такое, Домна Платоновна?
Кто тебя всему этому вразумил и на этот путь поставил?
Но Домна Платоновна, при всей своей словоохотливости,
терпеть не могла касаться своего прошлого.
Наконец неожиданно вышел такой случай, что Домна
Платоновна, совершенно ненароком и без всяких с моей
стороны подходов, рассказала мне, как она была проста
и как «они» ее вышколили и довели до того, что она те¬
перь никому на синь-порох не верит. Не ждите, любезный
читатель, в этом рассказе Домны Платоновны ничего цель¬
ного. Едва ли он много поможет кому-нибудь выяснить
себе процесс умственного развития этой петербургской дея¬
тельницы. Я передаю вам дальнейший рассказ Домны Пла¬
тоновны, чтобы немножко вас позабавить и, может быть,
дать вам случай один лишний раз призадуматься над этой
тупой, но страшной силой «петербургских обстоятельств»,
не только создающих и выработывающих Домну Плато¬
новну, но еще предающих в ее руки лезущих в воду, не
спрося броду, Леканид, для которых здесь Домна стано¬
вится тираном, тогда как во всяком другом месте она сама
чувствовала бы себя перед каждою из них парией или мно¬
го что шутихой.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Был я в Петербурге болен и жил в то время в Колом¬
не. Квартира у меня, как выразилась Домна Платоновна,
«была какая-то особенная». Это были две просторные ком¬
наты в старинном деревянном доме у маленькой деревян¬
ной купчихи, которая недавно схоронила своего очень бла¬
гочестивого супруга и по вдовьему положению занялась
ростовщичеством, а свою прежнюю опочивальню, вместе
с трехспальною кроватью, и смежную с спальней гостиную
комнату, с громадным киотом, перед которым ежедневно
маливался ее покойник, пустила в наем.
У меня в так называемом зале были: диван, обитый
настоящею русской кожей; стол круглый, обтянутый поли-
219
нявшим фиолетовым плисом с совершенно бесцветною
шелковою бахромою; столовые часы с медным арапом; печка
с горельефной фигурой во впадине, в которой настаива¬
лась настойка; длинное зеркало с очень хорошим стеклом
и бронзовою арфою на верхней доске высокой рамы. На
стенах висели: масляный портрет покойного императора
Александра I; около него, в очень тяжелых золотых рамах
за стеклами, помещались литографии, изображавшие четы¬
ре сцены из жизни королевы Женевьевы; император Напо¬
леон по инфантерии и император Наполеон по кавалерии;
какая-то горная вершина; собака, плавающая на своей ко¬
нуре, и портрет купца с медалью на анненской ленте.
В дальнем угле стоял высокий, трехъярусный образник
с тремя большими иконами с темными ликами, строго смот¬
ревшими из своих блестящих золоченых окладов; перед
образником лампада, всегда тщательно зажигаемая моею
набожной хозяйкой, а внизу под образами шкафик с полу¬
круглыми дверцами и бронзовым кантом на месте створа.
Все это как будто не в Петербурге, а будто на Замоскво¬
речье или даже в самом городе Мценске. Спальня моя
была еще более мценская; даже мне казалось, что та трех¬
спальная постель, в пуховиках которой я утопал, была не
постель, а именно сам Мценск, проживающий инкогнито
в Петербурге. Стоило только мне погрузиться в эти пухо¬
вые волны, как какое-то снотворное, маковое покрывало
тотчас надвигалось на мои глаза и застилало от них весь
Петербург с его веселящейся скукой и скучающей весе¬
лостью. Здесь, при этой-то успокоивающей мценской обста¬
новке, мне снова довелось всласть побеседовать с Домной
Платоновной.
Я простудился, и врач велел мне полежать в постели.
Раз, так часу в двенадцатом серенького мартовского
дня, лежу я уже выздоравливающий и, начитавшись досы¬
та, думаю: «Не худо, если бы кто-нибудь и зашел», да не
успел я так подумать, как словно с этого моего желания
сталось — дверь в мою залу скрипнула, и послышался ве¬
селый голос Домны Платоновны:
— Вот как это у тебя здесь прекрасно! и образа, и сия¬
ние перед Божьим благословением — очень-очень даже
прекрасно.
— Матушка,— говорю,— Домна Платоновна, вы ли
это?
— Да некому,— отвечает,— друг мой, и быть, как не
мне.
Поздоровались.
220
— Садитесь! — прошу Домну Платоновну.
Она села на креслице против моей постели и ручки
свои с белым платочком на коленочки положила.
— Чем так хвораешь? — спрашивает.
— Простудился,— говорю.
— А то нынче очень много народу всё на животы жа¬
луются.
— Нет, я,— говорю,— я на живот не жалуюсь.
— Ну, а на живот не жалуешься, так это пройдет.
Квартира у тебя нынче очень хороша.
— Ничего,— говорю,— Домна Платоновна.
— Отличная квартира. Я эту хозяйку, Любовь Петров¬
ну, давно знаю. Прекрасная женщина. Она прежде была
испорчена и на голоса крикивала, да, верно, ей это прошло.
— Не знаю,— говорю,— что-то будто не слышно, не
кричит.
— А у меня-то, друг мой, какое горе! — проговорила
Домна Платоновна своим жалостным голосом.
— Что такое, Домна Платоновна?
— Ах, такое, дружочек, горе, такое горе, что... ужасное,
можно сказать, и горе, и несчастье, все вместе. Видишь, вон
в чем я нынче товар-то ношу.
Посмотрел я, перегнувшись с кровати, и вижу на столи¬
ке кружева Домны Платоновны, увязанные в черном шел¬
ковом платочке с белыми каемочками.
— В трауре,— говорю.
— Ах, милый, в трауре, да в каком еще трауре-то!
— Ну, а саквояж ваш где же?
— Да вот о нем-то, о саквояже-то, я и горюю. Пропал
ведь он, мой саквояж.
— Как,— говорю,— пропал?
— А так, друг мой, пропал, что и по се два дни, как
вспомню, так, Господи, думаю, неужели ж таки такая
я грешница, что ты этак меня испытуешь? Видишь, как
удивительно это все случилось: видела я сон; вижу, будто
приходит ко мне какой-то священник и приносит каравай,
вот как, знаешь, в наших местах из каши из пшенной пе¬
кут. «На, говорит, тебе, раба, каравай».— «Батюшка,—
говорю,— на что же мне и к чему каравай?» Так вот ви¬
дишь, к чему он, этот каравай-то, вышел — к пропаже.
— Как же это,— спрашиваю,— Домна Платоновна,
было?
— Было это, друг мой, очень удивительно. Ты знаешь
купчиху Кошеверову?
— Нет,— говорю,— не знаю.
221
— А не знаешь, и не надо. Мы с ней приятельницы,
и то есть даже не совсем и приятельницы, потому что она
женщина преехидная и довольно даже подлая, ну, а так
себе, знаешь, вот вроде как с тобой, знакомы. Зашла я к
ней так-то на свое несчастье вечером, да и засиделась. Все
она, чтоб ей пусто было совсем, право, посиди да посиди,
Домна Платоновна. Все ведь с жиру-то чем убивалась? что
муж ее не ревнует, а чего ревновать, когда с рожи она
престрашная и язык у нее такой пребольшущий, как у по¬
пугая. Рассказывает, болели у нее зубы, да лекарь велел ей
поставить пиявицу врачебную к зубу, а фершалов мальчик
ей эту пиявицу к языку припустил, и пошел у нее с тех пор
в языке опух. Опять же таки у меня в этот вечер и дело
было: к Пяти Углам надо было в один дом сбегать к куп¬
цу — жениться тоже хочет; но она, эта Кошевериха, не
пущает.
«Погоди,— говорит,— киевской наливочки выпьем, да
Фадей Семенович,— говорит,— от всенощной придет, чай¬
ку напьемся: куда тебе спешить?»
«Как,— говорю,— мать, куда спешить?»
Ну, а сама все-таки, как на грех, осталась, да это то
водочки, то наливочки, так налилась, что даже в голове
у меня, чувствую, засточертело.
«Ну,— говорю ей,— извини, Варвара Петровна, очень
тебе на твоем угощении благодарна, только уж больше пить
не могу».
Она пристает, потчует, а я говорю:
«Лучше, мать моя, и не потчуй. Я свою плипорцию
знаю и ни за что больше пить не стану».
«Сожителя,— говорит,— подожди».
«И сожителя,— говорю,— ждать не буду».
Стала на своем, что иду и иду, и только. Потому, зна¬
ешь, чувствую, что в голове-то уж у меня чертополох по¬
шел. Выхожу это я, сударь ты мой, за ворота, поворачи¬
ваю на Разъезжую и думаю: возьму извозчика. Стоит тут
сейчас на угле живейный, я и говорю:
«Что, молодец, возьмешь к Знаменью Божей Матери?»
«Пятиалтынный».
«Ну, как,— отвечаю ему,— не пятиалтынный! пятачок».
А сама, знаешь, и иду по Разъезжей. Светло везде; фо¬
нари горят; газ в магазинах; и пешком, думаю, дойду, ес¬
ли не хочешь, варвар, пятачка взять, этакую близость
проехать.
Только вдруг, сударь мой, порх этак передо мною ка¬
кой-то господин. В пальте, в фуражке это, в калошах, ну,
222
одно слово — барин. И откуда это только он передо мною
вырос, вот хоть убей ты меня, никак не понимаю.
«Скажите,— говорит,— сударыня (еще сударыней, под¬
лец, назвал), скажите,— говорит,— сударыня, где тут
Владимирская улица?»
«А вот,— говорю,— милостивый государь, как прямо-
то пойдете, да сейчас будет переулок направо...» — да толь¬
ко это-то выговорила, руку-то, знаешь, поднявши ему ука¬
зываю, а он дерг меня за саквояж.
«Наше,— говорит,— вам сорок одно да кланяться хо¬
лодно»,— да и мах от меня.
«Ах,— говорю,— ты варвар! ах, мерзавец ты этакой!»
Все это еще за одну надсмешку только считаю. Но с этим
словом глядь, а саквояжа-то моего нет.
«Батюшки! — заорала я что было у меня силы, во всю
мою глотку.— Батюшки! — ору,— помогите! догоните его,
варвара! догоните его, злодея!» И сама-то, знаешь, бегу-
натыкаюсь, и людей-то за руки ловлю, тащу: помогите,
мол, защитите: саквояж мой сейчас унес какой-то варвар!
бегу, бегу, ажно ноженьки мои стали, а его, злодея, и след
простыл. Ну, и то сказать, где ж мне, дыне этакой, его,
пса подчегарого, догнать! Обернусь так-то на народ, крик¬
ну: «Варвары! что ж вы глазеете! креста на вас нет, что
ли?» Ну, бегла, бегла, да и стала. Стала и реву. Так
ревма и реву, как дура. Сижу на тунбе, да и реву.
Собрался около меня народ, толкует: «Пьяная, должно
быть».
«Ах вы, варвары,— говорю,— этакие! Сами вы пьяные,
а у меня саквояж сейчас из рук украдено».
Тут городовой подошел. «Пойдем,— говорит,— тетка,
в квартал».
Приводит меня городовой в квартал, я опять закричала.
Смотрю, из двери идет квартальный поручик и говорит:
«Что ты здесь, женщина, этак шумишь?»
«Помилуйте,— говорю,— ваше высокоблагородие, меня
так и так сейчас обкрадено».
«Написать,— говорит,— бумагу».
Написали.
«Теперь иди,— говорит,— с Богом».
Я пошла.
Прихожу через день: «Что,— говорю,— мой саквояж,
ваше благородие?»
«Иди,— говорит,— бумаги твои пошли, ожидай».
Ожидаю я, ожидаю; вдруг в часть меня требуют. При¬
вели в этакую большую комнату, и множество там лежит
223
этих саквояжев. Частный майор, вежливый этакой мужчи¬
на и собою красив, узнайте, говорит, ваш саквояж.
Посмотрела я — всё не мои саквояжи.
«Нет-с,— говорю,— ваше высокоблагородие, нет здесь
моего саквояжа».
«Выдайте,— приказывает,— ей бумагу».
«А в чем,— спрашиваю,— ваше высокоблагородие, мне
будет бумага?»
«В том,— говорит,— матушка, что вас обкрадено».
«Что ж,— докладываю ему,— мне по этой бумаге, ваше
высокоблагородие?»
«А что ж, матушка, я вам еще могу сделать?»
Дали мне эту бумагу, что меня точно обкрадено,
и идите, говорят, в благочинную управу. Прихожу я нонче
в благочинную управу, подаю эту бумагу; сейчас выходит
из дверей какой-то член, в полковницком одеянии, повел
меня в комнату, где видимо-невидимо лежит этих сакво¬
яжев.
«Смотрите»,— говорит.
«Вижу, мол, ваше высокоблагородие; ну только моего
саквояжа нет».
«Ну, погодите,— говорит,— сейчас вам генерал на бу¬
маге подпишет».
Сижу я и жду-жду, жду-жду; приезжает генерал: пода¬
ли ему мою бумагу, он и подписал.
«Что ж это такое генерал подписали на моей бума¬
ге?»— спрашиваю чиновника.
«А подписали,— отвечает,— что вас обкрадено». Держу
эту бумагу при себе.
— Держите,— говорю,— Домна Платоновна.
— Неравно сыщется.
— Что ж, на грех мастера нет.
— Ох, именно уж нет на грех мастера! Что б это мне,
кабы знатье-то, остаться у нее, у Кошеверихи-то, перено¬
чевать.
— Да хоть бы,— говорю,— уж на извозчика-то вы не
пожалели.
— Об извозчике ты не говори; извозчик все равно та¬
кой же плут. Одна ведь у них у всех, у подлецов, стачка.
— Ну где,— говорю,— так уж у всех одна стачка! Раз¬
ве их мало, что ли?
— Да вот ты поспорь! Я уж это мошенничество вот
как знаю.
Домна Платоновна поднесла вверх крепко сжатый ку¬
лак и посмотрела на него с некоторой гордостью.
224
— Со мной извозчик-то, когда я еще глупа была, луч¬
ше гораздо сделал,— начала она, опуская руку.— С выва¬
лом, подлец, вез, да и обобрал.
— Как это,— говорю,— с вывалом?
— А так, с вывалом, да и полно: ездила я зимой на
Петербургскую сторону, барыне одной мантиль кружевную
в кадетский корпус возила. Такая была барынька малень¬
кая и из себя нежная, ну, а станет торговаться — раскри¬
чится, настоящая примадона. Выхожу я от нее, от этой ба¬
рыньки, а уж темнеет. Зимой рано, знаешь, темнеет. Спе¬
шу это, спешу, чтоб до пришпекта скорей, а из-за угла из¬
возчик, и этакой будто вохловатый мужичок. Я, говорит,
дешево свезу.
«Пятиалтынный, мол, к Знаменью»,— даю ему.
— Ну, как же это,— перебиваю,— разве можно давать
так дешево, Домна Платоновна!
— Ну вот, а видишь, можно было. «Ближней доро¬
гой,— говорит,— поедем». Все равно! Села я в сани — сак¬
вояжа тогда у меня еще не было: в платочке тоже все но¬
сила. Он меня, этот черт извозчик, и повез ближней доро¬
гой, где-то по-за крепостью, да на Неву, да все по льду,
да по льду, да вдруг как перед этим, перед берегом, насу¬
проти самой Литейной, каа-ак меня чебурахнет в ухаб. Так
меня, знаешь, будто снизу-то кто под самое под донышко-
то чук! — я и вылетела... Вылетела я в одну сторону, а узе¬
лок и бог его знает куда отлетел. Подымаюсь я, вся чуня-
чуней, потому вода по колдобинам стояла. «Варвар! — кри¬
чу на него,— что ты это, варвар, со мной сделал?» А он
отвечает: «Ведь это,— говорит,— здесь ближняя дорога,
здесь без вывала невозможно».— «Как,— говорю,— тиран
ты этакой, невозможно? Разве так,— говорю,— возят?»
А он, подлец, опять свое говорит: «Здесь, купчиха, завсег¬
да с вывалом; я потому,— говорит,— пятиалтынный и взял,
чтобы этой ближней дорогой ехать». Ну, говори ты с ним,
с извергом! Обтираюсь я только да оглядываюсь; где мой
узелочек-то оглядываюсь, потому как раскинуло нас сов¬
сем врозь друг от друга. Вдруг откуда ни возьмись этакой
офицер, или вроде как штатский какой с усами: «Ах ты,
бездельник этакой! — говорит,— мерзавец! везешь ты эта¬
кую даму полную и этак неосторожно?» — а сам к нему
к зубам так и подсыкается.
«Садитесь,— говорит,— сударыня, садитесь, я вас за¬
стегну».
«Узелок,— говорю,— милостивый государь, я оброни¬
ла, как он, изверг, встряхнул-то меня».
8. Н. С. Лесков, т. 5.
225
«Вот,— говорит,— вам ваш узелок»,— и подает.
«Ступай, подлец,— крикнул на извозчика,— да смо¬
трри! А вы,— говорит,— сударыня, ежели он опять
вас вывалит, так вы его без всяких околичностей в
морду».
«Где,— отвечаю,— нам, женчинам, с ними, с мереньями,
справиться».
Поехали.
Только, знаешь, на Гагаринскую взъехали — гляжу,
мой извозчик чего-то пересмеивается.
«Чего, мол, умный молодец, еще зубы скалишь?»
«Да так,— говорит,— намеднясь я тут дешево жида вез,
да как вспомню это, и не удержусь».
«Чего ж,— говорю,— смеяться?»
«Да как же,— говорит,— не смеяться, когда он мордою-
то прямо в лужу, да как вскочит, да кричит юх, а сам все
вертится».
«Чего же,— спрашиваю,— это он так юхал?»
«А уж так,— говорит,— видно, это у них по религии».
Ну, тут и я начала смеяться.
Как вздумаю этого жида, так и не могу воздержаться,
как он бегает да кричит это юх, юх.
«Пустая же самая,— говорю,— после этого их и рели¬
гия».
Приехали мы к дому к нашему, встаю я и говорю:
«Хоша бы стоило тебя,— говорю,— изверга, наказать
и хоть пятачок с тебя вычесть, ну, только греха одного
боясь: на тебе твой пятиалтынный».
«Помилуйте,— говорит,— сударыня, я тут ничем непри¬
чинен: этой ближней дорогой никак без вывала невозмож¬
но; а вам,— говорит,— матушка, ничего: с того растете».
«Ах, бездельник ты,— говорю,— бездельник! Жаль,—
говорю,— что давешний барин мало тебе в шею-то на¬
клал».
А он отвечает: «Смотри,— говорит,— ваше степенство,
не оброни того, что он тебе-то наклал»,— да с этим нно!
на лошаденку и поехал.
Пришла я домой, поставила самоварчик и к узелку:
думаю, не подмок ли товар; а в узелке-то, как глянула, так
и обмерла. Обмерла, я тебе говорю, совсем обмерла. Хочу
взвесть голос, и никак не взведу; хочу идти, и ножки мои
гнутся.
— Да что ж там такое было, Домна Платоновна?
— Что — стыдно сказать что: гадости одни были.
— Какие гадости?
226
— Ну известно, какие бывают гадости: шароварки ски¬
нутые — вот что было.
— Да как же,— говорю,— это так вышло?
— А вот и рассуждай ты теперь, как вышло. Меня по¬
первоначалу это-то больше и испугало, что как он на Неве
скинуть мог их да в узелок завязать. Вижу и себе не верю.
Прибежала я в квартал, кричу: батюшки, не мой узел.
«Знаем,— говорят,— что немой; рассказывай толком».
Рассказала.
Повели меня в сыскную полицию. Там опять рассказа¬
ла. Сыскной рассмеялся.
«Это, верно,— говорит,— он, подлец, из бани шел».
А враг его знает, откуда он шел, только как это он мне
этот узелок подсунул?
— В темноте,— говорю,— немудрено, Домна Плато¬
новна.
— Нет, я к тому, что ты говоришь извозчик-то: не об¬
рони, говорит, что накладено! Вот тебе и накладено, и ра¬
зумей, значит, к чему эти его слова-то были.
— Вам бы,— говорю,— надо тогда же, садясь в сани,
на узелок посмотреть.
— Да как, мой друг, хочешь смотри, а уж как обмошен¬
ничать тебя, так все равно обмошенничают.
— Ну, это,— говорю,— уж вы того...
— Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты сделай свое одолжение: в гла¬
зах тебя самого не тем, чем ты есть, сделают. Я тебе вот
какой случай скажу, как в глаза-то нашего брата обделы¬
вают. Иду я — вскоре это еще как из своего места сюда
приехала,— и надо мне было идти через Апраксин. Тогда
там теснота была, не то что теперь, после пожару — теперь
прелесть как хорошо, а тогда была ужасная гадость. Ну,
иду я, иду себе. Вдруг откуда ни возьмись молодец этакой,
из себя красивый: «Купи, говорит, тетенька, рубашку».
Смотрю, держит в руках ситцевую рубашку, совсем новую,
и ситец преотличный такой — никак не меньше как гривен
шесть за аршин надо дать.
«Что ж,— спрашиваю,— за нее хочешь?»
«Два с полтиной».
«А что,— говорю,— из половинки уступишь?»
«Из какой половины?»
«А из любой,— говорю,— из какой хочешь». Потому
что я знаю, что в торговле за всякую вещь всегда половину
надо давать.
«Нет,— отвечает.— тетка, тебе, видно, не покупать хо¬
роших вещей»,— и из рук рубашку, знаешь, дергает.
227
«Дай же»,— говорю, потому вижу, рубашка отличная,
целковых три кому не надо стоит.
«Бери,— говорю,— рупь».
«Пусти,— говорит,— мадам!» — дернул и, вижу, свер¬
тывает ее под полу и оглядывается. Известное дело, думаю,
краденая; подумала так и иду, а он вдруг из-за линии вы¬
скакивает: «Давай,— говорит,— тетка, скорей деньги. Бог
с тобой совсем: твое, видно, счастье владеть».
Я ему это в руки рупь-бумажку даю, а он мне самую
эту рубаху скомканную отдает.
«Владай,— говорит,— тетенька», а сам верть назад и
пошел.
Я положила в карман портмоне, да покупку-то эту свою
разворачиваю, аж гляжу — хлоп у меня к ногам что-то
упало. Гляжу — мочалка старая, вот что в небели бывает.
Я тогда еще этих петербургских обстоятельств всех не зна¬
ла, дивуюсь: что, мол, это такое? да на руки-то свои глядь,
а у меня в руках лоскут! Того же самого ситца, что рубаш¬
ка была, так лоскуток один с пол-аршина. А эти мереньё
приказчики грохочут: «К нам,— трещат,— тетенька, пожа¬
луйте; у нас,— говорят,— есть и фас-канифас и для глупых
баб припас». А другой опять подходит: «У нас,— гово¬
рит,— тетенька, для вашей милости саван есть подержан¬
ный чудесный». Я уж это все мимо ушей пущаю: шут, ду¬
маю, с вами совсем. Даже, я тебе говорю, сомлела я; страх
на меня напал, что это за лоскут такой? Была рубашка,
а стал лоскут. Нет, друг мой, они как захотят, так всё сде¬
лают. Ты Егупова полковника знаешь?
— Нет, не знаю.
— Ну как, чай, не знать! Красивый такой, брюхастый:
отличный мужчина. Девять лошадей под ним на войне уби¬
ли, а он жив остался: в газетах писано было об этом.
— Я его все-таки, Домна Платоновна, не знаю.
— Что нам с ним один варвар сделал? Это, я тебе го¬
ворю, роман, да еще и романов-то таких немного — на
театре разве только можно представить.
— Матушка,— говорю,— вы уж не мучьте, рассказы¬
вайте!
— Да, эту историю уж точно что стоит рассказать.
Как он только называется?.. есть тут землемер... Кумовеев
ни то Макавеев, в седьмой роте в Измайловском он жил.
— Бог с ним.
— Бог с ним? Нет, не Бог с ним, а разве черт с ним,
так это ему больше кстати.
— Да это я только о фамилии-то.
228
— Да, о фамилии — ну, это пожалуй; фамилия ниче¬
го — фамилия простая, а что сам уж подлец, так самый
первый в столице подлец. Пристал: «Жени меня, Домна
Платоновна!»
«Изволь,— говорю,— женю; отчего,— говорю,— не же¬
нить? — женю».
Из себя он тварь этакая видная, в лице белый и усики
этак твердо носит.
Ну, начинаю я его сватать; отягощаюсь, хожу, выиска¬
ла ему невесту из купечества — дом свой на Песках, и де¬
вушка порядочная, полная, румяная; в носике вот тут-то
в самой в переносице хоть и был маленький изъянец, но
ничего это — потому от золотухи это было. Хожу я, и его,
подлеца, с собою вожу, и совсем уж у нас дело стало на
мази. Тут уж я, разумеется, надзираю за ним как не надо
лучше, потому что это надо делать безотходительно, да уж
и был такой и слух, что он с одной девицей из купечества
обручившись и деньги двести серебра на окипировку себе
забрал, а им дал женитьбенную расписку, но расписка эта
оказалась коварная, и ничего с ним по ней сделать не мог¬
ли. Ну, уж знавши такое про человека, разумеется, смот¬
ришь в оба — нет-нет, да и завернешь с визитом. Только
прихожу, сударь мой, раз один к нему — а он, надо тебе
знать, две комнаты занимал: в одной так у него спальния
его была, а в другой вроде зальца. Вхожу это и вижу,
дверь из зальцы в спальню к нему затворена, а какой-то
этакой господин под окном, надо полагать вояжный; пото¬
му ледунка у него через плечо была, и сидит в кресле и
трубку курит. Это-то вот он самый полковник-то Егупов
и будет.
«Что,— я говорю, этак сама-то к нему оборачиваюсь,—
или,— говорю,— хозяина дома нет?»
А он мне на это таково сурово махнул головой и ниче¬
го не ответил, так что я не узнала: дома землемер или его
нету.
Ну, думаю, может, у него там дамка какая, потому что
хоть он и жениться собирается, ну а все же. Села я себе
и сижу. Но нехорошо же, знаешь, так в молчанку сидеть,
чтоб подумали, что ты уж и слова сказать не умеешь.
«Погода,— говорю,— стоит нынче какая преотличная».
Он это сейчас же на мои слова вскинул на меня глаза¬
ми, да, как словно из бочки, как рявкнет: «Что,— гово¬
рит,— такое?»
«Погода,— опять говорю,— стоит очень приятная».
«Врешь,— говорит,— пыль большая».
229
Пыль-таки и точно была, ну, а все я, знаешь, тут же
подумала, что ты, мол, это такой? Из каких таких взялся,
что очень уж рычишь сердито?
«Вы,— говорю ему опять,— как Степану Матвеевичу —
сродственник будете или приятели только, знакомые?»
«Приятель»,— отвечает.
«Отличный,— говорю,— человек Степан Матвеевич».
«Мошенник,— говорит,— первой руки».
Ну, думаю, верно Степана Матвеевича дома нет.
«Вы,— говорю,— давно их изволите знать?»
«Да знал,— говорит,— еще когда баба девкой была».
«Это,— отвечаю,— сударь, и с тех пор, как я их зазнала,
может, не одна уж девка бабой ходит, ну только я не хочу
греха на душу брать — ничего за ними худого не заме¬
чала».
А он ко мне этак гордо:
«Да у тебя на чердаке-то что,— говорит,— напхано? —
сено!»
«Извините,— говорю,— милостивый государь, у меня,
слава моему Создателю, пока еще на плечах не чердак,
а голова, и не сено в ней, а то же самое, что и у всякого
человека, что Богом туда приназначено».
«Толкуй!» — говорит.
«Мужик ты,— думаю себе,— мужиком тебе и быть».
А он в это время вдруг меня и спрашивает:
«Ты,— говорит,— его брата Максима Матвеева зна¬
ешь?»
«Не знаю,— говорю,— сударь: кого не знаю, про того
и лгать не хочу, что знаю».
«Этот,— говорит,— плут, а тот и еще почище. Глухой».
«Как,— говорю,— глухой?»
«А совсем-таки,— говорит,— глухой: одно ухо глухо,
а в другом золотуха, и обоими не слышит».
«Скажите,— говорю,— как удивительно!»
«Ничего,— говорит,— тут нет удивительного».
«Нет, я, мол, только к тому, что один брат такой кра¬
савец, а другой — глух».
«Ну да; то-то совсем ничего в этом и нет удивительно¬
го; вон у меня у сестры на роже красное пятно, как лягуш¬
ка точно сидит: что ж мне-то тут такого!»
«Родительница,— говорю,— верно, в своем интересе
чем испугалась?»
«Самовар,— говорит,— ей девка на пузо вывернула».
Ну, я тут-то вежливо пожалела.
230
«Долго ли,— говорю,— с этими, с быстроглазыми, до
греха»,— а он опять и начинает:
«Ты,— говорит,— если только не совсем ты дура, так
разбери: он, этот глухой брат-то его, на лошадей охотник
меняться».
«Так-с»,— говорю.
«Ну, а я его вздумал от этого отучить, взял да ему
слепого коня и променял, что лбом в забор лезет».
«Так-с»,— говорю.
«А теперь мне у него для завода бычок понадобился,
я у него этого бычка и купил, и деньги отдал; а он, выхо¬
дит, совсем не бык, а вол».
«Ах,— говорю,— боже мой, какая оказия! Ведь это,—
говорю,— не годится».
«Уж разумеется,— говорит,— когда вол, так не годит¬
ся. А вот я ему, глухому, за это вот какую шутку отшучу:
у меня на этого его брата, Степана Матвеича, расписка во
сто рублей есть, а у них денег нет; ну, так я им себя те¬
перь и покажу».
«Это,— говорю,— точно, что можете показать».
«Так ты,— говорит,— так и знай, что этот Максим
Матвеич — каналья, и я вот его только дождусь и сейчас
его в яму».
«Я, мол, их точно в тонкость не знаю, а что сватаючи
их, сама я их порочить не должна»,
«Сватаешь!» — вскрикнул.
«Сватаю-с».
«Ах ты,— говорит,— дура ты, дура! Нешто ты не зна¬
ешь, что он женатый?»
«Не может,— говорю,— быть!»
«Вот тебе и не может, когда трое детей есть».
«Ах, скажите,— говорю,— пожалуйста!» «Ну, Сте¬
пан,— думаю,— Матвеич, отличную ж вы было со мной
штуку подшутили!» — и говорю, что стало быть же, гово¬
рю, как я его теперь замечаю, он, однако, фортель!
А он, этот полковник Егупов, говорит: «Ты если хо¬
чешь кого сватать, так самое лучшее дело — меня сосва¬
тай».
«Извольте, мол».
«Нет, я,— говорит,— это тебе без всяких шуток вправ¬
ду говорю».
«Да извольте,— отвечаю,— извольте!»
«Ты мне, кажется, не веришь?»
«Нет-с, отчего же: это, мол, действительно, если чело¬
век имеет расположение от рассеянной жизни увольнить-
231
ся, то самое первое дело ему жениться на хорошей де¬
вушке».
«Или,— говорит,— хоть на вдове, но чтоб только
с деньгами».
«Да, мол, или на вдове».
Псшли у нас тут с ним разговоры; дал он мне свой
адрес, и стала я к нему ходить. Что только тоже я с ним,
с аспидом, помучилась! Из себя страшный-большой и эта¬
кой фантастический — никогда он не бывает в одном поло¬
жении, а всякого принимает по фантазии. Есть, разумеется,
у людей разное расположение, ну только такого мужчину,
как этот Егупов, не дай господи никакой жене на свете.
Станет, бывало, бельма выпучит, а сам, как клоп, кровью
нальется — орет: «Я тебя кверху дном поставлю и выворо¬
чу. Сейчас наизнанку будешь!» Глядя на это, как он бес¬
нуется, думаешь: «ах, обиду какую кровную ему кто на¬
нес!» — а он сердит оттого, что не тем боком корова поче¬
салась. Ну, однако, сосватала я и его на одной вдове на
купеческой. Такая-то, тоже ему под пару, точно на заказ
была спечена, туша присноблаженная. Ну-с, сударь ты мой,
отбылись смотрины, и сговор назначили.
Приезжаем мы с ним на этот сговор, много гостей —
родственники с невестиной стороны и знакомые, всё хоро¬
шего поколения, значительного, и смотрю, промеж гостей,
в одном угле на стуле сидит — этот землемер Степан Ма¬
твеич.
Очень это мне не показалось, что он тут, но ничего
я не сказала.
Верно, думаю, должно быть его из ямы выпустили, он
и пришел по знакомству.
Ну, впрочем, идет все как следует. Прошла помолвка,
прошло образование, и все ничего. Правда, дядя невестин,
Колобов Семен Иваныч, купец, пьяный пришел и начал
было врать, что это, говорит, совсем не полковник, а Фе¬
доровой банщицы сын. «Лизни,— говорит,— его кто-ни¬
будь языком в ухо, у него такая привычка, что он сейчас
за это драться станет. Я,— болтает,— его знаю; это он
одел эполеты, чтоб пофорсить, но я с него эти эполеты сей¬
час сорву», ну, только этого же не допустили, и Семена
Иваныча самого за это сейчас отвели в пустую половину,
в холодную.
Но вдруг, во время самого благословения, отец неве¬
стин поднимает образ, а по зале как что-то загудет! Тот
опять поднимает икону, а по зале опять гу-у-у-у! — и вдруг
явственно выговаривает:
232
«Нечего,— говорит,— петь Исаю, когда Мануил в чреве».
Господи! даже отороп на всех напал. Невесте конфуз;
Егупов, гляжу, тоже бельмами-то своими на меня.
Ну что, думаю, ты-то! ты-то что, батюшка, на меня
остребенился, как черт на попа?
А в зале опять как застонет:
«К небесам в поле пыль летит, к женатому жениху —
жена катит, Богу молится, слезьми обливается».
Бросились туда-сюда — никого нет.
Боже мой, что тут поднялось! Невестин отец образ по¬
ставил да ко мне, чтоб бить; а я, видючи, что дело до ме¬
ня доходит, хвост повыше подобрамши, да от него драла.
Егупов божится, что он сроду женат не был: говорит, хоть
справки наведите, а глас все свое, так для всех даже вни¬
мательно: «Не вдавайте,— говорит,— рабы, отроковицу на
брак скверный». Все дело в расстрой! — Что ж, ты дума¬
ешь, все это было?.. Приходит ко мне после этого через
неделю Егупов сам и говорит: «А знаешь,— говорит,—
Домна, ведь это все подлец землемер пупком говорил!»
— Ну, как так,— спрашиваю,— Домна Платоновна,
пупком?
— А пупком, или чревом там, что ли, бес его лукавый
знает, чем он это каверзил. То есть я тебе говорю, что все
это они нонче один перед другим ухитряются, один перед
другим выдумывают, и вот ты увидишь, что они чисто все
государство запутают и изнищут.
Я даже смутился при выражении Домною Платоновною
совершенно неожиданных мною опасений за судьбы рос¬
сийского государства. Домна Платоновна, всеконечно, за¬
метила это и пожелала полюбоваться производимым ею по¬
литическим эффектом.
— Да, право, ей-богу! — продолжала она ноткою вы¬
ше.— Ты только сам, помилуй, скажи, что хитростев вся¬
ких настало? Тот летит по воздуху, что птице одной назна¬
чено; тот рыбою плавает и на дно морское опускается; тот
теперь — как на Адмиралтейской площади — огонь серный
ест; этот животом говорит; другой — еще что другое, что
человеку непоказанное — делает... Господи! бес, лукавый
сам, и тот уж им повинуется, и все опять же такие не
к пользе, а ко вреду. Со мной ведь один раз было же, что
была я отдана бесам на поругание!
— Матушка,— говорю,— неужто и это было?
— Было.
— Так не томите, рассказывайте.
— Давно это, лет, может быть, двенадцать тому будет,
233
молода я еще в те поры была и неопытна, и задумала я,
овдовевши, торговать. Ну, чем, думаю, торговать? —
Лучше нечем, по женскому делу, как холстом, потому —
женщина больше в этом понимает, что к чему принадлежит.
Накуплю, думаю, на ярманке холста и сяду у ворот на
скамеечке и буду продавать. Поехала я на ярманку, наку¬
пила холста, и надо мне домой ворочаться. Как, думаю, те¬
перь мне с холстом домой ворочаться? А на двор на постоя¬
лый, хлоп, взъезжает троешник.
«Везли мы,— сказывает,— из Киева, в коренную, на
семи тройках орех, да только орех мы этот подмочили,
и теперь,— говорит,— сделало с нас купечество вычет,
и едем мы к дворам совсем без заработка».
«Где ж,— спрашиваю,— твои товарищи?»
«А товарищи,— отвечает,— кто куда в свои места по¬
ехали, а я думаю, не найду ли хоть седочков каких».
«Откуда же,— пытаюсь,— из каких местов ты сам?»
«А я куракинский,— говорит,— из села из Куракина».
Как раз это мне к своему месту. «Вот,— говорю,—
я тебе одна седачка готовая».
Поговорили мы с ним и на рубле серебра порешили, что
пойдет он по дворам, чтоб еще седоков собрать, а завтра
чтоб в ранний обед и ехать.
Смотрю, завтра это вдруг валит к нам на двор один
человек, другой, пятый, восьмой, и всё мужчины из торгов¬
цев, и красики такие полные. Вижу, у одного мешок, у дру¬
гого — сумка, у третьего — чемодан, да еще ружье у од¬
ного.
«Куда ж,— говорю извозчику,— ты это нас всех запи¬
хаешь?»
«Ничего,— говорит,— улезете — повозка большая, сто
пудов возим». Я, признаться, было хоть и остаться рада,
да рупь-то ему отдан, и ехать опять не с кем.
С горем с таким и с неудовольствием, ну, однако, по¬
ехала. Только что за заставу мы выехали, сейчас один
из этих седоков говорит: «Стой у кабака!» Пили они тут
много и извозчика поят. Поехали. Опять с версту отъеха¬
ли, гляжу — другой кричит: «Стой,— говорит,— здесь
Иван Иваныч Елкин живет, никак,— говорит,— его минать
не должно».
Раз они с десять этак останавливались всё у своего
Ивана Иваныча Елкина.
Вижу я, что дело этак уж к ночи и что извозчик наш
распьяным-пьяно-пьян сделался.
«Ты,— говорю,— не смей больше пить».
234
«Отчего это так,— отвечает,— не смей? Я и так,— го¬
ворит,— не смелый, я все это не смеючи действоваю».
«Мужик,— говорю,— ты, и больше ничего».
«Ну-к что ж, что мужик! а мне,— говорит,— абы
водка».
«Тварь-то, глупец,— учу его,— пожалел бы свою!»
«А вот я,— говорит,— ее жалею»,— да с этим словом
мах своим кнутовищем и пошел задувать. Телега-то так
и подскакивает. Того только и смотрю, что сейчас опроки¬
немся, и жизни нашей конец. А те пьяные все заливаются.
Один гармонию вынул, другой песню орет, третий из ру¬
жья стреляет. Я только молюсь: «Пятница Просковея, спа¬
си и помилуй!»
Неслись мы, неслись во весь кульер, и стали кони наши,
наконец, приставать, и поехали мы опять шагом. На дворе
уж этак смерклось, и не то чтобы, как сказать, дождь
ишел, а все будто туман брызгает. Руки у меня просто
страсть как набрякли держамшись, и уж я рада-радешень¬
ка, что, наконец, мы едем тихо; сижу уж и голосу не по¬
даю. А у тех тем часом, слышу, разговор пошел: один ска¬
зывает, что разбойники тут по дороге шляются, а другой
отвечает ему, что он разбойников не боится, потому что
у него ружье два раза стрелять может. Опять еще какой-
то о мертвецах заговорил: я, рассказывает, мертвую кость
имею, кого, говорит, этою костью обведу, тот сейчас мерт¬
вым сном заснет и не подымется; а другой хвастается, что
у него есть свеча из мертвого сала. Я это все слушала,
и вдруг все словно кто меня стал за нос водить, и ударил
на меня сон, и в одну минуту я заснула.
Только крепко я заснуть никак не могла, потому что
все нас, словно орехи в решете, протряхивало, и во сне мне
слышится, как будто кто-то говорит: «Как бы,— говорит,—
нам эту чертову бабу от себя вон выкинуть, а то ног не¬
куда протянуть». Но я все сплю.
Вдруг, сударь ты мой, слышу крик, визг, гам. Что та¬
кое? Гляжу — ночь, повозка наша стоит, и около нее всё
вертятся, да кричат, а что кричат — не разобрать.
«Шурле-мурле, шире-мире-кравермир»,— орет один.
Наш это, что с ружьем-то ехал, бац из одного ружья —
пистолет лопнул, а стрельбы нет, бац из другого — писто¬
лет опять лопнул, а стрельбы нет.
Вдруг, этот, что кричал-то, опять как заорет: шире-
мире-кравермир! да с этим словом хап меня под руки-то
из телеги да на поле, да ну вертеть, ну крутить. Боже мой,
думаю, что ж это такое! Гляну, гляну вокруг себя — всё
235
рожи такие темные, да всё вертятся и меня крутят да кри¬
чат: шире-мире! да за ноги меня, да ну раскачивать.
«Батюшка! — взмолилась я, такое над собой в первый
раз видючи,— Никола Божий амченский! триех дев непо¬
рочный невестителю! чистоты усердной хранителю! не до¬
пусти же ты им хоть наготу-то мою недостойную видеть!»
Только что я это в сердце своем проговорила, и вдруг
чувствую, что тишина вокруг меня стала необъятная, и ле¬
жу будто я в поле, в зелени такой изумрудной, и передо
мною перед ногами моими плывет небольшое этакое озерцо,
но пречистое, препрозрачное, и вокруг него, словно бахро¬
ма густая, стоит молодой тростник и таково тихо ша¬
тается.
Забыла я тут и про молитву, и все смотрю на этот
тростник, словно сроду я его не видала.
Вдруг вижу я что же? Вижу, что с этого с озера подни¬
мается туман, такой сизый, легкий туман, и, точно настоя¬
щая пелена, так по полю и расстилается. А тут под тума¬
ном на самой на середине озера вдруг кружочек этакой,
как будто рыбка плеснулась, и выходит из этого кружочка
человек, так маленький, росту не больше как с петуха бу¬
дет; личико крошечное; в синеньком кафтанчике, а на голо¬
вке зеленый картузик держит.
«Удивительный,— думаю,— какой человек, будто как
куколка хорошая», и все на него смотрю, и глаз с него не
спускаю, и совсем его даже не боюсь, вот таки ни капли
не боюсь.
Только он, смотрю, начинает всходить-всходить, и все
ко мне ближе, ближе и, на конец того дела, прыг прямо
ко мне на грудь. Не на самую, знаешь, на грудь, а над
грудью стоит на воздухе и кланяется. Таково преважно
поднял свой картузик и здравствуется.
Смех меня на него разбирает ужасный: «Где ты,—
думаю,— такой смешной взялся?»
А он в это время хлоп свой картузик опять и говорит...
да ведь что же говорит-то!
«Давай,— говорит,— Домочка, сотворим с тобой лю¬
бовь!»
Так меня смех и разорвал.
«Ах ты,— говорю,— шиш ты этакой! Ну, какую ты мо¬
жешь иметь любовь?»
А он вдруг задом ко мне верть и запел молодым кочет¬
ком: кука-реку-ку-ку!
Вдруг тут зазвенело, вдруг застучало, вдруг заиграло:
стон, я тебе говорю, стоит. Боже мой, думаю, что ж это
236
такое? Лягушки, карпии, лещи, раки, кто на скрыпку, кто
на гитаре, кто в барабаны бьет; тот пляшет, тот скачет,
того вверх вскидывает!
«Ах,— думаю,— плохо это! Ах, совсем это нехорошо!
Огражду я себя,— думаю,— молитвой», да хотела так-то
зачитать: «Да воскреснет Бог!», а наместо того говорю:
«Взвейся, выше понесися», и в это время слышу в животе
у меня бум-бурум-бум, бум-бурум-бум.
«Что это, мол, я такое: тарбан, что ль?» — и гляжу,
точно я тарбан. Стоит надо мной давешний человечек ма¬
ленький и так-то на мне нарезывает.
«Ох,— думаю,— батюшки! ох, святые угодники!» —
а он все по мне смычком-то пилит-пилит, и такое на мне
выигрывает, и вальсы, и кадрели всякие, а другие еще под¬
жигают: «Тарабань жесче, жесче тарабань!» — кричат.
Боль, тебе говорю, в животе непереносная, а все гуду.
И так целую ночь целехонькую на мне тарабанили; целую
ночь до бела до света была я им, крещеный человек, заме¬
сто тарбана; на утешение им, бесам, служила.
— Это,— говорю,— ужасно.
— И очень даже, мой друг, ужасно. Но тем это еще
было ужаснее, что утром, как оттарабанили они на мне
всю эту свою музыку, я оглядываюсь и вижу, что место
мне совсем незнакомое: поле, лужица этакая точно есть
большая, вроде озерца, и тростник, и все, как я видела,
а с неба солнце печет жарко, и прямо мне во всю наруж¬
ность. Гляжу, тут же и мой сверточек с холстами и су¬
мочка — всё в целости; а так невдалеке деревушка. Я вста¬
ла, доплелась до деревушки, наняла мужика, да к вечеру
домой и доехала.
— И что же вы, Домна Платоновна, уверены, что все
это с вами действительно приключилось?
— А то врать я, что ли, на себя стану?
— Нет, я говорю про то, что именно так ли все это
было-то?
— Так и было, как я тебе сказываю. А ты вот поди¬
вись, как я им наготы-то своей не открыла.
Я подивился.
— Да; вот и с бесом да совладала, а с лукавым чело¬
веком так вышло раз иначе.
— Как же вышло?
— Слушай. Купила я для одной купчихи мебель, на
Гороховой у выезжих. Были комоды, столы, кровати и дет¬
ская кроватка с этаким с тесьменным дном. Заплатила
я тринадцать рублей деньги, выставила все в коридор и по-
,237
шла за извозчиком. Взяла за рупь за сорок к Николе
Морскому извозчика ломового и укладываем с ним мебель,
а хозяева, у которых купила-то я, на ту пору вышли
и квартиру замкнули. Вдруг откуда ни возьмись дворни¬
ки, татары, «халам-балам»: как ты смеешь, орут, вещи
брать? Я туда, я сюда — не спускают. А тут дождь, а тут
извозчик стоять не хочет. Боже мой! Насилу я надума¬
лась: ну, ведите, говорю, меня в квартал — я, говорю,
квартального жена. И только это сказала, входят на двор
эти господа, у которых мебель купила. «Продана,— гово¬
рят,— точно, ей эта мебель продана». Ну, извозчик мой го¬
ворит: садись. Думаю, и точно, замест того, чтоб на живей¬
ного тратить, сяду я в короватку детскую. Высоко они эту
короватку, на самом на верху воза над комодой утвердили,
но я вскарабкалась и села. Только что ж бы ты думал?
Не успела я со двора выехать, как слышу, низок-то подо
мною тресь-тресь-тресь.
«Ах,— думаю,— батюшки, ведь это я проваливаюсь!»
И с этим словом хотела встать на ноги, да трах — и про¬
сунулась. Так верхом, как жандар, на одной тесемке и си¬
жу. Срам, я тебе говорю, просто на смерть! Одежа вся
взбилась, а ноги голые над комодой мотаются; народ ди¬
вуется; дворники кричат: «Закройся, квартальничиха»,
а закрыться нечем. Вот он варвар какой!
— Это кто же,— говорю,— варвар?
— Да извозчик-то: где же, скажи ты, пожалуй, зевает
на лошадь, а на пассажира и не посмотрит. Мало ведь
чуть не всю Гороховую я так проехала, да уж городовой,
спасибо ему, остановил. «Что это,— говорит,— за мерзость
такая? Это не позволено, что ты показываешь?» Вот как
я посветила наготой-то.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
— Домна Платоновна! — говорю,— а что — давно
я желал вас спросить — молодою такой вы остались после
супруга, неужто у вас никакого своего сердечного дела не
было?
— Какого это сердечного?
— Ну, не полюбили вы кого-нибудь?
— Полно глупости болтать!
— Отчего ж,— говорю,— это глупости?
— Да оттого,— отвечает,— глупости, что хорошо этими
любвями зашшаться у кого есть приспешники да доспеш-
238
ники, а как я одна, и постоянно я отягощаюсь, и постоян¬
но веду жизнь прекратительную, так мне это совсем даже
и не на уме и некстати.
— Даже и не на уме?
— И ни вот столичко! — Домна Платоновна черкнула
ногтем по ногтю и добавила: — а к тому же, я тебе скажу,
что вся эта любовь — вздор. Так напустит человек на себя
шаль такую: «Ах, мол, умираю! жить без него или без нее
не могу!» вот и все. По-моему, то любовь, если человек
женщине как следует помогает — вот это любовь, а что
женщина, она всегда должна себя помнить и содержать на
примечании.
— Так,— говорю,— стало быть, ничем вы, Домна
Платоновна, Богу и не грешны?
— А тебе какое дело до моих грехов? Хоша бы чем я
и грешна была, то мой грех, не твой, а ты не поп мой,
чтоб меня исповедовать.
— Нет, я говорю это, Домна Платоновна, только к то¬
му, что молоды вы овдовели и видно, что очень вы были
хороши.
— Хороша не хороша,— отвечает,— а в дурных не ста¬
вили.
— То-то,— я говорю,— это и теперь видно.
Домна Платоновна поправила бровь и глубоко заду¬
малась.
— Я и сама,— начала она потихоньку,— много так раз
рассуждала: скажи мне, Господи, лежит на мне один грех
или нет? и ни от кого добиться не могу. Научила меня
раз одна монашка с моих слов списать всю эту историю
и подать ее на духу священнику,— я и послушалась, и мо¬
нашка списала, да я, шедши к церкви, все и обронила.
— Что ж это такое, Домна Платоновна, за грех был?
— Не разберу: не то грех, не то мечтание.
— Ну, хоть про мечтание скажите.
— Издаля это начинать очень приходится. Это еще как
мы с мужем жили.
— Ну как же, голубушка, вы жили?
— А жили ничего. Домик у нас был хоша и неболь¬
шой, но по предместности был очень выгодный, потому
что на самый базар выходил, а базары у нас для хозяй¬
ственного употребления частые, только что нечего на них
выбрать, вот в чем главная цель. Жили мы не в больших
достатках, ну и не в бедности; торговали и рыбой, и са¬
лом, и печенкой, и всяким товаром. Муж мой, Федор Иль¬
ич, был человек молодой, но этакой мудреный, из себя был
239
сухой, но губы имел необыкновенные. Я таких губ ни у ко¬
го даже после и не видывала. Нраву он, не тем будь помя¬
нут, был пронзительного — спорильщик и упротивный;
а я тоже в девках воительница была. Вышедши замуж, ве¬
ла я себя сначала очень даже прилично, но это его ни¬
сколько совсем не восхищало, и всякий день натощак мы
с ним буйственно сражались. Любви у нас с ним большой
не было, и согласья столько же, потому оба мы собрались
с ним воители, да и нельзя было с ним не воевать, потому,
бывало, как ты его ни голубь, а он все на тебя тетерится,
однако жили не разводились и восемь лет прожили. Ко¬
нечно, жили не без неприятностей, но до драки настоящей
у нас не часто доходило. Раз один, точно, дал он мне, по¬
койник, подзатыльника, но только, разумеется, и моей тут
немножко было причины, потому что стала я ему волосы
подравнивать, да ножницами — кусочек уха ему и отстриг¬
нула. Детей у нас не было, но были у нас на Нижнем горо¬
де кум и кума Прасковья Ивановна, у которых я детей кре¬
стила. Были они люди небогатые тоже, портной он назы¬
вался и диплон от общества имел, но шить ничего не шил,
а по покойникам Пасалтырь читал и пел в соборе на кры¬
лосе. По добычливости же, если что добыть по домашнему,
все больше кума отягощалась, потому что она полезной ба¬
бой была, детей правила и навью кость сводила.
Вот один раз, это уж на последнем году мужниной
жизни (все уж тут валилось, как перед пропастью), сде¬
лайся эта кума Прасковья Ивановна именинница. Сделай¬
ся она именинница, и пошли мы к ней на именины, и за¬
стал нас там у нее дождь, и такой дождь, что как из ведра
окатывает; а у меня на ту пору еще голова разболелась,
потому выпила я у нее три пунша с кисляркой, а эта кис¬
лярская для головы нет ее подлее. Взяла я и прилегла
в другой комнатке на диванчике.
«Ты,— говорю,— кума, с гостями еще посиди, а я тут
крошечку полежу».
А она: «Ах, как можно на этом диване: тут твердо; на
постель ложись».
Я и легла и сейчас заснула. Нет тут моей вины?
— Никакой,— говорю.
— Ну, теперь же слушай. Сплю я и чую, что как буд¬
то кто-то меня обнимает, и таки, знаешь, не на шутку обни¬
мает. Думаю, это муж Федор Ильич; но как будто и не
Федор Ильич, потому что он был сложения духовного и из
себя этакой секретный,— а проснуться не могу. Только
проспавши свое время, встаю, гляжу — утро, и лежу я на
240
куминой постели, а возле меня кум. Я мах этак, знаешь,
перепрыгнула скорей через него с кровати-то, трясусь вся
от страху и гляжу — на полу на перинке лежит кума, а с
ней мой Федор Ильич... Толк я тут-то куму, гляжу — и та
схватилась и крестится.
«Что же это,— говорю,— кума, такое? как это сдела¬
лось?»
«Ах,— говорит,— кумонька! Ах я, мерзкая этакая!
Это все я сама,— говорит,— настроила, потому они еще,
проводя гостей, допивать сели, а я тут впотьмах-то тебя
не стала будить, да и прилегла тут, где вам было пост¬
лано».
Я даже плюнула.
«Что ж теперь,— говорю,— нам с тобой делать?»
А она мне отвечает: «Нам с тобой нечего больше де¬
лать, как надо про это молчать».
Это я, вот сколько тому лет прошло, первому тебе про
это и рассказала, потому что тяжело мне это ужасно, и вся¬
кий раз, как я это вздумаю, так я этот сон свой проклясть
совсем готова.
— Вы,— говорю,— Домна Платоновна, не сокрушай¬
тесь, потому что ведь все это вышло мимо воли вашей.
— А еще бы,— говорит,— как? Я и так-то себя не мало
измучила и истерзала. Горе-таки горем, как Федор Ильич
вскорости тут помер, потому не своею он помер смертью,
а дрова, сажени на берегу завалились, задавили его. О пе¬
тербургских обстоятельствах, чтоб как чем себя развесе¬
лить, я и понятия тогда не имела; но как вспомню, бывало,
все это после его смерти-то, сяду вечерком одна-одинешень¬
ка под окошечко, пою: «Возьмите вы все золото, все поче¬
сти назад», да сама льюсь, льюсь рекою, как глаза не вый¬
дут. Так тяжко, так станет жутко, вспомнивши эти слова,
что «друг нежный спит в сырой земле», что хоть надень на
себя осил пенечный, да и полезай в петлю. Продала все,
всего решилась и уехала; думаю, пусть лучше хоть глаза
мои на все это не глядят и уши мои не слышат.
— Это,— говорю,— Домна Платоновна, я вам верю;
нет ничего несноснее, как если одолеет тоска.
— Спасибо тебе, милый, на добром слове, именно прав¬
ду говоришь, что нет ничего несноснее, и утешь, и обрадуй
тебя за это слово Царица Небесная, что ты все это мог по¬
нять и почувствовать. Но не можешь ты понять всей обо
мне тоски и жалости, если не открою я тебе всю мою на¬
стоящую обиду, как меня один раз обидели. Что это сак¬
вояж там пропал или что Леканидка там неблагодарная —
241
все это вздор. А был у меня на свете один такой день,
что молила я Господа, что пошли ты хоть змея, хоть скор¬
пия, чтоб очи мои сейчас выпил и сердце мое высосал.
И кто ж меня обидел? — Испулатка, нехристь, турка!
А кто ему помогал? — свои приятели, миром святым ма¬
заные.
Домна Платоновна горько-прегорько заплакала.
— Курьерша одна моя знакомая,— начала она, утираю¬
чи слезы,— жила в Лопатине доме, на Невском, и пристал
к ней этот пленный турка Испулатка. Она за него меня
и просит: «Домна Платоновна! определи,— говорит,—
хоть ты его, черта, к какому-нибудь месту!» — «Куда ж,—
думаю,— турку определить? Кроме как куда-нибудь ара¬
пом, никуда его не определишь» — и нашла я ему арапскую
должность. Нашла, и прихожу, и говорю: «Так и так,—
говорю,— иди и определяйся».
Тут они и затеяли могарычи пить, потому что он уже
своей поганой веры избавился, крестился и мог вино пить.
«Не хочу я,— говорю,— ничего», ну, только, однако,
выпила. Этакой уж у меня характер глупый, что всегда
я попервоначалу скажу «нет», а потом выпью. Так и тут:
выпила и осатанела, и у нее, у этой курьерши, легла с нею
на постели.
— Ну-с?
— Ну, вот тебе и все, а нынче зашиваюсь.
— Как зашиваетесь?
— А так, что если где уж придется неминуючи ноче¬
вать, то я совсем с ногами, вроде как в мешок, и зашива¬
юсь. И даже так тебе скажу, что и совсем на сон свой под¬
лый не надеясь, я даже и постоянно нынче на ночь заши¬
ваюсь.
Домна Платоновна тяжело вздохнула и опустила свою
скорбную голову.
— Вот тебе уж, кажется, и знаю петербургские обстоя¬
тельства, а однако что над собой допустила! — произнесла
она после долгого раздумья, простилась и пошла к себе на
Знаменскую.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Через несколько лет привелось мне свезти в одну из
временных тифозных больниц одного бедняка. Сложив его
на койку, я искал, кому бы его препоручить хоть на ма¬
лейшую ласку и внимание.
242
— Старшой,— говорят.
— Ну, попросите,— прошу,— старшую.
Входит женщина с отцветшим лицом и отвисшими меш¬
ками щек у челюстей.
— Чем,— говорит,— батюшка, служить прикажете?
— Матушка, — восклицаю, — Домна Платоновна?
— Я, сударь, я.
— Как вы здесь?
— Бог так велел.
— Поберегите,— прошу,— моего больного.
— Как своего родного поберегу.
— Что ж ваша торговля?
— А вот моя торговля: землю продать, да небо купить.
Решилась я, друг мой, своей торговли. Зайди,— шепчет,—
ко мне.
Я зашел. Каморочка сырая, ни мебели, ни шторки, толь¬
ко койка да столик с самоваром и сундучок крашеный.
— Будем,— говорит,— чай пить.
— Нет,— отвечаю,— покорно вас благодарю, некогда.
— Ну так заходи когда другим разом. Я тебе рада,
потому я разбита, друг мой, в последняя разбита.
— Что же с вами такое случилось?
— Уста мои этого рассказать не могут, и сердцу мое¬
му очень больно, и сделай милость, ты меня не спра¬
шивай.
— И отчего,— говорю,— вы это так вдруг осунулись?
— Осунулась! что ты, господь с тобой! ни капли я не
осунулась.
Домна Платоновна торопливо выхватила из кармана
крошечное складное зеркальце, поглядела на свои блеклые
щеки и заговорила:
— Ни крошечки я не осунулась, и то это теперь к ве¬
черу, а с утра я еще гораздо свежее бываю.
Смотрю я на Домну Платоновну и понять не могу, что
в ней такое? а только вижу, что что-то такое страннее.
Показалось мне, что кроме того, что все ее лицо поблек¬
ло и обвисло, будто оно еще слегка подштукатурено и под¬
крашено, а тут еще эта тревога при моем замечании, что
она осунулась... Непонятная, думаю, притча!
Не прошло после этого месяца, как вдруг является ко
мне какой-то солдат из больницы и неотступно требует ме¬
ня сейчас к Домне Платоновне.
Взял извозчика и приезжаю. На самых воротах встре¬
чает меня сама Домна Платоновна и прямо кидается мне
на грудь с плачем и рыданием.
243
— Съезди,— говорит,— ты, миленький, сделай ми¬
лость, в часть.
— Зачем, Домна Платоновна?
— Узнай ты там насчет одного человека, похлопочи за
него. Я, бог даст, со временем сама тебе услужу.
— Да вы,— говорю,— не плачьте только и не дрожите.
— Не могу,— отвечает,— не дрожать, потому что это
нутреннее, изнутри колотит. А этой услуги я тебе в жизнь
не забуду, потому что все меня теперь оставили.
— Хорошо — но за кого же просить-то и о чем про¬
сить?
Старуха замялась, и блеклые щеки ее задергались.
— Фортопьянщицкий ученик там арестован вчера, Ва¬
лерочка, Валерьян Иванов, так за него узнай и попроси.
Поехал я в часть. Сказали мне там, что действительно
есть арестованный молодой человек Валерьян Иванов, что
был он учеником у фортепьянного мастера, обокрал своего
хозяина, взят с поличным и, по всем вероятностям, пойдет
по тяжелой дороге Владимирской.
— Сколько же ему лет? — расспрашиваю.
— Лет,— говорят,— как раз двадцать один год минул.
«Что,— думаю,— за чудеса такие и что такое он, этот
Валерка, моей Домне Платоновне?»
Приезжаю в больницу и застаю Домну Платоновну
в ее каморке: сидит, сложивши руки, на краю кровати, и со¬
всем помертвелая.
— Знаю,— говорит,— все, сделай милость, больше не
сказывай. Я фершала посылала узнать и все знаю. Огнен¬
ным прещением пресекается перед смертью душа моя.
Вижу, моя воительница совсем сбрендила: распалась
и угасла в час один.
— Боже мой! — говорит, глядя на бедный больничный
образочек.— Боженька! миленький! да поди же к тебе моя
молитва прямо столбушком: вынь ты из меня душу, из
старой дуры, да укроти мое сердце негодное.
— Да что ж,— говорю,— вам такое?
— Мне?.. Люблю я его, душечка; люблю я его неснос¬
но, мой ангел; без ума, без разума люблю я его, старая
дура. Я его обула, я его одела, я на него дула, пыль с не¬
го обдувала. Театрашник такой; все, бывало, кортит ему
дома; все он клонится как бы в цирк, как бы в театр:
я ему последнее отдавала. Станешь, бывало, только про¬
сить: «Валерочка, друг мой! сокровище благих! не клонись
ты к этому цирку; что тебе этот цирк?» Так затопочет, за¬
кричит и руками намеряется. Вот тебе и цирк!.. Не позво¬
244
лял он, чтобы я говорила с ним, так я издаля, бывало,
только на него смотрю да прошу: «Валерочка! жизненочек!
сокровище благих! не якшайся ты с кем попадя; не пей ты
много». Все он мое презрел... Когда б дворника не нанима¬
ла, чтоб слух об нем подавал, и этого горя б, может, не
знала. Боженька! миленький! Господи, да что ж это? да
что ж это будет! — вскрикнула она и с этим словом упала
перед образом на колена и еще горче заплакала, кивая
своею седою головою.
— Все,— заговорила она, подымаясь через несколько
минут на ноги и тоскливо водя угасшими глазами по сво¬
ей унылой каморке,— все ему отдала, ничего у меня больше
нет. Нечего мне ему дать больше, голубчику... Хоть бы
сходить к нему...
— Ну,— говорю,— сходите...
— Не велит он мне ему показываться, не смею я к не¬
му идти,— а сама дрожмя дрожит, бедная старуха.
Помолчал я и, чтоб отрезвить ее хоть немножко, спра¬
шиваю:
— Сколько вам, Домна Платоновна, нынче годочков?
— Что ты такое,— говорит,— сказал?
— Сколько, мол, вам лет?
— А не знаю, право, сколько... в прошлом году в феб¬
рие, кажется, сорок семь было.
— И откуда ж это,— спрашиваю,— он у вас взялся,
этот Валерка? Где вы его себе откопали на свое горе?
— Из наших местов,— отвечает, утирая слезы.— Ку¬
мин племянник он. Кума его ко мне прислала, чтоб к ме¬
сту определить. Скажи, пожалуйста,— пищит опять, плачу¬
чи, воительница,— жаль ли хоть тебе меня, дуру непови¬
тую?
— Очень,— отвечаю,— жаль.
— А людям ведь, небось, и не жаль, смех им, небось,
только. И всякий, если кто когда-нибудь про эту историю
узнает, посмеется — непременно посмеется, а не пожале¬
ет,— а я все люблю, и все без радости, и все без счастья
без всякого. Бог с ними, люди! не понять им, какая это
беда, если прилучится такое над человеком не ко времени.
Ходила я к сталоверу,— говорит: «Это тебе аггел сатаны
дан в плоть... Не возносись». Пошла к священнику, гово¬
рю: «Вот, батюшка, что со мною, так и так,— говорю,—
сил моих над собой нет»; ну, священник меня хорошо по¬
щунял: читай, говорит, раба, канон «Утоли моя печали».
Я теперь и канон этот читаю и к месту такому нарочно
определилась, чтоб никаких смущений мне не было; ну,
245
только... Валерушка! цыпленок ты мой! сокровище благих!
Что ты это над собою сделал?..
Домна Платоновна припала головой к окну и заколо¬
тила лбом о подоконник.
Так я и оставил мою воительницу в этом убитом поло¬
жении. Через месяц дали мне знать из больницы, что Дом¬
на Платоновна вдруг окончила свою прекратительную
жизнь. Умерла она от быстрого истощения сил. Лежала
она в гробике черном такая маленькая, сухенькая, точно
в самом деле все хрящики ее изныли и косточки прилегли
к составам. Смерть ее была совершенно безболезненна, ти¬
ха и спокойна. Домна Платоновна соборовалась маслом
и до последней минуты все молилась, а отпуская предсмерт¬
ный вздох, велела отнести ко мне свой сундучок, подушки
и подаренную ей кем-то банку варенья, с тем чтобы я на¬
шел случай передать все это «тому человеку, про которого
сам знаю», то есть Валерке.
ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА
Очерк
«Первую песенку зардевшись спеть»,
Поговорка
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Иной раз в наших местах задаются такие характеры,
что как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о не¬
которых из них никогда не вспомнишь без душевного тре¬
пета. К числу таких характеров принадлежит купеческая
жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда
страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то
легкого слова, стали звать ее леди Макбет Мценского
уезда.
Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по
наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел все¬
го двадцать четвертый год; росту она была невысокого, но
стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круг¬
лые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные,
живые, белый высокий лоб и черные, аж досиня черные во¬
лосы. Выдали ее замуж за нашего купца Измайлова с Ту¬
скари из Курской губернии, не по любви или какому вле¬
чению, а так, потому что Измайлов к ней присватался,
а она была девушка бедная, и перебирать женихами ей не
приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не по¬
следний: торговали они крупчаткою, держали в уезде
большую мельницу в аренде, имели доходный сад под го¬
родом и в городе дом хороший. Вообще купцы были зажи¬
точные, Семья у них к тому же была совсем небольшая:
свекор Борис Тимофеич Измайлов, человек уж лет под во¬
семьдесят, давно вдовый; сын его Зиновий Борисыч, муж
Катерины Львовны, человек тоже лет пятидесяти с лиш¬
ком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей
у Катерины Львовны, пятый год, как она вышла за Зино¬
вия Борисыча, не было. У Зиновия Борисыча не было де¬
тей и от первой жены, с которою он прожил лет двадцать,
247
прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне. Ду¬
мал он и надеялся, что даст ему Бог хоть от второго бра¬
ка наследника купеческому имени и капиталу; но опять ему
в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось.
Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисы¬
ча, и не то что одного Зиновия Борисыча, а и старика Бо¬
риса Тимофеича, да даже и самоё Катерину Львовну это
очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертом ку¬
печеском терему с высоким забором и спущенными цепны¬
ми собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску,
доходящую до одури, и она рада бы, бог весть как рада бы
она была понянчиться с деточкой; а другое — и попреки
ей надоели: «Чего шла да зачем шла замуж; зачем завя¬
зала человеку судьбу, неродица», словно и в самом деле
она преступление какое сделала и перед мужем, и перед
свекром, и перед всем их честным родом купеческим.
При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны
в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала
мало, да и то если и поедет она с мужем по своему купе¬
честву, так тоже не на радость. Народ все строгий: наблю¬
дают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Ка¬
терины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой
в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать
бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под
пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца
подсолнечною лузгою; а тут все иначе. Встанут свекор
с мужем ранехонько, напьются в шесть часов утра чаю, да
и по своим делам, а она одна слоняет слоны из комнаты
в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто, лампады сия¬
ют перед образами, а нигде по дому ни звука живого, ни
голоса человеческого.
Походит, походит Катерина Львовна по пустым комна¬
там, начнет зевать со скуки и полезет по лесенке в свою
супружескую опочивальню, устроенную на высоком неболь¬
шом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазеет, как у ам¬
баров пеньку вешают или крупчатку ссыпают,— опять ей
зевнется, она и рада: прикорнет часок-другой, а проснет¬
ся — опять та же скука русская, скука купеческого дома, от
которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина
Львовна была не охотница, да и книг к тому ж, окромя
киевского патерика, в доме их не было.
Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом
свекровом доме в течение целых пяти лет ее жизни за не¬
ласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на
эту скуку ее ни малейшего внимания.
248
ГЛАВА ВТОРАЯ
На шестую весну Катерины Львовниного замужества
у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работы на
ту пору, как нарочно, на мельницу было завезено много,
а прорва учинилась огромная: вода ушла под нижний
лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой ни¬
как не удавалось. Согнал Зиновий Борисыч народу на мель¬
ницу с целой округи и сам там сидел безотлучно; город¬
ские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна ма¬
ялась дома по целым дням одна-одинешенька. Сначала ей
без мужа еще скучней было, а тут будто даже как и лучше
показалось: свободнее ей одной стало. Сердце ее к нему
никогда особенно не лежало, а без него по крайней мере
одним командиром над ней стало меньше.
Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под
окошечком, зевала-зевала, ни о чем определенном не думая,
да и стыдно ей, наконец, зевать стало. А на дворе погода
такая чудесная: тепло, светло, весело, и сквозь зеленую де¬
ревянную решетку сада видно, как по деревьям с сучка на
сучок перепархивают разные птички.
«Что это я в самом деле раззевалась? — подумала Ка¬
терина Львовна.— Сем-ну я хоть встану по двору погуляю
или в сад пройдусь».
Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную
ш; бочку и вышла.
На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее
у амбаров такой хохот веселый стоит.
— Чего это вы так радуетесь? — спросила Катерина
Львовна свекровых приказчиков.
— А вот, матушка Катерина Ильвовна, свинью живую
вешали,— отвечал ей старый приказчик.
— Какую свинью?
— А вот свинью Аксинью, что родила сына Василья
да не позвала нас на крестины,— смело и весело рассказы¬
вал молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным чер¬
ными как смоль кудрями и едва пробивающейся бородкой.
Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу,
в эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки
Аксиньи.
— Черти, дьяволы гладкие,— ругалась кухарка, стара¬
ясь схватиться за железное коромысло и вылезть из раска¬
чивающейся кади.
— Восемь пудов до обеда тянет, а пихтерь сена съест,
так и гирь недостанет,— опять объяснял красивый моло¬
249
дец и, повернув кадь, выбросил кухарку на сложенное в уг¬
ле кульё.
Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.
— Ну-ка, а сколько во мне будет? — пошутила Кате¬
рина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску.
— Три пуда семь фунтов,— отвечал тот же красивый
молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму.— Дико¬
вина!
— Чему ж ты дивуешься?
— Да что три пуда в вас потянуло, Катерина Ильвов¬
на. Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить на¬
до — и то не уморишься, а только за удовольствие это бу¬
дешь для себя чувствовать.
— Что ж я, не человек, что ли? Небось тоже уста¬
нешь,— ответила, слегка краснея, отвыкшая от таких ре¬
чей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив жела¬
ния разболтаться и наговориться словами веселыми и шут¬
ливыми.
— Ни боже мой! В Аравию счастливую занес бы,—
отвечал ей Сергей на ее замечание.
— Не так ты, молодец, рассуждаешь,— говорил ссы¬
павший мужичок.— Что есть такое в нас тяжесть? Разве
тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ниче¬
го не значит: сила наша, сила тянет — не тело!
— Да, я в девках страсть сильна была,— сказала,
опять не утерпев, Катерина Львовна.— Меня даже мужчи¬
на не всякий одолевал.
— А ну-с, позвольте ручку, если как это правда,— по¬
просил красивый молодец.
Катерина Львовна смутилась, но протянула руку.
— Ой, пусти кольцо: больно! — вскрикнула Катерина
Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку, и сво¬
бодною рукою толкнула его в грудь.
Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отле¬
тел на два шага в сторону.
— Н-да, вот ты и рассуждай, что женщина,— удивил¬
ся мужичок.
— Нет, а вы позвольте так взяться, на-борки,— отно¬
сился, раскидывая кудри, Серега.
— Ну, берись,— ответила, развеселившись, Катерина
Львовна и приподняла кверху свои локоточки.
Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую
грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только
было пошевельнула плечами, а Сергей приподнял ее от
250
полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на оп¬
рокинутую мерку.
Катерина Львовна не успела даже распорядиться своею
хваленою силою. Красная-раскрасная, поправила она, си¬
дя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из
амбара, а Сергей молодецки кашлянул и крикнул:
— Ну вы, олухи царя небесного! Сыпь, не зевай, греб¬
ла не замай; будут вершки, наши лишки.
Будто как он и внимания не обратил на то, что сейчас
было.
— Девичур этот проклятый Сережка! — рассказывала,
плетясь за Катериной Львовной, кухарка Аксинья.— Всем
вор взял — что ростом, что лицом, что красотой. Какую ты
хочешь женчину, сейчас он ее, подлец, улестит, и улестит,
и до греха доведет. А что уж непостоянный, подлец, пре¬
непостоянный-непостоянный!
— А ты, Аксинья... того,— говорила, идучи впереди
ее, молодая хозяйка,— мальчик-то твой у тебя жив?
— Жив, матушка, жив — что ему! Где они не нужны-
то кому, у тех они ведь живущи.
— И откуда это он у тебя?
— И-и! так, гулевой — на народе ведь живешь-то —
гулевой.
— Давно он у нас, этот молодец?
— Кто это? Сергей-то, что ли?
— Да.
— С месяц будет. У Копчоновых допреж служил, так
прогнал его хозяин.— Аксинья понизила голос и досказа¬
ла: — Сказывают, с самой с хозяйкой в любви был... Ведь
вот, треанафемская его душа, какой смелый!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Теплые молочные сумерки стояли над городом. Зино¬
вий Борисыч еще не возвращался с попрудки. Свекра Бори¬
са Тимофеича тоже не было дома: поехал к старому при¬
ятелю на именины, даже и к ужину заказал себя не дожи¬
даться. Катерина Львовна от нечего делать рано повече¬
рила, открыла у себя на вышке окошечко и, прислонясь
к косяку, шелушила подсолнечные зернышки. Люди в кух¬
не поужинали и расходились по двору спать: кто под сараи,
кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже
всех вышел из кухни Сергей. Он походил по двору, спу¬
стил цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Кате¬
251
рины Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился.
— Здравствуй,— тихо сказала ему с своей вышки Кате¬
рина Львовна, и двор смолк, словно пустыня.
— Сударыня! — произнес кто-то чрез две минуты у за¬
пертой двери Катерины Львовны.
— Кто это? — испугавшись, спросила Катерина
Львовна.
— Не извольте пугаться: это я, Сергей,— отвечал при¬
казчик.
— Что тебе, Сергей, нужно?
— Дельце к вам, Катерина Ильвовна, имею: просить
вашу милость об одной малости желаю; позвольте взойти
на минуту.
Катерина Львовна повернула ключ и впустила Сергея.
— Что тебе? — спросила она, сама отходя к окошку.
— Пришел к вам, Катерина Ильвовна, попросить, нет
ли у вас какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень
одолевает,
— У меня, Сергей, нет никаких книжек: не читаю
я их,— отвечала Катерина Львовна.
— Такая скука,— жаловался Сергей.
— Чего тебе скучать!
— Помилуйте, как не скучать: человек я молодой, жи¬
вем мы словно как в монастыре каком, а вперед видишь
только то, что, может быть, до гробовой доски должен
пропадать в таком одиночестве. Даже отчаянье иногда
приходит.
— Чего ж ты не женишься?
— Легко сказать, сударыня, жениться! На ком тут же¬
ниться? Человек я незначительный; хозяйская дочь за ме¬
ня не пойдет, а по бедности все у нас, Катерина Ильвов¬
на, еы сами изволите знать, необразованность. Разве оне
могут что об любви понимать как следует! Вот изволите
видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, мож¬
но сказать, каждому другому человеку, который себя чув¬
ствует, в утешение бы только для него были, а вы у них
теперь как канарейка в клетке содержитесь.
— Да, мне скучно,— сорвалось у Катерины Львовны.
— Как не скучать, сударыня, в этакой жизни! Хоша
бы даже и предмет какой у вас был со стороны, так, как
другие прочие делают, так вам и видеться с ним даже не¬
возможно.
— Ну это ты... не то совсем. Мне вот, когда б я себе
ребеночка бы родила, вот бы мне с ним, кажется, и весело
стало.
252
— Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня,
ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так
же. Нешто теперь, по хозяевам столько лет живши и на
эдакую женскую жизнь по купечеству глядючи, мы тоже
не понимаем? Песня поется: «без мила дружка обуяла
грусть-тоска», и эта тоска, доложу вам, Катерина Ильвов¬
на, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувст¬
вительна, что вот взял бы я его вырезал булатным ножом
ив моей груди и бросил бы к вашим ножкам. И легче, сто
раз легче бы мне тогда было...
У Сергея задрожал голос:
— Что это ты мне тут про свое сердце сказываешь?
Мне это ни к чему. Иди ты себе...
— Нет, позвольте, сударыня,— произнес Сергей, тре¬
пеща всем телом и делая шаг к Катерине Львовне.— Знаю
я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вам не
легче моего на свете; ну только теперь,— произнес он од¬
ним придыханием,— теперь все это состоит в эту минуту
в ваших руках и в вашей власти.
— Ты чего? чего? Чего ты пришел ко мне? Я за окно
брошусь,— говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под
несносною властью неописуемого страха, и схватилась ру¬
кою за подоконницу.
— Жизнь ты моя несравненная! на что тебе бросать¬
ся? — развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую
хозяйку от окна, крепко ее обнял.
— Ох! ох! пусти,— тихо стонала Катерина Львовна,
слабея под горячими поцелуями Сергея, а сама мимоволь¬
но прижималась к его могучей фигуре.
Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее
в темный угол.
В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только
мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Кате¬
рины Львовны карманных часов ее мужа; но это ничему не
мешало.
— Иди,— говорила Катерина Львовна через полчаса,
не смотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркаль¬
цем свои разбросанные волосы.
— Чего я таперича отсюдова пойду,— отвечал ей счаст¬
ливым голосом Сергей.
— Свекор двери запрет.
— Эх, душа, душа! Да каких ты это людей знала, что
им только дверью к женщине и дорога? Мне что к тебе,
что от тебя — везде двери,— отвечал молодец, указывая на
столбы, поддерживающие галерею.
253
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Зиновий Борисыч еще неделю не бывал домой, и всю
эту неделю жена его, что ночь, до самого бела света гуля¬
ла с Сергеем.
Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисыча
и винца из свекрового погреба попито, и сладких сластей
поедено, и в сахарные хозяйкины уста поцеловано, и чер¬
ными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все
дорога идет скатертью, бывают и перебоинки.
Не спалось Борису Тимофеичу: блуждал старик в пест¬
рой ситцевой рубашке по тихому дому, подошел к одному
окну, подошел к другому, смотрит, а по столбу из-под
невесткина окна тихо-тихохонько спускается книзу красная
рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость! Выскочил Бо¬
рис Тимофеич и хвать молодца за ноги. Тот развернулся
было, чтоб съездить хозяина от всего сердца по уху, да
и остановился, рассудив, что шум выйдет.
— Сказывай,— говорит Борис Тимофеич,— где был,
вор ты эдакой?
— А где был,— говорит,— там меня, Борис Тимофеич,
сударь, уж нету,— отвечал Сергей.
— У невестки ночевал?
— Про то, хозяин, опять-таки я знаю, где ночевал;
а ты вот что, Борис Тимофеич, ты моего слова послушай:
что, отец, было, того назад не воротишь; не клади ж ты
по крайности позору на свой купеческий дом. Сказывай,
чего ты от меня теперь хочешь? Какого ублаготворения же¬
лаешь?
— Желаю я тебе, аспиду, пятьсот плетей закатить,—
отвечал Борис Тимофеич.
— Моя вина — твоя воля,— согласился молодец.—
Говори, куда идти за тобой, и тешься, пей мою кровь.
Повел Борис Тимофеич Сергея в свою каменную кла¬
довеньку, и стегал он его нагайкою, пока сам из сил вы¬
бился. Сергей ни стона не подал, но зато половину рукава
у своей рубашки зубами изъел.
Бросил Борис Тимофеич Сергея в кладовой, пока взби¬
тая в чугун спина заживет; сунул он ему глиняный кувшин
водицы, запер его большим замком и послал за сыном.
Но за сто верст на Руси по проселочным дорогам еще
и теперь не скоро ездят, а Катерине Львовне без Сергея
и час лишний пережить уже невмоготу стало. Развернулась
она вдруг во всю ширь своей проснувшейся натуры и такая
стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она,
где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и ки¬
254
нула.ь ключей искать. «Пусти, тятенька, Сергея»,— при¬
шла она к свекру.
Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой
наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор по¬
корной невестки.
— Что ты это, такая-сякая,— начал он срамить Кате¬
рину Львовну.
— Пусти,— говорит,— я тебе совестью заручаюсь, что
еще худого промеж нас ничего не было.
— Худого,— говорит,— не было! — а сам зубами так
и скрипит.— А чем вы там с ним по ночам займались?
Подушки мужнины перебивали?
А та все с своим пристает: пусти его да пусти.
— А коли так,— говорит Борис Тимофеич,— так вот
же тебе: муж приедет, мы тебя, честную жену, своими ру¬
ками на конюшне выдерем, а его, подлеца, я завтра же
в острог отправлю.
Тем Борис Тимофеич и порешил; но только это решение
его не состоялось.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей, и на¬
чалась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой;
рвоты страшные поднялись, и к утру он умер, и как раз
так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых
Катерина Львовна всегда своими собственными руками
приготовляла особое кушанье с порученным ее хранению
опасным белым порошком.
Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стари¬
ковской каменной кладовой и без всякого зазора от люд¬
ских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на
мужниной постели; а свекра, Бориса Тимофеича, ничтоже
сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным де¬
лом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофе¬
ич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевши их, уми¬
рают. Схоронили Бориса Тимофеича спешно, даже и сына
не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое,
а Зиновия Борисыча посланный не застал на мельнице.
Тому лес случайно как-то дешево попался еще верст за
сто: посмотреть его поехал и никому путем не объяснил,
куда поехал.
Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж со¬
всем разошлась. То она была баба неробкого десятка, а тут
255
и нельзя было разгадать, что такое она себе задумала; хо¬
дит козырем, всем по дому распоряжается, а Сергея так
от себя и не отпускает. Задивились было этому по двору,
да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой
рукой, и все это дивованье вдруг сразу прошло. «Зашла,—
смекали,— у хозяйки с Сергеем алигория, да и только.—
Ее, мол, это дело, ее и ответ будет».
А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять
молодец молодцом, живым кречетом заходил около Кате¬
рины Львовны, и опять пошло у них снова житье разлю¬
безное. Но время катилось не для них одних: спешил до¬
мой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Бори¬
сыч.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
На дворе после обеда стоял пёклый жар, и проворная
муха несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно
в спальне ставнями и еще шерстяным платком его изнутри
завесила, да и легла с Сергеем отдохнуть на высокой купе¬
ческой постели. Спит и не спит Катерина Львовна, а толь¬
ко так ее и омаривает, так лицо потом и обливается, и ды¬
шится ей таково горячо и тягостно. Чувствует Катерина
Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти в сад чай
пить, а встать никак не может. Наконец кухарка подошла
и в дверь постучала: «Самовар,— говорит,— под яблонью
глохнет». Катерина Львовна насилу прокинулась и ну кота
ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой слав¬
ный, серый, рослый да претолстющий-толстый... и усы как
у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась
в его пушистой шерсти, а он так к ней с рылом и лезет:
тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую ти¬
хонькую песню поет, будто ею про любовь рассказывает.
«И чего еще сюда этот котище зашел? — думает Катерина
Львовна.— Сливки тут-то я на окне поставила: беспремен¬
но он, подлый, у меня их вылопает. Выгнать его»,— решила
она и хотела схватить кота и выбросить, а он, как туман,
так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако откуда же
этот кот у нас взялся? — рассуждает в кошмаре Катерина
Львовна.— Никогда у нас в спальне никакого кота не было,
а тут ишь какой забрался!» Хотела она опять кота рукой
взять, а его опять нет. «О, да что ж это такое? Уж это,
полно, кот ли?» — подумала Катерина Львовна. Оторопь
ее вдруг взяла и сон, и дрему совсем от нее прогнала. Ог¬
256
лянулась Катерина Львовна по горнице — никакого кота
нет, лежит только красивый Сергей и своей могучей рукой
ее грудь к своему горячему лицу прижимает.
Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала,
целовала Сергея, миловала, миловала его, поправила измя¬
тую перину и пошла в сад чай пить; а солнце уже совсем
свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный,
волшебный вечер.
— Заспалась я,— говорила Аксинье Катерина Львов¬
на и уселась на ковре под цветущею яблонью чай пить.—
И что это такое, Аксиньюшка, значит? — пытала она ку¬
харку, вытирая сама чайным полотенцем блюдечко.
— Что, матушка?
— Не то что во сне, а вот совсем вот наяву кот ко мне
все какой-то лез.
— И, что ты это?
— Право, кот лез.
Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот.
— И зачем тебе его было ласкать?
— Ну вот поди ж! сама не знаю, зачем я его ласкала.
— Чудно, право! — восклицала кухарка.
— Я и сама надивиться не могу.
— Это беспременно вроде как к тебе кто-нибудь при¬
бьется, что ли, либо еще что-нибудь такое выйдет.
— Да что ж такое именно?
— Ну именно что — уж этого тебе никто, милый друг,
объяснить не может, что именно, а только что-нибудь да
будет.
— Месяц все во сне видела, а потом этот кот,— про¬
должала Катерина Львовна.
— Месяц это младенец.
Катерина Львовна покраснела.
— Не спосылать ли сюда к твоей милости Сергея? —
попытала ее напрашивающаяся в наперсницы Аксинья.
— Ну что ж,— отвечала Катерина Львовна,— и то
правда, поди пошли его: я его чаем тут напою.
— То-то, я говорю, что послать его,— порешила Ак¬
синья и закачалась уткою к садовой калитке.
Катерина Львовна и Сергею про кота рассказала.
— Мечтанье одно,— отвечал Сергей.
— С чего ж его, этого мечтанья, прежде, Сережа, ни¬
когда не было?
— Мало чего прежде не бывало! бывало, вон я на тебя
только глазком гляжу да сохну, а нонче вона! Всем твоим
белым телом владею.
9. Н. С. Лесков, т. 5. 257
Сергей обнял Катерину Львовну, перекружил на возду¬
хе и, шутя, бросил ее на пушистый ковер.
— Ух, голова закружилась,— заговорила Катерина
Львовна.— Сережа! поди-ка сюда; сядь тут возле,— по¬
звала она, нежась и потягиваясь в роскошной позе.
Молодец, нагнувшись, вошел под низкую яблонь, зали¬
тую белыми цветами, и сел на ковре в ногах у Катерины
Львовны.
— А ты сох же по мне, Сережа?
— Как же не сох.
— Как же ты сох? Расскажи мне про это.
— Да как про это расскажешь? Разве можно про это
изъяснить, как сохнешь? Тосковал.
— Отчего ж я этого, Сережа, не чувствовала, что ты
по мне убиваешься? Это ведь, говорят, чувствуют.
Сергей промолчал.
— А ты для чего песни пел, если тебе по мне скучно
было? что? Я ведь, небось, слыхала, как ты на галдарее
пел,— продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина
Львовна.
— Что ж что песни пел? Комар вон и весь свой век
поет, да ведь не с радости,— отвечал сухо Сергей.
Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочай¬
шего восторга от этих признаний Сергея.
Ей хотелось говорить, а Сергей супился и молчал.
— Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой! — восклик¬
нула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающие ее
густые ветви цветущей яблони на чистое голубое небо, на
котором стоял полный погожий месяц.
Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы ябло¬
ни, самыми причудливыми, светлыми пятнышками разбе¬
гался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины
Львовны; в воздухе стояло тихо; только легонький теплый
ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и разносил тон¬
кий аромат цветущих трав и деревьев. Дышалось чем-то то¬
мящим, располагающим к лени, к неге и к темным жела¬
ниям.
Катерина Львовна, не получая ответа, опять замолчала
и все смотрела сквозь бледно-розовые цветы яблони на не¬
бо. Сергей тоже молчал; только его не занимало небо. Об¬
хватив обеими руками свои колени, он сосредоточенно гля¬
дел на свои сапожки.
Золотая ночь! Тишина, свет, аромат и благотворная,
оживляющая теплота. Далеко за оврагом, позади сада, кто-
то завел звучную песню; под забором в густом черемушни¬
258
ке щелкнул и громко заколотил соловей; в клетке на высо¬
ком шесте забредил сонный перепел, и жирная лошадь
томно вздохнула за стенкой конюшни, а по выгону за са¬
довым забором пронеслась без всякого шума веселая стая
собак и исчезла в безобразной, черной тени полуразвалив¬
шихся, старых соляных магазинов.
Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула
на высокую садовую траву; а трава так и играет с лунным
блеском, дробящимся о цветы и листья деревьев. Всю ее
позолотили эти прихотливые, светлые пятнышки и так на
ней и мелькают, так и трепещутся, словно живые огненные
бабочки, или как будто вот вся трава под деревьями взя¬
лась лунной сеткой и ходит из стороны в сторону.
— Ах, Сережечка, прелесть-то какая! — воскликнула,
оглядевшись, Катерина Львовна.
Сергей равнодушно повел глазами.
— Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или уж
тебе и любовь моя прискучила?
— Что пустое говорить! — отвечал сухо Сергей и, на¬
гнувшись, лениво поцеловал Катерину Львовну.
— Изменщик ты, Сережа,— ревновала Катерина
Львовна,— необстоятельный.
— Я даже этих и слов на свой счет не принимаю,—
отвечал спокойным тоном Сергей.
— Что ж ты меня так целуешь?
Сергей совсем промолчал.
— Это только мужья с женами,— продолжала, играя
его кудрями, Катерина Львовна,— так друг дружке с губ
пыль обивают. Ты меня так целуй, чтоб вот с этой яблони,
что над нами, молодой цвет на землю посыпался. Вот так,
вот,— шептала Катерина Львовна, обвиваясь около любов¬
ника и целуя его с страстным увлечением.
— Слушай, Сережа, что я тебе скажу,— начала Кате¬
рина Львовна спустя малое время,— с чего это все в одно
слово про тебя говорят, что ты изменщик?
— Кому ж это про меня брехать охота?
— Ну уж говорят люди.
— Может быть, когда и изменял тем, какие совсем
нестоящие.
— А на что, дурак, с нестоящими связывался? с несто¬
ющею не надо и любви иметь.
— Говори ж ты! Неш это дело тоже как по рассужде¬
нию делается? Один соблаз действует. Ты с нею совсем
просто, без всяких этих намерений заповедь свою престу¬
пил, а она уж и на шею тебе вешается. Вот и любовь!
259
— Слушай же, Сережа! я там, как другие прочие бы¬
ли, ничего этого не знаю, да и знать про это не хочу;
ну, а только как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь
сам улещал и сам знаешь, что сколько я пошла на нее сво¬
ею охотою, столько ж и твоей хитростью, так ежели ты,
Сережа, мне да изменишь, ежели меня да на кого да ни¬
будь, на какую ни на есть иную променяешь, я с тобою,
друг мой сердечный, извини меня,— живая не расстанусь.
Сергей встрепенулся,
— Да верь, Катерина Ильвовна! свет ты мой ясный! —
заговорил он.— Ты сама посмотри, какое наше с тобою де¬
ло. Ты вон так теперь замечаешь, что я задумчив нонче,
а не рассудишь ты того, как мне и задумчивым не быть.
У меня, может, все сердце мое в запеченной крови зато¬
нуло!
— Говори, говори, Сережа, свое горе.
— Да что тут и говорить! Вот сейчас, вот первое дело,
благослови Господи, муж твой наедет, а ты, Сергей Фили¬
пыч, и ступай прочь, отправляйся на задний двор к музы¬
кантам и смотри из-под сарая, как у Катерины Ильвовны
в спальне свеченька горит, да как она пуховую постельку
перебивает, да с своим законным Зиновием с Борисычем
опочивать укладывается.
— Этого не будет! — весело протянула Катерина
Львовна и махнула ручкой.
— Как так этого не будет! А я так понимаю, что со¬
всем даже без этого вам невозможно. А я тоже, Катерина
Ильвовна, свое сердце имею и могу свои муки видеть.
— Да ну, полно тебе все об этом.
Катерине Львовне было приятно это выражение Серге¬
евой ревности, и она, рассмеявшись, опять взялась за свои
поцелуи.
— А повторительно,— продолжал Сергей, тихонько
высвобаживая свою голову из голых по плечи рук Кате¬
рины Львовны,— повторительно надо сказать и то, что
состояние мое самое ничтожное тоже заставляет, может,
не раз и не десять раз рассудить и так и иначе. Будь я,
так скажу, равный вам, будь я какой барин или купец,
я бы то есть с вами, Катерина Ильвовна, и ни в жизнь
мою не расстался. Ну, а так сами вы посудите, что я за че¬
ловек при вас есть? Видючи теперь, как возьмут вас за бе¬
лые ручки и поведут в опочивальню, должен я все это пе¬
реносить в моем сердце и, может, даже сам для себя чрез
то на целый век презренным человеком сделаться. Кате¬
рина Ильвовна! Я ведь не как другие прочие, для которого
260
все равно, абы ему от женчины только радость получить.
Я чувствую, какова есть любовь и как она черной змеею
сосет мое сердце...
— Что ты это мне все про такое толкуешь? — перебила
его Катерина Львовна.
Ей стало жаль Сергея.
— Катерина Ильвовна! Как про это не толковать-то?
Как не толковать-то? Когда, может, все уж им объяснено
и расписано, когда, может, не только что в каком-нибудь
долгом расстоянии, а даже самого завтрашнего числа Сер¬
гея здесь ни духу, ни паху на этом дворе не останется?
— Нет, нет, и не говори про это, Сережа! Этого ни за
что не будет, чтоб я без тебя осталась,— успокоивала его
все с теми же ласками Катерина Львовна.— Если только
пойдет на что дело... либо ему, либо мне не жить, а уж ты
со мной будешь.
— Никак этого не может, Катерина Ильвовна, после¬
довать,— отвечал Сергей, печально и грустно качая своею
головою.— Я жизни моей не рад сам за этой любовью. Лю¬
бил бы то, что не больше самого меня стоит, тем бы и до¬
волен был. Вас ли мне с собою в постоянной любви иметь?
Нешто это вам почет какой — полюбовницей быть? Я б хо¬
тел пред святым предвечным храмом мужем вам быть: так
тогда я, хоть завсегда млаже себя перед вами считая, все-
таки мог бы по крайности публично всем обличить, сколь
я у своей жены почтением своим к ней заслуживаю...
Катерина Львовна была отуманена этими словами Сер¬
гея, этою его ревностью, этим его желанием жениться на
ней — желанием, всегда приятным женщине, несмотря на
самую короткую связь ее с человеком до женитьбы. Кате¬
рина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь, в во¬
ду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в себя до того,
что меры ее преданности ему не было никакой. Она обезу¬
мела от своего счастия; кровь ее кипела, и она не могла
более ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Серге¬
евы губы и, прижав к груди своей его голову, заговорила:
— Ну, уж я знаю, как я тебя и купцом сделаю и жить
с тобою совсем как следует стану. Ты только не печаль
меня попусту, пока еще дело наше не пришло до нас.
И опять пошли поцелуи да ласки.
Старому приказчику, спавшему в сарае, сквозь крепкий
сон стал слышаться в ночной тишине то шепот с тихим
смехом, будто где шаловливые дети советуются, как злее
над хилою старостью посмеяться; то хохот звонкий и весе¬
лый, словно кого озерные русалки щекочут. Все это, пле¬
261
скаясь в лунном свете да покатываясь по мягкому ковру,
резвилась и играла Катерина Львовна с молодым мужни¬
ным приказчиком. Сыпался, сыпался на них молодой бе¬
лый цвет с кудрявой яблонки, да уж и перестал сыпаться.
А тем временем короткая летняя ночь проходила, луна
спряталась за крутую крышу высоких амбаров и глядела
на землю искоса, тусклее и тусклее; с кухонной крыши раз¬
дался пронзительный кошачий дуэт; потом послышались
плевок, сердитое фырканье, и вслед за тем два или три
кота, оборвавшись, с шумом покатились по приставленному
к крыше пуку теса.
— Пойдем спать,— сказала Катерина Львовна медлен¬
но, словно разбитая, приподнимаясь с ковра, и как лежа¬
ла в одной рубашке да в белых юбках, так и пошла по ти¬
хому, до мертвенности тихому купеческому двору, а Сергей
понес за нею коверчик и блузу, которую она, расшалив¬
шись, сбросила.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Только Катерина Львовна задула свечу и совсем раз¬
детая улеглась на мягкий пуховик, сон так и окутал ее го¬
лову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и натешив¬
шись, так крепко, что и нога ее спит и рука спит; но опять
слышит она сквозь сон, будто опять дверь отворилась и на
постель тяжелым осметком упал давишний кот.
— Да что же это в самом деле за наказание с этим
котом? — рассуждает усталая Катерина Львовна.— Дверь
теперь уж нарочно я сама, своими руками на ключ
заперла, окно закрыто, а он опять тут. Сейчас его выки¬
ну,— собиралась встать Катерина Львовна, да сонные
руки и ноги ее не служат ей; а кот ходит по всей по ней
и таково-то мудрено курнычит, опять будто слова челове¬
ческие выговаривает. По Катерине Львовне по всей даже
мурашки стали бегать.
«Нет,— думает она,— больше ничего, как непременно
завтра надо богоявленской воды взять на кровать, пото¬
му что премудреный какой-то этот кот ко мне пова¬
дился».
А кот курны-мурны у нее над ухом, уткнулся мордою
да и выговаривает: «Какой же,— говорит,— я кот! С ка¬
кой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассу¬
ждаешь, что совсем я не кот, а я именитый купец Борис
Тимофеич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все
262
мои кишечки внутри потрескались от невестушкиного
от угощения. С того,— мурльгчит,— я весь вот и поуба¬
вился и котом теперь показываюсь тому, кто мало обо мне
разумеет, что я такое есть в самом деле. Ну, как же нонче
ты у нас живешь-можешь, Катерина Львовна? Как свой
закон верно соблюдаешь? Я и с кладбища нарочно пришел
поглядеть, как вы с Сергеем Филипычем мужнину постель¬
ку согреваете. Курны-мурны, я ведь ничего не вижу.
Ты меня не бойся: у меня, видишь, от твоего угощения
и глазки повылезли. Глянь мне в глаза-то, дружок, не
бойся!»
Катерина Львовна глянула и закричала благим ма¬
том. Между ней и Сергеем опять лежит кот, а голова у
того кота Бориса Тимофеича во всю величину, как была
у покойника, и вместо глаз по огненному кружку в раз¬
ные стороны так и вертится, так и вертится!
Проснулся Сергей, успокоил Катерину Львовну и
опять заснул; но у нее весь сон прошел — и кстати.
Лежит она с открытыми глазами и вдруг слышит, что
на двор будто кто-то через ворота перелез. Вот и собаки
метнулись было, да и стихли,— должно быть, ласкаться
стали. Вот и еще прошла минута, и железная клямка вни¬
зу щелкнула, и дверь отворилась. «Либо мне все это слы¬
шится, либо это мой Зиновий Борисыч вернулся, потому
что дверь его запасным ключом отперта»,— подумала
Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергея.
— Слушай, Сережа,— сказала она и сама приподня¬
лась на локоть и насторожила ухо.
По лестнице тихо, с ноги на ногу осторожно пересту¬
паючи, действительно кто-то приближался к запертой двери
спальни.
Катерина Львовна быстро спрыгнула в одной рубашке
с постели и открыла окошко. Сергей в ту же минуту бо¬
сиком выпрыгнул на галерею и обхватил ногами столб,
по которому не первый раз спускался из хозяйкиной
спальни.
— Нет, не надо, не надо! Ты приляг тут... не отходи
далеко,— прошептала Катерина Львовна и выкинула
Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула
под одеяло и дожидается.
Сергей послушался Катерины Львовны: он не шмыг¬
нул по столбу вниз, а приютился под лубком на гале¬
реечке.
Катерина Львовна тем временем слышит, как муж
подошел к двери и, утаивая дыхание, слушает. Ей даже
263
слышно, как учащенно стукает его ревнивое сердце; но
не жалость, а злой смех разбирает Катерину Львовну.
«Ищи вчерашнего дня»,— думает она себе, улыбаясь
и дыша непорочным младенцем.
Это продолжалось минут десять; но, наконец, Зино¬
вию Борисычу надоело стоять за дверью да слушать, как
жена спит: он постучался.
— Кто там? — не совсем скоро и будто как сонным
голосом окликнула Катерина Львовна.
— Свои,— отозвался Зиновий Борисыч.
— Это ты, Зиновий Борисыч?
— Ну, я! Будто ты не слышишь!
Катерина Львовна вскочила как лежала в одной ру¬
башке, впустила мужа в горницу и опять нырнула в теп¬
лую постель.
— Чтой-то перед зарей холодно становится,— произ¬
несла она, укутываясь одеялом.
Зиновий Борисыч взошел озираясь, помолился, зажег
свечу и еще огляделся.
— Как живешь-можешь? — спросил он супругу.
— Ничего,— отвечала Катерина Львовна и, привста¬
вая, начала надевать распашную ситцевую блузу.
— Самовар небось поставить? — спросила она.
— Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставит.
Катерина Львовна нахватила на босу ногу башмачки
и выбежала. С полчаса ее назад не было. В это время она
сама раздула самоварчик и тихонько запорхнула к Сер¬
гею на галерейку.
— Сиди тут,— шепнула она
— Докуда же сидеть? — также шепотом спросил Се¬
режа.
— О, да какой же ты бестолковый! Сиди, докуда я
скажу.
И Катерина Львовна сама посадила его на старое
место.
А Сергею отсюда с галереи все слышно, что в спальне
происходит. Он слышит опять, как стукнула дверь и Ка¬
терина Львовна снова взошла к мужу. Все от слова до
слова слышно.
— Что ты там возилась долго? — спрашивает жену
Зиновий Борисыч.
— Самовар ставила,— отвечает она спокойно.
Вышла пауза. Сергею слышно, как Зиновий Борисыч
вешает на вешалку свой сюртук. Вот он умывается, фыр¬
кает и брызжет во все стороны водою; вот спросил поло¬
тенце; опять начинаются речи.
264
— Ну как же это вы тятеньку схоронили? — осведом¬
ляется муж.
— Так,— говорит жена,— они померли, их и схоро¬
нили.
— И что это за удивительность такая!
— Бог его знает,— отвечала Катерина Львовна и за¬
стучала чашками.
Зиновий Борисыч грустный ходил по комнате.
— Ну, а вы тут как свое время провождали? — рас¬
спрашивает опять жену Зиновий Борисыч.
— Наши радости-то, чай, всякому известны: по балам
не ездим и по тиатрам столько ж.
— А словно радости-то у вас и к мужу немного,—
искоса поглядывая, заводил Зиновий Борисыч.
— Не молоденькие тоже мы с вами, чтоб так без ума,
без разума нам встречаться. Как еще радоваться? Я вот
хлопочу, бегаю для вашего удовольствия.
Катарина Львовна опять выбежала самовар взять и
опять заскочила к Сергею, дернула его и говорит: «Не зе¬
вай, Сережа!»
Сергей путем не знал, к чему все это будет, но, однако,
стал наготове.
Вернулась Катерина Львовна, а Зиновий Борисыч
стоит коленями на постели и вешает на стенку над изго¬
ловьем свои серебряные часы с бисерным снурочком.
— Для чего это вы, Катерина Львовна, в одиноком
положении постель надвое разостлали? — как-то мудрено
вдруг спросил он жену.
— А вас все дожидала,— спокойно глядя на него,
ответила Катерина Львовна.
— И на том благодарим вас покорно... А вот этот
предмет теперь откуда у вас на перинке взялся?
Зиновий Борисыч поднял с простыни маленький шер¬
стяной поясочек Сергея и держал его за кончик перед
жениными глазами.
Катерина Львовна нимало не задумалась.
— В саду,— говорит,— нашла да юбку себе под¬
вязала.
— Да! — произнес с особым ударением Зиновий Бо¬
рисыч,— мы тоже про ваши про юбки кое-что слыхали.
— Что ж это вы слыхали?
— Да всё про дела ваши про хорошие.
— Никаких моих дел таких нету.
— Ну, это мы разберем, все разберем,— отвечал, по¬
двигая жене выпитую чашку, Зиновий Борисыч.
265
Катерина Львовна промолчала.
— Мы эти ваши дела, Катерина Львовна, все въявь
произведем,— проговорил еще после долгой паузы Зино¬
вий Борисыч, поведя на свою жену бровями.
— Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не
так очень она этого пужается,— ответила та.
— Что! что! — повыся голос, окрикнул Зиновий Бо¬
рисыч.
— Ничего — проехали,— отвечала жена.
— Ну, ты гляди у меня того! Что-то ты больно ре¬
чиста здесь стала!
— А с чего мне и речистой не быть? — отозвалась
Катерина Львовна.
— Больше бы за собой смотрела.
— Нечего мне за собой смотреть. Мало кто вам длин¬
ным языком чего наязычит, а я должна над собой всякие
наругательства сносить! Вот еще новости тоже!
— Не длинные языки, а тут верно про ваши амуры-то
известно.
— Про какие-такие мои амуры? — крикнула, непри¬
творно вспыхнув, Катерина Львовна.
— Знаю я, про какие.
— А знаете, так что ж: вы яснее сказывайте!
Зиновий Борисыч промолчал и опять подвинул жене
пустую чашку.
— Видно, и говорить-то не про что,— отозвалась
с презрением Катерина Львовна, азартно бросив на
блюдце мужу чайную ложечку.— Ну сказывайте, ну про
кого вам доносили? кто такой есть мой перед вами полю¬
бовник?
— Узнаете, не спешите очень.
— Что вам про Сергея, что ли, что-нибудь набре¬
хано?
— Узнаем-с, узнаем, Катерина Львовна. Нашей над
вами власти никто не снимал и снять никто не может...
Сами заговорите...
— И их! терпеть я этого не могу,— скрипнув зубами,
вскрикнула Катерина Львовна и, побледнев как полотно,
неожиданно выскочила за двери.
— Ну вот он,— произнесла она через несколько се¬
кунд, вводя в комнату за рукав Сергея.— Расспрашивайте
и его, и меня, что вы такое знаете. Может, что-нибудь
еще и больше того узнаешь, что тебе хочется?
Зиновий Борисыч даже растерялся. Он глядел то на
стоявшего у притолки Сергея, то на жену, спокойно при¬
266
севшую со скрещенными руками на краю постели, и ни¬
чего не понимал, к чему это близится.
— Что ты это, змея, делаешь? — насилу собрался он
выговорить, не поднимаясь с кресла.
— Расспрашивай, о чем так знаешь-то хорошо,—от¬
вечала дерзко Катерина Львовна.— Ты меня бойлом за¬
думал пужать,— продолжала она, значительно моргнув
глазами,— так не бывать же тому никогда; а что я, мо¬
жет, и допреж твоих этих обещаниев знала, что над тобой
сделать, так я то сделаю.
— Что это? вон! — крикнул Зиновий Борисыч на
Сергея.
— Как же! — передразнила Катерина Львовна.
Она проворно замкнула дверь, сунула ключ в карман
и опять привалилась на постели в своей распашонке.
— Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчик,— по¬
манила она к себе приказчика.
Сергей тряхнул кудрями и смело присел около хо¬
зяйки.
— Господи! Боже мой! Да что ж это такое? Что ж
вы это, варвары?! — вскрикнул, весь побагровев и подни¬
маясь с кресла, Зиновий Борисыч.
— Что? Иль не любо? Глянь-ко, глянь, мой ясмен со¬
кол, каково прекрасно!
Катерина Львовна засмеялась и страстно поцеловала
Сергея при муже.
В это же мгновение на щеке ее запылала оглушитель¬
ная пощечина, и Зиновий Борисыч кинулся к открытому
окошку.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
— А... а, так-то!.. ну, приятель дорогой, благодар¬
ствуй. Я этого только и дожидалась! — вскрикнула Кате¬
рина Львовна.— Ну теперь видно уж, будь же по-моему,
а не по-твоему...
Одним движением она отбросила от себя Сергея,
быстро кинулась на мужа и, прежде чем Зиновий Бори¬
сыч успел доскочить до окна, схватила его сзади своими
тонкими пальцами за горло и, как сырой конопляный
сноп, бросила его на пол.
Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего раз¬
маху затылком об пол, Зиновий Борисыч совсем обезу¬
мел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое
267
насилие, употребленное против него женою, показало ему,
что она решилась на все, лишь бы только от него изба¬
виться, и что теперешнее его положение до крайности
опасно. Зиновий Борисыч сообразил все это мигом в мо¬
мент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его
не достигнет ни до чьего уха, а только еще ускорит дело.
Он молча повел глазами и остановил их с выражением
злобы, упрека и страдания на жене, тонкие пальцы кото¬
рой крепко сжимали его горло.
Зиновий Борисыч не защищался; руки его, с крепко
стиснутыми кулаками, лежали вытянутыми и судорожно
подергивались. Одна из них была вовсе свободна, другую
Катерина Львовна придавила к полу коленом.
— Подержи его,— шепнула она равнодушно Сергею,
сама поворачиваясь к мужу.
Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коле¬
нами и хотел перехватить под руками Катерины Львовны
за горло, но в это же мгновение сам отчаянно вскрикнул.
При виде своего обидчика кровавая месть приподняла
в Зиновии Борисыче все последние его силы: он страшно
рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придав¬
ленные руки и, вцепившись ими в черные кудри Сергея,
как зверь, закусил зубами его горло. Но это было нена¬
долго: Зиновий Борисыч тотчас же тяжело застонал и
уронил голову.
Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе,
стояла над мужем и любовником; в ее правой руке был
тяжелый литой подсвечник, который она держала за
верхний конец, тяжелою частью книзу. По виску и щеке
Зиновия Борисыча тоненьким шнурочком бежала алая
кровь.
— Попа...— тупо простонал Зиновий Борисыч, с омер¬
зением откидываясь головою как можно далее от сидя¬
щего на нем Сергея.— Исповедаться,— произнес он еще
невнятнее, задрожав и косясь на сгущающуюся под воло¬
сами теплую кровь.
— Хорош и так будешь,— прошептала Катерина
Львовна.
— Ну полно с ним копаться,— сказала она Сергею,—
перехвати ему хорошенько горло.
Зиновий Борисыч захрипел.
Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками
Сергеевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом
прилегла к его груди. Через пять тихих минут она при¬
поднялась и сказала: «Довольно, будет с него».
268
Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисыч лежал
мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском.
Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко
крови, которая, однако, более уже не лилась из запекшейся
и завалявшейся волосами ранки.
Сергей снес Зиновия Борисыча в погребок, устроен¬
ный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так
недавно запирал самого его, Сергея, покойный Борис Ти¬
мофеич, и вернулся на вышку. В это время Катерина
Львовна, засучив рукава распашонки и высоко подоткнув
подол, тщательно замывала мочалкою с мылом кровавое
пятно, оставленное Зиновием Борисычем на полу своей
опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого
Зиновий Борисыч распаривал отравленным чаем свою
хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа.
Катерина Львовна взяла медную полоскательную
чгшку и намыленную мочалку.
— Ну-ка, свети,— сказала она Сергею, идучи к две¬
ри.— Ниже, ниже свети,— говорила она, внимательно
осматривая все половицы, по которым Сергей должен
был тащить Зиновия Борисыча до самой ямы.
Только на двух местах на крашеном полу были два
крошечные пятнышка величиною в вишню. Катерина
Львовна потерла их мочалкою, и они исчезли.
— Вот тебе, не лазь к жене вором, не подкараули¬
вай,— произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и
оглянувшись в сторону кладовой.
— Теперь шабаш,— сказал Сергей и вздрогнул от
звука собственного голоса.
Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная по¬
лоска зари прорезывалась на востоке и, золотя легонько
одетые цветом яблони, заглядывала сквозь зеленые палки
садовой решетки в комнату Катерины Львовны.
По двору, в накинутом на плечи полушубке, крестясь
и позевывая, плелся из сарая в кухню старый при¬
казчик.
Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на
веревочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы
желая прозреть его душу.
— Ну вот ты теперь и купец,— сказала она, положив
Сергею на плечи свои белые руки.
Сергей ничего ей не ответил.
Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка.
У Катерины Львовны только уста были холодны.
Через два дня у Сергея на руках явились большие мо¬
269
золи от лома и тяжелого заступа; зато уж Зиновий Бо¬
рисыч в своем погребке был так хорошо прибран, что без
помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его
никому до общего воскресения.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Сергей ходил, замотав горло пунсовым платком, и жа¬
ловался, что у него что-то завалило горло. Между тем,
прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами
Зиновия Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились.
Сам Сергей еще чаще прочих начал про него поговари¬
вать. Присядет вечерком с молодцами на лавку около ка¬
литки и заведет: «Чтой-то, однако, исправди, ребята, на¬
шего хозяина по сю пору нетути?»
Молодцы тоже дивуются.
А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял
коней и давно отъехал ко двору. Ямщик, который его во¬
зил, сказывал, что Зиновий Борисыч был будто в рас¬
стройстве и отпустил его как-то чудно: не доезжая до го¬
рода версты с три, встал под монастырем с телеги, взял
кису и пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все
вздивовались.
Пропал Зиновий Борисыч, да и только.
Пошли розыски, но ничего не открывалось: купец как
в воду канул. По показанию арестованного ямщика
узнали только, что над рекою под монастырем купец
встал и пошел. Дело не выяснилось, а тем временем Кате¬
рина Львовна поживала себе с Сергеем, по вдовьему поло¬
жению, на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Бори¬
сыч то там, то там, а Зиновий Борисыч все не возвра¬
щался, и Катерина Львовна лучше всех знала, что воз¬
вратиться ему никак невозможно.
Прошел так и месяц, и другой, и третий, и Катерина
Львовна почувствовала себя в тягости.
— Наш капитал будет, Сережечка: есть у меня на¬
следник,— сказала она Сергею и пошла жаловаться
Думе, что так и так, она чувствует себя, что — беременна,
а в делах застой начался: пусть ее ко всему допустят.
Не пропадать же коммерческому делу. Катерина
Львовна жена своему мужу законная; долгов в виду нет,
ну и следует, стало быть, допустить ее. И допустили.
Живет Катеоина Львовна, царствует, и Серегу по ней
уж Сергеем Филипычем стали звать; а тут хлоп, ни от¬
270
туда, ни отсюда, новая напасть. Пишут из Ливен город¬
скому голове, что Борис Тимофеич торговал не на весь
свой капитал, что более, чем его собственных денег, у него
в обороте было денег его малолетнего племянника, Федо¬
ра Захарова Лямина, и что дело это надо разобрать и не
давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло это
известие, поговорил о нем голова Катерине Львовне, а
эдак через неделю бац — из Ливен приезжает старушка
с небольшим мальчиком.
— Я,— говорит,— покойному Борису Тимофеичу сест¬
ра двоюродная, а это — мой племянник Федор Лямин.
Катерина Львовна их приняла.
Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сде¬
ланный Катериною Львовною приезжим, побледнел как
плат.
— Чего ты? — спросила его хозяйка, заметив его
мертвую бледность, когда он вошел вслед за приезжими
и, разглядывая их, остановился в передней.
— Ничего,— отвечал, поворачиваясь из передней в
сени, приказчик.— Думаю, сколь эти Ливны дивны,— до¬
говорил он со вздохом, затворяя за собой сеничную дверь.
— Ну, а как же теперь быть? — спрашивал Катерину
Львовну Сергей Филипыч, сидя с нею ночью за самова¬
ром.—Теперь, Катерина Ильвовна, выходит все наше
с вами дело прах.
— Отчего так прах, Сережа?
— Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над
чем же тут над пустым делом будет хозяйничать?
— Неш с тебя, Сережа, мало будет?
— Да не о том, что с меня; а я в тем только сумле¬
ваюсь, что счастья уж того нам не будет.
— Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?
— Потому, как по любви моей к вам я желал бы, Ка¬
терина Ильвовна, видеть вас настоящей дамой, а не то
что как вы допреж сего жили,— отвечал Сергей Фили¬
пыч.— А теперь наоборот того выходит, что при уменьше¬
нии капитала мы и даже против прежнего должны го¬
раздо ниже еще произойти.
— Да кеш мне это, Сережечка, нужно?
— Оно точно, Катерина Ильвовна, что вам, может
быть, это и совсем не в интересе, ну только для меня, как
я вас уважаю, и опять же супротив людских глаз, подлых
и завистливых, ужасно это будет больно. Вам там как
будет угодно, разумеется, а я так своим соображением
располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счаст¬
лив быть не могу.
271
И пошел, и пошел Сергей играть Катерине Львовне на
эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчаст¬
ным человеком, лишен будучи возможности возвеличить
и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купе¬
чеством. Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь
этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до
девяти месяцев после пропажи мужа, достанется ей весь
капитал и тогда счастью их конца-меры не будет.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о на¬
следнике. Как только прекратились о нем речи в устах
Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум, и в сердце Ка¬
терины Львовны. Даже задумчивая и к самому Сергею
неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет,
или Богу молиться станет, а на уме все у нее одно: «Как
же это; за что в самом деле должна я через него лишиться
капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу
приняла,— думает Катерина Львовна,— а он без всяких
хлопот приехал и отнимает у меня... И добро бы человек,
а то дитя, мальчик...»
На дворе стали ранние заморозки. О Зиновии Бори¬
сыче, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило.
Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая; по
городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как
и отчего молодая Измайлова все неродица была, все худе¬
ла да чаврела, и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочест¬
вующий сонаследник Федя Лямин в легком беличьем тулу¬
пе погуливал по двору да ледок по колдобинкам пола¬
мывал.
— Ну, Феодор Игнатьич! ну, купецкий сын! — кричит,
бывало, на него, пробегая по двору, кухарка Аксинья.—
Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах ко¬
паться?
А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее
предметом, побрыкивал себе безмятежным козликом и
еще безмятежнее спал супротив пестовавшей его бабушки,
не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел
дорогу или поубавил счастья.
Наконец набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней
привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик
слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом
и за лекарем послали.
272
Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства,
стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то
Катерину Львовну попросит.
— Потрудись,— скажет,— Катеринушка,— ты, мать, са¬
ма человек грузный, сама суда Божьего ждешь; потру¬
дись.
Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли
та ко всенощной помолиться за «лежащего на одре болез¬
ни отрока Феодора» или к ранней обедне часточку за него
вынуть, Катерина Львовна сидит у больного, и напоит его,
и лекарство ему даст вовремя.
Так пошла старушка к вечерне и ко всенощной под
праздник Введения, а Катеринушку попросила присмотреть
за Федюшкой. Мальчик в эту пору уж обмогался.
Катерина Львовна взошла к Феде, а он сидит на по¬
стели в своем беличьем тулупчике и читает патерик.
— Что ты это читаешь, Федя? — спросила его, усев¬
шись в кресло, Катерина Львовна.
— Житие, тетенька, читаю.
— Занятно?
— Очень, тетенька, занятно.
Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть
на шевелящего губами Федю, и вдруг словно демоны с
цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том,
сколько зла причиняет ей этот мальчик и как бы хорошо
было, если бы его не было.
«А ведь что,— думалось Катерине Львовне,— ведь боль¬
ной он; лекарство ему дают... мало ли что в болезни... Толь¬
ко всего и сказу, что лекарь не такое лекарство потрафил».
— Пора тебе, Федя, лекарства?
— Пожалуйте, тетенька,— отвечал мальчик и, хлебнув
ложку, добавил: — очень занятно, тетенька, это о святых
описывается.
— Ну читай,— проронила Катерина Львовна и, об¬
ведя холодным взглядом комнату, остановила его на раз¬
рисованных морозом окнах.
— Надо окна велеть закрыть,— сказала она и вышла
в гостиную, а оттуда в залу, а оттуда к себе наверх и при¬
села.
Минут через пять к ней туда же наверх молча вошел
Сергей в романовском полушубке, отороченном пушистым
котиком.
— Закрыли окна? — спросила его Катерина Львовна.
— Закрыли,— отрывисто отвечал Сергей, снял щип¬
цами со свечи и стал у печки.
273
Водворилось молчание.
— Нонче всенощная не скоро кончится? — спросила
Катерина Львовна.
— Праздник большой завтра: долго будут служить,—
отвечал Сергей.
Опять вышла пауза.
— Сходить к Феде: он там один,— произнесла, поды¬
маясь, Катерина Львовна.
— Один? — спросил ее, глянув исподлобья, Сергей.
— Один,— отвечала она ему шепотом,— а что?
И из глаз в глаза у них замелькала словно какая сеть
молниеносная; но никто не сказал более друг другу ни
слова.
Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым
комнатам: везде все тихо; лампады спокойно горят; по
стенам разбегается ее собственная тень; закрытые став¬
нями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и
читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал:
— Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне
вон ту, с образника, пожалуйте.
Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и
подала ему книгу.
— Ты не заснул ли бы, Федя?
— Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться.
— Чего тебе ее ждать?
— Она мне благословенного хлебца от всенощной
обещалась.
Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный ре¬
бенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у
нее протянуло холодом. Постояла она среди комнаты и
вышла, потирая стынущие руки.
— Ну! — шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и
снова заставая Сергея в прежнем положении у печки.
— Что? — спросил едва слышно Сергей и поперх¬
нулся.
— Он один.
Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать.
— Пойдем,— порывисто обернувшись к двери, ска¬
зала Катерина Львовна.
Сергей быстро снял сапоги и спросил:
— Что ж взять?
— Ничего,— одним придыханием ответила Катерина
Львовна и тихо повела его за собою за руку.
274
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени
книжку, когда к нему в третий раз взошла Катерина
Львовна.
— Что ты, Федя?
— Ох, я, тетенька, чего-то испугался,— отвечал он,
тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели.
— Чего ж ты испугался?
— Да кто это с вами шел, тетенька?
— Где? Никто со мной, миленький, не шел.
— Никто?
Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив гла¬
за, посмотрел по направлению к дверям, через которые
вошла тетка, и успокоился.
— Это мне, верно, так показалось,— сказал он.
Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изго¬
ловную стенку племянниковой кровати.
Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она от¬
чего-то совсем бледная.
В ответ на это замечание Катерина Львовна произ¬
вольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь
гостиной. Там только тихо треснула одна половица.
— Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата,
тетенька, читаю.— Вот угождал Богу-то.
Катерина Львовна стояла молча.
— Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочи¬
таю? — ласкался к ней племянник.
— Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале по¬
правлю,— ответила Катерина Львовна и вышла тороп¬
ливою походкой.
В гостиной послышался самый тихий шепот; но он до¬
шел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка.
— Тетенька! да что ж это? С кем же это вы там шеп¬
четесь? — вскрикнул, с слезами в голосе, мальчик.—
Идите сюда, тетенька: я боюсь,— еще слезливее позвал он
через секунду, и ему послышалось, что Катерина Львов¬
на сказала в гостиной «ну», которое мальчик отнес
к себе.
— Чего боишься? — несколько охрипшим голосом спро¬
сила его Катерина Львовна, входя смелым, решительным
шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гости¬
ной была закрыта от больного ее телом.— Ляг,— сказала
она ему вслед за этим.
— Я, тетенька, не хочу.
275
— Нет, ты, Федя, послушайся меня, ляг, пора; ляг,—
повторила Катерина Львовна.
— Что это вы, тетенька! да я не хочу совсем.
— Нет, ты ложись, ложись,— проговорила Катерина
Львовна опять изменившимся, нетвердым голосом и,
схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье.
В это мгновение Федя неистово вскрикнул: он увидал
входящего бледного, босого Сергея.
Катерина Львовна захватила своею ладонью раскры¬
тый в ужасе рот испуганного ребенка и крикнула:
— А ну скорее; держи ровно, чтоб не бился!
Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина
Львовна одним движением закрыла детское личико стра¬
дальца большою пуховою подушкою и сама навалилась на
нее своей крепкой, упругой грудью.
Минуты четыре в комнате было могильное молчание.
— Кончился,— прошептала Катерина Львовна и
только что привстала, чтобы привесть все в порядок, как
стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, за¬
тряслись от оглушительных ударов: окна дребезжали, по¬
лы качались, цепочки висячих лампад вздрагивали и
блуждали по стенам фантастическими тенями.
Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать; Ка¬
терина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними.
Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный
дом до основания.
Катерина Львовна боялась, чтобы, гонимый страхом,
Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим пере¬
пугом; но он кинулся прямо на вышку.
Взбежавши на лестницу, Сергей в темноте треснулся
лбом о полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз,
совершенно обезумев от суеверного страха.
— Зиновий Борисыч, Зиновий Борисыч! — бормотал
он, летя вниз головою по лестнице и увлекая за собою
сбитую им с ног Катерину Львовну.
— Где? — спросила она.
— Вот над нами с железным листом пролетел. Вот,
вот опять! ай, ай! — закричал Сергей,— гремит, опять
гремит.
Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во
все окна с улицы, а кто-то ломится в двери.
— Дурак! вставай, дурак! — крикнула Катерина
Львовна и с этими словами она сама порхнула к Феде,
уложила его мертвую голову в самой естественной спящей
276
позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в кото¬
рые ломилась куча народа.
Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула
повыше толпы, осаждающей крыльцо, а чрез высокий за¬
бор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди,
и на улице стон стоит от людского говора.
Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как
народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покои.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
А вся эта тревога произошла вот каким образом: наро¬
ду на всенощной под двунадесятый праздник во всех церк¬
вах хоть и уездного, но довольно большого и промышлен¬
ного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-
невидимо, а уж в той церкви, где завтра престол, даже и
в ограде яблоку упасть негде. Тут обыкновенно поют пев¬
чие, собранные из купеческих молодцов и управляемые осо¬
бым регентом тоже из любителей вокального искусства.
Наш народ набожный, к церкви Божией рачительный
и по всему этому народ в свою меру художественный:
благолепие церковное и стройное «органистое» пение со¬
ставляют для него одно из самых высоких и самых чистых
его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается
чуть не половина города, особенно торговая молодежь:
приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые с фабрик, с
заводов и сами хозяева с своими половинами,— все со¬
бьются в одну церковь; каждому хочется хоть на паперти
постоять, хоть под окном на пёклом жару или на треску¬
чем морозе послушать, как органит октава, а заносистый
тенор отливает самые капризные варшлаки.
В приходской церкви измайловского дома был престол
в честь Введения во храм Пресвятыя Богородицы, и потому
вечером под день этого праздника, в самое время описан¬
ного происшествия с Федей, молодежь целого города бы¬
ла в этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала
о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях
столь же известного баса.
Но не всех занимали эти вокальные вопросы: были в
толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами:
— А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху
1 В Орловской губернии певчие так называют форшляги. (Прим.
автора.)
277
сказывают,— заговорил, подходя к дому Измайловых,
молодой машинист, привезенный одним купцом из Петер¬
бурга на свою паровую мельницу,— сказывают,— гово¬
рил он,— будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по
всякую минуту амуры идут...
— Это уж всем известно,— отвечал тулуп, крытый
синей нанкой.— Ее нонче и в церкви, знать, не было.
— Что церковь? Столь скверная бабенка испаскуди¬
лась, что уж ни Бога, ни совести, ни глаз людских не
боится.
— А ишь, у них вот светится,— заметил машинист,
указывая на светлую полоску между ставнями.
— Глянь-ка в щелочку, что там делают? — цыкнули
несколько голосов.
Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только
что приложил глаз к ставенному створу, как благим ма¬
том крикнул:
— Братцы мои, голубчики! душат кого-то здесь, ду¬
шат!
И машинист отчаянно заколотил руками в ставню.
Человек десять последовали его примеру и, вскочив к ок¬
нам, тоже заработали кулаками.
Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла
известная нам осада измайловского дома.
— Видел сам, собственными моими глазами видел,—
свидетельствовал над мертвым Федею машинист,— мла¬
денец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его.
Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину
Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней
двух часовых.
В доме Измайловых был нестерпимый холод: печи не
топились, дверь на пяди не стояла: одна густая толпа лю¬
бопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть
на лежащего в гробу Федю и на другой большой гроб,
плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у
Феди лежал белый атласный венчик, которым был за¬
крыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа.
Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что
Федя умер от удушения, и приведенный к его трупу Сер¬
гей, при первых же словах священника о Страшном суде
и наказании нераскаянным, расплакался и чистосердечно
сознался не токмо в убийстве Феди, но и попросил отко¬
пать зарытого им без погребения Зиновия Борисыча.
Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке,
еще не совершенно разложился: его вынули и уложили
278
в большой гроб. Своею участницею в обоих этих преступ¬
лениях Сергей назвал, к всеобщему ужасу, молодую хо¬
зяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только:
«я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили
уличать ее на очной ставке. Выслушав его признания, Ка¬
терина Львовна посмотрела на него с немым изумлением,
но без гнева, и потом равнодушно сказала:
— Если ему охота была это сказывать, так мне запи¬
раться нечего: я убила.
— Для чего же? — спрашивали ее.
— Для него,— отвечала она, показав на повесившего
голову Сергея.
Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело,
обратившее на себя всеобщее внимание и негодование,
было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и ку¬
печеской третьей гильдии вдове Катерине Львовне объ¬
явили в уголовной палате, что их решено наказать плетьми
на торговой площади своего города и сослать потом обоих
в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное
утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых
рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны,
а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемпеле¬
вал его красивое лицо тремя каторжными знаками.
Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо
более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Изма¬
занный и окровавленный, он падал, сходя с черного эша¬
фота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только,
чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не при¬
легали к ее изорванной спине.
Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее
ребенка, она только сказала: «Ну его совсем!» и, отворо¬
тясь к стене, без всякого стона, без всякой жалобы пова¬
лилась грудью на жесткую койку.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Партия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна,
выступала, когда весна значилась только по календарю,
а солнышко еще по народной пословице «ярко светило, да
не тепло грело».
Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание ста¬
рушке, сестре Бориса Тимофеича, так как, считаясь закон¬
ным сыном убитого мужа преступницы, младенец оставал¬
ся единственным наследником всего теперь измайловского
279
состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна
и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как
любовь многих слишком страстных женщин, не переходила
никакою своею частию на ребенка.
Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы,
ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей; она ничего не
понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала
с нетерпением только выступления партии в дорогу, где
опять надеялась видеться с своим Сережечкой, а о дитяти
забыла и думать.
Надежды Катерины Львовны ее не обманули: тяжело
окованный цепями, клейменый Сергей вышел в одной с
нею кучке за острожные ворота.
Ко всякому отвратительному положению человек по
возможности привыкает и в каждом положении он сохра¬
няет по возможности способность преследовать свои скуд¬
ные радости; но Катерине Львовне не к чему было и при¬
спосабливаться: она видит опять Сергея, а с ним ей и ка¬
торжный путь цветет счастием.
Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестря¬
динном мешке ценных вещей и еще того меньше наличных
денег. Но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего,
раздала она этапным ундерам за возможность идти с
Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним обнявшись
часок темной ночью в холодном закоулочке узенького
этапного коридора.
Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны
стал что-то до нее очень неласков: что ей ни скажет, как
оторвет; тайными свиданьями с ней, за которые та не
евши и не пивши отдает самой ей нужный четвертачок из
тощего кошелька, дорожит не очень и даже не раз гова¬
ривал:
— Ты замест того, чтоб углы-то в коридоре выходить
со мной обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что
ундеру отдала.
— Четвертачок всего, Сереженька, я дала,— оправды¬
валась Катерина Львовна.
— А четвертачок неш не деньги? Много ты их на до¬
роге-то наподнимала, этих четвертачков, а рассовала уж,
чай, немало.
— За то же, Сережа, видались.
— Ну легко ли, радость какая после этакой муки ви¬
даться-то! Жисть-то свою проклял бы. а не то что сви¬
дание.
280
— А мне, Сережа, все равно: мне лишь бы тебя ви¬
деть.
— Глупости все это,— отвечал Сергей.
Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при
таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах
слезы злобы и досады навертывались в темноте ночных
свиданий; но все она терпела, все молчала и сама себя хо¬
тела обманывать.
Таким образом в этих новых друг к другу отношениях
дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их со¬
единилась с партиею, следовавшею в Сибирь с москов¬
ского тракта.
В этой большой партии в числе множества всякого на¬
рода в женском отделении были два очень интересные
лица: одна — солдатка Фиона из Ярославля, такая чудес¬
ная, роскошная женщина, высокого роста, с густою чер¬
ною косою и томными карими глазами, как таинственной
фатой завешенными густыми ресницами; а другая — сем¬
надцатилетняя востролиценькая блондиночка с нежно-ро¬
зовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих
щечках и золотисто-русыми кудрями, капризно выбегав¬
шими на лоб из-под арестантской пестрядинной повязки.
Девочку эту в партии звали Сонеткой.
Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого.
В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно
не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчался,
видя, как она тем же самым успехом дарила другого иска¬
теля.
— Тетка Фиона у нас баба добреющая, никому от нее
обиды нет,— говорили шутя арестанты в один голос.
Но Сонетка была совсем в другом роде.
Об этой говорили:
— Вьюн: около рук вьется, а в руки не дается.
Сонетка имела вкус, блюла выбор и даже, может быть,
очень строгий выбор; она хотела, чтобы страсть прино¬
сили ей не в виде сыроежки, а под пикантною, пряною
приправою, с страданиями и с жертвами; а Фиона была
русская простота, которой даже лень сказать кому-нибудь:
«прочь поди» и которая знает только одно, что она баба.
Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих
шайках, арестантских партиях и петербургских социально¬
демократических коммунах.
Появление этих двух женщин в одной соединенной
партии с Сергеем и Катериной Львовной имело для по¬
следней трагическое значение.
281
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
С первых же дней вместного следования соединенной
партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым обра¬
зом заискивать расположения солдатки Фионы и не по¬
страдал безуспешно. Томная красавица Фиона не исто¬
мила Сергея, как не томила она по своей доброте никого.
На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ран¬
них сумерек устроила себе, посредством подкупа, свида¬
ние с Сережечкой и лежит не спит: все ждет, что вот-вот
взойдет дежурный ундерок, тихонько толкнет ее и шепнет:
«беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина
юркнула в коридор; отворилась и еще раз дверь, и еще с
кар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая
арестантка; наконец дернули за свиту, которой была
покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро
поднялась с облощенных арестантскими боками нар, наки¬
нула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею про¬
вожатого.
Когда Катерина Львовна проходила по коридору,
только в одном месте, слабо освещенном слепою плош¬
кою, она наткнулась на две или три пары, не дававшие
ничем себя заметить издали. При проходе Катерины
Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко,
прорезанное в двери, ей послышался сдержанный хохот.
— Ишь жируют,— буркнул провожатый Катерины
Львовны и, придержав ее за плечи, ткнул в уголочек и
удалился.
Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду;
другая ее рука коснулась жаркого женского лица.
— Кто это? — спросил вполголоса Сергей.
— А ты чего тут? с кем ты это?
Катерина Львовна дернула впотьмах повязку с своей
соперницы. Та скользнула в сторону, бросилась и, спо¬
ткнувшись на кого-то в коридоре, полетела.
Из мужской камеры раздался дружный хохот.
— Злодей! — прошептала Катерина Львовна и уда¬
рила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы
его новой подруги.
Сергей поднял было руку; но Катерина Львовна легко
промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хо¬
хот из мужской комнаты вслед ей повторился до того
громко, что часовой, апатично стоявший против плошки
и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и
рыкнул:
— Цыц!
282
Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до
утра. Она хотела себе сказать: «не люблю ж его», и чув¬
ствовала, что любила его еще горячее, еще больше. И вот
в глазах ее все рисуется, все рисуется, как ладонь его дро¬
жала у той под ее головою, как другая рука его обнимала
ее жаркие плечи.
Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же
ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою
и чтоб другая его же рука обняла ее истерически дрожав¬
шие плечи.
— Ну, одначе, дай же ты мне мою повязку,— побу¬
дила ее утром солдатка Фиона.
— А, так это ты?..
— Отдай, пожалуйста!
— А ты зачем разлучаешь?
— Да чем же я вас разлучаю? Неш это какая любовь
или интерес в самом деле, чтоб сердиться?
Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула
из-под подушки сорванную ночью повязку и, бросив ее
Фионе, повернулась к стенке.
Ей стало легче.
— Тьпфу,— сказала она себе,— неужели ж таки к
этой лоханке крашеной я ревновать стану? Сгинь она! Мне
и применять-то себя к ней скверно.
— А ты, Катерина Ильвовна, вот что,— говорил,
идучи назавтра дорогою, Сергей,— ты, пожалуйста, раз¬
умей, что один раз я тебе не Зиновий Борисыч, а другое,
что и ты теперь не велика купчиха: так ты не пышись,
сделай милость. Козьи рога у нас в торг нейдут.
Катерина Львовна ничего на это не отвечала, и с не¬
делю она шла, с Сергеем ни словом, ни взглядом не обме¬
нявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала ха¬
рактер и не хотела сделать первого шага к примирению
в этой первой ее ссоре с Сергеем.
Между тем этой порою, как Катерина Львовна на Сер¬
гея сердилась, Сергей стал чепуриться и заигрывать с бе¬
ленькой Сонеткой. То раскланивается ей «с нашим осо¬
бенным», то улыбается, то, как встретится, норовит об¬
нять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и
только пуще у нее сердце кипит.
«Уж помириться бы мне с ним, что ли?» — рассуж¬
дает, спотыкаясь и земли под собою не видя, Катерина
Львовна.
Но подойти же первой помириться теперь еще более,
чем когда-либо, гордость не позволяет. А тем временем
283
Сергей все неотступнее вяжется за Сонеткой, и уж всем
сдается, что недоступная Сонетка, которая все вьюном
вилась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто ручнеть
стала.
— Вот ты на меня плакалась,— сказала как-то Кате¬
рине Львовне Фиона,— а я что тебе сделала? Мой слу¬
чай был, да и прошел, а ты вот за Сонеткой-то глядела б.
«Пропади она, эта моя гордость: непременно нонче
же помирюсь»,— решила Катерина Львовна, размышляя
уж только об одном, как бы только ловчей взяться за это
примирение.
Из этого затруднительного положения ее вывел сам
Сергей.
— Ильвовна! — позвал он ее на привале.— Выдь ты
нонче ко мне на минуточку ночью: дело есть.
Катерина Львовна промолчала.
— Что ж, может, сердишься еще — не выйдешь?
Катерина Львовна опять ничего не ответила.
Но Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной
Львовной, видели, что, подходя к этапному дому, она все
стала жаться к старшему ундеру и сунула ему семнадцать
копеек, собранных от мирского подаяния.
— Как только соберу, я вам додам гривну,— упраши¬
вала Катерина Львовна.
Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал:
— Ладно.
Сергей, когда кончились эти переговоры, крякнул и
подмигнул Сонетке.
— Ах ты, Катерина Ильвовна! — говорил он, обнимая
ее при входе на ступени этапного дома.— Супротив этой
женщины, ребята, в целом свете другой такой нет.
Катерина Львовна и краснела, и задыхалась от счастья.
Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, она так и
выскочила: дрожит и ищет руками Сергея по темному
коридору.
— Катя моя! — произнес, обняв ее, Сергей.
— Ах ты, злодей ты мой! — сквозь слезы отвечала Ка¬
терина Львовна и прильнула к нему губами.
Часовой ходил по коридору, и, останавливаясь, плевал
на свои сапоги, и ходил снова, за дверями усталые аре¬
станты храпели, мышь грызла перо, под печью, взапуски
друг перед другом, заливались сверчки, а Катерина
Львовна все еще блаженствовала.
Но устали восторги, и слышна неизбежная проза.
— Смерть больно: от самой от щиколотки до самого
284
колена кости так и гудут,— жаловался Сергей, сидя с Ка¬
териной Львовной на полу в углу коридора.
— Что же делать-то, Сережечка? — расспрашивала
она. ютясь под полу его свиты.
— Нешто только в лазарет в Казани попрошусь?
— Ох, чтой-то ты, Сережа?
— А что ж, когда смерть моя больно.
— Как же ты останешься, а меня погонят?
— А что ж делать? трет, так, я тебе говорю, трет, что
как в кость вся цепь не въедается. Разве когда б шерстя¬
ные чулки, что ли, поддеть еще,— проговорил Сергей
спустя минуту.
— Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.
— Ну, на что! — отвечал Сергей.
Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула
в камеру, растормошила на нарах свою сумочку и опять
торопливо выскочила к Сергею с парою толстых синих
болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку.
— Эдак теперь ничего будет,— произнес Сергей, про¬
щаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние
чулки.
Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары
и крепко заснула.
Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выхо¬
дила Сонетка и как тихо она возвратилась оттуда уже пе¬
ред самым утром.
Это случилось всего за два перехода до Казани.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Холодный, ненастный день с порывистым ветром и
дождем, перемешанным со снегом, неприветно встретил
партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина
Львовна вышла довольно бодро, но только что стала в
ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало
темно; все суставы ее заныли и расслабели. Перед Катери¬
ной Львовной стояла Сонетка в хорошо знакомых той си¬
них шерстяных чулках с яркими стрелками.
Катерина Львовна двинулась в путь совсем неживая;
только глаза ее страшно смотрели на Сергея и с него не
смаргивали.
На первом привале она спокойно подошла к Сергею,
прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо
в глаза.
285
Сергей хотел на нее броситься; но его удержали.
— Погоди ж ты! — произнес он и обтерся.
— Ничего, однако, отважно она с тобой поступает,—
трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохо¬
том заливалась Сонетка.
Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка, шла со¬
всем в ее вкусе.
— Ну, это ж тебе так не пройдет,— грозился Катери¬
не Львовне Сергей.
Умаявшись непогодью и переходом, Катерина Львовна
с разбитою душой тревожно спала ночью на нарах в оче¬
редном этапном доме и не слыхала, как в женскую ка¬
зарму вошли два человека.
С приходом их с нар приподнялась Сонетка, молча
показала она вошедшим рукою на Катерину Львовну,
опять легла и закуталась своею свитою.
В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела
ей на голову, и по ее спине, закрытой одною суровою
рубашкою, загулял во всю мужичью мочь толстый конец
вдвое свитой веревки.
Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ее не было
слышно из-под свиты, окутывающей ее голову. Она рва¬
нулась, но тоже без успеха: на плечах ее сидел здоровый
арестант и крепко держал ее руки.
— Пятьдесят,— сосчитал, наконец, один голос, в кото¬
ром никому не трудно было узнать голос Сергея, и ночные
посетители разом исчезли за дверью.
Катерина Львовна раскутала голову и вскочила: ни¬
кого не было; только невдалеке кто-то злорадно хихикал
под свитою. Катерина Львовна узнала хохот Сонетки.
Обиде этой уже не было меры; не было меры и чувству
злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины
Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти
упала на грудь подхватившей ее Фионы.
На этой полной груди, еще так недавно тешившей
сластью разврата неверного любовника Катерины Львов¬
ны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, как
дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой со¬
пернице. Они были теперь равны: они обе были сравнены
в цене и обе брошены.
Они равны!.. подвластная первому случаю Фиона и
совершающая драму любви Катерина Львовна!
Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно.
Выплакав свои слезы, она окаменела и с деревянным спо¬
койствием собиралась выходить на перекличку.
286
Барабан бьет: тах-тарарах-тах; на двор вываливают
скованные и нескованные арестантики, и Сергей, и Фиона,
и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольник, скованный
с жидом, и поляк на одной цепи с татарином.
Все скучились, потом выравнялись кое в какой поря¬
док и пошли.
Безотраднейшая картина: горсть людей, оторванных от
света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее,
тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом
все до ужаса безобразно: бесконечная грязь, серое небо,
обезлиственные, мокрые ракиты и в растопыренных их
сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится,
то воет и ревет.
В этих адских, душу раздирающих звуках, которые
довершают весь ужас картины, звучат советы жены
библейского Иова: «Прокляни день твоего рождения и
умри».
Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о
смерти и в этом печальном положении не льстит, а пугает,
тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-
нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно пони¬
мает простой человек: он спускает тогда на волю всю свою
звериную простоту, начинает глупить, издеваться над со¬
бою, над людьми, над чувством. Не особенно нежный и
без того, он становится зол сугубо.
— Что, купчиха? Все ли ваше степенство в добром
здоровье? — нагло спросил Катерину Львовну Сергей,
чуть только партия потеряла за мокрым пригорком де¬
ревню, где ночевала.
С этими словами он, сейчас же обратясь к Сонетке, по¬
крыл ее своею полою и запел высоким фальцетом:
За окном в тени мелькает русая голозка.
Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка.
Я полой тебя прикрою, так что не заметят.
При этих словах Сергей обнял Сонетку и громко по¬
целовал ее при всей партии.
Катерина Львовна все это видела и не видала: она шла
совсем уж неживым человеком. Ее стали поталкивать
и показывать ей, как Сергей безобразничает с Сонеткой.
Она стала предметом насмешек.
— Не троньте ее,— заступалась Фиона, когда кто-ни¬
будь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающеюся
287
Катериной Львовною.— Нешто не видите, черти, что жен¬
щина больна совсем?
— Должно, ножки промочила,— острил молодой аре¬
стант.
— Известно, купеческого роду: воспитания нежного,—
отозвался Сергей.— Разумеется, если бы им хотя чулочки
бы теплые: оно бы ничего еще,— продолжал он.
Катерина Львовна словно проснулась.
— Змей подлый! — произнесла она, не стерпев,— на¬
смехайся, подлец, насмехайся!
— Нет, я это совсем, купчиха, не в насмешку, а что
вот Сонетка чулки больно гожие продает, так я только
думал: не купит ли, мол, наша купчиха.
Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как за¬
веденный автомат.
Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покры¬
вавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, кото¬
рый, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную
грязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса;
другого края ее не рассмотришь. Эта полоса — Волга.
Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и впе¬
ред медленно приподнимающиеся широкопастые темные
волны.
Партия промокших и продрогнувших арестантов мед¬
ленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая па¬
рома.
Подошел весь мокрый, темный паром; команда начала
размещать арестантов.
— На этом пароме, сказывают, кто-то водку дер¬
жит,— заметил какой-то арестант, когда осыпаемый
хлопьями мокрого снега паром отчалил от берега и зака¬
чался на валах расходившейся реки.
— Да, теперь-ба точно безделицу пропустить ни¬
чего,— отзывался Сергей и, преследуя для Сонеткиной
потехи Катерину Львовну, произнес: — Купчиха, а ну-ко
по старой дружбе угости водочкой. Не скупись. Вспомни,
моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой,
моя радость, погуливали, осенние долги ночи просижи¬
вали, твоих родных без попов и без дьяков на вечный спо¬
кой спроваживали.
Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме хо¬
лода, пронизывающего ее под измокшим платьем до са¬
288
мых костей, в организме Катерины Львовны происходило
еще нечто другое. Голова ее горела как в огне; зрачки глаз
были расширены, оживлены блудящим острым блеском
и неподвижно вперены в ходящие волны.
— Ну а водочки и я б уж выпила: мочи нет холод¬
но,— прозвенела Сонетка.
— Купчиха, да угости, что ль! — мозолил Сергей.
— Эх ты, совесть! — выговорила Фиона, качая с упре¬
ком головою.
— Не к чести твоей совсем это,— поддержал солдатку
арестантик Гордюшка.
— Хушь бы ты не против самой ее, так против других
за нее посовестился.
— Ну ты, мирская табакерка! — крикнул на Фиону
Сергей.— Тоже — совеститься! Что мне тут еще сове¬
ститься! я ее, может, и никогда не любил, а теперь... да
мне вот стоптанный Сонеткин башмак милее ее рожи,
кошки эдакой ободранной: так что ж ты мне против этого
говорить можешь? Пусть вон Гордюшку косоротого лю¬
бит; а то...— он оглянулся на едущего верхом сморчка в
бурке и в военной фуражке с кокардой и добавил: — а то
вон еще лучше к этапному пусть поластится: у него под
буркой по крайности дождем не пробирает.
— И все б офицершей звать стали,— прозвенела Со¬
нетка.
— Да как же!.. и на чулочки-то б шутя бы достала,—
поддержал Сергей.
Катерина Львовна за себя не заступалась: она все при¬
стальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду
гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскры¬
вающихся и хлопающих валов. И вот вдруг из одного
переломившегося вала показывается ей синяя голова
Бориса Тимофеича, из другого выглянул и закачался муж,
обнявшись с поникшим головкой Федей. Катерина Львов¬
на хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы
ее шепчут: «как мы с тобой погуливали, осенние долги
ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей
спроваживали».
Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосре¬
доточивался и становился диким. Руки раз и два неве¬
домо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще
минуту — и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с тем¬
ной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним
махом перекинулась с нею за борт парома.
10. Н. С. Лесков, т. 5.
289
Все окаменели от изумления.
Катерина Львовна показалась на верху волны и опять
нырнула; другая волна вынесла Сонетку.
— Багор, бросай багор! — закричали на пароме.
Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в
воду. Сонетки опять не стало видно. Через две секунды,
быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула
руками; но в это же время из другой волны почти по пояс
поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на Со¬
нетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу, и обе
более уже не показались.
ГРАБЕЖ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Шел разговор о воровстве в орловском банке, дела
которого разбирались в 1887 году по осени.
Говорили: и тот был хороший человек, и другой ка¬
зался хорош, но, однако, все проворовались.
А случившийся в компании старый орловский купец
говорит:
— Ах, господа, как надойдет воровской час, то и че¬
стные люди грабят.
— Ну, это вы шутите.
— Нимало. А зачем же сказано: «со избранными
избран будеши, а со строптивыми развратишися?» Я знаю
случай, когда честный человек на улице другого человека
ограбил.
— Быть этого не может.
— Честное слово даю — ограбил, и если хотите, могу
это рассказать.
— Сделайте ваше одолжение.
Купец и рассказал нам следующую историю, имевшую
место лет за пятьдесят перед этим в том же самом городе
Орле, незадолго перед знаменитыми орловскими истреби¬
тельными пожарами. Дело происходило при покойном
орловском губернаторе князе Петре Ивановиче Трубецком.
Вот как это было рассказано.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Я орловский старожил. Весь наш род — все были не
последние люди. Мы имели свой дом на Нижней улице,
у Плаутина колодца, и свои ссыпные амбары, и свои
барки; держали артель трепачей, торговали пенькой и
вели хлебную ссыпку. Отчаянного большого состояния не
имели, но рубля на полтину никогда не ломали и слыли
за людей честных.
291
Отец мой скончался, когда мне пошел всего шестна¬
дцатый год. Делом всем правила матушка Арина
Леонтьевна при старом приказчике, а я тогда только при¬
сматривался. Во всем я, по воле родительской, был у ма¬
тушки в полном повиновении. Баловства и озорства за
мною никакого не было, и к храму Господню я имел усер¬
дие и страх. Еще же жила при нас маменькина сестра, а
моя тетенька, почтенная вдова Катерина Леонтьевна.
Это — уж совсем была святая богомолка. Мы были, по
батюшке, церковной веры и к Покрову, к препочтенному
отцу Ефиму приходом числились, а тетушка Катерина
Леонтьевна прилежала древности: из своего особливого
стакана пила и ходила молиться в Рыбные ряды, к старо¬
верам. Матушка и тетенька были из Ельца и там, в Ельце
и в Ливнах, очень хорошее родство имели, но редко с
своими виделись, потому что елецкие купцы любят перед
орловскими гордиться и в компании часто бывают вои¬
тели.
Домик у нас у Плаутина колодца был небольшой, но
очень хорошо, по-купечески, обряжен, и житье мы вели
самое строгое. Девятнадцать лет проживши на свете, я
только и ходу знал, что в ссыпные амбары или к баркам
на набережную, когда идет грузка, а в праздник к ранней
обедне, в Покров,— и от обедни опять сейчас же домой,
и чтобы в доказательство рассказать маменьке, о чем Еван¬
гелие читали или не говорил ли отец Ефим какую пропо¬
ведь; а отец Ефим был из духовных магистров, и, бывало,
если проповедь постарается, то никак ее не постигнешь.
Театр тогда у нас Турчанинов содержал после Каменско¬
го, а потом Молотковский, но мне ни в театр, ни даже
в трактир «Вену» чай пить матушка ни за что не дозво¬
ляли. «Ничего, дескать, там, в «Вене», хорошего не услы¬
шишь, а лучше дома сиди и ешь моченые яблоки». Только
одно полное удовольствие мне раз или два в зиму позво¬
лялось — прогуляться и посмотреть, как квартальный Бог¬
данов с протодьяконом бойцовых гусей спускают или как
мещане и семинаристы на кулачки бьются.
Бойцовых гусей у нас в то время много держали и спу¬
скали их на Кромской площади; но самый первый гусь
был квартального Богданова: у другого бойца у живого
крыло отрывал; и чтобы этого гуся кто-нибудь не накор¬
мил моченым горохом или иначе как не повредил — квар¬
тальный его, бывало, на себе в плетушке за спиною носил:
так любил его. У протодьякона же гусь был глинистый, и
когда дрался — страшно гоготал и шипел. Публики соби¬
292
ралось множество. А на кулачки биться мещане с семина¬
ристами собирались или на лед, на Оке, под мужским
монастырем, или к Навугорской заставе; тут сходились и
шли, стена на стену, во всю улицу. Бивались часто на от¬
чаянность. Правило такое только было, чтобы бить в под¬
вздох, а не по лицу, и не класть в рукавицы медных боль¬
ших гривен. Но, однако, это правило не соблюдалось.
Часто случалось, что стащат домой человека на руках и
отысповедовать не успеют, как уж и преставился. А мно¬
гие оставались, но чахли. Мне же от маменьки позволение
было только смотреть, но самому в стену чтобы не стано¬
виться. Однако я грешен был и в этом покойной роди¬
тельнице являлся непослушен: сила моя и удаль нудили
меня, и если, бывало, мещанская стена дрогнет, а семи¬
нарская стена на нее очень наваливает и гнать станет,—
то я, бывало, не вытерплю и становлюсь. Сила у меня с
ранних пор такая состояла, что, бывало, чуть я в гонимую
стену вскочу, крикну: «Господи благослови! бей, ребята,
духовенных!» да как почну против себя семинаристов
подавать, так все и посыпятся. Но славы себе я не искал
и даже, бывало, всех об одном только прошу: «Братцы!
пожалуйста, сделайте милость, чтобы по имени меня не
называть»,— потому что боялся, чтобы маменька не
узнали.
Так я прожил до девятнадцати лет и был здоров столь
ужасно, что со мною стали обмороки, и кровь носом ишла.
Тогда маменька стали подумывать меня женить, чтобы не
начал на Секеренский завод ходить, или не стал с пере¬
крещенками баловаться.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Начали к нам по этому случаю приходить в салопах
свахи, и с Нижних улиц, и с Кромской, и с Карачевской,
и разных матушке для меня невест предлагали. От меня
это все велось в секрете, так что все знали больше, чем я.
Трепачи наши под сараем, и те, бывало, говорят:
— Тебя, Михайло Михайлыч, маменька женить соби¬
рается. Как же ты сам на это, сколько согласен? Ты
смотри — знай, что жена тебя после венца щекотать будет,
но ты не робей — ты ее сам как можно щекочи в бока, а
то она тебя защекочет.
Я, бывало, только краснею. Догадывался, разумеется,
что что-то до меня касается, но сам никогда не слыхал,
293
про каких невест у маменьки с свахами идут разговоры.
Как придет одна сваха или другая — маменька с нею за¬
прутся в образной, сядут ко крестам, самовар спросят и
всё наедине говорят, а потом сваха выйдет, погладит меня
по голове и обнадеживает:
— Не тужи, молодчик Мишенька: вот уж скоро не
будешь один скучать, скоро мы тебя обрадуем.
А маменька даже, бывало, и за это сердятся и го¬
ворят:
— Ему это совсем не надо знать; что я над его
головой решу, то с ним и быть должно. Это как в Пи¬
сании.
Я и не тужил; мне было все равно: жениться так же¬
ниться, а придет дело до щекотки, тогда увидим еще, кто
кого.
Тетушка же Катерина Леонтьевна шла против мамень¬
киного желания и меня против их научала.
— Не женись,— говорила,— Миша, на орловской —
ни за что не женись. Ты смотри: здешние орловские все
как переверчены — не то они купчихи, не то благородные.
За офицеров выходят. А ты проси мать, чтобы она взяла
тебе жену из Ельца, откуда мы сами с ней родом. Там в
купечестве мужчины гуляки, но невесты есть настоящие
девицы: не щепотницы, а скромные — на офицеров не
смотрят, а в платочке молиться ходят и старым русским
крестом крестятся. На такой как женишься, то и благо¬
дать в дом приведешь и сам с женой по-старому молиться
начнешь, а я тебе тогда все свое добро откажу, а ей отдам
свое Божие благословение, и жемчуг окатный, и серебро,
и пронизи, и парчовые шугаи, и телогреи, и все болхов¬
ское вязание.
И было у тетеньки с маменькой на этот счет тихое
между них неудовольствие, потому что маменька уже
совсем были от старой веры отставши и по новым святцам
Варваре великомученице акафист читали. Они жену мне
хотели взять из орловских для того, чтобы у нас было об¬
новление родства.
— По крайней мере,— говорили,— чтобы на про¬
щеные дни, перед постом, было нам к кому на прощанье
с хлебами ездить и к нам чтобы было кому завитые хлебы
привозить.
Маменька любили потом эти хлебы на сухари резать и
в посту в чай с медом обмакивать, а у тетеньки надо всем
выше стояло их древнее благочестие.
Спорили они, спорили, а все дело сделалось иначе.
294
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Подвернулся вдруг самый нежданный случай.
Сидим мы раз с тетушкой, на Святках, после обеда у
окошечка, толкуем что-то от божества и едим в поспе
моченые яблоки, и вдруг замечаем — у наших ворот на
улице, на снегу, стоит тройка ямских коней. Смотрим —
из-под кибитки из-за кошмы вылезает высокий человек в
калмыцком тулупе, темным сукном крыт, алым кушаком
подпоясан, зеленым гарусным шарфом во весь поднятый
воротник обверчен, и длинные концы на груди жгутом
свиты и за пазуху сунуты, на голове яломок, а на ногах
телячьи сапоги мехом вверх.
Встал этот человек и вытряхивается, как пудель, от
снега, а потом вместе с ямщиком зацепил из кибитки из-
под кошмы другого человека в бобровом картузе и в вол¬
чьей шубе и держит его под руки, чтобы он мог на ногах
устояться, потому что ему скользко на подшивных ва¬
ленках.
Тетенька Катерина Леонтьевна очень обеспокоилась,
что это за люди и зачем у наших ворот высаживаются, а
как волчью шубу увидала, так и благословилася:
— Господи Исусе Христе, помилуй нас, аминь! — гово¬
рит.— Ведь это братец Иван Леонтьич, твой дядя, из
Ельца приехал. Что это с ним случилось? С самых отцо¬
вых похорон три года здесь не был, а тут вдруг привалил
на Святках. Скорее, бери ключ от ворот, бежи ему встречу.
Я бросился искать маменьку, а маменька стали ключ
искать и насилу его нашли в образнике, да пока я выбе¬
жал к воротам, да замок отпирать стали, да засов выта¬
скивать, тройка уже и отъехала, н тот, что в калмыцком
тулупе был, уехал в кибитке, а дядя один стоит, за скобку
держится и сердится.
— Что это,— говорит,— вы, как тетери, днем закупо¬
рились?
Маменька с ним здравствуются и отвечают:
— Разве вы,— говорит,— братец, не знаете, какое у
нас орловское положение? Постоянно с ворами, и день, и
ночь от полиции запираемся.
Дядя отвечает, что это у всех одно положение: Орел
да Кромы — первые воры, а Карачев на придачу, а Елец
всем ворам отец. «И мы, говорит, тоже от своей полиции
запираемся, но только на ночь, а на что же днем? Мне то
и неприятно, что вы меня днем на улице у ворот оставили:
у меня валенки кожей обшиты — идти нельзя, скользко,—
295
а я приехал по церковной надобности не с пустыми рука¬
ми. Помилуй бог, какой орловчин с шеи рванет и убежит,
а мне догонять нельзя».
ГЛАВА ПЯТАЯ
Мы все извинились перед дяденькой, отвели его в ком¬
нату из дорожного платья переодеваться. Переобулся
Иван Леонтьич из валенков в сапоги, одел сюртук и сел
к самовару, а матушка стала его спрашивать: по какому
он такому церковному делу приехал, что даже на празд¬
ничных днях побеспокоился, и куда его попутчик от наших
ворот делся?
А Иван Леонтьевич отвечает:
— Дело большое. Разве ты не понимаешь, что я нынче
ктитор, а у нас на самый первый день праздника дьякон
оборвался.
Маменька говорит:
— Не слышали.
— Да ведь у вас когда же о чем-нибудь интересном
слышат! Такой уж у вас город глохлый.
— Но каким же это манером у вас дьякон оборвался?
— Ах, это он, мать моя, пострадал через свое усердие.
Стал служить хорошо по случаю освобождения от галлов,
и все громче, да громче, да еще громче, и вдруг как воз¬
гласил о «спасении» — так ему жила и лопнула. Подсту¬
пили его с амвона сводить, а у него уже полон сапог крови
натекло.
— Умер?
— Нет. Купцы не допустили: лекаря наняли. Наши
купцы разве так бросят? Лекарь говорит: может еще на
поправку пойти, но только голоса уже не будет. Вот мы и
приехали сюда с нашим с первым прихожанином хлопо¬
тать, чтобы нашего дьякона от нас куда-нибудь в женский
монастырь монашкам свели, а себе здесь должны выбрать
у вас промежду всех одного самого лучшего.
— А это кто же ваш первый прихожан и куда он отъ¬
ехал?
— Наш первый прихожанин называется Павел Миро¬
ныч Мукомол. На московской богачихе женат. Целую
неделю свадьбу праздновали. Очень ко храму привержен
и службу всякую церковную лучше протодьякона знает.
Затем его все и упросили: поезжай, посмотри и выбери;
что тебе полюбится — то и нам будет любо. Его всяк стар
296
и мал почитает. И он при огромном своем капитале, что
три дома имеет, и свечной завод, и крупчатку, а сейчас
послушался и для церковной надобности все оставил и
полетел. Он пока в Репинской гостинице номер возьмет.
Шалят у вас там или честно?
Маменька отвечают:
— Не знаю.
— То-то вот и есть, что вы живете и ничего не знаете.
— Мы гостиниц боимся.
— Ну да ничего; Павла Мироныча тоже нелегко оби¬
деть: сильней его ни в Ельце, ни в Ливнах кулачника нет.
Что ни бой — то два да три кулачника от его руки пада¬
ют. Он в прошлом году, постом, нарочно в Тулу ездил,
и даром что мукомол, а там двух самых первых самовар¬
ников так сразу с грыжей и сделал.
Маменька и тетенька перекрестились.
— Господи! — говорят,— зачем же ты такого к нам
с собой на святые вечера привез!
А дяденька смеется:
— Чего,— говорит,— вы, бабы, испугались! Наш при¬
хожанин хороший человек, и по церковному делу мне без
него обойтись невозможно. Мы с ним приехали на живую
минуту, чтобы обобрать в свою пользу, что нам годится,
и уехать.
Матушка с тетей опять ахнули.
— Что ты это, братец, зачем такое страшное шутишь!
Дядя еще веселее рассмеялся.
— Эх вы,— говорит,— вороны-сударыни, купчихи
орловские! У вас и город-то не то город, не то пожари¬
ще — ни на что не похож, и сами-то вы в нем все как
копчушки в коробке заглохли! Нет, далеко вам до нашего
Ельца, даром что вы губернские. Наш Елец хоть уезд-
городок, да Москвы уголок, а у вас что и есть хорошего,
так вы и то ценить не можете. Вот мы это-то самое у вас
и отберем.
— Что же это такое?
— Дьякон нам хороший в приход нужен, а у вас,
говорят, есть два дьякона с голосами: один у Богоявленья,
в Рядах, а другой на Дьячковской части, у Никития.
Выслушаем их во всех манерах, как Павел Мироныч
покажет, что к нашему к елецкому вкусу подходящее, и
которого изберем, того к себе сманим и уговор сделаем;
а который нам не годится — тому во второй номер: за
беспокойство получай на рясу деньгами. Павел Мироныч
теперь уже поехал собирать их на пробу, а мне сейчас надо
297
идти к Борисоглебскому соборцу; там, говорят, у вас есть
гостинник, у которого всегда пустая гостиница. Вот в этой
в пустой гостинице возьмем три номера насквозь и будем
пробу делать. Должен ты, брат Мишутка, сейчас меня
туда вести в провожатых.
Я спрашиваю:
— Это вы, дяденька, мне говорите?
Он отвечает:
— Известно, тебе. Кто же еще, кроме тебя, Мишутка?
Ну, а если обижаешься, так, пожалуй, назову тебя
Михайло Михайлович: окажи родственную услугу — про¬
води, сделай милость, на чужой стороне дядю родного.
Я откашлянулся и вежливо отвечаю:
— Это, дяденька, состоит не в том расчислении: я ни¬
чем не обижаюсь и готов со всей моей радостью, но я сам
собой не владею, а как маменька прикажет.
Маменьке же это совершенно не понравилось:
— Зачем,— говорит,— вам, братец, в такую компанию
с собой Мишу брать? Можно сделать, что вас другой кто-
нибудь проводит.
— Мне с племянником-то приличней ходить.
— Ну, что он еще знает!
— Да небось все знает. Мишутка, знаешь все?
Я застыдился.
— Нет,— говорю,— я всего знать не могу.
— Почему же так?
— Маменька не позволяют.
— Вот так дело! А как ты думаешь: родной дядя
всегда может во всем племянником руководствовать или
нет? Разумеется, может. Одевайся же сейчас и пойдем во
все следы, пока дойдем до беды.
Я то тронусь, то стою как пень: и его слушаю, и вижу,
что маменька ни за что не хотят меня отпустить.
— У нас,— говорят,— Миша еще млад, и со двора
он в вечернее время никуда выходить не обык. Зачем же
тебе его непременно? Теперь не оглянешься, как и сумерки,
и воровской час будет.
Но тут дядя на них даже и покричал:
— Да полно вам, в самом деле, дурачиться! Что вы
это парня в бабьем рукаве парите! Малый вырос такой,
что вола убить может, а вы его все в детках бережете. Это
одна ваша женская глупость, а он у вас от этого хуже
будет. Ему надо развитие сил жизни иметь и утверждение
характера, а мне он нужен потому, что, помилуй бог, на
меня в самом деле в темноте или где-нибудь в закоулке
298
ваши орловские воры нападут или полиция обходом встре¬
тится — так ведь со мной все наши деньги на хлопоты...
Ведь сумма есть, чтобы и оборванного дьякона монашкам
сбыть и себе сманить сильного... Неужели же вы, родные
сестры, столь безродственны, что хотите, чтобы меня, бра¬
та вашего, по голове огрели или в полицию бы забрали,
а там бы я после безо всего оказался?
Матушка говорит:
— Боже от этого сохрани — не в одном Ельце уважают
родственность! Но ты возьми с собой приказчика или да¬
же хоть двух молодцов из трепачей. У нас трепачи из
кромчан страсть очень сильные, фунтов по восьми в день
одного хлеба едят без приварка.
Дядя не захотел.
— На что,— говорит,— мне годятся наемные люди.
Это вам, сестрам, даже стыдно и говорить, а мне с ними
идти стыдно и страшно. Кромчане! Хороши тоже люди
называются! Они пойдут провожать, да сами же первые и
убьют, а Миша мне племянник,— мне с ним по крайней
мере смело и прилично.
Стал на своем и не уступает:
— Вы,— говорит,— мне в этом никак отказать не
можете,— иначе я родства отрекаюсь.
Этого матушка с тетенькой испугались и перегляды¬
ваются друг на дружку: дескать, что нам делать — как
быть?
Иван Леонтьич настаивает:
— И то,— говорит,— поймите: можете ли вы еще от¬
казать для одного родства? Помните, что я его беру не
для какой-нибудь своей забавы или для удовольствия, а
по церковной надобности. Посоветуйтесь-ка, можно ли в
этом отказать? Это отказать — все равно что для Бога
отказать. А он ведь раб Божий, и Бог с ним волен: вы его
при себе хотите оставить, а Бог возьмет да и не оставит.
Ужасно какой был на словах убедительный.
Маменька испугались.
— Полно тебе, пожалуйста, говорить такие страсти.
А дядя опять весело расхохотался.
— Ах, вороны-сударыни! Вы и слов-то силы не пони¬
маете! Кто же не раб Божий? А я вот вижу, что вам са¬
мим ни на что не решиться, и я сам его у вас из-под крыла
вышибу...
И с этим хвать меня за плечо и говорит:
— Поднимайся сейчас, Миша, и одевай гостиное пла¬
тье,— я тебе дядя и старик, седых лет доживший. У меня
299
внуки есть, и я тебя с собою беру на свое попечение и велю
со мной следовать.
Я смотрю на мать и на тетеньку, а самому мне так на
нутре весело, и эта дяденькина елецкая развязка очень
мне нравится.
— Кого же,— говорю,— я должен слушать?
Дядя отвечает:
— Самого старшего надо слушать — меня и слушай.
Я тебя не на век, а всего на один час беру.
— Маменька! — вопию.— Что же вы мне прикажете?
Маменька отвечают:
— Что же... если всего на один час, так ничего — оде¬
вай гостиное платье и иди проводи дядю; но больше одно¬
го часу ни одной минуты не оставайся. Минуту промед¬
лишь — умру со страху!
— Ну вот еще,— говорю,— приключение! Как это я
могу в такой точности знать, что час уже прошел и что но¬
вая минута начинается,— а вы меж тем станете беспоко¬
иться...
Дядя хохочет.
— На часы,— говорит,— на свои посмотришь и время
узнаешь.
— У меня,— отвечаю,— своих часов нет.
— Ах, у тебя еще до сей поры даже и часов своих нет!
Плохо же твое дело!
А маменька отзываются:
— На что ему часы?
— Чтобы время знать.
— Ну... он еще млад... их заводить не сумеет... На ули¬
це слышно, как на Богоявлении и на Девичьем монастыре
часы бьют.
Я отвечаю:
— Вы разве не знаете, что на богоявленских часах
вчера гиря сорвалась и они не бьют.
— Ну так девичьи.
— А девичьих никогда не слышно.
Дядя вмешался и говорит:
— Ничего, ничего: одевайся скорей и не бойся про¬
срочить. Мы с тобою зайдем к часовщику, и я тебе в пода¬
рок часы куплю. Пусть у тебя за провожанье дядина па¬
мять будет.
Я как про часы услыхал — весь возгорелся: скорее
у дяди руку чмок, надел на себя гостиное платье и готов.
Маменька благословила и еще несколько раз сказала:
— Только на один час!
300
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Дяденька был своего слова барин. Как только мы выш¬
ли, он говорит:
— Свисти скорее живейного извозчика — поедем к ча¬
совщику.
А у нас тогда, в Орле, путные люди на извозчиках по
городу еще не ездили. Ездили только какие-нибудь гуляки,
а больше извозчики стояли для наемщиков, которые в Ор¬
ле за других во все места в солдаты нанимались.
Я говорю:
— Я, дяденька, свистать умею, но не могу, потому что
у нас на живейниках наемщики ездят.
Он говорит: «Дурак!» — и сам засвистал. А как подъ¬
ехали, опять говорит:
— Садись без разговора! Пешком в час оборотить
к твоим бабам не поспеем, а я им слово дал, и мое слово
олово.
Но я от стыда себя не помню и с извозчика свеши¬
ваюсь.
— Что ты,— говорит,— ерзаешь?
— Помилуйте,— говорю,— подумают, что я наемщик.
— С дядей-то?
— Вас здесь не знают; скажут: вот он его уже катает,
по всем местам обвезет, а потом закороводит. Маменьку
стыдить будут.
Дядя ругаться начал.
Как я ни упирался, а должен был с ним рядом сидеть,
чтобы скандала не заводить. Еду, а сам не знаю, куда мне
глаза деть,— не смотрю, а вижу и слышу, будто все кру¬
гом говорят: «Вот оно как! Арины Леонтьевны Миша-то
уж на живейном едет — верно, в хорошее место! Не могу
вытерпеть!
— Как,— говорю,— вам, дяденька, угодно, а только
я долой соскочу.
А он меня прихватил и смеется.
— Неужели,— говорит,— у вас в Орле уже все подряд
дураки, что будут думать, будто старый дядя станет тебя
куда-нибудь по дурным местам возить? Где у вас тут са¬
мый лучший часовщик?
— Самый лучший часовщик у нас немец Керн почита¬
ется; у него на окнах арап с часами на голове во все сто¬
роны глазами мигает. Но только к нему через Орлицкий
мост надо на Волховскую ехать, а там в магазинах знако¬
мые купцы из окон смотрят; я мимо их ни за что на жи¬
вейном не поеду.
301
Дядя все равно не слушает.
— Пошел,— говорит,— извозчик, на Волховскую к
Керну.
Приехали. Я его упросил, чтобы он хоть здесь отпустил
извозчика,— что я назад ни за что в другой раз по тем же
улицам не поеду. На это он согласился. Меня назвал еще
раз дураком, а извозчику дал пятиалтынный и часы мне
купил серебряные с золотым ободочком и с цепочкой.
— Такие,— говорит,— часы у нас, в Ельце, теперь са¬
мые модные; а когда ты их заводить приучишься,
а я в другой раз приеду — я тебе тогда золотые куплю
и с золотой цепочкой.
Я его поблагодарил и часам очень рад, но только про¬
шу, чтобы все-таки он больше на извозчиках со мною не
ездил.
— Хорошо, хорошо,— говорит,— веди меня скорей
в Борисоглебскую гостиницу; нам надо там сквозной номер
нанять.
Я говорю:
— Это отсюда рукой подать.
— Ну и пойдем. Нам здесь у вас в Орле прохлаждать¬
ся некогда. Мы зачем приехали? Себе голосистого дьякона
выбрать; сейчас это и делать. Время терять некогда. Про¬
веди меня до гостиницы и сам ступай домой к матери.
Я его проводил, а сам поскорее домой.
Прибежал так скоро, что всего часа еще не прошло, как
вышел, и своим дядин подарок, часы, показываю.
Маменька посмотрела и говорит:
— Что ж... очень хороши,— повесь их у себя над кро¬
ватью на стенку, а то ты их потеряешь.
А тетенька отнеслась еще с критикой:
— Зачем же это,— говорит,— часы серебряные, а обо¬
док желтый?
— Это,— отвечаю,— самое модное в Ельце.
— Пустяки какие,— говорит,— у них в Ельце выдумы¬
вают. Старики умнее в Ельце жили — всё носили одного
звания: серебряные часы так серебряные, а золотые так
золотые; а это на что одно с другим совокуплено насильно,
что Бог разно по земле рассеял.
Но маменька помирили, что даровому коню в зубы не
смотрят, и опять сказали:
— Поди в свою комнату и повесь над кроваткой.
Я тебе в воскресенье под них монашкам закажу вышить
подушечку с бисером и с рыбьими чешуйками, а то ты как-
нибудь в кармане стекло раздавишь.
302
Я весело говорю:
— Починить можно.
— Как чинить понадобится, тогда часовщик сейчас
магнитную стрелку на камень в середине переменит, и ча¬
сы пропали. Лучше поди скорее повесь.
Я, чтобы не спорить, вбил над кроваткой гвоздик и по¬
весил часы, а сам прилег на подушку и гляжу на них, лю¬
буяся. Очень мне приятно, что у меня такая благородная
вещь. И как они хорошо, тихо тикают: тик, тик, тик, тик...
Я слушал, слушал да и заснул. Пробуждаюсь от громко¬
го разговора в зале.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Раздается за стеною и дядин голос, и еще чей-то дру¬
гой, незнакомый голос; а тоже слышно, что и маменька
с тетенькой тут находятся.
Незнакомый рассказывает, что он был уже у Богоявле¬
ния и там дьякона слушал, и у Никитья тоже был, но «на¬
до, говорит, их вровнях ровно поставить и под свой камер¬
тон слушать».
Дядя отвечает:
— Что же, действуй; я в Борисоглебской гостинице все
приготовил. Сквозь все комнаты открыты будут. Приез¬
жих никого нет — кричите сколько хотите, обижаться бу¬
дет некому. Отличная гостиница: туда только одни приказ¬
ные из палат ходят с челобитчиками, пока присутствие;
а вечером совершенно никого нет, и даже перед окнами как
лес стоят оглобли да лубки на Полешской площади.
Незнакомый отвечает:
— Это нам и нужно, а то у них тоже нахальные люби¬
тели есть и непременно соберутся мой голос слушать и пе¬
ресмеивать.
— А ты разве боишься?
— Я не боюсь, а за нахальство рассержусь и побью.
А у самого у него голос, как труба.
— Я им,— говорит,— на свободе все примеры объяс¬
ню, как в нашем городе любят. Послушаем, как они под¬
ведут и покажут себя на все лады: как ворчком при обла¬
чении, как середину, как многолетный верх, как «во бла¬
женном успении» вопль пустить и памятную завойку сде¬
лать. Вот и вся недолга.
И дядя согласился.
— Да,— говорит,— надо их сравнять и тогда для всех
303
безобидное решение сделать. Который к нашему елецкому
фасону больше потрафит — о том станем хлопотать и к се¬
бе его сманим, а который слабже выйдет — тому дадим на
рясу за беспокойство.
— Бери деньги с собою,— а то у них крадут.
— Да и ты тоже свои с собой бери.
— Хорошо.
— Ну, а теперь ты иди уставляй угощение, а я за дья¬
конами поеду. Они просили, чтоб в сумерки,— потому что
наш народ, говорят, шельма: все пронюхает.
Дядя и на это отвечает согласно, но только го¬
ворит:
— Я вот этих сумерек-то у них в Орле боюся, а теперь
скоро совсем стемнеет.
— Ну, я,— отвечает незнакомый,— ничего не боюсь.
— А как ихний орловский подлёт с тебя шубу ста¬
щит? 1
— Ну, как же. Так-то он с меня и стащит! лучше пусть
не попадается, а то я, пожалуй, и сам с него все стащу.
— Хорошо, что ты так силен.
— А ты с племянником ступай. Парнище такой, что
кулаком вола ушибить может.
Маменька отзывается:
— Миша слаб — где ему защищаться!
— Ну, пусть медных пятаков в перчатку возьмет, тог¬
да и крепок сделается.
Тетенька отзывается:
— Ишь что выдумает!
— Ну, а чем я худо сказал?
— На все у вас в Ельце, видно, свое правило.
— А то как же? У вас губернатор правила уставляет,
а у нас губернатора нет,— вот мы зато и сами себе даем
правило.
— Как бить человека?
— Да, и как бить человека есть правила.
— А вы лучше до воровского часу не оставайтесь, так
ничего с вами и не приключится.
— А у вас в Орле в котором часу настает воровской
час?
Тетушка отвечает из какой-то книги:
— «Егда люди потрапезуют и, помоляся, уснут, в той
час восстают татие и исходя грабят».
1 Подлёт — по стар, орловски то же, что в Москве «жулкк»
или в Петербурге «мазурик» (см. «Историч. оч. г. Орла» Пясецкого
1874 г.). (Прим. автора.)
304
Дядя с незнакомым рассмеялись. Им это все, что ма¬
менька с тетенькой говорили, казалось будто невероятно
или нерассудительно.
— Чего же,— говорят,— у вас в таком случае полиц¬
мейстер смотрит?
Тетенька опять отвечают от Писания:
— «Аще не Господь хранит дом — всуе бдит стрегий».
Полицмейстер у нас есть с названием Цыганок. Он свое
дело и смотрит, хочет именье купить. А если кого огра¬
бят, он говорит: «Зачем дома не спал? И не ограби¬
ли б».
— Он бы лучше чаще обходы посылал.
— Уж посылал.
— Ну и что же?
— Еще хуже стали грабить.
— Отчего же так?
— Неизвестно. Обход пройдет, а подлёты за ним
вслед — и грабят.
— А может быть не подлёты, а сами обходные и
грабили.
— Может быть, и они грабили.
— Надо с квартальным.
— А с квартальным еще того хуже — на него если по¬
жалуешься, так ему же и за бесчестье заплатишь.
— Экий город несуразный! — вскричал Павел Миро¬
ныч (я догадался, что это был он) и простился, и вышел,
а дядя пошевеливается и еще рассуждает:
— Нет, и вправду,— говорит,— у нас в Ельце лучше.
Я на живейном поеду.
— Не езди на живейнике! Живейный тебя оберет, да
и с санок долой скинет.
— Ну так как хотите, а я опять племянника Мишу
с собой возьму. Нас с ним вдвоем никто не обидит.
Маменька сначала и слышать не хотели, чтобы меня
отпустить, но дядя стал обижаться и говорит:
— Что же это такое: я же ему часы с ободком пода¬
рил, а он неужели будет ко мне неблагодарный и пустой
родственной услуги не окажет? Не могу же я теперь все
дело расстроить. Павел Мироныч вышел при моем полном
обещании, что я с ними буду и все приготовлю, а теперь
вместо того что же, я должен, наслушавшись ваших стра¬
хов, дома, что ли, остаться или один на верную погибель
идти?
Тетенька с маменькой притихли и молчат.
305
А дядя настаивает:
— Ежели б,— говорит,— моя прежняя молодость, ко¬
гда мне было хоть сорок лет,— так я бы не побоялся
подлётов, а я муж в летах, мне шестьдесят пятый год,
и если с меня далеко от дому шубу долой стащат, то я,
пока без шубы приду, непременно воспаление плеч получу,
и тогда мне надо молодую рожечницу кровь оттянуть,
или я тут у вас и околею. Хороните меня тогда здесь на
свой счет у Ивана Крестителя, и пусть над моим гробом
вспомнят, что твой Мишка своего дядю родного в своем
отечественном городе без родственной услуги оставил
и один раз в жизни проводить не пошел...
Тут мне стало так его жалко и так совестно, что
я сразу же выскочил и говорю:
— Нет, маменька, как вам угодно, но я дяденьку без
родственной услуги не оставлю. Неужели я буду неблаго¬
дарный, как Альфред, которого ряженые солдаты по до¬
мам представляют? Я вам в ножки кланяюсь и прошу
позволения, не заставьте меня быть неблагодарным, до¬
звольте мне дядюшку проводить, потому что они мне род¬
ной и часы мне подарили, и мне будет от всех людей сове¬
стно их без своей услуги оставить.
Маменька, как ни смущались, должны были меня от¬
пустить, но только уж зато строго-престрого наказывали,
чтобы и не пил, и по сторонам не смотрел, и никуда не за¬
ходил, и поздно не запаздывался.
Я ее всячески успокаиваю.
— Что вы,— говорю,— маменька: зачем по сторонам,
когда есть прямая дорога. Я при дяде.
— Все-таки,— говорят,— хоть и при дяде, а до воров¬
ского часу не оставайся. Я спать не буду, пока вы домой
обратите.
А потом стала меня за дверью крестить и шепчет:
— Ты на своего дяденьку Ивана Леонтьевича не очень
смотри: они в Ельце все колобродники. К ним даже и в
дома-то их ходить страшно: чиновников зазовут угощать,
а потом в рот силой льют, или выливают за ворот, и шу¬
бы прячут, и ворота запрут, и запоют: «Кто не хочет
пить — того будем бить». Я своего братца на этот счет
знаю.
— Хорошо-с,— отвечаю,— маменька; хорошо, хорошо!
Во всем за меня будьте покойны.
А маменька все свое:
— Сердце мое,— говорят,— чувствует, что это у вас
добром не кончится.
306
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Наконец вышли мы с дяденькой наружу за ворота
и пошли. Что такое с нами подлёты двумя могут сделать?
Маменька с тетенькой, известно, домоседки и не знают
того, что я один по десяти человек на один кулак колотил
в бою. Да и дяденька еще, хоть и пожилой человек,
а тоже за себя постоять могут.
Побежали мы туда, сюда, в рыбные лавки и в ренско¬
вые погреба, всего накупили и все посылаем в Борисо¬
глебскую, в номера, с большими кульками. Сейчас само¬
вары греть заказали, закуски раскрыли, вино и ром рас¬
ставили и хозяина, борисоглебского гостинника, в компа¬
нию пригласили и просим:
— Мы ничего нехорошего делать не будем, но только
желание наше и просьба — чтобы никто чужой не слыхал
и не видал.
— Это,— говорит,— сделайте милость; клоп один раз¬
ве в стене услышит, а больше некому.
А сам такой соня — все со сна рот крестит.
Вскоре же и Павел Мироныч приехал и обоих дьяко¬
нов с собой привез: и богоявленского, и от Никития. Заку¬
сили сначала кое-как, начерно, балычка да икорки и сей¬
час поблагословились за дело, чтобы пробовать.
Три верхние номера все сквозь в одно были отворены.
В одном на кроватях одежду склали, в другом, крайнем,
закуску уставили, а в среднем — голоса пробовать.
Прежде Павел Мироныч посредине комнаты стал и по¬
казал, что главное у них в Ельце купечество от дьяконов
любит. Голос у него, я вам говорил, престрашный, даже
как будто по лицу бьет и в окнах на стеклах трещит.
Даже гостинник очнулся и говорит:
— Вам бы самому и первым дьяконом быть.
— Мало ли что! — отвечает Павел Мироныч,— мне,
при моем капитале, и так жить можно, а я только люблю
в священном служении громкость слушать.
— Этого кто же не любит!
И сейчас после того, как Павел Мироныч прокричал,
начали себя показывать дьякона: сначала один, а потом
другой одно и то же самое возглашать. Богоявленский
дьякон был черный и мягкий, весь как на вате стеган,
а никитский рыжий, сухой, что есть хреновый корень,
и бородка маленькая, смычком; а как пошли кричать,
выбрать невозможно, который лучше. В одном роде у од¬
ного лучше выходит, а в другом у другого приятнее. Сна-
307
чала Павел Мироныч представил, как у них в Ельце
любят, чтобы издали ворчанье раздавалось. Проворчал
«Достойно есть», и потом «Прободи владыко» и «Пожри
владыко», а потом это же самое сделали оба дьякона.
У рыжего ворчок вышел лучше. В чтении Павел Мироныч
с такого с низа взял, что ниже самого низкого, как будто
издалека ветром наносит: «Во время онно». А потом на¬
чал выходить все выше да выше и, наконец, сделал такое
воскликновение, что стекла зазвенели. И дьякона вровнях
с ним не отставали.
Ну, потом таким же манером и все прочее, как ика¬
тенью вести и как ее надо певчим в тон подводить, потом
радостное многолетие «и о спасении»; потом заунывное —
«вечный покой». Сухой никитский дьякон завойкою так
всем понравился, что и дядя и Павел Мироныч начали
плакать и его целовать и еще упрашивать, нельзя ли раз¬
вести от всего своего естества еще поужаснее.
Дьякон отвечает:
— Отчего же нет: мне это религия допускает, но надо
бы чистым ямайским ромом подкрепиться — от него
раскат в грудях шире идет.
— Сделай твое одолжение—ром на то изготовлен:
хочешь из рюмки пей, хочешь из стакана хлещи, а еще
лучше обороти бутылку, да и перелей все сразу из гор¬
лышка.
Дьякон говорит:
— Нет, я больше стакана за раз не обожаю.
Подкрепились — дьякон и начал сниза «во блаженном
успении вечный покой» и пошел все поднимать вверх и
все с густым подвоем всем «усопшим владыкам орловским
и севским, Аполлосу же и Досифею, Ионе же и Гавриилу,
Никодиму же и Иннокентию», и как дошел до «с-о-т-т-в-о¬
о-р-р-и им», так даже весь кадык клубком в горле выпя¬
тил и такую завойку взвыл, что ужас стал нападать, и дя¬
денька начал креститься и под кровать ноги подсовы¬
вать, и я за ним то же самое. А из-под кровати вдруг
что-то бац нас по булдажкам,— мы оба вскрикнули
и враз на середину комнаты выскочили и трясемся...
Дяденька в испуге говорит:
— Ну вас совсем! Оставьте их... не зовите их больше...
они уж и так здесь под кроватью толкаются.
Павел Мироныч спрашивает:
— Кто под кроватью может толкаться?
Дядя отвечает:
— Покойнички.
308
Павел Мироныч, однако, не оробел, схватил свечку
с огнем, да под кровать, а на свечку что-то дунуло, и
подсвечник из рук вышибло, и лезет оттуда в виде как
будто наш купец от Николы, из Мясных рядов.
Все мы, кроме гостинника, в разные стороны кинулись
и твердим одно слово:
— Чур нас! чур!
А за этим из-под другой кровати еще другой купец вы¬
ползает. И мне кажется, что и этот будто тоже из Мясных
рядов.
— Что же это значит?
А эти купцы оба говорят:
— Пожалуйста, это ничего не значит... Мы просто
любим басы слушать.
А первый купец, который нас с дядей по ногам ударил
и у Павла Мироныча свечу вышиб, извиняется, что мы его
сами сапогами зашибли, а Павел Мироныч свечою чуть
лицо не подпалил.
Но Павел Мироныч рассердился на гостинника и стал
его обвинять, что если за номера деньги заплочены, так
не надо было сторонних людей без спроса под кровать
накладывать.
А гостинник будто все спал, но оказался сильно вы¬
пивши.
— Эти хозяева,— говорит,— оба мне родственники:
я им хотел родственную услугу сделать. Я в своем доме
что хочу — все могу.
— Нет, не можешь.
— Нет, могу.
— А если тебе заплочено?
— Так что же, что заплочено? Это дом мой, а мне
мои родные всякой платы дороже. Ты побыл здесь
и уедешь, а они здесь всегдашние: вы их ни пятками ткать,
ни глаза им жечь огнем не смеете.
— Не нарочно мы их пятками ткали, а только ноги
свои подвели,— говорит дядя.
— А вы ног бы не подводили, а прямо сидели.
— Мы подвели с ужаса.
— Ну так что за беда. А они к лерегии привержены
и желамши слушать...
Павел Мироныч вскипел.
— Да это нешто,— говорит,— лерегия? Это один при¬
мер для образования, а лерегия в церкви.
— Все равно,— говорит гостинник,— это все к одному
и тому же касается.
309
— Ах вы, поджигатели!
— А вы бунтовщики.
— Какие?
— Дохлым мясом у себя торговали. Заседателя на
ключ заперли!
И пошли в этом роде бесконечные глупости. И вдруг
все возмутилось, и уже гостинник кричит:
— Ступайте вы, мукомолы, вон из моего заведения,
я с своими мясниками сам продолжать буду.
Павел Мироныч ему и погрозил.
А гостинник отвечает:
— А если грозиться, так я сейчас таких орловских
молодцов кликну, что вы ни одного не переломленного
ребра домой в Елец не привезете.
Павел Мироныч, как первый елецкий силач, оби¬
делся.
— Ну что делать,— говорит,— зови, если с места
встанешь, а я вон из номера не пойду; у нас за вино день¬
ги плочены.
Мясники захотели уйти — верно, вздумали людей
кликнуть.
Павел Мироныч их в кучу и кричит:
— Где ключ? Я их всех запру.
Я говорю дяде:
— Дяденька! бога ради! Вот мы до чего досиде¬
лись! Тут может убийство выйти! А дома теперь ма¬
менька и тетенька ждут... Что они думают!.. Как бес¬
покоятся!
Дядя и сам устрашился.
— Хватай шубу,— говорит,— пока отперто, и уйдем.
Выскочили мы в другую комнату, захватили шубы,
и рады, что на вольный воздух выкатились; но только
тьма вокруг такая густая, что и зги не видно, и снег мок¬
рый-премокрый целыми хлопками так в лицо и лепит, так
глаза и застилает,
— Веди,— говорит дядя,— я что-то вдруг все за¬
был — где мы, и ничего рассмотреть не могу.
— Вы,— говорю,— уж только скорей ноги уносите.
— Павла Мироныча нехорошо что оставили.
— Да ведь что же с ним делать?
— Так-то оно так... но первый прихожанин.
— Он силач; его не обидят.
А снег так и слепит, и как мы из духоты выскочили,
то невесть что кажется, будто кто-то со всех сторон вы¬
лезает.
310
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Я, разумеется, дорогу отлично знал, потому что город
наш небольшой и я в нем родился и вырос, но эта темно¬
та и мокрый снег прямо из комнатного жара да из света
точно у меня память отуманили.
— Позвольте,— говорю,— дяденька, сообразить, где
мы находимся.
— Неужели же ты в своем городе примет не знаешь?
— Нет, знаю, мол; первая примета у нас два собора:
один новый, большой, а другой старый, маленький, и нам
надо промежду их взять направо, а я теперь за этим сне¬
гом не вижу ни большого собора, ни малого.
— Вот тебе и раз! Этак и в самом деле с нас шубы
снимут или даже совсем разденут, и нельзя знать будет,
куда бежать голым. Насмерть простудиться можно.
— Авось, Бог даст, не разденут.
— А ты знаешь этих купцов, которые из-под постелей
вылезли?
— Знаю.
— Обоих знаешь?
— Обоих знаю, один называется Ефросин Иванов,
а другой Агафон Петров.
— И что же — они всамделе купцы?
— Купцы.
— У одного рожа-то мне совсем не понравилась.
— Чем?
— Язовитское в нем ображение.
— Это Ефросин: он и меня раз испугал.
— Чем?
— Мечтанием. Я один раз ишел вечером ото всенощ¬
ной мимо их лавок и стал против Николы помолиться,
чтобы пронес Бог,— потому что у них в рядах злые соба¬
ки; а у этого купца Ефросина Иваныча в лавке соловей
свищет, и сквозь заборные доски лампада перед иконой
светится... Я прилег к щелке подглядеть и вижу: он стоит
с ножом в руках над бычком, бычок у его ног зарезан
и связанными ногами брыкается, головой вскидывает; го¬
лова мотается на перерезанном горле и кровь так и хле¬
щет; а другой телок в темном угле ножа ждет, не то
мычит, не то дрожит, а над парной кровью соловей
в клетке яростно свищет, и вдали за Окою гром погромы¬
хивает. Страшно мне стало. Я испугался и крикнул:
«Ефросин Иваныч!» Хотел его просить меня до лав про¬
водить, но он как вздрогнет весь... Я и убежал. И сейчас
это в памяти.
311
— Зачем же ты теперь такую страшность рассказы¬
ваешь?
— А что же такое? разве вы боитесь?
— Не боюсь, да не надо про страшное.
— Ведь это хорошо кончилось. Я ему на другой день
говорю: так и так,— я тебя испугался. А он отвечает:
«А ты меня испугал, потому что я стоял соловья заслу¬
шавшись, а ты вдруг крикнул». Я говорю: «Зачем же ты
так чувствительно слушаешь?» — «Не могу, отвечает,
у меня часто сердце заходится».
— Да ты силен или нет? — вдруг перебил дядя.
— Хвалиться,— говорю,— особенной силой не стану,
а если пятака три-четыре старинных в кулак зажму, то
могу какого хотите подлёта треснуть прямо на помин
души.
— Да хорошо,— говорит,— если он будет один.
— Кто?
— Ну кто, подлёт-то! А если они двое или в целой
компании?..
— Ничего, мол: если и двое, так справимся — вы помо¬
жете. А в большой компании подлёты не ходят.
— Ну, ты на меня не много надейся: я, брат, стар стал.
Прежде, точно, я бивал во славу Божию так, что по Ель¬
цу знали и в Ливнах...
Но не успел он это проговорить, как вдруг слышим,
сзади нас будто кто-то идет и еще поспешает.
— Позвольте,— говорю,— мне кажется, как будто кто-
то идет.
— А что? И я слышу, что идет,— отвечает дядя.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Я молчу, дядя мне шепчет:
— Остановимся и вперед его мимо себя пропустим.
А было это уже как раз на спуске с горы, где летом
к Балашевскому мосту ходят, а зимой через лед между
барками.
Тут исстари место самое глухое. На горе мало было
домов, и те заперты, а внизу вправо, на Орлике, дрянные
бани да пустая мельница, а сверху сюда обрыв как стена,
а с правой сад, где всегда воры прятались. А полиц¬
мейстер Цыганок здесь будку построил, и народ стал
говорить, что будочник ворам помогает... Думаю, кто это
312
ни подходит — подлёт или нет,— а в самом деле лучше
его мимо себя пропустим.
Мы с дядей остановились... И что же вы думаете: тот
человек, который сзади ишел, тоже, должно быть, стал —
шагов его сделалось не слышно.
— Не ошиблись ли мы,— говорит дядя,— может быть,
никто не шел.
— Нет,— отвечаю,— я явственно слышал шаги, и
очень близко.
Постояли еще — ничего не слышно; но только что
дальше пошли — слышим, он опять за нами поспевает...
Слышно даже, как спешит и тяжело дышит.
Мы убавили шаги и идем тише — и он тише; мы опять
прибавим шагу — и он опять шибче подходит и вот-вот
в самый наш след врезается.
Толковать больше нечего: мы явственно поняли, что
это подлёт нас следит, и следит как есть с самой гости¬
ницы; значит, он нас поджидал, и когда я на обходе запу¬
тался в снегу между большим собором и малым — он нас
и взял на примет. Теперь, значит, не миновать чему-ни¬
будь случиться. Он один не будет.
А снег, как назло, еще сильней повалил; идешь, точно
будто в горшке с простоквашей мешаешь: бело и мокро —
все облипши.
А впереди теперь у нас Ока, надо на лед сходить; а на
льду пустые барки, и чтобы к нам домой на ту сторону
перейти, надо сквозь эти барки тесными проходцами про¬
бираться. А у подлёта, который за нами следит, верно
тут-то где-нибудь и его воровские товарищи спрятаны.
Им всего способнее на льду между барок грабить —
и убить, и под воду спустить. Тут их притон, и днем всег¬
да можно видеть их места. Логовища у них налажены
с подстилкою из костры и из соломы, в которых они ле¬
жат, покуривают и дожидают. И особые женки кабацкие
с ними тут тоже привитали. Лихие бабенки. Бывало,
выкажут себя, мужчину подманят и заведут, а уж те гра¬
бят, а эти опять на карауле караулят.
Больше всего нападали на тех, кто из мужского мона¬
стыря от всенощной возвращался, потому что наши пев¬
чих любили, и был тогда удивительный бас Струков,
ужасного обличья: черный, три хохла на голове и нижняя
губа как будто откидной передок в фаэтоне отваливалась.
Пока он ревет — она все откинута, а потом захлопнется.
Если же кто хотел цел от всенощной воротиться, то при¬
глашали с собой провожатыми приказных Рябыкина или
313
Корсунского. Оба силачи были, и их подлёты боялись.
Особливо Рябыкина, который был с бельмом и по тому
делу находился, когда приказного Соломку в Щекатихин¬
ской роще на майском гулянье убили...
Я рассказываю все это дяде для того, чтобы ему
о себе не думалось, а он перебивает:
— Постой, ты меня совсем уморил. Всё у вас убива¬
ют: отдохнем по крайней мере перед тем, как на лед
сходить. Вот у меня еще есть при себе три медных пята¬
ка. Бери-ка их тоже к себе в перчатку.
— Пожалуй, давайте — у меня рукавичка с варежкой
свободная, три пятака еще могу захватить.
И только что хочу у него взять эти пятаки, как вдруг
кто-то прямо мимо нас из темноты вырос и говорит:
— Что, добрые молодцы, кого ограбили?
Я думал, так и есть — подлёт, но узнал по голосу, что
это тот мясник, о котором я сказывал.
— Это ты,— говорю,— Ефросин Иваныч? Пойдем,
брат, с нами вместе заодно.
А он второпях проходит, как будто с снегом смешался,
и на ходу отвечает:
— Нет, братцы, гусь свинье не товарищ: вы себе свой
дуван дуваньте, а Ефросина не трогайте. Ефросин теперь
голосов наслышался, и в нем сердце в груди зашедшись...
Щелкану — и жив не останешься...
— Нельзя,— говорю,— его остановить; видите, он на
наш счет в ошибке: он нас за воров почитает.
Дядя отвечает:
— Да и Бог с ним, с его товариществом. От него тоже
не знаешь, жив ли останешься. Пойдем лучше, что Бог
даст, с одною с Божьей помощью. Бог не выдаст — свинья
не съест. Да теперь, когда он прошел, так стало и смело...
Господи помилуй! Никола, мценский заступник, Митрофа¬
ний воронежский, Тихон и Иосаф... Брысь! Что это такое?
— Что?
— Ты не видал?
— Что же тут можно видеть?
— Вроде как будто кошка под ноги.
— Это вам показалось.
— Совсем как арбуз покатился.
— Может быть, с кого-нибудь шапку сорвало.
— Ой!
— Что вы?
— Я про шапку.
— А что такое?
314
— Да ведь ты же сам говоришь: «сорвали»... Верно
там, на горе, кого-нибудь тормошат.
— Нет, верно просто ветер сорвал.
И мы с этими словами стали оба спускаться к баркам
на лед.
А барки, повторяю вам, тогда ставили просто, без вся¬
кого порядка, одна около другой, как остановятся. Нагро¬
мождено, бывало, так страшно тесно, что только между
ними самые узкие коридорчики, где насилу можно про¬
лезть и все туда да сюда загогулями заворачивать надо.
— Ну, тут,— говорю,— дяденька, я от вас скрывать
не хочу,— здесь и есть самая опасность.
Дядя замер — уж и святым не молится.
— Идите,— говорю,— теперь вы, дяденька, вперед.
— Зачем же,— шепчет,— вперед.
— Впереди безопаснее.
— А отчего безопаснее?
— Оттого, что если подлёт на вас налетит, то вы сей¬
час на меня взад подадитесь, а я вас тогда поддержу,
а его съезжу. А сзади мне вас не видно: подлёт вам, мо¬
жет, рукою или скользкою мочалкою рот захватит,— а я
и не услышу... идти буду.
— Нет, ты не иди... А какие же у них есть мочалки?
— Скользкие такие. Женки их из-под бань собирают
и им приносят рты затыкать, чтобы голосу не было.
Вижу, дядя все это разговаривает, потому что впере¬
ди идти боится.
— Я,— говорит,— впереди идти опасаюсь, потому что
он может меня по лбу гирей стукнуть, а ты тогда и за¬
ступиться не успеешь.
— Ну, а позади вам еще страшнее, потому что он мо¬
жет вас в затылок свайкой свистнуть.
— Какой свайкой?
— Что же это вы спрашиваете: разве вам неизвестно,
что такое свайка?
— Нет, я знаю: свайка для игры делается — железная,
вострая...
— Да, вострая.
— С круглой головкой?
— Да, фунта в три, в четыре, головка шариком.
— У нас в Ельце на это носят кистени; но чтобы
свайкой — я это в первый раз слышу.
— А у нас в Орле первая самая любимая мода — по
голове свайкой. Так череп и треснет.
— Однако пойдем лучше рядом под ручки.
315
— Тесно вдвоем между барками.
— А как это... свайкой-то, в самом деле!.. Лучше как-
нибудь тискаться будем.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Но только мы взялись под локотки и по этим коридор¬
чикам между барок тискаться начали,— слышим, и тот,
задний, опять от нас не отстал, опять он сзади за нами
лезет.
— Скажи, пожалуй,— говорит дядя,— ведь это, зна¬
чит, не мясник был?
Я только плечами двинул и прислушиваюсь...
Шуршит, слышно, как боками лезет и вот-вот сейчас
меня рукою сзади схватит... А с горы, слышно, еще другой
бежит... Ну, видимо дело, подлёты,— надо уходить. Рва¬
нулись мы вперед, да нельзя скоро идти, потому что и
темно, и тесно, и ледышки торчком стоят, а этот ближний
подлёт совсем уж за моими плечами... дышит.
Я говорю дяде:
— Все равно нельзя миновать — оборотимся.
Думал так, что либо пусть он мимо нас пройдет, либо
уж лучше его самому кулаком с пятаками в лицо встре¬
тить, чем он сзади стукнет. Но только что мы к нему
передом оборотились,— он как пригнется, бездельник, да
как кот между нас шарк!..
Мы оба с дядей так с ног долой и срезались.
Дядя кричит мне:
— Лови, лови, Мишутка! Он с меня бобровый картуз
сорвал.
А я ничего не вижу, но про часы вспомнил, и хвать
себя за часы. А вообразите, моих часов уже нет... Сорвал,
бестия!
— С меня с самого,— отвечаю,— часы сняты!
И я, себя позабывши, кинулся за этим подлётом изо
всей мочи и на свое счастье впотьмах тут же его за бар¬
кою изловил, ударил его изо всей силы по голове пята¬
ками, сбил с ног и сел на него:
— Отдавай часы!
Он хоть бы слово в ответ; но зубами меня, подлец, за
руку тяпнул.
— Ах ты, собака! — говорю.— Ишь как кусается! —
И треснул его хорошенько во-усысе, да обшлагом рукава
316
ему рот заткнул, а другою рукою прямо к нему за пазуху
и сразу часы нашел и вытащил.
Тут же сейчас и дядя подскочил:
— Держи его, держи,— говорит,— я его разутюжу.
И начали мы его утюжить и по-елецки, и по-орловски.
Жестоко его отколошматили, до того, что он только вы¬
рвался от нас, так и не вскрикнул, а словно заяц уда¬
рился; и только уж когда за Плаутин колодец забежал,
так оттуда закричал «караул»; и сейчас же опять кто-то
другой по ту сторону, на горе, закричал «караул».
— Каковы разбойники! — говорит дядя.— Сами лю¬
дей грабят, и сами еще на обе стороны «караул» кричат!..
Ты часы у него отнял?
— Отнял.
— А что ж ты мой картуз не отнял?
— У меня,— отвечаю,— про ваш картуз совсем из
головы вышло.
— А вот мне теперь холодно. У меня плешь.
— Наденьте мою шапку.
— Не хочу я твоей. Мой картуз у Фалеева пятьдесят
рублей дан.
— Все равно,— говорю,— теперь не видно.
— А ты же как?
— Я так, в простых волосах дойду. Да уж и близко —
сейчас за угол завернуть, и наш дом будет.
Моя шапка, однако, вышла дяде мала. Он вынул из
кармана носовой платок и платком повязался.
Так домой и прибежали.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Маменька с тетенькой еще не ложились спать: обе
чулки вязали — нас дожидались. И как увидали, что дядя
вошел весь в снегу вывален и по-бабьему носовым плат¬
ком на голове повязан, так обе разом ахнули и загово¬
рили:
— Господи! что это такое!.. Где же зимний картуз,
который на вас был?
— Прощай, брат, мой зимний картуз!.. Нет его,— от¬
вечает дядя.
— Владычица наша Пресвятая Богородица! Где же он
делся?
— Ваши орловские подлёты на льду сняли.
— То-то мы слышали, как вы «караул» кричали.
317
Я и говорила сестрице: «Вышли трепачей — я будто не¬
винный Мишин голос слышу».
— Да! Пока бы твои трепачи проснулись да вышли —
от нас бы и звания не осталось... Нет, это не мы «караул»
кричали, а воры; а мы сами себя оборонили.
Маменька с тетенькой вскипели.
— Как? Неужели и Миша силой усиливался?
— Да Миша-то и все главное дело сделал — он толь¬
ко вот мою шапку упустил, а зато часы отнял.
Маменька, вижу, и рады, что я так поправился, но го¬
ворят:
— Ах, Миша, Миша! А я же ведь тебя как просила:
не пей ничего и не сиди до позднего, воровского часу.
Зачем ты меня не слушал?
— Простите,— говорю,— маменька,— я пить ничего
не пил, а никак не смел одного дяденьку там оставить.
Сами видите, если бы они одни возвращались, то с ними
какая могла быть большая неприятность.
— Да все равно и теперь картуз сняли.
— Ну, теперь еще что!.. Картуз дело наживное.
— Разумеется —слава богу, что ты часы снял.
— Да-с, маменька, снял. И ах как снял! — сшиб его
в одну минуту с ног, рот рукавом заткнул, чтобы он не
кричал, а другою рукою за пазухой обвел и часы вынул,
и тогда его вместе с дяденькой колотить начали.
— Ну, уж это напрасно.
— А нет-с! Пусть, шельма, помнит.
— Часы-то не испортились?
— Нет-с, не должно быть — только, кажется, цепочку
оборвал...
И с этим словом вынимаю из кармана часы и рас¬
сматриваю цепочку, а тетенька всматривается и спраши¬
вают:
— Да это чьи же такие часы?
— Как чьи? Разумеется, мои.
— А ведь твои были с ободочком.
— Ну так что же?
А сам смотрю — и вдруг вижу: в самом деле, на этих
часах золотого ободочка нет, а вместо того на серебряной
дощечке пастушка с пастушком, и у их ног — овечка...
Я весь затрясся.
— Что же это такое??! Это не мои часы!
И все стоят, не понимают.
Тетенька говорит:
— Вот так штука!
318
А дяденька успокаивает:
— Постойте,— говорит,— не пужайтесь; верно он Ми¬
шуткины часы с собой захватил, а эти с кого-нибудь с дру¬
гого еще раньше снял.
Но я швырнул эти вынутые часы на стол и, чтобы их
не видеть, бросился в свою комнату. А там, слышу, на
стенке над кроватью мои часы потюкивают: тик-так, тик-
так, тик-так.
Я подскочил со свечой и вижу — они самые, мои часы
с ободочком... Висят, как святые, на своем месте!
Тут я треснул себя со всей силы ладонью в лоб и уже
не заплакал, а завыл...
— Господи! да кого же это я ограбил?
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Маменька, тетенька, дядя — все испугались, прибежа¬
ли, трясут меня.
— Что ты, что ты? Успокойся!
— Отстаньте,— говорю,— пожалуйста! Как мне можно
успокоиться, когда я человека ограбил!
Маменька заплакали.
— Он,— говорят,— помешался,— он увидал, что ли,
что-нибудь страшное!
— Разумеется, увидал, маменька!.. Что тут делать!!
— Что же такое ты увидал?
— А вот это самое, посмотрите сами.
— Да что? где?
— Да вот, вот это! Смотрите! Или вы не видите, что
это такое?
Они поглядели на стенку, куда я им показал, и видят:
на стенке висят и преспокойно тикают подаренные мне
дядей серебряные часы с золотым ободочком...
Дядя первый образумились.
— Свят, свят, свят! — говорит,— ведь это твои часы?
— Ну да, конечно мои!
— Ты их, значит, верно и не надевал, а здесь оставил?
— Да уж видите, что здесь оставил.
— А те-то... те-то... Чьи же это, которые ты снял?
— А я почем знаю, чьи они!
— Что же это! Сестрицы мои, голубушки! Ведь это
мы с Мишей кого-то ограбили!
Маменька так с ног долой и срезалась: как стояла, так
вскрикнула и на том же месте на пол села.
319
Я к ней, чтобы поднять, а она гневно:
— Прочь, грабитель!
Тетенька же только крестит во все стороны и пригова¬
ривает:
— Свят, свят, свят!
А маменька схватились за голову и шепчут:
— Избили кого-то, ограбили и сами не знают кого!
Дядя ее поднял и успокаивает:
— Да уж успокойся, не путного же кого-нибудь из¬
били.
— Почему вы знаете? Может быть, и путного; может
быть, кто-нибудь от больного послан за лекарем.
Дядя говорит:
— А как же мой картуз? Зачем он картуз сорвал?
— Бог знает, что такое ваш картуз и где вы его оста¬
вили.
Дядя обиделся, но матушка его оставила без внима¬
ния, и опять ко мне.
— Берегла сынка столько лет в страхе Божием, а он
вот к чему уготовался: тать не тать, а на ту же стать...
Теперь за тебя после этого во всем Орле ни одна путная
девушка и замуж не пойдет, потому что теперь все, все
узнают, что ты сам подлёт.
Я не вытерпел и громко сказал:
— Помилуйте, маменька! Какой же я подлёт, когда
это все по ошибке!
Но она не хочет и слушать, а все ткнет меня косточка¬
ми перстов в голову да причитывает причтою по горю-
злосчастию:
— Учила: живи, чадо, в незлобии, не ходи в игры
и в братчины, не пей две чары за единый вздох, не ложись
в место заточное, да не сняли б с тебя драгие порты,
не доспеть бы тебе стыда-срама великого и через тебя
племени укору и поносу бездельного. Учила: не ходи, чадо,
к костырям и к корчемникам, не думай, как бы украсти-
ограбити, но не захотел ты матери покориться; снимай
теперь с себя платье гостиное, и накинь на себя гуньку
кабацкую, и дожидайся, как сейчас будошники застучат
в ворота и сам Цыганок в наш честный дом ввалится.
И все сама причитает, а сама меня костяшкой присту¬
кивает в голову.
А тетенька как услыхала про Цыганка, так и вскрик¬
нула:
1 Гуня — старинное слово; значит: обносок, рубище. В Орле
50 лет назад еще говорили «гуня». (Прим. автора.)
320
— Господи! Избавь нас от мужа кровей и от Арида!
Боже мой! То есть это настоящий ад в доме сделался.
Обнялись тетенька обе с маменькой, и, обнявшись, обе
плачучи удалились. Остались только мы вдвоем с дядей.
Я сел, облокотился об стол и не помню, сколько часов
просидел; все думал: кого же это я ограбил? Может быть,
это француз Сенвенсан с урока ишел, или у предводителя
Страхова в доме опекунский секретарь жил... Каждого
жалко. А вдруг если это мой крестный Кулабухов с той
стороны от палатского секретаря шел!.. Хотел — потихонь¬
ку, чтобы не видали с кулечком, а я его тут и обработал...
Крестник!.. своего крестного!
— Пойду на чердак и повешусь. Больше мне ничего
не остается.
А дядя только ожесточенно чай пил, а потом как-то —
я даже и не видал, как — подходит ко мне и говорит:
— Полно сидеть повеся нос, надо действовать.
— Да что же,— отвечаю,— разумеется, если бы можно
узнать, с кого я часы снял...
— Ничего; вставай поскорее и пойдем вместе, сами во
всем объявимся.
— Кому же будем объявляться?
— Разумеется, самому вашему Цыганку и объявимся.
— Срам какой сознаваться!
— А что же делать? Ты думаешь, мне охота к Цыган¬
ку?.. А все-таки лучше самим повиниться, чем он нас ра¬
зыскивать станет: бери обои часы и пойдем.
Я согласился.
Взял и свои часы, которые мне дядя подарил, и те, ко¬
торые ночью с собой принес, и, не здоровавшись с мамень¬
кою, пошли.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Пришли в полицию, а Цыганок сидит уже в присутст¬
вии перед зерцалом, а у его дверей стоит молодой квар¬
тальный, князь Солнцев-Засекин. Роду был знаменитого,
а талану неважного.
Дядя увидал, что я с этим князем поклонился, и гово¬
рит:
— Неужели он правду князь!
— Ей-богу, поистине.
— Поблести ему чем-нибудь между пальцев, чтобы он
выскочил на минутку на лестницу.
11. Н. С. Лесков, т. 5.
321
Так и сделалось: я повертел полуполтинник — князь
на лестницу и выскочил.
Дядя дал ему полуполтинник в руку и просит, чтобы
нас как можно скорее в присутствие пустить.
Квартальный стал сказывать, что нонче, говорят,
ночью у нас в городе произошло очень много происше¬
ствиев.
— И с нами тоже происшествие случилось.
— Ну да ведь какое? Вы вот оба в своем виде, а там
на реке одного человека под лед спустили; два купца на
Полешской площади все оглобли, слеги и лубки поваляли;
один человек без памяти под корытом найден, да с двоих
часы сняли. Я один и остаюсь при дежурстве, а все про¬
чие бегают, подлётов ищут...
— Вот, вот, вот, ты и доложи, что мы пришли дело
объяснить.
— Вы подравшись или по родственной неприятности?
— Нет, ты только доложи, что мы по секретному делу;
нам об этом деле при людях объяснять совестно. Получи
еще полмонетки.
Князь спрятал полтинник в карман и через пять минут
кличет нас:
— Пожалуйте.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Цыганок такой был хохол приземистый — совсем как
черный таракан; усы торчком, а разговор самый грубый,
хохлацкий.
Дядя по-своему, по-елецки, захотел было к нему близ¬
ко, но он закричал:
— Говорите здалеча.
Мы остановились.
— Что у вас за дело?
Дядя говорит:
— Перво-наперво — вот.
И положил на стол барашка в бумажке. Цыганок при¬
крыл.
Тогда дядя стал рассказывать:
— Я елецкий купец и церковный староста, приехал
сюда вчерашний день по духовной надобности; пристал
у родственниц за Плаутиным колодцем...
— Так это вас, что ли, нонче ночью ограбили?
— Точно так; мы возвращались с племянником в один¬
322
надцать часов, и за нами следовал неизвестный человек;
а как мы стали переходить через лед между барок, он...
— Постойте... А кто же с вами был третий?
— Третьего с нами никого не было, окроме этого вора,
который бросился...
— Но кого же там ночью утопили?
— Утопили?
— Да!
— Мы об этом ничего не известны.
Полицмейстер позвонил и говорит квартальному:
— Взять их за клин!
Дядя взмолился.
— Помилуйте, ваше высокоблагородие! Да за что же
нас!.. Мы сами пришли рассказать...
— Это вы человека утопили?
— Да мы даже ничего и не слышали, ни о каком утоп¬
лении. Кто утонул?
— Неизвестно. Бобровый картуз изгаженный у прору¬
би найден, а кто его носил — неизвестно.
— Бобровый картуз?!
— Да; покажите-ка ему картуз, что он скажет?
Квартальный достал из шкафа дядин картуз.
Дядя говорит:
— Это мой картуз. Его вчера с меня на льду вор
сорвал.
Цыганок глазами захлопал.
— Как вор? Что ты врешь! Вор не шапку снял, а вор
часы украл.
— Часы? С кого, ваше высокоблагородие?
— С никитского дьякона.
— С никитского дьякона!
— Да; и его очень избили, этого никитского дьякона.
Мы, знаете, так и обомлели.
Так вот это кого мы обработали!
Цыганок говорит:
— Вы должны знать этих мошенников.
— Да,— отвечает дядя,— это мы сами и есть.
И рассказал все, как дело было.
— Где же теперь эти часы?
— Извольте,— вот одни часы, а вот другие.
— И только?
Дядя пустил еще барашка и говорит:
— Вот это еще к сему.
Прикрыл и говорит:
— Привести сюда дьякона!
323
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Входит сухощавый дьякон, весь избит и голова пере¬
вязана.
Цыганок на меня смотрит и говорит:
— Видишь?!
Кланяюсь и говорю:
— Ваше высокоблагородие, я все претерпеть достоин,
только от дальнего места помилуйте. Я один сын у матери.
— Да нет, ты христианин или нет? Есть в тебе
чувство?
Я вижу этакий разговор несоответственный и говорю:
— Дяденька, дайте за меня барашка, вам дома от¬
дадут.
Дядя подал.
— Как это у вас происходило?
Дьякон стал рассказывать, что «были, говорит, мы це¬
лой компанией в Борисоглебской гостинице, и очень все
было хорошо и благородно, но потом гостинник посторон¬
них слушателей под кровать положил за магарыч, а один
елецкий купец обиделся, и вышла колотовка. Я тихо
оделся и сам вышел, но как обогнул присутственные места,
вижу, впереди меня два человека подкарауливают. Я оста¬
новлюсь, чтобы они ушли дальше, и они остановятся;
я пойду — и они идут. А вдруг между тем издали слышу,
еще меня кто-то сзади настигает... Я совсем испугался,
бросился, а те два обернулись ко мне в узком проходе
между барок и дорогу мне загородили... А задний с горы
совсем нагоняет. Я поблагословился в уме: Господи благо¬
слови! да пригнулся, чтобы сквозь этих двух проскочить,
и проскочил, но они меня нагнали, с ног свалили, избили
и часы сорвали... Вот и цепочки обрывок».
— Покажите цепочку.
Сложил обрывочек цепочки с тем, что при часах остал¬
ся, и говорит:
— Это так и есть. Смотрите, ваши эти часы?
Дьякон отвечает:
— Это самые мои, и я их желаю в обрат получить.
— Этого нельзя, они должны остаться до рассмот¬
рения.
— А как же,— говорит,— за что я избит?
— А вот это вы у них спросите.
Тут дядя вступился.
— Ваше высокородие! Что же нас спрашивать пона¬
прасну. Это в действительности наша вина, это мы отца
324
дьякона били, мы и исправимся. Ведь мы его к себе
в Елец берем.
А дьякон так обиделся, что совсем и не в ту сторону.
— Нет,— говорит,— позвольте еще, чтобы я в Елец
согласился. Бог с вами совсем: только упросили, и сейчас
же на первый случай такое надо мной обхождение.
Дядя говорит:
— Отец дьякон, да ведь это в ошибке все дело.
— Хороша ошибка, когда мне шею нельзя повернуть.
— Мы тебя вылечим.
— Нет, я,— говорит,— вашего лечения не хочу, меня
всегда у Финогеича банщик лечит, а вы мне заплатите
тысячу рублей на отстройку дома.
— Ну и заплатим.
— Я ведь это не в шутку; меня бить нельзя... на
мне сан.
— И сан удовлетворим.
И Цыганок тоже дяде помогать стал:
— Елецкие,— говорит,— купцы удовлетворят... Кто
там еще за клином есть?
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Вводят борисоглебского гостинника и Павла Мироны¬
ча. На Павле Мироныче сюртук изодран, и на гостинни¬
ке тоже.
— За что дрались? — спрашивает Цыганок.
А они оба кладут ему по барашку на стол и отвечают:
— Ничего,— говорят,— ваше высокоблагородие, не бы¬
ло, мы опять в полной приязни.
— Ну, прекрасно, если за побои не сердитесь — это
ваше дело; а как же вы смели сделать беспорядок в горо¬
де? Зачем вы на Полешской площади все корыты и лубья
и оглобли поваляли?
Гостинник говорит, что по нечаянности.
— Я,— говорит,— его хотел вести ночью в полицию,
а он — меня; друг дружку тянули за руки, а мясник Ага¬
фон мне поддерживал; в снегу сбились, на площадь попа¬
ли — никак не пролезть... все валяться пошло... Со страху
кричать начали... Обход взял... часы пропали...
— У кого?
— У меня.
Павел Мироныч говорит:
— И у меня тоже.
325
— Какие же доказательства?
— Для чего же доказательства? Мы их не ищем.
— А мясника Агафона кто под корыто подсунул?
— Этого знать не можем,— отвечает гостинник,—
не иначе как корыто на него повалилось и его прихлоп¬
нуло, а он заснул под ним хмельной. Отпустите нас, ваше
высокоблагородие, мы ничего не ищем.
— Хорошо,— говорит Цыганок,— только надо других
кончить. Введите сюда другого дьякона.
Пришел черный дьякон.
Цыганок ему говорит:
— Вы это зачем же ночью будку разбили?
Дьякон отвечает:
— Я,— говорит,— ваше высокоблагородие, был очень
испугавшись.
— Чего вы могли испугаться?
— На льду какие-то люди стали громко «караул»
кричать; я назад бросился и прошусь к будошнику, чтобы
он меня от подлётов спрятал, а он гонит: «Я, говорит,
не встану, а подметки под сапоги отдал подкинуть». Тогда
я с перепугу на дверь понапер, дверь сломалась. Я вино¬
ват — силом вскочил в будку и заснул, а утром встал,
смотрю: ни часов, ни денег нет.
Цыганок говорит:
— Что же, елецкие? Видите, и этот дьякон через вас
пострадал, и у него часы пропали.
Павел Мироныч и дядя отвечают:
— Ну, ваше высокоблагородие, нам надо домой схо¬
дить занять у знакомцев, здесь при нас больше нету.
Так и вышли все, а часы там остались, и скоро в этом
во всем утешились, и много еще было смеху и потехи,
и напился я тогда с ними в первый раз в жизни пьян
в Борисоглебской и ехал по улице на извозчике, платком
махал. Потом они денег в Орле заняли и уехали, а дьяко¬
на с собой не увезли, потому что он их очень забоялся.
Как ни просили — не поехал.
— Я,— говорит,— очень рад, что мне Господь даровал
с вас за мою обиду тыщу рублей получить. Я теперь до¬
мик обстрою и здесь хорошее место у секретаря выхлопо¬
чу, а вы, елецкие, как я вижу, очень дерзки.
Для меня же настало испытанье ужасное. Маменька от
гнева на меня так занемогли, что стали близко гробу.
Унылость во всем доме стала повсеместная. Лекаря Де¬
пиша не хотели: боялись, что он будет обо всем состоянье
здоровья расспрашивать. Обратились к религии: в деви¬
326
чьем монастыре тогда жила мать Евникея, у которой была
иорданская простыня, как Евникея в Иордане реке омочи¬
лась, так ею потом отерлась. Этой простыней маменьку
окрывали. Не помогло. Каждый день в семи церквах с се¬
ми крестов воду спускали. Не помогло. Мужик-леженка
был, Есафейка,— все лежнем лежал, ничего не работал —
ему картуз яблочной резани послали, чтобы молился. То
же самое и от этого помощи не было. Только наконец,
когда они вместе с сестрой в Финогеевичевы бани пошли
и там их рожечница крови сколола, только тогда она чем-
нибудь распоряжаться стала. Иорданскую простыню Евни¬
кее велела отдать назад, а себе стала искать взять в дом
сиротку воспитывать.
Это свахино было научение. Своих детей у нее много
было, но она еще до сирот была очень милая — все их
приючала и маменьке стала говорить:
— Возьми в дом чужое дитя из бедности. Сейчас все
у тебя в своем доме переменится: воздух другой сделает¬
ся. Господа для воздуха расставляют цветы, конечно, худа
нет; но главное для воздуха — это чтоб были дети. От
них который дух идет, и тот ангелов радует, а сатана —
скрежещет... Особенно в Пушкарной теперь одна девка:
так она с дитем бьется, что даже под орлицкую мельницу
уже топить носила.
Маменька проговорила:
— Скажи, чтоб не топила, а мне подкинула.
В тот же день у нас девочка Маврутка и запищала
и пошла кулачок сосать. Маменька ею занялась, и пере¬
мена в них началась. Стали мне оказывать язвительность.
— Тебе,— говорят,— к Велику дню ведь обновы не
надо: ты теперь пьющий, тебе довольно гуньку кабацкую.
Я уже все терпел дома, но и на улицу мне тоже нель¬
зя было глаза показать, потому что рядовичи как увидят,
дразнятся:
— С дьякона часы снял.
Ни дома не жить, ни со двора пройтись.
Одна только сирота Маврутка мне улыбалась.
Но сваха Матрена Терентьевна меня спасла и выручи¬
ла. Простая была баба, а такая душевная.
— Хочешь,— говорит,— молодец, чтоб тебе голову на
плечи поставить? Я так поставлю, что если кто над тобой
и смеяться будет — ты и не почувствуешь.
Я говорю:
— Сделайте милость, мне жить противно.
— Ну, так ты,— говорит,— меня одну и слушай. По¬
327
едем мы с тобою во Мценск — Николе угоднику усердно
помолимся и ослопную свечу поставим; и женю я тебя на
крале на писаной, с которой ты будешь век вековать, Бога
благодарить да меня вспоминать и сирот бедных жало¬
вать, потому я к сиротам милосердная.
Я отвечаю, что я сирот и сам сожалею, а замуж за
меня теперь которая же хорошая девушка пойдет.
— Отчего же? Это ничего не значит. Она умная. Ты
ведь не со двора вынес, а к себе принес. Это надо раз¬
личать. Я ей прикажу понять, так она все въявь поймет
и очень за тебя выйдет. А мы съездим как хорошо к Ни¬
коле во все свое удовольствие: лошадка в тележке идти
будет с клажею, с самоваром, с провизией, а мы втроем
пешком пойдем по протуварчику, для угодника потрудим¬
ся: ты, да я, да она, да я себе для компании сиротку возь¬
му. И она, моя лебедка, Аленушка, тоже сирот сожалеет.
Ее со мной во Мценск отпускают. И вы тут с ней пойдете-
пойдете, да сядете, а посидите-посидите, да опять по до¬
рожке пойдете и разговоритесь, а разговоритесь, да слюби¬
тесь, и как вкусишь любви, так увидишь ты, что в ней вся
наша и жизнь, и радость, и желание прожить в семейной
тихости. А на все людские речи тебе тогда будет плевать,
да и лица не взворачивать. Так все добро и пойдет, и бы¬
лая шалость забудется,
Я и отпросился у маменьки к Николе, чтобы душу свою
исцелить, а остальное все стало, как сваха Терентьевна
сказывала. Подружился я с девицей Аленушкой, и поза¬
был я про все про истории; и как я на ней женился и по¬
шел у нас в доме детский дух, так и маменька успокоилась,
а я и о сю пору живу и все говорю: Благословен еси,
Господи!
АНТУКА
Рассказ
«Еп-tout-cas» — зонтик на всякую погоду.
(Из модного прейскуранта)
На скором поезде между чешской Прагой и Веной
я очутился vis-a-vis с неизвестным мне славянским братом,
с которым мы вступили по дороге в беседу. Предметом на¬
ших суждений был «наш век и современный человек». И я,
и мой собеседник находили много странного и в веке, и в
человеке; но чтобы не впадать в отчаяние, я привел на па¬
мять слово Льва Толстого и сказал:
— Образуется!
Собеседник понял значение этого слова и про¬
должал:
— Это верно; но только что образуется-то! Было пре¬
обладающее впечатление свирепства, злости, бездушия или
слабости и распущенности, и все-таки можно было предви¬
деть, как жизнь перетолчет это в своей ступе и что из это¬
го образуется. А теперь преобладает во всем какой-то фа¬
сон «антука» — что-то готовое на всякий случай и годное
для всякой погоды: от дождя и от солнца. Меня поражает
эта удивительная приспособительность, которую я замечаю
во всех слоях общества и повсюду. Неделя тому назад как
я видел такой экземпляр в этом роде, что прямо в печать
просится.
Я его попросил рассказать, и он мне рассказал следу¬
ющее.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Недавно мне привелось побывать в соляных копях
в Галиции. Оттуда, когда выйдешь на землю, представля¬
ются два места для отдыха и подкрепления: можно идти
позавтракать при буфете на железнодорожной станции,
а можно то же самое сделать и в ближайшей «старой корч¬
ме». В корчме укромнее, проще и теплее, чем на станции.
329
Здесь в сырое время можно и обсушиться, и обогреться,
потому что тут есть огромный кирпичный камин, и чуть
холодновато — всегда тлеет толстый обрубок дерева, а во¬
круг него весело потрескивает и издает здоровый, смоли¬
стый запах зеленый вереск.
Там, на «бангофе» — Европа, а здесь, в корчме — еще
«stara Polska».
Я бываю в той местности раза два в год и знаю тамош¬
нюю корчму много лет назад. Когда тут не было железно¬
дорожного «бангофа», корчма была единственным приютом
для путников, а теперь она занимает второе место, но я ей
все-таки верен.
Лета мало изменили корчму. Тот же низенький, старо¬
польский фасад и тот же грязноватый ход через сени с вы¬
топтанным кирпичным полом и с тяжелыми столами, по¬
крытыми не совсем чистыми ширинками грубой ткани.
В огромном камине и теперь пылает огонь, в стороне пере¬
городка, и в ней квадратное оконце, за которым находится
главное место хозяина. Перед оконцем полка и на ней не¬
изысканная выставка закусок: жареный гусь, обложенный
кисло-сладкой капустой; бигос из колбас и капусты; зра¬
зы с кашей, с хлебом и капустой; капустняк с фаршем;
жареная серна и мелкая дичь, прошпигованная салом, и,
вдобавок, щука по-жидовски с шафраном. В графинах вод¬
ка, наливки разных цветов, бочонок с пивом и наш добрый
красный гольдек в полубутылках. Впрочем, над прилавком
есть надпись, что здесь еще можно иметь старый мед,
и тут же иллюстрированный прейскурант, в котором зна¬
чится несколько названий венгерских вин, между которы¬
ми подчеркнут «маслачь». Патрон большой краковской
корчмы это вино особенно рекомендует.
Но самое замечательное здесь собственно в самом пат¬
роне, и с него начинается дело. И корчма, и мед, и би¬
гос — это все старого типа, а в патроне есть обновление
во вкусе «антука». Нынешний патрон здесь с прошлого
года и он мне не знаком, но предместник его внушал мне
большие симпатии. Это был пожилой, сухощавый и очень
медлительный в своих движениях поляк. Его звали пан
Игнаций. Он был человек задумчивый, точно он нес на се¬
бе судьбы мира и по дороге зашел в корчму, присел у при¬
лавка, пригорюнился и начал хозяйствовать, но совсем
без удовольствия, так как это не его дело. В таком груст¬
ном, но благородном настроении он здесь состарелся
и умер, все размышляя о Польше и о «ракушанских шва¬
бах». Теперь вместо почтенного Игнация за буфетом не си¬
330
дит, а мотается новый арендатор — человек более молодой
и несравненно более подвижный, даже чересчур подвиж¬
ный и говорливый. Зовут его пан Мориц или «гер Мо¬
риц»,— кому как угодно,— он на все откликается. (Игна¬
ций никогда на «гера» не откликался.)
Между паном Игнацием и Морицем во всем огромная
и страшная разница: они и по характеру, и по темпера¬
менту, и по воспитанию совсем разные типы.
Игнаций представлял из себя нечто поэтическое
и вдохновительное,— особенно для нашего брата-славяни¬
на: это был матерый, чистокровный поляк,— «шляхтич на
огороде равный воеводе». Он ходил в темной чемарке из
довольно грубого, но зато настоящего, «хозяйственного»,
польского сукна, в панталонах, заправленных в сапоги,
которые называются «бутами», и в поясе с бляхой. Лицо
он имел красивое, смуглое, с таинственным и мрачным
выражением. Высокий лоб его осенял высокий же с про¬
седью черный чуб, а над устами его простирались огром¬
ные черные с проседью усы. В глубоких карих глазах
Игнация жила какая-то поэтическая, с ним навеки умер¬
шая тайна. Он мне очень нравился, и я остаюсь в том
убеждении, что снедавшая его тайна была в своем роде
что-то благородное и грустное.
Теперешний принципал корчмы, пан Мориц, с первого
взгляда производит совсем иное, как будто легкомыслен¬
ное впечатление. Он среднего роста, проворен, вертляв,
с тонкими чертами лица, голубыми глазами и точно выто¬
ченным тонким носом, на котором у него ловко сидит ма¬
ленькое стальное pince-nez без шнурка. В лице и фигуре
Морица не отпечатлелся никакой национальный тип. Он
с одинаковым удобством может быть принят за поляка,
как и за чеха или за венского немца. По-видимому, нацио¬
нальность даже нимало и не занимает Морица: он даже,
может быть, нарочно устроил себе такой туалет, чтобы
в нем не было никакой цельности. Он весь человек сбор¬
ный. Во-первых, у него на голове, покрытой густыми русы¬
ми волосами, красуется французская бархатная ермолка,
расшитая шелками и бисером (бархат довольно просален,
а шитье местами осыпалось), потом pince-nez в дрянной
стальной оправе, надетое без шнурочка. Это pince-nez
у него соскакивает с переносицы от одного движения бро¬
вями и всегда непременно падает к нему прямо в руки.
Потом на Морице серая пражская куртка с зелеными вы¬
пушками и с пуговицами неполированного оленьего рога,
а под нею поддет длинный коричневый жилет, сшитый
331
камзолом, в стиле Фридриха II. Из кармана свешивается
часовая цепочка из фальшивого золота и торчат два огром¬
ные железные ключа.
Нижний этаж фигуры Морица напоминает танцмей¬
стера. На нем легонькие панталонцы из самого тонкого
светленького трико, а из-под них внизу видны красные
шерстяные носки и туфли из моржовой кожи шерстью
наверх.
Что содержится на уме у Морица и какое у него прош¬
лое — это на его лице ничем не выражено.
Мориц говорит с одинаковою бойкостью и свободою
как по-польски, так и по-немецки, и притом не выказывает
ни к одному из этих языков никакого предпочтения. По-
видимому, ему то и другое совершенно все равно. С удо¬
вольствием и улыбкою он только произносит некоторые
фразы по-французски.
Фразы эти Мориц, по собственной его откровенности,
усвоил в Париже, где он побывал, состоя барабанщиком
при одном из «победоносных региментов», повергших
Францию в лапы прусского орла, через «неожиданный
оборот милостию Божией».
Мориц — познанский поляк; он затесался к австрия¬
кам как-то случайно, а может быть и умышленно — тоже,
чтобы сделать «оборот милостию Божиею».
Человек, одаренный особенно счастливо проницатель¬
ностью и внимательно всматриваясь в его лицо, может
быть, подумал бы, что Мориц изрядный плут, способный
вести довольно сложную и ответственную игру, но в нем
тоже бездна болтливости и легкомыслия, с которыми плут¬
ни вести неудобно. Прежний задумчивый патриот Игна¬
ций непременно вспоминается и в сравнении с Морицом
представляет какое-то поэтическое олицетворение «оных
минувших рыцарских веков». Мориц — выжига, но зато
он ни над чем не задумается и нигде не потеряется.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Когда я взошел в корчму, в ней было всего только три
человека: охотник с ружьем, сидевший в углу за газетой
и за кружкой пива, да очень старый еврей в шелковом
капоте. Этот помещался у маленького столика, на котором
перед ним стояла горячая вода, маленький флакончик
гольдека и корзинка с поджаренным белым хлебом. Он
представлял из себя застывающую жизнь и отогревался
332
теплым вином с водою. В окне стоял и в упор смотрел на
меня в pince-nez пан Мориц. Он стоял неподвижно всего
одну минуту, но зато так стойко, как будто это был порт¬
рет, вставленный в раму.
Я сейчас же заметил, что имею дело с человеком ново¬
го духа.
Игнаций никогда не находился в такой бойкой и про¬
ницающей позиции. Тот, бывало, всегда сидел на особли¬
вом этаблисмане, обитом черною кожею, и ни за что не
обеспокоивал себя, чтобы смотреть на входящего посети¬
теля и определять себе, коего духа входящий? Это было
бы слишком много чести для всякого. Игнаций держал
свою задумчивую голову, опустив лицо на грудь или по¬
ложив щеку на руку.
Входящий гость — кто бы он ни был, все равно, черт
его возьми,— сам прежде должен был сказать Игнацию
первое приветствие, и только тогда он мог ожидать к себе
ответного внимания. Но теперь, едва я переступил порог,
как Мориц уже залепетал мне навстречу:
— Бонжур мосье! Мете ву плас!
И главное: «мете»! От кого он это слышал в Париже?
Верно это ему так перешибло за барабанным боем.
Но еще я не собрался ему ни слова ответить, как он
уже дальше зачастил:
— Коман са ва? Кё дезире ву?
С этим он выскочил из-за перегородки, шаркнул свои¬
ми туфлями и, подвинув мне стул к одному из столов,
проговорил:
— Асее ву. Нузавон кельке шоз а вотр сервиз.
Вместо ответа я вручил ему карточку моего краковского
знакомца, которым был сюда адресован и которого я дол¬
жен был здесь дожидаться.
Мориц взглянул, сказал: «тре бьен» и сделал такое
движение бровями, от которого пенсне спало и моменталь¬
но прямо с носа слетело в открытую левую руку. И заме¬
чательная вещь: как пенсне соскочило с лица Морица,
так словно спал с него и весь его прежний шельмоватый
вид; он точно нашел, что меня не стоит рассматривать
с особенно серьезной точки зрения, и начал пошаливать:
во-первых, он сразу упростился в выражении и заговорил
по-польски.
— Чем же смею потчевать, пока придет ваш приятель?
Есть у меня, пане доброздею, гусь, и самый прекрасный
гусь, кормленный чистым хлебом. В буфет на бангоф берут
гусей у Мазуров, но я не беру. Важных панов, которые
333
кушают в бангофе, можно начинять чем угодно, лишь бы
был соус с каэнной, но у меня собирается почтенная шлях¬
та,— люди хозяйственные, которые знают, что такое ма¬
зурская домашняя птица. Их гуси, откровенно сказать,
всегда пахнут травою. Есть утка светская и утка дикая.
Дикая — свежохонькая, вчера только застреленная, и сам
стрелок здесь налицо: вот он, пан Целестин, который чита¬
ет газеты и проникает во все тайные соображения Бисмар¬
ка. Я ни у кого не покупаю уток, кроме пана Целестина.
Есть также бигось с капустою до услуг панских; есть зра¬
зы, есть воловья печень, или, чем уже могу похвалиться,
есть добрая полендвица; но есть также и шинка,— настоя¬
щая польская, а не немецкая шинка — и жидовский щупак
с шафраном... Что? Как вам это нравится? Щупак отлич¬
но приготовлен. Знаете — щука в своей коже. Я вам осо¬
бенно рекомендую эту штуку. Вот реби Фола,— израэлит,
а и он сейчас бы скушал при благословении Божием, но
не смеет, потому что боится своих почтеннейших израэли¬
тов. Он еще наблюдает «кошер».
Старый еврей, услыхав свое имя, посмотрел и глухо
повторил:
— Кошер.
— Кожа с этой щуки снята без одной дырочки, как
чулок с ножки красивой панянки, и вы лучшей щуки не
найдете даже в самой чешской Праге на жидовском базаре.
Я попросил дать мне кусочек жареной дичи.
Мориц одобрил.
— Да,— сказал он.— Это я понимаю! Я говорю насчет
дичи. Щука и вообще всякая рыба — это тоже хорошо, но
не то... От рыбы всегда есть что-то... отдает сыростью; но
пернатая легкая дичь благородней, и притом она легко
варится в желудке. А я вам услужу такою дичью, какой
вы, может быть, еще и не едали, да даже и наверно не
едали. Если только вы не бывали в забраном крае за
Гродном, в Беловежской пуще, то и не могли есть.
Дичь для меня стреляет Целестин,— человек с философ¬
ским настроением и добрый патриот. Это чего-нибудь
стоит.
Мориц просыпал все это скоро, словно дробь на бара¬
бане, и, повернувшись на каблучке, опять очутился на
своем месте, в окне за перегородкою. Тут он постучал
черенком ножа по выставочной доске, и на этот знак за его
спиною тотчас же, как из земли, выросли молодой чума¬
зый хлопец в куртке и баба в очипке.
Мориц мановением чела отослал бабу назад, откуда
334
она пришла, а хлопцу велел подать мне прибор и порцию
дичины.
Дичина оказалась сухою и безвкусною.
Мориц это заметил и посоветовал мне смочить ее
гольдеком, что я и принял к исполнению.
Вино оказалось несколько лучше кушанья и послужило
темою для разговора о разных винах: рейнских, венгер¬
ских и французских.
Мориц имел обо всем этом достаточные понятия и осо¬
бенно одобрял французские вина, которых он, по его сло¬
вам, выпил «чертовски много».
Мориц сказал мне, что тот, кого я ожидаю, придет
через час и я еще успею у него отдохнуть и хорошенько
пообедать, причем обещал дать мне отличный борщ с ут¬
кой «из двенадцати элементов». Такое обилие «элементов»
меня удивило; Мориц, чтобы убедить меня, начал было
их перечислять, как вдруг был прерван раздавшимся из-
под стола неожиданным и злобным рычанием охотничьей
собаки.
Мориц сейчас же обратил на это внимание и про¬
говорил:
— Ага! Это ничего... Это идет наш пан бель-бас!
Бутько всегда его удивительно слышит.
В ответ на это охотник молча кивнул головою и толк¬
нул ногою свою собаку.
— Вы, пан Целестин, напрасно с Бутько взыскиваете,—
заметил Мориц.— Бутько добрый и даже почтенный пес;
поверьте, что он знает, какой дух в человеке. И, обратив¬
шись ко мне, добавил: — Собака никогда не смешает че¬
стного человека с мерзавцем, и вот этот Бутько ни за что
не пропустит, чтобы не зарычать на пана Гонората.
— А кто это пан Гонорат?
— А это... вот вы его сейчас увидите: шельма ужас¬
ная, но преинтересный собеседник. Я его умею заводить
и сейчас заведу.
— Еще что! — пробурчал Целестин.
— Нет, отчего же... Правда, что он, шельма, врет
часто...
— Не часто, а всегда.
— Эх, пане Целестин, да где нынче взять людей, кото¬
рые не врут! А в компании Гонорат — соловей, у него
есть анекдот на всякий случай и... знаете... иногда есть
любопытное и поучительное.
— Чтобы черт побрал его душу,— тихо прошипел Це¬
лестин и снова углубился в газеты.
335
В сенях послышались тяжелые шаги и раздался силь¬
ный толчок в дверь.
Отворявшаяся внутрь дверь широко распахнулась,
и в просвете ее, как в раме, показалась интересная
фигура.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Пришедший был тучный человек средних лет с коротко
остриженною красно-рыжею головою и с совершенно крас¬
ным лицом, на котором виднее всего выступал большой
выпуклый лоб с сильно развитыми глазными пазухами.
Вся физиономия гостя была круглая, нос картошкой, пух¬
лые чувственные губы и крошечные серые глазки с весе¬
лым, задорным и в одно и то же время глуповатым, но
хитрым выражением. Незнакомец был одет в красивое
и очень удобное форменное платье, состоявшее из коричне¬
вой суконной блузы, подпоясанной кожаным поясом
с бляхою; на голове высокая тирольская шляпа с черным
пером. За плечами у него была винтовка, а в левом ухе
серьга с бирюзою. Серьга сидела точно заклепка и броса¬
лась в глаза с первого взгляда.
Словом, по лицу и по всем приемам это был Фальстаф,
а по мундиру — австрийский жандарм.
Для довершения сходства с Фальстафом, он был в ве¬
селом расположении духа и сразу начал шутки. Он не пе¬
реступал порога, а, отворив дверь, остановился, заложа
руки за пояс, и покатился со смеху, показывая глазами
на охотника.
Морицу не нравилось, что в открытые двери уходит
тепло, и он просил жандарма войти.
— Просим, просим вас, пане капитане, пожалуйте,
не студите бедной шляхетской хаты.
Жандарм принимал величание, но продолжал смеять¬
ся, глядя на охотника.
Мориц вспыхнул.
— Входите сейчас в комнату, почтенный капитан, или
я выйду и захлопну мою дверь перед самым вашим высо¬
копочтенным красным носом.
— А ты, высокопочтенный прусский барабанщик, если
боишься замерзнуть, то все-таки постарайся говорить
с уважением о моем носе,— отвечал хриплым голосом жан¬
дарм.— Я остановился и стою потому, что хочу издали
налюбоваться великим дипломатом, нашим тонким поли¬
336
тиком, паном Целестином, которого я видел сегодня на
заре, как он сидел, глядя на копец королевы Боны.
Черт возьми вашу милость, вы все отлично видите,
но вы можете налюбоваться паном Целестином, подойдя
к нему ближе! — воскликнул Мориц и в одно мгновение
выскочил из-за своей перегородки, впихнул жандарма
в корчму и запер за ним дверь, а потом, оборотясь ко мне,
возгласил комически важным тоном: — Имею честь пред¬
ставить вам, мосье, высокопочтенного пана Гонората. Са¬
мый храбрый вояка и добрый товарищ за бутылкою чу¬
жого вина; до сих пор чином не вышел, но первый канди¬
дат в капитаны жандармерии его пресветлого величества
нашего наияснейшего цезаря.
— Болтай, болтай, прусский барабанщик и первый кан¬
дидат на виселицу,— отшутился Гонорат и, сняв с себя
перевязь и винтовку, начал располагаться в кресле перед
камином.
Усевшись, он вытянул к огню ноги и сейчас же задал
насмешливый вопрос Целестину: что пишут про политику
и что думает Бисмарк в Берлине и генерал Милорадович
в Петербурге?
Охотник сделал гримасу и сквозь зубы ответил, что он
на уме у Бисмарка не бывал, а Милорадовича никакого
не знает.
— Как же не знаешь?.. Милорадович — русский
фельдмаршал?
— Нет такого фельдмаршала.
— Ну, Суваров!
— Перестаньте говорить глупости. Нет Суворова.
— Кто же у них вместо Суварова?
Целестин не отвечал, а Мориц заметил:
— Вам, как жандарму, стыдно не знать, кто вместо
Суварова.
— Ага! И ты опять меня хочешь стыдить! Лучше
молчи!
— Перед вами?
— Да, именно передо мною.
Мориц сделал презрительную гримасу.
— Ага!
— Я вас не боюсь, господин капитан.
— А не хочешь ли ты, я тебе расскажу кое-что по¬
стыднее, чем не знать про Суварова?
— Очень рад послушать, что вы соврете.
— Совру! Нет, мой милейший! Я не совру: ты уви¬
337
дишь, что твои укоризны напрасны, и что я, как жандарм,
кэе-что знаю.
Мориц приложил руки к виску и субординационно
ответил:
— Извините, господин капитан!
— То-то и есть, приятель! Я знаю даже очень незна¬
чительные мелочи, и если хочешь, я сейчас же представ¬
лю тебе на это доказательство.
— Очень желаю! Как же... очень желаю, господин
капитан.
— Третьего дня, вот в такой же счастливый час сво¬
боды между двумя дорожными поездами, я пошел в про¬
ходку, и когда проходил мимо дома одного здешнего обы¬
вателя, то, как ты думаешь, на что я наткнулся?
— Черт вас знает, на что вы наткнулись.
— Я увидал, как его сынишка резал звездочками мор¬
ковь для супа и пел преглупую песенку: «Наш шановный
бан налил воды в жбан». Ты знаешь эту песенку?
— Не знаю, но слыхал.
— Да; но ведь это у тебя, если не ошибаюсь, третьего
дня в супе плавали морковные звездочки?
— Вы все знаете и ни в чем не ошибаетесь, капитане.
— Так, мой милый Мориц, я все знаю, а за то, что ты
знаешь, что я все знаю,— я советую тебе сейчас же пойти
в свои комнаты и хорошенько выпороть твоего Яську.
— О, капитане, я это уже сделал.
— Вот это прекрасно! Теперь ты можешь надеяться,
что это будет известно в Вене.
Мориц щелкнул туфлями и поклонился.
— И что же?.. Ты, надеюсь, стегал и причитывал,
и, может быть, добился от Яськи: кто его этой песне
выучил?
— Узнал все, как на ладонке.
— Кто же его научил?
— Ваш Стаська, мой добрый капитан.
Гонорат оборотился в сторону Морица, посмотрел на
него и, расхохотавшись, воскликнул:
— Ты шельма!
— Покорно вас благодарю.
— Нет, ей-богу!.. Ты, мой любезный Мориц, не оби¬
жайся... Я тебе это откровенно говорю, что ты шельма!
И ты знаешь...
— Что еще позволите знать, капитане?
— Ты, конечно, знаешь, что «шельма» это не значит
то, что... шельма, а это значит, что ты молодец.
338
— О, я молодец! Мне это еще раньше вас говорили,
капитане.
— Я тебя за это так и люблю. Я не люблю рохлей.
— Фуй! И я их терпеть не могу, пане капитане.
— Я больше всего уважаю в человеке находчивость,
чтобы человек всегда и везде был умен и находчив. И я
для находчивого человека все готов сделать.
— Но случалось ли так, чтобы вы что-нибудь для
кого-нибудь делывали?
— А ты разве в этом сомневаешься?
— Признаюсь вам, что даже вовсе не верю.
— Он не верит! Ах ты, прусский барабанщик! Да!
Я делал, и много, Мориц, делал. В моей жизни бывали
самые ужасные, такие ужасные случаи, когда ты бы, на¬
верное, совсем не сумел найтись, а я нашелся.
— Ей-богу не знаю, как вам и сказать, высокомощный
капитане, вы знаете, что всем любопытно и прелюбопытно
вас слушать.
— Я тебе, пожалуй, и расскажу одну историю. Это
страшно, но зато это совершенно справедливо, а ты ведь
любишь в страшном роде?
— Как вам сказать? — молвил Мориц и сделал грима¬
су: — я люблю и страшное, но...
— Говори откровенно.
— Больше я люблю гемютлих!
— Ах, гемютлих! Ну, тут будет и гемютлих.
— Вместе?
— Да,— и страшное, и гемютлих.
— Клянусь, что это что-нибудь из вашей повстанской
службы.
— Непременно так! Ты отгадал! Но ты мне за это
прежде вспенишь большую кружку пива и велишь подать
кусок брынзы.
— С восторгом, мой капитане!
Кружка с пивом была подана, и Мориц объявил:
— Господа! вниманье! Пан Гонорат будет рассказы¬
вать страшное пополам с гемютлих. Он всегда так откро¬
венен, что даже за это помилован: грехи его прощены, но
он много видел страшного... Да-с, он даже сам вешал лю¬
дей своими собственными руками.
— Да, я вешал людей,— отвечал Гонорат: — и вот об
этом-то я и буду рассказывать, потому что при этом и с их
стороны, и с нашей было выказано много ума.
— А всего больше, я думаю, подлости,— прошипел
Целестин.
339
— Мориц! Попроси этого господина замолчать.
— Помолчите, Целестин! Что вам за охота все сокру¬
шаться о подлостях! У Гонората, наверно, есть очень зани¬
мательная история, а ваши газеты, по правде сказать,
очень скучны.
— Скучны!
Целестин махнул головою и уткнул нос в газету,—
дескать: «Пусть врет, я не буду слушать».
И вот наступило не то вранье, не то правда,— как
хотите, так и думайте.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Гонорат начал с того, как он был в повстанье, в отделе
у какого-то пана Цезария, и очень его хвалил. Молодой,
говорит, был вояка, но страсть какой храбрый. Учился
воевать по-настоящему в Париже, у французов в акаде¬
мии, и мог всякого победить по всем правилам; но без
правил сражаться не мог и потому у нас не годился. Раз¬
ные вещи с собой привез в чемодане: и бусоли, и планы,
и даже молоденького адъютанта французской природы,
а только все это не пошло впрок. Все эти вещи адъютант
растерял, и сам заболел, потому что совсем был слабый,
как барышня, даже и груденка вперед коробочком выпер¬
лась, будто как зоб у птички. Говорили, что это так
и есть,— что это барышня-француженка. Он все с ней
сидел и ел курку с маслом в палатке, а всем провиант от¬
пускал ксендз Флориан. И стали они оба в лице меняться:
Цезарий стал отходить, а ксендз Флориан усилился. На¬
чалась деморализация... Ты, барабанщик, понимаешь, что
называется деморализацией?
— Понимаю, капитане; только у нас в Пруссах ее
не было.
— Ты прав, у вас не было. У вас ведь гороховой кол¬
басой кормили,— и то не жирно. А мы тогда сначала при¬
шли с охоты, и стали скучать, что Цезарий в палатке целует¬
ся, и многие тоже начали подумывать: как бы и себе улиз¬
нуть домой, да тоже бы курку с маслом есть, да целоваться.
Ксендз Флориан это заметил и говорит:
— Я должен командовать отрядом, а не Цезарий.
Ему говорят:
— Цезарий от высшей власти назначен.
А ксендз Флориан отвечает:
— Это ничего не мешает: его высшая власть назначи¬
ла, а я видел Остробрамскую Божию Матерь, она мне при-
340
называет. Соберитесь-ка,— говорит,— все на берег реки,
когда солнце сядет, и вы сами увидите за рекою, как она
меня благословляет. Со мною непременно будет победа.
Только, чтобы видеть это, вы должны весь этот день по¬
поститься и с утра ничего не есть.
И приказал нам ничего не давать.
Мы говорим:
— Хоть хлеба!
— Нет,— говорит,— ничего не надо: чтобы чудесное
увидать, надо быть совсем не евши.
Мы очень проголодались и собрались, чуть стало смер¬
каться. Стоим и смотрим за реку, а Флориан пришел после
нас и сел на скамейку.
Спрашивает:
— Что, хлопцы, видите?
Мы отвечаем:
— Нет, отче, ничего не видим.
— Как ничего не видите! А туман?
— Только и видим один туман.
— А в тумане Матерь Божия в огненном сиянии вся
светится и вас благословляет. Видите?
— Нет, не видим.
— Ну, так это оттого, что вы еще со вчерашнего дня
очень наевшись. Вы недостойны. Не ешьте еще сегодня на
ночь и завтра не ешьте до вечера, тогда вы увидите, а те¬
перь ступайте спать — вы недостойны.
Не велел опять давать никому ни водки, ни хлеба и про¬
гнал спать; а на другой день опять привел на берег и спра¬
шивает:
— Видите?
Мы то же самое ничего не видели, и так и отвечали.
А он говорит:
— Ну, так еще один день не ешьте, тогда увидите.
Тут между нами один мазур нашелся и говорит:
— Позвольте-ка, отче, позвольте минуточку: я как
будто начинаю что-то замечать...
— Ага! — говорит,— это хорошо: всматривайся, всма¬
тривайся и говори, что ты замечаешь?
— Мне в тумане, действительно... как будто огонек
показывается.
— Вот, вот, вот! Смотри еще попристальнее! Все в од¬
ну точку смотри, да читай в уме молитву, непременно
больше увидишь! А вы, кашевары, собирайтесь разводить
здесь огонек под котлом: нынче, кажется, вам Матерь Бо¬
жия покажется, и вы будете есть лозанки с сыром.
341
Тот, который начал видеть, как услыхал это, так
и вскрикнул:
— Вот, вот, в самом деле: как я стал читать молитву,
так и вижу Божию Матерь!
Ксендз отвечает:
— Ну, если ты ее видишь, то ты уже можешь ужинать.
Тут и все увидали.
Флориан говорит:
— Вот и молодцы,— только это и надо, чтобы вы все
были удостоены. Теперь присягните перед крестом, что
видели. Ходить далеко не нужно: крест со мною, прися¬
гайте сейчас и пойдете пить водку и ужинать.
Мы все присягнули и друг другу больше ничего не ска¬
зали; а Флориан сказал Цезарию: «уезжай за границу
с своим адъютантом», а сам стал командовать.
ГЛАВА ПЯТАЯ
При Флориане сразу пошло совсем другое дело. Фло¬
риан был не то, что Цезарий. В Париже не учился, а был
молодчина: он весь свой век все пел в каплице да дома
сливы мариновал с экономкою, а однако знал все тропин¬
ки в полях и все лесные входы и выходы. Он как утвер¬
дился, так сейчас и объявил, что я, говорит, никому не дам
спуску,— и чужого, и своего сейчас повешу.
— Я,— говорит,— по глазам умею читать: кто в лице
станет меняться — значит собирается улизнуть домой кур¬
ку с маслом есть,— я его сейчас и повешу.
Мы все его стали бояться. Скажет: «вижу в твоих
глазах, ты в лице меняешься» — и повесит. Стали все
притворяться как можно больше веселыми.
Но напала на нас на всех робость. Как встанем, пой¬
дем к ручейку умываться и смотримся: не меняемся ли
в лице. Помилуй бог меняешься — сейчас повесит. И все
мы как друг на друга взглянем — кажется, как будто все
в лицах переменяемся, потому что боимся Флориана до
смерти, и надо, чтобы он этого в глазах не прочитал.
А он читает. Многие стали в уме мешаться и путаться.
Был у нас мой крестовый брат мазур, Якуб, преогромный,
а между тем начал плакать. «Смотри, скучать нельзя!»
Он говорит: «Я не скучаю, я даже теперь очень весел,
а только я про жалостное вспомнил».— «Что же такое
жалостное?» — «А вот, говорит, когда я дома поросят
стерег, так у одной свиньи было двадцать поросят, а как
342
одного ив них закололи, так все его остальные коллежки
захрюкали». И опять плачет, а на Якуба глядючи, моло¬
денький еврей, паныч Гершко, который за наше дело вое¬
вать пристал, также стал плакать.
— О чем? — говорим.— Ну, Якуб вспомнил про поро¬
сячьих коллег, а тебе что такое? У вас свинины не едят
и жалеть не о чем.
А он отвечает:
— Мне,— говорит,— что такое поросяты... тьфу! Я даже
таты и мамы не жалею, а слезы у меня так... я не знаю
отчего... Может быть, от ветра льются.
— Смотри, мол,— отворачивайся, под ветерок стано¬
вись, а то Флориан в глазах прочитает и враз повесит.
Все лежим кучкою у угольков, картофель печем и ти¬
хонько об этом разговариваем, а сами думаем: вот только
чтобы об этом Флориан не узнал! Да как ему узнать! Его
ведь здесь нет, он не услышит, о чем мы говорили. А кто-
то напомнил: «А ведь он, говорит, завтра по глазам мо¬
жет прочесть». Тьфу ты, черт возьми, положение! Все
и стали сокрываться,— кто полой голову накроет, будто
спит, кто под фурманку отползет и тоже будто заснет,
а другим и это страшно кажется — зачем другие отпол¬
зают. И так вся ночь-то ни в тех, ни в сех прошла; а ког¬
да на заре стали подниматься — смотрим, ни свинаря
Якуба, ни паныча Гершки нет... Где ни искали по всему
обозу — нигде нет!
Флориан как узнал об этом, так и заколотился. И плю¬
ет, и топочет, и кричит: «Чтоб разысканы были, а то всех
повешу! Они нас выдать могут». И все подумали: и вправ¬
ду, они попадутся,— их станут пытать, и они нас вы¬
дадут.
Послал за ними в погоню искать их по лесу и по ярам
двадцать человек, и все по двое, а Флориан всех перед
тем осмотрел и сказал: «Смотрите, ворочайтесь и их при¬
ведите, а то я вас по глазам вижу».
Пошли наши и два дня никого не было, а наконец двое
идут и ведут свинаря Якуба, а двое паныча Гершку, а ос¬
тальные шестнадцать человек и сами не воротились.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Флориан говорит: «Я так их и по глазам видел, что они
не воротятся. Теперь нам здесь прохлаждаться некогда:
сейчас над этими суд сделаем по старинному обозному
343
правилу и уйдем в поход на другое место искать
неприятеля».
Обернулся к Якубу и Гершке и говорит:
— Вас сейчас судить.
Гершко заплакал, а Якуб сел на землю у фурманки,
к колесу прислонился и говорит:
— Мне все равно, я теперь не боюсь,— а сам сомлел.
Сомлел и паныч Гершко и перестал плакать. Оба уж
они очень отощали в лесу, оборвались и измучились.
Флориан торопился судить.
— Они,— говорит,— дезертиры и шпионы, они бежали
с поля и хотели нас выдать: за это их должно повесить.
Снимите с двух фурманок вожжи, поднимите вверх дыш¬
ла и замотайте их крепко у передков, чтобы дышла не ка¬
чались. Вот так... Теперь хорошо... Так велит старый обоз¬
ный обычай. Теперь кто желает быть палачом?.. А?.. Ни¬
кто? Прекрасно! Ничего не значит. Мы узнаем сейчас,
кто будет палач. Это сейчас будет показано. Пусть каж¬
дый из вас закачает себе рукав выше локтя. Вот так!..
Теперь раскройте один мешок с овсом.
Мы закачали рукава и мешок развязали.
— Берите каждый по очереди горсть зерен в руки
и мне показывайте.
Мы стали захватывать зерна горстью. Первый захва¬
тил горсть и раскрыл перед ксендзом. Флориан говорит:
— Отходи, на тебя нет указания.
Взял следующий. И на этого нет.
Дошло до меня. Я разжал перед Флорианом горсть,
он говорит:
По указанию судьбы, ты обозный палач.
Я обомлел, говорю:
— Помилуйте, где же указание?
— А вот, видишь,— говорит,— у тебя в горсти два чер¬
ные зерна. Это и есть указание: два зерна и два челове¬
ка — ты двух должен повесить.
Я ему начал кланяться в землю.
— Отец святой!.. Я боюсь!.. Я не могу!
Но он и слушать не хочет.
— Если бы,— говорит,— ты не мог, так на тебя указа¬
ния не было бы. Или ты, может быть, ослушник веры?
Так мы в таком разе тебя и самого удавим. Хлопцы, го¬
ворит,— я должен его немножко поисповедывать, а вы
не завязывайте мешка; может быть, придется доставать
не два, а три зерна — кажется, надо будет троих ве¬
шать.
344
Я подумал себе: «Э, нет, братку! Знаю я, что ты за пти¬
ца. Ты меня станешь по глазам читать и нивесть что на
меня скажешь! Нет, я лучше так, просто, без исповеди
согласен».
— Нет, не нужно,— говорю,— отче, меня исповедывать
не нужно. Я нынешний год исповедывался и сообщался...
Я повешу... сколько угодно и кого угодно повешу.
— Хоть и самого ксендза повесили бы! — перебил
Мориц.
— Он, я думаю, и отца с матерью повесил бы,— вста¬
вил Целестин.
— Очень может быть,— отвечал Гонорат,— но я об
этом стал бы рассуждать только с тем, кто имел несчастие
вынуть из мешка черное зерно при действии старого обоз¬
ного обычая. А с такою дрянью, которая стоит в корчме
за стойкою или читает газеты, мне об этом рассуждать не¬
пристойно. Я продолжаю. Я согласился, но я стоял не жи¬
вой и не мертвый, потому что давить людей, поверьте...
это не гемютлих, а это черт знает что такое! А хлопцы, по
ксендзову приказу, живо сдвинули две фурманки, поста¬
вили их передок к передку, дышла связали, ремень вет¬
чинным салом помазали и наверху в кольцо петлю пропу¬
стили.
— Пожалуйте, палач, на свою позицию!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Подвели свинаря Якуба и поставили под петлю на пе¬
реднюю ось из-под другой фурманки. А ксендз Флориан
говорит мне:
— Надевай на него петлю и смотри, чтобы непремен¬
но пришлось выше косточки.
У меня руки трясутся,— весь растерялся.
— Какая тут у черта косточка!
Флориан говорит:
— А, ты не знаешь косточки?
— Не знаю. Я из простых людей.
— Это ничего не стоит,— говорит,— простого челове¬
ка сейчас можно все сразу понять заставить.— Да с этим
как сожмет меня пальцами за горло, так что я, было, за¬
дохся.
— Вот,— говорит,— где бывает косточка. Понял?
А у меня уж и духу в горле не стало.
345
— Понял,— просипел я без голоса.
Ксендз толкнул меня сзади ногою в спину.
— Делай!
Я взял за ремень и стал по шее гладить — искать ко¬
сточку, где надевать. А Якуб, вообразите, вдруг оба гла¬
за себе к носу свел! Как это он мог!.. И, кроме того, темя
у него на голове, представьте, вдруг все вверх поднимает¬
ся... Такая гадость, что я весь задрожал и петлю бросил.
Флориан опять мне дал затрещину пребольно... Тогда я
надел петлю.
Тут сам Флориан говорит мне:
— Палач! Подожди!
Оборотился лицом ко всем и говорит:
— Паны-братья! По старому обозному обычаю, лю¬
дей так не казнили, как их теперь казнят. Кое-что в ста¬
рину было лучше. Вы это сейчас же увидите. По старому
обозному обычаю, осужденному на смерть человеку оказы¬
вали милость: у осужденного спрашивали, что он хочет, не
имеет ли он предсмертной просьбы? И если человек объяв¬
лял предсмертную просьбу, то исполняли, чего бы он ни
попросил. Так и мы поступим.
Все похвалили.
— Ах, как хорошо!
А ксендз Флориан спрашивает:
— Не имеешь ли ты предсмертной просьбы, Якуб?
Якуб молчит.
— Мне все равно, мне только пить хочется.
— Экий дурак! — говорит Флориан: — ничего не умел
выдумать. Дайте ему пива!
Подали Якубу пива, а он — было начал губами пену
раздувать, а потом говорит:
— Не надо, не хочу.
Флориан говорит:
— Выдерни из-под него передок.
Дернули из-под него передок, он и закачался... Что-то
щелкнуло.
Все отворотились, и тихо-тихо стало все; только связан¬
ные дышла подрагивали. А когда мы опять оборотились
лицом, так уж Якуб только помаленьку сучился на вожжах,
и глаза от носа в раскос шли, а лицо, представьте себе, оп¬
левалось.
Ксендз Флориан сказал:
— Это ничего, давайте жида на его место.
— Где же будет гемютлих? — спросил Мориц.
— Погодите.
346
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Паныч Гершко оказался против Якуба находчивей. Он,
как только увидал мертвого Якуба, сам начал про просьбу
кричать:
— Я имею просьбу... Ай, я имею большую предсмерт¬
ную просьбу!
Ксендз говорит:
— Хорошо, хорошо! Ты ее скажешь. Но только я впе¬
ред тебе должен одно сказать: пожалуйста, не просись
в христианскую веру. Это у вас такая привычка, но те¬
перь тебе это не поможет, а ты только поставишь нас
в неприятное положение.
— Ой, нет, нет! — говорил паныч Гершко,— теперь
в христианскую веру проситься не буду. Я совсем дру¬
гое... Совсем простое прошу.
— Ну, простое проси.
— Я прошу не вешать меня за шею!
Гонорат остановил рассказ и воскликнул:
— Вы понимаете, в чем тут штука?
Мориц молча кивнул головой, а реби Фола вскричал:
— Разумно!
Гонорат бросил на него презрительный взгляд и про¬
должал:
— Разумно!.. А вот же ты увидишь, к чему это по¬
вело!
Ксендз рассердился.
— Ах ты,— говорит,— каналья! Так-то ты за деликат¬
ность платишь! Разве это можно выдумывать!
— Отчего же не можно?
— Да за что же мы тебя повесим?
А Гершко отвечает:
— Мне все равно... Хоть ни за что не вешайте.
Флориан только плечами пожал и говорит:
— Нет, братцы, жиды такой народ, что с ними, дей¬
ствительно, ничего невозможно.
И Гершку повесили.
— За что же? — перебил Мориц.
— Ну, конечно, за шею.
Вышла пауза.
Мориц побарабанил пальцами и, вздохнув, сказал:
— Да, это гемютлих... Сколько вы, капитане, в самом
деле пережили ужасного!
— Не мало, Мориц, не мало.
— Но вы, все-таки, хорошо нашлись.
347
— Как кажется. Иначе мне самому висеть бы на
дышле.
— Конечно, конечно! — заметил Целестин.— Нельзя
спорить, что всех находчивее вышли ксендз с Гоноратом.
Они ли не молодцы! Сами, черт знает, выдумали откуда-
то какой-то старинный обозный обычай, сами предсмерт¬
ную просьбу учредили и сами же все это уничтожили: уда¬
вили людей, как тетеревят, а сами живут спокойно.
Гонорат посмотрел на Целестина и, покачав головою,
вздохнул и молвил:
— Почтенный пан Целестин, вы не можете судить чу¬
жую душу. Теперь я спокоен, но меня это долго мучило, и
я не находил покоя даже после того, как нас тогда скоро
рассеяли, и я принес покаяние, и меня простили...
— А бы, капитане, чистосердечно раскаялись? — спро¬
сил Мориц.
— Это что за вопрос? Разумеется, чистосердечно.
— То-то... как добрый католик.
Гонорат покачал головою.
— Любезнейший Мориц! Как это глупо!
— Да я ничего.
— Нет, не «ничего». А я это для твоей же пользы...
Я переменил свой образ мыслей, и надел вот эту жандарм¬
скую шляпу с казенным пером, Мориц,— это всякий мо¬
жет видеть; но я долго не знал покоя в жизни.
Целестин сделал презрительную гримасу и процедил:
— Отчего же это?
— Да, вот именно «отчего»? Тебе, почтенный Целе¬
стин, будет непонятно, потому что ты не поляк.
— Почему же это я не поляк?
— Потому что ты лютер или кальвин, а не католик, и
у тебя черствое сердце. Ты — ведь я тебя знаю... ты не
веришь...
— Вы все должны знать.
— Да не перебивай! Ты в Бога не веришь.
— Вы врете.
— Возьми свое слово назад. Твоя вера, какова она
есть, это все равно, что ее и нет. Ты хлопочешь о том,
что всего меньше стоит. Не отпирайся: ты внушаешь мо¬
лодым людям, что поэзия вздор, и хлопочешь только
о том, чтобы все занимались работой, чтобы процветал
труд и ремесла, как будто в этом для нас все и дело;
а я — добрый католик: и люблю поэзию, и имею чувст¬
вительное сердце: мне дорого то, что ждет нас после смер¬
ти. Да; мне всегда приходит на память, что всем надо уме-
348
реть... И когда мне это придет на ум, и я подумаю, что я
тоже умру, то всякий раз ясно вижу перед собою это... как
у них были глаза... оба к носу... и темя шевелилось. Я уве¬
ряю тебя, что это престрашно, и это со мною долго про¬
должалось.
— Но, однако, прошло?
— Да, прошло.
— Отчего же?
— От одного ужасного случая, от которого я черт зна¬
ет как уцелел на свете.
— Какой же это случай? — спросил Мориц.
— Это, Мориц, был чертовский случай,— это адская
сцена, на которую опять выходит отец Флориан.
Реби Фола потянул ухо к Морицу и прошептал:
— Так это было на сцене!
— Да, реби Фола,— молчите,— все это было на
сцене.
— Хорошо, хорошо!
Гонорат продолжал.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Это я мог бы говорить только для верующих, но все
равно. Прошел слух в народе, что под Злочевом в лесу на
пасеке поселился человек святой жизни. Он завел пчел,
давал людям лекарства и ни от кого ничего за это не
брал. Бедные глупые русины прозвали его между собою
«пчелиный королек». Стали к нему ходить отовсюду; он
исцелял всех, у кого бы какая болезнь ни случилась. Если
у кого было нехорошо на сердце от сердечных мыслей —
и те тоже к нему приходили. И я тоже пошел, чтобы его
видеть. До Львова я доехал и все держал пост дорогой,
а дальше пошел пешком, чтобы как можно лучше себя
приготовить к беседе с святым человеком. Нашел его очень
легко: живет в лесу — один... старый, весь оброс бородой,
в белой свитке, и даже пахнет от него прекрасно свято¬
стью,— медом и воском... А глаза — так насквозь всего
человека и проницают. Посмотрел он на меня и говорит:
— Тебе надо покой,— иди отпочни у меня в халупке,
а завтра с тобой будем беседовать.
Положил меня в халупку и запер на ключ, а утром вы¬
вел и говорит:
— Теперь ты мне можешь открыться.
Я ему стал исповедываться и все, все рассказал, и что
тогда делал, и что теперь делаю, и прошу:
349
— Отпусти мне, отче!
Он говорит:
— Для того, чтобы отпустить раба, есть в Библии
правило. Я тебя могу отпустить, но только по этому пра¬
вилу.
Я согласился. Он похвалил.
— Вот,— говорит,— хорошо, милый сын мой (так и
назвал: милый сын); пойдем теперь к двери, я тебя отпу¬
щу, как должно, по закону.
И тут, господа, вдруг и совершенно неожиданно ра¬
зыгралась вторая удивительная и невероятная сцена.
Реби Фола разинул рот и уронил сухарь.
— У вас худой рот, реби Фола! — крикнул Мориц.
— Нет, я слушаю, что было на сцене.
Гонорат продолжал:
— А по закону,— сказал королек: — когда надобно от¬
пускать раба, то надобно его вот как. Подходи, брат, сю¬
да... Стань вот здесь на пороге у притолки, прислонись
к притолке... Так!.. Еще плотнее!
Я стал и прислонился, а он, подлец, вдруг как хватит
меня сзади шилом, так сквозь ухо к притолке и пришпи¬
лил...
— Это так и надо! — оживился Фола.— Так следо¬
вало!
— Почему же так следовало?
— По Второзаконию.
— Второзаконие! Черт бы тебя взял со всею твоею
раввинскою ученостью,— закричал на него Гонорат и до¬
сказал, что пустынник, пригвоздивший его шилом к при¬
толке, оказался не кто иной, как бывший ксендз Флориан.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
— Вы, может быть, ошиблись, капитан?
— Я не мог ошибиться, Мориц! Да и, наконец, ведь
мы объяснились.
— Объяснились?
— Как же! Когда он ушпилил меня шилом к притол¬
ке... ведь это было так больно, что я закричал во всю мочь
и никуда не мог тронуться... А он — чтоб ему околеть —
стал передо мною, снял с себя белый парик, подпер руки
в бока и спрашивает:
— Узнаешь ли ты меня, наконец, противная собака
в австрийском ожерелке? Ты, негодяй, пришел сюда, чтобы
350
за мною шпионить, а я тебя сейчас и разгадал; и вот за
это ты простоишь здесь приколотый к притолке до тех пор,
пока издохнешь голодной смертью, а я уйду в такое место,
где меня другая такая собака, как ты, не отыщет.
И с этим он достал из-под пола кису с деньгами, пока¬
зал мне шиш и ушел, а меня запер.
— Вот так гемютлих! — воскликнул Мориц.
— Да! И представь себе, друг мой Мориц, что ведь я,
действительно, так и стоял приколоченный целые сутки.
Что это была за мука! Я тебе и сказать не могу. От бо¬
ли я не мог вынуть шила. А ухо!.. Описать нельзя, что
сделалось с моим ухом... Оно у меня пухло, как пирог на
опаре, а при этом шла ужасная стрельба во всей голове и
ко всему этому сесть невозможно. Я, Мориц, молился,
жарко молился... и как я плакал!..
В этом месте рассказа в голосе Гонората задрожали
слезы, и он торопливо вытащил из кармана платок и за¬
крыл свое лицо.
Целестин посмотрел на него через очки и прошипел:
Мерзавец!
Через минуту Гонорат продолжал:
— Я думал, что я непременно там и умру голодною
смертью; но Бог бывает добр ко всем, Мориц! Он и надо
мною смиловался, вероятно за то, что никогда не рассуж¬
дал на ученый манер, а всегда во все верил как добрый ка¬
толик. На другой день пришли к домику благочестивые лю¬
ди, чтобы просить у Флориана благословения. Они ста¬
ли стучать. Вообрази, как я обрадовался! Но я не мог им
отпереть. Я спас себя только тем, что стал петь потихонь¬
ку «Под твою милость прибегаем». И хорошо, что я мог
это петь так жалостно, что благочестивые люди не могли
разобрать моего голоса и подумали, что это поет сам Фло¬
риан. И Бог милосердный так сделал, что мой голос изда¬
ли был совсем как Флорианов голос, и благочестивые лю¬
ди подумали, что это Флориан кончается, и отбили запер¬
тую ДЕерь. О, какое это было благополучие! Они сняли
меня с шила и начали меня бить палками, подозревая, что
я разбойник и был с товарищами, которые убили или уве¬
ли в плен Флориана. Я их упросил, чтобы меня отвели
к комиссару. Комиссар отправил меня в Вену. В Вене
хотели мне ухо отрезать, но, к счастью, отлично выле¬
чили не резавши — только вот эта дырка от шила оста¬
лась.
Гонорат показал на свою бирюзовую заклепку и, вздох¬
нув, добавил:
351
— И вот только с тех пор мне легче вспомнить и про
Якуба, и про паныча Гершку, потому что не одни они, а
и я тоже пострадал от отца Флориана.
— Только вы несколько меньше, а они больше,— за¬
метил Мориц.
— Это правда; но знаешь, ведь тут много зависит от
того, как смотреть на дело.
— Конечно, ксендз Флориан сначала сделал из вашей
милости препоганого палача, а потом преогромного дура¬
ка; но, однако, как ни смотри, вы все-таки живы.
— Да, я жив... это правда.
— И едите курку с маслом.
— Ем... иногда... А тебе завидно?
— И служите австрийским жандармом,— подсказал
Целестин.
— Да, и служу австрийским жандармом... А все-таки
вы мою душу не знаете и не можете судить: лучше мне
или не лучше, чем Якубу и Гершке.
— Нет, лучше, лучше! — заметался реби Фола.
— Ты почему знаешь?
— По Писанию,— отвечал реби Фола, и, подняв перед
собою в левой руке сухарь, он точно читал с ним под
указку слова из Кагелота: «Псу живому лучше, чем льву
умершему».
Мориц и Целестин расхохотались. Реби Фола не пони¬
мал в чем дело и уверял, что у Кагелота, действительно,
так написано: «Псу живому лучше, чем льву умершему».
Гонорат встал, вздохнул, поглядел на свои часы и про¬
говорил ко всем безразлично:
— Все вы — бесчувственные животные, и я еще не те¬
ряю надежды, что когда-нибудь мне придется вас пове¬
сить.
— В чей же бенефис, пан капитан, вы нас хотите по¬
весить? — спросил Мориц.
— А это для меня безразлично, пан трактирщик,— от¬
вечал шаловливо Гонорат и, вскинув на локоть свой кара¬
бин, он никому не кивнул головою и пошел встречать под¬
ходивший срочный поезд.
С этим поездом прибыл и тот деловой человек, которо¬
го я ожидал. Мы скоро переговорили все, что надо было по
делу, а потом я ему рассказал и о том, что слышал
в корчме, и спрашиваю его: «неужто всему этому можно
верить?» Он же мне отвечает:
— А черт их разберет! Да и зачем это нужно им ве¬
рить или не верить?
352
— Чтобы уяснить себе: коего духа эти люди?
— Ну, вот пустяки!
— Как! Дух — пустяки?
— Да, разумеется, пустяки. Где теперь духа искать!
Смотрите, пожалуйста, где хотите — на всех людских ли¬
цах ничего ясного не стало видно. Все какие-то тусклые
шершаки, точно волки травленые: шерсть клоками, морды
скаленые, глаза спаленые, уши дерганые, хвосты терха¬
ные, гачи рваные, а бока драные — только всего и целого
остается, что зубы смоленые, да первая родимая шкура не
выворочена. А вы в этаких-то отрепках хотите разыски¬
вать признаки целостного духа! Травленый волк об какую
землю ударится, там чем надо, тем он и скинется.
— Однако, что же хорошего, если это у вас так и
в Цислейтании и в Транслейтании.
— Да везде это теперь так, где вам угодно,— не толь¬
ко у нас в Цислейтании и в Транслейтании, а и во Фран¬
ции, и в Италии, и так далее: травленый волк везде од¬
ной породы; он об какую землю ударится — там чем ему
надо, тем он и скинется.
— А к чему же это, по-вашему, сведется?
— Да сведется к такому прелюбопытному положению,
что никто, наконец, не будет знать, с кем он дело имеет.
12. Н. С. Лесков, т. 5.
КОЛЫВАНСКИЙ МУЖ
(Из остзейских наблюдений)
Пошел по канун
И сам потонул.
Русск. пословица
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Из городов балтийского побережья я жил четыре сезо¬
на в Ревеле, четыре в окрестностях Риги и три в Аренс¬
бурге, на острове Эзеле. В одну из моих побывок в Реве¬
ле,— помнится, в первый год, когда там губернаторство¬
вал М. Н. Галкин-Врасский,— я нанял себе домик в аллее
«Под каштанами». Это в самом Екатеринентале, близко
парка, близко купален, близко «салона» и недалеко от до¬
ма губернатора, к которому я тогда был вхож.
На дворе у моих дачных хозяев стояли три домика —
все небольшие, деревянные, выкрашенные серенькою кра¬
скою и очень чисто содержанные. В домике, выходившем
на улицу, жила сестра бывшего петербургского генерал-
губернатора, князя Суворова,— престарелая княгиня Гор¬
чакова, а двухэтажный домик, выходивший одною сторо¬
ною на двор, а другою — в сад, был занят двумя семей¬
ствами: бельэтаж принадлежал мне, а нижний этаж, еще
до моего приезда, был сдан другим жильцам, имени кото¬
рых мне не называли, а сказали просто:
— Тут живут немки.
Все мы были жильцы тихие и, что называется, «обсто¬
ятельные». Важнее всех между нами была, разумеется,
княгиня Варвара Аркадьевна Горчакова, влиятельное зна¬
чение которой было, может быть, даже немножко преуве¬
личено. О ней говорили, будто она «может сделать все че¬
рез брата». Она, кажется, знала, что о ней так говорят,
и не тяготилась этим. Впрочем, для некоторых она что-то
и делала. Постоянное занятие ее состояло в том, что она
принимала визиты знатных соотечественников и моли¬
лась Богу в русском соборе. Там тогда дьяконствовал ны¬
нешний настоятель русской церкви в Вене, о. Николаев¬
354
ский, который отличался изяществом в священнослужении
и почитался национальным борцом и «истинно русским че¬
ловеком», так как он корреспондировал в московскую газе¬
ту покойного Аксакова.
У княгини Горчаковой можно было встретить всю ме¬
стную и наездную знать, начиная с М. Н. Галкина и Лан¬
ских до вице-губернатора Поливанова, которого не знали,
на какое место ставить в числе «истинно русских людей».
Княгиня также принимала, разумеется, и духовенство, осо¬
бенно священника Феодора Знаменского и диакона Нико¬
лаевского. В «фамилиях» у духовенства княгиня имела
крестников и фаворитов, которым она понемножку «благо¬
детельствовала» — впрочем, только «малыми» и «средни¬
ми» дарами. До настоящих, «больших», она не доходила
и имела, кажется, на то достаточные причины. Вообще же
среди всего, что было в тот год знатного в Ревеле, княги¬
ня Варвара Аркадьевна имела самое первое и почетное по¬
ложение, и ее серенький домик ежедневно посещался как
немецкими баронами, имевшими основание особенно лю¬
бить и уважать ее брата, так и всеми более или менее до¬
стопримечательными «истинно русскими людьми».
Все здесь наперебой старались быть искательнее один
другого, но отнюдь не все знали, на что им это годится
и вообще может ли это хоть на что-нибудь годиться.
И дом, и круг были прелюбопытные и обещали много
интереса.
Я большую часть своего времени проводил за столом
у окна, выходившего в сад, которым, по условиям найма,
имели равное право пользоваться жильцы верхнего и ниж¬
него этажей, то есть мои семейные и занимавшие нижний
этаж «немки». Но немки, нанявшие квартиру несколько
раньше меня, не хотели признавать нашего права на сов¬
местное пользование садом; они всё спорили с хозяйкою
и утверждали, что та им будто бы об этом ни слова не
сказала и что это не могло быть иначе, потому что они ни
за что бы не согласились жить на таких условиях, чтобы
их дети должны были играть в одном саду вместе с рус¬
скими детьми.
Спор возгорелся в первый же день нашего прибытия
в Ревель, как только дети сошли в сад. Я узнал об этом
сначала через донесение прислуги, для которой хозяйские
контры на самых первых порах при занятии дачи пред¬
ставляли много захватывающего интереса, а потом я сам
услыхал распрю в фазе ее наивысшего развития, когда
спор был перенесен из комнат под открытое небо. Это бы-
355
до в полдень. В сад вышли три немки: дама высокая,
стройная и довольно еще красивая, с седыми буклями;
дама молодая и весьма красивая, одного типа и сильно схо¬
жая с первою, и третья — наша хозяйка, онемеченная эстон¬
ка, громко отстаивавшая права моего семейства на пользо¬
вание садом.
Все были в большом волнении — особенно хозяйка и
старшая из двух «нижних дам», как их называла моя
прислуга.
Хозяйка возвышенным голосом говорила:
— Я вас предупреждала... я говорила, что наверху бу¬
дут жильцы, и сад всем вместе.
А старшая дама на все кротко отвечала: «Nein!» и
встряхивала буклями и краснела. Младшая дама трогала
обеих этих за руки и упрашивала их «не разбудить ма¬
лютку».
Сама же эта дама держала за руки двух хорошо оде¬
тых мальчиков — одного лет пяти и другого лет трех. Оба
они не спали. Значит, кроме этих двух детей, было еще
третье, которое спало. Может быть, это слабое и больное
дитя. Бедная мать так за него беспокоится.
Мне стало жаль ее, и, чтобы положить конец тяжелой
сцене, я решился отказаться от сада и кликнул домой сво¬
их племянников.
Дети вышли, за ними удалилась хозяйка, и садик ос¬
тался в обладании двух немок. Они успокоились, вышли
и повесили на дверце садовой решетки замок.
Хозяйка при встрече со мною жаловалась на возложе¬
ние замка, называла это «дерзостью» и советовала мне где-
то «требовать свои права». Прислуга совершенно напрас¬
но прозвала обеих дам «язвительными немками».
Я не поддавался этому злому внушению и находил
в обеих дамах много симпатичного. Я на них не жаловал¬
ся, оставался вежлив, спокоен и не предъявлял более на
сад никаких требований. Садик оставался постоянно запер¬
тым, но мы от этого не чувствовали ни малейшего лише¬
ния, так как деревья своими зелеными вершинами прямо
лезли в окна, а роскошный екатеринентальский парк начи¬
нался сейчас же у нашего домика.
Немки выжили нас из садика не по надобности, а как
будто больше по какому-то принципу. Впрочем, он был им
нужнее, чем нам. Они почти постоянно были в саду обе
и с двумя детьми и непременно запирались на замок. Это
им было не совсем ловко делать — надо было пёревеши-
1 Нет! (нем.)
356
ваться за решетку и вдевать замок в пробой с наружной
стороны, но они все это выполняли тщательно и аккурат¬
но. Я думал, что они опасаются, как бы мы не ворвались
в садик насильно, и тогда им придется нас выбивать вон.
При этом им, вероятно, представлялась война, а судьбы
всякой войны неразгаданны, и потому лучше запереться и
держаться в своем укреплении.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Так это и шло. Победа была за немками, и никто не
покушался у них ее оспаривать. Дети наши были совер¬
шенно равнодушны к маленькому домашнему садику вви¬
ду свободы и простора, которые открывал им берег моря,
и только кухарка с горничною немножко дулись, так как
они рассчитывали на даче пить кофе в «присаднике»; но
когда это не удалось, я позаботился успокоить их претен¬
зию предоставлением им других выгод, и дело уладилось.
Притом же обе эти девушки отличались столь добрыми и
незлопамятными сердцами, что удовольствовались возмож¬
ностью пить свой кофе у растворенного окна и не порыва¬
лись в садик, а я был даже доволен, что немки никого не
пускали в сад, где благодаря этому была постоянная ти¬
шина, представлявшая значительные удобства для моих
литературных занятий.
Вставая из-за своего рабочего стола и подходя к окну,
чтобы покурить папироску, я всегда видел двух этих дам,
всегда с работою в руках, и около них двух изящно оде¬
тых мальчиков, которых звали «Фридэ» и «Воля».
Мальчики играли и пели «Anku dranku dri-li-dru, seter
faber fiber-fu». Мне это нравилось. Вскоре появился и
третий, только недавно еще увидавший свет малютка. Его
вывозили в хорошую пору дня в крытой колясочке.
Обе женщины жили, по-видимому, в большой дружбе
и в таком полном согласии, что почему-то чувствовалось,
как будто у них есть какая-то важная тайна, которую обе
они берегут и обе за нее боятся.
Образ жизни их был самый тихий и безупречный. Ов¬
ладев безраздельно садиком при даче, они им одним и
довольствовались и не показывались ни на музыке, ни
в парке. Об их общественном положении я не знал ровно
ничего. Прислуга доносила только, что старшая из дам
называется «баронесса» и что обе они так горды, что ни¬
когда не отвечают на поклоны и не знают ни одного сло¬
ва по-русски.
357
Только один раз тишина, царствовавшая в их доме, бы¬
ла нарушена посещением трех лиц, из которых первое
можно было принять за какое-то явление.
Я первый подстерег, как оно нас осветило,— именно я
не могу подобрать другого слова, как осветило.
Хлопнула входная серая калитка, и в ней показалось
легкое, грациозное и все сияющее светлое создание —
молодая белокурая девушка с красивым саквояжем в од¬
ной руке и с зонтиком в другой. Платьице на ней было
легкое, из бледно-голубого ситца, а на голове простая со¬
ломенная шляпа с коричневою лентою и с широкими поля¬
ми, отенявшими ее прелестное полудетское лицо.
Навстречу ей из окна нижнего этажа раздался воз¬
глас:
— Aurora!
Она отвечала:
— Tante!
И вдруг и баронесса, и ее дочь выбежали к Авроре,
а Аврора бросилась к ним, и, как говорится, «не было кон¬
ца поцелуям».
Через час Аврора и младшая из дам вышли в сад. Они
долго щебетали и целовались,— потом сели. Аврора теперь
была без шляпы, но в очень ловко сшитом платьице, а на
голове имела какой-то розовый колпачок, придававший ее
легкой и грациозной фигуре что-то фригийское.
Аврора ласкала даму по голове и несколько раз прини¬
малась целовать ее руки и называла ее Лина.
Вышедшая к ним в сад баронесса обнимала и целовала
их обеих.
Из их разговора я понял, что Аврора и Лина — ку¬
зины.
Вечером в этот же день к ним приехали два почтенные
гостя: пастор и вице-адмирал, которого называли
«Onkel». Они оставались недолго и уехали. А вслед за
ними, в сумерки, пронеслась опять со своим саквояжем Ав¬
рора, и ее больше не стало.
Мои девушки узнали, что старая баронесса проводила
«эту зажигу» на пароход, и при этом они также расследо¬
вали, что «у немок были крестины», и именно окрестили
того малютку, который выезжал в сад в своей детской ко¬
лясочке.
Мне до этого не было никакого дела, и я надеялся, что
и позже это никогда меня нимало не коснется; но вышло,
что я ошибался.
1 Дядя (нем.).
358
Завтра и послезавтра и в целый ряд последующих дней
у нас все шло по-прежнему: все наслаждались прекрасны¬
ми днями погожего лета, два старшие мальчика пели под
моими окнами «Anku dranku dri-li-dru», а окрещенный
пеленашка спал в своей коляске, как вдруг совершенно не¬
ожиданно вся эта тишь была прервана и возмущена набе¬
жавшею с моря страшною бурею.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В один прекрасный день, перед вечером, когда удлиня¬
лись тени деревьев и вся дачная публика выбиралась на
promenade,1 — в калитке нашего серого дома показался
молодой и очень красивый морской офицер. Значительно
растрепанный и перепачканный, он вошел порывисто и
спешною походкою направился прямо в помещение, зани¬
маемое немками, где по этому поводу сейчас же обнаружи¬
лось некоторое двусмысленное волнение.
Прежде молодая немка прокричала:
— Er ist gekommen... ah!
А потом старшая повторила:
— Ah! Er ist gekommen!
И вдруг обе суетливо забегали, чего никогда до сих пор
не делали.
При открытых окнах у меня вверху и у них внизу, на
несчастие, все было слышно из одного помещения в дру¬
гое. Ночами при общей тишине даже бывало слышно, как
пеленашка иногда плачет и как мать его берет и баюкает.
И теперь мне показалось, будто тоже что-то происходи¬
ло около этого пеленашки. Мне казалось так потому, что
вслед за возгласами «Ег ist gekommen!» старшая немка
с буклями вылетела в сад с пеленашкою на руках и, при¬
жимая к себе дитя, тревожно, острым взглядом смотрела
в окна своего покинутого жилища, где теперь растрепан¬
ный моряк остался вдвоем с ее дочерью.
Я сообразил, что, вероятно, пеленашка составляет не¬
ожиданный сюрприз для гостя, находящегося в каких-ни¬
будь особенных отношениях к матери и дочери, живущим
со мною в соседстве. И вскоре мои подозрения еще увели¬
чились.
Через минуту я увидел, как мать вывела в садик стар¬
1 Гулянье (франц.).
2 Он пришел... ах! (нем.)
3 Ах! Он пришел! (нем.)
359
ших мальчиков и, оставив их бабушке, сказала каждому по
наставлению, из которого я уловил только:
— Still, Papa, — и сама убежала.
Бабушка охватила внучков руками, как наседка покры¬
вает цыплят крыльями, и тоже внушала:
— Still, Friede, Papa: er ist gekommen! Still, Wolia,
Papa !
Дети слушались бабушку и робко к ней жались. Каж¬
дый из них одною ручонкою обхватывал ее руку, а в дру¬
гой держал по новой игрушке.
«Что же это может значить? — думалось мне.—
Неужто и оба старшие мальчики тоже составляют секрет
для гостя, точно так же, как и маленький пеленашка?»
Насчет пеленашки у меня уже утвердилось такое поня¬
тие, что «рыцарь ездил в Палестину», а в это время ста¬
рая баронесса плохо смотрела за своей дочкой, и явился
пеленашка, которого теперь прячут при возвращении суп¬
руга, чтобы его не сразу поразило ужасное открытие.
Какая у них, должно быть, теперь происходит тяжелая
сцена! Бедный мореходец; бедная белокурая дама; бедная
баронесса; бедный и ты, маленький пеленашка!
Чтобы быть дальше от горя, которому ничем нельзя
пособить, я взял в руки трость, надел шляпу и ушел
к морю.
Но все, что я сообразил насчет причины беспокойства
в нижнем семействе, было не совсем так, как я думал. Де¬
ло было гораздо сложнее и носило отчасти политический
или национальный характер.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Когда я возвращался домой при сгустившихся сумер¬
ках, меня еще за воротами дома встретила моя служанка
и в большом волнении рассказала, что приехавший муж
молодой немки — «страшный варвар и ужасно бунтует».
— Когда вы ушли,— говорит,— он начал грозно хо¬
дить по всем комнатам и кричать разные русские слова,
которых повторить невозможно.
— Как,— говорю,— русские?
— Да так, разные слова, самые обидные, и все по-рус¬
ски, а потом стал швырять вещи и стулья и начал кричать:
1 Тише, папа (нем.).
2 Тише, Фриде, папа: он пришел! Тише, Воля, папа! (нем.)
360
«вон, вон из дома — вы мне не по ндраву!» и, наконец,
прибил и жену и баронессу и, выгнав их вон из квартиры,
выкинул им в окна подушки, и одеяла, и детскую колы¬
бель, а сам с старшими мальчиками заперся и плачет над
ними.
— О чем же плачет?
— Не знаю, верно пьян напился.
— Почему же вы так обстоятельно все это знаете?
— Шум был, княгиней его пугали, а он и на нее не об¬
ращает внимания, а от нас все слышно: и русские слова, и
как он их пихнул за дверь, и подушки выкинул... Я гово¬
рила хозяйке, чтобы она послала за полицией, но они, и
мать и дочь, говорят: «не надо», говорят: «у него это прой¬
дет», а мне, разумеется,— не мое дело.
— Конечно, не ваше дело.
— Да я только перепугалась, что убьет он их, и за
наших детей боялась, чтобы они русских слов не слыхали.
А вас дома нет; я давно смотрела вас, чтобы вы скорее
шли, потому что обе дамы с пеленашкой сидят в моей
комнате.
— Зачем же они у вас?
— Вы, пожалуйста, не сердитесь: вы видите, на дворе
туман, как же можно оставаться на ночь в саду с груд¬
ным ребенком! Вы извините, я не могла.
— Нечего,— говорю,— и извиняться: вы прекрасно
сделали, что их приютили.
— Они уже дитя уложили, а сами уселись перед лам¬
почкой и достали вязанье.
«Что за странность! — думаю себе,— этих бедных дам
только что вытолкали вон из их собственного жилища, а
они, как будто ничего с ними и не случалось, присели в чу¬
жой квартире и сейчас за вязанье».
Я не выдержал и высказал это мое удивление девушке,
а та отвечает:
— Да, уж и не говорите: удивительные! Этакие слова
выслушать, и будто как ничего... Наша бы русская крышу
с дома скопала.
— Ну, слова — говорю,— еще ничего: они наших рус¬
ских слов не знают.
— Понимают все.
— Вы почему знаете?
— А как же я с ними говорила! Ведь по-русски.
Я еще подивился. Такие были твердые немецкие дамы,
что ни на одно русское слово не отзывались, а тут вдруг
низошел на них дар нашего языка, и они заговорили.
361
«Так,— думаю себе,— мы преодолеем и все другие их
вредные дикости и упорства и доведем их до той полноты,
что они у нас уверуют и в чох, и в сон, и в птичий грай,
а теперь пока надо хорошенько приютить изгнанниц».
ГЛАВА ПЯТАЯ
Это и было исполнено. Баронесса и ее дочь с грудным
младенцем ночевали на диванах в моей гостиной, а я ти¬
хонько прошел к себе в спальню через кухню. В начале
ночи пеленашка немножко попищал за тонкой стеною, но
мать и бабушка следили за его поведением и тотчас же его
успокоивали. Гораздо больше беспокойства причинял мне
его отец, который все ходил и метался внизу по своей
квартире и хлопал окнами, то открывая их, то опять за¬
крывая.
Утром, когда я встал, немок в моей квартире уже не
было: они ушли; но зато их обидчик ожидал меня в саду,
да еще вместе с отцом Федором.
Отец Федор всем в Ревеле был известен как самый
добродетельный человек и как трус: он и сам себя всегда
рекомендовал человеком робким.
— Я робок,— говорил он.— Я боюсь, всего боюсь и
всех боюсь. Детей крестить — и тех боюсь: держать их
страшно; и покойников боюсь: на них глядеть страшно.
Отец Федор сам рассказывал, что он «первый был при¬
слан сюда бороться с немцами» и «очень бы рад был их
всех побороть, но не мог, потому что он всех их боится».
Робость этого первого виденного мною «борца» была
замечательная, и ее нельзя и не нужно чем-нибудь приук¬
рашивать; да это и неудобно, потому что на свете еще жи¬
вы коллеги отца Федора и множество частных людей, ко¬
торые хорошо его знали.
Он боялся всего на свете: неодушевленной природы,
всех людей и всех животных и даже насекомых. И сам он,
как выше замечено, над этою своею слабостью смеялся и
шутил, но побороть ее в себе не мог.
Он не мог войти без провожатого в темную комнату,
хотя бы она была ему как нельзя более известна; убегал
из-за стола, если падала соль; замирал, если в комнате
появлялись три свечки; обходил далеко кругом каждую
корову, потому что она «может боднуть», обходил лошадь,
потому что она «может брыкнуть»; обходил даже и овцу
и свинью и рассказывал, что все-таки с ним был раз та¬
362
кой случай, что свинья остановилась перед ним и завиз¬
жала. По счастью, он убежал, но после все-таки у него
долго сердце билось. Собак, кошек, крыс и мышей он бо¬
ялся еще более. Он был уверен, что один раз даже мышь
укусила его сонного за пятку. О собаках уже и говорить
нечего, а кошки представляли в его глазах двойную опас¬
ность: во-первых, они царапаются, а потом они могут пе¬
реесть сонному горло.
И этот-то великий трус расхаживал по саду и разгова¬
ривал самым приятельским образом с драчуном, причем
один только драчун обнаруживал некоторое внутреннее
волнение и обрывал губами листочки с ветки сирени, кото¬
рую держал в руке, а отец Федор даже похохатывал и, при¬
седая на ходу, хлопал себя длинными руками по коленам.
При одном из оборотов он увидал меня у окна и, сов¬
сем развеселившись, закричал:
— Пожалуйте сюда к нам поскорее! Пожалуйте! Мы
вас ждем.
Драчун был человек в цветущей поре: он по виду мог
иметь немного за тридцать. Он был с открытым, доволь¬
но приятным и даже, можно сказать, привлекательным рус¬
ским лицом, выражавшим присутствие здравого смысла,
добродушной доверчивости и большой терпеливости. Пс
общему выражению больших и в своем роде прекрасных
темно-карих глаз и всей его физиономии и движениям
головы он напоминал бычка — молодого, смирного и добро¬
нравного заводского бычка. Он все потихоньку отматы¬
вал головою в одну сторону и, очевидно, мог так мотать
долго, но потом мог и боднуть, не разбирая, во что по¬
падет и во что ему самому это обойдется. Теперь в боль¬
ших карих глазах у бычка как раз светилось отражение
большой, свежеперенесенной и тяжкой обиды, после кото¬
рой он только боднул и еще не совсем успокоился. Доволь¬
но полное лицо его то бледнело, то покрывалось краскою
гнева, внезапно набегавшею и разливавшеюся под загоре¬
лою и огрубевшею от морского ветра кожею.
Все это отчетливо и ясно бросилось мне в глаза, когда
я вошел в сад, где меня отец Федор тотчас же схватил за
руки и, весело смеясь, закричал:
— Здравствуйте! здравствуйте!.. Пожалуйте скорее
сюда, сюда... Вот вам рекомендую — Иван Никитич Сипа¬
чев. Отличный, образованный человек, говорит на трех
1 Имя, отчество и фамилия этого с натуры воспроизводимого
мною лица в действительности были иные. Имена лиц, которые
будут выведены далее, я все заменяю вымышленными названиями
в соответственном роде. (Прим. автора.)
363
языках, и мой духовный сын, и музыкант, и певец, и все
что хотите... Ха-ха-ха!.. Любите меня — полюбите и его...
Ха-ха-ха!.. Вы думаете, что Иван Никитич буян и разбой¬
ник?.. Ха-ха-ха! Он смирный, как самый смирный теленок.
Мне Иван Никитич казался бычком, а отец Федор его
почитал теленочком: разница выходила небольшая, и если
он даже отцу Федору кажется не страшным, то уже, вер¬
но, он в самом деле не страшен.
А отец Федор продолжает свою рекомендацию и го¬
ворит:
— Ивану Никитичу с вами надо объясниться... Это не
он придумал, а я, я. Вы меня за это простите. Он растерял¬
ся и придумывал бог знает что... Хотел на себя руки нало¬
жить, а я его удержал. Я говорю: «Этот человек мне зна¬
ком, пойдите к нему и объяснитесь...» Он — «Ни за что! —
говорит.— Я так себя вел». А я говорю: «Что же теперь
делать! Надо все объяснить... Объяснить с русской точки
зрения, а не стреляться и не сваливать себя в гроб собст¬
венною рукою». Иван Никитич прибегает сегодня чем свет,
будит меня и что говорит... Вы только подумайте, вы поду¬
майте, вы вспомните, что вы мне говорили! — обратился он
к офицеру.— Ай-ай-ай! Ай, нехорошо!.. Ай, нехорошо!..
А я утешать словами никого не умею... Что, братцы, де¬
лать — не умею. Отец Михаил или отец Константин — те
умеют, а я не умею. Я только сказал: «Отложи попечение!
Все это еще, может быть, обомнется». Так это или нет?
Офицер тихо качнул головой и сказал:
— Так!
— Да, я так его от себя и не пустил, и вот так его сю¬
да и привел,— и пусть он сам все расскажет.
— Зачем же это? — говорю.
— Нет, отчего же? Ему легче будет, чтобы о нем не
думали дурно. Он сам желает...
В это время и сам моряк отозвался.
— Да,— говорит,— извините: я себя поставил в такое
недостойное положение, что мне нельзя оставить без объ¬
яснения то, что я наделал. Мне это необходимо... Потреб¬
ность души... потребность души...
— Вы теперь очень взволнованы, а после можете по¬
жалеть.
— Нет, я не буду жалеть. Я действительно взволнован,
но жалеть не буду.
— Вот видите! — поддержал отец Федор.— Пусть он
все говорит,— ему будет легче.
364
— Да, мне будет легче,— подсказал офицер и бросил
на скамейку свою фуражку.— Я не хочу, чтобы обо мне
думали, что я негодяй и буян, и оскорбляю женщин. До¬
вольно того, что это было и что причины этого я столько
лет таил, снося в моем сердце; но тут я больше не вы¬
держал, я не мог выдержать — прорвало. Подло, но надо
знать, за что. Вы должны выслушать мою повесть.
Отец Федор сблизил мою руку с рукой офицера и под¬
сказал:
— Да, голубчики,— это повесть.
Что же мне оставалось делать? Я, разумеется, согла¬
сился слушать оправдание о том, за что были выгнаны
воспитанные и милые дамы, из которых одна была жена
рассказчика, а другая — ее мать, самая внушающая поч¬
тение старушка.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Бычок махнул головою в сторону и начал:
— Вы и всякий имеет полнейшее право презирать ме¬
ня после того, что я наделал, и если бы я был на вашем
месте, а в моей сегодняшней роли подвизался другой, то
я, может быть, даже не стал бы с ним говорить. Что тут
уж и рассказывать! Человек поступил совсем как мер¬
завец, но поверьте... (у него задрожало все лицо и
грудь) поверьте, я совсем не мерзавец, и я не был пьян.
Да, я моряк, но я вина не люблю и никогда не пью
вина.
— Не пьет, никогда не пьет,— поддержал отец Федор.
Священник ручается. Надо верить. А он, оказывается,
так наблюдателен, что как будто читает на лице все отра¬
жения мыслей.
— Мне это стыдно,— говорит он,— стыдно взрослому
человеку уверять, что я совсем не пью вина. Ведь я совер¬
шеннолетний мужчина и моряк, а не институтка. Отчего
бы я и не смел пить вино? Но я его действительно не
пью, потому что оно мне не нравится, мне все вина про¬
тивны. И это, может быть, тем хуже, что я был совершен¬
но трезв, когда обидел и выгнал мою жену и тещу... Да,
я был трезв точно так же, как теперь, когда я не знаю,
как мне вас благодарить за то, что вы дали им у себя
приют, иначе они должны бы были ночевать с детьми
в парке или в гостинице, и теперь об этом моем тиранст¬
ве знал бы уже целый город. Здесь ведь кишит сплетня.
365
Подняли бы такой вой... «Русский офицер как обращается
с своею женою! Мужик, невежа. Женился на баронессе».
И все это правда: я русский офицер, и действительно, ес¬
ли вам угодно, по образованию я мужик в сравнении с мо¬
ею женою, особенно с ее матерью; но ведь они обе знали,
что я русский человек, воспитывался в морском училище
на казенный счет, но по-французски и по-немецки я, одна¬
ко, говорю и благодаря родительским заботам кое-что
знаю, но над общим уровнем я, конечно, не возвышаюсь и
имею свои привязанности. Я каким себя предъявлял им,
таков я и есть, так и живу. Я ни в чем их не обманул,
ни жену, ни всеми уважаемую мою тещу, между тем как
они сделали из моей семьи мой позор и терзание.
Всякий, услышав то, что я говорю, вероятно, подумал
бы, что, конечно, моя жена мне не верна, что она изме¬
няет своим супружеским обетам; но это неправда. Моя
жена прелестная, добрая женщина и относится ко всем
своим семейным обязанностям чрезвычайно добросовест¬
но и строго. В этом отношении я счастливей великого
множества женатых смертных; но у меня есть горе хуже
этого, больнее.
— Да, гораздо хуже,— вздохнул отец Федор.— Боль¬
нее.
Я недоумевал: что же может быть «хуже этого и боль¬
нее»?
А мореход продолжал:
— Измена тяжела, но ее можно простить. Трудно, но
можно. Женщины же нам прощают наши измены, отчего
же и мы им простить не можем? Я знаю, что на этот счет
говорят, но ведь это предрассудок. «Чужое дитя!» Ну и
что же такое? Ну и покорми чужое дитя. Ведь это не
грех, а мы ведь считаем, что мы умнее и справедливее
женщин и во всех отношениях их совершеннее. Покорми!
И если женщина увлеклась и потом сожалеет о своем увле¬
чении, прости ее и не обличай. Она может перемениться
и исправиться. Тоже и они ведь недаром живут на свете
и приобретают опыт. Я таких убеждений, и я чувствую,
что я все это мог бы исполнить, но этого в моей жизни
нет. Этим я не наказан; но то, что я переношу и что уже
два раза перенес, да, вероятно, и третий перенесу — этому
нет сравнения, потому что это уязвляет меня в самый ко¬
рень. Это поражает меня до недр моего духа; это убивало
моего отца и мать, отторгало меня от самых священных уз
с моею родней, с моим народом. Это, наконец, делает ме¬
ня смешным и жалким шутом, которому тычут в нос ши¬
366
ши. Однако я и это сносил, но когда это повторяется без
конца — этого снесть невозможно.
— Извините,— говорю,— я не понимаю, в чем дело.
— Я поясню. У меня был отец старик, и уважаемый
старик. Он жил в своем именьице в Калужской губернии,
и матушка тоже достойная всякого уважения: они жили
мирно, покойно, и их уважали. Я у них один-единственный
сын. Есть сестра, но она далеко, замужем за доктором-
немцем, на Амуре. У нее уже другая фамилия, а мужско¬
го поколения только один и есть — это я. Дядюшка
в Москве, отцов брат, старый холостяк, весь век все сла¬
вянской археологией занимался и забыл жениться. И отец
мой и мать, разумеется, были насквозь русские люди, а о
московском дяде уж и говорить нечего. Он с Киреевски¬
ми, с Аксаковыми — со всеми знаком. Словом, всё самые
настоящие родовитые и истинно русские люди, а из меня
вышла какая-то «игра природы». Моя жизнь — это какой-
то глупый роман. Но это говорить надо по пунктам.
— И прекрасно! — воскликнул отец Федор,— теперь
я вижу, что вы разговоритесь и дело будет хорошо, а я
уйду — мне есть дело.
Мы его не удерживали и остались вдвоем в беседке из
купы сирени.
Рассказчик продолжал свою страстную и странную
повесть.
— Это мой третий брак — на Лине N. Первый раз я
был женат в Москве, по общему семейному избранию, на
«девице из благословенного дома». Это должно было при¬
нести мне большое счастие. Мне тогда было двадцать че¬
тыре года, а ей двадцать шесть лет. Она была красива и
порочна, как будто она была настоящая теремница, иску¬
сившаяся во всех видах скрытности. Один год жизни
с нею — это была целая эпопея, которой я рассказывать
не стану. Кончилось тем, что она попала, во что не мети¬
ла, и я ее увидел однажды в литерной ложе, в которую
она поехала с родственною нам княгиней Марьей Алексе¬
евной. Я хотел войти, а княгиня говорит: «Это нельзя —
твоя жена там не одна».— «Это что?!» — «Это,— гово¬
рит,— этикет». Я плюнул и сейчас же ушел из дома, и хо¬
тел застрелиться или кого-то застрелить. Такое было воз¬
буждение!
Я вам говорил, как я терпимо отношусь к ошибкам
женщины; но это там, где есть увлечение, а не там, где
этикет. Я не из таких. Я ударился в противный лагерь,
где не было этикета. Именно — противный! В душе моей
367
клокотала ненависть, и я попал к ненавистникам. По-
моему, они были не то, за что слыли. Впрочем, я дел
с ними не наделал, а два года из своей жизни за них вы¬
черкнул. Жена из «благословенного семейства» в это вре¬
мя жила за границею и проигралась в рулетку. Вслед за
тем дифтерит и ее печальный конец, а мое освобождение.
Я никак не могу уйти от внутреннего чувства, которое го¬
ворит мне, что эти два события находились в какой-то
причинной связи. Я мчался куда-то — черт меня знает ку¬
да, и с разбега попал в «общежитие», где одна барышня,
представлявшая из себя помесь нигилистки и жандарма,
отхватала меня в два приема так, что я опять ни к черту.
Сначала она прозвала меня для чего-то псевдонимом
«Левель-вдовец», а потом «во имя принципа» потребовала,
чтобы я вступил с нею в фиктивный брак для того, чтобы
она могла жить свободно, с кем захочет. Я имел честь всю
эту глупость проделать, а она исполняла то, что жила, как
хотела, но требовала с меня половину моего жалованья, ко¬
торого мне самому на себя недоставало. Я вооружился про¬
тив такой неожиданности. Она явилась к начальству,—
меня призвали, пристыдили и обязали давать. Я чувство¬
вал унижение сверх меры и, дождавшись вечера, взял пи¬
столет и пошел опять к частоколу у Таврического сада.
Мне почему-то казалось, что я непременно там должен за¬
стрелиться, чтобы упасть в канаву. Я и упал в канаву, но
только с такой раной, от которой скоро поправился. Мой
строгий начальник был тронут моим положением и послал
меня в отпуск к родным. «Здесь, в Петербурге, скверный
воздух,— сказал он.— Поезжайте домой. Подумайте там
общим семейным судом, как вам облегчить свою участь».
Я приехал к отцу и к матери, но что же я им мог расска¬
зать? Разве они, добрые помещики и славяне, могли по¬
нять, что такое я наделал? Дяде при конце отпуска я, од¬
нако, все открыл. Он говорит:
«Очень скверно; но постой, мне одна мысль приходит.
Тебе от этой курносой надо куда-нибудь уйти».
Он поднялся из-за своего письменного стола, походил
взад и вперед по комнате в своем синем шелковом халате,
подпоясанном красным мужичьим кушаком, и стал сооб¬
ражать:
«Есть какая-то морская служба в Ревеле. Там теперь
живет баронесса Генриета Васильевна. У себя в Москве
мы ее звали Венигретой. Она замечательно умная, очень
образованная и очень добрая женщина, с прямым и чест¬
ным характером. Я ее знал, когда она еще была воспита¬
368
тельницею и без всяких интриг пользовалась большим ве¬
сом, но не злоупотребляла этим, а напротив — делала мно¬
го добра. Она должна быть и там, в своей стороне, с боль¬
шими связями. Немцы ведь всегда со связями, а Венигре¬
та Васильевна в свое время много своих немцев вывела.
У нее непременно должны быть и в вашем ведомстве лю¬
ди, ей обязанные. Я ей напишу, и знаю как напишу —
совершенно откровенно и правду.
Я говорю:
— Всего-то лучше не пишите,— совестно.
— Нет, отчего же?
— Да что уж такую глупость без нужды рассказы¬
вать!
— A-а, нет, ты этого не говори. «Быль молодцу не
укор», а немки ведь, братец, сентиментальны и на всех сту¬
пенях развития сохраняют чувствительность. Они любят
о чем-нибудь повздыхать и взахаться! Ah, Gott! Ah, Herr
Jesu! Ah, Himmel! Вот до этого-то и надо возогреть Вени¬
грету! Тогда дело и пойдет, а без этого им неповадно.
Написал дядя в Ревель баронессе Венигрете, и враз
дней через десять оттуда письмо, и самое задушевное и
удачное, и как раз начинается со слов: «Ah, mein Gott!..»
Пишет: «Как я была потрясена и взволнована, читая письмо
ваше, уважаемый друг. Бедный вы, бедный молодой чело¬
век, и еще сто раз более достойны сожаления его несчаст¬
ные родители! Как я о них сожалею. Schreckliche Geschich¬
te! Я думала, что такие истории только сочиняют. Бедный
ваш племянник! Я прочитала ваше письмо сама, а потом
местами прочитала его моей дочери Лине и племяннице
Авроре, которую мать прислала ко мне из Курляндии для
того, чтобы я прошла с нею высший курс английского
языка и вообще закончила образование, полученное ею в
пансионе. Понятно, что я передала девочкам только то, что
может быть доступно их юным понятиям об ужасных ха¬
рактерах тех русских женщин, которые утратили жар в
сердце и любовь к Всевышнему. Бедные дети были глубоко
тронуты страданиями вашего молодого Вертера и отнеслись
ко всему этому каждая сообразно своим наклонностям и
характерам. Дочь моя Лина, которой теперь семнадцать
лет, тихо плакала и сказала: «Ah, mein Gott! Я бы не по¬
жалела себя, чтобы спасти жизнь и счастие этому несчаст¬
ному молодому человеку»; а маленькая Аврора, которой
1 Ах, боже! Ах, Господи Иисусе! Ах, небо! (нем.)
2 Ах, боже мой! (нем.)
3 Страшная история! (нем.)
369
еще нет и шестнадцати лет, но которая хороша, как ангел
на Каульбаховской фреске, вся исполнилась гневом и, на¬
супив свои прямые брови, заметила: «А я бы гораздо боль¬
ше хотела наказать таких женщин своим примером». У ва¬
шего претерпевшего юноши здесь теперь есть друзья — не
одна я, старуха, а еще два молодые существа, которые его
очень жалеют,— и когда он будет с нами, они своим чистым
участием помогут ему если не забыть, то с достоинством
терпеть муки от ран, нанесенных грубыми и бесчеловечны¬
ми руками его сердцу».
Это так именно было написано. Я привожу вам это
письмо хотя и на память, но совершенно дословно, как
будто я его сейчас читаю. Оно было получено мною в та¬
кой момент моей жизни, когда я был в пух и прах разбит
и растрепан, и эти теплые, умные и полные участия стро¬
ки баронессы Венигреты были для меня как послание с не¬
ба. Я уже не добивался того, есть ли какая-нибудь воз¬
можность устранить меня от Петербурга и убрать в спокой¬
ный Ревель; но меня теперь оживило и согрело одно соз¬
нание, что есть где-то такая милая и добрая образованная
пожилая женщина и при ней такие прекрасные девушки.
С направленскими дамами, с которыми я обращался, в мо¬
ей душе угасло чувство ютливости,— меня уже даже не тя¬
нуло к женщине, а теперь вдруг во мне опять разлилось
чувство благодарности и чувство приязни, которые мани¬
ли меня к какой-то сладостной покорности всем этим су¬
ществам, молодым особенно. А между тем в письме баро¬
нессы было полное удовлетворение и на главный, на самый
существенный вопрос для моего спасения от скандализо¬
вавших меня в Петербурге нападок. Она извещала, что
просила за меня своего брата, барона Андрея Васильеви¬
ча Z., начальствующего над известною частью морского
ведомства в Ревеле, и что я непременно получу здесь ме¬
сто. А вслед за тем последовал надлежащий служебный
запрос и состоялся мой перевод.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Я, разумеется, был так рад, что себя не помнил от
радости и сейчас же навалял баронессе Венигрете самое не¬
лепое благодарственное письмо, полное разной чувстви¬
тельной чепухи, которой вскоре же после отправления
письма мне самому стало стыдно. Но в Ревеле это письмо
понравилось. Баронесса ответила мне в нежном, почти ма¬
370
теринском тоне, и в ее конверте оказалась иллюминован¬
ная карточка, на которой, среди гирлянды цветов, два бе¬
лые голубка или, быть может, две голубки держали в ро¬
зовых клювах голубую ленту с подписью: «Willkommen».
Детское это было что-то такое, точно или меня привечали,
как дитя, или это было от детей: «Милому Ване от Лины
и Авроры». Надписано это не было, но так мне чувство¬
валось. Я был уверен, что этот листочек всунули в конвер¬
тик или ручки мечтательной Лины, или маленькая лапка
энергической и гневной Авроры, которая хочет всем при¬
мер задать. И я унес этот листок в свою комнату, поцело¬
вал его и положил в бумажник, который всегда носил
у своего сердца. Во мне не только шевелилась, но уже жи¬
ла самая поэтическая и дружественная расположенность
к обеим девушкам. Я ожил и даже начал мечтать, хотя
очень хорошо знал, что мне мечтать не о чем, что для ме¬
ня все кончено, потому что я погубил свою жизнь и мне
остается только заботиться о том, чтобы избегать дрянных
скандалов и как-нибудь легче влачить свое существование.
Словом, я сюда рвался и летел и, не зная лично ни ба¬
ронессу, ни девиц, уже любил их от всего сердца и был
в уверенности, что могу броситься в их объятия, обнимать
их колени и целовать их руки. А пока я только обнимал
и целовал дядю, который устроил мне это совершенное
благополучие.
Но родители мои, к которым я вернулся, чтобы про¬
ститься, отнеслись к этому холоднее и с предосторожно¬
стями, которые мне казались даже обидными. Они меня
всё предостерегали. Отец говорил:
— Это хорошо,— я ни слова не возражаю. Между нем¬
цами есть даже очень честные и хорошие люди, но все-та¬
ки они немцы.
— Да уж это,— говорю,— конечно, как водится.
— Нет, но мы обезьяны,— мы очень любим подра¬
жать. Вот и скверность.
— Но если хорошему?
— Хоть и хорошему. Вспомни «Любушин суд». Не¬
хорошо, коли искать правду в немцах. У нас правда по за¬
кону святу, которую принесли наши деды через три реки.
— Пышно,— говорю,— это как-то чрез меру.
— Да, это пышно, а у них, у немцев, хороша экономия
и опрятность. В старину тоже было довольно и справедли¬
вости: в Берлине раз суд в пользу простого мельника про¬
1 Добро пожаловать (нем.).
371
тив короля решил. Очень справедливо, но все-таки они
немцы и нашего брата русака любят переделывать. Вот ты
и смотри, чтобы никак над собою этого не допустить.
— Да с какой же,— говорю,— стати!
— Нет, это бывает. У них система или, пожалуй, даже
две системы и чертовская выдумка. Ты это помни и веру
отцов уважай. Живи, хлеб-соль води и даже, пожалуй,
дружи, во всяком случае будь благодарен, потому что «ла¬
сковое телятко две матки сосет» и неблагодарный чело¬
век — это не человек, а какая-то скверность, но похажи¬
вай почаще к священнику и эту суть-то свою,— нашу-то на¬
стоящую русскую суть не позволяй из себя немцам выку¬
ривать.
— Да уж за это,— говорю,— будьте покойны,— и при¬
вел ему шутя слова Тургенева, что «нашей русской сути из
нас ничем не выкуришь».
А отец поморщился:
— Твой Тургенев-то,— говорит,— сам, братец, запад¬
ник. Он уж и сознался, что с тех пор, как окунулся в не¬
мецкое море, так своей сути и лишился.
— Да и Некрасов тоже,— хотел было я продолжать,
но при этом имени отец меня перебил и погрозился.
— Этого,— говорит,— уж и совсем не трожь,— этот
чего еще ненадежнее. Сам и зуд зудит, сам и расчес расче¬
сывает, и взман манит, и казнить велит; сам просит: «Ви¬
новных не щади!» Нет, нам надо чистые руки... Вот как
Самарины, Хомяковы, братья Аксаковы — вот с кого нам
надо пример брать. Самарин-то — ведь он был в этом,
в их Колыванском краю, но они, небось, его не завертели.
Думали завертеть, да он им шиш показал. И ты будь та¬
ков же. Дружба дружбой и служба службой, а за пазухой
шиш. Помни это и чаще к духовенству похаживай и мне
пиши. Я тебе буду отвечать и укреплять тебя в направле¬
нии, а по воскресеньям непременно к священнику похажи¬
вай. Какой ни есть поп — он не тут, так там, не в церкви,
так за пирогом, а все патриотическое слово скажет. А про¬
ездом через Москву появись Аксакову. Скажи, что я тебе
говорил, и послушай, что он еще тебе скажет. Он мужик
вещий!
Матушка наказала только в Москве у Иверской по¬
кропиться.
— А за прочее,— сказала она,— я за тебя уж не бо¬
юсь — ты уже так себя погубил, что теперь тебя от жен¬
щин предостерегать нечего: самая хитрая немка тебя боль¬
ше спутать не может; но об опрятности их говорят много
372
лишнего: я их тоже знаю,— у нас ак) шерка была Катери¬
на Христофоровна; бывало, в котором тазу осенью варенье
варит, в том же сама целый год воротнички подсинивает.
Дядя повел меня в Москве к Аксакову.
— Нельзя,— говорит,— без этого. А когда станешь
с ним разговаривать, то помни, какого ты роду и племени,
и пускай что-нибудь от глаголов. Сипачевы, братец, из¬
давна были стояльцы, а теперь и ты уже созрел — и давай
понимать, что отправляешься для борьбы.
Я, признаться, совсем этого не думал, но промолчал
и был представлен Аксакову, который, узнав о моей «мис¬
сии», долго смотрел мне в глаза и сказал:
— Шествуйте и сразу утверждайтесь твердой пятой.
Мы должны быть хозяевами на Колыванском побережье.
Ревель — ведь это наша старая Колывань!
И дядя тоже вспомнил про «Колывань». Когда мы
«шествовали» от Аксакова домой, дядя меня поучал:
— Если встретишь добрый привет в колыванском се¬
мействе (так именовал он семью Венигреты), будь им бла¬
годарен, но не увлекайся до безрассудства, дабы не ощу¬
тить в себе измены русским обычаям. Лучше старайся сам
получить влияние на них.
Я чувствовал, как будто все это что-то фальшивое. Ка¬
кая Колывань? Какая моя там «миссия»? На кого я мог
влиять и кому стану показывать «шиш», когда я сам ка¬
кая-то чертова кукла и нуждаюсь в спасении бегством!
Было в этом во всем даже нечто детски-эгоистическое:
никакого внимания к душевному состоянию человека, а
только свой вкус и баста! Можно было думать, что и
этим, как и другим, до личного счастья человека нет ника¬
кого дела!
Все, к чему я сам стремился, заключалось именно толь¬
ко в том, чтобы свободно вздохнуть и оправиться. На это
были настроены все мои помыслы, в этом, на мой взгляд,
состояла вся моя «миссия» на Колыванском море. Но тем
более я спешил на эту Колывань, к своим колыванским
«друзьям», и действительно встретил друзей прелестных.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Баронесса Венигрета Васильевна жила в своем домике
в новой части города. Она была небогата. Муж, которого
она, по всем вероятностям, очень любила, умер очень рано
и ничего ей не оставил, кроме честного имени и дочки Ли¬
373
ны. Баронесса была красавица и отлично образована, что,
впрочем, не редкость между женщинами из остзейской
аристократии — даже и в захудалых родах. Благодаря это¬
му образованию, а также, конечно, хорошим связям, Ве¬
нигрета Васильевна попала в воспитательницы. Она окон¬
чила свое дело с честию и пять лет перед этим отпущена
с пенсиею, которой ей было довольно на то, чтобы жить
с дочерью в своем городке безбедно. Она имела полную
возможность остаться и в Петербурге, но свет ей приску¬
чил, и она предпочла возвратиться под свой отчий кров,
где у них еще была жива бабушка. Смешного в баронессе
не было ровно ничего: напротив, она всегда была препоч¬
тенная и всем внушала к себе уважение. Прозвать ее «Ве¬
нигретой» могло только наше русское пустосмешество.
Домик, где жила семья баронессы, был небольшой, но
прехорошенький, с флигельком в три комнаты, где жила
бабушка, которую и я застал еще в живых, и при доме
прелестнейший садик. Словом, настоящее жилище честной
немецкой образованной семьи.
Когда я сюда первый раз пришел, мне показалось, что
я вступил в рай и встретил ангелов. О баронессе нечего
и говорить: вы и теперь еще видите, какая это женщина,—
она всем внушает почтение. И она его стоит, и больше то¬
го стоит. Лина... вы тоже видите... Ангел. Кузина Авро¬
ра — эта вся блеск и аромат; даже старая бабушка, кото¬
рой тогда было восемьдесят лет, и та была очарование:
беленькая, чистенькая и воплощенная доброта. Приняли
они меня — я хотел бы сказать: как родные, но я никогда
не видал, чтобы у нас самые лучшие родные умели так
принять человека, так тихо и просто, а в то же время ла¬
сково и деликатно.
Я тут и привился. Меня пригласили приходить всякий
день, и я это буквально исполнял. Прекрасный, тихий и
всегда приятный образ жизни «колыванского семейства»
охватил меня со всею душою. Мы сошлись во всех вкусах.
Я любил домашнюю жизнь — и они тоже. Я любил лите¬
ратуру — они, кажется, еще более. Не было образованно¬
го языка, который им был бы недоступен. Я немножко му¬
зыкант, а они все артистки. Лина с матерью играли в че¬
тыре руки на фортепиано, я на флейте, а Аврора на скрип¬
ке. Да, эта миниатюрная фея играла на скрипке твердо и
сильно, как бравый скрипач в оркестре. Кроме того, обе
девушки занимались живописью на материи и на фарфоре,
и произведения их в обоих этих родах были так замеча¬
тельны, что их покупали за границу. Было кем и чем за¬
374
любоваться и не скучать домоседством, а даже забывать
свое горе. Мой здешний начальник, брат баронессы, барон
Андрей Васильич, тоже был их ежедневный гость и очень
одобрял установившуюся у нас дружбу. Он был гернгу¬
тер и чудак, но человек глубокой честности и благородст¬
ва. Терпеть не мог кутежей и разгула, и очень утешался
моим поведением.
— Что может быть этого лучше,— говорил он,— как
встретить утро молитвою к Богу, днем послужить царю, а
вечер провести в образованном и честном семейном до¬
ме. Вас, мой юный друг, сюда привел Божий перст, а я
всегда рад это видеть и позаботиться о таком благонрав¬
ном молодом человеке.
Я уж не знаю, было ли ему известно все, что я натво¬
рил до этого времени, но он был ко мне неимоверно мило¬
стив и действительно позаботился обо мне, как никто из
русских, а баронесса и вообще все женское поколение зна¬
ли все мои бедствия. И это их престранно занимало, осо¬
бенно баронессу, которая имела общие понятия о тогдаш¬
них наших русских «сеяниях и веяниях», но интересовалась
подробностями. Она, впрочем, и вообще любила говорить
о нравах, причем обнаруживала удивительную и привлека¬
тельную терпимость, свойственную только большому уму,
доброму сердцу и большой опытности. Так, например, по¬
говорив раз со мною наедине о тех и других «дикостях»,
она умолкла, потом сложила в корзинку свою работу и,
поднявшись с места, сказала с каким-то возвышенным
чувством:
— Да. Спаси Боже нас от них, но спаси и их от нас.
Они ужасны, а мы слишком мало делаем или ничего не де¬
лаем для того, чтобы они стали иными.
Я вскочил и поцеловал ее руку, а она поцеловала ме¬
ня в голову и добавила:
— Да будет прощен и пощажен и от века наказанный.
Я понял ее религиозное настроение и ответил:
— Аминь.
К беседам такого рода мы возвращались, бывало, не
раз. Часто, как усядемся у лампы, они с работою, а я
начну читать для них французскую или немецкую книжку,
так разговор незаметно опять и свернем на эти «ужасные
сердца и противные вкусы». И смотришь — опять я уже,
как оный венецианский мавр, рассказываю что-то, а они
слушают, бабушка тихонько посвистывает носом и спит,
баронесса слушает и изредка покачивает головою, а девуш¬
ки опустят руки с работой и смотрят в глаза мне: Лина
375
с снисходительным состраданием, а Аврора с затаенным
гневом.
Так мы достигли одного вечера ранней весною, когда
«наша бабушка» один раз, по обыкновению, уснула в сво¬
ем кресле и более не проснулась. Мы ее хоронили очень
для меня памятным образом. Может ли что-нибудь нра¬
виться в погребальном обряде? Одни только русские ре¬
портеры пишут про «красивые» гроба и «прекрасные» по¬
хороны; однако обычай, как хоронили бабушку, и мне по¬
нравился. Старушка лежала в белом гробе, и вокруг нее
не было ни пустоты, ни суеты, ни бормотанья: днем было
светло, а вечером на столе горели обыкновенные свечи,
в обыкновенных подсвечниках, а вокруг были расставлены
старинные желтые кресла, на которых сидели свои и по¬
сторонние и вели вполголоса тихую беседу о ней — при¬
поминали ее жизнь, ее хорошие, честные поступки, о кото¬
рых у всех оказались воспоминания. Она любила, была
несчастлива — муж ее, французский выходец, был ревни¬
вец, мот и игрок, он ее бросал и опять находил, когда ему
не за кого было, кроме нее, взяться, и вдруг оказался же¬
натым, раньше ее, на польке из Плоцка. Когда эта жена
явилась с тем, чтобы донести на него,— его ударил пара¬
лич, бабушка сейчас же отдала претендентке свое именьи¬
це в Курляндии и осталась при разбитом и была его ан¬
гелом, а потом удивительно воспитала сына Андрея и до¬
черей — Генриету и Августу, которая была матерью кузи¬
ны Авроры и жила за Митавой.
Этот рассказ так расположил слушателей к лежавшей
во гробе бабушке, что многие попеременно вставали и под¬
ходили, чтобы посмотреть ей в лицо. И как это было уже
вечером, когда все сидевшие здесь сторонние люди удаля¬
лись, то вскоре остались только мы вдвоем — я и Лина.
Но и нам пора было выйти к баронессе, и я встал и подо¬
шел ко гробу старушки с одной стороны, а Лина — с другой.
Оба мы долго смотрели в тихое лицо усопшей, потом оба
разом взглянули друг на друга и оба враз произнесли:
— Какой благородный характер!
С этим я протянул свою руку, чтобы коснуться руки
доброй старушки, и вздрогнул: рука моя возле самой руки
мертвой бабушки прикоснулась и сжала руку Лины, а
в это же самое мгновение тихий голос из глубины комна¬
ты произнес:
— Тот же самый характер есть у живой Лины.
Мы оглянулись и увидали Аврору, которая сидела за
трельяжем, где мы ее ранее не заметили.
376
Это не был повод сконфузиться, но и я, и Лина — оба
сконфузились.
Лина отошла и тихо сказала:
— Друг мой, Аврора, к несчастью — это не так.
А Аврора ей отвечала:
— Нет, друг мой, Лина, для меня — это так.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
После этого происшествия у гроба я не спал целую
ночь, и с этого случая меня не оставляло чувство необъяс¬
нимой и страшной тревоги. Бабушка была схоронена, а я,
по приглашению баронессы и по совету барона Андрея
Васильевича, перешел жить во флигель старушки. Барон
говорил:
— Это перст Божий! (Он везде видел перст Божий.)
Вы должны быть как сын и как брат у ваших достойных
друзей.
— О, я очень рад,— отвечал я.
— Да, да; я верю, что вы их любите.
— Конечно, барон: они показали мне так много добра.
— Прекрасно, прекрасно! Вы благородный молодой
человек,— сказал мне барон и, пожав мою руку, тихо за¬
плакал от умиления.
Я поселился и стал жить еще ближе к ним, и совсем
слился душою с этими женщинами. Меня приглашали при¬
ехать повидаться в Москву и в Калужскую губернию,—
я не ехал и чувствовал, что это не надо. Станут расспра¬
шивать, а я не хотел, чтобы меня расспрашивали и как-ни¬
будь называли — или шутливо, или обидно-снисходитель¬
но. Я даже мучился, когда в получаемых письмах отца бы¬
ли напоминания: смотреть — не онемечиться с немками.
«Держи ухо востро. Дружи, а камень за пазухой носи,—
чтобы шиш взяли». Все это меня мучило и казалось мне
напрасно, неделикатно и нечестно. Как я мог говорить или
слушать о них что-нибудь, кроме похвал и восторгов?
Я никогда и во всю мою жизнь не жил так мирно и хо¬
рошо, как теперь. Всегдашний мир, всегдашняя целомуд¬
ренная простота, доведенная до пределов в нашем общест¬
ве невероятных. Моя квартира — это был рай, и я знал,
я не мог не знать, что эти букеты цветов на столе пере¬
меняет не толстая эстонка-служанка, с которою я мог гово¬
рить только одно слово «еймуста», то есть «не понимаю».
Мое белье — и то было осмотрено, и это меня сначала му¬
377
чило. Я не мог спросить и не мог не догадываться, что за
этим смотрят такие образованные женщины, которые
в другой среде гнушались бы подобными занятиями — на¬
шли бы их с своим положением несовместными, даже, пожа¬
луй, шокирующими и унизительными. Английская литера¬
тура, поэзия, классическая музыка, живопись на фарфо¬
ре — и мои полотенца! Но у них все это мирилось вместе.
Лето проходило. Аврора ездила к матери в Курлян¬
дию и возвратилась. Мы ее нетерпеливо ждали и разучили
ко встрече ее новый вальс Шопена. Аврора приехала не¬
сколькими днями раньше, чем обещала, но нимало не по¬
правилась, а даже как будто похудела и имела вид «гроз¬
ный». Мы так над нею шутили, и она шутила и улыба¬
лась, но потом через минуту ее очаровательное детское
лицо опять становилось «грозно». Она стала как будто
уединяться, и осенью, когда уже с деревьев сыпались листья,
не позволяла снять качель и своего гамака, в котором она
всегда любила лежать и качаться, как индианка. На участ¬
ливые вопросы Лины, отчего она стала держать себя не¬
сколько странно, Аврора долго не отвечала, а потом один
раз сказала:
— Не спрашивай меня: у меня есть предчувствия.
— Какие?
— Ах, вот ты как любопытна! Я боюсь, что дождь по¬
вредил шнурки моего гамака, и он оборвется.
И она с этим так сильно повернулась в гамаке, что вы¬
пала из него на землю и до слез больно подвихнула себе
ногу.
Это произвело в доме тревогу, и мы целые сутки кла¬
ли лед к больной ноге Авроры; а через несколько дней
она стала ходить с палочкой, причем в ее фигуре и поход¬
ке обнаружилось чрезвычайно большое сходство с покой¬
ной бабушкой. Оно было так велико, что сначала всех нас
удивило и заставило улыбаться, а потом показалось и по¬
разительным.
— Вот видишь,— говорила Авроре Лина,— не я, а ты
будешь похожа на бабушку.
— Да, я похожа, но только наружно, а ты внутренно:
у тебя прекрасное сердце, а у меня — злое. Ты вестник
жизни и свободы,— я вестник смерти и неволи. Я деспот.
Лина и я рассмеялись, Аврора же продолжала быть
веселою и в самый этот день действительно сделалась «ве¬
стником смерти».
Я никогда не забуду этого важнейшего дня в моей
жизни. Он был день свежий и ясный. Солнце ярко обли¬
378
вало своим сверканьем деревья, на полуобнаженных вет¬
вях которых слабо качались пожелтевшие и озолотившиеся
листья, в гроздах красной рябины тяжело шевелились ожи¬
ревшие дрозды. Баронессы и Лины не было дома, служан¬
ка работала на кухне, Аврора качалась с книгою в руках
в своем гамаке, а я составлял служебный отчет в своей ком¬
нате. Ради прекрасного дня окна в сад у меня были открыты.
Сильно занятый вычислениями, я слышал среди рабо¬
ты, что как будто стукнул молоток у запертой входной две¬
ри, а потом как будто мимо окон промелькнула стройная
фигурка Авроры. Я подумал, что, вероятно, некому отпе¬
реть двери, и Аврора сама пошла это сделать. Конечно,
было бы вежливее, если бы я ее предупредил, но мне бы¬
ло некогда, я сводил сложное вычисление и сейчас же
опять в него погрузился.
Однако мне в этот раз не суждено было кончить мою
работу, потому что в окно ко мне влетело и прямо упало
на стол письмо в траурном конверте, с очень резкими и,
как мне показалось, чрезмерно широкими черными кайма¬
ми по краям и крест-накрест.
Я вздрогнул и взглянул в окно,— от него тихо и мол¬
ча отходила Аврора.
«Вестник смерти!» — промелькнули у меня в памяти
ее слова.
Женщины, которая так предательски меня обманула и
опошлила мою жизнь, не было больше на свете. Моя же¬
на умерла так же гадко и скандалезно, как жила. О ее
смерти меня извещала ее сестра, шедшая с нею некогда
тем же беспорядочным путем, но более ловко воспользо¬
вавшаяся случаем, чтобы свернуть на торную дорогу при¬
личий. Я с нею едва был знаком, но знал, что она при¬
творщица и лицемерка. Как все неискренние люди, же¬
лающие казаться не тем, что они есть на самом деле, она
пересаливала и была несносна в своем новом направлении
точно так же, как была противна в прежнем. От этого,
может быть, и траур на ее конверте был слишком жирен
для обозначения горя. Известительное письмо носило те
же следы неумеренности: она писала, что ее сестра «дове¬
ла себя до крайних положений и сама прекратила свою
жизнь бестрепетною рукою». Затем шло описание самого
этого происшествия и потом выражение участия ко мне:
«Вы свободны, и да благословит вас Бог большим сча¬
стием, чем вы имели».
Я, как гоголевский городничий, мог тоже сказать:
«Боже благослови, а я не виноват». Но, как бы там ни
379
было,— я свободен, во второй раз свободен, и теперь я
уже умею ценить свободу и ее не процыганю.
И первая мысль, которая явилась в моей голове вслед
за сознанием моей свободы, была мысль о том, как я дол¬
жен повести себя с этим известием перед «колыванским
семейством».
Скрывать это от них я бы не хотел, но мне казалось
неловко и сообщать об этом баронессе. Печаль в моем
лице была неуместна, равнодушие — глупо, а радость —
противна. Другое дело девицы: они молоды, и я с ними
короче.
Аврора проходила с книгою со своего гамака. Я ее по¬
звал. Она остановилась.
— Не поставьте себе в труд пробежать это письмо.
Она посмотрела на листок и не приняла его, а спросила:
— В чем дело?
Я неловко и застенчиво сообщил ей новость. Аврора
выслушала ее так спокойно, как будто она это знала, и
отошла, не сказав мне ни одного слова. Непосредственно
затем она вошла в дом, и через минуту оттуда, из залы,
послышались трудные упражнения на скрипке. За ними
служанке не слыхать было, как снова ударил дверной мо¬
лоток. Я пошел и открыл двери.
Это возвратились баронесса и Лина. У Лины развяза¬
лась и упала одна из ее покупок. Я ее поднял и стал завя¬
зывать. Баронесса тем временем вошла в дом, а мы ос¬
тались вдвоем на дворе.
Стоя на одном колене и на другом обвязывая развя¬
завшийся узел, я почти безотчетно достал из кармана по¬
лученное письмо и сказал: «Пожалуйста, прочтите», а сам
опять опустил глаза к узлу и когда поднял их, то увидал,
что за минуту перед этим свежее и спокойное лицо Лины
было покрыто слезами.
Она поспешно сунула мне назад письмо, воскликнула:
«Gott! О Gott!» и скрылась в доме. Аврора теперь стояла
у окна, и я видел ее белую маленькую руку и тонкие паль¬
цы, красиво державшие смычок, выводивший фугу.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Я никогда не желал никому зла. Да; никому, и потому
не желал и смерти моей мучительнице и не ожидал, что
это случится. Еще более я считал бы за отвратительную
гадость мечтать о свободе, пока эта женщина была жива;
1 Боже! О боже! (нем.)
но «ведь воля дорога и птичке», а тем более молодому
человеку, каким я был тогда, семь лет тому назад. Я чув¬
ствовал, что у меня опять есть перья в крыльях, есть шанс
на долю счастья в жизни, но мне было странно, что вме¬
сте с этим оживляющим меня сознанием я чувствовал
мертвящую немощь перед тем, что мне надо объявить свою
новость баронессе.
Как? в каких выражениях я ей скажу это?
Я ее так уважал и так дорожил ее мнением, что не мог
придумать, каким образом это выразить так, чтобы не
вышло ни непристойной радости, ни неуместного и при¬
творного сокрушения. Но я над этим напрасно ломал го¬
лову: мне вовсе и не пришлось говорить об этом баронес¬
се; но у меня также и не оставалось места ни для подозре¬
ния, что она этого не знает, ни для недоумения, как она
к этому относится.
За столом у нас был такой обычай, что, прежде чем
сесть на свои места, все становились на минуту за своими
стульями и брались руками за их спинки. Баронесса на
короткое мгновение поникала головою. Все мы знали, что
она в это мгновение произносила мысленно короткую мо¬
литву. Лина тоже следовала примеру матери. Я и Аврора
не наклонялись. Это никого не раздражало и не обижало.
Здесь понимали, что верить и не верить — это не во вла¬
сти человека, и о вере не спорили, а прямую искренность
умели уважать выше притворства. Потом Лина снимала
крышку с суповой вазы, и мы садились, а баронесса начи¬
нала нам раздавать налитые ее рукою тарелки.
Нынче это произошло не так. После того как баронес¬
са нагнула в молчании свою голову, она ее подняла и, не
отодвигая, по обыкновению, своего стула, взглянула вверх
и произнесла вслух:
— Прости всех и убели их грехи твоею кровию.
Лина сказала «Аминь», и они все — мать, дочь и Ав¬
рора — взглянули на меня и сели.
Обед прошел своим чередом. Я все понял. Порою мне
думалось: зачем они, протестантки, молились за умер¬
шую? Потом мне подумалось, что это они молились и за
меня и за других, «за всех». Мне припомнились первые
дни и первые разговоры в этом дорогом мне колыванском
семействе, и тогдашний вздох баронессы, и ее слова:
«Спаси нас от них, но и их спаси от нас, потому что и мы
слишком мало делаем или ничего не делаем».
Какая гармония чувств и ощущений! Какая во всем
этом деликатность, и грация, и теплота, и ширь, и свобо¬
331
да! Кто мог бы устоять против тихого, ко неодолимого
обаяния этого круга, исполненного благодати! Конечно,
не я. Если бы я в ту пору, несмотря на мою молодость,
в двадцать пять лет не был уже нравственным калекою,
с изломанной и исковерканной прошедшею жизнью,— я
бы, конечно, занесся мечтами и, может быть, возмнил бы
себя вправе претендовать на более тесное сближение
с этим семейством. Но Провидение дало мне каплю рассуд¬
ка и каплю честности; я знал всю разделяющую нас безд¬
ну, я понимал их недосягаемую для меня чистоту и свою
омраченность. Что бы там ни заговорил за меня какой-ни¬
будь софизм, я все-таки был виноват, я путался в недо¬
стойных историях, водился с безнравственными людьми,
и волей-неволей ко мне все-таки прилипла грязь моего
прошедшего. Я знал, что я ни о чем не смею думать и что
мне нет, да и не нужно поправки; но тем не менее я вспом¬
нил теперь, что я здесь не крепок, что я тут чужой, что
эти прекрасные, достойные девушки непременно найдут се¬
бе достойных мужей, и наш теперешний милый кружок раз¬
летится, и я останусь один... один...
«Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполез¬
ная жизнь!»
Окончив обед, я подошел к баронессе, чтобы поблаго¬
дарить ее, и, целуя ее руку, тихо сказал ей:
— Не прогоняйте меня никогда от себя!
Она мне отвечала рукопожатием.
Что же дальше скажу? Дальше случилось именно то,
о чем я не смел и думать, как о высшем и никогда для
меня недосягаемом счастье. Следующей весной я был му¬
жем Лины — счастливейшим и недостойным мужем самой
святой и самой высокой женщины, какую Бог послал на
землю, чтобы осчастливить лучшего человека. И это Бо¬
жие благословение выпало на мою горькую долю... и я...
я... его теперь утратил, как неразумный зверь или как ка¬
торжник. Я не могу жить... я должен себя убить... Я не
могу... Но я вам доскажу все, чтобы вы знали, что я наде¬
лал и что во мне происходит.
Возвращаюсь к порядку.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Все это произошло радением кузины Авроры, в кото¬
рой, бог ее знает, какое биение пульса и какое кровообра¬
щение. Глядя на нее, иногда можно зафантазироваться
над теориями метапсихоза и подумать, что в ней живет
382
душа какой-то тевтобургской векши. Прыг туда, прыг сю¬
да! Ей все нипочем. У нас так долго живут в общении
с немцами и так мало знают характеры немецких жен¬
щин. То есть, я говорю, знают только одну заурядность.
У этой же все горит: одна рука строит, другая — ломает,
а первая уже опять возводит что-то заново. Ходит по за¬
лу с своею скрипкою и всё фуги, и фуги... Всем надоела!
Случилась надобность ее о чем-то спросить. Вхожу и спра¬
шиваю. Видит — и ни слова не отвечает: идет прямо, пря¬
мо на меня, как лунатик, и вырабатывает свою фугу. При¬
шлось то же самое во второй раз — и опять результат тот
же самый. Зато в третий раз нечто совсем особенное: шла,
шла, играла, вела фугу, и вдруг у самого моего уха стру¬
на хлоп — и завизжала по грифу.
— Лопнуло терпение! — говорю.
— Да! — отвечает.— Когда же вы, наконец, собере¬
тесь?
— Что?
— Сделать Лине предложение!
— Я?! делать предложение!.. Лине!!!
— Да, я думаю,— вы, а не я, и никто другой за вас.
— Да вы вспомните, что вы это говорите!
— О, я все помню и все знаю.
— Разве я смею думать... разве я стою внимания
Лины!
— Говоря по совести, как надо между друзьями, ко¬
нечно, нет, но... произошла роковая неосторожность: мы,
сентиментальные немки, мы иногда бываем излишне чув¬
ствительны к человеческому несчастию... Если вы честный
человек, в чем я не сомневаюсь, вы должны уехать из это¬
го города или... я ведь вам не позволю, чтобы Лина стра¬
дала. Она вас любит, и поэтому вы ее стоите. А я вас
спрашиваю: когда вы хотите уехать?
— Никогда!
— В таком случае... Лина!
— Бога ради! Дайте время!.. Дайте подумать!
— Лина! Лина! — позвала она еще громче.
— А-а! — отозвался из соседней гостиной голос Лины.
— Иди скорей, или я разобью мою скрипку.
Вошла, как всегда, милая, красивая и спокойная
Лина.
— Этот господин просит твоей руки.
И, повернувшись на каблучке, Аврора добавила:
— Извини за неожиданность, но из долгого раздумья
тоже ничего лучшего бы не вышло. Я иду к Tante!
383
— Лина! — прошептал я, оставшись вдвоем.
Она на меня взглянула и остановилась.
— Разве я смею... разве могу...
Она тихо ответила:
— Да.
Через неделю Аврора уехала к матери в Курляндию.
Мы всё перед баронессой молчали. Наконец Лина сама
взялась сказать, что между нами было объяснение. Я не¬
пременно ждал, что мне откажут, и вслед за тем придется
убираться, как говорят рижские раскольники, «к себе в
Москву, под толстые звоны». Вышло совсем не то. Мы с
баронессой гуляли вдвоем, и она мне сказала:
— Я не против избрания Лины, хотя я не совсем ему
рада. Вы не знаете, почему?
— Знаю. Мое прошлое...
— Совсем нет. Это слишком глупо и жестоко тянуть за
человеком весь век его ошибки, но... вы русский!..
— Вы так терпимы, баронесса!.. Так долго жили
в России.
— Да, это я.
— А Лина тем более.
— Нет — вы??
— Я — все, что вы хотите!
— Просите благословения у ваших родителей.
Я попросил.
Тут и загудели из Москвы «толстые звоны».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Матушка сокрушалась. Она находила, что я уже два
раза бог весь что с собою наделал, а теперь еще немка.
Она не будет почтительна. Но отец и дядя радовались —
только с какой стороны! Они находили, что наши стали все
очень верченые,— такие затейницы, что никакого покоя с
ними нет, и притом очень требовательны и так дорого сто¬
ят, что мужу остается для их угождения либо красть, либо
взятки брать.
«Немки лучше»,— возвещал отцу дядя из Москвы в
Калугу и привел примеры «от иных родов», таких же
«столповых», как и наш род Сипачевых. Успокоили отец с
дядею и матушку, что «немки хозяйственны и для заводу
добры». Так все это мне и было изъяснено в пространных
отписках с изъяснением, кто что думал и что сказал, и чем
один другого пересилил. Матушка, кажется, больше всего
384
была тем утешена, что они «для заводу добры», но отец
брал примеры и от «больших родов, где много ведомо с
немками браков, и все хорошие жены, и между поэтами и
писателями тоже многие, которые судьбу свою с немецкою
женщиною связали, получили весь нужный для правиль¬
ной деятельности покой души и на избрание свое не жало¬
вались». Низводилось это до самых столпов славянофиль¬
ства. Стало быть, мне и Бог простит. Отец писал: «Это
твое дело. Тебе жить с женою, а не нам, ты и выбирай.
Дай только Бог счастия, и не изменяй вере отцов твоих, а
нам желательно, наконец, иметь внука Никитку. Помни,
что имя Никиты в нашем сипачевском роду никогда пре¬
кращаться не должно, а если первая случится дочь, то она
должна быть, в честь бабушки, Марфа». Я, разумеется, об¬
радовался и говорю баронессе, что отец и мать согласны.
Она захотела видеть письмо, и я подал это письмо баро¬
нессе, а она Лине. Лина покраснела, а уважаемая баронес¬
са не сделала никакого замечания. Я их обнял и расце¬
ловал: «Друзья мои! — говорю,— истинно, нет лучше, как
немецкие женщины». И я действительно тогда так думал —
и женился. Жена моим старикам письма написала по-рус¬
ски. Живем прекрасно: Москва и Калуга спокойны и ра¬
ды — только всё осведомляются: «в походе ль Никитка?»
Наконец напророчили! Я пишу: «Лина, кажется, чувствует
себя не одною».
Сейчас же и дядя и отец сразу с обеих колоколен за¬
звонили. «Благословение непраздной и имущей во чреве;
да разверзет ее ложесна отрок» и проч. и проч. У дяди
всегда все выходило так хорошо и выспренно, как будто он
Аксакову в газету передовицу пишет, а отец не был так
литературен и на живчака прихватывал: «Только смо¬
три — доставь мне Никитку!.. Или разве в самом крайнем
случае прощается на один раз Марфа». Более же одного
раза не прощалось.
Матушка мало умела писать; лучше всего она внуша¬
ла: «Береги жену — время тяготно», а отец с дядею с этих
пор пошли жарить про Никиту. Дядя даже прислал сере¬
бряный ковшик, из чего Никиту поить. А отец все будто
сны видит, как к нему в сад вскочил от немецкой коровки
русский теленочек, а он его будто поманил: тпрюси-тпрю¬
си,— а теленочек ему детским языком отвечает: «я не тпру¬
си-тпруси, а я Никитушка, свет Иванович по изотчеству, Си¬
пачев по прозванию».
Сделался этот Никита Иванович Сипачев моим нравст¬
венным или долговым обязательством, которого мне никак
13. Н. С. Лесков, т. 5.
385
избыть нельзя. Итак, жена моя что-то заводское, и я за¬
водский, и наша любовь и счастливый брак наш — все это
рассматривается, оценивается только с племенной, завод¬
ской точки зрения.
— «Никитка! Никитка!» — «Подай Никитку!» — «В
походе ли Никитка!» Да что же это, наконец, за родствен¬
ная глупость и даже унижающее бесстыдство! Ну, а если
нет и не будет «в походе» не только Никиты, а даже и
Марфы, то что же тогда? Неужто об этом плакать, что ли,
или считать это за несчастие и укорять Лину, как это бы¬
вало у евреев ветхого завета и у русской знати московско¬
го периода? Но, к счастию, мне было чего ожидать, и раз¬
дражение на своих было напрасно. Только очень они с
этим льнут. Отец пишет, что мать теперь все молится
Спорушнице «об имущей во чреве». Писали, что в поми¬
нанье Лина у них за здравие записана Катериной, потому
что Каролину священник находил неудобным поминать, так
как это имя неправославное. Лина — «еретица». Давали
мне совет «наклонять жену к вере моих отцов», но надея¬
лись, что «когда будет Никитушка, то она, вероятно, и са¬
ма поймет, что это неизбежно. Когда же он родится и ста¬
нем его крестить, то чтобы поп крестил его непременно
настоящим троекратным погружением в купели, а не облил
с блюдечка, как будто канарейку». Мать же извещала, что
она шьет Никите распашоночки и делает пеленки из ста¬
ренького, чтобы ему не резало рубцами тельце под шей¬
кой и под мышечками.
Словом, покой мой замутился с этим Никитою. И чем
дальше, тем все неотступнее.
Пришли и распашонки, и пеленочки, а от дяди из Мо¬
сквы старинный серебряный крест с четырьмя жемчужина¬
ми, а от отца новые наставления. Пишет: «Когда же при¬
дет уреченное время — поставь к купели вместо меня сто¬
ять дьячка или пономаря. Они, каковы бы ни были,—
все-таки верные русские люди, ибо ничем иным и быть не
способны».
Все ведь это надо как-нибудь выполнить, а здесь такие
приемы не приняты. Непременно придется что-нибудь
лгать старикам, а я их так люблю и никогда их не обма¬
нывал.
Ожидание Никиты стало меня нервировать и мучить.
Зачем они чересчур все это раздувают и о чем хлопочут?
Все делалось бы само собою несравненно спокойнее и луч¬
ше, если бы они не гнали такой суеты и горячки. Кто ро¬
дится, того бы и окрестили, и назвали бы Никитою или
386
Марфой, а то я уже стал тревожиться: как, в самом деле,
это будет? Или, может быть, и совсем ничего не будет —
так пройдет?
Высказался даже в этом духе теще. Баронесса, вязав¬
шая в это время одеяльце, покачала головою и, тихо улыб¬
нувшись, отвечала:
— Нет, это так не проходит. А они напрасно так мно¬
го беспокоятся, и ты стал беспокоен. Тебе бы пока лучше
проехаться.
— Куда же,— говорю,— и как мне теперь отлучаться?
— Отчего же? Это даже хорошо. Еще числа Лины да¬
леко, а я попрошу барона — он тебе даст командировку.
Проезжайся. Числа далеко.
И я получил командировку, и в самом деле рад был
проехаться. Ведь «числа далеко», а Лину оставить с нежно
любящею ее матерью нимало не страшно. Да и мой беспо¬
койный вид и нервозность, по словам баронессы, даже не¬
хорошо влияли на настроение духа жены, а ей в ее поло¬
жении нужно спокойствие.
А заботы родных всё не унимаются: перед самым мо¬
им отъездом дядя пишет, что он намерен завещать свой
дом, в переулке близ Арбата, Никите, а отец пишет, что
«все наше принадлежит тебе и сыну твоему, первенцу Ни¬
ките Ивановичу Сипачеву».
Я уехал в командировку на особом катере.
Прекрасно! Море, свободная стихия, маяки, запасы,
поверки знаков — все это меня развлекло и заняло; но —
черт возьми,— чуть только я удалился от своего берега, в
моей душе вдруг зародилось какое-то беспокойство, что я
обманут, что со мной сыграли какую-то штуку, что я вы¬
гнан из дома нарочно, как какой-то дурачок, и вообще со
мною играют какую-то комедию.
Кто?.. Кто мог со мною играть комедию? Неужто моя
милая, преданная жена, моя кроткая, верная Лина? Или
неужто моя теща, баронесса, просвещенная, истинно чест¬
ная и всеми уважаемая женщина, сочувствующая всему
высокому и презирающая все недостойное истинного бла¬
городства?.. Невозможно! Не верю наветам коварным.
А какой-то черт шепчет на ухо: «Э, милый друг, все на
свете возможно. Стерн, английский великий юморист,
больше тебя понимал, и он сказал: «Tout est possible dans la
nature» — все возможно в природе. И русская пословица
говорит: «Из одного человека идет и горячий дух, и холод¬
ный». Все твои домашние дамы в своем роде прелестные
существа и достойны твоего почтения, и другие их тоже не
387
напрасно уважают, а в чем-нибудь таком, в чем они нико¬
му уступить не хотят,— и они не уступят, и они по-своему
обработают.
Засыпаю под плащом на палубе и вижу фигуры баро¬
нессы и Лины на берегу, как они меня провожали и маха¬
ли мне своими платками. Лина плакала. Она, наверно,
и теперь иногда плачет, а я все-таки представляю себе,
будто я нахожусь в положении сказочного царя Салтана,
а моя теща Венигрета Васильевна — «сватья баба Бабари¬
ха», и что она непременно сделает мне страшное зло: Ни¬
китку моего изведет, как Бабариха извела Гвидона, а меня
чем-нибудь на всю жизнь одурачит.
Идем под свежим ветерком, катерок кренится и бортом
захватывает, а я ни на что внимания не обращаю, и в гру¬
ди у меня слезы. В душе самые теплые чувства, а на уме
какая-то гадость, будто отнимают у меня что-то самое дра¬
гоценное, самое родное. И чуть я позабудусь, сейчас в уме
толкутся стихи: «А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой
Бабарихой». «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь,
не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку». Я зары¬
дал во сне. «Никита мой милый! Никитушка! Что с тобою
делают!»
Боцман меня разбудил.
— Вы,— говорит,— ваше благородие, ужасно колобро¬
дите и руками брылявитесь! Перекреститесь.
Я перекрестился и успокоился.
В самом деле, что за глупость: ведь я не царь Салтан,
и Никитушка не Гвидон Салтанович; не посадят же его с
матерью в бочку и не бросят в море!
Так и странствую в таком душевном расположении от
одного берегового пункта к другому, водворяю порядки и
снабжаю людей продовольствием. И вдруг на одном из
дальних островков получаю депешу: совершенно благопо¬
лучно родился сын,— «sehr kraftiger КпаЬе» Все тревоги
минули: таким именно kraf tiger Knabe и должен был по¬
явиться Никита! «Sehr kraf tiger». Молодец! Знай наших
комаринских!
Сами можете себе вообразить, как я после известия о
рождении сына нетерпеливо кончал свои визиты к осталь¬
ным маякам и с каким чувством через две недели выскочил
с катера на родной берег этого города, где меня ждали же¬
на и ребенок.
На самой пристани матрос передает приказание моего
начальника явиться к нему прямо сию минуту.
1 Очень сильный мальчик (нем.).
388
Досадно, а делать нечего: еду.
Добрейший барон Андрей Васильевич прямо заключа¬
ет меня в свои объятия, смотрит на меня своими ласковы¬
ми синими глазами и, пожимая руки, говорит:
— Ну, поздравляю, молодой отец, поздравляю! Изви¬
ните, что я вас задержал и не пустил прямо домой, но это
необходимо. Лина еще слаба, ведь она немножко обсчита¬
лась числом, но зато Фриде — славный мальчик.
Я сначала не понял, что такое. Какой Фриде!
— Кто это,— говорю,— Фриде?
— А этот ваш славный мальчик! Мы его вчера окре¬
стили и всё думали: какое ему дать имя, чтобы оно по¬
нравилось...
Я перебил:
— И как же,— говорю,— вы его назвали?
— Готфрид, мой милый, Готфрид! Это всем нам понра¬
вилось, и пастор назвал его Готфрид.
— Пастор! — закричал я.
— Да, конечно, пастор, наш добрый и ученый пастор.
Я нарочно позвал его. Я другого не хотел, потому что это
ведь он, который открыл, что надо перенесть двоеточие
после слова «Глас вопиет в пустыне: приготовьте путь Бо¬
гу». Старое чтение не годится.
— Позвольте,— говорю,— но ведь я его задушу мо¬
ими руками!
— Кого это?
— Этого пастора!
— За то, что он перенес двоеточие?
— Нет, за то, что он смел окрестить моего сына!
Барон выразил лицом полнейшее недоумение.
— Как зачем окрестил сына? Как душить нашего па¬
стора? Разве можно не крестить?
— Его должен был крестить русский священник!
— А!.. Я этого не знал, не знал. Я думал, вы так хо¬
тите! Но ведь лютеране очень хорошие христиане.
— Все это верно, но я сам русский, и мои родные рус¬
ские, и дети мои должны принадлежать к русской вере.
— Не знал, не знал!
— Зачем же мои семейные, жена, теща не подождали
моего возвращения?
— Не знаю — судьба, перст...
— Какая, ваше превосходительство, судьба! Судьба
вот была в чем, вот чего хотели все мои русские родные!
Рассказал ему все и прибавил:
— Вот какова должна была быть настоящая судьба
389
и имя, и вера этого ребенка, а теперь все это вывернули
вон. Я этого не могу снесть.
— В таком случае вы здесь прежде успокойтесь.
— Нечем мне успокоиться! Это останется навсегда,
что у меня первый сын — немец.
— Но ведь немцы также очень хорошие люди.
— Хорошие, да я-то этого не ожидал.
— А перст Божий показал.
Ну что еще с ним говорить! Бегу домой.
Отворила сама теща,— как всегда, в буклях, в чепце
и в кожаном поясе, во всем своем добром здоровье и
в полном наряде,— и говорит мне:
— Тссс! Потише... Фриде спит...
— Покажите мне его.
— Подожди, это сейчас нельзя.
— Нет, покажите, а то я сойду с ума! Я лопну с до¬
сады.
Показали мне мальчишку. Славный! Я его обнял и за¬
рыдал.
— Ах ты,— говорю,— Никитка, Никитка! За что
только тебя, беднягу, оборотили в Готфрида!
Выплакался досыта и ничего не стал говорить до тех
пор, пока жена оправилась.
Потом раз выбрал время и говорю:
— Что же это вы сделали, Лина? Как я напишу об
этом на Арбат и в Калужскую губернию! Как я его ког¬
да-нибудь повезу к деду и бабушке или в Москву к дяде,
русскому археологу и историку!
Она будто не понимает этого и ласкается: но я-то ведь
понимаю, какое мое положение с новорожденным немцем.
Встанут отец и мать: показывай, мол, нам колыванское
производство, а что такое я им могу сказать, что я пока¬
жу? Вот, мол, я вам оттуда своего производства немца
привез!.. Потрудитесь получить — называется Готфрид
Бульонович, в ласкательной форме Фриде, в уничижитель¬
ной — Фридька. Имя не трудное, а довольно потешное.
Меня засмеют и со двора с немцем сгонят. Или, еще вер¬
нее, мне не поверят, потому что этому и нельзя поверить,
чтоб я, калужанин, истинно русский человек, борец за
право русской народности в здешнем крае, сам себе пер¬
венца немца родил! Ад и смерть.
Прыгал я, прыгал — разные глупости выдумывал, хо¬
тел дело поднимать, донос писать, перекрещивать, да на
кого доносить станешь? На свою семью, на любимую же¬
ну, на добрую и всеми уважаемую тещу Венигрету, кото¬
390
рую я и люблю и уважаю!.. Черт знает, что за поло¬
жение!
Так ничего иного и не мог придумать, как признать
«совершившийся факт», а в нем участие «перста», и затем
начал врать моим старикам, что случилось несчастие:
Никитки, пишу, нет, а вышел фос-куш.
Ничего другого в этом положении не выдумал.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Живем наново и опять так же невозмутимо хорошо,
как жили. Мой немчик растет, и я его, разумеется, люб¬
лю. Мое ведь дитя! Мое рожденье! Лина — превосходная
мать, а баронесса Венигрета — превосходная бабушка.
Фридька молодец и красавец. Барон Андрей Васильевич
носит ему конфекты и со слезами слушает, когда Лина
ему рассказывает, как я люблю дитя. Оботрет шелковым
платочком свои слезливые голубые глазки, приложит ко
лбу мальчика свой белый палец и шепчет:
— Перст Божий! перст! Мы все сами по себе не зна¬
чим ничего.— И прочитает в немецком переводе из Га¬
физа:
Тщетно, художник, ты мнишь,
Что творений своих— ты создатель.
Меня повысили в должности и дали мне новый чин.
Это поправило наши достатки. Прошло три года. Детей
более не было. Лина прихварывала. Андрей Васильевич
дал мне командировку в Англию для приема портовых
заказов. Лине советовали полечиться в Дубельне у Норд¬
штрема, в его гидропатической лечебнице. Я их завез ту¬
да и устроил в Майоренгофе, на самом берегу моря. Сла¬
галось прекрасно: я пробуду месяца два за границей,
а они у Нордштрема. Чудесный старик-немец и терпеть
не мог остзейских немцев, все их ругал по-русски «про¬
хвостами». Больных заставлял ходить по берегу то боси¬
ком, то совсем нагишом. В аптечное лечение не верил ни¬
сколько и над всеми докторами смеялся. Исключение де¬
лал только для одного московского Захарьина.
— Этот,— говорил,— один чисто действует: он понял
дело и напал на свою роль.
А похвала эта, впрочем, в простом изъяснении своди¬
лась к тому, что он почитал знаменитого московского
врача «объюродевшим», но уверял, что «в Москве такие
391
люди необходимы» и что она потому и крепка, что дер¬
жится «credo quia absurdum».
Любопытный был человек! Жил холостяком, брак счи¬
тал недостойным и запоздалым учреждением, остающим¬
ся пока еще только потому, что люди не могут найти, чем
бы его заменить; ходил часто без шапки, с толстой дуби¬
ной в руке, ел мало, вина не пил и не курил и был очень
умен.
Моя теща пользовалась его расположением «как умная
немка». Жена моя должна была у него лечиться. После
она хотела съездить к Tante Августе в Поланген, где мо¬
ре гораздо солонее.
Я сказал:
— Прекрасно.
— И Фриде с собою возьмем, надо его показать таи¬
те и Авроре: она ведь его еще не видала.
— Пожалуйста, возьмите; его только и остается пока¬
зывать танте Августе да Авроре.
Лина укоризненно покачала головою.
— Какой ты,— говорит,— злой!
— Да, я злой, а вы с своей мамой очень добрые: вы
так устроили, что мне своим родным сына показывать
стыдно.
— Почему же стыдно?
— Немец!.. лютеранин!
— Ну так что же такое?
— Ничего больше.
— Будто не все равно? Все христиане.
— То-то и есть, верно, не все равно. И я так думаю:
не все ли равно, а вот по-вашему, видно, не все равно:
вы взяли да и переправили его из Никитки на Готфрида.
А жене уж нечего сказать, так она отвечает:
— Ты придираешься. Лишнюю комнату, которая у нас
наверху, мы отдадим дяде барону (то есть Андрею Ва¬
сильевичу).
— Чудесно.
— Ведь мы ему много обязаны.
— Конечно.
— Он очень любит Нордштрема.
— И Нордштрем его любит.
— Правда?
— Да.
— Он тебе говорил это?
1 «Верю, потому что абсурд» (лат.).
392
— Как же. Он мне говорил, что барон — гороховый
шут.
Лина обиделась.
— Я,— говорит,— думаю, что ты шутишь.
— Нет, не шучу; но, впрочем, Нордштрем хотел све¬
сти барона с каким-то пастором, который одну ночь гово¬
рит во сне по-еврейски, а другую — по-гречески.
Лина заметила мне, что я дерзок и неблагодарен.
В ней была какая-то нервность. Так мы расстались
и почти три месяца не видались. В разлуке в моем на¬
строении, разумеется, произошла перемена: огорчения по¬
теряли свою остроту, а хорошие, радостные минуты жизни
всплывали и манили к жене. Я ведь ее любил и теперь
люблю.
Андрей Васильевич встретил меня в Риге на самом
вокзале, повел завтракать в парк и в первую стать рас¬
сказал свою радость. Пастор, с которым познакомил его
Нордштрем и который «во сне говорил одну ночь по-ев¬
рейски, а другую — по-гречески», принес ему «обновление
смысла».
— Что же такое он открыл?
— А, друг мой,— это благословенная, это великая
вещь! Я теперь могу молиться так, как до этой поры ни¬
когда не молился. Сомненья больше нет!
— Это большая радость.
— Да, это радость. Впрочем, я всегда думал и подо¬
зревал, что здесь нечто должно быть не так, что здесь
что-то должно быть иначе. Я говорю о «Молитве Гос¬
подней».
— Я ничего не понимаю.
— Но ведь вы ее знаете?
— «Отче наш»-то? — Ну, конечно, знаю.
— И помните прошение: «Хлеб наш насущный дай нам
сегодня»?
— Да, это так.
— А вот то-то и есть, что это не так.
— Позвольте...
— Да не так, не так! Я и прежде задумывался: как
это странно!.. «Не о хлебе человек жив», и «не беспокой¬
теся, что будете есть или пить», а тут вдруг прошение
о хлебе... Но теперь он мне открыл глаза.
— А мне хочется сперва в Дубельн, к жене... боюсь,
как бы не пропустить поезда.
— Нет, не пропустим. Вы понимаете по-гречески сло¬
во: «επίγειος»?
393
— Не понимаю.
— Это значит: «надсущный», а не насущный,— хлеб не
вещественный, а духовный... Все ясно!
Я перебил.
— Позвольте,— говорю,— вы мне это что-то еретиче¬
ское внушаете. Мне это нельзя.
— Почему?
— Я человек истинно русский и православный — мне
нужен «хлеб насущный», а не надсущный!
— Ах, да! А я теперь в восторге читаю эту молитву
и вас все-таки с пастором познакомлю. Это я непременно
и хотел, чтобы он, а не другой пастор, крестил маленько¬
го Волю, и он это сделал...
— Какого Волю?
— А второй сын ваш, Освальд!
— Ничего не понимаю!.. Какой сын?.. У меня один
сын, Готфрид!
— Это первый, а второй-то, второй, который месяц
назад родился!
— Что?.. Месяц назад?.. Что же он, тоже «επίγειος»,
что ли, необыкновенный, надсущный? Откуда он взялся?
— Его мать — Лина.
— Но она не была беременна.
— А, этого я не знаю.
Я вне себя, бросаю Андрея Васильевича и лечу к себе
на дачу, и первое, что встречаю,— теща, «всеми уважае¬
мая баронесса». Не могу здороваться и прямо спра¬
шиваю:
— Что случилось?
— Ничего особенного.
— У Лины родился ребенок?
— Да.
— Как же это так?.. Отчего же...
— Что за вопрос!
— Нет, позвольте!.. Как же три месяца тому назад,
когда я уезжал... я ничего не знал? В три месяца это не
могло сделаться!
— Конечно... Это надо девять месяцев. Зачем же ты
это не знал!
— Почему же я мог знать, когда мне ничего не гово¬
рили?
— Ты сам мог знать по числам.
— Черт вы,— говорю,— черт, а не женщина! Черт!
черт!
394
Это вдруг такой оборот-то после того, как я к баро¬
нессе чувствовал одно уважение и почтительно к ней отно¬
сился!
Ну, дальше что же рассказывать! Разумеется, хоть
лопни с досады — ничего не поделаешь! Опять все кончи¬
лось, как и в первом случае. Только я уже не истерични¬
чал, не плакал над своим вторым немцем, а окончил объ¬
яснение в мажорном тоне.
Я сказал баронессе, что терпение мое лопнуло и что
я в моих отношениях к семье переменяюсь.
— Как? Зачем переменяться?
— А так,— говорю,— что совсем переменюсь,— вы ведь
еще не знаете, какой у меня неизвестный характер.
— А какой неизвестный характер?
— Я вам говорю — «неизвестный». Я и сам не знаю,
что я могу сделать, если выйду из терпения. Вы это
имейте в виду, если еще раз захотите мне сделать сюр¬
приз по числам.
— Какая глупость!
— Ну вот, смотрите!
У меня явился какой-то дьявольский порыв — схва¬
тить потихоньку у них этого Освальда и швырнуть его
в море. Слава богу, что это прошло. Я ходил-ходил,—
и по горе, и по берегу, а при восходе луны сел на песча¬
ной дюне и все еще ничего не мог придумать: как же мне
теперь быть, что написать в Москву и в Калугу, и как
дальше держать себя в своем собственном, некогда мне
столь милом семействе, которое теперь как будто взбеси¬
лось и стало самым упрямым и самым строптивым.
Вдруг, на счастье мое,— вижу, по бережку моря идет
мой благодетель, Андрей Васильевич, один, с своей вер¬
ной собачкой и с книгой, с Библией. Кортик мотается,
а сам, как петушок, распевает безмятежным старческим
выкриком:
Я устал — иду к покою;
Отче! очи мне закрой,
И с любовью надо мною
Будь хранитель верный мой!
И каким молодцом идет на своих тоненьких ножках,
и все выше и выше задувает высоким фальцетом:
И сегодня, без сомненья,
Я виновен пред Тобой;
Дай мне всех грехов прощенье,
Телу — сон, душе — покой!
Мне стало завидно его бодрости и спокойствию, да
и к жизни, к общенью с людьми опять меня поманило,
и на ум пришла шутка.
395
«Нет, постой ты,— думаю,— старый певун: пока ты
дойдешь до своей постели, чтобы вкушать сон и покой,
которого просишь,— я тебя порастравлю за то, в чем, ка¬
жется, и ты «виновен без сомненья».
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Я покинул холм, где сидел, и без труда догнал Андрея
Васильевича.
Адмирал, увидя меня, очень обрадовался и сердечно
меня обнял.
— Здравствуйте,— говорит,— мой друг, здравствуй¬
те! Какая после чудесного дня становится чудесная ночь!
Я в упоенье,— гуляю и молюсь, все повторяю «Отче наш»
в новом разночтенье.— благодарю за «хлеб надсущный»,
и моему сердцу легко. «Сердце полно — будем Богу бла¬
годарны». А вы как себя чувствуете?.. Вы тоже гу¬
ляли?
— Да, гулял.
— Прекрасный вечер. Теперь домой?
— Домой.
— Вот и чудесно, и пойдем вместе. Я не скучаю
и один, но с сердечным, с сочувственным и благородно
мыслящим человеком вдвоем еще веселей... А вы, верно,
узнали все, как это случилось, и тоже спокойны?
— Нет,— отвечаю,— я ничего не узнал, да и не хочу
узнавать!
— Да, это перст Божий.
— Ну, позвольте... уж вы хоть перст-то оставьте.
— Отчего же? Когда нельзя понять,— надо признать
перст.
— А я скорее согласен видеть в этом чей-то шиш,
а не перст.
Он остановился, как будто долго не мог понять, а по¬
том помотал перед собою пальцем и произнес:
— Ни-ни-ни! Это перст!.. И вы никогда больше не
говорите «шиш», потому что «шиш», это русский ниги¬
лизм.
— Ну уж, нигилизм или не нигилизм, а я тут перста
не вижу. Перст не указывает, как обманывать человека,
а здесь обман, и потому я принимаю это за шиш, пока¬
занный всему моему дальнейшему семейному благополу¬
чию. Семейное счастье мое расстроено...
— Почему?
396
«Ах ты,— думаю,— тупица этакий! Еще извольте ему
разъяснять «почему»!»
— Я не могу больше верить самым близким людям.
— То-то: почему?
«Фу, черт тебя возьми! — думаю.— Ишь в чем у них,
между прочим, сила кроется. Чего они не хотят понять,
того и не понимают. Так и моя жена, и всеми уважаемая
теща, и этот благочестивый певунок. А я же вас разоча¬
рую по-русски, откровенно».
И говорю:
— Я, ваше превосходительство, вам скажу только од¬
но: я вам скажу, до каких острых объяснений у нас до¬
шло с баронессою, которую, как вы знаете, я любил и ува¬
жал, как родную мать.
— Знаю, знаю! И она этого стоит.
— Да, а теперь я ей пригрозил.
— Чем?.. Как можно пригрожать!
— Так... сказал, что я больше ничего не потерплю
и что у меня есть ужасные черты в характере, которых
я сам боюсь.
— Вы это пошутили?
— Нет — совершенно серьезно.
— А что вы, например, можете сделать?
— Не знаю...
— Как же не знаете?
— В том-то для меня и есть самый большой ужас,
что я сам не знаю. Я терплю много и долго, держу себя...
как воспитанный человек, как европеец; а потом, если ме¬
ня станут очень сильно скребсти,— я и освирепею, как
бык.
— Как бык!.. Гм!.. Это скверно.
— И я вперед вам говорю, что это может кончиться
скверно.
— Например как?
— А например так, что я сегодня было вздумал швыр¬
нуть за ноги это дитя.
— Ой, какая гадость!
— Да, это гадость, но ведь и со мною делают нехоро¬
шее. Пословица говорит: «против жару и котел треснет».
— Ага! Хорошая пословица. Я очень люблю русские
пословицы. Но это не годится. Дитя ничем не виновато.
— Ну, я донос на собственную семью напишу и по¬
шлю.
— Офицер!.. Донос!
— Да, сам на себя.
397
— Этого никто не делает.
— Нет, делают; в бракоразводных делах даже очень
часто делают.
— Нет, уж вы этого не делайте.
— Ну, так вот вы меня, ваше превосходительство, на¬
учите, что же мне делать-то, чего держаться и как из себя
не выйти?
— Держитесь русской пословицы.
— Которой прикажете?
— «Когда ты хочешь рассердиться, подумай, что ты
говоришь с генерал-губернатором».
— Такой пословицы нет.
— Есть.
— Да уж позвольте мне, как русскому, лучше знать,
что такой пословицы нет.
— Я ее от князя Суворова в Риге слышал.
— Про рижского князя Суворова про самого-то сто¬
ит пословицу сложить.
— Это правда, правда. Он фантазер, но добряк. Мно¬
гое, что было невозможно, он сделал возможным. Его, бы¬
вало, попросят — он скажет: «это возможно». Очень
жаль, что его больше нет,— и вам было бы хорошо.
— Мне все равно, меня мучит только, как своим род¬
ным написать, что у меня всё немцы родятся.
— Да!.. в самом деле: как бы им это написать?
— Я им чистосердечно во всем признаюсь, что я их по
вашей милости обманывал и что у меня сына Никиты
нет, а есть даже два сына, и оба немца. Пусть и отец,
и дядя это узнают, и они меня пожалеют и отпишут свое
наследство, находящееся в России, детям моей сестры,
русским и православным, а не моим детям-немцам, Робер¬
ту и Бертраму.
— Фуй!
— Отчего фуй? Я больше лгать не хочу. Приду домой
и напишу: мне будет легче.
— Чем же легче?
— Тем, что я не буду больше моих честных стариков
обманывать.
Адмирал задумался и прошептал:
— Это тоже правда.
— Конечно, правда.
— А вы первый раз им... о первом ребенке как напи¬
сали?
— Я тогда солгал.
— A-а! Как жаль!
398
— Да, я нагло и гнусно солгал.
— Что же именно?
— Свалил все дело на fausse couche.
— Недурно! Очень хорошо! Теперь свалите на фос-
кушку!
— Нет, ваше превосходительство, я попробую при¬
думать что-нибудь другое.
— Зачем? Лучше этого не придумаете.
Расстались. Я вернулся домой и в самом деле сел пи¬
сать чистосердечное признание... Как-то не пишется...
Противно это излагать, какая я тряпка, что у меня всё
рождаются немцы, и я не могу этого прекратить.
Черт возьми нашу телегу и все четыре колеса! При
случае написал про фос-кушку.
Опять живем. Получил крест, и денег дали.
К жизни охладел, и к тем вопросам, которые приходят
из России, охладел. Семья-немцы растут, живу хорошо
и очень тихо. Ну их совсем все вопросы! Это надо иметь
к ним охоту и здоровые нервы, чтобы ими заниматься.
И то не здесь, и не в колыванской семье. Никитки от ме¬
ня больше не ждут и не требуют. Все замерло там и при¬
утихло, и во мне, казалось бы, конец. Но только, как пу¬
ганая ворона сучка боится, так и я: из дому отлучаться
боюсь. Думаю: кажется, безопасно, кажется, ничего нет,
а между тем Бог их знает, какая у них... природа какая-то
«надсущная»: неравно вернешься, а у них уже и поет
в пеленках новый немец.
Этого я не хотел больше ни за что и, признаюсь вам
в своей низости, более для этого и с отцом Федором Зна¬
менским познакомился, когда его назначили благочинным.
Пошел к нему исповедоваться и говорю:
— Вот что в моем семействе два раза было. Я сам
вам об этом объявляю. Вы теперь благочинный, должны
за этим смотреть, чтобы закон не обходили. Я часто бы¬
ваю в отлучках, а вы смотрите... А то я сам после на
вас донесу.
Он испугался и денег за исповедь не взял и вместо
отпуска сказал мне «мое почтенье», а доноса не подал.
Трус неописанный. Но зато и без его помощи нечего
стало бояться. Одно горе прошло — стала надвигаться
другая туча. Моему семейному счастию угрожало неожи¬
данное бедствие с другой стороны: всегда пользовавшая¬
ся превосходным здоровьем Лина начала хворать. Изме¬
няется в лице, цвет делается сероватый, зловещий.
1 Преждевременные роды (франи.)
399
Я себя не помню от отчаяния. Кляну себя за то,
что когда-нибудь что-нибудь ей сказал, плачу, как
безумный.
Она меня ободряет и утешает.
— Успокойся,— говорит,— я буду жить.
Мать, баронесса, являет безмерную силу любви и са¬
мообладания.
Здешние врачи нашли у нее что-то непонятное. Лина
и баронесса отправились в Ригу. Там им сказали, что
нужна скорая операция. Рассуждаем: в Петербург или
в Берлин? Разумеется, в Берлин: лучше и дешевле. Я не
спорю; где больная хочет, пусть там и будет. Детей, что¬
бы они не оставались одни при моих отлучках по службе,
решили завезти по дороге к танте Августе и к кузине Ав¬
роре. Так я по необходимой служебной надобности ушел
в море тотчас с началом навигации, а они должны были
выехать через неделю, когда Лина будет себя немножко
крепче чувствовать. Я жду от них в условленных местах
известий об отъезде; но сначала писем нет, а потом изве¬
щают, что «еще не выехали», после — что «на Лину пре¬
красно действует покой и воздух», еще позже — что,
«к удивлению, можно сказать, что врачи в Риге, кажется,
ошибались и что операции вовсе, может быть, не нужно»,
и, наконец,— что «Лина поправляется, и они переезжают
из города на дачу в Екатериненталь».
Это последнее известие шло долго, и я получил его
только две недели тому назад, вместе с другим известием,
что дядя из Москвы пишет, что отец мой умер и завещал
именьице мне и «моим детям».
Я и обрадовался благоприятной ошибке врачей, и очень
поскорбел, и поплакал об отце, которого давно не видал,
а теперь совсем его лишился. И вот вчерашний день, рас¬
строенный всем этим, возвращаюсь домой, влетаю в ком¬
наты, стремлюсь обнять жену — и вижу у нее на руках
грудное дитя!
Боже мой! Я ударил себя ладонью в лоб и спросил
только:
— Как его имя?
— Гуня.
— Что это значит?
— Гунтер!
— Значит, я и в третий раз обманут!
Выходит баронесса и тихо говорит:
— Никакого обмана нет — это ошибкой подкралось.
Остальное вы сами знаете. Слово «подкралось» так
400
вдруг лишило меня рассудка, что я наделал все, что вы
знаете. Я их прогнал, как грубиян. И вот теперь, когда
я все это сделал — открыл в себе татарина и разбил на¬
всегда свое семейство, я презираю и себя, и всю эту свою
борьбу, и всю возню из-за Никитки: теперь я хочу одно¬
го — умереть! Отец Федор думает, что у меня это про¬
шло, но он ошибается: я не стану жить.
— Вы хотите довольно дешево отделаться,— произнес
по-немецки молодой и сильный женский голос, впадающий
в контральто.
Мы оба оглянулись и увидели на дорожке, у самой
дверцы, стройную молодую девушку, изо всего лица ко¬
торой, отененного широкими полями соломенной шляпы,
был виден один нежный, но сильный подбородок.
Я узнал, что это была Аврора, и почувствовал в ду¬
ше большую радость. Я здесь становился совершенно из¬
лишним, и притом этот разбитый человек теперь будет
управлен хорошим кормчим.
Кузина Аврора, конечно, за этим предстала, и, по¬
смотрев на нее, можно было сказать, что она знает, что
надо сделать, и что надо, то и будет сделано.
— Умереть легко; надо не умереть и оставить семью
без опоры... а возвратить себе расположение жены и ува¬
жение людей — вот что должно быть достигнуто! — услы¬
хал я через открытое окно своей комнаты и тотчас же по¬
спешил взять шляпу и уйти из дома, чтобы не быть
нескромным свидетелем щекотливого и важного семейного
разговора. Но живое любопытство и особенное внимание,
какое возбуждала к себе эта, так театрально, как будто по
пьесе для развязки назначенная, эфирная Аврора,— по¬
буждали меня узнать: что тут случится, что эта ориги¬
нальная и смелая девушка выдумает и что устроит. Как
она поможет этому бедняку достичь исполнения очень
трудной, но в самом деле необходимой и единственно до¬
стойной в его положении задачи: «не оставить семью без
своей опоры и возвратить себе расположение жены и ува¬
жение людей».
Это совсем не песенка из московского песенника на го¬
лос: «Когда сын у нас родится — мы Никитой назовем»,
а это трудная, серьезно задуманная фуга, развить кото¬
рую есть серьезная цель для всего предстоящего, но зато
сколько надо иметь смысла и терпения, чтобы всю эту фу¬
гу вывесть одною рукою!
Фуга, как стройный ряд повторяемостей, берется сна¬
чала одним голосом без всякого аккомпанемента, и ее ос¬
401
новная тема называется «вождем» (Fuhrer), а когда он
окончит — другие повторяют то же в ладе доминанты
главного тона (Antwor).
Иначе это не идет.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
В семье, потрясенной описанными событиями, все ста¬
ло тихо: весь беспорядок прекратился, и как будто ничего
особенного и не случилось. Было опять утро, и был вечер
в день второй. Я, кажется, больше всех был обеспокоен
и боялся взглянуть в сад, а по двору проходил не иначе
как после обозрения, что путь свободен. На третий день
был праздник «Johannes», соответствующий нашему Ку¬
пале. Все уезжали in’s Grime на мызу. Там пили, ели,
пели и танцевали, а девушки плели венки и украшались
ими. И я был там. Много ходил, устал и за небольшую
плату, внесенную какому-то рабочему при мызе, поместил¬
ся отдохнуть на сеносушке. Это была деревянная построй¬
ка, сделанная таким образом: внизу сруб небольшой, на
нем балки, превосходящие величиною этот сруб, и на них
второй, верхний сруб, обширнее нижнего. В этом верхнем
срубе — кладовая и сушильня. Выше ее, под самою кры¬
шею, оригинальный карниз, состоящий из целого ряда со¬
вершенно однообразных и правильно размещенных скво¬
речниц. Здесь свежо, сухо, нет никаких досадительных на¬
секомых, а только скворцы то тихо копошатся в своих
скворечнях, то торопливо рокочут, ведя друг с другом
торопливые и жаркие беседы на трех огромнейших
липах.
Вся площадка, где построена эта сушильня, обнесена
высоким частоколом, образовавшим дворик, на котором
стояли под навесом два плуга, тележка и омет соломы.
Под липами был круглый стол, утвержденный на столбе,
две скамейки и самодельный тяжелый стул из карельской
березы. В нижнем этаже сушильни было жилое помещение
для того работника, который дал мне отрадный приют на
сене.
Я спал довольно долго и крепко и проснулся как буд¬
то от оживленного говора, который слышался снизу.
Это и в самом деле было так.
1 Ответ (нем.).
2 Иоганны (нем.).
3 На лоно природы (нем.).
402
При пробуждении своем я услыхал три раза и твердо
повторенное:
— Nain! nain! nain!
Это произносил молодой, сильный голос и произносил
именно «nain», а не «nein», и притом с усиленною твердо¬
стью и с энергией. Голос мне показался знакомым.
Другой, более густой, но тихий голос отвечал:
— Но ведь это же очень несправедливо и странно, Ав¬
рора. Ты должна же признать, что если не прав и даже
много виноват я в своей непростительной несдержанности
и грубости, для которой я и не ищу оправданий, то ведь
не правы и они.
Это был голос моряка Сипачева.
В ответ на его слова опять послышалось то же самое
упорное:
— Nain, nain!
— Какое возмутительное упорство!
— Nain, это не упорство. Упорство в тебе.
— Ну, в таком случае это — дикость.
— О да, да! Непременно! Но тебе, может быть, не¬
удобно говорить о дикости! Ведь ты сегодня именинник,
мы сегодня пируем здесь твой день, и я тебя увела сюда
не для того, чтобы говорить о прошлом, а для того, что¬
бы сказать тебе наедине радость, что открывается в на¬
стоящем и будущем.
— Ты всегда живешь в будущем.
— Nain! Я живу только в настоящем, но для будущего.
— Слушаю.
— Onkel барон сейчас мне шепнул, что он получил
от Литке ответную депешу: тебя назначают на корабль,
который вышел в кругосветное плавание. Он теперь уже
в Плимуте, и ты должен его догнать; тебе послезавтра
надо выехать.
— Гм!.. Прекрасно. Это барон Андрей Васильевич все
исполнил по вашей команде, милая Аврора?
— Аврора никем не командует.
— Я готов... готов, и я даже рад, что ты это исхло¬
потала, Аврора.
— Еще бы не радоваться! Это единственный способ
дать всему успокоиться. Ты после возвратишься домой
с успокоенным сердцем.
— Да, но только это ведь я возвращусь не ближе
как через два года, Аврора.
— Да, это будет всего через два года; но если сильно
над собою наблюдать и хорошо себя школить, то и этого
403
времени довольно, чтобы переделать в себе, что не го¬
дится.
— Это все один я должен в себе все переделы¬
вать?
— Конечно, ты; но вовсе не все, а только то, что ме¬
шает твоему семейному благополучию.
— А два года из жизни вон?
— Почему «вон»? Что употреблено на исправление
себя, то не потеряно. Дело не в долгой жизни, а в до¬
стойной жизни.
— А другие в это время ничего не будут в себе ни
исправлять, ни переделывать?
— Им нечего переделывать. Разве постараться сде¬
лать себя хуже.
Аврора захохотала и шутливо добавила:
— Может быть, ты думаешь, что это и стоило бы
для тебя сделать?
— Я думаю, не это, а я думаю, что я вспыльчивый
и дурно воспитанный человек, но что и те, кто привел ме¬
ня в состояние безумного гнева, тоже не правы.
— Nain! — перебила Аврора.
— Вы поступали со мною непростительно дурно.
— Nain!
— Вы поступили зло, упрямо, узко...
— Nain!
— И наконец, бесчестно!..
— Nain!
г— Вы отравили мое спокойствие, вы лишили меня
возможности откровенных отношений с моими родными,
сделали всех детей лютеранами, когда они должны были
быть русскими.
— Nain!
Очевидно, ей теперь хоть кол на голове теши — она все
будет твердить свое «nain».
Я приложил глаз к одной из резных продушин су¬
шильной стены, чтобы посмотреть на ее лицо. Я хотел ви¬
деть, какое оно теперь имеет выражение,— и оно меня не¬
приятно поразило. Это лицо ясно говорило, что Аврора
не желает знать никаких доводов и что к справедливости
или к рассудку в разговоре с нею теперь взывать напрас¬
но. Она видела только то, что хотела видеть, и шла к то¬
му, чего хотела достигать. Все это можно бы принять за
тупость, но такому заключению противоречил быстрый
и умный взгляд ее изящных серых глаз и чертовски твер¬
дое выражение подбородка.
404
Произнося слово «nain», она точно что-то отгрызала
и, откусив, даже не смыкала губ, а оставляла их открыв¬
ши, чтобы опять еще и еще раз что-то перекусить и бро¬
сить. Ее белые, правильные зубы были оскалены, как
у рассерженного зверька.
Она говорила стоя, поворотясь к собеседнику спиною,
и судорожно копала и расшвыривала землю палкою свое¬
го серого кружевного зонтика с коричневой лентой.
Моряк сидел на одной из скамеек; но когда Аврора
на все его доводы ответила «найн», он порывисто встал
и сказал:
— Ну, хорошо. Довольно. Я не буду с тобою более
спорить. Я тебя даже очень благодарю. Твое жестокое
упрямство послужит мне в пользу... Когда я буду от вас
далеко... и один... и когда мне станет о вас скучно...
я вспомню тебя вот такою, какой вижу теперь... и мне
будет легче.
— Nain!
— Как это «найн»?.. Я тебе сказал: мне будет легче.
— Nain!
— Почему «найн»?
Аврора полуоборотилась к нему и, топнув ногою, про¬
изнесла придыханием:
— Потому, что ты меня будешь вспоминать не
такою!
Офицер улыбнулся и, тихо встав с места, взял и по¬
целовал руку Авроры.
— Ты права,— проговорил он, поцеловал ту же руку
вторично и добавил,— но знай, Аврора, что ты сегодня
самая противная, самая упрямая немка.
— О, я думаю! — отвечала, так же улыбаясь и пожав
плечами, Аврора.— Ведь это только мы, упрямые немки,
и имеем дурную привычку доделывать до конца свое де¬
ло. Не-немка наделала бы совсем другое,— у нее тут бы¬
ли бы и слезы, и угрозы, и sacrifice или примирение ни
на чем, до первого нового случая ни из-за чего. Да, я нем¬
ка, мой милый Johann!., я упрямая немка.
— И очень красивая, черт возьми, немка!
— Да, да, да! «Черт кого-нибудь возьми» — я и до¬
вольно красивая немка.
Он опять взял ее руку и проговорил:
— Но уступи же мне хоть что-нибудь.
— Ничего!
1 Жертва (франц.).
2 Иоганн (нем.).
405
— Ну так и я же поставлю на своем: я буду звать
вашего Гунтера — Никиткой.
— Что-о?!
— Вот этого третьего мальчишку я буду звать Ни¬
киткой.
Аврора громко рассмеялась.
— Можешь, можешь... Это будет очень забавно!
А в это время из-за частокола показался барон Анд¬
рей Васильевич и ласково заговорил:
— Что это могло так рассмешить нашу милую крош¬
ку Аврору?
Аврора показала пальцем на офицера и проговорила:
— Он будет называть своего третьего сына Никиткой!
— И прекрасно! — воскликнул барон.— А ты, Авро¬
ра, в самом деле остаешься здесь, с нами, с кузиной
и с тантой?
— Да, Onkel, я буду жить с Tante и с Линой.
— И пробудешь все время, пока он возвратится?
— Да, Onkel.
— Милое дитя! А ты сама... Думаешь ли ты когда-
нибудь о себе?
— Что думать, Onkel! — это вредно.
— Ты разве до сих пор никого особенно не любишь?
— Ай-ай! к чему вам знать это, Onkel?
— Прости. Я думал, ведь и тебе пора. Года идут.
— О, не беспокойтесь, Onkel! Моя пора любить уже
настала, и я с нее собираю плоды.
— Ага! Что же дает тебе эта любовь?
— Удовольствие видеть счастие тех, кого я люблю,
Onkel!
— И этого с тебя разве довольно?
— Этого?.. Этого много, Onkel. Это только стоит на¬
чать — и потом это никогда не окончишь!
Старик покачал головой и сказал:
— Да, ты найдешь себе роль в жизни, Аврора.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
И она действительно ее нашла.
Со времени описанного происшествия минуло пятна¬
дцать лет. Я заехал в Дрезден навестить поселившееся
там дружественное мне русское семейство и однажды
неожиданно встретил у них слабенького, но благообраз¬
нейшего старичка, которого мне назвали бароном Андре¬
406
ем Васильевичем. Мы друг друга насилу узнали и загово¬
рили про Ревель, где виделись, и про людей, которых ви¬
дели. Я спросил о Сипачеве.
— Ну да, да, да!.. Как же!.. Он здесь, был здесь...
здесь.
Андрей Васильевич говорил так же ласково и мягко
или даже еще мягче, и теперь он даже одет был во все
самое мякенькое.
— «Был»,— а где же он теперь?
— Он умер, но умер здесь. Ведь здесь его семейство,
и здесь его похоронили. Перст Божий! Аврора ему поста¬
вила очень хороший памятник на большом кладбище. Вы
можете видеть. У них реестр. Спросите: «где контр-адми¬
рал Сипачев»,— сейчас укажут.
— А он уже был контр-адмирал?
— Как же! Как же!.. Разумеется, чин дали к отстав¬
ке. Прекрасно сделал кругосветное плавание и прекрасно
кончил весь круг своей жизни. Аврора получает пенсию
и много пишет сама на фарфоре. «W» и «R» внутри бук¬
вы «А» — это ее монограмма. Ей очень хорошо платят,
но у нее ведь немало детей. Старшая дочь уже помогает
Авроре.
— Позвольте,— говорю,— я не все понимаю: сколько
помню, имя его жены — Лина.
— Ах, вы еще про ту старину! Лина давно умерла,
и мать ее, баронесса, сестра моя, тоже умерла. А когда
Лина умирала, она взяла мужа за руку и сказала: «Ты
не плачь, я не боюсь умереть, я боюсь только за тебя
и детей. А чтобы я не боялась отойти к Богу с покойной
душой, дай мне слово непременно жениться на Авроре».
И он, чтобы не огорчать кроткую Лину, дал ей это сло¬
во. Тогда она позвала Аврору и сказала: «Облегчи мне
уход мой отсюда: подай ему руку и сохрани его и моих
детей». И Аврора подала ему руку. Все так и сделалось,
как просила Лина. Но вы знаете, там... у нас это было
нельзя, потому что, когда он еще не был христианином,
он был два раза женат, Лина была его третья жена, и хо¬
тя один брак его совсем не был браком, но тем не менее
ему жениться на Авроре было невозможно. Тогда Аврора
сказала: «Пойдем отсюда», и они продали все там, и при¬
шли сюда, и купили все здесь. Их благословил пастор,
у них миленький дом, сад, и мастерская, и печь для фар¬
фора. Перевели сюда его пенсию, и после того, когда Ав¬
рора стала его женою, у них было три дочери, и все одна
другой лучше. Они прожили в счастье одиннадцать лет.
407
Мне стало скучно, и Аврора мне написала: «Onkel, при¬
езжай и ты», и я у них жил и живу. Теперь я и совсем
остался здесь, при них, потому что один я только мужчи¬
на. Надо всегда быть готовым в помощь друг другу,
и перст Божий мне так указал.
— А где же его сыновья? Ведь им, я думаю, надо от¬
бывать воинскую повинность в России?
Барон покривился и сказал:
— Нет, им, я думаю, это не надо. Они ведь совсем...
Все ихнее теперь здесь... И мать — эта Tante Aurora.
Она ведь их воспитала и очень их любит, и они ее лю¬
бят, а Аврора Россию не любит.
— Да за что она ее так — не любит?
Адмирал пожал недоуменно плечами и молвил:
— Наверно не знаю, но думаю так, что... Аврора ведь
очень определенная... и она боится всего неопределенно¬
го. Мать... и детей любит, а там выходит все... что-то
неопределенное.
Иван Никитич погребен в Дрездене не на русском
кладбище; он, как бычок, окончательно отмахнул головою
и от Москвы, и от Калуги, и кончил свой курс немцем.
РАКУШАНСКИЙ МЕЛАМЕД
Рассказ на бивуаке
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Дело было для нас неудачливо: мы отступили, но,
к счастию, неприятель нас более не тревожил и давал нам
время отдохнуть и оправиться. Мы расположились бивуа¬
ком в безопасном ущелье, разделясь самыми маленькими
сторожевыми отрядами. Нашим отрядом командовал майор
Никанор Иванович Плескунов, очень добрый, спокой¬
ный и мужественный офицер и изрядный оригинал, из
вымирающей породы лермонтовских Максим Максимови¬
чей. Он считал за собой одно немаловажное, по его мне¬
нию, преимущество, что с тех пор как произведен в офи¬
церы, все время служил «в серых войсках». Так он назы¬
вал таможенную стражу, по которой числился, состоя на¬
чальником небольшой команды на одном из весьма изве¬
стных контрабандных пунктов на австрийской границе.
Война с турками его рассердила, и он бросил свой «серый
пост», и перевелся в действующую армию.
Майор Плескунов был не стар и не молод, не высок
ростом, коренаст и немножко мужиковат в манерах и
в движениях, но был, как я сказал, прямая душа, добрая,
и во всех своих суждениях и взглядах на вещи оригинал.
Он был беззаветно храбр, хотя по наружности казался из¬
рядным рохлей: не горячился, не вскидывался, не поды¬
мался на дыбы, но не робел и не падал духом, а всегда
и везде рассуждал и действовал с настоящим твердым
мужеством и с «прохладкой». Похвальбы он терпеть не
мог и считал ее недостойною военного человека и вред¬
ною.
— Это,— говорил он,— дело купеческое; наври, что¬
бы было можно из чего уступить, а потом и спускай.
А наше дело солдатское, тут что Бог даст.
Понятно, что, держась такого правила, он не имел
в своем обычае ни малейшей тени самохвальства и задо¬
ра. Речей он никаких не говорил, ни обширных, ни крат¬
ких, кроме общего внушения:
409
— Делай свое дело, не стой на месте, когда шлют
вперед, и не хвались вперед, чья будет горка, а ра¬
ботай.
Горка — это была его поговорка, то есть, чья возьмет,
чей верх будет.
Солдаты Плескунова любили и называли его «настоя¬
щим командиром».
— Форсу,— говорили,— не задает, а воюет как надо
и судит умно: делай, говорит, как надо, а горку кому Бог
даст, на то Его воля, а не твое распоряжение.
Хорош Плескунов был и с офицерами, и с нами, юнке¬
рами, которых у него в батальоне было немало. Между на¬
шими офицерами водились люди довольно различного ка¬
либра: были у нас и настоящие армейцы, были и «при¬
вилегиранты», прибывшие к Балканам из дальней север¬
ной столицы. Никанор Иванович не делал между ними
никакого различия и держал себя со всеми с нами на са¬
мой короткой, товарищеской ноге, хотя, впрочем, очевид¬
но, в деле оказывал больше доверия настоящим армейцам
и политиковал, говоря, что «у привилегирантов мундиры
дорого стоят, их надо пожалеть». Но, поступая таким об¬
разом, он все-таки не любил, чтобы армейцы задирали
привилегирантов или как-нибудь над ними подсмеивались.
О храбрости Плескунова и о его преданности делу, за
которое он пришел сражаться, покинув свою таможенную
стражу, не могло быть и речи; первая достаточно доказы¬
валась многочисленными рубцами, которыми все лицо Ни¬
канора Ивановича было изборождено от контрабанди¬
стов, с которыми он вел тридцатилетнюю войну, без еди¬
ного дня перемирия. А что он считал войну за славян
близкою своему сердцу, в этом убеждало то, что он оста¬
вил для нее свою старуху, о которой ничего не говорил,
кроме как то, что «она набожна», но которую, очевидно,
любил очень сильно.
Ни главного, ни ближайшего своего начальства Пле¬
скунов никогда не критиковал и терпеть не мог слышать
что-нибудь подобное от других.
— Что тебе до него за дело? — говорил он, стараясь
всегда остановить критика.— Хорошо нам с тобой рас¬
суждать, как у нас ума мало, а они, может быть, больше
знают и путаются. Ты, что ли, в ответ за него пойдешь?
Свой нос, смотри, в чистоте содержи.
Плескунов имел нерасположение к «политиканам»,
в числе которых считал всех интересующихся газетными
толками и делающих по этим толкам какие бы то ни бы¬
410
ло предположения о высших соображениях и общей судь¬
бе событий. Газеты же просто ненавидел,— и все равно
без различия, какого бы они ни были направления, о чем,
впрочем, он едва ли и имел надлежащее понятие. Он был
о газетах того мнения, какое одно из грибоедовских лиц
высказывало о календарях: «Все врут календари».
— Врут-с,— говорил Никанор Иванович.
Впрочем, Никанор Иванович и вообще с печатью не
дружил, окромя как с церковною, в которой был весьма
начитан, так как, по его рассказам, они с женой эти кни¬
ги всегда друг другу в зимние вечера «гласно» читали.
Если же у кого-нибудь в отряде появлялся листок газеты,
которую тот намеревался прочесть прочим, то Плескунов
сейчас звал казака и нарочно громко чем-нибудь распоря¬
жался. Иной раз, не зная что сказать, он посылал «поша¬
рить», нельзя ли где-нибудь достать для него бутылку чу¬
фурляр-лафиту.
Что это за вино имело быть, этот «чуфурляр-ла¬
фит» — мы не могли себе представить, и думали, что Пле¬
скунов его просто нам на смех выдумал. Но Никанор
Иванович уверял, что в Балканах непременно есть такое
вино, что его отец, когда делал прошедшую турецкую кам¬
панию, так пил чуфурляр-лафит и помнил о нем до самой
смерти; а потому как Никанору Ивановичу станет что-ни¬
будь досадительно, он сейчас и вспомнит.
— Ведь не может же быть, чтобы наши тогда его весь
выпили; а если выпили, так с тех пор нового надо было
намять. Ступай, братец казак, пошарь хорошенько,— не¬
пременно должен найти.
Казак отправлялся «шарить», но обыкновенно всегда
шарил безуспешно: вина или совсем не было, или же ка¬
зак, шаря, находил вино, но только это было не чуфур¬
ляр-лафит.
Плескунов и этим довольствовался: он пил, что ему
добывал казак, и говорил, что чуфурляр-лафиту надо бу¬
дет в другом месте пошарить. Впрочем, вся эта возня
с чуфурляр-лафитом поднималась только тогда, когда
майору угрожало слушание газет.
Все мы знали эту слабость нашего доброго майора
и порой его щадили, а порой ему досаждали: нарочно за¬
водили с ним спор, доказывали, что в наше время невоз¬
можно так вести дела, чтобы не читать газет, не думать
и не соображать по ходу дел: чья будет горка? И в тот
раз, с которого начинается мой рассказ, мы были на этот
счет очень упрямы: горе каждого из нас брало, и досады
411
много накопилось, и ничего-то путем нигде узнать не мо¬
жем, а тут еще этот чудак с своими рацеями.
— Что тебе знать хочется? Себя знай хорошенько!
Ума, что ли, очень много набралось, тяготить начало!
Ступай за пригорок, высунь лоб. Турок сейчас лишнее
выпустит.
Мы его и принялись допекать и, может быть, первый
раз за всю кампанию так пропекли, что он уж не одного,
а двух казаков послал шарить, как мы в ту пору думали,
нигде не существующего чуфурляр-лафита, а сам даже
отошел от нас в сторону. Но добрая душа его не умела
долго сердиться, да верно и он не всем был доволен пос¬
ле несчастливого дела, выбравшись из которого мы не
досчитывали и половины своих товарищей.
Нельзя было не чувствовать, что нам жутко и горь¬
ко, и Плескунов, понимая это, сдал тону: он вернулся
к нашему кружку, где жарился болгарский баран, и тер¬
пеливо слушал наши сетования.
Тут ему кто-то из нас и молвил:
— Что же, Никанор Иваныч, и теперь еще не станете
ли ругаться, что смеем считать себя несчастливыми?
Он вздохнул и отвечает:
— Нет; что же ругаться: мы с женой у Исаии проро¬
ка читали, что «усталый и голодный на самого Бога роп¬
щет», стало уж этому так надо быть. Поругайтесь, попу¬
тайтесь, может быть, вам от этого полегчает; а как отле¬
житесь да поедите, так, может, и сдобритесь.
Но мы и на это не сдавались.
— Поесть,— говорим,— мы поедим, а при своем оста¬
немся, что нехорошо идет.
— Нехорошо-то,— отвечает,— нехорошо, и говорить не¬
чего, а все еще повременим: чья будет горка?
Да нечего,— говорим,— и временить, когда уже вид¬
но: на чьей стороне горка, если все так будет.
— Ну, я еще этого не вижу, да и удивляюсь, в чем
вы это видите?
Тут наши политиканы и пошли:
— Как в чем? — говорят: — а во что вы ставите все эти
подыски всей Европы при коварном нейтралитете Беконс¬
фильда, виляньях Андраши и...
Словом, и пошли, и пошли. Все ему высчитали, чего
от кого ждать, кому не верить и чего бояться. И свели
опягь к тому, что нынче-де уже не те времена, когда мож¬
но было во всем полагаться на силу да на отвагу, а ну¬
жен ум и расчет, да капитал. Что капитал — душа движе¬
412
ния, и что где будет больше дальнозоркой сообразитель¬
ности, тонкого расчета и капитала, на той стороне будет
и горка. А у нас, мол, и ни того-то, и ни этого-то, да
и жиды одолели: и в Лондоне жид, и в Вене жиды,
страсть что жидов, и у нас они в гору пошли — даже
и кормит нас подрядчик, женатый на Беконсфильдовой
племяннице, да и самые славяне-то, за которых воюем,
в руках венских жидов. Что же этого безотраднее: жид
страшный человек,— он все разочтет, всех заберет в свои
лапы и всех опутает.
Никанор Иваныч и рассердился.
— Ну вот,— говорит,— еще что вздумаете: уж и жид
у вас стал страшный человек.
— А, разумеется, страшный, потому что он коварный,
а коварство — большая сила: она, как зубная боль, силь¬
ного в бессилие приведет.
А Никанор Иванович отвечает:
— А мы зубную боль заговорим.
— Да, да; вот это разве! Ну, так пошлите-ка казака
«пошарить», где такого мастера найдете?
— А что же, казак, разумеется, найдет.
— Да; найдет он их, вот все равно как вашего чуфур¬
ляр-лафиту.
— А что же: надо веру иметь и ждать, и лафиту до¬
станет.
И что же вы думаете. В эту самую минуту, как нароч¬
но, к Плескунову бежит казак и подает бутылку, а на бу¬
тылке надпись: «чуфурляр-лафит». Даже сам Никанор
Иванович смутился и спросил:
— Где ты это спер, благодетель?
А казак отвечает:
— Никак нет, ваше высокоблагородие: у маркитанта
взял.
— Что же он прежде-то его не давал?
— Давно,— говорит,— с собой вожу, только подавать не
смел, больно пакостное.
Майор отбил горлышко, сплеснул немного в сторону,
попробовал и говорит:
— Хорошо, братец, маркитант тебе правду сказал: ви¬
нишко поганое, и я теперь вспомнил, что мой отец его пил
совсем не в Турции, а на Кавказе; ну да не в том дело;
а это, господа, вам ответ: видите,— пошарить, так все
найдешь. Я политики не читаю и споров не люблю, но ни¬
чего, чем вы меня пугаете, не боюсь. Спросите: почему?
Отвечу вам: «по Писанию». О Тире сказано, что там не
413
будет горка, где «князья купцы и где сильные земли ба¬
рышничают», а сила в тех, кои «не видали самоцветных
камней и не завистны на золото». Оно так и бывает, как
пророк говорит, и мне теперь приходит на память одна
история про самого что ни на есть каверзнейшего тонко¬
го израильского политика, который в своем месте все пру¬
жины в руках держал и во всем собаку съел, а запил таким
чуфурляром, что и с ума спятил. И я, чтобы не позабыть
и чтобы вас кстати немножко поразвлечь, пока баран сжа¬
рится, пожалуй, готов вам это рассказать в виде притчи...
Тут все и заговорили:
— Помилуйте, Никанор Иванович, да когда же мы не
хотим вас слушать? пожалуйста, расскажите.
Никанор Иванович и начал.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Старый Схария, про которого я вам буду рассказы¬
вать, был, так сказать, прирожденный политик, ученый-
преученый и притом святой, которому, казалось, все было
открыто и само небо с ним перешептывалось. По заняти¬
ям он был меламед, держал школу, где юные сыны Израиля
получали высшее направление на весь проспект жизни.
Жил Схария от меня всего в полуверсте, в торговом ме¬
стечке, по тот бок австрийской границы; а славен был по
обе ее стороны.
Схария был человек старый и для своих мест очень
богатый. Состояние он нажил своею обширною ученостью,
святостью и плутовством. Если бы вы знали еврея как
следует, то не удивились бы, что все эти три вещи в нем
не только совершенно совместимы, но даже одна другую
требуют, а не исключают. Сколько именно было лет это¬
му патриарху, я с точностью определить не берусь, потому
что, когда я, тридцать лет тому назад, поступил на та¬
можню, Схария уже был меламед, обучивший ряд поколе¬
ний, и тогда уже был почти так же стар и ходил с такою
же седою бородой, с какою ходит и нынче. Только нын¬
че он слывет безумцем и служит поношением и посмеши¬
щем для безумцев, а до того анекдотического случая, ко¬
торый его таким сделал, он был у всех в почете, в ласке;
он первенствовал на молениях, председал на пиршествах
и везде имел решающий голос. Как наисовершеннейший
знаток закона и наилучший его истолкователь, что быва¬
ло он скажет, то так и делается. Ныне же жизнь его при¬
414
годна только разве на то, чтобы показать основательность
слов Псалмопевца: «не хощет Господь смерти грешника».
Но некогда было совсем иное: ученая слава Схарии была
так велика, что говорили, будто ей завидовал сам караим
Фиркович. Святость Схарии равнялась его учености, но
славилась еще более первой. Разумеется, это была та ка¬
верзная праведность и та убивающая дух ученость, кото¬
рыми огорчался наш Спаситель и за которые возглашал:
«горе вам, горе и горе».
Схария знал все, чрез что можно прослыть праведным
между евреями, и с этой стороны был для многих,
и в том числе и для меня грешного, необыкновенно инте¬
ресен. Он жил весь по правилам, «почивал на законе»:
каждый час дня и ночи, каждый его шаг и движение,—
все это шло так, чтобы могло возвещать его преподоб¬
ность. Кто знает, что значит соблюсти всю еврейскую об¬
рядовую праведность, тот знает, как это трудно. Я же,
весь свой век проведя с евреями, могу вам это показать,
хотя, разумеется, только отчасти.
Наблюдая наказ рабби Елиазара, Схария просыпался
до рассвета, но как бы ему ни хотелось встать, он не вста¬
вал и даже знака не подавал, что он проснулся, и так ле¬
жал до тех пор, пока его не побудит жена. Это так долж¬
на сделать каждая воспитанная в законе еврейка. И зато
в ту самую секунду, как жена его будила, он сразу же
вскакивал и на весь дом кричал: «Благословен Бог, ода¬
ривший петуха разумом, что он различает день от ночи»,
а потом читал вслух: «Восстану рано». Все это делалось
так энергично, что все в доме проклинали «восставшего
рано», но непременно и сами поднимались. Схария ни¬
когда не надевал рубашки сидя или стоя, а исправлял все
это непременно лежа под одеялом, чтобы сатана, под¬
сматривающий за каждым евреем, не увидал бы его чудес¬
ного тела и не вздумал бы сам смастерить что-нибудь, ес¬
ли не совершенно такое, то, по крайней мере, хоть подхо¬
дящее к еврею. Схария никогда не позабывал спуститься
с кровати непременно правою ногой. Умываясь, он акку¬
ратно обливал каждую руку по три раза и вытирал лицо
так сухо, чтобы не испарилась память.
Пергамент с написанными на нем словами из книг
Моисея был у него обмотан волосами из телячьего хвоста
и снабжен прикрепленным к нему репейником, который
должен был колоть Схарию, если он задумает как-нибудь
нарушить какую-нибудь из десяти заповедей. Колол ли
его этот репейник или нет, этого не знаю; но поколоть,
415
кажется, было за что. Свитки на дверях дома этого закон¬
ника были самые полномерные; их все должны были изда¬
ли видеть и понимать, что на дом Схарии снисходит бес¬
престанное благословение, как на браду Ааронову и на
ометы его риз.
Никто никогда не видал, чтоб у Схарии хранилище ви¬
село на ремешке или оставалось не спрятанным в три ко¬
робочка, если в той комнате спали женщины; хранилище
он надевал на себя, как только можно было отличать бе¬
лый цвет от голубого и носил до темноты. В школу Сха¬
рия не шел, а бежал, чтобы Бог видел, что он «духом го¬
ним». Его талос или мантия была из белой шерсти, вы¬
пряденной еврейкой, и притом с известными приговорами.
Молился он много и долго, оборотясь непременно на юг,
откуда идет мудрость, а с нею, разумеется, и все благопо¬
лучия. Люди алчные и глупые молятся на север, откуда
приходит богатство, но Схария, как Соломон, знал, что
все дело в премудрости. Он молился, всегда тщательно
выровняв ноги в первой позиции, и качался, и трясся не
щадя колен, чтобы ангелы видели, как сильно колеблет
его страх пред Вездесущим. Моленья свои он сначала вы¬
крикивал по-еврейски, а потом посылал особые молитвы
по-сирски и по-халдейски, чтобы ангелы, не понимающие
этих языков, не позавидовали тому, чего он просит у гря¬
дущего Мессии. Еще более тонкая осторожность нужна
была против диавола, чтобы этот хитрец не проведал
о прошениях Схарии и не повредил ему; но это было пре¬
дусмотрено: диавол никогда не мог узнать, чего просит
Схария, потому что диавол тоже по-сирски и по-халдей¬
ски не знает, а обучиться этим языкам не может, потому
что учиться у человека ему не позволяет его пустая «сви¬
нячья» гордость.
Если Схарии случалось плюнуть во время молитвы, то
он делал это невежество не иначе, как в левую сторону,
чтобы не оплевать толпой на него любовавшихся с пра¬
вой его руки ангелов. Каждый день он воссылал сто бла¬
годарений, и так на виду у людей и ангелов пребывал
в моленьи почти весь день. Отдых его начинался только
с той поры, когда наступающие сумерки возвещали, что
Егова уже дал ангелам приказ затворить двери и окна
неба. С этих пор, разумеется, оттуда на землю уже ниче¬
го не было видно и потому чиниться было нечего, да
и продолжать самое моление не было никакого расчета.
Но большая ученость Схарии обнаруживалась не в од¬
ном только богомолении,— нет, она также была видна во
416
всех его житейских поступках: он развелся с несколькими
женами по одному подозрению, что они происходят не от
Евы, а от первой жены Адама, строптивой Лалис, и, по¬
добно своей матери, склонны заниматься не одним тем,
чтоб угождать мужу. Сам же он никогда не смотрел
в лицо никакой сторонней женщине, хотя бы даже это бы¬
ла недостойная внимания христианка. Все были уверены,
что он ни разу не видал лица кряду десять лет служив¬
шей у него молчаливой и тупой хохлуши Оксаны, о кото¬
рой я прошу помнить, потому что ей в моей повести бу¬
дет своя роль.
Любя во всем ортодоксальный порядок, Схария сам
подавал в нем первый пример повиновения «Закону»: он
ломал хлеб не прежде, как растопырив над ним все свои
десять пальцев, чтобы все видящие это воспоминали о де¬
сяти «божиих приказаниях». Заботясь о нравственности
и о душе, он не забывал и гигиену, для чего всегда завт¬
ракал рано, чтобы в желчь его по пустому проходу не
успели вскочить с голодом тридцать шесть болезней,
а, обедая,— поспешно отделял Оксане кусок от всякого ку¬
шанья, имеющего вкусный запах, способный возбудить
в человеке аппетит. Делалось это не из сострадания к не¬
терпеливости Оксаны, а для того, чтобы она от жадности
не затряслась, как Исав, и не опрокинула другого блюда.
Все знали, что Схария во всю свою жизнь никогда еще не
уронил на пол ни одной крошки хлеба, и строгий ангел
Набель, приставленный смотреть за этим, ни разу не мог
сделать на него в этом смысле доноса по начальству.
К ангелам Схария наблюдал большую осторожность и ни¬
когда не клал ножа лезвием вверх. Даже этого докучного
наблюдателя, Набеля, он и того берег, чтобы он, вертясь
у стола, как-нибудь не обрезался.
Схария не умствовал о том, «чи все добре на свити —
чи не все дюже добре». Боже сохрани! Он благословил Бо¬
га за все, что понимал и чего не понимал, потому что все
устроено премудростию, даже тупая Оксана и вообще все
прочие дураки, так как они, по уверению рабби Геноха,
созданы для увеселения умных, а в числе таких умных
был, конечно, наш мудрый и ученый Схария, которого все
давно признали в этом чине. И его действительно увесе¬
ляла сильная и глупая наймычка Оксана, когда она позво¬
ляла колотить себя не только жене Схарии, золотушной
Хаве, но и всем крошечным ребятам Схариина отрожде¬
ния. По огромной силе своей, с которою эта Оксана молча
и без отдыха ворочала в доме все тяжкие работы, она
14. Н. С. Лесков, т. 5.
417
могла бы смахнуть и Схарию, и Хаву так, что ничего бы
от них не осталось, а она все сносила безропотно и мно¬
го содействовала тому, что Схария мог благоугождать Бо¬
гу, благословляя его, что он создал такую невежественную
дуру для удовольствия всех домашних такого ученого пра¬
ведника, как он, Схария. Опытом убежденный, как хорошо
жить по «Закону», он даже спал по «Закону»; для этого
он всегда ложился на левый бок, на котором лежал Иса¬
ак, когда Авраам хотел заколоть его в жертву Богу, и так
Схария почивал всегда, как готовая жертва. А чтобы
еще более уподобляться Исааку, он всегда спал нагой, без
рубашки, и на кровати, обращенной непременно головами
к югу, а ногами к северу.
При таком радении о житье по «Закону», семя Схарии
множилось и обещало ему славу в потомстве. От несколь¬
ких браков у него были в живых и женатые сыновья, и за¬
мужние дочери, и маленькие дети, а еще немало их было
и на местном кладбище. Схария любил детей, даже и тех,
которые были зарыты в землю. Благочестивый отец и
о них заботился; он каждый год нанимал несколько чело¬
век, чтобы те за них постились, и платил за это каждо¬
му говельщику, по крайней мере, по двадцати гульденов
в неделю; а в день разорения храма он сам собственноруч¬
но клал на могилы детей соль и муку и кричал им в зем¬
лю, чтобы они за то хорошенько о нем молилися и вы¬
кликали ему столько новых детей из пределов небытия,
сколько он прокормить может. Словом, жизнь Схарии бы¬
ла образцовая и препочтенная: как настоящий местечко¬
вый патриарх, он давал решающий совет во всех трудных
делах и, должно сказать правду, достоинство его советов
стояло чрезвычайно высоко и каждому приносило не¬
сомненную пользу, а это делало Схарию необходимым че¬
ловеком, которому всякий охотно уступал долю в ге¬
шефтах.
Таким образом, праведность была основанием прочно¬
го благосостояния Схарии, а благосостояние опять давало
ему средство еще более увеличивать свою праведность.
Он был уже так прославлен, что чтец синагоги, обходя со¬
брание с предложением купить право развернуть и носить
книгу закона, хотя и выкликал: «Кто хочет купить Гелиу?
Кто хочет купить Ец-Хаюм? Кто хочет купить Хахбо?
Кто даст более?» — но в существе чтец исполнял это
только для формы. На самом же деле он знал, что свя¬
щенные права никто другой откупить не может, кроме
Схарии, потому что никто за них более его предложить
418
не в состоянии. А потому только один Схария всегда но¬
сил свиток закона и держал «древо жизни», а его ближай¬
шие родственники имели привилегию, ходя за ним, при¬
касаться к этой святыне, в то время как их ученый родо¬
начальник, приняв из рук кантора свиток, обносил его по¬
среди умиленной толпы. Ему кантор давал серебряным
грифелем знак, когда вскричать: «Возвеличьте Господа!».
На его зов весь народ привык отвечать: «Благословен Гос¬
подь Бог наш, избравший нас пред всеми иными народа¬
ми»,— и над ним всегда произносилось благословение: «Со
всем его домом, где соблюдены все заповеди и где всякое
задуманное предприятие должно быть благоуспешно». По¬
тому все самые ловкие контрабандные предприятия заду¬
мывались в благословенном доме Схарии в те сумеречные
часы, когда запиралось небо, и у него же хоронились их
концы.
Вот какой был Схария поистине важный из важных
человек. Сместить его с его высокого положения, казалось,
никто не мог: все знали, что как ни подними цену по¬
следнего урока «Закона» в день Кущей, Схария все-таки
откупит этот урок и опять на целый год останется «жени¬
хом Закона». Ну, вот и посудите, как можно было одо¬
леть такого тонкого и дальновидного человека и какой
для этого был нужен борец? А пришел час Схарии, и раз¬
било всю его механику громом, да не из тучи, а из навоз¬
ной кучи.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
По моей дозорной, таможенной обязанности я, разуме¬
ется, знал всех окрестных евреев по обе стороны своей
границы — как наших русских подданных, так и австриа¬
ков. Это нашему брату, таможенному, необходимо, потому
что нас все стараются обмануть, особенно евреи. Это пер¬
вые наши неприятели, и мы должны знать, сколько какая
шельма из них в этом искусна. Сведения эти у нас, по¬
граничных жителей, собираются очень просто, так как
граница для нас ведь совсем не то, что она для вас и для
всех других людей, которые ее видят раз либо два в жиз¬
ни. Вы, когда переезжаете границу, будто из одного мира
в другой переходите; а для нас это просто дело соседское.
Мы смотрим на границу без впечатлений, а знаем только,
что и у них, и у нас есть молодцы, которые нашего брата
надувать хотят, и зато никому не верим. Пограничная
419
жизнь этим очень скверная: она тому способствует, чтобы
не верить человеку. И мы хотя с иным по виду и ведем
дружбу, а все ему пальца в рот не положим. Я даже удив¬
лялся этому и нарочно себя пробовал: к теще с женой по¬
видаться в Воронежскую губернию ездил — и ничего: там
всем верую. Иной хоть и знаю, что плут, а верю ему, и по
дороге еду — все верю; а как к себе на границу приеду —
сейчас и отрезало: никому не верю. Право, удивительно.
Так тоже и с этим с праведным Схарией я был весьма
знаком и о пророках любил с ним толковать, потому что
у меня жена большая до Писания охотница, но все быва¬
ло, знаете, говоришь про Данииловы седьмины, а сам ду¬
маешь: а когда же я тебя, приятель, в ров посажу! Пото¬
му что я знал, как этот праведник по всем швам плутней
сшит, и мне очень хотелось его сцапать. Разумеется, я его
лично в числе контрабандистов не замечал; но нам было
хорошо известно, что в благочестивом доме этого «жени¬
ха Закона» затевались самые дерзкие против нас пред¬
приятия, и я большую охоту имел наказать его.
Надо вам знать, что у одного из зятьев Схарии, по
имени Нахмана, на той стороне, в Австрии, было что-то
вроде трактира или кофейни, а вернее сказать, просто
игорный приют, в котором страсть как любили резаться
и австрийские, и наши таможенники. Чуть им свободное
время, уже они и там.
Это так шло у нас много лет, и зять Схарии наживал
с своего вертепа добрые гроши, из которых перепадала
частица и Схарии. С развалом нашей последней польской
рухавки и сбором наших войск на границу гешефты Нах¬
мана в его игрецком притоне достигли неожиданного успе¬
ха; и австрийские, и наши офицеры, стоявшие по границе,
скучали от бездействия, и все шныряли к Нахману. Да
оно и простительно: взаправду ведь очень скучно!
Наш брат стражник, который и в мирное, и в военное
время всегда воюет, он от всякой веселости отвык — мы
как един раз насупимся, так и живем насупясь. Все удо¬
вольствие наше разве в картишки перекинуть или в цер¬
ковь сходить помолиться. На беду, в церкви у нас дьякон
из хохлов был, очень томителен: голос имел козелкова¬
тый и произносил, где не надо, мягко, а где не надо, гру¬
бо. Очень неприятно. Заезжий же человек с городскими
привычками, разумеется, мог ли нашим простым житьем
довольствоваться? А самое большее веселье, какое в на¬
шем месте можно было получать, было за границей в этом
заведении у Нахмана. Наши чиновники давно еще когда-
420
то хотели было Австрию перещеголять, чтоб у себя что-
то гораздо лучше завесть, да ничего не вышло; сначала
столоначальник в казенной палате долго не разрешал,
а потом все товарищи перессорились, и с тех пор уже ни¬
чего не затевали, а ходили на австрийскую сторону, пото¬
му что там как-то живее и развязнее. Ничего особенного,
а как только на их сторону перевалишь, так сразу в мыс¬
лях другое ощущение и фантазии больше: издали слыши¬
те, как то кегли катают, то жидки гам на платформе си¬
дят, разные пьески наигрывают,— и недурно, канальи,
нарезывают. Тут сейчас и ресторан, и кафе, или эти ар¬
фисточки, а у нас только разве и услышишь как кто-ни¬
будь с досады крепким словом обругается. Всего четверть
версты через лощинку и перекатишь,— но люди живут
иначе — хоть не важно, а припеваючи. Разумеется, где ве¬
селее, туда и манит.
Как понаехали к нам по случаю польских дел военные,
так и началось у них болтанье на ту сторону в Нахманов
трактир. Конечно, бродяжничать этак за границу дело не¬
законное, но делалось все это будто под секретом, а к то¬
му же: кому до этого и надобность, если с той стороны
не претендуют? А австриаки же насчет верности хотя на¬
род самый сомнительный, но очень обходительны со вся¬
ким: жалуй к ним сколько хочешь, они компанию делить
любят. Так, бывало, наши офицеры снимут здесь с себя
сабельки и идут на австрийскую половину и режутся там
с австриаками в трактире, кто на бильярде, кто в кегли,
а иные и в карты. Картежная игра длилась, бывало, иног¬
да по целым суткам. Все это шло семейно — особенно как
австриак в это время по случаю мятежа с нами заодно
действовал, и сближение наших офицеров с австриацками,
по всей вероятности, было даже желательно.
Теперь же нужно вам знать, что у австриаков, на их
стороне, был один комиссар из поляков, самый невероят¬
ный картежник. Такой был страстный игрок, что я всегда
удивлялся: как ему могли доверять казенные деньги
и имущество. Но он, шельма, такой корень у себя имел,
что казенного не трогал, а уже зато свое только и знал,
что из рук в руки перепускал. Нынче его горка — он на
паре лошадей взад и вперед катает и тогда добр, всех
угощает, а завтра горка другому досталась — комиссар
сам у других кушать просит. Не играл он только тогда,
когда было или совсем некогда, или совсем не на что, или
совсем не с кем. И когда это случалось, потому что про¬
тив его игрецкой неутомимости никто не мог выдержать,
421
то ходит он, бывало, как в воду опущенный и от скуки все
в руках карты тасует. Я в призоры очес, по правде ска¬
зать, не верю, но говорили о нем, что он будто таким ма¬
нером испорчен, и вдруг на этого-то испорченного наско¬
чил с нашей стороны человек, должно быть, уже совсем
перепорченный: наспел от нас комиссару такой компани¬
он, что даже еще превосходил его и в постоянстве стра¬
сти, и в неутомимости. Был это наш армейского полку
маиор Афанасьев, который и подал повод к Схарииной по¬
гибели.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Армейские маиоры, как известно, большею частию бы¬
вают меланхолики, все думать любят. Живет человек в мо¬
лодых чинах, все фантазирует, а схватит маиорство и за¬
думается. Может, это оттого, что им в этом чине предел
положен, его же не прейдеши. Оттого они мрачны и не
веселы. И маиор Афанасьев тоже был не веселого нрава
и словно «отыгрывался» от какого-то червя, который не¬
устанно глодал его душу.
И австрийский комиссар, и наш маиор духом друг дру¬
га почуяли, и чуть только их свели, как уж их и водой
разлить стало невозможно. Дел боевых на ту пору не бы¬
ло, а в междучасие отрядом маиора у нас, по всеобщему
российскому обыкновению, правил его помощник, а он,
бывало, только на некоторый час домой появится, и если
горка на его стороне, то поблестит своим выигрышем
и опять улизнет за границу в Нахманов игорный дом,
и там и режутся, пока или тот, или другой оберут друг
друга дочиста и, осоловев, выходят отдохнуть, как муче¬
ники после истязания. До чего они доигрывались, про это
и рассказывать нельзя: деньги их в целом составе всей
наличности беспрестанно переходили от одного к другому,
но все это не так заметно, потому деньги вещь миниатюр¬
ная, а главный курьез происходил с громоздкими движи¬
мостями, передвижения которых скрыть невозможно.
У комиссара, например, был фортепианчик — хорошень¬
кий и большой фортепиан, настоящий рояль, на котором
он не умел играть и никогда не играл, а имел его бог
знает по какому-то особому случаю, вероятно за самую
дешевую цену с аукциона достал, да была еще охотничья
собака, легавая; а маиор приехал к нам в местечко в поль¬
ской бричке на своей паре лошадей. Вот эти фортепиан
422
и бричка и балансировали: как денежная наличность у иг¬
роков кончится, они сейчас и начинают двигать эту свою
движимость. И мы уже и счет потеряли, сколько раз эти
фортепиано и бричка с конями переходили у них из рук
в руки. Переходила несколько раз и собака, но ей скоро
наскучило менять хозяев, и она сначала обоих их искуса¬
ла, а потом, когда они оба ее за это выпороли, она их обо¬
их бросила и сбежала.
Разумеется, зверь умный, с такими пустыми людьми
жить не захотела. Ну, а остальное все шло своим прави¬
лом: то наш маиор поедет в бричке, а возвращается с па¬
лочкой, то он идет, а за ним тащат фортепиано, и стоят
они у него при его квартире под сараем, и только нам до¬
кучают, потому что ключ от них в этих переездах поте¬
рялся, и как они стояли разиня рот, то по ним все, бы¬
вало, жиденята пальцами тяпкают. Играть на них у нас
никто не умел, кроме как один наш таможенный дьякон,
да и тот только хвалился, что будто умеет, а на самом
деле всей его игры было, что мог одним пальцем подби¬
рать «аллилую», да Царю небесный. Тюкает с утра до
ночи и подпевает. Бывало, страшно надоест этим, а попро¬
сить его лучше что-нибудь светское, так он еще хуже за¬
тянет:
Скука прелубэзна
Серцю приполэзна.
Совсем тоску наведет, и мы всегда очень радовались, ког¬
да наш маиор проигрывался и фортепиано опять в Авст¬
рию увозили. И шла такая азартная игра без отдыха
и без перерыва, с постоянным переходом одних и тех же
фондов из кармана в карман, а в чистых от нее прибытках
были одни Нахман да Схария.
Но как и комиссар, и маиор оба были люди служащие
и ни одному из них нельзя было не держаться начеку по
своим обязанностям, то надо было устроить для этого
благонадежную почту. Дело было не совсем удобное, одна¬
ко устроили: если комиссар на нашей стороне, а дома
в нем надобность — к нам бежит за ним кургузый цесарец
в куртке, а наши за своим игроком казака Фомку посы¬
лали. Казак Фомка был мужик здоровый, краснощекий,
находчивый и расторопный, но шельма чищеный. Маиор
хорошо узнал его и говорил, что он человек очень надеж¬
ный и службист. Был такой случай, что этот Фомка
Ананьев или Канальев при разгроме одного опального
дома увидал, что простодушные армейские солдатики при¬
423
сели около суповой чаши, горяченького похлебать, он сей¬
час это искоренил:
— Разве,— говорит,— это можно? а может быть, это от¬
равленное! — и чтобы споров не было, сейчас же чашу раз¬
бил об угол, а серебряные ложки себе в карман спрятал.
— Это,— говорит,— от греха убрать надо, чтобы моло¬
дые некрута не баловались.
Словом, Фомка был человек, который обладал военным
тактом.
Военный такт казака Ананьева я особенно рекомендую
вашему вниманию, потому что мне придется в этой исто¬
рии поставить его супротив тонкого, талмудического такта
ученого Схарии. Служба нашего Фомки, разумеется, была
гораздо труднее службы цесарца, потому что комиссар
бывал у нас редко, а наш маиор сидел на той стороне по¬
стоянно. Потом, у австриаков по всем должностям мало
пишут, а у нас на это больше аккуратности и всякому
офицеру постоянно надо что-нибудь подписывать. А пото¬
му наш землячок Ананьев беспрестанно и шмыгал за гра¬
ницу к маиору, то одно подписать, то другое,— чаще все¬
го с «рапортичками». И всегда казачок в этих поездках
был исправен и благополучен: только падало кой-кому
в примету, что он на возвратном пути из Австрии точно
как будто выше ростом на седле делался: иногда, бывало,
точно каланча движется. Ну, а приедет домой, спешится,
разберется, и опять в свою меру войдет. Я его даже раз
или два об этом спрашивал. Отвечает:
— Никак нет, ваше выскобродие,— это так только по¬
казывается.
— Ты, может быть,— говорю,— подбадриваешься этак,
чтобы молодцеватей высматривать.
— Это точно так,— отвечает,— я хорохорюсь, чтобы чу¬
жой народ на нас дивовался, и под нашу державу желал,
а впрочем... ни боже мой!
Казак был сметливый, знал, на что я намекал, ну
и уверял меня крепко.
— Вот крест,— говорит,— на себя кладу, что езжу че¬
стно.
— То-то, мол, ты помни, что это земля чужая и что
наш государь теперь с их цезарем в дружбе,— так и мы
этою дружбой должны дорожить, а не то чтобы какую
худую славу на себя класть.
— Помилуйте,— утверждает,— нешто мы деревенские
мужики, что этого не понимаем, или не можем политику
чувствовать.
424
И знаете, пожалуй, по-своему он это и чувствовал, но
только, тем не менее, в его владении скоро стали обнару¬
живаться разные странные запасы, происхождение кото¬
рых он объяснял не совсем вероятно; но ведь что же, кто
не пойман, тот не вор,— это везде такое правило,— осо¬
бенно на боевом положении. Но вот доходит до меня слух,
что на той стороне бабы-хохлушки обижаются, будто
Фомка-политик, проезжая по лугу, где стадо паслось, со¬
скочил и стал корову в кивер доить; а пока на него диво¬
валися, он взял да и другую выдоил.
Я его этот грех покрыл и обещался даже маиору не
рассказать, если признается. Фомка признался.
— Точно так,— говорит,— виноват, ошибся: я думал,
что с нашей стороны корова; в грудях очень тяжело чув¬
ствовал. Знахарка, ведьма, научила: молочком, сказала,
смягчит. Послушал ее, лукавый и попутал, коровкой
ошибся.
— Ну, смотри же,— говорю,— чтобы больше тебя не пу¬
тало.
— Вот вам Христос,— отвечает,— я этой знахарки не
стану теперь слушать, и киверка больше не буду одевать,
в фуражке стану ездить.
— И прекрасно,— говорю,— оно даже так и лучше бу¬
дет: то ведь не наша земля, езди-ка в фуражке. Незачем
там кивером махать и соблазну не будет.
— Убедительно благодарю,— говорит,— ваше высоко¬
благородие, рад стараться.
Я и оставил. Что же, казак ведь не красная девуш¬
ка,— его много-то никогда не сконфузишь и не передела¬
ешь; у него природа такая, что он не рохля, не ротозей,
любит, чтобы мимо его ни птица не пролетала, ни зверь
не прорыскивал, и ничто не убранное не валялось. Вот
эта-то казацкая сноровка и была причиной одного казус¬
ного столкновения нашего Фомки Ананьева с казуистом
Схарией.
Случай попутал нашего казака на той стороне рыжею
козой, которая принадлежала какой-то еврейке. Была эта
коза непокорна к доенью — брыкалась, а казак едет и уви¬
дел через забор, что коза отбрыкнула и опрокинула мед¬
ную доенку, а молодая еврейка заплакала. Он и сжало¬
стился, остановил коня и говорит:
— Постой, постой, евреечка,— не скучай, и гляди,
только тятьке не сказывай, а я тебе эту козу выучу.
И с этим прыгнул через забор, свистнул брыкливую
козу нагайкой, так что та и голос дать позабыла, и тут
425
же подпихнул ее куда-то всю под седло, так что разве
только ножки да рожки наружу оставались, а кстати за¬
хватил и доенку, сел и поехал.
Еврейка только после его отъезда догадалась кричать;
сбежались соседи, бросились в погоню и нагнали Ананье¬
ва, потому что он по своей политике ехал не спеша, тихо¬
нечко, да и доенку-то, разбойник, наружи держал.
Нагнали его евреи и кричат:
— Ты зачем это взял? — а сами за доенку хватаются.
— А что, разве это ваше?
— Разумеется, наше.
— А ваше, братцы, так свое берите; мне бог с вами
с вашим добром; мне чужого не нужно.
И он возвратил великодушно доенку, а сам ускакал,
прежде чем о козе успели ему слово сказать.
Впоследствии он объяснил, будто потому не воротил
козу, что ее у него не спрашивали.
— А я,— говорит,— по ее виду думал, что она дикая,
а не светская, и приколол ее дома, потому что мне шкур¬
ка на потничек под седло надобилась.
Так эта коза и пропала, но зато с той поры пошли
большие разговоры. Пропаж оказывалось много и у евре¬
ев, и у крестьян. Хохлы-крестьяне, впрочем, что за лю¬
ди,— их можно и не очень слушать, а вот евреи, это дру¬
гое дело; они как загалдят, так их надо скоро успокоить.
А как успокоить?
Чтобы не ездил туда больше Ананьев? Так; но маи¬
ор говорил, что у него нет такого другого расторопного че¬
ловека: не будет езды Ананьеву — не будет маиору покоя
играть по целым дням в карты; не будет игры — не будет
самого лучшего гешефта Нахману, будет большой убыток
и ему, и Схарии. Как тут быть, как вывернуться? Нельзя
же дать пропасть хорошему гешефту!
А на что это есть на свете ученый Схария: он должен
найти средства, как сделать, чтоб и овцы были целы,
и волки сыты!
И вот явились к Схарии и Нахман, и его поставщики
и говорят:
— Ты, Схария, самый умный, думай и скажи нам, как
это сделать.
Схария почесал себе затылок, много раз помотав пред
носом пальцами, и стал думать. Думал он, думал и объ¬
явил, что «будет еще думать», ушел в заветную хоромин¬
ку, часа три и слуху оттуда не подавал, а потом выслал
к публике жену объявить, чтобы шли обедать, потому что
426
он будет еще очень долго думать. Те сходили домой, по¬
обедали и опять вернулись, а Схария еще думал. И нако¬
нец уже в сумерки, когда уже ни у кого более и терпения
не оставалось ждать изречения Схарии, Хава выглянула
в окно и дала рукой знак, чтобы все было тихо. Все и за¬
тихло, а тогда она сообщила им шепотом и под большим
секретом, что Схария так сильно задумался, что ничего не
слышит. Она ему уже и кричала, и пантофлю с него сня¬
ла, но он ничего не слышит.
Призадумались евреи и разошлись.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Во всяком деле, господа, не исключая и нашего тепе¬
решнего боевого поля, если откуда ждут известий, а их
долго нет, это не хорошо. Хотя худое известие, да подан¬
ное вовремя и с искренностью, все лучше,— истома хуже
смерти. Так и тут, когда Схария позамешкался изнесть
глагол, это не хорошо повеяло.
Зачем он медлит? Не заколодило ли ему?
А Схарии, действительно, заколодило, и притом по
всем правилам, с чем-то таинственным, с какою-то ка¬
балой.
Я не смею допытываться, кто из вас верующий, кто не¬
верующий. Разумеется, я говорю про веру в те вещи, ко¬
торые еще мудрецам не снились, а если и снились, то не
объяснились. Смейтесь надо мною, если вам угодно, я че¬
ловек малообразованный и обижаться не стану, ну а толь¬
ко по-моему этакие вещи не только существуют, а вот од¬
на из них — это сны. Что вы мне ни говорите, а я
снам верю и не перестану верить, и основание к тому
имею.
Схария, вероятно, прозяб и устал, а потому как сел об¬
думывать, что сделать с казаком, чтобы он по-прежнему
ездил, но никого не трогал, так и сам не заметил, как
заснул. Но что он за тяжкие претерпевал при этом муче¬
ния. Видит он пред собою книгу Закона и уже быстро
разогнул ее и хочет читать заветное место у Даниила, как
вдруг откуда ни возьмись кто-то рыжий закрыл книгу ру¬
кой и говорит: «Я ее запечатлеваю». Сказать такое слово
благочестивому еврею, это дело ужасное. После этого он
не может молиться до тех пор, пока признает себя нару¬
шившим заповедь против ближнего и выпросит себе у не¬
го прощения. Схария остолбенел от такой наглости! Кто
427
мог быть этот дерзкий, который удрал ему такую штуку?
Никто иной, как Коган Шлиома, которому давно хочет¬
ся быть святее Схарии и перекупить у него Гелиу. Схария
видит его дерзкую руку, обернулся, но Шлиома уже
исчез. Схария в синагоге; поднял книгу Закона вверх
обеими руками, так высоко, чтобы все ее видели, и, проха¬
живаясь с нею при общем одобрении, громко выкрикает:
«Вот закон, который Моисей дал детям Израилевым!», но
вдруг ко всеобщему ужасу зашатался и уронил книгу За¬
кона на пол,— это второй знак почти уже неотвратимого
неучастия.
Не обошлось и без третьего. Схария дома; собрал на
школьный двор множество мальчишек, дал каждому из
них по грошу и по деревянной пике и заставил их как
можно громче кричать и махать пиками, чтобы прогнать
дьявола, явно строящего ему каверзы. А сам пошел в ком¬
нату, горя желанием узнать: хорошего или худого должен
он, после такого крайнего употребленного им средства,
ожидать себе в будущем, и стал с этою целью рассматри¬
вать над свечой свои руки. Но у них пропала тень! Испу¬
ганный Схария бросил свечу и поспешно выбежал нагой
на крыльцо, чтобы при луне вернуть себе тень от Авеля,
но луна вдруг вся потемнела и как будто упала с неба.
Хуже этого ничего не может быть на свете, так как са¬
мые знаменитые раввины в одно говорят, что исчезнове¬
ние тени знаменует неизбежную погибель, и это верно,
потому что основано на Моисеевом слове «и тени своей не
узрите».
Столь быстро, кажется, никто не падал в своих собст¬
венных глазах и в глазах всего общества, как падал Сха¬
рия. Осталось последнее средство: до зари исповедывал
Схария свои грехи, стоя не на земле, по которой ползал
райский змей, а в тазу с водой, и потом взял белого пету¬
ха, а Хаве дал наседку, и оба они долго вертели этих
птиц около своей головы. Петух и курица громко крича¬
ли, а Схария выкрикал:
— Пусть этот петух будет жертвой за мой грех: пусть
он заслужит мне хорошую награду! Пусть как машет этот
петух крыльями, так машут крыльями и перелетают во¬
круг меня с места на место ангелы. Пусть улетают злые
и садятся вокруг моей головы на их место добрые!
И пусть этот петух умрет за меня на этот год, а я буду
жить, и Хава будет жива и будет меня слушать с одного
раза и будет у нас с нею всякую неделю гут-шабаш...
И он протянул руку и дернул Хаву за руку, велел ей
428
сварить и петуха, и наседку; внутренности жертвенных
птиц завязал в узелок и положил на крышу дома, чтобы
вороны унесли их с глаз. Так Схарией было сделано все,
что можно было сделать для отвращения грозной судьбы,
и он слышал уже, как, прежде чем началась вечерняя мо¬
литва, два раввина разом в один голос начали воскли¬
цать ему публичное прощение. Но в это самое время до¬
садительная Хава разбудила мужа.
Небесный свод уже алел; занималась заря, свежая
мартовская заря, пред днем Пурима, торжественного
празднества в память победы Мардохея над Аманом. Это
день, когда каждому благочестивому еврею не только раз¬
решается, но даже вменяется в обязанность пить до тех
пор, пока он будет не в состоянии отличить Амана от
Мардохея.
Это не только день радости, но и день чудес, когда
еврею сходит с рук все, что бы он ни сделал. Писано,
что когда два знаменитых раввина, Рабба и Сиро, со¬
шлись в этот день, чтобы вместе упиться до неспособно¬
сти различить Амана от Мардохея, то раввин Рабба при¬
нял за Амана раввина Сиро и убил его, и уложил под
лавку, но и это нимало раввину Сиро не повредило, пото¬
му что когда раввин Рабба о нем помолился, то Сиро сию
же минуту ожил и так шибко убежал из-под лавки,
что Рабба не мог его догнать и даже совсем его не
видел.
В этот день еврей безопасен от всех бед, а потому
Схария не боялся даже своего вещего сна, который до за¬
ри пугал его целым рядом последовательно развиваю¬
щихся злых предзнаменований.
Схария встал бодро, мастерски выпотрошил рыбу, ко¬
торую должен был сам приготовить, и пошел в синагогу,
где должен был объявить, как поступить с казаком, чтобы
он ездил, но никого не тревожил.
Ответ этот по своей простоте и краткости отдавал чем-
то библейским; он весь состоял в том, что пусть казак ез¬
дит, но пусть он оставляет лошадь где-нибудь со въезда
и ходит через местечко пешком; а главное, чтобы он не
смел ни к кому обращаться ни с каким словом. Тогда ему
нельзя будет никому грозить, никого пугать, и ничего он
не уложит себе под седло; а между тем комиссар с маио¬
ром будут играть, и дела в трактире Нахмана не остано¬
вятся, и всем будут идти добрые гешефты.
План был очень хорош, и его одобрили все евреи,
и комиссар, и наш маиор, который немедленно же отдал
429
в этом смысле точный приказ Ананьеву и затем закатил
сам на ту сторону отыгрываться.
Кажется, даже сам Ананьев, которого это всех прямее
касалось, и тот был этим доволен, и с великою клятвой
присягал маиору, что все то исполнит.
— Ей-богу,— сказал он: — я, ваше благородие, даже
рад, что этак уже по крайности с меня вся напраслина
снимется. А мне что с ними говорить? Бог с ними совсем;
нешто мне, кроме их, не с кем поговорить? Я и на своей
стороне поговорю.
Так большим и тонким дипломатическим умом Схарии
был улажен, ко всеобщему удовольствию, этот казусный
вопрос, и Схария, прекрасно проведя канун веселого
праздника, пошел держать с своей Хавой опочив, который
должен был дать ему силу и крепость потрудиться завтра
в честь победительного Амана и за столом, и за молитвой.
Но как в старенькой песенке поется: «что на счастье
прочно всяк надежду кинь», то этою ночью, когда Сха¬
рия улегся по всем правилам талмудической науки и спал
нагишом и на левом боку, изображая собой Исаака, поло¬
женного на жертвенник, ему опять привиделся тот же
зловещий сон вчерашней ночи и повторился во всех мель¬
чайших своих подробностях.
Это Схарию смутило тем более, что как ни точны на
все случаи жизни указания раввинов, но такое букваль¬
ное повторение сна ими, вероятно, не было предвидено
и во всей обширной науке Схарии не было рецепта, как
поправить это дело, да и не было уже времени его по¬
правлять; заря Пурима восходила, и Хава, соблюдая свой
супружеский долг, возвещала об этом толчком в бок сво¬
ему супругу.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Начался веселый Пурим; как подобает по написанно¬
му и по переданному дедами, все пришли утром в синаго¬
гу, мужчины и женщины, причем почти каждый захватил
с собою ножичек, гвоздь и молоток или колотушку. Каж¬
дый тотчас с прихода спешил нацарапать где-нибудь на
видном месте, на стене или на чем другом, имя Амана для
того, чтобы потом во время чтения книги Эсфирь «бить
Амана»,— то есть колотить по его выцарапанному имени,
пока оно изгладится. Кантор пропел громко исповедь,
прочитав урок из книги Закона; Схария, который старал-
430
ся скрыть свое смущение, откупил право обносить посреди
синагоги Закон, и все сыны Израиля целовали на руках
его священный свиток. После этого чтец зачитал книгу Эс¬
фири, и при первом же звуке «Аман» по синагоге раз¬
дался оглушительный стук молотков и колотушек, кото¬
рыми благочестивый народ усердно изглаживал ненавист¬
ное ему имя. Схария, как известный законник, действовал
всех ретивее. Он выгравировал пред собою имя Амана
крупнее и глубже, чем все другие, и с первого же раза
ударил по нем так ожесточенно, что случилось самое ужас¬
нейшее из ужасных происшествий: большая, надежная
колотушка Схарии сломалась в самой рукоятке, и нена¬
вистное имя Амана оставалось во всем своем очевид¬
ном значении неизглаженным. Рыжий-таки запечатал его
книгу...
Это был скандал невероятный и примета самая сквер¬
ная; порядок моленья нарушился; неизглаженного Схари¬
ей Амана должны были добить другие, что они и испол¬
нили с ожесточением общими силами, но, тем не менее,
Схария был страшно унижен и сконфужен. Все обаяние
его сразу пало в прах во мнении мятежного народа, ко¬
торый легко бунтовался даже против самого Моисея.
И Схария видел это и не удивлялся; предзнаменование
было слишком зловещее, чтобы строго религиозный чело¬
век не отшатнулся от того, над кем так видимо тяготеет
какое-то ужасное указание. Все сказали себе, что Схария
верно чем-нибудь без меры тяжко согрешил и что он не¬
пременно должен погибнуть. Все от него отшатнулись,
и кучки гуляющих в праздничном уборе удалялись от его
дома, как от зачумленного.
Положение было псаломское: господь удалил от Схарии
и друга, и искреннего, и приуготовлял его быть в мерзость
себе самому и в поношение людям.
Если из вас кто-нибудь так счастлив, что уже перехо¬
дил в жизни полосу, когда человек весь видит себя в ру¬
ке какой-то неодолимой власти, которая его мнет и тяго¬
тит, то вы можете понять это положение, а если вы еще сы¬
ры и не научены доброму смыслу и ведению, то вы и не
поймете, как в подобных случаях человек удивительно оду¬
ревает и начинает сам лезть на свою погибель. Все это
и проделал над собою в совершенстве Схария.
Мучительное сознание отвержения терзало его, но он
отправлял праздник по установлению и усердно старался
привести себя в такое состояние, когда благочестивый ев¬
рей перестает отличать Амана от Мардохея. Доспевая
431
к этому, Схария частенько подходил к укрепленному в угле
поставцу и после каждого стаканчика отходил к окну, ра¬
стопыривал пред собою обе руки и считал пальцы; но
хмель был не разымчив и число пальцев все оставалось
одно и то же: на двух руках и теперь, в Пурим, все было
десять пальцев, как будто в самый простой день.
С коих пор Схария себя помнил, с ним этого еще нико¬
гда не случалось. Не худо ли было винцо в баклажке, но
каждый Пурим он припасал себе одно и то же винцо, ко¬
торое черт его знает почему называется «розенвейн», хотя
состоит просто из смеси коньяку и воды. Проще сказать,
по-нашему это ополоски, которыми ополаскивают бочки из-
под красных французских вин, подправляют коньяком
и продают жидам, а те пьют и дуреют. В былые годы
Схария от этого розенвейна видел у себя на двух руках
пальцев по двадцати, и теперь чем туже это давалось, тем
он сильнее этого добивался. Он выпивал и, выпивая, рас¬
хаживал по комнате и размышлял: за что так разгневал¬
ся на него Всесильный и в самый Пурим отдал era
в посмеяние невеждам? Если он, Схария, чем-нибудь и со¬
грешил более или менее тяжко, если он даже когда-нибудь,
садясь за стол, позабыл вымыть руки, то ведь и это может
быть изглажено в такой праздник. Но сколько же у него,
Схарии, есть зато заслуг и святых дел? Не он ли, Сха¬
рия, всю свою жизнь подстерегал все грехи христиан, вы¬
ставлял их на вид своим старцам и детям и лучше всех
успокоивал их совесть в разрешении всяких присяг, клятв
и обещаний, данных христианину? Не он ли вредил хри¬
стианам неупустительно всегда и чем только мог? Не он
ли доказывал, как бедна и ничтожна христианская вера,
как она ничего не дает своим на земле, где они до сих пор
еще не научились, чтобы друга поддерживать, а в будущем
даже и не обещает им ничего такого, что бы могло согреть
внутренность? Как осязательно он умел представить награ¬
ды, которые ждут верных евреев. Он умел научать всех вот
именно в этот веселый праздник Пурим забывать все при¬
теснения и бедствия, которые они несут от ненавистных
христиан. Самого несчастного и бедного он приводил в рас¬
положение мечтать теперь о хорошем пиве, о крепком вине,
о рыбе Левиафане и о большом быке, которого пасут анге¬
лы и дают ему в день траву с тысячи гор.
Сердце Схарии сохло, и внутренность его требовала ро¬
зенвейна: он подошел к поставцу и сразу налил два запо¬
ведные сосуда: узкодонный бокал, из которого он пил, ко¬
гда женился на первой жене, бывшей девушкой, и стакан,
432
из которого поила его Хава, выходившая за него замуж
вдовой.
— Жены мои, развеселите меня хмелем винограда
и воспоминанием того, что было, когда мы в первый раз
пили вместе из этих стаканов!
Проговорив это, Схария духом проглотил узкодонный
бокал и стакан и, отойдя к окну, опять растопырил и пере¬
считал все свои пальцы.
Дело не подвигалось: на руках у Схарии продолжало
оставаться десять пальцев. Было очевидно, чтобы выби¬
ться из этого гнусного положения, надо было прибегнуть
к последним, самым действительным средствам и уже ниче¬
го не жалеть.
Схария так и сделал.
— Нет,— сказал он.— пусть это не будет так! Нет;
если уж на то пошло, то я уже ничего не пожалею и так
и быть я обновлю Закон в синагоге.
У этих суеверов «обновить», то есть пожертвовать
в синагогу новый свиток, все равно, что у игроков смарать
старые записи. Но это стоит дорого, потому что «обновить»
иначе нельзя, как чтобы новый свиток был параднее того,
который уже находится в употреблении.
Но Схария решил «обновить», и притом «без обмана»,
и объявил это Хаве.
— Жена моя, встань и слушай, слушай, что будет гово¬
рить твой муж, потому что я буду давать обет Богу и без
всякой хитрости, и что я ему обещаю, ты, Хава, будешь
тому свидетельница.
— Только не надо обещать грошей,— отозвалась Хава.
— Нет, ты молчи и слушай. Это не твое дело: я обе¬
щаю, Хава, что если над нами не будет ничего худого
и если я и ты, Хава, и все дети мои, и весь дом мой про¬
живем этот год здорово до другого Пурима, то я, Хава, буду
делать большие жертвы: я выпишу, Хава, из Вильны само¬
го лучшего писаря и прикажу ему списать весь Закон
на телячьем пергамене большими, ровными, как одна, ли¬
терами. И это будут, Хава, такие книги, каких у нас еще
не было: все они будут списаны без одной ошибки и кусок
пергамена будет пришит к другому куску воловьими жила¬
ми из быка, которого я сам заколю на это. И приколочу
я пергамен к крашеным палкам с золотыми цвяшками...
И это будет мой Закон... О-о-о-й, не мешай, не мешай
мне обещаться, Хава: я знаю, что ты хочешь говорить,
а ты только слушай. Тебе, Хава, не надо говорить, по¬
тому что я все знаю и даю обет Богу за то, чтобы он
433
меня хорошо охранил до другого Пурима... Да; и тебе зато
со мною хорошо будет, Хава. И когда все будет готово,
Хава, ты приготовишь тогда гугель и перцу с медом и вся¬
ких пряников, только таких, чтобы от них не болел креп¬
ко живот и никто, их поевши, не умер. Я куплю намочен¬
ных яблоков и всяких хороших плодов, и состроим балда¬
хин... О-о-о-й, не мешай, Хава, не мешай, мне это надо все
громче кричать, чтобы все ангелы слышали, что я обещаю!
Построим балдахин с золотом, Хава, и с серебром... да, Ха¬
ва,— с настоящим ясным золотом, как Соломон делал,
и будет балдахин на двадцати четырех высоких крашеных
палках, и все будут за те палки цепляться, а возьмут их
мои сыны и друзья, и мы одни понесем его посередине
всей улицы и впереди всех войдем в синагогу, а книги бу¬
дут нести раввины. Каждый раввин все будет нести всего
по пяти шагов и переменяться,— да... по пяти...
— И за то им всем надо платить? — решительно пере¬
била Хава.
— Да, Хава, да; всем надо будет платить,— отвечал
Схария: — и мы всем заплатим, Хава. Что же такое: мы
заплатим, но потом Бог отдаст нам всемеро... Ты, верно, за¬
бываешь, Хава, что Бог должен отдать нам все весемеро,
и даже больше как всемеро.
— Еще отдаст ли, и когда он отдаст!
— Хава, разве так можно говорить? Разве я не уче¬
ный человек, разве я не весь Закон знаю; разве это не
я тебе говорю? И как ты можешь мне не верить с одного
слова, когда я могу тебя за это отпустить.
— А если ты умрешь прежде, чем получишь от Бога
всемеро, какой тогда будет нам гешефт?
— Ага! вот ты опять не хорошо говоришь, Хава: право,
ты не хорошо говоришь, для чего же я умру: я за то обет
делаю, чтобы я не умер и был цел до другого Пурима, а ты
говоришь, что я умру. Знаешь, я опять теперь боюсь, Ха¬
ва, что твоя бабка была не Ева, а глупая Лалис, которая
докучала Адаму тем, что все спорила. Смотри, Хава, что¬
бы я за это не дал тебе развод.
Но Хава, относительно еще молодая жена Схарии, ко¬
торая была маловерна и довольно скупа, а к тому же знала
себе цену, решительно восстала против ценных обетов и,
указывая на преклонные годы Схарии и на свою относи¬
тельную молодость и на кучу здесь же шнырявших и ва¬
лявшихся по перинам детей, с совершенно несвойственною
еврейке самостоятельностью, решительно протестовала
против так торжественно произнесенного ее мужем обета.
434
Схария, как ни был преисполнен самой основательной
ученой солидности, не мог снести этой дерзости: он стал
сердиться, кричать, а наконец, видя, что не может побе¬
дить строптивой жены, сказал ей:
— Штиль! я завтра же напишу тебе разводное письмо,
да непременно! и велю писарю написать его ровными, одна
к одной буквами и без всякой ошибки, и ты его возьми
и ступай вон, и пусть имя твое изгладится в потомстве.
И Схария в гневе подошел опять к шкапу и налил себе
розенвейна, а Хава, которая не очень боялась изглаждения
своего имени, но очень боялась остаться без денег, спокой¬
но отвернулась к окну, но вдруг пронзительно вскрикнула.
— Что там? — спросил Схария.
— Казак,— прошептала Хава и указала на свои ворота,
в которые Ананьев тянул за повод свою длинноногую под¬
жарую лошадь.
Схария уронил стакан и, взглянув торопливо на свои
пальцы, увидал, что их ни одного нет... Да, совсем ни од¬
ного не было, а пред глазами только какой-то огромный
трясущийся паук косил во все стороны кривыми ногами.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Схария наладил свое дело! Его обет уже несомненно
принес свои плоды: исчезновение пальцев возвещало приб¬
лижение того вожделенного состояния, когда он не станет
отличать Амана от Мардохея, а тогда по его молитве будут
твориться чудеса, какие творились по молитве Рабба, убив¬
шего и воскресившего раввина Сиро. Меламед сообразил
это и быстро поправился: казак ему перестал быть страшен.
— Не смей кричать! — сказал он жене: — ты увидишь,
что я с ним сделаю.
— Нет, ты смотри, что он делает,— и Хава указала на
Ананьева, который в это время щелкнул нагайкой по боку
хозяйскую корову, что меланхолически жевала сено у обре¬
за, и, отогнав ее, поставил к сену свою донскую клячу.
— Это ничего,— отвечал Схария.
— А корове больно: она не даст молока, и когда у нее
заболит печенка, она будет треф.
— Если у нее заболит печенка, мы ее продадим хри¬
стианам и нам не будет никакого убытка.
— А когда он придет и будет просить есть.
— Он не может, Хава, просить, он ничего с нами гово¬
рить не смеет.
435
— А когда он станет пугать?
— Он не будет пугать!
— Почему не будет?
— Молчи: я знаю: он с нами ничего делать не
смеет.
— А как он украдет мою серебряную ложку?
— Ты сядь, Хава, на ложку; сядь на нее хорошенько,
как Рахиль, и он ее не украдет, а мне скорее подай из
шкапа лист бумаги и чернила, и смотри, и понимай, что
умно-преумно буду делать. Теперь смирно: он входит.
— И он с кем-то говорит, Схария,— робко прошептала
Хава.
— Молчи; пусть с кем хочет говорит, а с нами он гово¬
рить не будет. Тут я буду говорить; ты замечай, Хава, что
я буду говорить. Я буду очень умно говорить.
В это время сильный толчок из сеней отворил дверь,
и на пороге показался во весь свой огромный рост казак
Ананьев. По дипломатическим условиям своей поездки он
был безо всякого оружия, но с нагайкой, увесистость ко¬
торой уже испытала на себе Схариина корова.
Дети, видя казака, сначала было все сразу заплакали,
но когда Хава загребла их кучкой в угол и покрыла своею
ватною юбкой, они сейчас же стихли. В покое водворилось
мертвое молчание.
Казак немножко покачивался: он, очевидно, был пьян.
Это так и следовало. Пурим справлялся не на одной авст¬
рийской стороне, а и на нашей, где благочестивых евреев
еще более, чем в Австрии, и все они не менее австрийских
крепки в отеческих преданиях.
Момент был тягостный и острый, который, по-видимо¬
му, ни одна, ни другая сторона не знали, как прервать; но
это длилось не долго, и меламед первый дал почин к ожив¬
лению сцены.
Схария, как будто не обращая на казака внимания,
взял в руку перо и, глядя на него, заговорил по-русски:
— Ой, перо мое, перо! ой, кабы ты могло знать, мое
перо, что я с тобою буду делать? А я с тобою сейчас буду
писать все, что здесь будет говорить чужой человек, кото¬
рому ничего по сей бок ни с каким цезарским человеком го¬
ворить не велено. И как, что он скажет, я все сейчас запи¬
шу и пошлю то к комиссару, а комиссар отошлет москов¬
скому маиору, а московский маиор выбьет те слова кому
надо по-московски на спину, и будет тогда от этого чужо¬
му человеку совсем очень прескверно. Теперь слушай, мое
перо, и пиши хорошенько.
436
Проговорив это, Схария обмакнул перо, положил руку
на бумагу и приготовился писать; но писать было нечего.
Ананьев не обращался ни с одним словом ни к Схарии, ни
к его Хаве, ни к их детям, а, выслушав политичную речь
меламеда, повел против него свою политику.
Стоя посреди горницы, казак прежде всего вынул из
шаровар трубку и начал ее молча набивать. Потом закурил
трубку собственною спичкой, спрятал в шаровары кисет
и, усевшись на скамье за столом, вытащил из кармана ма¬
ленький белый миткалевый платочек и преосторожно-
осторожно начал его разворачивать.
Казак раскрывал свой платок, точно в нем был завер¬
нут какой-то драгоценный перстень, но, разумеется, ни
перстня, ни какой другой драгоценности в платке не было.
Это досконально видел и Схария, и его жена, и их дети,
и баба Оксана. Похоже было, что это какая-то хитрость,
и эта хитрость начинала всех занимать. Казак же продол¬
жал свое дело необыкновенно серьезно: он развернул пла¬
точек, сравнял все уголки вдвое, вчетверо, потом крест-
накрест и будто рассердился, что не так вышло, и опять
стал его встряхивать и наново складывать. Опять долго
и много он его встряхивал, переворачивал, смотрел на свет
и, заметив где-то пылинку на столе, сдул ее и начал рассти¬
лать и разглаживать лапами на этом месте свой платок,
а потом, положив на него свою нагайку, поласкал ее рукой,
как будто какого любимого кота, и повел с нею такое
слово:
— Ой, нагайка моя, нагайка! Распреумная ты, моя дру¬
жина, казачья кормилица. Много ты мне, государыня, со¬
служила всяких служб и еще сослужи, что я тебе буду те¬
перь сказывать. Не сердись, что я строго с тобой сейчас
обошелся, что должен был тебя об жидовскую корову хлоп¬
нуть; в этом ты сама виновата: зачем службу забываешь:
не припасла коню на дворе гарчик овса и корову раньше не
отогнала. Вот за то тебе и досталось, что ты свою дон¬
скую присягу забыла, за это я тебя и вперед не помилую.
Не хочешь бита быть — сама себя оберегай,— неси службу
верную: я сейчас теперь пойду к командиру и самою корот¬
кою дорогой, шибко побегу, а тебе приказываю, чтобы мне
здесь к моему приходу, вот на самом этом платочке, стояла
целая бутылка водки и тарелка перцу с жидовской рыбой,
и ты это непременно достань, а если не достанешь, то я те¬
бя схвачу тогда за ухо, да начну обо всех жидов хлопать,
пока у тебя ухо оторвется. Вот тебе в том и задаток, чтобы
знала, как тебе достанется!
437
При этом он взял нагайку в руки и, встав с места, так
ударил ею по скамейке, что та сразу же развалилась на¬
двое, а сам опять положил нагайку на платок и вышел, не
сказав хозяевам ни одного слова.
Впечатление было полное. Казак успел уже обогнуть угол
дома, а семья достопочтенного Схарии еще пристально
смотрела на мастерски разрезанную плетью скамью, кото¬
рая служила прообразованием того, что в самом недалеком
будущем должно случиться с ними самими, если только ум
и ученость Схарии не найдут средства отклонить жестокого
наказания, угрожавшего несчастной нагайке.
Первая обнаружила признаки этой заботливости Хава:
она выпустила из-под юбки детей и сказала мужу:
— Что ты себе думаешь, что он говорил с этой ногав¬
кой?
— Я думаю, что он совсем глупый.
— А что из этого, что он глупый, когда ей от этого ни¬
чего, а нам очень больно будет.
— Это правда.
— Видишь, что он сделал с нашей скамейкой.
— Он ее совсем испортил, Хава.
— Я не хочу, чтобы с нами так было, Схария.
— Да, лучше я буду думать, чтоб этого не было,—
отвечал он.
— Ты станешь думать и опять уснешь.
— Нет, Хава, я теперь не усну, теперь нельзя спать,
Хава.
— Нельзя спать, надо скорее послать Оксану за Шми¬
лем и Шлиомой, чтоб они шли с этим москалем биться.
— Нет, Хава, нет. Что такое биться? Из-за чего бить¬
ся? И они не придут, Хава, биться... Нет!.. Я сейчас вы¬
думаю; я сейчас выдумаю такое, что ты никогда не слыха¬
ла, да; я не пошлю Оксану ни за Шмилем, ни за Шлиомой,
потому что они будут потом на нас смеяться, а я пошлю
Оксану совсем в другое место. Оксана! что ты стоишь?
Ты ходи смело, совсем смело ходи. Ты иди в кладовую
и возьми все, что он говорил,— ты возьми рыбу, и ты
водку возьми, и ты поставь все это сейчас на столе. Да,
да, да, нечего тебе так на меня смотреть: я умный человек,
я знаю, что я говорю, потому что я не хочу, чтобы он бил
о меня и о моих детей свою знагайку. А он дурак. Если он
может думать, что эта знагайка может ему водки и рыбу
поставить — он дурак, и Коган Шлиома дурак. Мы поста¬
вим водку и рыбу, и этот казак завтра заедет до Шлиома
и опять все этак сделает, а Шлиом глупый человек, он рас¬
438
сердится и не поставит всего на стол и они оба будут один
с другим биться и оба друг друга убьют, и их за это обоих
повесят на высоком столбе, и поганая птица с большим но¬
сом сядет на них и будет их есть. А мы дадим этому ду¬
раку водки и рыбы и больше ничего, потому что у меня
есть настоящий ум, который все злое может переделать.
Пусть он думает, что ему все это принесла сюда его зна¬
гайка, и пусть сделает этак же завтра с Шлиомою. Вот
что я выдумал!
И Схария от нетерпения сам помогал скорее выставлять
на указанное казаком место бутылку вина и полмисок с ры¬
бой и был очень рад, что в эту же самую минуту в окне
мелькнула фигура Ананьева и чрез секунду находчивый
плут сам появился.
Одно, что не было приготовлено Ананьеву, это не по¬
ставили ему другой скамейки, но походный человек за этим
не гонится; наш же казак теперь был особенно скор и ре¬
шителен: он даже выпил всего одну рюмку водки, а всю
остальную бутылку спустил за голенище; а кушанье только
попробовал и заметил, что жиды очень мало рыбы в перец
кладут. А затем собрал все в платок и прочел казачью
молитву:
— Бог напитал — черт не видал, а если видел — не
обидел. И тебе, нагайка, спасибо: хорошо спроворила, за
то и не будешь о жидов бита; а теперь хочешь здесь оста¬
вайся, хочешь вели бабе, чтоб она несла тебя за мной
с почестью.
— Неси ее! — шепнул грозно Оксане Схария.
И та понесла нагайку за Ананьевым, который, войдя на
двор, отвязал от обреза свою клячу и стал подтягивать под¬
пруги, но вдруг слышит — баба говорит ему:
— Господа Москалю, а господа Москалю!
Казак посмотрел на нее и отвечает:
— Молчи, тетка, мне в вашем царстве с вами говорить
нельзя.
— Да мени от вас только одно слово треба
— Какое одно слово: худое или доброе?
— Скажите мени, чи вы чего у нас не вкралы?
— Что ты, что ты, дура! Разве мы не крещеные?
— Да що с того, что вы хрещены, да крадете, а меня
потом хозяева бить будут.
— Бить будут! Вот видишь, жизнь-то у вас какая горь¬
кая!
— Отдайте же що вы вкралы?
— Да отвяжись ты от меня, сделай милость, с такими
439
пустяками. Ты лучше молись Царице Небесной, чтобы мы
вас поскорей победили и за себя взяли, тогда тебя жид не
посмеет бить.
— Да що молиться, я и так молюсь, щоб и вы побиды¬
ли и щоб вас побидыли, а яки не побидятся, тих щобы си¬
ла Божа побидыла, тылько скажите, що вы у меня вкралы?
Казак и рассердился.
— Тьфу ты дура,— говорит: — с тобой и слов тратить
нечего!
Вскочил на коня и говорит:
— Подай мою нагайку.
Но Оксана, что бы вы думали:
— Эге,— говорит,— нет, вы мени отдайте, що вы
вкралы.
Тут Фомка Ананьев уже совсем взбесился, да к ней,
а она от него, да в сени заперлась, а нагайка у нее в руках
осталась. А казак туда-сюда, ломиться не смеет — и был
таков — ускакал на свою сторону. И вышла всех дально¬
виднее баба Оксана, а всех глупее мудрый Схария, который
тут только и понял, как он просто мог отделаться. С этой
поры мой Схария и стал у всех в посмешище и доживает
век в дураках, ожидая, пока придет час обмазать ему голо¬
ву сырым яйцом и зарыть его в землю. Вот вам и «страш¬
ный жид» с расчетом. Конечно, может быть, это к другим
в пример не идет, ну да я ведь это так рассказал, к тому,
что и рассчетливый просчитывается. Не взыщите. А теперь
спать бы! да если ночью тревога, пожалуйста вставать —
не копаться.
БЕЛЫЙ ОРЕЛ
(Фантастический рассказ)
Собаке снится хлеб, а рыба — рыбаку.
Феокрит (Идиллия)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
«Есть вещи на свете». С этого обыкновенно у нас при¬
нято начинать подобные рассказы, чтобы прикрыться Шек¬
спиром от стрел остроумия, которому нет ничего неизвест¬
ного. Я, впрочем, все-таки думаю, что «есть вещи» очень
странные и непонятные, которые иногда называют сверхъ¬
естественными, и потому я охотно слушаю такие рассказы.
По этому же самому, два-три года тому назад, когда мы,
умаляясь до детства, начали играть в духовидство, я охот¬
но присоседился к одному из таких кружков, уставом кото¬
рого требовалось, чтобы в наших собраниях по вечерам не
произносить ни одного слова ни о властях, ни о началах
мира земного, а говорить единственно о бесплотных ду¬
хах — об их появлении и участии в судьбах людей живу¬
щих. Даже «консервировать и спасать Россию» не дозво¬
лялось, потому что и в этом случае многие, «начиная за
здравие, все сводили за упокой».
На этом же основании строго преследовалось всякое
упоминовение всуе каких бы то ни было «больших имен»,
кроме единственного имени Божия, которое, как известно,
наичаще употребляется для красоты слога. Бывали, конеч¬
но, нарушения, но и то с большою осторожкой. Разве ка¬
кие-нибудь два нетерпеливейшие из политиков отобьются
к окну или к камину и что-то пошепчут, но и то один дру¬
гого предостерегает: «pas si haut!» А хозяин их уже на¬
зирает и шутя грозит им штрафом.
Каждый должен был по очереди рассказывать что-
нибудь фантастическое из своей жизни, а как уменье рас¬
сказывать дается не всякому, то к рассказам с художест¬
венной стороны не придирались. Не требовали также и до¬
1 Не так громко! (франц.)
441
казательств. Если рассказчик говорил, что рассказываемое
им событие действительно происходило с ним, ему верили
или по крайней мере притворялись, будто верят. Такой
был этикет.
Меня это больше всего занимало со стороны субъек¬
тивности. В том, что «есть вещи, которые не снились муд¬
рецам», я не сомневаюсь, но как такие вещи кому пред¬
ставляются — это меня чрезвычайно занимало. И в самом
деле, субъективность тут достойна большого внимания.
Как, бывало, ни старается рассказчик, чтобы стать в выс¬
шую сферу бесплотного мира, а всё непременно заметишь,
как замогильный гость приходит на землю, окрашиваясь,
точно световой луч, проходящий через цветное стекло.
И тут уже не разберешь, что ложь, что истина, а между
тем следить за этим интересно, и я хочу рассказать такой
случай.
ГЛАВА ВТОРАЯ
«Дежурным мучеником», то есть очередным рассказчи¬
ком, было довольно высокопоставленное и притом очень
оригинальное лицо, Галактион Ильич, которого в шутку
звали «худородный вельможа». В кличке этой скрывался
каламбур: он действительно был немножко вельможа
и притом был страшно худ, а вдобавок имел очень незнат¬
ное происхождение. Отец Галактиона Ильича был крепо¬
стным буфетчиком в именитом доме, потом откупщиком
и, наконец, благотворителем и храмоздателем, за что полу¬
чил в сей бренной жизни орден, а в будущей место в цар¬
стве небесном. Сына он обучал в университете и вывел
в люди, но «вечная память», которую пели ему над моги¬
лой в Невской лавре, сохранилась и тяготела над его на¬
следником. Сын «человека» достиг известных степеней
и допускался в общество, но шутка все-таки волокла за ним
титул «худородного».
Об уме и способностях Галактиона Ильича едва ли
у кого-нибудь были ясные представления. Что он мог сде¬
лать и чего не мог,— этого тоже наверно никто не знал.
Кондуит его был короток и прост: он в начале службы, по
заботам отца, попал к графу Виктору Никитичу Панину,
который любил старика за какие-то известные ему досто¬
инства и, приняв сына под свое крыло, довольно скоро
выдвинул его за тот предел, с которого начинаются
«ходы».
442
Во всяком случае надо думать, что он имел какие-
нибудь достоинства, за которые Виктор Никитич мог его
повышать. Но в свете, в обществе Галактион Ильич успеха
не имел и вообще не был избалован насчет житейских ра¬
достей. Он имел самое плохое, хлипкое, здоровье и фаталь¬
ную наружность. Такой же долгий, как его усопший пат¬
рон, граф Виктор Никитич,— он не имел, однако, внешнего
величия графа. Напротив, Галактион Ильич внушал ужас,
смешанный с некоторым отвращением. Он в одно и то же
время был типический деревенский лакей и типический жи¬
вой мертвец. Длинный, худой его остов был едва обтянут
сероватой кожей, непомерно высокий лоб был сух и желт,
а на висках отливала бледная трупная зелень, нос широкий
и короткий, как у черепа; бровей ни признака, всегда полу¬
открытый рот с сверкающими длинными зубами, а глаза
темные, мутные, совершенно бесцветные и в совершенно
черных глубоких яминах.
Встретить его — значило испугаться.
Особенностью наружности Галактиона Ильича было то,
что в молодости он был гораздо страшнее, а к старости ста¬
новился лучше, так что его можно было переносить без
ужаса.
Характера он был мягкого и имел доброе, чувствитель¬
ное и даже, как сейчас увидим,— сентиментальное сердце.
Он любил мечтать и, как большинство дурнорожих людей,
глубоко таил свои мечтания. В душе он был поэт больше,
чем чиновник, и очень жадно любил жизнь, которою нико¬
гда во все удовольствие не пользовался.
Несчастие свое он нес на себе и знал, что оно вечно
и неотступно с ним до гроба. В самом его возвышении по
службе для него была глубокая чаша горечи: он подозре¬
вал, что граф Виктор Никитич держал его при себе доклад¬
чиком больше всего в тех соображениях, что он производил
на людей подавляющее впечатление. Галактион Ильич ви¬
дел, что когда люди, ожидающие у графа приема, должны
были изложить ему цель своего прихода,— у них мерк
взор и подгибались колена... Этим Галактион Ильич много
содействовал тому, что после него личная беседа с самим
графом каждому была уже легка и отрадна.
С годами Галактион Ильич из чиновника докладываю¬
щего стал сам лицом, которому докладывают, и ему дано
было очень серьезное и щекотливое поручение в отдален¬
ной местности, где с ним и случилось сверхъестественное
событие, о котором ниже следует его собственный рас¬
сказ.
443
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
— Не с большим двадцать пять лет тому назад,—
начал худородный сановник,— до Петербурга стали дохо¬
дить слухи о многих злоупотреблениях власти губернатора
П—ва. Злоупотребления эти были обширны и касались
почти всех частей управления. Писали, будто губернатор
собственноручно бил и сек людей; забирал вместе с пред¬
водителем для своих заводов всю местную поставку вина;
брал произвольные ссуды из приказа; требовал к себе для
пересмотра всю почтовую корреспонденцию — подходящее
отправлял, а неподходящее рвал и метал в огонь, а потом
мстил тем, кто писал; томил людей в неволе. А при этом
он был, однако, артист; содержал большой, очень хороший
оркестр, любил классическую музыку и сам превосходно
играл на виолончели.
Долго о его бесчинствах доносились только слухи, но
потом взялся там один маленький чиновник, который при¬
тащился сюда в Петербург, очень обстоятельно и в подроб¬
ности описал всю эпопею и подал ее сам в надлежащие
руки.
История выходила такая, что хоть сейчас сенаторскую
ревизию назначать. По-настоящему оно так бы и следова¬
ло, но и губернатор и предводитель были на лучшем счете
у покойного государя, а потому взяться за них было не сов¬
сем просто. Виктор Никитич хотел прежде обо всем удо¬
стовериться поточнее через своего человека, и выбор его
пал на меня.
Призывает он меня и говорит:
«Так и так, доходят вот такие и такие печальные вести,
и, к сожалению, кажется, в них как будто есть статочность;
но прежде, чем дать делу какое-нибудь движение, я желаю
в этом поближе удостовериться и решил употребить на это
вас».
Я кланяюсь и говорю:
«Если могу, буду очень счастлив».
«Я уверен,— отвечает граф,— что вы можете, и я на вас
полагаюсь. У вас есть такой талант, что вам вздоров гово¬
рить не станут, а всю правду выложат».
Талант этот,— пояснил, тихо улыбнувшись, рас¬
сказчик,— это моя печальная фигура, наводящая уныние
на фронт: но кому что дано, тот с тем и мыкайся.
«Бумаги все для вас уже готовы,— продолжал граф,—
и деньги тоже. Но вы едете только по одному нашему ве¬
домству... Понимаете, только!»
444
«Понимаю»,— говорю.
«Ни до каких злоупотреблений по другим ведомствам
вам как будто дела нет. Но это только так должно ка¬
заться, что нет, а на самом деле вы должны узнать все.
С вами поедут два способных к делу чиновника. Приез¬
жайте, засядьте за дело и вникайте будто всего вниматель¬
нее в канцелярский порядок и формы судопроизводства,
а сами смотрите во всё... Призывайте местных чиновников
для объяснений и... смотрите построже. А назад не торо¬
питесь. Я вам дам знать, когда вернуться. Какая у вас пос¬
ледняя награда?»
Я отвечаю:
«Владимир второй степени с короной».
Граф снял своей огромной рукою его известный тяже¬
лый бронзовый пресс-папье «убитую птичку», достал из-
под него столовую памятную тетрадь, а правою рукою все¬
ми пятью пальцами взял толстый исполин-карандаш чер¬
ного дерева и, нимало от меня не скрывая, написал мою
фамилию и против нее «белый орел».
Таким образом я знал даже награду, которая ожидала
меня за исполнение возложенного на меня поручения,
и с тем совершенно спокойный уехал на другой же день
из Петербурга.
Со мною был мой слуга Егор и два чиновника из сена¬
та — оба люди ловкие и светские.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Доехали мы, разумеется, благополучно; прибыв в город,
наняли квартиру и расположились все: я, мои два чинов¬
ника и слуга.
Помещение было такое удобное, что я вполне мог отка¬
заться от удобнейшего, которое мне предупредительно
предлагал губернатор.
Я, разумеется, не хотел быть ему обязан ни малейшей
услугой, хотя мы с ним, конечно, не только разменялись
визитами, но даже я раз или два был у него на его гай¬
деновских квартетах. Но, впрочем, я до музыки не боль¬
шой охотник и не знаток, да и вообще, понятно, старался
не сближаться более, чем мне нужно, а нужно мне было
видеть не его галантность, а его темные деяния.
Впрочем, губернатор был человек умный и ловкий
и своим вниманием мне не докучал. Он как будто оставил
меня в покое возиться с входящими и исходящими реги¬
445
страми и протоколами, но тем не менее я все-таки чувство¬
вал, что вокруг меня что-то копошится, что люди выщупы¬
вают, с какой бы стороны меня уловить и потом, вероятно,
запутать.
К стыду рода человеческого должен упомянуть, что не
считаю в этом совсем безучастными даже и прекрасный
пол. Ко мне стали являться дамы то с жалобами, то с про¬
сьбами, но при всем этом всегда еще с такими планами,
которым я мог только подивиться.
Однако я вспомнил совет Виктора Никитича,— «по¬
смотрел построже», и грациозные видения сникли с моего,
неподходящего для них, горизонта. Но мои чиновники име¬
ли в этом роде успехи. Я это знал и не препятствовал им
ни волочиться, ни выдавать себя за очень больших людей,
за каких их охотно принимали. Мне было даже полезно,
что они там кое-где вращаются и преуспевают в сердцах.
Я требовал только, чтобы не случилось никакого скандала
и чтобы мне было известно, на какие пункты их общитель¬
ности сильнее налегает провинциальная политика.
Они были ребята добросовестные и всё мне открывали.
От них всё хотели узнать мою слабость и что я особенно
люблю.
Им бы поистине этого никогда не добраться, потому
что, благодаря Бога, особенных слабостей у меня нет, да
и самые вкусы мои, с коих пор себя помню, всегда были
весьма простые. Ем я всю жизнь стол простой, пью обык¬
новенно одну рюмку простого хересу, даже и в лакомст¬
вах, до которых смолоду был охотник,— всяким тонким
желе и ананасам предпочитаю астраханский арбуз, курскую
грушу или, по детской привычке, медовый папошник. Не
завидовал я никогда ничьему богатству, ни знаменитости,
ни красоте, ни счастью, а если чему завидовал, то, можно
сказать, разве одному здоровью. Но и то слово зависть не
идет к определению моего чувства. Вид цветущего здоровь¬
ем человека не возбуждал во мне досадливой мысли: зачем
он таков, а я не таков. Напротив, я глядел на него только
радуясь, какое море счастия и благ для него доступно,
и тут, бывало, разве иногда помечтаю на разные лады
о невозможном для меня счастии пользоваться здоровьем,
которого мне не дано.
Приятность, которую доставлял мне вид здорового че¬
ловека, развила во мне такую же странность в эстетиче¬
ском моем вкусе: я не гонялся ни за Тальони, ни за Бозио
и вообще был равнодушен как к опере, так и к балету, где
все такое искусственное, а больше любил послушать цыган
446
на Крестовском. Их этот огонь и пыл, эта их страстная си¬
ла движений мне лучше всего нравились. Иной даже не
красив, корявый какой-нибудь, а пойдет — точно сам сата¬
на его дергает, ногами пляшет, руками машет, головой вер¬
тит, талией крутит — весь и колотит, и молотит. А тут
в себе знаешь только одни немощи, и поневоле заглядишь¬
ся и замечтаешься. Что с этим можно вкусить на пиру
жизни?
Вот я и сказал моему чиновнику:
«Если вас, друг мой, будут еще расспрашивать: что мне
более всего нравится, скажите, что здоровье, что я больше
всего люблю людей бодрых, счастливых и веселых».
— Кажется, тут нет большой неосторожности? — при¬
остановясь, вопросил рассказчик.
Слушатели подумали, и несколько голосов отвечали:
— Конечно, нет.
— Ну и прекрасно, и я тоже думал, что нет, а теперь
вы извольте дальше слушать.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Ко мне из палаты присылали в мое распоряжение на
дежурство чиновника. Так, он докладывал мне о приходя¬
щих, отмечал кое-что, и, в случае надобности, сообщал
адресы, за кем надо было послать или о чем-нибудь схо¬
дить справиться. Чиновник дан был под стать мне — пожи¬
лой, сухой и печальный. Впечатление производил нехоро¬
шее, но я мало обращал на него внимания, а звали его,
как я помню, Орнатский. Фамилия прекрасная, точно герой
из старинного романа. Но вдруг в один день говорят:
Орнатский занемог, и вместо его экзекутор прислал дру¬
гого чиновника.
— Какой такой? — спрашиваю,— может быть, я лучше
бы подождал, пока Орнатский выздоровеет.
— Нет-с,— отвечает экзекутор,— Орнатский теперь
не скоро,— он запил-с, и запой у него продолжится, пока
Ивана Петровича мать его выпользует, а о новом чиновни¬
ке не извольте беспокоиться: вам вместо Орнатского са¬
мого Ивана Петровича назначили.
Я на него смотрю и немножечко не понимаю: про како¬
го это он мне про самого Ивана Петровича говорит, и в
двух строках два раза его проименовал.
— Что это,— говорю,— за Иван Петрович?
— Иван Петрович!.. это который у регистратуры си¬
447
дит — помощник. Я думал, что вы его изволили заметить:
самый красивый, его все замечают.
— Нет,— говорю,— я не заметил, а как его зовут?
— Иван Петрович.
— А фамилия?
— Фамилия...
Экзекутор сконфузился, взялся тремя пальцами за лоб
и силился припомнить, но вместо того, почтительно улы¬
баясь, добавил:
— Простите, ваше превосходительство, вдруг как
столбняк нашел и не могу вспомнить. Фамилия его Акви¬
ляльбов, но мы все его называем просто Иван Петрович
или иногда в шутку «Белый орел» за его красоту. Человек
прекрасный, на счету у начальства, жалованья по должности
помощника получает четырнадцать рублей пятнадцать ко¬
пеек, живет с матушкой, которая некоторым гадает и поль¬
зует. Позвольте представить: Иван Петрович дожидается.
— Да, уж если так нужно, то попросите, пожалуйста,
сюда этого Ивана Петровича.
«Белый орел! — думаю себе,— что это за странность.
Мне орден следует белый орел, а не Иван Петрович».
А экзекутор приотворил дверь и крикнул:
— Иван Петрович, пожалуйте.
Я не могу вам его описывать без того, чтобы не впадать
в некоторый шарж и не делать сравнений, которые вы мо¬
жете счесть за преувеличения, но я вам ручаюсь, что как
бы я ни старался расписать вам Ивана Петровича — живо¬
пись моя не может передать и половины красот ориги¬
нала.
Передо мною стоял настоящий «Белый орел», формен¬
ный Aquila alba, как его изображают на полных парад¬
ных приемах у Зевса. Высокий, крупный, но чрезвычайно
пропорциональный мужчина, и такого здорового вида, буд¬
то он никогда не горел и не болел, и не знал ни скуки, ни
усталости. От него пышило здоровьем, но не грубо, а как-
то гармонично и привлекательно. Цвет лица у Ивана Пет¬
ровича был весь нежно-розовый с широким румянцем, ще¬
ки обрамлены светло-русым пушком, который, однако, уже
переходил в зрелую растительность. Лет ему было как раз
двадцать пять; волосы светлые, слегка волнистые, blonde,
и такая же бородка с нежной подпалиной, и синие глаза под
темными бровями и в темных ресницах. Словом, сказочный
богатырь Чурило Апленкович не мог быть лучше. Но при¬
бавьте к этому смелый, очень осмысленный и весело-откры¬
1 Белый орел (лат.).
448
тый взгляд, и вы имеете перед собою настоящего красав¬
ца. Одет он в вицмундир, который сидел отлично, и темно-
гранатного цвета шарф с пышным бантом.
Тогда носили шарфы.
Я и залюбовался Иваном Петровичем и, зная, что про¬
извожу на людей, первый раз меня видящих, впечатление
не легкое, сказал запросто:
— Здравствуйте, Иван Петрович!
— Здравия желаю, ваше превосходительство,— отве¬
чал он очень задушевным голосом, который тоже показался
мне чрезвычайно симпатичным.
Говоря ответную фразу в солдатской редакции, он, од¬
нако, мастерски умел дать своему тону оттенок простой
и вполне позволительной шутливости, и в то же время
один этот ответ устанавливал для всей беседы характер
своего рода семейной простоты.
Мне становилось понятным, почему этого человека
«все любят».
Не видя никакой причины мешать Ивану Петровичу
держать его тон, я сказал ему, что я рад с ним познако¬
миться.
— И я с своей стороны тоже считаю это для себя за
честь и за удовольствие,— отвечал он, стоя, но выступив
шаг вперед своего экзекутора.
Мы раскланялись,— экзекутор ушел на службу, а Иван
Петрович остался у меня в приемной.
Через час я попросил его к себе и спросил:
— У вас хороший почерк?
— У меня характер письма твердый,— отвечал он
и сейчас же добавил: — Вам угодно, чтобы я что-нибудь
написал?
— Да, потрудитесь.
Он сел за мой рабочий стол и через минуту подал мне
лист, посередине которого четкою скорописью «твердого
характера» было написано: «Жизнь на радость нам дана.—
Иван Петров Аквиляльбов».
Я прочел и неудержимо рассмеялся: лучше того, что он
написал, не могло к нему идти никакое выражение. «Жизнь
на радость»; вся жизнь для него сплошная радость!
Совсем в моем вкусе человек!..
Я дал ему переписать на моем же столе малозначитель¬
ную бумагу, и он сделал это очень скоро и без малейшей
ошибки.
Потом мы расстались. Иван Петрович ушел, а я остался
один дома и предался своей болезненной хандре, и при-
15. Н. С. Лесков, т. 5.
449
знаюсь — черт знает почему, несколько раз переносился
мыслию к нему, то есть к Ивану Петровичу. Ведь вот он,
небось, не охает и не хандрит. Ему жизнь на радость дана.
И где это он проживает ее с такой радостью на свои че¬
тырнадцать рублей... Поди, пожалуй, в карты счастливо
играет, или тоже взяточки перепадают... А может быть,
купчихи... Недаром у него этот такой свежий гранатный
галстух...
Сижу за раскрытыми передо мною во множестве дела¬
ми и протоколами, а думаю о таких бесцельных, вовсе до
меня не относящихся пустяках, а в это самое время человек
докладывает, что приехал губернатор.
Прошу.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Губернатор говорит:
— У меня послезавтра квинтет,— надеюсь, будет не¬
дурно сыграно, и дамы будут, а вы, я слышал, захандри¬
ли у нас в глуши, и приехал вас навестить и просить на
чашку чаю — может быть, не лишнее будет немножко раз¬
влечься.
— Покорно вас благодарю, но отчего вам кажется, что
я хандрю?
— По Ивана Петровича замечанию.
— Ах, Иван Петрович! Это который у меня дежурит?
И вы его знаете?
— Как же, как же. Это наш студент, артист, хорист,
ко только не аферист.
— Не аферист?
— Нет, он так счастлив, как Поликрат, ему не надо
быть аферистом. Он всеобщий любимец в городе — и не¬
пременный член по части всяких веселостей.
— Он музыкант?
— Мастер на все руки: спеть, сыграть, протанцевать,
веселые фанты устроить — все Иван Петрович. Где пир,
там и Иван Петрович: затевается аллегри или спектакль
с благотворительною целью — опять Иван Петрович. Он
и выигрыши распределит, и вещицы всех красивее расста¬
вит; сам декорации нарисует, а потом сейчас из маляра
в актера на любую роль готов. Как он играет королей, дя¬
дюшек, пылких любовников — это загляденье, но особенно
хорошо он старух представляет.
— Будто и старух!
450
— Да удивительно! вот я к послезавтрашнему вечеру,
признаться, и готовлю с помощью Ивана Петровича ма¬
ленький сюрприз. Будут живые картины.— Иван Петрович
их поставит. Разумеется, будут и такие, что ставятся для
дам, желающих себя показать, но три будут иметь кое-
что и для настоящего художника.
— Это сделает Иван Петрович?
— Да, Иван Петрович. Картины представляют «Саула
у волшебницы андорской». Сюжет, как известно, библей¬
ский, а расположение фигур несколько дутое, что называет¬
ся «академическое», но тут все дело в Иване Петровиче.
На одного его все и будут смотреть — особенно когда при
втором открытии картины обнаружится наш сюрприз. Вам
я могу сказать этот секрет. Картина открывается, и вы уви¬
дите Саула: это царь, царь с головы до ног! Он будет одет,
как все. Ни малейшего отличия, потому что по сюжету
Саул приходил к волшебнице переодетым, так чтобы она
его не узнала, но его нельзя не узнать. Он царь, и притом
настоящий библейский царь-пастух. Но занавес упадет,
фигура быстро изменяет свое положение: Саул лежит ниц
перед явившейся тенью Самуила.— Саула теперь все равно
что нет, но зато какого видите Самуила в саване!.. Это
вдохновеннейший пророк, на раменах которого почиет сила
в лице, величие и мудрость. Этот мог «повелеть царю
явиться и в Вефиле и в Галгалах».
— И это будет опять Иван Петрович?
— Иван Петрович! но ведь это не конец. Если попро¬
сят повторения,— в чем я уверен и сам о том позабочусь,—
то мы вас не станем томить задами, а вы увидите продол¬
жение эпопеи.
Новая сцена из жизни Саула будет совсем без Саула.
Тень исчезла, царь и сопровождавшие его вышли; в двери
можно заметить только кусок плаща на спине последней
удаляющейся фигуры, а на сцене одна волшебница...
— И это опять Иван Петрович!
— Разумеется! Но ведь вы перед собою увидите не
то, как изображают ведьм в «Макбете»... Никакого столб¬
някового ужаса, ни ломки, ни кривляний, но вы увидите
лицо, которое знает то, что не снилось мудрецам. Вы уви¬
дите, как страшно говорить с выходцем из могилы.
— Воображаю,— отвечал я, будучи всемерно далек от
мысли, что не пройдет трех дней, как мне приведется не
воображать, а на самом себе испытывать такую пытку.
Но это пришло после, а теперь все было полно одним
Иваном Петровичем — этим веселым, живым человеком,
451
который вдруг, как боровичок после грибного дождичка, из
муравы выскочил, не велик еще, а отовсюду его видно,—
все на него поглядывают и улыбаются: «Вот-де какой кре¬
пенький да хорошенький».
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Я вам передавал, что говорил о нем его экзекутор
и губернатор, а когда я полюбопытствовал, не слыхал ли
чего-нибудь о нем один из моих чиновников светского на¬
правления, так они оба враз заговорили, что встречали его
и что он в самом деле очень мил и хорошо поет с гитарой
и с фортепиано. И им он тоже нравился. На другой день
заходит протопоп. Он, как я побывал у него в церкви, вся¬
кий праздник приносил мне просфору и на всех священно¬
ябедничал. Он ни о ком хорошо не говорил и в этом отно¬
шении не делал исключения и для Ивана Петровича, но за¬
то священноябедник знал не только природу всякой вещи,
но и ее происхождение. Про Ивана Петровича он сам
начал:
— Вам чинца обменили. Это все с умыслью...
— Да,—говорю,— какого-то Ивана Петровича дали.
— Ведом нам, как же, довольно ведом. Мой свояк, на
которого место я сюда переведен с обязательством воспи¬
тать сирот, он его и крестил... Отец-то тоже был из ко¬
локольных дворян... в приказные вышел, а мать... Кира
Ипполитовна... Такое у нее имечко,— она по страстной
любви к его родителю уходом за него ушла... Скоро, одна¬
ко, вкусила и горечи любовного зелья, а потом и овдовела.
— Она сама сына воспитывала?
— Да какое его воспитание: в гимназии классов пять
проучился, да и пошел в писатели в уголовную палату...
со временем помощником сделали... А счастлив очень:
в прошлом году коня с седлом в лотерею выиграл и с гу¬
бернатором на охоту нынче за зайцами ездил... Фортепиан,
полковые выходили, так разыгрывали,— опять тоже ему
достался. Я пять билетов взял и не выиграл, а он всего
один, да и на тот получил. Сам музычит и Татьяну учит.
— Это кто же — Татьяна?
— Сиротку они взяли — ничего себе... черномазенькая.
Он ее обучает.
Весь день проговорили об Иване Петровиче, а вечером
слышу, у моего Егора в комнатке что-то жужжит. Зову
его и спрашиваю, что это у тебя такое?
452
— Это,— отвечает,— я пропилеи делаю.
— Что еще за пропилеи?
Иван Петрович, обратив внимание, что Егор скучает от
бездействия, принес ему пилок и дощечек от сигарных
ящиков с наклеенными узорами и научил его подставочки
выпиливать.— Заказ дал к лотерее.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Утром в тот день, когда Иван Петрович вечером дол¬
жен был и играть и всех удивлять в картинах на пиру
у губернатора, я не хотел его задерживать, но он оставал¬
ся при мне до обеда и даже очень насмешил меня. Я по¬
шутил, что ему надо бы жениться, а он отвечал, что
предпочитает остаться «в девушках». В Петербург его
звал.
— Нет,— говорит,— ваше превосходительство, меня
здесь все любят, да и мать, и сиротка Таня у нас есть,
я их люблю, а они для Петербурга не годятся.
Удивительно какой гармоничный молодой человек!
Я его даже обнял за эту любовь к матери и сиротке, и мы
расстались за три часа до картин.
На прощанье я сказал:
— Нетерпеливо жду вас видеть в разных видах.
— Надоем,— отвечал Иван Петрович.
Он ушел, а я пообедал один и прикорнул в кресле,
чтобы быть бодрее, но Иван Петрович не дал мне за¬
снуть: он меня скоро и немножко странно потревожил.
Вдруг вошел очень спешной походкой, шумно оттолкнул
ногою стоявшие посередине комнаты стулья и говорит:
— Вот можете меня видеть; но только покорно вас
благодарю — вы меня сглазили. Я вам за это отомщу.
Я проснулся, позвонил человека и велел подавать оде¬
ваться, и сам себе подивился: как ясно привиделся мне во
сне Иван Петрович!
Приезжаю к губернатору — все освещено, и гостей
уже много, но сам губернатор, встречая меня, шепчет:
— Расстроилась самая лучшая часть программы: кар¬
тины не могут состояться.
— А что случилось?
— Тссс... я не хочу говорить громко, чтобы не портить
общего впечатления. Иван Петрович умер.
— Как!.. Иван Петрович!.. умер?!
— Да, да, да,— умер.
453
— Помилуйте,— он три часа тому назад был у меня,
здоров-здоровешенек.
— Ну и вот, придя от вас, прилег на диван да
и умер... И вы знаете... я должен вам сказать на тот слу¬
чай, чтобы его мать... она в таком безумии, что может
прибежать к вам... Она, несчастная, убеждена, что вы
и есть виновник смерти сына.
— Каким образом? Отравили его у меня, что ли?
— Этого она не говорит.
— Что же она говорит?
Что вы Ивана Петровича сглазили!
— Позвольте...— говорю,— что за пустяки!
— Да, да, да,— отвечает губернатор,— все это, разу¬
меется, глупости, но ведь здесь провинция — здесь глупо¬
стям охотнее верят, чем умностям. Разумеется, не стоит
обращать внимания.
В это время губернаторша предложила мне карту.
Я сел, но что я только выносил за этою мучительною
игрою — и сказать вам не могу. Во-первых, мучит созна¬
ние, что этот милый молодой человек, которым я так лю¬
бовался, лежит теперь на столе, а во-вторых, мне беспре¬
станно кажется, что все о нем шепчут и на меня указы¬
вают: «сглазил», даже слышу это глупое слово «сглазил,
сглазил», а в-третьих, позвольте вам за истину сказать —
я вижу везде самого Ивана Петровича!.. Так глаз, что ли,
наметался — куда ни взгляну — все Иван Петрович... То
он ходит, прогуливается по пустой зале, в которую откры¬
ты двери; то стоят двое разговаривают — и он возле них,
слушает. Потом вдруг около самого меня является
и в карты смотрит... Тут я, разумеется, и понесу с рук что
попало, а мой vis-a-vis обижается. Наконец даже другие
стали это замечать, и губернатор шепнул мне на ухо:
— Это вам Иван Петрович портит: он вам мстит за
себя.
— Да,— говорю,— я действительно расстроен, и мне
очень нездоровится. Я прошу позволения расписать игру
и меня уволить.
Это одолжение мне сделали, и я сейчас же поехал до¬
мой. Но я еду на санях, и Иван Петрович со мною —
то рядом сидит, то на облучке с кучером явится, а лицом
ко мне.
Думаю: не горячка ли у меня начинается?
Приехал домой — еще хуже. Чуть лег в постель и по¬
гасил огонь,— Иван Петрович сидит на краю кровати
и даже говорит:
454
— Вы,— говорит,— меня ведь в самом деле сглазили,
я и умер, а мне никакой надобности не было так рано уми¬
рать. В том-то и дело!.. Меня все так любили, и тоже
матушка, и Танюша — она еще недоучена. Какое им от
этого ужасное горе!
Я позвал человека и, как это ни было неловко, велел
ему лечь у себя на ковре, но Иван Петрович не боится;
куда ни оборочусь — он торчит передо мною, да и баста.
Насилу я утра дождался и первым делом послал одного
из своих чиновников к матери покойного, чтобы отвез и как
можно деликатнее передал ей триста рублей на похороны.
Тот возвращается и привозит деньги назад: говорит —
не приняли.
— Что же,— спрашиваю,— сказали?
— Сказали, что «не надо: его добрые люди похоронят».
Я, значит, был на счету злых.
А Иван-то Петрович, как только я про него вспомню,
сейчас тут и есть.
В сумерки не мог оставаться спокойно: взял извозчи¬
ка и сам поехал, чтобы взглянуть на Ивана Петровича
и поклониться. Это ведь в обычае, и я думал, что никого
не обеспокою. А в карман взял все, что мог,— семьсот руб¬
лей, чтобы упросить их принять хоть для Тани.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Видел Ивана Петровича: лежит «Белый орел» как под¬
стреленный.
Таня тут же ходит. Такая, действительно, чернома¬
зенькая, лет пятнадцати, в коленкоровом трауре и все по¬
койника оправляет. По голове его поправит и поцелует.
Какое терзание это видеть!
Попросил ее: нельзя ли мне поговорить с матерью Ива¬
на Петровича.
Девушка отвечала: «хорошо» и пошла в другую комна¬
ту, а через минуту отворяет дверь и приглашает взойти, но
только что я вошел в комнату, где сидела старушка, та сей¬
час встала и извиняется:
— Нет, простите меня,— я напрасно на себя понадея¬
лась, я не могу вас видеть,— и с этим ушла.
Я был не обижен и не сконфужен, а просто подавлен,
и обратился к Тане:
— Ну, хоть вы, молодое существо, может быть, вы мо¬
жете быть ко мне добрее. Ведь я же, поверьте, не желал
455
и не имел причины желать Ивану Петровичу какого-нибудь
несчастия, а тем меньше смерти.
— Верю,— уронила она.— Ему никто не мог желать
ничего дурного — его все любили.
— Поверьте, что в два-три дня, которые я его видел,
и я полюбил его.
— Да, да,— сказала она.— О, эти ужасные «два-три
дня» — зачем они были? Но тетя это в горе так обошлась
с вами; а мне вас жалко.
И она протянула мне обе ручки.
Я взял их и сказал:
— Благодарю вас, милое дитя, за эти чувства; они
делают честь и вашему сердцу и благоразумию. Нельзя
же, в самом деле, верить такому вздору, будто я его
сглазил!
— Знаю,— отвечала она.
— Так явите же мне ласку... сделайте мне одолжение
во имя его!
— Какое одолжение?
— Возьмите вот этот конверт... тут немножко денег...
это на домашние надобности... для тети.
— Она не примет.
— Ну, для вас... для вашего образования, о котором
заботился Иван Петрович. Я глубоко уверен, что он бы
это оправдал.
— Нет; благодарю вас, я не возьму. Он никогда ни
у кого ничего не брал даром. Он был очень, очень благо¬
родный.
— Но вы меня этим огорчаете... вы, значит, на меня
сердитесь.
— Нет, не сержусь. Я вам дам доказательство.
Она раскрыла лежавший на столе французский учебник
Олендорфа, торопливо достала лежавшую там между стра¬
ниц фотографическую карточку Ивана Петровича и, пода¬
вая ее мне, сказала:
— Вот это он положил. До сих пор мы вчера доучи¬
лись. Возьмите это от меня на память.
Тем свидание и кончилось. На другой день Ивана Пет¬
ровича хоронили, а потом я еще дней восемь оставался
в городе, и все в той же мучительности. Ночью нет сна;
прислушиваюсь к каждому шороху; открываю фортки
в окнах, чтобы хоть с улицы долетал какой-нибудь свежий
человеческий голос. Но мало пользы: идут два человека,
разговаривают,— прислушиваюсь,— про Ивана Петровича
и про меня.
456
— Вот здесь,— говорят,— живет этот черт, что Ивана
Петровича сглазил.
Поет кто-то, возвращаясь в тишине ночи домой: слы¬
шу, как у него снег под ногами хрустит, разбираю слова:
«Ах, бывал я удал»,— жду, когда певец поравняется с мо¬
им окном,— гляжу — это сам Иван Петрович. А тут еще
и отец протоиерей жалует и шепчет:
— Сглаз и приурок есть, да ведь это цыплят глазят,
а Ивана Петровича отравили...
Мучительно!
— Для чего и кто мог его отравить?
— Опасались, чтобы он вам всего не рассказал... Его
бы непременно надо было распотрошить. Жаль, что не рас¬
потрошили. Яд бы нашли.
Господи! избавь меня хотя от этой подозрительности!
Наконец вдруг совершенно неожиданно получаю кон¬
фиденциальное письмо от директора канцелярии, что граф
предписывает мне ограничиться тем, что я успел сделать,
и нимало не медля вернуться в Петербург.
Я был очень этому рад, в два дня собрался и уехал.
Дорогою Иван Петрович не отставал — нет, нет, да
и покажется, но теперь, от перемены ли места или оттого,
что человек ко всему привыкает, я осмелел и даже привык
к нему. Мотается он у меня в глазах, а я уже ничего; да¬
же иногда в дремоте как будто друг с другом шутим. Он
грозится:
— Пробрал я тебя!
А я отвечаю:
— А ты все-таки по-французски не выучился!
А он отвечает:
— На что мне учиться: я теперь отлично самоучкой
жарю.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
В Петербурге я почувствовал, что мною не то что не¬
довольны, а хуже, как-то сожалительно, как-то странно на
меня смотрят.
Сам Виктор Никитич видел меня всего одну минуту
и не сказал ни слова, но директору, который был женат
на моей родственнице, он говорил, что ему кажется, будто
я нездоров...
Разъяснений не было. Через неделю подошло Рождество,
а потом Новый год. Разумеется, праздничная сутолока —
457
ожидание наград. Меня это не сильно озабочивало, тем
более что я знал мою награду — «Белый орел». Родственни¬
ца моя, что за директором, еще накануне мне и орден с лен¬
той в подарок прислала, и я положил в бюро и орден, и кон¬
верт с ста рублями для курьеров, которые принесут приказ.
Но ночью вдруг толк меня в бок Иван Петрович и под
самый под нос мне шиш. При жизни он был гораздо дели¬
катнее, и это совсем не отвечало его гармонической натуре,
а теперь, как сорванец, ткнул шиш и говорит:
— С тебя пока вот этого довольно. Мне надо к бедной
Тане,— и сник.
Встаю утром.— Курьеров с приказом нет. Спешу к зя¬
тю узнать: что это значит?
— Ума,— говорит,— не приложу. Было, стояло,
и вдруг точно в печати выпало. Граф вычеркнул и сказал,
что это он лично доложит... Тебе, знаешь, вредит какая-
то история... Какой-то чиновник, выйдя от тебя, как-то по¬
дозрительно умер... Что это такое было?
— Оставь,— говорю,— сделай милость.
— Нет, в самом деле... граф даже не раз спрашивал:
как ты в своем здоровье... Оттуда разные лица писали,
и в том числе общий духовник, протопоп... Как ты мог
позволить вмешать себя в такое странное дело!
Я слушаю, а сам,— как Иван Петрович из-за могилы
стал делать,— чувствую одно желание ему язык или шиш
показать.
А Иван Петрович, по награждении меня шишом вместо
«Белого орла», исчез и не показывался ровно три года, ко¬
гда сделал мне заключительный и притом всех более ося¬
зательный визит.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Было опять Рождество и Новый год и также ожидались
награды. Меня уже давно обходили, и я об этом не забо¬
тился. Не дают, и не надо. Встречали Новый год у сест¬
ры,— очень весело,— гостей много. Здоровые люди ужина¬
ли, а я перед ужином посматриваю, как бы улизнуть, и по¬
двигаюсь к двери, но вдруг слышу в общем говоре такие
слова:
— Теперь мои скитальчества кончены: мама со мною.
Танюша устроена за хорошего человека; последнюю шутку
сделаю и же ман вэ! — И потом вдруг протяжно запел:
Прощай, моя родная,
Прощай, моя земля.
458
«Эге,— думаю,— опять показался, да еще и францу¬
зить начал... Ну, я лучше кого-нибудь подожду, один по
лестнице не пойду».
А он мимо меня изволит проходить, все в том же виц-мун¬
дире с пышным гранатного цвета галстухом, и только минул,
вдруг парадная дверь так хлопнула, что весь дом затрясся.
Хозяин и люди бросились посмотреть, не добрался ли
кто до гостиных шуб, но все было на месте, и дверь на
ключе... Я молчал, чтобы опять не сказали «галюцинат»
и не стали осведомляться о здоровье. Хлопнуло, и ша¬
баш,— мало ли что может хлопать...
Я досидел случая, чтобы не одному идти, и благополуч¬
но возвращаюсь домой. Человек у меня был уже не тот,
который со мною ездил и которому Иван Петрович пропи¬
лейные уроки давал, а другой; встречает он меня немнож¬
ко заспан и светит. Проходим мимо конторки, и я вижу,
что-то лежит белой бумагой прикрыто... Смотрю, мой орден
Белого орла, который тогда, помните, сестра подарила... Он
всегда заперт был. Как он мог взяться! Конечно, скажут:
«сам, верно, в забывчивости вынул». Так не стану об этом
спорить, но а вот это что такое: на столике у моего изго¬
ловья небольшой конвертик на мое имя, и рука как будто
знакомая... Та самая рука, которою было написано «жизнь
на радость нам дана».
— Кто принес? — спрашиваю.
А человек прямо показывает мне на фотографию Ивана
Петровича, которую я берегу, память от Танюши, и говорит:
— Вот этот господин.
— Ты, верно, ошибся.
— Никак нет,— говорит,— я его с первого взгляда
узнал.
В конверте оказался на почтовой бумажке экземпляр
приказа: мне дали «Белого орла». И что еще лучше, всю
остальную ночь я спал, хотя слышал, как что-то где-то пело
самые глупые слова: «До свиданс, до свиданс,— же але
о контраданс».
По преподанной мне Иван Петровичем опытности
в жизни духов, я понимал, что это Иван Петрович «по-
французски жарит самоучкою», отлетая, и что он больше
меня уже никогда не побеспокоит. Так и вышло: он мне
отмстил и помиловал. Это понятно. А вот почему у них
в мире духов все так спутано и смешано, что жизнь чело¬
веческая, которая всего дороже стоит, отомщевается пу¬
стым пуганьем да орденом, а прилет из высших сфер со¬
провождается глупейшим пением «до свиданс, же але
о контраданс», этого я не понимаю.
459
ЧЕРТОГОН
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Это обряд, который можно видеть только в одной Мо¬
скве, и притом не иначе как при особом счастии и протек¬
ции.
Я видел чертогон с начала до конца благодаря одному
счастливому стечению обстоятельств и хочу это записать
для настоящих знатоков и любителей серьезного и величе¬
ственного в национальном вкусе.
Хотя я с одного бока дворянин, но с другого близок
к «народу»: мать моя из купеческого звания. Она выхо¬
дила замуж из очень богатого дома, но вышла уходом, по
любви к моему родителю. Покойник был молодец по жен¬
ской части и что намечал, того и достигал. Так ему уда¬
лось и с мамашей, но только за эту ловкость матушкины
старики, ничего ей не дали, кроме, разумеется, гардеробу,
постелей и Божьего милосердия, которые были получены
вместе с прощением и родительским благословением, наве¬
ки нерушимым. Жили мои старики в Орле, жили нуждно,
но гордо, у богатых материных родных ничего не просили,
да и сношений с ними не имели. Однако, когда мне при¬
шлось ехать в университет, матушка стала говорить:
— Пожалуйста, сходи к дяде Илье Федосеевичу и от
меня ему поклонись. Это не унижение, а старших родных
уважать должно,— а он мой брат, и к тому благочестив
и большой вес в Москве имеет. Он при всех встречах
всегда хлеб-соль подает... всегда впереди прочих стоит
с блюдом или с образом... и у генерал-губернатора с
митрополитом принят... Он тебя может хорошему наста¬
вить.
А я хотя в то время, изучив Филаретов катехизис,
в Бога не верил, но матушку любил, и думаю себе раз:
«Вот я уже около года в Москве и до сих пор материной
воли не исполнил; пойду-ка я немедленно к дяде Илье Фе¬
досеичу, повидаюсь — снесу ему материн поклон и вза¬
правду погляжу, чему он меня научит».
460
По привычке детства я был к старшим почтителен —
особенно к таким, которые известны и митрополиту, и гу¬
бернаторам.
Восстав, почистился щеточкой и пошел к дяде Илье
Федосеичу.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Было так часов около шести вечера. Погода стояла теп¬
лая, мягкая и сероватая — словом, очень хорошо. Дом дяди
известен,— один из первых домов в Москве,— все его
знают. Только я никогда в нем не был и дядю никогда не
видал, даже издали.
Иду, однако, смело, рассуждая: примет — хорошо, а не
примет — не надо.
Прихожу на двор; у подъезда стоят кони-львы, сами
вороные, а гривы рассыпные, шерсть, как дорогой атлас,
лоснится, а заложены в коляску.
Я взошел на крыльцо и говорю: так и так — я племян¬
ник, студент, прошу доложить Илье Федосеичу. А люди
отвечают:
— Они сами сейчас сходят — едут кататься.
Показывается очень простая фигура, русская, но до¬
вольно величественная,— в глазах с матушкой есть сходст¬
во, но выражение иное, что называется — солидный муж¬
чина.
Отрекомендовался ему; он выслушал молча, тихо руку
подал и говорит:
— Садись, проедемся.
Я было хотел отказаться, но как-то замялся и сел.
— В парк! — велел он.
Львы сразу приняли и понеслись, только задок коляс¬
ки подпрыгивает, а как за город выехали, еще шибче по¬
мчали.
Сидим, ни слова не говорим, только вижу, как дядя
себе цилиндр краем в самый лоб врезал, и на лице у него
этакая что называется плюмса, как бывает от скуки.
Туда-сюда глядит и один раз на меня метнул глазом
и ни с того ни с сего проговорил:
— Совсем жисти нет.
Я не знал, что отвечать, и промолчал.
Опять едем, едем; думаю: куда это он меня завозит?
и начинает мне сдаваться, что я как будто попал в какую-
то статью.
461
А дядя вдруг словно повершил что-то в уме и начинает
отдавать кучеру одно за другим приказания:
— Направо, налево. У «Яра» — стой!
Вижу, из ресторана много прислуги высыпало к нам,
и все перед дядею чуть не в три погибели гнутся, а он из
коляски не шевелится и велел позвать хозяина. Побежали.
Является француз — тоже с большим почтением, а дядя не
шевелится: костью набалдашника палки о зубы постуки¬
вает и говорит:
— Сколько лишних людей есть?
— Человек до тридцати в гостиных,— отвечает фран¬
цуз,— да три кабинета заняты.
— Всех вон!
— Очень хорошо.
— Теперь семь часов,— говорит, посмотрев на часы,
дядя,— я в восемь заеду. Будет готово?
— Нет,— отвечает,— в восемь трудно... у многих за¬
казано... а к девяти часам пожалуйте, во всем ресторане ни
одного стороннего человека не будет.
— Хорошо.
— А что приготовить?
— Разумеется, эфиопов.
— А еще?
— Оркестр.
— Один?
— Нет, два лучше.
— За Рябыкой послать?
— Разумеется.
— Французских дам?
— Не надо их!
— Погреб?
— Вполне.
— По кухне?
— Карту!
Подали дневное menue.
Дядя посмотрел и, кажется, ничего не разобрал, а мо¬
жет быть, и не хотел разбирать: пощелкал по бумажке
палкою и говорит:
— Вот это все на сто особ.
И с этим свернул карточку и положил в кафтан.
Француз и рад, и жмется:
— Я,— говорит,— не могу все подать на сто особ.
Здесь есть вещи очень дорогие, которых во всем рестора¬
не всего только на пять-шесть порций.
1 Меню (франц.).
462
— А я как же могу моих гостей рассортировывать? Кто
что захочет, всякому чтоб было. Понимаешь?
— Понимаю.
— А то, брат, тогда и Рябыка не подействует. Пошел!
Оставили ресторанщика с его лакеями у подъезда
и покатили.
Тут я уже совершенно убедился, что попал не на свои
рельсы, и попробовал было попроститься, но дядя не слы¬
шал. Он был очень озабочен. Едем и только то одного, то
другого останавливаем.
— В девять часов к «Яру»! — говорит коротко каждо¬
му дядя. А люди, которым он это сказывает, все почтен¬
ные такие, старцы, и все снимают шляпы и так же корот¬
ко отвечают дяде:
— Твои гости, твои гости, Федосеич.
Таким порядком, не помню, сколько мы остановили, но
я думаю, человек двадцать, и как раз пришло девять часов,
и мы опять подкатили к «Яру». Слуг целая толпа высы¬
пала навстречу и берут дядю под руки, а сам француз на
крыльце салфеткою пыль у него с панталон обил.
— Чисто? — спрашивает дядя.
— Один генерал,— говорит,— запоздал, очень просил¬
ся в кабинете кончить...
— Сейчас вон его!
— Он очень скоро кончит.
— Не хочу,— довольно я ему дал времени — теперь
пусть идет на траву доедать.
Не знаю, чем бы это кончилось, но в эту минуту гене¬
рал с двумя дамами вышел, сел в коляску и уехал, а к подъ¬
езду один за другим разом начали прибывать гости, при¬
глашенные дядею в парке.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Ресторан был убран, чист и свободен от посетителей.
Только в одной зале сидел один великан, который встретил
дядю молча и, ни слова ему не говоря, взял у него из рук
палку и куда-то ее спрятал.
Дядя отдал палку, нимало не противореча, и тут же пе¬
редал великану бумажник и портмоне.
Этот полуседой массивный великан был тот самый Ря¬
быка, о котором при мне дано было ресторатору непонят¬
ное приказание. Он был какой-то «детский учитель», но
и тут он тоже, очевидно, находился при какой-то особой
463
должности. Он был здесь столь же необходим, как цыгане,
оркестр и весь туалет, мгновенно явившийся в полном сбо¬
ре. Я только не понимал, в чем роль учителя, но это было
еще рано для моей неопытности.
Ярко освещенный ресторан работал: музыка гремела,
а цыгане расхаживали и закусывали у буфета, дядя обо¬
зревал комнаты, сад, грот и галереи. Он везде смотрел,
«нет ли непринадлежащих», и рядом с ним безотлучно хо¬
дил учитель; но когда они возвратились в главную гости¬
ную, где все были в сборе, между ними замечалась большая
разница: поход на них действовал не одинаково: учитель
был трезв, как вышел, а дядя совершенно пьян.
Как это могло столь скоро произойти,— не знаю, но он
был в отличном настроении; сел на председательское место,
и пошла писать столица.
Двери были заперты, и о всем мире сказано так: «что
ни от них к нам, ни от нас к ним перейти нельзя». Нас
разлучала пропасть,— пропасть всего — вина, яств,
а главное — пропасть разгула, не хочу сказать безобраз¬
ного,— но дикого, неистового, такого, что и передать не
умею. И от меня этого не надо и требовать, потому что,
видя себя зажатым здесь и отделенным от мира, я оробел
и сам поспешил скорее напиться. А потому я не буду изла¬
гать, как шла эта ночь, потому что все это описать дано
не моему перу, я помню только два выдающиеся баталь¬
ные эпизода и финал, но в них-то и заключалось главным
образом страшное.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Доложили о каком-то Иване Степановиче, как впо¬
следствии оказалось — важнейшем московском фабриканте
и коммерсанте.
Это произвело паузу.
— Ведь сказано: никого не пускать,— отвечал дядя.
— Очень просятся.
— А где он прежде был, пусть туда и убирается.
Человек пошел, но робко идет назад.
— Иван Степанович,— говорит,— приказали сказать,
что они очень покорно просятся.
— Не надо, я не хочу.
Другие говорят: «Пусть штраф заплатит».
— Нет! гнать прочь, и штрафу не надо.
Но человек является и еще робче заявляет:
464
— Они,— говорит,— всякий штраф согласны,— только
в их годы от своей компании отстать, говорят, им очень
грустно.
Дядя встал и сверкнул глазами, но в это же время
между ним и лакеем встал во весь рост Рябыка: левой ру¬
кой, как-то одним щипком, как цыпленка, он отшвырнул
слугу, а правою посадил на место дядю.
Из среды гостей послышались голоса за Ивана Степа¬
новича: просили пустить его — взять сто рублей штрафу
на музыкантов и пустить.
— Свой брат, старик, благочестивый, куда ему теперь
деваться? Отобьется, пожалуй, еще скандал сделает на
виду у мелкой публики. Пожалеть его надо.
Дядя внял и говорит:
— Если быть не по-моему, так и не по-вашему, а по-
Божью: Ивану Степанову впуск разрешаю, но только он
должен бить на литавре.
Пошел пересказчик и возвращается:
— Просят, говорят, лучше с них штраф взять.
— К черту! не хочет барабанить — не надо, пусть его
куда хочет едет.
Через малое время Иван Степанович не выдержал
и присылает сказать, что согласен в литавры бить.
— Пусть придет.
Входит муж нарочито велик и видом почтенен: обли¬
ком строг, очи угасли, хребет согбен, а брада комовата
и празелень. Хочет шутить и здороваться, но его остепе¬
няют.
— После, после, это все после,— кричит ему дядя,—
теперь бей в барабан.
— Бей в барабан! — подхватывают другие.
— Музыка! подлитаврную.
Оркестр начинает громкую пьесу,— солидный старец
берет деревянные колотилки и начинает в такт и не в такт
стучать по литаврам.
Шум и крик адский; все довольны и кричат:
— Громче!
Иван Степанович старается сильнее.
— Громче, громче, еще громче!
Старец колотит во всю мочь, как Черный царь у Фрей¬
лиграта, и, наконец, цель достигнута: литавра издает от¬
чаянный треск, кожа лопается, все хохочут, шум становит¬
ся невообразимый, и Ивана Степановича облегчают за
прорванные литавры штрафом в пятьсот рублей в пользу
музыкантов.
465
Он платит, отирает пот, усаживается, и в то время, как
все пьют его здоровье, он, к немалому своему ужасу, за¬
мечает между гостями своего зятя.
Опять хохот, опять шум, и так до потери моего созна¬
ния. В редкие просветы памяти вижу, как пляшут цыган¬
ки, как дрыгает ногами, сидя на одном месте, дядя; потом
как он перед кем-то встает, но тут же между ними появ¬
ляется Рябыка, и кто-то отлетел, и дядя садится, а перед
ним в столе торчат две воткнутые вилки. Я теперь пони¬
маю роль Рябыки.
Но вот в окно дохнула свежесть московского утра,
я снова что-то сознал, но как будто только для того, что¬
бы усумниться в рассудке. Было сражение и рубка лесов:
слышался треск, гром, колыхались деревья, девственные,
экзотические деревья, за ними кучею жались в углу какие-
то смуглые лица, а здесь, у корней, сверкали страшные то¬
поры и рубил мой дядя, рубил старец Иван Степанович...
Просто средневековая картина.
Это «брали в плен» спрятавшихся в гроте за деревьями
цыганок, цыгане их не защищали и предоставили собст¬
венной энергии. Шутку и серьез тут не разобрать: в воз¬
духе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те всё вру¬
бались в лес, и всех отважнее действовали Иван Степаныч
и дядя.
Наконец твердыня была взята: цыганки схвачены, об¬
няты, расцелованы, каждый — каждой сунул по сторубле¬
вой за «корсаж», и дело кончено...
Да; сразу вдруг все стихло... все кончено. Никто не
помешал, но этого было довольно. Чувствовалось, что
как без этого «жисти не было», так зато теперь
довольно.
Всем было довольно, и все были довольны. Может
быть, имело значение и то, что учитель сказал, что ему
«пора в классы», но, впрочем, все равно: вальпургиева
ночь прошла и «жисть» опять начиналась.
Публика не разъезжалась, не прощалась, а просто ис¬
чезла; ни оркестра, ни цыган уже не было. Ресторан пред¬
ставлял полнейшее разорение: ни одной драпировки, ни
одного целого зеркала, даже потолочная люстра — и та ле¬
жала на полу вся в кусках, и хрустальные призмы ее ло¬
мались под ногами еле бродившей, утомленной прислуги.
Дядя сидел один посреди дивана и пил квас; он по вре¬
менам что-то вспоминал и дрыгал ногами. Возле него сто¬
ял поспешавший в классы Рябыка.
Им подали счет — короткий: «гуртом писанный».
466
Рябыка читал счет внимательно и потребовал полторы
тысячи скидки. С ним мало спорили и подвели итог: он
составлял семнадцать тысяч, и просматривавший его Ря¬
быка объявил, что это добросовестно. Дядя произнес од¬
носложно: «плати» и затем надел шляпу и кивнул мне за
ним следовать.
Я, к ужасу моему, видел, что он ничего не забыл и что
мне невозможно от него скрыться. Он мне был чрезвычай¬
но страшен, и я не мог себе представить, как я останусь
в этом его ударе с глазу на глаз. Прихватил он меня с со¬
бою, даже двух слов резонных не сказал, и вот таскает,
и нельзя от него отстать. Что со мною будет? У меня весь
и хмель пропал. Я просто только боялся этого страшного,
дикого зверя, с его невероятною фантазиею и ужасным
размахом. А между тем мы уже уходили: в передней нас
окружила масса лакеев. Дядя диктовал: «по пяти» —
и Рябыка расплачивался; ниже платили дворникам, сторо¬
жам, городовым, жандармам, которые все оказывали нам
какие-то службы. Все это было удовлетворено. Но все это
составляло суммы, а тут еще на всем видимом простран¬
стве парка стояли извозчики. Их было видимо-невидимо,
и все они тоже ждали нас — ждали батюшку Илью Федо¬
сеича, «не понадобится ли зачем послать его милости».
Узнали, сколько их, и выдали всем по три рубля, и мы
с дядей сели в коляску, а Рябыка подал ему бумажник.
Илья Федосеич вынул из бумажника сто рублей и по¬
дал Рябыке.
Тот повернул билет в руках и грубо сказал:
— Мало.
Дядя накинул еще две четвертки.
— Да и это недостаточно: ведь ни одного скандала не
было.
Дядя прибавил третью четвертную, после чего учитель
подал ему палку и откланялся.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Мы остались вдвоем с глазу на глаз и мчались назад
в Москву, а за нами с гиком и дребезжанием неслась во
всю скачь вся эта извозчичья рвань. Я не понимал, что им
хотелось, но дядя понял. Это было возмутительно: им хо¬
телось еще сорвать отступного, и вот они, под видом ока¬
зания особой чести Илье Федосеичу, предавали его почет¬
ное высокостепенство всесветному позору.
467
Москва была перед носом и вся в виду — вся в прек¬
расном утреннем освещении, в легком дымке очагов и мир¬
ном благовесте, зовущем к молитве.
Вправо и влево к заставе шли лабазы. Дядя встал
у крайнего из них, подошел к стоявшей у порога липовой
кадке и спросил:
— Мед?
— Мед.
— Что стоит кадка?
— На мелочь по фунтам продаем.
— Продай на крупное: смекни, что стоит.
Не помню, кажется семьдесят или восемьдесят рублей
он смекнул.
Дядя выбросил деньги.
А кортеж наш надвинулся.
— Любите меня, молодцы, городские извозчики?
— Как же, мы завсегда к вашему степенству...
— Привязанность чувствуете?
— Очень привязаны.
— Снимай колеса.
Те недоумевают.
— Скорей, скорей! — командует дядя.
Кто попрытче, человек двадцать, слазили под козла,
достали ключи и стали развертывать гайки.
— Хорошо,— говорит дядя,— теперь мажь медом.
— Батюшка!
— Мажь!
— Этакое добро... в рот любопытнее.
— Мажь!
И, не настаивая более, дядя снова сел в коляску, и мы
понеслись, а те, сколько их было, все остались с снятыми
колесами над медом, которым они колес верно не мазали,
а растащили по карманам или перепродали лабазнику. Во
всяком случае они нас оставили, и мы очутились в банях.
Тут я себе ожидал кончину века, и ни жив ни мертв сидел
в мраморной ванне, а дядя растянулся на пол, но не просто,
не в обыкновенной позе, а как-то апокалипсически. Вся
огромная масса его тучного тела упиралась об пол только
самыми кончиками ножных и ручных пальцев, и на этих
тонких точках опоры красное тело его трепетало под брыз¬
гами пущенного на него холодного дождя, и ревел он сдер¬
жанным ревом медведя, вырывающего у себя больничку.
Это продолжалось с полчаса, и он все одинаково весь тре¬
петал, как желе, на тряском столе, пока, наконец, сразу
468
Еспрыгнул, спросил квасу, и мы оделись и поехали на Куз¬
нецкий «к французу».
Здесь нас обоих слегка подстригли и слегка завили, и
причесали, и мы пешком перешли в город — в лавку.
Со мной все нет ни разговора, ни отпуска. Только раз
сказал:
— Погоди, не все вдруг; чего не понимаешь,— с летам
поймешь.
В лавке он помолился, взглянув на всех хозяйским оком,
и стал у конторки. Внешность сосуда была очищена, но
внутри еще ходила глубокая скверна и искала своего очи¬
щения.
Я это видел и теперь перестал бояться. Это меня за¬
нимало — я хотел видеть, как он с собою разделается: воз¬
держанием или какой благодатию?
Часов в десять он стал больно нудиться, все ждал
и высматривал соседа, чтобы идти втроем чай пить,—
троим собирают на целый пятак дешевле. Сосед не вышел:
помер скорописною смертью.
Дядя перекрестился и сказал:
— Все помрем.
Это его не смутило, несмотря на то, что они сорок лет
вместе ходили в Новотроицкий чай пить.
Мы позвали соседа с другой стороны и не раз сходили,
того-сего отведали, но все натрезво. Весь день я проси¬
дел и проходил с ним, а перед вечером дядя послал взять
коляску ко Всепетой.
Там его тоже знали и встретили с таким же почетом,
как у «Яра».
— Хочу пасть перед Всепетой и о грехах поплакать.
А это, рекомендую, мой племяш, сестры сын.
— Пожалуйте,— говорят инокини,— пожалуйте, от ко¬
го же Всепетой, как не от вас, и покаянье принять,—
всегда ее обители благодели. Теперь к ней самое распо¬
ложение... всенощная.
— Пусть кончится,— я люблю без людей, и чтоб мне
благодатный сумрак сделать.
Ему сделали сумрак; погасили все, кроме одной или
двух лампад и большой глубокой лампады с зеленым ста¬
каном перед самою Всепетою.
Дядя не упал, а рухнул на колени, потом ударил лбом об
пол ниц, всхлипнул и точно замер.
Я и две инокини сели в темном углу за дверью. Шла
долгая пауза. Дядя все лежал, не подавая ни гласа, ни
послушания. Мне казалось, что он будто уснул, и я даже
469
сообщил об этом монахиням. Опытная сестра подумала,
покачала головою и, возжегши тоненькую свечечку, зажала
ее в горсть и тихо-тихонько направилась к кающемуся.
Тихо обойдя его на цыпочках, она возмутилась и шеп¬
нула:
— Действует... и с оборотом.
— Почему вы замечаете?
Она пригнулась, дав знак и мне сделать то же, и ска¬
зала:
— Смотри прямо через огонек, где его ножки.
— Вижу.
— Смотрите, какое борение!
Всматриваюсь и действительно замечаю какое-то дви¬
жение: дядя благоговейно лежит в молитвенном положе¬
нии, а в ногах у него словно два кота дерутся — то один,
то другой друг друга борют, и так частенько, так и пры¬
гают.
— Матушка,— говорю,— откуда же эти коты?
— Это,— отвечает,— вам только показываются коты,
а это не коты, а искушение: видите, он духом к небу горит,
а ножками-то еще к аду перебирает.
Вижу, что и действительно это дядя ножками вчераш¬
него трепака доплясывает, но точно ли он и духом теперь
к небу горит?
А он, словно в ответ на это, вдруг как вздохнет да как
крикнет:
— Не поднимусь, пока не простишь меня! Ты бо один
свят, а мы все черти окаянные! — и зарыдал.
Да ведь-таки так зарыдал, что все мы трое с ним на¬
взрыд плакать начали: Господи, сотвори ему по его моле¬
нию.
И не заметили, как он уже стоит рядом с нами и ти¬
хим, благочестивым голосом говорит мне:
— Пойдем — справимся.
Монахини спрашивают:
— Сподобились ли, батюшка, отблеск видеть?
— Нет,— отвечает,— отблеска не сподобился, а вот...
этак вот было.
Он сжал кулак и поднял, как поднимают за вихор
мальчишек.
— Подняло?
— Да.
Монахини стали креститься, и я тоже, а дядя по¬
яснил:
470
— Теперь мне,— говорит,— прощено! Прямо с самого
сверху, из-под кумпола, разверстой десницей сжало мне
все власы вкупе и прямо на ноги поставило...
И вот он не отвержен и счастлив; он щедро одарил
обитель, где вымолил себе это чудо, и опять почувствовал
«жисть», и послал моей матери всю ее приданую долю,
а меня ввел в добрую веру народную.
С этих пор я вкус народный познал в падении и в вос¬
стании... Это вот и называется чертогон, «иже беса чу¬
жеумия испраздняет». Только сподобиться этого, повто¬
ряю, можно в одной Москве, и то при особом счастии или
при большой протекции от самых степенных старцев.
ПЛАМЕННАЯ ПАТРИОТКА
Из чужеземных правительственных знаменитостей я ви¬
дел покойного Наполеона III — на открытии бульвара
в Париже, князя Бисмарка — на водах, Мак-Магона — на
разводе и нынешнего австрийского императора, Франца-
Иосифа — за кружкою пива.
Самое памятное впечатление произвел на меня Франц-
Иосиф, хотя он при этом капитально поссорил между со¬
бою двух моих соотечественниц.
Это стоит того, чтобы рассказать.
Я был за границею три раза, из которых два раза
проезжал «столбовою» русскою дорогою, прямо из Петер¬
бурга в Париж, а в третий, по обстоятельствам, сделал
крюк и заехал в Вену. Кстати, я хотел навестить одну
достойную почтения русскую даму.
Это было в конце мая или в начале июня. Поезд, в ко¬
тором я ехал, привез меня в Вену около четырех часов
пополудни. Квартиры мне для себя не пришлось отыски¬
вать: в Киеве снабдили меня рекомендациею, избавлявшею
от всяких хлопот. Я, как приехал, так сейчас же и устро¬
ился, а через час уже привел себя в порядок и пошел
к моей соотечественнице.
В этот час Вена тоже сделала свой туалет: над нею
прошел сильный летний дождик и потом вдруг на совер¬
шенно голубом небе засверкало лучистое солнце. Красивый
город, умывшись, смотрел еще красивее.
Улицы, которыми вел меня проводник, все казались
очень изящными, но по мере того, как мы подвигались
к Леопольдштадту, изящество их становилось еще замет¬
нее. Здания были больше, сильнее и величественнее. У од¬
ного из таких проводник остановился и сказал, что это
отель, который мне нужно.
Мы вошли чрез величественную арку в обширный зал,
расписанный в помпейском вкусе. Направо и налево у это¬
го зала были тяжелые двери из темного дуба; противопо-
472
ложная стена роскошно драпирована красноватым сукном.
Посредине залы стояла коляска, запряженная парою жи¬
вых лошадей, и на козлах сидел кучер.
Этот великолепный зал попросту есть не что иное, как
«ворота». Мы были под такими воротами, каких я еще
не видал ни в Петербурге, ни в Париже.
Вправо находилось помещение швейцара. Оно тоже за¬
мечательно; замечателен и сам великолепный швейцар с ка¬
мергерской фигурой: он сидел тут, как золотистый жук,
в витрине из громадной величины зеркальных стекол.
Ему все вокруг было видно: а возле него, для важности
или для какого другого удобства, стояли три ассистента
и все с аксельбантами. Если бы представилась надобность
кого-нибудь не пропустить или вывести, такой швейцар
сам, конечно, рук бы об это не пачкал.
На мой вопрос: «здесь ли моя знакомая?» — один из
ассистентов отвечал: «здесь», а когда я спросил: «могу ли
я ее видеть?» — ассистент доложил швейцару, а тот по¬
вел дипломатически бровью и сам объяснил мне:
— Собственно говоря, я не думаю, чтобы княгине те¬
перь было удобно принять вас,— ей поданы лошади, и ее
сиятельство сейчас уезжает кататься. Но если вам очень
нужно...
— Да,— перебил я,— мне очень нужно.
— В таком случае я прошу у вас минуту терпения.
Было ясно, что имею дело с настоящим дипломатом
и о минуте терпения спор был неуместен.
Мы взаимно друг другу поклонились.
Швейцар пожал электрическую пуговку в столе, перед
которым помещалось его папское кресло с высокою готиче¬
скою спинкою, и, приложив ухо к трубке, через секунду
объяснил мне:
— Княгиня уже сходит с лестницы.
Я остался ее ждать.
Через минуту моя знакомая показалась на белых мра¬
морных ступенях, в сопровождении давно мне известной
ее пожилой русской горничной Анны Фетисовны, у которой
есть роль в этом маленьком рассказе.
Княгиня встретила меня с отличающею ее всегдашнею,
милою приветливостью и, сказав, что она сейчас едет сде¬
лать свою послеобеденную прогулку, пригласила меня про¬
катиться вместе.
473
Она хотела показать мне Пратер. Я ничего не имел
против этого, и мы поехали: я рядом с княгинею на зад¬
нем сиденье, а напротив нас Анна Фетисовна.
В противоречие тем, кто утверждает, что за границею
все ездят гораздо тише, чем в России, мы понеслись по вен¬
ским улицам очень шибко. Кони были резвые и горячие,
кучер — мастер своего дела. Венцы в парной, дышловой
упряжи правят так же красиво и ловко, как поляки. На¬
ши кучера так ездить не умеют. Они очень грузны и су¬
чат вожжами,— нет у них свободного движения в ленте
и всей той «элевации», которой так много в кракусе
и в венце.
Не успел я оглянуться, как мы были уже в Пратере.
Я не буду делать ни малейшей попытки к тому, чтобы
описывать этот парк, но скажу только то, что необходимо
для надлежащего освещения предстоящей сцены.
Напоминаю, что это было около пяти часов вечера
и тотчас после сильного дождя. Свежая влажность еще ле¬
жала повсюду: тяжелый гравий на дорожках казался ко¬
ричневым, на листьях деревьев сверкали чистые капли.
Было порядочно сыро, и я не знаю: эта ли сырость или
несколько ранний час были причиною, что все лучшие
аллеи парка, по которым мы прокатили, были совершенно
пусты. Едва-едва мы встретили какого-то садовника в курт¬
ке с граблями и лопаткой за плечами, и более никого; но
моя добрая хозяйка вспомнила, что, кроме этой, так ска¬
зать, беловой части парка, есть еще черновая, называемая
Kalbs-Prater или «телячий парк» — место гулянья вен¬
ской черни.
— Это, говорят, будто бы интересно,— сказала кня¬
гиня, и тотчас же велела кучеру ехать в Kalbs-Prater.
Тот взял влево, крикнул свой гортанный «ой», щелк¬
нул бичом, и под нами точно стала оседать почва, мы ку¬
да-то как будто спускались, мы падали, как будто роняли
себя в низшую сферу.
Ситуация прекрасно гармонировала с общественностью.
Картина быстро менялась: аллеи становились уже
и были менее чисто содержаны, на песке и по окраинам
куртин, кое-где, мелькали обрывки бумажек. Зато начали
встречаться люди, все пешеходы, сначала продавцы из¬
вестных венских колбасиков, потом — публика. Некоторые
плелись с детьми. Здешняя публика, очевидно, сырости не
боялась, а боялась только потерять минуту дорогого вре¬
мени.
474
Бедный, когда женится, ему ночь коротка, еще кратче
час отдыха у таких трудолюбивых и бережливых людей,
как южные немцы, у которых, однако, потребность
в удовольствии велика почти так же, как у французов.
Навстречу нам не было никакого движения,— мы всех
обгоняли. Очевидно, цель стремления у всех была впереди,
она была там, куда и мы поспешали и откуда теперь мину¬
та от минуты слышнее стали долетать какие-то звуки.
Странные звуки, точно жужжание пчелы между стеклом
и занавеской. Но вот сквозь вершины деревьев мелькнул
высокий фронтон большого деревянного здания; коляска
опять взяла влево и вдруг остановилась. Мы были на пе¬
рекрестке двух дорожек. Перед нами открылась довольно
большая лужайка, на которой, по ту сторону, стоял боль¬
шой деревянный дом в швейцарском вкусе, а перед ним,
на траве, тянулись длинные столы и за ними сидело мно¬
жество всякого народа. Перед каждым гостем стояла его
кружка пива, а на открытой галерее играли четыре музы¬
канта и веялись в пляске венгерец с венгеркой. Вот отку¬
да неслись те музыкальные звуки, которые издали напо¬
минали жужжание пчелы между стеклом и занавескою.
Жужжание это слышно и теперь, с тою разницею, что
теперь в звуках уже можно слышать что-то хватающее за
какой-то нерв и разливающееся вокруг со стоном, со зво¬
ном, с подзадором.
— Это танцуют чардаш: я вам советую обратить на
них внимание,— проговорила княгиня.— Вы это не часто
встретите: чардаш никто не сумеет так исполнить, как
венгерцы. Кучер, подъезжайте ближе.
Кучер тронул вперед, но едва лошади переступили два
шага, он остановил их снова.
Мы, конечно, подвинулись, но все-таки стояли еще
слишком далеко, чтобы иметь возможность рассмотреть
танцоров, а потому княгиня еще раз сказала кучеру подъ¬
ехать ближе. Он, однако, казалось, не слыхал этого повто¬
рения, но зато, когда княгиня сказала ему то же самое
в третьи, кучер не только тронул вожжи, но звонко хлоп¬
нул бичом и сразу выдвинул экипаж на самую середину
лужайки.
Теперь мы все могли видеть в подробностях и сами бы¬
ли на виду у всех. Несколько человек из сидевших за сто¬
лами при щелке бича оглянулись, но сейчас же опять об¬
ратились к танцорам, и только со ступеней нижней терра¬
сы на нас смотрел один толстый кельнер, но как будто
ожидал какого-то надлежащего момента, когда между им
475
и нами должен произойти обмен соответствующих взаим¬
ных сношений.
Я старался самым добросовестным образом исполнить
совет моей дамы и хотел глядеть на чардаш, не сводя глаз,
но случайное обстоятельство привлекло мое внимание
к другому.
Едва мы остановились, как кучер слегка полуоборотил¬
ся к экипажу и сказал:
— Kaiser!
— Wo ist der Kaiser?
Кучер вместо ответа повел оттопыренным мизинцем
перчатки в левую сторону, к противоположному концу
поляны, где при таком же перекрестке, как тот, с которого
мы выехали, теперь виднелись две конские головы светло¬
буланой, золотистой масти.
Видны были только две эти прекрасные головы в на¬
борных уздечках с бирюзовыми пукальками, а самый эки¬
паж оставался на таком расстоянии, на каком сначала хо¬
тел удержать нас наш кучер.
«Это,— подумал я себе,— в самом деле очень деликат¬
но, но зато он оттуда ничего хорошего не увидит, да и на
себя не дает нам полюбоваться. А это досадно».
Только не нужно было досадовать: в эту самую мину¬
ту, глядя по направлению, где стояли лошади, я без вся¬
кого затруднения увидал высокого, немножко сутуловато¬
го, но бравого мужчину, в синей австрийской куртке
и в простом военном кепи.
Это и был его апостолическое величество, старший член
дома Габсбургов, царствующий император Франц-Иосиф.
Он был совершенно один и шел прямо к расположенным
на лужайке столам, за которыми сидели венские сапожни¬
ки. Император подошел и у первого стола сел на скамейку
с краю, рядом с высоким работником в светло-серой блу¬
зе, а толстый кельнер в ту же самую секунду положил пе¬
ред ним на стол черный войлочный кружочек и поставил
на него мастерски вспененную кружку пива.
Франц-Иосиф взял кружку в руки, но не пил; пока
длился танец, он все держал ее в руке, а когда чардаш был
окончен, император молча протянул свою кружку к соседу.
Тот сразу понял, что ему надо сделать: он чокнулся с го¬
сударем и сейчас же, оборотясь к другому соседу, переда¬
чею чокнулся с ним. С этим враз, сколько здесь было лю¬
1 Император! (нем.)
2 Где император? (нем.)
476
дей, все встали, все чокнулись друг с другом и на всю по¬
ляну дохнуло общее, дружное «Hoch!». Это «hoch» здесь
кричат не громко и без раскатов, а так, как будто хорошо
вздохнут от сердца.
Император осушил кружку за единый вздох, поклонил¬
ся и ушел.
Буланые кони умчали его назад тою же дорогою, по
которой, вслед за ним, уехали и мы. Но с нами теперь еха¬
ла значительная сила произведенного этим случаем впе¬
чатления, и вся она местилась главным образом в Анне
Фетисовне. Девушка, к немалому нашему удивлению, пла¬
кала!.. Она сидела перед нами, закрыв глаза белым носо¬
вым платком, и прижимала его руками.
— Анна Фетисовна! что с вами? — отнеслась к ней
с доброй и ласковой шуткой княгиня.
Та продолжала плакать.
— О чем вы плачете?
Анна Фетисовна открыла глаза и проговорила:
— Так,— ни о чем.
— Нет, в самом деле?
Девушка глубоко вздохнула и отвечала:
— Ихняя простота мне трогательна.
Княгиня подмигнула мне и, шутя, сказала:
— Toujours serville! C’est ainsi que Гоп arrive aux
cieux.
Но шутка как-то не бралась за сердце. Волнение Анны
Фетисовны давало иной смысл этому пустому случаю.
Мы возвратились в отель и застали здесь еще одного
гостя. Это был австрийский барон, который собирался
в Россию и учился по-русски. Мы пили чай, а Анна Фе¬
тисовна нам прислуживала. Говорили о многом: о России,
о петербургских знакомых, о курсе наших денег, о том, кто
у нас всех лучше проворовался, и, наконец, о нашей сегод¬
няшней встрече с Францем-Иосифом.
Весь разговор шел по-русски, так что Анна Фетисовна
должна была все от слова до слова слышать.
Княгиня рассказывала мне не совсем «легальные» ве¬
щи из придворных буколик и политических рапсодий. Ба¬
рон улыбался.
1 Всегда раболепна! Так заслуживают вечного блаженства
(франц.).
477
Всего этого я не имею нужды вспоминать, но одно
считаю уместным заметить, что многие черты характера
австрийского императора собеседница моя старалась мне
истолковать в смысле искания популярности.
Этот трактат о популярности или, вернее сказать,
о популярничанье, был развит с особою подробностию
и с примерами, в числе коих опять выпрыгнула сегодняш¬
няя кружка пива. И,— моя вина, если я ошибаюсь,— мне
казалось, что это делалось гораздо менее для нас, чем для
Анны Фетисовны, которая во все время то входила, го
выходила, подавая что-нибудь нужное своей госпоже.
Это был какой-то женский каприз, который увлек мою
соотечественницу до того, что она перешла от императора
к народу или к народам, к австрийцам и к нам. Ей даже
нравилось, как «венские сапожники» держали себя «с до¬
стоинством», и затем она быстро переносилась на родину,
к нашим русским людям, к их пирам и забавам, к зелену-
вину, и опять к слезам и к расстройству впечатлительной
Анны Фетисовны.
Это уже говорилось по-французски, но барон все-таки
только продолжал улыбаться.
— Мы еще спросим у моей почтенной Жанны ее мне¬
ния,— сказала княгиня и, когда девушка пришла за чаш¬
кою, хозяйка сказала:
— Анна Фетисовна, вам ведь сегодня очень понравил¬
ся здешний король?
— Да-с, очень понравился,— скоро отвечала Анна
Фетисовна.
Княгиня шепнула мне: «она злится», и продолжала
вслух:
— А как вы думаете, если бы он приехал к нам в Мо¬
скву, под качели?
Девушка молчала.
— Вы не хотите с нами говорить?
— Для чего же ему к нам, в Москву, приезжать?
— Ну, а если бы взял да и приехал? Как вы думаете:
присел ли бы он к нашим мужичкам?
— Зачем же ему к нашим приседать, когда у него свои
есть,— отвечала Анна Фетисовна и поспешно ушла с пу¬
стою чашкою в свою комнату.
— Она положительно злится,— сказала по-французски
княгиня и добавила, что Анна Фетисовна пламенная пат¬
риотка и страдает страстию к обобщениям.
Барон все улыбался и скоро ушел. Я ушел часом
позже.
478
Когда я простился, Анна Фетисовна, со свечою в руке,
псшла проводить меня по незнакомым переходам отеля до
лестницы и неожиданно сказала:
— И вы, сударь, согласны с тем, что нашей природы
все люди без достоинства?
— Нет,— говорю,— не согласен.
— А зачем же вы ничего не сказали?
— Не хотел напрасно спорить.
— Ах, нет, сударь, это бы не напрасно... И еще при
чужом бароне... Для чего всегда о своих так обидно!
Будто нам что дурное, а не хорошее нравится.
Мне стало ее жалко, да перед нею и совестно.
Заграничное мое странствование продолжалось недолго.
Осенью я уже был в Петербурге и однажды в одном из
переходов гостиного двора неожиданно встречаю Анну
Фетисовну с корзинкою гарусного вязанья. Поздоровались,
и я ее спрашиваю о княгине, а Анна Фетисовна от¬
вечает:
— Я о княгине, сударь, ничего не знаю — мы с нею
расстались.
— Неужели там, за границею?
— Да, я одна вернулась.
Зная их долголетнюю свычку, почти, можно сказать,
дружбу, я выразил непритворное удивление и спросил:
— Из-за чего же вы расстались?
— Вы эту причину знаете: при вас было...
— Неужели из-за австрийского императора?
Анна Фетисовна минуту промолчала, а потом вдруг
отрезала:
— Что же мне вам сказывать: сами видели... Он очень
вежливый и в том ему честь, а мне за княгиню больно
стало — за их необразование.
— Да что же тут касалось образования княгини?
— А то, что он король, да умел как сделать, встал да
сел со всеми заровно, а мы, как статуи, в коляске напоказ
выпятились и сидели. Все нас и осмеяли.
— Я,— говорю,— не видал, чтобы там над нами смея¬
лись.
— Нет-с, не там, а в гостинице — и швейцар, и все
люди.
— Что же они вам говорили?
— Ничего не говорили, потому что я по-ихнему не по¬
нимаю, а я в глазах их видела, как они не уважают нашу
необразованность.
479
- Ну-с,— и этого вам было довольно, чтобы расстать¬
ся с княгиней!
— Да... что же... чего удивительно, когда господь точ¬
но смесил нам языки, и мы не стали ни в чем понимать
друг друга... Нельзя оставаться, когда во всех наших мыс¬
лях стало несогласно, я и отпросилась сюда. Не хочу боль¬
ше служить: живу по своей серой природе.
В этой «природе» чувствовалось настоящее достоинст¬
во, с которым ей тяжка необразованность.
Княгиня недаром называла ее «пламенною патриот¬
кою».
ПРИМЕЧАНИЯ
СМЕХ И ГОРЕ
Впервые — в еженедельном приложении к «Русскому вестни¬
ку» — «Современной летописи» (1871, № 1—3, 8—16), с подзаго¬
ловком «Разнохарактерное potpourri из пестрых воспоминаний поли¬
нявшего человека. Посвящается всем находящимся не на своих мес¬
тах и не при своем деле». Подписано: Н. Лесков. Разбивку на главы
произвел с разрешения автора редактор «Современной летописи»
П. К. Щебальский. Ему и посвящено первое отдельное издание по¬
вести.
Стр. 3. ...опустелого Таврического дворца...— В описываемое в
романе время Таврический дворец служил для различных надобно¬
стей Министерства двора.
Лазарева суббота — суббота перед Вербным воскресеньем Вели¬
кого поста, когда Христос, по преданию, воскресил умершего Лаза¬
ря (Евангелие от Иоанна, XI, 1—45).
Стр. 5. ...в шестую часть родословной книги...— В шестую часть
родословных книг дворянских депутатских собраний вносились семьи,
предкам которых было пожаловано дворянское звание до указа
1682 г., благодаря которому образовалось так называемое «служи¬
лое» дворянство.
Выкупные свидетельства — документы, выдававшиеся помещикам
за землю, отходившую к крестьянам после отмены крепостного пра¬
ва; они постепенно обменивались на пятипроцентные государствен¬
ные банковые билеты.
Стр. 6. Одиссей Лаэртид — герой древнегреческих мифов, Одис¬
сей, сын царя Итаки Лаэрта.
Стр. 8. Папушник — домашний пшеничный хлеб.
Стр. 10. Пес Дагобера — имеется в виду собака, принадлежав¬
шая герою романа французского писателя Э. Сю «Парижские тайны».
Стр. 11. Папортка — второй сустав крыла у птицы.
...конечно, на ассигнации.— Ассигнации, т. е. бумажные день¬
ги, выпускавшиеся в большом количестве взамен серебра, постоянно
падали в цене.
Стр. 17. Четырнадцатый класс .— По табели о рангах Петра Ве¬
ликого (1722), низшим классом был четырнадцатый, к нему относил-
16. Н. С. Лесков, т. 5.
481
ся чин коллежского регистратора; носитель классного чина освобож¬
дался от телесных наказаний.
Стр. 18. ...был масоном...— Масонские ложи были закрыты в
России в 1822 г.
...рассердился на всех — на государя, на Сперанского, на г-жу
Крюденер, на Филарета...— Государь — Александр I. Михаил Ми¬
хайлович Сперанский (1772—1839) — русский государствен¬
ный деятель, автор проектов либеральных реформ; был отстранен от
службы и в 1812—1816 гг. находился в ссылке. Баронесса Варвара-
Юлия Крюденер (1764—1825) — проповедница мистического про¬
тестантского пиетизма; некоторое время имела влияние на Александ¬
ра I. Филарет (Дроздов) (1782—1867) — см. прим. к «Инжене¬
рам-бессребреникам», т. 2, прим. к стр. 147.
Липпе и Кнингаузен — немецкие государства.
Стр. 19. Хлысты — религиозная секта, возникшая в начале
XVII в.; на радениях хлысты прыгали, кружились, прибегали к са¬
мобичеванию и тем самым доводили себя до состояния мистическо¬
го экстаза.
Духоборцы (духоборы) — религиозная секта, возникшая во вто¬
рой половине XVIII в. и отвергавшая Ветхий и Новый заветы, ико¬
ны, церковную иерархию, религиозные обряды и государственность.
Литой из золота телец.— В Библии (Книга Исход, XXXII) рас¬
сказывается, что евреи на пути из Египта в Палестину отлили злато¬
го тельца и стали поклоняться ему как богу. Выражение «золотой те¬
лец» стало крылатым.
Стр. 20. Уголовная палата — высшее судебное учреждение в гу¬
бернии.
Стр. 21. Термалама — шелковая пестрая ткань.
Гро-гро — дорогая плотная шелковая материя.
Пумперлей — здесь: пузанчик.
Стр. 26. «Котелка» — крендель, здесь: в значении кружок, нуль.
Стр. 27. Бранденбургия — т. е. маркграфство Бранденбургское,
вокруг которого образовалось Прусское королевство.
Стр. 32. ...явился сторож Кухтин...— Здесь переданы авторские
воспоминания о быте Орловской мужской гимназии, в которой в
1841—1846 годы учился Лесков. Сторожа Кухтин и Леонов называ¬
ются Лесковым в «Товарищеских воспоминаниях о П. И. Якушкине».
Стр. 35. Фукс — здесь: студент младшего курса.
Стр. 36. Голубой воротник.— В 1835 г. для студентов была
введена форма, ношение которой было обязательно.
Стр. 39. Голубое существо.— Мундиры голубого цвета носили сол¬
даты и офицеры корпуса жандармов.
Стр. 41. Пассия (франц. passion) — страсть.
Стр. 43. Буколическая — здесь: любовная.
Стр. 44. Смирна — ароматическая смола.
Стр. 48. ...сбила меня с пахвей — сбила с толку: пахвы — ре¬
мень от седла с отверстием, в которое продевается хвост лошади,
чтобы седло не съехало коню на шею.
Стр. 52. Алгвазилы — полицейские (исп. alguacil).
482
Лантрыганили — от лантрыга — мот, гуляка.
Стр. 59. Начинаю говеть и уж отгавливаюсь...— Говение —
приготовление к причащению святыми дарами, заключающееся в по¬
сте и частом посещении богослужений.
...в новом мундире с жирными эполетами...— Эполеты с густым
шитьем носили военные, начиная с полковника.
Стр. 61. ...у нас это по реестрам видно.— По-видимому, Ватаж¬
ков был взят под секретный надзор и включен в соответствующий
реестр.
Разве святого Филимона не четырнадцатого декабря? — 14 де¬
кабря по старому стилю православная церковь отмечает память свя¬
того Филимона. Лесков использовал для описываемого эпизода исто¬
рический факт.
«Князь С. Г. Голицын,— вспоминал современник,— был вхож в
дом генерал-адъютанта Чернышева (впоследствии графа и князя) и
почти домашним человеком в его семействе. Так как он был очень
милый и любезный собеседник и притом приятный певец романсов и
оперных арий, то дети генерала Чернышева и прозвали его в шутку
Тирсисом (Thyrsis, по-русски: Фирс). Но как 14 декабря по русским
святцам празднуется память св. мучеников Фирса и других с ним, то
при производстве следствия над декабристами возникло подозрение,
не имело ли прозвище Фирс какого-нибудь соотношения с событием
14 декабря 1825 г., и от князя С. Г. Голицына потребовали было
объяснения, которое и оказалось единственно означенной выше дет¬
ской шуткой. Но это прозвание с тех пор осталось ему на целую
жизнь» («Записки князя Николая Сергеевича Голицына», «Русская
старина», 1881, март, с. 520—521).
Стр. 62. ...«ночною темнотой мрачатся небеса, и люди для покоя
смыкают уж глаза»...— Измененные строки из стихотворения Анак¬
реона в широко распространенном переводе М. В. Ломоносова. При¬
ведено Лесковым, очевидно, потому, что в последующих строках у
Ломоносова встречается образ бога любви Купидона, который иро¬
нически обыгран в романе «Смех и горе».
...так мне и кажется, что под пол уходит...— Ходили слухи, что
в Третьем отделении полы устроены так, что приведенный на допрос
неожиданно проваливается в подвал, где его подвергают телесному
наказанию.
Стр. 63. ...с седым человеком очень небольшого роста, с огром¬
ными усами...— Имеется в виду генерал Л. В. Дубельт (1792—1862),
управляющий Третьим отделением и начальник штаба корпуса жан¬
дармов.
Стр. 65. ...по вольности дворянства, дарованной Петром Третьим
и подтвержденной Великой Екатериной...— Изданный Петром III
18 февраля 1762 г., Манифест о вольности дворянства освобождал
дворян от обязательной военной или гражданской государственной
службы.
Стр. 67. «Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья
Алексевна!» — заключительные слова комедии А. С. Грибоедова
«Горе от ума» (д. IV, явл. 15).
Стр. 68. ...пред весною тысяча восемьсот пятьдесят пятого го¬
483
да...— 18 февраля (по старому стилю) 1855 г. умер Николай I. Его
смерть, по свидетельству современников (например, В. С. Аксаковой,
дочери известного писателя С. Т. Аксакова), была воспринята как
начало новой эпохи.
...«ярмо с гремушкою да бич».— Неточная цитата из стихотво¬
рения А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный...» (1823).
Стр. 69. ...в Лондоне теперь чудные дела делаются...— Речь идет
о деятельности А. И. Герцена.
Там восходит наша звезда...— Имеется в виду «Полярная звез¬
да» А. И. Герцена и Н. П. Огарева, выходившая в Лондоне с 1855 г.
Стр. 73. Влеченье, род недуга — слова Репетилова из комедии
А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. IV, явл. 4).
...к купине, очищаемой божественным огнем...— Имеется в виду
библейское предание о неопалимой купине — терновом кусте — про¬
образе Богоматери; куст этот горит и чудесным образом не сгорает
(Книга Исход. III, 2—4).
...провел рельсы по улицам...— Конно-железные дороги в Петер¬
бурге начали строиться в 1868 г.
...кучера на козлах трубки курят...— Курение на улицах в Петер¬
бурге было разрешено в 1865 г.
...теперь ведь у нас все благоразумная экономия.— Государствен¬
ный бюджет России во второй половине 1860-х годов сводился еже¬
годно с большим дефицитом.
Стр. 77. Ящик Пандоры.— Согласно древнегреческому мифу, Эпи¬
метей, муж Пандоры, получил от Зевса урну, в которой были запер¬
ты все человеческие пороки, болезни и несчастья. Любопытная Пан¬
дора, несмотря на запрет, открыла урну и выпустила на волю бедст¬
вия; на дне урны осталась лишь надежда. Ящик Пандоры в перенос¬
ном смысле: дар, чреватый несчастиями.
Макиавелли недаром говорил: лги, лги и лги,— что-нибудь при¬
липнет и останется.— Макиавелли (1469—1527) — видный
итальянский писатель и политический деятель; считал допустимыми
в политической борьбе любые вероломные и жестокие средства.
Стр. 78. ...давали пьесу...— В драме Лескова «Расточитель»,
поставленной в Петербурге 1 ноября 1867 г., есть такие слова
Павлуши Челночка: «Мне один человек на Неве на перевозе ска¬
зывал: «Видишь, говорит, молодец, перед художеств академией две
каменных собаки в колпаках лежат? Это, говорит, не собаки, а свин¬
тусы. Из города Фив, из Египта их привезли; с тем, говорит, их и
привезли, что пока в этих свинтусах живое сердце не затрепещется,
до тех пор чтоб ш-ша! чтоб ничему, значит, настоящему не быть, а
будет все только, как для виду» (д. IV, явл. 3).
...«за человека страшно»! — Слова Гамлета из одноименной тра¬
гедии Шекспира в переводе Н. А. Полевого.
...А нынче королева Виктория...— Английская королева Виктория
правила с 1837 по 1901 г.
Стр. 79. ...в губернском правлении не свидетельствуют.— Осви¬
детельствование сумасшедших производилось в губернском прав¬
лении.
...известный православист...— Вероятно, И. С. Аксаков, один из
484
руководителей Славянского комитета, видный славянофил и извест¬
ный поэт. Издавал газеты «День» (1861—1865) и «Москва» (1867—
1868).
...никакого содействия нет.— Намек на отказ в правительствен¬
ной денежной субсидии.
...миллиард в тумане.— Намек на статью В. А. Кокорева («С.-Пе¬
тербургские ведомости», 1859), в которой излагался проект получения
государством 500 миллионов прибыли от снижения цен на водку.
Стр. 80. Кудрявцева и Грановского чтит.— Петр Николаевич
Кудрявцев (1816—1858) — профессор Московского универси¬
тета, ученик Грановского. Тимофей Николаевич Грановский
(1813—1855) — известный профессор истории Московского универ¬
ситета, имевший огромное влияние на студенчество. Имена замечатель¬
ных лекторов Кудрявцева и Грановского вспомнили в связи с инци¬
дентом 1869/70 учебного года. Тогда вместо прославленного профес¬
сора университетской клиники Григория Антоновича Захарьина
(1829—1897), на год уехавшего за границу, вести занятия было по¬
ручено ученому старой школы Полунину, сильно отставшему от, нау¬
ки. Студенты 4-го курса отказались слушать Полунина; в связи с
этим 17 студентов были исключены из университета.
...свой губернский город...— В этой и последующих главах опи¬
сываются Орел и уездный город Кромы.
И вот они опять — знакомые места...— неточная цитата из сти¬
хотворения Н. А. Некрасова «Родина» (1846).
Стр. 81. ...господа все уехали по земским учреждениям, местов
себе стараются в губернии.— Земские учреждения в 1865—1866 гг.
в большинстве губерний Европейской России находились в руках
дворян, которые и занимали в этих учреждениях почти все платные
должности.
Я даже знаю этого Локоткова.— По-видимому, в образе Локот¬
кова и в описании ссор его с матерью Лесков воспользовался некото¬
рыми известными ему фактами из биографии П. И. Якушкина, писа¬
теля-народника, фольклориста-собирателя, сотрудника «Современни¬
ка» и «Отечественных записок».
Стр. 82. Карамболь — здесь: скандал.
...они при прежнем крепостном звании... — П. И. Якушкин родил¬
ся в тот период, когда его мать, Парасковья Фалалеевна Якушкина,
была еще крепостной крестьянкой И. А. Якушкина, который лишь
потом с ней обвенчался.
Стр. 83. Классическое воспитание — здесь: книжное, далекое от
жизни.
...ночью к Каракозову по телеграфу летал.— Каракозов Д. В.
(1840—1866) — революционер, 4 апреля 1866 года стрелявший в
Александра II.
...теперь закон вышел, чтоб их сокращать; где два было, говорят,
один останется...— В мае 1869 года было опубликовано распоряжение
присутствия по делам православного духовенства, в котором предла¬
галось «в видах уравнения приходов и упразднения тех из них, кото¬
рые при малолюдстве населения могут быть... .соединены с другими...»
485
(«Современный листок», 1869, № 41.), составить новое «расписание»
приходских церквей по губерниям. Это повлекло за собой большое
сокращение церковных штатов.
Стр. 84. Атта Троль — медведь по имени Атта Троль — персо¬
наж одноименной поэмы Г. Гейне.
Стр. 85. ...бери всяк в руки метлу да мети свою улицу...— пере¬
фразированные слова из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»: «Пусть
каждый возьмет в руки по... метле, и вымели бы всю улицу...» (д. I,
язл. 4).
Криминация — здесь: обвинение, оговор.
Стр. 86. Лытки — ноги.
Петр Первый в регламенте духовном их наименовал: «оные архи¬
ерейские несытые собаки»...— в «Положении о церковном управлении
и о замене патриарха духовной коллегией», составленном архиеписко¬
пом новгородским Феофаном Прокоповичем (1681 —1736), сподвиж¬
ником Петра I. Книгу эту редактировал сам Петр.
Стр. 87. ...то кралею, то хлапом...— Краля — дама, хлап —
валет.
Козлякать — делать резкие прыжки.
Стр. 90. ...сам к Гарибальди пошел.— Джузеппе Гарибальди
(1807—1882) — выдающийся деятель движения за воссоединение
Италии, революционер; в возглавляемой им армии были люди разных
национальностей.
Стр. 91. Изнятъ — извести.
Веди — старославянское название буквы «В».
Стр. 92. ...граф Бисмарков из Петербурга адъютанта пришлет...—
Отто Бисмарк (1815—1898) — известный германский государст¬
венный деятель; в 1859—1861 гг. был прусским послом в Петербурге.
Стр. 93. Рыцарь Ламанчский — Дон Кихот.
Стр. 94. ...вы меня застали вот за «Душою животных» Вундта —
«Лекции о душе человека и животных» (1865). Вундт (1832—1920)
применяет к жизни животных понятия о государстве, браке, истории
и т. д. Поэтому далее он назван «очень односторонним мыслителем».
Я читал «Тело и душа» Ульрици.— Имеется в виду книга немец¬
кого философа-идеалиста Германа Ульрици (1806—1884) «Тело
и душа. Основания психологии человека» (1866).
Преосвященный Иннокентий... об этом даже писал бывшему киев¬
скому ректору Максимовичу...— Архиепископ Иннокентий (Бо¬
рисов) (1800—1857) — видный русский церковный деятель, писа¬
тель и оратор, ректор Киевской духовной академии (1830—1836).
Михаил Александрович Максимович (1804—1873) — историк
и фольклорист, ректор Киевского университета (1833—1835), друг
Гоголя. В одном из писем архиепископ Иннокентий возражает против
того, что Максимович на лекции назвал душу животных «умираю¬
щей».
«Повисли в воздухе мартышки, и весь свет стал полосатый шут».—
У Державина: «Как вкус и нравы распестрелись, // Весь мир стал
полосатый шут; // Мартышки в воздухе явились...»
486
Я понимаю прогресс по Спенсеру...— Герберт Спенсер
(1820—1903) — знаменитый английский философ, понимал общест¬
венный процесс механистически, расценивал явления общественной
жизни с позиции теории «равновесия», отрицая классовую борьбу.
У нас тут доктор есть в городе, Алексей Иванович Отрожден¬
ский...— В образе этого героя отражены черты Василия Ивановича
Павлова, врача, литератора, друга П. И. Якушкина, Н. С. Лескова и
др. писателей.
Стр. 95. Эфемериды — насекомые, жизнь которых продолжается
несколько часов.
Стр. 96. ...стою за самостоятельное начало душевных явлений.—
Здесь и далее имеется в виду докторская диссертация Генриха Его¬
ровича Струве «Самостоятельное начало душевных явлений» (М.,
1870), вызвавшая оживленные споры в русской прессе.
...Лудвиг в «Lehrbuch der Physiol о gie»...— Карл Людвиг
(1816—1895) — выдающийся немецкий физиолог, автор книги
«Lehrbuch der Physiologie des Menschen» (в русском переводе —
«Руководство к физиологии человека». Киев, 1864).
Фламмарион, Камилл (1842—1925) — французский астроном.
В его книге «Жители звезд, или Многочисленность обитаемых ми¬
ров» утверждалось, что люди и предполагаемые обитатели других
планет занимают различные ступени духовного совершенства по отно¬
шению к «высочайшему духу».
Лаврентий (Лоренс) Стерн (1713—1768) — см. прим. к «Собо¬
рянам», т. 1, с. 462—463.
...он в своем «Коране»...— Речь идет о книге: Стерн. Коран,
или Жизнь, характер и чувства. С приложением описания жизни
Стерна. 2 части. СПб., 1809. Эта книга неизвестного автора —
пародия на роман Стерна «Тристрам Шенди» — появилась в 1770 г.,
после его смерти.
...тончайшие фибры Левенхука...— Антониус ван Левенгук
(1632—1723) — выдающийся голландский биолог-микроскопист.
Орифис — устье, отверстие.
Стр. 98. ...как король Лир думал в своем помешательстве...—
Шекспировский Лир говорит: «Нет в мире виноватых! Нет! Я знаю!»
(д. IV, сц. 6).
Стр. 99. Монтескье, Шарль (1689—1755) — знаменитый фран¬
цузский просветитель, философ, правовед. Приводимая Лесковым фра¬
за взята из его произведения «Дух законов».
Да, когда отворится дверь в другую комнату. Аполлон Николае¬
вич Майков... подметил это любопытство у Сенеки в его разговоре с
Луканом в «Трех смертях».— Имеются в виду слова уводимого на
казнь Сенеки из лирической драмы А. Н. Майкова «Три смерти»:
«...Предо мною // Открыта дверь — и вижу я // Зарю иного бытия...»
Стр. 101. ...неодобренные сочинения Иннокентия и запрещенные
богословские сочинения Хомякова...— Имеется в виду сочинение
епископа Иннокентия «Последние дни земной жизни господа нашего
Иисуса Христа», напечатанное только после смерти автора (1857)
487
(см., т. 1, «Соборяне», прим. к с. 253) и вызывавшее разногласия
среди богословов. Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) —
известный писатель, участник русско-турецкой войны 1828 г., вместе
с братьями И. В. и П. В. Киреевскими, И. С. и К. С. Аксаковыми и
Ю. Ф. Самариным возглавлял славянофилов; его богословские сочи¬
нения были разрешены в России только в 1879 г.
Стр. 102. Взыскание недоимки — здесь: взыскание с крестьян
платежей за земельные наделы, полученные ими после отмены кре¬
постного права.
...«вставай, брат,— пора, подать в деревне собирают, с утра»...—
Не вполне точно цитируются строки из песни Беранже «Жак» (в пе¬
реводе В. Курочкина — «Сон бедняка»).
Стр. 109. Самордаки — нервы, термин, употреблявшийся в древ¬
нерусских лечебниках.
...читает старому лакею газету «Весть»... — «Весть» (1863—
1870) — политическая и литературная газета. Занимала крайне пра¬
вые позиции, выступала с требованием передачи административной
власти дворянству, за передачу дела народного образования в руки
духовенства и т. п.
Стр. 112. Фалалей — простак, растяпа.
...по лечебнику Каменецкого лечит.— Имеется в виду составлен¬
ное профессором хирургии Медико-хирургической академии О. К. Ка¬
менецким (1754—1823) «Краткое наставление о лечении бо¬
лезней простыми средствами», 2 ч.
Стр. 113. Посредник.— Для проведения в жизнь крестьянской
реформы 1861 г. была учреждена должность мирового посредника, в
обязанности которого входило определение наделов и повинностей
крестьян, установление поземельных отношений между крестьянами
и помещиками, а также надзор за деятельностью крестьянских об¬
ществ и волостных управлений.
Стр. 114. ...там есть у нас старик Фортунатов...— Василий Ива¬
нович Фортунатов — реальная фамилия чиновника Орловского
губернского правления.
Стр. 116. Фемиде ли вы служите...— Фемида — древнерим¬
ская богиня правосудия.
Стр. 119. Проприетер (франц. proprietaire) — собственник.
Стр. 120. Сами к ставцу лицом сесть не умеют...— Ставец —
деревянная общая застольная чашка; не умеет сесть лицом к став¬
цу — т. е. неуч, невежа.
...всего Макария выштудировал...— Митрополит московский
Макарий (Булгаков, 1816—1882) — видный русский церков¬
ный деятель и богослов; его книги «Введение в православное бого¬
словие» и «Догматическое богословие» неоднократно переиздавались.
Стр. 121. Навуходоносор (605—562 до н. э.) — вавилонский
царь, захвативший Иерусалим и угнавший евреев в плен. По библей¬
скому преданию, Навуходоносор был за это наказан Богом: он ли¬
шился разума и ел траву (Книга пророка Даниила, IV).
...злою страстью обуян к переменам.— Явный намек на черты ха¬
рактера кн. П. И. Трубецкого, орловского губернатора.
488
Пальмерстон Г. (1784—1865) — английский политический дея¬
тель, министр иностранных дел; в 1855—1865 гг.— премьер-министр;
проводил колониальную политику и поддерживал реакционные пра¬
вительства Европы.
...он теперь яростный враг церкви...— намек на орловского губер¬
натора кн. П. И. Трубецкого.
Стр. 124. Конфуций (ок. 551—479 до н. э.) — китайский фило¬
соф, учивший подчинять себя интересам семьи и государства.
Стр. 126. «Конек-Горбунок» — балет Сен-Леона по мотивам
сказки П. П. Ершова.
Стр. 128. Сонетка — лента, с помощью которой приводился в
действие звонок.
...уставленною томами словаря Толя и истории Шлоссера...—
Словарь Толля — настольный словарь для справок по всем отраслям
знания (справочный энциклопедический лексикой); составлен под ред.
Ф. Толля. 3 тт., СПб., 1863—1866. Что касается Ф. Шлоссера, то,
вероятно, имеется в виду его «Всемирная история».
...копией с картины Рибейры, изображающей св. Севастиана...—
Хусепе де Рибера (1591—1652) — выдающийся испанский худож¬
ник; его знаменитая картина «Св. Себастиан» находится в Государ¬
ственном Эрмитаже.
Графиня Ченчи (1577—1599) — Беатриса Ченчи вместе с бра¬
том и мачехой убйла своего отца и была казнена.
Тройка Вернета — картина французского художника Ораса Вер¬
не (1789—1863).
Стр. 129. ...не мечтая ни о Светланином сне, ни о «бедной Та¬
не»...— Светланин сон — часть баллады В. А. Жуковского
«Светлана»; «бедная Таня» — слова из романа А. С. Пушкина
«Евгений Онегин» (гл. VIII, строфа XLVII).
«Колокольчик динь, динь, динь средь неведомых равнин» — не¬
точно приведенные строки из стихотворения А. С. Пушкина «Бесы»,
Стр. 130. Справа — дело.
Стр. 133. Где у нас Дерби? — Вероятно, имеется в виду Эдвард
Дерби (1799—1869) — английский консервативный политический
деятель.
А тут обрусение, армия, споры, Бокк, Фадеев, Ширрен, Самарин,
Скарятин, Катков...— Обрусение — обсуждавшийся в русской пе¬
чати вопрос о положении в прибалтийских губерниях (Лифляндская,
Курляндская, Эстляндская), где сохранялась власть немецких баро¬
нов-помещиков. Во второй половине 1860-х гг. остзейский (прибал¬
тийский) вопрос стал предметом оживленной полемики между русски¬
ми во главе с «Московскими ведомостями» Каткова и немецкими лите¬
раторами, защищавшими интересы немецких баронов. Катков требовал
замены немецкого языка, который был в то время государственным
языком в прибалтийских губерниях, русским языком и уничтожения
привилегий немецких баронов. Полемика обострилась после выхода
книги одного из идеологов Славянофильства, Ю. Ф. Самарина
(1819—1876), «Окраины России» (1868), напечатанной за границей
и не разрешенной в России, так как в окружении Александра II бы¬
489
ло немало представителей прибалтийского дворянства. Самарину от¬
вечали В. фон-Бокк, издававший в Берлине на немецком языке «Лиф¬
ляндские сообщения», и К. Ширрен — профессор русской истории
Дерптского (ныне Тартуского) университета, напечатавший брошюру
«Лифляндский ответ господину Юрию Самарину», Лейпциг, 1869.
Р. А. Фадеев (1824—1883) — русский военный писатель и публи¬
цист, противник реформ организации военного дела в России, прово¬
дившихся военным министром Д. А. Милютиным.
...из Москвы пускают интригу.— Катков обвинял генерал-губер¬
натора Северо-Западного края А. Л. Потапова в сочувствии по¬
лякам и указывал на существование в самом правительстве полоно¬
фильской партии. В январе 1870 г. министерство внутренних дел вы¬
разило неудовольствие «Московским ведомостям» Каткова.
...я понимаю абсолютизм, конечно, не по-кошелевски...— А. И.
Кошелев (1806—1883) — публицист-славянофил; считал необхо¬
димым создание совещательного земского собора при императоре, но
был против парламентской системы.
Стр. 134. Горчаков А. М. (1798—1883) — см. «Соборяне» т. 1,
прим. к с. 194.
Возится со славянским вопросом...— Имеется в виду обсуждение
в русской публицистике положения славян в Австро-Венгрии и Тур¬
ции.
Стр. 136. ...как леди Макбет...— Шекспировская леди Макбет го¬
ворит: «Все еще пахнет кровью. Все ароматы Аравии не омоют этой
маленькой руки» («Макбет», д. V, явл. I. Перевод А. Кронеберга).
...она дошла по книжке Пельтана...— Имеется в виду книга фран¬
цузского журналиста Э. Пельтана (1813—1884) «Хартия домаш¬
него очага» (1864).
Стр. 137. Почтовый люстратор — Лесков вспоминает («Нескла¬
дица о Гоголе и Костомарове. Историческая поправка»), что он встре¬
чал в молодости в Киеве человека, на визитной карточке которого
стояло: «статский советник Блюм, киевский почтовый люстратор».
Но здесь у Лескова либо ошибка памяти, либо намеренная игра слов.
Люстратор — чиновник при палате государственных имуществ в
западных губерниях России (1830—1860 гг.), который занимался
люстрацией (переписью и учетом земельных угодий и хозяйственного
инвентаря). Никакого отношения к перлюстрации (то есть к вскры¬
тию частной корреспонденции) люстратор не имел.
Стр. 139. Перлов.— Прототипом для этой фигуры послужил ге¬
нерал-лейтенант Степан Александрович Хрулев (1807—1870) —
прославленный герой Севастопольской обороны.
Стр. 143. У англичан вон военачальник Магдалу какую-то... в
Абиссинии взял...— В 1867 г. английский полковник Роберт Непир
(1810—1890), возглавил абиссинскую экспедицию и взял крепость
Магдалу, за что получил титул лорда Магдальского и звание фельд¬
маршала.
Стр. 144. ...позабытых в плену Зоровавелем.— Согласно Ветхому
Завету, Зоровавель возглавил первую партию иудейских пленни¬
ков, возвратившихся из вавилонского плена на родину (напр. Книга
Неемии, VII, 7).
490
...два чучела...— Этот эпизод из детства Лескова (см. т. 6, «Ме¬
лочи архиерейской жизни»).
Стр. 145. ...на стене портрет царя Алексея Михайловича с раз¬
вернутым указом...— далее цитируется, по-видимому, подложный указ
Алексея Михайловича, опубликованный в «Русской старине» (1871,
№ 3).
Стр. 146. Вы Николая Тургенева новую книжку читали? — Ни¬
колай Иванович Тургенев (1789—1871) — декабрист, видный
экономист. В 1824 г. выехал за границу и жил в эмиграции. У Лес¬
кова речь, видимо, идет об анонимно изданной книге Н. И. Тургене¬
ва «Чего желать для России?» (Лейпциг, 1868).
...липким пластырем, что ли, ее, Федорушку, спеленать хотите? —
Намек на стихотворение «Федорушка», приписывавшееся А. К. Тол¬
стому.
Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868) — поэт, драматург
и беллетрист. На его стихи писал романсы М. И. Глинка.
Стр. 146-147. «Сон» и «Кавказ» — произведения Шевченко.
Стр. 147. «Будем, будем резать, тату!» — цитата из «Гайдама¬
ков» Шевченко. Тато (укр.) — отец (звательный падеж — тату).
Рухавка (польск.) — движение.
В последнее повстанье...— Имеется в виду польское восстание
1863 г.
...веровали... что Наполеон на них смотрит...— Руководители
польского восстания 1863 года, рассчитывая на помощь французско¬
го императора Наполеона III и Англии, тщетно вели с ними пере¬
говоры.
«Моменты» — шутливая кличка офицеров, окончивших Академию
генерального штаба.
Стр. 149. ...пять варшавских мертвецов наделали.— В 1861 г.
С. А. Хрулев, в ту пору комендант Варшавского замка, приказал
стрелять по мирной демонстрации поляков. Было убито пять человек.
...как Бирнамский лес с прутьями пойдем...— В трагедии Шекспи¬
ра «Макбет» (д. V, сц. 5—6) воины принца Малькольма идут на
бой с убийцей его отца, Макбетом, прикрываясь ветвями, срезанными
в Бирнамском лесу.
Стр. 150. ...тон Бисмарк и Мольтке хозяйничают.— К началу
1871 г. значительная часть Франции была оккупирована немцами;
фактическим главнокомандующим немецкой армии был Карл Мольт¬
ке (1800—1891), занимавший должность начальника генштаба. Бис¬
марк в это время был канцлером Германской империи.
...смотрятся, как нарциссы, в свою чернильницу...— «Нарциссом
чернильницы» назвал князя А. М. Горчакова Ф. И. Тютчев.
Стр. 151. Кеньги — здесь: калоши.
...при покойном императоре...— при Николае I.
«Wacht am Rhein» («Стража на Рейне») — с 1871 г. государст¬
венный гимн объединенной Германии.
Гоф-герихт — высший суд в Риге (до 1889 г.), члены которого
выбирались коренным лифляндским дворянством.
Стр. 158. ...два француза меня, безоружного, хотели в плен от¬
вести...— Этот случай, о котором Лесков услышал в детстве, он
491
использует в заметке «Из одного дорожного дневника» («Северная
пчела», 1862, № 351).
Стр. 158. Гарибальди пишет...— Джузеппе Гарибальди при¬
надлежат патриотические стихи, мемуары и несколько исторических
романов. Его роман «Клелия» (в русском переводе — «Иго монахов,
или Рим в XIX столетии») был напечатан в России в 1870 г.
Стр. 159. Я проникся этим учением...— Согласно учению спири¬
тов, возможно прямое общение с душами умерших.
Стр. 162. Гамбетта, Леон-Мишель (1838—1882) — французский
политический деятель, выдающийся оратор; возглавлял республикан¬
скую оппозицию против Наполеона III. Во время франко-прусской
войны, после падения Наполеона III, стал членом правительства на¬
циональной обороны и деятельно формировал новые армии. Гамбетта
был противником мира на условиях, предложенных Бисмарком.
Граф Дерби, Эдвард (1799—1869) — английский государствен¬
ный деятель.
Рошфор, Анри де (1831—1913) — граф, французский политиче¬
ский деятель и публицист, принимал активное участие в борьбе рес¬
публиканской оппозиции против Наполеона III и был членом рес¬
публиканского правительства после падения Второй империи.
Излер и Берг — владельцы увеселительных заведений в Петер¬
бурге.
Стр. 163. Дмитрий Петрович Журавский (1810—1856) — ученый
статистик, сторонник освобождения крестьян. Лесков тепло пишет
о нем в романе «Захудалый род».
Стр. 164. ...больничку в губы продернули.— См. рассказ «Зверь»
и прим. к нему в 7 т. наст. изд.
...«трясение ощущается».— В комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»
(д. I, явл. 3) Бобчинский говорит: «С утра я ничего не ел, так желу¬
дочное трясение...»
Стр. 166. ...про Брюллова... про Нестора Васильевича Кукольни¬
ка, про Глинку, про актера Соленика и Ивана Ивановича Панаева...—
О дружбе Глинки, Кукольника и Брюллова рассказал в «Литератур¬
ных воспоминаниях» И. И. Панаев. К. Т. Соленик (1811 —1851) —
украинский драматический актер.
...потом про Аполлона Григорьева со Львом Меем...— Аполлон
Александрович Григорьев (1822—1864) — известный поэт и
критик; Лев Александрович Мей (1822—1862) — поэт, драматург
и переводчик. На сюжет его драм «Царская невеста» и «Псковитян¬
ка» были созданы одноименные оперы Н. А. Римского-Корсакова.
Григорьева и Мея связывали длительная дружба и близость к сла¬
вянофилам.
Да вам и вольности ваши дворянские Дмитрий Васильевич Вол¬
ков писал, запертый на замок вместе с датским кобелем...— Д. В. Вол¬
ков (1718—1785) — сенатор, при Петре III тайный секретарь осо¬
бого совета, составитель манифеста о вольности дворянской. Лесков
имеет в виду следующий эпизод, изложенный в «Некоторых выпис¬
ках из бумаг М. Данилевского», напечатанных А. И. Герценом («Ис¬
торический сборник вольной русской типографии в Лондоне», Лон¬
дон, 1861): «Петр III, дабы сокрыть от Е. Р. Воронцовой, что он
492
в сию ночь будет заниматься Куракиной, сказал громко при графи¬
не Воронцовой, что он имеет с ним <с Волковым> сию ночь пре¬
проводить в исполнение известное им важное дело в рассуждении
благоустройства государства. Ночь пришла, государь пошел в спаль¬
ню, где была Куракина, сказав Волкову, чтобы он в эту ночь напи¬
сал известный ему указ. Волков был отведен в кабинет государя
и заперт с датской собакой. Не зная ни причин, ни намерений госу¬
даря, не знал, о чем писать,— а писать надобно. Но как он был
человек умный и догадливый, то вспомнил, что государь нередко го¬
ворил с ним о даровании прав вольности дворянству. Сев, написал
в ночь манифест о сем».
Ну, а теперь в рекруты пойдете...— Имеется в виду подготовка
к введению в России всеобщей воинской повинности.
Стр. 167. ...можно, как слесаршу Пошлепкину и унтер-офицерскую
жену, на улице выпороть и доложить ревизору, что вы сами себя
выпороли...— В «Ревизоре» Н. В. Гоголя городничий говорит, что
«унтер-офицерша... сама себя высекла» (д. IV, явл. 15). О порке
Пошлепкиной в «Ревизоре» речи нет.
А что сэр Чаннинг-то пишет? — Уильям Чаннинг (1780—
1842) — американский богослов и писатель.
Стр. 169. Меня только всю мою жизнь ругают и уже давно до¬
казали и мою отсталость, и неспособность, и даже мою литератур¬
ную ... бесчестность...— Лесков имеет в виду критические оценки его
романов и драм в журналах различных направлений.
Стр. 172. Трехполенный — такое прозвище дал А. И. Герцен
В. Н. Панину, министру юстиции Александра II, за его высокий рост.
Пихлер, Алоисий (1833—1874) — церковный историк; служил
библиотекарем в Императорской публичной библиотеке в Петербурге
(1868—1870); за похищение книг был осужден к ссылке в Сибирь
(1871), но помилован и, как иностранный подданный, выслан за
границу.
Стр. 173. ...его какой-то армейский капитан невзначай выпорол
на улице, в Одессе, во время недавних сражений греков с жидами...—
С 1 по 3 апреля 1871 г. в Одессе происходил еврейский погром. Ко¬
гда появились войска, погром прекратился, и началась расправа с по¬
громщиками.
...между тем как тебя соотечественники еще только предали на
суд онемеченных и провонявшихся килькой ревельских чухон...— Ле¬
том 1870 г. Лесков с семьей поселился близ Ревеля (ныне Таллинн).
«Но вот 2(14) июля разражается франко-прусская война. Картина
резко меняется. Шовинизм русско-немецких «двуподанных» растет...
Бароны и бюргеры всех возрастов и мастей пьянеют и распоясыва¬
ются, разрешая себе день ото дня все более наглые выходки по от¬
ношению к людям, осмеливающимся говорить на улицах русского
города по-русски...
Как-то вечером Лесков заходит в курортный «Салон»... Признав
в нем русского, трое хорошо подогретых пивом барончиков и бюр¬
герят... начинают травить неугодного им посетителя, заключая свои
выкрики «тотальными» выводами, что вся Россия скоро разлетится,
как дым,— «wie Rauch».
493
На просьбу прекратить провокацию забияки, учтя превосходство
сил, предпринимают обеспеченное в успехе наступление. Писатель
был горяч во всем и, упредив «агрессоров», впечатляюще остужает
их пыл тяжелым курзальным стулом.
...ревельское баронство вчинило в эстляндском рыцарском сред¬
невековом суде «уголовное дело».
...Лесков опубликовал в одной из столичных газет <«Русский
мир», 1872> специальную статью с колким заглавием «Законные
вреды»... Ею русская общественность широко оповещалась о всех
кознях эстляндского суда по отношению к русскому писателю...
На третьем году своей давности дело закончилось какими-то пу¬
стяками. вроде небольшого штрафа, но свою долю нервной трепки
стоило.
... в предпоследней главке сатирического очерка «Смех и горе»
стоят строки «Я утешаюсь хоть тем, что умираю... между тем как
тебя соотечественники еще только предали на суд... за недостаток
почтения к ... немецкому студенту, предсказывавшему, что наша Рос¬
сия должна разлететься «wie Rauch». (А. Лесков. Жизнь Николая
Лескова. М. 1984, т. 1, стр. 324—326).
ВОИТЕЛЬНИЦА
Впервые — журнал «Отечественные записки», 1866, № 7, апрель,
кн. I, с посвящением художнику М. О. Микешину (1835—1891).
«Воительница», видимо, продолжает задуманную писателем се¬
рию «очерков исключительно одних типических женских характеров»,
о которой он сообщил Н. Н. Страхову в 1864 г. (Н. С. Лесков.
Собр. соч. в 11 тт., т. 10, М., 1958, стр. 253).
Как эпиграф взяты слова Сенеки из лирической драмы А. Н.
Майкова «Три смерти».
Стр. 178. ...самый страшный сон — аридов.— Арид (Аред) —
библейский патриарх, известный своим долголетием. В народных пре¬
даниях Аред изображается человеком жестоким.
Стр. 181. Фактотум — (лат. factotum — делай все) — человек, вы¬
полняющий любые поручения.
Серизовая — вишневого цвета (франц. la cerise — вишня).
Гроденаплевая — см. «Соборяне», т. 1, прим. к с. 88.
Стр. 183. «Мария» — романтическая поэма польского поэта Ан¬
тони Мальчевского (1793—1826).
Кортит — не терпится (от: «кортеть»).
Стр. 185. Осетит — поймает в сети.
Стр. 188. Спажинки — время окончания жатвы, а также народное
название поста перед днем Успения Богоматери (15 августа по ста¬
рому стилю).
Карамболь — см. прим. к стр. 82.
Стр. 192. ...не то с люди, не то с како начинается.— Люди —
славяно-русское название буквы «Л», како — буквы «К».
494
Стр. 203. ...и амантов ... имела... — т. е. любовников (франц.
amant).
Стр. 216. ...пур-амур любовь шла (от франц. pour l'amour) — по
страсти.
Бзырит — мечется.
Стр. 220. Инфантерия — пехота.
Стр. 222. Живейный — легковой извозчик (в отличие от ломово¬
го, занимающегося перевозкой тяжелой клади).
Стр. 223. Подчегарый — поджарый.
Стр. 225. Вохловатый — косматый.
Стр. 232. Присноблаженная (церковнослав.) — вечно блаженная.
Стр. 235. Пятница Просковея.— Св. Прасковья (Параскева)
Пятница — римлянка, пострадавшая при императоре Диоклетиане за
отказ отречься от Христа (начало IV в.).
Стр. 236. Амченский — мценский.
Триех дев непорочный невестителю! чистоты усердной храните¬
лю! — Неполная цитата из акафиста (церковной службы) святителю
Николаю. В житии святителя Николая рассказывается о том, что не¬
кий человек, впав в нищету, был вынужден торговать своими дочерь¬
ми. Св. Николай ночью тайно бросил ему в окно деньги. Деньги по¬
шли на приданое девицам, и таким образом они были спасены от
позора.
Стр. 240. Навья кость — т. е. мертвая кость — одна из высту¬
пающих под кожей мелких косточек ступни.
Стр. 241. Осил пенечный — пеньковая веревка с петлей на конце.
Стр. 244. Сокровище благих (церковнослав.) — средоточие все¬
го лучшего.
Стр. 245. ...дуру неповитую — набитую и т. п.
Аггел — злой дух, дьявол.
«Утоли моя печали» — название одной из икон Богоматери.
ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА
Впервые — журнал «Эпоха», 1865, № 1, под заглавием «Леди
Макбет нашего уезда». В переработанном виде повесть вошла в сбор¬
ник «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого» (1867, т. 1) под
названием «Леди Макбет Мценского уезда» с пометой: «26 ноября
1864 г., Киев».
Работа над повестью была окончена в 1864 г. в Киеве. Лесков
так вспоминал о времени работы над нею: «Мне становилось време¬
нами невыносимо жутко, волос поднимался дыбом, я застывал при
малейшем шорохе... Это были тяжелые минуты, которых мне не за¬
быть никогда».
В «Леди Макбет» Лесков использовал мценские впечатления,
здесь отразилось одно из ярких детских воспоминаний писателя:
«Раз одному соседу старику, который «зажился» за семьдесят годов
и пошел в летний день отдохнуть под куст черной смородины, нетер¬
495
пеливая невестка влила в ухо кипящий сургуч... Я помню, как его
хоронили... Ухо у него отвалилось... Потом ее на Ильинке (на пло¬
щади) «палач терзал». Она была молода, и все удивлялись, какая
она белая...» («Как я учился праздновать. Из детских воспоминаний
писателя». Цит. по кн.: А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, М.,
1984, т. 1, стр. 113).
Стр. 247. ...с Тускари из Курской губернии...— река Тускарь
протекала в Кромском уезде Орловской губернии по границе с Кур¬
ской губернией.
Стр. 248. Киевский патерик — Киево-Печерский патерик — памят¬
ник древнерусской литературы XIII в., сборник рассказов об иноках
Киево-Печерского монастыря и об истории его создания.
Стр. 249. Лежень — лежачее бревно, брус.
Скрыня — здесь: ближайшая к плотине часть мельничного пруда.
Штофная шубочка — т. е. из штофа, плотной шелковой ткани.
Пихтерь — большая высокая корзина.
Стр. 270. Киса — кожаный мешок.
Стр. 271. Городской голова — председатель городской думы, т. е.
выборного городского совета.
Стр. 272. Чаврела — чахла, сохла.
Стр. 275. Феодор Стратилат — христианский святой, распятый
за веру (319 г., М. Азия). Стратилат (греч.) — военачальник.
Стр. 277. ...хоть и уездного, но довольно большого и промыш¬
ленного города...— В середине 60-х годов во Мценске было более 40
заводов, позже (1866) — 67. (См. «Памятная книжка Орловской гу¬
бернии на 1869 год»).
В приходской церкви измайловского дома был престол в честь
Введения во храм Пресвятыя Богородицы...— Здесь, видимо, упомина¬
ется церковь «Введенская — Введения во храм Пресвятой Богороди¬
цы, с двумя приделами: верховных Петра и Павла и святого пропо¬
ведника Ильи, построена более 500 лет назад, но кем неизвестно».
(«Экономическое и камеральное описание Мценского уезда». Госу¬
дарственный архив Орловской губернии).
Стр. 278. Нанка — род хлопчатобумажной ткани.
Стр. 279. ...на торговой площади своего города...— площадь эта
располагалась в самом центре города, где и ныне сохранилась часть
торговых рядов.
Стр. 285. ...синих болховских чулок с яркими стрелками сбоку.—
Такого рода чулки «со стрелками сбоку» производства народных
промыслов были известны за пределами Орловской губернии.
Стр. 287. Иов — Речь идет о библейском праведнике Иове, кото¬
рый подвергся в жизни страшным испытаниям, потерял детей, богат¬
ство, был поражен проказою, но не хулил Бога. Терзаемый страш¬
ными муками Иов возгласил: «Погибни день, в который я родился, и
ночь, в которую сказано: зачался человек». (Библия. Книга Иова,
III, 3).
«За окном в тени мелькает русая головка...» — слова из песни на
стихи Я. Полонского «Вызов» (1844, опубл. 1845).
496
... ГРАБЕЖ
Впервые — «Книжки «Недели», 1887, № 12.
Стр. .291. ...о воровстве в орловском банке, дела которого разби¬
рались в 1887 году по осени.— Речь идет, видимо, об Орловском Об¬
щественном Банке, который в 1895 году окончательно был объявлен
несостоятельным.
...незадолго перед знаменитыми орловскими ... пожарами ... при
покойном орловском губернаторе князе Петре Ивановиче Трубец¬
ком.—Упоминаемые здесь события в рассказе датируются довольно
точно — 1847 год. «Истребительные пожары» начались в Орле с
1841 года: 1841, 1842, 1843, 1848, 1850, все они происходили при
губернаторе генерал-майоре П. И. Трубецком (губернаторствовал
с 1841 по 1849).
...на Нижней улице, у Плаутина колодца...— Нижняя улица шла
параллельно р. Оке. На берегу располагались ссыпные амбары и при¬
стань. «У Плаутина колодца», на Нижней улице жила тетка писате¬
ля — Н. П. Страхова.
Стр. 292. ...к Покрову...— Каменная церковь Покрова пресв. Бо¬
городицы находилась у Оки на Московской улице.
...ходила молиться в Рыбные ряды...— Церковь св. Николая, на¬
зываемая в народе Никола Рыбный, располагалась за Торговыми
рядами, у молочного базара г. Орла.
Театр тогда у нас Турчанинов содержал после Каменского, а
потом Молотковский.— Театр графа Каменского существовал в Орле
с октября 1815 по 1835 г. С 1844 по 1846 г. здание театра снял
в аренду Л. Ю. Млатковский.
Стр. 293. Перекрещенка — в данном случае женщина, приняв¬
шая другую христианскую религию и вторично крестившаяся.
Стр. 294. Щепотница — щеголиха.
...старым русским крестом крестятся...— т. е. двуперстным кре¬
стом, как староверы.
Стр. 295. Поспа — рассол из отвара отрубей для мочения яблок.
Яломок — валяная шапка.
Стр. 296. Ктитор — церковный староста.
Стр. 305. «Аще не Господь хранит дом — всуе бдит стрегий»
(церковнослав.). «Если Бог не охраняет дом, напрасно бодрствует
стерегущий» — неточная, сокращенная цитата 1-го стиха из псал¬
ма 126.
Стр. 306. Альфред — речь идет об Адольфе, персонаже из народ¬
ной драмы XVIII в. «Царь Максимилиан».
Стр. 307. Ренсковые погреба — лавки, где продавали рейнские
вина.
Стр. 308. Икатенья — ектенья, ряд молитвенных прошений, воз¬
глашаемых с амвона священником или дьяконом.
...по булдажкам...— булдыга — кость.
Стр. 311. Язовитское — иезуитское.
497
Лавы — здесь: мостки, пешеходный мостик.
Стр. 313.Привитать— здесь: обитать.
Стр. 314. Дуван дуванить — делить добычу после грабежа.
Стр. 316. ...во-усысе...— по лицу.
Стр. 320. ...живи, чадо, в незлобии, не ходи в игры и в брат¬
чины...— не вполне точная цитата из выдающегося произведения
XVII в. «Повесть о Горе и Злосчастии, как Горе-Злосчастие довело
молодца во иноческий чин».
Костырь — игрок в кости.
Стр. 321. Избавь нас от мужа кровей...— т. е. от убийцы. Сокра¬
щенная цитата из псалма 53,3. Арид (Аред) — см. прим. к стр. 178.
Стр. 327. Рядовичи — торговцы (сидящие в торговых рядах).
Ослопная свеча — очень большая свеча (ослоп — жердь, кол).
АНТУКА
Впервые — «Книжки Недели», 1888, № 10.
Стр. 329. «...наш век и современный человек».— Слова из романа
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. VII, строфа XXII).
...слово Льва Толстого — Образуется — раздумчивое, ус¬
покаивающее выражение старого слуги Матвея (ч. I, гл. II) из ро¬
мана Л. Н. Толстого «Анна Каренина».
Стр. 332. ...в стиле Фридриха II.— Возможно, речь идет о харак¬
терной моде времени этого монарха (1744—1797): пиджак, обтяги¬
вающий плечи, с широкими обшлагами на рукавах и с широкими, в
складках, полами.
Стр. 333. «Бонжур мосье! Мете ву плас!» — (Искаж. франц.) —
Здравствуйте, господин! Усаживайтесь!
«Коман са ва? Кё дезире ву?» (франц.) — Как поживаете? Что
желаете?
«Асее ву. Нузавон кельке шоз а вотр сервиз» (франц.).— Сади¬
тесь. У нас есть кое-что для вас.
Стр. 334. Бисмарк — см. прим. к стр. 92.
Полендвица — филейная вырезка.
Шинка — водка.
«Кошер» — здесь: воздержание от пищи.
Стр. 337. Милорадович, Михаил Андреевич (1771—1825),
граф — генерал от инфантерии. С 1818 года — военный губернатор
Петербурга, одна из ярких личностей в России первой четверти
XIX в.
Стр. 339. Гемютлих (нем.) — спокойное, добродушное.
Стр. 341. Остробрамская Божия матерь — католическая икона
Божьей матери, находящаяся в одном из соборов г. Вильно (ныне
Вильнюс).
Стр. 342. Каплица — часовня, домашняя церковь.
Стр. 350. Второзаконие — пятая книга Ветхого завета, одна из
составных частей Пятикнижия. Главный герой Второзакония — ми¬
фический Моисей.
Стр. 352. ...слова из Кагелота...— Когелет (европейское на¬
звание книги «Екклезиаст») — библейское сочинение поэтического,
498
философско-дидактического содержания. Книга эта, как и некоторые
другие, писалась, подобно Торе, в виде свитков, которые читаются
всенародно в синагогах во время богослужения.
КОЛЫВАНСКИИ МУЖ
Впервые—«Книжки Недели», 1888, № 12.
Действие рассказа, видимо, не случайно приурочено к 1869—
1870 гг. Именно в это время (точнее, летом 1870 г.) Лесков впер¬
вые сталкивается с оскорбительными для русского человека прояв¬
лениями немецкого национализма и шовинизма в Ревеле (А. Лесков.
Жизнь Николая Лескова, т. 1, с. 324—325). Столкновение запомина¬
ется Лескову на всю жизнь. В дальнейшем благодаря частым посеще¬
ниям Прибалтики писателю неоднократно приходится наблюдать
явления подобного рода, и в его сознании прочно утверждается враж¬
дебное отношение к немецким баронам-остзейцам и к правящим клас¬
сам Германии вообще, выказывавшим в отношении других народов
дух нетерпимости и насилия. В публицистике и художественном твор¬
честве Лескова, хронологически предваряющих рассказ «Колыванский
муж», эта вражда проступает явственно (см., например, статью Леско¬
ва «Законные вреды» и рассказы «Железная воля» и «Александрит»).
В «Колыванском муже» она завуалирована шутливой формой повест¬
вования, но, по существу, остается той же. Немецким характерам,
с железной педантичностью и настойчивостью проводящим в жизнь
идею своей национальной исключительности и превосходства, Лесков
противопоставляет тип русского человека, горячего, непосредственно¬
го и непоследовательного, привлекающего к себе симпатии даже свои¬
ми недостатками, но не отдает предпочтения и ему. Такой подход
к герою усугублялся его особой оценкой политической обстановки
в Прибалтике. Наряду с немецким национализмом писателю были,
пожалуй, не менее чужды бестактные, а подчас и грубые действия
русских обрусителей края, а также в некоторых случаях солидаризиро¬
вавшихся с ними славянофилов типа Ю. Ф. Самарина и И. С. Акса¬
кова. Рассказ недаром пестрит ироническими характеристиками пат¬
риотизма славянофилов. В статье «Русские деятели в остзейском крае»,
касаясь вопроса о сосуществовании различных национальных стихий
в прибалтийских странах и поведения царской администрации, Лесков
писал: «Правитель... обязан заботиться, чтобы всякий племенной ан¬
тагонизм смешанного населения не усиливался, а сглаживался и что¬
бы все равно чувствовали справедливость в беспристрастии правя¬
щей власти. Думается, что равное для всех внимание и справедли¬
вость были бы гораздо нужнее и полезнее, чем обнаружение тех или
других племенных «предпочтений». История русской администрации
в остзейском крае имеет немало доказательств, что предпочтения как
в ту, так и в другую сторону приносили гораздо более вреда, чем
пользы» («Исторический вестник», 1883, ноябрь, стр. 257).
Изображенная Лесковым комическая история превращения рус¬
ских детей в немцев (по закону дети от смешанных браков право¬
славных с лицами других вероисповеданий должны были быть кре¬
щены в православие) была, очевидно, типичным явлением в жизни
499
остзейского края. Во всяком случае, задолго до написания «Колы¬
ванского мужа» тема его уже затрагивалась в русской периодической
печати. Так, например, в статье «Отзыв рижского петропавловского
братчика о мнимовероисповедном вопросе в прибалтийских губерни¬
ях» читаем: «Даже уступки со стороны православной церкви не ук¬
рощают, а только поощряют врагов русского православия еще к
большей заносчивости. При совершении в прибалтийских губерниях
браков между православными и протестантами отменено требовать
подписки о воспитании в православной вере детей, имеющих родиться
от сих браков. Теперь многие пасторы, как выше сказано, стали кре¬
стить чрез своих агентов не только таких детей, но даже и тех, у
коих оба родителя православные. Слыша и видя все это, мы, русские,
сокрушаемся и чувствуем, что в обидах, чинимых православию, вы¬
ражается неприязнь не к православию только, но и к нам, к русско¬
му народу, к русскому имени вообще, и от кого же? От людей, осы¬
панных и осыпаемых благодеяниями русского правительства!» («Мо¬
сква», 1867, № 58).
Стр. 354. Колывань — старое русское название Ревеля (теперь
Таллинн).
...когда там губернаторствовал М. Н. Галкин-Врасский...— Гал¬
кин-Врасский (1834—1916) был эстляндским губернатором с
конца 1868 по 1870 г. В дальнейшем — саратовский губернатор, на¬
чальник главного тюремного управления, член Государственного со¬
вета, статс-секретарь Николая II. В статье «Русские деятели в ост¬
зейском крае» Лесков называет Галкина-Врасского в числе лиц, «ко¬
торые здесь [в остзейском крае] носились с своими русскими сим¬
патиями и... тоже добра не сделали» («Исторический вестник», 1883,
ноябрь, стр. 257).
...бывшего петербургского генерал-губернатора, князя Суворова...—
Суворов А. А. (1804—1882), внук полководца, генерал; петер¬
бургский генерал-губернатор с 1861 по 1866 г.
Стр. 355. Ланские — русский графский и дворянский род. Лан¬
ской С. С. (1787—1862) с 1850 г. был членом Государственного
совета, а с 1855 по 1861 г. — министром внутренних дел.
...до вице-губернатора Поливанова...— Поливанов В. П. (ум.
в 1889 г.) — бывший вице-губернатор и затем губернатор Эстлянд¬
ской губернии.
Феодор Знаменский (ум. до 1883 г.) — настоятель Ревельского
собора.
...немецкими баронами, имевшими основание особенно любить и
уважать ее брата...— А. А. Суворов (см. выше) в 1848 г. был назна¬
чен эстляндским генерал-губернатором. В своей статье «Русские дея¬
тели в остзейском крае» Лесков писал, что это назначение «надо
считать несчастием для русских... Суворов обнаруживал предпочте¬
ние немцам, и это было дурно» («Исторический вестник», 1883, но¬
ябрь, стр. 257).
Стр. 357. Anku dranku...— бессмысленное сочетание звуков типа
детской считалки.
Стр. 358. ...розовый колпачок, придававший ее легкой и граци-
500
озной фигуре что-то фригийское.— Фригийский колпак, головной
убор фригийцев. Во время Французской буржуазной революции
фригийский колпак считался эмблемой освобождения и послужил об¬
разцом для шапочки якобинцев.
Стр. 367. Он с Киреевскими, с Аксаковыми — со всеми знаком.—
Братья Киреевские, Иван Васильевич (1806—1856) и Петр Ва¬
сильевич (1808—1856), братья Аксаковы, Константин Сергеевич
(1817—1860) и Иван Сергеевич (1823—1886) — виднейшие предста¬
вители славянофильства.
Стр. 369. ...страданиями вашего молодого Вертера...— намек на
роман Гете «Страдания молодого Вертера».
Стр. 370. ...как ангел на Каульбаховской фреске...— Очевидно,
речь идет об одной из фресок на стенах Мюнхенской пинакотеки
(картинной галереи). Вильгельм Каульбах (1805—1874) — немец¬
кий художник.
Стр. 371. Вспомни «Любушин суд».— Подразумевается былина
А. Н. Майкова «Любуша и Премысл», написанная по мотивам чеш¬
ского народного творчества. В ней говорится о борьбе чешского на¬
рода за сохранение национальных порядков и обычаев, против подра¬
жания, что было созвучно чаяниям славянофилов.
...в Берлине раз суд в пользу простого мельника против короля
решил.— Подразумевается знаменитый исторический факт о конфлик¬
те между Прусским королем Фридрихом Великим и владельцем мель¬
ницы в потсдамском парке. Фридрих Великий в середине XVIII в.
задумал строить в этом парке дворец Сан-Суси, но ему мешала распо¬
ложенная там мельница. Мельник отказался ее снести, подал на ко¬
роля в суд и выиграл процесс. Отсюда пошла французская поговорка:
II у a encore des juges a Berlin («Есть еще судьи в Берлине»).
Стр. 372. ...привел ... слова Тургенева, что «нашей русской сути
из нас ничем не выкуришь»...— неточная цитата из «Литературных и
житейских воспоминаний» И. С. Тургенева.
Он уж и сознался, что с тех пор, как окунулся в немецкое море,
так своей сути и лишился.— Подразумевается следующее место из
«Литературных и житейских воспоминаний» И. С. Тургенева: «Я
бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очис¬
тить и возродить меня, и когда я, наконец, вынырнул из его волн,—
я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда» (см. «Вме¬
сто вступления»).
...сам просит: «Виновных не щади!» — Намек на неизвестное в пе¬
чати стихотворение Н. А. Некрасова в честь «усмирителя» польского
восстания М. Н. Муравьева, назначенного в апреле 1866 г. предсе¬
дателем следственной комиссии по каракозовскому делу. Дифирамб
Некрасова Муравьеву имел целью отвести удар от журнала «Совре¬
менник», это была «жертва, принесенная Некрасовым чудовищу» ра¬
ди спасения лучшего, передового журнала того времени (см. Г. 3.
Елисеев. О личности Некрасова. В кн. «Шестидесятые годы». М.-Л.,
1933, стр. 462). Между тем современники склонны были расцени¬
вать этот поступок Некрасова как выражение его беспринципности,
моральной нечистоплотности, находящейся в странном противоречии
со всем его творчеством. Лесков цитирует стихотворение по переска¬
501
зу газеты «Московские ведомости», в которой сообщалось: «Нам пи¬
шут из Петербурга, что в прошлую субботу тамошний Английский
клуб избрал графа Муравьева в свои почетные члены, а в эту суббо¬
ту, 16 апреля, граф присутствовал там на обеде. Пили его здоровье,
говорили речи... После обеда г. Некрасов прочел стихи, написанные
им в честь графа Муравьева. В стихах выставлены заслуги графа, ко¬
торому теперь «вся Россия бьет челом». Стихи оканчиваются прось¬
бой; «виновных не щади» («Московские ведомости», 1866, № 83,
20 апреля, стр. 2).
...Самарины, Хомяковы...— Самарин Д. Ф.— общественный
деятель, славянофил, сотрудник изданий И. С. Аксакова. Выпустил
в свет Собрание сочинений своего брата, Ю. Ф. Самарина (о нем
см. ниже). Хомяковы — очевидно, подразумевается только один
из Хомяковых, Алексей Степанович (1804—1860), теоретик славя¬
нофильства, поэт и драматург.
Самарин-то — ведь он был в этом, в их Колыванском краю, но
они, небось, его не завертели. Думали завертеть, да он им шиш пока¬
зал.— Самарин Ю. Ф. (1819—1876), писатель и общественный
деятель, славянофил, в 1847 г. служил в Риге делопроизводителем
комиссии, ревизовавшей городское самоуправление; в дальнейшем на¬
писал ряд работ, затрагивающих вопрос о русской политике в При¬
балтике («Общественное устройство г. Риги», СПб., 1852; «Письма
из Риги», 1849; «Окраины России», Берлин, 1868—1876). Отно¬
сясь сочувственно к коренному населению края — латышам и эстон¬
цам, Самарин выступал за уничтожение в Прибалтике немецкого
влияния, противопоставляя всему немецкому русское. К позиции Са¬
марина Лесков относился отрицательно, расценивая ее как выражение
«односторонности», «партийной несвободности, которая у Самарина
иногда граничит с пристрастием... Нам кажется,— продолжает Лес¬
ков,— что если бы безусловное «предпочтение» получило теперь та¬
кое развитие, какое для него желал Ю. Ф. Самарин, то это привело
бы совсем не к благоприятным для русских результатам» («Истори¬
ческий вестник», 1883, декабрь, стр. 498, 499).
Стр. 375. Гернгутер — член религиозной секты «Богемские бра¬
тья», существовавшей с XV в.
...как оный венецианский мавр...— Подразумевается Отелло, ге¬
рой одноименной трагедии Шекспира.
Стр. 382. «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная
жизнь!» — цитата из «Дворянского гнезда» И. С. Тургенева (эпилог).
Стр. 382—383. ...теориями метампсихоза и подумать, что в ней
живет душа какой-то тевтобургской векши.— Метампсихоз, или
метемпсихоз (греч. metempsychosis — переселение душ) — религиозно¬
мистическое учение о переходе души из одного организма после его
смерти в другой. Векша — белка. Тевтобургский лес — лес в
Германии, в котором в 9 г. н. э. произошло сражение между древними
германцами и римскими войсками, в результате которого римский
полководец Вар был разбит германцем Арминием.
Стр. 385. ...и между поэтами и писателями тоже многие, кото¬
рые судьбу свою с немецкою женщиною связали...— На немках же¬
наты были М. В. Ломоносов, В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев.
502
Низводилось это до самых столпов славянофильства.— По всей
вероятности, здесь подразумевается Иван Сергеевич Аксаков, жена
которого, Анна Федоровна Тютчева, дочь поэта, была наполовину
немкой.
«Благословение непраздной и имущей во чреве; да разверзет ее
ложесна отрок...» — цитата из Библии (Исход. XIII, 2) и Евангелия
(от Луки, II, 23).
...всегда все выходило так хорошо и выспренно, как будто он Ак¬
сакову в газету передовицу пишет...— Подразумеваются передовицы
из газет И. С. Аксакова «День», «Москва» и «Москвич». Значитель¬
ная часть этих передовиц, написанных самим Аксаковым, была посвя¬
щена пропаганде русского влияния в остзейском крае и разоблачению
националистических устремлений немцев.
Стр. 387. Не верю наветам коварным — неточная цитата из ро¬
манса М. И. Глинки «Сомнение», на слова Н. В. Кукольника.
Стр. 389. «Глас вопиет в пустыне: приготовьте путь Богу» —
неточная цитата из Библии (Книга пророка Исайи, XL, 3).
Стр. 390. Готфрид Бульонович — каламбур. Готфрид Буль¬
онский — герцог Нижней Лотарингии (ок. 1060—1100), по преда¬
нию, возглавлял первый крестовый поход (1096).
Стр. 391. ...а вышел фос-куш... (франц. fausse couche) — прежде¬
временные роды.
И прочитает в немецком переводе из Гафиза: «Тщетно, художник,
ты мнишь, // Что творений своих — ты создатель».— Лесков ошибает¬
ся: это не перевод из Гафиза, а начальная строка стихотворения
А. К. Толстого.
...полечиться в Дубельне у Нордштрема, в его гидропатической
лечебнице.— Нордштрем X. А. (1817—1885) врач, статский со¬
ветник. В одном из писем В. П. Боткина к И. С. Тургеневу есть сле¬
дующая характеристика Нордштрема: «...самый дельный из всех док¬
торов, каких я знал» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная
переписка 1851 —1869, М.-Л., 1930, стр. 113).
Дубельн, Майоренгоф — теперь Дубулты, Майори.
Захарьин Г. А.— профессор Московского университета, директор
факультетской терапевтической клиники, врач-практик, автор диссер¬
тации на тему «Ученье о послеродовых заболеваниях». См. прим.
к стр. 80.
Стр. 392. Поланген — теперь Паланга.
Стр. 402. Было опять утро, и был вечер в день второй.— Неточ¬
ная цитата из Библии (Первая книга Моисеева, Бытие, I, 8).
Стр. 403. Литке Ф. Р. (1797—1882) — адмирал; исследователь
Арктики и Тихого океана, президент Академии наук, основатель
Русского географического общества. В 1850—1856 гг. был команди¬
ром порта и военным губернатором в Ревеле и в Кронштадте.
РАКУШАНСКИЙ МЕЛАМЕД
Впервые — «Русский вестник», 1878, № 3.
503
Стр. 409. Ракушанск — по всей вероятности, Ракошин.
Meламед — учитель (часто — содержатель) хедера, вероиспове¬
дальной еврейской школы, где учат религиозным представлениям
иудаизма и молитвам.
...из вымирающей породы лермонтовских Максимов Максимови¬
чей.— Речь идет о персонаже романа М. Ю. Лермонтова «Герой на¬
шего времени» (1840), старом служаке Максиме Максимовиче.
Война с турками... — Имеется в виду русско-турецкая война
1877—1878 гг., возникшая в результате подъема освободительного
движения на Балканах. Вдохновляющим мотивом ее было освобож¬
дение братских народов от интервентов. Победа русской армии обес¬
печила независимость Румынии, Сербии, Черногории, а также осво¬
бождение Болгарии от турецкого ига.
Стр. 411. ...одно из грибоедовских лиц высказывало о календа¬
рях: «Все врут календари».— Слова эти принадлежат графине Хлё¬
стовой, персонажу комедии «Горе от ума» (д. III, явл. 21).
Стр. 412. ...«усталый и голодный на самого Бога ропщет»...—
Ср.: «И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные;
и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего»
(Библия. Книга пророка Исайи. VIII, 21).
...при коварном нейтралитете Беконсфильда, виляньях Андраши
и...— Речь идет о политике английского правительства, проводи¬
мой Биконсфильдом Вениамином Дизраэли (1804—1881),
евреем по национальности, а также о действиях венгерской стороны,
руководимой Андраши Дьюлой Старшим (1823—1890), минист¬
ром обороны Венгрии в 1867—1871 гг.; с 1871—1873 гг. министр
иностранных дел Австро-Венгрии. Их усилия фактически были на¬
правлены к сближению с Германией, поддержке Турции, ослаблению
влияния России на Балканах.
Стр. 413—414. О Тире сказано, что там не будет горка, где
«князья, купцы и где сильные земли барышничают», а сила в тех,
кои «не видали самоцветных камней и не завистны на золото» —
вольный пересказ части гл. 18 «Откровения св. Иоанна Богослова».
Стр. 415. ...«не хощет Господь смерти грешника».— Из первой
молитвы «Последования к святому причащению», составленной Ва¬
силием Великим.
...та каверзная праведность и та убивающая дух ученость, кото¬
рыми огорчался наш Спаситель и за которые возглашал: «горе вам,
горе и горе».— Здесь кратко и вольно пересказывается евангельский
текст (Евангелие от Матфея. XXIII, 13, 14, 15, 23, 25, 27—29).
Стр. 416. Аарон — по библейскому преданию, один из наиболее
чтимых древних священников, любимый пророком Моисеем и самим
Богом.
Соломон — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 гг.
до н. э., сын Давида. Библейская традиция утверждала особую муд¬
рость Соломона, приписывая ему авторство «Екклезиаста», «Притчей
Соломоновых» и «Песни Песней», хотя научная критика Библии до¬
казывает, что эти произведения сложились позже: в VIII, III и II вв.
до н. э.
504
Егова (Яхве).— имя древнееврейского Бога, по представлениям
иудаизма связанного с народом Израиля «заветом», двусторонним
договором.
Стр. 417. ...не от Евы, а от первой жены Адама, строптивой Ла¬
лис....— согласно преданию, Лалис (Лилит), будучи сотворена Бо¬
гом из глины одновременно с Адамом, тотчас начала спорить с му¬
жем, настаивая на своем равенстве с ним, а затем покинула его
Согласно священной кабалистической книге «Зогар» (XIII в.) Лалис
стала женой Самэля и, матерью демонов.
...чтобы она от жадности не затряслась, как Исав...— намек на
эпизод библейской истории, когда голодный Исав, сын Исаака, про¬
дал за чечевичную похлебку первородство своему брату Иакову.
Стр. 418. ...в день разорения храма...— речь идет о дне памяти
разрушения Иерусалимского храма Навуходоносором (VI в. до н. э.);
в связи с этим в синагоге читают Кинот, элегии, посвященные этому
событию.
Гелиа (Гелила) — свиток Торы. Согласно иудейскому обы¬
чаю во время богослужения на ритуальное свертывание свитка при¬
глашается наиболее почетный прихожанин.
Ец-Хаюм (Эйц Хаим) — иудаистское сочинение о религиозных
ритуалах (XVI в.).
Стр. 419. ...носил свиток Закона...— Согласно иудейскому обы¬
чаю в праздник Кущей в синагоге происходило публичное чтение
Моисеева Закона, причем нести и читать Закон «представлялось
лицу, занимавшему самое высокое положение в народе» (Еврейская
энциклопедия. СПб., 1908, т. 9, с. 947).
«Древо жизни» — мифическое древо, согласно библейской леген¬
де растущее в раю; здесь: символ его.
«Благословен Господь Бог наш, избравший, нас пред всеми ины¬
ми народами» — неполная цитата из еврейской молитвы (см.: Дом
молитвы. Молитвы евреев на весь год с переводом на русский язык
с подробным изложением богослужебных обрядов и историческими
заметками о молитвах. Составил А. Л. Воль. Издание третье. Виль¬
на. 1902. Стр. 4. 115).
...День Кущей...— третий из главных трех праздников иудаизма;
отмечается после сбора урожая (в середине седьмого месяца); по
древним предписаниям, верующим повелевалось в этот праздник и
семь последующих дней жить в кущах в память того, что там Бог
некогда поселил евреев.
Стр. 420. Данииловы седьмины — т. е. определенные сроки. Биб¬
лейское предание рассказывает, как архангел Гавриил определяет
пророку Даниилу срок в «семьдесят седьмин», чтобы «покрыто было
преступление» жителей, в противном случае — предрекает разруше¬
ние города (Библия. Книга пророка Даниила. IX, 24—27).
Стр. 421 ...по случаю польских дел...— т. е. в связи с восстани¬
ем 1863 г. в Польше.
Стр. 423. «Аллилуя» <...> Царю небесный — здесь: христиан¬
ские молитвы-песнопения.
Стр. 427. Кабала — каббала (древнеевр.; буквально: предание) —
мистическое течение в иудаизме, основанное на вере в возможность
505
реального и непосредственного воздействия человеческих молитв на
космические процессы.
Даниил — библейский пророк; известен своим предсказанием
погибели царю Вальтасару, объяснением роковых слов, возникших чу¬
дом на стене во время царского пира.
Стр. 428. Райский змей — т. е. змей, живший в раю и совратив¬
ший Еву на нарушение Божьего завета.
Стр. 429. Пурим — (от древнеевр.; пур — жребий) — иудаистский
праздник в честь избавления евреев от их злого гонителя Амана
(Гемана) во времена персидского царя Артаксеркса (IV в. до н. э.).
...в память победы Мардохея над Аманом (точнее: Мордехая над
Геманом).— Библейская история Амана, приближенного персидского
царя Ахашвероша, повествует, как Аман, возненавидевший дядю ца¬
рицы Эсфири Мардохея за то, что последний не падает перед ним
ниц, замыслил уничтожить всех евреев в Персидском царстве. Но Эс¬
фирь, узнав от Мардохея о назначенном дне расправы над евреями,
устроила пир, на который приглашены были Аман и Мардохей. По
приказанию царя Аман должен был возвеличивать Мардохея. Царь
же, разгневанный враждебными акциями Амана по отношению к ев¬
реям, за кажущуюся оплошность по отношению к Эсфири приказал
повесить его на виселице, приготовленной им для Мардохея.
Стр. 431. ...обносить посреди синагоги Закон...— Один из ритуа¬
лов во время Пурима заключался в том, что свиток Закона торже¬
ственно несли по синагоге.
Книга Эсфири — одна из книг Библии.
Стр. 432. Поставец — стол.
...о рыбе Левиафане...— в библейской мифологии Левиафан —
морское чудовище, описываемое как крокодил, гигантский змей или
огромный дракон.
Стр. 436. ...сядь на нее хорошенько, как Рахиль...— Согласно Вет¬
хому завету, когда Яков, муж Рахили, готовился тайно к возвра¬
щению в Ханаан, Рахиль потихоньку похитила у отца идолов. Лабан,
отец Рахили, заметил пропажу, догнал беглецов и требовал возврата
похищенного. Рахиль положила идолов под седло, села на него, и все
поиски Лабана были напрасны.
БЕЛЫЙ ОРЕЛ
Впервые — газета «Новое время», 1880, от 25 декабря, с подзаго¬
ловком «Святочный рассказ».
По словам А. Н. Лескова, рассказ соотносится «с чем-то может
быть частично и происшедшим когда-то в Пензе, в годы подвигов там
пресловутого губернатора Панчулидзева и его достойного соратника,
губернского предводителя дворянства А. А. Арапова» (А. Лесков.
Жизнь Николая Лескова. М., 1984, т. 2, стр. 137—138).
Александр Алексеевич Панчулидзев (1789—1867), пензенский
губернатор с 1831 по 1859 г., был вынужден выйти в отставку
после ревизии, произведенной сенатором С. В. Сафоновым. Лесков
506
жил в Пензенской губернии в 1857—1860 гг.— в последние годы гу¬
бернаторства Панчулидзева. Без сомнения, он много слышал тогда о
губернаторе, которому современник дает такую характеристику: «Пен¬
зенской губернией управляет губернатор Панчулидзев, которого ма¬
ло назвать мошенником, но преступник, у которого на душе много
злодейств, отрав и разных смертоубийств; который царствует в губер¬
нии 25 лет, считаясь примерным губернатором; которому праздно¬
вался юбилей двадцатипятилетнего его управления губернией; кото¬
рому император прислал в подарок табакерку со своим портретом, ук¬
рашенным бриллиантами; он — тайный советник, украшенный орде¬
ном Александра Невского, и не хочет никуда идти с места губерна¬
тора» (Запись рассказов П. А. Бахметьева в книге Л. М. Жемчуж¬
никова «Мои воспоминания из прошлого», вып. 2, М., 1927, с. 202).
Непосредственным толчком к написанию рассказа могли послужить
«Записки дворянина-помещика, бывшего в должности предводителя,
судьи и председателя палаты» И. В. Селиванова, печатавшиеся в
1880 г. в «Русской старине». Они открываются очерком о Панчулидзе¬
ве «Один из губернаторов в старину», помещенным в июньской кни¬
жке журнала. В характеристике «губернатора П-ва» в рассказе Лес¬
кова имеются детали, близкие к описанию Селиванова (собственно¬
ручные избиения, ограбление кассы приказа общественного призре¬
ния, меломания, характеристика оркестра и пр.).
Эпиграф к рассказу взят из 21-й идиллии Феокрита («Рыбаки»)
в переводе Л. А. Мея.
Стр. 441. «Есть вещи на свете».— «Есть вещи на свете, которые
не снились мудрецам» — цитата из «Гамлета» (д. I, явл. 5).
...два-три года тому назад, когда мы, умаляясь до детства, нача¬
ли играть в духовидство...— В 70-е годы в некоторых кругах русской
дворянской интеллигенции распространилось увлечение «общением с
духами» — главным образом посредством спиритических сеансов. В
80-е годы вера в «явление духов», разоблаченная наукой (Д. И. Мен¬
делеев и др.), заметно ослабела.
Консервировать — здесь в смысле: стремиться затормозить прог¬
ресс, защищать консервативные взгляды.
Стр. 442. Храмоздатель — строитель церквей.
Сын «человека» — то есть слуги.
Кондуит — журнал сведений о поведении учащихся; здесь в зна¬
чении: послужной список.
Панин, Виктор Никитич (1801—1874), граф, с 1841 по 1862 г.
был министром юстиции.
Стр. 443. Такой же долгий, как его усопший патрон, граф Виктор
Никитич...— В. Н. Панин отличался исключительно высоким ростом.
Стр. 445. «Белый орел».— Орден Белого орла — один из выс¬
ших орденов в царской России.
Стр. 446. Папошник, или папушник — см. прим. к стр. 8.
Тальони, Мария (1804—1884) — знаменитая парижская балери¬
на, гастролировавшая в Петербурге в конце 30-х и начале 40-х годов.
Бозио, Анджелина (1824—1859) — знаменитая итальянская пе¬
507
вица. В 1856—1859 гг. пела в итальянской оперной труппе, гастроли¬
ровавшей в Петербурге.
Стр. 447. Экзекутор — чиновник, ведавший хозяйственными де¬
лами, ответственный за порядок в канцелярии.
Стр. 448. Аквиляльбов.— Фамилия образована от латинского
aquila alba — белый орел.
...настоящий «Белый орел»... как его изображают на полных па¬
радных приемах у Зевса.— Орел, несущий молнии, обычно изобра¬
жался рядом с Зевсом-громовержцем.
Стр. 450. Это наш студент, артист, хорист, но только не афе¬
рист.— Имеется в виду водевиль Ф. А. Кони «Студент — артист,
хорист и аферист» (1838).
Поликрат (VI в. до н. э.) — тиран самосский. По преданию, был
всегда удачлив во всех своих делах и опасался, что заплатит в кон¬
це концов несчастьем за постоянные удачи. Был предательски убит
своим союзником, персидским сатрапом.
Аллегри — лотерея с немедленной выдачей выигрышей.
Стр. 451. Картины представляют «Саула у волшебницы андор¬
ской».— Саул — согласно Библии первый царь Израиля, помазан¬
ный на царство пророком Самуилом. Когда после смерти Самуила на
страну напали филистимляне, Саул разыскал в Аэндоре волшебницу
и тайно, ночью, переодетый в простое платье, пришел к ней. По его
просьбе она вызвала тень Самуила, перед которой Саул пал ниц и
просил о помощи. Но Самуил ему отказал, так как Бог отступился от
Саула.
Рамена — плечи.
Этот мог «повелеть царю явиться и в Вефиле и в Галгалах».—
Помазав Саула на царство, Самуил послал его в Вефиль, где Саулу
должно было быть знамение, и в Галгал, где Саул должен был семь
дней ждать прибытия Самуила для принесения жертвоприношений
перед началом освободительной войны.
...то, что не снилось мудрецам...— см. прим. к стр. 441.
Стр. 452. ...из колокольных дворян...— из духовенства.
...полковые выходили...— то есть офицеры покидали город в свя¬
зи с перемещением полка.
Стр. 453. ...я пропилеи делаю.— Пропилеи — галерея или ко¬
лоннада перед входом в здание; здесь переосмыслено как существи¬
тельное от глагола «пропилить».
Стр. 457. Приурок — «порча» от сглаза, зависти, тайного недоб¬
рожелательства.
Стр. 458. ...же ман вэ! (франц. je m’en vais) — я ухожу.
Стр. 459. «До свиданс, до свиданс,— же але о контраданс» —
смесь искаженных русских и французских слов со значением «До сви¬
данья, до свиданья, я иду на контраданс». Контраданс (вернее,
контрданс) — старинный танец типа кадрили.
ЧЕРТОГОН
Впервые — газета «Новое время», 1879, от 25 декабря, под за¬
главием «Рождественский вечер у ипохондрика». Под заглавием «Чер¬
тогон» рассказ в значительно переработанном виде вошел в сборник
508
Лёскойа «Русская рознь. Очерки и рассказы (1880 и 1881)». Напи¬
сан в конце 1879 года.
Прототипом героя рассказа — Ильи Федосеевича — является,
видимо, московский миллионер А. И. Хлудов (1818—1882), как мо¬
жно судить по письму Н. С. Лескова А. С. Суворину (Собр. соч.,
1956—1958, Т. VI, с. 654).
Стр. 460. Филаретов катехизис.— «Православный катехизис»,
составленный митрополитом московским Филаретом (Дроздовым); с
1823 до 1917 г. он выдержал множество изданий и считался офици¬
альным изложением основ православного богословия.
Стр. 461. Плюмса — гримаса.
Стр. 462. Эфиопы — здесь в значении: цыгане.
Стр. 465. ...Ивану Степанову... бить на литавре.— В письме к
Суворину (Собр. соч., 1956—1958, т. VI, с. 654) Лесков сообщал, что
речь идет об известном миллионере-откупщике В. А. Кокореве (1817—
1889).
Черный царь у Фрейлиграта.— В стихотворении «Негритянский
вождь» немецкого поэта Ф. Фрейлиграта (1810—1876) плен¬
ный вождь, обреченный бить в ярмарочном балагане в барабан, в
ярости прорывает его.
Стр. 466. Вальпургиева ночь — ночь на 1 мая (день св. Вальпур¬
гия). По немецким народным поверьям, ведьмы собираются в эту
ночь на горе Брокен на свой шабаш.
Стр. 469. Скорописного смертью — то есть скоропостижно.
Новотроицкий — известный московский трактир.
Всепетая — икона Богородицы в одном из московских монасты¬
рей.
ПЛАМЕННАЯ ПАТРИОТКА
Впервые — журнал «Исторический вестник», 1881, № 1, под за¬
главием «Император Франц-Иосиф без этикета».
Стр. 472. ...Мак-Магон, Патрис (1808—1893) — маршал Фран¬
ции; президент Французской Республики (1873—1879).
Стр. 476. ...Апостолическое величество — титул австрийских им¬
ператоров.
А. Батюто («Грабеж», «Колыванский муж»), Б. Бухштаб
(«Белый орел»), Е. Любимова («Смех и горе»), С. Рейсер
(«Чертогон»), И. Столярова («Воительница», «Леди Макбет
Мценского уезда»), В. Троицкий («Антука», «Ракушанский мела¬
мед», «Пламенная патриотка»).
СОДЕРЖАНИЕ
Смех и горе 3
Воительница 175
Леди Макбет Мценского уезда 247
Грабеж 291
Антука 329
Колыванский муж 354
Ракушанский меламед 409
Белый орел 441
Чертогон 460
Пламенная патриотка 472
Примечания
481
Николай Семенович ЛЕСКОВ
Собрание сочинений
в двенадцати томах
Том V
Редактор тома
П. Г. Горелов
Оформление художника
Г. В. Котлярова
Технический редактор
В. Н. Веселовская
ИБ 1976
Сдано в набор 01.11.88. Подписано к печати 14.03.89.
Формат 84X 1087з2- Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Уел. печ. л. 27,30. Уел. кр.-отт. 28,14. Уч.-изд. л. 30,59.
Тираж 1 700 000 экз. Заказ № 3311. Цена 2 р. 80 к.
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
Индекс 70577