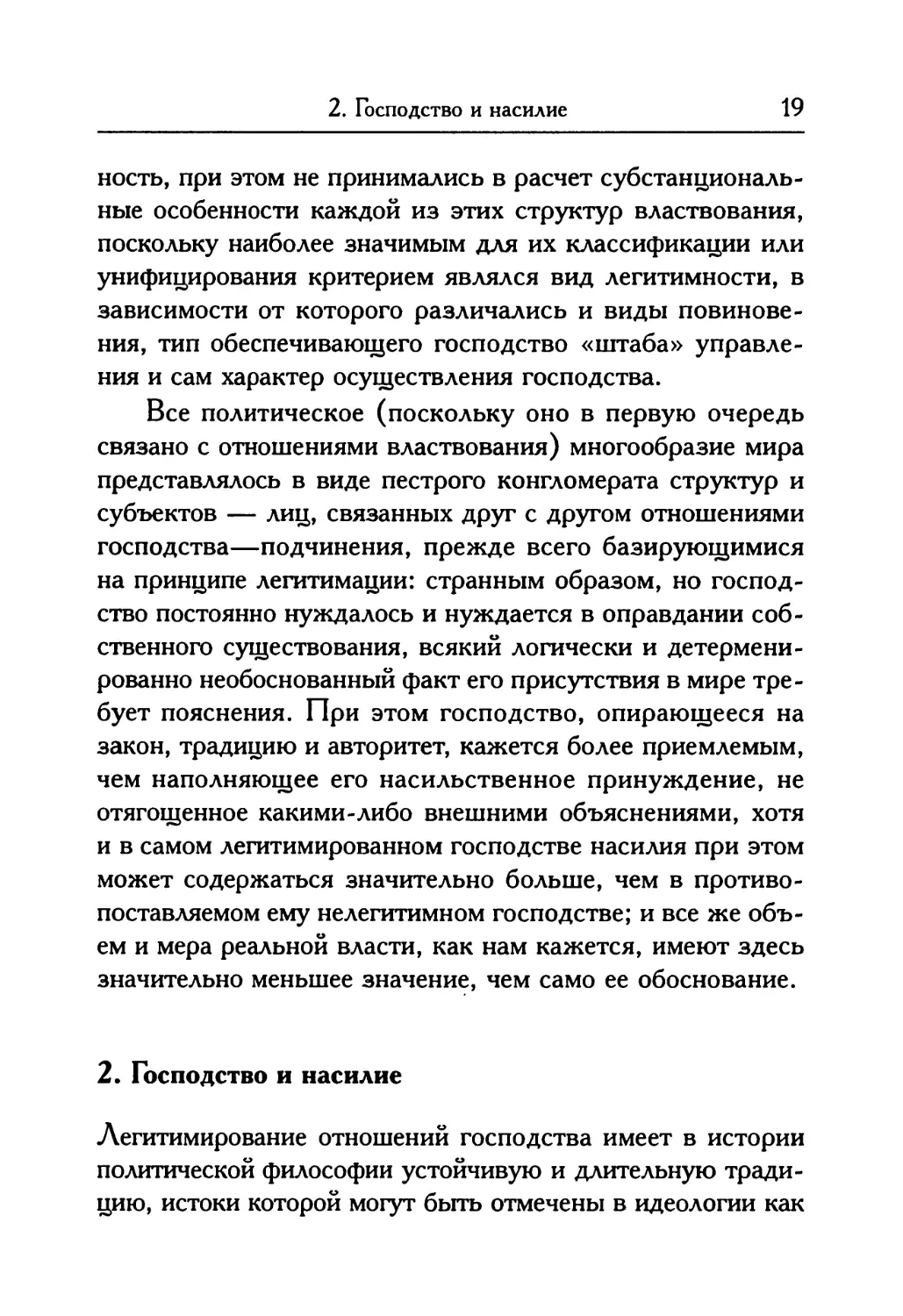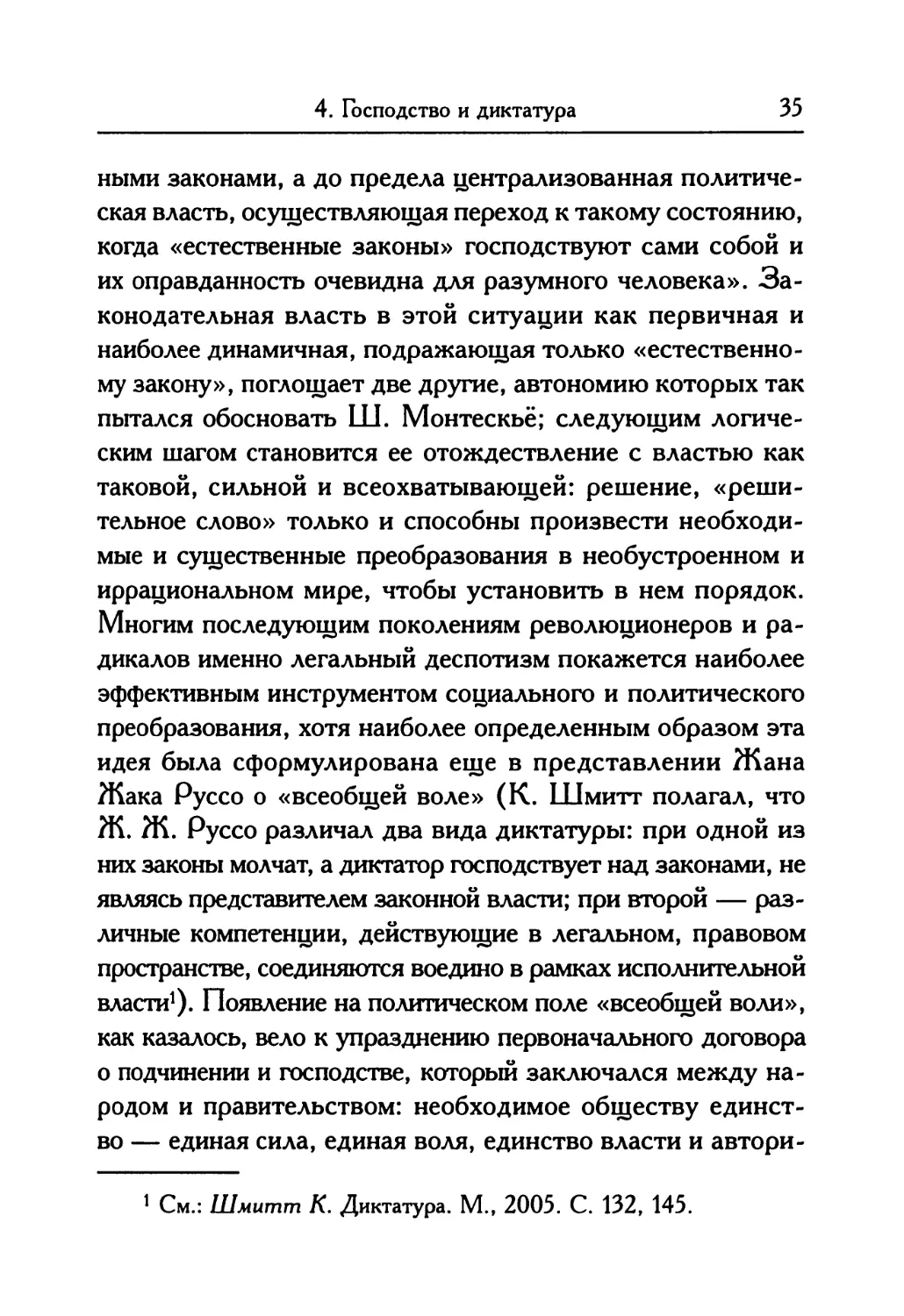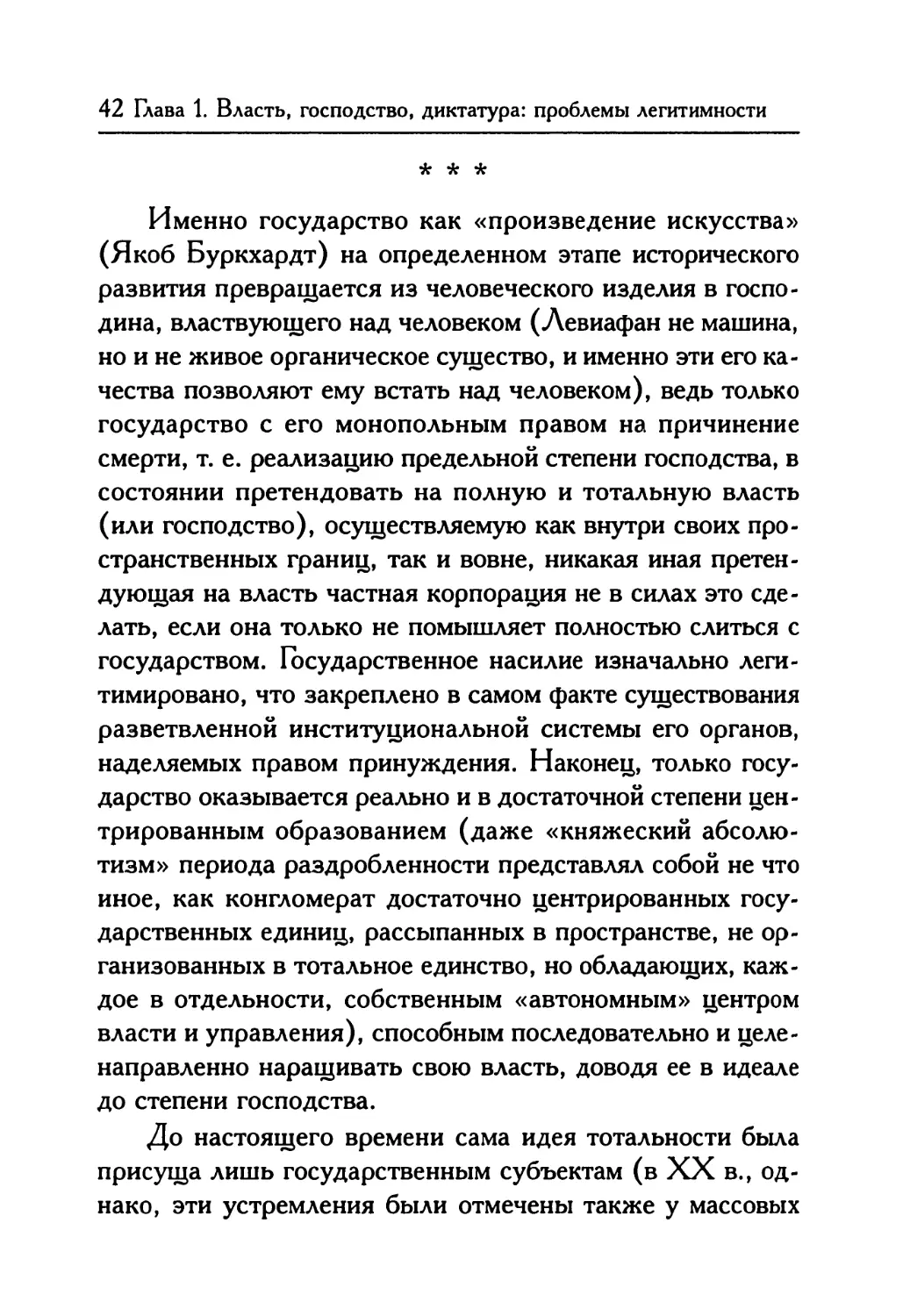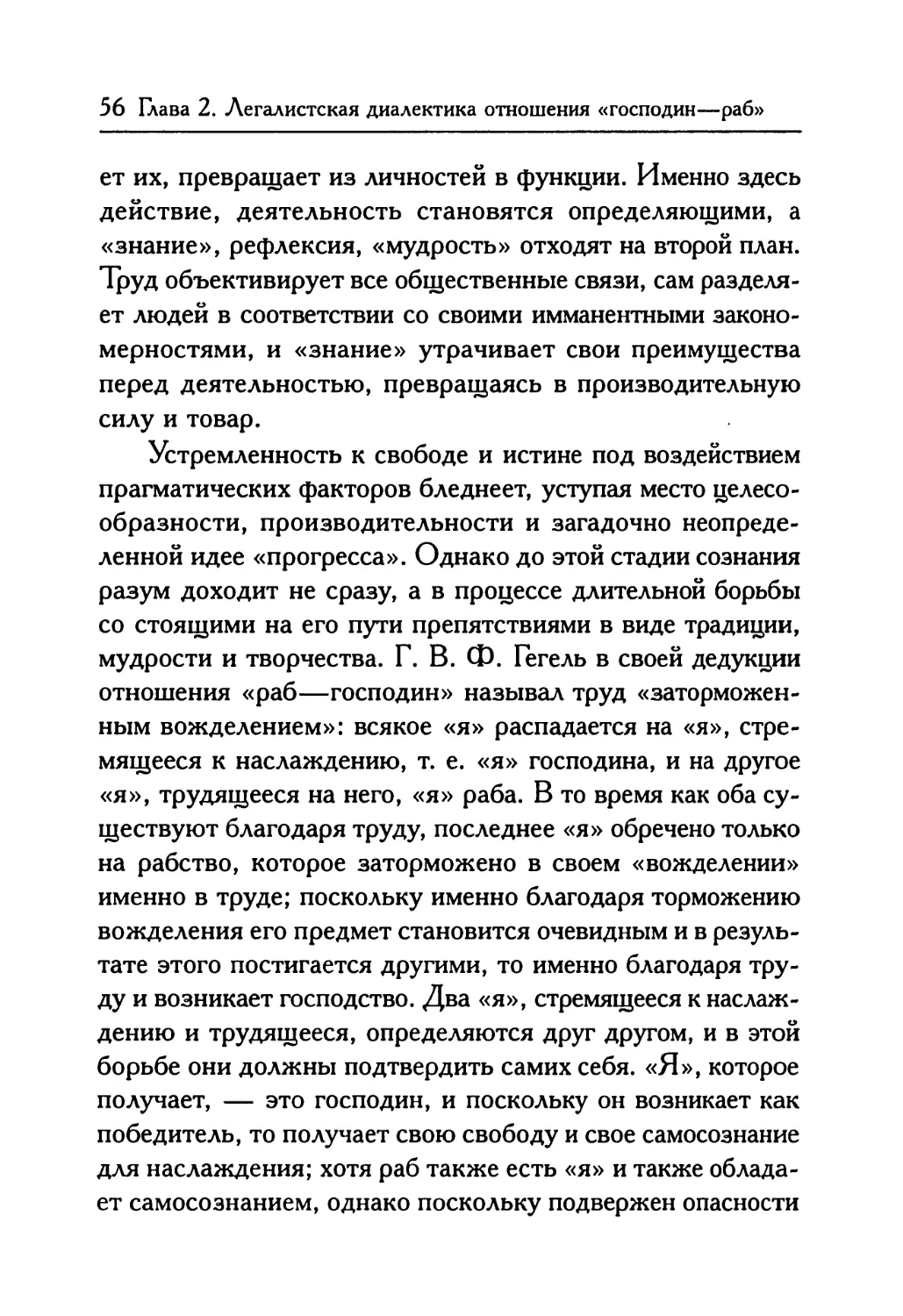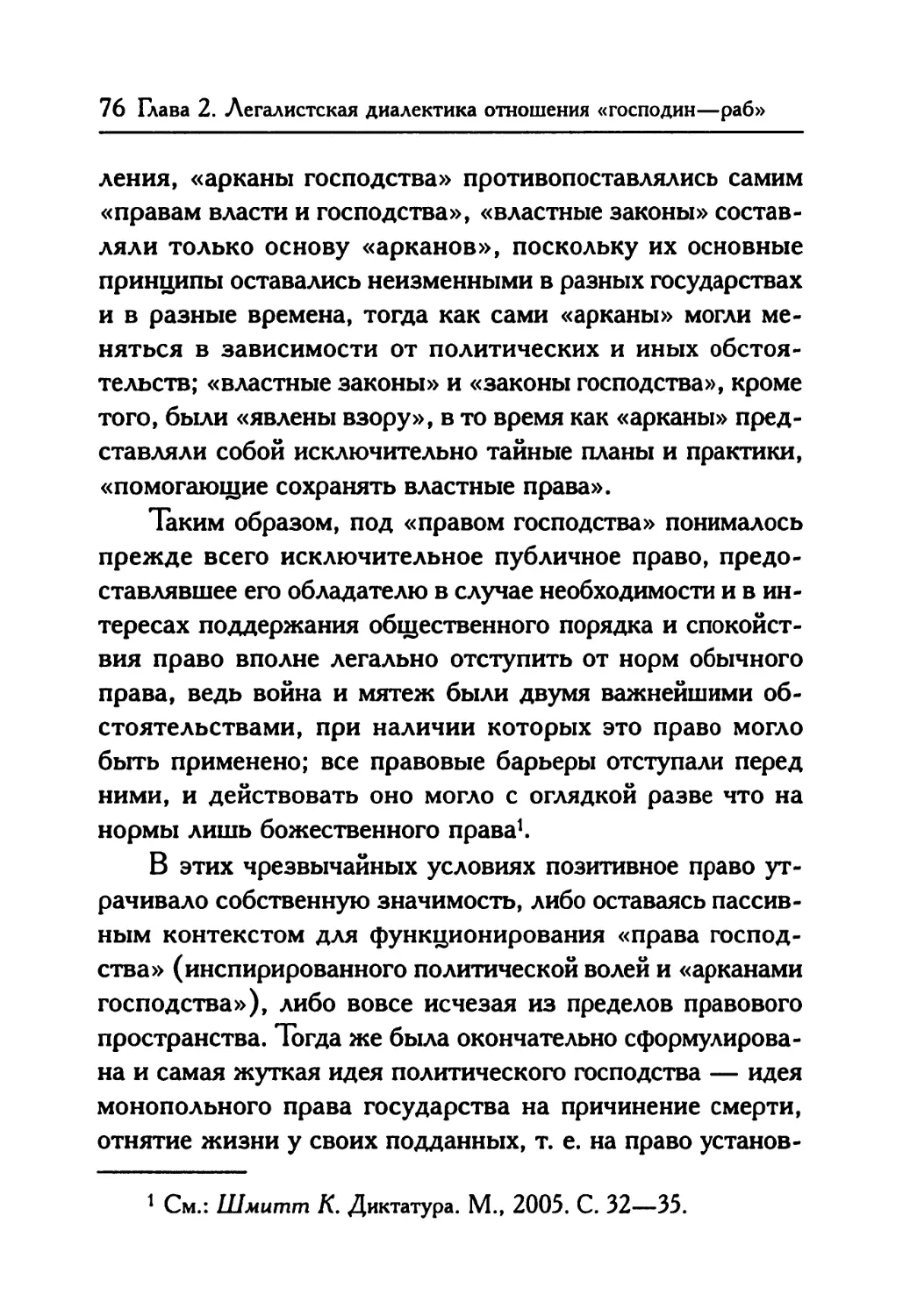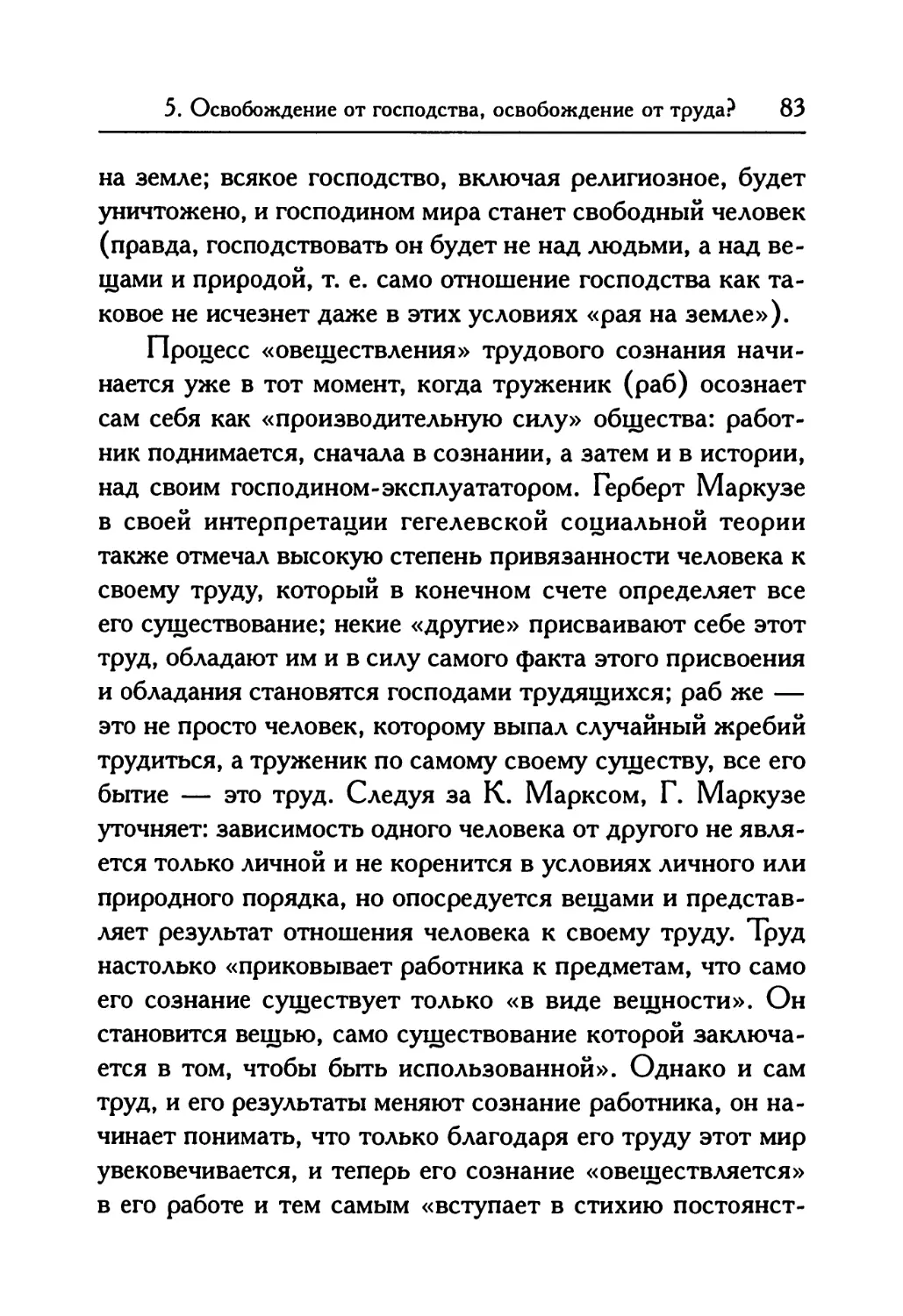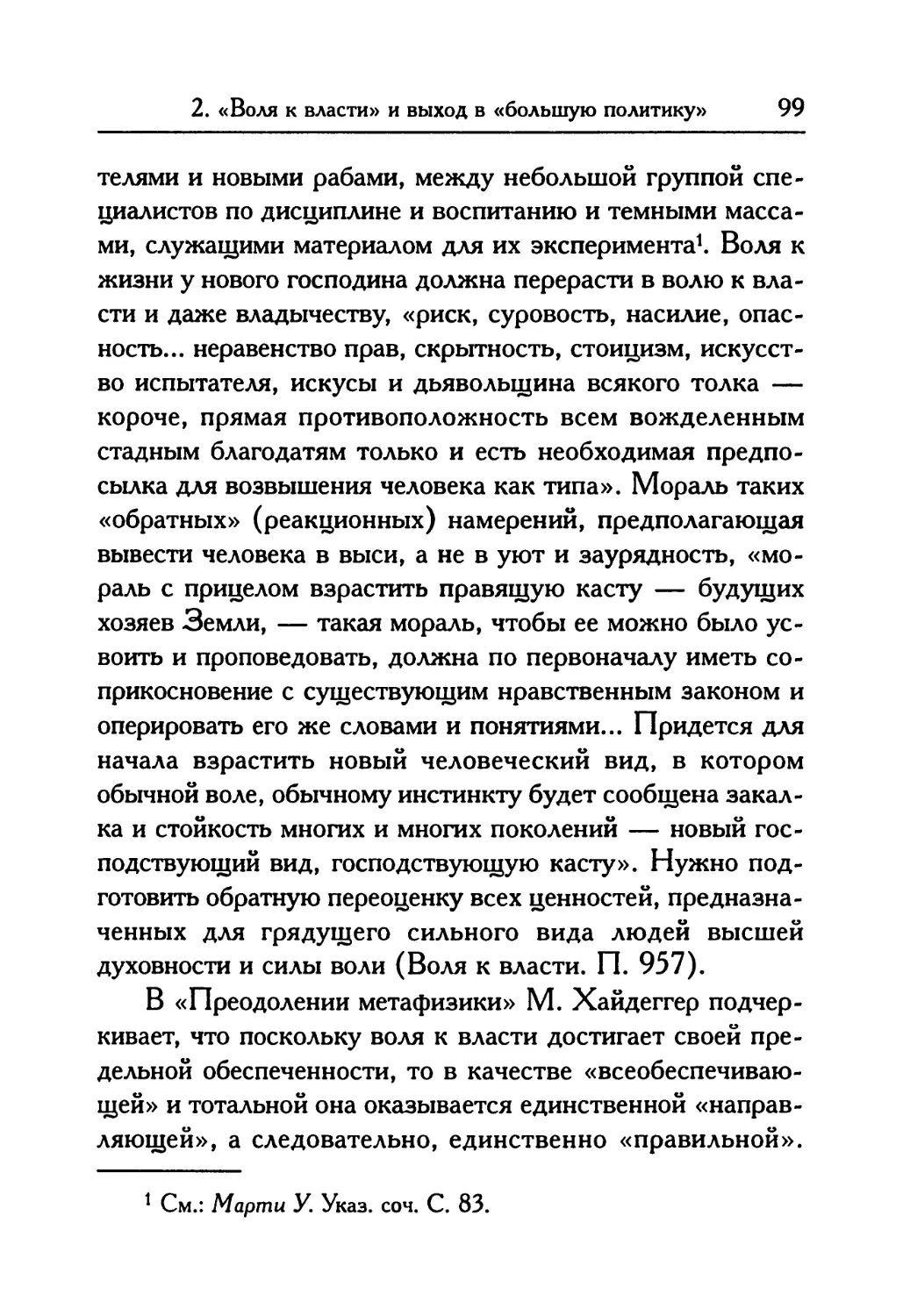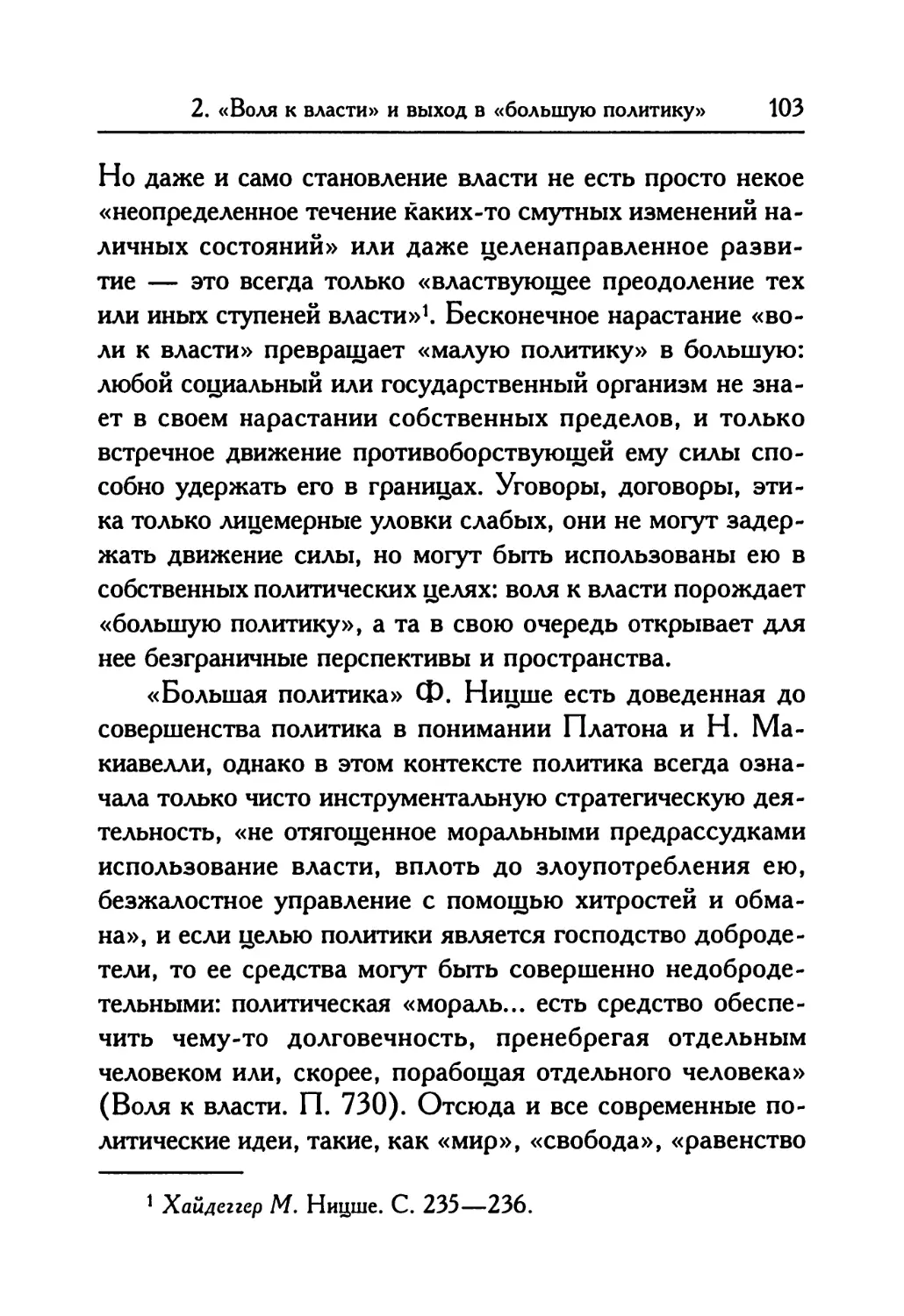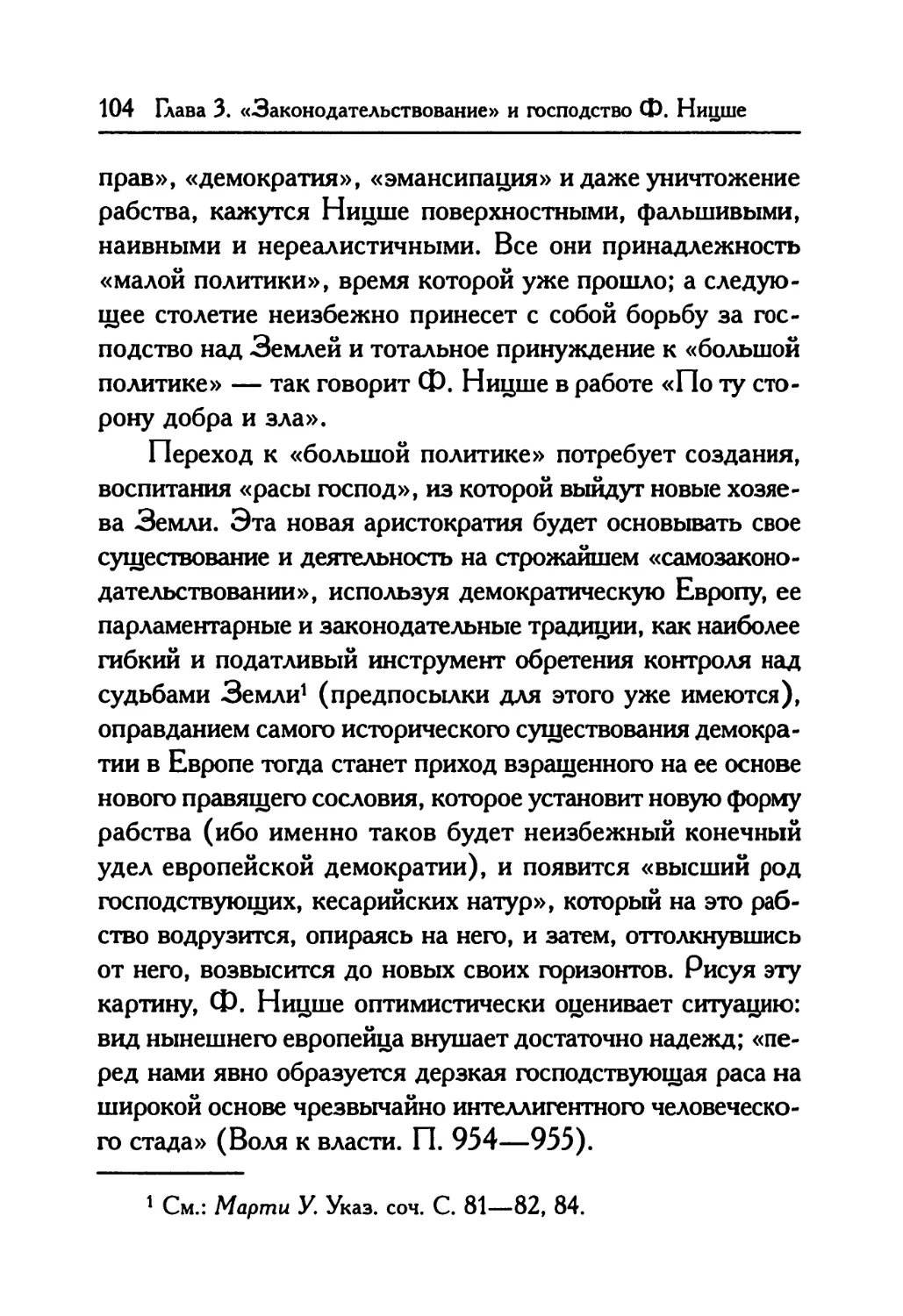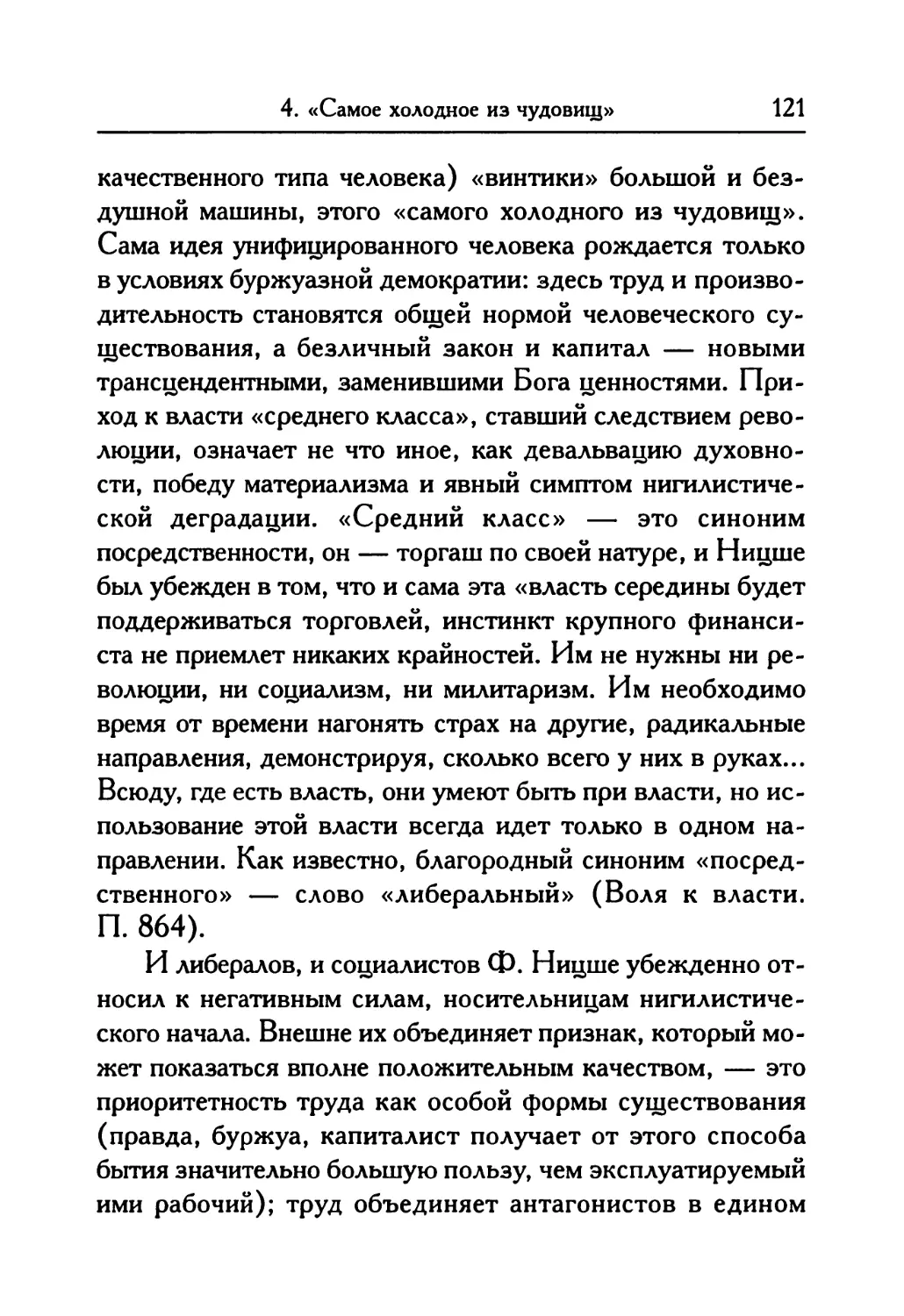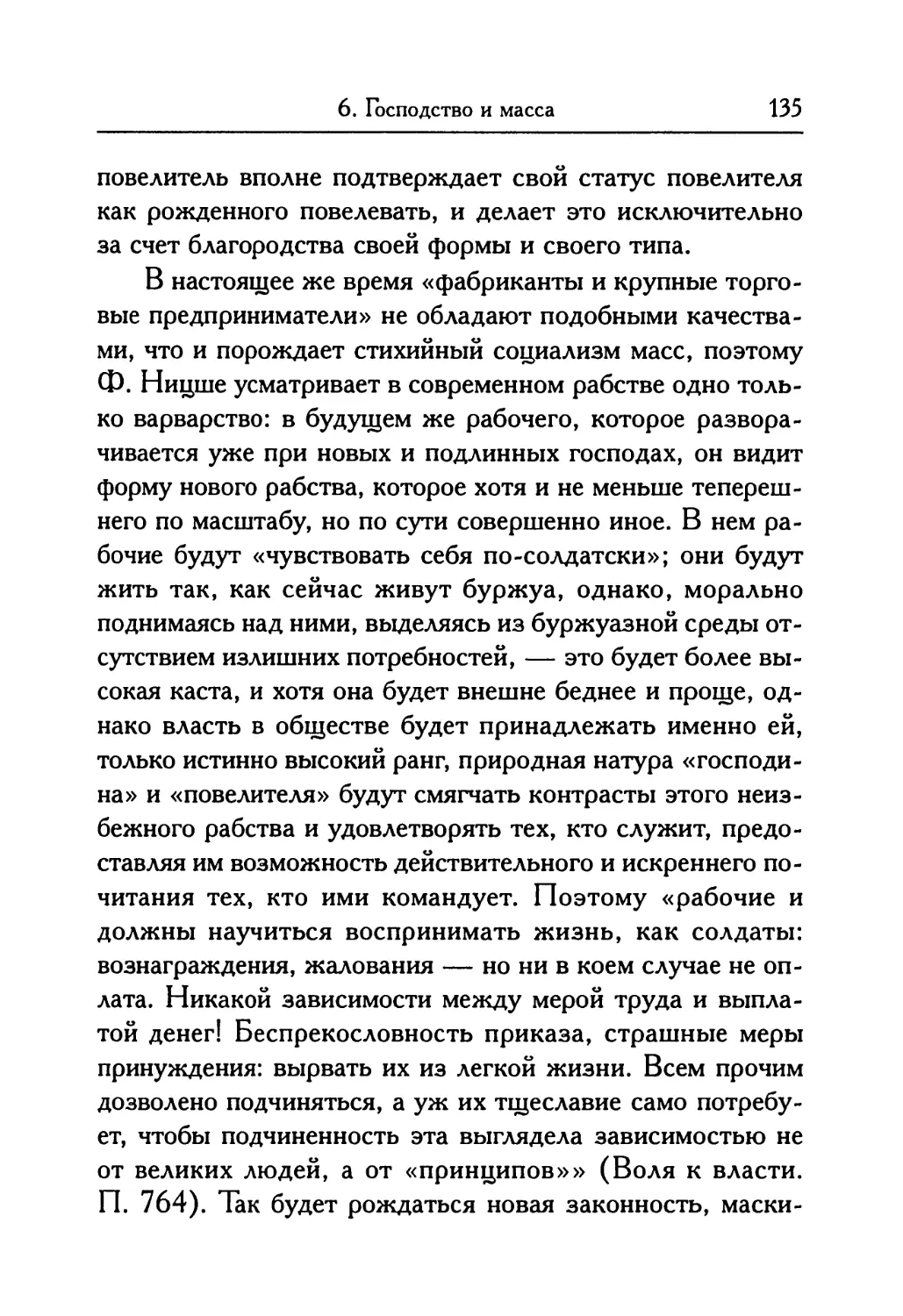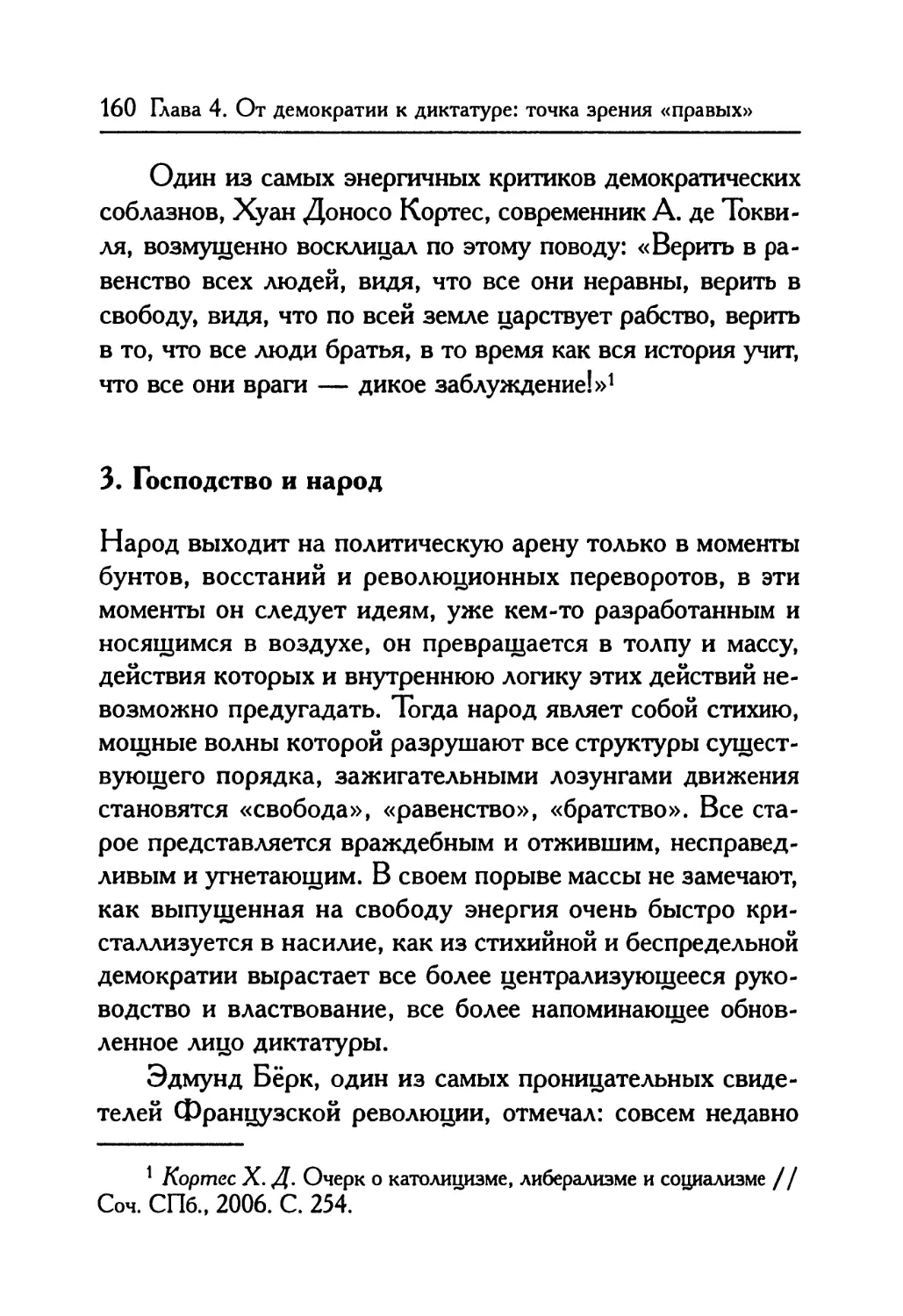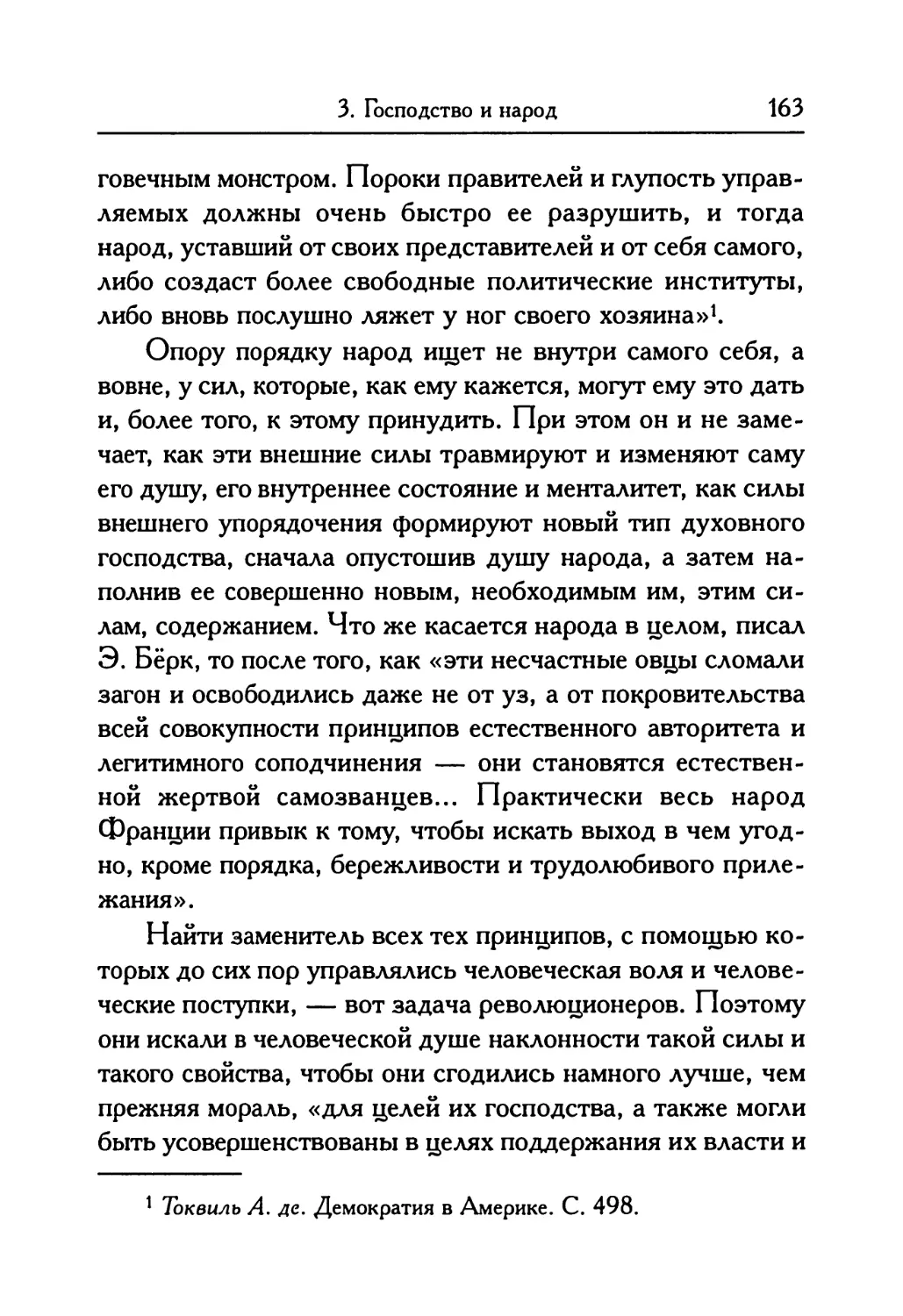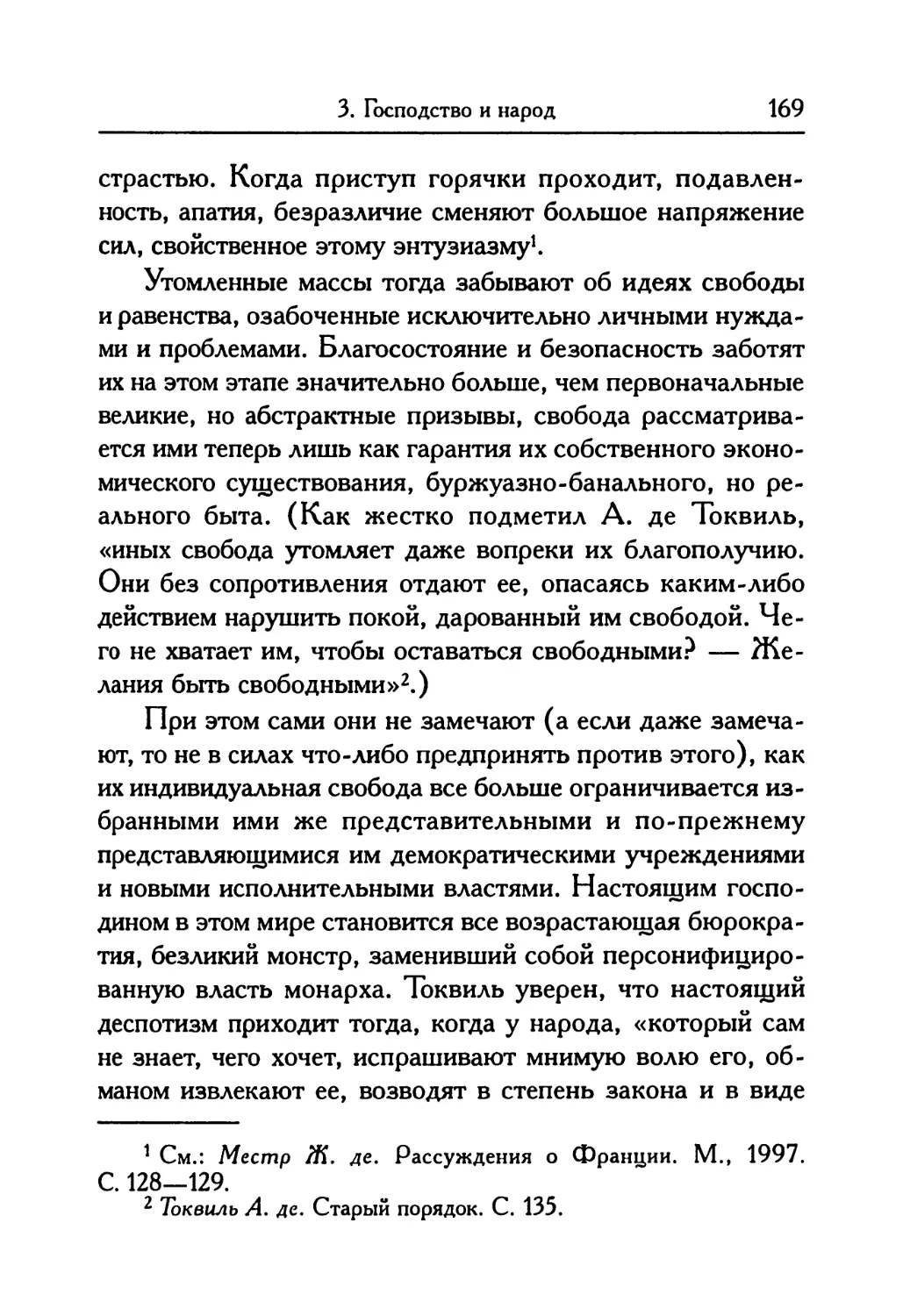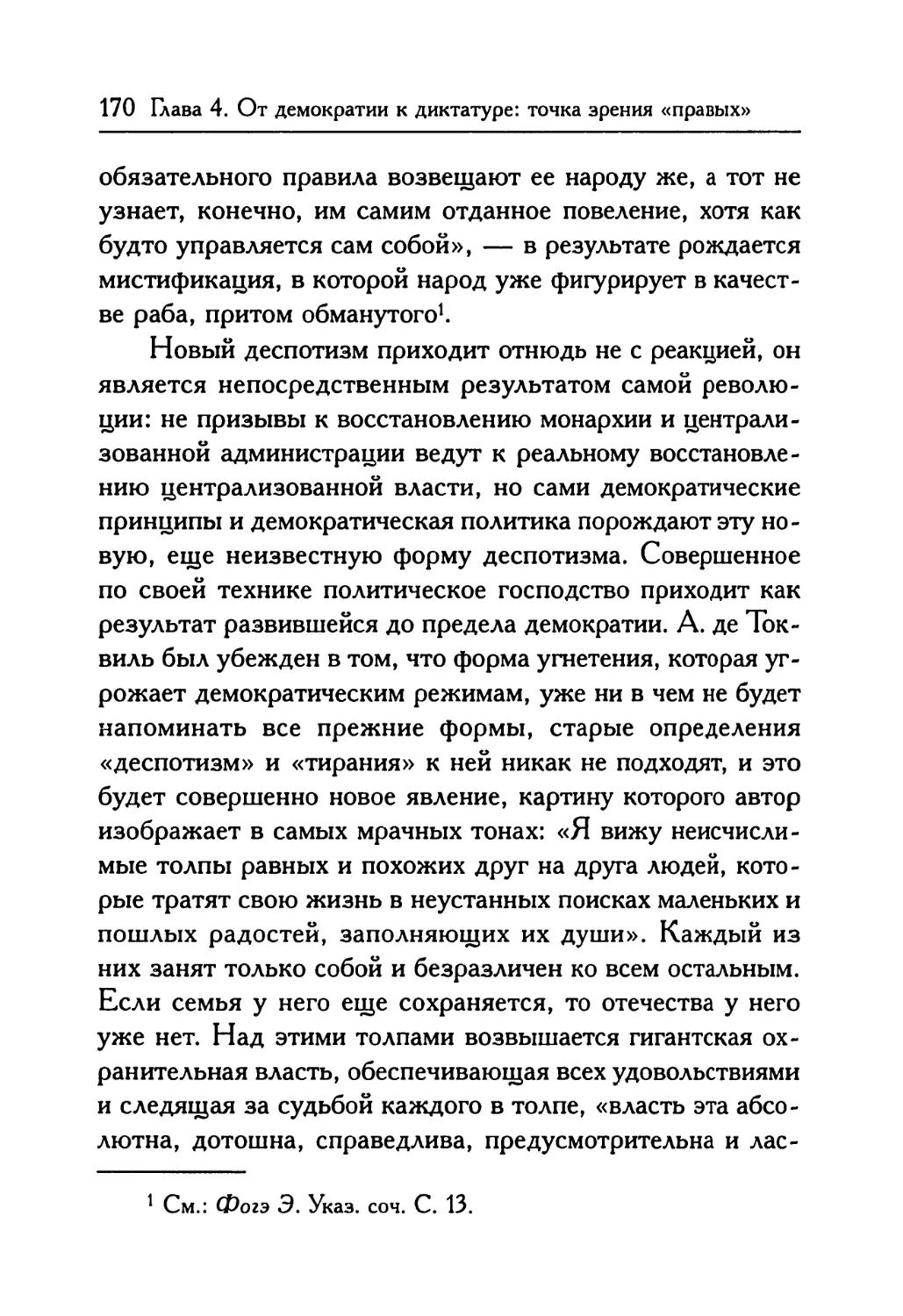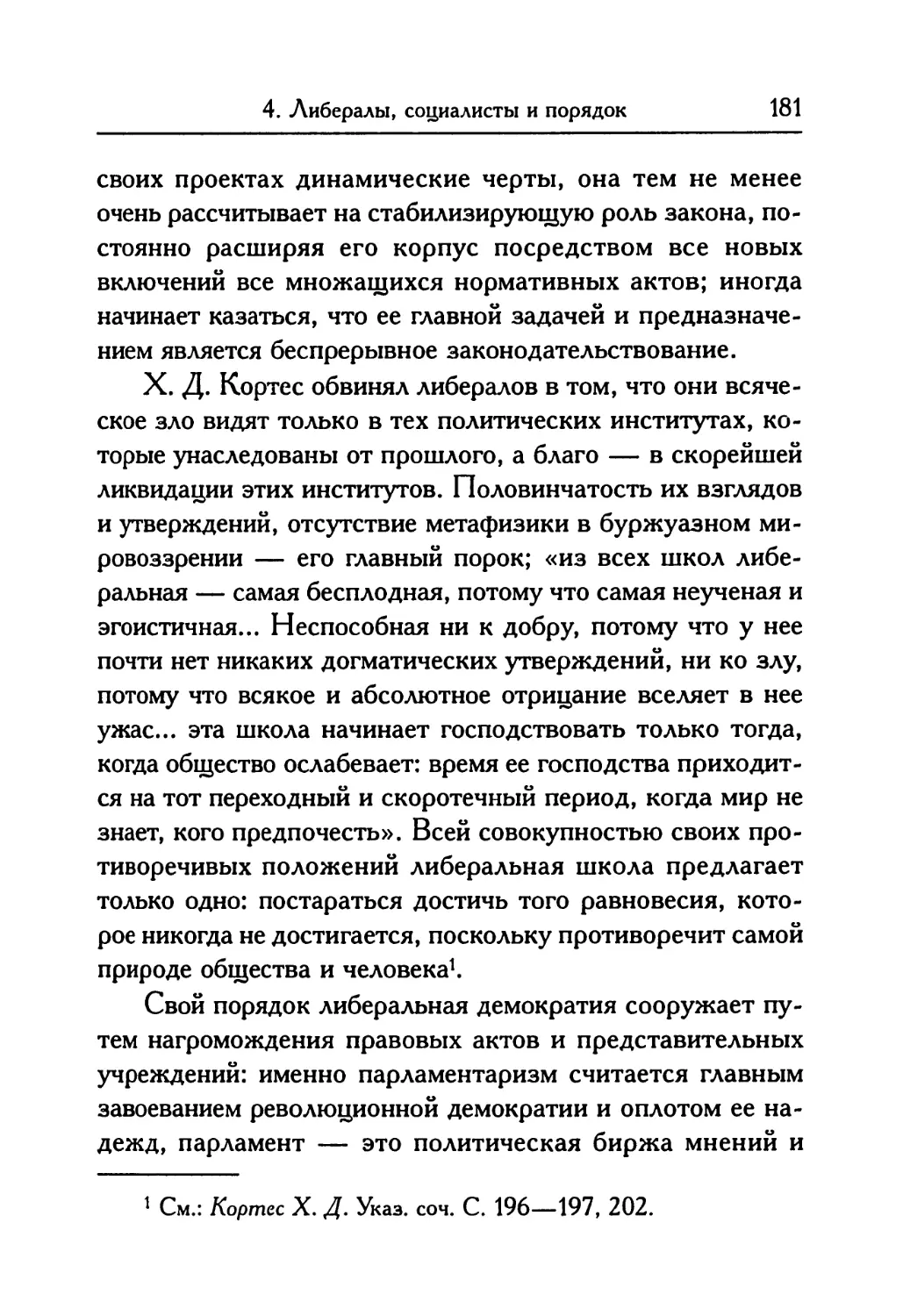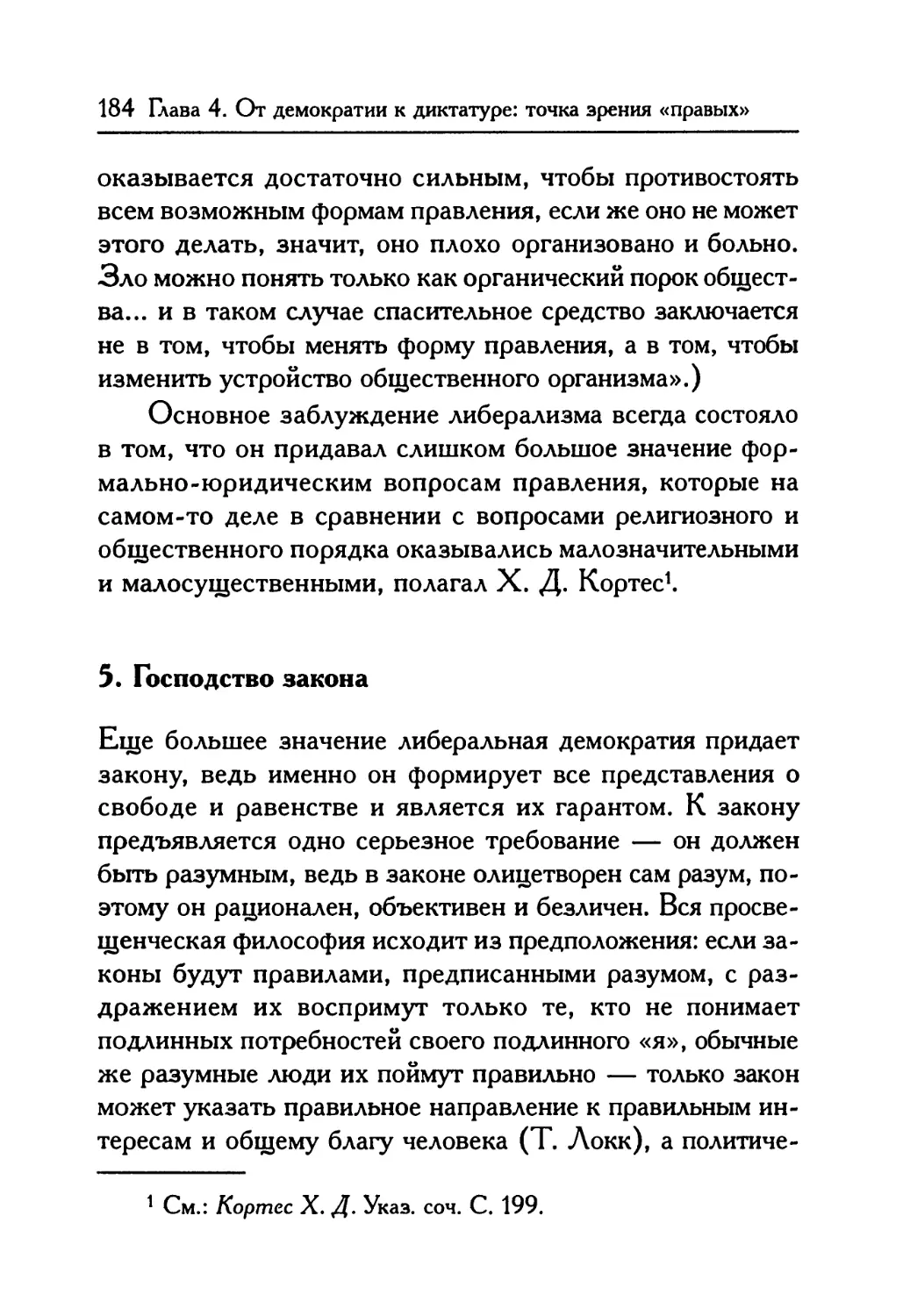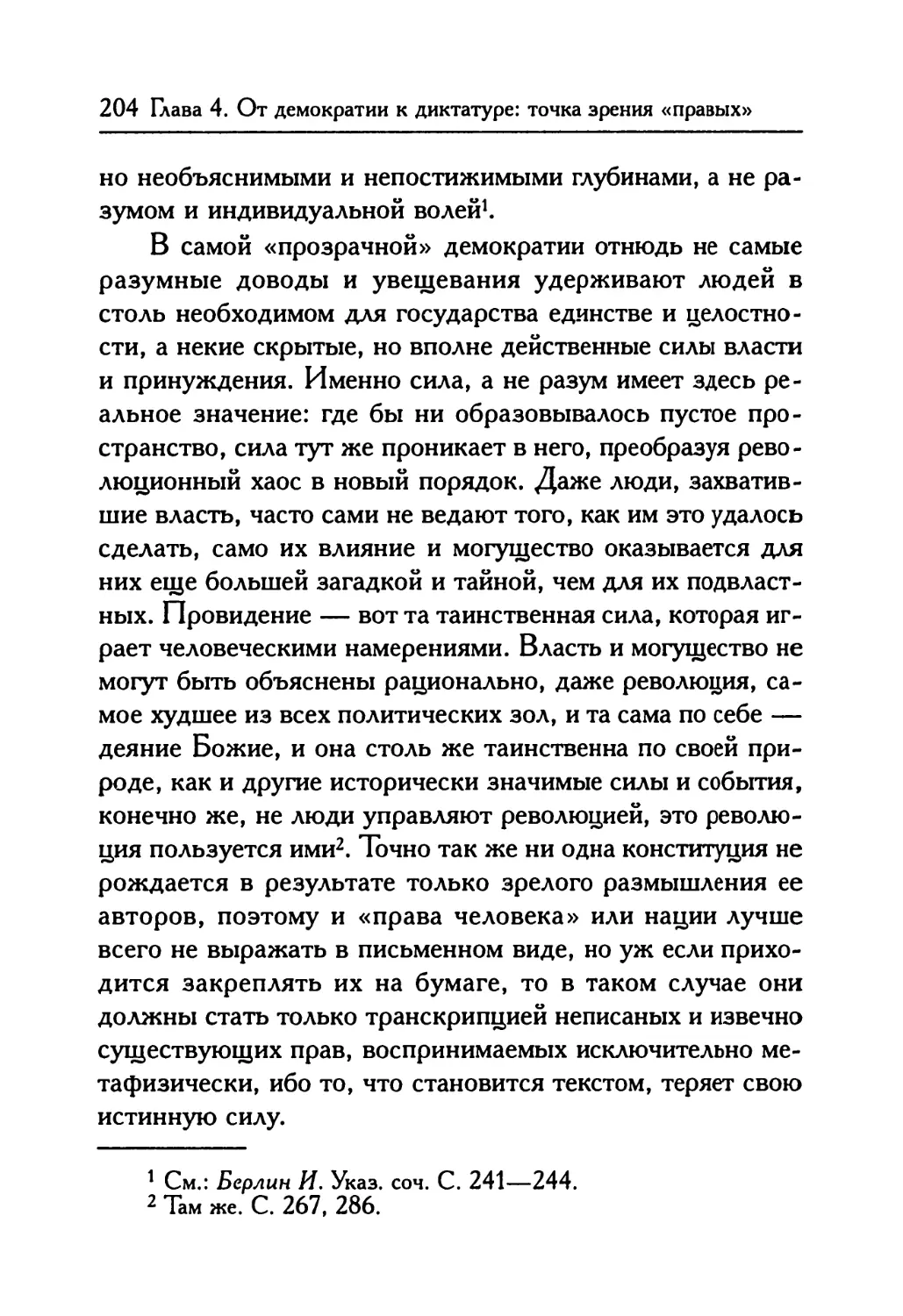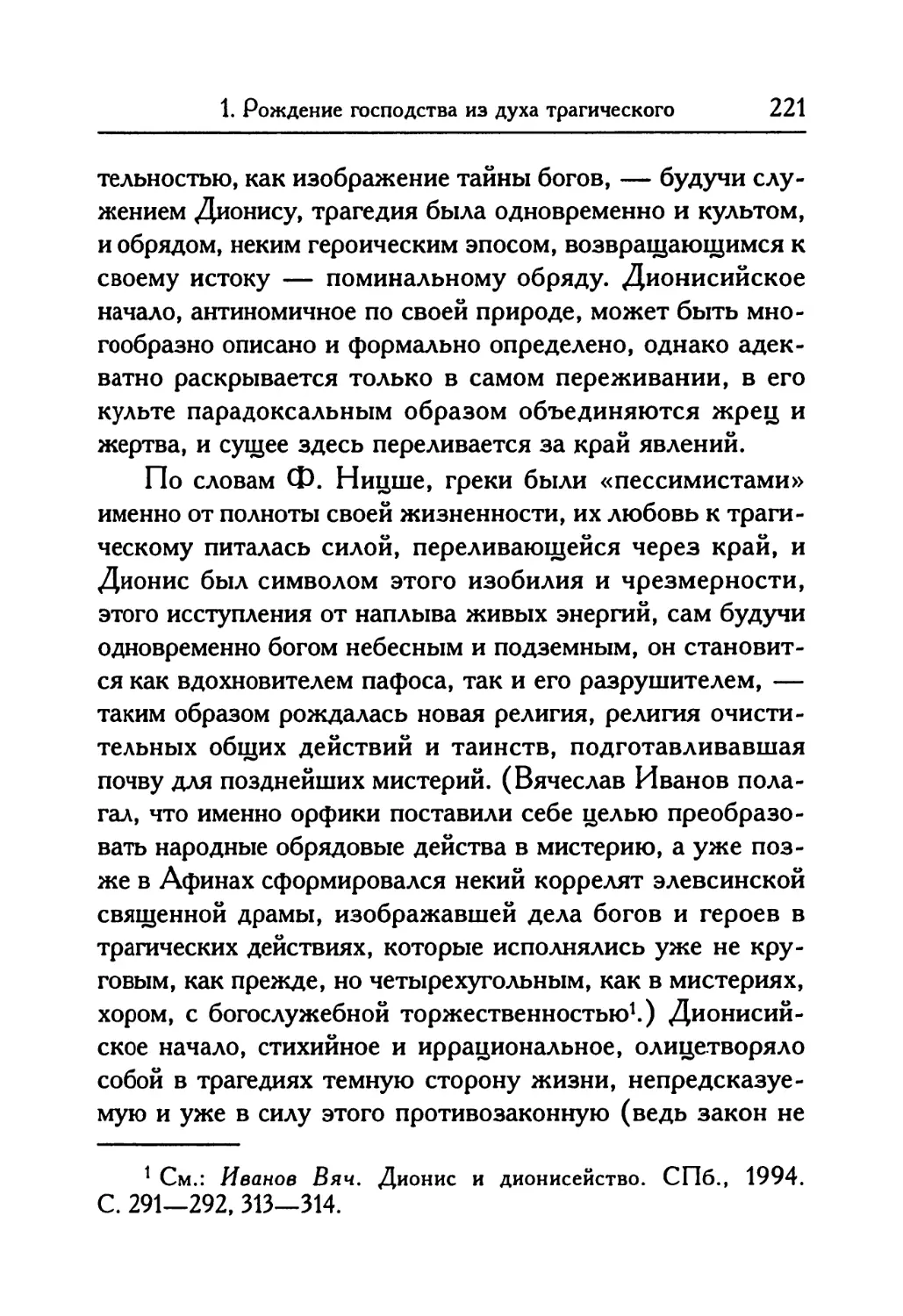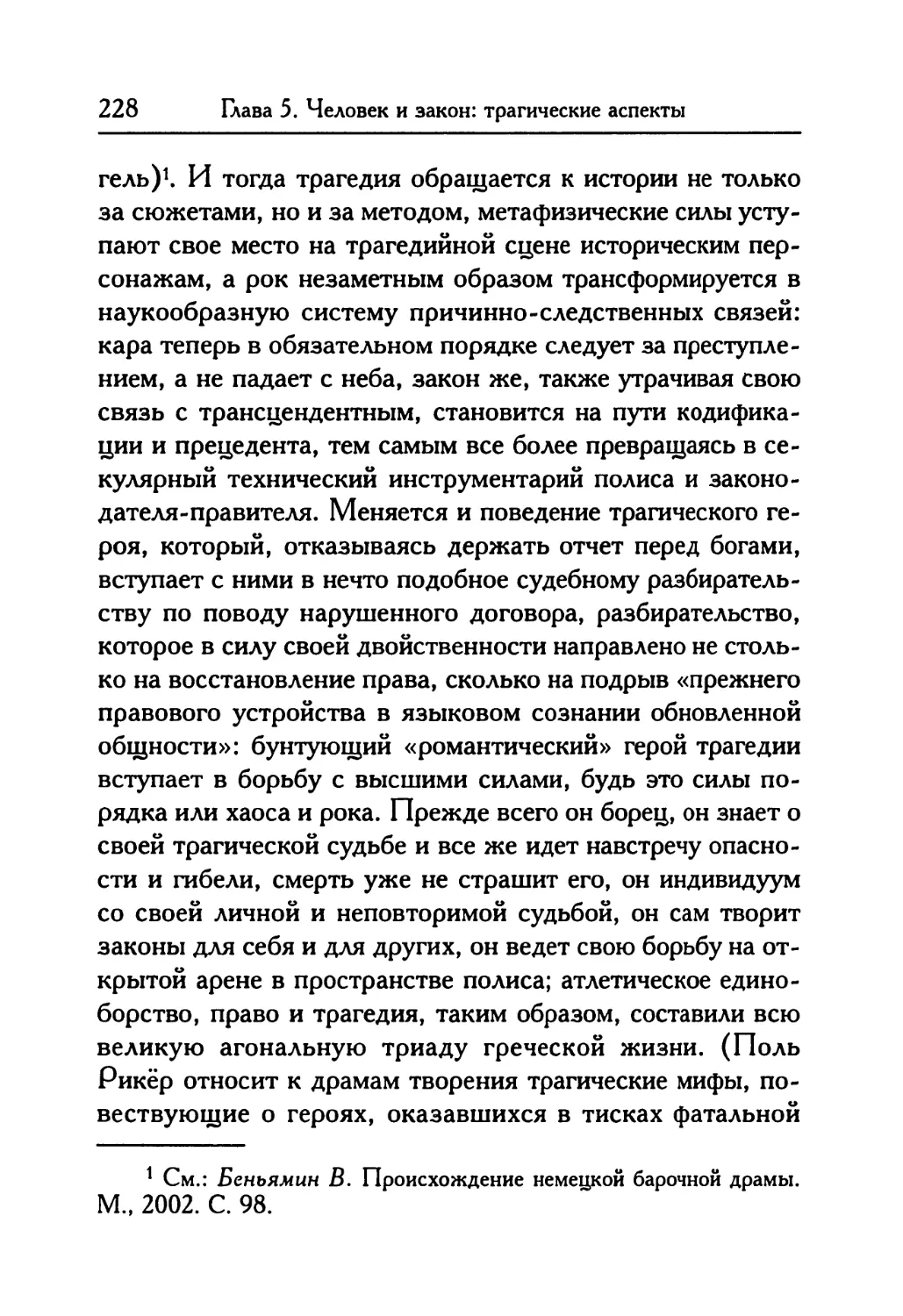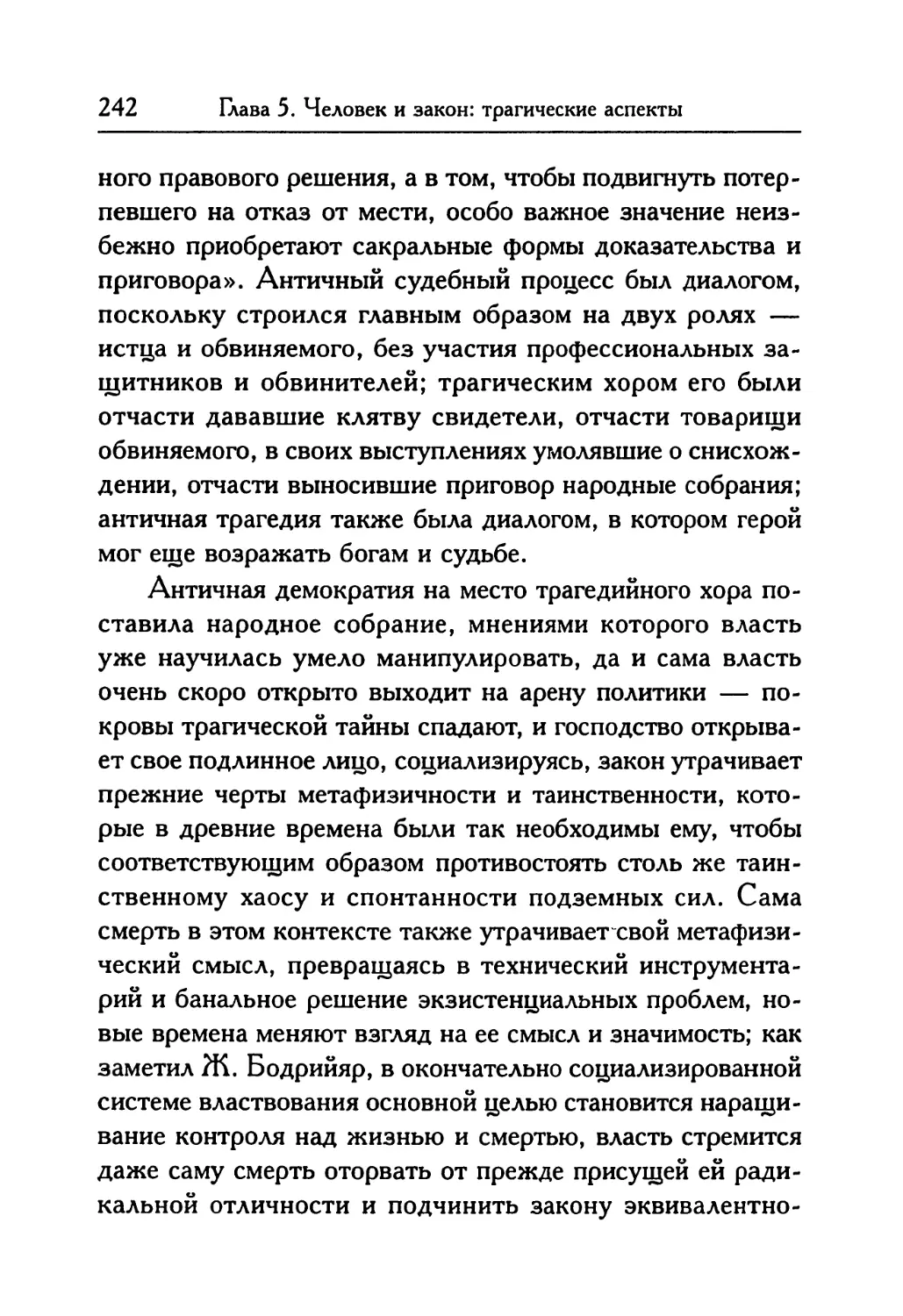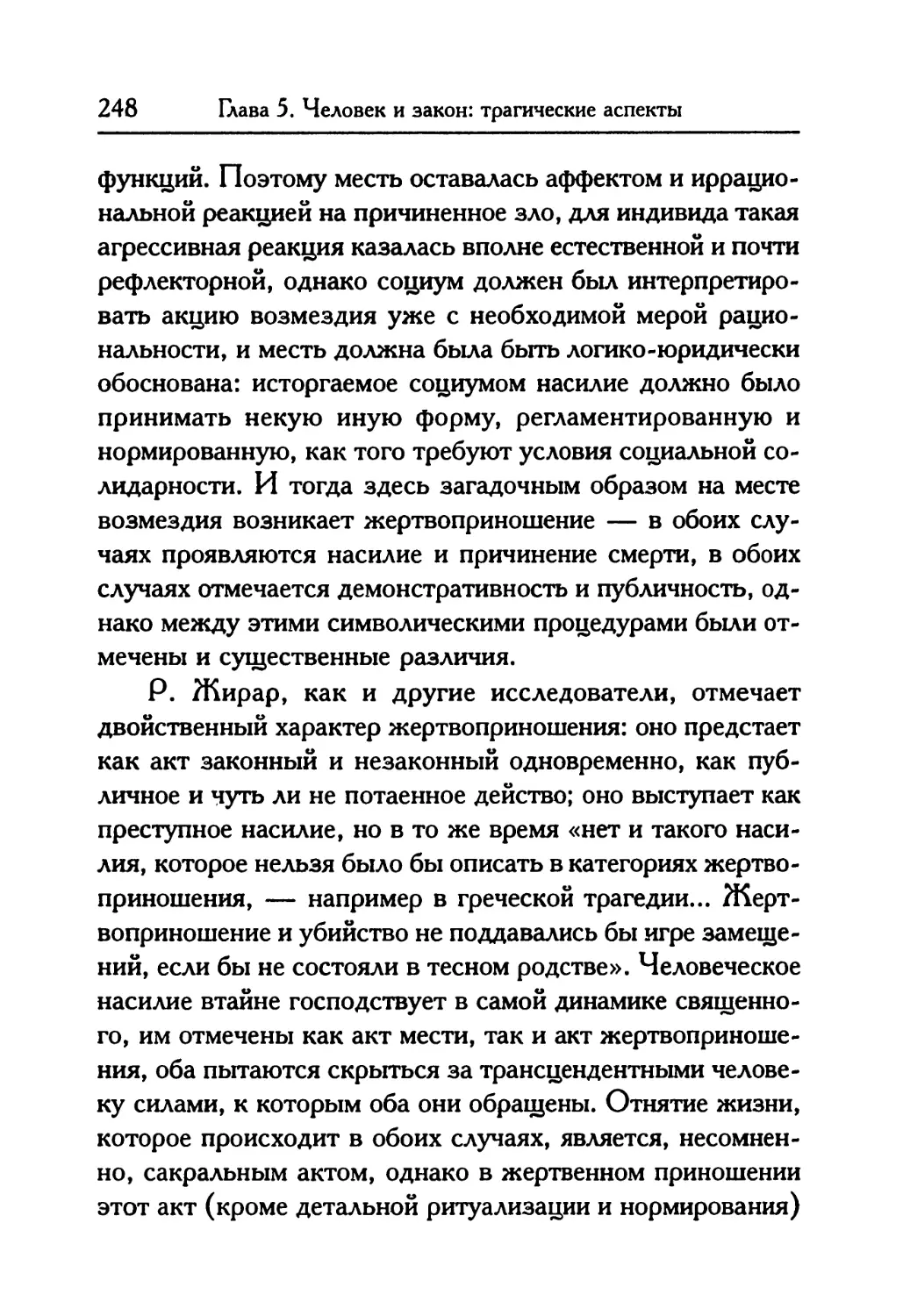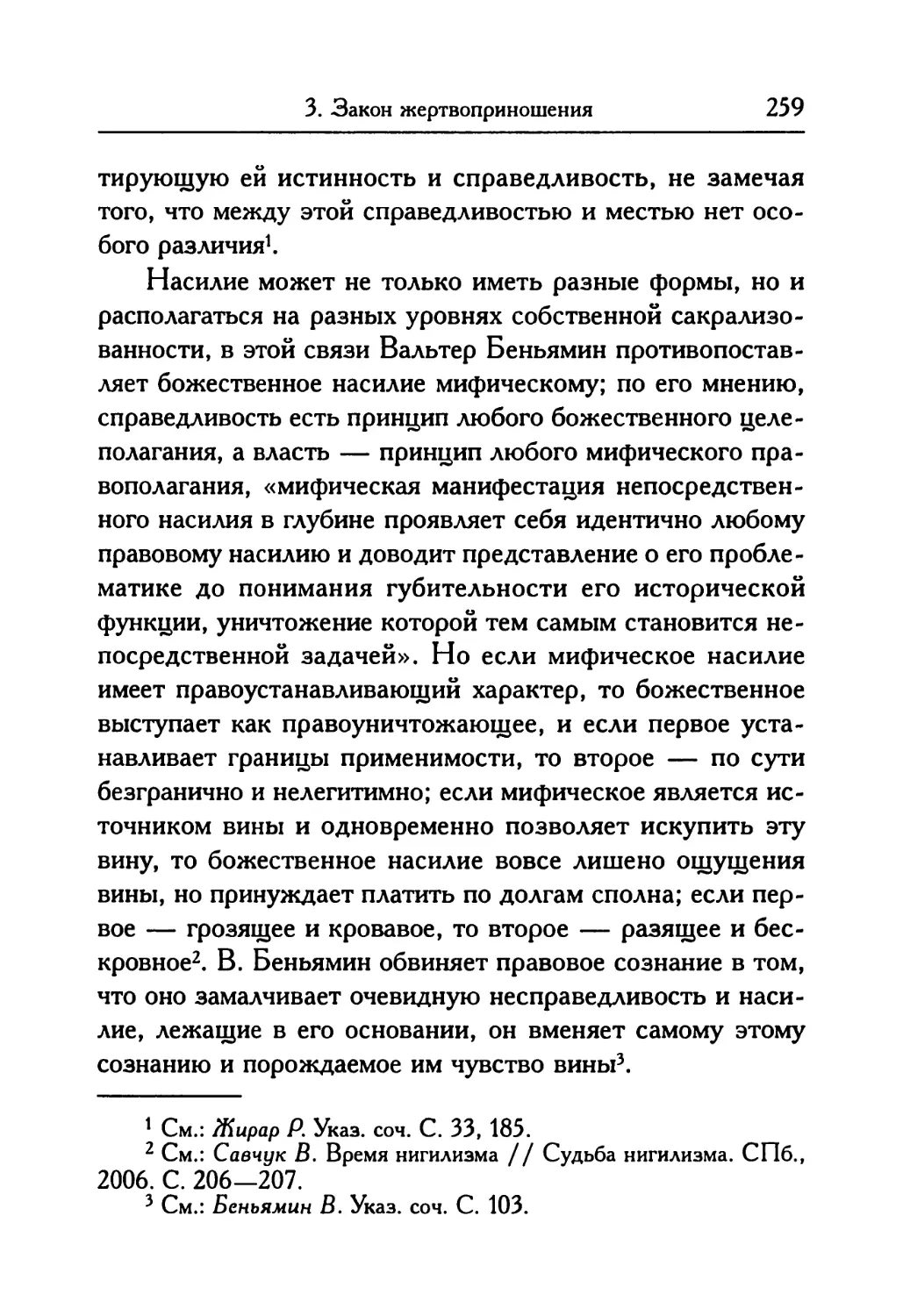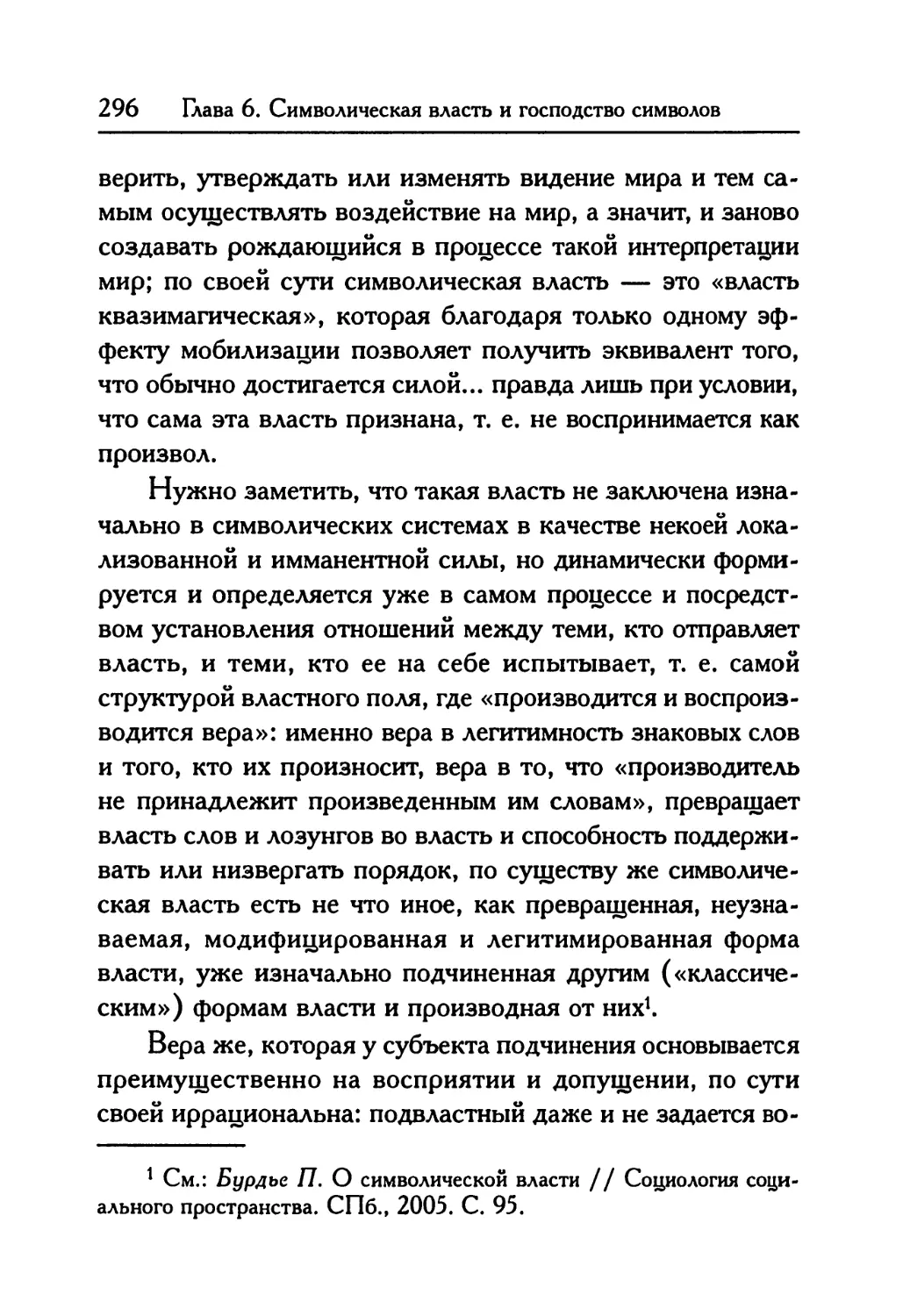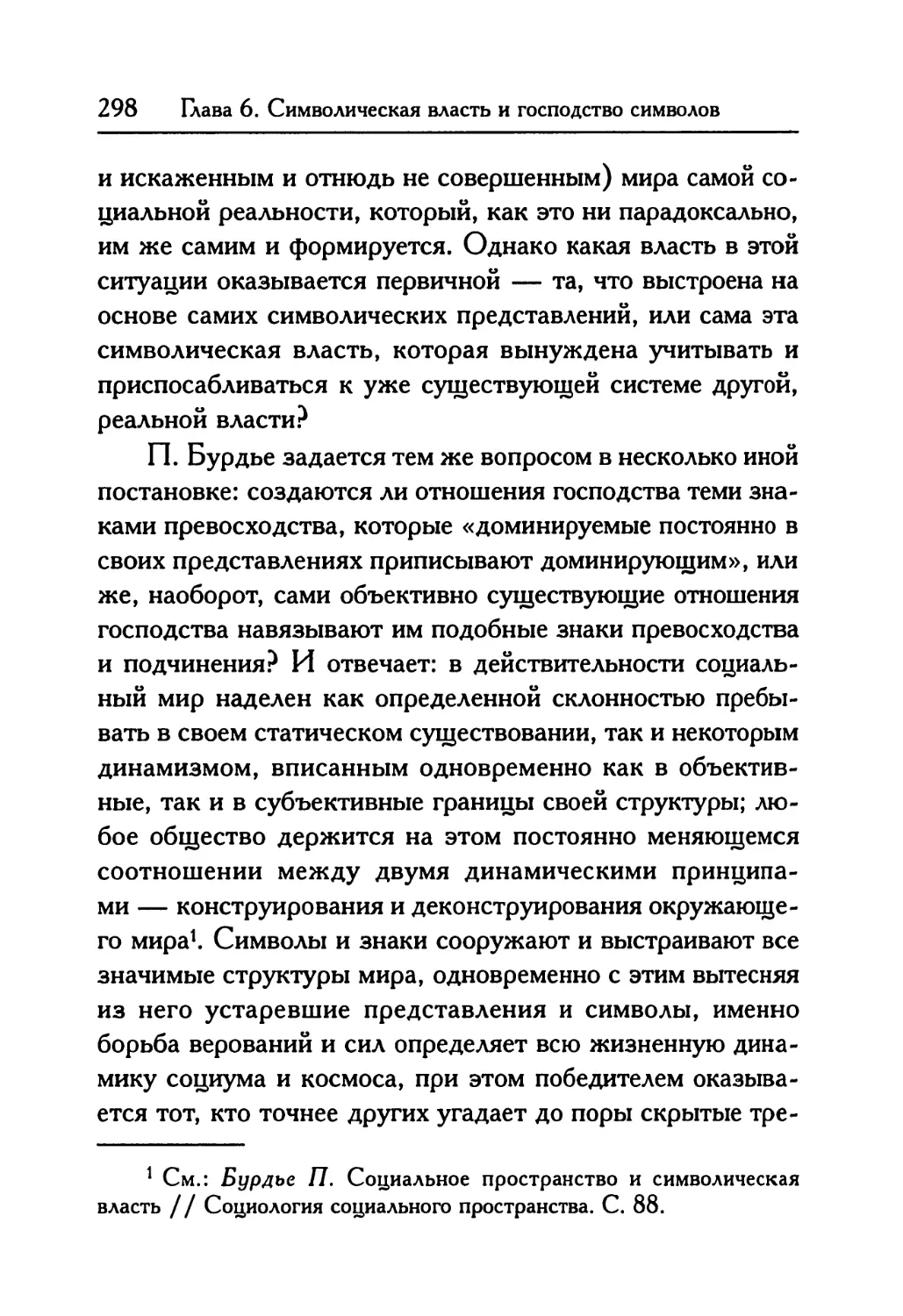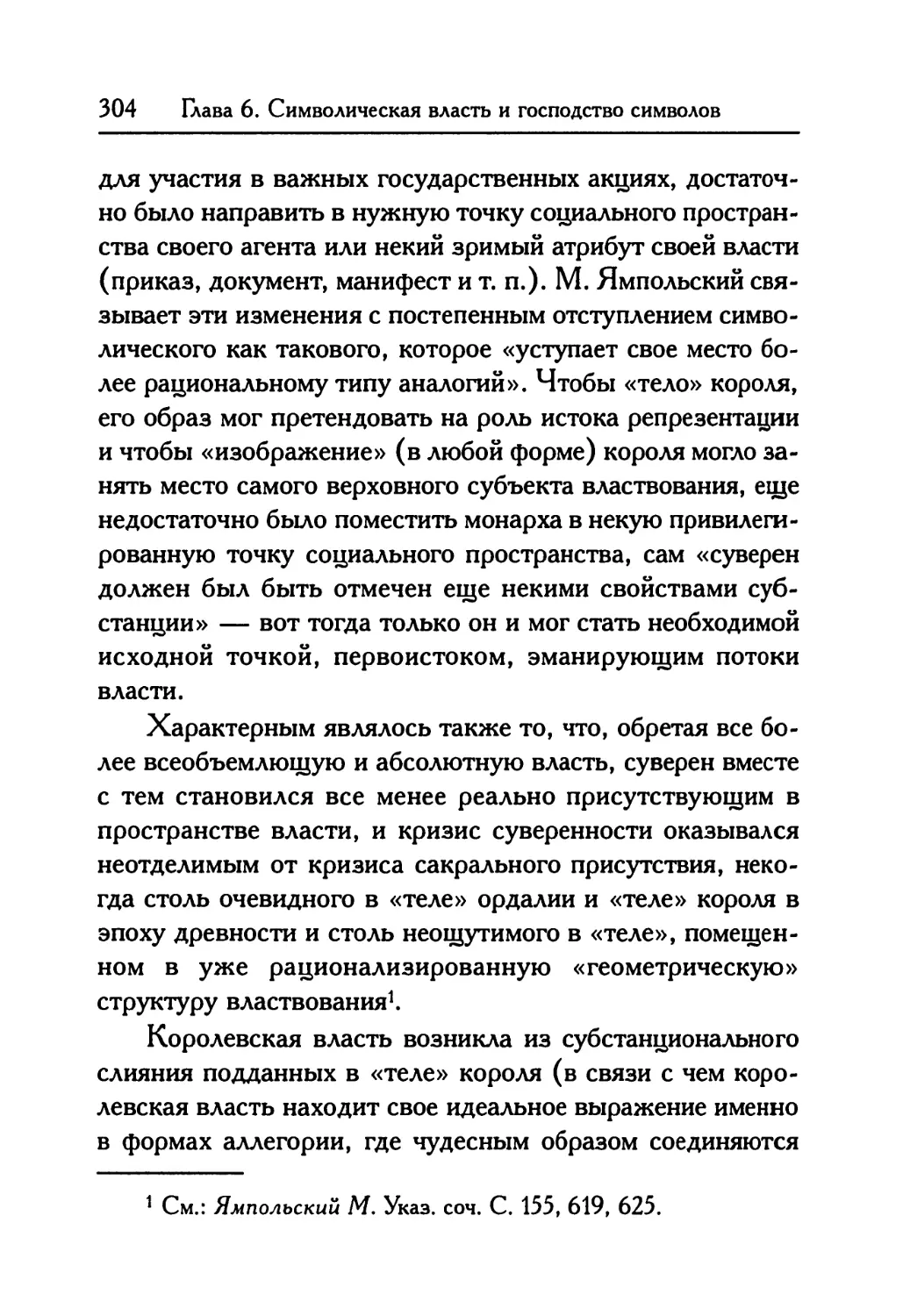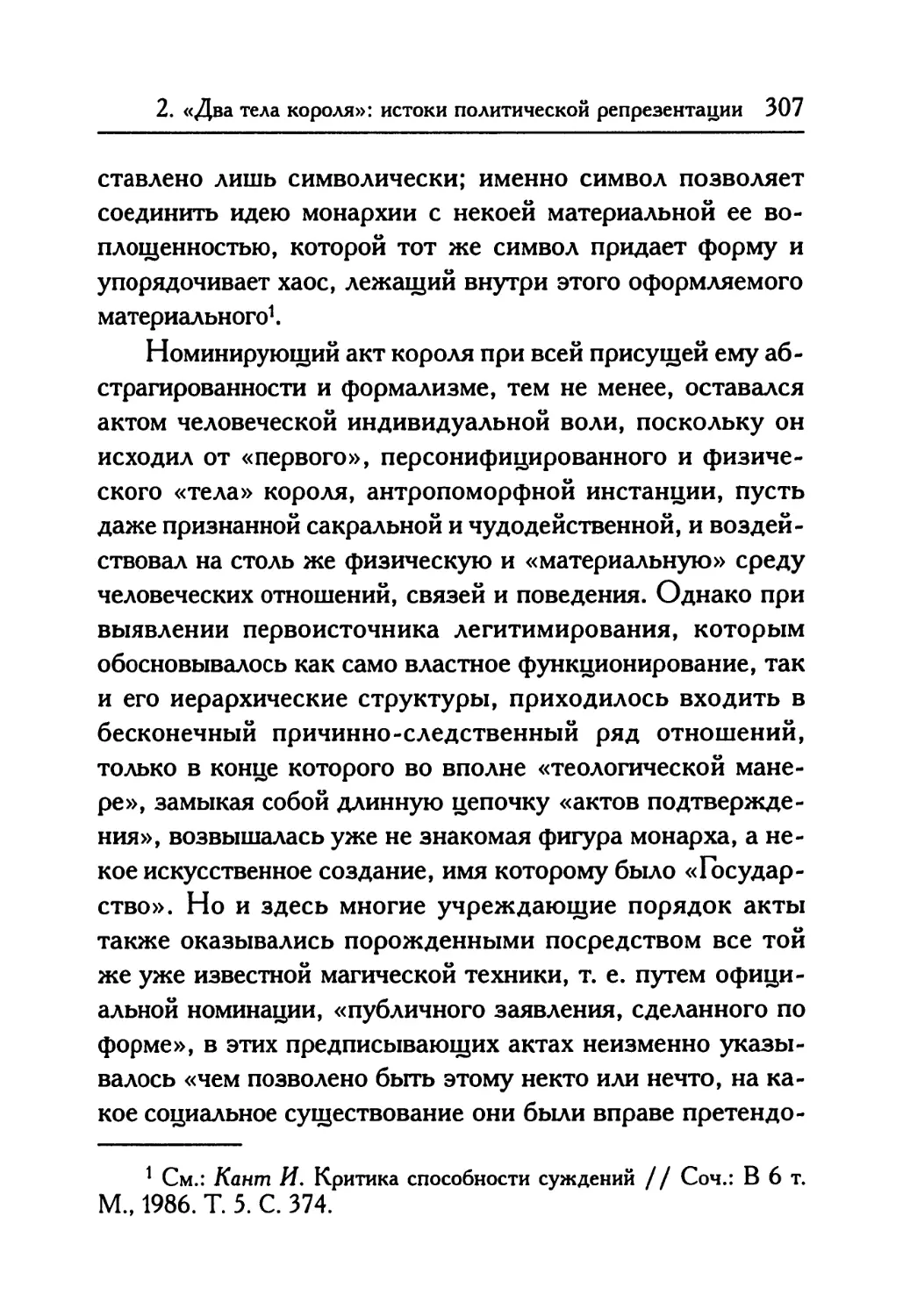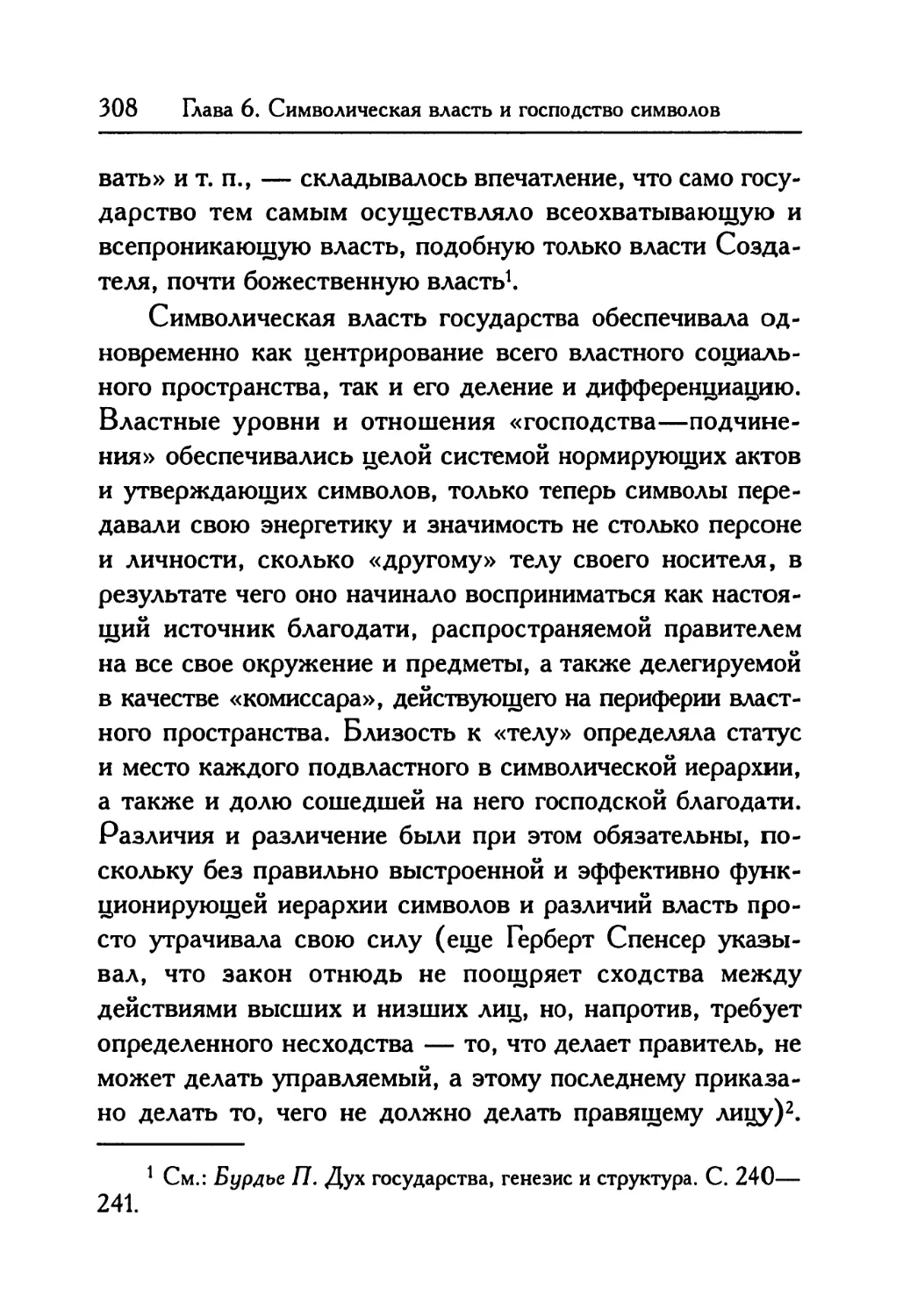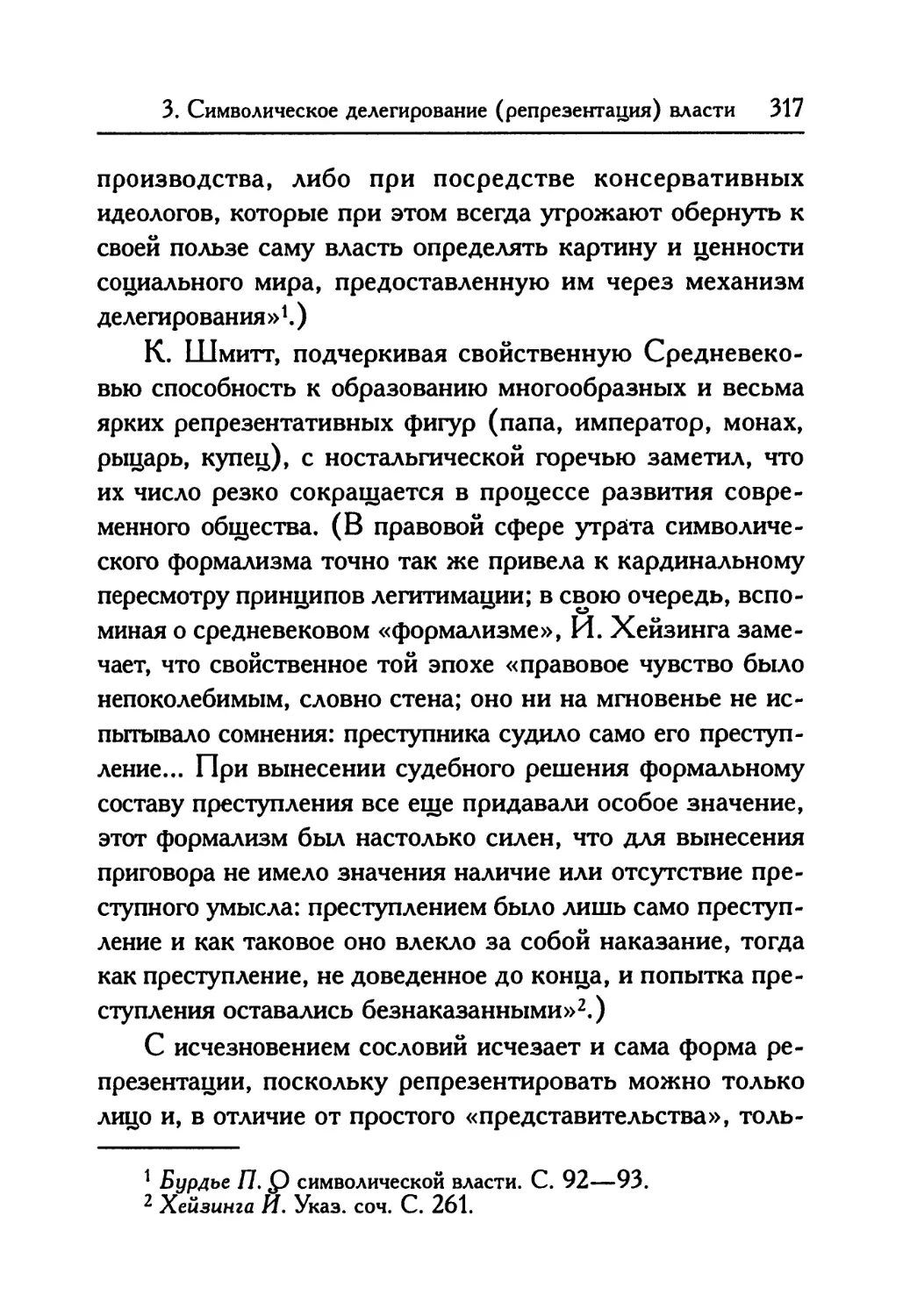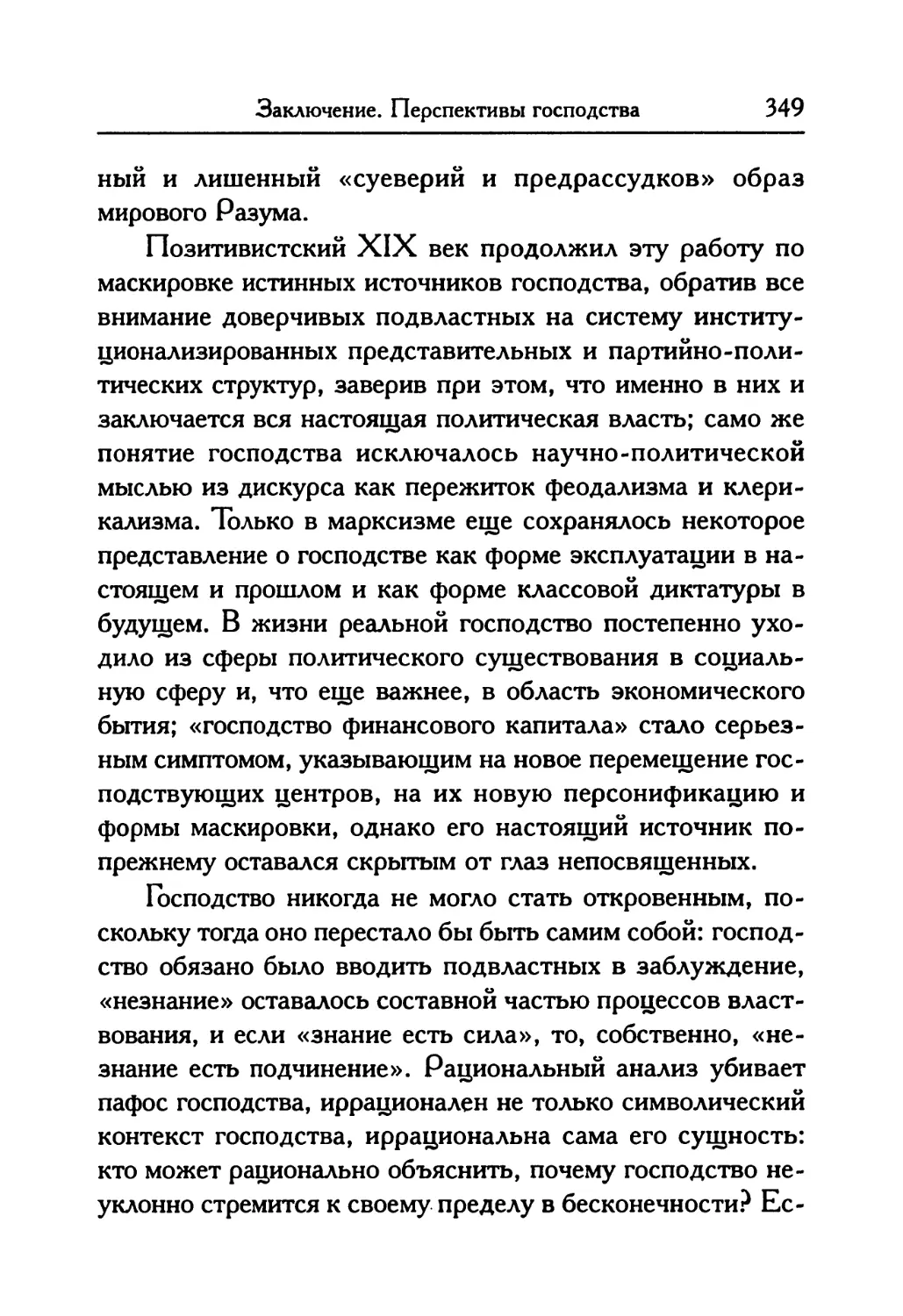Author: Исаев И.А.
Tags: политика философия отдельных стран европы философия
ISBN: 978-5-468-00201-8
Year: 2008
Text
И. А. ИСАЕВ
ГОСПОДСТВО
ОЧЕРКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
МОСКВА
НОРМА
2008
УДК [1:32](430+44+460)
ББК 87.3(4)
И85
Сведения об авторе
Игорь Андреевич Исаев — доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой истории государства и права МГЮА. Ав-
тор фундаментального учебника «История государства и права Рос-
сии», ряда учебных пособий по истории права, правовых и политиче-
ских учений, статей по разным вопросам истории, социологии,
философии права и политологии. Им изданы монографии по истории
политической мысли России, правовой мысли в СССР 20-х годов. Ряд
монографических работ («Politica hermetica: скрытые аспекты власти»;
«Власть и закон в контексте иррационального» и др.) посвящен мало
разработанным проблемам истории и философии права и власти.
Исаев И. А.
И85 Господство: Очерки политической философии /
И. А. Исаев. — М. : Норма, 2008. — 352 с.
Господство представляет собой высшую форму властвова-
ния, его предел, изучается оно несколькими социальными нау-
ками: политологией, социологией, социальной психологией,
юриспруденцией. В настоящей работе, которая является про-
должением ряда предыдущих исследований автора, категория
господства рассматривается в самых разных аспектах. Освеща-
ются проблемы «законодательствования» и «большой полити-
ки» Ф. Ницше, «легалистская диалектика» Г. В. Ф. Гегеля,
символико-трагические формы господства, роль закона в его
оформлении и функционировании.
Для студентов и аспирантов гуманитарных вузов, широко-
го круга читателей, интересующихся проблемой политического
господства.
УДК [1:32](4304-44+460)
ББК 87.3(4)
В оформлении обложки использована гравюра с титульного листа
первого издания книги Т. Гоббса «Левиафан, или Материя, форма
и власть государства церковного и гражданского» 1651 г.
© Исаев И. А., 2008
ISBN 978-5-468-00201-8 © ООО «Издательство НОРМА», 2008
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 7
Глава 1. Власть, господство, диктатура:
проблемы легитимности 10
1. Власть и господство 10
2. Господство и насилие 19
3. Господство и тотальность 25
4. Господство и диктатура 32
Глава 2. Легалистская диалектика отношения
«господин—раб» у Г. В. Ф. Гегеля 46
1. Господство и разум 46
2. Господство и труд 55
3. Господство как «удовлетворение» 62
4. Господство и смерть 72
5. Освобождение от господства,
освобождение от труда? 81
Глава 3. «Законодательствование» и господство
в «большой политике» Ф. Ницше 91
1. Политический ресентимент 91
2. «Воля к власти»
и выход в «большую политику» 97
3. «Законодательствование», «сверхчеловек»
и насилие 105
4. «Самое холодное из чудовищ» 113
5. Нивелирование, вожди, масса 125
6. Господство и масса 132
Оглавление
Глава 4. От демократии к диктатуре:
точка зрения «правых»
(А. де Токвиль, Ж. де Местр, Д. Кортес) ....142
1. Равенство против свободы 142
2. Неизбежная централизация 151
3. Господство и народ 160
4. Либералы, социалисты и порядок 171
5. Господство закона 184
6. Политические тайны демократии 194
7. На пути к диктатуре 208
Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
взаимоотношений 218
1. Рождение господства из духа трагического 218
2. Трагические аффекты в структуре социального:
закон и смерть 232
3. Закон жертвоприношения: от акта замещения
до процедур правосудия (Р. Жирар) 243
4. Поэтика, политика и право 260
5. Юрисдикция насилия 272
Глава 6. Символическая власть
и господство символов 290
1. Символическая номинация
и символическая борьба 292
2. «Два тела короля»:
истоки политической репрезентации 302
3. Символическое делегирование
(репрезентация) власти 309
4. Символизм «маски» и «пятна» 322
5. Легитимация власти
как символическая процедура 332
Заключение. Перспективы господства 346
ВВЕДЕНИЕ
Представляемая вниманию читателя работа является логи-
ческим продолжением трех предыдущих работ автора, по-
священных исследованию проблемы взаимоотношений
власти и закона1. Все эти работы могут быть отнесены к
исследованиям в области философии права или истории
политических и правовых идей.
Предметом настоящего исследования стала категория
господства, находящаяся на стыке таких дисциплин, как
философия, теория права и политология, и именно с пози-
ции каждой из этих научных дисциплин автор попытался в
своем анализе как можно ближе подойти к сути данной ка-
тегории, касаясь при этом всех самых важных ее аспектов,
и разумеется, прежде всего не забывая о политической
значимости самого явления господства.
Понятие «господство» чаще всего предстает в нашем
сознании окрашенным в некие негативные тона, ассоции-
руясь с понятиями «тирания», «диктатура», «деспотия»
и т. п. Зато оно представляется совершенно несовмести-
мым с такими явлениями, как закон, законность, правопо-
рядок и справедливость. Автор в настоящей работе попы-
тался внести некоторую ясность в подобные представле-
ния, отказавшись от стереотипов, давно установившихся в
политической науке, с этой целью феномен господства
1 См.: Исаев И. A. Politica hermetica: скрытые аспекты власти.
М., 2000; Он же. Власть и закон в контексте иррационального. М.,
2005; Он же. Топос и номос: пространства правопорядков. М.: Норма,
2007.
Введе
рассматривается им на самых разных уровнях: на психоло-
гическом, юридическом, политическом, метафизическом.
Думается, что только использование такого комплексного
подхода к проблеме поможет выявить сущностные черты
этого феномена и тем самым позволит более точно вписать
его в современную политико- правовую парадигму в целях
максимально эффективного и корректного его использова-
ния в качестве научной категории.
Трудность рационального анализа самого явления гос-
подства и соответствующей научной категории обусловле-
на кроме всего прочего его иррациональным характером и
тем символическим контекстом, в котором оно формирует-
ся и существует. Господство не может быть адекватно опи-
сано в терминах только одной из перечисленных выше со-
циальных наук (включая философию, если рассматривать
ее только в социальном аспекте), да и сам характер его
символического окружения, уже по своей природе дву-
смысленный и «мерцающий», также не позволяет иссле-
дователю зафиксировать в понятиях какой-то единствен-
ный и конкретный аспект господства. Его многогранность,
таинственность и скрытность оказались теми основными
качествами, на которые и было направлено главное внима-
ние исследователя названной проблемы.
Господство существует в самом тесном соседстве с та-
кими явлениями и категориями, как власть и авторитет.
Однако и эти категории не могут быть однозначно вклю-
чены в перечень исключительно юридических понятий, хо-
тя они и имеют для правовой науки весьма важное и под-
час даже определяющее значение. Рассматривая их в со-
отношении с категориями «закон» и «правопорядок»,
автор попытался сформировать вокруг понятия господства
Введение 9
некий контекст, позволяющий прояснить сущность и
самой исследуемой категории господства через выявление
ее многочисленных связей с родственными ей понятиями и
представлениями.
Исследование строилось на конкретном историко-по-
литическом материале, включающем идеи и концепты, вы-
работанные европейской политико-философской мыслью
на протяжении длительного времени. Ключевыми именами
в этом умозрительном процессе восстановления стали име-
на Г. В. Ф. Гегеля, Ф. Ницше, Ж. де Местра, А. де Ток-
виля и многих других мыслителей, столь много внимания
уделивших разработке вопросов господства и власти, взя-
тых в их исторической перспективе.
В истории идей тема господства занимает первенст-
вующее место, представляя интерес для политологов, пра-
воведов и практикующих политиков, и хотя эти последние
чаще всего говорят именно о власти, разделенной или не-
разделенной, они имеют в виду в первую очередь и несо-
мненно именно господство. Актуальность этой темы поис-
тине непреходяща — с античных времен и до наших дней
человек думает о господстве, старается уклониться от не-
го, мечтает о нем, жаждет и избегает его. Но особенную
остроту эта проблема приобретает в Новейшее время, ко-
гда на арену истории выходят новые деятели — массы и
техника, и в этих условиях господство кажется уже окон-
чательно торжествующим свою победу, всеохватывающим
и неотвратимым. В предлагаемых очерках автор хотел об-
ратить на этот факт внимание современного читателя, будь
тот студентом, молодым ученым или просто человеком,
которого не оставляют равнодушным столь важные и ак-
туальные для него социальные и политические проблемы.
Глава 1. ВЛАСТЬ, ГОСПОДСТВО,
ДИКТАТУРА: ПРОБЛЕМЫ
ЛЕГИТИМНОСТИ
1. Власть и господство
Одной из важнейших заслуг Макса Вебера перед полити-
ческой наукой стало данное им определение господства
как особого социального феномена, отличного от других,
хотя и близких ему по форме явлений типа власти, поли-
тической силы, авторитета и т. п. и описываемого в отры-
ве от традиционно связанных с ним субстанциональных
категорий рабства и подчинения, предложенных еще Пла-
тоном и Аристотелем. В контексте своей концепции иде-
альных типов М. Вебер разработал специальную систему
типов господства, самым непосредственным образом свя-
зав эту классификацию с критерием легитимности и тем
самым придав ей своеобразный нравственно-юридический
колорит (естественно, поэтому и самой разработанной ве-
беровской формой господства стало именно легитимное
господство рационального типа, основанное на подчине-
нии некоему безличному порядку и формальной законно-
сти).
С помощью самого понятия легитимности М. Веберу
удалось связать два асимметричных волевых и энергетиче-
ских импульса, идущих: один — со стороны господствую-
щего субъекта, другой — со стороны субъекта подчиняю-
щегося и подвластного; в этой связи легитимность первому
из них давала основание и право повелевать, второму
обосновывала и предписывала обязанность подчиняться;
1. Власть и господство 11
при этом, затрагивая лишь внешнюю сторону самого этого
отношения, легитимность могла вовсе не учитывать моти-
вацию поведения и действий каждого из этих субъектов.
М. Вебер вводил в качестве единого основания для всех
видов легитимного господства явно неюридический крите-
рий — веру в легальность установленного порядка, авто-
ритет или особые качества харизматического лидера.
Уточнения, сделанные уже путем введения в круг осново-
полагающих критериев такой личной веры или привычки,
не меняли однако ситуации общей неопределенности,
складывающейся при описании состояния господства, по-
этому М. Вебер формулировал это состояние лишь как
«возможность встречать повиновение» со стороны от-
дельного человека или группы людей конкретно обращен-
ным к ним приказам и повелениям; господство у М. Вебе-
ра сохраняло вероятностный характер даже в своей самой
рациональной форме.
Тем самым в асимметрично структурированной схеме
отношений господства семантический диссонанс проявля-
ет себя уже в самой традиционной постановке вопроса о
базовых основаниях господства: с одной стороны, спраши-
вается, на чем основано данное право господствующего
субъекта распоряжаться другими субъектами; с другой
стороны, здесь делается также попытка выяснить мотивы
готовности людей подчиняться предписаниям власть пре-
держащих, другими словами, легитимный и сугубо юриди-
ческий элемент взаимоотношения противопоставляется
здесь элементу психологическому. В соответствии с вебе-
ровской типологией эта асимметрия усугубляется еще и
смешением пространства легитимного господства с терри-
торией харизматического властвования, делающего ясный
12 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
акцент прежде всего на эмоциональном и психологическом
восприятии самого феномена господства.
Как правило, асимметрию отношений господства ус-
матривают в односторонней направленности вектора власт-
вования и в диспропорциональном разделении общества, в
котором осуществляется господство, на властвующее
меньшинство и подчиненное большинство, но не в принци-
пиально разнокачественном характере самих явлений гос-
подства и подчинения. Проявление господства обнаружи-
вается сразу в обеих частях континиума, составленного из
властвующих и подвластных элементов, однако их мани-
фестация имеет совершенно различный характер, персони-
фицируясь в фигурах «господина» и «раба», и при этом
даже значительная условность самих этих определений не
затушевывает столь качественных различий. Наличие та-
кого разрыва связано прежде всего с самой сущностью от-
ношений господства, и на непреходящий характер разрыва
указывают некие уходящие в мифологическое прошлое со-
бытия, связанные с его первоначальным появлением. Так,
вопрос о значимости харизмы решает признание подчи-
ненных, «изначально всегда мотивированное посредством
чуда» (М. Вебер). Кажется, что отношения господства—
подчинения принципиально нерасторжимы, а их происхо-
ждение рационально необъяснимо и вовсе не обусловлено
легитимацией, напротив, сама легитимность становится
только следствием их фактического существования.
М. Вебер, разграничивая понятия «власть» и «господ-
ство», подчеркивал важность такого фактора, как реакция
подвластных на оказываемое на них принуждающее дав-
ление: власть обусловлена шансом действующего лица на-
вязать свою волю другому лицу, даже при условии сопро-
1. Власть и господство 13
тивления со стороны последнего; господство же обуслов-
лено наличием особого субъекта, господина, который
имеет шанс рассчитывать на подчинение тех, кто теорети-
чески обязан ему подчиняться. Раймон Арон, анализируя
это место из «Хозяйства и общества» М. Вебера, уточня-
ет, что различие между властью и господством заключает-
ся прежде всего в том, что в первом случае «приказ не есть
законная необходимость, а подчинение не обязательно
долг», тогда как во втором случае «подчинение основано
на признании приказов теми, кто им подчиняется», — имен-
но мотивации подчинения и позволяют выделять специфиче-
ские типы господства, которые предлагал М. Вебер1. Так, он
применял титул «господин» ко всякому господствующему
субъекту (начальник, вождь и т. п.), основываясь на неких,
как ему казалось, общих для любого типа господства каче-
ствах, однако субъективность самого отношения господ-
ства обусловливается прежде всего конкретными особен-
ностями соответствующего его типа — дифференцируясь
от более абстрактного в рациональном типе до персонифи-
цированного в типе харизматическом. При этом сущест-
венным образом меняется и характер легитимности: если в
системе рационального господства сам начальник подчи-
няется безличному порядку и закону, тем самым превра-
щаясь в подвластного, то в системе харизматического гос-
подства закон творится самим господином от случая к слу-
чаю, в соответствии с «божественными изречениями и
откровениями», почему этот тип господства, как полагал
М. Вебер, по сути своей иррационален в смысле полной
его отчужденности от правил, поскольку сам же этот тип
1 См.: Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993.
С. 550.
14 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
господства их творит и изменяет. Очевидно, что при таких
существенных различиях в положении и качествах субъек-
тов господства субстанциональный подход, акцентирую-
щий внимание только на элементах структуры властеотно-
шения и его «материи», представляется недостаточно эф-
фективным.
Современные политические теории отождествляют
господство, понимаемое преимущественно как социальные
отношения, либо с политической властью, либо с государ-
ством: поводом для такого отождествления стали некото-
рые сделанные М. Вебером радикальные выводы о роли
постоянно нарастающей деперсонализации и анонимности
некогда вполне конкретных отношений господства. При
этом само понятие господства становится у него лишь на-
учной абстракцией: рассматривая соотношение господства
и власти, он ограничивается только указанием на то, что с
помощью господства как «авторитарной командной систе-
мы можно умерить всякое сопротивление». М. Вебер не
только допускал в своей теории возможность принятия
«цезаристических решений» («деционистских» в смысле,
который в это понятие вкладывал Карл Шмитт), но и
строил всю свою общую теорию влияния и воздействия
господства исключительно с помощью методов бихевиори-
стского типа. Тем самым веберовская формулировка про-
блемы вновь переключала внимание исследователя на ста-
рые асимметричные отношения, свойственные господству:
весьма сложным оказывалось объяснить действия автори-
тарных властвующих сил их рациональными мотивами или
безрассудством, а также выяснить связь, наверняка суще-
ствующую между условиями выполнения приказов и рас-
поряжений властей и условиями жизни подданных, неиз-
1. Власть и господство 15
бежное сопротивление которых приходится постоянно
преодолевать1. Власть, согласно М. Веберу, означает лю-
бую возможность проводить свою волю «в социальном от-
ношении», даже вопреки оказываемому сопротивлению;
господство же есть повиновение определенных лиц прика-
зам определенного содержания (в нормативно-правовой
сфере с этим по аналогии соотносится разделение импера-
тивных актов на общие законы и подзаконные акты, хотя
сравнение это и имеет весьма приблизительный характер).
При этом, если власть является «социологически аморф-
ной» и может быть обнаружена в любых обстоятельствах
и ситуациях, то господством по праву может считаться
только «институционализированная длительная власть в
сфере приказов» (в смысле «канализированной власти» у
Карла Маннгейма или «структурного насилия» у Иохана
Талтунга), и систематическое осуществление господства,
основанное на монополии легитимного принуждения, соз-
дает как раз те связи, которые являются важным призна-
ком при формировании государства как особого типа и
особой формы господства.
Систематическое осуществление господства ведет к не-
избежному созданию организации власти, ее центрирова-
нию и иерархизации властных структур — именно в ходе
этого процесса и появляется государственность (М. Вебер
называет зародыш этой формы «организующим штабом»,
вся деятельность которого направлена на формирование,
осуществление порядка и принуждение к нему); при этом
за бортом остаются некоторые другие важные виды гос-
подства, прежде всего личностного (отца семейства, гос-
1 См.: Массинг О. Господство // Психология и психоанализ вла-
сти. Самара, 1999. Т. 1. С. 50—51.
16 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
подина над рабом и др.) и децентрализованного, «распы-
ленного» (на существовании которого особенно настаивал
Мишель Фуко) господства. Поэтому утверждение М. Ве-
бера о необходимом присутствии «штаба» при формирова-
нии любого типа господства не может быть отнесено к
этим его разновидностям, оно кажется справедливым в
случае формирования политической рациональной власти,
но остается недостаточно убедительным даже в случае
возникновения харизматического господства. Здесь вера,
религиозные ценности и личная преданность оказываются
более значимыми и ценными, чем структурированная ор-
ганизация (хотя сама идея центрированности остается),
что объясняется прежде всего иррациональным характе-
ром харизматического господства, тогда как легальное
господство с бюрократическим «штабом» управления и
даже традиционное господство, несомненно, нуждаются в
неких соответствующих организационных идеях и меро-
приятиях, основанных на рациональном анализе, а не ис-
ключительно на вере.
Будучи связанными нормами и правилами (или тради-
цией и прецедентами прошлого), бюрократическая и тради-
ционная формы господства стремятся в своих собственных
пределах выстроить все отношения господства—подчине-
ния в соответствии с базовыми принципами, содержащи-
мися в этих предписаниях. Харизматическое же господство
по своей сути склонно к импровизированию и ближе других
типов «организованного» господства приближается к лич-
ностной форме с сопутствующими той субъективизмом и
непредсказуемостью: именно здесь в наиболее чистом виде
проявляется та «воля к власти», которая составляет мета-
физическое основание отношений господства; к тому же
1. Власть и господство 17
неисчерпаемое многообразие ситуационных моментов, ка-
зусов и прецедентов сопровождает и усилия по легитими-
рованию харизматического типа господства.
Ситуации власти рождаются из самых различных ис-
точников и мотивов, однако, чтобы институционализиро-
ваться в устойчивые формы господства на длительный пе-
риод, им необходимо принять действующие правовые и
нравственные представления и тем самым обрести свою
легитимность, с моральной и правовой точки зрения имен-
но длительные и длящиеся отношения господства начина-
ют представляться легитимными и оправданными; рево-
люционное же прерывание длящихся отношений господ-
ства, как правило, влечет за собой также и политическое
противопоставление права и власти. (В процессе институ-
ционализации власти могут появляться также и иные весь-
ма важные феномены, например возможность «непрямо-
го» господства: через фаворитов, приемную и двор сувере-
на и др., на которые указывал еще К. Шмитт; олигархии и
партийные штабы, структуры, подробно проанализиро-
ванные Робертом Михельсом и Михаилом Острогорским,
и т. п.) Вместе с тем парадоксальность ситуации заключа-
ется в том, что вследствие ограничительной определенно-
сти, строгой нормированности и законности своих компе-
тенций каждое институционализированное господство
способно создавать некие новые ситуации, в которых оно
рискует вновь превратиться, трансформироваться в
аморфную власть.
Арнольд Гелен рассматривал этот процесс как «исхо-
дящее из легального господства, полностью правовое и
тем не менее непредсказуемое и потому аморфное облада-
ние властью, которое бывает возможным просто потому,
18 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
что важная часть его компетенции не получает употребле-
ния, что и определяет ситуацию. При таком подходе к
проблеме достаточно упрощенное сопоставление господ-
ства и власти, сделанное М. Вебером, становится более
сложным, тогда-то и возникает новое понятие «аморфная
власть», причем рассматривают ее в отношении к господ-
ству, власти, которая дает ее обладателю больший простор
для импровизации при принятии решений, однако в стро-
гих пределах легальных компетенций; так, чтобы быть
ближе к практически необходимым и решаемым ею зада-
чам, исполнительная власть нередко принимает аморфную
форму, тем самым уклоняясь от слишком сильного контро-
ля и регламентации со стороны других ветвей власти.
Наряду с мощными организациями и институтами, об-
ладающими атрибутами, напоминающими господство, го-
сударство выступает по отношению к ним либо как парт-
нер, либо как конкурент: оно тем самым противопоставля-
ет себя этой «параконституциональной системе сил,
претендующей на публичную значимость»1. Обладая оче-
видной спецификой, государственная организация, тем не
менее, в своей основе имеет те же основополагающие
принципы, что и любая другая организованная форма гос-
подства. Приравнивание органов государственной власти
к структурным образованиям, взятым из таких сфер соци-
альности, как церковь, промышленность, армия или поли-
тическая партия, обосновывалось тем, что М. Вебер стре-
мился выводить само понятие господства из понятия леги-
тимности, — здесь специфические виды господства
различались по типичной для них претензии на легитим-
1 См.: Гелен А. Социология власти. С. 4.
2. Господство и насилие 19
ность, при этом не принимались в расчет субстанциональ-
ные особенности каждой из этих структур властвования,
поскольку наиболее значимым для их классификации или
унифицирования критерием являлся вид легитимности, в
зависимости от которого различались и виды повинове-
ния, тип обеспечивающего господство «штаба» управле-
ния и сам характер осуществления господства.
Все политическое (поскольку оно в первую очередь
связано с отношениями властвования) многообразие мира
представлялось в виде пестрого конгломерата структур и
субъектов — лиц, связанных друг с другом отношениями
господства—подчинения, прежде всего базирующимися
на принципе легитимации: странным образом, но господ-
ство постоянно нуждалось и нуждается в оправдании соб-
ственного существования, всякий логически и детермени-
рованно необоснованный факт его присутствия в мире тре-
бует пояснения. При этом господство, опирающееся на
закон, традицию и авторитет, кажется более приемлемым,
чем наполняющее его насильственное принуждение, не
отягощенное какими-либо внешними объяснениями, хотя
и в самом легитимированном господстве насилия при этом
может содержаться значительно больше, чем в противо-
поставляемом ему нелегитимном господстве; и все же объ-
ем и мера реальной власти, как нам кажется, имеют здесь
значительно меньшее значение, чем само ее обоснование.
2. Господство и насилие
Легитимирование отношений господства имеет в истории
политической философии устойчивую и длительную тради-
цию, истоки которой могут быть отмечены в идеологии как
20 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
стоицизма, так и раннего христианства: двойственный ха-
рактер господства одновременно понимался здесь как долг
по отношению к правлению, устанавливающему порядок, в
том числе и правовой, основанный на системе положитель-
ного права и принудительных мер, и как покорность подчи-
ненных, идеологически интерпретированная в виде образца
добродетельного поведения, при этом большинство идеоло-
гических систем представляли отношения господства—
подчинения только как временный и преходящий земной
институт, который должен будет исчезнуть с приходом
«земного рая» или «царства свободы», когда вновь будут
восстановлены симметрические отношения между людьми,
т. е. отношения «равенства». Однако уже за рамками инди-
видуальной вины и за пределами «телеологически морали-
зующего вывода» о наличии некоего низшего и «рабского»
начала, заключенного в сознании несвободных, произошел
определенный «социологический» поворот в понимании са-
мого института господства, который сделал возможным
дальнейшее раскрытие диалектического соотношения «гос-
подин—раб» (Г. В. Ф. Гегель).
Что касается западноевропейской естественно-право-
вой мысли, то она так и не смогла провести необходимое
для решения проблемы господства различие между лично-
стным, сословно-наследственным господством и абстракт-
ной легитимностью, и как заметил Отвин Массинг, вебе-
ровская легитимность при этом могла выступать как в ви-
де всеобщей законодательной нормы гражданского
общества, так и в форме легитимности бюрократического
государства Нового времени, безразлично, — результат
всегда был один и тот же1. Однако и отвлеченно от социо-
См.: Массинг О. Господство. С. 47—49.
2. Господство и насилие 21
логии феномена господства, и только с собственно юриди-
ческой точки зрения типы легитимности вообще не могли
быть адекватно дифференцированы: как показывает опыт,
во всех без исключения случаях господство нуждается в
соответствующей легитимации, в противном же случае это
понятие будет обозначать уже нечто совсем иное. По мет-
кому замечанию Эрнста Юнгера, господством мы чаще
всего называем состояние, в котором безграничное про-
странство власти стягивается в точку, оттуда оно проявля-
ется затем как пространство права, при этом именно мера
легитимации и определяет саму меру господства, которого
можно достичь только благодаря воле к власти1.
Аморфность самой власти часто дополняется ее де-
центрированностью (ведь само властное волевое усилие
только стремится подчинить окружающее определивше-
муся в данный момент и в данном месте центру властвова-
ния) и обусловлена ее потенциальным характером (ибо в
момент своего проявления власть уже перестает быть сама
собой, становится принуждением, насилием или принима-
ет какую-либо другую форму собственной реализации).
Власть не нуждается в легитимации, так как предполагает
быть реализованной ad hoc и не рассчитывает на свое веч-
ное существование в какой-либо одной застывшей фор-
ме, другими словами, она допускает проявление известной
доли свободы со стороны подвластного ей субъекта, и уже
после того, как она воздействует на него. Господство же
абсолютно, всепоглощающе и монотонно устойчиво по
своей сути, и только в господстве выражается перманент-
ная воля к власти, но не в самой этой власти. Власть ори-
1 См.: Юнгер Э. Рабочий, господство и гештальт. М., 2004.
С. 131—132.
22 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
ентирована на достижение результата, что выражается в
действиях, которые подвластные по собственной воле,
возможно, и не стали бы совершать; господство же само
формирует некие действия и отношения, которые без его
подавляющего влияния, возможно, так никогда бы и не
произошли, не были бы совершены и не состоялись.
Власть и свобода сопряжены между собой и отража-
ются друг в друге зеркально. Для Э. Юнгера, обстоятель-
но изучившего проблему соотношения власти, свободы и
насилия, не существует ни абстрактной свободы, ни абст-
рактной власти; степень легитимации для него всегда рав-
на степени господства, достигаемого посредством воли к
власти, где «точкой отсчета для безграничного простран-
ства воли становится точка, благодаря которой оно пре-
вращается в пространство права»; чистая же воля к вла-
сти, напротив, легитимирована так же мало, как и воля к
вере. Под легитимацией Э. Юнгер понимает реальную
способность власти контролировать зарождающийся но-
вый мир («...дух словно опередил самое себя в накоплении
материала, который еще только ожидает власти, способ-
ной его упорядочить»), власть неразрывно связывается с
четко определенным жизненным единством, которое вы-
ражено в умении повелевать, без чего наличие любых вла-
стных регалий утрачивает всякий смысл. Само это бытие и
есть власть, а в особом смысле это — «изначальный капи-
тал, вкладываемый как в государство, так и в мир, кото-
рый сам организует себя и создает собственные понятия».
В этой связи и человек как носитель власти достигает сво-
ей наибольшей силы и значимости не в своей свободе, но в
своем служении, «тайна истинного языка приказа в том,
что он не обещает, но требует», все искусство приказа со-
2. Господство и насилие 23
стоит как раз в том, что он указывает цели, наиболее до-
стойные жертвы1. Как свобода, так и порядок соотносятся
не с обществом, а с государством, поэтому образцом для
всякой организации является именно организация войска,
а не какой-то «общественный договор», и «состояния пре-
дельной силы мы достигаем только тогда, когда перестаем
сомневаться в отношении руководства и повиновения: гос-
подство и служение — это одно и то же»2. Господство ка-
тегорично и «милитаризировано» по форме, оно тождест-
венно безапелляционному приказанию, отсюда и та ассо-
циация, которая позволяет рассматривать господство
только как вторичное проявление власти, как реализацию,
жесткую и конкретную, власти, все еще склоняющейся к
альтернативным решениям и все еще терпящей присутст-
вие свободы.
Господство политическое всегда ассоциировано с по-
нятиями государства и государственной власти; не будучи
им тождественным, этот тип господства остается связан-
ным, однако, уже с важнейшим атрибутом государствен-
ности, а именно с ее монопольным правом на применение
крайних мер насилия по отношению к неверным поддан-
ным и врагам. Легитимация здесь осуществляется в форме
и звучных терминах суверенитета, существенным образом
отличных от всех других форм легальности именно своим
всеобъемлющим характером: всякий суверенитет стремит-
ся к расширению своих пределов и может быть сдержива-
ем только другими примыкающими к его границам и со-
размерными ему суверенными силами.
1 См.: Эвола /О. «Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера. СПб.,
2005. С. 53—56.
2 Юнгер Э. Указ. соч. С. 64.
24 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
Характерно, что присущая государству монополия ле-
гального принуждения в случае достаточно эффективного
сопротивления ей извне в полную силу начинает использо-
ваться в пределах собственного суверенного пространства
уже против подвластных государству субъектов в формах
прямого или непрямого господства. Именно в случае госу-
дарственности господство выступает и воспринимается в
своей наиболее безличной форме: так, если у Платона в
«Государстве» господство еще было пронизано личност-
ными отношениями, то в «Законах» личные притязания
философов-правителей на власть уже превращаются в не-
кую безличную заявку на господство разума и восприня-
тых им идей.
По мнению Ханны Арендт, тем самым здесь устраня-
лась главная трудность, возникавшая из-за сближения
форм легитимного правления с такими хозяйственными
отношениями, как связь между господином и рабом, в ко-
тором властитель должен был являться некоего рода «бо-
гом», чтобы так же решительно отделиться от подвласт-
ных ему, как господин уже отделен от раба. Однако сам
факт насилия сохранял свою жизненность и актуальность
и при такой трансформации политического понимания гос-
подства: царь в «Государстве» прилагает метафизические
«идеи» к политической сфере с такой же степенью компе-
тентности, с какой ремесленник применяет правила и мас-
штабы своего ремесла, тем самым царь формирует, «изго-
тавливает» свой полис точно так же, как скульптор — свою
статую; в «Законах», где эти правила становятся законами
для правильного применения искусства управления, «цар-
ского искусства», по выражению Платона, этот аспект по-
прежнему остается определяющим. В связи с этим, оттал-
3. Господство и тотальность 25
киваясь от платоновской модели властвования, насильст-
венность, «пронизывающая всякое создающее изготовле-
ние в качестве одной из его основных предпосылок», про-
должала играть существенную роль во всех политических
системах и категориях политической философии вплоть до
Нового времени. Но даже и в эту эпоху вторжение наси-
лия в политическое действие и мышление сохраняет свою
актуальность (на фоне общего превращения политическо-
го в одну из функций социального), сочетая в себе «ста-
рую римскую захваченность идеей основания с совершен-
но чуждым Риму возвеличиванием власти как единствен-
ного средства основания государства». Надежда на то, что
действие можно в конечном счете заменить «изготовлени-
ем» и вызванная этим деградация политики, рассматри-
ваемой только как средство достижения более высокой,
лежащей за пределами политического цели, трансформи-
ровались в Новое время в специфическую идею защиты
производительности и социального процесса от стихийных
сил зла1.
3. Господство и тотальность
Упорядочивающая деятельность государства и закона по
«изготовлению», созданию необходимого с их точки зре-
ния порядка не может не сопровождаться насилием и при-
нуждением. Принимающее сознательные и творческие
формы строительства насилие не утрачивает при этом и
своих негативных «отрицающих» качеств — его крайней
1 См.: Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.,
2000. С. 301—304.
26 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
степенью воздействия в этом направлении становится
причинение смерти, а сопутствующим этому фоном — со-
стояние страха. По своей сути господство как форма реа-
лизации властного потенциала не может быть частичным и
не терпит какого-либо сопротивления (т. е. реализации
«другой свободы») со стороны ему подвластных. Если
власть и может иметь определенные пространственные
очертания и пределы, самоограничивая себя в форме пра-
ва, то господство определенно стремится к тотальности
своего существования, ориентируясь на некие внеправо-
вые ценности, лежащие уже или еще за пределами пози-
тивного закона. В господстве в наиболее чистом виде про-
является та воля к власти, которая творит и подчиняет себе
окружающий мир и его обитателей. Воздействие господ-
ства затрагивает саму онтологическую сущность бытия,
поэтому под его воздействием социальная и политическая
сферы человеческого существования подвергаются только
полной трансформации, принимая в себя господство как
неотъемлемый элемент собственной экзистенции. Господ-
ство сильно уже самим фактом своего существования, в
отличие от власти, которая есть только потенциал и обе-
щание: властью обладает тот, кто может либо эффективно
удовлетворить интересы и потребности, либо серьезно уг-
рожать им (А. Гелен).
По определению X. Арендт, власть есть то, что зовет
к существованию и вообще «удерживает в бытии публич-
ную сферу, потенциальное пространство явленности»,
власть всегда лишь потенциал мощи, а не что-то непрехо-
дящее, измеримое, надежное, как крепость или сила. Сила
же есть то, чем всякий человек от природы в известной
мере владеет, то, что он действительно может назвать сво-
3. Господство и тотальность 27
ей «собственностью»; «властью же никто не обладает, она
возникает среди людей, когда они действуют вместе, и ис-
чезает, как только они снова рассеиваются». По своей су-
ти власть так же экспансивна, как и действие, поскольку
она не знает материально-физического ограничения: ее
границы лежат не в ней самой, но в одновременном суще-
ствовании других группировок власти. X. Арендт указы-
вает на примечательный факт: разделение властей, как ей
кажется, никоим образом не влечет за собой уменьшения
власти, более того, взаимодействие властей, покоящееся
на их разделении, создает «живое соотношение взаимно
контролирующих и компенсирующих друг друга властей,
когда, благодаря господствующему в нем взаимодействию,
производится больше власти», неделима не сама власть, а
сила, которая хотя и уравновешивается существованием
других, но ими же и ограничена, и умалена в своих воз-
можностях воздействия. Тем самым власть и сила (могу-
щество) здесь не просто противопоставлены, но и про-
странственно разведены1. Сила как потенциал неделима,
проста и изначальна, «мы видим только действие силы, но
не ее саму» (Готфрид Вильгельм Лейбниц), сила ассоции-
рована с властью; могущество же как качество, прежде
всего предполагающее присутствие тотальности, характе-
ризует господство. (Думается, что такое прилагательное,
как «абсолютный», более подходит такому существитель-
ному, как «господство», чем существительному «власть»,
правда, при этом есть риск породить новую тавтологию.)
Появление в политическом лексиконе термина и поня-
тия «тоталитаризм» в значительной мере было обусловле-
1 См.: Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. С. 265—
267.
28 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
но сосредоточением внимания политических философов на
таком качестве рождающегося государственного образо-
вания, как его стремление обеспечить всеединство эконо-
мических, социальных и политических структур, гаранти-
рованное могуществом объединяющего центра; идеологи-
ческая и идейная мотивированность данного процесса
рассматривалась в этом контексте уже как средство его
обеспечения и как основной источник тотальности — тем
самым уже предполагалось наличие вполне рациональных
предпосылок и для ее (тотальности) возникновения. Воле-
вой импульс становился первоисточником процесса тота-
лизации, а установление абсолютного господства — его
результатом, поэтому и сама метафизически определяемая
«воля к власти» стала представляться главным побуди-
тельным и одновременно негативным моментом в истории
установления господства.
X. Арендт вообще считала «волю к власти» одним из
опаснейших пороков политического мышления; если тира-
ния (ассоциируемая этим автором с основной целью, к ко-
торой направлена воля к власти) есть только попытка за-
менить власть насилием, то охлократия, или власть толпы,
составляющая противоположность тирании, по мнению
X. Арендт, есть намного более перспективная попытка
компенсировать силу властью, тирания активно мешает
возникновению власти именно внутри политической об-
ласти и через присущую ей изолирующую силу порождает
безвластие так же естественно, как другие государствен-
ные формы порождают власть. Власть легче уничтожается
насилием, чем сила, и хотя безвластие всегда есть отличи-
тельный признак тирании, она вовсе не обязательно ха-
рактеризуется непроизводительностью и слабостью оди-
3. Господство и тотальность 29
ночки; «чем в большей мере та или иная государственная
форма есть по сути властное образование, особенно в слу-
чае безграничной демократии, тем тяжелее будет одиночке
заставить с собой считаться. Власть действительно пор-
тит, но лишь когда слабые собираются в группу, чтобы по-
губить сильных, не ранее», и такая «воля к власти», по-
разному интерпретируемая философами — от Т. Гоббса
до Ф. Ницше, по мнению X. Арендт, стала проявлением
зависти слабых1. Сила здесь является атрибутом тирани-
ческой власти, индивидуализированной и приватной, тогда
как собственно власть явно тяготеет к публичности, эта же
последняя ассоциируется с демократией. «Воля к власти»
иррациональна и аффективна, устраняя публичность, она
открывает дорогу насилию и единовластию, т. е. тирании;
распыленная в пространстве власть, или плюрализм, с
этой точки зрения представляется более демократической
уже хотя бы потому, что препятствует центрированию вла-
сти, за которым уже проглядывает господство.
По мнению X. Арендт, взятие под контроль плюра-
лизма всегда означает отмену публичности, при этом в та-
кой ситуации естественнее всего обратиться именно к еди-
новластной форме правления, варьирующейся от тирании
одного через разнообразные формы просвещенного деспо-
тизма и абсолютизма вплоть до разновидностей демокра-
тии, когда множество сливается в одно коллективное тело
и народ становится «многоглавым одним», самоутверж-
дающимся в качестве единого властителя или монарха2.
1 См.: Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. С. 268—
269.
2 См.: Там же. С. 292.
30 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
Таким образом, субъект господства может принимать
самые разные формы и личины, оставаясь при этом некоей
целостностью, или тотальностью, и его внутренняя струк-
тура не меняет целостного характера самой функции гос-
подствования (сходным образом смена персоны абсолют-
ного монарха никак не влияет на сам, уже реализованный
в системах властной иерархии, принцип абсолютизма, или
абсолютного властвования); тотальность — это в первую
очередь система и функция, и только во вторую — струк-
тура и персонифицирование исполнителя функции. Так,
парадокс гоббсовского Левиафана заключался в том, что
он был одновременно и личностью, и набором, совокупно-
стью лиц, репрезентируемым субъектом и самостоятельно
действующей персоной, лицом и маской. В Левиафане
множество растворяется в единстве, поглощается им, и
господство тем самым отделяется от своего персонифици-
рованного носителя, оставаясь при этом репрезентируе-
мым состоянием некоего «смешанного» лица. Убежден-
ность М. Вебера в том, что легитимное господство не мо-
жет существовать без стоящей за ним «организации», в
ситуации тоталитарного режима находит полное подтверж-
дение: индивидуализированный «господин» является
здесь одновременно и персоной, и корпорацией, единст-
вом и множеством. При всей эмоциональной окрашенно-
сти, которая характерна для определения «тоталитаризм»,
определяющими признаками этого образования являются
прежде всего доведенная до своего логического предела
степень господства и обезличивание самого господствую-
щего центра; с этим самым тесным образом связаны все
изменения в образе и порядке легитимации господства, а
также появление новых типов справедливости и законно-
3. Господство и тотальность 31
сти, обосновывающих установление режима нового то-
тального господства.
X. Арендт отмечала, что тоталитарный режим суще-
ственным образом отличается от деспотизма, тирании и
диктатуры, однако при этом он отнюдь не так уж «безза-
конен», как кажется на первый взгляд, поскольку восхо-
дит к таким источникам авторитета, из которых получают
свою конечную легитимацию все позитивные законы, он
повинуется этим сверхчеловеческим силам с большей го-
товностью, чем какое-либо правительство когда-либо
прежде. Его пренебрежение позитивными законами при-
тязает на то, чтобы стать высшей формой легитимности,
игнорирующей мелочную законность; «тоталитарное за-
конодательство претендует указать путь к установлению
царства справедливости на земле», — разрыв, сущест-
вующий между правом и справедливостью, однако, не
может быть окончательно устранен, поскольку нормы
справедливого и несправедливого, на язык которых пози-
тивное право переводит источники собственного автори-
тета, — «естественный закон», закон Божий, обычай и
традиции — по необходимости должны быть абстрактно-
всеобщими и действительными для бесчисленных и не-
предсказуемых случаев.
Тоталитарное правосознание, с его презрением к обыч-
ной законности и претензией на установление абсолютного
царства справедливости на земле, хочет прямо исполнять
закон Истории или Природы, не переводя его в нормы до-
бра и зла для индивидуального поведения. Оно приклады-
вает этот закон непосредственно к роду человеческому, не
заботясь о поведении отдельных людей; конец разрыву меж-
ду законностью и справедливостью положит тоталитарное
32 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
отождествление человечества в целом и права»1, тем самым
достигается полное и абсолютное единство каждой отдель-
ной воли с целым, представляющим интересы и волю каж-
дого отдельного лица, а закон становится окончательно
безличностным, и господство, парадоксальным образом
слившись со свободой, становится невидимой, но вполне
ощутимой реальностью.
4. Господство и диктатура
Ни абсолютная монархия, ни диктатура не в состоянии
достичь такого уровня всевластия, который свойствен то-
тальному господству. Абсолютизм как форма правления,
появляющаяся на конкретном этапе исторического разви-
тия, также был не способен осуществить такую задачу уже
в силу своей «технической отсталости», ему недоставало
средств и инструментария как для полного охвата всего
подвластного ему пространства своими регламентирующи-
ми и регулирующими механизмами (хотя стремление к
этому во всяком случае отмечалось), так и для глубинного
проникновения в ту сферу подчиненных ему объектов, ко-
торые определяются как «сознание» и «бессознательное».
Во всяком случае, абсолютизм наметил ту линию и те век-
торы, по которым пошло дальнейшее развитие институтов,
целью которых стало достижение господства, — бюро-
кратии, армии, пропаганды и т. п. Вся система абсолюти-
стского властвования при этом выстраивалась по традици-
онной пирамидальной иерархии, замыкаясь на одинокой
фигуре абсолютного монарха, венчающей эту пирамиду.
Арендт X. Истоки тоталитаризма. М., 1996. С. 599—600.
4. Господство и диктатура 33
Для диктатуры, которая, в отличие от абсолютной
феодальной монархии, уже не была связана с определен-
ными и конкретными историческими обстоятельствами,
силами и историческим периодом и могла проявляться в
разные времена и эпохи, персонификация власти пред-
ставляла такой же важный момент и атрибут, как и для
монархии — установление. И монархии, и диктатуры все-
гда осуществлялись посредством целого набора политиче-
ских и правовых механизмов, вписанных в нормативную
или традиционную систему (назначение, выборы, насле-
дование), уже сам факт наличия которой указывал на вла-
стно-ограниченный характер такого типа властвования.
Даже суверенная диктатура, чрезвычайный и полномоч-
ный характер которой придавал ей полную видимость то-
тальности, могла существовать только во взаимодействии
и в контакте с другими органами и структурами, также
претендующими на все более полный объем власти.
В политической науке такое конкурирующее взаимо-
действие вписывается в более широкое определение прин-
ципа разделения властей. Характерно, что само учение о
разделении властей по своей политической сути отнюдь не
является ни демократическим, ни республиканским, у
Шарля Монтескье оно было связано прежде всего с ин-
ститутом и теорией «промежуточных инстанций» и на-
правлено как против чрезмерного абсолютизма королев-
ской власти, так и против абсолютного господства демо-
кратии и народа, претендующего на непосредственное
осуществление власти. Деспотизм (термин «диктатура» в
XVIII в. еще используется исключительно в рамках клас-
сической античной традиции) понимается как нарушение
баланса властей, вызванное непосредственным вторжени-
34 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
ем одной из них в сферу других, и как ее претензия на все-
властие. Господство тем самым обеспечивалось не столько
разбалансировкой властного агрегата, сколько отсутстви-
ем опосредствующего звена, некоего промежуточного ор-
гана с четко определенной компетенцией и ограниченной
властью, стоящего на пути неограниченного властепритя-
зания. Диктатура, как и всякая власть, несомненно нужда-
ется в легитимации, поэтому она оправдывает свое суще-
ствование и свои действия постоянными ссылками на не-
кие «общие интересы», божественную справедливость,
«волю народа» и др., а ее нежелание иметь между собой и
управляемой ею массой какие-либо промежуточные орга-
ны власти объясняется, как правило, чрезвычайной ситуа-
цией, внешней или внутренней угрозой, отсутствием вре-
мени для проведения неторопливых и постепенных реформ
и т. п. Диктатура всегда чрезвычайна, и легалистский кон-
текст, в котором она существует, может быть в любой мо-
мент изменен или просто проигнорирован стремящейся к
господству диктатурой.
Другим характерным признаком режима является его
пренебрежительное отношение к идее разделения властей.
Поль Пьер Мерсье де ла Ривьер в своей работе «Естест-
венный и необходимый порядок политических обществ»
(1767 г.) в принципе отвергал учение о противовесах вла-
стей как химеру, ведь диктовать позитивные законы означа-
ет прежде всего — командовать, т. е. применять публичное
насилие, без которого бессильно всякое законодательство.
«Необходимая власть», которую можно определить и как
государственно-правовой деспотизм, не поддается разде-
лению, поэтому и сам легальный деспотизм П. П. Мерсье
де ла Ривьер «отнюдь не деспотизм, связанный позитив-
4. Господство и диктатура 35
ными законами, а до предела централизованная политиче-
ская власть, осуществляющая переход к такому состоянию,
когда «естественные законы» господствуют сами собой и
их оправданность очевидна для разумного человека». За-
конодательная власть в этой ситуации как первичная и
наиболее динамичная, подражающая только «естественно-
му закону», поглощает две другие, автономию которых так
пытался обосновать Ш. Монтескье; следующим логиче-
ским шагом становится ее отождествление с властью как
таковой, сильной и всеохватывающей: решение, «реши-
тельное слово» только и способны произвести необходи-
мые и существенные преобразования в необустроенном и
иррациональном мире, чтобы установить в нем порядок.
Многим последующим поколениям революционеров и ра-
дикалов именно легальный деспотизм покажется наиболее
эффективным инструментом социального и политического
преобразования, хотя наиболее определенным образом эта
идея была сформулирована еще в представлении Жана
Жака Руссо о «всеобщей воле» (К. Шмитт полагал, что
Ж. Ж. Руссо различал два вида диктатуры: при одной из
них законы молчат, а диктатор господствует над законами, не
являясь представителем законной власти; при второй — раз-
личные компетенции, действующие в легальном, правовом
пространстве, соединяются воедино в рамках исполнительной
власти1). Появление на политическом поле «всеобщей воли»,
как казалось, вело к упразднению первоначального договора
о подчинении и господстве, который заключался между на-
родом и правительством: необходимое обществу единст-
во — единая сила, единая воля, единство власти и автори-
См.: Шмитт К. Диктатура. М., 2005. С. 132, 145.
36 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
тета — рождалось в силу заключаемого гражданами меж-
ду собой договора единения, или «общественного
договора», деспотизм и господство которого основывались
бы на исключительном знании истины, кроме того, сама
идея суверенитета, заимствованная у сторонников абсолю-
тизма, тем самым была безболезненно заменена на сувере-
нитет народа.
Аморфная масса может быть консолидирована только
на основе некоего стоящего над ней трансцендентного
принципа, заменяющего собой утраченный монархический
принцип, но не отвергающего саму идею единовластия; им
вполне могла стать как рационалистическая идея договора,
так и иррациональная идея провидения или судьбы. Леги-
тимация играет и в этом случае особо важную роль, по-
скольку обязана, во-первых, обосновать сам факт столь
радикального изменения властной субъективности, и во-
вторых, придать рациональную форму новому, по сути ир-
рациональному и стихийному, содержанию. Коллектив-
ный субъект встречает в пространстве властвования мно-
гочисленные и, как кажется, не связанные друг с другом
центры и единицы влияния и властвования, которые он
стремится соединить в некое центрированное сооружение
при посредстве уже испытанного инструмента — столь же
безликого и анонимного закона.
Наличие фигуры коллективного субъекта властвова-
ния уже самим фактом своего множественного состояния
было призвано подвергнуть сомнению сам принцип разде-
ления властей; «рабочая корпорация», в форме которой он
выступал вовне, в состоянии сама была решать все вопро-
сы политического устроения, и даже создавая промежу-
точные представительные органы, народ как субъект вла-
4. Господство и диктатура 37
ста по-прежнему считал самого себя единственным и на-
стоящим сувереном. Однако, неспособные соединить
разрозненные воли в единую волю к власти и сформулиро-
вать единственное годное для реализации политическое
решение, народ и его безличностный закон были вынуж-
дены прибегать к посредничеству либо все тех же предста-
вительных органов, которым они делегировали свои права
на власть, либо единоличного диктатора, который, как
часто показывает история, занимает место многоликих за-
конодательных корпораций. Единственной гарантией про-
тив потенциального узурпирования всей власти диктату-
рой репрезентирующий власть народ всегда считал огра-
ниченные сроки действия легитимной, выборной или
назначенной диктатуры и более или менее легитимирован-
ный статус этого режима, связанный хрупкими правовыми
нитями с некими основополагающими, базовыми или кон-
ституирующими нормами. Поэтому идея договора власти
с подвластными, идущая от Т. Гоббса к Ж. Ж. Руссо,
столь долгое время присутствовала во всех известных кон-
цепциях легитимной или суверенной диктатуры, будучи
призванной сдерживать сползание власти к господству
или деспотизму.
Однако на практике отношения между законом и
диктатурой постоянно и повсеместно находились в состоя-
нии некоей динамической асимметричности — К. Шмитт
заметил в теории Ж. Ж. Руссо бросающееся в глаза про-
тиворечие, существовавшее между безвластным правом и
бесправной властью, противоречие, оказавшееся перевер-
нутым в самой его сущности: законодатель располагается
здесь как бы вне государства, однако в сфере права, тогда
как диктатура всегда стоит вне права, но в сфере государ-
38 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
ства. Поэтому сам законодатель оказывается в этой связи
не чем иным, как «конституированным правом», а диктату-
ра — «конституированной властью», и как только возни-
кает необходимая связь, позволяющая наделить законода-
теля диктаторской властью, создать законодателя-диктато-
ра и издающего конституцию диктатора-законодателя,
тогда сразу же «комиссарская» (т. е. временная, чрезвы-
чайная, созданная только для решения конкретных проб-
лем) диктатура превращается в суверенную.
Связь эта у Ж. Ж. Руссо была порождена неким
общим представлением, вытекающим из самого содер-
жания «Общественного договора», однако так и не по-
лучившим в нем имени и статуса некоей особой власти, а
именно учредительной власти, «комиссарская» дикта-
тура предполагает, что всевластие диктатора основыва-
ется на правомочиях, переданных ему конституционно
учрежденным органом, она защищает вполне конкрет-
ную конституцию от посягательств, которые грозят эту
конституцию уничтожить. Суверенная же диктатура,
по определению К. Шмитта, рассматривает весь суще-
ствовавший до нее и существующий вокруг нее порядок
как подлежащий непременному устранению, она не
приостанавливает действующую конституцию в силу
какого-то основанного на ней конституционного права,
а стремится создать ситуацию, в которой уже вполне
возможно ввести новую, «истинную» конституцию, при
этом обосновывая свои акции не нормами действующей
конституции, а положениями той, которую только еще
предстоит ввести1.
См.: Шмитт К. Указ. соч. С. 150, 158.
4. Господство и диктатура 39
Легкий переход, который диктатура совершает от од-
ного типа собственной легитимности к другому, объясня-
ется тем, что этот режим в своем функционировании ори-
ентируется прежде всего на выполнение конкретных и
практических по преимуществу задач, т. е. обладает «де-
ционистским» характером, отличающимся политической
решительностью и склонностью к импровизации. Полити-
ка здесь, несомненно, опережает право, поэтому и все
нормативные обоснования и ограничения имеют для режи-
ма только вторичный характер, он не отказывается от пра-
ва, но желает видеть его более приспособленным и подхо-
дящим для его собственных целей и соответствующим
предлагаемым им ценностям.
Став «суверенной», диктатура уже сама определяет
цели и задачи, с которыми собирается разобраться. Власт-
ные структуры и институции, которые до этого ограничи-
вали и сдерживали ее инициативы, и вся нормативная база,
на основе которой она ранее действовала, подвергаются те-
перь существенной перестройке. Любая революционная
диктатура по своей сущности выступает как суверенная
диктатура (суть дела не меняется, если ее называть суве-
ренной демократией, народной диктатурой или как-то
еще): лицо или группа лиц («штаб» — в терминологии
М. Вебера) осуществляет диктаторские функции, исполь-
зуя для этого рассеянные во властном пространстве «узло-
вые точки, или пункты, властной сети» (М. Фуко говорит
в этой связи о структурах власти как о принципиально де-
центрированных и лишенных иерархически привилегиро-
ванной точки образованиях).
Персонифицированный диктатор и абсолютный мо-
нарх еще сохраняли некоторые представления об индиви-
40 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
дуальном характере своего подданного; в «суверенной»
диктатуре безличностное начало становится превалирую-
щим, и тогда сами подвластные начинают выступать как
масса, инертная и аморфная. Этой массе соответствует и
структура вновь оформляющейся власти, она также пред-
ставляется аморфной и индифферентной (в смысле своего
целеполагания), и здесь как раз и вырисовывается та са-
мая грань, за которой власть каким-то незаметным обра-
зом превращается в господство. Власть теперь вещает от
имени некоего безликого «закона» или «разума», меняется
сам язык власти, место конкретных приказов занимают
столь же безликие предписания, а сопутствующая этому
преобразованию эмоциональная атмосфера начинает ха-
рактеризоваться чувством неопределенности, непредска-
зуемости и тревоги. Теологически сориентированные цен-
ности и принципы заменяются техническими координата-
ми и правилами, из техники рождаются совершенно новые
нравственность и сакральность, своим жестким предписы-
вающим стилем напоминающие догматы Средневековья
(например, такой языковой классический оборот, как «ра-
зум диктует», несомненно, перешел некогда из области
схоластики в сферу «естественного права», а затем и в об-
ласть политической философии). Иррациональность по-
литического поведения толпы, которой требуется управле-
ние и твердая рука, не позволяет говорить с ней языком
резонов, вести какие-то переговоры или заключать дого-
воры; государство организовывает ее подобно облекаемо-
му в форму материалу или объекту воздействия, и само
иррациональное представляется здесь только инструмен-
том рационального. Искусный государственный деятель
рассматривает человеческую массу именно таким образом,
4. Господство и диктатура 41
поэтому даже в макиавеллиевском «Государе» речь шла не
столько о моральном или юридическом обосновании поли-
тического абсолютизма, сколько о его рациональной тех-
нике.
Вообще же представление о диктатуре часто не толь-
ко связывалось в политической философии с идеей пре-
восходства разума, но и оказывалось также следствием
чисто технического интереса. Соответственно при поста-
новке проблемы диктатуры определяющим акцентом ста-
новились не юридические соображения легитимности, а
выделение принципа целесообразности, т. е. соответствия
применяемых средств, с точки зрения их эффективности,
поставленным вполне конкретным целям, которых требо-
валось достичь; «чисто технической концепции государ-
ства остается недоступна безусловная, не зависящая от
целесообразности собственная ценность права». В связи
с этим становится понятен и приоритет, придаваемый
именно исполнительной власти в теории и практике раз-
деления властей, чаще других властей претендующей на
диктаторскую исключительность. Исторически совре-
менное государство возникло из политической техники,
связанной с конкретными ситуациями, правильное испол-
нение «государственного интереса», этого «мистическо-
го» явления, вокруг которого очень скоро сложилась це-
лая «тайная» наука политики, в этой связи представляет-
ся только необходимой функцией, которая реализуется
вне какой-либо зависимости от государственно-правово-
го устройства государства-заказчика, особенно в ней ну-
ждающегося1.
1 См.: Шмитт К. Указ. соч. С. 29—32.
42 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
Именно государство как «произведение искусства»
(Якоб Буркхардт) на определенном этапе исторического
развития превращается из человеческого изделия в госпо-
дина, властвующего над человеком (Левиафан не машина,
но и не живое органическое существо, и именно эти его ка-
чества позволяют ему встать над человеком), ведь только
государство с его монопольным правом на причинение
смерти, т. е. реализацию предельной степени господства, в
состоянии претендовать на полную и тотальную власть
(или господство), осуществляемую как внутри своих про-
странственных границ, так и вовне, никакая иная претен-
дующая на власть частная корпорация не в силах это сде-
лать, если она только не помышляет полностью слиться с
государством. Государственное насилие изначально леги-
тимировано, что закреплено в самом факте существования
разветвленной институциональной системы его органов,
наделяемых правом принуждения. Наконец, только госу-
дарство оказывается реально и в достаточной степени цен-
трированным образованием (даже «княжеский абсолю-
тизм» периода раздробленности представлял собой не что
иное, как конгломерат достаточно центрированных госу-
дарственных единиц, рассыпанных в пространстве, не ор-
ганизованных в тотальное единство, но обладающих, каж-
дое в отдельности, собственным «автономным» центром
власти и управления), способным последовательно и целе-
направленно наращивать свою власть, доводя ее в идеале
до степени господства.
До настоящего времени сама идея тотальности была
присуща лишь государственным субъектам (в XX в., од-
нако, эти устремления были отмечены также у массовых
4. Господство и диктатура 43
политических партий и транснациональных хозяйственных
корпораций), государство само выбирает те формы воз-
действия, при помощи которых оно удерживает подвласт-
ных в том состоянии, которое оно может обеспечить и ко-
торое для него приемлемо. Оно сознательно и просчитан-
но допускает даже существование в своих собственных
недрах так называемого гражданского общества и легаль-
ной оппозиции, элементов, часто ассоциируемых с демо-
кратическим правлением, что, однако, не меняет общего
характера установившихся властеотношений. Легитим-
ность господства подвергается серьезной угрозе лишь то-
гда, когда на свет появляется нелегальная или неофициаль-
ная оппозиционная режиму сила, и только симптомы рево-
люции указывают на настоящий кризис власти.
Поскольку признание легитимности (в частности, ха-
ризматического лидера как фигуры, наиболее склонной к
притязаниям на господство) является долгом для подвла-
стных, то даже при всевозрастающей рационализации от-
ношений, которую М. Вебер считал главным противове-
сом постоянно усиливающейся авторитарности, неизбеж-
но появляется мысль о том, что такое признание, вместо
того чтобы считаться следствием легитимности, может
рассматриваться как ее основание. Другими словами, как
только подвластные начинают задумываться об истоках и
правомерности проявления господства, его монолитность
дает трещину и оказывается под угрозой.
Однако если господство по своей природе в основном
иррационально (поскольку базируется на укорененной в
натуре человека «воле к власти» и его же склонности к
подчинению), то диктатура всегда рационально обоснова-
на (нуждами общества, достоинствами, приписываемыми
44 Глава 1. Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности
диктатору, нормативными мотивировками и др.) и при
этом в рациональной легитимации особенно нуждается
так называемая комиссарская диктатура, призванная ре-
шать конкретные задачи, и только ее превращение в дик-
татуру суверенную существенным образом расширяет гра-
ницы стихийности и иррационального, которые стре-
мительно вторгаются в пространство этого, по сути
переходного, политике-правового порядка. Зато режим
господства менее всего озабочен оправданием собственно-
го существования, в нем нет места для дискуссии и диало-
га, объект подчинения здесь странным образом растворя-
ется в субъекте господства, поскольку тотальность всегда
предполагает подобное слияние субъект—объекта в бес-
конечной континуальной целостности. Таким образом,
диктатура вполне ассоциируется с властью как функцией
и состоянием, диктатура — это реализация власти, одна
из ее многочисленных форм и ипостасей, в которой рас-
крываются потенции власти; в господстве же власть
трансформируется в свое новое статическое состояние, за-
стывая в нем, как расплавленный металл застывает в при-
готовленной для него форме... Здесь власть устанавлива-
ется навсегда, и этот факт не требует никаких особых объ-
яснений и оправданий.
Насколько реальной является опасность превращения
власти, существующей в той или иной конкретной форме и
конкретном обществе, в бесформенное господство, кон-
кретность типа которого уже не будет иметь особого зна-
чения при определении его границ? Будет ли это господ-
ство рационально легитимированным, традиционным или
харизматическим (вовсе не исключено, что уже где-то су-
ществуют или могут проявиться и какие-то новые его ти-
4. Господство и диктатура 45
пы), неважно, ведь господство — это всегда и только гос-
подство.
Разум, безусловно, может в некоторых немногочис-
ленных случаях достаточно ясно предвидеть возможность
подобного превращения, почувствовать его приближение и
распознать его симптомы. Но он, как показывает вся наша
история, не в состоянии ни объяснить их появление, ни
предотвратить их, ни, тем более, предложить какой-либо
достойный альтернативный вариант решения этой пробле-
мы, чаще всего он с готовностью и вполне логично обосно-
вывает и оправдывает только те шаги, которые власть тай-
но или открыто и явно, постепенно или путем революцион-
ных скачков уже делает по тому пути, о конечном пункте
которого рефлексирующий разум даже и не хочет думать.
Во всяком случае, власть слишком часто демонстрирует
нам устойчивую тенденцию своего окончательного превра-
щения, которое, несмотря на все усилия, сдержки и проти-
вовесы, противопоставляемые ему обществом, все же име-
ет вероятность наступить в исторически обозримом буду-
щем.
Глава 2. ЛЕГАЛИСТСКАЯ ДИАЛЕКТИКА
ОТНОШЕНИЯ «ГОСПОДИН—РАБ»
У Г. В. Ф. ГЕГЕЛЯ
1. Господство и разум
Персоналистический аспект господства наиболее рельеф-
но проявляется во взаимоотношении пары статусов, кото-
рые могут быть определены как «господин» и «раб».
С юридической точки зрения рабство является предельной
степенью подвластного состояния, дальше идет только
смерть, наступающая как результат волеизъявления гос-
подина. Описывая отношения господства в этих терминах,
мы получаем возможность приблизиться к двум крайним
точкам его семантической границы, допуская при этом су-
ществование в установленных пределах также множества
иных, в этой связи становящихся промежуточными, стату-
сов и категорий, которыми определяются все переходные
стадии властвования и господства.
Социальная и правовая дифференциация, в результате
которой «господин» отделяется от «раба» и между ними
сохраняется непреодолимая дистанция, тем не менее не
только не исключает, но и, более того, подчеркивает не-
разрывную связь между двумя этими статусами, в которой
один без другого не может существовать. Способ установ-
ления такого различия не имеет при этом особого значе-
ния — будет ли это захват, рождение или какие-либо
иные исторические конкретные обстоятельства (разделе-
ние на «господ» и «рабов» оказывается явлением более
глубоким), — такое противоположение выявляется не
1. Господство и разум 47
только на экономическом, политическом и правовом уров-
нях, но и на уровнях психологическом и метафизическом.
«Господство—рабство» может быть установлено как от-
ношение коллективное и групповое или сугубо индивиду-
альное, сам тип господства от этого существенно не меня-
ется (хотя его юридические характеристики и подвергают-
ся изменениям); Аристотель, пожалуй, одним из первых
обратил на это внимание, связав отношения господства
как с фактом обладания определенным «знанием», так и с
некоторыми естественными обстоятельствами; проводя
различие между властью государственного мужа и вла-
стью господина, он подчеркивал, что власть второго —
это власть над рабами, и обеспечивается она отнюдь не
знанием, а только природными свойствами самого госпо-
дина. Такая форма властвования естественна в смысле ее
природного, а не конвенциального характера: как душа
отличается от тела, над которым она властвует, так и гос-
подин по природе своей отличается от раба; природный
характер обоих статусов смягчает существующую между
ними напряженность: для рабов «по природе» быть в под-
чинении у господ — лучший удел, «ведь раб по приро-
де — тот, кто может принадлежать другому (потому он и
принадлежит другому) и кто причастен к рассудку в такой
мере, что способен понимать его приказания, но сам рас-
судком не обладает». (Вместе с тем возможно и рабство
по закону, здесь выступающему своего рода соглашением,
в силу которого все захваченное на войне называют собст-
венностью завладевшего им.)
Таким образом, «по природе» полезно и справедливо
одному быть и оставаться в рабстве, а другому господство-
вать, отсюда следует норма, согласно которой один должен
48 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
подчиняться, а другой — властвовать и осуществлять вло-
женную в него самой природой власть так, чтобы быть и ос-
таваться господином; однако, оговаривается Аристотель,
«дурное применение власти не приносит пользы ни тому, ни
другому: ведь, что полезно для части, то полезно и для це-
лого, что полезно для тела, то полезно и для души, раб же
является некоей частью господина, как бы одушевленной,
хотя и отделенной частью его тела»1. (Эту диалектику «гос-
подство—рабство» Г. В. Ф. Гегель позже разовьет в кон-
тексте взаимодействия «всеобщего—единичного».)
Платон в системе отношений «господство—подчине-
ние» приоритетно выделял ее функциональные аспекты,
связывая статусы «господина» и «раба» с возможностями
каждого из них соотноситься с определенным видом дея-
тельности, прежде всего с использованием «знания» (ду-
ховной деятельности) или применением физического тру-
да. Во всяком случае, оба статуса оказывались обременен-
ными тем или иным видом деятельности, и труд в самом
широком смысле этого слова становился определяющим
признаком существования полисного человека, такая фор-
ма существования могла приобретать вид мудрости, спо-
койного размышления или эстетического переживания, но
могла также выражаться в тяжелых и принудительных фи-
зических усилиях.
Разнообразные формы труда составляли бытийную
часть жизни полиса, т. е. часть самой политики, вклю-
чающей наряду с трудовыми усилиями и размышлениями
на политические темы также административно-управлен-
ческую деятельность и властные акции; способ деятель-
1 Аристотель. Соч. М., 1984. Т. 4. Политика. С. 386.
1. Господство и разум 49
ности, которую лицо осуществляло в пределах полисного
континиума (выстраивавшегося в собственном простран-
стве и времени), определял его положение и статус внут-
ри самой системы властвования, в соотношении с пози-
циями господства или подчинения. Весь политический
процесс складывался из этих элементов, и для Платона
было очевидным, что даже «начинание» и продолжающее
«действие» как отдельные стадии политического процесса
превращаются в этой перспективе в отличные друг от
друга по качеству и существу занятия, начавший его, этот
процесс, становится «властителем», который не исполня-
ет чего-либо, не осуществляет «рутинной» деятельности
сам, а только властвует над теми, кому исполнение пору-
чено и вменено в обязанность. В этой ситуации собствен-
но «политическое» редуцируется к искусству (Платон
показывает это на примере искусства ткачества), люди
делятся здесь на тех, кто «знает и не делает», и тех, кто
«делает и не знает, что делает», тем самым разрыв между
«знанием» и «деланием» начинает отождествляться с
символической и правовой дистанцией, отделяющей вла-
стителей от подвластных; для греческого понимания «по-
литии» отношения «господства и подчинения» были так-
же заведомо тождественными отношениям господина и
раба.
По мнению X. Арендт, требование Платона выводить
правила поведения в публичных делах из отношений госпо-
дина и раба сводилось прежде всего к тому, чтобы априори
исключить сам поступок как таковой, как «внешний» факт
и свободное действование, из всего хода дел человеческих;
более того, платоновские категории «господства» касались
аспектов и многих вещей, заимствованных из нравствен-
50 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
ной сферы; всякое упорядочение и обсуждение всех без ис-
ключения человеческих дел и отношений у Платона было
подчинено неизменным законам властвования и подвласт-
ности. Так, когда он толкует о том, что «буквы», из кото-
рых складывается государство и закон, «прочерчивают не
что иное, как расширенную проекцию устройства челове-
ческой души», в точности по своей архитектонике совпа-
дающей с публичным устройством его утопической рес-
публики, становится совершенно очевидным, что он тем
самым возводит категорию господства в фундаментальный
принцип обращения человека с самим собой, поэтому овла-
дение собой как раз и становится главной предпосылкой
для господства над другими и над целым миром1.
Политическое разделение «знания» и деяния, с одной
стороны, и отождествление «знания» с господством, а
действия — с повиновением — с другой, оставалось весь-
ма долгое время основой для различных теорий господства
и вновь было переформулировано уже в гегелевской диа-
лектике взаимоотношений господина и раба. Слоганы
«знание — власть» или «знание — сила» станут лозунга-
ми нововременной политической философии, окончатель-
но связавшей монополию на «знание» с правом на господ-
ство и перенесшей умозрительный центр властвования с
политических механизмов и регуляторов на собственно
технические институции. В утрате политического, состав-
лявшего сущность полисного существования, современные
исследователи увидели главную опасность, угрожающую
социуму со стороны феномена господства, его персонифи-
цированная форма, тирания, активно прокладывала путь
1 См.: Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. С. 296—
298.
1. Господство и разум 51
для еще более жесткой и безапелляционной формы власт-
вования; и захват тиранией под свой контроль публичной
сферы (что представляется X. Арендт определяющей тен-
денцией в этом процессе) еще не был в состоянии привес-
ти к установлению окончательного режима господства.
Напротив, пока сохранялись отдельные сферы частной
компетенции, процесс тотализации еще не являлся закон-
ченным, и лишь после воцарения тотальной публичности и
слияния воедино всех отдельных сфер регулирования мож-
но было говорить о его завершении. Символом такого пол-
ного господства становилась тем самым не единоличная
власть персоны — настоящее господство может осущест-
влять только безликая и анонимная, но беспредельно мо-
гущественная власть, приобретающая некие черты транс-
цендентности и располагающаяся где-то за пределами
земного и человеческого бытия.
X. Арендт полагала, что весьма характерным для ти-
рании является отнюдь не жестокость (может существо-
вать и «мягкая» тирания), а уничтожение ею публичной
политической сферы, тиран, рассчитывая на собственную
политическую мудрость и из жажды власти, монополизи-
рует ее для себя, предоставляя гражданам только заботу о
своих частных интересах, сам же принимая на себя заботу
о публичных делах. Тирания всегда выдвигает одно очень
соблазнительное предложение: стабилизировать человече-
ские обстоятельства путем установления неполитического
порядка вещей; уже роль традиционного понятия господ-
ства, соответствующего представления о том, что «вся по-
литика есть форма господства и к существу правового го-
сударства принадлежит упорядочение господства и подчи-
нения, повелевания и повиновения на основе позитивных
52 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
законов», весьма характерна для всей постплатоновской
политической философии.
И у Платона, и у Аристотеля постоянно проводится
мысль о том, что всякая политическая общность необходи-
мо состоит из властителей и подчиненных, и именно на ней
и основываются все дефиниции государственных форм,
будь то господство одного, или монархия, господство мно-
гих, или олигархия, господство множества, или демокра-
тия; и, как представляется, эта традиция была основана
«даже не на презрении к людям, а на вполне обоснованном
недоверии к человеческому действию и на вытекающем
отсюда стремлении сделать это действие излишним»1.
X. Арендт тем самым связывает политическое действие с
самой сущностью политического, а исчезновение того и
другого — с давлением господства, базирующегося ис-
ключительно на «знании»; у Платона именно господство
«знающих» («философов») определяет весь внутренний
строй политического существования его государства, при-
ближая его к идеалу и справедливости. Разделение на гос-
подствующих и подвластных у него не было непосредст-
венно связано ни с формой правления, ни с политическим
режимом его «республики», но вырастало из самой поли-
тической антропологии философа: господин и раб появи-
лись одновременно и от этого не могут существовать друг
без друга, точно так же «знание» беспочвенно без дейст-
вия и деятельности, а производство и производительность
бесцельны без «знания»; душа и тело, разум и воля так же
неразрывны и синхроничны в своем существовании, как
«властитель» и «подвластный».
1 Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. С. 293—294.
1. Господство и разум 53
Первичность духа и воли по отношению к косной ма-
терии естественным образом соотносилась со статусом
«господина», повелевающего «рабом». «Знание» как неиз-
менное и стабильное состояние превосходства возвыша-
лось над спонтанной, суетливой, находящейся в постоян-
ной динамике деятельностью, статус «господина» соответ-
ственно выступал здесь как нечто уже достигнутое, завое-
ванное и абсолютное, при этом «рабу» снисходительно
предоставлялась возможность дальнейшей деятельности и
работы. Более того, именно непрерывность «рабской»
деятельности позволяла «господину» сохранять уже дос-
тигнутые им невозмутимое спокойствие, статичность и да-
же гедонистское бездействие. Труд, рабский, малоинте-
ресный для господина, обеспечивал ему возможность пре-
даваться удовольствиям, честолюбивым мечтаниям и
героическим забавам.
Ведь «знание» или «мудрость» могут формироваться
только в таких условиях, в которых их носители освобож-
дены от принудительного труда, и в политической антропо-
логии уже давно сложилось представление о том, что край-
не малой является вероятность того, что человек сам добро-
вольно склонится к труду как к правильному, длительному
и неприятному усилию. Всегда оказывалось необходимым
некое внешнее давление на него, суровое и часто жестокое
принуждение, чтобы путем большого ряда поколений по-
степенно привить ему побуждение к труду и сделать труд
естественной потребностью. Социальное разделение труда
означает в своей основе «разъединение господ и рабов. Пе-
редача низших и более суровых жизненных усилий подчи-
ненной расе путем принуждения и господства, посредством
которых раб делается личной и вещественной собственно-
54 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
стью своего господина, была необходимым условием для
создания высшей политической и духовной жизни господ-
ствующей аристократии». Свобода, которую в этой ситуа-
ции получали господствующие классы, покоилась прежде
всего на «воле к власти», которую они выражали, этим же
были созданы и условия для существования индивидуаль-
ной личности, способной возвыситься над массой и создать
для себя право признания; психическое различие между
физической и духовной работой могло возникнуть только в
результате установления таких социальных дистанций и ог-
раничений в условиях существования, так как «господство
над природой возможно только посредством общественно-
го господства над человеком и его рабочей силой». С этим
был связан и правовой дуализм, имевший место в самом
статусе раба: с формально-юридической точки зрения раб-
ство признавалось юридическим фактом, тогда как с точки
зрения «естественного права», на чем особо настаивали со-
фисты и стоики, а вслед за ними — и римские юристы, та-
кие как Флорентин и Ульпиан, рабство рассматривалось
как противоестественное состояние1.
Разум, воспаривший над природой, демонстрировал
здесь свой неизбывный дуализм: отношения «господ-
ства — рабства», с одной стороны, носили межчеловече-
ский, межперсональный характер и были обусловлены лич-
ными качествами обоих субъектов отношений (знание, сила
против невежества и слабости), с другой же — объективи-
ровались, превращаясь по сути в отношения между «веща-
ми», статусами, точками «размытого множества», состав-
лявшего социальное пространство. Разум, главное дейст-
1 См.: Волътман Л. Политическая антропология. М., 2000.
С. 292—293.
2. Господство и труд 55
вующее лицо в гегелевской диалектике, указывал вместе с
тем и на то неразрывное единство, в котором сосуществова-
ли оба персонажа социальной драмы: свобода не могла су-
ществовать без присутствия и реализации господства и при-
нуждения, ибо эти последние освобождали для нее необхо-
димое место и время, господин и раб выступали здесь как
асимметрично представленные половинки одной социаль-
ной монады, и Г. В. Ф. Гегель раскрывал отношения «гос-
подства—рабства» как отношения, каждая сторона кото-
рых признавала, что обладает своей сущностью в другой, в
результате чего противоположение субъекта объекту здесь
полностью исчезало1. Процесс «овеществления» проявлял-
ся в преобразовании собственно межчеловеческих отноше-
ний в отношения между вещами; и эта объективация допол-
нялась еще одним важным обстоятельством: разум, вместо
того чтобы действовать через человека как созидательного
носителя власти, просто-напросто начинал господствовать
над ним, поэтому, когда Гегель отождествлял «право разу-
ма» с «естественным правом», эта формула приобретала
довольно мрачный смысл2.
2. Господство и труд
Тотальность господства обусловлена и одновременно обес-
печивает тотальность труда. Труд становится той средой
обитания, в которой уничтожаются персональные разли-
чия между господством и подчинением, которая объединя-
1 См.: Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. § 21, 23.
2 См.: Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление соци-
альной теории. СПб., 2000. С. 257.
56 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
ет их, превращает из личностей в функции. Именно здесь
действие, деятельность становятся определяющими, а
«знание», рефлексия, «мудрость» отходят на второй план.
Труд объективирует все общественные связи, сам разделя-
ет людей в соответствии со своими имманентными законо-
мерностями, и «знание» утрачивает свои преимущества
перед деятельностью, превращаясь в производительную
силу и товар.
Устремленность к свободе и истине под воздействием
прагматических факторов бледнеет, уступая место целесо-
образности, производительности и загадочно неопреде-
ленной идее «прогресса». Однако до этой стадии сознания
разум доходит не сразу, а в процессе длительной борьбы
со стоящими на его пути препятствиями в виде традиции,
мудрости и творчества. Г. В. Ф. Гегель в своей дедукции
отношения «раб—господин» называл труд «заторможен-
ным вожделением»: всякое «я» распадается на «я», стре-
мящееся к наслаждению, т. е. «я» господина, и на другое
«я», трудящееся на него, «я» раба. В то время как оба су-
ществуют благодаря труду, последнее «я» обречено только
на рабство, которое заторможено в своем «вожделении»
именно в труде; поскольку именно благодаря торможению
вожделения его предмет становится очевидным и в резуль-
тате этого постигается другими, то именно благодаря тру-
ду и возникает господство. Два «я», стремящееся к наслаж-
дению и трудящееся, определяются друг другом, и в этой
борьбе они должны подтвердить самих себя. «Я», которое
получает, — это господин, и поскольку он возникает как
победитель, то получает свою свободу и свое самосознание
для наслаждения; хотя раб также есть «я» и также облада-
ет самосознанием, однако поскольку подвержен опасности
2. Господство и труд 57
смерти, он вынужден трудиться на господина и поэтому в
принципе не является свободным.
«Два образа, с помощью которых Гегель демонстри-
рует имманентное труду определение как господство и
рабство, воспроизводят не какую-то определенную исто-
рическую ситуацию, нет, это метафоры выведенного из
феномена труда антагонизма». Господство у Г. В. Ф. Геге-
ля соответствует античному идеалу, который только в тео-
рии видел высшую форму практики; Гегель точно так же
видит причину возникновения господства в мышлении, и с
этого времени западноевропейская метафизика начинает
рассматривать собственно идею и разум как подчиняющие
себе все сущее порядок и власть, и поскольку разумом ох-
вачено все сущее, то, согласно Гегелю, «все фактические
формы господства и рабства имеют своим основанием са-
модостоверность и самоотчуждение мышления». Там же,
где господство становится самопорабощением, противопо-
ложность господства и рабства утрачивается, поскольку
здесь уже отсутствует рабство, реально отличающееся от
господства. Достижение этой цели Гегель рассматривает
как заслугу духа, причем распадение на образы господина
и раба представляет для него лишь остановку на пути духа
к самому себе1.
В трактовке Г. В. Ф. Гегеля истинное господство
раскрывает свою подлинную сущность только на этапе
истории, на котором господин порабощает раба; госпо-
дин — это тот, кто дошел до конца в борьбе за призна-
ние и рисковал жизнью для того, чтобы доказать собст-
венное абсолютное превосходство над рабом, тем самым
1 См.: Хофмайстер X. Что значит мыслить философски. СПб.,
2006. С. 372—374.
58 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
предпочитая биологической жизни нечто идеальное и ду-
ховное. Господин, сумевший заставить раба признать себя
в качестве господина, сумеет тем самым также заставить
его работать на себя, чтобы присваивать результаты его
деятельности. Однако признание раба господином еще не
означает признания его человеком (раб на этой стадии
исторического развития юридически человеком еще не
является), для того чтобы добиться признания человеком,
необходимо признание со стороны какого-то другого гос-
подина, над которым также должно быть установлено
господство, — отсюда та тупиковая ситуация, в которой
оказывается господин, настаивающий на признании раб-
ства и подчиненности от того, кто сам был рожден госпо-
дином и никогда не будет рабом.
Таким образом, легитимирование господства на этой
стадии исторического процесса в полной мере основывает-
ся на насилии и силе, а сам акт признания является скорее
антропологическим, чем юридическим по своей сути. Да-
же нормы «естественного права» не играют здесь никакой
особой роли, и ситуацию определяет лишь одно соотноше-
ние фактических сил. Но реализация господства с необхо-
димостью требует своей легализации и правового обосно-
вания. Из области природного и биологического и госпо-
дина, и раба выводит их обращение друг к другу как двух
вполне сопоставимых и соединенных взаимным соотноше-
нием статусов субъектов, их объединяет некий общий код,
символическая система, вторичным уровнем которой и
становится позитивное право: чтобы сохранить свое суще-
ствование перед угрозой смерти (в непрерывной войне —
для господина, в результате неповиновения — для раба),
оба должны легитимировать свои статусы.
2. Господство и труд 59
Гегель считал, что господство при всей своей тупико-
вости исторически оправдано: господин появляется только
ради появления раба, он только катализатор истории, ко-
торую призван, однако, осуществить именно бывший раб,
становящийся гражданином. Когда-то раб стал рабом, ис-
пугавшись смерти и продемонстрировав свою зависимость
от природы и господина, преодолевшего эту природу,
страх оправдывает его зависимость от господина, благода-
ря страху раб испытал ужас перед метафизическим «ни-
что» или собственным уничтожением, вся его жизнь была
посвящена преодолению смерти — и это дает ему знание
сущности человека. Наряду с этим раб усваивает некото-
рые рациональные понятия и идеи, тем самым подавляя
инстинкты, но способность преобразовывать данное при-
родой, руководствуясь неестественной идеей, означает
прежде всего умение и склонность использовать технику
(поскольку деятельность осуществляет именно раб, то
техника становится именно его инструментом).
Вообще же для раба труд означает то же самое, что
для господина смертельный риск, тот и другой избавляют-
ся посредством этих факторов от прямой природной зави-
симости, изменяя природу согласно собственной идее,
т. е. используя мышление, рожденное трудом, и тем са-
мым приобретая свою свободу1. Деятельность в форме
труда, которая в древности ассоциировалась с рабским со-
стоянием, порождала и сопровождала его, своими произ-
водительными результатами конденсирует в вещах твор-
ческую свободу, приобретаемую рабом в самом процессе
труда. Дальнейшее совершенствование и усложнение тех-
1 См.: Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб., 1992.
С. 102—106.
60 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
ники, которой он при этом пользуется, накапливает потен-
циал его будущей независимости от господина, в это же
время пребывающего в статичном, неподвижном и нераз-
вивающемся состоянии, в котором он остается полностью
сосредоточенным на своих воинственных устремлениях и
амбициозных вопросах превосходства и чести. Свое отно-
шение к рабу господин по-прежнему оценивает как ста-
бильное и доминирующее, и мир с точки зрения его кон-
сервативного восприятия остается для господина неизмен-
ным. Однако трудовая деятельность в корне изменяет
этот мир, и поскольку он изменяется в результате работы
раба, то изменяется и он сам, находящийся в нем госпо-
дин, более того, в конечном счете только раб и может из-
менить господина; Гегель подчеркивает, что все историче-
ское становление человеческого существа есть дело раба-
труженика, а не господина-воина, «конечно же, без Госпо-
дина не было бы Истории. Но это так только потому, что
без него не было бы Раба и, значит, Труда»1.
Благодаря только своему труду раб возвышается до
абстрактной идеи свободы, однако еще не в состоянии ре-
ально воплотить ее в жизнь, вместо этого он создает для
себя целый ряд идеологий, которые служат ему оправдани-
ем рабства, примиряя идеал свободы с фактом рабства:
первая из них — стоицизм, который внушает рабу мысль о
том, что он действительно свободен, потому что знает, что
он свободен; ему достаточно одной идеи свободы, как го-
ворит Г. В. Ф. Гегель, так как «свобода здесь отождеств-
ляется со свободомыслием». Перемещение экзистенциаль -
ности рабского состояния в мыслительный план из сферы
1 КожевА. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 219—227.
2. Господство и труд 61
реальной деятельности, которая являлась основным про-
странством этого существования, интенсификация интел-
лектуальной составляющей этого состояния меняют саму
сущность рабского статуса: трудовая деятельность допол-
няется осознанием, т. е. самосознанием труженика, кото-
рое открывает ему пусть иллюзорный, но путь к свободе.
Индивидуалистическое самосознание формирует
внутренний мир трудящегося, изолированный и закрытый
для внешнего насилия и воздействия, в этом мире раб чув-
ствует себя ничем не уступающим своему господину, рав-
ным ему по праву и по качествам, и это уже само по себе
восстание против рабства, скачок из «царства внешнего
насилия» в «мир внутренней свободы». Но только внут-
ренней. В скептическом солипсизме мысленно отрицается
все, что не является индивидуалистическим «я», отрицает-
ся радикально и глобально, и такое отрицание реального
мира рабским сознанием, по мысли Гегеля, незаметным об-
разом перетекает в новую, уже христианскую идеологию.
Именно в ней раб находит адекватное оправдание своему
рабскому существованию, сам будучи убежденным в том,
что всякое существование неизбежно заключает в себе
противоречия; он воображает себе некий иной мир, по ту
сторону мира чувственного и природного, в этом же по-
следнем для него нет ничего, кроме рабства, даже господин
раба здесь — такой же раб, как и он. В мире же потусто-
роннем свобода представляется реальной, и что самое при-
ятное, там нет нужды бороться за нее с господином, в си-
туации рабства перед единственным Господином в том ми-
ре все равны между собой. «Без борьбы, без усилий
осуществляет Христианин идеал Раба: он обретает в Боге
и от Бога... равенство с Господином, неравенство отныне
62 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
лишь видимость, как, впрочем, и все остальное в этом чув-
ственном мире, где правят рабство и господство»1.
Христианство открыло новые перспективы для труда,
начертав картину освобождения от его тягот и принуди-
тельности (наиболее красочно эту перспективу нарисовал
Франциск Ассизский с его ярко выраженной «мистиче-
ской беззаботностью»). Однако раб не может перестать
быть рабом, пока не изживет в себе страх смерти и жела-
ние во что бы то ни стало сохранить свою жизнь, т. е. те
самые человеческие устремления, которые не в состоянии
преодолеть даже сублимированное из них желание вечной
жизни, поэтому Г. В. Ф. Гегель и связывает это последнее
с той тоской, которую раб испытывает перед лицом мета-
физического «ничто», рождающейся из неспособности
взять на себя неизбежное условие любого человеческого
бытия — смерть и конечность. Свободного человеческого
существования не может быть без борьбы, в которой надо
рисковать жизнью, т. е. без смерти, без сущностной ко-
нечности человека, — господин это ясно понимает, и, мо-
жет быть, и раб понимает, но только не может осущест-
вить. Чтобы раб перестал быть рабом, нужна революция,
которая изменит не только сущность раба, но и само суще-
ство труда и господства.
3. Господство как «удовлетворение»
Александр Кожев, пожалуй, самый оригинальный из со-
временных комментаторов гегелевской политической диа-
лектики, видел способ восполнения «ущербности» христи-
1 Кожев А. Указ. соч. С. 230—231.
3. Господство как «удовлетворение» 63
анской идеологии в освобождении рабского сознания от
самой идеи абсолютного господина и от трансцендентного
вообще, в переносе сознания и представления о свободе в
посюсторонний мир, а следовательно, в конечном приня-
тии идеи смерти и атеизма. Только окончательно «снимая»
христианскую теологию, человек перестает быть рабом и
может осуществить ту самую идею свободы, которая была
порождена христианством и сохранялась в нем в качестве
идеала. Если первое рабство раб сотворил себе ценой сво-
ей биологической жизни, которую он таким образом спа-
сал, то «вечное рабство» перед Господом он принял как
цену своей «вечной жизни», главной движущей силой
идеологии «двух миров» и причиной раздвоенности чело-
веческого существования становилось желание жить во
что бы то ни стало, как раз и сублимированное в желание
«вечной жизни».
Атеистическая революция, возвращающая человека
на землю, должна была «снять» и эту проблему. По
Г. В. Ф. Гегелю, Французская революция в основном за-
вершает развитие христианского мира, двигавшегося по
направлению к атеистическому осознанию сущностной ко-
нечности человеческого существования. Но для реального
упразднения христианства революции было необходимо,
чтобы христианский идеал все же был осуществлен хотя
бы в виде некоего, пусть «иного» мира, т. е. требовалось
понять, каким образом «языческий мир господства мог
стать христианским миром рабства» без борьбы между
господами и рабами, без того, что как раз и называется ре-
волюцией. В противном случае, при условии его вступле-
ния в борьбу, раб сделался бы свободным тружеником, ко-
торый борется и рискует своей жизнью, что совсем не ха-
64 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
рактерно для раба, он перестал бы быть собственно рабом
и, следовательно, не смог бы создать христианский и раб-
ский в своей сущности мир.
Г. В. Ф. Гегель рассматривает эту проблему уже в
контексте существования языческого государства: это есть
государство и общество господ, только их оно и признает
гражданами, главная забота для которых — война; работа
же — это идеал и удел рабов, находящихся вне государст-
ва и общества. Поэтому и государство как целое — это
также государство-господин, которое, как и индивидуаль-
ный господин, видит смысл своего существования не в
труде, а в престиже и войнах «престижного характера»,
которые оно ведет ради утверждения своего суверенитета,
своего верховенства над другими государствами, своей
деятельностью оно способно воплотить в жизнь только
важнейший для него момент всеобщности человеческого
существования, т. е. идею «мировой империи». Диалекти-
ка всеобщего и единичного здесь как бы дополняет диа-
лектику господства и рабства, где всеобщее соответствует
господству, а единичное — рабству: всеобщее, или то-
тальность, тождественно государству, которое теперь на-
чинает олицетворять собой господство, все более и более
стремящееся стать полным; тотальности, всеобщности го-
сударственной идеи, противостоит индивидуалистическая
идея единого, она выражает инстинктивное, бессознатель-
ное сопротивление господству. Это сопротивление в пер-
спективе будет преодолено только хитрым приемом все-
мирного разума, всемирное гомогенное государство, кото-
рому предстоит появиться (Гегель увидел его зародыш
уже в наполеоновской империи), выступит как своеобраз-
ный синтез всеобщего и единичного, как новое индивидуа-
3. Господство как «удовлетворение» 65
лизированное единичное, это государство-индивид (но-
вый Левиафан?) и будет призвано разрешить эту вечную
проблему и открыть дорогу для победного пришествия
всемирного господства. Характерно, что причиной тому и
станет именно революция.
Существование раба, как и его трудовая деятельность,
ограничено моментом чистой единичности, ведь именно
трудом устанавливаются различия между людьми как лич-
ностями и единичностями. Г. В. Ф. Гегель считал, что
именно «раб-труженик», а не «господин-воин» начинает
осознавать себя личностью и придумывает «индивидуали-
стические идеологии», в которых абсолютная ценность
также приписывается единичности, а не всеобщности, го-
сударству как таковому. В языческом государстве труд от-
торгался; поскольку единственным критерием человечно-
сти там была признана готовность бороться и рисковать
жизнью, то и жизнь государства обязательно должна бы-
ла быть военной, а победоносные войны в итоге должны
были привести к появлению такого образования, как импе-
рия; со временем император оказывался вынужденным
прибегать к услугам наемников, и в один прекрасный мо-
мент выяснялось, что сами граждане уже не обязаны вое-
вать, — вот тогда-то они и становились добычей своих
партикуляристских устремлений, превращались в частных
лиц, единичности; это означало также и их превращение в
рабов государя, в связи с чем и соответственно бывшие
господа с готовностью принимали мистическую идеологию
своих рабов — стоицизм, скептицизм, христианство, раб-
христианин сменил господина-язычника, сделав это без
борьбы и революции. Но новые рабы — это только
«псевдорабы» или «псевдогоспода», они не работают, как
66 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
рабы, но и не рискуют жизнью, как господа; тем не менее
старая оппозиция рабства и господства оказывалась сня-
той, в «рабстве без господ» произошло соединение, сфор-
мировавшее псевдогосподство1.
Войну, риск и смерть, первоначально столь характер-
ные для языческого господина, языческое государство
принимает на себя. Война признает тотальность и целост-
ность, но игнорирует индивидуальность, даже герой вы-
ступает в ней (как и в революции) прежде всего только в
виде символа и знака, а не особенной живой и конкретной
личности. Человеческая значимость, которая утверждает-
ся в такой борьбе, по сути своей безлична, как безлично и
господство, и поскольку государство господ признает
только того, кто рискует ради него жизнью на войне, и
знает только всеобщее, то и граждане этого государст-
ва не кто иные, как граждане вообще. (Теодор Адорно в
работе «Негативная диалектика» в разделе о Гегеле и гос-
подстве заметил, что, если людям однажды открыть «мо-
гущество и всевластие всеобщего», оно тотчас же превра-
тится для них в нечто возвышенное, в «дух», который за-
тем им приходится усмирять и обуздывать, — тогда и
само принуждение приобретает для них смысл, и в этом
заключена манящая и зловещая притягательность всеоб-
щего.)
В отличие от язычества, этой религии и государствен-
ности господ, «граждан-воинов», для которых подлинным
значением обладало только всеобщее, значимое всегда и
для всех, христианство как «религия рабов и подданных-
буржуа» придает абсолютную значимость именно единич-
1 См.: Кожев А. Указ. соч. С. 238—239.
3. Господство как «удовлетворение» 67
ному. Гегель видит в этом прежде всего реакцию партику-
лярного, семейного и рабского начал на языческий универ-
сализм. Кроме того, уже в самом христианстве заключена
некая идея синтеза единичного и всеобщего, т. е. господ-
ства и рабства, и именно здесь открывается выход из тра-
гедийной ситуации, неразрешимого конфликта язычества.
Г. В. Ф. Гегель подчеркивает при этом, что истинно хри-
стианский синтез должен осуществиться не в потусторон-
нем мире, но здесь, на земле, и не после смерти, а при
жизни человека, а это значит, что «всеобщее потусторон-
нее... в котором обретает признание единичное, должно
уступить место такому всеобщему, которое имманентно
миру».
Для Гегеля этим имманентным всеобщим может быть
только государство, и именно в этом «земном царстве»
должно осуществиться то, что христианство предполагало
осуществить в «царстве небесном», — синтез всеобщего
и единичного, раба и господина, борьбы и труда. Взамен,
однако, требуется отказ от христианской трансцендентно-
сти, идеальной эволюции христианства, спускающей, по
словам Гегеля, небо на землю. Реальная же эволюция
христианства подготавливает вполне реальные социаль-
ные и политические условия для установления «абсолют-
ного» государства. Французская революция как раз и
стала итогом такой эволюции, когда имманентная идея ин-
дивидуальности, разработанная атеистическими интеллек-
туалами эпохи Просвещения, становилась действительно-
стью в борьбе буржуа-труженика. Буржуа не раб и не
господин, он «раб самого себя» и поэтому должен прежде
всего освободиться от себя самого. Гегель замечает, что
здесь «освобождающий смертельный риск перестает быть
68 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
риском на поле брани... Трудящийся буржуа, став рево-
люционером, сам создает такое положение, которое при-
чащает его смерти. И только благодаря террору осуще-
ствляется идея конечного синтеза... В ужасах террора
рождается государство, где чаемое «удовлетворение»
достигнуто»1.
Под «удовлетворением» Гегель понимал достижение
тем или иным статусом («господина» или «раба») предус-
тановленного ему предела, «^овлетворение», получаемое
«господином» за счет «раба», однако, очень ненадежно,
неустойчиво и несправедливо, подлинное «удовлетворе-
ние» человек может получить только в том государстве и
таком обществе, где единичная личная ценность будет
признана всеми и станет всеобщим воплощением в госу-
дарстве, а всеобщая значимость государства, соответст-
венно, будет признана всеми единичностями; такой синтез
единичного и общего (при осуществлении которого, кста-
ти сказать, «останавливается» история) может быть осу-
ществлен только после «снятия» символического противо-
стояния «раба» и «господина». Пока же такое противо-
стояние остается, подобный синтез невозможен, ведь
государство господ признает в человеке только всеобщее,
гражданин этого государства — это гражданин вообще,
безымянный воин; и даже сам глава государства здесь —
всего лишь некий его представитель, представитель этого
всеобщего, здесь не государство зависит от его единичной
воли, а он сам в своих действиях и заявлениях зависит от
государства. Он не «диктатор» в современном смысле
слова, он принимает все уже приготовленным для него,
1 Кожев А. Указ. соч. С. 243—246.
3. Господство как «удовлетворение» 69
принимает налично данное государство, сам являясь толь-
ко его, этого безличного начала всеобщности, функцией1.
Ни тиран, ни диктатор не способны дорасти до степени
полного «удовлетворения», т. е. полного господства, на
это способно только государство, которое должно стать
всеобщим и однородным, т. е. тотальным, поэтому и окон-
чательный синтез «господина» и «раба» завершается
именно в создании такого всеобщего и однородного госу-
дарства, где «господин-воин» трудится, а «раб-работник»
становится воином, все члены такого общества по сути
своей — «воины-рабочие».
Проблема, однако, заключается в том, что если даже
государство и превращается в однородное и универсаль-
ное, то тем самым отпадает и нужда в войнах и революци-
ях, да и труд как завоевание и укрощение природы пред-
ставляется уже исполненным, а граждане такой замеча-
тельной и «окончательной» формы государства в этой
ситуации станут трудиться так мало, как только возможно
(отмечает вслед за Карлом Марксом Александр Кожев),
теперь они сами только так называемые трудящиеся, «ра-
бочие из вежливости». А. Кожев далее пишет: «Нет боль-
ше ни драки, ни труда. История подошла к своему концу.
Нечего больше делать». Отрицающее действие, выражав-
шееся в политических битвах или реальном труде, исчерпа-
но, но как раз оно-то и поднимало некогда человека над
скотом, делало из человека человека. Тем самым государ-
ство, при помощи которого человек достигает определен-
ного «удовлетворения», становится государством, в кото-
ром напрочь исчезает сама человечность, государством
1 См.: Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. § 11—12.
70 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
«последнего человека» (Ф. Ницше). Неограниченный
технический процесс и все, чем он сопровождается, ведет к
установлению однопородного универсального государства,
со всей очевидностью он пагубен для самой человеческой
природы вообще, и если именно такое государство и явля-
ется целью истории, то значит, что сама история абсолютно
«трагична»; «века за веками люди, напрягая все силы,
сквозь бесчисленные труды, битвы и страдания, теряя и
вновь обретая надежду, бессознательно прокладывали се-
бе дорогу ко всеобщему однородному государству, и вот,
достигнув конца своего пути, они вдруг понимают, что,
пройдя его, они разрушили в себе все человеческое и тем
самым, совершив круг, вернулись к дочеловеческим нача-
лам истории»1.
Легитимация всеобщего универсального государства в
том и заключается, что наступление его является необходи-
мым и достаточным условием для наступления мудрости:
человек освобождается от всякой нудной работы для осу-
ществления высшей и божественной деятельности — со-
зерцания неизменной истины. Но подлинное «удовлетво-
рение» всех людей, якобы и составляющее главную цель
истории, принципиально недостижимо, поэтому государст-
во как форма принудительного правления не может исчез-
нуть, поскольку невозможно, чтобы все люди когда-либо
достигли истинного «удовлетворения». Современный чело-
век значительно снизил планку своих целей, поверхност-
ным образом подменив счастье «удовлетворением», выте-
кающим из всеобщего признания, которое в свою очередь
заменило собой прежние нравственные добродетели; «бла-
1 Штраус Л. Еще раз о «Гнероне» Ксенофонта // О тирании.
СПб., 2006. С. 320—321.
3. Господство как «удовлетворение» 71
годаря покорению природы и вполне бессовестной подмене
закона подозрением и страхом», безликий тиран, возглавив
универсальное однородное государство, будет располагать
практически неограниченными средствами для выслежива-
ния и искоренения самых скромных усилий, «совершаемых
в направлении мысли». Ради удержания своей власти он
встанет перед необходимостью подавлять любую актив-
ность, которая способна зародить в душах людей сомнение
относительно преимуществ универсального однородного
государства, в частности любое предположение о том, что
между людьми может иметь место существенное с точки
зрения политики различие, которое нельзя уничтожить или
свести на нет, развивая только соответствующие научные
технологии.
Восстание в защиту человеческого в человеке будет об-
речено на поражение, но и этот нигилистический по сути
акт своим результатом может иметь лишь повторение иден-
тичного исторического процесса, ведущего от первобытной
стаи к окончательной форме государства, поэтому появился
призыв: «воины и труженики всех стран, соединяйтесь, по-
ка еще есть время предотвратить приход «царства свобо-
ды», защищайте изо всех сил — коль скоро оно нуждается
в защите — «царство необходимости»1. Революция, поро-
див в своей мечте о свободе и полном равенстве идею одно-
родного государства, сама исчезает под гнетом этого госу-
дарства; демократия же значительно больше оказывается
предрасположенной к превращению в господство, чем ка-
кая-либо другая форма правления: в демократии люди хо-
тели быть свободными, чтобы быть равными, но по мере
1 Штраус Л. Указ. соч. С. 324—325, 321.
72 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
укрепления равенства оно, это равенство, делало свободу
все менее доступной (А. де Токвиль)1.
4. Господство и смерть
В Новое время в Европе сформировалось некое особое
право, связанное с появлением нового юридического су-
щества, которым стал суверен, а вместе с ним — особен-
ное «асимметричное» право суверена на жизнь и смерть
своих подданных; «суверен здесь осуществлял свое право
на жизнь, лишь приводя в действие свое право убивать
или воздерживаясь от этого; свою власть над жизнью он
маркировал лишь смертью, которую он был в состоянии
потребовать», другими словами, это было право заставить
умереть или право сохранить жизнь. Власть в этой ситуа-
ции выступала прежде всего как право захвата — вещей,
времени, тел и жизни, — которое постепенно трансфор-
мируется в иную юридическую реальность — право обес-
печивать жизнь для всего социального организма, поддер-
живая и приумножая ее в этом процессе, однако «чудо-
вищная власть смерти» и здесь представляла себя в
качестве «дополнения к власти, которая позитивным обра-
зом осуществляется над жизнью, которая берется ею
управлять... осуществлять педантичный контроль над ней
и ее регулирование в целом». Такая форма властвования
проявилась в виде войны, т. е. ситуации, когда власть пре-
дает одну часть собственного населения тотальной смерти,
гарантируя тем самым другой ее части существование2.
1 См.: Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. С. 495.
2 Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексу-
альности. М, 1996. С. 239—241.
4. Господство и смерть 73
Если право господина на смерть подвластного могло
быть обусловлено легитимированным статусом суверена
или абсолютного монарха, то война как наиболее обезли-
ченная форма насилия использовала для этой цели уже со-
вершенно абстрактную атрибутику таких символов, как
«родина», «народ», «государство». Власть, открыто не
подчеркивая реально существующих различий в правовом
положении тех или иных социальных групп и индивидов,
тем не менее, выстраивала свою политику с учетом этой
дифференциации: дихотомия «господство—рабство» от-
нюдь не устранялась из этого политического контекста,
однако существенным образом маскировалась в неопреде-
ленной массе принимаемых властью нормативных актов и
в переплетении элементов политического господства, явно
выходящего за всякие нормативные пределы. Монополь-
ное право государства на жизнь своих подданных в такой
перспективе значительно расширялось, уже не ограничи-
ваясь только одним причинением смерти, в сферу его дей-
ствия стали входить и другие формы контроля и регламен-
тирования жизни подвластных, и многообразие этих форм
все возрастало по мере совершенствования самой техники
властвования.
М. Фуко вслед за Т. Гоббсом и Г. В. Ф. Гегелем про-
анализировал революционную роль абсолютной монархии
в формировании новых структур господства, выделив в
качестве одного из важнейших ее инструментариев фактор
«завоевательного насилия», роль абсолютной монархии в
истории развития господства представлялась ему весьма
неоднозначной; так, установление господства первона-
чально всегда было связано с завоеванием, порождающим
74 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
некий национальный дуализм, предполагающий динами-
ческое и конфликтное сосуществование двух частей на-
ции — «господ» и «покоренных», при этом первые отож-
дествляли себя с нацией как таковой, признавая вторых
только «народом». Этот народ, состоящий из данников,
крепостных и т. п., даже не рассматривался самой знатью
как некая отдельная часть нации, он явно находился за ее
пределами; монархия же в противовес этому ставила своей
важнейшей задачей сформировать из всех этих «внена-
циональных» элементов некий новый класс, чтобы с его
помощью ограничить всевластие знати; и в этой борьбе
она активно использовала живую силу этого нового клас-
са, всемерно подстрекая его на выступления против свое-
вольной аристократии; «переход в руки монарха всей по-
литической власти, которой некогда обладало дворянство,
происходит в основном в результате этих восстаний... во
всех случаях поддержанных королевской властью и поль-
зовавшихся ее покровительством»1.
Только абсолютная монархия и могла позволить себе
выстраивать такую систему господства, в которой при
всем четко артикулированном сословном (т. е. юридически
очерченном) делении сохранялся конкретный и персони-
фицированный властный центр. Вся область политическо-
го специфическим образом разделялась здесь на «экзоте-
рический» и «эзотерический» секторы властвования и
управления, из которых именно последний становился от-
правным пунктом для формирующегося режима господ-
ства; Гегель полагал, что один из аспектов эволюции хри-
1 Фуко М. Нужно защищать общество. СПб., 2005. С. 243—
245.
4. Господство и смерть 75
стианского мира (а именно содержавшийся в нем дуализм
трансцендентного и имманентного, потустороннего и по-
сюстороннего) как раз и подготовил те самые социальные
и политические условия, которые в дальнейшем привели к
установлению абсолютного государства, где именно эзоте-
рическая и тайная, так называемая кабинетная политика
абсолютной монархии будет в будущем пролагать путь не
особенно нуждающемуся в каких-либо легалистских обос-
нованиях господству.
XVII век в свою очередь породил так называемую ли-
тературу «арканов», в которой с юридической точки зре-
ния анализировались всегда имевшие место в государст-
венной политике, но тщательно скрываемые от «народа»
«секреты власти»; в этой сфере существовал целый набор
мер, создающих для успокоения подданных видимости не-
коего подобия свободы, системы декоративных учрежде-
ний, в «арканах» разрабатывались соответствующие тех-
ники и приемы, с помощью которых властители могли со-
хранять и обеспечивать общественное благо, порядок и
безопасность. Сами «арканы» подразделялись на «арканы
власти» и «арканы господства», именно в последних речь
шла о защите и охране самих правящих особ при возникно-
вении чрезвычайных обстоятельств, в ситуации революций
и восстаний, а также о средствах, которые позволяли бы
положить конец всем этим эксцессам. В качестве специфи-
ческого «аркана господства» упоминалась и диктатура, це-
лью которой было прежде всего «устрашение народа путем
учреждения такой властной инстанции, решения которой
нельзя было обжаловать» (при этом «арканы господства»
следовало отличать от тирании и злоупотребления силой).
Как неотъемлемая часть системы государственного управ-
76 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
ления, «арканы господства» противопоставлялись самим
«правам власти и господства», «властные законы» состав-
ляли только основу «арканов», поскольку их основные
принципы оставались неизменными в разных государствах
и в разные времена, тогда как сами «арканы» могли ме-
няться в зависимости от политических и иных обстоя-
тельств; «властные законы» и «законы господства», кроме
того, были «явлены взору», в то время как «арканы» пред-
ставляли собой исключительно тайные планы и практики,
«помогающие сохранять властные права».
Таким образом, под «правом господства» понималось
прежде всего исключительное публичное право, предо-
ставлявшее его обладателю в случае необходимости и в ин-
тересах поддержания общественного порядка и спокойст-
вия право вполне легально отступить от норм обычного
права, ведь война и мятеж были двумя важнейшими об-
стоятельствами, при наличии которых это право могло
быть применено; все правовые барьеры отступали перед
ними, и действовать оно могло с оглядкой разве что на
нормы лишь божественного права1.
В этих чрезвычайных условиях позитивное право ут-
рачивало собственную значимость, либо оставаясь пассив-
ным контекстом для функционирования «права господ-
ства» (инспирированного политической волей и «арканами
господства»), либо вовсе исчезая из пределов правового
пространства. Тогда же была окончательно сформулирова-
на и самая жуткая идея политического господства — идея
монопольного права государства на причинение смерти,
отнятие жизни у своих подданных, т. е. на право установ-
См.: Шмитт К. Диктатура. М, 2005. С. 32—35.
4. Господство и смерть 77
ления окончательного предела своего господства над чело-
веком. В связи с этим одной из самых ярких демонстраций
абсолютистского могущества и всевластия вплоть до конца
XVIII в. в Европе оставалась процедура смертной казни.
Власть над телом осужденного символически соотноси-
лась с претензией абсолютного монарха на полное господ-
ство над своими подданными; М. Фуко отметил, что ри-
туал «вооруженного закона», где государь проявляет себя
нераздельно в двояком образе главы правосудия и воена-
чальника, вполне соответствует самому дуализму публич-
ной казни как действа, заключающей в себе сразу два ас-
пекта: битвы и победы. Смертная казнь как бы «торжест-
венно завершает войну, исход которой предрешен, войну
между преступником и государем; она должна демонстри-
ровать огромную власть государя над теми, кого он сделал
бессильными. Эта асимметрия, необратимое неравновесие
сил — существенный элемент публичной казни»1.
Асимметрия — признак господства вообще и отноше-
ния «господин—раб» в частности. Смерть только край-
няя форма его проявления, наиболее же распространенный
тип, в котором реализуется господство, — это все же тип
трудовых отношений. Известно, что раб только в начале
истории выступал в качестве жертвы и был предназначен
для умерщвления, рутина исторического существования со
временем поменяла его роль: он превратился в раба-работ-
ника, в подневольного труженика. Труд не просто стал
подменять собой смерть, он в видоизмененном образе на-
чал выполнять ее функцию: проникнутый насилием и ре-
прессией, труд превратился, по выражению Жана Бод-
1 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.,
1999. С. 75—76.
78 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
рийяра, в феномен «отсроченной смерти». Нетворческий
труд стал представлять собой медленную растрату труже-
ником своей жизненной энергии, т. е. постепенное умира-
ние в условиях несвободы, при этом господство здесь при-
нимало некий лицемерный образ помилования при условии
обязательного труда, сохранения жизни (только мини-
мальным образом обеспечивая физическое и материальное
существование подвластного ему труженика), даже ода-
ривания.
Труд (также и в форме досуга) заполнил всю челове-
ческую жизнь, выступая как репрессия и контроль, как
необходимость постоянно чем-то заниматься, как режим
всеобщей мобилизации. Однако такой труд не являлся
производительным в исходном смысле этого слова,
он скорее зеркальное отражение самого общества, его во-
ображаемое, фантастический принцип его реальности, и в
конечном счете он неосознанное или осознанное влечение
к смерти. Ж. Бодрийяр подчеркивает эту внутреннюю
связь, определяя труд как «медленную смерть», труд как
отсроченная смерть противостоит немедленной смерти,
выражающейся в жертвоприношении, которое по сути и
является единственной альтернативой труду. Это в значи-
тельной мере проясняет гегелевскую генеалогию рабства:
раб, которого перестают приносить в жертву и сохраняют
в качестве престижного имущества в доме господина, от
этого еще не становится «тружеником» — вплоть до мо-
мента, когда окончательно исчезнет угроза его смертной
жертвенной казни, а сам он будет освобожден исключи-
тельно для труда. Другими словами, труд всегда вдохнов-
ляется «отсроченной смертью», и эта медленная смерть
постепенно начинает ассоциироваться с самой экономиче-
4. Господство и смерть 79
ской организацией жизни, тогда как быстрая и насильст-
венная смерть — с организацией жертвенной; отсюда —
трудящийся всегда остается только человеком, которого не
стали казнить и которому отказали в этой чести. Поэтому
и труд выступает прежде всего как некий знак унижения,
поскольку, отлагая смерть, он превращает человека в раба,
обрекая его на бесконечное унижение, а именно жизнь в
труде.
«В подобных символических отношениях сама суб-
станция труда и эксплуатации безразлична: господин все-
гда обретает свою власть прежде всего благодаря отсрочке
смерти. Таким образом, власть, вопреки бытующим пред-
ставлениям, — это вовсе не власть предавать смерти, а
как раз наоборот — власть оставлять жизнь рабу, кото-
рый не имеет права ее отдать. Господин присваивает чу-
жую смерть, а сам сохраняет право рисковать своей жиз-
нью»1, поэтому свобода опять остается только у господи-
на, а унижение — у труженика (вот почему один из самых
употребимых лозунгов, провозглашаемых в борьбе угне-
тенных против угнетателей, — «свобода или смерть»).
Освобождая, изымая раба из смерти, господин изымает
его тем самым из «оборота символического имущества»,
что по существу и является насилием, которому он его пер-
манентно подвергает, заставляя служить рабочей силой.
Но в этом и заключается тайна власти. Г. В. Ф. Гегель
выводит в своей диалектике «господина и раба» власть
господина именно из нависающей над рабом отсроченной
угрозы смерти, труд, производство и эксплуатация в этой
связи становятся только одним из возможных воплощений
1 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.
С. 103—104.
80 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
этой структуры власти, т. е. в конечном счете структуры
смерти.
Революция не в состоянии вообще упразднить
власть, понимаемую как отсроченную смерть, пока не бу-
дет устранена сама эта отсрочка, сам ее факт; поскольку
власть состоит в этом факте «дарения без возврата», то
«понятно, что власть господина, односторонне жалующе-
го рабу жизнь, будет упразднена лишь в том случае, если
эту жизнь можно будет ему отдать — при смерти неотло-
женной. Иной альтернативы нет: сохраняя свою жизнь,
невозможно упразднить власть, так как дарение остается
необращенным». Поэтому и единственный способ уп-
разднения власти — это отдать свою жизнь, отвечая на
отсроченную смерть немедленной смертью, поэтому и от-
правной точкой всякой революционной стратегии может
быть только жест, которым раб «ставит на кон свою
жизнь, тогда как ее умыкание и отлагание позволяет гос-
подину обеспечивать свою власть». Рабу и рабочему бес-
полезно отдавать свою жизнь господину и капиталу по-
немногу, по мере убивающего их труда, такое медленное
самоубийство вовсе не является жертвоприношением, по-
скольку оно не затрагивает главного, а именно отлагания
смерти, и лишь придает этому структурно неизменному
процессу форму постепенного «источения»1. Таким обра-
зом, лишь реальная, неотсроченная смерть может стать
ценой за освобождение от господства, однако сама заме-
на рабского состояния смертью означает также и нечто
иное, лишающее даже такой перспективы, ведь сама
смерть есть только усугубление воздействия все того же
1 См.: Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 104—105.
5. Освобождение от господства, освобождение от труда? 81
господства, доведение его до крайнего, предельного со-
стояния.
В гегелевской диалектике «господство—-рабство»
труд и смерть являются соответствующими атрибутами
каждого из этих статусов, и только их перемена в состоя-
нии изменить судьбу субъектов: смерть, под угрозой кото-
рой находился раб и которая составляла привилегию гос-
подина, становится освобождением для раба, когда он
преодолевает свой страх перед нею. И напротив, труд пе-
рестанет быть монопольным бременем рабства и «отло-
женной смертью», когда он продемонстрирует свой сози-
дательный и творческий характер, перестанет быть подне-
вольным или просто рутинным: труд должен отделиться от
рабского статуса и перестать быть «вещью», отчуждаемой
у творца и присваиваемой эксплуататором, — только в та-
ком случае неразрывная связка «господин—раб» будет в
итоге разорвана.
5. Освобождение от господства, освобождение от труда?
Проблема освобождения труда, понимаемая в гегелевском
смысле, оказалась в центре внимания марксистских вос-
приемников политической диалектики философа. И Карл
Каутский, и Георг Лукач в контексте марксистских социо-
экономических построений с готовностью подчеркивали
всеобщий характер труда, своим ритмом объединяющего
различные социальные группы и классы в некую тоталь-
ность; только капитализм с его единой для всего общества
экономической структурой породил формально единую
для всех структуру сознания, которая и «проявляет себя
как раз в том, что характерные для наемного труда пробле-
82 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
мы сознания повторяются в господствующем классе —
правда, в более тонком, одухотворенном, но именно по-
этому и более углубленном виде», «овеществление» и
«опредмечивание» касается всех без исключения членов
индустриального общества1. К. Каутский, соглашаясь с
Людвигом Гумпловичем, также подчеркивает превалирую-
щий в государственно-политической истории дух экономи-
ческой унификации, в котором он как раз видит побуж-
дающий мотив для использования государственного на-
силия: объединяющим фактором становится «вечное
стремление к эксплуатации и господству со стороны силь-
ных и обладающих большим превосходством. Борьба рас
за господство во всех его формах, как в открытых и на-
сильственных, так в скрытых и мирных, является... настоя-
щим движущим началом и активной силой истории»
(Л. Гумплович); К. Каутский, в целом не отвергая имев-
ших место в истории побуждений к эксплуатации и наси-
лию, стремился лишь акцентировать особое внимание на их
экономической составляющей, особенно настаивая на оп-
ределяющем влиянии этого фактора в деле формирования
государственной власти2.
Гегелевский дуализм «господина—раба» с этой точки
зрения может быть преодолен только превращением само-
го труда, «прыжком из царства необходимости в царство
свободы» и полным преобразованием общества, где экс-
плуатация человека человеком будет уничтожена полно-
стью, и, в отличие от христианского преосуществления, это
произойдет не в сфере духа, а в сфере материальной, здесь,
1 См.: Лукач Г. История и классовое сознание. М., 2003. С. 194.
2 См.: Каутский К. Материалистическое понимание истории. М.;
Л., 1931. Т. 2. С. 82.
5. Освобождение от господства, освобождение от труда? 83
на земле; всякое господство, включая религиозное, будет
уничтожено, и господином мира станет свободный человек
(правда, господствовать он будет не над людьми, а над ве-
щами и природой, т. е. само отношение господства как та-
ковое не исчезнет даже в этих условиях «рая на земле»).
Процесс «овеществления» трудового сознания начи-
нается уже в тот момент, когда труженик (раб) осознает
сам себя как «производительную силу» общества: работ-
ник поднимается, сначала в сознании, а затем и в истории,
над своим господином-эксплуататором. Герберт Маркузе
в своей интерпретации гегелевской социальной теории
также отмечал высокую степень привязанности человека к
своему труду, который в конечном счете определяет все
его существование; некие «другие» присваивают себе этот
труд, обладают им и в силу самого факта этого присвоения
и обладания становятся господами трудящихся; раб же —
это не просто человек, которому выпал случайный жребий
трудиться, а труженик по самому своему существу, все его
бытие — это труд. Следуя за К. Марксом, Г. Маркузе
уточняет: зависимость одного человека от другого не явля-
ется только личной и не коренится в условиях личного или
природного порядка, но опосредуется вещами и представ-
ляет результат отношения человека к своему труду. Труд
настолько «приковывает работника к предметам, что само
его сознание существует только «в виде вещности». Он
становится вещью, само существование которой заключа-
ется в том, чтобы быть использованной». Однако и сам
труд, и его результаты меняют сознание работника, он на-
чинает понимать, что только благодаря его труду этот мир
увековечивается, и теперь его сознание «овеществляется»
в его работе и тем самым «вступает в стихию постоянст-
84 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
ва», в стадию самостоятельного бытия, т. е. процесс труда
приводит к рождению самосознания, и не только в самом
работнике, но и в его господине; «господство в основном
определяется тем, что господин располагает желанными
ему предметами, не обрабатывая их. Он удовлетворяет
свою потребность благодаря чьей-то чужой, не своей ра-
боте. В основе его довольства лежит свобода от работы».
Работник же своим существованием и трудом охраняет его
от столкновения с негативной стороной вещей, посредст-
вом которой они становятся узами для человека. Господин
получает вещи в виде продуктов труда, на них лежит отпе-
чаток субъекта, их обрабатывающего; располагая этими
вещами, господин располагает также и самосознанием ра-
ботника, обнаруживая, однако, тем самым, что и он сам
зависит от другого бытия1.
А. Кожев замечает, что для К. Маркса, как и для само-
го Г. В. Ф. Гегеля, самым главным в буржуазном мире яв-
ляется не порабощение рабочего или бедного буржуа бога-
тым буржуа, но порабощение их обоих капиталом: самоот-
речение, которое при этом проявляется, как раз и повторяет
прежний христианский дуализм, но теперь в буржуазной
«юридической» оппозиции собственника и «натурального»
человека, а потусторонний мир здесь представлен теперь
уже деньгами и капиталом. Перестав рисковать своей жиз-
нью, мирный буржуа вскоре перестает быть и гражданином
(как только проходит эпоха войн и революций), который
прежде мог обретать «удовлетворение» посредством поли-
тической деятельности, теперь он только пассивный под-
данный своего государства-деспота.
1 См.: Маркузе Г. Указ. соч. С. 160—161.
5. Освобождение от господства, освобождение от труда? 85
Гегель называет «раба без господина» буржуа. Дела-
ясь частными собственниками, еще греческий господин и
некогда гражданин города становились банальными мир-
ными римскими буржуа, подданными императора, кото-
рый также, в свою очередь, оказывался не кем иным, как
тем же буржуа, собственником, владевшим Империей; в
отличие от греческого полиса, Римская империя — типич-
ный буржуазный мир, и в этом качестве он превращался в
мир христианский. Вот этот-то буржуазный мир и выра-
батывает частное право — то единственное, что, согласно
Гегелю, Рим вообще сумел произвести сам, основным по-
нятием римского юридического мышления стало понятие
«юридическая личность», соответствующее стоическому
философскому пониманию человеческой жизни, частное
право наделяло абсолютной значимостью только чистое
простое бытие человека вне зависимости от совершаемых
им действий. Так же, как и у стоиков, значение «лично-
сти» здесь не зависело от конкретных условий ее сущест-
вования — везде и всегда человек представлял собой
только юридическую личность, и каждый индивид оказы-
вался ею в равной степени по сравнению с другими инди-
видами. Так же обстояло дело и с нигилистическим скеп-
тицизмом, для которого понятие частной собственности
составляло его реальную основу, раб-солипсист считал,
что только он сам действительно существует и что-то зна-
чит. И это рабское мировоззрение воспроизводится теперь
частным собственником, который подчиняет все, включая
государство, только одной ценности — собственности,
единственной реальности всех партикулярных идеологий.
Сам Г. В. Ф. Гегель полагал, что труд может быть на-
стоящим собственно человеческим деиствованием только
86 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
т'Ыгда, когда он является реализацией некоей идеи: раб тру-
дился, руководствуясь идеей господина, возможно также
руководствоваться идеей социальной общности или госу-
дарства. Но буржуа не способен делать ни того, ни друго-
го, ведь уже нет господина, на которого следует работать,
но еще нет Государства (буржуа желает видеть в нем толь-
ко «ночного сторожа», что претит духу истинного и суве-
ренного государства), ибо сам буржуазный мир есть не
более чем скопление множества отдельных частных собст-
венников, между которыми нет и не может быть никакой
подлинной общности.
Буржуа работает только на себя как на юридическое
лицо, на идеального собственника как такового, на капи-
тал1. Поэтому в мире возникает новая оппозиция юриди-
ческой личности частного собственника, и человека из
плоти и крови, рождается некий идеальный мир, пред-
ставленный в мире реальном деньгами и капиталом, и ра-
ди этого-то мира человек и жертвует своими чувственны-
ми, биологическими влечениями (насколько для него бы-
ла велика эта потеря, можно судить по-разному: так,
Бенедикт Спиноза считал неспособность умерять спон-
танные, чисто человеческие аффекты собственно «рабст-
вом»). Теперь страсти, свободная воля, готовность к рис-
ку и импровизации, спонтанные и естественные порывы
души, столь свойственные прежде психологии господина,
воспринимаются как аффекты, противные разуму и по-
рядку, как законности, так и целесообразности. «Господ-
ство страстей» — это верный путь к рабству и смерти;
смерть теперь означает конец, исчезновение жизни, ее
1 См.: КожевА. Указ. соч. С. 240—241.
5. Освобождение от господства, освобождение от труда? 87
предел, за которым нет никакого существования и ника-
кой «потусторонности», там буржуа исчезает вместе со
своим миром. Зато в этом, здешнем мире он полновласт-
ный господин, и «юридическое лицо» и «юридическая
собственность» кажутся ему теми столпами, на которых
этот мир держится.
В христианском мире смерть была тем самым порогом,
за которым в соединении с трансцендентным исчезала
также противоположность «господства—рабства» и про-
исходило «всеобщее признание значимости единичного»,
которое, согласно Гегелю, только и давало человеку истин-
ное «удовлетворение». Но антропологический аспект хри-
стианства, который полностью раскрывается в эпоху пре-
вращения труженика в буржуа, требует полного «снятия»
самой христианской теологии, после чего человек-христиа-
нин только и может стать тем, кем он и хотел стать, одна-
ко непременно сделавшись при этом безбожником или
«человеко-Богом». Но это уже тема Ф. Ницше...
Не Г. В. Ф. Гегель, но уже К. Маркс переключил
внимание с проблем метафизического или антропологиче-
ского господства на его экономический аспект: труд как
обмен и как «отложенная смерть» устранял идеалистиче-
ское ожидание свободы, и именно экономическое господ-
ство^теперь делалрсь той превалирующей формой, которая
закрывала* и маскировала все остальные проявления и
структуры господства. Жизненной основой экономики
становились/национальная калькуляция и контроль, устра-
няющее, как им, казалось, из жизни риск, неопределен-
ность, стихию и эмоции. Власть, тем самым устанавливае-
мая над жизнью и смертью индивидуума, аннулировала
все*нравственные и этические нормы (а также такие аф-
88 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
фекты, как честолюбие, месть, благодарность и т. п.), пе-
реводя их содержание в безликую сферу технических или
обслуживающих их юридических регламентации и норм.
Однако «любое господство должно быть чем-то искупле-
но. Раньше искуплением служила жертвенная смерть (ри-
туальное умерщвление царя или вождя) или же ритуаль-
ное обращение... На этой стадии власть еще раскрывается
прямо и открыто. Эта социальная игра обратимости пре-
кращается с диалектикой господина и раба, где обрати-
мость власти уступает место диалектике воспроизводства
власти». Но само искупление власти и здесь по-прежнему
симулируется уже в новых формах отношения труда, зара-
ботной платы и потребления, формах, которые теперь мо-
гут представляться значительно более измеримыми, каль-
кулируемыми и контролируемыми; подмена в новых усло-
виях усложнившегося общества символических форм
обмена экономическими формами позволяет, как оказа-
лось, окончательно обеспечить господство политической
власти над обществом. (Ж. Бодрийяр подчеркивает, что
«дар есть сама сущность власти, власть упраздняется
лишь отдариванием —это и есть обратимость символиче-
ского обмена, которая утрачивается в новых условиях».)
Именно экономике удалось скрыть истинную структу-
ру власти, поменяв местами составные части ее определе-
ния, «в то время как власть состоит в том, чтобы бдносто-
ронне одаривать (...жизнью), нам внушили как очевид-
ность нечто прямо противоположное: будто власть с&сткжт
в том, чтобы односторонне брать и присваивать себе. Под
прикрытием этого фокуса может и впредь осуществляться
действительное символическое господство», поэтому и все
усилия угнетенных, направленные на отобрание у власти
5. Освобождение от господства, освобождение от труда? 89
взятого ею у них, оказываются бьющими мимо цели, по-
скольку тем самым они способствуют только своему даль-
нейшему угнетению1.
Тем самым дилемма «господство—рабство» оказыва-
ется замаскированной, но не разрешенной. Гегель надеялся
решить ее, включив в более широкий контекст сопоставле-
ний всеобщего и единичного, которые должны были пред-
положительно слиться в ситуации превращения раба в
труженика и нейтрализации статусного влияния господи-
на. Для этого Г. В. Ф. Гегель готов был пожертвовать да-
же христианской теологией, устранив из парадигмы боже-
ственные ценности и ориентиры, но и это не помогло:
спустившись в земную сферу экономического, феномен
господства не только не исчез, но и приобрел новые черты
и новые качества. Что касается борьбы с господством как
таковым, то она некоторое время еще продолжалась в об-
ласти марксистско-социалистических утопий, но затем ти-
хо и незаметно затухла, предоставив господству в новых и
все более жестких формах продолжать свое существова-
ние и деятельность, лишь изредка напоминая о своем слав-
ном прошлом легкими всплесками анархистского бунтар-
ства. Сам же факт вечного пребывания господства в мире
поставил под сомнение и истинность гегелевской диалек-
тики одного из самых проблематичных отношений в чело-
веческой истории: расчет на то, что Труд и Экономика ос-
вободят человека от господства Власти, не подтвердился.
Вся диалектическая игра разума у Гегеля была направ-
лена на одну цель — обосновать, оправдать, легализовать
уже, казалось бы, предрешенную ситуацию, в которой
1 См.: Бадриыяр Ж. Указ. соч. С. 106—107.
90 Глава 2. Легалистская диалектика отношения «господин—раб»
раб-труженик, преодолевая свою изначально неразрыв-
ную привязанность к статусу господина, возвышается над
ним, находя средства для этого в труде и производитель-
ности. Он изменяет характер труда, и труд изменяет его
самого: если принудительный труд был обусловлен прежде
всего страхом смерти, то производительный труд, изме-
няющий структуры жизни, стал необходимостью и по-
требностью. Гегель был убежден в том, что таковым труд
становится именно в виде товара и что связанный с ним
принцип эквивалентности позволит преодолеть гнетущую
ситуацию асимметричного господства: слияние единичного
со всеобщим и признание этого единичного всеобщим —
только такая тотальность была призвана устранить опасный
дуализм производства-присвоения. Однако даже устране-
ние субъекта господства путем приравнивания и слияния
его с объектом не устранило самого отношения господства,
и даже перенос проблемы из нравственно-этической
(оформленной как юридическая) сферы в область организа-
ционно-технических отношений этого положения не ме-
нял — государство по-прежнему и даже с еще большей си-
лой давления давало и дает себя почувствовать, скрывая
свое лицо и ловко замаскировавшись, теперь уже в новых и
ставших привычными для современного человека условиях
существования.
х1с1мбэ еы оаондо нянт
Dsq :HHqoT3N йонээрэа
л то 6НЭ8ОЛЭР ткдодов
.нээгатиэлБвд до8
— алэц ундо бн жэл.
)П ,Idd
:.мЭ г
Глава 3. «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОВАНИЕ»
И ГОСПОДСТВО В «БОЛЬШОЙ
ПОЛИТИКЕ» Ф. НИЦШЕ
1. Политический ресентимент
Макс Шелер в своем анализе феномена ресентимента за-
метил, что чем более фатальным представляется долгое
социальное угнетение, от которого страдает отдельная
личность или социальная группа, тем менее оно способно
высвободить необходимые ресурсы и силы для практиче-
ского изменения этого состояния и тем скорее оно готово
выродиться в лишенную каких-либо позитивных целей
критику существующего (М. Шелер при этом ссылается
на пример некоторых политических партий, раздосадовать
которые легко, если попытаться реально осуществить их
программные требования и тем самым лишить их привыч-
ной возможности гордиться своей оппозиционностью,
взамен предложив им позитивное сотрудничество с вла-
стью в сфере практической государственной работы).
«Ресентиментная» критика, как выясняется, на самом де-
ле вовсе не желает того, что она демонстративно выдает за
желаемое, на самом деле она критикует не для того, чтобы
устранить сущностное зло, а лишь использует это зло,
только как предлог, чтобы иметь возможность самой вы-
сказаться1; власть же в большинстве случаев умело ис-
пользует подобное двоемыслие оппозиции: «всякая
1 См.: Шелер М. Ресентимент в структуре морали. СПб., 1999.
С. 23.
92 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
власть, которая запрещает, которая умеет вызвать страх...
порождает «нечистую совесть» (т. е. вызывает вожделе-
ния к чему-то с одновременным осознанием опасности их
удовлетворения» (Воля к власти. П. 738)1. Ресенти-
мент — это всегда затаенное негодование и подавленная
воля, он остается тем самым энергетическим источником,
который непрерывно питает оппозиционную «волю к вла-
сти». Этот странный перевертыш с мазохистской окраской
имеет самое широкое распространение как в политической
практике, так и политической психологии. Другими слова-
ми, угнетение, сделавшееся для подвластных привычным
состоянием, в результате порождает не что иное, как ниги-
лизм, негативное и умозрительно отторгнутое от жизни,
рабское ощущение бытия; в свое время Ф. Ницше пре-
красно понял эту скрытую связь, существующую между
рабской готовностью подчиняться, которую самым удиви-
тельным образом демонстрируют массы, и трансформиро-
вавшейся в ресентимент изуродованной «волей к власти»,
присущей, как он полагал, даже самому последнему рабу.
Власть в силу жизненной необходимости должна учиты-
вать эту проявляющуюся склонность, особенно если она
принимает массовые масштабы: используя непреодоли-
мую и могучую тягу и стремление масс к сбросу ресенти-
мента, власть тем самым подчиняет себе все возможные
сферы общественной жизни и через проявленную негатив-
ную реакцию добивается для себя вполне позитивных ре-
зультатов. Внешним образом этот акт приобретает форму
«единения власти и народа», где народ, самореализуясь во
власти, тем самым получает возможность реализовать
1 Далее в тексте используются извлечения из издания: Ницше Ф.
Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., 2005.
1. Политический ресентимент 93
важнейшую функцию, присущую только власти, — право
отправлять насилие. Тогда и революция как выброс ресен-
тимента, и террор как наиболее яркая и красочная форма
насилия только и занимаются тем, что устанавливают но-
вые правила насилия, заново нормируют его, а массы же в
такой ситуации начинают получать свой новый «религиоз-
ный» опыт — бесподобное ощущение тотального едине-
ния друг с другом через единение с властью; тогда и сама
политика становится не чем иным, как пространством са-
крального, в котором растворяются прежде противостояв-
шие друг другу «господин» и «раб», а в единстве раство-
ряется весь индивид.
Непреходящий характер отношения «господство—
рабство» у Ф. Ницше предполагает постоянное присутст-
вие этого состояния ресентимента в среде подвластных;
правовые процедуры и регламентации, юридическое ра-
венство и «право человека» не в силах изменить ситуацию,
«воля к власти», присущая всяческой экзистенции, как
властителям, так и подвластным, не позволяет затухать
внутреннему напряжению. Даже социальный взрыв как
разрядка ресентимента, и тот не достигает желаемого ре-
зультата. Рабы остаются рабами даже в момент своего
восстания, поскольку, какими бы высокими целями этот
акт ни вдохновлялся, он по своей сути остается только
коллективной практикой ресентимента, дающей лишь ил-
люзорную компенсацию исторгаемой социальной мсти-
тельности — просто из области этического месть перели-
вается в социальное измерение; социальная революция
только внешне кажется политически эффективной, по-
скольку она ощутимо и демонстративно направлена про-
тив политически и экономически господствующего класса
94 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
(навязывающего всем остальным группам собственные
ценности и нормы, на самом деле только освящающие его
собственное господство), однако восстание низших соци-
альных групп против высших всегда оказывается сопря-
женным с осознаваемым бунтом масс против господ-
ствующей рациональной морали и идеологии, в результате
чего разрушение этих норм и запретов будет переживаться
ими как акт не только социального, но и биологического и
психологического освобождения1.
Исторический опыт показывает нам, что, чем более
ощутимым является разрыв между общественным поло-
жением, определяемым законом, обычаем или правовым
статусом, той или иной социальной группы, с одной сторо-
ны, и ее фактической и реальной властью — с другой, тем
более значительным, опасным и негативно продуктивным
становится напряжение ресентимента. Так, большие внут-
ренние, затаенные амбиции в сочетании с неадекватным
внешним социальным положением порождают рабскую
мораль подчинения, терпимости и сострадания, когда «ре-
сентимент превращается в созидательную силу, которая
порождает ценности, — это ресентимент пылких существ,
которым отказано в настоящих реакциях, в настоящих по-
ступках и которые поддерживают себя лишь воображае-
мой местью»2; «где такая робость перед властью — в про-
тивоположность воле к власти — становится конститу-
циональной, критикой движет ресентимент». (Ссылаясь
на политический опыт современного «полупарламентариз-
1 См.: Орбел Н. Ессе homo // Ницше Ф. Воля к власти. М.,
2005. С. 643—644.
2 Фечер И. Фридрих Ницше и диалектика Просвещения //
Ницше и современная западная мысль. СПб., 2003. С. 195—197.
1. Политический ресентимент 95
ма в германском рейхе» — его работа была издана в
1912 г., — М. Шелер отмечал, что парламентские баталии
вполне благоприятно действуют на народное здоровье как
средство освобождения от «накопившегося в избытке ре-
сентимента».)
Максимально сильный заряд ресентимента чаще всего
проявляется в таком обществе, в котором почти равные
политические права и формально признанное социальное
равноправие сосуществуют с огромными различиями в
фактической власти, в фактическом имущественном поло-
жении и в фактическом уровне образования1. Прежде все-
го нравственное негодование и скрытый ресентимент ока-
зываются нацеленными на произвол и властолюбие вож-
дей, что по сути является самой фатальной формой их
фактического признания (вождь — это олицетворенный
ресентиментный гнев, за которым всегда тянется скандал,
«лишь по видимости устраиваемый негодующими, по-
скольку реально действуют не они сами»): люди легко-
мысленно полагают, что их вожди только из одного эгои-
стического себялюбия готовы пойти на все для того, чтобы
утвердиться в собственном властном своеволии, однако на
самом деле, как уверяет Мартин Хайдеггер, они всего
лишь «неотвратимое следствие того, что сущее перешло в
блуждающий способ существования, когда распространя-
ется пустота, требующая одного единообразного порядка
обеспечения сущего. Этим вызвана сама необходимость
«руководства», т. е. планирующее -расчитывающего обес-
печения совокупности сущего»2.
1 См.: Шелер М. Указ. соч. С. 23—24.
2 Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Философия Марти-
на Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 226.
96 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
Ресентимент по своему существу — реакция «рабской
психологии», и поэтому обречен на существование в ситуа-
ции хронического несовпадения нормативных (статусных)
притязаний со степенью фактического участия во власти.
Такая «негативная воля к власти» представляет собой не-
кий специфический и перевернутый макиавеллизм, откро-
венный цинизм властвования, который направлен прежде
всего против самого себя. Ницше полагал, что людей раз-
вращает не только и не столько власть, сколько ее нехват-
ка, политическое бессилие. Результатами такого негатив-
ного и дискомфортного ощущения и становятся разного
рода антигосударственные установки и правовой ниги-
лизм. Ослабление власти и утрата всех базовых, в том чис-
ле правовых, ценностей столь характерны для всего обез-
боженного мира современности с его массовостью и техни-
зацией. Несовпадение нормативного и реального, этих
двух важнейших составляющих бытия властвования, порож-
дает вначале сильную внутреннюю напряженность, пере-
ходящую затем в пассивность и нейтрализацию: нереали-
зованные правовые и статусные возможности побуждают
к полной трансформации первоначальных целей и ценно-
стей, и те и другие очень скоро приходят к плану своего ил-
люзорного существования, формируя некую идеальную
среду, в которой рождаются качественно новые представ-
ления. Уход от решения реальных социальных и политиче-
ских проблем меняет знак самой их оценки, превращая их в
полную противоположность, — с неизбежностью должно
произойти революционное нарождение нового мира, в ко-
тором старые категории будут играть совершенно новые
роли: справедливость здесь неожиданно станет произво-
лом, демократия — диктатурой, народ — просто массой...
2. «Воля к власти» и выход в «большую политику» 97
Ресентимент — это мелочное политическое злопыха-
тельство, бессильное и бесперспективное, это признак по-
литического вырождения, но именно он-то и становится
стимулом для зарождения некоей новой политики, полити-
ки крупного масштаба. Измельчание и нивелировка совре-
менных политических деятелей и политических акций зна-
менуют собой только конец предыдущей эпохи, в течение
которой политика всегда оставалась пропитанной лице-
мерными и нигилистическими по сути мотивами, ресенти-
мент — это безысходно рабское состояние социальной
психики, способное только к сублимации или латентному
существованию, когда ни властные, ни правовые меры
оказывались не в состоянии произвести его оздоровляю-
щую трансформацию, и только категорический разрыв с
ценностями, питающими его, мог бы еще каким-то обра-
зом изменить это положение вещей.
2. «Воля к власти» и выход в «большую политику»
Преодолеть эту ситуацию может только новая и очень
«большая политика», политика глобального масштаба и
глобальных целей (у Ф. Ницше — это, однако, всего-на-
всего доведенная до идеала политика в понимании Плато-
на и Н. Макиавелли), политика «благородного обмана»,
ради благородных целей использующая скрытые и неяв-
ные средства, которые она применяет по отношению к не-
посвященным массам. «Большая политика» в конечном
счете представляет собой реабилитацию того, чем некогда
была «теологическая мистерия правления»1, при этом мас-
1 См.: Марты У. Ницшевская идея европейской большой полити-
ки // Ницше и современная западная мысль. СПб.; М., 2003. С. 85.
98 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
сы не только не будут участвовать в отправлении власти и
создании законов, они даже не будут знать об истинных
целях самой этой политики, оставаясь не более чем объек-
тами политических проектов, разрабатываемых невидимой
элитой. Представители этой элиты выступают явными
представителями того образа, который некогда создал
Платон, — мудрые, жестокие, аскетичные, они заново бу-
дут формировать глобальный политический мир в масшта-
бах всей Земли, и для этого они будут законодательство-
вать, создавать новые нормы и ценности, призванные
оформить творимый ими новый мир власти и могущества.
Грядущая господствующая раса, о которой говорил
Ф. Ницше, новые хозяева Земли — это «новая, построен-
ная на жесточайшем само-законодательстве аристократия,
в которой воле философов насилия и тиранов-художников
будет дана закалка на тысячелетия; высший вид человече-
ского рода, который благодаря своему превосходству в во-
ле и знании, богатстве и влиятельности воспользуется де-
мократической Европой как своим послушным и динамич-
ным инструментом, чтобы взять судьбы Земли в свои руки,
чтобы над самим созданием «человек» поработать, как ху-
дожник над произведением искусства... Наступает время,
когда придется заново учиться политике» (Воля к власти.
П. 960).
«Большая политика» у Ницше означает прежде всего
политику господства; поэтому и термин «самозаконода-
тельствование», который он использует для ее описания,
не имеет никакого отношения к традиционным демократи-
ческим процедурам и связан главным образом с мораль-
ным самообразованием самих будущих властителей, при
этом «большая политика» предполагает гигантскую дис-
пропорцию власти, возникающую между новыми власти-
2. «Воля к власти» и выход в «большую политику» 99
телями и новыми рабами, между небольшой группой спе-
циалистов по дисциплине и воспитанию и темными масса-
ми, служащими материалом для их эксперимента1. Воля к
жизни у нового господина должна перерасти в волю к вла-
сти и даже владычеству, «риск, суровость, насилие, опас-
ность... неравенство прав, скрытность, стоицизм, искусст-
во испытателя, искусы и дьявольщина всякого толка —
короче, прямая противоположность всем вожделенным
стадным благодатям только и есть необходимая предпо-
сылка для возвышения человека как типа». Мораль таких
«обратных» (реакционных) намерений, предполагающая
вывести человека в выси, а не в уют и заурядность, «мо-
раль с прицелом взрастить правящую касту — будущих
хозяев Земли, — такая мораль, чтобы ее можно было ус-
воить и проповедовать, должна по первоначалу иметь со-
прикосновение с существующим нравственным законом и
оперировать его же словами и понятиями... Придется для
начала взрастить новый человеческий вид, в котором
обычной воле, обычному инстинкту будет сообщена закал-
ка и стойкость многих и многих поколений — новый гос-
подствующий вид, господствующую касту». Нужно под-
готовить обратную переоценку всех ценностей, предназна-
ченных для грядущего сильного вида людей высшей
духовности и силы воли (Воля к власти. П. 957).
В «Преодолении метафизики» М. Хайдеггер подчер-
кивает, что поскольку воля к власти достигает своей пре-
дельной обеспеченности, то в качестве «всеобеспечиваю-
щей» и тотальной она оказывается единственной «направ-
ляющей», а следовательно, единственно «правильной».
1 См.: Марты У. Указ. соч. С. 83.
100 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
Нормоустанавливаемость, «законодательствование» воли
к власти есть в то же время и ее самообеспечение — все,
что она будет волить, по сути правильно и соответствует
порядку, потому что воля к воле сама остается этим един-
ственным порядком, изначальное существо истины здесь
утрачивается; «правильное» («законоположенное») овла-
девает истинным и тем самым устраняет истину1. При этом
сама воля к власти крайне редко (только у самых достой-
ных и могущественных) выступает в этом качестве откры-
то; чаще всего она умело и постоянно маскируется. Так, во
всех политических событиях крупного масштаба бессиль-
ные и подвластные сначала требуют для себя только
«справедливости» от тех, в чьих руках находится власть;
затем они начинают громко взывать к «свободе» с явной
целью отделаться от тех, кто в данный момент обладает
властью; наконец, они уже требуют для себя «равных
прав», т. е. стремятся, пока еще сами не получили ощути-
мого политического перевеса, хотя бы воспрепятствовать
росту могущества других соискателей и конкурентов.
Ф. Ницше уверяет нас, что такая потребность в чувстве
власти всегда была свойственна не только государям и во-
ждям, но и низшим слоям народа, правда, оговаривается
он, здесь она проявлялась в «форме и обличье права и доб-
родетели». Средства, открытые людьми для того, чтобы
обеспечить себе чувство власти, составляют едва ли не всю
историю культуры, говорит Ф. Ницше в «Утренней заре»2.
Во всем живом присутствует воля к власти, и всякое
воление есть воление к господству; М. Хайдегтер, коммен-
1 См.: Хайдеггер М. Преодоление метафизики. С. 223.
2 См. об этом подробнее: Ясперс К. Ницше. Введение в понима-
ние его философствования. СПб., 2004. С. 424.
2. «Воля к власти» и выход в «большую политику» 101
тируя «Заратустру», отмечает, что подобная воля проявля-
ется одинаково в воле как служащего, так и подвластного,
но не в том смысле, что этот последний стремится перестать
быть «рабом», а в совершенно ином аспекте: «он есть раб и
служащий и как таковой вновь и вновь имеет в своем веде-
нии некий предмет своего труда, которым он сам «повеле-
вает»». Поскольку раб, повелевая материей труда, тем са-
мым делает себя незаменимым и для своего неработающего
господина, он привлекает его к себе и сам начинает как бы
«властвовать над господином» (здесь имеет место уже зна-
комый нам гегелевский мотив властвования—подчине-
ния) — именно таким образом бытие подвластного стано-
вится разновидностью его «воли к власти», но в самом «во-
лении-к-господству» никогда не было бы никакого
воления, если бы сама воля оставалась только стремлением,
а не превращалась бы в поведение, действование. М. Хай-
деггер замечает: сама воля не стремится к власти, она уже
пребывает в ее сущностной сфере, поскольку сущность
власти и есть воля к власти, поэтому и Ф. Ницше, вместо
того чтобы говорить о «власти», просто говорит о «воле»1.
«Воля к власти» может принять любую замаскирован-
ную и даже извращенную (т. е. категорически отрицаю-
щую собственное наличие, причем, как правило, в страда-
тельной и уничижительной форме) форму собственной
несостоятельности. Таким маскировочным выражением
может стать, например, «рабская» преданность, которая
на поверку сама оказывается только рафинированной фор-
мой чувства власти, ведь для слабых вполне справедливым
кажется такое представление: «Мы подчиняемся, чтобы
1 См.: Хайдеггер М. Ницше. СПб., 2007. Т. II. С. 232—233.
102 Глава 3. «Законе»дательствование» и господство Ф. Ницше
иметь свое чувство власти», для уже обладающих могуще-
ством характерно совершенно другое мнение: «Мы знаем,
что для людей, наиболее страстно стремящихся к власти,
особенно приятно чувствовать себя побежденными» —
таков, по Ф. Ницше, этот извращенный психологический
порядок «воли к власти»; но в плане социологическом
главным социальным отношением здесь все же всегда ос-
тавалась и остается нерасторжимая и классическая пара
«господство—служение», а эксплуатация — реальное
следствие всякой действительной воли к власти, высту-
пающее как реальность и изначальный факт всяческой ис-
тории: всегда и везде существует именно эта повсеместная
и постоянная борьба за власть в обществе и государстве и
ничего другого1.
Власть не может остановиться на стадии удовлетво-
ренности, т. е. на своем пределе, которого, вообще-то го-
воря, и не существует вовсе, во всех своих проявлениях
власть стремится к бесконечности, власть стремится к вла-
сти даже над самой собой. М. Хайдеггер был убежден,
что власть властвует только тогда, когда она становится
господином над уже достигнутыми ступенями властвова-
ния, и остается властью только в условиях постоянного
своего возрастания, когда она, подгоняя себя, заставляет
тем самым увеличивать себя самое. Стоит же ей застыть
на какой-либо точке ступени, как тут же начинается без-
властие, власть есть повеление, и как таковое она уполно-
мочивает сама себя к «сверхвластвованию» над той или
иной уже достигнутой ступенью власти, тем самым обес-
печивая одновременно и сохранение, и возрастание власти.
1 См.: Ясперс К. Указ. соч. С. 422.
2. «Воля к власти» и выход в «большую политику» 103
Но даже и само становление власти не есть просто некое
«неопределенное течение каких-то смутных изменений на-
личных состояний» или даже целенаправленное разви-
тие — это всегда только «властвующее преодоление тех
или иных ступеней власти»1. Бесконечное нарастание «во-
ли к власти» превращает «малую политику» в большую:
любой социальный или государственный организм не зна-
ет в своем нарастании собственных пределов, и только
встречное движение противоборствующей ему силы спо-
собно удержать его в границах. Уговоры, договоры, эти-
ка только лицемерные уловки слабых, они не могут задер-
жать движение силы, но могут быть использованы ею в
собственных политических целях: воля к власти порождает
«большую политику», а та в свою очередь открывает для
нее безграничные перспективы и пространства.
«Большая политика» Ф. Ницше есть доведенная до
совершенства политика в понимании Платона и Н. Ма-
киавелли, однако в этом контексте политика всегда озна-
чала только чисто инструментальную стратегическую дея-
тельность, «не отягощенное моральными предрассудками
использование власти, вплоть до злоупотребления ею,
безжалостное управление с помощью хитростей и обма-
на», и если целью политики является господство доброде-
тели, то ее средства могут быть совершенно недоброде-
тельными: политическая «мораль... есть средство обеспе-
чить чему-то долговечность, пренебрегая отдельным
человеком или, скорее, порабощая отдельного человека»
(Воля к власти. П. 730). Отсюда и все современные по-
литические идеи, такие, как «мир», «свобода», «равенство
Хайдеггер М. Ницше. С. 235—236.
104 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
прав», «демократия», «эмансипация» и даже уничтожение
рабства, кажутся Ницше поверхностными, фальшивыми,
наивными и нереалистичными. Все они принадлежность
«малой политики», время которой уже прошло; а следую-
щее столетие неизбежно принесет с собой борьбу за гос-
подство над Землей и тотальное принуждение к «большой
политике» — так говорит Ф. Ницше в работе «По ту сто-
рону добра и зла».
Переход к «большой политике» потребует создания,
воспитания «расы господ», из которой выйдут новые хозяе-
ва Земли. Эта новая аристократия будет основывать свое
существование и деятельность на строжайшем «самозаконо-
дательствовании», используя демократическую Европу, ее
парламентарные и законодательные традиции, как наиболее
гибкий и податливый инструмент обретения контроля над
судьбами Земли1 (предпосылки для этого уже имеются),
оправданием самого исторического существования демокра-
тии в Европе тогда станет приход взращенного на ее основе
нового правящего сословия, которое установит новую форму
рабства (ибо именно таков будет неизбежный конечный
удел европейской демократии), и появится «высший род
господствующих, кесарийских натур», который на это раб-
ство водрузится, опираясь на него, и затем, оттолкнувшись
от него, возвысится до новых своих горизонтов. Рисуя эту
картину, Ф. Ницше оптимистически оценивает ситуацию:
вид нынешнего европейца внушает достаточно надежд; «пе-
ред нами явно образуется дерзкая господствующая раса на
широкой основе чрезвычайно интеллигентного человеческо-
го стада» (Воля к власти. П. 954—955).
1 См.: Марты У. Указ. соч. С. 81—82, 84.
3. «Законодательствование», «сверхчеловек» и насилие 105
3. «Законодательствование», «сверхчеловек» и насилие
Новая «раса господ» у Ф. Ницше — это не просто новое
биологическое образование, это новый социальный и
культурный слой господ, который «мыслится как реактив-
но возникший из обратного торжеству посредственности
движения» и состоит из двух подгрупп: первый, господ-
ский тип является средством для сохранения политическо-
го «стада», это — «пастухи»; второй становится целью,
для которой вообще «стадо» только и существует, это —
«чистый тип господина». Как собираются «новые госпо-
да» управлять Землей? И здесь Ф. Ницше твердо опре-
деляет форму нового господства: главным средством для
этого станут служить законодательные моральные пред-
писания, в которых в качестве основных принципов будут
закреплены «опасность, жестокость, насилие, неравенство
прав, скрытность, стоицизм, искусство искусителя, ковар-
ство разного рода», — короче, противоположность всем
традиционным стадным пожеланиям.
Мораль, посредством которой человек будет воспиты-
ваться для высшего, а не для удобного и среднего, своей
целью будет иметь воспитание будущих господ Земли, а
по своей форме она должна будет с «явным лицемерием»
примыкать к уже существующему закону и выражаться в
привычных для массы терминах и намерениях. На этой ос-
нове только и становится возможным также и возникнове-
ние целых международных союзов, ставящих своей целью
воспитание «расы господ», будущих господ Земли, опи-
рающейся на «собственное законодательство» аристокра-
тии; «в этом законодательстве воле философствующих на-
сильников и тиранов от искусства» (явная отсылка к Пла-
тону) будет положен конец, а высший тип людей в своем
106 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
неодолимом превосходстве будет при этом пользоваться
институциями демократической Европы как «самым по-
следним и гибким орудием, чтобы завладеть судьбами
Земли, чтобы в качестве художника формировать челове-
ка». В любом случае в вопросах «большой политики» че-
ловечеству придется серьезно переучиваться, новый фило-
соф-законодатель может появиться только в связи с появ-
лением такой господствующей касты, призванной решать
вопросы «большой политики»1.
Характерно, что в законодательной функции властво-
вания насилие будет проявляться в значительно большей
мере, чем то имеет место в области исполнительной вла-
сти: «законодательствование» становится по-настоящему
децизионистским актом, решительным и творческим дей-
ствием, формирующим все первоначальные идеи, ценно-
сти и нормы; исполнительская же деятельность будет при-
звана лишь для того, чтобы реализовывать, опредмечивать
и овеществлять их. Именно законодательные акции пре-
одолевают (как и всякие новые идеи) сопротивление кос-
ной материи мира, порождая его новые структуры и ин-
ституции, законодатель, а не исполнитель, по существу
является управителем создаваемого им самим мира отно-
шений, и здесь приоритетность идеи над действием вновь
открывает дорогу платоновскому государственному и пра-
вовому идеальному строительству, имеющему своей ко-
нечной целью создание тотального единства властвования.
«Законодательные морали — вот главное средство, с по-
мощью которого человеку можно придать все, что угодно
1 См.: Вебер А. Прощание с прежней историей. Преодоление ни-
гилизма // Избранное: кризис европейской культуры. СПб., 1999.
С. 480—482.
3. «Законодательствование», «сверхчеловек» и насилие 107
творческой и глубокой воле, при том, что эта художествен-
ная воля высшего ранга располагает силой и имеет воз-
можность претворять свои творческие замыслы на протя-
жении длительных промежутков времени — в форме за-
конодательств, религий и нравов» (Воля к власти.
П. 957).
М. Хайдеггер, рассуждая о «большой политике»
Ф. Ницше, замечает, что величие «большого стиля» берет
здесь свое начало во властном размахе упрощения, кото-
рое по сути своей всегда является усилением; «поскольку
большой стиль заранее налагает свой отпечаток на всякое
намеченное господство над Землей и сохраняет свое соот-
несение с целым сущего, ему также принадлежит нечто ог-
ромное, подлинная сущность которого состоит, однако, не
в одном только нагромождении безмерно многого», — ог-
ромное, свойственное большому стилю, тем не менее берет
начало в малом1. Этим малым и является та простая исти-
на, которую несет в себе новый «господин мира»: утратив
веру в Бога, он сам хочет быть человеко-Богом; он творец
мира и его законодатель, отвергнув все старые ценности,
он создает новые, свои собственные. Макрокосм глобаль-
ной власти складывается из малых микрокосмов «воль к
власти», содержащихся в каждом живом существе, и
«большая политика» не может этого не учитывать, ведь
точно так же в каждом современном человеке парадок-
сальным образом уживаются раб и господин, воля к вла-
сти и отрицание этой воли (что, кстати говоря, тоже явля-
ется не чем иным, как перевернутой волей к власти). По-
следовательно устремленным к власти, устремленным без
1 См.: Хайдеггер М. Ницше. С. 272.
108 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
оговорок и малодушия, будет только грядущий «сверхче-
ловек», выступающий как некое родовое понятие, как тип,
как символ и идеал (как нечто подобное «большому чело-
веку» Эммануила Сведенборга), реализуемый уже за гра-
нью добра и зла и уже в ином трансцендентном на данный
момент для нас мире.
В сверхчеловеке уже таится его «собственная подсуд-
ность, не знающая над собой высших инстанций» (Воля к
власти. П. 962), в этой связи место и способ существова-
ния индивида и общества, их взаимоотношения и регули-
рующий их закон определяются по мере и способу той по-
велевающей силы, с которой они приступают к делу осу-
ществления безусловного господства человека над самим
собой; «сверхчеловек — это порода того человечества, ко-
торое впервые волит себя самое как породу и само пробива-
ется к ней». Порода, тип, качество — таковы онтологиче-
ские признаки и основания рождающейся касты «сверхлю-
дей», ее рождение — объективный (почти биологический)
процесс, и в нем даже шопенгауэровская воля выступает
как объективная реальность. В этом процессе субъект и
объект сливаются, разного рода мотивации и стремления,
свойственные индивиду, растворяются в тотальности об-
щей воли, воли к власти. В этой связи Ф. Ницше рассмат-
ривает даже справедливость только как функцию «широко
озирающей себя власти, которая выходит за пределы ма-
лых перспектив добра и зла, следовательно, имеет более
широкий горизонт преимущества — в намерении удер-
жать нечто большее, чем то или это лицо», и это — выход
за пределы всех прежних перспектив. Справедливость
всегда нацелена на достижение преимущества, выгоды,
поэтому она отсылает нас в область пользы, продуманного
3. «Законодательствование», «сверхчеловек» и насилие 109
обмана и расчета; она имеет своей целью достичь той челове-
ческой породы, «которую только еще надо вывести и воспи-
тать», привить ей способность устанавливать безусловное
господство над Землей, и только благодаря этому сущность
чистой воли предстает перед самой собой, т. е. приходит к
власти, — «общество никогда не понимало «добродетель»
иначе, как средство силы, власти, порядка» (Воля к власти.
П. 716).
«Сверхчеловек» — носитель истины, ее субъектива-
ция и ее создатель. Хотя истина и является необходимой
ценностью для воли к власти, однако она не рассматрива-
ется Ф. Ницше ни как высшее мерило ценности, ни, тем
более, как высшая власть. Она есть только условие сохра-
нения воли к власти, а связанная с истиной справедли-
вость рассматривается Ницше как специфический способ
мышления, проистекающий из определенных прагматиче-
ских оценок (так же и истина есть лишь вид заблуждения,
без которого не мог бы существовать определенный род
живых существ, ценность ее для жизни является ее по-
следним основанием). В этом способе мышления упрочи-
ваются ценности, выдержанные в определенном ракурсе
условия «воли к власти»1: великий человек во всем своем
«законодательствовании» и действовании руководствует-
ся долговременной логикой и обладает способностью про-
стирать свою волю над большими пространствами своей
жизни, пренебрегая мелочами; он холоднее, жестче, безог-
лядней, лишен добродетелей, связанных с «уважением»,
вообще лишен того, что относится к «добродетелям ста-
да», он предпочитает лгать, нежели говорить правду, ведь
1 См.: Хайдеггер М. Ницше. С. 276, 283, 286—287.
110 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
это требует значительно больше ума и воли (Воля к вла-
сти. П. 962). Отказ от этических требований не означает,
что «сверхчеловек» вообще отказывается от подчинения
закону. Просто этот закон он сам создает для себя, руко-
водствуясь высшей целесообразностью, присущей его ти-
пу, касте, расе. Воля к власти движет всей его законотвор-
ческой деятельностью, эта воля становится импульсом его
законодательной инициативы, формулировщиком норм и
предписаний и главной санкцией, обеспечивающей их ис-
полнение. «Законодательствование» «сверхчеловека» то-
тально, оно охватывает всю жизнь и весь мир.
Процесс творческой переоценки всех ценностей
Ф. Ницше называл именно «законодательствованием»,
правовые и моральные положения являются только след-
ствием совокупности оценок, которые должны быть соз-
даны в процессе объемлющего «законодательного фило-
софствования» (сама истина действительна лишь в борьбе
за власть, где она имеет свой первоисточник и свои грани-
цы). Законы в своей неприкрытой сформулированности и
своем формализме убивают, живыми и истинными они бы-
вают только тогда, когда их создают творческие законода-
тели, а «там, где замирает жизнь, там громоздятся зако-
ны», известно, что царства гибнут от множества законов.
По Ф. Ницше, право есть только «воля к увековечиванию
соответствующих отношений власти»; поэтому посредст-
венность всегда стремится установить право только с од-
ной целью — обеспечить себе гарантированное и благопо-
лучное существование в этом мире, и это ведет лишь к
бесконечному накоплению законов. В иных случаях лежа-
щие в основе права властные отношения приводят к гос-
подству «благородных высот человечности», и смыслом
3. «Законодательствование», «сверхчеловек» и насилие 111
права тогда становится обеспечение иерархии созидаю-
щих; в первом случае законодатель выступает как безлич-
ный законотворческий механизм, во втором — он стано-
вится личностью и чем-то даже большим, чем сам закон.
Поэтому «необходимо, чтобы общество в качестве своей
предпосылки репрезентировало высший тип «человека» и
чтобы оно уже отсюда выводило свое право бороться с
тем, что ему враждебно»1.
За спиной закона оказывается человек великой воли,
«сверхчеловек» как представитель своего типа, как оли-
цетворенная власть, диктующая формулы закона, власть,
одновременно и создающая, и исполняющая закон. Таким
образом, вся политике-правовая деятельность общества
оказывается подчиненной единственной цели — взращи-
ванию человека нового типа; этому подчинена его зако-
нотворческая функция, для этой цели оно использует все
существующие политические и правовые институты.
Движущей силой этого процесса является власть, кото-
рая не может оставаться на месте, не может довольство-
ваться достигнутым, динамика которой требует выхода
политики за пределы ее локальных побед, требует гло-
бальных масштабов достижений, «большой политики»,
субъектом и организатором которой может стать только
«сверхчеловек».
Чтобы обеспечить свой приоритет по отношению к
праву, власть без колебаний прибегает к насилию: новые
ценности, идеи и нормы внедряются в сознание масс по-
средством либо открытого, либо тайного насилия, путем
физического или психического воздействия. Только в жес-
1 Ясперс К. Указ. соч. С. 364, 385.
112 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
токой борьбе с темной и инертной массой может родиться
индивид высшего типа, «сверхчеловек», по Ф. Ницше.
«Господствующая раса способна произрасти только из
ужасающих и насильственных начал», новые варвары
выйдут и консолидируются только после полосы «чудо-
вищных социалистических кризисов — это будут элемен-
ты, которые способны на величайшую суровость к себе и
смогут гарантировать волю самой долгой выдержки» (Во-
ля к власти. П. 868), это будут люди длинной воли...
Мир, порождаемый современной демократией, как это ни
странно звучит, превращается в удобное средство для осу-
ществления этого нового типа господства, именно демо-
кратия (этот «рок, угрожающий в корне разрушить все
существующее») и создает необходимые предпосылки для
будущего господства, небывалого, охватывающего Землю
в целом. Падение религиозной веры и крах прежних цен-
ностей создали трагическую неуверенность в жизни и су-
ществовании почти всех слоев современного общества,
превратив человека в «песок», ненадежность существова-
ния и экзистенциальный трепет столь велики, что перед
любой реальной силой, «перед каждой силой воли, кото-
рая приказывает, люди падают в прах». В этой ситуации
как раз и появляются новые люди «длинной воли»; эти но-
вые господа пользуются демократией и одновременно уп-
раздняют ее как таковую — сама их сущность определя-
ется политической конъюнктурой и складывающейся об-
становкой, однако, в отличие от господства народа,
которое в демократических условиях, нивелирующих и
развращающих, выступает как господство качеств, кото-
рые особенно характерны для массы, новое господство бу-
дет и должно вырастать из невидимой, но неразрывной
4. «Самое холодное из чудовищ» 113
«связи, существующей между субстанцией повинующихся
и волей господ».
Как пишет Карл Ясперс, «надежду Ницше составляет
отважная господствующая раса, располагающаяся над
всей чрезвычайно культурной стадной массой». При этом
новые господа не просто диктаторы, которые отдают свои
приказания, исходя только из какой-то абстрактной исти-
ны или сверхчеловеческого величия, они «мужи народа», в
борьбе завоевывающие его доверие. Организующая и на-
сильственная власть всегда должна иметь определенное
отношение к «роду того, чему должно быть организован-
ным», поэтому она в истинном смысле «плоть от плоти»
той среды, которую она же и покоряет и над которой гос-
подствует. Новые господа будут основывать свое правле-
ние на самом жестоком законодательстве как по отноше-
нию к другим, так и в отношении самих себя, правление,
«в котором воле людей-философов, отправляющих на-
сильственную власть, и воле тиранов-художников дается
срок на тысячелетия... Высший род людей, пользующихся
демократической Европой как культурным орудием с це-
лью заполучить в свои руки судьбы всей Земли, чтобы в
качестве политических художников придать нужную фор-
му самому «человеку»»1, будет господствовать в веках.
4. «Самое холодное из чудовищ»
Актуальной формой организации в современном общест-
ве, наиболее продуктивной и репрезентативной, является,
по мнению Ф. Ницше, форма государственности с ее не-
1 Ясперс К. Указ. соч. С. 380—381.
114 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
оспоримой монополией на насилие, ведь именно государ-
ство становится той высшей формой «произведения ис-
кусства», посредством которой творится и весь новый
мир.
Но какие бы формы государства и общества ни рож-
дались в мире, все они всегда будут оставаться формами
рабства, а «те немногие, кто принадлежит самим себе»,
будут господами; в этой принадлежности самому себе
Ф. Ницше улавливает то единственное состояние творче-
ского мышления, в котором подлинное и невидимое гос-
подство и уже практически не действующее его понимание
становятся тождественными; «большая политика» не
только выражает волю к господству, уже мыслить ее —
значит в конечном счете обладать фактическим господ-
ством. (Ф. Ницше заявлял: «стремление к господству мне
часто представлялось внутренним признаком слабости...
Наиболее могучие натуры господствуют — не в силу не-
обходимости... даже если они при жизни хоронят себя в
каком-нибудь садовом домике»1.)
В современной ему государственности Ницше прежде
всего отмечал «чрезмерное развитие промежуточных ин-
станций и разного рода опосредствующих личностей», па-
разитирующих и дублирующих действительно работаю-
щие органы и институции (так, «профессиональные» по-
литики, благоденствуя, очень артистично представляют в
парламентах наблюдаемое ими бедственное положение на-
рода). В связи с этим весь социальный вопрос только
следствие нравственного и интеллектуального декаданса;
особенно характерен здесь пример социализма, этого до-
Ясперс К. Указ. соч. С. 398.
4. «Самое холодное из чудовищ» 115
веденного до завершения «господства ничтожнейших и
глупейших» (для Ницше «христианство, гуманизм, Фран-
цузская революция и социализм — одно и то же»), при
котором наступает царство небесное бедных духом. Прав-
да, в качестве политического «крота, пребывающего под
почвой пребывающего в глупости общества», социализм
может оказаться даже очень полезным для дела самих бу-
дущих господ, ведь он задерживает «наступление мира на
Земле» и постоянно будоражит чувство стадного и полно-
го спокойствия, свойственного этому «стадному демокра-
тическому животному», заставляет европейцев сохранять
хотя бы некоторую осторожность и остатки их прежней
военной добродетели.
Духовное же либеральное и гуманистическое просве-
щение — верное средство воспитать в людях чувство не-
уверенности и слабости, т. е. те качества, которые также
затем могут быть с успехом использованы «новыми гос-
подами». «Смысл стада должен господствовать только в
стаде», поэтому даже новую добродетель и новые ценно-
сти ему, стаду, следует представлять под видом и наиме-
нованием старых и знакомых ему вещей (так обстоит дело
и с большинством демократических завоеваний Евро-
пы) — с тем большей эффективностью их можно будет
использовать для установления нового господства и ново-
го порядка1.
В процессе возникновения государства решающую
роль чаще всего играло отнюдь не благоразумие, а спон-
танные импульсы героизма и вера в то, что в мире сущест-
вует нечто более высокое, чем только суверенитет отдель-
1 См.: Вебер А. Указ. соч. С. 476—478.
116 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
ного лица, некое благоговение перед родом и старейшина-
ми, перед смертью, перед чем-то духовно превосходящим
и победоносным, «восторг воплощенной встречи со своим
идолом». Когда же функцией государства становится
главным образом закрепощение, осуществляемое в инте-
ресах и в пользу массы и посредственности, незаменимый
и выдающийся человек уже не важен для государства, ему
нужны теперь только «лишние» и заменимые, только
«твой ранг определяет то количество могущества, которое
есть ты: остальное — трусость» (Воля к власти. П. 858),
и ужасным и неизбежным следствием «равенства» стано-
вится ситуация, когда каждый начинает полагать, что
«имеет право на решение любой проблемы, — тогда вся-
кой иерархии рангов придет конец» (Воля к власти.
П. 860).
Государство, рождающееся и существующее как
иерархия, утрачивает смысл своего существования, когда
становится «государством массы». Утрата метафизики
иерархии и ранга (не правового статуса, не чина и должно-
сти), являющаяся следствием утраты веры, неизбежно ве-
дет к омассовлению, процессу, в ходе которого государст-
во «выталкивается» из системы властеотношений. Сама
же власть остается существовать уже в недрах массового
общества (которое может называть себя «гражданским»,
оставаясь массовым по сути), власть и государственность
как бы разделяются; утратив свои органические корни, го-
сударство превращается в бездушный механизм, который
власть использует только как соответствующий инстру-
мент, в котором выдающееся значение придается только
одной функции — насилию. Во всяком случае первопри-
чиной государственности для Ф. Ницше всегда оставалась
4. «Самое холодное из чудовищ» 117
«свирепая, ненасытная, порабощающая массы насильст-
венная власть», только ее железные скрепы и связывали
воедино и единовременно осуществляли иерархическую
дифференциацию аморфной массы, последняя же очень
скоро забыла об этом ужасающем происхождении госу-
дарственности, и очень скоро государство стало восприни-
маться ею только как большее благо. Великой целью госу-
дарственного искусства Ф. Ницше считал прежде всего
достижение социальной устойчивости, которая по значе-
нию перевешивает собой все остальное, «ибо для массы
она более ценна, чем свобода».
«Самым холодным из всех чудовищ» называет
Ф. Ницше государство — оторванное от своей творче-
ской основы, оно может стать силой, уничтожающей за
счет механической нивелировки всяческое подлинное бы-
тие человека; этот новый идол сам высокомерно заявляет о
себе: «Я есть народ»; и Заратустра говорит в этой связи:
«Рождается слишком много людей, для лишних изобрете-
но государство», ведь для живущих не в государстве оста-
ется только масса1, само же государство выступает как
«организованная аморальность: внутри себя — как поли-
ция, уголовное право, сословия, торговля, семья; вовне се-
бя — как воля к могуществу, к войне, к захватам, к мести»
(Воля к власти. П. 717).
Когда государство поднимается над обществом и от-
рывается от него, непосредственным объектом его регули-
рования и притязаний, а значит, и его субстанцией, остает-
ся масса. Общий и абстрактный характер регламентации
относится только к ней, точно так же, как и к абстрактно-
См.: Ясперс К. Указ. соч. С. 361—363.
118 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
му человеку «без свойств». Потеряв свою реальную соци-
альную основу, государство становится «общенародным»,
действительно существующая в обществе дифференциа-
ция, как и непреодолимые природные и качественные раз-
личия, существующие между людьми, формально и юри-
дически игнорируются и становятся латентными. Ф. Ниц-
ше точно заметил, что такая тенденция к уравниванию и
связанное с ней стремление к «нейтрализации» государст-
ва свойственны одновременно как буржуазному либера-
лизму, так и пролетарскому социализму (правда, этот по-
следний объявлял об отмирании государства только в да-
леком и неопределенном будущем); государственный
нигилизм обоих течений Ницше объяснял пустотой прису-
щей им формы, обезличенностью и абстрактностью их
представлений о сущности власти.
Буржуазная демократия современности не обладает
никакой реальной субстанцией, она есть только «истори-
ческая форма упадка государства», тогда как радикальный
социализм содействует наступающему деспотизму. При
этом оба эти движения определенно способствуют дегра-
дации человека до уровня стадного животного, как обра-
зованные представители имущих сословий, так и необра-
зованный класс неимущих рабочих одинаково широко ох-
вачены этим нивелированием. («Европейская демократия
в наименьшей мере есть высвобождение сил. Она прежде
всего высвобождение леностей, усталостей, слабостей»
(Воля к власти. П. 762).) В противовес этому и в целях
преодоления деградации и нигилизма Ф. Ницше и выво-
дит фигуру своего «сверхчеловека» (Карл Лёвит полагал,
что эта идея, хотя и не имеет социального содержания и
политического смысла (?), все же играет ключевую роль в
4. «Самое холодное из чудовищ» 119
его планах взращивания будущей элиты господ, которая
даст стадному человеку демократии более конкретную
цель его существования). Сама посредственность боль-
шинства становится условием для появления в ее среде яр-
ких исключений, когда рядом со «стадными животными»
возникают «животные-вожаки», и демократическое ра-
венство само по себе оказывается благодатной средой, в
которой к уже народившейся новой форме рабства при-
бавляется «тот высший род властного и царственного ду-
ха, который основывается на нем, держится за него, воз-
носится благодаря ему».
Дрессируемость человека в демократической Европе в
настоящее время уже стала чрезвычайно велика и эффек-
тивна, люди, которые столь легко обучаются и столь легко
покоряются приказам, составляют теперь явное большин-
ство, и тот, кто сам может приказывать, легко найдет
здесь тех, кто должен повиноваться, — именно демокра-
тия порождает массу, так послушную «большой полити-
ке». Новые господа встанут перед массой как ее законода-
тели и властители одновременно, трудящиеся же массы
под их руководством научатся «ощущать себя солдатами»
и, как солдаты, беспрекословно станут исполнять то, что
им прикажут.
Будущие господа Земли будут использовать нивели-
рование как верное средство для достижения своих целей,
однако этот процесс не может не затронуть и самих основ
властвования — власть постепенно начинает переходить в
руки формируемых в массовом количестве посредственно-
стей, поскольку в «мелочную эпоху» именно они и остают-
ся в живых для неведомых целей будущего. Центры куль-
туры и власти в человечестве смещаются в их сторону и
120 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
переносятся на размытые множества людей посредствен-
ных, и сама посредственность как гарант и носительница
будущего консолидируется в противостоянии господству
черни и эксцентриков — и из этого ее позиционирования
для новых господ вырастает новый противник или новый
соблазн. Для того чтобы не приспосабливаться к мнениям
и требованиям черни и «не петь песен в угоду инстинкту
тех, кому ничего не досталось в наследство», новые госпо-
да будут вынуждены сами становиться «посредственно-
стями и солидными», т. е. обуржуазиваться, — и тогда
весь уже отживший мир идеала может вновь обрести сво-
их талантливых заступников, ведь тогда «посредствен-
ность получит ум, остроумие, гений, она станет интерес-
ной»1.
Правовой аспект нивелирования, прямо бросающийся
в глаза, — это юридическое равенство, при котором субъ-
екты формально равны, фактически же жестко дифферен-
цированы по своим имущественным, политическим и ан-
тропологическим возможностям и качествам, и это несов-
падение порождает новый ресентимент, за которым
неотступно следуют социальная пассивность, безынициа-
тивность и бездуховность. Юридическое уравнивание то-
гда неизбежно превращается в процесс омассовления и
технизации всего, бывшего органическим, народ тогда ста-
новится массой, а индивидуальность — изолированным в
толпе индивидом. Правовое уравнивание и унифицирова-
ние не могут не быть механическими процедурами обезли-
чивания: в прокрустовом ложе юридической калибровки
формуются вполне типовые (и это — при утрате самого
1 Лёвит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мыш-
лении XIX века. СПб., 2002. С. 429—432.
4. «Самое холодное из чудовищ» 121
качественного типа человека) «винтики» большой и без-
душной машины, этого «самого холодного из чудовищ».
Сама идея унифицированного человека рождается только
в условиях буржуазной демократии: здесь труд и произво-
дительность становятся общей нормой человеческого су-
ществования, а безличный закон и капитал — новыми
трансцендентными, заменившими Бога ценностями. При-
ход к власти «среднего класса», ставший следствием рево-
люции, означает не что иное, как девальвацию духовно-
сти, победу материализма и явный симптом нигилистиче-
ской деградации. «Средний класс» — это синоним
посредственности, он — торгаш по своей натуре, и Ницше
был убежден в том, что и сама эта «власть середины будет
поддерживаться торговлей, инстинкт крупного финанси-
ста не приемлет никаких крайностей. Им не нужны ни ре-
волюции, ни социализм, ни милитаризм. Им необходимо
время от времени нагонять страх на другие, радикальные
направления, демонстрируя, сколько всего у них в руках...
Всюду, где есть власть, они умеют быть при власти, но ис-
пользование этой власти всегда идет только в одном на-
правлении. Как известно, благородный синоним «посред-
ственного» — слово «либеральный» (Воля к власти.
П. 864).
И либералов, и социалистов Ф. Ницше убежденно от-
носил к негативным силам, носительницам нигилистиче-
ского начала. Внешне их объединяет признак, который мо-
жет показаться вполне положительным качеством, — это
приоритетность труда как особой формы существования
(правда, буржуа, капиталист получает от этого способа
бытия значительно большую пользу, чем эксплуатируемый
ими рабочий); труд объединяет антагонистов в едином
122 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
процессе, сублимирует вечную ресентиментную напряжен-
ность и усредняет всех без исключения индивидов на почве
производства и распределения материальных благ в рамках
общества потребления. Утрата ценностей и качественных
различий компенсируется всеобщностью труда, утрата
привилегий и индивидуальной свободы — всеобщим ра-
венством прав; Ф. Ницше считал главным признаком ни-
гилизма разрушение иерархического порядка. Но ниги-
лизм проявляется не только в процессах уничтожения, но и
в попытках создать устойчивый порядок насильственным,
жестоким путем, порядок, в котором человек остается про-
зябать подобно роботу, — здесь нехватка смысла и пони-
мания удачно сопрягается с работой. «Мир работы, вра-
щающийся в самом себе и довольствующийся экономиче-
скими и техническими критериями, гонит по кругу массы
рабов труда. Процесс работы, в котором гибнет все, явля-
ется целесообразным, рационально продуманным, но поте-
рявшим свой смысл. Он только заглатывает в себя все во-
круг, поглощая больше, чем производит»1.
В нигилизме рождается и новый рабский ресентимент,
глухая ненависть и протест, направленные против порядка,
государства и органичности вообще, рождается некое
«...социальное месиво, следствие революции, установле-
ния равных прав, суеверие «равенства людей». При этом
носители инстинкта упадка (обиды, неудовлетворенности,
тяги к разрушению, анархизма и нигилизма), инстинкта
рабства, инстинкта трусости, хитрости... тех слоев, кото-
рые долго держали внизу, норовят смешаться с кровью
всех иных сословий; еще два-три поколения — и расу не-
1 Юнгер Ф. Ницше. М., 2001. С. 203.
4. «Самое холодное из чудовищ» 123
возможно будет узнать, все будет испоганено чернью»
(Воля к власти. П. 864). Юридическое равенство здесь
вполне достигнет своей цели, породив наряду с внешним и
механическим единством нигилистическую безответствен-
ность индивида, доверившего свою политическую волю
гигантскому и безликому монстру, новому Левиафану.
Ф. Ницше вопрошает: «Как достигается, что государ-
ство делает уйму вещей, на которые отдельный человек
никогда бы не сподобился?» И отвечает: через разделение
ответственности — приказа и его исполнения, через про-
кладывание между ними границы из «добродетелей послу-
шания, долга, любви к отчизне и правителям, через под-
держание гордости, строгости, силы, ненависти, мести...»
(Воля к власти. П. 717). И хотя в основном все, что чело-
век делает на своей службе государству, по сути претит са-
мой его природе (Воля к власти. П. 720), все же именно
государство как наиболее эффективный инструмент дис-
циплины и культивирования общежития, как создатель
порядка и иерархии постоянно остается обязательным ат-
рибутом и институтом человеческого общества, и всегда
этот институт неизбежно основывается на жестокости и
насилии, он выполняет свои функции путем завоевания и
порабощения, представляя собой классическую тиранию,
безжалостную машину, предназначенную для обработки и
формовки человеческого сырого материала. Поэтому и
формы государственности не могут быть ничем иным, как
разнообразными формами рабства, любое государство
есть всегда «отнимающий» институт принуждения, орга-
низованное насилие и «предательское безумие», и по-
скольку секулярное государство не имеет в себе достаточ-
ного (т. е. метафизического и сакрализованного) авторите-
124 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
та власти, постольку оно не имеет и вполне законного
права на ограничение человеческой свободы, и поэтому
«дисциплинарную», т. е. регулирующую и санкционирую-
щую саму жизнь и свободу индивидов власть может осущест-
влять только какая-то другая, скрытая сила. В то время как
основанная на принципе демократии политика слабеет, не-
контролируемые и скрытые формы власти обретают все
большую силу. Упадок демократической политики совпа-
дает с подъемом новой разновидности «большой полити-
ки», осуществляемой «более или менее угадываемыми иг-
роками мировой политической сцены», когда вместо демо-
кратических решений наднациональную и национальную
экономику, а за ней и политику начинают определять и
формировать «темные рыночные силы и мощные личные
интересы».
Народ и государство не являются отделенными друг
от друга сферами, «современное государство — таков
принцип легитимности — есть только исполнительный
инструмент суверенной воли народа», и в этой связи
Ф. Ницше указывает на два глубинных изменения, обу-
словленных этим принципом и происшедших в самой
сущности власти: эмансипацию политики и правления от
религии и постепенное ослабление самого авторитета вла-
сти. Рациональная теория «народного суверенитета» не-
избежно провоцирует все новые и новые революционные
перевороты в сфере социальных отношений, и в большин-
стве случаев термин «народная демократия» отсылает нас
уже не к политическим, но к сугубо социальным и даже
ментальным трансформациям: если абсолютная власть
постепенно исчезает из политической сферы, она должна
неизбежно исчезнуть и из других сфер общества, особен-
5. Нивелирование, вожди, масса 125
но из сферы морального поведения и морального мышле-
ния.
Именно изменениям в этих областях Ф. Ницше и уде-
ляет особое внимание, не придавая при этом особого зна-
чения таким формально-правовым и общеполитическим
вопросам, как легитимность политического строя, консти-
туции, гражданским свободам и правам человека, полити-
ческим процедурам и формам политического участия1. По
своему историческому происхождению государство всегда
есть прежде всего инструмент покорения и подчинения,
при помощи которого кастовый военный порядок созда-
вался из хаоса неорганизованных масс, и очевидно, что без
духовного авторитета никакие политические институты не
могли и не могут осуществлять реальную власть. Статус и
ранг, так же, как и всякое юридическое оформление, не
могут обеспечить господствующее положение, если отсут-
ствуют волевые и духовные его предпосылки: люди «дол-
гой воли» сами берут и формируют нужную им власть, за-
тем оформляя ее в ими же создаваемые правовые артику-
лы; законодательствование как процесс всегда остается
вторичным по отношению к первичной и исходной «воле к
власти».
5. Нивелирование, вожди, масса
Фридрих Юнгер заметил, что ницшеанская концепция
«сверхчеловека» предполагала наличие обширного про-
цесса нивелирования: не может быть «сверхчеловека» без
«недочеловека» (Ф. Ницше называет его «последним че-
1 См.: Марты У. Указ. соч. С. 86—87, 92—94.
126 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
ловеком»), такое нивелирование предполагает также по-
явление родового понятия «человек», которое как некая
конкретность уже утратило свой смысл; потеря веры, «по-
лучив огласку», ведет к исчезновению страха, авторитета,
доверия, ведет к примитивности стремлений, опошле-
нию — тогда наиболее «пошлый род людей» получает
власть, оттеснив от нее аристократов и священников, мас-
са шумно наступает на своих бывших правителей. Именно
в этой ситуации и начинается формирование «сверхчело-
века»: в это время наиболее выдающиеся люди, которые в
прежние времена вполне могли бы принадлежать к гос-
подствующему классу, переходят в состояние внутренних
эмигрантов, они теперь только наблюдатели эпохи и жи-
вут за спиной событий, ограничивают себя в общении ради
сохранения наибольшей своей независимости и никак «не
желают быть бюргерами, политиками и собственниками».
Эта некая тайная школа «сверхчеловеков» существует до
той поры, пока не пройдет всеобщее сумасшедшее опьяне-
ние анархией и нигилизмом, вот тогда-то новая порода лю-
дей, взращенная в затворничестве и отшельнической ду-
ховности вдали от жестокой суеты дел и интересов, и вый-
дет на арену «большой политики»1.
Новые господа будут ставить своей целью не только
закрепление собственного господства, но и общее «повы-
шение в индивиде возможного человеческого уровня»,
начнут заниматься евгенетическим преобразованием чело-
века, которое в демократическую эпоху происходило лишь
в одном направлении уравнивания, — эта деятельность
позволит им обеспечить «продолжительное существование
1 См.: Юнгер Ф. Указ. соч. С. 199—200.
5. Нивелирование, вожди, масса 127
своего сословия». Задача по воспитанию человека мас-
сы — одно из важных предназначений «сверхчеловека»:
он «вытягивает» из аморфной, однообразной, инертной
массы на поверхность активной политической и культур-
ной жизни наиболее выдающихся индивидов. Путем жест-
кого естественного отбора и под руководством «сверхчело-
века» формируется новая политическая элита управителей
и философов, но и сама масса не остается без внимания ее
господ, в новом обществе обычный человек находит удов-
летворение в своем естественном и неизбежном «рабстве»,
и здесь же он находит достаточные возможности для сво-
его роста, ведь очевидно, что нельзя мерить каждую из
разновидностей человека только по единой, якобы общече-
ловеческой мерке1.
Как в массе, так и в элите идет и будет идти непре-
рывная борьба за первенство и за власть, М. Хайдеггер
наиболее ярким образом представил ту ситуацию перма-
нентной борьбы, которую Ф. Ницше разглядел в надви-
гающейся на мир эре, этом новом зоне существования уже
нового человечества, эре нивелирования и нового господ-
ства. В любой борьбе определяющими моментами являют-
ся борьба за власть и сама власть, как со стороны власт-
вующих, так и со стороны борющихся за власть принцип
власти возводится в принцип абсолютного господства вла-
сти. При этом воля к воле только уполномочивает саму эту
борьбу, власть же благодаря этой борьбе «овладевает че-
ловеческими массами таким образом, что лишает людей
возможности когда-либо выбраться на ее путях из забве-
ния бытия». Борьба за власть неизбежно планетарна и как
1 См.: Ясперс К. Указ. соч. С. 382.
128 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
таковая по сути своей безысходна, поскольку она отлучена
от всякого различения и истины, вытеснена в « оставлен -
ность бытия».
Возникающая отсюда униформность, когда все сво-
дится только к планируемому обеспечению нужного по-
рядка, подчиняющего сущее воле к воле, обусловливает и
единообразие руководства, для которого «любая государ-
ственная форма есть уже просто одно из орудий власти в
числе других». Тогда сущее расплывается до неразличимо-
сти, а выступающий вперед прагматический принцип
«производительности» вызывает к жизни необходимость
новой иерархической упорядоченности, поскольку сама
эта идея «производительности» только создает «равно-
мерную пустоту использования всякого труда в обеспече-
нии порядка». Это безразличие, считает М. Хайдеггер, не
совпадает с простым нивелированием, не идущим дальше
отмены прежних иерархических порядков, «безразличие
тотального потребления вытекает из «положительного»
недопущения какой-либо иерархии... Земля оказывается
немиром блуждания»1.
Когда процесс нивелирования доходит до своей пре-
дельной нулевой точки, где будет достигнуто необходимое
количество равенства, тогда само нивелирование испыты-
вает неожиданное превращение, изменив направление
своего движения; вот тогда-то и наступает ситуация дик-
татуры: появляющийся на политической арене вождь-дик-
татор правит уже не правдой и не в силу договора, а в силу
непосредственного мандата самих масс, защитником кото-
рых он себя представляет и которые признают в нем сво-
Хайдеггер М. Преодоление метафизики. С. 224, 228.
5. Нивелирование, вожди, масса 129
его суверена. Выравнивание различий (сословных, имуще-
ственных, образовательных, национальных, культурных)
ведет лишь к перераспределению ресурсов, но не создает
новых ценностей, это — дело и удел немногих и выдаю-
щихся. Масса существует, чтобы потреблять, а не произ-
водить, она стремится только к одному — размыванию
различий, однако и этому есть предел, критическая точка,
от которой процесс нивелирования должен пойти вспять.
Власть не в состоянии исчезнуть вовсе, и, когда ее нивели-
рование достигает крайнего предела, она вновь концентри-
руется в точку, центр, из которого ее круги снова начина-
ют расходиться в политизируемое пространство: это есть
момент диктатуры, рождающейся после аморфности хао-
са, — дорога к равенству приводит к деспотизму. (Еще
Аристотель предостерегал жителей полиса от излишнего
увлечения идеей равенства, и исторический опыт только
подтвердил его опасения.)
Диктатура возникает в начале нового движения, что-
бы создать для него необходимое пространство, и затем
она вновь проявляется в конце этого движения уже для то-
го, чтобы сформировать некое состояние «минимум»; само
же стремление к равенству реализуется в форме центра-
лизма, который «работает одновременно по горизонтали и
по вертикали. Ибо равенство как горизонтальный прин-
цип может пробить себе путь лишь тогда, когда оно укреп-
ляется и по вертикали, — разумеется, не в смысле некоей
иерархии, а машинально, бюрократически, организацион-
но». В то время как нивелирование устраняет сначала со-
словия, потом партии, а затем и целые классы и когда ис-
чезают все конституционные признаки и определения де-
мократии, «на первый план все более явственно выступает
130 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
единообразная компактная масса, которой присуща тен-
денция к концентрации, к сплочению, к скучиванию на не-
больших пространствах»1.
Вождь массы, берущий в этой ситуации все дела в
свои руки, сам принадлежит к массе, он не единичный ин-
дивидуально определенный человек, а «актер», функция,
маска, ведь массу может представлять только «актер», ес-
ли здесь вообще еще может идти речь о какой-то репре-
зентации в политическом смысле. Масса и реагирует
только на «актера», вообще он тот единственный, кто еще
способен вызвать у нее хоть какую-то реакцию, но он не
является ее подлинным властелином, а лишь изображает
господство, внешне только подражая ему. Диктатор вовсе
не независим от массы и вовсе не отделен от нее посред-
ством своей воли — без массы он вообще не существует;
с нею же он просто инструмент, по необходимости испол-
няющий свою машинальную работу, «он следует монотон-
ности слепо работающего элементаризма», и только само
состояние «минимум», достигнутое вследствие процесса
нивелирования, принуждает его работать с помощью уже
чрезвычайных и насильственных средств, когда он прояв-
ляет свою волю и решительность; «великий человек» тон-
ко чувствует свою власть над народом, свое временное
совпадение с народом или тысячелетием, при этом он
очень хочет внедрить свой образ в сознание и существова-
ние больших людских сообществ (Воля к власти.
П. 964).
Вождь массы олицетворяет собой ее эвдемонически-
социальный идеал и обещает исполнение всех ее желаний.
Юнгер Ф. Указ. соч. С. 224—225.
5. Нивелирование, вожди, масса 131
Опасность, однако, заключается в том, что стремление к
этому идеалу развязывает некое непрогнозируемое, унич-
тожающее, нигилистическое движение, выходящее за пре-
делы исторического изменения и приобретающее характер
стихийной катастрофы, — «массовую жажду смерти»,
стремление к концу усиливается по мере самого образова-
ния массы, желание положить всему конец концентриру-
ется в ее амбициозном представлении о том, что можно
взорвать даже Землю... «Однако самой массе полагают
конец отнюдь не разрушительные средства — виною это-
му становится процесс дробления, потребляющий ее са-
мое. Вот он-то и есть конец движения и одновременно на-
чало чего-то нового». Эвдемонически-социальный идеал,
в котором Ф. Ницше увидел идейную основу будущего
«идеального рабства», неизбежно приводит к исчезнове-
нию в жизни человека таких основополагающих ориенти-
ров, как история и судьба; сокровенное же желание чело-
века массы заключается только в том, чтобы разом и окон-
чательно избавиться от всех страданий, «навсегда закрыть
двери, ведущие к трагедии жизни». Поэтому и путь мас-
сы — назад, мимо историчности к стихии, в которой она
хочет раствориться, чтобы не переживать ее экзистенци-
альной трагичности, лишиться формы, ведь она видит в
страдании только бессмыслицу и желает благополучно
жить без боли. Но здесь как раз и выражается та самая ее
глубинная тоска по смерти, которая представляется ей
только чистым «ничто», и эта тоска еще более «способст-
вует разворачиванию жизненной механики с ее автоматиз-
мом, ибо человек стремится безболезненно раствориться в
безыдейной машинерии, ожидая от нее исполнения всех
своих желаний. Человек надеется, что она снимет с него
132 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
бремя и будет заботиться о его благополучии, как армия
безмолвных услужливых рабов»1.
Странный парадокс завершает все движение: «люди
хотят свободы до тех пор, пока они не имеют никакой вла-
сти. Получив какую-то власть, они уже хотят сверхвласти,
господства; и только не завоевав господства, они начина-
ют требовать «справедливости», т. е. равной власти: но са-
мый страстный, самый сущностный позыв человека, его
тягу к власти — эту тягу называют «свободой» — требу-
ет самого долгого сдерживания... Этика... связывает тира-
нического индивидуума и всячески поощряет... стадный
инстинкт власти» (Воля к власти. П. 720, 784). Мораль,
нравственность, этика, право оказываются совершенно
излишними в эпоху господства машинерии, эти ценности
являются лишь соблазном для инертной массы, внушая ей
мысли о равенстве прав и справедливости и тем самым за-
трудняя для элиты возможность манипулировать этой
массой. Странным образом из движения к свободе, равен-
ству, справедливости вырастает только новое господство,
еще более мощное и всеохватывающее, чем то, которое
имело место прежде и которое было, как казалось, так ус-
пешно преодолено.
6. Господство и масса
«Морали» — это выражения локально ограниченных
иерархий в нашем многообразном мире влечений. Так, од-
но влечение оказывается как бы господствующим, а его
противоположность ослабляется, уничтожается, превра-
Юнгер Ф. Указ. соч. С. 235—236.
6. Господство и масса 133
щается в импульс, который задает раздражители для дея-
тельности главного влечения (Воля к власти. П. 966).
Ф. Ницше говорил, что истинная реакция есть реакция
действия, однако же главная роль реактивных сил состоит
как раз в ограничении действия; они разделяют, замедля-
ют или мешают ему, исходя из другого действия, — отсю-
да и ресентимент, или злопамятность, представляет собой
форму или тип, в котором реактивные силы неизбежно
одерживают верх над активными, поскольку сами они ук-
лоняются от действия. Рабская психология по сути своей
реактивна, и формула, которую она возглашает, звучит
так: «Ты зол, следовательно, я добр», злой здесь как раз
тот, кто действует, кто активен, кто не воздерживается от
действия; добрым же выступает тот, кто от него воздер-
живается. Поэтому с этой точки зрения добр всякий, кто
никому не причиняет насилия и ни на кого не нападает; так
рождается этическая детерминация добра и зла, оттесняю-
щая на задний план детерминацию хорошего и плохого,
объективизм которой уступает место моральному сужде-
нию.
Как замечает Жиль Делёз, доброе в этике становится
злым в морали, а плохое — хорошим, происходит опреде-
ленная инверсия понятий, и Ф. Ницше утверждает, что
находиться «по ту сторону добра и зла» вовсе не означает
стать «по ту сторону хорошего и плохого». Просто мы
имеем теперь новые ценности, созданные путем переста-
новки местами добра и зла, причем их создают не дейст-
вуя, но, напротив, воздерживаясь от действия, не утверж-
дая что-либо, но начиная с полного отрицания; отсюда и
их трансцендентность, превышающая саму жизнь, нена-
висть к которой скрыта в них. Ницше видит такую на-
134 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
правленность и такое содержание также и в религиозных
ценностях — ведь и они вовсе не отделены от ненависти
и мстительности, из которых извлекают свои последствия,
да и вывод о том, что бедные, слабые и рабы добры по оп-
ределению делается из той предпосылки, что сильные по
сути своей злы, поэтому именно иудейская злопамятность,
проникшая в христианство, и направляет саму христиан-
скую любовь к «дальним»1. Отсюда и патологическая рас-
слабленность следующих за иудаизмом и христианством
демократии и «народничества»: мы видим, как «повсюду
сплачивается посредственность, норовя провозгласить
свое господство. Все, что размягчает, ослабляет волю, тре-
бует уважать «народ»... — все это действует на пользу
всеобщему избирательному праву, т. е. ведет к господству
человека низшего порядка» (Воля к власти. П. 861).
Масса живет в труде как в единственно приемлемой
для нее среде обитания, трудом здесь является даже отдых
человека массы — у него совсем нет времени на непродук-
тивное самосозерцание и размышления, вся его жизнь
подчинена целям «производительности труда», и пусть его
уже никто не заставляет трудиться, но он сам выбрал для
себя такой способ существования. Поэтому лучшего мате-
риала для организации «идеального рабства» и не приду-
маешь: «сверхчеловек», порожденный процессами всеоб-
щего труда, правового равенства и деградации демокра-
тии, естественным образом оказывается в положении
господина, стоящего над массой, стадом новых «добро-
вольных» рабов. Но и массы сами готовы ко всякого рода
рабству, если только они полагают, что стоящий над ними
1 См.: Делёз Ж. Ницше и философия. М., 2003. С. 229—230,
248—249.
6. Господство и масса 135
повелитель вполне подтверждает свои статус повелителя
как рожденного повелевать, и делает это исключительно
за счет благородства своей формы и своего типа.
В настоящее же время «фабриканты и крупные торго-
вые предприниматели» не обладают подобными качества-
ми, что и порождает стихийный социализм масс, поэтому
Ф. Ницше усматривает в современном рабстве одно толь-
ко варварство: в будущем же рабочего, которое развора-
чивается уже при новых и подлинных господах, он видит
форму нового рабства, которое хотя и не меньше тепереш-
него по масштабу, но по сути совершенно иное. В нем ра-
бочие будут «чувствовать себя по-солдатски»; они будут
жить так, как сейчас живут буржуа, однако, морально
поднимаясь над ними, выделяясь из буржуазной среды от-
сутствием излишних потребностей, — это будет более вы-
сокая каста, и хотя она будет внешне беднее и проще, од-
нако власть в обществе будет принадлежать именно ей,
только истинно высокий ранг, природная натура «господи-
на» и «повелителя» будут смягчать контрасты этого неиз-
бежного рабства и удовлетворять тех, кто служит, предо-
ставляя им возможность действительного и искреннего по-
читания тех, кто ими командует. Поэтому «рабочие и
должны научиться воспринимать жизнь, как солдаты:
вознаграждения, жалования — но ни в коем случае не оп-
лата. Никакой зависимости между мерой труда и выпла-
той денег! Беспрекословность приказа, страшные меры
принуждения: вырвать их из легкой жизни. Всем прочим
дозволено подчиняться, а уж их тщеславие само потребу-
ет, чтобы подчиненность эта выглядела зависимостью не
от великих людей, а от «принципов»» (Воля к власти.
П. 764). Так будет рождаться новая законность, маски-
136 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
рующая собой подлинное господство. Вовлеченность в
труд должна стать потребностью и высоким долгом
(«труд — это почетная обязанность»), но не свободным
выбором. Труд должен стать рангом, статусом, однако за-
ведомо подчиненным более высокому уровню властвова-
ния: власть внушает подвластным мысль об их доброволь-
ном подчинении, поощряя их иллюзии о равенстве и сво-
боде, — господство становится незаметным, но от этого
еще более могущественным.
Если бы рост и умножение власти совпадали с приум-
ножением ценности, то ход событий был бы совершенно
однозначным, — успех в достижении власти стал бы тогда
доказательством наличия ранга, но, как показьшает опыт,
даже высшая в смысле ранга власть может оказаться бес-
сильной и не обладающей фактическим влиянием, «наибо-
лее сильные... оказываются слишком слабыми, когда им
противостоят организованные стадные инстинкты, бояз-
ливость слабых, численное превосходство... При этом, чем
сильнее стремление к единству, тем очевиднее факт слабо-
сти, чем больше стремление к варьированию, дифферен-
цированию, внутреннему распадению, тем более тут силы.
«У подлинно могущественных личностей борьба направ-
лена как против грубой и насильственной власти, так и
против фактического превосходства бессилия — парадок-
сальные отношения власти и ценности достигают в этом
пункте своей кульминации»1.
Лео Штраус, уточняя сформулированную Ф. Ницше
концепцию эзотерической политической философии, во
имя принципов которой новые властители будут возглав-
1 Ясперс К. Указ. соч. С. 382—383, 419-420.
6. Господство и масса 137
лять борьбу за мировое господство, называет их самих
«незримыми духовными властителями»: патерналистский
проект воспитания и манипулирования массами, осуществ-
ляемый действующими под покровом тайны учителями,
отрицает какие-либо идеи просвещения и общественного
интереса, более того, он предполагает даже реабилитацию
того, чем некогда была «теологическая мистерия правле-
ния», поэтому религия и мораль вновь и неизбежно будут
использоваться властью в качестве проверенных инстру-
ментов господства и манипулирования1. Однако как рели-
гиозные, так и нравственные нормы все же представляют-
ся массе слишком умозрительными и отвлеченными, более
реальным ей кажется идея равенства: ведь равенство и
стремление к нему свойственны как раз тем, кто только
ощущает себя равным другому, сам не будучи таковым,
равенство стирает все качественные различия, от природы
существующие между людьми, — и по своей сути прин-
цип равенства строго формален. Он-то и является в совре-
менном обществе главным инструментом нивелирования,
уравнивания, унифицирования (но не единства), уничто-
жения каст, сословий, статусов, когда вместе с ними исче-
зают и качественные различия, и разнообразие стилей.
В лексиконе Ф. Юнгера используется термин, став-
ший ключевым в самом известном трактате, написанном
его братом, это — «тип», или «гештальт». Ф. Юнгер за-
мечает: если в обществе прекращается процесс образова-
ния типов и его фундамент начинает сотрясаться, тогда
приходит время революции, устраняющей сам порядок ти-
пов и создающей бюргерское общество, в котором вместо
1 См.: Марты У. Указ. соч. С. 85—86.
138 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
порождения типов происходит процесс образования масс.
Масса и есть тот самый «человек без типа», созданный
самим процессом нивелирования, бесцеремонно устраняю-
щего разного рода перепады, различия и дифференциации,
а вместе с ними и иерархии, — господствующим принци-
пом становится равенство.
Достижение такого утопического идеала возможно
только при посредстве страшного и изнурительного про-
цесса эксплуатации и потребления. Порядок нивелирова-
ния настойчиво движется к своему нулевому уровню, и
именно равенство оказывается основанием, служащим
сведению всего культурного и политического ландшафта к
все уравнивающей плоскости. Более того, как раз уравни-
вание и составляет тот абстрактный принцип, «благодаря
которому осуществляется «революционная работа», ведь
его задача — устранить тип как таковой; ему же соответ-
ствует столь же абстрактный принцип единства, однооб-
разия, унификации, в котором реализуется равенство, вы-
ражающееся в однообразии человека и социальной моно-
тонности, — это и есть то новое политическое состояние,
в котором воплощается сама масса1. (Избирательное пра-
во — вот наиболее яркий пример массовой «религии», вы-
бранный Ф. Ницше для жесткой критики всех демократи-
ческих установлений; здесь общая судьба решается боль-
шинством голосов, хотя основой права никак не может
быть большинство, «господство которого впервые консти-
туируется в нем, его основой должно быть единогласие
всех, кто изъявляет свою волю подчиняться большинст-
ву». Ведь достаточно противоречия совсем небольшого
1 См.: Юнгер Ф. Указ. соч. С. 217—223.
6. Господство и масса 139
меньшинства, чтобы само это право было отброшено как
недействительное, а неучастие всех во всеобщем голосова-
нии как раз и демонстрирует такое противоречие, которое
повлечет за собой в будущем падение всей избирательной
системы («Странник и его тень»)1.) На самом же деле за
значительным большинством людей совершенно не при-
знается статус автономных существ, и они не имеют даже
права свободно выбирать собственный жизненный тип,
соответственно, они не только не участвуют в осуществле-
нии власти и создании законов, они даже не имеют права
на знание истинных целей политики, они лишь объекты в
политических и педагогических проектах, разрабатывае-
мых элитой, которой они вроде бы и не давали на это ни-
каких полномочий2.
Высокая степень равенства неизбежно ведет к дикта-
туре, при которой масса уже не будет нуждаться ни в ка-
кой репрезентации и целиком отождествляется со своим
руководством. Масса здесь только аноним, который зада-
ет общее направление событии, одновременно являясь
объектом движения, масса постоянно находится в измен-
чивом состоянии, проникнутом неразгаданной механиче-
ской закономерностью. Процесс образования масс и меха-
нический (социальный, культурный, политический) про-
гресс суть тождественные понятия: техника есть не что
иное, как организация процесса потребления, посредством
которой масса и направляется в состояние отнивелирован-
ного «минимума»; вера в прогресс не напрасно является
религией массы, «она чтит в нем своего кормильца, кото-
рый печется о ее потреблении». (Свои ресурсы и средства
1 См.: Марты У. Указ. соч. С. 86.
2 См.: Юнгер Ф. Указ. соч. С. 230—231.
140 Глава 3. «Законодательствование» и господство Ф. Ницше
к существованию масса добывает в процессе нивелирова-
ния, а затем и посредством организации состояния «мини-
мума», из которого намечается поворот к диктатуре.
Ф. Ницше прозорливо усматривал именно в этой тенден-
ции наиболее очевидный факт и основание для будущего
рождения «идеального раба».)
Масса слишком доверчиво принимает происходящие с
нею процессы нивелирования за демократический процесс
и доверчиво обращается к центральной власти как к ар-
битру и доверенному лицу. Рождение нескончаемого пото-
ка нормативных предписаний кажется ей признаком уста-
новления правового государства, она не замечает того, что
эти уже утратившие свое этическое содержание норматив-
ные акты и законы представляют собой уже не что иное,
как только технические детали гигантского механизма вла-
ствования, а столь желанное ей юридическое равноправие
не в состоянии устранить из реальной жизни множество
других экзистенциальных форм неравенства. И нам пред-
ставляется, что сам Ф. Ницше не ожидал столь скорого
пришествия царства массы, в котором она обретает и но-
вый тип бытия, и новую форму подчиненности, и своего
нового господина, — теперь остается только ждать прихо-
да «сверхчеловека»...
Процесс создания ценностей, «законодательствова-
ние» Ф. Ницше рассматривал как важнейшую социаль-
ную функцию грядущей эпохи «новых господ»: выработка
новых, меняющих мир норм, осуществляемая явно или
скрытно, будет глобальным, тотальным процессом. Нор-
мирование, которое «новые господа» обратят прежде все-
6. Господство и масса 141
го на самих себя, захватит весь мир и обитающие в нем
массы. Господство нового типа, считал Ф. Ницше, не бу-
дет вовсе навязываться голой силой, оно станет органиче-
ской потребностью для подвластных, они не будут мыс-
лить существование без этого полного подчинения: власть
будет проникать во все поры общественного организма,
вершиной, нервным центром которого станет новая порода
«сверхчеловеков», этой цели творения. Не техника, не ма-
шина, но живая органичность, наиболее коварно и полно
входящая в натуру человека будущего, обеспечит эту не-
виданную доселе разновидность господства, с этого мо-
мента вечного и непреходящего. Новым символом идеаль-
ного рабства станет масса, аморфная, инертная и поддаю-
щаяся воздействию любых властных психологических
импульсов, и этот новый феномен уже рождается на глазах
у больного пророка.
Глава 4. ОТ ДЕМОКРАТИИ
К ДИКТАТУРЕ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ
«ПРАВЫХ» (А. ДЕ ТОКВИЛЬ,
Ж. ДЕ МЕСТР, Д. КОРТЕС)
1. Равенство против свободы
Юридически определение «равенства» может быть выра-
жено как в категориях равенства субъективных прав и
обязанностей, так и в понятии объективного закона — оно
может быть как «распределительным», так и «оценоч-
ным», будучи приближено тем самым к классической ари-
стотелевской категории справедливости. Со «свободой»,
другим демократическим символом, дело обстоит сложнее:
наряду со свободой «негативной», отрицающей право
третьих лиц, в том числе и властей, вторгаться в сферу част-
ного существования и очерчивающей эту сферу преимуще-
ственно в терминах частноправовых, существует другая,
«позитивная» свобода, побуждающая субъекта, будь то
частное лицо или корпорация (в том числе и государство),
навязывать собственные принципы, представления, цен-
ности и нормы другим субъектам. В этом волеизъявлении,
несомненно, присутствует некий властный, т. е. публично-
правовой, элемент, который становится предпосылкой для
превращения свободы принуждать в откровенное господ-
ство, становящееся ее последним пределом.
«Справедливость» как оценочное суждение ближе
располагается в семантическом ряду к равенству, в отно-
1. Равенство против свободы 143
шении же «свободы» выполняя лишь специфическую роль
побудительного мотива: призыв к свободе связывается с
необходимым восстановлением исконной справедливости.
Справедливым представляется именно состояние свободы,
а не зависимости, рабское состояние — это вынужденное
и вторичное состояние, первичным и естественным всегда
остается состояние свободы.
Что касается отношений свободы и равенства, они
наиболее обстоятельно были затронуты и рассмотрены в
контексте преимущественно демократических институций
и в рамках демократических идеологий. По мнению Ари-
стотеля, на основании справедливости, как она понимается
с демократической точки зрения, т. е. при наличии у всех
равной доли власти, и возникает демократический строй:
равенство при этом будет состоять в том, чтобы не позво-
лить более многочисленному классу неимущих не давать
большей власти, чем классу состоятельных граждан, и
чтобы «верховная власть принадлежала не одним, но всем
в равной степени (по количеству). Таким способом... в го-
сударстве осуществляются равенство и свобода» (Ари-
стотель. Политика. VI. 10. 1318 а).
Свобода и равенство представляют здесь два парал-
лельных, взаимосвязанных и одновременно противоречи-
вых начала: так, свобода требует, чтобы народом, этим
субъектом демократического правления, как можно мень-
ше действий осуществлялось по приказанию, а власть пра-
вительства тем самым сводилась бы к некоему минимуму;
демократия внимательно следит за тем, чтобы никакое ли-
цо не располагало бы правом и возможностью приказы-
вать, поскольку это доставляет ему явное превосходство
над всеми другими субъектами, но чтобы распоряжались и
144 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
приказывали сразу все вместе, как это может делать толь-
ко коллективный субъект. Тем самым демократия не жела-
ет не только усиления личной власти, но и расширения
личной свободы, и в этом есть своя логика: поначалу сво-
бода не представляет собой какой-либо привилегии, по-
скольку она дана всем и каждому Богом и природой, одна-
ко очень скоро она становится такой привилегией: реали-
зуясь на деле, свобода присоединяет к себе все новые и
новые вольности, создавая вместе с ними целую группу
других преимуществ, соединяющихся в некую независи-
мую и уже социальную по характеру силу, и с этого мо-
мента перестает быть только свободой, превращаясь тем
самым в ощутимую силу и авторитет (чего демократия ни-
как не желает допустить).
Неожиданно преобразившись, свобода становится си-
лой отрицательной, и ее «негативность» явно оказывается
следствием причины, столь же важной и для процессов
рождения политического и правового равенства, а именно
индивидуализмом; оба исторических факта (появление по-
литической свободы и политического равенства) порожде-
ны общей причиной, но оказываются в противоречии друг
другу, как и перспективные результаты их развития, —
«дойдя до конца и до крайности, один из них разрушил бы
государство, другой установил бы чистейший деспотизм»1.
Каким образом это оказывается возможным?
Раймон Арон заметил, что в понятие демократии, ко-
торое использовал Алексис де Токвиль вслед за Аристоте-
лем, входит прежде всего уравнивание условий жизни, и в
этой идее одновременно заключены как идеальное соци-
1 Фогэ Э. Моралисты первой трети XIX века. СПб., 1900. С. 3.
(Опубликовано в Интернете.)
1. Равенство против свободы 145
альное равенство, так и реальная тенденция к одинаковому
образу и уровню жизни — тем самым, полагал Р. Арон,
позиция А. де ТЪквиля здесь вступает в явное противоре-
чие с убеждением Ш. Монтескье (которому он до этого
момента постоянно следовал в своих политических по-
строениях) в том, что именно неравенство является движу-
щей силой и гарантией политической свободы. Основную
цель интеллектуального поиска, который осуществлял Ток-
виль, Арон определяет как попытку осмыслить принципи-
альную возможность сосуществования равенства и свобо-
ды, именно это и составляло основную диалектику, которой
придерживались как Монтескье, так и Токвиль, правда,
приходя при этом к различным выводам. Различие как
принцип характерно для монархической формы правления,
демократия же сосредоточена на идее равенства, поэтому и
представления о свободе в обоих случаях существенным
образом отличаются друг от друга. Свобода как производ-
ная (не)равенства складывается тем самым из первичных
установок, господствующих в обществе и имеющих непо-
средственное отношение к проблемам равенства прав: мо-
тивации к равенству не только предшествуют ощущению
свободы, но и определяют его. Свобода в монархиях осно-
вывалась на качественном различении статусов и заслуг от-
дельных сословий и чувстве чести. Равенство деспотизма
прежде всего есть равенство закабалений, что касается де-
мократических обществ, то в них преобладающим чувством
всегда является необоримое желание добиться равенства
любой ценой, что в перспективе и с большой вероятностью
может привести к аналогичному с монархическим закаба-
лению, хотя при этом вовсе не подразумевается сохранения
каких-либо форм классического рабства.
146 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
Следующим логическим шагом развития демократии
становится устранение качественных различий, издавна
существовавших между благородными и неблагородными
видами деятельности (различий, столь тщательно подчер-
киваемых в античных и средневековых обществах), дви-
жение в сторону общества «всеобщего наемного труда».
А. де Токвиль подчеркивал, что, хотя главным принципом
демократии (в том смысле, какой этому слову придавал
Ш. Монтескье) является интерес, а отнюдь не доброде-
тель, однако при обеих формах закабаления (монархиче-
ской и демократической) граждане одинаково послушно
подчиняются определенной дисциплине морали, да и сама
устойчивость государственности (в монархиях и демокра-
тиях) также основывается прежде всего на преобладаю-
щем влиянии нравов и верований на индивидов1. Ощуще-
ние равенства или неравенства всегда остается внутренним
ощущением, не знающим точной меры, и несмотря на фор-
мально определенное различение статусов, сословий, раз-
рядов и т. п., это ощущение никогда не может стать адек-
ватным этой внешней дифференциации, ведь слишком
множественными и субъективными являются критерии та-
кого различения.
Следовательно, мотивация к равенству выступает как
трудно улавливаемая и вполне иррациональная характери-
стика, присущая людям по природе, однако стремление это
рационально не обосновано и, как кажется, вовсе не связа-
но со свободой и стремлением к ней. Таким образом, ра-
венство оказывается результатом и целью эгоистического
отторжения стремящегося к нему человека от своего ближ-
1 См.: Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993.
С. 228—229, 240, 260.
1. Равенство против свободы 147
него; желание не отстать от него, но и не особенно прибли-
жаться к нему — это самое яркое проявление индивидуа-
лизма в мыслях и действиях; трезвое размышление и на-
блюдения показывают нам, что люди отнюдь не равны
между собой ни по природе, ни по своему положению в об-
ществе, но при этом мы самоуверенно полагаем, что к нам
это никак не относится, и мы, недостаточно оценивая себя
(или переоценивая), тщательно оцениваем соседа. Из об-
ласти межличностных отношений эта мотивация перено-
сится в область социальных и политических связей.
А. де Токвиль заметил, что человек эпохи демократии
с явной неохотой подчиняется своему соседу по социуму,
которого он считает равным себе, он не хочет слепо верить
в его справедливость и ревниво относится к его установ-
ленной власти, вместо этого ему нравится напоминать со-
седу об их общей подчиненности одному и тому же высше-
му господину. Учитывая эту психологическую особенность
своих граждан, центральное правительство всячески по-
ощряет политическое и правовое единообразие, именно
оно избавляет правительство от необходимости издавать
бесконечное количество законов, и вместо того чтобы
«создавать законы для всех людей, правительство подго-
няет всех людей без разбора под единый закон». В этом
проявляется то единство чувств, которое выражается в
сходстве помыслов каждого индивидуума и правительст-
ва, в этом же заключается и скрытый мотив демократиче-
ского единения1.
Неожиданным образом стремление к равенству порож-
дает стремление к единству, интерпретируемому как цен-
1 См.: Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. С. 485.
148 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
трализация; и тогда в частноправовые отношения вмеши-
вается публичная власть, администрация, к которой убеж-
денные в собственном равноправии субъекты обращаются
как к своему арбитру. Однако сама власть уже не удовле-
творяется только этой ролью: устраняя из политической
сферы различного рода промежуточные властные инстан-
ции, через посредство которых центральная власть и на-
род могли бы общаться, она хочет остаться единственным
властным центром, открыто позиционируя себя в качестве
такового в политической практике и идеологии. А. де Ток-
виль констатирует: различные права, которые в настоящее
время изъяты у целых классов, корпораций и отдельных
граждан, отнюдь не были положены в основу создания
более демократических органов местной власти, а скон-
центрировались в руках верховных правителей. «Могу-
щество правителя распространяется сегодня не только
на всю сферу прежних органов власти, границы этой
сферы уже не могут сдерживать его власть, и она начи-
нает распространяться на те области, которые всегда ра-
нее были сферой индивидуальных свобод», становится
очевидным, что правители не только хотят управлять
всем народом, но и считают себя ответственными за де-
ла и судьбы каждого своего подданного и готовы вести
каждого из них за руку, чтобы сделать его счастливым
даже против его воли1.
В ситуации «политической энтропии», когда пред-
ставление о власти выражается в вере в некий безликий
принцип и верховенство, реальной власти легче всего
справиться с сопротивлением и местных властей, и отдель-
1 См.: Токвиль А. де. Демократия в Америке. С. 489—490.
1. Равенство против свободы 149
ных фрондирующих индивидов: бесформенная масса легко
отдается во власть неперсонифицированной и квазитранс-
цендентной силы, опасаясь только одного, — чтобы ею не
управлял выдающийся во всех отношениях и привилегиро-
ванный субъект. Масса не терпит персон и личностей, че-
ловек массы не выносит качественных различий, он ассо-
циирует, отождествляет себя с массой, со всеми или, на ху-
дой конец, с большинством.
Поскольку в основе демократии лежит «отрицатель-
ное» равенство, устанавливаемое между несхожими людь-
ми, которые при своей разобщенности и разнообразии уже
не различают того, кто стоит выше, а кто ниже, кто лучше
и кто хуже, кто вождь от рождения и кто создан для под-
чинения, то все они подчиняются если не вере во всеобщее
равенство, то хотя бы провозглашению этого принципа.
Если ранее во избежание вечной борьбы они отказыва-
лись от подчинения одних другим, теперь же во избежание
борьбы они «начинают подсчитывать голоса» — так рож-
дается арифметическая и абсурдная власть большинства.
Конечно же, легче сносить неравенство, когда оно яв-
ляется результатом действия безличных сил. И оно же
значительно сильнее ранит достоинство человека, когда
является частью какого-то персонифицированного и ра-
ционального замысла: невзгоды, вызванные постановле-
ниями властей, значительно труднее воспринимать, чем
страдания, выпадающие естественным путем на долю каж-
дого, «плохо быть винтиком в безликой машине, но несо-
измеримо хуже быть навсегда привязанным к своему мес-
ту и к начальству, которого ты не выбирал... Кошмар,
предсказанный английскими политическими мыслителями
XIX в., — государство, в котором «путь к преуспеянию и
150 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
почету пролегает только через коридоры власти», — бу-
дет воплощен тогда с такой полнотой, какая им и не сни-
лась»1.
Разрушив старые иерархии и закон, народы (сами по
ходу этого процесса превращающиеся в массы) анархиче-
ским образом рушат саму государственность, не замечая
того, что внутри этого хаоса и разрушения вызревает не-
кая неведомая им новая и еще более мощная власть. По-
ставив своей целью добиться равенства, этой политиче-
ской утопии, революционеры сознательно или бессозна-
тельно создают еще более могущественный механизм для
его достижения и организации, и тогда принцип организа-
ции побеждает свободу, состояние, которое, как показыва-
ет история, свойственно только коротким моментам безвла-
стия или перехода власти. Следующим образом А. де Ток-
виль рисовал картину послереволюционного общества:
мощные династии в нем подорваны или разрушены, наро-
ды ведут активную борьбу с установленными ими закона-
ми и институтами. И в это же анархическое время у этих
непокорных народов государство постоянно расширяет
свои прерогативы, становясь все более централизованным,
предприимчивым, абсолютным и всемогущим; создается
впечатление, что происходят сразу две разнонаправленные
революции — одна постоянно ослабляет власть, другая ее
неустанно усиливает; «никогда ранее власть не представ-
лялась нам ни столь слабой, ни столь сильной».
Очевидно, что здесь наличествуют истоки двух проти-
воположных революционных традиций: пока демократи-
ческая революция была в разгаре, люди, занятые разруше-
1 Хайек Ф. А. Дорога к рабству. М., 1992. С. 85.
2. Неизбежная централизация 151
нием старой аристократической власти, были воодушевле-
ны идеей независимости. Но по мере того как равенство
становилось все более полным, они стали уступать своим
естественным инстинктам, которые как раз это равенство
и порождает, и именно это способствовало усилению и
централизации самой власти, «они хотели быть свободны-
ми, чтобы стать равными, и по мере того как равенство ук-
реплялось с помощью свободы, оно делало эту свободу все
менее доступной»1.
2. Неизбежная централизация
Субъект демократического правления, народ, изначально
обладает децентрализованной, часто хаотической структу-
рой, и чтобы сохранить номинальное единство, особенно
нуждается в неких внешних, оформляющих его в такое
единство силах и факторах. Тайная идея демократии, без-
властие, отнюдь не способствует проявлениям этой тен-
денции, а следовательно, уже в ходе дальнейшего разви-
тия демократических институтов должна быть подвергну-
та трансформации. А. де Токвиль писал: «Централизация,
вездесущность, всемогущество общественной власти, едино-
образие ее законов — вот наиболее характерные черты
всех зарождающихся сегодня политических систем. Эти
черты мы обнаруживаем в основе самых причудливых уто-
пий. Они преследуют человека в его мечтах». Сегодня лю-
ди менее разделены, чем это можно было бы себе предста-
вить, они постоянно спорят друг с другом о том, какая
форма власти наиболее эффективна и легитимна, но легко
1 Токвиль А. де. Демократия в Америке. С. 494—495.
152 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
и быстро подчиняются господству этой власти, они наивно
воспринимают правительство как олицетворение этой еди-
ной и естественной власти, которая все предвидит и все
может1.
Демократия, заявляющая о народоправстве как своем
принципе, на самом деле не в состоянии организовать пря-
мое правление народа: формируя разветвленную систему
представительных органов, она тем самым передает власть
более узким и специализированным структурам, все более
замыкающимся в самих себе и все более удаляющимся от
доверивших им право говорить от их имени масс.
Демократия при всем желании никак не может пре-
вратиться в свою непосредственную и «прямую» форму,
не рискуя при этом впасть в анархию, власть не терпит
распыления, неуклонно стремясь к концентрации, поэтому
и сама демократия неизбежно эволюционирует к центра-
лизации и тем самым переходит в некую новую форму дес-
потизма, рискующую очень скоро переродиться в деспо-
тизм отдельного лица. Кроме того, демократия постоянно
чревата опасностью другой тирании, тирании большинст-
ва, поскольку любой демократический строй утверждает
постулат: «Большинство право». Тем самым демократия
постепенно трансформируется в строй, генерирующий не-
кий «дух двора», обращенный к массам, но сосредоточен-
ный в узком кругу олигархических властителей, при этом
сувереном здесь провозглашается уже не монарх, а народ;
«дух двора» в условиях демократии — это то, что обычно
называют демагогией2.
1 См.: Токвиль А. де. Демократия в Америке. С. 483.
2 См.: Арон Р. Этапы развития социологической мысли. С. 242.
2. Неизбежная централизация 153
Исторический опыт показывает, что «власть народа»,
«власть большинства» значительно более тиранична, чем
единоличная власть, поскольку именно в ней содержится
значительно более спонтанных, необоснованных, иррацио-
нальных элементов, как и во всякой власти или поведении
массы и толпы. Только сама природа государственности
как таковой несколько смягчает стихийность такой власти:
«масса», «народ» никогда не в состоянии прийти к едино-
му решению для того, чтобы осуществлять управление,
поэтому они с готовностью перекладывают эту непосиль-
ную для них обязанность на формирующиеся путем «сво-
бодных» выборов органы, репрезентирующие «свобод-
ную» волю своих избирателей. Каждый индивид-избира-
тель в демократическом обществе уверен в том, что это
именно его воля выражена в процессе формирования
структур власти, и только позже замечает, что их действия
очень мало общего имеют с его пожеланиями, вложенны-
ми в акт выбора.
А. де Токвиль красочно описал эту парадоксальную
ситуацию, созданную процедурами выборов: мои совре-
менники одновременно хотят, чтобы ими руководили и
чтобы сами они оставались свободными, будучи не в со-
стоянии побороть ни один из этих противоречивых ин-
стинктов, они стараются объединить их — «они хотели бы
иметь власть единую, охранительную и всемогущую, но
избранную ими самими. Они хотели бы сочетать центра-
лизацию с властью народа». Находясь под опекой, они ус-
покаиваются только на том, что сами же они и избрали се-
бе опекунов; при такой системе взаимодействия с властью
граждане выходят из непосредственной зависимости от
своего коллективного господина лишь в один и очень ко-
154 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
роткий момент — момент избрания его, чтобы затем
вновь и надолго в нее попасть.
Сама же верховная власть, представляющая всю нацию
и зависимая от ее воли, использует изъятые у каждого от-
дельного индивида права и полномочия, как ей представля-
ется, на благо всего государства. «Создание народного
представительства в стране с сильно централизованной
властью означает уменьшение, но не устранение зла, кото-
рое сверхцентрализация может принести». Необходи-
мость подчиняться в мелких делах детальной регламента-
ции заглушает рассудок граждан и возмущает душу, и бес-
полезно «предоставлять тем гражданам, которых вы
сделали столь зависимыми от центральной власти, воз-
можность время от времени выбирать представителей этой
власти» — этот обычай не спасает граждан от «их даль-
нейшей деградации, когда они утрачивают способность
чувствовать и действовать самостоятельно, постепенно ут-
рачивая свое человеческое достоинство. Очень скоро они
окажутся неспособными реализовывать даже и эту свою
единственную оставшуюся у них большую привилегию:
«демократические правительства», которые «ввели свобо-
ду в сферу политики, усилив при этом деспотизм в сфере
исполнительной власти», тем самым как бы отрицают при-
сутствие какого-либо здравого смысла у людей, при этом
не доверяя им даже самостоятельное ведение каких-либо
мелких дел. Но парадоксальным образом, когда речь захо-
дит об управлении целым государством, они готовы дове-
рить этим же гражданам необъятную власть; «испробовав
всевозможные избирательные системы и не найдя ни од-
ной, которая бы их устроила, они удивляются и ищут но-
вые, будто бы зло, которое они видят вокруг, исходит
2. Неизбежная централизация 155
только от конституции страны, а вовсе не от самих избира-
телей»1.
Свободу хотят установить путем применения силы
или формального закрепления в законе, и свободные вы-
боры кажутся панацеей от всех тиранических пережитков
и устремлений. Однако, несмотря на это, все революции с
готовностью используют в своей работе оставшиеся им в
наследство от старого режима институции и нормы, га-
рантией против их консерватизма революционерам пред-
ставляются именно избирательное право и представитель-
ные учреждения, и такое стремление сочетать несочетае-
мое становится определяющей чертой всех политических
утопий. Преобразователям кажется, что введением кон-
трольных учреждений в систему старых органов или дек-
ларативных норм в старые кодексы возможно эффективно
и безболезненно приспособить элементы «старого поряд-
ка» к новым революционным условиям. Так, по мнению
А. де Токвиля, уже в ходе революции французы попыта-
лись объединить безграничную административную цен-
трализацию чиновничества и демократическое правление
избирателей, в связи с чем вся нация как целое получала
право на суверенитет, а каждый отдельный гражданин
оказывался в самой тесной зависимости от коллективного
суверена, вот это-то стремление «ввести политическую
свободу в учреждения и идеи, полностью ей чуждые или
противоположные, и породило столько сопровождающих-
ся революциями попыток ввести свободное правление»2.
Результатом таких экспериментов, однако, неизбежно
оказывалось только дальнейшее усиление центральной
1 Токвилъ А. де. Демократия в Америке. С. 498.
2 ТоквильА. де. Старый порядок и революция. М., 1997. С. 134.
156 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
власти, будь то тирания Робеспьера или диктатура Напо-
леона; навязываемая форма свободы и механическое равно-
правие порождали все новых и новых монстров деспотиз-
ма, еще не виданной формы, откатываясь назад, волны
демократического насилия обнажали черные скалы пост-
революционной диктатуры и деспотизма...
Центральная власть всегда представляет себя стоящей
над борьбой частных сил, маска арбитра — самая подхо-
дящая для нее личина в условиях демократии, и подобной
мимикрии способствует все тот же индивидуализм, из ду-
ха которого рождается и сама демократия: индивид гневно
отвергает всяческую диктатуру, тиранию и деспотизм, ас-
социированные в его сознании с единовластием, ему пред-
ставляется, что господство может существовать только
при наличии подобных форм властвования и правления и
что демократия избавляет его от давления господства во-
обще, господства как такового. Демократия же использует
особенность человеческой натуры, для которой всякое ус-
тойчивое и традиционное правление кажется ограничи-
вающим ее свободу (на самом деле — свободу ее фанта-
зий), опутывающей ее предрассудками и догматами, уста-
ревшей и тормозящей ее политическое становление
формой. Но сама демократия по своему статусу — это
всегда поиск, а следовательно, неустойчивое состояние по-
литического бытия. «Сколько людей, столько идей» —
для того чтобы прийти к единому мнению, аргументов,
споров и дискуссий недостаточно, необходимо волевое ре-
шение; истина отнюдь не рождается в споре, она привно-
сится в него извне, посредством воздействия вполне ре-
альной силы, фактического положения и расстановки ве-
щей и обстоятельств.
2. Неизбежная централизация 157
В работе «Демократия в Америке» А. де Токвиль пи-
сал: эпоха демократии — эпоха экспериментов, новых
идей и авантюр. В это время всегда найдется множество
людей, втянутых в трудные начинания, которыми они за-
нимаются, не обращая внимания на других членов общест-
ва. Эти люди вполне соглашаются с общим принципом не-
вмешательства властей в частные дела, однако каждый из
них желал бы, чтобы правительство в виде исключения
именно ему оказало бы необходимую помощь, и ждет этой
поддержки даже за счет интересов других граждан. Ог-
ромное число людей придерживается такой точки зрения,
в связи с чем влияние центральной власти постепенно рас-
пространяется на все сферы их жизни. Таким образом,
всякое демократическое правительство расширяет круг
своих прерогатив уже самим фактом своего длительного
пребывания у власти; «чем старше демократическое обще-
ство, тем более централизовано в нем управление»1, и уже
в силу этого демократия эволюционирует в совершенно
иную форму, подчас сама этого не замечая.
Демократическое правление неотделимо от реформи-
рования — как тот, так и другой процесс открыты в пер-
спективу, — однако и результаты каждого из этих про-
цессов остаются одинаково непредсказуемыми: известно
только, что за всякой реформой следует контрреформа и
что за «разгулом демократии» всегда следует ужесточе-
ние режима, это опыт истории, с которым демократиче-
ское мышление как будто не желает считаться. Реформы
сверху —ч- вот типичная модель любых политических пре-
образований, и именно на государственную власть (со-
Токвиль А. де. Демократия в Америке. С. 484.
158 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
вершенно новую или трансформированную старую) ре-
форматоры в этом деле возлагают свои главные надежды.
Еще в работе «Старый порядок и революция» А. де Ток-
виль подчеркивал, что все реформаторы, затевающие
проведение реформ в условиях легальности, предполагают
прежде всего воспользоваться могуществом центральной
власти, чтобы все разрушить и переделать в соответствии
с новым, составленным ими самими планом и что именно
центральное правительство представляется им наиболее
способным выполнить эту задачу. «Власть государства
должна быть безграничной, как и его права, утверждают
они: речь может идти только о том, чтобы убедить прави-
тельство использовать свое могущество надлежащим об-
разом»1.
Реформа (эта предпосылка или уже составная часть
революции) рассчитана, как правило, на негативную реак-
цию индивида, на его неудовлетворенность существую-
щим положением вещей; реформа провозглашает (пусть в
несколько усеченном виде, по сравнению с лозунгом рево-
люции) расширение свободы или же практическими мера-
ми пытается восстановить социальное и политическое ра-
венство. Свобода и равенство тогда становятся мотивами,
направленными на коренное изменение общества, они поз-
воляют рассматривать вполне конкретную ситуацию в
контексте неких общих и абстрактных принципов, «обще-
человеческих» представлений и «прирожденных» прав,
Однако очень скоро несовпадение и даже противоречи-
вость новых лозунгов и призывов становятся очевидными.
А. де Токвиль заметил, что если равенство начинает раз-
1 Токвиль А. де. Старый порядок и революция. С. 59.
2. Неизбежная централизация 159
виваться в стране, народ которой никогда или же долгое
время не знал свободы, то старые привычки народа к под-
чинению естественным образом соединяются с доктриной
нового общественного устройства и тогда централизация
власти происходит сама собой. «Государство с поразитель-
ной быстротой аккумулирует власть и разом достигает
пределов своего могущества, в то время как граждане его
моментально становятся в высшей степени беззащитны-
ми»: легко учредить единое и всемогущее правление в си-
туации, когда граждане мало чем отличаются друг от дру-
га, — для этого достаточно самих их инстинктов.
Концентрация власти и личное закрепощение в демо-
кратическом обществе нарастают не только пропорцио-
нально возрастанию равенства, но и благодаря традицион-
ному политическому неравенству его граждан1, граждане
ищут для себя поддержки против частных и мелких при-
теснений и узурпации в отдаленной и высоко парящей над
ними центральной власти, с жалобами на бюрократиче-
ский произвол они обращаются к высшей бюрократии.
При этом слепая устремленность к демократическому ра-
венству скрывает от глаз индивида многие возможности
«промежуточных» властей, поскольку его взор устремля-
ется исключительно к властвующему центру, безликому и
неперсонифицированному, и это устремление всегда ока-
зывалось основанным на священной вере в лозунги демо-
кратии, которая сама по себе была не в состоянии их реа-
лизовать, но могла предложить испытанный и традицион-
ный способ для их достижения — принуждающую силу и
централизованную власть.
1 См.: Токвиль А. де. Демократия в Америке. С. 487.
160 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
Один из самых энергичных критиков демократических
соблазнов, Хуан Доносо Кортес, современник А. де Токви-
ля, возмущенно восклицал по этому поводу: «Верить в ра-
венство всех людей, видя, что все они неравны, верить в
свободу, видя, что по всей земле царствует рабство, верить
в то, что все люди братья, в то время как вся история учит,
что все они враги — дикое заблуждение!»1
3. Господство и народ
Народ выходит на политическую арену только в моменты
бунтов, восстаний и революционных переворотов, в эти
моменты он следует идеям, уже кем-то разработанным и
носящимся в воздухе, он превращается в толпу и массу,
действия которых и внутреннюю логику этих действий не-
возможно предугадать. Тогда народ являет собой стихию,
мощные волны которой разрушают все структуры сущест-
вующего порядка, зажигательными лозунгами движения
становятся «свобода», «равенство», «братство». Все ста-
рое представляется враждебным и отжившим, несправед-
ливым и угнетающим. В своем порыве массы не замечают,
как выпущенная на свободу энергия очень быстро кри-
сталлизуется в насилие, как из стихийной и беспредельной
демократии вырастает все более централизующееся руко-
водство и властвование, все более напоминающее обнов-
ленное лицо диктатуры.
Эдмунд Бёрк, один из самых проницательных свиде-
телей Французской революции, отмечал: совсем недавно
1 Кортес X. Д. Очерк о католицизме, либерализме и социализме //
Соч. СПб., 2006. С. 254.
3. Господство и народ 161
этот народ находился в преддверии свободы, существуя в
условиях умеренной монархии, которую он презирал за ее
слабость. Затем ему предложили хорошо сбалансирован-
ную свободную конституцию (1791 г.), но она пришлась
не по вкусу и не соответствовала настроениям народных
масс. Тогда массы сами взялись за дело, хлынули на ули-
цы, где они принялись убивать, грабить и бунтовать. Они
преуспели в этом и установили в своей стране неслыхан-
ную до той поры нигде в мире «наглую тиранию неутоми-
мых в своей жестокости господ», дух правления которых в
точности соответствовал тем средствам, с помощью кото-
рых они добились этого правления1.
Имея перед глазами только некие умозрительные и
абстрактные проекты будущего общества, массы и их ли-
деры методом проб и ошибок начинают выстраивать свою
новую «справедливую» государственность. За исключе-
нием убежденных анархистов, все остальные политиче-
ские течения так или иначе склоняются к мысли создать
именно государственное образование, а не некую «комму-
нитас», в которой неизбежно будут восстановлены все
принципы иерархии и властвования. Период полного ре-
волюционного хаоса, как правило, бывает достаточно ко-
ротким, общество не может сохранять свою целостность
без установления определенного порядка. Когда же прохо-
дит кровавый угар революции, все общество начинает жа-
ждать правления «твердой руки», и А. де Токвиль это об-
стоятельство неоднократно подчеркивал: никогда народ не
бывает столь расположен к расширению полномочий цен-
тральной власти, как после длительной и кровавой рево-
1 См.: Берн Э. Правление, политика и общество. М., 2001.
С. 420.
162 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
люции, именно тогда рождается «слепая любовь к общест-
венному спокойствию и граждане воспламеняются безу-
держной страстью к порядку». Какой бы анархической ни
казалась революция в своем начале, без сомнений можно
утверждать, что конечным ее следствием и логическим ре-
зультатом будет утверждение и расширение прерогатив
самой этой власти1.
Чтобы вернуть утраченный в смуте революций поря-
док, народ обращается к вождям, он доверяет им устрой-
ство своей общественной и частной жизни, будучи уверен-
ным, что они сделают это лучше, чем он сам. Приняв кон-
ституцию, народ надеется, что именно она станет гарантом
исполнения всех его чаяний и надежд и не позволит прави-
телям свернуть с верного и законного пути; нагроможде-
нием непрерывно принимаемых законов люди пытаются
обеспечить устойчивый правопорядок, забывая о том, что
увеличение числа законов только ослабляет саму закон-
ность; провозглашая демократические принципы и свобо-
ды, власть не видит никаких препятствий также и для их
игнорирования или упразднения: декларирование прав и
их соблюдение — разные вещи. Трудно представить, го-
ворит А. де Токвиль, каким образом люди, полностью от-
казавшиеся от привычки самим управлять своими делами,
могут выбирать тех, кто должен ими управлять. Нельзя
поверить, что «в результате голосования народа, обладаю-
щего лакейскими наклонностями, может быть образовано
мудрое, энергичное и либеральное правительство», «кон-
ституция, республиканская в своей преамбуле и ультрамо-
нархическая в основном, всегда казалась мне неким недол-
1 См.: Токвиль А. де. Демократия в Америке. С. 488.
3. Господство и народ 163
говечным монстром. Пороки правителей и глупость управ-
ляемых должны очень быстро ее разрушить, и тогда
народ, уставший от своих представителей и от себя самого,
либо создаст более свободные политические институты,
либо вновь послушно ляжет у ног своего хозяина»1.
Опору порядку народ ищет не внутри самого себя, а
вовне, у сил, которые, как ему кажется, могут ему это дать
и, более того, к этому принудить. При этом он и не заме-
чает, как эти внешние силы травмируют и изменяют саму
его душу, его внутреннее состояние и менталитет, как силы
внешнего упорядочения формируют новый тип духовного
господства, сначала опустошив душу народа, а затем на-
полнив ее совершенно новым, необходимым им, этим си-
лам, содержанием. Что же касается народа в целом, писал
Э. Бёрк, то после того, как «эти несчастные овцы сломали
загон и освободились даже не от уз, а от покровительства
всей совокупности принципов естественного авторитета и
легитимного соподчинения — они становятся естествен-
ной жертвой самозванцев... Практически весь народ
Франции привык к тому, чтобы искать выход в чем угод-
но, кроме порядка, бережливости и трудолюбивого приле-
жания».
Найти заменитель всех тех принципов, с помощью ко-
торых до сих пор управлялись человеческая воля и челове-
ческие поступки, — вот задача революционеров. Поэтому
они искали в человеческой душе наклонности такой силы и
такого свойства, чтобы они сгодились намного лучше, чем
прежняя мораль, «для целей их господства, а также могли
быть усовершенствованы в целях поддержания их власти и
1 Токвиль А. де. Демократия в Америке. С. 498.
164 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
сокрушения их врагов». Для этого они выбрали один чудо-
вищный порок, пытаясь в нем соединить все природные и
социальные чувства, это — тщеславие1. Всякая револю-
ция только по своим лозунгам идеалистична, в реальности
же за ней всегда стоят вполне материальные цели и пред-
почтения, будь то захват власти, раздел собственности или
уничтожение отдельных лиц или целых социальных групп.
«Боги революции», требующие кровавых жертв, отнюдь
не идеальны: провозглашая новую мораль и новый закон,
они защищают меркантильные интересы определенной
властвующей элиты, их справедливость «классово ограни-
чена». Их абстрактный характер вполне соответствует аб-
страктным требованиям безликого революционного зако-
на, и за их увещеваниями скрывается вполне ощутимый
мещанский, буржуазный интерес: когда Робеспьер гово-
рил о том, что идея Высшего существа и бессмертие души
являются постоянным напоминанием о справедливости, он
был убежден в том, что справедливость преимущественно
социальна и вполне достойна республики, т. е. исключал ее
метафизическое содержание. Настоящей «справедливо-
стью во имя божественного установления была справедли-
вость старого режима, но Робеспьер справедливость по-
ставил выше божества и этим сделал ее мещанской»2.
Мещанство предполагает наличие определенного по-
литического комфорта, социальной обеспеченности, пра-
вовой стабильности и спокойствия. Мещанин не любит
рисковать, не выносит неопределенности, ему напрочь чуж-
до чувство трагического. По своей натуре он прежде всего
1 См.: Бёрк Э. Указ. соч. С. 359, 381.
2 Волошин М. Пророки и мистики // Лики творчества. М.,
1988. С. 195.
3. Господство и народ 165
собственник, т. е. и не раб, и не господин (Г. В. Ф. Гегель);
революция порождает эту новую породу людей, которым
невыносимы идеалы уравнительного коммунизма, эта
крайняя форма равенства. Да и всякое иное равенство пре-
вращается для него, буржуа, только в пустую формаль-
ность и удобно только тем, что позволяет ему более или ме-
нее свободно заниматься собственными делами. Поэтому
он легко и быстро забывает лозунги революции, которая
дала ему чаемую стабильность. Так и в послереволюцион-
ной Франции под лозунгом равенства предполагалось от-
нюдь не создание коммунистического или социалистиче-
ского общества, в которых можно было бы рассчитывать
только на общую нищету и равенство в наслаждениях
(причем равенство в правах здесь вполне уживается с тай-
ным желанием достичь господства над другими), наобо-
рот, здесь сохранялась «необходимость только новой част-
ной собственности, приблизительно равно распределен-
ной, но весьма значительной по объему». И для того чтобы
процветали сами эти собственники, избранники судьбы,
должна была погибнуть масса людей1.
Раздел собственности оформляется целой системой
институций и правовых норм, язык права для победившей
буржуазии кажется самым понятным, поскольку за его
формулами, абстрактными и унифицированными, совер-
шенно спокойно может процветать имущественное, а сле-
довательно, и политическое неравенство. Власть буржуа-
зии анонимна по сути, как и ее закон, и если безликость
власти способствует усилению ее могущества, то безли-
кость закона расширяет ее возможности для манипулиро-
1 См.: Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М.,
2004. С. 497—498.
166 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
вания им, и понятия «справедливость», «равенство» и
«свобода» превращаются в юридические фикции, остаю-
щиеся непонятными для массового сознания.
Революция никогда не приносит всем без исключения
ее участникам или современникам полного социального
или политического удовлетворения, демократия, этот чае-
мый результат революции, провозгласив равенство, также
никогда не обеспечивает его для всех и полностью. Осно-
ванная на страстях и неудовлетворенности, революция из-
начально всегда рождается в психологической сфере, толь-
ко затем переходя в социальный, политический и юриди-
ческий план. Импульс революции по своей сути имеет
негативный и отрицающий характер; Максимилиан Воло-
шин, заметив это, сказал: «Великая Революция является
психологическим кризисом идеи справедливости, которая
в этой форме неразрывно связана с понятием мести.
Месть — это та форма переживания, которая с чудовищ-
ной силой связывает в тугую пружину воли целых поколе-
ний, и пружина, стягиваемая в течение столетий, вдруг
развертывается одним чудовищным взмахом, террор стал
такой местью»1. Месть — чувство не продуктивное, но
разрушительное, и прежде всего для самого его носителя;
бессильное чувство мести выливается в психологическое
(и часто политическое) самоедство, комплекс неполноцен-
ности, потаенную зависть. С точки зрения либералов, это
чувство может быть смягчено только «установлениями
справедливых законов» и закреплением абсолютных субъ-
ективных прав — во всяком случае, его ищут теперь уже
не в новой революции, провозгласившая свободу и равен-
1 Волошин М. Указ. соч. С. 205.
3. Господство и народ 167
ство демократия сама уже не желает и не допускает новых
революционных решений, для нестабильной демократии
такой путь слишком рискован (хотя по идее крайняя сте-
пень демократического управления достигается только в
ситуации «перманентной революции»).
Р. Арон по этому поводу замечает: и хотя естествен-
ным состоянием демократических обществ является не-
удовлетворенность (состояние ресентимента), великие ре-
волюции здесь будут отныне крайне редким явлением,
ведь на службе демократических обществ всегда находят-
ся наука и революционный дух, а также одно из лучших
средств защиты от деспотизма — уважение к закону, хотя
«революции по своей природе суть насилие над законно-
стью. Они приучают людей не склоняться перед законом.
Усвоенное в период революции пренебрежение законом
сохраняется и после революции и становится возможной
причиной деспотизма», поэтому, чем больше революций
будет совершаться в демократическом обществе, тем боль-
шая опасность деспотизма будет им угрожать1.
Контрреволюционные идеологи, такие, как Жозеф
де Местр и X. Д. Кортес, были не менее либералов убеж-
дены в том, что революцию победит не новая революция
или даже контрреволюция, а сам естественный ход собы-
тий: революционные массы, спонтанно (хотя и под влияни-
ем революционных идеологов) вступившие на путь рево-
люционного разрушения, достаточно скоро утрачивают
как революционный пафос, так и разрушительную энер-
гию. Бенжамен Констан, пожалуй, первым дал новое оп-
ределение термину «реакция» (как и многие политические
1 См.: Арон Р. Этапы развития социологической мысли. С. 262—
263.
168 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
термины, заимствованному из механики), рассматривая ее
в качестве неизбежного следствия революции, которая не
удалась с первого раза и которая длится слишком долго:
когда революция, вышедшая за пределы своих временных
и смысловых границ, останавливается, ее прежде всего
возвращают в свои границы, «возвращают назад тем даль-
ше, чем сильнее она продвинулась вперед. Заканчивается
умеренность, и начинается реакция... Признак реакций —
произвол на месте закона, страсть на месте размышления:
вместо того, чтобы судить людей, их устраняют; вместо то-
го, чтобы анализировать идеи, их отвергают»1.
Материалом для политической реакции, как и для са-
мой революции, являются все те же народные массы, кото-
рыми попеременно движут то революционные, то контр-
революционные позывы. При этом они могут даже не до
конца осознавать или вовсе не осознавать содержание по-
буждающих их к этому идей: масса, эта «первичная мате-
рия политической алхимии», дает движениям только свою
слепую энергетику и силу. Как революционные, так и
контрреволюционные идеологии учитывали и использова-
ли это обстоятельство. «Народ — ничто в революциях или,
по крайней мере, — только их слепое орудие», — говоря
это, Ж. де Местр ясно осознает одну из главных законо-
мерностей массовой психологии: энтузиазм и фанатизм не
являются устойчивыми состояниями, уровень повышенной
возбудимости очень скоро утомляет человеческую натуру,
и если даже предположить, что народ способен долго же-
лать чего-то, то все же следует быть уверенным также в
том, что он не может долгое время желать этого со всей
1 Бачко Б. Как выйти из террора? Термидор и революция. М.,
2006. С. 317—318.
3. Господство и народ 169
страстью. Когда приступ горячки проходит, подавлен-
ность, апатия, безразличие сменяют большое напряжение
сил, свойственное этому энтузиазму1.
Утомленные массы тогда забывают об идеях свободы
и равенства, озабоченные исключительно личными нужда-
ми и проблемами. Благосостояние и безопасность заботят
их на этом этапе значительно больше, чем первоначальные
великие, но абстрактные призывы, свобода рассматрива-
ется ими теперь лишь как гарантия их собственного эконо-
мического существования, буржуазно-банального, но ре-
ального быта. (Как жестко подметил А. де Токвиль,
«иных свобода утомляет даже вопреки их благополучию.
Они без сопротивления отдают ее, опасаясь каким-либо
действием нарушить покой, дарованный им свободой. Че-
го не хватает им, чтобы оставаться свободными? — Же-
лания быть свободными»2.)
При этом сами они не замечают (а если даже замеча-
ют, то не в силах что-либо предпринять против этого), как
их индивидуальная свобода все больше ограничивается из-
бранными ими же представительными и по-прежнему
представляющимися им демократическими учреждениями
и новыми исполнительными властями. Настоящим госпо-
дином в этом мире становится все возрастающая бюрокра-
тия, безликий монстр, заменивший собой персонифициро-
ванную власть монарха. Токвиль уверен, что настоящий
деспотизм приходит тогда, когда у народа, «который сам
не знает, чего хочет, испрашивают мнимую волю его, об-
маном извлекают ее, возводят в степень закона и в виде
1 См.: Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. М., 1997.
С. 128-129.
2 Токвиль А. де. Старый порядок. С. 135.
170 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
обязательного правила возвещают ее народу же, а тот не
узнает, конечно, им самим отданное повеление, хотя как
будто управляется сам собой», — в результате рождается
мистификация, в которой народ уже фигурирует в качест-
ве раба, притом обманутого1.
Новый деспотизм приходит отнюдь не с реакцией, он
является непосредственным результатом самой револю-
ции: не призывы к восстановлению монархии и централи-
зованной администрации ведут к реальному восстановле-
нию централизованной власти, но сами демократические
принципы и демократическая политика порождают эту но-
вую, еще неизвестную форму деспотизма. Совершенное
по своей технике политическое господство приходит как
результат развившейся до предела демократии. А. де Ток-
виль был убежден в том, что форма угнетения, которая уг-
рожает демократическим режимам, уже ни в чем не будет
напоминать все прежние формы, старые определения
«деспотизм» и «тирания» к ней никак не подходят, и это
будет совершенно новое явление, картину которого автор
изображает в самых мрачных тонах: «Я вижу неисчисли-
мые толпы равных и похожих друг на друга людей, кото-
рые тратят свою жизнь в неустанных поисках маленьких и
пошлых радостей, заполняющих их души». Каждый из
них занят только собой и безразличен ко всем остальным.
Если семья у него еще сохраняется, то отечества у него
уже нет. Над этими толпами возвышается гигантская ох-
ранительная власть, обеспечивающая всех удовольствиями
и следящая за судьбой каждого в толпе, «власть эта абсо-
лютна, дотошна, справедлива, предусмотрительна и лас-
См.: Фогэ Э. Указ. соч. С. 13.
4. Либералы, социалисты и порядок 171
кова». При этом она стремится сохранить людей в их мла-
денческом состоянии, она желает, чтобы гражданин ни о
чем не думал, она сама работает для общего блага, остава-
ясь единственным его уполномоченным и арбитром. Такая
власть делает все менее полезным и редким обращение к
свободе выбора, неуклонно сужая сферу действия челове-
ческой воли: демократическое равенство уже подготовило
людей к такой ситуации, и оно уже научило их восприни-
мать ее как благо.
Общество в целом «оказывается покрытым сетью
мелких, витиеватых, единообразных законов», которые
мешают наиболее ярким индивидуальностям вознестись
над толпой. Правитель и его закон не сокрушают воли лю-
дей, но «размягчают ее, сгибают и направляют». Подав-
ляя инициативу, такая власть «ничего не разрушает, но
препятствует рождению нового, она не тиранит, но меша-
ет, подавляет, нервирует, гасит, оглупляет и превращает в
конце концов весь народ в стадо пугливых и трудолюби-
вых животных, пастырем которых выступает правительст-
во»; А. де Токвиль был уверен, что именно такая форма
рабства, тихая, размеренная и мирная, будет даже соче-
таться с некоторыми внешними атрибутами свободы и бу-
дет установлена «даже в тени народной власти»1.
4. Либералы, социалисты и порядок
Любое, даже самое организованное общество содержит в
себе некий спонтанный и хаотический элемент, чуждый
какой-либо организации и тем самым упрямо противящий-
1 Токвиль А. де. Демократия в Америке. С. 497.
172 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
ся организационному воздействию власти; этот эле-
мент — толпа. Из этого сырого материала ничего, однако,
не образуется само собой, в целом же он репрезентирует
народные массы, уже легко поддающиеся манипулирова-
нию и с готовностью подчиняющиеся деспотическому сти-
лю правления. И лишь в отдельных исторических случаях
и в небольших объемах из этой массы естественным обра-
зом, путем отбора и конкуренции рождается так называе-
мая элита, т. е. некие группы людей, соединенных друг с
другом не «общественным договором», а взаимным сход-
ством и общностью творческой, профессиональной и по-
литической деятельности. (Законодателю следует как
можно более бережно и внимательно обращаться с этими
важнейшими социальными силами, создавая для них пра-
вовую ситуацию, в которой они смогут взаимно ограничи-
вать друг друга, не вступая в губительные для всех споры
и коллизии и оставаясь при этом в относительном едине-
нии.)
Эту старую идею, сформулированную Ш. Монтескье,
Ж. де Местр не принял; по его мнению, элита, или аристо-
кратия, не особая, генетически выделенная из массы
структура или организация, но просто-напросто сумевшая
самоорганизоваться естественно-физическая часть наро-
да, и поэтому она не может претендовать на создание осо-
бых привилегий для своих, подчас микроскопических со-
словных корпораций, подобно тому, как сама демократия
добивается особых привилегий для каждой отдельной лич-
ности, называя их при этом «правами человека», «как де-
мократия присваивает долю верховенства личности, так и
аристократия придает ее группе». В том и другом случае
такая претензия является не чем иным, как проявлением
4. Либералы, социалисты и порядок 173
все того же принципиального индивидуализма, ведущего к
полному раздроблению социального единства. С этой точки
зрения каждый класс является отдельной социально-нрав-
ственной личностью со своими «неотъемлемыми правами»
и частицей «политической собственности», своеобразной
экспроприированной им долей «королевской власти».
И хотя эта аристократически-олигархическая система раз-
деления власти не столь груба, как система чистой демо-
кратии, все же, по мнению Ж. де Местра, она с ней весьма
схожа; так, обе они исходят из общего принципа разделе-
ния властей, который сам Ж. де Местр понять был просто
не в силах1. С его точки зрения, разделение властей от-
нюдь не может гарантировать свободу и даже равенства,
более того, оно приводит в перспективе к конфликтам и
хаосу, а значит, и к новому деспотизму. Только стабиль-
ный порядок, традиция и органический характер законо-
дательствования могут стать гарантами общественного
благополучия; в современном обществе эти формы уже
разрушены или игнорируются многими, и к врагам поряд-
ка Ж. де Местр относит всех «атеистов, масонов, демо-
кратов, либералов, якобинцев, материалистов, журнали-
стов и т. п.» — всех тех, кто постоянно взывает к неким
абстрактным политическим принципам, полагаясь при
этом только на индивидуальный разум и веру в рацио-
нальное устройство общества, т. е. всех реформаторов и
революционеров, называя их «сектой, вечно снедаемой
беспокойством ».
Согласно Ж. де Местру, сущность демократии как раз
и состоит в эгоизме, т. е. постоянной и трусоватой заботе о
См.: Фогэ Э. Указ. соч. С. 12.
174 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
том, чтобы «не стать жертвой и не поддаться обману»
(чувство, свойственное всякому торговцу-буржуа), поэто-
му и основной принцип ее политической деятельности —
контроль и наблюдение за властью, ограничение и перио-
дическое обессиливание власти с целью предупреждения
захватов, ожидаемых с ее стороны, а также ограждение от
власти своих собственных (т. е. в принципе частных и ин-
дивидуалистических) интересов. В такой системе гражда-
нин вовсе не собирается отдавать себя в распоряжение и
под власть государству навсегда, но лишь на некоторое,
оговоренное время, как бы нанимаясь к нему на срок, с со-
хранением за собой прав в любое время нарушить заклю-
ченный договор (в форме ли сопротивления «несправедли-
вой» власти, гражданского неповиновения, уклонения от
уплаты налогов и проч.) — отношение, характерное для
гражданско-правовой сделки, частного права или рынка
вообще1.
Либералы первой половины XIX в. уже предвидели,
что «позитивная» свобода, отождествляемая ими с всевла-
стием народа как социального целого, легко может разру-
шить множество священных для буржуазии «негативных»
свобод, а суверенность народа может стать губительной
для индивида. Если демократии, не переставая быть демо-
кратиями, начнут подавлять свободу, то индивидуум будет
обречен раствориться в социуме: никакое общество не ста-
нет по-настоящему свободным, пока не будет не только
права, но и обязанности, признавать абсолютными и пока
не поймет, что существующие границы неприкосновенной
индивидуальной сферы являются «естественными», тра-
1 См.: Фогэ 3. Указ. соч. С. 10.
4. Либералы, социалисты и порядок 175
диционными и нормальными, а не формальными (пусть
даже законом установленными)1.
Естественно-правовая трактовка при этом остается
сугубо формальной, поскольку не желает учитывать влия-
ние иррациональных элементов — страстей, заблужде-
ний, предрассудков, — сосредоточиваясь только на впол-
не рационализированных нормах морали и систематизиро-
ванных представлениях о свободе, справедливости, правах
человека. В этой либеральной идеологии права человека,
естественное право остаются высшими ценностями, вокруг
которых выстраивается весь либеральный моралистиче-
ский континиум; тогда как власть с ее нюансами собствен-
но политического поведения оказывается за пределами
этой сферы, поскольку сама она ориентирована только на
групповой или индивидуальный интерес, такое противо-
поставление ценности и интереса, как кажется, проходит
через все конструкции, создаваемые политической мыс-
лью либерализма. Но и у А. де Токвиля сферы морали и
политики так же рельефно противостоят друг другу: в од-
ном из этих миров заключено пассивное, хотя и добро-
вольное послушание, в другом господствуют независи-
мость, пренебрежение опытом, ревность ко всякой власти.
При этом обе тенденции, как считает Р. Арон, взаимно
поддерживают друг друга, из чего он неожиданно делал
вывод о том, что и сам А. де Токвиль — типичный либе-
рал, желающий, чтобы демократы признали необходимую
общность интересов у свободных институтов и религиоз-
ных верований и добровольно и естественно приняли бы
1 См.: Берлин И. Жозеф де Местр и истоки фашизма // Фило-
софия свободы. М., 2001. С. 177.
176 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
религиозные нормы в качестве элементов моральной дис-
циплины1.
Протестантская по своему духу трактовка религиоз-
ного нормирования социального поведения, которую ис-
пользует Р. Арон, не учитывает, однако, того факта, что
включение в политический дискурс религиозных норм
полностью изменяет сам его характер, переводя его из
сферы политики и интересов в сферу ценностей. Вырас-
тающий над социально-политическим пространством ду-
ховный идеал «Царства Божьего», этой конечной цели
всякого религиозно-этического нормирования, лишает всю
либерально-демократическую модель общества ее умозри-
тельной и абстрактной основательности, теперь уже не
прагматический интерес, а высшие и неоспоримые ценно-
сти начинают определять высокую политику, в которой
аксиологический аспект власти становится доминирую-
щим, ценности и властвование совпадают, составляя онто-
логическое единство, и все конкретно политические фено-
мены подвергаются интерпретации применительно к этим
основополагающим принципам; два мира, мир религиоз-
ных ценностей и мир политической морали, начинают со-
ставлять некое «символическое» единство.
В «Волшебной горе» Томаса Манна один из наиболее
ярких персонажей романа, рассуждая о теме господства,
неожиданно заявляет: «царствие Божие придет лишь то-
гда, когда дуализм добра и зла, поту- и посюстороннего,
духа и власти будет на время снят, уступив место принци-
пу, соединяющему в себе аскетизм и господство. Вот это я
и имею в виду, говоря о необходимости террора». Ссыла-
1 См.: Арон Р. Этапы развития социологической мысли. С. 239.
4. Либералы, социалисты и порядок 177
ясь на учение Отцов Церкви, он говорит о внутреннем
смысле диктатуры, выдвигаемой против «интернационала
торгашей и спекулянтов» интернационалом труда, в чем он
видит противопоставление буржуазно-капиталистическо-
му загниванию гуманности и критериев самого Града
Божьего, «ведь глубочайший смысл диктатуры пролета-
риата... отнюдь не в господстве ради господства во веки
веков, а во временном снятии противоречия между духом
и властью под знаменем креста, смысл ее — в преодоле-
нии мира путем мирового господства, в переходе к транс-
цендентности, в царствии Божием»1.
Метафизический смысл социализма и состоит, по мне-
нию «правых», как раз именно в таком преобразовании мира,
поэтому и его, социализма, устремления носят значительно
более глубинный характер, чем умозрительные и рациональ-
ные претензии либеральной демократии. X. Д. Кортес, один
из самых глубоких и последовательных критиков буржуазно-
го демократизма XIX в., никогда не забывал подчеркивать
это качество своего идейного врага: социализм имеет значи-
тельное превосходство над либеральной школой хотя бы в си-
лу того, что не боится подходить ко всем важным проблемам
и всем великим вопросам, предлагая для их решения одно-
значные и окончательные ответы, он силен именно потому,
что он есть «сатанинское богословие». Социалисты, говорит
X. Д. Кортес, по-своему правы, когда, возражая либераль-
ной школе, заявляют, что, если зло сущностным образом ко-
ренится в обществе или системе правления, не остается ниче-
го другого, как коренным образом преобразовать само это
общество или правление, без чего затевать внутреннее пре-
1 Манн Т. Волшебная гора // Собр. соч. М., 1959. Т. IV.
С. 86—87.
178 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
ображение человека было бы бессмысленным; высшая цель
социализма как движения — создать новую социальную ат-
мосферу, в которой страсти свое свободное движение начи-
нают с того, что уничтожают все политические, социальные и
религиозные институты, которые прежде эти самые страсти
подавляли1.
Сила социализма в том, что он не только учитывает
иррациональные страсти и мотивации, но и использует их
в своей борьбе, человеческие массы и стихия являются его
важными орудиями, он ближе к «природе», чем умозри-
тельный и рафинированный либерализм, он последова-
тельно атеистичен и насильственен и не скрывает этого, в
отличие от лицемерного демократизма либералов, он со-
средоточен на преображении внешней социальной среды,
пытается сделать это по своему утопическому плану, а не
оставляет столь важное дело на произвол судьбы и рынка,
как делают либералы.
Если либерализм сосредоточивается в своих усилиях
прежде всего на правах отдельной и атомизированной лич-
ности, то социализм все свои устремления направляет на
социальную целостность, ее реконструкцию и приспособ-
ление к своим собственным политическим целям (лич-
ность при этом остается в тени социализма) — в социа-
лизме все без исключения социально. Однако такой под-
ход ведет к утрате метафизических оснований социализма,
его первоначально идейное содержание скоро сменяется
социальным структурированием, и на горизонте его, со-
циализма, развития уже маячат оказавшиеся так близко
друг от друга расположенными деспотизм и нигилизм.
1 См.: Кортес X. Д. Указ. соч. С. 197, 212, 214.
4. Либералы, социалисты и порядок 179
Принудительное счастье, которое социализм предла-
гает (уже без учета интересов отдельных личностей, как
это было свойственно либерализму), не может быть до-
стигнуто и навязано без насилия: как и в либеральной де-
мократии, все люди здесь представляются одинаковыми и
одномерными, отличие от либеральной точки зрения за-
ключается только в том, что в социализме они рассматри-
ваются и принимаются во внимание не по одиночке, а все
вместе, комплексно. Утратив из поля зрения личность, со-
циализм меняет и характер присущих ему ценностей —
они по сути своей атеистичны и антирелигиозны, в его но-
вой «религии человека» свобода не имеет уже никакого
значения, превалирующим остается принцип равенства.
Искусственно созданная мораль социализма усиленно
подчеркивает онтологическое противостояние добра и зла,
но вовсе забывает о грехе: социалисты отрицают грех, а
вместе с ним и саму возможность греха, откуда следует и
отрицание человеческой свободы, которой никак нельзя
достичь без допущения в данную теодицею категории гре-
ха. «Если же мы отрицаем свободу, то отсюда следует от-
рицание ответственности человека, а если же мы отрицаем
его ответственность, то вслед за нею мы отрицаем и нака-
зание», далее за этим следует отрицание Божественного
правления и правления человеческого — таким образом,
когда речь заходит о проблеме правления, отрицание гре-
ха приводит к нигилизму1. Отсюда же игнорирование и
демонстративная недооценка социализмом правовых ин-
ститутов и законности (в том смысле, как ее понимает ли-
беральная мысль); механическое уравнивание и нивелиро-
1 См.: Кортес X. Д. Указ. соч. С. 270.
180 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
вание свойственны социальной тотальности, которую со-
циализм создает и удерживает, непременно используя для
этого силовые методы и строгую организацию; его поря-
док — это порядок казармы.
Но и либеральная демократия, как считает X. Д. Кор-
тес, не меньше подвержена влиянию нигилистических тен-
денций, с которыми она борется по-своему. X. Д. Кортес
дал буржуазному классу блестящее определение: это веч-
но и бесконечно «дискутирующий класс», который пере-
носит всю свою политическую активность в говорение,
прессу и парламент, вечно пытается вместо борьбы завя-
зать дискуссию. Его религия — это свобода слова и печа-
ти, его сущность — это переговоры, он желает, чтобы
дискутировала не только законодательная корпорация, но
и все население в целом, чтобы истина получалась сама со-
бой путем и из результатов голосования. Кортес считал,
что такое политическое поведение — это «только метод
уходить от ответственности и чрезмерно акцентировать
важность свободы слова и печати с тем, чтобы в конечном
счете не нужно было принимать решение»1.
В отличие от умеющих принимать решения социали-
стов либеральные демократы способны только рассуждать
и спорить; само их политическое мышление и поведение
антидогматичны, непоследовательны и неустойчивы, их
нигилизм скрывается в легкомысленном отрицании про-
шлого и традиции, неспособности к децизионистским ак-
там, в принципиальном непризнании абсолюта и полити-
ческом релятивизме. При этом либеральная демократия
мечтает о безопасности и стабильности, придавая им в
1 Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. С. 93.
4. Либералы, социалисты и порядок 181
своих проектах динамические черты, она тем не менее
очень рассчитывает на стабилизирующую роль закона, по-
стоянно расширяя его корпус посредством все новых
включений все множащихся нормативных актов; иногда
начинает казаться, что ее главной задачей и предназначе-
нием является беспрерывное законодательствование.
X. Д. Кортес обвинял либералов в том, что они всяче-
ское зло видят только в тех политических институтах, ко-
торые унаследованы от прошлого, а благо — в скорейшей
ликвидации этих институтов. Половинчатость их взглядов
и утверждений, отсутствие метафизики в буржуазном ми-
ровоззрении — его главный порок; «из всех школ либе-
ральная — самая бесплодная, потому что самая неученая и
эгоистичная... Неспособная ни к добру, потому что у нее
почти нет никаких догматических утверждений, ни ко злу,
потому что всякое и абсолютное отрицание вселяет в нее
ужас... эта школа начинает господствовать только тогда,
когда общество ослабевает: время ее господства приходит-
ся на тот переходный и скоротечный период, когда мир не
знает, кого предпочесть». Всей совокупностью своих про-
тиворечивых положений либеральная школа предлагает
только одно: постараться достичь того равновесия, кото-
рое никогда не достигается, поскольку противоречит самой
природе общества и человека1.
Свой порядок либеральная демократия сооружает пу-
тем нагромождения правовых актов и представительных
учреждений: именно парламентаризм считается главным
завоеванием революционной демократии и оплотом ее на-
дежд, парламент — это политическая биржа мнений и
1 См.: Кортес X. Д. Указ. соч. С. 196—197, 202.
182 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
сил, именно на его основе плетутся главные политические
интриги и формируются политические силы, создаются за-
коны, выражающие соотношение индексов этих сил в ре-
альности. Именно законы санкционируют реальную рас-
становку общественных сил и реальные достижения вла-
сти, создавая благоприятные условия или препятствуя ее
динамике. Законы претендуют на всеохватность и вечное
существование, единообразие и унификация законода-
тельства становится верным признаком трансформации
самой демократии, ее неизбежного поворота к централиза-
ции и администрированию (яркий тому пример — делеги-
рованное законодательство исполнительной власти).
А. де Токвиль подчеркивал, что в «эпоху равенства»
идея промежуточных институтов власти, расположенных
между монархом и его подданными, сменяется идеей еди-
ной и централизованной власти, которая сама всем управ-
ляет, а вслед за этой идеей появляется и идея единого за-
конодательства, и единообразие законов начинает казать-
ся людям важнейшим условием хорошего правления; «в
наше время правительства изнуряют себя в попытках на-
вязать одни и те же обычаи и законы группам населения,
которые еще имеют между собой мало общего», по мере
же выравнивания условий существования значимость от-
дельных индивидуумов явно уменьшается, тогда как об-
щество в целом начинает представляться более великим, и
тогда «каждый гражданин, став похожим на всех других,
теряется в толпе, и тогда перед нами возникает великолеп-
ный в своем единстве образ самого народа», пафосно оли-
цетворенный в обществе и государстве1.
1 См.: Токвиль А. де. Демократия в Америке. С. 482.
4. Либералы, социалисты и порядок 183
Разделив политическое и социальное, либеральные
демократы больше всего беспокоятся о сохранности само-
го политического, для них форма правления и парламент-
ское устройство представляют значительно больший инте-
рес, чем общественное, религиозное или моральное со-
стояние общества. Тем самым отвергается органический
характер общества, и оно рассматривается только как на-
бор и сочетание собственно политических и правовых
структур — именно такое сооружение легче всего подда-
ется механическому воздействию рационально организо-
ванных сил и юридическому нормированию и регулирова-
нию.
Либерализм по сути своей до предела «юридизиро-
ван» и политизирован, ему вообще чужд какой-либо орга-
нический взгляд на политическую природу вещей; не ощу-
щая их генезиса и качественной самобытности, он уверен
во взаимозаменяемости и рациональной конструктивности
многих политических институтов и структур, в его пред-
ставлении они не «вырастают», но создаются. Отсюда:
смена форм правления выглядит только как технико-рево-
люционный акт, и не более того; политический же режим с
этой точки зрения представляется только переходной си-
туацией, благоприятствующей или препятствующей созда-
нию новых запланированных политико-юридических кон-
струкций, в которые хочет облечь себя власть; обилием
принимаемых законодательных актов демократия надеется
оградить себя от ужесточения политического режима и
превращения его в деспотию или диктатуру. (Что касается
X. Д. Кортеса, он, как и все «правые», достаточно пренеб-
режительно относился к вопросу о форме правления: «если
общество здорово и хорошо организовано, его устройство
184 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
оказывается достаточно сильным, чтобы противостоять
всем возможным формам правления, если же оно не может
этого делать, значит, оно плохо организовано и больно.
Зло можно понять только как органический порок общест-
ва... и в таком случае спасительное средство заключается
не в том, чтобы менять форму правления, а в том, чтобы
изменить устройство общественного организма».)
Основное заблуждение либерализма всегда состояло
в том, что он придавал слишком большое значение фор-
мально-юридическим вопросам правления, которые на
самом-то деле в сравнении с вопросами религиозного и
общественного порядка оказывались малозначительными
и малосущественными, полагал X. Д. Кортес1.
5. Господство закона
Еще большее значение либеральная демократия придает
закону, ведь именно он формирует все представления о
свободе и равенстве и является их гарантом. К закону
предъявляется одно серьезное требование — он должен
быть разумным, ведь в законе олицетворен сам разум, по-
этому он рационален, объективен и безличен. Вся просве-
щенческая философия исходит из предположения: если за-
коны будут правилами, предписанными разумом, с раз-
дражением их воспримут только те, кто не понимает
подлинных потребностей своего подлинного «я», обычные
же разумные люди их поймут правильно — только закон
может указать правильное направление к правильным ин-
тересам и общему благу человека (Т. Локк), а политиче-
1 См.: Кортес X. Д. Указ. соч. С. 199.
5. Господство закона 185
екая свобода есть только возможность делать то, что
должно желать (Ш. Монтескье), в общем, свобода не
есть свобода поступать неразумно, неверно или глупо. Ра-
зумные цели наших «настоящих» натур должны совпадать
с предписаниями закона, иначе их к этому следует прину-
дить, как бы ни сопротивлялись этому наши страстные и
невежественные эмпирические «я». В идеальном случае
свобода совпадает с законом, и здесь правила, которые
разумные и ответственные люди будут только едва-едва
чувствовать в момент их воздействия и с которыми будут
полностью соглашаться, постепенно и незаметно отомрут.
Расставаясь со своей дикой и необузданной свободой, ин-
дивид вновь обретает ее уже в зависимости от закона,
творцом которого он сам (совместно с другими) и являет-
ся, и тогда свобода совпадает уже с самой властью1.
Либералам трудно понять, что даже самая «дикая»
свобода представляет для ее обладателя большую цен-
ность, и заменить ее другой, более разумной, рациональ-
ной и всеобщей для живого человека — дело весьма труд-
ное и часто невозможное. Закон всегда диктует, он с само-
го начала есть атрибут диктатуры, а значит, не может быть
сведен к свободе или тождествен ей; точно так же несо-
вместимы свобода и власть. Но невзирая на это человек не
может жить вне государства и без закона, зато вполне мог
бы обойтись без его формальностей, опираясь только на
здравый рассудок, традицию и веру. Самым опасным и
невыполнимым в законе с точки зрения «правых» являет-
ся именно его формализм и уравнительность, т. е. как раз
то, что юристы называют сущностью права; в рассужде-
1 См.: Берлин И. Указ. соч. С. 155—157.
186 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
ниях Ж. де Местра закон определяет только долю того,
что государство забирает у человека для собственного су-
ществования и функционирования, и того, что оно ему ми-
лостиво оставляет, тогда и человек остается относительно
свободным и государство живет. Однако строгий и точ-
ный, одинаковый для всех закон менее всего пригоден для
определения такого изменчивого и живого понятия, как
свобода; раз и навсегда установленная норма, смотря по
обстоятельствам, оказывается то слишком малой, то слиш-
ком крупной, одна и та же сила, полезная для государства
в обычное время, может оказаться вредной во время кри-
зиса.
Закон не в состоянии уловить то качественное разно-
образие, которое предоставляют ему мир и жизнь; уста-
навливая свои формальные рамки и абстрактные нормы
(нужно заметить, что казуальные нормы древности были
более адекватным отражением реальной жизни, чем абст-
рактные нормы современного права), он оказывается не-
способным проникнуть в саму сущность, глубину души че-
ловека, которого он именует безликим субъектом или «фи-
зическим лицом». Вместе с тем он в своей наиболее
развитой и последовательной «буржуазной» форме все
внимание уделяет именно этому «физическому лицу»,
главным образом собственнику, концентрирующему в соб-
ственной персоне конституционные (избирательные),
имущественные и личные права. Но если смотреть на пра-
ва личности не как на ее собственность, а как на полезные
для общества силы, закон не в состоянии дать им какого-
либо разумного определения. Для этого нужны гибкие и
подвижные семантические границы, сужающиеся и рас-
ширяющиеся согласно изменяющимся требованиям време-
5. Господство закона 187
ни и ситуации, и «только живой разумный внимательный
закон может регулировать эти живые силы, обыкновен-
ный закон лишает их подвижности», вероятнее всего, что
только единоличный правитель в состоянии их освобо-
дить, поэтому и «разумный деспотизм составляет непре-
менное условие свободы», и уважение к народной свободе
составляет одно из начал королевской власти, а не безли-
кого и бессильного в этом случае закона1.
Двойственность либерализма всегда проистекала из
того, что, призывая к свободе, он вполне допускал наличие
централизованной и даже единоличной власти (президен-
та, диктатора, императора), и если политика этой власти
разума и основывалась на столь же разумных законах, то
она, эта власть, могла вполне стать опорой и поддержкой
демократическим начинаниям (ведь все реформы всегда
делаются сверху). Опасность в этой ситуации могла пред-
ставлять только иррационально рожденная, сакральная,
магическая, рационально не воспринимаемая власть, спон-
танный, питаемый страстями и стихийными импульсами
деспотизм здесь вовсе не желателен, но разумный и огра-
ниченный деспотизм вполне допустим: еще физиократам
«разумный деспотизм» казался системой, жизненно необ-
ходимой для осуществления идеалов свободы и уничтоже-
ния стоящих на их пути «промежуточных властей». Одна-
ко с этой точки зрения учение о противовесах власти пре-
вращается в химеру, ведь диктовать позитивные законы
всегда означает командовать, и для этого необходимо пуб-
личное насилие, без которого бессильным оказывается
любое, даже самое разумное законодательство. Поэтому с
1 См.: Фогэ Э. Указ. соч. С. 14.
188 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
этой точки зрения и легальный деспотизм, сводимый преж-
де всего к упразднению разделения властей, вовсе и не
деспотизм, связанный позитивными законами, а только до
«предела централизованная власть, осуществляющая пе-
реход к такому состоянию, когда естественные законы
господствуют сами собой и их оправданность очевидна для
разумного человека»1.
Господство божественного, или «естественного», за-
кона тем самым оказывалось вне сферы человеческой воли
и человеческого понимания, и только вера оставалась
единственным связующим звеном между индивидом и
трансценденцией, утрата же веры означала разрыв этой
связи, оставление человека в пустых пространстве и вре-
мени, одинокого и неприкаянного. Просвещение, внушив
ему веру в собственные силы и значимость и отвергнув
прежнюю веру в абсолют, превратило и сам закон из неко-
ей высшей ценности и данности в обычный продукт чело-
веческой деятельности, этику — в прагматическую мето-
дику межчеловеческих деловых отношений, а государст-
во — в надзирающий за соблюдением этих правил и
установлений орган: интерес вытеснил обязательные для
человека ценности за пределы его существования, а теку-
щая политика сделала закон только относительной инстру-
ментальной силой.
В XVIII в. во Франции оказалось политизированным
метафизическое и естественно-научное понятие закона:
картезианское учение о том, что Бог обладает только все-
общей волей, а все частное и партикулярное чуждо его
сущности, в переводе на политический язык стало озна-
1 Шмитт К. Диктатура. СПб., 2005. С. 131—132.
5. Господство закона 189
чать, что государство может формировать в качестве зако-
нов только некие всеобщие и абстрактные правила, а реше-
ние конкретных случаев возможно лишь путем подведения
их под этот всеобщий закон. (В юридической терминоло-
гии аналогом этому стало создание кодексов без особенной
части, содержащих одни декларативные и общие положе-
ния.) Ж. де Местр энергично обвиняет XVIII век в пре-
увеличении индивидуализма, его неоправданной вере в аб-
страктного человека и его не менее абстрактные права, в
умозрительности его правопонимания: отнюдь не строгий и
точный, одинаковый для всех закон может быть пригоден
для определения такого изменчивого и живого понятия,
как свобода, — при всем разнообразии человеческих ти-
пов и качественных различий между людьми такой закон
пытается предоставить каждому индивиду-атому одинако-
вую долю независимости, однако в силу такого подхода к
реальности закон только парализует саму жизнь общества,
мертвит живые органы и превращает весь социальный ор-
ганизм в бездушный грубый механизм, не поддающийся
преобразованию1.
При таком подходе и государство из органического и
живого существа, созданного волей Божией и вдохнов-
ленного ею, превращается в механическую конструкцию,
«произведение искусства», сами принципы и основопола-
гающая структура которого могут быть в любое время
легко перестроены и изменены. Утрата государством сво-
ей первенствующей роли в условиях либерального демо-
кратического общества превращает его в преходящий и
относительный инструментарий человеческого разума,
1 См.: Шмитт К. Диктатура. С. 120.
190 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
конституирующий сам факт его существования. Одно из
главных безумств современной политической философии
Ж. де Местр увидел в ее вере в то обстоятельство, что
«какое-то собрание может учредить нацию», что консти-
туция, т. е. совокупность основных законов, которые
должны снабдить нацию определенной формой правле-
ния, представляет собой точно такое же произведение че-
ловеческого мастерства, как и любое другое, требующее
только ума, знаний и упражнений, и что можно «обучить-
ся ремеслу основателя», которому люди поручают работу
по сооружению правления. Тем самым конституцию, этот
юридический «автомат», имеющий лишь внешние формы
жизни, принимают за само правление, жизнь которого так
же реальна, как и жизнь человека: в реальности политиче-
ское правление представляет собой «весьма развитый дес-
потизм» (Ж. де Местр говорил о современном ему поли-
тическом режиме во Франции), тогда как конституция,
провозглашающая демократию и свободу, существует
только на бумаге, и ее соблюдают и легко нарушают в за-
висимости от прагматических интересов правителей1.
Из сопровождавших всю революционную практику
образов картезианского мышления рождались странные
фантомы, которые сами же преобразователи часто прини-
мали за действительность, непрекращающееся конститу-
ционное строительство, призванное усовершенствовать
общественный строй и обеспечить политическую свободу,
оставалось таковым только в головах проектировщиков и
их лозунгах, абстрактные и умозрительные идеи налага-
лись на живую, постоянно меняющуюся жизнь, казалось,
См.: Местр Ж. де. Рассуждение о Франции. С. 95—96.
5. Господство закона 191
только за тем, чтобы продемонстрировать свою нереаль-
ность и свое бессилие. Когда же органический и сослов-
ный строй был разрушен, объектом приложения этих идей
и моделей стал социальный хаос; как на чистом листе бу-
маги, реформаторы чертили свои планы преобразования,
рассматривая народ, нацию как механическое и арифмети-
ческое единство атомизированных индивидуальностей.
Э. Бёрк, анализируя ситуацию в революционной
Франции, писал: «Сословное устройство являлось естест-
венной и единственной справедливой системой представи-
тельства для Франции. Оно выросло из освященных обы-
чаем условий, отношений и взаимоуравновешивающих
требований людей... Злосчастный план ваших нынешних
господ состоит не в том, чтобы приспособить конституцию
под данный народ, но в том, чтобы полностью разрушить
порядок вещей, разорвать все отношения, изменить со-
стояние нации и подорвать собственность, чтобы подо-
гнать их страну под их теорию конституции»1.
Господство закона становилось новой формой деспо-
тии: все, что выходило за его пределы, объявлялось пре-
ступным и, что еще важнее, неразумным. Сами права «че-
ловека и гражданина» (человек как таковой уже не состав-
лял прежней целостности) по естественному ходу вещей
являли собой продукт разумного производства; господство
закона здесь совпадало с господством разума, как совпа-
дают аспекты одной-единственной истины. Возводимые
храмы закона и храмы разума должны были символически
заменить собой прежние религиозные святыни и центры,
разум и закон становились все подчиняющими себе поли-
1 Бёрк Э. Указ. соч. С. 418.
192 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
тическими силами, и свою санкцию они находили в рево-
люционной, уже «просвещенной» идеологами нации, по-
лагающей заключить с властями договор о совместном
правлении. Характерно, что торжество демократии осно-
вывалось на столь же умозрительном принципе тождест-
ва, которым утверждалось полное совпадение закона и на-
родной воли, что и позволило снять проблему идентифика-
ции закона с волей большинства или с волей меньшинства,
поскольку единогласная воля в принципе не может быть
ни сформулирована, ни выражена.
По мнению К. Шмитта, и все другие демократические
аргументы оказывались основанными на ряде аналогич-
ных тождеств: правящих и управляемых, господина и под-
данных, субъекта и объекта государственного авторитета,
народа и его репрезентации в парламенте, государства и
закона, наконец, «тождестве количественного (численного
большинства или единогласия) и качественного (правиль-
ность закона)». (Речь здесь шла не о чем-то реально оди-
наковом в юридическом, политическом или социологиче-
ском смысле, но только о самом методе отождествления, о
его политическом признании, поскольку всегда остается
некая дистанция между реальной одинаковостью и резуль-
татом отождествления1.) Такое отождествление было ос-
новано на бездоказательном признании всех людей одина-
ковыми, а не просто равными в правах, подобное допуще-
ние было особенно характерным для самой юридической
логики закона: если бы все его субъекты были разнокаче-
ственны в правовом отношении, он не смог бы осуществ-
лять свое равнодействующее регулирование. Поэтому за-
1 См.: Шмитт К. Духовно-историческое положение парламен-
таризма // Политическая теология. Мм 2000. С. 172—173.
5. Господство закона 193
кон и исходит из той предпосылки и юридической фикции,
что все индивиды тождественны друг другу, и это априор-
ное умозаключение ложится в основу всех главных кон-
ституирующих актов. Любая конституция или свод основ-
ных законов только в силу этого допущения могут сохра-
нять свою стабильность даже в обстановке коренным
образом меняющихся жизненных обстоятельств, посколь-
ку изменение конкретных условий не затрагивает их кон-
струкции, базирующейся на умозрительных и абстрактных
предпосылках, позволяющих конституции существовать
(но не действовать) в изменившемся мире.
Ж. де Местр писал в «Размышлениях о Франции»:
«Никакая конституция не следует из обсуждения; права
народов никогда не бывают писаными... писаные учреди-
тельные акты или основные законы всегда суть лишь до-
кументы, объявляющие о предшествующих правах, о ко-
торых можно сказать лишь то, что они существуют пото-
му, что существуют». И хотя писаные законы по большей
части являются лишь «объявлениями предыдущих прав»,
требуется много усилий для того, чтобы все, что может
быть записано, становилось таковым, в каждой конститу-
ции есть даже нечто такое, что не может быть записано и
что «необходимо оставить в темной и почитаемой неясно-
сти под страхом свержения Государства».
Законы являются лишь заявлениями о правах, а права
заявляются лишь тогда, когда на них наступают, так что
появление множества конституционных законов свиде-
тельствует прежде всего о множестве испытанных обще-
ством потрясений и о реальной опасности его распада,
Ж. де Местр ссылается на слова Дэвида Юма, заметив-
шего как-то, что в ряде случаев вовсе невозможно управ-
194 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
лять при посредстве законов, более эффективным здесь
будет управление при помощи «тонких идей, приходящих-
ся кстати и благопристойных», т. е. с помощью одного
здравого смысла1.
6. Политические тайны демократии
Законодатель или правитель исходят в своих действиях
из допущения о принципиальной разумности закона, в
силу чего все разумные члены общества непременно и
осознанно должны будут поддержать его предписания
(если же они этого не сделают, следовательно, сами они
неразумны и должны подвергнуться давлению разума,
неважно, своего или чужого, ведь его предписания по-
всюду одинаковы). Предпосылки для такого типа пове-
дения уже имеют место: у всех людей есть только одна,
общая и постоянная для них цель — «разумное самона-
правление», поэтому их множественные и разносторонние
устремления естественным образом складываются в еди-
ное и гармоническое целое, ведь все трагедии и столкно-
вения в жизни происходят исключительно из-за принци-
пиального конфликта разумного с неразумным; когда же
все люди станут разумными, они будут послушны зако-
нам собственной натуры, одинаковым для всех, а значит,
в политическом плане и законопослушными, и свободны-
ми одновременно.
Р. Арон полагал, что А. де Токвиль в своей критике
демократического законодательствования заметил лишь
две главные опасности, угрожающие существованию демо-
1 См.: Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. С. 81—82.
6. Политические тайны демократии 195
кратии как таковой: полную зависимость законодательной
власти от хаотических и разнообразных пожеланий изби-
рателей, т. е. принципиальную невозможность выработать
ими единое и согласованное решение, а также сведение
всех форм управления к единственной форме, т. е. сосредо-
точение всех властных функций и их базовых оснований
исключительно в законодательных органах. Согласно
Ш. Монтескье (и А. де Токвилю в интерпретации Р. Аро-
на), любое демократическое правление ни в коем случае не
должно позволять народу под воздействием его «собствен-
ных страстных увлечений и аффектов» оказывать давление
на решения, принимаемые самим правительством. Одно-
временно с этим, как постоянно повторял А. де ТЪквиль,
любой демократический режим стремится к централизации
и концентрации власти именно в структурах законодатель-
ных органов, поэтому и всякая власть, основанная на опре-
деленных (основных) законах, непременно будет исходить
из узурпации прежде всего законодательных прерогатив,
искони принадлежавших Всевышнему.
Что может предостеречь людей от падения в бездон-
ную пропасть анархии и ниспровержения всех ценностей,
когда любая конституция, присваивающая себе божест-
венные права, всегда по сути своей будет неполноцен-
ной, грешной и формально внешней? — вопрошает
Ж. де Местр и отвечает: только страдания, ведь со всех
сторон человека окружают невежество, своеволие, глу-
пость, поэтому в качестве противоядия должны появить-
ся кровь, боль и возмездие. Такова цена искупления и
исправления для человечества1.
1 См.: Берлин И. Указ. соч. С. 163—164, 232; Арон Р. Указ.
соч. С. 236.
196 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
Революция, несмотря на свою сатанинскую внеш-
ность, послана людям самим провидением, в ее огне про-
исходит очищение всех прошлых грехов; искупления жаж-
дут как сам народ, так и аристократия. В этом котле кипят
все прежние страсти, идеи и грехи, здесь свобода, поманив
людей за собой, погружает их в самое горнило войн,
убийств и деспотизма; и в этом хаосе по неведомому для
людей плану выковывается незнакомый им, новый поря-
док. Очень скоро он покажется людям куда более ценным
и желанным, чем сама свобода, — именно в порядке со-
держится истина и соблюдаются интересы, тогда как сво-
бода представляет собой только непредсказуемый процесс
их поиска и ожидания.
Еще для рациональных философов и политиков
XVIII в. проблему политической свободы казалось воз-
можным разрешить исключительно при посредстве такого
справедливого порядка, в котором встречаются и сталки-
ваются по сути равно справедливые истины, логически и
рационально могущие быть сведенными к единству: разум
все может привести в порядок, внести свет в тьму и хаос,
найти только одну единственно верную истину. Однако в
существующем обществе справедливость и равенство все
еще остаются только идеалами, внедрение которых в
жизнь и человеческое сознание требует определенного на-
силия, — и делается это с благородной целью защитить
слабых от господства сильных.
С точки зрения Жана Жака Руссо, Иммануила Канта
и других просветителей, этих самых «сильных» побуждает
стремиться к господству одно только сохраняющееся в них
иррациональное и атавистическое стремление, желание
господствовать само по себе, и этот явный симптом неразу-
6. Политические тайны демократии 197
мия всегда можно объяснить и исцелить вполне рациональ-
ными методами. Для этого очень пригодятся как государст-
венное, так и правовое насилие; сам Ж. Ж. Руссо уже пре-
дупреждал, что законы свободы вполне могут оказаться на
деле куда более суровыми, чем сама тирания, ведь свобода
не приходит к людям только в одной своей «негативной»
форме, т. е. в форме защиты индивида от вмешательства в
его частную сферу существования публичной власти, чаще
всего она принимает форму именно общественной власти,
только малую долю которой присваивает себе каждый дее-
способный гражданин и которая в своем целом имеет право
насильственного вмешательства во все области индивиду-
альной жизни этого гражданина. (Б. Констан в этой связи
заметил: когда успешное восстание передает неограничен-
ную власть, называемую суверенитетом, из одних рук в
другие, объем свободы отнюдь не увеличивается, зато за-
метно перемещается бремя рабства.) Сама же свобода ни-
чего не получает от правления большинства и демократии и
как таковая логически ничем им не обязана, а в историче-
ской ретроспективе она редко становилась на их защиту;
«триумф деспотизма наступает тогда, когда рабы говорят,
что они свободны», и, что удивительно, для этого даже во-
все не обязательно применять к ним принуждение1.
Поэт М. Волошин, тонко прочувствовавший глубин-
ный характер Французской революции, писал: «Безумие
отдельных лиц ищет оправдания своей справедливости в
высшей и неоспоримой идее, но неоспоримые идеи, сталки-
ваясь в водовороте жизни, производят разрушительный
взрыв. Отдельные безумцы находят свое успокоение толь-
1 См.: Берлин И. Указ. соч. С. 153, 174—176.
198 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
ко в законе — безумии объективном, которое является
равнодействующей всех безумий». Но во имя безымянной
идеи нет закона, будь то непорочная идея самой справедли-
вости или успокаивающая идея государства — мещанство.
Ссылаясь на слова Анатоля Франса, М. Волошин подчер-
кивает: в демократии народ подчинен своей воле, что пред-
ставляет весьма тяжелую форму рабства. На самом же деле
народ чужд и враждебен собственной воле, как и воле сво-
его царя, поскольку в воле отдельного человека общая воля
практически отсутствует1. Сложение индивидуальных воль
также не дает единой воли, если каждая из них не устрем-
лена к общей трансцендентной цели; политической тайной
демократии и является как раз ее внутренняя раздроблен-
ность и разобщенность, это рыхлое изнутри единство,
только механически и юридически оформленное снаружи.
Ж. де Местр одним из первых обвинил революционную
власть в том, что она кладет в основу новой государствен-
ности принцип разъединения, а затем уже при помощи гру-
бого насилия возвращает ей искусственное единство. Но
государство — это живой организм и подобно всякому ор-
ганизму живет силой, почерпнутой в отдаленном и неиз-
вестном прошлом, живет неким внутренним образующим
его началом, точно так же ему неизвестным. «В основе его
единства лежит тайна, и такая же тайна составляет основу
его преемственности. Это неясно, но потому и жизненно:
жизнь основана на совершенно неуловимых началах».
Революционеры думают, что государство основыва-
ется на писаной конституции, но и здесь они ошибаются.
Всякая писаная конституция утрачивает свою значимость
1 См.: Волошин М. Указ. соч. С. 195—196.
6. Политические тайны демократии 199
уже в силу того, что она слишком известна, слишком яс-
на, в ней нет ничего таинственного. «А люди всем серд-
цем, активно повинуются только тому, что сокровенно,
таким темным и могучим силам, как нравы, обычаи,
предрассудки, общее настроение ума и души, которое их
окружает, проникает и оживляет без их ведома. Они, эти
темные силы, только и неоспоримы по причине своей за-
гадочности». Текст исполняют, но не чувствуют к нему
уважения, ему уступают, но не подчиняются...-В тексте
нет души1.
Сама форма властвования устанавливается отнюдь не
волевым актом в соответствии с неким умозрительным и
рациональным проектом, она складывается спонтанно и
непредсказуемо как результат взаимодействия многооб-
разных борющихся сил, и Ж. де Местр был уверен, что ни
одна нация в мире не способна сама установить для себя
приемлемую форму правления; лишь в том случае, когда
то или иное право уже существует в его «естественной
конституции», хотя бы и в латентном состоянии, только
тогда всего лишь «несколько человек с помощью обстоя-
тельств смогут устранить препятствия и заставить вновь
признать права народа» — человеческая власть не про-
стирается далее этого. Соотношение конкурирующих сил
складывается естественным образом, как и система соци-
альных статусов групп и индивидов. Конституция рожда-
ется внутри самого социума, а не на бумаге, она вырастает
органически и в силу исторических обстоятельств, но не
путем мудрствования небольшой кучки законодателей.
Статусы и ранги, позднее оформленные юридически, по-
1 См.: Фогэ Э. Указ. соч. С. 10.
200 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
началу возникают как результат естественного отбора, и в
разных формах правления существуют различные приемы
их закрепления и фиксации. Так, монархия наиболее тонко
и адекватно может улавливать те качественные различия,
которые создают природа, судьба и традиция. Здесь наи-
более последовательно учитывается то качественное разно-
образие, которое существует в любом обществе. Иерархия
как конституирующее начало вырастает здесь органиче-
ски, питаясь «кровью и почвой».
Устанавливаемые в демократиях системы власти в
принципе беспочвенны и уже в силу этого ненадежны, в
них утрачены свойственные монархии органичность и тра-
диционализм, они по сути не понимают, что такое леги-
тимная преемственность, что такое священный суверени-
тет властителя; в результате в таком государстве образует-
ся «слишком много движения» и нестабильности и явно
недостает субординации, поскольку все имеют право пре-
тендовать на все. Порядок же требует, чтобы статусы и
должности в целом были распределены по рангам, так же
как и сословия, и чтобы только личные способности поз-
воляли преодолевать барьеры, разделяющие различные
классы, таким образом «получается соперничество без
унижения и движение без разрушения; отличие, связанное
с должностью, проистекает... только из-за большего или
меньшего труда для замещения такой должности». Вот
как раз монархия и была такой формой правления, которая
одним только замещением мест и независимо от знатности
выделяла самое большое число людей из массы остальных
их сограждан1; у республиканских же учреждений нет та-
1 См.: Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. С. 142—145.
6. Политические тайны демократии 201
ких корней, они только поставлены на землю, тогда как
предыдущие были в нее посажены.
Монархия, безусловно, и есть форма правления, даю-
щая наибольшие отличия наибольшему числу людей, суве-
ренность при этой форме правления явно обладает доста-
точным блеском и традициями, чтобы передать часть их
множеству лиц, которых она в той или иной мере отличает.
В республике же по сравнению с монархией суверенность
совершенно безлика и неосязаема, поскольку она есть
сущность чисто виртуального свойства и ее величие нельзя
наглядно и физически передать кому-либо. Так, в респуб-
ликах должности не стоят ничего «за пределами города,
где располагается правительство, более того, они ничего не
значат и в том случае, если не замещаются членами прави-
тельства», поэтому республика по своей природе является
правлением, дающим наибольшие права наименьшему
числу людей, объединяемых общим понятием суверена,
который открыто или тайно отнимает эти права у осталь-
ных граждан, соответственно именуемых подданными, и
«чем больше республика сближается с чистой демократи-
ей, тем больше это ее свойство будет впечатляющим»1.
Чем более открытой и прозрачной является власть,
тем меньший эффект она производит на подданных; чем
менее значимые и более банальные задачи она ставит пе-
ред ними, тем меньшим уважением у них она пользуется.
Власть всегда должна оставаться тайной, быть загадочной
и недосягаемой (на земле она представляется наместницей
трансцендентного), ее цели должны быть глобальными и
не до конца постигаемыми; в истории тайная политика все-
1 Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. С. 146—147.
202 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
гда кажется людям более могущественной и более притя-
гательной, чем открытые обсуждения и дискуссии по по-
воду принятия публичных решений. Доверившись и под-
чинившись власти, люди ждут от нее уверенных и
решительных, подчас даже жестоких действий, они гото-
вы даже жертвовать своим благополучием для того, чтобы
ощущать эту силу и всемогущество стоящей над ними вла-
сти, которая в конечном счете и обеспечивает их существо-
вание.
Ж. де Местру казалось, что поступки людей оправ-
данны не тогда, когда они направлены к счастью, ком-
форту, самоутверждению и самовозвеличиванию, но ко-
гда они обращены к непостижимой, установленной свыше
цели, которую сами люди не в состоянии постичь и кото-
рую они, на свою погибель, отрицают. Это могут быть
действия и акции, которые с точки зрения пошлой мора-
ли среднего класса кажутся несправедливыми, хотя на
самом деле они происходят из «темной непознаваемой
сердцевины любой власти». «Правительство, — говорит
Ж. де Местр, — это настоящая религия. Она имеет свои
догматы, свои таинства, своих священнослужителей».
Правительство дано людям из соображений политиче-
ской веры, символом которой оно и является. Конститу-
ции можно повиноваться, но нельзя поклоняться, «а без
поклонения и даже без суеверий, этих «опережающих
время мыслей», аванпостов религии, ничто не прочно»,
такая религия требует наличия не «коммерческого» дого-
вора (по модели Т. Локка и Ж. Ж. Руссо), но полного
растворения личности в государстве. Тогда государство
становится для человека религией, новым культом: наме-
стником Бога в монархиях всегда являлся монарх, рее-
6. Политические тайны демократии 203
публики, как правило, предпочитают язычество или ате-
изм; во всяком случае, только одну монархию в целом и
можно назвать религиозной, в республике же и демокра-
тии религиозными являются только отдельные личности.
(Когда же республиканские власти пытаются сформули-
ровать единую для всех государственную религию, дело
не идет дальше создания странной фигуры Высшего су-
щества или Архитектора Вселенной.)
Истинно религиозное онтологично, а не конструктив-
но, и во всем действительном присутствует элемент чудес-
ного, оно загадочно и таинственно, потому в него и верят;
все же созданное самими людьми слишком примитивно и
откровенно, чтобы его почитали. Религия стоит выше ра-
зума не потому, что у нее есть более убедительные ответы
на метафизические вопросы, но потому, что она таких от-
ветов вовсе не предлагает, она не спорит, но повелевает.
Все сильное, прочное и успешное на свете находится вне
сферы разума и в каком-то смысле даже направлено про-
тив него; так, наследственная монархическая власть, вой-
на, брак устойчивы уже потому, что их нельзя рациональ-
но объяснить, оправдать и нельзя исключить из мирозда-
ния; «иррациональное обладает собственной гарантией
долговечности — такой, на которую разум никогда не мог
бы даже уповать», — таков основной тезис Ж. де Местра.
Все разумное и рукотворное обречено, прочно одно лишь
иррациональное, «рациональная критика разъединяет все,
что к ней восприимчиво: уцелеть может только то, что ок-
рашено внутренней тайной и необъяснимостью»; действие
бесполезно в той мере, в какой оно направлено на исполне-
ние сиюминутных желаний и вытекает из расчета; дейст-
вие полезно и согласно с мирозданием, когда оно порожде-
204 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
но необъяснимыми и непостижимыми глубинами, а не ра-
зумом и индивидуальной волей1.
В самой «прозрачной» демократии отнюдь не самые
разумные доводы и увещевания удерживают людей в
столь необходимом для государства единстве и целостно-
сти, а некие скрытые, но вполне действенные силы власти
и принуждения. Именно сила, а не разум имеет здесь ре-
альное значение: где бы ни образовывалось пустое про-
странство, сила тут же проникает в него, преобразуя рево-
люционный хаос в новый порядок. Даже люди, захватив-
шие власть, часто сами не ведают того, как им это удалось
сделать, само их влияние и могущество оказывается для
них еще большей загадкой и тайной, чем для их подвласт-
ных. Провидение — вот та таинственная сила, которая иг-
рает человеческими намерениями. Власть и могущество не
могут быть объяснены рационально, даже революция, са-
мое худшее из всех политических зол, и та сама по себе —
деяние Божие, и она столь же таинственна по своей при-
роде, как и другие исторически значимые силы и события,
конечно же, не люди управляют революцией, это револю-
ция пользуется ими2. Точно так же ни одна конституция не
рождается в результате только зрелого размышления ее
авторов, поэтому и «права человека» или нации лучше
всего не выражать в письменном виде, но уж если прихо-
дится закреплять их на бумаге, то в таком случае они
должны стать только транскрипцией неписаных и извечно
существующих прав, воспринимаемых исключительно ме-
тафизически, ибо то, что становится текстом, теряет свою
истинную силу.
1 См.: Берлин И. Указ. соч. С. 241—244.
2 Там же. С. 267, 286.
6. Политические тайны демократии 205
Конституирующие основания общества всегда скрыты
в его глубине и в душах людей, его составляющих, поэтому
и в основе государственного органического единства также
лежит тайна, такая же тайна составляет и основу его преем-
ственности (это неясно, потому и жизненно), ведь сама
жизнь основана на неких неуловимых началах. Всякая писа-
ная конституция слишком известна и ясна, в ней нет ничего
таинственного. А люди повинуются только тому, что сокро-
венно, а именно таким темным и могучим силам, как нравы,
обычаи, предрассудки; они, эти темные силы, только и не-
оспоримы по причине своей загадочности. «Текст обсужда-
ют, думают его исправить, и так как в составлении его участ-
вовала человеческая рука, на него думают наложить руку.
Текст исполняют, но не чувствуют к нему уважения, ему ус-
тупают, но не повинуются». Ничтожным кажется закон, с
инициатором и автором которого мы ежедневно сталкива-
емся, точно так же шаток и тот правящий род, происхожде-
ние которого всем памятно, «надо, чтобы хотя бы для толпы
начало его терялось во мраке преданий»1.
Демократии, провозглашая власть народа, на самом
деле передают власть только небольшой группе правите-
лей, однако и это происходит не по злому и точно рассчи-
танному умыслу наиболее деятельных и бесчестных инди-
видов, а в силу все тех же спонтанных и таинственных
процессов, подспудно протекающих в обществе и истории.
Ни массы, ни выборы не имеют здесь решающего значе-
ния: «суверенитет народа», так же как и «права человека»,
остаются не более чем идеологемами и призывами, решаю-
щая же сила находится в ином месте. Ж. де Местр писал в
1 Фогэ Э. Указ. соч. С. 10—11.
206 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
«Рассуждениях о Франции»: «Господь, оставив за собой
дело создания суверенитетов, тем самым предупреждает
нас не доверять никогда выбор своих властителей самим
массам. Он использует их в великих движениях, решаю-
щих судьбу империй, только как послушное орудие. Нико-
гда толпа не получает того, чего хочет, всегда она прини-
мает и никогда не выбирает». Эта закономерность особен-
но очевидна в деле установления и падения монархий; в
этих великих движениях не только народы оказываются
лишь материалом для действия тайных сил, но и сами вож-
ди кажутся деятельными лишь в глазах стороннего наблю-
дателя, на самом же деле над ними властвуют так же, как
они властвуют над народом. «Эти люди, взятые вместе,
кажутся тиранами толпы. На деле над ними стоят два-три
тирана, а над этими... — кто-то один. И если этот единст-
венный в своем роде человек смог бы и захотел бы рас-
крыть свои секреты, то все увидели бы, что он не знает
сам, каким образом ему досталась власть, что его влияние
есть еще большая загадка для него самого, чем для других,
и что обстоятельства, которых он не мог ни предвидеть, ни
вызвать, все совершили для него и без него».
Не справедливость и разум движут политическими
событиями и действиями, их нельзя оценивать только с че-
ловеческой точки зрения, ведь большинство человеческих
актов и помыслов совершенно не совпадают с планами
Провидения. Политическая деятельность особенно остро
ощущает на себе это несовпадение: политический мир дви-
жется случайностью, он не устроен, не направляем, не
вдохновлен той же мудростью, которая блистает в мире
материальном: «злодейские руки, ниспровергающие госу-
дарство, непременно причинят тяжкие страдания, ибо ни
6. Политические тайны демократии 207
одно свободно действующее лицо не может нарушить по-
мыслы Создателя, не повлекши в сфере своей деятельно-
сти бедствий, соразмерных величине покушения» — этот
закон предписан волей Создателя, но отнюдь не политиче-
ской или юридической справедливостью. Но когда чело-
век трудится ради восстановления порядка, он взаимодей-
ствует с Создателем этого порядка и ему благоприятствует
сама природа, т. е. вся совокупность вторичных причин,
посылаемых свыше1.
Индивид беспомощен в своей деятельности без боже-
ственной поддержки; вера в непостижимость путей, кото-
рыми совершаются божественные чудеса, непредсказуе-
мость Провидения, преобразующего случайные следствия
человеческих поступков в движущие силы исполнения бо-
жественных замыслов, — таковы главные постулаты док-
трины Ж. де Местра (следующего здесь за мартиниста-
ми). Вместо либерально-демократических идеалов свобо-
ды и прогресса он проповедовал спасение при помощи
веры и традиций, при этом подчеркивая необходимость
для человека власти, иерархии, послушания и подчинения;
«первенствующую роль он отводил не науке, а инстинкту,
христианской мудрости, предрассудкам (представляю-
щим собой плод опыта многих поколений), слепой вере».
Вместо идеала мира и социального равенства, основан-
ных на общности интересов и естественной добродетели,
Ж. де Местр провозглашал: неравенство неотделимо от
природы вещей, а конфликт целей и интересов — необхо-
димое условие бытия падшего человечества (отсюда и не-
признание им «естественного права»); но, веря в доктрину
1 См.: Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. С. 132—133,138.
208 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
о божественном праве королей, он отстаивал «необходи-
мость тайны, сумрака и в особенности стихийности как ос-
новы общественной и политической жизни». Исайя Бер-
лин в самых мрачных тонах описывал стиль политического
мышления и языка Ж. де Местра: учение о насилии, ле-
жащем в основе бытия, вера в могущество темных сил,
призыв против разума, убеждение в том, что только таин-
ственное долговечно, учение о крови и жертве, о народной
душе и «потоках, впадающих в огромное море», о нелепо-
сти либерального индивидуализма и пагубном влиянии ин-
теллектуалов. Во всем этом И. Берлин увидел истоки бу-
дущего тоталитаризма1. Однако Ж. де Местр был скорее
последним политическим романтиком, чем предтечей тота-
литарной идеологии: апеллируя к божественному началу и
вечности, выраженной в форме традиции, он трагически
ощущал утрату этих основ человеческого существования.
Он одним из первых увидел угрозу обожествленного ра-
зума и механистической социологии для общества и преж-
де всего для индивида, на его глазах провозглашенные
равенство и свобода превращались в угнетение и террор.
Ж. де Местр был врагом революции либеральной и «де-
мократической», но он же был и революционером, «кон-
сервативным революционером» XIX в.
7. На пути к диктатуре
В «Волшебной горе» Т. Манна иезуит Нафта, упрекая
своего либерального оппонента в розовом оптимизме, уве-
ряет его, что будущие революции отнюдь не будут прино-
1 См.: Берлин И. Указ. соч. С. 225—226, 245.
7. На пути к диктатуре 209
сить людям свободу, ведь за долгие столетия принцип сво-
боды уже полностью себя изжил и выдохся, выполнив
свое предназначение. Поэтому все «воспитательные сою-
зы» (под ними говоривший понимал церковь, государство,
политические партии, масонские ложи и т. п.) сегодня кар-
динальным образом меняют свои цели, и проводимая ими
подготовка индивидов сводится к иным задачам: это —
категорический приказ, железная спаянность, дисципли-
на, самопожертвование, отрицание собственного «я», на-
силие над личностью. «Массы жаждут послушания, а не
свободы... Не освобождение и развитие личности состав-
ляют тайну и потребность нашего времени. То, что ему
нужно, то, к чему оно стремится и добудет себе, это... тер-
рор».
Что же касается либеральной «идеи прогресса», то это
не более чем нигилизм в чистом виде, потому что для либе-
рального буржуа основным является именно культ «ни-
что», которое заменяет ему Бога и позитивный Абсолют,
этому «ничто» он дает клятву верности, воображая себя
при этом со своим мертвым пацифизмом невесть каким
праведником1. (Эрих Фромм, несколько позже анализируя
механизмы «бегства от свободы», отметил все определен-
нее проявляющуюся тенденцию отказа от независимости
собственной личности и стремления слить ее с неким внеш-
ним и сильным целым, выражающуюся равно в готовности
как к господству, так и подчинению: в обоих случаях инди-
вид ищет недостающую ему самому силу и обретает тем са-
мым только новые узы взамен утраченных2.) Самый яркий
сторонник «террористического» действия в политике
1 См.: Манн Т. Указ. соч. С. 83, 255.
2 См.: Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. С. 124.
210 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
XIX в. X. Д. Кортес определял систему либеральной де-
мократии как ситуацию непрерывного дискутирования, где
окончательного решения не может быть принято в принци-
пе; зато диктатура, эта качественная противоположность
политической дискуссии, для децизионистского духовного
склада X. Д. Кортеса представлялась единственно воз-
можной формой властвования, способной остановить над-
вигающееся либералистское разложение Европы и полную
победу «ничто»; в ожидании грядущего страшного суда для
Европы X. Д. Кортес с презрением отвергал либеральные
программы, с уважением относясь к своему смертельному
врагу — социализму, — приписывая ему сатанинское
влияние на ход истории. Нигилистическое разложение неиз-
бежно, и единственная сила, которая может хотя бы попы-
таться встать на его пути, — это диктатура в чистом виде.
X. Д. Кортес был убежден в том, что с исчезновением
теологического исчезает и моральное, с моральным исче-
зает политическая идея, а любое моральное и политиче-
ское решение парализуется «райской посюсторонностью»
и беспроблемной телесностью. Эта тенденция сохраняется
и позже, выражаясь в стремлении устранить «необъектив-
ное» господство политики «объективной» хозяйственной
жизнью: с этой точки зрения в мире должны остаться
лишь организационно-технические и экономико-социоло-
гические задачи, а сама политическая идея с ее сердцеви-
ной — моральным решением — неизбежно должна уйти в
прошлое1.
Процесс политической теологизации, когда сакраль-
ные и традиционные ценности и институты подвергаются
1 См.: Шмитт К. Политическая теология. С. 94, 96—97.
7. На пути к диктатуре 211
секуляризации, с необходимостью вызывает к жизни но-
вые идеи и институты власти: власть, законным образом
существовавшая в церкви и монархии, уступает свое место
народоправству, или народной тирании, самой худшей из
всех возможных форм правления; те, кто разжигал мяте-
жи во имя свободы, со временем сами превращаются в ти-
ранов (Луи-Габриель-Амбруаз Бональд), и принцип на-
родовластия (вторит ему Ж. де Местр вслед за Т. Гоб-
бсом, Н. Макиавелли и Ш. Монтескье) оказывается
столь опасным, что будь он даже справедлив по существу,
то и тогда его следовало бы хранить в тайне от масс. Соб-
ственно говоря, аристократия в эпоху своего правления
именно так и поступала: секретная политика кабинетов и
правление, осуществляемое за рамками закона, были ее
испытанными приемами властвования. Она сама подго-
тавливала те условия и предпосылки, которые позже при-
вели к ее собственному падению, политические установки
аристократии оказались слишком сословно узкими, чтобы
решить проблемы общенационального характера и предот-
вратить катастрофу.
Ж. де Местр противопоставлял аристократическому
типу правления модель другого рода, он приписывал пат-
рициату роль такой «промежуточной власти», составляв-
шей некогда существенный элемент монархического прав-
ления, строго соблюдавшего фундаментальные законы,
вслед за Ш. Монтескье он полагал, что именно эти си-
лы — корпорации духовенства, сеньориальное правосудие
и независимые суды — смогли бы создать преграду чрез-
мерным крайностям деспотической политики, таким, как
королевский абсолютизм и его бюрократия, с одной сторо-
ны, и непосредственное господство народа — с другой.
212 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
Главная задача по противодействию деспотизму, королев-
скому или демократическому, безразлично, состоит имен-
но в сохранении баланса, равнодействия противоборст-
вующих сил, но отнюдь не в разделении властей1.
В революциях XVIII—XIX вв. к власти приходит
средний класс, ведущий свое происхождение от средневе-
кового патрициата, но сильно разбавленный представите-
лями низших классов, охлосом. Порвав с традициями и
религиозностью, этот класс ищет новую опору для своего
властвования; он находит ее в разветвленной и усложнен-
ной системе бюрократических институций и невероятно
большом массиве законодательных актов и регламентации.
Его идеологи переносят в реальную политическую жизнь
некоторые навыки и приемы, которые они выработали еще
в недрах своих сословных корпоративных организаций —
лож, клубов, обществ; они вносят эти принципы и идеи в
политику и законодательствование насильственно, ис-
пользуя при этом жесткое психологическое давление и де-
монстрируя уже приобретенные этим классом, взгляды и
намерение которого идеологи выражают, вкус и навыки к
властвованию и господству. (Я. Буркхардт, наиболее
близкий к А. де Токвилю в оценке революционных преоб-
разований XIX в., заметил, что именно главари клубов,
которыми кишела предреволюционная Франция, проде-
монстрировали наличие высокоразвитого властного нача-
ла, которое вовсе не беспокоила сиюминутность и беспоч-
венность самого его существования и которое сохранялось
до тех пор, пока в массах был жив страх; эти главари, как
и следовало ожидать, оказались в дальнейшем совершенно
1 См.: Берлин И. Указ. соч. С. 271, 282.
7. На пути к диктатуре 213
неразборчивыми в применении политических средств все-
общего принуждения, имея под рукой в качестве орудия
организованные толпы мятежного люда1.)
Вкус к власти всегда является предпосылкой и моти-
вом к ее дальнейшему возрастанию, пределом которого бу-
дет только диктатура; и страх подчиненных как ответная
реакция на этот процесс только еще более способствует его
углублению и ускорению; давление власти возрастает по
мере увеличения ее объема. Власть сама выбирает такие
формы собственной реализации, которые наиболее рель-
ефно выявляют ее самые жестокие и экстравагантные осо-
бенности, власть, становясь самоцелью, вытесняет из жиз-
ни общества и индивида все остальные ценности, и тогда в
политической жизни остается только один интерес — это
интерес самой власти, власть становится не только ощути-
мой, но и видимой, даже персонифицированной. (Э. Бёрк,
обращаясь к одному из своих французских корреспонден-
тов, очень красочно рисовал такую картину: Ваши деспоты
правят с помощью страха. Они знают, что человека, живу-
щего в страхе Божием, невозможно напугать ничем. И по-
этому они искореняют из человеческих душ при помощи
скептической философии и материализма тот единствен-
ный вид страха, который порождает истинное мужество,
«их цель — довести своих сограждан до такого состояния,
когда единственно перед чем они будут трепетать, это пе-
ред их следственным комитетом и их фонарем»2.)
Диктатура, поначалу предназначавшаяся для установ-
ления демократического (т. е. созданного в соответствии с
народной волей) порядка, быстро и легко превращается в
1 См.: Буркхардт Я. Указ. соч. С. 487.
2 Бёрк 3. Указ. соч. С. 393—394.
214 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
террор и тиранию. Сначала на время, а затем и вовсе за-
бывают о верховенстве закона, подменяя его инструмента-
ми насилия. Господство закона сменяется господством во-
левых решений и лиц, их принимающих, диктатор из вре-
менного и чрезвычайного правителя превращается в не
ограниченного временем и компетенциями деспота, ведь
диктатура — это всегда всевластие без закона, законода-
тельная же деятельность порождает право без правовой
силы, безвластное право. Законодатель тем самым стоит
как бы вне государства, но в сфере права, диктатор — вне
права, но в государстве, поэтому «законодатель есть не
что иное, как еще не конституированное право, дикта-
тор не что иное, как конституированная власть». Диктатор
до последнего момента публично утверждает, что его
власть отдается на волю и выбор народа и что он только
выражает народную волю. При этом лукаво умалчивается,
каким образом эта самая воля формируется: народ в своей
массе совершенно не способен к принятию единогласного
решения, разуверившийся в своих представителях, кото-
рые так же не способны адекватно выразить его стремле-
ния и чаяния, народ ищет более высокой властной ин-
станции. Но это уже не Бог и не трансценденция,
это всего-навсего центральная власть, которой он дове-
ряет и которая явными и тайными способами принуждает
его к такому доверию. Чтобы победить в борьбе со «ста-
рым порядком», демократия выбирает диктатора и дикта-
туру, рассматривая их как свое временное продолжение;
такая подмена очень скоро дает свой неожиданный и дра-
матический результат — диктатура становится самостоя-
тельной и уже не нуждающейся в демократической атри-
бутике формой властвования.
7. На пути к диктатуре 215
К. Шмитт наиболее точно подметил эту тенденцию,
заложенную внутри самой демократической идеологии и
демократической практики: процессы отождествления
скрывают тот факт, что демократия подменяется диктату-
рой, кажущейся ее продолжением, во всяком случае, дик-
татура здесь совсем не противопоставляется демократии;
во время такого переходного периода под властью дикта-
тора также может господствовать «демократическое тож-
дество», а воля народа может быть единственно основопо-
лагающей. Однако возникает вопрос о том, в чьем распо-
ряжении находятся средства образовывать эту волю
(политическая мощь, пропаганда, образование и т. п.), то-
гда-то и становится очевидным, что одна политическая
власть только и может формировать «волю народа», кото-
рой она сама должна была бы порождаться1.
Демократия рождает диктатуру, и это становится ее
призванием; ведь сама демократия как политический ре-
жим неустойчива, неопределенна и ненадежна, она не мо-
жет принять окончательных решений, погружаясь в дис-
куссию и рефлексию; она многоцветна и плюралистична,
т. е. не способна к окончательному единению; она всегда
чревата взрывом и противоречиями. Выпуская из своих
недр диктатуру, она надеется хотя бы навести порядок, о
котором она также не имеет четких представлений, по-
скольку ее цели расплывчаты и неясны. История Фран-
цузской революции наглядно продемонстрировала все осо-
бенности этого переходного режима, и «контрреволюцио-
неры», явные, как Ж. де Местр и X. Д. Кортес, и
неявные, как А. де Токвиль, первыми заметили этот мер-
1 См.: Шмитт К. Духовно-историческое положение парламен-
таризма. С. 175—176.
216 Глава 4. От демократии к диктатуре: точка зрения «правых»
цающий и преходящий характер демократического устрой-
ства, которое либералы рассматривали как наступившее и
вечное время «золотого века».
Всю свою критику «правые» сосредоточили на неспо-
собности демократий к решительному действию, т. е. тому,
что вполне оказалось под силу диктатуре: децизионизм
«контрреволюционных» философов, полагал К. Шмитт,
до такой степени усиливает момент решения, что это «в
конечном счете упраздняет саму идею легитимности, из
которой они исходили»; как только X. Д. Кортес понял,
что время монархии кончилось и королем нельзя стать
иначе как по воле народа, он довел свой децизионизм до
логического конца — открыто потребовал политической
диктатуры. Перед лицом радикального зла возможной ка-
залась только диктатура (а легитимистская идея порядка
наследования в этот момент превратилась в пустую несго-
ворчивость1), и X. Д. Кортес увидел в ней некую особую
форму политического властвования, вырастающую не из
самой демократии, как полагал ТЬквиль, а в противовес ей;
и все же, поскольку действие рождает противодействие,
то и диктатура в такой интерпретации представлялась как
порождение демократии, она если не завершающий этап
демократического развития, то, во всяком случае, следую-
щая за ним особая стадия политического роста.
Контрреволюционные философы, пожалуй, первыми в
истории политической мысли обратили внимание на это
специфическое следствие демократического развития ев-
ропейского общества, и X. Д. Кортес, этот самый после-
довательный «реакционный философ» XIX в., глубже
1 См.: Шмитт К. Политическая теология. С. 97—98.
7. На пути к диктатуре 217
других продумал ситуацию, складывающуюся в ходе
борьбы «сил вторжения» и «сил сопротивления», в кото-
рой рождались диктатуры и революции. Когда разруши-
тельные и революционные силы объединяются в агрессив-
ные политические ассоциации, им может быть и должна
быть противопоставлена диктатура оборонительных сил.
Предстоящее и уже имеющее быть столкновение между
силами добра и зла олицетворяется, по мысли X. Д. Кор-
теса, соответственно в противостоянии католицизма и со-
циализма.
Предпосылкой для установления диктатуры и симпто-
мом ее рождения является высокая напряженность проти-
востояния сил добра и зла в современном мире, а также
соответствующий ему уровень репрессивности и принуж-
дения, уже отмеченный в обществе. Поскольку Европа
находится под угрозой навязывания ей революционной
диктатуры социализма, то для борьбы с ней нет другого
средства, кроме введения фронтальной диктатуры с обрат-
ным знаком. Тема диктатуры уже маячит над всей евро-
пейской цивилизацией: «для гигантского, колоссального,
универсального тирана пути открыты», борьба сил добра и
зла поэтому может иметь только одну реальную и резуль-
тативную перспективу — великую универсальную дикта-
туру, и «мир ускоряющимся шагом идет к установлению
деспотизма, самого гигантского и разрушительного из всех
оставшихся в людской памяти»1.
1 Журавлев О. В. Хуан Доносо Кортес — апостол традициона-
лизма // Кортес X. Д. Соч. М., 2006. С. 71—73.
Глава 5. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН:
ТРАГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
1. Рождение господства из духа трагического
Закон встречает человека уже в самый момент его рожде-
ния (и готовится к этому заранее) и сопровождает в тече-
ние всей его жизни вплоть до самого его конца (принимая
на себя определенные юридические хлопоты даже после
смерти своего подопечного). Отношения человека с зако-
ном неоднозначны и противоречивы: закон охраняет чело-
века, регламентирует все моменты его жизни и деятельно-
сти, карает его, иногда лишая самого дорогого — жизни.
Договор и кара составляют две главные модификации за-
кона, подчеркнуто выделяющиеся в правовой сфере при
всем многообразии наполняющих ее форм. Все сакрализо-
ванные процедуры, в которых проявляет себя закон, вра-
щаются вокруг двух этих главных институций, вся драма-
тургия закона строится на выделении и артикулировании
этих основных юридических аспектов. Отношения челове-
ка с законом метафизически неизбывно трагедийны — за-
кон по сути господствует над индивидом, предписывая ему
конкретные формы существования и мышления, он одно-
временно императивен и трансцендентен в своем отноше-
нии к человеку, он ясно выражен и в то же время невидим,
он определен, но анонимен. Цели и замыслы закона могут
не совпадать с субъективными целями индивида, однако
этот последний должен беспрекословно подчиняться це-
лям закона. Свободная воля человека ломается и подчиня-
1. Рождение господства из духа трагического 219
ется воле закона, за которым стоит так и неразличимый до
конца законодатель, столь же анонимный и безликий,
сколь и сам закон. Закону явно недостаточно направить
индивида по верному пути, ему необходимо полное гос-
подство над индивидом, он диктует человеку такой стиль
индивидуального и социального поведения, который он
сам полагает необходимым, и поскольку по своей природе
закон всегда консервативен, то он занимается прежде все-
го тем, что сдерживает, ограничивает и подавляет индиви-
дуальные импульсы свободной воли, заключая ее в тесные
рамки своей регламентации.
Антиномия закона и свободы поэтому кажется неиз-
бывной, и в этом трагическом противостоянии рождается
ощущение полной безысходности, заставляющее человека
обращаться к трансцендентному, по своему уровню более
высокому и качественному, чем слепая и жестокая транс-
цендентность закона. Мигель де Унамуно в своем «Траги-
ческом чувстве жизни у людей и народов» призывал не
избегать трагедии, отдавая предпочтение одному из эле-
ментов антиномии — закону или благодати, а, избирая ли-
бо рационализированную и узаконенную «теологической
адвокатурой» веру, либо слепую и нерассуждающую веру
простых людей, принимать обе ипостаси веры для того,
чтобы сохранить ее целостность1.
Вера, как и всякое священное, приобретает свою
власть над человеком, когда она воспринимается и пере-
живается тотально, полностью поглощая человека, вера —
это первое основание для человеческого восприятия зако-
на, для формирования правового сознания. Человек дол-
1 См.: Унамуно М. де. О трагическом чувстве жизни. М., 1997.
С. 159.
220 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
жен верить, что закон справедлив, и тогда закон действу-
ет, сомнение в его истинности ведет к его краху, тогда он
гласит, но не работает.
Архаический закон всегда божественного (не дого-
ворного и не административно-волюнтарного) происхож-
дения. Императивность закона закрепляется божествен-
ным авторитетом, и божество, принимающее на себя роль
законодателя, делает и сам закон столь же персонифици-
рованным, в его нормах явно прослеживаются все его
пристрастия, аффектации, даже ошибки и заблуждения,
он становится активным участником драмы, одни акты
которой разворачиваются на небесах, а другие— на зем-
ле. С помощью закона божество карает человека, нару-
шающего предписанные нормы, при этом оставляя ему
определенную сферу поведенческой и духовной свободы,
которая только и может обеспечить ему экзистенциаль-
ную динамику его существования: человек одновременно
свободен и подчинен. Сутью его индивидуального суще-
ствования является свобода, однако божественный закон
не позволяет ей выходить за предписанные пределы, и в
этом конфликте благодать уверенно принимает сторону
закона, и тогда свобода оказывается противопоставленной
им обоим.
В этом-то и заключается сущность трагического вос-
приятия закона, столь ярко выразившаяся ранее всего в
форме древних мистериальных трагедий: архаическая ат-
тическая трагедия составляла часть древнего культа Дио-
ниса, однако отдана она была не богам, а героям, — ведь и
трагическое действие также являлось священным действи-
ем, хотя находилось совершенно на иной ступени святости
по сравнению с мистериями и не обладало такой значи-
1. Рождение господства из духа трагического 221
тельностью, как изображение тайны богов, — будучи слу-
жением Дионису, трагедия была одновременно и культом,
и обрядом, неким героическим эпосом, возвращающимся к
своему истоку — поминальному обряду. Дионисийское
начало, антиномичное по своей природе, может быть мно-
гообразно описано и формально определено, однако адек-
ватно раскрывается только в самом переживании, в его
культе парадоксальным образом объединяются жрец и
жертва, и сущее здесь переливается за край явлений.
По словам Ф. Ницше, греки были «пессимистами»
именно от полноты своей жизненности, их любовь к траги-
ческому питалась силой, переливающейся через край, и
Дионис был символом этого изобилия и чрезмерности,
этого исступления от наплыва живых энергий, сам будучи
одновременно богом небесным и подземным, он становит-
ся как вдохновителем пафоса, так и его разрушителем, —
таким образом рождалась новая религия, религия очисти-
тельных общих действий и таинств, подготавливавшая
почву для позднейших мистерий. (Вячеслав Иванов пола-
гал, что именно орфики поставили себе целью преобразо-
вать народные обрядовые действа в мистерию, а уже поз-
же в Афинах сформировался некий коррелят элевсинской
священной драмы, изображавшей дела богов и героев в
трагических действиях, которые исполнялись уже не кру-
говым, как прежде, но четырехугольным, как в мистериях,
хором, с богослужебной торжественностью1.) Дионисий-
ское начало, стихийное и иррациональное, олицетворяло
собой в трагедиях темную сторону жизни, непредсказуе-
мую и уже в силу этого противозаконную (ведь закон не
1 См.: Иванов Вяч. Дионис и дионисейство. СПб., 1994.
С. 291—292, 313—314.
222 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
предусматривает существования всех его нюансов и раз-
ветвлений), древний закон, ассоциированный с порядком
и традицией, находился в компетенции другого божества,
разумного и рационального, каким был Аполлон.
Ф. Ницше в «Рождении трагедии», противопоставляя
светлого и рассудочного Аполлона мрачному и экстатиче-
скому Дионису, все же отдавал предпочтение второму как
родоначальнику трагедии: греки преклонялись перед Дио-
нисом и страшились его, еще Еврипид напоминал им, что в
мире кроме очевидностей есть некая тайная подземная ре-
альность, о которой люди не задумываются, это область
бога, чью власть следовало бы призывать не только во дни
празднеств1. Форма господства Аполлона — это порядок,
мера, сдержанность, рациональность; господство же, ко-
торое олицетворяет Дионис, — это хаос, стихия, мрак, не-
обузданная жестокость и опьянение этой жестокостью.
В древней и все еще (или уже) мистериальной траге-
дии силы хаоса и порядка сталкиваются в непримиримой
борьбе, выступая здесь как нечто данное и извечное, нахо-
дящееся по ту сторону добра и зла, в древней трагедии
действуют хаос, эрос, танатос, но пока еще не этос; даже
сам закон выступает здесь не как морально-юридическая
категория и явление, а как явление космическое. Господ-
ство как таковое проявляется в виде рока, судьбы, таинст-
венных сил, подчиняющих себе и отдельного человека, и
всю общину; закон выступает из тьмы хаоса, наваливаясь
на человека всей своей мощью, и это еще не «закон-право-
порядок» Аполлона, это — стихийная сила Диониса. По-
этому именно стихийное и иррациональное составляло са-
1 См.: Кахилл Т. Греческое наследство. СПб., 2006. С. 164.
1. Рождение господства из духа трагического 223
мую суть трагедии, в ней чрезмерность и непредсказуе-
мость, стихия теснят определенность упорядоченности,
заставляя сам закон обороняться, здесь экзистенция
атакует идеал, и хотя запрет и закон подвергаются давле-
нию со стороны справедливости, этого качественно нового
этоса, постепенно проникающего в полисную среду, все же
именно стихийная сила кажется более мощным и неотвра-
тимым фактором; в трагедии выражалась та борьба, кото-
рую вели стихия и порядок, и в которой последнему от-
нюдь не всегда удавалось одерживать победу.
Как отметил Карл Хюбнер, эсхиловские мифы отра-
жали ситуацию напряженного противостояния властвую-
щих в классическую эпоху «олимпийских богов и хтониче-
ских сил, вернувшихся из далекого прошлого при помощи
стихийного насилия. Это и есть тот контекст, в котором,
по Эсхилу, случается трагедия»1: силы хаоса, штурмующие
полисные порядки, вместе с этим несли в себе новые пред-
ставления о божестве, превращая процесс борьбы стихии и
порядка в противостояние божественных сил разной на-
правленности, трагический конфликт порождал новые по-
рядки, где действовали теперь уже новые законы, в траги-
ческом действе эти процессы находили свое символиче-
ское выражение. (Так, в трагедиях Эсхила конфликт
символизировал не что иное, как основание тех или иных
городов, а смиренному хору Эвменидов в конце трилогии
противостоял уже другой хор, в котором находил свое вы-
ражение сам город в целом, счастливый уже тем, что со-
хранил справедливость, заложенную в его основании.
У Софокла же конфликт противопоставлял души людей,
Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. С. 184.
224 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
но только для того, чтобы в этом столкновении индивид
уступил более высокому закону, который он сам же в себе
и несет1.) Тем самым внутри потока темных хтонических
сил, заливающего человеческий мир, начинал просвечи-
вать уже совсем новый, не «олимпийский» и аполлониче-
ский божественный, а вполне человеческий и социальный,
полисный этос, призванный обеспечить совсем другой по-
рядок, подобный космическому, но не совпадающий с ним.
Соответствующим образом формировались структуры
властвования и законодательствования, требующие не
только веры, но еще и понимания: «знание — сила» появ-
ляется в политическом континууме древнего мира как обя-
зательная для оформления господства связка, как пара с
большим будущим, создающая для истории своего нового
политического героя.
Юлия Кристева, анализируя кратологическую ситуа-
цию в мифе о царе Эдипе, подчеркивает трагический дуа-
лизм, созданный противостоянием закона-запрета и идеа-
ла, которым вдохновляется герой мифа: закон нависает
над ним, требуя от героя знания как непременного условия
для обеспечения властвования, — желание, знание,
стремление только и обосновывают и легитимируют такую
ориентацию, сама власть рождается из трагического не-
совпадения властного волевого порыва и установлений за-
кона. Сила традиции оказывается заключенной в ее дву-
смысленности: запрет и идеал сочетаются здесь в одном
персонаже, чтобы тем самым обозначить тот факт, что у
говорящего нет собственного пространства и он удержива-
ется на шатком пороге лишь силой какого-то невозможно-
1 См.: Гуасталла Р. Рождение литературы // Коллеж социоло-
гии / Сост. Д. О лье. М., 2004. С. 320.
1. Рождение господства из духа трагического 225
го ограничения. Такова была ситуация в «Эдипе-царе», но
«Эдип в Колоне» представляет уже совсем иную картину
(правда, при этом изменилась и сама политическая ситуа-
ция, в которой создавалась вторая драма, произошел пере-
ход от тирании к демократии, были изданы новые полити-
ческие законы): если теперь божественные законы и не
потеряли всей своей суровости, то, во всяком случае, пози-
ция самого Эдипа по отношению к ним существенно меня-
ется — «в противоположность угнетенному, опустошенно-
му, сломленному срамом Эдипу-государю здесь Эдип — не
царь, Эдип-субъект в конечном счете вопиет о своей неви-
новности».
Первое изменение проникает в смысловой промежу-
ток между знанием и законом, и это выбивает государя из
колеи — темнота и невнятность уже не являются оправда-
нием для власти, перед божественной инстанцией власти-
тель должен предъявить свои личные, персонифицирован-
ные способности и качества, власть должна выступать как
артикулированная и ясная сила, поскольку неспособность
к этому ведет ее к неминуемой смерти, поэтому Эдип вос-
клицает: «Если закон в другом, моя судьба не является ни
властью, ни желанием, этЪ судьба страждущего: моя судь-
ба — смерть». Если отвращение к Эдипу-царю и было
несовместимым с двумя фундаментальными основаниями
человеческого существа — знанием и желанием, — то от-
вращение к Эдипу в Колоне основано уже на этом раздра-
жающем неведении говорящего существа, которое являет-
ся не более чем субъектом смерти и одновременно симво-
лического завета, здесь отвращение изменяет судьбу; «не
исключенное, не ослепленное, оно расположилось в неве-
дении «субъекта смерти».
226 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
Отвращение здесь не что иное, как крах невозможной
верховной власти Эдипа, крах его знания, и если обряды
должны были очистить его, то он утвердился только в сло-
вах, обращенных к божественному закону1. В явно выра-
женном отвращении трагедия демонстрирует зарождение
этической оценки, даваемой ею власти, — все древние
грехи (убийство, инцест), прежде инстинктивно табуиро-
ванные и загнанные в область бессознательного, теперь
выходят наружу в виде признанных преступных форм, под
страхом смерти запрещенных человеческим законом и
идеей справедливости теперь уже смертному властителю,
от которого отворачиваются и рок, и олимпийские боги.
Противоположность «чистого» и «нечистого» из своей
смутной и необъяснимой глубины рождает очеловеченное
представление о вине, об этом трагическом атрибуте, со-
провождающем всю последующую историю человеческого
правосудия и закона.
Столкновение закона и человеческой экзистенции в
трагедии со временем достигнет уровня антропологическо-
го анализа: Вальтер Беньямин, пожалуй, первым предло-
жил рассматривать трагедию как семантическую форму
такого противостояния, связующую сферу эстетического
(или поэтического) с областью юриспруденции и полити-
ки. (По мнению Цветана Тодорова, Фридриху Шлегелю
удалось в самой краткой форме выразить параллели по-
эзии и политики: поэзия — это «республиканская речь...
которая следует своим собственным законам и имеет цель
в самой себе: в ней все части — свободные граждане — и
имеют право приходить к взаимному согласию». В ро-
1 См.: Кристева /О. Силы ужаса. М., 2003. С. 122—124; Тодо-
ров Ц. Теория символов. М, 2004. С. 208.
1. Рождение господства из духа трагического 227
мантическои концепции на смену государству со строгой
иерархией, в котором господствуют абсолютные ценности,
приходит буржуазная республика, где каждый вправе счи-
тать себя равным другому, и ни один человек не является
средством по отношению к другому.)
Элементы поэтики, проникая в политику, интерпрети-
руют ее в неизбежно морализаторском духе: сердцевиной
трагедии становится учение о трагической вине и, соответ-
ственно, трагической расплате, однако неизбежным пред-
рассудком, который постоянно появлялся при обсуждении
данной проблемы у исследователей, являлось убеждение в
том, что действия и привычки, встречающиеся у выдуман-
ных лиц и персонажей трагедии, вполне возможно исполь-
зовать при обсуждении актуальных моральных про-
блем, — соответственно, моральная оценка требовала по-
явления на сцене некоего нового персонифицированного
героя, в котором были бы сосредоточены все архетипиче-
ские страсти и противоречия, свойственные как человеку
«вообще», так и социуму, и трагический закон должен был
иметь дело уже именно с ними. Это — божественный за-
кон, всесильный и всеохватный, и только в схватке с ним
воля индивида-героя приобретала свое столь же великое и
трагедийное звучание: в целом же трагедия демонстриро-
вала тот уже известный факт, что в сопоставлении с боже-
ственным все человеческое тщетно, и, как кажется, она
вовсе не должна была замалчивать слабостей, являющихся
естественной причиной гибели трагического героя.
Если бы трагедия демонстрировала кару без причины,
она бы быстро пришла в противоречие с самой историей, у
которой трагедии и следовало заимствовать проявление
этой основной трагической идеи (Вильгельм Вакерна-
228 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
гель)1. И тогда трагедия обращается к истории не только
за сюжетами, но и за методом, метафизические силы усту-
пают свое место на трагедийной сцене историческим пер-
сонажам, а рок незаметным образом трансформируется в
наукообразную систему причинно-следственных связей:
кара теперь в обязательном порядке следует за преступле-
нием, а не падает с неба, закон же, также утрачивая свою
связь с трансцендентным, становится на пути кодифика-
ции и прецедента, тем самым все более превращаясь в се-
кулярный технический инструментарий полиса и законо-
дателя-правителя. Меняется и поведение трагического ге-
роя, который, отказываясь держать отчет перед богами,
вступает с ними в нечто подобное судебному разбиратель-
ству по поводу нарушенного договора, разбирательство,
которое в силу своей двойственности направлено не столь-
ко на восстановление права, сколько на подрыв «прежнего
правового устройства в языковом сознании обновленной
общности»: бунтующий «романтический» герой трагедии
вступает в борьбу с высшими силами, будь это силы по-
рядка или хаоса и рока. Прежде всего он борец, он знает о
своей трагической судьбе и все же идет навстречу опасно-
сти и гибели, смерть уже не страшит его, он индивидуум
со своей личной и неповторимой судьбой, он сам творит
законы для себя и для других, он ведет свою борьбу на от-
крытой арене в пространстве полиса; атлетическое едино-
борство, право и трагедия, таким образом, составили всю
великую агональную триаду греческой жизни. (Поль
Рикёр относит к драмам творения трагические мифы, по-
вествующие о героях, оказавшихся в тисках фатальной
1 См.: Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы.
М., 2002. С. 98.
1. Рождение господства из духа трагического 229
судьбы: согласно схеме трагического человек обретает
свою вину так.же, как он обретает существование, и бог,
испытующий его и вводящий в заблуждение, предстает
здесь в своей изначальной неразличимости добра и зла как
символ ужасающего и непостижимого величия.)
В своем индивидуализме «человек трагедии» оказы-
вался затерянным в безбрежном универсуме мира, и только
сообщество в целом было способно сформулировать иско-
мый человеческий смысл и овладеть им, признавая для это-
го место трагического в человеческой истории и стоически
воспринимая его дух, однако формализованные, военные и
правовые структуры самого этого сообщества не желали
считаться с духом трагедии, видя в ней только болезненное
выражение преступного, отклоняющегося от нормы и по-
рядка начала. Поэтому в «человеческом существовании от
трагедии... не остается ничего, кроме новых трагических
страданий», — Роже Кайуа удивлялся тому, как человек
все еще мог помышлять о том, чтобы заставить умолкнуть
то, «что его окружает, воссоздать трагическую тиши-
ну», — разве не ясно ему было, что весь окружающий его
мир совершенно безразличен к индивиду и цинично позво-
ляет подлинному существованию скатываться до состояния
безропотного рабства, разве не ясно, что этот мир всегда
стремился быть только царством необходимости1?
Трагическое сознание стало ощущать только гнетущее
и незримое господство, которое наваливалось на человека,
порождая в нем трагический страх, страх, который выпле-
скивался из него вовне, формируя внешние и чуждые для
1 См.: Кайуа Р. Братства, ордена, тайные общества, церкви //
Коллеж социологии / Сост. Д. Олье. С. 150—151. Также см.: Рикёр П.
Символика интерпретации зла // Конфликт интерпретаций. М., 2000.
С. 366.
230 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
индивида силы властвования и экспансии или угрожая че-
ловеку уже снаружи в форме непонятных ему безликих и
демонических мощностей. Многоликая, но всегда консоли-
дированная власть в своем трагическом контексте противо-
стояла человеку как необходимость, сам закон разрастался
до космических масштабов, заполняя собой весь человече-
ский социальный мир, и отдельный индивид замолкал в
этом властно-юридическом космосе — такова была его
трагическая позиция по отношению к закону: не герой, а
хор теперь и комментировал соответствующие правовые
предписания, и описывал реальную жизненную ситуацию,
которая складывалась на сцене, где миф и жизнь нераз-
рывно переплетались.
Динамический и атональный характер древней траге-
дии, который еще сохранялся в ней, не менял существа де-
ла; аттические театральные игры носили прежде всего ха-
рактер соревнований, и, что характерно, регламентирую-
щее их право коренилось в немом застывании, которое
всякий трагический шаг не только сообщает своим зрите-
лям, но и зримо представляет в поведении действующих
лиц: отсутствие права голоса у трагического героя, отли-
чающее главную фигуру от любого другого персонажа, де-
лало «метаэтического человека» краеугольным камнем
всякой теории трагедии — в этом заключался отличитель-
ный признак самости, «я», печать его величия, равно как и
клеймо его слабости (он молчит). «У трагического героя
есть только один полностью подобающий ему язык молча-
ния... Трагическое именно поэтому выработало для себя
драматическую форму искусства, чтобы получить возмож-
ность изображать молчание»1.
1 Беньямин В. Указ. соч. С. 102—103.
1. Рождение господства из духа трагического 231
Трагическое молчание героя, прекращение его диалога
с силами трансцендентного означало приход господства,
господства не рассуждающего, мрачного и беспредельно-
го. Двусмысленность трагедии преодолевалась в этом гос-
подстве: внутренние силы личной свободы были подавле-
ны, внешне размытые и неопределенные «демонические
силы сливались воедино в обрушившейся на индивида и
недифференцированной темной массе господства, их без-
законие сменялось единым механизированным законом
власти-подчинения, не терпящим каких-либо нюансов и
толкований. Трагическое всегда относилось к «демониче-
скому», так же как парадокс относился к двусмысленно-
сти, теперь же эта двусмысленность, это «демоническое
клеймо», оказывается на грани исчезновения повсюду —
во всех парадоксах трагедии, в жертве, которая, покоряясь
древним уложениям, порождает новые, в смерти, являю-
щейся искуплением и в то же время похищающей самость,
в том числе и в молчании героя, «не находящем, да и не
ищущем ответственности и тем самым бросающем тень
подозрения на преследующую его инстанцию». Ведь его
значение перевертывается на глазах: не пораженность об-
виняемого, а свидетельство бессловесного страдания ока-
зывается предметом внимания, так что трагедия, казалось
бы, посвященная суду над героем, превращается в разби-
рательство по делу «олимпийцев», в котором герой дает
свидетельские показания.
Глубинная эсхилова тяга к справедливости одушевляла
антиолимпийскую пророчественность всякой трагической
поэзии: «не право, а трагедия была той областью, где го-
лова гения впервые поднялась из тумана вины, ибо в тра-
гедии происходит прорыв демонической судьбы. Однако
232 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
это происходит не через смену необозримой языческой це-
почки проявления вины и искупления чистотой прошедше-
го покаяния и примиренного с чистым богом человека».
В трагедии языческий человек сознает, что он лучше своих
богов, и после этого осознания он замолкает — не получая
выражения, его сознание остается смутным и пытается
тайком собраться с силами. При этом речь не идет о вос-
становлении морального миропорядка, просто моральный
человек пытается выпрямиться в сотрясениях этого мучи-
тельного мира, еще немой, еще не имеющий права голоса,
но уже именующийся героем; «парадокс рождения гения в
моральной безъязыковости, моральной инфантильности и
есть возвышенность трагедии»1.
2. Трагические аффекты в структуре социального:
закон и смерть
Р. Кайуа отмечал, что трагедия ведет свое начало от неких
тайных дионисийских братств, и поскольку одной из целей
любого «тайного общества» является «достижение кол-
лективного экстаза и смерти от пароксизма», то и «импе-
рия трагедии не может быть реальностью подавленного и
угрюмого мира... Болтуны не могут удержать власть.
Только существование в его целостности, включая смяте-
ние, накал страстей и взрывную волю», существование,
которого и сама угроза смерти не может остановить, мо-
жет заставить служить себе все, что согласно работать во
имя других. И это происходит потому, что само такое су-
ществование не может быть порабощено ничем другим,
1 Бенъямин В. Указ. соч. С. 104—105.
2. Трагические аффекты в структуре социального 233
«в конце концов империя будет принадлежать тем, кто бу-
дет так разбрасываться жизнью, что полюбит смерть»1.
Аффектация в поведении трагедийных героев вызвана
прежде всего их необратимым стремлением к неотврати-
мому исходу — смерти, и именно эта трагическая обре-
ченность, которая не воспринимается с унынием и стра-
хом, и делает их героями: смерть для них — это только по-
граничная полоса, переход через которую непременно
сделает их свободными и победителями, она еще не конец,
она только начало, поэтому герой встречает ее с радостью.
Господство закона подталкивает героя к этому чаемому
эпилогу, тем самым утрачивая свою ужасающую тягость и
как бы подыгрывая ему, ведь трагическая игра — это все-
гда игра со смертью, которая тоже игрок из команды хаоса
и тьмы, и игрок заведомо непобедимый.
В греческой трагедии поэтика смерти трансформиру-
ется в некую поэтическую политику (не случайно древней-
шие законы в соответствии с принципами поэтической ме-
тафизики излагались в стихах), мистерии и дионисийский
культ как раз и выстроили ту форму, в которую облекалось
первоначально полисное политическое мышление.
К. Хюбнер, развивая эту идею, полагал, что именно слия-
ние хтонического дионисийского культа и культа героев
породило вначале дифирамбический, а затем и трагиче-
ский хоры, из единства которых поднялась трагедия; он
отмечал также и политическую реформистскую параллель
этого процесса: тиран Писистрат сделал трагедию состав-
ной частью «городских дионисии» в Афинах, окончатель-
но выведя ее из области мифа и мистерий. И здесь хтони-
Кайуа Р. Братства, ордена, тайные общества, церкви. С. 161.
234 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
ческие силы приобретали известный приоритет: с заостре-
нием внимания на герое (в сакральном смысле) мы наряду
со ссылкой на хтоническою сторону культа Диониса одно-
временно возвращаем и настроение трагедии — эти рит-
мы плача по усопшим; «эти герои вызваны из могилы...
священный трепет, который навевает трагедийное произ-
ведение искусства, это — трепет могилы»1.
В трагедии идея царства мертвых торжествует даже
над самой идеей государства, демонстрируя свою силу
также и перед «олимпийцами», всегда традиционно защи-
щающими государственный порядок, именно хтонический
миф подчиняет своему влиянию трагедию, это миф о все-
общей матери-Земле, и поэтому и Фемида, ее закон, —
это прежде всего закон рождения и смерти, мир же челове-
ческих законов никак не относится к ее сфере. За порогом
смерти для древних не существовало некоего абстрактного
«ничто», там просто существовал другой мир с похожими
на земные законами и проблемами, и переход в этот мир
был гарантирован герою, который и там будет обладать
вполне достойным статусом. Смерть не пугала своей бе-
зысходностью, кара богов могла быть выражена в чем-то
другом, например в погружении героя в дурную бесконеч-
ность наказания, как это случилось с Сизифом и Проме-
теем, и, чтобы избежать такой судьбы, требовалось очи-
щение, избавление от посюсторонней вины; невозмож-
ность достичь этого уже здесь, в подлунном мире, могла
вызывать панический страх, несопоставимый со страхом
самого ухода из этого мира. Трагическими аффектами,
требовавшими очищения, были жалость и страх: так ари-
Хюбнер К. Указ. соч. С. 200—202.
2. Трагические аффекты в структуре социального 235
стотелевское сострадание вырастало из оргиастического
плача о божественной гибели, а ужас оргий, который мог
быть преодолен только погружением в их стихию (как в
эсхиловском «Эдипе»), являлся настоящей основой траги-
ческого страха.
Трагедия становилась образом и культом, в котором
глубочайшие идеи дионисической религии, идеи тождества
жизни и смерти, ухода и возврата, выявлялись с величай-
шей символической силой, и именно она приобретала ха-
рактер всенародной мистерии, вполне сопоставимой с
элевсинским таинством; трагедия вырабатывала универ-
сальный принцип, в соответствии с которым в героях страж-
дет сам бог-герой, страждет молча, и это молчание о дея-
ниях и страстях составляло религиозный смысл трагедии1.
Аффекты, порождаемые трагедией, — это сострада-
ние и страх, но, пожалуй, важнейшим результатом ее воз-
действия на человека становится очевидность и неколеби-
мость божественного миропорядка, поэтому наряду с вну-
шающими трепет и ужас картинами трагедия представляла
также околдовывающий и завораживающий мир сакраль-
ного, в котором герою предлагалась взамен разрушенного
«принципа индивидуации» метафизическая панорама ми-
ропорядка, который содержит в себе все целительные си-
лы матери-Земли и вместе с тем — примиряющую смерть
как спасительное возвращение в ее лоно2.
Трагические аффекты были только поводом, симпто-
мом или предчувствием кары, которая рано или поздно па-
дает на героя, преступившего закон, за переход им грани-
цы, установленной божеством или традицией; если свое-
1 См.: Иванов Вяч. Дионис и дионисейство. С. 214, 250—251.
2 См.: Хюбнер К. Указ. соч. С. 208.
236 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
вольный человек не желал принимать предлагаемого ему
миропорядка, тогда еще и гнев власти и общества обруши-
вался на него как реакция на проявление свободной воли
индивида; полисный порядок требовал единообразия, рас-
сматривая любые его нарушения как антиполисные или
политические деяния. Сама демонстрация гнева властя-
ми не просто эмоциональная реакция на совершившийся
политический акт, она подразумевала также квазиюриди-
ческую оценку как самого этого акта, так и лица, за него
ответственного. Публично высказать гнев по поводу опре-
деленного действия означало придать ему, этому дейст-
вию, статус оскорбления, статус неправомерного деяния,
наносящего вред, урон или ущерб, — «демонстрация гне-
ва кладет начало политическому процессу, который дол-
жен в итоге привести к его удовлетворению», проявление
гнева — это важный элемент в технологии власти, кото-
рый нельзя однозначно квалифицировать ни как открытое,
ни как символическое насилие1.
Гнев властей — это знак неизбежной кары, отзвук
божьего гнева, это оценка содеянного героем и повод для
вынесения ему обвинения, он детализируется в конкрет-
ном наказании, которое будет возложено на обвиняемого.
При этом гнев есть точно такой же аффект, как и само ге-
ройство героя: амбиции героя направлены против воли
властей или богов, против судьбы и рока, против закона и
традиции, он бросает вызов смерти, которая его не пугает,
он знает о ней нечто такое, что вызывает в нем радость
перед ее наступлением. И это один из самых необъясни-
мых аффектов трагического существования: радость перед
1 См.: Уайт С. Гнев и политика // История и антропология.
СПб., 2006. С. 53—54, 68.
2. Трагические аффекты в структуре социального 237
лицом смерти — это аффект «романтического» героя тра-
гедии, с точки зрения полиса она иррациональна и губи-
тельна, поскольку нарушает порядок, солидарность, гра-
ницы узаконенного и установленного существования, с
точки же зрения трагического героя она тождественна
чувству освобождения и также выходу за границы пре-
дустановленного .
Георг Лукач заметил, что мудрость трагического чуда
есть прежде всего мудрость границ: чудо всегда однознач-
но, но всякая окончательность всегда есть приход и пре-
кращение, утверждение и отрицание, всякая кульминация
есть вершина и граница, точка пересечения жизни и смер-
ти. Трагическая же жизнь является самой посюсторонней
из всех жизней, и поэтому ее жизненная граница всегда
сливается со смертью; «действительная жизнь никогда не
достигает границы и знает смерть лишь как нечто ужасное
и угрожающее, бессмысленное, внезапно пресекающее ее
течение. Мистическое совершило прыжок через границу,
поэтому сняло всякую реальную ценность смерти. Для
трагедии смерть — граница сама по себе — есть всегда
имманентная действительность, с которой она неразрывно
связана в каждом из своих событий». Переживание гра-
ницы означает пробуждение души к сознанию, его двой-
ной смысл состоит в том, что оно одновременно является
исполнением и отречением; познание границы изымает из
души трагедии саму ее сущность, которая придает налич-
ное существование внутренней и единственной необходи-
мости. «Величие волит завершенность, оно должно ее во-
лить, а завершение — это трагедия, это конец, когда в по-
следний раз раздаются и смолкают все звуки... Трагедия
238 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
как мировой закон, как конечная цель, которая есть, одна-
ко, лишь начало в вечном круговороте всех вещей»1.
Границы, которые устанавливает человеческий закон,
условны, эфемерны и субъективны, они членят материю
жизни механическим прокрустовым образом и принципи-
ально неприемлемы для человека трагедии, в котором уже
проглядывает «сверхчеловек» Ф. Ницше: радость перед
лицом смерти предполагает, в первую очередь, чувство ве-
личия, свойственное человеческой жизни; дело, в которое
посвящены люди, обладающие таким чувством, непремен-
но требует от них величия, «они воистину обречены гос-
подствовать над другими людьми, сохранять эту несговор-
чивую гордость, если не согласны в конце исчезнуть. Но
не только радость, которая известна им лишь ненадолго и
которую они связывают с приближающимся физическим
уничтожением, не только она одна располагает их на од-
ном уровне господства (с самого начала ясно, что никакая
сила во всем мире, смотрящая им в лицо, не способна ни
сопротивляться им, ни тем более победить), другое начало
способствует тому, чтобы их судьба соответствовала са-
мым глубоким потребностям в социальной сплоченности».
Малые группы избранных, точки, вокруг которых
формируется и живет больное общество, воспитывают и
питают такое отношение индивида к смерти; такое сбли-
жение перед лицом смерти несводимо только к чувству
страха, такое сообщество становится мерой всему проис-
ходящему для человека, изгнанного из «мелочности своей
индивидуальной жизни», оно дает ему силы для поддер-
жания солидарности, соотнося человеческие представле-
1 Лукач Г. Душа и формы. М., 2006. С. 223—225, 228.
2. Трагические аффекты в структуре социального 239
ния о смерти с неким трансцендентным и высоким, с неко-
ей новой реальностью, защищающей его от животного
ужаса. Тот, кто смотрит на смерть и радуется, вступив с
ней в игру, уже вышел за пределы самого себя вовнутрь
«славного сообщества», смеющегося над убожеством себе
подобных, он торжествует над временем, продолжающим
властвовать над его ближними. Он вовсе не стремится
спрятаться за сообщество, но оно так необходимо ему,
чтобы осознать славу того мгновения, которое вырывает
его из его индивидуального существования: чувство связи
с теми, кто избран, чтобы «объединить свое великое опья-
нение» с другими, является только средством заметить,
что утрата является славой и победой, «что конец мертве-
цов означает обновленную жизнь, вспышку света... Здесь
есть связь, которую нелегко свести к аналитическим фор-
мулам»1.
Герой со всеми своими трагическими аффектами вклю-
чается в социальность именно благодаря этой перспективе
смерти, маячащей перед ним, независимо от того, воспри-
нимает он эту перспективу с радостью или с ужасом, вне
социального он уже не может быть героем, без этого зерка-
ла он не может увидеть себя во всей красе своего своево-
лия. И «малые группы» будут неизбежно повторять судь-
бу и эволюционные повороты из жизни большого обще-
ства, в которое сами они включены. Единство этого
общества требует корректировки индивидуальных стрем-
лений и аффектаций: общество может выразить гнев, но
требует устранить «частную месть», настоящий страх мо-
жет внушать только общество, но не отдельный герой, и
* Батай Ж. Радость перед лицом смерти // Коллеж социологии.
С. 481—484.
240 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
монополию на смерть большое общество также забирает
себе. Теперь уже не божественный, а социальный закон
выталкивает личность в сферу социального, где ее аффек-
ты трансформируются или гасятся вовсе и где ей задается
новый ритм существования, — именно здесь рождается
новое отношение к финальной точке ее становления. Толь-
ко в сфере социального и правового личность становится
субъектом отношения, здесь фабрикация норм вне (и про-
тив) страха и рефлексивное внедрение этих норм подчиняют
«несчастное сознание» сразу в двойном смысле: субъект
подчинен нормам, и нормы субъективируют, т. е. придают
этическую форму рефлексивности этого возникающего
субъекта.
В конечном счете подчинение, что происходит под
знаком этического, есть не что иное, как бегство от страха,
и так оно и конституируется, скрывая этот страх вначале
упорством, а затем религиозной праведностью; «чем абсо-
лютнее становится этический императив, тем более упор-
на... реализация закона и тем более абсолютность мотиви-
рующего страха одновременно артикулируется и отторга-
ется. Абсолютный страх, таким образом, вытесняется
абсолютным законом, который довольно парадоксально
реконструирует этот страх как страх закона»1.
В древней трагедии хор исполнял роль социума на сце-
не и был его репрезентантом в споре, носившем определен-
но правовой характер, хор же являлся политическим сто-
ронником господствующих в трагедии стихийных и не-
предсказуемых сил; закон, как правило, был представлен
«олимпийцами». Социализация трагедии породила новую
1 Батлер Дж. Психика власти. Теория субъекции. СПб., 2002.
С. 46.
2. Трагические аффекты в структуре социального 241
форму трагедийности и вместе с ней и новую форму гос-
подства, даже смерть теперь становится не освобождением
от ига «закона, а его закономерным следствием и продол-
жением». Как и трагический герой, прежде олицетворяв-
ший метафизические страсти и качества, субъективируется
в новой драме жизни, так и сама невидимая власть, ранее
растворенная в архаическом законе, теперь персонифици-
руется, а точнее, бюрократизируется: в новой трагедийной
ситуации власть над правосудием, смертью и местью
должна быть передана некоей трансцендентной инстанции;
смерть и искупление, изъятые из свободного обращения и
монополизированные, теперь централизованно перерас-
пределяются сверху. Для этого требуется особая бюро-
кратия смерти и кары (так же, как стало необходимым аб-
страгированние экономических обменов) — в противном
случае могла рухнуть вся структура социального контро-
ля, — поэтому любая смерть или насилие, не подчиняю-
щиеся политической монополии, стали носить подрывной
характер, ведь они легко могли стать прообразом устране-
ния самой власти1.
По мнению Я. Буркхардта, история всей греческой
культуры замыкается под знаком договора, «законода-
тельство и процессуальное право формировались в Элладе
в борьбе против права мести и самообороны. Там, где ос-
лабевала склонность к самоуправству или же государству
удавалось ее ограничить, судебный процесс носил понача-
лу характер не поиска судейского вердикта, а переговоров
об искуплении вины. В рамках подобного процесса, основ-
ная цель которого была не в том, чтобы достичь абсолют-
1 См.: Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.
С. 308.
242 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
ного правового решения, а в том, чтобы подвигнуть потер-
певшего на отказ от мести, особо важное значение неиз-
бежно приобретают сакральные формы доказательства и
приговора». Античный судебный процесс был диалогом,
поскольку строился главным образом на двух ролях —
истца и обвиняемого, без участия профессиональных за-
щитников и обвинителей; трагическим хором его были
отчасти дававшие клятву свидетели, отчасти товарищи
обвиняемого, в своих выступлениях умолявшие о снисхож-
дении, отчасти выносившие приговор народные собрания;
античная трагедия также была диалогом, в котором герой
мог еще возражать богам и судьбе.
Античная демократия на место трагедийного хора по-
ставила народное собрание, мнениями которого власть
уже научилась умело манипулировать, да и сама власть
очень скоро открыто выходит на арену политики — по-
кровы трагической тайны спадают, и господство открыва-
ет свое подлинное лицо, социализируясь, закон утрачивает
прежние черты метафизичности и таинственности, кото-
рые в древние времена были так необходимы ему, чтобы
соответствующим образом противостоять столь же таин-
ственному хаосу и спонтанности подземных сил. Сама
смерть в этом контексте также утрачивает твой метафизи-
ческий смысл, превращаясь в технический инструмента-
рий и банальное решение экзистенциальных проблем, но-
вые времена меняют взгляд на ее смысл и значимость; как
заметил Ж. Бодрийяр, в окончательно социализированной
системе властвования основной целью становится наращи-
вание контроля над жизнью и смертью, власть стремится
даже саму смерть оторвать от прежде присущей ей ради-
кальной отличности и подчинить закону эквивалентно-
3. Закон жертвоприношения 243
стей. А гуманистическая (будь то либеральная или рево-
люционная) мысль наивно не замечает, что сама она не
приемлет смерть по той же глубинной причине, что и по-
глощающая ее система (ведь обе они не приемлют все, что
не подчиняется закону), и только в этом смысле для нее и
смерть является злом — гуманистическая мысль делает из
смерти абсолютное зло.
Вообще же весь гуманистический протест против
смерти основан прежде всего на индивидуалистическом
восприятии всего существующего, и поскольку инстинкт
самосохранения индивидов и общества требует постулиро-
вать индивидуальную ответственность, то «подобное по-
стулирование как раз и характеризует собой всю пошлость
жизни и смерти в нашем обществе, где господствует экви-
валентность». За его пределами два эти взаимодополняю-
щих предрассудка (инстинкт самосохранения и ответст-
венность), все еще сохраняющиеся в абстрактно-рациона-
листическом воззрении на человека и препятствующие его
полной рационализации, исчезают вовсе, смерть же обре-
тает здесь свой трагический смысл жертвенного обмена,
кульминационного момента коллективной жизни и интен-
сивного освобождения субъекта1.
3. Закон жертвоприношения: от акта замещения
до процедур правосудия (Р. Жирар)
В общепринятом понимании жертвоприношение ставит
своей целью установление символической связи между
жертвователем и божеством. Рене Жирар акцентирует
1 См.: Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 304—305.
244 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
внимание на социальном характере акта, видя в нем преж-
де всего действие по переносу трансцендентной угрозы
возмездия с социального единства на объект, не имеющий
к данной общности никакого отношения, но замещающий
его в контакте с трансцендентным. В акте жертвоприно-
шения аспекты господства над жизнью и смертью, а также
сама социальность выражены с особой отчетливостью, что
для юридической антропологии представляет особую цен-
ность, сохраняет при этом всю свою мифологическую и
трагедийную двусмысленность, столь характерную для
любых проявлений сакрального. Жертвоприношение несет
в себе черты возвышенного и низменного, оно одновре-
менно является актом священнодействия и убийством,
т. е. по сути преступлением, поэтому закон строго регла-
ментирует этот акт, учитывая мерцающую двойственность
его существа, для чего он специально предусматривает це-
лый ряд юридических фикций, таких, как замещение
жертвы или условность совершаемого кровопролития.
При этом универсальность ритуала, постоянство и логика
его развития придают ему характер, который, по мнению
Марселя Мосса, в свой значимости оказывается значи-
тельно выше авторитета правового договора и социальной
конвенции. Вместе с тем механизм жертвоприношения мо-
жет быть объяснен и описан только с обязательным логи-
ческим использованием понятия сакрального, которое в
этой связи делается отправной точкой всего исследования:
сакральные вещи и атрибуты, использующиеся в жертво-
приношении, отнюдь не являются системой распростра-
няющихся иллюзий, но — социальными и в силу этого
вполне реальными вещами, неистощимым источником сил,
способных производить множество разнообразных ре-
3. Закон жертвоприношения 245
зультатов, именно поэтому фундаментальным понятием
любого ритуального акта и является именно сакральное.
М. Мосс был убежден в том, что к жертвоприноше-
нию можно отнести только сугубо религиозный акт, кото-
рый протекает в религиозной среде и выполняется лица-
ми, обладающими определенным религиозным статусом:
чтобы обрести влияние на богов, жертвователь сам дол-
жен стать «богом». Механизм жертвоприношения по сво-
ей сути так же двойственен, как и сами религиозные си-
лы: он способен творить как добро, так и зло, жертва в
равной мере может представлять как смерть, так и
жизнь, грех и честь, ложь и истину. Являясь только сред-
ством для концентрации религиозного начала, она его вы-
ражает и воплощает; воздействуя на жертву, тем самым
воздействуют на само религиозное начало, управляя им,
либо привлекая и впитывая, либо изгоняя и исторгая1.
Вслед за Ж. Батаем, Р. Кайуа и др. Ю. Кристева под-
черкивает неизбывную двуликость сакральной формации:
одна ее сторона основана на убийстве и той социальной
связи, которую конституирует чувство вины со всеми со-
ответствующими ей навязчивыми обычаями; другая сто-
рона, «еще более тайная и невидимая, непредставимая,
обращенная к неопределенным очертаниям неустойчивой
идентичности, к хрупкости — угрожающей и жертвенной
одновременно — архаической диады, основана на нераз-
дельности субъекта и объекта», одна сторона здесь —
оборона и социализация, другая сторона — страх и не-
различимость2.
1 См.: Мосс М. Очерк о природе и функции жертвоприношения //
Социальные функции священного. СПб., 2000. С. 69, 229—230.
2 См.: Кристева Ю. Указ. соч. С. 93—94.
246 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
Р. Жирар в своей полемике с М. Моссом разработал
обстоятельный алгоритм, по которому анализ жертвопри-
ношения начинается с анализа загадочного акта замещения
жертвы и, пройдя через стадию жертвенного кризиса, за-
канчивается на анализе этапа «учредительного насилия».
В этом анализе в понятие «насилие» включается прежде
всего феномен господства, т. е. такой формы властвования,
которая предполагает полное завладение субъектностью
жертвы, вписывая процедуру жертвоприношения в строгие
нормативные рамки ритуала и непременно религиозного
сакрального закона; другими словами, весь процесс транс-
формации господства проходит здесь от первичной формы
жертвоприношения, заменяющей собой архаичную и спон-
танную месть, к системам рационализированного правосу-
дия. Рост дифференциаций, сопровождающий этот про-
цесс перехода, основывается на замене мести как древней-
шего акта «легального» насилия актом жертвенной
«кары», направленной на объект, который, как оказывает-
ся, вовсе не включен в причинную цепочку «преступле-
ние—кара», и тогда загадочное явление жертвенного за-
мещения объясняется совершенно иными мотивами: преж-
де всего, жертвоприношение — это насилие без риска
мести. Когда подавленное жертвоприношением внутрен-
нее насилие проявляет свою иррациональную и жестокую
природу, оно предстает в виде кровной мести, между дей-
ствием, которое месть карает, и самой местью нет четких
различий, «однако и само преступление, которое месть ка-
рает, также почти никогда не сознает себя первым, оно
считает себя местью за более ранние преступления».
Месть — это бесконечный процесс, и последователь-
ное умножение кар ставит под вопрос само существование
3. Закон жертвоприношения 247
общества, поэтому-то месть всегда и везде находится под
строжайшим запретом1, месть считает себя карой, а всякая
кара требует новых кар, да и сама месть вменяется в обя-
занность именно потому, что всякое убийство (в том числе
из мести) внушает ужас. Там, где месть существует, о ней
нельзя говорить, не вдаваясь в противоречия. Так, в грече-
ской трагедии не может быть последовательного и логич-
ного отношения к мести, здесь каждый одновременно и
защищает, и осуждает месть. Только судебная система в
принципе устраняет месть, при этом не подавляя, но толь-
ко ограничивая ее одним-единственным наказанием, ис-
полнение которого монопольно осуществляет верховная
власть, это — последнее слово мести, однако, не желая
этого замечать, система порождает новый институт обще-
ственной мести, да и заложенный в самой карательной
системе принцип справедливости также почти ничем не
отличается от принципа мести: там и тут действует все тот
же принцип взаимного насилия, принцип воздаяния2.
Месть социально опасна, хотя по-своему справедлива
и легитимна, однако именно социальный интерес и соци-
альная логика определяют само право на ее существова-
ние: с точки зрения древнего закона месть необходима, но
право социума-полиса отвергает ее, при этом будучи не в
силах сделать это реально, поэтому-то и оно было вынуж-
дено приспосабливаться к ней и приспосабливать ее, не
имея возможности просто запретить месть, общество ока-
зывалось способным изменить сам объект ее приложения.
Месть, ассоциированная с насилием и господством, не
могла быть просто исключена из арсенала социальных
1 См.: Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. С. 23.
2 Там же. С. 24.
248 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
функций. Поэтому месть оставалась аффектом и иррацио-
нальной реакцией на причиненное зло, для индивида такая
агрессивная реакция казалась вполне естественной и почти
рефлекторной, однако социум должен был интерпретиро-
вать акцию возмездия уже с необходимой мерой рацио-
нальности, и месть должна была быть логико-юридически
обоснована: исторгаемое социумом насилие должно было
принимать некую иную форму, регламентированную и
нормированную, как того требуют условия социальной со-
лидарности. И тогда здесь загадочным образом на месте
возмездия возникает жертвоприношение — в обоих слу-
чаях проявляются насилие и причинение смерти, в обоих
случаях отмечается демонстративность и публичность, од-
нако между этими символическими процедурами были от-
мечены и существенные различия.
Р. Жирар, как и другие исследователи, отмечает
двойственный характер жертвоприношения: оно предстает
как акт законный и незаконный одновременно, как пуб-
личное и чуть ли не потаенное действо; оно выступает как
преступное насилие, но в то же время «нет и такого наси-
лия, которое нельзя было бы описать в категориях жертво-
приношения, — например в греческой трагедии... Жерт-
воприношение и убийство не поддавались бы игре замеще-
ний, если бы не состояли в тесном родстве». Человеческое
насилие втайне господствует в самой динамике священно-
го, им отмечены как акт мести, так и акт жертвоприноше-
ния, оба пытаются скрыться за трансцендентными челове-
ку силами, к которым оба они обращены. Отнятие жизни,
которое происходит в обоих случаях, является, несомнен-
но, сакральным актом, однако в жертвенном приношении
этот акт (кроме детальной ритуализации и нормирования)
3. Закон жертвоприношения 249
выполняет еще и функцию замещения: вырвав свою жерт-
ву из причинно-следственной связи «преступление—на-
казание», он переносит на нее вину и грехи всего сообще-
ства (а не только единственного преступника, как в случае
мести), над которым уже нависла угроза бесконечной мес-
ти, он прерывает этот порочный круг мести.
Насилие, угрожающее социуму, устраняется при по-
средстве этого акта, удавшееся жертвоприношение мешает
насилию вновь стать имманентным и взаимным, т. е. укреп-
ляет насилие только в качестве внешнего, трансцендентно-
го, благого. Сообщество приносит Богу все, в чем он нуж-
дается, чтобы сохранить и увеличить свою мощь, жертву
отпущения изгоняют, и стихия насилия считается изгнан-
ной вместе с ней. Насилие оказывается спроецированным
вовне, оно пропитывает собой все бытие, за исключением
самой общины, — до тех пор, пока внутри нее соблюдает-
ся культурный порядок. Но стоит только пересечь границу
общины, как тут же попадаешь в сферу дикой сакрально-
сти, не знающей ни границ, ни пределов, в эту сферу свя-
щенного входят не только боги, все сверхъестественные
существа, монстры, мертвые, но и сама природа, посколь-
ку она чужда культуре, космос и даже другие люди1.
Если архаическая жертва вполне конкретна, жизне-
творна, радостна и неразрывно связана с коллективным те-
лом, которое ее приносит, то жертва абсолютная, напро-
тив, — имперсональна, ужасна и разрушительна, она суть
ничто, в ней исподволь происходит подмена конкретной
жертвы символической инстанцией, противостоящей злу,
т. е. абсолютной жертвой. Жак Рансьер полагает, что ныне
См.: Жирар Р. Указ. соч. С. 177, 323.
250 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
«составилось абсолютное внеюридическое право, жертва
бесконечного Зла. И наследуемо это абсолютное право за-
щитниками прав жертвы»1. Не поддающаяся нашему пони-
манию логика жертвенного замещения предполагает, что
наиболее подходящим для жертвенного акта объектом бу-
дет такой объект, который никак не связан с социальным
целым, приносящим жертву, и благополучие которого при-
звано защитить само жертвоприношение, и одновременно с
этим этот объект представляет собой, репрезентирует это
социальное целое. Вместе с тем такая условность переноса
ответственности представляется наиболее ярким проявле-
нием того самого императивного характера, который при-
сущ закону и праву вообще: произвольное установление,
императивное предписание, номинирующее определение
составляют саму сущность той символической власти, ко-
торой обладает всякий актуальный нормообразующии акт.
В акте мести и жертвоприношения эта сущность зако-
на наиболее ярко выражается в форме кары, воздаяния,
направленного на жертву. «Козел отпущения» — вот тот
символ, вокруг которого сосредоточены все нормирующие
процедуры замещения: снятие вины с преступника и пере-
нос ее на жертву замещения обеспечивает стабильность
общественного порядка, и в этом его главная цель. Однако
сама эта стабильность всегда остается только идеалом, ре-
альное состояние социума — неустойчивое динамическое
равновесие, которое может быть обеспечено только силой,
господством, насилием; чтобы преодолеть это состояние,
общество стремится отделить, вычленить из себя все опас-
ное для него, вывести все разлагающее и раздражающее
1 Савчук В. Время нигилизма // Судьба нигилизма. СПб., 2006.
С. 205—206.
3. Закон жертвоприношения 251
его за свои границы, очиститься от него, переложив «не-
чистоту» на замещающую жертву; этой ценой несправед-
ливого правосудия и игнорированием принципа виновно-
сти оно только и достигает самосохранения.
Отличительная черта всякого трагического дейст-
вия — серия кар, т. е. ходов подражания насилию. Жерт-
воприношение выступает в трагедии одним из ее важней-
ших составных элементов, жертва здесь всегда «невинна»,
т. е. не связана с жертвователями, угнетающими их греха-
ми и виной, она «иносторонна», отделена от общности, у
нее статус изгоя, и она никоим образом не вписывается в
социальную иерархию, символизирующую и олицетворяю-
щую собой порядок социума. Социум стремится сохранить
не существующий реально идеальный порядок, не касаясь
его основ, поскольку обращение насилия внутрь социума
неизбежно может повести к разрушению структур, иерар-
хий и разделений, т. е. всех символических номинаций, на
которых он основывается. Разрушение различий особенно
наглядно проявляется там, где иерархическая дистанция и
почтение в принципе максимально велики, «в первобытной
религии и в трагедии действует один и тот же принцип,
никогда не называемый вслух, но играющий центральную
роль. Порядок, мир и плодородие основаны на культур-
ных различиях. К безумному соперничеству, к беспощад-
ной борьбе между людьми... приводят не различия, а их
утрата».
Причина несущего насилие хаоса всегда одна и та же,
это — утрата различий, а значит, и конец всего человече-
ского правосудия, которое тоже непременно описывается в
символических категориях различия; «если, как в греческой
трагедии, равновесие — это насилие, то ничего удивитель-
252 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
ного, что относительное ненасилие, обеспеченное человече-
ским правосудием, описывается как неравновесие, как раз-
личие между «добром» и «злом», различие между чистым
и нечистым. Нет... ничего более далекого от этой мысли,
чем идея правосудия как всегда соблюдаемого равновесия...
Человеческое правосудие укоренено в иерархии различий и
рушится вместе с ней. Везде, где возникает нескончаемое и
страшное равновесие трагического конфликта, язык спра-
ведливости и несправедливости просто отсутствует»1.
Жертвенный акт — это, кроме всего прочего, акт очи-
щения. Община очищается от коллективных и индивиду-
альных грехов (в том числе греха убийства, совершенного
ее членами), лежащих на ней и гнетущих ее. Очиститель-
ная жертва, чистая и не имеющая отношения к совершен-
ным общиной преступлениям, нагружается общественны-
ми грехами и отправляется за пределы социума, за преде-
лы этой внутренней для общины жизни — «чистое» и
«нечистое» разделяются, разграничиваются в процессе ре-
лигиозного жертвенного ритуала; диктат священного, на-
силие священного определяет эту границу, нормирует и
регламентирует такое разделение. Однако «нечистое» от-
нюдь не является синонимом несправедливого, оно опре-
деляется, номинируется исключительно с точки зрения
«полисной целесообразности», становится таковым только
после изгнания за границу полиса; власть и закон устанав-
ливают критерии чистого и нечистого (Ю. Кристева ссы-
лается на работы Мэри Дуглас, где сама категория нечис-
тоты выявляется только в ее соотнесенности с понятием
«граница», представляя собой объект, отброшенный от
1 Жирар Р. Указ. соч. С. 65, 67—68.
3. Закон жертвоприношения 253
этой границы на другую сторону или край, власть осквер-
нения, следовательно, не имманентна, но лишь пропорцио-
нальна власти запрета, которая ее устанавливает; осквер-
нение — это тот тип опасности, который обнаруживается
наиболее вероятно лишь там, где структура, космическая
или социальная, ясно определена)1.
Причина ритуальной «нечистоты» — насилие, поэто-
му его, как заразу, требуется вывести за пределы социаль-
ного организма, выплеснуть вовне; священное же — это
то, что господствует над человеком, и тем более, чем боль-
ше человек надеется господствовать над ним самим; это
уже насилие самих людей, насилие, выведенное за преде-
лы человека и потому слитное со всеми прочими силами,
грозящими человеку извне, «подлинную душу и тайную
силу священного всегда составляет насилие».
Отношения между потенциальной и актуальной жерт-
вами не может быть описано в категориях виновности и
невиновности; по мнению Р. Жирара, коллектив, социум
всегда пытается обратить на жертву сравнительно безраз-
личную для него, то насилие, которое грозит поразить его
собственных членов, тех, кого общность хочет защитить
любой ценой, и тогда, обращаясь на приносимую (акту-
альную) жертву, насилие теряет из виду первоначально
намеченный им объект (потенциальную жертву). При
этом даже сама жертвенная процедура предполагает из-
вестную степень непонимания: верующие в благость жерт-
воприношения не должны осознавать и не осознают роль
насилия в этом акте, что обеспечивается особой теологией
жертвоприношения и переносом реального акта в область
1 См.: Кристева Ю. Указ. соч. С. 105.
254 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
воображаемого. Вполне реальным образом жертвоприно-
шение защищает (оно и осуществляется для этого) весь
социум от его собственного внутреннего насилия, обращая
его против посторонних для социума жертв, «жертвопри-
ношение фокусирует на жертве повсеместные начатки раз-
дора и распыляет их, предлагая им частичное удовлетворе-
ние», оно усиливает социальное единство и тем самым
оказывается связанным с самыми разными аспектами че-
ловеческой жизни; «у жертвоприношений, музыки, нака-
заний и законов одна и та же цель — объединять сердца и
устанавливать порядок»1.
Смерть, которой обрекают жертву, эта последняя
месть, не является банальным убийством, это сакрализо-
ванный акт символического перевода жертвы из одного
мира в другой; смерть, являющаяся результатом жертво-
приношения и одновременно его целью, есть тот порог, за
которым рок, во всяком случае по эту сторону границы,
теряет свою власть над судьбой индивида, древние боги и
древний закон остаются на этом берегу. В античной траге-
дии трагическая смерть определенно обладала двойствен-
ным значением: она лишала силы древнее «олимпийское»
право и предавала героя неизвестному богу как первенца
новой жатвы человечества; уже у Эсхила и Софокла эта
двойственная сила проступала со всей очевидностью, поз-
же искупительный характер жертвы заметным образом
преобразуется — происходит замещение обреченности на
смерть пароксизмом, вполне удовлетворяющим старому
сознанию богов и жертвы и вместе с тем облаченным в но-
вые формы2.
1 Жирар Р. Указ. соч. С. 42.
2 См.: Беньямин В. Указ. соч. С. 101—102.
3. Закон жертвоприношения 255
Такая смерть уже не устраняет субъектности, она
только меняет план ее существования, перенося жертву из
одного мира в другой и делая это со строго определенной
целью: смерть разрывает последнюю связь, еще удержи-
вающую сакрализованную жертву в мире профанного,
жертва возрождается теперь уже в ином, сакральном ми-
ре, ее дух высвобождается, и одной из главных задач при-
носящего жертву становится убедить этот дух удержаться
от мести, которая может последовать за смертью самой
жертвы. Страстная жертвенная смерть открыто приемлет
и само зрелище смерти (в современном обществе смерть,
как и любая органическая функция, превращается в функ-
цию моральную, а потому и стыдливо скрытную), при
жертвоприношении насилие носит совсем иной характер,
становится одной из форм самоприсутствия общины при
совершении жертвенного акта, который нельзя смешивать
с пошлым актом истребления, «смешивать их в одном аб-
страктном отрицании насилия и смерти — значит согла-
шаться с государственной идеологией умиротворения
жизни».
Человек жертвоприношения наделяет смерть более
возвышенной судьбой, чем это делает солдат или судья;
для него слова «здесь смерть» не являются простой кон-
статацией: жертва должна умереть, так как существова-
ние, ставшее трагедией, потому что есть смерть, достигнет
своей полноты только в том случае, если «оно заворожено
доставшейся ему судьбой, если оно находится в плену у
трагедии и пьянеет от неизбежности смерти». Поэтому
только совершающий жертвоприношение и может создать
«настоящее человеческое существо», поскольку жертво-
приношение осуществляется только ради того, чтобы была
256 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
произнесена та самая единственная фраза, которая и дела-
ет человека человеком: «Ты есть трагедия»1.
В трагедии об Эдипе враги царя выступают защитни-
ками традиции и закона, но подвергают сомнению закон-
ность царской власти не только лично Эдипа, но и самого
института; во взаимной борьбе противники вносят свой
вклад в уничтожение того порядка, который они же сами
хотят укрепить, «нечестие, о котором говорит хор, забвение
оракулов, религиозный упадок — это и есть распад всех
религиозных и социальных иерархий». Р. Жирар называет
такую ситуацию «жертвенным кризисом». Символически
он выражается в утрате границы, всегда существовавшей
между жертвенным и «нечистым», голым, диким насили-
ем; когда насилие переливается через край и начинает пора-
жать все вокруг, и вновь обращается внутрь общины, пора-
жая всех, кого должно было защищать, — это и есть апо-
гей трагического. Нужно заметить, что жертвенный, или
трагический, кризис всегда рассматривается с точки зрения
нового возникающего порядка вещей и почти никогда —
с точки зрения порядка разрушаемого; в конечном счете
жертвенный кризис — это утрата различий между «чис-
тым» и «нечистым», полное их смешение, т. е. возвращение
хаоса (социального, политического, правового). Конец
различий — вот та сила, которая в кризисе торжествует
над слабостью, правосудие по своей сути есть система, уко-
рененная в иерархии различий, поэтому и оно, еще не успев
народиться и укрепиться, рушится с исчезновением разли-
чий, везде, где возникает нескончаемое равновесие траги-
ческого конфликта, язык справедливости отсутствует.
1 См.: Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 305.
3. Закон жертвоприношения 257
Но и заложенный в карательной системе принцип
справедливости мало чем отличается от принципа мести:
как уже отмечалось, в обоих случаях действует принцип
взаимности, принцип воздаяния. Однако на социальном
уровне это различие уже существенно, ведь в карательной
системе за месть уже не мстят, здесь процесс завершен, уг-
роза эскалации насилия устранена. Аналогичную роль иг-
рает религия, элементом которой является жертвоприно-
шение, — оно включается в состав религиозной, мораль-
ной и правовой жизни, хотя это может быть осуществлено
только путем резкого отклонения от нормального течения
жизни, точнее, путем ее прерывания, и способ этот весьма
парадоксален: сделать жертвой виновного значило бы со-
вершить именно тот акт, которого всегда требовала месть,
чего всегда требует дух насилия, принести же в жертву не-
виновного — значит уклониться от полной взаимности на-
силия, которая явно нежелательна. «Если противонасилие
падает на самого носителя насилия, то оно тем самым ста-
новится причастным его насилию», оно уже неотличимо от
него, тогда оно становится местью, теряющей всякую меру,
поскольку впадает именно в то, что должно было бы пре-
дотвратить. Чтобы успокоить множащееся насилие, следу-
ет ответить на него актом, который и не был бы похож на
ожидаемую противником месть, и не очень от нее отличал-
ся; этот акт должен походить одновременно и на законное
наказание, и на жертвоприношение, при этом не совпадая
ни с тем, ни с другим. (На жертвоприношение он похож
тем, что жертва второго убийства не виновна в первом, —
принцип виновности здесь явно не соблюдается1.)
1 См.: Жирар Р. Указ. соч. С. 36—37, 64, 68.
258 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
Насилие, убивающее насилие, — таков смысл пуб-
личного акта жертвоприношения, таинственным образом
преобразующегося в наказание: жертвенный кризис с его
спонтанным выбросом насилия может быть преодолен
только посредством опять-таки насилия, но на этот раз
уже единодушно признанного или учредительного. Такое
единодушие, или, другими словами, само себя устраняю-
щее насилие, призвано закрепить все подвергающиеся в
ходе кризиса энтропийному уничтожению различия и зна-
чения, стабилизировать их, проведя четкую грань между
«чистым» и «нечистым»; то, что создает первое насилие
(преступное), второе подрывает, чтобы учредить зано-
во, — пока насилие остается среди людей, пока оно оста-
ется одновременно тотальной и нулевой ставкой, идентич-
ной божеству, его нельзя вовсе остановить, поскольку это
извечное состояние меняющегося отношения господства и
подчинения.
Исправительные процедуры (как и все позволяющее
людям ослаблять свое собственное насилие) религиозно
окрашены, будь то обряды жертвоприношения или судеб-
ные формы, и объясняется это тем, что религия в самом
широком смысле слова всегда «совпадает с той темнотой,
которая... окутывает все средства, используемые челове-
ком против собственного насилия», как исправительные,
так и профилактические, с тем мраком, который покрыва-
ет судебную систему, когда она приходит на смену жертво-
приношению, и «этот мрак есть трансцендентность свя-
щенного, законного, легального насилия, в отличие от им-
манентности насилия греховного и незаконного». Подобно
жертвам в ритуале, которые приносятся божеству, судеб-
ная система опирается на специфическую теологию, гаран-
3. Закон жертвоприношения 259
тирующую ей истинность и справедливость, не замечая
того, что между этой справедливостью и местью нет осо-
бого различия1.
Насилие может не только иметь разные формы, но и
располагаться на разных уровнях собственной сакрализо-
ванности, в этой связи Вальтер Беньямин противопостав-
ляет божественное насилие мифическому; по его мнению,
справедливость есть принцип любого божественного целе-
полагания, а власть — принцип любого мифического пра-
вополагания, «мифическая манифестация непосредствен-
ного насилия в глубине проявляет себя идентично любому
правовому насилию и доводит представление о его пробле-
матике до понимания губительности его исторической
функции, уничтожение которой тем самым становится не-
посредственной задачей». Но если мифическое насилие
имеет правоустанавливающий характер, то божественное
выступает как правоуничтожающее, и если первое уста-
навливает границы применимости, то второе — по сути
безгранично и нелегитимно; если мифическое является ис-
точником вины и одновременно позволяет искупить эту
вину, то божественное насилие вовсе лишено ощущения
вины, но принуждает платить по долгам сполна; если пер-
вое — грозящее и кровавое, то второе — разящее и бес-
кровное2. В. Беньямин обвиняет правовое сознание в том,
что оно замалчивает очевидную несправедливость и наси-
лие, лежащие в его основании, он вменяет самому этому
сознанию и порождаемое им чувство вины3.
1 См.: Жирар Р. Указ. соч. С. 33, 185.
2 См.: Савчук В. Время нигилизма // Судьба нигилизма. СПб.,
2006. С. 206-207.
3 См.: Беньямин В. Указ. соч. С. 103.
260 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
4. Поэтика, политика и право
В эпоху угасания религиозного мировоззрения трагиче-
ские аспекты взаимоотношения «человек и закон» сущест-
венным образом меняют свой характер, как и сама форма
трагедийного: закон, прежде предписывавший жертвен-
ную и ритуальную смерть безвинной жертве, теперь уже
не безликий собрат рока и судьбы, он становится прямым
порождением, искусственным и рациональным, другого,
столь же искусственного субъекта и образования — госу-
дарства, верховной власти. Теперь он не столько божест-
венное предписание (и на этот источник еще время от вре-
мени ссылаются), сколько продукт вполне человеческого
производства: власть забирает у общины прежде свойст-
венные ей функции жертвоприношения и мести, а самому
закону приписываются свойственные правителю субъек-
тивистские наклонности и аффекты, тем самым политиче-
ская теология обосновывает перенос верховной суверенно-
сти либо на персону государя, либо на корпоративного
правителя. Ж. Бодрийяр подвергает сомнению саму ре-
альность подобного переноса и его романтизированную
архаику: «когда общество убивает с вполне обдуманными
намерениями, его обвиняют в варварской мести, достойной
Средних веков. Это слишком большая честь для него.
Ведь месть — это все еще смертельное отношение взаим-
ности. Это тщательно разработанная форма обязанности и
взаимности, особая символическая форма». В современ-
ном обществе смерть является (в своей форме смертной
казни) только эрзац-продуктом моральной и бюрократи-
ческой инстанции, расчетно-статистическим действием;
как и вся система социально-идеологического властвова-
ния, она обладает той абстрактностью, какой никогда не
4. Поэтика, политика и право 261
обладали ни месть, ни убийство, ни жертвенное зрелище;
«смерть судебная, концентрационная» — вот такую фор-
му выработала позже наша культура1.
В мире же архаического власть, осуществлявшая на-
силие в форме жертвоприношения, заботилась прежде
всего о социуме, его мирном существовании и целостно-
сти, она защищала границы своего жизненного простран-
ства, тем самым реализуя собственную идентичность, за-
кон и политика здесь были слиты воедино. Архаический
правитель не отделял своих личностных качеств и собст-
венной судьбы от социума, все беды и проблемы общины
были олицетворены в его судьбе, жизни и смерти, власт-
ная и социальная субстанции растворялись друг в друге,
трагедия социума выражалась, как личная трагедия вож-
дя и правителя. (Ю. Кристева, интерпретируя миф об
Эдипе и совершенное им убийство, замечает, что, «оста-
ваясь завуалированным, это убийство, как и его желание,
были лишь оборотной, но, со всей очевидностью, соли-
дарной стороной его логической и, следовательно, поли-
тической силы». Негативное отношение к такому наси-
лию, «отвращение проявляется только тогда, когда под-
талкиваемый своим желанием знать к собственным
границам Эдип обнаруживает в своей сущности государя
желание и смерть, которые он приписывает полной,
знающей и ответственной верховной власти», решение
проблемы при этом остается полностью мифическим, сво-
димым к форме исключения, изгнания, вывода за грани-
цу. И именно эта диалектика переворачивает и превраща-
ет его в предмет отвращения, в «козла отпущения», кото-
См.: Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 306.
262 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
рый, сам будучи изгнанным, тем самым позволяет
освободить город, общину от позора1.)
Уходящее в прошлое мифологическое восприятие за-
кона и власти теперь уступает место историцизму, новому
методу осознания реальности, новому мимесису, в котором
трагическое ощущение жизни также находит свое новое
проявление. М. Хайдеггер повторял вслед за Г. В. Ф. Ге-
гелем: трагедия всегда служила местом борьбы между
«старыми и новыми богами» (и вся европейская мысль по-
коилась на спекулятивном истолковании этого дуализма,
превращавшегося затем в не менее загадочное противо-
стояние двух трагических аффектов: страха и сострада-
ния); независимо от того, понималась ли такая борьба
«как столкновение двух законов... двух пространств —
символического и общественного, — двух эпох в торжест-
ве зафиксированного письменно права... агоры и Города»,
или же она воспринималась как некий живой оксимор,
судьба трагического героя, или только как внешняя симво-
лизация двух базовых эстетических состояний — мечты и
опьянения (Ф. Ницше), — повсюду данный антагонизм
выступал уже как сам первоисток истории, как историч-
ность. (По мысли М. Хайдегтера, знание истории от ее
истоков вовсе не заключается в «выкапывании из земли
первобытного, это не наука о природе, даже в своей части,
это мифология, обещающая создать историю заново, и
именно эта мечта и породила имеющее место смешение ис-
кусства (трагедии) и политики»2.)
1 См.: Кристева Ю. Указ. соч. С. 120.
2 Цит. по: Лаку-Лабарт Ф. Поэтика и политика. СПб., 1999.
С. 36—37.
4. Поэтика, политика и право 263
Из трагедии этот диалектический симбиоз заимствует
соревновательный элемент, изначально основанный на
стихийности, риске и непредсказуемости: история рисует
мифологизированную и одновременно искусственную кар-
тину власти, персонифицированной и замкнутой в узкий и
закрытый круг сакральной политики; рок уступает место
«суду», т. е. способности оценивать и разделять «чистое»
и «нечистое», справедливое и несправедливое, и тогда тра-
гическое пространство сужается до пределов королевского
двора или судебной камеры. «Вечное возвращение», свой-
ственное мифу, сменяется пестрым историческим разнооб-
разием и искусственно выстроенной хронологией, лично-
стно конкретизированные правители-персоны проходят
непрерывной чередой по исторической сцене, заполняя
пространство вокруг себя бесчисленным количеством ин-
дивидуализированных императивных актов, предписаний
и законов.
Результаты судебной процедуры теперь зависят от
случайного характера доказательств, удачно подобранных
одной из сторон процесса, сама ритуализированная судеб-
ная процедура оказывается уже не в состоянии привести
процесс к заранее предусмотренному результату (как это
было в жертвоприношении) — и вновь спонтанность и иг-
ра случая вторгаются в область правосудия, сущностью ко-
торого опять становятся спор и игра, правда, трагическое
теперь уже не говорит о роке, оно все время напоминает о
случайном. Иохан Хейзинга подчеркивал, что действие
трагедии всегда начинается в сфере состязания (агона),
как священная игра, как разыгранное на сцене богослуже-
ние; но кто говорит «состязание», тем самым говорит «иг-
ра»: именно качества игры оказываются теперь подняты в
264 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
сферу освященности, которой требует для своего правосу-
дия всякое общество. Само правосудие свершается в осо-
бом «дворе», священном круге, отгороженном от повсе-
дневной жизни закрытой стеной, — «это настоящий маги-
ческий круг, игровое пространство, в котором временно
упраздняется привычное социальное подразделение лю-
дей» (И. Хейзинга полагал, что вся действительная вза-
имность игры и права в архаических культурах подчиняет-
ся некоему троякому принципу классификации: суд как
азартная игра, суд как состязание, суд как словесный по-
единок).
Суд — это спор о справедливости и несправедливо-
сти, вине и невиновности, и здесь соревновательная идея о
выигрыше и поражении, т. е. чисто атональная идея, затме-
вает собой даже саму идею вины и невиновности, т. е. эти-
ко-юридическую, элемент счастливого случая, удачи, шан-
са, а значит, элемент игры выходит здесь на первый план, и
«перед нами словно разворачиваются картины мышления,
где понятия о решении, вынесенном по совету оракула, во-
ле богов, жребию, т. е. на основе игры (ибо вся непрелож-
ность решения опирается только лишь на правила игры), и
решении на основе правосудия еще не расчленены и со-
ставляют единый комплекс». Древний спор трагического
хора с героем мало походил на эти позднейшие поединки,
проводимые в суде, судебное решение на трагедийной сце-
не было предопределено, участие в нем «олимпийцев» де-
лало весь процесс односторонне направленным и далеко не
состязательным, и все же именно трагедия внесла в позд-
нейшие судебные процедуры столь важные для их опреде-
ления признаки, одновременно облагораживающие спор и
делающие его публичным представлением.
4. Поэтика, политика и право 265
По словам В. Беньямина, в судебном процессе «выс-
шая справедливость исходит от убеждающей силы живой
речи, а не от процессуального разбирательства противо-
борствующих оружием или затверженными родовыми
формулами. Ордалия оказалась прорванной свободным
логосом», и в этом-то и заключалось глубочайшее родство
судебного процесса и трагедии: трагедия включалась в
этот дискурс процессуальной процедуры, — ведь и в ней
тоже совершалось метафизическое судебное разбиратель-
ство по «делу об искуплении вины», — поэтому у Софок-
ла и Еврипида герои не столько говорят, сколько ведут де-
баты; но «если миф в понимании поэта — судебный про-
цесс, то его поэзия — отражение и в то же время развитие
процессуального права», тогда весь процесс разрастается
до уровня амфитеатра, в котором сообщество присутству-
ет как надзирающая и выносящая приговор инстанция. По
аналогии с судебным разбирательством для любого захва-
ченного действием сообщества сцена становится своеоб-
разным трибуналом, где, как в высшей инстанции, рас-
сматривается сам трагический процесс, в котором испол-
нение приговора «осуществляется в космосе»1.
Тогда трагедия становится драмой, где роли действую-
щих лиц по-прежнему расписаны, а сценические выходы
строго регламентированы, однако при этом утрачивается
прежняя, свойственная трагедии мифологическая повто-
ряемость, а с нею и архитипический характер персонажей,
подражание теперь ориентировано на вполне конкретных
исторических личностей, роль стихийных элементов сво-
дится к минимуму (и хотя игра заставляет персонажей все
1 Беньямин В. Указ. соч. С. 113, 117.
266 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
время корректировать свои позиции, однако они представ-
ляются теперь вполне предсказуемыми). Божественный
закон уходит из трагедии, но ритуал остается, «король»
становится здесь заместителем Бога, предписывая уста-
новленные им правила и нормы и самостоятельно распре-
деляя роли и статусы в социальной драме.
М. Фуко очень точно заметил, что в трагедии XVI в.
появляется один новый для нее институт, который заметно
«ограничивает трагический образ власти и заставляет тра-
гедию повернуться в сторону театра галантности и интри-
ги», таким институтом становится королевский двор. Но
двор также является и своеобразным «уроком государст-
венного права», поскольку его символическая функция со-
стоит в создании, устройстве места повседневного и по-
стоянного проявления, манифестации королевской власти
во всем ее блеске; «двор в своей основе — это род посто-
янной, возобновляемой изо дня в день ритуальной про-
цедуры, которая делает из индивида и частного человека
короля, монарха, суверена. В своем монотонном ритуале
двор беспрестанно воспроизводит процедуру», в которой
сама личность монарха является самой субстанцией мо-
нархии. Трагедия же, напротив, разрушает, а затем заново
соединяет то, что каждый день утверждает церемониаль-
ный ритуал двора, она акцентирует внимание на моменте,
когда обладатель государственной власти, суверен вдруг
предстает земным человеком, подверженным всем стра-
стям, и тогда неизбежно возникает вопрос, может ли ко-
роль-суверен восстановиться вновь как священная и могу-
щественная особа, несмотря на свое разложение, «пробле-
ма смерти и воскрешения тела короля в сердце монархии»,
т. е. тем самым трагедия ставит перед нами не столько
4. Поэтика, политика и право 267
психологическую, сколько сугубо юридическую проблему1.
Теперь уже вся политическая история, снова ориентиро-
ванная на персону короля, и два его «тела» — физическое
и символическое — вновь оказываются в состоянии при-
нять свою подлинную и в некотором смысле «магико-по-
этическую форму».
В Новое время история короля уже не могла не стать
снова «песней власти о себе самой», и абсолютизм, при-
дворный церемониал — это иллюстрация государственно-
го права, классическая трагедия и детальная королевская
историография — все эти части составили некое единое
целое политической эпохи, а история и трагедия, неожи-
данно объединившись и погрузившись в по-своему ими
понятый, «классически» интерпретированный архаизм,
удачно сделали из церемонии, обращенной на власть,
сильный политический фактор, и тогда жизнь двора как
места символического церемониала власти стала повсе-
дневным уроком государственного права, повседневным
его проявлением. (Норберт Элиас заметил, что полноту
потенциала власти, которой король мог располагать в силу
своего положения, можно было поддерживать только с
помощью тщательного манипулирования сложным и мно-
гополюсным балансом социальных связей и в обширном, и
в более узком полях его господства. «Этикет и церемониал
были в числе тех организационных инструментов, которы-
ми король пользовался для поддержания дистанций меж-
ду всеми группами и лицами в придворном обществе,
включая свою собственную особу»: ограничивая права
* См.: Фуко М. Нужно защищать общество. М., 2005. С. 190—
191.
268 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
двора, король был вынужден ограничивать и собственный
произвол1.)
«Эдипов комплекс» властвования, прежде сосредото-
ченный на самоощущении властителя, сомневающегося в
своей способности властвовать и решать проблемы, что
часто оказывалось чреватым смертью и изгнанием, транс-
формируется здесь в драматическую проблематику «спра-
ведливой власти», категорию почти незнакомую архаиче-
скому античному политическому мышлению. «Антитеза
монархической власти и способности властвовать породила
своеобразную, лишь по видимости обусловленную траге-
дийным жанром, черту барочной драмы, осмысление кото-
рой было возможно лишь на фоне учения о суверенитете.
Это — неспособность тирана к принятию решения» — го-
сударь, которому надлежит принимать решение о чрезвы-
чайном положении, при первой же возможности обнаружи-
вает свою неспособность к этому. Истинная суверенность
власти выявляется именно в ситуации чрезвычайного поло-
жения (К. Шмитт), и как «неистинный суверен» тиран,
этот трагический персонаж драмы властвования, быстро
раскрывает свою сущность; истинный же суверен всегда
обладает справедливой властью, законно перешедшей к не-
му в установленном Богом и законом порядке, исток этой
власти теряется в глубоком прошлом. (В. Беньямин заме-
тил, что попытки отнести истоки королевской власти к пер-
вичному состоянию «сотворения мира» встречаются даже в
самой теории права; так, противники тираноубийства на-
стаивали на том, что убийца короля заслуживает порицания
1 См.: Фуко М. Указ. соч. С. 191; Элиас Н. Придворное общест-
во. М., 2002. С. 173.
4. Поэтика, политика и право 269
прежде всего как отцеубийца, и только затем как политиче-
ский преступник1.)
Трагичность ситуации была заключена по-прежнему в
некоей двусмысленности положения суверена, тиран как
исторический, возникший в силу обстоятельств персонаж
как нельзя более подходил для демонстрации этой двой-
ственной ситуации: он обладал властью, но был неспосо-
бен реализовать ее идеал, поскольку сама его власть была
нелегитимной; в каждой драме о тиране содержалась му-
ченическая трагедия, бессилие и порочность его личности
сталкивались с убежденностью в священной мощи его
надличностной роли; дело тирана — восстановление по-
рядка в условиях чрезвычайного положения, диктатура,
утопическим идеалом которой навсегда оставалось стрем-
ление заменить непостоянство и текучесть исторических
событий «неколебимой конституцией законов природы»;
трагедия тирана — в его неспособности осуществить это,
связанной с отсутствием у него легитимности как в стату-
се, так и в репрезентации власти. Тиран и мученик в эпо-
ху барокко оказывались двумя сторонами двуликого Яну-
са коронованной особы, двумя необходимо крайними во-
площениями монаршей сущности: сформулированная в
это время теория суверенитета, для которой частный слу-
чай развития диктаторских полномочий становился об-
разцовым и модельным, как будто бы подталкивала к то-
му, чтобы придать образу суверена такие типичные тира-
нические черты; «драма была совершенно устремлена к
тому, чтобы сделать жест исполнения приговора харак-
терным для государя и наделить его речами и привычками
1 См.: Беньямин В. Указ. соч. С. 56—57, 67.
270 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
тирана даже там, где обстоятельства к этому не принуж-
дают».
В образе государя в тот момент, когда он достигает
ошеломляющей мощи, как бы проявляется само открове-
ние истории, и одновременно с этим действует некая ин-
станция, устанавливающая предел ее перипетиям, госу-
дарь оказывается жертвой несоразмерности всемогущест-
ва иерархического положения, доставшегося ему от Бога,
и сословной принадлежности его несчастного человеческо-
го существа1. В фигуре тирана сочетались человеческие и
сверхчеловеческие черты суверена, в этой двойственности
мощь и справедливость соединялись с порочностью и
своеволием, и этот трагический синтез открывал истории
дорогу в область, где до этого могла существовать только
мифология власти.
Вслед за Аристотелем Жан Расин повторял (в преди-
словиях к «Андромахе» и «Федре»), что трагические пер-
сонажи никогда не являлись на свет ни абсолютно плохи-
ми, ни абсолютно хорошими; но качественное различие
между «трагическим человеком» и «человеком света» су-
щественным образом отличало трагедию XVII в. от ан-
тичной трагедии, в которой обязательно присутствовал
хор, дававший четкую характеристику ее персонажам.
(В более позднем символистском мышлении трагическое
действо приобретает «демократический» характер и одно-
временно становится теургическим с появлением «собор-
ного слова» и органа, который это слово может артикули-
ровать, в эсхиловой трагедии такую роль выполнял хор,
игравший роль «мирской сходки» и изображавший мета-
1 См.: Бенъямин В. Указ. соч. С. 75.
4. Поэтика, политика и право 271
физический хор всемирной воли, некий мистический сонм
человечества1.)
Для приоритетной роли этического, определяющего
сам тон трагического и являющегося его истинной основой
и перспективой, была свойственна вполне конкретная ус-
тановка: люди либо обладают, либо не обладают подлин-
ным ^человеческим сознанием, поэтому схваченное под та-
ким углом зрения трагическое видение неизбежно возвра-
щает нас к основам морали и религии, правда, утрачивая
при этом ясное восприятие перспективы будущего2. Рели-
гиозный кризис XVI в. привел к почти полной идентифи-
кации королевской власти и государственной истории,
оторвав ту и другую от трансцендентных оснований, свой-
ственных сознанию предыдущих эпох. Контрреформация
внесла свои коррективы в разрешение трагической про-
блемы власти и закона, и трагедийное сознание вновь вер-
нулось к своим метафизическим и религиозным истокам,
приблизившись тем самым к самой сущности государст-
венного права. Еще в XVI в. в Европе трагедия остава-
лась одной из самых крупных ритуальных форм, в кото-
рых «проявлялось государственное право и обсуждались
его проблемы», так, исторические драмы Уильяма Шек-
спира казались не чем иным, как трагедиями права и коро-
ля, содержание которых не только отражало исторические
процессы узурпации и утраты права, они ставили по сути
метафизический вопрос: как вообще незаконное может
произвести закон? «Если в ту эпоху теория и история пра-
ва стремились утвердить неразъединимую непрерывность
1 См.: Иванов Вяч. Предчувствия и предвестия // По звездам.
ML, 2006. С. 157.
2 См.: Голъдман Л. Сокровенный бог. М., 2001. С. 41, 380.
272 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
государственной власти», то трагедии Шекспира сосредо-
точивались на незаживающей ране, поражающей тело ко-
ролевской власти, шекспировская трагедия выступала сво-
его рода церемонией, ритуалом воскрешения в памяти уз-
ловых проблем государственного права.
М. Фуко был убежден в том, что существует опреде-
ленная фундаментальная, сущностная близость между
трагедией и правом, схожая с той близостью, которая все-
гда существовала между романом и проблемой нормы.
(Правоведы крайне редко обращались к самому духу тра-
гедий У. Шекспира, чаще всего ограничиваясь формаль-
ными ссылками на государствоведческую и юридическую
терминологию, встречающуюся в его текстах. Исключение
представляют лишь отдельные пассажи Р. Иеринга и
И. Колера1.)
5. Юрисдикция насилия
В работе «Надзирать и наказывать» М. Фуко заметил:
право наказывать, как часть права государя воевать со
своими врагами, покоится на «праве меча, на абсолютной
власти над жизнью и смертью подданного», но наказание
есть также способ, каким добиваются возмездия, одновре-
менно личного и государственного, так как физически-по-
литическая сила государя в каком-то смысле присутствует
в законе. Поскольку даже в исполнении самого обычного
наказания, в строжайшем соблюдении юридических форм
действуют активные силы мщения, то и публичная казнь
1 См.: Колер И. Шекспир с точки зрения права. СПб., 1899. Так-
же см.: Фуко М. Нужно защищать общество. С. 189.
5. Юрисдикция насилия 273
фактически также исполняет свою юридически-политиче-
скую функцию, она есть церемониал, посредством которо-
го на миг восстанавливается нарушенная власть суверена,
публичная казнь не восстанавливает справедливости, она
только реактивирует власть1.
Однако ту же роль в социуме играют и месть, и жерт-
воприношение, их цели — сохранение и демонстрирова-
ние общественной солидарности и олицетворенного гос-
подства, господства над жизнью обреченного. Предельно
ритуализированные, эти акции располагаются в области
нормирования и императивного властвования; учредитель-
ное насилие, это искусственное порождение человеческой
воли, наиболее демонстративно выражает эту склонность
социума к проявлению своего господства, социум оформ-
ляет такое насилие в виде системы судебного разбиратель-
ства и системы наказаний — кар. С выделением суверен-
ной власти в отдельную от социума структуру от общества
отделяется также и судебная власть как таковая, и незави-
симый суд (в определенных исторических ситуациях суд
может являться также прерогативой верховной власти),
принимающий на себя решение проблем, связанных с за-
меной мести и жертвоприношения: при поддержке испол-
нительной власти судебная власть формирует институты и
процедуры, в которых и осуществляется учредительное
насилие. Тем не менее судебная система своим принуди-
тельным и насильственным вмешательством освобождает
людей от страшного долга мести: выступив сначала как
чрезвычайная мера, она затем утрачивает эту свою чрез-
вычайность, стушевывается и исчезает из виду, при этом
1 См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.,
1999. С. 72—73.
274 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
она функционирует тем лучше, чем менее осознается ее
настоящая функция; вместе с тем она реорганизуется и
действует в пространстве вокруг виновного и принципа
виновности, т. е. как и прежде, — вокруг воздаяния, те-
перь возведенного в принцип абстрактной справедливо-
сти, уважать которую вменяется в обязанность.
Прежде открыто предназначенные для ослабления
мести исправительные процедуры окутываются тайной по
мере увеличения их эффективности; непонимание, всегда
охранявшее институты жертвоприношения, смещается те-
перь на механизмы самого рационального правосудия и
окутывает их пеленой таинственности. Судебная система,
начиная с того момента, когда ее господство становится
уже полным, старательно скрывает свою настоящую
функцию, а именно то, что делает ее похожей на месть; в
отличие от мести, где за жертву не мстят, потому что она
«не та», в судебной системе насилие поражает именно
«ту» самую жертву, и при этом с такой сокрушительной
силой и авторитетом, что всякий ответ на это становится
невозможным1.
В древней трагедии человек оказывался бессильным в
своем противостоянии року и судьбе или воле божества, в
Новое время он видел перед собой только огромную и не-
преодолимую мощь власти или государства, произвольно
решающего его судьбу, и эта власть определяла его статус,
его положение в социальной иерархии, само его право на
существование. Собственно говоря, сам человек как субъ-
ект социума и отношений, развивающихся в нем, форми-
руется и создается этой суверенной властью: актом субъ-
См.: Жирар Р. Указ. соч. С. 31.
5. Юрисдикция насилия 275
ективации выстраиваются все отношения господства-под-
чинения и, что особенно важно для понимания истории
исправительных учреждений, порождается сама идея
субъективной вины. По М. Фуко, знаком вины и преступ-
ления, воплощением запрета и санкций на ритуал норма-
лизации становится индивидуализированное «тело» (фи-
зическое и «душевное»), которое обрамляется и формиру-
ется через дискурсивную матрицу правового субъекта.
Субъекция есть буквально «делание» субъекта, принцип
регуляции, согласно которому субъект формируется или
производится; подобная субъекция является таким типом
власти, который не только односторонне воздействует на
данного индивидуума как форма господства, но также
приводит в действие субъекты или формирует их. (Так,
М. Фуко пытается показать, что исторически судебная
власть, воздействуя на уже данные субъекты, субордини-
руя их, предшествует власти производящей, способности
власти формировать субъекты1.)
Месть и жертвоприношение, которые в принципе мог-
ли быть обращены к лицу, не имеющему отношения к со-
вершенному преступлению, т. е. к «третьему лицу», и не
связанные принципом причинно-следственного детерми-
нирования, постепенно уступали свое место четко артику-
лированной связке «преступление—наказание», индиви-
дуализированной в своей основе, как и следующая за ее
установлением система кар, персональных и личностных.
По-прежнему и здесь насилие следовало за насилием, од-
нако в самом институте наказания («общественной мес-
ти»), в отличие от «частной» мести с ее принципом «та-
1 См.: Жирар Р. Указ. соч. С. 36—38.
276 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
лиона», уже не требовалось соблюдения эквивалентности
и равномерности, на первый план наряду с неизбежной
публичностью и демонстративностью выходила явная
асимметричность, при которой наказание отнюдь не нуж-
далось в «количественном» соотношении с наказываемым
деянием.
В этом сложном процессе трансформации происходи-
ло и формирование самого субъекта правоотношения,
субъекция, создание преступника; согласно Писанию «за-
кон порождал преступление»: если противонасилие падало
на самого носителя насилия, то оно тем самым становилось
причастным его насилию, оно уже было неотличимым от
него. Оно становилось местью, теряющей всякую меру,
оно впадало именно в то, что как раз должно было его пре-
дотвращать; полагало насилию конец, нельзя было обой-
тись без насилия, но именно потому-то насилие и оказыва-
лось нескончаемым. Чтобы успокоить возбужденные наси-
лием страсти, нужно было ответить на них актом, который
бы одновременно и не был слишком похож на требуемую и
ожидаемую противником месть, но и не слишком бы от нее
отличался, такой акт должен был одновременно походить и
на законное наказание, и на жертвоприношение, однако
полностью не совпадая ни с тем, ни с другим. Он был по-
хож на законное наказание, поскольку речь шла о возме-
щении и воздаянии посредством насилия, он был похож на
жертвоприношение, поскольку новая жертва не имела от-
ношения к совершенному преступлению — принцип вины
здесь явно не соблюдался, — но подвергать насилию того,
кто насилие уже совершил, означало риск заражения наси-
лием, поэтому-то здесь и нарушалась та самая симметрия
кар. В архаическом обществе, в отличие от современного,
5. Юрисдикция насилия 277
люди очень хорошо ощущали повторение тождественного
и пытались положить ему конец при помощи иного; совре-
менные люди не боятся взаимности насилия, и именно на
нем теперь строится любое законное наказание — сокру-
шительный характер правового вмешательства не позволя-
ет ему стать всего лишь первым шагом в порочном круге
репрессий.
Наказание прежде всего демонстрирует явное, по-
давляющее превосходство, господство властного сувере-
на над подданным и подсудимым, и одновременно с этим
оно выступает как неотвратимая кара за посягательство
на его власть, поэтому всякое преступление является и
воспринимается теперь как насилие «государственное».
Трагизм, выраженный в неизбывности самой виновно-
сти, вины преступника, требующей обязательного очи-
щения через наказание и смерть, обусловлен неотврати-
мостью мощи карающей власти и неизбежностью кары.
Власть воспринимает преступление как личное оскорбле-
ние и посягательство на свои прерогативы, поэтому вслед
за преступлением, «унизившим» суверена, казнь в каче-
стве ответной меры суверена разворачивает на глазах у
всех его непобедимую мощь, ее цель не столько восстано-
вить нарушенное равновесие, сколько «ввести в игру как
ее кульминационный момент асимметрию между поддан-
ным, осмелившимся нарушить закон, и всемогущим госу-
дарем, демонстрирующим свою силу», она демонстриру-
ет не меру, а, напротив, отсутствие равновесия и умыш-
ленную чрезмерность.
«В литургии наказаний подчеркнуто утверждается
власть и присущее ей превосходство, которое обязано не
просто праву, но также и физической силе монарха, кото-
278 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
рый обрушивается на тело противника и завладевает им»1.
(Расширительное понимание «тела», используемое
М. Фуко в этом анализе, критически воспринимается не-
которыми исследователями. Так, Дж. Батлер видит здесь
излишнюю «юридизацию» физического; «по М. Фуко,
подавление тела не только нуждается в том теле, которое
оно стремится подавить, но идет дальше, расширяя подле-
жащую регуляции территорию телесного, формируя зоны
контроля, надзора и подавления: тело, что предполагается
данным в гегелевской модели, постоянно производится и
пролиферируется в целях расширения области юридиче-
ской власти»2.)
«Физицизм» телесного наказания неизбежно порож-
дает и наиболее непосредственный аффект трагическо-
го — страдание. П. Рикёр в этой связи подчеркивал, что
наказание прежде всего включает страдание, которое от-
носится к сфере чувств, к телесной сфере, и физическое
зло, которое причиняется этим элементом наказания, при-
совокупляется к другому, моральному злу. Однако эта
скорбь, болезненное и трагическое чувство, приходит не
как случайность жизни, она вызвана волей, которая воз-
действует на другую волю, и этот второй элемент консти-
туирует наказание, делая акцент на его мучительности;
боль, составляющая сердцевину наказания, есть не столь-
ко действительное ощущение боли, сколько идея боли, не-
удовольствия, неудобства, боль происходит от идеи боли,
поэтому и наказание должно использовать не столько те-
1 Фуко М. Надзирать и наказывать. С. 73.
2 Цит. по: Рикёр П. Интерпретация мифа о наказании // Кон-
фликт интерпретации. М., 2002. С. 435. Также см.: Фуко М. Надзи-
рать и наказывать. С. 137.
5. Юрисдикция насилия 279
ло, сколько представление. (Э. Юнгер в трактате «О бо-
ли» также обращал внимание на изменившийся «социаль-
ный» характер боли: «...вместе с прогрессирующим опред-
мечиванием увеличивается степень, до какой возможно
выносить боль. Кажется, будто человек обладает стремле-
нием создать пространство, в котором боль, причем в со-
вершенно ином смысле, чем еще недавно, может рассмат-
риваться как иллюзия»1.)
Аффект страдания связан с другим, не менее трагиче-
ским аффектом, — гнева: с одной стороны, гнев — это
прерогатива власти, с другой — это мотивация для осуще-
ствления общественной мести, и поскольку гнев в принци-
пе «количественно» не ограничен, то его проявление га-
рантирует жестокую асимметричность предполагаемого
наказания, и здесь уже не может идти речи о какой-либо
эквивалентности. Ведь сами эти эквиваленты (формально
выраженные в соотнесенности гипотезы и санкции нормы)
устанавливаются властью, когда она вообще считает необ-
ходимым для себя соразмерить наказание совершенному
преступлению, облекая эту акцию в обрамление гумани-
тарной идеологии или ссылаясь на конкретные политиче-
ские цели; со временем страдание как основная цель нака-
зания заменяется идеями перевоспитания и лечения, той
социальной терапией, которой в данный момент требуют
задачи социализации и солидарности.
Если казнь (как и тюрьма) воплощала в себе истину
социальной юрисдикции только применительно к разно-
родному и расколотому обществу, то «терапевтическое»
перевоспитание лучше всего выражает требования одно-
1 Юнгер Э. О боли // Рабочий, господство и гештальт. СПб.,
2000. С. 519.
280 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
родно нормализованного общества, хотя и здесь принцип
эквивалентности все еще остается в целости и сохранно-
сти, просто здесь один из двух элементов диады (ответст-
венность) начинает стремиться к нулю, а уже вслед за ним
к нулю начинает спускаться и другой ее элемент (санк-
ция); в этой ситуации новые понятия среды, социального
положения, бессознательности и т. п. выстраивают и но-
вую форму ответственности1.
Таким образом, социализация порождает, устанавли-
вает и использует метод господства, не стремящийся от-
крыто демонстрировать все приоритеты власти и тем са-
мым снижающий необходимость ее аффектации, — стра-
сти уходят в прошлое, и на первое место выдвигаются
рациональный расчет и целесообразность, — метод, заме-
няющий карательную демонстративность мало заметными,
но от этого не менее эффективными техниками дисципли-
нарного регулирования и манипулирования, проникающего
в самые глубины сознания и подсознания подвластных, ци-
нично провозглашающий «гуманитарность» и «равенство»,
и от этого еще более эффективный и не терпящий никакой
оппозиции и свободомыслия. Нормализуясь, т. е. распро-
страняя на всех унифицирующую логику эквивалентностеи
(«все равны по отношению к норме»), окончательно социа-
лизированное общество исключает из себя любые неугод-
ные ему «антитела»; одновременно оно создает для них
специальные институции и учреждения — тюрьмы, при-
юты, больницы, школы и фабрики, процветание которых
начинается одновременно с появлением идеи о «правах
человека». Социализация как раз и становится тем гран-
1 См.: Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 301.
5. Юрисдикция насилия 281
диозным переходом от «символического обмена отлично-
стей к социальной логике эквивалентностей. Любой соци-
альный (или социалистический) идеал лишь дублирует
собой этот процесс социализации, продолжению которого
служит и либеральная мысль, добивающаяся отмены
смертной казни»1.
Смертная казнь в этих условиях утрачивает свой чрез-
вычайный, трагически театральный характер, смерть ста-
новится банальным и статистическим явлением, техниче-
ским способом решения социальных и политических про-
блем, пронизывающий ее рационализм только усугубляет
ситуацию: эквивалентное соотношение преступления и на-
казания в принципе не может быть рационально и матема-
тически просчитано, поскольку степень насилия не может
быть заранее предопределена, а за попытками установле-
ния эквивалентности всегда скрывается бессознательное
или сознательное желание власти нанести по преступле-
нию предельно жестокий и асимметричный по силе удар,
смертную казнь можно отменить, но никак невозможно
устранить эту диспропорцию. (Исключение смертной каз-
ни из арсенала карательных санкций исторически объяс-
нялось, кроме прочего, еще одним вполне политическим
мотивом: публичная казнь как процедура содержала в себе
серьезную опасность политического характера — люди,
народ нигде не чувствовали себя более близкими к нака-
зуемым, чем участвуя в качестве зрителей в этих ритуалах,
поскольку, подобно осужденным, они сами никогда так
остро не ощущали для себя реальной угрозы «законного
насилия», чинимого властью без порядка и без меры2.)
* Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 299.
2 См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. С. 93.
282 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
Сторонники отмены смертной казни, может быть, ис-
кренне хотели бы отменить ее, однако при этом не отменяя
самого принципа ответственности, но, как считал Ж. Бод-
рийяр, это бесполезные усилия, поскольку «сама по себе
ответственность уже давно умерла», как индивидуальный
пережиток эпохи Просвещения она была ликвидирована
самой социальной системой по мере того, как та станови-
лась все более рациональной; «капитализму, основанному
на личной заслуге, инициативе, индивидуальном предпри-
нимательстве и конкуренции, поначалу нужен был сам
идеал ответственности, а значит, как следствие, и его ре-
прессивный эквивалент, — современной же системе власт-
вования, основанной на бюрократическом программирова-
нии и плане, требуются механические, абстрактные и уже
безответственные исполнители, а следовательно, в ней ис-
чезает сама собой и вся ценностная система ответственно-
сти. Вслед за этим рушится и система правосудия, таким
образом, анонимный индивид, во всем лишаемый ответст-
венности, своими спонтанными действиями каждый раз
дает лишь повод для рационально-механического действия
бюрократических структур»1.
Идеология Просвещения под лозунгом «гуманности»
обосновывала пресловутый принцип эквивалентности, не
замечая при этом, что тем самым она лишь усиливает дей-
ствие другого принципа, пришедшего из более отдаленной
эпохи, — принципа «объективного вменения»: совершив-
ший преступление должен быть наказан независимо от
мотивов, которые его побуждали к этому, — есть преступ-
ление, должно быть наказание, — на совершившем пре-
Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 300—301.
5. Юрисдикция насилия 283
ступление лежало «пятно», печать, знак, смыть который
могла только кара, неизбежная, но соразмерная. Преступ-
ление (в религиозном толковании — грех) может быть
искуплено, устранено, его следы очищены соответствую-
щим образом, сама же эта запятнанность уже есть явное
посягательство на установленный порядок, поэтому и оп-
ределяется она через ряд запретов; очищение тогда высту-
пает как акция, поступок, нацеленный на устранение
«пятна», а наказание есть только момент из всего меха-
низма устранения — такой аспект наказания называют
«искуплением», и именно он несет в себе наиболее рацио-
нализированные черты. По мере того как прогрессировала
сама эта рациональность, другая рациональность, «рацио-
нальность разумения», пыталась привести в эквивалент-
ное соответствие наказание и преступление, достичь этого
казалось возможным лишь при условии наличия «внут-
ренней идентичности во внешнем существовании, пони-
маемом как равенство». И вот тут-то теория наказания
сталкивалась с неустранимой апорией: непризнание пре-
ступления означало нарушение права, а непризнание на-
казания влекло за собой сокрытие нарушения права. Ра-
зумеется, данная идеология стремилась создать ситуацию,
в которой социальная защита одерживала бы верх
над мстительностью, устрашение — над наказанием, уг-
роза — над исполнением, а исправление — над подавле-
нием, но если вовсе исключать у субъекта правонаруше-
ния даже само намерение избегать нарушения права, то
тогда упраздняется и сама идея нарушения и исчезает
субъективная сторона преступления1.
1 См.: Рикёр П. Указ. соч. С. 437—439.
284 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
Просвещенческая идеология попыталась разобраться
с этими противоречиями, лежащими в самой глубине отно-
шений между принципом виновности и принципом эквива-
лентности, для чего она использовала наиболее близкий ей
по духу конвенциальный подход; вся уголовно-судебная
реформа XVIII в. на уровне своих принципов довольно
легко вписывалась в общую «теорию договора»: гражда-
нину предлагается принять раз и навсегда вместе с закона-
ми общества также тот закон, в соответствии с которым он
сам может быть наказан, тогда преступник с юридической
точки зрения оказывается существом весьма парадоксаль-
ным: он нарушил договор и потому является врагом всего
общества, но при этом он сам как бы участвует в приме-
няемом к нему наказании как субъект, некогда участвовав-
ший в создании закона, основанного на «общественном
договоре». Здесь право наказывать из субъективной мес-
ти суверена превращается в акт по защите общества, одна-
ко такая защита при этом все же сохраняет все те же чер-
ты избыточности и асимметрии, которые теперь проявля-
ются уже не в демонстрировании особой жестокости
наказания и даже не в его неотвратимости, а в том объеме
господства, регламентирующего и дисциплинирующеголу-
ществование и смерть индивида, которое осуществляет
власть: карательное правосудие уступает место технике
манипулирования и контроля, а публичность наказания
сменяется невидимым проникновением господства в души
подвластных.
Указывая на неизбежность такой эволюции каратель-
ной системы, М. Фуко замечал, что в системе дисципли-
нарной власти карательному правосудию в качестве точки
приложения, «полезного объекта» предлагается уже не са-
5. Юрисдикция насилия 285
мо тело преступника, символически противостоящее телу
короля-суверена, и даже не правовой субъект идеального
«общественного договора», а некий безликий, анонимный
дисциплинарный индивид. «Предел французского уголов-
ного правосудия при монархическом режиме — бесконеч-
ное расчленение тела цареубийцы, проявление сильнейшей
власти над телом преступления... Идеальная точка ны-
нешнего уголовного правосудия — бесконечная дисципли-
на... Публичная казнь логически завершает судебную про-
цедуру, которую вела инквизиция. Установление «надзо-
ра» за индивидами является естественным продолжением
правосудия, пропитанного дисциплинарными методами и
экзаменационными процедурами »1.
И все же при всем своем стремлении к рационализа-
ции всякая бюрократизация не может устранить глубоко
засевшую иррациональную мотивацию и непредсказуемые
последствия спонтанных действий, и «технизация» право-
судия точно так же не исключает воздействия на принятие
решений непредсказуемых и неожиданных мотивов явно
иррационального характера, за рационально оформленны-
ми и идеологически выдержанными техниками дисципли-
нарного властвования по-прежнему проглядывает ирра-
циональный аффект мстительности — любое сопротивле-
ние должно быть подавлено самым жестоким образом. Да
и сама современная система наказания кажется более ра-
циональной лишь потому, что более соответствует этому
архаическому принципу мести: вместо того чтобы всеми
силами мешать мести, ослаблять ее, обходить или откло-
нять на второстепенную цель, подобно религиозным про-
1 Фуко М. Надзирать и наказывать. С. 131, 333—334.
286 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
цедурам, судебная система ее только рационализирует, ус-
пешно кроит и ограничивает месть по собственному жела-
нию, превращая ее прежде всего в эффективную технику
исцеления, и только во вторую очередь занимаясь уже
профилактикой насилия.
Такая рационализированная месть отнюдь не предпо-
лагает установления более глубокой связи с обществом,
напротив, она основана как раз на суверенной самостоя-
тельности самой судебной власти, однако эта последняя
может существовать только в сочетании с по-настоящему
сильной политической властью, как и всякое техническое
достижение, судебная власть является обоюдоострым ору-
жием — как освобождения, так и подавления, — однако
«мрак, окутывающий судебную систему» есть не что иное,
как все та же непреходящая, вечно содержащаяся в зако-
не, но так и недоступная индивиду трансцендентность свя-
щенного, законного и легального насилия, действующего и
поглощающего личность вполне обоснованно и законно и
являющегося результатом совместного социального «учре-
дительства», в отличие от спонтанного и имманентного на-
силия, столь греховного и незаконного1.
* * *
Элемент сакрального, по-видимому, принципиально
неустраним из системы правосудия, он ощущается даже
тогда, когда принимает в ее недрах ритуальные формы
процедур или обезличенную форму закона. К преступле-
нию и наказанию человек по-прежнему относится с неким
священным трепетом, видя в них проявление метафизиче-
1 См.: Жирар Р. Указ. соч. С. 32—33.
5. Юрисдикция насилия 287
ского и неизбывного трагизма, который преследует его на
всем жизненном пути, ведь с ними связана и его смерть,
тот самый порог, за которым уже господствует неизвест-
ность. Совершив незаконные поступки по эту сторону по-
рога и избежав воздаяния за них, он получит свою кару по
другую сторону порога: трагическое не меняет своей сути,
и сакральное в нем по-прежнему играет первенствующую
роль.
Преступление и наказание — теневые стороны са-
крального, и поэтому собственно религиозный момент в
них неустраним, преступление ассоциировано с грехом, и
наказание — с божественной карой; грех, только смутно
ощущаемый в античной трагедии, демонстрирует в рели-
гиозно окрашенном правосознании всю свою мощь. Ли-
шенный юридического содержания грех означает не пер-
воначальное нарушение права, закона, а онтологическое
отделение, отсоединение, в опыте «отделения» юридиче-
ский аспект является только вторичным, производным,
первичная же символика «божьего гнева» имеет трагиче-
ский аспект, который уже изначально возникает как несо-
вместимый с «лирическим акцентом, своей ночной сторо-
ной», он тяготеет к ужасу и примыкает к логике наказа-
ния. Однако эта символика коренным образом отличается
от этой логики своим теофаническим характером, «в отли-
чие от анонимного закона о наказании, от безличного тре-
бования водворения порядка, символ «гнев Божий» ставит
человека перед лицом живого Бога, что помещает этот
символ в один ряд с... поэтикой воли».
Трагичность гнева имеет свои, как дневную, так и ноч-
ную, стороны; трагизм и лиризм устремляют человека к
этической стороне таких понятий, как «закон», «религиоз-
288 Глава 5. Человек и закон: трагические аспекты
ная заповедь», «преступление», «наказание» (следует от-
метить, что множество представлений, не связанных со
сферой религиозного, таких как дар, выкуп, договор, нака-
зание и проч., являющихся основой современной морали и
права, были связаны с проблемой жертвоприношения1), а
гиперюридический смысл греха приводит его к выводу о
том, что грех является «юридическим» отношением одной
воли к другой, — и это весьма значимая ситуация, в кото-
рой даже само наказание за грех также является грехом
как таковым, т. е. «отделением» (П. Рикёр предлагает в
этой связи деюридизировать само понятие греха и деса-
крализовать его как юридический феномен). Прегрешение
и наказание действуют солидарно в смысле причинения
общего ущерба «сообществу творения»: для апостола
Павла наказание составляло часть целостного устроения,
которое он называл nomos, т. е. закон, имеющий свою
внутреннюю логику; закон связан с притязанием, носящим
имя нарушения, включающего в себя осуждение и смерть,
и только явление правды Божией отодвинуло «ветхий за-
кон» на задний план2. Религиозное, из которого когда-то
родилось само понятие закона, сохраняет непоколебимую
значимость на всем протяжении истории отношений чело-
века с законом, «человек юридический», нагруженный
первородным грехом, от которого его уже не может изба-
вить жертвоприношение, трагизм своего существования
особенно остро ощущает перед лицом неотвратимой кары,
которая находится внутри него самого.
Ощущение греха включает и страх наказания, и сми-
рение перед законным возмездием, и на этом строятся все
1 См.: Мосс М. Указ. соч. С. 104.
2 См.: Рикёр П. Указ. соч. С. 453—454, 460.
5. Юрисдикция насилия 289
современные исправительные системы, никогда не способ-
ные и не готовые из таинственной спутанности своего
функционирования доходчиво объяснить человеку, почему
именно они, эти самые процедуры и системы, имеют право
самолично решать его судьбу и обрекать его на смерть.
Глава 6. СИМВОЛИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
И ГОСПОДСТВО СИМВОЛОВ
Во вводной статье к сборнику эссе, названному «Человек
и его символы», Карл Густав Юнг заметил: то, что мы на-
зываем символами, — это термины, имена или изображе-
ния, которые могут быть известны нам в повседневной
жизни, но обладают специфическими дополнительными
значениями к своему обычному смыслу, а это уже подра-
зумевает нечто смутное, неизвестное или скрытое от нас.
Слово и изображение тогда символичны, когда они подра-
зумевают нечто большее, чем только их очевидное и непо-
средственное значение. Когда мы исследуем символ, он
ведет нас в области, явно лежащие за пределами здравого
смысла, но поскольку за пределами человеческого понима-
ния существует также бесчисленное множество различных
вещей, мы поэтому постоянно пользуемся такой символи-
ческой терминологией, чтобы представить понятия, кото-
рые мы не можем иным образом определить или даже пол-
ностью понять1.
Во всех случаях человек сам творит свои символы и,
что самое удивительное, сам же и подчиняется им; в этом
искусственном мире он ведет столь же искусственный об-
раз жизни, ориентируясь при этом на ценности, им же са-
мим созданные, но воспринимаемые как объективно дан-
ные и подчас даже трансцендентные. Символы и симво-
1 См.: Юнг К. Г. Подход к бессознательному // Человек и его
символы. СПб., 1996. С. 16—18.
Глава 6. Символическая власть и господство символов 291
лическое мышление пронизывают всю ткань социального
бытия человека, проистекая из самых глубин его сознания
и бессознательного, но сам человек в состоянии проник-
нуть в значение символов лишь постольку и в той степени,
в которой он на это способен: символы могут раскрывать-
ся в познающем их субъекте лишь до определенной до-
ступной ему степени фиксации и осознания им скрытого
означаемого, до выявления вполне конкретной и опреде-
ленной формы воспринимаемого им символического выра-
жения, в потенции скрывая в себе бесчисленное число
всех своих последующих модификаций. При чрезмерно
объективированном подходе к прочтению символа он уг-
рожает превратиться в некий пустой «технический» знак,
и, что характерно, вся пронизанная оптимизмом рациона-
лизация символических значений в этом случае не только
не помогает делу дешифровки скрывающегося символиче-
ского означаемого, но, напротив, только ведет к замыка-
нию и профанированию проглядывающего сквозь мер-
цающее облако значения, искомого и глубинного существа
символа.
П. Рикёр отметил сразу три постоянно наблюдаемых
качества символа, которые существенным образом отлича-
ют его от той неизменной научности и ясности, которые
свойственны методике рефлексирующего сознания, — это
его вечная непроницаемость, в общем-то случайное поло-
жение в культуре и непредсказуемая зависимость от про-
блематичной дешифровки. Но для символа характерно
также и то, что он никогда не бывает как волюнтарно про-
извольным, так и абстрактно пустым созданием; Рикёр
ссылается здесь на пример, некогда приведенный Мирче
Элиаде: так, сила космического символизма коренится в
292 Глава 6. Символическая власть и господство символов
непроизвольной связи, издревле наблюдаемой в отноше-
ниях, существующих между видимым физическим небом и
виртуально выражаемым им невидимым порядком; опира-
ясь на аналогичную силу своего первичного значения, сим-
вол как бы говорит о мудрости и справедливости, о беско-
нечном и упорядоченном — «такова наполненность сим-
вола, противостоящая пустоте знаков»1.
Именно склонность к аналогиям позволяет символи-
ческому мышлению легко переносить отмеченные им зави-
симости и связи из одной сферы познания и бытия в дру-
гую, при этом почти не утрачивая той адекватности, кото-
рая так характерна для символического выражения
разного рода реальностей и их транскрипции на языке той
или иной области человеческого знания. Здесь же мы ог-
раничимся только анализом тех форм символического ис-
толкования, которые имели место в европейском научном
дискурсе, истолкования, направленного прежде всего на
такие объекты социального пространства, как власть, пра-
во и господство.
1. Символическая номинация и символическая борьба
Эффективность символической интерпретации социаль-
ных отношений, пожалуй, достигает своей высшей точки в
группе связей, представляющих собой отношения власт-
вования—подчинения, и именно эта форма межчеловече-
ских связей и является одной из важнейших, если не са-
1 Рикёр П. Символика интерпретации зла // Конфликты интер-
претации. М., 2002. С. 395.
1. Символическая номинация и символическая борьба 293
мой важной, для самого существования как социума в це-
лом, так и отдельного индивида в частности, ведь в
контексте и под влиянием функционирования разнообраз-
ных властных структур и власти как таковой проходит, по
сути, вся жизнь индивидуального или коллективного
субъекта. Сама личность и ее жизненная программа в
значительной мере формируются и корректируются под
определяющим влиянием властных воздействий извне и
символически интерпретированных представлений о необ-
ходимости подчинения, исходящих изнутри, от самого
субъекта: окутанный бесчисленным множеством властных
символов, он вынужден подчиняться или господствовать,
сообразуясь с предписаниями той символической вселен-
ной, которая его окружает. Социальный человек постоян-
но живет в мире фантазмов, который формируется самим
же его воображением и подпитывается его бессознатель-
ным, из которого он черпает свои наиболее значимые об-
разы, архетипы и обрывки мифов, — тогда весь его мир
наполняется массой символов, явно нуждающихся в упо-
рядочении и иерархизации, — упорядочивающее мышле-
ние социального человека выстраивает собственную кар-
тину мира, с той или иной степенью адекватности отра-
жающую объективный порядок вещей, который, однако,
так никогда до конца и не раскрывается для проницатель-
ного человеческого сознания и выражается лишь при по-
средстве искусственной и запутанной системы символиче-
ских интерпретаций.
Для преодоления этой гносеологической неполноцен-
ности человек изобрел достаточно эффективный способ
освоения как непознаваемого реального, так и созданного
им самим виртуального мира: он называет, поименовывает
294 Глава 6. Символическая власть и господство символов
все окружающие его вещи и феномены, с помощью опять
же своей собственной логики приводя их в устраивающий
и успокаивающий его самого порядок.
И. Хейзинга отметил, что для архаического мышле-
ния все, что может быть поименовано, тотчас же обретает
реальное существование, будь то свойства, понятия или
иные вещи, затем все они автоматически проецируются на
небеса, и их существование воспринимается как существо-
вание персонифицированное, порождающее целую цепь
других антропоморфных понятий, здесь символ и реализм
трансформируются в аллегорию, где сама «аллегория —
это все тот же символ, спроецированный на поверхность
воображения, намеренное выражение — и тем самым ис-
черпание — символа». В этой связи Хейзинга приводит
слова Иоганна Вольфганга Гете: «Аллегория превращает
явление в понятие, а понятие в образ, но так, что понятие
всегда очерчивается и полностью охватывается этим обра-
зом, выделяется им и выражается через него. Символ же
превращает явление в идею, а идею в образ, но так, что
идея, запечатленная в образе, навсегда остается бесконеч-
но действенной и недостижимой и, даже будучи выражена
на всех языках, она все же остается невыразимой»1.
(Нужно заметить, что различие между символом и алле-
горией слишком часто оказывается неясно выраженным,
однако очевидным остается тот факт, что символ всегда
ориентирован на восприятие, аллегория же прежде все-
го — на понимание; и если аллегория означает нечто непо-
средственно, то символ делает это только косвенным, вто-
ричным образом, и сам он существует прежде всего только
Цит. по: Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. С. 24—25.
1. Символическая номинация и символическая борьба 295
ради самого себя и лишь затем уже что-то означает; таким
образом, только в аллегории функция обозначения пер-
вична, в символе же она всегда вторична. Поэтому и отно-
шение обозначения в символе определяется как переход от
частного (предмета) к общему (идеалу) и, как правило,
носит характер примера, частного случая, сквозь который
с определенными допущениями можно увидеть общий за-
кон1.)
Аллегорическая интерпретация может порождать
символы, но никоим образом не раскрывает их истинного
значения, это скорее дешифровка, чем шифрование, и
аллегория уже заранее предупреждает об условности
создаваемых ею образов, вовсе не собираясь выдавать их
за реальные вещи, тогда как символическая интерпрета-
ция действительности формирует еще и новую реаль-
ность.
Символы господствуют над людьми, представляя им
образы, выдаваемые за действительность. В свою очередь
сами люди, поименовывая доступные их сознанию и оцен-
кам феномены, строят и формируют весь этот символиче-
ский мир как среду своего социального «обетования». Из
этого обоюдного взаимодействия и рождается особая сим-
волическая власть, выступающая как способ навязывания
подвластным также особого видения мира, в области со-
циальных отношений эта власть приобретает выдающееся,
можно сказать, доминирующее значение. Пьер Бурдье,
уделивший этой проблеме значительное внимание, опреде-
ляет символическую власть как «власть учреждать дан-
ность через высказывание», власть заставлять видеть и
1 См.: Тодоров Ц. Теории символа. М., 1999. С. 234—235.
296 Глава 6. Символическая власть и господство символов
верить, утверждать или изменять видение мира и тем са-
мым осуществлять воздействие на мир, а значит, и заново
создавать рождающийся в процессе такой интерпретации
мир; по своей сути символическая власть — это «власть
квазимагическая», которая благодаря только одному эф-
фекту мобилизации позволяет получить эквивалент того,
что обычно достигается силой... правда лишь при условии,
что сама эта власть признана, т. е. не воспринимается как
произвол.
Нужно заметить, что такая власть не заключена изна-
чально в символических системах в качестве некоей лока-
лизованной и имманентной силы, но динамически форми-
руется и определяется уже в самом процессе и посредст-
вом установления отношений между теми, кто отправляет
власть, и теми, кто ее на себе испытывает, т. е. самой
структурой властного поля, где «производится и воспроиз-
водится вера»: именно вера в легитимность знаковых слов
и того, кто их произносит, вера в то, что «производитель
не принадлежит произведенным им словам», превращает
власть слов и лозунгов во власть и способность поддержи-
вать или низвергать порядок, по существу же символиче-
ская власть есть не что иное, как превращенная, неузна-
ваемая, модифицированная и легитимированная форма
власти, уже изначально подчиненная другим («классиче-
ским») формам власти и производная от них1.
Вера же, которая у субъекта подчинения основывается
преимущественно на восприятии и допущении, по сути
своей иррациональна: подвластный даже и не задается во-
1 См.: Бурдье П. О символической власти // Социология соци-
ального пространства. СПб., 2005. С. 95.
1. Символическая номинация и символическая борьба 297
просом, почему он, собственно говоря, подчиняется власть
предержащему субъекту и в чем заключено само основа-
ние этого подчинения, он просто принимает это отношение
как данное и, по всей видимости, основательное, т. е. тем
самым фактически оправдывает его, не вдаваясь в метафи-
зическую аргументацию, чего, кроме всего прочего, не
позволяет ему делать свойственный ему наличный уровень
символического восприятия. Вообще говоря, символиче-
ская власть есть такая невидимая власть, которая может
осуществляться «только при содействии тех, кто не хочет
знать, что подвержен ей или даже сам ее осуществляет».
В отличие, например, от политической власти символиче-
ская власть не нуждается в каком-либо дополнительном
аргументировании и формальной легитимации, поскольку
действует на совершенно ином уровне восприятия и не яв-
ляется рационально артикулированной, несомненные эле-
менты магизма, которые в ней присутствуют, точно так же
расчитаны не столько на понимание и анализ, сколько на
веру, и в этом смысле символическая власть существен-
ным образом по своим характеристикам приближается к
власти религиозной, одной из модификаций которой она
сама является.
Символическая власть творит социальный мир, при
этом сообразуясь с уже существующими социальными
реалиями, поскольку невозможно из ничего создать даже
воображаемый мир. Что же касается мира реальных отно-
шений и действий, он, разумеется, должен основываться
на некоем более прочном, чем только верования и пред-
ставления, фундаменте и не зависеть только от иллюзор-
ного процесса фабрикации символических структур. Сим-
волический мир становится отражением (пусть условным
298 Глава 6. Символическая власть и господство символов
и искаженным и отнюдь не совершенным) мира самой со-
циальной реальности, который, как это ни парадоксально,
им же самим и формируется. Однако какая власть в этой
ситуации оказывается первичной — та, что выстроена на
основе самих символических представлений, или сама эта
символическая власть, которая вынуждена учитывать и
приспосабливаться к уже существующей системе другой,
реальной власти?
П. Бурдье задается тем же вопросом в несколько иной
постановке: создаются ли отношения господства теми зна-
ками превосходства, которые «доминируемые постоянно в
своих представлениях приписывают доминирующим», или
же, наоборот, сами объективно существующие отношения
господства навязывают им подобные знаки превосходства
и подчинения? И отвечает: в действительности социаль-
ный мир наделен как определенной склонностью пребы-
вать в своем статическом существовании, так и некоторым
динамизмом, вписанным одновременно как в объектив-
ные, так и в субъективные границы своей структуры; лю-
бое общество держится на этом постоянно меняющемся
соотношении между двумя динамическими принципа-
ми — конструирования и деконструирования окружающе-
го мира1. Символы и знаки сооружают и выстраивают все
значимые структуры мира, одновременно с этим вытесняя
из него устаревшие представления и символы, именно
борьба верований и сил определяет всю жизненную дина-
мику социума и космоса, при этом победителем оказыва-
ется тот, кто точнее других угадает до поры скрытые тре-
1 См.: Бурдье П. Социальное пространство и символическая
власть // Социология социального пространства. С. 88.
1. Символическая номинация и символическая борьба 299
бования и перспективы реального социального мира и наи-
более адекватно их выразит.
Символическая борьба, разворачивающаяся по пово-
ду истинного восприятия социального мира, нацеленная
на победу одного из альтернативных способов такого вос-
приятия и внедрения его в сознание, может использовать
самые разные формы и осуществляться в разнородных
коллективных или индивидуальных действиях и представ-
лениях, направленных на то, чтобы заставить подвласт-
ных вполне определенным образом видеть и оценивать
конкретные реалии этого мира. Подчиняясь собственной
логике, отношения символической власти стремятся при
этом выгодным им образом воспроизвести или даже уси-
лить соотношение сил, образующих само социальное
пространство. В этой ситуации легитимизация социально-
го порядка отнюдь не является только продуктом просто-
го символического внушения, но проистекает из того об-
стоятельства, что все агенты, осуществляющие внедрение
символического ряда в сознание подвластных, «применя-
ют к объективным структурам социального мира структу-
ры восприятия и оценивания, порожденные самими этими
объективными структурами, а поэтому и существует не-
кая тенденция воспринимать социальный мир как дан-
ное».
Символ обязан отображать реальное соотношение со-
циальных сил, которым он в свою очередь также придает
символическое значение. Люди, участвующие в этой
борьбе, приписывают себе и своим противникам подоб-
ные символические атрибуты и знаки с целью определить
и разграничить «своих» и «чужих», «друзей» и «врагов»
и тем самым облегчить и сделать более эффективной
300 Глава 6. Символическая власть и господство символов
свою ориентацию в сложном и запутанном мире пред-
ставлений, — подобное редуцирование оказывается не-
избежно связанным с процессами как производства, так и
использования самих символических средств. При этом
символическая борьба постоянно сопровождается дейст-
вием некоего неизбывного дуализма, вообще свойствен-
ного символическому мышлению, здесь человек сущест-
вует одновременно в двух мирах — реальном и символи-
ческом, — он принадлежит сразу же и себе самому, и
тому миру, который его окружает и где уже издавна дей-
ствуют накопленные в течение длительного времени
представления и символы, из-за этого он и подвергается
столь трагическому раздвоению. (Питер Слотердайк от-
мечает неожиданную параллель, обнаружившуюся между
характерным для структуры личности совпадением «са-
мообладания и одержимости чужим», с одной стороны, с
некогда установленным в системе римского права разли-
чием между обладанием (владением) и собственно-
стью — с другой; так, индивид, владеющий собой и сво-
ей жизнью, одновременно может быть собственностью
другого, т. е. рабом, который в случае бегства от господи-
на мог быть даже обвинен в краже самого себя у своего
господина1.) С обозначенным символическим статусом
при этом всегда связывается и соотносится мера социаль-
ного веса самого субъекта, — она зависит от всей массы
накопленных им ранее символических сил, того «симво-
лического капитала», который стоит за ним, — поэтому
участник символической борьбы и сам является всего
1 См.: Слотердайк П. Сферы П. Глобусы. СПб., 2007. С. 689.
1. Символическая номинация и символическая борьба 301
лишь символической фигурой, созданной процедурами
номинации или поименования.
П. Бурдье замечает по этому поводу, что в символи-
ческую борьбу за монополизацию такой «легитимной но-
минации» агенты активно вовлекают свой «символиче-
ский капитал», полученный ими в ходе предшествующей
борьбы и нередко уже гарантированный юридически, в
этом случае он официально устанавливается и санкциони-
руется процедурой официальной номинации, когда опре-
деленное право, статус или звание присуждаются их носи-
телям как признанная квалификация. В этом заключается
одно из наиболее типичных проявлений монополии леги-
тимного символического насилия («учредительного наси-
лия», по выражению Р. Жирара), которое всегда принад-
лежало и принадлежит государству или официальному
правителю1.
Символический капитал может включать в себя такие
ценности, как доверие и признание, которые могут быть
добыты самыми различными способами, однако использу-
ются однонаправленно — с их помощью хотят изменить
мир, и для этого изменяют само видение мира, используя
механизмы символического насилия и символической но-
минации. (Так, король стремится в целом контролировать
всю систему циркуляции раздаваемых почестей, распреде-
ления должностей и дворянских званий, выступая тем са-
мым как центральная инстанция номинаций. Такая власть
короля распределять символический капитал соответст-
венно придавала статусную, квазибюрократическую объ-
1 См.: Бурдье П. Социальное пространство и символическая
власть. С. 79—81.
302 Глава 6. Символическая власть и господство символов
ективацию (в форме эдиктов и приказов) и дворянскому
символическому капиталу (в виде чести и репутации), тем
самым обеспечивая переход от «диффузного» символиче-
ского капитала, основанного на групповом признании, к
объективированному символическому капиталу, кодифи-
цированному, делегированному и гарантированному самим
государством1.) Как признание, так и доверие являются
лишь составными частями более широкого социального
восприятия — веры — и представляют собой наиболее
результативные формы накопления символического капи-
тала; чем сильнее они проявляются в процессе символиче-
ской борьбы, тем вероятнее, четче и убедительнее будут и
символы, порождаемые этой борьбой, и тем эффективнее
оказывается сам процесс символической номинации, и тем
устойчивее и стабильнее будет социальный мир, ею порож-
даемый.
2. «Два тела короля»: истоки политической
репрезентации
Эрнст Канторович, обративший внимание на принципи-
альный дуализм символики «королевского тела», тем са-
мым затронул проблему сакраментальной детерминиро-
ванности «другого», символического «тела» монарха, а
также вопрос о превращении личности монарха в «живой
закон», т. е. о трансформации политической теологии в
научную юриспруденцию. В XVI-^XVII вв. на истори-
ческом фоне Европы происходило постепенное замещение
1 См.: Бурдье П. Дух государства, генезис и структура // Социо-
логия социального пространства. С. 238—239.
2. «Два тела короля»: истоки политической репрезентации 303
«аристократически-литургического» понятия монархии
более «теократически-юридической» идеей правления, и
священная модель властвования, которой прежде следо-
вали правители, утрачивала свою «человечность божест-
ва» и квазисвященническую сущность, свойственную
всем ранним монархиям, «священное» право сосредоточи-
валось теперь скорее в философии божественного закона,
чем в «устаревшей физиологии двуприродного посредни-
ка». Под этим вторым можно было понимать прежде все-
го фигуру самого монарха, обладавшего сразу двумя ипо-
стасями и сущностями: физической субстанцией (не ли-
шенной при этом некоторых черт сакральности) и его
символическим «телом», ассоциированным с возглавляе-
мой и представляемой монархом государственностью и
олицетворенным законом, который из «тела» монарха ме-
тафизическим образом поднимался в сферу трансцендент-
ного. Закон теперь уже не являлся неким магическим про-
должением «тела» монарха, он начинал относиться к сис-
теме репрезентации: теперь не столько мир магически
зависел от харизматического «тела» короля, сколько сама
система репрезентаций конституировалась его властью и
законом, так же и сакральная сила отныне уже не имела
места, не располагалась внутри тела и не являлась симво-
лической душой «тела»1.
Символическое раздвоение королевской персоны усу-
гублялось также тенденцией к дистанцированию, которой
было отмечено все политическое поведение монарха, те-
перь вовсе не требовалось его физического присутствия
1 См.: Ямполъский М. Физиология символического. Возвраще-
ние Левиафана. М., 2004. С. 64, 102.
304 Глава 6. Символическая власть и господство символов
для участия в важных государственных акциях, достаточ-
но было направить в нужную точку социального простран-
ства своего агента или некий зримый атрибут своей власти
(приказ, документ, манифест и т. п.). М. Ямпольский свя-
зывает эти изменения с постепенным отступлением симво-
лического как такового, которое «уступает свое место бо-
лее рациональному типу аналогий». Чтобы «тело» короля,
его образ мог претендовать на роль истока репрезентации
и чтобы «изображение» (в любой форме) короля могло за-
нять место самого верховного субъекта властвования, еще
недостаточно было поместить монарха в некую привилеги-
рованную точку социального пространства, сам «суверен
должен был быть отмечен еще некими свойствами суб-
станции» — вот тогда только он и мог стать необходимой
исходной точкой, первоистоком, эманирующим потоки
власти.
Характерным являлось также то, что, обретая все бо-
лее всеобъемлющую и абсолютную власть, суверен вместе
с тем становился все менее реально присутствующим в
пространстве власти, и кризис суверенности оказывался
неотделимым от кризиса сакрального присутствия, неко-
гда столь очевидного в «теле» ордалии и «теле» короля в
эпоху древности и столь неощутимого в «теле», помещен-
ном в уже рационализированную «геометрическую»
структуру властвования1.
Королевская власть возникла из субстанционального
слияния подданных в «теле» короля (в связи с чем коро-
левская власть находит свое идеальное выражение именно
в формах аллегории, где чудесным образом соединяются
1 См.: Ямпольский М. Указ. соч. С. 155, 619, 625.
2. «Два тела короля»: истоки политической репрезентации 305
несоединимые элементы), но после того как символиче-
ское постепенно утрачивает мистическую силу, а
власть — свое место внутри символического «тела» и
принимает характер структурных, пространственных и те-
атрализованных отношений, «тело» монарха окончательно
превращается в уже почти карикатурную аллегорию, руи-
ну символического. И хотя персона монарха вплоть до
конца XVIII в. все еще сосредоточивала в себе достаточ-
ную полноту власти, сама эта власть уже носила совсем
иной характер, чем та, что пронизывала «тело» монарха
прежде: власть символического прямо восходила к «живо-
му Богу» и выражалась в мистической отмеченности «те-
ла» (в частности, в его способности к магии), власть же
аллегорического тела была совсем иной — она «прежде
всего была основана на том чувстве суеверного ужаса, ко-
торое порождают монстры, языческие боги астрологии»,
и в этом аллегорическом раздвоении королевского «тела»
в зародыше содержалось обезличивание власти, которая
теперь уже отнюдь не принадлежала физическому лицу,
но отделялась от него и переносилась на некое абстракт-
ное «тело королевского достоинства», вовсе не обладаю-
щее подлинным физическим присутствием. Другими сло-
вами, власть переходила к некоему абстрактному «телу»
репрезентации и могла быть в принципе и в перспективе
перенесена с него на иную квазителесную инстанцию
(«народ», «класс», «сословие» и т. п.). Однако перемена
субстанции власти не меняла ее сущности: королевское
«тело» всего лишь замещалось неким властным центром,
завершающим собой всю иерархию властных точек, эма-
нирующих власть, и обменивающимся с ними потоками
знаков и символов; властные «имперские» амбиции, пре-
306 Глава 6. Символическая власть и господство символов
тензии на системность и иерархичность проявляются во
всякой системе властеотношений, при этом соразмеряясь
с ее способностями сохранять свое единство и расширять
свои границы.
Для всякой «империи» быть — значит связывать, и
это связывание представляет и демонстрирует способ-
ность властного центра посредством транспортировки
знаков достигать своим воздействием периферии и накап-
ливать устремленные к центру послания; это знаки вели-
чественности, доставляющие их получателям определен-
ное удовлетворение, и для того чтобы даже в самой уда-
ленной точке оставаться привлекательным, центр должен
был обращать на себя внимание демонстрацией причаст-
ности к власти. (Нужно заметить, что во всех макросфе-
рах типа «империи» власть исходит из единого центра,
испускающего свои лучи подобно Богу и Солнцу, и мотив
«исхождения» (эманации) власти из одного источника
прослеживается в истории мысли вплоть до последних
формулировок современных конституций, причем удиви-
тельно даже не то, что и сегодня в соответствии с демо-
кратической рабочей фикцией «вся власть исходит от на-
рода», а то, что самые высокие рассуждения о власти до
сих пор все еще считаются с неким фактом ее «исхожде-
ния»1.)
И. Кант писал, что монархическое государство можно
представить себе как «одушевленное тело», если оно
управляется по внутренним народным законам, или же
как машину, если оно управляется отдельной абсолютной
волей, но в обоих случаях, независимо от типа, оно пред-
1 См.: Слотердайк П. Указ. соч. С. 701, 706—707, 731.
2. «Два тела короля»: истоки политической репрезентации 307
ставлено лишь символически; именно символ позволяет
соединить идею монархии с некоей материальной ее во-
площенностью, которой тот же символ придает форму и
упорядочивает хаос, лежащий внутри этого оформляемого
материального1.
Номинирующий акт короля при всей присущей ему аб-
страгированности и формализме, тем не менее, оставался
актом человеческой индивидуальной воли, поскольку он
исходил от «первого», персонифицированного и физиче-
ского «тела» короля, антропоморфной инстанции, пусть
даже признанной сакральной и чудодейственной, и воздей-
ствовал на столь же физическую и «материальную» среду
человеческих отношений, связей и поведения. Однако при
выявлении первоисточника легитимирования, которым
обосновывалось как само властное функционирование, так
и его иерархические структуры, приходилось входить в
бесконечный причинно-следственный ряд отношений,
только в конце которого во вполне «теологической мане-
ре», замыкая собой длинную цепочку «актов подтвержде-
ния», возвышалась уже не знакомая фигура монарха, а не-
кое искусственное создание, имя которому было «Государ-
ство». Но и здесь многие учреждающие порядок акты
также оказывались порожденными посредством все той
же уже известной магической техники, т. е. путем офици-
альной номинации, «публичного заявления, сделанного по
форме», в этих предписывающих актах неизменно указы-
валось «чем позволено быть этому некто или нечто, на ка-
кое социальное существование они были вправе претендо-
1 См.: Кант И. Критика способности суждений // Соч.: В 6 т.
М., 1986. Т. 5. С. 374.
308 Глава 6. Символическая власть и господство символов
вать» и т. п., — складывалось впечатление, что само госу-
дарство тем самым осуществляло всеохватывающую и
всепроникающую власть, подобную только власти Созда-
теля, почти божественную власть1.
Символическая власть государства обеспечивала од-
новременно как центрирование всего властного социаль-
ного пространства, так и его деление и дифференциацию.
Властные уровни и отношения «господства—подчине-
ния» обеспечивались целой системой нормирующих актов
и утверждающих символов, только теперь символы пере-
давали свою энергетику и значимость не столько персоне
и личности, сколько «другому» телу своего носителя, в
результате чего оно начинало восприниматься как настоя-
щий источник благодати, распространяемой правителем
на все свое окружение и предметы, а также делегируемой
в качестве «комиссара», действующего на периферии власт-
ного пространства. Близость к «телу» определяла статус
и место каждого подвластного в символической иерархии,
а также и долю сошедшей на него господской благодати.
Различия и различение были при этом обязательны, по-
скольку без правильно выстроенной и эффективно функ-
ционирующей иерархии символов и различий власть про-
сто утрачивала свою силу (еще Герберт Спенсер указы-
вал, что закон отнюдь не поощряет сходства между
действиями высших и низших лиц, но, напротив, требует
определенного несходства — то, что делает правитель, не
может делать управляемый, а этому последнему приказа-
но делать то, чего не должно делать правящему лицу)2.
* См.: Бурдье П. Дух государства, генезис и структура. С. 240—
241.
3. Символическое делегирование (репрезентация) власти 309
Властная асимметрия превращалась здесь в асимметрию
поведенческую, тем самым еще глубже закрепляя всю ус-
тановившуюся систему дифференциаций и различий, соз-
дающую столь необходимую почву для функционирова-
ния господства.
3. Символическое делегирование (репрезентация)
власти
Историки права часто описывали складывающуюся ситуа-
цию символического властвования как «мистерию мини-
стерства» (mysterium ministerium), или, в русской транс-
крипции, как «таинство служения», как некий процесс
пресуществления, который совершается посредством пре-
вращения или отождествления официального представите-
ля с группой, чье мнение он выражает, принимая на себя
все ее права, обязанности и представления. «Тайна пред-
ставительства», или репрезентации, не могла быть разга-
дана иначе, как в ходе исторического анализа генезиса и
функционирования статуса и символизма представитель-
ства, когда «с помощью магии слова приказа представи-
тель замещает собой группу», более того, когда существо-
вание самой этой группы возможно только в силу доверен-
ности и когда ее символическое бытие персонифицируется
в этом условном мире (в персоне «короля», «президен-
та»), а сам представитель своими актами и действиями
«выхватывает» из социального пространства только тех,
кого он намерен представлять, выбирая их как изолиро-
2 См.: Бочаров В. В. Символы власти или власть символов //
Антропология власти. СПб., 2006. Т. 1. С. 286—292.
310 Глава 6. Символическая власть и господство символов
ванных индивидов и позволяя им при этом действовать и
говорить только через его посредство, «как говорит один
человек».
П. Бурдье полагает, что «тайна министерства» и есть
как раз такой случай социальной магии, когда вещь или
персона вдруг становится отличной от того, чем она явля-
ется на самом деле в действительности; человек получает
возможность идентифицировать себя в собственных гла-
зах и глазах других сразу с целой совокупностью других
людей — «народом», «партией», «государством» и т. п.,
при этом логический круг замыкается: группа теперь опре-
деляется и воспринимается извне через того, кто говорит
от ее имени и выступает как источник власти, осуществ-
ляемой ею над теми, кто, по сути, все еще остается истин-
ным источником этой власти1. В «теле» власти тем самым
сливаются «тело» правителя и «тела» управляемых, одна-
ко чудесным образом власть оказывается всегда и везде
именно в руках этого первого, предпочитая найти в нем за-
вершающую и высшую точку всей символической пирами-
ды властвования.
Агентами символической власти могут быть как от-
дельные лица, так и целые группы; процесс, связанный с
возникновением, рождением социальной группы, всегда и
в значительной мере представляет собой типичную симво-
лическую борьбу, в результате которой из неопределенно-
го множества борющихся индивидуальных воль появляет-
ся некое единое социальное образование и тем самым в
социальном пространстве начинает существовать и дейст-
1 См.: Бурдье П. Символическое пространство и генезис клас-
сов // Социология социального пространства. С. 41—43.
3. Символическое делегирование (репрезентация) власти 311
вовать новый субъект. Соответственно, меняется и соот-
ношение борющихся социальных сил в этом пространстве,
меняется и «объективная» картина мира, которая в свою
очередь становится новым побуждающим мотивом к про-
должению символической борьбы, и так без конца; так,
чтобы принять мир, нужно изменить видение этого мира и
те способы, которыми формируются социальные группы;
символическая власть, образцовой формой которой явля-
ется власть образовывать такие группы, должна распола-
гать для этого необходимым символическим капиталом,
включающим такие ценности, как доверие и признание.
Власть конструирования, власть формирования новой
социальной группы, для которой, уже будучи персонифи-
цированной, она сама в лице делигента становится дове-
ренным лицом, может появиться лишь в результате дли-
тельного процесса институционализации, вследствие кото-
рого рождается и учреждается такое доверенное лицо,
получающее от группы власть формировать саму эту груп-
пу. Власть навязывать определенное видение необходимо-
го деления или делать видимыми, эксплицитными импли-
цитные социальные деления выражается прежде всего как
политическая власть, т. е. власть создавать группы и ма-
нипулировать объективными структурами общества. Такая
созидательная власть описывать, называть, производить
на свет в учрежденном, «конституированном состоянии
сформировавшегося корпуса и корпорации» то, что до это-
го момента существовало лишь как собрание многих лиц, и
есть власть символическая1.
1 См.: Бурдье П. Социальное пространство и символическая
власть. С. 84—85.
312 Глава 6. Символическая власть и господство символов
Формируя некое единство, корпус (corpus), социаль-
ное «тело», власть сразу же определяет и устанавливает
его идентичность, особый статус и особое место, которое
оно занимает в социальном пространстве. В символиче-
ском плане образованное актом номинации политическое
«тело» есть не что иное, как означающее для самой власти
как означаемого. Жан-Люк Нанси уверен в том, что «по-
литическое тело» — это только тавтология или же очевид-
ный факт для всей политической традиции в целом, какие
бы разнообразные формы оно ни принимало: само полити-
ческое основание покоится на круговращении значений.
Сообщество, группа располагает «телом» в качестве оп-
равдывающего ее существование смысла, тогда как «тело»
также располагает самим этим сообществом, и тоже в ка-
честве своего собственного смысла. «Тело» располагает
сообществом, его учреждением, в качестве знака, сообще-
ство же располагает «телом» («короля» или «ассамблеи»,
собрания) также в качестве знака — означающее и озна-
чаемое здесь постоянно меняются местами, — таким об-
разом, бесконечным «предположением» оказывается «те-
ло-сообщество», имеющее уже двоякое значение. Созда-
ваемое актом номинации или символического обозначения
означающее «тело» предельно «юридизировано»: моде-
лью corpus является Corpus Juris, не будучи ни хаосом и ни
организмом, он как бы расположен не столько между ни-
ми, сколько в стороне, таково пространство самого права:
его основание прячется от отведенного ему же места, —
«право самого права всегда бесправно, право возвышается
над всеми частными случаями, но само оно есть случай
своего установления, посторонний как природе, так и Бо-
3. Символическое делегирование (репрезентация) власти 313
гу». Corpus подчиняется некоему правилу, обращающему-
ся от одного конкретного случая к другому, этой прерыв-
ной непрерывности принципа и исключения, требования и
нарушения. Юрисдикция заключается не столько в про-
возглашении «абсолютного характера права и его разъяс-
нении, сколько в оговаривании того, чем право может
быть здесь, вот тут, сейчас, в этом конкретном случае, в
этом конкретном месте»1.
Номинация, или поименование, которой пользуется и
с которой ассоциируется символическая власть, есть
власть творить вещи при помощи слов, т. е. сугубо челове-
ческий инструментариий, и именно в этом смысле она яв-
ляется властью утверждения, проявления того, что уже су-
ществует в действительности. Так, группа начинает свое
существование для всех, кто ее воспринимает, лишь с того
момента, когда она становится способной открыто прояв-
лять свое существенное отличие, отделяющее ее от всех
других групп, т. е. становится узнаваемой и признанной.
И хотя символическая власть предполагает для нее нали-
чие обязательного признания со стороны внешнего соци-
ального мира, все же реальность самого существования та-
кой социальной группы есть в значительной мере реаль-
ность магическая; поэтому и окружающие ее социальные и
политические институты сама эта группа воспринимает
как фантазмы.
Как настоящая мистическая корпорация, любая соци-
альная группа существует только в лице и посредством ее
официальных представителей, которые «дают ей слово и
наглядное присутствие, она существует в вере в собствен-
1 Нанси Ж.-Л. Corpus. M., 1999. С. 81,102.
314 Глава 6. Символическая власть и господство символов
ное существование, которую корпусу уполномоченных
удается внушить посредством одного только факта своего
существования и собственных представлений»1, — таким
же образом формируется и вся система статусов и значе-
ний, приписываемых символической властью отдельным
субъектам и звеньям этой системы «представляемые—
представитель».
Формирование иерархий и разделений в социальном
пространстве, несомненно, является объективным процес-
сом, как и всякое иное институирование, формирующее
жесткие и более или менее устойчивые структуры. Разу-
меется, «телесно» эти институты не сводятся только к
символическому, однако само их существование оказыва-
ется возможным именно в рамках символического. Так,
система права и институт власти могут социально сущест-
вовать только как «санкционированная система симво-
лов», поскольку их роль заключается в том, чтобы связы-
вать означаемое (распоряжения, предписания, приказы
и т. п.) с символами (означающее) и узаконивать эту
сформированную ими зависимость, т. е. в принудительном
порядке навязывать ее целому обществу или отдельной
группе2.
Символическое насилие, которое здесь, несомненно,
имеет место, само выводится из особой логики символиче-
ского. (Ж. Бодрийяр подчеркивал особую значимость та-
ких актов, как «непрестанная обратимость отдариваний»
1 Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть.
С. 44.
2 См.: Касториадис К. Воображаемое установление общества.
М., 2003. С. 134.
3. Символическое делегирование (репрезентация) власти 315
или, напротив, захват власти путем одностороннего отда-
ривания — первобытный символический процесс не знал
бескорыстного дара, ему были известны только «дар-вы-
зов» и взаимное обращение обменов. Когда же эта обра-
тимость нарушается и заменяется накоплением и односто-
ронним перемещением ценностей, символическое отноше-
ние также гибнет, и тогда возникает власть, которая
позже будет формализована в экономическом механизме
договора1.) Символическое претендует на разрешение
проблемы, связанной с неопределенностью отношений меж-
ду отдельным индивидом и группой, в которую тот оказы-
вается включенным, а также отношений, складывающихся
между этой группой и ее делегированным представителем,
принимающим за нее решения и говорящим от ее имени.
Указывается на то, что политическому в целом присуща
некая устойчивая антиномия, заключающаяся в том, что
сами индивиды не могут быть эффективно конституиро-
ваны в группу — силу, которая в состоянии заставить
считаться с собой и себя слушать, — иначе, как только
отказавшись от собственных прав в пользу своего офици-
ального представителя.
П. Бурдье объясняет эту парадоксальную ситуацию
«доисторическим» фактом изначальной предноминацион-
ной дифференциации группы: дело в том, что «господ-
ствующие» как таковые существовали и существуют все-
гда, тогда как «подчиненные» и подвластные появляются
несколько позже, лишь мобилизовавшись и получив в свое
распоряжение таинственные инструменты представитель-
* См.: Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.
С. 96.
316 Глава 6. Символическая власть и господство символов
ства, поэтому именно акт делегирования с этой точки зре-
ния и является основным началом всяческого политическо-
го отчуждения (здесь следует вспомнить Т. Гоббса).
Все политические фетиши, такие, как сами люди, ве-
щи и сущности, кажутся обязанными своим существова-
нием самим себе, однако в символической интерпретации
они представляются только как результаты действия соб-
ственных агентов-представителей — вообще, «доверите-
ли обожают собственные творения», а политическое идо-
лопоклонство и заключается как раз в том, что ценность,
придаваемая политическому персонажу, этому виртуаль-
ному «продукту человеческого мозга», с этой точки зре-
ния кажется чудесным и объективным свойством самой
личности, ее шармом или харизмой1, — символическое
мышление всегда само творит, творило и будет творить
своих кумиров. (Лучшим примером такой ментальной на-
правленности и логических обоснований может служить
форма идеологического сознания, оправдывающего или
отвергающего, с равной степенью пафоса и лицемерия,
существующий порядок вещей, здесь символическая
борьба, как кажется, достигает своей крайней точки, а
власть максимально полно использует свой администра-
тивный ресурс, и политический капитал, почерпнутый из
него, кладется в основание этой борьбы. Господствующий
класс всегда есть место и пространство борьбы за «иерар-
хию принципов иерархии»: доминирующие фракции
стремятся здесь внушить идею легитимности своего гос-
подства либо с помощью «собственного символического
1 См.: Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм //
Социология социального пространства. С. 159.
3. Символическое делегирование (репрезентация) власти 317
производства, либо при посредстве консервативных
идеологов, которые при этом всегда угрожают обернуть к
своей пользе саму власть определять картину и ценности
социального мира, предоставленную им через механизм
делегирования »1.)
К. Шмитт, подчеркивая свойственную Средневеко-
вью способность к образованию многообразных и весьма
ярких репрезентативных фигур (папа, император, монах,
рыцарь, купец), с ностальгической горечью заметил, что
их число резко сокращается в процессе развития совре-
менного общества. (В правовой сфере утрата символиче-
ского формализма точно так же привела к кардинальному
пересмотру принципов легитимации; в свою очередь, вспо-
миная о средневековом «формализме», И. Хейзинга заме-
чает, что свойственное той эпохе «правовое чувство было
непоколебимым, словно стена; оно ни на мгновенье не ис-
пытывало сомнения: преступника судило само его преступ-
ление... При вынесении судебного решения формальному
составу преступления все еще придавали особое значение,
этот формализм был настолько силен, что для вынесения
приговора не имело значения наличие или отсутствие пре-
ступного умысла: преступлением было лишь само преступ-
ление и как таковое оно влекло за собой наказание, тогда
как преступление, не доведенное до конца, и попытка пре-
ступления оставались безнаказанными»2.)
С исчезновением сословий исчезает и сама форма ре-
презентации, поскольку репрезентировать можно только
лицо и, в отличие от простого «представительства», толь-
1 Бурдье П. Р символической власти. С. 92—93.
2 Хейзинга И. Указ. соч. С. 261.
318 Глава 6. Символическая власть и господство символов
ко авторитетное лицо или столь же авторитетную идею,
которая, коль скоро она репрезентируется, заодно и пер-
сонифицируется. «Бог, или — в демократической идеоло-
гии — народ, или абстрактные идеи, каковы «свобода» и
«равенство», мыслимы как содержание репрезентации, но
это невозможно применительно к производству и потреб-
лению. Репрезентация сообщает лицу репрезентанта соб-
ственное достоинство, ибо репрезентант высокой ценности
не может быть неценным»1. Процессы унифицирования и
уравнивания, сопровождающие рождение современных
демократических и индустриальных обществ, делают не-
актуальной саму проблему репрезентации, вместе с кото-
рой утрачивается ощущение стабильности и способность к
«узнаванию», т. е. выявлению истинного означаемого, без
которого репрезентация немыслима. Персонификация ре-
презентанта — такая же символическая процедура, как и
сама номинация, или поименование, той или иной социаль-
ной сущности. В пространстве властвования выделение
конкретного лица в качестве представителя всей социаль-
ной группы является не просто актом формирования власт-
ного центра и передачи ему полномочий, это есть акт соз-
дания специфической формы власти.
А. Кожев выводит само понятие власти из первичной
антропогенной потребности в признании и борьбы за это
признание; при этом онтологические силы и качества, ко-
торые ведут такую борьбу, персонифицируются в глубин-
ных архетипических символах Отца, Вождя, Господина и
Судьи. (В области существования (бытия) преобладает
1 Шмитт К. Римский католицизм и политическая форма // По-
литическая теология. М., 2000. С. 128.
3. Символическое делегирование (репрезентация) власти 319
власть Отца (творца, первопричины, традиции), в поли-
тической области — власть действия (актуальности), вы-
раженная во власти Господина и Вождя. Власть Судьи ас-
социирована с вечностью и беспристрастностью, Вождь
предвидит и руководит, Господин принимает решения и
действует. В государстве как особом социальном образо-
вании приоритет переходит к власти Господина и Вождя, а
власть Отца и Судьи выступает как производная, здесь с
особенной ясностью происходит разделение сфер публич-
ного и частного, организация семьи строится иначе, чем
политическая организация государства: одни родственни-
ки подчиняются другим в зависимости от того «прароди-
теля, который определяет их существование, но они не
управляют друг другом». Свою типологию властей А. Ко-
жев связывает с определенными историческими концеп-
циями власти: власть Судьи — с «республикой» Платона,
власть Вождя — с «политикой» Аристотеля, власть От-
ца — со схоластикой и власть Господина — с гегелевской
диалектикой1.)
П. Бурдье предупреждал, что отношения делегирова-
ния рискуют скрыть в себе реальные отношения представи-
тельства и замаскировать тот странный парадокс ситуации,
в которой некая группа может существовать, только по-
средством делегирования всех своих прав и обязанностей
частному лицу, которое может действовать в качестве
«юридического лица», замещая собой всю группу; мистиче-
ская связь социума с представляющим его индивидуумом,
1 См.: Быстрое В. Ю. Политическая философия Клода Лефор-
та // Лефорт К. Формы истории. СПб., 2007. С. 332—333; Ко-
жевА. Понятие власти. М, 2007. С. 26—П.
320 Глава 6. Символическая власть и господство символов
власть репрезентации, которой он оказывается наделен,
представленность множества в единстве, — все это так и
остается чудесной загадкой, порожденной символическим
сознанием и социальными практиками. Если рассматривать
эту ситуацию представительства, описывая ее в терминах
обычного делегирования, то кажется очевидным, что имен-
но сама группа порождает личность, «говорящую вместо
нее». Однако с такой же уверенностью можно утверждать,
что именно персонифицированный и наделенный массой
полномочий представитель создает свою группу, высту-
пающую в установившейся символической связи как его оз-
начающее, ведь представляемая и символизируемая им
группа, как кажется, и существует-то именно потому, что
существует он сам, ее представитель; и лишний раз стано-
вится также очевидным, что в символическом мире озна-
чающее и означаемое всегда готовы поменяться друг с дру-
гом местами. «В этом круговом отношении можно видеть
основание иллюзии, когда до определенного предела пред-
ставитель может казаться... causa sui, поскольку он являет-
ся причиной того, что порождает его власть, поскольку
группа, сотворившая его как уполномоченное лицо, не су-
ществовала бы... если бы не было лица, ее воплощающего »1.
Признание и узнавание группы зависят не только от
найденной ею самою специфики, проявляющейся как в ее
структуре, так и в ее функционировании, но и от статуса и
персонифицированности ее представителя: в символиче-
ском отношении оба полюса (означаемое и означающее)
«равноправны», однако направленность процесса созда-
ния символов, однолинейно выраженная, побуждает все
1 Бурдъе П. Делегирование и политический фетишизм. С. 158.
3. Символическое делегирование (репрезентация) власти 321
же приоритетно воспринимать в качестве символа, или оз-
начающего, прежде всего саму фигуру представителя,
агента и создателя социальной группы. (По замечанию
Корнелиуса Касториадиса, сам факт размещения всего то-
го, что составляет ритуал и символ, только на одном с точ-
ки зрения важности уровне оценивания указывает прежде
всего на нерациональный характер их содержания; что ка-
сается правового символизма как наиболее формализован-
ной и приближенной к «объективности» системы, то он
служит содержанию и отходит от него лишь постольку,
поскольку его принуждает к этому сама рациональность1.)
Принципы построения и функционирования как самой
символической пары «группа—представитель», так и
символической власти как таковой мало изменились со
временем: как некогда архаический правитель наделялся
властью прокладывать и устанавливать границы между
социальными группами и тем самым создавать, формиро-
вать их как таковые (власть этого типа обозначалась тер-
мином «nomos»), так же и современные политические
функционеры, наделенные государственными полномо-
чиями, являются в равной мере «персонификациями соци-
альной фантастики», которую они же сами и произвели на
свет в недрах и посредством своего существования и «фан-
тастическую» власть которой они получили взамен. Офи-
циальный представитель группы становится ее субститу-
том и существует лишь благодаря делегированию, однако
же и сама группа начинает существовать только тогда, ко-
гда находятся люди, способные отождествить себя с нею,
и только благодаря тому, что делают они это публично и
1 См.: Касториадис К. Указ. соч. С. 135—136.
322 Глава 6. Символическая власть и господство символов
официально, сами они вполне могут быть признаны упол-
номоченными этой группой; такая диалектика, очевидно,
способствовала воспроизводству самого этого отношения
в исторической перспективе, непрерывно порождая самые
разные типажи символической власти, но сохраняя при
этом свои конституционные начала и принципы.
Являясь лишь частью группы, ее представитель дей-
ствует как знак, замещающий целую группу, также суще-
ствующую только символически, — лишь одно его явное
существование может превратить многообразие индивиду-
альных и изолированных субъектов в одно «юридическое
лицо», в «конституированный корпус, который в резуль-
тате мобилизации и манифестации может даже проявить
себя как социальный агент», — ну, а политика, как пред-
ставляется, является исключительно благодатным местом
для такой эффективной и эффектной символической дея-
тельности, понимаемой как действия, осуществляемые «с
помощью знаков, способных производить социальные ре-
зультаты», и все это — только благодаря старому метафи-
зическому действию, связанному с существованием сим-
волизма, позволяющего считать существующим все, что
может быть обозначено1.
4. Символизм «маски» и «пятна»
Акт репрезентации создает нового «искусственного», но
вполне «реального» субъекта, представляющего или заме-
щающего собой другого или других субъектов, превра-
1 См.: Бурдье П. Социальное пространство и символическая
власть. С. 43, 86.
4. Символизм «маски» и «пятна» 323
щающегося в них, но остающегося при этом самим собой.
Представляемые скрыты за ними, как за маской, личиной,
завесой — маска как символ и особый вид представления
весьма эффективно выполняет функцию репрезентации:
поток неясных, всегда незаконченных превращений, ха-
рактерных для символического восприятия, в маске нахо-
дит свое завершение и застывает. Когда маска налицо, нет
уже ничего, что начиналось бы, что было бы еще неоформ-
ленным бессознательным импульсом к превращению.
Маска всегда действует вовне и тем самым создает фигу-
ру, сразу же за маской начинается тайна, поскольку хотя
маска и выражает многое, но еще больше скрывает. Она
«кладет собой разделительную черту», пряча опасность,
природу которой человек не должен знать. Маска воздей-
ствует как раз тем, что скрывает прячущееся за нею; из-
вестное в маске, ее ясность заряжены неизвестностью; «ее
власть в том и заключается, что, хорошо ее зная, не зна-
ешь, что таится за нею».
Маска представляет собой символическую фигуру с
определенными признаками и формами поведения, с нее
начинается, в ней продолжается и завершается драма: лю-
ди, которые скрыты за маской, хорошо знают, что они со-
бой представляют на самом деле, но их задача заключает-
ся в том, чтобы играть маску, оставаясь в границах, ею ус-
тановленных. Человек в маске всегда раздвоен: это и он
сам, и она, но «несмотря ни на что, оставшаяся часть его
личности отделена от маски: это часть, которая боится ра-
зоблачения, которая знает, что внушает страх, не будучи
сама по себе страшной». Те, кто снаружи, боятся того, че-
го не знают, но находящийся в маске боится того, что мас-
ка будет сорвана, и именно этот страх не позволяет ему
324 Глава 6. Символическая власть и господство символов
слиться с маской целиком. Его превращение может захо-
дить очень далеко, но никогда не будет полным: маска и
есть беспокоящая граница превращения, человек в маске
оперирует ею, но как исполнитель он в то же время пре-
вращается в нее, «он, следовательно, двойствен и должен
оставаться таковым все время, пока длится представле-
ние»1.
Весь «театр» власти направлен на то, чтобы скрыть
действительное и представить желаемое. Пугающая маска
страшна тем, что она соединяет человеческое содержание
с нечеловеческой внешностью, маска как «материализо-
ванный символ» настойчиво убеждает в том, чего на самом
деле не существует, маски власти — это символический
дискурс, на языке которого она излагает свои намерения
или, напротив, скрывает их. Маска разрушает установив-
шийся естественный порядок и ход вещей, она одновре-
менно чрезвычайная мера и противоестественный фетиш,
соединение несоединимого, она преступник и палач одно-
временно, другими словами, она символ монструазности и
чудовищности.
М. Фуко утверждал, что монстр не столько медицин-
ское и физиологическое, сколько юридическое понятие:
так, в римском праве, которое может послужить общим
социально-политическим фоном для прояснения всей про-
блематики монстра, определенно различались две катего-
рии ненормальности: собственно уродливость, дефект-
ность и монструазность как таковая. И в этом контексте
монстр выступал как «гибрид двух царств, животного и
человеческого», как существо, нарушающее все природ-
1 Канетти Э. Масса и власть. М, 1997. С. 402—403, 404.
4. Символизм «маски» и «пятна» 325
ные границы и классификации, нарушающее запреты граж-
данского, религиозного или божественного права, —
«монструазность есть только там, где противоестествен-
ное беззаконие затрагивает, попирает, вносит сбой в граж-
данское, каноническое или религиозное право», — само
же право вынуждено в этой ситуации постоянно вопро-
шать о достаточности собственных оснований и о своей
собственной практике, или же молчать и сдаваться, или же
апеллировать к другой референтной системе и дополни-
тельно сочинять некую специальную казуистику; «по сути
монстр и есть казуистика, посредством которой право по
необходимости отвечает противоестественному беззако-
нию»1.
«Юридический монстр» представляет собой синтети-
ческую фигуру, в которой сочетаются несочетаемые эле-
менты, это искусственное создание, бросающее уже са-
мим своим существованием вызов естественному порядку
вещей и отношений, символически обозначено как стоя-
щее на границе «внешнего» и «внутреннего» и, как подо-
бает всякому символу, одновременно разделяющее и объ-
единяющее оба эти пространства. Как и всякий символ,
он также знак, и, как всякий знак, он соответствует ка-
кой-либо вещи или отношению и вместе с тем явно наце-
лен за их пределы, ведь всякий символ содержит в себе
эту двойную интенциональность, предполагая при этом
явное превосходство условного знака над знаком природ-
ным.
Под эти признаки подпадает и другой важный поли-
тический и юридический символ, функционирование ко-
Фуко М. Ненормальные. СПб., 2004. С. 87—89.
326 Глава 6. Символическая власть и господство символов
торого плотно вписано в историко-правовой контекст су-
ществующих властеотношений, — это символ «запятнан-
ности», или отмеченности, символ «пятна», образ
которого, как и ассоциированный с ним образ «отклоне-
ния», определенно относится к природным знакам, уже
посредством которых и над которыми надстраивается
вторичная знаковая интенциональность, сразу же преду-
сматривающая наличие вполне определенной ситуации, в
которой человек оказывается помещенным в сферу са-
крального, и эта ситуация по-своему начинает говорить о
самом существе «запятнанности» уже как о «виновно-
сти», внося в дискурс новые элементы теперь уже мо-
рального и юридического описания.
Сами по себе символические знаки непрозрачны, и
эта непрозрачность как раз и таит в себе всю неисчерпае-
мость символического смысла, когда «символический
смысл создается внутри буквального смысла, и посредст-
вом самого этого буквального смысла», оперирующего
аналогией, порождает то, что ему аналогично. По сравне-
нию с символом маски «запятнанность не столько скры-
вает, сколько обозначает то социально опасное содержа-
ние, которое таится под этим знаком. Сам знак накла-
дывается извне и призван намертво срастись с
обозначаемым; если с помощью «маски» власть пугает
или обманывает (или то и другое вместе), то посредством
символизма «пятна» она открыто демонстрирует свою си-
лу и утверждает то, что желает вменить, поэтому «пятна-
ние» — это своеобразная номинация, посредством кото-
рой власть присваивает статус, имя, квалификацию под-
павшему под ее воздействие субъекту.
4. Символизм «маски» и «пятна» 327
«Запятнанность» — древнейший символ, которым
обозначались люди и вещи, выпавшие из социального про-
странства, так нуждающегося в единстве и поэтому всегда
готового к применению экстраординарных действий в от-
ношении этих враждебных ему или чужеродных объек-
тов — «очищению», «отделению», уничтожению. Риту-
альный обряд замещения, включавший в себя нормиро-
ванные действия по сокрытию, отбрасыванию, изгнанию
и т. п. всего «нечистого», был призван обеспечить некую
целостность социума, невыразимую ни на каком другом
языке, кроме символического, поэтому и сам магический
термин «запятнанность», каким бы архаичным он ни ка-
зался, довольно удачно передавал смысл символики «чис-
того» и «нечистого».
П. Рикёр заметил, что в центре этой символики нахо-
дится специфическая «схема экстериорности, инвестиро-
ванная с помощью зла, которое и есть непостижимая основа
неправедного таинства» (в этой связи П. Рикёр рассматри-
вал историческое движение иконоборчества, которое было
вызвано, по его мнению, не столько рефлексией и предва-
рительным теоретическим анализом, сколько символиз-
мом и его духом, ведь «символ — это то, что прежде всего
разрушает предшествующий ему символ»)1, «запятнан-
ность» здесь выступает одновременно и как средство, и
как результат символической борьбы, как форма транс-
формации сущего, ставшего объектом давления со сторо-
ны символического, за которым стоит власть. С этой точ-
ки зрения «запятнанность» представляется как посяга-
Рикёр П. Символика интерпретации зла. С. 361—363.
328 Глава 6. Символическая власть и господство символов
тельство на существующий «нормальный» порядок, и по-
этому в качестве признака она определяется через симво-
лический ряд запретов и табу; «очищение» же возникает в
свою очередь как поступок, нацеленный на ее устранение,
и представляет собой целую совокупность актов, также
закодированных с помощью ритуалов и призванных воз-
действовать на поведение, вызвавшее «запятнанность», с
целью устранить ее как таковую. В этом контексте наказа-
ние есть только один из «моментов этого поведения по
устранению» («очищению», «отбрасыванию»), именно
этот аспект наказания называется искуплением, что при-
водит к включению в само понятие наказания не только
морально-этических, но и религиозных элементов1.
Еще Рудольф Иеринг подчеркивал, что в основании
оценки преступления лежит идея, согласно которой в
этом деянии одновременно с человеческим нарушается и
божественный порядок, а причитающееся преступнику
наказание предназначено отомстить ему сразу же и за
первое, и за второе нарушение. «Разгневанные боги
должны быть умилостивлены, иначе они переносят свою
злобу на все общество, ибо собрание ответствует как пе-
ред чужими народами, так и перед богами, если оно от
них не отказывается. Наказывая преступника, осквер-
нившего себя своим поступком, собрание очищает и его,
и себя»2.
Как ни парадоксально, но сама акция по «очищению»
от скверны может неожиданным образом превратиться в
1 См.: Рикер П. Справедливое. М, 2005. С. 437.
2 Иеринг Р. Дух римского права // Избранные труды. СПб.,
2006. С. 247.
4. Символизм «маски» и «пятна» 329
символическое действие, в результате которого на пре-
ступника, уже запятнанного собственным преступлением,
налагается еще и новое «пятно»; появление в XVIII в. так
называемых бесчестящих наказаний было обусловлено
стремлением власти не только покарать преступника и
очередной раз продемонстрировать свою мощь (с чем бы-
ла связана явная асимметрия в соотношении тяжести пре-
ступления и жестокости наказания), но и еще раз напом-
нить о своем монопольном праве искоренять «нечистоту»
всеми мерами, вплоть до использования смертной казни.
В контексте этой репрессивной идеи «бесчестие» нельзя
было понимать только как форму оскверняющего воздейст-
вия смерти (это был лишь чрезвычайный случай), посколь-
ку это символическое обозначение осуществлялось не толь-
ко в момент и не только посредством смертной казни, но и
при всякой другой процедуре наказания; в XVIII в. да-
же самое малое и рутинное отправление уголовного пра-
восудия «бесчестило» всякого, кто был причастен к эк-
зекуции.
«Бесчестье» распространялось не в одном направле-
нии (на наказуемого), но во все стороны одновременно;
конечно же, оно в первую очередь поражало самого пре-
ступника, но и вместе с тем, как зараза, оно поражало па-
лача, даже стражник, коснувшийся наказываемого, также
заражался «бесчестьем»; и хотя «бесчестье» достаточно
широко использовалось как инструмент социального кон-
троля, само по себе оно с трудом этому контролю подда-
валось. (Государство было не в силах окончательно моно-
полизировать «бесчестье» как эффективное средство принуж-
дения (как это случилось со смертной казнью), и поскольку
330 Глава 6. Символическая власть и господство символов
идеология «бесчестья» помогала отправлению власти ис-
ключительно на символическом уровне, то от него нельзя
было отказаться и не так просто было отделаться1, символ
оказывался неподвластным воздействию рациональных,
организационных или технических мер, поскольку символ
мог существовать и действовать только в символической
среде.)
Символизм «запятнанности» действовал не только в
отношении подвластных, но также мог обратиться и на са-
му власть, с утратой ею («королем») своего «другого» са-
крального «тела» физическое тело короля могло само
стать символическим объектом репрессии и исчезнуть
(физически и символически) в виде жертвы. Тем самым,
хотя утрата символического «тела» («маски» власти) и
влекла за собой цепь регрессивных символических актов,
тем не менее, сам феномен властвования все еще оставался
в границах его символического существования. Дуалисти-
ческий характер королевской власти, так же как и сам дуа-
лизм сакрального, предполагал совмещение в пределах
властного континиуума как «священных», так и «низмен-
ных» качеств (см., например, о проблеме «королевского
инцеста» у М. Фуко, Ж. Батая, Р. Кайуа и других авто-
ров), через систему ритуалов и символов эти качества ар-
тикулировались как в торжественных формах коронацион-
ной инициации и шествий, так и в формах карнавального
осмеяния власти или даже «театрализованной» казни мо-
нарха.
1 См.: Стюарт К. Позорная шуба или непреднамеренные эффек-
ты социального дисциплинирования // История и антропология.
СПб., 2006. С. 260.
4. Символизм «маски» и «пятна» 331
Могущество власти и ее ничтожество и вторичность
соединялись здесь воедино именно в ее символическом ин-
терпретировании, как это ни покажется странным, но тот,
кому была дана власть, нередко стремился посредством
целого ряда ритуалов и церемоний и с каким-то «мазохи-
стским» удовольствием и жертвенной готовностью «ока-
заться осмеянным, опороченным и представленным в не-
выгодном свете». И эта новая «карнавальная» «маска»
власти выполняла тогда вполне определенную функцию:
ведь когда сама власть предстает перед подданными как
«грязная, бессовестная или смешная», то речь отнюдь не
идет о перспективе ограничения ее реальных эффектов или
о ее магическом развенчании, напротив, «речь здесь идет
о яркой манифестации самой необходимости, неизбежно-
сти власти» как таковой, которая при всем при том может
эффективно функционировать со всей строгостью и жест-
кой рациональностью, даже находясь в руках полностью
развенчанного персонажа. Это демонстративное разделе-
ние власти и ее носителя, разделение двух «тел» короля.
Не персона, а система власти в целом составляет становой
хребет и квинтэссенцию властвования, поэтому и пробле-
ма «позора власти, проблема развенчанного правителя —
эта проблема Шекспира, весь цикл трагедий которого о
королях поднимает именно ее»1, — это не политическая, а
скорее эстетическая проблема власти, здесь ее незыбле-
мость и непреходящий характер подчеркиваются особенно
ярко и красочно: власть всегда остается властью, могуще-
ством и силой независимо от качества и судьбы ее персо-
нифицированного носителя.
1 Фуко М. Ненормальные. С. 33—35.
332 Глава 6. Символическая власть и господство символов
5. Легитимация власти как символическая процедура
В результате акта символической смерти короля и после-
довавшей за ним революции место старой, ушедшей вла-
сти, топос проникновения в здешний мир высших сакраль-
ных энергий, оказывается незаполненным, поэтому глав-
ной политической проблемой Нового времени сразу же
становится проблема легитимности новой власти: индивид
как таковой уже не может быть воплощением трансцен-
дентного принципа, для сохранения которого подходящим
может оказаться только один из двух политических вари-
антов — либо разделение власти, столь характерное для
демократии, где топос божественного переносится на но-
вое искусственное и квазисакральное «тело народа», либо
насильственная оккупация освободившегося места власти
витально-тиранической силой, характерная для «тоталита-
ризма». В реальности же место власти даже в этой ситуа-
ции остается опутанным «незримыми паутинами символи-
ческих и лингвистических коннотаций», играющих важ-
ную роль в политической судьбе народов, ведь и казнь
короля не столько символически утверждает принцип раз-
деления властей и демократию, сколько сам этот принцип
ищет своих оснований в этом символическом по своей сути
жертвоприношении, в связи с чем и сама символика «те-
лесности» в опустевшем топосе власти вновь приобретает
даже в Новое время весьма важное для политической ан-
тропологии значение.
Власть, имеющая внешнюю по отношению к обществу
природу и все больше демонстрирующая эту свою пози-
цию, стремится символически закрепить эту свою внепо-
ложенность к социуму в соответствующих телесных репре-
5. Легитимация власти как символическая процедура 333
зентациях. Клод Лефорт выделяет две формы дискурса,
свойственные двум типам политического порядка, — дис-
курс «здоровья» для «тоталитарных» режимов и дискурс
«потребления» для политической демократии. Власть над
«телом» (короля или нации) наиболее ярко демонстрирует
наличие могущества, поэтому сила всегда выступает впере-
ди власти и насилие становится наиболее адекватным сим-
волом властвования. Всякий дискурс о начале социально-
го — это всегда рассказ о начале политического порядка,
происхождение которого неразрывно связано с «учреди-
тельным» насилием, — «язык легенды предельно ясен —
в начале любого братства лежит братоубийство», в начале
всякого политического порядка лежит преступление
(X. Арендт).
И все же даже эффективная власть нуждается в при-
знании, а значит, и ее насилие должно определенным об-
разом сочетаться с авторитетом; правда, со времени
Французской революции вопрос об авторитете власти ста-
ли связывать с новым символическим образованием —
«суверенной волей народа», — само существование кото-
рого потребовало ответа еще на один вопрос: является ли
такая власть эквивалентом постепенно утрачиваемого мо-
рального авторитета, располагающегося где-то на стыке
самости индивида и предписывающей нормы? Возврат к
старой римской формуле, в которой auctoritas и простая
potentia народа были резко разделены, а давность власти
признавалась уже достаточным аргументом для ее легити-
мации, казался теперь недостаточно убедительным.
Каким образом совместить в «демократическом» об-
ществе горизонтальную ось стремления к совместной по-
литической жизни с вертикальной осью господства?
334 Глава 6. Символическая власть и господство символов
П. Рикёр в этой связи отвечает: я полагаю, что власть в
данном случае возвращается в некую «новую форму вели-
чия», используя категорию, объединяющую в себе пафос
господства с готовностью его поддерживать и гордостью
за его могущество, поскольку «величие» как понятие и
ощущение отнюдь не исчезает вместе с абсолютной вла-
стью, сосредоточенной вокруг фигуры короля или князя,
более того, оно даже приумножается, рассеявшись в том,
что обычно называют «экономии величия». И если совре-
менные демократии, хоть и с грехом пополам, разрешили
вопрос о социальной значимости и легитимности выборов,
то им, однако, так и не удалось решить вопрос о репрезен-
тативности народных избранников, и проблема здесь за-
ключается не столько в вопросе о делегировании, сколько
в вопросе об авторитете и о символической силе самих
этих действий и процедур, и если это действительно так,
то тогда и весь «вопрос политического парадокса вновь
возвращается в сферу символического порядка, авторитет
которого кажется нам неотъемлемым от складывания власт-
ной автономии во всей широте ее политического, юридиче-
ского и морального господства»1. «Величие» является от-
кровенно символической формой реального могущества,
силы власти; «величие» не требует для себя признания,
оно требует только пиетета; «величие» — это синоним не-
ограниченного суверенитета власти.
Что касается собственно самого авторитета, П. Рикёр
рассматривал эту проблему прежде всего с точки зрения
политики, т. е. не столько учитывая степень признания мо-
рального долженствования, сколько принимая во внима-
1 Рикёр П. Справедливое. С. 207—211.
5. Легитимация власти как символическая процедура 335
ние действительную силу приказа и властвования и тем са-
мым указывая на присутствие парадокса, в соответствии с
которым авторитет в символическом порядке действует
только при условии, что он признан; но вместе с тем не мо-
жет существовать и авторитет, если не существует сам
символический порядок, отдающий приказы и требующий
подчинения (при этом сам авторитет остается действен-
ным лишь до того момента, пока справедливость этих при-
казов признается теми, кто должен им подчиняться).
П. Рикёр здесь вновь задается вопросом: что же тогда на
самом деле легитимирует авторитет власти? Сам же авто-
ритет? И означает ли это, что власть является вполне са-
модостаточной и не нуждается в дополнительном легити-
мировании, если, конечно же, не принимать во внимание
нормативистскую теорию, сводящую всю систему власт-
вования исключительно к системе норм, замыкающейся
только на одну-единственную и основную норму — кон-
ституцию? Ведь когда в конфликт вступают, с одной сто-
роны, уважение к универсальной норме, а с другой — ува-
жение к уникальной личности, то ситуация с легитимно-
стью только еще более запутывается и усложняется1.
(В языке права это проявляется в использовании «неопре-
деленных местоимений («каждый осужденный») и вне-
временного настоящего (или будущего юридического),
призванных выражать всеобщий и вневременной характер
закона, ссылке на транссубъективные ценности, предпо-
лагающие наличие этического консенсуса... применении
лапидарных формул и устойчивых выражений, не остав-
1 См.: Шлоссер Э. Эпилог к «Эпилогу» // Рикёр П. Справедли-
вое. С. 296.
336 Глава 6. Символическая власть и господство символов
ляющих простора для индивидуальных вариаций», — все
это используется для обеспечения эффекта универсализа-
ции1.)
Легитимация в качестве символической процедуры в
этой ситуации призвана выстроить логичную систему «оп-
равдательных» символов, позволяющих объяснить саму
причину установления властных отношений, вскрыть ис-
точники их авторитетности, не ограничиваясь при этом
только отсылкой к вере и харизматическим аффектам, но
пытаясь сформировать основательную причинно-следст-
венную цепочку из рациональных понятий и образов.
В качестве таковой легитимация уже давно выработала
свой специфический и по сути символический язык. В эпо-
ху Реформации круг, совершающийся в развитии симво-
лического языка власти, как будто бы замыкается — если
на заре христианства римский император послужил прото-
типом торжествующему Христу-пантократору, то, уподо-
бившись последнему, нововременной протестантский госу-
дарь как бы возвращает нас к символическим первоисточ-
никам имперского властного дискурса2. Затем, уже в ходе
Контрреформации, начинают рождаться и новые симуля-
кры (термин, введенный в оборот Ж. Бодрийяром), или
ложные символы (например, в иезуитском проекте иде-
ального унифицирования системы теократии), направлен-
ные на преодоление «ложной поддельности мира», ранее
совершенной реформаторами и приведшей к его распаду,
символы, стремившиеся представить целый мир под вла-
1 См.: Бурдье П. Власть права // Социальное пространство, поля
и практики. М.; СПб., 2005. С. 82.
2 См.: Дмитриева О. В. Древо жизни в земном Раю // Священ-
ное тело короля. Ритуалы и мифология власти. М., 2006. С. 399.
5. Легитимация власти как символическая процедура 337
стью одного-единственного Слова и на этой основе сфор-
мировать вполне реальную государственную политиче-
скую элиту с единой централизованной стратегией. Для
этого и потребовалось создавать действенные симуля-
кры — ту систему организации и театральной помпы,
другими словами, сцену, на которой роли начали играть
кардиналы-министры и серые кардиналы, а также симво-
лико-идеологическую систему воспитания и образования,
впервые в истории направленную на перевоспитание чело-
века, на принудительное привитие ему определенных и
нормированных представлений о реальности и искусствен-
ных взглядов на мир1.
Теперь уже речь шла не о нормировании и норме в
широком смысле этого слова, включающей наряду с юри-
дическими и моральные предписания, как об истоке обя-
зательства, но о способности авторитета, которому пору-
чено управлять людьми и заставлять себя слушаться; про-
исходило определенное смещение смыслов от авторитета
обязательства к авторитету командования. (Поэтому и
вопрос о легитимности стал сопрягаться здесь скорее с
проблемой власти, чем с обязательством, это была леги-
тимность, признаваемая задним числом и заведомо окра-
шенная ощущением сакрального. Так, к священному пра-
ву короля творить право стала относиться также функция
создания им справедливости, которую следовало делать,
совершать, исполнять, при этом само право стало воспри-
ниматься как уже готовая форма, — правом обладают и
право дают, но не делают — король может вмешиваться и
исправлять законы и обычаи, но при этом он всегда имеет
1 См.: Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 116.
338 Глава 6. Символическая власть и господство символов
дело с уже существующим правом; государь действует и
творит справедливость уже в условиях некоей данно-
сти — в форме правопорядка, законов, прав и обязанно-
стей1.)
Очевидно, что именно право является одной из важ-
нейших для социального порядка символических форм, в
которой посредством нормирования определяется также и
сам процесс номинации; однако вторичный характер этой
формы часто создает ситуацию, в которой нормы предпи-
сывают и действуют уже вдогонку реально сложившимся
социальным отношениям, лишь символически обозначая
их. Тем самым право узаконивает порядок, легитимируя
само видение этого порядка, «истинность» которого до-
полнительно санкционируется властью государства, по-
скольку в конечном счете право всегда выражает его точку
зрения; право является наивысшей формой символической
власти, номинационным инструментарием, создающим
«именованные вещи», формой активного дискурса, обла-
дающего властью вызывать вполне реальные последствия.
Символические акты (правовой) номинации, узакони-
вая названный ими объект, тем самым как бы переносят
его на более высокую ступень существования, знаменую-
щую для него полную завершенность в виде утвержденно-
го статуса или института, символический эффект заключа-
ется в том, чтобы узаконивать существующий порядок в
момент, когда «в правовом представлении утверждается и
канонизируется доксическое видение классификаций, чья
ортодоксальная объективность проявляется при помощи
1 См.: Варьяш И. И. Священное право короля творить право //
Священное тело короля. Ритуалы и мифология власти. С. 69.
5. Легитимация власти как символическая процедура 339
настоящего акта творения, который, возвещая о нем перед
лицом всех и от имени всех, практически возводит его в
ранг официального, а значит, и общепризнанного виде-
ния»1. Государство, располагающее наиболее эффективны-
ми средствами навязывания и внушения устойчивых прин-
ципов и стереотипов видения и деления, максимально со-
ответствующих его собственным представлениям и
структурам, является исключительным местом концентра-
ции и осуществления символической власти.
Эта эффективность еще более возрастает за счет того,
что государство считает, что только оно вправе применять
физическое насилие, издревле окутанное аурой символи-
ческой власти; именно с насилием обычно связывают
представление о том, что оно существует где-то «близко и
прямо сейчас» и всегда приходит безотлагательно, насилие
кажется даже более непосредственным чем сама власть,
поэтому и власть на ее более глубинном и «животном»
уровне проявления также можно называть насилием (как
говорит Элиас Канетти, «насилие, если оно позволяет себе
помедлить, становится властью»2).
И если символическая власть есть власть, предпола-
гающая обязательное свое признание без использования
насилия (или незнание о самом факте творимого ею наси-
лия), то и само символическое насилие может осуществ-
ляться только при условии определенного ментального со-
участия в нем тех, кто испытывает это насилие на себе.
Так, символизм публичного наказания, некогда сменивший
символические ритуалы жертвоприношений, в своем под-
1 Бурдье П. Власть права. С. 105.
2 Канетти Э. Указ. соч. С. 304.
340 Глава 6. Символическая власть и господство символов
черкивании публичности и демонстративности самого акта
наказания тем самым выделил именно эту сторону коллек-
тивного акта воздаяния, а власть, кроме того, стремилась
здесь еще и продемонстрировать свое полное силовое пре-
восходство над преступником, посягнувшим на ее основы и
установленные ею представления, предпочтения и деления.
Насилие скрывается за легитимирующей оболочкой
правовых норм и предписаний, принимая ритуализирован-
ные формы, но при этом оставаясь самим собой, правда,
его внешние формы становились со временем все более
«цивилизованными», а драматургия — все более упоря-
доченной и менее стихийной (даже стихийные и насиль-
ственные действия толпы, казалось, приобретали некую
более рациональную драматическую и ритуальную струк-
туру). И все же насилие, совершаемое по обряду, сущест-
венным образом отличалось от насилия, совершенного по
праву (если рассматривать его в абсолютном смысле),
ведь сами эти обряды только и напоминали о том, что
«если мы стараемся сделать так, чтобы насилие, порож-
даемое самим сообществом, принимало бы менее разру-
шительные и жестокие формы, тогда мы должны меньше
думать об умиротворении лиц, осуществляющих откло-
няющееся поведение, и больше — об изменении основ-
ных ценностей»1.
XVIII век, казалось бы, нашел новый принцип, в силу
которого власть, вместо того чтобы исполняться ритуаль-
но и церемониально в виде отдельного действа и время от
времени, становится непрерывным процессом и исполня-
ется уже не посредством обряда, а посредством постоянно
1 Земон Д. Н. Обряды насилия // История и антропология. М.,
2005. С. 162.
5. Легитимация власти как символическая процедура 341
действующих механизмов надзора и контроля, ее символи-
ческая составляющая заметно стушевывается и заменяется
рутинными и бюрократическими процедурами. И все же
полностью она не выходит из круга символических озна-
чиваний и ориентиров, ведь даже сама революция пред-
ставлялась не просто завоеванием новым классом государ-
ственных аппаратов, созданных предшествующей абсолю-
тистской властью, но эпохально значимым символическим
актом, гениальным изобретением новой технологии вла-
сти, ключевыми элементами которой становятся «дисцип-
лины», что с особой очевидностью проявилось прежде
всего в области уголовного права и карательной власти,
где избирательное, эпизодическое, «очаговое» правосудие
уступает место судебно-полицейскому аппарату надзора и
наказания.
В новой системе уголовного права преступник уже на-
чинает выступать как нарушитель гипотетического «обще-
ственного договора», предпочитающий общественным и
юридическим законам свой собственный интерес; само
преступление становится своеобразным способом растор-
жения этого договора и по сути попадает в разряд злоупо-
треблений властью, а сам преступник с этой точки зрения
выступает в социальном и правовом пространстве уже как
«маленький деспот», навязывающий на своем уровне об-
ществу и власти собственный нелегитимный интерес.
Символический (и политический) характер такой ква-
лификации очевиден, однако идея «общественного догово-
ра» (этого еще более объемного результата символической
номинации) позволяла выявить некое сущностное родст-
во, имевшее место между статусом «преступника» и стату-
сом «тирана», и перенести на этого последнего все харак-
342 Глава 6. Символическая власть и господство символов
терные черты и качества первого; между двумя сторонами
расторгаемого «договора» обозначилась своеобразная
симметрия: «преступник» и «деспот» оказывались родст-
венными натурами, поскольку тот и другой, как выясни-
лось, одинаковым образом подрывали общественный по-
рядок (как говорил один из французских революционных
вождей, «произвол и убийство для нас суть равноценные
преступления»). Правда, «деспот» являлся преступником
уже по самому своему статусу, тогда как уголовный пре-
ступник — «деспот» только волей случая; настоящий дес-
пот — это тот, чье существование неотъемлемо от преступ-
ления и, следовательно, само его естество тождественно
противоестественному, в результате такого силлогизма рож-
дался и новый символ — «юридический монстр», который
наиболее ярко вырисовывался отнюдь не в лице бывшего
убийцы и насильника, попирающего законы природы,
монстр — это прежде всего тот, кто расторгает фундамен-
тальный «общественный договор», а значит, по этой логи-
ке получается, что первый и настоящий «юридический
монстр» — это осужденный король, король, потерявший
свое «другое», символическое «тело»1.
Здесь власть из легитимирующего субъекта неожи-
данным образом оказывается в роли нелегитимного объек-
та, однако речь, разумеется, идет только об уже повержен-
ной, но не действующей власти; производимая инверсия
лишь еще раз подтверждает наличие в сакральном, в сфере
которого располагаются как власть, так и преступление,
того неизбывного дуализма «чистого» и «нечистого», ко-
торым обусловливается вся его динамика и его фатальная
1 См.: Фуко М. Ненормальные. С. 114—115, 120—122.
5. Легитимация власти как символическая процедура 343
неопределяемость. На уровне властеотношений этот дина-
мизм выражается как довольно неожиданное и непредска-
зуемое согласование воль господствующих и подвластных
субъектов (так, «воля народа» может как вести к покорно-
му его подчинению правителю, так и вызывать самые рез-
кие и агрессивные эксцессы в его адрес; точно так же сим-
волическая роль короля может резко меняться от велича-
вой амбициозности до покорной жертвенности). И следует
заметить, что ту степень подчинения, которое подвластные
выказывают властным государственным предписаниям,
нельзя однозначно рассматривать только как механическое
подчинение силе или как сознательное и рациональное
принятие порядка, ведь хотя исторически социальный мир
и изобилует многочисленными призывами к порядку, од-
нако они, как правило, выполняются только теми, кто
предрасположен их замечать и слышать.
В общем же подчинение установленному порядку есть
результат негласного соглашения, как считает П. Бурдье,
возникающего между «когнитивными структурами, во-
площенными в телах, и объективными структурами мира,
к которому они применяются, бесспорность государствен-
ных предписаний заставляет признавать их с тем большей
силой, вниманием и рвением, чем с большей убедительно-
стью государство навязывает эти когнитивные структуры,
в соответствии с которыми следует воспринимать эти
предписания, т. е. «осуществляет свою власть навязывать
(и даже вдалбливать) произвольные (но не признаваемые
за таковые) средства познания и выражения социальной
реальности»1.
1 Бурдъе П. Социальное пространство и символическая власть.
С. 92.
344 Глава 6. Символическая власть и господство символов
Таким образом, признание легитимности вовсе не яв-
ляется свободным актом ясного сознания, но коренится в
непосредственном согласовании инкорпорированных
структур, ставших бессознательными, со структурами
объективными; «у государства нет необходимости давать
приказы и совершать физическое насилие, чтобы упорядо-
чить социальный мир, он будет существовать столь зке
долго, сколь государство способно производить инкорпо-
рированные когнитивные структуры, согласованные с объ-
ективными структурами, и тем самым обеспечивать веру и
доксическое подчинение установленному порядку».
Такое непосредственное и негласное согласование и ле-
жит как раз в основе доксического подчинения, связываю-
щего нас всеми нитями бессознательного с установленным
порядком, и все это крайне мало напоминает какую-либо
из форм настоящего договорного соглашения, поэтому
П. Бурдье был уверен, что только реалистический номина-
лизм в состоянии объяснить магический эффект номина-
ции, этого акта символического насилия, который может
достичь своей цели лишь благодаря тому, что в принципе
не противоречит уже существующей реальности: любые
акты социальной магии, канонической формой которой яв-
ляется юридическая санкция, могут быть действенны лишь
при том условии, что «собственно символическая власть
легитимации... накладывается на имманентную силу исто-
рии, которая удваивается или освобождается благодаря их
авторитету и их санкции»1. Легитимация, таким образом,
является не более чем символическим актом закрепления
1 Бурдье П. Дух государства, генезис и структура. С. 245—246;
Он же. Власть права. С. 106.
5. Легитимация власти как символическая процедура 345
уже существующих социальных отношений и наиболее яр-
ким примером вторичной символической номинации, а так-
же символической (юридической) власти как таковой. Ее
эффективность обусловлена прежде всего реальной силой
самой власти (политической) и авторитета, стоящих за ее
спиной, а ее природа всегда оказывается столь же двойст-
венной, как и природа самого символа, векторность ее дей-
ствия может быть в любой момент радикально изменена
под влиянием каких-то невидимых факторов и сил. Одна-
ко, продолжая существовать в символическом мире, мы
вынуждены рассматривать эту специфическую форму сим-
волической номинации как вполне реальную и даже необ-
ходимую, ведь, создавая свои символы, мы сами подпада-
ем под их власть.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСПОДСТВА
Господство многолико и единообразно одновременно. Оно
не нуждается в демонстрации собственной мощи и исклю-
чительности, как это постоянно делает власть, для этого
оно слишком прагматично. Символы господства неярки,
но фундаментальны и убедительны. В своем настойчивом
давлении оно всегда достигает предела, господство в прин-
ципе не может не быть полным, поэтому оно системно и
всеохватно.
В истории европейской политической философии гос-
подство слишком часто отождествлялось с властью как та-
ковой, и такое смешение не было случайным: господство
всегда выглядывает из-за плеча реальной и видимой вла-
сти, предпочитая при этом само оставаться невидимым.
Иногда господство маскируется, принимая личину Левиа-
фана, но чаще всего оно выступает безликим и аноним-
ным, скрывая свой властный центр и намерения в сложной
паутине властных переплетений. Анонимность только
придает ему силы, защищает от критического анализа и
ненужного для него самого узнавания и понимания. Гос-
подство всегда покрыто флером недопонимания, непо-
знанности и тайны: тайна, рождающая страх и пассив-
ность подвластных, является одним из эффективнейших
его инструментов.
Господство всегда предполагает рабство, или полное
ему подчинение, однако подвластные готовы на это не
только из-за страха перед карами и насилием, но и по при-
Заключение. Перспективы господства 347
вычке и инерции, более того, даже в силу пробуждающей-
ся у них веры в само господство и любви к нему. Его мощь
и масштабность убеждают их в неизбежности, а следова-
тельно, и в необходимости господства. Иерофаническое
явление господства в мир представляется всегда и без ис-
ключения неким сакральным актом, священнодействием
неких трансцендентных сил.
Античная политическая мысль усматривала господ-
ство в персонификациях «извращенных» типов правления,
таких, как диктатура или тирания, этот стиль мышления
не отделял сам феномен господствования от господствую-
щей личности и персоны. Однако уже тогда становилось
понятным, что господство может скрываться и в недрах
более идеализированных форм политической организации,
например демократии, постоянно балансирующей на грани
превращения в охлократию или тиранию. Здесь господ-
ство отличалось особым лицемерием, выдавая себя за
«власть народа» или «диктатуру класса»; насилие здесь
принимало всеобщий и «учредительный» характер, и осу-
ществляла его некая новая историческая сила, вышедшая
на политическую арену, — масса. Именно масса и может
сделать господство окончательным, становясь его движу-
щей силой и одновременно его объектом, господство и
масса становятся нераздельными.
Масса, как и господство, в процессе исторического
развития человечества нарастает количественно, и в насту-
пающий «век масс» господство достигает своего апогея.
Политические формы, за которыми оно прежде скрыва-
лось, играют теперь все менее важную роль: монархию
крайне трудно отличить от демократии, олигархию — от
аристократии. Парламентские и политические институты
348 Заключение. Перспективы господства
(партии) в этом процессе полностью меняют собственный
первоначальный характер и черты, сливаясь в некий «пра-
вящий отбор», не имеющий четких и формализованных
очертаний, но от этого только более влиятельный и могу-
щественный. Господство по своей сути всегда «неформаль-
но» и избегает заключения в застывшие и определенные
политические формы, оно стояло, стоит и будет стоять
только за ними и над ними: когда говорят о «тайных силах
истории», имеют в виду именно это его качество.
Господство существует в мире символов, поэтому мас-
ка — его излюбленный атрибут. Харизматический или ле-
гитимистский тип властвования в одинаковой мере ис-
пользуют маску для сокрытия как своей истинной сути,
так и своих истинных намерений.
XVIII век изобрел символ «правового государства»,
отдав предпочтение господству безликого закона перед
персонифицированным господством «священного монар-
ха»; сакральный характер самого господства от этого вовсе
не исчез, но лишь трансформировался в идею легитимно-
сти. Тем самым господство приобрело новый веский аргу-
мент в пользу своего существования: закон и законность,
подменив собой традиционную справедливость и обычай,
стали еще одним дополнительным техническим инструмен-
том, оказавшимся в распоряжении господства. Искусст-
венно созданная символическая вселенная наполнилась
множеством новых знаков, окончательно скрывших за со-
бой истинное лицо господства. По аналогии с масками
«просвещенного абсолютизма» и «Высшего существа» ма-
сонов и французских революционеров маски закона за-
крыли собой мощные пульсирующие источники властвова-
ния, представив подвластным внешне рационализирован-
Заключение. Перспективы господства 349
ный и лишенный «суеверий и предрассудков» образ
мирового Разума.
Позитивистский XIX век продолжил эту работу по
маскировке истинных источников господства, обратив все
внимание доверчивых подвластных на систему институ-
ционализированных представительных и партийно-поли-
тических структур, заверив при этом, что именно в них и
заключается вся настоящая политическая власть; само же
понятие господства исключалось научно-политической
мыслью из дискурса как пережиток феодализма и клери-
кализма. Только в марксизме еще сохранялось некоторое
представление о господстве как форме эксплуатации в на-
стоящем и прошлом и как форме классовой диктатуры в
будущем. В жизни реальной господство постепенно ухо-
дило из сферы политического существования в социаль-
ную сферу и, что еще важнее, в область экономического
бытия; «господство финансового капитала» стало серьез-
ным симптомом, указывающим на новое перемещение гос-
подствующих центров, на их новую персонификацию и
формы маскировки, однако его настоящий источник по-
прежнему оставался скрытым от глаз непосвященных.
Господство никогда не могло стать откровенным, по-
скольку тогда оно перестало бы быть самим собой: господ-
ство обязано было вводить подвластных в заблуждение,
«незнание» оставалось составной частью процессов власт-
вования, и если «знание есть сила», то, собственно, «не-
знание есть подчинение». Рациональный анализ убивает
пафос господства, иррационален не только символический
контекст господства, иррациональна сама его сущность:
кто может рационально объяснить, почему господство не-
уклонно стремится к своему пределу в бесконечности? Ее-
350 Заключение. Перспективы господства
ли власть подчас смиряется со своим разделением и нали-
чием системы «сдержек и противовесов», то в отношении
господства этого нельзя даже представить. Отнюдь не ра-
зум и не воля, пусть это будет даже «воля к власти», дви-
жет им, господство представляется порождением, провод-
ником и проявлением действия неких трансцендентных
сил, поэтому и воспринимать его оказывается возмож-
ным только в некоем метафизическом, далеком от всего
привычного для рационального мышления ракурсе.
Вторжение господства в мир каждый раз напоминает нам
о том, что, видимо, слишком рано научная и политиче-
ская мысль отказались от обсуждения своих проблем ме-
тафизического характера, и настойчивее всего об этом
напоминают нам политические катастрофы и трагедии
прошедшего XX века.
В наше время изменились сами объекты господствова-
ния, его внимание теперь переключилось с физических лиц
и корпораций на целые нации и глобальное сообщество.
Господство уходит из конкретизированных и узнаваемых
(политических, государственных) центров, формируя не-
видимую и от этого еще более могущественную сеть власт-
вования, систему, в которую оказываются включенными
все подчиненные ему объекты и предметы и прежде все-
го сам человек. Сами центры господства в этой системе
невидимы, зато совершенно прозрачны и контролируемы
его объекты: мы часто подчиняемся, не зная кому и чему,
но выполняя все предписания этого невидимого господи-
на; наша жизнь и смерть теперь полностью зависят от не-
го, и только он определяет, что с ними делать. У господ-
ства как явления, как кажется, большие перспективы,
правда, пока туманные и неясные, но от этого не менее не-
Заключение. Перспективы господства 351
отвратимые, и именно Г. В. Ф. Гегель в своей диалектике
властвования («господин—раб») уже давно наметил ос-
новные алгоритмы его становления и развития, прозрев
наше будущее. Многое пришло уже после Г. В. Ф. Гегеля,
но удивительным образом оно лишь подтверждает его
предчувствия и его логику. Господство теперь приобретает
на наших глазах вполне рационализированную внешность
«дисциплинарной власти», избегающей использования
прямого насилия, однако проникающей при этом значи-
тельно глубже (в само существо и сознание подвластных),
чем это могло бы сделать насилие физическое и репрессив-
ное. Подвластные же в свою очередь не должны вовсе за-
мечать тот латентный негатив, который содержится в на-
правленном на них властном манипулировании, и воспри-
нимать все императивы господства, как желанные и
вполне приемлемые для них указания, более того, даже
как их собственные, свободно сформированные желания;
господство не только окружает нас и формирует наш
внешний мир, оно прежде всего проникает в нас самих.
Игорь Андреевич Исаев
Господство:
Очерки политической философии
Издательство НОРМА
Лицензия № 03206 от 10 ноября 2000 г.
101990, Москва, Колпачный пер., 9а
Тел./факс (495) 621-62-95. E-mail: norma@norma-verlag.com
Internet: www.norma-verlag.com
Художник С. С. Водчиц
Корректор Н. Е. Павлова
Компьютерная верстка: В. М. Родин
Подписано в печать 24.03.08
Формат 70x100/32. Бумага офсетная
Гарнитура «Академия». Печать офсетная
Усл. печ. л. 14,3. Уч.-изд. л. 14,73
Тираж 1000 экз. Заказ №450
По вопросам приобретения книг обращайтесь:
«Издательский Дом ИНФРА'М» —
официальный дистрибьютор Издательства НОРМА
(опт, розница, книга — почтой, доставка)
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31в
Тел.: (495) 363-42-60 (многоканальный);
(495) 363-42-60 доб. 215 (справки о наличии);
(495) 363-42-60 доб. 247 (книга — почтой);
(495) 363-42-60 доб. 251 (заключение договоров);
Факс: (495) 363-92-12
E-mail: books@infra-m.ru. Internet: www.infra-m.ru
Центр комплектования библиотек
119019, Москва, ул. Моховая, д. 16, корп. К
Российская государственная библиотека
Тел.: (495) 202-93-15
Книжный супермаркет «Библносфера»
(розничная продажа)
м. «Пролетарская», ул. Марксистская, д. 9
Тел.: (495) 670-52-17, 670-52-18, 670-52-19
www.bibliosfera-ddk.ru
Отпечатано в ООО "Типография Полимаг"
г. Москва, Дмитровское ш., д. 107