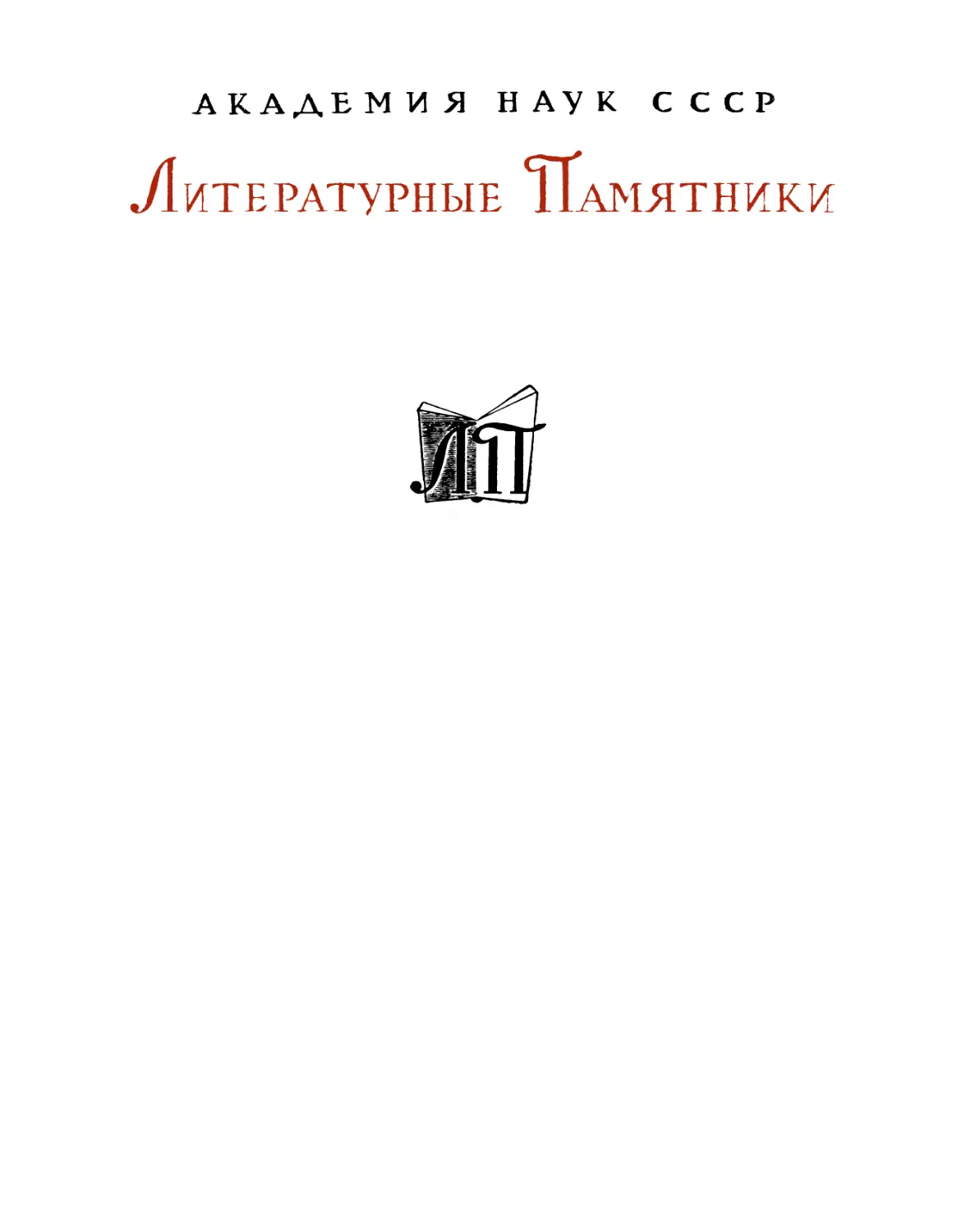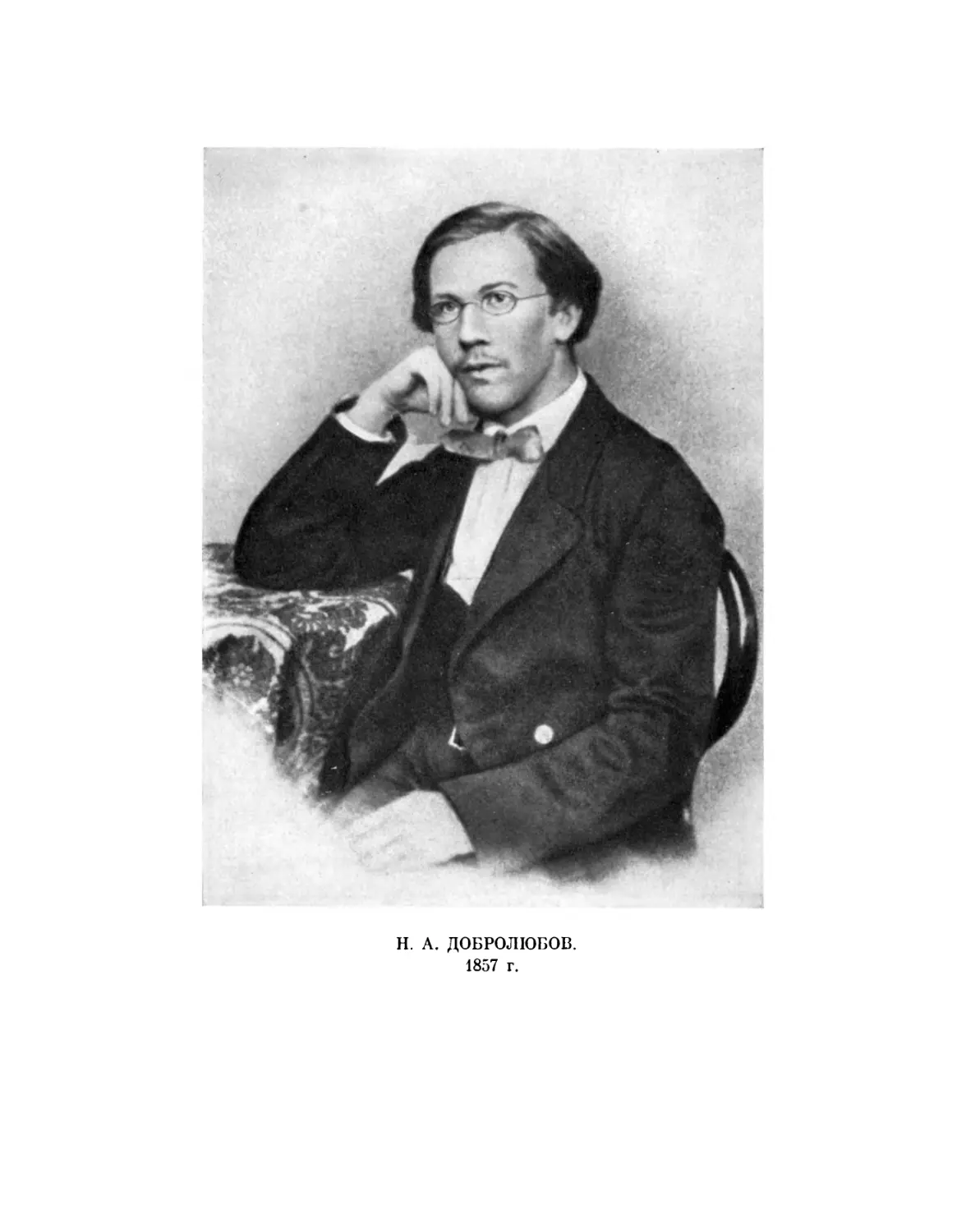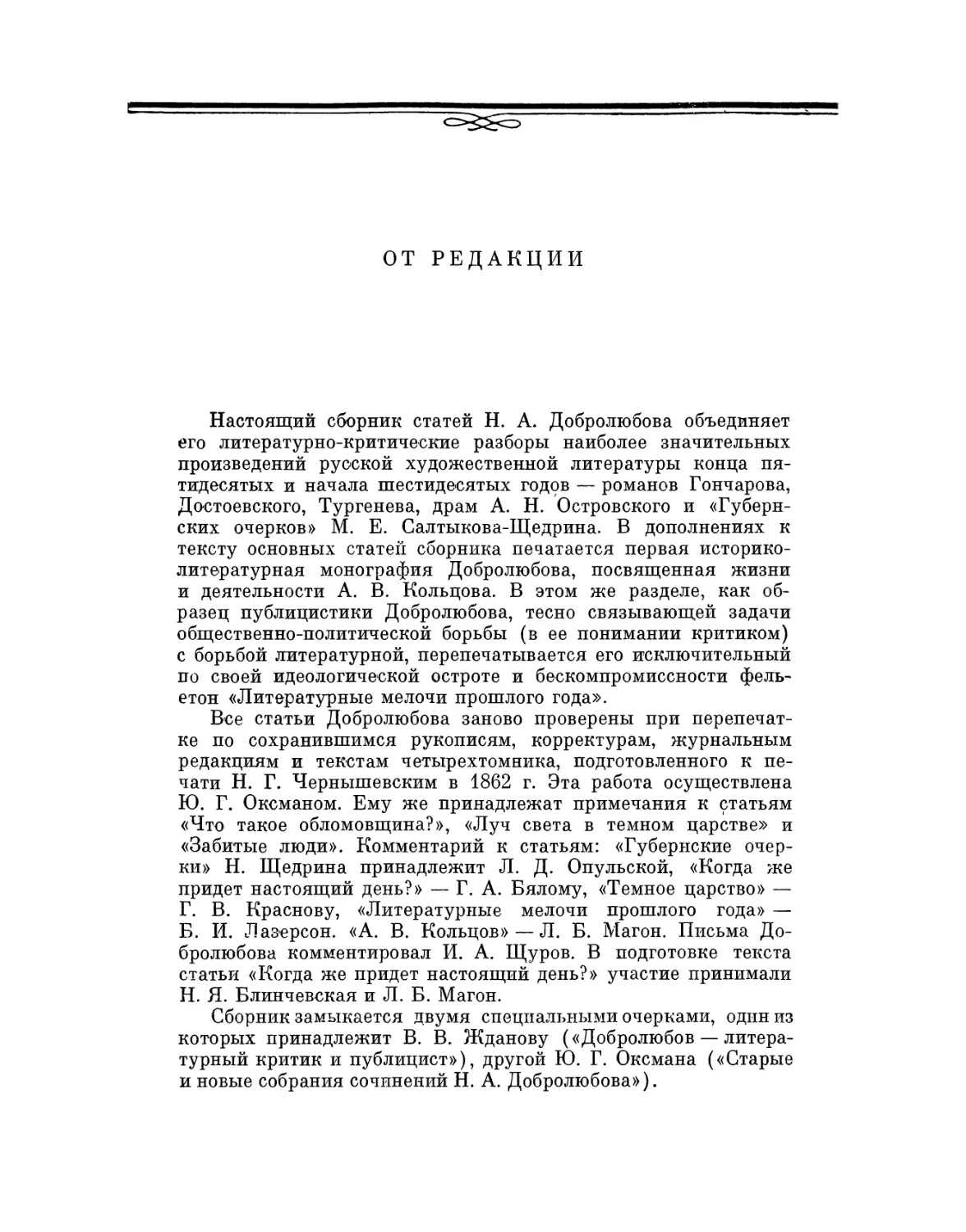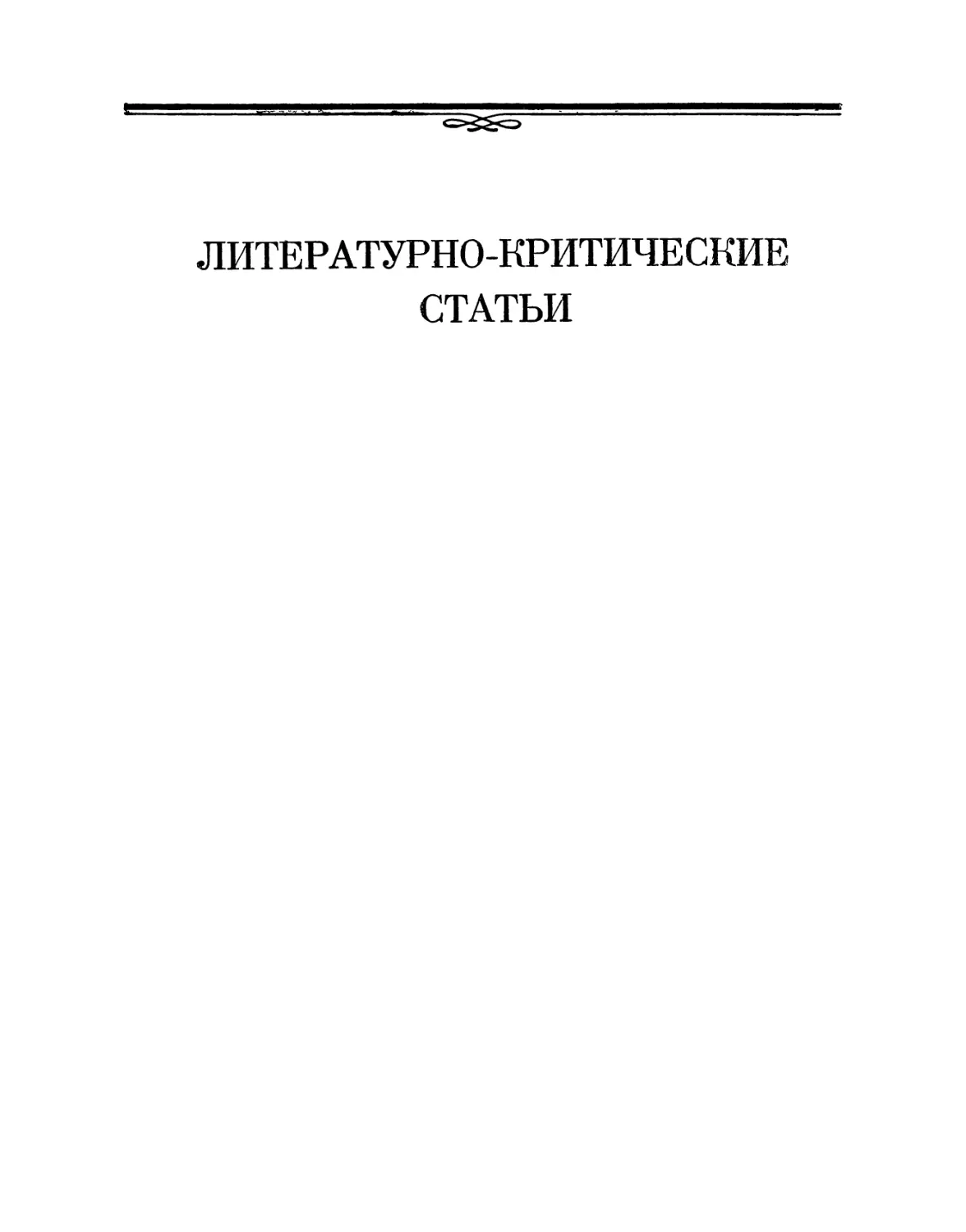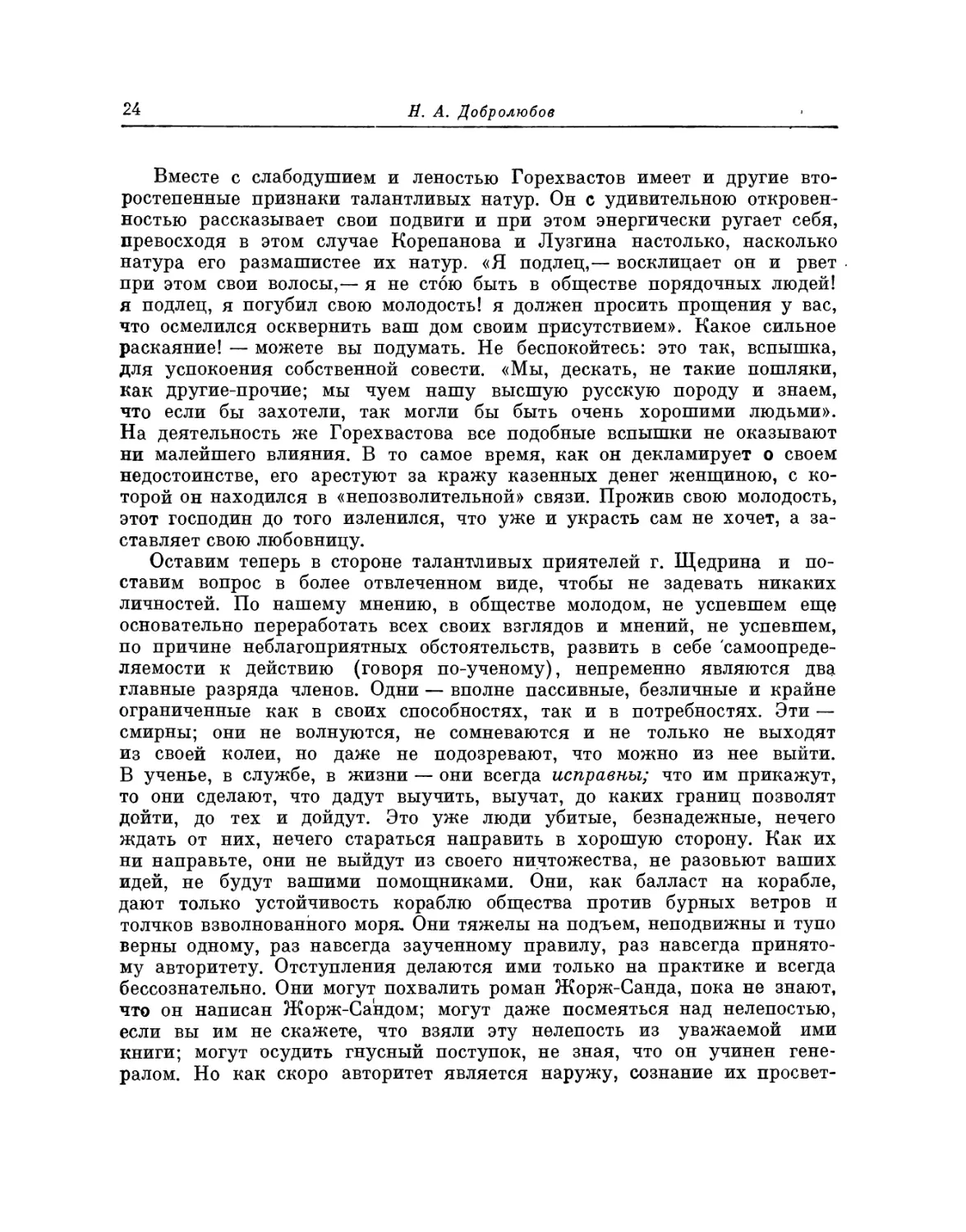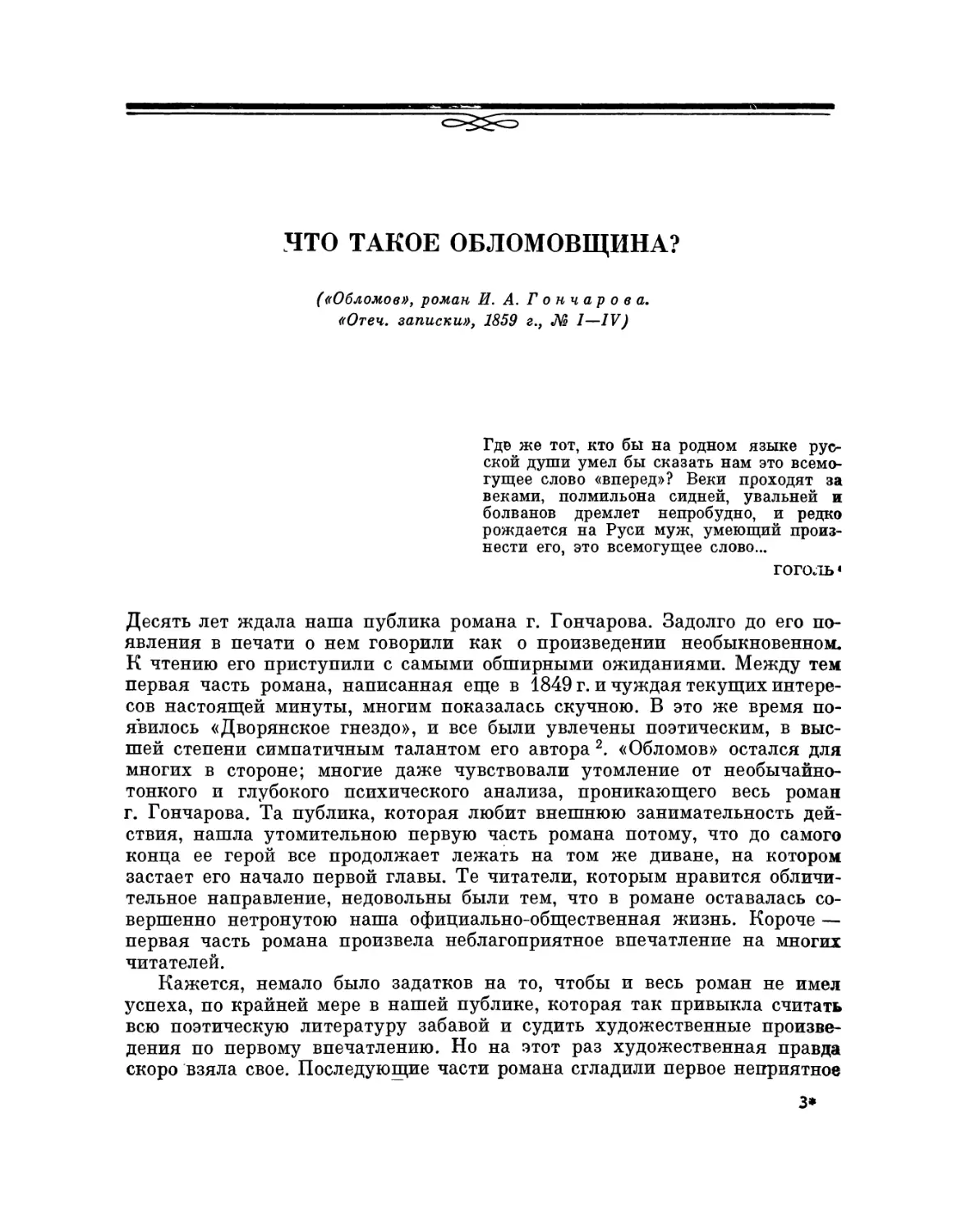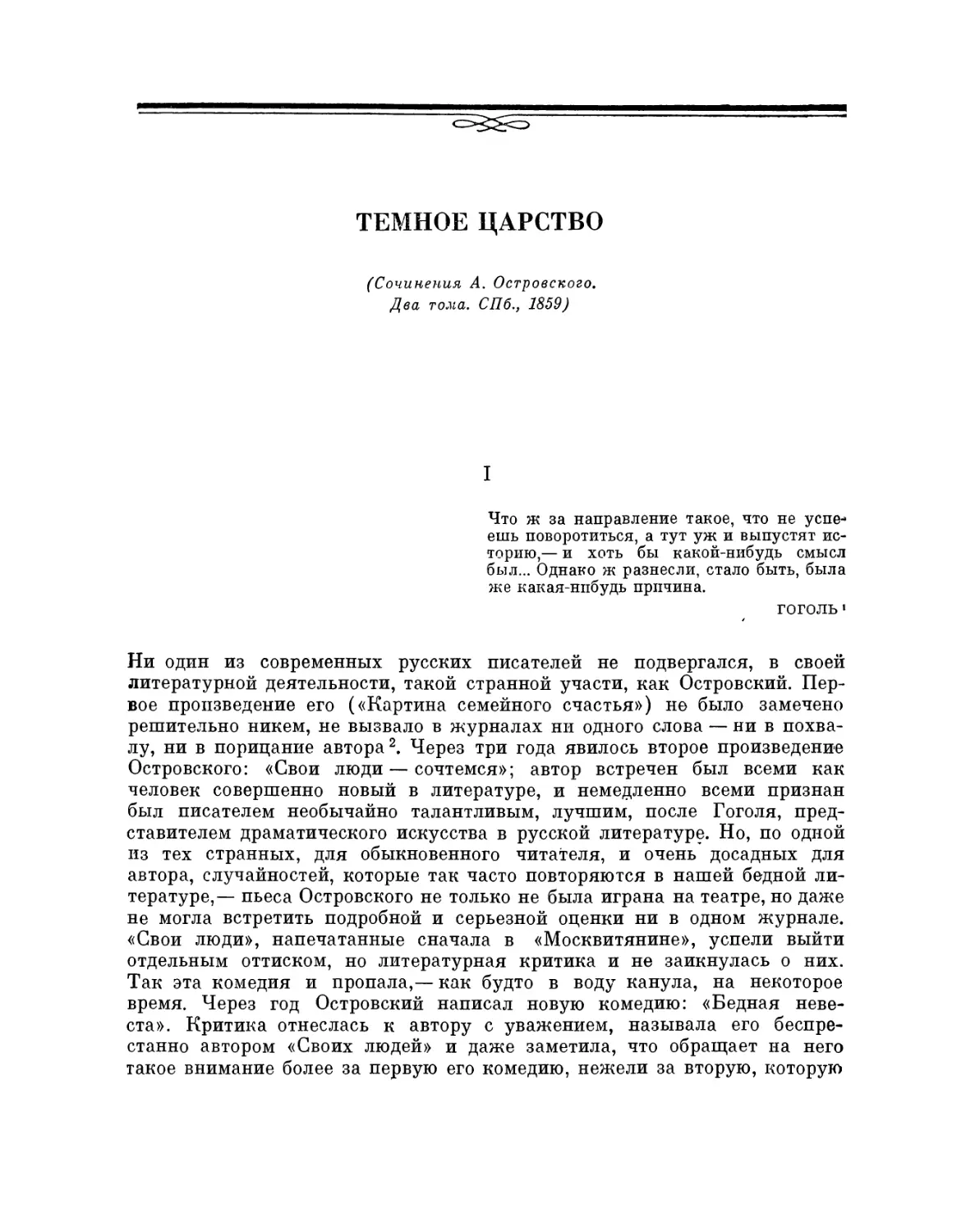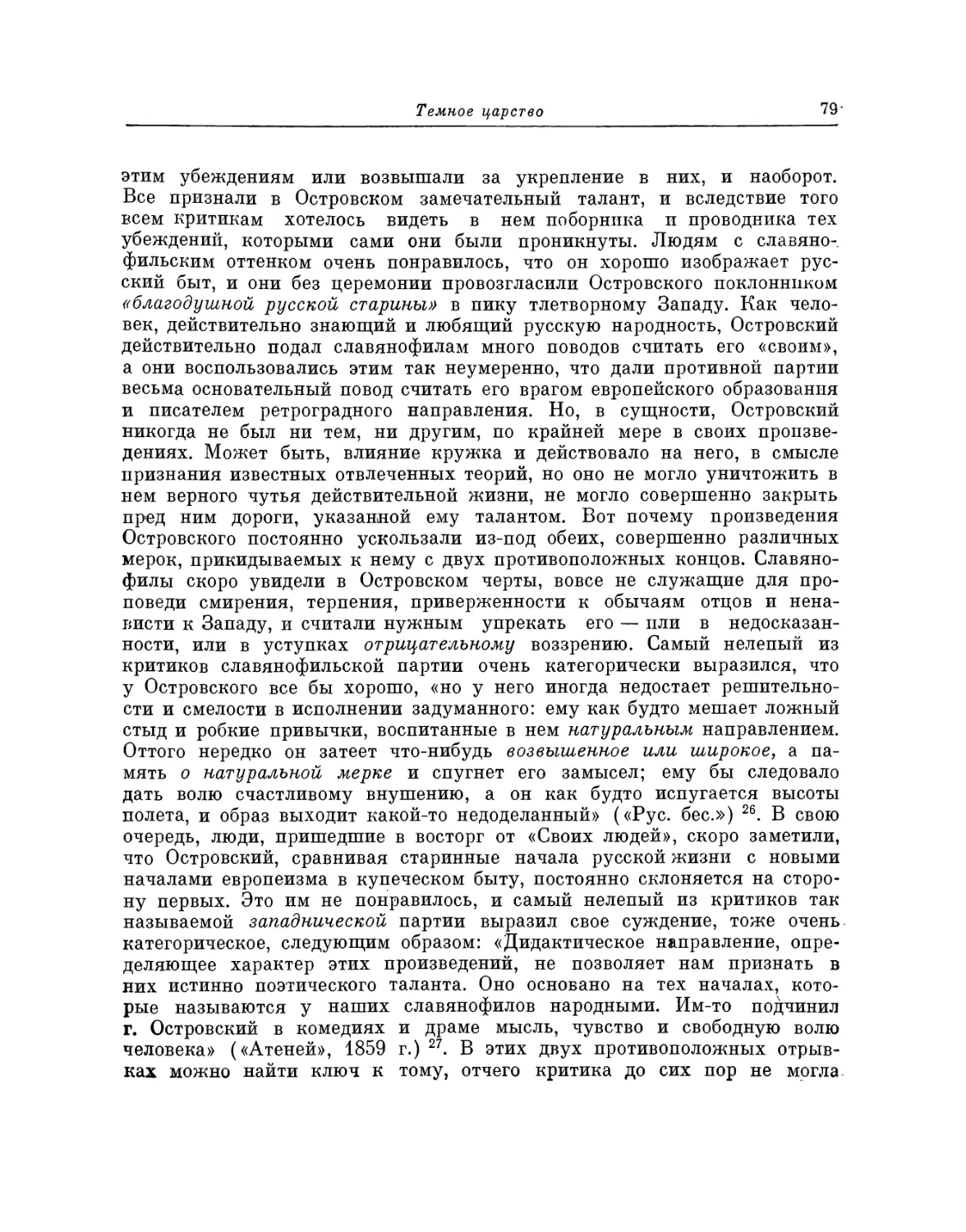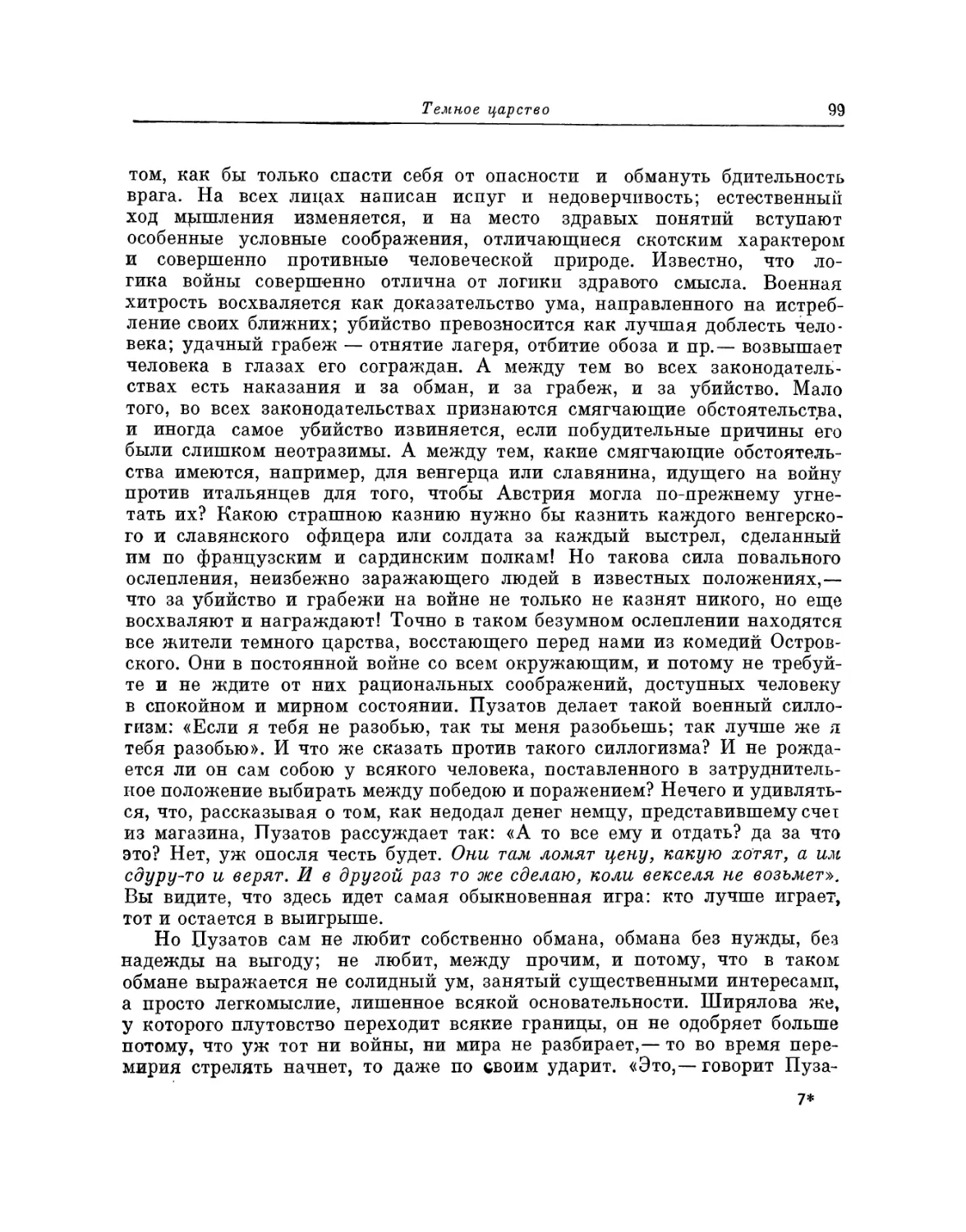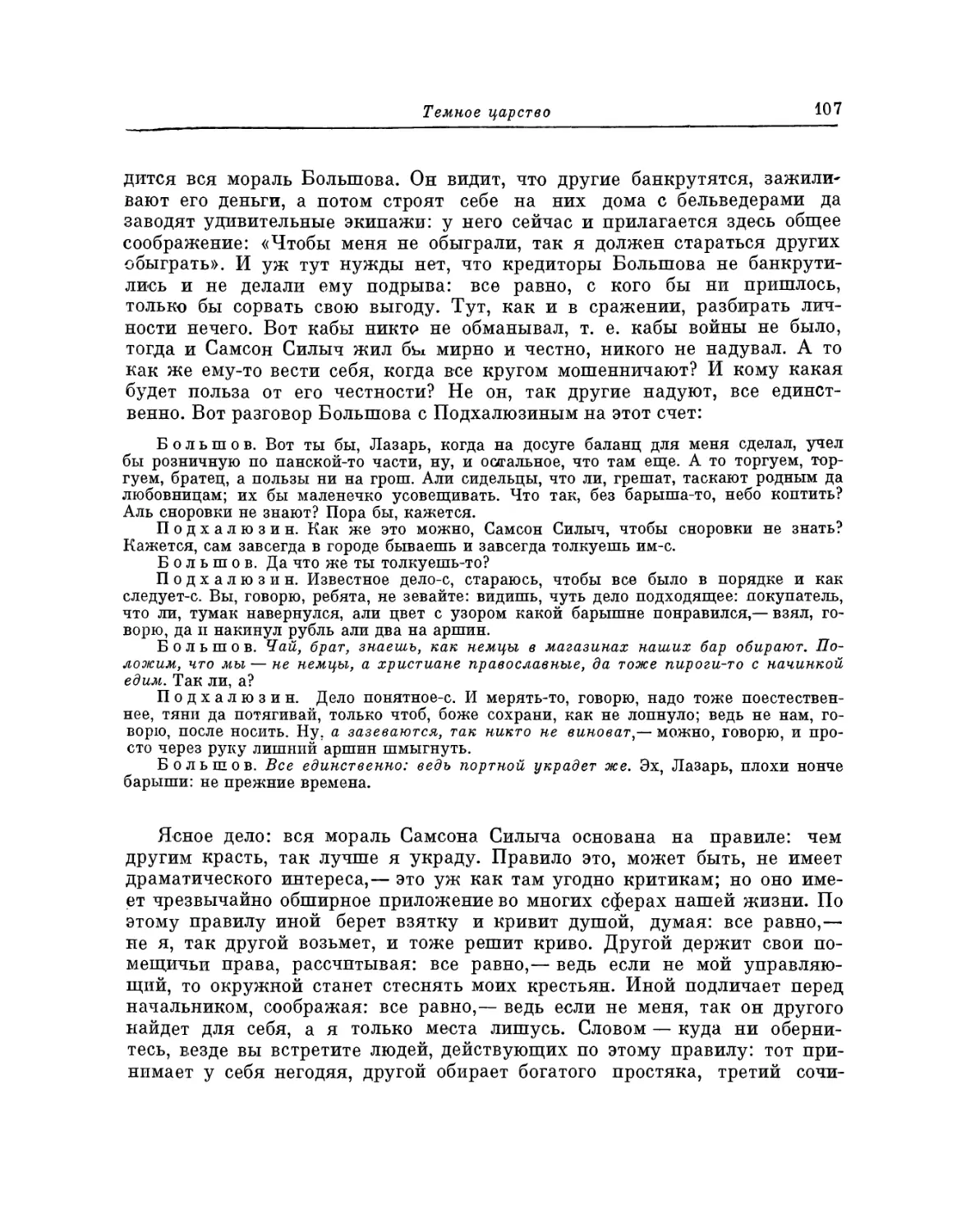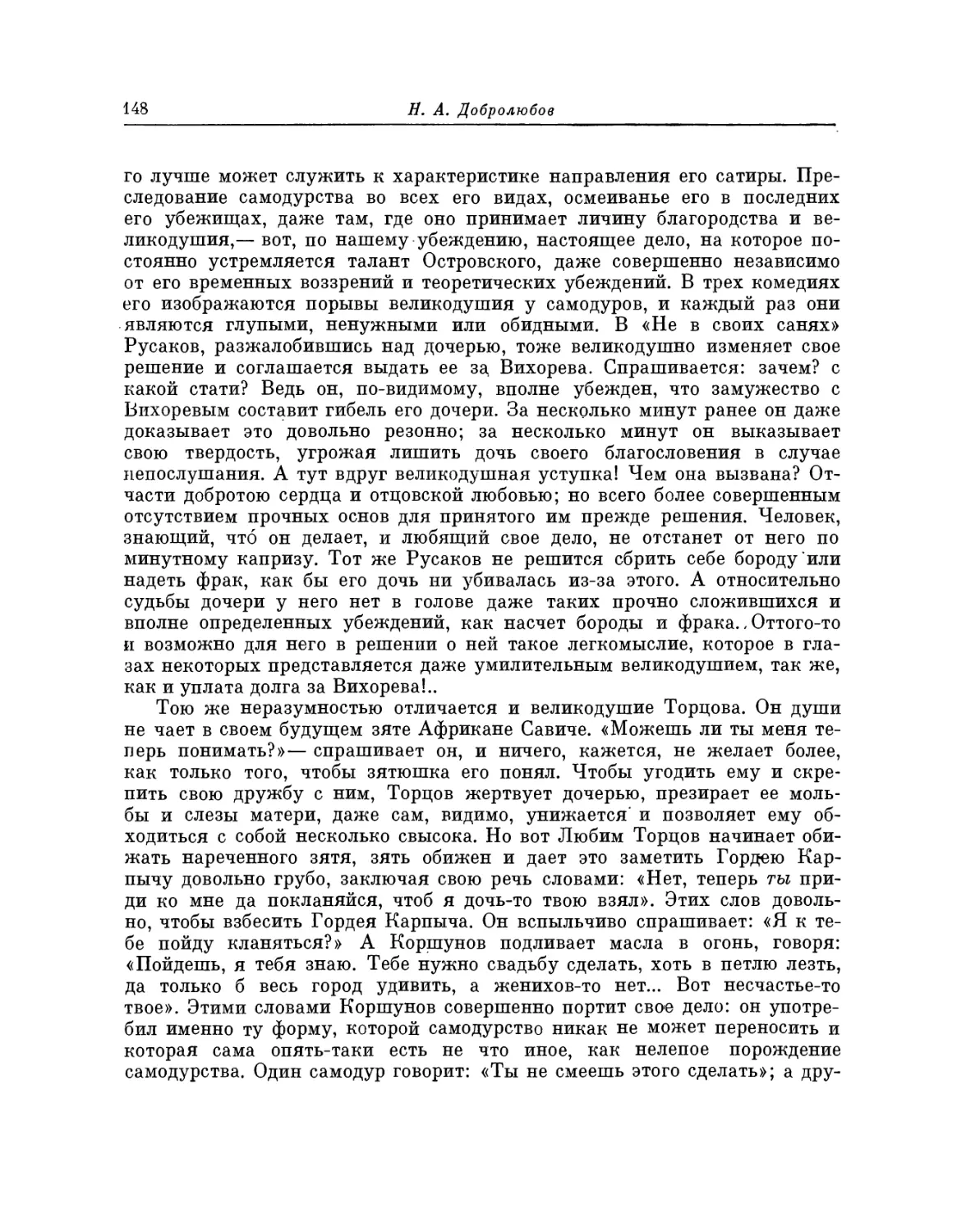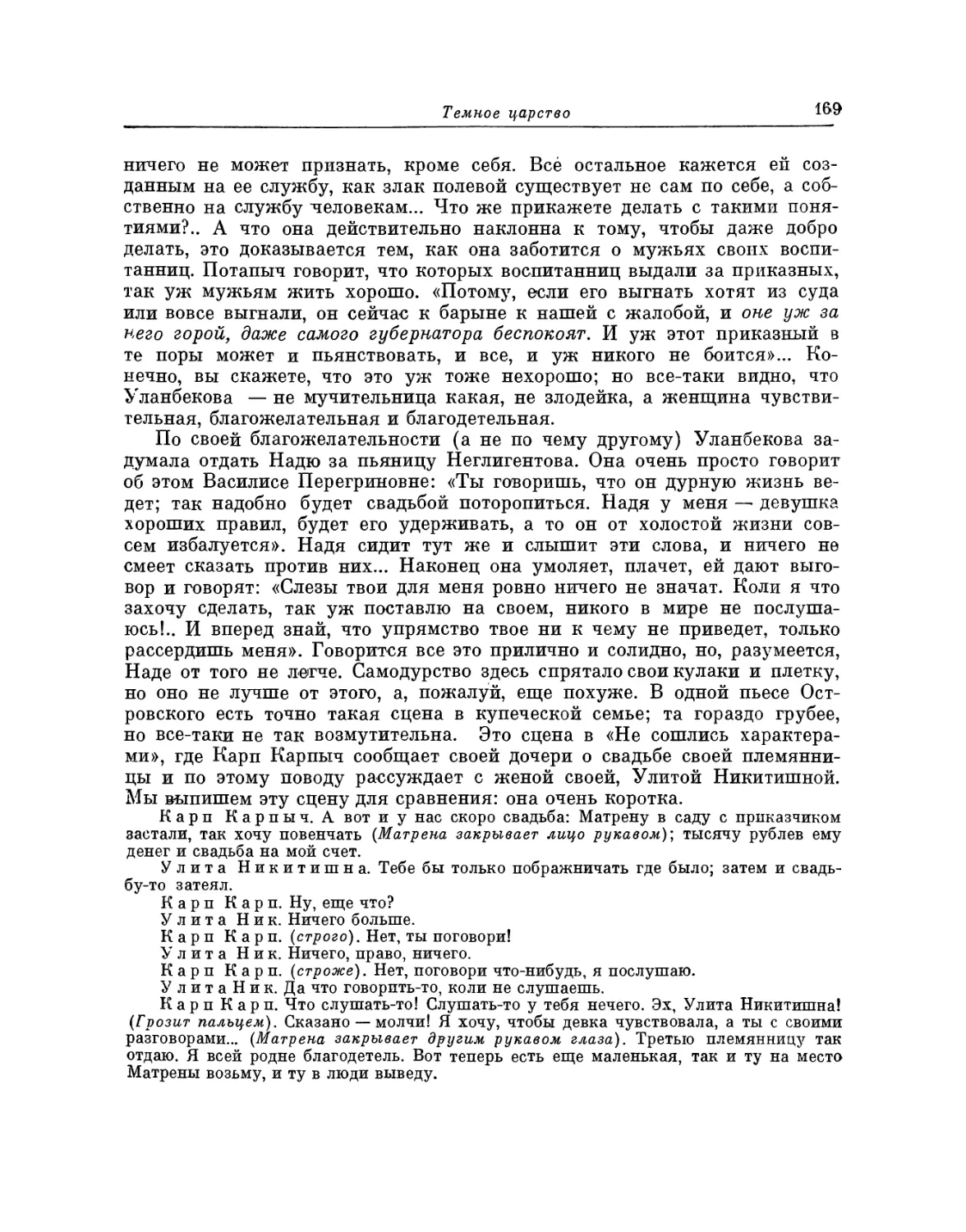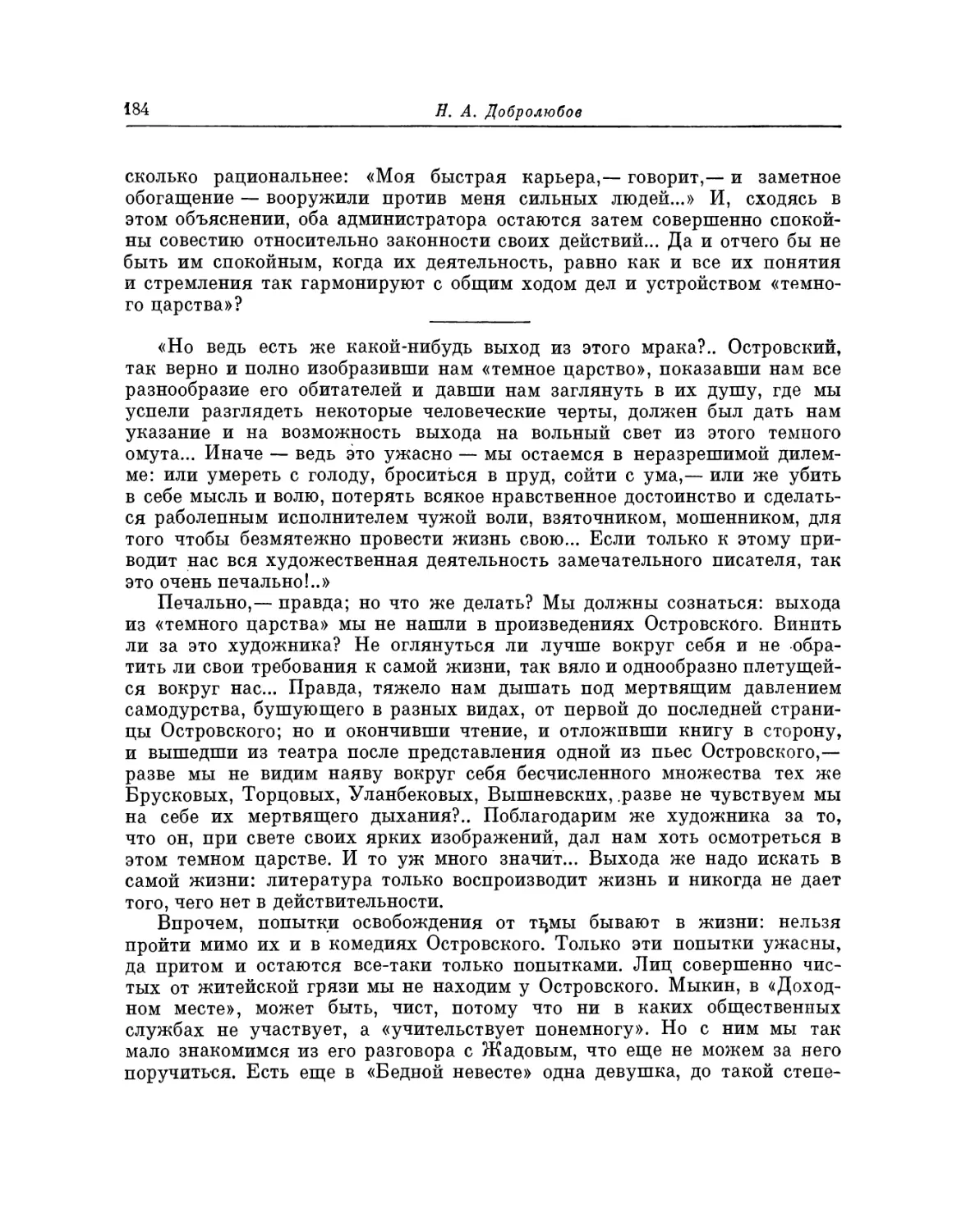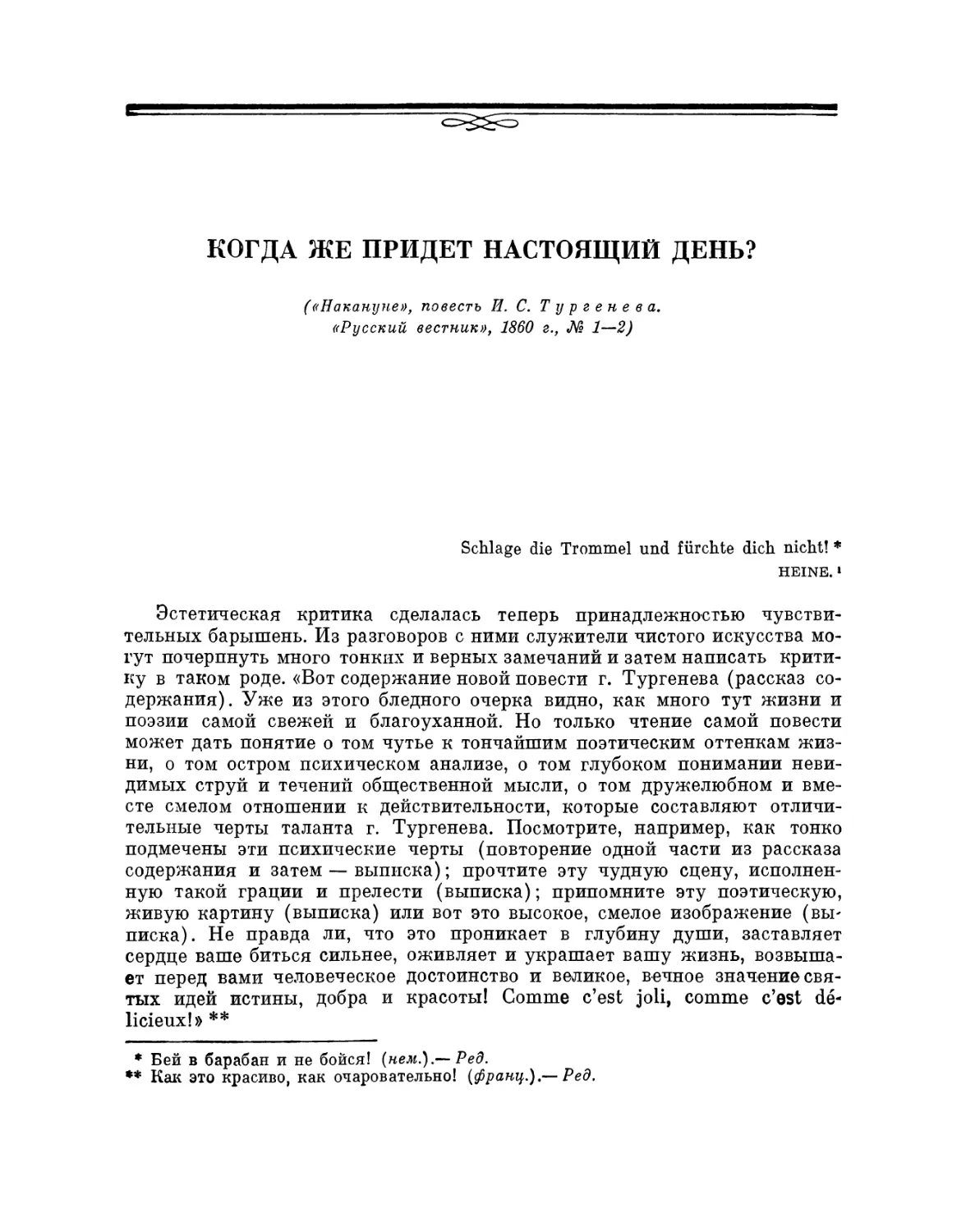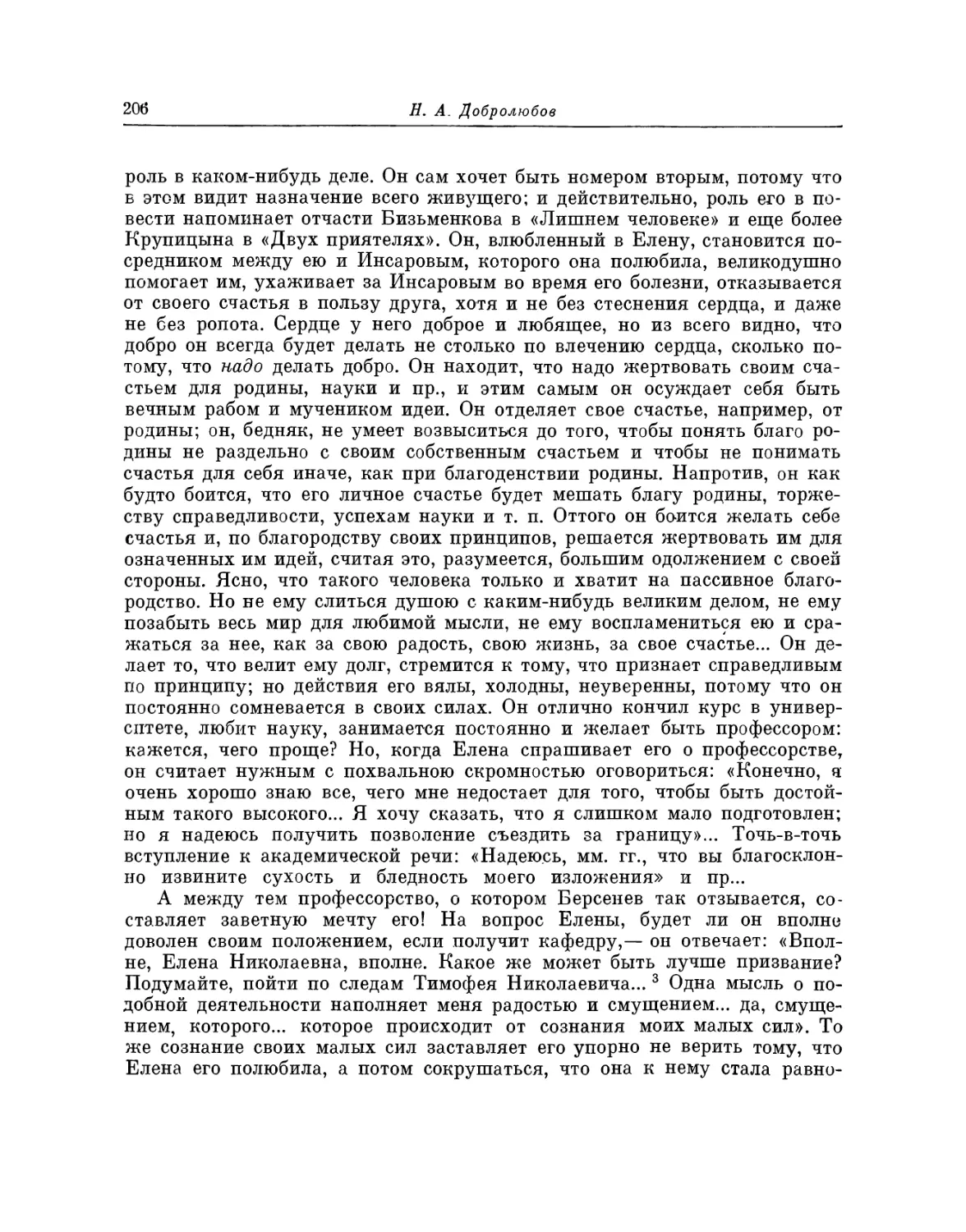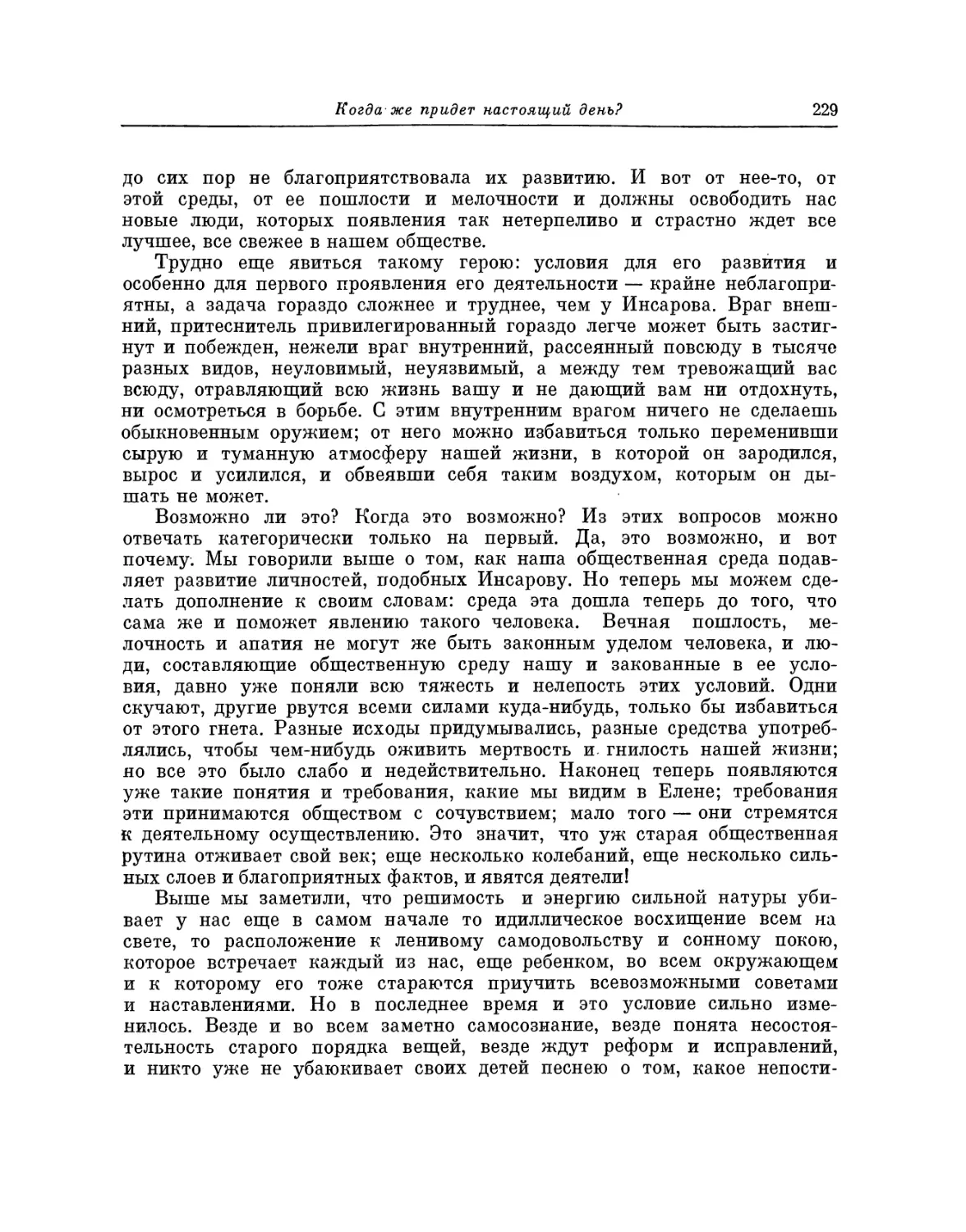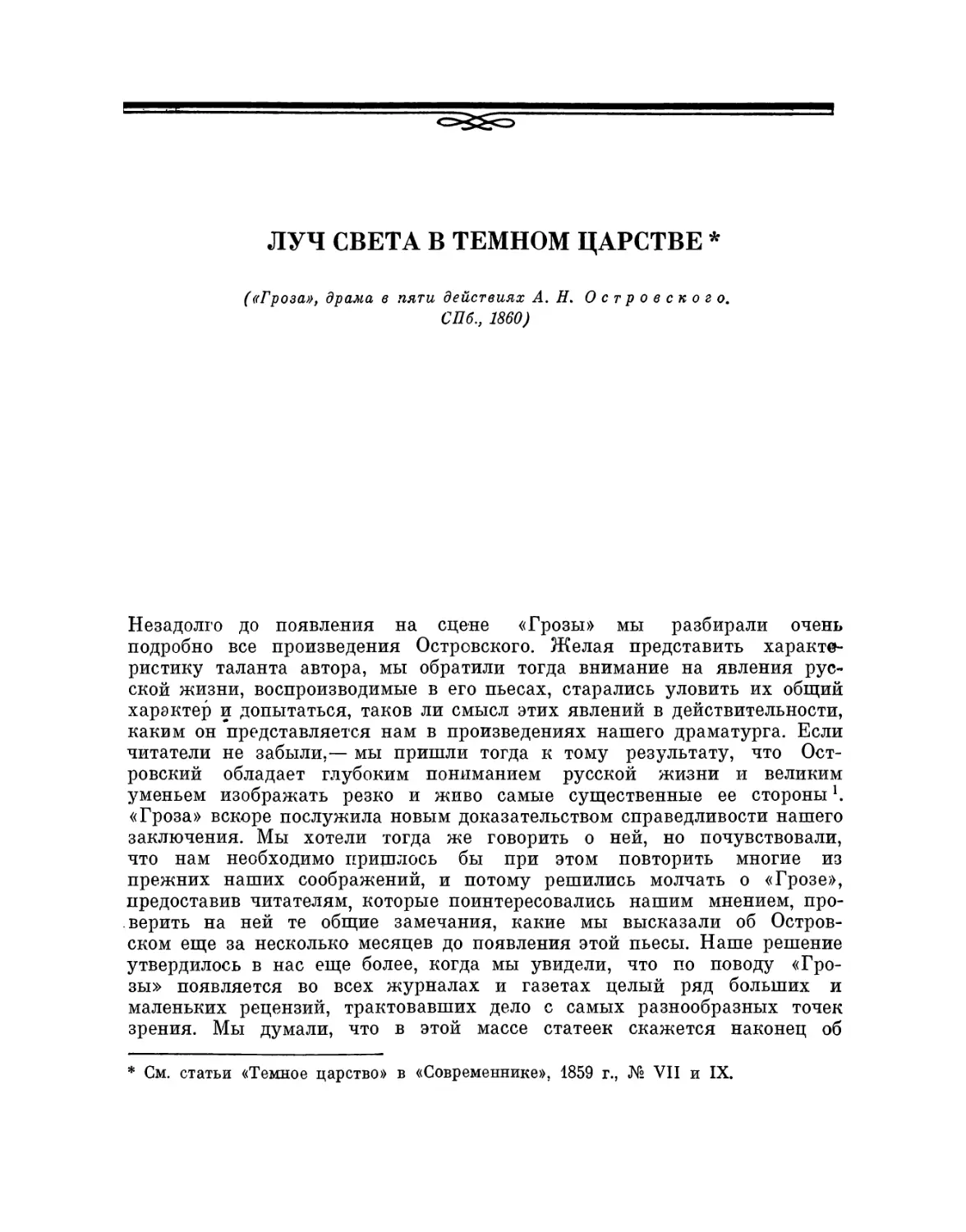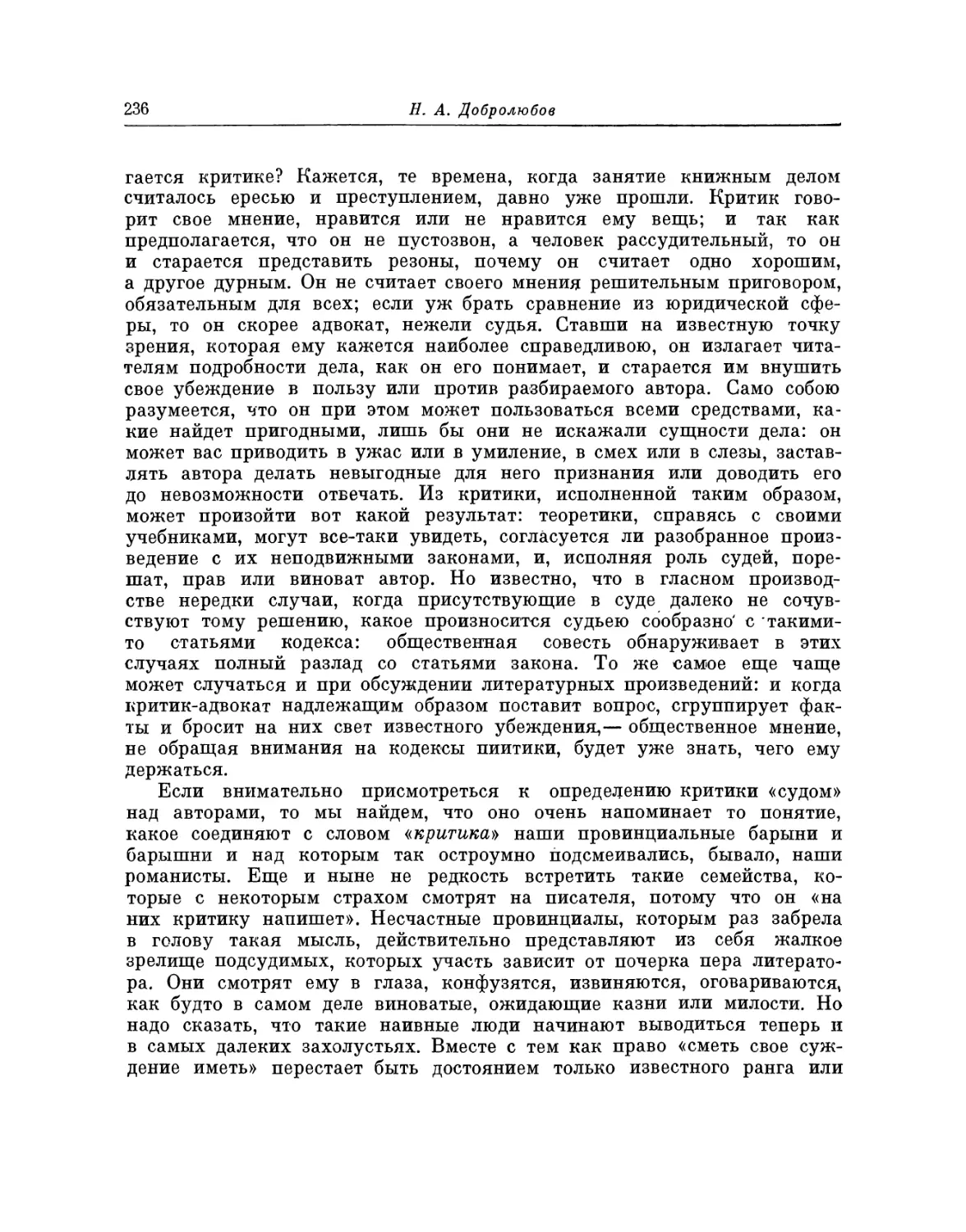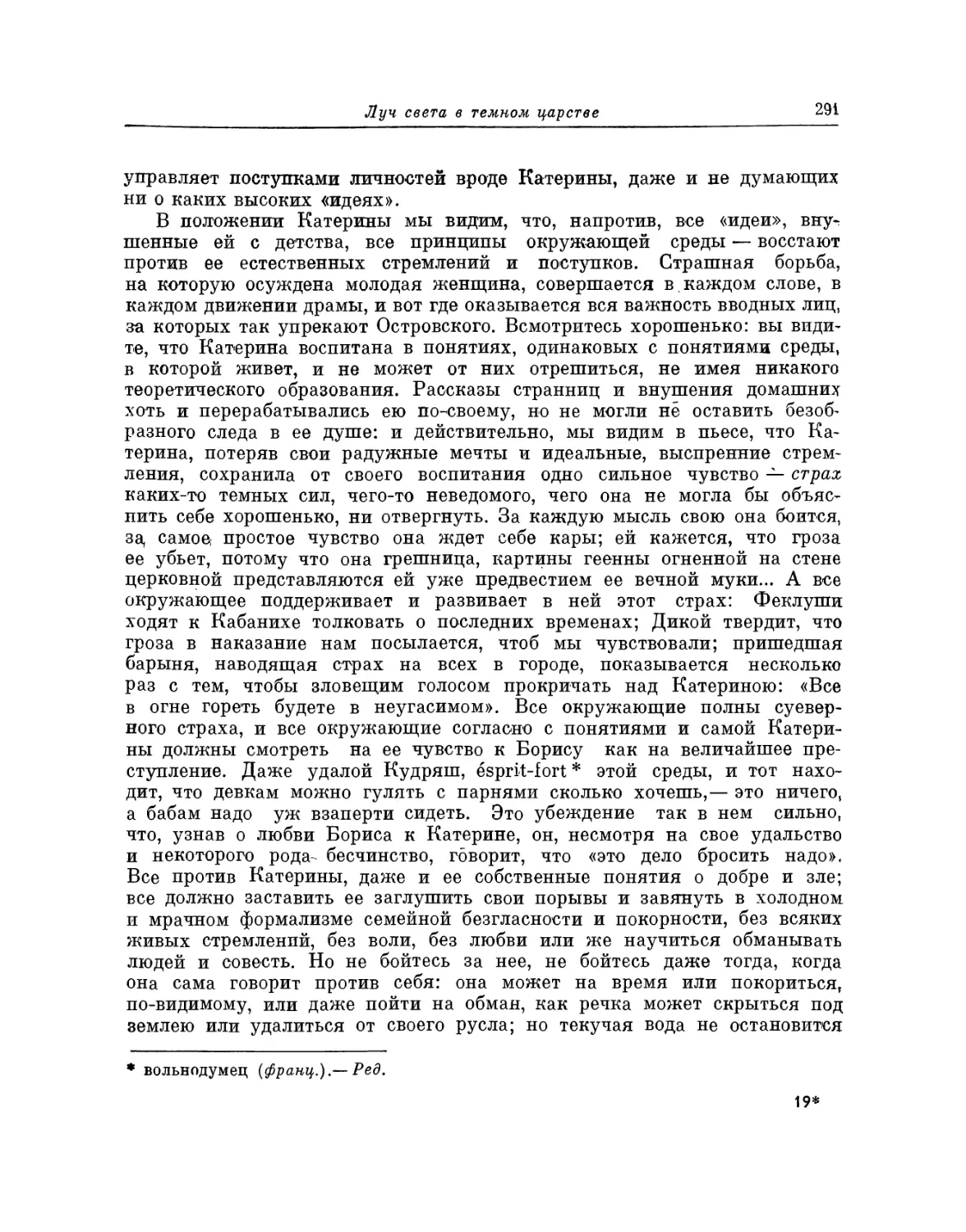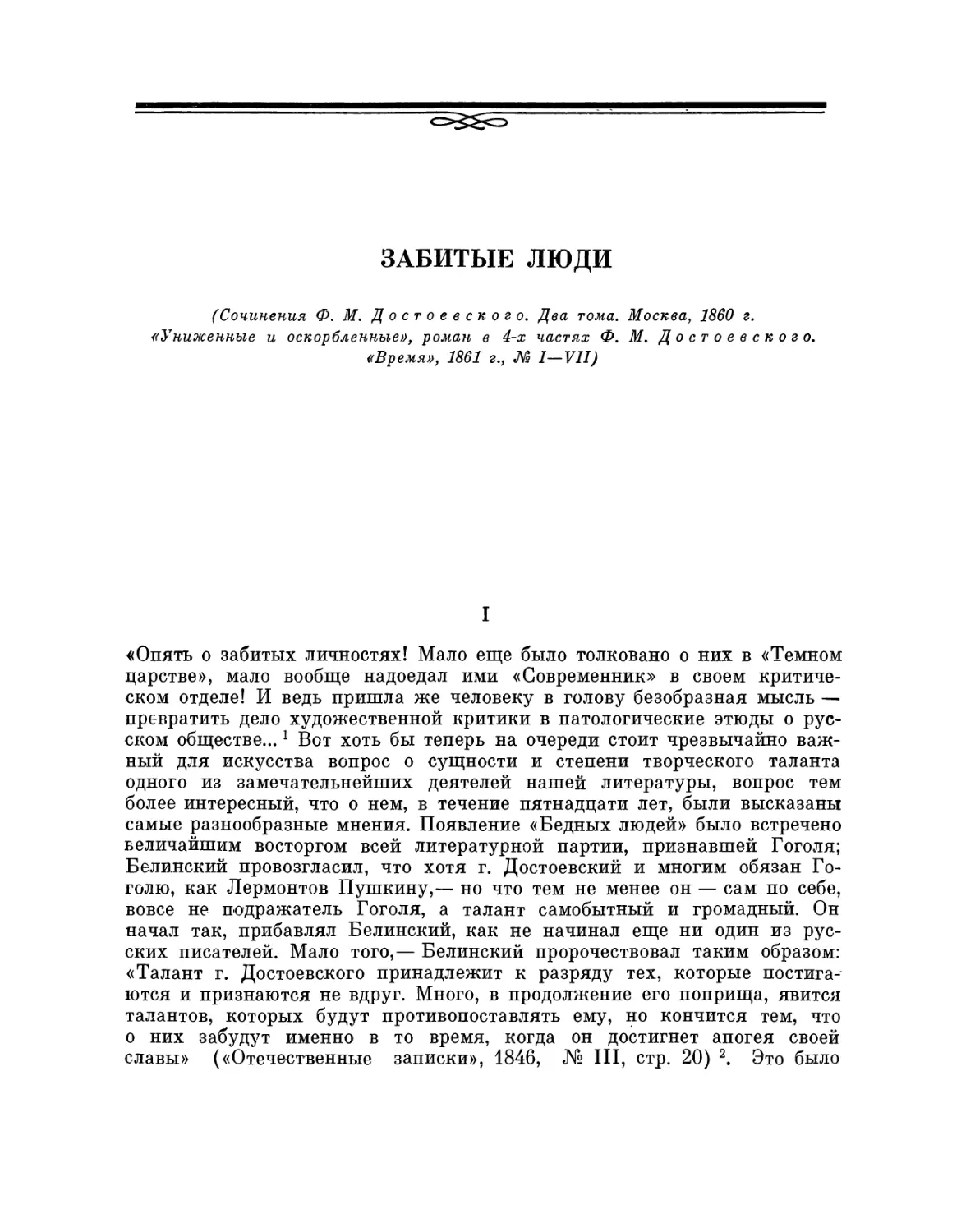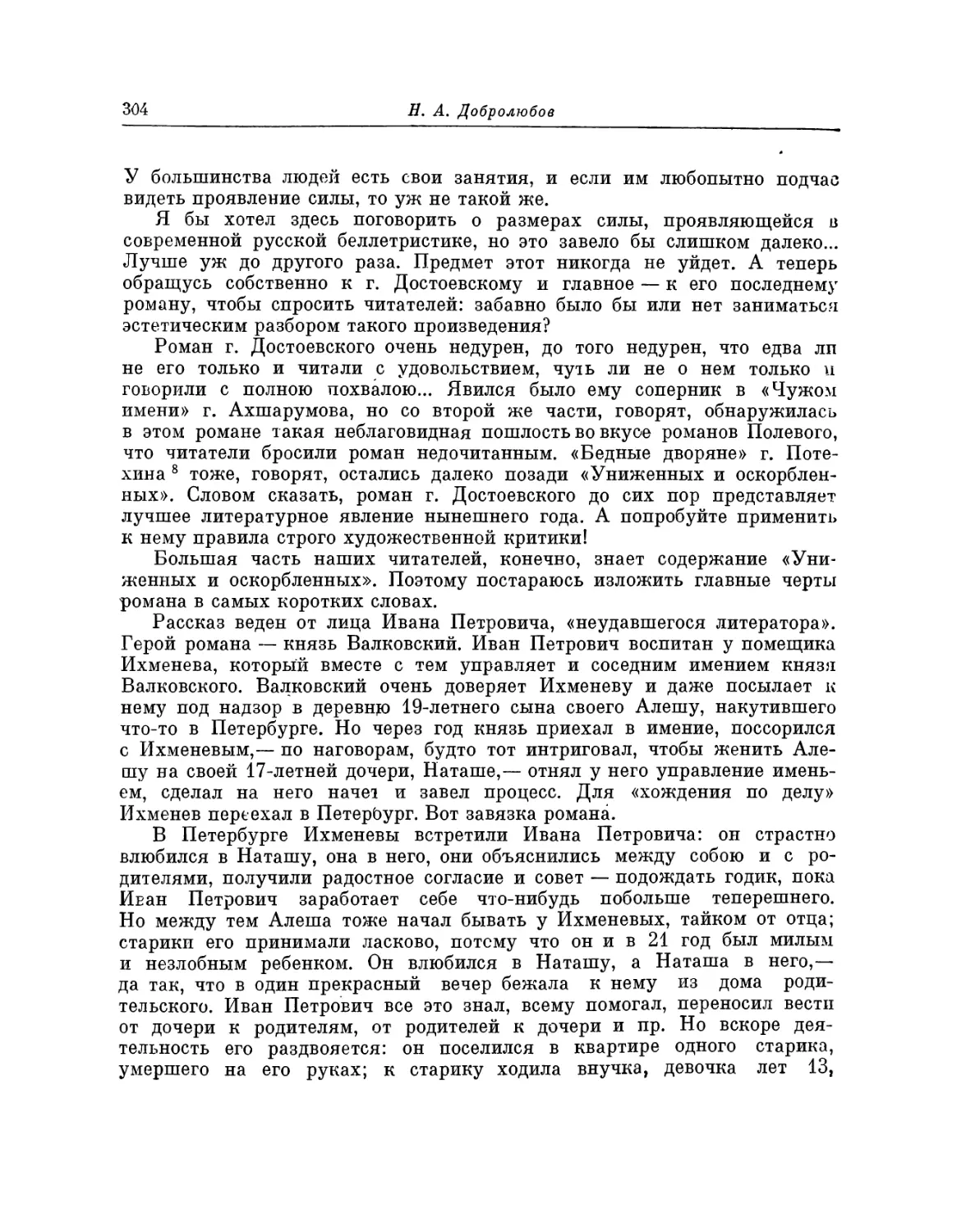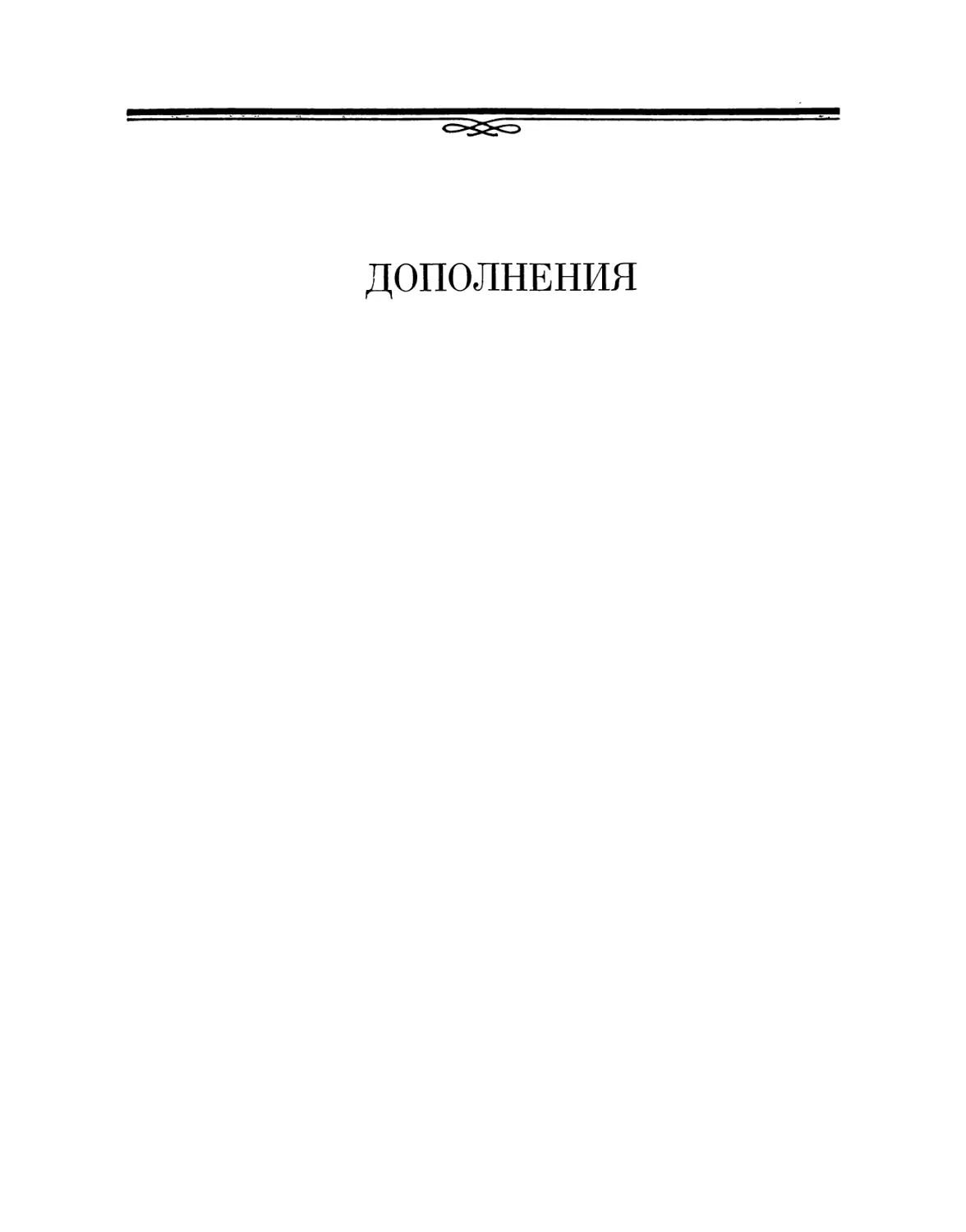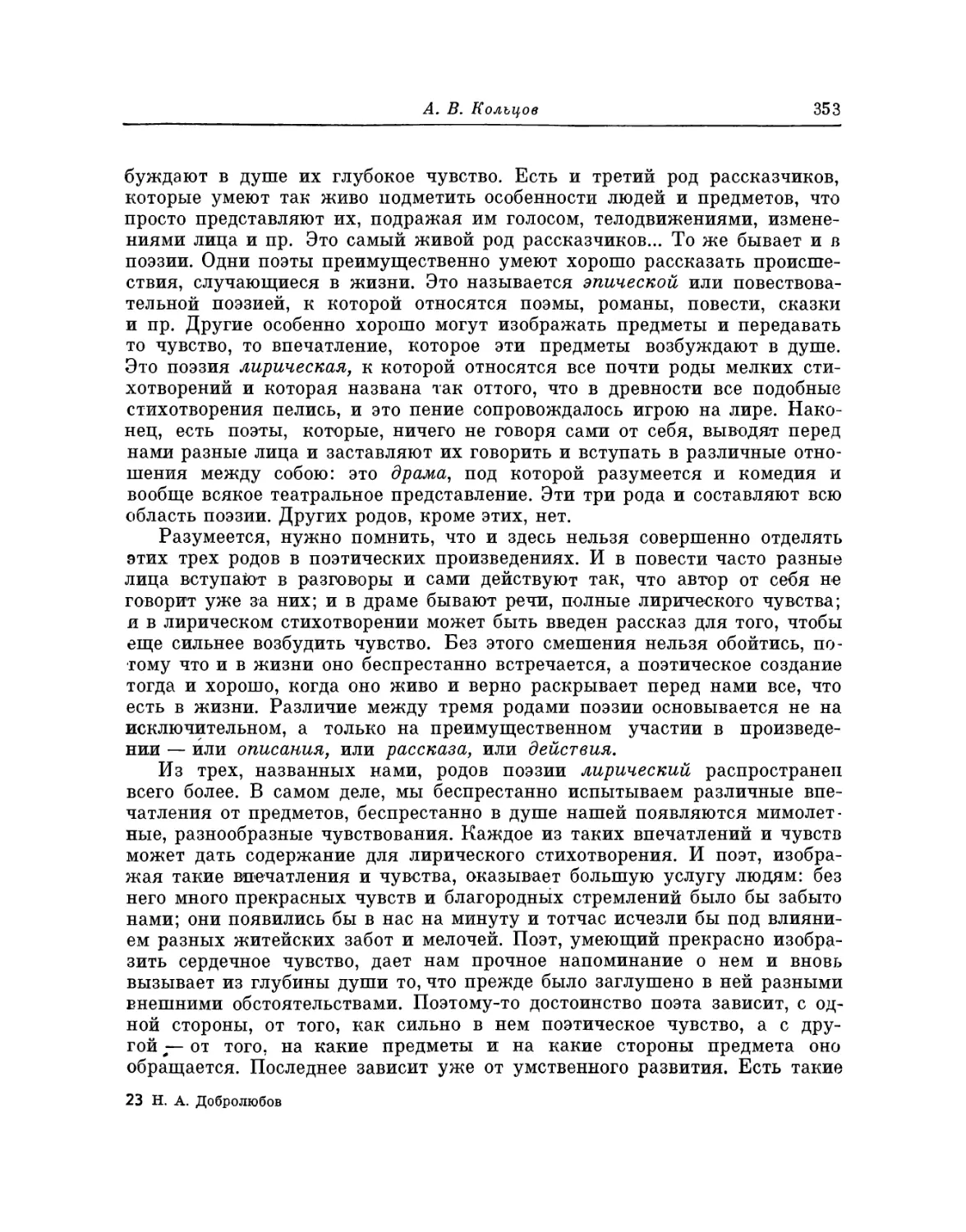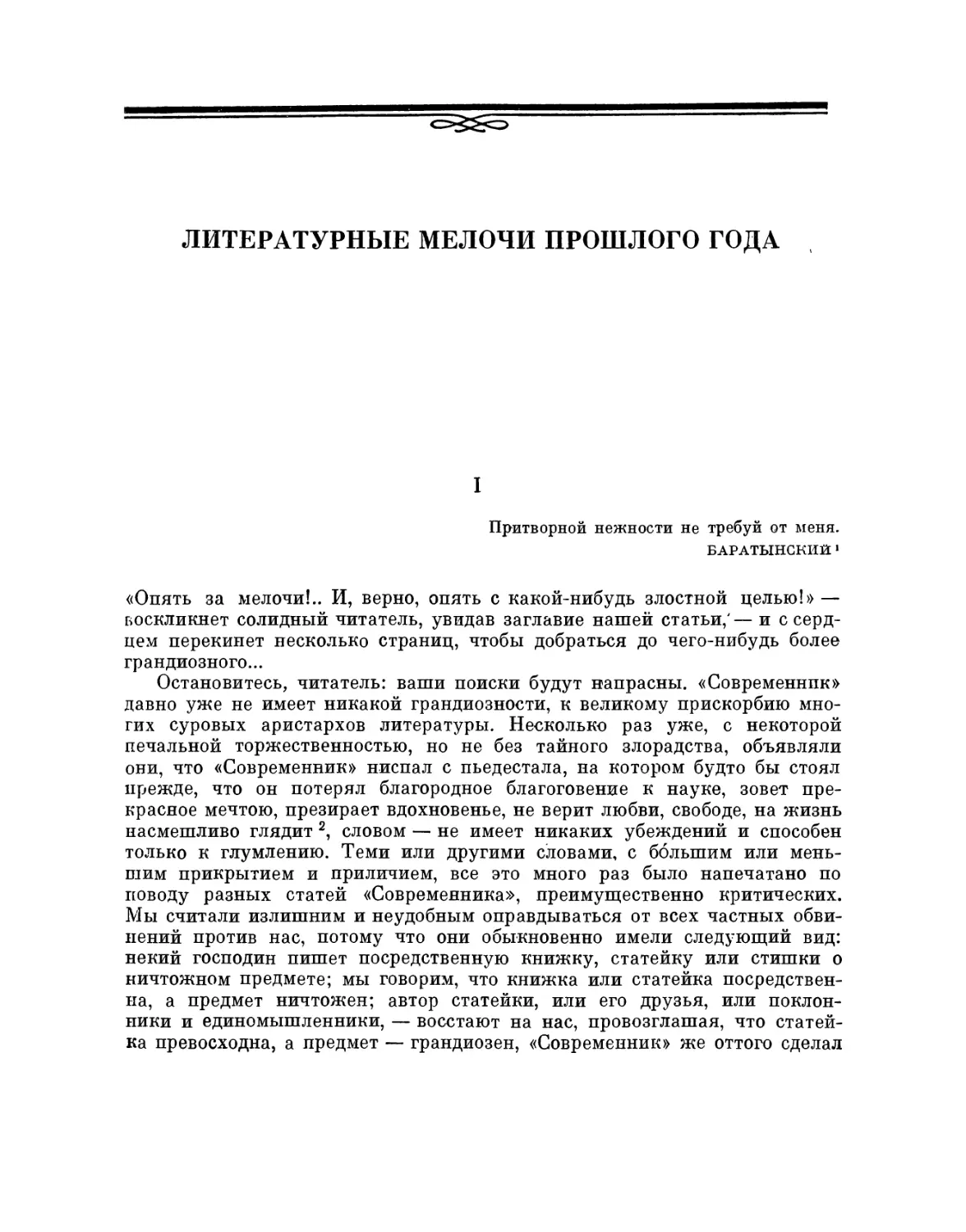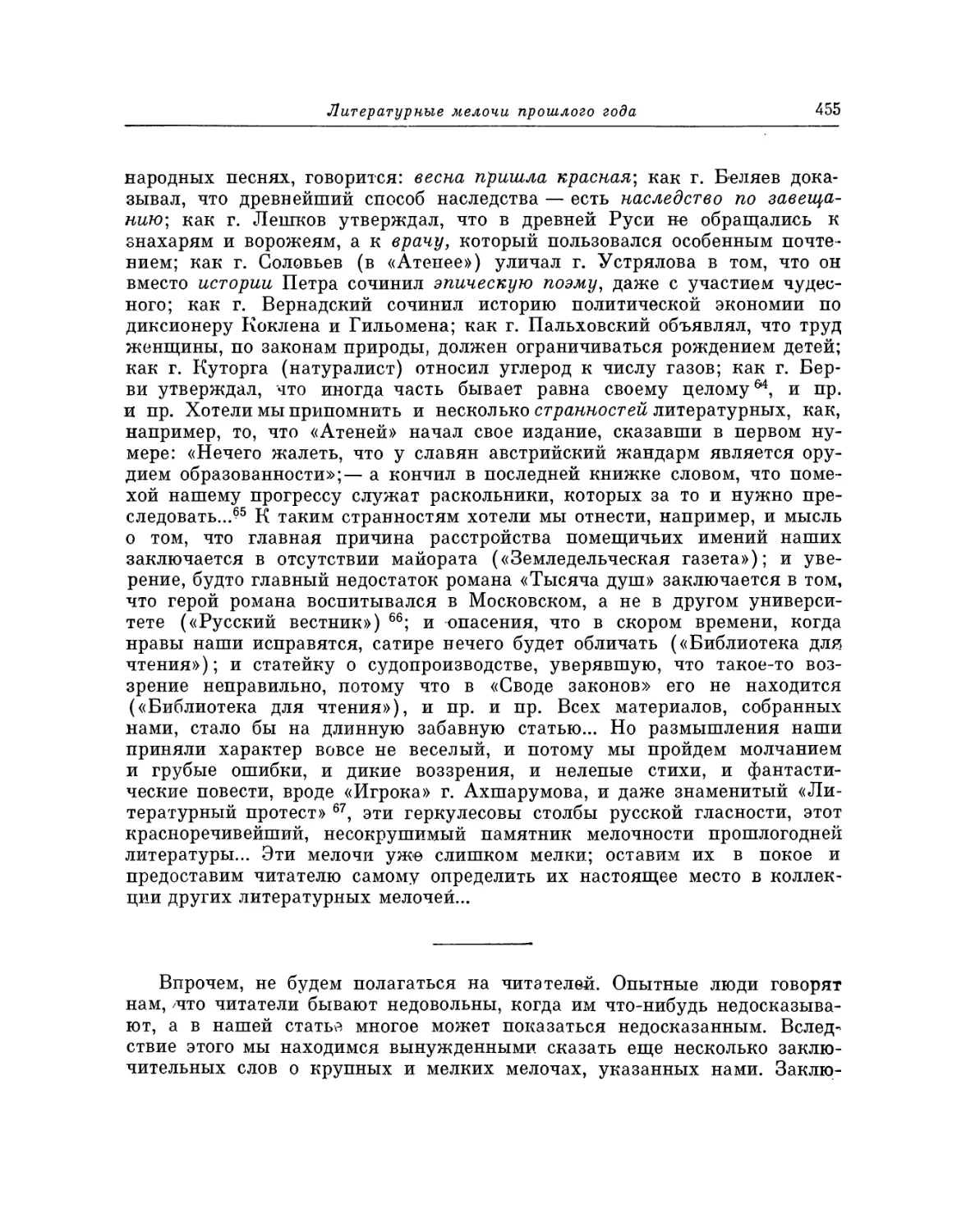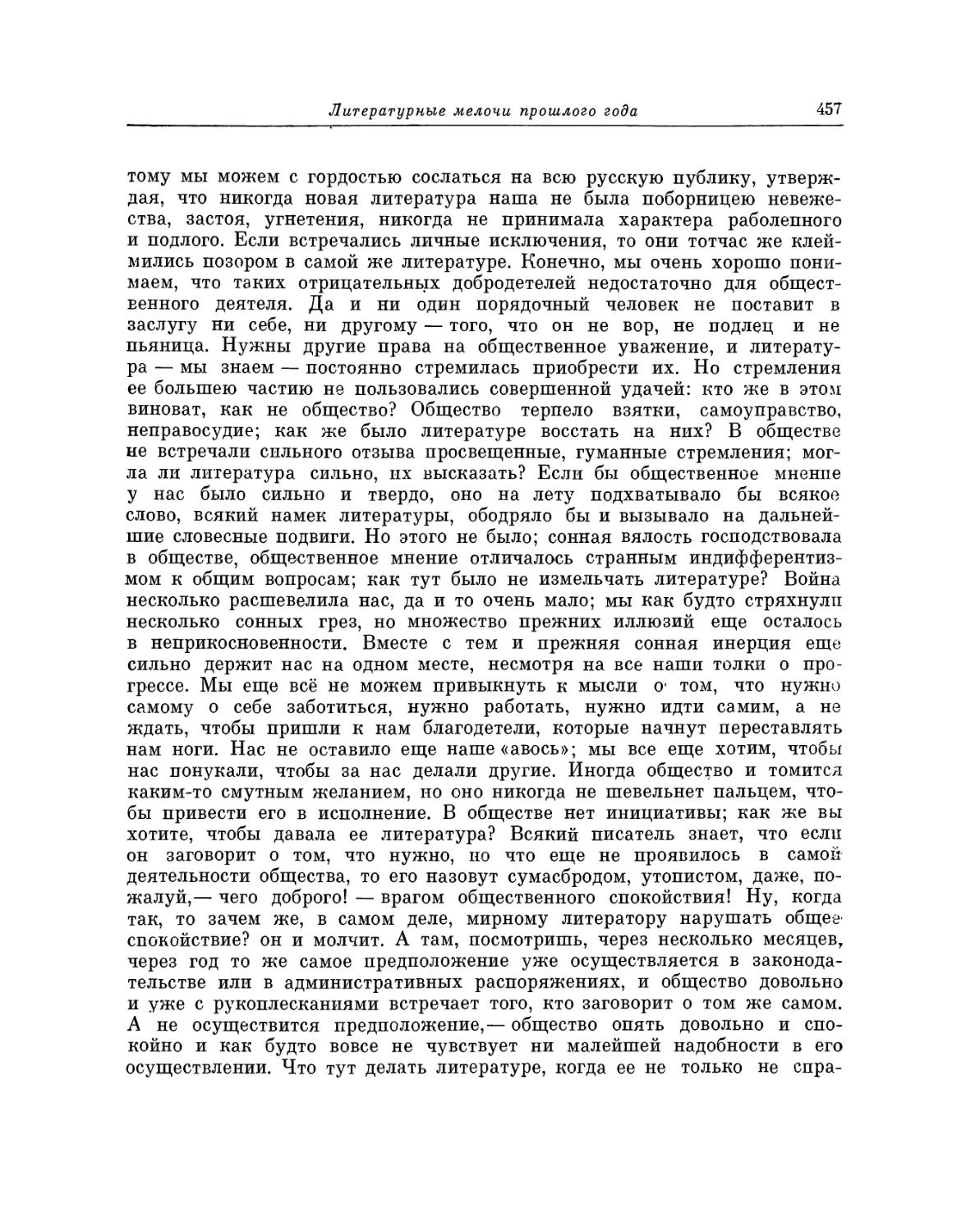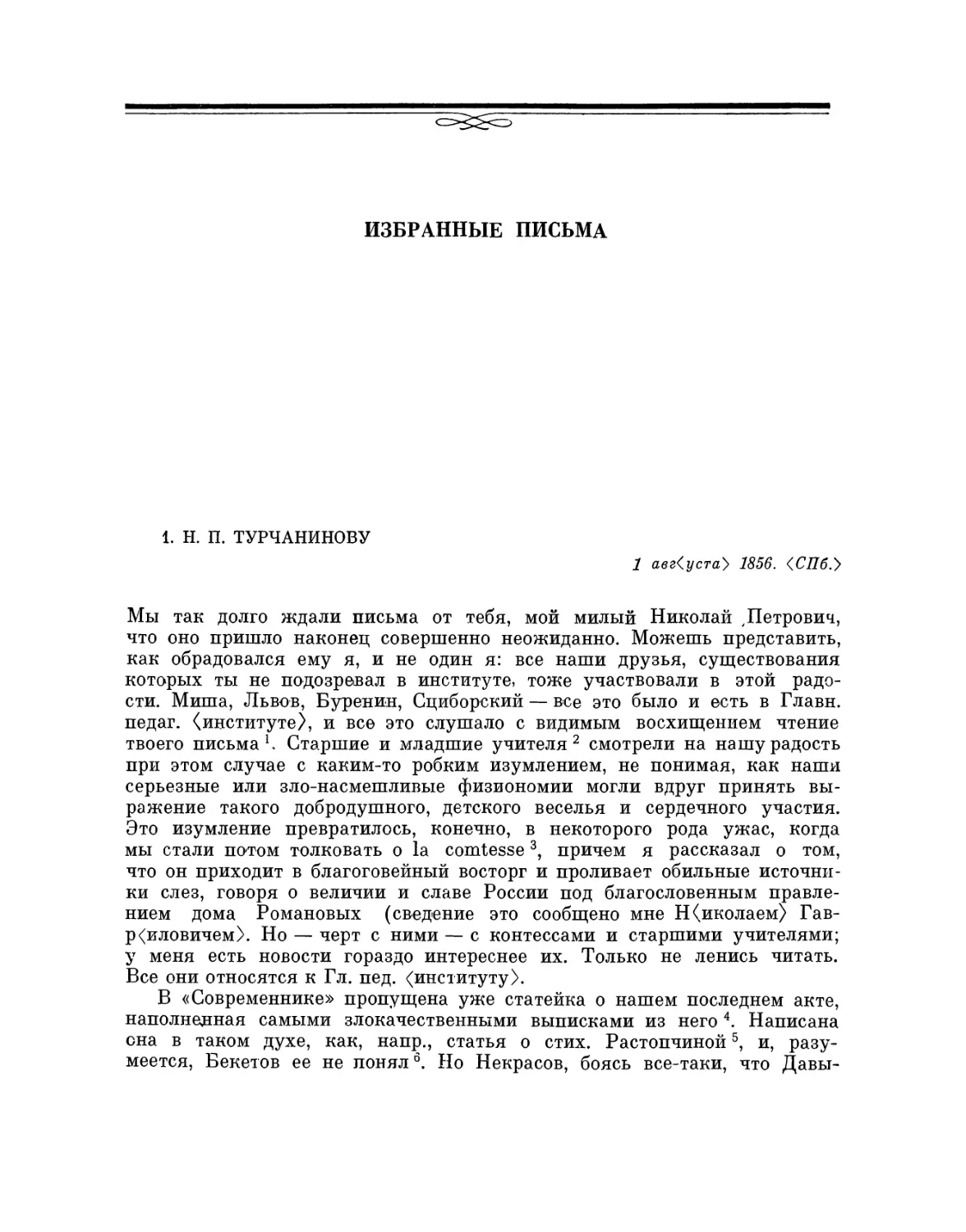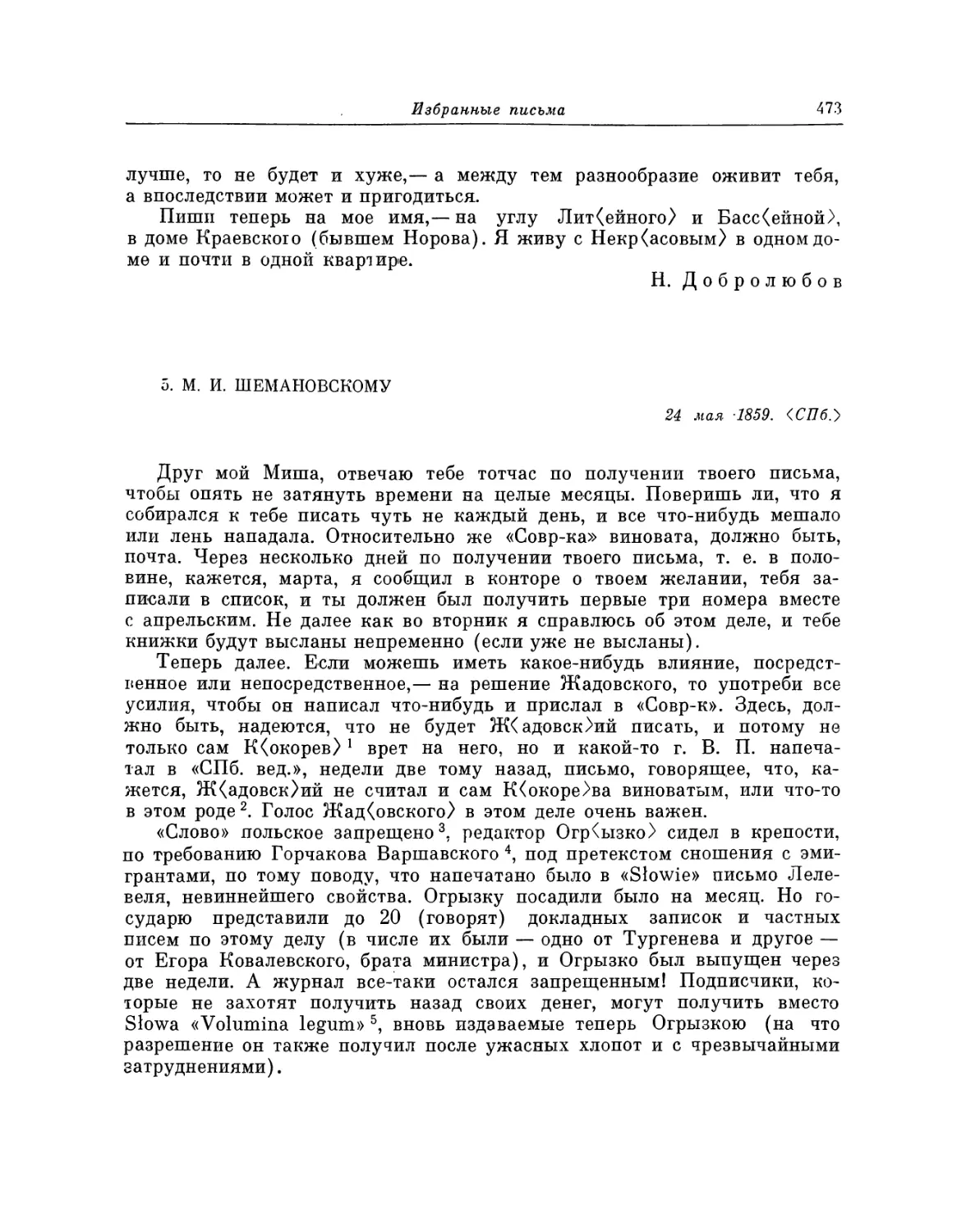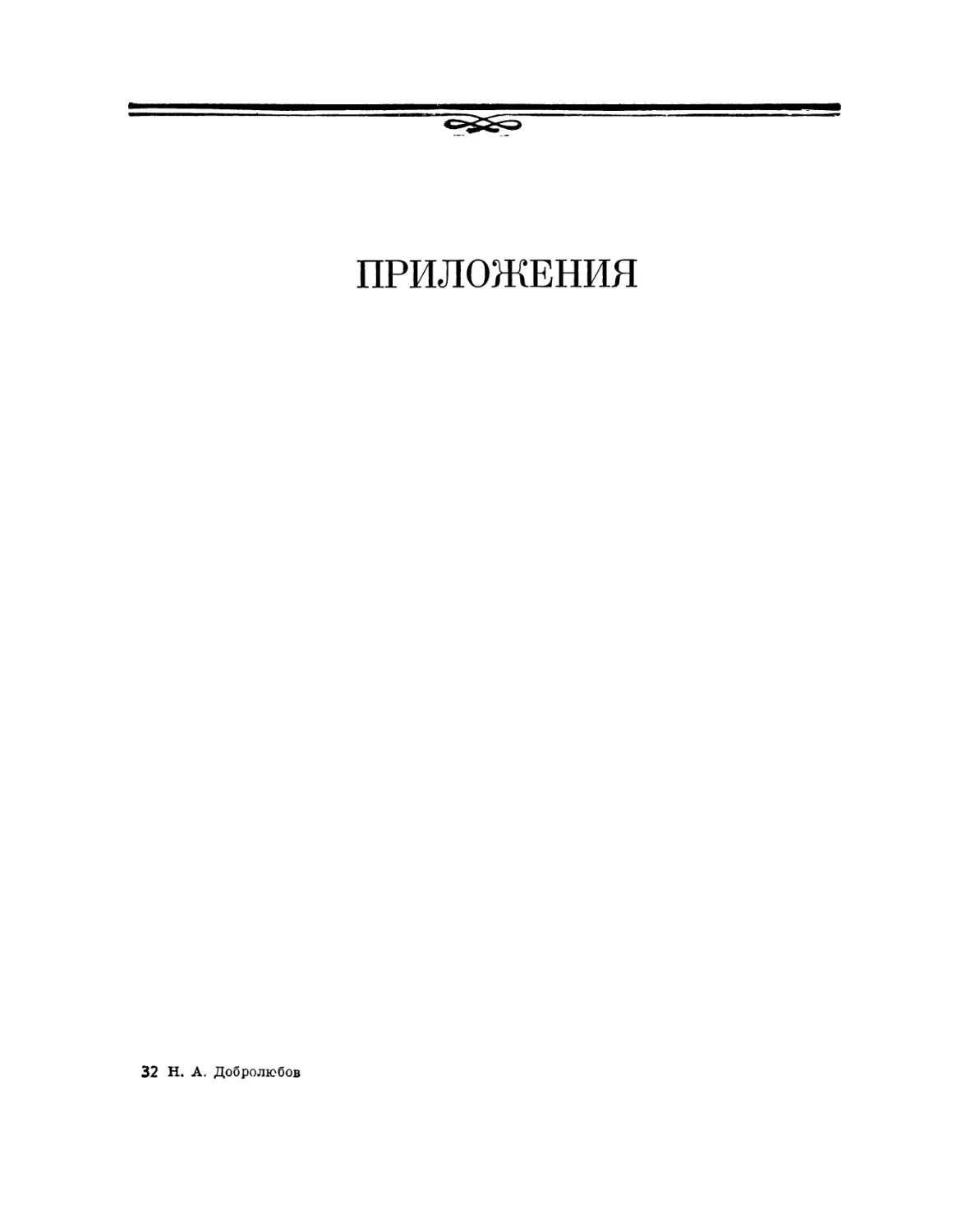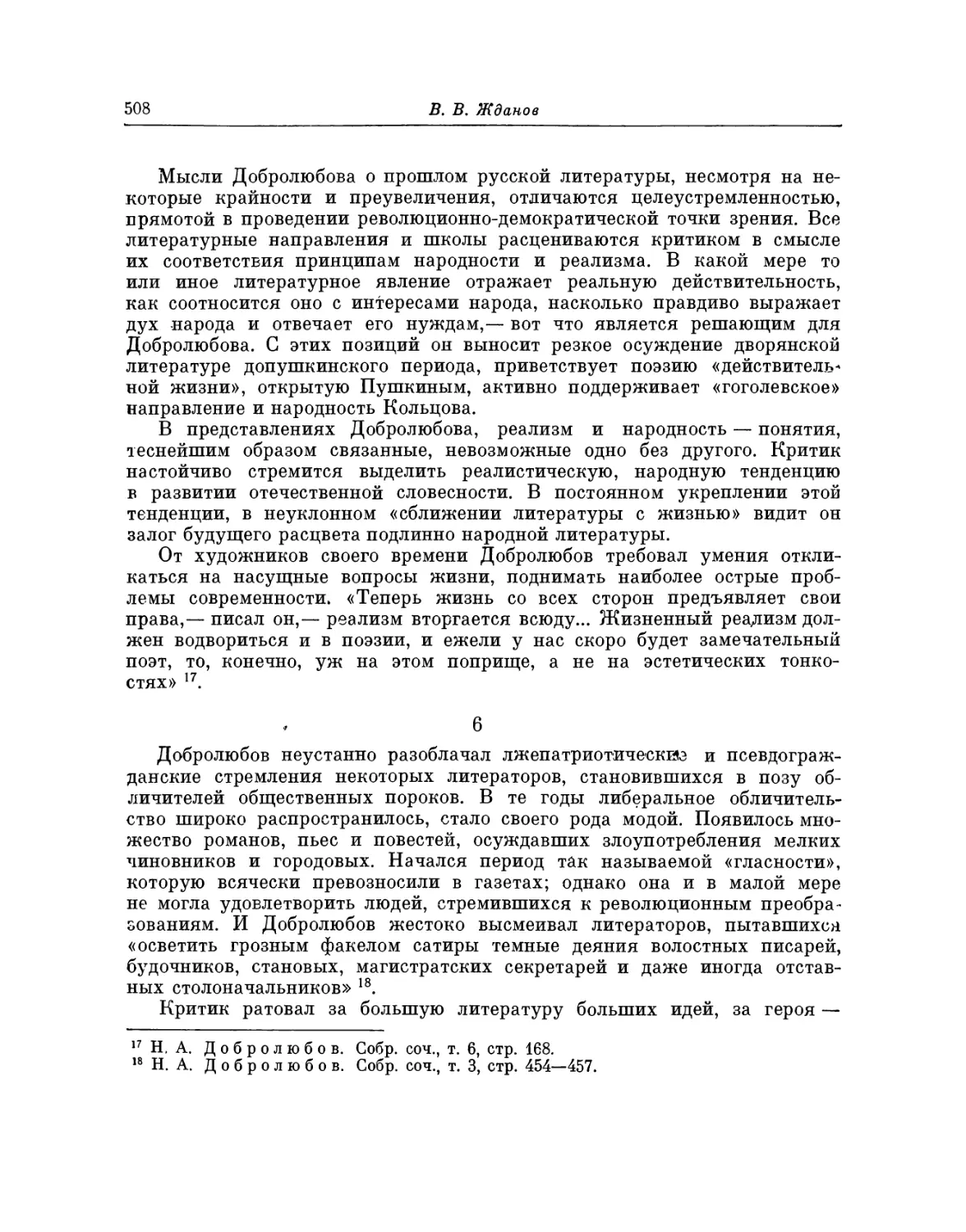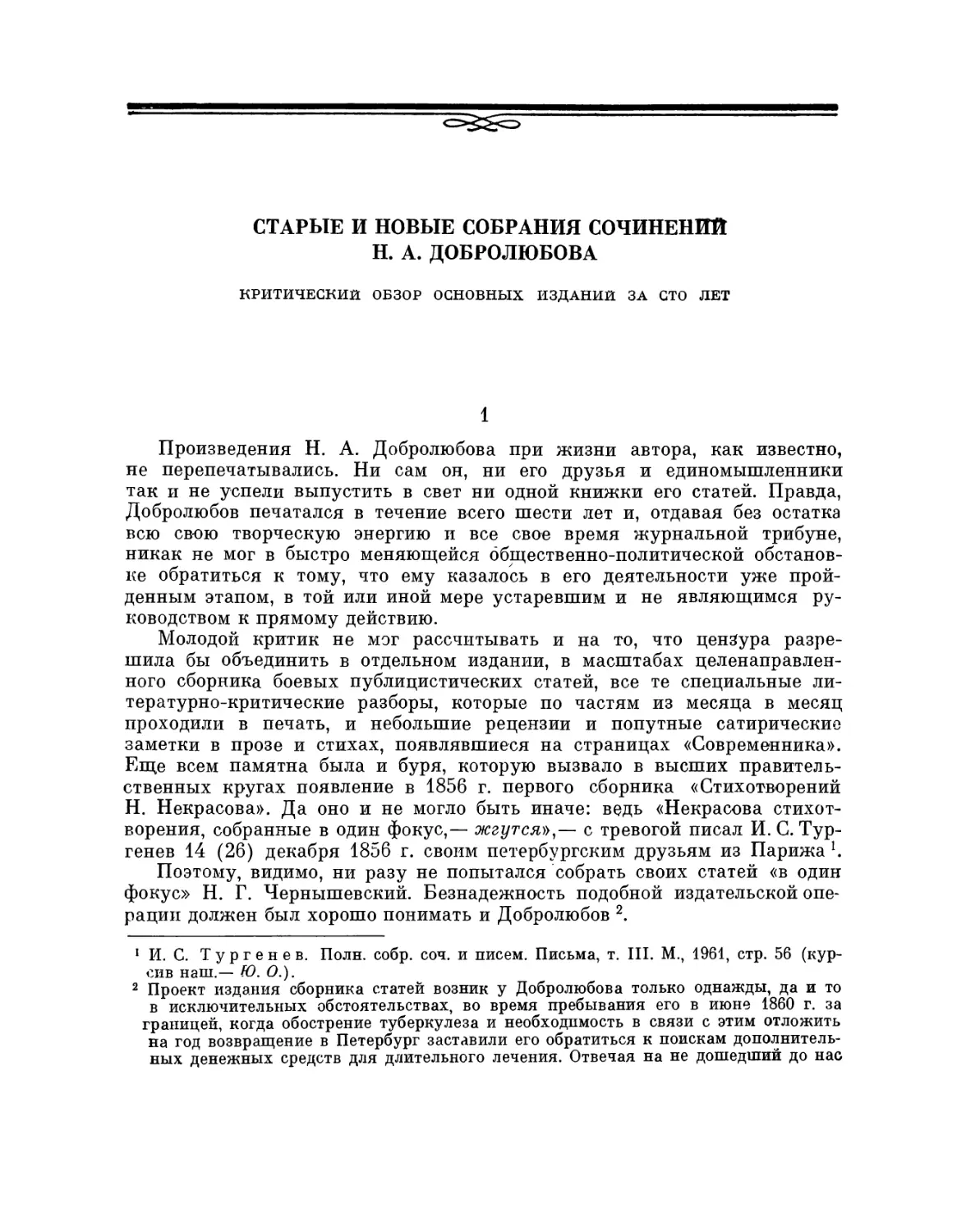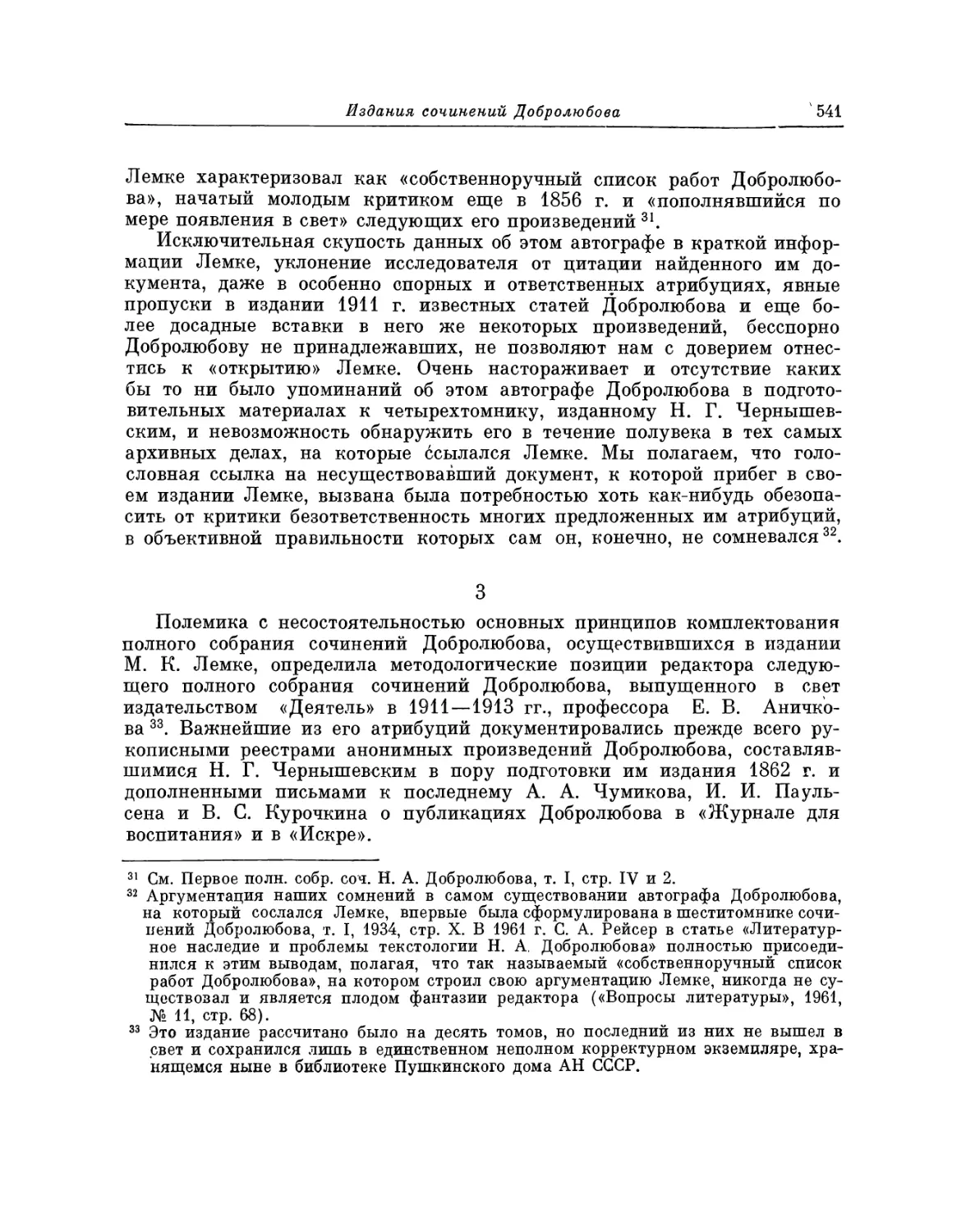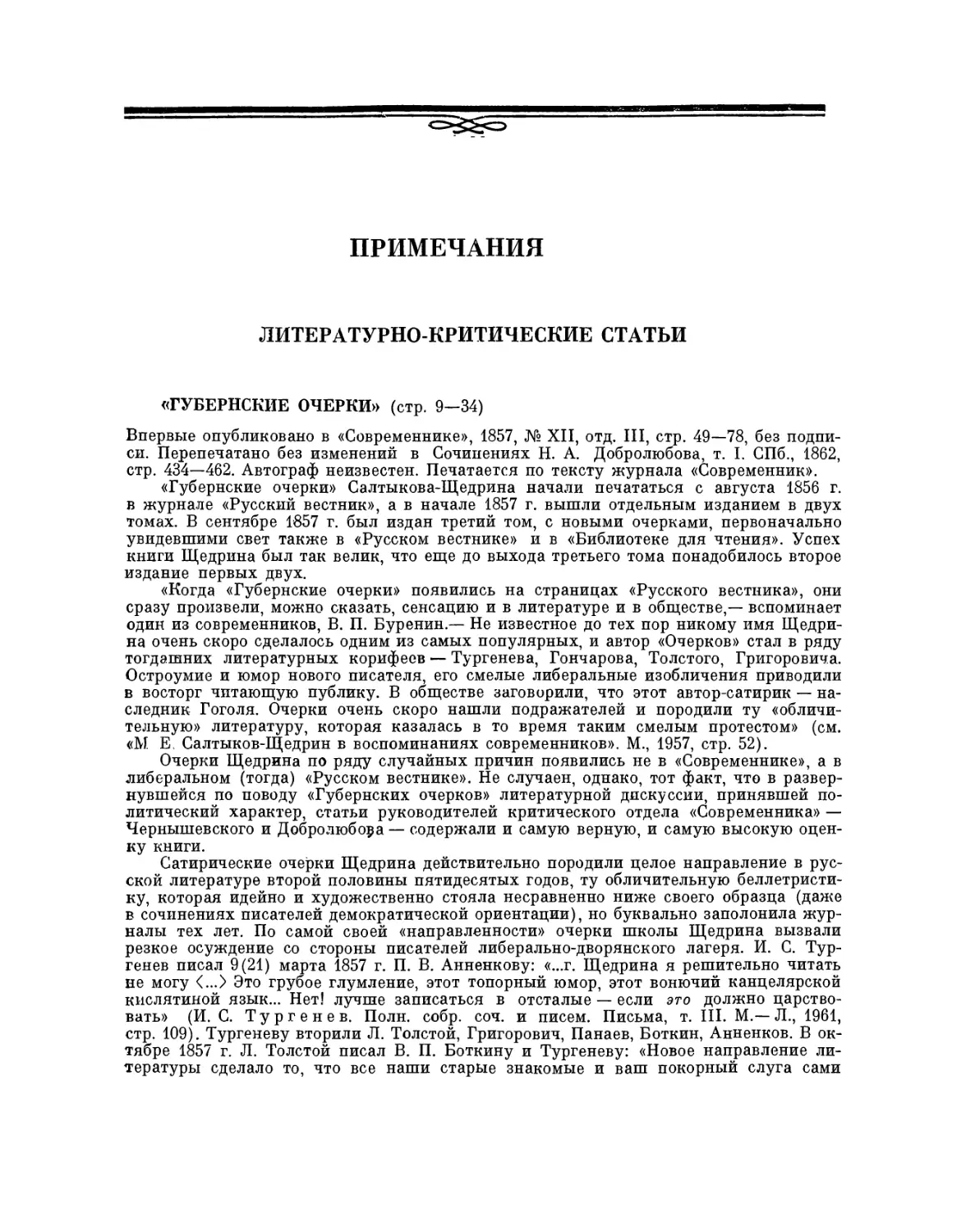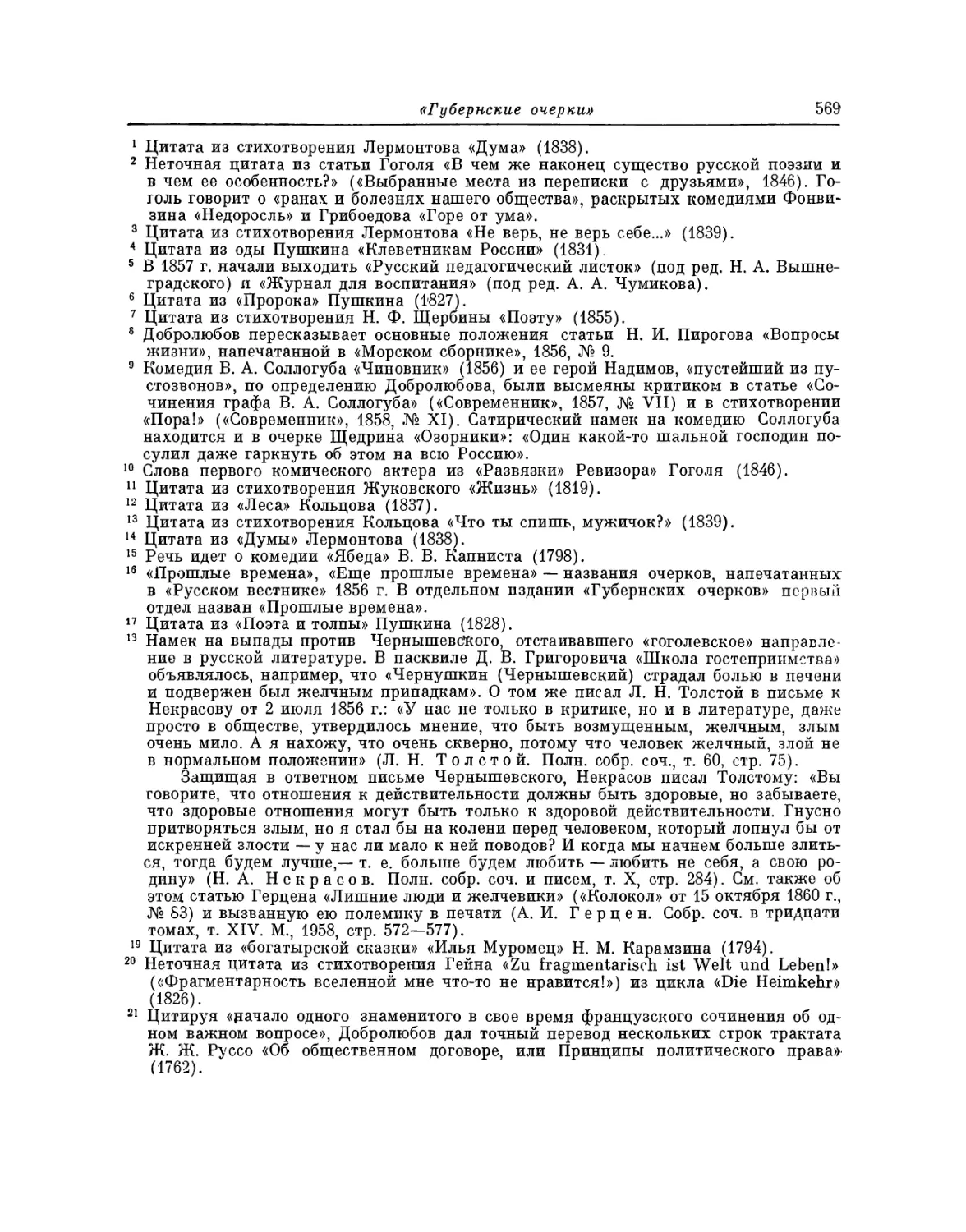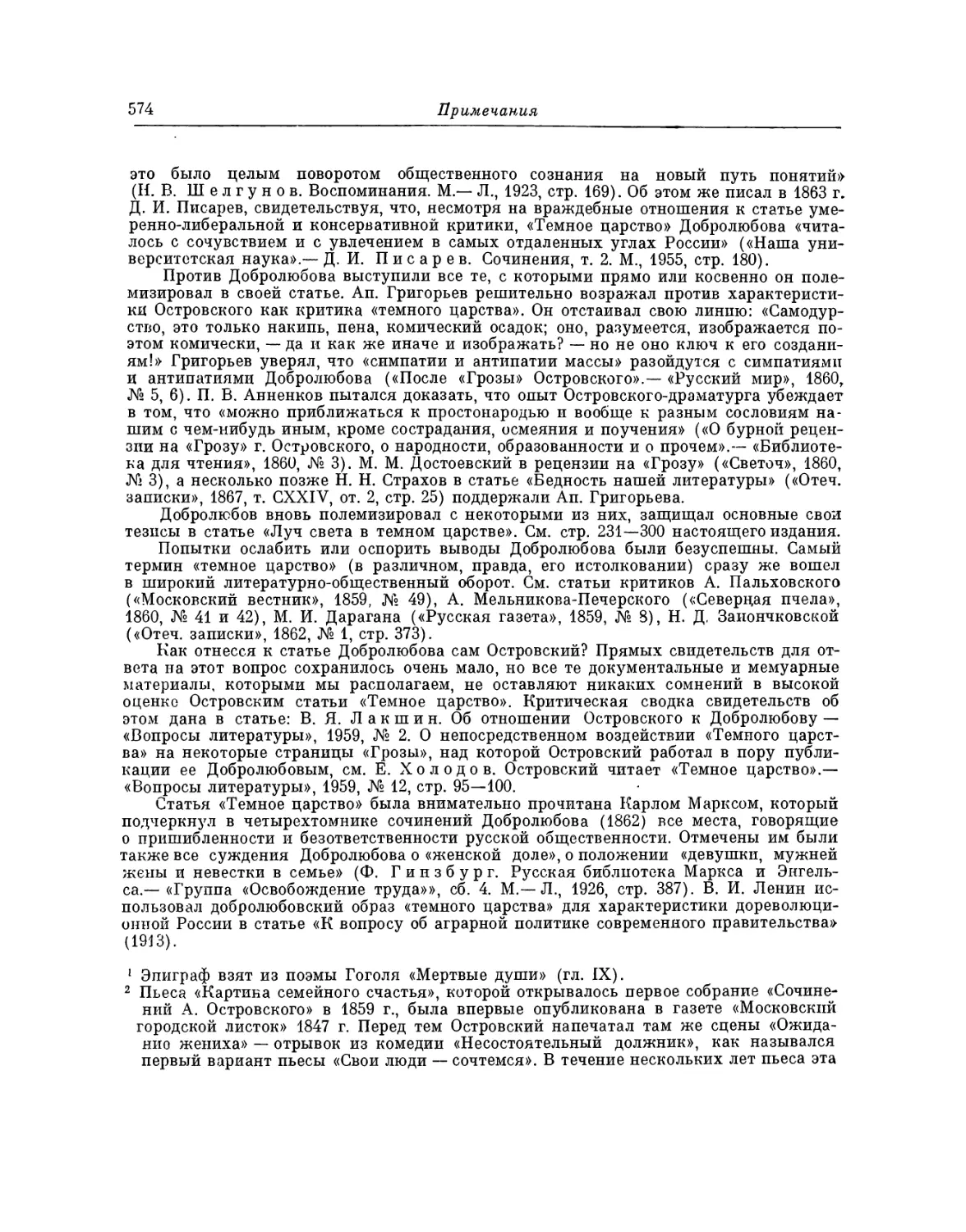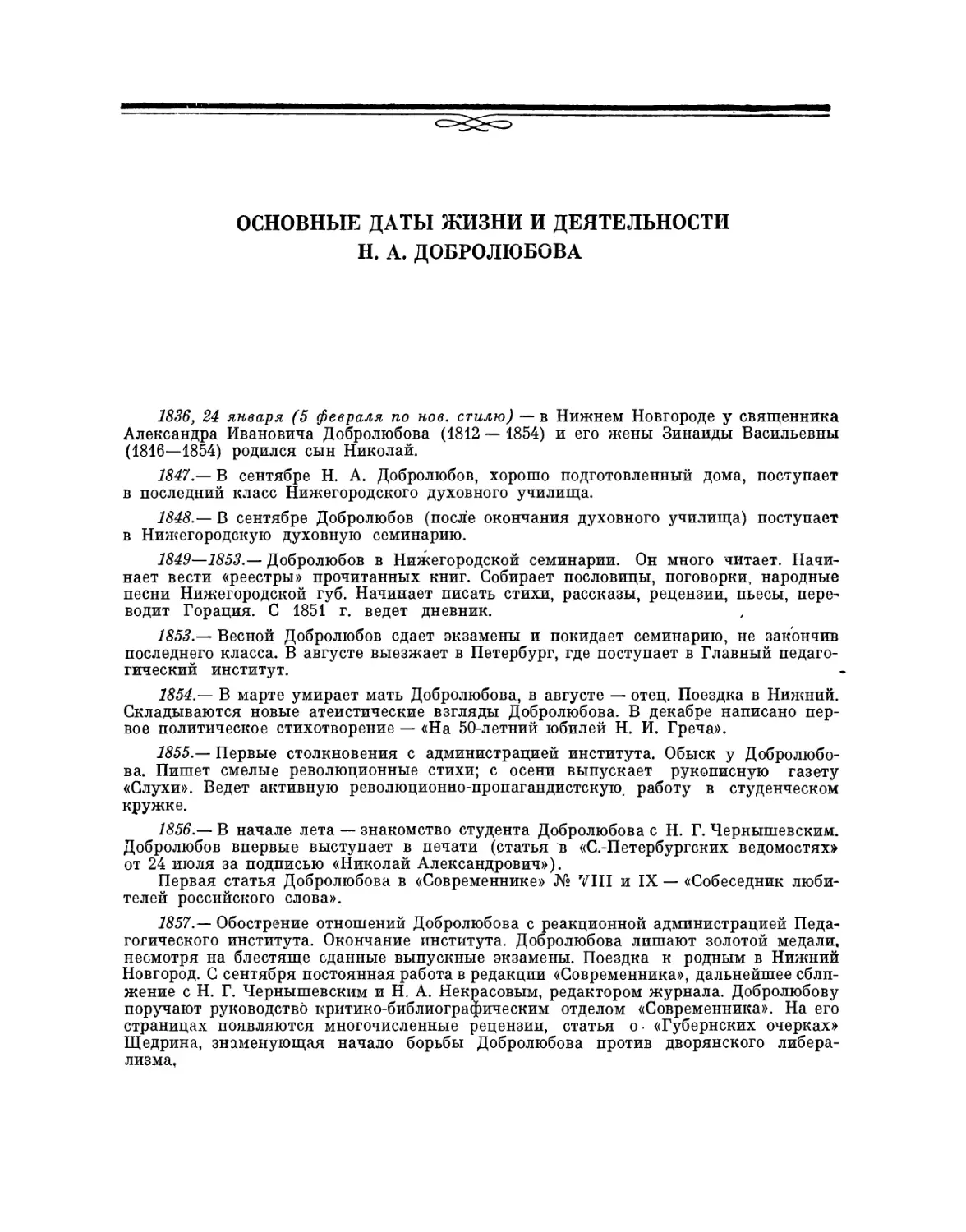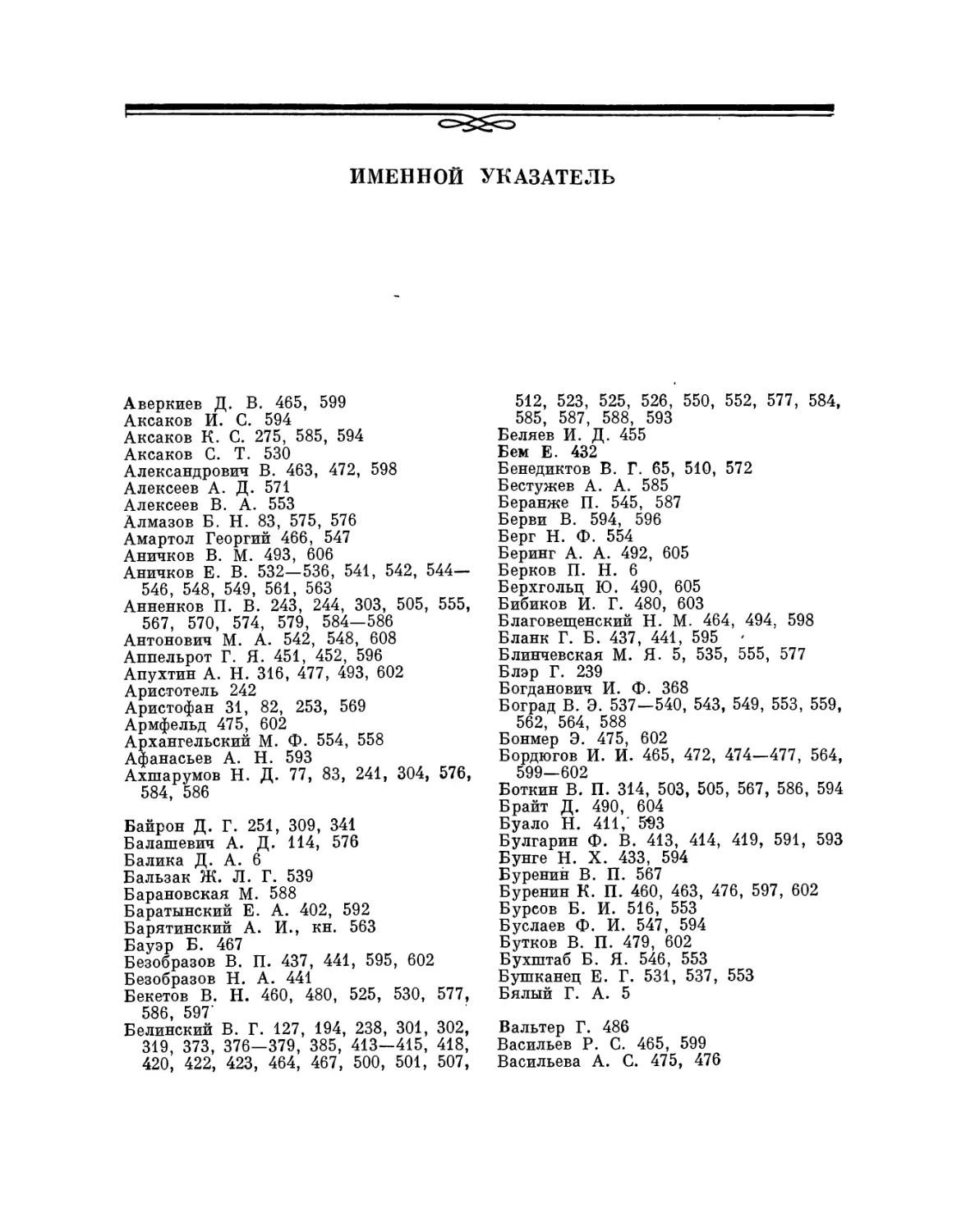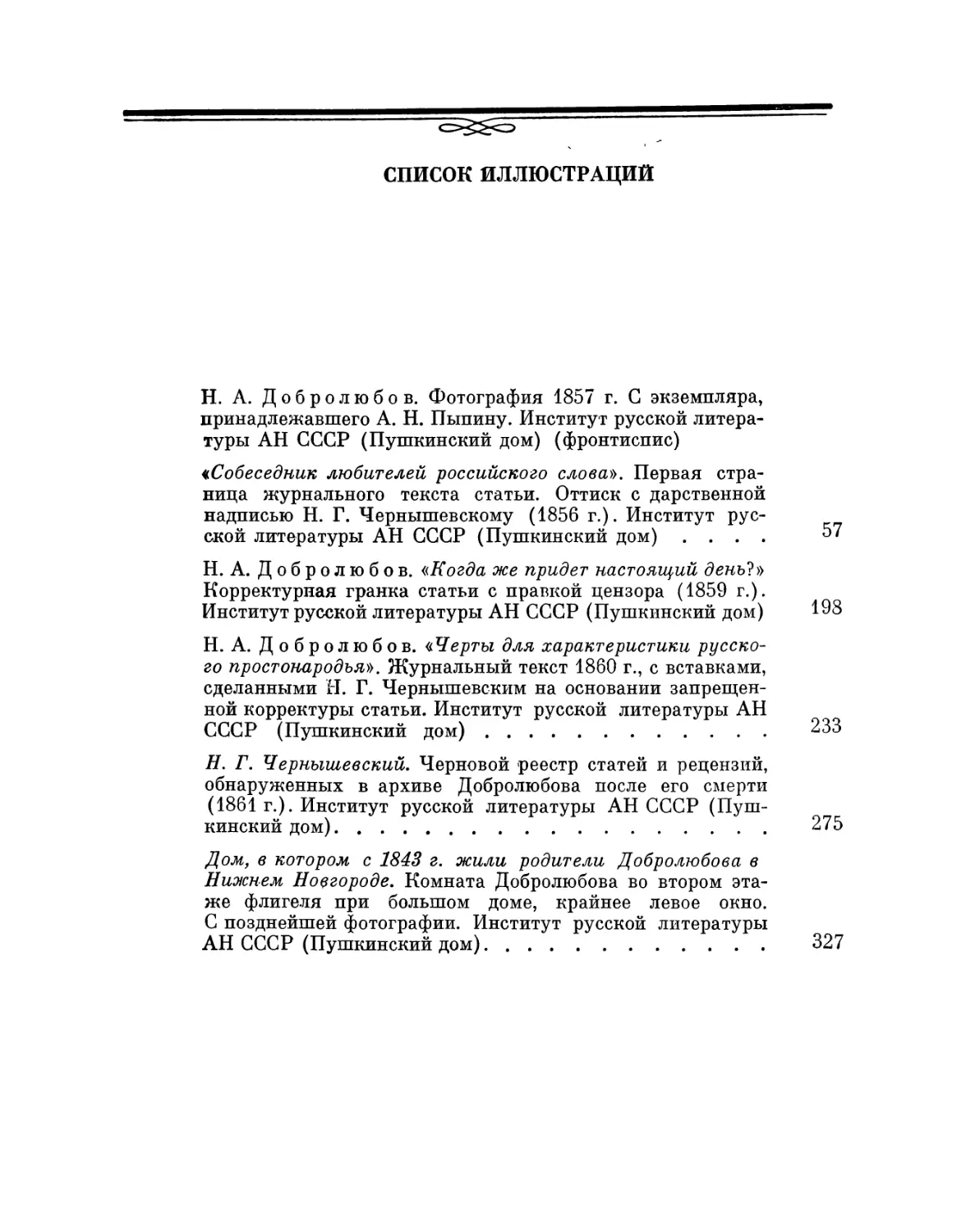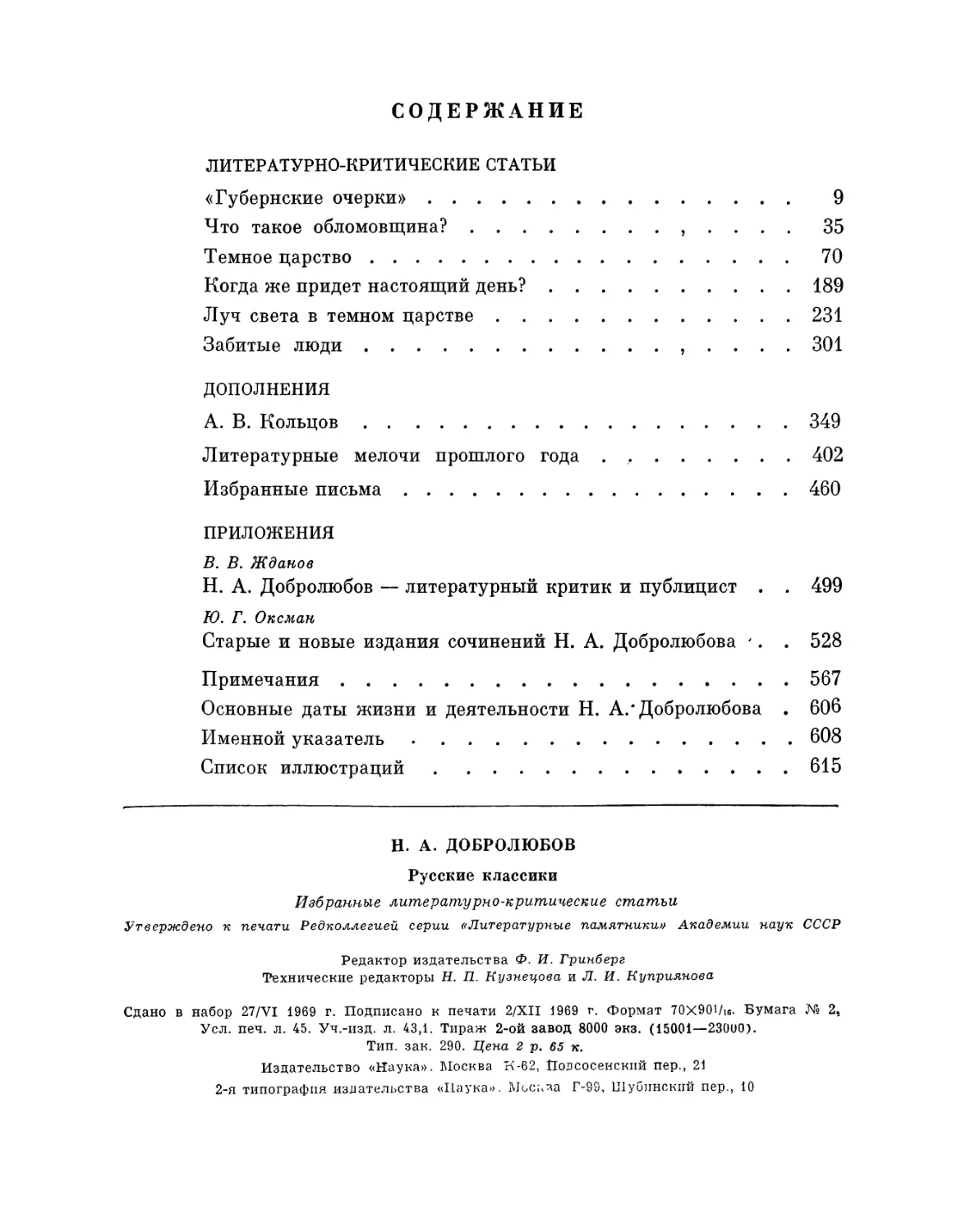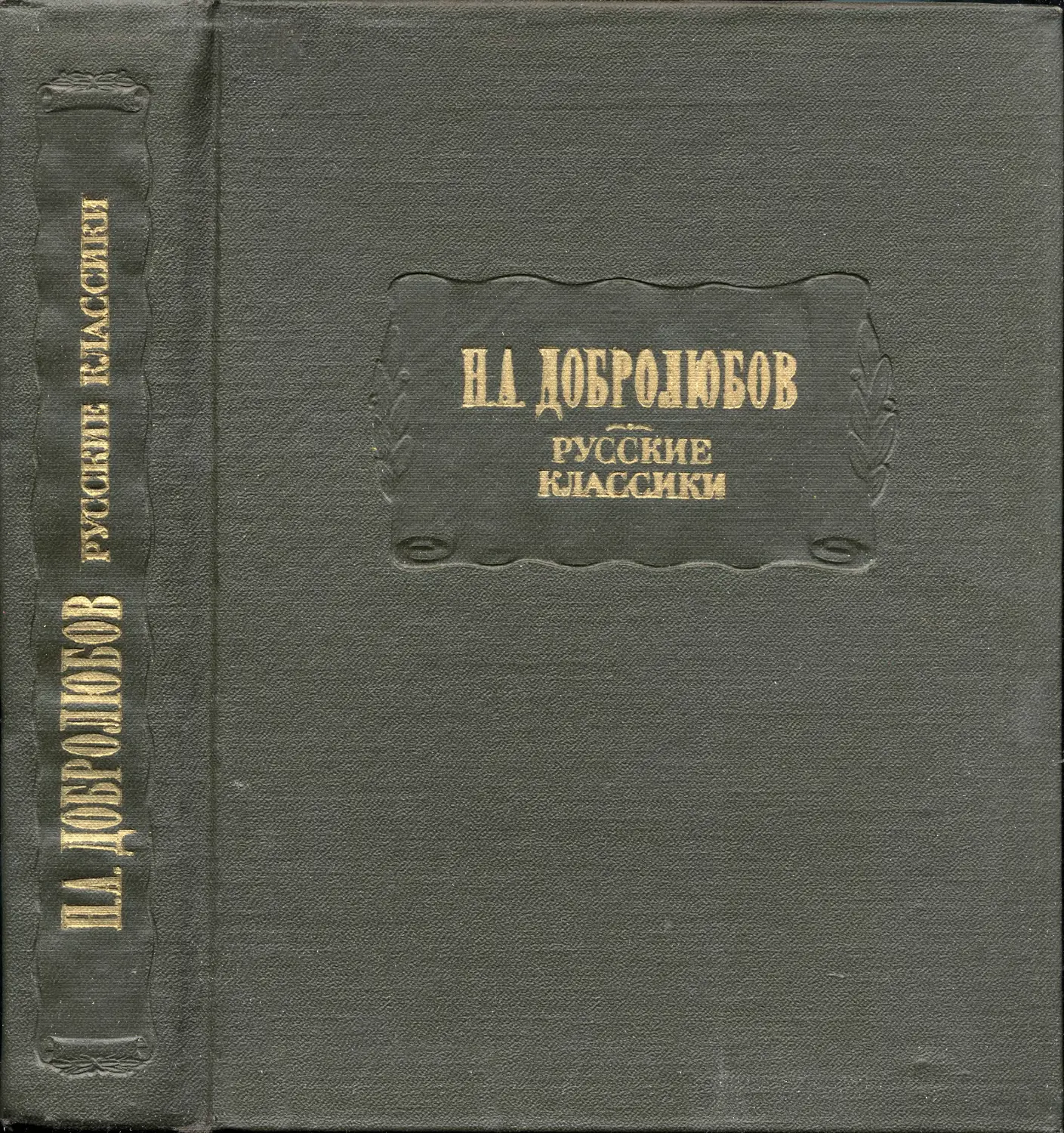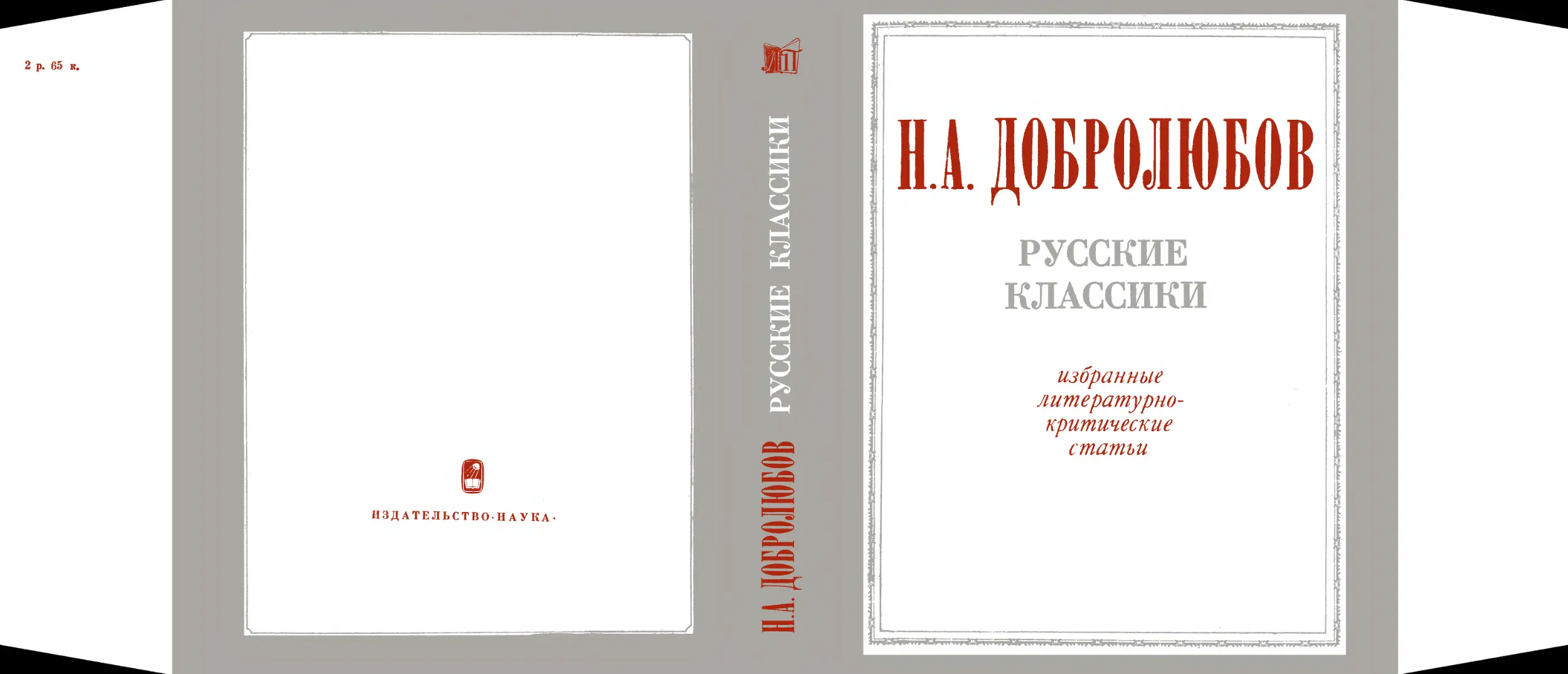Text
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
.Литературные Памятники
H. A. ДОБРОЛЮБОВ.
1857 г.
РУССКИЕ КЛАССИКИ
Избранные литературно-критические статьи
И. А. ГОНЧАРОВ, Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ,
А. Н. ОСТРОВСКИЙ, M. E. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН,
И. С. ТУРГЕНЕВ
ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛ
Ю. Г. ОКСМАН
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 19 70
Н. А. ДОБРОЛЮБОВ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Благой,
И. С.Брагинский, В. В. Виноградов, А. А. Елистратова,
В. М. Жирмунский, Н. И. Конрад (председатель),
Д. С. Л и х а ч е в, Д. В. Ознобишин (ученый секретарь),
Ю. Г. О к с м а н, Ф. А. П е т р о в с к и й, А. М. Самсонов,
С. Д. С к а з к и н, С. Л. У т ч е н к о
7-2-3
201—69(11)
ОТ РЕДАКЦИИ
Настоящий сборник статей Н. А. Добролюбова объединяет
его литературно-критические разборы наиболее значительных
произведений русской художественной литературы конца
пятидесятых и начала шестидесятых годсв — романов Гончарова,
Достоевского, Тургенева, драм А. Н. Островского и
«Губернских очерков» M. E. Салтыкова-Щедрина. В дополнениях к
тексту основных статей сборника печатается первая историко-
литературная монография Добролюбова, посвященная жизни
и деятельности А. В. Кольцова. В этом же разделе, как
образец публицистики Добролюбова, тесно связывающей задачи
общественно-политической борьбы (в ее понимании критиком)
с борьбой литературной, перепечатывается его исключительный
по своей идеологической остроте и бескомпромиссности
фельетон «Литературные мелочи прошлого года».
Все статьи Добролюбова заново проверены при
перепечатке по сохранившимся рукописям, корректурам, журнальным
редакциям и текстам четырехтомника, подготовленного к
печати Н. Г. Чернышевским в 1862 г. Эта работа осуществлена
Ю. Г. Оксманом. Ему же принадлежат примечания к статьям
«Что такое обломовщина?», «Луч света в темном царстве» и
«Забитые люди». Комментарий к статьям: «Губернские
очерки» Н. Щедрина принадлежит Л. Д. Опульской, «Когда же
придет настоящий день?» — Г. А. Вялому, «Темное царство» —
Г. В. Краснову, «Литературные мелочи прошлого года» —
Б. И. Лазерсон. «А. В. Кольцов» — Л. Б. Магон. Письма
Добролюбова комментировал И. А. Щуров. В подготовке текста
статьи «Когда же придет настоящий день?» участие принимали
Н. Я. Блинчевская и Л. Б. Магон.
Сборник замыкается двумя специальными очерками, один из
которых принадлежит В. В. Жданову («Добролюбов —
литературный критик и публицист»), другой Ю. Г. Оксмана («Старые
и новые собрания сочинений Н. А. Добролюбова»).
6
От редакции
Письма Добролюбова цитируются в настоящем издании по
их публикации в Собрании сочинений Н. А. Добролюбова в
девяти томах, т. IX. М.—Л., 1965. Мемуарные данные — по
сборнику: «Н. А. Добролюбов в воспоминаниях
современников». Вступительная статья В. В. Жданова. Подготовка
текста, вступительные заметки и комментарии С. А. Рейсера.
М.- Л, 1961.
Биографические материалы о Добролюбове, печатные и
рукописные, с наибольшей точностью и полнотой учтены в кн.:
С. А. Р е й с е р. Летопись жизни и деятельности Н. А.
Добролюбова. М., 1953. Специальная литература о Добролюбове
зарегистрирована в справочниках: С. А. Венгеров.
Источники словаря русских писателей, т. II. СПб., 1910, стр. 275—
277 (литература до 1900 г.) ; И. В. В л а д и с л а в л е в.
Русские писатели. Изд. 4, переработанное. М.—Л., 1924, стр. 248—
250; Е. Д. Рыскин. Н. А. Добролюбов. 1836—1861.
Указатель литературы 1917—1960 гг. М., 1961; «История русской
литературы XIX в.» Библиографический указатель. Под ред.
К Д. Муратовой. М.—Л., 1962, стр. 292—300. См. также
новейшие сборники: «Н. А. Добролюбов —критик и историк
русской литературы». Изд. Ленинградского университета, 1963
(статьи П. Н. Беркова, Г. В. Иванова, Н. И. Тотубалина,
С. С Деркача, Н. И. Соколова, О. Л. Костылева); «Н. А.
Добролюбов. Статьи и материалы». Горький, 1965 (работы В. В. Ко-
жинова, М. Г. Зельдовича, Г. В. Краснова, В. В. Пугачева,
Ю. Д. Левина, В. А. Грехнева, Е. А. Маймина, Б. Ф. Егорова,
Д. А. Валики, В. Э. Бограда, С. А. Рейсера, Л. М. Фарбера).
В небольшой зарубежной литературе о Добролюбове
наиболее интересны статьи и исследования: Ch. С or b et.
Principes esthétiques et réalités sentimentales dans la critique de Dob-
rolubov.— «Revue des études slaves», v. /XXIX. Paris, 1952; его
ж e. Dobroljubov als Literaturkritiker.— «Zeitschrift für slavische
Philologie». Bd. XXIV, Hf. 1, 1955, S. 156 - 173; Franco
Ventura II populismo russo. Torino, 1952. (Добролюбову посвящена
гл. 6 первого тома). Книга переведена на английский яз.:
Franco V e n t u r i. Roots of Revolution. A History of the Populist
and Socialist Movements in Nineteenth Century Russia. London,
1960, p. 187—203. Большое внимание уделено критике и
публицистике Добролюбова в работе E. Lampert. Sons against
Fathers. Studios in Russian Radicalism and révolution. Oxford,
1965, p. 226—271, 379—385. Основные сведения о деятельности
Добролюбова см. также в издании: René W е 11 e k. A history of
modern criticism. 1750—1950, v. 4. London, 1966.
w-— ■•.....,- , ^.. „ , ^ ^^^
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ
СТАТЬИ
«ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ»
(«Из записок отставного надворного советника Щедрина.
Собрал и издал М. Е. Салтыков. Том третий. М., 1857»)
Прошел с небольшим год с тех пор, как первые «Очерки» г. Щедрина
появились в «Русском вестнике» и встречены были восторженным
одобрением всей русской публики. До настоящей минуты г. Щедрин не сходит с
своей арены и продолжает свою благородную борьбу, не обнаруживая ни
малейшего истощения сил. Он печатает рассказ за рассказом, постоянно
выказывая в них, как велик запас его средств, как неистощим источник
его наблюдений. Мало того: к нему постоянно присоединяются новые
бойцы, и даже те, которые молчали до сих пор и прятались в толпе
беспечных зрителей,— и те, смотря на него и «вящшим жаром возгоря»,
отважно ринулись на поле бескровной битвы, со всемогущим оружием
слова. Публика все еще с любопытством следит за зрелищем этих подвигов,
и рассказы в щедринском роде прежде всего прочитываются в журналах.
Но нельзя не видеть, что теперь нет уже ни в публике, ни в
литературе прежнего увлечения, прежней горячности и что многие донашивают
теперь сочувствие к общественным вопросам, как старомодное платье. Кто
начал читать русские журналы только с нынешнего года и не имеет
понятия о том, что было у нас два года тому назад, тот потерял несколько
прекраснейших минут жизни. Странно говорить об этом времени как о
давно прошедшем; но тем не менее нельзя сомневаться в том, что оно
прошло и что не скоро русская литература дождется опять такой же
поры. Мы вообще как-то очень скоро и внезапно вырастаем, пресыщаемся,
впадаем в разочарование, не успевши даже хорошенько очароваться. Рас-
10
H. A. Добролюбов
тем мы скоро, истинно по-богатырски, не по дням, а по часам, но,
выросши, не знаем, что делать с своим ростом. Нам внезапно делается
тесно и душно, потому что в нас образуются всё широкие натуры, а мир-
то наш узок и низок,— развернуться негде, выпрямиться во весь рост
невозможно. И сидим мы, съещившись и сгорбившись «под бременем по-
знанья и сомненья» 1 в совершенном бездействии, пока не расшевелит нас
что-нибудь уже слишком чрезвычайное. Один из ученых профессоров
наших, разбирая народную русскую литературу, с удивительной
прозорливостью сравнил русский народ с Ильей Муромцем, который сидел сиднем
тридцать лет и потом вдруг, только выпивши чару пива крепкого от
калик перехожиих, ощутил в себе силы богатырские и пошел совершать
дивные подвиги. В самом деле, вся наша история отличается какой-то
порывистостью: вдруг образовалось у нас государство, вдруг водворилось
христианство, скоропостижно перевернули мы вверх дном весь старый быт
свой, мгновенно догнали Европу и даже перегнали ее: теперь уж
начинаем ее побранивать, стараясь сочинить русское воззрение... Так было в
большом, то же происходило и в малом: рванемся мы вдруг к чему-нибудь,
да потом и сядем опять, и сидим, точно Илья Муромец, с полным
равнодушием ко всему, что делается на белом свете. Два года тому назад нас
расшевелила война, заставивши убедиться в могуществе европейского
образования и в наших слабостях. Мы как будто после сна очнулись,
раскрыли глаза на свой домашний и общественный быт и догадались, что
нам кое-чего недостает. Едва эта догадка озарила наш ум, как мы, с
редкою добросовестностью и искренностью, принялись раскрывать «наши
общественные раны» 2. Теперь многие уже начинают смеяться над этим,
и скептики, уверявшие с самого начала, что все это —
Тяжелый бред души больной,
Иль пленной мысли раздраженье 3,—
теперь злобно торжествуют, иронически поглядывая на взрослых детей,
всегда склонных к увлечению и видящих все в розовом свете. Но как
хотите, а над ними нечего смеяться: в их увлечении было так много
прекрасного, благородного, так много юности и свежести. Любо смотреть
было, в самом деле, на общее одушевление: самый робкий, самый
угрюмый человек не мог, кажется, не увлечься, видя, как все единодушно и
неутомимо хлопотали о том, чтобы раскрыть «наши общественные раны»,
показать наши недостатки во всех возможных отношениях. Каких тогда
вопросов не подняли, до каких закоулков не добрались!... «От Перми до
Тавриды» 4 пронесся один громкий энергический возглас: идите все, кто
может, спасать Русь от внутреннего зла! И все поднялось, все
заговорило — твердо, сильно, разумно. Старые люди стряхнули, по-видимому, свою
давнишнюю лень, возникли молодые деятели и с свежими силами приня-
«Губернские очерки»
11
лись за общее дело. Литература как всегда послужила первою
выразительницею общественных стремлений, приводя их в ясность и умеряя их силу
строгим и обдуманным обсуживанием всех затронутых вопросов. И
литература получила, по-видимому, общественное значение: она почти
исключительно обратилась к тем вопросам, которыми занято было внимание
публики. Публика заговорила о путях сообщения, и в журналах были
десятки статей о железных дорогах и других средствах сообщения, с
искренним сознанием, что до сих пор мы мало имели хороших дорог и оттого
немало потеряли. Поднялся вопрос о тарифе, и тотчас явился ряд статей
о свободной торговле и запретительной системе. Обратили внимание на
экономические отношения народа, и литература заговорила о состоянии
земледельческого класса, о свободном труде и других экономических
вопросах, выставляя преимущественно, чего у нас нет и что нужно сделать.
Послышались в обществе голоса о важности воспитания и о
неудовлетворительности того, что доселе у нас было принято,— и тотчас о воспитании
пишутся горькие статьи, предпринимаются педагогические журналы5, и
публика тем большими рукоплесканиями вознаграждает статью, чем более
горька правда, в ней высказанная. Поднимается голос против
злоупотреблений бюрократии,— и «Губернские очерки» открывают ряд блестящих
статей, беспощадно карающих и выводящих на свежую воду все темные
проделки мелкого подьячества. Горькие упреки слышались отовсюду, и
никто не думал противоречить им. Поэты и прозаики, ученые и
дилетанты, теоретики и практики — все бросались самоотверженно в мрачное
болото невежества и злоупотреблений с пламенником обличения. В душе
их кипела могучая сила, их речи горели огнем вдохновения, сожигая
плевелы родной нивы. Восстань, поэт! 6 — ободряли поэты самих себя,
размышляя о своем призвании,—
Да звучит твой стих обронный,
Правды божией набат,
В пробужденье мысли сонной,
В кару жизни беззаконной,
На погибель всех неправд7.
Борьба во имя высшей правды против мелких интересов времени! —
восклицали высокообразованные критики. «С первых лет жизни, при
самом начальном воспитании, должно приучать к этой борьбе, которая
ожидает в нашем обществе каждого порядочного человека!...» — «Наука
должна смело вступить в борьбу против невежества и предрассудков»,—
говорили лучшие из наших ученых8. «Мы должны благодарить войну за
то, что она открыла нам многие темные стороны нашей жизни, против
которых мы дружно должны идти теперь, отстаивая честь родины!..» Эти
мощные, благородные, бескорыстные призывы не могли не находить отзы-
12
H. A. Добролюбов
ва в сердцах людей, сочувствующих благу отечества, и точно — у многих
сердце билось сильнее от этих вдохновенных звуков. Многие с грустной
улыбкой, даже со слезами на глазах выслушивали русскую всенародную
исповедь, но потом гордо поднимали голову, давая торжественный обет
деятельности честной, неутомимой и безбоязненной. Были и такие,
силою обстоятельств и собственной слабостью увлеченные в пошлость
жизни, которые с ужасом смотрели на собственное поприще и с горечью
сознавались в его гадости. И что имели в виду все эти люди? Что
заставляло их с таким увлечением подвергать себя торжественному
самообвинению? Ничего особенного. Они просто повторяли слова одного из
своих глашатаев:
Раскаянья слеза нам будет в облегченье
И к новым подвигам нас мощно воззовет,—
и добродушно верили, что вслед за словом не замедлит явиться и дело.
Самое пустозвонство приняло тогда характер серьезно-обличительный.
Пустейший из пустозвонов, г. Надимов, смело кричал со сцены
Александрийского театра: «Крикнем на всю Русь, что пришла пора вырвать зло с
корнями!» — и публика приходила в неистовый восторг и рукоплескала
г. Надимову, как будто бы он в самом деле принялся вырывать зло с
корнями...9 «Что смеетесь? над собой смеетесь»,— вслух припомнил
слова Гоголя кто-то из скептиков во время одного из представлений
«Чиновника». Но эти слова никого не смутили: на скептика соседи его
посмотрели так гордо и прямо, как будто бы хотели ответить ему словами
того же комика: «Да, над собой смеемся, потому что слышим
благородную русскую нашу породу, потому что слышим приказанье высшее быть
лучшими других» 10.
Так все оживало, все воодушевлялось желанием идти вперед по пути
просвещения и нравственного усовершенствования. Два года тому назад
человек сторонний, услышавший эти клики, увидавший это движение,
непременно подумал бы, что это пробуждение исполина, который после
продолжительного сна расправляет свои члены, приводит в порядок свои
мысли и готовится искупить свое долгое бездействие подвигами
изумительного величия. И такое предположение было совершенно естественно :
чистые, возвышенные стремления общественных и литературных
деятелей казались.так мощны, быстры и кипучи, что они должны были идти
вперед неудержимо, разрушая все преграды, поставляемые невежеством,
омывая все нечистоты, произведенные в русской жизни силою эгоизма,
корысти и лени общественной. Сердца бились тогда сильно и радостно,
в полном убеждении, что сознание недостатков есть уже половина
исправления и что русский человек ничего не любит делать вполовину.
Святотатством сочли бы тогда, если бы кто осмелился утверждать, что этот
«Губернские очерки»
13
Илья Муромец, столько лет сидевший сиднем на одном месте, поднялся
теперь только затем, чтобы толчись на одном месте. Напротив, он должен
был безостановочно идти вперед, наслаждаясь жизнью и совершая
славные дела. И все ждали этих подвигов, все были в напряженном
ожидании чего-то великого, необычайного. Все принимало вид какого-то
торжественного приготовления, точно накануне великого праздника:
И вились тогда толпою
Легкокрылые друзья:
Юность легкая с мечтою
И живых надежд семья... и
Отрадно было то время, время всеобщего увлечения и горячности...
Как-то открытее была душа каждого ко всему доброму, как-то светлее
смотрело все окружающее. Точно теплым дыханьем весны повеяло на
мерзлую, окоченелую землю, и всякое живое существо с радостью
принялось вдыхать в себя весенний воздух, всякая грудь дышала широко, и
всякая речь понеслась звучно и плавно, точно река, освобожденная ото
льда. Славное было время! И как недавно было оно!
Но прошло два года, и хотя ничего особенно важного не случилось в эти
годы, но общественные стремления представляются теперь далеко уже не
в том виде, как прежде. Много разочарований испытали уже мы на новой
дороге, многие надежды оказались пустыми мечтами, много видели мы
явлений, способных сбить с толку самого простодушного из оптимистов,
вообще отличающихся простодушием. И нет прежнего увлечения,
прежнего задушевно-гордого тона...
Где девалася
Речь высокая,
Сила гордая? 12
Разговоры и теперь, конечно, продолжаются, и мы вовсе не хотим
сказать, чтоб общественное внимание вовсе забыло о тех вопросах,
которые недавно возбуждены были с такой энергией. Мы говорим только, что
в деятельности, в жизни общества мало оказывается результатов от всех
восторженных разговоров, чем и доказывается, что большинство наших
доморощенных прогрессистов играло до сих пор, по выражению г.
Щедрина, «не внутренностями, а кожей».
Литература продолжает свое дело добросовестно: служение делу
общественного совершенствования она считает своим священнейшим
назначением. Она уже навсегда теперь вышла из пеленок, и что бы ни случилось,
не получат в ней теперь права гражданства ни швейцарские
поздравления с высокоторжественным праздником, ни лакейские оды на пожало-
14
H. A. Добролюбов
вание такого-то господина таким-то чином, ни трактирные дифирамбы в
честь какого-нибудь праздника с фейерверком и иллюминацией.
Литература деятельно продолжает свои обличения, свои вызовы на все хорошее
и благородное; она по-прежнему твердит обществу о честной и полезной
деятельности, она все поет ту же песню:
Встань, проснись, подымись,
На себя погляди! 13
Но уже нет прежних восторженных отзывов со стороны публики. Она
уже утомилась, она уже едва.ли не считает свое дело конченным, едва
ли не считает себя достойною венка за участие, оказанное общественным
вопросам и новым деятелям литературного обличения. Только по
временам вспыхивает теперь кое-где, неровно и порывисто, огонь одушевления,
похожего на прежнее. Но и эти вспышки скоро пропадают без следа, не
имея никакого влияния на общественную деятельность. Оказывается, что
увлечения и надежды были преждевременны и что многие из людей,
горячо приветствовавших зарю новой жизни, вдруг захотели ждать полудня и
решились спать до тех пор; что еще большая часть людей,
благословлявших подвиги, вдруг присмирела и спряталась, когда увидела, что подвиги
нужно совершать не на одних словах, что тут нужны действительные
труды и пожертвования. Все нетерпеливо ждали, желали, просили
улучшений, озлобленно кричали против злоупотреблений, проклинали чужую
лень и апатию, но редко-редко кто принимался за настоящее дело.
Испуганные воображаемыми трудностями и препятствиями, многие из тех, кто
даже мог делать истинно полезное,—
В начале поприща увяли без борьбы 14.
Произошло явление, не слишком возвышенное и даже довольно
непредвиденное: русское общество разыграло в некотором роде талантливую
натуру. Читатели, конечно, прочли уже «Губернские очерки» и потому,
верно, знакомы с некоторыми из талантливых натур, очерченными г.
Щедриным. Но не все, может быть, размышляли о сущности этого типа и о
значении его в нашем обществе. Поэтому мы решаемся подробнее
рассмотреть эти натуры, в которых, по нашему мнению, довольно ярко
выражается господствующий характер нашего общества. Виды талантливых
натур чрезвычайно разнообразны, но есть у них и нечто общее, состоящее
именно в их талантливости, которая может иногда вызвать истинное
сожаление и навести на очень грустные думы. Положение их, конечно,
смешно, даже отвратительно, но насмешку над положением этих господ
не нужно переносить на самую натуру их, вовсе не лишенную добрых
качеств. Занятия и свойства их г. Щедрин изображает таким образом:
«Губернские очерки»
15
Одни из них занимаются тем, что ходят в халате по комнате и от нечего делать
посвистывают; другие проникаются желчью и делаются губернскими
Мефистофелями; третьи барышничают лошадьми или передергивают в карты; четвертые
выпивают огромное количество водки; пятые переваривают на досуге свое прошедшее и
с горя протестуют против настоящего... Общее у всех этих господ, во-первых,
«червяк», во-вторых, то, что «на жизненном пире» для них не случилось места, и,
в-третьих, необыкновенная размашистость натуры. Но главное — червяк. Этот глупый
червяк причиною тому, что наши Печорины слоняются из угла в угол, не оная, куда
приклонить голову; он же познакомил их ближайшим образом с помещиками:
Полежаевым, Сопиковым и Храповицким. К сожалению, я должен сказать, что Печорины
водятся исключительно между молодыми людьми. Старый, заиндевевший чиновник
или помещик не может сделаться Печориным; он на жизнь смотрит с практической
стороны, а на терния или неудобства ее — как на неизбежные и неисправимые. Это
блохи и клопы, которые до того часто и много его кусали, что сделались не врагами,
а скорее добрыми знакомыми его. Он не вникает в причины вещей, а принимает их
так, как они есть, не задаваясь мыслию о том, какими бы они моглп быть, если бы...
и т. д. Молодой человек, напротив того, начинает уже смутно понимать, что вокруг
его есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; он видит себя в странном
противоречии со всем окружающим, он хочет протестовать против этого, но, не обладая
никакими живыми началами, необходимыми для примирения, остается при одном
зубоскальстве или псевдотрагическом негодовании («Губ. очерки», т. III, стр. 69 и ел.).
Видите ли, при всей насмешливости отношений г. Щедрина к
талантливым натурам, он сам не может не обнаружить, что в основании их
лежит нечто хорошее. Их стремления не заключают в себе ничего
предосудительного, напротив — стремления эти ставят их действительно выше тех
апатических безличностей, которые, смотря на жизнь с практической
стороны, находят блаженное успокоение от всех сомнений и вопросов в
учительской указке или в подписи того, кто повыше их чином. Вся беда
пропавших талантливых натур состоит в том, что у них нет никаких
живых начал. Стоит дать им вовремя эти начала, и из них может выйти
что-нибудь положительно доброе. Давно уже кто-то заметил, что на свете
нет неспособных людей, а есть только неуместные-, что плохой извозчик
и вываленный им из саней плохой чиновник, выгнанный из службы за
неспособность,— оба, быть может, не были бы плохими, если бы
поменялись своими местами: чиновник, может быть, имеет от природы склонность
к управлению лошадьми, а извозчик в состоянии отлично рассуждать о
судебных делах... Все горе происходит от их неуместности, в которой
опять не виноваты ни чиновник, ни извозчик, а виновата их судьба, эта
«глупая индейка», по залихватскому русскому выражению. То же самое
происходит со всеми талантливыми натурами: они получают одностороннее
развитие, несоответственное их потребностям, и, уступая силе
враждебных обстоятельств, попадают на ложную дорогу. Они не столько животны,
слабодушны и слепы, чтобы уступить без всякого усилия, в простодушной
уверенности, что так должно быть: это их достоинство. Но они не имеют и
настолько внутренней силы, ума и благородства, чтобы выдержать до
конца, чтобы не изменить своим добрым влечениям и не впасть в апатию,
16
H. A. Добролюбов
фразерство и даже мошенничество: вот их существенный, страшный
недостаток. Но этот недостаток, очевидно, не природный. Он происходит от
слабости характера, соединенной с пылкостью стремлений. Пылкость
стремлений сама по себе — вещь весьма похвальная, и притом составляет
в человеке не что иное, как простой признак живой молодости, а
характер, как все согласны, не родится с человеком, а приобретается им во
время воспитания, установляясь окончательно в последующих
треволнениях жизни. Следовательно, по строгом рассуждении, на стороне самой
личности остается только живая восприимчивость натуры — признак вовсе
недурной, а все остальное ложится на ответственность окружающей ее
среды. Нам скажут: отчего же эта среда не оказывает такого же влияния
на других, отчего именно на талантливые натуры она действует так
гибельно? Ответ прост: эти натуры, по своей впечатлительности, забегают
дальше других, часто захватывают больше, чем сколько могут вынести,
и при этом чаще, чем другие, встречают противодействия, которым они не
в силах противиться. Между тем как дети милые и благонравные
наслаждаются спокойствием блаженного неведения, помня, что они дети и,
следовательно, должны составлять свой маленький мир, не вступаясь в дела
больших,— дети восприимчивые и пылкие суются беспрестанно туда, где
их не спрашивают, рано знакомятся с житейскими дрязгами и рано
получают от больших практические опровержения своих детских рассуждений.
В иных естественная логика и привычка к деятельности берут верх: они
рассматривают практические взгляды со всех сторон и оценивают их очень
верно: они не падают пред силою обстоятельств, не опускаются до
злобного фразерства и цинической лени — с досады, что ничего великого
сделать нельзя, а до конца идут против враждебной силы, и если не успеют
ее покорить, то падают, звуком самого падения созывая на труп свой
новых самоотверженных деятелей. Но таких крепких людей немного.
Большая часть не выдерживает враждебного напора и гибнет нравственно, без
пользы и часто даже со вредом и для других. В общественном отношении,
разумеется, хвалить их нечего: они всегда являются в обществе или
тунеядцами, или мошенниками. От этого мы и не думаем их оправдывать,
равно как не думаем возвеличивать их воздействие насчет незаметной
деятельности скромных тружеников. Мы только хотим сказать, что в
сущности своей талантливые натуры дают больше задатков хорошего
развития, нежели благонравные, милые, послушные и т. д. дети, и что при
благоприятных обстоятельствах их развитие принесло бы хорошие плоды. Мы
можем сравнить их, пожалуй, с плодородной землей. Засейте где-нибудь
в окрестностях Петербурга хорошую почву (если таковая найдется)
маисом, рожью и крапивой. Маис, разумеется, не примется по причине
разных прелестей петербургского климата, а рожь заглушена будет крапивою.
Вот поле и не годится никуда. Как же можно сравнить его по плодам с
другим, довольно, правда, скудным полем, которое, однако же. вырастило
«Губернские очерки»
17
рожь, хотя и очень тощенькую. А все-таки нельзя не сказать, что в
первом поле земля лучше. Брошенное и запущенное, да еще закрытое от
солнышка какими-нибудь заборами да постройками, заваленное всяким
мусором, оно и все порастет крапивой. Но попадись оно в руки хорошему
хозяину, так тот не только его от мусора очистит и крапиву выполет, не
только хорошую жатву соберет, а еще целую оранжерею на нем разведет
и самые нежные растения воспитает, оградивши их от разных
неблагоприятных петербургских влияний.
Если нужно доказать наши слова примерами, то за ними ходить
недалеко. У г.Л Щедрина представлены талантливые натуры трех
разрядов: мефистофельская, спившаяся с кругу и пустившаяся в
мошенничество. Нельзя не сознаться, что выбор этих трех категорий сам по себе
весьма удачен. Неудавшаяся деятельность талантливых натур
обыкновенно имеет один из этих исходов. Все они гадки и вредны или по
крайней мере бесполезны; но посмотрите на начало жизненного поприща
этих господ, вникните в сущность их натуры, и вы увидите, что все
их увлечения имеют доброе начало, а падение происходит просто от
бессилия противиться внешним влияниям. Отчего такое бессилие
происходит, мы уже отчасти объяснили. Прибавим только, что, завися от
естественной, каждому предмету в мире присущей инерции, качество
это усиливается от постоянной привычки к пассивному восприятию
чужих идей и делается тем отвратительнее, чем больше ума и свежих
сил в такой пассивной натуре. На человека, не умеющего пяти слов
связать со смыслом, не досадно, если он целый век сидит за перепи-
сываньем. Да его и не заметишь: он доволен своей судьбою и высоко
не заносится, зная, что без крыльев опасно подниматься на воздух...
Но человек, легко и быстро понимающий предметы, имеющий живые
и высокие стремления, знающий очень хорошо степень собственных сил,
такой человек вдруг, поддаваясь лени, отстает от всякого дела и
употребляет свои способности только на пересыпанье из пустого в
порожнее или на различные непохвальные проделки: это уже досадно и горько.
Такого человека сейчас все заметят, потому что он всем надоедает
своими жалобами на несправедливость судьбы, ко всем навязывается
с пересмеиванием своих ближних, всем кидается в глаза своим
сознательным, преднамеренным бездельничеством. Вот, например, перед вами
г. Корепанов. Он не потому замечен крутогорским обществом, что
тунеядствует и в пустяках всю свою жизнь проводит. Он пуст не больше
других: как другие, он служит,— как другие, является на детские балы
княжны Анны Львовны,— как другие, ничем особенно не занимается.
Словом, в нем ничего нет замечательного, и вы проходите мимо его,
бросая на него рассеянный взгляд и думая: «Вот еще один из
множества тех, которые прозябают в Крутогорске, серьезно занимаясь де-
ланьем ничего и не имея понятия о других, лучших сферах деятель-
2 Ы. А. Добролюбов
18
H. A. Добролюбов
ности...» Но г. Корепанов вдруг останавливает вас восклицанием: «Прошу
не смешивать меня с этой толпой; я уверяю вас, что я гораздо лучше
всех их. Не смотрите на то, что я толкусь между ними и так же,
как они, ничего не делаю... Поверьте, что я мог бы сделать многое,
очень многое, если бы только захотел... Но я не хочу...»— «Тем хуже,—
отвечаете вы,— значит, вы, м-сье Корепанов, сами виноваты в своем
ничтожестве. На этих людях нечего спрашивать: они делают то, что
могут; виноваты ли они, что у них не хватает сил на большее? А вы
гораздо хуже их, потому что не делаете и того, что можете. Вы просто
дрянь, м-сье Корепанов».— И что же бы вы думали? Корепанов
мгновенно с вами соглашается и начинает ругать себя. «Да,— говорит он,
впрочем, не без оттенка тонкой иронии,— я глуп, я слаб, у меня мелкая,
ничтожная душонка. Я завидую даже этому пошлому довольству и без-
мятежию, которое написано на лицах моих сослуживцев: все-таки,
значит, их жизнь прошла недаром... А я только все сомневался да
метался без толку, из стороны в сторону... А к чему?.. Гораздо было бы
спокойнее — добыть себе тепленькое местечко, как Николай Федорыч,
жениться на Анфисе Ивановне, которая из старых панталон шаль
устраивает, да считать себе денежки, как Семен Семеныч...» Вы соглашаетесь,
что это, действительно, было бы спокойнее, чем без толку целый век
маяться; но Корепанов обнаруживает полное омерзение к деятельности
Николая Федорыча, Семена Семеныча и подобных. Он даже детям Семена
Семеныча и Николая Федорыча внушает отвращение к воровству и
скаредной жизни родителей и гордится своими заслугами в этом отношении.
Он называет Крутогорск помойной ямой и очень недоволен тем, что здесь
всякий должен бессменно носить однажды накинутую на себя ливрею.
По выходкам Корепанова вы видите, что он был в хорошей школе,
умеет зло от добра отличить и имеет понятие о настоящей
нравственности. Он и сам признается, что в молодости своей умных людей с
кафедры слушал, но только ученье не пошло ему впрок. Он, видите,
не хотел корпеть над книжкой и клевать по крупице, а ждал все, что
ему кто-нибудь «вольет знание ковшом в голову, и сделается он поело
того мудр, как Минерва». Вот вам и первое падение перед трудностями,
первое торжество лени. Далее — Корепанов затем не остался служить
там, где бы лучше могли развернуться его таланты, что «он желает
кушать, а в Петербурге или Москве этого добра не найдешь сразу». А
ему — видите — лень добиваться чего-нибудь трудом, понемножку: все
сразу хотелось бы. Вот он и едет в Крутогорск, где у него есть
родные, «которыми, следовательно, уж насижено место и для него...» Здесь
он кое-как служит, как и все, но главным образом злобствует против
всех, стараясь выставить собственное превосходство и несправедливость
судьбы. Если хотите, судьба, точно, несправедлива к нему, но
несправедлива тем, что дала ему родных, которые, с грехом пополам насидевши
«Губернские очерки»
19
тунеядцу место, освободили его от необходимости работать самому для
приобретения места и хлеба. Не будь этого, Корепанов был бы славным
работником и не погиб бы для честной и полезной деятельности,
обратившись в Мефистофеля средней руки.
Теперь посмотрим на Лузгина, тоже талантливую натуру, только
другого разбора. Положительно дурного в этой натуре ничего нет.
Припоминая прежние годы Лузгина, г. Щедрин говорит, что он был тогда
безрасчетно добр и великодушен, что в нем сильно кипела кровь, обильна
и неистощима была животворная струя молодости. Сам Лузгин в
откровенном разговоре высказывает, что у него и в пожилых летах
сохранилось еще много любви, горячности, жару. Он сожалеет, что погано
провел свою молодость и не столько лекциями, сколько ухарством
занимался. В жизни его есть прекрасные явления. Он женился на бедной
гувернантке своего соседа, которую притесняли сладострастный хозяин и
капризная хозяйка. Он не хотел служить в Петербурге затем, что там
«выморозки, что-то холодное, ослизлое», бегают целый день, чтоб иметь
счастие искривить рот в улыбку при виде нужного лица. Он перестал
ездить к школьному товарищу, когда тот вздумал пустить ему в глаза
пыль в виде действительного статского советника Стрекозы, княгини
Оболдуй-Таракановой и так далее. Все это, нельзя не сознаться,
обнаруживает натуру добрую, симпатичную, с наклонностями истинно
благородными. Можно бы почесть его просто прекрасным мирным
помещиком, нашедшим наконец в кругу семейном успокоение от житейских
треволнений. Но такое заключение было бы неудачно. Лузгин хоть и
не занимался лекциями, по его собственному признанию, но все же
кое-что из высших наук запало ему в голову, и он уже не может
довольствоваться своей тесной сферой. «Размеры нас душат,— говорит он,—
природа у нас широкая, желал бы захватить и вдоль и поперек, а
размеры маленькие. Жару и теперь еще пропасть осталось, только некуда
его девать: сфера-то у нас узка, разгуляться негде...» Да кто же вам
не велел, г. Лузгин, захватывать именно столько, сколько ваши силы
позволяют? Зачем вы киснете в деревне и даже не служите, хоть бы
по выборам? — А вот видите,— когда Лузгин воротился из ученья,
то мать стала его упрашивать: «Около меня посиди», да и соседи лихие
нашлись,— он и остался, тем более что к лености с юных лет
сердечное влечение чувствовал... Но в деревне его томит скука, образование
его не столько полно, чтоб он мог довольствоваться самим собою
и семейным кругом; он ищет других развлечений и находит их,
разумеется, без особенных затруднений: он начинает каждый день напиваться
допьяна, приводя в отчаяние свою жену и расстраивая собственное
здоровье... Ну, скажите на милость, природа ли тут виновата? Лузгин
всячески старается всю вину сложить на природу, хотя он, собственно
говоря, и не думает себя оправдывать. Напротив, он, как и все талант-
2*
20
H. A. Добролюбов
ливые натуры, безбоязненно и бесстыдно распространяется о своих
недостатках, уверяя, что он свинья, что он опустился, что он гнусен с
верхнего волоска головы до ногтей ног. Но все это самообвинение мало
помогает. Подняться он уже не в силах: я, говорит, до такой степени
привык к праздности, так въелся в нее, что даже уж и думать ни о чем
не хочется. При всем том он не хочет принять на себя ответственности
за все. Чувствуя, что не в силах подняться, он старается увериться,
что так уж судьбой решено, что иначе и быть не может, что так, видно,
«и суждено этому огню перегореть в груди, не высказавшись ни в чем».
И в этой уверенности принимается с отчаяния за чарочку, чтоб утопить
в вине свои досадные порывы. А потом жалуется на природу весьма
комическим образом: «Для чего,— говорит,— она не сделала меня Зено-
ном, а наградила наклонностями сибарита? Для чего она не закалила
мое сердце для борьбы с терниями суровой действительности, а, напротив
того, размягчила его и сделала способным откликаться только на доброе
и прекрасное?.. Природа-то ведь дура, выходит...» Какая же тут природа,
г. Лузгин? Природа всех людей решительно выпускает на божий свет
слабыми и беспомощными: никого она не калит и не мягчит нарочно,
в том соображении, что вот этот господин должен будет бороться,
а тот — нет, так, в видах предусмотрительности, надобно дать им такие-
то и такие-то свойства. Это вы все для оправдания своей лени
выдумываете, что природа как-то неприязненно к вам расположена и по
каким-то интригам вздумала вас размягчить. Ничего подобного не
бывало: закаляются люди не на лоне природы, а в горниле житейской
опытности. А этой-то закалки и нет у вас, потому что вам не случилось
надобности с самого начала преодолеть вашу лень, и вы позволили
другим за вас думать и действовать. В результате и вышло, что хоть у вас
сердце доброе, хоть оно и откликается на все прекрасное, а сами-то
вы вышли человек не только плохой, но и пошлый, даже грязный. Так
скажем мы Лузгину, не желая поощрять его лени и цинизма. Но,
обращаясь к читателям, мы, разумеется, не можем не прибавить, что
действительно судьба была довольно жестока к Лузгину. Его вывели из
непосредственной простоты и патриархальности деревенских отношений,
дали некоторое понятие о предметах высших, но не дали основательных
и твердых начал, не заинтересовали даже наукой хоть бы до такой
степени, чтобы предпочитать ее разным ухарским развлечениям. При
первых попытках что-нибудь делать ему встречаются препятствия: там
мать и родимое гнездо отвлекают от службы, там лихие соседи
увлекают в отъезжее поле да в буйную оргию, там надменные выскочки
и мягкотелые низкопоклонники отталкивают его от петербургской жизни.
Для него это уже слишком много; его наклонность к лени, привычка
подчинять себя требованиям чужой воли и слишком поверхностное
образование не могут устоять против беспрестанных искушений. А там
«Губернские очерки»
21
судьба позаботилась приготовить родимое гнездо, в котором можно жить
на чужой счет... Вот и погиб человек, из которого при других
обстоятельствах могло бы и выйти что-нибудь.
Есть еще особого рода талантливые натуры, по-видимому совершенно
не похожие на два образца, которые нами рассмотрены, но, в сущности,
чрезвычайно к ним близкие. Образчик таких натур представляет Горе-
хвастов, описанный г. Щедриным. Этот с первого раза может показаться,
пожалуй, очень деятельным. Он прожектер, мошенник, шулер; он и в
официальное платье переодевался, и казенные деньги крал, и заставлял
кое-кого в окно прыгать, и сам из оного прыгивал, и фортуну себе
умел составить, и потерять оную. Кажется, чего больше деятельности —
энергической, постоянной, только дурно направленной. Это уж, кажется,
не слабая натура, носившая в себе задатки добра, но погибшая только
вследствие своей лени и слабости; это сильная, злодейская душа,
талантливая только на мерзости всякого рода. Он совсем непохож на двух
малодушных, только что нами виденных у г. Щедрина. Так кажется
с первого взгляда. Но если всмотреться пристальнее, то найдется, что
и Горехвастов, в сущности, решительно то же самое, что Корепанов
и Лузгин. Разница между ними только в том, что те двое все-таки
учились чему-нибудь и, при всей поверхности своего образования,
усвоили некоторые наиболее простые внушения, как, например, что кража
постыдна, шулерство гнусно и т. п.; Горехвастову же и этого не
внушили, а учили его иметь только приятные манеры и causer * обо всем.
Как натура талантливая, он поддался этому направлению, и манеры
его, действительно, казались хороши и causeur ** вышел из него
отличный. Товарищи его ездили к француженкам по воскресеньям, и он ездил,
потому что не в силах был противиться искушению, не имея никакой
внутренней опоры, точно так, как и Лузгин с Корепановым. Петр Бурков
сводит его с людьми, которых карьера и назначение жизни
ограничивается не совсем честными подвигами на зеленом поле, и он подвизается
вместе с ними; затевают эти люди штуку en grand ***, чтобы купца
надуть, и он является ревностным исполнителем проекта; говорит ему Петр
Бурков о жизни en artistes ****,— он и en artistes жить соглашается;
зовет его по ярмаркам ездить,— он и на это готов. Иногда как будто
добрые инстинкты в нем просыпаются: ему, например, неловко
становится продать себя безобразной барыне, которая задумала
воспользоваться его атлетическими формами. Но Бурков сказал ему, что это вздор,
велел ему решиться во имя прав дружбы,— и Горехвастов решился.
* болтать (франц.).—Ред.
** собеседник (франц.).— Ред.
** на широкую ногу (франц.).— Ред.
** как художники (франц.).—Ред.
22
IL A. Добролюбов
Скажите, на что же еще слабодушнее человека? Он гораздо слабее
Лузгина и Корепанова, потому что еще менее, чем они, имеет
внутренних убеждений: он решительно не может противиться окружающим
влияниям, не может даже уклониться от них в бездействие, а прямо им
подчиняется... А там уж он идет дальше, по силе инерции, и даже
нередко выказывает наружную твердость и храбрость, приличную
обстоятельствам. Только эта энергия и твердость походят на храбрость лакея,
который громогласно кричит с крыльца: «Подавай!», а потом тотчас же
подобострастно усаживает барина в карету и смиренно стоит перед ним,
если тому вздумается намылить ему шею. Храбрость Горехвастова
мгновенно исчезает, он трясется и бледнеет, как только увидит где-нибудь
около себя кавалера или другую полицейскую власть, или даже просто
в чужом обществе получит «подлеца» с любезным обещанием выбросить
его из окна. Бессилие противиться внешним влияниям обнаруживается
в нем на каждом шагу еще более, чем в Корепанове и Лузгине.
Лень, отвращение от труда тоже составляет одну из существенных
сторон его характера, несмотря на видимую неутомимую деятельность.
Он не хотел служить и сделался мошенником именно потому, что не
хотел «сидеть каждый день семь часов в какой-то душной конуре,
облизываясь на место помощника столоначальника». Он чувствует, что «стоит
выше общего уровня», что может быть и поэтом, и литератором, и
прожектером, и капиталистом. Но ему непременно хочется получить как
можно больше без всякого труда, и он избирает шулерство как
легчайшее средство обогащения. Разорившись, он живет в четвертом этаже,
на манер артиста, и тут всего более нравится ему полная беспечность,
которой он может предаваться. Ему тошно смотреть даже на своего
соседа Дремилова, только потому, что этот сидит все за книжкой.
Негодование разыгрывается в нем при одном воспоминании о таком
труженичестве. «Ну, что это за жизнь, спрашиваю я вас,— восклицает он,—
и может ли, имеет ли человек право отдавать себя в жертву
геморрою? И чего наконец он достигнет?» и т. д. Горехвастову мало быть
практически лентяем: он старается свою лень возвести в теорию. Он
даже положительно выражается, что «гениальная натура науки не
требует, потому что до всего собственным умом доходит. Спросите,
например, меня... Ну, о чем хотите!.. На все ответ дам, потому что это у меня
русское, врожденное». Как видите, и этот господин, подобно Лузгину,
не прочь бы свалить свою пустоту на природу, на врожденность. Но в его
словах и рассказах нельзя не видеть крайнего развития лености, далеко
превосходящей естественное и всякому человеку дозволительное влечение
к покою.
Однако он играет, мошенничает, прожектирует — могут возразить
нам. Для этого тоже нужно много деятельности. Горехвастов работал
и умом, и руками, и ногами, и всеми членами тела для приобретения
((Губернские очерки»
23
фортуны. Он целые ночи проводил без сна, опасностям подвергался,
странствовал по ярмаркам, путешествовал через окна из второго этажа
на улицу. Как хотите, а к этому не способна натура пассивная, ленивая,
находящая высшее блаженство в апатическом бездействии.— Все это
кажется очень справедливым при первом взгляде. Но при некотором
внимании нетрудно сообразить, что и деятельность Горехвастова — совершенно
пассивная, вынуждаемая обстоятельствами чисто внешними. Почти всегда
он действует по чужой указке, ведомой другими мошенниками, почти
всегда следует неуклонно тому направлению, на которое его толкнули.
Пожалуй, если хотите, и он не совсем без дела. Но разве тогда можно
найти на свете хоть одного человека бездельного? Тот бегает целый
день около бильярда, другой сидит за шахматами, третий
глубокомысленно курит сигару. Иной половину дня гуляет для моциона, а другую
половину употребляет на то, чтобы задавать работу своему желудку,
который едва в целые сутки ее выполнит... Иной всю жизнь свою вести
разносит, другой каждый вечер в театре томится, и т. д. и т. д. Все
это ведь тоже дело, если хотите, и ни один человек без дел
подобного рода обойтись в своей жизни не может, потому что закон самой
природы непременно какое-нибудь движение предписывает. Но что это
за движение, к чему оно стремится, какая сила его производит,— вот
на что нужно обращать внимание при оценке человеческой деятельности.
И камень бросить, так он полетит, и даже если его искусно
направить на воду, то кружки на ней произведет. И если воду вскипятить,
то она так разбушуется, что и через край пойдет; но затем разольется
по полу и простынет тотчас,— только лужа останется. Подобными
вспышками ограничивается и деятельность пропавших талантливых натур.
Внутреннее влечение к деятельности им уже сделалось непонятно;
сознательно и постоянно преследовать свою цель — у них не хватает
терпения и твердости. На один порыв, и даже сильный,— их еще станет,
потому что они вообще, по слабости своих внутренних сил, склонны
увлекаться внешними впечатлениями, но одна неудача, одно препятствие,
которого нельзя удалить сразу,— и энергия оставляет их, и природная
лень берет свое. Все они являются деятельными представителями того
взгляда на вещи, который высказывает Горехвастов таким образом;
Я, Ыиколай Иванович, патриот, я люблю русского человека за то, что он не
задумывается долго. Другой вот, немец или француз, над всякою вещью остановится,
даже смотреть на него тошно, точно родить желает, а наш брат только подошел,
глазами вскинул, руками развел: «Этого-то не одолеть? — говорит:— Да с нами
крестная сила! Да мы только глазом мигнем!» И действительно, как почнет топором
рубить,— только щепки летят; гениальная, можно сказать, натура! без науки все
науки прошел!.. Люблю я, знаете, иногда посмотреть на нашего мужичка, как он там
действует: лежит, кажется, целый день на боку, да зато уж как примется, так у него
-словно горит в руках дело, откуда что берется!
24
H. A. Добролюбов
Вместе с слабодушием и леностью Горехвастов имеет и другие
второстепенные признаки талантливых натур. Он с удивительною
откровенностью рассказывает свои подвиги и при этом энергически ругает себя,
превосходя в этом случае Корепанова и Лузгина настолько, насколько
натура его размашистее их натур. «Я подлец,— восклицает он и рвет
при этом свои волосы,— я не стою быть в обществе порядочных людей!
я подлец, я погубил свою молодость! я должен просить прощения у вас,
что осмелился осквернить ваш дом своим присутствием». Какое сильное
раскаяние! — можете вы подумать. Не беспокойтесь: это так, вспышка,
для успокоения собственной совести. «Мы, дескать, не такие пошляки,
как другие-прочие; мы чуем нашу высшую русскую породу и знаем,
что если бы захотели, так могли бы быть очень хорошими людьми».
На деятельность же Горехвастова все подобные вспышки не оказывают
ни малейшего влияния. В то самое время, как он декламирует о своем
недостоинстве, его арестуют за кражу казенных денег женщиною, с
которой он находился в «непозволительной» связи. Прожив свою молодость,
этот господин до того изленился, что уже и украсть сам не хочет, а
заставляет свою любовницу.
Оставим теперь в стороне талантливых приятелей г. Щедрина и
поставим вопрос в более отвлеченном виде, чтобы не задевать никаких
личностей. По нашему мнению, в обществе молодом, не успевшем еще
основательно переработать всех своих взглядов и мнений, не успевшем,
по причине неблагоприятных обстоятельств, развить в себе самоопреде-
ляемости к действию (говоря по-ученому), непременно являются два
главные разряда членов. Одни — вполне пассивные, безличные и крайне
ограниченные как в своих способностях, так и в потребностях. Эти —
смирны; они не волнуются, не сомневаются и не только не выходят
из своей колеи, но даже не подозревают, что можно из нее выйти.
В ученье, в службе, в жизни — они всегда исправны; что им прикажут,
то они сделают, что дадут выучить, выучат, до каких границ позволят
дойти, до тех и дойдут. Это уже люди убитые, безнадежные, нечего
ждать от них, нечего стараться направить в хорошую сторону. Как их
ни направьте, они не выйдут из своего ничтожества, не разовьют ваших
идей, не будут вашими помощниками. Они, как балласт на корабле,
дают только устойчивость кораблю общества против бурных ветров и
толчков взволнованного моря. Они тяжелы на подъем, неподвижны и тупо
верны одному, раз навсегда заученному правилу, раз навсегда
принятому авторитету. Отступления делаются ими только на практике и всегда
бессознательно. Они могут похвалить роман Жорж-Санда, пока не знают,
что он написан Жорж-Сандом; могут даже посмеяться над нелепостью,
если вы им не скажете, что взяли эту нелепость из уважаемой ими
книги; могут осудить гнусный поступок, не зная, что он учинен
генералом. Но как скоро авторитет является наружу, сознание их просвет-
«Губернские очерки»
25
ляется, и тут уж никакие убеждения не помогут... Убеждений и
принципов нет для этих людей; для них существуют только правила и
формы. В деятельности их есть что-то похожее на медвежью пляску
для выгоды хозяина и для потехи праздного народа; в разговорах же
своих они напоминают попугая, который на все ваши вопросы отвечает
одно заученное слово и часто совершенно невпопад говорит вам «дурак»
за все ваши ласки. Некоторые, впрочем, и этим утешаются: интересно,
дескать, что птица говорит точно человек.
Другую половину молодого общества составляют именно те люди,
которых называют «современными героями», «провинциальными
Печориными», «уездными Гамлетами», наконец «талантливыми натурами».
Последнее название, может быть, менее других соответствует мысли,
которую мы хотим высказать, но — дело не в названии. Натуры тут, конечно,
не много, а более действуют обстоятельства житейские, состоящие, во-
первых, в отношениях времени. Печоринские замашки и претензии на
талантливость натуры являются всегда, как уже заметил г. Щедрин,
в молодом поколении, обладающем сравнительно большею свежестью сил,
более живою восприимчивостью чувств. Подвергаясь разнообразным
влияниям, молодые люди находятся в необходимости сделать наконец выбор
между ними. Начинается внутренняя работа, которая в иных
исключительных личностях продолжается безостановочно, идет живо и
самостоятельно, с строгим разграничением внутренних органически естественных
побуждений от внешних влияний, действующих более или менее
насильственно. Но подобные личности представляют исключение, тем более
редкое, чем ниже стоит образованность всего общества. Самая же
большая часть людей, начинающих работать мыслью в обществе
малообразованном, оказывается слабою и негодною, чтобы устоять против
ожидающих их препятствий. С самого появления своего на белый свет, в самые
первые впечатлительные годы жизни люди нового поколения окружены
все-таки средою, которая не мыслит, не движется нравственно, о мысли
всякого рода думает как о дьявольском наваждении и бессознательно-
практически гнет и ломает волю ребенка. Это второе обстоятельство —
противодействие начального воспитания и всей окружающей среды идеям
времени, которому уже принадлежит новое поколение,— и приводит к
падению большую часть талантливых натур. Возникли у них кое-какие
требования, которым прежняя среда и прежняя жизнь не удовлетворяют:
надобно искать удовлетворения в другом месте. Но для этого надо много
продолжительных усилий, надо долго плыть против течения. Между тем
корабль давно уже стоит на мели, и балласт грузно лежит внизу.
Талантливые натуры, заметив, что все около них движется,— и волны
бегут, и суда плывут мимо,— рвутся и сами куда-нибудь; но снять
корабль с мели и повернуть по-своему они не в силах, уплыть одни далеко
от своих — боятся: море неведомое, а пловцы они плохие. Напрасно
26
H. A. Добролюбов
кто-нибудь, более их искусный и неустрашимый, переплывший на
противный берег, кричит им оттуда, указывая путь спасения: плохие пловцы
боятся броситься в волны и ограничиваются тем, что проклинают свое
малодушие, свое положение, и иногда, заглядевшись на бегущую мимо
струю или ободренные криком, вылетевшим из капитанского рупора,
вдруг воображают, что корабль их бежит, и восторженно восклицают:
«Пошел, пошел, двинулся!» Но скоро они сами убеждаются в оптическом
обмане и опять начинают проклинать или погружаются в апатичное
бездействие, забывая простую истину, что им придется умереть на мели,
если они сами не позаботятся снять с нее корабль и прежде всего хоть
помочь капитану и его матросам выбросить балласт, мешающий кораблю
подняться.
Какой из этих двух разрядов лучше, конечно, не затруднится сказать
никто. В настоящем они оба хуже, и горе тому обществу, которое долго
остановится на этих двух категориях и в котором не будет с года на
год увеличиваться число спасительных исключений. Отсутствие всякой
самостоятельности, ленивая апатия и увлечение внешностью составляют
существенные признаки как талантливых натур, так и людей,
принадлежащих к общественному балласту, хотя и не во всех находятся эти
качества в одинаковой степени. Следовательно, и тот и другой сорт
людей — не большая находка для общества, которое хочет жизни и
деятельности сознательной и самобытной. Лучшая из талантливых натур
не пойдет дальше теоретического понимания того, что нужно, и
громкого крика, когда он не слишком опасен. В случае же обстоятельств
неблагоприятных они или заговорят двусмысленно, или и совсем
противно своим убеждениям. Самые отважные замолчат и свое молчание будут
считать геройством. «Мы, дескать, мученики своих убеждений: все
говорят против совести и получают от этого выгоду; и мы могли бы тоже
получить выгоду, проповедуя чужие мысли, которых не разделяем; но мы
не хотим кривить душою и молчим, затаив в себе собственное,
самобытно сочиненное воззрение до того времени, когда можно будет его
высказать без опасений». Таким образом и водворяется в обществе невозму-
тимейшая тишина, полнейшая неподвижность, возмущаемая только разве
дебоширствами талантливых натур, посягающих на безопасность
смиренных граждан.
Но у молодого, еще не совсем развитого общества -есть будущее. И для
этого будущего второй разряд людей, т. е. люди с размашистыми
натурами дают все-таки несравненно больше хороших надежд, чем убитые
существа без всяких стремлений. Они по крайней мере не будут
иметь такого парализующего влияния на деятельность следующих за
ними поколений, потому что в них есть уже хоть смутное предчувствие
истины, хоть робкое, слабое оправдание молодых порывов. Лузгин уже
не смеет высечь своих детей за то, что они уличают его во лжи; Ко-
«Губернские очерки»
27
репанов безбоязненно внушает крутогорскому молодому поколению
«отвращение к тем мерзостям, в которых закоренели их милые родители».
Рудин (тоже талантливая натура) имел более благотворное влияние на
молодого студента Басистова, чем все его профессора вместе. В
талантливых натурах есть хоть слабые зачатки деятельности, хоть желание
перевертывать на разные манеры то, что им передано другими; в
натурах бесполезных, безличных нет даже мысли о том, что
нужно и можно действовать самому; пассивное восприятие внешних
внушений не только не возбуждает их к деятельности, но даже еще более
усыпляет и успокаивает в том процессе механического передвижения,
который они называют жизнью и деятельностью... Винить этих
несчастных тружеников было бы несправедливо уже и потому, что у них нет
своей воли, нет своей мысли, следовательно им и отвечать не за что.
Но нельзя не жалеть об их положении, нельзя не желать, чтобы все
уменьшалось в человечестве число подобных людей, напрасно носящих
образ человеческий.
Обращаясь теперь к началу нашей статьи, мы намерены предложить
читателям вопрос: не состоит ли и большинство нашего общества из
членов двух названных нами категорий? Не составляют ли исключения
у нас люди, соединяющие с правдивостью и возвышенностью стремлений
честную и неутомимую деятельность? Вероятно, каждый из читателей
может насчитать в числе своих знакомых десятки людей, которым,
кажется, сроду не приходило в голову ни одного вопроса, не касавшегося
их собственной кожи, и десятки других, бесплодно тратящих всю жизнь
в вопросах и сомнениях, не пытаясь разрешить своей деятельностью
ни одного из них, и изменяющих на деле даже тем решениям,
которые ими сделаны в теории. Сколько мы видим людей, унижающихся
перед теми, кого они внутренне презирают, смеющихся над тем, чего
боятся, делающих то, чего гадость они очень хорошо знают, говорящих
то, чему сами не верят, и т. п. Отчего происходит все это? Оттого
же, отчего погибают талантливые натуры,— от недостаточного развития
внутренней силы, необходимой, чтобы устоять против внешних влияний.
Теперь мы, слава богу, все уже знаем кое-что, потому что все учились
понемногу. Но беда в том, что ученье это редким из нас впрок идет:
редкие решаются собственным умом проверить чужие внушения, внести
в чужие системы свет собственной мысли и ступить на дорогу
беспощадного отрицания для отыскания чистой истины; большая часть
принимает ученье только памятью, и если действует иногда рассудком, то не
потому, чтобы внутренняя, живая потребность была, а потому только,
что в голову заброшено такое учение, в котором именно приказывается
мыслить. И начинается мышление на заказ, без всякого участия сердца,
с соблюдением только диалектических тонкостей. И то хорошо, конечно:
все-таки лучше, чем совершенное, мертвое безмыслие. Но жизнь не
28
В. А. Добролюбов
уловляется диалектикой, и кто не вникал в разнообразие ее влияний
сам, не стесняясь теориями, навязанными в лета неведения, тот не
поймет ее хода. В том обществе, где сильно еще действуют в отдельных
личностях чужие, бессмысленно взятые на веру формы и формулы, долго
нельзя ожидать плодотворной и последовательной деятельности. Во
многих умах могут появляться прекрасные порывы, произведенные приста-
лыми убеждениями; но все они — и порывы и самые убеждения —
бесполезно погибают и рассыпаются в прах, не в силах будучи противиться
давлению темной и тяжелой массы, со всех сторон заграждающей им
путь. Оттого-то и бывает так медлен переход народов из состояния
пассивного восприятия в состояние самобытной деятельности. Медленно,
чуть заметно увеличивается из поколения в поколение число людей,
самобытно мыслящих, и еще медленнее получается возможность
приложить мысль к делу. Идеала лично самостоятельной деятельности
не достиг еще ни один народ, и немного есть народов, в которых
сознательно развитые личности не составляют исключения.
Наше общество еще очень молодо в отношении к европейской
цивилизации, и потому нечего удивляться, что огромное большинство его
относится к науке и мысли чисто страдательно. Между этим
большинством есть мирные люди, отличающиеся изумительной способностью
легко переваривать все противоречия, проистекающие из смешения новых
понятий, вносимых жизнью, с старыми привычками, приобретенными
в детстве . Есть и талантливые натуры разных сортов, шумно дающие
знать о своем бездействии и переваривающие на досуге свое прошедшее,
протестуя против настоящего. Они-то обыкновенно и толкуют о высшей
своей русской породе, которой достоинства определяют на манер Горе-
хвастова: «Гениальная, дескать, натура у русского человека: без науки
все науки прошел!..» И действительно,— продолжим мы речь Горехва-
стова, соображая некоторые явления нашей общественной жизни,— «как
почнет топором рубить,— только щепки летят... Лежит, кажется, целый
день на боку, да зато уж как примется». «В полтора века Европу мы
догнали, да и перегнали»,— восклицают у нас, вторя Горехвастову,
многие талантливые натуры. «Да помилуйте, мы уже восемь веков назад
были далеко впереди от Европы,— возражают другие,— мы всегда
были не то, что прочие люди; мы давно уже без науки все науки
прошли, потому что гениальная натура науки не требует: это уж у нас
у всех русское, врожденное».
К сожалению, все это — слова, слова, не имеющие внутреннего
смысла. Самые толки о необыкновенно быстром росте нашем оказываются
красноречивым тропом. От древней Руси довольно осталось нам наивно
рассказанных фактов кормления и проделок подьячества. Сто лет тому
назад Сумароков приобрел благодарность современников за успешное
преследование «крапивного семени». За шестьдесят лет до нашего вре-
«Губернские очерки»
29
мени, по поводу комедии Капниста, журналы предсказывали искоренение
взяточничества 15. Не дальше как в прошлом году сам господин Щедрин
похоронил прошлые времена16. Но вот опять все покойники оказались
живехоньки и зычным голосом отозвались в третьей части «Очерков»
и в других литературных произведениях последнего времени. Доказывает
ли это, что мы очень выросли в нравственном и умственном отношении?
Не напоминает ли это, напротив, Горехвастова, трагически
декламирующего о своей гадости и подлости, с вырыванием собственных волос
приносящего раскаяние и в то же время затевающего новое воровство?..
«До чего же вы наконец договорились,— возражают нам практические
люди:—вы сами сознаетесь наконец в бессилии вашего хваленого рода
литературы? К чему же привели все эти отвратительные картины,
грязные сцены, пошлые и подлые характеры? К чему привело все это
раскрытие общественных ран, которое вы всегда так превозносили? Выходит,
что от ваших литературных обличений никакого толку нет, да и быть
не может. Поверьте, что исправники и становые ваших рассуждений и
очерков читать не станут, а если и прочтут, так только вас же ругнут:
хорошо, мол, им сочинять-то у безделья, а тут на шее столько
обязанностей висит, что только дай бог вынести. И поверьте, что сознание своих
обязанностей в отношении к желудку, семейству, начальству и пр. будет
в человеке гораздо сильнее, чем убеждения всех ваших книжек.
Напрасно только литература унижает себя, опускаясь из светлых высот
фантазии в омут грязной действительности. Она должна приносить чистые
жертвы на алтарь муз, а вместо того жрецы ее берутся за метлу. Вы
рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв 17, зачем же вы
пускаетесь в житейские волнения, зачем преследуете какие-то цели,
достижение которых вас, кажется, очень интересует? Искусство целей вне
себя допускать не должно. Иначе оно искажается, профанируется,
низводится на степень ремесла, и все это без малейшей пользы для общества,
единственно затем, чтобы дать исход желчи какого-нибудь господина 18.
Оставьте лучше этот род: он не приводит ни к чему хорошему. Вековой
опыт должен убедить вас в этой непреложной истине. Изображайте нам
лучше чувства возвышенные, натуры благородные, лица идеальные.
Дайте нам образцы доброго и изящного, которыми мы могли бы восхищаться,
на которых душа наша могла бы отдохнуть и успокоиться от треволнений
и сердечных зрелищ жизненного поприща. Пишите об искусстве, о
предметах, повергающих сердце в сладостное умиление или благоговейный
восторг, описывайте, наконец, красы природы, неба... Тогда ваша
литература будет исполнять свое прямое назначение — служение искусству и,
следовательно, будет полезна, приятна и, главное,— художественна».
В словах практических людей звучит ожесточение беспощадное. Они,
давно уже косятся на это направление, которое насолило их теории да
не оставило-таки задеть немножко и практику. Все их возражения, ко-
H. A. Добролюбов
нечно, не новы и составляют вариации стихотворения Пушкина «Чернь»
с прибавлением, может быть, чувствительных стишков из «Ильи
Муромца»: А
г Ах, не все нам слезы горькие
Лить о бедствиях существенных...
На минуту позабудемся
В чародействе красных вымыслов 19.
Отчего же и не позабыться, если хотите, особенно, если это только на
минуту? Но при врожденной талантливым натурам лени они любят
забываться надолго, даже навсегда, если можно. Они готовы в своей дремоте
от всего сердца проклясть «правды глас», если он вдруг разрушит их
сладостные мечтания. Многие эстетически обученные талантливые
натуры сильно желают этого забытья, чтобы блаженствовать в покое. Но
признаемся, мы никогда не понимали «блаженства безумия» и еще менее
понимаем, зачем люди хотят сделать искусство служителем этого
безумия. Вам не хочется смотреть на гадость и пошлость жизни: да
литература-то что же за штопальщица, что вы хотите заставить ее
зашивать кое-как прорехи вашего изношенного наряда? Вы знаете, что человек
не в состоянии сам от себя ни одной песчинки выдумать, которой бы не
существовало на свете; хорошее или дурное — все равно берется из
природы и действительной жизни. Когда же художник более подчиняется
заранее предположенной цели,— тогда ли, когда в своих произведениях
выражает истину окружающих его явлений, без утайки и без прикрас, или
тогда, когда нарочно старается выбрать одно возвышенное, идеальное,
согласное с опрятными инстинктами эстетической теории? И чем же
искусство более возвышается,— описанием ли журчанья ручейков и
изложением отношений дола к пригорку или представлением течения жизни
человеческой и столкновения различных начал, различных интересов
общественных? Вам угодно называть служителей общественного направления
подметателями всякого сора. Пусть так; мы против этого не станем
спорить; мы даже выскажем вам нашу искреннюю благодарность и
удивление к вашей эстетической мудрости, уподобив вас тому немецкому
профессору (подумайте — профессору! немецкому!), который у Гейне:
Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen
Stopft die Lücken des Weltbaues *.
А что литературные обличения не производят практически
благотворных результатов или производят их весьма мало,— так кто же опять
виноват в этом? Неужели опять вы скажете, что литература? Да на нее и
* Своим ночным колпаком и халатом
Штопает дыры вселенной20 (немецк.).— Ред.
«Губернские очерки»
31
без того вы же сами возводите обвинения в излишней резкости,
вмешательстве не в свои дела и пр. Она действует так сильно, как только
может, а вы недовольны ее действиями и хотите их прекратить, потому
что они слабы! Гораздо последовательнее было бы с вашей стороны, если
бы вы сказали, что надобно поэтому усилить тон литературных обличении
для легчайшего достижения практических результатов. Тогда бы мы с
вами и спорить не стали, хотя все-таки не решились бы обещать слишком
заметного успеха в улучшении нравов посредством литературы.
Литература в нашей жизни не составляет такой преобладающей силы, которой
бы все подчинялось; она служит выражением понятий и стремлений
образованного меньшинства и доступна только меньшинству; влияние ее на
остальную массу — только посредственное, и оно распространяется весьма
медленно. Да и по самому существу своему литература не составляет
понудительной силы, отнимающей физическую или нравственную возможность
поступать противозаконно. Она не любит насилия и принуждения, а
любит спокойное, беспристрастное и беспрепятственное рассуждение. Она
поставляет вопросы, со всех сторон их рассматривает, сообщает факты,
возбуждает мысль и чувство в человеке, но не присваивает себе какой-то
исполнительной власти, которой вы от нее требуете. Нам приходит теперь
на мысль начало одного знаменитого в свое время французского
сочинения об одном важном вопросе. «Меня спросят,— говорит автор,— что я за
правитель или законодатель, что смею писать о политике? Я отвечу на
это: оттого-то я и пишу, что я ни правитель, ни законодатель. Если бы я
был тем или другим, то не стал бы напрасно тратить время в разговорах о
том, что нужно сделать: я сделал бы или бы молчал...» 21 Нужно же
понять наконец значение писателя, нужно понять, что его оружие —
слово, убеждение, а не материальная сила. Если вы признаете
справедливость убеждений и все-таки не исправляете по ним своей деятельности,
в этом вы сами уж виноваты: в вас, значит, нет характера, нет уменья
бороться с трудностями, не развито понятие о честном согласовании
поступков с мыслями. Если же самые убеждения вам не нравятся, тогда
другое дело. Тогда выскажите нам всенародно ваши собственные
убеждения, покажите, что г. Щедрин говорит неправду, что он изобретает
небывалые вещи. Публика послушает и вас, разберет тогда, на чьей стороне
правда. В таком случае литература, разумеется, и значения больше
получит, хотя, конечно, и тогда чудес делать не будет и не остановит хода
истории. Для примера укажем хоть на древнюю историю, чтобы не
вмешивать сюда новых народов. Уж на что, кажется, литературный народ были
афиняне. Судебные дела решались умилением судей от чтения хорошей
трагедии; красноречие судьбою государства правило; но ничто не
отвратило упадка афинской силы, когда народная доблесть пропала. Аристофан,
не чета нашим комикам, не в бровь, а в самый глаз колол Клеона 22, и
бедные граждане рады были его колким выходкам; а Клеон, как богатый
32
H. A. Добролюбов
человек, все-таки управлял Афинами с помощью нескольких богатых
людей. Демосфен целому народу громогласно проповедовал свои
филиппики 23. Филипп знал силу оратора, говорил, что боится его больше, чем
целой армии, и, понимая, что борьбу надобно производить равным
оружием, подкупил Эсхина, который мог померяться с Демосфеном. Борьба
продолжалась долго, наконец самый ход событий оправдал Демосфена:
афиняне послушались его, собрали наконец войско и пошли на Филиппа.
Но все красноречие Демосфена было не в силах возвратить времена
Мильтиадов и Фемйстоклов. Афины покорились Филиппу. Неужто и тут
Демосфен виноват: зачем, дескать, он говорил? Как бы не говорил, так,
может, было бы и лучше.
Впрочем, подумавши хорошенько, мы убеждаемся, что серьезно
защищать г. Щедрина и его направление совершенно не стоит. Все отрицание
г. Щедрина относится к ничтожному меньшинству нашего народа, которое
будет все ничтожнее с распространением народной образованности. А
упреки, делаемые г. Щедрину, раздаются только в отдаленных, едва
заметных кружках этого меньшинства. В массе же народа имя г. Щедрина,
когда оно сделается там известным, будет всегда произносимо с
уважением и благодарностью: он любит этот народ, он видит много добрых,
благородных, хотя и неразвитых или неверно направленных инстинктов в этих
смиренных, простодушных тружениках. Их-то защищает он от разного
рода талантливых натур и бесталанных скромников, к ним-то относится
он без всякого отрицания. В «Богомольцах» его великолепен контраст
между простодушной верой, живыми, свежими чувствами простолюдинов
и надменной пустотой генеральши Дарьи Михайловны или гадостным
фанфаронством откупщика Хрептюгина. И неужели это будет отрицание
народного достоинства, нелюбовь к родине, если благородный человек
расскажет, как благочестивый народ разгоняют от святых икон, которым
он искренне верует и поклоняется, для того, чтобы очистить место для
генеральши Дарьи Михайловны, небрежно говорящей, что c'est joli *;
или как полуграмотный писарь глумится над простодушной верой
старика, уверяя, что «простой человек, окроме как своего невежества,
натурального естества ни в жизнь произойти не в силах»; или как у
истомленных, умирающих от жажды странниц отнимают ото рта воду, чтобы
поставить серебряный самовар Ивана Онуфрича Хрептюгина. Нет,
отрицательное направление принадлежит именно тем людям, которые
обижаются подобными рассказами и безумно отрекаются от своей родины, ставя
себя на место народа. Они — гнилые части, сухие ветви дерева, которые
отмечаются знатоком для того, чтобы садовник обрезал их, и они-то
подымают вопль о том, что режут дерево, что гибнет дерево. Да, дерево
* это красиво (франц.),—Ред.
«Губернские очерки»
33
может погибнуть именно от этих гнилых и засохших ветвей, если они не
будут отсечены. Без них же дерево ничего не потеряет: оно свежо и
молодо, его можно воспитать и выпрямить; его растительная сила такова, что
на место обрезанных у него скоро вырастут новые, здоровые ветви. А о
сухих ветвях и жалеть нечего: пусть их, пригодятся кому-нибудь хоть на
растопку печи.
Сочувствие к неиспорченному, простому классу народа, как и ко
всему свежему, здоровому в России, выражается у г. Щедрина чрезвычайно
живо. Мы думаем, что самый эстетический, самый восторженный человек
может отдохнуть на общей картине богомольцев и странников,
ожидающих на соборной площади появления святых икон. Тут нет сентименталь-
ничанья и ложной идеализации; народ является как есть, с своими
недостатками, грубостью, неразвитостью. Тут и горе, и бедность, и лохмотья,
и голод являются на сцену, тут и песни о том, что пришло время
антихристово, потому что
Власы, бороды стали брити,
Латынскую одежду но сити...24
Но эти бедные, невежественные странники, эти суеверные крестьянки
возбуждают в нас не насмешку, не отвращение, а жалость и сочувствие.
Становится грустно, как послушаешь толки женщин о предстоящем им
переселении по-за Пермь, в сибирские страны. Жалко старого места,
жалко родительские могилки оставить, но что делать? Житье-то плохое на
старом месте: земля — тундра да болотина, семья большая, кормиться
нечем ,и подати взять неоткуда. А в сибирской стороне, говорят, и хлеб
родится, и скотина живет... Вздыхают собеседницы, и разговор,
по-видимому, стихает. Но,— продолжает г. Щедрин,—
Этой боли сердечной, этой нужде сосущей, которую мы равнодушно называем
именем ежедневных, будничных явлений, никогда нет скончания. Они бесконечно
зреют в сердце бедного труженика, выражаясь в жалобах, всегда однообразных и
всегда бесплодных, но тем не менее повторяющихся беспрерывно, потому что
человеку невозможно не стонать, если стон, совершенно созревший без всяких с его
стороны усилий, вылетает из груди.
— Так-то вот, брат,— говорит пожилой и очень смирный с виду мужичок,
встретившись па площади с своим односелянином:— Так-то вот, и Матюшу в некруты
сдали!
В загорелых и огрубевших чертах лица его является почти незаметное
судорожное движение, в голосе слышится дрожание, и обыкновенный сдержанный вздох
»вырывается из груди.
— А добрый парень был,— продолжает мужичок,— как есть на свете муха, и топ
не обидел, робил непрекословно, да и в некруты непрекословно пошел, даже голосу
не подал, как «лоб» сказали!
Воображению моему вдруг представляется этот славный, смирный парень Матю-
ша, не то чтобы веселый, а скорее боязный, трудолюбивый и честный. Я вижу его за
сохой, бодрого и сильного, несмотря на капли пота, струящиеся с его загорелого
лица; вижу его дома, безропотно исполняющего всякую домашнюю нужду; вижу в
3 Н. А. Добролюбов
34
H. A. Добролюбов
церкви божией, стоящего скромно и истово знаменающегося крестным знамением;
Еижу его поздним Еечером, засыпающего сном невинным после тяжкой дневной
работы, для него никогда не кончающейся. Вижу я старика отца и старуху мать,
которые радуются, не нарадуются на ненаглядное детище; Еижу урну с свернутыми в
ней жеребьями, слышу слова: «лоб», «лоб», «лоб»...
— Что ж, помолиться, что ли, ты пришел, дядя Иван? — спрашивает у мужичка
его собеседник.
— Да, вот к угоднику... Помиловал бы он его, наш батюшка!—отвечает старик
прерывающимся голосом.— Никакого то есть даже изъяну в нем не нашли, в Матю-
ше-то; тело-то, слышь, белое-разбелое, да крепко таково...
И вся эта толпа пришла сюда с чистым сердцем, храня ео Есей ее непорочности
душевную лепту, которую она обещала повергнуть к пречестному и достохвальному
образу божьего угодника. Прислушиваясь к ее говору, я сам начинаю сознавать
возможность п законность этого неудержимого стремления к душевному подвигу,
которое так просто и так естественно объясняется всеми жизненными обстоятельствами,
оцепляющими незатейливое существование простого человека (т. III, стр. 152—154).
Мы остановимся здесь, под влиянием этого трогательного чувства.
Заметим только, в заключение, как ровно, беспорывно, но зато как
беззаветно, просто и открыто выражается глубокое чувство, глубокая вера
этого народа, и выражается не в восклицаниях, а на деле. Это не то, что
фразеры, о которых говорили мы в начале статьи. Толками тех господ
нечего увлекаться, на них нечего надеяться: их станет только на фразу,
а внутри существа их господствует лень и апатия. Не такова эта живая,
свежая масса: она не любит много говорить, не щеголяет своими
страданиями и печалями и часто даже сама их не понимает хорошенько. Но уж
зато, если поймет что-нибудь этот «мир», толковый и дельный, если
скажет свое простое, из жизни вышедшее слово, то крепко будет его слово,
и сделает он, что обещал. На него можно надеяться.
НТО ТАКОЕ ОБЛОМОВЩИНА?
(((Обломов», роман И. А. Гончарова.
«Отеч. записки», 1859 г., «7VS I—IV)
Где же тот, кто бы на родном языке
русской души умел бы сказать нам это
всемогущее слово «вперед»? Веки проходят за
веками, полмильона сидней, увальней и
болванов дремлет непробудно, и редко
рождается на Руси муж, умеющий
произнести его, это всемогущее слово...
гоголь «
Десять лет ждала наша публика романа г. Гончарова. Задолго до его
появления в печати о нем говорили как о произведении необыкновенном,
К чтению его приступили с самыми обширными ожиданиями. Между тем
первая часть романа, написанная еще в 1849 г. и чуждая текущих
интересов настоящей минуты, многим показалась скучною. В это же время
появилось «Дворянское гнездо», и все были увлечены поэтическим, в
высшей степени симпатичным талантом его автора 2. «Обломов» остался для
многих в стороне; многие даже чувствовали утомление от необычайно-
тонкого и глубокого психического анализа, проникающего весь роман
г. Гончарова. Та публика, которая любит внешнюю занимательность
действия, нашла утомительною первую часть романа потому, что до самого
конца ее герой все продолжает лежать на том же диване, на котором
застает его начало первой главы. Те читатели, которым нравится
обличительное направление, недовольны были тем, что в романе оставалась
совершенно нетронутою наша официально-общественная жизнь. Короче —
первая часть романа произвела неблагоприятное впечатление на многих
читателей.
Кажется, немало было задатков на то, чтобы и весь роман не имел
успеха, по крайней мере в нашей публике, которая так привыкла считать
всю поэтическую литературу забавой и судить художественные
произведения по первому впечатлению. Но на этот раз художественная правда
скоро взяла свое. Последующие части романа сгладили первое неприятное
3*
36
H. A. Добролюбов
впечатление у всех, у кого оно было, и талант Гончарова покорил своему
неотразимому влиянию даже людей, всего менее ему сочувствовавших.
Тайна такого успеха заключается, нам кажется, сколько непосредственно
в силе художественного таланта автора, столько же и в необыкновенном
богатстве содержания романа.
Может показаться странным, что мы находим особенное богатство
содержания в романе, в котором, по самому характеру героя, почти вовсе
нет действия. Но мы надеемся объяснить свою мысль в продолжении
статьи, главная цель которой и состоит в том, чтобы высказать несколько
замечаний и выводов, на которые, по нашему мнению, необходимо наводит
содержание романа Гончарова.
«Обломов» вызовет, без сомнения, множество критик. Вероятно, будут
между ними и корректурные, которые отыщут какие-нибудь погрешности
в языке и слоге, и патетические, в которых будет много восклицаний о
прелести сцен и характеров, и эстетично-аптекарские, с строгою поверкою
того, везде ли точно, по эстетическому рецепту, отпущено действующим
лицам надлежащее количество таких-то и таких-то свойств и всегда ли
эти лица употребляют их так, как сказано в рецепте. Мы не чувствуем
ни малейшей охоты пускаться в подобные тонкости, да и читателям,
вероятно, не будет особенного горя, если мы не станем убиваться над
соображениями о том, вполне ли соответствует такая-то фраза характеру героя
и его положению, или в ней надобно было несколько слов переставить,
и т. п. Поэтому нам кажется нисколько не предосудительным заняться
более общими соображениями о содержании и значении романа
Гончарова, хотя, конечно, истые критики и упрекнут нас опять, что статья наша
написана не об Обломове, а только по поводу Обломова 3.
Нам кажется, что в отношении к Гончарову более, чем в отношении
ко всякому другому автору, критика обязана изложить общие результаты,
выводимые из его произведения. Есть авторы, которые сами на себя берут
этот труд, объясняясь с читателем относительно цели и смысла своих
произведений. Иные и не высказывают категорически своих намерений,
но так ведут весь рассказ, что он оказывается ясным и правильным
олицетворением их мысли. У таких авторов каждая страница бьет на то,
чтобы вразумить читателя, и много нужно недогадливости, чтобы не понять
их... Зато плодом чтения их бывает более или менее полное (смотря по
степени таланта автора) согласие с идеею, положенною в основание
произведения. Остальное все улетучивается через два часа по прочтении
книги. У Гончарова совсем не то. Он вам не дает, и, по-видимому, не хочет
дать, никаких выводов. Жизнь, им изображаемая, служит для него не
средством к отвлеченной философии, а прямою целью сама по себе. Ему
нет дела до читателя и до выводов, какие вы сделаете из романа: это уж
ваше дело. Ошибетесь — пеняйте на свою близорукость, а никак не на
автора. Он представляет вам живое изображение и ручается только за
Что такое обломовщина?
37
его сходство с действительностью; а там уж ваше дело определить
степень достоинства изображенных предметов: он к этому совершенно
равнодушен. У него нет и той горячности чувства, которая иным талантам
придает наибольшую силу и прелесть. Тургенев, например, рассказывает о
своих героях, как о людях, близких ему, выхватывает из груди их
горячее чувство и с нежным участием, с болезненным трепетом следит за
ними, сам страдает и радуется вместе с лицами, им созданными, сам
увлекается той поэтической обстановкой, которой любит всегда окружать их...
И его увлечение заразительно: оно неотразимо овладевает симпатией
читателя, с первой страницы приковывает к рассказу мысль его и чувство,
заставляет и его переживать, перечувствовать те моменты, в которых
являются перед ним тургеневские лица. И пройдет много времени,—
читатель может забыть ход рассказа, потерять связь между подробностями
происшествий, упустить из виду характеристику отдельных лиц и
положений, может, наконец, позабыть все прочитанное; но ему все-таки будет
памятно и дорого то живое, отрадное впечатление, которое он испытывал
при чтении рассказа. У Гончарова нет ничего подобного. Талант его
неподатлив на впечатления. Он не запоет лирической песни при взгляде на
розу и соловья; он будет поражен ими, остановится, будет долго
всматриваться и вслушиваться, задумается... Какой процесс в это время
произойдет в душе его, этого нам не понять хорошенько... Но вот он начинает
чертить что-то... Вы холодно всматриваетесь в неясные еще черты... Вот
они делаются яснее, яснее, прекраснее... и вдруг, неизвестно каким
чудом, из этих черт восстают перед вами и роза и соловей, со всей своей
прелестью и обаянием. Вам рисуется не только их образ, вам чуется
аромат розы, слышатся соловьиные звуки... Пойте лирическую песнь,
если роза и соловей могут возбуждать ваши чувства; художник начертил их
и, довольный своим делом, отходит в сторону: более он ничего ие
прибавит... «И напрасно было бы прибавлять,— думает он,— если сам образ не
говорит вашей душе, то что могут вам сказать слова?..»
В этом уменье охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять
его — заключается сильнейшая сторона таланта Гончарова. И ею он
превосходит всех современных русских писателей. Из нее легко объясняются
все остальные свойства его таланта. У него есть изумительная
способность — во всякий данный момент остановить летучее явление жизни, во
всей его полноте и свежести, и держать его перед собою до тех пор, пока
оно не сделается полной принадлежностью художника. На всех нас
падает светлый луч жизни, но он у нас тотчас же и исчезает, едва
коснувшись нашего сознания. И за ним идут другие лучи от других предметов,
и опять столь же быстро исчезают, почти не. оставляя следа. Так
проходит вся жизнь, скользя по поверхности нашего сознания. Не то у
художника; он умеет уловить в каждом предмете что-нибудь близкое и
родственное своей душе, умеет остановиться на том моменте, который чем-
3*
H. A. Добролюбов
нибудь особенно поразил его. Смотря по свойству поэтического таланта
и по степени его выработанности, сфера, доступная художнику, может
суживаться или расширяться, впечатления могут быть живее или глубже;
выражение их — страстнее или спокойнее. Нередко сочувствие поэта
привлекается каким-нибудь одним качеством предметов, и это качество он
старается вызывать и отыскивать всюду, в возможно полном и живом его
выражении поставляет свою главную задачу, на него по преимуществу
тратит свою художническую силу. Так являются художники, сливающие
внутренний мир души своей с миром внешних явлений и видящие всю
жизнь и природу под призмою господствующего в них самих настроения.
Так, у одних все подчиняется чувству пластической красоты, у других —
но преимуществу рисуются нежные и симпатичные черты, у иных во
всяком образе, во всяком описании отражаются гуманные и социальные
стремления и т. д. Ни одна из таких сторон не выдается особенно у
Гончарова. У него есть другое свойство: спокойствие и полнота поэтического
миросозерцания. Он ничем не увлекается исключительно или увлекается
всем одинаково. Он не поражается одной стороною предмета, одним
моментом события, а вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения
всех моментов явления, и тогда уже приступает к их художественной
переработке. Следствием этого является, конечно, в художнике более
спокойное и беспристрастное отношение к изображаемым предметам,
большая отчетливость в очертании даже мелочных подробностей и ровная
доля внимания ко всем частностям рассказа.
Вот отчего некоторым кажется роман Гончарова растянутым. Он, если
хотите, действительно растянут. В первой части Обломов лежит на
диване; во второй ездит к Ильинским и влюбляется в Ольгу, а она в него;
в третьей она видит, что ошибалась в Обломове, и они расходятся; в
четвертой она выходит замуж за друга его, Штольца, а он женится на
хозяйке того дома, где нанимает квартиру. Вот и все. Никаких внешних
событий, никаких препятствий (кроме разве разведения моста через
Неву, прекратившего свидания Ольги с Обломовым)г никаких посторонних
обстоятельств не вмешивается в роман. Лень и апатия Обломова —
единственная пружина действия во всей его истории. Как же это можно было
растянуть на четыре части! Попадись эта тема другому автору, тот бы ее
обделал иначе: написал бы страничек пятьдесят, легких, забавных,
сочинил бы милый фарс, осмеял бы своего ленивца, восхитился бы Ольгой
и Штольцом, да на том бы и покончил. Рассказ никак бы не был скучен,
хотя и не имел бы особенного художественного значения. Гончаров
принялся за дело иначе. Он не хотел отстать от явления, на которое однажды
бросил свой взгляд, не проследивши его до конца, не отыскавши его
причин, не понявши связи его со всеми окружающими явлениями. Он хотел
добиться того, чтобы случайный образ, мелькнувший перед ним, возвести
в тип, придать ему родовое и постоянное значение. Поэтому во всем, что
Что такое обломовщина?
39
касалось Обломова, не было для него вещей пустых и ничтожных. Всем
занялся он с любовью, все очертил подробно и отчетливо. Не только те
комнаты, в которых жил Обломов, но и тот дом, в каком он только мечтал
жить; не только халат его, но серый сюртук и щетинистые бакенбарды
слуги его Захара; не только писание письма Обломовым, но и качество
бумаги и чернил в письме старосты к нему — все приведено и изображено
с полною отчетливостью и рельефностью. Автор не может пройти
мимоходом даже какого-нибудь барона фон-Лангвагена, не играющего никакой
роли в романе; и о бароне напишет он целую прекрасную страницу, и
написал бы две и четыре, если бы не успел исчерпать его на одной. Это,
если хотите, вредит быстроте действия, утомляет безучастного читателя,
требующего, чтоб его неудержимо завлекали сильными ощущениями. Но
тем не менее в таланте Гончарова — это драгоценное свойство,
чрезвычайно много помогающее художественности его изображений. Начиная
читать его, находишь, что многие вещи как будто не оправдываются
строгой необходимостью, как будто не соображены с вечными требованиями
искусства. Но вскоре начинаешь сживаться с тем миром, который он
изображает, невольно признаешь законность и естественность всех
выводимых им явлений, сам становишься в положение действующих лиц и как-
то чувствуешь, что на их месте и в их положении иначе и нельзя,
да как будто и не должно действовать. Мелкие подробности, беспрерывно
вносимые автором и рисуемые им с любовью и с необыкновенным
мастерством, производят наконец какое-то обаяние. Вы совершенно
переноситесь в тот мир, в который ведет вас автор: вы находите в нем что-то
родное, перед вами открывается не только внешняя форма, но и самая
внутренность, душа каждого лица, каждого предмета. И после прочтения
всего романа вы чувствуете, что в сфере вашей мысли прибавилось что-
то новое, что к вам в душу глубоко запали новые образы, новые
типы. Они вас долго преследуют, вам хочется думать над ними, хочется
выяснить их значение и отношение к вашей собственной жизни, характеру,
наклонностям. Куда денется ваша вялость и утомление; бодрость мысли
и свежесть чувства пробуждаются в вас. Вы готовы снова перечитать
многие страницы, думать над ними, спорить о них. Так по крайней мере
на нас действовал Обломов: «Сон Обломова» и некоторые отдельные
сцены мы прочли по нескольку раз; весь роман почти сплошь прочитали
мы два раза, и во второй раз он нам понравился едва ли не более, чем
в первый. Такое обаятельное значение имеют эти подробности, которыми
автор обставляет ход действия и которые, по мнению некоторых,
растягивают роман.
Таким образом, Гончаров является перед нами прежде всего
художником, умеющим выразить полноту явлений жизни. Изображение их
составляет его призвание, его наслаждение; объективное творчество его не
смущается никакими теоретическими предубеждениями и заданными идеями,
40
H. A. Добролюбов
не поддается никаким исключительным симпатиям. Оно спокойно, трезво,
бесстрастно. Составляет ли это высший идеал художнической
деятельности, или, может быть, это даже недостаток, обнаруживающий в
художнике слабость восприимчивости? Категорический ответ затруднителен и во
всяком случае был бы несправедлив, без ограничений и пояснений.
Многим не нравится спокойное отношение поэта к действительности, и они
готовы тотчас же произнести резкий приговор о несимпатичности такого
таланта. Мы понимаем естественность подобного приговора, и, может
быть, сами не чужды желания, чтобы автор побольше раздражал наши
чувства, посильнее увлекал нас. Но мы сознаем, что желание это —
несколько обломовское, происходящее от наклонности иметь постоянно
руководителей,— даже в чувствах. Приписывать автору слабую степень
восприимчивости потому только, что впечатления не вызывают у него
лирических восторгов, а молчаливо кроются в его душевной глубине,—
несправедливо. Напротив, чем скорее и стремительнее высказывается
впечатление, тем чаще оно оказывается поверхностным и мимолетным.
Примеров мы видим множество на каждом шагу в людях, одаренных
неистощимым запасом словесного и мимического пафоса. Если человек
умеет выдержать, взлелеять в душе своей образ предмета и потом ярко
и полно представить его,— это значит, что у него чуткая восприимчивость
соединяется с глубиною чувства. Он до времени не высказывается, но для
него ничто не пропадает в мире. Все, что живет и движется вокруг
него, все, чем богата природа и людское общество, у него все это
...как-то чудно
Живет в душевной глубине4.
В нем, как в магическом зеркале, отражаются и по воле его
останавливаются, застывают, отливаются в твердые недвижные формы — все
явления жизни, во всякую данную минуту. Он может, кажется, остановить
саму жизнь, навсегда укрепить и поставить перед нами самый
неуловимый миг ее, чтобы мы вечно на него смотрели, поучаясь или наслаждаясь.
Такое могущество, в высшем своем развитии, стоит, разумеется, всего,
что мы называем симпатичностью, прелестью, свежестью или энергией
таланта. Но и это могущество имеет свои степени, и кроме того,— оно
может быть обращено на предметы различного рода, что тоже очень
важно. Здесь мы расходимся с приверженцами так называемого
искусства для искусства, которые полагают, что превосходное изображение
древесного листочка столь же важно, как, например, превосходное
изображение характера человека. Может быть, субъективно это будет и
справедливо: собственно, сила таланта может быть одинакова у двух художников,
и только сфера их деятельности различна. Но мы никогда не согласимся,
чтобы поэт, тратящий свой талант на образцовые описания листочков и
Что такое обломовщина?
41
ручейков, мог иметь одинаковое значение с тем, кто с равною силою
таланта умеет воспроизводить, например, явления общественной жизни.
Нам кажется, что для критики, для литературы, для самого общества
гораздо важнее вопрос о том, на что употребляется, в чем выражается
талант художника, нежели то, какие размеры и свойства имеет он в самом
себе, в отвлечении, в возможности.
Как же выразился, на что потратился талант Гончарова? Ответом на
этот вопрос должен служить разбор содержания романа.
По-видимому, не обширную сферу избрал Гончаров для своих
изображений. История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как
ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его,— не бог весть
какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь, в ней
предстает перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с
беспощадною строгостью и правильностью; в ней сказалось новое слово
нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния
и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это —
обломовщина; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской
жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного
значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести.
В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более,
нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем
произведение русской жизни, знамение времени.
Обломов есть лицо не совсем новое в нашей литературе; но прежде
оно не выставлялось пред нами так просто и естественно, как в романе
Гончарова. Чтобы не заходить слишком далеко в старину, скажем, что
родовые черты обломовского типа мы находим еще в Онегине, и затем не*
сколько раз встречаем их повторение в лучших наших литературных
произведениях. Дело в том, что это коренной, народный наш тип, от
которого не мог отделаться ни один из наших, серьезных художников. Но с
течением времени, по мере сознательного развития общества, тип этот
изменял свои формы, становился в другие отношения к жизни, получал
новое значение. Подметить эти новые фазы его существования, определить
сущность его нового смысла — это всегда составляло громадную задачу,
и талант, умевший сделать это, всегда делал существенный шаг вперед в
истории нашей литературы. Такой шаг сделал и Гончаров своим «Обломо-
вым». Посмотрим на главные черты обломовского типа и потом попробуем
провести маленькую параллель между ним и некоторыми типами того же
рода, в разное время появлявшимися в нашей литературе.
В чем заключаются главные черты обломовского характера? В
совершенной инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается
на свете. Причина же апатии заключается отчасти в его внешнем
положении, отчасти же в образе его умственного и нравственного развития. По
внешнему своему положению — он барин; «у него есть Захар и еще три-
•42
H. A. Добролюбов
ста Захаров», по выражению автора. Преимущество своего положения
Илья Ильич объясняет Захару таким образом:
Разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? худощав или жалок на вид?
Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать есть кому! Я ни разу
не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу!
Стану ли я беспокоиться? из чего мне?.. И кому я это говорю? Не ты ли с
детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни
холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще
черным делом не занимался.
И Обломов говорит совершенную правду. История его воспитания вся
служит подтверждением его слов. С малых лет он привыкает быть
байбаком благодаря тому, что у него и подать и сделать — есть кому; тут уж
даже и против воли нередко он бездельничает и сибаритствует. Ну,
скажите пожалуйста, чего же бы вы хотели от человека, выросшего вот в
каких условиях:
Захар,— как, бывало, нянька,— натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илью-
ша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему, лежа,
то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке
ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от
старших колотушку. Потом Захарка чешет ему голову, натягивает куртку, осторожно
продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтобы не слишком беспокоить его, и напоминает
Илье Ильичу, что надо сделать то, другое: вставши поутру,— умыться и т. п.
Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть — уж
трое-четверо слуг кидаются исполнить его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему
нужно вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли за чем,— ему иногда, как
резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому, а тут вдруг
отец и мать да три тетки в пять голосов и закричат:
— Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька, Ванька,
Захарка! Чего вы смотрите, разини? Вот я вас!
И не удается никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя. После он
нашел, что оно и покойнее гораздо, и выучился сам покрикивать: «Эй, Васька,
Ванька, подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбегай, принеси!»
Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему. Побежит ли он с
лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздается десять отчаянных голосов: «Ах, ах,
поддержите, остановите! упадет, расшибется! Стой, стой!..» Задумает ли он выскочить
зимой в сени или отворить форточку,— опять крики: «Ай, куда? как можно? Не бегай,
не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься...» И Илюша с печалью оставался
дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под
стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и
никли, увядая.
Такое воспитание вовсе не составляет чего-нибудь исключительного,
странного в нашем образованном обществе. Не везде, конечно, Захарка
натягивает чулки барчонку и т. п. Но не нужно забывать, что подобная
льгота дается Захарке по особому снисхождению или вследствие высших
педагогических соображений и вовсе не находится в гармонии с общим
Что такое обломовщина?
43
ходом домашних дел. Барчонок, пожалуй, и сам оденется; но он знает,
что это для него вроде милого развлечения, прихоти, а в сущности, он
вовсе не обязан этого делать сам. Да и вообще ему самому нет надобности
что-нибудь делать. Из чего ему биться? Некому, что ли, подать и сделать
для него все, что ему нужно?.. Поэтому он себя над работой убивать не
станет, что бы ему ни толковали о необходимости и святости труда: он с
малых лет видит в своем доме, что все домашние работы исполняются
лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да
бранятся за дурное исполнение. И вот у него уже готово первое
понятие,— что сидеть сложа руки почетнее, нежели суетиться с работою...
В этом направлении идет и все дальнейшее развитие.
Понятно, какое действие производится таким положением ребенка на
все его нравственное и умственное образование. Внутренние силы
«никнут и увядают» по необходимости. Если мальчик и пытает их иногда,
то разве в капризах и в заносчивых требованиях исполнения другими его
приказаний. А известно, как удовлетворенные капризы развивают
бесхарактерность и как заносчивость несовместна с уменьем серьезно
поддерживать свое достоинство. Привыкая предъявлять бестолковые требования,
мальчик скоро теряет меру возможности и удобоисполнимости своих
желаний, лишается всякого уменья соображать средства с целями и потому
становится в тупик при первом препятствии, для отстранения которого
нужно употребить собственное усилие. Когда он вырастает, он делается
Обломовым, с большей или меньшей долей его апатичности и
бесхарактерности, под более или менее искусной маской, но всегда с одним
неизменным качеством — отвращением от серьезной и самобытной
деятельности.
Много помогает тут и умственное развитие Обломовых, тоже,
разумеется, направляемое их внешним положением. Как в первый раз они
взтлянут на жизнь навыворот,— так уж потом до конца дней своих и не
могут достигнуть разумного понимания своих отношений к миру и к
людям. Им потом и растолкуют многое, они и поймут кое-что, но с детства
укоренившееся воззрение все-таки удержится где-нибудь в уголку и
беспрестанно выглядывает оттуда, мешая всем новым понятиям и не
допуская их уложиться на дно души... И делается в голове какой-то хаос:
иной раз человеку и решимость придет сделать что-нибудь, да не знает
он, что ему начать, куда обратиться... И не мудрено: нормальный человек
всегда хочет только того, что может сделать; зато он немедленно и делает
все, что захочет... А Обломов... он не привык делать что-нибудь,
следовательно не может хорошенько определить, что он может сделать и чего
нет,— следовательно не может и серьезно, деятельно захотеть
чего-нибудь... Его желания являются только в форме: «А хорошо бы, если бы
вот это сделалось»; но как это может сделаться,— он не знает. Оттого он
любит помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтания придут
44
H. A. Добролюбов
в соприкосновение с действительностью. Тут он старается взвалить дело
на кого-нибудь другого, а если нет никого, то на авось...
Все эти черты превосходно подмечены и с необыкновенной силой и
истиной сосредоточены в лице Ильи Ильича Обломова. Не нужно
представлять себе, чтобы Илья Ильич принадлежал к какой-нибудь особенной
породе, в которой бы неподвижность составляла существенную,
коренную черту. Несправедливо было бы думать, что он от природы лишен
способности произвольного движения. Вовсе нет: от природы он — человек,
как и все. В ребячестве ему хотелось побегать и поиграть в снежки с
ребятишками, достать самому то или другое, и в овраг сбегать, и в
ближайший березняк пробраться через канал, плетни и ямы. Пользуясь
часом общего в Обломовке послеобеденного сна, он разминался, бывало:
«...взбегал на галерею (куда не позволялось ходить, потому что она
каждую минуту готова была развалиться), обегал по скрипучим доскам
кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит
жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе». А то — «забирался в
канал, рылся, отыскивал какие-то корешки, очищал от коры и ел всласть,
предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька». Все это могло
служить задатком характера кроткого, спокойного, но не
бессмысленно-ленивого. Притом и кротость, переходящая в робость и подставление спины
другим,— есть в человеке явление вовсе не природное, а чисто
благоприобретенное, точно так же, как и нахальство и заносчивость. И между
обоими этими качествами расстояние вовсе не так велико, как
обыкновенно думают. Никто не умеет так отлично вздергивать носа, как
лакеи; никто так грубо не ведет себя с подчиненными, как те, которые
подличают перед начальниками. Илья Ильич, при всей своей кротости,
не боится поддать ногой в рожу обувающему его Захару, и если он в
своей жизни не делает этого с другими, так единственно потому, что
надеется встретить противодействие, которое нужно будет преодолеть.
Поневоле он ограничивает круг своей деятельности тремя стами своих
Захаров. А будь у него этих Захаров во сто, в тысячу раз больше — он бы
не встречал себе противодействий и приучился бы довольно смело
поддавать в зубы каждому, с кем случится иметь дело. И такое поведение
вовсе не было бы у него признаком какого-нибудь зверства натуры; и ему
самому, и всем окружающим оно казалось бы очень естественным,
необходимым... никому бы и в голову не пришло, что можно и должно вести
себя как нибудь иначе. Но — к несчастью или к счастью — Илья Ильич
родился помещиком средней руки, получал дохода не более десяти тысяч
рублей на ассигнации и вследствие того мог распоряжаться судьбами
мира только в своих мечтаниях. Зато в мечтах своих он и любил
предаваться воинственным и героическим стремлениям. «Он любил иногда
вообразить себя каким-нибудь непобедимым полководцем, пред которым не
только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит; выдумает
Что такое обломовщина?
45
войну и причину ее: у него хлынут, напр., народы из Африки в Европу,
или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов,
разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия».
А то он вообразит, что он великий мыслитель или художник, что за ним
гоняется толпа, и все поклоняются ему... Ясно, что Обломов не тупая,
апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже чего-то ищущий
в своей жизни, о чем-то думающий. Но гнусная привычка получать
удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других,— развила
в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние
нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова,
так они взаимно проникают друг друга и одно другим обусловливаются,
что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-
нибудь границу. Это нравственное рабство Обломова составляет едва ли
не самую любопытную сторону его личности и всей его истории... Но как
мог дойти до рабства человек с таким независимым положением, как
Илья Ильич? Кажется, кому бы и наслаждаться свободой, как не ему? Не
служит, не связан с обществом, имеет обеспеченное состояние... Он сам
хвалится тем, что не чувствует надобности кланяться, просить,
унижаться, что он не подобен «другим», которые работают без устали, бегают,
суетятся,— а не поработают, так и не поедят... Он внушает к себе
благоговейную любовь доброй вдовы Пшеницыной именно тем, что он барин, что
он сияет и блещет, что он и ходит и говорит так вольно и независимо, что
он «не пишет беспрестанно бумаг, не трясется от страха, что опоздает в
должность, не глядит на всякого так, как будто просит оседлать его и
поехать, а глядит на всех и на все так смело и свободно, как будто требует
покорности себе». И, однако же, вся жизнь этого барина убита тем, что
он постоянно остается рабом чужой воли и никогда не возвышается до того,
чтобы проявить какую-нибудь самобытность. Он раб каждой женщины,
каждого встречного, раб каждого мошенника, который захочет взять над
ним волю. Он раб своего крепостного Захара, и трудно решить, который
из них более подчиняется власти другого. По крайней мере — чего Захар
не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать, а чего
захочет Захар, то сделает и против воли барина, и барин покорится... Оно так
и следует: Захар все-таки умеет сделать хоть что-нибудь, а Обломов ровно
ничего не может и не умеет. Нечего уже и говорить о Тарантьеве и
Иване Матвеиче, которые делают с Обломовым что хотят, несмотря на то, что
сами и по умственному развитию, и по нравственным качествам гораздо
ниже его... Отчего же это? Да все оттого, что Обломов как барин не хочет
и не умеет работать и не понимает настоящих отношений своих ко всему
окружающему. Он не прочь от деятельности — до тех пор, пока она имеет
вид призрака и далека от реального осуществления: так, он создает план
устройства имения и очень усердно занимается им,— только
«подробности, сметы и цифры» пугают его и постоянно отбрасываются им в сто-
46
H. A. Добролюбов
рону, потому что где же с ними возиться!... Он — барин, как
объясняет сам Ивану Матвеичу: «Кто я, что такое? спросите вы... Подите
спросите у Захара, и он скажет вам: «барин!» Да, я барин и делать ничего
не умею! Делайте вы, если знаете, и помогите, если можете, а за труд
возьмите себе, что хотите:—на то наука!» И вы думаете, что он этим
хочет только отделаться от работы, старается прикрыть незнанием свою
лень? Нет, он действительно не знает и не умеет ничего, действительно
не в состоянии приняться ни за какое путное дело. Относительно своего
имения (для преобразования которого сочинил уже план) он таким
образом признается в своем неведении Ивану Матвеичу: «Я не знаю, что
такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный мужик, что
богатый; не знаю, что значит четверть ржи или овса, что она стоит,
в каком месяце и что сеют и жнут, как и когда продают; не знаю, богат
ли я, или беден, буду ли я через год сыт, или буду нищий — я ничего
не знаю!.. Следовательно, говорите и советуйте мне, как ребенку...» Иначе
сказать: будьте надо мною господином, распоряжайтесь моим добром, как
вздумаете, уделяйте мне из него, сколько найдете для себя удобным...
Так на деле-то и вышло: Иван Матвеич совсем было прибрал к рукам
имение Обломова, да Штольц помешал, к несчастью.
И ведь Обломов не только своих сельских порядков не знает, не
только положения своих дел не понимает: это бы еще куда ни шло!.. Но вот
в чем главная беда: он и вообще жизни не умел осмыслить для себя.
В Обломовке никто не задавал себе вопроса: зачем жизнь, что она такое,
какой ее смысл и назначение? Обломовцы очень просто понимали ее, «как
идеал покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными
неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и, между
прочим, трудом. Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праот-
цев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него
избавлялись, находя это возможным и должным». Точно так относился к жизни
и Илья Ильич. Идеал счастья, нарисованный им Штольцу, заключался ни
в чем другом, как в сытной жизни — с оранжереями, парниками,
поездками с самоваром в рощу и т. п.,— в халате, в крепком сне, да для
промежуточного отдыха — в идиллических прогулках с кроткою, но дебелою женою
и в созерцании того, как крестьяне работают. Рассудок Обломова так
успел с детства сложиться, что даже в самом отвлеченном рассуждении,
в самой утопической теории имел способность останавливаться на данном
моменте и затем не выходить из этого status quo, несмотря ни на какие
убеждения. Рисуя идеал своего блаженства, Илья Ильич не думал
спросить себя о внутреннем смысле его, не думал утвердить его законность и
правду, не задал себе вопроса: откуда будут браться эти оранжереи и
парники, кто их станет поддерживать и с какой стати будет он ими
пользоваться?.. Не задавая себе подобных вопросов, не разъясняя своих
отношений к миру и к обществу, Обломов, разумеется, не мог осмыслить своей
Что такое оОломовщина/
47
жизни и потому тяготился и скучал от всего, что ему приходилось делать.
Служил он — и не мог понять, зачем это бумаги пишутся; не понявши
же, ничего лучше не нашел, как выйти в отставку и ничего не писать.
Учился он — и не знал, к чему может послужить ему наука; не узнавши
этого, он решился сложить книги в угол и равнодушно смотреть, как их
покрывает пыль. Выезжал он в общество — и не умел себе объяснить,
зачем люди в гости ходят; не объяснивши, он бросил все свои знакомства и
стал по целым дням лежать у себя на диване. Сходился он с женщинами,
но подумал: однако чего же от них ожидать и добиваться? подумавши
же, не решил вопроса и стал избегать женщин... Все ему наскучило и
опостылело, и он лежал на боку, с полным сознательным презрением к
«муравьиной работе людей», убивающихся и суетящихся бог весть из-за
чего...
Дойдя до этой точки в объяснении характера Обломова, мы находим
уместным обратиться к литературной параллели, о которой упомянули
выше. Предыдущие соображения привели нас к тому заключению, что.
Обломов не есть существо, от природы совершенно лишенное способности
произвольного движения. Его лень и апатия есть создание воспитания и.
окружающих обстоятельств. Главное здесь не Обломов, а обломовщина.
Он бы, может быть, стал даже и работать, если бы нашел дело по себе;
но для этого, конечно, ему надо было развиться несколько под другими
условиями, нежели под какими он развился. В настоящем же своем
положении он не мог нигде найти себе дела по душе, потому что вообще не
понимал смысла жизни и не мог дойти до разумного воззрения на свои
отношения к другим. Здесь-то он и подает нам повод к сравнению с
прежними типами лучших наших писателей. Давно уже замечено, что все
герои замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого, что не
видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие
того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем
представляют разительное сходство с Обломовым. В самом деле,— раскройте,,
напр., «Онегина», «Героя нашего времени», «Кто виноват?», «Рудина»,
или «Лишнего человека», или «Гамлета Щитровского уезда»,— в каждом
из них вы найдете черты, почти буквально сходные с чертами Обломова.,
Онегин, как Обломов, оставляет общество, затем, что его
Измены утомить успели,
Друзья и дружба надоели.
И вот он занялся писаньем:
Отступник бурных наслаждений^
Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся,
48
H. A. Добролюбов
Хотел писать, но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его...
На этом же поприще подвизался и Рудин, который любил читать
избранным «первые страницы предполагаемых статей и сочинений своих».
Тентетников тоже много лет занимался «колоссальным сочинением,
долженствовавшим обнять всю Россию со всех точек зрения»; но и у него
«предприятие больше ограничивалось одним обдумыванием: изгрызалось
перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось в
сторону». Илья Ильич не отстал в этом от своих собратий: он тоже писал и
переводил,— Сэя даже переводил. «Где же твои работы, твои
переводы?»— спрашивает его потом Штольц.— «Не знаю, Захар куда-то дел;
в углу, должно быть, лежат»,— отвечает Обломов. Выходит, что Илья
Ильич даже больше, может быть, сделал, чем другие, принимавшиеся за дело
с такой же твердой решимостью, как и он... А принимались за это дело
почти все братцы обломовской семьи, несмотря на разницу своих
положений и умственного развития. Печорин только смотрел свысока на
«поставщиков повестей и сочинителей мещанских драм»; впрочем, и он писал
свои записки. Что касается Бельтова, то он, наверное, сочинял
что-нибудь, да еще, кроме того, артистом был, ходил в Эрмитаж и сидел за
мольбертом, обдумывал большую картину встречи Бирона, едуп^его из
Сибири, с Минихом, едущим в Сибирь... Что из всего этого вышло, известно
читателям... Во всей семье та же обломовщина...
Относительно «присвоения себе чужого ума», т. е. чтения, Обломов
тоже не много расходится с своими братьями. Илья Ильич читал тоже
кое-что и читал не так, как покойный батюшка его: «Давно, говорит, не
читал книги»; «дай-ко, почитаю книгу»,— да и возьмет, какая под руку
попадется... Нет, веяние современного образования коснулось и Обломова:
он уже читал по выбору, сознательно. «Услышит о каком-нибудь
замечательном произведении,— у него явится позыв познакомиться с ним: он
ищет, просит книги, и, если принесут скоро, он примется за нее, у него
начнет формироваться идея о предмете; еще шаг, и он овладел бы им,
а посмотришь, он уже лежит, глядя апатически в потолок, а книга лежит
подле него недочитанная, непонятая... Охлаждение овладевало им еще
быстрее, нежели увлечение: он уже никогда не возвращался к покинутой
книге». Не то ли же самое было и с другими? Онегин, думая себе
присвоить ум чужой, начал с того, что
Отрядом книг уставил полку
и принялся читать. Но толку не вышло никакого: чтение скоро ему
надоело, и —
ç>o такое обломовщина
49
Как женщин, он оставил книги
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.
Тентетников тоже так читал книги (благо, он привык их всегда иметь под
рукой),— большею частию во время обеда: «с супом, с соусом, с жарким
и даже с пирожным»... Рудин тоже признается Лежневу, что накупил он
себе каких-то агрономических книг, но ни одной до конца не прочел;
сделался учителем, да нашел, что фактов знал маловато и даже на одном
памятнике XVI столетия был сбит учителем математики. И у него, как у
Обломова, принимались легко только общие идеи, а «подробности, сметы
и цифры» постоянно оставались в стороне.
«Но ведь это еще не жизнь,— это только приготовление к жизни»,—
думал Андрей Иванович Тентетников, проходивший, вместе с Обломовым
и всей этой компанией, тьму ненужных наук и не умевший ни йоты из
них применить к жизни. «Настоящая жизнь — это служба». И все наши
герои, кроме Онегина и Печорина, служат, и для всех их служба —
ненужное и не имеющее смысла бремя; и все они оканчивают благородной
и ранней отставкой. Бельтов четырнадцать лет и шесть месяцев не
дослужил до пряжки, потому что, погорячившись сначала, вскоре охладел к
канцелярским занятиям, стал раздражителен и небрежен... Тентетников
поговорил крупно с начальником, да притом же хотел принести пользу
государству, лично занявшись устройством своего имения. Рудин
поссорился с директором гимназии, где был учителем. Обломову не
понравилось, что с начальником все говорят «не своим голосом, а каким-то другим,
тоненьким и гадким»;—он не захотел этим голосом объясняться с
начальником по тому поводу, что «отправил нужную бумагу вместо
Астрахани в Архангельск», и подал в отставку... Везде все одна и та же
обломовщина...
В домашней жизни обломовцы тоже очень похожи друг на друга:
Прогулки, чтенье, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина,—
Вот жизнь Онегина святая...
То же самое, слово в слово, за исключением коня, рисуется у Ильи
Ильича в идеале домашней жизни. Даже поцелуй черноокой белянки не
4 Н. А. Добролюбов
50
H. А. Добролюбов
забыт у Обломова. «Одна из крестьянок,— мечтает Илья Ильич,— с
загорелой шеей, с открытыми локтями, с робко опущенными, но лукавыми
глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется от барской ласки, а
сама счастлива... тс... жена чтоб не увидала, боже сохрани!»
(Обломоввоображает себя уже женатым)... И если б Илье Ильичу не лень было уехать
из Петербурга в деревню, он непременно привел бы в исполнение
задушевную свою идиллию. Вообще обломовцы склонны к идиллическому,
бездейственному счастью, которое ничего от них не требует:
«Наслаждайся, мол, мною, да и только...» Уж на что, кажется, Печорин, а и тот
полагает, что счастье-то, может быть, заключается в покое и сладком
отдыхе. Он в одном месте своих записок сравнивает себя с человеком,
томимым голодом, который «в изнеможении засыпает и видит пред собою
роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные
дары воображения, и ему кажется легче... но только проснулся, мечта
исчезает, остается удвоенный голод и отчаяние...» В другом месте
Печорин себя спрашивает: «Отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый
мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?»
Он сам полагает,— оттого что «душа его сжилась с бурями и жаждет
кипучей деятельности...» Но ведь он вечно недоволен своей борьбой, и сам
же беспрестанно высказывает, что все свои дрянные дебоширства затевает
потому только, что ничего лучшего не находит делать. А уж коли не
находит дела и вследствие того ничего не делает и ничем не
удовлетворяется, так это значит, что к безделью более наклонен, чем к делу... Та
же обломовщина...
Отношения к людям и в особенности к женщинам тоже имеют у всех
обломовцев некоторые общие черты. Людей они вообще презирают с их
мелким трудом, с их узкими понятиями и близорукими стремлениями.
«Это все чернорабочие»,— небрежно отзывается даже Бельтов,
гуманнейший между ними. Рудин наивно воображает себя гением, которого никто
не в состоянии понять. Печорин, уж разумеется, топчет всех ногами.
Даже Онегин имеет за собою два стиха, гласящие, что
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей.
Тентетников даже,— уж на что смирный,— и тот, пришедши в
департамент, почувствовал, что «как будто его за проступок перевели из
верхнего класса в нижний»; а приехавши в деревню, скоро постарался, подобно
Онегину и Обломову, раззнакомиться со всеми соседями, которые
поспешили с ним познакомиться. И наш Илья Ильич не уступит никому в
презрении к людям: оно ведь так легко, для него даже усилий никаких не
нужно. Он самодовольно проводит перед Захаром параллель между собой
и «другими»; он в разговорах с приятелями выражает наивное удивление,
Что такое обломовщина?
51
из-за чего это люди бьются, заставляя себя ходить в должность, писать,
следить за газетами, посещать общество и проч. Он даже весьма
категорически выражает Штольцу сознание своего превосходства над всеми
людьми. «Жизнь, говорит, в обществе? Хороша жизнь! Чего там искать?
Интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого
вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все
это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!»
И затем Илья Ильич очень пространно и красноречиво говорит на эту
тему, так что хоть бы Рудину так поговорить.
В отношении к женщинам все обломовцы ведут себя одинаково
постыдным образом. Они вовсе не умеют любить и не знают, чего искать
в любви, точно так же, как и вообще в жизни. Они не прочь
пококетничать с женщиной, пока видят в ней куклу, двигающуюся на пружинках;
не прочь они и поработить себе женскую душу... как же! этим бывает
очень довольна их барственная натура! Но только чуть дело дойдет до
чего-нибудь серьезного, чуть они начнут подозревать, что пред ним
действительно не игрушка, а женщина, которая может и от них потребовать
уважения к своим правам,— они немедленно обращаются в постыднейшее
бегство. Трусость у всех этих господ непомерная: Онегин, который так
«рано умел тревожить сердца кокеток записных», который женщин
«искал без упоенья, а оставлял без сожаленья»,— Онегин струсил перед
Татьяной, дважды струсил,— и в то время, когда принимал от нее урок,
и тогда, как сам ей давал его. Она ему ведь нравилась с самого начала,
и если бы любила менее серьезно, он не подумал бы принять с нею тон
строгого нравоучителя. А тут он увидел, что шутить опасно, и потому
начал толковать о своей отжитой жизни, о дурном характере, о том, что
она другого полюбит впоследствии, и т. п. Впоследствии он сам
объясняет свой поступок тем, что, «заметя искру нежности в Татьяне, он не
хотел ей верить» и что
Свою постылую свободу
Он потерять не захотел.
А какими фразами-то прикрыл себя, малодушный!
Бельтов с Круциферской, как известно, тоже не посмел идти до конца
и убежал от нее, хотя и по совершенно другим соображениям, если ему
только верить. Рудин — этот уже совершенно растерялся, когда Наталья
хотела от него добиться чего-нибудь решительного. Он ничего более не
сумел, как только посоветовать ей «покориться». На другой день он
остроумно объяснил ей в письме, что ему «было не в привычку» иметь дело с
такими женщинами, как она. Таким же оказывается и Печорин,
специалист по части женского сердца, признающийся, что, кроме женщин, он
ничего в свете не любил, что для них он готов пожертвовать всем на
4*
52
Я. А. Добролюбов
свете. И он признается, что, во-первых, «не любит женщин с характером:
их ли это дело!» — во-вторых, что он никогда не мажет жениться. «Как
бы страстно я ни любил женщину,— говорит он,— но если она мне даст
только почувствовать, что я должен на ней жениться,— прости, любовь.
Мое сердце превращается в камень, и ничто не разогреет его снова. Я
готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь
поставлю на карту, но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею?
Что мне в ней? куда я себя готовлю? чего я жду от будущего? Право,
ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое
предчувствие» и т. д. А в сущности, это — больше ничего, как обломовщина.
А Илья Ильич разве, вы думаете, не имеет в себе, в свою очередь,
печоринского и рудинского элемента, не говоря об онегинском? Еще
как имеет-то! Он, например, подобно Печорину, хочет непременно
обладать женщиной, хочет вынудить у нее всяческие жертвы в доказательство
любви. Он, видите ли, не надеялся сначала, что Ольга пойдет за него
замуж, и с робостью предложил ей быть его женой. Она ему сказала что-
то вроде того, что это давно бы ему следовало сделать. Он пришел в
смущение, ему стало не довольно согласия Ольги, и он — что бы вы
думали?., он начал — пытать ее, столько ли она его любит, чтобы быть в
состоянии сделаться его любовницей! И ему стало досадно, когда она сказала,
что никогда не пойдет по этому пути; но затем ее объяснение и
страстная сцена успокоили его... А все-таки он струсил под конец до того,
что даже на глаза Ольге боялся показаться, прикидывался больным,
прикрывал себя разведенным мостом, давал понять Ольге, что она его может
компрометировать, и т. д. И все отчего?— оттого, что она от него
потребовала решимости, дела, того, что не входило в его Привычки. Женитьба
сама по себе не страшила его так, как страшила Печорина и Рудина;
у него более патриархальные были привычки. Но Ольга захотела, чтоб он
пред женитьбой устроил дела по имению; это уж была бы жертва, и он,
конечно, этой жертвы не совершил, а явился настоящим Обломовым.
А сам между тем очень требователен. Он сделал с Ольгой такую штуку,
"какая и Печорину впору была бы. Ему вообразилось, что он не довольно
хорош собою и вообще не довольно привлекателен для того, чтобы
Ольга могла сильно полюбить его. Он начинает страдать, не спит ночь,
наконец вооружается энергией и строчит к Ольге длинное рудинское
послание, в котором повторяет известную, тертую и перетертую вещь, гово-
ренную и Онегиным Татьяне, и Рудиным Наталье, и даже Печориным
княжне Мери: «Я, дескать, не так создан, чтобы вы могли быть со мною
счастливы; придет время, вы полюбите другого, более достойного».
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты...
Полюбите вы снова: но...
Что такое обломовщина?
53
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет...
К беде неопытность ведет.
Все обломовцы любят уничижать себя; но это они делают с той целью,
чтоб иметь удовольствие быть опровергнутыми и услышать себе похвалу
от тех, пред кем они себя ругают. Они довольны своим самоунижением,
и все похожи на Рудина, о котором Пигасов выражается: «Начнет себя
бранить, с грязью себя смешает,— ну, думаешь, теперь на свет божий
глядеть не станет. Какое! повеселеет даже, словно горькой водкой себя
попотчевал!» Так и Онегин после ругательств на себя рисуется пред
Татьяной своим великодушием. Так и Обломов, написавши к Ольге ' пасквиль
на самого себя, чувствовал, «что ему уж не тяжело, что он почти
счастлив»... Письмо свое он заключает тем же нравоучением, как и
Онегин свою речь: «История со мною пусть, говорит, послужит вам
руководством в будущей, нормальной любви» и пр. Илья Ильич, разумеется, не
выдержал себя на высоте уничижения перед Ольгой: он бросился
подсмотреть, какое впечатление произведет на нее письмо, увидел, что она
плачет, удовлетворился и — не мог удержаться, чтобы не предстать пред
ней в сию критическую минуту. А она доказала ему, каким он пошлым и
жалким эгоистом явился в этом письме, написанном «из заботы об ее
счастье». Тут уже он окончательно спасовал, как делают, впрочем, все
обломовцы, встречая женщину, которая выше их по характеру и по
развитию.
«Однако же,— возопиют глубокомысленные люди,— в вашей
параллели, несмотря на подбор, видимо, одинаковых фактов, совсем нет смысла.
При определении характера не столько важны внешние проявления,
сколько побуждения, вследствие которых то или другое делается
человеком. А относительно побуждений, как же не видеть неизмеримой разницы
между поведением Обломова и образом действий Печорина, Рудина и
других?.. Этот все делает по инерции, потому что ему лень самому с места
двинуться и лень упереться на месте, когда его тащат, вся его цель
состоит в том, чтобы лишний раз пальцем не пошевелить. А те снедаются
жаждою деятельности, с жаром за все принимаются, ими беспрестанно
Овладевает беспокойство,
Охота к перемене мест
и другие недуги, признаки сильной души. Если они и не делают ничего
истинно полезного, так это потому, что не находят деятельности,
соответствующей своим силам. Они, по выражению Печорина, подобны гению,
прикованному к чиновничьему столу и осужденному переписывать
бумаги. Они выше окружающей их действительности и потому имеют право
54
H. A. Добролюбов
презирать жизнь и людей. Вся их жизнь есть отрицание в смысле
реакции существующему порядку вещей; а его жизнь есть пассивное
подчинение существующим уже влияниям, консервативное отвращение от всякой
перемены, совершенный недостаток внутренней реакции в натуре.
Можно ли сравнивать этих людей? Рудина ставить на одну доску с Обломо-
вым!.. Печорина осуждать на то же ничтожество, в каком погрязает Илья
Ильич!.. Это совершенное непонимание, это нелепость,— это
преступление!..»
Ах, боже мой! В самом деле,— мы ведь и позабыли, что с
глубокомысленными людьми надо держать ухо востро: как раз выведут такие
заключения, о которых вам даже и не снилось. Если вы собираетесь
купаться, а глубокомысленный человек, стоя на берегу со связанными
руками, хвастается тем, что он отлично плавает и обещает спасти вас,
когда вы станете тонуть,— бойтесь сказать: «Да, помилуй, любезный друг,
у тебя ведь руки связаны; позаботься прежде о том, чтоб развязать себе
руки». Бойтесь говорить это, потому что глубокомысленный человек
сейчас же ударится в амбицию и скажет: «А, так вы утвержаете, что я не
умею плавать! Вы хвалите того, кто связал мне руки! Вы не. сочувствуете
людям, которые спасают утопающих!..» И так далее... глубокомысленные
люди бывают очень красноречивы и обильны на выводы самые
неожиданные... Вот и теперь: сейчас выведут заключение, что мы Обломова хотели
поставить выше Печорина и Рудина, что мы хотели оправдать его лежанье,
что мы не умеем видеть внутреннего, коренного различия между ним и
прежними героями, и т. д. Поспешим же объясниться с
глубокомысленными людьми.
Во всем, что мы говорили, мы имели в виду более обломовщину,
нежели личность Обломова и других героев. Что касается до личности, то мы
не могли не видеть разницы темперамента, напр. у Печорина и Обломова,
так же точно, как не можем не найти ее и у Печорина с Онегиным, и у
Рудина с Бельтовым... Кто же станет спорить, что личная разница между
людьми существует (хотя, может быть, и далеко не в той степени и не с
тем значением, как обыкновенно предполагают). Но дело в том, что над
всеми этими лицами тяготеет одна и та же обломовщина, которая кладет
на них неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной
ненужности на свете. Весьма вероятно, что при других условиях жизни,
б другом обществе, Онегин был бы истинно добрым малым, Печорин и Ру-
дин делали бы великие подвиги, а Бельтов оказался бы действительно
превосходным человеком. Но при других условиях развития, может
быть, и Обломов с Тентетниковым не были бы такими байбаками, а
нашли бы себе какое-нибудь полезное занятие... Дело в том, что теперь-то
у них всех одна общая черта — бесплодное стремление к деятельности,
сознание, что из них многое могло бы выйти, но не выйдет ничего...
В этом они поразительно сходятся. «Пробегаю в памяти все мое прошед-
Что такое обломовщина?
55
шее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я
родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение
высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал
этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и
неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил
навеки пыл благородных стремлений,— лучший цвет жизни». Это —
Печорин... А вот как рассуждает о себе Рудин. «Да, природа мне много
дала"; но я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за
собою никакого благотворного следа. Все мое богатство пропадет даром:
я не увижу плодов от семян своих»... Илья Ильич тоже не отстает от
прочих: и он «болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле,
какое-то хорошее, светлое начало, может быть теперь уже умершее, или
лежит оно, как золото в недрах горы, и давно пора бы этому золоту
быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью,
наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе
принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища». Видите — сокровища
были зарыты в его натуре, только раскрыть их пред миром он никогда не
мог. Другие братья его, помоложе, «по свету рыщут»,
Дела себе исполинского ищут,
Благо наследье богатых отцов
Освободило от малых трудов... 5
Обломов тоже мечтал в молодости «служить, пока станет сил, потому
что России нужны руки и головы для разработывания неистощимых
источников...» Да и теперь он «не чужд всеобщих человеческих скорбей,
ему доступны наслаждения высоких помыслов», и хотя он не рыщет по
свету за исполинским делом, но все-таки мечтает о всемирной
деятельности, все-таки с презрением смотрит на чернорабочих и с жаром говорите
Нет, я души не растрачу моей
На муравьиной работе людей...6
А бездельничает он ничуть не больше, чем все остальные братья обло-
мовцы; только он откровеннее,— не старается прикрыть своего безделья
даже разговорами в обществах и гуляньем по Невскому проспекту.
Но отчего же такая.разница впечатлений, производимых на нас Обло-
мовым и героями, о которых мы вспоминали выше? Те представляются
нам в разных родах сильными натурами, задавленными неблагоприятной
обстановкой, а этот — байбаком, который и при самых лучших
обстоятельствах ничего не сделает. Но, во-первых,— у Обломова темперамент
слишком вялый, и потому естественно, что он для осуществления своих
замыслов и для отпора враждебных обстоятельств употребляет еще
несколько менее попыток, нежели сангвинический Онегин или желчный
56
Я. А. Добролюбов
Печорин. В сущности же они все равно несостоятельны пред силою
враждебных обстоятельств, все равно погружаются в ничтожество, когда им
предстоит настоящая, серьезная деятельность. В чем обстоятельства Обло-
мова открывали ему благоприятное поле деятельности? У него было
именье, которое мог он устроить; был друг, вызывавший его на
практическую деятельность; была женщина, которая превосходила его энергией
характера и ясностью взгляда и которая нежно полюбила его... Да
скажите, у кого же из обломовцев не было всего этого, и что все они из
этого сделали? И Онегин и Тентетников хозяйничали в своем именье, и о
Тентетникове мужики даже говорили сначала: «экой востроногий!» Но
скоро те же мужики смекнули, что барин хоть и прыток на первых
порах, но ничего не смыслит и толку никакого не сделает... А дружба?
Что они все делают с своими друзьями? Онегин убил Ленского; Печорин
только все пикируется с Вернером; Рудин умел оттолкнуть от себя
Лежнева и не воспользовался дружбой Покорского... Да и мало ли людей,
подобных Покорскому, встречалось на пути каждого из них?.. Что же
они? Соединились ли друг с другом для одного общего дела, образовали
ли тесный союз для обороны от враждебных обстоятельств? Ничего не
было... Все рассыпалось прахом, все кончилось той же обломовщиной...
О любви нечего и говорить. Каждый из обломовцев встречал женщину
выше себя (потому что Круциферская выше Бельтова и даже княжна Мери
все-таки выше Печорина), и каждый постыдно бежал от ее любви или
добивался того, чтоб она сама прогнала его... Чем это объяснить, как не
давлением на них гнусной обломовщины?
Кроме разницы темперамента, большое различие находится в самом
возрасте Обломова и других героев. Говорим не о летах: они почти
однолетки, Рудин даже двумя-тремя годами постарше Обломова; говорим о
времени их появления. Обломов относится к позднейшему времени, стало
быть, он уже для молодого поколения, для современной жизни, должен
казаться гораздо старше, чем казались прежние обломовцы... Он в
университете, каких-нибудь 17—18-ти лет, прочувствовал те стремления,
проникся теми идеями, которыми одушевляется Рудин в тридцать пять лет.
За этим курсом для него было только две дороги: или деятельность,
настоящая деятельность,— не языком, а головой, сердцем и руками
вместе, или уже просто лежанье сложа руки. Апатическая натура привела
его к последнему: скверно, но по крайней мере тут .нет лжи и обморочи-
ванья. Если б он, подобно своим братцам, пустился толковать во
всеуслышание о том, о чем теперь осмеливается только мечтать, то он каждый
день испытывал бы огорчения, подобные тем, какие испытал по случаю
получения письма от старосты и приглашения от хозяина дома — очис-
стить квартиру. Прежде с любовью, с благоговением слушали фразеров,
толкующих о необходимости того или другого, о высших стремлениях
и т. п. Тогда, может быть, и Обломов не прочь был бы поговорить... Но
«Собеседник любителей российского слова».
Первая страница журнального текста статьи.
Оттиск с дарственной надписью Н. Г. Чернышевскому (1856 г.).
58
H. A. Добролюбов
теперь всякого фразера и прожектера встречают требованием: «А не
угодно ли попробовать?» Этого уж обломовцы не в силах снести...
В самом деле,— как чувствуется веяние новой жизни, когда, по
прочтении Обломова, думаешь, что вызвало в литературе этот тип. Нельзя
приписать этого единственно личному таланту автора и широте его
воззрений. И силу таланта, и воззрения самые широкие и гуманные находим
мы и у авторов, произведших прежние типы, приведенные нами выше.
Но дело в том, что от появления первого из них, Онегина, до сих пор
прошло уже тридцать лет. То, что было тогда в зародыше, что
выражалось только в неясном полуслове, произнесенном шепотом, то приняло
уже теперь определенную и твердую форму, высказалось открыто и
громко. Фраза потеряла свое значение; явилась в самом обществе потребность
настоящего дела. Бельтов и Рудин, люди, с стремлениями, действительно
высокими и благородными, не только не могли проникнуться
необходимостью, но даже не могли представить себе близкой возможности
страшной, смертельной борьбы с обстоятельствами, которые их давили. Они
вступали в дремучий, неведомый лес, шли по топкому опасному болоту,
видели под ногами разных гадов и змей и лезли на дерево,— отчасти,
чтоб посмотреть, не увидят ли где дороги, отчасти же для того, чтобы
отдохнуть и хоть на время избавиться от опасности увязнуть или быть
ужаленными. Следовавшие за ними люди ждали, что они скажут, и
смотрели на них с уважением, как на людей, шедших впереди. Но' эти
передовые люди ничего не увидели с высоты, на которую взобрались: лес был
очень обширен и густ. Между тем, взлезая на дерево, они исцарапали себе
лицо, переранили себе ноги, испортили руки... Они страдают, они
утомлены, они должны отдохнуть, примостившись как-нибудь поудобнее на
дереве. Правда, они ничего не делают для общей пользы, они ничего не
разглядели и не сказали; стоящие внизу сами, без их помощи, должны
прорубать и расчищать себе дорогу по лесу. Но кто же решится бросить
камень в этих несчастных, чтобы заставить их упасть с высоты, на
которую они взмостились с такими трудами, имея в виду общую
пользу? Им сострадают, от них даже не требуют пока, чтобы они принимали
участие в расчистке леса; на их долю выпало другое дело, и они его
сделали. Если толку не вышло,— не их вина. С этой точки зрения каждый
из авторов мог прежде смотреть на своего обломовского героя, и был
прав. К этому присоединялось еще и то, что надежда увидеть где-нибудь
выход из лесу на дорогу долго держалась во всей ватаге путников, равно
как долго не терялась и уверенность в дальнозоркости передовых людей,
взобравшихся на дерево. Но вот мало-помалу дело прояснилось и приняло
другой оборот: передовым людям понравилось на дереве; они рассуждают
очень красноречиво о разных путях и средствах выбраться из болота и из
лесу; они. нашли даже на дереве кой-какие плоды и наслаждаются ими,
бросая чешуйку вниз; они зовут к себе еще кой-кого, избранных из тол-
Что такое обломовщина?
59
пы, и те идут и остаются на дереве, уже и не высматривая дороги, а толь*
ко пожирая плоды. Это уже — Обломовы в собственном смысле... А
бедные путники, стоящие внизу, вязнут в болоте, их жалят змеи, пугают
гады, хлещут по лицу сучья... Наконец толпа решается приняться за дело
и хочет воротить тех, которые позже полезли на дерево; но Обломовы
молчат и обжираются плодами. Тогда толпа обращается и к прежним
своим передовым людям, прося их спуститься и помочь общей работе. Но
передовые люди опять повторяют прежние фразы о том, что надо
высматривать дорогу, а над расчисткой трудиться нечего.— Тогда бедные
путники видят свою ошибку и, махнув рукой, говорят: «Э, да вы все
Обломовы!» И затем начинается деятельная, неутомимая работа: рубят деревья,
делают из них мост на болоте, образуют тропинку, бьют змей и гадов,
попавшихся на ней, не заботясь более об этих умниках, об этих сильных
натурах, Печориных и Рудиных, на которых прежде надеялись, которыми
восхищались. Обломовцы сначала спокойно смотрят на общее движение,
но потом, по своему обыкновению, трусят и начинают кричать... «Ай,
ай, не делайте этого, оставьте,— кричат они, видя, что подсекается
дерево, на котором они сидят.— Помилуйте, ведь мы можем убиться, и вместе
с нами погибнут те прекрасные идеи, те высокие чувства, те гуманные
стремления, то красноречие, тот пафос, любовь ко всему прекрасному и
благородному, которые в нас всегда жили... Оставьте, оставьте! Что вы
делаете?...» Но путники уже слыхали тысячу раз все эти прекрасные фразы
и, не обращая на них внимания, продолжают работу. Обломовцам еще
есть средство спасти себя и свою репутацию: слезть с дерева и
приняться за работу вместе с другими. Но они, по обыкновению, растерялись
и не знают, что им делать... «Как же это так вдруг?» — повторяют они в
отчаянии и продолжают посылать бесплодные проклятия глупой толпе,
потерявшей к ним уважение.
А ведь толпа права! Если уж она сознала необходимость настоящего
дела, так для нее совершенно все равно,— Печорин ли перед ней или
Обломов. Мы не говорим опять, чтобы Печорин в данных
обстоятельствах стал действовать именно так, как Обломов; он мог самыми этими
обстоятельствами развиться в другую сторону. Но типы, созданные сильным
талантом, долговечны: и ныне живут люди, представляющие как будто
сколок с Онегина, Печорина, Рудина и пр., и не в том виде, как они
могли бы развиться при других обстоятельствах, а именно в том, в каком
они представлены Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым. Только в
общественном сознании все они более и более превращаются в .Обломова.
Нельзя сказать, что превращение это уже совершилось: нет, еще и теперь
тысячи людей проводят время в разговорах, и тысячи других людей готовы
принять разговоры за дела. Но что превращение это начинается —
доказывает тип Обломова, созданный Гончаровым. Появление его было бы
невозможно, если бы хотя в некоторой части общества не созрело сознания
60
Й. А. Добролюбов
о том, как ничтожны все эти quasi-талантливые натуры, которыми
прежде восхищались. Прежде они прикрывались разными мантиями, украшали
себя разными прическами, привлекали к себе разными талантами. Но
теперь Обломов является пред нами разоблаченный, как он есть,
молчаливый, сведенный с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый
вместо мантии только просторным халатом. Вопрос: что он делает? в чем
смысл и цель его жизни? — поставлен прямо и ясно, не забит
никакими побочными вопросами. Это потому, что теперь уже настало, или
настает неотлагательно, время работы общественной... И вот почему мы
сказали в начале статьи, что видим в романе Гончарова знамение
времени.
Посмотрите, в самом деле, как изменилась точка зрения на
образованных и хорошо рассуждающих лежебоков, которых прежде принимали за
настоящих общественных деятелей.
Вот перед вами молодой человек, очень красивый, ловкий,
образованный. Он выезжает в большой свет и имеет там успех; он ездит в
театры, балы и маскарады; он отлично одевается и обедает; читает книжки
и пишет очень грамотно... Сердце его волнуется только ежедневностью
светской жизни, но он имеет понятие и о высших вопросах. Он любит
потолковать о страстях,
О предрассудках вековых
И гроба тайнах роковых...
Он имеет некоторые честные правила: способен
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменить,
способен иногда не воспользоваться неопытностью девушки, которую не
любит; способен не придавать особенной цены своим светским успехам.
Он выше окружающего его светского общества настолько, что дошел до
сознания его пустоты; он может даже оставить свет и переехать в
деревню; но только и там скучает, не зная, какое найти себе дело... От нечего
делать он ссорится с другом своим и по легкомыслию убивает его на
дуэли... Через несколько лет опять возвращается в свет и влюбляется в
женщину, любовь которой сам прежде отверг, потому что для нее нужно
было бы ему отказаться от своей бродяжнической свободы... Вы
узнаете в этом человеке Онегина. Но всмотритесь хорошенько; это —
Обломов.
Перед вами другой человек, с более страстной душой, с более
широким самолюбием. Этот имеет в себе как будто от природы все то, что для
Онегина составляет предмет забот. Он не хлопочет о туалете и наряде: он
светский человек и без этого. Ему не нужно подбирать слова и блистать
Что такое обломовщина?
61
мишурным знанием: и без этого язык у него как бритва. Он
действительно презирает людей, хорошо понимая их слабости; он действительно
умеет овладеть сердцем женщины не на краткое мгновенье, а надолго,
нередко навсегда. Все, что встречается ему на его дороге, он умеет
отстранить или уничтожить. Одно только несчастье: он не знает, куда идти.
Сердце его пусто и холодно ко всему. Он все испытал, и ему еще в юности
опротивели все удовольствия, которые можно достать за деньги; любовь
светских красавиц тоже опротивела ему, потому что ничего не давала
сердцу; науки тоже надоели, потому что он увидел, что от них не
зависит ни слава, ни счастье; самые счастливые люди — невежды, а слава —
удача; военные опасности тоже ему скоро наскучили, потому что он не
видел в них смысла и скоро привык к ним. Наконец, даже
простосердечная, чистая любовь дикой девушки, которая ему самому нравится, тоже
надоедает ему: он и в ней не находит удовлетворения своих порывов.
Но что же это за порывы? куда влекут они? отчего он не отдается им
всей силой души своей? Оттого, что он сам их не понимает и не дает
себе труда подумать о том, куда девать свою душевную силу; и вот он
проводит свою жизнь в том, что острит над глупцами, тревожит сердца
неопытных барышень, мешается в чужие сердечные дела, напрашивается
на ссоры, выказывает отвагу в пустяках, дерется без надобности... Вы
припоминаете, что это история Печорина, что отчасти почти такими
словами сам он объясняет свой характер Максиму Максимычу...
Всмотритесь, пожалуйста, получше: вы и тут увидите того же Обломова...
Но вот еще человек, более сознательно идущий по своей дороге. Он
не только понимает, что ему дано много сил, но знает и то, что у него
есть великая цель... Подозревает, кажется, даже и то, какая это цель и
где она находится. Он благороден, честен (хотя часто и не платит
долгов) ; с жаром рассуждает не о пустяках, а о высших вопросах; уверяет,
что готов пожертвовать собою для блага человечества. В голове его
решены все вопросы, все приведено в живую, стройную связь; он увлекает
своим могучим словом неопытных юношей, так что, послушав его, и они
чувствуют, что призваны к чему-то великому... Но в чем проходит его
жизнь? В том, что он все начинает и не оканчивает, разбрасывается во все
стороны, всему отдается с жадностью и — не может отдаться... Он
влюбляется в девушку, которая наконец говорит ему, что, несмотря на
запрещение матери, она готова принадлежать ему; а он отвечает: «Боже! так
ваша маменька не согласна! какой внезапный удар! Боже! как скоро!...
Делать нечего,— надо покориться»... И в этом точный образец всей его
жизни... Вы уже знаете, что это Рудин... Нет, теперь уж и это
Обломов. Когда вы хорошенько всмотритесь в эту личность и поставите ее
лицом к лицу с требованиями современной жизни,— вы сами в этом
убедитесь.
62
H. A. Добролюбов
Общее у всех этих людей то, что в жизни нет им дела, которое бы для
них было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией,
которое бы органически срослось с ними, так что отнять его у них значило
бы лишить их жизни. Все у них внешнее, ничто не имеет корня в их
натуре. Они, пожалуй, и делают что-то такое, когда принуждает внешняя
необходимость, так как Обломов ездил в гости, куда тащил его Штольц,
покупал ноты и книги для Ольги, читал то, что она заставляла его
читать. Но душа их не лежит к тому делу, которое наложено на них случаем.
Если бы каждому из них даром предложили все внешние выгоды,
какие им доставляются их работой, они бы с радостью отказались от
своего дела. В силу обломовщины обломовский чиновник не станет
ходить в должность, если ему и без того сохранят его жалованье и
будут производить в чины. Воин даст клятву не прикасаться к оружию,
если ему предложат те же условия да еще сохранят его красивую форму,
очень полезную в известных случаях. Профессор перестанет читать
лекции, студент перестанет учиться, писатель бросит авторство, актер не
покажется на сцену, артист изломает резец и палитру, говоря высоким
слогом, если найдет возможность даром получить все, чего теперь
добивается трудом. Они только говорят о высших стремлениях, о сознании
нравственного долга, о проникновении общими интересами, а на поверку
выходит, что все это — слова и слова. Самое искреннее, задушевное их
стремление есть стремление к покою, к халату, и самая деятельность их
есть не что иное, как почетный халат (по выражению, не нам
принадлежащему), которым прикрывают они свою пустоту и апатию. Даже
наиболее образованные люди, притом люди с живою натурою, с теплым
сердцем, чрезвычайно легко отступаются в практической жизни от своих
идей и планов, чрезвычайно скоро мирятся с окружающей
действительностью, которую, однако, на словах не перестают считать пошлою и
гадкою. Это значит, что все, о чем они говорят и мечтают,— у них чужое,
наносное; в глубине же души их коренится одна мечта, один идеал —
возможно невозмутимый покой, квиетизм, обломовщина. Многие доходят
даже до того, что не могут представить себе, чтоб человек мог
работать по охоте, по увлечению. Прочтите-ка в «Экономическом указателе» 7
рассуждения о том, как все умрут голодною смертью от безделья, ежели
равномерное распределение богатства отнимет у частных людей
побуждение стремиться к наживанию себе капиталов...
Да, все эти обломовцы никогда не перерабатывали в плоть и кровь
свою тех начал, которые им внушили, никогда не проводили их до
последних выводов, не доходили до той грани, где слово становится делом, где
принцип сливается с внутренней потребностью души, исчезает в ней и
делается единственною силою, двигающею человеком. Потому-то эти
люди и лгут беспрестанно, потому-то они и являются так несостоятельными
в частных фактах своей деятельности. Потому-то и дороже для них
Что такое обломовщина?
63
отвлеченные воззрения, чем живые факты, важнее общие принципы, чем
простая жизненная правда. Они читают полезные книги для того, чтобы
знать, что пишется; пишут благородные статьи затем, чтобы любоваться
логическим построением своей речи; говорят смелые вещи, чтобы
прислушиваться к благозвучию своих фраз и возбуждать ими похвалы
слушателей. Но что далее, какая цель всего этого читанья, писанья,
говоренья,— они или вовсе не хотят знать, или не слишком об этом беспокоятся.
Они постоянно говорят вам: вот что мы знаем, вот что мы думаем, а
впрочем,— как там хотят, наше дело — сторона... Пока не было работы в виду
можно было еще надувать этим публику, можно было тщеславиться тем-
что мы вот, дескать, все-таки хлопочем, ходим, говорим, рассказываем.
На этом и основан был в обществе успех людей, подобных Рудину. Даже
больше — можно было заняться кутежом, интрижками, каламбурами,
театральством — и уверять, что это мы пустились, мол, оттого, что нет
простора для более широкой деятельности. Тогда и Печорин, и даже
Онегин, должен был казаться натурою с необъятными силами души. Но
теперь уж рее эти герои отодвинулись на второй план, потеряли прежнее
значение, перестали сбивать нас с толку своей загадочностью и
таинственным разладом между ними и обществом, между великими их силами и
ничтожностью дел их...
Теперь загадка разъяснилась,
Теперь им слово найдено.
Слово это — обломовщина.
Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о
необходимости развития личности,— я уже с первых слов его знаю, что
это Обломов.
Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и
обременительность делопроизводства, он — Обломов.
Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и
смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь,
что он Обломов.
Когда я читаю в журналах либеральные выходки против
злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно
надеялись и желали,— я думаю, что это всё пишут из Обломовки.
Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо
сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменьшающимся
жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты о
взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода,— я невольно
чувствую, что я перенесен в старую Обломовку...
Остановите этих людей в их шумном разглагольствии и скажите: «Вы
говорите, что нехорошо то и то; что же нужно делать?» Они не знают...
Предложите им самое простое средство,— они скажут: «Да как же это так
64
H. A. Добролюбов
вдруг?» Непременно скажут, потому что Обломовы иначе отвечать не
могут... Продолжайте разговор с ними и спросите: что же вы намерены
делать?— Они вам ответят тем, чем Рудин ответил Наталье: «Что делать?
Разумеется, покориться судьбе. Что же делать! Я слишком хорошо знаю,
как это горько, тяжело, невыносимо, но, посудите сами...» и пр. (См. Typi\
Пов., ч. III, стр. 249). Больше от них вы ничего не дождетесь, потому
что на всех их лежит печать обломовщины.
Кто же наконец сдвинет их с места этим всемогущим словом
«вперед!», о котором так мечтал Гоголь и которого так давно и томительно
ожидает Русь? До сих пор нет ответа на этот вопрос ни в обществе,
ни в литературе. Гончаров, умевший понять и показать нам нашу
обломовщину, не мог, однако, не заплатить дани общему заблуждению,
до сих пор столь сильному в нашем обществе: он решился похоронить
обломовщину и сказать ей похвальное надгробное слово. «Прощай,
старая Обломовка, ты отжила свой век»,— говорит он устами Штольца,
и говорит неправду. Вся Россия, которая прочитала или прочитает
Обломова, не согласится с этим. Нет, Обломовка есть наша прямая
родина, ее владельцы — наши воспитатели, ее триста Захаров всегда
готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть
Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово. Не за что
говорить об нас с Ильею Ильичом следующие строки:
В нем было то, что дороже всякого ума: честное, верное сердце! Это его
природное золото: он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался,
заснул наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял
честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к
нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на
фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла; пусть весь мир
отравится ядом и пойдет навыворот,— никогда Обломов не поклонится идолу лжи,
в душе его всегда будет чисто, светло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа:
таких людей мало; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем, на него
всюду и везде можно положиться.
Распространяться об этом пассаже мы не станем; но каждый из
читателей заметит, что в нем заключена большая неправда. Одно в Обло-
мове хорошо действительно: то, что он не усиливался надувать других,
а уж так и являлся в натуре — лежебоком. Но, помилуйте, в чем же
на него можно положиться? Разве в том, где ничего делать не нужно?
Тут он действительно отличится так, как никто. Но ничего-то не делать
и без него можно. Он не поклонится идолу зла! Да ведь почему это?
Потому, что ему лень встать с дивана. А стащите его, поставьте на
колени перед этим идолом: он не в силах будет встать. Не подкупишь
его ничем. Да на что его подкупать-то? На то, чтобы с места
сдвинулся? Ну, это действительно трудно. Грязь к нему не пристанет!
Да пока лежит один, так еще ничего; а как придет Тарантьев, Затер-
Что такое обломовщина?
65
тый, Иван Матвеич — брр! какая отвратительная гадость начинается
около Обломова. Его объедают, опивают, спаивают, берут с него фальшивый
вексель (от которого Штольц несколько бесцеремонно, по русским
обычаям, без суда, и следствия избавляет его), разоряют его именем
мужиков, дерут с него немилосердные деньги ни за что ни про что. Он
все это терпит безмолвно и потому, разумеется, не издает ни одного
фальшивого звука.
Нет, нельзя так льстить живым, а мы еще живы, мы еще
по-прежнему Обломовы. Обломовщина никогда не оставляла нас и не оставила
даже теперь — в настоящее время, когда8 и пр. Кто из наших
литераторов, публицистов, людей образованных, общественных деятелей,
кто не согласится, что, должно быть, его-то именно и имел в виду
Гончаров, когда писал об Илье Ильиче следующие строки:
Ему доступны были наслаждения высоких помыслов: он не чужд был всеобщих
человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над
бедствиями человечества, испытывал безвестные, безыменные страдания, и тоску, и
стремления куда-то вдаль, туда, вероятно в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штольц.
Сладкие слезы потекут по щекам его. Случается и то, что он исполнится презрения к
людскому пороку, ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу, и разгорится желанием
указать человеку на его язвы, и вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в
голове, как волны в море, потом вырастают в намерения, зажгут всю кровь в нем,—
задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намерения преображаются в
стремления: он, движимый нравственною силою, в одну минуту быстро изменит две-три по_
зы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и
вдохновенно озирается кругом... Вот, вот стремление осуществится, обратится в
подвиг... и тогда, господи! каких чудес, каких благих последствий могли бы ожидать от
такого высокого усилия! но, смотришь, промелькнет утро, день уж клонится к
вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова: бури и волнения
смиряются в душе, голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробирается по жилам.
Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд
в окно к небу, с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то
четырехэтажный дом. И сколько, сколько раз он провожал так солнечный закат!
Не правда ли, образованный и благородно мыслящий читатель,— ведь
тут верное изображение ваших благих стремлений и вашей полезной
деятельности? Разница может быть только в том, до какого момента вы
доходите в вашем развитии. Илья Ильич доходил до того, что
привставал с постели, протягивал руку и озирался вокруг. Иные так далеко
не заходят; у них только мысли гуляют в голове, как волны в море
(таких большая часть) ; у других мысли вырастают в намерения, но
не доходят до степени стремлений (таких меньше) ; у третьих даже
стремления являются (этих уж совсем мало)...
Итак, следуя направлению настоящего времени, когда вся литература,
по выражению г. Бенедиктова, представляет
...нашей плоти истязанье,
Вериги в прозе и стихах9,—»
5 Н. А. Добролюбов
66
H. A. Добролюбов
мы смиренно сознаемся, что как ни лестны для нашего самолюбия
похвалы г. Гончарова Обломову, но мы не можем признать их
справедливыми. Обломов менее раздражает свежего, молодого, деятельного
человека, нежели Печорин и Рудин, но все-таки он противен в своей
ничтожности.
Отдавая дань своему времени, г. Гончаров вывел и противоядие
Обломову — Штольца. Но по поводу этого лица мы должны еще раз
повторить наше постоянное мнение,— что литература не может забегать
слишком далеко вперед жизни. Штольцев, людей с цельным, деятельным
характером, при котором всякая мысль тотчас же является стремлением
и переходит в дело, еще нет в жизни нашего общества (разумеем
образованное общество, которому доступны высшие стремления; в массе, где
идеи и стремления ограничены очень близкими и немногими
предметами, такие люди беспрестанно попадаются). Сам автор сознавал это,
говоря о нашем обществе: «Вот, глаза очнулись от дремоты,
послышались бойкие, широкие шаги, живые голоса... Сколько Штольцев
должно явиться под русскими именами!» Должно явиться их много, в этом
нет сомнения; но теперь пока для них нет почвы. Оттого-то из романа
Гончарова мы и видим только, что Штольц — человек деятельный, все о
чем-то хлопочет, бегает, приобретает, говорит, что жить — значит тр> -
диться, и пр. Но что он делает, и как он ухитряется делать что-нибудь
порядочное там, где другие ничего не могут сделать,— это для нас
остается тайной. Он мигом устроил Обломовку для Ильи Ильича; — как? этого
мы не знаем. Он мигом уничтожил фальшивый вексель Ильи
Ильича;— как? это мы знаем. Поехав к начальнику Ивана Матвеича,
которому Обломов дал вексель, поговорил с ним дружески — Ивана
Матвеича призвали в присутствие и не только что вексель велели
возвратить, но даже и из службы выходить приказали. И поделом ему,
разумеется; но, судя по этому случаю, Штольц не дорос еще до идеала
общественного русского деятеля. Да и нельзя еще: рано. Теперь еще — хотя
будь семи пядей во лбу, а в заметной общественной деятельности
можешь, пожалуй, быть добродетельным откупщиком Муразовым,
делающим добрые дела из десяти мильонов своего состояния, или
благородным помещиком Костанжогло,— но далее не пойдешь... И мы не
понимаем, как мог Штольц в своей деятельности успокоиться от всех
стремлений и потребностей, которые одолевали даже Обломова, как мог
он удовлетвориться своим положением, успокоиться на своем одиноком,
отдельном, исключительном счастье... Не надо забывать, что под ним
болото, что вблизи находится старая Обломовка, что нужно еще
расчищать лес, чтобы выйти на большую дорогу и убежать от обломовщины.
Делал ли что-нибудь для этого Штольц, что именно делал и как делал,—
мы не знаем. А без этого мы не можем удовлетвориться его личностью...
Можем сказать только то, что не он тот человек, который сумеет, на
Что такое обломовщина?
67
языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово:
«Вперед!».
Может быть, Ольга Ильинская способнее, нежели Штольц, к этому
подвигу, ближе его стоит к нашей молодой жизни. Мы ничего не
говорили о женщинах, созданных Гончаровым: ни об Ольге, ни об Агафье
Матвеевне Пшеницыной (ни даже об Анисье и Акулине, которые тоже
отличаются своим особым характером), потому что сознавали свое
совершеннейшее бессилие что-нибудь сносное сказать о них. Разбирать
женские типы, созданные Гончаровым, значит предъявлять претензию
быть великим знатоком женского сердца. Не имея же этого качества,
женщинами Гончарова можно только восхищаться. Дамы говорят, что
верность и тонкость психологического анализа у Гончарова —
изумительна, и дамам в этом случае нельзя не поверить... Прибавить же
что-нибудь к их отзыву мы не осмеливаемся, потому что боимся пускаться
в эту совершенно неведомую для нас страну. Но мы берем на себя
смелость, в заключение статьи, сказать несколько слов об Ольге и об
отношениях ее к обломовщине.
Ольга, по своему развитию, представляет высший идеал, какой только
может теперь русский художник вызвать из теперешней русской жизни.
Оттого она необыкновенной ясностью и простотой своей логики и
изумительной гармонией своего сердца и воли поражает нас до того, что
мы готовы усомниться в ее даже поэтической правде и сказать: «Таких
девушек не бывает». Но, следя за нею во все продолжение романа, мы
находим, что она постоянно верна себе и своему развитию, что она
представляет не сентенцию автора, а живое лицо, только такое, каких
мы еще не встречали. В ней-то более, нежели в Штольце, можно видеть
намек на новую русскую жизнь; от нее можно ожидать слова, которое
сожжет и развеет обломовщину... Она начинает с любви к Обломову,
с веры в него, в его нравственное преобразование... Долго п упорно,
с любовью и нежною заботливостью, трудится она над тем, чтобы
возбудить жизнь, вызвать деятельность в этом человеке. Она не хочет
верить, чтобы он был так бессилен на добро; любя в нем свою
надежду, свое будущее создание, она делает для него все: пренебрегает
даже условными приличиями, едет к нему одна, никому не
сказавшись, и не боится, подобно ему, потери своей репутации. Но она
с удивительным тактом замечает тотчас же всякую фальшь,
проявлявшуюся в его натуре, и чрезвычайно просто объясняет ему, как и почему
это ложь, а не правда. Он, например, пишет ей письмо, о котором мы
говорили выше, и потом уверяет ее, что писал это единственно из
заботы о ней, совершенно забывши себя, жертвуя собою и т. д.— «Нет,—
отвечает она, — неправда; если б вы думали только о моем счастии и
считали необходимостью для него разлуку с вами, то вы бы просто
уехали, не посылая мне предварительно никаких писем». Он говорит, что
5*
68
H. A. Добролюбов
боится ее несчастия, если она со временем поймет, что ошибалась в нем,
разлюбит его и полюбит другого. Она спрашивает в ответ на это: «Где же
вы тут видите несчастье мое? Теперь я вас люблю, и мне хорошо; а после
я полюблю другого, и, значит, мне с другим будет хорошо. Напрасно
вы обо мне беспокоитесь». Эта простота и ясность мышления
заключает в себе задатки новой жизни, не той, в условиях которой
выросло современное общество... Потом,— как воля Ольги послушна ее
сердцу! Она продолжает свои отношения и любовь к Обломову,
несмотря на все посторонние неприязности, насмешки и т. п., до тех пор,
пока не убеждается в его решительной дрянности. Тогда она прямо
объявляет ему, что ошиблась в нем, и уже не может решиться соединить
с ним свою судьбу. Она еще хвалит и ласкает его и при этом отказе,
и даже после; но своим поступком она уничтожает его, как ни один
из обломовцев не был уничтожаем женщиной. Татьяна говорит Онегину,
в заключении романа:
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана
И буду век ему верна...
Итак, только внешний нравственный долг спасает ее от этого
пустого фата; будь она свободна, она бы бросилась ему на шею. Наталья
оставляет Рудина только потому, что он сам уперся на первых' же порах,
да и, проводив его, она убеждается только в том, что он ее не любит,
и ужасно горюет об этом. Нечего и говорить о Печорине, который успел
заслужить только ненависть княжны Мери. Нет Ольга не так поступила
с Обломовым. Она просто и кротко сказала ему: «Я узнала недавно
только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтоб было в тебе, что
указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего 06-
ломова! Ты кроток, честен, Илья; ты нежен... как голубь; ты спрячешь
голову под крыло — и ничего не хочешь больше;, ты готов всю жизнь
проворковать под кровлей... да я не такая: мне мало этого, мне нужно
чего-то еще, а чего — не знаю!» И она оставляет Обломова, и она
стремится к своему чему-то, хотя еще и не знает его хорошенько. Наконец,
она находит его в Штольце, соединяется с ним, счастлива; но и тут не
останавливается, не замирает. Какие-то туманные вопросы и сомнения
тревожат ее, она чего-то допытывается. Автор не раскрыл пред нами
ее волнений во всей их полноте, и мы можем ошибиться в предположении
насчет их свойства. Но нам кажется, что это в ее сердце и голове веяние
новой жизни, к которой она несравненно ближе Штольца. Думаем так
потому, что находим несколько намеков в следующем разговоре:
— Что же делать? поддаться и тосковать?— спросила она.
— Ничего,— сказал он,— вооружаться твердостью и спокойствием. Мы не
Титаны с тобой,— продолжал, он, обнимая ее,— мы не пойдем с Манфредами и Фауста-
Что такое обломовщина?
69
ми на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним
головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь,
счастье и...
— А если они никогда не отстанут: грусть будет тревожить все больше,
больше?..— спрашивала она.
— Что ж? примем ее, как новую стихию жизни... Да нет, этого не бывает, не
может быть у нас! Это не твоя грусть; это общий недуг человечества. На тебя
брызнула одна капля... Все это страшно, когда человек отрывается от жизпи,— когда
нет опоры. А у нас...
Он не договорил, что у нас... Но ясно, что это он не хочет «идти
на борьбу с мятежными вопросами», он решается «смиренно склонить
голову»... А она готова на эту борьбу, тоскует по ней и постоянно
страшится, чтоб ее тихое счастье с Штольцем не превратилось во что-то,
подходящее к обломовской апатии. Ясно, что она не хочет склонять
голову и смиренно переживать трудные минуты, в надежде, что потом опять
улыбнется жизнь. Она бросила Обломова, когда перестала в него верить;
она оставит и Штольца, ежели перестанет верить в него. А это случится,
ежели вопросы и сомнения не перестанут мучить ее, а он будет
продолжать ей советы — принять их, как новую стихию жизни, и склонить
голову. Обломовщина хорошо ей знакома, она сумеет различить ее во всех
видах, под всеми масками, и всегда найдет в себе столько сил, чтоб
произнести над нею суд беспощадный...
ТЕМНОЕ ЦАРСТВО
(Сочинения А. Островского.
Два тома. СПб., 1859)
I
Что ж за направление такое, что не
успеешь поворотиться, а тут уж и выпустят
историю,— и хоть бы какой-нибудь смысл
был... Однако ж разнесли, стало быть, была
же какая-нибудь причина.
гоголь »
Ни один из современных русских писателей не подвергался, в своей
литературной деятельности, такой странной участи, как Островский.
Первое произведение его («Картина семейного счастья») не было замечено
решительно никем, не вызвало в журналах ни одного слова — ни в
похвалу, ни в порицание автора2. Через три года явилось второе произведение
Островского: «Свои люди — сочтемся»; автор встречен был всеми как
человек совершенно новый в литературе, и немедленно всеми признан
был писателем необычайно талантливым, лучшим, после Гоголя,
представителем драматического искусства в русской литературе. Но, по одной
из тех странных, для обыкновенного читателя, и очень досадных для
автора, случайностей, которые так часто повторяются в нашей бедной
литературе,— пьеса Островского не только не была играна на театре, но даже
не могла встретить подробной и серьезной оценки ни в одном журнале.
«Свои люди», напечатанные сначала в «Москвитянине», успели выйти
отдельным оттиском, но литературная критика и не заикнулась о них.
Так эта комедия и пропала,— как будто в воду канула, на некоторое
время. Через год Островский написал новую комедию: «Бедная
невеста». Критика отнеслась к автору с уважением, называла его
беспрестанно автором «Своих людей» и даже заметила, что обращает на него
такое внимание более за первую его комедию, нежели за вторую, которую
Темное царство
71
все признали слабее первой. Затем каждое новое произведение
Островского возбуждало в журналистике некоторое волнение, и вскоре по поводу
их образовались даже две литературные партии, радикально
противоположные одна другой. Одну партию составляла молодая редакция
«Москвитянина» 3, провозгласившая, что Островский «четырьмя пьесами создал
народный театр в России» 4, что он —
Поэт, глашатай правды повой,
Нас мпром новым окружил
И новое сказал нам слово,
Хоть правде старой послужил,—
и что эта старая правда, изображаемая Островским,—
Простее, но дороже,
Здоровей действует на грудь,5
нежели правда шекспировских пьес.
Стихи эти напечатаны в «Москвитянине» (1854 г., № 4) по поводу
пьесы «Бедность не порок», и преимущественно по поводу одного лица
ее, Любима Торцова. Над их эксцентричностью много смеялись в свое
время, но они не были пиитической вольностью, а служили довольно
верным выражением критических мнений партии, безусловно
восхищавшейся каждой строкою Островского. К сожалению, мнения эти
высказывались всегда с удивительной заносчивостью, туманностью и
неопределенностью, так что для противной партии невозможен был даже
серьезный спор. Хвалители Островского кричали, что он сказал новое
слово6. Но на вопрос: «В чем же состоит это новое слово»?—
долгое время ничего не отвечали, а потом сказали, что это новое слово
есть не что иное, как —, что бы вы думали? — народность! Но народность
эта была так неловко вытащена на сцену по поводу Любима Торцова
и так сплетена с ним, что критика, неблагоприятная Островскому, не
преминула воспользоваться этим обстоятельством, высунула язык
неловким хвалителям и начала дразнить их: «Так ваше новое слово — в Тор-
цове, в Любиме Торцове, в пьянице Торцове! Пропойца Торцов — ваш
идеал» и т. д. Это показыванье языка было, разумеется, не совсем удобно
для серьезной речи о произведениях Островского; но и то нужно
сказать, — кто же мог сохранить серьезный вид, прочитав о Любиме
Торцове такие стихи:
Поэта образы живые
Высокий комик в плоть облек.«
Вот отчего теперь впервые
По всем бежит единый ток.
72
H. Л. Добролюбов
Вот отчего театра зала
От верху до низу одним
Душевным, искренним, родным
Восторгом вся затрепетала.
Любим Торцов пред ней о/сивой
Стоит с поднятой головой,
Бурнус напялив обветшалый,
С растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Во с русской, чистою душой.
Комедия ль в нем плачет перед нами,
Трагедия ль хохочет вместе с ним,—
Не знаем мы и ведать не хотим!
Скорей в театр! Там ломятся толпами,
Там по душе теперь гуляет быт родной:
Там песня русская свободно, звонко льется;
Там человек теперь и плачет и смеется,
Там целый мир, мир полный и живой.
И нам, простым, смиренным чадам века,
Не страшно, весело теперь за человека:
На сердце так тепло, так вольно дышит грудь.
Любим Торцов душе так прямо кажет путь! (ьуда?)
Великорусская на сцене жизнь пирует,
Великорусское начало торжествует,
Великорусской речи склад
И в присказке лихой, и в песне игреливой.
Великорусский ум, великорусский взгляд,
Как Волга-матушка; широкий и гулъливый...
Тепло, привольно, любо нам,
Уставшим жить болезненным обманом!..
За этими .стихами следовали ругательства на Рашель 7 и на тех, кто ото
восхищался, обнаруживая тем дух рабского, слепого подражанъя 8. Пусть
она и талант, пусть гений, — восклицал автор стихотворения, — «по нам
не ко двору пришло ее искусство!» Нам, говорит, нужна правда, не в
пример другим. И при сей верной оказии стихотворный критик ругал
Европу и Америку и хвалил Русь в следующих поэтических выражениях:
Пусть будет фальшь мила Европе старой,
Или Америке беззубо-молодой,
Собачьей старостью больной...
Темное царство
73
Но наша Русь крепка! В ней много силы, жара;
И правду любит Русь; и правду понимать
Дана ей господом святая благодать;
И в ней одной теперь приют находит
Все то, что человека благородит!..
Само собою разумеется, что подобные возгласы по поводу Торцова о
том, что человека благородит, не могли повести к здравому и
беспристрастному рассмотрению дела. Они только дали критике противного
направления справедливый повод прийти в благородное негодование и
воскликнуть в свою очередь о Любиме Торцове:
И это называется у кого-то новое слово, это поставляется на вид как лучший
цвет всей нашей литературной производительности за последние годы! За что же
такая невежественная хула на русскую литературу? Действительно, такого слова еще
не говорилось в ней, такого героя никогда и не снилось ей, благодаря тому, что в ней
еще свежи были старые литературные предания, которые не допустили бы такого
искажения вкуса. Любим Торцов мог явиться на сцене во всем безобразии лишь в то
время, когда они начали приходить в забвенье... Удивляет и непонятно поражает нас
то, что пьяная фигура какого-нибудь Торцова могла вырасти до идеала, что ею хотят
гордиться как самым чистым воспроизведением народности в поэзии, что Торцовым
меряют успехи литературы и навязывают его всем в любовь под тем предлогом, что
он-де нам «свой», что он у нас «ко двору!» Не есть ли это искажение вкуса и
совершенное забвение всех чистых литературных преданий? Но ведь есть же стыд, есть
литературные приличия, которые остаются и после того, как лучшие предания утрачены.
За что же мы будем срамить себя, называя Торцова «своим» и возводя его в наши
поэтические идеалы? (От. зап., 1854 г., № VI).
Мы сделали эту выписку из «Отечествен, записок» 9 потому, что из
нее видно, как много вредила всегда Островскому полемика между его
порицателями и хвалителями *. «Отечествен, записки» постоянно служили
неприятельским станом для Островского, и большая часть их нападений
обращена была на критиков, превозносивших его произведения. Сам
автор постоянно оставался в стороне, до самого последнего времени, когда
«Отечествен, записки» объявили, что Островский вместе с г.
Григоровичем и г-жою Евгениею Тур — уже закончил свою поэтическую
деятельность (см. «Отечествен, записки», 1859 г., № VI) 10. А между тем
все-таки на Островского падала вся тяжесть обвинения в поклонении
Любиму Торцову, во вражде к европейскому просвещению, в обожании
нашей допетровской старины и пр. На его дарование ложилась тень
Впрочем, читатели могут с большим удовольствием пропустить всю историю
критических мнений об Островском и начать нашу статью со второй ее половины. Мы
сводим на очную ставку критиков Островского более затем, чтобы они сами на собя
полюбовались.
74
П. А. Добролюбов
какого-то староверства, чуть не обскурантизма. А защитники его все
толковали о новом слове,— не произнося его однако ж,— да
провозглашали, что Островский есть первый из современных русских писателей,
потому что у него какое-то особенное миросозерцание... Но в чем
состояла эта особенность, они объясняли тоже очень запутанно. Большею
частию отделывались они фразами, напр. в таком роде:
У Островского, одного в настоящую эпоху литературную, есть свое прочное новое
и вместе идеальное миросозерцание с особенным оттенком (!), обусловленным как
данными эпохи, так, может быть, и данными натуры самого поэта. Этот оттенок мы
назовем, нисколько не колеблясь, коренным русским миросозерцанием, здоровым и
спокойным, юмористическим без болезненности, прямым без увлечений в ту или
другую крайность, идеальным, наконец, в справедливом смысле идеализма, без
фальшивой грандиозности или столько же фальшивой сентиментальности (Москв., 1853 г.,
№ 1) и.
«Так он писал — темно и вяло» 12— и нимало не разъяснял вопроса
об особенностях таланта Островского и о значении его в современной
литературе. Два года спустя тот же критик предположил целый ряд
статей «О комедиях Островского и о их значении в литературе и на
сцене» («Москв.», 1855 г., № 3), но остановился на первой статье13,
да и в той выказал более претензий и широких замашек, нежели
настоящего дела. Весьма бесцеремонно нашел он, что нынешней критике
пришелся не по плечу талант Островского, и потому она стала к нему
в положение очень комическое; он объявил даже, что и «Свои люди»
не были разобраны потому только, что и в них уже высказалось новое
слово, которое критика хоть и видит, да зубом неймет... Кажется, уж
причины-то молчания критики о «Своих людях» мог бы знать
положительно автор статьи, не пускаясь в отвлеченные соображения! Затем,
предлагая программу своих воззрений на Островского, критик говорит,
в чем, по его мнению, выражалась самобытность таланта, которую , он
находит в Островском,— и вот его определения. «Она выражалась —
1) в новости быта, выводимого автором и до него еще непочатого,
^если исключить некоторые счерки Вельтмана и Луганского (хороши
предшественники для Островского!!); 2) в новости отношения автора
к изображаемому им быту и выводимым лицам; 3) в новости манеры
изображения; 4) в новости языка — в его цветистости (!),
особенности (?)». Вот вам и все. Положения эти не разъяснены критиком. В
продолжении статьи брошено еще несколько презрительных отзывов о
критике, сказано, что «солон ей этот быт (изображаемый Островским), солон
его язык, солоны его типы,— солены по ее собственному состоянию»,—
и затем критик, ничего не объясняя и не доказывая, преспокойно
переходит к Летописям, Домострою и Посошкову, чтобы представить
«обозрение отношений нашей литературы к народности». На этом и
покончено было дело критика, взявшегося быть адвокатом Островского против
Темнее царство
75
противоположной партии. Вскоре потом сочувственная похвала
Островскому вошла уже в те пределы, в которых она является в виде
увесистого булыжника, бросаемого человеку в лоб услужливым другом и:
в первом томе «Русской беседы» напечатана была статья г. Тертия
Филиппова о комедии «Не так живи, как хочется». В «Современнике» было
в свое время выставлено дикое безобразие этой статьи, проповедующей,
что жена должна с готовностью подставлять спину бьющему ее пьяному
мужу, и восхваляющей Островского за то, что он будто бы разделяет
эти мысли и умел рельефно их выразить... 15. В публике статья эта была
встречена общим негодованием. По всей вероятности, и сам Островский
(которому опять досталось тут из-за его непризванных комментаторов)
не был доволен ею; по крайней мере с тех пор он уже не подал
никакого повода еще раз наклепать на него столь милые вещи.
Таким образом, восторженные хвалители Островского немного сделали
для объяснения публике его значения и особенностей его таланта; они
только помешали многим прямо и просто взглянуть на него. Впрочем,
восторженные хвалители вообще редко бывают истинно полезны для
объяснения публике действительного значения писателя; порицатели в
этом случае гораздо надежнее: выискивая недостатки (даже и там, где
их нет), они все-таки представляют свои требования и дают возможность
судить, насколько писатель удовлетворяет или не удовлетворяет им. Но в
отношении к Островскому и порицатели его оказались не лучше
поклонников. Если свести в одно все упреки, которые делались Островскому
со всех сторон в продолжение целых десяти лет и делаются еще доселе,
то решительно нужно будет отказаться от всякой надежды понять, чего
хотели от него и как на него смотрели его критики. Каждый
представлял свои требования, и каждый при этом бранил других, имеющих
требования противоположные, каждый пользовался непременно каким-
нибудь из достоинств одного произведения Островского, чтобы вменить
их в вину другому произведению, и наоборот. Одни упрекали Островского
за то, что он изменил своему первоначальному направлению и стал,
вместо живого изображения жизненной пошлости купеческого быта,
представлять его в идеальном свете. Другие, напротив, похваляя его за
идеализацию, постоянно оговаривались, что «Своих людей» они считают
произведением недодуманным, односторонним, фальшивым даже*. При
последующих произведениях Островского, рядом с упреками за приторность
в прикрашивании той пошлой и бесцветной действительности, из которой
брал он сюжеты для своих комедий, слышались также, с одной стороны,
* Так, в разборе «Бедность не порок» один критик упрекал Островского за то, что
в первом своем произведении он «был чистым сатириком: ничто
противодействующее не было выставлено им наряду с показанным злом» («Москв.», 1854 г., № 5) 1б.
Критик «Русской беседы» объяснялся еще резче. Разбирая пьесу «Не так живи, как
76
В. А. Добролюбов
восхваления его за самое это прикрашивание *, а с другой — упреки в
том, что он дагерротипически изображает всю грязь жизни **. Этой
противоположности в самых основных воззрениях на литературную
деятельность Островского было бы уже достаточно для того, чтобы сбить с
толку простодушных людей, которые бы вздумали довериться критике
в суждениях об Островском. Но противоречие этим не ограничивалось;
оно простиралось еще на множество частных заметок о разных
достоинствах и недостатках комедий Островского. Разнообразие его таланта,
широта содержания, охватываемого его произведениями, беспрестанно
подавали повод к самым противоположным упрекам. Так, напр., за
«Доходное место» упрекнули его в том, что выведенные им взяточники
не довольно омерзительны ***; за «Воспитанницу» осудили, что лица, в ней
изображенные, слишком уж омерзительны ****, За «Бедную невесту»,
«Не в свои сани не садись», «Бедность не порок» и «Не так живи,
хочется», он отозвался о «Своих людях» следующим образом: «Свои люди» есть,
конечно, такое произведение, на котором лежит печать необыкновенного дарования,
но оно задумано под сильным влиянием отрицательного воззрения на русскую
жизнь, отчасти смягченного еще художественным исполнением, и в этом
отношении должно отнести его, как ни жалко, к последствиям натурального направления)}
(«Русск. беседа», 1856 г., № 1) 17.
* Один из критиков отдал преимущество комедии «Бедность не порок» пред «Своими
людьми» за то, что в «Бедности не порок» «Островский является уже не одним
сатириком,— что, рядом со злом фальшивой цивилизации, здесь ему видится в том
же быту благодушная, простая, крепко связанная с родными преданиями и
обычаями жизнь, и все сочувствие его, при столкновении таких двух враждебных
начал, естественно склоняется на сторону последнего» («Москв.», 1854 г., № 5) 18.
Критик «Русской беседы» также одобряет Островского за то, что после «Своих
людей» отрицательное отношение к жизни сменилось у него сочувственным и, вместо
мрачных изображений, какие мы видели в «Своих людях», появляются образы,
создание которых внушено другими, лучшими впечатлениями от жизни.
** Так, в «Отечествен, записках», при разборе той же комедии «Бедность не порок»,
Островский заслужил упрек в том, что у него «самые грязные стороны
действительности не только списаны подлинными ее красками, но и возведены в
достоинство идеалов». Видно, что критику не понравилось самое списыванье грязных
сторон действительности 19. Упрек за это постоянно слышался, рядом с упреком
в идеализации, и в недавнее время выражен был даже в такой форме: «Комедия
под пером г. Островского изменила своему художественному значению и
сделалась простою копиею действительной жизни» («Атен.», 1859 г., № 8) 20.
*** «Эти лица, выведенные на сцену, должны бы возбудить в читателе или зрителе
отвращение к себе, но они сами по себе возбуждают только сострадание.
Взяточничество, эта общественная язва,— не очень омерзительно и ярко выставлено
в их поступках... А можно было бы показать, как взяточники и казнокрады
всякого рода терзают, безобразят и губят всюду, внутри и вне, нашу
многострадальную, родную матушку Россию» («Атен.», 1858 г., № 10) 21.
**** «Все лица «Воспитанницы», кроме Нади,— вовсе не лица, а какие-то
отвлеченные и фильтрированные дозы разного рода человеческой грязи, от которых на
душе у читателя остается самое тяжелое и неприятное впечатление» («Весна»,
статья г. Ахшарумова) 22t
Темное царство
77
как хочется» Островскому приходилось со всех сторон выслушивать
замечания, что он пожертвовал выполнением пьесы для своей основной
задачи *, и за те же произведения привелось автору слышать советы
вроде того, чтобы он не довольствовался рабской подражательностью
природе, а постарался расширить свой умственный горизонт **. Мало
того — ему сделан был даже упрек в том, что верному изображению
действительности (т. е. исполнению) он отдается слишком
исключительно, не заботясь об идее своих произведений. Другими словами,—
его упрекали именно в отсутствии или ничтожестве задач, которые
другими критиками признавались уж слишком широкими, слишком
превосходящими средства самого их выполнения ***.
Словом — трудно представить себе возможность середины, на которой
можно было бы удержаться, чтобы хоть сколько-нибудь согласить требо-
* «Увлеченный благородством и новостью своих задач, автор не выносил их
достаточно в душе, не дал им дозреть до надлежащей полноты и ясности
представления... Сожми Островский свою драму в более тесные рамы, умерь несколько
свои в высокой степени благородные и широкие задачи, не выброси он зараз
всего, что передумано, перечувствовано им в отношении к избранному
драматическому положению, создание получило бы стройность и целость, хотя, может
быть, утратило бы несколько своей энергии» («Москв.», 1853 г., № 1, разбор
«Бедной невесты») 23.
«Избрав для разрешения своей задачи драматическую форму, автор тем
самым принял на себя обязанность удовлетворить всем требованиям этой формы,
т. е. прежде всего произвести впечатление на читателя или зрителя
драматическою коллизиею и движением и этим путем напечатлеть в нем основную идею
комедии.
В этом отношении мы не можем остаться совершенно довольны новою
пьесою г. Островского и пр.» («Москв.», 1854 г., № 5, разбор «Бедность не порок»).
«В произведениях г. Островского задачи не только правильны, но и полны
глубокого смысла и всегда здравы в нравственном отношении... и нельзя не
пожалеть, что именно это произведение («Не так живи, как хочется»), так
прекрасно задуманное и так прекрасно, в драматическом отношении,
расположенное, по исполнению слабее всех других дотоле писанных произведений г.
Островского» («Рус. бес», 1856 г., № 1).
** «Рабская подражательность — не в языке только новой комедии, но и во всем
почти ее содержании, как в концепции целого, так и в подробностях. Напрасно
стали бы вы искать в ней хоть одной идеальной черты: ее нет ни в лицах, ни в
самом действии... Мы прежде всего желали бы автору выйти из того тесного
круга, в котором он до сих пор заключил свою деятельность, и несколько поболее
расширить свой умственный горизонт» («Отечествен, записки», 1854 г., № 6).
*** В особенности выразилось это в нахальной статье, недавно напечатанной в «Ате-
нее». Заключительное слово критики таково: «Произведения г. Островского,
выражая жизнь действительную, сами по себе не имеют никакой жизни; в них нет
ни идеи, ни действия, ни характеров истинно поэтических... Надобно отдать
справедливость автору в том отношении, что он умел представить в них (в
комедиях из купеческого быта) довольно верную, действительную картину купеческого
и мещанского быта — и только. Одно произведение вышло из ряду, их именно:
«Бедная невеста», но зато она и хуже всех. Что касается до богатства мыслей,
разнообразия характеров, то в этом отношении мы не можем сказать ничего утенць
78
H. A. Добролюбов
Еания, в течение десяти лет предъявлявшиеся Островскому разными
(а иногда и теми же самыми) критиками. То — зачем он слишком
чернит русскую жизнь, то — зачем белит и румянит ее? То — для чего
предается он дидактизму, то — зачем нет нравственной основы в его
произведениях?.. То — он слишком рабски передает действительность,
то — неверен ей; то — он очень уж заботится о внешней отделке, то —
небрежен в. этой отделке. То — у него действие идет слишком вяло;
то — сделан слишком быстрый поворот, к которому читатель
недостаточно подготовлен предыдущим. То — характеры очень обыкновеыны,
то — слишком исключительны... И все это часто говорилось, по поводу
одних и тех же произведений, критиками, которые должны были
сходиться, по-видимому, в основных воззрениях. Если бы публике
приходилось судить об Островском только по критикам, десять лет
сочинявшимся о нем, то она должна была бы остаться в крайнем недоумении
о том: что же наконец думать ей об этом авторе? То он выходил,
по этим критикам, квасным патриотом, обскурантом, то прямым
продолжателем Гоголя в лучшем его периоде; то славянофилом, то
западником; то создателем народного театра, то гостинодворским Коцебу24, то
писателем с новым особенным миросозерцанием, то человеком, нимало не
осмысливающим действительности, которая им копируется. Никто до сих
пор не дал не только полной характеристики Островского, но даже
не указал тех черт, которые составляют существенный смысл его
произведений.
Отчего произошло такое странное явление? «Стало быть, была какая-
нибудь причина?» Может быть, действительно Островский так часто
изменяет свое направление, что его характер до сих пор еще не мог
определиться? Или, напротив, он с самого начала стал, как уверяла
критика «Москвитянина», на ту высоту, которая превосходит степень
понимания современной критики? 25 Кажется, ни то, ни другое. Причина
безалаберности, господствующей до сих пор в суждениях об Островском,
заключается именно в том, что его хотели непременно сделать
представителем известного рода убеждений, и затем карали за неверность
тельного. Довольно узнать только то, что одно произведенпе служило, так сказать,
поводом другому, по какому-нибудь противоположению. Так, напр., комедия «Свои
люди — сочтемся» имеет к себе в pendant драму «Не так живи, как хочется»,
которую можно назвать также: «Свои люди — сочтемся». «Бедная невеста» дала
повод написать комедию «Не в свои сани не садись», или «Богатую невесту»; к ним
очень близка комедия «Бедность не порок», которую можно назвать совершенно
справедливо «Бедный жених». Из этого видно, насколько богата фантазия г.
Островского запасом идей и образов для их выражения».
Припомним, что долгое время хвалители Островского удивлялись именно
неисчерпаемому богатству его фантазии в создании множества новых типов и
драматических положений, и нам будет ясно, как ничтожна была сочувственная ему
критика для уяснения значения этого писателя.
Темное царство
79^
этим убеждениям или возвышали за укрепление в них, и наоборот.
Все признали в Островском замечательный талант, и вследствие того
всем критикам хотелось видеть в нем поборника и проводника тех
убеждений, которыми сами они были проникнуты. Людям с
славянофильским оттенком очень понравилось, что он хорошо изображает
русский быт, и они без церемонии провозгласили Островского поклонником
«благодушной русской старины» в пику тлетворному Западу. Как
человек, действительно знающий и любящий русскую народность, Островский
действительно подал славянофилам много поводов считать его «своим»,
а они воспользовались этим так неумеренно, что дали противной партии
весьма основательный повод считать его врагом европейского образования
и писателем ретроградного направления. Но, в сущности, Островский
никогда не был ни тем, ни другим, по крайней мере в своих
произведениях. Может быть, влияние кружка и действовало на него, в смысле
признания известных отвлеченных теорий, но оно не могло уничтожить в
нем верного чутья действительной жизни, не могло совершенно закрыть
пред ним дороги, указанной ему талантом. Вот почему произведения
Островского постоянно ускользали из-под обеих, совершенно различных
мерок, прикидываемых к нему с двух противоположных концов.
Славянофилы скоро увидели в Островском черты, вовсе не служащие для
проповеди смирения, терпения, приверженности к обычаям отцов и
ненависти к Западу, и считали нужным упрекать его — пли в
недосказанности, или в уступках отрицательному воззрению. Самый нелепый из
критиков славянофильской партии очень категорически выразился, что
у Островского все бы хорошо, «но у него иногда недостает
решительности и смелости в исполнении задуманного: ему как будто мешает ложный
стыд и робкие привычки, воспитанные в нем натуральным направлением.
Оттого нередко он затеет что-нибудь возвышенное или широкое, а
память о натуральной мерке и спугнет его замысел; ему бы следовало
дать волю счастливому внушению, а он как будто испугается высоты
полета, и образ выходит какой-то недоделанный» («Рус. бес») 26. В свою
очередь, люди, пришедшие в восторг от «Своих людей», скоро заметили,
что Островский, сравнивая старинные начала русской жизни с новыми
началами европеизма в купеческом быту, постоянно склоняется на
сторону первых. Это им не понравилось, и самый нелепый из критиков так
называемой западнической партии выразил свое суждение, тоже очень
категорическое, следующим образом: «Дидактическое направление,
определяющее характер этих произведений, не позволяет нам признать в
них истинно поэтического таланта. Оно основано на тех началах,
которые называются у наших славянофилов народными. Им-то подчинил
г. Островский в комедиях и драме мысль, чувство и свободную волю
человека» («Атеней», 1859 г.) 27. В этих двух противоположных
отрывках можно найти ключ к тому, отчего критика до сих пор не могла
80
H, A. Добролюбов
прямо и просто взглянуть на Островского как на писателя,
изображающего жизнь известной части русского общества, а все смотрели на
него как на проповедника морали, , сообразной с понятиями той или
другой партии. Отвергнувши эту, заранее приготовленную, мерку,
критика должна была бы приступить к произведениям Островского просто
для их изучения,, с решительностью брать то, что дает сам автор.
Но тогда нужно было бы отказаться от желания завербовать его в свои
ряды, нужно было бы поставить на второй план свои предубеждения
к противной партии, нужно было бы не обращать внимания на
самодовольные и довольно наглые выходки противной стороны... а это было
чрезвычайно трудно и для той, и для другой партии. Островский и
сделался жертвою полемики между ними, взявши в угоду той и другой
несколько неправильных аккордов и тем еще более сбивши их
с толку.
К счастию, публика мало заботилась о критических перекорах и сама
читала комедии Островского, смотрела на театре те из них, которые
допущены к представлению, перечитывала опять и таким образом
довольно хорошо ознакомилась с произведениями своего любимого комика.
Благодаря этому обстоятельству труд критика значительно облегчается
теперь. Нет надобности разбирать каждую пьесу порознь, рассказывать
содержание, следить развитие действия сцена за сценой, подбирать по
дороге мелкие неловкости, выхвалять удачные выражения и т. п. Все
это читателям уже очень хорошо известно: содержание пьес все знают,
о частных промахах было говореио много раз, удачные, меткие
выражения давно уже подхвачены публикой и употребляются в разговорной
речи вроде поговорок. С другой стороны — навязывать автору свой
собственный образ мыслей тоже не нужно, да и неудобно (разве при
такой отваге, какую выказал критик «Атенея», г. Н. П. Некрасов,
из Москвы) : теперь уже для всякого читателя ясно, что Островский
не обскурант, не проповедник плетки как основания семейной
нравственности, не поборник гнусной морали, предписывающей терпение без конца
и отречение от прав собственной личности,— равно как и не слепой,
ожесточенный пасквилянт, старающийся во что бы то ни стало
выставить на позор грязные пятна русской жизни. Конечно, вольному воля:
недавно еще один критик 28 пытался доказать, что основная идея
комедии «Не в свои сани не садись» состоит в том, что безнравственно
купчихе лезти замуж за дворянина, а гораздо благонравнее выйти за
ровню, по приказу родительскому. Тот же критик решил (очень
энергически), что в драме «Не так живи, как хочется» Островский
проповедует, будто «полная покорность воле старших, слепая вера в
справедливость исстари предписанного закона и совершенное отречение от
человеческой свободы, от всякого притязания на право заявить свои человеческие
чувства гораздо лучше, чем самая мысль, чувство и свободная воля
Темное царство
81
человека». Тот же критик весьма остроумно сообразил, что «в сценах
«Праздничный сон до обеда» осмеяно суеверие во сны»...* Но ведь теперь
два тома сочинений Островского в руках у читателей — кто же поверит
такому критику?
Итак, предполагая, что читателям известно содержание пьес
Островского и самое их развитие, мы постараемся только припомнить черты,
общие всем его произведениям или большей части их, свести эти черты
к одному результату и по ним определить значение литературной
деятельности этого писателя. Исполнивши это, мы только представим в общем
очерке то, что и без нас давно уже знакомо большинству читателей, но
что у многих, может быть, не приведено в надлежащую стройность и
единство. При этом считаем нужным предупредить, что мы не задаем
автору никакой программы, не составляем для него никаких
предварительных правил, сообразно с которыми он должен задумывать и
выполнять свои произведения. Такой способ критики мы считаем очень
обидным для писателя, талант которого всеми признан и за которым
упрочена уже любовь публики и известная доля значения в литературе.
Критика, состоящая в показании того, что должен был сделать
писатель и насколько хорошо выполнил он свою должность, бывает еще
уместна изредка, в приложении к автору начинающему, подающему
некоторые надежды, но идущему решительно ложным путем и потому
нуждающемуся в указаниях и советах. Но вообще она неприятна, потому что
ставит критика в положение школьного педанта, собравшегося
проэкзаменовать какого-нибудь мальчика. Относительно такого писателя, как
Островский, нельзя позволить себе этой схоластической критики. Каждый
читатель с полной основательностью может нам заметить: «Зачем вы
убиваетесь над соображениями о том, что вот тут нужно было бы то-то,
а здесь недостает того-то? Мы вовсе не хотим признать за вами право
давать уроки Островскому; нам вовсе не интересно знать, как бы, по
вашему мнению, следовало сочинить пьесу, сочиненную им. Мы читаем
и любим Островского, и от критики мы хотим, чтобы она осмыслила
перед нами то, чем мы увлекаемся часто безотчетно, чтобы она привела
в некоторую систему и объяснила нам наши собственные впечатления.
А если, уже после этого объяснения, окажется, что наши впечатления
ошибочны, что результаты их вредны или что мы приписываем автору
то, чего в нем нет,— тогда пусть критика займется разрушением наших
заблуждений, но опять-таки на основании того, что дает нам сам автор».
Признавая такие требования вполне справедливыми, мы считаем за самое
лучшее — применить к произведениям Островского критику реальную,
состоящую в обозрении того, что нам дают его произведения. Здесь не
будет требований вроде того, зачем Островский не изображает характеров
Это все в «Атенее».
6 Ы. А. Добролюбов
82
H. A. Добролюбов
так, как Шекспир, зачем не развивает комического действия так, как
Гоголь *, и т. п. Все подобные требования, по нашему мнению, столько же
ненужны, бесплодны и неосновательны, как и требования того, напр.,
чтобы Островский был комиком страстей и давал нам мольеровских
Тартюфов и Гарпагонов или чтоб он уподобился Аристофану и
придал комедии политическое значение. Конечно, мы не отвергаем того,
что лучше было бы, если бы Островский соединил в себе Аристофана,
Мольера и Шекспира; но мы знаем, что этого нет, что это невозможно,
и все-таки признаем Островского замечательным писателем в нашей
литературе, находя, что он и сам по себе, как есть, очень недурен и
заслуживает нашего внимания и изучения...
Точно так же реальная критика не допускает и навязыванья автору
чужих мыслей. Пред ее судом стоят лица, созданные автором, и их
действия; она должна сказать, какое впечатление производят на нее
эти лица, и может обвинять автора только за то, ежели впечатление
это неполно, неясно, двусмысленно. Она никогда не позволит себе, напр.,
такого вывода: это лицо отличается привязанностью к старинным
предрассудкам; но автор выставил его добрым и неглупым, следственно автор
желал выставить в хорошем свете старинные предрассудки. Нет, для
реальной критики здесь представляется прежде всего факт: автор выводит
доброго и неглупого человека, зараженного старинными предрассудками.
Затем критика разбирает, возможно ли и действительно ли'такое лицо;
нашедши же, что оно верно действительности, она переходит к своим
собственным соображениям о причинах, породивших его, и т. д. Если
в произведении разбираемого автора эти причины указаны, критика
пользуется и ими и благодарит автора; если нет, не пристает к нему с
ножом к горлу, как, дескать, он смел вывести такое лицо, не объяснивши
причин его существования? Реальная критика относится к произведению
художника точно так же, как к явлениям действительной жизни: она
изучает их, стараясь определить их собственную норму, собрать их
существенные, характерные черты, но вовсе не суетясь из-за того, зачем
это овес — не рожь, и уголь — не алмаз... Были, пожалуй, и такие
ученые, которые занимались опытами, долженствовавшими доказать
превращение овса в рожь; были и критики, занимавшиеся доказыванием того,
что если бы Островский такую-то сцену так-то изменил, то вышел бы
Гоголь, а если бы такое-то лицо вот так отделал, то превратился бы
в Шекспира... Но надо полагать, что такие ученые и критики немного
принесли пользы науке и искусству. Гораздо полезнее их были те,
которые внесли в общее сознание несколько скрывавшихся прежде или не
совсем ясных фактов из жизни или из мира искусства как воспроизве-
* Эти замечания действительно делались Островскому мудрыми критиками...
Темное царство
83
дения жизни. Если в отношении к Островскому до сих пор не было
сделано ничего подобного, то нам остается только пожалеть об этом
странном обстоятельстве и постараться поправить его, насколько хватит
сил и уменья.
Но чтобы покончить с прежними критиками Островского, соберем
теперь те замечания, в которых почти все они были согласны и
которые могут заслуживать внимания.
Во-первых, всеми признаны в Островском дар наблюдательности и
уменье представить верную картину быта тех сословий, из которых брал
он сюжеты своих произведений.
Во-вторых, всеми замечена (хотя и не всеми отдана ей должная
справедливость) меткость и верность народного языка в комедиях
Островского.
В-третьих, по согласию всех критиков, почти все характеры в
пьесах Островского совершенно обыденны и не выдаются ничем
особенным, не возвышаются над пошлой средою, в которой они поставлены.
Это ставится многими в вину автору на том основании, что такие лица,
дескать, необходимо должны быть бесцветными. Но другие справедливо
находят и в этих будничных лицах очень яркие типические черты«
В-четвертых, все согласны, что в большей части комедий Островскога
«недостает (по выражению одного из восторженных его хвалителей)
экономии в плане и в постройке пьесы» и что вследствие того (по
выражению другого из его поклонников) «драматическое действие не
развивается в них последовательно и беспрерывно, интрига пьесы не сливается
органически с идеей пьесы и является ей как бы несколько
посторонней» 29.
В-пятых, всем не нравится слишком крутая, случайная, развязка
комедий Островского. По выражению одного критика, в конце пьесы «как
будто смерч какой проносится по комнате и разом перевертывает все
головы действующих лиц» 30.
Вот, кажется, все, в чем доселе соглашалась всякая критика,
заговаривая об Островском... Мы могли бы построить всю нашу статью на
развитии этих, всеми признанных, положений и, может быть, избрали
бы благую часть. Читатели, конечно, поскучали бы немного; но зат<ь
мы отделались бы чрезвычайно легко, заслужили бы сочувствие
эстетических критиков и даже,— почему знать? — стяжали бы, может быть,,
название тонкого ценителя художественных красот и таковых же
недостатков. Но, к сожалению, мы не чувствуем в себе призвания
воспитывать эстетический вкус публики, и потому нам самим чрезвычайно
скучно браться за школьную указку с тем, чтобы пространно и
глубокомысленно толковать о тончайших оттенках художественности.
Предоставляя это гг. Алмазову, Ахшарумову 31 и им подобным, мы изложиж
здесь только те результаты, какие дает нам изучение произведение
6*
84
H. A. Добролюбов
Островского относительно изображаемой им действительности. Но
предварительно сделаем несколько замечаний об отношении художественного
таланта к отвлеченным идеям писателя.
В произведениях талантливого художника, как бы они ни были
разнообразны, всегда можно примечать нечто общее, характеризующее все
их и отличающее их от произведений других писателей. На
техническом языке искусства принято называть это миросозерцанием
художника. Но напрасно стали бы мы хлопотать о том, чтобы привести это
миросозерцание в определенные логические построения, выразить его в
отвлеченных формулах. Отвлеченностей этих обыкновенно не бывает
в самом сознании художника; нередко даже в отвлеченных рассуждениях
он высказывает понятия, разительно противоположные тому, что
выражается в его художественной деятельности,— понятия, принятые им на
веру или добытые им посредством ложных, наскоро, чисто внешним
образом составленных силлогизмов. Собственный же взгляд его на мир,
служащий ключом к характеристике его таланта, надо искать в живых
образах, создаваемых им. Здесь-то и находится существенная разница
между талантом художника и мыслителя. В сущности, мыслящая сила
и творческая способность обе равно присущи и равно необходимы —
и философу и поэту. Величие философствующего ума и величие
поэтического гения равно состоят в том, чтобы, при взгляде на предмет,
тотчас уметь отличить его существенные черты от случайных, затем—
правильно организовать их в своем сознании и уметь овладеть ими так,
чтобы иметь возможность свободно вызывать их для всевозможных
комбинаций. Ио разница между мыслителем и художником та, что у
последнего восприимчивость гораздо живее и сильнее. Оба они почерпают
свой взгляд на мир из фактов, успевших дойти до их сознания. Но
человек с более живой восприимчивостью, «художническая натура», сильно
поражается самым первым фактом известного рода, представившимся
ему в окружающей действительности. У него еще нет теоретических
соображений, которые бы могли объяснить этот факт; но он видит, что
тут есть что-то особенное, заслуживающее внимания, и с жадным
любопытством всматривается в самый факт, усваивает его, носит его в своей
душе сначала как единичное представление, потом присоединяет к нему
другие, однородные, факты и образы и, наконец, создает тип, выражающий
в себе все существенные черты всех частных явлений этого рода, прежде
замеченных художником. Мыслитель, напротив, не так скоро и не так
сильно поражается. Первый факт нового рода не производит на него
живого впечатления; он большею частию едва примечает этот факт и
проходит мимо него, как мимо странной случайности, даже не трудясь его
Темное царство
85
усвоить себе. (Не говорим, разумеется, о личных отношениях: влюбиться,
рассердиться, опечалиться — всякий философ может столь же быстро,
при первом же появлении факта, как и поэт.) Только уже потом, когда
много однородных фактов наберется в сознании, человек с слабой
восприимчивостью обратит на них наконец свое внимание. Но тут обилие
частных представлений, собранных прежде и неприметно
покоившихся в его сознании, дает ему возможность тотчас же составить из них
общее понятие и, таким образом, немедленно перенести новый факт
из живой действительности в отвлеченную сферу рассудка. А здесь
уже приискивается для нового понятия надлежащее место в ряду
других идей, объясняется его значение, делаются из него выводы и т. д.
При этом мыслитель — или, говоря проще, человек рассуждающий —
пользуется как действительными фактами и теми образами, которые
воспроизведены из жизни искусством художника. Иногда даже эти самые
образы наводят рассуждающего человека на составление правильных
понятий о некоторых из явлений действительной жизни. Таким образом,
совершенно ясным становится значение художнической деятельности в
ряду других отправлений общественной жизни: образы, созданные
художником, собирая в себе, как в фокусе, факты действительной жизни,
весьма много способствуют составлению и распространению между
людьми правильных понятий о вещах.
Отсюда ясно, что главное достоинство писателя-художника состоит
в правде его изображений; иначе из них будут ложные выводы,
составятся, по их милости, ложные понятия. Но как понимать правду
художественных изображений? Собственно говоря, безусловной неправды писатели
никогда не выдумывают: о самых нелепых романах и мелодрамах нельзя
сказать, чтобы представляемые в них страсти и пошлости были
безусловно ложны, т. е. невозможны даже как уродливая случайность. Но
неправда подобных романов и мелодрам именно в том и состоит, что в них
берутся случайные, ложные черты действительной жизни, не
составляющие ее сущности, ее характерных особенностей. Они представляются
ложью и в том отношении, что если по ним составлять теоретические
понятия, то можно прийти к идеям совершенно ложным. Есть, напр„,
авторы, посвятившие свой талант на воспевание сладострастных сцен
и развратных похождений; сладострастие изображается ими в таком виде,
что если им поверить, то в нем одном только и заключается истинное
блаженство человека. Заключение, разумеется, нелепое, хотя, конечно,
и бывают действительно люди, которые, по степени своего развития, и не
способны понять другого блаженства, кроме этого... Были другие
писатели, еще более нелепые, которые превозносили доблести воинственных
феодалов, проливавших реки крови, сожигавших города и грабивших вас
салов своих. В описании подвигов этих грабителей не было прямой лжи,
но они представлены в таком свете, с такими восхвалениями, которые
,86
IL А. Добролюбов
ясно свидетельствуют, что в душе автора, воспевавшего их, не было
чувства человеческой правды. Таким образом, всякая односторонность
и исключительность уже мешает полному соблюдению правды
художником. Следовательно, художник должен — или в полной
неприкосновенности сохранить свой простой, младенчески непосредственный взгляд на
весь мир, или (так как это совершенно невозможно в жизни) спасаться
от односторонности возможным расширением своего взгляда, посредством
усвоения себе тех общих понятий, которые выработаны людьми
рассуждающими. В этом может выразиться связь знания с искусством. Свободное
претворение самых высших умозрений в живые образы и, вместе с тем,
полное сознание высшего, общего смысла во всяком, самом частном и
случайном факте жизни — это есть идеал, представляющий полное
слияние науки и поэзии и доселе еще никем не достигнутый. Но художник,
руководимый правильными началами в своих общих понятиях, имеет
все-таки ту выгоду пред неразвитым или ложно развитым писателем, что
может свободнее предаваться внушениям своей художнической натуры.
Его непосредственное чувство всегда верно указывает ему на предметы;
но когда его общие понятия ложны, то в нем неизбежно начинается
борьба, сомнения, нерешительность, и если произведение его и не
делается оттого окончательно фальшивым, то все-таки выходит слабым,
бесцветным и нестройным. Напротив, когда общие понятия художника
правильны и вполне гармонируют с его натурой, тогда эта гармония и
единство отражаются и в произведении. Тогда действительность
отражается в произведении ярче и живее, и оно легче может привести
рассуждающего человека к правильным выводам и, следовательно, иметь
более значения для жизни.
Если мы применим все сказанное к сочинениям Островского и
припомним то, что говорили выше о его критиках, то должны будем
сознаться, что его литературная деятельность не совсем чужда была тех
колебаний, которые происходят вследствие разлогласия внутреннего
художнического чувства с отвлеченными, извне усвоенными
понятиями. Этими-то колебаниями и объясняется то, что критика могла
делать совершенно противоположные заключения о смысле фактов,
выставлявшихся в комедиях Островского. Конечно, обвинения его в том,
что он проповедует отречение от свободной воли, идиотское смирение,
покорность и т. д., должны быть приписаны всего более недогадливости
критиков; но все-таки, значит, и сам автор недостаточно оградил себя
от подобных обвинений. И действительно, в комедиях «Не в свои сани
не садись», «Бедность не порок» и «Не так живи, как хочется» —
существенно дурные стороны нашего старинного быта обставлены в
действии такими случайностями, которые как будто заставляют не считать
их дурными. Будучи положены в основу названных пьес, эти
случайности доказывают, что автор придавал им более значения, нежели они
Темное царство
87
имеют в самом деле, и эта неверность взгляда повредила цельности
и яркости самих произведений. Но сила непосредственного
художнического чувства не могла и тут оставить автора, и потому частные
положения и отдельные характеры, взятые им, постоянно отличаются
неподдельной истиною. Редко-редко увлечение идеей доводило
Островского до натяжки в представлении характеров или отдельных
драматических положений, как, например, в той сцене в «Не в свои сани
не садись», где Бородкин объявляет желание взять за себя
опозоренную дочь Русакова. Во всей пьесе Бородкин выставляется благородным
и добрым по-старинному; последний же его поступок вовсе не в духе
того разряда людей, которых представителем служит Бородкин. Но
автор хотел приписать этому лицу всевозможные добрые качества, и в
числе их приписал даже такое, от которого настоящие Бородкины,
вероятно, отреклись бы с ужасом. Но таких натяжек чрезвычайно мало у
Островского: чувство художественной правды постоянно спасало его.
Гораздо чаще он как будто отступал от своей идеи, именно по
желанию остаться верным действительности. Люди, которые желали видеть
в Островском непременно сторонника своей партии, часто упрекали
его, что он недостаточно ярко выразил ту мысль, которую хотели они
видеть в его произведении. Например, желая видеть в «Бедности не
порок» апофеозу смирения и покорности старшим, некоторые критики
упрекали Островского за то, что развязка пьесы является не
необходимым следствием нравственных достоинств смиренного Мити. Но автор
умел понять практическую нелепость и художественную ложность такой
развязки и потому употребил для нее случайное вмешательство
Любима Торцова. Так точно за лицо Петра Ильича в «Не так живи, как
хочется» автора упрекали, что он не придал этому лицу той широты
натуры, того могучего размаха, какой, дескать, свойствен русскому
человеку, особенно в разгуле32. Но художническое чутье автора дало ему
понять, что его Петр, приходящий в себя от колокольного звона, не есть
представитель широкой русской натуры, забубённой головы, а довольно
мелкий трактирный гуляка. За «Доходное место» тоже слышались
довольно забавные обвинения. Говорили,— зачем Островский вывел
представителем честных стремлений такого плохого господина, как Жадов;
сердились даже на то, что взяточники у Островского так пошлы и
наивны, и выражали мнение, что «гораздо лучше было бы выставить
на суд публичный тех людей, которые обдуманно и ловко созидают,
развивают, поддерживают взяточничество, холопское начало и со всей
энергией противятся всем, чем могут, проведению в государственный
и общественный организм свежих элементов». При этом, прибавляет
требовательный критик, «мы были бы самыми напряженными,
страстными зрителями то бурного, то ловко выдерживаемого столкновения
двух партий» («Атеней», 1858 г., № 10) 33. Такое желание, справед-
83
H. A. Добролюбов
ливое в отвлечении, доказывает, однако, что критик совершенно не
умел понять то темное царство, которое изображается у Островского
и само предупреждает всякое недоумение о том, отчего такие-то лица
пошлы, такие-то положения случайны, такие-то столкновения слабы.
Мы не хотим никому навязывать своих мнений; но нам кажется, что
Островский погрешил бы против правды, наклепал бы на русскую жизнь
совершенно чуждые ей явления, если бы вздумал выставлять наших
взяточников как правильно организованную, сознательную партию. Где
вы у нас нашли подобные партии? В чем открыли вы следы
сознательных, обдуманных действий? Поверьте, что если б Островский принялся
выдумывать таких людей и такие действия, то как бы ни драматична
была завязка, как бы ни рельефно были выставлены все характеры
пьесы, произведение все-таки в целом осталось бы мертвым и
фальшивым. И то уже есть в этой комедии фальшивый тон в лице
Жадова; но и его почувствовал сам автор, еще прежде всех критиков.
С половины пьесы он начинает спускать своего героя с того
пьедестала, на котором он является в первых сценах, а в последнем акте
показывает его решительно неспособным к той борьбе, какую он
принял было на себя. Мы в этом не только не обвиняем Островского, но,
напротив, видим доказательство силы его таланта. Он, без сомнения,
сочувствовал тем прекрасным вещам, которые говорит Жадов; но в то
же время он умел почувствовать, что заставить Жадова делать все эти
прекрасные вещи — значило бы исказить настоящую русскую
действительность. Здесь требование художественной правды остановило
Островского от увлечения внешней тенденцией и помогло ему уклониться от
дороги гг. Соллогуба и Львова 34. Пример этих бездарных фразеров
показывает, что смастерить механическую куколку и назвать ее честным
чиновником вовсе не трудно; но трудно вдохнуть в нее жизнь и
заставить ее говорить и действовать по-человечески. Занявшись
изображением честного чиновника, и Островский не везде преодолел эту
трудность; но все-таки в его комедии натура человеческая много раз
сказывается из-за громких фраз Жадова. И в этом уменье подмечать
натуру, проникать в глубь души человека, уловлять его чувства,
независимо от изображения его внешних, официальных отношений,—в этом
мы признаем одно из главных и лучших свойств таланта Островского.
И поэтому мы всегда готовы оправдать его от упрека в том, что он
в изображении характера не остался верен тому основному мотиву,
какой угодно будет отыскать в нем глубокомысленным критикам.
Точно так же мы оправдываем Островского в случайности и
видимой неразумности развязок в его комедиях. Где же взять разумности,
когда ее нет в самой жизни, изображаемой автором? Без сомнения,
Островский сумел бы представить для удержания человека от пьянства
какие-нибудь резоны более действительные, нежели колокольный звон;
Темное царство
89
но что же делать, если Петр Ильич был таков, что резонов не мог
понимать? Своего ума в человека не вложишь, народного суеверия не
переделаешь. Придавать ему смысл, которого оно не имеет, значило бы
искажать его и лгать на самую жизнь, в которой оно проявляется.
Так точно и в других случаях: создавать непреклонные драматические
характеры, ровно и обдуманно стремящиеся к одной цели, придумывать
строго соображенную и тонко веденную интригу — значило бы
навязывать русской жизни то, чего в ней вовсе нет. Говоря по совести, никто
из нас не встречал в своей жпзни мрачных интриганов,
систематических злодеев, сознательных иезуитов. Если у нас человек и подличает,
так больше по слабости характера; если сочиняет мошеннические
спекуляции, так больше оттого, что окружающие его очень уж глупы и
доверчивы; если и угнетает других, то больше потому, что это никакого
усилия не стоит, так все податливы и покорны. Наши интриганы,
дипломаты и злодеи постоянно напоминают мне одного шахматного
игрока, который говорил мне: «Это вздор, будто можно рассчитать заранее
свою игру; игроки только напрасно хвалятся этим; а в самом-то деле
больше трех ходов вперед невозможно рассчитать». И этот игрок
многих еще обыгрывал: другие, стало быть, и трех-то ходов не
рассчитывали, а так только — смотрели на то, что у них под носом. Такова и
вся наша русская жизнь: кто видит на три шага вперед, тот уже
считается мудрецом и может надуть и оплести тысячи людей. А тут
хотят, чтобы художник представлял нам в русской коже каких-нибудь
Тартюфов, Ричардов, Шейлоков! По нашему мнению, такое требование
совершенно нейдет к нам и сильно отзывается схоластикой. По
схоластическим требованиям, произведение искусства не должно допускать
случайности; в нем все должно быть строго соображено, все должно
развиваться последовательно из одной данной точки, с логической
необходимостью и в то же время естественностью! Но если естественность
требует отсутствия логической последовательности? По мнению
схоластиков, не нужно брать таких сюжетов, в которых случайность не
может быть подведена под требования логической необходимости. По
нашему же мнению, для художественного произведения годятся всякие
сюжеты, как бы они ни были случайны, и в таких сюжетах нужно для
естественности жертвовать даже отвлеченною логичностью, в полной
уверенности, что жизнь, как и природа, имеет свою логику и что эта
логика, может быть, окажется гораздо лучше той, какую мы ей часто
навязываем... Вопрос этот, впрочем, слишком еще нов в теории
искусства, и мы не хотим выставлять свое мнение как непреложное правило.
Мы только пользуемся случаем высказать его по поводу произведении
Островского, у которого везде на первом плане видим верность фактам
действительности и даже некоторое презрение к логической
замкнутости произведения — и которого комедии, несмотря на то, имеют и
занимательность и внутренний смысл.
90
H. A. Добролюбов
Высказавши эти беглые замечания, мы, прежде чем перейдем к
главному предмету нашей статьи, должны сделать еще следующую
оговорку. Признавая главным достоинством художественного произведения
жизненную правду его, мы тем самым указываем и мерку, которою
определяется для нас степень достоинства и значения каждого
литературного явления. Судя по тому, как глубоко проникает взгляд
писателя в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих
изображениях различные стороны жизни,— можно решить и то, как
велик его талант. Без этого все толкования будут напрасны. Например,
у г. Фета есть талант, и у г. Тютчева есть талант: как определить их
относительное значение? Без сомнения, не иначе как рассмотрением
сферы, доступной каждому из них. Тогда и окажется, что талант
одного способен во всей силе проявляться только в уловлении мимолетных
впечатлений от тихих явлений природы, а другому доступны, кроме
того,— и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума,
возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами
нравственными, интересами общественной жизни. В показании всего этого
и должна бы, собственно, заключаться оценка таланта обоих поэтов.
Тогда читатели и без всяких эстетических (обыкновенно очень
туманных) рассуждений поняли бы, какое место в литературе принадлежит
и тому и другому поэту. Так мы полагаем поступить и с
произведениями Островского. Все предыдущее изложение привело нас ' до сих пор
к признанию того, что верность действительности, жизненная правда —
постоянно соблюдаются в произведениях Островского и стоят на первом
плане, впереди всяких задач и задних мыслей. Но этого еще мало:
ведь и г. Фет очень верно выражает неопределенные впечатления
природы, и, однако ж, отсюда вовсе не следует, чтобы его стихи имели
большое значение в русской литературе. Для того чтобы сказать что-
нибудь определенное о таланте Островского, нельзя, стало быть,
ограничиться общим выводом, что он верно изображает действительность;
нужно еще показать, как обширна сфера, подлежащая его наблюдениям,
до какой степени важны те стороны фактов, которые его занимают,
и как глубоко проникает он в них. Для этого-то и необходимо
реальное рассмотрение того, что есть в его произведениях.
Общие соображения, которые в этом рассмотрении должны
руководить нас, состоят в следующем:
Островский умеет заглядывать в глубь души человека, умеет
отличать натуру от всех извне принятых уродств и наростов; оттого
внешний гнет, тяжесть всей обстановки, давящей человека, чувствуются в
его произведениях гораздо сильнее, чем во многих рассказах, страшно
возмутительных по содержанию, но внешнею, официальною стороною
дела совершенно заслоняющих внутреннюю, человеческую сторону.
Комедия Островского не проникает в высшие слои нашего общества,
Темное царство
91
а ограничивается только средними, и потому не может дать ключа к
объяснению многих горьких явлений, в ней изображаемых. Но тем не
менее она легко может наводить на многие аналогические соображения,
относящиеся и к тому быту, которого прямо не касается; это оттого,
что типы комедий Островского нередко заключают в себе не только
исключительно купеческие или чиновничьи, но и общенародные черты.
Деятельность общественная мало затронута в комедиях Островского,
и это, без сомнения, потому, что сама гражданская жизнь наша,
изобилующая формальностями всякого рода, почти не представляет примеров
настоящей деятельности, в которой свободно и широко мог бы
выразиться человек. Зато у Островского чрезвычайно полно и рельефно
выставлены два рода отношений, к которым человек еще может у нас
приложить душу свою,— отношения семейные и отношения по
имуществу. Не мудрено поэтому, что сюжеты и самые названия его пьес вертятся
около семьи, жениха, невесты, богатства и бедности.
Драматические коллизии и катастрофа в пьесах Островского все
происходят вследствие столкновения двух партий — ставших и младших,
богатых и бедных, своевольных и безответных. Ясно, что развязка подобных
столкновений, по самому существу дела, должна иметь довольно крутой
характер и отзываться случайностью.
С этими предварительными соображениями вступим теперь в этот
мир, открываемый нам произведениями Островского, и постараемся
всмотреться в обитателей, населяющих это темное царство. Скоро вы
убедитесь, что мы недаром назвали его темным.
II
Где больше строгости, там и греха больше.
Надо судить по человечеству.
ОСТРОВСКИЙ 3S
Перед нами грустно покорные лица наших младших братии,
обреченных судьбою на зависимое, страдательное существование.
Чувствительный Митя, добродушный Андрей Брусков, бедная невеста Марья
Андреевна, опозоренная Авдотья Максимовна, несчастная Даша и Надя —стоят
перед нами, безмолвно-покорные судьбе, безропотно-унылые... Это мир
Затаенной, тихо вздыхающей скорби, мир тупой, ноющей боли, мир
тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемый глухим,
бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении. Нет ни
света, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью веет темная и тесная
тюрьма. Ни один звук с вольного воздуха, ни один луч светлого дня не
92
H. A. Добролюбов
проникает в нее. В ней вспыхивает по временам только искра того
священного пламени, которое пылает в каждой груди человеческой, пока
не будет залито наплывом житейской грязи.. Чуть тлеется эта искра в
сырости и смраде темницы, но иногда, на минуту, вспыхивает она и
обливает светом правды и добра мрачные фигуры томящихся узников.
При помощи этого минутного освещения мы видим, что тут страдают
наши братья, что в этих одичавших, бессловесных, грязных существах
можно разобрать черты лица человеческого — и наше сердце стесняется
болью и ужасом. Они молчат, эти несчастные узники,— они сидят в
летаргическом оцепенении и даже не потрясают своими цепями; они почти
лишились даже способности сознавать свое страдальческое положение;
но тем не менее они чувствуют тяжесть, лежащую на них, они не
потеряли способности ощущать свою боль. Если они безмолвно и неподвижно
переносят ее, так это потому, что каждый крик, каждый вздох среди
этого смрадного омута захватывает им горло, отдается колючею болью в
груди, каждое движение тела, обремененного цепями, грозит им
увеличением тяжести и мучительного неудобства их положения. И неоткуда
ждать им отрады, негде искать облегчения: над ними буйно и безотчетно
владычествует бессмысленное самодурство36, в лице разных Торцовых,
Болыповых, Брусковых, Уланбековых и пр., не признающее никаких
разумных прав и требований. Только его дикие, безобразные крики
нарушают эту мрачную тишину и производят пугливую суматоху на этом
печальном кладбище человеческой мысли и воли.
Но не мертвецы же все эти жалкие люди, не в темных же могилах
родились и живут они. Вольный божий свет расстилался когда-то и перед
ними, хоть на короткое время, в давнюю пору раннего, беззаботного
детства. Воспоминание об этой золотой поре не оставляет их и в
смрадной тюрьме, и в горькой кабале самодурства. Грубые, необузданные крики
какого-нибудь самодура, широкие размахи руки его напоминают им
простор вольной жизни, гордые порывы свободной мысли и горячего
сердца — порывы, заглушённые в несчастных страдальцах, но погибшие не
совсем без следа. И вот черный осадок недовольства, бессильной злобы,
тупого ожесточения начинает шевелиться на дне мрачного омута, хочет
всплыть на поверхность взволнованной бездны и своим мутным наплывом
делает ее еще безобразнее и ужаснее. Нет простора и свободы для
живой мысли, для задушевного слова, для благородного дела; тяжкий само-
дурный запрет наложен на громкую, открытую широкую деятельность.
Но пока жив человек, в нем нельзя уничтожить стремления жить, т. е.
проявлять себя каким бы то ни было образом во внешних действиях.
Чем более стремление это стесняется, тем его проявления бывают
уродливее; но совсем не быть они не могут, пока человек не совсем замер.
И такова сила самодурства в этом темном царстве Торцовых, Брусковых
и Уланбековых, что много людей действительно замирает в нем, теряет и
Темное царство
93
смысл, и волю, и даже силу сердечного чувства — все, что составляет
разумную жизнь,— и в идиотском бессилии прозябает, только совершая
отправления животной жизни. Но есть и живучие натуры: те глубоко
внутри себя собирают яд своего недовольства, чтобы при случае
выпустить его, а между тем неслыпшо ползут подобно змее, съеживаются,
извиваются и перевертываются ужом и жабою... Они безмолвны,
неслышны, незаметны; они знают, что всякое быстрое и размашистое движение
отзовется нестерпимой болью на их закованном теле; они понимают, что,
рванувшись из своих желез, они не выбегут из тюрьмы, а только вырвут
куски мяса из своего тела. И вот они принимаются за работу, глухую п
тихую: изгибаясь, вертясь и сжимаясь, они пробуют все возможные
манеры — нельзя ли втихомолку высвободить руки, чтобы потом распилить
свои цепи... Начинается воровское, урывчатое движение, с оглядкою,
чтобы кто-нибудь не подметил его; начинается обман и подлость,
притворство и зложелательство, ожесточение на все окружающее и забота только
о себе, о достижении личного спокойствия. Тут нет злобно обдуманных
планов, нет сознательной решимости на систематическую, подземную
борьбу, нет даже особенной хитрости; тут просто невольное, вынужденное
внешними обстоятельствами, вовсе не обдуманное и ни с чем хорошенько
не соображенное проявление чувства самосохранения. Как у нас невольно
и без нашего сознания появляются слезы от дыма, от умиления и хрена, как
глаза наши невольно щурятся при внезапном и слишком сильном свете,
как тело наше невольно сжимается от холода,— так точно эти люди
невольно и бессознательно принимаются за плутовскую, лицемерную и
грубо эгоистическую деятельность, при невозможности дела открытого,
правдивого и радушного... Нечего винить этих людей, хотя и не мешает
остерегаться их: они сами не ведают, что творят. Под страхом нагоняя и
потасовки, рабски воспитанные, с беспрестанным опасением остаться без
куска хлеба, рабски живущие, они все силы свои напрягают на
приобретение одной из главных рабских добродетелей — бессовестной хитрости.
И чего же им совеститься, какую правду, какие права уважать им?
Ведь самодурство властвует над ними, давит и убивает их — совершенно
бесправно, бессмысленно, бессовестно! В людях, воспитанных под таким
владычеством, не может развиться сознание нравственного долга и
истинных начал честности и права. Вот почему безобразнейшее мошенничество
кажется им похвальным подвигом, самый гнусный обман — ловкою
шуткой. Они могут вас надувать, обкрадывать, подводить под нож и при
всем этом оставаться искренне радушными и любезными с вами,
сохранять невозмутимое добросердечие и множество истинно добродетельных
качеств. В их натуре вовсе нет злости, нет и вероломства; но им нужно
как-нибудь выплыть, выбиться из гнилого болота, в которое погружены
они сильными самодурами; они знают, что выбраться на свежий воздух,
которым так свободно дышат эти самодуры, можно с помощью обмана и
94
H. A. Добролюбов
денег; и вот они принимаются хитрить, льстить, надувать, начинают и
по мелочи, н большими кушами, но всегда тайком и рывком,
закладывать в свой карман чужое добро. Что за дело, что оно чужое? Ведь у
них самих отняли все, что они имели, свою волю и свою мысль; как же
им рассуждать о том, что честно и что бесчестно? как не захотеть
надуть другого для своей личной выгоды?
Таким образом, наружная покорность и тупое, сосредоточенное горе,
доходящее до совершенного идиотства и плачевнейшего обезличения,
переплетаются в темном царстве, изображаемом Островским, с рабскою
хитростью, гнуснейшим обманом, бессовестнейшим вероломством. Tvt
никто не может ни на кого положиться: каждую минуту вы можете ждать,
что приятель ваш похвалится тем, как он ловко обсчитал или обворовал
вас; компаньон в выгодной спекуляции — легко может забрать в руки все
деньги и документы и засадить своего товарища в яму за долги; тесть
надует зятя приданым; жених обочтет и обидит сваху; невеста-дочь
проведет отца и мать, жена обманет мужа. Ничего святого, ничего чистого,
ничего правого в этом темном мире: господствующее над ним
самодурство, дикое, безумное, неправое, прогнало из него всякое сознанпе чести
и права... И не может быть их там, где повержено в прах и нагло
растоптано самодурами человеческое достоинство, свобода личности, вера в
любовь и счастье и святыня честного труда,
А между тем тут ^° тм, только за стеною, идет другая жизнь,
светлая, опрятная, образованная... Обе стороны темного царства
чувствуют превосходство этой жизни и то пугаются ее, то привлекаются к ней.
Но основы этой жизни, ее внутренняя сила — совершенно непонятны
для жалких людей, отвыкших от всякой разумности и правды в своих
житейских отношениях. Только самые грубые и внешние, бьющие в глаза
проявления этой образованности понятны для них, только на них они
нападают, ежели вздумают невзлюбить образованность, и только им под-
ражают, ежели увлекутся страстью жить по-благородному. Старик
самодур сбреет бороду и станет напиваться шампанским вместо водки; дочь
его будет петь жестокие романсы и увлекаться офицерами; сын начнет
кутить и покупать дорогие платья и шали танцовщицам: вот и весь
кодекс их образованности... Зато и те, которые боятся нового света,— если
им попадется дурачок Вихорев или Бальзаминов, рады принять его за
представителя образованности и по поводу его излить свое негодование
на новые порядки... И так через всю жизнь самодуров, через вое
страдальческое существование безответных проходит эта борьба с волною
новой жизни, которая, конечно, зальет когда-нибудь всю издавна
накопленную грязь и превратит топкое болото в светлую и величавую реку, но
которая теперь еще только вздымает эту грязь и сама в нее всасывается,
и вместе с нею гниет и смердит... Теперь новые начала жизни только
еще тревожат сознание всех обитателей темного царства, вроде далекого
Темное царство
95
привидения или кошмара. Даже для тех, которые решаются сами
подражать новую моду, она все-таки тяжела так, как тяжел бывает всякий
кошмар, хотя бы в нем представлялись видения самые прелестные. И
точно как после кошмара, даже те, которые, по-видимому, успели уже
освободиться от самодурного гнета и успели возвратить себе чувство и
сознание,— и те все еще не могут найтись хорошенько в своем новом
положении и, не поняв ни настоящей образованности, ни своего призвания, не
умеют удержать и своих прав, не решаются и приняться за дело, а
возвращаются опять к той же покорности судьбе или к темным сделкам с
ложью и самодурством.
Таково общее впечатление комедий Островского, как мы их понимаем.
Чтобы несколько рельефнее выставить некоторые черты этого бледного
очерка, напомним несколько частностей, долженствующих служить
подтверждением и пояснением наших слов. В настоящей статье мы
ограничимся представлением того нравственного растления, тех бессовестно
неестественных людских отношений, которые мы находим в комедиях
Островского как прямое следствие тяготеющего над всеми самодурства.
Раскрываем первую страницу «Сочинений Островского» 37. Мы в доме
купца Пузатова, в комнате, меблированной без вкуса, с портретами,
райскими птицами, разноцветными драпри и бутылками настойки. Марья
Антиповна, девятнадцатилетняя девушка, сестра Пузатова, сидит за
пяльцами и поет: «Черный цвет, мрачный цвет». Потом она говорпт сама с
собой:
Вот уж и лето проходит, п сентябрь на дворе, а ты сиди в четырех стенах, как
монашенка какая-нибудь, и к окну не подходи. Куца как антиресно!
Действительно, жизнь девушки не очень интересна: в доме властвует
самодур и мошенник Пузатов, брат Марьи Антиповиы; а когда его нет,
так подглядывает за своею дочерью и за молодой женой сына —
ворчливая старуха, мать Пузатова, богомольная, добродушная и готовая за грош
продать человека. С этими людьми нет ни отрады, ни покоя, ни раздолья
для молодых женщин; они должны умереть с тоски и с огорчения на
беспрестанное ворчанье старухи да на капризы хозяина. Поневоле начинают
они изыскивать для себя тайные развлечения и, разумеется, находят.
Вот что говорит Марья Антиповна тотчас после жалобы на судьбу свою:
Что ж, пожалуй, не пускайте, запирайте на замок! тиранствуйте! А мы с
сестрицей отпросимся ко всенощной в монастырь, разоденемся, а сами в парк отличимся
либо в Сокольники. Надо как-нибудь на хитрости подыматься...
Вот вам первый образчик этой невольной, ненужной хитрости. Как
сложилось в Марье Антиповне такое рассуждение, от каких частных
случайностей стала развиваться наклонность к хитрости,— что нам за дело!..
Мы знаем общую причину такого настроения, указанную нам очень ясно
96
H. A. Добролюбов
самим же Островским, и видим, что Марья Антиповна составляет не
исключительное, а самое обыкновенное, почти всегдашнее явление в этом
роде. Более нам ничего и не нужно для объяснения ее ранней
испорченности. Но Островский вводит нас в самую глубину этого семейства,
заставляет присутствовать при самых интимных сценах, и мы не только
понимаем, мы скорбно чувствуем сердцем, что тут не может быть иных
отношений, как основанных на обмане и хитрости, с одной стороны, при
диком н бессовестном деспотизме, с другой. Сцены Марьи Антиповны с
Матреной Савишной, женой Пузатова, и их обеих с кухаркой -—
объясняют всю гнусность разврата, на котором все держится в этом доме.
Матрена Савишна объясняет Маше, что не нужно приучать офицеров под
окнами ездить, потому что слава дурная пойдет и после не развяжешься.
Между тем у них уж послана кухарка к каким-то молодцам, которые
зовут их в Останкино и просят захватить бутылку мадеры. Разумеется,
и это делается втихомолку и с трепетом, потому что хоть Пузатова и
нет дома, но мать его за всем подсматривает и всему мешает. Еще
только увидавши в окно возвращающуюся Дарью, Машенька пугливо
восклицает: «Ах, сестрица, как бы она маменьке не попалась!» И Дарья
действительно попалась; но она сама тоже не промах,— умела
отвертеться: «...за шелком, говорит, в лавочку бегала». Надсмотрщицу провели
на этот раз. Но вот, среди разговора молодых женщин с кухаркой,
раздается маленький шум за сценой; кухарка пугливо прислушивается и
говорит: «Никак, матушка, сам приехал»... И действительно, еще из
передней раздается голос Пузатова: «Жена! а жена! Матрена Савишна!..»
Жена подходит к дверям и спрашивает: «Что такое?» Муж отвечает:
«Здравствуй! А ты думала, бог знает что!..» Этот приступ дает уже вам
мерку супружеских отношений Антипа Антипыча и Матрены Савишны.
Ясно, что жена для него вроде резиновой куколки, которою забавляются
дети: то ноги ей вытянут, то голову сплющат или растянут, и смотрят,
какой из этого вид будет. Ни малейшего сознания ее человеческих прав
и ни малейшей мысли об уважении ее нравственной личности никогда и
не бывало у Пузатова. Его отношения к ней ограничиваются животными
побуждениями и потехой своего самодурства. Он говорит, что жена его,
«как разрядится, так лучше всякой барыни,— вальяжней, ей-богу! Ведь
те все мелочь; с позволения сказать, взглянуть не на что нашему брату.
А она у меня таки тово... То есть я — насчет телесного сложения... Ну, и
все такое...» И свои обязанности к жене, для приобретения любви ее, он
ограничивает тем же. Вот его отзыв: «Чтоб она меня, молодца такого,
да променяла на кого-нибудь,— красавца-то этакого!..» А в чем его
красота? Вот его собственное определение: «То ли дело купец хороший,
гладкий да румяный,— вот как я. Уж и любить-то есть кого; не то. что стри-
кулист чахлый...» Впрочем, в этом он, может быть, и прав: недаром же
у нас рисуются карикатуры пышных камелий во фраках, господ, живу-
Темное царство
97
щпх на счет чужих жен!.. И если Матрена Савишна потихоньку от мужа
ездит к молодым людям в Останкино, так это, конечно, означает частию
то, что ее развитие направилось несколько в другую сторону, частию же
и то, что ей уж очень тошно приходится от самодурства мужа. А
самодурство это вот как, напр., выражается: Антип Антипыч, з ожидании чая,
сидит и смотрит по углам, наконец отпускает, от нечего делать,
следующую шутку:
Антип Антипыч (грозно). Жена! Поди сюда!
МатренаСавишна. Что еще?
Антип Антипыч. Поди сюда, говорят тебе. (Ударяет кулаком по столу).
МатренаСавишна. Да что ты, очумел, что ли?
Антип Антипыч. Что я с тобой сделаю? (Стучит по столу).
МатренаСавишна. Да что с тобой? (Робко). Антип Антипыч...
Антип Антипыч. А? Испугалась? (Смеется). Нет, Матрена Савишна, это я
так — шутки шучу. (Вздыхает). Что же чайку-то-с?
Видите, это он со скуки такие шутки шутит! Ему скучно стало чаю
дожидаться... Понятно, какие чувства может питать к такому мужу самая
невзыскательная жена.
Но Антип Антипыч — еще прогрессивный и гуманный человек в
сравнении с своей матушкой. Он считает удобным побить жену только во
хмелю, да и то не совсем одобряет. Выдавая сестру за Ширялова, он
спрашивает: «Ты ведь во хмелю смирный? не дерешься?» А матушка его,
Степанида Трофимовна, так и этого не признает: она бранит сьгаа,
зачем он жену в страхе не держит. «Мой покойник,— говорит,— как меня
ни любил, как ни голубил, а в спальне на гвоздике плетка висела про
всякий случай». У сына ее нет плетки, и это она считает уже за упадок
нравственности... Но жена и без плетки видит необходимость лицемерить
перед мужем: она с притворной нежностью целует его, ласкается к нему,
отпрашивается у него и у матушки к вечерне да ко всенощной, хотя и
сама обнаруживает некоторую претензию на самодурство и говорит, что
«не родился тот человек на свет, чтобы ее молчать заставил». Обман
и притворство полноправно господствуют в этом доме и представляют
нам как будто какую-то особенную религию, которую можно назвать
религиею лицемерства.
Отставши от жены, Пузатов переходит к сестре и начинает сватать
ей женихов. При этом делаются опять разные скромные намеки насчет
телесного сложения, от которых не менее скромная девушка убегает из
комнаты. Затем начинается о судьбе ее интимный совет между матерью
и сыном. Мать предлагает в женихи Ширялова, которого рекомендует
так: «Он хоть и старенький и вдовый, да денег-то, Антипушка, больно
много — куры не клюют. Ну да и человек-то степенный, набожный,
примерный купец, в уважении». Сын отвечает на это лаконически: «Только,
матушка, уж больно плутъ. Подумаешь, что Пузатов уважает честность
7 Н. А. Добролюбов
93
//. А. Добролюбов
и не любит мошенничества. Ничуть не бывало. У него есть свои
особенные понятия, по которым плутовать следует, но только до каких-то
пределов, хотя, впрочем, он и сам хорошенько не знает, до каких именно...
А так, покажется ему, что этот человек еще не больно плут, а вот этот
так уж больно плут. И если уж больно плут, так у него как будто и
совесть зазрит. А впрочем, последствий особенных и это чувство не имеет.
Вот что говорят мать и сын относительно своих нравственных понятий.
На замечание сына о плутовстве Ширялова Степанида Трофимовна
отвечает:
Ах, батюшки мои! Да чем же он плут, скажи пожалуйста! Каждый праздник он
в церковь ходит, да придет-то раньше всех; посты держит; великим постом и чаю не
пьет с сахаром,— все с медом либо с изюмом. Так-то, голубчик! не то, что ты... А если,
и обманет кого, так что за беда! Не он первый, не он последний: человек
коммерческий; тем, Антипушко, и торговля-то держится. Не помимо пословица-то говорится:
«Не обмануть — не продать».
Антип Антипыч. Что говорить! Отчего не надуть приятеля, коли рука по-
дойдет. Ничего. Можно. Да уж, матушка, ведь иногда и совесть зазрит. (Чешет
затылок.) Право слово. И смертный час вспомнишь. (Молчание.) Я и сам, где трафитсл, не
хуже его мину-то подведу. Да ведь я и скажу потом; вот, мол, я тебя так и так
помазал маленько. Вот в прошлом году Савву Саввича, при расчете рубликов на пятьсот
поддел. Да ведь я после сказал ему: вот, мол, Савва Саввич, промигал ты полтысячки,
да уж теперь, брат, поздно, говорю: а ты, мол, не зевай. Посердился немножко, да и,
опять приятели. Что за важность.
Вы видите, что Пузатов не считает свои мошенничества дурным
делом, не считает даже обманом, а просто — ловкой, умной штукой; которой
даже похвалиться можно. И те, кого он обдувает, держатся того же
мнения: Савва Саввич посердился на то, что допустил оплести себя, но потом,
когда оскорбленное самолюбие угомонилось, он опять стал приятелем с
Антипом Антипычем. Обман тут —явление нормальное, необходимое, как
убийство на войне. Быт этого темного царства так уж сложился, что
вечная вражда господствует между его обитателями. Тут все в войне:
жена с мужем — за его самовольство, муж с женой — за ее
непослушание или неугождение; родители с детьми ^- за то, что дети хотят жить
своим умом; дети с родителями — за то, что им не дают жить своим
умом; хозяева с приказчиками, начальники с подчиненными воюют за то,
что одни хотят все подавить своим самодурством, а другие не находят
простора для самых законных своих стремлений; деловые люди воюют из-
за того, чтобы другой не перебил у них барышей их деятельности,
всегда рассчитанной на эксплуатацию других; праздные шатуны бьются,
чтобы не ускользнули от них те люди, трудами которых они задаром
кормятся, щеголяют и богатеют. И все эти люди воюют общими силами
против людей честных, которые могут открыть глаза угнетенным труженикам
и научить их громко и настоятельно предъявить свои права. Вследствие
такого порядка дел все находятся в осадном положении, все хлопочут о
Темное царство 99
том, как бы только спасти себя от опасности и обмануть бдительность
врага. На всех лицах написан испуг и недоверчивость; естественный
ход мышления изменяется, и на место здравых понятий вступают
особенные условные соображения, отличающиеся скотским характером
и совершенно противные человеческой природе. Известно, что
логика войны совершенно отлична от логики здравого смысла. Военная
хитрость восхваляется как доказательство ума, направленного на
истребление своих ближних; убийство превозносится как лучшая доблесть
человека; удачный грабеж — отнятие лагеря, отбитие обоза и пр.— возвышает
человека в глазах его сограждан. А между тем во всех
законодательствах есть наказания и за обман, и за грабеж, и за убийство. Мало
того, во всех законодательствах признаются смягчающие обстоятельства,
и иногда самое убийство извиняется, если побудительные причины его
были слишком неотразимы. А между тем, какие смягчающие
обстоятельства имеются, например, для венгерца или славянина, идущего на войну
против итальянцев для того, чтобы Австрия могла по-прежнему
угнетать их? Какою страшною казнию нужно бы казнить каждого
венгерского и славянского офицера или солдата за каждый выстрел, сделанный
им по французским и сардинским полкам! Но такова сила повального
ослепления, неизбежно заражающего людей в известных положениях,—
что за убийство и грабежи на войне не только не казнят никого, но еще
восхваляют и награждают! Точно в таком безумном ослеплении находятся
все жители темного царства, восстающего перед нами из комедий
Островского. Они в постоянной войне со всем окружающим, и потому не
требуйте и не ждите от них рациональных соображений, доступных человеку
в спокойном и мирном состоянии. Пузатов делает такой военный
силлогизм: «Если я тебя не разобью, так ты меня разобьешь; так лучше же я
тебя разобью». И что же сказать против такого силлогизма? И не
рождается ли он сам собою у всякого человека, поставленного в
затруднительное положение выбирать между победою и поражением? Нечего и
удивляться, что, рассказывая о том, как недодал денег немцу, представившему счет
из магазина, Пузатов рассуждает так: «А то все ему и отдать? да за что
это? Нет, уж опосля честь будет. Они там ломят цену, какую хотят, а им
сдуру-то и верят. И в другой раз то же сделаю, коли векселя не возьмет».
Вы видите, что здесь идет самая обыкновенная игра: кто лучше играет,
тот и остается в выигрыше.
Но Пузатов сам не любит собственно обмана, обмана без нужды, без
надежды на выгоду; не любит, между прочим, и потому, что в таком
обмане выражается не солидный ум, занятый существенными интересами,
а просто легкомыслие, лишенное всякой основательности. Ширялова же,
у которого плутовство переходит всякие границы, он не одобряет больше
потому, что уж тот ни войны, ни мира не разбирает,— то во время
перемирия стрелять начнет, то даже по своим ударит. «Это,— говорит Пуза-
7*
100
Я. А. Добролюбов
тов,— словно жид какой: отца родного обманет. Право. Так вот в глаза
и смотрит всякому. А ведь святошей прикидывается». Впрочем, и
неодобрение Пузатова нельзя в этом случае принимать серьезно: в самую
минуту его брани на Ширялова купец этот является к Антипу Антипычу в
гости. Антип Антипыч не только очень любезно принимает его, не только
внимательно слушает его рассказы о кутеже сына Сеньки, вынуждающем
старика самого жениться, и о собственных плутовских штуках Ширялова,
но в заключение еще сватает за него сестру свою, и тут же, без согласия
и без ведома Марьи Антиповны. окончательно слаживает дело. Что его
побудило к этому? Ответ высказывается в нескольких словах,
произносимых им по уходе Ширялова. «Экой вор мужик-то»,— сам с собою
рассуждает Пузатов, подмигивая глазом: «Тонкая бестия! Ведь каким лазарем
прикинется! Вишь ты, Сенька виноват!.. А уж что, брат, толковать: просто
на старости блажь пришла... Что ж, мы с нашим удовольствием! Ничего,
можно-с!.. Только, Парамон Ферапонтыч, насчет приданого-то кто кого
обманет,— дело темное-с. Мы тоже с матушкой на свою руку охулки не
положим»... Дело, стало быть, очень просто: представилась возможность
выгодно сбыть сестру,— как же не воспользоваться случаем? Для сестры
же тут доброе дело выходит: все-таки будет пристроена!..
Таковы люди, таковы людские отношения, представляющиеся нам в
«Семейной картине», первом, по времени, произведении Островского.
В нем уже находятся задатки многого, что полнее и ярче раскрылось в
последующих комедиях. По крайней мере видно, что уже и в это время
автор был поражен тем неприязненным и мрачным характером, каким у нас
большею частию отличаются отношения самых близких между собою
людей. Здесь же намечены отчасти и причины этой мрачности и
враждебности: бессмысленное самодурство одних и робкая уклончивость,
бездеятельность других. Тут же чрезвычайно ярко и рельефно выставлены и
последствия такого неестественного порядка вещей — всеобщий обман и
мошенничество и в семейных и в общественных делах.-
В «Своих людях» мы видим опять ту же религию лицемерства и
мошенничества, то же бессмыслие и самодурство одних и ту же обманчивую
покорность, рабскую хитрость других, но только в большем разветвлении.
Здесь нам представляется несколько степеней угнетения, указывается
некоторая система в распределении самодурства, дается очерк его истории.
Самый главный самодур, деспот всех к нему близких, не знающих себе
никакого удержу, есть Самсон Силыч Болыпов. И какой же страх он
внушает всему дому! Аграфена Кондратьевна, жена его, грозит своей
взрослой дочери, что «отцу пожалуется»; а та отвечает: «Вас на то бог и
создал, чтобы жаловаться; сами-то вы не очень для меня значительны». На
вторичную угрозу она огрызается еще резче: «Только и ладит, что отца да
отца; бойки вы при нем разговаривать-то, а попробуйте-ка сами!» Видно,
что Самсон Силыч и для жены и для дочери представляется чем-то вро-
Темное царство
101
де пугалы, и они обе хотя и стращают им друг друга, но составляют
против него глухую, затаенную, само собою образовавшуюся оппозицию.
Аграфена Кондратьевна, по своей крайней недальности, не может сама
привести в ясность своих чувств и только охами да вздохами выражает,
что ей тяжело. Но Липочка очень бесцеремонно говорит: «У маменьки
семь пятниц на неделе; тятенька — как не пьян, так молчит, а как пьян,
так прибьет, того и гляди... Каково это терпеть образованной барышне!»
Служащие в доме все насквозь пропитаны теми же мрачно-робкими
чувствами: мальчик Тишка жалуется на вытрепки, получаемые им от
хозяина; кухарка Фоминишна имеет следующий разговор с Устиньей Наумовной,
свахой, приискивающей жениха Липочке, дочери Болыпова:
Устинья Наумовна. Садись, Фоминишна,— ноги-то старые, ломаные.
Фоминишна. И, мать! Некогда. Ведь какой грех-то: сам-то что-то из городу
не едет, все под страхом ходим; того и гляди пьяный приедет. А уж какой благой-то,
господи! зародится же ведь этакой озорник!
Устинья Наумовна. Известное дело: с богатым мужиком, что с чертом, не
скоро сообразишь.
Фоминишна. Уж мы от него страсти-то видели. Вот на прошлой неделе
ночью пьяный приехал: развоевался так, что на-поди. Страсти, да и только! Посуду
колотит... «У! — говорит,— такие вы и этакие, убью сразу».
И действительно, Самсон Силыч держит всех, можно сказать, в страхе
божием. Когда он показывается, все смотрят ему в глаза и с трепетом
стараются угадать,— что, каков он? Вот небольшая сцена, из которой
видно, какой трепет от него распространяется по всему дому. В комнату
вбегает Фоминишна и кричит:
Фоминишна. Самсон Силыч приехал, да никак хмельной!
Тишка. Фю! попались!
Фоминишна. Беги, Тишка, за Лазарем; голубчик, беги скорей!..
Аграфена Кондратьевна (показывается на лестнице). Что, Фоминишна,
матушка, куда он идет-то?
Фоминишна. Да никак, матушка, сюда! Ох, запру я двери-то, ей-богу, запру;
пускай его кверху идет, а уж ты, голубушка, здесь посиди.
И, к довершению всего, оказывается ведь, что Самсон Силыч вовсе и
не пьян; это так только показалось Фоминишне. Но замечательно, как
смешивает все понятия, уничтожает все различия этот над всеми без
разбора тяготеющий деспотизм: мать, дочь, кухарка, хозяйка, мальчишка
слуга, приказчик — все это в трудную минуту сливается в одно — в
угнетенную партию, заботящуюся о своей запщте. Фоминишна, которая в
другое время бьет Тишку и помыкает им, упрашивает его и называет
голубчиком; Аграфена Кондратьевна с жалобным видом обращается к своей
кухарке с вопросом: «Что, Фоминишна, матушка»... Фоминишна смотрит
на нее с состраданием и готовится оказать ей покровительство запором
102
В. А. Добролюбов
дверей... Только приказчик Лазарь Подхалюзин, связанный каким-то
темным неусловленным союзом с своим хозяином и готовящийся сам быть
маленьким деспотом, стоит несколько в стороне от этого страха,
разделяемого всяким, кто вступает в дом Болыпова. В Подхалюзине нам
является другая, низшая инстанция самодурства, подавленного до сих пор
под тяжелым гнетом, но уже начинающего поднимать свою голову...
Рассуждая с Подхалюзиным, сваха говорит ему: «Ведь ты сам знаешь,
каково у нас чадочко Самсон-то Силыч; ведь он, не ровен час, и чепчик
помнет». А Подхалюзин самоуверенно отвечает: «Ничего не помнет-с».
В ответе Тишке, который грозит пожаловаться хозяину на подзатыльники
Лазаря, он еще решительнее: «Хозяину скажу! Что мне твой хозяин!
Я, коли на то пошло...» —начинает он, но не договаривает. Видно, что и
он таки не забыл еще, каково чадочко Самсон Силыч. Впрочем, и
Подхалюзин так куражится уже тогда, когда в его руках вся механика,
подведенная Болыповым для объявления себя банкротом. Он чувствует себя
в положении человека, успевшего толкнуть своего тюремщика за ту дверь,
из-за которой сам успел выскочить. Но у тюремщика остались ключи от
ворот острога: надо их еще вытребовать, и потому Подхалюзин, чувствуя
себя уже не в тюрьме, но зная, что он еще и не совсем на свободе,
беспрестанно переходит от самодовольной радости к беспокойству и мешает
наглость с раболепством. Он уже получил дом и лавки Болыпова; нужно
ему окончательно овладеть имением старика, да еще и жениться на его
дочери, которая пришлась ему очень по нраву. Успех своих надежд
Подхалюзин основывает именно на самодурстве Болыпова. Не употребляя
долгих исканий и не делая особенно злостных планов, он только
подбивает сваху отговорить прежнего жениха Липочки, из благородных, а сам
подделывается к Болыпову раболепным тоном и выражением своего
участия к нему. Предварительные соображения его очень нехитры. Он говорит
сам себе: «А знавши-то характер Самсона Силыча, каков он есть, это
и очень может случиться. У них такое заведение: коли им что попало в
голову, уж ничем не выбьешь оттедова. Все равно как в четвертом году
захотели бороду обрить: сколько ни просили Аграфена Кондратьевна,
сколько ни плакали,— нет, говорит, после опять отпущу, а теперь поставлю на
своем: взяли да и обрили. Так вот и это дело: потрафь я по них, или так
взойди им в голову — завтра же под венец, и баста, и разговаривать не
смей». Ясно, что тут весь расчет очень немногосложен; весь он бьет на
деспотический характер Болыпова. Тут, разумеется, хитрости особенной и
не может быть, потому что и всякому дураку закон не писан, а самодуру —
и подавно, следовательно с ним ничего не сообразишь, по выражению Ус-
тиньи Наумовны. Подхалюзин так и знает, что он идет на авось.
«Потрафь,— говорит,— я по них, или так взойди им в голову» — оба шанса
равно вероятны и равно невероятны. А что касается до потрафленъя, так
тут опять немного нужно соображенья: ври о своей покорности, благодар-
Темное царство
103
ности, о счастии служить такому человеку, о своем ничтожестве перед
ним,— больше ничего и не нужно для того, чтобы ублажить глупого
мужика деспотического характера. Из всех родов житейской
дипломатики — это самый низший, это не более, как расчет первого следующего хода
в шахматной игре. Болыпов поддается на эту нехитрую штуку, потому что
своевольные привычки давно уже отняли в нем всякую сообразительность,
лишили всякой возможности смотреть на вещи прямо и здраво. Себя
самого он ставит единственным законом и средоточием всего, до чего только
досягает его деятельность. В своем семействе это он выражает с
цинической грубостью. О дочери он говорит: «Мое детище: хочу — с кашей ем,
хочу — масло пахтаю». Оттого и выдача ее, против воли, замуж за Подха-
люзина представляется ему не более как занимательным опытом. «А вот
ты заходи-ка ужо к невесте,— говорит он Лазарю,— мы над ними шутку
подшутим». Шутка эта состоит в том, что он внезапно объявляет жене и
дочери, что Лазарь — жених Липочки. Все растерялись: и мать, и сваха, и
Фоминишна, и сама невеста, которая, впрочем, как образованная, нашла
в себе силы выразить решительное сопротивление и закричать: «Не хочу,
не хочу, не пойду я за такого противного». Разумеется, из этого
сопротивления ничего не может выйти: Самсона Силыча не уломаешь. А тут
еще Подхалюзин поджигает его, коварно говоря: «Видно, тятенька, не бы-
вать-с по вашему желанию». Этих слов достаточно, чтоб Болыпов
насильно соединил руки жениха и невесты и возразил таким манером: «Как же
не бывать, коли я того хочу? На что ж я и отец, коли не приказывать?
Даром, что ли, я ее кормил»? Как видите, Болыпов из отцовских
обязанностей признает только одну: давать приказания детям. А что он кормил
дочь, так это уж благодеяние, за которое она должна ему отплатить
полным отречением от своей воли. Точно таков же он и во всей своей
деятельности. Он сам замечает, например, что Подхалюзин мошенник; но ему
до этого дела нет, потому что Подхалюзин его приказчик и об его пользе
старается. Без малейшей застенчивости он упрекает его в
неблагодарности, указывая на такие факты: «Вспомни то, Лазарь, сколько раз я
замечал, что ты на руку не чист: что ж? Я ведь не прогнал тебя, не ославил
тебя на весь город. Я тебя сделал главным приказчиком, тебе я все свое
состояние отдал, да тебе же, Лазарь, я отдал и дочь-то своими руками».
И все это в той надежде, что Лазарь будет славно мошенничать и
наживать деньги от всех, кроме, разумеется, самого Болыпова. То же самое
и с Рисположенским, пьяным приказным, занимающимся кляузами и
делающим кое-что по делам Болыпова: Самсон Силыч подсмеивается над
тем, как его из суда выгнали, и очень сурово решает, что его надобно
бы в Камчатку сослать. На вопрос Рисположенского: «За что же в
Камчатку?» Болыпов отрезывает: «За что! За безобразие! Так неужели ж вам
потакать?» Но такой строгий взгляд на деятельность выгнанного из
службы чиновника нисколько не мешает Самсону Силычу требо-
104
H. A. Добролюбов
вать его услуг в деле замышленного им злостного банкротства.
Болыпов как будто считает себя совершенно вне тех нравственных
правил, которые признает обязательными для других. Это странное
явление (столь частое, однако же, в нашем обществе) происходит оттого,
что Болыпов не понимает истинных начал общественного союза, не
признает круговой поруки прав и обязанностей человека в отношении к
другим и, подобно Пузатову, смотрит на общество, как на вражеский стан.
«Мне бы самому как-нибудь получше устроиться; а там, кто от кого
пострадает или прибыль получит, мне до этого дела нет; коли пострадает,
так сам виноват: оплошал, стало быть». На таких соображениях
держатся все думы Болыпова, такими соображениями был он подвигнут и на то,
чтобы объявить себя несостоятельным. Островского упрекали в том, что
он не довольно полно и ясно выразил в своей комедии, каким образом,
вследствие каких особенных влияний, в какой последовательности и в
каком соответствии с общими чертами характера Болыпова явилось в нем
намерение объявить себя банкротом. «Злостное банкротство,— говорили
критики,— есть такое преступление, которое ужаснее простого обмана,
воровства и убийства. Оно соединяет в себе эти три рода преступлений;
но оно еще ужаснее потому, что совершается обдуманно, подготовляется
очень долго, требует много коварного терпения и самого нахального
присутствия духа. Решиться на такое преступление может человек только
при ложных убеждениях или вследствие каких-нибудь особенно
неблагоприятных нравственных влияний. У Островского не только ничего этого
не показано, но даже выставлено банкротство Болыпова просто как
прихоть, состоящая в том, что ему не хочется платить денег» 38. Все
подобные соображения, будучи вполне верны в теоретическом отношении,
оказываются, однако же, совершенно неприложимыми к русской жизни.
В том-то и дело, что наша жизнь вовсе не способствует выработке каких-
нибудь убеждений, а если у кого они и заведутся, то не дает применять
их. Одно только убеждение процветает в нашем обществе — это
убеждение в том, что не нужно иметь (или по крайней мере обнаруживать)
нравственных убеждений. Но такое-то убеждение и у Самсона Силыча
есть, хотя оно и не совершенно ясно в его сознании: вследствие этого-то
убеждения он и ласкает Лазаря, и ведет дело с Рисположенским, и
решается на объявление себя несостоятельным. Вообще надобно сказать, что
только с помощью этого убеждения и поддерживается некоторая жизнь
в нашем «темном царстве»: через него здесь и карьеры делаются, и
выгодные партии составляются, и капиталы наживаются, и общее уважение
приобретается. Не будь развито это единственное убеждение в «темном
царстве», в нем все бы остановилось, заснуло и замерло. Конечно, и
люди с твердыми нравственными принципами, с честными и святыми
убеждениями тоже есть в этом царстве; но, к сожалению, это все люди
обломовского типа. Они и убеждения-то свои приобрели не в практической де-
Темное царство
105
ятельности, не в борьбе с житейской неправдой, а в чтении хороших
книжек, горячих разговорах с друзьями, восторженных клятвах пред
женщинами да в благородных мечтаниях на своем диване. Удалось людям не
быть втянутыми с малолетства в практическую деятельность,— и
осталось им много свободного времени на обдумыванье своих отношений к
миру и нравственных начал для своих поступков! Стоя в стороне от
практической сферы, додумались они до прекрасных вещей; но зато
так и остались негодными для настоящего дела и оказались
совершенно ничтожными, когда пришлось им столкнуться кое с чем и с кое
кем в «темном царстве». Сначала их было и побаивались, когда они
являлись с лорнетом Онегина, в мрачном плаще Печорина, с восторженной
речью Рудина; но потом поняли, что это все Обломовы и что если они могут
быть страшны для некоторых барышень, то, во всяком случае, для
практических деятелей никак не могут быть опасны. Так они и остались вне
жизни, эти люди честных стремлений и самостоятельных убеждений
(нередко, впрочем, на деле изменявшие им вследствие своей непрактичности).
И если нельзя сказать, чтобы они остались чисты, как голуби, в своих
столкновениях с окружавшими их хищными птицами, то по крайней мере
можно сказать утвердительно, что они оказались бессильны, как
голуби39. Что же касается до тех из обитателей «темного царства», которые
имели силу и привычку к делу, так они все с самого первого шага
вступали на такую дорожку, которая никак уж не могла привести к чистым
нравственным убеждениям. Работающему человеку никогда здесь не было
мирной, свободной и общеполезной деятельности; едва успевши
осмотреться, он уже чувствовал, что очутился каким-то образом в
неприятельском стане и должен, для спасения своего существования, как-нибудь
надуть своих врагов, прикинувшись хоть добровольным переметчиком. А там
начинаются хитрости, как бы обмануть бдительность неприятелей и
спастись от них; а ежели и это удастся, придумываются неприязненные
действия против них, частию в отмщение, частию же для ограждения
себя от новой опасности. Где же тут развиться правильным понятиям об
отношениях людей друг ко другу? Где тут воспитаться уважению
человеческого достоинства? Здесь все в ответе за какую-то чужую
несправедливость, все делают мне пакости за то, в чем я вовсе не виноват, и от
всех я должен отбиваться, даже вовсе не имея желания побить
кого-нибудь. Поневоле человек делается неразборчив и начинает бить кого
попало, не теряя даже сознания, что, в сущности-то, никого бы не следовало
бить. Невольно повторишь опять сравнение жизни «темного царства» с
ожесточенною войною. На войне ведь не беда, если солдат убьет ^такого
неприятеля, который ни одного выстрела не послал в наш стан: он
подвернулся под пулю — и довольно. Солдата-убийцу не будет совесть мучить.
Так точно, что за беда, если купец обманул честнейшего человека,
который никому в жизни ни малейшего зла не сделал. Довольно того, что он.
106
H. A. Добролюбов
покупает товар; и торговля все равно что война: не обмануть — не
продать!.. Приложите то же самое к помещику, к чиновнику «темного
царства», к кому хотите,— выйдет все то же: все в военном положении, и
никого совесть не мучит за обман и присвоение чужого оттого именно, что ни
у кого нет нравственных убеждений, а все живут сообразно с
обстоятельствами.
Таким образом, мы находим глубоко верную, характеристически
русскую черту в том, что Болыпов в своем злостном банкротстве не следует
никаким особенным убеждениям и не испытывает глубокой душевной
борьбы, кроме страха, как бы не попасться под уголовный... Нам в
отвлечении кажутся все преступления чем-то слишком ужасным и
необычайным; но в частных случаях они большею частию совершаются очень
легко и объясняются чрезвычайно просто. По уголовному суду человек
оказался и грабителем и убийцею; кажется, должен бы быть изверг естества.
А посмотришь,— он вовсе не изверг, а человек очень обыкновенный и
даже добродушный. И никаких у него убеждений нет о похвальности
грабежа и убийства, и преступления свои совершил он без тяжкой и
продолжительной борьбы с самим собой, а просто так, случайно, сам
хорошенько не сознавал, что он делал. Поговорите с людьми, видавшими много
преступников; они вам подтвердят, что это сплошь да рядом так бывает.
Отчего происходит такое явление? Оттого, что всякое преступление есть
не следствие натуры человека, а следствие ненормального отношения, в
какое он поставлен к обществу. И чем эта ненормальность сильнее, тем
чаще совершаются преступления даже натурами порядочными,
тем менее обдуманности и систематичности и более случайности, почти
бессознательности, в преступлении. В «темном царстве», рассматриваемом
нами, ненормальность общественных отношений доходит до высших своих
пределов, и потому очень понятно, что его обитатели теряют решительно
всякий смысл в нравственных вопросах. В преступлении они понимают
только внешнюю, юридическую его сторону, которую справедливо
презирают, если могут как-нибудь обойти. Внутренняя же сторона,
последствия совершаемого преступления для других людей и для общества —
вовсе им не представляются. Замышляя злостное банкротство, Болыпов и не
думает о том, что может повредить благосостоянию заимодавцев и,
может быть, пустит несколько человек по миру. Это ему не приходит в
голову даже и тогда, как уж его в яму посадили. Он толкует, что ему
страшно на Иверскую взглянуть, проходя мимо Иверских ворот, жалуется, что
на него мальчишки пальцами показывают, боится, что в Сибирь его
сошлют; но о людях, разоренных им,— ни слова. Мудрено ли же, что он так
легко решается на преступление, которого существеннейшая-то мерзость
ему и непонятна! Он видит только, что «другие же делают». И это для
него не оправдательная фраза, не пример только, как утверждал один
строгий критик Островского. Нет, тут исходная точка, из которой выво-
Темное царство
107
дится вся мораль Болыпова. Он видит, что другие банкрутятся,
зажиливают его деньги, а потом строят себе на них дома с бельведерами да
заводят удивительные экипажи: у него сейчас и прилагается здесь общее
соображение: «Чтобы меня не обыграли, так я должен стараться других
обыграть». И уж тут нужды нет, что кредиторы Болыпова не банкрути-
лись и не делали ему подрыва: все равно, с кого бы ни пришлось,
только бы сорвать свою выгоду. Тут, как и в сражении, разбирать
личности нечего. Вот кабы никто не обманывал, т. е. кабы войны не было,
тогда и Самсон Силыч жил бьх мирно и честно, никого не надувал. А то
как же ему-то вести себя, когда все кругом мошенничают? И кому какая
будет польза от его честности? Не он, так другие надуют, все
единственно. Вот разговор Болыпова с Подхалюзиным на этот счет:
Б о л ь ш о в. Вот ты бы, Лазарь, когда на досуге баланц для меня сделал, учел
бы розничную по панской-то части, ну, и остальное, что там еще. А то торгуем,
торгуем, братец, а пользы ни на грош. Али сидельцы, что ли, грешат, таскают родным да
любовницам; их бы маленечко усовещивать. Что так, без барыша-то, небо коптить?
Аль сноровки не знают? Пора бы, кажется.
Подхалюзин. Как же это можно, Самсон Силыч, чтобы сноровки не знать?
Кажется, сам завсегда в городе бываешь и завсегда толкуешь им-с.
Болыпов. Да что же ты толкуешь-то?
Подхалюзин. Известное дело-с, стараюсь, чтобы все было в порядке и как
следует-с. Вы, говорю, ребята, не зевайте: видишь, чуть дело подходящее: покупатель,
что ли, тумак навернулся, али цвет с узором какой барышне понравился,— взял,
говорю, да и накинул рубль али два на аршин.
Б о л ь ш о в. Чай, брат, знаешь, как немцы в магазинах наших бар обирают.
Положим, что мы — не немцы, а христиане православные, да тоже пироги-то с начинкой
едим. Так ли, а?
Подхалюзин. Дело понятное-с. И мерять-то, говорю, надо тоже
поестественнее, тяни да потягивай, только чтоб, боже сохрани, как не лопнуло; ведь не нам,
говорю, после носить. Ну. а зазеваются, так никто не виноват,— можно, говорю, и
просто через руку лишний аршин шмыгнуть.
Болыпов. Все единственно: ведь портной украдет же. Эх, Лазарь, плохи нонче
барыши: не прежние времена.
Ясное дело: вся мораль Самсона Силыча основана на правиле: чем
другим красть, так лучше я украду. Правило это, может быть, не имеет
драматического интереса,— это уж как там угодно критикам; но оно
имеет чрезвычайно обширное приложение во многих сферах нашей жизни. По
этому правилу иной берет взятку и кривит душой, думая: все равно,—
не я, так другой возьмет, и тоже решит криво. Другой держит свои
помещичьи права, рассчитывая: все равно,— ведь если не мой
управляющий, то окружной станет стеснять моих крестьян. Иной подличает перед
начальником, соображая: все равно,— ведь если не меня, так он другого
найдет для себя, а я только места лишусь. Словом — куда ни
обернитесь, везде вы встретите людей, действующих по этому правилу: тот
принимает у себя негодяя, другой обирает богатого простяка, третий сочи-
108
H. A. Добролюбов
няет донос, четвертый соблазняет девушку,— все на основании того же
милого соображения: «не я, так другой». Кажется ясно, что здесь такое
соображение совсем не имеет значения примера... Оно есть не что иное,
как выражение самого грубого и отвратительного эгоизма, при
совершенном отсутствии каких-нибудь высших нравственных начал.
Следуя внушениям этого эгоизма, и Болыпов задумывает свое
банкротство. И его эгоизм еще имеет для себя извинение в этом случае:
он не только видел, как другие наживаются банкротством, но и сам
потерпел некоторое расстройство в делах, именно от несостоятельности
многих должников своих. Он с горечью говорит об этом Подхалюзину:
Вот ты и знай, Лазарь, какова торговля-то! Ты думаешь что! Так вот даром и
бери деньги. Как не деньги, скажет,— видал, как лягушки прыгают. На-ка, говорит,
вексель. А по векселю-то с иного что возьмешь, коли с него взять-то нечего! У меня
таких-то векселей тысяч на сто, и с протестами, только и дела, что каждый год под-
кладывай. Хошь, за полтину серебра все отдам! Должников-то по ним, чай, и с
собаками не сыщешь: которые повымерли, а которые поразбежались,— некого и в яму
посадить. А и посадишь-то, Лазарь, так сам не рад: другой так обдержится, что его
оттедова куревом не выкуришь. Мне, говорит, и здесь хорошо, а ты проваливай.
Огражденный такими рассуждениями, Болыпов считает себя
совершенно вправе сыграть с кредиторами маленькую штуку. Сначала в нем
является только неопределенное желание — увернуться как-нибудь от
платежа денег,— их же пришлось много платить в одно время. Он
придумывает только, «какую бы тут механику подсмолить»; но этого ни он
сам, ни его советник Рисположенский не знают еще хорошенько. На
вопрос Болыпова Рисположенский отвечает: «...а там, глядя по
обстоятельствам». Но тут же они придумывают — заставить кредиторов пойти на
сделку,— предложить всем 25 коп. за рубль, если же кто заартачится, так
прибавить, а то, пожалуй, и все заплатить. Болыпов говорит: «Это
точно,— поторговаться не мешает: не возьмут по двадцати пяти, так
полтину возьмут; а если полтины не возьмут, так за семь гривен обеими
руками ухватятся. Все-таки барыш. Там что хошь говори, а у меня дочь
невеста, хоть сейчас из полы в полу да с двора долой. Да и самому-то,
братец мы мой, отдохнуть пора: прохлаждались бы мы, лежа на боку,
и торговлю всю эту к черту». Вы видите, что решение Болыпова очень
добродушно и вовсе не обнаруживает сильной злодейской натуры:
он хочет кое-что, по силе возможности, вытянуть из кредиторов
в тех видах, что у него дочь невеста, да и самому ему покой
нужен... Что же тут особенно ужасного, отчего бы Болыпов должен был
необычайное волнение душевное испытывать? Он смотрит на свой новый
замысел, как на один из тех обманов, которых немало довелось ему
совершить на своем веку и которые для него находятся решительно в
порядке вещей. Его одно только и смущает несколько—то, что ему,
пожалуй, не удастся чистенько обделать свою операцию. Этого он отчасти
Темное царство
109
трусит и потому все хочет устроить с кредиторами сделку, заплативши им
по двадцати пяти копеек. Но Подхалюзин говорит ему: «А уж по мне,
Самсон Силыч, коли платить по двадцати пяти, так пристойнее совсем не
платить»,— и Болыпов, без всяких возражений, очень легко соглашается.
«А что,— говорит он: — ведь и правда, храбростью-то никого не
удивишь,— а лучше тихим-то манером дельце обделать. Там, после, судивла-
дыко на втором пришествии. Хлопот-то только куча». И ни слова, ни
намека на безнравственность задуманного дела в отношении к заимодавцам
Болыпова. Только о «суде владычнем» вспоминает он; но и это так,
больше для формы: «второе пришествие» играет здесь роль не более той,
какую дает Болыпов и «милосердию божию» в известной фразе своей:
«Бонапарт Бонапартом, а мы пуще всего надеемся на милосердие божие, да и
не о том теперь речь». Именно,— не о том теперь речь: Болыпова
занимает не суд на втором пришествии, который еще когда-то будет, а
предстоящие хлопоты по делу. Хлопоты эти очень смущают его: они вовсе не в его
натуре. Надуть разом, с рывка, хотя бы и самым бессовестным образом,—
это ему ничего; но думать, соображать, подготовлять обман долгое время,
подводить всю эту механику— на такую хроническую бессовестность его
не станет, и не станет вовсе не потому, чтобы в нем мало было
бессовестности и лукавства,— то и другое-находится в нем с избытком,— а просто
потому, что он не привык серьезно думать о чем-нибудь. Он сам это
сознает и в горькую минуту даже высказывает Рисположенскому: «То-то вот
и беда, что наш брат, купец, дурак,— ничего он не понимает, а таким
пиявкам, как ты, это и на руку». Можно сказать даже, что и все
самодурство Болыпова происходит от непривычки к самобытной и
сознательной деятельности, к которой, однако же, он имеет стремление, при
несомненной силе природной сметливости. Мы не видим из комедии, как рос и
воспитывался Болыпов, какие влияния на него действовали смолоду; но
для нас ясно, что он воспитывался под влияниями, тоже не
благоприятными для здорового, самостоятельного развития. В его действиях
постоянно проглядывает отсутствие своего ума; видно, что он не привык сам
разумно себя возбуждать к деятельности и давать себе отчет в своих
поступках. А между тем его теперешнее положение, да и самая натура его,
не сломившаяся окончательно под гнетом, а сохранившая в себе дух
противоречия, требует теперь самобытности, которая и выражается в
упрямстве и произволе. Известно, что упрямство есть признак
бесхарактерности; точно так и самодурство есть верное доказательство
внутреннего бессилия и холопства. Самодур все силится доказать, что ему никто
не указ и что он — 4iô захочет, то и сделает; между тем человек
действительно независимый и сильный душою никогда не захочет этого
доказывать: он употребляет силу своего характера только там, где это
нужно, не растрачивая ее, в виде опыта, на нелепые затеи. Болыпов с
услаждением все повторяет, что он волен делать, что хочет, и никто ему
HO
H. A. Добролюбов
не указ: как будто он сам все еще не решается верить этому... Видно,
что его, может быть, от природы и не слабую личность сильно подавили
в свое время и отняли-таки у него значительную долю природной силы
души. Оттого, и вышедши на свою волю, он не умеет управлять собою.
Он самодурствует и кажется страшен, но это только потому, что ни с
какой стороны ему нет отпора; борьбы он не выдержит... Эта черта очень
ясно представлена Островским в другой его комедии, а потому мы еще
возвратимся к ней. Но она заметна и в Болынове, который, даже решаясь на
такой шаг, как злостное банкротство, не только старается свалить с себя
хлопоты, но просто сам не знает, что он делает, отступается от своей
выгоды и даже отказывается от своей воли в этом деле, сваливая все на
судьбу. Подхалюзин и Рисположенский, снюхавшись между собою, под-
строивают так, что вместо сделки с кредиторами Болыпов решается на
объявление себя несостоятельным. Но Подхалюзин для виду отговаривает
его от такого поступка. Что же отвечает Болыпов? Он входит в азарт и
говорит: «Что ж, деньги заплатить? Да с чего же ты это взял? Да я
лучше все огнем сожгу, а уж им ни копейки не дам. Перевози товар,
продавай векселя; пусть тащут, воруют, кто хочет, а уж я им не
плательщик». Подхалюзин сожалеет, что «заведение у нас было
превосходное, а теперь все должно в расстройство прийти»; а Болыпов кричит: «А
тебе что за дело? не твое было... Ты старайся только,— от меня забыт не
будешь». Что обуяло его? Подумаешь, что это взрыв сильной натуры, что
уж это такая непреклонная воля... Но, во-первых, что же возбудило в нем
такую решимость, противную его собственной выгоде, и почему воля его
выражается только в криках с Подхалюзиным, а не в деятельном участии
в хлопотах? Во-вторых,— сам Болыпов вскоре отказывается от своей воли.
Когда Подхалюзин толкует ему, что может случиться «грех какой», что,
пожалуй, и имение отнимут, и его самого по судам затаскают, Болыпов
отвечает: «Что ж делать-то, братец; уж знать, такая воля божия, протпв
ее не пойдешь». Подхалюзин отвечает: «Это точно-с, Самсон Силыч», но,
в сущности, оно не «точно», а очень нелепо. Болыпов не только хочет
свалить с себя всякую нравственную ответственность, но даже старается
не думать о том, что затевает. Принятое решение засело в его голове
крепко, но как-то не связалось ни с чем в его мыслях и понятиях и
осталось для него чужим и мертвым. Он даже старается уверить, что это
не он, собственно, решил, а что «такова уж воля божия: против ее не
пойдешь». Эта черта, чрезвычайно распространенная в нашем обществе,
и у Островского она подмечена весьма тонко и верно. Она одна говорит
нам очень многое и рисует характер Болыпова лучше, чем могли бы
обрисовать его несколько длинных монологов. Эта темнота разумения,
отвращение от мышления, бессилие воли пред всяким рискованным шагом,
порождающая этот тупоумный, отчаянный фатализм и самодурство,
противное даже личной выгоде, все это чрезвычайно рельефно выдается в
Темное царство
111
Болыпове и очень легко объясняет отдачу им имения своему приказчику
и зятю Подхалюзину—поступок, в котором иные критики хотели видеть
непонятный порыв великодушия и подражание королю Лиру 40. В
поступке Болыпова действительно есть внешнее сходство с поступком Лира, но
именно настолько, насколько может комическое явление походить на
трагическое. Лир представляется нам также жертвой уродливого развития;
поступок его, полный гордого сознания, что он сам, сам по себе велик, а
не по власти, которую держит в своих руках, поступок этот тоже служит
к наказанию его надменного деспотизма. Но если мы вздумаем сравнивать
Лира с Болыповым, то найдем, что один из них с ног до головы король
британский, а другой — русский купец; в одном все грандиозно и
роскошно, в другом все хило, мелко, все рассчитано на медные деньги.
В Лире действительно сильная натура, и общее раболепство пред ним
только развивает ее односторонним образом — не на великие дела любви и
общей пользы, а единственно на удовлетворение собственных, личных
прихотей. Это совершенно понятно в человеке, который привык считать себя
источником всякой радости и горя, началом и концом всякой жизни в его
царстве. Тут, при внешнем просторе действий, при легкости исполнения
всех желаний, не в чем высказываться его душевной силе. Но вот его
самообожание выходит из всяких пределов здравого смысла: он переносит
прямо на свою личность весь тот блеск, все то уважение, которым
пользовался за свой сан, он решается сбросить с себя власть, уверенный,
что и после того люди не перестанут трепетать его. Это безумное
убеждение заставляет его отдать свое царство дочерям и чрез то, из своего
варварски-бессмысленного положения, перейти в простое звание
обыкновенного человека и испытать все горести, соединенные с человеческою
жизнию. Тут-то, в борьбе, начинающейся вслед за тем, и раскрываются
все лучшие стороны его души; тут-то мы видим, что он доступен и
великодушию, и нежности, и состраданию о несчастных, и самой гуманной
справедливости. Сила его характера выражается не только в проклятиях
дочерям, но и в сознании своей вины пред Корделиею, и в сожалении о
своем крутом нраве, и в раскаянии, что он так мало думал о
несчастных бедняках, так мало любил истинную честность. Оттого-то Лир и
имеет такое глубокое значение. Смотря на него, мы сначала чувствуем
ненависть к этому беспутному деспоту; но, следя за развитием драмы, все
более примиряемся с ним как с человеком и оканчиваем тем, что
исполняемся негодованием и жгучею злобой уже не к нему, а за него и за
целый мир— к тому дикому, нечеловеческому положению, которое может
доводить до такого беспутства даже людей, подобных Лиру. Не знаем,
как на других, но по крайней мере на нас «Король Лир» постоянно
производил такое впечатление.
В одной из критик уверяли, что и Островский хотел своего Болыпова
возвысить до подобного же трагизма и, собственно, для этого вывел Сам-
112
H. A. Добролюбов
€она Силыча из ямы, в четвертом акте, и заставил его упрашивать дочь
и зятя об уплате за него 25 копеек кредиторам. Такое суждение
обнаруживает полное непонимание не только Шекспира и Островского, но и
вообще нравственного свойства драматических положений. По нашему
мнению, в последнем акте Болыпов нисколько не возвышается в глазах
читателя и нисколько не теряет своего комического характера. В
последних сценах есть трагический элемент, но он участвует здесь чисто
внешним образом, так, как есть он, напр., и в появлении жандарма в
«Ревизоре»... Но в чем же здесь выразился тот внутренний трагизм, который
заставил бы страдать за Болыпова и примирил бы с его личностью? Где
следы той душевной борьбы, которая бы очистила и просветлила
заросшую тиной самодурства натуру Болыпова? Нет этих следов, да и не с тем
писана комедия, чтобы указать их; последний акт ее мы считаем только
последним мастерским штрихом, окончательно рисующим для нас натуру
Болыпова, которая была остановлена в своем естественном росте
враждебными подавляющими обстоятельствами и осталась равно бессильною
и ничтожною как при обстоятельствах, благоприятствовавших широкой
и самобытной деятельности, так и в напасти, опять ее скрутившей. Для
нас и в последнем акте Болыпов не перестает быть комичен: ни одного
светлого луча не проникло в эту темную душу после переворота,
навлеченного им самим на себя. Он нимало не сознает гадости своего поступка,
он не мучится внутренним стыдом; его терзает только стыд' внешний:
кредиторы таскают его по судам, и мальчишки на него показывают
пальцами. «Каково сидеть-то в яме (говорит он), каково по улице-то идти
с солдатом! Ведь меня сорок лет в городе-то все знают, сорок лет все в пояс
кланялись, а теперь мальчишки пальцами показывают». Вот что у него на
первом плане; а на втором является в его мыслях Иверская, но и то
ненадолго: воспоминание о ней тотчас сменяется у него опасением, чтобы
в Сибирь не угодить. Вот его слова: «А там, мимо Иверской: как мне
взглянуть на нее, матушку? Знаешь, Лазарь: Иуда, ведь он тоже Христа
за деньги продал, как мы совесть за деньги продаем... А что ему за это
было?.. Ведь я злостный, умышленный... Ведь меня в Сибирь сошлют.
Господи! Коли так не дадите денег, дайте Христа ради (плачет).»—Жаль,
что «Своих людей» не дают на театре: талантливый актер мог бы с
поразительной силой выставить весь комизм этого самодурного смешения
Иверской с Иудою, ссылки в Сибирь с христарадничеством... Комизм этой
тирады возвышается еще более предыдущим и дальнейшим разговором,
в котором Подхалюзин равнодушно и ласково отказывается платить за
Болыпова более десяти копеек, а Болыпов — то попрекает его
неблагодарностью, то грозит ему Сибирью, напоминая, что им обоим один конец,
то спрашивает его и дочь, есть ли в них христианство, то выражает
досаду на себя за то, что опростоволосился, и приводит пословицу:
«Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет»,—то, наконец, делает
Темное царство
ИЗ
юродивое обращение к дочери: «Ну, вот вы теперь будете богаты,
заживете по-барски; по гуляньям это, по балам,— дьявола тешить! А не
забудьте вы, Олимпиада Самсоновна, что есть клетки с железными
решетками, сидят там бедные заключенные... Не забудьте нас, бедных —
заключенных». По нашему мнению, вся эта сцена очень близко подходит к
той сцене в «Ревизоре», где городничий ругает купцов, что они не
помнят, как он им плутовать помогал. Только у Островского комические
черты проведены здесь несколько тоньше, и притом надо сознаться, что
внутренний комизм личности Вольтова несколько замаскировывается в
последнем акте несчастным его положением, из-за которого
проницательные критики и навязали Островскому такие идеи и цели, каких он,
вероятно, никогда и во сне не видел. Хороши должны быть
нравственные понятия критика, который полагает, что Болыпов в последнем акте
выведен автором для того, чтобы привлечь к нему сочувствие
зрителей... По нашему мнению, Вольтов к концу пьесы
оказывается пошлее и ничтожнее, нежели во все ее продолжение. Мы видим, что
даже несчастие и заключение в тюрьму нимало не образумило его, не
пробудило человеческих чувств, и справедливо заключаем, что, видно,
они уж навек в нем замерли, что так им уж и спать сном непробудным.
Он и теперь говорит, что 25 копеек отдать кредиторам — много, да что
уж делать-то, когда меньше не берут. «Потомят года полтора в яме-то, да
каждую неделю будут с солдатом по улицам водить, а еще, того гляди, в
острог переместят, так рад будешь и полтину дать». Не явно ли здесь
комическое бессилие этой натуры, не могущей ни решиться на смелый
шаг, ни выдержать продолжительной борьбы? Не явно ли и нравственное
ничтожество этого человека, у которого ни разу во всей пьесе не
проявлялось чувство законности и сознания долга? Мало этого: в его
грубой душе замерли даже чувства отца и мужа; это мы видели и в первых
актах пьесы, видим и в последнем. Горе жены ни мало не трогает его, а
возмутительная грубость дочери не оскорбляет отцовского чувства.
Олимпиада Самсоновна говорит ему: «Я у вас, тятенька, до двадцати лет
жила,— свету не видала, что же, мне прикажете отдать вам деньги, а
самой опять в ситцевых платьях ходить?» Болыпов не находит ничего
лучшего сказать на это, как только попрекнуть дочь и зятя невольным
благодеянием, которое он им сделал, передавши в их руки свое имение.
«Ведь я,— говорит,— у вас не милостыню прошу, а свое же добро».
Неужели и это отношение отца к дочери не комично? А мораль, которую
выводит для себя Болыпов из всей своей истории,— высший пункт, до
которого мог он подняться в своем нравственном развитии: «Не гонись за
большим, будь доволен тем, что есть; а за большим погонишься, и
последнее отнимут!» Какую степень нравственного достоинства указывают
нам эти слова! Человек, потерпевший от собственного злостного
банкротства, не находит в этом обстоятельстве другого нравственного урока,
8 Н. А. Добролюбов
114
H. A. Добролюбов
кроме сентенции, что «не нужно гнаться за большим, чтобы своего не
потерять!» И через минуту к этой сентенции он прибавляет сожаление,
что не умел ловко обделать дельце, приводит пословицу: «Сама себя раба
бьет, коль не чисто жнет». Как сильно выражается в этом
решительная бессмысленность и нравственное ничтожество этой натуры, которая
в начале пьесы могла еще кому-нибудь показаться сильною, судя по
тому страху, какой она внушает всем окружающим!.. И нашлись критики,
решившие, что последний акт «Своих людей» должен возбудить в
зрителях сочувствие к Болыпову! *
Но что же в самом деле дает нам это лицо комедии? Неужели смысл
его ограничивается тем, что «вот, дескать, посмотрите, какие бывают
плохие люди?» Нет, это было бы слишком мало для главного лица
серьезной комедии, слишком мало для таланта такого писателя, как
Островский. Нравственный смысл впечатления, какое выносишь из
внимательного рассмотрения характера Болыпова, гораздо глубже. Мы уже
имели случай заметить, что одна из отличительных черт таланта
Островского состоит в уменье заглянуть в самую глубь души человека и
* Решаемся привести еще выписку из курьезной статьи г. Н. П. Некрасова из
Москвы, помещенной в последнем № «Атенея» и отчасти объясняющей собою
недолговечность этого ученого журнала. «Спрашивается: к чему было Болыпову,
попавшему за свой обман в тюрьму, являться опять на сцену? Неужели автор хотел возбу-
дить сочувствие к нему, показывая, как в действительности бывает стыдно купцу
сидеть в яме? Но ведь всякий имеет полное право спросить: чем же Большое заслуг
жил сочувствие? К чему же вся эта плаксивая четвертая сцена в последнем
действии? Вероятно, к тому, чтобы показать почтеннейшей публике: «Смотрите, дес-
кать, как не подобает купцу обманывать: пожалуй, самого обманут еще хуже».
Какая прекрасная мысль, как велик ее нравственный принцип!..»
Критик, очевидно, недалеко ушел от самого Самсона Силыча в понимании
нравственных принципов и потому приведенные нами выше слова Болыпова: «Не
гонись за большим, чтоб последнего не потерять»,— принимает за основную идею
всей кьесы. Смешав таким образом понятия Болыпова с идеями самого автора
пьесы, критик начинает читать следующее наставление Островскому: «Чувствует ли
автор, как опасно подчинять искусство действительности? Замечает ли он, как
ничтожна нравственная сторона его произведения? Неужели истинно художественное
произведение может быть основано на таком житейском правиле: «Не обманывай,
чтобы не быть обманутым», или «Не рой другому яму,—сам в нее попадешь», или
еще ближе к нашей комедии — «Не обманывай, потому что обман не всегда
удается». В чем же спасено здесь нравственное достоинство человека? Осмеян ли по
крайней мере обман, как пошлая сторона природы человеческой? Нет... Комедия не
говорит, насколько обман (в каком бы образе он ни проявлялся) противен
нравственной природе человека, а говорит только, что купцы, несмотря на недостатки
наших законов о долгах, иногда попадаются в своем обмане, и их за это сажают
в тюрьму и потом отсылают в Сибирь. Да, нельзя не согласиться,— так
действительно бывает. Что ж за необходимость повторять это на сцене?..» И
непосредственно за наивным вопросом критик победоносно восклицает: «Так применил г.
Островский выбранное им действие к идее произведения!..»
Мы полагаем, что теперь, по прекращении «Атенея» 41, г. «Н. П. Некрасов из
Москвы» мог бы с успехом писать в «Орле» г. Балашевича 42г
Темное царство
115
подметить не только образ его мыслей и поведения, но самый процесс
его мышления, самое зарождение его желаний. Это самое уменье видим
мы и в обработке характера Болыпова и находим, что результатом
психических наблюдений автора оказалось чрезвычайно гуманное воззрение
на самые, по-видимому, мрачные явления жизни и глубокое чувство
уважения к нравственному достоинству человеческой натуры,— чувство,
которое сообщает он и своим читателям. В Болыпове, этом злостном
банкроте, мы не видим ничего злостного, чудовищного, ничего такого,
за что его следовало бы считать извергом. Автор сводит нас с
официальной юридической точки зрения и вводит в самую сущность
совершающегося факта, заставляет бесчестный замысел создаваться и расти
пред нашими глазами. И что же мы видим в истории этого замысла,
столь ужасного в юридическом смысле? Ни тени сатанинской злобы,
ни признака иезуитского коварства! Все так просто, добродушно, глупо!
Самсон Силыч — вовсе не порождение ада, а просто грубое животное,
в котором смолоду заглушены все симпатические стороны натуры и не
развиты никакие нравственные понятия. В его характере нет того, что
называют личной инициативой или свободным возбуждением себя к
деятельности; он живет так, как живется, не рассчитывая и не загадывая
много. Самодурствует он потому, что встречает в окружающих не твердый
отпор, а постоянную покорность; надувает и притесняет других потому,
что чувствует только, как это ему удобно, но не в состоянии
почувствовать, как тяжело это им; на банкротство решается он опять потому, что
не имеет ни малейшего представления об общественном значении такого
поступка. Самый закон является для него не представителем высшей
правды, а только внешним препятствием, камнем, который нужно убрать
с дороги. Самая совесть является у него не во внутреннем голосе, а в
насмешках прохожих, во взгляде на Иверскую, в опасении ссылки в
Сибирь. Короче,— в Болыпове вы видите ясно, что его преступная,
безобразная деятельность происходит именно оттого, что в нем не воспитан
человек. Он гадок для нас именно тем, что в нем видно почти полное
отсутствие человеческих элементов; и в то же время он пошл и смешон
искажением и тех зачатков человечности, какие были в его натуре.
Но эта самая гадость и пошлость, представленная следствием
неразвитости натуры, указывает нам необходимость правильного, свободного
развития и восстановляет пред нами достоинство человеческой природы,
убеждая нас, что низости и преступления не лежат в природе человека
и не могут быть уделом естественного развития.
Достижению этого же результата прекрасно содействует все развитие
пьесы и все остальные лица, группирующиеся около Болыпова. Во всей
пьесе нет никаких особенных махинаций, нет искусственного развития
действия, в угоду схоластическим теориям и в ущерб действительной
простоте и жизненности характеров. Все лица действуют в своем смысле
8*
116
В. А. Добролюбов
добросовестно, и ни одно не впадает в тон мелодрамного героя.
Достижению постыдной цели не служат здесь лучшие способности ума и
благороднейшие силы души в своем высшем развитии; напротив, вся пьеса ясно
показывает, что именно недостаток этого развития и доводит людей до
таких мерзостей. Во всех лицах заметно одно человеческое стремление —
высвободиться из самодурного гнета, под которым все выросли и живут.
Болъшов внешним образом избавился от него; но следы воспитания,
стесняющего мысль и волю, остались и в нем на всю жизнь и сделали его
бессмысленным деспотом. И до того заразителен этот нелепый порядок
жизни «темного царства», что каждая, самая придавленная личность, как
только освободится хоть немножко от чужого гнета, так и начинает сама
стремиться угнетать других. Эти дикие отношения проведены очень
искусно по всей комедии Островского; вот почему и сказали мы, что в ней
видим целую иерархию самодурства. В самом деле, Болынов
беспрекословно царит над всеми; Подхалюзин боится хозяина, но уж покрикивает
на Фоминишну и бьет Тишку; Аграфена Кондратьевна, простодушная и
даже глуповатая женщина, как огня боится мужа, но с Тишкой тоже
расправляется довольно энергически, да и на дочь прикрикивает, и если бы
сила была, так непременно бы сжала ее в ежовых рукавицах.
Посмотрите, как она расходилась, например, во второй сцене первого акта.—
«Али ты думаешь,— кричит она дочери,— что я не властна над тобою
приказывать? Говори, бестыжие твои глаза, с чего у тебй взгляд-то
такой завистливый? Что ты, прытче матери хочешь быть? У меня ведь
недолго: я и на кухню горшки парить пошлю. Ишь ты! А! Ах матушки
вы мои! Посконный сарафан сошью, да вот на голову тебе и надену».
Липочка огрызается, а Аграфена Кондратьевна повторяет: «Уступи
верх матери! словечко пикнешь, так язык ниже пяток пришью». Но
Липочка почерпает для себя силы душевные в сознании того, что она об-
разованная, и потому мало обращает внимания на мать и в распрях с ней
всегда остается победительницей: начнет ее попрекать, что она не так
воспитана, да расплачется, мать-то и струсит и примется сама же ублажать
обиженную дочку. Липочка явно обнаруживает наклонность к самому
грубому и возмутительному деспотизму. Она говорит матери: «Я вижу,
что я других образованнее; что ж мне, потакать вашим глупостям? как
же! Есть оказия!» А с Подхалюзиным, при помолвке, они уговариваются:
«Старики почудили на своем веку,— будет, теперь нам пора»... Один
только Тишка не обнаруживает еще никаких стремлений к
преобладанию, а, напротив, служит мишенью, в которую направляются
самодурные замашки целого дома. «У нас,— жалуется он,— коли не тот, так
другой, коли не сам, так сама задаст вытрепку; а то вот приказчик
Лазарь, а то вот Фоминишна, а то вот... всякая шваль над тобой
командует». Следы этого командованья с беспрестанными вытрепками уже
обнаруживаются в Типгке: он уже выучился мошенничать и воровать.
Темное царство
117
А когда наворует денег побольше, то и сам, конечно, примется
командовать так же беспутно и жестоко, как и им командовали. Его карьера очень
искусно обозначена Островским в немногих словах, произносимых Тиш-
кою в сцене, где он считает свои деньги, оставшись один... «Полтина
серебром — это Лазарь дал (за то, что за водкой сходил тихонько);
да намедни, как с колокольни упал, Аграфена Кондратьевна гривенник
дала; да четвертак в орлянку выиграл; да третьевось хозяин забыл на
прилавке целковый». Вот источники приобретения для Тишки: сбегать за
водкой, упасть с колокольни, выиграть, украсть. Какое нравственное
чувство разовьется в нем при такой жизни? Как он будет сочувствовать
страданиям других, когда его самого утешали гривенничками за то, что
он с колокольни упал! Ясно, что и из него со временем выйдет Подхалю-
зин... Такова уж почва этого «темного царства», что на ней других
продуктов не может вырасти!
Но что такое сам Подхалюзин? Ведь это сознательный, умный
мошенник с развитыми понятиями! Не составляет ли он противоречия общему
впечатлению комедии, заставляющей нас признать все преступления в
этой среде следствием темноты разумения и неразвитости человеческих
сторон характера? Напротив, Подхалюзин окончательно убеждает нас в
верности этого впечатления. В нем мы видим, что он именно настолько и
сносен еще, насколько коснулось его веяние человеческой идеи. Он не
очертя голову бросается в обман, он обдумывает свои предприятия, и вот
мы видим, что сейчас же в нем уж является и отвращение от обмана в
нагом его виде, и старание замазать свое мошенничество разными
софизмами, и желание приискать для своего плутовства какие-нибудь
нравственные основания и в самом обмане соблюсти видимую, юридическую
добросовестность. Есть вещи, о которых он вовсе и не думал,— как,
например, обмеривание и надувание покупателей в лавке,— так там он и
действует совершенно равнодушно, без зазрения совести. Но когда вышел
случай не обыкновенный, случай попользоваться большим кушем из
имения хозяина, тут Подхалюзин задумался и начал себя оправдывать.
Говорят, надо совесть знать,— рассуждает он,— да известное дело, надо совесть
8натъ, да в каком это смысле понимать нужно? Против хорошего человека у всякого
есть совесть; а коли он сам других обманывает, так какая же тут совесть! Самсон
Силыч купец богатейший, и теперича все это дело, можно сказать, так, для
препровождения времени, затеял. А я человек бедный! Если и пользуюсь в этом деле чем-
нибудь лишним, так и греха нет никакого: потому он сам несправедливо поступает,
против закона идет. А мне что его жалеть? Вышла линия, ну, и не плошай; он свою
политику ведет, а ты свою статью гони. Еще то ли бы я с ним сделал, да не
приходится!
Видите, что и Подхалюзин не изверг, и он совесть имеет, только
понимает ее по-своему. Он, как и все прочие, сбит с толку военным
положением всего «темного царства»; обман свой он обдумывает ые как
118
H. A. Добролюбов
обман, а как ловкую и, в сущности, справедливую, хотя юридически и
незаконную штуку; прямой же неправды он не любит: свахе он обещал
две тысячи и дает ей сто целковых, упираясь на то, что ей не за что
давать более. Рисположенскому он отдает деньги по мелочи и, только
уже передавши ему несколько сот, отказывается от дальнейшей уплаты,
находя, что ему «пора уж и честь знать». За самого Болынова он не вовсе
отказывается платить кредиторам, но только рассчитывает, что 25
копеек — много. Притом же в этом случае он имеет видимое основание для
своего поведения: он помнит, что сам Болынов говорил ему и
ссылается на его же собственные слова. Отдавая за него дочь, Самсон Силыч
ведет такой разговор с будущим зятем:
Б о л ь ш о в. Свое добро, сам нажил... кому хочу, тому даю... да что тут
разговаривать-то! На милость суда нет! Бери все, только нас со старухой корми да
кредиторам заплати копеек по десяти.
Подхалюзин. Стоит ли, тятенька, об этом говорить-с. Нешто я не чувствую?
Свои люди — сочтемся.
Б о л ь ш о в. Говорят тебе, бери все, да и кончено дело! И никто мне не указ.
Заплати только кредиторам. Заплатишь?
Подхалюзин. Помилуйте, тятенька, первым долгом-с.
Боль шов. Только ты смотри —им много не давай. А то ты, чай, рад сдуру-то
все отдать.
Подхалюзин. Да уж там, тятенька, сочтемся. Помилуйте, свои люди.
Б о л ь ш о в. То-то же. Ты им больше десяти копеек не давай. Будет с них.
Подхалюзин очень хорошо вошел в эти соображения и кротко
напоминает их Болынову, когда тот является к нему из ямы. Претензию
кредиторов на 25 коп. он не признает справедливою; напротив, он
находит, что они «зазнались больно; а не хотят ли восемь копеек в пять
лет». Проникнутый этими мыслями, он радушно угощает тестя, вместе с
ним ругает кредиторов, выражает надежду, что «как-нибудь отделаемся»,
ибо «бог милостив»; ко заплатить требуемое кредиторами отказывается,
потому что они «просят цену, которую совсем несообразную». С его точки
зрения, он поступает ничуть не бесчестно и не жестоко, а только
благоразумно и твердо. Он даже выказывает значительную степень великодушия,
соглашаясь платить за Болынова 15 копеек вместо 10-и и решаясь даже
сам ехать к кредиторам, чтобы их упрашивать. Видно, что он не лишен
дажо чувства сострадания и некоторой совестливости; но ему все хочется
отжилить поболее, и он надеется, что, авось, уладит дело повыгоднее.
Здесь-то всего более и выказывается в Подхалюзине мелкий плут,
образовавшийся прямо вследствие деспотического гнета, тяготевшего над
ним с малолетства. У него нет и разбойнической решимости отказаться
от всякой уплаты и бросить все это дело Болынова на произвол судьбы,
с тем, чтобы решиться на новые похождения, с новыми хлопотами и
риском; нет и умного расчета, отличающего мошенников высокого полета и
заставляющего их брать из всякой спекуляции хоть что-нибудь, только
Темное царство
119
бы покончить дело. Ловкий мошенник большой руки, пустившись на
такое дело, как злостное банкротство, не пропустил бы случая отделаться
25 копейками за рубль; он тотчас покончил бы всю аферу этой выгодной
сделкой и был бы очень доволен. Да и как же не быть довольным,
успевши задаром получить три четверти чужого имения? Кроме русского
доморощенного плута, всякий удовлетворился бы таким результатом.
Настоящий мошенник, по призванию посвятивший себя этой специальности,
не старается из каждого обмана вытянуть и выторговать себе фортуну,
не возится из-за гроша с аферой, которая доставила уже рубли; он
знает, что за теперешней спекуляцией ожидает его другая, за другой
представится третья и т. д., и потому он спешит обделывать одно дело,
чтобы, взявши с него, что можно, перейти к другому. Совсем не так
поступает наш мелкий плут, порожденный и возращенный
бессмысленным гнетом самодурства. В нем нет именно этой размашистости,
которой так все восхищаются почему-то в русском человеке, но зато много
бестолкового сквалыжничества. В поступке Подхалюзина могут видеть
некоторые тоже широту русской натуры: «Вот, дескать, какой — коли
брать и из чужого добра, так уж забирай больше, бери не три четверти,
а девять десятых»... Но в самом-то деле Подхалюзин выказывает здесь
именно отсутствие предприимчивости и уверенности в себе. Он пользуется
своим обманом, как находкой, которая раз попалась, а в другой раз и не
попадется, пожалуй. Поэтому-то он и не расстается с своей аферой, все
выжидая,— нельзя ли из нее еще чего-нибудь вытянуть: недаром же он
рисковал, в самом деле! Ему так непривычен, так тяжел всякий риск,
что он боится и думать о вторичной попытке подобного рода... Теперь
ему только бы устроиться, а там он пойдет уж на мелкие обманы, как
и обещается в заключительном обращении к публике, по первому
изданию комедии: «А вот мы магазинчик открываем! Милости просим:
малого ребенка пришлите— в луковице не обочтем-с» 43. Это значит, что он
удовольствуется той практикой, которую прежде объяснял приказчикам
Болыпова...Разве опять подойдет линия, где будет что-нибудь плохо
лежать: тут он и побольше стянет себе, что успеет.
Таким образом, и Подхалюзин не представляет собою изверга, не есть
квинтэссенция всех мерзостей. Всего гаже он в той сцене, где он плачет
пред Болыповым, уверяя его в своей привязанности и проч. Но ведь тут
он подмазывается к Самсону Силычу не столько из корысти, сколько для
того, чтобы выманить у старика обещание выдать за него Липочку,
которую,— надо заметить,— Подхалюзин любит сильно и искренне. Он это
ясно доказывает своим обращением с ней в четвертом акте, т. е. когда
она уже сделалась его женою... А для любви такие ли хитрости прощаем
мы самым нравственным героям, в самых романических историях!
Нечего распространяться о том, что общему впечатлению пьесы
нимало не вредит и Липочка, при всей своей нравственной уродливости.
120
Ü. А. Добролюбов
Находят, что ее обращение с матерью и потом сцена с отцом в
последнем акте — переходят пределы комического, как слишком
омерзительные. Нам вовсе этого не кажется, потому что мы не можем признать
святости кровных отношений в таком семействе, как у Болыпова. На
Липочке тоже видна печать домашнего деспотизма: только при нем
образуются эти черствые, бездушные натуры, эти холодные, отталкивающие
отношения к родным; только при нем возможно такое совершенное
отсутствие всякого нравственного смысла, какое замечается у Липочки.
А за исключением того, что осталось в Липочке, как след давившего ее
деспотизма, она ничуть не хуже большей части наших барышень не
только в купеческом, но даже и в дворянском сословии. Многие ли из них
не наполняют всей своей жизни одной внешностью, не утешаются в
горе нарядами, не забываются за танцами, не мечтают об офицерах?
Если я на своем веку имел разговор с тремя образованными
барышнями, то от двух из них уж, конечно, слышал я повторение известного
монолога Липочки: «То ли дело отличаться с военными! Ах, прелесть,
восхищение! И усы, и эполеты, и мундир, а у иных даже шпоры с
колокольчиками!.. Уж какое же есть сравнение,— военный или штатский?
Военный уж сейчас видно: и ловкость и все, а штатский что? Так, какой-
то неодушевленный»... Как же можно барышень, произносящих подобные
монологи, серьезно обвинять за что-нибудь? Не ясно ли, что Липочка
все, что ни сделает, сделает по совершенной неразвитости
'нравственной и умственной, а никак не по злонамеренности или природному
зверству? Чем же возмущаться в личности этой несчастной?
Вообще, чем можно возмущаться в «Своих людях?» Не людьми и не
частными их поступками, а разве тем печальным бессмыслием, которое
тяготеет над всем их бытом. Люди, как мы видели, показаны нам в
комедии с человеческой, а не с юридической стороны, и потому
впечатление самых их преступлений смягчается для нас. Официальным образом
мы видим здесь злостного банкрота, еще более злостного приказчика,
ограбившего своего хозяина, ехидную дочь, хладнокровно отправляющую
в острог своего отца,— и все эти лица мы клеймим именами злодеев и
извергов. Но автор комедии вводит нас в самый домашний быт этих
людей, раскрывает перед нами их душу, передает их логику, их взгляд
на вещи, и мы невольно убеждаемся, что тут нет ни злодеев, пи
извергов, а всё люди очень обыкновенные, как все люди, и что
преступления, поразившие нас, суть вовсе не следствия исключительных натур,
по своей сущности наклонных к злодейству, а просто неизбежные
результаты тех обстоятельств, посреди которых начинается и проходит
жизнь людей, обвиняемых нами. Следствием такого убеждения является
в нас уважение к человеческой натуре и личности вообще, смея: и
презрение в отношении к тем уродливым личностям, которые действуют в
комедии и в официальном смысле внушают ужас и омерзение, и нако-
Темное царство
121
нец — глубокая, непримиримая ненависть к тем влияниям, которые так
задерживают и искажают нормальное развитие личности. Затем мы
прямо переходим к вопросу: что же это за влияния и каким образом они
действуют? Комедия ясно говорит нам, что все вредные влияния состоят
здесь в диком, бесправном самовольстве одних над другими. Самый
способ действия этих влияний объясняется нам из комедии очень просто.
Мы видели, что Болыпов вовсе не сильная натура, что он не способен
к продолжительной борьбе, да и вообще не любит хлопот; видели мы
также, что Подхалюзин — человек сметливый и вовсе не привязанный к
своему хозяину; видели, что и все домашние не очень-то расположены к
Самсону Силычу, кроме разве жены его, совершенно ничтожной и глупой
старухи. Что же мешает им составить открытую оппозицию против
неистовств Болыпова? То, что они материально зависят от него, их
благосостояние связано с его благосостоянием? Но в таком случае, отчего
Подхалюзин, радея о пользах хозяина, не удерживает его от опасного
шага, на который тот решается по неразумию, «так, для препровождения
времени»? Потому, конечно, что Подхалюзин сам надеется тут нагреть
руки? Да, но — здесь-то и раскрывается в полной силе весь ужас нелепых
отношений, изображенных нам в «Своих людях». Видите, здесь дело не
в личности самодура, угнетающего свою семью и всех окружающих. Он
бессилен и ничтожен сам по себе; его можно обмануть, устранить, засадить в
яму наконец... Но дело в том, что с уничтожением его не исчезает
самодурство. Оно действует заразительно, и семена его западают б тех
самых, которые от него страдают. Бесправное, оно подрывает доверие к
праву; темное и ложное в своей основе, оно гонит прочь всякий луч
истины; бессмысленное и капризное, оно убивает здравый смысл и всякую
способость к разумной, целесообразной деятельности; грубое и гнетущее,
оно разрушает все связи любви и доверенности, уничтожает даже доверие
к самому себе и отучает от честной, открытой деятельности. Вот чем
именно и опасно оно для общества! Самодура уничтожить было бы
нетрудно, если б энергически принялись за это честные люди. Но беда в
том, что под влиянием самодурства самые честные люди мельчают и
истомляются в рабской бездеятельности, а делом занимаются только люди,
в которых собственно человечные стороны характера наименее развиты.
И деятельность этих людей, вследствие совершенного извращения их
понятий под влиянием самодурства, имеет тоже характер мелкий,
частный и грубо эгоистический. Цель их не та, чтобы уничтожить
самодурство, от которого они так страдают, а та, чтобы только как-нибудь
повалить самодура и самим занять его место. И вот — Болыпов угодил в яму,
и вместо него явился Подхалюзин — и благоденствует на тех же правах *.
* Впрочем, в новом издании Островского и Подхалюзин не благоденствует, а
уводится к концу пьесы квартальным, имея затем в перспективе Сибирь. Нам кажется.
122
Я, А. Добролюбов
Таковы общие выводы, представляемые нам комедиею «Свои люди —
сочтемся». Мы остановились на ней особенно долго по многим причинам.
Во-первых, о ней до сих пор не было говорено ничего серьезного;
во-вторых, краткие заметки, какие делались о ней мимоходом, постоянно
обнаруживали какое-то странное понимание смысла пьесы; в-третьих, сама
по себе комедия эта принадлежит к наиболее ярким и выдержанным
произведениям Островского; в-четвертых, не будучи играна на сцене, она
менее популярна в публике, нежели другие его пьесы... Кроме того, она
требовала более подробного рассмотрения и потому, что в ней
изображаются подвижные плутовские натуры, развившиеся под гнетом
самодурства. Таковы здесь все лица, исключая Аграфены Кондратьевны. Они
деятельно подчинились самодурству, растлили свой ум, сделались сами
участниками гадостей, порождаемых деспотическим гнетом. Рассмотреть это
нравственное искажение — представляет задачу, гораздо более сложную
и трудную, нежели указать простое падение внутренней силы человека
под тяжестью внешнего гнета. А именно, натуры последнего разряда,
сдавленные, убитые, потерявшие всякую энергию и подвижность,—
представляются нам, главным образом, в последующих комедиях Островского,
к которым мы должны теперь обратиться. В этих последних мы уже
гораздо короче постараемся проследить мертвящее влияние самодурства и
преимущественно остановимся на одном его виде — на рабском положении
нашей женщины в семействе. Затем, в связи с тем же вопросом
самодурства и даже в прямой зависимости от него, рассмотрим значение тех
форм образованности, которые так смущают обитателей нашего «темного
царства», и, наконец, тех средств, которые многими из героев этого
царства употребляются для упрочения своего материального
благосостояния. Но рассмотрение всех этих вопросов и показание непосредственной
связи их с самодурством,— как оно обнаруживается в комедиях
Островского,— должно составить другую статью.
Теперь же мы можем, в заключение разбора «Своих людей», только
спросить читателей: откажут ли они изображениям Островского, так под-
что эта прибавка совершенно лишняя. Конечно, автор сделал ее не по своим
убеждениям, а в угоду некоторым, слишком уж строгим пуристам, требовавшим, чтоб
порок непременно был наказан. Но мы видели, что здесь дело не в лицах и не во
внешнем факте, а в самом быте, в самых связях, которыми держится весь этот быт.
Притом же мы знаем, что если Подхалюзин может подвергнуться наказанию, то
разве за какую-нибудь оплошность свою,— за то, что не совсем чисто умел
обработать дельце. Да притом, у него остается еще один ресурс: квартального
встречает он предложением выпить водочки и поговорить с ним, надеясь таким образом
уладить дело. Квартальный не соглашается и уводит его; но мы знаем, что не от
квартального зависит судьба Подхалюзина и что не все в темном царстве так
несговорчивы, как этот необыкновенный квартальный... Мы даже почти уверены, по
опущении занавеса, что при существующих общественных отношениях той среды,
в которой действует Подхалюзин, он непременно найдет легкое средство
вывернуться и оправдаться.
Темное царство
123
робно анализированным нами, в жизненной правде и в силе
художнического представления? И если эти лица и этот быт верны
действительности, то думают ли читатели, что те стороны русского быта, которые
рисует нам Островский, не стоят внимания художника? Решатся ли они
сказать, что действительность, изображаемая им, имеет лишь частное и
мелкое значение и не может дать никаких важных результатов для
человека рассуждающего?.. Ответ на эти вопросы может показать, достигли
ли мы своей цели, анализируя факты, представляющиеся нам в
комедиях Островского... Что касается лично до нас, то мы никому ничего не
навязываем, мы даже не выражаем ни восторга, ни негодования, говоря
о произведениях Островского. Мы только следим за явлениями, им
изображенными, и объясняем, какой смысл имеют они для нас. Читатели,
соображаясь с своими собственными наблюдениями над жизнью и с своими
понятиями о праве, нравственности и требованиях природы человеческой,
могут решить сами — как то, справедливы ли наши суждения, так и то,
какое значение имеют жизненные факты, извлекаемые нами из
комедий Островского.
III
И ныне все дико и пусто кругом...
Не шепчутся лис!ья с гремучим ключом;
Напрасно пророка о тени он просит:
Его лишь песок раскаленный заносит,
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.
ЛЕРМОНТОВ 44
Рассматривая комедию Островского «Свои люди — сочтемся», мы
обратили внимание читателей на некоторые черты русского,
преимущественно купеческого быта, отразившиеся в этой комедии. Мы сказали, что
основа комизма Островского заключается, по нашему мнению, в
изображении бессмысленного влияния самодурства, в обширном значения слова,
на семейный и общественный быт. В отношениях Самсона Силыча
Вольтова ко всем, его окружающим, мы видели, что самодурство это —
бессильно и дряхло само по себе, что в нем нет никакого нравственного
могущества, но влияние его ужасно тем, что, будучи само бессмысленно
и бесправно, оно искажает здравый смысл и понятие о праве во всех,
входящих с ним в соприкосновение. Мы видели, что под влиянием
самодурных отношений развивается плутовство и пронырливость, глохнут все
гуманные стремления даже хорошей натуры и развивается узкий, исклю-
124
H. A. Добролюбов
чительный эгоизм и враждебное расположение к ближним. Нужно иметь
гениально светлую голову, младенчески непорочное сердце и
титанически могучую волю, чтобы иметь решимость выступить на практическую,
действительную борьбу с окружающей средою, нелепость которой
способствует только развитию эгоистических чувств и вероломных стремлений
во всякой живой и деятельной натуре.
Но чтобы выйти из подобной борьбы непобежденным,— для этого
мало и всех исчисленных нами достоинств: нужно еще иметь железное
здоровье и — главное — вполне обеспеченное состояние, а между тем, по
устройству «темного царства»,— все его зло, вся его ложь тяготеет
страданиями и лишениями именно только над теми, которые слабы,
изнурены и не обеспечены в жизни; для людей же сильных и богатых —
та же самая ложь служит к услаждению жизни. Что же им за выгода
обличать эту ложь, бороться с этим злом? Можно ли ожидать, что купец
Болыпов станет требовать, например, от своего приказчика Подхалюзина,
чтобы тот разорял его, поступая по совести и отговаривая покупателей
от покупки гнилого товара и от платы за него липших денег? Само собою
разумеется, что скорее уж сам приказчик мог бы, проникнувшись
добросовестностью, последовать такому образу действий. Но приказчик связан
с хозяином: он сыт и одет по хозяйской милости, он может «в люди
произойти», если хозяин полюбит его; а ежели не полюбит, то что же
такое приказчик, со своей непрактической добросовестностью? Так,—
ничтожество!.. И вот Подхалюзин начинает соображать шансы своего
положения. Человек он не гениальный, не герой и не титан, а очень
обыкновенный смертный. Невозможно и требовать от него практического
протеста против всей окружающей его среды, против обычаев,
установившихся веками, против понятий, которые, как святыня, внушались ему, когда
он был еще мальчишкой, ничего не смыслившим... Ясно, что он должен
подчиниться той морали, какая господствует в атмосфере, его
окружающей — пойти по той дорожке, которая проторена другими... Не
пробовать же ему новой, никому неведомой дороги, когда уж есть готовый
торный проселок!
Но, с другой стороны, как натура живая и деятельная, и Подхалюзин
задает себе некоторые жизненные вопросы и задачи. Задачи его
обыкновенно очень мизерны, вопросы — не глубоки, потому что круг зрения его
очень ограничен. Он видит перед собой своего хозяина-самодура, который
ничего не делает, пьет, ест и прохлаждается в свое удовольствие, ни от
кого ругательств не слышит, а, напротив, сам всех ругает невозбранно,—
и в этом гаденьком лице он видит идеал счастия и высоты, достижимых
для человека. Что выходит из тесного круга обыденной жизни,
постоянно им видимой, о том он имеет лишь смутные понятия, да ни мало
и не заботится, находя, что то уж совсем другое, об этом уж нашему
брату и думать нечего... А раз решивши это, поставивши себе такой пре-
Темное царство
125
дел, за который нельзя переступить, Подхалюзин, очень естественно,
старается приспособить себя к такому кругу, где ему надо действовать, и
для того съеживается и выгибается. Это же и не стоит ему большого
труда,— дело привычное с малолетства: как вытянут по спине аршином
или начнут об голову кулаки оббивать,— так тут понеьоле рыг.чешься и
сожмешься... И Подхалюзин, вынося сам всякие истязания и находя,
наконец, что это в порядке вещей, глубоко затаивает своя личные,
живые стремления в надежде, что будет же когда-нибудь и на его улице
праздник. Между тем нравственное развитие идет своим путем,
логически неизбежным при таком положении: Подхалюзин, находя, что личные
стремления его принимаются всеми враждебно, мало-помалу приходит к
убеждению, что действительно личность его, как и личность всякого
другого, должна быть в антагонизме со всем окружающим и что,
следовательно, чем более он отнимет от других, тем полнее удовлетворит себя. Из
этого начала развивается то вечно осадное положение, в котором
неизбежно находится каждый обитатель «темного царства», пускающийся в
практическую деятельность, с намерением добиться чего-нибудь.., Высшие
нравственные правила, для всех равно обязательные, существуют для него
только в нескольких прекрасных речениях и заповедях, никогда не
применяемых к жизни; симпатическая сторона натуры в нем не развита;
понятия, выработанные наукою, об общественной солидарности я о
равновесии прав и обязанностей,— ему недоступны. Самые идеалы его
(потому что идеалы и у Подхалюзина есть, как есть и у городничего в
«Ревизоре») грубы, тусклы, безобразны и бесчеловечны. Городничий мечтает
о том, как он, сделавшись генералом, будет заставлять городничих ждать
себя по пяти часов; так точно Подхалюзин предполагает: «Тятенька
подурили на своем веку,— будет: теперь нам пора». И только бы ему
достичь возможности осуществить свой идеал: он в самом деле не замедлит
заставить других так же бояться, подличать, фальшивить и страдать от
него, как боялся, подличал, фальшивил и страдал сам он, пока не
обеспечил себе право на самодурство...
Тяжело проследить подобную карьеру; горько видеть такое
искажение человеческой природы. Кажется, ничего не может быть хуже того
дикого, неестественного развития, которое совершается в натурах,
подобных Подхалюзйну, вследствие тяготения над ними самодурства. Но в
последующих комедиях Островского нам представляется новая сторона
того же влияния, по своей мрачности и безобразию едва ли
уступающая той, которая была нами указана в прошедшей статье.
Эта новая сторона является нам в натурах подавленных,
безответных. Такие натуры представляются нам почти в каждой из комедий
Островского, с большею или меньшею ясностью очертаний. Даже в «Своих
людях» Аграфена Кондратьевна принадлежит к таким натурам; по здесь
она не играет видной роли. Ярче выставляются нам в последующих ко-
126
Я. А. Добролюбов
медиях лица Мити в «Бедность не порок» и детей Брусковых в пьесе
«В чужом пиру похмелье», и лица девушек почти во всех комедиях
Островского. Авдотья Максимовна, Любовь Торцова, Даша, Надя — все
это безвинные, безответные жертвы самодурства, и то сглажеппе, отме-
нение человеческой личности, какое в них произведено жизнью, едва
ли не безотраднее действует на душу, нежели самое искажение
человеческой природы в плутах, подобных Подхалюзину. Там еще кое-где
пробивается жизнь, самобытность, мерцает минутами луч какой-то надежды,
здесь — тишь невозмутимая, мрак непроглядный, здесь перед вами стоит
мертвая красавица в безлюдной степи, и общее гробовое молчание
нарушается лишь движением степного коршуна, терзающего в воздухе
добычу... Жутко, точно на кладбище или в доме купца-раскольника нако-
нуне великого праздника!
Чтобы видеть проявление безответной, забитой натуры в разпых
положениях и обстоятельствах, мы проследим теперь последующие за
«Своими людьми» комедии Островского из купеческого быта, начавши с
комедии «Не в свои сани не садись».
Но, упомянувши об этой пьесе, мы считаем нужным напомнить
читателям то, что сказано было нами в первой статье —о значении вообще
художнической деятельности. «Не в свои сани не садись» вызвало самые
разнообразные суждения об убеждениях Островского. Одни превознесли
его за то, что он усвоил себе прекрасные воззрения славянофилов на
прелести русской старины; другие возмутились тем, что Островский
явился противником современной образованности. Все эти рассуждения могли
быть прискорбны для Островского главным образом потому, что из-за
толков о его воззрениях совершенно забывали о его таланте и о лицах
и явлениях, выведенных им. В отношении к Островскому такой прием был
просто неделикатен. Мы понимаем, что графа Соллогуба, например,
нельзя было разбирать иначе, как спрашивая: что он хотел сказать своим
«Чиновником»?— потому что «Чиновник» есть не что иное, как модная
юридическая — даже не идея, а просто — фраза, драматизированная, без
малейшего признака таланта. Можно так обращаться, например, и с
стихотворениями г. Розенгейма: поэзии у него нет ни в одном стихе; поэтому
единственною меркою достоинства стихотворения остается относительное
значение идеи, на которую оно сочинено. Таким образом, не входя ни
в какие художественные разбирательства, можно, например, похвалить
г. Розенгейма за то, что «Гроза», помещенная им недавно в «Русском
слове» 45, написана им на тему, не имеющую той пошлости, как его
чиновничьи и откупные элегии. Здесь мы можем быть совершенно
спокойны, обращая внимание единственно на воззрение автора, какое желал
он выразить в пьесе. Комедии Островского заслуживают другого рода
критики, потому что в них, независимо от теоретических понятий автора,
есть всегда художественные достоинства. Мы уже замечали, что общие
Темное царство
12Т
идеи принимаются, развиваются и выражаются художником в его
произведениях совершенно иначе, нежели обыкновенными теоретиками. Не
отвлеченные идеи и общие принципы занимают художника, а живые образы,
в которых проявляется идея. В этих образах поэт может, даже
неприметно для самого себя, уловить и выразить их внутренний смысл гораздо
прежде, нежели определит его рассудком. Иногда художник может и
вовсе не дойти до смысла того, что он сам же изображает, но критика
и существует затем, чтобы разъяснить смысл, скрытый в созданиях
художника, и, разбирая представленные поэтом изображения, она вовсе не
уполномочена привязываться к теоретическим его воззрениям. В первой
части «Мертвых душ» есть места, по духу своему близко подходящие
к «Переписке», но «Мертвые души» от этого не теряли своего общего
смысла, столь противоположного теоретическим воззрениям Гоголя.
И критика Белинского не трогала гоголевских теорий, пока он являлся
пред нею просто как художник; она ополчилась на него тогда, когда он
провозгласил себя нравоучителем и вышел к публике не с живым
рассказом, а с книжицею назидательных советов...46
Не сравнивая значения Островского с значением Гоголя в истории
нашего развития, мы заметим, однако, что в комедиях Островского, под
влиянием каких бы теорий они ни писались, всегда можно найти черты
глубоко верные и яркие, доказывающие, что сознание жизненной правды
никогда не покидало художника и не допускало его искажать
действительность в угоду теории. А если так, то, значит, и основные черты
миросозерцания художника не могли быть совершенно уничтожены
рассудочными ошибками. Он мог брать для своих изображений не те
жизненные факты, в которых известная идея отражается наилучшим образом,
мог давать им произвольную связь, толковать их не совсем верно; но
если художническое чутье не изменило ему, если правда в
произведении сохранена,— критика обязана воспользоваться им для объяснения
действительности, равно как и для характеристики таланта писателя,
но вовсе не для брани его за мысли, которых он, может быть, еще и
не имел. Критика должна сказать: «Вот лица и явления, выводимые
автором; вот сюжет пьесы; а вот смысл, какой, по нашему мнению,
имеют жизненные факты, изображаемые художником, и вот степень их
значения в общественной яшзни». Из этого суждения само собою и
окажется, верно ли сам автор смотрел на созданные им образы. Если он,
например, силится возвести какое-нибудь лицо во всеобщий тип, а
критика докажет, что оно имеет значение очень частное и мелкое,— ясно,
что автор повредил произведению ложным взглядом на героя. Если он
ставит в зависимости один от другого несколько фактов, а по
рассмотрению критики окажется, что эти факты никогда в такой зависимости не
бывают, а зависят совершенно от других причин,— опять очевидно само
собой, что автор неверно понял связь изображаемых им явлений. Но и
128
H. A. Добролюбов
тут критика должна быть очень осторожна в своих заключениях: если,
например, автор награждает, в конце пьесы, негодяя или изображает
благородного, но глупого человека,— от этого еще очень далеко до
заключения, что он хочет оправдывать негодяев или считает всех благородных
людей дураками. Тут критика может рассмотреть только: точно ли
человек, выставляемый автором как благородный дурак действительно таков
по понятиям критики об уме и благородстве,— и затем: такое ли
значение придает автор своим лицам, какое имеют они в действительной
жизни?
Таковы должны быть, по нашему мнению, отношения реальной
критики к художественным произведениям; таковы в особенности должны
они быть к писателю при обозрении целой его литературной
деятельности. Говоря об отдельном произведении, критика может увлекаться
частностями и ставить в вину писателю то, что им лишь недостаточно
выяснено. Но при общей характеристике частности могут остаться в
стороне, и на первом плане является изображение общего
миросозерцания писателя, как оно выразилось во всей массе его произведений. А как
оно выразилось, это определяется теми предметами и явлениями, которые
привлекали к себе его внимание и сочувствие и послужили материалами
для его изображений.
Сделавши эти объяснения, мы можем теперь сказать, что вовсе не
хотим видеть в «Не в своих санях» апологию патриархального,
старинного быта и попытку доказать преимущества русской необразованности
пред европейским образованием. Мы могли бы в этой комедии отыскать
даже нечто противоположное, но и того не хотим, а просто укажем на
факт, служащий основою пьесы. Мы уже видели, что основной мотив
пьес Островского — неестественность общественных отношений,
происходящая вследствие самодурства одних и бесправности других. Чувство
художника, возмущаясь таким порядком вещей, преследует его в самых
разнообразных видоизменениях и передает на позор того самого
общества, которое живет в этом порядке. И вот одно из таких
видоизменений.
Есть на Руси купец-самодур, добрый, честный и даже, по-своему,
умный,— но самодур. У него есть дочь, которая перед ним безгласна
и бесправна, как всякая дочь перед всяким самодуром. Не признавая ее
прав как самостоятельной личности, ей и не дают ничего, что в жизни
может ограждать личность: она необразованна, у ней нет голоса даже
в домашних делах, нет привычки смотреть на людей своими глазами,
нет даже и мысли о праве свободного выбора в деле сердца. Выросши в
полный рост человеческий, она все еще ведет себя, как
несовершеннолетняя, как ребенок неразумный. Самая любовь ее к отцу, парализуемая
страхом, неполна, неразумна и неоткровенна, так что дочка втихомолку
от отца, напитывается понятиями своей тетушки, пожилой девы, бывшей
Темное царство
129
в ученье на Кузнецком мосту, и затем с ее голоса уверяет себя, что
влюблена в молодого прощелыгу, отставного гусара, на днях
приехавшего в их город. Гусар сватается, отец отказывает; тогда гусар увозит
девушку, и она решается ехать с ним, все толкуя, однако, о том, что
ехать не надо, а лучше к отцу возвратиться. Но на первой же станции
гусар узнает, что отец не даст ни гроша денег за убежавшей дочерью,
и тотчас же, конечно, прогоняет от себя бедную девушку. Она
возвращается домой; отец ругает и хочет запереть ее на замок, чтоб света
божьего не видела и его перед людьми не срамила; но ее решается
взять за себя молодой купчик, кэторый давно в нее влюблен и которого
сама она любила до встречи с Вихоревым. Все кончается
благополучно.
Таков факт, составляющий сущность комедии «Не в свои сани не
садись». Какой же смысл его? Дает ли он хоть какой-нибудь повод к
развитию темы о преимуществах старого быта, к выражению
славянофильских тенденций? Кажется, нет. Смысл его тот, что самодурство, в
каких бы умеренных формах ни выражалось, в какую бы кроткую опеку
ни переходило, все-таки ведет,— по малой мере, к обезличению людей,
подвергшихся его влиянию; а обезличение совершенно противоположно
всякой свободной и разумной деятельности; следовательно, человек
обезличенный, под влиянием тяготевшего над ним самодурства, может нехотя,
бессознательно совершить какое угодно преступление и погибнуть —
просто по глупости и недостатку самобытности.
Это значение рассказанного нами факта, всего скорее и резче
бросающееся в глаза, недостаточно ярко является в комедии, потому что в ней
на первый план выступает контраст умного, солидного Русакова и
доброго, честного Бородкина — с жалким вертопрахом Вихоревым. За этот
контраст и ухватились критики и наделали в своих разборах таких
предположений, каких у автора, может быть, и на уме никогда не было.
Его обвинили чуть не в совершенном обскурантизме, и даже до сих пор
некоторые критики не хотят ему простить того, что Русаков —
необразованный, но все-таки добрый и честный человек *. И действительно,
увлекшись негодованием против мишурной образованности господ, подобных
Вихореву, сбивающих с толку простых русских людей, Островский не
с достаточной силой и ясностью выставил здесь те причины, вследствие
которых русский человек может увлекаться подобными господами. Но
нельзя сказать, чтоб эти причины были совершенно забыты автором:
* После первой нашей статьи, где говорилось о критиках Островского, появилось
в журналах еще две статьи о нем. Одна имеет дифирамбический характер, но
другая повторяет все нелепости, приписывавшиеся Островскому в прежнее время, и
оканчивается тем, что советует ему «мыслить, мыслить и мыслить». Впрочем, обе
статьи совершенно незначительны 47t
9 Ы. А. Добролюбов
130
H. A. Добролюбов
простой и естественный смысл факта не укрылся от него, и в «Не в
своих санях» мы находим разбросанные черты тех отношений, которые
разумеем под общим именем самодурных. Если б эти черты были ярче,
комедия имела бы более цельности и определенности; но и в
настоящем своем виде она не может быть названа противною основным чертам
миросозерцания автора. В темный быт Русаковых он внес луч
постороннего света, сгладил и уравнял некоторые грубые черты; но и в этом
смягченном виде, если всмотреться внимательнее,— сущность дела
осталась та же. Попробуем указать несколько черт из отношений Русакова
к дочери и к окружающим; мы увидим, что здесь основанием всей
истории является опять-таки то же самодурство, на котором утверждаются
все семейные и общественные отношения этого «темного царства».
Максим Федотыч Русаков — этот лучший представитель всех
прелестей старого быта, умнейший старик, русская душа, которою
славянофильские и кошихинствующие48 критики кололи глаза нашей
послепетровской эпохе и всей новейшей образованности,— Русаков, на наш взгляд,
служит живым протестом против этого темного быта, ничем не
осмысленного и безнравственного в самом корне своем. В Болыпове мы видели
дрянную натуру, подвергшуюся влиянию этого быта; в Русакове нам
представляется: а вот какими выходят при нем даже честные и мягкие
натуры!.. И действительно, природная доброта и даже деликатность
пробивается в Русакове сквозь грубые формы. Он обходится со' всеми
ласково, о жене и дочери говорит с умилением; когда Дуня, узнав о его
решительном отказе Вихореву, падает в обморок (сцена эта нам
кажется, впрочем, утрированною), он пугается и даже тотчас соглашается
изменить для нее свое решение. Мало этого: у него голова сложена
довольно хорошо, и из нее не выбить здравый смысл. Он не говорит
просто: «Так должно быть потому, что я так хочу»,— а старается
отыскивать резоны для своих решений. Но этим и ограничивается то, что мог
он сохранить из добрых качеств своей натуры; далее начинаются
приобретения самодурства. Видно, что Русаков, по мягкости своей природы,
с самого начала кротко покорился существующему порядку, признав его
законность; значит, не было нужды доказывать ему эту законность
пинками и колотушками. Оттого в нем и в старости нет той враждебности
и крутости, какую замечаем в других самодурах, выводимых Островским;
оттого он не отвергает даже резонов в разговоре с низшими и младшими.
Но быт «темного царства», в котором он вырос, ничего не дал ему в
отношении резонности: ее нет в эъом быте, и потому Русаков впадает в
ту же несмысленность, в тот же мрак, в каком блуждают и другие
собратья его, хуже одаренные природою.
Любопытно послушать мораль, до которой успел он возвыситься.
Покорность, терпение, уважение к опыту и преданию, ограничение себя
своим кругом — вот его основные положения. Дошел он до них грубо
Темное царство
131
эмпирически, сопоставляя факты, но ничем их не осмысливая, потому что
мысль его связана в то же время самым упорным, фаталистическим
понятием о судьбе, распоряжающейся человеческими делами. Он появляется:
на сцену с сентенцией о том, что «нужно к старшим за советом
ходить,— старик худа не посоветует». Далее в ответ на сватовство Бород-
кина, он говорит: «Я, значит, должон это дело сделать с разумом,
потому — мне придется за дочь богу отвечать». На этом основании он с
судьбою дочери распоряжается вот каким образом: «Статочное ли дело^
чтоб поверить девке, кто ей понравится? Нет, это не порядок: пусть
мне человек понравится. Я не за того отдам, кого она полюбит, а за
того, кого я полюблю. Да, кого я полюблю, за того и отдам». В этом уж
крепко сказывается самодурство; но оно смягчается в Русакове
следующим рассуждением: «Как девке поверить? что она видела? кого она
знает?» Рассуждение справедливое в отношении к дочери Русакова; но ни
Русакову и никому из его собратьев не приходит в голову спросить:
«Отчего ж она ничего не видела и никого не знает? Какая же
необходимость была воспитывать ее в таком блаженном неведении, что
всякий ее может обмануть?..» Если б они задали себе этот вопрос, то из
ответа и оказалось бы, что всему злу корень опять-так не- что иное, как
их собственное самодурство. Русаков совершенно доволен своим
положением и в бары лезть не желает, а образование он считает
исключительной принадлежностью бар; вследствие того он и дочь свою так держит,
что она остается, по его выражению, дурою. В ответ на сватанье Вихо-
рева он говорит: «Ищите себе барышень, воспитанных, а уж наших-то
дур оставьте нам, мы своим-то найдем женихов каких-нибудь
дешевеньких». В этих словах еще слышится ирония, но Русаков и серьезно
продолжает в том же роде: «Ну, какая она барыня, посудите, отец: жила
здесь в четырех стенах, свету не видала... Не за что вам и любить
ее: она девушка простая, невоспитанная и совсем вам не пара. У вас
есть родные, знакомые, все будут смеяться над ней, как над дурой, да
и вам-то она опротивеет хуже горькой полыни.... так отдам ли я дочь
на такую каторгу!»
В этих рассуждениях всего печальнее то, что они совершенно
справедливы. В самом деле — не очень-то веселая жизнь ожидала бы Авдотью
Максимовну, если бы она вышла за благородного, хотя бы он и не был
таким шалыганом, как Вихорев. Она, в самом деле, воспитана так, что
в ней вовсе нет лица человеческого. Самая лучшая похвала ей из уст
самого отца — какая же? — та, что «в глазах у нее только любовь да
кротость: она будет любить всякого мужа, надо найти ей такого, чтобы
ее-то любил». Это значит — доброта безразличная, безответная, именно
такая, какая в мягких натурах вырабатывается под гнетом семейного
деспотизма и какая всего более нравится самодурам. Для людей,
привыкших опирать свои действия на здравом смысле и соображать их с
?*
132
H. A. Добролюбов
требованиями справедливости и общего блага, такая доброта противна
или по крайней мере жалка. Не мудрено рассудить, что если человек
со всеми соглашается, то у него значит, нет своих убеждений; если он
всех любит и всем друг, то, значит,— все для него безразличны; еслл
девушка всякого мужа любить будет,— то ясно, что сердце у ней
составляет даже не кусок мяса, а просто какое-то расплывающееся тесто, в
которое можно воткнуть что угодно...
Для человека, не зараженного самодурством, вся прелесть любви
заключается в том, что воля другого существа гармонически сливается с
его волей без малейшего принуждения. Оттого-то очарование любви и
бывает так неполно и недостаточно, когда взаимность достигается
какими-нибудь вымогательствами, обманом, покупается за деньги или вообще
приобретается какими-нибудь внешними и посторонними средствами.
Чувство любви может быть истинно хорошо только при внутренней
гармонии любящих, и тогда оно составляет начало и залог того
общественного благоденствия, которое обещается нам, в будущем развитии
человечества водворением братства и личной равноправности между
людьми. Но самодурство и этого чувства не может оставить свободным
от своего гнета: в его свободном и естественном развитии оно чувствует
какую-то опасность для себя и потому старается убить прежде всего
то, что служит его основанием — личность. Для этого самодуры
сочиняют свою мораль, свою систему житейской мудрости, и по' их
толкованиям выходит, что чем более личность стерта, неразличима,
неприметна, тем она ближе к идеалу совершенного человека. «У него такой
отличный характер, что он вынесет безропотно всякое оскорбление, будет
любить самого недостойного человека»,— вот похвала, выше которой
самодур ничего не знает. А на наш взгляд, подобный человек есть дрянь,
кисель, тряпка; он может быть хорошим человеком, но только в
лакейском смысле этого слова. На другое же ни на что он не годен, и от
него можно ожидать ровно столько же пакостей, сколько и хороших
поступков: все будет зависеть от того, в какие руки он попадется. Ничего
этого не признает Русаков, в качестве самодура, и твердит свое: «Все
зло на свете от необузданности; мы, бывало, страх имели и старших
уважали, так и лучше было... бить некому нынешних молодых людей,
а то-то надо бы; палка-то по них плачет». И о чем бы он ни говорил,—
уважение к старшим на первом плане. Даже на Вихорева он сердится
всего более за то, что тот «со старшими говорить не умеет». И на
дочь свою, когда та делает попытку убедить отца, он, при всей своей
мягкости, прикрикивает: «Да как ты смеешь так -со мною
разговаривать?» А затем он дает ей строгий приказ: «Вот тебе, Авдотья, мое
последнее слово: или поди ты у меня за Бородкина, или я тебя и знать
не хочу». И чтобы приказ был действительнее, он подкрепляет его
попреками: «Я тебя растил, я тебя берег пуще глазу... Что греха на душу
Темное царство 133
принял, гордость меня одолела с тобой... Наказал бог по грехам». Говоря
беспристрастно, такое обращение нельзя назвать очень гуманным; но в
нашем «темном царстве» и оно еще довольно мягко, и Русаков по
справедливости может быть назван лучшим из самодуров.
Зато и выработалась же добрая натура Авдотьи Максимовны под
влиянием этого кроткого самодурства! Трудно представить более жалкую
девушку. В сущности, она даже скорее комична, нежели жалка, так, как
комична Софья Павловна с своей любовью к Молчалину или Софья
Сергеевна (в «Новейшем оракуле» г. Потехина) с нежной страстию к
Зильбербаху. Но над Авдотьей Максимовной нельзя смеяться: обстановка
ее слишком мрачна. Когда мы одиноко идем в полночь по темному
склепу между могилами, и вдруг за одной из гробниц пред нами
внезапно является какая-нибудь нелепая рожа и делает нам гримасу,— то,
как бы гримаса ни была смешна, трудно засмеяться в эту минуту:
невольно испугаешься. Так и комизм нашего «темного царства»: дело само
по себе просто забавно, но в виду самодуров и жертв, во мраке ими
задавленных, пропадает охота смеяться... Авдотья Максимовна в течение
всей пьесы находится в сильнейшей ажитации, бессмысленной и пустой,
если хотите, но тем не менее возбуждающей в нас не смех, а
сострадание: бедная девушка в самом деле не виновата, что ее лишили всякой
нравственной опоры внутри себя и воспитали только к тому, чтобы век
ходить ей на привязи. Сердце у ней доброе, в характере много
доверчивости, как у всех несчастных и угнетенных, не успевших еще
ожесточиться; потребность любви пробуждена; но она не находит для себя ни
простора, ни разумной опоры, ни достойного предмета. В Авдотье
Максимовне не развито настоящее понятие о том, что хорошо и что дурно,
не развито уважение к побуждениям собственного сердца, а в то же
время и понятие о нравственном долге развито лишь до той степени, чтобы
признать его, как внешнюю принудительную силу. В этом положении
несчастная девушка и мечется, не зная, куда ей приклонить наконец
свою голову. Отца она любит, но в то же время и боится, и даже как-то
не совсем доверяет ему. Бородкин ей нравился; но ей сказали, что он
мужик необразованный, и она теряется, не знает, что думать, и доходит
до того, что Бородкин становится ей противен. Подвертывается Вихорев,
который ничего не имеет, кроме наглости и вывесочной физиономии,—
она прельщается Вихоревым. Но и тут она только понапрасну мучит
самое себя: ни на одну минуту не стоит она на твердой почве, а все
как будто тонет,— то всплывет немножко, то опять погрузится... так и
ждешь, что вот-вот сейчас потонет совсем... При первом ее появлении
на сцену, в конце первого акта, Вихорев сообщает ей, что отец
просватал ее за Бородкина; она наивно говорит: «Не беспокойтесь, я за Бо-
родкина не пойду».— «А если отец прикажет?»— спрашивает Вихорев.
«Нет,— говорит,— он насильно не заставит».— «А как заставит,— что тог-
134
H. A. Добролюбов
да?» — «Тогда,— идиотски отвечает она,— я уж, право, и не знаю, что
мне делать с этим делом... такая-то напасть на меня!» Вихорев, для
которого все средства хороши, предлагает ей уехать с ним тихонько; она
приходит в ужас и восклицает: «Ах нет, нет, что вы это? Ни за какие
сокровища!» Отчего же такой ужас? Да просто оттого, видите, что, «отец
проклянет меня; каково мне будет тогда жить на белом свете?»
Вследствие того она простодушно советует Вихореву переговорить с ее отцом;
Вихорев предполагает неудачу, и она успокаивает его таким
рассуждением: «Что же делать! знать, моя такая судьба несчастная... Вчера
тетенька на картах гадала, что-то все дурно выходило, я уж не мало
плакала». Вихорев стращает ее, что уедет на Кавказ и будет стараться,
чтоб его там застрелили; она и к нему пристает: «Нет, не ездите. Что
это вы,— какие страсти говорите». Словом,— девушка со всех сторон под
страхом: там отцовское проклятие грозит, тут на картах дурно выходит,
а здесь милого Вихорева, того и гляди — черкесы подстрелят. И хоть
бы какое-нибудь внутреннее противодействие всем этим ужасам явилось
в бедной девушке! Она простодушно и одинаково верит — и отцовскому
проклятию, и картам, и тому, что Вихорев поедет под пули,— и всего
этого одинаково боится... Правду она говорит про себя в начале второго
акта: «Как тень какая хожу, ног под собою не слышу... только чувствует
зюе сердце, что ничего из этого хорошего не выйдет. Уж я знаю, что
много мне, бедной, тут слез пролить». Да и как же не пролить при таких
порядках!..
К довершению горя оказывается, что она еще и Бородкина-то любит,
что она с ним, бывало, встретится, так не наговорится: у калиточки его
поджидает, осенние темные вечера с ним просиживает,— да и теперь его
жалеет, но в то же время не может никак оторваться от мысли о
необычайной красоте Вихорева. Впрочем, она очень недовольна собой и говорит:
«На грех я его увидела». Но самое, большое мученье для нее составляет —
просить отца о согласии на ее желание выйти за Вихорева. Она
приступает к этому с какой-то особенной торжественностью, заставляет
Вихорева сначала поклясться, что он ее, точно, любит, потом объявляет ему,
что для доказательства своей любви она решается сама просить
отца... «Но если б вы знали, чего это мне стоит»,— прибавляет она,
и последующая сцена вполне объясняет и оправдывает ее страх,
возможный и понятный единственно только при самодурных отношениях,
на которых основан весь семейный быт Русаковых. Кажется, чего
естественнее и легче для дочери — объявить свои желания отцу, который ее
нежно любит? Но Авдотья Максимовна, твердя о том, что отец ее любит,
знает, однако же, какого рода сцена может быть следствием подобной
откровенности с отцом, и ее добрая, забитая натура заранее трепещет и
страдает. В самом деле,— и «как ты смеешь?», и «я тебя растил и лелеял»,
и «ты дура», и «нет тебе моего благословения» — все это градом сыплется
Темное царство
135
на бедную девушку и доводит ее до того, что даже в ее слабой и покорной
душе вдруг подымается кроткий протест, выражающийся невольным,
бессознательным переломом прежнего чувства: отцовский приказ идти за
Бородкина возбудил в ней отвращение к нему. «Мне давеча было жаль
Ваню,— говорит она про Бородкина,— а теперь он мне опостылел». Но
это уже крайняя степень реакции, на которую она способна; далее этого
она не может идти в своем сопротивлении чужой воле — и падает в
обморок. Тут происходит чувствительная сцена, в которой Русаков
умиляется и соглашается выдать дочь за Вихорева, но только если тот
возьмет ее без денег. Обрадованная Авдотья Максимовна спешит в
церковь, чтобы на дороге встретить Вихорева и объявить отрадную
новость, а Вихорев увозит ее... Из хода дела оказывается, что Вихорев
увез Авдотью Максимовну насильно, и это обстоятельство
представляется очень важным для старика Русакова. Но для нас оно не так важно,
потому что мы видим в комедии сцену увезенной девушки с Вихоревым
на постоялом дворе. Из этой сцены мы с достоверностью можем
заключить, что если Вихорев и насильно посадил Авдотью Максимовну в
коляску, то он сделал это единственно по скорости времени, но что она и
сама не могла бы устоять против Вихорева, если бы он стал ее
уговаривать. И на постоялом дворе она сначала упрашивает: «Виктор Аркадьич,
голубчик! с вами я в огонь и в воду готова, только пустите меня к
тятеньке... Что с ним будет?» и пр. Но мольбы ее исчезают пред волею
Вихорева. Стал он ее уговаривать да приласкал немножко, и вот что
она уже говорит ему: «Ненаглядный ты мой! Радость, жизнь моя! Куда
хочешь — с тобой! Никого я теперь не боюсь, и никого мне не жалко.
Так бы вот улетела с тобой куда-нибудь!» Вслед за тем она опять
вспоминает об отце и опять, разумеется, бесплодно. Ей, видите,,страшно
было решиться уехать с Вихоревым; но, раз попавши к нему в руки, она
точно так же боится и от него уйти. Ни разу не проявилась в ней
сильная решимость, свидетельствующая о самобытности характера. Кроткая
жалоба, смиренная мольба — дальше этого она не смеет идти. Когда
Вихорев отталкивает ее от себя, узнавши, что за ней денег не дают, она
как будто возмущается несколько и говорит: «Не будет вам счастья,
Виктор Аркадьич, за то, что вы надругались над бедной девушкой».
Но тотчас же она сама пугается своих слов и переходит к смиренному
тону, в котором даже хочется предположить иронию, как она ни
неуместна в положении Авдотьи Максимовны. Доброта, лишенная всякой
способности возмущаться злом, и тупая покорность судьбе выражаются в
этих словах несчастной девушки: «Бог вас накажет за меня, а я вам
зла не желаю. Найдите себе жену богатую да такую, чтоб любила вас
так, как я; живите с ней в радости, а я, девушка простая, доживу,
как-нибудь, скоротаю свой век, в четырех стенах сидя, проклинаючи
свою жизнь». И эта гуманно-патетическая тирада обращена к Вихореву!
136
H. A. Добролюбов
A Вихорев думает: «Что ж, отчего и не пошалить, если шалости так
дешево обходятся». А тут еще, в заключение пьесы, Русаков, на
радостях, что урок не пропал даром для дочери и еще более укрепил в ней
принцип повиновения старшим, уплачивает долг Вихорева в гостинице,
где тот жил. Как видите, и тут сказывается самодурный обычай: на
милость, дескать, нет образца, хочу — казню, хочу — милую... Никто мне
не указ,— ни даже самые правила справедливости.
Так вот каково положение и развитие двух главных лиц комедии
«Не в свои сани не садись». Нравится оно вам? Хотели бы вы сами быть
на места Авдотьи Максимовны? Или, может быть, вам было бы приятно
играть роль Русакова и довести кого-нибудь из близких вам до того
положения, в каком представляется нам дочь Максима Федотыча? Если
так, то, конечно, вы должны восхищаться патриархальностью, чистотою
и счастием того быта, который изображен Островским в этой комедии.
Но если нет, то и эта пьеса должна вам представляться сильным
протестом, захватившим самодурство в таком его фазисе, в котором оно
может еще обманывать многих некоторыми чертами добродушия и
рассудительности.
«Но,— могут сказать нам,— несчастье, происшедшее в семействе
Русаковых, есть не более, как случай, совершенно выходящий из ряда
обыкновенных явлений их жизни. До приезда Вихорева во всей семье
Русаковых была тишь, да гладь, да божья благодать. Виною 'всего горя
была зараза новых понятий, привезенная с Кузнецкого моста сестрою
Русакова — Ариною Федотовной. Сам Русаков говорит ей: «Твое дело,
порадуйся! Я ее в страхе воспитывал да в добродетели, и она у меня
как голубка была чистая. Ты приехала с заразой-то своей. Только у тебя
и разговору-то было, что глупости... все речи-то твои были такие
вздорные. Ведь тебя нельзя пустить в хорошую семью: ты яд и соблазн!»
И действительно, во всей пьесе представляется очень ярко и
последовательно — каким образом этот яд мало-помалу проникает в душу девушки
и нарушает спокойствие ее тихой жизни. А в конце изображается опять,
как живая сила простых, патриархальных отношений берет верх над
язвою современной полуобразованности, возвращает заблудшую дочь в
родительский дом и торжествует, в лице Бородкина, восстановляя ее
естественные права в кругу всех ей близких. Такое значение, очевидно,
хотел придать пьесе сам автор, и на всех вообще она производит
впечатление, не восстановляющее против старого быта, а примиряющее с
ним».
На это мы должны сказать, что не знаем, что именно имел в виду
автор, задумывая свою пьесу, но видим в самой пьесе такие черты,
которые никак не могут послужить в похвалу старому быту. Если эти
черты не так ярки, чтобы бросаться в глаза каждому, если впечатление
пьесы раздвояется,— это доказывает только (как мы уже замечали в
Темное царство
137
первой статье), что общие теоретические убеждения автора, при создании
пьесы, не находились в совершенной гармонии с тем, что выработала
его художническая натура из впечатлений действительной жизни. Но,
смотря на художника не как на теоретика, а как на воспроизводителя
явлений действительности, мы не придаем исключительной важности
тому, каким теориям он следует. Главное дело в том, чтоб он был
добросовестен и не искажал фактов жизни в пользу своих воззрений: тогда
истинный смысл фактов сам собою выкажется в произведении, хотя,
разумеется, и не с такою яркостью, как в том случае, когда
художнической работе помогает и сила отвлеченной мысли... Об Островском даже
сами противники его говорят, что он всегда верно рисует картины
действительной жизни; следовательно, мы можем даже оставить в стороне,
как вопрос частный и личный, то, какие намерения имел автор при
создании своей пьесы. Положим, что никаких не имел, а так просто —
поразил его случай, нередко совершающийся в «темном царстве»,
которого изображением он занимается,— он взял да и записал этот случай.
О смысле его предоставляется судить публике и критике. Критика
решила, что смысл пьесы — указание вреда полуобразованности и
восхваление коренных начал русского быта. По нашему мнению, это отчасти
неверно, отчасти недостаточно. Настоящий же смысл пьесы вот в чем.
Русаков есть лучший представитель старых начал жизни, начал
самодурных. По натуре своей он добр и честен, его мысли и дела
направлены ко благу, оттого в семье его мы не видим тех ужасов угнетения,
какие встречаем в других самодурных семействах, изображенных самим
же Островским. Но это явление совершенно случайное, исключительное:
в сущности тех начал, на которых основан быт Русаковых, нет никаких
гарантий благосостояния. Напротив, уничтожая права личности, ставя
страх и покорность основою воспитания и нравственности, эти начала
только и могут обусловливать собою произвол, угнетение и обман.
Русаков — случайное Р1сключение, и за то первый ничтожный случай
разрушает все добро, которое в его семействе было следствием его личных
достоинств. Он полагает, что все зло произошло от наущений Арины
Федотовны; но ведь это он только сваливает с больной головы на здоровую.
Тут опять тот же силлогизм, который не так давно приводился против-
никамЕЕ грамотности. «Грамотные мужики — кляузники и плуты; они
обманывают неграмотных; следовательно, не нужно учить мужиков
грамоте». В правильном своем виде этот силлогизм должен иметь
следующий вид: неграмотные мужики обманываются грамотными;
следовательно, надо всем мужикам дать средства учиться, чтобы оградить их от
обмана. Так и здесь: Арина Федотовна соблазнила и надула дочь Русакова;
что из этого? То, что надо было девушке дать средства оградить себя от
соблазна. Надо было ей самой — и жизнь раскрывать, и людей
показывать, и приучать ее к самостоятельности мнений и поступков: девушка
134
H. A. Добролюбов
развитая и привыкшая к обществу — не поддалась бы пошлой Арине
Федотовне и не пленилась бы пустоголовым Вихоревым. Но дать ей
настоящее, человеческое развитие значило бы признать права ее
личности, отказаться от самодурных прав, идти наперекор всем преданиям, по
которым сложился быт «темного царства»: этого Русаков не хотел и не
мог сделать. Он добр и умен настолько, чтоб не вдаваться в крайности,
чтоб положить предел и меру злоупотреблениям, до которых самодурные
права доводят других его собратий. Но в нем нет столько силы ума и
характера, чтоб отрешиться от самых главных основ своего быта. Он
остановился на данной точке и все, что из нее выходит, обсуждает
довольно правильно: он очень верно замечает, что дочь его не трудно
обмануть, что разговоры Арины Федотовны могут быть для нее вредны, что
невоспитанной купчихе не сладко выходить за барина, и проч. Но во
всех его суждениях заметен тот неразумный, тупой консерватизм,
который составляет одно из отличительных свойств упрямого самодурства.
Он остановился на том положении дел, которое уже существует, и не
хочет допустить даже мысли о том, что это положение может или должно
измениться. Он сознает, что дочь его невоспитанна и собственно потому
не годится в барыни, но он не выражает ни малейшего сожаления о том,
что не воспитал ее. По его понятиям, уж это так и должно быть:
купчиха так купчиха, а барыня — так уж та с тем и родится, чтоб быть
барыней. Он сознает и то, что его дочь не умеет различать людей и
потому пленяется дрянным вертопрахом Вихоревым. Но это не наводит
его на мысль, что надобно было бы хоть несколько приучить ее иметь
собственные суждения о вещах. Напротив,— по его убеждению, то-то и
хорошо, что она всякого любить будет, кто ни попадись. Право выбирать
людей по своему вкусу, любить одних и не любить других может
принадлежать, во всей своей обширности, только ему, Русакову, все же
остальные должны украшаться кротостью и покорностию: таков уж устав
самодурства. При всей своей доброте и уме, Русаков как самодур не
может решиться на существенные изменения в своих отношениях к
окружающим и даже не может понять необходимости такого изменения. Все
зло происходит в семье оттого, что Русаков, боясь дать дочери свободу
мнения и право распоряжаться своими поступками, стесняет ее мысль и
чувство и делает из нее вечно несовершеннолетнюю, почти слабоумную
девочку. Он видит, что зло существует, и желает, чтобы его не было; но
для этого прежде всего надо ему отстать от самодурства, расстаться с
своими понятиями о сущности прав своих над умом и волею дочери;
а это уже выше его сил, это недоступно даже его понятию... И вот
О'Н сваливает вину на других: то Арина Федотовна с заразой пришла,
то просто — лукавый попутал. «Враг рода человеческого,— говорит,—
всяким соблазном соблазняет нас, всяким прельщением»... И не хочет
понять самой простой истины: что не нужно усыплять в человеке его
Темное царство
139
внутренние силы и связывать ему руки и ноги, если хотят, чтоб он мог
успешно бороться с своими врагами.
И за это самодурство отца девочка и должна поплатиться всем, что
могло бы доставить ей истинно счастливую, сознательную, светлую
будущность. Общий взгляд Максима Федотыча на жизнь не мог не отразиться,
наперекор его любви, и на развитии дочери. Он умел уберечь ее от всего,
что дает человеку средства беречь самого себя, и оттого-то он так плохо
уберег ее. Кажется, чего бы лучше: воспитана девушка «в страхе да в
добродетели», по словам Русакова, дурных книг не читала, людей почти
вовсе не видела, выход имела только в церковь божию, вольнодумных
мыслей о непочтении к старшим и о правах сердца не могла ниоткуда
набраться, от претензий на личную самостоятельность была далека, как
от мысли — поступить в военную службу... Чего бы, кажется, лучше?
Жила бы себе спокойно и ровно по плану, раз навсегда начертанному
Русаковым, и ничто бы, кажется, не должно было увлекать и совращать
с правого пути это совершенное, кроткое создание, эту голубку
безответную. Но шатко, мимолетно и ничтожно все, чему нет основания и
поддержки внутри человека, в его рассудке и сознательной решимости.
Только те семейные и общественные отношения и могут быть крепки, которые
вытекают из внутреннего убеждения и оправдываются добровольным,
разумным согласием всех в них участвующих. Самодурство, даже в лице
лучших его представителей, подобных Русакову, не признает этого — и
за то терпит жестокие поражения от первой случайности, от первой
ничтожной интрижки, даже просто шалости, не имеющей определенного
смысла. Что могло быть ничтожнее и бессмысленнее рассуждений Арины
Федотовны? Что могло представиться пошлее и нелепее Вихорева
Авдотье Максимовне? И однако же эти две пошлости расстраивают всю
гармонию семейного быта Русаковых, заставляют отца проклинать дочь, дочь —
уйти от отца и затем ставят несчастную девушку в такое положение, за
которым, по мнению самого Русакова, следует не только для нее самой
горе и бесчестье на всю жизнь, но и общий позор для целой семьи.
И в самодурном быте, с его патриархальными обычаями, не находится
в этом случае даже силы примирения, потому что здесь нарушена не
только формальность целомудрия, но и принцип повиновения... Для
восстановления прав невинной, но опозоренной девушки нужна
великодушная выходка Бородкина, совершенно исключительная и несообразная с
нравами этой среды, которой неразвитость и самодурство обусловливают
как чрезвычайную легкость проступка Авдотьи Максимовны, так и
невозможность примирения.
Таким образом, мы можем повторить наше заключение: комедиею
«Не з свои сани не садись» Островский намеренно, или ненамеренно,
или даже против воли показал нам, что пока существуют самодурные
условия в самой основе жизни, до тех пор самые добрые и благородные
140
H. A. Добролюбов
личности ничего хорошего не в состоянии сделать, до тех пор
благосостояние семейства и даже целого общества непрочно и ничем не обеспечено
даже от самых пустых случайностей. Из анализа характера и отношений
Русакова мы вывели эту истину в приложении к тому случаю, когда
порядочная натура находится в положении самодура и отуманивается
своими правами. В других комедиях Островского мы находим еще более
сильное указание той же истины в приложении к другой половине
«темного царства»,—половине зависимой и угнетенной.
И к Русакову могли иметь некоторое применение стихи, поставленные
эпиграфом этой статьи: и он имеет добрые намерения, и он желает
пользы для других, но «напрасно просит о тени» и иссыхает от палящих
лучей самодурства. Но всего более идут эти стихи к несчастным, которые,
будучи одарены прекраснейшим сердцем и чистейшими стремлениями,
изнемогают под гнетом самодурства, убивающего в них всякую мысль п
чувство. О них-то думая, мы как раз вспоминали:
Напрасно пророка о тени он просит:
Его лишь песок раскаленный заносит,
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним 4Э»
IV
Это все больше от необузданности, а то
и от глупости.
ОСТРОВСКИЙ 50
В горькой доле дочери Русакова мы видим много неразумного; но там
впечатление смягчается тем, что угнетение все-таки не столь грубо
тяготеет над ней. Гораздо более нелепого и дикого представляют нам в
судьбе своей угнетенные личности, изображенные в комедии «Бедность не
порок».
«Бедность не порок» нам очень ясно представляет, как честная, но
слабая натура глохнет и погибает под бессмыслием самодурства. Гордей
Карпыч Торцов, отец Любови Гордеевны, брат Любима Торцова и хозяин
Мити,— есть уже самодур в полном смысле. Он и крут, и горд, и
рассудка не имеет, по отзыву жены его, Пелагеи Егоровны. Целый дом дрожит
перед ним. Особенно грозен сделался он с тех пор, как подружился с
Африканом Савичем Коршуновым и стал «перенимать новую моду». На
этой дружбе и пристрастии Гордея Карпыча к новой моде и основана
завязка комедии. Читатель помнит, конечно, что Торцов хочет выдать
за Африкана Савича дочь свою, которая любит приказчика Митю и сама
Темное царство
141
им любима... На этом основании критика предположила, что «Бедность не
порок» написана Островским с той целью, чтобы показать, какие вредные
последствия производит в купеческой семье отступление от старых
обычаев и увлечение новой модой... За это, с одной стороны, неумеренно
превозносили Островского, с другой — беспощадно бранили. Мы не станем
спорить ни с теми, ни с другими критиками и не станем разбирать
справедливости Pix предположения. Положим даже, что у Островского
действительно была та мысль, какую ему приписывали: нас это мало
теперь занимает. Для нас гораздо интереснее то, что в Гордее Торцово
является нам новый оттенок, новый вид самодурства: здесь мы видим,
каким образом воспринимается самодуром образованность, т. е. те
случайные и ничтожные формы ее, которые единственно и доступны его
разумению. Об этом мы и поговорим теперь.
Самодурство и образование — вещи сами по себе противоположные,
и потому столкновение между ними, очевидно, должно кончиться
подчинением одного другому: или самодур проникнется началами образованности
и тогда перестанет быть самодуром, или он образование сделает слугою
своей прихоти, причем, разумеется, останется прежним невеждою.
Последнее произошло с Гордеем Карпычем, как бывает почти со всеми
самодурами. Он никак не предполагает, что первый шаг к образованности
делается подчинением своего произвола требованиям рассудка и уважением
тех же требований в других. Ему, напротив, кажется, что всякая
образованность, всякая логика существует только затем, чтобы служить к
совершеннейшему исполнению его прихотей. Оттого он и понимает только грубо
материальную, чисто Енешнюю сторону образования. «Что они,—
говорит,— пьют-то по необразованию своему! Наливки там, вишневки
разные — а не понимают того, что на это есть шампанское!» «А за столом-то
какое невежество: молодец в поддевке прислуживает лггбо девка!» «Я,—
говорит,— в здешнем городе только и вижу невежество да необразование;
для того и хочу в Москву переехать, и буду там моду всякую подражать».
Находя, что в этом-то подражании и состоит образованность, он пристает
к жене, чтоб та на старости лет надела чепчик вместо головки, задавала
модные вечера с музыкантами, отстала от всех своих старых привычек.
Но он не видит никакой надобности изменить свои отношения к
домашним, дать здравому смыслу хотя какое-нибудь участие в своем семейном
быте. Требовательность Гордея Карпыча стала больше, а простора для
деятельности всех окружающих он не дает по-прежнему. Жена жалуется,
что с ним «нельзя сговорить, при его крутом-то характере», особенно
после того, как перенял эту образованность. «То все-таки рассудок имел,—
говорит про него Пелагея Егоровна,— а тут уж совсем у него
помутилось»... Даже о судьбе дочери жена не смеет ничего сказать ему: «Смотрит
зверем, ни словечка не скажет,— точно я и не мать... Да, право... ничего
я ему сказать не смею; разве с кем поговоришь с посторонним про свое
142
H. A. Добролюбов
горе, поплачешь, душу отведешь, только и всего»... Отношения Гордея
Карпыча ко всем домашним тоже грубы и притеснительны в высшей
степени. От дочери он только и требует, чтобы из его воли не смела
выходить. На просьбу ее —не выдавать ее за Коршунова, он отвечает: «Ты,
дура, сама не понимаешь своего счастья... Одно дело — ты будешь жпть
на виду, а не в этакой глуши; а другое дело — я так приказываю».
И дочь отвечает: «Я приказу твоего не смею ослушаться». Приказчика
Митю Гордей Карпыч ругает бесцеремонно и совершенно напрасно.
Узнавши, что он посылает матери деньги, Торцов замечает: «Себя-то бы обра-
зил прежде: матери-то не бог знает что нужно, не в роскоши воспитана;
сама, чай, хлевы затворяла»... В глазах Гордея Карпыча это большое
преступление: матери деньги посылает человек, а себе сюртука нового не
сошьет... А между тем Торцов и не думает прибавить жалованья
усердному приказчику, на что даже сам кроткий Митя жалуется: «Жалованье
маленькое от Гордея Карпыча, все обида да брань, да все бедностью
попрекает, точно я виноват... а жалованья не прибавляет». Вообще —
грубость и необузданность беспрестанно и очень сильно проявляются в
Гордее Карпыче. Входя в комнату приказчиков, которые поют песни, он
кричит: «Что распелись! Горланят точно мужичье!..» и начинает ругаться...
Во втором акте, когда Пелагая Егоровна устроила вечеринку и позвала
ряженых, вдруг вбегает Арина, говорит: «сам приехал»,—и все
присутствующие встают в перепуге. Гордей Карпыч входит и действительно —
здоровается с женой и гостями следующим приветствием: «Это что за
сволочь! Вон! Жена, принимай гостя!..» Гость этот — Африкан Савич, и он-то
уж сдерживает несколько порывы гнева Гордея Карпыча... Ясно, что даже
та внешность образования, которая выражается в манерах и приличиях,
не далась Гордею Карпычу. Он мог надеть новый костюм, завести новую
небелъ, пристраститься к шемпанскому ; но в своей личности, в характере,
даже во внешней манере обращения с людьми — он не хотел ничего
изменить и во всех своих привычках он остался верен своей самодурной
натуре, и в нем мы видим довольно любопытный образчик того, каким
манером на,всякого самодура действует образование. Казалось
бы—человек попал на хорошую дорогу: сознал недостатки того образа жизни,
какой вел доселе, исполнился негодованием против невежества, понял
превосходство образованности вообще... Утешительное явление! Положим,
что все это в нем еще смутно, слабо, неверно; но все-таки начало сделано,
застой потревожен, деятельность получила новое направление... Быть
может, он пойдет и дальше по этому пути, и нрав его смягчится, вся
жизнь примет новый характер... Нет, не дожидайтесь... Во всяком другом
образование возбуждает симпатические стремления, смягчает характер,
развивает уважение к началам справедливости и т. д. Но в самодуре
само просвещение, сама логика, сама добродетель принимает свой, дикий
и безобразный, вид. Отправляясь от той точки, что его произвол должен
Темное царство
143
быть законом для всех и для всего, самодур рад воспользоваться тем,
что просвещение приготовило для удобств человека, рад требовать от
других, чтоб его воля выполнялась лучше, сообразно с успехами разных
знаний, с введением новых изобретений и пр. Но только на этом он и
остановится. Не ждите, чтоб он сам на себя наложил какие-нибудь
ограничения вследствие сознания новых требований образованности; не
думайте даже, чтоб он мог проникнуться серьезным уважением к законам
разума и к выводам науки: это вовсе не сообразно с натурою
самодурства. Нет, он постоянно будет смотреть свысока на людей мысли и
знания, как на чернорабочих, обязанных приготовлять материал для
удобства его произвола, он постоянно будет отыскивать в новых успехах
образованности предлоги для предъявления новых прав своих и никогда не
дойдет до сознания обязанностей, налагаемых на него теми же успехами
образованности. Иначе и не может он поступать, не переставая быть
самодуром, так как первое требование образованности в том именно и
состоит, чтобы отказаться от самодурства. А отказаться от самодурства
для какого-нибудь Гордея Карпыча Торцова значит — обратиться в полное
ничтожество. И вот он тешится над всеми окружающими: колет им глаза
их невежеством и преследует за всякое обнаружение ими знания и
здравого смысла. Он узнал, что образованные девушки хорошо говорят, и
упрекает дочь, что та говорить не умеет; но чуть она заговорила, кричит:
«Молчи, дура!» Увидел он, что образованные приказчики хорошо
одеваются, и сердится на Митю, что у того сюртук плох; но жалованьишко
продолжает давать ему самое ничтожное... Таков он и во всей своей
жизни, и в раскрытии этого-то отношения самодурства к образованности
заключается для нас главный интерес лица Гордея Карпыча. Мы вовсе не
понимаем, каким образом некоторые критики могли вывести, что в этом
лице и вообще в комедии «Бедность не порок» Островский хотел
показать вредное действие новых понятий на старый русский быт... Из всей
комедии ясно, что Гордей Карпыч стал таким грубым, страшным и
нелепым не с тех пор только, как съездил в Москву и перенял новую моду.
Он и прежде был, в сущности, такой же самодур; теперь только
прибавилось у него несколько новых требований...
Под влиянием такого человека и таких отношений развиваются
кроткие натуры Любови Гордеевны и Мити, представляющие собою образец
того, до чего может доходить обезличение и до какой совершенной
неспособности к самобытной деятельности доводит угнетение даже самую
симпатичную, самоотверженную натуру. Митя способен к жертвам: он сам
терпит нужду, чтобы только помогать своей матери; он сносит все
грубости Гордея Карпыча и не хочет отходить от него, из любви к его дочери;
он, несмотря на гнев хозяина, пригревает в своей комнате Любима Торцо-
Еа и дает ему даже денег на похмелье. Словом, у Мити так много
самоотвержения, что, кажется, ему всякие жертвы, всякие опасности должны
144
//. А. Добролюбов
быть нипочем... Не меньшей добротой отличается и Любовь Гордеевна.
А уж как она любит Митю — этого и сказать нельзя: кажется, душу за
него отдала с радостью... Будь это люди нормальные, с свободной волей
и хоть с некоторой энергией,— ничто не могло бы разлучить их, или по
крайней мере разлука эта не обошлась бы без тяжелой и страшной
борьбы. Но посмотрите, как разыгрывается вся история в семействе Торцова.
При самом объяснении в любви, собираясь просить благословения у отца,
Любовь Гордеевна говорит Мите: «А ну как тятенька не захочет нашего
счастья,— что тогда?» Митя отвечает: «Что загадывать вперед? Там — как
бог даст. Не знаю, как тебе, а мне без тебя жизнь не в жизнь». Любочка
ничего не находит ответить на эти слова. Как ясно рисуется здесь
бессилие и забитость молодых людей! Они боятся даже подумать о
каком-нибудь самостоятельном шаге, стараются прогнать от себя даже мысль о
предстоящих препятствиях. Она с ужасом говорит: «Что будет, если
тятенька не согласится?» — а он вместо ответа: «Как бог даст!..» Ясно что они
не в состоянии исполнить своих намерений, если встретят хоть малейшее
препятствие. И действительно,— в этот самый вечер является Гордей Кар-
пыч с Коршуновым, приказывает дочери ласкать и целовать его и
объявляет, что это ее жених. Пелагея Егоровна приходит в ужас и в каком-
то бессознательном порыве кричит, схватывая дочь за руки: «Моя дочь,
не отдам! батюшка, Гордей Карпыч, не шути над материнским сердцем!
перестань... истомил всю душу». Но Гордей Карпыч грозно вопиет: «Жена!
ты меня знаешь: у меня сказано — сделано»,— и жена умолкает. Начинает
теперь дочь свою оппозицию. Начинает она тем, что падает отцу в ноги
и говорит: «Тятенька! я приказа твоего не смею ослушаться... Тятенька!
не захоти ты моего несчастья на всю мою жизнь! Передумай, тятенька!
Что хочешь меня заставь, только не принуждай ты меня против сердца
замуж идти за немилого». Кончается же оппозиция т\эм, что на суровый
отказ отца невеста отвечает: «Воля твоя, батюшка»,— кланяется и
отходит к матери, а Коршунов велит девушкам петь свадебную песню...
Борьба оказалась не очень упорною и продолжительною; но даже и такое
проявление личных своих желаний очень много значит в Любови Гордеевне.
Только крайность огорчения, только тяжелая душевная мука могла
заставить ее раскрыть рот для произнесения слов, не согласных с волею
родителя. Но и тут — какие слова: «передумай!», «не захоти!». Какое жалкое
положение: не иметь даже ни малейшего помышления о возможности
сделать что-нибудь самому, полагать всю надежду на чужое решение, на
чужую милость, в то время как нам грозит кровная беда... Каково должно
быть извращение человеческой природы в этом ужасном семействе, когда
даже чувство самосохранения принимает здесь столь рабскую форму!..
Третий акт комедии открывается тем, что воля Гордая Карпыча
совершилась: гости пируют на помолвке его дочери с Африканом Саввичем.
Старая служанка Арина ругает жениха и тоскует об участи невесты; Пелагея
Темное царство
145
Егоровна жалуется на свое горе, что дочка у ней погибает; Митя приходит
прощаться: он решился уехать к матери от своей напасти. Слезы и
жалобы Пелагеи Егоровны выводят его, однако, из себя, и он начинает ей
колоть глаза ее трусостью и бессилием. «Не на кого,— говорит,— вам
плакаться: сами отдаете. Чем плакать-то, не отдавали бы лучше. За что девичий
век заедаете, в кабалу отдаете? Нешто это не грех?» и пр. У Пелагеи
Егоровны один ответ: «Знаю я все, да не моя воля; а ты бы, Митя, лучше
пожалел меня». Тут Митя приходит в умиление и рассказывает ей про свою
любовь, а она замечает: «Ах ты, сердечный! Экой ты горький паренек-то,
как я на тебя посмотрю!..» Она сожалеет об его горе, как о таком, которого
никакими человеческими средствами отвратить уж невозможно,— как
будто бы она услыхала, например, о том, что Митя себе руки обрубил, или —
что мать его умерла... Но вот и сама Любовь Гордеевна приходит; у Мити
расходилось сердце до того, что он предлагает Пелагее Егоровне снарядить
дочку потеплее к вечеру, а он ее увезет к своей матушке, да там и
повенчаются. Решение это очень смело, но оно не составляет обдуманного,
серьезного плана, и ему суждено погибнуть так же скоро, как оно
зародилось. Сам,Митя характеризует свой порыв такою фразой: «Эх, дайте
душе простор,— разгуляться хочет! По крайности, коли придется и в
ответ идти, так уж зато буду знать, что потешился». Итак, это отчаянная,
безумная вспышка, к каким бывают в некоторые мгновения способны
самые робкие люди. Но у Мити нет силы поддержать свое требование и,
встретив отказ от матери и от дочери, он довольно скоро и сам
отказывается от своего намерения, говоря: «Ну, знать, не судьба». А Любовь
Гордеевна — та уж вовсе убита, так что не может допустить даже и
мысли о согласии на предложение Мити... И не мудрено: она ведь гораздо
ближе к Гордею Карпычу, гораздо более подвергалась влиянию его
самодурства, нежели Митя. Оттого она безропотно решается на всякие муки,
только чтоб не выступить из отцовского приказа. «Нет, Митя, не бывать
этому,— говорит она: — не томи себя понапрасну, не надрывай мою душу...
И так мое сердце все изныло во мне... Поезжай с богом». И Митя отходит,
зная, что «Любови Гордеевне за Коршуновым не иначе как погибать
надобно»; и она это знает, и мать знает — и все тоскливо и тупо
покоряются своей судьбе... До такой степени гнет самодурства исказил в них
человеческий образ, заглушил всякое самобытное чувство, отнял всякую
способность к защите самых священных прав своих, прав на
неприкосновенность чувства, на независимость сердечных влечений, на наслаждение
взаимной любовью!..
И ведь если бы еще в самом деле сила неодолимая, натура высшего
разряда тяготела над этими несчастными! А то вовсе нет!.. Гордей Кар-
пыч не только крайне ограничен в своих понятиях, но еще и труслив и
слабодушен. Это опять-таки — неотъемлемое, неизбежное свойство
самодурства. Самодур дурит, ломается, артачится, пока не встречает себе про-
10 Н. А. Добролюбов
146
H. A. Добролюбов
тиводействия или пока противодействие робко и нерешительно... Но у него
нет такой точки опоры, которая могла бы поддержать его в серьезной и
продолжительной борьбе. Он требует и приказывает, но сам хорошенько не
понимает ни настоящего смысла своих приказаний, ни того, на чем они
основаны.. Кроме того, в нем есть всегда неопределенный, смутный страх
за свои права: он чувствует, что многих своих претензий не может
оправдать никаким правом, никаким общим законом.. Боясь, чтобы другие
этого не приметили, он употребляет обыкновенную меру — запугиванье.
Известно, как скрывается под этой мерою всякая ничтожность, фальшь,
нечистота, словом — несостоятельность всякого рода. Учитель, не
довольно сведущий, старается быть строже с учениками, чтобы те его не
расспрашивали ни о чем. Начальник, не понимающий дела или нечистый на
руку, старается напустить на себя важность, чтобы подчиненные не
дерзали слишком смело судить о нем. Барин, не имеющий никакого
действительного достоинства, старается взять суровостью и грубостью пред
лакеем... Благодаря общей апатии и добродушию людей такое поведение
почти всегда удается: иной и хотел бы спросить отчета — как и почему? —
у начальника или учителя, да видит, что к тому приступу нет, так и
махнет рукой... «Э,— скажет,— ну его! Еще обругает ни за что ни про
что!» И вследствие такого рассуждения наглая, самодурная глупость и
бесчестность продолжают безмятежно пользоваться всеми выгодами своей
наглости и всеми знаками видимого почета от окружающих. Всеобщая
потачка возвышает гордость самодура и даже действительно придает ему
силы. Она вознаграждает для него отсутствие сознания о своем
внутреннем достоинстве. Так, господин, вывозящий мусор из города, мог бы,
несмотря на совершенную бесценность этого предмета, заломить за него
непомерные деньги, если бы увидел, что все окрестные жители по
непонятной иллюзии придают ему какую-то особенную цену... Но только на
подобной иллюзии и держится значение самодура. Только покажись где-
нибудь сильный и решительный отпор,— сила самодура падает, он
начинает трусить и теряться. На первый раз еще у него станет храбрости и
упрямства, и это объясняется даже просто привычкой: привыкши встречать
безмолвное повиновение, он с первого раза и. поверить не хочет, чтобы
могло явиться серьезное противодействие его воле. Вследствие того, считая
сначала за следствие недоразумения всякий голос, имеющий хоть тень
намерения ограничить его самовольство, он разражается взрывом бешенства^
пытается запугать еще больше, чем прежде пугал, и этим средством по
большей части успевает смирить или заглушить всякое недовольство. Но
чуть только он увидит, что его сознательно не боятся, что с ним идут на
спор решительный, что вопрос ставится прямо — «погибну, но не
уступлю»,— он немедленно отступает, смягчается, умолкает и переносит свой
гнев на другие предметы или на других людей, которые виноваты
только тем, что они послабее.. Всякий, кто учился, служил, занимался част«
Темное царство
147
ными комиссиями, вообще имел дела с людьми,— натыкался, вероятно, не
раз в жизни на подобного самодура и может засвидетельствовать
практическую справедливость наших слов. Бойтесь сказать мимоходом слово
вопреки сердитому и бестолковому начальнику: вас ждет поток бранных слов
и угрожающих жестов, крайне оскорбительных. Мало того,— вас и
впоследствии будет преследовать неблагоприятное мнение начальника: вы
либерал, вы непочтительны к начальству, голова ваша набита фанаберией...
Но если вы хотите служить и вести дела честно, не бойтесь вступать в
серьезный, решительный спор с самодурами. Из ста случаев в девяноста
девяти вы возьмете верх. Только решитесь заранее, что вы на полуслове
не остановитесь и пойдете до конца, хотя бы от^ того угрожала вам
действительная опасность — потерять место или лишиться каких-нибудь
милостей. Первая ваша попытка заикнуться о вашем мнении будет
предупреждена возвышением голоса самодура; но вы все-таки возражайте.
Возражение ваше встречено будет бранью или выговором, более или менее
неприличными, смотря по важности и по привычкам лица, к которому вы
обращаетесь. Но вы не смущайтесь: возвышайте ваш голос наравне с
голосом самодура, усиливайте ваши выражения соразмерно с его речью,
принимайте более и более решительный тон, смотря по степени его
раздражения. Если разговор прекратился, возобновляйте его на другой и на
третий день, не возвращаясь назад, а начиная с того, на чем остановились
вчера,— и будьте уверены, что ваше дело будет выиграно. Самодур
возненавидит вас, но еще более испугается. Он рад будет прогнать и погубить
вас, но, зная, что с вами много хлопот, сам постарается избежать новых
столкновений и сделается даже очень уступчив: во-первых, у него нет
внутренних сил для равной борьбы начистоту, во-вторых, он вообще не
привык к какой бы то ни было последовательной и продолжительной
работе, а бороться с человеком, который смело и неотступно пристает к
вам,— это тоже работа немалая...
Итак, Гордей Карпыч в качестве самодура очень слабодушен и вовсе
не имеет выдержки в своем характере. Все качества действительно
сильной натуры заменяются у него необузданным произволом да тупоумным
упрямством. Вот чем объясняется и оправдывается видимая
неожиданность развязки, которую дал Островский комедии «Бедность не порок».
При появлении этой комедии все критики восстали на автора за
произвольность развязки. Внезапная перемена Гордея Карпыча, его ссора с Аф-
риканом Савичем и внимание к требованиям Любима Торцова показались
всем неестественными. Да тут же еще, кстати, хотели видеть со стороны
автора навязыванье какого-то великодушия Торцову и как будто
искусственное облагороживанье его личности. Теперь, кажется, не нужно
доказывать, что таких намерений не было у Островского: характер его
литературной деятельности определился, и в одном из последующих своих
произведений он сам произнес то слово, которое, по нашему мнению, все-
10*
148
H. A. Добролюбов
го лучше может служить к характеристике направления его сатиры.
Преследование самодурства во всех его видах, осмеиванье его в последних
его убежищах, даже там, где оно принимает личину благородства и
великодушия,— вот, по нашему убеждению, настоящее дело, на которое
постоянно устремляется талант Островского, даже совершенно независимо
от его временных воззрений и теоретических убеждений. В трех комедиях
его изображаются порывы великодушия у самодуров, и каждый раз они
являются глупыми, ненужными или обидными. В «Не в своих санях»
Русаков, разжалобившись над дочерью, тоже великодушно изменяет свое
решение и соглашается выдать ее за, Вихорева. Спрашивается: зачем? с
какой стати? Ведь он, по-видимому, вполне убежден, что замужество с
Вихоревым составит гибель его дочери. За несколько минут ранее он даже
доказывает это довольно резонно; за несколько минут он выказывает
свою твердость, угрожая лишить дочь своего благословения в случае
непослушания. А тут вдруг великодушная уступка! Чем она вызвана?
Отчасти добротою сердца и отцовской любовью; но всего более совершенным
отсутствием прочных основ для принятого им прежде решения. Человек,
знающий, что он делает, и любящий свое дело, не отстанет от него по
минутному капризу. Тот же Русаков не решится сбрить себе бороду "или
надеть фрак, как бы его дочь ни убивалась из-за этого. А относительно
судьбы дочери у него нет в голове даже таких прочно сложившихся и
вполне определенных убеждений, как насчет бороды и фрака., Оттого-то
и возможно для него в решении о ней такое легкомыслие, которое в
глазах некоторых представляется даже умилительным великодушием, так же,
как и уплата долга за Вихорева!..
Тою же неразумностью отличается и великодушие Торцова. Он души
не чает в своем будущем зяте Африкане Савиче. «Можешь ли ты меня
теперь понимать?»— спрашивает он, и ничего, кажется, не желает более,
как только того, чтобы зятюшка его понял. Чтобы угодить ему и
скрепить свою дружбу с ним, Торцов жертвует дочерью, презирает ее
мольбы и слезы матери, даже сам, видимо, унижается' и позволяет ему
обходиться с собой несколько свысока. Но вот Любим Торцов начинает
обижать нареченного зятя, зять обижен и дает это заметить Гордею Кар-
пычу довольно грубо, заключая свою речь словами: «Нет, теперь ты
приди ко мне да покланяйся, чтоб я дочь-то твою взял». Этих слов
довольно, чтобы взбесить Гордея Карпыча. Он вспыльчиво спрашивает: «Я к
тебе пойду кланяться?» А Коршунов подливает масла в огонь, говоря:
«Пойдешь, я тебя знаю. Тебе нужно свадьбу сделать, хоть в петлю лезть,
да только б весь город удивить, а женихов-то нет... Вот несчастье-то
твое». Этими словами Коршунов совершенно портит свое дело: он
употребил именно ту форму, которой самодурство никак не может переносить и
которая сама опять-таки есть не что иное, как нелепое порождение
самодурства. Один самодур говорит: «Ты не смеешь этого сделать»; а дру-
Темное царство
149
гой отвечает: «Нет, смею». Тут спор идет уж о том, кто кого передурит.
И если один из спорящих чего-нибудь добивается от другого, то,
разумеется, победителем останется тот, от которого добиваются: ему ведь тут и
труда никакого не нужно: стоит только не дать, и дело с концом. Так
происходит и здесь. Выслушав «не смеешь» Коршунова, Гордей Карпыч
говорит: «Опосля этого, когда ты такие слова говоришь, я сам тебя знать
не хочу! Я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло, за кого
вздумается, за того и отдам. С деньгами, что я за ней дам, всякий —
человек будет.. Вот за Митьку отдам!» И в порыве гнева он несколько
раз повторяет: «Да, за Митьку отдам! Назло ему за Митрия отдам!..»
Коршунов уходит в ярости, а домашние все удивлены, принимая слова
Гордея Карпыча за серьезное решение: до такой степени приучены они к
неразумности всех его поступков. Митя, с наивностию загнанного юноши,
очень доверчиво и очень плохо понимающего истинный смысл всего, что
вокруг него происходит, даже обращается к Торцову с следующей речью:
«Зачем же назло, Гордей Карпыч? Со злом такого дела не делают. Мне
назло не надобно-с. Лучше уж я всю жизнь буду мучиться. Коли есть ваша
такая милость, так уж вы благословите нас как следует,—
по-родительски, с любовию»... Но эти наивные слова возбуждают, разумеется,
гневное изумление в Торцове, который и не думал говорить серьезно об
отдаче дочери за Митю. «Что, что! — вскрикивает он.— Ты уж и рад
случаю! Да как ты смел подумать-то? Что она, ровня, что ль, тебе? С кем
ты говоришь, вспомни!..» Митя становится перед ним на колени, но это
смирение не обезоруживает Гордея Карпыча: он продолжает ругаться.
Просьбы дочери и жены тоже остаются бессильны. Но тут-то является им
на помощь Любим Торцов,— озорник, с которым Гордей Карпыч уж
достаточно повозился и никакого ладу не нашел.. Любим говорит ему то же,
что и Коршунов: «Да ты поклонись в ноги Любиму Торцову, что он тебя
оконфузил-то»,— и Пелагея Егоровна прибавляет: «Именно, Любимушка,
надо тебе в ноги поклониться»... Можно бы ожидать, что Гордей
Карпыч, назло домашним, опять упрется и выдумает еще что-нибудь назло.
Но он только спрашивает в недоумении: «Что ж я, изверг, что ли,
какой в своем семействе?» Из этого вы уже замечаете, что его начинает
пробирать великодушие. Раз он уже поставил на своем, прогнав
Коршунова, и, следовательно, самолюбие его удовлетворено покамест. К тому
же, он уж и утомлен напряжением, которое сделал, и не в состоянии
теперь снова собрать ту же энергию для другой борьбы. А тут, вместе
с кроткими мольбами жены, допекают его рассуждения и назойливые
просьбы брата Любима, который говорит с ним смело и решительно, без
всяких умолчаний, подкрепляя просьбы свои доказательствами, взятыми
из собственного опыта. Гордей Карпыч как будто затуманивается; он
смотрит вокруг себя и не знает, как ему все это понимать и что делать; он
ищет внутри себя — на чем бы опереться в борьбе, и ничего не находит,
150
H. A. Добролюбов
кроме своей самодурной воли. Она-то и высказывается в последнем его
возражении: «Ты мне что ни говори, а я тебя слушать не хочу»... Но
Любим не придает особенной важности такому возражению и продолжает
свои настояния. Гордей Карпыч окончательно сбит с толку и обессилен;
сознание всего окружающего решительно мутится в его голове; он никак
не может отыскать своих мыслей, которые никогда и не были крепко
связаны между собой, а теперь уж совсем разлетелись в разные стороны..
В эту критическую минуту он позволяет себе раскваситься, его
прошибает слеза, и он, благодаря брата Любима за назидание, благословляет
будущее счастие детей своих... Пользуясь его расположением, и племянник
его, Гуслин, которому Торцов запрещал жениться, просит разрешения и
получает его... Гордей Карпыч говорит: «Теперь просите вое, кому что
нужно; теперь я стал другой человек!..»
Какой широкий размах великодушия, подумаешь!.. Так и чуешь
какого-то восточного султана, который говорит: «Всё в моей власти! Стоит
мне мигнуть, и с тебя голову снимут; стоит сказать слово, и неслыханно
роскошные дворцы вырастут для тебя из земли. Проси, чего хочешь!
полмира могу я взять и подарить, кому хочу»... Разница только в размерах,
а сущность дела та же самая в словах Торцова. Дай ему какой-нибудь
калифат, он бы и там стал распоряжаться так же точно, как теперь
в своем семействе. Дурил бы, презирая все человеческие права, и не
признавая других законов, кроме своего произвола, а подчас удивлял бы
своим великодушием, основанным опять-таки на той мысли, что «вот,
дескать, смотрите: у вас прав никаких нет, а на всем моя полная воля:
могу казнить, могу и миловать»!.. Счастливы мы, читатель, что живем в
настоящее время, когда у нас порывы подобного великодушия
невозможны!.. Ими можно пользоваться в известные минуты, как воспользовались
Митя и Любовь Гордеевна: их дело выиграно, хотя Гордей Карпыч,
разумеется, и не надолго останется великодушным и будет после каяться и
попрекать их своим решением.. Но подобные выигрыши ненадежны.
Когда вы рассчитываете, как устроить свою жизнь, то, конечно, не будете
основывать своих расчетов на том, что, может быть, выиграете большое
состояние в лотерею. Так точно в разумной сознательной жизни
невозможно рассчитывать и на выигрыш великодушия самодура... Пусть лучше
не будет этих благородных, широких барских замашек, которыми
восторгались старые, до идиотства захолопевшие лакеи; но пусть будет свято
и неприкосновенно то, что мне принадлежит по праву; пусть у меня
будет возможность всегда употреблять свободно и разумно мою мысль и
волю, а не тогда, когда выйдет милостивое разрешение от какого-нибудь
Гордея Карпыча Торцова...
Но бессилие и внутреннее ничтожество самодурства не выдается еще
в этих комедиях с такой поразительной яркостью, как в небольшой
комедии «В чужом пиру похмелье». Здесь есть все — и грубость, и отсут-
Темное царство 151
ствие честности, и трусость, и порывы великодушия,— и все это
покрыто такой тупоумной глупостью, что даже люди, наиболее расположенные
к славянофильству, не могли одобрить Тита Титыча Брускова, а
заметили только, что все-таки у него душа добрая... Аграфена Платоновна,
хозяйка квартиры, где живет учитель Иванов с дочерью, отзывается о Брус-
кове как о человеке «диком, властном, крутом сердцем, словом сказать,—
самодуре». На вопрос Иванова: что значит самодур? — она объясняет:
«Самодур — это называется, коли вот человек никого не слушает: ты ему хоть
кол на голове теши, а он все свое. Топнет ногой, скажет: кто я? Тут уже
все домашние ему в ноги должны, так и лежать, а то беда»... Продолжая
свою характеристику, она замечает, что «насчет плутовства — он, точно,
старик хитрый; но хоть и плутоват, а человек темный. Он только в своем
доме свиреп, а то с ним, что хочешь делай,— дурак дураком; на пустом
спугнуть можно». И действительно, из пьесы оказывается, что все слова
Аграфены Платоновны справедливы. Она же сама, ни с того ни с сего,
берет с Брускова, зашедшего в квартиру Ивановых, тысячу целковых за
расписку, в которой сын его, Андрей Титыч, обещается жениться на
дочери Иванова. Расписка эта и сама по себе ничего не значит, да Иванов с
дочерью и не знают о ней и претензии никакой не имеют; все это сама
хозяйка устраивает, желая их облагодетельствовать.. Но Брусков, как
темный человек, вполне освоившийся с обычаями «темного царства»,
не входит ни в какие соображения. Во-первых, он всегда готов к тому, что
его обманут, так как он сам готов обмануть всякого. Поэтому, прочитав
бумажку, показанную ему Аграфеной Платоновной, он преспокойно
замечает: «Это, то есть, насчет грабежу. Ну народец!..» И затем начинает
торговаться, нисколько не возмущаясь этой историей, а только удивляясь
ловкой штуке, которую сочинили с его сыном. Во-вторых — он ужасно
боится всякого суда, потому что хоть и надеется на свои деньги, но все-
таки не может сообразить, прав ли он должен быть по суду или нет, а
знает только, что по суду тоже придется много денег заплатить. На этом
основании, только услышавши от Аграфены Платоновны, что теперь
пойдет «дело по делу, а суд по форме», он чешет себе затылок и говорит:
«По форме? Нет, уж лучше мы так, между себя сделаемся». И это ему
действительно гораздо легче, уж и потому даже, что подобные сделки для
него очень привычны. Он так объясняется с женою на этот счет, возвра-
тясь от Ивановых:
Тит Тптыч. Настасья! Смеет меня кто обидеть?
Настасья Панкратьевна. Никто, батюшка, Кит Китыч, не смеет вас
обидеть. Вы сами всякого обидите.
Тит Т и т ы ч. Я обижу, я и помилую, а то деньгами заплачу. Я за это много
денег заплатил на своем веку.
Настасья Панкратьевна. Много, Кит Китыч, много.
Тит Титыч. Молчи!..
152
H. A. Добролюбов
Отсутствие ясного сознания нравственных начал выражается и в
обращении, которое Брусков позволяет себе с Аграфеной Платоновной и с
Ивановым, после того как заплатил деньги и получил расписку. Аграфена
Платоновна старается его выпроводить, но он усаживается и начинает
ругаться, представляя такой резон: «Нет, погоди, — дай хоть поругатъся-
то за свои деньги». Но, впрочем, это он так только, зло сорвать хочет:
в своих ругательствах он не видит ничего оскорбительного, да и сам не
задет за живое. Когда приходит Иванов и, ничего не зная о происшедшей
истории, с недоумением смотрит на Брускова, Тит Титыч обращается к
нему с такой речью: «Ты что на меня смотришь? На мне, брат, ничего
не написано. Деньги-то взять умели. Вы меня хоть попотчуйте чем за мои
деньги-то». Иванов просит его уйти; он опять начинает ругаться. Иванов
гонит его вон,— он возражает: «Что ты кричишь-то? Я ведь ничего, я
так — шучу с тобой». Иванов продолжает гнать его, и Брусков подходит
к нему и, ударяя его по плечу, говорит: «Поедем ко мне! Выпьем
вместе, приятели будем. Что ссориться-то!» Иванов входит в пущий азарт, и
Брусков, с неудовольствием замечая: «Ишь ты, какой
сердитый!»—уходит с новыми ругательствами... Пришедши домой, он велит Захару Заха-
рычу, пьянчужке-приказному, писать «такое прошение, чтобы троих
человек в Сибирь сослать по этому прошению». Я, говорит, «так хочу и
никаких денег для этого не пожалею». Но тут приходит Иванов^ узнавший
между тем все дело, приносит деньги, взятые Аграфеной Платоновной, и
просит назад расписку. Брусков тотчас смекает, что Иванов затем ее
просит, чтобы потом за нее больше содрать. Но старик учитель разжалобил
его, и он спрашивает: «Аль отдать, Сахарыч,— отдать?» Захар Захарыч
говорит: «Ни-ни-ни!» Но Брусков внезапно решает: «А я говорю, что
отдать!.. Ты молчи, не смей разговаривать!..» И расписка отдана, и тут
же разорвана Ивановым, а через несколько минут Брусков находит, что
«деньги и все это — тлен» и что, следовательно, сын его может жениться
на дочери Иванова, хоть она и бедна... «Мое слово — закон»,— говорит
он и посылает сына — сватать дочь учителя. «Да помилуйте, тятенька, он
не отдаст, возражает сын. «Я тебе приказываю, слышишь,— говорит Тит
Титыч: — как он смеет не отдать, когда я этого желаю?.. Вы не смейте
со мной разговаривать,— прибавляет он.— А если не отдаст за тебя, ты
лучше мне и на глаза не показывайся!..»
Во всем этом замечательно то, что вся история сама по себе
необыкновенно глупа... Если смотреть здраво, то все ее участники хотят
невозможного, или, лучше сказать,— сами не смыслят, чего они хотят.
Аграфена Платоновна, не спросясь Ивановых, берет с Андрея Брускова
расписку, а с отца его — деньги. Тит Титыч хочет услать Ивановых в Сибирь и
основывает это на расписке, которую его же выгода требует уничтожить.
Иванов убивается, требуя — даже не уничтожения, а именно
возвращения расписки, что ему вовсе не нужно, и только возбуждает справедли-
Темное царство
153
вые подозрения в Брускове... Все это совершенно нелепо и бессмысленно,
как сам Брусков и вся его жизнь. Но всего глупее — роль сына Бруско-
ва, Андрея Титыча, из-за которого идет вся эта история и который сам,
по его же выражению, «как угорелый ходит по земле» и только
сокрушается о том, что у них в доме «все не так, как у людей» и что его
«уродом сделали, а не человеком». И в самом деле,— смешно посмотреть, что
с ним делают. Парню уж давно за двадцать, смыслом его природа не
обидела: по фабрике отцовской он лучше всех дело понимает, вперед
знает, что требуется, кроме того и к наукам имеет наклонность, и
искусства любит, «к скрипке оченно пристрастие имеет», словом сказать —
парень совершеннолетний, добрый и неглупый; возрос он до того,
что уж и жениться собирается... И вдруг он «от тятеньки
скрывается!..» Только заслышал, что «сам приехал»,— как и кричит:
«Маменька, спрячьте меня от тятеньки»,— и бежит к матери в спальню прятаться...
Какая тому причина? Та, что тятенька его женить задумал
насильственным образом... Так он, видите, отбегаться думает!.. И способ-то
хороший выбрал!.. А зачем тятенька хочет его женить насильно, на то
причина одна: что так он хочет... Мать, впрочем, представляет и другую
причину: невеста, найденная отцом, очень богата, а «нам,— по словам
Настасьи Панкратьевны,— надо невесту с большими деньгами — потому —
сами богаты»... Логика неопровержимая!.. И Андрей Титыч ничего
хорошенько не может возразить против нее: он уже доведен отцовским
обращением до того, что сам считает себя «просто пропащим человеком». А
обращение в самом деле хорошее, если послушать его рассказов Лизавете
Ивановне, дочери Иванова. По его словам, у него «крылья ошибены,
то есть обрублены как есть». Жениться он должен не по своему выбору,
а по приказу отцовскому. «А коли скажешь, что, мол, тятенька, эта
невеста не нравится: а, говорит, в солдаты отдам!., ну, и шабаш! Да уж не
то, что в этаком деле,— прибавляет он,—и в другом-то в чем воли не
дают. Я вот помоложе был, учиться хотел, так и то не велели!..» Лиза-
вета Ивановна советует ему, выбравши хорошую минуту, рассказать отцу
откровенно все — что он способности имеет, что учиться хочет, и т. п.
Андрей Титыч отвечает на это: «Он такую откровенность задаст, что
места не найдешь. Вы думаете,— он не знает, что ученый лучше
неученого? — Только хочет на своем поставить... Один каприз, одна только
амбиция,— что вот я неучен, а ты умнее меня хочешь быть».
Ну, скажите, есть ли какая-нибудь возможность вести разумную речь
с этими людьми! Отец знает, что ученый лучше неученого, и сыну
известно, что отец это знает, и сын хочет учиться, и все-таки отец
запрещает, и сын не смеет ослушаться! Отец признает себя неучем,
сознает, что это дурно, и боится, чтобы сын его не избежал этого зла!.. Сын
знает, что отец только вследствие собственного невежества запрещает ему
учиться, и считает долгом покориться этому невежеству!.. Кто разберет
154
H. A. Добролюбов
эту бессмысленную путаницу, внесенную самодурством в семейные
отношения? Кто сумеет бросить луч света в безобразный мрак этой
непостижимой логики «темного царства»? Подумаешь, что Андрей Титыч тоже
сумасшедший, как его братец Капитоша, который представляет собой еще
один любопытный результат семейной дисциплины в доме Брусковых. Но
все окружающие говорят, что Андрей Титыч — умный, и он даже сам так
разумно рассуждает о своем брате: «Не пускают,— говорит,— меня в
театр; ту причину пригоняют, что у нас один брат помешанный от театру;
а он совсем не от театру,— так, с малолетства заколотили очень»... А Анд-
рюша еще не заколочен и все-таки представляет из себя какого-то
поврежденного. Уж примирился бы, что ли, с своим положением, как сотни
и тысячи других мирятся! Так нет,— этого не хочет он и тем приводит
в отчаяние отца и мать. Мать сокрушается о нем даже больше, чем о
другом сыне своем — дурачке. Положение Капитоши как-то мало
беспокоит ее: оно ей так близко и сродно; она даже потешается над ним, а
печалится больше всего лишь о том, что он табачище очень крепкий курит.
«Купидоша у нас совсем какой-то ума рехнувший по театру,— объясняет
она своей гостье Нениле Сидоровне.— Да табак курит, Ненила Сидоровна,
такой крепкий,— просто дышать нельзя. В комнатах такого курить нельзя
ни под каким видом, кого хочешь стошнит... Так все больше в кухне
пребывает. Вот иногда скучно, позовешь его, а он-то и давай кричать по-
тиатралъному,— ну, и утешаешься на него. С певчими поет басом,—
голос такой громкий, так как словно из ружья выпалит». Стало быть,
глупость сына имеет свою приятность для матери!.. Но ум Андрюши
внушает ей опасения очень серьезные. «Совсем,— говорит,— от дому
отбивается: то не хорошо, другое не по нем, учиться, говорит, хочу... А на что ему
много-то знать? И так боек, а как обучат-то всему, тогда с ним и не
сговоришь; он мать-то и уважать не станет; хоть из дому беги»...
Таким образом, доля самодурства Брускова переходит и к жене его, хоть на
словах только,— и Андрюша, при всей своей любви к знанию и при всех
природных способностях, должен вырасти неучем, для того чтобы
сохранить уважение к отцу и матери. Они, бедняки, чувствуют, что умному-то
и образованному человеку не за что уважать их!..
А отчего же Андрей Титыч, коли уж он действительно человек не
тлупый, не решается в самом деле удовлетворить своей страсти к ученью,
употребивши даже в этом случае некоторое самовольство? Ведь бывали же
на Руси примеры, что мальчики, одержимые страстью к науке, бросали
все и шли учиться, не заботясь ни о мнении родных, ни о какой
поддержке в жизни... Да, но те мальчики, верно, как-нибудь укрылись от
мертвящего влияния самодурства, не были заколочены с малолетства;
оттого у них и могла развиться некоторая решимость на борьбу с жизнью,
некоторая сила воли. От Андрюши и Капитоши Брусковых невозможно
требовать ничего подобного. Их, несчастных, колотили в ребячестве, ими
Темное царство
155
помыкают, а подчас потешаются и взрослыми... Где уж тут развиться
светлым, независимым соображениям и могучей решимости? Андрея Титы-
ча только разве на то хватит, чтобы впоследствии бушевать, подобно
своему отцу, и дурить над другими, в отместку за то, что другие над ним
дурили... Так из поколения в поколение и переходит эта безобразная
иерархия, в которой тот, кто выбрался наверх, давит и топчет тех, кто
остался внизу. Что же ему делать иначе? На этой сплошной толпе байбаков,
поднявших его степенство вверх, он только и держится; он поневоле
должен больше или меньше давить ее собою — иначе сам упадет опять под
ноги другим и — чего доброго — будет растоптан... А кому же охота быть
растоптанным?
Но тут может представляться вопрос совершенно другого свойства:
отчего эти байбаки так упорно продолжают поддерживать над собою
человека, который ничего им хорошего, окромя дурного не сделал и не
делает? Отчего Митя безответен пред Торцовым, Андрюша терзается, но не
смеет слова сказать Титу Титычу и пр.? Отчего целое общество терпит
в своих нравах такое множество самодуров, мешающих развитию всякого
порядка и правды? В обществе, воспитанном под влиянием Торцовых и
Брусковых, нет решимости на борьбу. Но ведь нельзя не сознаться, что
если самодур, сам по себе, внутренне, несостоятелен, как мы видели это
выше,— то его значение только и может утверждаться на поддержке
других. Значит, тут и особенного героизма не нужно: только не давай ему
общество этой поддержки, просто — немножко расступись толпа, сжатая
для того, чтобы держать на себе какого-нибудь Торцова или Брускова,—
и он сам собою упадет и будет действительно задавлен, если и тут
обнаружит претензию на самодурство... Отчего же в обществе столько
десятков и сотен лет терпится это бессильное, гнилое, дряхлое явление,
давно уже отжившее свой век в сознании лучшей, истинно образованной
части общества? На это есть две важные причины, которые очень ясны из
комедии Островского и на которые мы теперь намерены обратить
внимание читателей.
V
В терпеньи тяготу сноси
И без роптания проси.
ломоносов51
Первая из причин удерживающих людей от противодействия
самодурству, есть — странно сказать — чувство законности, а вторая —
необходимость в материальном обеспечении. С первого раза обе причины,
представленные нами, должны, разумеется, показаться нелепостью. По-види-
156
H. A. Добролюбов
мому, совершенно напротив: именно отсутствие чувства законности и
беспечность относительно материального благосостояния могут объяснять
равнодушие людей ко всем претензиям самодурства. Люди, рассуждающие
на основании отвлеченных принципов, сейчас могут вывести такие
соображения: «Самодурство не признает никаких законов, кроме
собственного произвола; вследствие того у всех подвергшихся его влиянию
мало-помалу теряется чувство законности, и они уже не считают поступков
самодура неправыми и возмутительными и потому переносят их довольно
равнодушно. Кроме того, самодурство, при разделе благ всякого рода,
постоянно, по своему обычаю, обижает их, пользуясь само львиной долей,
а им ничего не оставляя. Если они терпят это, значит у них уже потеряна
любовь к собственному благосостоянию, они привыкли к неимению ничего
и мало заботятся о том, чтобы выйти из этого положения... При таком
равнодушии к материальным интересам всех этих Митей и Андрюш не
мудрено самодурам помыкать ими по прихоти своей «гнилой фантазии»,
как выражается Гордей Карпыч».
Такое рассуждение, при всей своей видимой основательности, весьма
легкомысленно. Как-таки предположить в людях совершенное
уничтожение любви к самому себе, к своему благосостоянию? И отчего же?
Оттого, что кому-то вздумалось взять у меня мое добро!.. Нет, это можно
было бы говорить только в таком случае, если бы все, угнетенные
самодурами, были очень довольны собой. Но ведь мы видим, что и Митя, и Анд-
рюша, и Капитоша, и Авдотья Максимовна, п Любовь Гордеевна — очень
недовольны своей судьбой. Стало быть, их не беспечность удерживает в их
положении, а что-то другое, поглубже... Это другое и есть чувство
законности. Не будь этого чувства, т. е. прими угнетенная сторона в
самом деле то убеждение, что никакого порядка, никакого закона нет и не
нужно, тогда бы и пошло все иначе. Приказания самодуров исполнялись
бы только до тех пор, пока они выгодны для исполняющих; а как только
Торцов коснулся благосостояния Мити и других приказчиков, они бы,
нимало не думая, взяли да и «сверзили» его\.. Ведь их же больше, они
сильнее, чем Гордей Карпыч... Но они молчали перед ним именно
потому, что он хозяин, что его уважать следует. Самое то, что он их
обделяет и обижает, они считают законной принадлежностью его положения...
Настасья Панкратьевна ведь без всякой иронии, а, напротив, с заметным
оттенком благоговения говорит своему мужу: «Кто вас, батюшка, Кит Ки-
тыч, смеет обидеть? Вы сами всякого обидите!..»
Очень странен такой оборот дела; но такова уж логика «темного
царства». В этом случае, впрочем, именно темнота-то разумения этих людей
и служит объяснением дела. В общем смысле, по-нашему,— что такое
чувство законности? Это не есть что-нибудь неподвижное и формально
определенное, не есть абсолютный принцип морали в известных, раз
навсегда указанных формах. Происхождение его очень просто. Входя в обще-
Темное царство
157
ство, я приобретаю право пользоваться от него известною долею
известных благ, составляющих достояние всех его членов. За это пользование
я и сам обязываюсь платить тем, что буду стараться об увеличении
общей суммы благ, находящихся в распоряжении этого общества. Такое
обязательство вытекает из общего понятия о справедливости, которое лежит
в природе человека. Но для того чтоб успешнее достигнуть общей цели,
т. е. увеличить сумму общего блага, люди принимают известный образ
действий и гарантируют его какими-нибудь постановлениями,
воспрещающими самовольную помеху общему делу с чьей бы то ни было стороны.
Вступая в общество, я обязан принять и эти постановления и обещаться
не нарушать их. Следовательно, между мною и обществом происходит
некоторого рода договор, не выговоренный, не формулированный, но
подразумеваемый сам собою. Поэтому, нарушая законы общественные и
пользуясь в то же время их выгодами, я нарушаю одну, неудобную для меня,
часть условия и становлюсь лжецом и обманщиком. По праву
справедливого возмездия, общество может лишить меня участия и в другой,
выгодной для меня половине условия, да еще и взыскать за то, чем я успел
воспользоваться не по праву. Я сам чувствую, что такое распоряжение
будет справедливо, а мой поступок несправедлив,— и вот в этом-то и
заключается для меня чувство законности. Но я не считаю себя
преступным против чувства законности, ежели я совсем отказываюсь от условия
(которое, надо заметить, по самой своей сущности не может в этом
случае быть срочным), добровольно лишаясь его выгод и за то не принимая
на себя его обязанностей. Я, например, если бы поступил в военную
службу, может быть дослужился бы до генерала; но зато в солдатском звании
я обязывался, по правилам военной дисциплины, делать честь каждому
офицеру. Но я не поступаю в военную службу или выхожу из нее и,
отказываясь таким образом от военной формы и от надежды быть генералом,
считаю себя свободным от обязательства — прикладывать руку к
козырьку при встрече со всяким офицером. А вот мужики в отдаленных от
городов местах,— так те низко кланяются всякому встречному, одетому в
немецкое платье. Ну, на это уж их добрая воля или, может, особым
образом понятое то же чувство законности!.. Мы такого чувства не
признаем и считаем себя правыми, если, не служа, не ходим в департамент,
не получая жалованья, не даем вычета в пользу инвалидов, и т. п. Точно
так сочли бы мы себя правыми, если бы, например, приехали в
магометанское государство и, подчинившись его законам, не приняли, однако,
ислама. Мы сказали бы: «Государственные законы нас ограждают от тех
видов насилия и несправедливости, которые здесь признаны
противозаконными и могут нарушить наше благосостояние; поэтому мы признаем их
практически. Но нам нет никакой надобности ходить в мечеть, потому что
мы вовсе не чувствуем потребности молиться пророку, не нуждаемся в
истинах и утешениях алкорана и не верим магометову раю со всеми его
158
H. A. Добролюбов
гуриями, следовательно, от ислама ничем не пользуемся и не хотим
пользоваться». Мы были бы правы в этом случае по чувству законности, в
его правильном смысле.
Таким образом, законы имеют условное значение по отношению к нам.
Но мало этого: они и сами по себе не вечны и не абсолютны.
Принимая их как выработанные уже условия прошедшей жизни, мы чрез то
никак не обязываемся считать их совершеннейшими и отвергать всякие
другие условия. Напротив, в мой естественный договор с обществом
входит, по самой его сущности, и обязательство стараться об изыскании
возможно лучших законов. С точки зрения общего, естественного
человеческого права, каждому члену общества вверяется забота о постоянном
совершенствовании существующих постановлений и об уничтожении тех,
которые стали вредны или ненужны. Нужно только, чтоб изменение в
постановлениях, как клонящееся к общему благу, подвергалось общему
суду и получило общее согласие. Если же общее согласие не получено, то
частному лицу предоставляется спорить, доказывать свои предположения
и, наконец,— отказаться от всякого участия в том деле, о котором
настоящие правила признаны им ложными... Таким образом, в силу самого
чувства законности устраняется застой и неподвижность в общественной
организации, мысли и воле дается простор и работа; нарушение
формального status quo нередко требуется тем же чувством законности...
Так понимают и объясняют чувство законности люди просвещенные,
люди, участвующие, подобно нам, в благодеяниях цивилизации. Но не так
понимают его те темные люди, которых изображает нам Островский. В его
«темном царстве» вопрос ставится совершенно иначе. Там господствует
вера в одни, раз навсегда определенные и закрепленные формы. Знания
здесь ограничены очень тесным кругом, работы для мысли — почти
никакой; все идет машинально, раз навсегда заведенным порядком. От этого
совершенно понятно, что здесь дети никогда не вырастают, а остаются
детьми до тех пор, пока механически не передвинутся на место отца.
Понятно и то, почему средние термины, посредствующие между
самодурами и угнетенными, вовсе не имеют определенной личности, а
заимствуют свой характер от положения, в каком находятся: то ползают — перед
высшими, то, в свою очередь, задирают нос перед низшими. Точно
механические куколки: поставят их на один конец — кланяются; передернут
на другой — вытягиваются и загибают голову назад... Настасья
Панкратьева исчезает пред мужем, дышать не смеет, а на сына тоже
прикрикивает: «как ты смеешь?» да «с кем ты говоришь?» То же мы видели и в
Аграфене Кондратьевне в «Своих людях». Та же история повторяется в
другой сфере — с Юсовым в «Доходном месте». И все это происходит от
недостатка внутренней самостоятельности, от забитости природы.
Человеку с малых лет внушают, что он сам по себе — ничто, что он есть
некоторым образом только орудие чьей-то чужой воли и что вследствие
Темное царство
159
того он должен не рассуждать, а только слушаться, слушаться и
покоряться. Единственный предмет, на который может еще быть направлен его умг
это приобретение уменья приноровляться к обстоятельствам. Кто сумеет
так. повернуть себя, тому и благо; он вынырнет... А кто не сумеет, тому
беда — задавят..
Вследствие этого-то коснения мысли вся деятельная сторона чувства
законности совершенно исчезает в «темном царстве» и остается одна
пассивная. Какой-нибудь Тишка затвердил, что надо слушаться старших, да
так с тем только и остался, и останется на всю жизнь... В педагогике есть
положение, что для детей, не способных еще к отвлеченным понятиямг
воспитатель составляет олицетворение нравственного закона, и потому
необходимо доверие ребенка к воспитателю. Но обязанность воспитателя,—
продолжает потом педагогика,— состоит в том, чтобы как можно скорее
сделать себя ненужным для ребенка, приучивши его понимать
нравственный закон в его истинной сущности, независимо от авторитета
воспитателя. Этого последнего правила боятся, как пожара и разбоя, все обитатели
«темного царства», и все ста'раются действовать совершенно в
противоположном духе. «Слушай старика,— старик дурно не посоветует,»—
говорит даже лучший из них — Русаков, и тоже не признает прав
образования, которое научает человека самого, без чужих советов, различать, что
хорошо и что дурно. От этого и выходит, что чувство законности
только и выражается в чувстве послушания да терпения, а все остальное
делается чисто невозможным для обитателя «темного царства», пока он сам
не сделается самодуром. Тишка метет полы в доме Болыпова, бегает за
водкой Подхалюзину и крадет целковые у хозяина,— и все это для нега
совершенно законно... За водкой посылают его старшие, а старших надо
слушаться: тут уж резон прямой. Воровать ему не велят; но все равно —
воровство тоже освящено старшими: сколько раз приказчики при нем
хвалились ловкой штукой, сколько раз приказывали ему молчать об их
мошенничестве пред хозяином, сколько раз сам хозяин давал приказчикам
наставления, как надувать покупателей!.. Все это не пропало даром для
бойкого мальчика — и вот откуда все мерзости, безмятежно уживающиеся
в нем с глубочайшим чувством законности... Этим-то средством он и
выбивается из ничтожества, в котором находился, и начинает сам дурить,
совершенно с спокойною совестью, считая и самодурство точно так же
законным, как и прежнее свое унижение.
Но, разумеется, выбиваются наверх не все, и даже очень немногие:
для этого надо иметь довольно крепкую натуру и потом
сверхъестественным образом выворотить ее. Надо заглушить в себе все симпатичные
чувства, притупить свою мысль, кроме того,— связать себя на несколько лет
по рукам и ногам, и при всем этом уметь — и пожертвовать при случае
своим самолюбием и личными выгодами, и тонко обделать дельце, и
ловкое коленце выкинуть... На это мастеров не очень много... Охотников,,
160
H. А. Добролюбов
правда, бесчисленное множество, да не у всякого есть такая выдержка,
какая, напр., была у Павла Ивановича Чичикова — а без выдержки тут
ничего не добьешься... Потому-то большая часть людей, попавших под
влияние самодура, предпочитает просто терпеть с тупою надеждою, что авось
как-нибудь обстоятельства переменятся... Внутренней силы, которая бы
возбуждала их к противодействию злу, в них нет, да и не может быть,
потому что они не имели возможности даже узнать хорошенько, в чем
зло и в чем добро... Оттого-то именно в них нет и чувства
справедливости и сознания высшего нравственного добра, а вместо этого есть
только чувство законности, в ее установленном и тесном смысле. Для них
поступки и явления жизни разделяются не на хорошие и дурные, а только на
позволенные и непозволенные. Что позволено, что скреплено
положительным законом или хоть просто приказанием, то для них и хорошо, и
наоборот. А на что положительных приказаний нет, о том они находятся
в совершенном недоумении. Потому-то всегда и бывают так робки и
медленны шаги их при всяком новом вопросе или явлении, требующем
изменения существующего порядка... Тут мучительное беспокойство
овладевает забитыми бедняками, под гнетом самодурства лишившимися всякой
способности рассуждать. Узнав, что правило, которому они следовали,
отменено или само умерло, они решительно не знают, куда им обратиться
и за что взяться,— и бывают ужасно рады первому встречному, который
возьмется вести их. Само собою разумеется, что этот встречный всего
чаще бывает плутоватый самодур, и чем плутоватей он, тем гуще повалит
за ним толпа «несмышленочков», желающих прожить чужим умом и под
чужой волей, хотя бы и само дурной...
Высказанные нами мысли не составляют плод какой-нибудь теории,
заранее придуманной: в них просто заключаются выводы, прямо
следующие из явлений русского быта, изображенных в комедиях Островского.
Без всякого сомнения, художник не имел в виду доказывать тех
мыслей, какие мы теперь выводим из его комедий; но они сами собою
сказались в его произведениях и сказались удивительно правильно. Лица
его комедий постоянно остаются верны тому положению, в которое
поставлены самодурным бытом. Ни одним словом не возвышаются они над
уровнем этого быта, не изменяют основным чертам их типа, как он
сложился в самой жизни. Даже в лучших натурах комедий Островского мы не
видим той смелости добра, которой могли бы требовать от них при
других обстоятельствах, но которой именно не может быть в них под
гнетом самодурства. Едва в слабом зародыше виднеются в них начала
высшего нравственного развития; но эти начала так слабы, что не могут
служить побуждением и оправданием практической деятельности. Оттого
все нравственные основания поступков у честных лиц в комедиях
Островского — внешни и очень узко ограничены, все вертятся только на
исполнении чужой воли, без внутреннего сознания в правоте дела. Так, Авдотья
Темное царство
161
Максимовна, отказываясь бежать с Вихореовым, представляет только ту
причину, что отец ее проклянет; а бежавши с ним, сокрушается только
о том, что «отец от нее отступится, и весь город будет на нее
пальцами показывать». У Любови Гордеевны эта внешность подчинения
долгу, не озаренная внутренним убеждением, выражается еще резче. Вот что
говорит она Мите в оправдание своей решимости идти за Коршунова:
«Теперь из воли родительской мне выходить не должно. На то есть воля
батюшкина, чтоб я шла замуж. Должна я ему покориться,— такая наша
доля девичья. Так, знать, тому и быть должно, так уж оно заведено
исстари. Не хочу я супротив отца идти, чтоб про меня люди не говорили
да в пример не ставили. Хоть я, может быть, сердце свое надорвала
через это, да по крайности я знаю, что я по закону живу, и никто мне в
глаза насмеяться не смеет». В этих словах нет ведь ни тени намека на
нравственное значение поступка: зато есть слово «закон». А каков он и как
применяется здравым смыслом к данному случаю, где же рассуждать об
этом девушке: самодурное воспитание вовсе не приготовляет к таким
рассуждениям.
Возведение послушания в высший абсолютный закон делается,
впрочем, и самими самодурами, и даже еще с большей настойчивостью, чем
угнетенною стороною... Это совершенно понятно: во-первых, самодур
также почти не имеет истинных нравственных понятий и, следовательно, не
может правильно различать добро и зло и, по необходимости, должен
руководствоваться произволом; во-вторых — безусловное послушание других
очень выгодно для него, потому что затем он может уж ничем не
стесняться. Но и тут, разумеется, самодурная логика далеко уклоняется от
общечеловеческой. По общей логике следовало бы, если уж человек
ставит какие-нибудь правила и требования, хотя бы и произвольные,— то он
должен и сам их уважать в данных случаях и отношениях, наравне с
другими. Самодур рассуждает не так: он считает себя вправе нарушить,
когда ему угодно, даже те правила, которые им самим признаны и на
основании которых он судит других. И такова темнота разумения в
«темном царстве», что не только сам самодур, но и все, обиженные и
задавленные им, признают такой порядок вещей совершенно естественным.
Лучшим выражением этой любопытной стороны в организации «темного
царства» представляется комедия «Не так живи, как хочется». В
литературном отношении пьесу эту признают менее других замечательною,
упрекают в слабости концепции, находят натяжки в некоторых сценах и
проч. Мы не будем долго на ней останавливаться — не потому, чтоб она
того не стоила, а потому, что, во-первых, наши статьи и без того очень
растянулись, а во-вторых, сама пьеса очень проста — и по интриге, и по
очеркам характеров, так что для объяснения их не нужно много слов,
особенно после того, что говорено было выше. Дело в том,что Петр
Ильич пьянствует, тиранит жену, бросает ее, заводит любовницу, а когда она,
11 Н. А. Добролюбов
162
H. А. Добролюбов
узнав об этом обстоятельстве, хочет уйти от него к своим родителям,
общий суд добрых стариков признает ее же виновною... Собравшись домой,
она на дороге, на постоялом дворе, встречает отца и мать, рассказывает им
все свое горе и прибавляет, что ушла от мужа, чтобы жить с ними,
потому что ей уж терпенья не стало. Отец только диву дался, услышав
такое вольнодумство. «Как к нам? — восклицает он,— зачем к нам? Нет,
поедем, я тебя к мужу свезу». Даша говорит: «Нет, батюшка, не поеду я
к нему»,— и отец, полагая, не рехнулась ли дочь его,— начинает ей
такое увещание:
Да ты пойми, глупая, пойми — как я тебя возьму к себе? Ведь он муж твой...
(Встает с лавки.) Поедемте: что болтать-то пустяки, чего быть не может!.. Как ты
от мужа бежишь, глупая! Ты думаешь,— мне тебя не жаль? Ну, вот все вместе и
поплачем о твоем горе — вот и вся наша помощь! Что я могу сделать? Поплакать с
тобой — я поплачу. Ведь я отец твой, дитятко мое, милое мое! (Плачет и целует ее.)
Ты одно пойми, дочка моя милая: бог соединил, человек не разлучает. Отцы наши
так жили, не жаловались, не роптали. Ужели мы умнее их? Поедем к мужу.
Эти бесчеловечные слова внушены просто тем, что старик
совершенно не в состоянии понять: как же это так — от мужа уйти! В его
голове никак не помещается такая мысль. Это для него такая нелепость,
против которой он даже не знает, как и возражать,— все равно, как бы
нам сказали, что человек должен ходить на руках, а есть ногами: что бы
мы стали возражать?.. Он только и может, что повторять беспрестанно:
«Да как же это так?.. Да ты пойми, что это такое... Как же от мужа
идти! Как же это!..»
Казалось бы, то же самое рассуждение следовало и к мужу
применить. Нет, он вне закона!.. Он — повелитель своей жены и
самодурствует над нею, сколько душе угодно, даже и в то время, как сам перед нею
виноват и знает это. Он узнал, что жена проведала о его «кралечке»,
кралечка проведала, что он женат, и прогнала его от себя: что же он?
Совестится показаться к жене? Чувствует раскаяние? Ничего не бывало;
он еще норовит, воротясь домой, сорвать на ней. сердце за свою
неудачу у кралечки... Кажется, это уж должно бы возмутить родителей
бедной жены его: в их глазах он, крутом сам виноватый, буйствует и, не
помня себя, грозит даже зарезать жену и выбегает с ножом на улицу...
Даша и говорит отцу: «Посмотрите сами, каково сладко мое жптье».
А отец советует: «Потерпи, подожди!» — «Да чего мне от него ждать,
когда от него уж и отец его отступился»,— возражает Даша, прикрываясь
авторитетом. «Ничего, потерпи»,— твердит отец и затем старается
представить ее несчастие опять-таки праведной карой — все за непослушание,
за то, что она без воли родителей замуж вышла. Вот его речь:
Агафон. Все это не дело, все это не дело! Ох, ох, ох! Не хорошо! Ты сама
права, что ль? Дело сделала, что нас со старухой бросила? Говори, дело сделала? Так это
Темное царство
16*
и надо? так это по закону и следует? Враг вас обуял! Вы — точно как не люди. Вот?
ты и терпи, и терпи! Да наказанье-то с кротостью принимай, да с благодарностью!..
А то — что это? что это? Бежать хочет! Какой это порядок? Где это ты видала, чтобы:
мужья с женами порознь жили? Ну, ты его оставишь, бросишь его, а он в отчаяние
придет — кто тогда виноват будет, кто? Ну, а захворает он, кто за нпм уходр1т? Это
ведь первый твой долг. А застигнет его смертный час, захочет он с тобой проститься*
а ты по гордости ушла от него...
Даша (бросаясь ему на шею). Батюшка!
Агафон. Ты подумай, дочка милая, помекай хорошенько... (Плача). Глупы ведь
мы, люди, ох как глупы! Горды мы!
Заметьте, как добр и чувствителен этот старик и как он в то же
время жестокосерд единственно потому, что не имеет никакого сознания о
нравственном значении личности и все привык подчинять только внешним
законам, установленным самодурством. Не по черствости или злобе, а
совершенно наивно начинает он упрекать свою дочь за прошлое в такую
минуту, когда сердце ее и без того разрывается на части. И потом —
какие резоны он представляет? Он не говорит, что, дескать, муж твой
будет страдать, хворать и проч., так неужто тебе не жалко его будет?—
или что-нибудь в этом роде,— от сердца. Нет, у него совсем другое
основание: «Кто тогда будет виноват?» да: «Это первый твой долг»... На
основании этой, чисто внешней, морали он и убеждает дочь: «потерпи,
потерпи — все хорошо будет».
И ведь действительно — глупая случайность приходит для
оправдания слов старика, точно так, как —
Ведь и случается: возьмет
Да и скончается купчиха,
Перед которой глупый пес
Три ночи выл, поднявши нос.
Тогда попробуй разуверить!..52
Петр Ильич, допившийся до чертиков, с ножом в руке бежит на
Москву-реку, ничего не видя и не понимая. Вдруг слух его поражается
ударом колокола: к заутрене где-то заблаговестили. Он, по машинальной
привычке, поднимает руку, чтобы перекреститься,— и видит, что в руке у
него нож, а стоит он над самой прорубью... Тут его страх взял, хмель
мгновенно отшибло, он вспомнил уЕещания отца и воротился домой с
полным раскаянием. Выслушавши рассказ его, отец Даши
самодовольно-нежно упрекает ее: «Что, дочка, говорил я тебе!..» Тем дело и кончается.
Когда вдумаешься в эту историю, в ней невольно представляется
какой-то страшно фантастический смысл. Некоторые утверждали, что здесь
заключается показание того, как благодетелен для народа колокольный
звон и как человека в самые трудные минуты спасают набожные
привычки, с детства усвоенные. Нет надобности говорить, до какой степени стран-
11*
164
H. A. Добролюбов
но подобное толкование. Нет, совсем другое представляется нам в этой
драме применительно к общей идее, какую находим мы во всех
произведениях Островского. В раскаявшемся Петре Ильиче мы видим
безотрадность и безвыходность того положения, в которое он сам и все близко
с ним связанные ввергнуты самодурным бытом. Петра Ильича
уговаривает отец, упрашивает тетка, умоляет жена, которую убивает его
поведение, образумливает товарищ, отвергает девушка, для которой он бросает
жену,— на него ничто не действует. Никаких живых начал
нравственности нет в нем, сердце его грубо и темно совершенно. Даже любовь в
нем так дика, так безобразна! Дашу полюбил он и увез от отца, а
через несколько месяцев уже тиранит ее и считает наказанием своей
жизни безответную, полносердечную любовь ее. По Груше он с ума сходит,
но что же он делает, когда она, насмеявшись над ним, выпроваживает его?
Он обращается к Еремке, у которого есть знакомый колдун, и
спрашивает: «Может он приворожить девку, чтоб любила, чтоб не она надо мной,
а я над ней куражился, как душе угодно?» Вот предмет его стремлений,
вот любовь его: возможность куражиться над любимой женщиной, как
душе угодно!.. Страшно, как подумаешь, что ведь обитатели «темного
царства», сколько мы знаем их по Островскому, все имеют такие само
дурные наклонности, если сами не забиты до совершенного отречения от
своей личности... Что же может вразумить этих мрачных людей, что может
спасти от них тех несчастных, которые принуждены терпеть от них?
Ничто, положительно ничто из средств обыкновенных. Никаким
естественным путем нельзя дойти до изменения их понятий и характера. Нужно
что-нибудь чрезвычайное, крайнее, насильственное, хотя бы и
совершенно бестолковое, для того чтобы отрезвить их. Надо было Петру Ильичу
забраться к проруби на Москве-реке, и именно в то время, когда
заблаговестили к заутрене,— для того, чтобы очувствоваться!.. Ну, а если бы
этого не случилось?... Продолжалась бы эта жалкая жизнь Петра Ильича
с женою многие годы, как она у многих и продолжается в «темном
царстве». Да и теперь кто поручится, что раскаяние Петра Ильича прочно?
Есть ли в его характере какие-нибудь задатки нравственного
исправления? Разумеется,— это уж само по себе необходимо, чтоб пьяница
проспался и чтоб человек, допившийся до чертиков, перегодил немножечко,
отдохнул и собрался с силами. Но надолго ли это? Не забудьте, что
раскаяние Петра Ильича произошло под влиянием призраков и чудовищ,
которые ему мерещились в пьяном виде... Он может уверять, и все соседи
его могут верить, что действительно водяник или другой дух водил его; но
ведь мы знаем достоверно, что все это следствие расстроенной фантазии,
разгоряченного мозга. Какая же тут гарантия за нравственное
исправление человека? Пока он еще чувствует истощение от минувшей гульбы да
пока жив в его памяти страх недавнего происшествия, до тех пор и он
поостережется... А там опять примется за прежнее; этого с достоверностью
Темное царство
165
можно ожидать, зная, что в нем вовсе не развито внутреннее сознание
о необходимости честной и полезной жизни... И бедная женщина — его
жена — должна будет по-прежнему страдать в своей горькой доле, если
опять не совершится какого-нибудь чуда. И старики — отец и мать ее —
по-прежнему будут о ней сокрушаться и убеждать ее терпеть!.. Им-то все-
таки легче: они уж совсем обезличились, они все насквозь прониклись
учением, что должно —
С терпеньем тяготу сносить
И без роптания просить...
Но выдержит ли несчастная женщина, в которой молодая натура еще
сохраняет остатки жизни и все еще протестует по временам, хотя и
слабо, против мрачной силы, бесправно и бессмысленно угнетающей ее?..
Наверное нет! Она неизбежно придет к падению,—не к тому падению,
под которым, на пошлом языке нашей искусственной морали, разумеется
полное наслаждение любовью,— а к действительному падению, к потере
нравственной чистоты и силы. Это падение одинаково может постигнуть
и мужчину, как женщину; но в любящей женской натуре есть к нему путь,
который каждую минуту может увлечь ее и по которому один шаг может
уже сделать ее преступною и погибшею в глазах общества. Путь этот —
связь с мужчиною. Мужчина тоже может в коротких отношениях с
женщиною искать спасения от мрака и гадостей, окружающих его в
практической жизни. Тут он отдыхает и успокоивается, тут он старается
забыться. Но для мужчины подобные отношения не гибельны; на них все
так и смотрят, как на невинное развлечение, они не оставляют на нем
пятна позора перед обществом. Он каждую минуту может возвратиться
от них к своим деловым отношениям и вступить в свою обычную среду,
нисколько, не потерявши своего нравственного значения. Не то с
женщиной: раз сделавши неверный шаг, она уже теряет, по силе
господствующих нравов, возможность спокойного возврата на прежнюю дорогу. Она
унижена, опозорена, отвержена, пред нею все двери заперты — по крайней
мере до тех пор, пока она прямо в лицо обществу надменно не бросит
своего позора, украшенного золотом какого-нибудь самодура. Тогда,
пожалуй, и перед ней преклонятся и даже станут подличать. Но и в этом
случае глубокое нравственное растление должно совершиться в ее натуре.
Таким образом, как ни иди девушка, везде ей тяжело и опасно, и нет
пути, который не привел бы ее к потере нравственного достоинства.
Пока она не совсем загрубела и опошлела,— ее тяготит нужда, общее пре-
врение, беззащитность против всякого встречного, так что она поневоле и
незаметно должна привыкать и к обману, и к бездельничеству, и к житью
на чужой счет... А потом, когда она свыкнется с своим положением и
будет безмятежно продавать свои чувства и наслаждаться пышной
праздностью,— тогда, при счастливом случае, открытое поклонение, зависть и
166
H. A. Добролюбов
низости окружающих выгонят из нее окончательно всякое доброе чувство
и втиснут ее в самую глубину разврата... Если же и счастливого
случая не встретится, тогда... тогда об этих женщинах даже и не говорят
нравственные люди, по крайней мере в трезвом виде...
Но ведь и эти женщины были когда-то чистыми, нравственными
существами, достойными уважения самых чопорных пуристов формального
целомудрия. Как же началось их падение? Какие причины заставили их
ступить на ложный путь? Что решило «первый шаг» их? Умствовать об
9том можно очень много; но мы не хотим умствовать, а делаем эти
вопросы только затем, что находим прямой ответ на них в комедиях
Островского. Отсутствие живого нравственного развития, неимение опоры
внутри себя и самодурный гнет извне — вот причины, производящие в
«темном царстве» безнравственность женщин, равно как и
безнравственность мужчин. Мы уже видели, как выражается отсутствие нравственной
самостоятельности и неприязнь ко всему, вызванная самодурством, в
натурах живых и физически страстных. Жена и сестра Пузатова только тем
и живут, что обманывают его и потихоньку гуляют с молодыми людьми,
отпросившись в церковь. Липочка Болыпова прельщается военными,
боится отца, в грош не ставит мать и потом выходит за Подхалюзина и
прехладнокровно отправляет в яму отца, чтобы не заплатить за него по
25 копеек за рубль, из его же именья... Видели мы и то, как падают
и замирают под самодурным гнетом кроткие и нежные женские натуры.
Авдотья Максимовна, в пору зрелости оставшаяся ребенком в своем
развитии, не умеющая понимать — ни себя самое, ни свое положение, ни
окружающих людей, увлекается наущениями Арины Федотовны и
пленяется Вихоревым... Любовь Гордеевна, не смеющая даже сказать отцу о
своей любви к Мите, идет за Коршунова, к которому чувствует страх и
омерзение. Не менее безнравственно и положение Даши, принужденной поить
вином своего мужа, чтобы он, пьяный, приколотил ее... Но все это
факты уже конченные; мы видим здесь уже совершившуюся смерть
личности и можем только догадываться о той агонии, через которую перешла
молодая душа, прежде чем упала в это положение. Но есть у
Островского пьеса, где подслушан лепет чистого сердца в ту самую минуту,
когда оно только что еще чувствует приближение нечистой мысли,—
пьеса, которая объясняет нам весь процесс душевной борьбы,
предшествующей неразумному увлечению девушки, убиваемой самодурною силою...
Пьеса эта, конечно, памятна нашим читателям, потому что она
появилась в нынешнем году и обратила на себя общее внимание. Мы уже
говорили о ней в «Современнике» 53 и потому теперь скажем о ней
только то, что может прямо относиться к объяснению нашей мысли. Надя,
воспитанница Уланбековой,— добренькая и умненькая девушка, имеющая
очень скромные и вполне честные стремления. Она мечтает о семейном
счастии с любимым человеком, заботится о том, чтоб себя «облагородить»,
Темное царство
167
так, чтобы никому не стыдно было взять ее замуж; думает о том, какой
она хороший порядок будет вести в доме, вышедши замуж; старается
вести себя скромно, удаляется от молодого барина, сына Уланбековой, и
даже удивляется на московских барышень, что они очень бойки в своих
разговорах про кавалеров да про гвардейцев. «И откуда они все это
знают?»—спрашивает она в недоумении сама себя... Словом, это девушка,
которая, при других обстоятельствах, могла бы вполне соответствовать
идеалу многих и многих людей: она от всей души хочет и, по своей
натуре, может быть хорошей женой и хорошей хозяйкой. Дайте ей еще
некоторое образование, она будет и хорошей матерью и
воспитательницей своих детей. Но она живет в доме Уланбековой, этого
безобразного самодура в женском платье,— и все должно пропасть для бедной Нади.
Лицо Уланбековой замечательно, как пример того, что значит
самодурство, перенесенное из купеческого дома в другую сферу. Здесь оно могучее,
влияние его обширнее, и потому оно еще отвратительнее. Купец
ограничивает свое самодурство упражнением над домашними да над близкими
людьми; но в обществе он не может дурить, потому что, как мы видели,
он, в качестве самодура, труслив и слабодушен пред всяким независимым
человеком. Уж на что Тит Титыч Брусков,— и тот не посмел очень
вольничать над Ивановым и, пришедши домой, сознавался: «Они только тем и
взяли, что я в их квартире был; а пришли бы они сюда, так я бы уж
бы их уконтентовал». Буйный Петр Ильич, прогнанный своей кралечкой,
тоже расходился, только воротясь домой. «Они надо мной насмеялись,
выгнали меня!.. А здесь я дома,— все в прах разобью, щепки живой не
оставлю»,— кричит он в иступлении. Таким образом, многие купеческие
самодуры «сердиты, да не сильны», и общество очень много от них
страдать не может. Но родовые черты самодурства остаются те же во всех
сферах; и чем сфера обширнее, тем самодурство ужаснее и вреднее. Круг
действия Уланбековой довольно велик. Во-первых, у ней домашних очень
много — воспитанницы, приживалки, ключницы, горничные, служители...
Потом у ней есть крестьяне. Кроме того, она представляет сильное лицо
в целом околотке и имеет большое влияние. Она и чужие свадьбы
насильно устраивает, и на места определяет, и от суда защищает... А
какого качества ее влияние об этом можно судить по некоторым чертам.
Она просит исправника за своего крестника, Неглигентова, чтоб его
столоначальником сделали; исправник говорит, что места нет. Уланбекова
этим обижается и говорит ему: «Вы, кажется, не понимаете, кто вас
просит». Исправник принужден обещать. По этому поводу приживалка
Уланбековой, Василиса Перегриновна, рассуждает: «Я и понять не могу, как
это у него язык-то повернулся против вас. Вот уж сейчас необразование-то
и видно! Положим, что Неглигентов, по жизни своей, не стоит, чтобы
об нем и разговаривать много, да по вас-то он должен сделать для него
*се на свете, какой бы он там ни был негодяй... Крестник он вам, ну, и
168
H. А. Добролюбов
кончено дело,— он никаких и разговоров не должен слушать... Все это
знают, благодетельница, что вы, если захотите, так можете из грязи
человеком сделать; а не захотите, так будь хоть семи пядей во лбу,—так в
ничтожестве и пропадет. Сам виноват: отчего не умел заслужить»... Весь
цинизм самодурной морали и логики выражен здесь очень рельефно.
Личность самодура ставится здесь центром всего нравственного мира; от нее
все исходит, и к ней все должно возвращаться. Нет никаких прав,
кроме личности самодура, никаких нравственных правил, кроме угождения
его воле... Таким образом, вопрос о законности ставится здесь с
бесстыдною прямотою: закон есть не что иное, как воля самодура, и все
должны ей подчиняться, а он не должен стесняться ничем... Каково жить
людям под такою моралью!..
А вот каково. Воспитанниц своих Уланбекова держит строго, под
замком. Если они осмелятся раскрыть рот, то она говорит им вот что: «Я не
люблю, когда рассуждают, просто не люблю да и все тут. Этого позволить
я не могу никому. Я смолоду привыкла, чтоб каждого моего слова
слушались; тебе пора это знать! И мне очень странно, моя милая, что ты
осмеливаешься возражать мне. Я вижу, что избаловала тебя: а вы ведь
сейчас зазнаетесь»... Но зато, по словам старика Потапыча, она хорошо
одевает воспитанниц и не заставляет их работать: «Хочу,— говорит,— чтоб
все им завидовали».. Когда же они вырастут, отдает их замуж по своему
выбору. Об этом Потапыч так сообщает Леониду, сыну Уланбековой:
Скажут: я тебе нашла жениха, и вот, скажут, тогда-то свадьба; ну и конец, тут
уж и разговаривать ни одна не смей! За кого прикажут, за того и ступай. Потому что,
сударь, я рассуждаю так: кому же приятно, давши воспитание, да видеть
непокорность... А бывает, сударь, и так, что и о/сених невесте не нравится, и невеста жениху,
так тут уж очень гневаются... так даже из себя выходят... Пожелали они одну
воспитанницу отдать за лавочника в город, а он, человек не полированный, вздумал было
сопротивляться. Мне, говорит, невеста не нравится, да я и жениться-то не хочу еще.
Так в те поры и городничему жаловались, и отцу протопопу; ну, и уломали дурака.
По мнению Потапыча, это значит, что барыня «на всех свою
заботливость простирают». Какое же побуждение к этой заботливости?
Объяснить это старается сама Уланбекова — в поучении, которое она очень
трогательно, со слезами на глазах, по словам Потапыча, читает
воспитанницам при выдаче их замуж. «Вы,— говорит,—жили у меня в
богатстве и в роскоши и ничего не делали; теперь ты выходишь за бедного, и
живи всю жизнь в бедности, и работай, и свой долг исполняй. И
позабудь,— говорит,— как ты у меня жила, потому что не для тебя я это делала;
я себя только тешила, а ты не должна никогда об такой жизни и думать,
и всегда ты помни свое ничтожество, и из какого ты звания»... И не
подумайте, что это говорится со злобою или с сарказмом; вовсе нет,— это
от полноты души, от искреннего убеждения Уланбековой. В ней тоже нет
особенной наклонности к злу; вся беда в том, что она, в круге своих идей,
Темное царство
169
ничего не может признать, кроме себя. Все остальное кажется ей
созданным на ее службу, как злак полевой существует не сам по себе, а
собственно на службу человекам... Что же прикажете делать с такими
понятиями?.. А что она действительно наклонна к тому, чтобы даже добро
делать, это доказывается тем, как она заботится о мужьях своих
воспитанниц. Потапыч говорит, что которых воспитанниц выдали за приказных,
так уж мужьям жить хорошо. «Потому, если его выгнать хотят из суда
или вовсе выгнали, он сейчас к барыне к нашей с жалобой, и оне уж за
него горой, даже самого губернатора беспокоят. И уж этот приказный в
те поры может и пьянствовать, и все, и уж никого не боится»...
Конечно, вы скажете, что это уж тоже нехорошо; но все-таки видно, что
Уланбекова — не мучительница какая, не злодейка, а женщина
чувствительная, благожелательная и благодетельная.
По своей благожелательности (а не по чему другому) Уланбекова
задумала отдать Надю за пьяницу Неглигентова. Она очень просто говорит
об этом Василисе Перегриновне: «Ты говоришь, что он дурную жизнь
ведет; так надобно будет свадьбой поторопиться. Надя у меня — девушка
хороших правил, будет его удерживать, а то он от холостой жизни
совсем избалуется». Надя сидит тут же и слышит эти слова, и ничего не
смеет сказать против них... Наконец она умоляет, плачет, ей дают
выговор и говорят: «Слезы твои для меня ровно ничего не значат. Коли я что
захочу сделать, так уж поставлю на своем, никого в мире не
послушаюсь!.. И вперед знай, что упрямство твое ни к чему не приведет, только
рассердишь меня». Говорится все это прилично и солидно, но, разумеется,
Наде от того не легче. Самодурство здесь спрятало свои кулаки и плетку,
но оно не лучше от этого, а, пожалуй, еще похуже. В одной пьесе
Островского есть точно такая сцена в купеческой семье; та гораздо грубее,
но все-таки не так возмутительна. Это сцена в «Не сошлись
характерами», где Карп Карпыч сообщает своей дочери о свадьбе своей
племянницы и по этому поводу рассуждает с женой своей, Улитой Никитишной.
Мы выпишем эту сцену для сравнения: она очень коротка.
Карп Карпыч. А вот и у нас скоро свадьба: Матрену в саду с приказчиком
застали, так хочу повенчать {Матрена закрывает лицо рукавом)] тысячу рублев ему
денег и свадьба на мой счет.
Улита Никитишна. Тебе бы только пображничать где было; затем и
свадьбу-то затеял.
Карп Карп. Ну, еще что?
Улита Ник. Ничего больше.
Карп Карп, (строго). Нет, ты поговори!
Улита Ник. Ничего, право, ничего.
Карп Карп, (строже). Нет, поговори что-нибудь, я послушаю.
У л и т а Н и к. Да что говорить-то, коли не слушаешь.
Карп Карп. Что слушать-то! Слушать-то у тебя нечего. Эх, Улита Никитишна!
(Грозит пальцем). Сказано — молчи! Я хочу, чтобы девка чувствовала, а ты с своими
разговорами... (Матрена закрывает другим рукавом глаза). Третью племянницу так
отдаю. Я всей родне благодетель. Вот теперь есть еще маленькая, так и ту на место
Матрены возьму, и ту в люди выведу.
170
H. A. Добролюбов
Тут и ругательство, и угроза, и насилие, словом — самодурство в
полном ходу... Но оно не развилось здесь до той виртуозности, как в Улан-
бековой. Тут Матрена венчается с приказчиком, с которым застали ее в
саду,— дело простое и ясное. Так, вероятно, выдал Карп Карпыч и
других своих племянниц. Если б он мог придумать выдавать их за тех, за
кого они не хотят и кто их брать не хочет, то очень может быть, что эта
идея и понравилась бы ему... Но он еще не утончился до подобных
выдумок; а Уланбекова пустилась уже и в эту роскошь. Затем и самая манера
у Карпа Карпыча другая: он с женой своей обращается хуже, чем
Уланбекова с воспитанницей, он не дает ей говорить, он даже, может быть,
бивал ее; но все-таки жена может ему делать кое-какие замечания, а Надя
перед Уланбековой совершенно безгласна. Вот как мало отрады приносят
цивилизованные формы самодурства!
И вот при этом-то, холодно и степенно нанесенном ударе появляется
в Наде то горькое рвущее чувство, которое заставляет человека
бросаться без памяти, очертя голову, куда случится,— в воду, так в воду, в
объятия первого встречного, так в объятия! Ее ощущения переданы в пьесе
Островского с изумительной силой и яркостью; таких глубоко истинных
очерков немного во всех произведениях нашей литературы. Мы уже
приводили в «Современнике» (№ XI) эту сцену, но не можем еще раз не
напомнить читателям некоторых мест ее. «Я и сама не знаю, что со мной
вдруг сделалось,— говорит Надя.— Как только барыня давеча сказала,
чтоб не смела я разговаривать, а шла, эа кого прикажут, так у меня
все сердце перевернулось. Что, я подумала, за жизнь моя, господи!
(Плачет) Что в том проку-то, что живу я честно, что берегу себя не
только от слова какого, а и от взгляду-то?.. Так меня зло даже взяло на
себя. Для чего, я думаю, мне беречь-то себя? Вот не хочу ж, не хочу!..
А у самой так сердце и замерло,— кажется, еще скажи она слово, я б
умерла на месте». В этой исповеди ясно, каким безвыходным кругом
обводит самодурство всех несчастных, захваченных его влиянием. Надя не
приучена к тому, чтобы сохранить власть над собою и остаться верною
своим понятиям из внутреннего убеждения в их правоте и силе; у нее
скромность и честность имеют прямую цель — сохранить себя для замужества...
Но естественное чувство ее внезапно оскорбляется приказанием идти за
пьяного и грязного негодяя... Все ее девические мечты разбиты, тяжелая
доля ее предстает ей во всей своей безжалостной грубости. Прежде она
мечтала, как будет сидеть с женихом,— словно княжна какая, словно у
ней каждый день праздник,— как она будет жить замужем, словно в раю,
словно гордясь чем-то... А теперь у ней другие мысли; она подавлена
самодурством, да и впереди ничего не видит, кроме того же самодурства:
«Как подумаешь,— говорит она,— что станет этот безобразный человек
издеваться иэд тобой, да ломаться, да свою власть показывать, загубит он
твой век ни за что!.. Не живя, ты с ним состаришься... Так уж, право, мо-
Темное царство
171
лодой барин, лучше...» И в самом деле — она в своей «отчаянности», как
выражается она, находит, что ей нравится Леонид, который за ней давно
уж ухаживает... Прежде она от него бегала, а теперь бросилась в его
объятия, вышедши к нему вечером в сад: он свозил ее на лодочке на
уединенный островок, их подсмотрела Василиса Перегриновна, донесла Улан-
бековой, и та, пришедши в великий гнев, велит тотчас послать к Негли-
гентову (которого пред тем уже выгнала от себя за то, что он пришел
к ней пьяный — и, следовательно, не выказал ей уважения) сказать ему,
что свадьба его с Надей должна быть как можно скорее...
Тут является и Леонид со своими сожалениями... о он уже заражен
воздухом самодурства, он ничего не может сделать путного. В
«Воспитаннице» мимоходом, но с поразительной истиной выставлено то, как
эпидемия самодурства, разлитая в атмосфере всего «темного царства»,
неприметно, но неизбежно заражает самые свежие натуры. Леонид — мальчик
48 лет, не злой и не совсем глупый, характер его еще не сложился. Но
посмотрите, какие у него замашки, как он уже испорчен в корне и как
все окружающее способствует его дальнейшему развращению, как все
вырабатывает из него отвратительнейшего самодура. Одни разговоры
с Потапычем чего стоят! Он замечает Потапычу, озирая имение: «Ведь это
все мое будет». И Потапыч отвечает: «Все, сударь, ваше, и мы ваши
будем... Как, значит, при барине, при покойнике, так все равно и вам
должны. Потому — одна кровь... Уж это прямое дело»... Затем Леонид
объясняет, что он служить не намерен, потому что «там еще писать заставят»...
Потапыч и на это свою речь держит: «Нет, сударь, зачем же вам самим
дело делать! Уж это не порядок! Вам такую службу найдут,— самую
барственную, великатную, работать будут приказные, а вы будете над ними
надо всеми начальником. А чины уж сами собою пойдут»... Затем Леонид
жалуется, что девушки от него бегают. Потапыч объясняет, что это
оттого, что маменька его соблюсти желает и их тоже. Потом прибавляет:
Да что ж, сударь: маменька ваша, обыкновенно, должна строгость наблюдать,
потому как они дамы. А вам что на них смотреть! Вы сами по себе должны поступать,
как все молодые господа поступают. Уж вам порядку этого терять не должно. Что ж
вам от других-то отставать? Это будет к стыду к вашему.
Леонид. Так-то так, да не умею я с девушками разговаривать.
Потапыч. Да вам что с ними разговаривать-то долго? Об каких науках вам
с ними разговаривать? Нешто оне что понимают! Обыкновенно — вы барин, ну, вот и
конец...
И Леонид быстро напитывается этими понятиями. В сцене с Надей в
саду он выказывает себя пустым и дрянным мальчиком — не больше; но
в последней сцене, когда он узнал о гневе матери и о судьбе,
грозящей Наде, он просто гадок... Он суетится, спрашивает, нельзя ли
помочь, жалеет Надю, по-видимому, но в сущности, ему уж нет до нее дела...
Беде можно помочь одним средством: Уланбекова сердита главным образом
172
H. A. Добролюбов
за то, что Гришка, 19-летний лакей, ее любимец не ночевал дома;
Гришка ушел и завалился на сено, мало заботясь о гневе барыни; но нужно
послать его просить прощенья,— тогда Уланбекова развеселится и ее
можно будет упросить за Надю. Василиса Перегриновна язвительно
предлагает Леониду— попросить Гришку, чтоб шел к барыне. Но мальчик,
немного подумав, отвечает: «Нет, уж это ему много чести будет»... И,
решив этим ответом исполнение грозного приговора над судьбою Нади, он
опять начинает спрашивать: «что делать», да приставать с сожалениями...
Надя уж выходит из терпения наконец и говорит ему: «Полноте о таких
пустяках беспокоиться; вы же поедете в Петербург скоро; веселитесь
себе там. А до меня что вам за дело!» Леонид обижен и спрашивает:
«Зачем так говорить мне?»— «Затем, что вы мальчик еще,— отвечает
Надя и заключает: —уж уехали б вы куда-нибудь лучше! А у меня, коли
терпенья не хватит, так пруд-то у нас недалеко!..» И Леонид,.несколько
озадаченный, но втайне очень довольный, что может отделаться, говорит:
«А в самом деле, я лучше поеду к соседям на неделю»... И оставляет
Надю, которая вчера бросилась в его объятия — по влечению того же
чувства, по которому теперь собирается броситься в пруд...
Итак, вот где источник падений, вот причина нравственного растления,
так обильно разлитого по всему «темному царству» самодуров! «Пока я
думала, что я человек, как и все люди,— говорит Надя,— так у меня и
мысли были другие. А как начала она мной, как куклой, командовать, да
как увидела я, что никакой мне воли, ни защиты нет, так отчаянность на
меня напала... Куда страх, куда стыд девался... Хоть день, да мой,
думаю,— а там что будет, то будет, ничего я и знать не хочу»... И в этих
мыслях бросилась девушка на свою погибель, и действительно, только
часом каким-нибудь и попользовалась... Да и тот уже отнят у ней, потому
что воспоминание вчерашней сцены любви уже отравлено, запачкано
нынешним поведением Леонида. «Кому я отдалась, на кого расточила я свои
чистые девичьи ласки!»—должна думать теперь несчастная девушка, и
стыд горькой ошибки будет преследовать ее сильнее и дольше, нежели
печаль об утраченной невинности. Да, собственно говоря, и
безнравственность-то ее поступка состоит ведь только в том, что она сгоряча очень
глупо распорядилась собой... А что ж ей было делать, однако?.. Ее уж не
одно чувство законности удерживало от открытого восстания против воли
«благодетельницы», а просто бессилие, невозможность. Куда же ей было
деваться, где и какими средствами искать защиты, на какие средства
существовать, наконец?.. Ей, кроме того, что она сделала, только одно и
оставалось: утопиться в пруде... Так ведь и это тоже не велика радость!..
Здесь-то открывается нам другая причина, приведенная нами на то,
отчего так крепко держится самодурство, само по себе несостоятельное и
давно прогнившее внутри. Чувство законности, сделавшееся чисто
пассивным и окаменелым, превратившееся в тупое благоговение к авторитету
Темное царство
173
чужой воли, не могло бы так кротко и безмятежно сохраняться в
угнетенных людях при виде всех нелепостей и гадостей самодурства, если
бы его не поддерживало что-нибудь более живое и существенное. И
действительно, оно поддерживается постоянно тем, что в людях есть
неизбежное стремление и потребность — обеспечить свой материальный быт. Эта
потребность, в соединении с тупым и неразумным чувством законности,
чрезвычайно благоприятствует процветанию самодурства. Если бы чувство
законности не было в людях «темного царства» так неподвижно и
пассивно, то, конечно, потребность в улучшении материального быта повела
бы совсем к другим результатам. Митя не стал бы заглазно плакаться
на хозяина и молчать перед ним, считая законом его волю, а просто
нашел бы очень законным делом — потребовать от него прибавки жалованья.
Сам Подхалюзин не стал бы обмеривать и обсчитывать, повинуясь воле
хозяина, как высшему закону, и откладывая гроши себе в карман, а
просто потребовал бы участия в барышах Болыпова, так как он уже всеми
его делами заведывал. Тогда, конечно, Болыпову и банкротство бы не
понадобилось. Да и самодурствовать-то ему было бы не слишком повадно.
С другой стороны, если бы надобности в материальных благах не было
для человека, то, конечно, Андрей Титыч не стал бы так дрожать
перед тятенькой, и Надя могла бы не жить у Уланбековой, и даже Тишка не
стал бы уважать Подхалюзина... Но теперь дела представляются в таком
виде: материальные блага нужны всякому человеку, но они уже
захвачены самодурами, так что слабая, угнетенная сторона, находящаяся под
их влиянием, должна и в этом зависеть от самодурной милости какого-
нибудь Торцова или Уланбековой; можно бы от них потребовать того,
чем они владеют не по праву; но чувство законности запрещает
нарушать должное уважение к ним... Что же из этого выходит? Следствие,
кажется, ясно: нужно «без роптания просить» от самодуров, чтобы они,
живя сами, дали жить и другим... Но, чтобы они исполнили просьбу, нужно
снискать их милость; а для этого надо во всем с ними согласиться, им
покориться и с «терпеньем тяготу сносить», если придется... А тяготы
придется довольно, судя «по крутому-то характеру» Гордея Карпыча или
г-жи Уланбековой, да и по их непроходимой глупости... Ко всему этому надо
себя приготовить, воспитать себя для этого, а именно: переломить свой
характер, выбить из головы дурь, т. е. собственные убеждения, смирить себя,
т. е. отложить всякую мысль о своих правах и о человеческом достоинстве.
Все это самими самодурами очень успешно и выполняется над всеми
людьми, родящимися в пределах их влияния. Оттого-то у них и есть всегда под
руками так много безответных Митей, Андрюш, раболепных Потапычей
и т. п. Если же в ком и после самодурной дрессировки еще останется какое-
нибудь чувство личной самостоятельности и ум сохранит еще способность к
составлению собственных суждений, то для этой личности и ума готов
торный путь: самодурство, как мы убедились, по самому существу своему, ту-
174
H. A. Добролюбов
поумно и невежественно, следовательно ничего не может быть легче, как
надуть любого самодура. Человек, сохранивший остатки ума, непременно
на то и пускается в этом самодурном круге «темного царства», если только
пускается в практическую деятельность; отсюда и произошла пословица,
что «умный человек не может быть не плутом».
Таким образом, под самодурами два разряда их воспитанников и
клиентов — живые и неживые. Неживые, задавленные, неподвижные,— так
и лежат, не обнаруживая никаких попыток: перетащут их с одного места
на другое — ладно, а не перетащут,— так и сгниют... Живые, напротив,
все стараются поместиться получше и поолиже около самодура, а если
линия подойдет, то и ножку ему подставить, чтобы сесть на него
верхом и самим задурить. И новый самодур уже бывает хуже, опасней и
долговечней, потому что он хитрее прежнего и научен его горьким опытом.
Так оно все и идет: за одним самодуром другой, в других формах, более
цивилизованных, как Уланбекова цивилизована сравнительно, например,
с Брусковым, но, в сущности, с теми же требованиями и с тем же
характером. Живые натуры угнетаемой стороны пускаются в плутни для своего
обеспечения, а неживые стараются своей неподвижностью и покорностью
заслужить себе милость самодура и капельку живой воды (которую он,
впрочем, дает им очень редко, чтобы не слишком оживились).
Из этих коротких и простых соображений не трудно понять, почему
тяжесть самодурных отношений в этом «темном царстве» обрушивается
всего более на женщин. Мы обещали в прошедшей статье обратить
внимание на рабское положение женщины в* русской семье, как оно
является в комедиях Островского. Мы, кажется, достаточно указали на него в
настоящей статье; остается нам сказать несколько слов о его причинах и
указать при этом на одну комедию, о которой до сих пор мы не говорили
ни слова,— на «Бедную невесту».
По устройству нашего общества женщина почти везде имеет
совершенно то же значение, какое имели паразиты в древности: она вечно
должна жить на чужой счет. Понятно, какое обидное мнение о женщине
складывается поэтому само собою в обществе... Правда, что на чужой счет
живут и сами домовладыки этого «темного царства», подобные Брускову,
Болыпову и пр. Но те упорно держат за собою какое-то никем не
выговоренное, но всеми признанное право на тунеядство. Притом они
оправдываются даже правилами политической экономии: у них есть капитал
(откуда и как он добыт,— до этого уж что за дело!), и они по праву
пользуются процентами... А если проценты эти в торговле их и оказыв;аются
несколько чрезмерны, то опять в этом никто не виноват: значит,
конкуренция слаба. Наконеп надо и то рассуждать: самодур, по общему
сознанию и по его собственному убеждению, есть начало, центр и глава
всего, что вокруг него делается; значит, хоть бы он собственно сам и
ничего не делал, но зато деятельность других принадлежит ему. От него
Темное царство
175
ведь дается право и способы к деятельности; без него остальные люди
ничтожны, как говорит Юсов в «Доходном месте»: «Обратили на тебя
внимание, ну, ты и человек, дышишь; а не обратили,— что ты?» Так,
стало быть, о бездеятельности самих самодуров и говорить нечего. Надо
говорить о другой половине «темного царства», о той, которую мы назвали
угнетаемою. Тут все трудятся более или менее. Конечно, труд этот не
свободен, не самостоятелен; трудящиеся во всем зависят от прихоти
самодуров и часто принуждены делать вовсе не то, что следует и что им
хочется... Вспомним, как Андрюша Брусков порывается учиться, как Митя
стремится к тому, чтобы «образовать себя», и как им это не удается.
Они, стало быть, тоже очень стеснены в своей деятельности, и именно
вследствие необеспеченности своего положения, вследствие зависимости пх
материальных средств от первой прихоти самодура... Но все-таки они еще
могут надеяться, что и самодур не вдруг их прогонит и бросит: все
же они что-нибудь делают и приносят пользу самодуру. Положим, Торцов
не дорожит приказчиками, так же, как Вышневский в «Доходном месте»
чиновниками, и может их менять каждый день. Но на место смененных
надо же кого-нибудь определить; следовательно, Торцов имеет вообще
нужду в людях и, следовательно, хоть вследствие своего консерватизма не
будет зря гонять тех, которые ему не противятся, а угождают. Притом же
и самые занятия мужчины, как бы они ни были второстепенны и
зависимы, все-таки требуют известной степени развития, и потому круг
знаний мальчика с самого детства, даже в понятиях самих Брусковых,
предполагается гораздо обширнее, чем для девочки. Андрюша Брусков, напр.,
по фабрике у отца— первый; для этого надо же ему было хоть
посмотреть на что-нибудь, если уж не учиться систематически, как
следует. А о дочерях мать этого же Андрюши говорит очень наивно: «Что
дочери! Дочерей и запереть можно, да и хлопот с ними меньше — ни учить,
ни что». За дочерьми, по ее мнению, только и нужен присмотр, чтобы их
от парней уберечь до замужества: а там уже муж будет беречь свою
жену от посторонних... Во всех до сих пор рассмотренных нами комедиях
Островского мы видели, как все обитатели его «темного царства»
выражают полнейшее пренебрежение к женщине, которое тем более
безнадежно, что совершенно добродушно. Тут нет даже и такого раздражения,
с каким, напр., один господин отделывал купца, осмелившегося писать о
крестьянском вопросе. В том раздражении, как оно ни высокомерно, все-
таки видно боязливое внимание, какое-то смутное сознание, что в
противной стороне все-таки кроется некоторая сила; тон пренебрежения здесь
искусствен. Ничего подобного нет в тоне отношений мужей к женам и отцов
к дочерям в «темном царстве» комедий Островского. Эти господа не
раздражаются, не восстают серьезно против значения женщины; они
позволяют своим женам даже спорить с собой... Но просто -они не могут
поместить в голове мысли, что женщина есть тоже человек равный им, имею-
176
H. A. Добролюбов
щий свои права. Да этого и сами женщины не думают. «Уж что женщина!
курица не птица, женщина не человек»,— повторяют они вместе с Нички-
ной в «Праздничном сне». Она сама ничего не делает, ничего не
приобретает, не играет никакой роли в обществе, не составляет никакой
инстанции в делах. Что бы она ни была, все она только по отце да по
муже... И она безропотно покоряется этому, находя, что так быть должно,
так уж испокон веку заведено и, стало быть, судьба уж такая...
Слабые попытки ее выказать свое значение ограничиваются только разве
разговорами, подобными следующему разговору Улиты Никитишны с
Карпом Карпычем, в «Не сошлись характерами». Мы приводим этот
разговор, потому что в нем, кроме подтверждения*нашей мысли, находим один
из примеров того мастерства, с каким Островский умеет передавать не-
уловимейшие черты пошлости и тупоумия, повсюду разлитых в этом
«темном царстве» и служащих, вместе с самодурством, главным основанием его
быта.
Улита Никитишна {заваривая чай). Нынче все муар антик в моду пошел.
Карп Карп. Какой это муар антик?
Улита Ник. Такая материя.
Карп Карп. Ну, и пущай ее.
Улита Ник. Да я так... Вот кабы Серафимочка замуж вышла, так уж сшила
бы себе, кажется... Все дамы носят.
Карп К а р п. А ты нешто дама?
Улита Ник. Обнакновенно дама.
Карп Карп. Да вот можешь ты чувствовать,— не могу я слышать этого слова...
когда ты себя дамой называешь.
Улита Ник. Да что же такое за слово: дама? Что в нем... {ищет слова) по«
стыдного?
Карп К а р п. Да коли не люблю! Вот тебе и сказ!
УлитаНик. Ну, а Серафимочка дама?
Карп Карп. Известно — дама: та ученая, да за барином была. А ты что? Все
была баба, а как муж разбогател, дама стала. А ты своим умом дойди.
Улита Ник. Да нет! Все-таки... как же!
Карп Карп. Сказано — молчи, ну и баста! {Молчание.)
Улита Ник. Когда было это отражение?
Карп Карп. Какое отражение?
УлитаНик. Ну, вот недавно-то. Разве не помнишь, что ли?
Карп Карп. Так что же?
УлитаНик. Так много из простого звания в офицеры произошли.
Карп Карп. Ведь не бабы же. За свою службу каждый получает, что
соответственно.
Улита Ник. А как же вот к нам мещанка ходит, так говорила, что когда
племянник курс выдержит, так и она будет благородная.
К а р к Кари. Да, дожидайся.
Улита II и к. А говорят, в каких-то землях из женщин полки есть.
Карп Карп, {смеется). Гвардия! (Молчание.)
Улита Ник. Говорят, грешно чай пить.
К а р и К а р п. Это еще отчего?
У л и т а Н и к. Потому — из некрещеной земли идет.
К а р п К а р п. Мало ли что из некрещеной земли идет.
Темное царство
117
Улита II и к. Вот тебе пример: хлеб из крещеной земли, мы его и едим
вовремя; а чай — когда пьем? Люди к обедне, а мы за чай; вот теперь вечерня, а мы за
чай! Вот и значит грех.
К а р п К а р п. А ты пей вовремя.
V л и т а II и к. Нет, все-таки...
К а р п К а р п. Все-таки молчи. Ума у тебя нет, а разговаривать любишь. Ну, и
молчи! (Молчание.)
Улита Ник. Какая Серафимочка у нас счастливая! Была за барином — барыня
стала; и овдовела — все-таки барыня. А как теперь если за князя выйдет, так,
пожалуй, княгиня будет.
Кари Карп. Все-таки по муже.
Улита Ник. Ну, а как Серафимочка за князя выйдет, неужто я так-таки
ничего? Ведь она мое рождение.
Карп Карп. С тобой говорить, только мысли в голове разбивать. Я было об
деле задумал, а ты тут с разговором да с глупостями. Ведь вашего бабьего разговору
всю жизнь не переслушаешь. А сказать тебе: молчи! так вот дело-то короче будет.
После этого разговора Карп Карпыч замечает про себя, что «кабы на
баб да не страх, с ними бы и не сообразил»... Все, говорит,
соблазняют мужчин, и «молодой человек, который и неопытный, может
польститься на их прелесть, а человек, который в разум входит и в лета
постоянные, для того женская прелесть ничего не значит, даже скверно»...
С этой стороны все и смотрят на женщину в «темном царстве», да еще и
то считают за одолжение... Видно, что остатки воззрений Востока до сих
пор еще очень значительны здесь. Женщин не продают так открыто на
рынках, как делали на Востоке, но нельзя сказать, чтоб их не
продавали вовсе. И даже способ продажи все еще довольно циничен и
бесстыден, как это можно видеть на нескольких экземплярах свах, выведенных
Островским в разных его комедиях. Мы не будем останавливаться на этих
лицах, потому что и так уже давно злоупотребляем терпением читателя;
но не можем не указать на сцены сватанья в «Бедной невесте». Вся эта
пьеса отличается совершенной простотой и обыденностью и отсутствием
всяких резких черт, подобных, например, рассужданиям вдовы
Кукушкиной в «Доходном месте». Но тем не менее сватанье девушки, заботы
матери о ее выдаче, разговоры о женихах — все это может навести ужас
на человека, который задумается над комедией... Анна Петровна, мать
Марьи Андреевны, — женщина слабая, сырая, позабывчивая, как она сама
себя рекомендует. Каждый ее шаг ясно доказывает, что она выросла
и прожила большую часть жизни тоже под каким-то гнетом, отнявшим у
нее всякую способность и вкус к самостоятельной деятельности. Она
ничего сообразить не может, не знает, к кому обратиться и чем взяться,
суетится и мечется без всякого толку и все жалуется на дочь, что та
долго замуж не выходит. Сознавая свое полное ничтожество, она твердит
беспрестанно: «Как это без мужчины в доме, уж я и не знаю... Что мы
знаем тут, сидя-то... Вот будочник бумагу какую-то приносил. Кто ее там
12 Н. А. Добролюбов
178
H. A. Добролюбов
разберет? Вот поди ж ты женское-то дело какое! Так и ходишь, как дура...
Вот целое утро денег не сочту... Как это без мужчины, это я уж и не
знаю; тут и без беды беда». Как видите, это уж такое ничтожество, что
перед мужем или кем бы то ни было посильнее она, вероятно, и пикнуть
не смела. Но воздух самодурства и на нее повеял, и она без пути, без
разума распоряжается судьбою дочери, бранит, попрекает ее, напоминает
ей долг послушания матери и не выказывает никаких признаков того, что
она понимает, что такое человеческое чувство и живая личность человека.
Все это — прямые и несомненные признаки самодурной закалки,
доказывающие только, как она легко пристает даже к самым неспособным. Для
самодурства, как видно, нет ни пола, ни возраста, ни звания. Женщины,
вообще так забитые и презренные в «темном царстве», могут тоже
самодурничать, да еще как! Пример — Уланбекова... Мальчишки и старики,
купцы, чиновники, помещики — все, кто хотите, начинают, при первой
возможности, самодурничать... Человек всеми презрен, тысячу раз бит
и оплеван, пред всеми трепещет, кажется уж такое смиренномудрие, что
воды не замутит!.. Но заведись у него хоть один сынишка или попади
к нему в руки воспитанник, слуга, подчиненный — он немедленно начнет
над ними самодурничать, не переставая в то же время дрожать перед
каждым встречным, который ему не кланяется... Так уж устроено «темное
царство», таковы уставы его иерархии; тут личный характер человека
даже мало и значения-то имеет... «Больше все делается от необузданности,
а то и от глупости»,— как выражается Бородкин.
В первой статье о «темном царстве» мы старались показать, каким
образом самые тяжкие преступления совершаются в нем и самые
бесчеловечные отношения устанавливаются между людьми — без особенной
злобы и ехидства, а просто по тупоумию ы закоснелости в данных понятиях,
крайне ограниченных и смутных. Напоминая об этом читателям, мы
заметим здесь только, что Анна Петровна представляет собою одно из очень
ярких проявлений этой безнравственности по глупости. Ее отношения к
дочери глубоко безнравственны: она каждую минуту пилит Машеньку и
доводит ее до страшного нервического раздражения, до истерики, своими
беспрерывными жалобами и попреками: «Я тебя растила, я тебя холила,
а ты вот чем платишь!.. Ты хочешь свой каприз выдержать и нейдешь
замуж, а мать тут плачь на старости лет... Ведь у нас ничего нет; куда я
на старости лет денусь — в кухарки мне, что ли, идти? Ты только
повесничать любишь, а мать позабыла, для матери ничего не хочешь сделать...
Что ж, авось добрые люди найдутся, не оставят старуху!» Такие речи
повторяются перед Марьей Андреевной постоянно, каждый день и каждый
час. Какова же эта мать, имеющая до такой степени барышнический
взгляд на дочь! Не ясны ли на ней черты самодурных тенденций,
коснувшихся ее хоть слегка и вовсе не сродных ее характеру, но все-таки
успевших сделать ее несносною для окружающих? Такая личность и такие
Темное царство
179
отношения должны возмущать душу... Но Анна Петровна обезоруживает
нас своим необычайным добродушием и недальностью. В ней нет
положительной безнравственности, а есть только отсутствие нравственности,
отсутствие всяких гуманных начал в ее организме. Выдача дочери замуж —
ее мономания; что с этим прикажете делать? А что она настаивает на
согласии Маши выйти за Беневоленского, так это происходит от двух
причин: во-первых, Беневоленский возьмется хлопотать об их деле в сенате,
а во-вторых, она не может представить, чтобы девушке было не все равно,
за кого ни выходить замуж. Когда Машенька объявляет, что
Беневоленский ей противен, Анна Петровна даже сообразить этого никак не
может,— сначала не обращает внимания и говорит, что у Маши голова
вздором набита и что она сама двадцать раз передумает, а потом, после
вторичного отказа дочери, объясняет его тем, что «это только каприз,
только чтоб матери напротив что-нибудь сделать». Между тем надо
заметить, что она и сама Беневоленского вовсе не знает и не одобряет.
В заключительной сцене, когда уже все кончено, она хватилась за ум —
сказать Маше: «Нравится ли он тебе? Признаться сказать, скоренько
дело-то сделали; кто его знает,— в него не влезешь». Что станете делать с
такой наивностью? Даже и сердиться нельзя на нее... Только диву даешься
и еще грустнее оглянешься на ту среду, в которой вырастают и
прозябают подобные субъекты.
В этой-то среде и мается Марья Андреевна, простенькая и
малоразвитая девушка, но с натурой очень деликатною и благородною. Мается
она всего больше оттого, что мать торопится ее с рук сбыть и, не
довольствуясь свахами, сама хлопочет во все стороны несчет женихов. До
какой степени соблюдается деликатность во всем этом, видно, например,
из письма, которое пишет к Анне Петровне ее приятель, добрый стари-
чок Добротворский. «Насчет того пункта, о котором вы меня просили,—
пишет он,— я в назначенном вами присутственном месте был: холостых
чиновников, для Марьи Андреевны достойных, нет; есть один, но я
сомневаюсь, чтобы оный вам понравился, ибо очень велик ростом — весьма много
больше обыкновенного — и рябой. Но, по справкам моим от секретаря и
прочих его сослуживцев, оказался нравственности хорошей и не
пьющий, что, как мне известно, вам весьма желательно. Не прикажете ли
посмотреть в других присутственных местах, что и будет мною исполнено
с величайшим удовольствием». И это письмо Анна Петровна заставляет
читать саму Машеньку! Понятно, что бедная девушка обиделась, но мать
никак не может понять, чем тут обижаться!
А из-за чего же терпит несчастная все эти оскорбления? Что ее
держит в этом омуте? Ясно что: она бедная невеста, ей некуда деваться,
нечего делать, кроме как ждать или искать выгодного жениха.
Замужество — это ее должность, работа, карьера, назначение жизни. Как поденщик
ищет работы, чиновник — места, нищий — подаяния, так девушка должна
12*
180
H. A. Добролюбов
искать жениха... Над этим смеются современные либералы; но интересно
бы знать, что же, в самом деле, станет у нас делать девушка, не
вышедшая замуж? Если подумать, так и окажется, что Анна Петровна
очень резонно говорит: «Что такое незамужняя женщина? Ничего!.. Что
она значит? Уж и вдовье-то дело плохо, а девичье-то уж и совсем не
хорошо! Женщина должна жить с мужем, хозяйничать, воспитывать
детей, а ты что ж будешь делать-то старой девкой? Чулок вязать!..» Слова
эти глупо-справедливы, и они-то могут служить довольно категорическим
ответом на то, почему у нас женщина в семье находится в таком
рабском положении и почему самодурство тяготеет над ней с особенной
силою.
Некоторую самостоятельность может она приобрести, если имеет в
сроих руках деньги. Эту сторону женской жизни изобразил Островский в
пьесе «Не сошлись характерами». Изящный Поль является чрезвычайно
внимательным и покорным к жене, надеясь выпросить у нее денег. Но и
сами деньги как-то не то значат в руках женщины, что у мужчины.
Понятие о богатстве какого-нибудь самодура довольно скоро срастается с
понятием о его личности потому, вероятно, что все-таки он сам своими
деньгами распоряжается и пускает их в ход. Поэтому, входя в сношение с
богачом, всякий старается как можно более участвовать в его выгодах; заводя
же сношения с женщиной, имеющей деньги, прямо уже хлопочут о том,
чтобы завладеть ее достоянием. Сама же личность женщины' остается без
всякого значения. Это очень хорошо понимает Серафима Карповна, верная
наставлениям своего родителя. Выходя замуж, она заранее обещает не
давать денег мужу, говоря: «Что ж я буду тогда без капиталу? я ничего не
буду значить»,— на что родитель отвечает многозначительным
«обыкновенно»!.. И по выходе замуж она сдерживает свое обещание: когда муж
попросил у ней денег, она уехала к папеньке, а мужу прислала письмо,
в котором, между прочим, излагалась такая философия: «Что я буду
значить, когда у меня не будет денег? — тогда я ничего не буду значить!
Когда у меня не будет денег,— я кого полюблю, а меня, напротив того, не
будут любить. А когда у меня будут деньги,— я кого полюблю, и меня
будут любить, и мы будем счастливы»... Й ведь справедливо рассуждает
Серафима Карповна!..
Но и это ведь еще редкий случай, чтобы к женщине в руки деньги
попадали. Для этого надо, чтоб она рано овдовела от богатого мужа.
А то — с какой стати к ней попадут деньги? Да и что она с ними сделает?
Разбросает по модным магазинам либо раздаст по монастырям, смотря по
летам и наклонностям. Больше она ничего не в состоянии сделать.
Лучше же их употребить на что-нибудь практически путное... И по закону-
то ей в наследство идет только четырнадцатая часть, а ежели мимо
закона, так и того не следует... Все равно ведь: не удержатся у ней денежки...
Разве что жениха себе купит хорошего. Да и того почти никогда не бы-
Темное царство
181
вает. В женихи к богатым невестам всё являются Вихоревы, Баранчев-
ские, Бальзаминовы, Прежневы... Все эти господа принадлежат к той
категории, которую определяет Неуеденов в «Праздничном сне»: «Другой
сунется в службу, в какую бы то ни на есть, послужит без году неделю,
повиляет хвостом, видит — не тяга, умишка-то не хватает, учился-то
плохо, двух перечесть не умеет, лень-то прежде его родилась, а побарство-
вать-то хочется: вот он и пойдет бродить по улицам до по гуляньям,—
не объявится ли какая дура с деньгами»... Действительно, все эти
господа красивы и глупы так, что о них вспоминать тошно: большею частию
они или служили, или желают служить в военной службе, имеют
наклонности к самодурству и очень любят, когда их считают образованными
людьми. Но их невежество во всех отношениях равняется темноте самих
самодуров, и только благодаря самодурной системе запрещать учиться
низшим и особенно женщинам могут они не казаться смешными в этой
среде. Разбирая «Не в свои сани не садись», мы уже достаточно говорили
о том, почему Авдотья Максимовна могла увлечься Вихоревым. Здесь
прибавим только указание на подобное же отношение Марьи Андреевны к
Меричу в «Бедной невесте». Мы заранее отстранили от себя разбор частных
художественных достоинств в сценах и лицах комедий Островского;
поэтому не будем разбирать в подробности и характер Мерича. Но не
можем не заметить, что для нас это лицо изумительно по мастерству, с
каким Островский умел в нем очертить приличного, не злого, не
отвратительного, но с ног до головы пошлого человека. Это не есть сколок с
одного из типов, которых несколько экземпляров представлено в лучших
наших литературных произведениях: он не Онегин, не Печорин, не Груш-
ницкий даже, даже вообще не лишний человек. У тех все-таки есть внутри
что-то такое, что они считают своим достоянием, чем дорожат, чем
воображают себя серьезно проникнутыми. Беда только в том, что они мелковаты
натурою и лишены серьезного развития, так что ничто не может пройти
в глубину их сознания, ничему не могут они отдаться всею душою. Но у
Мерича даже и неглубоких-то убеждений нет: от него всякая истина,
всякое серьезное чувство и стремление как-то отскакивает; он как будто
не только никогда не жил сознательной жизнью, но даже вовсе и не
понимает, что бы это могло значить... Пошлость бесконечная, ничем не
усиленная, не подкрашенная, а настоящая, в натуре пошлость — отражается
в каждом его слове, в каждом его движении... И в этого человека
влюбляется неглупая девушка, с хорошими чувствами!.. Таковы неизбежные
последствия самодурной системы воспитания, считающей своим долгом как
можно больше вязать и сжимать молодую натуру и как можно долее
оставлять ее в непроглядном мраке...
Марья Андреевна бедна, и Мерич, разумеется, на ней не женится: он
принадлежит тоже к числу тех, которым нужны богатые невесты. Но
бывают в «темном царстве» и такие случаи, что неразумные бедняки же-
182
Я. А. Добролюбов
нятся на бедных девушках... И тут-то начинается ад кромешный!.. Ад этот
хорошо изображен Островским в «Доходном месте». Читатели наши,
конечно, помнят историю молодого Жадова, который, будучи племянником
важной особы, раздражает дядю своим либерализмом и лишается его
благосклонности, а потом, женившись на хорошенькой и доброй, но бедной и
глупой Полине и потерпевши несколько времени нужду и упреки жены,
приходит опять к дяде — уже просить доходного места. Изложение
семейных отношений и указание их влияния на общественную деятельность
представляется нам лучшею стороною этой комедии. А затем любопытна
внутренняя, душевная сторона жизни этих людей, которых мы
официально так презираем и клеймим названиями крючкотворцев и взяточников.
Здесь в полной силе выразилось одно из главных свойств таланта
Островского— уменье заглянуть в душу человека и изобразить его человеческую
сторону, независимо от его официального положения. Об этом много уже
говорили мы, разбирая «Своих людей», и потому теперь укажем только
на некоторые черты, относящиеся специально к чиновникам. Благодушие
и особенного рода совестливость взяточников рисуются несколькими
беглыми чертами еще в «Бедной невесте», в лице добряка Добротворского. Но
в «Доходном месте» черты эти гораздо ярче в Юсове и Белогубове. Лица
эти прямо наводят нас на мысль, что все их беззакония — чисто следствие
ложного их положения в обществе и ложных понятий, приобретенных
вследствие фальшивости положения. А ложное положение их 'есть опять-
таки последствие одной общей причины всех гадостей «темного
царства» — самодурства. В сфере чиновнической оно еще гаже и
возмутительнее, чем в купеческой, потому что здесь дело постоянно идет об общих
интересах и прикрывается именем права и закона. Кроме того, здесь мы
видим уже бесчисленное множество оттенков и степеней; и чем выше, тем
самодурство становится наглее внутренне и гибельнее для общего блага,
но благообразнее и величавее в своих формах. С Юсовым, когда он был
мальчишкой, мелкие чиновники обращались, как.с собачонкой; Юсов с
Белогубовым обращается уже не столько грубо; Вышневский же говорит
с Юсовым таким достойным тоном, что нужно только благоговеть, а
шокироваться вовсе нечем. Но, в сущности, вся беда в ведомстве Вышневского
оттого и происходит, что он сам заражен самодурством, а за ним уже и
все. Законов никаких никто не признает, честности никто в толк взять
не может, ума не определяют иначе, как способностью нажиться, главною
добродетелью признают смирение пред волею старших. Юсов простодушно
признает, что он гордости ни с кем не имеет, только вот верхоглядов не
любит, нынешних образованных-то. «С этими,— говорит,— я строг и
взыскателен; у меня правило — всячески их теснить для пользы службы:
потому — от них вред». Не мудрено в нем такое воззрение, потому что
он сам «года два был на побегушках, разные комиссии исправлял: и за
водкой-то бегал, и за пирогами, и за квасом, кому с похмелья,—и си-
Темное царство
183
дел-то не на стуле, а у окошка, на связке бумаг, и писал-то не из
чернильницы, а из старой помадной банки,— и вот вышел в люди»,— и
теперь признает, что «все это не от нас, свыше!..» И он не по злобе и не по
плутовству теснит образованных людей, а у него уж в самом деле такое
убеждение сложилось, что от них вред для службы... То же убеждение
передано и Белогубову, который говорит: «Что за польза и от ученья,
когда в человеке страху нет,— трепету перед начальством». Да иначе
думать они и не могут, потому что все, их окружающее, на каждом шагу
подтверждает их мнение. Даже те образованные, которые спорят с
ними,— как часто они собственным же поведением обличают свою
неправоту! — Так случилось и с Жадовым. Сначала Белогубов как-то ежился
перед Жадовым и признавал какую-то силу в его умственном превосходстве.
Он смутно ощущал, что унижаться и подличать, зависеть от первой
прихоти и отказываться от своей воли — не всегда приятно. Видя, что Жа-
дов гораздо свободнее и независимее в своих поступках, Белогубов почти
завидо ал ему. На вопрос своей невесты, почему он откладывает свадьбу,
когда Жадов свою не откладывает, он отвечал: «Совсем другое дело-с.
У него дяденька богатый-с, да и сам он образованный человек, везде
может место иметь. Хоть и в учители пойдет,— все хлеб-с. А я что-с?
Пока не дадут места столоначальника, ничего не могу-с»... Но
получивши это место, между тем как Жадов и свое-то потерял, Белогубов
начинает уже чувствовать самодовольное сожаление к Жадову, которое и
выражает ему при встрече в трактире. Что же, в самом деле, к чему
послужило Жадову ученье без трепета? Только к тому, что он мучился
сам, мучил целый год жену свою и, наконец, пошел к дяде просить Бело-
губовского места... И дядя поделом его отчистил... «Вот, говорит, они,
герои-то! Молодой человек, который кричал на всех перекрестках про
взяточников, говорил о каком-то новом поколении,— идет к нам же
просить доходного места, чтоб брать взятки!.. Хорошо новое поколение!»
Вообще Вышневский, утвердившись на своей точке зрения status quo,
чрезвычайно логически разбивает в прах все благородные фразы Жадова
и, как дважды два — четыре, доказывает ему, что, при настоящем порядке
вещей, невозможно честным образом обеспечить себя и свое семейство.
Честные способы приобретения слишком ничтожны, да и тех еще не
дадут тому, кто не захочет угождать, а будет противоречить. И это ведь не
бедственная случайность, а тяжкая необходимость, вытекающая прямо и
неизбежно из системы самодурства, развитой в «темном царстве». «Будь
хоть семи пядей во лбу, но если вам не нравится, то останется в
ничтожестве; и сам виноват: зачем не умел заслужить вашей милости». Вот
и все права, и вся философия «темного царства»! И вовсе не
удивительно, если Юсов, узнав, что все ведомство Вышневского отдано
под СУД> выражает искреннее убеждение, что это «по грехам нашим — на-
казание за гордость...» Вышневский то же самое объясняет, только не-
184
H. A. Добролюбов
сколько рациональнее: «Моя быстрая карьера,— говорит,— и заметное
обогащение — вооружили против меня сильных людей...» И, сходясь в
этом объяснении, оба администратора остаются затем совершенно
спокойны совестию относительно законности своих действий... Да и отчего бы не
быть им спокойным, когда их деятельность, равно как и все их понятия
и стремления так гармонируют с общим ходом дел и устройством
«темного царства»?
«Но ведь есть же какой-нибудь выход из этого мрака?.. Островский,
так верно и полно изобразивши нам «темное царство», показавши нам все
разнообразие его обитателей и давши нам заглянуть в их душу, где мы
успели разглядеть некоторые человеческие черты, должен был дать нам
указание и на возможность выхода на вольный свет из этого темного
омута... Иначе — ведь это ужасно — мы остаемся в неразрешимой
дилемме: или умереть с голоду, броситься в пруд, сойти с ума,— или же убить
в себе мысль и волю, потерять всякое нравственное достоинство и
сделаться раболепным исполнителем чужой воли, взяточником, мошенником, для
того чтобы безмятежно провести жизнь свою... Если только к этому
приводит нас вся художественная деятельность замечательного писателя, так
это очень печально!..»
Печально,— правда; но что же делать? Мы должны сознаться: выхода
из «темного царства» мы не нашли в произведениях Островского. Винить
ли за это художника? Не оглянуться ли лучше вокруг себя и не
обратить ли свои требования к самой жизни, так вяло и однообразно
плетущейся вокруг нас... Правда, тяжело нам дышать под мертвящим давлением
самодурства, бушующего в разных видах, от первой до последней
страницы Островского; но и окончивши чтение, и отложивши книгу в сторону,
и вышедши из театра после представления одной из пьес Островского,—
разве мы не видим наяву вокруг себя бесчисленного множества тех же
Брусковых, Торцовых, Уланбековых, Вышневских, .разве не чувствуем мы
на себе их мертвящего дыхания?.. Поблагодарим же художника за то,
что он, при свете своих ярких изображений, дал нам хоть осмотреться в
этом темном царстве. И то уж много значит... Выхода же надо искать в
самой жизни: литература только воспроизводит жизнь и никогда не дает
того, чего нет в действительности.
Впрочем, попытки освобождения от ть,мы бывают в жизни: нельзя
пройти мимо их и в комедиях Островского. Только эти попытки ужасны,
да притом и остаются все-таки только попытками. Лиц совершенно
чистых от житейской грязи мы не находим у Островского. Мыкин, в
«Доходном месте», может быть, чист, потому что ни в каких общественных
службах не участвует, а «учительствует понемногу». Но с ним мы так
мало знакомимся из его разговора с Жадовым, что еще не можем за него
поручиться. Есть еще в «Бедной невесте» одна девушка, до такой степе-
Темное царство
185
ни симпатичная и высоконравственная, что так бы за ней и бросился, так
и не расстался бы с ней, нашедши ее. Но и эта девушка уже забрызгана
грязью чужих пороков. Это Дуня, с которою пять лет жил Беневоленский
до своей женитьбы и которая теперь пришла, пользуясь свадебной
суматохой, взглянуть из толпы на невесту своего недавнего друга. Она
встречается с самим Беневоленским в проходной комнате, вроде буфета; вместе
с нею — подруга ее Паша, которой она перед этим только что бросила
несколько слов о том, как он над нею, бывало, буйствовал, пьяный...
Беневоленский, увидя "ее, конфузится и просит ее быть, поосторожнее.
«А хочешь,— сейчас дебош сделаю?» — говорит она. «Дура, дура! что
ты!» — в испуге восклицает Беневоленский, но она его тотчас
успокаивает, обещаясь, что и к нему больше не придет. Затем он старается ее
выпроводить, и между ними происходит следующая сцена, раскрывающая
перед нами чувства девушки, изумительные по своей чистоте и
благородству:
Б е н е в о л. Здесь, Дуня, тебе что же делать? Посмотри невесту и ступай.
Дуня. Узк я видела. Хороша ведь, Паша,— уж можно сказать, что хороша/...
(К Беневоленскому.) Только сумеешь ли с этакой женой жить? Ты смотри, не загуби
чужого веку даром. Грех тебе будет. Остепенись, живи хорошенько. Это ведь не со
мной: жили, жили, да и был таков. (Утирает слезы.)
П а ш а. А ты говорила, что тебе его не жаль...
Дуня. Ведь я его любила когда-то... Что ж, надо же когда-нибудь расставаться,
не век так жить. Еще хорошо, что женится; авось будет окитъ порядочно. А вез-таки,
Паша, ты то возьми,— лет пять жили... ведь жалко... Конечно, немного я от него
добра видела... больше слез... одного сраму что перенесла. Так, нп за что прошла
молодость, и помянуть нечем.
П а ш а. Что делать, Дуня...
Дуня. А ведь, бывало, и ему рада-радешенька, как приедет... Смотри ж, Жыви
хорошенько.
Б е н е в о л. Ну, уж конечно!
Дуня. То-то же. Это ведь тебе на век, не то, что я... Ну, прощай, не поминай
лихом, добром нечем. Что это я, как дура, расплакалась, в самом деле! Э, махнем
рукой, Паша,— завьем горе веревочкой!
Б е н е в о л. Прощай, Дупя.
Дуня. Адье, мусье! Пойдем, Паша (Уходят.)
Большей чистоты нравственных чувств мы не видим ни в одном лице
комедий Островского. Это уж не та безразличная доброта, которою
отличается дочь Русакова, не та овечья кротость, какую мы видим в Любови
Гордеевне, не те неопытные понятия, какими руководится Надя... Здесь
сила сознательной решимости проглядывает в каждом слове; все существо
этой девушки не придавлено и не убито; напротив, оно возвышено,
просветлено сознанием того добра, которое она приносит, отказываясь от
прав своих на Беневоленского. Ей в самом деле легко было сделать
дебош и сорвать сердце; но она не хочет этого, она чистосердечно отдает
справедливость красоте невесты, и сердце ее начинает наполняться доволь-
186
H. A. Добролюбов
ством за счастие своего бывшего друга. Полная благожелательства, она
радуется тому, что он женится, потому что это дает ей надежду на его
нравственное исправление... А потом — какая радушная, чистая
заботливость о той, о сопернице ее... И, наконец, какая грациозная прелесть
характера выражается в самом этом горе, завитом веревочкой, и в этом
ломаном прощанье, в котором, однако, нельзя не видеть огорчения и досады
все еще любящего сердца... Да, эта девушка сохранила в себе чистоту
сердца и все благородство, доступное человеку. Но что же она такое в
нашем обществе? Не отвержена ли она им? Да и не этому ли
отвержению,— не отчуждению ли от мрака само дурных дел, кишащих в нашей
среде общественной, надо приписать и то, что она так отрадно сияет перед
нами благородством и ясностью своего сердца?..
Есть в комедиях Островского и еще лицо, отличающееся большою
нравственной силой. Это — Любим Торцов. Он грязен, пьян, тяжел; он
надорван жизнью и очень запустил сам себя. Но та же самая жизнь,
лишив его готовых средств к существованию, унизив и заставив терпеть
нужду, сделала ему то благодеяние, что надломила в нем основу
самодурства. Он — родной братец Гордея Карпыча и, по его же рассказам, был
смолоду самодуром не хуже его. Но как пришлось ему паясничать на
морозе за пятачок, да просить милостыню, да у брата из милости жить,
так тут пробудилось в нем и человеческое чувство, и сознание правды, и
любовь к бедным братьям, и даже уважение к труду. Прося брата, чтоб
выдал дочь за Митю, Любим Торцов прибавляет: «Он мне угол даст;
назябся уж я, наголодался. Лета мои прошли, тяжело уж мне паясничать на
морозе-то из-за куска хлеба; хоть под старость-то, да честно пожить.
Ведь я народ обманывал: просил милостыню, а сам пропивал. Мне
работишку дадут, у меня будет свой горшок щей»... Из этих желаний и
признаний видно, что действительно нужда совершила в натуре Любима Тор-
цова перелом, заставивший его устыдиться прежних самодурных начал
столько же, как и недавнего беспутства.
В примере Торцова можно отчасти видеть и выход из темного
царства: стоило бы и другого братца, Гордея Карпыча, также проучить на
хлебе, выпрошенном Христа ради,— тогда бы и он, вероятно,
почувствовал желание «иметь работишку», чтобы жить честно... Но, разумеется,
никто из окружающих Гордея Карпыча не может и подумать о том,
чтобы подвергнуть его подобному испытанию, и, следовательно, сила
самодурства по-прежнему будет удерживать мрак над всем, что только есть в
его власти!..
А свет образования? Он должен же наконец разогнать этот мрак. Без
всякого сомнения!.. Но вспомните, что мы говорили о том, как
образование прививается к самодурству... Вспомните и то, какие результаты дало
образование в Вихореве, Бальзаминове, Прежневе, в Липочке, Капочке,
Устеньке, в Арине Федотовне... Оглянитесь-ка вокруг — какие сцены, ка-
Темное царство
187
кие разговоры поразят вас. Там Рисположенский рассказывает, как в
стране необитаемой жил маститый старец с двенадцатью дочерьми мал
мала меньше и как он пошел на распутие,— не будет ли чего от
доброхотных дателей; тут наряженный медведь с козой в гостиной пляшет, там
Еремка колдует, и колокольный звон служит к нравственному
исправлению, там говорят, что грех чай пить, и проч., и проч. ... А разговоры-то!
Настасья Панкратьевна скажет, что учиться не надо много; а Ненила Си-
доровна подхватит: «Да, вот насчет ученья-то: у нас соседка отдавала
сына учиться, а он глаза и выколол». А то Ненила Сидоровна скажет:
«Молодой человек, слушайте старших, вы еще не знаете, как люди хитры»;
а Настасья Панкратьевна подтвердит: «Да, да, у нас у кучера поддевку
украли — в одну минуточку»... Или, например:
Ничкина. Да вот еще, скажите вы мне: говорят, царь Фараон стал по ночам
с войском из моря выходить.
Бальзаминов. Очень может быть-с.
Ничкина. А где это море?
Бальзаминов. Должно быть, недалеко от Палестины.
Ничкина. А большая Палестина?
Бальзаминов. Болыпая-с.
Ничкина. Далеко от Царьграда?
Бальзаминов. Не очень далеко-с.
Ничкина. Должно быть, шестьдесят верст. Ото всех от таких местов
шестьдесят верст, говорят... только Киев дальше.
А припомните-ка разговор Карпа Карпыча с Улитой Никитишной—
о дамах!.. А разговор кучеров об австрияке! Или также — разговор Вихо-
рева с Баранчевским о промышленности и политической экономии, или
разговоры Прежнева с матерью о роли в обществе, или Недопекина с Ли-
савским (в «Утре молодого человека») о красоте и образовании, или Ка-
почки с Устенькой об учтивости и общежитии (в «Праздничном сне»). Вот
вам и образование: этаких господ, как Недопекин, Вихорев, таких
девушек, как Липочка и Капочка, оно уже произвело довольно. Но чтоб оно
сделало что-нибудь больше, до этого самодуры не допустят!.. Они и то
говорят, что образованных-то теснить надо для пользы службы!.. А еще что
за образованные перед ними? Кого они испугались-то? Жадова! А Жадов
сам признается, что у него воли нет, энергии недостает...
А в самом деле — слабо должно быть самодурство, если уж и Жадова
стало бояться!.. Ведь это хороший признак!..
На этом хорошем признаке мы и остановимся наконец. Не хотим делать
никаких общих выводов о таланте Островского. Мы старались показать,
что и как охватывает он в русской жизни своим художническим чувством,
в каком виде он передает воспринятое и прочувствованное им, и какое
значение в наших понятиях должно придавать явлениям, изображаемым в
его произведениях. Мы нашли у Островского полноту изображения
русской жизни, с ее Подхалюзинским сюртучком, Вихоревскими перчатками,
188
H, A. Добролюбов
Наденькиным заплаканным платочком, Жадовскою тросточкой и с Торцов-
ской самодурно-безобразной шапкой... Многое мы не досказали, об
ином, напротив, говорили очень длинно; но пусть простят нас читатели,
имевшие терпение дочитать нашу статью. Виною того и другого был
более всего способ выражения — отчасти метафорический,— которого
мы должны были держаться. Говоря о лицах Островского, мы,
разумеется, хотели показать их значение в действительной жизни; но мы все-таки
должны были относиться, главным образом, к произведениям фантазии
автора, а не непосредственно к явлениям настоящей жизни. Вот почему
иногда общий смысл раскрываемой идеи требовал больших
распространений и повторений одного и того же в разных видах,— чтобы быть
понятным и в то же время уложиться в фигуральную форму, которую мы
должны были взять для нашей статьи, по требованию самого предмета...
Некоторые же вещи никак не могли быть удовлетворительно переданы в
этой фигуральной форме, и потому мы почли лучшим пока оставить их
вовсе. Впрочем, многие выводы и заключения, которых мы не досказали
здесь, должны сами собой прийти на мысль читателю, у которого достанет
терпения и внимания до конца статьи.
КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ?
(«Накануне», повесть И. С. Тургенева.
«Русский вестник», 1860 г., № 1—2)
Schlage die Trommel und fürchte dich nicht! *
HEINE. »
Эстетическая критика сделалась теперь принадлежностью
чувствительных барышень. Из разговоров с ними служители чистого искусства
могут почерпнуть много тонких и верных замечаний и затем написать
критику в таком роде. «Вот содержание новой повести г. Тургенева (рассказ
содержания). Уже из этого бледного очерка видно, как много тут жизни и
поэзии самой свежей и благоуханной. Но только чтение самой повести
может дать понятие о том чутье к тончайшим поэтическим оттенкам
жизни, о том остром психическом анализе, о том глубоком понимании
невидимых струй и течений общественной мысли, о том дружелюбном и
вместе смелом отношении к действительности, которые составляют
отличительные черты таланта г. Тургенева. Посмотрите, например, как тонко
подмечены эти психические черты (повторение одной части из рассказа
содержания и затем — выписка) ; прочтите эту чудную сцену,
исполненную такой грации и прелести (выписка); припомните эту поэтическую,
живую картину (выписка) или вот это высокое, смелое изображение
(выписка). Не правда ли, что это проникает в глубину души, заставляет
сердце ваше биться сильнее, оживляет и украшает вашу жизнь,
возвышает перед вами человеческое достоинство и великое, вечное значение
святых идей истины, добра и красоты! Comme c'est joli, comme c'est
délicieux!» **
* Бей в барабан и не бойся! (нем.).— Ред.
** Как это красиво, как очаровательно! (франц.).— Ред.
190
H. A. Добролюбов
Малому знакомству с чувствительными барышнями одолжены мы тем,
что не умеем писать таких приятных и безвредных критпк. Откровенно
признаваясь в этом и отказываясь от роли «воспитателя эстетического
вкуса публики»,— мы пзбираем другую задачу, более скромную и более
соразмерную с нашими силами. Мы хотим просто подвести итог тем
данным, которые рассеяны в произведении писателя и которые мы
принимаем, как совершившийся факт, как жизненное явление, стоящее пред
нами. Работа нехитрая, но нужная, потому что, за множеством занятий и
отдыхов, редко кому придет охота самому всмотреться во все
подробности литературного произведения, разобрать, проверить и поставить на
свое место все цифры, из которых составляется этот сложный отчет об
одной из сторон нашей общественной жизни, и затем подумать об итоге
и о том, что он обещает и к чему нас обязывает. А такого рода
проверка и размышление очень небесполезны по поводу новой повести г.
Тургенева.
Мы знаем, что чистые эстетики сейчас же обвинят нас в стремлении
навязывать автору свои мнения и предписывать задачи его таланту.
Поэтому оговоримся, хоть это и скучно. Нет, мы ничего автору не
навязываем, мы заранее говорим, что не знаем, с какой целью, вследствие каких
предварительных соображений изобразил он историю, составляющую
содержание повести «Накануне». Для нас не столько важно то, что хотел
сказать автор, сколько то, что сказалось им, хотя бы и ненамеренно,
просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни. Мы дорожим
всяким талантливым произведением именно потому, что в нем можем
изучать факты нашей родной жизни, которая без того так мало открыта
взору простого наблюдателя. В нашей жизни до сих пор нет публичности,
кроме официальной; везде мы сталкиваемся не с живыми людьми, а с
официальными лицами, служащими по той или другой части: в
присутственных местах — с чистописателями, на балах — с танцорами, в клубах —
с картежниками, в театрах — с парикмахерскими пациентами и т. д.
Всякий хоронит дальше свою душевную жизнь; всякий так и смотрит на вас,
как будто говорит: «Ведь я сюда пришел, чтоб танцевать или чтоб
прическу показать; ну, и будь доволен тем, что я делаю свое дело, и не
вздумай, пожалуйста, выпытывать от меня мои чувства и понятия».
И действительно,— никто никого не выпытывает, никто никем не
интересуется, и все общество идет' врозь, досадуя, что должно сходиться в
официальных случаях, вроде новой оперы, званого обеда или какого-нибудь
комитетского заседания. Где же тут узнать и изучить жизнь человеку, не
посвятившему себя исключительно наблюдению общественных нравов?
А тут еще какое разнообразие, какая даже противоположность в
различных кругах и сословиях нашего общества! Мысли, сделавшиеся в одном
круге уже пошлыми и отсталыми, в другом — еще жарко оспариваются;
что у одних признается недостаточным и слабым, то другим кажется
Когда же придет настоящий день?
191
слишком резким и смелым и т. п. Что падает, что побеждает, что
начинает водворяться и преобладать в нравственной жизни общества,— на это у
нас нет другого показателя, кроме литературы, и преимущественно,
художественных ее произведений. Писатель-художник, не заботясь ни о каких
общих заключениях относительно состояния общественной мысли и
нравственности, всегда умеет, однако же, уловить их существеннейшие черты,
ярко осветить и прямо поставить их пред глазами людей размышляющих.
Вот почему и полагаем мы, что как скоро в писателе-художнике
признается талант, то есть уменье чувствовать и изображать жизненную
правду явлений, то, уже в силу этого самого признания, произведения
его дают законный повод к рассуждениям о той среде жизни, о той
эпохе, которая вызвала в писателе то или другое произведение. И
меркою для таланта писателя будет здесь то, до какой степени широко
захвачена им жизнь, в какой мере прочны и многообъятны те образы,
которые им созданы.
Мы сочли нужным высказать это для тото, чтобы оправдать свой
прием — толковать о явлениях самой жизни на основании литературного
произведения, не навязывая, впрочем, автору никаких заранее
сочиненных идей и задач. Читатель видит, что для нас именно те произведения
и важны, в которых жизнь сказалась сама собою, а не по заранее
придуманной автором программе. О «Тысяче душ», например, мы
вовсе не говорили, потому что, по нашему мнению, вся общественная
сторона этого романа насильно пригнана к заранее сочиненной идее.
Стало быть, тут не о чем и толковать, кроме того, в какой степени ловко
составил автор свое сочинение. Положиться на правду и живую
действительность фактов, изложенных автором, невозможно, потому что
внутреннее отношение его к этим фактам не просто и не правдиво. Совсем не
такие отношения автора к сюжету видим мы в новой повести г. Тургенева,
как и в большей части его повестей. В «Накануне» мы видим неотразимое
влияние естественного хода общественной жизни и мысли, которому
невольно подчинилась сама мысль и воображение автора.
Поставляя главной задачею литературной критики — разъяснение тех
явлений действительности, которые вызвали известное художественное
произведение, мы должны заметить притом, что в приложении к повестям
г. Тургенева эта задача имеет еще особенный смысл. Г. Тургенева по
справедливости можно назвать представителем и певцом той
морали и философии, которая господствовала в нашем образованном
обществе в последнее двадцатилетие. Он быстро угадывал новые
потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих
произведениях обыкновенно обращал (сколько позволяли обстоятельства)
внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать
общество. Мы надеемся при другом случае проследить всю литературную
деятельность г. Тургенева и потому теперь не станем распространяться об
192
H. A. Добролюбов
этом. Скажем только, что этому чутью автора к живым струнам общества,
этому уменью тотчас отозваться на всякую благородную мысль и честное
чувство, только что еще начинающее проникать в сознание лучших людей,
мы приписываем значительную долю того успеха, которым постоянно
пользовался г. Тургенев в русской публике. Конечно, и литературный
талант сам по себе много помог этому успеху. Но читатели наши знают, что
талант г. Тургенева не из тех титанических талантов, которые,
единственно силою поэтического представления, поражают, захватывают вас и
влекут к сочувствию такому явлению или идее, которым вы вовсе не
расположены сочувствовать. Не бурная, порывистая сила, а напротив —
мягкость и какая-то поэтическая умеренность служат характеристическими
чертами его таланта. Поэтому мы полагаем, что он не мог бы вызвать
общую симпатию публики, если бы касался вопросов и потребностей,
совершенно чуждых его читателям или еще не возбужденных в
обществе. Некоторые заметили бы прелесть поэтических описаний в его
повестях, тонкость и глубину в очертаниях разных лиц и положений, но, без
всякого сомнения, этого было бы недостаточно для того, чтобы сделать
прочный успех и славу писателю. Без живого отношения к современностп
всякий, даже самый симпатичный и талантливый повествователь, должен
подвергнуться участи г. Фета, которого и хвалили когда-то, но из которого
теперь только десяток любителей помнит десяток лучших стихотворений.
Живое отношение к современности спасло г. Тургенева и упрочило за ним
постоянный успех в читающей публике. Некоторый глубокомысленный
критик даже упрекал когда-то г. Тургенева за то, что в его деятельности
так сильно отразились «все колебания общественной мысли» 2. Но мы,
несмотря на это, видим здесь именно самую жизненную сторону таланта
г. Тургенева, и этой стороной объясняем, почему с такой симпатией, почти
с энтузиазмом, встречалось до сих пор каждое его произведение.
Итак, мы можем сказать смело, что, если уже г. Тургенев тронул
какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь
новую сторону общественных отношений,— это служит ручательством за то,
что вопрос этот действительно подымается или скоро подымется в
сознании образованного общества, что эта новая сторона жизни начинает
выдаваться и скоро выкажется резко и ярко пред глазами всех. Поэтому,
каждый раз при появлении повести г. Тургенева делается любопытным
вопрос: какие же стороны жизни изображены в ней, какие вопросы
затронуты?
Вопрос этот представляется и теперь, и в отношении к новой повести
г. Тургенева он интереснее, чем когда-либо. До сих пор путь г.
Тургенева, сообразно с путем развития нашего общества, был довольно ясно
намечен в одном направлении. Исходил он из сферы высших идей и
теоретических стремлений и направлялся к тому, чтобы эти идеи и
стремления внести в грубую и пошлую действительность, далеко от них уклонив-
Когда же придет настоящий день?
193
шуюся. Сборы на борьбу и страдания героя, хлопотавшего о победе своих
начал, и его падение пред подавляющею силою людской пошлости — и
составляли обыкновенно интерес повестей г. Тургенева. Разумеется,
самые основания борьбы, то есть идеи и стремления,— видоизменялись в
каждом произведении или, с течением времени и обстоятельств,
выказывались более определенно и резко. Таким образом, Лишнего человека
сменял Пасынков, Пасынкова — Рудин, Рудина — Лаврецкий. Каждое из
этих лиц было смелее и полнее предыдущих, но сущность, основа их
характера и всего их существования была одна и та же. Они были вносите-
ли новых идей в известный круг, просветители, пропагандисты,— хоть для
одной женской души, да пропагандисты. За это их очень хвалили, и
точно — в свое время они, видно, очень нужны были, и дело их было
очень трудно, почтенно и благотворно. Недаром же все встречали их с
такой любовью, так сочувствовали их душевным страданиям, так жалели об
их бесплодных усилиях. Недаром никто тогда и не думал заметить, что
все эти господа — отличные, благородные, умные, но, в сущности,
бездельные люди. Рисуя их образы в разных положениях и столкновениях,
сам г. Тургенев относился к ним обыкновенно с трогательным участием,
с сердечной болью об их страданиях и то же чувство возбуждал
постоянно в массе читателей. Когда один мотив этой борьбы и страданий
начинал казаться уже недостаточным, когда одна черта благородства и
возвышенности характера начинала как будто покрываться некоторой
пошлостью, г. Тургенев умел находить другие мотивы, другие черты, и опять
попадал в самое сердце читателя, и опять возбуждал к себе и своим
героям восторженную симпатию. Предмет казался неистощимым.
Но в последнее время в нашем обществе обнаружились довольно
заметно требования, совершенно отличные от тех, которыми вызван был к
жизни Рудин и вся его братия. В отношении к этим лицам в понятиях
образованного большинства произошло коренное изменение. Вопрос пошел
уже не о видоизменении тех или других мотивов, тех или других начал их
стремлений, а о самой сущности их деятельности. В течение того периода
времени, пока рисовались перед нами все эти просвещенные поборники
истины и добра, красноречивые страдальцы возвышенных убеждений,
подросли новые люди, для которых любовь к истине и честность стремлений
уже не в диковинку. Они с детства, неприметно и постоянно,
напитывались теми понятиями и стремлениями, для которых прежде лучшие люди
должны были бороться, сомневаться и страдать в зрелом возрасте *. Поэтому
* Нас уже упрекали однажды в пристрастии к молодому поколению и указывали на
пошлость и пустоту, которой оно предается в большей части своих
представителей. Но мы никогда и не думали отстаивать всех молодых людей огулом, да это
и не согласно было бы с нашей целью. Пошлость и пустота составляют достояние
всех времен и всех возрастов. Но мы говорили и теперь говорим о людях
избранных, людях лучших, а не о толпе, так как ы Рудин и все люди его закала при-
13 ы. А. Добролюбов
194
H. A. Добролюбов
самый характер образования в нынешнем молодом обществе получил
другой цвет. Те понятия и стремления, которые прежде давали титло
передового человека, теперь уже считаются первой и необходимой
принадлежностью самой обыкновенной образованности. От гимназиста, от
посредственного кадета, даже иногда от порядочного семинариста вы
услышите ныне выражение таких убеждений, за которые в прежнее время
должен был спорить и горячиться, например, Белинский. И гимназист или
кадет высказывают эти понятия,— так трудно, с бою доставшиеся
прежде,— совершенно спокойно, без всякого азарта и самодовольства, как
вещь, которая иначе и быть не может, и даже немыслима иначе.
Встречая человека так называемого прогрессивного направления,
теперь никто из порядочных людей уже не предается удивлению и
восторгу, никто не смотрит ему в глаза с немым благоговением, не жмет
ему таинственно руки и не приглашает шепотом к себе, в кружок
избранных людей,— поговорить о том, что неправосудие и рабство гибельны
для государства. Напротив, теперь с невольным, презрительным
изумлением останавливаются пред человеком, который выказывает недостаток
сочувствия к гласности, бескорыстию, эманципации и т. п. Теперь
даже люди, в душе не любящие прогрессивных идей, должны показывать
вид, что любят их, для того чтобы иметь доступ в порядочное общество.
Ясно, что при таком положении дел прежние сеятели добра, люди ру-
динского закала, теряют значительную долю своего прежнего кредита. Их
уважают, как старых наставников; но редко кто, вошедши в свой разум,
расположен выслушивать опять те уроки, которые с такою жадностью
принимались прежде, в возрасте детства и первоначального развития.
Нужно уже нечто другое, нужно идти дальше *.
«Но, скажут нам, ведь общество не дошло же до крайней точки в
своем развитии; возможно дальнейшее совершенствование умственное и
нравственное. Стало быть, нужны для общества и руководители, и
проповедники истины, и пропагандисты, словом — люди рудинского типа. Все
надлежали ведь не к толпе же, а к лучшим людям своего времени. Впрочем, мы
не будем неправы, если скажем, что и в массе общества уровень образования в
последнее время все-таки возвысился.
* Против этой мысли может, по-видимому, свидетельствовать необыкновенный
успех, которым встречаются издания сочинений некоторых наших писателей
сороковых годов. Особенно ярким примером может служить Белинский, которого
сочинения быстро разошлись, говорят, в количестве 12 000 экземпляров. Но, по
нашему мнению, этот самый факт служит лучшим подтверждением нашей мысли.
Белинский был передовой из передовых, дальше его не пошел ни один из его
сверстников, и там, где расхватано в несколько месяцев 12 000 экземпляров
Белинского, Рудиным просто уже делать нечего. Успех Белинского доказывает вовсе не
то, что его идеи еще новы для нашего общества и требуют больших усилий для
распространения, а именно то, что они дороги и святы теперь для большинства
и что их проповедание теперь уже не требует от новых деятелей ни героизма, ни
особенных талантов.
Когда же придет настоящий день?
195
прежнее принято и вошло в общее сознание,— положим. Но это не
исключает возможности того, что явятся новые Рудины, проповедники новых,
высших тенденций, и опять будут бороться и страдать, я опять
возбуждать к себе симпатию общества. Предмет этот действительно
неистощим в своем содержании и постоянно может приносить новые лавры
такому симпатичному писателю, как г. Тургенев».
Жалко было бы, если бы подобное замечание оправдалось именно
теперь. К счастию, оно, кажется, опровергается последним движением
литературы нашей. Рассуждая отвлеченно, нельзя не сознаться, что мысль о
вечном движении и вечной смене идей в обществе, а следовательно, и о
постоянной необходимости проповедников этих идей — вполне
справедлива. Но ведь нужно же принять во внимание и то, что общества живут но
затем только, чтоб рассуждать и меняться идеями. Идеи и их постепенное
развитие только потому и имеют свое значение, что они, рождаясь из
существующих уже фактов, всегда предшествуют изменениям в самой
действительности. Известное положение дел создает в обществе
потребность, потребность эта сознается, вслед за общим сознанием ее должна
явиться фактическая перемена в пользу удовлетворения сознанной всеми
потребности. Таким образом, после периода сознавания известных идей и
стремлений должен являться в обществе период их осуществления; за
размышлениями и разговорами должно следовать дело. Спрашивается теперь:
что же делало наше общество в последние 20—30 лет? Покамест ничего.
Оно училось, развивалось, слушало Рудиных, сочувствовало их неудачам
в благородной борьбе за убеждения, приготовлялось к делу, но ничего не
делало... В голове и сердце накопилось так много прекрасного; в
существующем порядке дел замечено так много нелепого и бесчестного; масса
людей, «сознающих себя выше окружающей действительности», растет с
каждым годом,— так что скоро, пожалуй, все будут выше
действительности... Кажется, нечего желать, чтоб мы продолжали вечно идти этим
томительным путем разлада, сомнения и отвлеченных горестей и утешений.
Кажется, ясно, что теперь нужны нам не такие люди, которые бы еще
более «возвышали нас над окружающей действительностью», а такие,
которые бы подняли — или нас научили поднять — самую действительность
до уровня тех разумных требований, какие мы уже сознали. Словом,
нужны люди дела, а не отвлеченных, всегда немножко эпикурейских,
рассуждений.
Сознание этого хотя смутно, но уже во многих выразилось при
появлении «Дворянского гнезда». Талант г. Тургенева, вместе с его верным
тактом действительности, вынес его и на этот раз с торжеством из
трудного положения. Он умел поставить Лаврецкого так, что над ним
неловко иронизировать, хотя он и принадлежит к тому же роду бездельных
типов, на которые мы смотрим с усмешкой. Драматизм его положения
заключается уже не в борьбе с собственным бессилием, а в столкновении с
13*
196
H. A. Добролюбов
такими понятиями и нравами, с которыми борьба действительно должна
устрашить даже энергического и смелого человека. Он женат и
отступился от своей жены; но он полюбил чистое, светлое существо, воспитанное
в таких понятиях, при которых любовь к женатому человеку есть
ужасное преступление. А между тем она его тоже любит, и его притязания
могут беспрерывно и страшно терзать ее сердце и совесть. Над таким
положением поневоле задумаешься горько и тяжко, и мы помним, как
болезненно сжалось наше сердце, когда Лаврецкий, прощаясь с Лизой, сказал
ей: «Ах, Лиза, Лиза! как бы мы могли быть счастливы!» — и когда она,
уже смиренная монахиня в душе, ответила: «Вы сами видите, что счастье
зависит не от нас, а от бога», и он начал было: «Да потому что вы...», и не
договорил... Читатели и критики «Дворянского гнезда», помнится,
восхищались многим другим в этом романе. Но для нас существеннейший
интерес его заключается в этом трагическом столкновении Лаврецкого,
пассивность которого именно в этом случае мы не можем не извинить.
Здесь Лаврецкий, как будто изменяя одной из родовых черт своего типа,
почти не является даже пропагандистом. Начиная с первой встречи с
Лизой, когда она шла к обедне, он во всем романе робко склоняется пред
незыблемостью ее понятий и ни разу не смеет приступить к ней с
холодными разуверениями. Но и это, конечно, потому, что здесь пропаганда была
бы самым делом, которого Лаврецкий, как и вся его братия, боится. При
всем том, нам кажется (по крайней мере казалось при чтении романа),
что самое положение Лаврецкого, самая коллизия, избранная г.
Тургеневым и столь знакомая русской жизни, должны служить сильною
пропагандою и наводить каждого читателя на ряд мыслей о значении целого
огромного отдела понятий, заправляющих нашей жизнью. Теперь, по разным
печатным и словесным отзывам, мы знаем, что были не совсем правы:
смысл положения Лаврецкого был понят иначе или совсем не выяснен
многими читателями. Но что в нем есть что-то законно-трагическое, а не
призрачное,— это было понято, и это вместе с достоинствами исполнения
привлекло к «Дворянскому гнезду» единодушное, восторженное участие
всей читающей русской публики.
После «Дворянского гнезда» можно было опасаться за судьбу нового
произведения г. Тургенева. Путь создания возвышенных характеров,
принужденных смиряться под ударами рока, сделался очень скользким.
Посреди восторгов от «Дворянского гнезда» слышались и голоса,
выражавшие неудовольствие на Лаврецкого, от которого ожидали больше. Сам
автор счел нужным ввести в свой рассказ Михалевича затем, чтобы тот
обругал Лаврецкого байбаком. А Илья Ильич Обломов, появившийся в то же
время, окончательно и резко объяснил всей русской публике, что теперь
человеку бессильному и безвольному лучше уж и не смешить людей, луч-
гае лежать на своем диване, нежели бегать, суетиться, шуметь,
рассуждать и переливать из пустого в порожнее целые годы и десятки лет. Про-
Когда же придет настоящий день?
197
читавши Обломова, публика поняла его родство с интересными личностями
«лишних людей» и сообразила, что эти люди теперь уж действительно
лишние и что от них толку ровно столько же, сколько и от добрейшего
Ильи Ильича. «Что же теперь создаст г. Тургенев?» — думали мы и с
большим любопытством принялись читать «Накануне».
Чутье настоящей минуты и на этот раз не обмануло автора. Сознавши,
что прежние герои уже сделали свое дело и не могут возбуждать
прежней симпатии в лучшей части нашего общества, он решился оставить их
и, уловивши в нескольких отрывочных проявлениях веяние новых
требований жизни, попробовал стать на дорогу, по которой совершается
передовое движение настоящего времени...
В новой повести г. Тургенева мы встречаем другие положения, другие
типы, нежели к каким привыкли в его произведениях прежнего периода.
Общественная потребность дела, живого дела, начало презрения к
мертвым, абстрактным принципам и пассивным добродетелям выразилось во
всем строе новой повести. Без сомнения, каждый, кто будет читать нашу
статью, уже прочитал теперь «Накануне». Поэтому мы вместо рассказа
содержания повести представим только коротенький очерк главных ее
характеров.
Героиней романа является девушка, с серьезным складом ума, с
энергической волей, с гуманными стремлениями сердца. Развитие ее соверши
лось очень своеобразно благодаря особенным обстоятельствам семейным.
Отец и мать ее были люди очень ограниченные, но не злые; мать даже
положительно отличалась добротою и мягкостию сердца. С самого
детства Елена была избавлена от семейного деспотизма, который губит в
зародыше так много прекрасных натур. Она росла одна, без подруг,
совершенно свободно; никакой формализм не стеснял ее. Николай Артемьич
Стахов, отец ее, человек туповатый, но корчивший из себя философа
скептического тона и державшийся подальше от семейной жизни, сначала
только восхищался своей маленькой Еленой, в которой рано обнаружились
необыкновенные способности. Елена, пока была мала, тоже с своей стороны
обожала отца. Но отношения Стахова к жене были не совсем
удовлетворительны: он женился на Анне Васильевне из-за ее приданого, не питал к ней
никакого чувства, обходился с нею почти с пренебрежением и удалялся от
нее в общество Августины Христиановны, которая его обирала и
дурачила. Анна Васильевна, больная и чувствительная женщина, вроде Марьи
Дмитриевны «Дворянского гнезда», кротко переносила свое положение,
но не могла на него не жаловаться всем в доме и между прочим даже
дочери. Таким образом, Елена скоро сделалась поверенною горестей своей
матери и становилась невольно судьею между ней и отцом. При
впечатлительности ее натуры это имело большое влияние на развитие ее
внутренних сил. Чем менее она могла действовать практически в этом случае,
тем более представлялось работы ее уму и воображению. Принужденная
H. A. Добролюбов.
«Когда оке придет настоящий день?»
Корректурные гранки статьи с правкой цензора (1859 г.).
Когда же придет настоящий день?
199
с ранних лет всматриваться во взаимные отношения близких ей людей,
участвуя и сердцем и головой в разъяснении смысла этих отношений и
произнесении суда над ними, Елена рано приучила себя к
самостоятельному размышлению, к сознательному взгляду на все окружающее.
Семейные отношения Стаховых очеркнуты у г. Тургенева очень бегло, но в этом
очерке есть глубоко верные указания, весьма много объясняющие
первоначальное развитие характера Елены. По натуре своей она была ребенком
впечатлительным и умным; положение ее между матерью и отцом рано
вызвало ее на серьезные размышления, рано подняло ее до
самостоятельной, до властительной роли. Она становилась в уровень с старшими,
делала их подсудимыми пред собою. И в то же время размышления ее не
были холодны, с ними сливалась вся душа ее, потому что дело шло о людях
слишком близких, слишком дорогих для нее, об отношениях, с которыми
связаны были самые святые чувства, самые живые интересы девочки.
Оттого-то ее размышления прямо отражались на ее сердечном расположении:
от обожания отца она перешла к страстной привязанности к матери, в
которой она стала видеть существо притесненное, страдающее. Но в этой
любви к матери не было ничего враждебного к отцу, который не был ни
злодеем, ни положительным дураком, ни домашним тираном. Он был
только весьма обыкновенной посредственностью, и Елена охладела к нему,—
инстинктивно, а потом, может, и сознательно, решивши, что любить его
не за что. Да скоро ту же посредственность увидала она и в матери, и в
сердце ее, вместо страстной любви и уважения, осталось лишь чувство
сожаления и снисхождения. Г. Тургенев очень удачно очертил ее
отношения к матери, сказавши, что она «обходилась с матерью, как с больной
бабушкой». Мать признала себя ниже дочери; отец же, как только дочь
стала перерастать его умственно, что было очень нетрудно, охладел к ней,
решил, что она странная, и отступился от нее.
А в ней между тем все росло и расширялось сострадательное, гуманное
чувство. Боль о чужом страдании была возбуждена в ее ребяческом
сердце убитым видом матери, конечно, еще прежде, нежели она стала
понимать хорошенько, в чем дело. Эта боль давала ей себя чувствовать
постоянно, сопровождала ее при каждом новом шаге ее развития,
придавала особенный, задумчиво-серьезный склад ее мыслям, мало-помалу
вызвала и определила в ней деятельные стремления и все их направила к
страстному, неодолимому исканию добра и счастья для всех. Еще смутны
были эти искания, слабы силы Елены, когда она нашла новую пищу для
своих размышлений и мечтаний, новый предмет своего участия и
любви — в странном знакомстве с нищей девочкой Катей. На десятом году
подружилась она с этой девочкой, тайком ходила к ней на свидание в
сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички (игрушек
Катя не брала), сидела с ней по целым часам, с чувством радостного
смирения ела ее черствый хлеб; слушала ее рассказы, выучилась ее любимой
200
H. A. Добролюбов
песенке, с тайным уважением и страхом слушала, как Катя обещалась
убежать от своей злой тетки, чтобы жить на всей божьей воле, и сама
мечтала о том, как она наденет сумку и убежит с Катей. Катя скоро
умерла, но знакомство с ней не могло не оставить резких следов в
характере Елены. К ее чистым, человечным, сострадательным расположениям
оно прибавило еще новую сторону: оно внушило ей то презрение или по
крайней мере то строгое равнодушие к ненужным излишествам богатой
жизни, которое всегда проникает душу не совсем испорченного человека
ввиду беспомощной нищеты. Скоро вся душа Елены загорелась жаждою
деятельного добра, и жажда эта стала на первый раз удовлетворяться
обычными делами милосердия, какие возможны были для Елены. «Нищие,
голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне,
расспрашивала о них всех своих знакомых». Даже «все притесненные
животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие
из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене
покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими». Отец ее называл
все это пошлым нежничаньем; но Елена не была сентиментальна, потому
что сентиментальность именно характеризуется избытком чувств и слов
при совершенном недостатке деятельной любви, а чувство Елены
постоянно стремилось проявиться на деле. Пустых ласк и нежностей она не
терпела и вообще не придавала значения словам без дела и уважала только
практически-полезную деятельность. Даже стихов она не любила, даже
в художествах толку не знала.
Но деятельные стремления души зреют и крепнут только при
деятельности просторной и вольной. Надо испробовать несколько раз свои силы,
испытать неудачи и столкновения, узнать, чего стоят разные усилия и как
преодолеваются разные препятствия,— для того, чтобы приобресть
отвагу и решимость, необходимые для деятельной борьбы, чтобы узнать меру
своих сил и уметь найти для них соответственную работу. Елена, при
всей свободе своего развития, не могла найти достаточно средств для того,
чтобы деятельно упражнять свои силы и удовлетворять свои стремления.
Ей никто не мешал делать, что она хочет; но делать было нечего. Ее не
стесняли педантизмом систематического ученья, и потому она успела
образоваться, не принявши в себя множество предрассудков, неразлучных с
системами, курсами и вообще с рутиною образования. Она много и с
участием читала; но одно чтение не могло удовлетворять ее; оно имело
только то влияние, что рассудочная сторона развилась в Елене сильнее
других и умственная требовательность стала пересиливать даже живые
стремления сердца. Подавание милостыни, уход за щенками и котятами,
защита мухи от паука — тоже не могли удовлетворить ее: когда она
стала побольше и поумнее, она не могла не увидеть всю скудость этой
деятельности; да притом — эти занятия требовали от нее весьма мало
усилий и не могли наполнять ее существования. Ей нужно было чего-
Когда же придет настоящий день?
201
то больше, чего-то выше; но чего — она не знала, а если и знала, то
не умела приняться за дело. От этого и находилась она постоянно в
какой-то ажитации, все ждала и искала чего-то; от этого и наружность ее
приняла такой особенный характер. «Во всем ее существе, в
выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом
взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе тихом и неровном,
было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и
торопливое»... Ясно, что она еще находится в неопределенных сомнениях
относительно самой себя, она еще не определила своей роли. Она
поняла, чего ей не нужно, и смотрит гордо и независимо на обычную
обстановку своей жизни; но что ей нужно, и главное — что делать, чтобы
достигнуть того, что нужно,— этого она еще не знает, и потому все
существо ее напряженно, неровно, порывисто. Она все ждет, все
живет накануне чего-то... Она готова к самой живой, энергической
деятельности, но приступить к делу сама по себе, одна — она не смеет.
Эта несмелость, эта практическая пассивность героини, при
богатстве внутренних сил и при томительной жажде деятельности, невольно
поражает нас и в самом лице Елены, заставляет видеть что-то
недоделанное. Но в этой недоделанности личности, в недостатке
практической роли — мы и видим живую связь героини г. Тургенева со всем
нашим образованным обществом. По тому, как задуман характер
Елены, в его основе она представляет явление исключительное, и если бы
на самом деле она являлась везде выразительницею своих воззрений и
стремлений — она бы оказалась чуждою русскому обществу и не имела
бы для нас такого смысла, как теперь. Она была бы лицом сочиненным,
растением, неудачно пересаженным на нашу почву откуда-нибудь из
другой земли. Но верное чутье действительности не позволило г. Тургеневу
придать своей героине полного соответствия практической деятельности с
теоретическими ее понятиями и внутренними порывами души. На это
еще не дает писателю материалов наша общественная жизнь. Во всем
нашем обществе заметно теперь только еще пробудившееся желание
приняться за настоящее дело, сознание пошлости разных красивых игрушек,
возвышенных рассуждений и неподвижных форм, которыми мы так
долго себя тешили и дурачили. Но мы еще все-таки не вышли из той
сферы, в которой так спокойно было нам спать, да и не знаем
хорошенько,, где выход; а если кто и узнает, то еще боится открыть его. Это
трудное, томительное переходное положение общества необходимо кладет
свою печать и на художественное произведение, вышедшее из среды
его. В обществе могут быть отдельные сильные натуры, отдельные лица
могут достигать высокого развития нравственного; вот и в литературных
произведениях являются такие личности. Но все это так и остается
только в очерке натуры лица, а в жизнь не переносится; предполагается:
возможным, но в действительности не совершается. В Ольге «Обломова»-
•202
H. A. Добролюбов
мы видели женщину идеальную, далеко ушедшую в своем развитии от
всего остального общества; но где ее практическая деятельность? Она
способна, кажется, создать новую жизнь, а живет между тем в той
же пошлости, в какой и все ее подруги, потому что от этой
пошлости некуда уйти ей. Штольц ей нравится, как энергическая, деятельная
натура; а между тем и он, при всем искусстве автора «Обломова» в
обрисовке характеров, является пред нами только со своими способностями
и не дает видеть, как он их применяет; он лишен почвы под ногами и
плавает перед нами как будто в каком-то тумане. Теперь в Елене г.
Тургенева мы видим новую попытку создания энергического, деятельного
характера и не можем сказать, чтобы обрисовка самого характера не
удалась автору. Если и редко кому случалось встречать таких женщин, как
Елена, зато, конечно, многим приходилось замечать в самых
обыкновенных женщинах зародыши тех или других существенных черт ее
характера, возможность развития многих из ее стремлений. Как идеальное
лицо, составленное из лучших элементов, развивающихся в нашем
обществе, Елена понятна и близка нам. Самые стремления ее определяются для
нас очень ясно; Елена как будто служит ответом на вопросы и
сомнения Ольги, которая, поживши с Штольцем, томится и тоскует и сама
не может дать себе отчета — о чем. В образе Елены объясняется причина
этой тоски, необходимо поражающей всякого порядочного русского
человека, как бы ни хороши были его собственные обстоятельства. Елена
жаждет деятельного добра, она ищет возможности устроить счастье
вокруг себя, потому что не понимает возможности не только счастья,
но даже и спокойствия собственного, если ее окружает горе, несчастия,
бедность и унижение ее ближних.
Но какую же деятельность, сообразную с такими внутренними
требованиями, мог дать г. Тургенев своей героине? На это даже и
отвлеченным образом трудно ответить; а художественно создать эту
деятельность, вероятно, еще и невозможно для русского писателя настоящего
времени. Неоткуда взять деятельности, и поневоле автор заставил свою
героиню дешевым образом проявлять свои высокие стремления в подаче
милостыни да в спасении заброшенных котят. За деятельность,
требующую большего напряжения и борьбы, она и не умеет и боится
приняться. Она видит во всем окружающем, что одно давит другое, и потому,
именно вследствие своего гуманного, сердечного развития, старается
держаться в стороне от всего, чтобы как-нибудь тоже не начать
давить других. В доме ни в чем не заметно ее влияние: отец и мать ей
как чужие; они боятся ее авторитета, но никогда она не обратится к
ним с советом, указанием или требованием. Для нее живет в доме
компаньонка Зоя, молодая добродушная немка; Елена от нее сторонится,
почти не говорит с ней, и отношения их очень холодны. Тут же
проживает Шубин, молодой художник, о котором мы сейчас будем го-
Когда же придет настоящий день?
203
ворить. Елена уничтожает его своими строгими приговорами, но и не
думает постараться приобрести над ним какое-нибудь влияние, которое
было бы ему очень полезно. Во всей повести нет ни одного случая,
где бы жажда деятельного добра заставила Елену вмешаться в дела
окружающей ее среды и проявить чем-нибудь свое влияние. Мы не думаем,
чтоб это зависело от случайной ошибки автора; нет, в нашем обществе
еще очень недавно, да и не между женщинами, а из среды мужчин
возвышался и блистал особенный тип людей, гордившихся своим
устранением от окружающей их среды. «Тут невозможно сохранить себя
чистым,— говорили они,— и притом вся эта среда так мелка и пошла, что
лучше удалиться от нее в сторону». И они, точно, удалялись, не
сделав ни одной энергической попытки для исправления этой пошлой среды,
и удаление их считалось единственным честным выходом из их
положения, и прославлялось как подвиг. Естественно, что, имея в виду такие
примеры и понятия, автор не мог лучше осветить домашнюю жизнь
Елены, как поставив ее совершенно в стороне от этой жизни. Впрочем,
как мы сказали, бессилию Елены придан в повести особенный мотив,
вытекающий из ее женственного, гуманного чувства: она боится
всяких столкновений,— не по недостатку мужества, а из опасения нанести
кому-нибудь оскорбление и вред. Никогда не испытав полной, деятельной
жизни, она воображает еще, что ее идеалы могут быть достигнуты без
борьбы, без ущерба кому бы то ни было. После одного случая (когда
Инсаров героически бросил в воду пьяного немца) она писала в своем
дневнике: «Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к
чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или,
может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом и остаться
кротким и мягким?» Эта простая мысль пришла ей в голову только
теперь, да и то еще в виде вопроса, которого она так и не разрешает.
В этой-то неопределенности, в этом бездействии при беспрерывном
томительном ожидании чего-то, доживает Елена до двадцатого года своей
жизни. По временам ей очень тяжело; она сознает, что силы ее
пропадают даром, что жизнь ее пуста; она говорит про себя: «Хоть
бы в служанки куда-нибудь пошла, право; мне было бы легче». Это
тяжкое расположение увеличивается в ней тем, что она ни в ком не
находит отзыва на свои чувства, ни в ком не видит опоры для себя. «Иногда
ей кажется, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем
никто не мыслит в целой России»... Ей становится страшно, и потребность
сочувствия развивается сильнее, и она напряженно и трепетно ждет
другой души, которая бы умела понять ее, отозваться на ее святые
чувства, помочь ей, научить ее, что надо делать. В ней являлось желание
отдаться кому-нибудь, слить с кем-нибудь свое существо, и ей
становилась неприятною даже эта самостоятельность, с которою она так
одиноко стояла в кругу близких ей людей. «С шестнадцатилетнего возраста
204
H. A. Добролюбов
она жила собственною своею жизнию, но жизнию одинокою. Ее душа
разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в клетке, а
клетки не было; никто не стеснял ее; никто не удерживал, а она рвалась
и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась сама себя.
Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то
непонятным. «Как жить без любви, а любить некого,— думала она, и страшно
становилось ей от этих дум, от этих ощущений».
При таком-то настроении ее сердца, летом, на даче в Кунцове,
застает ее действие повести. В короткий промежуток времени являются
пред нею три человека, из которых один привлекает к себе всю ее
душу. Тут есть, впрочем, и четвертый, эпизодически введенный, но тоже
не лишний господин, которого мы тоже будем считать. Трое из этих
господ — русские, четвертый — болгар, и в нем-то нашла свой идеал
Елена. Посмотрим на всех этих господ.
Один из молодых людей, страстно по-своему влюбленный в Елену,—
художник Павел Яковлич Шубин, хорошенький и грациозный юноша
лет 25, добродушный и остроумный, веселый и страстный, беспечный и
талантливый. Он доводится троюродным племянником Анне Васильевне,
матери Елены, и потому очень близок с молодой девушкой и надеется
заслужить ее серьезное расположение. Но она постоянно смотрит на
него свысока и считает его неглупым, но балованным ребенком, с которым
нельзя обращаться серьезно. Впрочем, Шубин говорит своему другу:
«Было время, я ей нравился», и действительно, у него много условий для
того, чтобы нравиться; не мудрено, что и Елена на минуту придала
более значения его хорошим сторонам, нежели его недостаткам. Но скоро она
увидела художественность этой натуры, увидела, что здесь все зависит от
минуты, ничего нет постоянного и надежного, весь организм составлен из
противоречий: лень заглушает способности, а даром потраченное время
вызывает потом бесплодное раскаяние, подымает желчь, возбуждает презрение
к самому себе, которое в сбою очередь служит утешением в неудачах и
заставляет гордиться и любоваться собою. Все это Елена поняла
инстинктивно, без тяжелых мук недоуменья, и потому решение ее относительно
Шубина совершенно спокойно и беззлобно. «Вы воображаете, что во мне
все притворно; вы не верите моему раскаянию, не верите, что я могу
искренно плакать!» — говорит ей однажды Шубин в отчаянном порыве.
И она не отвечает: «Не верю», а говорит просто: «Нет, Павел Яковлич,
я верю в ваше раскаяние, и в ваши слезы я верю, но мне кажется, самое
ваше раскаяние вас забавляет, да и слезы тоже». Шубин так и дрогнул от
этого простого приговора, который действительно должен был глубоко
вонзиться в его сердце. Он сам никогда не предполагал, чтоб его порывы,
противоречия, страдания, метанья из стороны в сторону — можно было
понять и объяснить так просто и верно. При этом объяснении он даже
перестает делаться «интересным человеком». И действительно, как только Еле-
Когда же придет настоящий день?
205
на составила о нем мнение — он уже не занимает ее. Ей все равно — тут
он или нет, помнит о ней или забыл, любит ее или ненавидит; у ней с ним
ничего нет общего, хотя она не прочь искренно похвалить его, если он
сделает что-нибудь достойное его таланта...
Другой начинает занимать ее мысли. Этот совершенно в ином роде; он
неуклюж, старообраз, лицо его некрасиво и даже несколько смешно, но
выражает привычку мыслить и доброту. Кроме того, по словам автора,
какой-то «отпечаток порядочности замечался во всем его неуклюжем
существе». Это Андрей Петрович Берсенев, близкий друг Шубина. Он философ,
ученый, читает историю Готенштауфенов и другие немецкие книжки и
исполнен скромности и самоотвержения. На возгласы Шубина: «Нам
нужно счастья, счастья! Мы завоюем себе счастье!» — он недоверчиво
возражает: «Будто нет ничего выше счастья?» — и затем между ними
происходит такой разговор:
А например?— спросил Шубин и остановился.
— Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь,— молоды, мы хорошие люди,
положим, каждый из нас желает себе счастья. Но такое ли это слово «счастье»,
которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы подать друг другу руки?
Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?
— А ты знаешь такие слова, которые соединяют?
— Да; и их не мало; и ты нх знаешь.
— Ну-ка, какие это слова?
— Да хоть бы искусство, так как ты художник; родина, наука, свобода,
справедливость.
— И любовь?— спросил Шубин.
— И любовь — соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь
жаждешь: не любовь-наслажденье, любовь-жертва.
Шубин нахмурился.
— Это хорошо для немцев; я хочу любить для себя; я хочу быть номером
первым.
— Номером первым,— повторил Берсенев.— А мне кажется поставить себя
номером вторым — все назначение нашяй жизни.
— Если все так будут поступать, как ты советуешь,— промолвил с жалобной
гримасой Шубин,— никто на земле не будет есть ананасов; все другим их
предоставлять будут.
— Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда найдутся любители
даже хлеб от чужого рта отнимать.
Из этого разговора видно, какие благородные принципы у Берсенева
и как душа его способна к тому, что называется самоотвержением. Он
выражает искреннюю готовность пожертвовать своим счастьем для одного из
тех слов, которые он называет «соединяющими». Этим он должен привлечь
сочувствие такой девушки, как Елена. Но тут же видно и то, почему он
не может овладеть всею ее душою, всей полнотой ее жизни. Это один из
героев пассивных добродетелей, человек, умеющий многое перенести,
многим пожертвовать, вообще выказать благородное поведение, когда
приведет к тому случай* но он не сумеет и не посмеет определить себя на
широкую и смелую деятельность, на вольную борьбу, на самостоятельную
206
H. A. Добролюбов
роль в каком-нибудь деле. Он сам хочет быть номером вторым, потому что
в этом видит назначение всего живущего; и действительно, роль его в
повести напоминает отчасти Бизьменкова в «Лишнем человеке» и еще более
Крупицына в «Двух приятелях». Он, влюбленный в Елену, становится
посредником между ею и Инсаровым, которого она полюбила, великодушно
помогает им, ухаживает за Инсаровым во время его болезни, отказывается
от своего счастья в пользу друга, хотя и не без стеснения сердца, и даже
не без ропота. Сердце у него доброе и любящее, но из всего видно, что
добро он всегда будет делать не столько по влечению сердца, сколько
потому, что надо делать добро. Он находит, что надо жертвовать своим
счастьем для родины, науки и пр., и этим самым он осуждает себя быть
вечным рабом и мучеником идеи. Он отделяет свое счастье, например, от
родины; он, бедняк, не умеет возвыситься до того, чтобы понять благо
родины не раздельно с своим собственным счастьем и чтобы не понимать
счастья для себя иначе, как при благоденствии родины. Напротив, он как
будто боится, что его личное счастье будет мешать благу родины,
торжеству справедливости, успехам науки и т. п. Оттого он боится желать себе
счастья и, по благородству своих принципов, решается жертвовать им для
означенных им идей, считая это, разумеется, большим одолжением с своей
стороны. Ясно, что такого человека только и хватит на пассивное
благородство. Но не ему слиться душою с каким-нибудь великим делом, не ему
позабыть весь мир для любимой мысли, не ему воспламениться ею и
сражаться за нее, как за свою радость, свою жизнь, за свое счастье... Он
делает то, что велит ему долг, стремится к тому, что признает справедливым
по принципу; но действия его вялы, холодны, неуверенны, потому что он
постоянно сомневается в своих силах. Он отлично кончил курс в
университете, любит науку, занимается постоянно и желает быть профессором:
кажется, чего проще? Но, когда Елена спрашивает его о профессорствег
он считает нужным с похвальною скромностью оговориться: «Конечно, я
очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть
достойным такого высокого... Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен;
но я надеюсь получить позволение съездить за границу»... Точь-в-точь
вступление к академической речи: «Надеюсь, мм. гг., что вы
благосклонно извините сухость и бледность моего изложения» и пр...
А между тем профессорство, о котором Берсенев так отзывается,
составляет заветную мечту его! На вопрос Елены, будет ли он вполне
доволен своим положением, если получит кафедру,— он отвечает:
«Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание?
Подумайте, пойти по следам Тимофея Николаевича...3 Одна мысль о
подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением... да,
смущением, которого... которое происходит от сознания моих малых сил». То
же сознание своих малых сил заставляет его упорно не верить тому, что
Елена его полюбила, а потом сокрушаться, что она к нему стала равно-
Когда же придет настоящий день?
207
душна. Это самое сознание проглядывает и в том, когда он рекомендует
своего приятеля Инсарова между прочим тем, что он денег взаймы не
берет. Тем же сознанием отзываются даже его рассуждения о природе.
Он говорит, что природа возбуждает в нем какое-то беспокойство,
тревогу, даже грусть, и спрашивает Шубина: «Что это значит? Сильнее ли
мы сознаем перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу
неясность, или же мало того, удовлетворения, каким она довольствуется,
а другого, то есть, я хочу сказать — того, чего нам нужно, у нее нет?»
В этом пустопорожне-романтическом роде большая часть рассуждений
Берсенева. А между тем в одном месте повести упоминается, что он
рассуждал о Фейербахе: вот любопытно бы послушать, что он о Фейербахе-
то говорит!..
Итак, Берсенев — весьма хороший русский дворянин, воспитанный в
началах долга и пустившийся потом в ученость и философию. Он
гораздо дельнее и надежнее Шубина, и если его повести по
какому-нибудь пути, то он пойдет охотно и прямо. Но сам вести он не может не
только других, но даже и себя самого: инициативы нет у него в натуре,
и он не успел ее приобрести ни в воспитании, ни в последующей жизни.
Елена сначала почувствовала симпатию к нему за то, что он добрый и
все о деле говорит. Она даже совестится пред ним своего невежества,
по тому случаю, что он все приносит ей книги, которых она читать не
может. Но совершенно привязаться к нему, отдать ему свою душу, свою
судьбу она не может: она еще прежде, чем увидела Инсарова,
инстинктивно поняла, что Берсенев не то, чего ей нужно. И действительно,
можно с достоверностью утверждать, что Берсенев струсил бы, если б
Елена вздумала навязаться ему на шею, и непременно убежал бы под
разными, весьма благовидными предлогами.
Впрочем, на безлюдье, в котором жила Елена, она увлеклась было на
минуту Берсеневым и уже спрашивала себя: не он ли тот, кого так
давно и так жадно ждала душа ее, кто должен был вывести ее из всех
недоумений и указать ей путь деятельности? Но сам же Берсенев привел
к ней Инсарова, и очарование исчезло...
В Инсарове, строго говоря, нет ничего чрезвычайного. Берсенев и
Шубин, и сама Елена, и, наконец, даже автор повести характеризуют
его все более отрицательными качествами. Он никогда не лжет, не
изменяет своему слову, не берет взаймы денег, не любит разговаривать о
своих подвигах, не откладывает исполнения принятого решения, его
слово не расходится с делом и т. п. Словом, в нем нет тех черт, за которые
должен горько упрекать себя всякий человек, имеющий претензию считать
себя порядочным. Но, кроме того, он — болгар, питающий в душе
страстное желание освободить свою родину, и этой мысли он предается весь,
открыто и уверенно, в ней заключается конечная цель его жизни. Он не
думает ставить свое личное благо в противоположность с этой целью;
208
H. A. Добролюбов
подобная мысль, столь естественная в русском ученом дворянине
Берсеневе, не может даже в голову прийти простому болгару. Напротив, он
потому-то и хлопочет о свободе родины, что в этом видит свое личное
спокойствие, счастье всей,своей жизни; он бы оставил в покое
порабощенную родину, если б только мог найти удовлетворение себе в чем-нибудь
другом. Но он никак не может понять себя отдельно от родины. «Как же
это можно быть довольным и счастливым, когда свои земляки
страдают?— думает он.— Как же может человек успокоиться, пока его родина
порабощена и угнетена? И какое занятие может быть для него приятно,
если оно не ведет к облегчению участи бедных земляков?» Таким
образом, он делает свое задушевное дело совершенно спокойно, без натяжек
и фанфаронад, так же просто, как ест и пьет. Покамест ему приходится
еще мало работать для прямого выполнения своей идеи; но что же делать?
Ему приходится теперь и есть плохо и мало, и даже иной раз голодать
случается; но все-таки пища, хоть и скудная, составляет необходимое
условие его существования. Так и освобождение родины: он учится в
Московском университете, чтобы образоваться вполне и сблизиться с
русскими, и в течение повести довольствуется покамест тем, что
переводит болгарские песни на русский язык, составляет болгарскую
грамматику для русских и русскую для болгар, переписывается с своими
земляками и собирается ехать на родину — подготовлять восстание, прп
первой вспышке восточной войны (действие повести в 1853 году).
Конечно, это скудная пища для деятельного патриотизма Инсарова; но он
свое пребывание в Москве и не считает еще настоящею жизнью, свою
слабую деятельность не считает удовлетворительною даже для своего
личного чувства. Он также живет накануне великого дня свободы, в
который существо его озарится сознанием счастия, жизнь наполнится и
будет уже настоящей жизнью. Этого дня ждет он, как праздника, и вот
почему не приходит ему в голову сомневаться в себе и холодно
рассчитывать и взвешивать, сколько именно может он сделать и с каким
великим мужем успеет поравняться. Будет ли он Тимофеем Николаичем
или Иваном Иванычем,— до этого ему решительно нет дела; придется ли
быть нумером первым или вторым,— он об этом и не думает. Он будет
делать то, к чему влечет его натура; если натура у него такая, что
других лучше не найдется, он станет первым нумером, пойдет во главе;
если найдутся люди крепче и смелее его, он пойдет за ними, и в обоих
случаях останется неизменным и верным себе. Где стать и до чего
дойти,— это определят обстоятельства: но он хочет идти, он не может
нейти, не потому, чтобы боялся нарушить какой-нибудь долг, а потому, что
он умер бы, если бы ему нельзя было двинуться с места. В этом
огромная разница между ним и Берсеневым. Берсенев тоже способен к
жертвам и подвигам; но он похож при этом на великодушную девушку,
которая для спасения отца решается на ненавистный брак. С затаенной
Когда же придет настоящий день? 209
болью и тяжкой покорностью судьбе ждет она дня свадьбы и рада была
бы, если б что-нибудь ей помешало. Инсаров, напротив, дня своих
подвигов, наступления своей самоотверженной деятельности ждет страстно и
нетерпеливо, как влюбленный юноша ждет дня свадьбы с любимой
девушкой. Одна только боязнь и тревожит его: как бы что-нибудь не
расстроило, не отсрочило желанной минуты. Любовь к свободе родины у
Инсарова не в рассудке, не в сердце, не в воображении: она у него во всем
организме, и что бы ни вошло в него, все претворяется силою этого
чувства, подчиняется ему, сливается с ним. Оттого, при всей
обыкновенности своих способностей, при всем отсутствии блеска в своей натуре,
он стоит неизмеримо выше, действует на Елену несравненно сильнее и
обаятельнее, нежели блестящий Шубин и умный Берсенев, хотя оба
они — тоже люди благородные и любящие. Елена делает о Берсеневе
очень меткое замечание в своем дневнике (на который вообще автор не
пожалел своего глубокомыслия и остроумия) : «Андрей Петрович, может
быть, ученее его (Инсарова), может быть, даже умнее... Но, я не знаю,—
он перед ним такой маленький».
Рассказывать ли историю сближения Елены с Инсаровым и любви их?
Кажется, не нужно. Вероятно, наши читатели хорошо помнят эту
историю; да ведь этого и не расскажешь. Нам страшно прикоснуться своей
холодной и жесткой рукою к этому нежному поэтическому созданию;
сухим и бесчувственным пересказом мы боимся даже профанировать
чувство читателя, непременно возбуждаемое поэзией тургеневского рассказа.
Певец чистой, идеальной женской любви, г. Тургенев так глубоко
заглядывает в юную, девственную душу, так полно охватывает ее и с
таким вдохновенным трепетом, с таким жаром любви рисует ее лучшие
мгновения, что нам в его рассказе так и чуется — и колебание
девственной груди, и тихий вздох, и увлаженный взгляд, слышится каждое
биение взволнованного сердца, и наше собственное сердце млеет и
замирает от томного чувства, и благодатные слезы не раз подступают
к глазам, и из груди рвется что-то такое,— как будто мы свиделись с
старым другом после долгой разлуки или возвращаемся с чужбины к
родимым местам. И грустно и весело это ощущение: там светлые
воспоминания детства, невозвратно мелькнувшего, там гордые и радостные
надежды юности, там идеальные, дружные мечты чистого и могучего
воображения, еще не смиренного, не униженного испытаниями житейского
опыта. Все это прошло и не будет больше; но еще не пропал человек,
который хоть в воспоминании может вернуться к этим светлым грезам,
а этому чистому, младенческому упоению жизнью, к этим идеальным,
величавым замыслам — и содрогнуться потом, при взгляде на ту грязь,
пошлость и мелочность, в которой проходит его теперешняя жизнь. И благо
тому, кю умеет пробуждать в других такие воспоминания, вызвать
такое настроение души... Талант г. Тургенева всегда был силен этою сто-
14 Н. А. Добролюбов
210
H. A. Добролюбов
роною, его повести постоянно производили своим общим строем такое
чистое впечатление, и в этом, конечно, заключается их существенное
значение для общества. Не чуждо этого значения и «Накануне» в
изображении любви Елены. Мы уверены, что читатели и без нас сумеют оценить
всю прелесть тех страстных, нежных и томительных сцен, тех тонких
п глубоких психологических подробностей, которыми рисуется любовь
Елены и Инсарова с начала до конца. Вместо всякого рассказа мы
напомним только дневник Елены, ее ожидание, когда Инсаров должен был
прийти проститься, сцену в часовенке, возвращение Елены домой после
этой сцены, ее три посещения к Инсарову, особенно последнее*, потом
прощанье с матерью, с родиной, отъезд, наконец последнюю прогулку
ее с Инсаровым по Canal Grande, слушанье «Травиаты» и возвращение.
Это последнее изображение особенно сильно подействовало на нас своей
строгой истиной и бесконечно-грустной прелестью; для нас это самое
задушевное, самое симпатичное место всей повести.
Предоставляя самим читателям насладиться припоминанием всего
развития повести, мы обратимся опять к характеру Инсарова или, лучше,
к тому отношению, в каком стоит он к окружающему его русскому
обществу. Мы уже видели, что он здесь почти не действует для
достижения своей главной цели; только раз видим мы, что он уходит за
60 верст для примирения поссорившихся земляков, живших в Троицком
посаде, да в конце его пребывания в Москве упомянуто, что он
разъезжал по городу и видался украдкой с разными лицами. Да разумеется,—
ему и нечего было делать, живя в Москве; для настоящей деятельности
нужно было ему ехать в Болгарию. И он поехал туда, но на дороге
смерть застигла его, и деятельности его мы так и не видим в повести.
Из этого ясно, что сущность повести вовсе не состоит в представлении
нам образца гражданской, то есть общественной доблести, кате некоторые
хотят уверить. Тут нет упрека русскому молодому поколению, нет
указания на то, каков должен быть гражданский герой. Если б это входило
в план автора, то он должен был бы поставить своего героя лицом к
лицу с самым делом — с партиями, с народом, с чужим правительством.
* Есть люди, которых воображение до того засалено и развращено, что в этой
прелестной, чистой и глубоко-нравственной сцене полного, страстного слияния двух
любящих существ они увидят только материал для сладострастных представлений.
Судя обо всех по себе, они возопиют даже, что эта сцена может иметь дурное
влияние на нравственность, ибо возбуждает нечистые мысли. Но пусть их вопиют: ведь
есть люди, которые и при виде Венеры Милосской ощущают лишь чувственное
раздражение и при взгляде на Мадонну говорят с приапической улыбкой: «А она...
того... годится»... Но не для этих людей — искусства и поэзия, да не для них п
истинная нравственность. В них все претворяется во что-то отвратительно-нечистое..
Но дайте прочитать эти же сцены невинной, чистой сердцем девушке, и, поверьте,—
ничего, кроме самых светлых и благородных помыслов, не вынесет она из этога
чтения.
Когда же придет настоящий день?
211
с своими единомышленниками, с вражеской силой... Но автор наш вовсе
не хотел, да, сколько мы можем судить по всем его прежним
произведениям, и не в состоянии был бы написать героическую эпопею. Его дело
совсем другое: из всей «Илиады» и «Одиссеи» он присвоивает себе
только рассказ о пребывании Улисса на острове Калипсы и далее этого не
простирается. Давши нам понять и почувствовать, что такое Инсаров и
в какую среду попал он,— г. Тургенев весь отдается изображению того,
как Инсаров любит и как его любят. Там, где любовь должна наконец
уступить место живой гражданской деятельности, он прекращает жизнь своего
героя и оканчивает повесть.
В чем же, стало быть, смысл появления болеара в этой истории?
Что тут значит болгар, почему не русский? Разве между русскими уже
и нет таких натур, разве русские не способны любить страстно и
решительно, не способны очертя голову жениться по любви? Или это просто
прихоть авторского воображения, и в ней не нужно отыскивать никакого
особенного смысла? «Взял, мол, себе болгара, да и кончено; а мог бы
взять и цыгана и китайца, пожалуй»...
Ответ на эти вопросы зависит от воззрения на весь смысл повести.
Нам кажется, что болгар действительно здесь мог быть заменен,
пожалуй, и другою национальностью — сербом, чехом, итальянцем,
венгром,—только не поляком и не русским4. Почему не поляком, об этом,
разумеется, и вопроса быть не может; а почему не русским,— в этом
и заключается весь вопрос, и мы постараемся ответить на него, как
умеем.
Дело в том, что в «Накануне» главное лицо — Елена. В ней сказалась
та смутная тоска по чем-то, та почти бессознательная, но неотразимая
потребность новой жизни, новых людей, которая охватывает теперь все
русское общество, и даже не одно только так называемое образованное.
В Елене так ярко отразились лучшие стремления нашей современной
жизни, а в ее окружающих так рельефно выступает вся
несостоятельность обычного порядка той же жизни, что невольно берет охота
провести аллегорический параллель. Тут все пришлось бы на месте: и не
злой, но пустой и тупо важничающий Стахов, в соединении с Анной
Васильевной, которую Шубин называет курицей, и немка-компаньонка, с
которой Елена так холодна, и сонливый, но по временам глубокомысленный
Увар Иванович, которого волнует только известие о коытробомбардоне,
и даже неблаговидный лакей, доносящий на Елену отцу, когда уже все
дело кончено... Но подобные параллели, несомненно доказывающие
игривость воображения, становятся натянуты и смешны, когда уходят в
большие подробности. Поэтому мы удержимся от подробностей и сделаем
лишь несколько самых общих замечаний.
Развитие Елены основано не на большой учености, не на обширном
опыте жизни; лучшая, идеальная сторона ее существа раскрылась, вы-
14*
212
H. А. Добролюбов
росла и созрела в ней при виде кроткой печали родного ей лица, при
виде бедных, больных и угнетенных, которых она находила и видела
всюду, даже во сне. Не на подобных ли впечатлениях выросло и
воспиталось все лучшее в русском обществе? Не характеризуется ли у нас
каждый истинно порядочный человек ненавистью ко всякому насилию,
произволу, притеснению и желанием помочь слабым и угнетенным? Мы
не говорим: «борьбою в защиту слабых от обиды сильных», потому что
этого нет, но именно желанием, совершенно так, как у Елены. Мы тоже
рады сделать и доброе дело, когда оно заключает в себе только
положительную сторону, то есть не требует никакой борьбы, не предполагает
никакого стороннего противодействия. Мы подадим милостыню, сделаем
благотворительный спектакль, пожертвуем даже частью своего достояния
в случае нужды; но только чтобы этим дело и ограничилось, чтобы нам
не пришлось хлопотать и бороться с разными неприятностями из-за
какого-нибудь бедного или обиженного. «Желание деятельного добра» есть
в нас и силы есть; но боязнь, неуверенность в своих силах и, наконец,
незнание: что делать? — постоянно нас останавливают, и мы, сами не
зная как,— вдруг оказываемся в стороне от общественной жизни,
холодными и чуждыми ее интересам, точь-в-точь как Елена в окружающей
ее среде. Между тем желание по-прежнему кипит в груди (говорим о
тех, кто не старается искусственно заглушить это желание), и мы все
ищем, жаждем, ждем... ждем, чтобы нам хоть кто-нибудь объяснил, что
делать. С болью недоумения, почти с отчаянием пишет Елена в своем
дневнике: «О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты -должна
делать! Быть доброю — этого мало; делать добро... да, это главное в
жизни. Но как делать добро?» Кто из людей нашего общества, сознающих в
себе живое сердце, мучительно не задавал себе этого вопроса? Кто не
признавал жалкими и ничтожными все те формы деятельности, в которых
проявлялось, по мере сил, его желание добра? Кто не чувствовал, что
есть что-то другое, высшее, что мы даже и могли бы сделать, да не
знаем, как приняться надобно... И где же разрешение сомнений? Мы
томительно, жадно ищем его в светлые минуты своего существования и
нигде не находим. Все окружающее, кажется нам, или томится тем же
недоумением, как и мы, или загубило в себе человеческий образ и
сузило себя до преследования только своих мелких, эгоистических,
животных интересов. И так, день изо дня, проходит жизнь, пока она не
умерла в сердце человека, и день изо дня ждет живой человек: не
будет ли завтра лучше, не разрешится ли завтра сомненье, не явится ли
завтра тот, кто скажет нам, как делать добро...
Эта тоска ожидания давно уже томит русское общество, и сколько
раз уже ошибались мы, подобно Елене, думая, что жданный явился,
и потом охладевали. Елена страстно привязалась было к Анне
Васильевне; но Анна Васильевна оказалась ничтожною, бесхарактерною... По-
Когда оке придет настоящий день?
213
чувствовала было расположение к Шубину, как наше общество одно
время увлекалось художественностью; но в Шубине не оказалось дельного
содержания, одни блестки и капризы, а Елене не до того было, чтобы,
посреди ее исканий, любоваться игрушками. Увлеклась на минуту
серьезною наукою в лице Берсенева; но серьезная наука оказалась
скромною, сомневающеюся, выжидающею первого нумера, чтобы пойти за ним.
А Елене именно нужно было, чтобы явился человек, не нумерованный и
не выжидающий себе назначения, а самостоятельно и неодолимо
стремящийся к своей цели и увлекающий к ней других. Таким-то наконец
явился пред нею Инсаров, и в нем-то нашла она осуществление своего
идеала, в нем-то увидела возможность ответа на вопрос: как ей делать
добро.
Но почему же Инсаров не мог быть русским? Ведь он в повести не
действует, а только собирается на дело; это и русский может. Характер
его тоже возможен и в русской коже, особенно в таких проявлениях. Он
любит сильно и решительно; но неужели невозможно и это для русского
человека?
Все это так, и все-таки сочувствие Елены, такой девушки, как мы
ее понимаем, не могло обратиться на русского человека с тем правом,
с тою естественностью, как обратилось оно на этого болгара. Все
обаяние Инсарова заключается в величии и святости той идеи, которой
проникнуто все его существо. Елена, жаждущая деятельного добра, но не
знающая, как его делать, мгновенно и глубоко поражается, еще не
видавши Инсарова, рассказом о его замыслах. «Освободить свою родину,—
говорит она,— эти слова и выговорить страшно — так они велики!» И она
чувствует, что слово ее сердца найдено, что она удовлетворена, что выше
этой цели нельзя поставить себе и что на всю ее жизнь, на всю ее
будущность достанет деятельного содержания, если только она пойдет за
этим человеком. И она старается всмотреться в него, ей хочется
проникнуть в его душу, разделить его мечты, войти в подробности его
планов. А в нем только и есть постоянная, слитая с ним, идея родины
и ее свободы; и Елена довольна, ей нравится в нем эта ясность и
определенность стремлений, спокойствие и твердость души, могучесть
самого замысла, и она скоро сама делается эхом той идеи, которая его
одушевляет. «Когда он говорит о своей родине,— пишет она в своем
дневнике,— он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос, как сталь, и нет,
кажется, тогда на свете такого человека, пред кем бы он глаза опустил.
И он не только говорит, он делал и будет делать. Я его расспрошу»...
Через несколько дней она опять пишет: «А ведь странно, однако, что я
до сих пор, до двадцати лет, никого не любила! Мне кажется, что у
Д. (буду называть его Д., мне нравится это имя: Дмитрий) оттого так
ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из чего
ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тот
214
H. A. Добролюбов
уж ни за что не отвечает. Не я хочу, то хочет». И, понявши это, она
сама хочет слиться с ним так, чтобы уже не она хотела, а о«и то, что
его одушевляет. И мы очень хорошо понимаем ее положение; уверены,
что и все русское общество, хотя еще и не увлечется, подобно ей,
личностью Инсарова, но поймет возможность и естественность чувства
Елены.
Мы говорим: общество не увлечется само, и основываем это
предположение на том, что этот Инсаров все еще нам чужой человек. Сам
г. Тургенев, так хорошо изучивший лучшую часть нашего общества, не
нашел возможности сделать его нашим. Мало того, что он вывез его из
Болгарии, он недостаточно приблизил к нам этого героя даже просто как
человека. В этом, если хотите смотреть даже на литературную сторону,
главный художественный недостаток повести. Мы понимаем одну из
важных причин его, не зависящих от автора, и потому не делаем упрека
г. Тургеневу. Но, тем не менее бледность очертаний Инсарова
отражается на самом впечатлении, производимом повестью. Величие и красота
идей Инсарова не выставляются пред нами с такою силою, чтобы мы
сами прониклись ими и в гордом одушевлении воскликнули: идем за
тобою! А между тем идея эта так свята, так возвышенна... Гораздо
менее человечные, даже просто фальшивые идеи, горячо проведенные в
художественных образах, производили лихорадочное действие на
общество; Карлы Мооры, Вертеры, Печорины вызывали толпу подражателей.
Инсаров их не вызовет. Правда, что и мудрено было ему выказаться
вполне с своей идеей, живя в Москве и ничего не делая: ведь не в
риторических же разглагольствиях упражняться! Но мы из повести мало
узнаем его и как человека: его внутренний мир не доступен нам; для
нас закрыто, что он делает, что думает, чего надеется, какие
испытывает перемены в своих отношениях, как смотрит на ход событий, на
жизнь, несущуюся перед его глазами. Даже любовь его к Елене остается
для нас не вполне раскрытою. Мы знаем, что он полюбил ее страстно;
но как это чувство вошло в него, что в ней привлекло его, на какой
степени было это чувство, когда он его заметил и решился было
удалиться,— все эти внутренние подробности и многие другие, которые так
тонко, так поэтически умеет рисовать г. Тургенев, остаются темными в
личности Инсарова. Как живой образ, как лицо действительное,
Инсаров от нас чрезвычайно далек. Елена могла полюбить его со всей силой
души своей, потому что она видела его в жизни, а не в повести, для нас
же он близок и дорог только как представитель идеи, которая
поражает и. нас, как Елену, мгновенным светом и озаряет мрак нашего
существования. Поэтому-то мы и понимаем всю естественность чувства Елены
к Инсарову, поэтому-то и сами, довольные его непреклонною верностью
идее, не замечаем, на первый раз, что он обозначается перед нами лишь
в бледных и общих очертаниях.
Когда же придет настоящий день?
215
И еще хотят, чтоб он был русским! «Нет, он не мог бы быть
русским»,— восклицает сама Елена в ответ на явившееся было сожаление,
что он не русский. И действительно, таких русских не бывает, не
должно и не может быть, в настоящее время по крайней мере. Не знаем, как
развиваются и разовьются новые поколения, но те, которые мы видим
теперь действующими, развивались вовсе не так, чтобы могли
уподобиться Инсарову. На развитие каждого отдельного человека имеют влияние
не только его частные отношения, но и вся общественная атмосфера,
в которой суждено ему жить. Иная развивает героические тенденции,
другая — мирные наклонности; иная раздражает, другая убаюкивает.
Русская жизнь сложилась так хорошо, что в ней все вызывает на
спокойный и мирный сон, и всякий бессонный человек кажется, не без
основания, беспокойным и совершенно лишним для общества. Сравните, в
самом деле, обстоятельства, при которых начинается и проходит жизнь
Инсарова, с обстоятельствами, встречающими жизнь каждого русского
человека.
Болгария порабощена, она страдает под турецким игом. Мы, слава
6oiy, никем не порабощены, мы свободны, мы — великий народ, не раз
решавший своим оружием судьбы царств и народов; мы владеем другими,
а нами никто не владеет...
В Болгарии нет общественных прав и гарантий. Инсаров говорит
Елене: «Если б вы знали, какой наш край благодатный. А между тем
его топчут, его терзают, у нас все отняли, все: наши церкви, наши права,
наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут...» Россия,
напротив того, государство благоустроенное, в ней существуют мудрые
законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней
царствует правосудие, процветает благодетельная гласность. Церквей пи
у кого не отнимают, и веры не стесняют решительно ничем, а
напротив, поощряют ревность проповедников в обличении заблудших; прав и
земель не только не отнимают, но еще даруют их тем, кто не имел
доселе; в виде стада никого не гоняют.
«В Болгарии,— говорит Инсаров,— последний мужик, последний
нищий и я — мы желаем одного и того же: у всех одна цель». Такой
монотонности вовсе нет в русской жизни, в которой каждое сословие,
даже каждый кружок живут своею отдельною жизнию, имеют свои
особые цели и стремления, свое установленное назначение. При
существующем у нас благоустройстве общественном каждому остается только
упрочивать собственное благосостояние, для чего вовсе не нужно соединяться
с целой нацией в одной общей идее, как это происходит в Болгарии.
Инсаров был еще младенцем, когда турецкий ага похитил его мать и
потом зарезал, а отец его был расстрелян за то, что, желая отмстить
яге, поразил его кинжалом. Когда и кого из русских людей могли
ьстретить в жизни подобные впечатления? Слыхано ли что-нибудь подоб-
216
H. A. Добролюбов
яое в русской земле? Конечно, уголовные преступления везде возможны,
но у нас, если бы какой-нибудь ага и похитил и убил или уморил
потом чужую жену, так мужа и до отмщения бы не допустили, ибо у
нас есть законы, для всех равные и нелицеприятно наказывающие
преступление.
Словом, Инсаров с молоком матери всасывает ненависть к
поработителям, недовольство настоящим порядком вещей. Ему не нужно
напрягать себя, не нужно доходить долгим рядом силлогизмов до того, чтобы
определить направление своей деятельности. Как скоро он не ленив и
не трус, он уже знает, что ему делать и как вести себя;
разбрасываться ему некуда. Да и задача-то у него удобопонятная, как говорит
Шубин: «Стоит только турок вытурить — велика штука!» И Инсаров
знает притом, что ои прав в своей деятельности, не только перед
собственною совестью, но и перед людским судом: его замыслы найдут
сочувствие во всяком порядочном человеке. Представьте же теперь что-
нибудь подобное в русском обществе: неудобопредставимо... В русском
переводе Инсаров выйдет не что иное, как разбойник, представитель
«противообщественного элемента», о котором русская публика знает очень
хорошо из красноречивых исследований г. Соловьева, сообщенных
«Русским вестником» 5. Кто же, спрашивается, может полюбить такого?
Какая благовоспитанная и умная девушка не побежит от него, что есть
мочи, с криком: quelle horreur!
Понятно ли теперь, почему не может быть русский на" месте
Инсарова? Натуры, подобные ему, родятся, конечно, и в России в немалом
количестве, но они не могут так беспрепятственно развиться и так
беззастенчиво проявлять себя, как Инсаров. Русский современный Инсаров
всегда останется робким, двойственным, будет таиться, выражаться с
разными прикрытиями и экивоками... а это-то и уменьшает доверие к
нему. Выйдет, пожалуй, даже иной раз, что он лжет и противоречит
себе; а известно, что люди лгут обыкновенно либо из выгод, либо из
трусости. Какое же сочувствие можно питать к корыстолюбцу и трусу,
особенно, когда душа томится жаждою дела и ищет мощной головы и
руки, которая бы повела ее?
Бывают, правда, и у нас небольшие герои, несколько похожие на
Инсарова отвагою и сочувствием к угнетенным. Но они в нашей среда
являются смешными Дон-Кихотами. Отличительная черта Дон-Кихота —
непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из его
усилий,— удивительно ярко выступает в них. Они, например, вдруг
вообразят, что надо спасать крестьян от произвола помещиков: и знать
того не хотят, что никакого произвола тут нет, что права помещиков
строго определены законом и должны быть неприкосновенны,
пока законы эти существуют, и что восстановить крестьян собственно
против этого произвола, значит, не избавивши их от помещика, под-
Когда же придет настоящий день?
217
вергнуть еще наказанию по закону. Или, например, зададут себе работу:
спасать невинных от судебной неправды,— как будто бы у нас судьи
по своему произволу так и делают, что хотят. Дела у нас все, как
известно, вершатся по закону, а чтобы растолковать закон так или
иначе,— на это не геройство нужно, а привычка к судейским изворотам.
Вот Дон-Кихоты наши и возятся попусту... А то выдумают вдруг — взятки
искоренять,— и уж какая тут мука пойдем бедным чиновникам, берущим
гривенник за какую-нибудь справку! Со свету сгонят их наши герои,
принимающие на себя защиту страждущих. Оно, конечно, благородно и
высоко; да можно ли сочувствовать этим неразумным людям? И ведь
мы еще говорим не о тех холодных служителях долга, которые поступают
таким образом просто по обязанности службы; мы имеем в виду русских
людей, действительно искренно сочувствующих угнетенным и готовых
даже на борьбу для их защиты. И эти-то выходят бесполезны и смешны,
потому что не понимают общего значения той среды, в которой
действуют. Да и как им понять, когда они сами-то в ней находятся, когда
верхушки их тянутся вверх, а корень все-таки прикреплен к той же
почве? Они хотят прогнать горе ближних, а оно зависит от устройства той
среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители. Как
же тут быть? Всю эту среду перевернуть,— так надо будет повернуть
и себя; а подите-ко сядьте в пустой ящик, да и попробуйте его
перевернуть вместе с собой. Каких усилий это потребует от вас!— между
тем как, подойдя со стороны, вы одним толчком могли бы справиться с
этим ящиком. Инсаров именно тем и берет, что не сидит в ящике;
притеснители его отечества — турки, с которыми он не имеет ничего
общего; ему стоит только подойти, да и толкнуть их, насколько силы
хватит. Русский же герой, являющийся обыкновенно из образованного
общества, сам кровно связан с тем, на что должен восставать. Он
находится в таком положении, в каком был бы, например, один из сыновей
турецкого аги, вздумавший освобождать Болгарию от турок. Трудно даже
предположить такое явление; но если бы оно случилось, то, чтобы сын
этот не представлялся нам глупым и забавным малым, нужно, чтобы оя
отрекся уж от всего, что его связывало с турками: — и от веры, и от
национальности, и от круга родных и друзей, и от житейских выгод
своего положения. Нельзя не согласиться, что это ужасно трудно и что
подобная решительность требует несколько другого развития, нежели
какое обыкновенно получает сын турецкого аги, Не много легче дается
геройство и русскому человеку. Вот отчего у нас симпатичные,
энергические натуры и удовлетворяют себя мелкими и ненужными бравадами,
не достигая до настоящего, серьезного героизма, то есть до отречения
от целой массы понятий и практических отношений, которыми они
связаны с общественной средою. Робость их пред громадою противных сил
отражается даже на теоретическом их развитии: они боятся или не умеют
218
H. A. Добролюбов
доходить до корня и, задумывая, например, карать зло, только и
бросаются на какое-нибудь мелкое проявление его и утомляются страшно,
прежде чем успеют даже подумать об его источнике. Не хочется им
поднять руки на то дерево, на котором и они сами выросли; вот они и
стараются уверить себя и других, что вся гниль его только снаружи,
что только счистить ее стоит, и все будет благополучно. Выгнать из
службы несколько взяточников, наложить опеку на несколько помещичьих
имений, обличитьцеловальника, в одном кабаке продавшего дурного
качества водку — вот и воцарится правосудие, крестьяне во всей России будут
благоденствовать, и откупа сделаются превосходною вещью для народа.
Так искренно думают многие, и действительно тратят все свои силы на
подобные подвиги, и за то не шутя считают себя героями.
Нам рассказывали об одном подобном герое, человеке, как говорили,
чрезвычайно энергическом и талантливом. Еще будучи в гимназии, он
затеял дело с одним гувернером, по тому поводу, что он утаивает
бумагу, назначаемую для выдачи воспитанникам. Дело пошло как-то
неловко; герой наш умел задеть и инспектора и директора и был
исключен из гимназии. Стал он готовиться в университет, а между
тем принялся давать уроки. При одном из первых же уроков он заметил,
что мать детей, которых он учил, ударила по щеке свою горничную. Он
вспыхнул, поднял в доме гвалт, привел полицию и формально обвинил
хозяйку дома в жестоком обращении с прислугой. Потянулось следствие,
в котором он ничего, разумеется, не мог доказать, и его чуть не
присудили к строгому наказанию за ложное показание и клевету. Уроков
после этого он уж не мог достать. Определился, с большим трудом, по
чьей-то особенной милости на службу: дали ему переписать какое-то
решение очень нелепого свойства; он не вытерпел и заспорил; ему
сказали, чтоб молчал,— он не послушался; ему велели убираться вон. От
нечего делать принял он приглашение одного из своих бывших
товарищей — ехать с ним на лето в деревю; приехал, увидал, что там
делается, да и принялся толковать — и своему товарищу, и отцу его, и даже
бурмистру и мужикам — о том, как беззаконно больше трех дней на
барщину крестьян гонять, как непозволительно сечь их без всякого суда и
расправы, как бесчестно таскать по ночам крестьянских женщин в
барский дом и т. п. Кончилось тем, что мужиков, которые его с участием
послушали, перепороли, а ему старый барин велел запречь лошадей и
попросил его не являться больше в их краях, если хочет цел остаться.
Кое-как переколотившись лето, герой наш к осени поступил в
университет благодаря тому, что на экзамене попадались ему все вопросы не
задорные, на которых нельзя было разгуляться и заспорить. Поступил он
на медицинский факультет и занимался действительно хорошо; но в
практическом курсе, когда профессор у кровати больного объяснял свою
премудрость, он никогда не мог удержаться, чтоб не оборвать отсталого или
Когда же придет настоящий день?
219
шарлатанящего профессора; как только тот соврет что-нибудь, так он и
пойдет ему доказывать, что это чепуха. Вследствие таких выходок герой
наш не оставлен при университете, не послан за границу, а назначен в
какой-то отдаленный госпиталь. Здесь он на первых же порах уличил
смотрителя и грозил на него жаловаться; потом, в другой раз, поймал
и пожаловался, за что получил выговор от главного доктора; получая
выговор, он, конечно, очень крупно поговорил и вскоре был переведен
из госпиталя... Досталось ему вслед за тем провожать какую-то партию;
он принялся шуметь за солдат с начальником партии и с чиновником,
заведовавшим продовольствием. Видя, что слова не помогают, написал
рапорт, что солдаты недоедают и недопивают по милости чиновника и
что начальник партии этому потакает. По прибытии на место —
следствие; допрашивают солдат, те говорят: довольны; герой наш приходит в
негодование, говорит дерзости генерал-штаб-доктору и месяц спустя раз-
жалывается в фельдшерские помощники. Пробывши две недели в этой
должности и не выдержав нарочито-зверского обращения с ним, он
застреливается 6.
Не правда ли,— явление необыкновенное, сильная, порывистая
натура? Между тем посмотрите, на чем гибнет он. Во всех его поступках
нет ничего такого, что бы не составляло прямой обязанности всякого
честного человека на его месте; а ему нужно, однако, много героизма,
чтоб поступать таким образом, нужна самоотверженная решимость
гибнуть за добро. Спрашивается теперь: если уж в нем есть эта решимость,
то не лучше ли воспользоваться ею для дела большого, которым бы
действительно достигалось что-нибудь существенно полезное? Но в том-то и
беда, что он не сознает надобности и возможности такого дела и не
понимает того, что его окружает. Он не хочет видеть круговой поруки во
всем, что делается перед его глазами, и воображает, что всякое
замеченное им зло есть не более как злоупотребление прекрасного
установления, возможное лишь как редкое исключение. При таких понятиях
русские герои только и могут, разумеется, ограничиваться мизерными
частностями, не думая об общем, тогда как Инсаров, напротив, частное
всегда подчиняет общему, в уверенности, что «и то не уйдет». Так, в
ответ на вопрос Елены, отмстил ли он убийце своего отца, Инсаров
говорит: «Я не искал его. Я не искал его не потому, чтобы я не мог убить
его,—я бы очень спокойно убил его,— но потому, что тут не до
частной мести, когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы
другому. В свое время и то не уйдет». Вот в этой любви к общему делу,
в этом предчувствии его, которое дает силу спокойно выдерживать
отдельные обиды, и заключается великое превосходство болгара Инсарова
пред всеми русскими героями, у которых общего дела-то и в помине нет.
Впрочем, и подобных-то героев у нас очень немного, да и из них
большая часть не выдерживает себя ро конца. Гораздо многочисленнее в
220
H. A. Добролюбов
нашем образованном обществе другой разряд людей — занимающихся
размышлениями. Из них тоже есть много таких, которые хоть и
размышляют, но ничего не умеют понять; но об этих мы не говорим. Мы
хотим указать только на тех, действительно с светлою головою людей,
которые путем долгих сомнений и исканий дошли до того же единства
и ясности идеи, с какими является перед нами, без всяких особенных
усилий, Инсаров. Эти люди понимают, где корень зла, и знают, что
надо делать, чтобы зло прекратить; они глубоко и искренно проникнуты
мыслью, до которой добились наконец. Но — в них нет уже силы для
практической деятельности; они столько ломали себя, что натура их
как-то надселась и обессилела. Они с сочувствием смотрят на
приближение новой жизни, но сами идти ей навстречу не могут, и ими не может
удовлетвориться свежее чувство человека, жаждущего деятельного добра
и ищущего себе руководителя.
Никто из нас не берет готовыми человечных понятий, во имя которых
нужно потом вести жизненную борьбу. Оттого ни в ком и нет той ясности,
той цельности воззрений и действий, которые так естественны, хоть бы,
например, в Инсарове. У него впечатления жизни, действующие на
сердце и пробуждающие его энергию, постоянно подкрепляются
требованиями рассудка, всем теоретическим образованием, которое он получает.
У нас совершенно наоборот. Один из наших знакомых, держащийся
передовых мнений и сгорающий тоже жаждою деятельного добра, но человек
кротчайший и безвреднейший в мире, вот что рассказывал нам о своем
развитии, в объяснение своей теперешнед бездеятельности.
«По натуре своей,— говорил он,— я был мальчик очень добрый и
впечатлительный. Я, бывало, плакал и метался, слушая рассказ о
каком-нибудь несчастий, я страдал при виде чужого страдания. Помню,
что я не спал ночи, терял аппетит и не мог ничего делать, когда кто-
нибудь в доме был болен; помню, что не раз приходил я в некоторого
рода бешенство при виде истязаний, какие чинил один мой родственник
над своим сыном, моим приятелем. Все, что я видел, все, что слышал,
развивало во мне тяжелое чувство недовольства; в душе моей рано начал
шевелиться вопрос: да отчего же все так страдает, и неужели нет
средства помочь этому горю, которое, кажется, всех одолело? Я жадно искал
ответа на эти вопросы, и скоро мне дали ответ, разумный и
систематический. Я начал учиться. Первая пропись, которую я написал, была
такова: «Истинное счастие заключается в спокойствии совести». На
расспросы мои о совести, мне объяснили, что она карает нас за дурные
поступки и награждает за хорошие. Все мое внимание устремилось
теперь на то, чтобы узнать, какие поступки хороши, какие дурны. Это
было не трудно: кодекс нравственности был готов — ив прописях, и в
домашних наставлениях, и в особом курсе. «Почитай старших», «Не
надейся на свои силы, ибо ты — ничто», «Будь доволен тем, что имеешь,
Когда же придет настоящий день?
221
и не желай большего», «Терпением и покорностью приобретается любовь
общая» и пр. в таком роде писал я в прописях. Дома и от всех
окружающих слышал я то же самое; а в разных курсах узнал я, что
совершенного счастья на земле не может быть, но что насколько оно возможно,
настолько достигнуто в благоустроенных государствах, из которых
наилучшее есть мое отечество. Я узнал, что Россия теперь не только
велика и обильна, но что и порядок в ней господствует самый
совершенный; что стоит только исполнять законы и приказания старших да быть
умеренным, и тогда полнейшее благополучие ожидает человека, какого бы
он ни был звания и состояния. Отрадны мне были все эти открытия, и я
жадно ухватился за них, как за лучшее решение всех моих сомнений.
Вздумал было я поверять их моим неопытным умом, но многое пришлось мне
не под силу, а что оказывалось доступным, то выходило так, верно.
И вот я доверчиво и восторженно предался новооткрытой системе, в ней
заключил все свои стремления и лет двенадцати был уже маленьким
философом и страшным партизаном законности. Я дошел до того
убеждения, что во всяком несчастии виноват сам человек,— или тем, что не
поберегся, не остерегся, или тем, что не хотел довольствоваться малым,
или тем, что не проникнут достаточным уважением к закону и к воле
старших. Собственно, закон я еще не совсем хорошо представлял себе,
но он олицетворялся для меня во всяком начальстве и старшинстве.
Оттого в этот период моей жизни я постоянно стоял за учителей,
начальников и т. д. и был очень любим начальством и старшими классами.
Раз меня чуть не выкинули в окно товарищи: один учитель сказал
целому классу: «Свиньи вы!»; все пришли в азарт по окончании класса,
а я принялся защищать учителя и доказывать, что он имел полное право
сказать это. В другой раз исключен был один из наших товарищей за
грубость начальству; все жалели о нем, потому что он был лучший
между нами, но я утверждал, что он наказание вполне заслужил, и очень
удивлялся, как он, будучи таким умным мальчиком, не мог понять, что
покорность старшим есть первый долг наш и первое условие счастья. Так
с каждым днем укреплялся я в своих понятиях законности и мало-помалу
привыкал смотреть на большинство людей только как на орудие
исполнения высших приказаний. Я порывал таким образом живую связь с душою
человека, я перестал тревожиться бедствиями своих собратий, перестал
отыскивать возможность облегчить их. «Сами виноваты»,— говорил я про
себя, и стал даже питать к ним не то злобу, не то презрение, как к
людям, не умеющим пользоваться спокойно и смирно теми благами,
которые им предлагаются по силе общественного благоустройства. Все, что
было доброго в моей натуре, обратилось в другую сторону — к
поддержанию прав старших над нами. Я чувствовал, что в этом заключается
самоотвержение, отречение от собственной самостоятельности, убежден был,
что делаю это в видах общей пользы, и считал себя чуть не героем.
222
H. A. Добролюбов
Я знаю, что многие так и остаются на этой степени, а другие ее
видоизменяют слегка и уверяют, что они совсем переменились. Но мне, к
счастию, действительно пришлось переменить свое направление довольно
рано. Лет четырнадцати я сам имел уже старшинство кое над чем —
и в классе и в доме и, разумеется, оказался при этом очень плох.
Я умел делать все, что от меня требовали, но что и как мне требовать —
этого я не знал. При всем том я был суров и неподступен. Но скоро
мне стало совестно, и я принялся поверять свои прежние понятия о
начальстве. Поводом к этому был один случай, пробудивший опять живые
ощущения в моем мертвевшем сердце. Как старший брат и умница, я учил
между прочим одну из сестер моих. Мне дано было право присуждать ей
наказания за леность, ослушание и пр. Раз она что-то была рассеянна
и никак не хотела понять моих толкований; я велел ей стать на
колени. Она тотчас собралась с мыслями и, принявши внимательный вид,
стала просить, чтоб я повторил еще раз свои слова. Но я потребовал,
чтоб она прежде исполнила приказание — стала на колени; она
заупрямилась. Тогда я схватил ее за руки, поднял с места, потом положил
ей свои локти на плечи и изо всех сил надавил вниз. Бедная девочка
опустилась на колени и взвизгнула: у ней свихнулась нога при этом
движении. Я очень испугался; но когда мать стала бранить меня за
такое обхождение с сестрой, я очень хладнокровно старался доказать,
что она сама виновата, что если б она тотчас послушалась моего
приказания, то ничего бы этого и не было. Однако же втайне я мучился,
тем более что сестру свою я очень любил. В это время выяснилась мне
мысль, что ведь и старшие могут быть неправы и делать нелепости и
что уважать нужно собственно закон, как он есть, а не как проявляется
в толкованиях того или другого лица. Тут пошла у меня критика
действий лиц, и я из консервативной безответственности стремительно
перескочил в opposition légale *. Но долгое время я приписывал все дурное
одним только частным злоупотреблениям и нападал на них — не во имя
насущных потребностей общества, не из сострадания к несчастным
братьям, а просто во имя положительного закона. В то время я, конечно,
с жаром стал бы говорить против жестокого обращения с неграми, но,
подобно некоему московскому публицисту, от всей души обвинил бы
Брауна, совершенно противозаконно вздумавшего освобождать негров7.
Однако я был еще тогда очень молод (вероятно, моложе почтенного
публициста), мысль моя двигалась и бродила; я не мог остановиться на
этом, и, после многих соображений, дошел наконец до сознания, что и
законы могут быть несовершенны, что они имеют относительное,
временное я частное значение и должны подлежать переменам с течением вре-
* легальная оппозиция (франц.).— Ред.
Когда же придет настоящий день?
223
мени и по требованиям обстоятельств. Но опять, во имя чего так
рассуждал я? Во имя высшего, отвлеченного закона справедливости, а вовсе
не по внушению живого чувства любви к собратьям, вовсе не по-
сознанию тех прямых., настоятельных надобностей, которые указываются
идущею перед нами жизнью. И что же? Вот я сделал и последний шаг: от
отвлеченного закона справедливости я перешел к более реальному
требованию человеческого блага; я все свои сомнения и умствования привел
наконец к одной формуле: человек и его счастье. Но ведь эта формула
была в душе моей еще в детстве, прежде чем я начал обучаться разным
наукам и писать назидательные прописи. И,— сказать ли?— теперь я ее
лучше понимаю и основательнее могу доказать; но тогда я чувствовал
ее сильнее, она более была связана с моим существом, и .даже, кажется,
я готов был тогда больше сделать для нее, чем теперь. Я стараюсь
теперь не делать ничего, противоречащего сознанному мною закону,
стараюсь не отнимать счастье у людей; но этой пассивною ролью я и
ограничиваюсь. Броситься на поиск счастья, приблизить его к людям,
разрушить все, что ему мешает,— это я мог бы только тогда, если бы мои
детские чувства и мечты беспрепятственно развились и окрепли. А между
тем они глохли и умирали во мне лет пятнадцать, и только теперь я
снова возвращаюсь к ним и нахожу их бледными, тощими, слабыми. Мне
еще нужно восстановлять их, прежде чем употреблять в дело; да и кто
знает, удастся ли восстановить?»...
Нам кажется, что в этом рассказе есть черты далеко не
исключительные, а напротив, могущие служить общим указанием на те препятствия,
какие встречает русский человек на пути самостоятельного развития.
Не все с одинаковою силою привязываются к морали прописей, но никто
не уходит от ее влияния, и на всех она действует парализующим
образом. Чтобы избавиться от нее, человек должен много сил потерять и
много утратить веры в себя при этой беспрерывной возне с безобразной
путаницей сомнений, противоречий, уступок, изворотов и т. п.
Таким образом, кто сохранил у нас силу на геройство, так тому
незачем быть героем, цели настоящей он не видит, взяться за дело не
умеет и потому только донкихотствует. А кто понимает, что нужно и как
нужно, так тот уже всего себя на это понимание и положил, и в
практической деятельности шагу ступить не умеет, и сторонится от всякого
вмешательства, как Елена, и в домашней среде. Да еще Елена все-таки
смелее и свободнее, потому что на нее подействовала только общая
атмосфера русской жизни, но, как мы сказали уже, не наложила своей
печати рутина школьного образования и дисциплины.
Выходит, что наши лучшие люди, каких мы видали до сих пор в
современном обществе, только что способны понять жажду деятельного
добра, сжигающую Елену, и могут оказать ей сочувствие, но никак ие
сумеют удовлетворить этой жажды. И это еще передовые, это еще называ-
224
H. A. Добролюбов
ются у нас «деятели общественные». А то большая часть умных и
впечатлительных людей бежит от гражданских доблестей и посвящает себя
различным музам. Хоть бы те же Шубин и Берсенев в «Накануне»:
славные натуры, и тот, и другой умеют ценить Инсарова, даже стремятся
душою вслед за ним, если б им немножно другое развитие да другую
среду, они бы тоже не стали спать. Но что же им делать тут, в этом
обществе? Пересторить его на свой лад? Да ладу-то у них нет никакого и
сил-то нет. Починивать в нем кое-что, отрезывать и отбрасывать
понемножку разные дрязги общественного устройства? Да не противно ли у
мертвого зубы вырывать, и к чему это поведет? На это способны только
герои вроде господ Паншиных и Курнатовских.
Кстати, здесь можем мы сказать несколько слов о Курнатовском,
тоже одном из лучших представителей русского образованного общества.
Это новый вид Паншина, только без светских и художественных
талантов и более деловой. Он очень честен и даже великодушен; в
доказательство его великодушия Стахов, прочащий его в женихи Елене,
приводит факт, что он, как только достиг возможности безбедно
существовать своим жалованьем, тотчас отказался в пользу братьев от
ежегодной суммы, которую назначал ему отец. Вообще в нем много
хорошего: это признает даже Елена, изображающая его в письме к
Инсарову. Вот ее суждения, по которым одним только мы и можем составить
понятие о Курнатовском: он в ходе повести не участвует. Рассказ
Елены, впрочем, так полон и меток, что больше нам ничего и не
нужно, и потому, вместо перифраза, мы прямо приведем. ее письмо к
Инсарову:
«Поздравь меня, милый Дмитрий,— у меня жених. Он вчера у нас обедал; напень-"
ка познакомился с ним, кажется, в английском клубе и пригласил его. Разумеется,
он приезжал вчера не женихом. Но добрая мамаша, которой папенька сообщил свои
надежды, шепнула мне на ухо, что это за гость. Зовут его Егор Андреевич Курна*
товский; он служит обер-секретарем при сенате. Опишу тебе сперва его наружность.
Он небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложен; черты у него правильны, он
коротко острижен, носит большие бакенбарды. Глаза у него небольшие (как у
тебя), карие, быстрые, губы плоские, широкие; на глазах и на губах постоянная
улыбка, официальная какая-то; точно она у него дежурит. Держится он очень
просто, говорит отчетливо, и все у него отчетливо: он ходит, смеется, ест, словно дело
делает. «Как она его изучила!» — думаешь ты, может быть, в эту минуту. Да — для
того, чтоб описать тебе его. Да и как же не изучать своего жениха! В нем есть
что-то железное... и тупое, и пустое, в то же время — и честное; говорят, он, точно,
очень честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот. За столом он сидел
возле меня, против нас сидел Шубин. Сперва речь зашла о каких-то коммерческих
предприятиях; говорят, он в них толк знает и чуть было не бросил своей службы,
чтобы взять в руки большую фабрику. Вот не догадался! Потом Шубин заговорил
о театре: г. Курнатовский объявил, и, я должна сознаться, без ложной скромности,
что он в художестве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило... но я подумала:
нет, мы с Дмитрием все-таки иначе не понимаем художества. Этот как будто хотел
сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве
Когда же придет настоящий день?
225
допускается. К Петербургу и к comme il faut * он, впрочем, довольно равнодушен;
он раз даже назвал себя пролетарием. Мы, говорит, чернорабочие. Я подумала: если
бы Дмитрий это сказал, мне бы это не понравилось. А этот пускай себе говорит!
Пусть хвастается! Со мной он был очень вежлив; но мне все казалось, что со мной
беседует очень, очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого,
он говорит, что у такого-то есть правила — это его любимое слово. Он должен быть
самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию (ты видишь, я
беспристрастна), то есть к пожертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда
попасться ему в руки! За столом заговорили о взятках...
— Я понимаю,— сказал он,— что во многих случаях берущий взятку не виноват:
он иначе поступить не мог. А все-таки, если он попался, должно его раздавить.
Я вскрикнула:
— Раздавить невиноватого!
— Да, ради принципа.
— Какого?— спросил Шубин.
Курнатовский не то смешался, не то удивился, и сказал: этого нечего
объяснять. Папаша, который, кажется, благоговеет перед ним, подхватил, что, конечно,
нечего, и, к досаде моей, разговор этот прекратился. Вечером пришел Берсенев и
вступил с ним в ужасный спор. Никогда я еще не видала нашего доброго Андрея
Петровича в таком волнении. Господин Курнатовский вовсе не отрицал пользы
науки, университетов и т. д. А между тем я понимала негодование Андрея Петровича.
Тот смотрит на все это как на гимнастику какую-то. Шубин подошел ко мне после
стола и сказал: вот этот и некто другой (он твоего имени произнести не может) —
оба практические люди, а посмотрите, какая разница: там настоящий, живой,
жизнью данный идеал, а здесь даже не чувство долга, а просто служебная
честность и дельность без содержания.— Шубин умен, и я для тебя запомнила его
умные слова; а по-моему, что же общего между вами? Ты веришь, а тот нет, потому
что только в самого себя верить нельзя».
Елена сразу поняла Курнатовского и отозвалась о нем не совсем
благосклонно. А между тем вникните в этот характер и припомните
своих знакомых деловых людей, с честью подвизающихся для пользы
общей; наверное многие из них окажутся хуже Курнатовского,
а найдутся ли лучше — за это поручиться трудно. А все отчего?
Именно оттого, что жизнь, среда не делает нас ни умными, ни честными,
ни деятельными. И ум, и честность, и силы к деятельности мы
должны приобретать из иностранных книжек, которые притом нужно еще
со1ласить и соразмерить со Сводом Законов. Не мудрено, что за этой
трудной работой холодеет сердце, замирает все живое в человеке, и
он превращается в автомата, мерно и неизменно совершающего то, что
ему следует. И все-таки опять повторишь: это еще лучшие. Там, за
ними, начинается другой слой: с одной стороны, совсем сонные 06-
ломовы, уже окончательно потерявшие даже обаяние красноречия,
которым пленяли барышень в былое время, с другой — деятельные
Чичиковы, неусыпные, неустанные, героические в достижении своих
узеньких и гаденьких интересцев. А еще дальше возвышаются Брусковы,
Болыновы, Кабановы, Уланбековы8, и все это злое племя предъявляет
* светские приличия (франц.),— Ред.
15 Н. А. Добролюбов
226
Я. А. Добролюбов
свои права на жизнь и волю русского люда... Откуда тут взяться
героизму, а если и народится герой, так где набраться ему света и
разума для того, чтобы не пропасть его силе даром, а послужить добру
да правде? И если наберется наконец, то где уж геройствовать
надломленному и надорванному, где уж грызть орехи беззубой белке? Лучше
же и не обольщаться понапрасну, лучше выбрать себе какую-нибудь
специальность, да и зарыться в ней, заглушая недостойное чувство
невольной зависти к людям, живущим и знающим, зачем они живут.
Так и поступили в «Накануне» Шубин и Берсенев. Шубин
расходился было, узнавши о свадьбе Елены с Инсаровым, и начал: «Инсаров...
Инсаров... К чему ложное смирение? Ну, положим, он молодец, он
постоит за себя; да будто уж мы такая совершенная дрянь?
Ну хоть я, разве дрянь? Разве бог меня так-таки всем и обидел?»
и пр.... И тотчас же свернул бедняк на художество: «Может,— говорит,—
и я со временем прославлюсь своими произведениями»... И точно — он
стал работать над своим талантом, и из него замечательный ваятель
выходит... И Берсенев, добрый, самоотверженный Берсенев, так искренно
и радушно ходивший за больным Инсаровым, так великодушно
служивший посредником между ним, своим соперником, и Еленой,— и Берсенев,
это золотое сердце, как выразился Инсаров,— не может удержаться от
ядовитых размышлений, убедившись окончательно во взаимной любви
Инсарова и Елены. «Пусть их! — говорит он.— Недаром мне, говаривал
отец: мы с тобой, брат, не сибариты, не аристократы, не баловни
судьбы и природы, мы даже не мученики, мы — труженики, труженики и
труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись
за свой рабочий станок, в своей темной мастерской! А солнце пусть
другим сияет. И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое
счастье!» Каким адом зависти и отчаяния веют эти несправедливые
попреки,— неизвестно кому и за что!... Кто ж виноват во всем, что
случилось? Не сам ли Берсенев? Нет, русская жизнь виновата: «Кабы
были у нас путные люди, по выражению Шубина, не ушла бы от
нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду».
А людей путных или непутных делает жиань, общий строй ее в
известное время и в известном месте. Строй нашей жизни оказался таков,
что Берсеневу только и осталось одно средство спасения: «Иссушать ум
наукою бесплодной». Он так и сделал, и ученые очень хвалили, по
словам автора, его сочинения: «О некоторых особенностях древнегер-
манского права в деле судебных наказаний» и «О значении городского
начала в вопросе цивилизации». И еще благо, что хоть в этом мог
найти спасение...
Вот Елене — так не оставалось никакого ресурса в России после
того, как она встретилась с Инсаровым и поняла иную жизнь. Оттого-
то она не могла ни остаться в России, ни возвратиться в нее одна.
Когда же придет настоящий день?
227
после смерти мужа. Автор очень хорошо умел понять это и предпочел
лучше оставить ее судьбу в неизвестности, нежели возвратить ее под
родительский кров и заставить доживать свои дни в родной Москве,
в тоске одиночества и бездействия. Призыв родной матери, дошедший
до нее почти в ту самую минуту, как она лишалась мужа, не
смягчил ее отвращения от этой пошлой, бесцветной бездейственной жизни.
«Вернуться в Россию! Зачем? Что делать в России?» — написала она
матери и отправилась в Зару, чтобы потеряться в волнах восстания.
И как хорошо, что она приняла эту решимость! Что в самом деле
ожидало ее в России? Где для нее там цель жизни, где жизнь?
Возвратиться опять к несчастным котятам и мухам, подавать нищим деньги,
не ею выработанные и бог знает как и почему ей доставшиеся,
радоваться успехам в художестве Шубина, трактовать о Шеллинге с
Берсеневым, читать матери «Московские ведомости» да видеть, как на
общественной арене подвизаются правила в виде разных Курнатовских,—
и нигде не видеть настоящего дела, даже не слышать веяния новой
жизни... и понемногу, медленно и томительно вянуть, хиреть, замирать...
Нет, уж если раз она попробовала другой жизни, дохнула другим
воздухом, то легче ей броситься в какую угодно опасность, нежели
осудить себя на эту тяжелую пытку, на эту медленную казнь... И мы
рады, что она избегла нашей жизни и не оправдала на себе эти
безнадежно-печальные, раздирающие душу предвещания поэта, так
постоянно и беспощадно оправдывающиеся над самыми лучшими, избранными
натурами в России:
Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои...
И жизнь твоя пройдет незрима
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле,—
Как исчезает об лак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенпей беспредельной мгле...s
Нам остается свести отдельные черты, разбросанные в этой статье
(за неполноту которой просим извинения у читателей), и сделать
общее заключение.
Инсаров, как человек сознательно и всецело проникнутый великой
идеей освобождения родины и готовый принять в ней деятельную роль,
не мог развиться и проявить себя в современном русском обществе.
15*
228
H. A. Добролюбов
Даже Елена, так полно умевшая полюбить его и так слиться с его
идеями, и она не может оставаться среди русского общества, хотя
там — все ее близкие и родные. Итак, великим идеям, великим
сочувствиям нет еще места среди нас?.. Все героическое, деятельное должно
бежать от нас, если не хочет умереть от бездействия или погибнуть
напрасно? Не так ли? Не таков ли смысл повести, разобранной нами?
Мы думаем, что нет. Правда, для широкой деятельности нет у нас
открытого поприща; правда, наша жизнь проходит в мелочах, в плутнях,
интрижках, сплетнях и подличанье; правда, наши гражданские деятели
лишены сердца и часто крепколобы; наши умники палец об палец не ударят,
чтобы доставить торжество своим убеждениям, наши либералы и
реформаторы отправляются в своих проектах от юридических тонкостей, а не
от стона и вопля несчастных братьев. Все это так. Но мы все-таки
думаем, что теперь в нашем обществе есть уже место великим идеям
и сочувствиям и что недалеко время, когда этим идеям можно будет
проявиться на деле.
Дело в том, что как бы ни была плоха наша жизнь, но в ней уже
оказалась возможность таких явлений, как Елена. И мало того что
такие характеры стали возможны в жизни, они уже охвачены
художническим сознанием, Енесены в литературу, возведены в тип. Елена —
лицо идеальное, но черты ее нам знакомы, мы ее понимаем,
сочувствуем ей. Что это значит? То, что основа ее характера — любовь к
страждущим и притесненным, желание деятельного добра, томительное
искание того, кто бы показал, как делать добро — все это, наконец,
чувствуется в лучшей части нашего общества. И чувство это так сильно
и так близко к осуществлению, что оно уже не обольщается, как
прежде, ни блестящим, но бесплодным умом и талантом, ни
добросовестной, но отвлеченной ученостью, ни служебными добродетелями, ни даже
добрым, великодушным, но пассивно-развитым сердцем. Для
удовлетворения нашего чувства, нашей жажды, нужно более: нужен человек, как
Инсаров,— но русский Инсаров.
На что ж он нам? Мы сами говорили выше, что нам не нужно
героев-освободителей, что мы народ владетельный, а не порабощенный...
Да, извне мы ограждены, да если б и случилась внешняя борьба,
то мы можем быть спокойны. У нас для военных подвигов всегда было
довольно героев, и в восторгах, какие доныне испытывают барышни от
офицерской формы и усиков, можно видеть неоспоримое доказательство
того, что общество наше умеет ценить этих героев. Но разве мало у
нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними и разве не
требуется геройство для этой борьбы? А где у нас люди, способные к
делу? Где люди цельные, с детства охваченные одной идеей,
сжившиеся с ней так, что им нужно — или доставить торжество этой идее,
или умереть? Нет таких людей, потому что наша общественная среда
Когда же придет настоящий день?
229
до сих пор не благоприятствовала их развитию. И вот от нее-то, от
этой среды, от ее пошлости и мелочности и должны освободить нас
новые люди, которых появления так нетерпеливо и страстно ждет все
лучшее, все свежее в нашем обществе.
Трудно еще явиться такому герою: условия для его развития и
особенно для первого проявления его деятельности — крайне
неблагоприятны, а задача гораздо сложнее и труднее, чем у Инсарова. Враг
внешний, притеснитель привилегированный гораздо легче может быть
застигнут и побежден, нежели враг внутренний, рассеянный повсюду в тысяче
разных видов, неуловимый, неуязвимый, а между тем тревожащий вас
всюду, отравляющий всю жизнь вашу и не дающий вам ни отдохнуть,
ни осмотреться в борьбе. С этим внутренним врагом ничего не сделаешь
обыкновенным оружием; от него можно избавиться только переменивши
сырую и туманную атмосферу нашей жизни, в которой он зародился,
вырос и усилился, и обвеявши себя таким воздухом, которым он
дышать не может.
Возможно ли это? Когда это возможно? Из этих вопросов можно
отвечать категорически только на первый. Да, это возможно, и вот
почему. Мы говорили выше о том, как наша общественная среда
подавляет развитие личностей, подобных Инсарову. Но теперь мы можем
сделать дополнение к своим словам: среда эта дошла теперь до того, что
сама же и поможет явлению такого человека. Вечная пошлость,
мелочность и апатия не могут же быть законным уделом человека, и
люди, составляющие общественную среду нашу и закованные в ее
условия, давно уже поняли всю тяжесть и нелепость этих условий. Одни
скучают, другие рвутся всеми силами куда-нибудь, только бы избавиться
от этого гнета. Разные исходы придумывались, разные средства
употреблялись, чтобы чем-нибудь оживить мертвость и. гнилость нашей жизни;
но все это было слабо и недействительно. Наконец теперь появляются
уже такие понятия и требования, какие мы видим в Елене; требования
эти принимаются обществом с сочувствием; мало того — они стремятся
к деятельному осуществлению. Это значит, что уж старая общественная
рутина отживает свой век; еще несколько колебаний, еще несколько
сильных слоев и благоприятных фактов, и явятся деятели!
Выше мы заметили, что решимость и энергию сильной натуры
убивает у нас еще в самом начале то идиллическое восхищение всем на
свете, то расположение к ленивому самодовольству и сонному покою,
которое встречает каждый из нас, еще ребенком, во всем окружающем
и к которому его тоже стараются приучить всевозможными советами
и наставлениями. Но в последнее время и это условие сильно
изменилось. Везде и во всем заметно самосознание, везде понята
несостоятельность старого порядка вещей, везде ждут реформ и исправлений,
и никто уже не убаюкивает своих детей песнею о том, какое непости-
230
H. A. Добролюбов
жимое совершенство представляет современный порядок дел в России.
Напротив, теперь каждый ждет, каждый надеется, и дети теперь
подрастают, напитываясь надеждами и мечтами лучшего будущего, а не
привязываясь насильно к трупу отжившего прошедшего. Когда придет
их черед приняться за дело, они уже внесут в него ту энергию,
последовательность и гармонию сердца и мысли, о которых мы едва
могли приобрести теоретическое понятие.
Тогда и в литературе явится полный, резко и живо очерченный,
образ русского Инсарова. И не долго нам ждать его: за это ручается
то лихорадочное мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем его
появления в жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь
идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по себе,
а служит только кануном другого дня. Придет же он. наконец, этот
день! И, во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня:
всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!..
ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ *
(«Гроза», драма в пяти действиях А. Н. Островского.
СПб., 1860)
Незадолго до появления на сцене «Грозы» мы разбирали очень
подробно все произведения Островского. Желая представить
характеристику таланта автора, мы обратили тогда внимание на явления
русской жизни, воспроизводимые в его пьесах, старались уловить их общий
характер и допытаться, таков ли смысл этих явлений в действительности,
каким он представляется нам в произведениях нашего драматурга. Если
читатели не забыли,— мы пришли тогда к тому результату, что
Островский обладает глубоким пониманием русской жизни и великим
уменьем изображать резко и живо самые существенные ее стороны1.
«Гроза» вскоре послужила новым доказательством справедливости нашего
заключения. Мы хотели тогда же говорить о ней, но почувствовали,
что нам необходимо пришлось бы при этом повторить многие из
прежних наших соображений, и потому решились молчать о «Грозе»,
предоставив читателям, которые поинтересовались нашим мнением,
проверить на ней те общие замечания, какие мы высказали об
Островском еще за несколько месяцев до появления этой пьесы. Наше решение
утвердилось в нас еще более, когда мы увидели, что по поводу
«Грозы» появляется во всех журналах и газетах целый ряд больших и
маленьких рецензий, трактовавших дело с самых разнообразных точек
зрения. Мы думали, что в этой массе статеек скажется наконец об
* См. статьи «Темное царство» в «Современнике», 1859 г., № VII и IX.
232
H. A. Добролюбов
Островском и о значении его пьес что-нибудь побольше того, нежели
что мы видели в критиках, о которых упоминали в начале первой
статьи нашей о «Темном царстве» *. В этой надежде и в сознании
того, что наше собственное мнение о смысле и характере произведений
Островского высказано уже довольно определенно, мы и сочли за
лучшее оставить разбор «Грозы».
Но теперь, снова встречая пьесу Островского в отдельном издании
и припоминая все, что было о ней писано, мы находим, что сказать
о ней несколько слов с нашей стороны будет совсем не лишнее. Она
дает нам повод дополнить кое-что в наших заметках о «Темном
царстве», провести далее некоторые из мыслей, высказанных нами тогда,
и — кстати — объясниться в коротких словах с некоторыми из
критиков, удостоивших нас прямою или косвенною бранью.
Надо отдать справедливость некоторым из критиков: они умели
понять различие, которое разделяет нас с ними. Они упрекают нас в том,
что мы приняли дурную методу — рассматривать произведение автора
и затем, как результат этого рассмотрения, говорить, что в нем
содержится и каково это содержимое. У них совсем другая метода: они
прежде говорят себе — что должно содержаться в произведении (по их
понятиям, разумеется) и в какой мере все должное действительно в нем
находится (опять сообразно их понятиям). Понятно, что при таком
различии воззрений они с негодованием смотрят на наши разборы,
уподобляемые одним из них «приисканию морали к басне». Но мы очень рады
тому, что наконец рлазница открыта, и готовы выдержать какщз угодно
сравнения. Да, если угодно, наш способ критики походит и на
приискание нравственного вывода в басне: разница, например, в
приложении к критике комедий Островского, и будет лишь настолько велика,
насколько комедия отличается от басни и насколько человеческая жизнь,
изображаемая в комедиях, важнее и ближе для нас, нежели жизнь
ослов, лисиц, тростипок и прочих персонажей, изображаемых в баснях.
Во всяком случае, гораздо лучше, по нашему мнению, разобрать басню
и сказать: «Вот какая мораль в ней содержится, и эта мораль кажется
нам хороша или дурна, и вот почему»,— нежели решить с самого
начала: в этой басне должна быть такая-то мораль (например, почтение
к родителям), и вот как должна она быть выражена (например, в виде
птенца, ослушавшегося матери и выпавшего из гнезда) ; но эти условия
не соблюдены, мораль не та (например, небрежность родителей о детях)
или высказана не так (например, в примере кукушки, оставляющей
свои яйца в чужих гнездах),— значит, басня не годится. Этот способ
критики мы видели не раз в приложении к Островскому, хотя никто,
разумеется, и не захочет в том признаться, а еще на нас же, с больной
* См. «Современник», 1859 г.: № VII.
H.A. Добролюбов
«Черты для характеристики русского простонародия».
Журнальный текст 1860 г., с вставками, сделанными Н. Г. Чернышевским
на основании запрещенной корректуры статьи.
234
H. A. Добролюбов
головы на здоровую, свалят обвинение, что мы приступаем к
разбору литературных произведений с заранее принятыми идеями и
требованиями. А между тем чего же яснее,— разве не говорили
славянофилы: следует изображать русского человека добродетельным и
доказывать, что корень всякого добра — жизнь по старине; в первых пьесах
своих Островский этого не соблюл, и потому «Семейная картина» и
«Свои люди» недостойны его и объясняются только тем, что он еще
подражал тогда Гоголю. А западники разве не кричали: следует
научать в комедии, что суеверие вредно, а Островский колокольным звоном
спасает от погибели одного из своих героев; следует вразумлять всех,
что истинное благо состоит в образованности, а Островский в своей
комедии позорит образованного Вихорева перед неучем Бородкиным; ясно,
что «Не в свои сани не садись» и «Не так живи, как хочется» —
плохие пьесы. А приверженцы художественности разве не
провозглашали: искусство должно служить вечным и всеобщим требованиям эстетики,
а Островский в «Доходном месте» низвел искусство до служения
жалким интересам минуты; потому «Доходное место» недостойно искусства
и должно быть причислено к обличительной литературе!.. А г.
Некрасов из Москвы разве не утверждал: Болынов не должен в нас
возбуждать сочувствия, а между тем 4-й акт «Своих людей» написан для
того; чтобы возбудить в нас сочувствие к Болыпову; стало быть,
четвертый акт лишний!..2 А г. Павлов (Н. Ф.) разве не извивался, давая
разуметь такие положения: русская народная жизнь может дать
материал только для балаганных представлений; в ней нет элементов для
того, чтобы из нее состроить что-нибудь сообразное «вечным»
требованиям искусства; очевидно поэтому, что Островский, берущий сюжет из
простонародной жизни, есть не более, как балаганный сочинитель...3
А еще один московский критик разве не строил таких заключений:
драма должна представлять нам героя, проникнутого высокими идеями;
героиня «Грозы», напротив, вся проникнута мистицизмом, следовательно,
не годится для драмы, ибо не может возбуждать нашего сочувствия;
следовательно, «Гроза» имеет только значение сатиры, да и то не
важной, и пр. и пр. ... 4
Кто следил за тем, что писалось у нас по поводу «Грозы», тот
легко припомнит и еще несколько подобных критик. Нельзя сказать,
чтоб все они были написаны людьми совершенно убогими в умственном
отношении; чем же объяснить то отсутствие прямого взгляда на вещи,
которое во всех них поражает беспристрастного читателя? Без всякого
сомнения, его надо приписать старой критической рутине, которая
осталась во многих головах от изучения художественной схоластики в
курсах Кошанского, Ивана Давыдова, Чистякова и Зеленецкого. Известно,
что, по мнению сих почтенных теоретиков, критика есть приложение
к известному произведению общих законов, излагаемых в курсах тех же
Луч света в темном царстве
235
теоретиков: подходит под законы — отлично; не подходит — плохо. Как
видите, придумано недурно для отживающих стариков: покамест такое
начало живет в критике, они могут быт^ уверены, что не будут
считаться совсем отсталыми, что бы ни происходило в литературном мире.
Ведь законы прекрасного установлены ими в их учебниках, на основании
тех произведений, в красоту которых они веруют; пока все новое будут
судить на основании утвержденных ими законов, до тех пор изящным
и будет признаваться только то, что с ними сообразно, ничто новое
не посмеет предъявить своих прав; старички будут правы, веруя в
Карамзина и не признавая Гоголя, как думали быть правыми почтенные
люди, восхищавшиеся подражателями Расина и ругавшие Шекспира
пьяным дикарем, вслед за Вольтером, или преклонявшиеся пред «Мес-
сиадой» и на этом основании отвергавшие «Фауста». Рутинерам, даже
самым бездарным, нечего бояться критики, служащей пассивною
поверкою неподвижных правил тупых школяро»,— и в то же время —
нечего надеяться от нее самым даровитым писателям, если они вносят
в искусство нечто новое и оригинальное. Они должны идти наперекор
всем нареканиям «правильной» критики, назло ей составить себе имя,
назло ей основать школу и добиться того, чтобы с ними стал
соображаться какой-нибудь новый теоретик при составлении нового кодекса
искусства. Тогда и критика смиренно признает их достоинства; а до
тех пор она должна находиться в положении несчастных неаполитанцев
в начале нынешнего сентября,— которые хоть и знают, что не нынче
так завтра к ним Гарибальди придет, а все-таки должны признавать
Франциска своим королем, пока его королевскому величеству не угодно
будет оставить свою столицу.
Мы удивляемся, как почтенные люди решаются признавать за
критикою такую ничтожную, такую унизительную роль. Ведь ограничивая
ее приложением «вечных и общих» законов искусства к частным и
временным явлениям, через это самое осуждают искусство на
неподвижность, а критике дают совершенно приказное и полицейское
значение. И это делают многие от чистого сердца! Один из авторов, о
котором мы высказали свое мнение, несколько непочтительно напомнил нам,
что неуважительное обращение судьи с подсудимым есть преступление5.
О наивный автор! Как он преисполнен теориями Кошанского и
Давыдова! Он совершенно серьезно принимает пошлую метафору, что
критика есть трибунал, пред которым авторы являются в качестве
подсудимых! Вероятно, он принимает также за чистую монету и мнение,
что плохие стихи составляют грех пред Аполлоном и что плохих
писателей в наказание топят в реке Лете!.. Иначе — как же не видеть
разницы между критиком и судьею? В суд тянут людей по подозрению
. в проступке или преступлении, и дело судьи решить, прав или виноват
обвиненный; а писатель разве обвиняется в чем-нибудь, когда подвер-
236
H. A. Добролюбов
гается критике? Кажется, те времена, когда занятие книжным делом
считалось ересью и преступлением, давно уже прошли. Критик
говорит свое мнение, нравится или не нравится ему вещь; и так как
предполагается, что он не пустозвон, а человек рассудительный, то он
и старается представить резоны, почему он считает одно хорошим,
а другое дурным. Он не считает своего мнения решительным приговором,
обязательным для всех; если уж брать сравнение из юридической
сферы, то он скорее адвокат, нежели судья. Ставши на известную точку
зрения, которая ему кажется наиболее справедливою, он излагает
читателям подробности дела, как он его понимает, и старается им внушить
свое убеждение в пользу или против разбираемого автора. Само собою
разумеется, что он при этом может пользоваться всеми средствами,
какие найдет пригодными, лишь бы они не искажали сущности дела: он
может вас приводить в ужас или в умиление, в смех или в слезы,
заставлять автора делать невыгодные для него признания или доводить его
до невозможности отвечать. Из критики, исполненной таким образом,
может произойти вот какой результат: теоретики, справясь с своими
учебниками, могут все-таки увидеть, согласуется ли разобранное
произведение с их неподвижными законами, и, исполняя роль судей,
порешат, прав или виноват автор. Но известно, что в гласном
производстве нередки случаи, когда присутствующие в суде далеко не
сочувствуют тому решению, какое произносится судьею сообразно' с такими-
то статьями кодекса: общественная совесть обнаруживает в этих
случаях полный разлад со статьями закона. То же самое еще чаще
может случаться и при обсуждении литературных произведений: и когда
критик-адвокат надлежащим образом поставит вопрос, сгруппирует
факты и бросит на них свет известного убеждения,— общественное мнение,
не обращая внимания на кодексы пиитики, будет уже знать, чего ему
держаться.
Если внимательно присмотреться к определению критики «судом»
над авторами, то мы найдем, что оно очень напоминает то понятие,
какое соединяют с словом «критика» наши провинциальные барыни и
барышни и над которым так остроумно подсмеивались, бывало, наши
романисты. Еще и ныне не редкость встретить такие семейства,
которые с некоторым страхом смотрят на писателя, потому что он «на
них критику напишет». Несчастные провинциалы, которым раз забрела
в голову такая мысль, действительно представляют из себя жалкое
зрелище подсудимых, которых участь зависит от почерка пера
литератора. Они смотрят ему в глаза, конфузятся, извиняются, оговариваются»
как будто в самом деле виноватые, ожидающие казни или милости. Но
надо сказать, что такие наивные люди начинают выводиться теперь и
в самых далеких захолустьях. Вместе с тем как право «сметь свое
суждение иметь» перестает быть достоянием только известного ранга или
Луч света в темном царстве
237
положения, а делается доступно всем и каждому, вместе с тем и в
частной жизни появляется более солидности и самостоятельности, менее
трепета пред всяким посторонним судом. Теперь уже высказывают свое
мнение просто затем, что лучше его объявить, нежели скрывать,
высказывают потому, что считают полезным обмен мыслей, признают за
каждым право заявлять свой взгляд и свои требования, наконец,
считают даже обязанностью каждого участвовать в общем движении,
сообщая свои наблюдения и соображения, какие кому по силам. Отсюда
далеко до роли судьи. Если я вам скажу, что вы по дороге платок
потеряли или что вы идете не в ту сторону, куда вам нужно и т. п.,—
это еще не значит, что вы мой подсудимый. Точно так же не буду я
вашим подсудимым и в том случае, когда вы начнете описывать меня»
желая дать обо мне понятие вашим знакомым. Входя в первый раз в
новое общество, я очень хорошо знаю, что надо мною делают
наблюдения и составляют мнения обо мне; но неужели мне поэтому следует
воображать себя перед каким-то ареопагом — и заранее трепетать,
ожидая приговора? Без всякого сомнения, замечания обо мне будут
сделаны: один найдет, что у меня нос велик, другой — что борода рыжая,
третий — что галстук дурно повязан, четвертый — что я угрюм, и т. д.
Ну, и пусть их замечают, мне-то что за дело до этого? Ведь моя
рыжая борода — не преступление, и никто, не может спросить у меня
отчета, как я смею иметь такой большой нос. Значит, тут мне и думать
не о чем: нравится или нет моя фигура, это дело вкуса, и
высказывать мнение о ней я никому запретить не могу; а с другой стороны,
меня и не убудет от того, что заметят мою неразговорчивость, ежели
я действительно молчалив. Таким образом, первая критическая работа
(в нашем смысле) — подмечание и указание фактов — совершается
совершенно свободно и безобидно. Затем другая работа — суждение на
основании фактов — продолжает точно так же держать -того, кто судит,
совершенно в равных шансах с тем, о ком он судит. Это потому, что,
высказывая свой вывод из известных данных, человек всегда и самого
себя подвергает суду и поверке других относительно справедливости и
основательности его мнения. Если, например, кто-нибудь на основании
того, что мой галстук повязан не совсем изящно, решит, что я дурно
воспитан, то такой судья рискует дать окружающим не совсем высокое
понятие о его логике. Точно так, если какой-нибудь критик упрекает
Островского за то, что лицо Катерины в «Грозе» отвратительно и
безнравственно, то он не внушает особого доверия к чистоте собственного
нравственного чувства. Таким образом, пока критик указывает факты,
разбирает их и делает свои выводы, автор безопасен и самое дело
безопасно. Тут можно претендовать только на то, когда критик
искажает факты, лжет. А если он представляет дело верно, то каким бы
тоном он ни говорил, к каким бы выводам он ни приходил, от его
233
H. A. Добролюбов
критики, как от всякого свободного и фактами подтверждаемого
рассуждения, всегда будет более пользы, нежели вреда — для самого автора,
если он хорош, и во всяком случае для литературы — даже если автор
окажется и дурен. Критика — не судейская, а обыкновенная, как мы ее
понимаем,— хороша уже и тем, что людям, не привыкшим
сосредоточивать своих мыслей на литературе, дает, так сказать, экстракт
писателя и тем облегчает возможность понимать характер и значение его
произведений. А как скоро писатель понят надлежащим образом, мнение
о нем не замедлит составиться и справедливость будет ему отдана, без
всяких разрешений со стороны почтенных составителей кодексов.
Правда, иногда объясняя характер известного автора или
произведения, критик сам может найти в произведении то, чего в нем вовсе
нет. Но в этих случаях критик всегда сам выдает себя. Если он
вздумает придать разбираемому творению мысль более живую и широкую,
нежели какая действительно положена в основание его автором,— то,
очевидно, он не в состоянии будет достаточно подтвердить свою мысль
указаниями на самое сочинение, и таким образом критика, показавши,
чем бы могло быть разбираемое произведение, чрез то самое только
яснее выкажет бедность его замысла и недостаточность исполнения.
В пример подобной критики можно указать, например, на разбор
Белинским «Тарантаса», написанный с самой злой и тонкой иронией; разбор
этот многими принимаем был за чистую монету, но и эти многие
находили, что смысл, приданный «Тарантасу» Белинским, очень хорошо
проводится в его критике, но с самым сочинением графа Соллогуба
ладится плохо6. Впрочем, такого рода критические утрировки
встречаются очень редко. Гораздо чаще другой случай — что критик
действительно не поймет разбираемого автора и выведет из его сочинения то,
чего совсем и не следует. Так и тут беда не велика: способ
рассуждений критика сейчас покажет читателю, с кем он имеет дело, и будь
только факты налицо в критике,— фальшивые умствования не надуют
читателя. Например, один г. П — ий, разбирая «Грозу», решился
последовать той же методе, какой мы следовали в статьях о «Темном
царстве», и, изложивши сущность содержания пьесы, принялся за выводы.
Оказалось, по его соображениям, что Островский в «Грозе» вывел на
смех Катерину, желая в ее лице опозорить русский мистицизм. Ну,
разумеется, прочитавши такой вывод, сейчас и видишь, к какому
разряду умов принадлежит г. П — ий и можно ли полагаться на его
соображения. Никого такая критика не собьет с толку, никому она не
опасна...
Совсем другое дело та критика, которая приступает к авторам, точно
к мужикам, приведенным в рекрутское присутствие, с форменного
меркою, и кричит то «лоб!», то «затылок!», смотря по тому, подходит
новобранец под меру или нет. Там расправа короткая и решительная; и если
Луч света в темном царстве
239^
вы верите в вечные законы искусства, напечатанные в учебнике, то вы
от такой критики не отвертитесь. Она по пальцам докажет вам, что то,
чем вы восхищаетесь, никуда не годится, а от чего вы дремлете, зеваете
или получаете мигрень, это-то и есть настоящее сокровище. Возьмите,
например, хоть «Грозу»: что это такое? Дерзкое оскорбление искусства,
ничего больше,— и это очень легко доказать. Раскройте «Чтения о
словесности» заслуженного профессора и академика Ивана Давыдова,
составленные им с помощью перевода лекций Блэра, или загляните хоть в
кадетский курс словесности г. Плаксина,— там ясно определены условия
образцовой драмы. Предметом драмы непременно должно быть событие,
где мы видим борьбу страсти и долга,— с несчастными последствиями
победы страсти или с счастливыми, когда побеждает долг. В развитии
драмы должно быть соблюдаемо строгое единство и последовательность;
развязка должна естественно и необходимо вытекать из завязки; каждая
сцена должна непременно способствовать движению действия и подвигать
его к развязке; поэтому в пьесе не должно быть ни одного лица,
которое прямо и необходимо не участвовало бы в развитии драмы, не должно
быть ни одного разговора, не относящегося к сущности пьесы. Характеры
действующих лиц должны быть ярко обозначены, и в обнаружении их.
должна быть необходима постепенность, сообразно с развитием действия.
Язык должен быть сообразен с положением каждого лица, но не
удаляться от чистоты литературной и не переходить в вульгарность.
Вот, кажется, все главные правила драмы. Приложим их к «Грозе».
Предмет драмы действительно представляет борьбу в Катерине
между чувством долга супружеской верности и страсти к молодому Борису
Григорьевичу. Значит, первое требование найдено. Но затем, отправляясь,
от этого требования, мы находим, что другие условия образцовой драмы,
нарушены в «Грозе» самым жестоким образом.
И, во-первых,— «Гроза» не удовлетворяет самой существенной
внутренней цели драмы — внушить уважение к нравственному долгу и
показать пагубные последствия увлечения страстью. Катерина, эта
безнравственная, бесстыжая (по меткому выражению Н. Ф. Павлова)
женщина, выбежавшая ночью к любовнику, как только муж уехал из дому,
эта преступница представляется нам в драме не только не в
достаточно мрачном свете, но даже с каким-то сиянием мученичества
вокруг чела. Она говорит так хорошо, страдает так жалобно, вокруг нее все
так дурно, что против нее у вас нет негодования, вы ее сожалеете, вы
вооружаетесь против ее притеснителей, и, таким образом, в ее лице
оправдываете порок. Следовательно, драма не выполняет своего
высокого назначения и делается, если не вредным примером, то по крайней
мере праздною игрушкой.
Далее, с чисто художественной точки зрения находим также
недостатки весьма важные. Развитие страсти представлено недостаточно: мы не;
240
H. A. Добролюбов
видим, как началась и усилилась любовь Катерины к Борису и чем
именно была она мотивирована; поэтому и самая борьба страсти и
долга обозначается для нас не вполне ясно и сильно.
Единство впечатления также не соблюдено: ему вредит примесь
постороннего элемента — отношений Катерины к свекрови.
Вмешательство свекрови постоянно препятствует нам сосредоточивать наше
внимание на той внутренней борьбе, которая должна происходить в душе
Катерины.
Кроме того, в пьесе Островского замечаем ошибку против первых
и основных правил всякого поэтического произведения,
непростительную даже начинающему автору. Эта ошибка специально называется в
драме — «двойственностью интриги»: здесь мы видим не одну любовь,
а две — любовь Катерины к Борису и любовь Варвары к Кудряшу7.
Это хорошо только в легких французских водевилях, а не в серьезной
драме, где внимание зрителей никак не должно быть развлекаемо по
сторонам.
Завязка и развязка также грешат против требований искусства.
Завязка заключается в простом случае — в отъезде мужа; развязка также
совершенно случайна и произвольна: эта гроза, испугавшая Катерину
и заставившая ее все рассказать мужу, есть не что иное, как deus ex
machina *, не хуже водевильного дядюшки из Америки.
Все дейстцие идет вяло и медленно, потому что загромождено
сценами и лицами, совершенно ненужными. Кудряш и Шапкин, Кулигин,
Феклуша, барыня с двумя лакеями, сам Дикой — все это лица,
существенно не связанные с основою пьесы. На сцену беспрестанно
входят ненужные лица, говорят вещи, не идущие к делу, и уходят, опять
неизвестно зачем и куда. Все декламации Кулигина, все выходки
Кудряша и Дикого, не говоря уже о полусумасшедшей барыне и о
разговорах городских жителей во время грозы,— могли бы быть выпущены
без всякого ущерба для сущности дела.
Строго определенных и отделанных характеров в этой толпе
ненужных лиц мы почти не находим, а о постепенности в их
обнаружении нечего и спрашивать. Они являются нам прямо ex abrupto **,
с ярлычками. Занавес открывается: Кудряш с Кулигиным говорят о
том, какой ругатель Дикой, вслед за тем является и Дикой и еще за
кулисами ругается... Тоже и Кабанова. Так же точно и Кудряш с
первого слова дает знать себя, что он «лих на девок»; и Кулигин при
самом появлении рекомендуется как самоучка-механик, восхищающийся
природою. Да так с этим они и остаются до самого конца: Дикой
* бог из машины (лат.).— Ред.
* ни с того ни с сего; внезапно (лат.).*— Ред.
Луч света в темном царстве
241
ругается, Кабанова ворчит, Кудряш гуляет ночью с Варварой... А
полного всестороннего развития их характеров мы не видим во всей пьесе.
Сама героиня изображается весьма неудачно: как видно, сам автор не
совсем определенно понимал этот характер, потому что, не выставляя
Катерину лицемеркою, заставляет ее, однако же, произносить
чувствительные монологи, а на деле показывает ее нам как женщину
бесстыжую, увлекаемую одною чувственностью. О герое нечего и говорить,—
так он бесцветен. Сами Дикой и Кабанова, характеры наиболее в genre'e *
г. Островского, представляют (по счастливому заключению г. Ахшару-
мова или кого-то другого в этом роде) 8 намеренную утрировку, близкую
к пасквилю, и дают нам не живые лица, а «квинтэссенцию уродств»
русской жизни.
Наконец и язык, каким говорят действующие лица, превосходит всякое
терпение благовоспитанного человека. Конечно, купцы и мещане не могут
говорить изящным литературным языком; но ведь нельзя же
согласиться и на то, что драматический автор, ради верности, может
вносить в литературу все площадные выражения, которыми так богат
русский народ. Язык драматических персонажей, кто бы они ни были,
может быть прост, но всегда благороден и не должен оскорблять
образованного вкуса. А в «Грозе» послушайте, как говорят все лица:
«Пронзительный мужик! что ты с рылом-то лезешь! Всю нутренную
разжигает! Женщины себе тела никак нагулять не могут»!. Что это за
фразы, что за слова? Поневоле повторишь с Лермонтовым:
С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?
А если и случалось им,
Так мы их слушать не хотим9.
Может быть, «в городе Калинове, на берегу Волги», и есть люди,
которые говорят таким образом, но что же нам-то за дело до этого?
Читатель понимает, что мы не употребляли особенных стараний,
чтобы сделать убедительною эту критику; оттого в ней легко
приметить в иных местах живые нитки, которыми она сшита. Но уверяем,
что ее можно сделать чрезвычайно убедительною и победоносною, можно
ею уничтожить автора, раз ставши на точку зрения школьных
учебников. И если читатель согласится дать нам право приступить к
пьесе с заранее приготовленными требованиями относительно того, что и
как в ней должно быть,— больше нам ничего не нужно: все, что
несогласно с принятыми у нас правилами, мы сумеем уничтожить.
Выписки из комедии явятся весьма добросовестно для подтверждения
* в жанре (франц.).—Ред.
^6 Н. А. Добролюбов
242
H. A. Добролюбов
наших суждений; цитаты из разных ученых книг, начиная с Аристотеля и
кончая Фишером 10, составляющим, как известно, последний,
окончательный момент эстетической теории, докажут вам солидность нашего
образования; легкость изложения и остроумие помогут нам увлечь ваше
внимание, и вы, сами не замечая, придете к полному согласию с нами. Только
пусть ни на минуту не заходит в вашу голову сомнение в нашем полном
праве предписывать автору обязанности и затем судить его, верен ли он
этим обязанностям или провинился перед ними...
Но вот в этом-то и горе, что от подобного сомнения не убережется
теперь ни один читатель. Презренная толпа, прежде благоговейно,
разинув рот, внимавшая нашим вещаниям, теперь представляет плачевной
и опасное для нашего авторитета зрелище массы, вооруженной, по
прекрасному выражению г. Тургенева, «обоюдоострым мечом анализа» п.
Всякий говорит, читая нашу громоносную критику: «Вы предлагаете нам
свою «бурю», уверяя, что в «Грозе» то, что есть,— лишнее, а чего
нужно, того недостает. Но ведь автору «Грозы», вероятно, кажется совсем
противное; позвольте нам разобрать вас. Расскажите, анализируйте нам пьесу,
покажите ее, как она есть, и дайте нам ваше мнение о ней на
основании ее же самой, а не по каким-то устарелым соображениям, совсем не
нужным и посторонним. По-вашему, того-то и того-то не должно быть; а
может быть, оно в пьесе-то и хорошо приходится, так тогда почему ж не
должно?» Так осмеливается резонировать теперь всякий читатель, и
этому обидному обстоятельству надо приписать то, что, например,
великолепные критические упражнения Н. Ф. Павлова по поводу «Грозы»
потерпели такое решительное фиаско. В самом делег на критика «Грозы»
в «Нашем времени» поднялись все — и литераторы и публика, и, конечно,
не за то, что он вздумал показать недостаток уважения к Островскому,
а за то, что в своей критике он выразил неуважение к здравому смыслу
и доброй воле русской публики. Давно уже все видят, что Островский
во многом удалился от старой сценической рутиныг что в самом замысле
каждой из его пьес есть условия, необходимо увлекающие его за пределы
известной теории, на которую указали мы выше. Критик, которому эти
уклонения не нравятся, должен был начать с того, чтоб их отметить,
охарактеризовать, обобщить и затем прямо и откровенно поставить вопрос
между ними и старой теорией. Это была обязанность критика не только
перед разбираемым автором, но еще больше перед публикой, которая так
постоянно одобряет Островского, со всеми его вольностями и уклонениями,
и с каждой новой пьесой все больше к нему привязывается. Если критик
находит, что публика заблуждается в своей симпатии к автору, который
оказывается преступником против его теории, то он должен был начать с
защиты этой теории и с серьезных доказательств того, что уклонения от
нее — не могут быть хороши. Тогда он, может быть, и успел бы убедить
некоторых и даже многих, так как у Н. Ф. Павлова нельзя отнять того,
Луч света в темном царстве
242
что он владеет фразою довольно ловко. А теперь — что он сделал? Он не
обратил ни малейшего внимания на тот факт, что старые законы искусства,
продолжая существовать в учебниках и преподаваться с гимназических
и университетских кафедр давно уж, однако, потеряли святыню
неприкосновенности в литературе и в публике. Он отважно принялся
разбивать Островского по пунктам своей теории, насильно заставляя читателя
считать ее неприкосновенною. Он счел удобным только поиронизировать
насчет господина, который, будучи «ближним и братом» г. Павлова по
месту в первом ряду кресел и по «свежим» перчаткам,— осмелился, однако*
восхищаться пьесою, которая была так противна Н. Ф. Павлову. Такое
пренебрежительное обращение с публикою, да и с самым вопросом, за
решение которого критик взялся, естественно должно было возбудить
большинство читателей скорее против него, нежели в его пользу. Читатели
дали заметить критику, что он с своей теорией вертится, как белка в
колесе, и потребовали, чтоб он вышел из колеса на прямую дорогу.
Округленная фраза и ловкий силлогизм показались им недостаточными; они
потребовали серьезных подтверждений для самых посылок, из которых
г. Павлов делал свои заключения и которые выдавал как аксиомы. Он
говорил: это дурно, потому что много лиц в пьесе, не содействующих прямому
развитию хода действия. А ему упорно возражали: да почему же в пьесе не
может быть лиц, не участвующих прямо в развитии драмы? Критик
уверял, что драма потому уже лишена значения, что ее героиня
безнравственна; читатели останавливали его и задавали вопрос: с чего же вы
берете, что она безнравственна? и на чем основаны ваши нравственные
понятия? Критик считал пошлостью и сальностью, недостойною искусства,—
и ночное свидание, и удалой свист Кудряша, и самую сцену признания
Катерины перед мужем; его опять спрашивали: отчего именно находит
он это пошлым и почему светские интрижки и аристократические страсти
достойнее искусства, нежели мещанские увлечения? Почему свист
молодого парня более пошл, нежели раздирательное пение итальянских арий
каким-нибудь светским юношей? Н. Ф. Павлов, как верх своих доводов,
решил свысока, что пьеса, подобная «Грозе», есть не драма, а балаганное
представление. Ему и тут ответили: а почему же вы так презрительно
относитесь о балагане? Еще это вопрос, точно ли всякая прилизанная
драма, даже хоть бы в ней все три единства соблюдены были, лучше
всякого балаганного представления. Относительно роли балагана в истории
театра и в деле народного развития мы еще с вами поспорим.
Последнее возражение было довольно подробно развито печатно. И где же
раздалось оно? Добро бы в «Современнике», который, как известно, сам имеет
при себе «Свисток», следовательно не может скандализироваться свистом
Кудряша и вообще должен быть наклонен ко всякому балаганству. Нет,
мысли о балагане высказаны были в «Библиотеке для чтения», известной
поборнице всех прав «искусства», высказаны г. Анненковым? которого
16*
244
H. A. Добролюбов
никто не упрекнет в излишней приверженности к «вульгарности» 12. Если
мы верно поняли мысль г. Анненкова (за что, конечно, никто
поручиться не может), он находит, что современная драма с своей теорией дальше
отклонилась от жизненной правды и красоты, нежели первоначальные
балаганы, и что для возрождения театра необходимо прежде возвратиться
к балагану и сызнова начинать путь драматического развития. Вот с
какими мнениями столкнулся г. Павлов даже в почтенных представителях
русской критики, не говоря уже о тех, которые благомыслящими людьми
обвиняются в презрении к науке и в отрицании всего высокого! Понятно,
что здесь уже нельзя было отделаться более или менее блестящими
репликами, а надо было приступить к серьезному пересмотру оснований, на
которых утверждался критик в своих приговорах. Но, как скоро вопрос
перешел на эту почву, критик «Нашего времени» оказалоя
несостоятельным и должен был замять свои критические разглагольствования.
Очевидно, что критика, делающаяся союзницей школяров и
принимающая на себя ревизовку литературных произведений по параграфам
учебников, должна очень часто ставить себя в такое жалкое положение:
осудив себя на рабство пред господствующей теорией, она обрекает себя
вместе с тем и на постоянную бесплодную вражду ко всякому
прогрессу, ко всему новому и оригинальному в литературе. И чем сильнее
новое литературное движение, тем более она против него ожесточается и
тем яснее выказывает свое беззубое бессилие. Отыскивая какого-то мерт-
еого совершенства, выставляя нам отжившие, индифферентные для нас
идеалы, швыряя в нас обломками, оторванными от прекрасного целого,
адепты подобной критики постоянно остаются в стороне от живого
движения, закрывают глаза от новой, живущей красоты, не хотят понять
новой истины, результата нового хода жизни. Они смотрят свысока на все,
судят строго, готовы обвинять всякого автора за то, что он не
равняется с их chefs-d'oeuvre'aMH*, и нахально пренебрегают живыми
отношениями автора к своей публике и к своей эпохе. Это все, видите ли,
«интересы минуты»— можно ли серьезным критикам компрометировать
искусство, увлекаясь такими интересами! Бедные, бездушные люди! как
они жалки в глазах человека, умеющего дорожить делом жизни, ее
трудами и благами! Человек обыкновенный, здравомыслящий, берет от жизни,
что она дает ему, и отдает ей, что может; но педанты всегда забирают
свысока и парализируют жизнь мертвыми идеалами и отвлечениями.
Скажите, что подумать о человеке, который, при виде хорошенькой
женщины, начинает вдруг резонировать, что у нее стан не таков, как у
Венеры Милосской, очертание рта не так хорошо, как у Венеры Медицейской,
взгляд не имеет того выражения, какое находим мы у рафаэлевских
мадонн, и т. д. и т. д. Все рассуждения и сравнения подобного господина
* шедеврами (франц.).—Ред.
Луч света в темном царстве
245
могут быть очень справедливы и остроумны, но к чему могут привести
они? Докажут ли они вам, что женщина, о которой идет речь, не хороша
собой? В состоянии ли они убедить вас даже в том, что эта женщина
менее хороша, чем та или другая Венера? Конечно нет, потому что
красота заключается не в отдельных чертах и линиях, а в общем выражении
лица, в том жизненном смысле, который в нем проявляется. Когда это
выражение симпатично мне, когда этот смысл доступен и удовлетворителен
для меня, тогда я просто отдаюсь красоте всем сердцем и смыслом, не
делая никаких мертвых сравнений, не предъявляя претензий, освященных
преданиями искусства. И если вы хотите живым образом действовать
на меня, хотите заставить меня полюбить красоту,— то умейте уловить
в ней этот общий смысл, это веяние жизни, умейте указать и растолковать
его мне: тогда только вы достигнете вашей цели. То же самое
и с истиною: она не в диалектических тонкостях, не в верности отдельных
умозаключений, а в живой правде того, о чем рассуждаете. Дайте
мне понять характер явления, его место в ряду других, его смысл
и значение в общем ходе жизни, и поверьте, что этим путем вы
приведете меня к правильному суждению о деле гораздо вернее, чем
посредством всевозможных силлогизмов, подобранных для доказательства
вашей мысли. Если до сих пор невежество и легковерие так еще сильны
в людях, это поддерживается именно тем способом критических
рассуждений, на который мы нападаем. Везде и во всем преобладает синтез;
говорят заранее: это полезно, и бросаются во все стороны, чтобы прибрать
доводы, почему полезно; оглушают вас сентенцией: вот какова должна
быть нравственность,—и затем осуждают как безнравственное все, что не
подходит под сентенцию. Таким образом постоянно и искажается
человеческий смысл, отнимается охота и возможность рассуждать каждому
самому. Совсем не то выходило бы, когда бы люди приучились к
аналитическому способу суждений: вот какое дело, вот его последствия, вот его
выгоды и невыгоды; взвесьте и рассудите, в какой мере оно будет
полезно. Тогда люди постоянно имели бы перед собою данные и в своих
суждениях исходили бы из фактов, не блуждая в синтетических туманах,
не связывая себя отвлеченными теориями и идеалами, когда-то и кем-то
составленными. Чтобы достигнуть этого, надобно, чтобы все люди
получили охоту жить своим умом, а не полагаться на чужую опеку. Этого,
конечно, еще не скоро дождемся мы в человечестве. Но та небольшая часть
людей, которую мы называем «читающей публикой», дает нам право
думать, что в ней эта охота к самостоятельной умственной жизни уже
пробудилась. Поэтому мы считаем весьма неудобным третировать ее свысока
и надменно бросать ей сентенции и приговоры, основанные бог
знает на каких теориях. Самым лучшим способом критики мы считаем
изложение самого дела так, чтобы читатель сам, на основании
выставленных фактов, мог сделать свое заключение. Мы группируем данные, делаем
246
H. A. Добролюбов
соображения об общем смысле произведения, указываем на отношение его
к действительности, в которой мы живем, выводим свое заключение и
пытаемся обставить его возможно лучшим образом, но при этом всегда
стараемся держаться так, чтобы читатель мог совершенно удобно произнести
свой суд между нами и автором. Нам не раз случалось принимать упреки
за некоторые иронические разборы: «Из ваших же выписок и изложения
содержания видно, что этот автор плох или вреден,— говорили нам,—
а вы его хвалите,— как вам не стыдно». Признаемся, подобные упреки
нимало нас не огорчали: читатель получал не совсем лестное мнение о
нашей критической способности,— правда; но главная цель наша была
все-таки достигнута,— негодная книга (которую иногда мы и не могли
прямо осудить) так и показалась читателю негодною благодаря фактам,
выставленным пред его глазами. И мы всегда были того мнения, что
только фактическая, реальная критика и может иметь какой-нибудь смысл
для читателя. Если в произведении есть что-нибудь, то покажите нам, что
в нем есть; это гораздо лучше, чем пускаться в соображения о том, чего
в нем нет и что бы должно было в нем находиться.
Разумеется, есть общие понятия и законы, которые всякий человек
непременно имеет в виду, рассуждая о каком бы то ни было предмете.
Но нужно различать эти естественные законы, вытекающие из самой
сущности дела, от положений и правил, установленных в какой-нибудь
системе. Есть известные аксиомы, без которых мышление невозможно, и их
всякий автор предполагает в своем читателе так же, как всякий
разговаривающий в своем собеседнике. Довольно сказать о человеке, что он
горбат или кос, чтобы всякий увидел в этом недостаток, а не
преимущество его организации. Так точно достаточно заметить, что такое-то
литературное произведение безграмотно или исполнено лжи, чтобы этого
никто не счел достоинством. Но когда вы скажете, что человек ходит
к фуражке, а не в шляпе, этого еще недостаточно для того, чтобы я
получил о нем дурное мнение, хотя в известном кругу и принято, что
порядочный человек не должен фуражку носить. Так и в литературном
произведении — если вы находите несоблюдение каких-нибудь единств
или видите лица, не необходимые для развития интриг, так это еще
ничего не говорит для читателя, не предубежденного в пользу вашей
теории. Напротив, то, что каждому читателю должно показаться нарушением
естественного порядка вещей и оскорблением простого здравого смысла,
могу я считать не требующим от меня опровержений, предполагая, что эти
опровержения сами собою явятся в уме читателя, при одном моем
указании на факт. Но никогда не нужно слишком далеко простирать подобное
предположение. Критики, подобные Н. Ф. Павлову, г. Некрасову из
Москвы, г. Пальховскому и пр., тем и грешат особенно, что предполагают
безусловное согласие между собою и общим мнением гораздо в большем
количестве пунктов, чем следует. Иначе сказать,— они считают непреложными,
Луч света в темном царстве
247
очевидными для всех аксиомами множество таких мнений, которые только
им кажутся абсолютными истинами, а для большинства людей представлю
ют даже противоречие с некоторыми общепринятыми понятиями. Напри
мер, всякому понятно, что автор, желающий сделать что-нибудь порядочное,
не должен искажать действительность: в этом требовании согласны и
теоретики и общее мнение. Но теоретики в то же время требуют и тоже
полагают как аксиому,— что автор должен совершенствовать
действительность, отбрасывая из нее все ненужное и выбирая только то, что
специально требуется для развития интриги и для развязки произведения.
Сообразно с этим вторым требованием, на Островского напускались
много раз с великою яростию; а между тем оно не только не аксиома, но
даже находится в явном противоречии с требованием относительно
верности действительной жизни, которое всеми признано, как необходимое.
Как вы, в самом деле, заставите меня верить, что в течение
какого-нибудь получаса в одну комнату или в одно место на площади приходят
один за другим десять человек, именно те, кого нужно, именно в то
время, как их тут нужно, встречают, кого им нужно, начинают ex abrupto*
разговор о том, что нужно, уходят и делают, что нужно, потом опять
являются, когда их нужно. Делается ли это так в жизни, похоже ли это
на истину? Кто не знает, что в жизни самое трудное дело подогнать
одно к другому благоприятные обстоятельства, устроить течение дел
сообразно с логической надобностью. Обыкновенно человек знает, что ему
делать, да не может так потрафить, чтобы направить на свое дело
все средства, которыми так легко распоряжается писатель. Нужные лица
не приходят, письма не получаются, разговоры идут не так, чтоб
подвинуть дело. У всякого в жизни много своих дел, и редко кто служит,
как в наших драмах, машиною, которою двигает автор, как ему удобнее
для действия его пьесы. То же надо сказать и о завязке с развязкою.
Много ли мы видим случаев, которые бы в своем конце представляли
чистое, логическое развитие начала? В истории мы еще можем приметить
это в течение веков; но в частной жизни не то. Правда, что исторические
законы и здесь те же самые, но разница в расстоянии и размере. Говоря
абсолютно и принимая в соображение бесконечно малые величины,
конечно мы найдем, что шар — тот же многоугольник; но попробуйте играть
на бильярде многоугольниками,— совсем не то выйдет. Так точно и
исторические законы о логическом развитии и необходимом возмездии —
представляются в происшествиях частной жизни далеко не так ясно и полно,
как в истории народов. Придавать им нарочно эту ясность, значит
насиловать и искажать существующую действительность. Будто бы в самом
деле всякое преступление носит в себе самом свое наказание? Будто оно
всегда сопровождается мучениями совести, если не внешнею казнью?
* внезапно, сразу (лат.).— Ред.
248
H. A. Добролюбов
Будто бережливость всегда ведет к достатку, честность награждается
общим уважением, сомнение находит свое разрешение, добродетель
доставляет внутреннее довольство? Не чаще ли видим противное, хотя, с другой
стороны, и противное не может быть утверждаемо, как общее правило...
Нельзя сказать, чтоб люди были злы по природе, и потому нельзя
принимать для литературных произведений принципов вроде того, что,
например, порок всегда торжествует, а добродетель наказывается. Но
невозможно, даже смешно сделалось строить драмы и на торжестве
добродетели! Дело в том, что отношения человеческие редко устраиваются на
основании разумного расчета, а слагаются большею частию случайно, и затем
значительная доля поступков одних с другими совершается как бы
бессознательно, по рутине, по минутному расположению, по влиянию
множества посторонних причин. Автор, решающийся отбросить в сторону все
эти случайности в угоду логическим требованиям развития сюжета,
обыкновенно теряет среднюю меру и делается похож на человека, который
все измеряет на maximum. Он, например, нашел, что человек может, без
непосредственного вреда для себя, работать пятнадцать часов в сутки
и на этом расчете основывает свои требования от людей, которые у него
работают. Само собою разумеется, что расчет этот, возможный для
экстренных случаев, для двух-трех дней, оказывается совершенно нелепым
как норма постоянной работы. Таковым же нередко оказывается и
логическое развитие житейских отношений, требуемое теориею от драмы.
Нам скажут, что мы впадаем в отрицание всякого творчества и не
признаем искусства иначе, как в виде дагерротипа. Еще больше,— нас
попросят провести дальше наши мнения и дойти до крайних их
результатов, то есть, что драматический автор, не имея права ничего
отбрасывать и ничего подгонять нарочно для своей цели, оказывается в
необходимости просто записывать все ненужные разговоры всех
встречных лиц, так что действие, продолжавшееся неделю, потребует и в
драме ту же самую неделю для своего представления на театре, а для иного
происшествия потребуется присутствие всех тысяч людей,
прогуливающихся по Невскому проспекту или по Английской набережной. Да оно
так и придется, если оставить высшим критериумом в литературе все-
таки ту теорию, которой положения мы сейчас оспаривали. Но мы
вовсе не к тому идем; не два-три пункта теории хотим мы исправить;
нет, с такими исправлениями она будет еще хуже, запутаннее и
противоречивее; мы просто не хотим ее вовсе. У нас есть для суждения о
достоинстве авторов и произведений другие основания, держась которых мы
надеемся не прийти ни к каким нелепостям и не разойтись с здравым смыслом
массы публики. Об этих основаниях мы уже говорили и в первых статьях
об Островском и потом в статье о «Накануне»; но, может быть, нужно еще
раз вкратце изложить их.
Мерою достоинства писателя или отдельного произведения мы при-
Луч света в темном царстве
249
нимаем то, насколько служат они выражением естественных стремлений
известного времени и народа. Естественные стремления человечества,
приведенные к самому простому знаменателю, могут быть выражены в
двух словах: «Чтоб всем было хорошо». Понятно, что, стремясь к этой
цели, люди, по самой сущности дела, сначала должны были от нее
удалиться: каждый хотел, чтоб ему было хорошо, и, утверждая свое
благо, мешал другим; устроиться же так, чтоб один другому не мешал,
еще не умели. Так неопытные танцоры не умеют распорядиться своими
движениями и беспрестанно сталкиваются с другими парами даже в
довольно пространной зале. После, попривыкши, они станут лучше
расходиться даже и в зале меньшего объема и при большем количестве
танцующих. Но пока они не приобрели ловкости, до тех пор, разумеется,
и невозможно допустить, чтобы в зале пускались в вальс многие пары;
чтобы не переколотиться друг об друга, необходимо многим переждать,
а самым неловким и вовсе отказаться от танцев и, может быть, сесть
за карты, проиграть, и даже много... Так было и в устройстве жизни:
более ловкие продолжали отыскивать свое благо, другие сидели,
принимались за то, за что не следовало, проигрывали; общий праздник
жизни нарушался с самого начала; многим стало не до веселья; многие
пришли к убеждению, что к веселью только те и призваны, кто ловко
танцует. А ловкие танцоры, устроившие свое благосостояние, продолжали
следовать естественному влечению и забирали себе все больше простора,
все больше средств для веселья. Наконец они теряли меру; остальным
становилось от них очень тесно, и они вскакивали с своих мест и
подпрыгивали — уже не затем, чтобы танцевать хотели, а просто потому,
что им даже сидеть-то стало неловко. А между тем в этом движении
оказалось, что и между ними есть люди, не лишенные некоторой
легкости,— и те пробовали вступить в круг веселящихся. Но
привилегированные, первоначальные танцоры смотрели на них уже очень
неприязненно, как на непризванных, и не пускали их в круг. Начиналась борьба,
разнообразная, долгая, большею частию неблагоприятная для новичков:
их осмеивали, отталкивали, их осуждали платить издержки праздника,
у них отнимали их дам, а у дам кавалеров, их совсем прогоняли с
праздника. Но чем хуже становится людям, тем они сильнее чувствуют
нужду, чтоб было хорошо. Лишениями не остановишь требований, а
только раздражишь; только принятие пищи может утолить голод. До сих
пор поэтому борьба не кончена; естественные стремления, то как будто
заглушаясь, то появляясь сильнее, все ищут своего удовлетворения.
В этом состоит сущность истории.
Во все времена и во всех сферах человеческой деятельности
появлялись люди, настолько здоровые и одаренные натурою, что
естественные стремления говорили в них чрезвычайно сильно, незаглушаемо.
В практической деятельности они часто делались мучениками своих
250
H. A. Добролюбов
стремлений, но никогда не проходили бесследно, никогда не оставались
одинокими, в общественной деятельности они приобретали партию, в
чистой науке делали открытия, в искусствах, в литературе образовали
школу. Не говорим о деятелях общественных, которых роль в истории
всякому должна быть понятна после того, что мы сказали на
предыдущей странице. Но заметим, что и в деле науки и литературы за
великими личностями всегда сохранялся тот характер, который мы
обозначили выше,— сила естественных, живых стремлений. С искажением
этих стремлений в массе совпадает водворение многих нелепых
понятий о мире и человеке; эти понятия, в свою очередь, мешали общему
благу. Чтобы не заходить далеко, вспомним, сколько зла причинили
человечеству нелепости фетишизма и всякого рода космогонические бредни,
а потом астрологические и кабалистические мистерии на разные лады.
Люди чистой науки, делавшие астрономические и физические открытия
или установлявшие новые философские начала, умели слушать голос
естественных здравых требований ума и помогали человечеству
избавляться от тех или других искусственных комбинаций, вредивших
устройству общего благоденствия. С каждым из этих людей человечество
делало новый шаг в развитии правильных, естественных понятий, и по
важности этих шагов можем мы определять личное достоинство каждого
деятеля. То же самое прилагается и к людям прикладных знаний,
техникам, механикам, агрономам, врачам и пр. То же видим и, в области
искусств, и в литературе.
Литератору до сих пор предоставлена была небольшая роль в этом
движении человечества к естественным началам, от которых оно
отклонилось. По существу своему литература не имеет деятельного значения,
она только или предполагает то, что нужно сделать, или изображает то,
что уже делается и сделано. В первом случае, то есть в
предположениях будущей деятельности, она берет свои материалы и основания из
чистой науки; во втором — из самых фактов жизни. Таким образом,
вообще говоря, литература представляет собою силу служебную, которой
значение состоит в пропаганде, а достоинство определяется тем, что и
как она пропагандирует. В литературе, впрочем, являлось до сих пор
несколько деятелей, которые в своей пропаганде стоят так высоко, что
их не превзойдут ни практические деятели для блага человечества, ни
люди чистой науки. Эти писатели были одарены так богато природою,
что умели как бы по инстинкту приблизиться к естественным понятиям
и стремлениям, которых еще только искали современные им философы
с помощью строгой науки. Мало того: истины, которые философы только
предугадывали в теории, гениальные писатели умели схватывать в жизни
и изображать в действии. Таким образом, служа полнейшими
представителями высшей степени человеческого сознания в известную эпоху и с
этой высоты обозревая жизнь людей и природы и рисуя ее перед нами,
Луч света в темном царстве
251
они возвышались над служебного ролью литературы и становились в ряд
исторических деятелей, способствовавших человечеству в яснейшем
сознании его живых сил и естественных наклонностей. Таков был Шекспир.
Многие из его пьес могут быть названы открытиями в области
человеческого сердца; его литературная деятельность подвинула общее
сознание людей на несколько ступеней, на которые до него никто не
поднимался и которые только были издали указываемы некоторыми
философами. И вот почему Шекспир имеет такое всемирное значение: им
обозначается несколько новых ступеней человеческого развития. Но зато
Шекспир и стоит вне обычного ряда писателей. Имена Данте, Гете,
Байрона часто присоединяются к его имени, но трудно сказать, чтоб
в каждом из них так полно обозначалась целая новая фаза
общечеловеческого развития, как в Шекспире. Что же касается до обыкновенных
талантов, то для них именно остается та служебная роль, о которой
мы говорили. Не представляя миру ничего нового и неведомого, не
намечая новых путей в развитии всего человечества, не двигая его даже
и на принятом пути, они должны ограничиваться более частным,
специальным служением: они приводят в сознание масс то, что открыто
передовыми деятелями человечества, раскрывают и проясняют людям то, что в
них живет еще смутно и неопределенно. Обыкновенно это происходит не
так впрочем, чтобы литератор заимствовал у философа его идеи и потом
проводил их в своих произведениях. Нет, оба они действуют
самостоятельно, оба исходят из одного начала — действительной жизни, но только
различным образом принимаются за дело. Мыслитель, замечая в людях,
i например, недовольство настоящим их положением, соображает все факты
и старается отыскать новые начала, которые бы могли удовлетворить
возникающие требования. Литератор-поэт, замечая то же недовольство,
рисует его картину так живо, что общее внимание, остановленное на
ней, само собою наводит людей на мысль о том, что же именно им
нужно. Результат один, и значение двух деятелей было бы одно и то же;
но история литературы показывает нам, что за немногими
исключениями литераторы обыкновенно опаздывают. Тогда как мыслители,
привязываясь к самым незначительным признакам и неотступно преследуя
попавшуюся мысль до самых последних ее оснований, нередко подмечают
новое движение в самом еще ничтожном его зародыше,— литераторы по
большей части оказываются менее чуткими: они подмечают и рисуют
возникающее движение тогда уже, когда оно довольно явственно и
сильно. Зато, впрочем, они ближе к понятиям массы и больше имеют в ней
успеха, они подобны барометру, с которым всякий справляется, между
тем как метеоролого-астрономических выкладок и предвещаний никто не
хочет знать. Таким образом, признавая за литературою главное значение
разъяснения жизненных явлений, мы требуем от нее одного качества,
без которого в ней не может быть никаких достоинств, именно — правды.
252
H. A. Добролюбов
Надо, чтобы факты, из которых исходит автор и которые он представляет
нам, были переданы верно. Как скоро этого нет, литературное
произведение теряет всякое значение, оно становится даже вредным, потому что
служит не к просветлению человеческого сознания, а напротив, еще к
большему помраченью. И тут уже напрасно стали бы мы отыскивать
в авторе какой-нибудь талант, кроме разве таланта враля. В
произведениях исторического характера правда должна быть фактическая; в
беллетристике, где происшествия вымышлены, она заменяется логическою
правдою, то есть разумной вероятностью и сообразностью с
существующим ходом дел.
Но правда есть необходимое условие, а еще не достоинство
произведения. О достоинстве мы судим по широте взгляда автора, верности
понимания и живости изображения тех явлений, которых он коснулся.
И прежде всего, по принятому нами критерию, мы различаем авторов,
служащих представителями естественных, правильных стремлений народа,
от авторов, служащих органами разных искусственных тенденций и
требований. Мы уже видели, что искусственные общественные комбинации,
бывшие следствием первоначальной неумелости людей в устройстве
своего благосостояния, во многих заглушили сознание естественных
потребностей. В литературах всех народов мы находим множество писателей,
совершенно преданных искусственным интересам и нимало не
заботящихся о нормальных требованиях человеческой природы. Эти писатели могут
быть и не лжецы; но произведения их тем не менее ложны, и в них
мы не можем признать достоинств, разве только относительно формы.
Все, например, певцы иллюминаций, военных торжеств, резни и грабежа
по приказу какого-нибудь честолюбца, сочинители льстивых дифирамбов,
надписей и мадригалов — не могут иметь в наших глазах никакого
значения, потому что они весьма далеки от естественных стремлений и
потребностей народных. В литературе они то же в сравнении с истинными
писателями, что в науке астрологи и алхимики пред истинными
натуралистами, что сонники пред курсом физиологии, гадательные
книжки пред теорией вероятностей. Между авторами, не удаляющимися от
естественных понятий, мы различаем людей, более или менее глубоко
проникнутых насущными требованиями эпохи, более или менее широко
обнимающих движение, совершающееся в человечестве, и более или менее
сильно ему сочувствующих. Тут степени могут быть бесчисленны. Один
автор может исчерпать один вопрос, другой десять, третий может все
их подвести под один высший вопрос и его поставить на разрешение,
четвертый может указать на вопросы, которые поднимаются еще за
разрешением этого высшего вопроса, и т. д. Один может холодно, эпически
излагать факты, другой с лирической силой ополчаться на ложь и
воспевать добро и правду. Один может брать дело с поверхности и указывать
надобность внешних и частных поправок; другой может забирать все
Луч света в темном царстве
253
с корня и выставлять на вид внутреннее безобразие и несостоятельность
предмета или внутреннюю силу и красоту нового здания, воздвигаемого
при новом движении человечества. Сообразно с широтою взгляда и силою
чувства авторов будет разниться и способ изображения предметов, и
самое изложение у каждого из них. Разобрать это отношение внешней
формы к внутренней силе уже нетрудно; самое главное для критики —
определить, стоит ли автор в уровень с теми естественными
стремлениями, которые уже пробудились в народе или должны скоро пробудиться
по требованию современного порядка дел; затем — в какой мере умел
он их понять и выразить, и взял ли он существо дела, корень его,
или только внешность, обнял ли общность предмета или только
некоторые его стороны.
Считаем излишним распространяться о том, что мы здесь разумеем
не теоретическое обсуждение, а поэтическое представление фактов жизни.
В прежних статьях об Островском мы достаточно говорили о различии
отвлеченного мышления от художнического способа представления.
Повторим здесь только одно замечание, необходимое для того, чтобы
поборники чистого искусства не обвинили нас опять в навязыванье художнику
«утилитарных тем». Мы нисколько не думаем, чтобы всякий автор
должен был создавать свои произведения под влиянием известной теории;
он может быть каких угодно мнений, лишь бы талант его был чуток
к жизненной правде. Художественное произведение может быть
выражением известной идеи не потому, что автор задался этой идеей при его
создании, а потому, что автора его поразили такие факты действительности,
из которых эта идея вытекает сама собою. Таким образом, например,
философия Сократа и комедии Аристофана в отношении к религиозному
учению греков служат выражением одной и той же общей идеи —
разрушения древних верований; но вовсе нет надобности думать, что
Аристофан задавал себе именно эту цель для своих комедий: она достигается
у него просто картиною греческих нравов того времени. Из его комедий
мы решительно убеждаемся, что в то время, когда он писал, царство
греческой мифологии уже прошло, то есть он практически подводит нас
к тому, что Сократ и Платон доказывают философским образом. Такова
и вообще бывает разница в способе действия произведений поэтических
и собственно теоретических. Она соответствует разнице в самом способе
мышления художника и мыслителя: один мыслит конкретным образом,
никогда не теряя из виду частных явлений и образов, а другой стремится
все обобщить, слить частные признаки в общей формуле. Но
существенной разницы между истинным знанием и истинной поэзией быть не
может: талант есть принадлежность натуры человека, и потому он,
несомненно, гарантирует нам известную силу и широту естественных
стремлений в том, кого мы признаем талантливым. Следовательно, и произведения
его должны создаваться под влиянием этих естественных, правильных
254
Я. А. Добролюбов
потребностей натуры; сознание нормального порядка вещей должно быть
в нем ясно и живо, идеал его прост и разумен, и он не отдаст себя
на служение неправде и бессмыслице, не потому, чтобы не хотел, а
просто потому, что не может,— не выйдет у него ничего хорошего, если
он и вздумает понасиловать свой талант. Подобно Валааму, захочет он
проклинать Израиля, и против его воли в торжественную минуту
вдохновения в его устах явятся благословения вместо проклятий. А
если и удастся ему выговорить слово проклятия, то оно лишено будет
внутреннего жара, будет слабо и невразумительно. Нам нечего ходить
далеко за примерами; наша литература изобилует ими едва ли не более
всякой другой. Возьмите хоть Пушкина и Гоголя: как бедны и трескучи
заказные стихотворения Пушкина; как жалки аскетические попытки
Гоголя в литературе! Доброй воли у них было много, но воображение и
чувство не давали достаточно материала для того, чтобы сделать
истинно поэтическую вещь на заказные, искусственные темы. Да и не
мудрено: действительность, из которой почерпает поэт свои материалы и свои
вдохновения, имеет свой натуральный смысл, при нарушении которого
уничтожается самая жизнь предмета и остается только мертвый остов
его. С этим-то остовом и принуждены были всегда оставаться писатели,
хотевшие вместо естественного смысла придать явлениям другой,
противный их сущности.
Но, как мы уже сказали, естественные стремления человека- и здравые,
простые понятия о вещах искажены и почти заглушены во многих.
Вследствие неправильного развития, часто людям представляется совершенно
нормальным и естественным то, что, в сущности, составляет нелепейшее
насилие природы. С течением времени человечество все более и более
освобождается от искусственных искажений и приближается к
естественным требованиям и воззрениям: мы уже не видим таинственных сил в
каждом лесе и озере, в громе и молнии, в солнце и звездах; мы уже
не имеем в образованных странах каст и париев; мы не перемешиваем
отношений двух полов, подобно народам Востока; мы не признаем класса
рабов существенной принадлежностью государства, как было у греков
и римлян; мы отрицаемся от инквизиционных начал, господствовавших
в средневековой Европе. Если все это еще и встречается ныне по местам,
то не иначе, как в виде исключения; обгцее же положение изменилось
к лучшему. Но все-таки и теперь еще люди далеко не пришли к ясному
сознанию всех естественных потребностей и даже не могут еще
согласиться в том, что для человека естественно, что нет. Общую формулу,—
что человеку естественно стремиться к лучшему,—все принимают; но
разногласия возникают из-за того, что же должно считать благом для
человечества. Мы полагаем, например, что благо в труде, и потому труд
считаем естественным для человека; а «Экономический указатель» 13
уверяет, что людям естественно лениться, ибо благо состоит в пользовании
Луч света в темном царстве
255
капиталом. Мы думаем, что воровство есть искусственная форма
приобретения, к которой человек иногда вынуждается крайностью; а Крылов
говорит, что это есть естественное качество иных людей, и что —
Вору дай хоть миллион,
Он воровать не перестанет 14.
А между тем Крылов знаменитый баснописец, а «Экономический
указатель» издается г. Вернадским, доктором и статским советником:
мнениями их пренебрегать невозможно. Что тут делать, как решить? Нам
кажется, что окончательного решения тут никто не может брать на себя;
всякий может считать свое мнение самым справедливым, но решение в этом
случае более, нежели когда-нибудь, надо предоставить публике. Это дело
до нее касается, и только во имя ее можем мы утверждать наши
положения. Мы говорим обществу: «Нам кажется, что вы вот к чему
способны, вот что чувствуете, вот чем недовольны, вот чего желаете». Дело
общества сказать нам, ошибаемся мы или нет. Тем более в таком случае,
как разбор комедий Островского, мы прямо можем положиться на общий
суд. Мы говорим: «Вот что автор изобразил; вот что означают, по наше- .
му мнению, воспроизведенные им образы; вот их происхождение, вот
смысл; мы находим, что все это имеет живое отношение к вашей жизни
и нравам и объясняет вот какие потребности, которых удовлетворение
необходимо для вашего блага». Скажите, кому же иначе судить о
справедливости наших слов, как не тому самому обществу, о котором идет речь
и к которому она обращается? Его решение должно быть одинаково
важно и окончательно — и для нас, и для разбираемого автора.
Автор наш принимается публикою очень хорошо; значит, оцна
половика вопроса решается положительным образом: публика признает, что он
верно понимает и изображает ее. Остается другой вопрос: верно ли мы
понимаем Островского, приписывая его произведениям известный смысл?
Некоторую надежду на благоприятный ответ подает нам, во-первых, то
обстоятельство, что критики, противоположные нашему воззрению, не были
особенно одобряемы публикой, и во-вторых, то, что сам автор
оказывается согласным с нами, так как в «Грозе» мы находим новое
подтверждение многих из наших мыслей' о таланте Островского и о значении его
произведений. Впрочем, еще раз,— наши статьи и самь?з основания, на
которых мы утверждаем свои суждения, у всех пред глазами. Кто не
захочет согласиться с нами, тот, читая и поверяя наши статьи по своим
наблюдениям, может прийти к собственному заключению. Мы и тем будем
довольны.
Теперь, объяснившись относительно оснований нашей критики, просим
читателей извинить нам длинноту этих объяснений. Их бы, конечно,
можно было изложить на двух-трех страницах, но тогда бы этим страницам.
256
H. A. Добролюбов
долго не пришлось увидеть света. Длиннота происходит оттого, что
часто бесконечным перифразом объясняется то, что можно бы обозначить
просто одним словом; но в том-то и беда, что эти слова, весьма
обыкновенные в других европейских языках, русской статье дают обыкновенно
такой вид, в котором она не может явиться пред публикой. И приходится
поневоле перевертываться всячески с фразой, чтобы ввести как-нибудь
читателя в сущность излагаемой мысли.
Но обратимся же к настоящему предмету нашему — к автору «Грозы».
Читатели «Современника» помнят, может быть, что мы поставили
Островского очень высоко, находя, что он очень полно и многосторонне умел
изобразить существенные стороны и требования русской жизни. Не
говорим о тех авторах, которые брали частные явления, временные, внешние
требования общества и изображали их с большим или меньшим успехом,
как, например, требование правосудия, веротерпимости, здравой
администрации, уничтожения откупов, отменения крепостного права и пр. Но те
писатели, которые брали более внутреннюю сторону жизни,
ограничивались очень тесным кругом и подмечали такие явления, которые далеко не
имели общенародного значения. Таково, например, изображение в
бесчисленном множестве повестей людей, ставших по развитию выше
окружающей их среды, но лишенных энергии, воли и погибающих в бездействии.
Повести эти имели значение, потому что ясно выражали собою негодность
среды, мешающей хорошей деятельности, и хотя смутно сознаваемое
требование энергического применения на деле начал, признаваемых нами за
истину в теории. Смотря по различию талантов, и повести этого рода
имели больше или меньше значения; но все они заключали в себе тот
недостаток, что попадали лишь в небольшую (сравнительно) часть общества
и не имели почти никакого отношения к большинству. Не говоря о массе
народа, даже в средних слоях нашего общества мы видим гораздо
больше людей, которым еще нужно приобретение и уяснение правильных
понятий, нежели таких, которые с приобретенными идеями не знают, куда
деваться. Поэтому значение указанных повестей и романов остается
весьма специальным и чувствуется более для кружка известного сорта,
нежели для большинства. Нельзя не сознаться, что дело Островского гораздо
плодотворнее: он захватил такие общие стремления и потребности,
которыми проникнуто все русское общество, которых голос слышится во всех
явлениях нашей жизни, которых удовлетворение составляет необходимое
условие нашего дальнейшего развития. Мы не станем теперь повторять
того, о чем говорили подробно в наших первых статьях; но кстати
заметим здесь странное недоумение, происшедшее относительно наших статей
у одного из критиков «Грозы» — г. Аполлона Григорьева 15. Нужно
заметить, что г. А. Григорьев один из восторженных почитателей таланта Ос-
Луч света в темном царстве
257
тровского; но — должно быть, от избытка восторга — ему никогда не
удается высказать с некоторой ясностью, за что же именно он ценит
Островского. Мы читали его статьи и никак не могли добиться толку. Между тем,
разбирая «Грозу», г. Григорьев посвящает нам несколько страничек и
обвиняет нас в том, что мы прицепили ярлычки к лицам комедий
Островского, разделили все их на два разряда: самодуров и забитых личностей, и в
развитии отношений между ними, обычных в купеческом быту, заключили
все дело нашего комика. Высказав это обвинение, г. Григорьев
восклицает, что нет, не в этом состоит особенность и заслуга Островского, а в
народности. Но в чем же состоит народность, г. Григорьев не объясняет,
и потому его реплика показалась нам очень забавною. Как будто мы не
признавали народности у Островского! Да мы именно с нее и начали, ею
продолжали и кончили. Мы искали, как и насколько произведения
Островского служат выражением народной жизни, народных стремлений: что это,
как не народность? Но мы не кричали про нее с восклицательными
знаками через каждые две строки, а постарались определить ее содержание,
чего г. Григорьеву не заблагорассудилось ни разу сделать. А если б он
это попробовал, то, может быть, пришел бы к тем же результатам,
которые осуждает у нас, и не стал бы попусту обвинять нас, будто мы
заслугу Островского заключаем в верном изображении семейных отношений
купцов, живущих по старине. Всякий, кто читал наши статьи, мог
видеть, что мы вовсе не купцов только имели в виду, указывая на
основные черты отношений, господствующих в нашем быте и так хорошо
воспроизведенных в комедиях Островского. Современные стремления русской
жизни, в самых обширных размерах, находят свое выражение в
Островском, как комике, с отрицательной стороны. Рисуя нам в яркой картине
ложные отношения, со всеми их последствиями, он чрез то самое служит
отголоском стремлений, требующих лучшего устройства. Произвол, с одной
стороны, и недостаток сознания прав своей личности с другой,— вот
основания, на которых держится все безобразие взаимных отношений,
развиваемых в большей части комедий Островского; требования права,
законности, уважения к человеку — вот что слышится каждому внимательному
читателю из глубины этого безобразия. Что же, разве вы станете
отрицать обширное значение этих требований в русской жизни? Разве вы не
сознаетесь, что подобный фон комедий соответствует состоянию русского
общества более, нежели какого бы то ни было другого в Европе?
Возьмите историю, вспомните свою жизнь, оглянитесь вокруг себя,— вы везде
найдете оправдание наших слов. Не место здесь пускаться нам в
исторические изыскания; довольно заметить, что наша история до новейших
времен не способствовала у нас развитию чувства законности (с чем и г.
Пирогов согласен; зри Положение о наказаниях в Киевском округе 16), не
создавала прочных гарантий для личности и давала обширное поле
произволу. Такого рода историческое развитие, разумеется, имело следствием
17 Н. А. Добролюбов
258
H. A. Добролюбов
упадок нравственности общественной: уважение к собственному
достоинству потерялось, вера в право, а следовательно и сознание долга —
ослабли, произвол попирал право, под произвол подтачивалась хитрость.
Некоторые писатели, лишенные чутья нормальных потребностей и сбитые
с толку искусственными комбинациями, признавая эти несомненные
факты нашей жизни, хотели их узаконить, прославить, как норму жизни,
а не как искажение естественных стремлений, произведенное
неблагоприятным историческим развитием. Так, например, произвол хотели
присвоить русскому человеку как особенное, естественное качество его природы —
под названием «широты натуры»; плутовство и хитрость тоже хотели
узаконить в русском народе под названием сметливости и лукавства.
Некоторые критики хотели даже в Островском видеть певца широких русских
натур; оттого-то и поднято было однажды такое беснование из-за Любима
Торцова, выше которого ничего не находили у нашего автора. Но
Островский, как человек с сильным талантом и, следовательно, с чутьем
истины, с инстинктивною наклонностью к естественным, здравым требованиям,
не мог поддаться искушению, и произвол, даже самый широкий, всегда
выходил у него сообразно действительности, произволом тяжелым,
безобразным, беззаконным,— и в сущности пьесы всегда слышался протест
против него. Он умел почувствовать, что такое значит подобная широта
натуры, и заклеймил, ошельмовал ее несколькими типами и названием
самодурства.
Но не он сочинил эти типы, так точно, как не он выдумал и слово
«самодур». То и другое взял он в самой жизни. Ясно, что жизнь, давшая
материалы для таких комических положений, в каких ставятся часто,
самодуры Островского, жизнь, давшая им и приличное название, не
поглощена уже вся их влиянием, а заключает в себе задатки более разумного,
законного, правильного порядка дел. И действительно, после каждой
пьесы Островского каждый чувствует внутри себя это сознание и,
оглядываясь кругом себя, замечает то же в других. Следя пристальнее за этой
мыслью, всматриваясь в нее дольше и глубже, замечаешь, что это
стремление к новому, более естественному устройству отношений заключает в
себе сущность всего, что мы называем прогрессом, составляет прямую
задачу нашего развития, поглощает всю работу новых поколении. Куда" вы
ни оглянетесь, везде вы видите пробуждение личности, представление ею
своих законных прав, протест против насилия и произвола большею час-
тию еще робкий, неопределенный, готовый спрятаться, но все-таки уже
дающий заметить свое существование. Возьмите хоть законодательную и
административную сторону, которая хотя в частных своих проявлениях
всегда имеет много случайного, но в общем своем характере все-таки
служит указателем положения народа. Особенно этот указатель верен тогда,
когда законодательные меры запечатлены характером льгот, уступок и
расширения прав. Меры обременительные, стесняющие народ в его правах.
Луч света в темном царстве
259
могут быть вызваны, вопреки требованию народной жизни, просто
действием произвола, сообразно выгодам привилегированного меньшинства,
которое пользуется стеснением других; но меры, которыми уменьшаются
привилегии и расширяются общие права, не могут иметь свое начало не в чем
ином, как в прямых и неотступных требованиях народной жизни,
неотразимо действующих на привилегированное меньшинство, даже вопреки его
личным, непосредственным выгодам. Взгляните же, что у нас делается
в этом отношении: крестьяне освобождаются, и сами помещики,
утверждавшие прежде, что еще рано давать свободу мужику, теперь
убеждаются и сознаются, что пора развязаться с этим вопросом, что он
действительно созрел в народном сознании... А что же иное лежит в основании
этого вопроса, как не уменьшение произвола и не возвышение прав
человеческой личности? То же самое и во всех других реформах и
улучшениях. В финансовых реформах, во всех этих комиссиях и комитетах,
рассуждавших о банках, о податях и пр., что видело общественное мнение,
чего от них надеялось, как не определения более правильной, отчетливой
системы финансового управления и, следовательно, введения законности
вместо всякого произвола? Что заставило предоставить некоторые права
гласности, которой прежде так боялись,— что, как не сознание силы того
общего протеста против бесправия и произвола, который в течение
многих лет сложился в общественном мнении и наконец не мог себя
сдерживать? Что сказалось в полицейских и административных
преобразованиях, в заботах о правосудии, в предположении гласного
судопроизводства, в уменьшении строгостей к раскольникам, в самом уничтожении
откупов?.. Мы не говорим о практическом значении всех этих мер, мы
только утверждаем, что самая попытка приступить к ним доказывает
сильное развитие той общей идеи, на которую мы указали: хотя бы все они
рушились или остались безуспешными, это бы могло показать только —
недостаточность или ложность средств, принятых для их исполнения, но
не могло бы свидетельствовать против потребностей, их вызвавших.
Существование этих требований так ясно, что даже в литературе нашей они
выразились немедленно, как только оказалась фактическая возможность
их проявления. Сказались они и в комедиях Островского, с полнотою и
силою, какую мы встречали у немногих авторов. Но не в одной только
степени силы достоинство комедий его: для нас важно и то, что он нашел
сущность общих требований жизни еще в то время, когда они были скрыты и
высказывались весьма немногими и весьма слабо. Первая его пьеса
появилась в 1847 году; известно, что с того времени до последних годов даже
лучшие наши авторы почти потеряли след естественных стремлений
народных и даже стали сомневаться в их существовании, а если иногда и
чувствовали их веяние, то очень слабо, неопределенно, только в каких-
нибудь частных случаях и, за немногими исключениями, почти никогда
не умели найти для них истинного и приличного выражения. Общее по-
17*
260
H. A. Добролюбов
ложение литературы отразилось, разумеется, отчасти и на Островском;
оно, может быть, во многом объясняет ту долю неопределенности
некоторых следующих его пьес, которая подала повод к таким нападкам на него
в начале пятидесятых годов. Но теперь, внимательно соображая
совокупность его произведений, мы находим, что чутье истинных потребностей и
стремлений русской жизни никогда не оставляло его; оно иногда и не
показывалось на первый взгляд, но всегда находилось в корне его
произведений. Зато — кто хотел беспристрастно доискаться коренного их
смысла, тот всегда мог найти, что дело в них представляется не с
поверхности, а с самого корня. Эта черта удерживает произведения Островского на
их высоте и теперь, когда уже все стараются выражать те же стремления,
которые мы находим в его пьесах. Чтобы не распространяться об этом,
заметим одно: требование права, уважение личности, протест против насилия
и произвола вы находите во множестве наших литературных произведений
последних лет; но в них большею частию дело не проведено жизненным,
практическим образом, почувствована отвлеченная, философская сторона
вопроса и из нее все выведено, указывается право, а оставляется без
внимания реальная возможность. У Островского не то: у него вы
находите не только нравственную, но и житейскую, экономическую сторону,
вопроса, а в этом-то и сущность дела. У него вы ясно видите, как
самодурство опирается на толстой мошне, которую называют «божьим
благословением», и как безответность людей перед ним определяется
-материальною от него зависимостью. Мало того, вы видите, как эта материальная
сторона во всех житейских отношениях господствует над отвлеченною и
как люди, лишенные материального обеспечения, мало ценят отвлеченные
права и даже теряют ясное сознание о них. В самом деле — сытый
человек может рассуждать хладнокровно и умно, следует ли ему есть такое-
то кушанье; но голодный рвется к пище, где ни завидит ее и какова бы
она ни была. Это явление, повторяющееся во всех сферах общественной
жизни, хорошо замечено и понято Островским, и его пьесы яснее всяких
рассуждений показывают внимательному читателю, как система бесправия
и грубого, мелочного эгоизма, водворенная самодурством, прививается и
к тем самым, которые от него страдают; как они, если мало-мальски
сохраняют в себе остатки энергии, стараются употребить ее на приобретение
возможности жить самостоятельно и уже не разбирают при этом ни
средств, ни прав. Мы слишком подробно развивали эту тему в прежних
статьях наших, чтобы опять к ней возвращаться; притом же мы,
припомнивши стороны таланта Островского, которые повторились в «Грозе», как
и в прежних его произведениях, должны все-таки сделать коротенький
обзор самой пьесы и показать, как мы ее понимаем.
По-настоящему, этого бы и не нужно; но критики, до сих пор
написанные на «Грозу», показывают нам, что наши замечания не будут
лишни.
Луч света в темном царстве
261
Уже и в прежних пьесах Островского мы замечали, что это не
комедии интриг и не комедии характеров собственно, а нечто новое, чему мы
дали бы название «пьес жизни», если бы это не было слишком обширно и
потому не совсем определенно. Мы хотим сказать, что у него на первом
плане является всегда общая, не зависящая ни от кого из действующих
лиц, обстановка жизни. Он не карает ни злодея, ни жертву; оба они
жалки вам, нередко оба смешны, но не на них непосредственно обращается
чувство, возбуждаемое в вас пьесою. Вы видите, что их положение
господствует над ними, и вы вините их только в том, что они не выказывают
достаточно энергии для того, чтобы выйти из этого положения. Сами
самодуры, против которых естественно должно возмущаться ваше чувство,
по внимательном рассмотрении, оказываются более достойны сожаления,
нежели вашей злости: они и добродетельны, и даже умны по-своему,
в пределах, предписанных им рутиною и поддерживаемых их положением;
но положение это таково, что в нем невозможно полное, здоровое
человеческое развитие. Мы видели это особенно в анализе характера Русакова.
Таким образом, борьба, требуемая теориею от драмы, совершается в
пьесах Островского не в монологах действующих лиц, а в фактах,
господствующих над ними. Часто сами персонажи комедии не имеют ясного
или вовсе никакого сознания о смысле своего положения и своей борьбы;
но зато борьба весьма отчетливо и сознательно совершается в душе
зрителя, который невольно возмущается против положения, порождающего
такие факты. И вот почему мы никак не решаемся считать ненужными и
лишними те лица пьес Островского, которые не участвуют прямо в
интриге. С нашей точки зрения, эти лица столько же необходимы для пьесы, как
и главные: они показывают нам ту обстановку, в которой совершается
действие, рисуют положение, которым определяется смысл деятельности
главных персонажей пьесы. Чтобы хорошо узнать свойства жизни
растения, надо изучать его на той почве, на которой оно растет; оторвавши
от почвы, вы будете иметь форму растения, но не узнаете вполне его
жизни. Точно так не узнаете вы жизни общества, если вы будете
рассматривать ее только в непосредственных отношениях нескольких лиц,
пришедших почему-нибудь в столкновение друг с другом: тут будет только
деловая, официальная сторона жизни, между тем как нам нужна будничная
ее обстановка. Посторонние, недеятельные участники жизненной драмы,
по-видимому занятые только своим делом каждый,— имеют часто одним
своим существованием такое влияние на ход дела, что его ничем и
отразить нельзя. Сколько горячих идей, сколько обширных планов, сколько
восторженных порывов рушится при одном взгляде на равнодушную,
прозаическую толпу, с презрительным индифферентизмом проходящую мимо
нас! Сколько чистых и добрых чувств замирает в нас из боязни, чтобы
не быть осмеянным и поруганным этой толпой! А с другой стороны,
и сколько преступлений, сколько порывов произвола и насилия останавли-
2R2
H. A Добролюбов
вается пред решением этой толпы, всегда как будто равнодушной и
податливой, но, в сущности, весьма неуступчивой в том, что раз ею
признано. Поэтому чрезвычайно важно для нас знать, каковы понятия этой
толпы о добре и зле, что у ней считается ^за истину и что за ложь.
Этим определяется наш взгляд на положение, в каком находятся главные
лица пьесы, а следовательно и степень нашего участия к ним.
В «Грозе» особенно видна необходимость так называемых «ненужных»
лиц: без них мы не можем понять лица героини и легко можем исказить
смысл всей пьесы, что и случилось с большею частью критиков. Может
быть, нам скажут, что все-таки автор виноват, если его так легко не
попять; но мы заметим на это, что автор пишет для публики, а публика,
если и не сразу овладевает вполне сущностью его пьес, то и не
искажает их смысла. Что же касается до того, что некоторые подробности могли
быть отделаны лучше,— мы за это не стоим. Без сомнения, могильщики
в «Гамлете» более кстати и ближе связаны с ходом действия, нежели,
например, полусумасшедшая барыня в «Грозе»; но мы ведь не то толкуем,
что наш автор — Шекспир, а только то, что его посторонние лица имеют
резон своего появления и оказываются даже необходимыми для полноты
пьесы, рассматриваемой как она есть, а не в смысле абсолютного
совершенства.
«Гроза», как вы знаете, представляет нам идиллию «темного царства»,
которое мало-помалу освещает нам Островский своим талантом' Люди,
которых вы здесь видите, живут в благословенных местах: город стоит на
берегу Волги, весь в зелени; с крутых берегов видны далекие
пространства, покрытые селеньями и нивами; летний благодатный день так и
манит на берег, на воздух, под открытое небо, под этот ветерок, освежительно
веющий с Волги... И жители, точно, гуляют иногда по бульвару над
рекой, хотя уж и пригляделись к красотам волжских видов; вечером сидят на
завалинках у ворот и занимаются благочестивыми разговорами; но
больше проводят время у себя дома, занимаются хозяйством, кушают, спят,—
спать ложатся очень рано, так что непривычному человеку трудно и
выдержать такую сонную ночь, какую они задают себе. Но что же им
делать, как не спать, когда они сыты? Их жизнь течет так ровно и мирно,
никакие интересы мира их не тревожат, потому что не доходят до них;
царства могут рушиться, новые страны открываться, лицо земли может
изменяться, как ему угодно, мир может начать новую жизнь на новых
началах,— обитатели городка Калинова будут себе существовать
по-прежнему в полнейшем неведении об остальном мире. Изредка забежит к ним
неопределенный слух, что Наполеон с двадесятью язык опять подымается
или что антихрист народился; но и это они принимают более как
курьезную штуку, вроде вести о том, что есть страны, где все люди с песьими
головами; покачают головой, выразят удивление к чудесам природы и
пойдут себе закусить... Смолоду еще показывают некоторую любознатель-
Луч света в темном царстве
263
ность, но пищи взять ей неоткуда: сведения заходят к ним, точно в
древней Руси времен Даниила Паломника, только от странниц, да и тех уж
нынче немного настоящих-то; приходится довольствоваться такими,
которые «сами, по немощи своей, далеко не ходили, а слыхать много
слыхали», как Феклуша в «Грозе». От них только и узнают жители Кали-
нова о том, что на свете делается; иначе они думали бы, что весь свет
таков же, как и их Калинов, и что иначе жить, чем они, совершенно
невозможно. Но и сведения, сообщаемые Феклушами, таковы, что не способны
внушить большого желания променять свою жизнь на иную. Феклуша
принадлежит к партии патриотической и в высшей степени консервативной;
ей хорошо среди благочестивых и наивных калиновцев: ее и почитают, и
угощают, и снабжают всем нужным; она пресерьезно может уверять, что
самые грешки ее происходят оттого, что она выше прочих смертных:
«простых людей, говорит, каждого один враг смущает, а к нам,
странным людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено, вот и надо
их всех побороть». И ей верят. Ясно, что простой инстинкт
самосохранения должен заставить ее не сказать хорошего слова о том, что в других
землях делается. И в самом деле, прислушайтесь к разговорам купечества,
мещанства, мелкого чиновничества в уездной глуши,— сколько
удивительных сведений о неверных и поганых царствах, сколько рассказов о тех
временах, когда людей жгли и мучили, когда разбойники города грабили,
и т. п.,— и как мало сведений о европейской жизни, о лучшем устройстве
быта! Даже в так называемом образованном обществе, в объевропеивших-
ся людях, на множество энтузиастов, восхищавшихся новыми парижскими
улицами и мабилем, разве вы не найдете почти такое же множество
солидных ценителей, которые запугивают своих слушателей тем, что нигде,
кроме Австрии, во всей Европе порядка нет и никакой управы найти
нельзя!.. Все это и ведет к тому, что Феклуша высказывает так
положительно: «Бла-алепие, милая, бла-алепие, красота дивная! Да что уж и
говорить,— в обетованной земле живете!» Оно, несомненно, так и выходит,
как сообразить, что в других-то землях делается. Послушайте-ко
Феклу шу:
Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных,
а салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий,
а в другой — салтан Махнут персидский; и суд творят они, милая девушка, над
всеми людьми, и что ни судят они — все неправильно. И не могут они, милая девушка,
ни одного дела рассудить праведно,— такой уж им предел положен. У нас закон
праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по
ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так
им, милая девушка, п в просьбах пишут: «Суди меня, судья неправедный!» А то
есть еще земля, где все люди с песьими головами.
«За что же так с песьими?» — спрашивает Глаша. «За неверность»,—
коротко отвечает Феклуша, считая всякие дальнейшие объяснения излиш-
264
H. A. Добролюбов
ними. Но Глаша и тому рада: в томительном однообразии ее жизни и
мысли ей приятно услышать сколько-нибудь новое и оригинальное. В ее
душе смутно пробуждается уже >мысль, «что вот, однако же, живут люди
и не так, как мы; оно, конечно, у нас лучше, а впрочем, кто их
знает! Ведь и у нас нехорошо; а про те земли-то мы еще и не знаем
хорошенько; кое-что только услышишь от добрых людей»... И желание знать
побольше да поосновательнее закрадывается в душу. Это для нас ясно из
слов Глаши по уходе странницы: «Вот еще какие земли есть! Каких-то,
каких-то чудес на свете нет! А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще
хорошо, что добрые люди есть; нет, нет, да и услышишь, что на белом
свету делается; а то бы так дураками и померли». Как видите,
неправедность и неверность чужих земель не возбуждает в Глаше ужаса и
негодования; ее занимают только новые ^сведения, которые представляются ей
чем-то загадочным,— «чудесами», как она выражается. Вы видите, что
она не довольствуется объяснениями Феклуши, которые возбуждают в ней
только сожаление о своем невежестве. Она, очевидно, на полдороге к
скептицизму. Но где ж ей сохранить свое недоверие, когда оно беспрестанна
подрывается рассказами, подобными Феклушиным? Как ей дойти до
правильных понятий, даже просто до разумных вопросов, когда ее
любознательность заперта в таком круге, который очерчен около нее в городе Ка-
линове? Да еще мало того, как бы она осмелилась не верить да
допытываться, когда старшие и лучшие люди так положительно успокоиваю'тся в
убеждении, что принятые ими понятия и образ жизни — наилучшие в мире и
что все новое происходит от нечистой .силы? Страшна и тяжела для
каждого новичка попытка идти наперекор требованиям и убеждениям этой
темной массы, ужасной в своей наивности и искренности. Ведь она
проклянет нас, будет бегать, как зачумленных,— не по злобе, не по расчетам,
а по глубокому убеждению в том, что мы сродни антихристу; хорошо ещег
если только полоумными сочтет и будет подсмеиваться... Она ищет
знания, любит рассуждать, но только в известных пределах, предписанных
ей основными понятиями, в которых путается рассудок. Вы можете
сообщить калиновским жителям некоторые географические знания; но не
касайтесь того, что земля на трех китах стоит и что в Иерусалиме есть
пуп земли,— этого они вам не уступят, хотя о пупе земли имеют такое
же ясное понятие, как о Литве в «Грозе». «Это, братец ты мой, что
такое?» — спрашивает один мирный гражданин у другого, показывая на
картину. «А это литовское разорение,—отвечает тот.—Битва! видишь! Как
наши с Литвой бились».— «Что ж это такое Литва?» — «Так она Литва
и есть»,— отвечает объясняющий. «А говорят, братец ты мой, она на нас
с неба упала»,— продолжает первый; но собеседнику его мало до того
нужды: «Ну, с неба, так с неба»,—отвечает он... Тут женщина вмешивается
в разговор: «Толкуй еще! Все знают, что с неба; и где был какой бой с
ней, там для памяти курганы насыпаны».—«А что, братец ты мой! Ведь
Луч света в темном царстве
265 ■
это так точно!» — восклицает вопрошатель, вполне удовлетворенный.
И после этого спросите его, что он думает о Литве! Подобный исход
имеют все вопросы, задаваемые здесь людям естественной любознательностью.
И это вовсе не оттого, чтобы люди эти были глупее и бестолковее
многих других, которых мы встречаем в академиях и ученых обществах. Нет,
все дело в том, что они своим положением, своею жизнью под гнетом
произвола, все приучены уже видеть безотчетность и бессмысленность, и
потому находят неловким и даже дерзким настойчиво доискиваться
разумных оснований в чем бы то ни было. Задать вопрос,— на это их еще
станет; но если ответ будет таков, что «пушка сама по себе, а мортира
сама по себе»,— то они уже не смеют пытать дальше и смиренно
довольствуются данным объяснением. Секрет подобного равнодушия к логике
заключается прежде всего в отсутствии всякой логичности в жизненных
отношениях. Ключ этой тайны дает нам, например, следующая реплика
Дикого в «Грозе». Кулигин, в ответ на его грубости, говорит: «За что,
сударь, Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите?» Дикой
отвечает вот что:
Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважнее тебя никому отчета не даю.
Хочу так думать о тебе, так и думаю! Для других ты честный человек, а я думаю,
что ты разбойник,— вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай!
Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты судиться, что ли, со мною будешь? Так
ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю.
Какое теоретическое рассуждение может устоять там, где жизнь
основана на таких началах! Отсутствие всякого закона, всякой логики — вот
закон и логика этой жизни. Это не анархия, но нечто еще гораздо
худшее (хотя воображение образованного европейца и не умеет представить
себе нечто хуже анархии). В анархии так уж и нет никакого начала:
всяк молодец на свой образец, никто никому не указ, всякий на
приказание другого может отвечать, что я, мол, тебя знать не хочу, и таким
образом все озорничают и ни в чем согласиться не могут. Положение
общества, подверженного такой анархии (если только она возможна),
действительно ужасно. Но вообразите, что это самое анархическое
общество разделилось на две части: одна оставила за собою право
озорничать и не знать никакого закона, а другая принуждена признавать
законом всякую претензию первой и безропотно сносить все ее капризы, все
безобразия... Не правда ли, что это было бы еще ужаснее? Анархия
осталась бы та же, потому что в обществе все-таки разумных начал не было
бы, озорничества продолжались бы по-прежнему; но половина людей
принуждена была бы страдать от них и постоянно питать их собою, своим
смирением и угодливостью. Ясно, что при таких условиях озорничество
и беззаконие приняли бы такие размеры, каких никогда не могли бы они
иметь при всеобщей анархии. В самом деле, что ни говорите, а человек
"266
H. A. Добролюбов
один, предоставленный самому себе, не много надурит в обществе и очень
скоро почувствует необходимость согласиться и сговориться с другими в
видах общей пользы. Но никогда этой необходимости не почувствует
человек, если он во множестве подобных себе находит обширное поле для
упражнения своих капризов и если в их зависимом, униженном
положении видит постоянное подкрепление своего самодурства. Таким образом,
имея общим с анархиею отсутствие всякого.закона и права,
обязательного для всех, самодурство, в сущности, несравненно ужаснее анархии,
потому, что дает озорничеству больше средств и простора и заставляет
страдать большее число людей,— и опаснее ее еще в том отношении, что
может держаться гораздо дольше. Анархия (повторим, если только она
возможна вообще) можетчслужить только переходным моментом, который сам
себя с каждым шагом должен образумливать и приводить к чему-нибудь
более здравому; самодурство, напротив, стремится узаконить себя и
установить как незыблемую систему. Оттого оно, вместе с таким широким
понятием о своей собственной свободе, старается, однако же, принять все
возможные меры, чтобы оставить эту свободу навсегда только за собой,
чтобы оградить себя от всяких дерзких попыток. Для достижения этой цели
оно признает как будто некоторые высшие требования и хотя само против
них тоже проступается, но пред другими стоит за них твердо. Несколько
минут спустя после реплики, в которой Дикой так решительно отвергал,
в пользу собственного каприза, все нравственные и логические основания
для суждения о человеке,—этот же самый Дикой напускается на Кулиги-
на, когда тот, для объяснения грозы, выговорил слово электричество. «Ну,
как же ты не разбойник,— кричит он,— гроза-то нам в наказание
посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-
то, прости господи, обороняться. Что ты татарин, что ли? Татарин ты?
А, говори: татарин?» И уж тут Кулигин не смеет ответить ему: «Хочу так
думать, и думаю, и никто мне не указ». Куда тебе,— он и объяснений-то
своих представить не может: их принимают с ругательствами, да и
говорить-то не дают. Поневоле тут резонировать перестанешь, когда на
всякий резон кулак отвечает, и всегда в конце концов кулак остается
правым...
Но — чудное дело! — в своем непререкаемом, безответственном, темном
владычестве, давая полную свободу своим прихотям, ставя ни во что
всякие законы и логику, самодуры русской жизни начинают, однако же,
ощущать какое-то недовольство и страх, сами не зная перед чем и почему.
Все, кажется, по-прежнему, все хорошо: Дикой ругает, кого хочет; когда
ему говорят: «Как это на тебя никто в целом доме угодить не может!» —
он самодовольно отвечает: «Вот поди ж ты!» Кабанова держит
по-прежнему в страхе своих детей, заставляет невестку соблюдать все этикеты
старины, ест ее, как ржа железо, считает себя вполне непогрешимой и
ублажается разными Феклушами. А все как-то неспокойно, нехорошо им.
Луч света в темном царстве
267
Помимо их, не спросясь их, выросла другая жизнь, с другими началами,
и хотя далеко она, еще и не видна хорошенько, но уже дает себя
предчувствовать и посылает нехорошие видения темному произволу самодуров.
Они ожесточенно ищут своего врага, готовы напуститься на самого
невинного, на какого-нибудь Кулигина; но нет ни врага, ни виновного,
которого могли бы они уничтожить: закон времени, закон природы и
истории берет свое, и тяжело дышат старые Кабановы, чувствуя,
что есть сила выше их, которой они одолеть не могут, к которой
даже и подступить не знают как. Они не хотят уступать (да никто
покамест и не требует от них уступок), но съеживаются,
сокращаются; прежде они хотели утвердить свою систему жизни
навеки нерушимую и теперь тоже стараются проповедовать; но уже
надежда изменяет им, и они, в сущности, хлопочут только о том, как бы
на их век стало... Кабанова рассуждает о том, что «последние времена
приходят», и когда Феклуша рассказывает ей о разных ужасах настоящего
времени — о железных дорогах и т. п.,— она пророчески замечает: «И
хуже, милая, будет».— «Нам бы только не дожить до этого»,— со вздохом
отвечает Феклуша. «Может и доживем»,— фаталистически говорит опять
Кабанова, обнаруживая свои сомнения и неуверенность. А отчего она
тревожится? Народ по железным дорогам ездит,— да ей-то что от этого?
А вот видите ли: она «хоть ты ее всю золотом осыпь», не поедет по
дьявольскому изобретению; а народ ездит все больше и больше, не обращая
внимания на ее проклятия; разве это не грустно, разве не служит
свидетельством ее бессилия? Об электричестве проведали люди,— кажется,
что тут обидного для Диких и Кабановых? Но, видите ли, Дикой говорит,
что «гроза в наказанье нам посылается, чтоб мы чувствовали», а Кулигин
не чувствует или чувствует совсем не то и толкует об электричестве.
Разве это не своеволие, не пренебрежение власти и значения Дикого? Не
хотят верить тому, чему он верит,— значит, и ему не верят, считают себя
умнее его; рассудите, к чему же это поведет? Недаром Кабанова
замечает о Кулигине: «Вот времена-то пришли, какие учители появились! Коли
старик так рассуждает, чего уж от молодых-то требовать!» И Кабанова
очень серьезно огорчается будущностью старых порядков, с которыми она
ьек изжила. Она предвидит конец их, старается поддержать их значение,
но уже чувствует, что нет к ним прежнего почтения, что их сохраняют
уже неохотно, только поневоле и. что при первой возможности пх
бросят. Она уже и сама как-то потеряла часть своего рыцарского жара; уже
не с прежней энергией заботится она о соблюдении старых обычаев, во
многих случаях она уж махнула рукой, поникла пред невозможностью
остановить поток и только с отчаянием смотрит, как он затопляет мало-
помалу пестрые цветники ее прихотливых суеверий. Точно последние
язычники пред силою христианства, так поникают и стираются
порождения самодуров, застигнутые ходом новой жизни. Даже решимости высту-
268
H. A. Добролюбов
пить на прямую открытую борьбу в них нет; они только стараются как-
нибудь обмануть время да разливаются в бесплодных жалобах на новое
движение. Жалобы эти всегда слышались от стариков, потому что всегда
новые поколения вносили в жизнь что-нибудь новое, противное прежним
порядкам; но теперь жалобы самодуров принимают какой-то особенно
мрачный, похоранный тон. Кабанова только тем и утешается, что еще
как-нибудь, с ее помощью, простоят старые порядки до ее смерти;
а там,—пусть будет, что угодно,— она уж не увидит. Провожая сына в
дорогу, она замечает, что все делается не так, как нужно по ее: сын ей и
г. ноги не кланяется— надо этого именно потребовать от него, а сам не
догадался; и жене своей он не «приказывает», как жить без него, да и
не умеет приказать, и при прощанье не требует от нее земного поклона;
и невестка, проводивши мужа, не воет и не лежит на крыльце, чтобы
показать свою любовь. По возможности, Кабанова старается водворить
порядок, но уже чувствует, что невозможно вести дело совершенно по
старине; например, относительно вытья на крыльце она уже только замечает
невестке в виде совета, но не решается настоятельно требовать... Зато
проводы сына внушают ей такие грустные размышления:
Молодость-то что значит! Смешно смотреть-то даже на них! Кабы не свои,
насмеялась бы досыта. Ничего-то не знают, никакого порядка.'Проститься-то путем не
умеют. Хорошо еще, у кого в доме старшие есть,— ими дом-то и держится, пока живы.
А ведь тоже, глупые, на свою волю хотят: а выйдут на волю-то, так и путаются на
позор, на смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да
не смеяться-то нельзя; гостей позовут — посадить не умеют да еще, гляди,
позабудут кого из родных. Смех, да и только! Так-то вот старина-то и выводится. В
другой дом-и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, так плюнешь да вон скорее. Что
будет, как старики-то перемрут, как будет свет стоять, уж я и не знаю. Ну, да ум
хоть то хорошо, что не увижу ничего.
Пока старики перемрут, до тех пор молодые успеют состариться,—
на этот счет старуха могла бы и не беспокоиться. Но ей, видите ли,
важно не то, собственно, чтобы всегда было кому смотреть за порядком
и научать неопытных; ей нужно, чтобы всегда нерушимо сохранялись
именно те порядки, остались неприкосновенными именно те понятия,
которые она признает хорошими. В узости и грубости своего эгоизма
она не может возвыситься даже до того, чтобы помириться на
торжестве принципа, хотя бы и с пожертвованием существующих форм; да и
нельзя от нее ожидать этого, так как у нее собственно нет никакого
принципа, нет никакого общего убеждения, которое бы управляло ее
жизнью. Она в этом случае гораздо ниже того сорта людей, которых
принято называть просвещенными консерваторами. Те расширили
несколько свой эгоизм, сливши с ним требование порядка общего, так что для
сохранения порядка они способны даже жертвовать некоторыми
личными вкусами и выгодами. На месте Кабановой они бы, например, не ста-
Луч света в темном царстве
269
ли предъявлять уродливых и унизительных требований земных поклонов
и оскорбительных «наказов» от мужа жене, а озаботились бы только
о сохранении общей идеи,— что жена должна бояться своего мужа и
покорствовать свекрови. Невестка не испытывала бы таких тяжелых
сцен, хотя и была бы точно так же в полной зависимости от
старухи. И результат был бы тот, что как бы ни плохо было молодой
женщине, но терпение ее продолжалось бы несравненно дольше, будучи
испытываемо медленным и ровным гнетом, нежели когда оно
раздражалось резкими и жестокими выходками. Отсюда ясно, разумеется,
что для самой Кабановой и для той старины, которую она защищает,
гораздо выгоднее было бы отказаться от некоторых пустых форм и
сделать частные уступки, чтобы удержать сущность дела. Но порода
Кабановых не понимает этого: они не дошли даже до того, чтобы
представлять или защищать какой-нибудь принцип вне себя,— они сами
принцип, и потому все, касающееся их, они признают абсолютно
важным. Им нужно не только, чтоб их уважали, но чтоб уважение это
выражалось именно в известных формах: вот еще на какой степени
стоят они! Оттого, разумеется, внешний вид всего, на что простирается
их влияние, более сохраняет в себе старины и кажется более
неподвижным, чем там, где люди, отказавшись от самодурства, стараются
уже только о сохранении супщости своих интересов и значения; но в
самом-то деле внутреннее значение самодуров гораздо ближе к своему
концу, нежели влияние людей, умеющих поддерживать себя и свой
принцип внешними уступками. Оттого-то так и печальна Кабанова,
оттого-то так и бешен Дикой: они до последнего момента не хотели
укоротить своих широких замашек и теперь находятся в положении
богатого купца накануне банкротства. Все у него по-прежнему, и
праздник он задает сегодня, и мильонный оборот порешил поутру, и
кредит еще не подорван; но уже ходят какие-то темные слухи, что у него
нет наличного капитала, что его аферы ненадежны, и завтра несколько
кредиторов намерены предъявить свои требования; денег нет, отсрочки
не будет, и все здание шарлатанского призрака богатства будет
завтра опрокинуто.— Дело плохо... Разумеется, в подобных случаях купец
устремляет всю свою заботу на то, чтобы надуть своих кредиторов и
заставить их верить в его богатство: так точно Кабановы и Дикие
хлопочут теперь о том, чтобы только продолжилась вера в их силу.
Поправить свои дела они уж и не рассчитывают; но они знают, что их
своевольство еще будет иметь довольно простора до тех пор, пока все
будут робеть перед ними; и вот почему они так упорны, так
высокомерны, так грозны даже в последние минуты, которых уже немного
осталось им, как они сами чувствуют. Чем менее чувствуют они
действительной силы, чем сильнее поражает их влияние свободного,
здравого смысла, доказывающее им, что они лишены всякой разумной опоры,
270
H. A. Добролюбов
тем наглее и безумнее отрицают они всякие требования разума, ставя
себя и свой произвол на их место. Наивность, с которой Дикой
говорит Кулигину: «Хочу считать тебя мошенником, так и считаю; и дела
мне нет до того, что ты честный человек, и отчета никому не даю,
почему так думаю»,— эта наивность не могла бы высказаться во всей
своей самодурной нелепости, если бы Кулигин не вызвал ее скромным
запросом: «Да за что же вы обижаете честного человека?..» Дикой
хочет, видите, с цервого же раза оборвать всякую попытку требовать от
него отчета, хочет показать, что он выше не только отчетности, но и
обыкновенной логики человеческой. Ему кажется, что если он признает
над собою законы здравого смысла, общего всем людям, то его
важность сильно пострадает от этого. И ведь в большей части случаев
так действительно и выходит,— потому что его претензии бывают
противны здравому смыслу. Отсюда и развивается в нем вечное
недовольство и раздражительность. Он сам объясняет свое положение, когда
говорит о том, как ему тяжело деньги выдавать. «Что ты мне
прикажешь делать, когда у меня сердце такое! Ведь уж знаю, что надо
отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, и я тебе должен
отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдать — отдам,
а обругаю. Потому только заикнись мне о деньгах, у меня всю нутрен-
ную разжигать станет; всю нутренную разжигает, да и только...
Ну, и в те поры ни за что обругаю человека». Отдача денег, как
факт материальный и наглядный, даже в сознании самого Дикого
пробуждает некоторое размышление: он сознает, как он нелеп, и сваливает
вину на то, «что сердце у него такое»! В других случаях он даже
и не сознает хорошенько своей нелепости; но по сущности своего
характера непременно должен при всяком торжестве здравого смысла
чувствовать такое же раздражение, как и тогда, когда приходится
необходимость выдавать деньги. Ему тяжело расплачиваться вот почему:
по естественному эгоизму он желает, чтобы ему было хорошо; все
окружающее его убеждает, что это хорошее достается деньгами; отсюда
прямая привязанность к деньгам. Но тут его развитие останавливается,
эгоизм' его остается в пределах отдельной личности и знать не хочет
ее отношений к обществу, к своим ближним. Ему надо побольше денег,—
это он знает, и потому желал бы их только получать, а не отдавать.
Когда же, по естественному ходу дел, доходит до отдачи, то он
сердится и ругается: он принимает это как несчастье, наказание, вроде
пожара, наводнения, штрафа, а не как должную, законную расплату
за то, что для него делают другие. Так и во всем: по желанию себе
добра, он хочет простора, независимости; но знать не хочет закона,
определяющего приобретение и пользование всякими правами в обществе.
Он только хочет больше, как можно больше прав для себя; когда же
нужно признать их и за другими, он считает это посягательством на
Луч света в темном царстве
271
его личное достоинство, и сердится, и старается всячески оттянуть
дело и воспрепятствовать ему. Даже когда он и знает, что уж
непременно надо уступить и уступит потом, а все-таки прежде постарается
напакостить. «Я отдать — отдам, а обругаю!» И надо полагать, что чем
значительнее выдача денег и чем настоятельнее необходимость ее, тем
сильнее ругается Дикой... Из этого следует, что, во-первых,
ругательство и все бешенство его, хотя и неприятны, но не особенно страшны,
и кто, убоявшись их, отступился бы от денег и подумал, что их уж
и получить нельзя, тот поступил бы очень глупо; во-вторых, что
напрасно было бы надеяться на исправление Дикого посредством
каких-нибудь вразумлений; привычка дурить уж в нем так сильна, что он
подчиняется ей даже вопреки голосу собственного здравого смысла.
Ясно, что его никакие разумные убеждения не остановят до тех пор,
пока с ними не соединяется осязательная для него, внешняя сила:
Кулигина он ругает, не внимая никаким резонам; а когда его самого
однажды на перевозе, на Волге, гусар обругал, так он с гусаром не
посмел связаться, а опять-таки выместил свою обиду дома: две недели
после этого все прятались от него по чердакам да по чуланам...
Все подобные отношения дают вам чувствовать, что положение
Диких, Кабановых и всех подобных им самодуров далеко уже не так
спокойно и твердо, как было некогда, в блаженные времена
патриархальных нравов. Тогда, если верить сказаниям старых людей, Дикой
мог держаться в своей высокомерной прихотливости не силою, а
всеобщим согласием. Он дурил, не думая встретить противодействия,
и не встречал его: все окружающее было проникнуто одной мыслью,
одним желанием — угодить ему; никто не представлял другой цели
своего существования, кроме исполнения его прихотей. Чем больше
сумасбродствовал какой-нибудь дармоед, чем наглее попирал он права
человечества, тем довольнее были те, которые своим трудом кормили
его и которых он делал жертвами своих фантазий. Благоговейные
рассказы старых лакеев о том, как их вельможные бары травили мелких
помещиков, надругались над чужими женами и невинными девушками,
секли на конюшне присланных к ним чиновников, и т. п.,— рассказы
военных историков о величии какого-нибудь Наполеона, бесстрашно
жертвовавшего сотнями тысяч людей для забавы своего гения,
воспоминания галантных стариков о каком-нибудь Дон-Жуане их времени,
который «никому спуску не давал» и умел опозорить всякую девушку
и перессорить всякое семейство,— все подобные рассказы доказывают,
что еще и не очень далеко от нас это патриархальное время. Но, к
великому огорчению самодурных дармоедов,— оно быстро от нас удаляется,
и теперь /положение Диких и Кабановых далеко не так приятно: они
должны заботиться о том, чтобы укрепить и оградить себя, потому что
отвеюду возникают требования, враждебные их произволу и грозящие
272
H. А. Добролюбов
ям борьбою с пробуждающимся здравым смыслом огромного большинства
человечества.— Отсюда возникает постоянная подозрительность,
щепетильность и придирчивость самодуров: сознавая внутренно, что их не
за что уважать, но не признаваясь в этом даже самим себе, они
обнаруживают недостаток уверенности в себе мелочностью своих
требований и постоянными, кстати и некстати, напоминаниями и
внушениями о том, что их должно уважать. Эта черта чрезвычайно выразительно
проявляется в «Грозе», в сцене Кабановой с детьми, когда она, в
ответ на покорное замечание сына: «Могу ли я, маменька, вас
ослушаться», возражает: «Не очень-то нынче старших-то уважают!» — и затем
начинает пилить сына и невестку, так что душу вытягивает у
постороннего зрителя.
Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.
Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да
своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей-то!
Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей переносят.
К а б а н о в. Я, маменька...
Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости,
скажет, так, я думаю, можно бы перенести! А,— как ты думаешь?
К а б а н о в. Да когда же я, маменька, не переносил от вас?
Кабанова. Мать стара, глупа; ну а вы, молодые люди, умные, не должны
с нас, дураков, и взыскивать.
Кабанов (вздыхая — в сторону). Ах ты господи! (Матери.) Да смеем ли мы,
маменька, подумать!
Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и
бранят-то, все думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут
детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со свету
сживает... А, сохрани господп, каким-нибудь словом снохе не угодить,— ну, и пошел
разговор, что свекровь заела совсем.
Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас?
Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я
слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила.
И после этого сознания, старуха все-таки продолжает на целых
двух страницах пилить сына. Она не имеет на это никаких резонов,
но у ней сердце неспокойно: сердце у нее вещун, оно дает ей
чувствовать, что что-то неладно, что внутренняя, живая связь между ею
и младшими членами семьи давно рушилась и теперь они только
механически связаны с нею и рады были бы всякому случаю развязаться.
Мы очень долго останавливались на господствующих лицах «Грозы»,
потому что, по нашему мнению, история, разыгравшаяся с Катериною,
решительно зависит от того положения, какое неизбежно выпадает на
ее долю между этими лицами, в том быте, который установился под
их влиянием. «Гроза» есть, без сомнения, самое решительное
произведение Островского; взаимные отношения самодурства и безгласности
.доведены в ней до самых трагических последствий; и при всем том боль-
Луч света в темном царстве
272
шая часть читавших и видевших эту пьесу соглашается, что она
производит впечатление менее тяжкое и грустное, нежели другие пьесы
Островского (не говоря, разумеется, об его этюдах чисто комического
характера). В «Грозе» есть даже что-то освежающее и ободряющее,
Это «что-то» и есть, по нашему мнению, фон пьесы, указанный нами
и обнаруживающий шаткость и близкий конец самодурства. Затем
самый характер Катерины, рисующийся на этом фоне, тоже веет на нас
новою жизнью, которая открывается нам в самой ее гибели.
Дело в том, что характер Катерины, как он исполнен в «Грозе»,
составляет шаг вперед не только в драматической деятельности
Островского, но и во всей нашей литературе. Он соответствует новой фазе
нашей народной жизни, он давно требовал своего осуществления в
литературе, около него вертелись наши лучшие писатели; но они умели
только понять его надобность и не могли уразуметь и почувствовать
его сущности; это сумел сделать Островский. Ни одна из критик на
«Грозу» не хотела или не умела представить надлежащей оценки этого
характера; поэтому мы решаемся еще продлить нашу статью, чтобы
с некоторой обстоятельностью изложить, как мы понимаем характер
Катерины и почему создание его считаем так важным для нашей ли
тературы.
Русская жизнь дошла наконец до того, что добродетельные и
почтенные, но слабые и безличные существа не удовлетворяют
общественного сознания и признаются никуда не годными. Почувствовалась
неотлагаемая потребность в людях, хотя бы и менее прекрасных, но
более деятельных и энергичных. Иначе и невозможно: как скоро сознание
правды и права, здравый смысл проснулись в людях, они непременно
требуют не только отвлеченного с ними согласия (которым так
блистали всегда добродетельные герои прежнего времени), но и внесение из
в жизнь, в деятельность. Но чтобы внести их в жизнь, надо побороть
много препятствий, подставляемых Дикими, Кабановыми и т. п.; для
преодоления препятствий нужны характеры предприимчивые,
решительные, настойчивые. Нужно, чтобы в них воплотилось, с ними слилось
то общее требование правды и права, которое, наконец, прорывается
в людях сквозь все преграды, поставленные Дикими-самодурами. Теперь
большая задача представлялась в том, как же должен образоваться в
проявиться характер, требуемый у нас новым поворотом общественной
жизни. Задачу эту пытались разрешать наши писатели, но всегда
более или менее неудачно. Нам кажется, что все их неудачи
происходили оттого, что они просто логическим процессом доходили до
убеждения, что такого характера ищет русская жизнь, и затем кроили его
сообразно с своими понятиями о требованиях доблести вообще и
русской в особенности. Таким образом и явился, например, Калинович,
чуть не таскающий купца за бороду, чтоб тот пожертвовал десять
,18 Н. А. Добролюбов
274
H. A. Добролюбов
тысяч на пользу общества, и истязающий в тюрьме старого князя,
на любовнице которого женился, чтоб составить себе карьеру. Так явился
и Штольц, отлично управляющий именьями и умеющий живо
уничтожать фальшивые векселя при помощи благодетельного начальства.
Явился Инсаров, бросающий немца в воду, не соглашающийся жить
даром в гостях на даче у приятеля и даже решающийся жениться на
любимой девушке!!. Явилась и княжна Зинаида, нечто среднее между
Печориным и Ноздревым в юбке 17... Всё это были претензии на
сильные, цельные характеры. Но верх их представлял в прошлом году
Ананий Яковлев 18, по поводу которого московский господин Аполлон
Майков напечатал такую удивительную статейку в
«Санкт-Петербургских ведомостях», что я не постигаю, как Кузьма Прутков до сих пор
не составил из нее новой серии афоризмов. Вам известно, может быть,
что Ананий Яковлев, известясь о младенце, которого в его отсутствие
прижила жена его с помещиком, воспаляется гневом и, весьма
почтительно объясняясь с помещиком, грубит, однако же, бурмистру,
колотит свою жену и, наконец, разъярившись донельзя, хватает младенца
об угол головой, после чего бежит в лес, но, проголодавшись, предает
себя в руки правосудия. Лицо, очевидно, сильное, хотя более в
физическом, нежели в нравственном и литературном смысле. Но не эта сила
рвется наружу из тайников русской жизни, и не таково должно быть
ее проявление. Оттого-то мы вовсе не понимаем, каким образом можно
«Горькую судьбину» возвышать над уровнем бесчисленного множества
повестей, комедий и драм, обличающих крепостное право, тупость
чиновничества и грубость русского мужика. Если вы даете ее нам как
пьесу без особенных претензий, просто мелодраматический случай,
вроде жестоких произведений Сю,— то мы ничего не говорим и останемся
даже довольны: все-таки это лучше, нежели, например умильные
представления г. Н. Львова и графа Соллогуба, поражающие вас полным
искажением понятий о долге и чести19. Но если вы претендуете на
какое-то более высокое и общее значение этой пьесы, то мы
решительно не видим никакой возможности согласиться с вами. Ананий
Яковлев, взятый не как малодушное исключение, а как тип,
представляется нам клеветою на русскую натуру и русскую жизнь, которая так
же мало способна развивать характеры, подобные Ананию, как и
помещиков, подобных Чеглову. Одно из двух: если Ананий, точно, сильная
еатура, как его и хочет представить автор,— тогда он гнев свой
должен обратить прямо на причину своего несчастия, либо совсем
преодолеть себя, по соображению, что тут никто не виноват; такие развязки
постоянно мы и видим в русской жизни, когда сильные характеры
сталкиваются с враждебными обстоятельствами. Если же он просто
малодушный и бестолковый озорник, как выходит по сущности дела,
то нужно признаться, что положение, взятое для него в пьесе, вовсе
Луч света в темном царстве
275
II. Г. Чернышевский.
Черновой реестр статей и рецензий,
обнаруженных в архиве Добролюбова после смерти его (1861 г.).
нейдет к этому типу, да и развито совсем не так, чтобы ярко
обозначить его существенные черты. Впрочем,— бог с ней, с этой пьесой:
она уже забыта теперь, как забыты князь Луповицкий20 и другие
благонамеренные, но фальшивые произведения, имевшие претензию на
представление характеристических народных типов. Мы остановились на
минуту пред нею потому только, что многие принимали Анания за
чисто русский тип. А нам, напротив, показалось, что в нем просто
дается нам утрировка того, что у некоторых писателей называется
«широтою русской натуры». Автор «Горькой судьбины», по нашему
мнению, ненамеренно достигает результата, подобного тому, какой дости-
18*
276
H. A. Добролюбов
гался комедиями, писанными по повелению Петра Великого против
раскольников. Известно, что в тех комедиях раскольник всегда
выставлялся каким-то диким и бессмысленным чудовищем, и таким образом
комедия говорила: «Смотрите, вот они каковы; можно ли доверяться
их учению и соглашаться на их требования?» Так точно и «Горькая
судьбина», рисуя нам Анания Яковлева, говорит: «Вот каков русский
человек, когда он почувствует немножко свое личное достоинство и
вследствие того расходится!» И критики, признающие за «Горькой
судьбиной» общее значение и видящие в Анании тип, делаются
соучастниками этой клеветы, конечно ненамеренной со стороны автора.
Не так понят и выражен русский сильный характер в «Грозе».
Он прежде всего поражает нас своею противоположностью всяким
самодурным началам. Не с инстинктом буйства и разрушения, но и не
с практической ловкостью улаживать для высоких целей свои
собственные делишки, не с бессмысленным, трескучим пафосом, но и не с
дипломатическим, педантским расчетом является он перед нами. Нет, он
сосредоточенно-решителен, неуклонно верен чутью естественной
правды, исполнен веры в новые идеалы и самоотвержен в том смысле, что
ему лучше гибель, нежели жизнь при' тех началах, которые ему
противны. Он водится не отвлеченными принципами, не практическими
соображениями, не мгновенным пафосом, а просто натурою, всем
существом своим. В этой цельности и гармонии характера заключается его
сила и существенная необходимость его в то время, когда старые, дикие
отношения, потеряв Есякую внутреннюю силу, продолжают держаться
внешнею механическою связью. Человек, только логически понимающий
нелепость самодурства Диких и Кабановых, ничего не сделает против
них уже потому, что пред ними всякая логика исчезает; никакими
силлогизмами вы не убедите цепь, чтоб она распалась на узнике,
кулак, чтобы от него не было больно прибитому; так не убедите вы и
Дикого поступать разумнее, да не убедите и его домашних — не
слушать его прихотей: приколотит он их всех, да и только, что с этим
делать будешь? Очевидно, что характеры, сильные одной логической
стороной, должны развиваться очень убого и иметь весьма слабое
влияние на жизненную деятельность там, где всею жизнью управляет не
логика, а чистейший произвол. Не очень благоприятно господство
Диких и для развития людей, сильных так называемым практическим
смыслом. Что ни говорите об этом смысле, но, в сущности, он есть
не что иное, как уменье пользоваться обстоятельствами и располагать
их в свою пользу. Значит, практический смысл может вести человека
к прямой и честной деятельности только тогда, когда обстоятельства
располагаются сообразно с здравой логикой и, следовательно, с
естественными требованиями человеческой нравственности. Но там, где все
зависит от грубой силы, где неразумная прихоть нескольких Диких
Луч света в темном царстве
277
или суеверное упрямство какой-нибудь Кабановой разрушает самые
верные логические расчеты и нагло презирает самые первые основания
взаимных прав, там уменье пользоваться обстоятельствами очевидно
превращается в уменье применяться к прихотям самодуров и
подделываться под все их нелепости, чтобы и себе проложить дорожку к их
выгодному положению. Подхалюзины и Чичиковы — вот сильные
практические характеры «темного царства»: других не развивается между
людьми чисто практического закала, под влиянием господства Диких.
Самое лучшее, о чем можно мечтать для этих практиков, это
уподобление Штольцу, то есть уменье обделывать кругленько свои делишки
без подлостей; но общественный живой деятель из них не явится.
Не больше надежд можно полагать и на характеры патетические,
живущие минутою и вспышкою. Их порывы случайны и кратковременны;
их практическое значение определяется удачей. Пока все идет согласно
их надеждам, они бодры, предприимчивы; как скоро противодействие
сильно, они падают духом, охладевают, отступаются от дела и
ограничиваются бесплодными, хотя и громкими восклицаниями. И так как
Дикой и ему подобные вовсе не способны отдать свое значение и свою
силу без сопротивления, так как их влияние врезало уже глубокие
следы в самом быте и потому не может быть уничтожено одним разом,
то на патетические характеры нечего и смотреть, как на что-нибудь
серьезное. Даже при самых благоприятных обстоятельствах, когда бы
видимый успех ободрял их, то есть, когда бы самодуры могли понять
шаткость своего положения и стали делать уступки,— и тогда
патетические люди не очень много бы сделали! Они отличаются тем, что,
увлекаясь внешним видом и ближайшими последствиями дела, никогда
почти не умеют заглянуть в глубину, в самую сущность дела. Оттого
они очень легко удовлетворяются, обманутые какими-нибудь частными,
ничтожными признаками успеха их начал. Когда же ошибка их станет
ясною для них самих, тогда они делаются разочарованными, впадают
в апатию и ничегонеделанье. Дикой и Кабанова продолжают
торжествовать.
Таким образом, перебирая разнообразные типы, являвшиеся в нашей
жизни и воспроизведенные литературою, мы постоянно приходили к
убеждению, что они не могут служить представителями того
общественного движения, которое чувствуется у нас теперь и о котором мы,—
по возможности подробно,— говорили выше. Видя это, мы спрашивали
себя: как же, однако, определятся новые стремления в отдельной
личности? какими чертами должен отличаться характер, которым
совершится решительный разрыв с старыми, нелепыми и насильственными
отношениями жизни? В действительной жизни пробуждающегося
общества мы видели лишь намеки на решение наших вопросов, в
литературе— слабое повторение этих намеков; но в «Грозе» составлено из
'278
Я. А. Добролюбов
них целое, уже с довольно ясными очертаниями; здесь является перед
нами лицо, взятое прямо из жизни, но выясненное в сознании
художника и поставленное в такие положения, которые дают ему
обнаружиться полнее и решительнее, нежели как бывает в большинстве случаев
обыкновенной жизни. Таким образом, здесь нет дагерротипной точности,
в которой некоторые критики обвиняли Островского; но есть именно
художественное соединение однородных черт, проявляющихся в
разных положениях русской жизни, но служащих выражением одной
идеи.
Решительный, цельный русский характер, действующий в среде
Диких и Кабановых, является у Островского в женском типе, и это не
лишено своего серьезного значения. Известно, что крайности отражаются
крайностями и что самый сильный протест бывает тот, который
поднимается, наконец, из груди самых слабых и терпеливых. Поприще,
на котором Островский наблюдает и показывает нам русскую жизнь,
не касается отношений чисто общественных и государственных, а
ограничивается семейством; в семействе же кто более всего выдерживает
на себе весь гнет самодурства, как не женщина? Какой приказчик,
работник, слуга Дикого может быть столько загнан, забит, отрешен от
своей личности, как его жена? У кого может накипеть столько горя
и негодования против нелепых фантазий самодура? И, в то же время,
кто менее ее имеет возможности высказать свой ропот, отказаться от
исполнения того, что ей противно? Слуги и приказчики связаны только
материально, людским образом; они могут оставить самодура тотчас,
как найдут себе другое место. Жена, по господствующим понятиям,
связана с ним неразрывно, духовно, посредством таинства; что бы муж
ни делал, она должна ему повиноваться и разделять с ним его
бессмысленную жизнь. Да если б, наконец, она и могла уйти, то куда
она денется, за что примется? Кудряш говорит: «Я нужен Дикому,
поэтому я не боюсь его и вольничать ему над собою не дам». Легко
человеку, который пришел к сознанию того, что он действительно
нужен для других; но женщина, жена? К чему нужна она? Не сама ля
она, напротив, все берет от мужа? Муж ей дает жилище, поит,
кормит, одевает, защищает ее, дает «ей положение в обществе... Не
считается ли она, обыкновенно, обременением для мужчины? Не говорят
ли благоразумные люди, удерживая молодых людей от женитьбы:
«Женато ведь не лапоть, с ноги не сбросишь!» И в общем мнении самая
главная разница жены от лаптя в том и состоит, что она приносит
с собою целую обузу забот, от которых муж не может избавиться,
тогда как лапоть дает только удобство, а если неудобен будет, то легко
может быть сброшен... Находясь в подобном положении, женщина,
разумеется, должна позабыть, что и она такой же человек, с такими же
самыми правами, как и мужчина. Она может только деморализоваться,
Луч света в темном царстве
279
и если личность в ней сильна, то получить наклонность к тому же
самодурству, от которого она столько страдала. Это мы и видим,
например, в Кабанихе, точно так, как видели в Уланбековой. Ее
самодурство только уже и мельче и оттого, может быть, еще бессмысленнее
мужского: размеры его меньше, но зато в своих пределах, на тех, кто
уж ему попался, оно действует еще несноснее. Дикой ругается,
Кабанова ворчит; тот прибьет, да и кончено, а эта грызет свою жертву
долго и неотступно; тот шумит из-за своих фантазий и довольно
равнодушен к вашему поведению, покамест оно до него не коснется;
Кабаниха создала себе целый мирок особенных правил и суеверных
обычаев, за которые стоит со всем тупоумием самодурства. Вообще — в
женщине, даже достигшей положения независимого и con amore*
упражняющейся в самодурстве, видно всегда ее сравнительное бессилие, следствие
векового ее угнетения: она тяжеле, подозрительней, бездушней в своих
требованиях; здравому рассуждению она не поддается уже не потому,
что презирает его, а скорее потому, что боится с ним не справиться:
«Начнешь, дескать, рассуждать, а еще что из этого выйдет,—
оплетут как раз»,— и вследствие того она строго держится старины и
различных наставлений, сообщенных ей какою-нибудь Феклушею.,.
Ясно из этого, что если уж женщина захочет высвободиться из
подобного положения, то ее дело будет серьезно и решительно.
Какому-нибудь Кудряшу ничего не стоит поругаться с Диким: оба они
нужны друг другу, и, стало быть, со стороны Кудряша не нужно
особенного героизма для предъявления своих требований. Зато его выходка
и не поведет ни к чему серьезному: поругается он, Дикой, погрозит
отдать его в солдаты, да не отдаст; Кудряш будет доволен тем, что
отгрызся, а дела опять пойдут по-прежнему. Не то с женщиной: она
должна иметь много силы характера уже и для того, чтобы заявить
свое недовольство, свои требования. При первой же попытке ей дадут
почувствовать, что она ничто, что ее раздавить могут. Она знает, что
это действительно так, и должна смириться; иначе над ней исполнят
угрозу — прибьют, запрут, оставят на покаянии, на хлебе и воде, лишат
света дневного, испытают все домашние исправительные средства
доброго старого времени и приведут-таки к покорности. Женщина, которая
хочет идти до конца в своем восстании против угнетения и произвола
старших в русской семье, должна быть исполнена героического
самоотвержения, должна на все решиться и ко всему быть готова. Каким
образом может она выдержать себя? Где взять ей столько характера?
На это только и можно отвечать тем, что естественных стремлений
человеческой природы совсем уничтожить нельзя. Можно их наклонять
* из любви (иронически) (итал.).—Ред.
280
H. A. Добролюбов
в сторону, давить, сжимать, но все это только до известной степени.
Торжество ложных положений показывает только, до какой степени
может доходить упругость человеческой натуры; но чем положение
неестественнее, тем ближе и необходимее выход из него. И значит,
уж оно очень неестественно, когда его не выдерживают даже самые
гибкие натуры, наиболее подчинявшиеся влиянию силы, производившей
такие положения. Если уж и гибкое тело дитяти не поддается какому-
нибудь гимнастическому фокусу, то очевидно, что он невозможен для
взрослых, которых члены более тверды. Взрослые, конечно, и не
допустят с собою такого фокуса; но над дитятею легко могут его
попробовать. А где берет дитя характер для того, чтобы ему
воспротивиться всеми силами, хотя бы за сопротивление обещано было самое
страшное наказание? Ответ один: в невозможности выдержать то, к чему
его принуждают... То же самое надо сказать и о слабой женщине,
решающейся на борьбу за свои права: дело дошло до того, что ей уж
невозможно дальше выдерживать свое унижение, вот она и рвется из
него уже не по соображению того, что лучше и что хуже, а только
по инстинктивному стремлению к тому, что выносимо и возможно.
Натура заменяет здесь и соображения рассудка, и требования чувства
и воображения: все это сливается в общем чувстве организма,
требующего себе воздуха, пищи, свободы. Здесь-то и заключается тайна
цельности характеров, появляющихся в обстоятельствах, подобных тем,
какие мы видели в «Грозе», в обстановке, окружающей Катерину.
Таким образом, возникновение женского энергического характера
вполне соответствует тому положению, до какого доведено самодурство
в драме Островского. В положении, представленном «Грозой», оно дошло
до крайности, до отрицания всякого здравого смысла; оно более, чем
когда-нибудь враждебно естественным требованиям человечества и
ожесточеннее прежнего силится остановить их развитие, потому что в
торжестве их видит приближение своей неминуемой гибели. Через это
оно еще более вызывает ропот и протест даже в существах самых
слабых. А вместе с тем самодурство, как мы видели, потеряло свою
самоуверенность, лишилось и твердости в действиях, утратило и
значительную долю той силы, которая заключалась для него в наведении
страха на всех. Поэтому протест против него не заглушается уже в
самом начале, а может превратиться в упорную борьбу. Те, которым
еще сносно жить, не хотят теперь рисковать на подобную борьбу,
б надежде, что и так недолго прожить самодурству. Муж Катерины,
молодой Кабанов, хоть и много терпит от старой Кабанихи, но все же
он независимее: он может и к Савелу Прокофьичу выпить сбегать,
он и в Москву съездит от матери и там развернется на воле, а коли
плохо ему уж очень придется от старухи, так есть на ком вылить свое
сердце — он на жену вскинется... Так и живет себе и воспитывает
Луч света в темном царстве
281
свой характер, ни на что не годный, все в тайной надежде, что
вырвется как-нибудь на волю. Жене его нет никакой надежды, никакой
отрады, передышаться ей нельзя; если может, то пусть живет без
дыханья, забудет, что есть вольный воздух на свете, пусть отречется от
своей природы и сольется с капризным деспотизмом старой Кабанихи.
Но вольный воздух и свет, вопреки всем предосторожностям
погибающего самодурства, врываются в келью Катерины, она чувствует
возможность удовлетворить естественной жажде своей души и не может долее
оставаться неподвижною: она рвется к новой жизни, хотя бы пришлось
умереть в этом порыве. Что ей смерть? Все равно — она не считает
жизнью и то прозябание, которое выпало ей на долю в семье
Кабановых.
Такова основа всех действий характера, изображенного в «Грозе».
Основа эта надежнее всех возможных теорий и пафосов, потому что она
лежит в самой сущности данного положения, влечет человека к делу
неотразимо, не зависит от той или другой способности или впечатления
в частности, а опирается на всей сложности требований организма,
на выработке всей натуры человека. Теперь любопытно, как развивается
и проявляется подобный характер в частных случаях. Мы можем
проследить его развитие по личности Катерины.
Прежде всего вас поражает необыкновенная своеобразность этого
характера. Ничего нет в нем внешнего, чужого, а все выходит как-то
изнутри его; всякое впечатление переработывается в нем и затем
срастается с ним органически. Это мы видим, например, в простодушном
рассказе Катерины о своем детском возрасте и о жизни в доме у
матери. Оказывается, что воспитание и молодая жизнь ничего не дали
ей; в доме ее матери было то же, что и у Кабановых,— ходили в
церковь, шили золотом по бархату, слушали рассказы странниц, обедали,
гуляли по саду, опять беседовали с богомолками и сами молились...
Выслушав рассказ Катерины, Варвара, сестра ее мужа, с удивлением
замечает: «Да ведь и у нас то же самое». Но разница определяется
Катериною очень быстро в пяти словах: «Да здесь все как будто из-
под неволи!» И дальнейший разговор показывает, что во всей этой
внешности, которая так обыденна у нас повсюду, Катерина умела находить
свой особенный смысл, применять ее к своим потребностям и
стремлениям, пока не налегла на нее тяжелая рука Кабанихи. Катерина вовсе
не принадлежит к буйным характерам, никогда не довольным,
любящим разрушать во что бы то ни стало. Напротив, это характер по
преимуществу созидающий, любящий, идеальный. Вот почему она
старается все осмыслить и облагородить в своем воображении; то
настроение, при котором, по выражению поэта,—
Весь мир мечтою благородной
Пред ним очищен и омыт 21;—
282
Я. А. Добролюбов
это настроение до последней крайности не покидает Катерину. Всякий
внешний диссонанс она старается согласить с гармонией своей души,
всякий недостаток покрывает из полноты своих внутренних сил. Грубые,
суеверные рассказы и бессмысленные бредни странниц превращаются
у ней в золотые, поэтические сны воображения, не устрашающие, а
ясные, добрые. Бедны ее образы, потому что материалы, представляемые
ей действительностью, так однообразны; но и с этими скудными
средствами ее воображение работает неутомимо и уносит ее в новый мир,
тихий и светлый. Не обряды занимают ее в церкви: она совсем и не
слышит, что там поют и читают; у нее в душе иная музыка, иные
видения, для нее служба кончается неприметно, как будто в одну
секунду. Она смотрит на деревья, странно нарисованные на образах,
и воображает себе целую страну садов, где всё такие деревья и все
это цветет, благоухает, все полно райского пения. А то увидит она в
солнечный день, как «из купола светлый такой столб вниз идет, и в
этом столбе ходит дым, точно облака»,— и вот она уже видит, «будто
ангелы в этом столбе летают и поют». Иногда представится ей,— отчего
бы и ей не летать? и когда на горе стоит, то так ее и тянет лететь:
вот так бы разбежалась, подняла руки, да и полетела. Она странная,
сумасбродная с точки зрения окружающих; но это потому, что она
никак не может принять в себя их воззрений и наклонностей. Она
берет от них материалы, потому что иначе взять их неоткуда; но не
берет выводов, а ищет их сама и часто приходит вовсе не к тому,
на чем успокоиваются они. Подобное отношение к внешним
впечатлениям мы замечаем и в другой среде, в людях, по своему воспитанию
привыкших к отвлеченным рассуждениям и умеющих анализировать
свои чувства. Вся разница в том, что у Катерины, как личности
непосредственной, живой, все делается по влечению натуры, без
отчетливого сознания, а у людей, развитых теоретически и сильных умом,—
главную роль играет логика и анализ. Сильные умы именно и
отличаются той внутренней силой, которая дает им возможность не
поддаваться готовым воззрениям и системам, а самим создавать свои взгляды
и выводы, на основании живых впечатлений. Они ничего не отвергают
сначала, но ни на чем и не останавливаются, а только все принимают
к сведению и переработывают по-своему. Аналогические результаты
представляет нам и Катерина, хотя она и не резонирует и даже не
понимает сама своих ощущений, а водится прямо натурою. В сухой
однообразной жизни своей юности, в грубых и суеверных понятиях
окружающей среды, она постоянно умела брать то, что соглашалось с
ее естественными стремлениями к красоте, гармонии, довольству, счастью.
В разговорах странниц, в земных поклонах и причитаниях она видела
не мертвую форму, а что-то другое, к чему постоянно стремилось ее
сердце. На основании их она строила себе свой идеальный мир, без
Луч света в темном царстве
2S3
страстей, без нужды, без горя, мир, весь посвященный добру и
наслажденью. Но в чем настоящее добро и истинное наслаждение для
человека, она не могла определить себе; вот отчего эти внезапные порывы
каких-то безотчетных, неясных стремлений, о которых она вспоминает:
«Иной раз, бывало, рано утром в сад уйду, еще только солнышко
восходит,— упаду на колени, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем
м,олюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась
тогда, чего просила — не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня
было довольно». Бедная девочка, не получившая широкого теоретического
образования, не знающая всего, что на свете делается, не понимающая
хорошенько даже своих собственных потребностей, не может,
разумеется, дать себе отчета в том, что ей нужно. Покамест она живет
у матери, на полной свободе, без всякой житейской заботы, пока еще
не обозначились в ней потребности и страсти взрослого человека, она
не умеет даже отличи!ь своих собственных мечтаний, своего
внутреннего мира — от внешних впечатлений. Забываясь среди богомолок в
своих радужных думах и гуляя в своем светлом царстве, она все
думает, что ее довольство происходит именно от этих богомолок, от
лампадок, зажженных по всем углам в доме, от причитаний, раздающихся
вокруг нее; своими чувствами она одушевляет мертвую обстановку,
в которой живет, и сливает с ней внутренний мир души своей. Это
период детства, для многих тянущийся долго, очень долго, но все-таки
имеющий своей конец. Если конец приходит очень поздно, если
человек начинает понимать, чего ему нужно, тогда уже, когда большая часть
жизни изжита,— в таком случае ему ничего почти не остается, кроме
сожаления о том, что так долго принимал он собственные мечты за
действительность. Он находится тогда в печальном положении
человека, который, наделив в своей фантазии всеми возможными
совершенствами свою красавицу и связав с нею жизнь свою, вдруг замечает,
что все совершенства существовали только в его воображении, а в ней
самой нет и следа их. Но характеры сильные редко поддаются такому
решительному заблуждению: в них очень сильно требование ясности и
реальности, оттого они не останавливаются на неопределенностях и
стараются выбраться из них во что бы то ни стало. Заметив в себе
недовольство, они стараются прогнать его; но, видя, что оно не
проходит, кончают тем, что дают полную свободу высказаться новым
требованиям, возникающим в душе, и затем уже не успокоятся, пока не
достигнут их удовлетворения. А тут и сама жизнь приходит на
помощь — для одних благоприятно, расширением круга впечатлений, а для
других трудно и горько — стеснениями и заботами, разрушающими
гармоническую стройность юных фантазий. Последний путь выпал на долю
Катерине, как выпадает он на долю большей части людей в «темном
царслве» Диких и Кабановых.
284
Я. А. Добролюбов
В сумрачной обстановке новой семьи начала чувствовать
Катерина недостаточность внешности, которою думала
довольствоваться прежде. Под тяжелой рукою бездушной Кабанихи нет
простора ее светлым видениям, как нет свободы ее чувствам. В
порыве нежности к мужу она хочет обнять его,— старуха кричит:
«Что на шею виснешь, бесстыдница? В ноги кланяйся!» Ей хочется
остаться одной и погрустить тихонько, как бывало, а свекровь
говорит: «Отчего не воешь?» Она ищет света, воздуха, хочет помечтать п
порезвиться, полить свои цветы, посмотреть на солнце, на Волгу, послать
свой привет всему живому,— а ее держат в неволе, в ней постоянно
подозревают нечистые, развратные замыслы. Она ищет прибежища по-
прежнему в религиозной практике, в посещении церкви, в
душеспасительных разговорах; но и здесь не находит уже прежних впечатлений.
Убитая дневной работой и вечной неволей, она уже не может с прежней
ясностью мечтать об ангелах, поющих в пыльном столбе, освещенном
солнцем, не может вообразить себе райских садов с их невозмущаемым
видом и радостью. Все мрачно, страшно вокруг нее, все веет холодом
и какой-то неотразимой угрозой: и лики святых так строги, и
церковные чтения так грозны, и рассказы странниц так чудовищны... Они
все те же, в сущности, они нимало не изменились, но изменилась она
сама: в ней уже нет охоты строить воздушные видения, да уж и не
удовлетворяет ее то неопределенное воображение блаженства, которым
она наслаждалась прежде. Она возмужала, в ней проснулись другие
желания, более реальные; не зная иного поприща, кроме семьи, иного
мира, кроме того, какой сложился для нее в обществе ее городка, она,
разумеется, и начинает сознавать из всех человеческих стремлений то,
которое всего неизбежнее и всего ближе к ней,— стремление любви и
преданности. В прежнее время ее сердце было слишком полно мечтами,
она не обращала внимания на молодых людей, которые на нее
заглядывались, а только смеялась. Выходя замуж за Тихона Кабанова, она
и его не любила, она еще и не понимала этого чувства; сказали ей,
что всякой девушке надо замуж выходить, показали Тихона как
будущего мужа, она и пошла за нею, оставаясь совершенно
индифферентною к этому шагу. И здесь тоже проявляется особенность характера:
по обычным нашим понятиям, ей бы следовало противиться, если у
ней решительный характер; но она и не думает о сопротивлении,
потому что не имеет достаточно оснований для этого. Ей нет особенной
охоты выходить замуж, но нет и отвращения от замужества; нет в
ней любви к Тихону, но нет любви и ни к кому другому. Ей все равно
покамест, вот почему она и позволяет делать с собою что угодно,
В этом нельзя видеть ей бессилия, ни апатии, а можно находить
только недостаток опытности да еще слишком большую готовность
делать все для других, мало заботясь о себе. У ней мало знания и мно-
Луч света в темном царстве
285
го доверчивости, вот отчего до времени она не выказывает
противодействия окружающим и решается лучше терпеть, нежели делать назло им.
Но когда она поймет, что ей нужно, и захочет чего-нибудь
достигнуть, то добьется своего во что бы то ни стало: тут-то и проявится
вполне сила ее характера, не растраченная в мелочных выходках.
Сначала, по врожденной доброте и благородству души своей, она будет
делать все возможные усилия, чтобы не нарушить мира и прав других,
чтобы получить желаемое с возможно большим соблюдением всех
требований, какие на нее налагаются людьми, чем-нибудь связанными с ней;
и если они сумеют воспользоваться этим первоначальным настроением
и решатся дать ей полное удовлетворение,— хорошо тогда и ей и им.
Но если нет,— она ни перед чем не остановится,— закон, родство,
обычай, людской суд, правила благоразумия — все исчезает для нее пред
силою внутреннего влечения; она не щадит себя и не думает о других.
Такой именно выход представился Катерине, и другого нельзя было
ожидать среди той обстановки, в которой она находится.
Чувство любви к человеку, желание найти родственный отзыв в
другом сердце, потребность нежных наслаждений естественным образом
открылись в молодой женщине и изменили ее прежние, неопределенные
и бесплотные мечты. «Ночью, Варя, не спится мне,— рассказывает она,—
все мерещится шепот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной,
точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские
деревья да горы; а точно меня Кто-то обнимает так горячо, горячо и
ведет меня куда-то, и я иду за ним, иду...» Она сознала и уловила
эти мечты уже довольно поздно; но, разумеется, они преследовали и
томили ее задолго прежде, чем она сама могла дать себе отчет в них.
При первом их появлении, она тотчас же обратила свое чувство на то,
что всего ближе к ней было,— на мужа. Она долго усиливалась
сроднить с ним свою душу, уверить себя, что с ним ей ничего не нужно,
что в нем-то и есть блаженство, которого она так тревожно ищет. Она
со страхом и недоумением смотрела на возможность искать
взаимной любви в ком-нибудь, кроме его. В пьесе, которая застает Катерину
уже с началом любви к Борису Григорьевичу, все еще видны
последние, отчаянные усилия Катерины — сделать себе милым своего мужа.
Сцена ее прощания с ним дает нам чувствовать, что и тут еще не
все потеряно для Тихона, что он еще может сохранить права свои
на любовь этой женщины; но эта же сцена в коротких, но резких
очерках передает нам целую историю истязаний, которые заставили
вытерпеть Катерину, чтобы оттолкнуть ее первое чувство от мужа.
Тихон является здесь простодушным и пошловатым, совсем не злым,
но до крайности бесхарактерным существом, не смеющим ничего
сделать вопреки матери. А мать — существо бездушное, кулак-баба,
заключающая в китайских церемониях — и любовь, и религию, и нравствен-
286
H. A. Добролюбов
ность. Между нею и между своей женой Тихон представляет один из
множества тех жалких типов, которые обыкновенно называются
безвредными, хотя они в общем-то смысле столь же вредны, как и сами
самодуры, потому что служат их верными помощниками. Тихон
сам по себе любит жену и готов бы все для нее сделать; но гнет,
под которым он вырос, так его изуродовал, что в нем никакого
сильного чувства, никакого решительного стремления развиться не может.
В нем есть совесть, есть желание добра, но он постоянно действует
против себя и служит покорным орудием матери, даже в отношениях
своих к жене. Еще в первой сцене появления семейства Кабановых
на бульваре мы видим, каково положение Катерины между мужем и
свекровью. Кабаниха ругает сына, что жена его не боится; он решается
возразить: «Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она
меня любит». Старуха тотчас же вскидывается на него: «Как, зачем
бояться? Как, зачем бояться! Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет
бояться, меня и подавно: какой же это порядок-то в доме будет!
Ведь ты, чай, с ней в законе живешь. Али, по-вашему, закон ничего
не значит?» Под такими» началами, разумеется, чувство любви в
Катерине не находит простора и прячется внутрь ее, сказываясь только по
временам судорожными порывами. Но и этими порывами муж не умеет
пользоваться: он слишком забит, чтобы понять силу ее страстного
томления. «Не разберу я тебя, Катя,— говорит он ей: — то от тебя слова
не добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь». Так
обыкновенно дюжинные и испорченные натуры судят о натуре сильной и
свежей: они, судя по себе, не понимают чувства, которое схоронилось
в глубине души, и всякую сосредоточенность принимают за апатию;
когда же наконец, не будучи в состоянии скрываться долее, внутренняя
сила хлынет из души широким и быстрым потоком,— они удивляются
и считают это каким-то фокусом, причудою, вроде того, как им самим
приходит иногда фантазия впасть в пафос или кутнуть. А между тем
эти порывы составляют необходимость в натуре сильной и бывают тем
разительнее, чем они дольше не находят себе выхода. Они
неумышленны, не соображены, а вызваны естественной необходимостью. Сила
натуры, которой нет возможности развиваться деятельно, выражается и
пассивно — терпением, сдержанностью. Но только не смешивайте этого
терпения с тем, которое происходит от слабого развития личности з
человеке и которое кончает тем, что привыкает к оскорблениям и
тягостям всякого рода. Нет, Катерина не привыкнет к ним никогда; она
еще не знает, на что и как она решится, она ничем не нарушает своих
обязанностей к свекрови, делает все возможное, чтобы хорошо уладиться
с мужем, но по всему видно, что она чувствует свое положение и что
ее тянет вырваться из него. Никогда она не жалуется, не бранит
свекрови; сама старуха не может на нее взнести этого; и, однако же,
Луч света в темном царстве
287
свекровь чувствует, что Катерина составляет для нее что-то
неподходящее, враждебное. Тихон, который как огня боится матери и притом
не отличается особенною деликатностью и нежностью, совестится,
однако, перед женою, когда по повелению матери должен ей наказывать,
чтрб она без него «в окна глаз не пялила» и «на молодых парней
не заглядывалась». Он видит, что горько оскорбляет ее такими речами,
хотя хорошенько и не может понять ее состояния. По выходе матери
из комнаты, он утешает жену таким образом: «Все к сердцу-то
принимать, так в чахотку скоро попадешь. Что ее слушать-то! Ей ведь
что-нибудь надо ж говорить. Ну и пущай она говорит, а ты мимо ушей
пропущай!» Вот этот индифферентизм, точно, плох и безнадежен; но
Катерина никогда не может дойти до него, хотя по наружности она даже
меньше огорчается, нежели Тихон, меньше жалуется, но, в сущности,
она страдает гораздо больше. Тихон тоже чувствует, что он не имеет
чего-то нужного; в нем тоже есть недовольство; но оно находится в
нем на такой степени, на какой, например, может быть влечение к
женщине у десятилетнего мальчика с развращенным воображением. Он
не может очень решительно добиваться независимости и своих прав —
уже и потому, что он не знает, что с ними делать; желание его
больше головное, внешнее, а собственно натура его, поддавшись гнету
воспитания, так и осталась почти глухою к естественным стремлениям.
Поэтому самое искание свободы в нем получает характер уродливый
и делается противным, как противен цинизм десятилетнего мальчика,
без смысла и внутренней потребности повторяющего гадости,
слышанные от больших. Тихон, видите, наслышан от кого-то, что он «тоже
мужчина» и потому должен в семье иметь известную долю власти и
значения; поэтому он себя ставит гораздо выше жены и, полагая, что
ей уж так и бог судил терпеть и смиряться,— на свое положение под
началом у матери смотрит как на горькое и унизительное. Затем он
наклонен к разгулу и в нем-то, главным образом, и ставит свободу:
точно как тот же мальчик, не умеющий постигнуть настоящей сути,
отчего так сладка женская любовь, и знающий только внешнюю
сторону дела, которая у него и превращается в сальности: Тихон,
собираясь уезжать, с бесстыднейшим цинизмом говорит жене, упрашивающей
его взять ее с собою: «С этакой-то неволи от какой хочешь красавицы
жены убежишь! Ты подумай то: какой ни на есть, а я все-таки мужчина;—
всю жизнь вот этак жить, как ты видишь, так убежишь и от жены.
Да как я знаю теперича, что недели две никакой грозы на меня
не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне?»
Катерина только и может ответить ему на это: «Как же мне любить-то
тебя, когда ты такие слова говоришь?» Но Тихон не понимает всей
важности этого мрачного и решительного упрека; как человек, уже
махнувший рукою на свой рассудок, он отвечает небрежно: «Слова — как
238
H. A. Добролюбов
слова! Какие же мне еще слова говорить!» — и торопится отделаться
от жены. А зачем? Что он хочет делать, на чем отвести душу,
вырвавшись на волю? Он об этом сам рассказывает потом Кулигину:
«На дорогу-то маменька читала-читала мне наставления-то, а я как
выехал, так загулял. Уж очень рад, что на волю-то вырвался. И всю
дорогу пил, и в Москве все пил; так это кучу, что на-поди. Так,
чтобы уж на целый год отгуляться!,.» Вот и все! И надо сказать, что в
прежнее время, когда еще сознание личности и ее прав не поднялось
в большинстве, почти только подобными выходками и ограничивались
протесты против самодурного гнета. Да и нынче еще можно встретить
множество Тихонов, упивающихся если не вином, то какими-нибудь
рассуждениями и спичами, и отводящих душу в шуме словесных оргий.
Это именно люди, которые постоянно жалуются на свое стесненное
положение, а между тем заражены гордою мыслью о своих привилегиях
и о своем превосходстве над другими: «Какой ни на есть, а все-таки
я мужчина,— так каково мне терпеть-то». То есть: «Ты терпи, потому
что ты баба и, стало быть, дрянь, а мне надо волю,— не потому,
чтоб это было человеческое, естественное требование, а потому, что
таковы права моей привилегированной особы»... Ясно, что из подобных
людей и замашек никогда и не могло, и не может ничего выйти,
Но не похоже на них новое движение народной жизни, о котором
мы говорили выше и отражение которого нашли в характере
Катерины. В этой личности мы видим уже возмужалое, из глубины всего
организма возникающее требование права и простора жизни. Здесь уже
не воображение, не наслышка, не искусственно возбужденный порыв
является нам, а жизненная необходимость натуры. Катерина не
капризничает, не кокетничает своим недовольством и гневом,— это не в ее
натуре; она не хочет импонировать на других, выставиться и
похвалиться. Напротив, живет она очень мирно и готова всему подчиниться,
что только не противно ее натуре; принцип ее, если б она могла
сознать и определить его, был бы тот, чтобы как можно менее своей
личностью стеснять других и тревожить общее течение дел. Но зато,
признавая и уважая стремления других, она требует того же уважения
и к себе, и всякое насилие, всякое стеснение возмущает ее кровно,
глубоко. Если б она могла, она бы прогнала далеко от себя все, что
живет неправо и вредит другим; но, не будучи в состоянии сделать
этого, она идет обратным путем — сама бежит от губителей и
обидчиков. Только бы не подчиниться их началам, вопреки своей натуре,
только бы не помириться с их неестественными требованиями, а там
что выйдет — лучшая ли доля для нее или гибель,— на это она уж
не смотрит: в том и другом случае для нее избавление... О своем
характере Катерина сообщает Варе одну черту еще из воспоминаний
детства: «Такая уж я зародилась горячая! Я еще лет шести была,
Луч света в темном царстве
289
не больше — так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было
к вечеру, уж темно — я выбежала на Волгу, села в лодку, да и
отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять...»
Эта детская горячность сохранилась в Катерине; только вместе с
общей возмужалостью прибавилась в ней и сила выдерживать впечатления
и господствовать над ними. Взрослая Катерина, поставленная в
необходимость терпеть обиды, находит в себе силу долго переносить их,
без напрасных жалоб, полусопротивлений и всяких шумных выходок.
Она терпит до тех пор, пока не заговорит в ней какой-нибудь интерес,
особенно близкий ее сердцу и законный в ее глазах, пока не оскорблено
в ней будет такое требование ее натуры, без удовлетворения которого
она не может оставаться спокойною. Тогда она уж ни на что не
посмотрит. Она не будет прибегать к дипломатическим уловкам, к
обманам и плутням,— не такова она. Если уж нужно непременно обманывать,
так она лучше постарается перемочь себя. Варя советует Катерине
скрывать свою любовь к Борису; она говорит: «Обманывать-то я не
умею, скрыть-то ничего не могу», и вслед за тем делает усилие над
своим сердцем и опять обращается к Варе с такой речью: «Не говори
мне про него, сделай милость, не говори! Я его и знать не хочу!
Я буду мужа любить, Тиша, голубчик мой, ни на кого тебя не про-
меняю!» Но усилие уже выше ее возможности; через минуту она
чувствует, что ей не отделаться от возникшей любви: «Разве я хочу о
нем думать,— говорит она,— да что делать, коли из головы нейдет?»
В этих простых словах очень ясно выражается, как сила естественных
стремлений неприметно для самой Катерины одерживает в ней победу
над всеми внешними требованиями, предрассудками и искусственными
комбинациями, в которых запутана жизнь ее. Заметим, что
теоретическим образом Катерина не могла отвергнуть ни одного их этих
требований, не могла освободиться ни от каких отсталых мнений; она пошла
против всех них, вооруженная единственно силою своего чувства,
инстинктивным сознанием своего прямого, неотъемлемого права на жизнь,
счастье и любовь.. Она нимало не резонирует, но с удивительною
легкостью разрешает все трудности своего положения. Вот ее разговор с
Варварой:
Варвара. Ты какая-то мудреная, бог с тобой! А по-моему,— делай, что хочешь,
только бы шито да крыто было.
Катерина. Не хочу я так, да и что хорошего? Уж я лучше буду терпеть, пока
терпится.
Варвара. А не стерпится, что ж ты сделаешь?
Катерпна. Что я сделаю?
Варвара. Да, что сделаешь?
Катерина. Что мне только захочется, то и сделаю.
Варвара. Сделай, попробуй, так тебя здесь заедят.
Катерпна. А что мне! Я уйду, да и была такова.
19 н. А. Добролюбов
290
H. A. Добролюбов
Варвара. Куда ты уйдешь! Ты мужняя жена.
Катерина. Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай бог
этому случиться, а уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой
силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть
ты меня режь.
Вот истинная сила характера, на которую во всяком случае можно
положиться! Вот высота, до которой доходит наша народная жизнь в
своем развитии, но до которой в литературе нашей умели подниматься
весьма немногие, и никто не умел на ней так хорошо держаться,
как Островский. Он почувствовал, что не отвлеченные верования, а
жизненные факты управляют человеком, что не образ мыслей, не
принципы, а натура нужна для образования и проявления крепкого характера,
и он умел создать такое лицо, которое служит представителем великой
народной идеи, не нося великих идей ни на языке, ни в голове,
самоотверженно идет до конца в неровной борьбе и гибнет, вовсе не обрекая
себя на высокое самоотвержение. Ее поступки находятся в гармонии
с ее натурой, они для нее естественны, необходимы, она не может от
них отказаться, хотя бы это имело самые гибельные последствия. Пре-
тендованные в других творениях нашей литературы, сильные характеры
похожи на фонтанчики, бьющие довольно красиво и бойко, но
зависящие в своих проявлениях от постороннего механизма, подведенного к
ним; Катерина, напротив, может быть уподоблена большой многоводной
реке: она течет, как требует ее природное свойство; характер ее
течения изменяется сообразно с местностью, через которую она проходит,
но течение не останавливается; ровное дно, хорошее — она течет
спокойно, камни большие встретились — она через них перескакивает,
обрыв — льется каскадом, запруживают ее — она бушует и прорывается
в другом месте. Не потому бурлит она, чтобы воде вдруг захотелось
пошуметь или рассердиться на препятствие, а просто потому, что это ей
необходимо для выполнения ее естественного требования — для
дальнейшего течения. Так и в том характере, который воспроизведен нам
Островским: мы знаем, что он выдержит себя, несмотря ни на какие
препятствия; а когда сил не хватит, то погибнет, но не изменит себе.
Высокие ораторы правды, претендующие на «отречение от себя для
великой идеи», весьма часто оканчивают тем, что отступаются от своего
служения, говоря, что борьба со злом еще слишком безнадежна, что она
повела бы только к напрасной гибели, и пр. Они справедливы, и нельзя
их упрекать в малодушии; но, во всяком случае, нельзя не видеть в
этом, что «идея», которой они хотят служить, составляет для них что-то
внешнее, без чего они могут обойтись, что они умеют очень хорошо
отделить от своих личных, прямых потребностей. Ясно, что как бы ни
был велик их азарт в пользу идеи, он всегда будет гораздо слабее и
ниже того простого, инстинктивного, неотразимого влечения, которое
Луч света в темном царстве
291
управляет поступками личностей вроде Катерины, даже и не думающих
ни о каких высоких «идеях».
В положении Катерины мы видим, что, напротив, все «идеи», вну-:
шенные ей с детства, все принципы окружающей среды — восстают
против ее естественных стремлений и поступков. Страшная борьба,
на которую осуждена молодая женщина, совершается в,каждом слове, в
каждом движении драмы, и вот где оказывается вся важность вводных лиц,
за которых так упрекают Островского. Всмотритесь хорошенько: вы
видите, что Катерина воспитана в понятиях, одинаковых с понятиями среды,
в которой живет, и не может от них отрешиться, не имея никакого
теоретического образования. Рассказы странниц и внушения домашних
хоть и перерабатывались ею по-своему, но не могли не оставить
безобразного следа в ее душе: и действительно, мы видим в пьесе, что
Катерина, потеряв свои радужные мечты и идеальные, выспренние
стремления, сохранила от своего воспитания одно сильное чувство — страх
каких-то темных сил, чего-то неведомого, чего она не могла бы
объяснить себе хорошенько, ни отвергнуть. За каждую мысль свою она боится,
за, самоз простое чувство она ждет себе кары; ей кажется, что гроза
ее убьет, потому что она грешница, картины геенны огненной на стене
церковной представляются ей уже предвестием ее вечной муки... А все
окружающее поддерживает и развивает в ней этот страх: Феклуши
ходят к Кабанихе толковать о последних временах; Дикой твердит, что
гроза в наказание нам посылается, чтоб мы чувствовали; пришедшая
барыня, наводящая страх на всех в городе, показывается несколько
раз с тем, чтобы зловещим голосом прокричать над Катериною: «Все
в огне гореть будете в неугасимом». Все окружающие полны
суеверного страха, и все окружающие согласно с понятиями и самой
Катерины должны смотреть на ее чувство к Борису как на величайшее
преступление. Даже удалой Кудряш, esprit-fort * этой среды, и тот
находит, что девкам можно гулять с парнями сколько хочешь,— это ничего,
а бабам надо уж взаперти сидеть. Это убеждение так в нем сильно,
что, узнав о любви Бориса к Катерине, он, несмотря на свое удальство
и некоторого рода- бесчинство, говорит, что «это дело бросить надо».
Все против Катерины, даже и ее собственные понятия о добре и зле;
все должно заставить ее заглушить свои порывы и завянуть в холодном
и мрачном формализме семейной безгласности и покорности, без всяких
живых стремлений, без воли, без любви или же научиться обманывать
людей и совесть. Но не бойтесь за нее, не бойтесь даже тогда, когда
она сама говорит против себя: она может на время или покориться,
по-видимому, или даже пойти на обман, как речка может скрыться под
землею или удалиться от своего русла; но текучая вода не остановится
вольнодумец (франц.).—Ред.
19*
292
H. A. Добролюбов
й не пойдет назад, а все-таки дойдет до своего конца, до того места,
где может она слиться с другими водами и вместе бежать к водам
океана. Обстановка, в которой живет Катерина, требует, чтобы она
лгала и обманывала; «без этого нельзя,— говорит ей Варвара,— ты
вспомни, где ты живешь; у нас на этом весь дом держится. И я не обман-
шица была, да выучилась, когда нужно стало». Катерина поддается
своему положению, выходит к Борису ночью, прячет от свекрови свои
чувства в течение десяти дней... Можно подумать: вот и еще женщина
сбилась с пути, выучилась обманывать домашних и будет развратничать
втихомолку, притворно лаская мужа и нося отвратительную маску
смиренницы! Нельзя было бы строго винить ее и за это: положение ее
так тяжело! Но тогда она была бы одним из дюжинных лиц того типа,
который так уже изношен в повестях, показывавших, как «среда
заедает хороших людей». Катерина не такова: развязка ее любви при всей
домашней обстановке — видна заранее еще тогда, как она только
подходит к делу. Она не занимается психологическим анализом и потому
не может высказывать тонких наблюдений над собою; что она о себе
говорит, так уж это, значит, сильно дает ей знать себя. А она, при
первом предложении Варвары о свидании ее с Борисом, вскрикивает:
«Нет, нет, не надо! что ты, сохрани господи: если я с ним хоть раз
увижусь я убегу из дому, я уж не пойду домой ни за что .на свете!»
Это в ней не разумная предосторожность говорит,— это страсть; и уж
видно, что как она себя ни сдерживала, а страсть выше ее, выше всех
ее предрассудков и страхов, выше всех внушений, слышанных ею с
детства. В этой страсти заключается для нее вся жизнь; вся сила ее
натуры, все ее живые стремления сливаются здесь. К Борису влечет
ее не одно то, что он ей нравится, что он и с виду и по речам не
похож на остальных, окружающих ее; к нему влечет ее и потребность
любви, не нашедшая себе отзыва в муже, и оскорбленное чувство жены
и женщины, и смертельная тоска ее однообразной жизни, и желание
воли, простора, горячей, беззапретной свободы. Она все мечтает, как бы
ей «полететь невидимо, куда бы захотела»; а то такая мысль
приходит: «Кабы моя воля, каталась бы я теперь на Волге, на лодке, с
песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись...» — «Только не с
мужем»,— подсказывает ей Варя, и Катерина не может скрыть своего
чувства и сразу ей открывается вопросом: «А ты почем знаешь?» Видно,
Что замечание Варвары для нее самой объяснило многое: рассказывая
так наивно свои мечты, она еще не понимала хорошенько их значения.
Но одного слова достаточно, чтобы сообщить ее мыслям ту
определенность/, которую, она сама боялась им дать. До сих пор она еще могла
сомневаться, точно ли в этом новом чувстве то блаженство, которого
она так томительно ищет. Но раз произнесши слово тайны, она уже
и в мыслях своих от нее не отступится. Страх, сомнения, мысль о грехе
Луч света в темном царстве
293
и о людском суде — все это приходит ей в голову, но уже не имеет
над нею силы; это уж так, формальности, для очистки совести. В
монологе с ключом (последнем во втором акте) мы видим женщину, в душе
которой решительный шаг уже сделан, но которая хочет только как-
нибудь «заговорить» себя. Она делает попытку стать несколько в
сторону от себя и судить поступок, на который она решалась, как дело
постороннее; но мысли ее все направлены к оправданию этого поступка,
«Вот, говорит, долго ли погибнуть-то... В неволе-то кому весело...
Вот хоть я теперь — живу, маюсь, просвету себе не вижу... свекровь
сокрушила меня...» и т. д.—всё оправдательные статьи. А потом еще
облегчительные соображения: «Видно уже судьба так хочет... Да какой
же и грех в этом, если я на него взгляну раз... Да хоть и поговорю-
то, так все не беда. А может, такого случая-то еще во всю жизнь не
выйдет...» Этот монолог возбудил в некоторых критиках охоту
иронизировать над Катериною, как над бесстыжею ипокриткою; но мы не
знаем большего бесстыдства, как уверять, будто бы мы или кто-нибудь
из наших идеальных друзей не причастен таким сделкам с совестью...
В этих сделках не* личности виноваты, а те понятия, которые им вбиты
в голову с малолетства и которые так часто противны бывают
естественному ходу живых стремлений души. Пока эти понятия не выгнаны
из общества, пока полная гармония идей и "потребностей природы не
восстановлена в человеческом существе, до тех пор подобные сделки
неизбежны. Хорошо еще и то, если, делая их, приходят к тому, что
представляется натурою и здравым смыслом, и не падают под гнетом
условных наставлений искусственной морали. Именно на это и стало
силы у Катерины, и чем сильнее говорит в ней натура, тем спокойнее
смотрит она в лицо детским бредням, которых бояться приучили ее
окружающие. Поэтому нам кажется даже, что артистка, исполняющая
роль Катерины на петербургской сцене, делает маленькую ошибку,
придавая монологу, о котором мы говорим, слишком много жара и
трагичности 22. Она, очевидно, хочет выразить борьбу, совершающуюся в
душе Катерины, и с этой точки зрения она передает трудный монолог
превосходно. Но нам кажется, что сообразнее с характером и
положением Катерины в этом случае — придавать ее словам больше
спокойствия и легкости. Борьба, собственно, уже кончена, остается лишь
небольшое раздумье, старая ветошь покрывает еще Катерину, и она
мало-помалу сбрасывает ее с себя... Окончание монолога выдает ее сердце:
«Будь что будет, а я Бориса увижу»,— заключает она, и в забытьи
предчувствия восклицает: «Ах, кабы ночь поскорей!»
Такая любовь, такое чувство не уживется в стенах кабановского
дома с притворством и обманом. Катерина хоть и решилась на тайное
свидание, но в первый же раз, в восторге любви, говорит Борису,
уверяющему, что никто ничего не узнает: «Э, что меня жалеть, никто
294
H. A. Добролюбов
не виноват,— сама на то пошла. Не жалей, губи меня! Пусть все знают,
пусть все видят, что я делаю... Коли я для тебя греха не побоялась,
побоюсь ли я людского суда?»
И точно, она ничего не боится, кроме лишения возможности видеть
ее избранного, говорить с ним, наслаждаться с ним этими летними
ночами, этими новыми для нее чувствами. Приехал муж, и жизнь ей
стала не в жизнь. Надо было таиться, хитрить; она этого не хотела
и не умела; надо было опять воротиться к своей черствой, тоскливой
жизни,— это ей показалось горче прежнего. Да еще надо было бояться
каждую минуту за себя, за каждое свое слово, особенно перед свекровью;
надо было бояться еще и страшной кары для души... Такое положение
невыносимо было для Катерины: дни и ночи она все думала, страдала,
экзальтировала свое воображение, и без того горячее, и конец был тот,
что она не могла вытерпеть — при всем народе, столпившемся в галерее
старинной церкви, покаялась во всем мужу. Первое движение его было
страх, что скажет мать. «Не надо, не говори, матушка здесь»,— шепчет
он, растерявшись. Но мать уже прислушалась и требует полной
исповеди, в заключение которой выводит свою мораль: «Что, сынок, куда
воля-то ведет?»
Трудно, конечно, более насмеяться над здравым смыслом, чем как
делает это Кабаниха в своем восклицании. Но в «темном царстве»
здравый смысл ничего не значит: с «преступницею» приняли меры,
совершенно ему противные, но обычные в том быту: муж, по
повелению матери, побил маненько свою жену, свекровь заперла ее на замок
и начала есть поедом... Кончены воля и покой бедной женщины: прежде
хоть ее попрекнуть не могли, хоть могла она чувствовать свою полную
правоту перед этими людьми. А теперь ведь так или иначе она перед
ними виновата, она нарушила свои обязанности к ним, принесла горе
и позор в семью; теперь самое жестокое обращение с ней имеет уже
поводы и оправдание. Что остается ей? Пожалеть о неудачной попытке
вырваться на волю и оставить свои мечты о любви и счастье, как уже
покинула она радужные грезы о чудных садах с райским пением.
Остается ей покориться, отречься от самостоятельной жизни и сделаться
беспрекословной угодницей свекрови, кроткою рабою своего мужа и
никогда уже не дерзать на какие-нибудь попытки опять обнаружить
свои требования... Но нет, не таков характер Катерины; не затем
отразился в ней новый тип, создаваемый русскою жизнью,— чтобы
сказаться только бесплодной попыткой и погибнуть после первой неудачи.
Нет, она уже не возвратится к прежней жизни: если ей нельзя
наслаждаться своим чувством, своей волей вполне законно и свято, при
свете белого дня, перед всем народом, если у нее вырывают то, что нашла
она и что ей так дорого, она ничего тогда не хочет в жизни, она и жизни не
хочет. Пятый акт «Грозы» составляет апофеозу этого характера, столь
Луч света в темном царстве
295
простого, глубокого и так близкого к положению и к сердцу каждого
порядочного человека в нашем обществе. Никаких ходуль не поставил
художник своей героине, он не дал ей даже героизма, а оставил ее той же
простой, наивной женщиной, какой она являлась перед нами и до «греха»
своего. В пятом акте у ней всего два монолога да разговор с Борисом; но они
полны в своей сжатости такой силы, таких многозначительных откровений,
что, принявшись за них, мы боимся закомментироваться еще на целую
статью. Постараемся ограничиться несколькими словами.
В монологах Катерины видно, что у ней и теперь нет ничего
формулированного; она до конца водится своей натурой, а не заданными
решениями, потому что для решений ей бы надо было иметь
логические твердые основания, а между тем все начала, которые ей даны
для теоретических рассуждений, решительно противны ее натуральным
влечениям. Оттого она не только не принимает геройских поз и не
произносит изречений, доказывающих твердость характера, а даже
напротив — является в виде слабой женщины, не умеющей противиться
своим влечениям, и старается оправдывать тот героизм, какой
проявляется в ее поступках. Она решилась умереть, но ее страшит мысль,
что это грех, и она как бы старается доказать нам и себе, что ее
можно и простить, так как ей уж очень тяжело. Ей хотелось бы
пользоваться жизнью и любовью; но она знает, что это — преступление,
и потому говорит в оправдание свое: «Что ж, уж все равно, уж душу
свою я ведь погубила»! Ни на кого она не жалуется, никого не винит,
и даже на мысль ей не приходит ничего подобного; напротив, она перед
всеми виновата, даже Бориса она спрашивает, не сердится ли он на
нее, не проклинает ли... Нет в ней ни злобы, ни презрения, ничего,
чем так красуются обыкновенно разочарованные герои, самовольно
покидающие свет. Но не может она жить больше, не может, да и только;
от полноты сердца говорит она: «Уж измучилась я... Долго ль мне еще
мучиться? Для чего мне теперь жить,— ну, для чего? Ничего мне не
надо, ничего мне не мило, и свет божий не мил! — а смерть не
приходит. Ты ее кличешь, а она не приходит. Что ни увижу, что ни
услышу, только тут (показывая на сердце) больно». При мысли о могиле
ей делается легче,— спокойствие как будто проливается ей в душу.
«Так тихо, так хорошо... А об жизни и думать не хочется... Опять
жить?.. Нет, нет, не надо... не хорошо. И люди мне противны, и дом
мне противен, и стены противны. Не пойду туда! Нет, нет, не пойду...
Придешь к ним — они ходят, говорят,— а на что мне это?..» И мысль
о горечи жизни, какую надо будет терпеть, до того терзает Катерину,
что повергает ее в какое-то полугорячечное состояние. В последний
момент особенно живо мелькают в ее воображении все домашние ужасы.
Она вскрикивает: «А поймают меня до воротят домой насильно!.. Скорей,
скорей...» И дело кончено: она не будет более жертвою бездушной све-
296
Я. А. Добролюбов
крови, не будет более томиться взаперти, с бесхарактерным и противным
ей мужем. Она освобождена!..
Грустно, горько такое освобождение; но что же делать, когда другого
выхода нет. Хорошо, что нашлась в бедной женщине решимость хоть на
этот страшный выход. В том и сила ее характера, оттого-то «Гроза»
и производит на нас впечатление освежающее, как мы сказали выше.
Без сомнения, лучше бы было, если б возможно было Катерине
избавиться другим образом от своих мучителей или ежели бы окружающие
ее мучители могли измениться и примирить ее с собою и с жизнью.
Но ни то, ни другое — не в порядке вещей. Кабанова не может
оставить того, с чем она воспитана и прожила целый век; бесхарактерный
сын ее не может вдруг, ни с того ни с сего, приобрести твердость и
самостоятельность до такой степени, чтобы отречься от всех нелепостей,
внушаемых ему старухой; все окружающее не может перевернуться вдруг
так, чтобы сделать сладкою жизнь молодой женщины. Самое большее,
что они могут сделать, это — простить ее, облегчить несколько тягость
ее домашнего заключения, сказать ей несколько милостивых слов, может
быть подарить право иметь голос в хозяйстве, когда спросят ее мнения.
Может быть, этого и достаточно было бы для другой женщины, забитой,
бессильной, и в другое время, когда самодурство Кабановых покоилось
на общем безгласии и не имело столько поводов выказывать свое наглое
презрение к здравому смыслу и всякому праву. Но мы видим, что
Катерина — не убила в себе человеческую природу и что она находится
только внешним образом, по положению своему, под гнетом самодурной
жизни; внутренно же, сердцем и смыслом, сознает всю ее нелепость,
которая теперь еще увеличивается тем, что Дикие и Кабановы, встречая
себе противоречие и не будучи в силах победить его, но желая
поставить на своем, прямо объявляют себя против логики, то есть ставят
себя дураками перед большинством людей. При таком положении дел,
само собою разумеется, что Катерина не может удовлетвориться
великодушным прощением от самодуров и возвращением ей прежних прав
р. семье, она знает, что значит милость Кабановой и каково может
быть положение невестки при такой свекрови... Нет, ей бы нужно было
не то, чтоб ей что-нибудь уступили и облегчили, а то, чтобы свекровь,
муж. все окружающие сделались способны удовлетворить тем живым
стремлениям, которыми она проникнута, признать законность ее
природных требований, отречься от всяких принудительных прав на нее
и переродиться до того, чтобы сделаться достойным ее любви и доверия.
Нечего и говорить о том, в какой мере возможно для них такое
перерождение...
Менее невозможности представляло бы другое решение — бежать с
Борисом от произвола и насилия домашних. Несмотря на строгость
формального закона, несмотря на ожесточенность грубого самодурства,
Луч света в темном царстве
297
подобные шаги не представляют невозможности сами по себе, особенно
для таких характеров, как Катерина. И она не пренебрегает этим
выходом, потому что она не отвлеченная героиня, которой хочется смерти
по принципу. Убежавши из дому, чтобы свидеться с Борисом, и уже
задумывая о смерти, она, однако, вовсе не прочь от побега: узнавши,
что Борис едет далеко, в Сибирь, она очень просто говорит ему:
«Возьми меня с собой отсюда». Но тут-то и всплывает перед нами на минуту
камень, который держит людей в глубине омута, названного нами
«темным царством». Камень этот — материальная зависимость. Борис ничего
не имеет и вполне зависит от дяди — Дикого; Дикой с Кабановыми
уладили, чтоб его отправить в Кяхту, и, конечно, не дадут ему взять
с собой Катерину. Оттого он и отвечает ей: «Нельзя, Катя; не по
своей воле я еду, дядя посылает, уж и лошади готовы» и пр. Борис —
не герой, он далеко не стоит Катерины, она и полюбила-то его больше
на безлюдье. Он хватил «образования» и никак не справится ни с
старым бытом, ни с сердцем своим, ни с здравым смыслом,— ходит точно
потерянный. Живет он у дяди потому, что тот ему и сестре его
должен часть бабушкина наследства отдать, «если они будут к нему
почтительны». Борис хорошо понимает, что Дикой никогда не признает
его почтительным и, следовательно, ничего не даст ему; да этого мало,
Борис так рассуждает: «Нет, он прежде наломается над нами,
наругается всячески, как его душе угодно, а кончит все-таки тем, что не даст
ничего или так какую-нибудь малость, да еще станет рассказывать,
что из милости дал, что и этого бы не следовало». А все-таки он
живет у дяди и сносит его ругательства; зачем? — неизвестно. При
первом свидании с Катериной, когда она говорит о том, что ее ждет за
это, Борис прерывает ее словами: «Ну что об этом думать, благо нам
теперь хорошо». А при последнем свидании плачется: «Кто ж это знал,
что нам за нашу любовь так мучиться с тобой! Лучше бы бежать мне
тогда!» Словом, это один из тех весьма нередких людей, которые не
умеют делать того, что понимают, и не понимают того, что делают.
Тип их много раз изображался в нашей беллетристике — то с
преувеличенным состраданием к ним, то с излишним ожесточением против них.
Островский дает их нам так, как они есть, и с особенным,
свойственным ему уменьем рисует двумя-тремя чертами их полную
незначительность, хотя, впрочем, не лишенную известной степени душевного
благородства. О Борисе нечего распространяться: он, собственно, должен
быть отнесен тоже к обстановке, в которую попадает героиня пьесы.
Он представляет одно из обстоятельств, делающих необходимым
фатальный конец ее. Будь это другой человек и в другом положении — тогда
бы и в воду бросаться не надо. Но в том-то и дело, что среда,
подчиненная силе Диких и Кабановых, производит обыкновенно Тихонов
и Борисов, неспособных воспрянуть и принять свою человеческую при-
298
H. A. Добролюбов
роду, даже при столкновении с такими характерами, как Катерина.
Мы сказали выше несколько слов о Тихоне; Борис — такой же, в
сущности, только «образованный». Образование отняло у него чсилу делать
пакости,— правда; но оно не дало ему силы противиться пакостям,
которые делают другие; оно не развило в нем даже способности так вести
себя, чтобы оставаться чуждым всему гадкому, что кишит вокруг него.
Нет, мало того что не противодействует, он подчиняется чужим
гадостям, он волей-неволей участвует в них и должен принимать все их
последствия. Но он понимает свое положение, толкует о нем и нередко
даже обманывает, на первый раз, истинно-живые и крепкие натуры,
которые, судя по себе, думают, что если /человек так думает, так
понимает, то так должен и делать. Смотря со своей точки, этакие натуры
не затруднятся сказать «образованным» страдальцам, удаляющимся от
горестных обстоятельств жизни: «Возьми и меня с собой, я пойду за
тобою всюду». Но тут-то и окажется бессилие страдальцев; окажется,
что они и не предвидели, и что они проклинают себя, и что они рады
бы, да нельзя, и что воли у них нет, а главное — что у них нет
ничего за душою, и что для продолжения своего существования они
должны служить тому же самому Дикому, от которого вместе с нами
хотели бы избавиться...
Ни хвалить, ни бранить этих людей нечего, но нужно обратить
внимание на ту практическую почву, на которую переходит вопрос; надо
признать, что человеку, ожидающему наследства от дяди, трудно
сбросить с себя зависимость от этого дяди, и затем надо отказаться от
излишних надежд на племянников, ожидающих наследства, хотя бы они
и были «образованны» по самое нельзя. Если тут разбирать виноватого,
то виноваты окажутся не столько племянники, сколько дяди, или, лучше
сказать, их наследство.
Впрочем, о значении материальной зависимости, как главной
основы всей силы самодуров в «темном царстве», мы пространно говорили
в наших прежних статьях. Поэтому здесь только напоминаем об этом,
чтобы указать решительную необходимость того фатального конца, какой
имеет Катерина в «Грозе», и, следовательно, решительную необходимость
характера, который бы при данном положении готов был к такому концу.
Мы уже сказали, что конец этот кажется нам отрадным; легко
понять, почему: в нем дан страшный вызов самодурной силе, он говорит
ей, что уже нельзя идти дальше, нельзя долее жить с ее
насильственными, мертвящими началами. В Катерине видим мы протест против
кабановских понятий о нравственности, протест, доведенный до конца,
провозглашенный и под домашней пыткой, и над бездной, в которую
бросилась бедная женщина. Она не хочет мириться, не хочет
пользоваться жалким прозябаньем, которое ей дают в обмен на ее живую
душу. Ее погибель — это осуществленная песнь плена вавилонского: иг-
Луч света в темном царстве
299
раите и пойте нам песни сионские,— говорили иудеям их победители;
но печальный пророк отозвался, что не в рабстве можно петь
священные песни родины, что лучше пусть язык их прилипнет к гортани и
руки отсохнут, нежели примутся они за гусли и запоют сионские песни
на потеху владык своих23. Несмотря на все свое отчаяние, эта песнь
производит высоко отрадное, мужественное впечатление: чувствуешь,
что не погиб бы народ еврейский, если б весь и всегда одушевлен был
такими чувствами...
Но и без всяких возвышенных соображений, просто по человечеству,
нам отрадно видеть избавление Катерины — хоть через смерть, коли
нельзя иначе. На этот счет мы имеем в самой драме страшное
свидетельство, говорящее нам, что жить в «темном царстве» хуже смерти.
Тихон, бросаясь на труп своей жены, вытащенной из воды, кричит в
самозабвении: «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете
да мучиться!» Этим восклицанием заканчивается пьеса, и нам кажется,
что ничего нельзя было придумать сильнее и правдивее такого
окончания. Слова Тихона дают ключ к уразумению пьесы для тех, кто бы
даже и не понял ее сущности ранее; они заставляют зрителя подумать
уже не о любовной интриге, а обо всей этой жизни, где живые
завидуют умершим, да еще каким — самоубийцам! Собственно говоря,
восклицание Тихона глупо: Волга близко, кто же мешает и ему броситься,
если жить тошно? Но в том-то и горе его, то-то ему и тяжко, что он
ничего, решительно ничего сделать не может, даже и того, в чем
признает свое благо и спасение. Это нравственное растление, это
уничтожение человека действует на нас тяжеле всякого, самого трагического
происшествия: там видишь гибель одновременную, конец страданий,
часто избавление от необходимости служить жалким орудием каких-нибудь
гнусностей; а здесь — постоянную, гнетущую боль, расслабление,
полутруп, в течение многих лет согнивающий заживо... И думать, что этот
живой труп — не один, не исключение, а целая масса людей,
подверженных тлетворному влиянию Диких и Кабановых! И не чаять для них
избавления — это, согласитесь, ужасно! Зато какою же отрадною,
свежею жизнью веет на нас здоровая личность, находящая в себе
решимость покончить с этой гнилою жизнью во что бы то ни стало!..
На этом мы и кончаем. Мы не говорили о многом — о сцене ночного
свидания, о личности Кулигина, не лишенной тоже значения в пьесе,
о Варваре и Кудряше, о разговоре Дикого с Кабановой и пр. и пр.
Это оттого, что наша цель была указать общий смысл пьесы, и,
увлекаясь общим, мы не могли достаточно входить в разбор всех
подробностей. Литературные судьи останутся опять недовольны: мера
художественного достоинства пьесы недостаточно определена и выяснена,
лучшие места не указаны, характеры второстепенные и главные не
отделены строго, а всего пуще — искусство опять сделано орудием какой-
300
H. A. Добролюбов
то посторонней идеи!.. Все это мы знаем и имеем только один ответ:
пусть читатели рассудят сами (предполагаем, что все читали или видели
«Грозу»),— точно ли идея, указанная нами,— совсем посторонняя
«Грозе», навязанная нами насильно, или же она действительно вытекает из
самой пьесы, составляет ее сущность и определяет прямой ее омысл?..
Если мы ошиблись, пусть нам это докажут, дадут другой смысл пьесе,
более к ней подходящий... Если же наши мысли сообразны с пьесою,
то мы просим ответить еще на один вопрос: точно ли русская живая
натура выразилась в Катерине, точно ли русская обстановка во всем,
ее окружающем, точно ли потребность возникающего движения русской
жизни сказалась в смысле пьесы, как она понята нами? Если «нет»,
если читатели не признают здесь ничего знакомого, родного их сердцу,
близкого к их насущным потребностям, тогда, конечно, наш труд
потерян. Но ежели «да», ежели наши читатели, сообразив наши заметки,
найдут, что, точно, русская жизнь и русская сила вызваны
художником в «Грозе» на решительное дело, и если они почувствуют
законность и важность этого дела, тогда мы довольны, что бы ни говорили
наши ученые и литературные судьи.
\
ЗАБИТЫЕ ЛЮДИ
(Сочинения Ф. М. Достоевского. Два тома. Москва, 1860 г.
«Униженные и оскорбленные», роман в 4-х частях Ф. М. Достоевского.
«Время», 1861 г., № I—VII)
I
«Опять о забитых личностях! Мало еще было толковано о них в «Темном
царстве», мало вообще надоедал ими «Современник» в своем
критическом отделе! И ведь пришла же человеку в голову безобразная мысль —
превратить дело художественной критики в патологические этюды о
русском обществе...1 Вот хоть бы теперь на очереди стоит чрезвычайно
важный для искусства вопрос о сущности и степени творческого таланта
одного из замечательнейших деятелей нашей литературы, вопрос тем
более интересный, что о нем, в течение пятнадцати лет, были высказаны
самые разнообразные мнения. Появление «Бедных людей» было встречено
величайшим восторгом всей литературной партии, признавшей Гоголя;
Белинский провозгласил, что хотя г. Достоевский и многим обязан
Гоголю, как Лермонтов Пушкину,— но что тем не менее он — сам по себе,
вовсе не подражатель Гоголя, а талант самобытный и громадный. Он
начал так, прибавлял Белинский, как не начинал еще ни один из
русских писателей. Мало того,— Белинский пророчествовал таким образом:
«Талант г. Достоевского принадлежит к разряду тех, которые
постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится
талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что
о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей
славы» («Отечественные записки», 1846, № III, стр. 20) 2. Это было
302
Я. А. Добролюбов
писано еще в то время, когда в ходу были повести гг. Соллогуба,
Луганского, Гребенки и т. п.; г. Гончаров еще не появлялся тогда с
«Обыкновенной историей»; гг. Тургенев и Григорович едва напечатали
несколько незначительных рассказов; об Островском, Писемском, Толстом
и других, впоследствии прославившихся писателях, не было еще ни
слуху ни духу. Прошло с тех пор еще три года: новые писатели
возникали и приобретали себе почетную известность; г. Достоевский все
продолжал писать, и ни одно из его новых произведений не сравнилось
с первою его повестью. В половине 1849 года литературная
деятельность его прекратилась 3, и литература не выразила при этом особенных
сожалений. Если в течение десятилетнего молчания г. Достоевского
иногда и вспоминали о нем, то разве затем, чтобы посмеяться над
собственным простодушием, с которым производили его в гении за
первую повесть, и о непомерном самолюбии, до которого довело его общее
поклонение. Но два года тому назад г. Достоевский снова появился в
литературе, хотя имя его было уже слишком бледно пред новыми
светилами, загоревшимися на горизонте русской словесности в последнее
десятилетие. В эти два года он напечатал четыре больших произведения,
и об них еще не произнесен беспристрастный суд критики4. Теперь
именно и предстоит для критика задача — определить, насколько
развился и возмужал талант г. Достоевского, какие эстетические
особенности представляет он в сравнении с новыми писателями, которых еще
не могла иметь в виду критика Белинского, какими недостатками и
красотами отличаются его новые произведения и на какое действительно
место ставят они его в ряду таких писателей, как гг. Гончаров,
Тургенев, Григорович, Толстой и пр. Критику предстоит художественный
вопрос, существенно важный для истории нашей литературы,— а он
собирается толковать о забитых людях — предмете даже вовсе не
эстетическом».
Всякий раз, как я начинаю писать критическую статью, меня
начинают осаждать требования и возгласы подобного рода. По мнению одного
критика, мне от них нет другого спасения, как признаться откровенно,
что решение вопросов подобной важности — мне не под силу5. Я бы,
пожалуй, и готов признаться; но ведь это, во-первых, для самолюбия
обидно, а во-вторых — зачем же мне клепать на себя? Разумеется,
критика должна служить приложением вечных законов искусства к частному
произведению, должна, как в зеркале, представить достоинства и
недостатки автора, указать ему верный путь, а читателям — места,
которыми они должны или не должны восхищаться. Такова ведь должна
быть настоящая критика? Да, но знаете ли, что чистая теория критики
так же точно неприложима бывает, как и теория о том, как сделаться
богатым и счастливым или как приобрести любовь женщин. Еще ежели
попадет такая теория на человека, имеющего все шансы нравиться жен-
Забитые люди
303
щинам, ежели придется теория богатства и счастья по человеку
умеренному, аккуратному, искательному и ловкому,— так, пожалуй, будет
и на дело похоже: у такого человека есть залоги на счастье и
богатство, приближающие его к принципам книжной теории. А что, как
эта мораль из прописей, предлагаемая под видом «руководства к
счастливой и богатой жизни» и состоящая в том, что «будь бережлив»,
«никогда не давай воли своим страстям», «довольствуйся малым»,,
«сноси терпеливо все оскорбления от тех, от кого находишься в
зависимости», и пр. и т. п.,— что, ежели эта мораль будет применяема к
натуре горячей, расточительной, беспокойной? Ведь не стоит тогда и
изучать теорию счастья, точно так, как не стоит робкому и
безобразному старцу заниматься изучением «искусства нравиться женщинам»,,
когда там на первом плане стоят развязность, молодость и
благообразие, ежели уже не красота. То же самое и с критикой: хорошо, если
вам попадается произведение, приближающееся хоть сколько-нибудь к
идеальным требованиям, имеющее какие-нибудь шансы «быть
долговечным и счастливым», то есть составить собою что-нибудь самобытное,
замечательное не по отношению к каким-нибудь другим интересам, а по
своему внутреннему достоинству. Тогда можно и с эстетической точки
зрения заняться им, можно и в художественные тонкости пуститься и
все пятнышки в нем проследить. Да это сделается тогда само собою,
по тому же невольному чувству, по которому вы хлопочете, чтобы
прекрасной картине дано было хорошее освещение, и невольно делаете
движение, чтобы согнать севшую на нее муху... Но подымать вечные законы
искусства, толковать о художественных красотах по поводу созданий
современных русских повествователей — это (да простят мне г.
Анненков и все его последователи!) так же смешно, как развивать теорию
генерал-баса в поощрение тапера, не сбивающегося с такта, или
пуститься в изложение математической теории вероятностей по поводу ошибки
ученика, неверно решившего уравнение первой степени.
Для людей, которые все уткнулись в «свою литературу», для которых
нет других событий общественной жизни, кроме выхода новой книжки
журнала, действительно должен казаться громадно-важным их
муравейник. Зная только отвлеченные теории искусства (имевшие, впрочем,
когда-то свое жизненное значение) да занимаясь сравнением повестей
г. Тургенева, например, с повестями г. Шишкина или романов г.
Гончарова с романами г. Карновича6.— точно, не мудрено прийти в пафос
и воскликнуть:
Такой-то муравей был силы непомерной...7
Но поверьте, что только праздные люди могут толпиться около этого
муравья и по целым часам любоваться, как он показывает свою силу,,
304 H. A. Добролюбов
У большинства людей есть свои занятия, и если им любопытно подчас
видеть проявление силы, то уж не такой же.
Я бы хотел здесь поговорить о размерах силы, проявляющейся ß
современной русской беллетристике, но это завело бы слишком далеко...
Лучше уж до другого раза. Предмет этот никогда не уйдет. А теперь
обращусь собственно к г. Достоевскому и главное — к его последнему
роману, чтобы спросить читателей: забавно было бы или нет заниматься
эстетическим разбором такого произведения?
Роман г. Достоевского очень недурен, до того недурен, что едва ли
не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и
говорили с полною похвалою... Явился было ему соперник в «Чужом
имени» г. Ахшарумова, но со второй же части, говорят, обнаружилась
в этом романе такая неблаговидная пошлость во вкусе романов Полевого,
что читатели бросили роман недочитанным. «Бедные дворяне» г. Поте-
хина 8 тоже, говорят, остались далеко позади «Униженных и
оскорбленных». Словом сказать, роман г. Достоевского до сих пор представляет
лучшее литературное явление нынешнего года. А попробуйте применить
к нему правила строго художественной критики! *
Большая часть наших читателей, конечно, знает содержание
«Униженных и оскорбленных». Поэтому постараюсь изложить главные черты
романа в самых коротких словах.
Рассказ веден от лица Ивана Петровича, «неудавшегося литератора».
Герой романа — князь Валковский. Иван Петрович воспитан у помещика
Ихменева, который вместе с тем управляет и соседним имением князя
Валковского. Валковский очень доверяет Ихменеву и даже посылает к
нему под надзор в деревщо 19-летнего сына своего Алешу, накутившего
что-то в Петербурге. Но через год князь приехал в имение, поссорился
с Ихменевым,— по наговорам, будто тот интриговал, чтобы женить
Алешу на своей 17-летней дочери, Наташе,— отнял у него управление
именьем, сделал на него наче! и завел процесс. Для «хождения по делу»
Ихменев переехал в Петероург. Вот завязка романа.
В Петербурге Ихменевы встретили Ивана Петровича: он страстно
влюбился в Наташу, она в него, они объяснились между собою и с
родителями, получили радостное согласие и совет — подождать годик, пока
Иьан Петрович заработает себе что-нибудь побольше теперешнего.
Но между тем Алеша тоже начал бывать у Ихменевых, тайком от отца;
старики его принимали ласково, потому что он и в 21 год был милым
и незлобным ребенком. Он влюбился в Наташу, а Наташа в него,—
да так, что в один прекрасный вечер бежала к нему из дома
родительского. Иван Петрович все это знал, всему помогал, переносил вести
от дочери к родителям, от родителей к дочери и пр. Но вскоре
деятельность его раздвояется: он поселился в квартире одного старика,
умершего на его руках; к старику ходила внучка, девочка лет 13,
Забитые люди
305
Нелли; явилась она и к Ивану Петровичу, но, не нашед дедушки, тотчас
убежала. Иван Петрович успел ее выследить, спас ее от развратной
женщины, которая уже продала было ее какому-то кутиле, и поселил
у себя. С этих пор Иван Петрович мечется беспрестанно от Нелли к
Наташе и от Наташи к Нелли. Между тем князь Валковский, видя,
что сын не отстает от Наташи, выдумал остроумное средство: приехал
к Наташе и при нем же попросил ее согласия на замужество с его
сыном. Все были очень рады такому обороту дела, но ветреный Алеша,
в котором только препятствия еще и поддерживали любовь, совсем
теперь успокоился насчет Наташи, стал пропадать по нескольку дней,
ездить по балам и уже без всякого принуждения знакомиться и
сходи! ься с невестой, которую приготовил ему отец. Через несколько дней
он, разумеется, влюбился в нее так же страстно, как и в Наташу, а еще
через несколько дней убедился, что он ее любит более Наташи. Расчет
князя-отца оказался верен; его скоро поняла и Наташа и очень
энергически, как по писаному, все высказала князю. Князь обиделся и зато
через несколько дней весьма цинически и с приправою разных
оскорблений высказал то же самое, то есть признался во всех своих расчетах
Ивану Петровичу. Между прочим, приехав к нему в квартиру, князь
увидал Нелли, и она была им страшно испугана и сделалась больна.
Иван Петрович опять в хлопотах: тут больная, там идет к развязке;
отец Алеши хочет женить его, невеста его, Катя, хочет познакомиться
с Наташей, чтобы попросить у нее прощения и согласия; отец Наташи
горячится из-за дочери и — то ее проклинает, то хочет вызвать князя
на дуэль; мать рвется к дочери, сама Наташа еле на ногах держится.
Наконец все устроивается: Алеша уезжает в деревню вместе с Катей
и ее семейством, Наташа решается идти к родителям. Чтобы смягчить
отца и приготовить его к прощению, употребляют орудием маленькую
Нелли, заставляя ее рассказывать ему свою историю, или, лучше
сказать, историю ее матери. Дело состоит в том, что мать Нелли была
обольщена одним господином, убежала от отца, была им проклята,
потом ограблена и брошена своим любовником и умерла в сыром углу
от чахотки и голода, напрасно вымаливая прощение у отца. Рассказ,
точно, производит сильное впечатление, так что Ихменев решается идти
к Наташе. Но это оказывается решительно не нужно: Наташа сама
прибежала к родителям и, разумеется, встречена была с распростертыми
объятиями. Вслед за тем, при посредстве приятеля Ивана Петровича,
ходока Маслобоева, открылось, что Нелли — дочь князя Валковского,
что обольститель ее матери был именно он и что — мало того — он был
женат на матери Нелли законным образом. Но улик законных против
князя не было, и нельзя было предпринять против него никаких мер.
Алеша, разумеется, женился на Кате. Униженные и оскорбленные так
и остались неотомщенными. Нелли скоро затем умерла; а Наташа с ро-
20 Н. А. Добролюбов
306
И. А. Добролюбов
дителями отправилась в провинцию, где старик Ихменев выхлопотал
себе какое-то место, проиграв окончательно свой процесс с князем и
лишившись своей последней деревеньки Ихменевки.
В романе очень много живых, хорошо отделанных частностей, герой
романа хоть и метит в мелодраму, но по местам выходит недурен,
характер маленькой Нелли обрисован положительно хорошо, очень живо
и натурально очеркнут также и характер старика Ихменева. Все это
дает право роману на внимание публики, при общей бедности хороших
повестей в настоящее время. Но все это еще не возвышает его
настолько, чтобы применять общие художественные требования ко всем его
частностям и сделать его предметом подробного эстетического разбора.
Возьмите, например, хоть самый прием автора: историю любви и
страданий Наташи с Алешей рассказывает нам человек, сам страстно
в нее влюбленный и решившийся пожертвовать собою для ее счастья.
Я признаюсь,— все эти господа, доводящие свое^ душевное величие до
того, чтобы зазнамо целоваться с любовником своей невесты и быть
у него на побегушках, мне вовсе не нравятся. Они или вовсе не
любили или любили головою только, и выдумать их в литературе могли
только творцы, более знакомые с головною, нежели с сердечною
любовью. Если же эти романтические самоотверженцы точно любили, то
какие же должны быть у них тряпичные сердца, какие куричьи чувства!
А этих людей показывали еще нам, как идеал чего-то! Первый, сколько
помнится, устроил подобную комбинацию любовного самоотвержения
г. Тургенев и недавно повторил ее в «Накануне», имея, впрочем, на этот
раз осторожность дать понять читателю, что Берсенев еще сам не
отдавал себе ясного отчета в своих чувствах к Елене, когда понадобилось
его содействие Инсарову. Г. Достоевский тоже не в первый раз берет
такого героя; его уж мы видели в мечтателе «Белых ночей». Но то
была шутка в сравнении с нынешним его романом. Теперь мы видим
умного, благородного и развитого человека, который тоже попал в такую
комбинацию и собирается нам рассказать об этом. Как бы мы ни
смотрели на нравственное достоинство его подвига, но нам любопытно следить
за ним в его рассказе. Из всех униженных и оскорбленных в романе —
он унижен и оскорблен едва ли не более всех; представить, как в его
душе отражались эти оскорбления, что он выстрадал, смотря на
погибающую любовь свою, с какими мыслями и чувствами принимался он
помогать мальчишке-обольстителю своей невесты, какие бесконечные
вариации любви, ревности, гордости, сострадания, отвращения, ненависти
разыгрывались в его сердце, что чувствовал он, когда видел приближение
разрыва между своей невестой и ее любовником,— представить все это
в живом подлинном рассказе самого оскорбленного человека,— эта
задача смелая, требующая^ огромного таланта для ее удовлетворительного
исполнения. Одной неудачной попыткой на разъяснение одной частицы
Забитые люди
307
такой задачи Эрнест Федо сразу приобрел себе европейскую известность
и массу поклонников 9. Что же, если бы мы нашли хорошее, поэтическое
решение всей задачи! Кроме того, что у нас было бы художественное
целое,— нам разъяснился бы целый разряд характеров, целый ряд
нравственных явлений, мы знали бы, как нам судить об этих кроткосердных
героях и какую цену приписывать их гуманному обезличению себя, так
как мы знаем теперь, например после комедий Островского, как нам
смотреть на патриархальную размашистость русской натуры.
Г. Достоевский известен любовью к рисованию психологических
тонкостей. Мнение о его, кажется, «Двойнике», что это «собственно, не
повесть, а психологическое развитие», подало даже повод к одному очень
известному анекдоту. Потому можно было надеяться, что г. Достоевский
именно нападет на ту идею, о которой я говорил. Тогда бы, разумеется,
мог быть толк и о художественности исполнения. Но на самом деле вы
в романе не только слабого изображения внутреннего состояния Ивана
Петровича не находите, но даже не видите ни малейшего намека на то,
чтобы автор об этом заботился. Напротив, он избегает всего, где бы
могла раскрыться душа человека любящего, ревнующего, страдающего.
Пять месяцев, в которые Алеша успел прельстить Наташу и увлек ее
за собою,— не удостоены и пяти строчек. Первые полгода жизни Алеши
с Наташею пропущены почти без всяких объяснений. Действие романа
продолжается какой-нибудь месяц, и тут Иван Петрович беспрерывно
на побегушках, так что ему наконец раза два делается дурно и он
чуть не схватывает горячку. Но вот и все; что именно у него на душе,
мы этого не знаем, хотя и видим, что ему нехорошо. Словом, перед
нами не страстно влюбленный, до самопожертвования любящий человек,
рассказывающий о заблуждениях и страданиях своей милой, об
оскорблениях, нанесенных- его сердцу, о поругании его святыни; перед нами
просто автор, неловко взявший известную форму рассказа, не подумав
о том, какие она на него налагает обязанности. Оттого тон рассказа
решительно фальшивый, сочиненный; и сам рассказчик, который по
сущности дела должен бы быть действующим лицом, является нам чем-то
вроде наперсника старинных трагедий. К нему приходит отец Наташи —
сообщить о своих намерениях, за ним присылает ее мать — расспросить
о Наташе, его зовет к себе Наташа, чтобы излить пред ним свое сердце,
к нему обращается Алеша — высказать свою любовь, ветреность и
раскаяние, с ним знакомится Катя, невеста Алеши, чтобы поговорить с ним
о любви Алеши к Наташе, ему попадается Нелли, чтобы выказать свой
характер, и Маслобоев, чтобы разузнать и рассказать об отношениях
Нелли к князю, наконец, сам князь везет его к Борелю и даже напи-
ьается там, чтобы высказать Ивану Петровичу всю гадость своего
характера. А Иван Петрович все слушает и все записывает. Вот и все
его участие в романе.
20*
308
H, A. Добролюбов
Если уже таково отношение к делу даже того самого лица, которое
берется рассказывать нам о своем кровном деле, то нельзя ожидать,
чтоб он сумел очень глубоко ввести нас в сердечную жизнь других
действующих лиц. И точно — роман представляет нам калейдоскоп,
происшествий, которых случайными свидетелями можем мы сделаться на улице, в
гостиной или на ином чердаке, и при этом представлении стоит некто,
изъясняющий, что означают и почему выходят такие-то и такие-то вещи.
Завязка романа, например, основывается на любви Наташи к Алеше.
Наташа представлена девушкою умною, серьезною, с хорошо развитым
нравственным чувством, без особенных, и даже без всяких,
чувственных поползновений. Алеша — мальчишка, уже в 21 год ветреный,
цинический, лишенный всякой нравственной основы в характере до того,
что он не конфузится никакой своей пакости, напротив — тотчас же сам
о ней рассказывает, прибавляя, что знает, как это дурно, и вслед за
тем опять повторяет ту же пакость. Думая похвалить его невинность,
рассказчик говорит, между прочим: «Он не мог бы солгать, а если б
и солгал, то вовсе не подозревая в этом дурного». Видите, это был
наивный, милый ребенок, не ведающий разницы добра и зла, хотя и
достигший 21 года, воспитанный в светском петербургском обществе,
испытавший в нем кое-что и притом бывший сынком такого отца, как
князь Валковский. Идеализируя характер Алеши (как и следует по
правилам рыцарского великодушия, говоря о сопернике), рассказчик
замечает, что он «мог бы сделать и дурной поступок, принужденный
чьим-нибудь сильным влиянием, но, сознав последствия такого поступка,
умер бы от раскаяния». А через две страницы происходит сцена встречи
Алеши с убежавшей из дому Наташей. Иван Петрович пробует
напомнить ему: что, говорит, вы делаете,— какой страшный удар наносите
ее отцу и матери и пр... Алеша отвечает: «Да, это ужасно... Я это
tï прежде говорил... Но что же делать? изменить нельзя»... А тут еще
и изменять-то было нечего. И Алеша, вырвавши дочь из семейства,
не умер от раскаяния, да и потом, бросив Наташу и женившись на
Кате, тоже не умер... Словом сказать, по описанию, это обаятельный,
милый ребенок, только очень ветреный, а. по ходу дела — это рано
развращенный, эгоистический и пустой мальчишка, не имеющий никакого
направления, никакого убеждения, поддающийся на минуту всякому
постороннему влиянию, но постоянно верный только влечениям своих
капризов и чувственности, которых он не умеет даже стыдиться. Трудно
сказать, в чем заключается его обаятельность, чем он мог
подействовать на умную и серьезную девушку, как Наташа. Она краснеет за него,
когда он начинает врать Ивану Петровичу разную чепуху в тот самый
момент, как он встретил Наташу, чтобы увезти ее к себе; она умоляет
Ивана Петровича взглядом — не судить его строго... Ну, скажите,
какое же увлечение, какая любовь при таких отношениях?
Забитые люди
309
Но мало ли бывает аномалий, а г. Достоевский имеет, так сказать,
привилегию на их изображение. От г. Голядкина до Фомы Фомича в
«Селе Степанчикове» он изобразил на своем веку много болезненных,
ненормальных явлений. Мог взяться и за изображение исключительной,
ненатуральной любви Наташи к дряннейшему фату, который, по воем
ожиданиям здравого смысла, не мог не казаться ей противным.
Положим даже, что самая ненормальность-то, странность подобных
отношений и поразила художника и заставила его заняться их
воспроизведением. Но ведь мы знаем, что художник — не пластинка для фотографии,
отражающая только настоящий момент: тогда бы в художественных
произведениях и жизни не было, и смысла не было. Художник дополняет
отрывочность схваченного момента своим творческим чувством, обобщает
в душе своей частные явления, создает одно стройное целое из
разрозненных черт, находит живую связь и последовательность в
бессвязных, по-видимому, явлениях, сливает и переработывает в общности своего
миросозерцания разнообразные и противоречивые стороны живой
действительности. Оттого истинный художник, совершая свое создание,
имеет его в душе своей целым и полным, с началом и концом его, с его
сокровенными пружинами и тайными последствиями, непонятными часто
для логического мышления, но открывшимися вдохновенному взору
художника. Такими именно истинный художник представляет свои
создания и для других; они для всех делаются просты, понятны, законны.
Веши, самые чуждые для нас в нашей привычной жизни, кажутся нам
близкими в создании художника: нам знакомы, как будто родственные,
и мучительные искания Фауста, и сумасшествие Лира, и ожесточение
Чайльд-Гарольда; читая их, мы до того подчиняемся творческой силе
гения, что находим в себе силы, даже из-под всей грязи и пошлости,
обсыпавшей нас, просунуть голову на свет и свежий воздух и сознать,
что действительно создание поэта верно человеческой природе, что так
должно быть, что иначе и быть не может... Разумеется, не все гении,
и не от всех можно ожидать подобного эффекта, но все же до
известной степени он есть и в каждом художественном произведении, и
притом поэты с меньшим талантом обыкновенно являются публике с
созданиями, в которых и идеи отразились сравнительно меньшей важности
и обширности; но все же хоть что-нибудь, хоть в самых маленьких
размерах, но отразилось что-нибудь полно и самобытно: иначе нечего
искать в произведении и признаков художественного таланта 10.
Так пусть бы в романе г. Достоевского отразилась в своей полноте
хоть этакая маленькая, миниатюрная задача жизни *, как может смрад-
* Не говорю, чтоб художник задавал себе задачу, а чтоб у него отразилась,
разрешилась она сама собою, хоть бы неведомо для него; а то опять скажут, что я
навязываю художнику утилитарные темы.
310
Я, А. Добролюбов
ная козявка, подобная Алеше, внушить к себе любовь порядочной
девушке. Разъясни нам автор хоть это,— мы бы готовы были проследить
его рассказ шаг за шагом, и вступить с ним в какие угодно
художественные и психологические рассуждения. Но ведь и этого нет: пять
месяцев, в которые возникла и дошла до своего страшного пароксизма
любовная горячка Наташи, не удостоены ни одной страничкой. Сердце
героини от нас скрыто, и автор, по-видимому, смыслит в его тайнах
не больше нашего. Мы с доверием обращаемся к нему и спрашиваем:
как же это могло случиться? А он отвечает: вот подите же —
случилось, да и только.— Да, пожалуй, прибавит к этому: чрезвычайно
странный случай... а впрочем, это бывает.— Не угодно ли искать
художественного смысла в подобном произведении?
А потом, когда Наташа уже совершила свой странный шаг,
нелепость которого она понимала еще раньше, потом — как она жила с
Алешей? Какой процесс совершился в душе ее с первых дней этой новой
жизни до того дня, когда мы в первый раз опять видим ее в разговоре
с Иваном Петровичем и когда она высказывает решение, что с Алешей
должна расстаться? Обо всем этом мы имеем несколько незначительных
слов, вброшенных мимоходом в описание квартирной обстановки Наташи
и ровно ничего не объясняющих... Как видно, не это интересовало
автора, не тут было для него главное дело. В чем же? Разобрать трудно
уже и потому, что действие романа странным и ненужным образом
двоится между историей Наташи и историею маленькой Нелли, чем
решительно нарушается стройность впечатления. Но как обе эти истории
вертятся около князя Валковского, то можно полагать, что основу
романа, зерно его, составляет именно воспроизведение характера этого
князя. А всматриваясь в изображение этого характера, вы найдете с
любовью обрисованное сплошное безобразие, собрание злодейских и
цинических черт, но вы не найдете тут человеческого лица... Того
примиряющего, разрешающего начала, которое так могуче действует в искусстве,
ставя перед вами полного человека и заставляя проглядывать его
человеческую природу сквозь все наплывные мерзости,— этого начала нет
никаких следов в изображении личности князя. Оттого-то вы не можете
ни почувствовать сожаления к этой личности, ни возненавидеть ее той
высшей ненавистью, которая направляется уже не против личности
собственно, но против типа, против известного разряда явлений. И ведь
хоть бы неудачно, хоть бы как-нибудь попробовал автор заглянуть в
душу своего главного героя... Нет, ничего, ни попытки, ни намека...
Как и что сделало князя таким, как он есть? Что его занимает и
волнует серьезно? Чего он боится и чему наконец верит? А если ничему
не верит, если у него душа совсем вынута, то каким образом и при
каких посредствах произошел этот любопытный процесс? Мы вправе
требовать от автора объяснений на подобные вещи, даже не предъявляя
Забитые люди
311
на него особенно громадных претензий. Не говоря о гигантах поэзии,
мы имеем даже у себя произведения, удовлетворяющие этим скромным
требованиям: мы знаем, например, как Чичиков и Плюшкин дошли до
своего настоящего характера, даже знаем отчасти, как обленился Илья
Ильич Обломов... Но г. Достоевский этим требованием пренебрег
совершенно. Как же после этого разбирать характер князя с эстетической
точки зрения?
Да и вообще надо быть слишком наивным и несведущим, чтобы
серьезно и пространно, с доказательствами, выписками и примерами
разбирать эстетическое значение романа, который даже в изложении своем
обнаруживает отсутствие претензий на художественное значение. Во всем
романе действующие лица говорят, как автор; они употребляют его
любимые слова, его обороты; у них такой же склад фразы... Исключения
чрезвычайно редки. Начиная с того, что все лица называют друг друга
непременно голубчиком (исключая, может быть, князя), и оканчивая
тем, что они все любят вертеться на одном и том же слове и тянуть
фразу, как сам автор,— во всем виден сам сочинитель, а не лицо,
которое говорило бы от себя. Можно бы обо всем этом долго толковать,
если б мне не было скучно убеждать читателей в том, что для меня,
в сущности, вовсе не интересно; можно бы сгруппировать несколько
выписок, которые все вместе представляли бы нечто довольно
комическое. Но от всего этого я хочу уволить себя. Приведу, пожалуй, одну
только выписку, зато длинную,— это когда Наташа, понявши намерение
князя, объясняет ему, что значило его сватовство. Сначала Наташа
исторически излагает предшествовавшие обстоятельства до того вечера, когда
Алеша объявил Кате, невесте своей, что любит Наташу. Затем она
продолжает:
Вы спросили себя в тот вечер: что теперь делать? Алеша во всем подчинится, но
в этом уж ни за. что не подчинится; вполне испытано. Мало того, чем больше его
гнать, мучить,— тем больше в нем будет сопротивления; потому что он именно
таков, как все слабые, но честные люди; не гоните их, не преследуйте, они и не
подумают сопротивляться; а преследуйте, то вы сами же разожжете в них
сопротивление, которое без вашего преследования им бы и в голову, может быть, не пришло.
Соблазном тоже, оказалось, теперь нельзя взять: прежнее влияние еще слишком
сильно, и вы только в этот вечер вполне догадались, как оно сильно. Что ж делать?
Вы и придумали:
Что, если прекратить над ним всякое преследование? Что, если снять с него то,
чем тяготится теперь его сердце, снять то, что он считает своим долгом,
обязанностью? Ведь, может быть, тогда в нем пройдет и жар и все влечение к этим обязанно*
от я я.
Вот, например, он любит теперь эту Наташу; чего ж лучше: сказать ему прямо,
что но только он может теперь ее любить, но даже позволяется ему исполнить в
отношении к ней все свои обязанности, все, чем он страдает за эту Наташу, и не
только позволить, но даже как-нибудь обратить это позволение чуть не в приказ,
сказать ему, что он должен на ней жениться, чаще твердить ему, что это его обязан-
312
H. A. Добролюбов
ностъ,— одним словом все, что он говорил сам себе каждый день свободно, от
сердца, все это обратить теперь даже в принуждение. Ну, что тогда будет?
— Наталья Николаевна!—вскричал князь.—Все это одно расстройство вашего
воображения, ваша мнительность; вы вне себя, вы преувеличиваете!—И князь с
видом сожаления пожал плечами.
— Вот что тогда будет,— продолжала Наташа, как будто не обращая ни
малейшего внимания на слова князя.— Во-первых, думали вы, я окончательно привлеку
к ссбь его сердце, и он устыдится всякой недоверчивости ко мне; а это мне очень
пригодится теперь! Первое впечатление будет, положим, невыгодно; он обрадуется.
Он хоть и увлекается новой любовью, но ведь он сам еще не знает про эту новую
любовь: он до сих пор еще думает и уверен, что по-прежнему, как полгода назад, с тем
же жаром, с тою же страстью любит свою Наташу. Он хоть и привязался к
Катерине Федоровне, но думает, что это только так: ему хорошо, весело с нею,— известно,
почему; да он и не спрашивает об этом! И хоть сердце каждый день влечет его все
сильнее к новой любви, но он совершенно уверен, что там, в прежней любви, у
Наташи, все по-старому и никаких нет перемен. Он потому еще обрадуется, что
действительно до сих пор еще любит эту Наташу; ведь она друг его, он так привык к ней;
он даже об своей Кате (с которой он теперь на ты) едет к ней, к первой,
рассказывать; он столько раз видел ее страдания, и столько сам страдал от ее страданий!..
И потому он обрадуется, положим так, да и пусть его; оно даже и хорошо: радость
обновляет, через радость старое забывается; одно горе памятно: все это только на
минуту; зато будущее выиграно...
Зато он, первый раз во все эти полгода, ляжет спать спокойно, с облегченным
сердцем: оно уже не будет болеть за Наташу. Он не будет просыпаться во сне и с
тоскою думать: «Как-то она? что-то она? чем это кончится? чем устроится?» Теперь
все хорошо, и на другой же день он почувствует совсем невольно, без всякого
расчета, что, слава богу, он уже не должник; теперь все устроилось, и она уже все
получила, что он даже больше ей отдал, чем сама она думала; он отдаст ей всю свою
будущность, и должна же она оценить это, тогда как до сих пор он должен был
ценить все, чем жертвовала ему Наташа. Вот и легче на душе и дышится свободнее,
и так невольно это все подумается, так без расчету, с таким добрым, теплым
чувством! А вы смотрите да про себя думаете: «Это все хорошо: несколько дней пройдет,
и с ним случится то же самое, что бывает со всеми влюбленными скоро после
свадьбы; препятствий нет, все достигнуто, и любовь сама собою охладевает; там
наступает скука; там захочется нового; жизнь не любит покоя: сердцу хочется жить.
А тут как нарочно новая любовь еще прежде началась; она уже есть, и изобре-»
тать ее не надобно».
— Романы, романы,— произнес князь вполголоса, как будто про себя,—
уединение, мечтательность и чтение романов.
— Да, на этой-то новой любви вы все и основали,— продолжала Наташа, не
слыхав и не обратив внимания на слова князя, вся в лихорадочном жару и все более и
более увлекаясь,— и какие шансы для этой новой любви! Ведь она началась еще
тогда, когда он еще не узнал всех совершенств этой девушки/ В ту самую минуту,
когда он в тот вечер открывается этой девушке, что он не может ее любить, потому
что долг и другая любовь запрещают ему это,— эта девушка вдруг выказывает
перед ним столько благородства, столько сочувствия к нему и к своей сопернице,
столько сердечного прощения, что он, хоть и верил в ее красоту, но и не думал до этого
мгновения, чтобы она была так прекрасна! Он и ко мне тогда приехал,—только и
говорил что о ней; она слишком сильно поразила его. Да он назавтра же непременно
должен был почувствовать неотразимую потребность увидеть опять это прекрасное
существо, хоть из одной только благодарности. Да и почему ж к ней не ехать? Ведь
та, прежняя, уже не страдает, судьба ее решена, ведь той целый век отдается, а тут
одна какая-нибудь минутка... И что за неблагодарная была бы эта Наташа, если б
Забитые люди
315
она ревновала даже к этой минутке? И вот незаметно отнимается у этой Наташи,
вместо минуты, день, другой, третий... А между тем в это время девушка
высказывается перед ним в совершенно неожиданном, новом и своеобразном виде; она
такая благородпая энтузиастка, и в то же время она такой наивный ребенок, и в этом
так сходна с ним характером. Они клянутся друг другу в дружбе, в братстве,
неразлучности на всю жизнь. Правда, они с любовью говорят между собой и о Наташе,
но они хотят жить втроем, всегда. «5 какие-нибудь пятъ-шестъ часов разговора» вся
душа его открывается для новых ощущений, и сердце его отдается все... Тут еще
новые идеи, и причина их опять Катя. Он еще, может быть, не сейчас начинает
сравнивать, думаете вы, но это неминуемо. Придет это время; он сравнит свою
прежнюю любовь с своими новыми, свежими ощущениями; там все знакомое,
всегдашнее; там так серьезны, требовательны; там его ревнуют, бранят; там слезы... А если
и начинают с ним шалить, играть, то как будто не с ровней, а с ребенком... а
главное: все такое прежнее, известное...
Силлогизмы Наташи поразительно верны, как будто она им в
семинарии обучалась. Психологическая проницательность ее удивительна,
постройка речи сделала бы честь любому оратору, даже из древних.
Но, согласитесь, ведь очень приметно, что Наташа говорит слогом г.
Достоевского? И слог этот усвоен большею частью действующих лиц.
Надо еще заметить, что г. Достоевский (как весьма многие, впрочем,
из наших литераторов) любит возвращаться к одним и тем же лицам
по нескольку раз и пробовать с разных сторон те же характеры и
положения. У него есть несколько любимых типов, например, тип рано
развившегося, болезненного, самолюбивого ребенка,— и вот он возвращается
к нему и в Неточке, и в Маленьком герое, и теперь в Нелли...
Характер Нелли — тот же, что характер Кати в «Неточке», только
обстановка их различна. Есть тип человека, от болезненного развития
самолюбия и подозрительности доходящего до чрезвычайных уродств и
даже до помешательства, и он дает нам г. Голядкина, музыканта
Ефимова (в «Неточке»), Фому Фомича (в «Селе Степанчикове»). Есть тип
циника, бездушного человека, лишь с энергией эгоизма и
чувственности,— он его намечает в Быкове (в «Бедных людях»), неудачно
принимается за него в «Хозяйке», не оканчивает в Петре Александровиче
(в «Неточке») и, наконец, теперь раскрывает вполне в князе Валков-
ском (которого, кстати,— даже и зовут тоже Петром Александровичем).
К этому есть еще у г. Достоевского идеал какой-то девушки, который
ему никак не удается представить: Варенька Доброселова в «Бедных
людях», Настенька в «Селе Степанчикове», Наташа в «Униженных п
оскорбленных» — все это очень умные и добрые девицы, очень похожие
на автора по своим понятиям и по манере говорить, но, в сущности,
очень бесцветные. Автор умеет поместить их в очень интересную
обстановку, но это и все, что для них он делает. Надо признаться, что
даже Варенька Доброселова интересует нас более своими несчастиями
и теми рассказами, которые г. Достоевский сочинил за нее, нежели сама
по себе, просто как поэтическое создание.
314
Я. А. Добролюбов
Эта бедность и неопределенность образов, эта необходимость
повторять самого себя, это неуменье обработать каждый характер даже
настолько, чтобы сообщить ему соответственный способ внешнего
выражения,— все это, обнаруживая, с одной стороны, недостаток разнообразия
в запасе наблюдений автора, с другой стороны, прямо говорит против
художественной полноты и цельности его созданий... И думаете ли вы,
любители эстетики, что можно было бы помочь г. Достоевскому или
оказать услугу искусству, сделавши доскональный — détaillé et
raisonné * — разбор художественных несовершенств и достоинств этого
романиста? И неужели полагаете вы, что покамест литература имеет хоть
малейшую возможность хоть издалека прислушиваться к общественным
интересам и хоть неясным, кротким лепетом выразить свое к ним
участие,— неужели думаете вы возбудить в ком-нибудь интерес даже
самыми блестящими эстетическими этюдами по поводу... ну, да просто так,
à propos de bottes **, из-за появления новой драмы г. Потехина,
нового отрывка г. Гончарова, нового романа г. Достоевского?.. Разве
дождемся такого времени, когда литература опять разорвет уже решительно
всякую (и теперь, правда, слишком слабую) связь с обществом и
ограничена будет одними только собственными, домашними интересами, когда
литераторы принуждены будут писать только о литераторах и только
для литераторов,— тогда, вероятно, с успехом будут повторяться и
явления вроде мерзляковского разбора «Россиады» или вроде - прекрасной
статьи г. Боткина о Фете и. Но пока литература (то есть, собственно,
изящная), не достигая действительно художественного значения, имеет
по крайней мере практический смысл, дозвольте же придать несколько
практический характер и самой критике.
Г. Достоевский, вероятно, не будет на меня сетовать, что я
объявляю его роман, так сказать, «ниже эстетической критики». Я ведь имел
в виду вообще современную нашу литературу и если проверил свою
мысль несколькими беглыми замечаниями о его романе, так это потому,
что он мне попался под руку. А если бы взять другие из творений,
имевших у нас успех в последние годы, так многие из них оказались
бы, может быть, еще более несостоятельными. Г. Достоевский по.
крайней мере,— как нам кажется, судя по некоторым местам его
сочинений,— не имеет таких претензий, не придает себе такой важности, как
другие. Он изобразил некоторые свои литературные отношения в запис-
сках Ивана Петровича: я не считаю нескромным сказать это, потому
что сам автор явно не хотел скрываться. Он с такими подробностями
рассказывает там содержание «Бедных людей» как первой повести Ивана
* детальный и обоснованный (франц.).— Ред.
** ни то ни се (франц.).— Ред.
Забитые люди
315
Петровича,— что нет возможности ошибиться. Так тут-то он, между
прочим, сознается, что писал многое вследствие необходимости, писал к
сроку, написывал по три с половиною печатных листа в два дня и две
ночи; называет себя почтового клячею в литературе; смеется над
критиком, уверявшим, что от его сочинений пахнет потом и что он их
слишком обделывает *. Словом, г. Достоевский смотрит, по-видимому,
на свои произведения, как мы все обыкновенные люди,— не как на
несокрушимый памятник для потомства, а просто — как на журнальную
работу. А уж известно, что такое журнальная работа: тут не до
обработки, не до подробностей, не до строгости к себе в развитии мысли...
Довольно того, что хоть кое-как успеешь бросить эту мысль на бумагу.
Можно это сравнить вот с чем: вы поэт, в вас сейчас родилось чувство,
вас поразило впечатление, которое вы можете изобразить великолепными
стихами. У вас уже мелькают в голове образы, готово несколько стихов,
несколько метких выражений... Но вам мешают, от вас требуют
немедленного отчета в вашем впечатлении, у вас, наконец, вовсе отнимают
возможность предаться влечению вашего чувства и приискать для него
живые звуки. Делать нечего, вы берете карандаш и записную книжку
и набрасываете шероховатой прозой остов того прекрасного
стихотворения, которое уже слагалось у вас в голове. Так поступает постоянно,
в течение всей своей карьеры, журнальный работник. Человек, конечно,
все-таки виден,— ведь и в остове стихотворения можно разобрать до
некоторой степени, какого полета поэт мог написать его; уцелеют,
пожалуй, и несколько удачных страниц, как внезапно сложившийся стих
попадает в черновой набросок. Но в общем все это будет очень жалко.
Одно лишь остается неизменным, при спешной ли работе, при
многодумной ли проверке каждой страницы,— это общий характер убеждений
человека, его воззрений на жизнь, его симпатий и антипатий. От
торопливости в работе можно делать частные ошибки, высказываться неясно
или односторонне, впадать в мелкие противоречия и делать скачки, теряя
нить строгих логических выводов. Но если бы кто противоречие общих
убеждений и симпатий в своих сочинениях стал оправдывать спешностью
работы, тот показал бы только, что он не способен ни к каким
убеждениям.
И вот почему, если мы обратимся от отвлеченных эстетических
рассуждений к идеям и положениям, развиваемым у известного автора,
то найдем самое лучшее средство к уразумению сущности его таланта.
Тут уже мерка наших требований изменяется: автор может ничего не
дать искусству, не сделать шага в истории литературы собственно и
все-таки быть замечательным для нас по господствующему направлению
* Такой именно отзыв был когда-то о г. Достоевском, и даже, если не ошибаюсь,
в «Современнике» 12.
316
Л. А. Добролюбов
и смыслу своих произведений. Пусть он и не удовлетворяет
художественным требованиям, пусть он иной раз и промахнется, и выразится
нехорошо: мы уж на это не обращаем внимания, мы все-таки готовы
толковать о нем много и долго, если только для общества важен почему-
нибудь смысл его произведений. Есть, конечно, писатели, у которых
ни для чего нет своего глаза, которые ни о чем не могут сказать своих
слов; произведения таких господ — сплошная, гладкая, большею частью
удобочитаемая пошлость, вроде обыкновенных газетных фельетонов,
повестей г. Толбина или князя Кугушева, или стихотворений гг. Грекова,
Апухтина и т. п. Говорить о них, точно, нечего. Есть другие, у
которых отразится в голове какая-нибудь мизерная, давно ходячая,
односторонняя или фальшивая идейка, и они над нею трудятся: об этих
можно иной раз и поговорить, смотря по удаче исполнения. Вот г. Кол-
басин, например, овладел идеею, что «все мужчины изменщики и
истинной любви не понимают»: он и написал на эту тему с полдюжины
повестей из быта всех европейских наций. Если кому кажется, что г. Кол-
басин повествует превосходно, тот может, пожалуй, говорить йог. Кол-
басине,— как, мол, он хорошо проводит свою идею! У других писателей
встречаются идеи не столько пошлые и маленькие, но зато более
фальшивые. Вот, например, по миросозерцанию г. Писемского выходит, что
русский человек ни в чем меры не знает,— что ежели он не умирает
с голоду, то пьянствует; если не под башмаком у жены, то колотит
ее; -если не видит себе ниоткуда ни пинка, ни плети, то бросается на
всех, как зверь дикий; если взяток не берет, то норовит всякого в
кандалы заковать за взятый гривенник. Ну, и об этом нужно поговорить,
опять-таки если кому покажется, что в сочинениях г. Писемского идеи
эти выходят уж очень убедительны.
Но есть другого рода писатели, интересные совсем другим образом.
Это те, у которых художественное чутье, хотя бы даже и слабое,
направлено здраво, в которых не только верно отражаются явления жизни,
но которым доступен более или менее и общий таинственный смысл ее.
Такие писатели становятся замечательными художниками, если их
восприимчивость многообъемлюща, если жизнь открывается им не в
отдельных только явлениях, а во всем своем стройном течении, если чутки
они не к одной только внешней стороне явлений, но и к их
внутренней связи и последовательности. Тогда они создают что-нибудь прочно
остающееся в литературе и служат двигателями общественного сознания.
Но и люди с более ограниченною восприимчивостью, с более слабым,
только бы верным, чутьем, не проходят без следа и заслуживают
внимания, если хоть одну черту разъяснили или даже только указали нам
в этой жизни, которая у всех нас перед глазами, всех задевает собою
и, однако же, так немногих наводит на серьезную думу, так немногими
понимается.
Забитые люди
317
II
В произведениях г. Достоевского мы находим одну общую черту,
более или менее заметную во всем, что он писал: это боль о
человеке, который признает себя не в силах или наконец даже не вправе
быть человеком настоящим, полным, самостоятельным человеком, самим
по себе. «Каждый человек должен быть человеком и относиться к
другим, как человек к человеку»,— вот идеал, сложившийся в душе автора
помимо всяких условных и парциальных воззрений, по-видимому, даже
помимо его собственной воли и сознания, как-то a priori *, как что-то
составляющее часть его собственной натуры. И между тем, вступая в
жизнь и оглядываясь вокруг себя, он видит, что искания человека
сохранить свою личность, остаться самим собою, никогда не удаются, и кто
из ищущих не успеет рано умереть в чахотке или другой
изнурительной болезни, » тот в результате доходит только — или до ожесточения,
нелюдимства, сумасшествия, или до простого, тихого отупения,
заглушения в себе человеческой природы, до искреннего признания себя чем-то*
гораздо ниже человека. Есть много таких, которые даже как будто
родятся с этим последним сознанием, которых мысль о своем человеческом
значении как будто никогда сроду не посещала. Это — точно существа
другого мира, точно в них ничего нет общего с остальным человечеством...
Что за причина такого перерождения, такой аномалии в человеческих
отношениях? Как это происходит? Какими существенными чертами
отличаются подобные явления? К каким результатам ведут они? Вот
вопросы, на которые естественным и необходимым образом наводят читателя
произведения г. Достоевского. Правда, разрешения всех предложенных
вопросов у него нет; но если бы он их решил, то, конечно, и не стал
бы писать о них повести. Литературное произведение искреннее, а не
заказное, только тогда и возможно, когда первая основа и крайнее
решение взятого факта составляет еще вопрос, разгадка которого
занимает самого автора. Но у сильных талантов самый акт творчества так
проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда из простой
постановки фактов и отношений, сделанной художником, решение их
вытекает само собой. У г. Достоевского не достало на это силы
дарования, его рассказам нужны дополнения и комментарии. Но тем не
менее вопрос у него поставлен, и никто из читателей не может сам
избавиться от этого вопроса после прочтения его повестей. Самый той
каждой повести, мрачный, унылый, болезненный, так и вышибает из
сердца радражительный вопрос, так и подымает в вас какую-то нервную
* независимо от опыта (лат.).— Ред.
318
H. A. Добролюбов
боль... Подобное впечатление очень не нравилось многим; один критик
прямо обвинял г. Достоевского именно за мрачный колорит его повестей:
критику, неизвестно почему, казалось, что русской литературе нужны
рассказы веселенькие, грациозные, розовые13. Желание его исполнилось
скоро: после отзыва его о г. Достоевском (в начале 1849 т.) действительно
русская литература вдалась в рассказы великосветской жизни, из нравов
древней Аркадии, перенесенной в Костромскую губернию, из сферы
супружеских неприятностей во все времена и у всех народов, из крута
образованных молодых людей, очень много и неопределенно рассуждавших
о возвышенных предметах... Много авторитетных имен (теперь — увы! —
теряющих свое обаяние!) создалось в этот недолгий промежуток, до тех
пор, пока опять не завладел общим вниманием новый род литературы —
обличительный. Прошел и этот род — еще скорее, чем род щигровских
Гамлетов, пошехонских пастушек и подмосковных графинь,— и прошел
не потому, чтобы представители его бедны были талантами, а потому, что
с самого начала пошли они по ложной дороге. У одних по необходимости,
вследствие внешних требований, а у других и наивно, простосердечно,—
миросозерцание явилось чрезвычайно узким и односторонним; в
чиновнике так и видели только чиновника; в беде, происшедшей от
взяточничества городничего, так и видели только следствие его взяточничества;
всякого станового изображали, как конечную цепь и крайнюю
исходную точку существующих порядков. «Быть или не быть благоденствию
в России» — это зависело от того, будет или не будет служить становым
честный чиновник Фролов: на этой мысли была у нас построена целая
комедия, не без успеха игравшаяся на Александрийском театре и. Никто,
кажется, исключая г. Щедрина, не вздумал заглянуть в душу этих
чиновников — злодеев и взяточников — да посмотреть на те отношения, в
каких проходит их жизнь. Никто не приступил к рассказу об их
подвигах с простою мыслью: «Бедный человек! Зачем же ты крадешь и
грабишь? Ведь не родился же ты вором и грабителем, ведь не из особого же
племени вышло, в самом деле, это так называемое крапивное семя»?
Только у г. Щедрина и находим мы по местам подобные запросы, и зато
он до сих пор остается не только выше всех своих сверстников по
обличительной литературе, но и вообще выше многих из литераторов наших,
увлекавших нашу публику рассказами с претензиею на широкое
понимание жизни. Но нельзя не видеть, что и у г. Щедрина «обличение»
перетягивает. Ни в одном из «Губернских очерков» его не нашли мы в
такой степени живого, до боли сердечной прочувствованного отношения
к бедному человечеству, как в его «Запутанном деле», напечатанном
12 лет тому назад. Видно, что тогда были другие годы, другие силы, другие
идеалы. То было направление живое и действительное, направление
истинно гуманическое, не сбитое и не расслабленное разными
юридическими и экономическими сентенциями. Тогда к вопросу о том, отчего
Забитые люди
319
человек злится или ворует, относились так же, как и к вопросу, зачем
он страдает и всего боится; с любовью и болью начинали приниматься
за патологическое исследование подобных вопросов, и, если бы
продолжалось это направление, оно, без сомнения, было бы плодотворнее всех,
за ним последовавших. Ныне у нас решения просты:- если люди
воруют, значит — полиция плохо делает свое дело; если взятки берутся,
значит — начальник колпак... и т. п. А тогда выходило иной раз:
ворует человек оттого, что работы не нашел себе и с голоду умирал;
взятки берет, чтоб пятнадцать душ семейства прокормить... Результаты,
очень несходные в нравственном отношении: один будит в вас
человеческое чувство и мужественную мысль, другой ведет вас в полицию
и заставляет замирать на юридической форме.
Г. Достоевский в первом же своем произведении явился
замечательным деятелем того направления, которое назвал я по преимуществу гума-
ническим. В «Бедных людях», написанных под свежим влиянием лучших
сторон Гоголя и наиболее жизненных идей Белинского, г. Достоевский
со всею энергией и свежестью молодого таланта принялся за анализ
поразивших его аномалий нашей бедной действительности и в этом
анализе умел выразить свой высоко гуманный идеал. Идеал этот не
принадлежал ему исключительно и не им внесен в русскую литературу.
В виде сентенций о том, как «самый презренный и даже преступный
человек есть тем не менее брат наш» и т. п.,— гуманический идеал
проявлялся еще в нашей литературе конца прошлого столетия вследствие
распространения у нас в то время идей и сочинений Руссо. Но эти
привозные сентенции плохо тогда ладили с русской жизнью, и мало
было людей, которые бы могли серьезно и глубоко ими проникнуться.
Державин все воспевал ничтожество людей вообще и величие некоторых
сановников в особенности; о правах же человеческих думал так мало,
что умиленно восторгался тем, как ему —
И знать, и мыслить позволяют!., 15
Про Карамзина, конечно, нечего и говорить: чтобы видеть, до какой
степени сознание общих человеческих прав и интересов было ему чуждо,
довольно перелистовать его «Письма русского путешественника»,
особенно из Франции. У Пушкина проявляется кое-где уважение к
человеческой природе, к человеку, как человеку, но и то большею частию
в эпикурейском смысле. Вообще же он был слишком мало серьезен,
или, говоря словами эстетиков, слишком гармоничен в своей натуре для
того, чтобы заниматься какими-нибудь аномалиями жизни. Он во всем
видел только прекрасное и рисовал только поэтические стороны: прелесть
роскошного пира, стройность колонн, идущих в битву, грандиозность
падающей лавины, «благоухание словесного елея», пролившегося на нега
320
H. A. Добролюбов
с какой-то «высоты духовной», и пр. и пр. Только Гоголь, да и то
не вдруг, вносит в нашу литературу гуманический элемент: в
«Старосветских помещиках» выразился он уже очень ясно, но, как видно,
.важность его не вполне оценил т'огда сам Гоголь. По крайней мере
«Ревизор» обработан в этом отношении довольно слабо, что и подало повод
некоторым называть всю комедию фарсом и все лица — карикатурами.
Но чем далее, тем сильнее выказывалась у Гоголя гуманическая
сторона его таланта, и даже вопреки своей воле, в ожидании светлых и
чистых идеалов, он все изображал своим могучим словом «бедность,
да бедность, да несовершенство нашей жизни» 16. По этому-то пути
направился и г. Достоевский.
В разных видах и случаях представил нам г. Достоевский недостаток
уважения человека к самому себе и недостаток уважения к человеку
других людей. Кажется бы, дело простое,— думается, когда читаешь эти
повести,— человек родился, значит, должен жить, значит, имеет право
на существование; это естественное право должно иметь и
естественные условия для своего поддержания, то есть средства жизни. А так
как эта потребность средств есть потребность общая, то и
удовлетворение ее должно быть одинаково общее, для всех, без подразделений,
что вот, дескать, такие-то имеют право, а такие-то нет. -Отрицать чье-
нибудь право в этом случае значит отрицать самое право на жизнь.
А если так, то в пределах естественных условий решительно всякий
человек должен быть полным, самостоятельным человеком и, вступая
в сложные комбинации общественных отношений, вносить туда вполне
свою личность и, принимаясь за соответственную работу, хотя бы и
самую ничтожную, тем не менее — никак не скрадывать, не уничтожать
и не заглушать свои прямые человеческие права и требования. Кажется,
ясно. А между тем — отчего же этот Макар Алексеевич Девушкин
«прячется, скрывается, трепещет», беспрерывно стыдится за свою жизнь,
«да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к
каждому слову» и единственное утешение находит в том, что он человек
маленький, человек ничтожный? Отчего Горшков этот — «жалкий, хилой
такой: коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, робкий,
боится всех, ходит стороночкой?» Отчего это отец Покровского имеет
такой вид, что «он чего-то как будто стыдится, что ему как будто
самого себя совестно», и в разговорах с сыном — «приподымается немного
со стула, отвечает тихо, подобострастно, почти с благоговением»? А отчего
г. Голядкин в мучительных и бесплодных попытках «быть в своем правее
и «идти своей дорогой» — съеживается до последних уступок своего
настоящего права и наконец, не выдержав в слабой голове своей идеи,
что под его право все подкапываются, мешается в рассудке? Отчего
также г. Прохарчин двадцать лет скряжничает и бедствует, все от мысли
о необеспеченности и наконец от этой мысли захварывает и умирает?
Забитые люди
321
Отчего этот молодой чиновник Шумков считает себя извергом
человечества и мешается на том, что его отдадут в солдаты за то, что он,
увлекшись нежностями с невестою, не успел переписать к сроку
порученной от его превосходительства бумаги, которая к тому же вовсе и
не была срочною? Отчего маленькая Неточка так уничтожается перед
Катей? Отчего Ростанев отрекается от своей воли перед Фомой Фомичом
и считает себя решительно недостойным любви Настеньки, своей
гувернантки, которую страстно любит? Отчего Наташа теряет свою волю и
рассудок и Иван Петрович почтительно сторонится пред вертопрахом
Алешею? Отчего старик Ихменев, перенося всевозможные мучения
отцовской любви, не хочет простить свою дочь, чтоб не показать вида
уступки князю и его сыну? Отчего маленькая Нелли так дико принимает
одолжение Ивана Петровича и идет собирать милостыню, чтобы на
собранные деньги купить ему разбитую ею чашку? Где причина всех этих
диких, поразительно странных людских-отношений? В чем корень этого
непонятного разлада между тем, что должно бы быть по естественному,
разумному, порядку, и тем, что оказывается на деле?
Мы уже сказали, что прямого ответа на такие запросы не дает ни
одно лицо, ни одна повесть г. Достоевского в отдельности. Чтобы найти
ответ, мы должны группировать их и пояснять одни другими.
Люди, которых человеческое достоинство оскорблено, являются нам
у г. Достоевского в двух главных типах: кротком и ожесточенном.
Первые не делают уже никакого протеста, склоняются под тяжестью своего
положения и серьезно начинают уверять себя, что они — нуль, ничего,
п что если его превосходительство заговорит с ними, то они должны
считать себя счастливыми и облагодетельствованными. Другие, напротив:
видя, что их право, их законные требования, то, что им свято, с чем
они в мир вошли,— попирается и не признается, они хотят разорвать
со всем окружающим, сделаться чуждыми всему, быть достаточными
самим для себя и ни от кого в мире не попросить и не принять ни
услуги, ни братского чувства, ни доброго взгляда. Само собою понятно,
что им не удается выдерживать характер, и оттого они вечно
недовольны собою, проклинают себя и других, задумывают самоубийство и т. п.
Между этими двумя крайностями стоит еще разрядец людей, которых
можно, пожалуй, отнести скорее к первому типу: это люди,
потерявшие широкое сознание своего человеческого права, но заменившие его
какою-нибудь узенькою фикциею условного права, утвердившиеся в этой
фикции и бережно ее хранящие. При всяком случае, где подобные
господа воображают, что их личное достоинство в опасности, они готовы
повторять, например, что «я титулярный советник», «мне сам Василий
Петрович руку подает», «меня штаб-офицерша Похлестова знает» и т. п.
Это тоже люди трусливые, подозрительные, щепетильные, обидчивые
донельзя и сами всех более несчастные своей обидчивостью.
21 Н. А. Добролюбов
322
H. A. Добролюбов
Кто наблюдал в нашем обществе над тем, что называется «мелким
людом», тот знает, что кроткие и покорившиеся люди тоже иногда
бывают обидчивыми и щепетильными. Это зависит от отношений: пред
начальником отделения помощник столоначальника — пас, смирился
совершенно; но с другими помощниками он считает себя «в своем праве»
и за это право держится ревниво и угрюмо. Последняя сторона развита
г. Достоевским в «Двойнике», в котором много хороших мест погибло,
к сожалению, в общей растянутости и неудачной фантастичности
рассказа. Но мы покамест обратимся теперь к анализу первой черты —
совершенного смирения и тупого успокоения на своем положении, каково
оно вышло.
Кажется, тут бы и говорить не о чем: человек убедился, что он
глуп, или безобразен, или манер не имеет,— ну и ладно, и бросить эту
материю... Что тут канитель-то тянуть! И еще ему же спокойнее: знает,
что слеп, так и подсматривать нечего... Сиди да слушай, что другие
скажут. И какой интерес — описывать то, как слепой не видит?..
Но вот в том-то и заслуга художника: он открывает, что слепой-
то не совсем слеп; он находит в глупом-то человеке проблески самого
ясного здравого смысла; в забитом, потерянном, обезличенном человеке
он отыскивает и показывает нам живые, никогда незаглушимые
стремления и потребности человеческой природы, вынимает в самой глубине души
запрятанный протест личности против внешнего, насильственного
давления и представляет его на наш суд и сочувствие. Такие открытия
делает нам Гоголь в некоторых повестях своих; то же, только в
несколько- затейливой форме, находим мы в «Бедных людях» г.
Достоевского и отчасти в других его повестях.
Чиновник Девушкин, например, живет себе, дожил до седых волос,
прослужил без малого тридцать лет тихо и скромно, ни о чем не
задумываясь, ни на что не претендуя. «Что это вы пишете мне,—
объясняется он с Варенькой,— про удобства, про покой и про разные
разности? Маточка моя, я не брюзглив и не требователен, никогда лучше
теперешнего не жил, так чего же на старости-то лет привередничать?
Я сыт, одет, обут, да и куда нам затеи затевать! Не графского рода!..
Родитель был не из дворянского звания, и со всей-то семьей своей был
беднее меня по доходу.— Я не неженка!» И точно, он не неженка:
квартиру занимает за перегородкой в кухне, платит за нее по два
целковых и утешается тем, что он «ото всех особнячком, помаленьку живет,
втихомолочку живет!»... «Сыт я»,— говорит, а за стол платит пять
целковых в месяц; можно представить, какая тут сытость. Обут и одет
он,— тоже соответственно, но все повторяет: «Я не ропщу и доволен,
жалованья достаточно, вот уже несколько лет достаточно». Относительно
своего умственного состояния он тоже сознает, что он человек неученый,
на медные деньги учился, и слога не имеет, и высоких материй по-
Забитые люди
323
нимать не может, а потому далеко и не лезет. С общественным своим
положением он примирился отлично. Он дошел до таких выводов,
успокоительных и резонных: «Всякое состояние определено всевышним на
долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах,
этому служить титулярным советником, такому-то повелевать, а такому-то
повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на
одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим богом».
Утвердившись в таких целительных мыслях, Макар Алексеич вместе с
тем совершенно теряет всякую опору внутри себя, в собственном
рассудке и высшею, единственною мерою своих достоинств считает уже
не собственное сознание, а мнение начальства и формальные отношения.
Достоинства свои он описывает таким образом: «Состою я уже около
30 лет на службе, служу безукоризненно, поведения трезвого, в
беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя собственным
сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и
добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною
довольны (собственное-то сознание куда пошло!); и хотя еще они доселе
не оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что
они довольны». Далее Макар Алексеич опять показывает, как сильно
его собственное сознание: я, говорит, «в больших проступках и продер-
зостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь
или в нарушении общественного спокойствия,— в этом я никогда не
замечен, этого не было; даже крестик выходил»... Как видите, крестик
составляет в некотором роде базис философии Макара Алексеича и самый
высший, последний аргумент его. Он не лишен и амбиции, но она
удовлетворяется тоже довольно легко; он раз, например, выпил неосторожно,
дебошу наделал, по его словам, и после того пишет к Вареньке, утешая
ее: «Вы,— говорит, — обо мне не беспокойтесь; спешу вам объявить, что
амбиция моя мне всего дороже, и уведомляю вас, что из начальства
еще никто ничего не знает, да и не будет знать, так что они все будут
питать ко мне уважение по-прежнему». Вообще Макар Алексеич до
того дошел, что даже сапоги и шинель носит не для себя, а для
других, в особенности же для его превосходительства; и чай пьет тоже
больше для других, и все для других из амбиции. «По мне все равно,
хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить — я
перетерплю и все вынесу, мне ничего; человек-то я простой,
маленький». Но «сапоги нужны для поддержки чести и доброго имени: в
дырявых же сапогах и то и другое пропало». То есть как же пропало?
А так, что «вдруг его превосходительство заметят и невзначай как-
нибудь отнесутся на мой счет — беда!..» К этому кодексу морали и
житейской мудрости, выработавшемуся в голове Макара Алексеича,
прибавьте умилительно-подловатое впечатление, оставшееся в нем от сцены,
когда у него отлетела пуговица в присутствии генерала и генерал дал
21*
324
H. A. Добролюбов
ему сто рублей и пожал руку. Сцена эта действительно превосходная,
много раз была цитирована и потому, конечно, памятна читателям. А вот
мысли о ней самого Макара Алексеича: «Клянусь вам,— пишет он
Вареньке,— что как ни погибал я от скорби душевной, в лютые дни
нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, на
унижение мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вам,
чтс не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство
сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили!
Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком они мой дух
воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали, и я твердо уверен, что
как я ни грешен пред всевышним, но молитва о счастии и
благополучии его превосходительства дойдет до престола его!» В этих излияниях
душевных вы видите доброту, чувствительность, благородство, если
хотите — даже утонченную деликатность Макара Алексеича; но
согласитесь, что ведь вам жалко то унижение, в какое он ставит себя,
и только сила сострадания прогоняет в вас то чувство отвращения,
которое иначе невольно возбудилось бы в вас таким искажением
человеческой природы... Забитый, тощий пес Улисса 17, с воем и ласкою
встречающий своего господина, неизмеримо ближе и равнее с ним, нежели
этот чиновник с благодетельным его превосходительством. Полное
отсутствие какого бы то ни было сознания о своем достоинстве, полное
признание своего ничтожества, исключение себя из того рода существ,
к которому равно принадлежат и Макар Алексеич, и его благодетель,—
бот что видите вы в излияниях его благодарности. А он между тем
счастлив, сам счастлив собственным унижением, и в умилении молит
бога простить ему «ропот и либеральные мысли», которые он
позволял себе подчас «в прежнее грустное время...»
Вот образец того, что нужно в общем механизме для успешного
течения дел. Кажется, ничего не может быть лучше. Общество,
достигнувшее того, что в нем вырабатываются подобные типы, может, кажется,
назваться образцовым, совершенным, безукоризненным в смысле
государственной теории. Здесь не только установлена и поддерживается
известного рода иерархия... Это бы еще не штука: мало ли что можно
установить и поддержать силою,— и кардинальское управление держится до
сих пор в Риме... Но здесь не то: здесь установившаяся иерархия не
имеет даже надобности быть поддерживаема: так ясна для всех ее польза
и необходимость, до такой степени заслужила она внутреннее одобрение
каждого, даже наименее ею ублаготворенного, до такой степени все при
ней сознают себя счастливыми и довольными... Нельзя всем быть
богатыми, всем талантливыми, всем красивыми; нельзя всем начальствовать,
всем быть на первых местах; но истинный идеал государства состоит
в том, чтобы всякий был доволен на своем месте, всякий сознавал
законность и глубокую справедливость своего положения и с такою же
Забитые люди
325
охотою повиновался, с какою другие повелевают, так же был спокоен
и счастлив при своих десяти целковых жалованья, как другие при
двадцати тысячах дохода. Вот тогда может осуществиться идеал золотого
века; тогда, если даже кто и неприятности от других потерпит,— и это
не расстроит ни общего хода дел, ни его собственного счастия, потому
что и в неприятностях этих он будет видеть дело законное и полезное
и будет примиряться с ними, как с годовыми переменами. Всякий член
идеальной иерархии будет рассуждать, как рассуждает, например, Макар
Алексёич о начальнических распеканциях, по поводу насмешника,
дерзнувшего иронически о них отозваться: «Отчего же и не распечь, коль
нужно нашего брата распечь?.. Ну, да положим и так, например, для
тона распечь,— ну, и для тона можно; нужно приучать, нужно острастку
давать... А так как разные чины бывают и каждый чин требует
совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после
этого и тон распеканции выходит разночинный;— это в порядке вещей!
Да ведь на том и свет стоит, что все мы один перед другим тону
задаем, что всяк из нас один другого распекает. Без этой
предосторожности и свет бы не стоял, и порядка бы не было».
Вообразите себе идеальное государство, которое бы в основании своей
организации положило подобную философию и в котором все члены
прониклись бы ею глубоко и искренне, всем сердцем, всем существом
своим: что за счастливое было бы государство! Какое вечно нерушимое
спокойствие, какая непрерывная тишина, какой мир и благодушие
царили бы в нем! Никто бы не домогался того, чего не дано ему, никто
не рвался бы с места, на котором поставлен, никто не рассуждал бы
о том, что выше его звания. От бедняка мысль сделаться богатым была
бы так же далека, как желание пролезть сквозь игольные уши;
столоначальник не думал бы критиковать распоряжений своего секретаря,
как не критикует он наступления ночи после дня, и наоборот; даже
какой-нибудь юноша из мелкой сошки, посаженный за переписку бумаг,
точно так не вздумал бы тогда мечтать о подвигах, о славе и т. п.,
как теперь не приходит ему в голову мечтать, например, о
превращении своем в крокодила, обитающего в Египте, или в допотопного
мастодонта, открытого в северных льдах. Всюду разлито было бы
благодатное спокойствие, без всяких порывов и треволнений. Все были бы на
своих местах. Одни ездили бы в колясках, жили в великолепных
палатах, занимались распеканием других, другие ходили бы пешком по
грязи в дырявых сапогах, жили в сырых углах и получали
распеканции,— но те и другие одинаково были бы 'спокойны и довольны своей
участью. Те и другие существовали бы рядом, друг подле друга, так же
безмятежно, как существуют дуб и крапива, хотя и отнесенные
Линнеем к одному разряду по его системе, но нимало не помышляющие
о соблазнительном равенстве друг с другом 18. Не было бы тогда гнусной
326
H. A. Добролюбов
зависти, непозволительных стремлений, всякого рода опасений и
подкопов; люди жили бы, как святые в царстве небесном: много будет в раю
обителей, много степеней блаженства, но низшие степени будут братски
сочувствовать высшим и сами наслаждаться отблеском того высшего
блаженства, которого удостоены избранные. Так было бы и на земле в
том идеальном государстве, в котором бы все члены прониклись теми
чистыми понятиями об общественной иерархии, какие сейчас были
приведены... И что всего важнее — подобное устройство могло бы длиться
вечно, потому что оно не заключает в себе никаких элементов
разрушения,— ничего, что бы обещало хоть в отдаленном будущем нарушить
общее спокойствие и блаженство. Идеальное общество, основанное на
здравых понятиях об общественной иерархии, могло бы существовать
целые века спокойно, мирно и счастливо, и разве какой-нибудь
геологический переворот мог бы разрушить его идеальные совершенства...
Но, к величайшему сожалению друга человечества, не отыскивается
философский камень, не бывает полного совершенства на земле, нет
нигде такого идеального общества, какое мы предполагали... Говорят, в
давние времена, которых мы с вами, читатель, уже и не припомним, было
нечто подобное устроено в Индии, да и то при помощи самого Брамы.
Пария от брамина был так же далек, и пропасть между ними была почти
так же непереходима, говорят, как пропасть между Макаром Алексеичем
и его превосходительством. А на том свете, говорят индийцы, из семи
кругов, в которых давались смертным разные виды блаженства, самым
высшим считался тот, где человек терял совершенно свою личность, волю,
сознание, погружался в лоно Брамы и решительно, без следа,
уничтожался в нем. Это была высшая точка верховного блаженства, какую только
могло вообразить себе индийское учение. Кажется,— чего бы лучше:
общество с подобными началами не должно бы погибнуть, но должно бы
постоянно расширять круг своих счастливых членов...— Но — таково
несовершенство человеческой природы!—и индийское учение и устройство
рушилось, и если теперь остается еще, то лишь в жалких подражаниях и
переделках, далеких от совершенств первоначального образца. Нечто
подобное устроили было отцы иезуиты в Парагвайской республике; но и там
успех был далеко не полон. О других слабых попытках достигнуть
идеала, деланных, например, в Неаполе, в Австрии и в других странах, не
стоит и говорить. Теория принималась хорошо, проводилась в разных
учреждениях, преподавалась в школах, проповедовалась в церквах
монахами разных орденов, проникла даже в домашнее воспитание, захватывая
таким образом человека в самые нежные, самые впечатлительные его
годы: но — все не впрок! Большинство принимало теорию, не имело ничего
сказать против нее; но не могло или не умело успокоиться на ней. Какое-
то искание не переставало тревожить людей, и вот какая-нибудь пустая
случайность, ничтожное столкновение — и все взволновано, и идеал не-
Забитые люди
327
Дом, в котором жили родители Добролюбова в Нижнем Новгороде.
С позднейшей фотографии.
прерывной тишины взлетел прахом на воздух... Моралисты утверждали,
что все это от растленности человеческого рода и от помрачения ума его;
другие, напротив, кричали, что теория будто бы идеальной организации,
состоящая в обезличении человека, противна естественным требованиям
человеческой природы и потому должна быть отвергнута, как негодная,
и уступить место другой, признающей все права личности и принцип
бесконечного развития, бесконечного шествия вперед, то есть прогресса,
в противоположность застою.
Мы, то есть русские и преимущественно литераторы, обыкновенно
держали себя в стороне от всех этих споров, происходивших на западе
Европы. Мы в это время занимались своими вопросами: о торговле
древнейшей Руси, о таланте г. Щербины, об Иакове Мнихе, о зооморфических
божествах у славян, восхищались пением Марио и письмами Ивана
Александровича Чернокнижникова, жалели о почти единовременной кончине
Жуковского, Гоголя и Загоскина и удивлялись ковам англичан,
готовившимся против нас... Словом — мы, как и всегда, делали свое дело и в то,
что нас не касается, не мешались: «Помаленечку, втихомолочку жили,
никого не трогая,— старались, чтобы воды не замутить». Тем не менее во
время уже очень недавнее, когда кто-то крикнул: «Прогресс!», да и спря-
328
H. A. Добролюбов
тался,— и пошли с тех пор хвалить прогресс и бранить застой на чем свет
стоит. Как и почему случилось это — объясните! Говорят, потому, что
прогресс необходим человеку, что скорее зарезать его можно, чем
заставить не желать прогресса... Не знаю, может оно и так. Посмотрим, не
ответят ли нам что-нибудь взятые нами лица, воспроизведенные
художническою силою. Известно, что ведь художник всегда беспристрастен: к
спорам и теориям он не прикасается, а наблюдает только факты жизни, да и
рисует их, как умеет,— вовсе не думая, кому это послужит, для какой
идеи пригодится. И поэтому-то именно замечательный художник важен в
общественном смысле: в жизни-то еще когда наберешь фактов, да и те
будут бледны, отрывочны, побуждения неясны, причины смешаны; а тут,
пожалуй, и одно или два явления представлены, да зато так, что после
них уже никакого сомнения не может быть относительно целого разряда
подобных явлений.
Нужно сказать, что некоторая доля художнической силы постоянно
сказывается в г. Достоевском, а в первом его произведении сказалась
даже в значительной степени. От него не ускользнула правда жизни, и он
чрезвычайно метко и ясно положил грань между официальным
настроением, между внешностью, форменностью человека и тем, что составляет
его внутреннее существо, что скрывается в тайниках его натуры и лишь
по временам, в минуты особенного настроения; мельком проявляется на
поверхности. Из наблюдений автора, переданных нам в его ,раосказах,
оказывается, что ведь ни одного человека нет, кто бы в самом деле,
всем сердцем и душою возлюбил идеальную организацию, обещающую
столько мира и довольства людям. Даже люди, наиболее ею пропитанные,
и те беспрестанно проговариваются и уклоняются. Да вот хоть бы сам
Макар Алексеич: вы, может быть, думаете, что он в самом деле
успокоился на том, что «всякому свое место назначено, а места по способностям
распределены» и т. д.? Вовсе нет; это когда он резонирует в спокойном
положении, так и говорит таким образом. А чуть что-нибудь заденет его
за живое,— он совсем меняется, и лезут ему в голову сами собою
«либеральные мысли». Он тогда спрашивает: «Отчего же это так все случается,
что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому кому
счастье само напрашивается?.. Знаю, знаю, маточка (спешит он
прибавить, обращаясь к Вареньке), что нехорошо это думать, что это
вольнодумство; но по искренности, по правде-истине,— зачем одному еще во
чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из
воспитательного дома на свет божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то
часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок,
ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только
облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой!
Грешно, маточка (снова спешит оговориться боязливый Макар Алексеич), оно
грешно этак думать, да тут поневоле как-то грех в душу лезет». Рас-
Забитые люди
329'
чувствовавшись, Макар Алексеич уже не ограничивается и сомнениями,
а даже до негодования доходит и задевает людей почище себя: «Что
фрак-то на нем сидит гоголем, что в лорнетку-то золотую он на вас
смотрит, бесстыдник,— так уж ему все с рук сходит, так уж и речь его
непристойную снисходительно слушать надо! Полно, так ли, голубчики?» Как
хотите, а ведь это чуть не вызов со стороны бедного чиновничка: видно,
не совсем же угомонилось его сердце, не совсем успокоился он на том,
что «если бы мы друг другу тону не задавали, то и свет бы не стоял,
и порядку бы не было». Нет, он издает теперь вопли сердечные и сознает
за собою право вопить и жаловаться: «А еще люди богатые не любят,—
замечает он,— чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались,—
дескать, они беспокоят, они-де назойливы. Да и всегда бедность назойлива-,
спать, что ли, мешают их стоны голодные?» И переполненное горечью
сердце внушает ему такие мысли, вызывает наружу такие инстинкты,
которых он сам испугался и отрекся бы в обыкновенном положении, но
которые теперь, сами собою, неодолимо являются во всей своей силе.
«Теперь на меня такая тоска нашла,— пишет разогорченный Девуш-
кин,— что я сам своим мыслям до глубины души стал сочувствовать,.
и хотя я сам знаю, маточка, что этим сочувствием не возьмешь, но все-
таки некоторым образом справедливость воздашь себе, И подлинно,
родная моя, часто самого себя без всякой причины уничтожаешь, в грош не
ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравнением
выразиться, так это, может быть, от того происходит, что я сам запуган
и загнан, как хоть бы и тот бедненький мальчик, что милостыни у меня
просил». Вот этакие-то мысли, западая в человека и развиваясь в нем с
чрезвычайною быстротою и силою, при помощи его природных
инстинктов,— и губят всеобщую тишину и спокойствие в том идеальном
общественном механизме, который так отрадно рисовался нам выше. И нельзя
сказать, чтобы автор здесь выдумывал, клеветал на человеческую
природу. Можно заметить, пожалуй, что Макар Алексеич для своего
образования и положения является уже слишком метким оценщиком
противоречий официальных основ жизни с ее действительными требованиями; но
это потому, что, сочиняя в течение полугода, чуть не каждый день,
письма к Вареньке, Макар Алексеич изощрил свой слог; а с другой
стороны — почему же и автору немножко не прийти к нему на помощь?
Но помощь эта касается единственно словесного выражения мыслей:
сами же мысли чисто принадлежат Макару Алексеичу,— это скажет
всякий, хоть недолгое время, хоть раз бывавший в его положении. Макар
Алексеич формулировал свои тяжкие сомнения в письмах к Вареньке;
другие не формулируют их иначе, как своим поведением, разными
странными поступками и печальными их результатами. Если вы, например,,
имели бы терпение хоть перелистовать бесконечного г. Голядкина,— вы
увидели бы, что и он мучится и сходит с ума совершенно по тем же
•ззо
H. A. Добролюбов
общим причинам,— вследствие неудачного разлада бедных остатков его
человечности с официальными требованиями его положения. Голядкин не
так беден и задавлен, как Девушкин; он может себе позволять даже
некоторый комфорт; даже в своем кругу видит людей, которых официально
имеет право считать ниже себя, так как он состоит помощником
столоначальника в департаменте. Вследствие того он приобрел некоторое ус-
лозыое уважение к себе и какое-то смутное понятие о «своем праве».
Но тут он и спутался. Случилось обстоятельство, при котором нужно
было выставить вовсе не это, чиновное право, а совсем другое: ему
понравилась девушка. Как искатель незавидный, он был отстранен, и вот
тут-то перевертываются вверх дном все его понятия. Макар Алексеич
нашел возможность удовлетворить доброте своего сердца, быть полезным
для любимого существа, и потому, в нем все больше и яснее развивается
гуманное сознание, понятие об истинном человеческом достоинстве. Яков
Петрович Голядкин, напротив, получил несколько афронтов от родных
своей возлюбленной и от своего соперника и потому, оскорбленный в своем
человеческом чувстве, но не умея хорошенько сознать этого, прямо
хватается за свое чиновное право. «Это моя частная жизнь, это не касается
моих официальных отношений»,— находится он сказать, когда ему
отказывают от званого обеда в доме родителя его возлюбленной. И затем его
мысли совершенно расстраиваются; он уже не знает, что же он вправе или
яе вправе... Он чувствует. только одно,— что тут что-то не так, не ладно.
Хочет он объясниться со всеми — врагами и недругами,— все не удается,
характера не хватает... И приходит он к idée fixe*, к пункту своего
помешательства: что жить в свете можно только интригами, что хорошо на
свете только тому, кто хитрит, подличает, других обижает... И вот у него
является на уме решимость — тоже хитрить, тоже подкопы вести,
интриговать... Но где уж ему пускаться на такие штуки? Не так он жил
прежде, не так приготовлен, характер у него не такой... «Натура-то твоя
такова; душа ты правдивая,— рассуждает он сам с собою.— Нет, уж лучше мы
с тобой потерпим, Яков Петрович,— подождем и потерпим». И к этому
прибавляется еще у него мысль, тоже обличающая его характер,— мысль,
что все еще «может объясниться и устроиться к лучшему». Оттого-то он
никак не может ни на что решиться, даже высказаться порядком не
может и, несмотря на «присутствие страшной энергии в себе»,— вечно
мнется, трусит и ворочается с половины дороги. Все, что в нем было живого,
здравого и сознательного, как-то не выливалось в обычную форму, в
которой он доселе сидел так хорошо, и, едва поднявшись, оседало опять на
дно его души, но оседало как-то беспорядочно, болезненно, совершенно не
под стать к стройности того чиновного механизма, в котором он был
вставлен. Характеризуя его противоречия, автор, между прочим,- говорит: «По-
■* навязчивая идея (франц.).— Ред.
Забитые люди
331
зволить обидеть себя он никак не мог согласиться, а тем более —
дозволить затереть себя, как ветошку, и, наконец, дозволить это совсем
развращенному человеку... Не спорим, впрочем, не спорим: может быть, если б
кто захотел, если б уж кому, например, вот так непременно захотелось
обратить в ветошку господина Голядкина, то и обратил бы, обратил бы без
сопротивления и безнаказанно (господин Голядкин сам в иной раз это
чувствовал), и вышла бы ветошка, а не Голядкин,—так, подлая, грязная
бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта
была бы с амбицией, была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с
безответной амбицией и с безответными чувствами и далеко в грязных
складках этой ветошки скрытыми, но все-таки с чувствами». Мне кажется,
трудно лучше характеризовать положение забитых людей, подобных Го-
лядкину, людей, действительно как будто превращенных в тряпицу и
только в грязных складках хранящих остатки чего-то человеческого,
неслышного, безответного, но все как-то по временам дающего себя
чувствовать. Вот оно дало себя чувствовать и г. Голядкину, и всею тяжестью
обрушились тяжкие сомнения и вопросы на бедный рассудок и фантазию
Якова Петровича. «Так это не так? Тут не каждый в своем праве? Тут
берут интригами? Давай же, когда так, и я буду интриговать... Да где
мне интриговать? Натура у меня глупая — правдивая,— никогда
окольными путями... Но другие же все окольными путями ходят, иначе
человека затрут, а я затереть себя не могу позволить... А что в самом деле,
если б я...» И господин Голядкин, вообще наклонный к меланхолии и
мечтательности, начинает себя раздражать мрачными предположениями
и мечтами, возбуждать себя к не свойственной его характеру
деятельности. Он раздвояется, самого себя он видит вдвойне... Он группирует все
подленькое и житейски ловкое, все гаденькое и успешное, что ему
приходит в фантазию; но отчасти практическая робость, отчасти остаток где-
то в далеких складках скрытого нравственного чувства препятствуют ему
принять все придуманные им пронырства и гадости на себя, и его
фантазия создает ему «двойника». Вот основа его помешательства. Не знаю,
верно ли я понимаю основную идею «Двойника»; никто, сколько я знаю,
в разъяснении ее не хотел забираться далее того, что «герой романа —
сумасшедший». Но мне кажется, что если уж для каждого сумасшествия
должна быть своя причина, а для сумасшествия, рассказанного
талантливым писателем на 170 страницах,— тем более, то всего естественнее
предлагаемое мною объяснение, которое само собою сложилось у меня в голове
при перелистывании этой повести (всю ее сплошь я, признаюсь, одолеть
не мог). Автор, кажется, сам не чужд был такого объяснения: так по
крайней мере представляется по некоторым местам повести. Например,
первое признание г. Голядкиным своего двойника описывается автором
так: это был «не тот г. Голядкин, который служил в качестве помощника
своего столоначальника; не тот, который любил стушеваться и зарыться
332
Ü. А. Добролюбов
в толпе, не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает «не троньте
меня, и я вас трогать не буду», или: «не троньте меня,— ведь я вас не
затрогиваю»,— нет, это был другой господин Голядкин, совершенно
другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого». И далее
беспрестанно г. Голядкин-младший ведет себя с такою ловкостью и
бесстыдством, какие только в мечтах и возможны: он ко всем подбивается, перед
всеми семенит, бегает с портфелем его превосходительства, из чего г. Го-
лядкин-старший заключает, что он уже «по особому»,.. Г.
Голядкин-младший всегда умеет остаться правым, ускользнуть от объяснений,
отвернуться и подольститься, когда нужно; он способен даже заставить другого
заплатить за съеденные им расстегаи; и при всем том он со всеми
хорош, он смело рассуждает там, где Голядкин-старший умиленно теряется,
он сидит в гостиной там, куда Голядкин-старший и в переднюю показать
нос боится... Нечего и говорить, что г. Голядкин все это самого же себя
рисует в виде двойника своего. Выдумывая его небывалые,
фантастические подвиги, он имеет мысль, что вот поступай он только таким образом
(как некоторые люди и поступают) — и по службе он успевал бы, и
насмешкам товарищей не подвергался, и не был бы затерт каким-нибудь
выскочкой, раньше его получившим коллежского, и главное — не был бы
так безбожно обижен драгоценною Кларою Олсуфьевною и ее родными.
Но вместо того чтобы любоваться на подобные подвиги, г. Голядкин
возмущается против них всею долею того забитого, загнанного сознания,
какая ему осталась после ровного и тихого гнета жизни, столько лет
непрерывно покоившегося на нем. Ему противны даже в мечтах те
поступки, те средства, которыми выбиваются «некоторые люди»; он с
постоянным страхом отбрасывает свои же мечты на другое лицо и всячески
позорит и ненавидит его. В минуты же просветления, когда он опять
начинает яснее сознавать свою собственную личность, он вспоминает о
своих поползновениях на хитрость, ему мерещится строгий голос старичка
Антона Антоныча: «А что, и вы тоже собирались .хитрить?»— и бледнеет,
теряется,— и снова представляется ему образ его двойника, который бы
из всего этого вывернулся, посеменив ножками, и еще сильнее растет
раздражение г. Голядкина против такой подлой, зловредной личности...
Порою к нему возвращаются прежние мысли, что, может быть, все
устроится к лучшему,— и вот ему раз представляется даже, будто Клара Ол-
суфьевна, плененная его качествами, присылает ему письмо, в котором
приказывает увезти ее от злостных и неблагонамеренных интриганов.
И г. Голядкин, точно, отправляется под окна Клары Олсуфьевны — ждать
ее, а отсюда уже отвозят его в сумасшедший дом...
Ну, посудите же — зачем было сходить с ума человеку? Оставайся
бы он только верен безмятежной теории, что он в своем праве, и все в
своем праве, что если новый коллежский раньше его произведен,— так
этому так и следует быть, и что если Клара Олсуфьевна его отвергла, так
Забитые люди
333
опять это значит, что ему к ней и соваться не следовало,— словом,
продолжай он идти своей дорогой, никого не затрогивая, и помни, что все на
свете законнейшим образом распределяется по способностям, а
способности самою натурою даны и т. д. — вот и продолжал бы человек жить в
прежнем довольстве и спокойствии. Так ведь нет же: встало что-то со
дна души и выразилось мрачнейшим протестом, к какому только
способен был ненаходчивый г. Голядкин,— сумасшествием... Не скажу, чтоб
г. Достоевский особенно искусно развил идею этого сумасшествия; но
надо признаться, что тема его — раздвоение слабого, бесхарактерного и
необразованного человека между робкою прямотою действий и
платоническим стремлением к интриге, раздвоение, под тяжестью которого
сокрушается наконец рассудок бедняка,— тема эта, для хорошего выполнения,
требует таланта очень сильного. При хорошей обработке из г. Голядкина
могло бы выйти не исключительное, странное существо, а тип, многие
черты которого нашлись бы во многих из нас. Припомните ваши встречи
с чиновным людом; припомните тех, которые называют себя людьми
неискательными, спокойными, любящими по правде жить. Вспомните, как
они любят говорить о своей неискательности и как иногда, вдруг круто
изменяется направление разговора при упоминании о ком-нибудь из их
сослуживцев, начальников или знакомых, успевающем больше других.
Тут сейчас пойдет: и «хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит»,
и «правдой век не проживешь», и жалобы на собственную неспособность
к подлостям, и ироническое, как будто уничижительное перечисление
собственных заслуг: «Что, дескать, мы — что по шести-то часов спины не
разгибаем, да дела-то все нами держатся — эка важность... А вот — пойти
к его превосходительству на бал, да польку там отхватать, да по утрам
вместо дела-то по магазинам разъезжать — его супруги комиссии
исполнять — вот это дело, вот с этим и в честь попадешь... А мы — что? Клячи
водовозные, волы подъяремные — только в черную работу и годимся...»
и т. д. А затем разговор непременно принимает такой оборот: что ведь
«и мы, дескать, могли бы подличать, и мы могли бы финтить»... и в
доказательство расскажут вам несколько случаев, где, точно, человеку удобно
было сподличать, а он не захотел... Во всех подобных господах
решительно сидит тенденция г. Голядкина к сумасшедшему дому; дайте им
только побольше мечтательности и меланхолии — и переход будет
недалек...
Господин Голядкин, впрочем, человек уж совсем сумасшедший;
оставим его. А вот еще есть лицо у г. Достоевского, тоже сумасшедший, но
скорее только мономан — г. Прохарчин. Человек этот тоже сообразил,
должно быть еще при начале своего служебного поприща, что «одному на
сем свете назначено в каретах ездить, другому в худых сапогах по грязи
шлепать», и, причислив себя к последнему разряду, нанял себе угол и
живет, не думая пытать судьбы своей. Но прочного спокойствия нет у
334
H. A. Добролюбов
него на душе; характер у него боязливый, как у всех забитых, и хотя
он твердо верует в нерушимость своей философии, но на свете видит и
случайности разного рода: болезни, пожары, внезапные увольнения от
службы по желанию начальства... Бедняка начинает преследовать мысль
о непрочности, о необеспеченности его положения. Мысль, конечно, очень
естественная. Натурален и результат ее — решение откладывать и копить
деньги, на всякий случай. Но исполнение уже дико, хотя тоже понятно в
г. Прохарчине: он прячет звонкую монету себе в тюфяк... Да и куда же
ему девать в самом деле? В сундук положить — утащат; поручить кому-
нибудь — никому довериться нельзя; в ломбард положить — помилуйте,
это значит прямо объявить себя богачом, Крезом каким-то. «У него
деньги в ломбарде лежат»— знаете ли вы, как звучит эта фраза в кругу
мелких чиновников, а тем более обитателей углов!.. Вот г. Прохарчин и
прячет деньги в тюфяк, и 10 лет прячет, и 15, и 20, может быть и больше,
и даже сам, кажется, высчитать хорошенько не может, сколько у него там
спрятано, а потревожить тюфяк — боится любопытных глаз... Живет он
довольно спокойно, то есть перед всяким сторонится, всего робеет и рад,
что его не трогают. Вдруг вместе с ним поселяются новые жильцы —
хорошие люди, но «надсмешники». Заметив боязливость Прохарчина и
постоянную мысль о необеспеченности,— давай они между собою сочинять
слухи — то о сокращении штатов, то об экзаменах для старых чиновников,
то о желании его превосходительства уволить всех чиновников с
непрезентабельной фигурой, то вообще о тяжелых временах... И что бы вы
думали? Ведь совсем сбился с толку бедняжка Прохарчин: ходит сам не
свой, лица на нем нет, так и ждет, что его выгонят из службы, и тогда
что же с ним будет? Запасец хоть и сделан, да ведь уже его теперь
истощать придется, а пополнять неоткуда... Волнение Прохарчина
выразилось, как водится, между прочим, тем, что он, встретясь с каким-то
закоснелым пьянчужкой, хватил через край и привезен домой в
бесчувствии и больной. Едва очнувшись, он начал бредить и тосковать о том,
что вот живешь-живешь, да и пойдешь с сумочкой; нынче нужен, завтра
нужен,— а потом и не нужен, и ступай по миру... Его начинают
убеждать, что ему бояться нечего: человек он хороший, смирный и пр.... Он
отвечает: «Да вот он вольный, я вольный; а как лежишь, лежишь, да и
того...» — «Чего?» — «Ан и вольнодумец»... Все приходят в ужас и
негодование при одной мысли, что Прохарчин может быть вольнодумцем; но он
возражает: «Стой, я не того... ты пойми только, баран ты: я смирный,
сегодня смирный, завтра смирный, а потом и не смирный,
сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец!..» Словом сказать,—
господин Прохарчин сделался истинным вольнодумцем: не только в прочность
места, но даже в прочность собственного смирения перестал верить.
Точно будто вызвать на бой кого-то хочет: «Да что, дескать, вечно, что
ли, я пресмыкаться-то буду? Ведь я и сгрублю, пожалуй,— я и сгрубить
Забитые люди
335
могу... Только что тогда будет?..» Но разгулялся этот господин Прохар-
чин перед смертью: в ту же ночь, не осилив волнения, он умер, возбудив
общее сожаление в жильцах. А по смерти его нашли в тюфяке, в разных
сверточках, серебряной монеты на 2497 рублей с полтиной
ассигнациями,— отчего жильцы, и в особенности хозяйка, пришли уже в
негодование...
Господин Прохарчин, как забитый, запуганный человек, ясен; о нем и
распространяться нечего. О его внезапной тоске и страхе отставки тоже
нечего много рассуждать. Привести разве мнение его сожителей во время
его болезни: «Все охали и ахали; всем было и жалко и горько, и все
меж тем дивились, что вот как же это таким образом мог совсем
заробеть человек? И из чего же заробел? Добро бы был при месте большом,
женой обладал, детей поразвел; добро б его там под суд какой ни на есть
притянули; а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с
немецким замком; лежал с лишком двадцать лет за ширмами, молчал, свету
и горя не знал, скопидомничал, и вдруг вздумалось теперь человеку,
с пошлого, с праздного слова какого-нибудь, совсем перевернуть себе
голову, совсем забояться о том, что на свете вдруг стало жить тяжело...
А и не рассудил человек, что всем тяжело!.. Прими он вот только это в
расчет,— говорил потом Океаниев,— что вот всем тяжело, так бы сберег
бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-
как, куда следует».
И ведь прав Океаниев: действительно, Прохарчин оттого и погиб, что
с пути здравой философии сбился.
Но кто же не сбивался с нее? У кого не бывало случаев, порывов,
увлечений, внезапно нарушавших ровный ход мирно устроенного
механизма жизни? Вот еще, пожалуй, пример из г. Достоевского: юный
чиновник, Вася Шумков, из низкого состояния трудолюбием и благонравием
вышел, за почерк и кротость любим начальством и самим его
превосходительством, Юлианом Мастаковичем, получает от него приватные бумаги
для переписки да еще за эту честь и деньгами от него награждается
время от времени. К этому еще — он имеет преданного друга Аркашу; мало
того — он полюбил, заслужил взаимность и уже женихом объявлен...
Чего ему еще! Он переполнен счастьем: жизнь ему улыбается. Триста
рублей жалованья да приватых от Юлиана Мастаковича — житье с женою
хоть куда! Они же так любят друг друга! Вася ничего не помнит, ни о
чем не думает, кроме своей невесты; у него есть бумаги, данные для
переписки Юлианом Мастаковичем; сроку остается два дня, но Вася,
с свойственным влюбленному юноше легкомыслием, говорит: «Еще
успею», и не выдерживает, чтоб в вечер под Новый год не отправиться с
приятелем к невесте... Но, возвратившись домой и засевши на целую
ночь писать, он поражается суровой действительностью: всех бумаг
никак не перепишешь к сроку,— а завтра к тому же Новый год, надо еще
336
H. A. Добролюбов
идти — расписаться у его превосходительства. Напрасно Аркаша его
удерживает, обещая за него расписаться,— Вася боится, что Юлиан Ма-
стакович могут обидеться. Напрасно также добрый друг уговаривает его
не сокрушаться, напоминая о великодушии Юлиана Мастаковича: это
еще более убивает Васю. Как! он, ничтожный червяк, презренное, жалкое
существо,— удостоен такого высокого внимания, получает частные
поручения, слышит милостивые слова... и вдруг — что же?— нерадение,
неисполнительность, неблагодарность! Всю чудовищность, всю черноту своего
поступка Вася и измерить не может, ибо соразмеряет ее с расстоянием,
разделяющим его от Юлиана Мастаковича,— а кто же может измерить
это расстояние?! У бедняка голова кружится при одном взгляде на эту
страшную пропасть... Он было думает идти к Юлиану Мастаковичу и
принести повинную; но как решиться на подобную дерзость? Друг его
хочет объясниться за своего друга, даже отправляется к его
превосходительству, но заговорить тоже не решается. Бедный Вася сидит за
письмом два дня и две ночи, у него мутится в голове, он уже ничего не
видит и водит сухим пером по бумаге. Наконец любовь, ничтожество, гнев
Юлиана Мастаковича, недавнее счастье, черная неблагодарность, страх
за свое полнейшее бессилие — сламывают несчастного, он убеждается, что
ему теперь одна дорога — в солдаты, и мешается на этой мысли. А Юлиан
Мастакович благодушно заметил: «Боже, как жаль! И дело-то,
порученное ему, было не важное и вовсе не спешное... Так-таки ни из-за чего
погиб человек!»
Положим, что г. Достоевский слишком уж любит сводить с ума
своих героев; положим, что у Васи его уж донельзя слабое сердце (так и
повесть называется). Но всмотритесь в основу этой повести,— вы придете
к тому же результату: что идеальная теория общественного механизма,
с успокоением всех людей на своем месте и на своем деле, вовсе не
обеспечивает всеобщего благоденствия. Оно точно, будь на месте Васи писаль-
ная машинка,— было бы превосходно. Но в том-то и дело, что никак
человека не усовершенствуешь до такой степени, чтоб он уж совершенно
машиною сделался; в большой массе еще так — это мы видим в военных
эволюциях, на фабриках и пр., но пошло дело поодиночке — не сладишь.
Есть такие инстинкты, которые никакой форме, никакому гнету не
поддаются и вызывают человека на вещи совсем несообразные, чрез что, при
обычном порядке вещей, и составляют его несчастие. Вот хотя бы для
этого Васи,— если уж пробудилось в нем чувство, если уж он не может
отстранить от себя человеческих потребностей,— то уж гораздо лучше
было бы для него вовсе и не иметь этого похвального сознания о своем
ничтожестве, о своем беспредельнейшем, жалком недостоинстве перед
Юлианом Мастаковичем. Смотря на дело обыкновенным образом, он
сказал бы просто: «Ну, что же делать,— не успел; обстоятельства такие
вышли»,— и остался бы довольно спокоен. А много ли найдем мы людей
Забитые люди
337
в положении Васи, которые бы способны были к такой храбрости?
Большая часть, проникнутая сознанием своего бессилия и величием
начальнической милости,— с трепетом возится за его поручением и хоть не сходит
с ума, но сколько выдерживает опасений, сомнений, сколько тяжелых
часов переживает, ежели что-нибудь не сделается или сделается не
совсем так, как поручено... И все это ведь не из-за дела (до которого Васе
и всякому другому подобному ни малейшей нужды нет), а именно из-за
того, как взглянут, что скажут,— из-за того, что от этого взгляда жизнь
Васи зависит, в этом слове вся его участь может заключаться.
Говорят, отрадно человеку иметь за собою кого-нибудь, кто о нем
заботится, за него думает и решает, всю его жизнь, все его поступки и даже
мысли устроивает. Говорят, это так согласно с естественной инерцией
человека, с его потребностью отдаваться кому-нибудь беззаветно, поставить
для души какой-нибудь образец и владыку, в воле которого можно бы
почивать спокойно. Все это очень может быть справедливо в известной
степени и может оправдываться даже историей. Но едва ли это мнение
может найти себе оправдание в тенденциях современных обществ. Оттого ли,
что общества новых времен вышли из состояния младенчества, в котором
естественное чувство бессилия необходимо заставляет искать чужого
покровительства; оттого ли, что прежние, известные нам из истории
покровители и опекуны обществ часто так плохо оправдывали надежды
людей, доверявших им свою участь,— но только теперь общественные
тенденции повсюду принимают более мужественный, самостоятельный
характер. Высокие добродетели слепой, безумной преданности, безусловного
доверия к авторитетам, безотчетной веры в чужое слово — становятся все
реже и реже; мертвенное подчинение всего своего существа известной
формальной программе — ив ордене иезуитов осталось уже едва ли не на
бумаге только. «Естественная человеку инерция» признается уже каким-
то отрицательным качеством, вроде способности воды замерзать;
напротив, на первом плане стоит теперь инициатива, то есть способность
человека самостоятельно, самому по себе браться за дело,— и о достоинствах
человека судят уже по степени присутствия в нем инициативы и по ее
направлению. Все как-то стремится стать на свои ноги и жить по милости
других считает недостойным себя. Такое изменение тенденций произошло
в обществах новых народов Европы с конца прошлого столетия. Можем
сказать, что изменение это не миновало отчасти и нас. Не касаясь
других сфер, недоступных в настоящее время нашему описанию, возьмем
хотя литературу. То ли она представляет теперь, что за полвека назад?
С одной стороны, литература в своем кругу — лицо самостоятельное, не
ищущее милостивцев и не нуждающееся в них; только иногда, очень
редко, какой-нибудь стихотворец пришлет из далекой провинции
журнальному сотруднику водянистые стишки, с просьбою о протекции для
помещения их в таком-то журнале. Да эти чудаки большею частию оказываются
22 Ы, А, Добролюбов
333
H. A. Добролюбов
людьми старого веку, на склоне лет взыгравшими поэтическим
вдохновением... С другой стороны, посмотрите и на отношение публики к
литературе: недоступных пьедесталов уж нет, непогрешимые авторитеты не
признаются, мнение, что «уж, конечно, это верх совершенства, если
написано таким-то», вы едва ли часто услышите; а отзыв, что «это
прекрасно потому, что таким-то одобрено»— вероятно, еще реже. Всякий,
худо ли, хорошо ли, старается судить сам, пускать в ход собственный
разум, и теперь самый обыкновенный читатель не затруднится отозваться,
вовсе не с чужого голоса,— что, например, «Свои собаки» Островского —
бесцветны и не новы, «Первая любовь» Тургенева — пошлость,
«Полемические красоты» Чернышевского — нахальны до неприличия, и т. п.
Другие читатели выскажут опять, может быть, мнения совершенно
противоположные и, расхвалив «Первую любовь», назовут гнилью «Обломова»...
Те и другие могут ошибаться; но все же это люди, говорящие свое
мнение и не боящиеся того, что высказывают его о лицах уважаемых,
даровитых, высоко поставленных и признанных в литературе. Мы не станем
говорить, что способствовало такому изменению в читающей публике,
и даже согласимся, пожалуй, что на первый раз это всеобщее
разнузданно литературных суждений произвело страшный сумбур: всякий порет
дичь, какая только ему придет в голову. Но ведь как же иначе и
делаются все человеческие дела? Ведь только Минерва вышла из головы
Юпитера во всеоружии, а наши земные дела все начинаются понемножку,
с ошибками и недостатками. Да чего вам лучше — сами-то гражданские
общества с чего начались, как не со столпотворения вавилонского?
Следовало бы ожидать, что, при всеобщем стремлении к поддержанию
своего человеческого достоинства, исчезнут и те забитые личности,
которых несколько экземпляров взяли мы у г. Достоевского. Однако ж —
оглянитесь вокруг себя — вы видите, что они не исчезли, что герои г.
Достоевского — явление вовсе не отжившее. Отчего же они так крепятся?
Хорошо, что ли, им? Нет, мы видели, что никому из них не приносит
особенного счастья его забитость, безответность и отречение от
собственной воли, от собственной личности. Замерло, что ли, в них все
человеческое? Нет, и не замерло. Мы нарочно проследили четыре лица, более или
менее удачно изображенных автором, и нашли, что живы эти люди и жива
душа их. Они тупеют, забываются в полуживотном сне, обезличиваются,
стираются, теряют, по-видимому, и мысль, и волю, и еще нарочно об этом
стараются, отгоняя от себя всякие наваждения мысли и уверяя себя, что
это не их дело... Но искра божья все-таки тлеется в них, и никакими
средствами, пока жив человек, невозможно потушить ее. Можно стереть
человека, обратить в грязную ветошку, но все-таки, где-нибудь, в самых
грязных складках этой ветошки, сохранятся и чувство и мысль,— хоть
и безответные, незаметные, но все же чувство и мысль...
«А что же в них, если они незаметны и безответны,— скажет чита-
Забитые люди
339
тель.— Все равно, значит, что их и нет. И вот поэтому-то, вероятно, и
продолжают до сих пор существовать эти несчастные создания, забитые
до степени грязной ветошки, об которую обтирают ноги».
Мало ли что незаметно, читатель,— незаметно потому, что не хотят
замечать. Незаметно до поры до времени, но бывает такая пора, что все
выходит наружу. Ведь вот г. Достоевский нашел же возможность
подсмотреть живую душу в отупевших, одеревенелых чертах своих героев.
А бывают такие случаи, когда «безответное» чувство, глубоко
запрятанное в человеке, вдруг громко отзовется, и все услышат его. Дело в том,
что в человеке ничем незаглушимо чувство справедливости и
правомерности; он может смотреть безмолвно на всякие неправды, может терпеть
всякие обиды без ропота, не выразить ни одним знаком своего
негодования; но все-таки он не может быть нечувствителен к неправде, насколько-
ее видит и понимает, все-таки в душе его больно отзывается обида и
унижение, и терпению даже самого убитого и трусливого человека всегда
есть предел. Вместе с тем в человеке небходимо есть чувство любви;
всякий имеет кого-нибудь, дорогого для себя,— друга, жену, детей,
родных, любовницу. На них примеривает он свое положение, их сравнивает с
другими, об их довольстве думает, и со стороны ему рассуждается вольнее
и яснее. Себя, положим, Макар Алексеич обрек на горькую долю и о себе
не жалеет: я уж, говорит, таковский,— пусть мною все помыкают... и
недоем-то я — не беда, и обидят-то меня — так не велик барин. Но вот его
чувство обращается на чистое, нежное существо, которое скоро делается
ему всего дороже в жизни, на Вареньку: он уже предается сожалению о
ее несчастиях, находит их незаслуженными, заглядывает в кареты и
видит, что там барыни сидят все гораздо хуже Вареньки; ему уже приходят
в голову мысли о несправедливости судьбы, ему становится как-то
враждебным весь этот люд, разъезжающий в каретах и перепархивающий из
одного великолепного магазина в другой, словом — скрытая боль,
накипевшая в груди, подымается наружу и дает себя чувствовать. И бывает
это вовсе не так редко, как можно предполагать, не зная дела; бывает
это тем чаще, что в большинстве случаев человек, загнанный и забитый,
бывает крайне стеснен и в материальном отношении, а между тем
принужден бывает выполнять разные общественные условия. Макар
Алексеич сокрушается, что скажут его превосходительство, увидев его
плачевный вицмундир, говорит, что пьет чай, собственно, для других, до
глубины души возмущается насмешкою департаментского сторожа, не
давшего ему щетки почистить шинель, под тем предлогом, что об его
шинель казенную щетку можно испортить... В самом деле,— каково
положение: поставлен человек в кругу других, должен вести с ними дело,
быть одетым, как они, пить и есть, как они, и в то же время он лишен
всякой возможности даже хоть подражание сносное устроить. Уж не
говоря об отличных сапогах,— хоть бы какие-нибудь сапоги,— так и тех нет;
22*
зю
H. A. Добролюбов
были одни, да и у тех подошвы отстали... Понятны трагические
восклицания Макара Алексеича: «Пожалуй, и сам я скажу, что не нужно его,
малодушия-то; да при всем этом решите сами, в каких сапогах я завтра
на службу пойду! Вот оно что, маточка; а ведь подобная мысль погубить
человека может, совершенно погубить». И мало ли людей, страдающих и
изнывающих в подобных заботах? А еще если есть любимое существо,
если есть семейство? Сколько горя, сколько тоски самой прозаической,
но оттого не меньше тягостной и ужасной! Средь этих-то забот чувствует
человек, до чего он уничижен, до чего он обижен жизнью; тут-то
посылает он желчные укоры тому, на чем, по-видимому, так сладостно покоится
в другое время, по изложенной выше философии Макара Алексеича. И в
этом-то пробуждении человеческого сознания всего более заслуживает
наше сочувствие, и возможностью подобных сознательных движений он
искупает ту противную, апатичную робость и безответность, с которою всю
жизнь подставляет .себя чужому произволу и всякой обиде.
Но отчего же подобные вспышки «божьей искры» так слабы1, так
бедны результатами? Отчего пробужденное на миг сознание засыпает снова
так скоро? Отчего человеческие инстинкты и чувства так мало
проявляются в практической деятельности, ограничиваясь больше вздохами и
жалобами да пустыми мечтами?
Да оттого и есть, что у людей; о которых мы говорим, уж характер
такой. Ведь будь у них другой характер,— не могли бы они и быть
доведены до такой степени унижения, пошлости и ничтожества. Вопрос, значит,
о том, отчего образуются в значительной массе такие характеры, какие
общие условия развивают в человеческом обществе инерцию, в ущерб
деятельности и подвижности сил.
Может быть, вина в нашем национальном характере? Но ведь этим
вопрос не решается, а только отдаляется: отчего же национальный
характер сложился такой, по преимуществу инертный и слабый? Придется
только решение, вместо настоящего времени, перенести на
историческую почву.
Притом же это еще вопрос спорный: ведь не мало кричат у нас и о
ширине, и о размашистости русской натуры. Не произнесем своего
суждения о всем народе; мы имеем в виду лишь один ограниченный круг его.
Но признаться надобно — забавны восторги этой размашистостью,
выражающеюся в том, что иные господа парятся в банях, поддавая на каменку
шампанское, другие бьют посуду и зеркала в трактирах, третьи —
проводят всю жизнь в псовой охоте, а в прежние времена так еще обращали
эту охоту и на людей, зашивая мелкопоместных лизоблюдов в медвежьи
шкуры и потом травя их собаками... Этакая-то размашистость водится во
всяком невежественном обществе и везде падает с развитием
образования. Но где же наша размашистость в кругу обыкновенных людей, да и
откуда ей взяться? Возьмите у нас хоть незрелых еще юношей, учащих-
Забитые люди
341
ся наукам: чего они ждут, какую себе цель предполагают в жизни?
Ведь все мечты большей части ограничены карьерой, вся цель жизни в
том, чтобы получше устроиться. Это несравненно реже встречаете вы у
других народов Европы. Не говоря о французах, которые имеют
репутацию хвастунишек,— возьмите других, хоть, например, скромных немцев.
Редкий немецкий студент не лелеет в душе какой-нибудь любимой идеи,—
у них все больше ударяются в теорию,— какой-нибудь громадной мечты.
Или он откроет новые начала философии и проложит новые пути для
мысли; или радикально преобразует существующие педагогические
методы, и после него человечество будет воспитываться на новых основаниях;
или он будет великим композитором, поэтом, художником... Наконец, если
и угомонится он, сузятся его стремления, решится он быть учителем
какой-нибудь сельской школы,— и тут он задает себе вопрос и думает, как
он будет учить, как приобретет расположение мальчиков и уважение
общины и т. п. Во всем этом вы видите что-то деятельное и
самостоятельное: «Я то-то сделаю,— а что я за это получу, уж там само собою
следует»... Это не тот склад размашистых мечтаний, как, например, у
городничего, мечтающего, что его сделают генералом зато, что Хлестаков
женится на его дочери... Мы взяли в пример немца; возьмите кого
хотите другого, везде вы найдете более широкий размах воображения, более
инициативы в самых мечтах и планах, нежели у нас. Англичанин,
например, вышед из школы и перестав мечтать о том, чтобы быть Чатамом,
Веллингтоном или Байроном, начинает, положим, строить планы
обогащения 19. Это, конечно, и у нас возбуждает мечты многих. Но какая же
разница и в средствах и в размерах! Наши мечтатели о богатстве
большею частью ухватываются за рутинные средства, берут то, что под рукою
и что плохо лежит, и нередко останавливаются на достижении
всевозможного комфорта. Между тем англичанин в своих соображениях
изобретет несколько машин, переедет несколько раз все океаны, оснует
несколько колоний, устроит несколько фабрик, сделает несколько громадных
оборотов и затмит собою всех Ротшильдов... И что всего важнее,— он
ведь пойдет исполнять свою задачу, и хоть половины не выполнит, но
кое-чего все-таки достигнет... То же надо сказать и о французах: мы
напрасно так уж наповал и осуждаем их, как пустозвонов. Нет, и они
исполняют по временам задачи не маленькие, и во всяком случае размах
у них шире нашего. Мы, вон, возимся над каким-нибудь
энциклопедическим словарем, над какими-нибудь изменениями в паспортной или
акцизной системе... А они — «составим, говорят, энциклопедию»— и
составили,— не чета нашей. Так и во всем; «издадим,— говорят,— совсем новый
кодекс»— и издали тотчас; «отменим то и другое в нашей жизни»— и
отменили. Даже в нынешнем, опошленном и униженном французском
обществе, все-таки, в строе разговора, в поведении каждого француза, вы
замечаете еще довольно широкие замашки. Там вы слышите: при встрече
342
H. A. .Добролюбов
с Ламорисьером20, я ему скажу, что он поступил бесчестно; в другом
месте: у меня почти готова записка императору относительно его
итальянской политики; в третьем: нет, я напишу Персиньи, что такие меры не
годятся,— и пр., в таком роде 21... Вы видите, что человек считает себя
чем-то, дает себе труд судить и спорить, и никак не хочет безусловно
повергаться в прах пред каждым словом хоть бы Moniteur'a22. Правда, что
он ничего серьезного большею частию не делает; но по крайней мере
духом не падает и не предается тому робкому, безнадежному чувству
бессилия, при котором можно «обратить человека в грязную ветошку».
А почему у нас это «обращение в ветошку» так легко и удобно,— об
этом проницательный читатель не ждет, конечно, от нас решительных
объяснений: для них еще время не пришло. Приведем лишь несколько
самых общих черт, на которые находим указания даже прямо в
произведениях автора, по поводу которого нам представляются все эти вопросы.
Прежде всего, припомните, что говорит Макар Алексеич, когда
избыток тоски вызывает из глубины души его несколько смелых суждений.
«Знаю, что это грешно... Это вольнодумство... Грех мне в душу лезет...»
Вы видите, что самая мысль его связана суеверным ужасом греха и
преступления. И кто же из нас не знает происхождения этого суеверного
страха? Какой отец, отпуская Детей своих в школу, учил их надеяться
только на себя и на свои способности и труды, ставить выше всего науку,
искать только истинного знания и в нем только видеть свою опору
и т. п.? Напротив, не говорили ли всякому из нас: «Старайся заслужить
внимание начальства, будь смирнее, исполняй беспрекословно, что тебе
прикажут, не умничай. Ежели захочешь умничать, т$к и из правого
выйдешь неправым: начальство не полюбит,— что тогда выйдет из тебя?
Пропадешь»... В таких началах, в таких внушениях мы выросли. Нас с
детства наши кровные родные старались приучить к мысли о нашем
ничтожестве, о нашей полной зависимости от взгляда учителя, гувернера,
и вообще всякого высшего по положению лица. Припомните, как часто
случалось вам слышать от домашних: «Молодец, тебя учитель хвалит»,
или наоборот: «Скверный мальчишка,— начальство тобою недовольно»,—
и при этом не принималось никаких объяснений и оправданий. А часто ли
случалось вам слышать, чтобы вас похвалили за какой-нибудь
самостоятельный поступок, чтоб сказали даже просто: «Молодец, ты вот это дело
очень хорошо изучил и можешь его дальше повести», или что-нибудь
в этом роде?
Таким образом направленные с детства, как мы вступаем в
действительную жизнь? Не говорю о богачах и баричах; до тех нам дела нет; мы
говорим о бедном люде среднего класса. Некоторые и по окончании
ученического периода не выходят из-под крыла родительского; за них просят,
кланяются, подличают, велят и им кланяться и подличать,
выхлопатывают местечко, нередко теплое... Подобные птенцы имеют шансы дойти до
Забитые люди
343
степеней известных. Но огромное большинство бедняков, не имеющих ни
кола ни двора, не знающих, куда приклонить голову,— что делает это
большинство? По необходимости тоже подличает и кланяется, и выклани-
вает себе на первый раз возможность жить безбедно где-нибудь в углу на
чердаке, тратя по двугривенному в день на свое пропитание,— да и это
еще по чьей-нибудь милости, потому что, собственно говоря, нужды в
людях нигде у нас не чувствуется, да и сами эти люди не чувствуют,
чтоб они были на что-нибудь нужны... Заметьте, что ведь у нас, если
человек мало-мальски чему научился, то ему нет другого выхода, кроме
как в чиновники. В последнее время всякий, обученный до степени кое-
какого знания хотя одного иностранного языка, норовит сыскать себе
средства к жизни посредством литературы; но литература наша тоже
наводнена всякого рода претендентами и не может достаточно питать их.
Поневоле опять обращается целая масса людей ежегодно к чиновнической
деятельности и поневоле терпит все, сознавая свою ненужность и
коренную бесполезность. Болезненное чувство господина Прохарчина, что вот
он сегодня нужен, завтра нужен, а послезавтра может и ненужным
сделаться, как и вся его канцелярия,— одно это чувство объясняет нам
достаточную долю той покорности и кротости, с которою он переносит все
обиды и все тяготы своей жизни.
Да и как же быть иначе? Где взять сил и решимости для
противодействия? Будь еще дело между личностями, один на один,— тогда бы,
может быть, раздраженное человеческое чувство выказалось сильнее и
решительнее; а ведь тут и личностей-то нет никаких, кроме неповинных,
потому что не свою волю творят. Мы видели даже, что начальник
Макара Алексеича, например,— благодетельное лицо, Юлиан Мастакович,—
очень милый человек... Кто же теснит и давит Макара Алексеича?
Обстоятельства! А что делать против обстоятельств, когда они сложились так
прочно и неизменно, так неразлучны с нашим порядком, с нашей
цивилизацией? Их громадность в состоянии подавить и не одного Макара
Алексеича, который сознается: «Случается мне рано утром, на службу спеша,
заглядеться на город, как он там пробуждается, встает, дымится, кипит,
гремит,— тут иногда пред таким зрелищем так умалишься, что как будто
бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу, да и
поплетешься, тише воды, ниже травы, своею дорогою и рукой махнешь!..»
Подобное же впечатление производят чудеса современной цивилизации,
нагроможденные в Петербурге, на Аркадия, друга Васи Шумкова. Но
уж мы не станем его здесь выписывать...
Да, человек поглощается и уничтожается общим впечатлением того
громадного механизма, которого он не в состоянии даже обнять своим
рассудком. Подобно древнему язычнику, падавшему ниц перед
неведомыми, грандиозными явлениями природы, падает нынешний смертный пред
чудесами высшей цивилизации, которая хоть и тяжко отзывается на нем
344
H. A. Добролюбов
самом, но поражает его своими гигантскими размерами. Тут уже нет
речи о борьбе, тут и для характеров более сильных возможно только
бесплодное раздражение, желчные жалобы и отчаяние. Возьмите хоть
опять последний роман г. Достоевского. Вот, например, сильный,
горячий характер маленькой Нелли; но посмотрите, как она поставлена, и
может ли ей в этой обстановке прийти хоть малейшая мысль о борьбе
постоянной и правильной? Ее мать умерла, задолжав Бубновой; ее
нечем похоронить; Нелли осталась беспомощна, беззащитна. Бубнова
берет ее к себе и вступает, разумеется, над нею во все права
воспитательницы и госпожи. Ее бьют, мучат и тиранят всячески,— что же с этим
делать? Бубнова — ее благодетельница, и не будь она, так другая на ее
месте могла бы делать то же самое... Нелли даже злобно рада своим
побоям: она считает их уплатою за кусок хлеба и за отрепье, какое дает
ей Бубнова. Но ей тяжко другое: она видит, к чему ее готовит Бубнова,
ей и обидно, и страшно, и горько... Но опять — что же она сделает?
Ведь не зарезать же Бубнову! А убежать от нее — куда убежишь,
чтобы не нашли? И вот она продана, и избавляется случайным образом, когда
уже над нею готово совершиться мерзкое преступление... Затем — она
знает, что она дочь, законная дочь князя. Но что же из этого? Нужны
документы, у ней их нет; нужно быть юристом, чтобы затеять дело, да и
то у князя есть деньги и связи, подействительнее всех юристов... Бедная
Нелли хоть и попадает под конец к добрым людям, но ее< постоянно
возмущает чувство, что она живет у чужих людей, из милости...
Ну, да это, положим, ребенок. Возьмем из того же романа другое
лицо — Ихменева. Это характер крепкий, но крепкий не на борьбу, а на
упорство в раздражении. Свой гнев, свою горечь он изливает то на
безответную жену, то на дочь, которую страстно любит, но тем не
менее проклинает несколько раз. Отчего он всю силу свою не употребит
прямо, куда следует,— против своего обидчика — князя?.. Да он бы и
желал этого более всего на свете, но в делах с князем надо соблюдать
установленные церемонии и условия. Затеян процесс — ну, и идет он
неспешно, годами, заведен по законному порядку. Порядок этот
оказывается в пользу князя,— все в пользу князя,---сколько ни апеллируй — все
в его пользу... Приходится платить, продавать с аукциона Ихменевку...
Ведь знает и чувствует старик, что это несправедливо, оскорбительно,
бессовестно; но как же это переделаешь? И в чем тут сила? Даже и не в
князе; убей Ихменев князя,— а деревню его все-таки продадут... Да и
убить-то князя нельзя: он так хорошо огражден! Ихменев возымел было
это намерение, узнав, что князь сказал одному чиновнику, что
«вследствие некоторых семейных обстоятельств»,— хочет возвратить старику
штрафные с него 10 тысяч. Это значило назначать плату за бесчестье его
дочери. Старик расходился и решил вызвать князя на дуэль. Вот рассказ
Ивана Петровича об успехах его попытки.
Забитые люди
345
От меня он кинулся прямо к князю, не застал его дома и оставил ему записку:
в записке он писал, что знает о словах его, сказанных чиновнику, что считает их
себе смертельным оскорблением, а князя низким человеком, и вследствие всего этого
вызывает его на дуэль, предупреждая при этом, чтобы князь не смел уклоняться от
вызова, иначе будет обесчещен публично.
Анна Андреевна рассказывала мне, что он воротился домой в таком волнении и
расстройстве, что даже слег. С ней был очень нежен, но на расспросы ее отвечал
мало, и ридво было, что он чего-то ждал с лихорадочным нетерпением. На другое
утро пришло по городской почте письмо; прочтя его, он вскрикнул и схватил себя
за голову, Анна Андреевна обмерла от страха. Но он тотчас же схватил шляпу,
палку п выбежал вон.
Письмо было от князя. Сухо, коротко и вежливо он извещал Ихменева, что в
словах своих, сказанных чиновнику, он никому не обязан никаким отчетом, что
хотя он очень сожалеет Ихменева за проигранный процесс, но, при всем своем
сожалении, никак не может найти справедливым, чтоб проигравший в тяжбе имел право,
кз мщения, вызывать своего соперника на дуэль: что же касается до «публичного
бесчестия», которым ему грозили, то князь просил Ихменева не беспокоиться об
этом, потому что никакого публичного бесчестия не будет, да и быть не может, что
письмо его немедленно будет представлено куда следует и что предупрежденная
полиция наверно в состоянии принять надлежащие меры к обеспечению порядка и
спокойствия.
Ихменев, с письмом в руке, тотчас же бросился к князю. Князя опять не было
дома; но старик успел узнать от лакея, что князь теперь, верно, у графа N. Долго не
думая, оп побежал к графу. Графский швейцар остановил его, когда уже он
подымался на лестницу. Взбешенный до последней степени, старик ударил его палкой.
Тотчас же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейским, которые
препроводили его в часть. Доложили графу. Когда случившийся тут князь объяснил
честолюбивому старичку, что это тот самый Ихменев, отец той самой Натальи
Николаевны (а князь не раз прислуживал графу по этим делам), то вельможный
старичок только засмеялся и переменил гнев на милость; сделано было распоряжение
отпустить Ихменева на все четыре стороны; но выпустили его только на третий
день, причем (наверно, по распоряжению князя) объявили старику, что сам князь
упросил графа его помиловать.
Старик воротился домой как безумный, бросился на постель и целый час лежал
без движения, наконец приподнялся и, к ужасу Анны Андреевны, объявил
торжественно, что навеки проклинает дочь и лишает ее своего родительского благословения.
Анна Андреевна пришла в ужас, но надо было помогать старику, и она, сама
чуть по бе-j памяти, весь этот день и почти всю ночь ухаживала за ним,
примачивала ему голову уксусом, обкладывала льдом. С ним был жар и бред.
Вот вам и все. Не в князе тут сила, а в том, что каков бы он ни
был, он всегда огражден от всякой попытки Ихменевых и т. п.—своим
экипажем, швейцаром, связями, наконец даже полицейским порядком,
необходимым для охранения общественного спокойствия.
Так, стало быть, положение этих несчастных, забитых, униженных и
оскорбленных людей совсем безвыходно? Только им и остается что
молчать и терпеть, да, обратившись в грязную ветошку, хранить в самых
дальних складках ее свои безответные чувства?
Не знаю, может быть, есть выход; но едва ли литература может
указать его; во всяком случае, вы были бы наивны, читатель, если бы
ожидали от меня подробных разъяснений по этому предмету. Пробовал
346
H. A. Добролюбов
я когда-то начинать подобные объяснения, но никогда не доходили они
как следует до своего назначения. Теперь уж и писать не стану. Да и
вообще— неужели вы, читатель, до сих пор не заметили, что мы с
нашею литературою все повторяем только зады? Произвела жизнь наша,
много лет тому назад, известный разряд личностей; лет двадцать тому
назад художники их приметили и описали; теперь критике опять
пришлось обратиться к разбору произведений одного из этих художников; вот
она сгруппировала, с картин художника, несколько личностей, кое-
что обобщила, сделала кое-какие выводы и замечания... И вот все,
что покамест мы можем. Мы нашли, что забитых, униженных и
оскорбленных личностей у нас много в среднем классе, что им тяжко и в
нравственном, и в физическом смысле, что, несмотря на наружное примирение
с своим положением, они чувствуют его горечь, готовы на раздражение
и протест, жаждут выхода... Но тут и кончается предел наших
наблюдений. Где этот выход, когда и как— это должна показать сама жизнь.
Мы только стараемся идти за нею и представлять для людей, которые
не любят или не умеют следить сами за ее явлениями, то или другое
из общих положений действительности. Берите же, пожалуй, факт, намек
или указание, сообщенное в печати, как материал для ваших
соображений; но, главное, следите за непрерывным, стройным, могучим, ничем
не одержимым течением жизни и будьте живы, а не мертвы. Со времени
появления Макара Алексеича с братиею, жизнь уже сделала многое,
только это многое еще не формулировано. Мы заметили, между прочим,
общее стремление к восстановлению человеческого достоинства и
полноправности во всех и каждом. Может быть, здесь уже и открывается
выход из горького положения загнанных и забитых, конечно, не их
собственными усилиями, но при помощи характеров, менее подвергшихся тяжести
подобного положения, убивающего и гнетущего. И вот этим-то людям,
имеющим в себе достаточную долю инициативы, полезно вникнуть в
положение дела, полезно знать, что большая часть этих забитых, которых
они считали, может быть, пропавшими и умершими нравственно,— все-
таки крепко и глубоко, хотя и затаенно даже для себя самих, хранит
в себе живую душу и вечное, неисторжимое никакими муками сознание
своего человеческого права на жизнь и счастье.
ДОПОЛНЕНИЯ
А. В. КОЛЬЦОВ
Глава I
Замечательные русские люди из простого звания. Кольцов. Чем он замечателен.
Значение лирической поэзии вообще и песни в частности. О характере
русских народных песен.
Как сочинялись у нас подражания им до Кольцова.
Отличие песен Кольцова от этих подражаний и от самых народных песен*
Кольцов до последнего времени не пользовался у нас такой
известностью, какой можно бы желать для него и какой он заслуживает. Правда,
некоторые из его песен распространяются в публике и возбуждают
сочувствие благодаря тому, что они положены на музыку и могут быть
петы в обществе, с аккомпанементом фортепьяно. Но это случайное
знакомство с двумя-тремя песнями весьма немногих приводит к более
близкому и серьезному изучению произведений поэта. До сих пор еще много
можно встретить людей, которые знают и ценят Кольцова только как
простолюдина-самоучку, выучившегося писать недурные стихи.
Действительно, и это обстоятельство само по себе стоит того,.,чтобы
обратить на него наше внимание. Не удивительно, в самом деле, если
является умный и образованный человек из такого семейства и вообще
в том классе общества, где с первых лет жизни ребенка прилагают все
старания, чтобы сделать его образованным. Нужно, напротив, с
удивлением и сожалением смотреть на то, когда выходят пустые и ничтожные
молодые люди из детей, которым даны все средства приобрести
необходимые познания, развить свои умственные способности и сделаться людьми
дельными и полезными. К несчастию, подобное явление очень нередко,
и чрезвычайно забавно бывает слушать рассуждения подобных пустых
людей об образованности. Получивши кое о чем самые поверхностные
понятия, они все-таки считают себя образованными и с презрением
отзывается о простолюдине. И если из простых людей явится какой-нибудь
350
Я. А. Добролюбов
человек, которого все признают замечательным, они с удивлением
говорят об этом, как о необъяснимом исключении. А между тем дело
совершенно понятно. Что простолюдины вообще менее образованны,— это
зависит от того, что у них весьма мало средств получить образование. Зато,
если какое-нибудь благоприятное обстоятельство поможет, крестьянский
мальчик нередко образуется и развивается с удивительною быстротою.
Это, без сомнения, зависит от того, что поселяне наши живут ближе к
природе. Если мы обратимся к' истории, то найдем, что из простолюдинов
наших очень нередко выходили люди, отличавшиеся и силой души,
и светлым умом, и чистым благородством своих стремлений, в самых
трудных положениях, на самых высоких степенях государственных, в самых
разнообразных отраслях наук и искусств. Вспомним, напр., темного
мещанина нижегородского, Минина, спасавшего Россию в то время, когда не
было в ней ни царя, ни порядка, ни заготовленных заранее сил...
Вспомним другого простолюдина, костромского мужика Сусанина, твердо и
непоколебимо верного своим понятиям о долге, бесстрашно
пожертвовавшего жизнью для спасения царя, в котором видел спасение всей России.
Приведем себе на память Никона, крестьянского сына из бедной
деревушки Нижегородской губернии, сделавшегося потом патриархом и одним из
образованнейших людей своего времени. Обратим внимание на тех
знаменитых людей, которые из низкой доли возвысились и прославились в
разных отношениях при Петре и его преемниках. Меншиков, по прекрасному
выражению поэта, этот «полудержавный властелин» 1 при Петре,
мальчиком бегал по улицам, продавая пирожки... Шафиров, бывший потом
государственным канцлером, первый наш дипломат в истинном смысле этого
слова, был взят Петром из сидельцев мелочной лавки... Подобных
примеров возвышения простолюдинов в государственном смысле мы могли бы
насчитать много. Не менее личностей представляется и в области науки
и вообще просвещения. Наш первый ученый, заключавший в себе, как
сказал Пушкин, целую академию и университет 2,. человек, трудившийся
с такою пользою почти во всех родах знания,— Ломоносов, был
архангельский мужик по происхождению. Наш знаменитый механик, которому
удивлялись иностранцы и которого так уважала Екатерина II,"— Кулибин,
был нижегородский мещанин... В Курске живет до сих пор замечательный
астроном — мясник Семенов...
В ряду таких имен видное место занимает и имя Кольцова. Простое
его происхождение, действительно, в глазах наших дает новую цену его
произведениям. Но мы очень ошиблись бы, если бы подумали, что
Кольцов только тем и замечателен... Нет, в его произведениях много таких
достоинств, которые высоко ценятся во всяком поэте, каково бы ни было
его происхождение. Поэтому его никак нельзя сравнивать с другими
крестьянами-стихотворцами, которых у нас было также не мало Напр., у нас
лет двадцать пять тому назад много говорили о Слепушкине, простолюдине,
А. В. Кольцов ' 351
который тоже писал много стихов. Стихи эти были в самом деле довольно
гладки, в некоторых видно было искреннее чувство, и многим интересно
было читать его стишки, чтобы удивляться в них, как это русский
простолюдин-самоучка дошел до того, что пишет не хуже многих других, ученых
и образованных людей. Но если бы эти стихи написал человек в самом
деле образованный, об них сказали бы все, что они не стоят внимания,
и никто бы не стал их читать... Не таковы стихи Кольцова. Они были бы
замечательным, необыкновенным явлением даже и в том случае, если бы
их написал и не простолюдин, а поэт, получивший самое полное
образование.
Но чем же особенно замечателен, какое важное значение может иметь
человек, целый век свой сочинявший песни и только в песнях
показавший весь свой талант?
Такого рода вопрос могут предложить многие, потому что многие
считают поэзию и вообще искусство пустым препровождением времени,
прихотью, роскошью, не имеющею никакого существенного значения в жизни.
Для того чтобы ответить на это предубеждение, нужно обратиться к
самым началам, на которых основывается существование поэзии, и
объяснить, в чем состоит существо ее и в чем заключается большее или
меньшее достоинство поэта.
Поэзия основывается на нашем внутреннем чувстве, на влечении
нашей души ко всему прекрасному, доброму и разумному. Поэтому ее нет
там, где участвует только какая-нибудь одна из этих сторон нашей
духовной жизни, подавляя собою обе другие. Напр., прекрасно сшитый фрак,
как бы он ни был прекрасен, не заключает в себе ничего поэтического,
потому что тут нет ничего ни доброго, ни умного. Точно так — отдать в
назначенный срок занятые деньги — дело доброе и честное, но оно не
заключает в себе поэзии, потому что мы не видим в нем ни особенного
умственного развития, ни изящества. Таблица умножения опять вещь очень
умная, но нимало не поэтическая, так как ни красоты, ни добра, собственно,
в ней мы не находим. Таким образом, высшая поэзия состоит в полном
слиянии этих трех начал, и чем более поэтическое произведение
приближается к этой полноте, тем оно лучше. Чтобы удовлетворить требованию
добра, оно должно непременно быть благородно и честно; оттого нам не
нравятся, напр., стихотворения, в которых расточается подлая лесть, как
бы эта лесть ни была хорошо выражена. Чтобы иметь значение пред
судом ума, поэтическое произведение необходимо должно заключать в сеОе
мысль: никого, напр., не приведет в восторг простое перечисление
нелюбопытных предметов или рассказ о каком-нибудь ничтожном
происшествии, не заключающем в себе никакого внутренного смысла. Всякий
спросит: что же из этого? какая же мысль в этом рассказе?... Но всего более
требуется условий от поэтического произведения в отношении к чувству.
Против него-то часто погрешают люди, принимающиеся за поэзию. Они
352
H. A. Добролюбов
нередко рассказывают о каком-нибудь обыкновенном поступке или
излагают стихами свои убеждения и воображают, что это поэзия. Но на деле
выходит, что они, увлекшись своими мыслями или добрыми
стремлениями, не позаботились вовсе о чувстве, и потому, вместо поэзии, пустились
в дидактику, т. е. в холодные рассуждения. Чувство наше возбуждается
всегда живыми предметами, а не общими понятиями. Если даже, напр.,
читая какое-нибудь рассуждение, мы вдруг ощущаем в душе чувство
приятное или неприятное вследствие мыслей, в нем изложенных, то это
может случиться не иначе, как когда мы живо представим себе предмет,
о котором тут говорится. В этом представлении общая мысль непременно
получит для нас какой-нибудь определенный образ, напр., от понятия
бедности мы можем перейти к представлению бедняка, голодного, в
рубище и пр., от понятия счастья — к представлению какой-нибудь картины
жизни, в которой мы сочли бы себя счастливыми, и т. п. На этом
основании для поэзии необходимы живые, определенные образы, чтобы
она могла удовлетворить нашему чувству. А могут явиться в душе эти
образы только тогда, когда мысль, которую хотим мы развить, в
поэтической форме, не только хорошо понята нами, но и вполне живо и
определенно представляется нашему сознанию, так что легко возбуждает
чувство в душе человека. В этой-то стороне и заключается главное отличие
так наз. поэтических натур. Понять истину может всякий умный человек;
стремиться к добру должен и хочет всякий человек, не лишенный
благородства души. Но сильно почувствовать и правду и добро, найти в них
жизнь и красоту,, представить их в прекрасных и определенных
образах — это может только поэт и вообще художник.
Строго говоря, поэтическое чувство есть почти во всяком человеке.
Чрезвычайно трудно найти таких грубых и холодных людей, на которых
ничто не производило бы впечатления, которые были бы равнодушны ко
всему на свете. Но в обыкновенных людях чувство это проявляется
очень слабо и нередко заглушается разными житейскими расчетами и
обстоятельствами. В поэте же оно развивается весьма сильно, является
господствующим над другими сторонами души и выражается очень ярко,
несмотря на все внешние препятствия.
Впрочем, и в самих поэтах чувство это бывает различно, как в
степени своей силы, так и в направлении. Смотря по разным обстоятельствам
жизни и по самому природному темпераменту, чувство поэта может
обращаться преимущественно в ту или другую сторону, как и вообще это
бывает у прочих людей. Как, напр., часто встречаются в обществе
прекрасные рассказчики, которые умеют живо и занимательно передать анекдот,
происшествие, но не могут определенно и верно описать предмет и
передать впечатление, какое он производит. Другие, напротив, именно
отличаются уменьем изображать предметы и так прекрасно их описывают, что
они представляются слушателям как живые и вследствие того легко воз-
А. В. Кольцов
353
буждают в душе их глубокое чувство. Есть и третий род рассказчиков,
которые умеют так живо подметить особенности людей и предметов, что
просто представляют их, подражая им голосом, телодвижениями,
изменениями лица и пр. Это самый живой род рассказчиков... То же бывает и в
поэзии. Одни поэты преимущественно умеют хорошо рассказать
происшествия, случающиеся в жизни. Это называется эпической или
повествовательной поэзией, к которой относятся поэмы, романы, повести, сказки
и пр. Другие особенно хорошо могут изображать предметы и передавать
то чувство, то впечатление, которое эти предметы возбуждают в душе.
Это поэзия лирическая, к которой относятся все почти роды мелких
стихотворений и которая названа так оттого, что в древности все подобные
стихотворения пелись, и это пение сопровождалось игрою на лире.
Наконец, есть поэты, которые, ничего не говоря сами от себя, выводят перед
нами разные лица и заставляют их говорить и вступать в различные
отношения между собою: это драма, под которой разумеется и комедия и
вообще всякое театральное представление. Эти три рода и составляют всю
область поэзии. Других родов, кроме этих, нет.
Разумеется, нужно помнить, что и здесь нельзя совершенно отделять
этих трех родов в поэтических произведениях. И в повести часто разные
лица вступают в разговоры и сами действуют так, что автор от себя не
говорит уже за них; и в драме бывают речи, полные лирического чувства;
и в лирическом стихотворении может быть введен рассказ для того, чтобы
еще сильнее возбудить чувство. Без этого смешения нельзя обойтись,
потому что и в жизни оно беспрестанно встречается, а поэтическое создание
тогда и хорошо, когда оно живо и верно раскрывает перед нами все, что
есть в жизни. Различие между тремя родами поэзии основывается не на
исключительном, а только на преимущественном участии в
произведении — или описания, или рассказа, или действия.
Из трех, названных нами, родов поэзии лирический распространен
всего более. В самом деле, мы беспрестанно испытываем различные
впечатления от предметов, беспрестанно в душе нашей появляются
мимолетные, разнообразные чувствования. Каждое из таких впечатлений и чувств
может дать содержание для лирического стихотворения. И поэт,
изображая такие впечатления и чувства, оказывает большую услугу людям: без
него много прекрасных чувств и благородных стремлений было бы забыто
нами; они появились бы в нас на минуту и тотчас исчезли бы под
влиянием разных житейских забот и мелочей. Поэт, умеющий прекрасно
изобразить сердечное чувство, дает нам прочное напоминание о нем и вновь
вызывает из глубины души то, что прежде было заглушено в ней разными
внешними обстоятельствами. Поэтому-то достоинство поэта зависит, с
одной стороны, от того, как сильно в нем поэтическое чувство, а с
другой #— от того, на какие предметы и на какие стороны предмета оно
обращается. Последнее зависит уже от умственного развития. Есть такие
23 Н. А. Добролюбов
354
H. A. Добролюбов
поэты, которые, кроме живости чувства, ничего не имеют. Они до того
ограничены умственно, что целый век могут петь все на одну какую-нибудь,
часто ничтожную тему, и то ясно не понимая ее. Иные, напр. во
множестве стихотворений все толкуют о какой-то неопределенной грусти; а о
чем они грустят,— это сами они хорошенько не понимают. Другие все
восхищаются чем-то, уверяя, что жизнь и мир хороши; но почему хороши,
как и в чем именно видно хорошее, прославляемое ими,— это для них
самих чрезвычайно темно... Такие поэты, имея очень мало мыслей в
своей поэзии, не могут иметь важного значения. Есть также и другого рода
поэты, тоже мало развитые умственно, хотя и знающие довольно многое.
Они обращаются к изображениям разных предметов и чувств, но не
умеют при этом просто и верно взглянуть на предмет, чтобы тотчас схватить
его существенные, главные стороны. Какие-нибудь неважные черты,
совершенно случайные, без которых легко обойтись, кажутся им
необходимыми, а главное и необходимое остается в стороне. Произведения таких
поэтов опять не могут иметь особенных поэтических достоинств,
оставаясь совершенно ничтожными и даже смешными перед судом людей,
понимающих вещи как следует...
С другой стороны, и умные люди могут быть очень плохими поэтами.
У них часто рассуждения заменяют чувство, и в душе нет той чуткости,
той восприимчивости, которая делает поэта весьма чувствительным ко
всякому явлению природы и жизни. Они или вместо живого изображения
дают нам общие фразы, которые всегда скучны, или, не чувствуя поэзии
в простоте и естественности явления, которое берутся изображать,
прибегают к преувеличениям и украшениям, создавая чудовищные,
неестественные образы, каких нет и не может быть в природе. Такие поэты опять
не могут иметь никакого значения, потому что они не удовлетворяют
поэтическому чувству, живущему в душе каждого человека.
Из всего, что мы сказали, можно уже видеть, что поэзии лирической
никак нельзя отказать в важном значении для общества. Это значение
является и в песне, как одном из видов лирической поэзии. Именем
песни вообще называют всякое лирическое стихотворение, и даже вообще
поэзию называют песнопением. Но собственно под песней принято
разуметь небольшое лирическое произведение, которое удобно для пения и в
котором выражается внутреннее чувство, возбужденное явлениями
обыкновенной жизни. Такие песни существуют у всех народов, но, по
свидетельству всех занимавшихся исследованием народной поэзии, ни один
народ не отличается такой любовью к пению, как славяне, и между ними
русские. У нас народ сопровождает пением все торжественные случаи
своей жизни, всякое дело, всякое веселье и печаль. Еще в колыбели
дети убаюкиваются песнями; подрастая, они сами выучиваются напевать
народные песни. Собирается зимой молодежь крестьянская на посиделки,
и здесь раздаются песни; приходит весна, выходят поселяне встречать ее,
А. В. Кольцов
355
составляют хороводы, завивают венки и при этом непременно поют песни.
Едет крестьянин пахать землю, он облегчает труд свой песней;
собираются крестьяне жать, косить в знойную рабочую пору, и здесь песня
звучит между ними, освежая их среди тяжелых трудов. Провожают лето,
празднуют уборку хлеба,— опять с песнями. Песня сопровождает
поселянина во всех его общественных трудах; она же следует за ним и в
семейную жизнь его. Собирается ли молодец жениться, его сватанье, де~
вшпник, свадьба — все это непременно оглашается песнями, готовыми
нарочно на этот случай. Настает ли тяжелая разлука с семейством, мать
провожает сына, жена мужа — с рыданиями, причитаниями и пением.
Умирает ли человек, над ним раздаются похоронные, печальные песни...
Так ли, почему-нибудь нападет грусть-тоска на душу, она сейчас
изливается в грустной песне... Веселье ли заберется в сердце, и оно не
удержится в нем без того, чтобы не выразиться в удалой, разгульной песне...
Но у нас мало песен веселых... Большая часть наших народных песен
отличается тяжелой грустью. То в них плачет мать по сыне или невеста
по жениху; то молодая жена жалуется на суровость мужа и злость
свекрови; то добрый молодец на чужой дальней стороне тоскует по родине,
в разлуке со всеми милыми его сердцу; то бедняк, убитый своим горем,
сокрушается, что ничего не имеет и живет в презрении. Во всем видно
желание чего-то, стремление к какой-то лучшей доле, какой-то порыв
души, но порыв неопределенный, странный, часто уничтожающийся сам
собою. Порой выражается в песне какой-нибудь отчаянный, удалой порыв,
и часто этот порыв бывает и неразумен, и несогласен с нравственностью
общественною...
Много в этих песнях чувства; но, как видим, мало разумности, потому
что стремления большею частью бессознательны. Не везде видно и добро.
Поэтому они не могут, говоря вообще, стоять очень высоко в поэтическом
отношении, хотя и есть между ними произведения очень поэтические. Во
многих находим прекрасные изображения природы, хотя здесь заметно
сильное однообразие, которое отчасти объясняется общим грустным
характером песен: обыкновенно в них представляется пустынная, печальная
равнина, среди которой стоит несколько деревьев, а под ними раненый
или убитый добрый молодец; или же несколькими чертами
обрисовывается густой туман, павший на море, звездочка, слабо мерцающая сквозь
туман, и девушка, горюющая о своей злой судьбе. Нигде почти нет
светлых, радостных картин природы или ужасных, бурных ее явлений. Все
полно тихой грусти, часто переходящей в горькую иронию, а иногда
разрешающейся отчаянным удалым порывом.
Народные наши песни долго не обращали на себя внимания и даже
навлекали презрение многих в прошлом столетии. Но когда мало-помалу
распространились и утвердились у нас более правильные понятия о поэзии
вообще, тогда оставили предубеждение против народных песен, стали
23*
356
H. A. Добролюбов
их собирать и даже подражать им. Но подражания эти были решительно
неудачны, потому что авторы их приступали к делу совершенно
неискусно и притом с ложными взглядами на поэзию, заранее составленными.
Они не хотели понять, что достоинство поэта заключается в том, чтобы
уметь уловить и выразить красоту, находящуюся в самой природе
предмета, а не в том, чтобы самому выдумывать прекрасное. Они воображали,
что природа недостаточно хороша и что нужно украшать ее. Поэтому
и народные песни показались им дикими и грубыми, потому что в них
верно и без всяких прикрас отражается грубый быт простолюдинов.
Таким образом, они постарались откинуть все, что напоминает о
действительной жизни, т. е. откинуть всякую поэзию, и на место того придумали
одеть мужиков в поэтические кудри да в богатые кафтаны, баб нарядить
в великолепные кокошники и душегрейки, сделать их
сентиментальными пастушками и придать им приторные, ненатуральные, небывалые чув-
ствованьица. Из этого вышли риторические фразы, не заключающие в
себе никакой поэзии; но тогда все подобные сочинители думали, что они
хорошо делают, поправляя и украшая таким образом природу. В этом
роде много писали у нас в конце прошедшего столетия; тогда появились
и идиллии, и элегии, и песни, взятые из народного быта, но страшно
украшенного, т. е. искаженного. То же старание представлять все не в
простом, естественном виде господствовало тогда, по подражанию
французам, и во всей нашей литературе; и те же сентиментальные, приторные
чувства находим мы во множестве песен, которые сочинялись тогда по
образцу народных и имели большой успех. Так, известны сочинители
подобных песен: Карабанов, Николев, Нелединский-Мелецкий. Многие их
песни положены были на музыку и проникли даже в народ, т. е. в те
сословия его, которые начинали уже удаляться от первоначальной
простоты жизни, но еще не достигли до образованности. Каковы эти песни,
можно видеть из нескольких примеров. Вот, напр., песенка Карабанова,
в свое время бывшая в большом ходу:
Лети к моей любезной
Ты, песенка моя,
Представь ей рок мой слезный,
Скажи, как страстен я.
Поди в прелестны руки,
Предстань ее очам,
Скажи сердечны муки
Небесным красотам.
Скажи, что лучшей доли
Не стану я желать,
Как сладкой лишь неволи-*
Ее закон внимать...
А. В. Кольцов
357
И так далее — еще 40 стихов, в которых повторяются всё одни и те
же риторические фразы. Нет ни жизни, ни естественности, ни мысли.
А это еще едва ли не лучшая песня Карабанова...
Или вот еще песня, известная в целой России, сочинения
Нелединского-Мелецкого:
Выду я на реченьку,
Погляжу на быструю —
Унеси ты мое горе,
Быстра реченька, с собой.
Нет, унесть с собой не можешь
Лютой горести моей;
Разве грусть мою умножишь,
Разве пищу дашь ты ей.
За струей струя катится
По склоненью твоему;
Мысль за мыслью так стремится
Все к предмету одному...— и пр.
Вся песня очень длинна, и продолжение несравненно хуже начала.
Здесь видно старанье подделаться под народный тон — обращением к
реке, как это часто делается в русских песнях. Но далее сейчас является
книжное сравнение мыслей со струями реки и неловкий оборот
поэтической речи в оговорке: «Нет, унесть не можешь». И во всем тоне песни
так и видно, что тут говорит не искреннее чувство, вырвавшееся из
души, а просто риторические, холодные фразы, придуманные на досуге...
С течением времени понятия о том, что можно считать прекрасным в
поэзии, несколько изменились, в народных песнях признали действительные
их достоинства и стали по всей России собирать их. Г. Сахаров издал
сборник песен народных в пяти частях. Кроме него, и другие издавали
небольшие собрания песен. Обширное собрание песен составлено г.
Киреевским, который, однако, умер недавно, не успевши окончить своего
дела... Узнавши лучше, чем прежде, подлинные народные песни, писатели
наши стали несколько более приближаться к ним и в своих подражаниях.
Из таких писателей замечательнее других были Мерзляков, барон
Дельвиг и Цыганов. У них встречаются места, близко подходящие по духу
своему к нашим народным песням; есть даже целые песни, хорошо
выражающие чувства грусти, тоски и т. п. Так, напр., у Мерзлякова есть
прекрасная песня: «Чернобровый, черноглазый», у Дельвига: «Ах ты,
ночь ли, ноченька» и пр. Но и у них все еще очень мало чисто русского,
народного. Чувства, выражаемые в их песнях, принадлежат не простым
людям, живущим близко к природе, говорящим просто и естественно,
а таким людям, которые нарочно стараются быть дальше от естествен-
358
H. A. Добролюбов
ности и которые, по прекрасному выражению Грибоедова (в «Горе от
ума»),—
Словечка в простоте не скажут,
Все с ужимкой.
Вот, напр., одна из лучших песен Дельвига, имевшая большой успех
еще в недавнее время:
Пела, пела пташечка
И затихла.
Знало сердце радости,
Да забыло.
Что, певунья пташечка,
Замолчала?
Что ты, сердце, сведалось
С черным горем?
Ах, сгубили пташечку
Злые люди;
Погубили молодца
Злые толки.
Полететь бы пташечке
К синю морю;
Убежать бы молодцу
В лес дремучий.
На море валы шумят,
Да не вьюги;
В лесе звери лютые,
Да не люди,
В этой песне форма как будто народная; но стоит немного
всмотреться в нее, чтобы увидеть, какая это неудачная подделка. Самое сравнение
молодца с пташечкой совершенно не в духе русского народа. Сравнение
это проведено по всей песне так формально, ровно — через два стиха,
что становится совершенно мертвым, пустым приноровлением, без всякого
участия сердечного чувства. Как придуманное, а не естественное,
сравнение это и неверно само по себе: в начале песни губят пташечку злые
люди, а в конце она летит к морю, чтобы спастись от вьюги; вьюги эти
сравниваются, значит, с злыми толками, погубившими молодца, а звери
лесные ставятся в параллель с морскими волнами. Как и почему все это
выходит — нечего и спрашивать. Да и основная мысль пьесы, что молодец
бежит в лес от злых толков, решительно нейдет к нашему простому,
умному народу: она могла родиться разве только у человека, пожившего
между сплетнями светского общества.
А, В. Кольцов
359
От всех этих песенок песни Кольцова отличаются, как небо от земли.
В его стихах впервые увидали мы чисто русского человека, с русской
душой, с русскими чувствами, коротко знакомого с бытом народа,
человека, жившего его жизнью и имевшего к ней полное сочувствие. Его
песни по своему духу во многом сходны с народными песнями, но у него
более поэзии, потому что в его песнях более мыслей, и эти мысли
выражаются с большим искусством, силою и разнообразием, потому что
чувства его более глубоки и сознательны и самые стремления более
возвышенны и определенны. Обстоятельства жизни, поставивши Кольцова близко
к народному быту, с одной стороны, дали ему возможность узнать
истинные нужды народа и проникнуться его духом. Но, с другой стороны,
те же обстоятельства, возвысивши Кольцова некоторым образованием,
сделали то, что все, бывшее в народе грубым, бессознательным,
неопределенным, явилось в Кольцове обработанным, разумным, определенным.
Каким образом он дошел до этого, объясняет нам его жизнь, с
которой непосредственно связана вся его поэзия. Мы обратимся теперь к рас-
казу об этой замечательной жизни, а потом представим несколько
частных замечаний о различных особенностях, заключающихся в поэзии
Кольцова, и особенно в тех его стихотворениях, которые носят название
русских песен.
Глава II
Детство Кольцова. Его отец; первые годы жизни, начальное воспитание; училище,
домашние занятия; пребывание в степи;, любовь к природе;
страсть к чтению; дружба.
Алексей Васильевич Кольцов родился в 1809 г., 2 октября 3, в
Воронеже. Отец его был воронежский мещанин, не богатый, но имевший
некоторый достаток. Промысел его состоял в торговле баранами, которых он
доставлял большею частию на салотопенные заводы, существующие в том
краю. Отец Кольцова не был настолько образован, чтобы ценить пользу
просвещения и желать его для своего сына. Это был, сколько можно
судить по некоторым намекам в жизни Кольцова, человек неглупый,
ловкий, умевший хорошо обделывать свои дела и готовый употреблять даже
не совсем чистые средства для своей выгоды,— дело, впрочем, слишком
обыкновенное в нашей мелкой торговле вообще. Но, несмотря на свою
практическую смышленность, отец Кольцова совершенно не имел того
умственного развития, которое облагораживает человека и внушает ему
лучдпие и высшие стремления. Он весь погружен был в коммерческие
сделки, вечно хлопотал только о своих барышах и потому, естественно,
360
И. А. Добролюбов
не мог оценить, как следовало, дарований и стремлений своего сына.
В первые годы своей жизни Кольцов оставлен был решительно без
всякого надзора и попечения. Никто не заботился не только о его умственном
и нравственном развитии, но даже и о сохранении его телесного здоровья
и жизни. И ныне часто можно видеть в селах и небольших городах целые
толпы мальчиков и девочек, от пяти до десяти лет, бегающих по
улицам без всякого призора. Они обыкновенно босоноги, запачканы, не
причесаны, не умыты, бегают где и как попало, ссорятся, дерутся между
собою. Нередко тут схватывают они опасную простуду, или другую болезнь,
или какое-нибудь увечье, и с этим остаются на всю жизнь. В таком
точно положении был Кольцов в раннее свое детство, и он, как многие,
поплатился здоровьем за небрежение старших. Бродя босиком по траве
и лужам, он схватил опасную болезнь, от которой чуть было совсем не
лишился употребления ног. Его принялись лечить на этот раз и
вылечили, но тем не менее болезнь эта и впоследствии нередко отзывалась
ему.
При таком небрежении нельзя было и ожидать, чтобы натура
мальчика развивалась совершенно хорошо. Однако, при всем этом, его
естественные способности и расположения взяли свое. Там, где другие дети видят
только случай к дурачествам, лени и безнравственному развитию,
Кольцов нашел запас прекрасных впечатлений и возможность приблизиться к
вечно живым красотам природы. Он нередко убегал в лес, в' степь со
стадами отца и там еще бессознательно, но, конечно, уже не без участия
пробуждающегося поэтического чувства, предавался наслаждению
природой, которую о-н впоследствии так хорошо изображал в своих песнях.
Замечено, что впечатления, какие мы получаем в детстве, бывают всегда
чрезвычайно сильны, живы и долговечны, оставляя в душе неизгладимые
следы на всю последующую жизнь. Поэтому, судя по стихотворениям
Кольцова, мы можем заключить, что его в первые годы жизни более
поражали чистые, живые явления природы, нежели, те грязные, пошлые,
мелкие, нередко безнравственные случайности, которых он мог бы
насмотреться дома, в торговых отношениях отца. Таким образом, и то, что
могло бы погубить другого ребенка, самый недостаток надзора и
заботливости старших в первоначальном воспитании, послужило Кольцову в
пользу, сблизивши его с природой и охранивши от мелочных дрязгов грубой
жизни...
Не считая нужным давать хорошее образование своему сыну, отец
Кольцова просто хотел сделать из него способного помощника себе в
хозяйстве и промысле. Но он умел сообразить, что и для этого нужны же
некоторые знания, и потому решил, наконец, что надобно выучить сына
грамоте.
Кольцову уже было девять лет, когда он начал учиться читать у
какого-то из воронежских семинаристов. Можно было бы ожидать, что, при-
Л. В. Кольцов
361
вышли до этих пор бегать по своей воле, он очень неохотно сядет за
книгу. Но натура мальчика была так хороша, что сама стремилась к
знанию, и грамота далась Кольцову весьма легко. Скоро он выучился
читать и для дальнейшего продолжения ученья отдан был отцом в
Воронежское уездное училище. Нет никаких сведений о том, как он учился
там; но очевидно, что он успел узнать очень немногое в то время,
которое пробыл в школе. Вероятно, и здесь он не отставал от других,
потому что был переведен во второй класс; но в этом классе он пробыл
всего только четыре месяца. Отец его, видя, что мальчик выучился уже
читать, писать и считать, решил, что более учиться ему совершенно не
нужно, и взял его из училища для того, чтобы он удобнее и легче мог
помогать ему в хозяйственных делах. Не знаем, с каким чувством тогда
Кольцов оставлял училище; может быть, как большая часть мальчиков,
он и рад был тогда, что избавляется от школьной премудрости. Но зато
впоследствии, в продолжение всей своей жизни, он постоянно с
сожалением вспоминал об этом обстоятельстве, лишившем его возможности
приобрести даже первоначальное образование. Как ни глубок был его
природный ум, как ни светла голова, как ни много впоследствии работал
он сам для образования себя,— но всего этого было недостаточно для того,
чтобы вознаградить потерянные годы детства и отрочества, проведенные
им без всякого ученья.
Одно доброе последствие, которое осталось в нем от училища, это
была страсть к чтению. Стремление к приобретению познаний, к
умственным занятиям никак не могло совершенно заглохнуть в нем. Оно было в
нем, как во всех умных и неиспорченных детях, даже сильнее общей и
естественной в эти лета страсти к игрушкам и лакомствам. Лаская и
награждая сына, как умного мальчика и хорошего помощника своего,
отец Кольцова иногда давал ему несколько денег на пряники и игрушки.
Многие не одобряют обычая давать деньги детям, не умеющим еще
употреблять их, и это отчасти справедливо. Но, с другой стороны, натура
ребенка, его нравственные расположения и даже степень умственного
развития могут чрезвычайно ясно выразиться именно в том, на что и как
употребит он свои деньги... Кольцов употреблял их на покупку книг.
Видно уже и из этого, как сильна была в нем потребность
образования и хотя какой-нибудь умственной деятельности. Но само собой
разумеется, что, не получивши даже первых начал общего образования,
Кольцов не мог обратить своего внимания на что-нибудь действительно важное
и серьезное в области науки или искусства. Ему нужно было чтение,
которое было бы доступно его уму, не развитому ученьем. Такое чтение
нашел он в русских сказках. Сказки эти, совершенно далекие от
действительного быта, изображающие какой-то фантастический, неясный мир
чудес* и мечтаний, где все делается не по естественным законам, а по
щучьему веленью да по «заветному» слову,— эти сказки, не требуя для пони-
362
H. A. Добролюбов
мания их особенного научного приготовления, пришлись как раз по плечу
мальчику Кольцову. Ум его не встречал здесь непонятных трудностей,
а между тем воображение было занято удивительными приключениями,
которые в них рассказываются; для чувства также занятие — с участием
следить за судьбою героя сказки. Не мудрено поэтому, что Кольцов
пристрастился к чтению русских сказок, как ни плохи они сами по себе.
Он покупал дешевые лубочные издания сказок, и особенное его
восхищение возбуждали Еруслан Лазаревич и Бова Королевич. Чтение это
развивало, конечно, его пылкое воображение и вообще производило сильное
впечатление на страстную натуру его. Может быть, подобные
впечатления, развившись слишком сильно, были бы даже и вредны для его
нравственного развития. Но тут, как всегда, спасла его близость к природе
и живая деятельность. Маленький Кольцов и в 11—12 лет не имел уже
времени праздно предаваться пылким фантазиям. Мы видели, что отец
взял его из училища совсем не за тем, чтобы он мог на свободе читать
и мечтать, а для того, чтобы иметь в нем помощника себе. Поэтому
с 12 лет Кольцов вошел уже в подробности промысла своего отца. Эти
промышленники, перегоняющие скот и торгующие им, называются у нас
прасолами, и оттого нередко можно услышать присвоенное Кольцову
имя поэта-прасола. Ремесло прасола отчасти приучало мальчика к
действительной жизни, отчасти же сильно помогало сближению его с
природой. В Воронежской губернии для выгона скота существуют, не так
далеко от самого Воронежа, целые роскошные, обширные степи. Там
обыкновенно, во время лета, гулял скот, принадлежавший отцу Кольцова. Хозяин
по временам навещал свои стада, чтобы сделать нужные распоряжения,
а в эти поездки брал с собою и сына. Иногда ему приходилось оставаться
там по нескольку дней, и тут вполне разыгрывалось и удовлетворялось
поэтическое чувство мальчика. Он радостно всматривался в прозрачную
даль широкой степи; прислушивался к простому говору временных ее
обитателей — чумаков, пастухов; чуял своим сердцем живые впечатления
и веселого пения птички, и красоты весенней травки, и порывы степного
ветра, и все это превосходно умел изобразить потом в своих простых, но
глубоких стихах. Вот как описывает он степь:
Степь раздольная
Далеко вокруг,
Широко лежит,
Ковылем-травой
Расстилается.
Ах ты, степь моя,
Степь привольная!
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
А. В, Кольцов
363
К морю Черному
Понадвинулась...
В этих стихах видно живое, радостное упоение чувством широкого
раздолья степи; подобное же светлое чувство наслаждения степной
природой выражается и в следующих стихах:
Весною степь зеленая
Цветами вся разубрана,
Вся птичками летучими,
Певучими полным-полна..«
Поют они и день и ночь...
То песенки чудесные...
Но та же степь своим пустынным величием и тишиною навевала и
грусть на душу поэта, как высказывается это, напр., в последних
стихах стихотворения «Могила»:
Веет над могилой,
Веет буйный ветер,
Катит через ниву
Мимо той могилы —
Сухую былинку,
Перекати-поле;
Будит вольный ветер,
Будит, не пробудит
Дикую пустыню,
Тихий сон могилы.
Тем же чувством полно стихотворение «Путник»:
Сгустились тучи, ветер веет,
Трава пустынная шумит;
Как черный полог, ночь висит;
И даль пространная чернеет;
Лишь там, в дали степи обширной,
Как тайный луч звезды призывной,
Зажжен случайною рукой,
Горит огонь во тьме ночной.
Унылый путник, запоздалый,
Один среди глухих степей,
Плетусь к ночлегу; на своей
Клячонке тощей и усталой
Держу я путь к тому сгню;
Ему я рад, как счастья дню...
364
H. A. Добролюбов
От этой жизни, от этой степи Кольцов не отрывался надолго во все
продолжение своей жизни; но все же первые впечатления степной
природы запали в его душу еще во время ранней юности, когда все наши
чувства бывают так свежи и живы. В это время он свыкся со всеми
удобствами и невыгодами, красотами и неприятностями степи. Иные дни
он вполне отдавался наслаждению природой и деятельностью: то
раскидывался он на свежей траве, под чистым небом, то по целым дням
носился по степи на коне, перегоняя стада с одного места на другое, то
располагается около огня,
Где спела каша степняка
Под песнь родную чумака.
Таким образом, здесь же он знакомится и с преданьями родной
страны, как сам вспоминает впоследствии в одном из своих стихотворений:
Бывало часто, ночью темной,
Я с ними время разделял
И, помню, песням их внимал
С какой-то радостью невольной.
Были, разумеется, и неудобства в этом поэтическом провождении
времени в степи; Не всегда она была цветами разубрана, не всегда горячо
пекло ее солнышко; случалось Кольцову бывать в ней и во время
холодной осени, подвергаться влиянию холодного, порывистого ветра, ночевать
на влажной земле, на холоду, бродить по грязи и слякоти. Но, не
приученный к неге и имевший очень крепкое сложение, Кольцов не
чувствовал от этого особенно вредных последствий.
Зимою занятия мальчика переменялись. Отец посылал его на базар с
своими приказчиками для закупки и продажи товара. Тут должен был
Кольцов познакомиться со всеми дрязгами мелочной торговли; ему
приходилось видеть тут и грубую, грязную жизнь, и мелкие плутни и обманы,
и пошлости людей, которые сталкивались с ним. Будь в нем менее ума
и благородства, не будь в его душе глубокого поэтического чувства,
трудно было бы ему уберечься от дурных влияний. Но он умел
сохранить и здесь чистоту души своей и остался поэтом и человеком
благородным.
Отдыхом от этих торговых занятий опять служили ему книги.
Возвращаясь домой, во время зимы, он принимался за чтение, которое теперь
становится у него разнообразнее и принимает несколько другое
направление. Этому помогло следующее обстоятельство. В училище Кольцов
сблизился и подружился с одним мальчиком, сыном богатого купца,
ровесником ему по годам. Дружба их продолжалась и по выходе Кольцова из
Л. В. Кольцов
365
училища и отличалась сердечным и благородным направлением. Она была
основана не на том, что маленькие друзья играли вместе и помогали
друг другу в детских шалостях. Напротив, они сошлись потому, что оба
страстно любили чтение и вместе читали попадавшиеся им книги. Отец
приятеля Кольцова имел довольно много книг, и приятели целые дни
проводили вместе в саду, читая романы Дюкре-Дюмениля, Августа Ла-
фонтена и пр. Эти романы уже несколько выше русских сказок по
искусству рассказа; но все еще в них очень много сказочного. Они совсем
не похожи на современные романы и повести, в которых мир и жизнь
описываются так, как они в самом деле существуют. Там все
преувеличено, все необыкновенно, все представлено так, как никогда не бывает
в действительной жизни, и потому немножко уродливо. Но
Кольцов, свыкшийся с простой и не совсем привлекательной
действительностью, рад был отдохнуть в этом воображаемом мире, рад был
помечтать над судьбою романических героев; на него эти рассказы —
Наводили сны,
Сны волшебные,
Уносили в край
Заколдованный...
Особенно нравились ему арабские сказки, которые доставляли
обильную пищу его воображению своими волшебными, занимательными
рассказами и роскошными описаниями.
Так прошло три года. Кольцову было уже лет 14, когда его поразил
внезапный удар, нанесенный его дружбе. Приятель, которого он так
полюбил, с которым делил до сих пор лучшие свои чувства, которому он
обязан, может быть, лучшими минутами своей отроческой жизни,— умер
от болезни. Это было первое несчастие, поразившее чувствительное
сердце Кольцова. Он глубоко и тяжело горевал о погибшем друге, с которым
находил отраду для своего сердца. К нему, кажется, обращался он в
1828 г, в стихотворении «Ровеснику»:
О чем, ровесник молодой,
Горюешь и вздыхаешь?
Страшна ли жизни темна дал*-
И с юностью прощанье?
Или нежданная беда
Явилась и сразила?
Житейская ль тебя нужда
Так рано посетила?..
366
H. A. Добролюбов
Все это стихотворение, один из самых первых опытов Кольцова, еще
очень слабо; но в нем все-таки заметно искреннее чувство, видна чистота
и благородство стремлений, которые он питал в своей душе с самого ран*
него детства и без которых не мог бы быть столь замечательным поэтом.
Г л а в а III
Первое знакомство Кольцова со стихотворениями и первые попытки собственного
стихотворства. Воронежский книгопродавец. Дружба с Серебрянским. Семейные
отношения.
Глубоко пораженный смертью своего приятеля, Кольцов долго не мог
забыть его и находил некоторое облегчение своей грусти в
перечитывании книг, оставшихся ему после молодого друга. Таким образом,
благородная любовь к просвещению себя, к умственным занятиям под-
держивала для Кольцова отношения дружбы, даже разрушенные смертью.
Между тем, имея живой и здравый от природы ум, он скоро перестал
довольствоваться и теми сказочными романами, которые до сих пор
столько восхищали его, и решился искать чего-нибудь другого, лучшего. Он
снова принялся покупать книги на те де,ньги, какие получал от отца.
В Воронеже была в то время всего только одна книжная лавка, и
мальчик Кольцов, столь ревностно покупавший и читавший книги, не мог не
быть замечен купцом4. Это было полезно для нашего поэта. Однажды
книгопродавец предложил ему купить стихотворения Дмитриева. Это были
первые стихи, которые удалось читать Кольцову. В радости прибежал
он домой с своим новым приобретением и тотчас отправился в сад,
чтобы там на досуге и без всякой помехи заняться новою книжкой.
С первых же строчек, прочитанных им, он понял, что тут написано
как-то иначе, нежели все, что он прежде читал. Он стал всматриваться
и разбирать незнакомый для него склад этих звучных строчек, и скоро
нашел, что тут есть некоторое сходство в складе с песнями, которые
приводилось ему слышать. Из этого он заключил, что стихи нужно не
читать, а петь, и принялся у себя в саду распевать стихи Дмитриева.
Скоро вся книжка была пропета; но этого мало было для Кольцова,
заметившего, что стихи эти шевелят в глубине его души какое-то
особенное, неопределенное, но сильное чувство. Ему захотелось самому
сложить что-нибудь, что бы было так же складно и звучно. Вообще
Кольцов принадлежал к числу таких людей, которым необходима собственная,
самостоятельная деятельность, и в этом заключается, между прочим,
высокое превосходство его натуры. Есть люди, которые умеют повторять
за другими то, что им сказано, умеют исполнить то, что велено, поль
А. В. Кольцов
367
нят и знают все, что услышали; но сами собою ничего не могут
сделать. Такие люди навсегда останутся только исполнителями чужой воли,
второстепенными, обыкновенными орудиями для общего дела, и никогда
не выйдут из ряда других, не будут руководителями ни в каком деле,
не скажут никакого нового слова. Напротив, есть другого рода люди,
которые никогда не хотят бессознательно и слепо следовать за другими,
никогда не ленятся сами думать и действовать, а стараются всегда
пробовать собственные силы на том поприще, какое им представляется. От
этаких людей всегда можно ожидать дел замечательных. Такого рода
человек был и Кольцов. Он никогда не мог. ограничиться тем, чтобы
только принимать впечатления, запоминать и усвоивать их. Душа его
постоянно просила деятельности, и он никак не мог удержать в себе
стремление сделать самому что-нибудь в том роде, который особенно
ему нравился и поражал его. Еще когда читал он наши лубочные сказки,
и тогда уже воображение его разыгрывалось, независимо от этих сказок,
и в мечтах мальчика являлись разные чудесные происшествия, сцепление
которых составляло цельные картины и истории, но которые никогда им
не были записаны и скоро позабыты. Читая романы Лафонтена и Дюкре-
Дюмениля, Кольцов тоже пытался сам создать в голове своей что-нибудь
в том же роде; но это было выше сил его, и желание осталось
неосуществленным.
Теперь опять сильно захотелось ему попробовать своей силы в
сочинении стихов. Он не знал, как за это взяться, потому что не знал
не только правил стихосложения, но даже и грамматических правил
языка: к орфографии он не мог приучиться даже во всю жизнь свою.
Кроме этих затруднений четырнадцатилетнему мальчику, получившему
такое скудное образование, какое получил Кольцов, мудрено было и сыскать
предмет для своих стихов. Но желание его было сильно, он решился
сделать что-нибудь, а решившись раз и попавши на свою дорогу,
люди, подобные Кольцову, никогда не отстают от своего решения.
Перебравши несколько предметов, он вспомнил рассказ одного своего
товарища о сне, который ему привиделся и повторился три ночи сряду.
Еще во время самого рассказа Кольцов был сильно поражен этим
случаем, и теперь решился взять его как предмет для своего
стихотворения. Выбравши время, когда мог быть один, не опасаясь помехи,
Кольцов сел за дело. Не имея понятия о правилах стихосложения, он
выбрал одну пьесу Дмитриева и стал подражать ее размеру, пробуя
проверять слухом, выходит ли склад в написанных стихах. Сначала это
было ужасно трудно для самоучки-поэта, и первый десяток стихов
достался ему очень тяжело. Но потом, немножко прислушавшись к чтению
стихотворной речи, следующие стихи Кольцов написал уже с гораздо
меньшим трудом. В ночь готово было стихотворение, под названием «Три
видания». Стихотворение это было чрезвычайно плохо, но теперь.
368
H. A. Добролюбов
главное для Кольцова состояло в том, что он достиг уменья складывать
стихи, как бы ни было ничтожно их достоинство. «Три видения» он сам
истребил впоследствии как произведение совершенно негодное. Однако же
первый успех в стихослагательстве ободрил его, и он начал после этого
слагать и другие стихотворения. Чтобы более ознакомиться с размером
и сущностью поэтической речи, он поспешил купить себе сочинения
Ломоносова, Богдановича, Державина. Вероятно, в первых его опытах
отзывалось влияние этих писателей не только в составе стиха, но и в
тоне и в устройстве целого произведения; но почти все свои стихи,
писанные в то время, уничтожил сам автор, а в позднейших его
стихотворениях совсем незаметно ничего ни ломоносовского, ни державинского:
и язык и содержание их отличаются самобытностью и оригинальностью.
Так на Кольцове оправдалось то замечание, что чем больше в человеке
внутренней силы, чем выше собственная нравственная природа его, тем
легче и скорее он освободится от всякого чужого влияния.
Кольцов совершенно увлекся стихотворством и даже почти
перестал читать книги, написанные прозою; ему все хотелось
прислушиваться к гармонии стихов, любоваться игрою созвучий в рифме и плавностью
поэтической речи. Он сам все продолжал свои стихотворные опыты,
сочиняя по слуху и не умея еще хорошенько определить, в чем заключается
разница стихов от прозы. Не надеясь на свои силы и желая найти совет и
ободрение в ком-нибудь, начинающий поэт наш долго искал человека,
которому можно бы было довериться и показать стихи свои. Но такого
человека близко к Кольцову решительно не было. Приятель его уже
умер; с другими он мало знался, да и едва ли они могли быть судьями
в этом деле; в семействе своем Кольцов тоже не ожидал встретить
сочувствие, а, напротив, опасался насмешек и брани, если бы решился
обнаружить плоды своих поэтических занятий. Но таить от всех свои
труды он уже не мог; ему непременно хотелось высказаться хоть перед
кем-нибудь, получить хоть чье-нибудь одобрение или замечание.
После нескольких соображений и колебаний он решил, что о деле
литературном должен иметь некоторое понятие книгопродавец, так как он все
около книг возится. Сделавши такое заключение, Кольцов отправился
в книжную лавку и представил на суд книгопродавца «Три видения» и
несколько других пьес, написанных им, большею частью в подражание
разным поэтам, которых читал он в то время. Книгопродавец,
разумеется, был очень удивлен явлением мальчика с просьбою — прочесть его
стихотворения и дать о них свой суд. Однако же, к счастью Кольцова,
это был человек не только добрый, но и неглупый, хотя и не
получивший большого образования. Он прочитал стихи самоучки-поэта и
откровенно объявил, что они ему не нравятся. Но вместе с тем он, как
человек истинно честный, сознался, что не умеет объяснить, что и
почему в них нехорошо, а что есть для этого особые правила, которых он не
А. В. Кольцов
369
знает. Тут предложил он Кольцову книгу, которая заключает в себе
полные наставления о том, как писать правильные и хорошие стихи, именно
«Русскую просодию, изданную для воспитанников Благородного
университетского пансиона в Москве» 5. Кольцов был в таком восторге, как будто
бы внезапно открыл новый мир. Он и не подозревал, что могли
существовать уже определенные правила для искусства, которое так много
затрудняло его. Видя его восхищение, купец был тронут и заинтересован
такой сильной страстью к поэзии. Как видно, он принадлежал к числу людей
добрых и благородных, людей, готовых помогать своим ближним: он
подарил Кольцову «Русскую просодию» и даже предложил ему давать книги
для чтения безденежно. Поэт наш был вне себя от радости. Немедленно
принялся он за изучение просодии, нашел там определение разных
размеров, какими пишутся стихи, нашел правила, как пользоваться этими
размерами, и механизм стиха стал для него уже делом довольно простым и
легким. Тут же он с жадностью принялся за чтение. Теперь ему было из
чего выбирать и уже не было необходимости перечитывать одни и те же
старые книги, не нужно стало и покупать всякую дрянь, какая прежде
попадется под руку, потому что теперь он мог прочитать и узнать книгу
прежде покупки. И в самом деле, с этого времени Кольцов покупал
только те книги, которые особенно ему нравились. Так, скоро приобрел
сочинения Жуковского, Пушкина и Дельвига. У Дельвига особенно поразили
его «русские песни». Он с радостью увидел, что барон и, конечно, ученый
человек не пренебрегает песнями. До сих же пор Кольцов старался все
писать правильным размером, подражая книжному изложению и формам
стихотворцев, которых он читал. И в этом он скоро достиг некоторого
успеха: стихи его были правильны и гладки, как свидетельствует
стихотворение «Сирота», написанное им в 1825 г., когда ему было 16 или даже
15 лет. Приводим его, чтобы дать понятие о самом раннем из
сохранившихся до нас опытов Кольцова и чтобы показать, в какой степени он
владел уже в то время формою стиха:
Не прельщайте, не маните,
Пылкой юности мечты,
Удалитесь, улетите
От бездомной сироты.
Что ж вы, злые, что вы вьетесь
Над усталой головой?
Что вы с ветром не несетесь
В край неведомый, чужой?
Были дни, и я любила
Сны о радости земной;
Но надежда изменила.
Радость — сон в судьбе моей.
24 Н. А. Добролюбов
370
H. Л. Добролюбов
' Наяву же, в облегченье,
Только слезы проливать,
И не верить в оболыценье,
И покоя не вкушать.
Не прельщайте ж, не маните,
Светлой радости мечты,
Унеситесь, улетите
От бездомной сироты!..
В этом стихотворении совсем еще не видно той силы оригинальности
и меткости выражения, которыми отличаются лучшие песни Кольцова.
В самом содержании заметна немножко томная сентиментальность, какою
отличались тогда Мерзляков, Дельвиг и др. и какой впоследствии совсем
не находим у Кольцова. Но стихи и здесь уже довольно гладки,
особенно для 1825 г., когда и Пушкин не написал еще лучших своих
произведений, и Лермонтова не было, и вообще механизм стиха не был еще так
упрощен, как теперь.
Скоро новое обстоятельство подкрепило Кольцова в его поэтических
стремлениях. Около этого времени он сошелся с одним молодым
человеком, к которому до самой его смерти сохранил самые лучшие дружеские
отношения. Это был Серебрянский. Он учился в Воронежской семинарии;
но как все даровитые и сильные натуры, образованием своим обязан
был более самому себе, нежели школьному ученью. Известно, что как бы
ни дурно учили ребенка в детстве, как бы ни плохи были преподаватели
в школе, но если ученик имеет добрую волю и твердое желание учиться,
то при хороших его способностях он непременно достигнет образования
сам, независимо от своих наставников. Оправдывают свое невежество
неискусством учителей только те, которые сами из себя ничего не
умеют сделать и все ждут, чтобы их тащили за уши туда, куда они
сами должны идти. Серебрянский был не таков. Он имел от природы
прекрасные способности и потому скоро понял, как недостаточны те
знания, которые мог он приобрести от своих наставников. Это сознание
не привело его, однако же, к лености и пренебрежению учением. Нет, он
хорошо понимал, что без образования человек очень жалок, и потому он
стал искать образования сам собою. Он стал читать, размышлять и скоро,
действительно, развился и образовался самостоятельно, не покидая,
впрочем, семинарского курса, по окончаний которого он намерен был
поступить в Медико-хирургическую академию. Около 1827 г., т. е. когда
Кольцову было лет семнадцать или восемнадцать, он сошелся с Серебрянский.
Вместе с ясным и твердым умом Серебрянский имел и прекрасное сердце,
и потому он принял в молодом поэте самое горячее участие. Он стал
заниматься с ним, передавать ему все, что сам успел узнать и обсудить,
и особенно старался растолковать ему, в чем состоит истинное достоинст-
А. В. Кольцов
371
во и красота поэтических произведений. Кольцов никогда не мог без
особенного чувства благодарности вспоминать, сколько он обязан этому
человеку. И видно, что в самом деле Серебрянский много помог
образованию Кольцова и развитию его поэтического дарования. У них не было
назначенных уроков, не было преподавания, но была живая, умная
беседа о важных, полезных и благородных предметах. Кольцов не принимал
на веру слова своего друга, но сам рассуждал, спорил с ним, как видно
из одного позднейшего письма его. Вот что писал он, между прочим,
в 1838 г., вскоре после смерти Серебрянского, выражая свою грусть
о рано погибшем друге: «Вместе с ним мы росли, вместе читали
Шекспира, думали, спорили. И я так много был ему обязан... Он чересчур меня
баловал... Вот почему я онемел было совсем (после его смерти), и всему
хотелось сказать: прощай!» 6.
Стараясь сообщить Кольцову необходимое образование, Серебрянский
был в то же время и строгим критиком его первых поэтических трудов.
Со времени знакомства с ним Кольцов не имел уже необходимости
обращаться за судом и одобрением к книгопродавцу. В новом друге своем
он нашел судью более надежного и более радушного. Серебрянский
тщательно рассматривал и обсуживал каждое стихотворение, написанное
самоучкой-поэтом. Он делал свои замечания на каждый стих и подробно
объяснял Кольцову, чего недостает ему для художественного совершенства.
Об этих отношениях свидетельствует нам сам Кольцов в стихотворении
«Серебрянскому»:
Не посуди: чем я богат,
Последним поделиться рад.
Вот мой досуг; в нем ум твой строгий
Найдет ошибок слишком много:
Здесь каждый стих, чай,— грешный бред.
Что ж делать! я такой поэт,
Что на Руси смешнее нет!
Но не щади ты недостатки,
Заметь, что требует поправки...
И впоследствии рассмотренные Серебрянским стихи, действительно,
исправлялись и, таким образом, мало-помалу получали внешнюю отделку,
при которой можно было и печатать их. К сожалению, скоро Кольцову
пришлось расстаться и с Серебрянским и снова остаться на некоторое
время одному, без советника и друга. Серебрянский был беден и видел
необходимость доставать средства для жизни собственными трудами.
Чтобы иметь впоследствии по крайней мере верный кусок хлеба, он решился
сделаться врачом и для этого скоро должен был отправиться из Воронежа
в Москву, чтобы поступить там в Медико-хирургическую академию.
Ксльцов остался один.
24*
.372
H. A. Добролюбов
В семействе своем он находил немного отрады и не мог ожидать
поощрения своим литературным стремлениям. Отец его по-прежнему
видел в сыне только помощника себе в торговых делах и с
неудовольствием смотрел на его любовь к чтению и к поэтическим упражнениям.
Чем больше вырастал Кольцов, тем больше дела отдаваемо было отцом
на его руки. Теперь он один уже часто отправлялся летом в степь для
разных распоряжений и для перегонки скота с места на место. Теперь
чаще прежнего приходилось ему отправляться и на базар со скотом или
с возами сала и заниматься мелким торгашеством, которое было так
не по душе ему. Чем больше жил и развивался Кольцов, тем тяжеле ему
становилась та жизнь, которую он принужден был вести. Честный и
благородный по природе, получивший некоторые высшие понятия и
стремления, он никогда не мог успокоиться на тех мелких и часто не совсем
чистых занятиях и отношениях, к которым был привязан
обстоятельствами своего происхождения. При всем том он не впал в отчаяние и
бездействие; напротив, он был деятельным торговцем, распорядительным
хозяином и даже из своей деятельности извлек внутреннюю пользу, усвоив
посредством ее положительный, здравый взгляд на жизнь, так хорошо
выражающийся в его песнях. Как всякая истинно благородная и даровитая
натура, он умел даже в самом дурном отыскать хорошие стороны и
воспользоваться именно этим хорошим.
При всем том окружающие Кольцова так мало понимали его, что он
ни в ком не находил сочувствия. Еще до дружбы с Серебрянским он
успел было сблизиться в своем доме с одним существом, которое могло
понимать его. Это была девушка, жившая в семействе Кольцовых. Но
скоро, по решению родных, он и с нею был разлучен, и после того
в своем семействе он уже не находил решительно никого, с кем бы мог
быть близок душою. Он долго грустил после своей разлуки, и грусть
эта отзывалась и впоследствии во многих из его стихотворений. Дружба
с Серебрянским облегчила его горе в то время. Теперь, расставшись с ним,
Кольцов остался совершенно одинок, пока снова не встретил на своем
пути благородного человека, принявшего в нем участие и имевшего
важное влияние на последующую судьбу его. Этот человек был Станкевич.
А. В. Кольцов
373
Глава IV
Знакомство со Станкевичем. Поездка в Москву. Первое издание стихотворений
Кольцова Станкевичем. Белинский. Знакомство Кольцова с литературным кругом
в Москве и в Петербурге.
Любовь к чтению, имевшая такое благодетельное влияние на всю
жизнь Кольцова, содействовала, кажется, и сближению его со
Станкевичем. Едва ли не в единственной книжной лавке воронежской в первый
раз сошлись они и познакомились друг с другом. Николай Владимирович
Станкевич был сын воронежского помещика, совершенно одних лет с
Кольцовым (он родился в 1809 г.) 7. В то время (около 1830 г.) он
был студентом Московского университета и приезжал в Воронеж на
вакации. Он узнал о стихотворных опытах Кольцова, прочитал их и
одобрил. И это было уже очень важно для молодого поэта, лишившегося после
отъезда Серебрянского всякой подпоры и руководства в своих
поэтических трудах. Но Станкевич имел на него еще более важное влияние в
последующее время.
Влияние это чувствовали на себе все, сближавшиеся со Станкевичем;
все, знавшие его, доныне отзываются о нем с особенной признательностью.
Это был живой, мыслящий и благородный человек в полном значении этих
слов. Такие люди встречаются редко, но о них можно составить себе
понятие по противоположным явлениям. Всем, конечно, случалось видать
на своем веку таких людей, которые живут день за день, ничем
особенно не поражаются и не увлекаются, ни над чем долго не задумываются,
не имеют никаких возвышенных стремлений и глубоких убеждений. С
ними нельзя толковать о высших и благороднейших истинах, они тупо
отказываются от понимания всего, в чем не видят материального
барыша для своей жизни. При них нельзя восхищаться прекрасным: их
сердце черство, чувства ничем не возбуждаются, и присутствие их обдает
холодом самого пылкого человека, сдерживает самые стремительные
порывы. При них даже добром нельзя увлекаться: они понимают
нравственность совершенно по-своему и готовы даже осмеять и осудить всякий
живой, сердечный порыв к добру. Это люди сухие, мелкие,
эгоистические. Но бывает и совершенная противоположность: встречаются иногда
на свете люди с живою, любящею душою, с светлым, высоким умом, с
горячими и благородными стремлениями. С такими людьми отрадно
разделить всякое чистое чувство, всякую живую и благородную мысль. Их
присутствие одушевляет человека на все доброе, возбуждает в душе самые
святые и чистые стремления, дает как бы более простора для ума. И вот
почему около таких людей всегда собирается кружок благородно
мыслящих и чувствующих друзей, иногда далеко простирающих свое влияние
и всегда хранящих память о том, вокруг кого они собирались. К числу
374
H. A. Добролюбов
таких редких людей принадлежал Н. В. Станкевич. Он всегда был
средоточием небольшого кружка благородных людей, из которых многие
впоследствии сделались известными и полезными в литературе. В этот кружок
ввел Станкевич и Кольцова. В 1831 г. поэт-прасол по делам отца своего
должен был отправиться в Москву. По приезде сюда он отыскал
Станкевича и, по его просьбе, остановился у него на квартире. Здесь-то между
друзьями Станкевича, услышал он в первый раз новые для него,
разумные речи; здесь-то в первый раз ум его озарился понятиями, которые
доселе были ему чужды и о которых ничего не мог сообщить ему даже
Серебрянский. Известно, что в то время все общество, которое
собиралось у Станкевича, занято было особенно высшими философскими
вопросами. Они были тогда в большом ходу, и особенно возбуждалось общее
внимание учением знаменитого германского мыслителя Гегеля.
Философию у нас вообще привыкли считать чем-то чрезвычайно трудным и
темным, но на самом деле она весьма проста, потому что основывается на
здравом смысле и простой логике, которые есть, конечно, у всякого
неглупого человека. У немцев все это выходит, правда, довольно мудрено,
потому что они в философии употребляют множество особенных слов и
оборотов. Но у нас на русском языке подобных выражений еще нет совсем, так
как вообще у нас мало писали о философии. Поэтому кружок Станкевича,
толкуя о философских вопросах по-русски, поневоле должен был
переводить отвлеченные фразы на простой язык; а в этом виде философия была
понятна и самоучке Кольцову. И много новых дум, много новых вопросов
подняли в душе поэта одушевленные беседы в кружке Станкевича.
Недаром уже в 1833 г. он говорил в своей думе «Великая тайна»:
Смелый ум с мольбою
Мчится к провиденью:
Ты поведай мыслям,
Тайну сих созданий!
Шлют ответ, вновь тайный,
Чудеса природы,
Тишиной и бурей
Мысли изумляя...
Здесь видим мы только вопрос и недоумение поэта; но много уже
значит и то, что он спрашивал и задумывался о предметах высших...
Кольцов сам впоследствии, в стихотворении, посвященном памяти
Станкевича, трогательно и живо изображает эти светлые беседы, этих
бодрых, вдохновенных юношей, в кругу которых он тогда находился:
Могучая сила
В душе их кипит,
А. В. Кольцов
375
На бледных ланитах
Румянец горит.
Их очи, как звезды
По небу, блестят;
Их думы — как тучи;
Их речи горят...
...И с мира, и с время
Покровы сняты;
Загадочной жизни
Прожиты мечты.
Шумна их беседа,
Разумно идет;
Роскошпая младость
Здоровьем цветет...— и пр.
Кольцов с своей живой и страстной душою, с своим постоянным
стремлением к знанию и образованию себя, не мог не увлечься в этот
чудный, новый для него мир философских размышлений, и он
действительно увлекся, как доказывают его думы, особенно написанные им в 1836 г.,
когда он в другой раз побывал в Москве и повидался с своими друзьями.
Но, разумеется, он не мог предаться вполне этому направлению как по
внешним обстоятельствам своей жизни, так и по скудости своего
предварительного образования. Оттого-то у него в голове возникло много
вопросов, на которые он не в состоянии еще был отвечать. Тем не менее
живая мысль, соединявшаяся теперь с его поэтическим чувством и
благородным настроением души, придала новое достоинство последующим его
стихотворениям.
С этого же времени начинается и литературная известность Кольцова.
В 1831 г. два или три стихотворения его были напечатаны в одном из
тогдашних московских журналов 8. Кольцов, до сих пор все еще
чрезвычайно мало доверявший себе, увидел в этом как бы ручательство за то,
что стихи его могут быть годны, и был от всего сердца рад, что успел
попасть в печать. Возвратившись в Воронеж, он уже теперь с большею
уверенностью в своих силах стал продолжать свои поэтические труды.
Вскоре Станкевич предложил Кольцову издать его стихотворения
отдельной книжкой. Кольцов согласился и прислал ему довольно толстую
тетрадь своих стихотворных опытов. Между ними было много пьес
слабых, невыдержанных, неотделанных, и Станкевич решился выбрать из
тетради только лучшее, справедливо опасаясь, что если издать всё, то во
множестве дурного совсем и не заметят хорошего. Таким образом, в 1835 г.
явилась маленькая книжка, в которой напечатано было 18 стихотворений,
избранных Станкевичем из тетради Кольцова. Стихотворения эти еще не
обнаруживали во всем блеске самородного таланта Кольцова, но и в них
376
H. A. Добролюбов
уже можно было видеть, как замечательно его поэтическое дарование и
как много оно обещает в будущем. Притом же не мало имело значения и то
обстоятельство, что Кольцов был простолюдин, самоучка. На него
обратили внимание и стали хвалить его произведения даже такие люди,
которые совсем бы не стали их читать, если бы они написаны были
человеком, получившим обыкновенное образование.
Но и в то время уже нашлись проницательные люди, которые
увидели в Кольцове талант гораздо выше обыкновенного. Таков был
Белинский, бывший впоследствии другом Кольцова и написавший его
биографию в 1846 г., приложенную к изданию стихотворений Кольцова,
предпринятому гг. Некрасовым и Прокоповичем. В. Г. Белинский имел также
благодетельное влияние на развитие таланта Кольцова. Вообще этот
человек много сделал для развития всей нашей литературы. В продолжение
15 лет он писал критические статьи, сначала в журнале «Телескоп»,
издававшемся профессором Надеждиным в Москве, потом в «Московском
наблюдателе», который в 1832 г. самим же Белинским и издавался 9,
затем в «Отечественных записках» и, наконец, с 1847 г. в «Современнике».
При жизни своей (он умер в 1848 г.) он не пользовался обширной
известностью в читающей публике, потому что почти никогда не подписывал
под статьями своего имени. Но зато между литераторами и людьми,
близкими к журналистике, его значение было огромное. Его слово всегда
имело высокую цену, принималось с любовью и доверием. Да и для всех
вообще читателей голос Белинского был всегда силен и убедителен. Его
критические статьи читались с жадностью, с восторгом, его мнения
находили себе жарких защитников и последователей, хотя большая часть
читателей и не знала, кто именно высказывает в журнале эти мнения. И
самое это обстоятельство уже показывает, сколько ума и силы было в
Белинском. Нередко принимают какое-нибудь мнение только потому, что оно
поддерживается человеком важным или пользующимся славой умного,
добросовестного и т. п., тут действует сила так наз. авторитета. Но когда
с восторго!.: принимают мысли, высказанные неизвестно кем, безлично,—
это значит, что в самых мыслях заключается сила правды и
убедительности. Такая сила заключалась во многих статьях Белинского. Он
обладал необыкновенной проницательностью и удивительно светлым взглядом
на вещи. Из множества примеров возьмем один. Когда появились первые
повести Гоголя, который теперь так высоко ставится всеми, тогда все
критики наши сочли его просто веселым рассказчиком и упрекали за то,
что он очень ярко выставлял пошлость предметов, действительно пошлых.
Но Белинский тогда же прежде всех понял, какое значение имеет Гоголь.
Еще в 1835 г. он напечатал в «Телескопе» статью, в которой говорил,
что до Гоголя у нас, собственно, не было хорошей чисто русской
повести и что она начинается только с Гоголя! После того он постоянно
защищал Гоголя против всех обвинений других критиков, и статьи его до-
А. В. Кольцов
377
называют, что он совершенно ясно и верно понимал, в -чем заключаются
истинные достоинства Гоголя и сущность его таланта. Прошло двадцать
лет, вся русская публика признала вслед за Белинским великое значение
Гоголя, и порицатели его принуждены были умолкнуть... Многие мнения
Белинского о литературе, высказанные по гениальному соображению лет
за 15 и за 20 тому назад, подтверждаются ныне новыми исследованиями.
То же самое было и в отношении к Кольцову. В 1835 г. Белинский
напечатал в «Телескопе» статью о стихотворениях молодого поэта, в
которой утверждал, что у Кольцова — необыкновенный поэтический талант,
и определял сущность его^ поэзии. Вот несколько строк из его довольно
обстоятельной статьи: «Немного стихотворений напечатано из большой
тетради, присланной Кольцовым,— говорит Белинский,— не вое и из
напечатанных — равного достоинства... найдется между ними два-три
слабых, но ни одного такого, в котором бы не было хотя нечаянного проблеска
чувства, хотя одного или двух стихов, вырвавшихся из души... Большая
часть положительно и безусловно прекрасны... Почти все они имеют
близкое отношение к жизни и впечатлениям автора и потому дышат простотою
и наивностью выражения, искренностью чувства, не всегда глубокого, но
всегда верного, не всегда пламенного, но всегда теплого и
разнообразного... В «Великой тайне» читатель найдет удивительную глубину мыслей,
соединенную с удивительною простотою и благородством выражения,
какое-то младенчество и простодушие, но вместе с тем и возвышенность и
ясность взгляда!» («Тел.», 1835 г., ч. 27, стр. 476).
В заключение своей статьи Белинский высказывает горячее желание,
чтобы дарование Кольцова не заглохло под тяжестью обстоятельств
жизни, но развивалось и крепло. Он оканчивает напоминанием поэту о
твердости, духа и неутомимой борьбе с жизнью и приводит его же
стихотворение «К другу», заключающееся следующими стихами:
И пусть меня людская злоба
Всего отрадного лишит,
Пусть с колыбели и до гроба
Лишь злом и мучит и страшит:
Пред ней душою не унижусь,
В мечтах не разуверюсь я,
Могильной тленью в прах низринусь,
Но скорби не отдам себя!..
Так хорошо умел Белинский понять Кольцова еще в то время, когда
прасол-поэт не написал лучших произведений своих. Лучшие пьесы из
напечатанных тогда были: «Песня пахаря», «Удалец» и «Крестьянская
пирушка». И по этим-то пьесам, преимущественно, умел знаменитый
критик наш определить существенный характер и особенности самородной
поэзии Кольцова.
'378
H. A. Добролюбов
Но совсем не с таким одушевленным участием приняли
стихотворения Кольцова многие из людей, считавшихся в то время опытными и
умными судьями в деле литературы. Это выразилось отчасти в приеме,
какой они сделали Кольцову, когда он в 1836 г. в другой раз приехал в
Москву по делам отца, а отсюда должен был проехать и в Петербург.
В Москве он, как и в первый раз, остановился у Станкевича и тут же
коротко познакомился с Белинским, который был уже в это время очень
близок со Станкевичем. Белинский представил воронежского поэта
многим из почетных московских литераторов; но немногие между ними умели
понять Кольцова. Один из них начал рассуждать с поэтом, воображая,
что он непременно придет в исступление, или начнет сладко
сентиментальничать, или как-нибудь иначе выкажет свое поэтическое настроение.
Но Кольцов держал себя как и все обыкновенные люди и рассуждал очень
положительно, как торговец, привыкший к простой трудовой жизни, а не
к прихотливым фантазиям. Почтенный литератор заключил из этого, что
в Кольцове нет поэтического чувства... А другой литератор, очень сухо
принявши Кольцова, даже подсмеивался потом над тем, кто ему
представил поэта. «Что вы нашли в этих стишонках,— говорил он,— какой
тут талант? Да это просто ваша мистификация: вы сами сочинили эту
книжку ради шутки!..»
Среди таких людей не очень весело было Кольцову, да он и не
слишком добивался чести быть знакомым с ними. Он был всегда скромен и
даже застенчив в обществе; но застенчивость эта происходила только
от непривычки к новым людям и отчасти от скромного сознания, что он
сам ничем не может интересовать других. Он привык к деловым
отношениям, привык видеть, что люди тогда сходятся друг с другом, когда
один в другом почему-нибудь нуждается. Ему странно было
отправляться к человеку так, ни за чем. А если он видел, что к нему
выказывают особенное расположение, стараются ухаживать за ним, ищут его
знакомства, это даже внушало ему недоверчивость на первый раз. Он
опасался, нет ли тут какого-нибудь скрытого расчета, не хотят ли
посмеяться над ним и т. п. Он не мог понять, за что его любят и ищут, и
говорил обыкновенно в таких случаях: «Да что я ему?., что такое во мне?..»
Только уверившись, что его.ласкают от души, выказывают расположение
искреннее, о« решался сблизиться с человеком. И тут уже он не был
застенчив, не был скрытен с такими людьми. В кругу друзей своих он
был, как говорится, совершенно нараспашку; им он открывал все свои
мысли и чувства, рассказывал всю свою жизнь, даже в самых мелочных
подробностях. Не нужно, впрочем, думать, чтобы тут Кольцов пускался
в какие-нибудь жалостные и трогательные изложения своих чувств и
судьбы своей. Нет, он не любил ничего плаксивого. Напротив, он всегда
сохранял свой положительный характер и даже с друзьями редко
распространялся о своих чувствах. Напротив, он часто любил толковать о своем
А. В. Кольцов
379
ремесле, о своей ловкости в хозяйственных распоряжениях, даже о
разных проделках в торговле, о том, как умел он надуть неопытного
покупщика, продать подороже и купить подешевле. По этому поводу г.
Катков, хорошо знавший Кольцова, рассказывает следующий анекдот.
Однажды среди таких рассказов поэта кто-то из присутствующих тут
приятелей спросил его:
— Скажите, Алексей Васильевич, неужели вы и нас бы надули?
— И вас бы надул,— отвечал Кольцов,— ей-богу, надул бы.
Последним готов поделиться с вами, а на торгу не дал бы спуску, не
удержался бы. Лучше после отдал бы вам вдвое, а тут надул бы.
Этот анекдот очень замечателен 10. Он свидетельствует о том, как
сильно действует даже на благородную натуру дурная привычка, с
первых лет жизни укоренившаяся в человеке, и как мало иметь только
прекрасное сердце для того, чтобы быть строго, безукоризненно
нравственным. Кольцов был благороден и чист в душе своей, он всегда имел
стремления добрые, готов был последним поделиться с друзьями, но и
он не мог освободиться от дурного обычая барышничать при торговле;
он говорит, что на торгу «не мог удержаться» от этого... Без всякого
сомнения, такие поступки были следствием привычки, а не делом
убеждения: привычка всегда тем сильнее на нас действует, чем менее мы о
ней думаем. Но чем более образовывался ум Кольцова, чем более стал
он размышлять (особенно после сближения с друзьями Станкевича в
1836 г. и 1838 г., когда он снова прожил довольно долго в Москве),
тем тяжеле ему становилась обязанность мелкого торговца, тем сильнее
он чувствовал отвращение от нее. В письмах Кольцова после 1838 г.,
приведенных Белинским в его биографии, все яснее и яснее выражается
это отвращение. Тотчас по приезде в Воронеж он писал: «С моими
знакомыми расхожусь помаленьку: наскучили мне их разговоры
пошлые». Около того же времени пишет он следующие строки: «Писать к
вам хочется, а ничего нейдет из головы. Плоха что-то моя голова
сделалась в Воронеже, одурела вовсе, и сам не знаю отчего, не то от этих
дел торговых, не то от перемены жизни. Я было так привык быть у вас
и с вами, так забылся для всего другого; а тут вдруг все надобно
позабыть, делать другое, думать о другом: ведь и дела торговые тоже сами
не делаются, тоже кой о чем надобно подумать. Так одряхлел, так
отяжелел; право, боюсь, чтобы мне не сделаться вовсе человеком
материальным. Боже избави! уже это будет весьма рано; не хотелось бы это
слышать от самого себя!..» Эти строки невеселы, но все еще в них видно
пекоторое спокойствие и надежда. А в 1840 г. его слова отзываются
уже безотрадной, тяжелой грустью: «У меня давно уже,— пишет он,—
лежит на душе грустное сознание, что в Воронеже долго мне несдобровать...
Давно живу я в нем и гляжу вон, как зверь. Тесен мой круг, грязен
мой. мир, горько жить мне в нем давно. Какая-нибудь добрая сила невидимо
350
H. A. Добролюбов
поддерживает меня от падения. И если я не переменю себя, то
скоро упаду; это неминуемо, как дважды два — четыре. Хоть я и отказал
себе во многом, и частию, живя в этой грязи, отрешил себя от ней, но
все-таки не совсем, но все-таки не вышел из нее,.л
В этих немногих строках выражается благородная душа поэта,
стремящегося к совершенству и готового упрекать себя даже за те
обстоятельства жизни, которые приводили его к чему-нибудь дурному и пошлому
независимо от его воли... По свидетельству друзей Кольцова,
любимейшей мечтой его жизни было отделаться от мелочной торговли и на
свободе предаться ученью... Особенно сильно и постоянно выказывал
он это стремление после 1836 года.
Вообще пребывание в Москве и в Петербурге в 1836 г. принесло
Кольцову много новых впечатлений и познакомило его с многими
предметами, которых он не знал до этого времени. Самое знакомство с
новыми людьми было для него интересно и полезно. Сначала он всегда робел
и смущался при новых лицах, но потом, осмотревшись немножко,
принимался делать свои наблюдения. Он обыкновенно говорил мало, смотрел
несколько исподлобья, и все думали, что он находится в каком-то
замешательстве, что ему неловко, а он между тем все наблюдал и замечал
с необыкновенной проницательностью и искусством... Таким образом, он
скоро умел разгадать человека и нередко смело открывал пустоту и
ничтожество тех, кого, по слухам, должен был уважать как людей умных
и образованных. Подобные открытия, подтверждаемые истинными
друзьями поэта, должны были, конечно, придать ему более доверия к
собственным силам, хотя на первый раз и не могли не огорчать его... И
действительно, с этого времени решительно проявляется самостоятельность
Кольцова в его песнях.
По приезде в Петербург Кольцов и там скоро успел познакомиться
с первыми литературными знаменитостями того времени. И здесь он был
принят очень хорошо. С особенным радушием и сердечным участием
принял его Пушкин, который вообще отличался искренней любовью к
литераторам и уважением ко всякому таланту. Кольцов никогда не мог
забыть ласкового приема Пушкина и рассказывал о нем почти со слезами
на глазах. Скоро после того (в январе 1837 г.) Пушкина не стало,
и Кольцов посвятил его памяти свое превосходное стихотворение
«Лес».
Кроме Пушкина, Кольцов познакомился в Петербурге с кн.
Одоевским, с Жуковским, с кн. Вяземским. Последний постоянно оказывал
ему свое участие и был во многом полезен ему своим влиянием, когда
Кольцов по делам отца снова приехал в Москву, в 1840 г. Из других
литераторов многие сами поспешили познакомиться с простолюдином-
поэтом. Он с ними сначала был скромен и застенчив, но потом и здесь,
точно так же к§к в Москве, умел выказать свою наблюдательность.
А. В. Кольцов
381
Одним из важных последствий литературных знакомств Кольцова
было, между прочим, обогащение его библиотеки новыми книгами. Почти
каждый из писателей, с которым он знакомился, спешил подарить ему
свои сочинения и издания. Это было очень приятно для Кольцова, у
которого страсть к чтению с течением времени не только не проходила,
но все более и более возрастала.
Но теперь он уже менее интересовался романами и другими
сочинениями для легкого чтения, а более полюбил науку и дельные книги,
особенно исторические. Только стихи по-прежнему привлекали его
внимание, хотя он уже и не нуждался теперь в образцах для подражания,
открывши свой особенный род, в котором был совершенно
самостоятельным и решительно не имел соперников... Как видно из его писем, книги
и журналы присылались ему разными литераторами и в Воронеж, и он
всегда с восхищением принимал такие подарки.
Глава V
Возвращение в Воронеж. Домашние занятия. Душевные тревоги Кольцова. Новая
поездка в Москву и новая грусть и жалобы поэта по возвращении в Воронеж.
Последняя поездка в Москву и Петербург. Тоска и болезнь Кольцова в Воронеоюе.
Семейные отношения. Предположения о переселении в Петербург.
Смерть.
Кончивши благополучно все свои дела в Москве и Петербурге,
Кольцов возвратился в Воронеж и тотчас же принялся там за
хозяйственные хлопоты. Вот что писал он в это время о своих занятиях:
«Батенька два месяца в Москве, продает быков; дома я один, дел много.
Покупаю свиней, становлю на винный завод на барду; в роще рублю
дрова; осенью пахал землю; на скорую руку езжу в села; дома по
делам хлопочу с зари до полночи». С этого времени особенно делаются
хлопотливыми его занятия, потому что отец возложил на него почти
все торговые дела. На его имя были переведены все долги, все векселя
и обязательства, его трудами должно было поддерживаться
благосостояние целого дома. Сначала эта деятельность заняла его, но скоро он
стал тяготиться ею, вспоминая о своих московских друзьях и о тех
высоких, благородных понятиях, которые там раскрывались пред ним.
Только в 1837 г. он был утешен посещением В. А. Жуковского и тем
вниманием, какое оказал ему знаменитый поэт и воспитатель
наследника престола пред лицом всех воронежских граждан.
Вообще же время 1836—1838 гг. было тревожно для Кольцова. Он
чаще прежнего задумывался над вопросами, которых не мог решить, и
382
H. A. Добролюбов
сильнее прежнего чувствовал неудобства своего положения, из которого,
однако, не мог выйти. Душевная борьба его выразилась в это время
во многих думах, в которых почти всегда находятся глубокие вопросы
с очень слабыми и недостаточными ответами. Между прочим, в одной
думе поэт старается оправдать и объяснить самые свои сомнения и
вопросы:
Как же быть мне
В этом мире
При движеньи
Без желанья?
Что ж мне делать
С буйной волей,
С грешной мыслью,
С пылкой страстью?
В эту глыбу
Земляную
Сила неба
Жизнь вложила
И живет в ней, ,
Как царица! !
С колыбели
До могилы
Дух с землею
Ведут брани:
Земь не хочет
Быть рабою, •
И нет мочи
Скинуть бремя;
Духу ж неба
Невозможно
С этой глыбой
Породниться.
Здесь как будто выражается какая-то попытка объяснить вопрос,
обративши внимание на противодействие духа и тела. Но поэт не решается
и на этом остановиться; несколько стихов далее он отказывается от
собственных соображений, говоря:
В этой сказке
Цель сокрыта;
В моем толке
Смыслу нету,
Чтоб провидеть
Дела божьи.
А. В. Кольцов
383:
Кольцов теперь более, нежели когда-нибудь, сознавал и горько
сожалел, что он недостаточно образован. От природы он был очень умен
и проницателен; он не мог смотреть на жизнь и на природу без
желания понимать их. Ему беспрестанно приходили в голову новые,
важные вопросы относительно всего, что он видел и слышал. Его ум и
некоторые общие понятия, какие успел он приобрести, убеждали его, что
эти вопросы можно решить с помощию науки. Но именно наукой-то
он и не владел настолько, чтобы делать точные и решительные выводы
и соображения. Это ему было очень горько, и он писал однажды к своему
приятелю: «Будь человек и гениальный, а не умей грамоте,— не
прочтешь и вздорной сказки. На всякое дело надо иметь полные способы.
Прежде я-таки, грешный человек, думал о себе и то и то, а теперь,
как кровь угомонилась, так и осталось одно желание — учиться». И на
самом деле Кольцов все продолжал учиться, постоянно читая книги,
среди своих хозяйственных занятий.
В 1838 г. опять Кольцов был в Москве и прожил здесь довольно
долго. Опять сошелся он тут с своими благородными друзьями, и сердце
его отдохнуло с ними от тяжелых, мелочных забот, торговых сделок
и от того грубого общества, которое окружало его в Воронеже. В это
время он написал довольно много хороших пьес, и, конечно, это опять,
много зависело от того обстоятельства, что он был совершенно спокоен
и душа его ничем не возмущалась. Зато еще тяжелее было ему теперь
возвратиться в Воронеж. Тотчас по приезде туда он писал в Москву:
«В Воронеж я приехал хорошо; но в Воронеже жить мне противу
прежнего вдвое хуже: скучно, грустно, бездомно в нем. И все, кажется, то
же, а не то...» Видно, что ему тяжело было теперь жить с людьми, которые
не умели понимать его, и между тем в том же письме он замечает:
«Воронеж принял меня в десять раз радушнее противу прежнего; я
благодарен ему». Но видно, что это радушие было только по наружности.
В том же письме Кольцов рассказывает, каким образом разница
понятий заставила его разойтись с прежними знакомыми в Воронеже. «Я
хотел с приезда уверить их,— говорит он,— что они криво смотрят на
вещи, ошибочно понимают: толковал так и так. Они надо мной смеются,
думают, что я несу им вздор. Я повернул себя от них на другую дорогу,
хотел их научить — да ба! и вот как с ними поладил: все их слушаю,
да сам про себя думаю о другом; всех их хвалю во всю мочь; все они у
меня люди умные, ученые, прекрасные поэты, философы, музыканты,
образцовые чиновники, образцовые купцы, образцовые книгопродавцы; и
они стали мною довольны; и я сам про себя смеюсь над ними от души.
Таким образом, все идет ладно; а то что, в самом деле, из ничего
наживать себе дураков-врагов? Уже видно, как кого господь умудрпл, так
он с своею мудростью и умрет». Это письмо еще раз доказывает нам,
как Кольцов по натуре своей был чрезвычайно благороден и умен, но.
384
H. A. Добролюбов
что ему постоянно вредил недостаток образования. Он с радостью готов
был передать другим те новые понятия, которые сам приобрел, и потому
принялся было учить знакомых и близких к нему людей. Но это дело было
выше сил его, его осмеяли, и он скоро сам увидел бесполезность своих
попыток и решился оставить все как было... Положение Кольцова в
семействе было теперь, однако, лучше, чем прежде. Отец его, видя, что
стихи не мешают сыну заниматься делом и даже доставляют
расположение и уважение важных людей, не стеснял его и был с ним в
хороших отношениях. Кольцов сам пишет в том же письме: «Старик отец
со мною хорош; любит меня более за то, что дело (в Москве) хорошо
кончилось: он всегда такие вещи очень любит». Добрые отношения были
еще у Кольцова в это время с младшею сестрою, которую он очень
горячо любил. Всеми силами старался он доставить ей образование;
необходимость его он сам так сильно чувствовал. Он часто рассуждал,
читал с нею и употребил все усилия, лесть, даже хитрость, чтобы
умолить отца купить ей фортепьяно, взять учителя музыки и французского
языка... К несчастью, впоследствии мелкие домашние дрязги и расчеты
нарушили и эту привязанность, как ни старался Кольцов сохранить ее
и как ему ни больно было встретить неблагодарность и вероломство
в отплату за свою любовь.
Поддерживать торговые и хозяйственные дела также было не совсем
легко для Кольцова. Кроме разнообразных хлопот по делам-, у него на
руках была теперь новая забота — стройка дома. Во время его
отсутствия все шло дурно, и по возвращении из Москвы ему надобно было
особенно много трудиться, чтобы все поправить и устроить. Между тем
и люди, с которыми ему приходилось иметь дело, вовсе не радовали
его. Ему поневоле приходилось хитрить и притворяться с ними, иногда
для избежания неприятности, а иногда даже для спасения от гибели.
Например, однажды в степи какой-то работник так на него озлобился, что
хотел зарезать его. Кольцов успел как-то приметить или узнать его
намерение. Что было делать? Сейчас же схватить и обличить бездельника
было опасно, уберечься от его нападения не было никакой возможности:
дело было в степи. Кольцов решился на хитрость: он вдруг притворился
чрезвычайно расположенным к мужику, стал с ним особенно ласков и
любезен, поил его вином, сам с ним пил и братался. Таким образом
ему удалось избежать опасности и по возвращении в Воронеж ему уже
нетрудно было обличить злодея и рассчитаться с ним, как ему
хотелось. Тяжело было жить с подобными людьми такому доброму,
благородному человеку, каким был Кольцов; в нем все сильнее разгоралось
желание оставить Воронеж и переселиться в Москву или в Петербург.
При невозможности же сделать это ему хотелось по крайней мере
освободиться от мелкого торгашества, в котором поневоле приходилось
прибегать к мелким плутням и всякого рода неправдам. Одно из самых от-
А. В. Кольцов
385
радных предположений Кольцова в это время состояло в том, чтобы,
по приведении в порядок дел по степи и по окончании постройки дома,
сдать всю эту мелкую торговлю на руки отцу, а самому открыть в
своем доме книжную лавку. К сожалению, это предположение не
исполнилось.
В 1838 г. умер Серебрянский. Смерть его глубоко огорчила Кольцова.
Грусть о потере преданного и благородного друга делала еще тяжеле
его положение в кругу людей, которые не умели ценить и понимать его.
Его преследовали насмешками, осуждениями, бранью все те, которым
не хотелось сознаться, что он лучше их. Кольцова это иногда сменшло,
но иногда ему и тяжело приходилось. В одном письме к своему другу
он говорит: «Здесь, кругом меня, татарин на татарине, жид на жиде,
а дел беремя. Стройка дома (которая кончилась с месяц назад), судебные
дела, услуги, прислуги, угождения, посещения, счеты, расчеты, брани,
ссоры... И как еще я пишу? И для чего пишу? Для вас, для вас одних;
а здесь я за эти писания терплю одни оскорбления. Всякий так и лезет
на меня: дескать, писаке-то и крылья ошибить; это меня часто смешит,
когда какой-нибудь чудак петушится...»
В 1840 г. еще раз побывал Кольцов в Москве и в Петербурге.
Причиной его поездки были два тяжебные дела, для окончания которых
нужно было хлопотать ему самому в обеих столицах. Одно дело (в
Петербурге) было проиграно. Кольцов поспешил в Москву, чтобы там
хлопотать о другом. Здесь хлопоты его кончились благополучно, благодаря
особенному участию кн. П. А. Вяземского, давшего ему много
рекомендательных писем к разным лицам, к которым ему бы иначе и доступа но
было.
В Москве Кольцов опять отдохнул душою среди своих старых друзей
и с ужасом думал о возвращении в Воронеж. «Если бы вы знали,—
писал он в Петербург к Белинскому,— как не хочется мне ехать
домой: так холодом и обдает при мысли ехать туда, а надо ехать —
необходимость, железный закон». Поэтому он и по окончании дел еще
несколько времени жил в Москве и радостно встретил с друзьями новый, 1841, год.
Через год он грустно вспоминает об этом в стихотворении на новый,
1842, год:
Прожитый год, тебя я встретил шумно,
В кругу знакомых и друзей.
...Так до зари беседа наша
Была торжественно шумна,
Веселья круговая чаша
Всю ночь не осушала дна!
Но год прошел: одним звездою ясной,
Другим он молнией мелькнул,
Меня ж год встреченный прекрасно,
25 Н. А. Добролюбов
386
H. A. Добролюбов
Как друг, как демон обманул!
Тяжелый год,— тебя уж нет, а я еще живу,
И новый тихо, без друзей, один встречаю,
Один в его заманчивую тьму
Свои я взоры потопляю.
Что в ней таится для меня?
Ужели новые страданья?
Ужель безвременно из мира выйду я,
Не совершив и задушевного желанья?
Предчувствие поэта не обмануло его. Ему уже не суждено было
прожить до конца 1842 г. В начале 1841 г. он принужден был
воротиться домой, потому что в Москве не имел никаких средств для жизни.
Пред самым отъездом он писал в Петербург: «Не хочется ехать, да
и только. Вот пришло время: и дом и родные невзлюбились наконец.
И если б была какая-нибудь возможность жить в Питере,— я бы прямо —
марш и остался бы в нем навсегда. Но без средств этого сделать
нельзя,— и я еду домой... Я, признаться, думал сначала махнуть в
Питер; но как прохватил меня голод, я и присел — и хорошо сделал...»
Как только приехал Кольцов в Воронеж и устроил немножко дела
по торговле и по дому, первой заботой его было выпросить у отца
согласие на отъезд свой в Петербург. На этот раз отец был согласен
и даже решился уплатить долги по тем векселям, которые были на
имя сына и могли препятствовать его выезду из Воронежа, решился
также прекратить торговлю скотом и заняться только присмотром за
домом, с которого можно было получать теперь до 7000 ассигн.
годового дохода. Кольцов был необыкновенно рад такому решению. Но
в это время он захворал и очень опасно. На страстной неделе, в ,1841 г.,
он чуть не умер, однако ж на этот раз жизнь его была еще спасена
благодаря особенно радушным попечениям доктора, который лечил его.
Мать Кольцова постоянно оставалась при нем и ходила за больным,
несчастным сыном своим с самым неясным участием. Несколько раз
Кольцов просил доктора оставить леченье, если он не ожидает выздоровления.
«Доктор, если моя. болезнь неизлечима, — говорил он, — если вы только
протягиваете жизнь, то прошу вас не тянуть ее. Чем скорее, тем
лучше, и вам меньше хлопот». Доктор уверял больного, что он
выздоровеет, и это на время успокоило Кольцова. «Если так, будем
лечиться», —говорил он. Действительно, на несколько времени ему стало
лучше, и он даже получил на время хорошее, спокойное расположение
духа, сблизившись с одним существом, прекрасным и образованным,
в котором думал найти свое счастие. Но скоро разлука отняла у Кольцова
и эту последнюю отраду, и здоровье его еще более прежнего
расстроилось. Он почувствовал боль в груди и чрезвычайное расслаб-
Л. В. Кольцов
387
ление во всем теле. Для излечения доктор посоветовал Кольцову
пользоваться купаньем в Дону, и он отправился для этого на дачу к
одному из своих родственников. Купанье действительно несколько помогло
ему, но он принужден был прекратить свое леченье, не кончивши его,
потому что вскоре наступила осень и продолжать купанье было уже
невозможно. Впрочем, и после этого он продолжал еще понемножку
поправляться, стал читать и писать, возобновил переписку с своими
друзьями.
Но для совершенного выздоровления нужно было полное
спокойствие, а этого-то и недоставало Кольцову. Родные теперь совершенно
оставили его, так что ему приходилось терпеть бедность и недостаток в
самом необходимом. Случалось, что ему не на что было купить
лекарства; иногда у него недоставало чаю и сахару; иногда приходилось даже
оставаться без обеда и ужина. К недостатку скоро прибавилось еще
беспокойство: в том доме, где жил Кольцов, готовилась свадьба, и
поднялась беготня, уборка и суматоха, ни на час не дававшая покоя
больному. Грустно читать одно из последних его писем, в котором он
описывает свое положение в это Еремя: «Все начало ходить и
бегать через мою комнату; полы моют то и дело, а сырость для меня
убийственна. Трубки, благовония курят каждый день; для моих
расстроенных легких все это плохо. У меня образовалось воспаление, сначала
в правом боку, потом в левом, противу сердца, довольно опасное и
мучительное. И здесь-то я струсил не на шутку. Несколько дней жизнь
висела на волоске. Лекарь мой, несмотря на то что я ему очень мало
платил, приезжал три раза в день. А в эту пору у нас
вечеринки каждый день,—шум, крик, беготня, двери до полночи в моей
комнате ни минуты не стоят на петлях. Прошу не курить — курят
больше; прошу не благовонить — больше; прошу не мыть полов — моют...»
Наконец, скрепивши сердце, Кольцов решился молчать и терпеть до
тех пор, пока свадебные пирушки не кончатся. А потом он даже
извинился сам пред всеми за те неприятности, которые вытерпел, и
таким образом кое-как уладился и помирился с домохозяевами. Его
оставили в покое, и он с радостью говорит об этом в одном письме: «Я теперь,
слава богу, живу покойно, смирно. Они меня не беспокоят. В комнате
тишина; сам большой, сам старшой. Обед готовят порядочный. Чай есть,
сахар, тоже, а мне пока больше ничего не нужно. Здоровье мое стало лучше.
Начал прохаживаться и два раза был в театре. Лекарь уверяет, что я в
пост не умру, а весной меня вылечит».
В эти недолгие промежутки времени, когда облегчались страдания
болезни, в эти светлые минуты покоя у Кольцова с новой силой явилось
желание переехать в Петербург. Еще и перед этим временем несколько
раз представлялись ему случаи получить там торговое занятие. Так,
б 1840 г. предлагали ему принять на себя управление книжной лавкою,
25*
338
H. A. Добролюбов
основанною на акциях. Около того же времени издатель
«Отечественных записок» А. А. Краевский предлагал ему принять на себя
заведование конторою этого журнала. Но в то время Кольцова удерживали в
Воронеже долговые обязательства, переведенные отцом на его имя.
Притом же он боялся начинать новую торговлю без капитала, опасаясь,
чтобы, при незначительности средств, и тут не пришлось повторять того
же, что он успел вытерпеть и что ему так не нравилось в прасольских
его занятиях. Теперь же, когда у него, по разным интригам близких
ему людей, ничего не осталось, когда он чуть не из милости мог жить
в своем доме,— теперь он решительнее прежнего задумал переселиться
в Петербург и только ждал своего выздоровления. Но и теперь еще
его очень сильно тревожила мысль: как и чем будет он жить в
Петербурге? В одном письме он говорил: «Удерживаться дома — житье-бытье
мне будет плохое; но всё как ни говори, а со двора меня не сгонят.
Ехать в Питер — мне не дадут для этого ни гроша. Ну, положим,
я найдусь туда приехать; у меня есть вещей рублей на триста; этого
достаточно. Но, приехавши туда, что я буду делать? Наняться в
приказчики? — Не могу; от себя заниматься? — Не на что. Положить
надежду на мои стишонки: что за них дадут?.. Что, если в сорок лет придется
нищенствовать?... Плохо!..»
Подобные мысли и опасения тревожили Кольцова почти постоянно и
возмущали последние дни его жизни. Во все продолжение 1842 года
-он был болен. Наконец силы его совершенно истощились; он упал
под бременем болезни, бедности и бесплодной борьбы с обстоятельствами.
19 октября 1842 года, в три часа пополудни, Кольцова не стало. Он
умер на 34-м году от рождения.
Мы рассказали о жизни этого замечательного человека, насколько
это известно из рассказов, до сих пор напечатанных. Но нет
сомнения, что еще много откроется впоследствии для биографии Кольцова
новых фактов, которые еще более заставят любить и уважать его.
Доселе друзья Кольцова, которые могли бы многое рассказать из его
жизни, молчали но чувству особенной деликатности, чтобы не выставить в
дурном свете многих людей, близких поэту. Со временем, конечно,
появятся более полные и откровенные рассказы, в которых мы увидим самые
подробности домашнего быта Кольцова. Впрочем, и того, что мы знаем
теперь, уже достаточно, чтобы сделать общее заключение о характере
этого человека. Во всей его жизни мы видим одно стремление, одну
постоянную заботу — образовать себя. Это стремление обнаруживается в
нем еще с детства и во всю жизнь нигде и никогда не покидает его.
Все, что окружает поэта, противится этому стремлению, но оно все-
таки остается в душе его твердо и непоколебимо. Это стремление
пробуждает в нем сначала охоту к чтению, потом желание и самому
сочинить что-нибудь, и отсюда начинается его поэтическая деятель-
Л. В. Кольцов
389
ность. И сама эта деятельность развивалась и совершенствовалась у него
по мере большего и большего образования его ума. Как истинный и
высокий поэт, Кольцов никогда не предавался одному только безотчетному
чувству, без всякого участия разума. Нет, размышление всегда
соединялось у него с чувством. В каждом из стихотворений Кольцова
непременно есть мысль. И чем выше становилась образованность поэта, тем яснее
и полнее выражалась мысль в стихах его, тем теснее она соединялась
с чувством сердца. Самые недостатки некоторых стихотворений, напр.
дум, происходят от того, что поэт брался в них за представление таких
предметов, которые он еще не совсем ясно понимал и в которых поэтому
не могло сильно выразиться поэтическое чувство.
То же было и в жизни. Кольцов еще позволял себе ложь, хитрость,
торговые проделки и т. п., пока ум его, образовавшись более, не дошел
до сознания высших обязанностей. Но как скоро он их понял, ему стало
грустно и тяжело: он почувствовал отвращение к прежней жизни и
до самой смерти своей все старался изменить свои обстоятельства и
начать новую жизнь. Бедный поэт не успел в своих стремлениях: зло
вокруг него было слишком сильно; он не мог выйти победителем из
борьбы. Но все же он боролся и даже многое выиграл в этой борьбе;
его поэзия досталась ему не даром: многого стоило ему сохранить и
воспитать в себе поэтическое чувство, выучиться слагать стихи и даже
приобрести то скудное образование, какое видно в его произведениях.
Всю жизнь свою он исполнял то, что обещал себе уже незадолго до
смерти: «Буду жить, пока живется, работать, пока работается; употреблю
все силы, пожертвую, сколько могу; буду биться до конца-края, приведу
в действие все зависящие от меня средства. И когда после этого упаду,
мне краснеть будет не перед кем, и перед самим собою я буду прав».
И действительно, если свет был не прав перед ним, зато он был
вполне прав и перед собою и перед светом, которому оставил на память
своей жизни такую высокую, истинную поэзию.
Г л а в а VI
Характер поэзии Кольцова. Верность и правдивость в изображении предметов.
Положительный взгляд на вещи. Присутствие мысли в стихотворениях. Думы.
Некоторые черты народного характера в песнях Кольцова. Сила чувства
и выражения. Язык Кольцова. Заключение.
В жизни Кольцова мы видели, что он постоянно стремился к высшему
образованию своего ума и сердца: одно уже это обстоятельство делает
его-замечательным человеком и заставляет любить и уважать его. Но
390
H. A. Добролюбов
как мы заметили, борьба поэта с обстоятельствами жизни не осталась
бесплодною: он многое преодолел, многого достиг силою своей твердой
воли и природного ума. И все, приобретенное Кольцовым, не скрылось в
душе его, неведомо для людей, а ясно, живо и звучно выразилось в его
поэзии. По своим поэтическим произведениям Кольцов замечателен еще
более, нежели по своей жизни. Эти произведения не бесполезны и для
пополнения биографии поэта. В них так хорошо высказалась живая,
поэтическая душа его. Для нас же они важны еще более как
превосходные литературные произведения, имеющие общий интерес и значение.
По всем этим причинам мы к рассказу о жизни Кольцова прибавим
теперь еще несколько слов о характере и значении его стихотворений.
Кольцов писал сначала разные мелкие стихотворения, подражая
отчасти известным поэтам нашим. Это самые слабые его произведения, из которых
только немногие заслуживают особенного внимания. Кроме того, у
Кольцова есть думы и песни. В думах он обыкновенно старался передать свои
сомнения, свои вопросы, которые рождались в его уме при взгляде на
мир. Эти думы имеют один важный недостаток: поэт говорит в них о
том, чего сам ясно не понимает, и, задавши вопрос, часто очень
важный и глубокий, оставляет его без ответа, а иногда еще и прибавляет
в конце, что напрасно и рассуждать об этом.
Песни Кольцова составили у нас совершенно особый, новый род
поэзии. И до Кольцова, правда, писали у нас русские песни, но мы уже
видели выше, что это были за песни. Несмотря на то что в них являлся
как будто простой русский человек, однако ж, ни в содержании, ни з
самом выражении этих песен не было ничего простого и русского.
Кольцов первый стал представлять в своих песнях настоящего русского
человека, настоящую жизнь наших простолюдинов, так, как она есть, ничего
не выдумывая. Это происходило от двух причин. Во-первых, Кольцов
хорошо знал народную жизнь, знал не понаслышке, а по
собственному опыту. Многие потому только воображают, что они знают
народную жизнь, что проезжали через деревни и встречались с крестьянами.
Такие люди обыкновенно думают, что отличие жизни крестьянина от их
жизни состоит только в том, что крестьянин не бреет бороды, не
понимает тонкости обращения и не делает визитов. Поэтому они часто
представляют, что мужичок сидит у ручейка и жалобно поет
чувствительную песню, или, выгнавши в поле стадо, садится под тень
развесистого дерева и сладко играет на свирели, или сидит у себя под
окошком и собирается убежать в лес, чтобы скрыться от злых толков.
Сочинители крестьянских песен не хотят знать, что мужичку некогда
переливать из пустого в порожнее, разговаривать с волнами попусту,
мечтать бог весть о чем: у него есть дело поважнее. Он сам должен
заботиться о себе, если хочет иметь хлеб насущный да хоть плохонький
кафтанишко. Он должен и пахать, и боронить, и косить, и молотить, и
А. В. Кольцов
391
на базар хлеб свезти, да еще и за домом присмотреть, и скотину
покормить. И мало ли у него дела! Каждый божий день занят он с утра до
ночи, так что и в светлый праздник чуть отдохнуть успеет. Когда же
тут пускаться в мечтания о каком-то золотом веке, о счастии в хижине,
и пр. и пр. Только тот, кто не знает жизни крестьянской, т. е. хоть и
видал, да не испытал ее,— только тот может представить мужичка с
такими чувствами и мечтами. И замечательно еще то, что в этих
подделанных песнях никогда не видно, что за человек, как и где живет
тот, чьи чувства выражаются в песне. Называется это лицо
добрым молодцом или красной девицей, значит, человек из простого
звания. А между тем нет тут никакого намека на жизнь простого народа,
не видно даже никакого следа заботы о том, чем обыкновенно занят
крестьянин, — о приобретении возможности быть сытым, одетым и пр.
Как будто они живут где-нибудь в облаках, питаются воздухом,
одеваются ветром, умываются росою небесною!..
Совсем не то у Кольцова. Он сам испытал все нужды простого народа,
сам жил с ним, сам был в том же положении, в каком живут наши
простолюдины. Поэтому и в стихотворениях Кольцова русские люди
являются настоящими, а не выдуманными существами.
Другая причина естественности изображений в песнях Кольцова
заключается в самых свойствах природного ума поэта. Он всегда
отличался положительным, практическим взглядом на вещи, и чем более
приобретал образованности, тем яснее становился в нем такой взгляд.
Он не был из тех людей, которых называют обыкновенно идеалистами и
которые, будучи незнакомы с нуждами и трудностями жизни, смотрят
с пренебрежением на заботы о вещественном благосостоянии. Кольцов
образовался и воспитался именно в школе житейской нужды и лишений.
Поэтому он хорошо понимал важность достатка в жизни, — ив его поэзия
ярко отразилось это.
Во всем у него видно живое, положительное направление. Напр., он
любуется степью и прекрасно изображает ее; но он не забывается в
этом наслаждении. Главная мысль его та, что в степь эту приходит
молодой косарь, которому нужно добыть денег, чтобы жениться на дочке
старосты. И вот как размышляет косарь, обращаясь к степи:
В гости я к тебе
Не один пришел:
Я пришел сам-друг
С косой вострою;
Мне давно гулять
По траве степной,
Вдоль и поперек
С ней хотелося...
392
H. A. Добролюбов
Раззудись, плечо,
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!
Освежи, взволнуй
Степь просторную!
Зажужжи, коса,
Засверкай кругом!
Зашуми, трава
Подкошенная;
Поклонись, цветы,
Головой земле!
Вслед за этим чудным изображением работы косаря рисуется
практическая цель, для которой все это делается:
Нагребу копен,
Намечу стогов —
Даст казачка мне
Денег пригоршни.
Я зашью казну,
Сберегу казну,
Ворочусь в село —
Прямо к старосте:
Не разжалобил
Его бедностью,
Так разжалоблю
Золотой казной...
Эта забота о вещественных средствах жизни везде видна в песнях
Кольцова. Пахарь его не восхищается только природою; нет, он думает
о другом:
Заблестит наш серп здесь,
Зазвенят здесь косы;
Сладок будет отдых
На снопах тяжелых,
...Уроди мне, боже,
Хлеб — мое богатство.
В стихотворении «Урожай», после превосходнейшего описания
пробуждения сельской природы весной, идет речь о полевых работах
крестьян, и главная мысль обращается на то,
Что послал господь
За труды людям.
А. В. Кольцов
393
Собираясь на пирушку, крестьяне опять
...пьют и едят,
Речи гуторят —
Про хлеба, про покос,
Про старинушку:
Как-то бог и господь
Хлеб уродит нам,
Как-то сено в степи
Будет зелено.
По осени мужички —
Хлеб везут, продают,
Собирают казну,
Бражку ковшиком пьют.
Невесте своей поэт сулит не одну любовь в хижине, а говорит:
Будут платья дорогие,
Ожерелья с жемчугом;
Наряжайся, одевайся
Хоть парчою с серебром.
Говоря о ссорах с дурной женой, не забывает он и о долгах:
И живем с ней — только ссоримся,
Да роднёю похваляемся,
Да, проживши все добро свое,
В долги стали неоплатные...
В радости своей он говорит:
Я не в поле вихрем веялся,
По людям ходил, деньгу копил,
За морями счастья пробовал...
Моя доля здесь счастливая:
Я нажил себе два терема,
Лисиц, шелку, много золота,
Станет век прожить боярами.
В грусти своей он опять жалеет о том, что нет у молодца
Золотой казны,
Угла теплова,
Боропы-сохи,
Коня-пахаря.
394
H. A. Добролюбов
Описывая свое бедствие, он говорит:
С той поры я горем-нуждою
По чужим углам скитаюся,
За дневной кусок работаю,
Кровным потом умываюся...
В грусти своей он не забывает и о своей одежде: «Прошла моя
золотая пора», — говорит он, —
До поры, до время
Всем я весь изжился,
И кафтан мой синий
С плеч долой свалился!
Лихач Кудрявич рассказывает даже подробно, что когда приневолят
еыйти к старикам на сходку,
- Старые лаптишки
Без онуч обуешь,
Кафтанишко рваный
На плечи натянешь,
Бороду вскосматишь,
Шапку нахлобучишь.
Все эти черты совсем не похожи на восклицания о тоске, о грусти,
какие встречаются очень часто в песнях, сделанных другими
сочинителями. И, несмотря на видимую простоту и отсутствие всяких
поэтических прикрас, в песнях Кольцова несравненно более поэзии, чем в тех:
сочинениях, и потому именно, что в них более правды. Люди, который
в них изображаются, ближе к нам по своему положению и по своим
чувствам. Мы видим, что они в самом деле живут, радуются и страдают,
понимаем и причины их веселья и горя,— и поэтому их жизнь, их
чувства производят на нас гораздо сильнейшее впечатление, нежели
жалобы выдуманных лиц, плачущих так себе, от нечего делать.
Точно так же и описания природы у Кольцова вполне верны и
естественны. Он не придумывает скалистых берегов, журчащих ручейков,
прекрасных лесов с расчищенными дорожками и т. п., как это очень часто
делалось многими сочинителями. Он описывает именно то, что он видел
и знает: степь, ниву, лес, деревню, летний зной, осенние бури, зимние
вьюги, и представляет их именно так, как они бывают в природе.
Таких картин природы у него чрезвычайно много рассыпано в разных его
стихотворениях.
Некоторые привели мы выше, напр. описание степи. Другие можно
видеть в стихотворениях, помещенных в конце этой книжки, особен-
А. В. Кольцов
395
но в «Урожае», «Песне пахаря», «Что ты спишь, мужичок», «Светит
солнышко» и др.
Кроме уменья изображать природу и жизнь, не искажая их,— у
Кольцова есть еще важное достоинство: он понимает предметы правильно и
ясно. Не просто он рассказывает то, что случалось видеть ему; это
была бы пустая болтовня. Нет, он думает, о чем ему говорить и что
говорить — в его стихотворениях всегда есть мысль. Все изображения
предметов и людей служат у него только для объяснения или для лучшего
выражения главной мысли. У него нет ни одного стихотворения,
которое просто, без всякого толку описывало бы что-нибудь; а у
других это часто бывает, Услышит человек, что ветер воет, и пишет стихи,
что вот, дескать, я сижу и слушаю, как ветер воет; увидит
облака на небе, и пишет стихами, как он на облака смотрит; застанет
его дождь на дороге — опять стихи готовы, что вот я иду, а меня дождик
мочит. У Кольцова не найдем таких стихотворений. И он, конечно,
говорит и о ветре, и о солнце, и о буре; но все это у него приведено
к чему-нибудь, а не само по себе стоит. У него везде является
человек, и рассказывается о том, какое действие производит на него то
или другое явление природы и. Так, в одном стихотворении у него старик
при мысли о весне вспоминает о том, что ему недолго уже наслаждаться
жизнию. В другом — весна разнеживает сердце молодых людей и
пробуждает в них живые чувства. В третьем — весна возбуждает
заветные, мирные думы поселян об урожае. То веянье ветра напоминает ему о
дороге, и он поет:
В поле ветер веет,
Травку колыхает,
Путь — мою дорогу —
Пылью покрывает.
То он вызывает бурю, чтобы прикрыть бегство удальца:
Подымайся, туча-буря,
С полуночною грозой!
Зашатайся, лес дремучий.
Страшным голосом завой!
Чтоб погони злой боярин
Вслед за нами не послал...
То осенние ветры и туманы пробуждают в душе его чувство
одиночества, и он грустно поет:
Дуют ветры,
Ветры буйные,
Ходят тучи,
396
H. A. Добролюбов
Тучи темные.
Не видать в них —
Света белого,
Не видать в них
Солнца красного.
Во сырой мгле —
За туманами,
Только ночка
Лишь чернеется...
В эту пору
Непогожую _
Одному жить
Сердцу холодно...
Таким образом, каждая картина, каждый стих у Кольцова имеет свой
смысл, свое значение по отношению к человеку. Он старался еще
глубже понять этот смысл, заключенный в природе, и в этом старании
отыскать смысл везде, во всем мире, состоит содержание его дум. Он говорит:
Горит огнем и вечной мыслью солнце,
Осенены всё той же тайной думой,
Блистают звезды в беспредельном небе,
И одинокой, молчаливый месяц
Глядит на нашу землю светлым оком...
...Повсюду мысль одна, одна идея...
«.Одна она — царица бытия...
Он спрашивает, смотря на лес:
О чем шумит сосновый лес,
Какие в нем сокрыты думы?
Ужель в его холодном царстве
Затаена живая мысль?
Он знает, что человек может и должен рассуждать, давать себе отчет
обо всем, что совершается пред ним в мире, потому что —
Целая природа
В душе человека;
Проникнуты чувством,
Согреты любовью,
Из нее все силы
В образах выходят...
А. В. Кольцов
397
Правда, эти стремления отыскать мысль в явлениях природы ни к
чему не привели Кольцова. Он только уверился, что
Мир есть тайна бога,
Бог есть тайна жизни,
и не дошел до того, чтобы проникнуть в эту тайну. Для этого он был
еще очень мало образован; думы тяготили его, как он сам
признается:
Тяжелы мне думы,
Сладостна молитва...
Впрочем, положительность Кольцова удержала его от так называемого
мистицизма, т. е. от стремления находить таинственный смысл во всех
даже самых простых вещах. Он возвратился наконец к своему простому,
светлому взгляду на предметы, без лишних умствований и мечтаний.
В этом отношении любопытно сравнить два его стихотворения. Одно
написано еще в 1830 г., когда Кольцов совершенно незнаком был с
высшими философскими вопросами.
ЧТО ЗНАЧУ Я?
Что, крошка мелкая, я значу?
Живу, заботливо тружусь,
В желанье счастья время трачу
И, вечно недовольный, плачу.
Чего ж ищу? к чему стремлюсь?
В какой стране, на что гожусь?
Есть люди: до смерти желают
Вопросы эти разгадать;
Но что до них! Пусть, как хотят,
О всем серьезно рассуждают.
Я недоросль,— я не мудрец.
И мне нужнее знать немного;
Шероховатою дорогой
Иду шажком я, как слепец;
С смешным сойдусь ли — посмеюсь;
С прекрасным встречусь — им пленюсь;
С несчастным — от души поплачу,—
И не стараюсь знать, что значу...
Здесь еще видна некоторая уклончивость; тон этого стихотворения
напоминает тон русского мужичка, когда он с лукавым простодушием
говорит: «Где нам!... Мы люди темные». Кольцов в этих стихах как будто,
398
//. А. Добролюбов
бы хочет сказать, что он и приниматься не хочет за рассуждения, что
он и знать не хочет вопросов, над которыми люди трудятся. Тут еще
видно пренебрежение вообще к мышлению философскому.
Другое стихотворение написано уже в 1841 г., в последнее время
жизни Кольцова:
Не время ль нам оставить
Про высоты мечтать.
Земную жизнь бесславить,
Что есть иль нет — желать?
Легко, конечно, строить
Воздушные миры
И уверять и спорить,
Как в них-то важны мы.«
Но от души ль порою
В нас'чувство говорит,
Что жизнию земною
Нет нужды дорожить?
Темна, страшна могила,
За далью мрак густой;
Ни вести, ни отзыва
На вопль наш роковой.
А тут Дары земные:
Дыхание цветов, \
Дни, ночи золотые,
Разгульный шум лесов,
И сердца жизнь живая,
И чувства огнь святой...
Здесь также поэт сознается, что бесполезно строить воздушные миры
и мечтать про высоты; но теперь мысли его высказаны гораздо серьезнее;
видно, что он восстает не против мышления, не против разума, которому
так много был обязан, а только против злоупотребления ума, когда он
пускается в мечтательные теории и отдаляется от жизни. Такую
перемену произвело в Кольцове то время, когда он познакомился с высшими
вопросами и хорошо передумал их. Его можно было бы сравнить в этом
с алхимиком*, который долго искавши философского камня, убеждается
наконец в нелепости алхимии, но вместо нее обращается к истинной
науке и делает в ней новые открытия. В этом случае даже и не совсем
* Алхимиками назывались существовавшие в прежнее время ученые, которые думали,
что можно найти средство делать золото и составить напиток, который, сохраняя
постоянно молодость и красоту в людях, мог бы продолжить жизнь их на
бесконечные времена. С этой целью алхимики произвели множество опытов и составных
науку, называемую алхимией.
А. В. Кольцов
399
ясные, несколько мечтательные умствования все-таки не бесполезны были
для Кольцова, приучив его ум к более серьезному взгляду на предметы
д утвердивши еще более природную ясность и положительность его ума.
Так, если человек, совсем не имеющий понятия о чужих странах,
отправится в них путешествовать, то получит пользу даже и тогда, если
эти страны не покажут ему ничего особенно хорошего: по крайней мере
чрез сравнение он научится лучше ценить свое родное, близкое к нему,
и правильнее им будет пользоваться.
И Кольцов действительно умел воспользоваться всем, что было близко
к нему. Он прекрасно понимал не только русскую жизнь, но и характер
русского народа, и умел его выразить в своих песнях. Так, у него
прекрасно высказывается широкий разгул русского человека, эта удаль,
которая идет на все и которой все нипочем. Это можно видеть в пьесах:
«Как здоров да молод», «Расчет с жизнью», «Дума сокола».
Весьма верно, вместе с удалью, выражается у Кольцова также и
беззаботность, это заветное «авось», с которым идет русский человек
навстречу и горю и радости. Песни Лихача Кудрявича совершенно в
русском народном характере. Лихач Кудрявич не слишком любит
рассчитывать: он,
Что шутя задумал,—
Пошла шутка в дело,
А тряхнул кудрями,—
В один миг поспело...
По его мнению,
Не родись богатым,
А родись кудрявым;
По щучью веленью
Все тебе готово.
Так говорит он в счастии. Приходит беда — и тут он не изменяет
своему характеру: он опять не рассчитывает, как помочь горю, как
отвратить напасть, а покорно покоряется своей участи:
Не родись в сорочке,
Не родись талантлив,—
Родись терпеливым
И на все готовым...
Зла беда не буря,
Горами качает,
Ходит невидимкой,
Губит без разбору .. *
400
И. А. Добролюбов
От нее не уйдешь, так уж лучше я не хлопотать понапрасну...
Зато —
Как здоров да молод,—
Без веселья весел,
Без призыва счастье
И валит, и едет...
Тут и заботиться не о чем: хлеба ли нужно,—
А там бог уродит,
Микола подсобит
Собрать хлебец с поля...
Достатка ли надобно —
Куда глянем — всюду наша степь:
На горах — леса, сады, дома,
На дне моря — груды золота,
Облака идут — наряд несут.
Не нужно, впрочем, думать, чтобы сам Кольцов тоже так смотрел на
вещи. Напротив, он и в поэзии, как во всей жизни своей, выражает
убеждение, что нужно бороться с обстоятельствами и что беспечность
непременно ведет к лени и усыплению.
Он обращается с укором к поселянину:
Что ты спишь, мужичок?
Он говорит своему другу:
Что ты ходишь с нуждой
По чужим по людям?
Веруй силам души
Да могучим плечам...
Если обстоятельства жизни слишком тяжелы для него, то он не падает
духом, но смело идет —
Горе мыкать, жизнью тешиться,
С злою долей переведаться.
Он всегда готов к тому,-
Чтоб порой пред бедой
За себя постоять,
Под грозой роковой
Назад шагу не дать...
А. В. Кольцов
401
Его стремления всегда живы и сильны, и они почти всегда
превосходно выражаются в его стихах. Как сильно, как естественно, как верно
выражение мыслей и чувств у Кольцова — это можно видеть из приведенных
выписок и еще более из чтения самых стихотворений его. Скажем здесь
еще несколько слов о форме их. Песни Кольцова писаны особенным
размером, близким к размеру наших народных песен, но гораздо более
правильным. В них большею частию нет рифмы, а если и есть, то всего
чаще через стих. Язык Кольцова совершенно простой, народный. Редко-
редко можно встретить в его стихах книжное выражение, да и то
большею частию в слабых его пьесах, которые писал он правильным,
метрическим размером в первое время своей поэтической деятельности.
Выражения народные встречаются у него часто; но формы везде почти
правильные, принятые в литературе. Можно найти всего пять или шесть
фраз неправильных, напр.: до время, задной головою и т. п. Но эти
недостатки совершенно незначительны и нисколько не вредят истинным
красотам поэзии Кольцова.
Теперь мы знаем главные события жизни Кольцова и важнейшие
особенности его поэзии. Полнейшее знакомство с нею должно быть
продолжаемо чтением его произведений. Мы же, после всего сказанного
нами, можем прийти к следующим заключениям.
В поэзии Кольцова выразилась его душа, его жизнь, полная
возвышенных стремлений, тяжелых испытаний и благородных, чистых чувств.
В ней виден его светлый взгляд на предметы, уменье понимать жизнь
и природу, в ней, наконец, является живое, естественное представление
вещей, без прикрас и без искажений природы. Все это — такие
достоинства, которые делают стихотворения Кольцова весьма замечательными в
нашей литературе. В них соединяются все условия, необходимые для
поэтического достоинства, т. е. разумная мысль, благородное стремление
и живое, глубокое чувство. Из соединения этих условий происходит та
правдивость и искренность, которою отличается Кольцов как в
изображении собственных душевных ощущений, так и в представлении предметов
внешних. Это последнее достоинство получает особенную цену в глазах
наших, когда мы вспомним, как редко являлось оно у наших писателей
до Кольцова.
Оканчивая наши замечания о жизни и стихотворениях Кольцова, мы
можем, кажется, в заключение смело сказать, что Кольцов вполне
заслуживает наше внимание и сочувствие не только как замечательный
простолюдин-самоучка, но и как великий народный поэт.
26 Н. А. Добролюбов
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЛОЧИ ПРОШЛОГО ГОДА
I
Притворной нежности не требуй от меня.
БАРАТЫНСКИЙ »
«Опять за мелочи!.. И, верно, опять с какой-нибудь злостной целью!» —
воскликнет солидный читатель, увидав заглавие нашей статьи, — и с
сердцем перекинет несколько страниц, чтобы добраться до чего-нибудь более
грандиозного...
Остановитесь, читатель: ваши поиски будут напрасны. «Современник»
давно уже не имеет никакой грандиозности, к великому прискорбию
многих суровых аристархов литературы. Несколько раз уже, с некоторой
печальной торжественностью, но не без тайного злорадства, объявляли
они, что «Современник» ниспал с пьедестала, на котором будто бы стоял
прежде, что он потерял благородное благоговение к науке, зовет
прекрасное мечтою, презирает вдохновенье, не верит любви, свободе, на жизнь
насмешливо глядит 2, словом — не имеет никаких убеждений и способен
только к глумлению. Теми или другими словами, с большим или
меньшим прикрытием и приличием, все это много раз было напечатано по
поводу разных статей «Современника», преимущественно критических.
Мы считали излишним и неудобным оправдываться от всех частных
обвинений против нас, потому что они обыкновенно имели следующий вид:
некий господин пишет посредственную книжку, статейку или стишки о
ничтожном предмете; мы говорим, что книжка или статейка
посредственна, а предмет ничтожен; автор статейки, или его друзья, или
поклонники и единомышленники, — восстают на нас, провозглашая, что
статейка превосходна, а предмет — грандиозен, «Современник» же оттого сделал
Литературные мелочи прошлого года
403
неблагоприятный или холодный отзыв, —
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостьши,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу.
Что нет отчизны для него...3
Опровергать подобные нападения — значило бы опять повторять
господину, сочинившему посредственную статейку о ничтожном предмете, —
что статейка его посредственна, а предмет ничтожен и что тем более
он заслуживает порицания и насмешек, чем выше возносит чело свое,
озаренное мелкими думами о ничтожном предмете. Но кто полагает, что
повторения вещей столь назидательных могут быть веселы и легки, тот
жестоко ошибается: ничего скучнее их не может быть для человека,
у которого есть хоть две мысли в голове, и потому люди,
поставленные обстоятельствами в необходимость продалбливать беспрестанно такие
повторения, достойны искреннего сожаления всякого благомыслящего
человека. И тем более следует пожалеть их, что все их тягостные труды
обыкновенно оказываются напрасными. Ведь ни одного господина
нельзя уверить, что над ним смеются не потому, чтоб уж в самом
деле «ничего во всей природе благословить не хотели» 4, а просто потому,
что его-то благословлять не за что, он-то смешон с своими заносчивыми
возгласами о разных ничтожностях. Нет, каждый из подобных господ
готов жизнию пожертвовать за сохранение величия того, что ему кажется
великим, и ничем не убедится в своей мелочности. Все они подобны
мышам на корабле, открывшим страшную течь и пророчившим гибель
всему кораблю. «Помилуйте, страшная течь, — вода мне до самого рыла
дошла», — уверяет всех подруг своих крыса, пользующаяся авторитетом,
и партия мышей решается заблаговременно спасаться вплавь и бросается
в море, чтобы показать свой героизм и дальновидную
предусмотрительность... Туда им и дорога, конечно.
История дальновидных мышей несколько раз повторялась в русской
литературе, только в обратную сторону. Наши писатели никогда не
доходили до того, чтобы броситься в море, проповедуя гибель кораблю (на
то они люди, а не мыши) ; совершенно напротив: во время опасного
плавания в открытом море они, увидав на волнах щепочку, брошенную
с их корабля, не раз поднимали радостный вопль, что берег близко...
Кто раньше подымал этот крик, тот и привлекал к себе общее
благодарное внимание; кто прибавлял тут же полезные советы, как избавиться
прибрежных мелей и подводных камней, — на того смотрели с
благоговением, а кто наставлял плавателей, как им воспользоваться всем, что
26*
404
H. A. Добролюбов
найдут на предполагаемом берегу, тот мгновенно приобретал себе титло-
гения и великого человека.
На нашу долю ни разу, кажется, не выпало подобного удовольствия
и чести, и вследствие того мы подверглись многим нареканиям... В самом
деле, для многих должен был показаться странным холодный и
насмешливый тон, обращенный на те предметы, которые в большинстве
возбуждают неистовый восторг и благоговейное поклонение. Уже несколько лет
все наши журналы и газеты трубят, что мгновенно, как бы по мановению
волшебства, Россия вскочила со сна и во всю мочь понеслась по дороге
прогресса, так, что ее теперь даже с собаками не догонишь... Несколько
лет уже каждая статейка, претендующая на современное значение,
непременно начинается у нас словами: «В настоящее время, когда поднято
столько общественных вопросов» 5 и т. д., следует изложение вопросов.
Несколько лет уже русская литература льстила обществу, уверяя, что в
нем теперь пробудилось самосознание, раскаяние в своих пороках,
стремление к совершенствованию; а русское общество похваливало литературу
за то, что она так старается вызолотить горькие пилюли, которые
наконец заставила его принимать прошедшая его жизнь. Лесть и
самообольщение — таковы были главные качества современности в литературных
явлениях последнего времени. Странно сказать это о литературе в то
время, когда она из кожи лезла, по собственному признанию, преследуя
и обличая, карая и вырывая с корнем всякое зло и непотребство на земле
русской. Но всмотритесь пристальнее в характер этих обличений, — вы
без особенного труда заметите в них нежность неслыханную, доходящую
до приторности, равняющуюся разве только нежности, обнаруженной во
взаимных отношениях тех достойных друзей, один из которых у Гоголя
мечтает о том, как «высшее начальство, узнав об их дружбе, пожаловало
их генералами». «Конечно, это плохо, это гадко, безумно,
отвратительно»,— говорят все обличители, не скупясь на сильные эпитеты,— и вы
думаете: вот молодцы-то, вот энергические-то деятели!.. Погодите
немножко: это в них говорит Собакевич; но Манилов не замедлит вступить
в свои права, и у них тотчас явится и мостик через речку и
огромнейший дом с таким высоким бельведером, что оттуда можно видеть даже
Москву.
— Конечно, чиновники берут взятки, но ведь это единственно от
недостаточности жалованья; прибавьте жалованья, и взяток не будет в
России... Невозможно же допустить предположение, чтобы взятки брали и
те чиновники, которые по своему чину и месту служения получают
хорошие оклады. Нет., как можно: вся язва взяточничества ограничивается
чиновниками низших судебных инстанций, получающими ничтожное
жалованье.
— Просвещение плохо подвигается,— правда. Но ведь вся беда в том
только, что в гимназиях учителя и учебники плохи. Но если бы гимназии
Литературные мелочи прошлого года
405
приготовляли достойных слушателей для наших великих профессоров, да
если бы профессора и академики удостоили заняться составлением
учебников,— о! тогда у нас мгновенно водворилось бы лучезарное
просвещение. «Общества нет в деревне: надобно в город ездить, чтобы
увидаться с образованными людьми, — как говорит Манилов. — Но, конечно, если
бы соседство близкое, если бы такой человек, с которым бы в
некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении,
следить какую-нибудь этакую науку... словом, если бы такой образцовый
человек, как вы, Павел Иванович... о! тогда наша деревня и уединение
имели бы много приятностей...»
— Ремесленный класс у нас в дурном положении,— жаль. Но это
зависит, впрочем, от личности хозяев, и больше ни от чего; надо только
запретить хозяевам бить и морить голодом мальчишек, — и ремесленники
наши будут блаженствовать.
— Промышленность у нас развивается слабо, торговля не в
блестящем положении... Ах, это очень просто: конкуренция слаба, оттого что
тариф высок. Пониженный тариф — это универсальная и радикальная
мера для развития нашей промышленности и торговли.
— Мужики живут плохо. Что делать? Мужики, во-первых, грубы и
необразованны; а вследствие того, во-вторых, они мало имеют потребностей
и неспособны к высшим, деликатным наслаждениям. Они привыкли к
своей судьбе и ею довольны; значит, об этом и толковать нечего. Следует
только позаботиться об уничтожении злоупотреблений их положения 6.
— Пропивается сильно русский человек... Это грустное явление... Но
ведь тут вся беда оттого происходит, что система винных сборов
несовершенно устроена. Стоит завести акциз вместо прежнего откупа (п
даже с небольшой надбавкою), и все пойдет отлично.
В таком виде представляются нам почти все русские обличители.
Кричат, кричат против каких-то злоупотреблений, каких-то дурных
порядков... подумаешь, у них на уме и бог знает какие обширные
соображения. И вдруг, смотришь, у них самые кроткие и милые требования; мало
этого — оказывается, что они и кричат-то вовсе не из-за того, что
составляет действительный, существенный недостаток, а из-за каких-нибудь
частностей и мелочей. Они смахивают немножко на одного из наших
знакомых, о котором может дать понятие следующий случай. Прочитавши
несколько критических статей об «Истории русской цивилизации» г. Же-
ребцова, он проникся к г. Жеребцову живейшим негодованием и
принялся ругать его на чем свет стоит... Читателям известно, что мы
невысокого мнения о книге г. Жеребцова 7; но нам показался неумеренным и уж
слишком театрально-патетическим тот азарт, с каким наш знакомый
позорил историка русской цивилизации. Мы сделали какое-то замечание,
направленное к тому, чтоб удержать несколько его порывы. Но он
возразил нам — как бы вы думали? — следующим образом: «Нет, уж вы
406
H. A. Добролюбов
г. Жеребцова не защищайте (а мы и не думали защищать). Нет, так
писать нельзя... Это не годится... Нет, как же это можно? Помилуйте, что
же это будет? Он говорит, что Батый проходил через Калугу, тогда как
Калуга делается известною в нашей истории только с 1389 года. На что
же это похоже? Ну, скажи бы он, что Батый проходил через Калужскую
губернию, через те места, где ныне Калуга, это было бы другое дело.
А то вдруг Калугу выдумал за полтораста лет до ее существования.
Это совершенно напоминает того городничего, который велел пожарной
команде быть всегда на месте пожара за полчаса до появления пламени!..
Ха-ха... Но без всяких шуток — видно, что г. Жеребцов писал, не
справляясь с Карамзиным, потому что в «Истории» Карамзина есть сведения
о Калуге. Это и повредило всему делу. А загляни г. Жеребцов в
Карамзина, он, разумеется, при своей любви к родине, при своих обширных
знаниях и при своем светлом взгляде мог бы написать отличную вещь».
Почти все наши обличители заканчивают свои суровые речи подобным
образом. Но это еще зло не так большой руки в сравнении с тем, что
говорится многими, и самими обличителями в том числе, во славу нашего
времени, нашего общества, наших успехов на всевозможных поприщах.
Тут уж идет совершеннейшая маниловщина.
Кто-нибудь напишет в повести: «Меня обокрали неизвестные люди»,—
сейчас поднимаются крики о том, что у нас процветает гласность.
Сделают ученое открытие, что от увеличения налога на соль она не
подешевеет: начинают с благоговением повторять, что наука идет у нас
Еперед исполинскими шагами.
Сказал кто-то новую мысль, что жид — человек, а не скотина, и ничто
человеческое ему ни чуждо: тотчас в трубы трубить начали, что у нас
гуманность на высшей степени развития (исключая только некоторые
презренные личности) 8.
Напишет кто-нибудь, что дурно делали наши мелкие чиновники, когда
взятки брали: мгновенно поднимается оглушительный вопль, что у нас
общественное сознание пробудилось.
Явится статейка, доказывающая, что не следует заставлять людей
совершенно даром на нас работать, а нужно только стараться нанять их как
можно дешевле: все в восхищении и кричат, что общечеловеческие начала
у нас превосходно выработались.
И, не довольствуясь тем, что мы теперь так хороши, наши Маниловы
начинают торжественно рассуждать о том, как хороши мы были и прежде
(то есть не в недавнее время, а в древности, в прежнее прежде), и о
том, какая великая будущность нас всегда ожидала и ожидает. Одни
делают это простодушно, в полном сознании, что о великой будущности
именно и кстати потолковать по тому случаю, что мы понимаем теперь вред
Езяточничества, крепостного права и т. п. Другие же поддакивают этому,
вовсе не по простодушию, а по тому же самому чувству, по которому Чи-
Литературные мелочи прошлого года
407
чиков поддакивал Манилову. Не мудрено, что в нашей литературе
беспрестанно повторяется знаменитая сцена, в которой Манилов представляет
Чичикову детей своих. «Какой, душенька, у нас самый лучший город?» —
«Петербург». — «А другой?» — «Москва». Литературные Маниловы и
Чичиковы приходят в восхищение. «У этого ребенка будут замечательные
способности», — провозглашает Чичиков. «О, вы еще не знаете
его,—восклицает Манилов,— у него чрезвычайно много остроумия: чуть заметит
какую-нибудь букашку, козявку, сейчас побежит за ней следом и тотчас
обратит внимание...» «Я его прочу по дипломатической части»,—
заключает литературный Манилов, любуясь великими способностями русского
человека и не замечая, что с ним еще надо беспрестанно делать то же,
что произвел лакей с Фемистоклюсом Маниловым в то самое мгновение,
как отец спрашивал мальчика, — хочет ли он быть посланником?
Смотреть на подобных господ серьезно — значит оскорблять
собственный здравый смысл. Но тем не менее они могут еще ввести в
заблуждение неопытных юношей если не восторженностью своих похвал, то
решительностью и резкостью своих порицаний, хотя, в сущности, очень
неопределенных и ни на что прямо не направленных. Поэтому-то и
нельзя их оставлять уже вовсе без внимания; нельзя от них отходить молча,
смеривши их только обидно-презрительным взглядом. Приходится по
необходимости толковать с ними, и иногда довольно пространно, причем,
разумеется, самому становится и досадно, и смешно, и даже по большей
части — более смешно, нежели досадно. Такое расположение духа само
собою отражается, конечно, и в том тоне, каким говорим мы о многих
предметах, возбуждающих в других людях самые возвышенные
чувствования.
«Но что же это за странный разлад в людях, которые, по-видимому,
сходятся между собою как нельзя более в общих стремлениях?/ Вы хотите
правды и права, и в этом не расходится с вами никто из людей,
имеющих честное имя в литературе. Вы отвращаетесь зла и тьмы, и в этом
отвращении никто из благонамеренных литераторов, конечно, вам не
уступит. Зачем же смеяться над теми, в чьей благонамеренности и
благородстве вы не сомневаетесь? Зачем выставлять в смешном виде то, что
может хотя сколько-нибудь способствовать достижению тех же целей, к
которым вы сами стремитесь? Не значит ли это вредить великому делу
народного образования и развития, которому служит литература? Не
будет ли унижением для всей литературы, если вы станете называть
вздором и мелочью то, чем дорожат и восхищаются многие из почтенных и
умных ее деятелей?»
На все эти вопросы мы должны дать ответ, по возможности серьезный
и определительный. Соблюсти некоторую серьезность побуждает нас не
самый предмет (которому очень мало нужды до того, каким тоном
говорят о нем), а благодарное уважение к прошедшим заслугам именно тех
408
H. A. Добролюбов
лиц, которые ныне таким комическим образом умеют тратить столько
благородного жара на всякие мелочи. Если вы идете по грязному
переулку с своим приятелем, не смотря себе под ноги, и вдруг приятель
предупреждает вас: «Берегитесь, здесь лужа»; если вы спасаетесь его
предостережением от неприятного погружения в грязь и потом целую
неделю — куда ни придете — слышите восторженные рассказы вашего
приятеля о том, как он спас вас от потопления,— то, конечно, вам забавен
пафос приятеля и умиление его слушателей; но все же чувство
благодарности удерживает вас от саркастических выходок против
восторженного спасителя вашего, и вы ограничиваетесь легким смехом, которого не
можете удержать, а потом стараетесь (если есть возможность) серьезно
уговорить приятеля — не компрометировать себя излишнею
восторженностью... Так и мы поступим в настоящем случае.
Мы никогда не осмелились бы поставить свои личные убеждения
выше мнений почтенных особ, пользующихся издавна авторитетом, если
бы мы считали свои убеждения только собственной, личной нашей
принадлежностью. Не говоря о скромности и недоверчивости к себе
(служащих, как известно, украшением юности и не мешающих ни в каком
возрасте),— в нас достало бы столько благоразумия, чтобы не проповеды-
вать в пустыне собственные фантазии, и столько добросовестности, чтобы
не ломаться пред публикою в надежде привлечь ее внимание своей
эксцентричностью. Нет, мы говорили и говорим, не обращая внимания на
старые авторитеты, — потому единственно, что считаем свои мнения
отголоском того живого слова, которое ясно и твердо произносится молодою
жизнью нашего общества. Может быть, мы ошибаемся, считая себя
способными к правильному истолкованию живых, свежих стремлений
русской жизни; время решит это. Но во всяком случае — мы не ошибемся,
ежели скажем, что стремления молодых и живых людей русского
общества гораздо выше того, чем оболыцалась в последнее время наша
литература. Мы решаемся изложить нашу мысль несколько подробнее и
определеннее (сколько это возможно, разумеется, без нарушения должного
почтения к литературным и другим авторитетам).
Несколько раз уже приходилось нам говорить об отношении
литературы к действительности. Мы постоянпо выражали убеждение, что
литература служит отражением жизни, а не жизнь слагается по
литературным программам. Никогда и нигде литературные деятели не сходили с
эфирных пространств и не приносили с собой новых начал, независимых
от действительной жизни; все, что произвел когда-либо человеческий ум,
все это дано опытом жизни. Литература постоянно отражает те идеи,
которые бродят в обществе, и больший или меньший успех писателя
может служить меркою того, насколько он умел в себе выразить
общественные интересы и стремления. Рассуждая таким образом, мы должны
были бы безусловно преклониться пред недавними успехами нашей ли-
Литературные мелочи прошлого года
409
тературы и признать, что она представляет самое верное и совершенное
отражение всех интересов русской жизни. После такого признания не
могло бы уже быть и речи о мелочности литературы. Но, серьезно
оценивши этот успех, мы пришли к заключению, что он был весьма
незначителен и представлял чрезвычайно обманчивое зрелище. Чтобы оценить
значение того, что называют успехом в литературе, надо непременно
рассмотреть, между кем приобретен этот успех и как долго он
продолжался или мог продолжаться. В этом отношении большая часть данных
будет не в пользу литературных успехов последнего времени. Собственно
говоря, всякий писатель имеет где-нибудь успех: есть сочинители
лакейских поздравлений с Новым годом, пользующиеся успехом в передних; есть
творцы пышных од на иллюминации и другие случаи — творцы, любезно
принимаемые иногда и важными барами; есть авторы, производящие
разные «pièces de circonstances»* для домашних спектаклей и обожаемые
даже в светских салонах; есть писатели, возбуждающие интерес в мире
чиновничьем; есть другие, служащие любимцами офицеров; есть третьи,
о которых мечтают провинциальные барышни... Чем же эти кружки
увлекаются в своих любимцах? Конечно, не талантом, не истиною поэзии,
которые для всех одинаковы, а тем, что в писателе соответствует их
собственным понятиям, стремлениям и воззрениям на жизнь. Лучшие
писатели оттого им и непонятны или не нравятся, что стоят выше их
понимания. Оттого-то самый шумный и блестящий успех и выпадает
всегда на долю— не самого талантливого, а самого близкого к
сегодняшним, насущным интересам толпы. Но с падением или удовлетворением
этих интересов исчезает и успех писателя, пользовавшегося ими для своих
произведений. Прочный же успех остается только за теми явлениями,
которые захватывают вопросы далекого будущего или в которых есть
высший, общечеловеческий интерес, независимый от частных, гражданских
и политических соображений. Только писатель, умеющий достойным
образом выразить в своих произведениях чистоту и силу этих высших
идей и ощущений, умеющий сделаться понятным всякому человеку,
несмотря на различие времен и народностей, остается надолго памятным
миру, потому что постоянно пробуждает в человеке сочувствие к тому,
чему он не может не сочувствовать, не переставая быть человеком.
Большая или меньшая доля такого успеха выпадает непременно на долю
всякого талантливого произведения; но то, что в нем остается, принадлежит
таланту, о сущности и значении которого мы здесь не станем
распространяться. Мы должны говорить здесь о значении идей, развиваемых
писателем и приобретающих ему временное сочувствие общества. В
истории же развития идей мы постоянно видим повторение одной и той же
следующей истории. Жизнь в своем непрерывном развитии набирала мно-
* пьесы на случай (франц.).— Ред.
410
H. A. Добролюбов
жество фактов; ставила множество вопросов; люди присматривались к
ним с разных сторон, выясняли кое-что, но все-таки не могли справиться
со всею громадою накопившегося материала; наконец являлся человек,
который умел присмотреться к делу со всех сторон, придавал предметам
разбросанным и отчасти исковерканным прежними исследователями их
естественный вид и пред всеми разъяснял то, что доселе казалось
темным. Люди более умные тотчас же обыкновенно схватывали эти
объяснения гениального человека, и от них уже начинали свои дальнейшие
исследования. Люди более глупые, напротив, долго еще оставались при
прежних односторонних и нескладных воззрениях и принимали новые
только тогда, когда уже большинство явно к ним склонялось или какие-
нибудь внешние обстоятельства слишком уже настоятельно вынуждали
уступку новым началам. Мало-помалу, однако, старое воззрение исчезало
совсем^ и заменялось новым. Но пока продолжался процесс водворения
новых начал в целой массе людей, жизнь шла своим чередом и
возбуждала спять другие вопросы, давала опять новый материал для разработки.
Прежние умные люди большею частию уже не существовали в то время,
как эти новые потребности приходили в силу; да и те, которые остались,
все заняты были хлопотами об окончательном водворении своих начал,
из-за которых они с молодых лет трудились и боролись; о новых
вопросах они мало заботились, да и не имели довольно сил для того, чтобы
разрешить их. Поэтому прежние умные люди, ввиду новых требований
нового времени, оставались большею частию безучастными зрителями и,
все усилия употребляя к поддержанию старых начал, смотрели на новые
вопросы даже несколько презрительно. Глупые же люди, после всех
принявшие те начала, которые теперь стали уже старыми, даже вовсе и не
понимали, чтоб могли существовать еще какие-то другие требования,
кроме тех, какие разрешились для них в учении, недавно ими принятом.
Вследствие того они принимались даже преследовать новое движение,
делаясь, как все новички, фанатиками тех воззрений, против которых
сами так недавно враждовали. Но, разумеется, события брали свое: новые
факты образовали новые общественные отношения и приводили людей
к новому пересмотру прежних систем, прежних фактов и отношений. Все
молодое, без труда, с малолетства усвоившее систему господствующих
воззрений, чувствовало, разумеется, желание и свежие силы для дальнейшей
работы; вновь накопленные факты давали обильный материал, и молодое
поколение принималось работать над новыми данными, еще робко,
ощупью, но уже с предчувствием нового света, который прольется на их
начинания при появлении нового гениального ума.
Такова общая история вопросов науки и искусства при переходе их
из поколения в поколение. Степень развития умных людей в начале
каждого периода дает мерку будущего развития масс в конце того же
периода. Люди, идущие в уровень с жизнью и умеющие наблюдать и по-
Литературные мелочи прошлого года
411
нимать ее движение, всегда забегают несколько вперед, а за ними
следует и толпа, которая понимает жизнь уже по чужим объяснениям и,
таким образом, все протверживает зады. Этим-то процессом развития
масс и объясняется жизненность и долговечность всего талантливого;
сначала только умные люди поймут и скажут, что это хорошо, толпа же
поверит им на слово; а потом и толпа, по мере своего развития, все
сознательнее и яснее станет убеждаться, что это действительно хорошо...
до тех пор, пока не наступит новый период цивилизации. Этим же
объясняется и то обстоятельство, о котором мы упомянули выше: что всякий
автор, как бы он ни был пошл, все-таки имеет успех в каком-нибудь
кружке и даже приносит своего рода пользу. «Нет на свете такого
дурака, который бы не возбуждал к себе удивления в каком-нибудь другом,
еще большем дураке»,— говорится в одной из сатир Буало 9, и ни к чему
эти слова не могут быть так справедливо применены, как к литературе.
Действительно —самый глупый из пишущих людей может наверное
рассчитывать, что найдутся люди, которым и он. может сообщить и
объяснить кое-что: он отстал, но за ним все-таки еще остается кто-нибудь еще
более отсталый... Доказательства мы видим каждый день. Стоит только
вспомнить, что до сих пор несколько тысяч человек в России постоянно
читают фельетоны «Северной пчелы» 10 или что «Весельчак» п,
просуществовавши целый год, объявляет подписку и на следующий... Стало быть,
есть же и в них вещи, для кого-нибудь поучительные и интересные... Да
и где же их нет!,. В одном лакейском поздравлении мы когда-то читали
стихи:
Дай бог вам счастья и здоровья,
Любви и тишины в семье...
Для скольких из господ, принимающих эти поздравления вместе с
афишами,— мысль «о любви и тишине в семье» должна была показаться
новою и оригинальною!..
Читатель может спросить нас: «Зачем мы ввели это пространное,
утомительное и крайне не новое рассуждение — в статью, которая должна
трактовать о литературных мелочах прошлого года?» Затем,— ответим
мы читателю, — что нам нужно было несколько общих положений для
вывода, представляемого нами несколько строк ниже. Мы указали на то,
что новые воззрения, выработанные из фактов, накопившихся в течение
известного периода, сначала бывают достоянием немногих и только
мало-помалу переходят в массы; когда этот переход идей совершился, тогда
уже настало, значит, начало нового периода: новые потребности
образовались, новые вопросы выработались и привлекают к себе внимание людей,
идущих вперед; прежние идеи и стремления подбираются уже только
людьми отсталыми и остановившимися.— Припомнив это, мы
представляем читателю следующий вывод, который он может уже прямо приложить
412
H. A. Добролюбов
к русской литературе последнего времени: «Когда какое-нибудь
литературное явление мгновенно приобретает чрезвычайное сочувствие массы
публики, это значит, что публика уже прежде того приняла и сознала
идеи, выражение которых является теперь в литературе; тут уже
большинство читателей обращается с любопытством к литературе, потому что
ожидает от нее обстоятельного разъяснения и дальнейшей разработки
вопросов, давно поставленных самой жизнью. Если же это
любопытство охладевает столько же быстро, как и возникло, — это значит, что
публика увидела, как она обманывалась в силах наличных литературных
деятелей, предположивши их способными к разрешению таких вопросов
жизни, которые им далеко не по плечу»...
Как видите, вывод прямо приводит нас к «литературным мелочам».
Известно всем и каждому, что сатирико-полицейская и поздравительно-
экономическая литература наша страшно уже надоела публике в
прошедшем году. Между тем фурор, возбужденный ею во всей публике, имеет
теперь не более трех лет от роду... Следовательно, заключение,
приведенное нами выше, вполне применяется к нашей литературе последнего
времени. Провозгласивши начала, всею публикою давно, в безмолвном
соглашении, признанные, она возбудила к себе сочувствие, — но вместе с
тем внушила и надежды на что-то большее и высшее; до сих пор
надежды эти не исполнены, и литература обмелела в глазах лучшей части
публики.
Выставляя этот факт, мы не откажемся его объяснить и подтвердить
примерами. Но сначала считаем нужным изложить причины, от которых,
по нашему мнению, зависел этот мелочной, мизерный характер,
обнаруженный литературою в последнее время.
По нашему крайнему разумению, причина здесь заключается не в
самой литературе, а опять-таки в обществе, которого отражением она
служит*. Общество само виновато в том грустном и ненормальном явлении,
что литераторы явились пред ним вдруг — не передовыми людьми, не
смелыми вождями прогресса, как всегда и везде они бывали, а людьми
более или менее отсталыми, робкими и бессильными. Доказать наше
обвинение нетрудно: стоит припомнить некоторые черты из прошедшего
времени, могущие служить объяснением тогдашних отношений общества
к литературе.
Известно, что очень немногие из литературных деятелей,
сделавшихся особенно заметными в последнее время, принадлежат
собственно нынешнему времени. Почти все они выработались гораздо прежде,
под влиянием литературных преданий другого периода, начало которо-
* Читатель заметил, конечно, что слове «литература» мы употребляем не в смысле
беллетристики, а в самом обширном значении, разумея тут и поэзию, и науку
собственно, и публицистику, и т. д.
Литературные мелочи прошлого года
413
го совпадает в истории... впрочем, что нам до истории: читатели сами
ее должны знать... будем говорить только о литературе. В литературе
начало этого периода совпадает со временем основания «Московского
телеграфа» 12; жизненность его оканчивается со смертью Белинского;
а затем идет какой-то летаргический сон, прерываемый только
библиографическим храпом и патриотическими грезами; окончанием этого
периода можно положить то время, в которое скончал свое земное
поприще незабвенный в летописях русской журналистики «Москвитянин» 13.
Схоронивши сие тяжеловесное и скучное создание, литераторы,
бродившие как потерянные со времени смерти Белинского, как будто пришли
в себя и повестили довольно громко на всю Русь православную,— что
они живы и здоровы. Русь им обрадовалась, и они принялись, как
старые знакомые, с ней разговаривать и рассуждать, стали ей
«сказки сказывати и давати ей поученьица»... Слово их было произносимо
со властию, с сознанием собственного достоинства, и молодое
поколение с трогательною робостью прислушивалось к мудрым речам их, едва
осмеливаясь делать почтительные вопросы и уже вовсе не смея
обнаруживать никаких сомнений. При малейшем равнодушии молодежи к
поучениям зрелых мудрецов в их глазах и губах появлялось выражение,
в котором ясен был презрительный вызов: «Вы, нынешние,— ну-тка!..» и
При таком вызове нынешние, разумеется, поджимали хвост и
съеживались, не дерзая мерять свои силы с могучими бойцами, уже
испытанными в жизненной борьбе... Поле словесной битвы постоянно
оставалось, таким образом, за людьми зрелыми, разумными и опытными;
молодое поколение обычным путем вступило в свои права —
наслаждаться поучениями старших.
Но — увы! — столь отрадный порядок вещей продолжался недолго!
Очень скоро зрелые мудрецы выказали все наличные силы, сколько
было у них,— и оказалось, что они не могут стать в уровень с
современными потребностями. Юноши, доселе занимавшиеся, вместе со
зрелыми мудрецами, поражением семидесятилетних старцев, решились
теперь перенести свою критику и на людей пятидесяти и даже сорока
лет. История о том, как и отчего все это произошло, не лишена
занимательности, и мы когда-нибудь при удобном случае займемся
подробным ее изложением, а теперь расскажем только вкратце ее
содержание.
В гласных проявлениях общественной жизни России в последнюю
четверть века произошло обстоятельство, довольно замечательное по
своей странности: в этих проявлениях почти нисколько не отражалась
внутренняя работа жизни. По газетам, по отчетам, по статистическим
выводам, по официальным сведениям журналов, издаваемых разными
ведомствами, по историческим исследованиям Фаддея Булгарина, по ре-
торике и философии академика Ивана Давыдова, по одам графа Хво-
414
Ü. А. Добролюбов
стова можно видеть только одно: что «все обстоит благополучно».
Между тем на деле далеко не все обстояло так благополучно, как можно
было подумать, судя по официальным рапортам. Это хорошо знали и
решились прямо сказать некоторые благородные и энергические люди,
желавшие, чтобы жизнь нашла свое отражение в печатном слове всеми
своими сторонами, хорошими и худыми, и всеми своими
стремлениями, близкими и далекими. Изобразителем этих сторон явился Гоголь,
истолкователем этих стремлений — Белинский; около них группировалось
несколько десятков талантливых личностей. Все они дружно принялись
за свое дело и явились пред обществом действительно передовыми
людьми, руководителями общественного развития. Большинство,
поклонявшееся тогда глубокомыслию барона Брамбеуса, учености Греча
и Ив. Давыдова, патриотическим драмам Кукольника и т. д.,— туго
поддавалось на убеждения энергических деятелей гоголевской партии;
но, одушевляемые Белинским и лучшими из друзей его, эти люди
неутомимо продолжали свое дело. Успех их был велик в обществе: к концу
жизни Белинского они решительно овладели сочувствием публики; их
идеи и стремления сделались господствующими в журналистике;
приверженцы философии Булгарина и Давыдова, литературных мнений
Ушакова и Шевырева, поэзии Федора Глинки и барона Розена — были
ими заклеймены и загнаны на задний двор литературы. Русское
печатное слово действительно шло к тому, чтобы сделаться верным и
живым выражением русской жизни. Но в 1848 году Белинский умер,
многие из его друзей и последователей рассеялись в разные стороны,
Гоголь в то же время резко обозначил перемену своего направления,
и начатое дело остановилось при самом начале. Литература
потянулась как-то сонно и вяло; новых органов литературных не являлось,
да и старые-то едва-едва плелись, мурлыча читателям какие-то
сказочки; о живых вопросах вовсе перестали говорить; появились какие-
то библиографические стремления в науке; прежние деятели замолкли
или стали выть по-волчьи. Люди, писавшие прежде о Мальтусе и
пауперизме, принялись за сочинение библиографических статеек о каких-
нибудь журналах прошлого столетия 15; писатели, поднимавшие прежде
важные философские вопросы, смиренно снизошли до изложения каких-
нибудь правил грамматики или реторики; люди, отличавшиеся прежде
смелостью общих исторических выводов, принялись рассматривать
«значенье кочерги, историю ухвата» 16. Забитая прежде литературная дрянь
и мелюзга подняла голову, и «вылезшие из щелей мошки и букашки» 17
опять начали ползать и пищать, не боясь уже быть растоптанными.
Лучшие деятели недавнего времени махнули тогда рукой и решились
хранить гробовое молчанье, если само общество не потребует от них
слова. Но общество оказалось совершенно равнодушным к литературе:
ему как будто и дела не было до того, что об нем и для него пи-
Литературные мелочи прошлого годп,
415
шется. Пока говорили,— оно слушало; перестали говорить,— оно
перестало слушать. Внезапный перерыв речи не произвел на него,
по-видимому, никакого впечатления. Ни сожаления, ни упрека, ни просьбы
о продолжении речи — ничего не заявила русская публика.
Естественно, что такая холодность очень дурно подействовала на литературных
деятелей, и это отразилось, и отражается до сих пор, на их
возобновленной деятельности. Они подумали — и не без основания,— что в
обществе не поняты или не приняты те идеи, которые они проповеды-
вали, те интересы, которым они служили. Им показалось, что общество
не только не способно идти вперед по указанному ими направлению,
но еще не может остановиться даже и на том, до чего они успели
довести его,— а непременно поворотит назад, повинуясь силе противного
ветра. И вследствие именно этого убеждения в ветрености общества
литературные деятели наши выказали столько слабости и мелочности при
возобновлении своей деятельности. Когда общество опять потребовало
от них слова, они сочли нужным начать с начала и говорить даже
не о том, на чем остановились после Белинского, а о том, о чем
толковали при начале своей деятельности, когда еще в силе были
мнения академиков Давыдова и Шевырева, когда еще принималось
серьезно дифирамбическое красноречие профессоров Устрялова и Морошкина,
когда даже фельетоны «Северной пчелы» требовали еще серьезных и
горячих опровержений. Если это скучно и бесполезно для нынешней
публики, то она терпит только достойное наказание за то, что ввела
в ошибку литераторов. Почему, в самом деле, могли они знать о
степени развития своих читателей, когда эти читатели ни голоса не
подали никогда в ободрение упадавшей литературы? Поделом теперь и
терпят скуку за свою невнимательность!..
Впрочем, нельзя совершенно оправдать и литераторов. Вина их
состоит в недогадливости, а недогадливость происходит оттого, что они
слишком книжно и слишком гордо взглянули на свое призвание. Они
сочли себя чем-то высшим и подумали, что жизнь без них обойтись
уже вовсе не может: если они поговорят, так и сделается что-нибудь,
а не поговорят,— ничего не будет. Утвердившись в таком отвлеченном
и высокопарном убеждении, они и не догадались, что жизнь все-таки
идет своим чередом, все-таки заявляет свои требования, вырабатывает
новые понятия, ставит новые вопросы и представляет данные для их
разрешения. Они ожидали встретить теперь то же, что было за
двадцать лет назад; но их ожидания оправдались только вполовину. Их
сверстники, бодрые юноши двадцатых и тридцатых годов, действительно
остановились на том, что им говорили тогдашние литературные деятели;
даже больше — они утратили, вместе с первой молодостью, часть тех
убеждений, которые прежде горячо принимали к сердцу. Чтобы
подействовать на их зрелую апатию, в самом деле надо было опять начи-
416
H. A. Добролюбов
нать с элементарных понятий и входить во все мелочи, так как нельзя
было положиться на них в том, что они умеют понимать эти мелочи
как следует. И вот пошли повторения задов, пошли контроверсии о
разных предметах — ясных и бесспорных или мелких и пошлых. С
пылкой э?1ергией, свободным и решительным языком заговорили зрелые
мужи литературные и с первых же слов заслужили рукоплескания
молодежи и негодование своих сверстников и старших себя. Ход дела был
совершенно понятен: в последние десять лет русской молодежи как-то
особенно усердно вперяем был страх и трепет перед старшими.
Молодость, разумеется, и тогда брала свое, и юноши исподтишка
посмеивались над старцами,— но вслух говорить не смели. И вдруг они увидели,
что люди почтенные, сами до некоторой степени старшие, подсмеиваются
над разными ветеранами и бросают камень осуждения в тех, кто к ним
подслуживается. Юношам это очень понравилось; они почувствовали
сердечное влечение к зрелым людям, так резко отвергающим ненавистный
принцип безответности младшего перед старшим; стали с почтением
прислушиваться к их мудрым речам, увидели, что они говорят хорошие
вещи о правде, чести, просвещении и т. п.,— и решили, что, несмотря
на свой почтенный возраст, зрелые мудрецы принадлежат к новому
времени, что они составляют одно с новым поколением, а от старого
бегут, как от заразы. Еще не имея собственного знамени, молодежь
примкнула к благородной фаланге людей, хотя и много старших' возрастом,
но юных по своим идеям и стремлениям. Между двумя поколениями
заключен был, безмолвно и сердечно, крепкий союз против третьего
поколения, отжившего, парализованного, охладевшего, но все еще
мешавшего общему довольству и спокойствию, пугавшего новую жизнь своим
полумертвым телом, похожим на труп, заживо разлагающийся и
смердящий.
Но не прошло и года, как молодые люди увидели непрочность и
бесполезность своего союза с зрелыми мудрецами. Во всей пожилой
фаланге оказалось очень немного имен, которые можно бы было поставить
во главе нового движения. Большая часть прежних деятелей, давно уже
потерявшая возможность гласного выражения идей и стремлений,
совершенно отчаялась в течение этого времени в дальнейшем прогрессе
общества, перестала следить за жизненным движением событий, сложила
руки и осталась в пассивном созерцании до тех пор, пока сила
событий опять не вызвала их к деятельности. Естественно, что они теперь
почувствовали себя как-то не в своей тарелке и не знали, что им
делать и говорить. Начали они с того, что стали пробовать и разминать
свой язык, желая убедиться, что он не разучился произносить
человеческие звуки. На первый раз принялись болтать о том, что говорить
лучше, чем молчать; потом рассказывали о своем недавнем сне и
выражали радость о своем пробуждении; затем жалели, что после долгого
Литературные мелочи прошлого года
417
сна голова у них не свежа, и доказывали, что не нужно спать
слишком долго; после того, оглядевшись кругом себя, замечали, что уже день
наступил и что днем нужно работать; далее утверждали, что не нужно
заставлять людей работать ночью и что работа во тьме прилична только
ворам и мошенникам, и т. д. Долго неопытная молодежь рукоплескала
заговорившим пожилым мудрецам, как рукоплещут в театре выходу
любимого актера зрители, заранее убежденные, что он отлично сыграет
свою роль. Но с каждым словом почтенных деятелей все яснее
обозначалось их бессилие, с каждым новым выходом журнальных книжек
все слабел энтузиазм молодежи и тех деятелей прежней партии,
которые умели понять ее стремления. Возложивши свои надежды на
лучших людей предшествующего поколения, молодежь увидела себя в
положении больного человека, который обратился за излечением к
прославленному доктору, уже лет за двадцать до того оставившему
практику. Вы ожидаете, что он пропишет вам рецепт или по крайней мере
даст совет, предпишет диету; но доктор пришел, потолковал о своих
медицинских познаниях и удалился. Вы ждете, что будет дальше.
Через месяц является доктор с известием: ваше здоровье расстроено.
Еще через месяц новое сведение: цвет вашего языка и биение пульса
доказывают, что ваше здоровье не совсем в порядке.
Еще через месяц: больные люди должны лечиться; история медици-
цины представляет много тому доказательств.
Через два месяца: вам непременно следует лечиться.
Еще через два месяца: для того чтобы вылечиться, вам надобно
бросить дурных докторов и обратиться к хорошему.
Через месяц: хорошего доктора трудно залучить к себе; но если
дать хорошие деньги, то и хороший доктор придет к вам.
Через два месяца: при лечении следует наблюдать диету,
предписанную не дурным, а хорошим доктором.
Через три месяца: диета должна быть сообразна с характером
болезни.
Через два месяца: способ лечения также должен быть принят в
соображение при назначении диеты.
Через месяц: болезнь входит пудами, а выходит золотниками.
Еще через месяц: чтоб сохранить свое здоровье, надобно вести
себя осторожнее.
Еще через месяц: не надобно допускать вредных внешних влияний,
от которых может страдать ваше здоровье.
Через два месяца: вы больны оттого, что не побереглись...
И так далее, и так далее...
Целые годы проходят в мудрых рассуждениях, которые вам
одинаково знакомы и при болезни вашей и в здоровом состоянии. Вы
можете в это время двадцать раз выздороветь, опять захворать, объесть-
27 Н. Д. Добролюбов
418
H A. Добролюбов
ся, опиться, насмерть залечить себя, а прославленный доктор, давно
оставивший практику, все с прежним самодовольствием будет сообщать
вам глубокие афоризмы, вроде вышеприведенных... Поневоле вы от него
отступитесь.
Так точно живая и свежая часть русского общества нашла
необходимым отказаться наконец от почтенных и умных фразеров,
вызвавшихся подобным образом лечить общественные раны земли русской.
Эти бедняки потерялись от радости, когда увидели, что есть люди,
готовые принять их лечение. Как бы не смея верить своему
благополучию, они сочли нужным предварительно пуститься в рассуждения,
убедить людей в пользе медицины, наставить их относительно значения
диеты, и, привыкши видеть себя забытыми, загнанными, отвыкши от
практической медицины, отставшие врачи не могли удержаться, чтобы
не вознаградить себя за бездействие разглагольствиями и чтобы вместе
-с тем не излить желчи на дурных врачей, которые отстранили от дел
их, хороших докторов. В таких-то занятиях и заключалась вся
практика наших общественных врачей из зрелых мудрецов; ни облегчения
для больных, ни научения для молодых врачей не оказывалось от них
ни малейшего.
Прошло еще несколько времени терпеливого ожидания, и открылось
новое обстоятельство, почти отнявшее у молодежи последнюю надежду
на мудрую партию пожилых деятелей (говоря: «пожилые», мы везде
разумеем людей, которые прожили свои молодые силы и уже не умеют
понимать современное движение и потребности нового времени; такие
люди встречаются и между двадцатипятилетними). Оказалось, что они
не умеют заглянуть в глубь современной общественной среды, не
понимают сущности новых потребностей и стоят всё на том, что
толковалось двадцать лет тому назад. Теперь уже всякий гимназист, всякий
кадет, семинарист понимают многие вещи, бывшие тогда доступными
только лучшим из профессоров; а они и теперь говорят об этих
вещах с важностью и с азартом, как о предметах высшего философского
разумения.
Тогда, например, кто говорил об освобождении крестьян, тот
считался образцом всех добродетелей и чуть не гением; они и теперь
было задумали применить в своих рассуждениях тот же тон и ту же
мерку... Все засмеялись над ними, потому что в современном обществе
считается уже позором до последней степени, если кто-нибудь
осмелится заговорить против освобождения. Да никто уж и не осмеливается.
В прежнее время целыми годами ожесточенных битв нужно было
критике Белинского отстаивать право литературы обличать жизненные
пошлости. Ныне никто относительно этого права не имеет ни
малейшего сомнения; а деятели прошедшей эпохи опять выступают с
трескучими фразами о пользе и правах обличительной литературы.
Литературные мелочи прошлого года
419
Во время их молодости только что издан был «Свод законов» ls,
и все надеялись, что после его издания уже невозможны будут
судебные проволочки и взятки: Фаддей Булгарин юморист en vogue *
тогдашнего времени, сочинил даже «Плач подьячего Взяткина по издании
Свода законов» 19, и «Плач» его был встречен с восторгом большинством
читающей публики. Но и в то время были дальновидные, горячие и
смелые люди, решавшиеся предполагать, что и после издания «Свода
законов» взятки и крючкотворство еще возможны отчасти... Ныне, по
прошествии тридцати лет, весь русский люд горьким опытом убедился,
что взятки и при «Своде» возможны, и очень возможны... А прежние
деятели и теперь продолжают говорить об этом с важностью, как о
каком-то новом открытии, и даже соблюдают большую сдержанность
и умеренность в выражениях, как бы боясь поразить публику
громадностью своего открытия.
Двадцать лет тому назад патриотизм не умели отделять от
camaraderie **, и кто осмеливался говорить, что патриотизм не состоит в том,
чтобы выставлять только свои достоинства и покрывать недостатки,—
тот считался человеком крайних мнений и необыкновенно светлой
головой. Теперь же редко можно встретить в публике подобное
смешение понятий столь различных; а почтенные деятели прежней эпохи и
теперь продолжают самодовольно декламировать, что истинная любовь
к отечеству не щадит его недостатков, и пр.
В прежнее время образование специальное, с целию приготовления
чиновников, лекарей, офицеров и т. д., стояло на первом плане; до
необходимости общего образования додумывались только немногие умы,
далеко опередившие свой век... Они восставали тогда, сколько могли,
против исключительного развития специального образования; но
тогда их не слушали, специальные школы распространялись,
общее образование было в загоне, в пренебрежении. Лет двадцать пять
прошло с тех пор; почти исключительное развитие специальных
училищ принесло свои грустные плоды: явились медики, искусные только
в утайке гошпитальных сумм, инженеры, умевшие тратить казенные
деньги на постройку небывалых мостов, офицеры, помышлявшие только
о получении роты, чтобы поправить свои обстоятельства, и т. д.,
и т. д. На деле все убедились, что в воспитании нужно принять
другое направление. Один из почтенных людей очень умно и решительно
высказал общее стремление и сделал несколько практических указаний
на существующий порядок вещей,— и вдруг между пожилыми
мудрецами поднялось радостное волнение: теперь, видите ли; уже открыто и
доказано, что общее образование важнее специального!..20 От такого от-
* модный (франц.).—Ред.
** чувство товарищества (франц.).— Ред.
27*
420
В. А. Добролюбов
Крытия они пришли в неописанный восторг и года два по нескольку
раз в месяц шевелили фразу: «Прежде всего надо воспитать человека,
а потом уже сапожника» или что-то в этом роде... В простоте души
они полагали, что говорят новость, не подозревая, что теперь уже
редкий сапожник и редкий человек (в барском значении) не знает этой
новости.
Вообще — в пору цветущей молодости литературных деятелей,
отличавшихся в последнее время, не было многих вещ,ей, которые ныне
существуют как явления весьма обыкновенные. Не было ни железных
дорог, ни речного пароходства, ни электрических телеграфов, ни
газового освещения, ни акционерных компаний; не говорили печатно ни
о капитале и кредите, ни об администрации и магистратуре, ни о
правительственных и общественных реформах и переворотах,
совершавшихся в Европе в последние полвека. Но в продолжение того времени,
как литераторы тридцатых годов спали и бредили библиографией или
от нечего делать наблюдали свой собственный жизненный процесс,—
общество успело познакомиться со всеми этими предметами. Успели
подрасти и новые люди, которые, мало интересуясь изображением
«Истории одного женского сердца», «Слабого сердца», «Беды от нежного
сердца», «Сердца с перегородками», равно как и рассуждениями «О
религиозно-языческом значении избы славянина», «О значении имен Лю-
тицы и Вильцы», «О значении слова: Баян»21 и т. п.* — перечитывали
Белинского и немногих из друзей его, да почитывали и иностранные
книжки. Таким образом, несмотря на молчание русской литературы,
молодая, живая часть общества не переставала развиваться и постоянно
старалась идти в уровень с современными требованиями. Этого-то и не
сообразили почтенные люди, вновь выступившие ныне на литературное
поприще, после десятилетнего молчания. Их дело было очень просто:
осмотреться вокруг себя и стать на точку зрения настоящего, чтобы
отсюда уже отправиться дальше. Но в том-то и дело, что уменье скоро
и ловко ориентироваться во всяком положении теряется людьми в
известные лета и при известных обстоятельствах, да и вообще
противоречит маниловскому характеру. Молодой человек, кое-что видавший pi
знающий и не имеющий маниловского элемента в характере,— если
застанет меня, например, хоть за чтением «Всеобщей истории» г.
Зуева22, то прямо скажет: «Зачем это вы такую дрянь читаете? Разве вы
ие знаете других руководств истории, которые гораздо лучше?»
Напротив, человек почтенных лет, да еще с некоторой маниловщиной в
характере, в том же самом случае сочтет долгом сначала похвалить мою
любознательность, распространиться о пользе чтения книг вообще и ис-
* Все это — подлинные заглавия литературных и ученых произведений, печатанных
в последнее десятилетие.
Литературные мелочи прошлого года
421
торических в особенности, заметить, что история есть в некотором роде
священная книга народов и т. п., и только уже после долгих
объяснений решится намекнуть, что, впрочем, о книге г. Зуева нельзя сказать,
чтобы после нее ничего уже более желать не оставалось. Совершенно
подобным образом поступили литературные Маниловы со всеми
попавшими им под руку общественными вопросами. Ну, вот, например,—
железные дороги. Чего бы, кажется, проще: у нас железных дорог мало;
надобно больше выстроить; где, как и на какие средства их строить? —
Нет, они принялись толковать о том, что и полезны-то железные дороги,
и ездить-то по ним скорее, и жаль, что их прежде-то у нас не было, и
слава богу, что теперь поняли их важность-то, и влияние-то их велико
во всех отношениях, и лошадей-то для них не нужно... Но тут возник
спор: одни утверждали, что нужно, другие — что нет. И пошла
бесконечная история о том, что Россия находится в особенных
сельскохозяйственных условиях, что она — шестая (теперь следовале бы уж
говорить — седьмая) часть света, что ее ожидает великая будущность.
И пошла писать губерния...
Так, или почти так, поднимались и разрешались у нас все
общественные вопросы последнего времени. На людей свежих, привыкших
отзываться на требования жизни делом, а не фразой, все это
действовало очень неблагоприятно. Они не могли довольно надивиться
наивным добрякам, до слез восхищавшимся, например, провозглашением
той мысли, что в судах должна быть правда. «Ну, конечно — должна;
что же об этом толковать?..» — «Нет, как можно: вы поймите, как
высок смысл этой фразы, как неизмеримо благотворны будут для России
ее последствия, ежели она будет исполнена! Правда в судах! Ведь это
значит, что преступники будут достойно наказываемы, а невинные
будут находить себе оправдание в суде! Значит, без вины никого не осудят,
судьи будут справедливы, преступления не будут избегать законного
возмездия!.. Какое великое благо выйдет из этого для всей страны! И
возможно ли допустить сомнение, что праведный суд полезен в стране,
в которой устроиваются железные дороги и пароходное движение,
поощряется промышленная деятельность, все живые силы народа
вызываются на свободный, полезный труд», и пр. и пр.
И подобные, рассуждения у почтенных добряков беспрестанно на
языке, по поводу всякого офицера, прошедшего в фуражке по Невскому,
есякого юнкера, проехавшего на извозчике, всякого студента,
отпустившего бакенбарды, даже всякого франтика с бородкой. Они — точно
слепорожденные, внезапно прозревшие в мутный октябрьский день, на
пути из какого-нибудь Глухого переулка в какое-нибудь Козье Болото;
их спрашивают, знают ли они дорогу, куда им нужно идти? — а они
отвечают: «Ах, как солнце хорошо светит!., какая безграничная даль
открываете -яперед нами!..» На первый раз, из сострадания к ним, можно
422
H. A. Добролюбов
пропустить без внимания их забавные речи. Но нельзя же
удержаться от смеха, ежели они начнут еще резонировать, говоря, например,
таким образом: «Какое великолепное светило — это солнце! Какой
лучезарный свет изливает оно на землю! Вы должны благодарить судьбу,
что это солнце воссияло над вами! Вы были погружены в мрачную
ночь, но воссияло оно — и все для вас осветилось. По науке известно,
что все предметы делаются видимыми нам только тогда, когда лучи,
отражающиеся от них, достигают сетчатой оболочки нашего глаза.
Таким образом, свет не менее необходим для зрения, как и самый глаз»,
и т. п.
Разумеется, нельзя отрицать справедливости подобных рассуждений
и даже их новости и полезности для кого-нибудь: «Chaque sot trouve
toujours un plus sot, qui l'admire»...* Но скажите, бога ради,— на
каких читателей рассчитывает литература, пробавляющаяся подобными
рассуждениями?..
На кого бы она ни рассчитывала и сколько бы ни находила себе
поклонников,— мы смело можем утверждать одно: она не привлечет
теперь симпатии тех, кому, по естественному закону истории,
принадлежит будущее. Мы не поклонники учения о безусловной и регулярной
преемственности поколений; но, вдумываясь в настоящее и в близкое
прошедшее, мы не можем не заметить, что характер нового поколения
нашего должен дать ему в событиях совсем другую роль, нежели какую
имело предыдущее. Люди того поколения проникнуты были высокими,
но несколько отвлеченными стремлениями. Они стремились к истине,
желали добра, их пленяло все прекрасное; но выше всего был для них
принцип. Принципом же называли общую философскую идею, которую
признавали основанием всей своей логики и морали. Страшной мукой
сомненья и отрицанья купили они свой принцип и никогда не могли
освободиться от его давящего, мертвящего влияния. Что-то
пантеистическое было у них в признании принципа: жизнь была для них
служением принципу, человек — рабом принципа; всякий поступок, не
соображенный с принципом, считался преступлением. Отвлекшись, таким
образом, от действительной жизни и обрекши себя на служение
принципу, они не умели верно рассчитать свои силы и взяли на себя
гораздо больше,/чем сколько могли сделать. Немногие только умели,
подобно Белинскому, слить самих себя с своим принципом и таким образом
придать ему жизненность. У Белинского внешний, отвлеченный
принцип превратился в его внутреннюю, жизненную потребность: проповеды-
вать свои идеи было для него столько же необходимо, как есть и пить.
Но немногие могли дойти до такого слияния своей личности с философ-
* «Каждый дурак находит всегда еще большего, который восхищается им»...
(франц.).— Ред.
Литературные мелочи прошлого года
423
ским принципом. Большая часть осталась только при рассудочном
понимании принципа и потому вечно насиловали себя на такие вещи,
которые были им вовсе не по натуре и не по нраву. Отсюда вечно
фальшивое положение, вечное недовольство собой, вечное ободрение и
расшевеливанье себя громкими фразами и вечные неудачи в йракти-
ческой деятельности. Отлично владея отвлеченной логикой, они вовсе
не знали логики жизни и потому считали ужасно легким все, что
легко выводилось посредством силлогизмов, и вместе с тем ужасно
мертвили всю жизнь, стараясь втиснуть ее в свои логические формы. Может
быть, они и отстали бы от всего этого, если бы успели исподволь
присмотреться к ровному ходу жизни. Но судьба поступила с ними
безжалостно: она круто перевернула многих из них испытаниями
всякого рода, общими и частными,— и они утвердились в убеждении, что
жизнь беззаконна и нелепа, а только принцип истинен и законен. Они
ринулись было в борьбу за принцип, но проиграли одну битву,
другую, третью, четвертую,— и увидели, что бороться долее невозможно.
Тяжелое недовольство осталось затем у них в душе. Но и оно не было
цельным, могучим и деятельным, так как они сами не были цельными
людьми. Они состояли из двух плохо спаянных между собой начал:
страсти и принципа. Редко принцип разливался по всему их существу
с силою страсти, и они всячески старались надуть себя, подогревая
фразами свои холодные отвлеченности; еще реже жизненная страсть
возводима была ими на степень принципа. Обыкновенно же принцип
был сам по себе, а страсть сама по себе. Так произошло и здесь:
принцип, витая в высших сферах духовного разумения, остался
превыше всех обид и неудач; страсть же негодования ограничилась низшею
сферою житейских отношений, до которых они почти никогда не умели
проводить своих философских начал. Мало-помалу они вошли в свою
пассивную роль и из всего прежнего сохранили только юношескую
восторженность да наклонность потолковать с хорошим человеком о
приятном обращении и помечтать о мостике через речку. С этими-то милыми
качествами и с совершенным неуменьем присматриваться к
действительной жизни и понимать ее требования и задачи и выступили они в
недавнее время снова на поприще литературы. Мгновенное привлечение
к себе симпатий общества и замечательно быстрое обнаружение своего
бессилия были естественными последствиями самой сущности того
характера, какой получило большинство их вследствие влияния
обстоятельств, тяготевших над целым их поколением.
Разумеется, были и есть в этом поколении люди, которые вовсе не
подходят под общую норму, нами указанную. Таков был Белинский;
таковы были еще пять-шесть человек, умевших довести в себе
отвлеченный философский принцип до реальной жизненности и истинной,
глубокой страстности. Это люди высшего разбора, пред которыми с изу-
424
H. A. Добролюбов
млением преклонится всякое поколение. Кроме их, были и другие
сильные люди, умевшие на всю жизнь сохранить «святое недовольство» и
решившиеся продолжать свою борьбу с обстоятельствами до истощения
последних сил. Эти люди почерпнули жизненный опыт в своей
непрерывной борьбе и умели его переработать силою своей мысли; поэтому
они всегда стояли в уровень с событиями, и как только явилась им
опять возможность действовать, они радушно и вполне сознательно
подали руку молодому поколению. Они доселе сохранили свежесть и
молодость сил, доселе остались людьми будущего, и даже гораздо больше,
нежели многие из действительно молодых людей нашего времени...23
Есть в предыдущем поколении и другие исключения из
определенной нами нормы. Это, например, те, суровые прежде, мудрецы, которые
поняли наконец, что надо искать источник мудрости в самой жизни,
и вследствие того сделались в сорок лет шалунами, жуирами и стали
совершать подвиги, приличные только двадцатилетним юношам,— да,
если правду сказать, так и тем неприличные 24. Но об исключениях
такого рода распространяться не стоит.
Совсем не так отнеслось к вопросам жизни молодое поколение
(разумеем хороших его представителей). От пожилых людей обыкновенно
рассыпаются ему упреки в холодности, черствости, бесстрастии.
Говорят, что нынешние люди измельчали, стали неспособны к высоким
стремлениям, к благородным увлечениям страсти. Все это, может быть,
чрезвычайно справедливо в отношении ко многим, даже к большинству
нынешних молодых людей; мы их вовсе не думаем — ни возвышать, ни
даже оправдывать. Нам это вовсе не нужно, потому что название
молодого поколения мы не ограничиваем теперешними юношами, а
распространяем его и на тех, которые находятся еще в пеленках.
Молодые люди, уже заявившие себя на жизненном поприще, принадлежат
большею частию еще к промежуточному времени. Их еще смущает
принцип, а между тем жизнь уже сильнее предъявляет над ними свои права,
нежели над людьми прошлого поколения; оттого' они часто и шатаются
в обе стороны и ничему не могут отдаться всей силой души. Но за
ними, и отчасти среди них, виднеется уже другой общественный тип,
тип людей реальных, с крепкими нервами и здоровым воображением.
Благодаря трудам прошедшего поколения принцип достался этим
людям уже не с таким трудом, как их предшественникам, и потому они
не столь исключительно привязали себя к нему, имея возможность и
сылы поверять его и соразмерять с жизнью. Осмотревшись вокруг себя,
они, вместо всех туманных абстракций и призраков прошедших
поколений, увидели в мире только человека, настоящего человека,
состоящего из плоти и крови, с его действительными, а не фантастическими
отношениями ко всему внешнему миру. Они в самом деле стали мельче,
если хотите, и потеряли ту стремительную страстность, которою отли-
Литературные мелочи прошлого года
425
чалось прошлое поколение; но зато они гораздо тверже и жизненнее.
Не говорим о фанатиках, которые всегда были и будут как исключение;
но в общей своей массе молодые люди нынешнего поколения
отличаются спокойствием и тихою твердостью. Это происходит в них прежде
всего, разумеется, оттого, что нервы еще не успели расстроиться. Но
есть и другая причина: они спустились из безграничных сфер
абсолютной мысли и стали в ближайшее соприкосновение с действительной
жизнью25. Отвлеченные понятия заменились у них живыми
представлениями, подробности частных фактов обрисовались ярче и отняли
много силы у общих определений. Люди нового времени не только поняли,
но и прочувствовали, что абсолютного в мире ничего нет, а все имеет
только относительное значение. Оттого для них невозможно увлечение
сентеницями, подобными, например, следующим: «pereat mundus et fiât
justitia» *; «лучше умереть, нежели солгать хоть раз в жизни»; «лучше
убить свое сердце, чем изменить хоть однажды долгу супружескому,
или сыновнему, или гражданскому», и т. д. Все это для них слишком
абстрактно и слишком мало имеет значения. На первом плане всегда
стоит у них человек и его прямое, существенное благо; эта точка
зрения отражается во всех их поступках и суждениях. Сознание
своего кровного, живого родства с человечеством, полное разумение
солидарности всех человеческих отношений между собою — вот те
внутренние возбудители, которые занимают у них место принципа. Их
последняя цель — не совершенная, рабская верность отвлеченным высшим
идеям, а принесение возможно большей пользы человечеству; в их
суждениях люди возвышаются не по тому, сколько было в них сокрыто
великих сил и талантов, а по тому, сколько они желали и умели сделать
пользы человечеству; не те события обращают на себя особое внимание,
которые имеют характер грандиозный или патетический, а те, которые
сколько-нибудь подвинули благосостояние масс человечества. Таким
образом, стремления людей новых, ставши гораздо ближе к жизни и к
людям, естественно принимают характер более мягкий, осторожный, более
щадящий, нежели бьющий. Не мудрено, разумеется, проскакать во всю
конскую прыть по чистому полю; но ежели вам скажут, что на дороге
в разных местах лежат и спят ваши братья, которых вы можете
растоптать, то, конечно, вы поедете несколько осторожнее. Руководясь
только принципом, требовавшим скорейшего прибытия к цели, можно
бы, конечно, сказать: «А кто им велит спать на дороге? Сами
виноваты, если будут растоптаны!» Но человек новых стремлений отвечает
на такое замечание: «Разумеется, они глупы, что спят на дороге и
мешают свободной езде; но что же делать, если они так глупы? Надобно
над ними остановиться, пробудить и вразумить их; а ежели не послу-
* «пусть гибнет мир, лишь бы торжествовало правосудие» (лат.).— Ред.
426
H. A. Добролюбов
шают, то придется силою оттащить в сторону от проезжей дороги». Так
обыкновенно и поступают эти люди; мудрено ли же, что в них не
заметно той стремительности, какая отличала людей, руководившихся
только принципом?
Кроме всего этого, прибавилась у молодых поколений и опытность,
которой так недоставало прежним. Люди нового времени приняли от
своих предшественников их убеждения, как готовое наследие; но тут же
они приняли и жизненный урок их, состоящий в том, что надрывание
себя вовсе не есть доказательство великой души, а просто признак
нервного расстройства. Прежние молодые люди постоянно ставили себя
в положение шахматного игрока, который желает сделать
своему противнику знаменитый трехходовый мат. Всем игрокам этот мат
известен и носит у них даже название «казенного»; следовательно,
обмануть им кого бы то ни было довольно трудно. Но неопытные новички
в шахматах все-таки на него иногда рассчитывают и с первых же
ходов расстраивают свою игру. Нынешние молодые люди считают нелепым
фарсом даже удачу этого рода; они хотят вести правильную, серьезную
игру и потому считают вовсе не нужным с первого же разу выводить
слона и ферязь, чтобы на третьем ходе дать шах и мат королю. Они,
наверное, рассчитывают, что это только повредит их игре, и потому
подвигаются понемножку, заранее обдумав план атаки и беспрестанно
следя за всеми движениями противника. Они также добьются своего
шаха и мата; но их образ действий вернее, хотя вначале игра и не
представляет ничего блестящего и поразительного 26.
Вообще молодое, действующее поколение нашего времени не умеет
блестеть и шуметь. В его голосе, кажется,, нет кричащих нот, хотя и
есть звуки очень сильные и твердые. Даже в гневе оно не кричит; тем
менее возмежен для него поривыстый крик радости или умиления. За это
его упрекают обыкновенно в бесстрастии и бесчувственности, и
упрекают несправедливо. Дело очень просто объясняется его взглядом на
ход событий и на свои отношения к ним. Признавая неизменные
законы исторического развития, люди нынешнего поколения не возлагают
на себя несбыточных надежд, не думают, что они могут по произволу
переделать историю, не считают себя избавленными от влияния
обстоятельств. Таким образом, ясное сознание своего положения не допускает
их входить в азарт и убиваться из пустяков. Но в то же время они
вовсе не впадают в апатию и бесчувственность, потому что сознают
и свое значение. Они смотрят на себя как на одно из колес машины,
как на одно из обстоятельств, управляющих ходом мировых событий.
Так как все мировые обстоятельства находятся в связи и некотором
взаимном подчинении, то и они подчиняются необходимости, силе
вещей; но вне этого подчинения — они никаким кумирам не поклонятся,
они отстаивают самостоятельность и полноправность своих действий про-
Литературные мелдчи прошлого года
427
тив всех случайно возникающих претензий. Предоставляя другим
кричать, гневаться, плакать и прыгать, они делают свое дело ровно и
спокойно, плачут и прыгают, когда приводит к этому сила событий, но
не делают ни одного лишнего движения по своему капризу, а если
и сделают что лишнее, то не гордятся этим, а прямо сознаются, что
сделали лишнее. Они — актеры, хорошо вошедшие в свою роль
житейской комедии; они делают то, чего требует роль, и не выходят из нее,
несмотря на все беснованья, хлопанье, свист и стук партера... Пусть
праздные зрители бесятся: актеру нет надобности покрывать их крик
своим голосом. Он переждет немного, потом опять станет продолжать
свою роль: стихнут же они наконец, если хотят его слушать.
Мы, однако, занесли такую аллегорию, что не знаем, как и добраться
обратным путем до литературных мелочей... Чтобы не сделать одного
из тех смешных прыжков, которых возможность отрицали в молодом
поколении, мы решаемся оставить самый разбор мелочей до следующего
месяца. Теперь же мы прибавим лишь несколько слов в оправдание
длины наших рассуждений. Мы хотели откровенно и серьезно
объясниться с людьми, которых мы уважаем, но над маленькими слабостями
которых не можем не посмеяться. Вот почему мы сочли нужным так
пространно и обстоятельно изложить наши понятия о различии, какое мы
делаем между прошлым и нынешним поколением. После наших
объяснений должно быть понятно, кажется, почему наши собственные
симпатии обращены к будущему, а не прошедшему и почему нам и всей
молодой, свежей публике кажутся так мелки и смешны декламации
пожилых мудрецов об общественных язвах, адвокатуре, свободе слова
и т. д. и т. д. Во многом сходясь с пожилыми мудрецами, молодое
общество не сходится с ними в основном тоне: оно желает вести
серьезную речь об адвокатуре, гласности и пр., но только считая их не более
как средствами, при которых можно прийти к другим, высшим целям.
Пожилые мудрецы, напротив, рассуждают о них так, как будто видят
в них цель, далее которой ничего уже не остается... И вот отчего все
их возгласы так забавны, все их стремления так поражают своей
мелкостью и близорукостью...
В следующей статье мы укажем некоторые подробности того, каким
образом до сих пор умела литература наша отнестись к вопросам,
заданным ей жизнью. Теперь же пока представим читателям только
«résumé» прекрасных мыслей, в последнее время постоянно
высказывавшихся в нашей литературе. Вот каковы были эти мысли и вот как они
высказывались:
«В настоящее время, полное радостных и благодатных надежд, когда
отрадно восходит на нашем гражданском горизонте прекрасная заря
светлого будущего, когда мудрые предначинания повсюду представляют
новые залоги народного благоденствия,— каждый день, каждый час, каж-
423
H. A. Добролюбов
дое мгновение этого великого движения имеет глубоко знаменательный
смысл в великой книге великих судеб нашего великого отечества,
нашей родной России. Неизгладимыми чертами высечено будет настоящее
время на нерукотворных скрижалях истории. Как бы по манию
волшебного жезла, мгновенно пробудился русский исполин и, стряхнув
с себя дремотную лень, успел с быстротою, беспримерною в истории
веков и народов, совершить то, чего только тяжкими вековыми
усилиями мог достигнуть дряхлеющий Запад. Едва только кончилась
беспримерная в летописях мира борьба, в которой русская доблесть и
верность стояла против соединенных усилий могущественных держав
Запада, вспомоществуемых наукою, искусством, богатством средств,
опытностию на морях и всею их военного и гражданскою организацией,—
едва кончилась эта внешняя борьба под русскою Троею —
Севастополем, как началась новая борьба — внутренняя — с пороками и
злоупотреблениями, скрывавшимися доселе под покровом тайны в стенах
канцелярий и во мраке судейских архивов. Грозный бич сатиры поразил
освященное давностию зло, пламенник карающего обличения озарил
ярким светом все злое и недостойное. Общественное сознание пробудилось,
р.сякий принес свою лепту на общее дело, всякий напрягал свои силы
для поражения гидры гражданских злоупотреблений, и
заслуженный успех доблестных деятелей, явившихся глашатаями правды и
добра, ясно доказал зрелость нашей общественной среды и ее горячее
сочувствие ко всем духовным интересам народа. Общество в самых
дремлющих его слоях получило могущественный нравственный толчок, и
усиленная умственная деятельность, воспрянув от долгого сна, закипела на
всем необъятном пространстве России; все живые силы народа
устремились на служение великому делу родного просвещения и
совершенствования. В то же время усвоение Россиею плодов европейской
цивилизации открыло ей новую арену для полезной и разумной
деятельности в сфере промышленного развития и материальных улучшений.
В то самое время, как «Морской сборник» поднял вопрос о воспитании
и Пирогов произнес великие слова: «Нужно воспитать человека!»,—
в то время, как университеты настежь распахнули двери свои для
жаждущих истины, в то время, как умственное движение в литературе,
преследуя титаническую работу человеческой мысли в Европе,
содействовало развитию здравых понятий и разрешению общественных
вопросов:—в это самое время сеть железных дорог готовилась уже покрыть
Россию во всех направлениях и начать новую эру в истории ее путей
сообщения; свободная торговля получила могущественное развитие с
понижением тарифа; потянулась к нам вереница купеческих кораблей и
обозов; встрепенулись и зашумели наши фабрики; пришли в
обращение капиталы; тучные нивы и благословенная почва нашей родины
нашли лучший сбыт своим богатым произведениям. Вместе с тем поло-
Литературные мелочи прошлого года
429
жено прочное основание многим общественным реформам, многим
благотворным нововведениям, под эгидою которых должно развиваться,
зреть и возрастать народное благоденствие. Теперь уже снимаются с
народа оковы, и открывается ему широкое поприще свободного труда;
всюду водружается знамя гласности; в определенных размерах
допущена свобода печатного слова, как благородного выражения общественного
мнения; заговорили о магистратуре и адвокатуре, высказано несколько
теплых слов о преобразовании полиции, провозвещен недалекий конец
прежней системы питейных откупов... С гордым благоговением (если
можно так выразиться) оглядываешься назад — и немеешь мыслиюпред
величием пути, пройденного нами в последние три года, пред необъятной
громадностью всего, чего успело коснуться в это время веяние новой
жизни. И все это — только еще начатки! Каково же будет
совершение!..» 27
Мы не скажем читателю, откуда извлекли эту тираду; но, верно,
каждый из современных литературных деятелей, прочитав ее, признается,
что тут и его «хоть капля меду есть»...28
II
— Я уже мигаю Лукьяну Федосеичу, чтоб
он козырял,— нет... А ведь тут только
козырни,— валет мой пик и берет...
— Позвольте, Иван Петрович,— валет не
берет.
гоголь29
Колоссальная фраза, выработанная в последние годы нашими
публицистами и приведенная нами в конце прошедшей статьи, составляет еще
не самую темную сторону современной литературы. Оттого наша первая
статья имела еще характер довольно веселый. Но теперь, возобновляя свои
воспоминания о прошлом годе, чтобы выставить на вид несколько
литературных мелочей, мы уже не чувствуем прежней веселости: нам
приходится говорить о фактах довольно мрачных.
Прежде всего должны мы отметить главную' ложь, в которой
литература наша проявила свою мелочность. Ложь эта состоит в высоком
мнении литературы о том, что она сделала. Почитаешь журнальные
статейки, так иногда и в самом деле подумаешь, что литература у нас —
сила, что она и вопросы подымает и общественным мнением ворочает...
А на деле ничего этого нет и не бывало: литература у нас постоянно, за
самыми ничтожными исключениями, до настоящей минуты шла не впе^-
430
H. A. Добролюбов
реди, а позади общества. Говоря это, мы вовсе не имеем в виду той
теории, по которой литература должна непременно похищать с неба огонь,
подобно Прометею, и сообщать его людям. Нет, мы просто разумеем
литературу как выражение общества и народа, и в этом смысле наши
требования от нее очень невелики. Потребности общественные возникают
вследствие известных жизненных фактов; толпа долго смотрит на эти
факты, не осмысливая их значения. Тут-то и есть настоящая работа для
литературы. Люди умные, люди пишущие стараются схватить на лету
первый проблеск новых потребностей, стараются подметить, собрать,
разъяснить факты, в которых заключается зародыш нового движения,
дать ему должное направление, указать его прямые последствия. После
такого рассмотрения идей в литературе они становятся сознательным
достоянием массы и уже легко и правильно могут выражаться.в
административной деятельности государства и в нравственном направлении
частных лиц. Так обыкновенно и делается в литературах более развитых;
по журнальным возгласам можно бы было подумать, что так и у нас
делалось в последнее время. Но журнальные возгласы совершенно
несправедливы в своей надменности. Просматривая журналы наши за последние
годы, вы ясно увидите, что все наши общественные потребности и
стремления прежде находили себе выражение в административной и частной
экономической деятельности, а потом уже (и нередко — долго спустя)
переходили в литературу. Из всех вопросов, занимавших наше общество
в последнее время, мы не знаем ни одного, который действительно был
бы поднят литературою; не говорим уже о том, что ни один не был ею
разрешен. И в этом, самом по себе, нет еще ничего дурного: юной
литературе, как и всякому юноше, прилична скромность. Многим (и нам в том
числе) даже очень приятно было видеть, с какою робкою осторожностью
приступали наши писатели ко всякому новому предмету, как боязливо
осматривались,— не зная, хорошо ли будут приняты их слова,— как
взвешивали и размеривали свою речь, приберегая себе лазейку на всякий случай.
Мы радовались образцовой умеренности и аккуратности нашей
литературы и очень хорошо понимали ее причину. Мы понимали, что там, где
литература есть занятие кружков и где она назначается лишь для нескольких
избранных, называемых образованным обществом,— там она не может
быть вполне уверенной в себе. В том, что касается отдельных кружков
и исключительных надобностей образованного класса, она еще может
возвышать свой голос. Но чуть только вопросы расширятся, чуть дело
коснется народных интересов, литература тотчас конфузится и не знает, что
ей делать, потому что она не из народа вышла и кровно с ним не связана.
В этих случаях она по необходимости ждет, пока общественное мнение
ясно выскажется или пока государственная власть вмешается в дело. Тогда
уже и писатели решатся раскрыть рот. Все это совершенно естественно
и понятно, и мы не стали бы упрекать нашей литературы за ее отста-
Литературные мелочи прошлого года
431
лость, если бы она сама сознавала свое бессилие, свою юность и свое
подчиненное, а не руководящее положение в обществе. Но публицисты
наши гордятся чем-то; они полагают, что в литературе есть какая-то
инициатива. Поэтому мы находим нужным представить им несколько фактов
для смирения их гордости. Для этого далеко ходить нечего: стоит только
перебрать важнейшие вопросы, занимавшие нашу литературу в последнее
время.
Первый из общественных вопросов, вызвавших толки в нашей
литературе, был, сколько мы помним, вопрос о железных дорогах. Но как вы
думаете —с чего началось дело? Совестно сказать: с «Times'a». Первое,
что ободрило наши журналы писать о железных дорогах, было
сообщение напечатанного в «Times'e» известия о рижско-дииабургской
железной дороге. Это было в начале 1856 года. Оказалось, что рижско-дп-
набургская дорога была разрешена еще в 1853 году, а в сентябре 1855
года уже учрежден был комитет вообщ,е для определения условий
относительно сооружения железных дорог России частными компаниями. Дело
рижской дороги приостановлено было войною; но как только мир был
заключен, немедленно явилось на лондонской бирже объявление об акциях
рижско-динабургской железной дороги. Узнавши об этом, и наши
журналы начали толковать о железных дорогах; но и тут едва ли не ранее
всех приняли участие в деле официальные журналы— Путей сообщения
и Министерства государственных имуществ. По крайней мере одна из
первых статей по этому предмету была «О пользе железных дорог для
перевозки земледельческих произведений», помещенная в № 1 «Журнала
Мршистерства государственных имуществ», 1856 год. Прочие же журналы
уже спустя несколько месяцев принялись рассуждать об этом, и
расходились только к концу года, когда правительственным образом решалось
дело о постройке у нас новых дорог иностранным обществом, которое и
утверждено в январе 1857 года. Как видите, вопрос о железных
дорогах довольно поздно сделался достоянием литературы. Странно, почти
необъяснимо, что даже о такой простой и невинной вещи, как железные
дороги, литература не догадалась заговорить прежде, чем постройка их
решена была правительственным образом; но эта недогадливость или
робость литературы —факт несомненный. Всякий, кто читает журналы
наши не со вчерашнего дня, припомнит, что до 1856 года литература
ограничивалась на этот счет только тонкими намеками, что нам нужны
хорошие пути сообщения и что железные дороги суть хорошие пути
сообщения.
Одновременно с вопросом о железных дорогах поднялся в литературе
вопрос о воспитании. Вопрос этот так общ, что и в прежнее время
нельзя было не говорить о нем, и действительно, даже в самое глухое время
нашей литературы нередко появлялись у нас книжки и статейки: «О
задачах педагогики как науки», «О воспитании детей в духе христианского
432
Я. А. Добролюбов
благочестия», «Об обязанности детей почитать родителей» и т. п. Но с
1856 года рассуждения о воспитании отличались несколько особенным
характером. В них проводились следующие главные мысли: «Общее
образование важнее специального; нужно главным образом внушать детям
честные стремления и здравые понятия о жизни, а техника всякого рода,
формальности и дисциплина — суть дело второстепенное; в раннем
возрасте жизни важно семейное воспитание, и потому жизнь в закрытых
заведениях вредно действует на развитие детей; воспитатели и начальники
учебных заведений должны знать свое дело и заботиться не об одной
чистоте зданий и соблюдении формы воспитанниками». Все эти высокие,
хотя далеко не новые, истины беспрестанно пересыпались, разумеется,
не менее основательными рассуждениями о том, что просвещение лучше
невежества, что уменье танцевать и маршировать не составляет еще
истинной образованности, и т. п. Все это было прекрасно; но кто жа/
поднял этот важный вопрос, кто обратил на него общее внимание? Все
помнят, что дело началось с «Морского сборника», официального
журнала, не случайно, а намеренно выдвинувшего на первый план статьи о
воспитании, печатно просившего присылать к нему такие статьи
отовсюду. Статья г. Бема о воспитании помещена была в 1 № «Морского
сборника» за 1856 год, и долго после того журнальные статьи по этому
предмету писались: «По поводу статьи г. Бема», до тех пор, пока не
явилась в «Морском» же «сборнике» статья г. Пирогова; тогда стали
писать: «По поводу «Вопросов жизни»» и начинать словами: «В
настоящее время, когда вопрос о воспитании поднят «Морским сборником» и
когда Пирогов высказал столь ясный взгляд на значение образования»,
и пр. Значит, и тут нельзя сказать, чтоб инициатива дана была
литературой собственно. Но заслуга ее представится нам еще менее
значительною, когда мы проследим ее параллельно с административными
распоряжениями по учебным ведомствам. Известно, что вопрос об общем и
специальном образовании разрешен был правительственным образом в
пользу общего образования еще в половине 1855 <года>. Экстерны в
военно-учебных заведениях, преобразование Артиллерийской и Инженерной
академий, предположение об уничтожении низших классов в некоторых
корпусах сделаны были раньше, нежели хоть один голос поднялся в
литературе против специального образования. Печатать об этом статьи
стали уже тогда, когда вопрос был значительно выяснен не только в
общественном сознании, но даже и в административных распоряжениях.
Так было и во всем, относящемся к воспитанию и образованию.
В ноябре 1855 года разрешен был прием неограниченного числа
студентов в университет; вследствие этого в 1856 году увеличилось
количество университетских студентов, и когда обнародован был отчет
министерства просвещения за этот год, то в литературе появилось несколько за-
Литературные мелочи прошлого года
433
меток о пользе возможно большего расширения университетского
образования...
В декабре 1855 года учреждены были особые попечители в тех
округах, где прежде эта должность соединена была с генерал-губернаторскою.
В феврале 1856 года повелено назначать в гражданских закрытых
учебных заведениях воспитателей не из военных. В марте отменено
преподавание военных наук в гимназиях и университетах. Все эти меры
вызывали сочувствие литературных деятелей, и они, обыкновенно выждавши
несколько месяцев, считали долгом высказать свое мнение о пользе того,
что сделано. Таким образом, в продолжение 1857 года (отчасти и в
1856 году, но очень мало) было высказано много дельных мыслей о
том, что начальник училища не есть администратор, что
воспитатель должен смотреть не за одной только выправкой воспитанников,
и пр.
То же самое было и во всех других частностях. В половине 1856 года
стали говорить о необходимости общения нашего с Европой. Сначала это
говорилось довольно неопределенно, в общих чертах, мимоходом, по
поводу споров с «Русскою беседой» о народности30, потом прямее высказали,
что нам теперь нужно заимствовать многое от просвещенного Запада;
наконец как-то в конце года, кажется по поводу статьи г. Григорьева о
Грановском31, решительно было высказано, что молодым ученым нашим
полезно ездить учиться за границу. Но это говорилось уже в конце года,
между тем как посылка молодых людей за границу была разрешена
правительством еще в марте.
В прошлом году по части просвещения были в ходу у нас особенно
два вопроса: об изменениях учебной части в университетах и гимназиях
и о женских школах. Что же, сама ли литература додумалась наконец
до этих вопросов? Вовсе нет. Первая статья г. Бунге об университетах,
после которой литература приняла в вопросе несколько живое участие,
напечатана в «Русском вестнике» в апреле прошлого года 32; а
правительственное определение о необходимости преобразований в
университетах и гимназиях составилось еще в 1856 году! Преимущественно с этой
целью учрежден в мае 1855 года ученый комитет при главном правлении
училищ, и в отчете министра просвещения за 1856 год указываются уже
многие недостатки учебной части и меры к их исправлению. С женскими
училищами то же самое. В конце 1857 года в первый раз заговорили о
женских институтах и вообще об образовании девиц среднего сословия;
во все течение прошлого года продолжались статьи об этом предмете,
преимущественно по поводу вновь открываемых женских училищ. Нельзя
не сказать, что и тут литература наша опоздала. Еще в отчете министра
просвещения за 1856 год мы читали, что так как «лица среднего
состояния, особенно в губернских и уездных городах, лишены возможности дать
дочерям своим даже скромное образование», то министерство и составило
28 Н. А. Добролюбов
434
H. A. Добролюбов
«предположение об открытии школ для девиц в губернских и уездных
городах и в больших селениях». Вслед за этим предположением приступлено
было тогда же и к «соображениям об устройстве таковых школ на первый
раз в губернских городах, по мере способов, какие могут к тому
представиться. В прошлом году предположения перешли уже в
действительность: основано было много женских открытых школ, не только
правительством, но даже и частными лицами. А литература только что начала
говорить о их пользе и надобности!
Не менее жалкая роль выпала на долю литературы и в толках об
экономических улучшениях. Первое пробуждение у нас экономических
интересов выразилось в спорах о свободе торговли. Первая статья о ней
явилась в апреле 1856 года, под заглавием «О внешней торговле». Статья
эта не была самостоятельным голосом русского журнала, в котором
явилась: в ней передавались данные из книги Тенгоборского (собиравшего
сведения официальным образом), с замечаниями г. Вернадского,
явившегося поборником свободы торговли33. Но все-таки, читая статью, можно
было подумать, что вот возбуждается вопрос новый и важный,
долженствующий войти в общественное сознание и побудить к чему-нибудь
государственную деятельность. Так некоторые и подумали и вследствие
того восстали на г. Вернадского, как на человека, не любящего
отечество и противящегося властям, которые будто бы и не думают о
свободе торговли. Но г. Вернадский блистательно оправдался от всех
обвинений. В ответе своем противникам34 он привел до двадцати
статей из «Свода законов», из которых видно, что отстранение стеснений
Ео внешней торговле постоянно было в видах правительства; кроме того,
он сослался на понижение тарифа в 1850 и 1854 годах, указал на
несколько частных постановлений о понижении пошлин, намекнул даже на
то, что готовится новый тариф, еще более пониженный, словом —
доказал, что он в своей статье повторял только то, что уже давно решено
правительственным образом. И действительно:, ответ г. Вернадского
появился в начале июня 1856 <года>, и в начале того же июня объявлено
было повеление о новом пересмотре тарифа.
То же было с внутренней торговлей и промышленностью. Когда в
обществе не только почувствовалась потребность нового промышленного
движения, но даже и формулировалась она в различных предприятиях и
компаниях, тогда и в журналах явились статьи о промышленных
предприятиях, о биржевых операциях и пр. Ранее же окончания войны, после
которой оживилась наша промышленность, и об этом ничего не было
писано... А между тем нельзя сказать, чтоб в публике и раньше того не
было сочувствия к вопросам промышленности: в последние три года
страсть к акциям, по уверению некоторых, дошла у нас до ажиотажа;
в акционерных компаниях теперь уже обращается до 500 мильонов
капитала; неужели же все это и родилось и выросло только с 1856 года?..
Литературные мелочи прошлого года
435
При таком бессилии литературы даже в интересах частной
деятельности, трудно предположить, разумеется, чтобы она выказала особенную
силу в административных вопросах. А между тем здесь-то она и показала
себя. Преследование взяток и чиновных злоупотреблений до сих пор
составляет главнейший предмет гордости наших публицистов, беллетристов
и даже поэтов. Как же это могло случиться? Откуда писатели наши
взяли силы для восстания против чиновников и взяток? Да все оттуда
же — из правительственных распоряжений. Припомните, кто и когда был
основателем юридической беллетристики, кто поднял в литературе
вопросы о злоупотреблениях чиновников. То был Щедрин, которого первые
очерки появились в августе 1856 года35. Переберите правительственные
акты 1855 г. и 1856 годов, и вы убедитесь, что это было уже очень, очень
поздно. Еще в отчете министра внутренних дел за 1855 год мы читали
следующее: «Что касается до служебной нравственности чиновников, то
хотя она и не всегда соответствует видам правительства, но улучшение
ее может быть достигнуто не иначе, как посредством улучшения общей
народной нравственности». Вместе с этим отчетом сделался известен
циркуляр министра, еще от 14 мая 1855 года, в котором говорилось, что,
при настоящем положении дел, «работа чиновников производит
результаты совершенно неудовлетворительные». Подобный же циркуляр
написан был в январе 1856 года министром государственных имуществ. Он
говорит, между прочим, о том, что мог иногда (хотя только в редких
случаях) «ошибаться в выборе должностных лиц и встречать со стороны
некоторых неисполнительность и даже нарушение обязанностей. В
заключение министр замечает, что «в обширном кругу предназначенных для
министерства обязанностей многое еще остается делать». Та же
благородная мысль выражалась неоднократно в требованиях правительства,
чтобы при составлении отчетов не скрывали недостатков управления. При
таких поощрениях даже совестно было бы, кажется, литературе не
подняться тотчас же на злоупотребления; но она и тут еще ждала целый
год... А между тем, даже если бы ничего другого не было, ей могли бы
придать смелости уже одни эти слова, снакомые всей России из
манифеста 19 марта 1856 года: «Правда и милость да царствуют в судах;
каждый, под сению законов, всем равно покровительствующих, для всех
равно справедливых, да наслаждается в мире плодом трудов невинных».
А литература и после этого еще не вдруг осмелилась восстать против
неправды и беззакония!..
«Но в литературе не только взяточничество обличалось, а делались,
кроме того, указания на недостатки настоящей организации судебных
и административных учреждений, на неудобства полицейского устройства
и пр. Тут уже литература подымалась выше своей обыкновенной роли,
показывала более самостоятельности, и за то справедливо может
гордиться своими заслугами». Нет, и здесь опять та же самая история:
28*
436 Я. А. Добролюбов
мысль о судебных преобразованиях пущена в ход в литературе потому
только, что она давно созрела и приводится в исполнение в
законодательстве. Мы помним, что первая или одна из первых статей о полиции,
обративших на себя общее внимание, начиналась ссылкою на «Le Nord»,
в котором напечатано было известие о готовящемся у нас
преобразовании полиции 36. Да и, кроме того, в отчете министра внутренних дел за
1855 год, в то время, когда в литературе никто не смел заикнуться о
полиции, прямо выводилось следующее заключение из фактов
полицейского управления за тот год: «Настоящая картина указывает на
необходимость некоторых преобразований в полицейской части, тем более что
бывают случаи, когда полиция затрудняется в своих действиях по
причине невозможности применить к действительности некоторые
предписываемые ей правила. При огромном числе чиновников невозможно иметь их
всех хороших, существующее же число их необходимо при настоящем
направлении всех вообще дел, в особенности же полицейских; ибо в
настоящее время господствует везде преобладание форм и бумажного
производства, нередко в ущерб самому делу. Упрощением обрядов
делопроизводства можно достигнуть уменьшения числа должностных лиц, и
тогда начальства будут иметь более возможности из среды многих
соискателей избрать немногих, но достойных людей». После этого тотчас же
можно было бы, кажется, приняться писать и «Два слова о полиции», и
«О непродуктивности многописания», и т. д. Но литература нагла взялась
за эти вопросы не ранее 1857 года.
Был еще общественный вопрос, поднятый литературою в прошлом
году,— вопрос об откупах. О них мы не будем распространяться, потому
что в «Современнике» прошлого года об откупах было довольно писано.
Напомним читателям, между прочим, статью г. Панкратьева об откупной
системе 37. Автор ее изумляется, с какой стати вдруг литература
набросилась на откупа, которых прежде не трогала, хотя зло от них было не
менее сильно; а дело объясняется просто: в начале прошлого года уже
решено было падение нынешней откупной системы,— вот литераторы и
принялись за нее... А до этого об откупах осмеливался кричать только
г. Кокорев...38
Остается вопрос, которым с начала прошлого года мгновенно
наполнились не только все журналы, но и вся земля русская,— вопрос об
освобождении крестьян. Насколько участвовала литература в возбуждении
этого вопроса? Мы думаем, что ни насколько. Конечно, нам могут привести
длинный ряд выписок, из которых будет видно, что в литературе нашей
постоянно высказывалось нерасположение к крепостному праву, начиная
по крайней мере с половины прошлого столетия. Но мы вовсе и не
восстаем против благонамеренности- наших литературных стремлений; мы
хотим только показать, как они ничтожны. И чем более будут нам
доказывать, что литература всегда имела благое стремление говорить против
Литературные мелочи прошлого года
437
крепостного права, тем более мы будем убеждаться в ее слабости и
ничтожности. Что же она сделала с своими добрыми намерениями и
желаниями? Пересмотрите наши журналы хоть за последние десять лет: чем
они наполнены? В целый год едва ли два-три слабых намека найдете вы
на необходимость освобождения крестьян. Несколько яснее сделались эти
намеки с 1856 года, да и то сначала держались всё только в
сельскохозяйственной сфере; и едва ли не первый заговорил прямо о крепостном
праве — а. Бланк, поместивший в «Трудах экономического общества»
(№ 6, 1856) свой дифирамб русским помещикам. Скромным возражением
ему г. Безобразов приобрел репутацию благородного и смелого
публициста 39. Возражение появилось в августе 1856 года, а между тем отмене-
ние крепостного права решено было правительственным образом еще до
конца восточной войны. Многие правительственные действия уже
указывали в это время на то, что дело освобождения приближается. Еще в
1855 году определено было в имениях государственных имуществ, в
некоторых губерниях, переложение податей с души на землю; последовали
указы об улучшении быта крестьян, приписанных к Алтайским горным
заводам, потом — относительно крепостных в Закавказском крае, и пр.
В июле 1856 года утверждено было новое положение о крестьянах Эст-
ляндской губернии... Наконец, 3 января 1857 года учрежден уже был
Главный комитет по крестьянскому делу... А литература во все
продолжение 1857 года ограничивалась слабыми намеками да кое-какими
поучительными указаниями на другие страны... Только с февраля прошлого
года, после того как уже шесть губерний изъявили свое желание об
улучшении быта крепостных крестьян,— литература деятельно принялась
за крестьянский вопрос— да и то с какими колебаниями!.. Но о
колебаниях мы будем говорить ниже...
Кажется, мы перебрали все главнейшие вопросы, возбуждением
которых гордятся наши публицисты. Простое сопоставление фактов
литературы с фактами государственной деятельности могли убедить нас, что
публицисты гордятся напрасно. Каковы заслуги литературы нашей в других
отношениях, мы пока не говорим. Но ясно одно: что она не имеет ни
малейшего права приписывать себе инициативы — ни в одном из
современных общественных вопросов. Многим может не понравиться такое
заключение; но мы этого не боимся; факты наши слишком ясны, чтобы
из них можно было вывести другое заключение, нежели то, какое мы
видели. Мы желали бы только, чтобы наших слов не перетолковали
ложным образом, и потому хотим прибавить еще несколько объяснений.
Нас могут назвать противниками литературы и сказать, что мы
совершенно напрасно обвиняем ее. Но это будет несправедливо. Мы очень
хорошо понимаем, что быть противником литературы — значит быть
противником просвещения и прогресса. Мы даже и обвинять литературу
вовсе не думаем: мы просто выставляем факт, несомненный и ясный факт,
433
H. A. Добролюбов
никого не желая ни осуждать, ни восхвалять за него. Что же касается
до заключения, которое из него можно вывести,— оно может состоять
разве в том, что напрасно публицисты наши полагают, будто они под-
нимали общественные вопросы...
Возражений против нас может быть много, но мы заранее знаем их
содержание и считаем их совершенно безвредными для сущности нашего
мнения. Нам могут указать на множество причин, которые ставят
литературу в необходимость сдерживать свои благие порывы; могут
прибавить, что причины эти заключаются не во внутренней сущности
литературной деятельности и не в случайностях литературных дарований и
стремлений, а в обстоятельствах чисто внешних, зависящих от
несовершенств самого общества нашего...40 Все это может быть справедливо,
и мы готовы, пожалуй, без всяких ограничений принять подобное
возражение. Но оно приведет нас только к более резкому выражению нашего
мнения. Вместо фактического указания на то, что литература не имела
у нас инициативы в общественных вопросах, мы, принявши приведенное
возражение, должны будем сказать: литература у нас не может иметь
инициативы при современной организации и степени развития русского
общества...
«Но зачем же,— еще скажут нам,— клепать на литературу, относя к
ней то, что относится совсем к другим явлениям русской жизни? И
зачем требовать от нее того, чего сна не могла сделать,— по не
зависящим от нее обстоятельствам, как выражаются журналисты?» На это
опять тот же ответ: мы ничего не клепаем на литературу и не
предъявляем никаких требований. Мы твердим только одно: она ничего не сделала
и не имеет права гордиться тем, что поднимала серьезные
общественные вопросы. Нам нет надобности знать, какие великие таланты и какие
неодолимые силы заключаются в душах наших публицистов; мы судим
только о делах их и говорим, что дела эти до сих пор ничтожны. Когда
же вы нам указываете на невозможность действий более решительных и
важных,— мы и тут на вас не нападаем и тотчас же соглашаемся
прибавить: «Действия литературы и не могут быть не ничтожны при
современном состоянии, русского общества». Кажется, нас нельзя упрекнуть
в излишней придирчивости?
Самое сильное, что против нас могут сказать, может состоять в
следующем. «Напрасно вы берете отдельные явления литературы,— скажут
нам,— и рассматриваете их так отрывочно. Вникните в самый дух
литературы последнего времени, поймите общность ее стремлений, уловите
эту незримую струю, которая чувствуется в каждой журнальной повести,
в каждом фельетоне, в каждой газетной заметке, так же как и в
специальных ученых исследованиях и в серьезных произведениях,
отмеченных печатью сильного таланта. Во всем вы видите стремление вперед,
вперед, слышите несмолкающую проповедь движения, работы, публично-
Литературные мелочи прошлого года
439
сти, прогресса. Не в частности то или другое нововведение вызвано
литературою; но — что гораздо важнее — дух преобразований, общее
стремление к деятельности постоянно ею возбуждалось и возбуждается».
Возражение это имеет видимую основательность,— но только видимую. В
нем упущено из виду то, что не частные явления жизни и истории
вытекают из каких-то общих начал и отвлеченных стремлений, а сами-то
начала и стремления слагаются из частных фактов, определяются
частными нуждами и обстоятельствами. Поэтому, кто не может указать ни на
один определенный факт, им совершенный,— тот не должен говорить и
об общем значении своей деятельности. Мы видели, что литература не
возбудила общественной деятельности ни по одному из тех предметов,
которыми занято теперь общее внимание: пусть же не говорит она и
вообще, что возбуждала к деятельности. Ежели она все кричала только:
«вперед!» да «пора за работу!»,— так это значит, что она сильно
ударилась во фразу и к своей мелочности и слабости прибавила еще долю
пошлости. Если же она придает значение тем намекам, которые она
нередко делала насчет необходимости различных улучшений,— так она очень
ошибается. Мы не отнимаем у этих намеков некоторого значения в том
отношении, что они свидетельствовали о благонамеренности и добром
сердце наших писателей; мы их высоко ценим и в смысле
литературной сметливости. Доказательством тому служит эпиграф настоящей
статьи. Мы выбрали его именно затем, чтобы показать, что мигания литературы
не укрылись от нас... Но что же из этих миганий? Опять-таки сознание
своего бессилия. Если бы ход был Ивана Петровича, а не Лукьяна Федосеи-
ча, то и мигать не нужно бы было: это первое. Второе то, что мига-
нье Ивана Петровича легко было и не заметить или не понять: Лукьян
Федосеич и действительно не заметил его. А третье, наконец,— то, что
если бы Лукьян Федосеич и заметил и козырнул, то еще бог весть,
взял ли бы валет пик у Ивана Петровича. Иван Петрович думает, что
взял бы, но Александр Иваныч уверяет, что нет, потому что, говорит,
«у Лукьяна Федосеича была семерка, и никоим образом нельзя было бы
взять в руку...» Таким образом, дело оказывается очень сложным, и
разобрать его трудно...
После сделанных объяснений никто — мы надеемся — не станет с
нами спорить о том, что литература, при всей своей благонамеренности,
ревности, рассудительности и прочих качествах,— все-таки не может
ни в чем приписать себе инициативы, А согласившись с этим, читатели
признают справедливость и дальнейших выводов наших относительно
общественного значения нашей литературы. Если литература идет не
впереди общественного сознания, если она во всех своих рассуждениях
бредет уже по проложенным тропинкам, говорит о факте только после его
совершения и едва решается намекать даже на те будущие явления,
которых осуществление уже очень близко; если возбуждение вопросов со-
440
H. A. Добролюбов
вершается не в литературе, а в обществе, и даже возбужденные в
обществе вопросы не непосредственно переходят в литературу, а уже долго
спустя после их проявления в административной деятельности; если все
это так, то напрасны уверения в том, будто бы литература наша стала
серьезнее и самостоятельнее. Нет; — время стало серьезнее, общество
стало самостоятельнее — это может быть (хотя и то еще
требует поверки очень строгой) ; а литература относительно общества
осталась совершенно в том же положении, как и прежде. Ведь во все
времена, даже по чисто коммерческому расчету (не говоря о других
причинах), литература должна была говорить о том, что привлекает
публику. Был когда-то в славе Дюма: русские журналы украшались
романами Дюма. Нравились одно время стишки к девам и луне: литература
была запружена стишками. Вошла в моду мифология: пошли
литературные толки о классических и славянских божествах, пошли статейки о
значенье кочерги и истории ухвата. Поднялся восточный вопрос и потом
война: в литературе все оттеснено было на задний план статьями о
Турции и рассказами о русских подвигах в битвах со врагами. Кончилась
война, общество очнулось и потребовало изменений и улучшений;
изменения стали делаться административным порядком: и литература туда
же— принялась' говорить о прогрессе, о гласности, о взятках, о
крепостном праве, об откупах и пр. А окажись завтра, что в нашем обществе
стремление к улучшению было только минутным, легкомысленным
порывом, обратись общество опять к Дюма-сыну,— и в литературе воцарится
Дюма-сын, совершенно как полный хозяин. Можно, конечно, надеяться,
что этого не будет; но не будет только потому, что нашему обществу
трудно уже теперь своротить с своей дороги. Что же касается до
литературы, то она непременно последует за обществом: мы в этом твердо
убеждены, потому что прошедшие факты уже доказали нам, что
литература у нас не есть еще сила общественная, не есть жизненная
потребность нации, а все-таки потеха, как и прежде. Когда нам указывают на
новое направление литературы, на ее серьезно-сть, на ее влияние в
обществе — мы всегда припоминаем стих:
Тешится новой игрушкой дитя!..41
Больно нам при этом воспоминании; но что же делать? Литература до
сих пор так мало выказала признаков мужества, что поневоле
безнадежный стих припоминается при самых даже приятных, обнадеживающих
случаях...
Чтобы яснее показать, как еще мало серьезности приобрела наша
литература, мы хотим представить еще несколько указаний на то, что ею
сделано по вопросам, возбуждением которых она гордится и гордится,
как мы видели, напрасно.
Литературные мелочи прошлого года
441
Преимущественное внимание всех газет и журналов было в прошлом
году обращено на крестьянский вопрос. Как же он был веден в
литературе? Далеко не с тем достоинством, какого бы следовало ожидать. Мы не
говорим о тех отсталых людях, которые проповедывали status quo в этом
вопросе, как, например, гг. Григорий Бланк, князь Голицын, Николай
Безобразов и т. п. Против них восставали наши же журналы и газеты:
в этом надобно отдать литературе полную справедливость. Не говорим
и о той неровности, с которою шла разработка вопроса в литературе,
то останавливаясь, то начинаясь сызнова, то опять затихая: все это
могло быть следствием внешних и случайных причин. Нет, мы предлагаем
человеку, истинно любящему народ наш, перебрать все, что было в
прошлом году писано у нас по крестьянскому вопросу, и, положа руку на
сердце, сказать: так ли ж о том ли следовало бы толковать
литературе?.. Вспомним, что у нас долгое время дело стояло в том, что
свободный труд производительнее обязательного!.. Да и этой простой истины
не хотели понять многие!.. Затем литература все мешалась на том: нужно
ли выкупать душу или уж так отпустить на покаяние?.. Да ведь это не
в статьях Григория Бланка, не в «Печатной правде» 42,— а в «Русском
вестнике», например!.. Мы помним, что там было до десятка статей,
рассматривавших вопрос с той точки зрения, что получить выкуп за
душу было бы выгоднее для помещика, нежели не получать!.. На этом
основании один господин утверждал даже (в 14 № «Русского вестника»,
стр. 108), что в промышленных губерниях не следует отчуждать даже
усадьбы в собственность крестьян, потому что
крестьяне-промышленники разбредутся на промыслы, оставив в усадьбах жен своих, и «что
же тогда ожидает помещика?43 Продав в собственность, с выручкою в
определенный срок, положим даже дорогою ценою(!), усадебную землю, он
лишится затем всякого дохода от имения. Право собственности на имение'
превратится для него в право собственности на купчую крепость и планы,
по которым усадьбы, реки и дороги, то есть все производительное, от
него отчуждено. (То-то несчастный!) Могут возразить некоторые, что с
дозвслением перехода крестьян к нему явятся другие, не знающие
промышленности, и возьмут землю в аренду для обработки. Если это и
может случиться, то не иначе как только в отдаленном потомстве: ибо
земля в промышленных имениях по большей части недоброкачественна»,
и пр. ...«Но если даже помещик и сумеет найти средства обработывать
свою землю, то все-таки выручка от этой обработки далеко не достигнет
процентов на тот капитал, который он употребил на покупку имения;
ибо при покупке он имел в виду не столько хлебопашество, сколько
промышленность, за пользование которою крестьяне и платили помещику
значительный оброк». Так рассуждает в «Русском вестнике» г. Дмохов-
ский, и подобных суждений очень много найдется в почтенном журнале,
стяжавшем себе заслуженную репутацию прогрессивного и гуманного...
442
H. A. Добролюбов
Относительно выкупа личности в нем есть одно неподражаемое место, не
лишенное, впрочем, некоторого цинизма в выражении; оно находится в
проекте а. Власовского, который предлагает— прежде всего «ценность
ревизской мужеского пола души с усадьбою и огородом (уж лучше бы
огорода с усадьбою и душою!) определить по губерниям» («Русский
вестник», № 7, стр. 284). Но всех лучше рассуждает о выкупе
личности а. А. Головачев4*. Статья его (тоже в 7 № «Русского вестника»)
оканчивается так: «Нет, не со страхом и отчаянием должно смотреть на
наше будущее, но с твердым убеждением, что нам предстоит великая,
блестящая перспектива». И, как ручательство за славное будущее, г.
Головачев представляет в статье своей такого рода рассуждения:
«Освобождение крестьян, говорит, не может основаться на духовно-нравственном
чувстве, а должно иметь основанием право и законность» (стр. 252).
Как видите, право и законность противополагаются
духовно-нравственному чувству: из этого уже понятно, какая блестящая перспектива ожидает
нас! И действительно, вслед за тем г. Головачев говорит, что по силе
права (противного духовно-нравственному чувству) нужен непременно
выкуп личности. Об этом он рассуждает очень пространно. Вот его
слова:
«Мы разумеем выкуп не только поземельной собственности, но и
пользования трудом крестьянина. Нам скажут, что личный труд не может быть
собственностью. Теоретически это неоспоримо, и закон, не признающий
того, есть сам более факт, нежели право. Но при консервативной
реформе должно быть обращаемо внимание и на факт. Всем известно, что
труд крестьянина можно было помещику употреблять так, как ему было
угодно; можно было даже продавать и покупать людей, как вещи, и при
продаже и покупке имелись в виду не только физические, но и нравствен-
ные достоинства человека (что же из всего этого? читайте дальше!).
Что же это, как не собственность? Несмотря на желание прикрыть
благовидными словами горькую истину, она останется и в
законодательстве и на практике до тех пор, пока новый порядок не изменит
существующих отношений. Почему нам не сознаться в том, что есть
несправедливого в наших отношениях? Зло сознанное уже вполовину исправлено
(что за просвещенные афоризмы!). Вот почему (то есть почему же???),
думаем мы, не должно оставлять без внимания вопрос о выкупе
пользования трудом, а, напротив,— посвятить и этой стороне дела
тщательное изучение, в надежде уладить ее сколько возможно справедливее
без ущерба помещичьих интересов». (Вот оно, последнее-то слово в чем
заключается!!) (стр.256)...
Рассуждения г. Головачева вызвали возражение со стороны г. Ланге,
который в «Русском» же «вестнике» заметил защитнику помещичьих
интересов, что «личность крестьянина, по смыслу закона, не есть помещичья
собственность и не подлежит выкупу» (№ 14, стр. 140) 45. На это г. Го-
Литературные мелочи прошлого года
443
ловачев отвечал, опять в «Русском» же «вестнике», что г. Ланге не
понимает «точки зрения законодательства» (№ 19, стр. 124),— точь-в-точь, как
недавно было объявлено в «Искре» 46. Вместе с тем г. Головачев опирается
на то, что и г. В. В. в «Журнале землевладельцев»(!) выразил сочувствие
к его мнению,— значит, уж оно хорошо!..47 «Русский вестник» все это
печатал, как печатал и статьи г. Иванова, в которых выкуп личности
проводился по началам политической экономии 48; мало того — он сочинил по
поводу их длинную «Заметку», в которой защищал и г. Иванова и г.
Головачева, объясняя, что хотя, конечно, за душу брать выкупа не
следует, но труд крестьянина должен быть выкуплен (см. «Русский вестник»,
1858 г., № 19, стр. 180—193). В «Заметке» этой редакция, между прочим,
так выражается о статье г. Головачева: «Статья эта не могла бы вызвать
сильного протеста, если бы в ней не было случайно употреблено
выражение: выкуп личности». Скажите пожалуйста! Как будто во всех
вопросах можно протестовать против случайных выражений, подобно тому как
сделал это сам «Русский вестник» против «Иллюстрации»!..49 Там можно
было тешиться на случайных выражениях; но ведь участь крестьян — не
то что грамотность или безграмотность Знакомого Человека... Тут на
фразах уж нельзя выезжать... В нашей выписке из статьи г.
Головачева нет выражения: еыкуп личности; а разве она от того менее
возмутительна для всякого читателя, не слишком близко принимающего к сердцу
помещичьи интересы?
Вообще во многих печатных рассуждениях по поводу эманципации мы
видим, что рассуждающие, при всем своем желании, не отрешились еще
сами от точки зрения крепостного права. Находилось много и таких,
которые явно придавали крепостному состоянию значение рабства и во
всех своих положениях отправлялись от той мысли, что раб есть вещь...
И ведь против этого никто почти не протестовал; крестьяне менее нашли
себе защиты у передовых людей наших, нежели евреи. Не говорим уж о
том, что писалось в «Журнале землевладельцев», на сочувствие которого
постоянно опирались мнения, подобные мнениям г. Головачева. Но
переберите другие журналы: в них найдете то же самое. «Атеней» писал (в
№ 8), что для обеспечения исправного платежа оброка освобождающимися
крестьянами необходимо предоставить помещику право наказывать
крестьян самому; потому что если он станет жаловаться земской полиции,
то, «не говоря уже о недостаточной благонадежности полицейских чинов-
пиков, самое вмешательство посторонней власти должно непременно
произвести некоторое расстройство хозяйственных отношений» невыгодное
для помещика (стр. 511) 50. Автор, пользующийся почетной известностью в
нашей литературе, не развил в подробности своего мнения, а то, может
быть, дело дошло бы и до того, чем впоследствии так прославился князь
Черкасский...51 Впрочем, права помещичьей власти вообще были сильно
отстаиваемы нашей литературой. В «Отечественных записках» (№ 10) на-
444
H. A. Добролюбов
печатана была статья Полтавского Помещика 52, который сожалеет о том,
что закон не позволяет продавать крестьян без земли (стр. 85), и
уверяет, что крестьянам после освобождения будет хуже. Любопытны его
доводы. «С прекращением прямой, существовавшей доселе, власти помещика
над своими крестьянами,— говорит он,— у последних может родиться
своеволие и те пороки народа свободного (!)*, которым развиваться не
допускала единственно власть помещика и строгий его надзор за
поведением крестьян» (стр. 91). Для устранения беспорядков Полтавский
Помещик желает непременно, чтобы власть над крестьянами осталась у
помещика, и притом только у помещика, без разделения ее с обществом,
с выборными, с сельским начальством. В противном случае,
говорит,—«право вотчинной полиции, предоставленное помещику, будет правом
бесправными... Почему же? Потому, что «как бы, например, ни был дурен и
безнравствен крестьянин, которого помещик найдет необходимым удалить
из общества или отдать в солдаты,— если только он обратится к
согласию общества, он встретит оппозицию! Общество всегда защищает своего
негодяя, потому что обществом крестьян руководят понятия совсем другие
(и слава богу, может быть,—прибавим мы от себя...): они видят часто
похвальное удальство и завидное достоинство в том, что на самом деле
порочно и вредно...» (стр. 92). Затем г. Полтавский Помещик утверждает,
что крестьяне несвободные рачительнее ведут свое хозяйство, чем
свободные; что крестьян вообще надо принуждать к делу; что, получив свободу,
они будут ленивее и беспечнее, и пр. ...И такая статья, по замечанию
редакции «Отечественных записок», выбрана ею, как небесполезная, из
числа нескольких статей, заключавших «голословные уверения в том, что
крестьяне у помещиков живут как у Христа за пазушкой» (стр. 85).
Хорош выбор!..
Впрочем, действительно — мысль о помещичьих нравах и выгодах так
сильна во всем пишущем классе, что как бы ни хотел человек, даже
с особенными натяжками, перетянуть на сторону крестьян,— а все не
дотянет. Гуманнейший и дельнейший журнал по крестьянскому вопросу
есть, конечно, «Сельское благоустройство». Но посмотрите, с чем же оно
выступило на свою работу. В 1 № его за прошлый год помещены были
вопросы г. Кошелева53, и между ними есть следующий: «Как составить
урочные положения? С согласия ли крестьян или по усмотрению помещиков?»
Как вы полагаете: ведь этот глубокомысленный вопрос, представленный в
разделительной форме, предполагает возможность и такого ответа:
«Конечно — по усмотрению помещиков, без согласия крестьян»... Правда, что
он может предполагать и ответ радикально противоположный...
* Здесь сама редакция «Отечественных записок* поставила знак восклицания в
скобках.
Литературные мелочи прошлого года
445
Неприличие такого вопроса замечено было, сколько мы помним,
только «Экономическим указателем», который, таким образом, оказался
прогрессивнее «Сельского благоустройства». Но и в «Экономическом
указателе» помещались статейки, при которых вопрос г. Кошелева мог вовсе
не показаться странным. Например, в 10 № «Экономического указателя»
(стр. 245—246) г. Волков, доказывая ту истину, что крестьянин не имеет
права собственности и на усадьбу, говорит, между прочим, следующее:
«Несмотря на нераздельность, в глазах помещика, крестьян с их
усадьбами и огородами, крестьяне не имеют права и никакого акта на
владение домом и огородом, то есть тем, что ныне принято называть
крестьянскою усадьбою. Если бы все это было приобретено вольным трудом
крестьянина (тогда бы, конечно, и толковать было не о чем!), тогда бы,
по закону десятилетней давности бесспорного владения, крестьянин имел
право требовать формального акта на это владение. При обязательном
труде подобного права быть не может; помещик снабдил крестьянина
материалом; он же дал ему время для домашней работы и даже заставлял
иногда поневоле обстраиваться (труд-то себе задавал какой!), исправлять
строение, понуждал разводить картофель, дарил корову и лошадь,
поддерживал в разных неудачах или несчастиях, выплачивал за крестьянина
казенные повинности и пр. Мало того (что же еще больше?
слушайте!) — он... переводил крестьян из одной деревни в другую, выводил
на пустоши (и это благодеяние!), селил дворовых на крестьянство,
снабжая их всем хозяйством на свой счет, или (хорошо «или») брал во двор
людей, уничтожая их усадебное пепелище...» И ведь все это — вы
понимаете — говорится к тому, чтобы доказать, что крестьяне были в полной
воле помещика и, следовательно (?), по закону должны таковыми
остаться на неопределенные времена...
В таком роде целый год подвизалась наша литература относительно
вопросов об освобождении крестьян. Говорим вообще: «литература»,
потому что приведенные нами примеры представляют — если не точную
характеристику прошлогодних рассуждений о крестьянском деле, то, уже
во всяком случае, и не исключения... Мы не хотим подбирать более
фактов, потому что это очень неприятно; но ежели бы потребовалось,
мы могли бы представить не десятки, а сотни указаний на статьи,
в которых плантаторская точка зрения, примененная к понятию о праве
и законности, находилась в совершеннейшем разладе с
духовно-нравственным чувством, против которого вооружался г. Головачев в «Русском
вестнике». Теперь заметим только одно: литература наша только с
нынешнего года занялась вопросом о мерах к выкупу земли; в
прошедшем году почти не тронут был этот вопрос. Вопрос же о
предоставлении крестьянам гражданских прав, прежде чем пойдет речь об
экономических сделках с ними и по поводу их,— этот вопрос до сих пор
еще не поставлен в нашей литературе. А исключивши эти два предмета —
446
Я. А. Добролюбов
0 чем же и могла говорить литература, как не о нравственных и
хозяйственных ущербах, какие могут потерпеть помещики от освобождения
крестьян?..
Напрасно поэтому удивляться отсталости некоторых помещиков, как
удивлялась, например, в декабре прошлого года «Библиотека для
чтения», вообще мало принимавшая участия в крестьянском вопросе. Она
изумилась сведениям из Ярославля, напечатанным в 44 №
«Экономического указателя» и гласившим следующее:
«Первые высочайшие рескрипты по крестьянскому делу застали
дворянство Ярославской губернии врасплох; оно нисколько не было
приготовлено к эманципации крестьян, не приготовлено потому, что неоткуда
ему было познакомиться с такими понятиями (!): по-русски,
кроме перевода старинного сочинения графа Стройновского54,
ничего не было написано об этом предмете; иностранные сочинения
большинству дворян недоступны (?), а известное в рукописи
сочинение знаменитого нашего юриста К. Д. К.55, по трудности копи-
рования, было доступно немногим. Оттого, будучи поставлено в
необходимость действовать, дворянство отличалось необыкновенной
медлительностью. Так, когда дворяне некоторых губерний изъявили желание на
составление комитетов по крестьянскому делу еще в конце прошедшего года,
дворянство здешней губернии такое желание изъявило лишь в апреле
текущего года, в числе последних. Потом, когда в первой- половине
мая получен был высочайший рескрипт по. этому делу, то предписанное
им составление комитета отложили до половины августа. Далее,
избравши депутатов в половине августа, вновь отложили открытие комитета до
1 октября. Выигранное такими отсрочками время дворянство употребило
на то, чтобы привыкнуть к новым понятиям и изучить их, для чего
появилось даже в этом классе (к чему здесь «даже» относится?)
несколько рукописных сочинений за и против реформы. Однако урок (?) был так
тяжел, что и доселе не только большинство сословия, но даже передовые
люди в нем не ознакомились достаточно с вопросом, что явствует, с
одной стороны, из медленного исполнения высочайшего рескрипта, а с
другой — из того обстоятельства, что в литературе не появилось ни одного
сочинения, написанного ярославским помещиком».
«Библиотека для чтения» пришла в ужас от столь печального факта
и воскликнула с благородным негодованием: «В 1858 году, во время
всеобщего движения вперед (в настоящее время, когда... и пр.),
является целая масса людей, занимающих почетное место в обществе, но
которые не приготовлены к эманципации только потому, что неоткуда
было познакомиться с такими понятиями,— как будто человечественные
идеи почерпаются только из книг, как будто практический смысл
помещика не мог сказать ему, что он должен сделать для своего
крестьянина и как сделать. Факт замечательный!» и пр. ...По нашему мне-
Литературные мелочи прошлого года
447
нию — факт вовсе не замечательный, и мы только удивляемся, что на
одно ярославское дворянство взвалили то, что обще всей России и что так
ярко выразилось даже во всей литературе нашей. Еще ярославское
дворянство оказалось очень благоразумным, если действительно не хотело
съезжаться, прежде чем привыкнет к новым понятиям и изучит их. А
другие — так преспокойно принимались рассуждать, даже печатно, не
приобретши не только привычки к новым понятиям, но даже самых
первых начал грамотности. Пример подобной отваги недавно обнародовал
тульский помещик Мещеринов. Он прислал в «Журнал
землевладельцев» безграмотную статейку; ее поправили, сократили и напечатали. Автор
обратился с жалобою в «Московские ведомости», объявляя, что не признает
своею статью, напечатанную в «Журнале землевладельцев», «потому, что
то же мнение он имел честь представить на обсуждение тульского
комитета, и потому, что всякое литературное произведение есть законная
собственность сочинителя, подлежащая цензуре, которая или пропускает
издание, или без приправок возвращает по принадлежности»
(«Московские ведомости», № 5, 1859 г.). Тогда «Журнал землевладельцев» (в
15 №) напечатал статью г. Мещеринова в ее первоначальном виде. Вот
выдержка из нее, дающая понятие о ее направлении и о слоге этого
литературного произведения. «Новая система отчинного управления,
разъединяет помещика с крестьянином. Последний с приобретением
покупкою усадьбы, Делается соучаствующим владельцем дачи, только что
размежеванной особняком из чересполосности.— Делается невольно чуждым
попечения владельца, переходя под власть распоряжения Общины и
мирских сходок, и потому Делается чужд участия владельца, относительно
неисчислимых пособий и многих хозяйственных преимуществ на пользу
крестьянина. Притом обязательная продажа усадеб, при беспорядочной
жизни крестьянина, невольно оставляет его опасным соседом, поблизости
положения усадеб. Разные неуловимые беспорядки и нарушение
предосторожностей от пожара. Грозят истреблением, и поставят владельца в
необходимость, даже при сохранении прав на полицейские меры, искать
без пользы, посредничества местной полиции». И поверьте, что г.
Мещеринов вовсе не последний представитель этой литературы, которая так
гордо кричит о своих заслугах для общества, о своих просвещенных и
гуманных воззрениях на современные вопросы... И после этого еще
находятся люди, сокрушающиеся о том, что ни одного сочинения по
крестьянскому вопросу не написано ярославскими помещиками! Как будто
великая честь попасть в эту литературу, где подвизаются сочинители,
подобные г. Мещеринову, где имеют право гражданства литературные
произведения, подобные его мнению!
С тяжелым чувством оставляем мы прошлогоднюю литературу
крестьянского вопроса и обращаемся к другим близким к нему предметам,
занимавшим в прошлом году нашу журналистику. Эти предметы — общин-
448
H. A. Добролюбов
ное владение, грамотность народа и телесное наказание. К сожалению,
и здесь мало отрадного.
Вопрос об общине возбужден был и поддерживался постоянно в
«Современнике». Поэтому мы не имеем надобности теперь
распространяться о нем. Но не можем не напомнить читателям, какой хаос всех
понятий — философских, исторических и экономических — представлялся
в этом споре. Сначала, когда г. Чернышевский вызвал «Экономический
указатель» на спор об общине, то г. Вернадский объявил, что решается
отвечать ему только ради самоуверенности его тона, но что, впрочем, не
считает подобный спор ни важным, ни современным. Прошел год, и все
журналы, все газеты наши наполнились статьями об общине. Одна из
статей (в 44 № «Атенея») начиналась уже так: «Существование общинного
владения как факта у нас, в России, и как теории, волнующей Умы на
Западе, ставит его на очередь вопросов, почти всемирно-любопытных».
Вот так перевернулось дело в течение одного года! Но как рассуждали
об этом всемирно-любопытном вопросе? Удивительно рассуждали! В
самом разгаре споров вдруг «Русский вестник» предъявил свое собственное
убеждение об общине. Он выразился очень категорически: «Об общинном
владении не может более идти серьезной речи. Много, слишком много
было уже сказано против этой формы владения, и говорить более
значило бы гоняться с обухом за мухой. Отстаивать общинное владение
невозможно; по крайней мере невозможно для людей, уважающих слово и не
способных жертвовать очевидностью истины упрямству самолюбия»
(«Русский вестник», № 17, стр. 187). А чтобы показать, какие это люди,
«способные жертвовать истиною» и пр., «Русский вестник» подробно
изображает их. Он делит защитников общины на две категории: одни
почтенные люди — только уже очень глупы, потому что стоят на одном:
credo, quia absurdum est*; другие,— но о других вот как отзывается
«Русский вестник»:
«Кроме этих, впрочем почтенных и уважаемых дами, голосов,
раздавались еще голоса иного свойства в пользу общинного владения. Но эти
были свободны от всякого энтузиазма и не имели никаких убеждений. В
голове этих господ сложился нерастворимый осадок от верхоглядного чтения
всякого рода брошюрок, которых все достоинство в их глазах состояло
только в том, что они были направлены против политической экономии
и вообще против всех начал ясного мышления и знания. В них не заметно
признаков собственной мысли, и видно, что ни до какого результата не
доходили они испытанием собственного ума; но тем тверже засели в них
результаты всяких брожений чужой мысли. Все встречное и поперечное
приравнивают они к этим осадкам, заменяющим для них собственный ум;
верую, потому что нелепо (лат.).— Ред.
Литературные мелочи проислого года
449
в чем заметят они какое-нибудь согласие, какое-нибудь сродство с
словами их авторитетов, то становится для них предметом живейших
сочувствий, и они с задорным ожесточением защищают свою святыню, оспаривая
все встречное и поперечное, что не подойдет под цвет и тон жалких
суррогатов истины, служащих обильнейшим источником если не мысли,
то удалых слов и ухарских фраз. Эти господа не обошли и русской
общины. Их пленило в ней общинное владение, потому что кто-то и
когда-то сказал что-то в похвалу общинного владения, и потому еще, что оно
радикально противоречит всем законам политической экономии. Для
всякого другого такое противоречие не было бы по крайней мере предметом
особенной радости; но для этих господ именно это-то самое несогласие
с наукою и служит сильнейшею причиной пристрастия к общинному
владению. Не то чтоб они дорожили своим мнением, вопреки науке; этого
мало: они потому только и начинают считать какое-либо мнение своим,
только потому и цепляются за него, только потому и дорожат им, что
оно отвергается мыслию' и противоречит науке. К сожалению, эти
задорно-крикливые голоса, которых наглость равняется только их
невежеству и бессмыслию, слишком часто и не без эффекта раздаются в нашей
литературе, увлекая за собою ватагу праздных голов, в которых звенят
только слова, за отсутствием мысли. Для этих крикунов нет ничего
заветного; мы слышали, с каким цинизмом восставали они против
истории, против прав личности, льгот общественных, науки, образования;
всё готовы были они нести на свой мерзостный костер из угождения
идолам, которым они поработили себя, хотя нет никакого сомнения, что
стоило бы только этим идолам кивнуть пальцем в другую сторону, и
жрецы их запели бы мгновенно иную песню и разложили бы иной костер».
Кажется — достаточно сильно: видно, что с убеждением написано!
И что же? Вслед за тем начинается речь в таком роде: вы все —
глупцы и невежды; вы хвалите общину, да не ту; общину и нужно
защищать, да только не ту, какая есть и какую вы знаете, а другую, какую
мы вам покажем. И начинается показыванье новой общины. Затем
немедленно в литературе раздается смех. «Атеней» сообщает публике
рецепт, по которому составлена статья «Русского вестника»: «Возьми
старого, выдохшегося взгляда на происхождение права поземельной
собственности, смешай с двойным количеством школьных ошибок против истории,
мелко-намелко истолки и брось эту пыль в глаза читающему люду,
предварив наперед, что всякий, кто назовет ее настоящим именем,—
бессмысленный невежда, пустой болтун, враль, лишенный даже
энтузиазма (а известно, что в наше время энтузиазм дешевле всего: он
отпускается почти задаром, потому что мало требуется)» («Атеней», № 40, стр.
329). Потом «Сельское благоустройство» отозвалось о статье «Русского
вестника» почти теми же словами, какими сам он говорил об общинном
владении,— то есть что о статье этой «странно говорить серьезно»
29 Н. А. Добролюбов
450
H. A. Добролюбов
(«Сельское благоустройство», № 11, стр. 99). Естественно, что при таких
взаимных отношениях противников запутанность вопроса увеличилась. Она
увеличилась еще больше, когда в спор об общине вмешались разные
отвлеченные соображения из наук, так сказать — духовных. Так, например,
в 50 № «Атенея» г. Савич, в статье «Несколько мыслей об общинном
владении землею», внезапно заговорил, без всякой видимой побудительной
причины, «об отношении идеала человеческого блаженства к идеалу
счастья собачьего»! Он высказал мысли весьма высокие. «Если, говорит,
счастье есть удовлетворение потребностей, а в натуре человека нельзя
представить таких потребностей, для которых нет удовлетворения во всей
вселенной,— то, следовательно, счастлив тот, кто имеет потребности и
может удовлетворять им? Как похоже оно (то есть счастье, должно быть)
на счастье собаки моей за овсянкой или голодного волка, разрывающего
добычу свою!.. А мне казалось, что идеал нашего счастья в боге, и к нему
стремится человек двумя путями: в религии — чувством, в науке — умом;
я думал, что чувство это ненасытимо, а ум ограничен условиями материи;
я думал поэтому, что истинного счастья нет на земле для человека, а есть
только довольство да наслаждение» (стр. 444). Все это очень
добродетельно,— но как вяжется с общинным владением — решить трудно. И в
таких-то прениях прошел целый год! К концу года г. Чернышевский
нашелся вынужденным преподать своим противникам несколько
элементарных сведений философских и политико-экономических56. Читатели наши
знают, с каким благодушием и терпением исполняет г. Чернышевский
свою задачу, В то же время г. Кавелин напечатал в «Атенее» весьма
серьезную статью в защиту общины57. Опять, стало быть, вопреки
«Русскому вестнику», пошла серьезная речь об общинном владении!..
Зато вопрос о грамотности сделал в течение прошлого года истинно
замечательные успехи. Почти решено, что грамота не ведет народ к
погибели. С благородной прямотою и смелостью выразился один из
защитников грамотности, что «вреда от грамотности нельзя ждать
большого!» («Земледельческая газета», № 98, стр. 78В). Вопрос остановился
уже на том, какие знания нужны крестьянам и каких не требуется.
Разумеется, высказаны были мнения, что равенство образования всех
сословий в государстве есть утопия; что для высших знаний (как,
например, знание законов, истории и т. п.) есть «некоторое количество
людей, занимающих в организации государства известное место и
значение» («Земледельческая газета», №№ 15, 44, 45). Против этого мнения
говорили некоторые довольно неопределенными фразами; но вообще
с ним соглашались. Затем для крестьян определялось учение: читать,
писать и закон божий; преимущественно же указывалось на
нравственное воспитание, состоящее в исполнении своих обязанностей в
отношении к властям. Впрочем, особенных подробностей не было высказано:
всё еще упивались повторением новой, с таким трудом, с бою взятой
Литературные мелочи прошлого года
451
истины, что от образования крестьян нельзя ожидать большого вреда...
И то хорошо!
Вопрос о телесном наказании тоже был на очереди; но решился
как-то странно. Нужно, впрочем, заметить предварительно, что если кто
подумает, будто дело шло в литературе об отменении розог,— тот жестоко
ошибается. Нет, до этого литература еще не договорилась. Дело шло ни
больше, ни меньше, как о том, кому сечь — помещику ли или сельскому
управлению. Ранее всех, кажется, поднял этот любопытный вопрос некто
г. Петрово-Соловово, предложивший его в «Одесском вестнике» в такой
форме: «Каким количеством ударов розгами владелец может наказывать
срочно-обязанных крестьян по своему желанию и усмотрению!» На
вопрос, конечно, явились ответы. В «Журнале землевладельцев» г. Ро-
щаковский высказал гуманную мысль, что не следует отстаивать 40
ударов, а можно спуститься до 20. Князь Черкасский в «Сельском
благоустройстве» поступил еще гуманнее: он спустил еще десять процентов и
согласился уменьшить число ударов, предоставленных в ведениз
дворянства, до 18. Но тут-то (не знаем уж почему,— потому, должно быть, что
в последовательных уступках увидели слабость противников) и восстали
благородные рыцари, совершенно разбившие князя Черкасского.
Кончилось тем, что он отказался и от 18 ударов в пользу дворянства и
уступил их сельскому управлению. Но тут, разумеется, рыцари ободрились
еще более и начали пускать грязью в бегущего с поля битвы князя
Черкасского и в друзей его. Но беглецы скрылись, а рыцари оказались
перепачканными в грязи. Затем все стихло...
Не столь счастливо, как народ, отделались дети: о них наши
передовые люди все еще сомневались в прошлом году: сечь или не сечь, по
своему желанию и усмотрению58. Впрочем, и то хорошо, что сомневались:
сомнение есть путь к истине.
Таким образом, на поприще грамоты и розог успехи наши в прошлом
году несомненны. Много уже сделано; говоря словами одной современной
песенки,
Мы обсуждали очень топко
(Хоть не решили в этот год),
Пороть ли розгами ребенка,
Учить ли грамоте народ.
Вообще о народном просвещении у нас сильно говорили в прошедшем
году. Особенно занимали всех вопросы о женском образовании и об
отношении гимназий к университетам. Согласились единодушно, что
девочек учить тоже нужно; с большою радостью приветствовали открытие
женских школ. Что касается до направления и характера женского
образования,— на этом поприще подвизался преимущественно г. Аппельрот,
желавший вообще проводить воспитание «от центра домашнего быта к
29*
452
H. A. Добролюбов
периферии всемирной жизни» 59. Впрочем, литература на этот предмет
как-то мало обратила внимания. Но зато учреждению женских школ она
ужасно радовалась!.. В простоте души она не стыдилась хвалиться тем,
что у нас наконец будут женские школы!.. Из этого видно, что она
считает женские школы в некотором роде роскошью, без которой можно и
обойтись,— потому что нельзя же считать великим подвигом
удовлетворение необходимейших своих потребностей, нельзя серьезно восторгаться
и хвалиться тем, что я ночью ложусь спать, поутру просыпаюсь и за
обедом ем.
Об университетах и гимназиях тоже хорошо говорили. Один
профессор сказал, что в университете студенты ничему не выучиваются, потому
что в гимназиях плохо бывают подготовлены к слушанию ученых
лекций профессоров («Атеней», № 38). А гимназии оттого приготовляют
плохо, утверждал тот же профессор, уже вместе с другим («Журнал
для воспитания», № 2) 60, что университету не предоставлено контроля
над ними. Но профессорам с разных сторон дали сильный отпор. Они
глумились над гимназистами, поступающими в университет, и рассказывали
уморительные анекдоты, случавшиеся с молодыми людьми на приемных
экзаменах; а им отвечали еще более уморительными анекдотами о
профессорских лекциях. Профессор говорил: «Что делать с тупоумным
учеником, который на экзамене отвечает слово в слово по скверному
учебнику?» А ему отвечали: «Что же делать ученику, ежели профессора и
вообще знающие люди презирают составление учебников и предоставляют
это дело какому-нибудь г. Зуеву?» Профессор говорил: «Если ученик
не знает географии, то, читая, например, историю, не могу же я
замечать ему, что Лион находится во Франции, а Тибр течет в Италии...»
А ему отвечали: «Отчего же бы и нет? Это было бы и лучше и короче,
чем читать, например, целый трактат о разных породах голубей и об их
воспитании, как делал один профессор по поводу слова, встретившегося
в каком-то памятнике...» И анекдоты о профессорах были отличные! Сло7
вом — литература показала себя!
По этой же части еще был один важный вопрос, которого, однако,
так и не решила литература. Дело было в том: нужно ли учителям
(особенно уездным) внутренно возвыситься до того, чтобы заслужить
сначала уважение общества, а потом, за добродетель,— хорошее жалованье;
или же нужно учителям прибавить жалованье для того, чтобы они могли
получше держать себя в обществе. В «Журнале для воспитания» почти
целый год об этом препирания производились; «Атеней», в лице г.
Некрасова, объявил себя за внутреннее возвеличение учителей; г. Гаярин
в «Русском вестнике» объявил себя за прибавку жалованья. Но
окончательного решения по столь многотрудному вопросу до сих пор еще не
произнесено... И, кажется,— не литература произнесет его: прибавка
жалованья учителям уже решена, говорят, в министерстве просвещения.
Литературные мелочи проиьлого года
453
Не пускаясь в подробности, укажем еще в общих чертах на два
современнейшие вопроса — о взятках и гласности. Первый вопрос, впрочем,
в прошедшем году потерял уже свою самостоятельность (в этом
действительно можно видеть прогресс литературы) и примкнул к вопросу о
гласности, которая рассматривалась у нас преимущественно в применении
к судопроизводству. Разумеется, тут целая половина рассуждений
заключалась в опровержении сочиненного нашими же писателями мнения о
том, что гласность гибельна для блага государства. Сколько мы ни
прислушивались к общественному мнению здесь, в Петербурге, сколько ни
расспрашивали людей, живших в последнее время в провинциях,— ни от
кого мы не слыхали, чтобы гласность считалась гибельною в нашем
обществе, по крайней мере в том, которое читает журналы. А между тем
журнальные статейки беспрестанно сражались с невидимыми,
воображаемыми противниками гласности... Есть, конечно, противники; кто же
станет отвергать это? Но ведь они стоят ниже общественного сознания.
Ведь уже самый факт нерасположения к гласности доказывает, что они—
или из ума выжили, или не имеют ни малейшей добросовестности!
Зачем же литература так много о них заботится, так много придает им
значения? Стало быть, они имеют для нее какую-то непостижимую
важность!.. Хороша же литература, для которой имеют важность такие
господа, совершенно уже отрешенные от всякого здравого смысла!.. И после
эюго еще литература имеет наивность воображать, что она в состоянии
руководить общество на пути прогресса!.. Неужели она не понимает, что
общество стоит уже выше подобных внушений и подобных руководителей?
Неужели литература не видит, что общество требует пищи, а не
рассуждений о том, что не евши можно умереть с голоду?.. Хорош был бы
повар, который каждое утро являлся бы к вам и посвящал по нескольку часов
на объяснение того, что человек должен есть, что кушанье надобно
варить непременно с солью, что без соли оно не будет иметь вкуса, и т. п.
Вероятно, вы скоро приказали бы ему замолчать или наконец совсем
прогнали бы его...
Но, кроме рассуждений о пользе гласности, были и действительные ее
применения. Вы помните их, читатель; а если не помните, то обратитесь
к «Свистку»: там их целая коллекция...б1 «Свисток» может ими
восхищаться, сколько ему угодно; но мы, признаемся, не видим спасения России в
подобном применении гласности.
Один из видов гласности составляла обличительная литература. В этой
отрасли, кроме безыменности, обращает на себя внимание еще мелкота
страшная. По поводу разных литературных явлений прошлого года, вроде
комедий г. Львова, стихотворений г. Розенгейма и т. п., мы не раз уже
рассуждали об этом предмете б2. Теперь припомним только общий
характер обличительной литературы последнего времени. Она вся погрузилась
в изобличение чиновников низших судебных инстанций. Писарям, стано-
454
H. A. Добролюбов
вым, магистратским секретарям, квартальным надзирателям житья не
было! Доставалось также и сотским и городовым и т. п. Все это,
конечно, хорошо в своем роде: зачем же и городовому грубо обращаться
с дворниками? Нужно и его обличить... Но вслушайтесь в тон этих
обличений. Ведь каждый автор говорит об этом так, как будто бы все
зло в России происходит только оттого, что становые нечестны и
городовые грубы! Ведь до сих пор многие из обличителей не отрешились от
достойно осмеянной точки зрения Надимова 63, уверяющего, что для
благоденствия России нужно только на мелкие должности поступить богатым
дворянам!.. А пора бы уж понять всю недостаточность подобного
воззрения. Оно, конечно, справедливо в том отношении, что господам,
подобным Надимову, все-таки полезнее занимать мелкие должности, чем
важные: при меньшем круге деятельности они меньше и зла наделают. Но
нельзя же удовольствоваться таким отрицательным заключением; надобно
от него прийти к чему-нибудь; а литература наша ни к чему не пришла.
И в прошлом году, как в предыдущих, она громила преимущественно
уездные власти, о которых, если правду сказать,— после Гоголя и
говорить-то бы не стоило... Если же задевались иногда губернские чины,
то обличение большею частию слагалось по следующему рецепту:
выводился благороднейший губернатор, благодетель губернии, поборник
законности и гласности; около него группировалось два-три благонамеренных^
чиновника, и они-то занимались каранием злоупотреблений. ,А иногда
губернатор на сцену вовсе не являлся, а только предполагался за
кулисами, как опора добродетели, вроде фатума древних. Остальные
губернские власти затрогивались все реже и легче, по мере приближения
своего к губернатору... Кроме того, в повестях появлялось иногда еще
важное лицо, чиновная особа и т. п. Что это были за лица и особы,
оставалось известным только автору. Значения их невозможно было
угадать, потому что обличения наши постоянно отличались необыкновенной
отрывочностью. Нигде не указана была тесная и неразрывная связь,
существующая между различными инстанциями, нигде не проведены были
последовательно и до конца взаимные отношения разных чинов...
Недаром поборники чистого искусства обвиняли наших обличителей в малом
знании своего предмета! Или, может быть, они и знали, да не хотели
или не могли представить дело как следует? Так и за это, собственно,
хвалить их не следует; и тут заслуга не велика!..
Мы долго не кончили бы, если бы вздумали перечислять частные
ошибки и разбирать в подробности разные странности прошлогодней
литературы. Мы сначала хотели посмешить читателей подбором множества
забавных анекдотов, совершившихся в прошлом году в литературе.
Мы хотели указать на наших ученых — на то, как г. Вельтман считал
Бориса Годунова дядею Федора Ивановича; как г. Сухомлинов находил
черты народности у Кирилла Туровского, потому что у него, как и в
Литературные мелочи прошлого года
455
народных песнях, говорится: весна пришла красная; как г. Беляев
доказывал, что древнейший способ наследства — есть наследство по
завещанию; как г. Лешков утверждал, что в древней Руси не обращались к
знахарям и ворожеям, а к врачу, который пользовался особенным
почтением; как г. Соловьев (в «Атенее») уличал г. Устрялова в том, что он
вместо истории Петра сочинил эпическую поэму, даже с участием
чудесного; как г. Вернадский сочинил историю политической экономии по
диксионеру Коклена и Гильомена; как г. Пальховский объявлял, что труд
женщины, по законам природы, должен ограничиваться рождением детей;
как г. Куторга (натуралист) относил углерод к числу газов; как г. Бер-
ви утверждал, что иногда часть бывает равна своему целому6*4, и пр.
и пр. Хотели мы припомнить и несколько странностей литературных, как,
например, то, что «Атеней» начал свое издание, сказавши в первом
нумере: «Нечего жалеть, что у славян австрийский жандарм является
орудием образованности»;— а кончил в последней книжке словом, что
помехой нашему прогрессу служат раскольники, которых за то и нужно
преследовать...65 К таким странностям хотели мы отнести, например, и мысль
о том, что главная причина расстройства помещичьих имений наших
заключается в отсутствии майората («Земледельческая газета»); и
уверение, будто главный недостаток романа «Тысяча душ» заключается в том,
что герой романа воспитывался в Московском, а не в другом
университете («Русский вестник») 66; и опасения, что в скором времени, когда
нравы наши исправятся, сатире нечего будет обличать («Библиотека для
чтения»); и статейку о судопроизводстве, уверявшую, что такое-то
воззрение неправильно, потому что в «Своде законов» его не находится
(«Библиотека для чтения»), и пр. и пр. Всех материалов, собранных
нами, стало бы на длинную забавную статью... Но размышления наши
приняли характер вовсе не веселый, и потому мы пройдем молчанием
и грубые ошибки, и дикие воззрения, и нелепые стихи, и
фантастические повести, вроде «Игрока» г. Ахшарумова, и даже знаменитый
«Литературный протест» 67, эти геркулесовы столбы русской гласности, этот
красноречивейший, несокрушимый памятник мелочности прошлогодней
литературы... Эти мелочи уже слишком мелки; оставим их в покое и
предоставим читателю самому определить их настоящее место в
коллекции других литературных мелочей...
Впрочем, не будем полагаться на читателей. Опытные люди говорят
нам, /что читатели бывают недовольны, когда им что-нибудь
недосказывают, а в нашей статья многое может показаться недосказанным.
Вследствие этого мы находимся вынужденными сказать еще несколько
заключительных слов о крупных и мелких мелочах, указанных нами. Заклю-
456
H. A. Добролюбов
чение наше должно служить ответом на вопрос: зачем мы говорим о
мелочах?
Мы еще в первой статье нашей объяснили, что литературу
понимаем как выражение обществу, а не как что-то отдельное и совершенно
независимое. Эту точку зрения просим приложить ко всему, что нами
сказано в настоящей статье. Мы полагаем, что наше воззрение и без
особенных оговорок должно быть совершенно ясно; но все-таки считаем
нужным оговориться еще раз, чтобы не подать повода к нелепому
заключению, будто мы восстаем против литературы и хотим ее гибели.
Совершенно напротив: мы горячо любим литературу, мы радуемся всякому
серьезному явлению в ней, мы желаем ей большего и большего развития,
мы надеемся, что ее деятели в состоянии будут совершить что-нибудь
действительно полезное и важное, как только явится к тому первая
возможность. Именно потому и осмелились мы так сурово говорить о
недавнопрошедшем нашей литературы, что мы еще храним веру в ее силы.
Пусть не оскорбятся нашими словами литературные сподвижники
настоящего; пусть вспомнят, как они сами смеялись над теми чиновниками,
которые обижались журнальными обличениями взяток, формальностей и
проволочек суда, мелочности канцелярских чпорядков и пр. Литераторы,
люди образованные и понимающие свое положение, должны стоять выше
подобной обидчивости. Они должны знать, что к кому обращаются с
недовольством за то, что он сделал мало, от того, значит, ожидают
большего. Если бы мы думали, что литература вообще ничего не может
значить в народной жизни, то мы всякое писание считали бы бесполезным
и, конечно, не стали бы сами писать того, что пишем. Но мы
убеждены, что при известной степени развития народа литература
становится одною из сил, движущих общество; и мы не отказываемся от
надежды, что и у нас в России литература когда-нибудь получит такое
значение. До сих пор нет этого, как нет теперь почти нигде на
материке Европы, и напрасно было бы обманывать себя мечтами
самообольщения... Но мы хотим верить, что это когда-нибудь будет.
С другой стороны — и публика, которая прочтет нашу статью, не
должна, нам кажется, вывести из нее слишком дурного заключения для
литературы. Не много надо проницательности, чтобы понять, что все нашэ
недовольство относится не столько к литературе, сколько к самому
обществу. Мы решительно не намерены противрречить, ежели кто-нибудь из
литераторов захочет предложить возражения и ограничения наших
мнений, например, в таком виде:
«Никто, конечно, не сочтет странным, если мы скажем, что класс
писателей вообще принадлежит к числу,самых образованных,
благородных и деятельных членов нашего общества. Они всегда на виду у всех
с своими идеями и стремлениями, и, следовательно, их умственное и
нравственное развитие не может оставаться тайною для читателей. Поэ-
Литературные мелочи прошлого года
457
тому мы можем с гордостью сослаться на всю русскую публику,
утверждая, что никогда новая литература наша не была поборницею
невежества, застоя, угнетения, никогда не принимала характера раболепного
и подлого. Если встречались личные исключения, то они тотчас же
клеймились позором в самой же литературе. Конечно, мы очень хорошо
понимаем, что таких отрицательных добродетелей недостаточно для
общественного деятеля. Да и ни один порядочный человек не поставит в
заслугу ни себе, ни другому — того, что он не вор, не подлец и не
пьяница. Нужны другие права на общественное уважение, и
литература — мы знаем — постоянно стремилась приобрести их. Но стремления
ее большею частию не пользовались совершенной удачей: кто же в этом
виноват, как не общество? Общество терпело взятки, самоуправство,
неправосудие; как же было литературе восстать на них? В обществе
не встречали сильного отзыва просвещенные, гуманные стремления;
могла ли литература сильно, их высказать? Если бы общественное мнение
у нас было сильно и твердо, оно на лету подхватывало бы всякое
слово, всякий намек литературы, ободряло бы и вызывало на
дальнейшие словесные подвиги. Но этого не было; сонная вялость господствовала
в обществе, общественное мнение отличалось странным
индифферентизмом к общим вопросам; как тут было не измельчать литературе? Война
несколько расшевелила нас, да и то очень мало; мы как будто стряхнули
несколько сонных грез, но множество прежних иллюзий еще осталось
в неприкосновенности. Вместе с тем и прежняя сонная инерция еще
сильно держит нас на одном месте, несмотря на все наши толки о
прогрессе. Мы еще всё не можем привыкнуть к мысли О' том, что нужно
самому о себе заботиться, нужно работать, нужно идти самим, а не
ждать, чтобы пришли к нам благодетели, которые начнут переставлять
нам ноги. Нас не оставило еще наше «авось»; мы все еще хотим, чтобы
нас понукали, чтобы за нас делали другие. Иногда общество и томится
каким-то смутным желанием, но оно никогда не шевельнет пальцем,
чтобы привести его в исполнение. В обществе нет инициативы; как же вы
хотите, чтобы давала ее литература? Всякий писатель знает, что если
он заговорит о том, что нужно, но что еще не проявилось в самок
деятельности общества, то его назовут сумасбродом, утопистом, даже,
пожалуй,— чего доброго! — врагом общественного спокойствия! Ну, когда
так, то зачем же, в самом деле, мирному литератору нарушать общее
спокойствие? он и молчит. А там, посмотришь, через несколько месяцев,
через год то же самое предположение уже осуществляется в
законодательстве или в административных распоряжениях, и общество довольно
и уже с рукоплесканиями встречает того, кто заговорит о том же самом.
А не осуществится предположение,— общество опять довольно и
спокойно и как будто вовсе не чувствует ни малейшей надобности в его
осуществлении. Что тут делать литературе, когда ее не только не спра-
453
Я. А. Добролюбов
шивают, а даже и слушать не хотят, пока сами события не наведут
на ту же мысль, какую она могла бы сообщить гораздо раньше?..
Конечно, литературу могут обвинить в том, что она не выражает своих
требований с жаром и настойчивостью, несмотря на все неудачи. Но и
на такое обвинение общество наше не имеет права. Разве оно признало
значение литературы? Разве оно поручило ей свое нравственное и
умственное воспитание? Разве оно своей любовью и уважением ограждает
-литературу от неразумных нападений обскурантов? Ведь нет; оно
равнодушно к литературе, оно не спрашивает ее советов; какое же право
имеет оно требовать, чтобы литература насильно вмешивалась в его дела?
И самая мелочность вопросов, занимающих литературу, служит не
~к чести нашего общества. Если талантливый актер пускается в фарс
для приобретения успеха,— это унижает публику; если профессор
астрономии считает нужным объяснять своим слушателям таблицу
умножения,— это унижает его аудиторию. Так и в литературе. Скажите,
каково нравственное развитие того общества, в котором еще приносят
пользу и имеют успех рассуждения о пользе гласности, о вреде бесправия, о
бесчестности лихоимства и т. п.? Тут всё падает на неразвитость общества;
литература виновата лишь в том, что явилась среди такой публики. Но
что же делать ей? Провинциальный актер поневоле играет для
провинциальной публики, пока не найдет средств поступить на столичный театр».
Справедливости таких возражений мы не отвергнем. Действительно,
литература сама по себе, без поддержки общества, бессильна; стало
быть, напрасно и требовать что-нибудь от нее, пока общество не изменит
своих отношений к ней. У ней во власти только теоретическая часть;
практика вся в руках общества. Она забирается в кружок взяточников
и негодяев и проповедует им о честности, бескорыстии; вы с
удовольствием ее слушаете и аплодируете. Но вот один из ваших братьев
попался в руки к этим взяточникам и негодяям: они могут его лишить
имущества, прав, посадить в тюрьму, сослать в Сибирь, словом —
сделать с ним, что им будет угодно. Что может сделать писатель,
неприкосновенный к делу, для защиты вашего невинного брата? Он опять
будет говорить о честности и правом суде; но может ли это подействовать
на взяточника? Не жалко ли будет положение писателя, попусту
тратящего слова в таком случае, где нужно дело делать? А вы, имея в
руках документы, зная свидетелей в пользу вашего брата, имея все средства
для уличения неправого судьи, будете спокойно смотреть на усилия
литератора и, пожалуй, опять рукоплескать его благородным рассуждениям!
Скажите, кто более жалок, кто производит более неприятное чувство в
этом случае — писатель ли, бесплодно рассуждающий, или люди,
восторгающиеся его красноречием? Трудно решить.
Итак, мы повторим здесь еще раз, что, указывая на мелочность
литературы, мы не думали обвинять ее. Но вот в чем мы ее обвиняем;
Литературные мелочи прошлого года
459
она хвалится многими из своих мелочей, вместо того чтобы стыдиться их.
Говоря о правосудии, когда неправедно судят невинного брата, она не
сознает ничтожности своей речи для пользы дела, не говорит, что
прибегает к этому средству только за неимением других, а напротив —
гордится своим красноречием, рассчитывает на эффект, думает переделать
им натуру взяточника и иногда забывается даже до того, что
благородную речь свою считает не средством, а целью, за которою дальше и нет
ничего. А невинно осужденный терпит между тем заключение,
наказание, подвергается страданиям всякого рода. И литература не хочет
видеть или не хочет сознаться, что ее деятельность слаба, что того, чем
она может располагать, мало, слишком мало для спасения невинного
человека от осуждения корыстного судьи. Вот что возмутительно для
людей, которые ищут дела, а не хотят остановиться на праздном слове!
Вот что и вызвало нашу статью. Мы хотели напомнить литературе, что
при настоящем положении общества она ничего не может сделать, и с
этой целью мы перебрали факты, из которых оказывалось, что в
литературе нет инициативы. Далее мы хотели сказать, что литература
унижает себя, если с самодовольством останавливается на интересах
настоящей минуты, чне смотря в даль, не задавая себе высших вопросов.
Для этого мы припомнили, какой ничтожностью и мелкотою отличались
многие из патетических рассуждений нашей литературы о вопросах, уже
затронутых в административной деятельности и в законодательстве.
Литература всегда может оправдать себя от упрека в мелочности, сказав,
что она делает, что может, и что не от нее, а от общества зависит
делать больше или меньше. Но нет для нее никакого оправдания, ежели
она самодовольно забудется в своем положении, примирится с своей
мелочностью и будет толковать о своем серьезном значении, о великости
своего влияния, о прогрессе общества, которому она служит. Такое
самодовольное забытье покажет нам, что литература действительно не
имеет высших стремлений, что она смиренно довольствуется всем, что
ни сделает с нею общество ради временной надобности или даже просто
ради потехи. При такой узости взглядов и стремлений литература
действительно может показаться противною для всякого свежего человека,
ищущего деятельности. И с нею может тогда помирить только вопль
отчаяния, в котором будет и энергический укор, и мрачное сожаление,
и громкий призыв к деятельности более широкой. Призыв этот будет
относиться не к одной литературе, а и к целому обществу. Его смысл будет
в том, что гнусно тратить время в бесплодных разговорах, когда, по
нашему же сознанию, возбуждено столько живых вопросов. Не надо нам
слова гнилого и праздного, погружающего в самодовольную дремоту и
наполняющего сердце приятными мечтами; а нужно слово свежее и гордое,
заставляющее сердце кипеть отвагою гражданина, увлекающее к
деятельности широкой и самобытной.
ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА
1. Ы. П. ТУРЧАНИНОВУ
1 авг<уста> 1856. <СПб.>
Мы так долго ждали письма от тебя, мой милый Николай Петрович,
что оно пришло наконец совершенно неожиданно. Можешь представить,
как обрадовался ему я, и не один я: все наши друзья, существования
которых ты не подозревал в институте, тоже участвовали в этой
радости. Миша, Львов, Буренин, Сциборский — все это было и есть в Главн.
педаг. (институте), и все это слушало с видимым восхищением чтение
твоего письма1. Старшие и младшие учителя2 смотрели на нашу радость
при этом случае с каким-то робким изумлением, не понимая, как наши
серьезные или зло-насмешливые физиономии могли вдруг принять
выражение такого добродушного, детского веселья и сердечного участия.
Это изумление превратилось, конечно, в некоторого рода ужас, когда
мы стали потом толковать о la comtesse3, причем я рассказал о том,
что он приходит в благоговейный восторг и проливает обильные
источники слез, говоря о величии и славе России под благословенным
правлением дома Романовых (сведение это сообщено мне Н(иколаем)
Гавриловичем). Но — черт с ними — с контессами и старшими учителями;
у меня есть новости гораздо интереснее их. Только не ленись читать.
Все они относятся к Гл. пед. (институту).
В «Современнике» пропущена уже статейка о нашем последнем акте,
наполненная самыми злокачественными выписками из него4. Написана
она в таком духе, как, напр., статья о стих. Растопчиной5, и,
разумеется, Бекетов ее не понял6. Но Некрасов, боясь все-таки, что Давы-
Избранные письма
461
дов будет жаловаться7, спросил разрешения у Щербатова; тот сказал
очень просто: да помилуйте, в чем же вы затрудняетесь? Печатайте
смело... ведь это же известный негодяй8... Кому из своих приятелей
обязан Ванька этой рецензией, тебе, конечно, не нужно говорить.
Между тем случилось и другое событие. Кто-то из бывшего пятого
курса настрочил письмо к министру об институтской администрации 9.
Письмо это послано было в министерство; там его распечатал дежурный
чиновник, потом оно перешло — по инстанциям, к столоначальнику,
начальнику отделения, директору департамента и пр. Наконец дошло оно до
Авраама Сергеича 10, который, конечно, не знал, что ему сделать в этом
случае и решился — посоветоваться об этом с Давыдовым, вследствие
чего и переслал ему письмо. Ванька созвал инспектора, Андрюшку д.
эконома и, и тут началось чтение, при к<ото>ром повторилась, говорят,
сцена, завершающая «Ревизора», так как в письме всем досталось.
Ваньке, впрочем, судя по рассказам читавших письмо, должно быть всех
меньше; инспект. назван пегакой, Андрюшка — хвостом директорским,
эконом — подлецом, каких свет не производил. Разумеется, Ваньке не
трудно было оправдаться против письма, написанного в подобном духе,
и в заключение этого дела Авр(аам) Серт(еич), говорят, расцеловал
его. Но по городу начали носиться смутные слухи о ревизии в
Главном) педагогическом/. Эконом зазывал пятый курс к себе и поил
вином Чистякова, Сведенцова, Феоктистова и др. (названных я сам видел
пьющими с экономом, возле его квартиры, под арками).
Между тем случилось другое обстоятельство, которое я хотел бы тебе
передать достойным образом, но чувствую, что перо мое слишком слабо
для этого. Попытаюсь на простой летописный рассказ. В конце июня
послано было кем-то письмо к Краевскому, в котором просили его
напечатать в «СПб. вед.» объявление, что дир. Гл. пед. ин., член ком.
и пр. и пр. Иван Давыдов, в ночь с 24 на 25-е июня высечен
студентами за то-то и за то-то... Кр(аевский) 12, как истинный либерал,
продержал у себя это письмо недели три, рассказавши кое-кому его
содержание, но потом, в качестве верноподданного, отправился с письмом к
министру. Оказалось, что министр тоже получил безымянное уведомление об
этом и молчал только, думая, что кроме его никто ничего не знает...
Теперь, видя, что ничего не скрыто от света, он послал за Давыдовым,
и — тут произошла картина, которую, конечно, легче вообразить,
нежели описать, тем более, что единственными ее свидетелями были
вышепоименованные два действующие лица... Чем все это дело кончилось между
ними, осталось неразгаданною тайной. Но на другой день Ванька призвал
старших и младших учителей, и — опять произошла сцена, которую я и
мог бы описать, да не хочу, потому, что слишком отвратительно. В тот
же день учителя писали любовное письмо к Давыдову, писание
возложено было на Чистякова, к<ото>рый, совершенно простодушно, начал его
462
И. А. Добролюбов
(говорят) так: «Сегодня поутру ваше пр-во изволили призвать нас и
объявить, что его вые. пр-ву г. министру сделалось известным, что вас
высекли студенты института. Считаем долгом объяснить, что мы не
только отказываемся от участия в этом деле, но и признаем его низким и
презренным», и т. д.... Но кто-то из них догадался, что это будет в
роде новой экзекуции над Ванькой, и потому Сведенцов написал другое
письмо, в к<ото>ром уверял Ваньку, что его не только не секли, но
и не могли сечь, потому, что все студенты чрезвычайно к нему
привержены. Ванька с письмом отправился к министру, чтобы посрамить
клевету.
В городе сильно поговаривают, что к нам директором назначат
Фишера 13 (причем Благовещенскийи намерен, по его словам, подать в
отставку). В институте ждут ревизии Вяземского15, и вследствие того с
начала июля наняли купальню и дают очень порядочный (сравнительно)
стол. И то — выгода (конечно, не для директора и эконома).
Контессе своей можешь сказать, что если она не приедет с своими
плаксивыми рожами сюда, то увидит — шиш 1б... Многих из кончивших
курс, действительно, послали за границу — европейской России. Напр.,
Гетлинг, с спокойной уверенностью отправившийся в Ревель п и
разгласивший там, что он получил серебряную медаль и едет слушать Якова
Гримма,— он назначен учителем в Иркутск. Подобная участь постигла и
других. Вреден в домашние учители... 16 Только барон Розин, определенный,,
кажется, в Пензу, или Сызрань, или Сарепту — что-то в этом роде,—
просит себе отпуск за границу на два года. Но это опять-таки только на
том основании, что у всякого барона своя фантазия 19. В СПб. не получил
места никто, даже историческая кобыла20... Классический Александр
Иваныч — оставлен без места, при институте, впредь до востребования,
и окончательно теперь смотрит на человечество носом, а не глазами,
беьмерно возгордившись тем, что читает корректуру собственного
сочинения, печатаемого в «Опытах трудов» 21, и т. д.
Наши студенты (которых Андрюшка в «акте» перевел из третьего
прямо в VI курс, вместо IV: вот сближение-то .. пятый, шестой..) —
занимаются ералашью, что приучает их к лености, апатии и тому
подобным гнусным порокам. Принес я им от Срезн(евского) 22 «Кто виноват»,—
и вот недели две не могут прочитать его. Принес «Запутан(ное) дело» 23,
и они не только не прочли, но еще потеряли его. Писать никто ни к кому
не хочет... От Паржницкого и Михаил<овского>24 имеем письма, в к(ото>-
р<ых> пишут, что им теперь гораздо лучше. Михайловский пишет, что
главный доктор уволил его от должности фельдшера и сказал, что пора
ему обратиться к прежним занятиям.. Сциборский, по своей невинности
достойной лучшего века,— потерял 10 рублей, назначавшихся для
посылки Мих<айловско>му. Их нашел какой-то солдат и принес Сц(иборско>-
му, к<ото>рый и дал ему за это три рубля, доставивши нам таким об-
Избранные письма
463-
разом несколько отрадных мгновений при благородной мысли о
честности неиспорченной русской натуры. У того же Сцибор(ского) завязалось,
знакомство с Кошкиным25, из которого, впрочем, он, по своим дивным
качествам, не может извлечь ни малейшей пользы. У того же Сци-
б<орского> есть уроки по славянской филологии (!) на Черной речке,
куда он ездит два раза в неделю, по 1 р. 25 к. за раз. У того же
Сц(иборского) наконец явилась неведомая доселе способность получать
шлемы в ералаши и капоты в пикете. Способность эту он передает
каждому, кто садится играть его партнером. Миша ездит к Малоземо-
вым26, Львов тоже получил уроки. Щеглов27 живет в Павловске,
Буренин — переводит географию для Зуева28. Янковский и Янцевич29 —
прохаживаются. Янковский занимается' еще — удивлением тому, что есть
ученые, занимающиеся славянскими наречиями и не обращающие
исключительного внимания на Польшу. Дивится, дивится целые канпкулы и
все надивиться не может. О деле Александровича30 министр написал:
«оставить без производства». Он теперь опять хлопочет у Вяземского.
Сидорова призывал инсп<ектор) университета) и объявил, что
начальство намерено исключить его за то, что осмелился беспокоить особу
государя31. Сидоров опять хочет осмелиться беспокоить эту особу... Здесь,
кстати сказать, что недавно двоих чиновников из госуд. контроля
потребовали в Ш-е отделение собственной... за какие-то стихи; начальство тотчас
их выгнало из службы. Прошло недели две: к ним справка — о службе и
поведении этих чиновников. Начальник самодовольно отвечает, что их уже
и нет у него на службе. Но вместо похвалы, которой он, конечно,
ждал, ему сделали выговор, а еще недели через две прислан
высочайший приказ: считать их неуволепными\\
Теперь поговорю и о себе. Живу я в 9-й линии, напротив церкви
Благовещенья, за Средним проспектом, в доме Добролюбова, в квартире
Срезневского32. Это значит, что в первых числах июля Срезн<евский>
приехал из Новгорода, перебрался на новую квартиру и опять уехал. Мне
предоставлено было, между прочим, разобрать и расставить его книги.
Пока шла славянская филология, я удивлялся богатству библиотеки его;
книг чешских, сербских, болгарских у него более, нежели я предполагал
всего существующего в этих литературах. Но когда дело дошло до русской
литературы, удивление мое уступило место ужасу: вообрази — нет не
только Лермонтова, Кольцова (это еще было бы понятно),— нет даже
Карамзина (кроме, конечно, истории), Державина, Ломоносова (опять
кроме грамматики). Пушкин и Гоголь есть только в новых изданиях,
след. до прошедшего года и их не было!.. «Мертвых душ» так и нет,
и по одной расписке, брошенной между книгами, видно, что он брал
их читать из Академической библиотеки... Русские журналы, впрочем,
есть все, и, вероятно, их присылают ему даром... Между прочим,
интересно то, что они (не подумай, пожалуйста, что^ они относится к
464
H. A. Добролюбов
русским журналам) занимаются списыванием разных невинных
стихотворений, которыми снабжает их известный тебе ученый — Гильфер-
динг (который пишет о своих статьях к Срезневскому: пришлите мне
150 экземпл. отдельных оттисков: их полезно будет послать побольше в
Польшу и за границу). Тут есть и «Демон», и «На смерть Пушкина»,
и «Конь верховой» Крылова, и «Новгород» Губера, и «Русскому
царю», и «Насильный брак» 33, и ненапечатанные стихи из «Саши»: все
это видел я переписанное женою Срезн(евского). Тут же, разумеется,
и ответ Филарета на стих. Пушкина «Жизнь»34 и подобные прелести.
Сам Срезн(евский) оказывается человеком весьма добродушным и
благородным. Я даже думаю, что он был бы способен к некоторому
образованию, если бы не имел такой сильной учености в своем специальном
занятии и если бы в сотнях своих статеек не находил точки опоры для
своего невежества в вопросах человеческой науки. Факты его
благородства и ума (факты неопровержимые) представлю впоследствии; теперь
скажу только, что я убедился в этом всего более чрез сравнение его с
Бла<гове>щ(енским>. Этот человек, будучи в десять раз глупее Срез-
н<евского>, в десять раз больше о себе думает и, след., к образованию
способен уже во сто раз менее. Тут же встретился я еще с глупою
размазней (но либералом) — Тюриным35 и с пошлым дураком во всей
форме — Савваитовым 26. Из порядочных людей — виделся раза два с Ост-
ровским0', который оказывается, действительно, порядочным человеком, и
с Ламанским38, с к(ото>рым потом встретился и у Н. Гавр(иловича).
С Ник<олаем> Гавриловичем) я сближаюсь все более и все более
научаюсь ценить его. Я готов бы был исписать несколько листов
похвалами ему, если бы не знал, что ты столько же, как и я (более —
нельзя), уважаешь его достоинства, зная их, конечно, еще лучше моего.
Я нарочно начинаю говорить о нем в конце письма, потому что знал,
что если бы я с него начал, то "уже в письме ничему, кроме его, не
нашлось бы места. Знаешь ли — этот один человек может помирить с
человечеством людей, самых ожесточенных житейскими мерзостями.
Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в
стремлениях, и высказанной просто, без фразерства, столько ума,
строго-последовательного, проникнутого любовью к истине,— я не только не находил,
но никогда и не предполагал найти. Я до сих пор не могу
привыкнуть различать время, когда сижу у него. Два раза должен был
ночевать у него: до того досиделся. Один раз — зашедши к нему в
одиннадцать часов утра, просидел до обеда, обедал и потом опять сидел до
семи часов и ушел только потому, что он сказал, что к нему придут
сейчас Пекарский и Шишкины39 (с которыми можно толковать
разве о скандальных анекдотах). С Ник. Гавр, мы толкуем не только
о литературе, но и о философии, и я вспоминаю при этом, как
Станкевич и Герцен учили Белинского, Белинский — Некрасова, Грановский —
Избранные письма
465
Забелина, и т. п. Для меня, конечно, сравнение было бы слишком
лестно, если бы я хотел тут себя сравнивать с кем-нибудь; но в моем
смысле — вся честь сравнения относится к Ник. Гавр. Я бы тебе передал,
конечно, все, что мы говорили, но ты сам знаешь, что в письме это не
так удобно... Я наконец доставил ему ту книгу, какой мы долго ждали,
и он сказал мне потом, что прочитав эту книгу и еще второй №
журнала, издаваемого тем же, он приходит к мысли, что действительно,
автор человек весьма замечательный — независимо от того, что мы его любим
за идеи его40. Этот отзыв меня, конечно, чрезвычайно порадовал, потому,
что оба эти человека — для меня авторитеты. У Ник. Гавр., между прочим,
познакомился я с Северцовым (т. е. не то, чтобы познакомился,— а
виделся и говорил) : человек тоже очень умный, хотя еще остались в нем
некоторые предрассудки. То же самое нужно сказать и о другом
брате 41. Говорили мы и о Щеглове. Я, разумеется, хвалил его и предлагал
его перевод из Сент Илера — о Суэзском перешейке. Ник. Гавр, сказал, что
нужно посмотреть, какова статья. Между тем, как узнал я, Щег(лов>
приискал какой-то новый способ сбыта для своей статьи, в какой-то по-
литико-экономич. сборник. Я больше и не поминал о статье... Щ(еглов)
между прочим писал ко мне: «через Турч(анинова), через тебя, или через
себя я познакомлюсь с Черныш(евским)»... Душевно желаю, чтобы
сбылось — последнее.
«Собеседник» напечатан в этой книжке42, но деньги получатся не
ранее 20-го числа, след. моя поездка домой не состоялась. Цензура
пропустила все, но редакция выкинула несколько строк из предисловия, по
уважению к библиографам, и еще уничтожила насмешку над
Соловьевым, так как она хочет скоро поместить какую-то статью Соловьева,
и потому — он сделался на несколько месяцев неприкосновенным43...
В этом № «Совр.» печатаются превосходные стихотворения Некрасова. Ник.
Гавр, поместил критику Описания Киев. губ. Фундуклея. Заметь также,
когда будешь иметь книжку «Совр.» и разбор стихотворений Огарева44.
Н. Добролюбов
Кланяйся А. Н. Пыпйну 45 и Ростиславу Сокр.46 Кланяйся и Миха-
левскому47. Заходил однажды к Дурасову48, но не застал его дома.
Кельсиев49 пустился в естествознание. Аверкиев50 написал повесть —
mauvais genre, которой я не читал, но с которой он носится, как
курица с яйцом. Сорокин 51 уехал на уроки в Новгород — 25 р. за лето...
Бордюгов52— в Петерб., но мы его не видим, ибо он живет на Лахте,
где, по словам истории Кайданова, «Петр сильно простудился» и
вследствие того умер... Где эта Лахта, об этом не имею ни малейшего
представления.
30 £L А, Добролюбов
466
H. A. Добролюбов
Твои занятия и успехи с братом53 меня очень радуют, и я тебя с
ними поздравляю. Только — на что же ты и твои родные решаетесь
теперь? Напиши об этом, а если лень, то заставь писать братьев, для
знакомства с которыми я и рекомендуюсь (честь имею...). Но во всяком
случае, еще письмо от тебя к нам должно быть. Прощай. Целую тебя,
написал бы, если бы не боялся напомнить карамзинскую
сентиментальность.
Георгий Амартол просто дурак, которого издавать не стоит, а
переписчики его — болваны, которых совсем нет надобности сличать. Я
жалею, что взялся тратить время на такое бесплодное занятие 54,—
работа подвигается медленно, особенно потому, что с начала июля я имею
9 уроков в неделю.
2. В. В. ЛАВРСКОМУ
3 августа 1856 <СПб.>
Валериан Викторович!
Я решаюсь вспомнить давно забытое время наших радушных,
товарищеских бесед и поправить вину долгого молчания. Я, конечно, не прав,
что столько времени не писал к Вам, но все-таки я имею сильное
оправдание. Со мной, после нашего последнего свидания1, случилось
много такого, что совершенно отвлекло мое внимание от дружеской
переписки. Вспомните наш последний разговор, в котором я, по какой-то
странной, вечно ыеудовлетворяемой жажде деятельности, желал поскорее
«вступить в жизнь», тогда как Вы изъявляли свое отвращение от этого
скорого вступления... На другой день после этого разговора мое
желание было исполнено самым ужасным, самым непредвиденным образом...
На моих руках были дом и сироты2... И что же — этот горький опыт
не заставил меня раскаяться в своем желании. Тяжело, непривычно
было сначала, долго было горько, и теперь еще все грустно, и теперь
еще мне новые радости мысли и воли не могут заменить радостных
воспоминаний детства, как той душе, у Лермонтова, которой
Песен небес заменить не могли
Скучные песни земли.
Но мне жаль моего мирного детства только уже так, как Шиллеру —
богов Греции, как поэтам — золотого века. Я нашел в себе силы
помириться с своей личною участью: наслаждения труда заменили мне
былые наслаждения лени, приобретения мысли — увлечения сердца, лю-
Избранные письма
467
бовь человеческая — любовь родственную... Не знаю, не покажется ли Вам,
что «говорю я хитро, непонятно»3; может быть, мои простые слова
противоречат Вашей метафизической фразеологии. Но прошу Вас
вспомните, что ведь я в православной философии не пошел дальше того,
что имел неудовольствие выслушать у Андрея Егоровича4; а во всем,
что я читал после — находил диаметральную противуположность с
учением его и, вероятно, всех других академических философов; поэтому
оставьте в покое мою терминологию и поймите слова мои просто, без
высших претензий и взглядов. Надеюсь, впрочем, что Вы так не
делаете, потому что и Вы, вероятно, изменились в течение этих двух
лет... Как бы хотел я взглянуть на некоторых из своих товарищей и
поговорить с ними!.. Что-то стало из этих мирных овечек Христова
стада? Во что-то превратились эти отверженные козлища? Что-то и с
Вами сделала Казанская академия, в которой на Вас тоже, вероятно,
надели цепи, только не золотые, конечно, о каких Вы писали мне по
поводу моего вступления в институт (мне, право, жаль, что у меня
такая длинная память). Утвердились ли Вы еще более в добродетели,
прониклись ли насквозь священным девизом православия, самодержавия
и народности, напитали ли душу свою вдоволь благоговейными
размышлениями о том, от отца ли, или от сына исходит дух святой, на
опресноках или на квасном хлебе нужно служить обедню, в холодной или
теплой воде нужно крестить детей, и т. под. душеспасительными и
важными для блага мира соображениями? Дремлете ли Вы мирно под
сению все примиряющей веры или тлетворное дыхание буйного Запада
проникло и в казанское убежище православия и, миновав стоглазых
аргусов, в виде «Правосл. собес(едника)» 5 и пр., нарушило спокойный,,
безгрезный сон Ваш?.. Душевно жалею, если так, но утешаюсь надеждою,,
что Вы крепки в своих верованиях, что Ваша голова издавна заперта
наглухо для пагубных убеждений и Вас не совратит с Вашего пути ни
Штраус, ни Бруно Бауэр, ни сам Фейербах, не говоря уже о каком-
нибудь Герцене или Белинском. Только в этой уверенности,
предполагая в Вас всегдашнюю христиански смиренную готовность к прощению
ближнего, я решился Вам написать эти строки.
Что касается до меня, то я доволен своею новою жизнью — без
надежд, без мечтаний, без обольщений, но зато и без малодушного
страха, без противоречий естественных внушений с сверхъестеств.
запрещениями. Я живу и работаю для себя, в надежде, что мои труды могут
пригодиться и другим. В продолжение двух лет я все воевал с
старыми врагами, внутренними и внешними. Вышел я на бой без
заносчивости, но и без трусости — гордо и спокойно. Взглянул я прямо в
лицо этой загадочной жизни и увидел, что она совсем не то, о чем
твердили о. Паисий и преосвященный) Иеремия6. Нужно было идти
против прежних понятий и против тех, кто внушил их. Я пошел, сначала
за*
463
H. A. Добролюбов
робко, осторожно, потом смелее, и наконец пред моим холодным
упорством склонились и пылкие мечты, и горячие враги мои. Теперь я
покоюсь на своих лаврах, зная, что не в чем мне упрекнуть себя, зная,
что не упрекнут меня ни в чем и те, которых мнением и любовью
дорожу я. Говорят, что мой путь — смелой правды — приведет меня
когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; но я сумею
погибнуть недаром. След., и в самой последней крайности будет со мной
мое всегдашнее, неотъемлемое утешение — что я трудился и жил не
без пользы...
Впрочем, это еще очень далекая история. А теперь я хочу на
некоторое время возвратить себе память минувшего и надеюсь, что Вы не
откажетесь помочь мне в этом своим письмом. Бывало, я любил беседы
с Вами, несмотря на то, что мы часто кололи друг друга; и мне даже,
может быть, доставалось более. Неужели теперь отвернемся мы друг от
друга, только потому, что наши дороги разошлись немножко? По крайней
мере я совсем не хотел бы этого. Надеюсь, что и Вы тоже. Пишите же
ко мне, В. В., о Вашей жизни, учении, успехах, об академии, ее дух.
устройстве и пр., о наших товарищах, о которых ничего не знаю вот
уже три года. Я бы сам написал к В. И. С(околову) 7, да не знаю
куда адресовать письмо. В академию — боюсь писать: там вы, вероятно,
все так заняты, что некогда и прочитать будет моего письма, не только
отвечать на него. Вот и к Вам я нарочно выбрал каникулярное время,
когда Вы не подавлены тяжестью возвышенных размышлений и имеете
свободные минуты для того, чтобы уделить время семинарским
воспоминаниям, которых Вы (почему знать?), может быть, и стыдитесь.
Но мне приятно думать, что Вы не стыдитесь меня, как человека, тоже
в свое время стыдившегося семинарии и только недавно понявшего
истинное ее значение — конечно отрицательное. Во всяком случае я жду
от Вас письма, жду с нетерпением.
Н. Добролюбов
3. И. И. СРЕЗНЕВСКОМУ
6 июля 1857. Нижний Новгород
Я не сомневаюсь, что Вы извините, Измаил Иванович, мое внезапное
отправление из Петербурга и неисполнение обещания быть у Вас перед
отъездом1. Вы так хорошо меня знаете, что не припишите этого
обстоятельства какому-нибудь низкому чувству неблагодарности, равно как
не увидите в этом коловратности моего характера, неуважительности к
Избранные письма
469
старшим и тому подобных милых вещей. Дело, разумеется, было просто.
Я до самого дня акта нашего (21 июня) не знал еще хорошенько,
когда я поеду. В этот день я был у Чернышевского, и там Пыпин
пригласил меня ехать вместе с ним на другой день. Товарищество это
было для меня, как можете вообразить, очень приятно, и я согласился.
Ездил я по городу целый вечер и целое утро, закупая кое-что —
начиная с чемодана и оканчивая булкой на дорогу,— и едва успел поспеть
к двум часам на чугунку. Пыпин уже ждал меня. Мы скромно
поместились в вагоне III класса и помчались до Твери. Поэтому я в
Петербурге решительно ни с кем не успел проститься, ни даже с Иваном
Ивановичем Давыдовым, моим благодетелем, незабвенным до конца дней
моих. Все, что успел я сделать,— состояло в том, что я препоручил
Златовратскому диссертацию Чичерина2, которою Вы одолжили меня.
Надеюсь, что она Вам доставлена в целости. Чувствую, что это с моей
стороны невежливо, но возлагаю все свое упование на Вашу
снисходительность ко мне, которой столько доказательств видел я, особенно
в течение последнего года.
Наши странствования были довольно занимательны для нас и
разнообразны. Приключения наши начались в Твери тем, что в гостинице
подали нам зеленую телятину (трактирщик уверял, что это потому,
что теленок был молодой, и Пыпин нашел подтверждение слов его в
русской поговорке: молодо-зелено). Затем от Твери до Рыбинска мы
несколько раз стояли на мели и были тащимы волоком по берегу, в то
время как пароход наш «Русалка» гордо и непоколебимо, как некая
пирамида, стоял на песчаном дне «Волги реченьки глубокой» 3. Немного
далее случилось кораблекрушение: пароход прорезало камнем, сделалась
течь, и нужно было откачивать воду. Когда рабочие парохода очень
утомились, за дело это принялись некоторые из пассажиров. Мы с
Александр. Николаевичем, как люди, любящие соваться в чужие дела,
отличились при сей оказии примерным усердием. Я даже выказал некоторое
самопожертвование, потому что, принявшись качать воду,— по своей
природной ловкости и благоприобретенной слепоте, зацепился за что-то
полою казенной шинели своей и великолепно разорвал ее. «Тако да
растерзан будет Главный педагогический институт в нынешнем его
состоянии», воскликнул я, воздевши очи к небу, и, полный
возвышенных мыслей, гордо щеголял в своем рубище до самого Нижнего. Между
Ярославлем и Костромой подверглись мы ярости стихий и выдержали
порядочную грозу, каких в Петербурге нельзя видеть и слышать ни за
какие деньги, даже в балагане у Гверры или Лежара, который так
пугал меня, мирного христианина, на святой неделе своими пушками.
Гроза эта с страшным ливнем, промочившим нас до нитки (полные
высших взглядов, мы поместились на палубе, без права входить в каю-
ты),— была мне первьш приветом с любезной родины...
470
H. A. Добролюбов
На любезной родине встретил я самый любезный прием, увидался
с любезными моему сердцу, окружен любезностями родных и знакомых —
с утра до вечера, но странно и стыдно сказать,— мне теперь уже, через
неделю по приезде, делается страшно скучно в Нижнем. Жду не дождусь
конца месяца, когда мне опять нужно будет возвратиться в Петербург.
Там мои родные по духу, там родина моей мысли, там я оставил
многое, что для меня милее родственных патриархальных ласк. Для меня
просто досадно и тяжело говорить это, но еще тяжеле было бы
молчать, и Вам, Измаил Иванович, передаю я состояние моего сердца,
как человеку, который в состоянии оценить мою откровенность и понять
ее надлежащим образом.
До сих пор пока у меня было несколько светлых минут —
непосредственно после приезда — в радости первого свидания; а затем самое
отрадное впечатление оставил во мне час беседы с Далем4. Один из
первых визитов моих был к нему, и я был приятно поражен, нашедши
в Дале более чистый взгляд на вещи и более благородное направление,
нежели я ожидал. Странности, замашки, бросающиеся в глаза в его
статьях, почти совершенно не существуют в разговоре, и таким образом
общему приятному впечатлению решительно ничто не мешает. Он
пригласил меня бывать у него, и сегодня я отправляюсь к нему, в
воспоминание веселых суббот, проведенных мною у Вас 5.
Прошу Вас передать мое глубокое почтение Катерине Федоровнеб
и сказать детям, что я их очень помню. Надеюсь, что и они не забыли
меня, исключая разве ветреной невесты моей, которая, разумеется, имеет
полное право забыть меня за то, что я, не простясь с ней, уехал7.
Я, впрочем, утешаюсь тем, что все это — не надолго.
Н. Добролюбов
P. S. На это письмо отвечать, конечно, не стоит; но если Вы
найдете нужным что-нибудь сказать мне, то адрес мой, до 25 июля: В Нижн.
Новг(ороде). В доме Благообразовой, на Зеленском съезде, напротив
Соборного дома.
4. М. И. ШЕМАНОВСКОМУ
12 сентября 1858. (СПб.У
Миша! Милый мой друг! Письмо твое страшно. Ты весь в каком-то
лихорадочном, отчаянном положении. Неужто такая полная безотрадность
господствует во всем, что окружает тебя? Неужто ни души живой нет,
ни одного существа мыслящего иди способного к мысли не встретил
Избранные письма
471
ты там? Грустно верить этому, Миша. Ты ничего не пишешь о
гимназистах: разве ты не сблизился с ними? Разве не старался пробивать
хотя в некоторых из них кору ковенской пошлости и апатии? Ради
бога, Миша, напиши мне об этом подробнее. Ведь ты знаешь, что вся
наша надежда на будущие поколения. Было время, и очень недавно,—
когда мы надеялись на себя, на своих сверстников, но теперь и эта
надежда оказывается неосновательною. Мы вышли столько же вялыми,
дряблыми, ничтожными, как и наши предшественники. Мы истомимся,
пропадем от лени и трусости. Бывшие до нас люди, вступившие в
разлад с обществом, обыкновенно спивались с кругу, а иногда попадали
на Кавказ, в Сибирь, в иезуиты вступали или застреливались. Мы,
кажется, и этого не в состоянии сделать. Полное нравственное
расслабление, отвращение от борьбы, страсть к комфорту, если не
материальному, то умственному и сердечному,— делает нас совершенно
бесполезными коптителями неба, негодными ни на какую твердую и честную
деятельность. Ты можешь подумать, что все это я пишу о тебе, желая
упрекнуть тебя в том, что ты так упал духом. Да, пожалуй, относи
и к себе все, что мной сказано: я тебя не исключаю из этой
характеристики нашего поколения. Но поверь, что я никого не исключаю
из нее и всего меньше себя. Разница между нами, в отношении к нашей
спячке, не очень велика. Один спит 24 часа в сутки, другой —23 часа
и 59 минут, третий 23 часа и 59 минут с половиной, с четвертью,
с осьмушкой, и так далее, но поверь, что разница нейдет дальше
одной минуты. При виде великих вопросов, подымаемых жизнью, при
заманчивой перспективе трудной и горькой, но плодотворной
деятельности, ожидающей новых тружеников, при воспоминании о великих уроках
истории — пробуждается иногда какая-то решимость, шевельнутся
проклятья, разольется сладкое чувство человеческой, идеальной любви по
всему организму,— но все это тотчас же и замрет, не успевши
выразиться даже и в слове, не только на деле. И это не только в себе
замечаешь; то же самое делается и с другими, кого любишь и уважаешь
за благородство и честность, на кого мы, бывало, возлагали наши
лучшие, святейшие надежды. Я хотел бы тебе написать много и горячо
о той мрачной, бессильной, ожесточенно-грустной тишине, которая
господствует теперь между нашими лучшими людьми, после тех
неумеренных надежд, каким предались три года тому назад... Но я не пишу
потому, что на письме такие вещи могут быть дурно поняты, и притом
я не знаю, до какой степени непохожи на господина Шпекина 1 ковен-
ские и прочие почтари. Неприятно было бы, если бы задушевное
описание, с помещением других лиц, попало бы вместо тебя черт знает
к кому.
Не в одном Ковне тяжело и грустно, мой милый Миша. Горько и
здесь, горько и в Москве, горько и в Казани. О Москве я знаю, да и
472
H. A. Добролюбов
ты, верно, знаешь, по Бордюгову 2, о Казани рассказывал мне Паржниц-
кий, уволенный из Казанского университета и приехавший сюда для
поступления в Мед. академию, что ему, кажется, не удается3. И он
значительноч укротился против прежнего. Но все-таки он моложе
сердцем, он более полн надежд и энергии, чем мы с тобой и с Ваней
Б(ордюговым). Это значит, что на нем не легла мертвенная апатия
русского крепостного народа, как легла она на нас всех. Он, между
прочим, недоволен тобой, хотя и не говорит решительного суждения,
подобно Мих(айловско)му и Щ(етло)ву, узнавшим о твоем письме к
брату в Казань. Ты в горькую минуту написал ему о Сахарове4, прося
его поклониться этому мерзавцу, поблагодарить его и т. д. Все это было
принято за чистую монету, не исключая и фразы вроде того, что
наставления Ив. Ал-ча были тебе очень полезны и что ты каждый день на
опыте убеждаешься все более и более в их справедливости. За это на
тебя воздвигалось негодование вроде того, как на меня за то, что я
валялся в ногах у Давыдова. Я, разумеется, выслушал все обвинения
на тебя довольно хладнокровно, потому что находился еще под свежим
впечатлением некоторых писем твоих, читанных мне в Москве Бордю-
говым (ты, надеюсь, за это не рассердишься?). Впрочем, и не зная
твоих писем, я бы не смутился от нелепого обвинения. Мне странно
и жалко всегда смотреть на людей, которые ни на какой степени
сближения не могут найти в душе своей достаточно доверия к, человеку.
Им все нужно казаться хорошим, нужно употреблять условные
учтивости и приличия, нужно танцевать на фразах. Ты можешь, кажется,
оскопить себя для них, и все-таки они будут подозревать тебя, если
какой-нибудь дурак скажет им, что ты в связи с их женами. Паржниц-
кий еще лучший из них, да и самое недоверие к людям в нем можно
извинить теми гадостями, какие случалось ему вытерпеть на своем
веку. Но другие... Вообрази, напр., что Щеглов (до сих пор не
отдавший мне 90 целковых) писал обо мне Турчанинову и Паржницкому,
что я вошел в дружбу с генералами, с бароном Корфом5, что я,
подделываясь под их образ мыслей, сочиняю статьи, в которых ругаю
нашего общего любимца из Вятки и его образ мыслей6, и что для
вящего позора подписываю под такими статьями имена своих товарищей,
именно Турчанинова и Александровича7. Турчанинов смутился этим и,
не имея под руками «Совр-ка», спрашивал Михалевского, правда ли это.
Мих-й передал ту же просьбу с вопросом Сциборскому, а Сциборский
разузнавал от Ник. Михайловского, который передал обо всем мне.
Паржницкий просил у меня «Совр»., чтобы поверить истину слов
Щеглова. Скажи на милость, не потеха ли это?..
Спеша отослать письмо, не распространяюсь о многом, о чем бы
хотел говорить с тобой. Пиши мне, ради бога. Это может облегчать
душу нам обоим. Советую тебе перемещаться из Ковна: если не будет
Избранные письма
473
лучше, то не будет и хуже,— а между тем разнообразие оживит тебя,
а впоследствии может и пригодиться.
Пиши теперь на мое имя,— на углу Лит(ейного) и Басс(ейной),
в доме Краевского (бывшем Норова). Я живу с Некр(асовым) в одном
доме и почти в одной квартире.
Н. Добролюбов
5. М. И. ШЕМАНОВСКОМУ
24 мая 1859. <СПб.>
Друг мой Миша, отвечаю тебе тотчас по получении твоего письма,
чтобы опять не затянуть времени на целые месяцы. Поверишь ли, что я
собирался к тебе писать чуть не каждый день, и все что-нибудь мешало
или лень нападала. Относительно же «Совр-ка» виновата, должно быть,
почта. Через несколько дней по получении твоего письма, т. е. в
половине, кажется, марта, я сообщил в конторе о твоем желании, тебя
записали в список, и ты должен был получить первые три номера вместе
с апрельским. Не далее как во вторник я справлюсь об этом деле, и тебе
книжки будут высланы непременно (если уже не высланы).
Теперь далее. Если можешь иметь какое-нибудь влияние,
посредственное или непосредственное,— на решение Жадовского, то употреби все
усилия, чтобы он написал что-нибудь и прислал в «Совр-к». Здесь,
должно быть, надеются, что не будет Ж<адовск)ий писать, и потому не
только сам К(окорев) 1 врет на него, но и какой-то г. В. П.
напечатал в «СПб. вед.», недели две тому назад, письмо, говорящее, что,
кажется, Ж(адовск)ий не считал и сам К<окоре)ва виноватым, или что-то
в этом роде2. Голос Жад(овского) в этом деле очень важен.
«Слово» польское запрещено3, редактор Огр<ызко> сидел в крепости,
по требованию Горчакова Варшавского 4, под претекстом сношения с
эмигрантами, по тому поводу, что напечатано было в «Slowie» письмо Леле-
веля, невиннейшего свойства. Огрызку посадили было на месяц. Но
государю представили до 20 (говорят) докладных записок и частных
писем по этому делу (в числе их были — одно от Тургенева и другое —
от Егора Ковалевского, брата министра), и Огрызко был выпущен через
две недели. А журнал все-таки остался запрещенным! Подписчики,
которые не захотят получить назад своих денег, могут получить вместо
Slowa «Volumina legum» 5, вновь издаваемые теперь Огрызкою (на что
разрешение он также получил после ужасных хлопот и с чрезвычайными
затруднениями).
'474
H. A. Добролюбов
Ваня, должно быть, горюет сильно; ко мне не пишет давно уж,
да и я к нему с месяц, кажется, не писал. Впрочем, нет — меньше:
на пасхе он был здесь,— это было около половины апреля, а с тех
пор я уже писал к нему. В июне или в начале июля думаю съездить
к нему, если только он будет в Москве.
Что ты клонишься ко сну,— это совершенно понятно; но не
засыпайся слишком долго... Поверь, что в жизни есть еще интересы,
которые могут и должны зажечь все наше существо и своим огнем осветить
if согреть наше темное и холодное житьишко на этом свете. Интересы
эти заключаются не в чине, не в комфорте, не в женщине, даже не
в науке, а в общественной деятельности. До сих пор нет для развитого
и честного человека благодарной деятельности на Руси; вот отчего и
вянем, и киснем, и пропадаем все мы. Но мы должны создать эту
деятельность; к созданию ее должны быть направлены все силы, сколько
их ни есть в натуре нашей. И я твердо верю, что будь сотня таких
людей хоть, как мы с тобой и с Ваней, да решись эти люди и
согласись между собой окончательно,— деятельность эта создастся, несмотря
на все подлости обскурантов... Верь, Миша, что пока мы сами себя
не заговняем, нас не задавит чужой навоз. Мы еще чисты, свежи и
молоды; сил в нас много; впереди еще две трети жизни... Мы можем
овладеть настоящим и удержать за собою будущее. Нечего унывать и
спать... Не спи, Миша, а лучше приезжай сюда летом или, осенью.
Твой Н. Добролюбов
Как понимать твои слова, что Сапор(овский)6 заслужил хорошее
мнение вятского общества! В том ли смысле, что он подлец, или только
фат и говорун? Кажется, скорее последнее.
6. И. И. БОРДЮГОВУ
5 сентября (1859. СПб.У
Миленький! Пока не наложили цензуры на язык, ты можешь
считать себя гораздо счастливее меня. Не знаю, как в Москве, а в
Петербурге) цензура свирепствует. Нет сомнения, что реакция
правительственная совершится довольно скоро, если особые обстоятельства не
заставят опять кричать. Здесь теперь запрещено писать дурно про
Наполеона1, и вследствие того запретили в «Совр.» статью, приготовленную
для сент. книжки. Кроме того, сделали историю из-за статьи о каком-
то «Городке» в «СПб. вед.»2 и обдирают все статьи и 1>зе выходки о
Избранные письма
475
крепост. праве. Рецензия моя о Пед. инст. тоже сделала неприятность
«Совр-ку»: переменили цензора3, хотели задержать книжку, и теперь
почти каждую статью рассматривают в целом ценз, комитете. Третьего
дня запретили целый роман («Полицмейстер Бубенчиков»), который
составлял более 10 печат. листов 4. Об откупах тоже запрещают писать,
и потому обобрали на четвертую долю статейку, которую сочинил я,—
о трезвости. В просьбе о разрешении новой газеты «Свисток»
отказано 5. С «Искрою» сочинена история за объявление о старце и ухе6...
Для «Истор. библ.» 7 разрешили было перевод Истории франц. крестьян
Бонмера, а теперь опять запретили 8> Не позволили даже одного
стихотворения Полонского9, в котором говорилось о сыне Наполеона!..
Словом — перетурка идет страшная... Только энергия Некрасова да
совершенная невозможность Черныш(евско)му — написать бесцветную
пошлость — дают надежду на то, что «Совр.» до конца года выдержит свое
направление. В этом месяце у нас запрещено листов 15, т. е. почти
половина книжки. Эта половина будет, разумеется, по скорости
заменена балластом; но и в оставшейся половинке будет кое-что... Впрочем,
«Совр.» выйдет теперь, вероятно, даже позже 15-го. Значит, я и в
сентябре не могу к тебе приехать. Если октябрьская книжка пройдет
благополучно и выйдет хоть к числу осьмому, то приеду в Москву по ее
выходе.
Я все хвораю. Раза два летом болели зубы, довольно сильно, нога
болела (т. е. в самом деле — нога), приливы к голове до сих пор
чувствую. Живу я теперь на новой квартире, в Моховой, дом Гутко-
вои, № 7, кв. № 1. У меня был Дмитр<евский>10, сообщил, что ты
весел и беззаботен,— слава создателю! — как говаривал, бывало, наш
общий друг — Щеглов. Анна Сокр. уехала в Саратов и там осталась; у меня
остался только ее портрет, который стоит того, чтобы ты из Москвы
приехал посмотреть на него... Я часто по нескольку минут не могу
от него оторваться, и чувствую, что влюбляюсь наконец в А(нну> С(окра-
товну). Это такая прелесть, что я не знаю ничего лучше...
Впрочем, мне еще надо оканчивать библиогр(афию). Прощай, пиши,
передай мое почтение М-т Армфельд и (с которою я почему-то
считаю себя знакомым) и расскажи о наших невзгодах тем москвичам,
которые будут сетовать о запоздалости «Совр-ка».
Твой весь
5 сент.
Н. Добролюбов
476
H. A. Добролюбов
7. И. И. БОРДЮГОВУ
20 сентября <1859. СПб.У
Миленький! «Современник» вылез наконец вчера, и я свободен,—
т. е. до первой присылки корректур, которые, вероятно, явятся завтра.
Пользуясь «сим кратким мигом», пишу к тебе несколько строчек,
долженствующих заключать в себе жалобы на судьбу. Жить мне,
действительно, очень тяжко приходится, и я начинаю думать, что это происходит:
1, оттого, что с тобой мы давно не видались;
2, оттого, что Анна Сократовна уехала в Саратов;
3, оттого, что цензура становится все хуже;
4, оттого, что «еще любви безумно сердце просит» 1...
Последнее обстоятельство едва ли не самое ужасное, по крайней мере
в настоящую минуту. Что ты станешь делать: дрянь мне не нравится,
а хорошим женщинам я не нравлюсь... Просто — хоть топись... Хочу все
«иссушать ум наукою бесплодной»2, и даже отчасти успеваю надуть
самого себя, задавая себе усиленную работу. Но иногда бывает
необходимость выйти из дома, повидаться с кем-нибудь по делам,— и тут
обыкновенно расстраиваешься на целый день. Несмотря на мерзейшую
погоду, все мне представляется на свете таким веселым и довольным;
только я совершенно один, недоволен ничем и никому не могу сказать
задушевного слова. В такие минуты я жалею об А(нне) С(ократовне):
с ней по крайней мере я мог говорить все, что приходило в голову
и в сердце. А теперь — черт знает что такое!.. Иногда ругаю себя,
зачем я не женился на ней, иногда мне приходит даже в голову,— зачем
я полтора года тому назад не женился на Терезе. У нас был бы
теперь ребенок, на которого я должен был бы изливать отеческие
попечения и, след., моя деятельность имела бы определенную, ближайшую
цель.. А та цель, которую я было предположил себе, оказалась вовсе
пе по плечу мне: нужно много еще учиться и-смотреть на людей,
чтобы хоть самому-то сделаться способным к ее достижению, не говоря
уж о других... А людей так мало, так мало — вовсе почти нет. В
последнее время я приобрел человек пять-шесть новых знакомых; но
только один из них до сих пор кажется мне порядочным человеком. Прочие —
современные либеральчики. Что-то у вас в Москве? Что Буренин? 3 Что
такое Иловайский? Я прочитал его статью о Дашковой в «Отеч.
записках»4. Это не бог весть что такое: выкрадка из записок
Дашковой и из статьи Герцена в «Пол(ярной) звезде». Но все-таки он может,
кажется, писать эффектные статьи или по крайней мере выбирать
эффектные предметы. Нет ли у него еще чего-нибудь — готового или
начатого? И не даст ли он порядочной статьи в «Совр-к»? Поговори ему
и спроси, что получил он от Краев(ского) за свою статью о Дашко-
Избранные письма
/<77
вой. Если бы у него оказалось что-нибудь теперь, это было бы очень
хорошо, потому что «Совр.» нуждается теперь в статьях подобного рода.
На октябрь у нас только и есть скучное продолжение Безобраз(овских)
статей о позем, кредите 5, да статья «о каторжниках», которой, пожалуй,
и не пропустит цензура 6. Остальное придется все самим сочинять. Хоть
бы ты помог, что ли!..
В Москву я бы приехал с радостью, если бы ты обещал влюбить
меня там в кого-нибудь и заставить при этом забыть все печали мира.
Но ведь ты не имеешь столько чародейственной силы, так, стало быть,
зачем же я и поеду? Лучше уж ты сюда приезжай: здесь хоть
памятник Николаю Павлычу посмотришь, а у вас в Москве чего я не видал?
Давыдова, что ли?.. А кстати — что же ты не благодарил меня за
прощальное слово Дав-ву7, сказанное б прошлой книжке «Современника»?
Я думаю, он был доволен моим приветом его падшему величию... По
крайней мере Никита8 остался доволен на свой счет и говорил кому-то из
студентов: «Читали вы, как в «Совр-ке» Дав-ва и Смирнова ругают? Это
все Добр-в пакостит»... Сердечный — слона-то и не заметил в моей
рецензии...
Милейший! Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить
«Песню Еремушке» Некрасова, напечатанную в сент. «Совр-ке». Замени
только слово «истина» — равенство,— «лютой подлости» — угнетателям;
это — опечатки, равно как и вить в 3-м стихе, вместо вишь. Помни
и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к
молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости. Боже
мой! Сколько великолепнейших вещей мог бы написать Некрасов, если
бы его не давила цензура!..
Для любителей полноты запрещенных вещей, сообщу тебе еще два
дополнения к стихам Апухтина, молодого правоведа, подающего
надежды9. В стих. «Песни» перед последним куплетом есть еще куплет:
Так вот и кажется: с первым призывом
Грянут они из оков
К вольным степям, к нескончаемым нивам,
В глубь необъятных лесов...
В стих. «Селенье», точки в предпосл. куплете замени стихами:
С ваших плеч спадут оковы,
Перегнившие на вас.
В полит, обозрении сентября обрати внимание москвичей на то, что
говорится об австрийских либералах 10.
Пиши ко мне, пожалуйста.
Твой
Н. Добролюбов
478
H. A. Добролюбов
8. A. П. ЗЛАТОВРАТСКОМУ
16 ноября —16 декабря 1859. <СПб.>
Обещался ты мне писать, Александр Петрович, не дожидаясь моего
письма, а между тем обещания не исполнил. Что с тобою делается?
Как идет твоя рязанская жизнь? Что ваше общественное мнение, п пр.?
Помнится, ты хотел сообщать мне разные подробности на этот счет,
и я очень желал бы знать их, особенно теперь, когда к возбуждению
юлков есть так много поводов. Уважь, пожалуйста, пришли что-нибудь
рязанское.
Наши дела здесь идут плоховато: крутой поворот ко времени до-
крымскому совершается быстро, и никто не может остановить его.
Разумеется, за всех и прежде всего платится литература. Я бы не стал
говорить о ней, потому что ее стеснения слишком ничтожны в
сравнении с общей ретроградной реакцией; но, во-первых, она мне ближе
известна, а во-вторых, на ней отражаются все попятные шаги всех
министерств. Поэтому скажу тебе несколько слов. Чтобы не пускаться
вдаль, расскажу тебе судьбу последних нумеров «Современника». На
сентябрь набран был роман Филиппова «Полицм. Бубенчиков» К Объем его
был 11 листов печатных. Один цензор — Оберт — его запретил; но в это
самое время его отстранили от «Совр.» за пропуск рецензии Акта 30-
летия Института 2. Другой цензор — Палаузов — тоже затруднился и внес
роман в комитет. Комитет возвратил, с требованием переделки, так, чтобы
не было тут ни губернатора, ни других важных лиц. Переделали, потом
цензура еще оборвала, и роман мог явиться только через полтора
месяца (уже в окт. книжке), потерявши почти 7з, конечно, самую
сильную... Между тем сент. книжка наполнилась мелкими статейками для
замещения романа; и из этих статеек запрещено несколько. Напр.,
статья «О дворовых» запрещена м-вом внутр(енних) дел, на том
основании, что она «несогласна с видами правительства». А в ней говорилось,
что так как дворовые землей не владеют, а теперь дело идет о земле,
то нельзя ли с ними порешить поскорее, дав им свободу приписываться,
и пр. Статья о соврем, состоянии Франции запрещена потому, что
(будто бы) Наполеон присылал нарочного — жаловаться на статью
Павлова в «Рус. вест.» 3 и что поэтому запрещено о нем отзываться дурно,—
да кроме того, перед тем была цензурная история из-за статейки
«Инвалида» о Виллафр. мире4 (вследствие чего он перестал помещать у
себя «общие обозрения» политические). Статья о трезвости ходила два
месяца по цензурам и наконец пропущена, утратив заглавие («Народное
дело») и третью долю текста — все, что говорилось об откупщикахг
и об отношении откупа к народу5. Об откупах, видишь ли, говорить
нехорошо — тоже не ладится с видами м-ва финансов. Федоровский хо-
Избванные письма
*79
тел отвечать Кокореву6, и для начала послал было один документик в
«СПб. вед.»: не позволили напечатать. Для октябрьской книжки была
набрана статья: «Каторжники»7. Ее отправили в Сибирский комитет,
к Буткову; Бутков пропустил8, заметив, что большая часть статьи
относится не к нему, а к ведомствам м-ва внутр. дел, юстиции и духовного.
Послали в м-во внутр. дел; там пропустили на том условии, ежели
автор берет на себя ответственность за все, что говорит о чиновниках.
Потом в юстицию; там согласились; духовные тоже пропустили. К ним
относились места о раскольниках. Впрочем, нет: тут вышла забавная
история. Каждый цензор, разумеется, помарывал кое-что в статье (она
была 47г листа; увидим, много ли останется); духовный же, арх.
Федор 9, вымарал все, что было о раскольниках, да и подписал: со
стороны дух. цензуры нет препятствия. Получив от Федора, мы думали,
что наконец можно будет печатать статью — хоть уж в ноябр. книжке.
Не тут-то было: нужно было отправлять к воен. и финансовому цензору.
Места, относящиеся к военной цензуре, мы сами вымарали, чтобы
ускорить дело. После финансов, цензуры думали — конец. Ничего не бывало:
цензор потащил-таки статью в ценз, комитет, а ценз. ком. решил
представить в Главн. управление> цензуры, и книжка опять выйдет без
этой статьи. Неизвестно, попадет ли она и в декабрь.
3-го октября издан циркуляр, чтобы от всех редакций и автороь
цензура требовала фактических доказательств, когда они что-нибудь
представляют обличительное. Таким образом, один господин пишет, что
мальчишек секут в корпусах; от него требуют справку: где, когда и
кого высекли, и чем он это докажет. Иначе печатать не позволяют.
И все в таком роде.
16 декабря.
Не знаю, почему не дописал и не отослал я это письмо к тебе,
Александр Петрович. Теперь нашел я его и вздумал отослать без
дальнейших рассуждений: охоты нет говорить о всех мерзостях, какие здесь
делаются. Говорили было о совершенном преобразовании цензуры под
управлением Корфа 10; но это лопнуло. Некоторые жалеют, другие
радуются; но и то и другое — глупо. Корф ли, Ковалевский ли11—всё
единственно: стеснения, придирки, проволочки, малодушие и раболепство
на каждом шагу...
Прощай. Пиши ко мне.
Твой
Н. Д.
480
H. A. Добролюбов
9. С. Т. СЛАВУТИНСКОМУ
22 февраля <1860. СПб.У
Добрейший Степан Тимофеевич,
Вы совершенно напрасно расстраиваетесь тем, что следует считать
«отрадным явлением». Что мальчик удавился1 — это, по-моему, очень
хорошо; скверно то, что другие не давятся: значит эта болотная
ядовитая атмосфера пришлась как раз по их легким, и они в ней
благоденствуют как рыба в воде. Вот что скверно. А то — удавился! Велика
важность! Неужели Вас это изумило и озадачило? Неужели Вы
предполагали, что наши гимназии не способны привести к удавлению
человека мало-мальски привыкшего к другой атмосфере, нежели в какой
мы все возросли и воспитались? И неужели Вы жалеете этого болгара,
предполагая, что он мог ждать себе какого-нибудь добра в земле
русской? Нужно было пожалеть его, нужно было волноваться и возмущаться
в то время, когда он ступил на русскую почву, когда он поступил в
гимназию. А теперь надо радоваться! И я искренно радуюсь за него и
проклинаю свое малодушие, что не могу последовать его примеру.
Назначение Панина 2, ссылка Унковского и Европеуса3, пожалование
во что-то виленского Бибикова4, полицейские разбои в Харькове и
Киеве 5, беззаконный обыск и домашний арест у профессора Павлова в
Петербурге 6, благонамеренные тенденции барона Модема7 — вот новости,
которые теперь всех занимают здесь не менее, чем Молинари — Москву8.
Харьковскую историю, о которой донесено в виде бунта, Вы, вероятно,
знаете... Может быть слышали уже и о том, что по какой-то связи с
нею вдруг пришли обыскивать П. В. Павлова, якобы соучастника
мятежников. И общество молчит; несколько яростных юношей кричали было
об адресе государю по этому случаю; над ними все смеются.
Барон Медем изволил показать либерализм: одному цензору выговор
ласковый дал за то, что тот вымарал в одной статье слово вольный
в фразе: вольный казак. К сожалению, мне не хотели сказать имя этого
цензора; но я подозреваю, что 2/з из теперешних цензоров способны
сделать такую помарку. Можете судить, как обуял их дух страха и
холопства и как быстро может совершиться переход к елагинским
временам 9. Медем обратил внимание на «С-к» как на журнал «опасный»,
и перевел его от Бекетова к другому цензору, какому-то Рахманину 10.
Определен, говорят, по рекомендации Панина. А уж и Бекетов-то
в последнее время был хорош! У меня в прошлом месяце запретили
статью о духовенстве и и пощипали статью о Пирогове 12. В нынешнем
Бекетов вымарал полтора листа, целую половину из статьи о новой
повести Тургенева 13; я, разумеется, статью должен был бросить. А он
пренахально спрашивает: отчего же я не хотел печатать свою статью!
Избранные письма
4*1
О Ваших рассказах тоже написал я статью н, которой фон не лишен был
гвоздиков: вот мол человек, не сочиняющий приторных дифирамбов и
эклог насчет русских мужичков, не умеет мол он этого, потому —
не художник, как Григорович с Писемским и т. д. А в русской мол
жизни у него попадаются такие задатки, каких «образованному»
обществу и во сне не снилось. Отчего мол это? Не оттого ли, что он сознал,
да и пришла пора сознать, что народ не игрушка, что ему деятельная
роль уже выпала в нашем царстве и пр. Все это было обставлено,
конечно, литературным элементом, и все эго выщипано... и остался один
только этот литературный элемент или лучше сказать — черт знает что
осталось... Просто смотреть гадко...
Но делать нечего: не съеживаться же от первых неудач. Подержимся
еще. На следующую книжку пишу о «Грозе», о «Горькой судьбине»
и о «Légende des siècles» 15. Пусть запрещают, коли хотят. Я удвою
свои труды и вдвое сокращу расходы, но писать буду продолжать в
прежнем духе и по возможности не стану печатать статей с
искажениями.
22 февр.
Ваш
Н. Добролюбов
10. С. Т. СЛЛВУТИНСКОМУ
(Начало марта 1860. СПб.}
Почтеннейший Степан Тимофеевич, обозрение я получил только вчера
и тотчас же пробежал его и вторую половину отправил в типографию,
с утра ждавшую оригинала. Но относительно некоторых мест первой
половины, особенно начала, я намерен вступить с Вами в диспут и
тем смелее, что Вы сами изъявляете недовольство началом и просите
поправить. Поправлять тут нечего; но первые вступительные страницы
я, если бы Вы позволили, решительно оставил бы, заменив их
вступлением от редакции, более согласным с ее постоянными воззрениями.
Помилуйте, мы вот уже третий год из кожи лезем, чтоб не дать
заснуть обществу под гул похвал, расточаемых ему Громекой и К01;
мы всеми способами смеемся над «нашим великим временем, когда»,
над «исполинскими шагами», над бумажным ходом современного
прогресса, имеющим гораздо меньший кредит, чем наши бумажные деньги.
И вдруг Вы начинаете гладить современное общество по головке,
оправдывать его переходным временем (да ведь других времен, кроме
переходных, и не бывает, если уж на то пошло), видеть в нем какое-то
31 Н. А. Добролюбов
482
H. A. Добролюбов
сознательное и твердое следование к какой-то цели!.. Я не узнал Вас
в этой характеристике общества. Я привык находить в Вас строгий
и печально-недоверчивый взгляд на всякого рода надежды и обещания.
А тут у Вас такой розовый колорит всему придан, таким блаженством
неведения все дышит, точно будто бы Вы в самом деле верите, что в
пять лет (даже меньше: Вы сравниваете нынешний год с прошедшим)
с нами чудо случилось, что мы поднялись, точно сказочный Илья
Муромец... Точно будто в самом деле верите Вы, что мужикам лучше жить
будет, как только редакционная комиссия кончит свои занятия,
и что простота делопроизводства водворится всюду, как только
выгонят за штат тысячи несчастных мелких чиновников (Вы
знаете, что крупных не выгонят)... Нет, Степан Тимофеевич, умоляю
Вас, оставьте эти радужные вещи для слепца Каткова, новобрачного
Феоктистова2, добросердечного (в деле ума) Леонтьева3 и проч. Пусть
эти восторги современным движением явятся лучше в диссертации Ра-
чинского4 о движении высших растений, нежели в обозрении
«Современника». У нас другая задача, другая идея. Мы знаем (и Вы тоже),
что современная путаница не может быть разрешена иначе, как
самобытным воздействием народной жизни. Чтобы возбудить это воздействие
хоть в той части общества, какая доступна нашему влиянию, мы
должны действовать не усыпляющим, а совсем противным образом. Нам
следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и
улучшений, надо вызывать читателей на внимание к тому, что их' окружает,
надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать
отдыху — до того, чтобы противно стало читателю все это богатство
грязи и чтобы он, задетый наконец за живое, вскочил с азартом и вымол-,
вил: «да что же, дескать, это наконец за каторга! Лучше уж пропадай
моя душенька, а жить в этом омуте не хочу больше». Вот чего надобно
добиться и вот чем объясняется и тон критик моих и политические статьи
«Современника» и «Свисток»... И при этом-то станем мы лелеять публику
уверениями, что все хорошо и прекрасно, когда,, сами знаете, что все
скверно (сами это Вы писали мне в последнем письме), да будем петь
Жуковского:
Било девять! В добрый час
Спите: бог не спит за вас...5
Нет, этого Вы сами не хотите, а между тем начало Вашего обозрения
так и просит себе в эпиграф эти стихи...
Не обидьтесь, пожалуйста резкостью моих слов и не примите их
за что-нибудь журнальное: я пишу Вам сгоряча, только что просмотрев
еще раз начало обозрения и не говоривши о нем ни с кем ни слова.
В письме моем — мое крепкое, хотя и горькое убеждение, которое дорого
мне, как плод.всего, чему я учился, что я видел и делал, дорого, как
Избранные письма
483
ключ для всей моей дальнейшей жизни. Надеюсь, что Вы уважите это
убеждение, которое, впрочем, не очень далеко и от Ваших.
Я жду от Вас скорого ответа. Напишите, согласны ли Вы не
печатать первых страниц обозрения и видеть перед ним несколько
замечаний от редакции, после которых будет, конечно,— тире.— Потом о двух
пунктах: о Ростовцеве6 Ваши строки не пропустят; позвольте заменить
их другими, даже с выпискою из «Нашего времени» 7. Далее о заштатных
чиновниках Ваш отзыв жестокосердно тяжел; позвольте или совершенно
исключить, или переменить его... Вот и все. Напишите поскорее. Книжка
наша с новым цензором не поспеет ранее, как к 20-му. Обозрение будет
напечатано в конце; значит, Ваш ответ, если поторопитесь, придет еще
вовремя.
Ваш Н. Добролюбов
P. S. Забыл: скажите: в каком № «Одесск. вестн.» рассказ о
задержанном поверенном и извозчике 8. Это надо для цензуры.
У Вас в руках статейка моя о Тургеневе9. Пожалуйста, не
распространяйте ее, чтобы шуму не было. Я ее переделал и представил опять
в цензуру; благодаря тому, что у нас цензор теперь другой, она
пропущена. Впрочем, вторая половина получила совсем другой характер,
немножко напоминающий начало Вашего обозрения. Что делать...
11. А. П. ЗЛАТОВРАТСКОМУ
(Около 20 апреля 1860. СПб.>
Спасибо, Александр Петрович, что не забываешь меня своими
письмами. Жаль, что я не мог тебе отвечать все это время, чисто по гнусной
лености. Я подвергался в течение зимы разным болестям, ничего почти
не делал, обленился до последней степени и теперь только что оживаю
немножко. Твои вести, большею частию мрачного свойства, не очень
трогали меня, потому что у нас здесь дела идут еще хуже, чем у вас,
людей порядочных едва ли больше, а дела столько, что страх берет...
Все как-то напряжено, и все томится в жалчайшем бездействии. Все
лазареты переполнены сумасшедшими, и все, говорят, большею частию
молодые люди, и очень порядочные; дуэли, самоубийства, пощечины,
сквозь строй за мордобитие начальства — чаще, чем когда-нибудь. Самыа
нелепые слухи принимаются и приводят в волнение. Харьковская
мизерная история и здесь чуть было не раздулась в заговор Петрашевского 1.
рассказы о судах, обысках и пр. ходили страшные. Один, впрочем,.
31*
484
Я. А. Добролюбов
обыск — у проф. Павлова — был действительно, хотя и не имел
последствий 2. И все промолчали на это нарушение права человека на
спокойствие в своем углу; один серб 3, с которым я встречаюсь кое-где, никак
не мог понять,— каким же это образом профессора не протестуют против
такого нарушения, как же это можно молчать. Но наши ученые
передовые мужи возражали ему весьма логично: как же можно протестовать?..
Так они друг друга и не поняли.
В литературе начинается какое-(то) шпионское влияние. Всегда
пропускались исторические статьи, как бы ни было близко описываемое
в них положение к нашему: теперь велено обращать на это строжайшее
внимание и не пропускать никаких намеков. О русской истории после
Петра запрещено рассуждать. Гласность, дошедшая до геркулесовых
столбов в деле Якушкина4, опять обращается вспять: недавно состоялся
циркуляр, чт(о)б(ы> не пропускать в печать никаких личностей. На
литературных чтениях Общества пособия нужд, литераторам запрещались
многие пьесы уже из напечатанных, как, напр., «Горькая судьбина»,
которую хотел прочесть Писемский, «Песнь Еремушке» в полном
составе (т. е. как напечатана в «Современнике») и пр.. Можешь судить
о приятности нашего положения. Половина статей, являющихся в
журнале, являются в искаженном виде; другая половина вовсе бросается.
А между тем Панин предлагает в Комиссии вместо бессрочного
пользования крестьян землею — срочное; между тем разменной монеты нет
и курс рубля бумажного равняется 90—94 коп; жалованья'в военном
ведомстве не выдают по нескольку месяцев; штаты сокращают на целые
сотни и тысячи чиновников, и пр. и пр. И уверяют, что вся причина
недовольства заключается в литературе!..
Но полно об этом. Надо тебе сказать о твоих просьбах: их исполнить
нельзя. О Милле ты сам уж теперь знаешь, что он еще и не готов,
а будет в течение года переводиться в «Современнике». А Карновича
обзор, может, и будет продаваться, но не раньше конца этого года5. Ты
как-то дико выписал мне свои соображения об уловках: если так, то
каждая хорошая статья, напечатанная в «С-ке», есть уловка, всякая
литературная собственность есть уловка. Не забудь, что статьи покупаются
журналом и что ему вовсе нет выгоды разоряться, отрекаясь от права
собственности на купленную статью для того, чтобы дать возможность
приобрести всякому только эту статью, а не весь журнал. При таких
расчетах журнал не может существовать.
Прощай покамест.
Твой Н. Добролюбов
Избранные письма
485
12. H. A. НЕКРАСОВУ
8 <20У июля (1860. ИнтерлакенУ
Сейчас получил я Ваше письмо, Николай Алексеевич, и очень кстати:
сегодня я в хорошем положении, по случаю превосходной погоды, и
потому могу Вам отвечать несколько толково. А когда идет швейцарский
дождь и небо делается совсем петербургским, а я должен сидеть,
затворив окно, один в комнате, совершенно один, без всякого ангела,— тогда
я начинаю немного мешаться и пускаюсь в философию, предписывающую
смотреть на жизнь, как на нечто весьма ничтожное.
Недавно, в таком расположении, я написал к Чернышевскому письмо
следующего содержания: «Конечно, мне полезно и нужно было бы
прозимовать за границей, но так как отсюда писать не совсем удобно
(главное— по незнанию петербургского ветра), а я уже и то «Современнику»
очень много должен, то я и считаю необходимым возвратиться, чтобы
заработать свой долг и потом умереть спокойно».
Расчет этот я и теперь признаю «весьма благородным»; но как меня
поотпустило немножко, то я и нахожу, что он сделан очень накоротке.
Кажется, лучше будет рассчитывать более на долгих. Вместе с погодою
и с несколькими прогулками по Альпам ко мне пришло некоторое
сознание своих сил и надежды на будущее. Теперь я думаю: что за беда,
если я задолжаю вам лишнюю тысячу в этом году (больше тысячи не
будет разницы против того, как если бы я был в Петербурге), зато
в следующем году буду в состоянии крепче работать. Не ручаюсь,
впрочем, чтоб это расположение было во мне прочно. По временам на меня
находят такие горькие мысли, что я не знаю, куда мне деваться. Не
мудрено, если в одну из таких минут я приму решительное намерение
удрать в Россию и удеру.
Вы, может быть, спросите: точно ли нужно мне оставаться за
границей. По совести сказать Вам: нужно. Моя поездка до сих пор
принесла мне пока только ту пользу, что дала мне почувствовать мое
положение, которого в Петербурге я не сознавал за недосугом. Грудь у меня
очень расстроена, да оказалось, что и нервы расслаблены совершенно:
почти каждый день мне приходится делать над собой неимоверные
усилия, чтоб не плакать, и не всегда удается удержаться. И не то, чтобы
причина была,— а так, какое-то неопределенное недовольство, какие-то
смутные желания одолевают, воспоминания мелькают, и все вместе так
тяжело! К этому прибавьте, что меня, начиная от Дрездена, по всему
пути преследовала гнуснейшая погода, что я дорогой ни с кем не
знакомился (не стоило хлопотать) и что в течение полутора месяца я не
получал ни одного известия из России. В Дрездене я почувствовал себя
особенно дурно, после путешествия по Эльбе на пароходе, в сырую и
дождливую погоду. Кашель усилился, горло заболело, дышать стало
486
H. A. Добролюбов
тяжело; я пошел к д-ру Вальтеру. Тот и послал меня в Интерлакен
лечиться сывороткой. Приехав в Инт(ерлакен), я был очень плох, и к
тому же застал здесь проливные дожди и холод. Тоска меня взяла смертная,
я думал, что мне и излеченья нет. Вздумал было я раз подняться на
одну из самых маленьких гор здешних,— так куда тебе — часа два
откашляться и раздышаться не мог. Но две недели здешней жизни уже
укрепили меня несколько: на днях я взбирался на Гисбах, водопад в
1200 футов, и сошло благополучно. Вчера ходил на Абендберг, около
2000 ф. кажется, и только к концу пути почувствовал слишком
усиленное биение сердца, а грудь ничего. И веселее несколько стал я:
отвел душу в беседах с профессором Гротом г.
Не знаю, как будет дальше, но теперь здоровье мое идет к лучшему,
только медленно, и вот почему я убежден, что двух месяцев мне
недостаточно для настоящего поправления. Надо бы в сентябре отправиться
к морским купаньям куда-нибудь в Средиземное море, а потом зиму
прожить в Италии. Горько мне одно: что «Свистка» опять издавать не
будем из-за этого. Как Вы на этот счет думаете?
Но будет о себе. Кое-что напишу о делах. Прилагаю для этого
особенный листок, так как этот уже весь исписан.
NB. Напишите мне решительно: приезжать или оставаться. Я
положусь на Ваше решение.
13. Н. А. НЕКРАСОВУ
23 августа (4 сентября*) 1860. Диепп
Плохо, Николай Алексеевич: обрабатываем мы себя без всякого
резону! Хотелось бы утешить Вас, да знаю я, что бывают смешны эти
запоздалые утешения, приходящие из-за тысяч верст спустя несколько
недель, когда уж утешаемый находится совсем в другом настроении или,
ежели и горюет, то уж по другим причинам, которых утешающий и не
подозревает. Ваше письмо пришло ко мне за два дня до моего отъезда
из Интерлакена; я хотел написать Вам уж из Парижа, увидавшись с
Ав<дотьей> Як(овлевной) *. Но в Париже сказали мне, что она еще
28-го июля, т. е. накануне того дня, когда Вы писали письмо ко мне,
уехала из Парижа. Куда уехала,— никто не мог мне сказать, но я думаю,
что — тотчас по получении Вашего уведомления — она бросилась в СПб,
Как-то Вы встретились?
То-то, Николай Алексеевич,— много Вы на себя напускаете лишнего!
Что это за отчаяние в себе, что за жалобы на свою неспособность
появились у Вас? Вы считаете себя отжившим, погибшим! Да помилуйте,
Избранные письма
487
на что это похоже? Вы в сорок лет еще сохранили настолько
свежести чувства, что серьезно увлекаетесь встречною девушкой, вы
разыгрываете любовные драмы, мучитесь ими сами и мучитие других,
привлекаете, с одной стороны, пламенную и чистую любовь, с другой — горькую
ревность,— и все это принимаете к сердцу так сильно, как я никогда
не принимал даже своих преступлений, совершенных подло и глупо.
С чего же Вы берете, что Вы отжили? Что же после этого я должен
думать о себе? Знаете ли, какие странные сближения делал я, читая
Ваше письмо. Я сидел за чаем и читал в газете о подвигах Гарибальди,
именно о том, какой отпор дал он Сардинскому, когда тот вздумал
его останавливать. В это время принесли мне письмо Ваше; я, разумеется,
газету бросил и стал его читать. И подумал я: вот человек,—
темперамент у него горячий, храбрости довольно, воля твердая, умом не
обижен, здоровье от природы богатырское, и всю жизнь томится желанием
какого-то дела, честного, хорошего дела. Только бы и быть ему
Гарибальди в своем месте. А он вон что толкует: карты-спасительницы нет,
говорит, летом, оттого я и умираю. А на дело, говорит, неспособен,
потому что стар. Да, помнится, Гарибальди в 48 году был тех же лет,
а вон еще он какие штуки выделывает, спустя 12 лет. У того, правда,
идея, желание сильное; а мы даже и пожелать-то уж хорошенько не
можем. Однако же надо сознаться, что сердечный жар-то в нас не угас:
судьба девочки нас очень трогает, да и сознание своего безделья
тревожит. Отчего же это мы так положительно уверяем, что ни на какое
путное дело неспособны? Не отговорка ли лености, не туману ли
напускаем мы сами на себя?
Вы, разумеется, ссылаетесь на то, что рано стали жить и жечь свои
силы. Да ведь их еще все-таки довольно осталось. А что Вы жить-то
рано стали, так это именно потому, я думаю, что сил было много, что
рвались они наружу, кровь кипела. Вот у меня мало крови, жидка она,
так и не жил я и не хотел настоящим образом жить. Что ж из того,
что мои силы не тратились? Я и денег много не тратил, а все-таки
у меня их мало. Вы растратили много сил и сокрушаетесь, точно
миллионер, который потерял 900 т. и затем считает себя уже нищим!
Да знаете ли, что если б я, в мои 24 года, имел Ваш жар, Вашу
решимость и отвагу, да Вашу крепость, я бы гораздо с большей
уверенностью судил не только о своей собственной будущности, но и о
судьбе хоть бы целого русского государства. Вот как!
А что дела-то нет — «да нужно прежде дело дать» — это ведь пустая
отговорка, как Вы сами знаете. Есть Вам дело, есть и применение ему,
и успех ес'ь, разумеется, не такой, как для повестей Т(ургенева),
например; да ведь и Вы же далеко не Т<ургенев>, которому каждую зиму
надо справить сезончик литературный. Вы знаете, что серьезное дело
работается не вдруг и не сразу дается, но зато оно остается надолго,
488
H. A. Добролюбов
распространяется широко, делается прочным достоянием наций.
Посмотрите-ка на современное движение в Европе: и оно ведь идет тихо,
а идет несомненно. Что же мы-то, неужели должны оставаться чуждыми
зрителями? Вздор, ведь и мы в Европе, да еще какой важный вопрос
теперь у нас решается, как много нам шансов стать серьезно наряду
с Европой...
И в это время-то Вы, любимейший русский поэт, представитель
добрых начал в нашей поэзии, единственный талант, в котором теперь есть
жизнь и сила, Вы так легкомысленно отказываетесь от серьезной
деятельности! Да ведь это злостное банкротство — иначе я не умею назвать
Ваших претензий на карты, которые будто бы спасают Вас. Бросьте,
Некрасов, право — бросьте. А то хотя другого-то не бросайте: поверьте,
прок бу^дет. Цензура ничему не помешает, да и никто не в состоянии
помешать делу таланта и мысли. А мысль у нас должна же прийти
и к делу, и нет ни малейшего сомнения, что, несмотря ни на что, мы
увидим, как она придет.
Я пишу Вам это без злости, а в спокойной уверенности. Не думаю,
чтоб на Вас подействовали мои слова (по кр(айней) мере на меня ничьи
слова никогда не действовали прямо) относительно перемены образа
Ваших занятий; но, может, они наведут Вас на ту мысль, что Ваши вечные
сомнения и вопросы: к чему? да — стоит ли? и т. п. не совсем законны.
Вы мне прежде говорили, да и теперь пишете, что все перемалывается,
одна пошлость торжествует и что с этим надо соображать жизнь. Вы
в некоторой части своей жизни были верны этой логике; что же вышло?
Хорошо? Довольны Вы? Опять мне суется в голову Гар<ибаль>ди: вот
человек, не уступивший пошлости, а сохранивший свято свою идею;
зато любо читать каждую строчку, адресованную им к солдатам, к своим
друзьям, к королю: везде такое спокойствие, такая уверенность, такой
светлый тон... Очевидно, этот человек должен чувствовать, что он не
загубил свою жизнь, и должен быть счастливее нас с Вами, при всех
испытаниях, какие потерпел. А между тем я Вам говорю не шутя,—
я не вижу, чтобы Ваша натура была слабее его. Обстоятельства были
другие, но теперь, сознав их, Вы уже можете над ними господствовать...
Вы, впрочем, сами знаете все это, но не хотите себя поставить на
ноги, чтобы дело делать. А не хотите — стало быть, есть тому причина;
может, и в самом деле неспособны к настоящей, человеческой работе,
в качестве русского барича, на которого, впрочем, сами же Вы не
желаете походить. Черт знает — думаю-думаю о Вас и голову теряю.
Кажется, все задатки величия среди треволнений; а между тем величия-то
и нет как нет, хотя, если посмотреть издали, так и треволнения-то были
еще не особенно страшны.
Впрочем, каждому свой чирей страшен,— об этом что говорить?
Я только напираю на то, что еще в 40 лет не имеет права считать себя
Избранные письма
489
отжившим и неспособным тот, кто еще в эти годы умеет влюбляться
и мечтать о сердечном обновлении.
Не умею Вам и сказать, как бы я рад был за Вас и за себя, если
бы Вы за границу приехали. Только как же «Сов-к»-то? Он мне тоже
близок и дорог. Как Вы с ним хотите распорядиться? В июле Вы уж
и повести никакой не поместили; Карновичем отделались. Что это за
чепуху написал он о Гар(ибаль)ди!! 2 Надо же было, чтоб ему
попались самые дикие рт бессмысленные книжонки по этой части. Ведь 9/10
того, что он пишет, вовсе не бывало. Уж лучше бы он взял просто
мемуары Дюма3 да и передул бы их все целиком. Тот хоть и врет,
но несколько связнее. Внутр. обозрение, кажется, ухнуло?4 Не
забудьте Слав<утинско>го: он ведь должен «Сов-ку» много; за «Беглянку»
он просил 75 р. с листа,— забыл я, кажется, сообщить Вам это. Коли
стоит и коли внутр. обозрения он не будет писать, так возьмите уж
повесть за эти деньги. Да разыщите Грыцька статью о «Рус. Правде» 5;
за нее тоже деньги заплачены. А Федорова комедия? 6 Тоже ведь
заплачена. Все деньги и деньги... И мне Вы тоже деньги предлагаете*
сверх того, что я забрал. Я не прочь, ежели только Вам удобно мне
отделить что-нибудь сверх платы за статьи. Только что Вы за счет
такой взяли — 6000? Я не понимаю основания этой мерки. По-моему, надо
считать все-таки за статьи, почем с листа, а к этому прибавить тот
процент, который, по-Вашему, можно назначить. Тогда разделение будет
вернее: 1, между мною и Черн<ышевски)м, 2, между нынешним годом,
в к<ото)ром я почти ничего не делал, и следующими, в которые я
надеюсь делать гораздо больше. Впрочем, как у Вас с Черн(ышевски)м
выйдет, так и сделайте.
Цензура к «С-ку» нехороша, и это на денежную часть может иметь
большое влияние. Впрочем, только бы не запретили, а подписка,
вероятно, будет не хуже прошлогодней, даже лучше.
Мне покамест денег не нужно: но по петерб. квартире и разным
расходам нужно будет, и я уже просил, через Черн<ышевско>го, Ип-
<поли)та Александровича)7, чтобы он выдавал. Да еще написал я, что
в случае выхода замуж сестры моей, от меня может она получить, если
будет нужно для жениха, до 1000 р. Исполнение этого обещания тоже
зависит от Вас: переговорите на этот счет с Василием) Ивановичем)8.
Да, кстати, возьмитесь серьезно за моего дядю и устройте его.
Я Вас сильно не просил о нем с самого начала, потому что не знал егог
а навязывать Вам его, как своего дядю, не хотел. Но теперь я узнал
его, проживши с ним год, и уже просто рекомендую его Вам, как
человека умного, деятельного и в высшей степени честного. Он может с
успехом подвизаться в частной службе, особенно где нужны
разнообразные хлопоты и беготня. Напр., он бы отлично мог вести дела вроде
конторско-журнальных и вообще в коммерческих и акционерных обще-
490
H. A. Добролюбов
ствах был бы очень полезен. В службе казенной он мог бы идти только
при самостоятельной работе и беспристрастном внимании,— что отыскать,
конечно, очень трудно. Место же, на котором он теперь, ни к черту
для него не годится. Я уверен, что с доброю волею и хлопотами Вы
можете для него нечто сделать. А устроивши его, Вы сделали бы хорошее
дело и обязали бы меня не меньше, чем лишними деньгами, которые
мне предоставляете.
Я теперь купаюсь в море: хорошо очень. До 1-го сентября стар,
стиля я пробуду: Dieppe, Rue Ancienne Poissonnerie, № 15. Потом с
неделю пишите в Париж, ежели случится: Hôtel S-te Marie, Rue Rivoli,
№ 83. A затем Vevey, в Швейцарию, poste restante.
Видел я дважды Случевского9: такой же. Сераковского 10 встретил
в Париже: побывал в Англии, толкует о Брайте11 и произносит франц.
слова на английский лад. Он поймал нас с Обручевым 12 в мобиле. А
Обручев стал еще лучше, или по крайней мере я узнал его теперь лучше,
чем прежде.
Поклонитесь от меня Ав<дотье> Як<овлевне>, если она приехала,
и скажите, что я жалею, что не видел ее.
Ваш Н. Добролюбов
Перестаньте, пожалуйста, напускать на себя хандру: от нее Вы и
больны-то больше делаетесь...
14. К. Д. КАВЕЛИНУ
1(13) января 1861. Ницца
Так как письмо к Вам, добрейший Константин Дмитриевич, должно
непременно касаться предметов возвышенных, то считаю за нужное
начать его вопросом о здоровье Берггольца 1 и Стасова2, а потом, по
известному изречению, перейти к поздравлению Вас с Новым годом.
Желаю Вам в этом году меньше испытать разочарований и держать более
счастливые пари, чем в прошлом году3. Признаюсь Вам — 13-го (т. е.,
по-вашему, 1-го) ноября я ожидал от Вас телеграфической депеши
и радостно готовился послать Вам по телеграфу мой проигрыш,
рассчитывая наверстать его дешевизною продукта, который был поставлен
нами в игру... Впрочем, за важными прениями о бедном брате, за
сокрушениями о гниении Европы, за хлопотами о более удобном размещении
большей части статей Свода законов со всеми продолжениями, за
глубокими соображениями относительно нового века4, за трудами по
опубликованию злонамеренности некоторых; петербургских литераторов, ста-
Избранные письма
491
рающихся бросить тень на комитет общества вспоможения5, и тр. и пр.,
словом, за высокими подвигами государственной, профессорской и
филантропической мудрости — Вы, вероятно, забыли смиренного юношу,
осмелившегося однажды усомниться в убыточности некоторых Ваших надежд?
Позвольте же теперь освежить вашу память некоторыми подробностями.
Это был прекрасный день, чуть ли не пасхальный. Вместе с снегом
растаяли сердца и только что исчезли некоторые надежды, периодически
возвращающиеся к каждому празднику. Я, помнится, с обычной
скромностью намекнул об этом обстоятельстве; Вы, как истинный профессор
и философ (Вы же тогда обдумывали, кажется, поправки к статье о
Гегеле), взяли на себя труд великодушно объяснить мне: что надежды
лопнули, потому что были неосновательны; что ни в апреле, ни в мае
плодов ждать еще нельзя было; что гораздо благоразумнее ждать их
в последних числах августа или в первых сентября; и что кто хочет
быть вполне уверен в своих надеждах, тот должен их отложить до
октября. С глубоким вниманием выслушал я великие истины и смиренно
заметил, что кто решительно уже не хочет обмануться, тот должен совсем
отложить надежды и всякое попечение. Тогда Вы воспламенились и
произнесли мне целую беседу (отчасти русскую, но более ламанекую6)
о ввозе и вывозе, о джентри7 (то было время процветания Утина) 8,
о Николае Милютине9 и князе Черкасском 10, о гласном
судопроизводстве, о местах, в которых не позволено жить в России евреям, о
похвальных качествах русского мужика и еще более похвальных свойствах
редакционной комиссии и члена ее Залесского и... Всего не припомню,
но знаю, что о Залесском было много и о Спасовиче немножко12... Вы
были шумно прекрасны во время Вашей речи. Соня 13 назвала Вас
бегемотом тогда, но я не был с нею согласен,— я не знал, на что Вы
были похожи. Только уже гораздо позже догадался я, что Вы походили
в те минуты на архангела Михаила, как он изображен на fontaine de
St. Michel в Париже. Проходя раз по Севастопольскому бульвару
и узревши вдруг этого архангела, изливающего потоки живой воды,
я невольно вспомнил Ваш грозно-светлый, вдохновенный лик, с живыми
речами, обещавшими столько благ к октябрю, для меня и для всей
России... Я теперь с умилением вспоминаю эти речи. Но — «юность нам
советует лукаво», и я, по молодости лет, решился тогда ответить на Вашу
восторженную речь новым сомнением. Тогда — тогда Вы прибегли к
последнему средству — пари! Я не отказался. Но тут Вы постыдно струсили
и сделали два шага назад: первый, что Вы говорили не о деле, а только
о формальном заявлении, второй — что сроком взяли уже 1-е ноября.
Я взял оба эти шага и укрепился в новой позиции, оставленной Вами,
хотя она и не была так удобна, как моя прежняя. И что же? Где
1-е ноября и где формальное заявление? Есть здесь добродушные люди,
которые даже сегодня веруют, что именно сегодня-то и исполнились
492
H. A. Добролюбов
надежды, которые Вы возлагали на 1-е ноября. Вы скоро, я думаю,
узнаете их мечты «на Новый год», напоминающие мне любострастных
стариков, которые уж и сил не имеют, и пощечины получают, не говоря
об осмеиванье, а все-таки лезут к девушкам... Но я, благодаря моего
создателя,— поукрепился здесь отдыхом и потому на 1-е января смотрю
совершенно так же, как и на 1-е ноября. Мало того,— Вы, верно,
возлагаете теперь упование на 19-е февраля, потом на 17-е — апреля, на
пасху, и т. д. Не имею я никаких прямых известий из России и не могу
держать пари на долгий срок. Но даже по тому, что можно заключить
из непотребных корреспонденции Nord'a и Ind. Belge, я готов с Вами
побиться еще о бутылке на 19-е ф<евраля>. Будет — мы квиты, не будет —
две пьем при моем возвращении или при другом удобном случае.
Хотите ли? Я думаю, Вы опять согласитесь: ведь из всех благ небесных,
Вам отпущенных в таком изобилии, с особенным излишком отпущена
на Вас «надежда, кроткая посланница небес».
Впрочем, я вижу, что письмо принимает несколько аллегорический
вид: даже что-то из Жуковского приплелось. Поэтому лучше возвратиться
к действительности. Она состоит для меня теперь в Жеребцове н,
Всеволожских, Тимашеве-Беринге, Скрипицыне, Голицыных, Урусовых,
Долгоруких, Тол<я>х, и т. п.5. с которыми я каждый день встречаюсь,
а с некоторыми даже вступал в объяснения (впрочем, не с Берингом
и не с Жеребцовым). Встречи эти делают из меня нечто Ъроде сына
отечества и даже в некоторой степени русского инвалида 16. Несмотря
на прелестный климат, здоровье мое здесь расстроилось: хандра дошла
почти до петербургской степени. Жду только присылки денег, чтобы
уехать. Если вздумаете ответить, то напишите во Флоренцию, poste restante.
Антонине Федоровне писал я из Парижа, прикинувшись кротким
и незлобным 17. Если она поверила, то была, я думаю, в отчаянии, и
только этому я приписываю, что она не могла до сих пор прийти в себя
и написать мне ответ на такое задушевное послание, единственное в
своем роде. Пусть же утешитАя: старинное расположение вовсе не
пропало у меня, а только засыпало на несколько минут, именно тех, когда
я писал письмо к ней.
Ваш Н. Добролюбов
Если Вы считаете «за подлость» писать ко мне или в самом деле
очень заняты, то не напишет ли хоть милый друг мой Митг? 18 Если
очень много ошибок наделает,— обещаю возвратить письмо с поправками.
Впрочем, надеюсь, что он без меня поправился в русском языке.
Избранные письма
493
15. H. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
12(24) июня 1861. Мессина
Мне было очень жаль, добрый Николай Гаврилович, что мои
отношения с самыми близкими людьми становились было на такую точку, на
которой они должны были рвать по три раза начатые ко мне письма.
Незадолго до Вашего предпоследнего письма Обручев 1 писал мне то же
самое; а Авд(отья) Як(овлевна) 2 и дослала письмо, да вслед за ним
через день пустила в погоню другое — с комментариями. Вероятно,
во всем этом виноват был я, и мне остается только просить
великодушного прощения. Я и готов это сделать, хотя, к несчастью, не понимаю
до сих пор, в чем состоит моя вина. К счастью, последнее мое письмо
заслужило Ваше одобрение, и я несколько утешился.
В Вашем изложении изумительных перемен, происшедших в русском
обществе во время моего отсутствия, я мало понял. Вспомнил только
Ваши же слова: «все мы очень хорошо знаем историч. законы, а чуть
дело коснется до нас, мы сейчас же готовы уверять себя, что мы-то
и должны составить исключение».
Впрочем, я рад. Я даже еще прежде Вашего письма приходил в такие
расположения, за которые Обр(учев) выругал меня чем-то вроде
моветона и иллюзиониста. Но при всех моих благородных расположениях,
при всей доброй воле, я не потерял способности судить о своих
собственных средствах. Жить мне не бог знает как сладко (как и многим
другим, вероятно), и если б было такое дело, которое можно бы
порешить курциевским манером3,— я бы без малейшего затруднения
совершил Курциев подвиг, даже не думая, чтобы его можно было ставить
в заслугу. Но ведь нужно не это, нужна другая работа, которая мне
не под силу — как нравственно, так, главным образом, и физически. Вы
радуетесь, что начали чувствовать себя «похожим на человека», по
Вашему выражению; а я именно чувствую, что на человека-то походить
я и неспособен, как Евг. Корш оказался, напр., неспособным к
изданию журнала4. Я знаю, что, возвратясь в Петербург, я буду
по-прежнему заказывать у Шармера платье, которое будет на мне сидеть так же
скверно, как и от всякого другого портного, ходить в ит(альянскую)
оперу, в которой ничего не смыслю, потешаться над Кавелиным и
Тургеневым, которых душевно люблю, посещать вечера Галаховых и
Аничковых5, где умираю со скуки, наставлять на путь истины Случев-
ского и Апухтина, в беспутности которых уверен, и предпринимать
поездки в красный кабачок, не доставляющие мне никакого удовольствия. Что
бы там у вас не делалось, а для меня нет другой перспективы. Я это
сознаю слишком ясно, и, может быть, это-то сознание Вы и приняли
за досаду в моем письме. Досады никакой не было — уверяю Вас, было
нечто совсем другое. Я решался в то время отказаться от будущих ве-
494
В. А. Добролюбов
ликих подвигов на поприще российской словесности и ограничиться, пока
не выучусь другому ремеслу, несколькими статьями в год и скромною
жизнью в семейном уединении в одном из уголков Италии. Поэтому
вопрос о том, сколько мог бы я получать от «Сов-ка», живя за
границей, был для меня очень серьезен. Я бы не думал об этом, если б
был один, но у меня есть обязанности и в России, и я знал, что при
прежней плате за статьи и при перемене жизни я не мог бы
вырабатывать достаточно для всех. Ваше упорство не отвечать мне на мои
вопросы отняло у меня возможность действовать решительно, и
предположения мои расстроились и, может быть, навсегда 6.
Вы скажете, что если б мои предположения были так существенно
важны для меня, то я не дал бы им расстроиться из-за таких
пустяков? Скажете, что при серьезном решении я и писать должен был не
так, как Вам писал тогда? Правда, но что же делать, если в моем
характере легкомыслие и скрытность соединяются таким образом, что я
даже перед самим собой боюсь обнаружить силу моих намерений и
начинаю чувствовать их значение для меня только тогда, когда уже
становится поздно.
Впрочем, бог с ним, с моим характером. Не подумайте только, ради...
ради чего хотите,— что я Вам делаю упрек. Нет — Вас упрекать я,
вероятно, и никогда бы не подумал, а теперь я нахожусь в таком состоянии,
что никого упрекать не могу: я совершенно потерялся и не умею уж
различать, что для меня лучше, что хуже. Час тому назад просил, чтобы
мне дали пива; не дали и, вероятно, не дадут; что ж, я напился
скверной воды и теперь думаю, что, может, это еще лучше.
Все это написалось не знаю зачем; надо бы собственно писать только
о моем возвращении. А то, пожалуй, Вы, по привычке не дочитывать
письма, самое-то главное и пропустите. Чтоб привлечь Ваше внимание,
сделаю большой Absatz. Можете с него и начинать чтение письма.
Когда Вы это письмо получите, я, вероятно, буду уже в любезном
отечестве или близко от него. Отсюда еду с первым пароходом, кажется,
послезавтра. Несколько дней должен пробыть в Афинах; боюсь даже,
чтобы не пробыть целую неделю, если не будет другого парохода. Я бы
теперь и вовсе туда не поехал, да поручений набрал из Рима и
Неаполя — вот и надо исполнить. А в Неаполе замедлил я тоже, благодаря
H. M. Благовещенскому: поехал в описанные им Бойи, простудился там
и дней десять был довольно серьезно болен,— хотел было скрючить меня
прошлогодний бронхит, да перед неаполитан. солнцем не устоял. Это
я все говорю к тому, что мое прибытие в Петербург против моих
расчетов оттягивается недели на две. Но это пустяки. Я хотел в Одессе
или где-нибудь на южном берегу остаться недели на две для купаний,
начатых в Палермо и Мессине очень неудовлетворительно. Затем я
намерен был из Москвы проехать в Нижний и пробыть дней десять с
Избранные письма
495
своими. Все это теперь, по моим расчетам, задержало бы меня до первых
чисел августа. Но само собою разумеется, что я могу приехать и в
первых числах июля: купанья мне не важны, а к своим в Нижний
могу съездить и после, в сентябре или октябре. След., напишите мне
в Одессу,— да, пожалуйста, не деликатничайте со мною,— когда Вы
хотите ехать в Саратов и когда мне нужно приезжать. Может быть, Вы
успеете устроить так: выпустивши июльскую книжку, дать какую-нибудь
работу в типографию на неделю, поручить присмотреть за нею кому-
нибудь и ехать. Тогда мы могли бы условиться свидеться в Нижнем,
или же Вы могли бы оставить мне записку о всем, что нужно
сделать для след. книжки. Да, вероятно, и Некрасов не так уж болен, чтоб
решительно не в состоянии был заниматься. А письмо его — недоброе...
Не дай бог никому получать такие записочки за границей от близких
людей. Успокаивает меня только то, что Вы ничего не говорите о его
болезни. Но, пожалуйста, напишите мне в Одессу,— что он и как. Ведь
кроме Вас да его у меня никого нет теперь в Петербурге. В некоторых
отношениях он даже ближе ко мне... Вы для меня слишком чисты,
слишком безукоризненны как-то, и от Вашего доброго, оправдывающего
слова мне иногда делается неловко и тяжело, как не бывает тяжело
от резкого осуждения Некрасова.
Так пишите же, пожалуйста,— не знаю, есть ли в Одессе обычай
оставлять письма на почте... Если нет, то адресуйте в Hotel de Londre,—
но это не верно, потому что я там остановлюсь только первоначально.
Могут, впрочем, передать,— все равно.
В Одессе буду я не позже 25 июня ст. ст. Буду ждать Вашего
письма около 1-го июля и сообразно с ним расположу дальнейшую
поездку.
Денег мне, пожалуй, и хватит до СПб, а может, и нет. На всякий
случай пошлите в Одессу рублей 200. Только уж тут не знаю, как с
почтой.
Нет ли в Одессе кого-нибудь из знакомых, кого полезно бы отыскать.
Напишите.
Маркович еще не писал, потому что не знаю, где она теперь — во
Флоренции или уж в Париже7. Но в Афинах найду от нее письмо
и тогда сообщу ей все, что нужно. Перед отъездом она дала мне начало
повести, которая должна быть недурна, но, кажется, назло мне, будет
длинновата 8.
Статейка о Кавуре в разных приемах гуляет теперь по всем морям 9.
Конечно, к июню не поспеет. Но кажется — будет достаточно отличаться
от других биографий, так что может быть помещена и в июле, если бы
пропустили то, для чего она написана.
Ваш Н. Добролюбов
ПРИЛОЖЕНИЯ
32 H. A. Добролюбов
H. A. ДОБРОЛЮБОВ - ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК И ПУБЛИЦИСТ
1
Имя Добролюбова, одного из выдающихся представителей русской
общественно-литературной мысли, живет в памяти передового человечества
как имя гениального критика, блестящего публициста, историка,
пламенного агитатора и поэта-сатирика. В бурную эпоху шестидесятых годов,
когда под натиском революционных сил колебались устои
крепостнической империи, Добролюбов вместе с Чернышевским возглавил подъем
демократических сил в стране, стал признанным вдохновителем
прогрессивного движения того времени. Он стоял в самом центре литературной
борьбы, в самой гуще современной жизни.
Несмотря на свою молодость, Добролюбов пользовался громадной
популярностью среди читателей и приобрел большую власть над умами
современников. Его статьи, напечатанные без подписи или под
псевдонимом, проникали и в отдаленные углы России. В Тамбове и Вятке, в
Рязани и Харькове раскрывали книжки «Современника», где печатались
его статьи, с таким же чувством, с каким в сороковых годах ждали
«Отечественные записки» со статьями Белинского.
Читатели позднейших поколений нередко представляли себе
Добролюбова как автора лишь нескольких блестящих литературно-критических
статей — об Островском, о Гончарове, о Тургеневе. Но подлинный
Добролюбов — не школьный, не хрестоматийный — неизмеримо шире и
разнообразнее. Если сегодня заново перечитать его сатиру в «Свистке»,
его лирику, где отчетливо слышны некрасовские интонации, и особенно
его рецензии, то станет ясно, как многообразно наследие Добролюбова,
как оно насыщено мыслями, до сих пор живыми и нужными.
О чем только не писал Добролюбов! Он охотно касался событий
международной жизни (достаточно вспомнить цикл статей об Италии) ; он
следил за развитием антиколониального движения на Востоке,— в статье
по поводу восстания сипаев в Индии (1857 г.) с глубоким сочувствием
говорится о том, как индийский народ просыпается от векового сна.
32*
500
В. В. Жданов
Он интересовался историей социалистических учений на Западе (статья
«Роберт Овен и его попытки общественных реформ»). Он размышлял
о. путях исторического развития России, подвергая критике реакционные
взгляды славянофилов. От вопросов истории он переходил к вопросам
естествознания, после истории литературы обращался к педагогике,
философии и психологии.
В одной из своих рецензий Добролюбов рассуждал о значении торфа
для народного хозяйства России. В другой со знанием дела критиковал
исследование о торговле на украинских ярмарках, оперируя
статистическими данными, выкладывая целые столбцы цифр. В третьей излагал
догмы и моральные нормы буддизма, сравнивая его с христианством
и — между строк — развенчивая миф о Христе. В четвертой обосновывал
прогрессивную методику преподавания географии. В пятой товорил об
авторитете учителя, который должен служить идеалом для учеников.
Но о чем бы ни шла речь в его статьях, какую бы тему, пусть
даже далекую от современности, ни затрагивал Добролюбов, он всюду
вносил дух боевого, непримиримого демократизма.
В статьях, посвященных русской истории, Добролюбов выдвигал на
первое место народ как движущую силу исторического развития; его
езгляд на роль личности в истории резко противостоял концепциям,
принятым в официальной историографии, карамзинской «государственной
точке зрения». Выдающимся социологом Добролюбов проявил себя в
статье «От Москвы до Лейпцига», где высказаны замечательные мысли
о положении рабочего класса в Западной Европе, находящегося под
двойным гнетом— не изжитого еще феодализма и растущей
капиталистической эксплуатации. По этой причине, указывал Добролюбов, имея в виду
события революции 1848 г., «теперь в рабочих классах накипает новое
неудовольствие, глухо готовится новая борьба, в которой могут
повториться все явления прежней» *.
Многие выступления Добролюбова способствовали утверждению
материалистических принципов в изучении природы, в области естественных
наук и философии. Разоблачению философского идеализма, мистики,
лженаучных теорий Добролюбов посвятил несколько статей и рецензий
(«Органическое развитие человека...», «Об истинности понятий» и др.).
Однако важнейшей частью деятельности Добролюбова была
литературная критика. Он по праву считал себя идейным наследником
Белинского, продолжателем его работы в русской литературе, работы во имя
освобождения народа. Он писал, что влияние великого критика «ясно
чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и
благородного» 2. Статьи самого Добролюбова и были в первую очередь тем
1Н. А. Добролюбов. Собр. соч., в 9 томах, т. 5. М.— Л., 1962, стр. 459. Далее
цитаты из статей Добролюбова приводятся по этому изданию.
2 Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 4, стр. 277.
Добролюбов — критик и публицист
501
«прекрасным и благородным», на чем ясно чувствовалось влияние
Белинского. Недаром Некрасов, связанный узами дружбы с обоими
критиками, находил, что в Добролюбове во многом повторился Белинский-
Спустя три дня после смерти Николая I (1855) Добролюбов прочел в
газете «Северная пчела» статью реакционного литератора Н. И. Греча,
начинавшуюся словами: «Плачь, русская земля! Не стало у тебя отца».
Глубоко возмущенный этим бесстыдным восхвалением самодержца,
Добролюбов в тот же день написал гневный ответ Гречу3. В своем письме он
саркастически высмеял попытки прославить «благочестие» царя, его «на-
родолюбие», «правосудие» и «великодушие». «Пожалуй, можно сказать,—
писал Добролюбов,— что он любил народ, как паук любит муху,
попавшуюся к нему в паутину, потому что он высасывает из нее кровь (...)
как тюремщик любит арестантов, без которых ему самому некуда было
бы деваться...» В течение тридцати лет Николай I подавлял
прогрессивные стремления русского общества. Он «объявил преступлением,—
говорилось в письме,— всякое проявление самосознания, всякую светлую«
мысль о благе и справедливости, всякое покушение защищать
собственную честь против подавляющего тиранства и насилия...» 4
Добролюбов иронизировал, разоблачал, негодовал. Письмо,
обращенное к Гречу, превратилось в революционную прокламацию, острый
памфлет на николаевское царствование и на самого Николая I. В нем кипело
благородное возмущение человека, охваченного ненавистью к деспотизму
и раболепию. В то же время оно было согрето искренней любовью к
задавленному, страдающему народу. Письмо было насыщено фактами,,
историческими примерами, что придавало доводам автора неотразимую
убедительность. Политическая непримиримость в оценке крепостного
режима, сдержанно-страстные интонации, ясность и сила мысли — все это
живо напоминало о Белинском, о письме его к Гоголю.
Письмо было подписано «Анастасий Белинский». Анастасий по-грече^-
ски значит — воскресший. Отсюда можно заключить, что автор письма-
не только хотел напомнить врагам грозное для них имя Белинского,—
он хотел сказать, что Белинский жив, что его революционное дела
продолжает новое поколение борцов, которое в новых условиях будет
действовать с непримиримостью, достойной своего учителя.
Ранний политический памфлет Добролюбова очень важен для
характеристики его идейного развития. И нелегальные стихи, и статьи в
подпольной рукописной газете «Слухи» (1855), и этот памфлет
свидетельствуют, что задолго до окончания Главного педагогического
института уже сформировались революционные взгляды будущего критика.
3 Принадлежность этого анонимного памфлета Добролюбову убедительно обоснована,
в 1951 г. Б. П. Козьминым («Лит. наследство», т. 57. М., 1951, стр. 7—24).
4 Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 1, стр. 102.
502
В. В. Жданов
2
Статья Добролюбова, положившая начало его работе в
«Современнике», появилась в августовской и сентябрьской книжках журнала за
1856 г. Она была подписана псевдонимом, образованным из последних
слогов имени и фамилии автора: Н. Лайбов. Этой подписи вскоре
суждено было приобрести громкую известность в русской
журналистике. Несмотря кч свою, казалось бы, академическую историко-
литературную тему —■ подробный анализ одного из журналов XVIII века,
«Собеседника любителей российского слова»,-— статья Добролюбова
отличалась публицистической остротой и в своих принципиальных
положениях совпадала с позицией «Современника» в литературных вопросах.
В то же время в оценке литературно-общественных явлений прошлого
автор расходился с их общепринятой трактовкой, установившейся в
академической науке.
На первых же страницах Добролюбов жестоко высмеял критику,
которая забыла о своих прямых задачах, перестала влиять на судьбу
литературы и погрузилась в тесный мир библиографических подробностей,
интересных разве лишь немногим специалистам. Он заявлял: «Уважаю
я труд библиографа, знаю, что и для него нужно некоторое
приготовление, предварительные знания, как для. почтальона нужно знание
городских улиц; но позвольте же мне более уважать критика, который дает
нам верную, полную, всестороннюю оценку писателя или произведения,
который произносит новое слово в науке или искусстве, который
распространяет в обществе светлый взгляд, истинные благородные
убеждения (...) И долго будет в обществе отзываться звучный, ясный голос
этого критика, долго будет чувствовать народ благотворное влияние его
убеждений, его горячей, смелой, задушевной проповеди» 5.
В сущности, Добролюбов рисовал здесь образ Белинского, говорил
о его благородной деятельности. Это была и программа самого
Добролюбова, давно намеченная им для себя. В первый раз выйдя на
общественную трибуну, он энергично и смело выразил свой взгляд на
задачи критики. Первой своей статьей он как бы расчищал поле для
будущей работы, заявлял о своих симпатиях и антипатиях, определяя
друзей и врагов.
И знаменательно, что враги тотчас же откликнулись: ближайший
номер либерального журнала «Отечественные записки» вышел с
полемической статьей, направленной против Н. Лайбова и пытавшейся
опровергнуть его суждения о журнале, выражавшем мненш Екатерины II,
я о беззубой дворянско-помещичьей сатире XVIII в.
«Она была прочтена всеми,— вспоминал И. И. Панаев о первой статье
Добролюбова.—«Скажите, кто писал эту статью?»—слышались беспре-
5 Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 1, стр. 184.
Добролюбов — критик и публицист
503
станные вопросы»6. «Кто такой г-н Лайбов, автор статьи о
«Собеседнике»,— запрашивал Тургенев 25 октября 1856 г. В. П. Боткина из
Парижа. Через несколько дней он обращался с тем же вопросом уже
к Панаеву7. Некрасов, стремясь поддержать интерес Тургенева к
молодому литератору, советовал ему внимательно читать отдел критики
«Современника». Он писал ему в Рим 25 декабря 1857 г.: «...ты там найдешь
местами страницы умные и даже блестящие: они принадлежат
Добролюбову, человек очень даровитый» 8.
3 .
Общественное возбуждение второй половины пятидесятых годов
захватило целиком страстную, жаждущую большого дела натуру
Добролюбова. Слухи о крестьянских волнениях, разговоры о предстоящей
отмене крепостного права создали напряженную атмосферу ожидания
серьезных перемен в русской жизни. Записи в дневнике Добролюбова,
относящиеся к зиме 1857 г., показывают, с каким обостренным
вниманием он следил за развитием «крестьянского вопроса».
Известность его к этому времени была уже настолько велика, что к
нему, студенту, обращались с заказами столичные издатели. «Во вторник
пришел ко мне А. И. Глазунов, и мы с ним условились, что я напишу
книжку к 15 марта. В задаток получил я 25 рублей» 9. Книжка, о которой
говорится в дневнике Добролюбова от 6 февраля 1857 г.,— популярная
биография Кольцова, предназначенная для юношеского чтения. Молодой
исследователь с увлечением принялся за работу. Образ Кольцова,
поэта-самоучки, поднявшегося из самых низов народной жизни, с детства
вызывал его симпатии. Биография поэта служила теперь превосходным
материалом, позволявшим поднять серьезные вопросы, волнующие
демократическую интеллигенцию. Кольцовская муза — свидетельство
неиссякаемой талантливости народа, придавленного вековым гнетом. Понимая это,
Добролюбов посвятил вводную главу своей работы рассказу о
«замечательных русских людях из простого звания». «Если мы обратимся к
истории,— писал он здесь,— то найдем, что из простолюдинов наших очень
нередко выходили люди, отличавшиеся и силой души, и светлым умом,
и чистым благородством своих стремлений...» 10 Для примера он
ссылается на «темного нижегородского мещанина» Козьму Минина, спасшего
Россию в тяжелое время, костромского крестьянина Ивана Сусанина, ар-
6 И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Редакция текста, вступ. статья и
примеч. И. Г. Ямпольского. М., 1950, стр. 319.
7 И. С. Тургенев. Письма, т. III. М.—Л., 1963, стр. 23 и 27.
8 H. A. H е к р а с о в. Поли. собр. соч., т. 10. М., 1952, стр. 375.
9 Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 8, стр. 558.
10 Н. А. Д о б р о л ю б о в. Собр. соч., т. 1, стр. 397.
504
В. В. Жданов
хангельского мужика Ломоносова, заключавшего в себе «целую академию
и университет», нижегородского мещанина Кулибина, знаменитого
русского механика. Кольцов, по мнению критика, занимал видное место
среди этих людей, вышедших из народа и кровно с ним связанных. Было
бы ошибкой думать, что кольцовские песни замечательны только тем,
что их автор принадлежал к «простому званию»,— они представляли
собой выдающееся явление прежде всего благодаря своей глубокой
жизненной правдивости, искренности чувства, подлинной поэтичности.
Добролюбов во мчогом опирался на известную статью Белинского о
Кольцове. Но, развивая взгляды своего великого предшественника, его
суждения о народном поэте, он с еще большей остротой поставил
«социальные вопросы»; в соответствии с духом времени он особо тщательно
рассмотрел народные основы и реализм поэзии Кольцова.
С осени 1857 г. Добролюбов начал работать в редакции
«Современника». Чернышевский быстро оценил его талант и образ мыслей; не
колеблясь, он поручил ему вести важнейший отдел журнала —
литературную критику и библиографию. Он сказал при этом: «Пишите о чем
хотите, сколько хотите, как сами знаете. Толковать с вами нечего.
Достаточно видел, что вы правильно понимаете вещи». Сам Чернышевский
занялся теперь исключительно историей, экономическими и
научно-философскими вопросами, полностью переложив на Добролюбова
осуществление литературной политики журнала. Некрасов также безгранично
доверял новому сотруднику; всего через несколько месяцев Добролюбов
сделался одним из членов редакции журнала п.
С приходом Добролюбова соотношение сил в «Современнике» резко
изменилось. Чернышевский и Некрасов получили в его лице мощное
подкрепление, что не замедлило сказаться на общем облике журнала. Его
революционно-демократическое направление вырисовывалось все более
резко. Борьба с либерально-дворянской группой, еще занимавшей
значительное место в журнале, заметно обострялась. «Журнальный
триумвират», стоявший теперь во главе «Современника», сумел придать ему
характер боевого органа передовой мысли, отражающего нарастание
освободительного движения в стране.
4
Политические позиции «Современника» в конце пятидесятых годов
определялись стремлением к революционным преобразованиям,
признанием крестьянства главной революционной силой современного общества.
Пропаганда материализма и атеизма, разоблачение идеалистической
реакции характеризуют философское направление журнала. Борьба за реали-
11 См. об этом выше, письма Добролюбова, стр. 488—497.
Добролюбов — критик и публицист
505
стическую литературу, отражающую нужды и чаяния народа, за
выдвижение писателей, находящих смысл своей деятельности в служении
народным интересам, становится основой литературной программы
«Современника».
В таких условиях предстояло Добролюбову погрузиться в
редакционные дела журнала. С жаром принялся он за работу, вкладывая в нее
всю страстность борца, самоотверженность неутомимого труженика,
человека идеи и долга. И даже люди, скептически относившиеся к
появлению этого «мальчишки», вчерашнего студента в редакции солидного
журнала, даже те, кто, глядя на него, утверждали, что литература
окончательно «провоняла семинарией», должны были с удивлением отдать
должное его уму, знаниям, вкусу, блестящей одаренности и
образованности.
Оценивая работу Добролюбова в «Современнике», Некрасов в своей
речи на похоронах критика 19 ноября 1861 г. сказал: «С самой
первой статьи его, проникнутой, как и все остальные, глубоким знанием
и пониманием русской жизни (...>, все, кто принадлежит к читающей и
мыслящей части русской публики, увидели в Добролюбове мощного
двигателя нашего умственного развития. Сочувствие к литературе,
понимание искусства и жизни и самая неподкупная оценка литературных
произведений, энергия в преследовании своих стремлений соединялись в
личности Добролюбова. «Меньше слов и больше дела» — было
постоянным девизом его...» 12. В этой же речи утверждая также, что «в
Добролюбове во многом повторился Белинский», Некрасов имел в виду
принципиальность в оценке литературных явлений, преданность
революционным убеждениям, громадное влияние обоих критиков на русское
общество.
В истории внутренней борьбы, расколовшей на два лагеря
редакцию «Современника», Добролюбову пришлось сыграть особенно видную
роль. Он был самой ненавистной фигурой для литераторов-либералов
Боткина, Дружинина, Анненкова. Его презрение к либеральному
фразерству не имело пределов. «Мне казалось полезным для литературы,—
вспоминает Чернышевский,— чтобы писатели, способные более или менее
сочувствовать хоть чему-нибудь честному, старались не иметь личных
раздоров между собой. Добролюбов был и в этом иного мнения. Ему
казалось, что плохие союзники — не союзники» 13. Таким же прямым и
нелицеприятным оставался он и в своих литературных выступлениях.
«Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников». Подготовка текста, вступит,
заметки и комментарии С. А. Рейсера. М., 1961, стр. 385.
Там же, стр. 174. Подробнее об этом см. в статье В. В. Пугачева «К вопросу о
тактике Н. А. Добролюбова в годы первой революционной ситуации» (сб. «Н. А.
Добролюбов. Статьи и материалы». Горький, 1965, стр. 94—121).
506
В. В. Жданов
Идеология дворянского либерализма, определявшаяся стремлением
некоторых кругов дворянства к административным реформам, к
европеизации политического а экономического быта России, представляла особую
опасность для революционного лагеря. Либерализм как один из
вариантов политической программы правящих групп находил в литературе
пятидесятых годов многообразное выражение. Он нередко рядился даже в
одежды народолюбия, красивыми словами пытался прикрыть свое
бессилие в борьбе с пережитками старого режима. Либеральная критика резко
осуждала эти «пережитки», оставаясь течением «внутри господствующих
классов, большей частью внутри помещиков, борьбой исключительно из-за
меры и формы уступок. Либералы так же, как и крепостники, стояли
на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с
негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой
собственности, о полном свержении этой власти» и.
Отличительным свойством дворянского либерализма было
расхождение между словом и делом, между теорией и практикой, между добрыми
намерениями и полной неспособностью осуществить их на деле.
Русская литература запечатлела тип такого прекраснодушного героя, вся
сила которого заключалась в красноречии, немедленно увядавшем, едва
только герой сталкивался с жизнью.
Добролюбов со свойственной ему политической лроницательностью
скоро понял необходимость разоблачения «героизма» этого рода во всех
его проявлениях. Развенчание либерально-дворянской литературы и
утверждение нового героя — человека дела — в дальнейшем было
предметом лучших критических выступлений Добролюбова.
Этот вопрос с большой остротой был поставлен в статье о
«Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина, появившейся в «Современнике» в
конце 1857 г. Здесь Добролюбов впервые положительно оценил
произведение современной литературы. Критик знал ранние повести
Салтыкова, послужившие в 1848 г. для Николая I поводом, чтобы сослать в
Вятку молодого писателя, увлеченного идеями утопического
социализма. Новая книга Салтыкова давала Добролюбову большой материал для
политических обобщений и позволяла видеть в ее авторе будущего
союзника революционной демократии. Критик отмечал, что «сочувствие к
неиспорченному, простому классу народа, как и ко всему свежему,
здоровому в России, выражается у г. Щедрина чрезвычайно живо» 15. Не
закрывая глаза на элементы политической незрелости, на противоречия в
мировоззрении писателя, Добролюбов безошибочно предсказывал путь
его дальнейшего развития. Он утверждал, что в массе народа «имя
г. Щедрина, когда оно сделается там известным, будет всегда произно-
14 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 174.
15 Н. Д. Добролюбов. Собр. соч., т. 2, стр. 145.
Добролюбов — критик и публицист
507
симо с уважением и благодарностью: он любит этот народ, он видит
много добрых, благородных, хотя и неразвитых или неверно
направленных инстинктов в этих смиренных, простодушных тружениках. Их-то
защищает он от разного рода талантливых натур и бесталанных
скромников, к ним-то относится он без всякого отрицания» 16. «Талантливые
натуры», упомянутые здесь,— это персонажи из щедринских «очерков»,
в которых, по мнению Добролюбова, «довольно ярко выражается
господствующий характер нашего общества». Это «провинциальные Печорины»,
«уездные Гамлеты» и «лишние люди» — типичное порождение дворянско-
крепостнической среды, загубившей в них всякое здоровое начало.
Оперируя термином «талантливые натуры», Добролюбов впервые
применил свой излюбленный прием, позднее искусно разработанный им в
статьях об «обломовщине», о «темном царстве», о романе «Накануне».
Он берет у писателя найденное им понятие и, широко истолковывая
его, придает ему характер обобщения, всеобъемлющего символа. Как
бы предвосхищая будущее обличение «обломовщины», он рисует
образы «талантливых натур» так ярко и так подробно, что у нас
складывается полное представление о социальной природе российского
либерализма.
5
С первых шагов своей литературной деятельности Добролюбов живо
интересовался прошлым русской литературы, связывая с ним ее
настоящее, рассматривая литературные явления в их преемственности. В своих
суждениях о крупнейших явлениях русской литературы Добролюбов
опирался на наследие Белинского, продолжая начатую им работу в иной
общественной атмосфере. Политическая обстановка в России к концу
пятидесятых — началу шестидесятых годов серьезно отличалась от
условий предыдущего десятилетия. Соотношение классовых сил резко
изменилось. Развитие страны привело к укреплению лагеря
революционной демократии; его политическая программа определялась как
программа крестьянской революции. С другой стороны, группа
либерального дворянства заняла позиции, открыто враждебные революции. В
новых условиях вставали по-новому и вопросы литературы, в частности
вопросы ее исторической оценки. Добролюбов, разумеется, не мог
просто повторить суждения Белинского.
Наиболее последовательно Добролюбов изложил свои взгляды на
русский литературный процесс в статье «О степени участия народности в
развитии русской литературы», написанной в начале 1858 г. Он
подробно рассмотрел здесь этот процесс — от начала зарождения
письменности до Гоголя,— стремясь показать, насколько отвечали тенденции
литературного развития интересам общества и стремлениям народа.
16 Там же, стр. 144.
508
В. В. Жданов
Мысли Добролюбова о прошлом русской литературы, несмотря на
некоторые крайности и преувеличения, отличаются целеустремленностью,
прямотой в проведении революционно-демократической точки зрения. Все
литературные направления и школы расцениваются критиком в смысле
их соответствия принципам народности и реализма. В какой мере то
или иное литературное явление отражает реальную действительность,
как соотносится оно с интересами народа, насколько правдиво выражает
дух народа и отвечает его нуждам,— вот что является решающим для
Добролюбова. С этих позиций он выносит резкое осуждение дворянской
литературе допушкинского периода, приветствует поэзию «действитель*
ной жизни», открытую Пушкиным, активно поддерживает «гоголевское»
направление и народность Кольцова.
В представлениях Добролюбова, реализм и народность — понятия,
теснейшим образом связанные, невозможные одно без другого. Критик
настойчиво стремится выделить реалистическую, народную тенденцию
в развитии отечественной словесности. В постоянном укреплении этой
тенденции, в неуклонном «сближении литературы с жизнью» видит он
залог будущего расцвета подлинно народной литературы.
От художников своего времени Добролюбов требовал умения
откликаться на насущные вопросы жизни, поднимать наиболее острые
проблемы современности» «Теперь жизнь со всех сторон предъявляет свои
права,— писал он,— реализм вторгается всюду... Жизненный реадизм
должен водвориться и в поэзии, и ежели у нас скоро будет замечательный
поэт, то, конечно, уж на этом поприще, а не на эстетических
тонкостях» 17.
6
Добролюбов неустанно разоблачал лжепатриотическгаз и
псевдогражданские стремления некоторых литераторов, становившихся в позу
обличителей общественных пороков. В те годы либеральное обличитель-
ство широко распространилось, стало своего рода модой. Появилось
множество романов, пьес и повестей, осуждавших злоупотребления мелких
чиновников и городовых. Начался период так называемой «гласности»,
которую всячески превозносили в газетах; однако она и в малой мере
не могла удовлетворить людей, стремившихся к революционным
преобразованиям. И Добролюбов жестоко высмеивал литераторов, пытавшихся
«осветить грозным факелом сатиры темные деяния волостных писарей,
будочников, становых, магистратских секретарей и даже иногда
отставных столоначальников» 18.
Критик ратовал за большую литературу больших идей, за героя —
17 Н, А. Добролюбов. Собр. соч., т. 6, стр. 168.
18 Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 3, стр. 454—457.
Добролюбов — критик и публицист
509
носителя лучших стремлений новой жизни, за тип писателя-гражданина,
выражающего самые благородные черты своего народа и своей эпохи.
И понятно, почему такое раздражение вызывали у него сатирические
потуги бесчисленных Половцевых, Львовых и Дьяконовых, которым он
вынужден был посвящать специальные статьи. В их произведениях
положительные герои не брали взяток и потому казались авторам
«идеалом всех человеческих совершенств».
Добролюбов часто и охотно прибегал к сатирическим приемам, к
иронии и насмешке. В январском номере «Современника» за 1859 г. впервые
появился сатирический отдел, озаглавленный «Свисток». Этому названию
суждено было вскоре приобрести громкую известность. Инициатором и
главным автором «Свистка» был Добролюбов. Здесь по-настоящему
развернулся его незаурядный талант сатирика. Апологеты крепостнической
реакции, откупщики, представители реакционной печати, либеральные
болтуны, певшие фальшивые гимны «прогрессу», защитники
антинародного «чистого» искусства, продажные поэты, отдавшие свою лиру на
служение «видам правительства»,— такова галерея героев добролюбов-
ской сатиры.
Чувство юмора и талант сатирика нетрудно обнаружить почти в
любой критической статье Добролюбова. У него есть рецензии, похожие
на фельетоны, написанные по всем правилам этого жанра (такова,
например, блестящая рецензия на книгу «Применение железных дорог к
защите материка», такова известная статья «Стихотворения М. Розен-
гейма» и др.). Но с особенной силой Добролюбов-сатирик развернулся
в своих стихотворных памфлетах, фельетонах и пародиях на страницах
«Свистка». Здесь благодаря его изобретательности пародиста появились
три новых «героя», три литературные маски: Конрад Лилиеншвагер, Яков
Хам и Аполлон Капелькин.
Первый из них — восторженный и тупой либерал, гневно и шумно
обличающий извозчика, получившего с седока лишнюю монету, мелкого
воришку, забравшегося в чужой карман, чиновника, берущего взятки,
и т. п. Непосредственной мишенью добролюбовской пародии были в этом
случае стихи М. Розенгейма, одного из типичных представителей
либерально-обличительной поэзии того временя (самое имя персонажа —
Лилиеншвагер — пародирует фамилию Розенгейм). Но, разумеется,
Добролюбов метил гораздо дальше; он стремился не только подвергнуть
осмеянию псевдогражданский пафос одного поэта, но и обнаружить
общее бессилие либерального направления.
Вслед за одной литературной маской появилась другая. В третьем
номере «Свистка» в сообщении от редакции говорилось следующее:
«Известный нашим читателям поэт г. Конрад Лилиеншвагер (...) доставил
нам коллекцию австрийских стихотворений; он говорит, что перевел их
с австрийской рукописи, ибо австрийская цензура некоторых из них не
510
В. В. Жданов
пропустила (...) Стихотворения эти все принадлежат одному молодому
поэту — Якову Хаму, который, как по всему видно, должен занять в
австрийской литературе то же место, какое у нас занимал прежде
Державин, в недавнее время г. Майков, а теперь г. Бенедиктов и г. Розен-
гейм». В заключение редакция «Свистка» прибавляла: «Если
прилагаемые стихотворения удостоятся лестного одобрения читателей, мы можем
представить их еще несколько десятков, ибо г. Хам очень плодовит,
а г. Лилиеншвагер неутомим в переводе...» 19
Разумеется, это была отлично придуманная шутка, однако в ней
заключался серьезный смысл. По мысли Добролюбова, Яков Хам должен
был изображать поэта-монархиста, преданного царствующей династии
(очевидно, по этой причине он и мог бы занять в «австрийской
литературе» то место, которое в разное время занимали Державин и
Майков, поэты, слагавшие стихи в честь самодержцев). Австрия
представляла собой в то время абсолютную монархию и в качестве таковой
нередко служила для русских публицистов условным обозначением
некоторых понятий, не допустимых в тогдашней печати. Об австрийском
режиме, об австрийской цензуре говорили, имея в виду те же явления
на русской почве.
Третий пародийный «поэт», созданный Добролюбовым,— Аполлон Ка-
пелькин — выступил в «Свистке» с циклом стихов, озаглавленным «Юное
дарование, обещающее поглотить всю современную поэзию». «Юное
дарование» отличалось необычайной разносторонностью. Аполлон Капелькин
писал и наивные — по молодости — стихи, оказавшиеся пародиями на
«чистых» лириков — Майкова, Случевского, Фета; он упражнялся и в
обличительном жанре, и сочинял приторно-либеральные вирши. Это
разнообразие интересов «юного дарования» должно было соответствовать
разным враждебным течениям, грозившим «поглотить всю современную
поэзию». Добролюбов разоблачал антинародную сущность всей
дворянской поэзии и особенно ее либерального крыла.
Цензура, жестоко преследовала сатирический отдел «Современника»,
пытаясь ограничить его влияние. Но «Свисток» делал свое дело и,
несмотря на все препятствия, умел завоевать громадный авторитет в
обществе. По мнению людей того времени, его «свист» можно было за-
глушить только звоном «Колокола» из Лондона 20.
7
Добролюбов жил в атмосфере напряженного ожидания близкой
революции, и это нашло отражение в его критических статьях, где
литературный анализ подчас неотделим от политического памфлета и ре-
19 Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 7, стр. 389.
20 П. М. Ковалевский. Встречи на жизненном пути. Л., 1928, стр. 426—427.
Добролюбов — критик и публицист
511
волюционные призывы легко угадываются. Критик «Современника»
общался с людьми, которые писали и распространяли смелые
прокламации, обращенные к народу, и не исключена возможность, что он сам
принимал участие в составлении некоторых документов этого рода, что
они возникали с его ведома. Вспомним, что его ближайший
единомышленник Чернышевский был прямым вдохновителем тех кружков, в
которых родились прокламации «Великорус», «К солдатам», «К молодому
поколению», «Молодая Россия», и сам, по-видимому, явился автором
прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».
Но наиболее реальной и действенной формой революционной борьбы
для Добролюбова была журнальная деятельность. В 1859 г. на
протяжении нескольких месяцев написаны тдкие выдающиеся произведения,
как «Что такое обломовщина?», «Темное царство», «Русская сатира
екатерининского времени» — статьи, овеянные могучим революционным
вдохновением.
В письме, относящемся к марту 1860 г., Добролюбов дал очень
важную характеристику своей литературной деятельности: «Мы знаем (и Вы
тоже),— писал он С. Т. Славутинскому,— что современная путаница не
может быть разрешена иначе, как самобытным воздействием народной
жизни21. Чтобы возбудить это воздействие хоть в той части общества,
какая доступна нашему влиянию, мы должны действовать не
усыпляющим, а совсем противным образом. Нам следует группировать факты
русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызывать
читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими
мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху,— до того, чтобы
противно стало читателю все это богатство грязи и чтобы он, задетый
наконец за живое, вскочил с азартом и вымолвил: «Да что же, дескать,
это наконец за каторга! Лучше уж пропадай моя душонка, а жить в
этом омуте не хочу больше». Вот чего надобно добиться и вот чем
объясняется и тон критик моих, и политические статьи «Современника»,
и «Свисток»... В письме моем — мое крепкое, хотя и горькое убеждение,
которое дорого мне, как плод всего, чему я учился, что я видел и
делал, дорого, как ключ для всей моей дальнейшей жизни» 22.
Непримиримый противник всякой половинчатости, фальши и
лицемерия, Добролюбов плечом к плечу с Чернышевским выступал против
либерализма. В начале 1859 г. в «Современнике» была опубликована его
блестящая статья «Литературные мелочи прошлого года», явившаяся
программным документом той идейной борьбы, которую вела революционная
демократия. Статья вызвала шумное негодование во враждебном лагере:
с суровой прямотой в шзй ставился вопрос о беспомощности литераторов,
21 Несомненно, здесь шла речь о необходимости революционного взрыва.
22 Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 9, стр. 408—409.
512
В. В. Жданов
наивно верящих в прогрессивные намерения правительства и мнимые
успехи так называемой гласности. Но еще большее впечатление произвела
та часть статьи, в которой автор проводил резкую черту между «старым
поколением», сходящим с исторической сцены, и новым поколением
русской молодежи, поколением разночинцев, революционных демократов.
Автор решительно развенчивал людей сороковых годов,
представителей дворянского либерализма, утративших способность понимать
действительные потребности русского общества. Когда-то «они стремились к
истине, желали добра, их пленяло все прекрасное» 23. Но, оторванные от
подлинной жизни и обрекшие себя на служение отвлеченному принципу,
они не умели рассчитать свои силы и взяли на себя гораздо больше,
чем могли сделать. Только немногие люди того поколения умели,
подобно Белинскому, «слить самих себя со своим принципом...» «У Белинского
внешний, отвлеченный принцип превратился в его внутреннюю,
жизненную потребность: проповедывать свои идеи было для него столь же
необходимо, как есть и пить» 24. Белинский был не одинок: тогда
появились и другие «сильные люди», проникнутые «святым недовольством»
и решившиеся продолжать «борьбу с обстоятельствами» до последних
сил. Явно имея в виду зарубежную деятельность Герцена и Огарева,
Добролюбов глухо упоминал о людях, которые «доселе сохранили
свежесть и молодость сил, доселе остались людьми будущего...» 25
Но это были исключения из «нормы»; большинство же- деятелей
«старого поколения» превратилось в «литературных Маниловых»,
бессильных направить современную литературу по тому пути, который мог
бы привести ее к служению интересам народа.
Статья «Литературные мелочи прошлого года» важна еще в одном
отношении. Выступая от имени «новых людей», Добролюбов яркими
штрихами набросал типические черты своего поколения. По его
характеристике — это люди реальные, с крепкими нервами и здоровым
воображением, спокойные и твердые. Чуждые «туманным абстракциям»,
увлекавшим прежних деятелей, они находятся в ближайшем
соприкосновении с действительной жизнью. Но главное, что отличает этих
«новых людей», заключается в следующем: «На первом плане всегда стоит
у них человек и его прямое, существенное благо <...> Их последняя
цель — не совершенная, рабская верность отвлеченным высшим идеям,
а принесение возможно большей пользы человечеству...» 26
«Люди нового времени», по словам Добролюбова, приобрели опыт,
которого недоставало их предшественникам. Они твердо знают, чего хо-
23 Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 4, стр. 70.
24 Там же, стр. 70—71.
25 Там же, стр. 72.
25 Там же, стр. 73.
Добролюбов — критик и публицист
513
тят, верят в свои силы и в свою правоту. Критик прибегает к довольно
прозрачным намекам: «Нынешние молодые люди», говорит он, подобно
опытному шахматисту, хотят вести «серьезную игру и потому считают
вовсе не нужным с первого же разу выводить слона и ферзь, чтобы на
третьем ходе дать шах и мат королю. Они, наверное, рассчитывают, что
это только повредит их игре, и потому подвигаются понемножку,
заранее обдумав план атаки<...> Они также добьются своего шаха и мата;
но их образ действий вернее, хотя вначале игра и не представляет
ничего блестящего и поразительного» 27.
Эти слова цензура вычеркнула из журнального текста статьи
Добролюбова, догадавшись, что ссылка на шахматного короля может быть в
нежелательном смысле истолкована читателями. Реальный политик,
трезво оценивавший обстановку, Добролюбов в сущности почти прямо говорил
здесь, что опытные, расчетливые «игроки» вернее добьются победы над
«королем», чем новички, выбирающие эффектный, но рискованный ход.
В журнальной статье он, разумеется, не мог прямо говорить о
необходимости «подготовлять умы» к великому делу переворота, о
готовности революционера к самопожертвованию с той откровенностью, с
какой он тогда же писал об этом в своем дневнике. И все же очевидно,
что теперь его мысль стала более зрелой, он ощутил себя участником
большого общественного движения, увидел силу молодого поколения и
смело заговорил от его имени. Вот почему его статья согрета страстью
революционного порыва. Вот почему могучим призывом к деятельности,
к борьбе, набатным призывом к революции звучат ее заключительные
строки: «Не надо нам слова гнилого и праздного, погружающего в
самодовольную дремоту и наполняющего сердце приятными мечтами; а нужно
слово свежее и гордое, заставляющее сердце кипеть отвагою
гражданина, увлекающее к деятельности широкой и самобытной...» 28
* * *
Стремлением к «более основательному образу действий»,
нескрываемой ненавистью к прекраснодушию и либеральной болтовне, презрением
демократа к белоручкам и тупеядцам проникнута статья Добролюбова,
появившаяся в майской книжке «Современника» (1859). Эта статья
называлась «Что такое обломовщина?» Она представляла собой важнейший
программный документ борьбы революционной демократии против дво-
рянско-крепостнической России и как бы подводила итог всей
предыдущей деятельности Добролюбова.
Придавая обобщающий смысл образу героя романа Гончарова,
Добролюбов делает его символом очевидного упадка господствующего класса.
Там же, стр. 74—75.
Там же, стр. 112.
33 Н. А.г Добролюбов
514
В. В. Жданов
Художественная емкость образа позволила критику выступить со страсти
ным революционным обличением не только помещиков, но всех
общественно-бесполезных людей, либеральных болтунов, всех, у кого в жизни
нет такого дела, которое было бы для них «жизненной необходимостью,
сердечной святыней, религией, которое бы органически срослось с ними,
так что отнять его у них, значило бы лишить их жизни» 29.
Мы помним, Добролюбов прежде опирался на щедринское
определение «талантливых натур», подчеркивая никчемность и бесплодность
бездеятельной жизни. Теперь в его распоряжении было еще более
выразительное и всеобъемлющее понятие — обломовщина. Наполнив это понятие
глубоким социально-психологическим содержанием, Добролюбов
охарактеризовал с его помощью все косное, пассивное, отсталое, все, что
мешает развиваться, двигаться вперед.
Добролюбов предупреждал, что обломовщина и «старая Обломовка»,
вопреки мнению Гончарова, вовсе не отжила свой век и что для нее
рано еще писать «надгробное слово». И действительно, с обломовщиной,
как с одним из порождений крепостнической эпохи, активно боролись и
пролетарские революционеры. Сурово бичевал обломовщину В. И.
Ленин,— он клеймил этим словом эпигонов народничества, меньшевиков,
либералов, он критиковал черты обломовщины, сохранившиеся даже в
нашей послереволюционной жизни.
8
Вслед за статьей об обломовщине появились статьи «Темное царство»,
«Когда же придет настоящий день?», «Черты для характеристики
русского простонародья», «Луч света в темном царстве» — подлинные ма-%
нифесты передовой литературно-общественной мысли. Каждое из этих
выступлений Добролюбова знаменовало собой новый шаг в развитии
эстетической теории революционной демократии, имело огромный
общественный резонанс. Статьи, посвященные пьесам Островского, романам
Гончарова и Тургенева, произведениям демократических ' писателей и поэтов,
оказывали влияние не только на современников критика, но и на
передовых людей позднейших поколений.
В чем же причина их громадного общественного воздействия, далеко
выходящего за пределы литературы? Прежде всего в блестящем умении
Добролюбова связывать литературу с жизнью, применять тот прием,
который он сам определял так: «толковать о явлениях самой жизни на
основании литературного произведения». Вот почему критик высоко
ценил правду в искусстве и настойчиво требовал ее от художника. Оп
дорожил каждым произведением, в котором находил хотя бы крупицу
Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 4, стр. 335.
Добролюбов — критик и публицист
515
правды, позволявшую ему «изучать факты нашей родной жизни». Он был
убежден, что произведения художника-реалиста «дают законный повод к
рассуждениям о той среде, о жизни, о той эпохе, которая вызвала в
писателе то или другое произведение. И меркою для таланта писателя
будет здесь то, до какой степени широко захвачена им жизнь, в какой
мере прочны и многообъятны те образы, которые им созданы» 30.
Поводом для появления обширного, занимавшего более полутораста
журнальных страниц, критического разбора пьес Островского,
озаглавленного «Темное царство», явилось издание первого, двухтомного,
собрания сочинений драматурга. Перед Добролюбовым стояла задача —
охарактеризовать и оценить творчество писателя, с именем которого была
связана целая эпоха в развитии русской драматической литературы и
русского театра.
Враги обвиняли Добролюбова в том, что он под видом критических
разборов пишет статьи на политические темы. Но в этом была не
слабость, а сила добролюбовской критики, ее особенность, органически
вытекавшая из взглядов Добролюбова на литературу, в которой он ценил
прежде всего «верность действительности», а задачу критики видел в
выяснении общественного смысла явлений, изображенных писателем.
Статьи Добролюбова были страстными выступлениями политического
борца, ибо политика, гражданственность были душою его «реальной»
критики. Статьи об Островском — лучшее подтверждение этому. Добролюбов
прежде всего увидел в пьесах Островского отражение «неестественности
общественных отношений, происходящей вследствие самодурства одних и
бесправности других». Верно и глубоко определив общественное
содержание драматургии Островского, Добролюбов показал типический,
обобщающий характер его образов, и они предстали перед читателем,
освещенные силой мысли критика.
Добролюбов раскрывал перед читателем те условия жизни, при
которых возможен этот дикий и косный быт, тяжелые, тупые нравы и
вопиющая несправедливость. Следуя Островскому, критик нарисовал
потрясающую картину «темного царства», каким была старая Россия.
В своей первой статье об Островском Добролюбов создал
незабываемый образ страшной тюрьмы; это мир гробового безмолвия, где
загублено все живое, где подавлены общественные права человека и
попрано его достоинство. Жить в таких условиях нельзя. Лучше умереть
с голоду, броситься в пруд, сойти с ума, чем примириться с этой
жизнью, подчиниться ее обычаям. Есть ли какой-нибудь иной выход из
этого мрака?— спрашивает критик. В произведениях Островского он не
находит прямого ответа на свой вопрос. Но сам подсказывает
читателю, что выход все-таки есть. На последних страницах своей статьи Доб-
30 Н. А. Д о б р о л ю о j в. Собр. соч., т. 6, стр. 98.
33*
516
В. В. Жданов
ролюбов почти прямо указывает, что выход из «темного царства»
заключается в том, чтобы расшатать устои, на которых держится
самодержавно-крепостнический порядок, власть и благополучие самодуров.
Выход надо искать не в литературе, которая еще не может его указать,
а в самой жизни.
Внимательно приглядываясь к героям Островского, критик
обнаруживает, что среди них есть и такие, у которых не совсем еще подавлены
человеческие стремления, сознание своего достоинства, затаенные мечты
разорвать цепи и вырваться на свободу. «Искра» все-таки тлеет во
мраке темницы. И Добролюбов высказывает убеждение, что «темное царство»
не вечно, что оно жестоко и страшно, но трусливо и вовсе не так уж
могущественно, как кажется. Надо только собраться с духом, внушить
угнетенным сознание их прав и силы, которая заключена в них самих.
Широкие круги демократической молодежи восторженно встретили
статью Добролюбова, сразу оценив ее революционную остроту. ««Темное
царство» — великолепно,— писал автору из Вятки М. И. Шемановский.—
Все, кто ни читал его, интересуются знать имя автора,— разумеется,
кроме отпетых, которые... негодуют» (письмо от 5 ноября 1859 года) 31.
Другой современник — видный революционный публицист Н. В. Шелгу-
нов писал в своих воспоминаниях, что статья Добролюбова была «не
критикой, не протестом против отношений, делающих невозможным
никакое правильное общежитие,— это было целым поворотом
общественного сознания на новый путь понятий. Я не преувеличу, если'скажу, что
это было эпохой перелома всех домашних отношений, новым кодексом для
воспитания свободных людей в свободной семье. Добролюбов был
неотразимым, страстным проповедником нравственного достоинства и тех
облагораживающих условий жизни, идеалом которых служит свободный
человек в свободном государстве» 32.
9
Одно из центральных мест в критике Добролюбова занимает вопрос о
положительном герое. Добролюбов был убежден, что на смену Рудиным,
Лаврецким и другим персонажам, сходящим со сцены, должны прийти
новые герои, стремительно выдвигаемые самой жизнью. Добролюбов с
нетерпением ждал появления таких книг, в которых был бы показан
деятель нового времени — патриот, борец, народный заступник33. Критик
деятельно участвовал в создании новой, демократической литературы, ко-
31 «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова». М., 1890, стр. 539.
32 Н. В. Ше лгу нов. Воспоминания. М.—Пг., 1923, стр. 169.
33 Проблеме положительного героя в эстетике Добролюбова посвящена одна из глав
книги Б. И. Бурсова «Вопросы реализма в эстетике революционных
демократов». М., 1953, стр. 297—380.
Добролюбов — критик и публицист
517
торая прежде всего должна была разработать и правдиво изобразить
характер нового героя русской жизни — разночинца и демократа.
Добролюбову было ясно, что этот новый герой появится из недр самого народа,
а не из дворянской среды. В статье «Когда же придет настоящий день?»
он утверждал, что дворянский герой в новых условиях не способен быть
борцом, так как «сам кровно связан с тем, на что должен восставать».
В этой мысли одного из вождей революционной демократии нашел
отражение тот факт, что на пороге шестидесятых годов русское
освободительное движение вступило в новый этап своего развития — разночинно-
демократический.
Энергично содействуя развитию прогрессивной литературы,
Добролюбов внимательно присматривался ко всякой честной книге, к каждому
произведению, в котором находили хотя бы некоторое отражение
основные общественные процессы того времени. Вот почему Добролюбов с
такой радостью встретил появление «Грозы» Островского, увидев в героине
новой пьесы «луч света», говорящий о родниках живых сил в народе,
о его живой душе. Образ Катерины, женщины, которая не смогла
примириться с самодурством, был в глазах Добролюбова освещен отблеском
той грозы, которая уже собиралась над «темным царством».
Статья «Луч света в темном царстве», посвященная «Грозе»,
появилась через год после первой статьи Добролюбова об Островском. Одна
из причин, побудивших критика снова вернуться к творчеству
драматурга, заключалась в том, что «Темное царство» вызвало ожесточенную
полемику. Добролюбов счел нужным ответить некоторым критикам,
удостоившим его, как он выразился, «прямой или косвенной бранью».
Небесполезным считал он и разъяснение некоторых вопросов эстетической
теории, изложенной в «Темном царстве» (враги «Современника» не
преминули напасть на нее). Но главным поводом для выступления критика
был, разумеется, сам факт появления новой пьесы крупнейшего русского
драматурга. *
Образ Катерины в «Грозе» Добролюбов назвал «шагом вперед не
только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей
литературе». Островский создал образ, который «давно требовал своего
осуществления в литературе». По мысли критика, в образе Катерины ему
удалось воплотить понятие о сильной личности, противостоящей произволу
«темного царства», показать светлый и чистый характер в конкретных
обстоятельствах ее жизни. В оценке Добролюбова, Катерина — это типичная
русская натура и вместе с тем вполне определенный человек со своей
особенной, индивидуальной судьбой. Поэтому Добролюбов целиком приемлет
и «фатальный конец» ее жизни, считая его закономерным.
В своем критическом анализе Добролюбов придавал широкий
общественно-политический смысл таким произведениям, как «Обломов»,
«Гроза», роман Тургенева «Накануне». Однако, усиливая резонанс образов,
514
В. В. Жданов
созданных писателями, критик не выискивал в их произведениях того,
чего в них вовсе не было. Он всегда был в состоянии «подтвердить
свою мысль указанием на самое сочинение». По этой причине сила его
критического искусства была неотразимой. «Расширение» достигалось
путем глубокого проникновения в образ, в замысел драматурга.
Драма «Гроза» дала возможность поднять вопрос о появлении в
литературе нового положительного героя. Еще больше материала для
разработки этой темы дал критику роман Тургенева «Накануне», которому
он посвятил статью, многозначительно названную «Когда же придет
настоящий день?» (1860). Впрочем, она появилась в «Современнике» под
иным, ничего не выражавшим заголовком: «Новая повесть г. Тургенева»,
и этим отнюдь не исчерпывалось то смягчение, на какое вынужден был
пойти автор под нажимом цензуры.
Во многих отношениях статья «Когда же придет настоящий день?»
примыкает к статье «Что такое обломовщина?» и является развитием
высказанных в ней мыслей.
Главным достоинством Тургенева как писателя Добролюбов считал
его способность быстро улавливать новые потребности жизни, новые идеи,
возникавшие в общественном сознании, обращать внимание на вопросы,
еще смутно волнующие общество. Именно «этому чутью автора к живым
струнам общества,— писал Добролюбов,— этому умению тотчас
отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что еще
начинающее проникать в сознание лучших людей, мы приписываем
значительную долю того успеха, которым постоянно пользовался г.
Тургенев в русской публике» 34. Тургенев потому упрочил свой, успех у
читателей, что его никогда не покидало живое отношение к современности.
Если он затронул «какой-нибудь вопрос в своей повести, если он
изобразил какую-нибудь новую сторону общественных отношений — это
служит ручательством за то, что вопрос этот действительно подымается или
скоро подымется в сознании образованного общества, что эта новая
сторона жизни начинает выдаваться и скоро выкажется резко и ярко пред
глазами всех» 35.
Роман «Накануне» представлял, по мнению Добролюбова, особенный
интерес потому, что в нем наметилась совершенно новая
идейно-тематическая линия тургеневского творчества. Прежде писатель выводил в
качестве героев типы «лишних людей», с большим искусством
привлекая к ним симпатии читателей. Предмет этот «казался неистощимым». Но
тем временем в обществе развивались процессы, которые привели к тому,
что «Рудин и вся его братия» уже перестали вызывать общественный
интерес.
34 Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 6, стр. 99.
35 Там же, стр. 100.
Добролюбов — критик и публицист
519
Добролюбов оценил «Накануне» как новое свидетельство чуткого
отношения автора к требованиям жизни. Тургенев решился расстаться с
прежними своими героями и «попробовал стать на дорогу, по которой
совершается передовое движение настоящего времени».
Добролюбов, разумеется, не случайно написал эту фразу. В словах
«попробовал стать» заключался большой смысл. Критик не мог не
отметить нового направления в творчестве Тургенева, и со всей
искренностью приветствовал его, призывая писателя двигаться дальше по
новому пути. Вместе с тем он далеко не был уверен, что Тургенев сумеет
это сделать. Чтобы двигаться дальше, Тургеневу, как и героям его
прежних романов, пришлось бы восстать против того, с чем он был кровно
связан. Добролюбов предвидел, что на это у писателя не хватит сил.
И все же в оценке романа «Накануне» явственно звучало его одобрение.
Разбирая «Накануне», Добролюбов подробно остановился на образе
Елены. Он увидел в нем новую — после Ольги из романа «Обломов» —
попытку «создания энергического, деятельного характера». Если
известная жизненная пассивность героини, в сочетании с богатством
внутренних сил и томительной жаждой деятельности, и оставляла впечатление
незавершенности образа, то в этом не было вины автора. Наоборот, тут
сказалась правда жизни; таково положение дел: «Это трудное,
томительное положение общества необходимо кладет свою печать и на
художественное произведение, вышедшее из среды его» 36. А трудность,
томительность положения заключались в том, что общество, находясь накануне
революционного взрыва, все еще продолжало жить в условиях
омертвевшего, отжившего общественного уклада; недаром в статье говорилось о
существующем строе как о мертвеце, трупе, которого не оживить
никакими средствами.
Елена в силу особенностей воспитания не знает, куда и на что
обратить богатство своих внутренних сил. Не могут помочь ей в этом
и окружающие ее люди — Шубин, Берсенев. Быть может, она так бы и
прожила свою жизнь в томлении, но, на ее счастье, явился Инсаров. Он
указал Елене цель, настолько великую, что она была потрясена и
целиком захвачена ею. Но почему же писатель вывел перед нами в
качестве героя не русского, а болгарина? Потому, ответил критик, что ему
нужен был такой герой, который мог бы указать Елене великую и
святую цель. У болгарина-патриота она могла быть — его родина
порабощена турками. Что же может быть более святого и великого, чем идея
освобождения родины?
А у русских людей, иронизировал Добролюбов, слава богу, родина
никем не порабощена, Россия — страна вполне благоустроенная, «в ней
36 Там же стр, 109.
520
В. В. Жданов
царствует правосудие, процветает благодетельная гласность» 37. Даже
царский цензор смутно почуял в этих словах насмешку и попытался
умерить непрошенный восторг, вычеркнув из статьи несколько пышных
эпитетов.
Итак, русская жизнь, по мнению Добролюбова, еще не стала той
почвой, на которой вырастают героические личности, подобные Инсарову,
человеку, одушевленному великой идеей, способному бороться за ее
осуществление. Литературные герои до сих пор если и подымались до
высоких идеалов, то на этом их силы истощались, для практических действий
у них уже не хватало энергии. Между тем общество нуждается в русских
Инсаровых и героях-деятелях, бесстрашных борцах. С кем они будут
бороться?— спрашивает Добролюбов; ведь русский народ не порабощен
внешними врагами. И отвечает: «Но разве мало у нас врагов внутренних?
Разве не нужна борьба с ними и разве не требуется геройство для этой
борьбы?.. С этим внутренним врагом ничего не сделаешь обыкновенным
оружием; от него можно избавиться, только переменивши сырую и
туманную атмосферу нашей жизни, в которой он зародился, вырос и
усилился, и обвеявши себя таким воздухом, которым он дышать не может» 38.
Современники Добролюбова понимали, что в этих строках идет речь о
необходимости революционного переворота. Но критик, не останавливаясь
на этом, поднимал вопрос: возможен ли такой переворот и когда? Скоро
ли наступит долгожданный «настоящий день?». Да, переворот 'возможен,
отвечал Добролюбов. Мертвящие условия русской жизни долго
подавляли развитие людей, подобных Инсарову, но теперь эти условия
переменились настолько, что они же помогут появлению героя. Заканчивая
статью, Добролюбов восклицал: «И не долго нам ждать его: за это
ручается то лихорадочное, мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем
его появления в жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь
идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по себе,
а служит только кануном другого дня. Придет же он, наконец, этот
день! И, во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня:
всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!..» 39
10
Добролюбов с большим вниманием следил за развитием
демократических сил в отечественной литературе. Он протягивал руку каждому
честному, хотя бы и очень скромному автору, который говорил о нуждах
народа, о росте его самосознания, о сдвигах в русской жизни. Критик
37 Н. А. Д о б р о л ю б о в. Собр. соч., т. 6, стр. 124.
38 Там же, стр. 139.
39 Там же, стр. 140.
Добролюбов — критик и публицист
521
помогал таким авторам подняться на более высокую ступень
политического развития, предостерегал от ошибок и чуждых влияний, указывал
слабые стороны их творчества. Добролюбов видел художественные
недостатки рассказов Марко Вовчка, но, высоко оценивая их правдивость в
описании крестьянской жизни, в изображении «великих сил, таящихся в
народе», он считал нужным горячо поддержать автора, указать, что он
стоит на верном пути. Добролюбов посвятил «Рассказам из народного
русского быта» М. Вовчка (1860) большую статью, озаглавленную
«Черты для характеристики русского простонародья». Эта статья,
насыщенная ненавистью к крепостничеству, принадлежит к числу самых
выдающихся произведений критика. Она отличается глубиной содержания,
остротой мысли, направленной против крепостничества. Ее пафос — в
страстном и гневном осуждении социального угнетения, порабощения
человеческой личности.
Рассказы Марко Вовчка привлекли внимание Добролюбова своей
демократической тематикой, бесхитростными и правдивыми зарисовками
горестной жизни крепостных крестьян. Это был еще один шаг на пути
к созданию народной литературы. Правда, рассказы украинской
писательницы еще не представляли читателям всеобъемлющей картины; да
было бы и преждевременно, говорит критик, предъявлять такие
требования, поскольку народная жизнь в полном своем объеме в то время
еще не могла стать материалом искусства. Однако для передовой
литературы уже пришло время «преследовать остатки крепостного права».
Хотя критик работал над статьей летом 1860 г., т. е. до
«крестьянской реформы», тем не менее он счел возможным говорить о
крепостничестве как об отжившем понятии, которое будто бы уже отвергнуто
самим правительством («лишено покровительства законов»). Такая
позиция позволяла ему открыто излагать антикрепостническое содержание
рассказов Марко Вовчка и, с другой стороны, гневно изобличать
крепостников и реакционеров, людей, «ещ,е верующих в святость и
неприкосновенность крепостного права» 40. Попутно Добролюбов дал
сокрушительную отповедь «просвещенным» либералам, пытавшимся доказать, что
«мужик еще не созрел до настоящей свободы, что он о ней и не думает,,
и не желает ее, и вовсе не тяготится своим положением...» 41 Этим
нелепым и лживым измышлениям критик противопоставил рассказ «Маша»г
в котором шла речь о крестьянской девушке, возненавидевшей свою
помещицу и, несмотря на угрозы, решительно отказавшуюся работать у
нее на барщине. Угнетенная своим бесправным состоянием, Маша таяла
у всех на глазах, и только слух о воле, обещанной барыней,
возвращает ее к жизни.
40 Там же, стр. 229.
41 Там же, стр. 230.
522
В. В. Жданов
По мнению Добролюбова, в этом рассказе «раскрывается естественное
и ничем незаглушимое развитие в крестьянской девочке любви к свободе
и отвращения к рабству» 42. Вот почему печальная история Маши
привлекла внимание критика: от нее повеяло живой жизнью, правдой. В
тогдашней литературе немного нашлось бы произведений, с такой прямотой
рисующих тоску по воле, зреющую в народе.
Добролюбов понимал, что люди, питающие «тайную симпатию к
крепостным отношениям», назовут рассказ Марко Вовчка фальшивым: они
не допускают мысли о том, что в простой мужицкой натуре может столь
развиться сознание прав своей личности. Но критику «Современника»
рассказ дал повод, чтобы высказать глубокие мысли о положении
крепостного крестьянства, о деспотизме и рабстве, о подавлении
естественных стремлений человека, о том, как пробуждается и крепнет среди
«простолюдинов» чувство протеста, сознание своего человеческого
достоинства. В судьбе и натуре Маши критик увидел характерное явление
русской жизни, и потому он сумел сделать из своего анализа острые
политические выводы. Полемизируя с «плантаторами и
художественными критиками» (показательно это сближение крепостников и
защитников «чистого искусства»), Добролюбов горячо доказывал, что в рассказе
«Маша» описан вовсе не исключительный случай: «Напротив,— писал
Добролюбов,— мы смело говорим, что в личности Маши схвачено и
воплощено высокое стремление, общее всей массе русского народа, терпеливо,
но неотступно ожидающей светлого праздника освобождения» 43.
* * *
Последняя статья Добролюбова называлась «Забитые люди», и речь
шла здесь об «униженных и оскорбленных», о тех героях Достоевского,
которые были раздавлены гнетом житейских обстоятельств. Эта статья
была ответом Достоевскому на его полемическое выступление в журнале
«Время» (оно появилось, когда Добролюбов был за границей). В
большой статье, озаглавленной «Г.— бов и вопрос об искусстве»,
Достоевский отдавал должное Добролюбову, как критику, сумевшему завоевать
авторитет в глазах читающей публики. Однако, называя Добролюбо/ва
«предводителем утилитаризма», Достоевский утверждал, что он будто бы
не признает художественности, а требует от искусства только одной
идеи, только «направления» — «была бы видна идея, цель, хотя бы все
нитки и пружины грубо выглядывали наружу...» Достоевский, справедливо
ратуя за большое искусство, по существу пытался доказать, что «Г.— бов»
Н. А. Добролюбов. Собр. соч., стр. 229.
Там же, стр. 240.
Добролюбов — критик и публицист
523
и другие «утилитаристы» вполне удовлетворяются художественным
уровнем произведений Марко Вовчка.
Нет, отвечал на это Добролюбов, мы не отрицаем искусства и
понимаем все преимущества талантливого произведения перед бесталанным.
Но сейчас время напряженной борьбы, сейчас надо готовить людей к
гражданской деятельности и надо поощрять всякую попытку сближения
литературы с жизнью, всякую попытку писателя сказать правду о
народе. Для пояснения своей мысли Добролюбов решил сослаться на
произведения самого Достоевского. Критик подробно разобрал
художественные недостатки «Униженных и оскорбленных». Он говорил, что
характеры главных действующих лиц романа не раскрыты с достаточной
психологической глубиной: автор «избегает всего, где бы могла раскрыться
душа человека любящего, ревнующего, страдающего» (об Иване
Петровиче). «Хоть бы неудачно, хоть бы как-нибудь попробовал автор заглянуть
в душу своего главного героя...» (о князе). Не удовлетворяет критика и
язык, которым говорят персонажи: это язык самого автора, одинаковый
для всех действующих лиц. В итоге Добролюбов, осуществляя свою
полемическую задачу, делает вывод, что роман Достоевского стоит «ниже
эстетической критики», поэтому разбор его художественных достоинств
и недостатков не является насущной необходимостью.
И в то же время роман отнюдь не бесполезен с точки зрения
«утилитаристов». Наоборот, критик доказывает, что, при некоторых слабых
сторонах, роман имеет несомненное общественное значение. Там, где
писатель идет по пути, указанному в свое^ время Гоголем и Белинским,
ему удается создать правдивые картины и выразить «гуманные идеалы».
Люди униженные, забитые, жалкие встают со страниц его книги. Одни
из них вовсе потеряли человеческое достоинство, смирились и тупо
успокоились, другие ожесточились, третьи приспособились. Правда, автор
ничего не говорит о причинах, порождающих этот тип людей и эти «дикие,
странные», отношения между ними. Но критик благодарен писателю уже
за то, что он сумел показать хотя бы слабые признаки
пробуждения человеческого сознания в своих героях — «забитых личностях»,
что он своей книгой помог ему поднять важные общественные
вопросы.
На последних страницах своей статьи, которые звучат как
политическое завещание, Добролюбов задает вопрос: где же выход для этих
забитых, униженных и оскорбленных людей? Долго ли будут они молча
терпеть свои бедствия? Ему хотелось ответить на эти вопросы прямо и
резко, как и подобает человеку, уверенному в том, что единственный
выход — это уничтожение векового порядка, уродующего людей. Но он
вынужден был ответить так: «Не знаю, может быть, и есть выход, но
едва ли литература может указать его; во всяком случае, вы были бы
наивны, читатель, если бы ожидали от меня подробных разъяснений по
524
В. В. Жданов
этому предмету <...> Где этот выход, когда и как — это должна показать
сама жизнь...» 44
Он говорил уже не об эстетических вопросах, думал не о полемике с
журналом «Время»,— он говорил о более важном — о жизни и ее великих
задачах. Он показывал, что демократическая критика не может
замыкаться в пределах искусства. Он звал к борьбе, будил уснувших,
говорил о свободном человеке, перед которым «открывается выход из
горького положения загнанных и забитых». Он не мог прямо ответить на
вопрос, «когда и как» придет день свободы. Но, обращаясь к читателям,
он, вопреки цензуре, старался все-таки разъяснить им, в каком
направлении следует искать «выход»: «Главное, следите за непрерывным,
стройным, могучим, ничем не сдерживаемым течением жизни, и будьте живы,
а не мертвы» 45. Это был зашифрованный призыв к революционному
действию.
Заключительные строки статьи «Забитые люди» представляют собой
завуалированный, но страстный призыв к подготовке народной
революции. Добролюбов выражал твердую уверенность, что большая часть так
называемых «забитых людей» крепко и глубоко «хранит в себе живую
душу и вечное, неисторжимое никакими муками сознание своего
человеческого права на жизнь и счастье» 46.
Этими прекрасными словами Добролюбов закончил последнюю свою
статью.
И
Добролюбов умел подчинять свой литературный анализ одной мысли,
одной цели — этой мыслью пронизано все им написанное. В его натуре
соединились гениальная одаренность и твердость убеждений. Обе эти
черты были видны современникам; иные из них не сумели вполне оценить
Добролюбова при жизни, но, по словам Некрасова, сказанным сразу
после смерти критика, «сила таланта и честной правды, впрочем,
начинала уже брать свое: в последнее время чаще и чаще стало
слышаться мнение, что этот человек не без права стал во главе
современного литературного движения» 47. Это мнение разделял и такой идейный
противник Добролюбова, как Достоевский, писавший: «В его таланте есть
сила, происходящая от убеждения» 48.
Чернышевский в некрологической статье о Добролюбове, обращаясь к
44 Н. А. Д о б р о л ю б о в. Собр. соч., т. 7, стр. 274.
45 Там же.
46 Там же, стр. 275.
47 «Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников». М., 1961, стр. 360.
48 Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. XIII. Л,, 1930, стр. 73.
Добролюбов — критик и публицист
525
народу, восклицал: «До тебя не доходило его слово, но когда ты
будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя
сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих» 49. Эти слова не
могли увидеть света в тексте «Современника», их выбросила цензура. Но
их, конечно, знал Некрасов; позже, в сатире «Недавнее время» он
повторил выражение Чернышевского: «юноша-гений».
Силой своей убежденности, боевым темпераментом, тонкостью и
мастерством литературно-художественного анализа Добролюбов заставил
многих своих читателей, хорошо знавших Белинского, вспомнить о
«неистовом Виссарионе» и о той роли, какую сыграла его критика для
литературы и для общества. Об этом начали говорить еще при жизни
Добролюбова. Прочитав статью «Что такое обломовщина?», Гончаров,
пораженный его «проницанием того, что делается в представлении
художника», писал: «Этими искрами, местами рассеянными там и сям, он живо
напомнил то, что целым пожаром горело в Белинском» 50. Позднее цензор
Бекетов, перепуганный статьей «Когда же придет настоящий день?»,
писал Добролюбову: «Критика такая, каких давно никто не читал, и
напоминает Белинского» 51.
После смерти Добролюбова, когда друзья и соратники подводили итог
его деятельности, им постоянно приходилось сравнивать только что
умершего критика с Белинским. Некрасов в своей речи над могилой
Добролюбова говорил: «В Добролюбове во многом повторился Белинский,
насколько это возможно было в четыре года: то же электрическое влияние
на читающее общество, та же проницательность и сила в оценке явлений
жизни, та же деятельность и та же чахотка» 52. Герцен, откликаясь на
кончину Добролюбова, с которым у него еще недавно были серьезные
споры, сообщал в «Колоколе»: Добролюбов «похоронен на днях на Волко-
вом кладбище возле своего великого предшественника Белинского» 53. И
даже Тургенев, все больше признававший значение Добролюбова, в
позднейших своих выступлениях в печати уже называл его имя рядом с
именем Белинского, утверждая, что оба они «блестящим образом»
разрешали «великую и важную задачу», стоявшую перед литературной критикой
в России 54.
49 «Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников», стр. 383.
50 И. А. Г о н ч а р о в. Собр. соч., т. 8, 1955, стр. 322.
51 «Заветы». 1913, № 2, стр. 96.
52 «И. А. Добролюбов в воспоминаниях современников», стр. 385—386.
53 «Колокол)/ от 3(15) декабря 1861, № 116.
54. Письмо к редактору «С.-Петербургских ведомостей» <о стихотворениях Я. П.
Полонского). 1870 г. (И. С. Тургенев. Собр. соч.« т. XI. М., 1956, стр. 193).
526
В. В. Жданов
12
Труды Добролюбова, по словам Чернышевского, могущественно
ускоряли время. Они оказывали прямое влияние на развитие передовой
идеологии, на формирование материалистического мировоззрения многих
революционных поколений.
Сила Добролюбова была в том, что в своих
общественно-политических взглядах он опирался на идею крестьянской революции, вся его
деятельность критика и публициста отвечала задачам революционной
практики. Русские мыслители-демократы в условиях отсталой России
поднялись на самую высокую ступень в развитии материалистической
философии домарксистского периода. Их деятельность подготавливала почву
для распространения в России идей марксизма. В этом историческая
заслуга Добролюбова и его учителя Чернышевского 55.
Огромен вклад, внесенный Добролюбовым в сокровищницу
национальной культуры своей родины. Великое наследие
литератора-революционера не утратило с годами своего значения, оно заняло немалое место в
духовной жизни советского народа, в его борьбе за передовую науку,
искусство, литературу.
Пламенную мысль русских революционных демократов впитало
передовое движение не только народов России, но и многих зарубежных
стран. Деятельность Белинского, Герцена, Чернышевского и
Добролюбова имела международное значение. Об этом свидетельствует и тот факт,
что их произведения были известны Марксу и Энгельсу, которые
оценивали труды русских публицистов исключительно высоко. В 1884 г.
Энгельс писал об успехах русской критической мысли, достойной «народа,
давшего Добролюбова и Чернышевского». Имея их в виду, Энгельс
утверждал, что историческая и критическая школа в русской литературе
«стоит бесконечно выше всего того, что создано в Германии и Франции
официальной исторической наукой» 56.
Маркс и Энгельс видели, что Россия выдвигается на одно из первых
мест в мировой истории, ибо рост революционного крестьянского
движения приобрел в конце пятидесятых годов особенный размах именно
в России. Международное значение трудов русских революционных демо-
55 «В своей философии истории Добролюбов был, подобно Фейербаху и
Чернышевскому, идеалистом,— писал Г. В. Плеханов.— Он думал, что «мнение правит
миром», что общественное сознание определяет собою общественное бытие. Но
исторический идеализм был непоследовательностью, диссонансом в миросозерцание
Добролюбова, Чернышевского и Фейербаха. В своих основах миросозерцание это
было материалистическим. Не менее материалистическим были и все
«антропологические» рассуждения наших просветителей» (Г. В. Плеханов. Искуссаво и
литература. М., 1948, стр. 466. Статья «Добролюбов и Островский», 1911).
56 К. M а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. XXVII, стр. 389.
Добролюбов — критик и публицист
527
кратов определялось тем, что, выступив идеологами крестьянской
революции, они создали передовое мировоззрение, передовую общественно-
философскую теорию. Активное участие в подготовке революции, связь
философии с практикой — в этом была сила русских материалистов.
Учение Чернышевского и Добролюбова имело особое значение в
славянских странах, там, где развертывалось национально-освободительное
движение. Почва для тесной связи передовых направлений в идеологии
западнославянских и южнославянских стран с русской революционной
мыслью была подготовлена историческими обстоятельствами, общностью
многих социально-экономических процессов.
Великие традиции русской революционной демократии, традиции
Добролюбова и Чернышевского, обогатили передовую мысль, общественное
движение и национальную культуру многих народов. В этом мировое
значение деятельности и наследия Добролюбова.
В. В. Жданов
СТАРЫЕ И НОВЫЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
Н. А. ДОБРОЛЮБОВА
КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗДАНИЙ ЗА СТО ЛЕТ
1
Произведения Н. А. Добролюбова при жизни автора, как известно,
не перепечатывались. Ни сам он, ни его друзья и единомышленники
так и не успели выпустить в свет ни одной книжки его статей. Правда,
Добролюбов печатался в течение всего шести лет и, отдавая без остатка
всю свою творческую энергию и все свое время журнальной трибуне,
никак не мог в быстро меняющейся общественно-политической
обстановке обратиться к тому, что ему казалось в его деятельности уже
пройденным этапом, в той или иной мере устаревшим и не являющимся
руководством к прямому действию.
Молодой критик не мог рассчитывать и на то, что цензура
разрешила бы объединить в отдельном издании, в масштабах
целенаправленного сборника боевых публицистических статей, все те специальные
литературно-критические разборы, которые по частям из месяца в месяц
проходили в печать, и небольшие рецензии и попутные сатирические
заметки в прозе и стихах, появлявшиеся на страницах «Современника».
Еще всем памятна была и буря, которую вызвало в высших
правительственных кругах появление в 1856 г. первого сборника «Стихотворений
Н. Некрасова». Да оно и не могло быть иначе: ведь «Некрасова
стихотворения, собранные в один фокус,— жгутся»,— с тревогой писал И. С.
Тургенев 14 (26) декабря 1856 г. своим петербургским друзьям из Парижа 1.
Поэтому, видимо, ни разу не попытался собрать своих статей «в один
фокус» Н. Г. Чернышевский. Безнадежность подобной издательской
операции должен был хорошо понимать и Добролюбов 2.
1 И. С. Тургенев. Поли. собр. соч. и писем. Письма, т. III. М., 1961, стр. 56
(курсив наш.— Ю. О.).
2 Проект издания сборника статей возник у Добролюбова только однажды, да и то
в исключительных обстоятельствах, во время пребывания его в июне 1860 г. за
границей, когда обострение туберкулеза и необходимость в связи с этим отложить
на год возвращение в Петербург заставили его обратиться к поискам
дополнительных денежных средств для длительного лечения. Отвечая на не дошедший до нас
Издания сочинений Добролюбова
529
Издание, не осуществимое при жизни Добролюбова, неожиданно
оказалось выполнимым вскоре же после его кончины. Инициатором и
редактором первого собрания сочинений Добролюбова явился
Чернышевский. Именно он, преодолевая с исключительной энергией и
энтузиазмом все трудности, связанные с новым изданием, довел весною 1862 г.
до конца предварительную работу по собиранию, систематизации и
проверке журнальных текстов, автографов и типографских гранок
произведений Добролюбова. В результате тщательнейшего изучения этих
первоисточников была освобождена Чернышевским от цензурных искажений
очень значительная часть литературного наследия Добролюбова,
предположенная им к изданию в пяти томах.
С самого начала Чернышевский имел в виду публикацию избранных
статей Добролюбова, а не полное собрание сочинений. Но и эта
программа-минимум была осуществлена далеко не полностью. 7 июля 1862 г.
Черышевский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.
Через три недели после этого был спешно проведен через цензуру
четвертый том сочинений Добролюбова, на котором это издание и
оборвалось 3.
Ни в переписке Н. Г. Чернышевского, ни в делах С.-Петербургского
цензурного комитета и III Отделения не сохранилось никаких
материалов, могущих пролить свет на прохождение сочинений Добролюбова через
цензурные фильтры. Не имея оснований объяснять наредкость
благоприятный исход обычной в таких случаях тяжбы издателя с цензурой лишь
политической слепотой представителей государственного аппарата, мы
можем предполагать, что безболезненное прохождение четырехтомника
произведений Добролюбова в печать обусловлено было прежде всего той
растерянностью, которая определилась в 1862 г. в высших цензурно-
полицейских органах из-за предстоящей передачи их из Министерства
запрос Добролюбова, Чернышевский писал ему 8(20) июля 1860 г.: «Сделать
издание ваших статей — это мне кажется недурною мыслью. Я поговорю с
книгопродавцами — если они скажут, что книга разойдется, то напечатаем ее» (Н. Г.
Чернышевский. Поли. собр. соч., т. XIV. М., 1949, стр. 398). Никаких данных об
этих переговорах с книгопродавцами не сохранилось, но каков бы ни был их
результат, очень показательно, что Добролюбов, как только материальное положение
его обеспечено было соглашением с Некрасовым о предоставлении ему, как и
Чернышевскому, определенной части прибылей «Современника», независимо от
получаемого ими полистного авторского гонорара, к проекту отдельного издания
своих статей больше не возвращался.
3 «Пятый том,— как отмечал Чернышевский в предисловии к своему изданию,—
составится из статей, напечатанных Добролюбовым в «Журнале для воспитания», в
«Искре» и пр., из оставшихся после него бумаг, из его корреспонденции и других
материалов для его биографии». Особенно большое значение Чернышевский
придавал письмам Добролюбова, процесс собирания которых несколько затянулся и
задерживал подготовку пятого тома. Однако он надеялся «кончить это дело в
нынешнем году» (Сочинения Н. А. Добролюбова, т. I. СПб., 1862, стр. III).
34 Л. А. Добролюбов
530
Ю. Г. Оксман
народного просвещения в ведение Министерства внутренних дел. Новая
административная реформа была тесно связана с подготовкой замены
цензуры предварительной цензурой карательной, с возложением уголовной
и материальной ответственности за нарушение законоположений о
печати на авторов и издателей. В этой сумятице энергия Чернышевского
и опыт стоявшего за ним Некрасова обеспечили выход в свет сочинений
Добролюбова без сколько-нибудь значительных купюр и искажений.
Нельзя не учесть к тому же, что цензурное рассмотрение четырехтомника
возложено было, по настоянию редакции «Современника», на одного из
либеральнейших цензоров этой поры — В. Н. Бекетова/ давнего
знакомого Добролюбова. В этих условиях и было осуществлено Чернышевским
первое собрание сочинений Добролюбова не как простая перепечатка их
подцензурного журнального текста, а как критическое издание,
восходящее к подлинным его рукописям и корректурам.
В основу размещения статей и рецензий Добролюбова в новом
издании положен был хронологический принцип. Однако он не всегда был
выдержан до конца, так как «тесная связь, по содержанию» некоторых
произведений заставила Чернышевского в первом же томе объединить в
особые тематические «группы» следующие статьи и заметки: 1)
«Собеседник любителей российского слова», «Ответ на замечания г. А. Гала-
хова», «Русская сатира в век Екатерины»; 2) две статьи о Главном
педагогическом институте; 3) пять статей по поводу педагогической
деятельности Н. И. Пирогова; 4) статьи о сочинениях С. Аксакова. По тем
же соображениям несколько произвольно был перемещен в том четвертый
в качестве якобы введения к статьям из «Свистка» (1859 г.) литературно-
критический фельетон, посвященный разбору «Стихотворений Михаила
Розенгейма» (1858 г.).
Из произведений, при жизни Добролюбова не напечатанных, в
четырехтомник вошли: заметка «Ороскоп кота», изъятая цензурой из
«Современника» в 1858 г. (см. далее, стр. 550), статья о
монахе-гарибальдийце «Отец Александр Гавацци и его проповеди»; не допущенная к
печати в 1861 г., вторая половина очерка «Непостижимая странность»,
запрещенная в 1860 г., и некоторые материалы, предназначавшиеся для
«Свистка» 4. Не возражая против публикации всех запрещенных прежде
произведений Добролюбова, цензура разрешила восстановить в 1862 г.
и подлинные названия трех больших его статей, появившихся в
«Современнике» с искаженными заголовками: «О значении авторитета в
воспитании», «Народное дело» и «Когда же придет настоящий день?»
Прежде они печатались с нарочито затемненными названиями: «Несколько
слов о воспитании по поводу «Вопросов жизни г. Пирогова», «О
распространении трезвости в России» и «Новая повесть г. Тургенева».
4 См. Сочинения Н. А. Добролюбова, т. I, 1862, стр. 355; т. IV, стр. 127—198 и 232—265.
Издания сочинений Добролюбова
531
Едва ли будет большим преувеличением утверждать, что «во весь
голос» Добролюбов впервые заговорил лишь в посмертном издании своих
произведений, что подлинно революционное звучание его статьи
получили только после того, как в редакциях, освобожденных от цензурных
усечений, они были объединены в четырехтомнике, выпущенном в свет
Чернышевским в 1862 г.5
Правда, это издание было еще далеко не полным, но, очищенное от
всего случайного и мелочного, оно стало острее, доходчивее и именно
в силу строгости отбора включенных в него материалов оказало на
несколько поколений читателей то мощное революционизирующее
воздействие, которое всегда было органически чуждо изданиям академического
типа. Ведь первый четырехтомник Добролюбова рассчитан был не на
школу и не на привилегированных любителей изящной словесности, не
на библиографов и не на литературоведов. Избранные сочинения
Н. А. Добролюбова прежде всего выполняли определенные политико-
просветительные задачи и с большим успехом продолжали осуществлять
именно эту свою функцию еще в течение нескольких десятков лет,
являясь одним из самых больших достижений русской
агитационно-пропагандистской литературы в борьбе с пережитками крепостного строя.
Сочинения Н. А. Добролюбова, выпущенные в свет в 1862 г. (в
количестве 3 тысяч экземпляров), занимали монопольное положение в
течение полустолетия, так как другие издания Добролюбова не допускались
к печати наследниками его авторских прав. Четырехтомник был
переиздан еще шесть раз (в 1871, 1876, 1886, 1896, 1902 и 1908 гг.),
причем самый корпус статей и рецензий, установленный в 1862 г.,
оставался неизменным 6.
Весьма симптоматично, что в 1884 г. все издания сочинений
Добролюбова были изъяты по распоряжению министра внутренних дел из
публичных библиотек и общественных читален7. Этот запрет оставался в
силе до революции 1905 г.
6 Первый том был подписан к печати 1 марта 1862 г., том второй — 3 апреля, том
третий — 28 мая, том четвертый — 28 июля. О друзьях Добролюбова, оказавших
содействие в работе над изданием его сочинений, см. «Список лиц, которым надобно
послать сочинения Н. А. Добролюбова». Этот автограф Чернышевского
опубликован в статье Е. Г. Бушканца «Н. Г. Чернышевский в борьбе за наследие Н. А.
Добролюбова» («Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы». Под ред.
проф. Е. И. Покусаева. Саратов, 1961, стр. 92).
6 С 1896 г. в четырехтомнике стали печататься еще два рассказа Добролюбова —
«Донос» и «Делец» и стихотворное «Послание к С. П. Галахову». Гораздо более
значительные произведения Добролюбова по-прежнему оставались за пределами
этого издания. О тиражах всех семи изданий четырехтомника см. точные
цифровые данные в Первом полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова, под ред. М. К. Лемке,
т. I. СПб., 1911, стр. III.
7 «Алфавитный список произведениям печати, которые, на основании пункта 3-го
примечания к ст. 175 устава о цензуре и печати воспрещены министром внутрен*
34*
532
Ю. Г. Оксман
2
Четыре новых издания сочинений Добролюбова вышло в свет в 1911 —
1912 гг., к пятидесятилетию со дня его смерти, когда, согласно законам
об авторском праве, действовавшим в Российской империи, литературное
наследие Добролюбова перестало быть частной собственностью его
случайных наследников. Наиболее авторитетными из этих изданий были
Первое полное собрание сочинений Н. А. Добролюбова в четырех томах, под
редакцией М. К. Лемке, и Полное собрание сочинений Н. А.
Добролюбова в десяти томах, под редакцией Е. В. Аничкова (десятый том в свет
не вышел из-за краха фирмы «Деятель» в 1914 г., в связи с
обстоятельствами военного времени). Внеся в широкий литературный оборот
много неизвестных ранее материалов, оба эти издания не обеспечили,
однако, ни действительной полноты, ни необходимой точности
публикаций произведений Добролюбова, ни их научного комментирования8.
Редактором четырехтомного Полного собрания сочинений Н. А.
Добролюбова, выпущенного издательством А. С. Панафидиной в
С.-Петербурге в 1911 г., был М. К. Лемке, известный исследователь русского
революционного движения, печати и общественной мысли первой
половины XIX в.
В осуществленном им издании Лемке шел по следам
четырехтомника Чернышевского, широко популяризируя опыт работы своего
великого предшественника и опираясь, как это ему казалось, именно на его
методы решения основных текстологических проблем. Правда, новый
исследователь литературного наследия Добролюбова, не обладая
необходимыми специальными знаниями, сильно упростил стоявшие перед ним
источниковедческие задачи, что, в свою очередь, далеко не обеспечило
правильного решения им ни вопроса об основном тексте сочинений критика,
ни еще более сложной проблемы атрибуции анонимных статей и рецензий
в «Современнике» периода участия в нем Добролюбова.
«Те сочинения, которые вошли в первое собрание,— писал Лемке,
характеризуя в предисловии к своему изданию четырехтомник 1862 г.,—
приведены в нем иногда значительно полнее, чем были в «Современнике»,
потому что Чернышевский печатал их не с «Современника», а или с
рукописей Добролюбова, или с его корректур, подвергавшихся при цензирова-
нии журнала иногда очень значительным сокращениям и изменениям.
В данное время найти где бы то ни было эти авторские рукописи или
ных дел к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях». СПб.,
1894, стр. 7; то же, изд. 1903 г., стр. 10. Этот же запрет распространялся на все
номера журнала «Современник» с 1855 по 1866 г. включительно (там же, стр. 16
и 27).
8 Критику этих изданий см. в предисловии Ю. Г. Оксмана к Полному собранию
сочинений Н. А. Добролюбова, т. I, 1936, стр. V—XI.
Издания сочинений Добролюбова
533
корректуры не удалось и потому нечего было и думать о том, чтобы
статьи, вошедшие в первое собрание, дать в еще более полном виде.
Пришлось ограничиться тем, что напечатал Чернышевский. Таким
образом, в сущности, мы имеем два текста: один, напечатанный в
«Современнике», т. е. то, что Добролюбов мог сказать при жизни, мог бросить
в лицо обществу или своим литературным противникам, и другой — что
он хотел им сказать, но сказал уже после смерти, когда никакая
полемика была невозможна» 9. И далее: «Не желая загромождать издание
приведением двух текстов, что сделало бы сличение их все-таки очень
кропотливым, я решил принять этот труд на себя,— и в результате
получился один текст, в котором однако легко найти и второй. Сделано
это посредством особых прямых скобок [ ]. Пока читатель не встречает
таких скобок в тексте сочинений, напечатанных впервые в
«Современнике», до тех пор он будет знать, что именно такой текст был
напечатан еще при жизни Добролюбова. Но когда попадается открывающая
прямая скобка, то это значит, что, начиная от нее и вплоть до
парной ее закрывающей, этого места просто не было в «Современнике» и
впервые оно появилось в собрании сочинений, изданном в 1862 г.» 10
Механически ассоциируя все особенности четырехтомника 1862 г. с
текстом не дошедших до нас рукописей Добролюбова, Лемке, конечно,
ошибался. Он не учитывал возможности правки самим Чернышевским
некоторых из редактированных им статей и рецензий хотя бы в тех
случаях, когда это требовалось явными дефектами журнального текста,
не устранимыми путем обращения к не сохранившимся первоисточникам.
Так, например, если в начале известной статьи о «Стихотворениях Ми-
9 Это заявление очень характерно и многое объясняет в дефектах текстологической
работы редакторов Добролюбова, пытавшихся установить первоисточники
Сочинений Н. А. Добролюбова 1862 г. Напомним, что даже в известном научном описании
«Архива Н. А. Добролюбова», опубликованном В. Н. Княжниным («Временник
Пушкинского Дома», 1. СПб., 1914. Приложения, стр. 1—77), не было указано еще
ни одной из типографских цензурных и доцензурных гранок статей и рецензий
Добролюбова, обнаруженных впоследствии в архивах Н. Г. Чернышевского и
А. Н. Пыпина (см. об этом далее, стр. 547). Отсутствие в научном обороте этих
материалов обусловило и наше недостаточно аргументированное предположение о
том, что основные отличия текста четырехтомника 1862 г. от первопечатных
журнальных редакций тех же статей объясняются отчасти тем обстоятельством, что
издание 1862 г. «подверглось местами литературной и политической правке
Н. Г. Чернышевского», использовавшего четырехтомник сочинений Добролюбова
«для возможно более резкого заострения всего того, что в «Современнике», по
условиям места и времени, было затушевано, обескровлено и недоговорено» (Поли,
собр. соч. Н. А. Добролюбова в шести томах, т. I. М., 1934, стр. V). Правка
Чернышевского имела, конечно, место (см. об этом далее, стр. 534), но основные
дополнения и изменения текста Добролюбова в их первом издании восходили к его
собственным автографам и корректурам.
10 Первое полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова, под ред. М. К. Лемке, т. I. СПб., 1911,
стр. V.
534
Ю. Г. Оксман
хайла Розенгейма» Добролюбов писал: «Мы помним время, когда
списывались и переписывались стихотворения, имевшие гораздо менее
прямоты и резкости» («С», 1858, XI), то Чернышевский в 1862 г. счел
необходимым уточнить авторскую хронологию, печатая эту строку: «Мы
помним, что лет пять тому назад». Разумеется, ни в рукописи, ни в
корректуре Добролюбов не мог бы в 1858 г. сказать «лет пять тому
назад», так как в самом начале пятидесятых годов, т. е. в пору
жесточайшей реакции николаевской поры, не могло быть и речи о
широком распространении какой бы то ни было подпольной литературы.
Такого же рода поправка внесена была Чернышевским в зачин рецензии
Добролюбова на «Повести и рассказы С. Т. Славутинского»: «Несколько
лет тому назад была большая мода на повести из простонародного быта»
(«С», 1860, № II). Вместо первых двух слов этого абзаца в
четырехтомнике 1862 г. мы читаем: «Лет семь тому назад».
Не менее характерна была и другая поправка, внесенная
Чернышевским в текст статьи о «Стихотворениях Михаила Розенгейма»: слова о
«смелых стишках г. Розенгейма» (текст «Современника») изменены были
в издании 1862 г. на «либеральные стишки».
Далеко не о пассивном восстановлении в четырехтомнике 1862 г.
подлинного текста автографов и корректур Добролюбова
свидетельствовало и изъятие Чернышевским всех условных уничижительных
оговорок Добролюбова об особенностях его публикаций. Например, если в
журнальном тексте статьи «Когда же придет настоящий день?»
значилось: «за неполноту и нескладность которой просим извинения у
читателей», то в издании 1862 г. слова «и нескладность» были устранены.
Следует подчеркнуть, что даже принятие гипотезы Лемке о том, что
все изменения журнального текста в издании Н. Г. Чернышевского
восходили к не дошедшим до нас автографам Добролюбова, ни в какой мере
не могло бы разрешить вопроса о каноническом тексте сочинений
последнего. Дело в том, что рукописи и даже типографские гранки далеко
не всегда могут быть отождествлены с окончательной редакцией
произведения, и, например, чисто стилистические варианты первопечатного
текста, отражая последние стадии процесса авторской правки, бесспорно,
должны быть предпочтены тексту рукописи, ибо художественной
отделкой статьи никакая цензура никогда не занимается. Между тем Лемке
совершенно механически перенес в свое издание из
четырехтомника 1862 г. не только слова и строки, отсутствие которых в журнальном
тексте могло быть приписано стороннему вмешательству, но и все
дефекты начального типографского набора, неловкие обороты, повтооения и
даже описки, тщательно выправленные впоследствии самим
Добролюбовым в тексте «Современника».
Таково, например, неожиданное дублирование в издании Лемке одних
и тех же формулировок на одно$ из страниц «Темного царства» (об от-
Издания сочинений Добролюбова
535
ношении самодура к успехам образованности) и; таково произвольное
перемещение из одной части статьи в другую цитат из «Друга честных
людей» Фонвизина в «Русской сатире в век Екатерины» 12; таково же
произвольное снятие необходимого курсива в статье «Когда же придет
настоящий день?» (Елена «скоро увидела художественность натуры»
Шубина; там же: «люди рудинского закала»).
Нельзя не отметить, что в четырехтомнике 1862 г. сохранена была
ошибочная редакция нескольких строк в статье «Луч света в темном
царстве», перешедшая и в издание Лемке: «Но нужно различать между
этими естественными законами, вытекающими из самой сущности дела,
и между положениями и правилами, установленными в какой-нибудь
системе». В «Современнике», т. е. в последней редакции статьи, эта
сентенция была выправлена: «Но нужно различать естественные законы,
вытекающие из самой сущности дела, от положений и правил,
вытекающих» и т. д. Таковы, наконец, и некоторые эпитеты в характеристике
Катерины в той же статье, устраненные самим автором в журнальном
тексте: «Катерина, напротив, может быть уподоблена [большой]
многоводной реке... Ровное дно [хорошее] — она течет спокойно» и пр.
(в квадратных скобках даем слова, отсутствующие в «Современнике»).
Таких недочетов в издании 1862 г. несколько десятков 13. Некоторые
из них явно обусловлены цензурным вмешательством в рукописи и
корректуры Добролюбова еще при его жизни. Так, например, гранки
журнального набора статей о «Стихотворениях А. П. Плещеева» («С», 1858,
№ X) и «Роберт Овен и его попытки 'общественных реформ» (С», 1859,
№ J) свидетельствуют о том, что Чернышевский не мог восстановить в
четырехтомнике 1862 г. несколько очень существенных мест первой
статьи, посвященных политической биографии Плещеева и его. связям с
петрашевцами, а также близости его стихов лирике Н. П. Огарева и;
во второй же статье остались невосстановленными данные о встрече
Р. Овена в Нью-Ленарке с будущим императором Николаем I 15. К числу
цензурных искажений в четырехтомнике 1862 г. следует отнести и
правку известного примечания Добролюбова к статье «Когда же придет
настоящий день?», в строках о некоторых людях, которые «при виде
Венеры Милосской говорят с приапической улыбкой: А она... того... годится».
В журнальном тексте эти строки звучали гораздо острее, чем в изда-
11 Первое полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова, под ред. М. К. Лемке, т. III, стр. 386.
12 Там же, стр. 713—714.
13 Много тонких дополнительных наблюдений в области критики текста
четырехтомника 1862 г. читатель найдет в статье М. Я. Блинчевской «Текстологические
принципы нового издания Добролюбова» («.Вопросы литературы», 1963, № 12, стр. 153—
162). См. также «Необходимые разъяснения» С. А. Рейсера (там же, стр. 163—171).
14 См. Собр. соч. Н. А. Добролюбова в девяти томах. М.—Л., 1961—1965, т. 3, стр. 524—
• 525.
ï5 См там же, т. 4, стр. 8.
536
Ю. Г. Оксман
нии Чернышевского: «ведь есть люди, которые и при виде Венеры Ми-
лосской ощущают лишь чувственное раздражение, и при взгляде на
мадонну говорят с приапической улыбкой: А она... того...» («С», 1860,
№ III).
Некоторые дефекты издания 1862 г. настолько явно обедняли текст
Добролюбова, что и самому Лемке приходилось прибегать к
опороченным им же журнальным редакциям тех или иных статей. Однако делал
он это без всяких оговорок. Таковы, например, замечательные строки
об И. А. Крылове, выпавшие в 1862 г. из статьи «О степени участия
народности в развитии русской литературы»: «В числе исключительных
личностей, мало имевших влияние на литературное движение, нельзя
забывать Крылова, Кольцова и Лермонтова. Крылов ограничил свою
деятельность одним родом литературных произведений — баснею и потому
мало имел влияния на развитие литературы, хотя, конечно, значение
его будет весьма велико, когда его басни дойдут до народа. Кольцов
жил народною жизнью» 16.
Общий учет всех произведений Добролюбова как печатных, так и
рукописных, как вошедших в издание 1862 г. или заготовленных для него,
так и затерявшихся без имени автора на страницах «Современника»,
«Искры», «Журнала для воспитания», «Колокола» и даже «Русского
вестника», осуществлен был в Первом полном собрании сочинений
Добролюбова под редакцией Лемке в гораздо более широких масштабах, чем
это сделал Н. Г. Чернышевский в процессе подготовки издания 1862 г.
В итоге этих разысканий прежде известный корпус произведений
Добролюбова увеличился более чем вдвое, так как к 210 сочинениям,
включенным в четырехтомник, составленный Чернышевским, прибавилось еще
237 в стихах и в прозе, извлеченных частью из журналов пятидесятых
годов, частью из неизданных бумаг критика.
В числе произведений Добролюбова, впервые введенных М. К. Лемке
в широкий научный и литературный оборот, были его анонимные статьи
в «Колоколе» («Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны»,
с концовкой Герцена), в «Русском вестнике» («Мысли об учреждении
открытых женских школ»), в «Современнике», 1858, № I («Современное
обозрение», посвященное проблемам «народного воспитания» в России
и моральному состоянию славянских земель, порабощенных Австрией).
По рукописи Добролюбова, запрещенной цензурой, был впервые напеча-
16 Первое полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова, т. I, стр. 675—676. Строки, выделенные
нами выше и отсутствовавшие в четырехтомнике, изданном Чернышевским
(см. т. I, стр. 542), в издание М. К. Лемке введены были из «Современника», так
сказать, контрабандно, без ссылки на отсутствие их в тексте четырехтомника
1862 г. Из издания же под редакцией Е. В. Аничкова (Полн. собр. соч. Н. А.
Добролюбова. СПб., 1912—1913), более «последовательно» проводившего принципы
М. К. Лемке, отмеченные выше строки о Крылове были вновь устранены.
Издания сочинений Добролюбова
537
тан в новом издании и его очерк «Статья „Times" о праве журналов
следить за судебными процессами». Правильность же многих атрибуций
Лемке была подтверждена впоследствии их проверкой в первом советском
издании полного собрания сочинений Добролюбова в 1934—1941 гг.,
некоторыми документами «конторских книг» «Современника», изученными
С. А. Рейсером и В. Э. Боградом 17, а также и вновь найденными
материалами Н. Г. Чернышевского, относящимся к его работе над
четырехтомником 1862 г.
Однако этот очень значительный по своим результатам переучет
произведений Добролюбова не был доведен в издании Лемке до конца.
Новому редактору остались неизвестными важнейшие фонды рукописей и
корректур Добролюбова, равно как и перечни его анонимных статей в
«Современнике», составленные Чернышевским (см. о них далее стр. 541).
От публикации одних произведений Добролюбова Лемке должен был
отказаться в силу цензурно-полицейских опасений («На смерть Николая I»,
«На перемену форм в войсках», «Н. А. Степанову», «К. Розенталю»
и др., большая часть статей в рукописной газете «Слухи» 1855 г.), от
включения других — из-за издательских требований максимальной
экономии листажа 18.
Большая часть ранних произведений Добролюбова была поэтому в
четырехтомнике 1911 г. только названа 19, а знаменитая «Дума при гробе
Оленина», распространенная в нелегальных списках самим автором и
опубликованная Н. П. Огаревым в «Русской потаенной литературе»
(Лондон, 1861), обозначена как «неизвестная» редактору.
При включении в свое издание анонимных статей и рецензий
М. К. Лемке слишком уж буквально истолковал некоторые явно
преувеличенные обобщения и эмоциональные формулировки случайных
писем Добролюбова к его нелитературным друзьям. Так, например, на
основании письма Добролюбова от 8 июля 1858 г. к Л. П. Пещуровой о
том, что им «писана вся критика и библиография в «Современнике»
нынешнего года» или беглого замечания его же за день до этого в письме к
17 С. А. Рей с ер. Гонорарные ведомости «Современника».-—«Лит. наследство»,
т. 53-54, М., 1949, стр. 229—257; В. Э. Б оград. Журнал «Современник». 1847—
1866. Указатель содержания. Л., 1959, стр. 32—37 и 543—567.
18 См. Первое полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова, т. I, стр. 22, 110—112, 238, 247—
248, 313-314 и др.
19 См. там же, т. I, стр. 27—31, 51—54, 62—63. Некоторые из самых существенных
пробелов издания в разделе нелегальных стихотворений Добролюбова М. К. Лемке
восстановил в сБоей позднейшей статье «Н. А. Добролюбов как политический
поэт* («Книга и революция», 1922, № 3, стр. 36—42). Четыре из политических
стихотворений его известны и сейчас только по своим названиям .(Поиски их
продолжаются. См. Е. Г. Б у ш к а н е ц. Н. А. Добролюбов и нелегальная поэзия
периода Крымской войны. Казань, 1961.) Детские и юношеские произведения
Добролюбова в стихах и прозе с 1849 г. по 1853 гг., равно как и его дневники и письма,
в четырехтомник М. К. Лемке не входили.
533
Ю. Г. Оксман
А. П. Златовратскому, что «с сентября 1857 г. в «Современнике» почти
все писано мною, исключая трех или четырех рецензий, которые
нетрудно отличить», Лемке приписал Добролюбову почти все анонимные
рецензии в «Современнике» этой поры.
Между тем, независимо даже от возможности эпизодического
участия в отделе «Новые книги» других сотрудников журнала (чем и
объясняется, кстати сказать, то обстоятельство, что Н. Г. Чернышевский,
столь осведомленный в делах журнала, с исключительной осторожностью
выбирал произведения Добролюбова из номеров 1857—1858 гг.), следует
иметь в виду, что самая переписка Добролюбова и бумаги его архива
(редакторски выправленные чужие рецензии) подтверждают активное
участие в «Современнике» некоторых его товарищей по
Педагогическому институту. Больше того, во время пребывания Добролюбова
летом 1858 г. в Старой Руссе и в Москве, его замещал в отделе
«Новые книги» H. M. Михайловский. Одни из его рецензий прямо
названы в письмах Михайловского к Добролюбову (например, рецензия на
«Немецкие письма об английском воспитании» Визе, произвольно
включенная в издании Лемке) 20, другие им же упоминаются более глухо
и обобщенно, выделяясь в журнале своей тематикой или особенностями
построения и языка, чуждыми Добролюбову21. Таковы, например,
рецензии в «Современнике» 1858, № VII, на издания: «О стенографии» М. Ива-
нина, «Путешествие русского человека на поклонение великому
Новгороду» А. П. Славина, «Статистические описания губерний», т. XVI,
«История и достопримечательности Исаакиевского собора», «Драматические
сочинения Шекспира», т. V (все это приписано Добролюбову в издании
Лемке) 22. Явно также не принадлежали Добролюбову, вопреки
свидетельствам Лемке 23, характерные своей бесцветностью четыре рецензии в
восьмом номере «Современника» 1858 г. на книги: «Две сестры» Е. Нарской,
«Литература русской библиографии» Г. Геннади, «А. С. Грибоедов и его
сочинения» Е. Серчевского, «Лепта в пользу вдов и сирот
севастопольских героев» А. Комарницкого, равно как и информационные заметки
«Учреждение всемирной кампании для прорытия Суэзского перешейка»
20 Первое полы. собр. соч. Н. А. Добролюбова, т. II, стр. 523—527.
п Рецензии H. M. Михайловского, вместе с многими другими, столь же несхожими
с общеизвестными произведениями Добролюбова, были исключены нами в 1934—
1936 гг. из полного собрания сочинений Н. А. Добролюбова. Однако некоторые из
них, без достаточных оснований, появились в «Дополнениях к I—IV томам» этого
издания (т. V, 1941, стр. 423—424). Об авторах некоторых рецензий, изъятых нами
из шеститомника, см. «Указатель произведений, ошибочно приписывавшихся
Н. А. Добролюбову» (С. А. Р е й с е р. Летопись жизни и деятельности Н. А.
Добролюбова. М., 1953, стр. 354—356), а также кн.: В. Э. Б оград. Журнал
«Современник», 1847—1866. Указатель содержания, стр. 551—554.
22 См. Первое поли. собр. соч., Н. А. Добролюбова, т. II, стр. 273—287.
23 См. там же, стр. 319—338.
Издания сочинений Добролюбова
539
(«С», 1858, № X) и «Городовой бюджет Парижа 1857 г.» («С», 1858,
№ XII), также перепечатанные в издании Лемке24.
Несравненно более широкий резонанс вызвало включение в
четырехтомник, изданный Лемке, анонимной статьи Чернышевского о комедии
А. Н. Островского «Бедность не порок» 25, впервые опубликованной в
«Современнике» 1854 г. Несмотря на то, что гипотеза о принадлежности
этого большого критического разбора Добролюбову явно противоречила
всем известным фактам его биографии и другим его высказываниям
об этой же пьесе, произвольно передвигала историю его знакомства с
Некрасовым и Чернышевским на полтора, года назад, вовсе обходила
вопрос о редакционно-декларативном характере статьи, исключавшем
возможность поручения ее безвестному студенту, каким был в ту пору
Добролюбов, не учитывала незнания им итальянского языка, каким владел
автор статьи об А. Н. Островском (см. цитаты в ней), и пр., Лемке, на
основании неверно понятых им строк дневника Добролюбова от 8
февраля 1857 г., перепечатал статью Чернышевского в своем издании полного
собрания сочинений Добролюбова 26.
Произвольно расширяя четырехтомник Добролюбова за счет
произведений Чернышевского, Лемке вслед за статьей о комедии «Бедность не
порок» включил в свое издание27 предисловие и послесловие к статье
«Бальзак» («С», 1856, № IX), в то время как самая рукопись этой
публикации документально свидетельствовала о том, что автором ее
является Чернышевский 28. Безоговорочно Лемке приписал Добролюбову и
рецензию Е. Я. Колбасина на книжку А. И. Горяинова «Итальянский воп-
24 См. там же, стр. 553—558, 712—722.
25 См. там же, т. I, стр. 3—14. Анонимная рецензия на комедию «Бедность не порок»
(«С», 1854, № V) перепечатана в двух полных собраниях сочинений Н. Г.
Чернышевского (т. I, 1906, стр. 123—130; т. II, 1949, стр. 232—240).
20 Вот эти строки: «Провел вечер в беседах с M. H. Островским, братом комика,
которого я так обругал некогда, да и вчера только по забывчивости не ругнул, говоря
о 2 № «Современника» (Н. А. Добролюбов. Поли. собр. соч., т. VI, M.— Л.,
1939, стр. 479). Произвольно связав эту дневниковую запись с анонимной статьей
о «Бедности не порок» в «Современнике» 1854 г., Лемке в остальной своей
аргументации был еще более несостоятелен. Подробнее об этой атрибуции см. в нашей
вводной статье к Поли. собр. соч. Н. А. Добролюбова, т. I, 1934, стр. X—XI, после
публикации которой вопрос о непринадлежности критического разбора комедии
«Бедность не порок» Добролюбову не вызывал уже сомнений. Правда, в 1959 г.
в статье В. Э. Бограда и С. А. Рейсера «Первое выступление Добролюбова в
печати» («Лит. наследство», т. 67. М., 1959, стр. 259—263) было документально
установлено, что Добролюбов действительно «обругал некогда» А. Н. Островского, но
произошло это не на страницах «Современника» 1854 г., а два года спустя, в
«Литературной заметке», опубликованной им в газете «С.-Петербургские ведомости» от
24 июля 1856 г., № 164. Поводом для этой «заметки» явились некоторые
декларативные детали выступления А. Н. Островского против претензий актера Д. А. Го^
рева-Тарасенкова на соавторство в комедии «Банкрот» («Свои люди — сочтемся»).
27 Первое полн. собр. соч., т. I, стр, 223.
28 Полн. собр. соч. Н. Г. Чернышевского, т. XVI. М., 1953, стр. 638 и 778.
540
Ю. Г. Оксман
рос» («С», 1860, № I) и редакционную заметку Некрасова «Причины
долгого молчания «Свистка»» («С», 1860, № XII) 29. Нет, наконец,
никаких оснований приписывать Добролюбову, не знавшему польского
языка, и рецензию на «Крымские сонеты» А. Мицкевича в переводе Н. Лу-
говского, ибо разбор этот свидетельствует о хорошем знакомстве
рецензента с польским оригиналом 30.
Сам Добролюбов не вел, видимо, учета своих произведений,
регулярно печатавшихся из месяца в месяц в «Современнике», а изредка и в
других изданиях («Журнал для воспитания», «Искра», «Русский
вестник» и др.). Единственная запись такого рода, сохранившаяся в архиве
Добролюбова, это сделанный им перечень шестнадцати нелегальных
рукописных политических стихотворений, созданных им и распространенных
за время с 1854 по 1856 гг. Тем большую ценность представляют
перечни статей и рецензий критика, сделанные Чернышевским при
подготовке им четырехтомника сочинений Н. А. Добролюбова. Эти перечни,
разной степени точности и полноты, относящиеся и к начальной стадии
работы над изданием (первоначальный учет рукописей, корректур и
печатных текстов), и к периоду его завершения (регистрация избранных
произведений в хронологическом порядке), остались вовсе неизвестными
Лемке.
Не располагая подлинными записями ни Добролюбова, ни
Чернышевского, могущими серьезно обосновать выделение из номеров
«Современника» статей и рецензий, действительно принадлежащих Добролюбову,
Лемке в предисловии к полному собранию его сочинений неожиданно
назвал основным источником своих атрибуций «никому больше
неизвестный» и найденный якобы им самим в Сенатском архиве, в «многотомном
деле о Чернышевском», перечень публикаций Добролюбова. Этот документ
2Я См. т. III, стр. 985—988; т. IV, стр. 540—543. Рецензия на книжку «Итальянский
вопрос», как установлено В. Э. Боградом, писана, судя по дошедшему до нас её
автографу, рукою Е. Я. Колбасина и выправлена Н. Г. Чернышевским (см. «Лит.
наследство», т. 67, М., 1959, стр. 265). Принадлежность Некрасову статьи о
«Свистке» определяется его письмом к Добролюбову от середины декабря 1860 г. (см.
«Звенья», т. 5, М., 1935, стр. 483).
30 См. т„ II, стр. 623—627. Рецензия на перевод «Крымских сонетов» Мицкевича («С»,
1858, № XI), не вошедшая в издание 1862 г., значилась лишь в одном из
нескольких реестров анонимных рецензий Добролюбова, составленных Чернышевским
(этот реестр опубликован в «Лит. наследстве», т. 25—26. М., 1936, стр. 246—248).
О спорах вокруг имени автора этой рецензии см. кн.: В. Э. Б оград. Журнал
«Современник». 1847—1866. Указатель содержания, стр. 554. Материалы, собранные
С. А. Рейсером, об Августине Янковском, товарище Добролюбова по
Педагогическому институту, не оставляют никаких сомнений в том, что он был автором
статьи «Заметки о современной польской литературе» («С», 1858, № 2),
отредактированной, судя по автографу статьи, именно Добролюбовым («Н. А. Добролюбов в
*• воспоминаниях современников». М., 1961, стр. 430). Как мы полагаем, такую же
редактуру осуществил Добролюбов при представлении в «С.» критического
отклика А. Янковского на перевод «Крымских сонетов».
Издания сочинений Добролюбова 541
Лемке характеризовал как «собственноручный список работ
Добролюбова», начатый молодым критиком еще в 1856 г. и «пополнявшийся по
мере появления в свет» следующих его произведений 31.
Исключительная скупость данных об этом автографе в краткой
информации Лемке, уклонение исследователя от цитации найденного им
документа, даже в особенно спорных и ответственных атрибуциях, явные
пропуски в издании 1911 г. известных статей Добролюбова и еще
более досадные вставки в него же некоторых произведений, бесспорно
Добролюбову не принадлежавших, не позволяют нам с доверием
отнестись к «открытию» Лемке. Очень настораживает и отсутствие каких
бы то ни было упоминаний об этом автографе Добролюбова в
подготовительных материалах к четырехтомнику, изданному Н. Г.
Чернышевским, и невозможность обнаружить его в течение полувека в тех самых
архивных делах, на которые ссылался Лемке. Мы полагаем, что
голословная ссылка на несуществовавший документ, к которой прибег в
своем издании Лемке, вызвана была потребностью хоть как-нибудь
обезопасить от критики безответственность многих предложенных им атрибуций,
в объективной правильности которых сам он, конечно, не сомневался32.
3
Полемика с несостоятельностью основных принципов комплектования
полного собрания сочинений Добролюбова, осуществившихся в издании
М. К. Лемке, определила методологические позиции редактора
следующего полного собрания сочинений Добролюбова, выпущенного в свет
издательством «Деятель» в 1911 —1913 гг., профессора Е. В.
Аничкова 33. Важнейшие из его атрибуций документировались прежде всего
рукописными реестрами анонимных произведений Добролюбова,
составлявшимися Н. Г. Чернышевским в пору подготовки им издания 1862 г. и
дополненными письмами к последнему А. А. Чумикова, И. И. Пауль-
сена и В. С. Курочкина о публикациях Добролюбова в «Журнале для
воспитания» и в «Искре».
31 См. Первое полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова, т. I, стр. IV и 2.
32 Аргументация наших сомнений в самом существовании автографа Добролюбова,
на" который сослался Лемке, впервые была сформулирована в шеститомнике
сочинений Добролюбова, т. I, 1934, стр. X. В 1961 г. С. А. Рейсер в статье
«Литературное наследие и проблемы текстологии Н. А. Добролюбова» полностью
присоединился к этим выводам, полагая, что так называемый «собственноручный список
работ Добролюбова», на котором строил свою аргументацию Лемке, никогда не
существовал и является плодом фантазии редактора («Вопросы литературы», 1961,
№ И, стр. 68).
33 Это издание рассчитано было на десять томов, но последний из них не вышел в
рвет и сохранился лишь в единственном неполном корректурном экземпляре,
хранящемся ныне в библиотеке Пушкинского дома АН СССР.
542
Ю. Г. Оксман
Публикацией этих документов открывался первый том издания
Е. В. Аничкова. Однако, справедливо выразив недоверие атрибуциям
Лемке в той их части, которая не совпадала с четырехтомником
Чернышевского и с его же более широкими перечнями статей и рецензий
Добролюбова, не включенных в издание 1862 г., Е. В. Аничков и его
помощник по изданию В. Н. Княжнин впали в другую крайность.
Отнесясь совершенно некритически к записям Чернышевского, оказавшимся
в их распоряжении, они, с одной стороны, предельно сузили круг
своих первоисточников, а с другой, явно в них не разобрались. Поэтому
новое издание, не повторив многих ошибок Лемке, все же оказалось
заполненным произведениями, принадлежащими не Добролюбову,
а Н. Г. Чернышевскому (рецензия на книгу А. Зернина «Жизнь и
литературная деятельность императора Константина Багрянородного»),
П. П. Пекарскому («Сведения о жизни и смерти царевича Алексея
Петровича»), М. А. Антоновичу (рецензия на книгу «Византийские
историки»), А. Н. Пыпину (рецензия на альманах П. А. Кулиша «Хата»),
H. M. Михайловскому (разбор сатир К. Горация Флакка в переводе
М. А. Дмитриева), Д. Л. Михаловскому (статья «Шекспир в переводе
г. Фета») и т. д., и т. п.
Без всяких оснований в издании Е. В. Аничкова приписано было
полностью Добролюбову «Внутреннее обозрение» в «Современнике», 1860 г.,
№ III, в то время как он в этом обзоре являлся автором лишь
«Вступительных замечаний» от редакции, а самый обзор принадлежал С. Т. Сла-
вутинскому34. Столь же ошибочны были в новом издании и
безоговорочные утверждения о принадлежности Добролюбову всех статей в
рукописной газетке студентов Педагогического института «Сплетни» 1857 г.
и статьи М. Л. Михайлова «Страх врагам» («С», 1861, № VIII) 35. Мы
выделяем, разумеется, в качестве примеров ошибочных атрибуций в
издании «Деятель» лишь самые досадные.
В числе публикаций, ошибочно приписанных Добролюбову, в издании
Е. В. Аничкова (до него этот же промах допущен был в
четырехтомнике Лемке, а четверть века спустя редакцией первого советского
полного собрания сочинений Добролюбова ) оказалась и корреспонденция
«Замечания по поводу одного следствия», опубликованная в
«Современнике», 1860, № И.
34 О принадлежности «Внутреннего обозрения» в «Современнике» 1860 г. С. Т. Славу-
тиискому см. его переписку с Добролюбовым (Сб. «Огни», кн. 1. Пг., 1916, стр. 56—
60) и комментарий Б. П. Козьмина к этому обзору в Поли. собр. соч. Н. А.
Добролюбова в шести томах, т. IV, 1937, стр. 501—502.
35 См. Поли. собр. соч. Н. А. Добролюбова, т. VII, 1923, стр. 42—48. Доказательства
непринадлежности статей в газете «Сплетни» Добролюбову см. в Поли. собр. его
соч., т. IV, 1937, стр. 553—554. О М. Л. Михайлове, как авторе статьи «Страх
врагам», см. там же, т. V, 1941, стр. 584.
Издания сочинений Добролюбова
543
Корреспонденция была подписана инициалами «Н. Л.» и снабжена
топографической отметкой: «П-в» — не то «Псков», не то «Порхов». Это
типичное «письмо из провинции», каких печаталось так много в
русских журналах и газетах этой поры под прямым воздействием
обличительных «корреспонденции с мест» в «Колоколе» Герцена. И по своему
жанру, и по своей тематике, и по некоторым особенностям стиля и
композиции (предельно лаконичный монтаж документов) эта публикация
очень далека и от общеизвестного круга интересов Добролюбова и от
приемов его письма.
В основе корреспонденции — материалы «дела» уездного земского
суда об убийстве или самоубийстве еще в 1852 г. некоего помещика в
некоем медвежьем углу (фамилия его, равно как и место происшествия, не
указаны). Через несколько лет было возбуждено новое следствие, но и
оно не дало определенных результатов. Заключение, к которому
приходит автор «Замечаний», имело обобщающий обличительный смысл: «Так
производятся многие следствия! Можно указать на следственные дела,
по которым убийца или меновщик фальшивых ассигнаций оказывается
только немного подозреваемым, а человек, сделавший обыкновенный
проступок, оказывается по следствию виновным в уголовном преступлении».
Возможно, конечно, что эта пятистрочная концовка принадлежала не
автору «Замечаний», а редакции «Современника». Не лишено вероятия,
что ее мог написать и Добролюбов. Ведь об интересе его к
корреспонденции «Об одном следствии» свидетельствовал и факт находки
рукописи или типографских гранок этой статьи в бумагах Добролюбова при
описи их Чернышевским (см. далее, стр. 563). Из этой же описи название
интересующей статьи механически перекочевало и в последний из
дошедших до нас перечней статей Добролюбова, предшествовавший их
переизданию 36. Но даже если на минуту предположить, что Чернышевский в
самом деле считал возможным приписать «Замечания по поводу одного
следствия» Добролюбову, то речь в данном случае могла бы идти не
об его авторстве, а лишь о какой-то форме редакторской работы над
Перечень этот, заключавший в себе 137 названий статей и рецензий
Добролюбова, обнаружен в архиве .Чернышевского В. Э. Боградом. Первые сведения о нем
см. в его книге «Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания»,
стр. 42—43. Мы полагаем, что перечень этот является первым вариантом
оглавления издания 1862 г., еще до его сокращения в рукописи перед сдачей в набор.
Критический разбор как этого, так и всех прочих реестров анонимных
произведений Добролюбова, сделанных Чернышевским в процессе подготовки
четырехтомника, см. в статье Ю. Г. Оксмана «К вопросу о перечнях анонимных произведений
Добролюбова, составленных Н. Г. Чернышевским».— «Проблемы современной
филологии. Сборник статей к семидесятилетию акад. В. В. Виноградова». М., 1965,
стр. 432—437, и в его же обзоре «О некоторых итогах работы над первым
советским изданием полного собрания сочинений Н. А. Добролюбова» («Ученые
записки Горьковского гос. ун-та», вып. 78, 1966, стр. 3—20).
544
Ю. Г. Оксман
чужой рукописью. Поэтому Чернышевский и отказался впоследствии от
включения «Замечаний» в четырехтомник сочинений Добролюбова,
сданный им в печать в 1862 г. Самый факт этого отказа гораздо более
значим, как мы полагаем, чем предварительная запись о «Замечаниях»
даже в двух реестрах.
Правильность окончательного решения Чернышевского,
подтверждается и конторскими книгами «Современника»: в «лицевом счете»
Добролюбова «Замечания по поводу одного следствия» вовсе не числятся,
а в счете «разных литераторов», куда внесены были подробные
данные о листаже «Замечаний» (1 лист и 7 страниц), фамилия автора,
как неизвестная бухгалтерии, обозначена условно инициалами «000».
Гонорар же за эту корреспонденцию выписан не был, и она осталась
неоплаченной 37.
* * *
Метод сочетания в основном корпусе сочинений двух редакций
текстов Добролюбова, предложенный Лемке, был сохранен и в издании
Полного собрания сочинений Добролюбова под редакцией Е. В. Аничкова.
В отличие от своего предшественника, новый редактор признал
необходимым воспроизведение в квадратных скобках не только слов и строк,
дополнявших текст «Современника», но и всякого рода замен и
перестановок тех или иных мест первопечатной редакции. Однако самую
реализацию этих правильных по существу текстологических приемов в
новом издании сочинений Н. А. Добролюбова обеспечить полностью не
удалось, а отсутствие корректуры или отказ от ее чтения (иначе мы не
можем объяснить грубейших извращений текста Добролюбова в издании
«Деятель») привел к тому, что даже наиболее критическое по своим
заданиям из дореволюцинных собраний сочинений Добролюбова
оказалось в текстологическом отношении совершенно неудовлетворительно.
Пропусками целых строк, изъятых из «Современника» цензурой, но
восстановленных Чернышевским, и опечатками в самых ответственных
местах пестрят в этом издании очень многие из статей Добролюбова.
Из сотен характерных примеров отметим, на выдержку, хотя бы
следующие, печатая курсивом то, что пропущено в издании Е. В. Аничкова:
«Кто признает права личности и принимает важность естественного,
живого, свободного ее развития» 38; «Зато и общество попирает ногами та-
ких ленивцев. Зато и история эти натуры обходит презрительным
молчанием» 39; «Он не любил реставрации, но это не потому, что реставра-
37 См. Поли. собр. соч. Н. А. Добролюбова, т. V. М., 1941, стр. 580. Ср.: С. А. Р е й с е р.
Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова, стр. 355.
38 См. Поли. собр. соч. Н. А. Добролюбова под ред. Е. В. Аничкова, т. III, стр. 179
(«Н. В. Станкевич»).
&9 См. там же, стр. 287 («Стихотворения Полежаева»),
Издания сочинений Добролюбова
545
ция была противна свободе, не потому, что Бурбоны были
ретроградны» 40; «Я надеялся, что при их слабости легко будут восстановлены
некоторые народные льготы»41; «Но он уже заражен воздухом
самодурства» 42; «Если в произведении есть что-нибудь, то покажите нам, что в
нем есть; это гораздо лучше, чем пускаться в соображения о том, чего в
нем нет» 43; «За это ручается то лихорадочное, мучительное нетерпение,
с которым мы ожидаем его появления в жизни. Он необходим для нас, без
него вся наша жизнь идет как-то не в зачет» 44 и т. д.
С вопиющими извращениями текста Добролюбова, происшедшими в
этом издании по редакционному недосмотру, сочетались искажения,
обусловленные правкой по первоисточникам некоторых цитат критика.
Не учитывая особой политической и литературной функции выдержек из
чужих произведений, приводимых в статьях Добролюбова, и не понимая,
что все их сокращения и перестановки сделаны были совершенно
сознательно, Е. В. Аничков и В. Н. Княжнин выправили, например, все
цитаты Добролюбова из произведений XVIII в., даже не по оригиналам,
бывшим в распоряжении критика, а по лучшим, с точки зрения обоих
редакторов, изданиям этих текстов45. Отсылая читателя к ненужным ему
первоисточникам цитат Добролюбова и не давая самих цитат, Е. В.
Аничков и В. Н. Княжнин подорвали в то же время доверие к своим
примечаниям неверными обозначениями дат и места появления даже таких
публикаций критика, как «Темное царство» или «Луч света в темном
царстве» 46.
С такою же небрежностью, неточностью и неполнотою печатались в
конце каждого из томов издания «Деятель» и варианты к основным
текстам Добролюбова, хотя на подбор их обращено было здесь
несравненно больше внимания, чем в четырехтомнике Лемке. Чрезмерной
громоздкостью и пестротою отличалась в издании «Деятель» и самая
система расположения материала. Без всякого основания в пределах этого
полного собрания сочинений Добролюбова сконструированы были отделы
«Педагогики» и «Истории», выделенные наряду с «Литературной
критикой», «Публицистикой» и «Беллетристикой» в особые тома (с таким же
«основанием» можно было бы выделить «Этнографию и фольклор»,
«Классическую филологию», «Политическую экономию», «Физиологию» и т. д.).
Насколько смутно представляла себе редакция назначение этих рубрик,
видно хотя бы из того, что в том «Педагогика» оказался отнесенным
40 См. там же, стр. 667 («Песни Беранже»).
41 См. там же, стр. 672.
42 См. там же, т. IV, стр. 220 («Темное царство»).
43 См. там же, стр. 271 («Луч света в темном царстве»).
44 См. там же, стр. 424 («Когда же придет настоящий день?»).
45 Ср., например, их пояснения в т. I, стр. 383—384 и 392; правки в томе III, стр. 207—
208.
46 См. т. IV, стр. 433 и 434.
35 Н. А. Добролюбов
546
Ю. Г. Оксман
политический памфлет «Партизан И. И. Давыдов во время Крымской
войны», впервые опубликованный Добролюбовым в «Колоколе», а в
образцы «Литературной критики» попала редакционная заметка «Ороскоп
кота», отвечавшая на провокационный акростих Бориса Федорова («Коло-
колыцику петля готова, и Чернышевскому с Некрасовым»),
4
Новой вехой в публикации литературного наследия Добролюбова
явилось первое советское полное собрание его сочинений,
осуществленное Государственным издательством «Художественная литература» в
1934—1941 гг. 47 Инициатором и ответственным редактором этого издания
явился П. И. Лебедев-Полянский. Заместителем главного редактора и
руководителем всей архивной, текстологической и комментаторской
работы, связанной с новым изданием, был (с 1932 г. по 1937 г.)
Ю. Г. Оксман. Три последних тома редактировал Б. П. Козьмин. К
участию в издании привлечены были Б. Я. Бухштаб, И. И. Векслер, В. В.
Данилов, М. М. Калаушин, В, В. Мияковский, Н. И. Мордовченко,
А. В. Предтеченский, С. А. Рейсер, Н. Л. Степанов, H. M.
Чернышевская, С. Я. Штрайх, И. Г. Ямпольский и некоторые другие историки и
литературоведы.
Биографический очерк «Н. А. Добролюбов», открывавший первый том,
написал М. М. Клевенский, вводную статью «От редакции»— Ю. Г.
Оксман. Вступительные статьи к следующим томам принадлежали П. И.
Лебедеву-Полянскому («Литературно-критическая деятельность
Добролюбова», «Основы мировоззрения Добролюбова», «Н. А. Добролюбов и его
политическая программа») и Б, Я. Бухштабу («Н. А. Добролюбов-поэт»).
По мысли главного редактора, новое издание, рассчитанное на шесть
больших томов, должно было опираться на принципы публикации текста,
установленные в двух последних изданиях сочинений Добролюбова,
а в своей композиции повторить тематическое объединение материалов,
осуществленное в девятитомнике Е. В. Аничкова. От реализации послед-
47 Н. А. Добролюбов. Поли. собр. соч. в шести томах. Под общей редакцией
П. И. Лебедева-Полянского. Государственное издательство «Художественная
литература»; т. I. Литературная критика. Статьи и рецензии 1856—1858 гг. (М., 1934);
т. П. Статьи и рецензии 1859—1861 гг. (М., 1935); т. III. Критика и публицистика.
1856—1859 гг. (М., 1936); т. IV. Статьи и рецензии 1859—1860 гг. (М., 1937); т. V.
Статьи 1860—1861 гг. Дополнения к I—IV томам (М., 1941); т. VI. Сатира.
Стихотворения. Рассказы. Дневники (М., 1939). Издание фактически закончено было не в
1941 г., а в августе 1945 г., когда вышел в свет том пятый, матрицы которого
около четырех лет пролежали в типографии из-за обстоятельств военного времени.
Общий очерк истории этого издания см. в статье Ю. Г. Оксмана «О некоторых итсь
гах работы над первым советским изданием полного собрания сочинений Н. А.
Добролюбова» («Ученые записки Горьковского гос. ун-та», вып. 78, 1966, стр. 3—20).
Издания сочинений Добролюбова
547
него условия шеститомник удалось частично избавить (статьи и
рецензии Добролюбова были размещены в двух, а не в четырех разделах),
первое же требование оставило свой след в длинных рядах квадратных
скобок, позволявших якобы наглядно демонстрировать сразу же обе
редакции статей Добролюбова — журнальную, опубликованную в
«Современнике», и ту, которая появилась в четырехтомнике 1862 г.
Основное внимание в новом издании обращено было на критическое
установление наиболее полного и точного текста произведений
Добролюбова. В связи с этим подверглись тщательному учету и изучению
все дошедшие до нас рукописи и печатные тексты сочинений
Добролюбова, материалы его переписки, архивы С.-Петербургского цензурного
комитета и Главного управления цензуры, все три основных издания его
произведений, а к концу издания шеститомника и гонорарные ведомости
('Современника», долго остававшиеся в частном владении.
Параллельно основному тексту статей и рецензий в каждом томе
строился и раздел «Вариантов», впервые обогащенный данными
типографских гранок, иногда с отметками автора, чаще — с правкой
цензоров. Особенно ценны в текстологическом отношении были наборные
листы таких произведений Добролюбова, как «Когда же придет
настоящий день?», «Что такое обломовщина?», «Черты для характеристики
русского простонародья», «Ответы на замечания г. А. Галахова»,
«Деревенская жизнь помещика в старые годы», «Н. В. Станкевич»,
«Повести и рассказы С. Т. Славутинского», «Органическое развитие человека
в связи с его умственной и нравственной деятельностью»,
«Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», «Роберт Овен», «Литературные
мелочи прошлого года», «Забитые люди» и многое другое, всего свыше
тридцати названий.
Впервые были опубликованы в новом издании ранние критические и
фольклорные опыты Добролюбова, его институтские специальные
зачетные работы, его первые' научные исследования — «О некоторых местных
пословицах и поговорках Нижегородской губернии» (1853), «Областные
слова, употребляемые в Нижегородской губернии» (1853), «Заметки и
дополнения к сборнику русских пословиц г. Буслаева» (1854), «О
поэтических особенностях великорусской народной поэзии в выражениях
и оборотах» (1854), «Замечания о слоге и мерности народного языка»
(1854), «О Виргилиевой Энеиде в русском переводе г. Шершеневича»
(1855), «Глаголические памятники XI—XII вв.» (1855), «Литературные
заметки» (1855), «Кирилловские памятники XIII—XIV вв.» (1855),
«О Плавте и его значении для изучения Римской жизни» (1855—1856),
«О современном русском правописании» (1856—1857), «Заметки и
размышления по поводу лекций (по истории русской словесности) С. И.
Лебедева» (1857), «О древнеславянском переводе Хроники Георгия Амарто-
ла» (1857).
35*
548
Ю. Г. Оксман
Впервые на страницах шеститомника появился и полный текст
рукописной нелегальной газеты «Слухи» 1855 г., почти все статьи которой
принадлежали самому Добролюбову, рецензия его на чешскую книгу
И. Гануша о поэте и филологе Ф. Л. Челяковском, затерявшаяся без
подписи автора в «Известиях Академии наук» 1856 г., наброски начатых
журнальных статей, черновые заметки к «Свистку» и т. п. Всего в новое
издание вошло около 325 статей, рецензий и всякого рода журнальных
заметок, не считая первых научно-исследовательских работ Добролюбова
(18 названий) и публикаций, степень его участия в которых не
поддавалась точному учету. Сверх того в шеститомник вошли и все лирические
стихотворения Добролюбова, оригинальные и переводные (всего 115
названий), его нелегальные элегии, послания и сатиры, вся его
художественная проза. Впервые были опубликованы и тетради детских и
юношеских стихотворений Добролюбова (около 150 названий).
Редакция первого советского издания полного собрания сочинений
Добролюбова подвергла коренному пересмотру тот корпус его
произведений, который был установлен в четырехтомнике М. К. Лемке.
Результатом этого пересмотра явилось изъятие из нового издания почти всех
статей и рецензий, приписанных Добролюбову без достаточных оснований.
С гораздо меньшей взыскательностью сотрудники издания 1934—
1941 гг. отнеслись к принципам атрибутирования анонимных текстов
«Современника», осуществленных в девятитомнике Е. В. Аничкова. Его
формальная опора на заметки и выписки Чернышевского, неправильно к
тому же, как это выяснилось впоследствии, им понятые, привела к
произвольному заполнению корпуса произведений Добролюбова не только в
издании «Деятель», но и в советском шеститомнике статьями и
рецензиями, принадлежавшими в действительности другим сотрудникам
«Современника», начиная от Н. Г. Чернышевского и кончая А. Н. Пыпиным,
М. А. Антоновичем, П. П. Пекарским, Н. М. Михайловским, Д. Л. Ми-
халовским и некоторыми другими. Мы имеем в виду ошибочную
перепечатку в шеститомнике критических разборов книг А. Зернина «Жизнь и
литературные труды императора Константина Багрянородного» и С. Па-
лаузова «Румынские господарства Молдавия и Валахия...», сборника
«Сатиры Квинта Горация Флакка в переводе М. Дмитриева», альманаха
П.А.Кулиша «Хата», статей «Шекспир в переводе г. Фета», «Означении
наших последних подвигов на Кавказе», «Сведения о жизни и смерти
царевича Алексея Петровича», «Замечания по поводу одного следствия».
Независимо от ошибок, вызванных произвольным толкованием
некоторых записей Чернышевского, в шеститомнике Добролюбова были
повторены и другие неправильности атрибуций в двух предшествующих
изданиях. Так, например, в нем перепечатаны были рецензии: А. Н. Пыпи-
на на «Отчет императорской публичной библиотеки за 1856 год»,
А. В. Стефановского на брошюру архимандрита Викторина «Истинный
Издания сочинений Добролюбова
549
друг духовного юноши», H. M. Михайловского на «Раскрытый портфель»
И. Е. Великопольского, Б. И. Сциборского на «Исторический рассказ о
литовском дворянстве» И. Норай-Кошица, П. И. Дмитриева на «Уроки
естественной истории» С. Ходецкого и «Естественную историю» А. Го-
ризонтова и пр. 43
Редакция шеститомника безоговорочно перепечатала полностью в
сочинениях Добролюбова49 обзор Е. П. Карновича «Современное
обозрение» в третьем номере «Современника» 1858 г., хотя Добролюбову
принадлежали в этой публикации только несколько абзацев 50. И в то же
время в новое издание Добролюбова не попали ни тонкий иронический
отклик критика на книгу М. А. Корфа «Восшествие на престол
императора Николая I» 51, включенный Чернышевским в коллективное
«Современное обозрение» в девятом номере «Современника» 1857 г., ни
интереснейшая вводная страница его же к статье Н. И. Костомарова о
сборнике «Народт опов]дання Марко Вовчка» («С», 1859, № V) 52.
В шеститомник не вошли и некоторые рукописные фрагменты работ
Добролюбова. К их числу принадлежали, во-первых, наброски перевода
двух запрещенных в России книг Фейербаха («О сущности
христианства» и «Мысли о смерти и бессмертии») 53 и, во-вторых, начало какого-
то нелегального прокламационного произведения, обращенного (в
начале 1856 г.?) «к тем, в ком есть хоть искра священного пламени
любви к свободе»54. Не был перепечатан и переводный
компилятивный обзор Добролюбова «Заграничные известия» («Журнал для
воспитания», 1857, № 3), посвященный краткой информации об учебных
заведениях Германии и Австрии в 1856—1857 гг.
Изучение в книгохранилищах Пушкинского дома и Ленинградской
Публичной библиотеки разных комплектов «Современника» за годы
участия в нем Добролюбова неожиданно позволило выявить неизвестные
ранее факты цензурных изъятий из номеров журнала некоторых статей и
заметок Добролюбова (например, «Ороскоп кота» в «С», 1858, № IV)
48 Об этих публикациях см. далее, стр. 559. О трех последних рецензиях, только
редактированных Добролюбовым, см.: «Архив Н. А. Добролюбова». Л., 1952, стр. 10,
№ 19 и 23.
49 Т. V, стр. 271—288.
50 См. «Лит. наследство», т. 53-54. М., 1949, стр. 246 и 280, а также кн.: В. Э. Во г-
р а д. Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания, стр. 548—549.
51 Принадлежность Добролюбову страниц о книге М. А. Корфа устанавливается
гонорарными ведомостями «Современника» (см. «Лит. наследство», т. 53-54,
стр. 242 и 278) и хорошо аргументированным стилистическим анализом их в
статье: Г. Е. Т а м а р ч е н к о. Об атрибуциях некоторых статей и рецензий
Добролюбова 1857—1858 годов.— «Русская литература», 1961, № 3, стр. 144—147.
62 См. В. Э. Б о г р а д. Две заметки Добролюбова в «Современнике».— «Лит.
наследство», т. 67, 1959, стр. 264—266.
53 «Лит. наследство», т. 25-26, стр. 243—245.
54 Поли. собр. соч. Н. А. Добролюбова под ред. Е. В. Аничкова, т. VII, стр. 39—42.
teo
Ю. Г. Оксман
или вырезки их, сокращаемые и переносимые из одного номера в другой
(см. комментарий к рецензиям «О нравственной стихии в поэзии» и о
сб. «Школа», 1858 г.). Данные эти извлечены были из некоторых
случайно сохранившихся начальных вариантов обложек журнала,
впоследствии уничтоженных и перепечатанных в новых редакциях 55.
Рукописный текст обзора Чернышевского «Политика» («С», 1859,
№ VIII), обнаруженный в саратовском Доме-музее Н. Г. Чернышевского,
и переписка об этом обзоре его автора с Добролюбовым позволили
редакции шеститомника впервые установить, какие именно
дополнения в этой статье принадлежали Добролюбову.
Находок и уточнений этого типа в новом издании было гораздо
больше, чем ошибочных решений тех или иных источниковедческих проблем.
Все статьи и рецензии Добролюбова в «Современнике» при их
перепечатке в шеститомнике размещены были не в обычном хронологическом
порядке, а с учетом еще и жанровой специфики материала. Отделяя
статьи, опубликованные в рубрике «Критика» от рецензий,
помещавшихся в разделе «Новые книги», мы полагали, что журнальные рубрики,
произвольно стертые во всех позднейших изданиях Добролюбова, были
далеко не безразличны и для самого критика, и для редакции
«Современника», и даже для всей массы читателей пятидесятых —
шестидесятых годов.
Напомним, что еще Белинский, говоря о некоторых особенностях
журнальных и газетных жанров, подчеркнул в своем известном
«Взгляде на русскую литературу 1846 года», что «под критикой разумеется
статья известного объема и даже особенного от рецензии тона»5Ô.
И в самом деле, не только в пору становления «Современника», но и
десять — пятнадцать лет спустя статья, рассчитанная на отдел «Критика»,
строилась и воспринималась как журнальная передовица, всегда должна
была иметь определенную декларативно-установочную значимость, давать
не эпизодические литературно-критические разборы, а уже как бы итоги
изучения того или иного круга больших литературно-политических
проблем, поднимаемых произведением того или иного большого писателя.
В статьях отдела «Критика» закрепилась и знаменитая подпись
Добролюбова «Н.—бов».
55 По оплошности комментатора рецензии Добролюбова па сб. «Весна» («С.» 1859,
№ VI) в шеститомнике остался неотмеченным (см. т. II, стр. 709—710) еще более
интересный факт внесения Добролюбовым в уже отпечатанный номер
«Современника» резкой отповеди на статью Герцена «Very dangerousü!» («Колокол» от 1
июня 1859 г.). Страничка с этой отповедью дополнительно включена была в номер
«Современника» взамен другой, изъятой из него для вклейки нового текста с тем,
чтобы этот текст возможно скорее дошел как до самого Герцена, так и до
читателей «Современника». См. об этом в статье: С. А. Р е й с е р. Добролюбов и
Герцен.— «Известия Отделения общественных наук АН СССР», 1936, № 1-2, стр. 182.
56 В. Г. Б е л и н с к и й. Поли. собр. соч., т. X. М., 1956, стр. 49.
Издания сочинений Добролюбова
551
Несравненно менее ответственны, обязательно анонимны и нередко
даже случайны многочисленные отклики Добролюбова на текущую
печатную продукцию в рубрике «Новые книги». Не всегда рассчитанные на
широкий общественно-литературный резонанс, рецензии Добролюбова и
по своему материалу и по методам его оформления резко отличались от
его же статей. Разумеется, самые условия журнальной работы были
таковы, что некоторые статьи Добролюбова, относящиеся к отделу
«Критика», в силу тех или иных причин технического порядка (поздняя
доставка в типографию актуальной рукописи, задержка ее в цензуре,
перегруженность отдела другими статьями и т. п.), появлялись и в отделе
«Новые книги». Но таких случаев было очень мало. К ним мы относим,
например, включение в отдел «Новые книги» блистательного
литературно-критического фельетона «Стихотворения Михаила Розенгейма» («С»,
1858, № XI) и статьи «Уличные листки» («С», 1858, № IX). Их место,
конечно, в рубрике «Критика».
В особый раздел третьего тома (стр. 429—546) выделены были нами
все публикации Добролюбова в «Журнале для воспитания» 1857 г. и
1858 г. Это выделение обусловлено было, во-первых, самим характером и
назначением этих материалов и, во-вторых, необходимостью избежать в
основном тексте повторения одних и тех же суждений по поводу
некоторых книг, параллельно рецензированных Добролюбовым в
«Современнике» и в «Журнале для воспитания» 57.
Уровень наших знаний о Добролюбове был в середине тридцатых
годов еще так невысок, что мы не смогли обеспечить выделение в
особую часть издания статей и рецензий, написанных друзьями критика,
а им только дополненных и отредактированных. Некоторые из этих
произведений оказались в основном корпусе сочинений Добролюбова
(например, рецензии на «Сатиры Квинта Горация Флакка», на
«Исторический рассказ о литовском дворянстве» И. Порай-Кошица), другие вовсе
не попали в шеститомник (например, рецензия на «Крымские сонеты»
А. Мицкевича в переводе Н. Луговского), третьи — частично были
объединены в разделе «Dubia» 58.
В структурном отношении оказался вполне оправданным в новом
издании и отдел «Приложения» к каждому из томов. Именно здесь
нашли свое место юношеские произведения Добролюбова, первые пробы его
67 Об этом см. подробнее в комментариях к т. III, стр. 645, 649, 652—653, 656, 657, 660.
Принадлежность Добролюбову двух рецензий в «Журнале для воспитания»,
включенных в шеститомник (т. III, стр. 507—511), впоследствии была оспорена
С А. Рейсером («Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова», стр. 215).
Доводы С. А. Рейсера, убедительные в одном случае (рецензия на книгу «Басни и
баснописцы русские». Собрал И. В. Изд. 2. М., 1858), недостаточно
аргументированы в другом (рецензии на «Учебник русского языка для уездных училищ,
составленный И. Соснецким». Изд. 2. М., 1858).
68 Полное собр. соч. Н. А. Добролюбова, т. V, стр. 562—567.
552
Ю. Г. Оксман
пера, семинарские и институтские работы, отрывки и наброски
позднейших статей, рукописная газета «Слухи».
Комментаторский аппарат занимал в шеститомнике около 50
печатных листов предельно сжатого изложения, не считая шести
специальных вводных статей (10 листов) и аннотированных именных указателей
(17 печатных листов).
При всех своих частных недочетах, первое советское издание
полного собрания сочинений Добролюбова не только положило начало
широкому изучению его литературного наследия, но и до сих пор остается
наиболее полным собранием его произведений, вариантов к ним и других
материалов, необходимых для правильного понимания условий их
создания и распространения 59.
Шеститомник Добролюбова имел настолько большой успех, что к
моменту выхода в свет последнего тома все предыдущие тома этого издания
(оно печаталось в количестве 10 тысяч экз.) являлись уже
библиографической редкостью.
Не располагая возможностями для критического переиздания полного
собрания сочинений Добролюбова, Государственное издательство
художественной литературы выпустило в 1950—1952 гг. сокращенный и
предельно упрощенный его вариант в трех томах 60. Это издание повторяло
почти с пунктуальной точностью, с сохранением не только квадратных
скобок в основном тексте, но и всех ошибок и даже опечаток последнего,
статьи и рецензии Добролюбова с 1856 по 1861 г. Разумеется, научного
значения это издание не имело, как не имели его и все однотомники
избранных литературно-критических произведений Добролюбова,
выпускаемые время от времени в течение последнего тридцатилетия для нужд
школы. В основе текста и примечаний этих однотомников лежало то же
шеститомное полное собрание сочинений Добролюбова.
Высокую оценку шеститомника см.: И. М. Лаврецкий. Собрание сочинений
Н. А. Добролюбова.—«Советская книга», 1946, № 12, стр. 14—19; Е. И. Рыскин.
Основные издания сочинений русских писателей. XIX век. Изд. 2. М., 1948, стр. 170;
С.А. Р е й с е р. Литературное наследство и проблемы текстологии Н. А.
Добролюбова.— «Вопросы литературы», 1961, № И, стр. 69—70. Как «большое научное и
культурное событие» первое советское полн. собр. соч. Добролюбова
охарактеризовано в кн.: М. Г. Зельдович и М. В. Червяков. Н. А. Добролюбов.
Семинарий. Изд. Харьковского университета, 1961, стр. 138 и 234—235. Положительную
оценку шеститомника см. также в обзоре: А. Л. Г р и ш у н и н. Очерки истории
текстологии новой русской литературы.— «Основы текстологии». М., 1962, стр. 109.
Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в трех томах, т. I. Статьи и рецензии 1856—
1858 гг. Подготовка текста и примечания В. А. Путинцева. М., 1950; т. П. Статьи и
рецензии 1859 г. Подготовка текста и примечания М. С. Пенкина. М., 1952; т. IIL
Статьи и рецензии 1860—1861 гг. Подготовка текста и примечания В. П. Дорофеева.
М., 1952. В приложениях к третьему тому перепечатан был памфлет Добролюбова
«Воскресший Белинский», впервые опубликованный Б. П. Козьминым в 1951 г»
в «Лит. наследстве», т. 57, стр. 7—24.
Издания сочинений Добролюбова
553
5
Опыт работы над первым критическим изданием полного собрания
сочинений Добролюбова широко был использован четверть века спустя
в девятитомном издании сочинений Н. А. Добролюбова, которое
приурочено было к столетию со дня его смерти 61.
В новом издании текст всех произведений Добролюбова был
подвергнут еще раз сплошной проверке по первоисточникам, в числе которых
оказались и неизвестные раньше типографские гранки его статей и
рецензий, сохранившихся в архиве Чернышевского, Пыпина и Антоновича.
Много ценных дополнений и уточнений внесено было в девятитомник не
только в результате новых архивных находок, но и благодаря
многолетним систематическим разысканиям ряда исследователей (Б. П. Козьмина,
С. А. Рейсера, В. Э. Бограда, Е. Г. Бушканца, Б. Ф. Егорова, Г. Е. Та-
марченко и некоторых других) в области анонимных текстов
«Современника» вообще и публикаций Добролюбова в частности.
В итоге этих исследований включены были в состав нового издания
Добролюбова его литературно-политический памфлет «Письмо к Н. И.
Гречу» (1855), «Литературная заметка» об А. Н. Островском, затерявшаяся
на страницах «С.-Петербургских ведомостей» 1856 г., полный текст
нелегального стихотворения «17 апреля 1856 г.» («Царь Николай просил у
бога...») и некоторые другие произведения. Впервые введены были в
девятитомник и новые страницы «Заметок о современном русском
правописании» (1856), пародический набросок «Дифирамб земле русской»
(1856—1857), рецензия на «Десятилетие императорской Публичной
библиотеки» и «Путеводитель по Публичной библиотеке» («С», 1860,
№ I).
Из самых ранних произведений Добролюбова, относящихся к 1848—
1850 гг., в девятитомнику впервые опубликованы были наброски повести
в письмах, «Письмо друга» и рецензия на рукописный сборник
«Стихотворения Митрофана Лебедева»; из сочинений 1853 г.— «Мысли при
гробе Козьмы Минина», «О погоде», «Благородный спектакль в Нижнем
Новгороде».
На основании неизвестных ранее документальных данных перешли
в основной текст произведений Добролюбова и некоторые его рецензии в
«Современнике» 1857—1858 гг., печатавшиеся прежде в отделе «Dubia».
Таковы, например,, критические отклики на «Руководство к изучению
61 Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в девяти томах. Под общей редакцией Б. И. Бур-*
сова, А. И. Груздева, В. В. Жданова, С. А. Рейсера, Ю. С Сорокина. М.— Л., ГИХЛ,
1961—1965. В издании участвовали также: В. Э. Боград, Б. Я. Бухштаб, Б. Ф.
Егоров, Н. Г. Леонтьев, Н. И. Сергеева, Н. И. Соколов, В. А. Алексеев, К. Н. Григорян,
Н. А. Золина, Г. Е. Тамарченко, Н. И. Тотубалин.
554
К). Г. Оксман
словесности» М. Архангельского, «Заволжские очерки» и «Заволжская
часть Макарьевского уезда» Н. С. Толстого, «Отчет императорской
Публичной библиотеки за 1857 г.», «Записки об осаде Севастополя» Н. Берга
и «Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера» А. И.
Ершова, брошюру А. Горяинова «Что такое г. Тиер и нашествие его на
Россию?» и некоторые другие рецензии. Но самым значительным вкладом в
изучение Добролюбова следует признать в новом издании его последний
том, впервые объединивший все дошедшие до нас письма великого
критика (в количестве 294 номеров), с многочисленными уточнениями и
дополнениями. Вхождением в научный оборот этого круга
первоисточников литературной и общественно-политической биографии Добролюбова
завершился в 1964 г. процесс объединения в одном издании всех видов
печатного и рукописного наследия Добролюбова до его писем
включительно 62.
Большим достижением нового издания явилось полное освобождение
его основного текста от уродовавших его в течение полувека «прямых
скобок», примитивно демонстрировавших наличие в одном тексте двух
редакций некоторых произведений Добролюбова и никак не совместимых
с приемами новейшей научно-эдиционной техники. Осуществляя эту
давно назревшую реформу подачи печатного текста статей Добролюбова,
редколлегия девятитомника несколько упростила, однако, стоявшие перед
ней текстологические проблемы, заявив в предисловии, что «в основу
текста нового издания положен источник, наиболее точно выражающий
болю автора — издание 1862 года, в котором Н. Г. Чернышевский по
рукописям и корректурам бережно восстановил цензурные купюры и
устранил правку цензора или вынужденную правку автора».
Эта мотивировка выбора основного текста статей Добролюбова не мог
ла не вызвать серьезнейших возражений. Во-первых, никак нельзя было
согласиться с тем, что четырехтомник 1862 г. «наиболее точно выражал
волю автора», поскольку сам Добролюбов никакого отношения к
изданию, осуществленному после его смерти Н. Г. Чернышевским, иметь не
мог, а общие пожелания его в этом направлении никому не были
известны. Во-вторых, редколлегия девятитомника, выдвигая тезис о
преимуществах текста издания 1862 г. перед всеми другими источниками
основного текста произведений Добролюбова, тут же это свое заявление
по существу дезавуировала свидетельством о том, что четырехтомник
1862 г. вовсе не подлежит безоговорочной перепечатке, а, как правило,
^2 В этот же том вошло 13 официальных писем и документов, подписанных
Добролюбовым. Характерной особенностью издания является перепечатка в нем основных
пояснений Н. Г. Чернышевского к письмам Добролюбова, опубликованным
впервые в «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова, собранных в 1861—1862
годах», т. 1. М., 1890.
Издания сочинений Добролюбова
555
«сверяется с сохранившимися рукописями, корректурами,
прижизненными публикациями, цензурными материалами» 63.
Поскольку новое* издание в основном строилось именно так, как этого
требуют принципы современной текстологии, мы полагаем, что и
критика последнего собрания сочинений Добролюбова, имевшая место в
специальной статье М. Я. Блинчевской «Текстологические принципы нового
издания Добролюбова» 64, была более интересна не в своей общей
методологической части (формально бесспорной), а в конкретных анализах
тех или иных неправильных или спорных решений, которые были
допущены в девятитомнике при передаче текста таких статей, как
«Собеседник любителей российского слова», «Ответ на замечания А. Галахова по
поводу предыдущей статьи», «О степени участия народности в развитии
русской литературы», «Стихотворения А. Н. Плещеева», «Органическое
развитие человека», «Русская сатира Екатерининского времени»,
«Народное дело» и др.
Аргументированность некоторых сомнений и возражений М. Я.
Блинчевской (они относились лишь к первым пяти томам) должен был
признать в своих «Необходимых разъяснениях» и С. А. Рейсер, возражавший
на ее статью от имени редколлегии девятитомника65.
Ошибок, замеченных в тексте нового издания, оказалось не так уж
много, даже если мы увеличим их перечень, обратившись к статьям,
особенно спорным и сложным в текстологическом отношении. Так, например,
мы полагаем, что, если Н. Г. Чернышевский имел все основания для
публикации в четырехтомнике 1862 г. ранней редакции статьи «Когда же
придет настоящий день?», свободной от цензурных сокращений и
искажений, то советский текстолог, готовя сто лет спустя критическое издание
этой статьи, никак не должен был бы игнорировать и некоторых
уточнений идейного и художественного порядка, внесенных самим
Добролюбовым в последнюю корректуру разбора нового романа Тургенева, перед
подписанием ее к печати.
63 Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в девяти томах, т. 1, стр. VI («От редакции»).
Эта же оговорка сделана была С. А. Рейсером в статье, предварявшей работу над
девятитомником: «За основу нового издания всюду, где это возможно, должно быть
принято первое посмертное издание 1862 года, подготовленное Чернышевским,
разумеется, с критическим учетом всякий раз текстов «Современника» и всех
сохранившихся рукописей, корректур и цензурных материалов. Именно такое решение
принято редакционной коллегией нового издания» (С. Рейсер. Литературное
наследство и проблемы текстологии Н. А. Добролюбова.— «Вопросы литературы».
1961, № 11, стр. 79).
64 «Вопросы литературы», 1963, № 12, стр. 153—162.
65 «Вопросы литературы», 1963, № 12, стр. 163—171. В этой статье С. А. Рейсер указал
еще на одну текстологическую ошибку, вкравшуюся в девятитомник при
перепечатке рецензии Добролюбова на дополнительный том Сочинений Пушкина в изд.
П. В. Анненкова: вместо слов «позорище журнальное» появилось «поприще
журнальное» (т. 2, 1962, стр. 169).
556
Ю. Г. Оксман
Речь идет, кошчно, только о деталях, но эти детали порою очень
существенны. Сошлемся хотя бы на строки Добролюбова о героине
романа «Накануне» в журнальном тексте: «В Елене так ярко отразились
лучшие стремления нашей современной жизни, а в ее окружающих так
рельефно выступает вся несостоятельность обычного порядка той же
жизни». В новом издании текст этих строк явно обеднен, так как в нем
вместо слов «вся несостоятельность обычного порядка той же жизни» мы
читаем: «все пошлое той же жизни» 66. Точно так же, если далее
Добролюбов характеризует в своей статье «это трудное, томительное^
переходное положение общества», то в девятитомнике понятие «переходное»,
политически особенно значимое в данном контексте, почему-то
опущено 67.
Как в первом случае, так и во втором рациональнее было бы учесть
последнюю редакцию этих строк, а не одну из предшествующих,
опубликованную в издании 1862 г.
Трудно согласиться и с тем, что в статье «Литературные мелочи
прошлого года», в сатирических строках «Россия вскочила со сна и во
всю мочь побежала по дороге прогресса, так, что ее теперь даже с
собаками не догонишь»68, остался неучтенным тот факт, что в тексте
«Современника» глагол «побежала» был заменен более эмоционально
выразительным «понеслась».
В этой же статье дважды повторяется 69 неточная ссылка на проекты
выкупа помещичьих крестьян, опубликованные в «Русском вестнике»,
1858 г., № 7 (опечатка в изд. 1862 г., т. II, стр. 438), в то время
как эти проекты были напечатаны, в № 4. И, наконец, в последнем
абзаце этой же статьи 70 осталось, неснятым многоточие, которым в
«Современнике», 1859 г. (№ IV, стр. 251) обозначалось цензурное изъятие из
текста Добролюбова последних одиннадцати строк. Понятное в
журнальной редакции статьи, усеченной цензурой, это многоточие утратило
всякий смысл после того, как Чернышевский полностью восстановил
запретные строки71. Однако и в четырехтомнике 1862 г., и во всех
последующих собраниях сочинений Добролюбова это многоточие по инерции
продолжает разрезать подлинный текст Добролюбова.
Не менее досадно искажение одной фамилии в статье «Забитые
люди». Перечисляя персонажей Достоевского, человеческое достоинство
которых «попирается и не признается», Добролюбов упомянул и
полковника Ростанева, одного из персонажей романа «Село Степанчиково». Но
66 Т. 6, стр. 120.
67 Там же, стр. 109.
68 Т. 4, стр. 50.
69 Т. 4, стр. 92.
70 Т. 4, стр. 112.
71 Т. II, 1862, стр. 458.
Издания сочинений Добролюбова
557
в тексте девятитомника вместо Ростанева назван был «Росталев» 72. Мы
обращаем внимание на эту опечатку, так как в свое время она вкралась
еще в журнальную редакцию статьи, а затем закрепилась во всех без
исключения изданиях сочинений Добролюбова 73.
И все же самым уязвимым местом нового издания является не его
текст, а структура, обусловленная ошибочными представлениями
некоторых редакторов о преимуществах строго хронологического
распределения материала в полных и даже избранных собраниях сочинений
классиков. Правда, и в новом издании Добролюбова, как и во всех других,
ему предшествовавших (за исключением четырехтомника Лемке),
литературно-критические и публицистические статьи Добролюбова были
отделены и от его стихотворений, и от его художественной прозы, и даже
от его публикаций в «Свистке» и в «Искре», не говоря уже о его
дневниках и письмах. Все это было сделано в девятитомнике с большим
знанием материала и очень тактично 74. Мы никак не можем согласиться
только с тем, что основная и важнейшая часть литературного наследия
Добролюбова публикуется в девятитомнике «единым потоком», в одном
формально-хронологическом ключе, без всякой дифференциации, как
будто речь идет не о шедеврах критики и публицистики, а об однотипных
«Грамотах Коллегии экономии» или о «Камер-фурьерских журналах».
В одной хронологической цепи оказались законченные произведения
и черновые наброски, общеизвестные программные статьи и некоторые
рецензии, самая принадлежность которых Добролюбову возбуждает
большие сомнения, институтские зачетные работы и случайные
автобиографические заметки. Но еще более досадно, что, пойдя на такой жанровый
и тематический разнобой во имя соблюдения принципа строгой
хронологии, редколлегия девятитомника не сумела обеспечить даже более или
менее точной датировки значительной части рукописных произведений
Добролюбова — хронология некоторых его автографов колеблется в
пределах года — полутора, а то и двух — трех лет (например, даты
«Заметок о современном правописании» или «Очерка направления иезуитского
ордена»). Поэтому и так называемая хронологическая цепь оказывалась
подчас чистой фикцией, а жертвы, принесенные во имя ее сохранения,
ничем не оправданными.
72 Т. 7, стр. 246.
73 «Современник», 1861, № IX, отд. II, стр. 122; Сочинения Н. А. Добролюбова, т. III,
1862, стр. 555; изд. под ред. М. К. Лемке, т. IV, стр. 882; Поли. собр. соч. Н. А.
Добролюбова з шести томах, т. II, стр. 383. Других изданий с этой же ошибкой не
отмечаем.
74 Исключение только одно, но и с ним трудно согласиться. По традиции, идущей
от четырехтомника 1862 г., статья «Стихотворения Михаила Розенгейма»
печатается не в ряду других статей 1858 г., а как якобы своеобразное «предисловие» к
«Свистку» (т. 7, 1864, стр. 281—306).
55S
Ю. Г. Оксман
Пренебрегая опытом предшествующего издания, где все вопросы
систематизации произведений Добролюбова по томам и внутри каждого
из томов по разделам были решены с учетом интересов прежде всего
сотен тысяч читателей Добролюбова, а не узкого круга его биографов,
редакция девятитомника отказалась от раздела «приложений» к томам,
куда следовало бы перенести материалы, самим автором не
предназначенные для печати, плоды коллективного творчества, статьи других авторов
им только отредактированные, черновые наброски, отрывки и т. п.
В особый раздел выделены были в шеститомнике Добролюбова и все
ого публикации в «Журнале для воспитания». Отказавшись от этой
рубрики, мотивированной спецификой назначения и тематики ее материала,
редколлегия девятитомника не учла, что некоторые рецензии на одни п
те же книги Добролюбов печатал и в «Современнике» и в «Журнале
для воспитания». Таковы, например, рецензии на «Руководство к
изучению словесности» М. Архангельского 75, «Об училищах и учебных
заведениях в России» Н. Лебедева76, «Стихотворения для детей» Б.
Федорова77, «Школа»78, «История рыцарства» Руа79, «Речи и отчет,
читанные в Московской академии коммерческих наук» 80, «Учебная книга
русской истории» С. Соловьева и «Краткое изложение русской истории»
Н. Тимаева81, «Деревня» 82, «Основные законы воспитания» 83.
Разумеется, многие из этих критических разборов одних и тех же
книг обычно совпадали в тех или иных частях, что не могло не
привести к дублированию одного и того же материала на страницах
издания, являвшегося к тому же собранием избранных сочинений
Добролюбова. Мы полагаем, что объединение в особых циклах статей Добролюбова
в «Свистке» и в «Искре» обязывало редколлегию к такому же решению
вопроса и о публикациях его в «Журнале для воспитания».
В целях максимального сокращения общего листажа подписного
издания Государственное издательство художественной литературы
обязало редколлегию девятитомника изъять из него два раздела, без наличия
которых ни одно издание полного собрания сочинений того или иного
писателя не может считаться ни достаточно полным, ни подлинно
критическим. Это, во-первых, отдел «Другие редакции и варианты» и, во-
вторых, отдел «Dubia», т. е. произведения, принадлежность которых
издаваемому автору не представляется бесспорной.
75 Т. 2, 1962, стр. 177—185 и 374—377.
76 Т. 2, стр. 425—426 и 492—495.
77 Т. 3, стр. 161—164 и т. 5, стр. 311—312.
78 Т. 3, стр. 224—231 и 391—397.
79 Т. 4, стр. 263—265 и 353—355.
80 Т. 4, стр. 299—306 и т. 6, стр. 302—309.
81 Т. 4, стр. 349—352 и т. 5, стр. 163—168.
82 Т. 4, стр. 422—423 и т. 5, стр. 160—163,
83 Т. 4, стр. 397—405 п т. 5, стр. 232—236.
Издания сочинений Добролюбова
559
В текстологической работе над анонимными статьями и рецензиями
Добролюбова, равно как над некоторыми анонимными публикациями
Герцена, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и других писателей,
непосредственно связанных с руководством журналом или газетой, четко
определилась еще одна категория произведений, близкая некоторым
видам коллективного творчества, но все же с ними не совпадающая,—
это статьи, очерки, корреспонденции и т. п., прошедшие редакционную
обработку Добролюбова, со вставными его строками, абзацами и даже
страницами, с его заголовками, зачинами и концовками, с полной или
частичной перекомпоновкой чужого материала.
Отсутствие раздела «Другие редакции и варианты» частично
компенсировалось в новом издании путем включения наиболее существенных
разночтений разных редакций статей и рецензий Добролюбова в
примечания к их основному тексту.
В гораздо менее благоприятных условиях оказались в девятитомнике
«дубиальные» произведения критика. Так, без каких бы то ни было
оговорок были исключены из нового издания такие известные рецензии,
приписывавшиеся Добролюбову, как «Торжественный акт Ришельевского
лицея по случаю окончания 1856—1857 академического года»,
«Напрасная вражда» А. Петкевича, «Крымские сонеты» Мицкевича в переводе
Н. Луговского, сводная рецензия на «Задушевные беседы» Н. Такарева,
«Совершенный человек» К. Констанжогло и «Искренний друг духовного
юноши» архимандрита Викторина 84. Не вошел в девятитомник и очень
тонкий критический обзор пяти книжек, заключавший отдел
«Библиография» в десятом номере «Современника» 1857 г.: «Драматические очерки»
M. H. Владыкина, «Повесть о Борисе Годунове и Дмитрие Самозванце»
П. Кулиша, «Сборник статей для перевода с русского на немецкий»
Кейзера, «Материалы для истории возмущения С. Разина» А. Попова,
«Библиотека для дач, пароходов и железных дорог» 85.
Особенно досадно отсутствие в девятитомнике блистательного разбора
двух произведений реакционного литератора барона Е. Ф. Розена
—брошюры «Отъезжие поля» и драмы «Князья Курбские» («С», 1857, № XII).
Доводы в пользу принадлежности Добролюбову рецензии на брошюру
«Торжественный акт Ришельевского лицея» («С», 1857, № XII, стр. 33—42) см. в кн.:
В. Э. Б оград. Журнал «Современник». Указатель содержания, стр. 543—547.
Далеко не решен еще и вопрос о характере участия Добролюбова в разборе
книжек Н. Такарева, К. Констанжогло и архимандрита Викторина («С», 1858, № XII,
стр. 230—236). Мотивировку включения в отдел «Dubia» рецензии на комедию
А. Петкевича «Напрасная вражда» («С», 1858, № XI, стр. 98—100) см. в Поли. собр.
соч. Н. Л. Добролюбова, т. 2, 1935, стр. 721—722.
Между тем принадлежность этого обзора Добролюбову была весьма убедительно*
аргументирована в статье: Г. А. Т а м а р ч е н к о. Об атрибуциях некоторых
статей и рецензий Добролюбова 1857—1858 гг.— «Русская литература», 1961, № 3,
стр. 148—150.
560
Ю. Г. Оксман
К очень основательным соображениям Г. Е. Тамарченко об идейной,
жанровой и фразеологической близости этого разбора известной
рецензии Добролюбова на книгу А. Ф. Вельтмана «Аттила и древняя Русь
IV и V веков» («С», 1858, № III) следовало бы добавить еще один
аргумент — название рецензии на произведения Розена обнаружено нами
в перечне статей и рецензий Добролюбова в «Современнике» 1857—
1858 гг., сделанном под диктовку Чернышевского его секретарем
А. О. Студенским 86.
Мы отметили целый ряд рецензий, отсутствующих в девятитомнике,
несмотря на то, что принадлежность их Добролюбову весьма вероятна.
Поэтому так огорчительно безоговорочное введение в основной текст
нового издания некоторых публикаций, участие в которых Добролюбова
не велико или более чем сомнительно. Мы имеем в виду «Исторический
рассказ о литовском дворянстве» И. Порай-Кошица87, «Румынские
государства, Валахия и Молдавия» С. Палаузова88, «Уроки естественной
истории» С. Ходецкого и «Естественная история» А. Горизонтова89,
статью «О значении наших последних подвигов на Кавказе» 90.
Одни из этих публикаций входили в предшествующие издания
сочинений Добролюбова без всяких мотивировок, другие — в силу
неправильного осмысления некоторыми редакторами «реестров» Чернышевского в
пору подготовки им к печати четырехтомника 1862 г., третьи являлись
результатом совместной работы Добролюбова с другими сотрудниками
86 ЦГАЛИ, ф. 1 (архив Н. Г. Чернышевского), оп. 1, ед. 258, л. 3. В этом перечне (ни
начало его, ни заключение до нас не дошли) зарегистрированы в строго
хронологическом порядке анонимные произведения Добролюбова, печатавшиеся в «Совре^
меннике» с июля 1857 по февраль 1858 г. включительно. В числе рецензий
Добролюбова значатся: «Торжественный акт Ришельевского лицея», отклики на
«Отъезжие поля» и «Князья Курбские» Е. Ф. Розена и на группу произведений,
начинающуюся «Драматическими очерками» M. H. Владыкина («С», 1857, № X). Данные
этого перечня существенно дополняют аргументацию Г. Е, Тамарченко в пользу
принадлежности всех перечисленных только что рецензий Добролюбову, а не
Е. Я. Колбасину (см. «Русская литература», 1961, № 3, стр. 151—152). Впрочем,
вновь найденный реестр не свободен и от некоторых явных ошибок и спорных
атрибуций. Так, в нем приписана Добролюбову рецензия П. П. Пекарского на
«Дневник камер-юнкера Берхгольца» («С», 1857, № IX) и критические отклики на книги:
«Закавказский край. Путевые впечатления и воспоминания бар. А. фон Гакстгаузе-
на» и «Владимирский сборник, составленный К. Тихонравовым» («С.», 1857, № X).
Возможно, что первая из этих рецензий принадлежит Е. Я. Колбасину, а вторая
А. Н. Пышгау. Доводы Б. Ф. Егорова о возможной принадлежности Добролюбову
рецензии на «Закавказский край» («Ученые записки Тартуского гос. ун-та»,
вып. 104, 1961) убедительно отвергнуты б отмеченной выше статье Г. Е.
Тамарченко (стр. 148). Против принадлежности этих статей Добролюбову свидетельствует и
отсутствие их в издании 1862 г. и в основных подготовительных материалах к нему.
87 Т. 3, стр. 465-467.
88 Т. 4, стр. 249—258.
80 Т. 5, стр. 421-427.
90 Т. 5, стр. 430-451.
Издания сочинений Добролюбова
561
«Современника», четвертые отражали редакторскую правку им чужого
материала и, наконец, пятые вовсе не имели отношения к
литературному наследию Добролюбова.
В самом деле, изучение автографов рецензий на «Исторический
рассказ о литовском дворянстве» И. Порай-Кошица и «Уроки
естественной истории» С. Ходецкого 91 позволяет установить, что Добролюбов очень
существенно переработал критические разборы этих самых книг,
написанные его товарищами — Б. И. Сциборским и П. И. Дмитриевым. У нас
есть все основания считать Добролюбова не только редактором, но и
соавтором этих рецензий. И тем не менее, место им, конечно, не в основном
тексте статей Добролюбова, а лишь в приложениях к изданию, где,
кстати сказать, на тех же правах следовало бы перепечатать и рецензию
II. M. Михайловского на «Сатиры Квинта Горация Флакка» в переводе
М. А. Дмитриева, и рецензию М. И. Шемановского на учебник П. А.
Ефремова «Наглядное изложение предварительных понятий по геометрии».
Оба эти критических отклика, как и два, отмеченные выше, были
доделаны и отредактированы Добролюбовым 92.
Нет оснований считать Добролюбова автором или хотя бы редактором
и обстоятельной, но предельно нейтральной информации о книге С.
Палау зова «Румынские господарства, Валахия и Молдавия, в историко-
политическом отношении» («С.», 1859, № III), безоговорочно
перепечатанной в основном тексте девятитомника 93. Несмотря, на то, что
рецензия эта лишена каких бы то ни было признаков публицистического стиля
Добролюбова и резко отличается своей подчеркнутой аполитичностью от
других его статей и рецензий, она введена была в корпус сочинений
Добролюбова сперва без всяких мотивировок94, а затем со справкой
о том, что ее зарегистрировал Чернышевский в одном из своих
реестров статей Добролюбова95. Но именно этот реестр, как установлено
91 «Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Архив Н. А.
Добролюбова. Опись». Сост. Э. Э. Найдич. Л., 1952, стр. 10, № 19 и 23.
92 См. там же, стр. 17, № 64 и 65.
93 Т. 4, стр. 249—258.
94 Первое полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова, т. III, стр. 37—48.
95 Этот реестр, впервые опубликованный в 1912 г. (Полн. собр. соч. Н. А.
Добролюбова под ред. Е. В. Аничкова, т. I, стр. 16—18), напечатан был очень небрежно,
с многочисленными ошибками и неправильными расшифровками сокращенных слов.
К реестру, включавшему названия 64 статей и рецензий, произвольно
присоединены были при первой его публикации еще 14 названий произведений Добролюбова,
с точными указаниями номеров «Современника», из которых они были извлечены.
Ни самое существо этих дополнительных записей, ни их форма, ни положение в
рукописи не давали никаких оснований связывать их с основным перечнем.
Следует отметить, что в автографе Чернышевского большая часть названий статей
Добролюбова, включенных в «основной» реестр, была впоследствии самим же
Чернышевским в несколько приемов зачеркнута — не то в процессе сверки записей с
другими источниками, не то в результате их переписки набело. В пору работы над
36 Н. А. Добролюбов
562
Ю. Г. Оксман
нами96, учитывал вовсе не произведения Добролюбова, а материалы его
архива, т. е. рукописи и корректуры не только самого критика, но и его
товарищей по работе в «Современнике», задержавшиеся по тем или иным
причинам в бумагах Добролюбова.
Характерно, что ни в одном другом из реестров Чернышевского статья
о книге С. Палаузова не упоминалась и в четырехтомник 1862 г. не
вошла. Ее подлинным автором, как мы полагаем, был тот самый
сотрудник «Современника», который поместил в двух номерах журнала в 1858 г.,
за подписью ***, большую статью под названием «Дунайские княжества,
Валахия и Молдавия» («С», 1858, № IV и VIII). А еще более вероятно,
что и рецензия на книгу о «Румынских господарствах» и общий очерк
на эту же тему в «Современнике» 1858 г. принадлежали самому С. Н. Па-
лаузову, историку, предметом исследований которого являлись именно
Молдавия и Валахия. Как чиновник министерства народного
просвещения, С. Н. Палаузов в 1856 г. принимал ближайшее участие в ревизии
Главного педагогического института, где и познакомился с
Добролюбовым. Это знакомство возобновилось в 1858 г., когда С. Н. Палаузов
был назначен цензором «Современника». Понятно, почему и гонорар за
его авторецензию выписан был для передачи Палау зову на имя
Добролюбова 97.
Явно не принадлежал Добролюбову и компилятивный очерк «О
значении наших последних подвигов на Кавказе» («С», 1859, № XI), в основе
которого лежали материалы на эту же тему, опубликованные в «Военном
сборнике» 1859 г. (№ 1, 3 и 5) ив «Современнике» 1857 г. (№ XI и
1858, № I и V). Автором этой обзорной компилятивной статьи, далекой
от сферы непосредственных интересов Добролюбова, был, как это
документально установлено В. Э. Боградом и С. А. Рейсером, П. И. Дмитриев,
корректор «Современника», первые литературные опыты которого
пользовались горячей поддержкой Добролюбова 98. К уже опубликованным ар-
первым советским изданием полного собрания сочинений Добролюбова автограф
исследованного нами реестра считался утраченным. Несколько лет спустя он был
обнаружен Л. М. Добровольским в бумагах Е. В. Михайловой. Нынешний его шифр
в Институте русской литературы (Пушкинский дом): 119/1947, VIH/c.
96 Ю. Г. Оксман. К вопросу о перечнях анонимных произведений Добролюбова,
составленных Н. Г. Чернышевским.— «Проблемы современной филологии. Сборник
статей к семидесятилетию акад. В. В. Виноградова». М., 1965, стр. 432—437.
97 См. «Лит. наследство», т. 53-54, 1949, стр. 250.
98 См. С. А. Р е й с е р. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова, стр. 233.
Подробнее см.: В. Э. Б о г р а д. Журнал «Современник». Указатель содержания,
стр. 561. Основным аргументом в пользу принадлежности П. И. Дмитриеву
статьи «О значении наших последних подвигов на Кавказе» являются его
собственные автопризнания в позднейших письмах в правление Литературного фонда,
а также фрагмент этой же статьи, не вошедший в ее печатный текст, но писанный
рукою Дмитриева и сохранившийся в архиве Добролюбова. Возможность
редакторского участия Добролюбова в правке статьи Дмитриева, разумеется, не исключена.
Издания сочинений Добролюбова
563
гументам о принадлежности статьи «О значении наших последних
подвигов на Кавказе» не Добролюбову, а П. И. Дмитриеву, нетрудно было
бы добавить и некоторые другие мотивировки, основанные на
идеологической нечеткости и литературной невыразительности центральных и
заключительных частей этой ответственной публикации. Так, например,
политически очень значимый тезис о необходимости скорейшего
«устройства в покоренной стране правильной, честной и благожелательной
администрации — не для собственных видов покорителей, но в интересах
самих покоренных племен», компрометировался неожиданным
признанием, что «именно такая администрация и вообще такой путь для
упрочения наших кавказских завоеваний и предначертывается нашим
правительством, как видно из высочайшей грамоты на имя князя
Барятинского» («С», 1859, № XI).
На каком же основании эта столь чуждая идейным установкам и
публицистическому стилю Добролюбова статья могла войти в девяти-,
томник его сочинений ", да при том еще в основной его текст?
Аргументация, выдвинутая комментатором статьи и одобренная редактором
пятого тома, не выдерживает никакой критики, сводясь к двум
основным мотивам: «Авторство Добролюбова устанавливается списком его
произведений, составленным Чернышевским (Аничков, I, стр. 17), а также
гонорарной ведомостью «Современника» за 1859 год» 10°.
Оба эти аргумента независимо от совершенно произвольной
недооценки Н. Г. Леонтьевым автопризнаний П. И. Дмитриева о
принадлежности ему статьи «О значении наших последних подвигов на Кавказе»,
одинаково несостоятельны: «список произведений Добролюбова», в
котором оказалась статья П. И. Дмитриева, в действительности являлся не
реестром статей и рецензий Добролюбова, а охранной описью его архива,
в которой Чернышевский зарегистрировал рукописи и корректуры не
только самого критика, но и все то, свое и чужое, что сохранилось в
бумагах Добролюбова накануне его смерти. Об этом мы уже говорили
выше (стр. 562), анализируя свидетельство этой же описи об анонимной
рецензии на книгу С. Н. Палаузова «Румынские господарства, Валахия и
Молдавия в историко-политическом отношении».
Еще менее значима запись в бухгалтерской книге «Современника»
ö выписке гонорара за интересующую нас статью Добролюбову, а не
Л. И. Дмитриеву. Как документально установлено, Добролюбов не раз
99 Т. 5, стр. 430—451. Примечания Н. Г. Леонтьева, стр. 598—600. См. предварительную
редакцию примечаний в докладе Н. Г. Леонтьева «Был ли Добролюбов автором
статьи «О значении наших последних подвигов на Кавказе»?» («Тезисы докладов
X конференции профессоров и преподавателей Ленинградского госуд.
библиотечного института им. Н. К. Крупской». Л., 1962, стр. 31—32).
100 «Лит. наследство», т. 53—54, стр. 256.
36*
564
Ю. Г. Оксман
получал из конторы «Современника» в 1858—1860 гг. те или иные суммы
для расчета с сотрудниками, не являвшимися профессиональными
литераторами, но выполнявшими определенную журнальную работу, по его
указанию и под его руководством 101.
В неверном атрибутировании анонимных публикаций «О значении
наших последних подвигов на Кавказе» и о книге С. Н. Палаузова
редколлегия девятитомника лишь популяризировала ошибки
предшествующих изданий Добролюбова. Но к этим чужим ошибкам она прибавляла
иногда и свои. Так, например, в основной текст сочинений
Добролюбова включено было в девятитомнике объявление: «Об издании
«Современника» в 1859 году» 102. Этот информационно-рекламный документ
подписан был именами Н. А. Некрасова и И. И. Панаева. Какое-то
участие в работе над ним принял и Добролюбов, судя по его письму от
13 сентября 1858 г. к И. И. Бордюгову («Покончил даже с объявлением,
в котором имя мое неоднократно упоминается всуе, по желанию
Некрасова»). Но самый характер этого автопризнания свидетельствует о том,
что Добролюбов был лишь одним из составителей объявления, а никак
не его автором. Без достаточных оснований оказалась включенной в
корпус статей Добролюбова в новом издании не только информация «Об
издании «Современника» в 1859 г.», но и его юношеское сочинение «Мое
призвание к педагогическому званию», выполненное по заданию
учебного начальства во время вступительных экзаменов в Главный
педагогический институт в 1853 г. 103 Неправильно введена была в раздел
критических статей и литературная пародия «Дифирамб земле русской» 104,
место которой, конечно, только в опытах художественной прозы
Добролюбова.
Бережно перепечатывая многочисленные автобиографические
документы, вышедшие из-под пера Добролюбова, редакция девятитомника,
как и всех предшествующих изданий, воздержалась, однако от
перепечатки едва ли не самых интересных из них, а именно «Реестров
читанных книг», сохранившихся в архиве Добролюбова за пять лет, с 1849 по
1853 г. включительно. Из этих реестров вошло в новое издание почему-
то всего 7 страниц 105, в то время как отмечаемые
литературно-критические документы, уцелевшие почти без пробелов (их публикация
потребовала бы не менее 5—6 печатных листов), исключительно богаты
фактическим материалом о всех книгах и журналах, прошедших через руки
Добролюбова в пору его юности. К тому же многие из записей, как
101 Сводку данных об этом см. в книге В. Э. Бограда «Журнал «Современник».
Указатель содержания», стр. 33—37.
102 Т. 3, стр. 472—476.
103 Т. 1, стр. 6-7. .
104 Там же, стр. 488.
105 Т. 8, стр. 396—403.
Издания сочинений Добролюбова
565
свидетельствует обстоятельнейшая информация о них в книге С. А. Рей-
сера «Добролюбов в Нижнем Новгороде» 106, не просто регистрировали
названия прочитанных произведений, но попутно давали им краткую, но
весьма выразительную критическую оценку.
Новый девятитомник завершается двумя перечнями произведений
Добролюбова, не включенных в издание. Один из них регистрирует
оригинальные и переводные работы, бесспорно принадлежащие Добролюбову,
в том числе и незавершенные и даже только начатые (всего 19
названий) , другой —статьи и рецензии, предположительно
приписывавшиеся в разное время критику 107. Оба перечня представляют несомненный
интерес, хотя второй из них основан не на критическом изучении всех
первоисточников нового издания (в том числе и так называемых
«реестров» Чернышевского), а на библиографическом учете позднейших
атрибуций. Трудно согласиться и с тем, что в этом полезном справочнике
произведения, принадлежность которых Добролюбову весьма вероятна
или в которых некоторая доля его участия бесспорна, никак не
отделены от публикаций, к которым Добролюбов явно не имел никакого
отношения (например, «Письма из Петербурга» в «Колоколе» Герцена от
19 сентября 1857 и от 3 сентября 1858 г., статьи «Русские на
Амуре» и «Об акцизном и чарочном сборе» в «Современнике» и др.). Нельзя
не отметить, что новый перечень дубиальных произведений явно не
претендует и на полноту. Так, например, в нем не учтена рецензия на
«Акт 8-го выпуска студентов Главного педагогического института»,
опубликованная в «Отечественных записках», 1855, № 11, отд. IV, стр. 8—
9 108. Не попала в реестр и сводная рецензия на несколько книг в
десятой книге «Современника» 1857 к (см. выше, стр. 559).
Определяя бесспорные достижения девятитомника и неизбежные в
любой большой работе просчеты и недоделки, мы трезво учитываем, что
вопросы атрибуции анонимных статей и рецензий, принадлежавших как
самому Добролюбову, так и другим сотрудникам «Современника», но им
дописанных и отредактированных, являются труднейшими в изучении
литературного наследия автора «Темного царства». Правильное
разрешение этих проблем укрепило бы, разумеется, и композицию нового
издания, позволив избежать тех промахов, которые отмечены были выше в
структуре его основных томов. Но обо всем этом круге
источниковедческих проблем мы можем судить сейчас с полной определенностью
106 G. A. P е й с е р. Добролюбов в Нижнем Новгороде. Горьковское книжное
издательство, 1961, стр. 54—110. Воспроизведение одного из листов этих реестров см. на
стр. 82. Фотокопия другого листа дана в «Известиях Отделения общественных
наук АН СССР», 1936, № 1-2, стр. 336.
107 См. т. 9, стр. 683—684; 684-685.
108 Принадлежность ее Добролюбову аргументирована И. Щуровым в журнале
«Русская литература», 1962, № 3, стр. 213—215.
566
10. Г. Оксман,
только потому, что именно опыт построения девятитомного издания
Добролюбова, сочетаясь с еще более богатым опытом изучения
многообразной работы Герцена-журналиста в «Колоколе», значительно обогатил и
расширил традиционные представления текстологов о родах и видах
журнального материала, подлежащего включению в издания полных собраний
сочинений политических публицистов и литературных критиков.
Самые приемы учета, изучения и публикации анонимных газетных
и журнальных текстов, принадлежащих нередко не только тому или
иному автору, но и редактору — руководителю издания (зачины и
концовки статей, вставные абзацы, не говоря уже о более сложных формах
соавторства), требуют поисков новых, более эффективных средств
источниковедческого анализа и научно-эдиционной техники, не применявшихся
при подготовке прежних критических изданий классиков поэзии и
художественной прозы.
Новые перспективы изучения статей и рецензий Добролюбова
получили отражение и в комментариях к девятитомнику. Многообразные
пояснения к произведениям критика явились как бы итогом полувековой
работы советских историков и литературоведов в области литературного
наследия и биографии Добролюбова, равно как и революционного
движения и общественной мысли пятидесятых — шестидесятых годов. Самой
положительной оценки заслуживает в новом издании и внутреннее
единство всего комментаторского аппарата — его высокий
историко-литературный уровень, точность, сжатость и однотипность, чего не удалось
обеспечить ни в одном из предшествующих собраний сочинений
Добролюбова.
Ю. Г. Оксман
ПРИМЕЧАНИЯ
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
«ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ» (стр. 9—34)
Впервые опубликовано в «Современнике», 1857, № XII, отд. III, стр. 49—78, без
подписи. Перепечатано без изменений в Сочинениях Н. А. Добролюбова, т. I.' СПб., 1862,
стр. 434—462. Автограф неизвестен. Печатается по тексту журнала «Современник».
«Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина начали печататься с августа 1856 г.
в журнале «Русский вестник», а в начале 1857 г. вышли отдельным изданием в двух
томах. В сентябре 1857 г. был издан третий том, с новыми очерками, первоначально
увидевшими свет также в «Русском вестнике» и в «Библиотеке для чтения». Успех
книги Щедрина был так велик, что еще до выхода третьего тома понадобилось второе
издание первых двух.
«Когда «Губернские очерки» появились на страницах «Русского вестника», они
сразу произвели, можно сказать, сенсацию и в литературе и в обществе,— вспоминает
один из современников, В. П. Буренин.— Не известное до тех пор никому имя
Щедрина очень скоро сделалось одним из самых популярных, и автор «Очерков» стал в ряду
тогдашних литературных корифеев — Тургенева, Гончарова, Толстого, Григоровича.
Остроумие и юмор нового писателя, его смелые либеральные изобличения приводили
в восторг читающую публику. В обществе заговорили, что этот автор-сатирик —
наследник Гоголя. Очерки очень скоро нашли подражателей и породили ту
«обличительную» литературу, которая казалась в то время таким смелым протестом» (см.
«М Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». М., 1957, стр. 52).
Очерки Щедрина по ряду случайных причин появились не в «Современнике», а в
либеральном (тогда) «Русском вестнике». Не случаен, однако, тот факт, что в
развернувшейся по поводу «Губернских очерков» литературной дискуссии, принявшей
политический характер, статьи руководителей критического отдела «Современника» —
Чернышевского и Добролюбова — содержали и самую верную, и самую высокую
оценку книги.
Сатирические очерки Щедрина действительно породили целое направление в
русской литературе второй половины пятидесятых годов, ту обличительную
беллетристику, которая идейно и художественно стояла несравненно ниже своего образца (далее
в сочинениях писателей демократической ориентации), но буквально заполонила
журналы тех лет. По самой своей «направленности» очерки школы Щедрина вызвали
резкое осуждение со стороны писателей либерально-дворянского лагеря. И. С.
Тургенев писал 9(21) марта 1857 г. П. В. Анненкову: «...г. Щедрина я решительно читать
не могу <...> Это грубое глумление, этот топорный юмор, этот вонючий канцелярской
кислятиной язык... Нет! лучше записаться в отсталые — если это должно
царствовать» (И. С. Тургенев. Поли. собр. соч. и писем. Письма, т. III. М.—Л., 1961,
стр. 109). Тургеневу вторили Л. Толстой, Григорович, Панаев, Боткин, Анненков. В
октябре 1857 г. Л. Толстой писал В. П. Боткину и Тургеневу: «Новое направление
литературы сделало то, что все наши старые знакомые и ваш покорный слуга сами
563
Примечания
не знают, что они такое, и имеют вид оплеванных <...> Салтыков даже объяснил мне,
что для изящной литературы теперь прошло время» (Л. Н. Толстой. Поли. собр.
соч., т. 60. М., 1949, стр. 233—234). Даже Некрасов, встретившись со Щедриным летом
1857 г., писал Тургеневу: «Гений эпохи — Щедрин — туповатый, грубый и страшно
зазнавшийся господин. Публика в нем видит нечто повыше Гоголя!» (Н. А.
Некрасов. Поли. собр. соч. и писем, т. X. М., 1952, стр. 355).
Но увидела в Щедрине писателя, который новым качеством своей сатиры стоит
«повыше Гоголя», не только и не столько «публика», сколько
революционно-демократическая критика — Чернышевский и Добролюбов.
Показателен в этом отношении и отзыв Т. Г. Шевченко, содержащийся в его
дневнике (запись 5 сентября 1857 г.): «Как хороши «Губернские очерки» <...> Я
благоговею перед Салтыковым. О Гоголь, бессмертный Гоголь! Какою радостию возрадо-
валася бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников
своих» (Т. Шевченко. Собр. соч. в пяти томах, т. 5. М., 1049, стр. 157).
Статья Добролюбова, появившаяся после выхода третьего тома «Губернских
очерков», по своей идейной направленности примыкала к высказываниям Чернышевского,
содержащимся в его «Заметках о журналах» («Современник», 1856, № IX) по поводу
первых очерков и в специальной статье («Современник», 1857, № VI), явившейся
отзывом на первые два тома очерков. Чернышевский назвал «превосходную и
благородную книгу» Щедрина одним из «исторических фактов русской жизни» и «прекрасным
литературным явлением». «Губернскими очерками», по его славам, «гордится и
должна будет гордиться русская литература». Здесь же была дана и меткая оценка
Щедрина как «писателя, по преимуществу скорбного и негодующего».
Все содержание статей Чернышевского и Добролюбова полемически заострено
против суждений либеральной критики (в частности, против статьи А. В. Дружинина,
опубликованной в «Библиотеке для чтения», 1856, № 12), которая, превознося
«дельное», «практически полезное» направление очерков, извращала их
критически-революционное содержание. Критический обзор этой литературы см.: Е. И. Йокусаев.
«Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина и обличительная беллетристика 50-х годов
в оценке Чернышевского и Добролюбова.— «Ученые записки Саратовского гос.
педагогического института», вып. V. Саратов, 1940; Г. В. Иванов. Добролюбов и
«Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина.— Сб. «Н. А. Добролюбов — критик и историк
русской литературы», изд. Ленинградского университета, 1963.
А. В. Дружинин, называя «Губернские очерки» «замечательным литературным
явлением», одновременно предостерегал Щедрина от «дидактики», «односторонности
взгляда», т. е. от увлечения сатирой, и, отмечая, что автор находится «на распутье»
(тогда было опубликовано лишь «Введение» и первые семь очерков), рассчитывал на
успех своих наставлений. Но опубликованные затем очерки не оправдали надежд
Дружинина, они дали богатый материал для пропаганды революционно-демократических
идей; Дружинин же, отложивший «окончательный приговор над талантом г.
Щедрина до окончания его «Губернских очерков»», больше в печати так и не выступил.
Подобно тому, как на материале очерков Щедрина о провинциальном
чиновничестве Чернышевский в своей статье делал вывод о ненормальности всего общественно-
то строя Российской империи, Добролюбов, опираясь на характеристику Щедриным
«талантливых натур», «богомольцев» и «странников», критиковал никчемность
дворянской интеллигенции, противопоставляя ей, насколько это возможно было в рамках
подцензурной печати, людей революционного подвига и духовные возможности
простого народа, утверждал тезис о подлинном демократизме убеждений сатирпка.
Справедливо суждение Е. И. Покусаева: «Глубоко принципиальные мысли
Чернышевского и Добролюбова о сатире имели исключительно важное значение для
творческой судьбы Салтыкова как сатирика-демократа. Именно Чернышевский и
Добролюбов подсказали Салтыкову тот путь, на котором выросла его политическая сатира»
(указ. соч., стр. 82).
«Губернские очерки»
569
1 Цитата из стихотворения Лермонтова «Дума» (1838).
2 Неточная цитата из статьи Гоголя «В чем же наконец существо русской поэзии и
в чем ее особенность?» («Выбранные места из переписки с друзьями», 1846).
Гоголь говорит о «ранах и болезнях нашего общества», раскрытых комедиями
Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума».
3 Цитата из стихотворения Лермонтова «Не верь, не верь себе...» (1839).
4 Цитата из оды Пушкина «Клеветникам России» (1831).
5 В 1857 г. начали выходить «Русский педагогический листок» (под ред. Н. А. Вышне-
градского) я «Журнал для воспитания» (под ред. А. А. Чумикова).
6 Цитата из «Пророка» Пушкина (1827).
7 Цитата из стихотворения Н. Ф. Щербины «Поэту» (1855).
8 Добролюбов пересказывает основные положения статьи Н. И. Пирогова «Вопросы
жизни», напечатанной в «Морском сборнике», 1856, № 9.
9 Комедия В. А. Соллогуба «Чиновник» (1856) и ее герой Надимов, «пустейший из
пустозвонов», по определению Добролюбова, были высмеяны критиком в статье
«Сочинения графа В. А. Соллогуба» («Современник», 1857, № VII) и в стихотворении
«Пора!» («Современник», 1858, № XI). Сатирический намек на комедию Соллогуба
находится и в очерке Щедрина «Озорники»: «Один какой-то шальной господин
посулил даже гаркнуть об этом на всю Россию».
10 Слова первого комического актера из «Развязки» Ревизора» Гоголя (1846).
11 Цитата из стихотворения Жуковского «Жизнь» (1819).
12 Цитата из «Леса» Кольцова (1837).
13 Цитата из стихотворения Кольцова «Что ты спишь, мужичок?» (1839).
14 Цитата из «Думы» Лермонтова (1838).
15 Речь идет о комедии «Ябеда» В. В. Капниста (1798).
16 «Прошлые времена», «Еще прошлые времена» — названия очерков, напечатанных
в «Русском вестнике» 1856 г. В отдельном издании «Губернских очерков» первый
отдел назван «Прошлые времена».
17 Цитата из «Поэта и толпы» Пушкина (1828).
13 Намек на выпады против Чернышевского, отстаивавшего «гоголевское»
направление в русской литературе. В пасквиле Д. В. Григоровича «Школа гостеприимства»
объявлялось, например, что «Чернушкин (Чернышевский) страдал болью в печени
и подвержен был желчным припадкам». О том же писал Л. Н. Толстой в письме к
Некрасову от 2 июля 1856 г.: «У нас не только в критике, но и в литературе, даже
просто в обществе, утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым
очень мило. А я нахожу, что очень скверно, потому что человек желчный, злой не
в нормальном положении» (Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 60, стр. 75).
Защищая в ответном письме Чернышевского, Некрасов писал Толстому: «Вы
говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете,
что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно
притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от
искренней злости — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше
злиться, тогда будем лучше,— т. е. больше будем любить — любить не себя, а свою
родину» (Н. А. Некрасов. Поли. собр. соч. и писем, т. X, стр. 284). См. также об
этом статью Герцена «Лишние люди и желчевики» («Колокол» от 15 октября 1860 г.,
№ 83) и вызванную ею полемику в печати (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати
томах, т. XIV. М., 1958, стр. 572-577).
19 Цитата из «богатырской сказки» «Илья Муромец» H. M. Карамзина (1794).
20 Неточная цитата из стихотворения Гейна «Zu fragmentarisch ist Welt und Leben!»
(«Фрагментарность вселенной мне что-то не нравится!») из цикла «Die Heimkehr»
(1826).
21 Цитируя «начало одного знаменитого в свое время французского сочинения об
одном важном вопросе», Добролюбов дал точный перевод нескольких строк трактата
Ж. Ж. Руссо «Об общественном договоре, или Принципы политического права»
(1762).
570
Примечания
В комедии Аристофана «Всадники» афинский демагог Клеон изображен в виде
ловкого раба, хитростью захватившего власть над своим господином.
«Филиппинами» назывались речи афинского оратора Демосфена против царя
македонского Филиппа П. Слово это стало нарицательным, обозначая любую страстную
обличительную речь.
Цитата из духовного стиха, приведенного в «Губернских очерках» в разделе
«Богомольцы, странники и проезжие».
ЧТО ТАКОЕ ОБЛОМОВЩИНА? (стр. 35—69)
Впервые опубликовано в «Современнике» 1859, № V, отд. III, стр. 59—98, с
подписью: H — бов. Перепечатано в Сочинениях Н. А. Добролюбова, т. II. СПб., 1862, с
изменением в одной строке: «И ею он <Гончаров) особенно отличается среди
современных русских писателей», вместо: «И ею он превосходит всех современных русских
писателей» (см. выше, стр. 37). Рукопись статьи не сохранилась, но о важнейших ее
вариантах, качественно и количественно очень незначительных (см. Н. А.
Добролюбов. Собр. соч., т. 1. М.—Л., 1961, стр. 647), можно судить по пяти типографским
гранкам текста, находящимся ныне в Пушкинском доме АН СССР (архив А. Н. Пыпи-
на). Именно эти гранки, посланные из типографии «Современника» цензору Д. И. Мац-
кевпчу 3 и 5 мая 1859 г., разрешены были им к печати без всяких изменений.
Печатается в настоящем издании по тексту «Современника».
Статья «Что такое обломовщина?», являясь одним из самых блистательных
образцов литературно-критического мастерства Добролюбова, широты и оригинальности
его эстетической мысли, имела в то же время огромное значение как программный
общественно-политический документ. Статья всесторонне аргументировала
необходимость скорейшего разрыва всех исторически сложившихся контактов русской
революционной демократии с либерально-дворянской интеллигенцией,
оппортунистическая и объективно-реакционная сущность которой рассматривалась Добролюбовым
как идейная обломовщина, как показатель и непосредственное следствие разложения
правящего класса, как главная опасность на данном этапе освободительной борьбы.
Развивая установочные положения обзора «Литературные мелочи прошлого года»,
статья «Что такое обломовщина?» направлена была не только против легальной
дворянской умеренно-либеральной общественности, но попутно, в известной мере, и
против Герцена как автора статей, полемизировавших с «Современником» по вопросу о
«лишних людях» и их исторической миссии.
После появления статьи «Что такое обломовщина?» Герцен если и не отказался
от продолжения полемики с «Современником» по волновавшим его проблемам, то все
же внес в свое прежнее понимание политической функции «лишних людей»
существенное уточнение историко-философского порядка. Никак не соглашаясь поставить
в один ряд Онегина, Бельтова и Рудина с Об ломовым, Герцен в статье «Лишние люди
и желчевики» предложил дифференцированное решение вопроса, по-разному толкуя
роль «лишних людей» в пору николаевской реакции и в годы революционной
ситуации: «Лишние люди были тогда столько же необходимы, как необходимо теперь,
чтобы их не было» («Колокол» от 15 ноября 1860, № 83).
Статья «Что такое обломовщина?», вызвав бурю негодования в кругах
консервативной, либерально-дворянской и буржуазной общественности, необычайно высоко
оценена была читателями революционно-демократического лагеря. Полностью принял
ее основные положения и сам автор «Обломова». Под впечатлением только что
появившейся статьи Добролюбова он писал 20 мая 1859 г. П. В. Анненкову: «Мне
кажется, об обломовщине, то есть о том, что она такое, уже сказать после этого ничего
нельзя. Он это, должно быть, предвидел и поспешил напечатать прежде всех. Двумя
.-замечаниями своими он меня поразил: это проницанием того, что делается в представ-
Что такое обломовщина?
571
лении художника. Да как же он, нехудожник, знает это? Этими искрами, местами
рассеянными там и сям, он живо напомнил то, что целым пожаром горело в
Белинском» (И. А. Гончаров. Собр. соч., т. 8. М., 1955, стр. 323).
Добролюбовское понимание образа Обломова и «обломовщины» как категории
общественно-политического и социально-исторического порядка вошло в широкий
литературный оборот. О значимости и актуальности этого обобщения свидетельствует и
многократное использование понятия «обломовщина» в статьях и речах В. И. Ленина.
Многочисленные отклики на роман Гончарова в печати зарегистрированы в
приложениях к статье: С. А. Венгеров. «Гончаров».— Собр. соч. С. А. Венгерова, т. 5.
СПб., 1911, стр. 251—252; а также в кн.: А. Д. Алексеев, Летопись жизни и
творчества И. А. Гончарова. М.— Л., 1960, стр. 95—105.
1 Эпиграф взят из первой главы второго тома «Мертвых душ». К мысли, выраженной
в этих строках, Добролюбов возвращается в конце статьи.
2 Роман «Обломов» печатался в четырех номерах журнала «Отечественные записки»,
с января по апрель 1859 г. Роман Тургенева «Дворянское гнездо» полностью был
опубликован в январской книжке «Современника» 1859 г.
3 Ироническое замечание об «истых критиках» имеет в виду Ап. Григорьева и его
эпигонов, обвинявших критиков революционно-демократического лагеря в
недостаточном внимании к особенностям внешней и внутренней структуры
художественного произведения.
4 Строки из стихотворения Н. П. Огарева «Исповедь» (1842).
5 Строки из поэмы Некрасова «Саша» (1855).
6 Строки из этой же поэмы.
7 «Экономический указатель» — еженедельный -журнал, издававшийся И. В.
Вернадским с 1857 г. Наивная апологетика в этом издании «благ» капиталистической
культуры являлась постоянным объектом глумления Добролюбова. См. далее стр. 255.
8 Формула «В настоящее время, когда» — начальные строки пародии Добролюбова на
штампованные рассуждения фразеров либерально-дворянского лагеря. Пародия
была впервые полностью развернута в рецензии Добролюбова на комедии «Уголовное
дело» и «Бедный чиновник»: «В настоящее время, когда в нашем отечестве поднято
столько важных вопросов, когда на служение общественному благу вызываются все
живые силы народа, когда все в России стремится к свету и гласности,— в
настоящее время истинный патриот не может видеть без радостного трепета сердца и без
благодарных слез в очах, блистающих святым пламенем высокой любви к
отечеству,— не может истинный патриот и ревнитель общего блага видеть равнодушно вы-
еокоблагородные исчадия граждан-литераторов с пламенником обличения
шествующих в мрачные углы и на грязные лестницы низших судебных инстанций и сырых
квартир мелких чиновников, с чистою, святою и плодотворною целию,— словом,
энергического и правдивого обличения пробить грубую кору невежества и корысти,
покрывающую в нашем отечестве жрецов правосудия, служащих в низших судебных
инстанциях, осветить грозным факелом сатиры темные деяния волостных писарей,
будочников, становых, магистратских секретарей и даже иногда отставных
столоначальников палаты, пробудить в сих очерствевших и ожесточенных в заблуждении,
но тем не менее не вполне утративших свою человеческую природу существах
горестное сознание своих пороков и слезное в них раскаяние, чтобы таким образом
содействовать общему великому делу народного преуспеяния, совершающегося столь
видимо и быстро во всех концах нашего обширного отечества, нашей родной Руси,
которая, по глубоко знаменательному и прекрасному выражению надпей летописи,
этого превосходного литературного памятника, исследованного г. Сухомлиновым,—
велика и обильна, и чтобы доказать, что и молодая литература наша, этот великий
двигатель общественного развития, не остается праздною зрительницею народного
движения в настоящее время, когда в нашем отечестве возбуждено столько важных
572
Примечания
когда все в России неудержимо стремится к свету и гласности» («Современник»,
вопросов, когда все живые силы народа вызваны на служение общественному благу,
1858, № XII). См. упоминание об этих строках Добролюбова в сатире Некрасова «Не^
давнее время» (1871 г.):
Понял горькую истину сразу
Только юноша-гений тогда,
Произнесший бессмертную фразу:
«В настоящее время, когда...»
9 Строки из стихотворения В. Г. Бенедиктова «Современная молитва», напечатанного
в его сборнике «Новые стихотворения» (1857). См. ироническую рецензию
Добролюбова на этот сборник в «Современнике», 1858, № I.
ТЕМНОЕ ЦАРСТВО (стр. 70—188)
Впервые опубликовано в «Современнике», 1859, № VII, отд. III, стр. 17—78
(главы I, II) и № IX, отд. III, стр. 53—128 (главы III—V), с подписью: Н.—бов.
Перепечатано в Сочинениях Н. А. Добролюбова, т. III. СПб., 1862, стр. 1—139, с
существенными дополнениями и изменениями журнального текста, восходящими к не дошедшим
до нас цензурным типографским гранкам статьи.
Автограф не сохранился, за исключением трех страниц главы второй печатного
текста (от слов: «По этому правилу» — в наст, издании стр. 107, с. 8 снизу — до слов:
пожалуй, и» — стр. 110, с. 28), хранящихся в ГПБ. См. фотокопию одного из этих
листов: Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 5. М., 1962.
Печатается в настоящем издании по тексту 1862 г., с учетом стилистической
правки, сделанной Добролюбовым в «Современнике».
Статья «Темное царство» — одно из важнейших литературно-теоретических
выступлений Добролюбова, сочетавшее мастерский критический разбор драматургии
Островского с далеко идущими выводами общественно-политического порядка.
Характеризуя очень большое национально-демократическое значение комедий
Островского, одинаково не понятых критикой и славянофильского и
буржуазно-либерального лагеря, Добролюбов доказывал, что пафосом Островского как одного из
самых передовых русских писателей является обнажение «неестественности
общественных отношений, происходящих вследствие самодурства одних и бесправности
других». Верно и глубоко определив общественное содержание драматургии Островского,
его «пьес жизни», Добролюбов показал типическое, обобщающее значение его образов,
раскрыл перед читателем потрясающую картину «темного царства», гнетущего
произвола, нравственного растления людей.
Добролюбов обвиняет и негодует. Негодует против безвольных, слабых,
смирившихся перед грубой силой. Осуждение Добролюбовым «безответных» отвечало
революционно-демократической концепции народа. Чернышевский с горечью писал в
статье: «Не начало ли перемены?»: «Рутина господствует над обыкновенным ходом
жизни дюжинных людей и в простом народе, как во всех других сословиях, в простом
народе рутина точно так же тупа, пошла, как во всех других сословиях»
(«Современник», 1861, № XI). Эта рутина обезличенных людей ненавистна Добролюбову:
«Самодура уничтожить было бы нетрудно,— говорит он,— если б энергически принялись за
это честные люди. Но беда в том, что под влиянием самодурства самые честные люди
мельчают и истомляются в рабской бездеятельности». Добролюбов называет их
людьми «обломовского типа». Они стоят «в стороне от практической сферы». Г. В. Плеханов
верно писал, что статьи Добролюбова об Островском являлись «энергичным призывом
к борьбе не только с самодурством, но — и это главное — с теми «искусственными»
Темное царство
573
отношениями, на почве которых росло и процветало самодурство. В этом их основной
мотив, в этом их великое историческое значение» («Добролюбов и Островский».—
Г. В. Плеханов. Искусство и литература. М., 1948, стр. 464).
Добролюбов — утопист в оценке исторического будущего России. Его мысль
остановилась на пороге исторического материализма, но насыщена революционной
активностью. Поэтому так часты и необходимы в его статье многозначительные поучения:
«Законы имеют условное значение по отношению к нам. Но мало этого: они и сами по
себе не вечны и не абсолютны. Принимая их, как выработанные уже условия
прошедшей жизни, мы через то никак не обязываемся считать их совершеннейшими и
отвергать Есякие другие условия. Напротив, в мой естественный договор с обществом
входит, по самой его сущности, и обязательство стараться об изыскании возможно
лучших законов».
В статье Добролюбова разработаны принципы «реальной критики» — основы
социологическою метода анализа произведений искусства, который поощряла
революционно-демократическая эстетика. «Реальная критика», по мнению Добролюбова,
исходит из действительных фактов, изображаемых в художественном произведении. Она
не навязывает автору «чужих мыслей». Задачи реальной критики заключаются в том,
чтобы показать, во-первых, смысл, какой имеют «жизненные факты, изображаемые
художником»; во-вторых — «степень их значения в общественной жизни».
Принципы «реальной критики» направлены против эстетской, в истолковании
Добролюбова, схоластической критики. Они опираются на его концепцию реализма.
«...Главное достоинство писателя состоит в правде его изображений»,— одно из
основных положений критика. Эту правду писатель постигает, если он обращается к
существенным сторонам жизни. «Судя по тому, как глубоко проникает взгляд писателя
в самую сущность явлений, как широко захватывает он в своих изображениях
различные стороны жизни,— можно решить и то, как велик его талант».
Произведения писателя-реалиста являются хорошей основой для суждений о его
взглядах, а «образы, созданные художником, собирая в себе, как в фокусе, факты
действительной жизни, весьма способствуют составлению и распространению между
людьми правильных понятий». Добролюбов видит связь между мировоззрением и
талантом художника. Писатель, руководимый «правильными началами», имеет «выгоду
пред неразвитым или ложно развитым писателем». Однако, зачастую, по словам
Добролюбова, писатель может в «живых образах» «неприметно для самого себя уловить
и выразить их внутренний смысл гораздо прежде, нежели определит его рассудком».
В освещении теоретических вопросов Добролюбовым сказывается
антропологическое понимание некоторых особенностей творческого процесса. Критик особенно
доверяет «художественной натуре» писателя. «...Мы не придаем,— пишет он,—
исключительной важности тому, каким теориям он следует». Художественная правда может
оказаться в противоречии с «отвлеченными понятиями». Анализируя комедию
«Бедность не порок», Добролюбов считает, что Островский преследовал «самодурство во
всех его видах» «совершенно независимо» от своих славянофильских иллюзий
(«временных воззрений») и «теоретических убеждений». Утверждая это, Добролюбов
расходился в оценке комедии «Бедность не порок» с Чернышевским.
И все-таки теория «реальной критики» была значительным достижением в
революционно-демократической эстетике, она предшествовала в некоторых отношениях
теории отражения, сформулированной В. И. Лениным в его статье «Лев Толстой, как
зеркало русской революции» (1908).
Статья «Темное царство» имела очень большой литературный и
общественно-политический резонанс. Н. В. Шелгунов вспоминал: «Творчество Островского дало ему
<Добролюбову.— Г. К.У повод подсказать и осветить ту страшную пучину грязи, в
которой ходили, пачкались и гибли целые ряды поколений, систематически воспитанных
в собственном обезличении. «Темное царство» Добролюбова было не критикой, не
протестом против отношений, делающих невозможным никакое правильное общежитие,
574
Примечания
это было целым поворотом общественного сознания на новый путь понятий»
(Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М.— Л., 1923, стр. 169). Об этом же писал в 1863 г.
Д. И. Писарев, свидетельствуя, что, несмотря на враждебные отношения к статье
умеренно-либеральной и консервативной критики, «Темное царство» Добролюбова
«читалось с сочувствием и с увлечением в самых отдаленных углах России» («Наша
университетская наука».—Д. И. Писарев. Сочинения, т. 2. М., 1955, стр. 180).
Против Добролюбова выступили все те, с которыми прямо или косвенно он
полемизировал в своей статье. Ап. Григорьев решительно возражал против
характеристики Островского как критика «темного царства». Он отстаивал свою линию:
«Самодурство, это только накипь, пена, комический осадок; оно, разумеется, изображается
поэтом комически, — да и как же иначе и изображать? — но не оно ключ к его
созданиям!» Григорьев уверял, что «симпатии и антипатии массы» разойдутся с симпатиями
и антипатиями Добролюбова («После «Грозы» Островского».— «Русский мир», 1860,
№ 5, 6). П. В. Анненков пытался доказать, что опыт Островского-драматурга убеждает
в том, что «можно приближаться к простонародью и вообще к разным сословиям
нашим с чем-нибудь иным, кроме сострадания, осмеяния и поучения» («О бурной
рецензии на «Грозу» г. Островского, о народности, образованности и о прочем».—
«Библиотека для чтения», 1860, № 3). M. M. Достоевский в рецензии на «Грозу» («Светоч», 1860,
№ 3), а несколько позже H. H. Страхов в статье «Бедность нашей литературы» («Отеч.
записки», 1867, т. CXXIV, от. 2, стр. 25) поддержали Ап. Григорьева.
Добролюбов вновь полемизировал с некоторыми из них, защищал основные свои
тезисы в статье «Луч света в темном царстве». См. стр. 231—300 настоящего издания.
Попытки ослабить или оспорить выводы Добролюбова были безуспешны. Самый
термин «темное царство» (в различном, правда, его истолковании) сразу же вошел
в широкий литературно-общественный оборот. См. статьи критиков А. Пальховского
(«Московский вестник», 1859, № 49), А. Мельникова-Печерского («Северная пчела»,
1860, № 41 и 42), М. И. Дарагана («Русская газета», 1859, № 8), Н. Д. Заиончковской
(«Отеч. записки», 1862, № 1, стр. 373).
Как отнесся к статье Добролюбова сам Островский? Прямых свидетельств для
ответа на этот вопрос сохранилось очень мало, но все те документальные и мемуарные
материалы, которыми мы располагаем, не оставляют никаких сомнений в высокой
оценке Островским статьи «Темное царство». Критическая сводка свидетельств об
этом дана в статье: В. Я. Лакшин. Об отношении Островского к Добролюбову —
«Вопросы литературы», 1959, № 2. О непосредственном воздействии «Темного
царства» на некоторые страницы «Грозы», над которой Островский работал в пору
публикации ее Добролюбовым, см. Е. Холодов. Островский читает «Темное царство».—
«Вопросы литературы», 1959, № 12, стр. 95—100.
Статья «Темное царство» была внимательно прочитана Карлом Марксом, который
подчеркнул в четырехтомнике сочинений Добролюбова (1862) Rce места, говорящие
о пришибленности и безответственности русской общественности. Отмечены им были
также все суждения Добролюбова о «женской доле», о положении «девушки, мужней
жены и невестки в семье» (Ф. Гинзбург. Русская библиотека Маркса и
Энгельса.—«Группа «Освобождение труда»», сб. 4. М.—Л., 1926, стр. 387). В. И. Ленин
использовал добролюбовский образ «темного царства» для характеристики
дореволюционной России в статье «К вопросу об аграрной политике современного правительства»
(1913).
1 Эпиграф взят из поэмы Гоголя «Мертвые души» (гл. IX).
2 Пьеса «Картина семейного счастья», которой открывалось первое собрание
«Сочинений А. Островского» в 1859 г., была впервые опубликована в газете «Московский
городской листок» 1847 г. Перед тем Островский напечатал там же сцены «Ожида-
нио жениха» — отрывок из комедии «Несостоятельный должник», как назывался
первый вариант пьесы «Свои люди — сочтемся». В течение нескольких лет пьеса эта
Темное царство
575.
не допускалась цензурой ни в печать, ни на сцену. Впервые напечатана в
«Москвитянине», 1850, № 6. Об откликах на первые произведения Островского см. обзор:
Н. И. Тотубалин. Творчество А. Н. Островского в журнальной полемике
1847—1852 гг.— «Ученые записки ЛГУ», № 218, 1957.
3 «Молодой редакцией» журнала М. П. Погодина «Москвитянин» называлась группа
его сотрудников, объединившихся вокруг А. Н. Островского и Ап. Григорьева.
В группу эту входили и литературные критики — Б. Алмазов, Т. Филиппов,
Е. Эдельсон.
4 Неточная цитата из статьи Ап. Григорьева «О комедиях Островского и их значении
в литературе и на сцене»: «Четыре из них даются на театре, но эти четыре, без
церемонии говоря, создали народный театр» («Москвитянин», 1855, № 3).
5 Добролюбов цитирует стихи Ап. Григорьева «Искусство и правда. Элегия — ода —
сатира» («Москвитянин», 1854, № 4).
6 Впервые «новым словом» произведения Островского назвал Ап. Григорьев в статье
«Русская литература в 1851 году» («Москвитянин», 1852, № 1). Затем эта
характеристика была повторена им в его статьях 1853—1855 гг.
7 Выступления французской актрисы Элизы Ращель (1821—1858) на русской сцене
вызвали в печати большие споры. Ап. Григорьев, откликаясь на гастроли Рашель,
резко противопоставил традициям классического театра новую русскую
реалистическую драматургию, главой которой был, по его мнению, А. Н. Островский.
8 Цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума», д. III, явл. 22.
9 Цитата из рецензии на комедию «Бедность не порок» («Отеч. записки», 1854, № 6).
Автором рецензии был П. Н. Кудрявцев.
10 В анонимной рецензии на «Повести и рассказы Евгении Тур» было сказано: «Г-жа
Тур все уже сделала, что суждено ей было сделать в русской литературе, подобно
тому, как все уже сделали и сказали гг. Григорович и Островский» («Отеч.
записки», 1859, № 6, стр. 95).
11 Цитата из статьи Ап. Григорьева «Русская изящная литература в 1852 году»
(«Москвитянин», 1853, № 1, стр. 19).
12 Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина, гл. .6.
13 Продолжение статьи Ап. Григорьева «О комедиях Островского и их значении в
литературе и на сцене» было запрещено цензурой.
14 Перефразировка известных строк басни Крылова «Пустынник и медведь».
15 Н. Г. Чернышевский в «Современнике» (1856, № VI) резко критиковал статью
Т. И. Филиппова в «Русской беседе» о пьесе Островского «Не так живи, как
хочется». Эта жо статья Филиппова, содержавшая попутные выпады против романа «Кто
виноват?», вызвала в 1857 г. отповедь Герцена в третьей книге «Полярной звезды»:
«Я с ужасом и отвращением читал некоторые статьи славянофильских обозрений,
от них веет застенком, рваными ноздрями, эпитимьей, покаяньем, Соловецким
монастырем. Попадись этим господам в руки власть, они заткнут за пояс III
Отделение <...>. Один из них пустил в меня, под охраной самодержавной полиции, комом
отечественной грязи с таким народным запахом передней, с такой постной
отрыжкой православной семинарии и с таким нахальством холопа, защищенного от палки
недосягаемостью запяток, что я на несколько минут перенесся на Плющиху, на
Козье болото..» («Еще вариация на старую тему».—А. И. Герцен. Собр. соч.
в тридцати томах, т. XII. М., 1957, стр. 424).
16 Добролюбов имеет в виду рецензию Е. Эдельсона на комедию «Бедность не порок»
(«Москвитянин», 1854, № 5).
17 Речь идет о Т. И. Филиппове. См. выше, примеч. 15.
18 Добролюбов цитирует статью Е. Эдельсона. См. выше, примеч. 16.
19 Рецензия в «Отеч. записках», 1854, № 6, стр. 101.
20 Добролюбов цитирует статью Н. П. Некрасова «Сочинения А. Островского» («Ате-
ней», 1859, № 8, стр. 496).
21 Цитата из статьи А. Щ. о комедии «Доходное место» («Атеней», 1858, № 10, стр. 82)^
576
Примечания
21 «Весна» — литературный сборник на 1859 г. В этом сборнике была опубликована
статья Н. Ахшарумова о «Воспитаннице» Островского.
23 Разбор «Бедной невесты» в «Москвитянине», 1853, № 1, принадлежал Ап. Григорьеву.
24 Добролюбов имеет в виду эпиграмму Н. Ф. Щербины:
Со взглядом пьяным, взглядом узким,
Приобретенным в погребу,
Себя зовет Шекспиром русским
Гостинодворский Коцебу.
25 Автором статьи о комедии «Бедность не порок» в «Москвитянине» был Е. Эдельсотт.
2fi Цитата из статьи Т. И. Филиппова в «Русской беседе», 1856, № 1, о пьесе «Не так
живи, как хочется».
27 Речь идет о статье Н. П. Некрасова «Сочинения А. Островского» («Атеней»), 1859,
№ 8).
28 Добролюбов имеет в виду Т. И. Филиппова. Далее он цитирует его статью о пьесе
«Не так живи, как хочется» («Русская беседа», 1856, № 1).
29 Добролюбов цитирует высказывания Ап. Григорьева («Москвитянин», 1853, № 1,
стр. 17) и Е. Эдельсона («Москвитянин», 1854, № 5, стр. 16—17).
30 Добролюбов имеет в виду анонимную рецензию П. Н. Кудрявцева на комедию
«Бедность не порок» («Отеч. записки», 1854, № 6, стр. 100).
31 Резко отрицательная характеристика Б. Н. Алмазова, поэта и критика
славянофильского лагеря, дана была Добролюбовым в рецензии на сборник «Утро»
(«Современник», 1859, № 1). Об А. Д. Ахшарумове см. выше, стр. 76—77.
32 Т. И. Филиппов в статье по поводу пьесы «Не так живи, как хочется» писал об
образе Петра: «Следовало бы этот характер взять гораздо пошире, дать ему размах,
свойственный русскому разгулу, который стремится в какую-то бесконечность»
(«Русская беседа», 1856, № 1, стр. 96).
33 Статья о «Доходном месте» в журнале «Атеней», 1858, № 10, подписана
инициалами: «А. Щ.».
34 Добролюбов очень отрицательно характеризовал творчество В. А. Соллогуба и
комедию H. M. Львова «Предубеждение, или не место красит человека, а человек —
место» («Современник», 1857, № VII; 1858, № VIII).
35 Эпиграф взят из пьесы Островского «Воспитанница» (дейст. III, явл. 3).
36 О понятии «самодурство» в связи со статьей «Темное царство» см. статью Черны-»
шевского «Суеверие и правила логики» («Современник», 1859, № X). Об этом же
термине см.: Н. И. То ту б алии. К истории слов «самодур» и «самодурство».—
«Ученые записки ЛГУ», вып. 25, 1955, стр. 234—237.
37 Речь идет о комедии «Картина семейного счастья» (в поздней редакции —
«Семейная картина»).
38 Н. П. Некрасов, автор статьи «Сочинения А. Островского» в «Атенее», 1859, № 8,
стр. 470—471.
39 Широко развернутую характеристику «лишних людей», показанных в русской
литературе, Добролюбов дает в статье «Что такое обломовщина?» (1859).
40 Сравнение Волыпова с королем Лиром принадлежало критику Н. П. Некрасову.
См. выше примеч. 38.
41 «Атеней» прекратил свое существование в 1859 г., на 8 номере, в котором была
опубликована статья Н. П. Некрасова о сочинениях Островского. На прекращение
«Атенея» Добролюбов иронически откликнулся в «Свистке», 1860, № 4.
42 «Орел» — реакционный «учено-литературный» журнал, издававшийся в 1859 г. в
Петербурге А. Д. Балашевичем.
43 Добролюбов пользовался журнальным текстом комедии «Свои люди — сочтемся»,
В рецензированном им издании концовка этой комедии другая, измененная
Островским под давлением цензуры.
Когда же придет настоящий день?
577
44 Эпиграф взят из стихотворения Лермонтова «Три пальмы» (1839).
45 «Гроза» М. П. Розенгейма была опубликована в «Русском слове» 1859, № 8.
Добролюбов явно имеет в виду концовку этогю стихотворения: «Нет, не бойтесь бури,—
засуха вреднее». Общая памфлетная характеристика лирики и сатиры М. П.
Розенгейма дана была Добролюбовым в статье «Стихотворения М. П. Розенгейма» (1858).
415 Белинский резко отрицательно охарактеризовал «Выбранные места из переписки
с друзьями» в «Современнике», 1847, № II, а особенно в своем известном письме
к Гоголю, имевшем широкое нелегальное распространение.
47 Первая из этих статей принадлежала А. В. Дружинину («Библ. для чтения», 1859,
№ 8), вторая — Н. С. Назарову («Отеч. записки», 1859, № 7 и 8).
4о «Кошихинствующие критики» — наивные апологеты Московского царства, быт и
правы которого подверглись разоблачительной характеристике в рукописи «О
России в царствование Алексея Михайловича», изданной впервые в 1841 г. Автором
рукописи был Г. К. Котошихин, или «Кошихин», подъячий Посольского приказа. Об
отношении Добролюбова к этому памфлету см. его статью «О степени участия
народности в развитии русской литературы» (1858).
49 Концовка стихотворения «Три пальмы». См. выше, примеч. 44.
50 Эпиграф взят из комедии Островского «Не в свои сани не садись» (д. III, явл. 5).
51 Эпиграф взят из стихотворения Ломоносова «Ода, выбранная из Иова» (1750).
Первая строка в подлиннике читается: «В надежде тяготу сноси». См. эту же цитату
далее, стр. 165.
52 Цитата из поэмы Некрасова «Несчастные» (1856).
53 Рецензия Добролюбова на пьесу «Воспитанница» опубликована в «Современнике»,
1859, № II.
54 «Новейший оракул» — комедия А. А. Потехина («Современник», 1859, № III,
стр. 9—120).
КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ? (стр. 189-230)
Впервые опубликовано в «Современнике», 1860, № III, отд. III, стр. 31—72, без
подписи, под названием «Новая повесть г. Тургенева» («Накануне», повесть И. С.
Тургенева, «Русский вестник», 1860, № 1—2). Перепечатано под названием «Когда же
придет настоящий день?», с существеннейшими дополнениями и изменениями основного
текста, особенно во второй части статьи, в Сочинениях Н. А. Добролюбова, т. III. СПб.,
1862, стр. 275—331. Автограф неизвестен.
Печатается в настоящем издании по тексту 1862 г., установленному Н. Г.
Чернышевским на основании не дошедшей до нас рукописи и доцензурных типографских
гранок. В текст этот внесены некоторые уточнения стилистического порядка,
сделанные Добролюбовым в процессе правки корректур журнальной редакции статьи.
Первоначальная редакция статьи была запрещена цензором В. Бекетовым около
19 февраля 1860 г. в корректуре 1. Добролюбов вынужден был сильно переработать
статью, но и в смягченного виде она не удовлетворила нового цензора Ф. Рахманинова,
просматривавшего ее с 8 по 10 марта 1860 г. в гранках2. Добролюбову пришлось вновь
1 См. письмо В. Н. Бекетова к Добролюбову от 19 февраля 1860 г. с отказом
«пропустить ее в том виде, как она составлена».— «Заветы», 1913, № 2, стр. 96.
2 Гранки эти сохранились в бумагах А. Н. Пыпина (Институт русской литературы
АН СССР). Их подробная характеристика дана Н. И. Мордовченко в разделе
вариантов Поли. собр. соч. Н. А. Добролюбова в шести томах, т. 2. М., 1935, стр. 652—657.
О дискуссионности в данном случае текста 1862 г. см. наши соображения в статье
«Старые и новые издания сочинений Добролюбова» (наст. изд. стр. 555—556),
а также заметки М. Я. Блинчевской «Статья Н. А. Добролюбова «Когда же придет
настоящий день?»» («Русская литература», 1965, № 1, стр. 90—97).
37 Н. А. Добролюбов
578
Примечания
приспособить свою статью к цензурным требованиям. Несмотря на все эти
переработки, статья после напечатания привлекла внимание Главного управления цензуры,
квалифицировавшего ее 18 июля 1860 г., а также другую работу Добролюбова
«Заграничные прения о положении русского духовенства» и «Антропологический принцип
в философии» Н. Г. Чернышевского как произведения, «потрясающие основные
начала власти монархической, значение безусловного закона, семейное назначение
женщины, духовную сторону человека и возбуждающие ненависть одного сословия к
другому» 1. Цензор Ф. Рахманинов, пропустивший статью, получил выговор.
И. С. Тургенев, познакомившийся со статьей Добролюбова о «Накануне» в ее до-
цензурной редакции, решительно высказался против ее напечатания: «Она кроме
неприятностей ничего мне наделать не может,— писал Тургенев около 19 февраля 1860 г.
Н. А. Некрасову,— она несправедлива и резка — я не буду знать, куда бежать, если
она напечатается» 2. Некрасов пытался склонить Добролюбова к некоторым уступкам,
но тот не соглашался. Тургенев также упорствовал в своем требовании. Поставленный
перед необходимостью выбора, Некрасов опубликовал статью Добролюбова, и это
послужило ближайшим поводом к уже назревшему разрыву Тургенева с
«Современником».
Перепечатанная после смерти Добролюбова в третьем томе первого издания его
сочинений с новым заглавием и с значительнейшими изменениями текста, статья
«Когда же придет настоящий день?» именно в издании 1862 г. была воспринята
современниками и вошла в сознание читательских поколений как документ, отразивший
эстетический кодекс и политическую платформу революционной демократии. Но и в
журнальном тексте статья Добролюбова резко выделялась на общем фоне
критических отзывов современников о «Накануне» 3.
В разборе романа Добролюбов исходит прежде всего пз необходимости выяснения
объективного смысла литературного произведения и считает невозможным сводить
его содержание к отражению авторских идей и намерений. При этом, как показывает
рассматриваемая статья, критик вовсе не склонен игнорировать замысел
произведения и идейную позицию автора. Однако в центре его внимания не столько то, «что
хотел сказать автор, сколько то, что сказалось им, хотя бы и ненамеренно, просто
вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни». Добролюбов относится с
полным доверием к способности писателя-реалиста подчинять свое художественное
воображение ходу самой жизни, умению «чувствовать и изображать жизненную правду
явлений». Такой принцип критики поэтому не может быть применен к писателям,
дидактически подчиняющим изображение современной действительности не логике
жизненных фактов, а «заранее придуманной программе».
Роман Тургенева открывал широкую возможность для формулировки
политических задач, которые объективно вытекали из созданной автором картины русской
жизни, хотя могли и не совпадать с его личными общественными стремлениями.
Главную политическую задачу современности критик увидел в необходимости
переменить «сырую и туманную атмосферу нашей жизни» силами русских Инсаровых,
борцов не против внешнего угнетения, а против внутренних врагов. В этих
прозрачных иносказаниях нетрудно было увидеть призыв к народной революции, во главе
которой должны стать мужественные у убежденные руководители, подобные
тургеневскому Инсарову.
1 Н. А. Добролюбов. Поли. собр. соч., т. 2. М., 1935.
2 И. С. Т у р г е н е в. Поли. собр. соч. Письма, т. IV. М., 1962, стр. 41.
3 Обзор отзывов о «Накануне» см. в примечаниях И. Г. Ямпольского к статье
Добролюбова: H.A. Добролюбов. Поли. собр. соч., т. 2, 1935, стр. 685—688.
Ср. Г. Б. К у р л я н д с к а я. Романы И. С. Тургенева 50-х — начала 60-х годов.—
«Ученые записки Казанского университета», т. 116, кн. 8, 1956, стр. 107—113.
Когда же придет настоящий день?
57а
Но не только в «Накануне» видел Добролюбов у Тургенева «живое отношение к
современности». Чуткость «к живым струнам общества» и «верный такт
действительности» Добролюбов находил во всем творчестве Тургенева — в частности, в его
трактовке «лишних людей». Пассивные, раздвоенные, рефлектирующие, не знающие
«что делать», при всех отрицательных свойствах, они были для него (как п для
Тургенева) «просветителями, пропагандистами — хоть для одной женской души, да
пропагандистами» 1. Добролюбов с сочувствием отметил разнообразие этих лиц, каждое
из которых «было смелее и полнее предыдущих». Особенно интересно в этой связи
истолкование образа Лаврецкого, в котором Добролюбов видел «что-то
законно-трагическое, а не призрачное», потому что этот герой столкнулся с мертвящей силой
религиозных догматов или, говоря эзоповым языком Добролюбова, «целого огромного
отдела понятий, заправляющих нашей жизнью». При этом не только программная
сторона творчества Тургенева привлекала Добролюбова, а и то, что он назвал «общим
строем» тургеневского повествования, «чистое впечатление», производимое его
повестями, сложное и тонкое сочетание в них мотивов разочарования, падения с «мла-
денческим упоением жизнью», их особенное ощущение, которое было одновременно
«и грустно, и весело» 2.
Роман о «новых людях» Добролюбов представлял себе не только как лирическое
повествование об их личной жизни. Личная жизнь героев, по идее Добролюбова,
должна войти составным элементом в такое повествование, где герой представал бы
перед читателем одновременно и кэк частный человек и как гражданский борец,
стоящий лицом к лицу «с партиями, с народом, с чужим правительством, со своими еди-'
номышленниками, с вражеской силой». Такой роман Добролюбов представлял себе
как «героическую эпопею» и Тургенева считал неспособным создать ее. Его сфера —
не борьба, а лишь «сборы на борьбу» — об этом Добролюбов сказал в самом начале
статьи. Между тем в личности Инсарова, в его характере, в его натуре он находил
именно те черты, которые пристали подлинному герою современной эпопеи.
Любопытно, что эти черты Добролюбов наметил сам задолго до выхода в свет
«Накануне», причем сделал это в полемике с Тургеневым. Так, в статье «Николай
Владимирович Станкевич» («Современник», 1858, № IV) Добролюбов выступил против
тургеневской морали «долга» и «отречения», выраженной в повести «Фауст»3. Людям
старого поколения, понимающим долг как нравственные вериги, как следование
«отвлеченному принципу, который они принимают без внутреннего сердечного
участия», Добролюбов противопоставил сторонников новой морали, тех, кто «заботится
слить требования долга с потребностями внутреннего существа своего». В другой
статье — «Литературные мелочи прошлого года» («Современник», 1859, № I) Добролюбов
вновь развернул антитезу «отвлеченных принципов» и живого, внутреннего влечения
и снова положил ее в основу сравнительной характеристики старого и молодого по-
1 Характерны строки М. Горького о Рудине: «Мечтатель — он является
пропагандистом идей революционных...» (М. Горький. История русской литературы. М.,
ГИХЛ, 1939, стр. 176).
2 M. E. Салтыков-Щедрин в письме к П. В, Анненкову от 3 февраля 1859 г. заявлял по
поводу «Дворянского гнезда»: «Да и что можно сказать обо всех вообще
произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло
чувствуется? Что ощущаешь явственно, как общий уровень в тебе поднимается, что
мысленно благословляешь и любишь автора? <...> Я давно не был так потрясен, но
чем именно — не могу дать себе отчета. Думаю, что ни тем, ни другим, ни третьим,
а общим строем романа» (М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Поли. собр. соч.,
т. 18. Л., ГИХЛ, 1937, стр. 144).
8 Об этом см.: Н. И. M о р д о в ч е н к о. Добролюбов в борьбе с
либерально-дворянской литературой.— «Известия Академии наук СССР. Отделение общественных
наук», 1936, № 1-2, стр. 245-250.
37*
580
Примечания
колений. Разрабатывая идейный и психологический портрет «новых людей»,
пришедших на смену рыцарям «отвлеченных принципов», Добролюбов видел в современных
деятелях людей «с крепкими нервами и здоровым воображением», отличающихся
«спокойствием и тихой твердостью». «Вообще,— писал он,— молодое действующее
поколение нашего времени не умеет блестеть и шуметь. В его голосе нет, кажется,
кричащих нот, хотя есть звуки очень сильные и твердые».
Теперь, в статье «Когда же придет настоящий день?», характеризуя Инсарова,
Добролюбов нашел в нем те самые черты, о которых он писал в свое время, говоря
о «молодом действующем поколении»: любовь к родине и к свободе у Инсарова «не
в рассудке, не в сердце, не в воображении: она у него в организме», «он будет делать
то, к чему влечет его натура», притом «совершенно спокойно, без натяжек и
фанфаронад, так же просто, как ест и пьет» и т. д. Отмечая с глубоким сочувствием новые
черты тургеневского героя, Добролюбов ясно видел, что в данном случае «охвачены
художественным сознанием, внесены в литературу, возведены в тип» действительно
существующие в жизни явления и характеры, распознанные ранее им самим и
увиденные на русской почве. У Тургенева же Инсаров только дружески близок к
русским людям, но сложился как тип не в условиях русской жизни.
Это связано было с тургеневским пониманием соотношения человека и среды, и
вопрос этот вновь приводил Добролюбова к полемике с автором «Накануне». В статье
«Благонамеренность и деятельность», опубликованной четыре месяца спустя после
статьи «Когда же придет настоящий день?», Добролюбов выступил против
«тургеневской школы» с ее постоянным мотивом «среда заедает человека». У Тургенева человек
бессилен против исторических обстоятельств, он подавлен суровой властью
социальной среды и потому не способен к борьбе с условиями, угнетающими передовых
людей России. Критика тургеневского фатализма среды, подробно развернутая в
статье «Благонамеренность и деятельность», налицо и в комментируемой работе. Вопрос
о соотношении человека и среды Добролюбов ставит диалектически: те же самые
условия, которые делают невозможным появление «новых людей», на известной ступени
развития сделают их появление неизбежным. Теперь эта ступень в России достигнута:
«Мы говорили выше, что наша общественная среда подавляет развитие личностей,
подобных Инсарову. Но теперь мы можем сделать дополнение к своим словам: среда
эта дошла теперь до того, что сама же поможет явлению такого человека»,— этими
словами Добролюбов намекал на то, что в России уже подготовлена почва для
революционного действия. Всякую иную тактику в условиях 1860 г. Добролюбов считал
либеральным донкихотством, и это опять-таки звучало полемически по отношению к
Тургеневу, который в речи «Гамлет и Дон Кихот», опубликованной за два месяца до
статьи Добролюбова о «Накануне», усмотрел черты донкихотства в людях борьбы и
беззаветной убежденности, в «энтузиастах» и «служителях- идеи». Как бы высоко
ни ставил Тургенев людей донкихотского склада, он все же считал, что они
сражаются с ветряными мельницами и не достигают своих целей. Поэтому Добролюбов
отклонил от себя и своих единомышленников кличку Дон Кихота и вернул ее Тургеневу
и сторонникам теории «заедающей среды» 1.
Быть может, именно полемическая направленность статьи Добролюбова против
многих взглядов Тургенева и была воспринята писателем как несправедливость и
резкость. Во всяком случае ни общий анализ романа, ни высокая оценка
реалистической силы тургеневского искусства не давали повода к такому пониманию добролю-
* См. Ю. Г. О к с м а н. Тургенев и Герцен в полемике о политической сущности
образов Гамлета и Дон Кихота.— «Научный ежегодник Саратовского университета».
Филологический факультет, 1958, отд. III, стр. 25—29, а также: Ю. Д. Левин.
Статья И. С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». К вопросу о полемике Добролюбова и
Тургенева.— «Н. А. Добролюбов. Статьи и материалы». Ответ, редактор Г. В.
Краснов. Горький, 1965, стр. 122—163.
Когда же придет настоящий день?
581
бовской статьи. Что же касается «неприятностей», которых опасался Тургенев, то,
видимо, по его предположению, они могли возникнуть для него из-за тех
революционных выводов, которые извлек Добролюбов из анализа «Накануне». В первоначальной
редакции статьи эти выводы были еще более резкими и ясными. Но и в журнальном
тексте, а тем более в тексте собрания сочинений революционный смысл статьи был
ясно понят как современниками, так и читателями последующих поколений, прежде
всего деятелями освободительного движения.
Так, П. Л. Лавров в статье «И. С. Тургенев и русское общество», помещенное в
«Вестнике Народной воли», 1884, № 2, говоря о росте революционного движения в
семидесятых годах, по сравнению с предшествующим периодом, остановился на
статье Добролюбова. «Русские Инсаровы,— писал он,— люди «сознательно и всецело
проникнутые великой идеей освобождения родины и готовые принять в ней деятельную
роль», получили возможность «проявить себя в современном русском обществе»
(Соч. Добролюбова, III, 320). Новые Елены не могли уже сказать: «Что делать в
России?» Они наполняли тюрьмы. Они шли в каторгу» К
В. И. Засулич в статье по поводу сорокалетия смерти Добролюбова («Искра», 1901,
№ 13) отметила, что в критическом разборе «Накануне» Добролюбову удалось
«написать с недопускающей сомнений ясностью свое революционное завещание
подрастающей молодежи образованных классов» 2. В том же номере «Искры» была помещена
статья В. И. Ленина «Начало демонстраций». В ней В. И. Ленин, коснувшись
Добролюбова, сказал о том, что «всей образованной и мыслящей России дорог писатель,
страстно ненавидевший произвол и страстно ждавший народного восстания против
«внутренних турок» — против самодержавного правительства» 3. Важно, что в этой
общей характеристике Добролюбова как революционного писателя В. И. Ленин
опирался на статью «Когда же придет настоящий день?», откуда взята и формула
«внутренние турки».
1 Эпиграфом к статье взята первая строчка стихотворения Г. Гейне «Doktrin», которая
должна была напомнить читателю все стихотворение. Приводим его в переводе
А. Н. Плещеева (1846):
Возьми барабан и не бойся,
Целуй маркитантку звучней!
Вот смысл глубочайший искусства,
Вот смысл философии всей!
Сильнее стучи, и тревогой
Ты спящих от сна пробуди!
Вот смысл глубочайший искусства...
А сам маршируй впереди!
1 См. «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», М.— Л.,
«Acade.mia», 1930, стр. 31—32.
2 В. И. Засулич. Статьи о русской литературе. М., ГИХЛ, 1960, стр. 262. См. там же;
стр. 249 о статье «Когда же придет настоящий день?» как о лучшей работе
Добролюбова, «всего полнее обрисовывающей самого автора, его'настроение, его
неудовлетворенную потребность в новых людях и тревожную надежду на их появление».
3 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. V, стр. 370. у
fe82
Примечания
Вот Гегель! Вот книжная мудрость!
Вот дух философских начал!
Давно я постиг эту тайну,
Давно барабанщиком стал!
Добролюбов очень ценил этот перевод и последние две его строфы процитировал
в рецензии на «Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова» («Современник», 1858
№ V).
В журнальном тексте эпиграф отсутствовал.
2 Речь пдет, по-видимому, о критике С. С. Дудышкине, который в связи с выходом
«Повестей и рассказов» И. С. Тургенева (1856) писал о том, что разбор этих повестей
«объясняет прежде всего все колебания и изменения в самом взгляде на жизнь»
(«Отеч. записки», 1857, № 1, Критика и библиография, стр. 2. Курсив наш).
В излишнем пристрастии к живым вопросам современности упрекал Тургенева
л А. В. Дружинин: «Быть может,— писал он,— г. Тургенев даже во многом ослабил
свой талант, жертвуя современности и практическим идеям эпохи» («Библиотека
для чтения», 1857, № 3. Критика, стр. 30). Слова, взятые в тексте Добролюбова в
кавычки, являются обобщением суждений о Тургеневе критиков
либерально-дворянского лагеря, а не точной цитатой.
3 Берсенев имел в виду Т. Н. Грановского.
1 Добролюбов намекает на то, что по цензурным условиям можно говорить о
национально-освободительной борьбе любого народа, кроме тех, которые, как поляки,
угнетены русским самодержавием.
5 С М. Соловьев в своих исторических трудах всегда отрицательнв оценивал народные
движения, видя в них угрозу целостности русского государства. Очевидно, здесь
Добролюбов имеет в виду статью С. М. Соловьева «Малороссийское казачество до
. Хмельницкого» («Русский вестник», 1859, № 2).
6 В этой истории отразились некоторые факты бурной биографии И. И. Паржницкого,
товарища Добролюбова по Педагогическому институту. Из института он перешел
в Медико-хирургическую академию, откуда за нарушение дисциплины был сослан
фельдшером на далекую окраину. Затем поступил в Казанский университет, но был
исключен и оттуда. Уехал за границу, поступил в Берлинский университет.
Сохранились сведения о его участии в Польском восстании 1863 г. См. М. И. Ш е м а н о в-
с к и й. Воспоминания о жизни в Главном педагогическом институте 1853—1857
годов.—В кн.: «Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников». М.—Л., 1961,
стр. 59—69, а также в комментариях С. А. Рейсера, там же, стр. 427—428.
7 Добролюбов использует здесь анонимное политическое обозрение в «Московском
вестнике» от 9 января 1860 г., № 1: «В Северо-Американских Штатах антагонизм
Севера и Юга, аболиционистов и приверженцев рабства разыгрался по поводу
предприятия Брауна, возмутившего невольников в Виргинии. Эта насильственная и
незаконная попытка решить вопрос о невольничестве не имела успеха; Браун был
казнен, и аболиционисты высказали свое неодобрение его поступку, признали
необходимость поддерживать рабство негров ради единства федерации. Таким образом
Браун скорее повредил тому делу, которому пожертвовал своею жизнью и которое
может быть решено только легальным путем» (стр. 9).
8 Добролюбов называет персонажей комедий А. Н. Островского: Брусков — ««В чужом
пиру похмелье», Болыпов — «Свои люди — сочтемся», Кабанова — «Гроза», Уланбе-
кова — «Воспитанница».
9 Добролюбов приводит стихотворение Ф. И. Тютчева «Русской женщине»
(первоначальное заглавие — «Моей землячке»). В издании «Стихотворений Ф. Тютчева»
(1854), которым пользовался Добролюбов, текст этот не имел названия.
Луч света в темном царстве
583
ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ (стр. 231—300)
Впервые опубликовано, с существенными цензурными искажениями, в журнале
«Современник», 1860, № X, отд. III, стр. 233—292, с подписью: Н.— бов. В Сочинениях
Н. А. Добролюбова (т. III. СПб., 1862, стр. 441—517) напечатано Н. Г. Чернышевским
по сохранившимся доцензурным корректурам. Нынешнее их местонахождение
неизвестно. Автограф также не сохранился. Печатается по изданию 1862 г. с учетом
стилистической правки статьи в «Современнике».
Пьеса А. И. Островского «ГроЗа» была опубликована в журнале «Библиотека для
чтения», 1860, № 1, и в том же году вышла отдельным изданием. До опубликования
пьеса была поставлена в Малом театре в Москве 16 ноября 1859 г. и в том же году.
2 декабря, в Петербурге. Наиболее полный свод критических высказываний о «Грозе»
с 1860 г. до наших дней см. в кн.: А. И. Р е в я к и н. «Гроза» А. Н. Островского. Изд. 3,
исправленное и дополненное. М., 1962, стр. 230—264.
Вокруг пьесы сразу же развернулся широкий обмен мнений. Передовая критика
откликнулась на «Грозу» очень положительно. «Народность чувствуется в каждом
слове, в каждой сцене, в каждой личности драмы»,— писал критик А. С. Гиероглифов
(«Театральный и музыкальный вестник», 1859, № 48, стр. 473). И. И. Панаев, отражая
мнение всего редакционного коллектива «Современника», отмечал в «Заметках нового
поэта»: «Произведения г. Островского имеют для нас значение более глубокое и
серьезное, чем многие из произведений нашей литературы, пользовавшейся в
последнее время огромным и, конечно, заслуженным успехом в образованном и
великосветском обществе» («Современник», 1860, № V, стр. 402).
И. С. Тургенев, прослушав «Грозу» в чтении самого автора, назвал ее в письме
к А. А: Фету от 28—29 ноября 1860 г. «удивительнейшим, великолепнейшим
произведением русского, могучего, вполне овладевшего собою таланта» (И. С. Тургенев.
Письма, т. III..М — Л., 1961, стр. 375).
Более сдержанны были отклики на «Грозу» критиков либерально-дворянского
лагеря (М. Дараган в «Русской газете», 1859, № 8; С. Дудышкин в «Отеч. записках», 1860,
«№ 1 и др.)- Резко отрицательно охарактеризована была новая пьеса Островского в
статье Н. Ф. Павлова в официозном «Нашем времени» (см. далее, примеч. 3). С
полемическими замечаниями по поводу якобы допущенной Добролюбовым идеализации
образа Катерины в «Грозе» через несколько лет выступил в статье «Мотивы русской
драмы» Д. И. Писарев («Русское слово», 1864, № 3. Перепечатано: Д. И. Писарев.
Сочинения, т. 2. М., 1955, стр. 366—371). Об отображении в «Грозе» впечатлений А. Н.
Островского от цикла статей «Темное царство», печатавшихся в «Современнике» как
раз в пору его работы над этой драмой, см. статью: Е. Холодов. Островский читает
«Темное царство».— «Вопросы литературы», 1962, № 12, стр. 95—100.
Со статьей Добролюбова «Луч света в темном царстве» сочувственно
перекликаются строки о «Грозе» Островского в брошюре А. И. Герцена «Новая фаза в русской
литературе» (1864 г.): «В этой драме автор ... бросил внезапно луч света в неведомую
дотоле душу русской женщины, этой молчальницы, которая задыхается в тисках
неумолимой и полудикой жизни патриархальной семьи» (А. И. Герцен. Собр. соч.
в тридцати томах, т. XVIII. М., 1959, стр. 219. Оригинал на франц. яз.).
1 Добролюбов имеет в виду статью «Темное царство». См. выше, стр. 70—188.
2 Добролюбов имеет в виду Н. П. Некрасова (1828—1913), литературного критика,
статья которого «Сочинения Островского» была опубликована в журнале «Атеней»,
1859, № 8.
3 Статья Н. Ф. Павлова о «Грозе» была напечатана в рептильной газете «Наше
время», пользовавшейся субсидией Министерства внутренних дел. Говоря о Катерине,
критик утверждал, что «писатель с своей стороны сделал все, что мог, и не его
вина, если эта бессовестная женщина явилась перед нами в таком виде, что бледность
ее лица показалась нам дешевым притираньем» («Наше время», 1860, № 1, стр. 16).
584
Примечания
4 Речь идет об А. Пальховском. статья которого о «Грозе» появилась в газете
«Московский вестник», 1859, № 49. Некоторые литераторы, в числе которых был и
Ап. Григорьев, склонны были видеть в Пальховском «ученика и сеида»
Добролюбова. Между тем этот мнимый последователь Добролюбова стоял на прямо
противоположных позициях,. Так, например, он писал: «Несмотря на трагический конец,
Катерина все-таки не возбуждает сочувствия зрителя, потому что сочувствовать-то
нечему: не было в ее поступках ничего разумного, ничего человечного: полюбила
она Бориса ни с того, ни с сего, покаялась ни с того, ни с сего, в реку бросилась
тоже ни с того, ни с сего. Вот почему Катерина никак не может быть героиней
драмы, но зато она служит превосходным сюжетом для сатиры ... Итак, ддама
«Гроза» — драма только по названию, в сущности же это — сатира, направленная
против двух страшнейших зол, глубоко вкоренившихся в «темном царстве» — против
семейного деспотизма и мистицизма».
Резко отмежевываясь от своего мнимого ученика и вульгаризатора,
Добролюбов полемически называет свою статью — «Луч света в темном царстве», так как в
рецензии А. Пальховского были следующие строки — «разражаться громом против
Катерин — нечего: они не виноваты в том, что сделала из них среда, в которую еще
до сих пор не проник ни один луч света» («Московский вестник», 1859, № 49).
5 Добролюбов имеет в виду Н. А. Миллера-Красовского, автора книжки «Основные
законы воспитания», который в своем письме в редакцию «Северной пчелы» (1859,
№ 142) протестовал против глумливой трактовки его труда рецензентом
«Современника» (1859, № VI). Автором этой рецензии был Добролюбов.
6 Статья Белинского о повести графа В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845) была
использована для едкой памфлетной характеристики как самого Соллогуба, так и
И. В. Киреевского, лидера московских славянофилов.
7 Классическая поэтика требовала сохранения в драматическом произведении
«единства действия»; романтики сознательно этот «закон» нарушали, вводя не только
двойную, но и тройную интригу.
8 Добролюбов имел в виду статью Н. Д. Ахшарумова в сборнике «Весна» о
«Воспитаннице» Островского. Презрительную характеристику Ахшарумова см. выше, в статье
о «Темном царстве», стр. 76—77.
9 Цитата из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).
1J Добролюбов иронизирует по поводу авторитета в реакционных литературных
кругах идеалистической эстетики Фридриха-Теодора Фишера, эпигона школы Гегеля.
В 1858 г. вышел в свет последний том его трехтомной «Ästhetik, oder Wissenschaft
des Schönen», Stuttgart, 1837—1858.
11 Формула «обоюдоострый меч анализа» употреблена Тургеневым в статье «Гамлет
и Дон Кихот», напечатанной впервые в «Современнике» 1860, № I.
12 Добролюбов имеет в виду сгатью П. В. Анненкова в «Библиотеке для чтения»
«О бурной рецензии на «Грозу» г. Островского, о народности, образованности и о
прочем (Ответ критику «Грозы» в журнале «Наше время»)».
13 Добролюбов глумится над наивной апологетикой капиталистического «прогресса»
в журнале И. В. Вернадского. См. об этом же выше, в статье «Что такое
обломовщина?»
14 Концовка басни Крылова «Крестьянин и лисица».
15 Статья Ап. Григорьева «После «Грозы» Островского». Письма к И. С. Тургеневу
(«Русский мир», 1860, № 5, 6, 9 и 11).
16 «Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного
округа», изданные Ы. И. Пиррговым в 1859 г. Резко отрицательную характеристику
этих «Правил» см. в статье Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые
розгами» («Современник», 1860, № I).
17 Добролюбов характеризует в этих строках следующих литературных персонажей:
Калиновича из «Тысячи душ» Писемского, Штольца из «Обломова» Гончарова, Ин^
Забитые люди
585
сарова — героя «Накануне» Тургенева и княжну Зинаиду из его же повести
«Первая любовь».
18 Ананий Яковлев — герой драмы Писемского «Горькая судьбина» («Библиотека
для чтения», 1859, № И). Разбор этой драмы помещен был А. А. Майковым (1826—■
1902) в «С.-Петербургских ведомостях», 1860, № 65, 67 и 69. Добролюбов называет
его «московским господином» в отличие от известного поэта А. Н. Майкова.
19 Резко отрицательные оценки пьес В. А. Соллогуба и H. M. Львова даны были
Добролюбовым в статье о «Сочинениях графа В. А. Соллогуба» («Современник», 1857,
№ VII) и в рецензии на «Предубеждение» Н. А. Львова (там же, 1858, № VII).
20 «Князь Луповицкий или приезд в деревню, комедия в 2 действиях, с прологом
К. С. Аксакова»,. М., 1856.
21 Цитата из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).
22 Первой исполнительницей роли Катерины на сцене Александрийского театра в
Петербурге была Фанни Александровна Снеткова, молодая актриса, дебютировавшая
незадолго до постановки «Грозы» в ролях Корделии и Дездемоны.
23 Добролюбов имеет в виду псалом Давида, переложенный в «Песню плена
Вавилонского» Ф. Н. Глинкой («Полярная звезда» на 1823 год», изд. А. Бестужева и К.
Рылеева). Стихи эти после 14 декабря прочно вошли в рукописный репертуар
нелегальной русской политической лирики сороковых и пятидесятых годов.
ЗАБИТЫЕ ЛЮДИ (стр. 301—347)
Впервые опубликовано, с многочисленными цензурными сокращениями и
искажениями, в «Современнике», 1861, № IX, отд. III, стр. 99—149 с подписью: Н.— бов (на
обложке: Н. А.—бов). Перепечатано в первом издании Сочинений Н. А. Добролюбова,
т. III. СПб., 1862, стр. 533—585, с дополнениями и уточнениями по доцензурным
типографским гранкам. Автограф статьи неизвестен. Печатается по изданию 1862 г., с
учетом стилистической правки статьи в «Современнике».
Статья «Забитые люди», написанная Добролюбовым вскоре после возвращения
_из-за границы, является его последним программным литературно-критическим
выступлением. Некоторые полемические страницы статьи имеют в виду не только
романы Достоевского, но и его литературно-теоретический очерк «Г.—бов и вопрос об
искусстве», опубликованный в февральском номере журнала «Время» за 1861 г. Дата
цензурного разрешения корректурных гранок «Забитых людей» — 5 октября 1861 г.,
что вызвало, видимо, задержку сентябрьского номера «Современника», вышедшего в
свет лишь 8 октября 1861 г. (см. В. Э. Богр ад. Журнал «Современник», 1847—1866.
Указатель содержания. М.— Л., 1959, стр. 402). Критический обзор материалов,
относящихся к идейно-литературным взаимоотношениям Добролюбова и Достоевского, дан
в статье: С. С. Д ер к ач. Добролюбов и Достоевский: — «Н. А. Добролюбов — критик
и историк русской литературы». Изд. Ленинградского университета, 1963, стр. 97—131.
См. некоторые тонкие критические замечания на статью С. Деркача «Добролюбов и
Достоевский» в рецензии Э. П о л о цк о й.—«Вопросы литературы», 1965, № 2,
стр. 241—242.
1 Добролюбов имеет -в виду критику его статей в печатных выступлениях П. В.
Анненкова, Ап. Григорьева, А. В. Дружинина, С. С. Дудышкина и некоторых других
литераторов, враждебных «Современнику».
2 Цитата из статьи Белинского «Петербургский сборник», в котором были
опубликованы «Бедные люди» Достоевского.
3 Достоевский был арестован в апреле 1849 г. за участие в нелегальном
социалистическом кружке М. В. Петрашевского. Приговор к смертной казни заменен был че-»
586
Примечания
тырехлетней каторгой, по окончании которой зачислен рядовым в войска
Отдельного Сибирского корпуса. Разрешение жить в Петербурге получил в конце 1859 г.
4 С 1857 по 1861 г. Достоевский опубликовал «Маленького героя», «Дядюшкин сон»,
«Село Степанчиково и его обитатели», «Униженные и оскорбленные».
5 Ссылка на «одного критика» имела в виду Ап. Григорьева.
6 Повести И. И. Шишкина и Е. П. Карновича печатались в «Современнике» и
«Отечественных записках» пятидесятых годов.
7 Цитата из басни Крылова «Муравей».
3 Роман Н. Д. Ахшарумова «Чужое имя» печатался в «Русском вестнике» 1861 г.,
а роман А. А. Потехина «Бедные дворяне» в «Библиотеке для чтения» того же года.
9 Речь идет об исключительном успехе романа Эрнеста Фейдо «Фанни» (1859 г.).
10 Эта страница представляла собою ответ на статью Достоевского «Г.— бов и вопрос
об искусстве», оставшуюся неназванной.
11 Добролюбов иронически дает в одном ряду статью А. Ф. Мерзлякова о «Россияде»
М. М. Хераскова (напечатанную в «Амфионе» 1815 г.) и статью В. П. Боткина
«Стихотворения А. А. Фета» («Современник», 1857, № 1).
12 Добролюбов полемизирует с высказываниями А. В. Дружинина о Достоевском в
«Современнике» 1849 г. Иронические строки его же о «письмах Ивана
Александровича Чернокнижникова» (см. выше, стр. 328) имели в виду низкопробные фельетоны
А. В. Дружинина «Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по
Петербургским дачам», печатавшиеся, без имени автора, в «Современнике» 1850 г.
13 Намек на суждения П. В. Анненкова в «Заметках о русской литературе прошлого
года» («Современник», 1849, № I).
14 Комедия H. M. Львова «Предубеждение, или не место красит человека, а человек
место» (1858).
15 Цитата из оды Державина «К премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице» (1782).
1Ь Цитата из «Мертвых душ» Гоголя.
17 Улисс — римский вариант имени Одиссея, героя поэм Гомера.
18 Линней, Карл (1707—1778) — шведский натуралист, установивший классификацию
животных и растений по родам и видам.
19 Лорд Чатам — Питт Уильям старший (1708—1778), английский государственный
деятель; Веллингтон, Артур Уэлсли (1769—1852), английский полководец.
20 Ламорисьер, Кристоф Леон (1806—1865) — французский военный министр после
революции 1848 г.
21 Персиньи, Жан (1808—1872) — министр внутренних дел при Наполеоне III.
21 «Moniteur» («Монитер») — французская правительственная газета.
А. В. КОЛЬЦОВ (стр. 349-401 )
Впервые опубликовано в издании «Чтение для юношества. А. В. Кольцов, его
•кизнь и сочинения». Издание книгопродавца А. И. Глазунова, Москва, в типографии
Катков и К0, 1858, в 8-ю д. л., стр. 153 + III. (Цензурное разрешение В. Бекетова,
С.-Петербург, 9 июня 1858 г.).
Текст Добролюбова, без заголовка и без имени автора, занимает стр. 1—120;
далее следовал текст 17 стихотворений Кольцова с рисунками Иевлева в красках на
вкладных листах, хромолитография В. Бахмана. Рукопись статьи не сохранилась.
Время работы над статьей о Кольцове устанавливается записью в дневнике
Добролюбова от 6 февраля 1857 г.: «Во вторник пришел ко мне А. И. Глазунов, и мы
условились, что я напишу книжку к 15 марта. В задаток получил я 25 рублей.
Постараюсь пробную лекцию читать о том же. Глазунов — человек, должно быть, хороший
(говорю это не как Хлестаков) и очень образованный, так, что на редкость между
А. В. Кольцов
587
книгопродавцами». О необходимости «к половине марта написать книжку о Кольцове»,
из которой «не написано ни одной строчки», Добролюбов упоминает в свеем дневнике
еще раз 12 февраля. Работа закончена была, однако, до срока, ибо уже 2 марта 1857 г.
А. И. Глазунов известил Добролюбова о получении им рукописи, в которой он,
учитывая возможные цензурные осложнения, предлагал заранее самому автору «сказать
покороче о разбойничьих песнях, вычеркнуть о пьянстве и заменить слово грамотей
другим», потому что «назвать так наших умников прошедшего столетия некоторым
наставникам и блюстителям нравственности покажется неуместным в книге,
назначенной юношеству» (письмо А. И. Глазунова хранится в ИРЛИ АН СССР).
Книжка о Кольцове, заказанная Добролюбову, вышла в свет в той же серии, в
которой напечатана была брошюра Н. Г. Чернышевского «А. С. Пушкин. Его жизнь и
сочинения». СПб., 1856. Краткую информационную заметку о своей работе «А. В.
Кольцов» Добролюбов поместил в «Журнале для воспитания», 1859, т. III, за подписью
«Д — в». Краткую общую характеристику Кольцова см. в статье Добролюбова «О сте-
пенп участия народности в развитии русской литературы»: «В числе исключительных
личностей, мало имевших влияние на литературное движение, нельзя забыть
Кольцова и Лермонтова. Кольцов жил народною жизнью, понимал ее горе и радости, умел
выражать их. Но его поэзии недостает всесторонности взгляда; простой класс народа
является у него в уединении от общих интересов, только с своими частными
житейскими нуждами; оттого песни его, при всей своей простоте и живости, не возбуждают
того чувства, как, например, песни Беранже» («Современник», 1858, № II; то же см.:
Н. А. Добролюбов. Собр. соч., в девяти томах, т. 2. М.—Л., 1962, стр. 263).
Ценные наблюдения об особенностях критического отношения Добролюбова к фолькло-
рпзму Кольцова см.: П. А. Николаев. К вопросу о народности литературы в
критике Н. А. Добролюбова.— «Филологические науки», 1961, № 3, стр. 114.
Книжка Добролюбова выдержала три издания: 2-е — 1865 г., 3-е — 1877 г. В
специальных обзорах учебной литературы книжка Добролюбова отмечена была дважды:
в «Нашей детской литературе» Ф. Толля, СПб., 1862, стр. 149, как «водянистое и
скучное рассуждение», а в анонимном «Систематическом очерке русской народно-учебной
литературы», СПб., 1878, стр. 250, как «прекрасное чтение для юношества».
Принадлежность брошюры Добролюбову обоим рецензентам осталась неизвестной.
Сличение биографического очерка «А. В. Кольцов», принадлежащего
Добролюбову, со статьей о Кольцове, опубликованной Белинским в 1846 г., позволяет
установить непосредственную связь работы Добролюбова с основными фактами биографии
и литературно-критическими положениями статьи Белинского. Не восходят к
Белинскому лишь вводные страницы Добролюбова «о русских людях из простого знания» и
«о характере русских народных песен». Не названо в очерке Добролюбова самое имя
Белинского, конечно, лишь по цензурным соображениям, ибо в пору издания
книжки Добролюбова имя Белинского еще было под полицейским запретом.
В цензурно-полицейских условиях середины 50-х годов Добролюбов еще не мог
назвать в числе современников Кольцова великого украинского поэта Т. Г. Шевченко.
Он сделал это лишь в 1860 г., рецензируя на страницах «Современника» новое издание
«Кобзаря». Как утверждал Добролюбов, именно Шевченко, поэт, кровно связанный
с крепостной деревней, может быть назван «поэтом совершенно народным», ибо «даже
Кольцов нейдет с ним в сравнение, потому что складом своих мыслей и даже своими
стремлениями иногда удаляется от народа» (Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 6,
1963, стр. 142).
Наряду с биографическим очерком Белинского в тексте брошюры Добролюбова
«А. В. Кольцов» заметны следы знакомства молодого критика со специальной рецен<
зией М. Е. Салтыкова-Щедрина на новое издание книжки «Стихотворения А. В.
Кольцова» (СПб., 1856), опубликованной на страницах журнала «Русский вестник» (1856,
ноябрь, кн. 1, стр. 147—168).
Статья М. Е. Салтыкова, подписанная только инициалами ее автора («М. С.»),
представляла собою развернутый литературно-теоретический документ, определявший
538
Примечания
критические и эстетические, позиции великого сатирика. Подробнее об этой статье
см.: В. Э. Б о г р а д. Литературный манифест Салтыкова.— «Лит. наследство», т. 67.
M., J959; стр. 281-314.
О ближайшем знакомстве Добролюбова со статьей Салтыкова свидетельствуют не
только некоторые характерные строки брошюры Добролюбова (например, ее
формулировки об особенностях отражения тех или иных явлений природы в лирике
Кольцова в гл. VI его биографического очерка (см. далее, примеч. 10), но и точные цитаты
из приложенных к статье Салтыкова воспоминаний Каткова о Кольцове (стр. 588—
589 наст, издания).
1 Стих из поэмы Пушкина «Полтава».
2 Перифраз строк о Ломоносове в замечаниях Пушкина о книге Радищева
«Путешествие из Петербурга в Москву».
3 Дата рождения Кольцова не 2-е, а 3 октября 1809 г.
k Кашкин, Дмитрий Антонович (1793—1862) — воронежский книгопродавец и
передовой общественный деятель. О его влиянии на литературное воспитание Кольцова
см. в кн.: М. Д е Пу л е. А. В. Кольцов. СПб., 1878, стр. 18—19; сводку
биографических данных см. в статье Ю. Г. Оксмана «А. В. Кольцов и тайное «Общество
независимых»».—Сб. Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к
«Запискам охотника» И. С. Тургенева. Саратов, 1959, стр. 188—194.
5 Точное название книги, подаренной Д. А. Кашкиным Кольцову: «Русская просодия,
или Правила, как писать русские стихи, с краткими замечаниями о разных родах
стихотворений». М., 1808; изд. 2. М., 1814.
6 Добролюбов цитирует письма Кольцова здесь и далее по статье Белинского,
приложенной к изданию «Стихотворения Кольцова». СПб., 1846.
7 Станкевич, Николай Владимирович, глава москов@кого литературно-философского
кружка, поэт, друг Белинского, родился не в 1809 г., как ошибочно отмечает
Добролюбов, а в 1813 г.; умер в 1840 г. О нем см. позднейшую статью Добролюбова,
опубликованную под названием «Николай Владимирович Станкевич» в
«Современнике» 1858, кн. IV, отд. «Критика», стр. 145—166. Подробнее о знакомстве Кольцова
со Станкевичем см. М. Барановская и Е. Хмелевская. Белинский и
Кольцов в переписке А. В. Станкевича и Я. М. Неверова с М. Ф. Де Пуле.— «Лит.
наследство», т. 56, 1950. стр. 280—300.
8 В сведениях о первых публикациях стихотворений Кольцова Добролюбов не точен,
повторяя фактические ошибки статьи Белинского. Впервые три стихотворения
Кольцова напечатаны были без имени автора, в книге «Листки из записной книжки
Василия Сухачева». М., 1830. О политической биографии В. И. Сухачева и о его
встречах в Воронеже с Кольцовым см.: Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки»
* к «Запискам охотника». Саратов, 1959, стр. 160—202.
9 Журнал «Московский наблюдатель» издавался Белинским не в 1832 (явная
опечатка), а в 1838 и 1839 гг.
10 Добролюбов пересказывает воспоминания M. H. Каткова о его встречах с
Кольцовым («Несколько дополнительных слов к характеристике Кольцова»),
опубликованные Катковым в приложениях к статье M. E. Салтыкова-Щедрпна о новом издании
«Стихотворений А. В. Кольцова» в 1856 г.
11 Эти строки Добролюбова непосредственно связаны со следующими заключениями
статьи M. E. Салтыкова о философии природы в лирике Кольцова: «Что природа
хороша — Кольцов чувствует это более, нежели кто-либо другой, потому что ей он
обязан лучшими, светлыми минутами своей жизни, она была его первою
наставницей, она воспитала в нем ту свежесть сердца, которая, в свою очередь, заставила
его симпатизировать всему доброму, прекрасному и истинному. Но, тем не менее,
он совершенно верно угадывает, что как бы ни была хороша природа, она все-таки
Литературные мелочи прошлого года
589
второстепенный член в искусстве, что все-таки прямым предметом искусства
должен быть человек. Поэтому-то рядом с успокаивающими картинами сельской
природы и жизни он вызывает иные картины, в которых эта же сельская жизнь
является уже не в столь привлекательных формах <...>. Знакомство с этими
картинами спасительно; оно не допускает нас расплываться в нашем стремлении к
дешевому примирению с жизнью; оно, как mémento mori, вечно стоит на страже
нашего чувства» («Лит. наследство», т. 67, 1959, стр. 306).
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЛОЧИ ПРОШЛОГО ГОДА (стр. 402—459)
Впервые опубликовано в «Современнике», 1859, № I (январь), отд. III, стр. 1—30
и № IV (апрель), отд. III, стр. 217—251, с подписью: — бов. Перепечатано в «Соч.
Н. А. Добролюбова», 1862, т. 2, стр. 393—458, с существенными дополнениями и
изменениями журнального текста, восходящими к доцензурным типографским гранкам
статьи. В основной своей части эти гранки сохранились и находятся ныне в
Пушкинском доме АН СССР. Автограф статьи неизвестен.
Первая часть статьи, посланная цензору 10 января 1859 г., разрешена была к
печати 12 января; вторая часть статьи, посылавшаяся в цензуру в три приема (28 марта,
29 марта, 1 апреля), подписана была к печати 2 апреля. Листы, в которых речь шла
о крестьянском вопросе, имеют дополнительное разрешение специального цензора
Министерства внутренних дел от 3 апреля 1859 г.
Печатается в настоящем издании.по тексту 1862 г., с учетом стилистической
правки, сделанной Добролюбовым в последней журнальной корректуре.
«Литературные мелочи прошлого года» — программная статья Добролюбова,
определившая с предельно возможной в цензурно-полицейских условиях этой поры
четкостью и полнотою позиции революционной демократии на новом этапе общественно-
политической и литературной борьбы. Этот новый этап резко обозначился в связи с
завершением в высшем государственном аппарате первой очереди подготовительных
мероприятий к крестьянской реформе, когда особенно обострился вопрос о формах и
размерах выкупа помещичьей земли, подлежащей передаче освобождаемым
крепостным.
Популяризируя взгляды на эту проблему Н. Г. Чернышевского и гневно
разоблачая носителей либеральных иллюзий, переоценивающих успехи реформистской
деятельности правительства и обслуживающей его печати, Добролюбов, как и его
учитель, отвергал самую идею выкупа и настаивал на безвозмездной передаче земли
крестьянам. Либеральное прекраснодушие и оппортунизм дворянско-буржуазной
общественности расценивалось руководителями «Современника» как серьезное
препятствие на пути к действительному освобождению.
Подчеркивая органическую враждебность интересам трудового народа печати
правящего класса, Добролюбов в «Литературных мелочах» утверждал, что «мысль о
помещичьих правах и выгодах так сильна во всем пишущем классе, что как бы ни
хотел человек, даже с особенными натяжками, перетянуть на сторону крестьян,
а всё — не дотянет» (см. выше, стр. 426). В связи с этим Добролюбов открыто выражал
свое презрительное отношение к так называемой «обличительной» литературе,
вызванной к жизни подъемом общественного движения в России после Крымской войны,
когда само правительство вынуждено было на некоторое время ослабить цензурный
террор. Добролюбов настаивал на том, что либеральное «обличительство» измельчало
и выродилось, подменяя подлинную борьбу за интересы народных масс, угнетаемых
самодержавно-помещичьим государством, разоблачением тех или иных частных
административных злоупотреблений.
590
Примечания
Бедность и односторонность идейного содержания обличительной беллетристикп
соединялись с ее художественной неполноценностью: «Противно раскрывать
журналы—все доносы на квартальных да на исправников,—однообразно и бездарно!» —
писал Некрасов Тургеневу 27 июля 1857 г. (Н. А. Некрасов. Поли. собр. соч. и
писем, т. X, 1952, стр. 355).
Либеральную публицистику этих лет отличало патетическое фразерство и
восторженное прославление «гласности», как основной движущей силы
общественно-политического прогресса. Антиреволюционная сущность тактики русского либерализма этой
поры особенно ярко выражена была в записи дневника А. В. Никитенко от 30 марта
1859 г.: «К конституционным формам можно идти постепенно, так, чтобы они
вырабатывались без шума и тревог, в последовательном развитии либеральных начал как в
общественном духе, так и в администрации. Например, пусть развивается гласность,
осуществится публично-словесное судопроизводство, устроится кассационный суд: это
вместе с освобождением крестьян образует уже значительные начатки нового порядка
вещей» (А. В. Никитенко. Дневник, т. II, 1955, стр. 81).
Признаьая известные заслуги писателей либерально-дворянского лагеря в
прошлом, в пору николаевской реакции, Добролюбов в статье «Литературные мелочи
прошлого года» впервые широко обосновал причины непонимания «людьми
сороковых годов» новых общественно-политических задач, их несочувствия революционно-
демократическим методам ликвидации крепостного строя, их органической
неспособности к новым формам борьбы. В условиях созревания революционной ситуации
представительство интересов подлинного прогресса и подлинной демократии
принадлежало, как доказывал Добролюбов, не жалким-эпигонам Белинского, а боевым
продолжателям его дела — людям «другого общественного типа», «молодому поколению», как
осторожно, обозначал великий критик в своей подцензурной статье революционную
демократию, материалистическую и социалистическую по своему воспитанию.
«Вместо всех туманных абстракций и признаков прошедших поколений,— заявлял
Добролюбов,—новые люди увидели в мире только человека, настоящего человека,
состоящего из плоти и крови, с его действительными, а не фантастическими
отношениями ко всему внешнему миру». И далее: «На первом плане всегда стоит у них
человек и его прямое, существенное благо; эта точка зрения отражается во всех их
поступках и суждениях. Сознание своего кровного, живого родства с человечеством,
полное разумение солидарности всех человеческих отношений между собою — вот те
внутренние возбудители, которые занимают у них место принципа. Их последняя
цель не совершенная, рабская верность отвлеченным высшим идеям, а принесение
возможно большей пользы человечеству» (см. выше, стр. 424).
Добролюбов предвидел возможность ложных толкований своей статьи, а потому
внес в нее специальную оговорку о том, что общая характеристика деградации
писателей и общественных деятелей сороковых годов никак не относится к тем немногим
представителям этого поколения, которые «всегда стояли в уровень с событиями» и
«доселе сохранили свежесть и молодость сил, доселе остались людьми будущего и
даже гораздо больше, нежели многие из действительно молодых людей нашего времени»
(см. выше, стр. 424—425).
Эти строки имели в виду прежде всего Герцена и Огарева — и тем не менее ре*
дактор «Колокола» не принял оговорок Добролюбова всерьез. В гневной статье «Very
dangerousü!» («Очень опасно!!!»), опубликованной в «Колоколе» от 1 июня 1859 г.
и имевшей подчеркнуто декларативный характер, Герцен обвинил вдохновителей
«Современника» в литературно-политической слепоте и бестактности: «Мы сами очень
хорошо видели промахи и ошибки обличительной литературы, неловкость первой
гласности,— писал Герцен.— Но что же тут удивительного, что люди, которых всю
жизнь грабили квартальные, судьи, губернаторы, слишком много говорят об этом
теперь. Они еще больше молчали об этом». _. --
Литературные мелочи прошлого года
591
Защищая «обличительную литературу» от нападок Добролюбова, Герцен полагал,
что автор «Литературных мелочей» и инициатор «Свистка» грубо недооценивает и
роль дворянской интеллигенции как в литературе, так и в общественно-политической
борьбе: «Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши,—
заключал Герцен свою статью,— забывают, что по этой скользкой дороге можно до-
свистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава
на шею!» (Герцен. Поли. собр. соч., т. XIV, 1958, стр. 116—121).
Оскорбительная для редакции в целом и для Добролюбова в особенности концовка
статьи предварялась еще более тяжким намеком на то, что выступления
«Современника» против «гласности» и «обличительства» (органом обличительной литературы был
ведь и «Колокол») диктуются воздействием на журнал руководителей только что
созданного секретного правительственного Комитета по делам книгопечатания.
Статья Герцена произвела сильнейшее впечатление.
«Сегодня в три часа утра,— отмечал Добролюбов 5 июня 1859 г. в своем
дневнике,— Некрасов, воротясь из клуба, сообщил мне, что Искандер в «Колоколе» напечатал
статью против «Современника» за то, что в нем предается поруганию священное имя
гласности <...>. Однако, хороши наши передовые люди! Успели уж пришибить в себе
чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких
бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе
сверху, под покровом законности. Я лично не очень убит неблаговолением Герцена, с
которым могу померяться, если на то пойдет, но Некрасов обеспокоен, говоря, что
это обстоятельство свяжет нам руки, так как значение Герцена для лучшей части
нашего общества очень сильно» (Н. А. Добролюбов. Поли. собр. соч., т. VI, 1939,
стр. 487—488).
Для того, чтобы немедленно ответить на обвинения Герцена, редакция
«Современника» прибегла к исключительной мере: в отпечатанном уже очередном номере
журнала из рецензии Добролюбова на сборник «Весна» вырезана была страница, вместо
которой вклеена была другая *, не имевшая прямого отношения к «Весне», но зато с
предельной четкостью определявшая отношение редакции «Современника» к
выступлению «Колокола»:
«Нас многие обвиняют,—писал Добролюбов,— что мы смеемся над обличительной
литературой и над самой гласностью; но мы никому не уступим в горячей любви к
обличению и гласности, и едва ли найдется кто-нибудь, кто желал бы придать им
более широкие размеры, чем мы желаем. Оттого-то ведь и смех наш происходит: мы
хотим более цельного и основательного образа действий, а нас потчуют какими-то
ребяческими выходками, да еще хотят, чтобы мы были довольны и восхищались. Мы
каждый день, чуть не каждый час, должны претерпевать следующую историю. Нужно
нам ехать из Петербурга в Москву; дорога известная, хлопот немного, и мы очень
спокойно собираемся в путь. У самого дебаркадера встречает нас услужливый
приятель, который тоже едет по железной дороге, и предлагает за нас похлопотать —
и билет взять и вещи отправить. И действительно, приятель все устраивает, мы
садимся в вагон, спрашиваем у приятеля билеты,— оказывается, что билеты взяты им
только до Колпина, и вещи тоже до Колпина отправлены. Зачем ты это сделал? —
спрашиваем его. Он вдруг делается недоволен, обижается и начинает толковать, что мы
любим скачки, хотим все делать вдруг, что ехавши в Москву, Колпино не миновать,
что нужно прежде всего думать о ближайшей цели, а потом уж, приехавши в
Колпино, заботиться о том, как ехать дальше. Разумеется, все это смешно слушать, когда
знаешь, как эти вещи обыкновенно делаются на железных дорогах. Но, по слабости
1 Факт этот установлен С. А. Рейсером в его книге «Летопись жизни и деятельности
Н. А. Добролюбова». М., 1953, стр. 216. Рецензия на литературный сборник «Весна»
опубликована в «Современнике», 1859, № VI. Цензурное разрешение номера —
12 июня 1859 г.
592
Примечания
характера, мы позволяем приятелю еще раз распорядиться нашими деньгами и взять
для нас билеты в Москву; а он пойдет да опять возьмет — до Любани. И опять
начнет ту же философию о постепенном по двиганий вперед. Да этак-то всю дорогу! <...>
Поневоле иной раз рассмеешься и поглумишься, хоть и невесело... А добрые люди из
этого бог знает, что выводят! Говорят, что мы пользы железных дорог не признаем,
в дружбу не веруем, промежуточные станции хотим уничтожить» (Н. А. Добр о-
л ю б о в. Поли. собр. соч., т. II, 1935, стр. 484).
Для скорейшей ликвидации обозначившегося конфликта и взаимной информации
руководители «Современника» немедленно направили в Лондон Н. Г. Чернышевского.
Непосредственным результатом его встречи с Герценом явилась заметка последнего
в «Колоколе» от 1 августа 1859 г.: «Объяснение статьи «Very dangerous!!!». Вслед за
тем в статье «Русская сатира в век Екатерины» («Современник», 1859, № X)
Добролюбов вновь вернулся к обоснованию своей точки зрения на задачи сатиры в условиях
борьбы с абсолютизмом и крепостничеством.
Очень характерно, что печать консервативного и умеренно-либерального лагеря
(«Русский вестник», «Московские ведомости», «Библиотека для чтения»,
«Отечественные записки» и др.), обрушившись на «Современник» из-за статей Добролюбова,
широко испо'льзовала, обычно без указания источника, аргументацию статьи Герцена
«Very dangerous!!!» Подробности полемики вокруг статей «Литературные мелочи
прошлого года» и «Very dangerous!!!» см.: Т. И. Усакина. Статья Герцена «Very
dangerous!!!» и полемика вокруг «обличительной литературы» в журналистике 1857—
1858 гг.— Сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М., 1960, стр. 246—
270.
Несмотря на то, что в силу цензурно-полицейских условий в легальную печать
не проникло ни одного положительного отклика на «Литературные мелочи
прошлого года», эта статья оказала и продолжала в течение нескольких лет оказывать
большое влияние на формирование революционной идеологии широких кругов
русской демократической общественности. Так, в бумагах Добролюбова сохранилось
письмо к нему от некоего С. Н. Федорова, сотрудника «Современника»,
проживавшего в это время в Оренбурге.
«Вашими «Мелочами литературы» Вы расшевелили взрослых младенцев,
спавших доселе сном праведников,— писал Федоров 31 мая 1859 г.— Оставить их на
произвол судьбы было бы грешно и непростительно. Они повернутся на другой бок и
опять-таки заснут. Они даже не совсем ясно сознают, зачем их разбудили. Им
просто досадно, что им спать мешают, а спалось сладко, хорошо спалось... И со сна они
еще плохо понимают: где был сон и где действительность... Прежде всего их надо
вытрезвить, а это ведь будет нелегко сделать, ибо очень заспались. От души желаю
вам достойно докончить начатое. Разбудить — Вы разбудили» (Н. А.
Добролюбов. Дневники. Изд. 2. 1932, стр. 257—268). В связи с этой же статьей Добролюбов
отметил в своем дневнике от 5 июня 1859 г., что его возмущение позицией
«Колокола» разделяют Н. Г. Чернышевский, И. М. Сорокин, В. А. Обручев и С. И. Сера-
ковский (Н. А. Добролюбов. Поли. собр. соч., т. VI, 1939, стр. 488).
1 Эпиграф взят из стихотворения Е. А. Баратынского «Признание» (1823).
2 Вольная передача четырех строк из стихотворения Пушкина «Демон» (1823).
3 Характеристика Мазепы в первой песне «Полтавы» Пушкина.
4 Вольная передача двух последних строк стихотворения Пушкина «Демон».
5 Начальные строки пародии Добролюбова на штампованные рассуждения
фразеров либерально-дворянского лагеря. См. об этой формуле в статье «Что такое
обломовщина?» (стр. 65) и 8-е примечание к ней.
6 Абзац этот отсутствует в первопечатном тексте статьи.
7 В 1в58 г. Добролюбов напечатал в «Современнике», № X и XI, статью о сочинении
Н. А. Жеребцова «История цивилизации в России» (на французском языке), в
которой резко критиковал славянофильские воззрения автора.
Литературные мелочи прошлого года
593
8 Добролюбов имеет в виду полемику по поводу антисемитской статьи
«Западнорусские жиды и их современное положение», напечатанной в журнале
«Иллюстрация» (1858, № 35), за подписью «Знакомый человек». Статья вызвала несколько
газетных откликов и печатный протест сперва 11, затем 48 и, наконец, еще 98
литераторов. В этой полемике Добролюбов усмотрел типичное для либеральной
публицистики пустое фразерство, направленное не против «умных и грамотных
негодяев», а против «малограмотного, плохо владеющего слогом писаки» (см. «Письмо из
провинции» в «Свистке», 1859, № 1).
9 Концовка первой песни «Поэтического искусства» Буало (1674).
10 «Северная пчела» — реакционная газета, руководимая Ф. В. Булгариным и Н. И.
Гречем. Основана в 1825 г.
11 «Весельчак» — «журнал всяких странностей, светских, литературных,
художественных и иных». Выходил с 1 февраля 1858 г. Бессодержательность журнала, его
беспредметное, пошлое зубоскальство привели к тому, что из-за отсутствия
подписчиков издание прекратилось в 1859 г. на № 7. Резко отрицательную
характеристику «Весельчака» Добролюбов дал в обзоре «Уличные листки»
(«Современник», 1858, № IX).
12 «Московский телеграф» — двухнедельный прогрессивный журнал, основанный
Н. А. Полевым в 1825 г. Добролюбов имеет в виду год восстания 14 декабря.
13 Называя два события — смерть Белинского (1848 г.) и прекращение издания
журнала «Москвитянин» (1856 г.), Добролюбов имеет в виду период самой жестокой
цензурно-полицейской реакции в России, после поражения революции 1848 г. в
Западной Европе.
14 Заключительная строка монолога Фамусова в д. II, явл. 2 комедии «Горе от ума».
хъ. Добролюбов имеет в виду известного экономиста В. А. Милютина, который в
1847 г. опубликовал статьи: «Пролетариат и пауперизм в Англии и во Франции»
(«Отеч. записки», № 1—4) и «Мальтус и его противники» («Современник»,
№ VIII—IX), проникнутые горячим сочувствием к трудовому народу. Для
публикаций Милютина после 1848 г. характерна его статья «Очерки русской
журналистики, преимущественно старой» («Современник», 1851, № I—III).
16 Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Беседа журналиста с подписчиком»
(1851), в котором он высмеял мелкотемность научных статей в русских журналах
этой иоры.
17 Строка из стихотворения Д. В. Давыдова «Современная песня» (1840).
18 «Свод законов» («Систематическое собрание законов, действующих в Российской
империи») издан был в 1832 г. и вступил в силу с 1 января 1835 г.
19 Точное название этого сочинения Булгарина: «Плач подъячего Панкратия
Фомича Тычкова над «Сводом законов»».
20 Добролюбов имеет в виду статью Н. И. Пирогова «Вопросы жизни» («Морской
сборник», 1856, № 7), в которой очень аргументированно был поставлен вопрос о
необходимости широкого общего образования и гуманного воспитания человека.
Статья Пирогова вызвала большой общественный резонанс. См. статью
Добролюбова «Несколько слов о воспитанип по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова»
(«Современник», 1857, № V. См. Н. А. Добролюбов. Поли. собр. соч., т. III
1936, стр. 13—29).
21 Произведения, названные Добролюбовым, принадлежат следующим авторам:
«История женского сердца» — А. И. Лихачеву («Современник», 1851, № II);
«Слабое сердце» — Ф. М. Достоевскому («Отеч. записки», 1848, № 2); «Беда от нежного
сердца» —В. А. Соллогубу («Отеч. записки», 1850, № 3); «Сердца с
перегородками» — А. Я. Марченко («Библ. для чтения», 1853, № 1); «Религиозно-языческое
значение избы славянина» — А. Н. Афанасьеву («Отеч. записки», 1851, № 6);
«Значение собственных имен: лютичи, вильцы и волчки» — Ф. И. Буслаеву
(«Временник Московского общества истории и древностей российских». М., 1851).
38 И. А. Добролюбов
594
Примечания
22 Точное название книги Н. П. Зуева: «Учебная книга всеобщей истории». СПб.,
1857.
23 Добролюбов имеет в виду Герцена и Огарева, которых не мог назвать прямо по
цензурным условиям.
24 Добролюбов намекает на В. П. Боткина, А. В. Дружинина и M. H. Лонгинова.
25 Характеризуя отношение «молодого поколения» к «вопросам жизни», Добролюбов
в настоящей статье, как и в других своих высказываниях на эти темы, считал
основой практической философии русской революционной демократии антрополсн
гический материализм Людвига Фейербаха. Именно Фейербаха он имел в виду,
говоря в рецензии на книжку В. Берви «Физиологическо-психологический
сравнительный взгляд на начало и конец жизни» (1858) о «лучших, наиболее смелых и
практических из учеников Гегеля» (Н. А. Добролюбов. Поли. собр. соч., т. III,
1936, стр. 344).
26 Строки от слов «Прежние молодые люди» до «ничего блестящего и
поразительного» из текста «Современника» были изъяты цензурой.
27 Страницы, заключенные Добролюбовым в кавычки (от слов «В настоящее время»
до «Каково же будет совершение!»), представляют собой частью цитацию, частью
пародический пересказ статей на общественно-политические темы в «Русском
вестнике», «Русском дневнике», «Журнале землевладельцев» и в других журналах
и газетах этой поры. Подробнее об этом см.: Н. Г. Леонтьев.
Добролюбов-пародист.— «Ученые записки Ленингр. ун-та», № 229, вып. 30. Л., 1957, стр. 130—131.
28 Строка из басни Крылова «Орел и пчела» (1813).
29 Гоголь. «Утро делового человека» (1836).
30 «Русская беседа» — ежемесячный журнал, орган славянофилов, издававшийся с
1856 по 1860 г., под редакцией А. И. Кошелева, при ближайшем участии И. С.
Аксакова. Выход первой книжки «Русской беседы» со статьями Ю. Ф. Самарина «Два
слова о народности в науке» и К. С. Аксакова «Еще несколько слов о русском
воззрении» возобновил споры славянофилов и либеральных западников. В полемику
включились «Русский вестник», «Отечественные записки», «Московские
ведомости» и «Молва». О позиции «Современника» в этом споре см. «Заметки о
журналах» Чернышевского за май 1856, за март и апрель 1857 г. (Н. Г. Черныше в-
ский. Поли. собр. соч., т. III и IV).
31 В 1856 г. в «Русской беседе» (№ 3—4) были опубликованы воспоминания о
Т. Н. Грановском профессора В. В. Григорьева «Тимофей Николаевич Грановский
до его профессорства в Москве». Эти воспоминания, в которых указывалось, что
Грановский был не столько настоящим ученым, сколько талантливым дилетан^
том — популяризатором, вызвали бурю негодования в передовой печати.
32 Добролюбов имеет в виду статью Н. X. Бунге «О современном направлении
русских университетов и о потребностях высшего образования» («Русский вестник»,
1858, № 4, кн. 1, стр. 311-330).
33 Статья буржуазно-либерального экономиста И. В. Вернадского «О внешней
торговле» была напечатана в «Русском вестнике», 1856, № 4. Книга апологета
помещичьей земельной собственности Л. Н. Тенгоборского «Etudes sur les forces
productives de la Russie». СПб., 1852—1855, была переведена на русский язык И. В.
Вернадским («О производительных силах России». М.— СПб., 1854—1858). В
примечаниях к переводу Вернадский полемизировал с Тенгоборским по ряду вопросов.
34 Ответ И. В. Вернадского «Еще о внешней торговле» напечатан в «Русском
вестнике», 1856, № 6, кн. 2, стр. 281—289.
35 Добролюбов имеет в виду «Губернские очерки» M. E. Салтыкова-Щедрина,
которые начали печататься в «Русском вестнике» в 1856 г. См. выше статью
Добролюбова о «Губернских очерках».
36 Статья эта, опубликованная в «Русском вестнике», 1857, № 6, кн. 1, называлась
«Два слова о полиции» и принадлежала С. С. Громеке. Добролюбов имеет в виду
Литературные мелочи прошлого года
595
его ссылку на газету «Le Nord», которая издавалась на средства русского
правительства в Брюсселе с 1855 г.
37 Добролюбов имеет в виду статью Н. Г. Чернышевского «Откупная система»,
опубликованную в «Современнике» под псевдонимом «Л. Панкратьев».
38 В. А. Кокорев (1817—1889)—известный откупщик, выступивший в пору
подготовки крестьянской реформы со статьями, в которых доказывал вред откупной
системы.
39 Статья публициста реакционно-дворянского лагеря Г. Б. Бланка (1811—1889)
«Русский помещичий крестьянин» была подвергнута острой критике в «Заметках
по поводу статьи Гр. Бланка», опубликованных В. П. Безобразовым в «Русском
вестнике», 1856, № 8, кн. 2.
40 Добролюбов имеет в виду цензурные условия.
41 Строка из поэмы Н. А. Некрасова «Саша» (1856).
42 «Печатная правда» — брошюра, написанная псевдонародным языком известным
крепостником князем С. П. Голицыным (СПб., 1858). А. И. Герцен назвал
«Печатную правду» — «лабазно-плантаторской книжонкой» (А. И. Герцен. Поли. собр.
соч., т. XIV, 1958, стр. 123).
43 Речь идет о статье Дмоховского «Об усадебном устройстве крестьян»,
напечатанной в «Русском вестнике», 1858, № 7, кн. 2.
44 Письмо в редакцию А. Власовского и статья А. А. Головачева «По поводу
вопроса об улучшении быта помещичьих крестьян» опубликованы в «Русском
вестнике», 1858, № 4, кн. 1, отдел «Современная летопись», стр. 282—285 и 251—268.
В журнальном тексте статьи Добролюбова опечатка, перешедшая во все издания
его сочинений (вместо № 4 указан № 7).
45 «Заметка на статью г. Головачева по поводу вопроса об улучшении быта
помещичьих крестьян» Н. Ланге («Русский вестник», 1858, № 7, кн. 2, стр. 135—140).
46 «Искра», 1859, № 12, стр. 117. Имеется в виду подпись под рисунком.
47 Разбор статьи А. А. Головачева за подписью «В. В.» (криптоним В. Г. Высотского)
помещен в «Журнале землевладельцев», 1858, № 6, стр. 3—19.
48 Речь идет о статьях С. С. Иванова «Поземельная собственность и общинное
владение» («Русский вестник», 1858, № 8, кн. 2) и «Личная зависимость крестьян и
устройство отношений их к помещикам» (там же, № 9, кн. 2).
49 См. примеч. 8.
50 Добролюбов приводит выдержку из статьи апологета крупного помещичьего
хозяйства Б. Н. Чичерина «О настоящем и будущем положении помещичьих
крестьян» («Атеней», 1858, № 8), не называя фамилии автора.
51 Славянофил кн. В. А. Черкасский в статье «Некоторые общие черты будущего
сельского управления» («Сельское благоустройство», 1858, № 9) предлагал
оставить за помещиками право подвергать телесным наказаниям уже
«освобожденных» крестьян.
52 Имеется в виду статья «Об улучшении быта помещичьих крестьян в Полтавской
губернии», подписанная псевдонимом «Полтавский Помещик».
53 «Вопросы по сельскому благоустройству» («Сельское благоустройство», 1858, № 1).
54 Добролюбов имеет в виду русский перевод польской книги графа В. Стройновско-
го «Об условиях помещиков с крестьянами» (1809), в которой он высказывался
за освобождение крестьян без земли с последующим заключением между ними
и помещиками арендных договоров на землю.
55 Добролюбов имеет в виду «Записку об освобождении крестьян в России» К. Д.
Кавелина (1855). Первые две главы ее первой части были опубликованы в 1856 г. в
третьей книжке «Голосов из России», издававшихся в Лондоне Герценом.
Извлечения из «Записки» были напечатаны Чернышевским в статье «О новых условиях
сельского быта» («Современник», 1858, № IV).
и Речь идет о программной статье Н. Г. Чернышевского «Критика философских
предубеждений против общинного владения» («Современник», 1858, № XII).
38*
596
Примечания
57 Статья К. Д. Кавелина «Взгляд на русскую сельскую общину» была
опубликована в журнале «Атеней», 1859, № 2.
68 Намек на статью Н. И. Пирогова «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии
других детей?» («Одесский вестник», от 15 апреля 1858 г.).
59 Добролюбов цитирует статью известного педагога Г. Я. Аппельрота «Образование
женщин среднего и высшего состояния» («Отечественные записки», 1858, № 2,
стр. 653—690).
60 Добролюбов имеет в виду статьи проф. С. В. Ешевского «Курс всеобщей истории
В. Шульгина» («Атеней». 1858, № 38) и «Современные вопросы» неизвестного
автора («Журнал для воспитания», 1858, № 2).
61 В апрельской книжке «Современника» 1858 г., где было напечатано окончание
статьи «Литературные мелочи прошлого года», появился второй номер «Свистка»,
содержавший язвительные выпады Добролюбова против мелочного обличитель-
ства и превознесения «гласности».
62 Рецензия Добролюбова на комедию H. M. Львова «Предубеждение, или не место
красит человека, а человек место», опубликована была в «Современнике», 1858,
№ VII.
63 Надимов — герой «обличительной» комедии гр. В. А. Соллогуба «Чиновник».
64 Добролюбов имеет в виду следующие произведения: А. Ф. Вельтман,
«Исторический взгляд на крепостное состояние в России» («Журнал землевладельцев», 1858,
№ 1); М. И. Сухомлинов, «О сочинениях Кирилла Туровского» (СПб., 1858); И. Д.
Беляев, «О наследстве без завещания по древним русским законам до Уложения
Алексея Михайловича» (СПб., 1858); В. Н. Лешков, «Русский народ и
государство» (М., 1858); статью С. М. Соловьева об «Истории царствования Петра
Великого» Н. Устрялова («Атеней», 1858, № 27—28); И. В. Вернадский, «Очерк истории
политической экономии» (СПб., 1858); А. Пальховский, «Еще о женском труде»
(«Атеней», 1858, № 24); С. С. Куторга, «Естественная история земной коры» (СПб.,
1858); В. Ф. Берви, «Физиологически-психологический взгляд на начало и конец
жизни» (Казань, 1858).
65 Добролюбов цитирует статьи Е. Корша в журнале «Атеней», 1858, № 1; 1859, № 4.
66 Добролюбов имеет в виду рецензию за подписью «С. Р.» в «Русском вестнике»,
1858 (№ X, кн. 2) на роман А. Ф. Писемского «Тысяча душ».
67 См. выше примеч. 8.
ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА (стр. 460-495)
Инициатива в собирании и издании переписки Добролюбова принадлежит Н. Г.
Чернышевскому. В 1861—1862 гг. он собрал много писем, включив их в свою книгу
«Материалы для биографии Добролюбова» (т. 1. М., 1890). Значительная часть
писем осталась, однако, за пределами книги К Из других дореволюционных
публикаций наиболее значительна работа В. Н. Княжнина «Добролюбов и Славутинский в
их переписке» («Огни», кн. 1. Пг., 1916, стр. 19—82).
После революции интерес к эпистолярному наследию Добролюбова значительно
возрос. Большую ценность представляет изданная Н. К. Пиксановым в 1925 г.
«Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А. С. Зеленым». В 1934 г.
Вс. И. Срезневский опубликовал переписку Добролюбова с И. И. Срезневским
(«Звенья», III—IV, стр. 520—551). Там же Г. В. Прохоров напечатал два письма
Добролюбова к Д. Ф. Щеглову. Несколько писем Добролюбова было опубликовано в
* Обзор переписки Добролюбова сделал В. Н. Княжнин: «Архив Н. А. Добролюбова,
принадлежащий Пушкинскому дому. Описание». («Временник Пушкинского
дома». СПб, 1913, стр. 1—77).
Избранные письма
597
1936 г. в связи со 100-летием со дня рождения великого критика: «Переписка Н. А.
Добролюбова с А. А. Чумиковым и И. И. Паульсоном» (публикация К. Григорьяна)
и «Переписка Н. А. Добролюбова с И. А. Панаевым» (публикация С. Рейсера) 1 и
др. Ряд писем Добролюбова напечатал С. Рейсер в «Литературном наследстве» (т. 67,
1959, стр. 270—276). В 1960 г. В. П. Вильчинский опубликовал «Неизвестные записки
Н. А. Добролюбова к М. Л. Михайлову (из архива А. Д. Галахова)» 2.
Многие письма Добролюбова до сих пор не найдены, в том числе к Н. Г.
Чернышевскому, Н. А. Некрасову, В. А. Обручеву, Марко Вовчок, А. Н. Плещееву и др.
Для настоящего издания отобраны наиболее значительные письма
Добролюбова, важные для характеристики его общественных и литературных взглядов и
отношений. Вновь проведена сверка текста по рукописям, в результате которой
устранены неточности прежних публикаций3.
1
Турчанинов, Николай Петрович (умер 16 апреля 1860 г.) —студент Главного
педагогического института, филолог, уроженец Саратова. В 1856 г. он* познакомил
Добролюбова с Н. Г. Чернышевским. Письма Турчанинова к Добролюбову
опубликованы в «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова» (М., 1890) и в «Литературном
наследстве» (т. 25—26, 1936, стр. 343—345).
1 Оставшиеся во время каникул в Петербурге студенты Главного педагогического
института: М. И. Шемановский, В. Львов, К. П. Буренин, Б. И. Сциборский.
2 Студенты, окончившие институт, получали знание старшего или младшего учителя.
3 Игра слов: la comtesse (франц.) — графиня, а фамилия студента, о котором
говорится в письме,— М. А. Лакомте, впоследствии преподаватель Саратовской и
Московской гимназий.
4 Рецензия Добролюбова «Акт девятого выпуска студентов Главного
педагогического института 21 июня 1856 г.» опубликована в «Современнике», 1856, № VIII.
5 Статья Н. Г. Чернышевского «Стихотворения графини Е. П. Ростопчиной»
впервые опубликована в «Современнике», 1856, № III.
6 В. Н. Бекетов, цензор «Современника».
7 И. И. Давыдов, директор Главного педагогического института. Бюрократ и
казнокрад, Давыдов всячески притеснял студентов (особенно принадлежавших к
кружку Добролюбова), давших ему презрительную кличку «Ванька». Впоследствии
Добролюбов напечатал в «Колоколе» (1858 г.) памфлет «Партизан И. И. Давыдов во
время Крымской войны».
8 Г. А. Щербатов, попечитель С.-Петербургского учебного округа и председатель
Петербургского цензурного комитета.
9 Добролюбов, возглавлявший борьбу студентов против реакционных преподавателей
и администрации института, в частности против Давыдова, сознался, что это
письмо было написано им.
10 А. С. Норов, министр народного просвещения с 1854 по 1858 г.
11 Инспектором института был А. И. Тихомандрицкий, математик, впоследствии
проф. Киевского университета. Андрей Иванович Смирнов — ученый секретарь
1 «Литературное наследство», т. 25—26. М., 1936, стр. 249—266.
2 «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», т. XIX, вып. 5.
М., 1960, стр. 421.
3 Более полно письма Добролюбова см. в томе 9 нового издания сочинений
Добролюбова. Библиографию писем Добролюбова см.: «История русской литературы
XIX в. Библиографический указатель под ред. К. Д. Муратовой». М.— Лм 1962
стр. 292-293.
598
Примечания
института. Ф. Л. Ильин — отставной штабс-капитан, эконом института, он же
экзекутор.
12 Автором письма к издателю газеты «С.-Петербургские ведомости» был Добролюбов.
13 А. А. Фишер, профессор философии Главного педагогического института.
14 H. M. Благовещенский, историк римской словесности, профессор Главного
педагогического института, покровительствовавший Добролюбову.
15 Князь П. А. Вяземский был в 1855—1856 гг. товарищем министра народного
просвещения.
16 Михаил Лакомте надеялся, что его пошлют за границу для подготовки к
профессорскому званию.
17 К. Гетлинг был назначен в Ревельскую гимназию «учителем наук».
13 Э. Р. Вреден после окончания института преподавал историю и статистику в По*
лоцком кадетском корпусе. В 1865 г. защитил магистерскую диссертацию.
С 1866 г. читал курс политической экономии и статистики в Петербургском
университете.
19 Бароном Розеном Добролюбов в шутку назвал студента Евграфа Розина, который
после окончания института (в 1856 г.) уехал за границу для «усовершенствования
в науках».
20 «Историческая кобыла» — студент М. С. Кобылин. В «Опытах трудов
воспитанников Главного педагогического института» он поместил статью «Биография кн.
А. Д. Меышикова». Получил назначение в Белоцерковскую гимназию, но
преподавал во 2-й и 3-й Петербургских гимназиях, а вскоре занял должность
надзирателя в Главном педагогическом институте.
21 А. И. Чистяков окончил институт с золотой медалью, а назначение получил лишь
через год в 4-ю Петербургскую Ларинскую гимназию учителем латинского
языка. В «Опытах трудов воспитанников Главного педагогического института»
Чистяков напечатал статью по латинской словесности «Анализ речи pro lege Mani-
lia, s. de imperatore Pompejo deligendo».
22 И. И. Срезневский, проф. Петербургского университета и Главного
педагогического института; с 1849 г. академик; земляк и покровитель Добролюбова в его
студенческие годы.
23 Повести А. И. Герцена и M. E. Салтыкова.
24 И. И. Паржницкий и Н. Михайловский, бывшие студенты Петербургской медико-
хирургической академии, находившиеся в административной ссылке в Финляндии.
25 Кошкин — студент, сведения о котором в литературе отсутствуют.
26 М. И. Шемановский давал уроки сыну А. Я. Малоземова, чиновника министерства
финансов.
27 Д. Ф. Щеглов, однокурсник Добролюбова по институту,, впоследствии педагог и
писатель, автор реакционной «Истории социальных систем» (1889).
28 Н. И. Зуев, автор учебников по географии и картографии.
29 Августин Янковский и Каллистрат Янцевич — однокурсники Добролюбова по ин-»
ституту.
30 «Дело» Александровича неизвестно. В 1857 г. он был направлен учителем
русского языка в Варшавский учебный округ.
81 Г. М. Сидоров вынужден был перейти в Петербургский университет.
32 И. И. Срезневский снимал квартиру у домовладельца И. Ф. Добролюбова. Он не
был родственником Н. А. Добролюбова.
33 В стихотворении гр. Ростопчиной «Насильный брак» (1846) современники
увидели прозрачный намек на закабаление царизмом Польши. «Русскому царю»
Добролюбов, вероятно, называет стихотворение П. Л. Лаврова «Новому царю» (1856).
34 Ответ в стихах митрополита Филарета на атеистическое стихотворение Пушкина
«Дар напрасный, дар случайный» (1828) начинался строкой «Не напрасно, не
случайно».
Избранные письма
599
в5 А. Ф. Тюрин, брат жены И. И. Срезневского, юрисконсульт при обер-прокуроре
синода, позже сенатор; собиратель народных песен, автор исторических статей.
86 П. И. Савваитов, археолог и историк древней литературы.
37 По-видимому, M. H. Островский, брат драматурга, впоследствии министр.
38 В. И. Ламанский, славист, профессор Петербургского университета, впоследствии
академик.
39 П. П. Пекарский, ставший позднее академиком, и И. И. Шишкин (вскоре
умерший) готовились тогда к ученой деятельности в области древней русской
литературы и в связи с этим, посещали своего учителя А. Н. Пыпина, жившего вместе
с Чернышевским.
40 Добролюбов передает отзыв Чернышевского о Герцене, о его книге «Du
Développement des idées révolutionnaires» и о 2-м номере «Колокола».
41 Н. А. Северцов, впоследствии известный ученый, основоположник зоогеографии
в России, «...другой брат» — вероятно, А. А. Северцов — автор статьи «Сельская
община в России», напечатанной в «Современнике» 1856 г. t
42 Статья Добролюбова «Собеседник любителей российского слова» появилась в
«Современнике», 1856, № VIII, IX).
43 Статья историка С. М. Соловьева «Русская промышленность и торговля в XVI в.»
появилась в «Современнике», 1857, № I.
44 В «Современнике», 1856, № VIII, были напечатаны стихотворения Н. А.
Некрасова «Секрет», «Сознание», «Как ты кротка, как ты послушна»; статья
Чернышевского «Статистическое описание Киевской губернии, изд. И. Фундуклеем»;
рецензия Чернышевского на «Стихотворения Н. Огарева» появилась в «Современнике»,
1856, № IX.
45 А. Н. Пыпин был в это время в Саратове у родных.
46 Р. С. Васильев, студент Петербургской медико-хирургической академии, брат
жены Чернышевского, на каникулы уехал в Саратов.
47 В. Г. Михалевский, студент юридического факультета Петербургского
университета, учившийся вместе с Турчаниновым в Саратовской гимназии, в которой
преподавал Н. Г. Чернышевский. После окончания университета в 1857 г. препода-
вал в Новгородском кадетском корпусе. В 1862 г. принимал участие в
землевольческих петербургских кружках.
48 В. И. Дурасов, чиновник, саратовец, знакомый Чернышевского.
49 В. И. Кельсиев, вольнослушатель Петербургского университета, впоследствии
деятель революционного движения.
50 Д. В. Аверкиев, студент Петербургского университета, впоследствии драматург,
беллетрист и критик консервативного лагеря.
51 И. М. Сорокин, воспитанник Саратовской гимназии, в 1856 г. окончил
Петербургскую медико-хирургическую академию, впоследствии видный ученый.
52 И. И. Бордюгов, студент Главного педагогического института. О нем см. примеч.
к письму 6.
53 В. П. Турчанинов, младший брат Николая Петровича, готовился к поступлению в
Петербургский университет.
54 Добролюбов писал студенческую работу «О древнеславянском переводе хроники
Георгия Амартола», византийского историка второй половины IX в.
Валериан Викторович Лаврский — товарищ Добролюбова по Нижегородской ду-*
ховной семинарии.
1 Свидание это произошло в Нижнем Новгороде во время каникул 1854 г.
2 6 августа 1854 г. скончался отец Добролюбова.
3 Цитата из поэмы Некрасова «Саша».
600
Примечания
4 А. Е. Востоков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии.
5 «Православный собеседник» — журнал, издавался при Казанской духовной
академии.
6 Паисий (Петр Лукич Понятовский), иеромонах, инспектор Нижегородской
духовной семинарии; Иеремия (Иродион Иванович Соловьев), епископ нижегородский
с 1850 до 1857 г,
7 В. И. Соколов, нижегородский семинарист.
3
Об И. И. Срезневском см. примеч. 22 к письму 1.
1 Добролюбов после «дня акта» (т. е. официального дня выпуска из института)
поехал в Нижний Новгород навестить своих родных.
2 Диссертация Б. Н. Чичерина «Областные учреждения России в XVII в.» (М., 1857).
3 «Волга реченька глубока» — популярная песня. Напечатана впервые в журнале
«Чтение для вкуса...» (М., 1793, ч. X) с примечанием, что сочинена «благородной
женщиной, живущей на Волге» (см. «Песни русских поэтов» под ред. И. Н.
Розанова, Л., 1936, стр. 85).
4 В. И. Даль, известный лексикограф, этнограф и беллетрист, с 1849 по 1859 г.
занимал должность управляющего Нижегородской удельной конторой.
5 По субботам у И. И. Срезневского собирались его близкие, литераторы и ученые.
6 Жена И. И. Срезневского.
7 Говорится в шутку о четырехлетней дочери Срезневских.
4
Михаил Иванович Шемановский (1836—1865) — близкий друг Добролюбова,
товарищ его по Педагогическому институту; учитель математики в Ковеяской,
Вятской и Московской 2-й гимназиях. Составил воспоминания о Добролюбове (см.
«Литературное наследство», т. 25—26,1936, стр. 271—298). Его письма к Добролюбову
опубликованы в «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова» (М., 1890) и в журнале
«Литературный критик» (1936, № 2). О Шемановском см.: «Акт в Московской 2-й
гимназии» («Современная летопись. Воскресные прибавления к «Московским
ведомостям»», 1866, № 24, 17 июля); С. Гуревич. Историческая записка о 50-летии
Московской 2-й гимназии. М., 1889, стр. 231.
1 Персонаж из комедии Гоголя «Ревизор».
2 Бордюгов жил и работал в Москве.
3 И. И. Паржницкий вместе с Добролюбовым поступил в Главный педагогический
институт. После столкновения с И. И. Давыдовым на 1-м курсе он перешел в
Медико-хирургическую академию. В 1856 г. за коллективную жалобу царю на
президента академии В. В. Пеликана некоторые студенты, в том числе и Паржницкий,
были сосланы в Финляндию, в Тав'кстгус. После Паржницкий поступил в
Казанский университет, но и оттуда вскоре был исключен за участие в студенческих
волнениях в 1857 г. Жил в Москве, занимаясь переводами медицинских книг.
Позже уехал в Берлин. Его письма к Добролюбову опубликованы С. А. Рейсером в
«Литературном наследстве», т. 25—26, 1936, стр. 331—339.
4 Иван Александрович Сахаров — директор 1-й Казанской гимназии.
5 Барон М. А. Корф, член Государственного совета, придворный историк, автор
рецензированной Добролюбовым книги «Восшествие на престол императора Николая I».
6 Речь идет о А. И. Герцене, который в 1835—1837 гг. находился в вятской ссылке.
7 Добролюбов некоторые свои произведения подписывал псевдонимом «Н. Турчинов»
и «Н. Александрович».
Избранные письма
601
5
1 Разоблачению откупных махинаций В. А. Кокорева была посвящена в
«Современнике», 1859, № III, статья В. А. Федоровского. Статья Жадовского не появилась в
журнале (вероятно, не была написана).
2 Кокорев возражал Федоровскому серией статей «Обличительное дело»,
напечатанных в «С.-Петербургских ведомостях», 1859, № 79, 104, 120, 129. Там же появилось
и «Письмо в редакцию» В. П. (№ 92, 1 мая).
3 «Slowo» — польская газета, издававшаяся в Петербурге Иосафатом Огрызко в 1859 г.
4 Кн. М. Д. Горчаков, генерал-адъютант; в 1856—1861 гг, наместник Царства
Польского.
5 Собрание польских и литовских законов.
6 М. В. Сапоровский после окончания Главного педагогического института в 1856 г.
был направлен преподавателем русского языка в Вятскую гимназию, где в это
время преподавал М. И. Шемановский.
6
Иван Иванович Бордюгов (1834—1888) — ближайший друг Добролюбова по
Педагогическому институту; в 1857—1870 гг. преподавал химию в Московской 3-й
гимназии; с 1873 г. директор Иваново-Вознесенского реального училища. Его письма к
Добролюбову см. в «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова» (М., 1890).
Воспоминания Я. И. Вейнберга о Бордюгове см. в книге: «Краткий исторический очерк
пятидесятилетия Московской 3-й гимназии. Составил Петр Виноградов». М., 1889,
стр. 25—27.
1 После протеста французского императора против статьи Н. Ф. Павлова в
«Русском вестнике» критика Наполеона III в печати этого периода не допускалась. Ср.
запись в~дневнике Добролюбова: Поли. собр. соч., т. 6. М., 1939, стр. 656.
2 В газете «С.-Петербургские ведомости» от 30 августа 1859 г. был напечатан очерк
«Воспоминание о «Городке»» (подпись: Ср. Пр...—ъ), в которой в духе добролюбов-
ского «Свистка» резко критиковался обломовский быт провинциального волжского
городка.
3 Цензор К. С. Оберт был уволен за пропуск рецензии Добролюбова на книгу
«Краткое историческое обозрение действий Главного Педагогического института, 1828—
1859». СПб, 1859.
4 «Полицмейстер Бубенчиков» — роман М. А. Филиппова, превратившийся после
значительных сокращений по требованию цензуры в небольшую повесть,
напечатанную в «Современнике» 1859, № XI.
5 Эту газету Некрасов предполагал издавать совместно с Добролюбовым, но не
получил на нее разрешения. Впоследствии «Свисток» печатался в качестве
приложения к «Современнику».
6 Брошюра «опытных и образованных докторов» осмеяна была в «Частных
объявлениях» журнала «Искра» от 21 августа 1859 г, № 32.
7 «Историческая библиотека» печаталась в качестве приложения к «Современнику».
8 Перевод книги Э. Бонмера «Histoire des paysans» (1856) в приложении к «Совре*
меннику» не появился.
5 Стихотворение Я. П. Полонского «Одному из детей в Париже» (1859) увидело свет
лишь в 1885 г.
10 Н. И. Дмитриевский, правитель канцелярии рязанского губернатора, где
служил и С. Т. Славутинскип, друг Добролюбова и Бордюгова.
11 Жена А. О. Армфельда, профессора Московского университета, в семье которого
жил в это время Бордюгов.
39 Н. А. Добролюбов
602
Примечания
7
1 «Еще любви безумно сердце просит» —первая строка элегии Н. П. Огарева (1844).
2 Стих из «Думы» Лермонтова (1838).
3 К. П. Буренин — математик, товарищ Добролюбова по Педагогическому институту.
4 Статья Д. И. Иловайского «Екатерина Романовна Дашкова» была напечатана в
«Отечественных записках», 1859, № 9—12. Статья Герцена о Е. Р. Дашковой
появилась в «Полярной звезде на 1857 г.».
5 Серия статей В. П. Безобразова «Поземельный кредит и его современная
организация в Европе».
6 Статья «О каторжниках» опубликована в «Современнике», 1860, № I, под
названием «Уголовные преступники». Автором ее был Г. 3. Елисеев.
7 Едкая рецензия Добролюбова на книгу А. И. Смирнова (см. о нем примеч. И к
письму 1) «Краткое историческое обозрение действий Главного педагогического
института, 1828—1859 г.» СПб. 1859. («Современник», 1859, № VIII).
8 Инспектор Педагогического института Александр Никитич Тихомандрицкий.
9 Стихотворения А. Н. Апухтина «Песни» и «Селенье» были напечатаны в
«Современнике» (1859, № 9) с цензурными пропусками.
10 Политические обозрения (раздел «Политика») вед Чернышевский, который в № 9
коснулся вопроса о реформах в Австрии.
8
Александр Петрович Златовратский — студент Главного педагогического
института, дядя писателя-народника H. H. Златовратского (см. его «Из воспоминаний о
Н. А. Добролюбове» в «Юбилейном сборнике Литфонда». СПб., 1909, стр. 461—473);
был учителем в Рязанской гимназии. Его письма к Добролюбову см. в «Материалах
для биографии Н. А. Добролюбова» (М., 1890).
1 О повести М. А. Филиппова «Полицмейстер Бубенчиков» см. примеч. 4 к письму 6.
2 См. примеч. 3 к письму 6.
* См. примеч. 1 к письму 6.
4 Война Австрии с Францией и Сардинским королевством началась 29 апреля 1859 г.,
а закончилась И июля того же года подписанием Виллафранского договора.
В «Русском инвалиде» ему были посвящены два «Общих обозрения» (1859, № 154,
155), в которых высказывались критические замечания по адресу Наполеона III.
6 Очевидно, речь идет о статье Добролюбова «О распространении трезвости в
России» («Современник», 1859, № IX).
6 См. примеч. 1 к письму 5.
7 См. примеч. 6 к письму 7.
6 В. П. Бутков, статс-секретарь, управляющий делами Кавказского и Сибирского
комитетов.
9 Инспектор Казанской духовной академии, член комитета духовной цензуры
архимандрит Феодор.
10 Речь идет о М. А. Корфе. См. о нем письмо 4, примеч. 4.
11 Е. П. Ковалевский — министр народного просвещения в 1858—1861 гг.
9
Степан Тимофеевич Славутинский (1825—1884) — писатель и публицист,
сотрудник «Современника»; в пятидесятых годах чиновник особых поручений при рязан*
ском губернаторе.
Избранные письма
603
1 В письме к Добролюбову от 19 февраля 1860 г. Славутинский сообщал, что ученик
IV класса 1-й Московской гимназии болгарин Константинов удавился, так как с
ним плохо обращалась администрация гимназии.
2 Граф В. Н. Панин, крайний крепостник, после смерти Я. И. Ростовцева был
казначеи председателем редакционных комиссий, ведавших подготовкой
крестьянской реформы.
8 Ссылка А. М. Унковского и А. И. Европеуса, близких друзей Салтыкова-Щедрина,
была вызвана их участием в оппозиции группы тверских либеральных деятелей,
выступавших за освобождение крестьян с землей.
4 И. Г. Бибиков, бывший виленский военный генерал-губернатор, 19 февраля 1860 г.
был вновь назначен на эту должность.
5 Имеются в виду аресты в связи с раскрытием тайного революционного
студенческого общества в Харьковском и Киевском университетах, члены которого налади-*
ли связь с Герценом.
6 П. В. Павлов, историк и общественный деятель, профессор Киевского (1847—1861),
а затем Петербургского университета, в 1860 г. был арестован, но вскоре освобожу
ден. 6 марта 1862 г. он был вновь арестован и сослан в Ветлугу за речь о
тысячелетии России.
7 Н. В. Медем был председателем петербургского цензурного комитета с 1860 г. по
1862 г.
8 Густав Молинари, бельгийский буржуазный экономист, сотрудник «Русского
вестника» и «Московских ведомостей». В это время выступал с публичными лекция-»
ми в Москве.
9 Н. В. Елагин был чиновником Главного управления цензуры.
10 Речь идет о цензоре Ф. И. Рахманинове.
11 Статья Добролюбова «Заграничные прения о положении русского духовенства»
напечатана в «Современнике», 1860, № III.
12 «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами».
13 Рецензия «Новая повесть г. Тургенева» (о «Накануне»).—«Современник», 1860,
№ III. См. комментарии на стр. 577—582 наст. изд.
14 «Повести и рассказы С. Т. Славутинского («Современник», 1860, № II).
15 Статья «Луч света в темном царстве» была напечатана в «Современнике», 1860,
№ X, а рецензии на два последние произведения не появлялись.
10
1 С. С. Громека, умеренно-либеральный публицист, сотрудник «Отечественных запи*
сок» и «Русского вестника». Впоследствии седлецкий губернатор.
2 Е. М. Феоктистов, историк и публицист, сотрудник «Русского вестника», впослед-
ствии начальник главного управления по делам печати.
3 П. М. Леонтьев, профессор классических древностей в Московском университете;
реакционный публицист; ближайший помощник Каткова в редакциях «Русского
вестника» и «Московских ведомостей».
4 С. А. Рачинский, публицист катковской ориентации, профессор ботаники
Московского университета, в 1859 г. опубликовал магистерскую диссертацию «О
движении высших растений».
5 Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Деревенский сторож в полночь».
6 Я. И. Ростовцев (1803—1860), генерал-адъютант, выдвинулся благодаря доносу на
декабристов, со многими из которых был близок; с 1859 г. председатель
редакционных комиссий по подготовке крестьянской реформы.
7 Газета Н. Ф. Павлова, издававшаяся в Москве.
8 В газете «Одесский вестник>\ J860, № 2.
9 Статья «Когда же придет настоящий день?»
39*
604
Примечания
11
1 См. примеч. 5 к письму 9.
2 См. об этом примеч. 6 к письму 9.
3 Фамилия этого серба не установлена.
4 Писатель-этнограф П. И. Якушкин был незаконно арестован псковской полицией
в 1859 г., но вскоре освобожден и даже получил право выступить с
разоблачительной статьей. Благонамеренная печать использовала этот факт для прославления
правительственного либерализма.
5 В конце 1861 г. в приложении к «Современнику» появились переведенный
Чернышевским труд Д. С. Милля «Основания политической экономии с некоторыми из их
применений к общественной философии» и обзор Е. П. Карновича «Исторические
и статистические сведения о существующих ныне государствах».
12
1 Яков Карлович Грот, историк литературы и лингвист; с 1856 г. академик.
13
1 Авдотья Яковлевна Панаева.
2 В июльском номере «Современник» были напечатаны: повесть «Проблески счастья»
и «Жизнь Гарибальди» Е. П. Карновича.
3 Dumas-père, Alexandre. Mémoires de Giuseppe Garibaldi, précédés d'un discours par
Victor Eu go.
4 G июня по октябрь 1860 г. «Современник» выходил без «Внутреннего обозрения»
Славутинского.
5 Статья Г. 3. Елисеева (псевдоним: «Грыцко») — «Участие общины в суде по
«Русской правде» — была напечатана в «Архиве исторических и практических
сведений о России», т. V, 1860.
6 Комедия С. Н. Федорова «Не все коту масляница» появилась в «Современнике»
. 1860 г., № VIII.
7 И. А. Панаев, родственник редактора «Современника» И. И. Панаева, заведовал с
1856 г. конторой «Современника».
8 Дядя Добролюбова.
9 К. К. Случевский, поэт.
10 С. И. Сераковский, деятель польского революционного движения, сотрудник
«Современника».
11 Джон Брайт, английский политич. деятель, лидер либералов, член парламента, а
затем министр торговли.
12 H. H. Обручев, профессор военной академии в Петербурге; ближайший друг
Чернышевского и Добролюбова; в это время был в заираиачной командировке, с
Добролюбовым встречался в Париже. Письма Обручева к Добролюбову
опубликованы В. Княжниным в журнале «Заветы», 1913, № 2, стр. 86—93.
14
Константин Дмитриевич Кавелин (1818—1885) — известный историк и
публицист либерального лагеря. В годы своей молодости принадлежал к кружку
Белинского.
1 Ю. Ю. Беркгольц (псевдоним: Юрий Летгола) — публицист пятидесятых-шести-
десятых гг., сотрудник «С.-Петербургских ведомостей».
Избранные письма
605
2 В. В. Стасов, критик и историк искусства.
3 Кавелин предложил Добролюбову пари, утверждая, что освобождение крестьян
последует в течение 1860 г.
4 Кавелин был одним из издателей либерального журнала «Век».
5 Созданное в конце 1859 г. общество для вспоможения нуждающимся литераторам
и ученым.
г Добролюбов сравнивает установки лекций Кавелина со славянофильским
направлением журнала «Русская беседа» и либеральными разглагольствованиями
Е. И. Ламанского.
7 От англ. gentry — мелкопоместное дворянство в Англии.
8 Б. И. Утин, юрист, профессор Петербургского университета.
9 Н. А. Милютин, товарищ министра внутренних дел, фактический руководитель
подготовительных работ по проведению крестьянской реформы 1861 г.
10 Князь В. А. Черкасский, общественный и государствеппый деятель
славянофильского лагеря.
11 Б. Ф. Залесский, член редакционных комиссий по крестьянскому делу.
12 В. Д. Спасович, публицист и общественный деятель; в 1857—186J гг. преподавал
в Петербургском университете; с 1864 г. адвокат.
15 Дочь Кавелина, в замужестве Брюллова (1851—1877), историк.
14 Н. О. Жеребцов, автор книги «История цивилизации в России» (Париж, 1857),
носившей отпечаток славянофильских идей и вызвавшей резкий отзыв Добролюбова.
15 Добролюбов объединил в этом перечне имена некоторых влиятельных
представителей государственного аппарата и придворной аристократии. Таковы: кн. А. Ф.
Голицын, председатель Комиссии «прошений, подаваемых на высочайшее имя»;
кн. С. Н. Урусов — член главного управления цензуры; генерал-майор А. Л. Тима-
шев-Беринг, бывший московский обер-полицмейстер; В. В. Скрипицын, отставной
директор департамента иностранных исповеданий и др.
16 Добролюбов иронизирует: «Сын отечества» и «Русский инвалид» — газеты
консервативного направления.
17 Жена К. Д. Кавелина.
18 Сын Кавелина, которому Добролюбов давал уроки.
15
1 H. H. Обручев. См. о нем примеч. 12 к письму 13.
2 А. Я. Панаева.
3 Легендарный римский юноша Марк Курций, который для спасения родного города
пожертвовал собою, бросившись в полном вооружении с конем в пропасть.
4 Е. Ф. Корш, редактор «Московских ведомостей» (1843—1848) и журнала «Атеней»
(1858—1859).
5 Семьи С. П. Галахова, чиновника особых порученпй при почтовом департаменте
(его сыну Алексею давал уроки Добролюбов) и профессора военной академпи
В. М. Аничкова.
6 Предположения о женитьбе на Ильдегоиде Фиокки.
7 М. А. Маркович (псевдоним Марко Вовчок) печаталась главным образом в «Сов*
ременнике» и «Отечественных записках». Добролюбов познакомился с ней в
начале мая 1861 1. в Неаполе.
8 Повесть «Жили да были три сестры».
9 Добролюбов начал писать статью «Жизнь и смерть графа Кавура» в Мессине, а
закончил в Одессе (напечатана в «Современнике» 1861, VI, VII). Камилло Беызо Ка-
вур — итальянский государственный деятель, вождь либералов в эпоху
национально-освободительной борьбы в Италии.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. А. ДОБРОЛЮБОВА
1836, 24 января (5 февраля по нов. стилю) — в Нижнем Новгороде у священника
Александра Ивановича Добролюбова (1812 — 1854) и его жены Зинаиды Васильевны
(1816—1854) родился сын Николай.
1847.— В сентябре Н. А. Добролюбов, хорошо подготовленный дома, поступает
в последний класс Нижегородского духовного училища.
1848.— В сентябре Добролюбов (после окончания духовного училища) поступает
в Нижегородскую духовную семинарию.
1849—1853.— Добролюбов в Нижегородской семинарии. Он много читает.
Начинает вести «реестры» прочитанных книг. Собирает пословицы, поговорки, народные
песни Нижегородской губ. Начинает писать стихи, рассказы, рецензии, пьесы,
переводит Горация. С 1851 г. ведет дневник.
1853.— Весной Добролюбов сдает экзамены и покидает семинарию, не закончив
последнего класса. В августе выезжает в Петербург, где поступает в Главный
педагогический институт.
1854.— В марте умирает мать Добролюбова, в августе — отец. Поездка в Нижний.
Складываются новые атеистические взгляды Добролюбова. В декабре написано
первое политическое стихотворение — «На 50-летний юбилей Н. И. Греча».
1855.— Первые столкновения с администрацией института. Обыск у
Добролюбова. Пишет смелые революционные стихи; с осени выпускает рукописную газету
«Слухи». Ведет активную революционно-пропагандистскую, работу в студенческом
кружке.
1856.— В начале лета — знакомство студента Добролюбова с Н. Г. Чернышевским.
Добролюбов впервые выступает в печати (статья в «С.-Петербургских ведомостях»
от 24 июля за подписью «Николай Александрович»).
Первая статья Добролюбова в «Современнике» № VIII и IX — «Собеседник
любителей российского слова».
1857.— Обострение отношений Добролюбова с реакционной администрацией
Педагогического института. Окончание института. Добролюбова лишают золотой медали,
несмотря на блестяще сданные выпускные экзамены. Поездка к родным в Нижний
Новгород. С сентября постоянная работа в редакции «Современника», дальнейшее
сближение с Н. Г. Чернышевским и Н. А. Некрасовым, редактором журнала. Добролюбову
поручают руководство критико-библиографическим отделом «Современника». На его
страницах появляются многочисленные рецензии, статья о «Губернских очерках»
Щедрина, знаменующая начало борьбы Добролюбова против дворянского
либерализма,
Даты жизни и деятельности
607
1858.— В «Современнике» опубликованы статьи Добролюбова по важнейшим
историко-литературным, философским и историко-социологическим вопросам: «О
степени участия народности в развитии русской литературы» (№ II), «Органическое
развитие человека» (№ V), «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым»
(№ X и XI). Эти статьи, а также многочисленные рецензии восстанавливают против
Добролюбова либерально-дворянскую часть сотрудников журнала. Первые
столкновения Добролюбова с И. С. Тургеневым. Появление 15 сентября в «Колоколе» Герцена
памфлета Добролюбова «Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны». Этот
памфлет, написанный еще в начале 1857 г., опубликовал без имени автора.
1859.— В «Современнике» опубликованы программные статьи Добролюбова —
«Литературные мелочи прошлого года» (№ I и И), «Что такое обломовщина?» (№ V),
«Темное царство» (№ VIII и IX).
С начала года в журнале появляется сатирический отдел «Свисток», задуманный
и основанный Добролюбовым. Выступая в качестве его редактора и основного автора,
Добролюбов проявляет себя как выдающийся сатирик, фельетонист и публицист.
К этому же году относится выступление А. И. Герцена, направленное против
«Современника» и Добролюбова — статья в «Колоколе» от 1 июня 1859 г. «Very dange-
rousü!» («Очень опасно!!!»).
1860.— Обострение конфликта между либерально-дворянской и революционно-
демократической группами сотрудников «Современника». Появление статьи
Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» (№ III) привело к окончательному
разрыву с Тургеневым.
В мае Добролюбов выехал за границу для лечения обострившегося туберкулеза.
Он жил в Швейцарии, Германии, Франции и дольше всего в Италии, где в это время
развертывалось национально-освободительное движение, вдохновляемое и
руководимое Дж. Гарибальди. За границей Добролюбов написал статьи «Черты для
характеристики русского простонародья» (№ IX) и «Луч света в темном царстве» (№ X).
На материале итальянских событий он написал серию статей, разоблачавших
буржуазный либерализм и прославлявших республиканцев: «Непостижимая странность»
(№ XI), «Два графа» (№ XII) и др.
1861.— В «Современнике» продолжают появляться статьи Добролюбова на
итальянские темы: «Из Турина» (№ III), «Жизнь и смерть графа К. В. Кавура» (№ VI и
VII). В июле Добролюбов возвращается на родину, не поправив своего здоровья.
Начавшаяся в стране политическая реакция оказывала угнетающее действие на
душевное состояние больного.
Посетив родных в Нижнем, Добролюбов в августе вернулся в Петербург. В
«Современнике» (№ IX) появилась последняя статья Добрлюбова «Забитые люди» —
о Достоевском.
17 ноября (29 по новому стилю) Добролюбов скончался. Похороны его
превратились в общественную демонстрацию. На кладбище выступили Н. Г. Чернышевский,
Н. А. Некрасов, М. А. Антонович, Н. А. Серно-Соловьевич и др.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аверкиев Д. В. 465, 599
Аксаков И. С. 594
Аксаков К. С. 275, 585, 594
Аксаков С. Т. 530
Александрович В. 463, 472, 598
Алексеев А. Д. 571
Алексеев В. А. 553
Алмазов Б. Н. 83, 575, 576
Амартол Георгий 466, 547
Аничков В. М. 493, 606
Аничков Е. В. 532—536, 541, 542, 544—
546, 548, 549, 561, 563
Анненков П. В. 243, 244, 303, 505, 555,
567, 570, 574, 579, 584-586
Антонович М. А. 542, 548, 608
Аппельрот Г. Я. 451, 452, 596
Апухтин А. Н. 316, 477, 493, 602
Аристотель 242
Аристофан 31, 82, 253, 569
Армфельд 475, 602
Архангельский М. Ф. 554, 558
Афанасьев А. Н. 593
Ахшарумов Н. Д. 77, 83, 241, 304, 576,
584, 586
Байрон Д. Г. 251, 309, 341
Балашевич А. Д. 114, 576
Балика Д. А. 6
Бальзак Ж. Л. Г. 539
Барановская М. 588
Баратынский Е. А. 402, 592
Барятинский А. И., кн. 563
Бауэр Б. 467
Безобразов В. П. 437, 441, 595, 602
Безобразов Н. А. 441
Бекетов В. Н. 460, 480, 525, 530, 577,
586, 597"
Белинский В. Г. 127, 194, 238, 301, 302,
319, 373, 376—379, 385, 413-415, 418,
420, 422, 423, 464, 467, 500, 501, 507,
512, 523, 525, 526, 550, 552, 577, 584,
585, 587, 588, 593
Беляев И. Д. 455
Бем Е. 432
Бенедиктов В. Г. 65, 510, 572
Бестужев А. А. 585
Беранже П. 545, 587
Берви В. 594, 596
Берг Н. Ф. 554
Беринг А. А. 492, 605
Берков П. Н. 6
Берхгольц Ю. 490, 605
Бибиков И. Г. 480, 603
Благовещенский H. M. 464, 494, 598
Бланк Г. Б. 437, 441, 595 -
Блинчевская М. Я. 5, 535, 555, 577
Блэр Г. 239
Богданович И. Ф. 368
Боград В. Э. 537—540, 543, 549, 553, 559,
562, 564, 588
Бонмер Э. 475, 602
Бордюгов И. И. 465, 472, 474—477, 564,
599—602
Боткин В. П. 314, 503, 505, 567, 586, 594
Брайт Д. 490, 604
Буало Н. 411,' 533
Булгарин Ф. В. 413, 414, 419, 591, 593
Бунге Н. X. 433, 594
Буренин В. П. 567
Буренин К. П. 460, 463, 476, 597, 602
Буреов Б. И. 516, 553
Буслаев Ф. И. 547, 594
Бутков В. П. 479, 602
Бухштаб Б. Я. 546, 553
Бушканец Е. Г. 531, 537, 553
Бялый Г. А. 5
Вальтер Г. 486
Васильев Р. С. 465, 599
Васильева А. С. 475, 476
Именной указатель
609
Вейнберг Я. И. 601
Векслер И. И. 546
Великопольский И. Е. 549
Веллек Р. 6
Веллингтон А. В. 339, 586
Вельтман А. Ф. 74, 454, 559, 560, 596
Венгеров С. А. 6, 571
Вентури Ф. 6
Вернадский И. В. 255, 434, 448, 571,
584, 594, 596
Викторин (архимандрит) 559
Визе Л. 538
Виноградов В. В. 541
Виноградов П. 601
Вильчинский В. П. 597
Виргилий Марон 547
Владиславлев И. В. 5
Владыкин M. H. 559, 560
Власовский А. 442, 595
Вольтер Ф. М. 235
Востоков А. Е. 467, 600
Вреден Э. Р. 598
Вышнеградский Н. А. 569
Вяземский П. А. 380, 385, 463, 598
Гавацци А. 530
Гакстгаузен А. 560
Галахов А. Д. 530, 547, 555, 597
Галахов С. П. 493, 531, 606
Гануш И. 548
Гарибальди Д. 235, 487, 489, 607
Гаярин И. Ф. 452
Гегель Г. В. Ф. 376, 491, 582, 584, 594
Гейне Г. 30, 189, 569, 581, 582
Геннади Г. Н. 538
Герцен А. И. 47—51, 54, 56, 58, 462,
464, 467, 472, 476, 501, 512, 525, 526,
543, 550, 562, 566, 569, 570, 575, 583,
590—592, 594—596, 598—600, 602,
603, 608
Гете В. 214, 235, 251, 309
Гетлинг К. 462, 598
Гиероглифов А. С. 583
Гильфердинг А. Ф. 464
Гинзбург Ф. 574
Глазунов А. И. 503, 586, 587
Глинка Ф. Н. 414, 585
Гоголь Н. В'. 12, 35, 49, 50, 54, 56, 66,
70, 82, 112, ИЗ, 127, 160, 226, 234,
235, 254, 274, 277, 301, 311, 319, 320,
322, 328, 341, 376, 377, 404—407, 414,
421, 429, 454, 463, 507, 523, 567—569,
571, 574, 577, 586, 594, 600
Голицын А. Ф. 605
Голицын С. П., кн. 441, 595
Головачев А. А. 442, 443, 445, 595
Гомер 211, 536
Гончаров И. А. 35—69, 196, 197, 201,
202, 226, 274, 277, 302, 303, 311, 314,
338, 499, 513, 514, 525, 567, 570, 571,
584
Гораций К. Ф. 542, 548, 551
Горев-Тарасенков Д. А. 539
Горизонтов А. 560
Горчаков М. Д., кн. 473, 601
Горький А. М. 579
Горяинов А. И. 539, 554
Грановский Т. Н. 206, 208, 433, 459,
582, 594
Гребенка Е. П. 302
Греков Н. П. 316
Грехнев В. А. 6
Греч Н. И. 414, 501, 591, 593, 607
Грибоедов А. С. 133, 358, 413, 538, 518,
575 593
Григорович Д. В. 73, 302, 481, 567, 569,
575
Григорьев А. А. 71—73, 74, 77, 256, 257,
433, 571, 574—576, 584—586
Григорьев В. В. 433, 594
Григорян К. Н. 553, 597
Гримм Я. 462
Гришунин А. Л. 552
Громека С. С: 436, 481, 595, 603
Грот Я. К. 486, 604
Груздев А. И. 553
Губер Э. И. 464
Гуревич С. 600
Давыдов Д. В. 414, 593
Давыдов И. И. 234, 235, 239, 413—415,
460, 461, 469, 477, 536, 545, 598, 600
Даль В. И. 74, 770, 600
Даниил Паломник 261
Данилов В. В. 546
Данте А. 249
Дараган М. И. 574, 583
Дашкова Е. Р., кн. 476, 477, 602
Дельвиг А. А. 357, 358, 369, 370
Демосфен 32, 569
Де-Пуле М. Ф. 590
Державин Г. Р. 319, 368, 463, 510, 586
Деркач С. С. 6, 585
Дмитриев И. И. 366, 367
Дмитриев М. А. 542, 548, 561
Дмитриев П. И. 549, 561, 563
Дмитриевский Н. И. 475, 602
Дмоховский А .441, 595
610
Именной указатель
Добровольский Л. М. 562
Добролюбов В. И. 489
Добролюбов И. Ф. 463, 599
Дорофеев В. П. 552
Достоевский Ф. М. 301—346, 522, 524,
556, 557, 574, 585, 586, 593, 608
Дружинин А. В. 505, 508, 572, 582, 585,
586, 594
Дудышкин С. С. 582, 583, 585
Дурасов В. И. 465, 599
Дюкре-Дюмениль Ф. Г. 365, 367
Дюма А. (отец) 440, 489, 604
Европеус А. И. 480, 603
Егоров Б. Ф. 553, 560
Екатерина II 350, 502, 531, 535, 592
Елагин Н. В. 603
Елисеев Г. 3. 477, 479, 481, 602, 604
Ешевский С. В. 452, 596
Жадовский 473, 601
Жданов В. В. 5, 499—527, 553
Жеребцов Н. А. 405, 406, 492, 493, 605,
608
Жуковский В. А. 13, 328, 369t 380, 381,
482, 492, 569, 604
Забелин И. Е. 464
Загоскин M. H. 328
Залесский Б. Ф. 493, 605
Занд Жорж 24
Засулич В. И. 581
Зеленецкий К. П. 234
Зеленый А. С. 596
Зельдович М. Г. 6, 552
Зернин А. 542, 548
Златовратский А. П. 469, 478, 479, 483,
484, 538, 602
Златовратский H. H. 602
Золина Н. А. 553
Зуев Н. П. 420, 421, 452, 463, 594, 598
Иванин М. 538
Иванов Г. В. 6, 569
Иванов С. С. 443, 595
Иловайский Д. И. 476, 602
Кавелин К. Д. 446, 450, 490—493, 595,
596, 605
Кавелина А. Ф. 492
Кавелина С. К. 491
Кавур К. Б. 495, 606, 608
Кайданов И. К. 465
Калаушин M. M. 546
Капнист В. В. 569
Карабанов П. М. 356, 357
Карамзин H. M. 30, 235, 320, 406, 463,
569
Карнович Е. П. 303, 484, 489, 549, 586,
604
Катков M. H. 379, 482, 588, 604
Кашкин Д. А. 588
Кельсиев В. И. 465, 599
Киреевский И. В. 584
Киреевский П. В. 357
Клевенский М. И. 546
Княжнин В. Н. 533, 542, 545, 596, 605
Кобылин М. С. 598
Ковалевский Евграф П. 479, 603
Ковалевский Егор П. 473
Ковалевский П. М. 510
Кожинов В. В. 6
Козьмин Б. П. 501, 542, 552
Кокорев В. А. 436, 473, 479, 595, 601
Колбасин Е. Я. 316, 539, 540, 560
Кольцов А. В. 13, 14, 349—401, 463,
503, 504, 508, 536, 569, 586—588
Комарницкий А. 538
Корбэ Ш. 6
Корф М. А. 472, 479, 549, 601, 603
Корш Е. И. 606
Корш Е. Ф. 455, 493, 596
Костанжогло К. 559
Костомаров Н. И. 549
Костылев О. Л. 6
Котошихин Г. К. 277
Коцебу А. 78, 576
Кошанский Н. Ф. 234, 235
Кошелев А. И. 368, 444, 445, 594
Кошкин 463
Краевский А. А. 388, 461, 473, 476
Краснов Г. В. 5, 580
Крылов И. А. 255, 429, 464, 536, 575,
584, 586, 594 '
Кугушев Г. В. 316
Кудрявцев П. Н. 73, 575, 576
Кукольник Н. В. 414
Кулибин И. П. 349, 504
Кулиш П. А. 542, 548
Курляндская Г. Б. 578
Курочкин В. С. 541
Курций Марк 606
Куторга С. С. 455, 596
Лаврецкий И. М. 552
Лавров П. Л. 581, 599
Лаврский В. В. 466—468, 600
Именной указатель
611
Лазерсон Б. И. 5
Лакомте М. А. 460, 597, 599
Лакшин В. Я. 574
Ламанский В. И. 464, 599
Ламанский Е. И. 605
Ламорисьер К. Л. 342, 586
Ланге Н. 442, 443, 595
Лафонтен А. 365, 367
Лебедев М. 553
Лебедев Н. 558
Лебедев С. И. 547, 553
Лебедев-Полянский П. И. 546
Левин Ю. Д. 6, 580
Лемке М. К. 531—542, 544, 545, 557
Лемперт Е. И. 6
Ленин В. И. 506, 514, 571, 573, 574, 581
Леонтьев К. 482
Леонтьев Н. Г. 553, 563, 594
Леонтьев П. М. 604
Лермонтов М. Ю. 25, 47—56, 59, 61, 63,
66, 68, 105, 123, 181, 214, 241, 274,
301, 370, 464, 466, 568, 569, 577, 584,
585, 587, 602
Лешков В. Н. 455, 596
Линней К. 326, 586
Лихачев А. И. 593
Ломоносов М. В. 155, 350, 368, 463, 504,
536, 577, 588
Лонгинов M. H. 594
Луганский казак, см. Даль
Луговской Н. 302, 540, 551
Львов В. Е. 463, 597
Львов Н. И. 88, 274, 453, 576t 585, 586,
596
Магон Л. Б. 5
Майков А. А. 274, 584
Майков А. Н. 510, 585
Маймин Е. А. 6
Мальтус 414
Малоземов А. Я. 598
Марио 328
Маркович М. А. (Марко Вовчок) 495,
521-523, 549, 597, 606
Маркс Карл 526, 574
Марченко А. Я. 593
Мацкевич Д. И. 570
Медем Н. В. 480, 603
Мельников-Печерскпй П. И. 574
Меншиков А. Д. 350, 598
Мерзляков А. Ф. 314, 357, 370, 586
Миллер-Красовский Н. А. 584
Милль Д. С. 484, 604
Милютин Б. А. 414, 593
Милютин Н. А. 491, 605
Мильтиад 32
Минин Козьма 350, 503, 553
Михайлов М. Л. 542, 582, 597
Михайлова Е. В. 562
Михайловский H. M. 538, 542, 549, 561,
598
Михалевский В. 465, 472, 599
Михаловский Д. Л. 542, 548
Мицкевич А. 540, 548, 551, 559
Мияковский В. В. 546
Молинарп Г. 603
Мольер Ж. Б. 82,- 89
Мордовченко Н. И. 546, 577, 579
Морошкин Ф. Л. 415
Муратова К. Д. 6, 597
Надешдин Н. И. 376
Назаров Н. С. 577
Найдич Э. Э. 561
Наполеон III 478, 586, 601, 602
Нарекая Е., см. Шаликова Н. П.
Неверов Я. М. 578
Некрасов Н. А. 55, 76, 376, 414, 440,
460, 461, 464, 465, 467, 475, 477, 484—
490, 495, 501, 503—505, 525—528, 530,
540, 564, 567, 572, 577, 578, 590, 591,
593, 595—597, 599—601, 607, 608
Некрасов Н. П. 79, 80, 114, 234, 246,
452, 575, 576, 583
Нелединский-Мелецкий Ю. А. 356. 357
Никитенко А. В. 590
Николаев П. А. 587
Николай I 474, 501, 506, 535, 537, 553,
601
Николаев Н. П. 356
Никон, патриарх 350
Норов А. С. 461, 598
Оберт К. С. 478, 601
Обручев В. А. 592, 597
Обручев H. H. 490, 493, 606
Огарев Н. П. 40, 465, 476, 512, 535, 537,
571, 590, 594, 599, 602
Огрызко И. Т. 473, 601
Одоевский В. Ф., кн. 380
Оксман Ю. Г. 5, 541, 543, 546, 562, 566,
580, 588
Опульская Л. Д. 5
Островский А. Н. 70—188, 225, 231 —
300, 302, 338, 481, 499, 514—517, 539,
553, 573, 574—577, 583, 584
Островский M. H. 464, 539, 599
Оуэн Р. 500, 535
612
Именной указатель
Павлов Н. Ф. 234, 239, 242—244, 246,
478, 583, 601, 604
Павлов П. В. 480, 484, 603
Палаузов G. H. 478, 560, 562, 563
Пальховский А. 244, 455, 574, 583, 584,
596
Панаев И. А. 489, 597, 604
Панаев И. И. 502, 503, 564, 567, 583
Панаева А. Я. 486, 490, 493, 604, 606
Панафидина А. С. 532
Панин В. Н., гр. 480, 484, 603
Панкратьев, см. Чернышевский Н. Г.
ПаряшицкийИ. И. 462, 472, 582, 588,600
Паульсон И. И. 541, 597
Пекарский П. П. 464, 542, 548, 560, 599
Пеликан В. В. 600
Пенкин М. С. 552
Персиньи Ж. 342, 586
Петкевич А. 559
Петр I 276, 350, 465
Петрашевский М. В. 483, 585
Пещурова Л. П. 537
Пиксанов Н. К. 596
Пирогов Н. И. 11, 257, 419, 420, 428,
432, 480, 530, 569, 584, 593, 596
Писарев Д. И. 574, 583
Писемский А. Ф. 274, 276, 302, 316, 481,
484, 584, 596
Питт В. 339, 586
Плавт 547
Плаксин В. Т. 239
Платон 253
Плеханов Г. В. 526, 573
Плещеев А. Н. 535, 581, 597
Погодин М. П. 575
Покусаев Е. И. 531, 568
Полевой Н. А. 304, 593
Полонский Я. П. 475, 525, 602
Полоцкая Э. А. 585
Попов А. 559
Порай-Кошиц 549, 551, 560, 561
Посошков И. Т. 74
Потехин А. А. 133, 304, 314, 577, 586
Предтеченский А. В. 546
Прокопович Н. Я. 376
Прохоров Г. В. 597
Пугачев В. В. 6, 505
Путинцев В. А. 552
Пушкин А. С. 10, 11, 29, 47—54, 56,
58-60, 63, 68, 105, 181, 254, 301, 320,
350, 369, 370, 380, 402, 403, 463, 508,
569, 570, 575, 587, 588
Пыпин А. Н. 465, 469, 542, 548, 553, 570,
577, 599
Радищев А. Н. 598
Разин С. Т. 599
Расин Ж. 235
Рахманинов Ф. И. 480, 577, 578, 603
Рачинский С. А. 482, 604
Рашель Э. 72, 575
Ревякин А. И. 583
Рейсер С. А. 5, 6, 505, 535, 537—541,
544, 546, 550, 551, 553, 555, 562, 564,
565, 582, 591, 597, 601
Розанов И. Н. 600
Розен Е. Ф. 414, 559, 560
Розенгейм М. П. 126, 453, 509, 510, 529,
530, 534, 551, 557, 576, 577
Розенталь К. 537
Ростовцев Я. И. 483, 603, 604
Ростопчина Е. П. 453, 460, 464, 597, 599
Ротшильд М. 339
Руа Ж. Ж. Э. 558
Руссо Ж. Ж. 31, 319, 569
Рылеев К. Ф. 585
Рыскин Е. И. 5, 552
Савваитов П. И. 464, 599
Савич Н. И. 450
Салиас де Турнемир Е. В. 73, 575
Салтыков-Щедрин М. Е. 9—34, 318, 319,
435, 462, 506, 567—569, 579, 587, 588,
594, 598, 603
Самарин Ю. Ф. 594
Сапоровский М. В. 472, 601
Сахаров И. А. 472, 601
Сахаров И. П. 357
Северцов Н. А. 465, 599
Сенковский О. И. (барон Брамбеус) 414
Сент-Илер О. 465
Сераковский С. И. 490, 592, 604
Сервантес 216, 217
Сергеева Н. И. 553
Серебрянский А.. П. 366, 370—374, 385
Серно-Соловьевич Н. А. 608
Серчевский Е. 538
Сидоров Г. М. 463, 598
Скрипицын В. В. 492, 605
Славин А. П. 538
Славутинский С. Т. 480—483, 489, 511,
534, 542, 547, 596, 602
Слепушкин Ф. Н. 350, 351
Случевский К. К. 490, 493, 510, 604
Смирнов А. И. 602
Снеткова Ф. А. 585
Соколов В. И. 468, 600
Соколов Н. И. 6, 553
Сократ 253
Именной указатель
613
Соллогуб В. А., гр. 88, 126, 238, 274, 302,
454, 569, 576, 584, 585, 593, 596
Соловьев С. М. 216, 455, 558, 582, 596,
599
Сорокин И. М. 465, 589, 592, 599
Сорокин Ю. С. 553
Сосницкий И. И. 551
Спасович В. Д. 491, 605
Срезневская Е. Ф. 470
Срезневский В. И. 597
Срезневский И. И. 462—464, 468—470,
597, 598—600
Станкевич Н. В. 372—375, 378, 379, 464,
547, 579, 588
Стасов В. В. 490, 605
Степанов Н. А. 537
Степанов Н. Л. 546
Стефановский А. В. 549
Страхов H. H. 574
Стройновский В., гр. 446, 595
Студитский А. О. 560
Сумароков А. П. 28
Сусанин И. 350, 503
Сухачев В. И. 588
Сухомлинов М. И. 454, 571, 596
Сциборский Б. И. 460, 462, 463, 472,
549, 561, 597
Сэй Ж. Б. 48
Сю Е. 274
Такарев Н. 402, 559
Тамарченко Г. Е. 549, 553, 559, 560
Тенгоборский Л. В. 434, 594
Тихомандрицкий А. Н. 477, 598, 602
Тихонравов К. 560
Толбин В. В. 316
Толль Ф. 587
Толстой А. П. 605
Толстой Л. Н. 302, 567, 569, 573
Тотубалин Н. И. 6, 553, 575, 576
Tvp Е., см. Салиас де Турнемир
Тургенев И. С. 27, 35, 37, 47—56, 58,
59, 61, 63, 64, 66, 68, 105, 242, 248,
274, 302, 303, 306, 318, 338, 473, 480,
483, 487, 493, 498, 503, 518—520, 525,
528, 530, 567, 570, 571, 577, 578-580,
582—584, 590, 603, 608
Туровский Кирилл 454, 596
Турчанинов В. П. 472, 599
Турчанинов Н. П. 460—466, 597, 599
Тьер Л. А. 554
Тюрин А. Ф. 464, 599
»Тютчев Ф. И. 90, 227, 582
Унковский А. М. 480, 603
Урусов С. Н., кн. 605
Усакина Т. И. 592
Устрялов Н. Г. 415, 455, 596
Утин Б. И. 491, 605
Ушаков В. А. 414
Фарбер Л. М. 6
Федоров Б. М. 546, 558
Федоров С. Н. 499, 592, 604
Федоровский В. А. 478, 479, 601
Фейдо Э. 307, 586
Фейербах Л. 207, 467, 526, 549, 594
Феодор, архимандрит 479, 603
Феоктистов Е. М. 482, 603
Филарет, митрополит 464, 599
Фет А. А. 90, 192, 314, 352, 510, 542,
548, 583, 586
Филиппов М. А. 478, 601, 602
Филиппов Т. И. 75—80, 575, 576
Фишер А. А. 462, 598
Фишер Ф. Т. 242, 584
Фонвизин Д. И. 535, 568
Фундуклей И. 599
Хвостов Д. И., гр. 413, 414
Хвощинская-Зайончковская Н. Д. 574
Херасков M. M. 314, 586
Хмелевская Е. М. 588
Ходецкий С. М. 549, 560, 561
Холодов Е. Г. 574, 583
Цыганов И. Г. 357
Чатам, см. Питт В.
Челяковский Ф. Л. 548
Червяков М. В. 552
Черкасский В. А., кн. 443, 451, 491, 595,
605
Чернышевский H. M. 546
Чернышевский Н. Г. 57, 233, 275, 338,
436, 448—450, 456, 460, 464, 465, 469,
475, 477, 480, 489, 493-495, 504, 511,
525-527, 528-531, 533—537, 539—
544, 548—550, 554-556, 561, 563, 565,
567—569, 572, 573, 575—578, 583,
587, 589, 592, 594-597, 599, 602, 604,
605, 607, 608
Чистяков Н. Б. 234, 598
Чичерин Б. Н. 443, 469, 595, 600
Чумиков А. А. 541, 569, 597
Шаликова Н. П. 538
Шафиров П. П. 350
Шевченко Т. Г. 568, 587
614
Именной указатель
Шевырев С. П. 41, 415
Шекспир В. 25, 82, 89, 111, 112, 235,
251, 262, 309, 371, 576
Шелгунов Н. В. 516, 574
Шеллинг Ф. 227
Шемановский М. И. 460, 463, 470—474,
516, 561, 582, 597, 598, 600, 601
Шершеневич И. Г. 547
Шиллер Ф. 214, 466
Шишкин И. И. 303, 464, 586, 599
Штрайх С. Я. 546
Штраус Д. 467
Шульгин В. 596
Щеглов Д. Ф. 463, 465, 472, 475, 597,
598
Щербатов Г. А., кн. 461, 597
Щербина Н. Ф. И, 78, 328, 569, 576
Щуров И. А. 5, 565
Эдельсон Е. Н. 75, 76, 78, 575, 576
Энгельс Ф. 526
Якушкин П. И. 484, 604
Ямпольский И. Г. 546, 578
Янковский А. 463, 540, 598
Янцевич К. 463, 598
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Н. А. Добролюбов. Фотография 1857 г. С экземпляра,
принадлежавшего А. Н. Пыпину. Институт русской
литературы АН СССР (Пушкинский дом) (фронтиспис)
«Собеседник любителей российского словам. Первая
страница журнального текста статьи. Оттиск с дарственной
надписью Н. Г. Чернышевскому (1856 г.). Институт
русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) .... 57
Н. А. Добролюбов. «Когда же придет настоящий день?»
Корректурная гранка статьи с правкой цензора (1859 г.).
Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) 198
Н. А. Добролюбов. «Черты для характеристики
русского простонародья». Журнальный текст 1860 г., с вставками,
сделанными Н. Г. Чернышевским на основании
запрещенной корректуры статьи. Институт русской литературы АН
СССР (Пушкинский дом) 233
Я. Г. Чернышевский. Черновой реестр статей и рецензий,
обнаруженных в архиве Добролюбова после его смерти
(1861 г.). Институт русской литературы АН СССР
(Пушкинский дом) 275
Дом, в котором с 1843 г. жили родители Добролюбова в
Нижнем Новгороде. Комната Добролюбова во втором
этаже флигеля при большом доме, крайнее левое окно.
С позднейшей фотографии. Институт русской литературы
АН СССР (Пушкинский дом) 327
СОДЕРЖАНИЕ
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
«Губернские очерки» 9
Что такое обломовщина? , . . . . 35
Темное царство 70
Когда же придет настоящий день? 189
Луч света в темном царстве 231
Забитые люди , . . . . 301
ДОПОЛНЕНИЯ
А. В. Кольцов 349
Литературные мелочи прошлого года 402
Избранные письма 460
ПРИЛОЖЕНИЯ
В. В. Жданов
Н. А. Добролюбов — литературный критик и публицист . . 499
Ю. Г. Оксман
Старые и новые издания сочинений Н. А. Добролюбова -. . 528
Примечания 567
Основные даты жизни и деятельности Н. А/Добролюбова . 606
Именной указатель 608
Список иллюстраций 615
Н. А. ДОБРОЛЮБОВ
Русские классики
Избранные литературно-критические статьи
Утверждено к печати Редколлегией серии «Литературные памятники» Академии наук СССР
Редактор издательства Ф. И. Гринберг
Технические редакторы Я. П. Кузнецова и Л. И. Куприянова
Сдано в набор 27/У1 1969 г. Подписано к печати 2/ХП 1969 г. Формат 70Х901/,е. Бумага № 24
* Усл. печ. л. 45. Уч.-изд. л. 43,1. Тираж 2-ой завод 8000 экз. (15001—2301Ю)^
Тип. зак. 290. Цена 2 р. 65 к.
Издательство «Наука». Москва К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Паука». Мос;^а Г-99, Шубинский пер., 10
2 p. 65 к.
ИЗДАТЕЛЬСТВО-НАУКА-
III ДОБРОЛЮБОВ
избранные
литературно-
критические
статьи