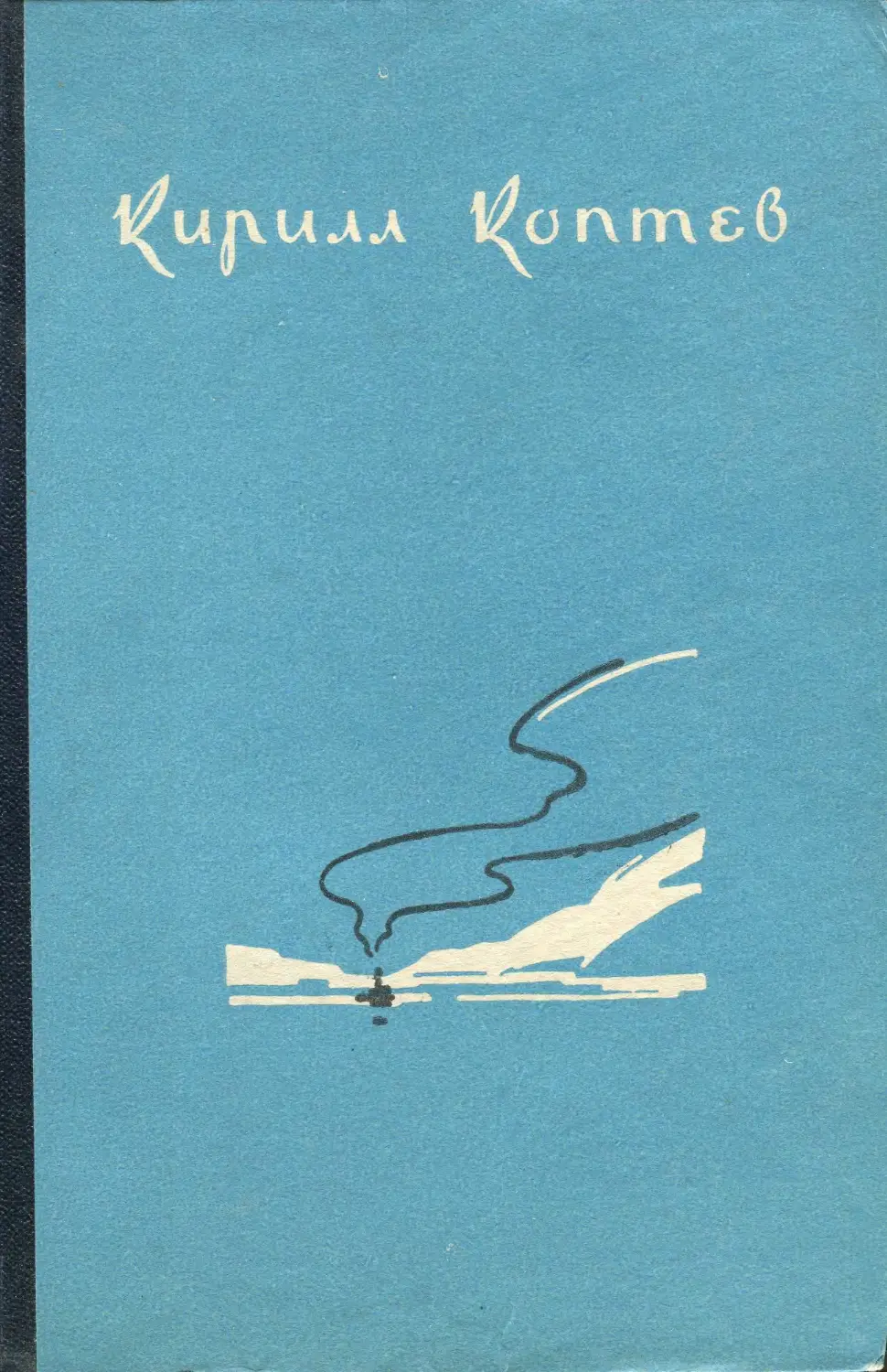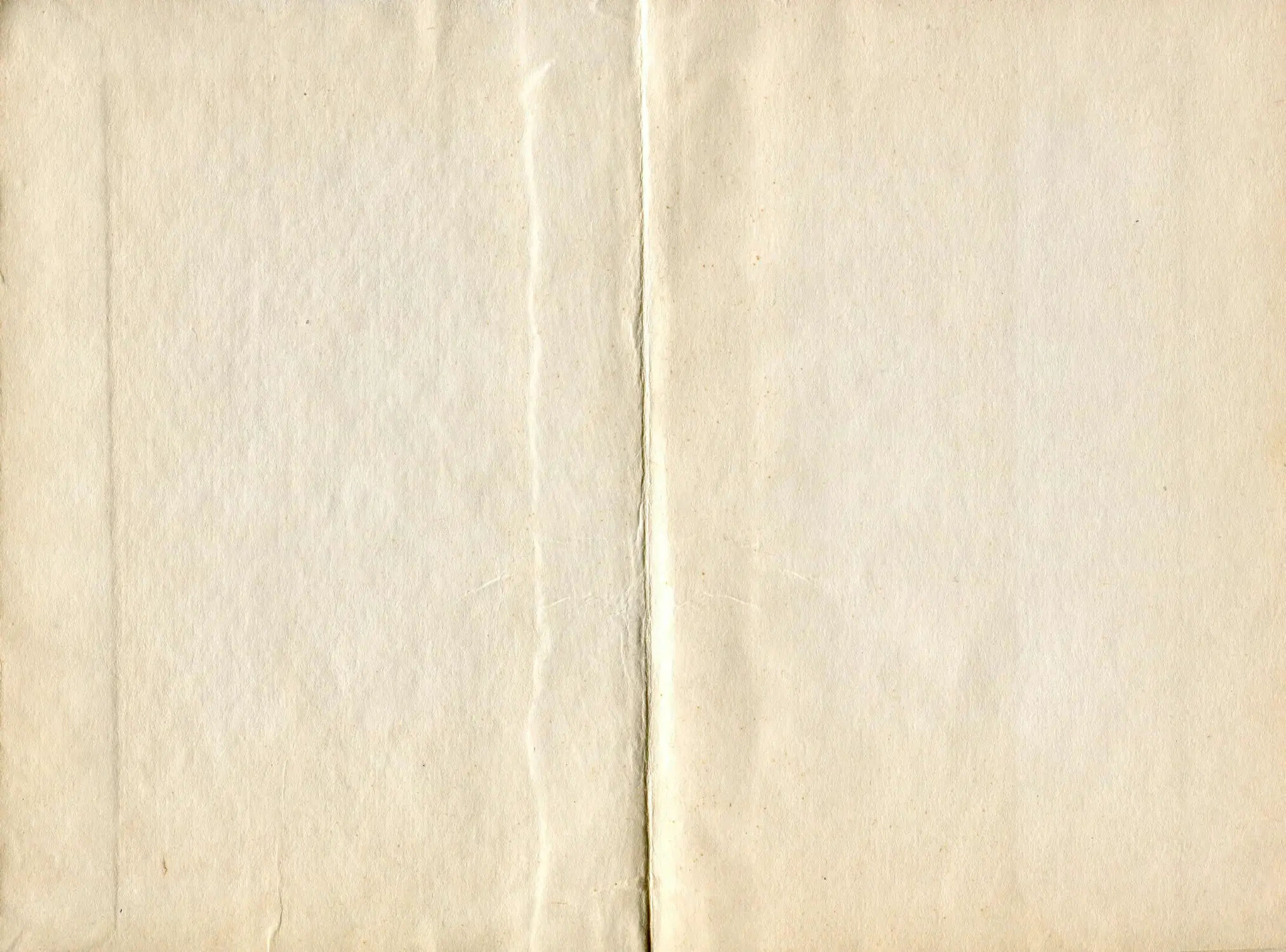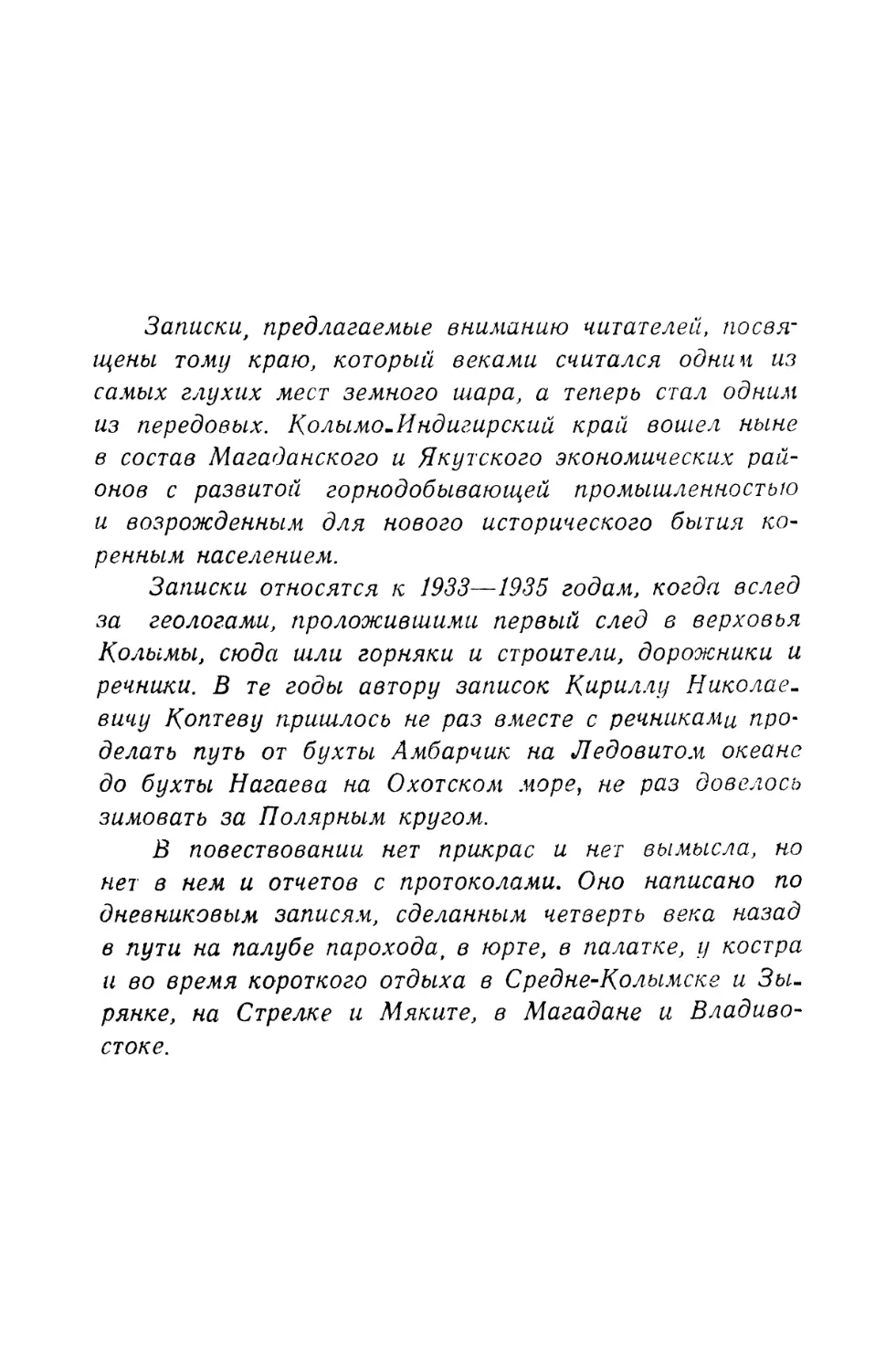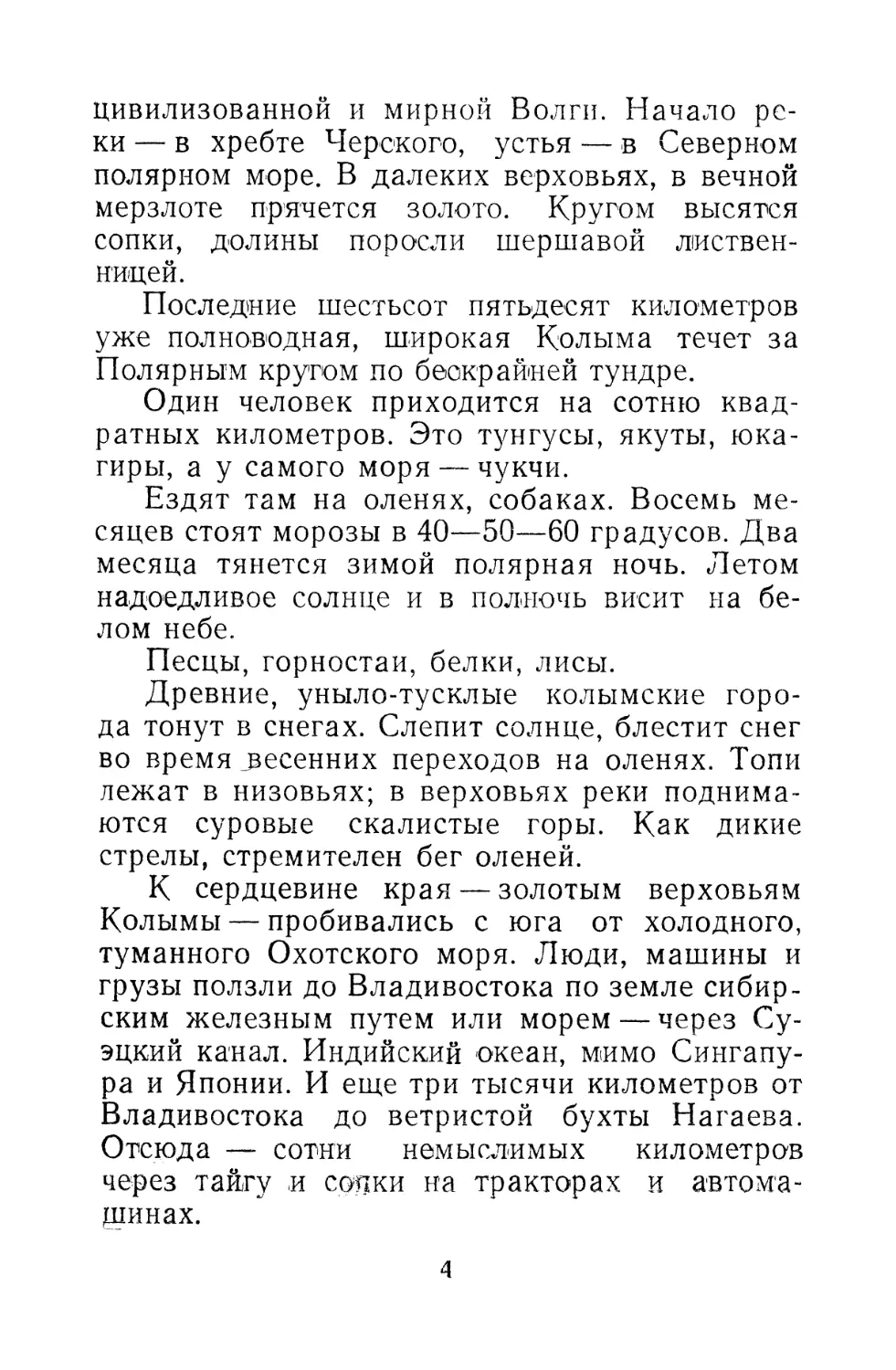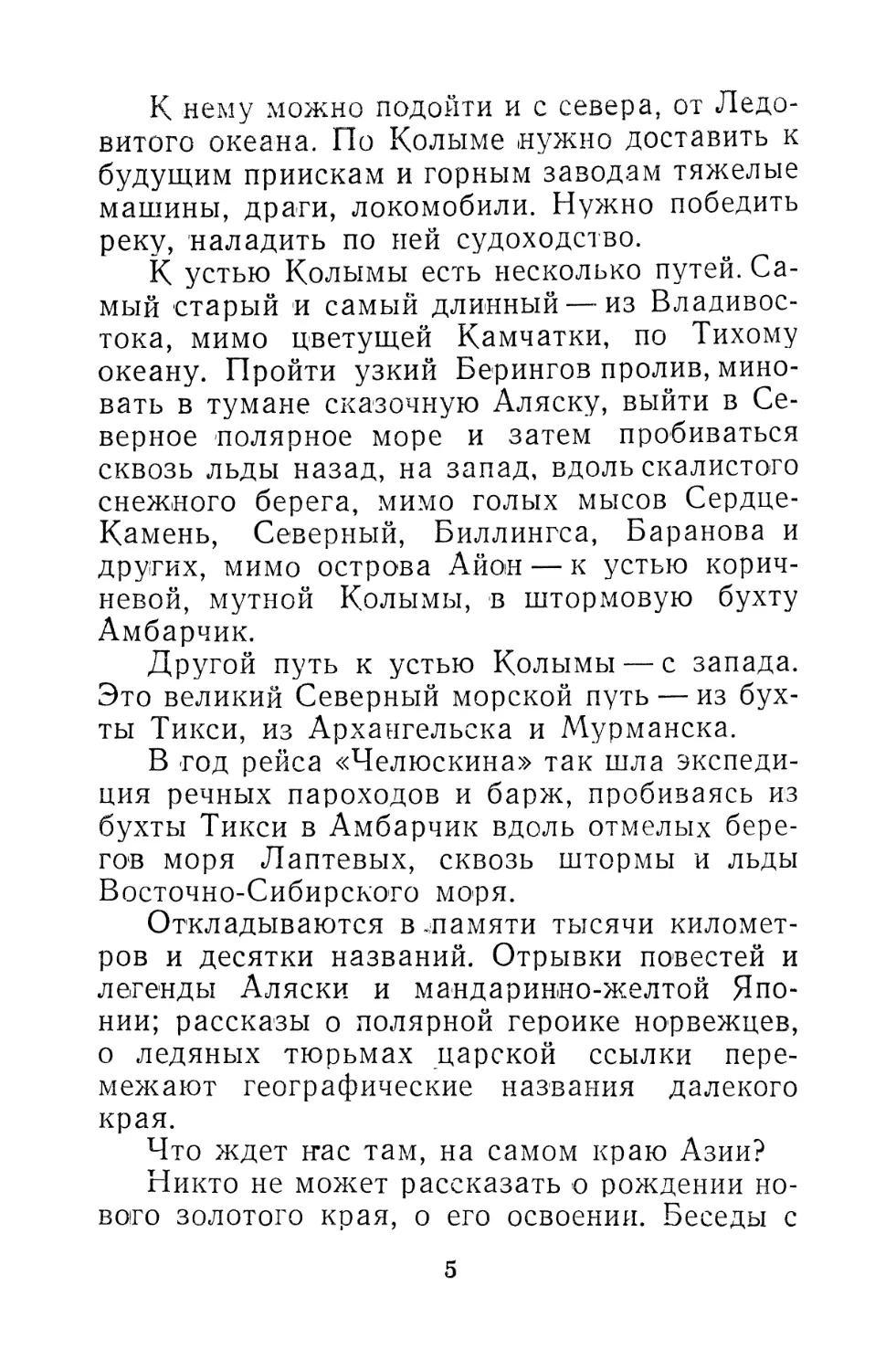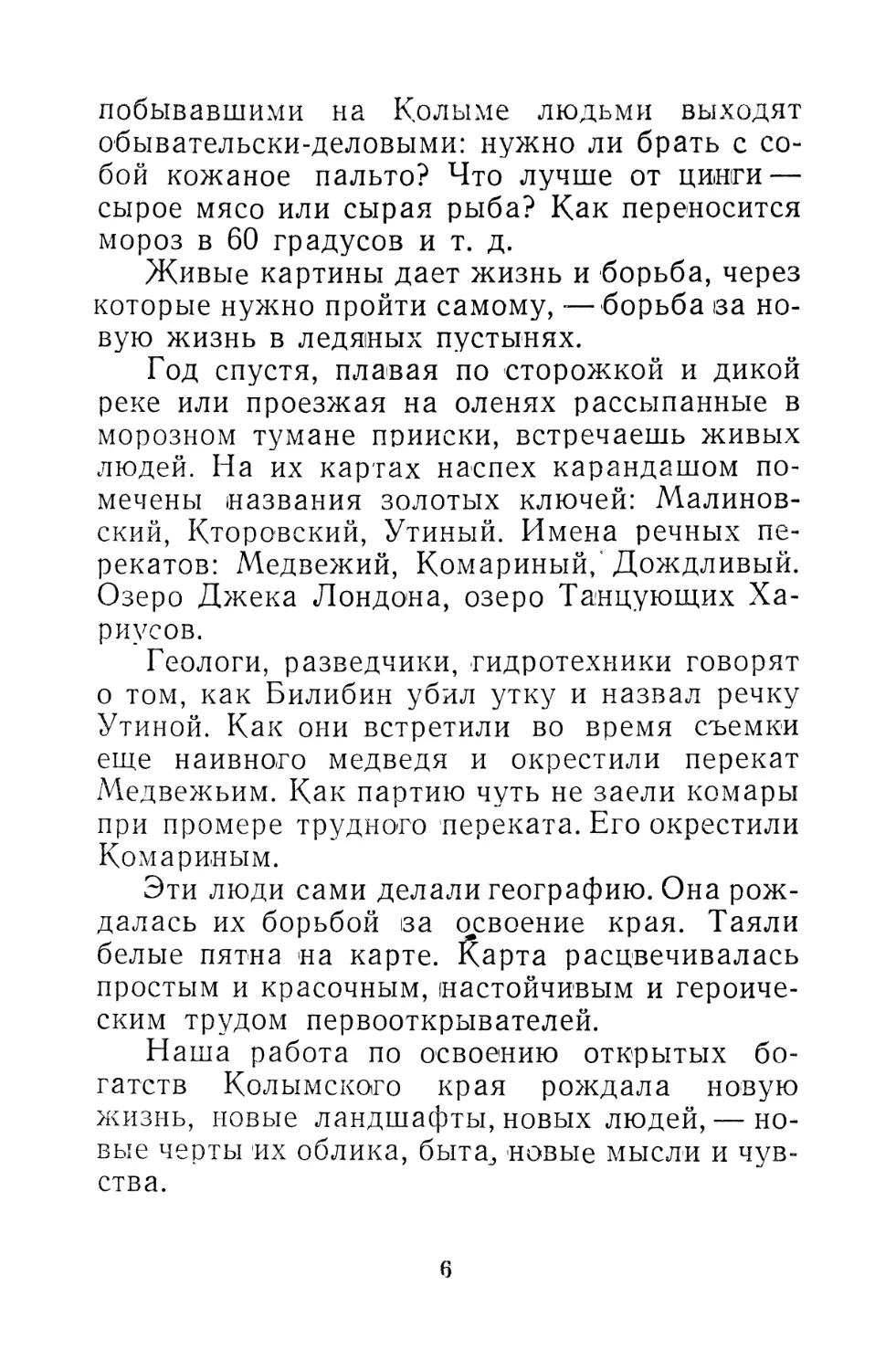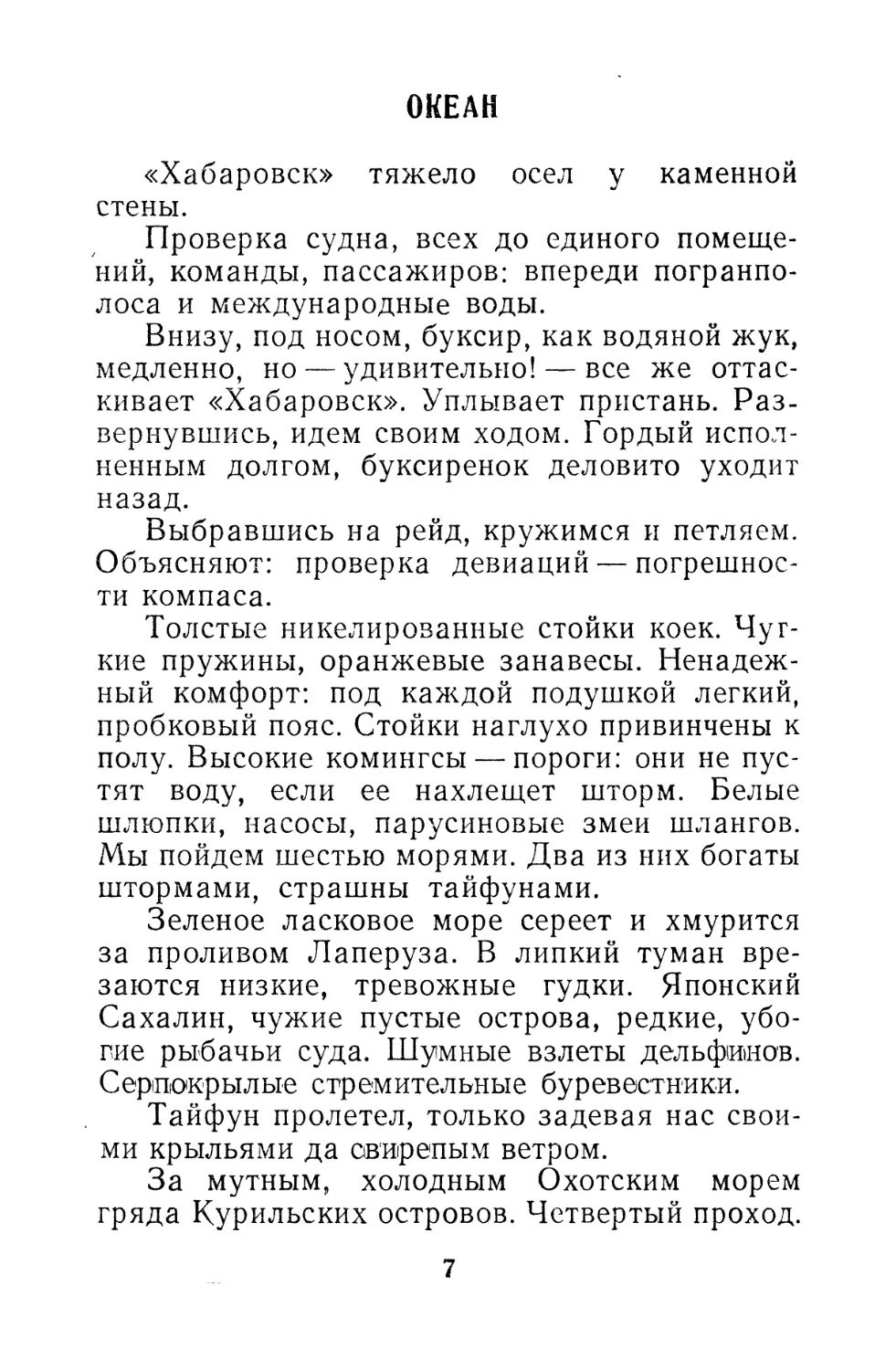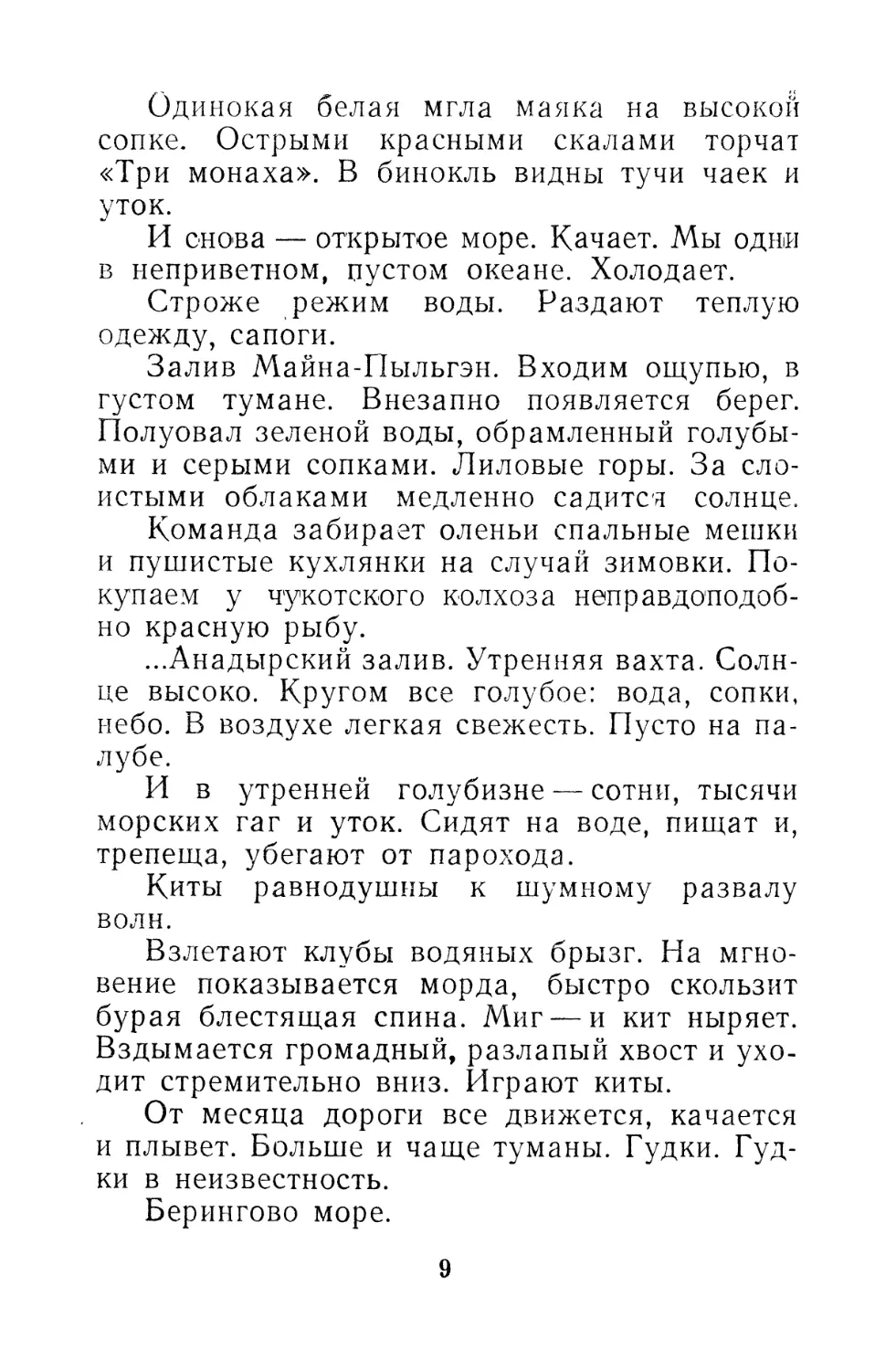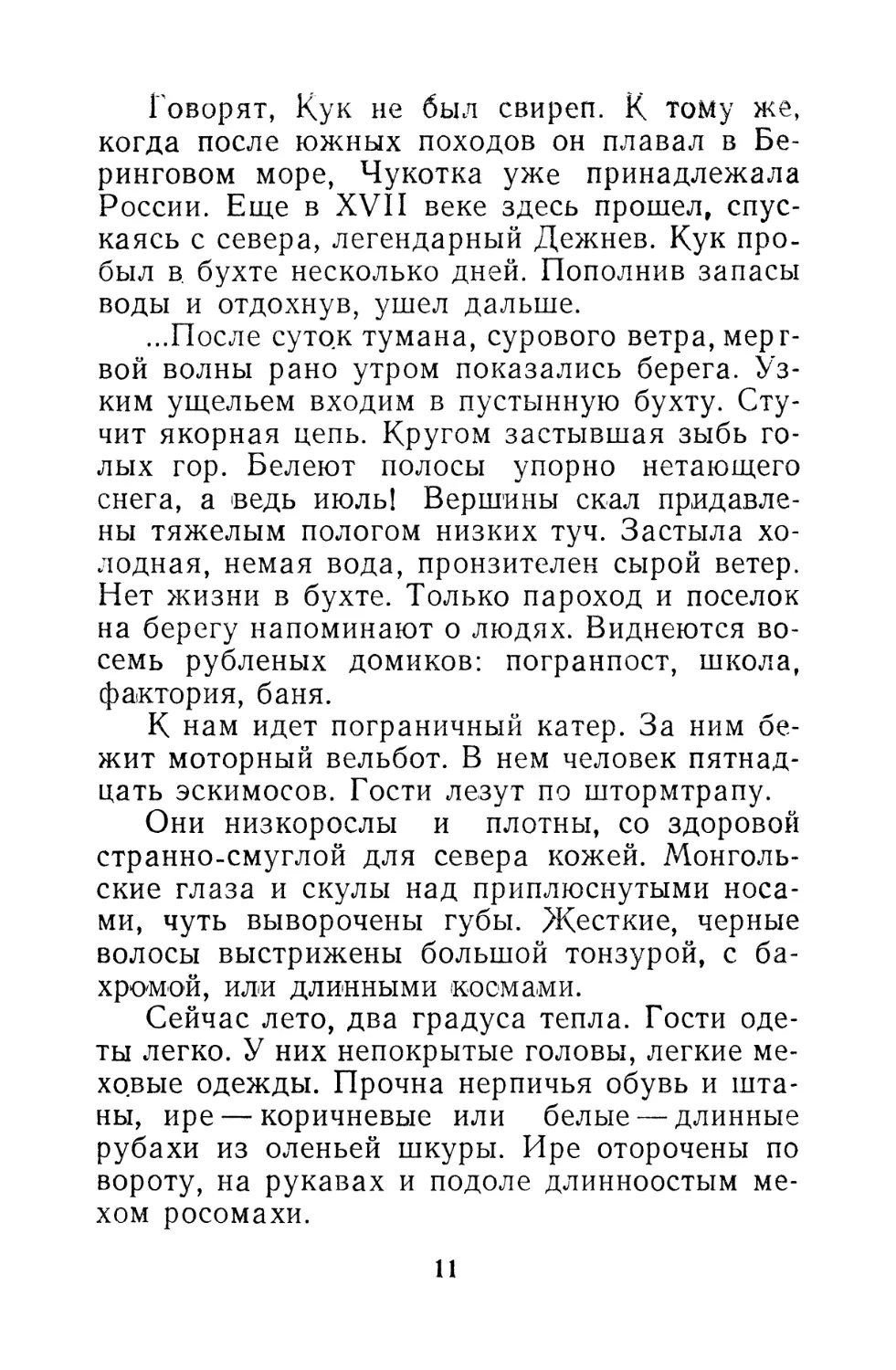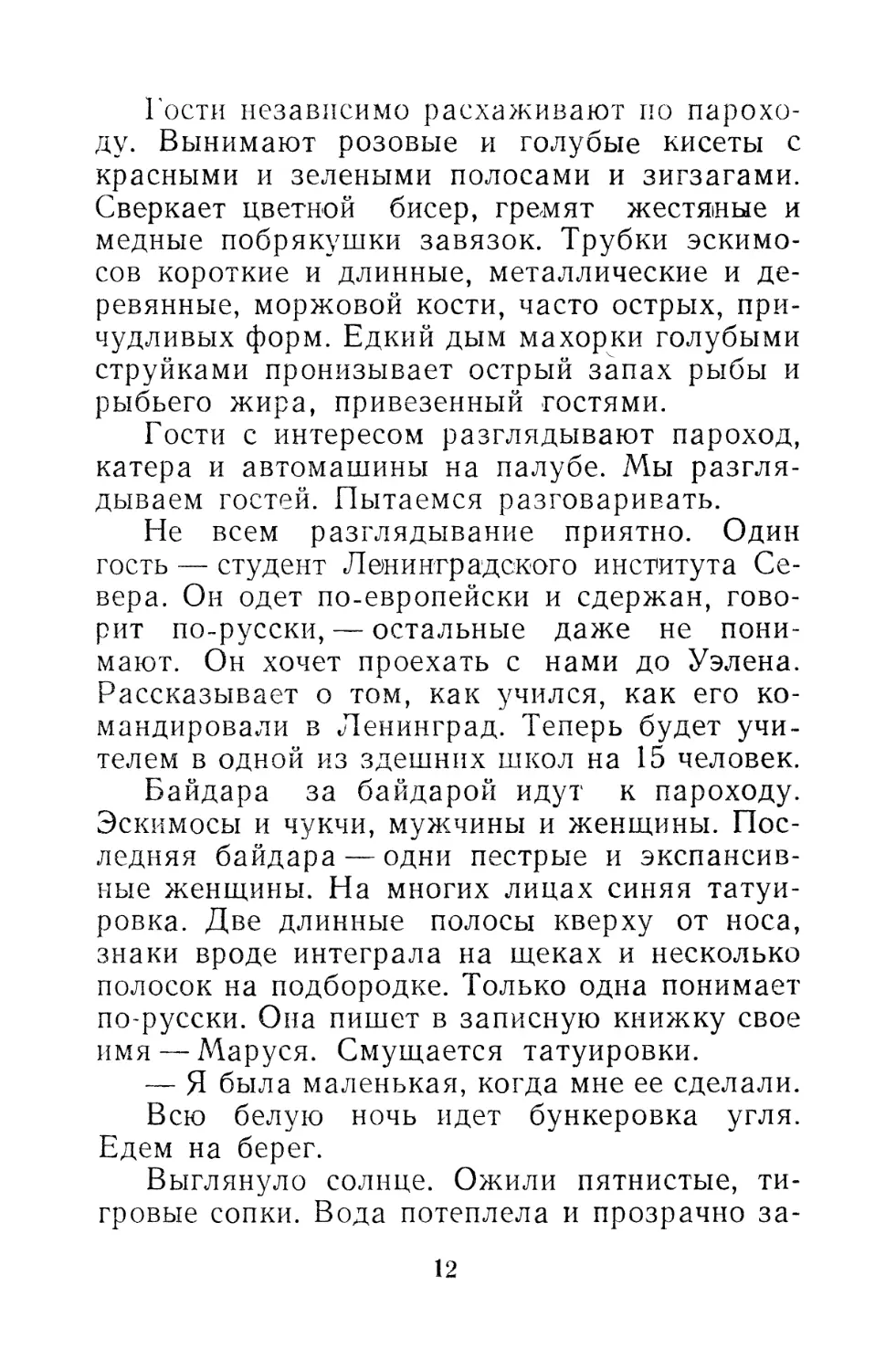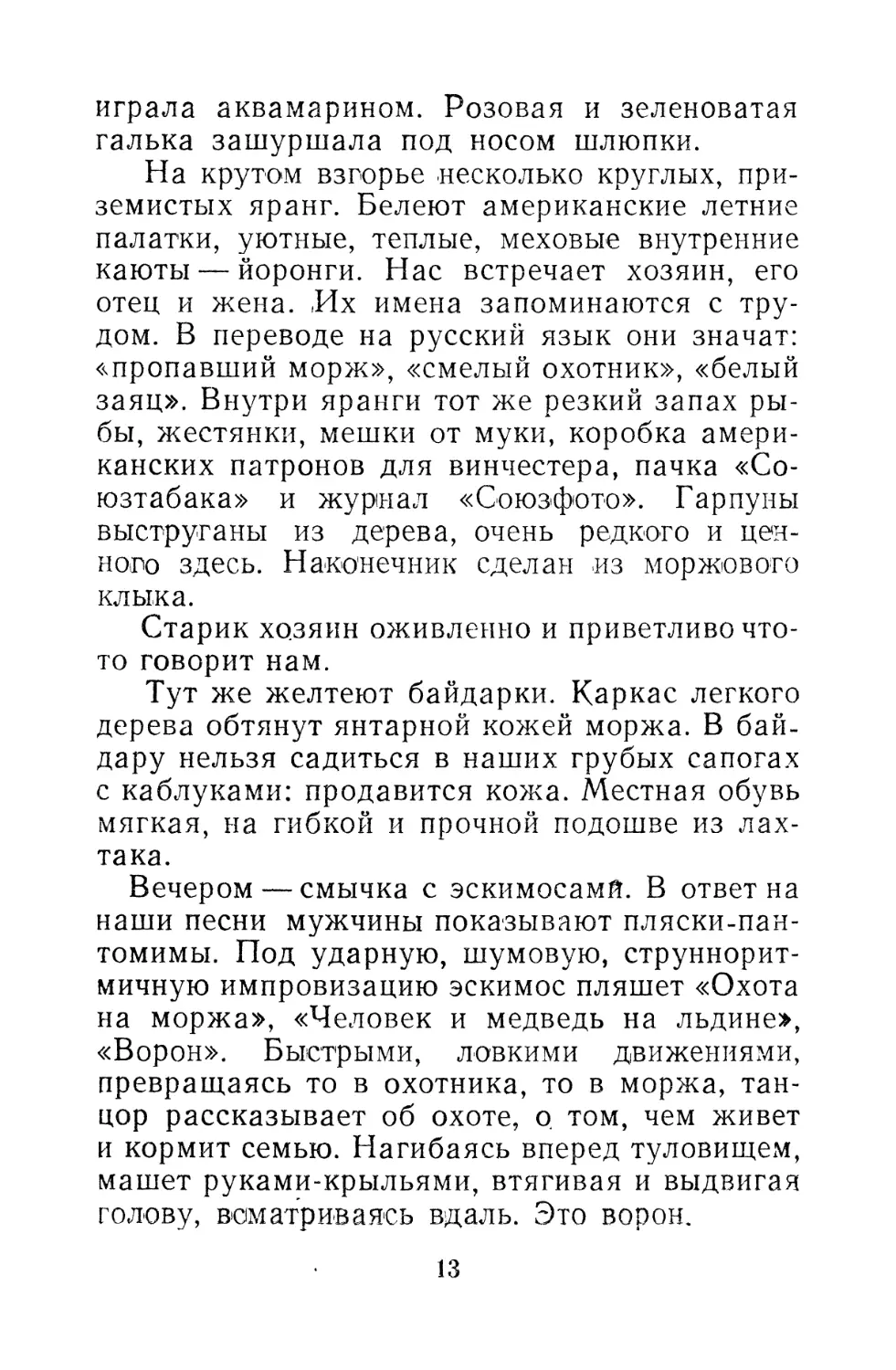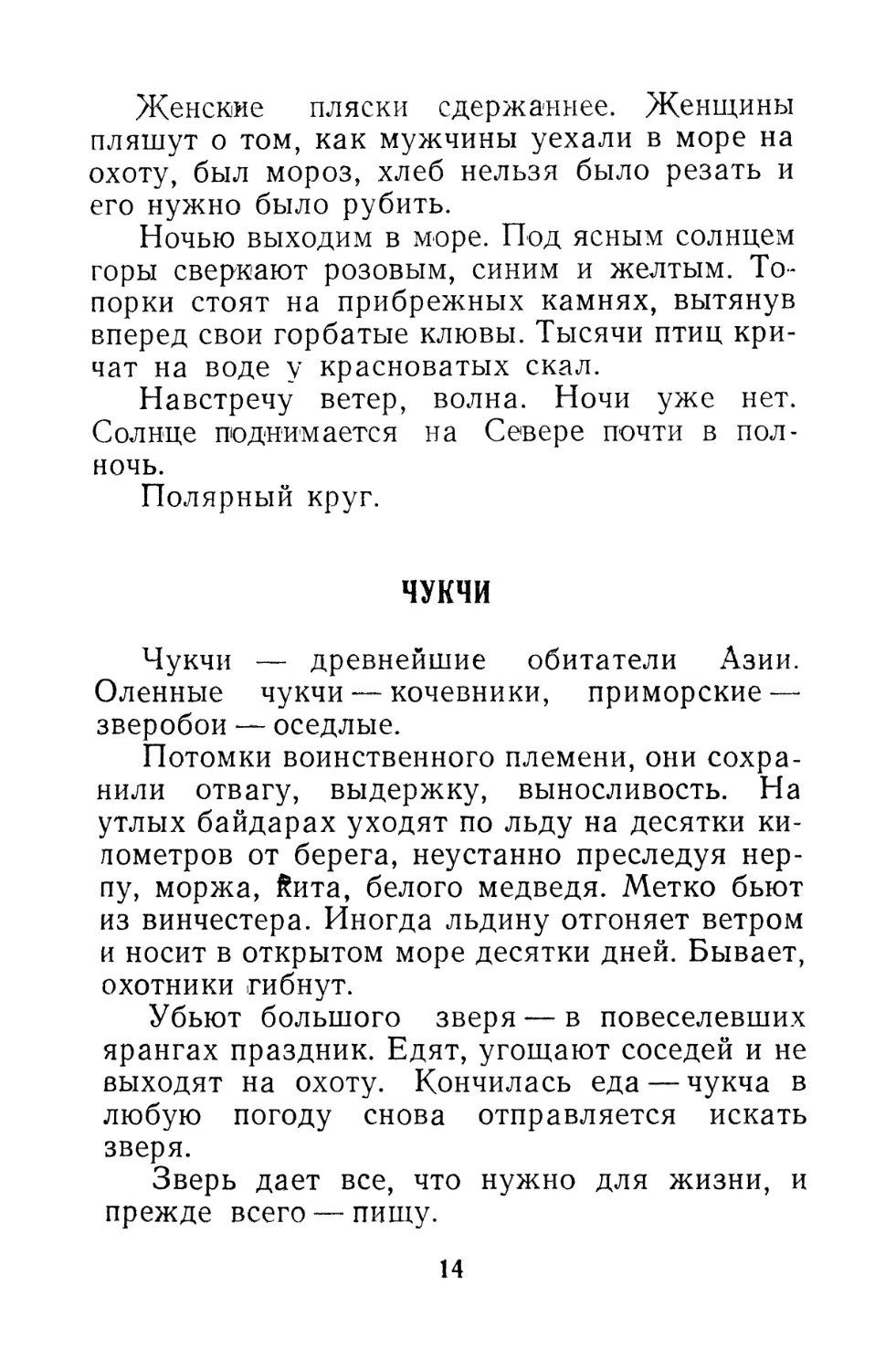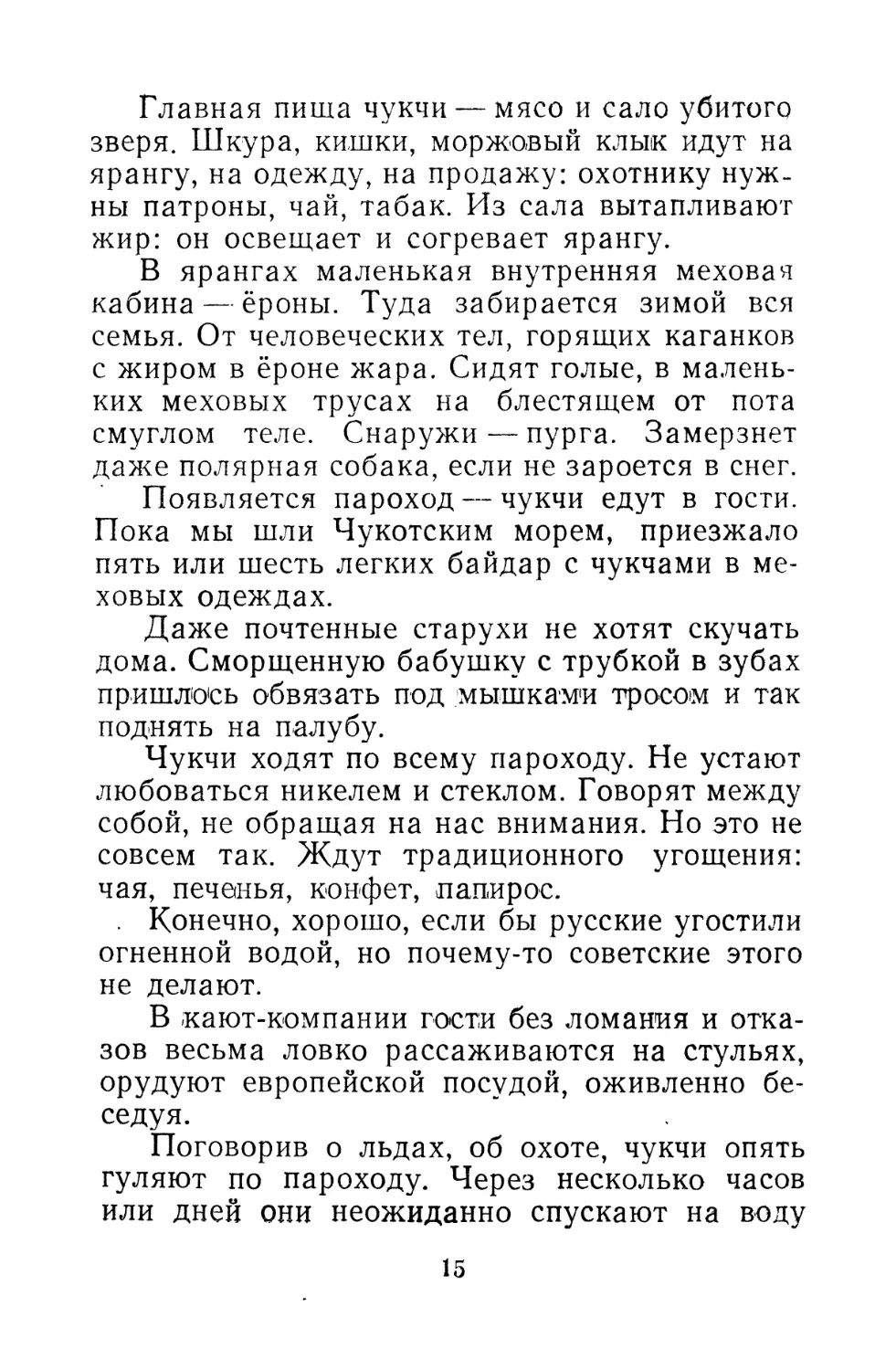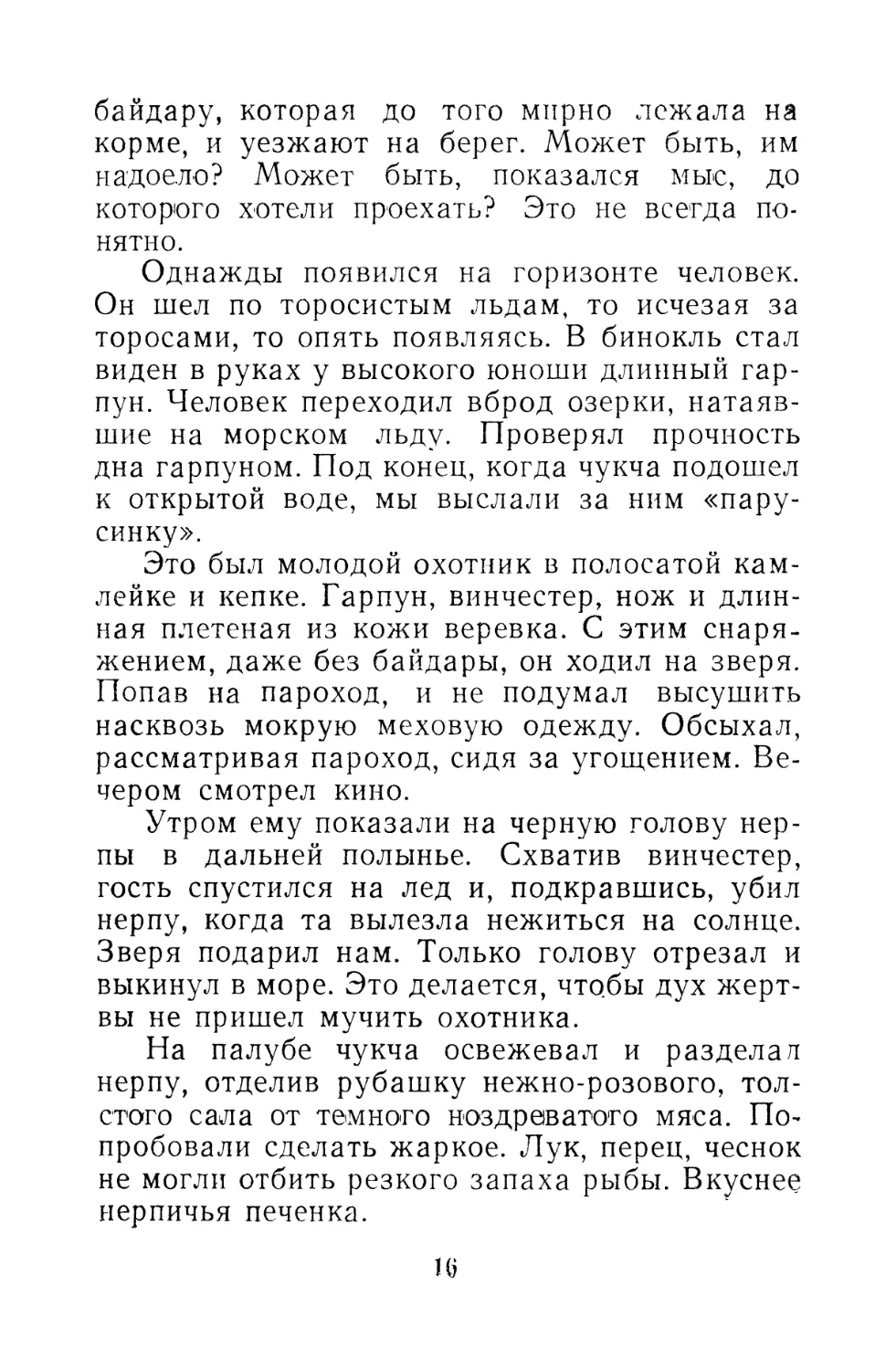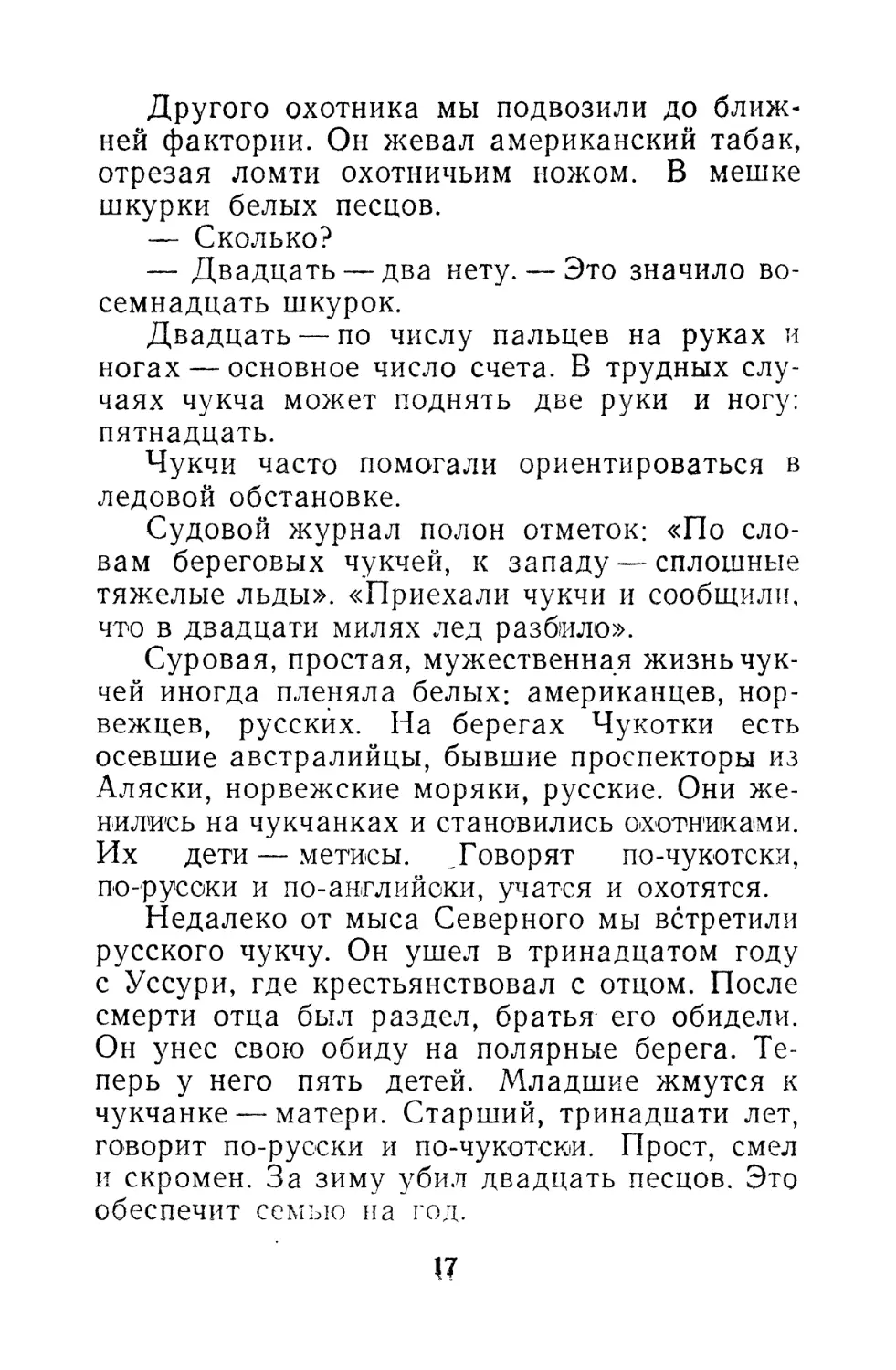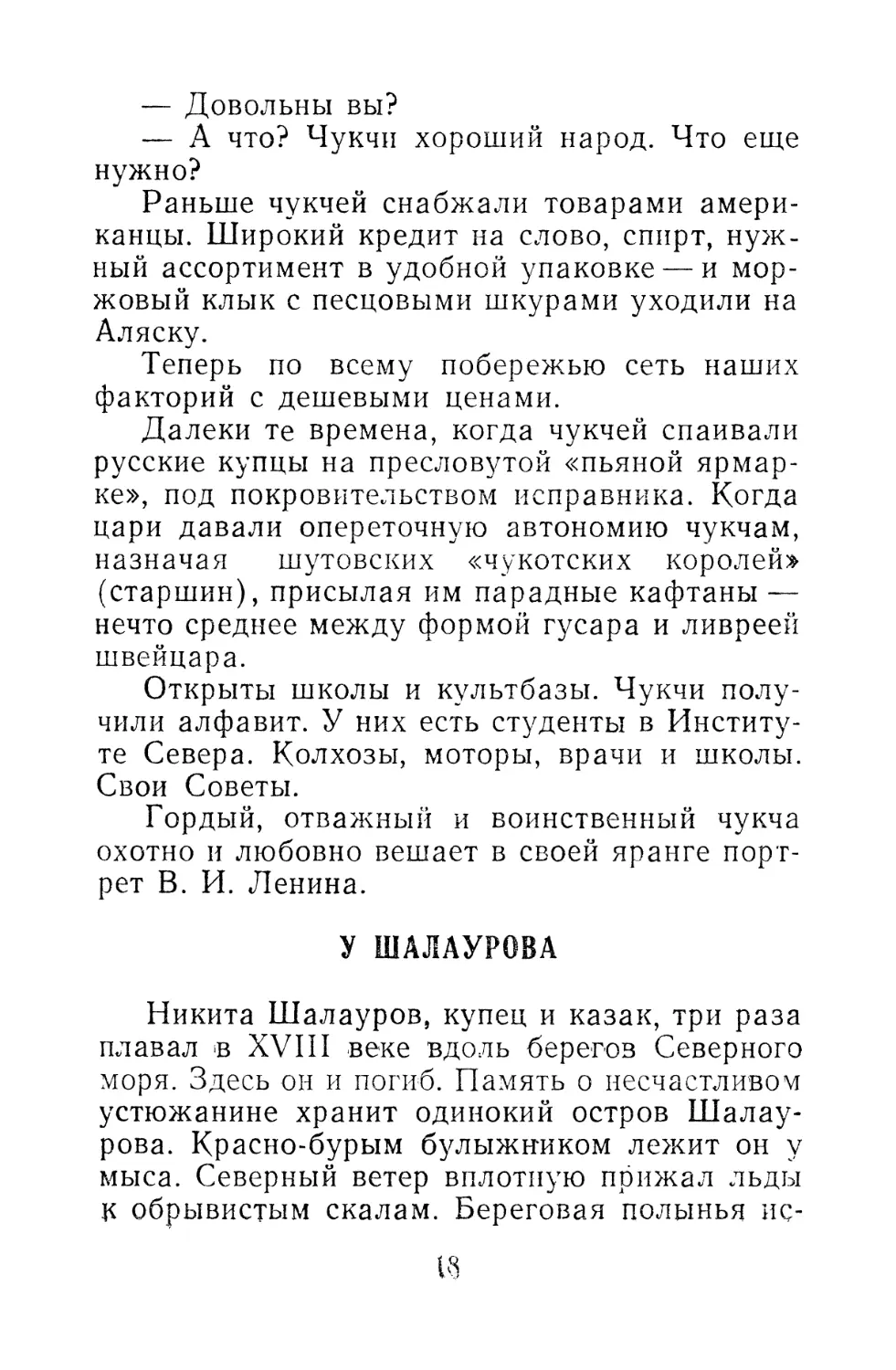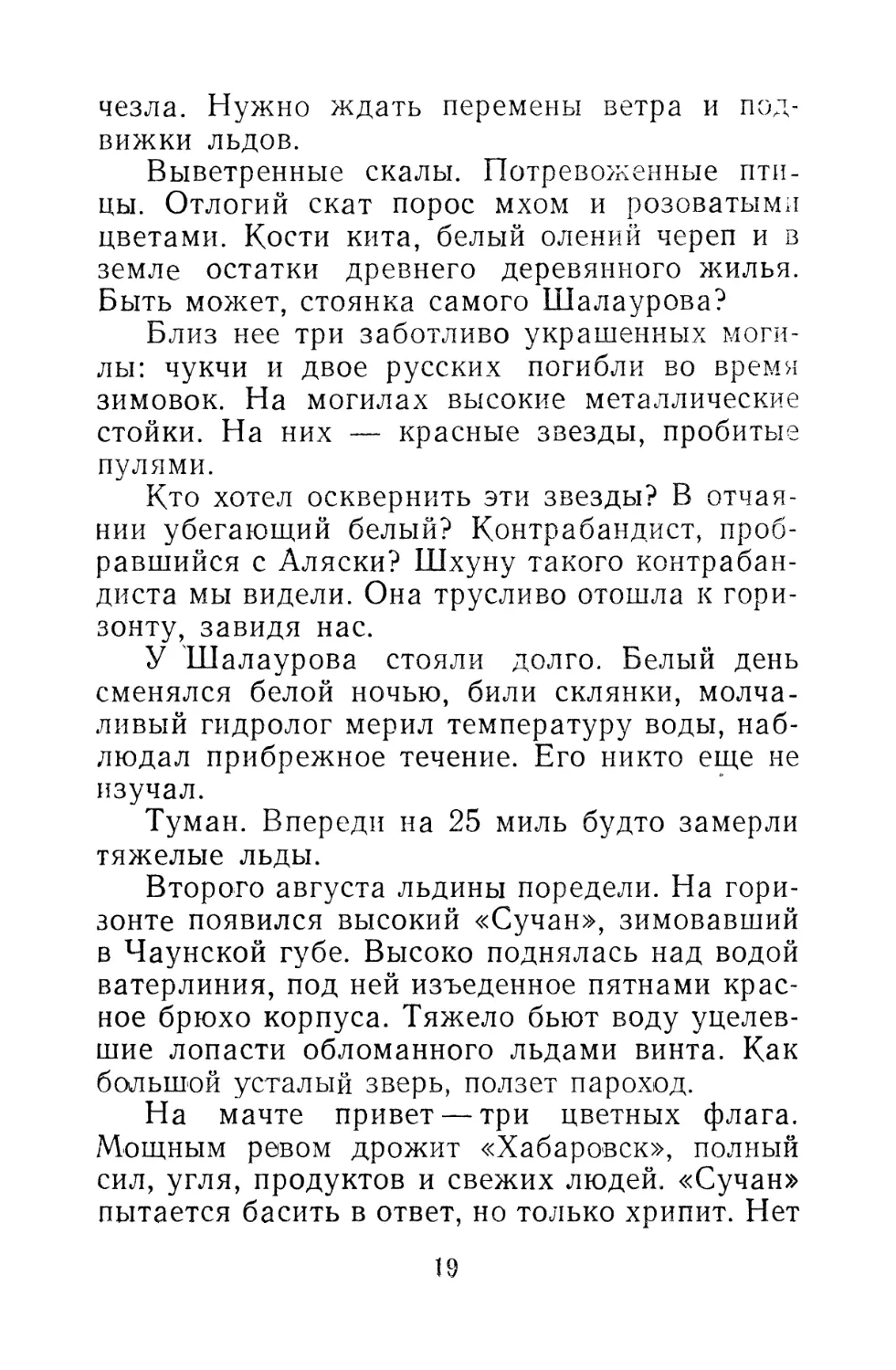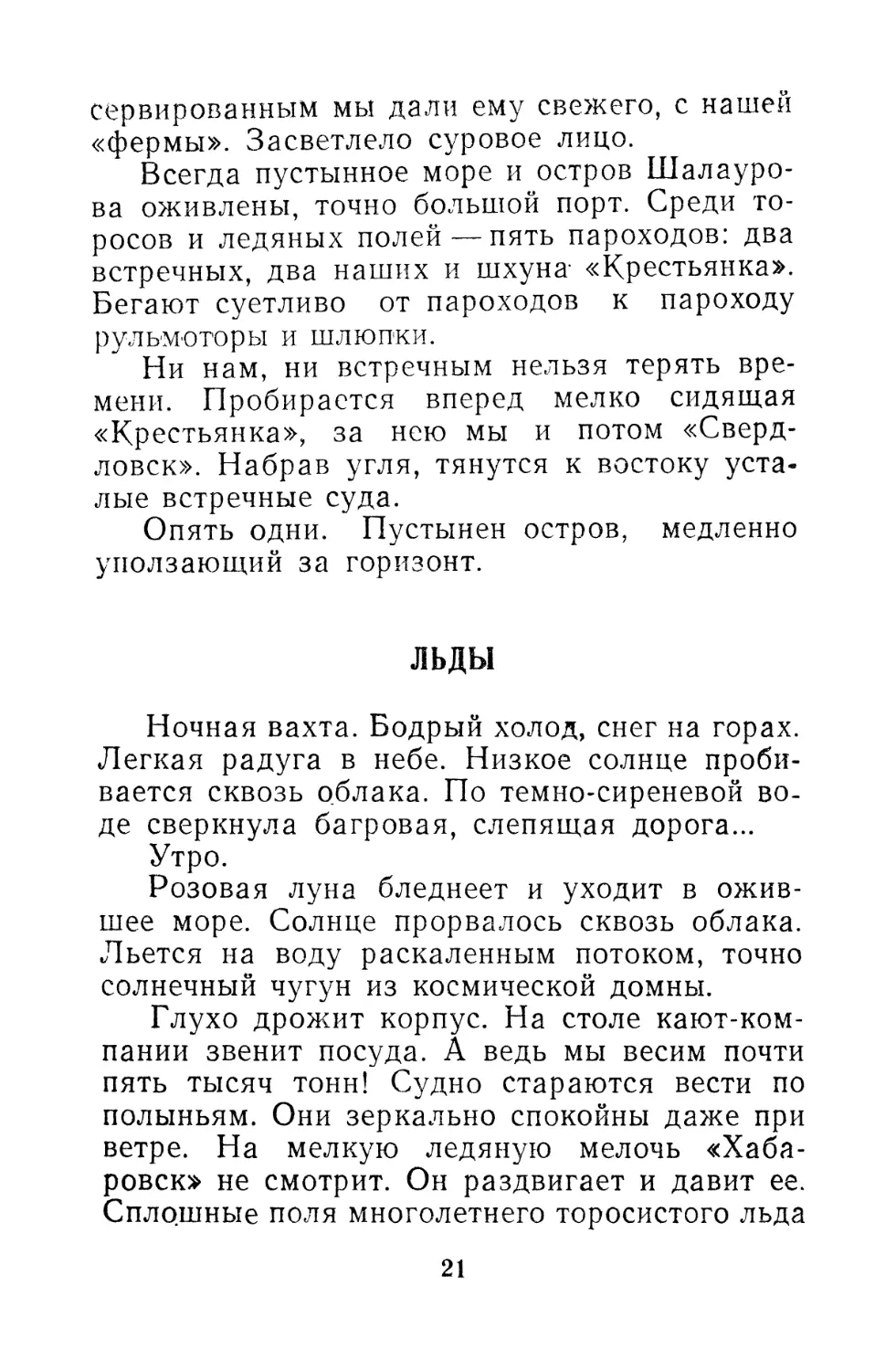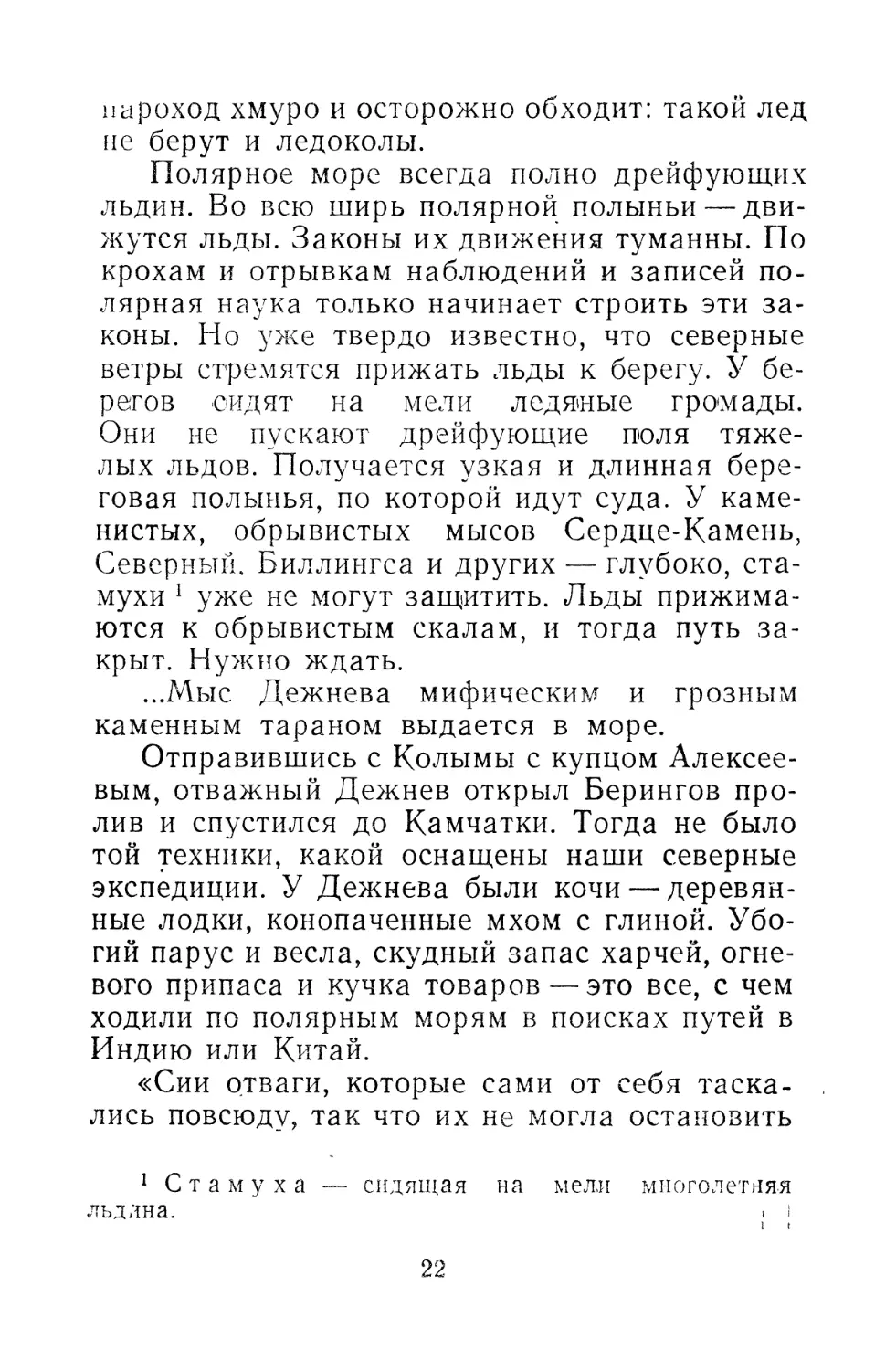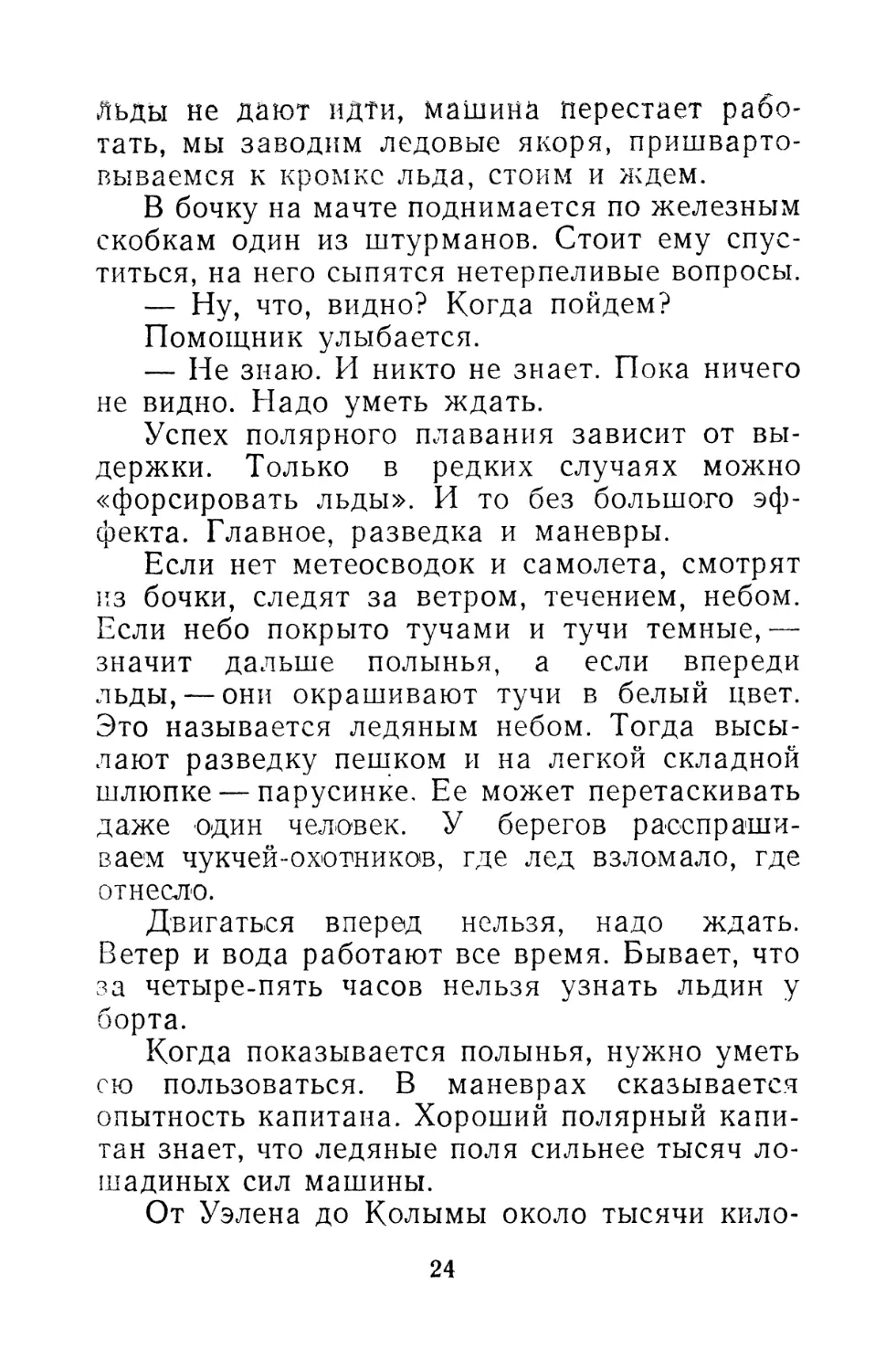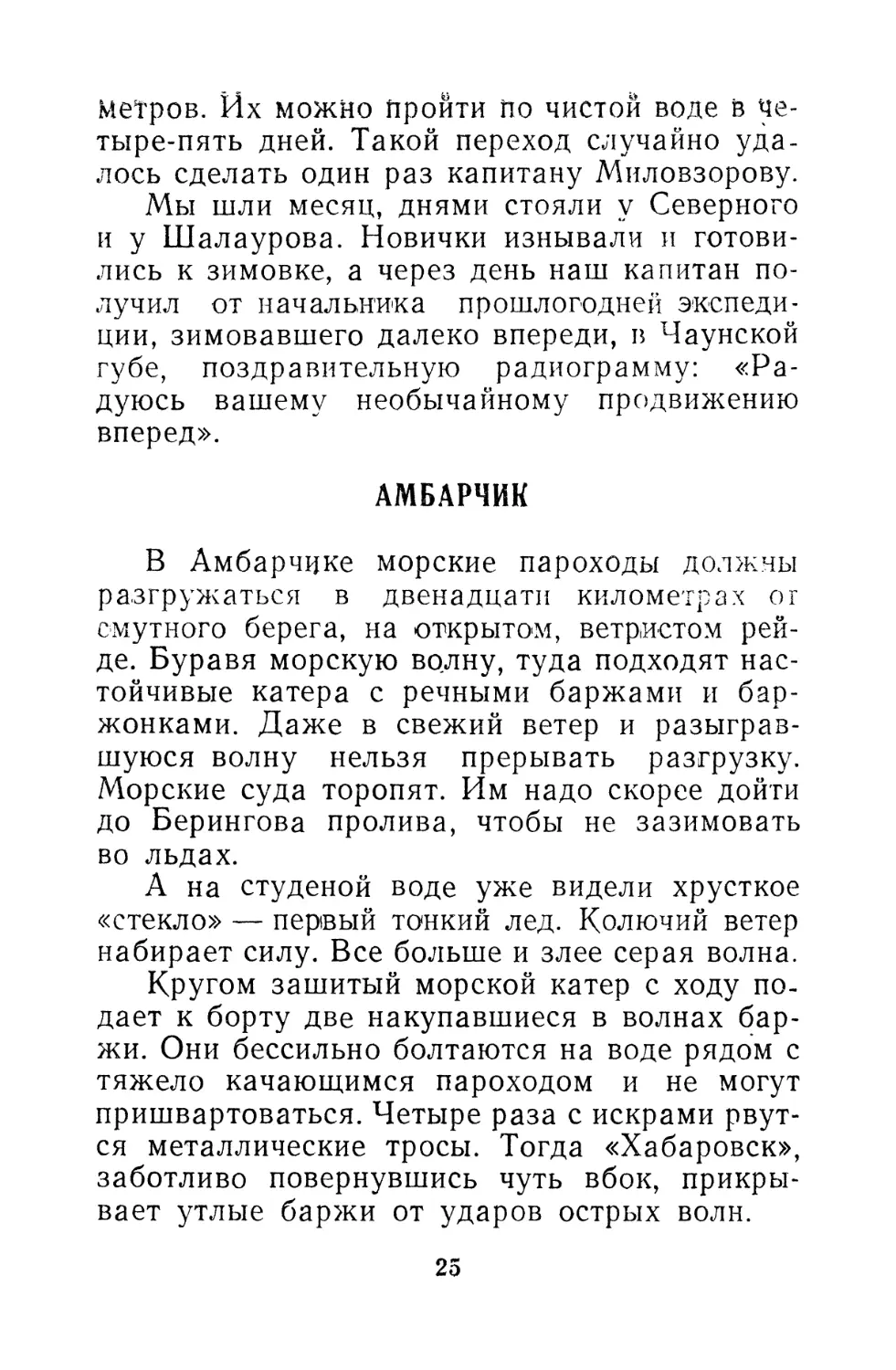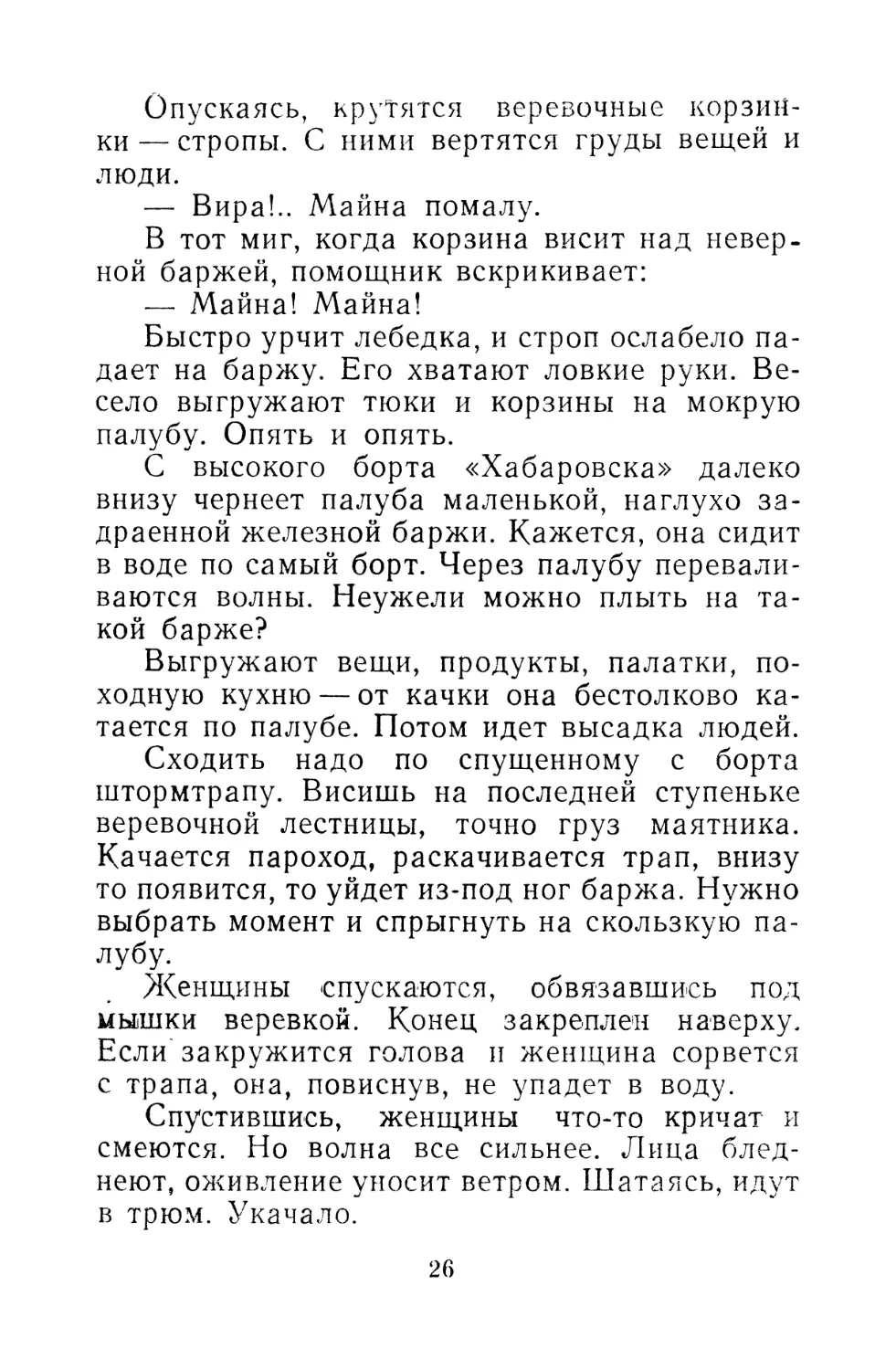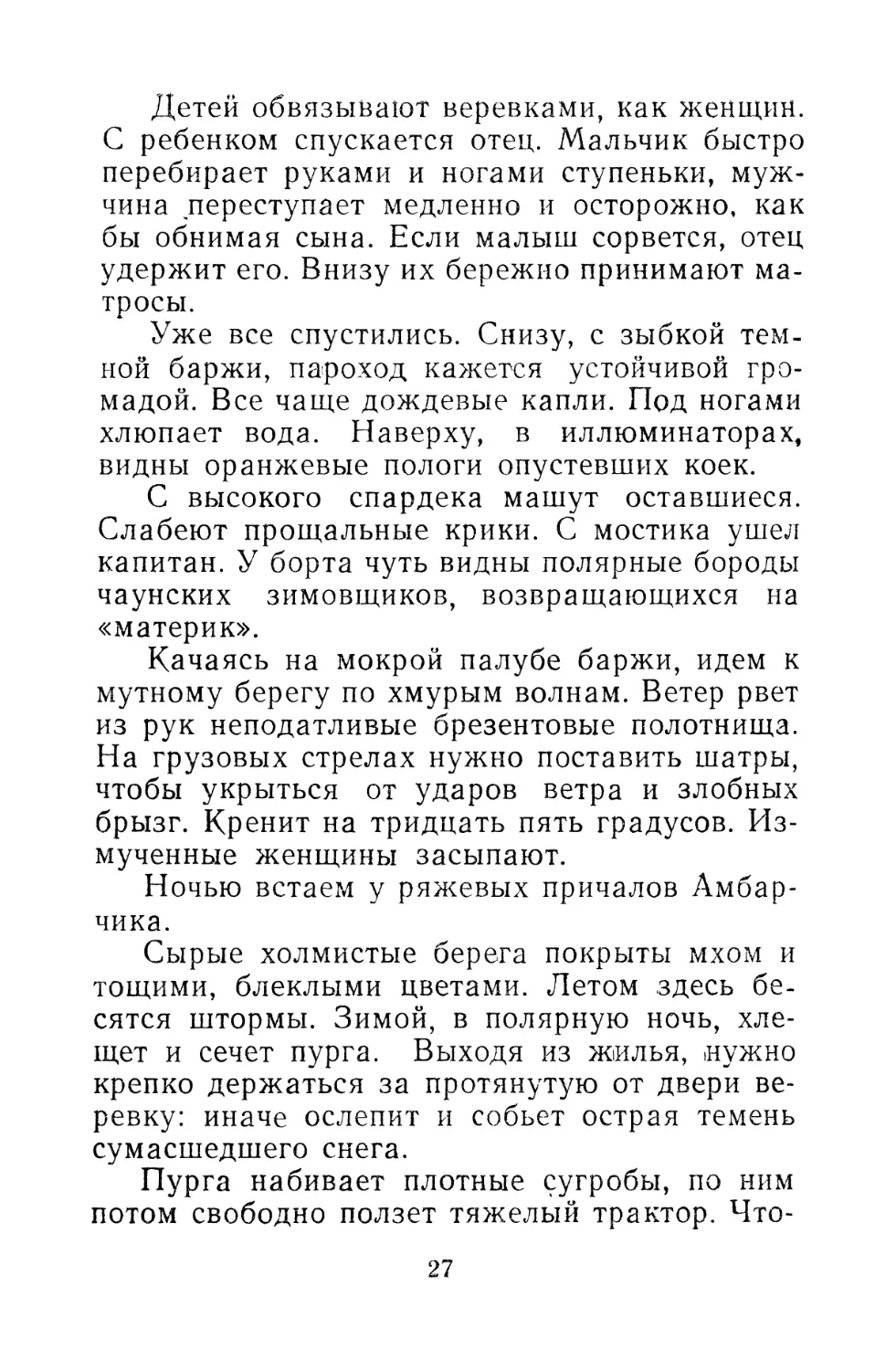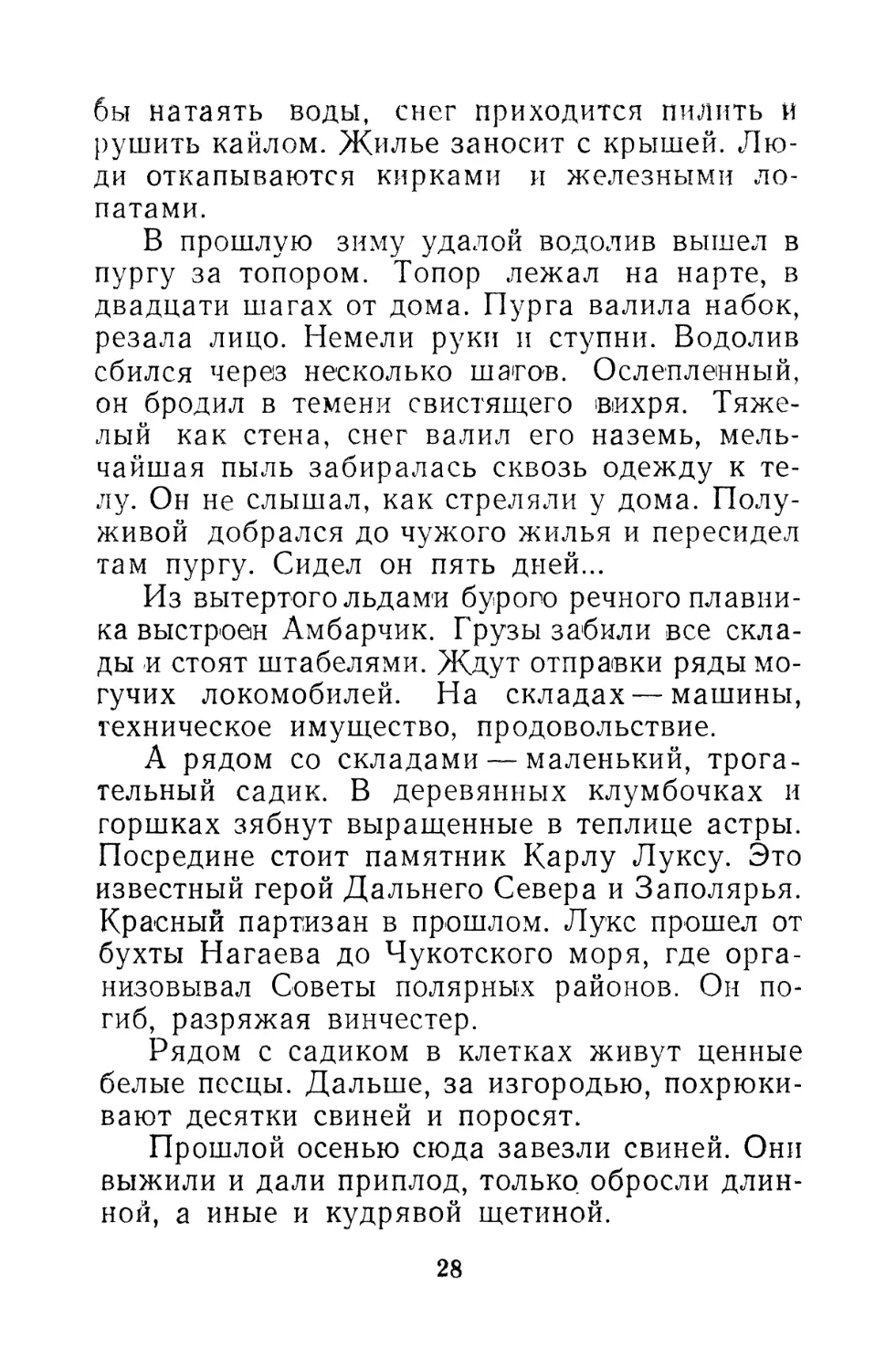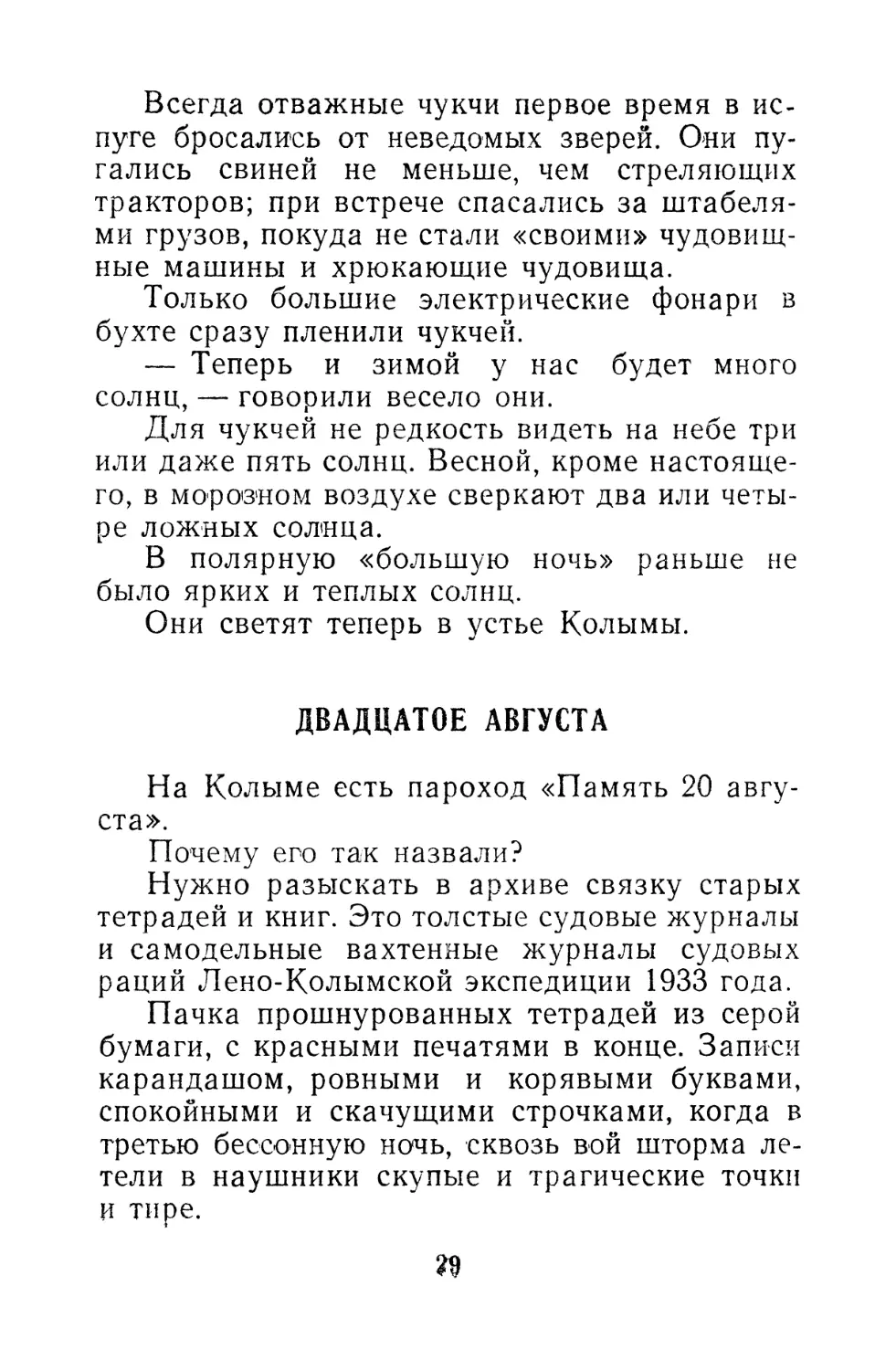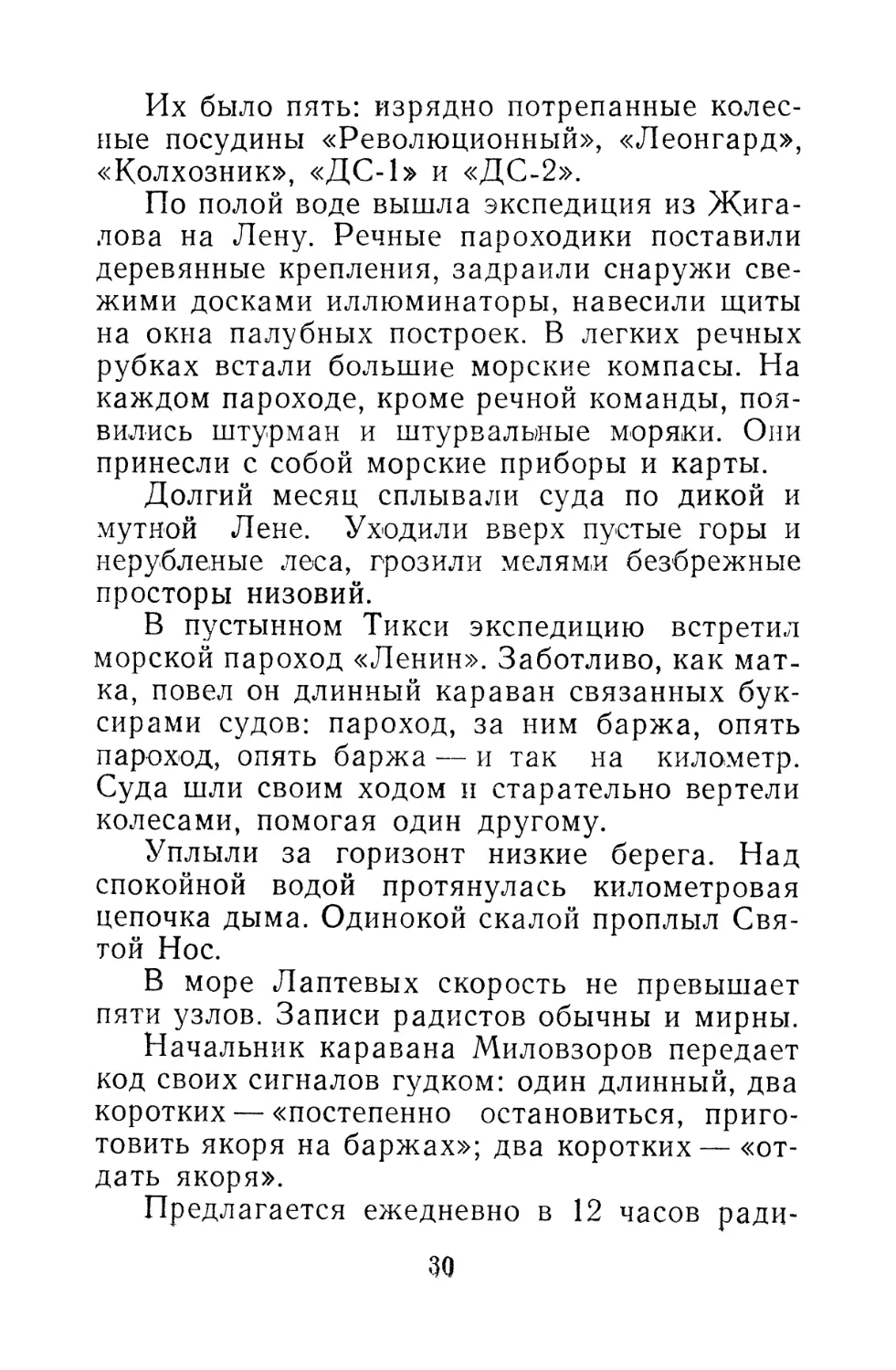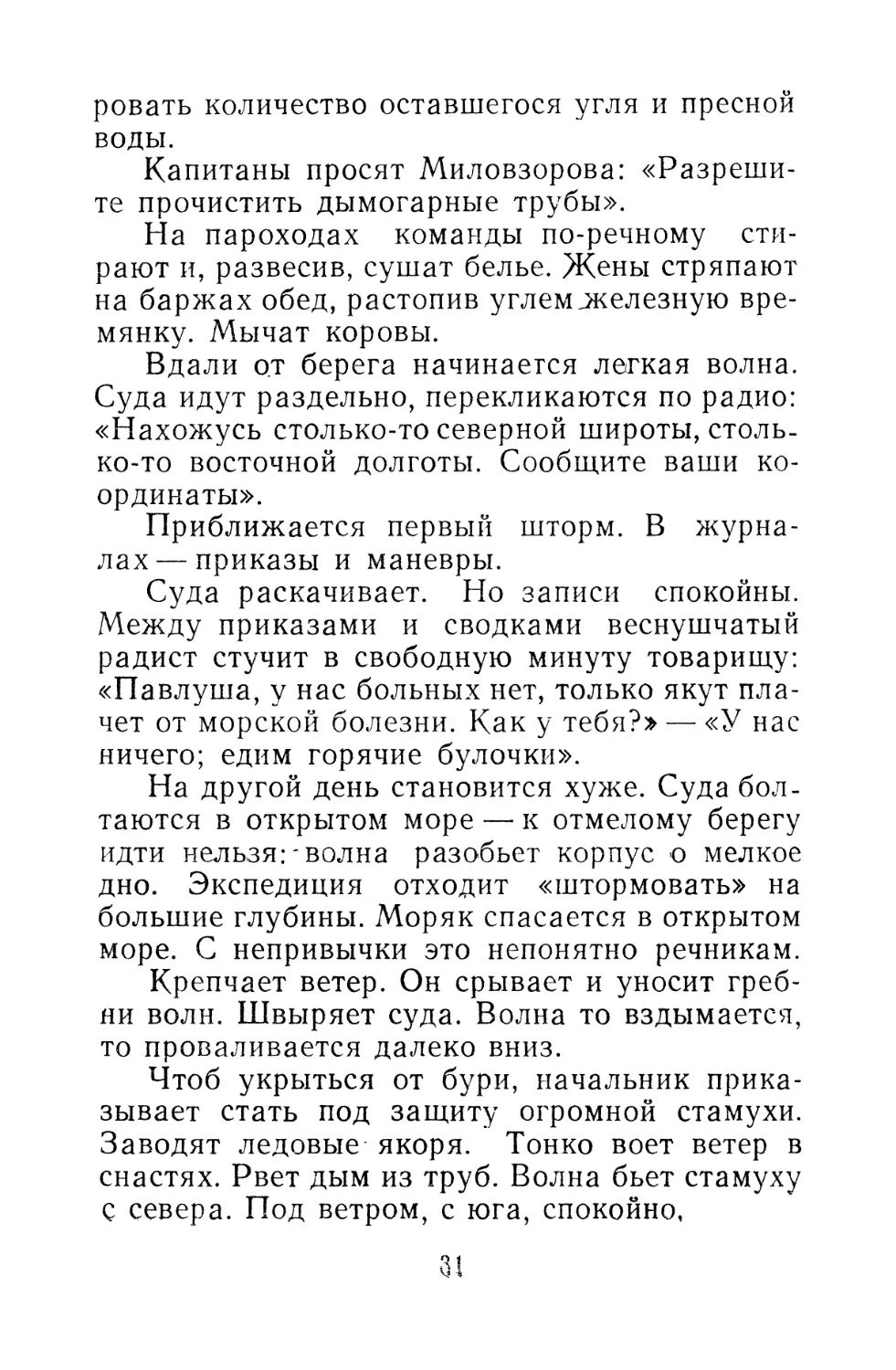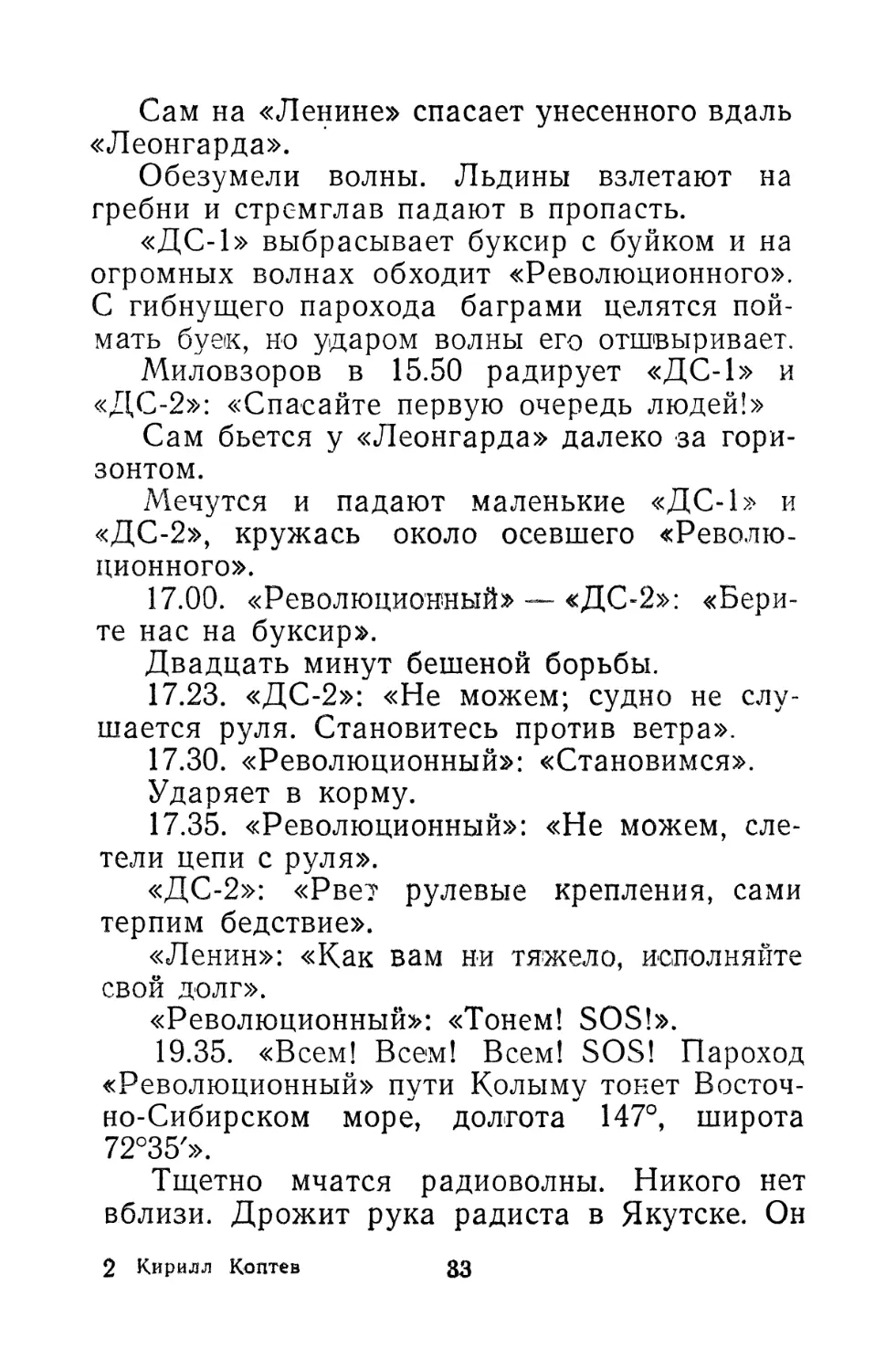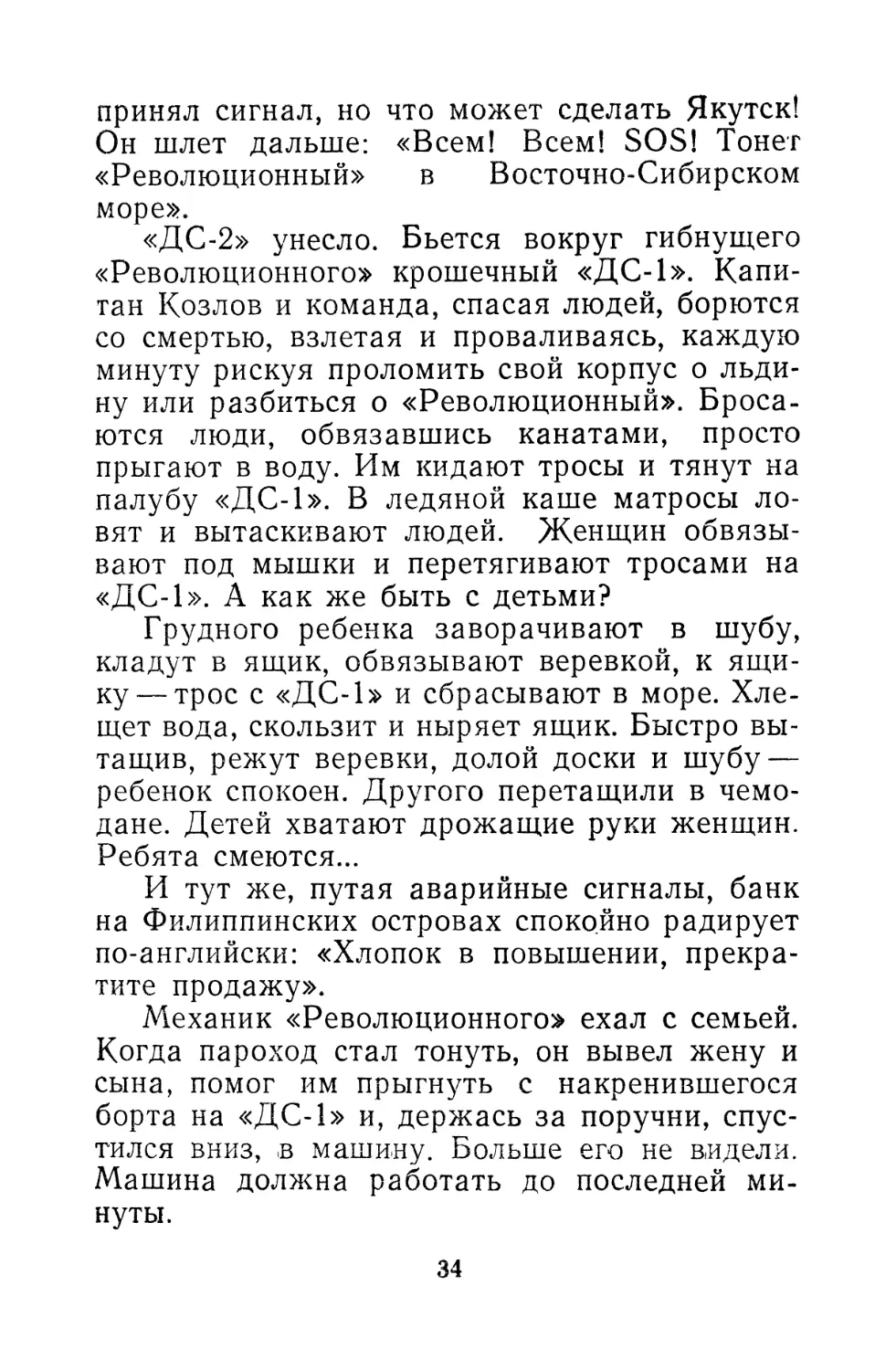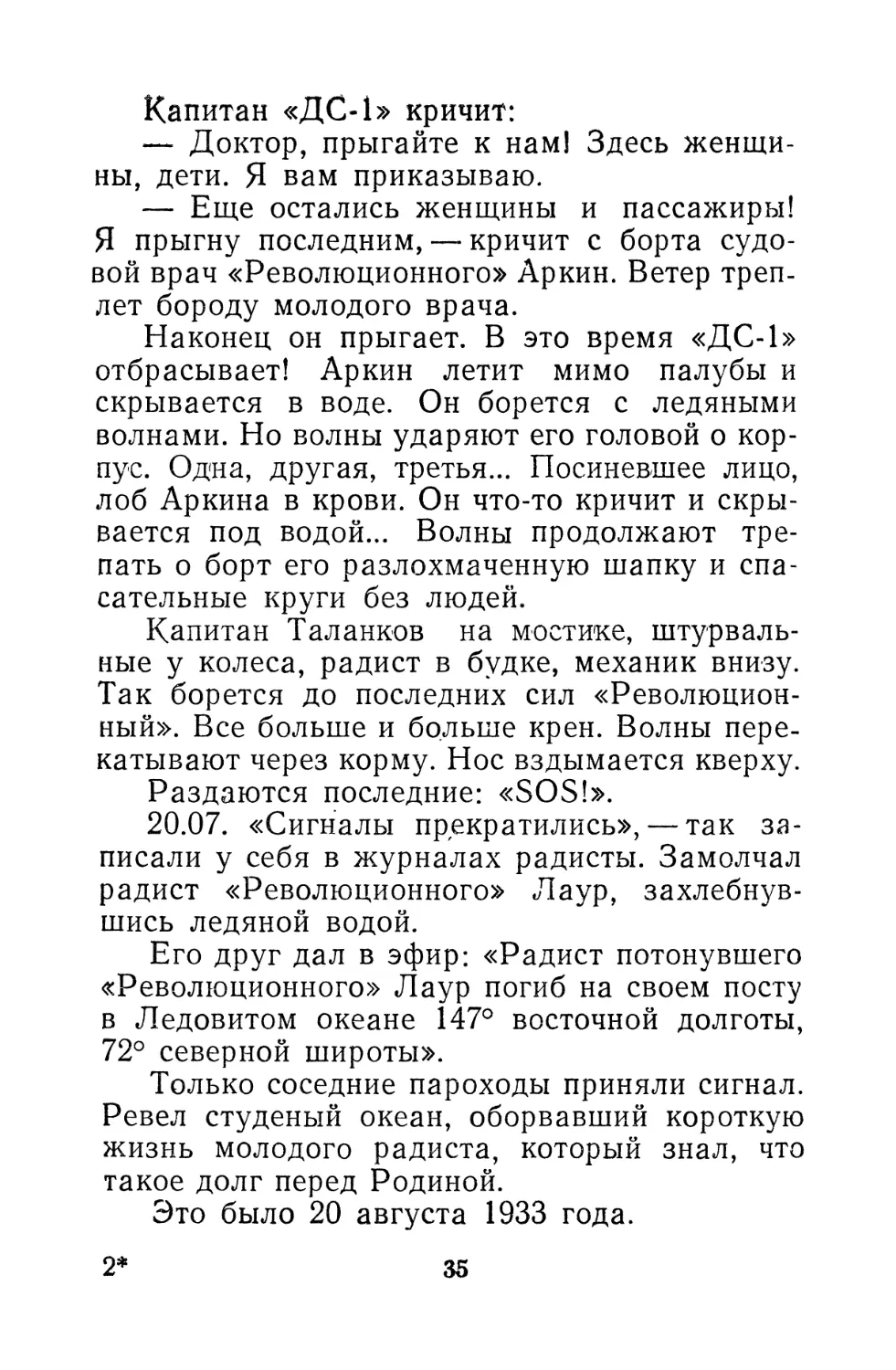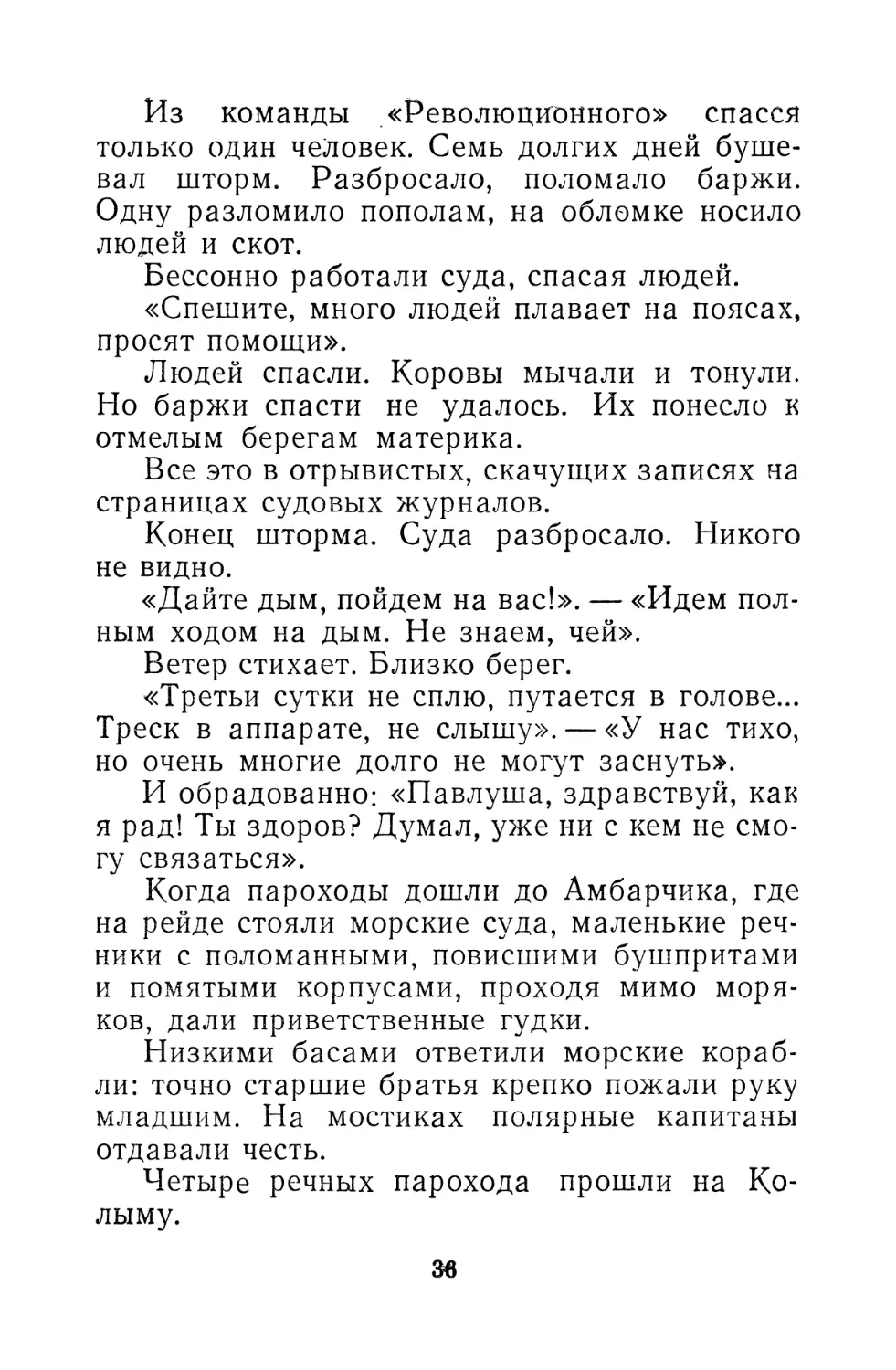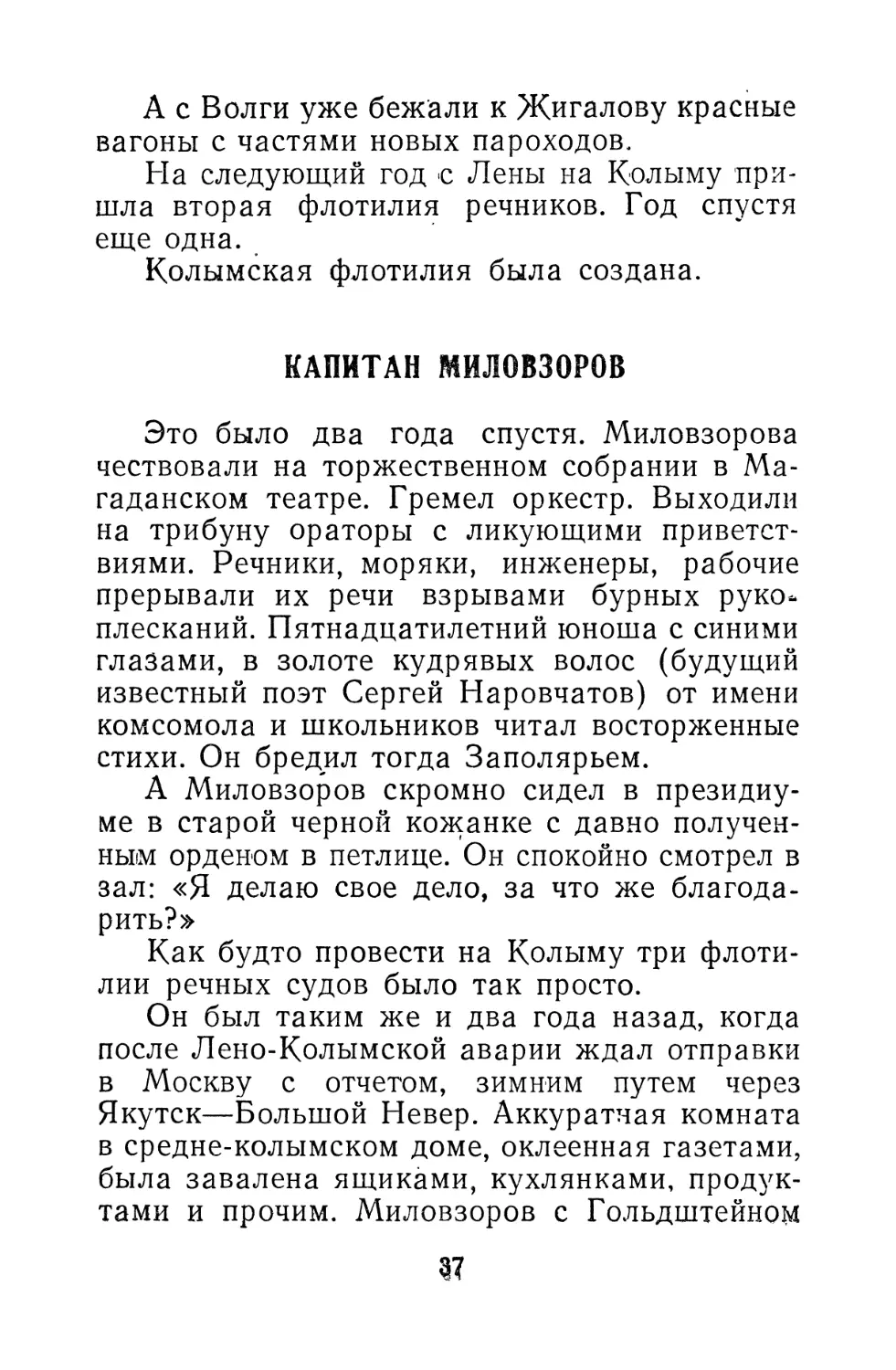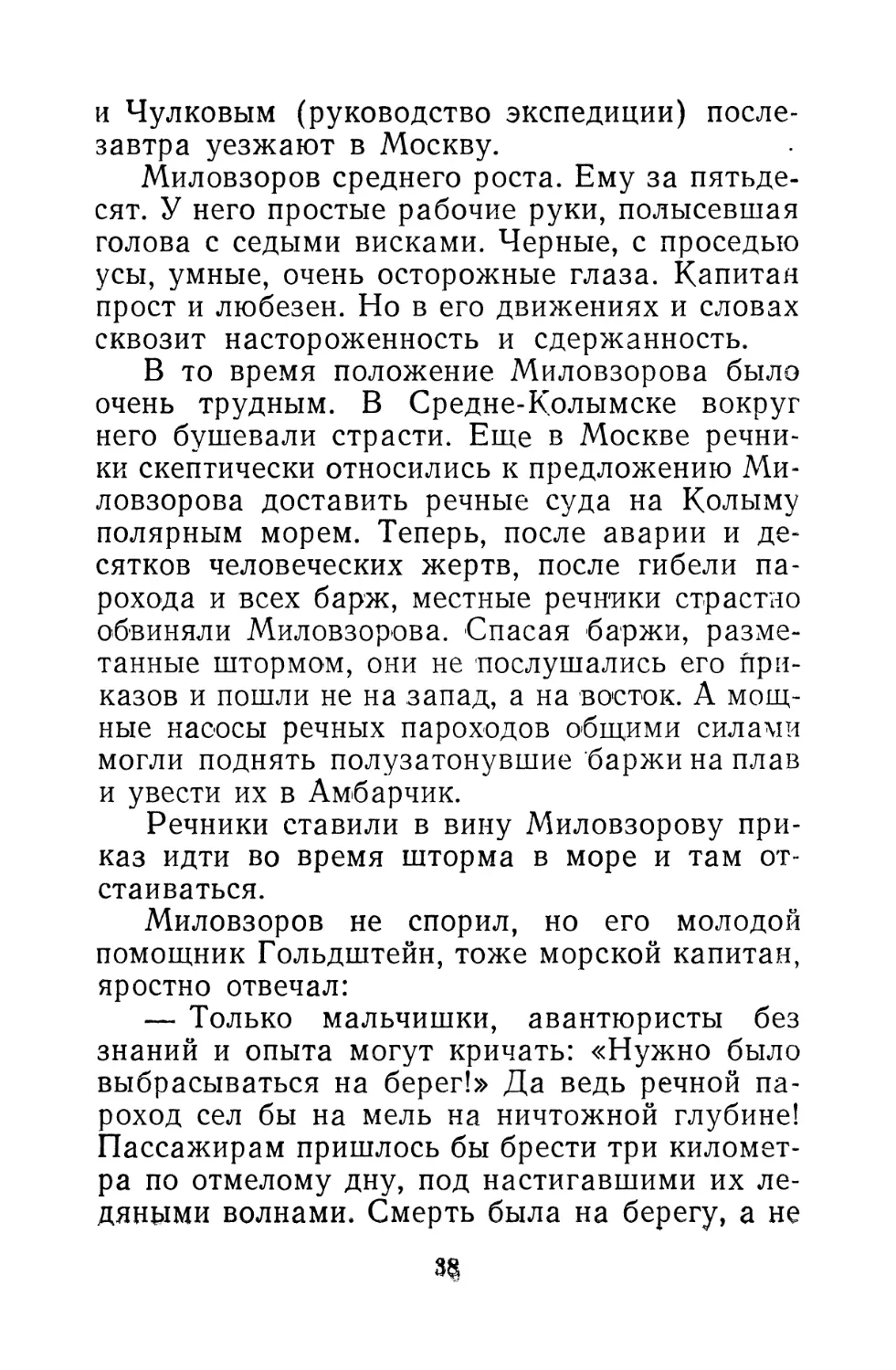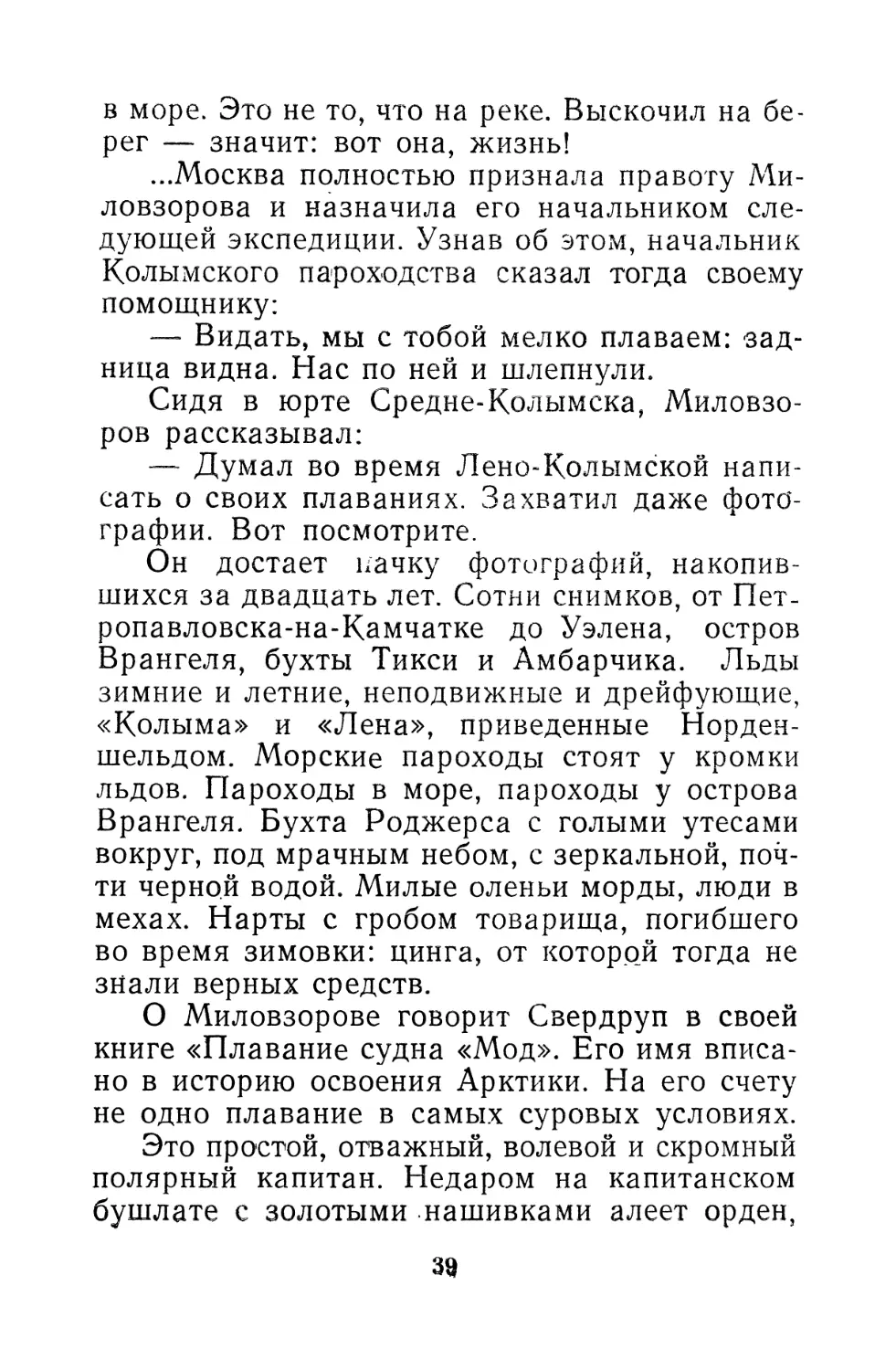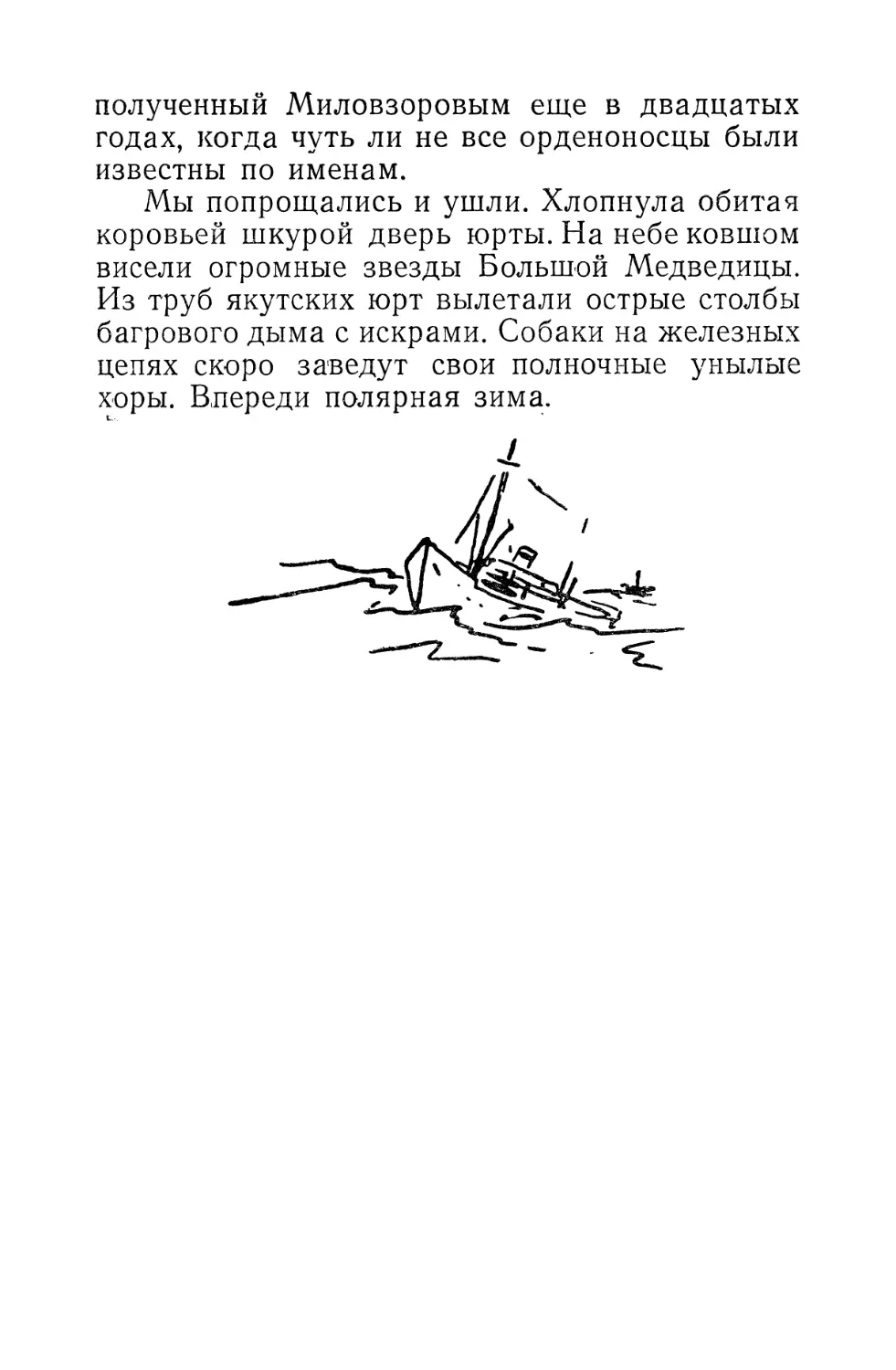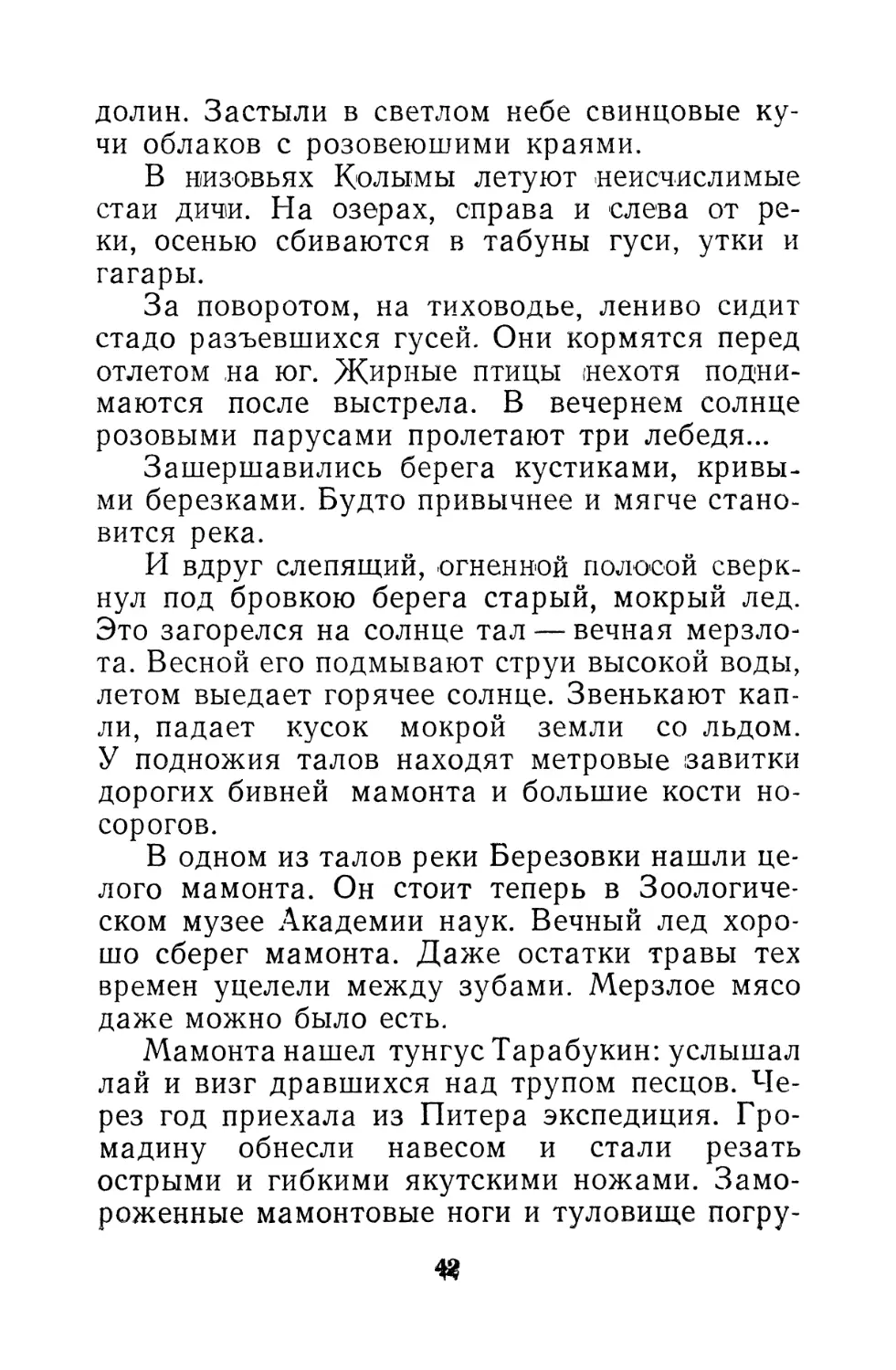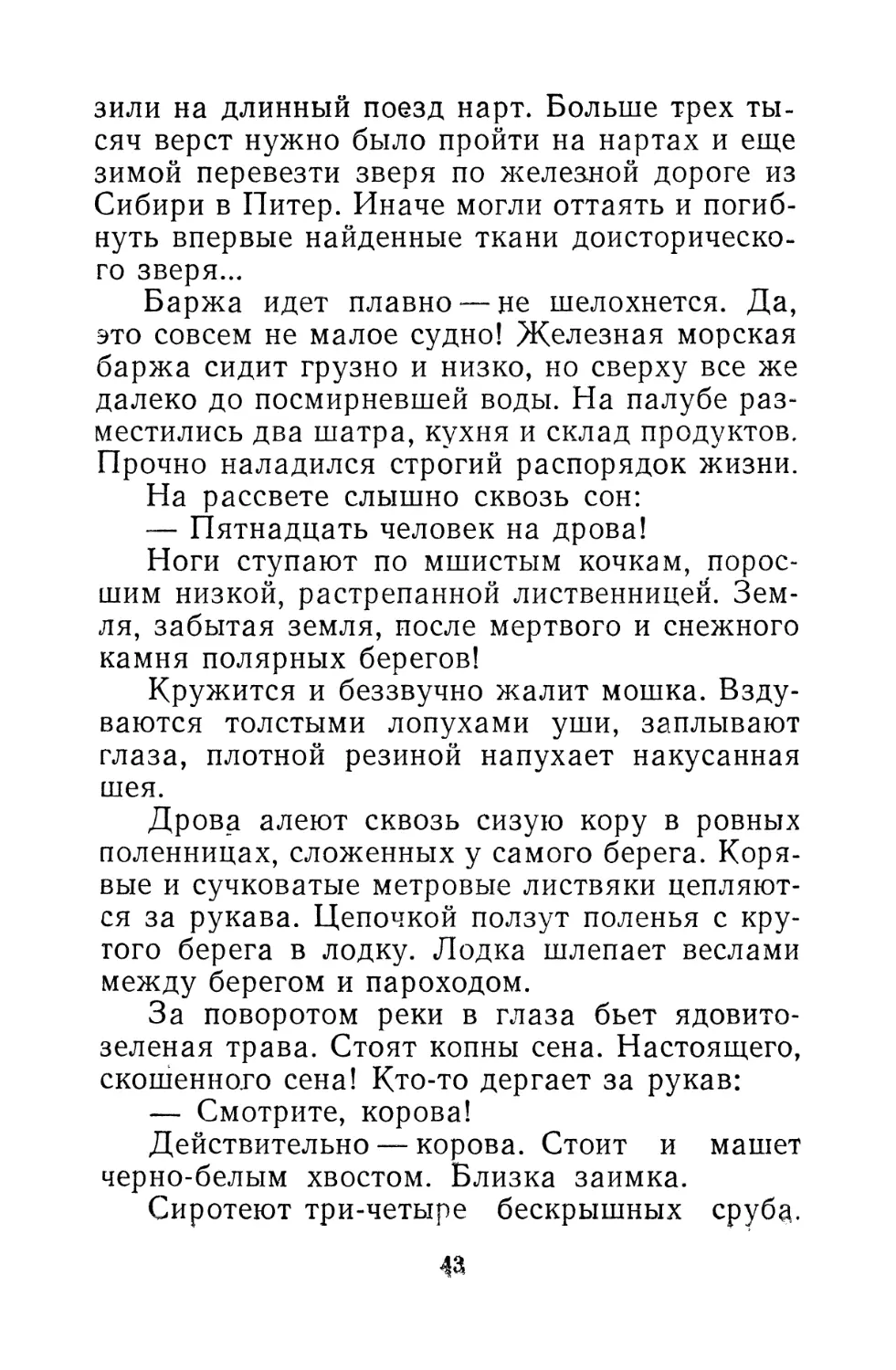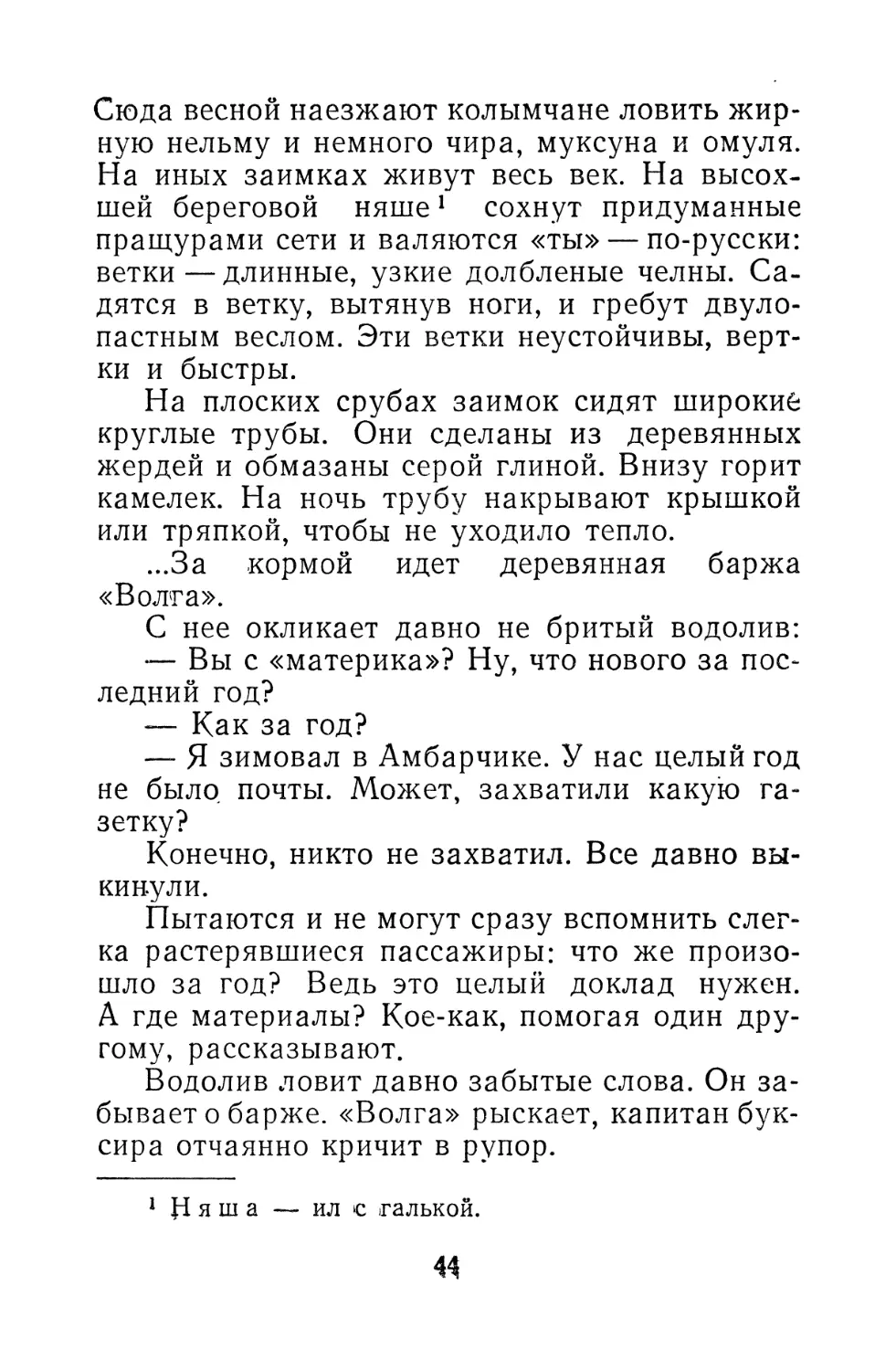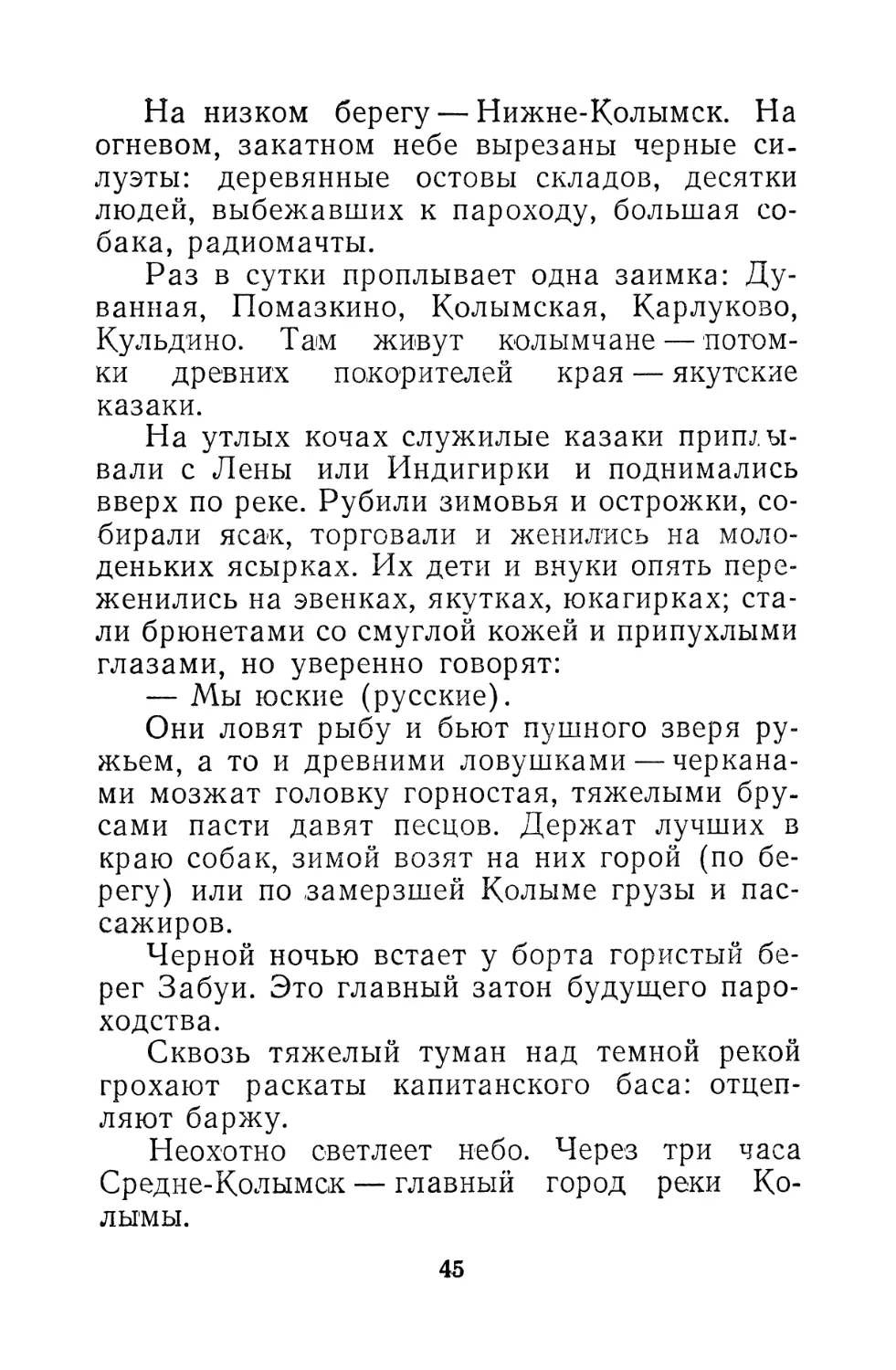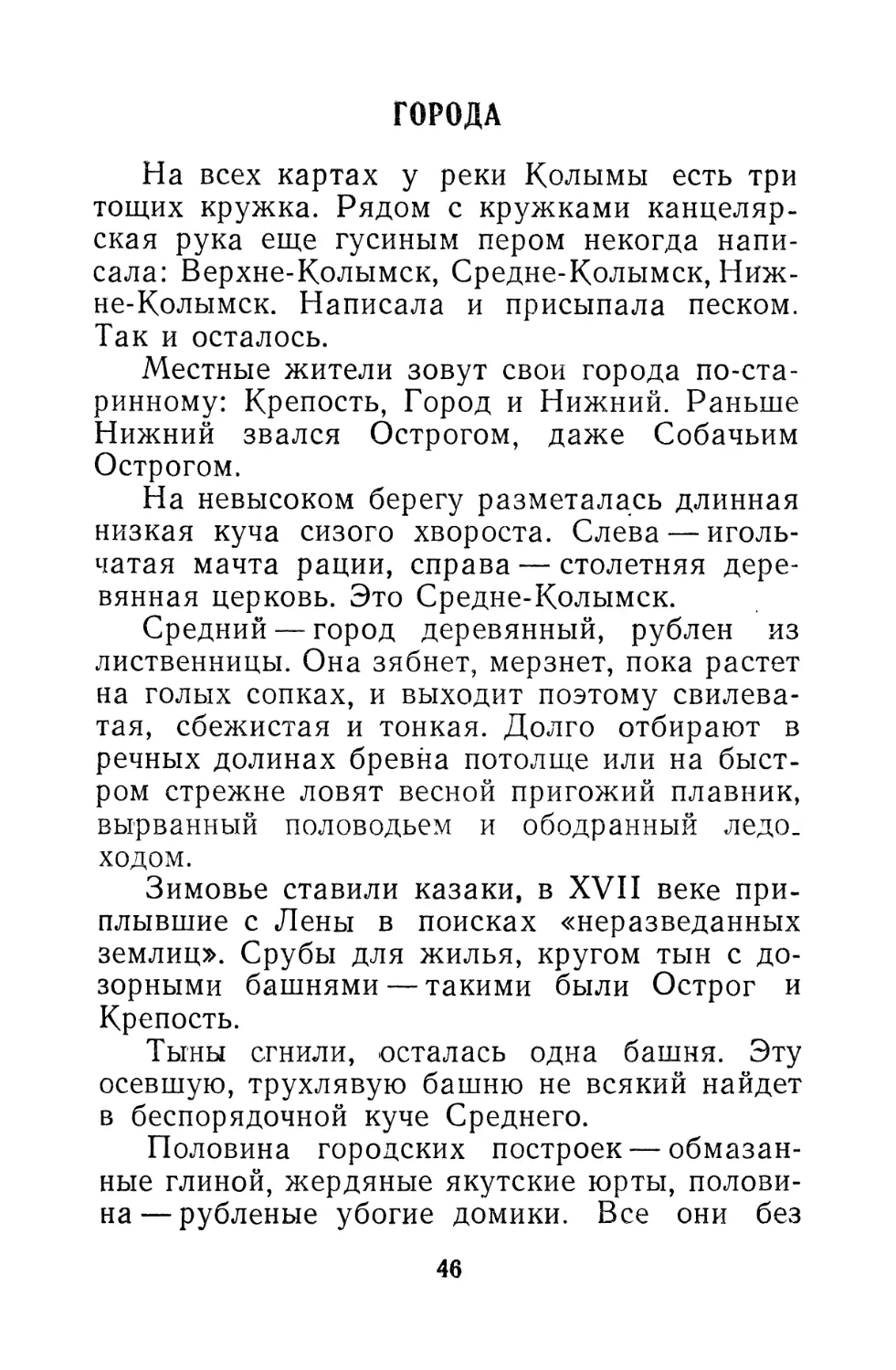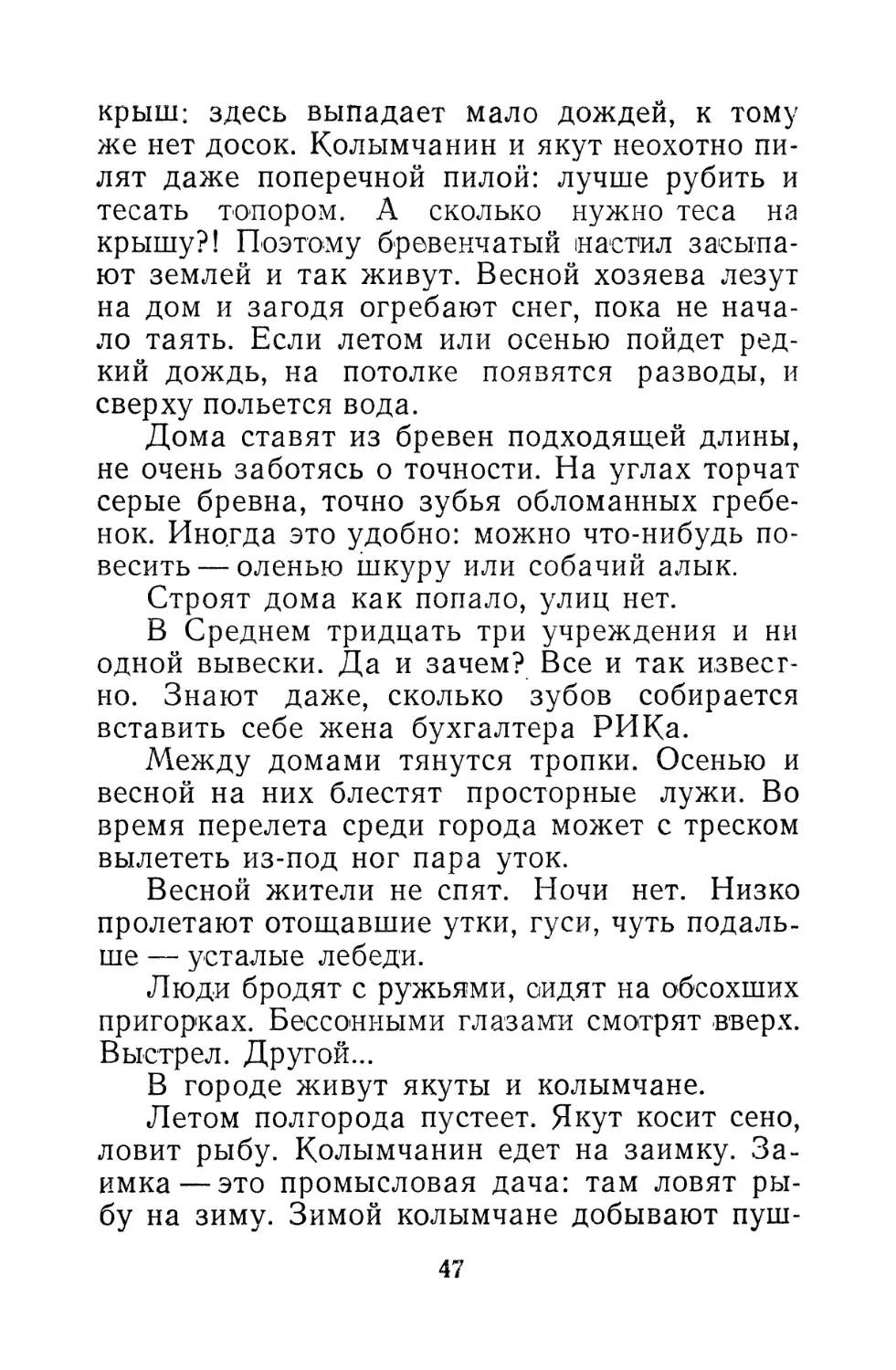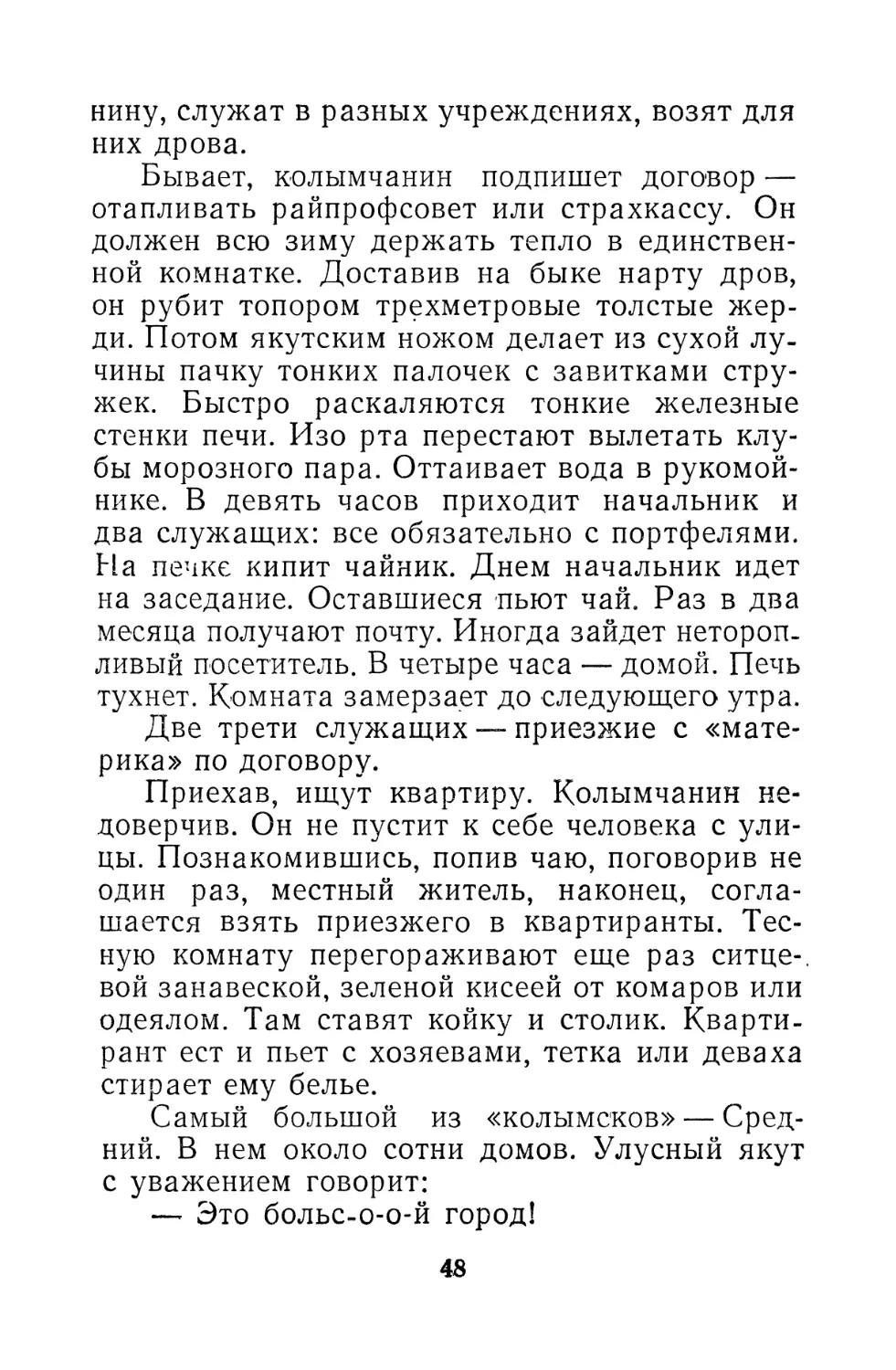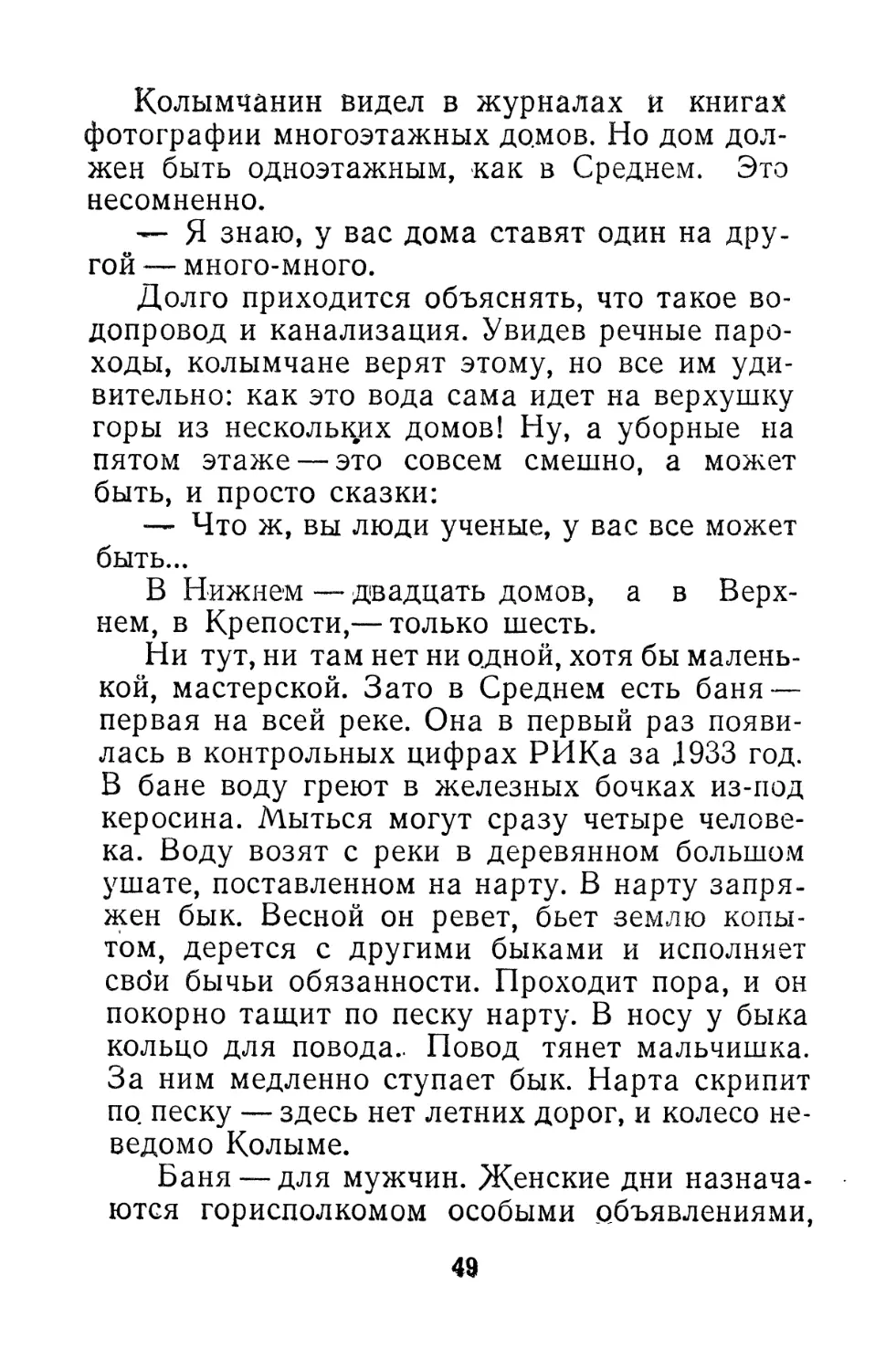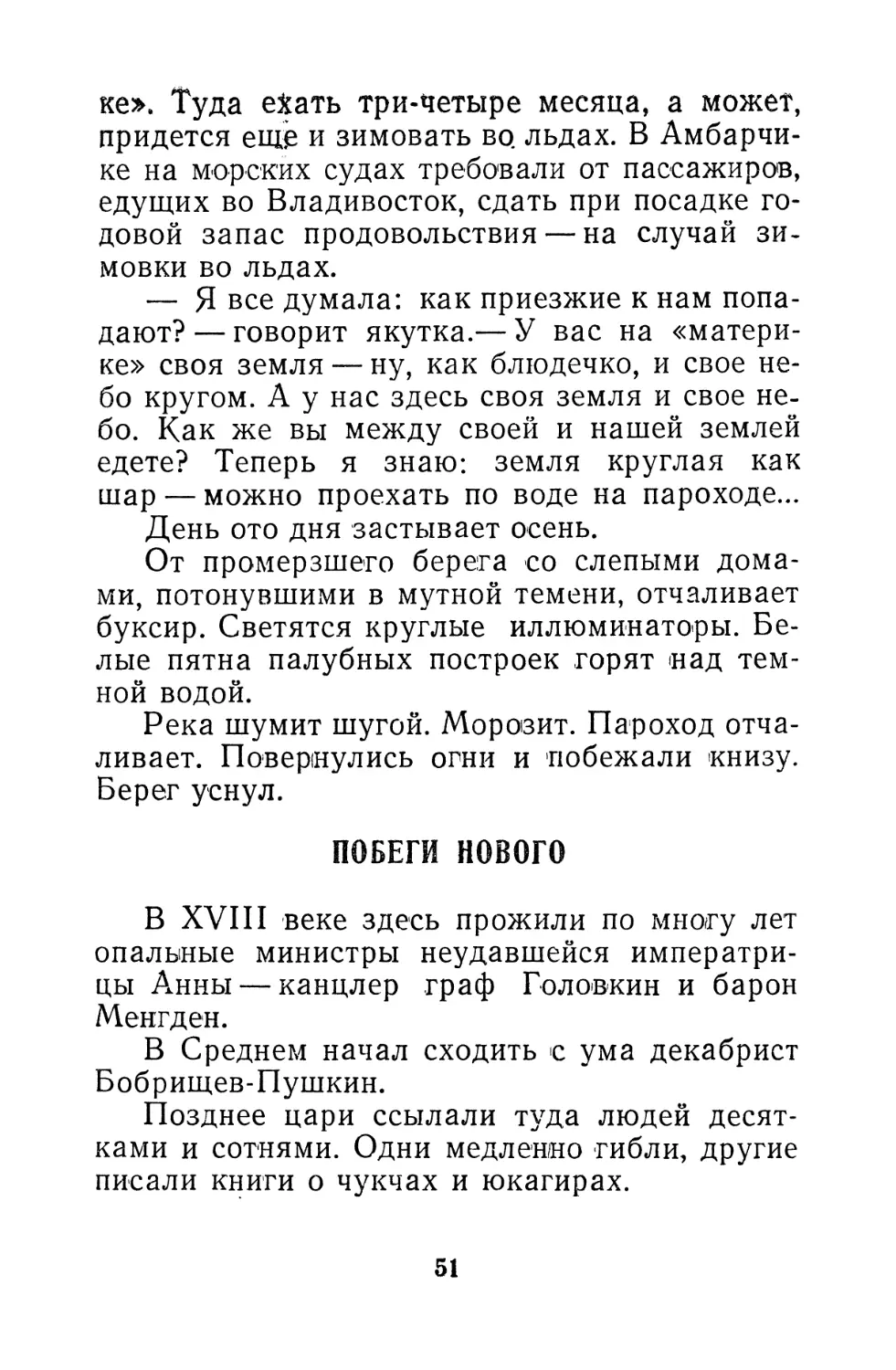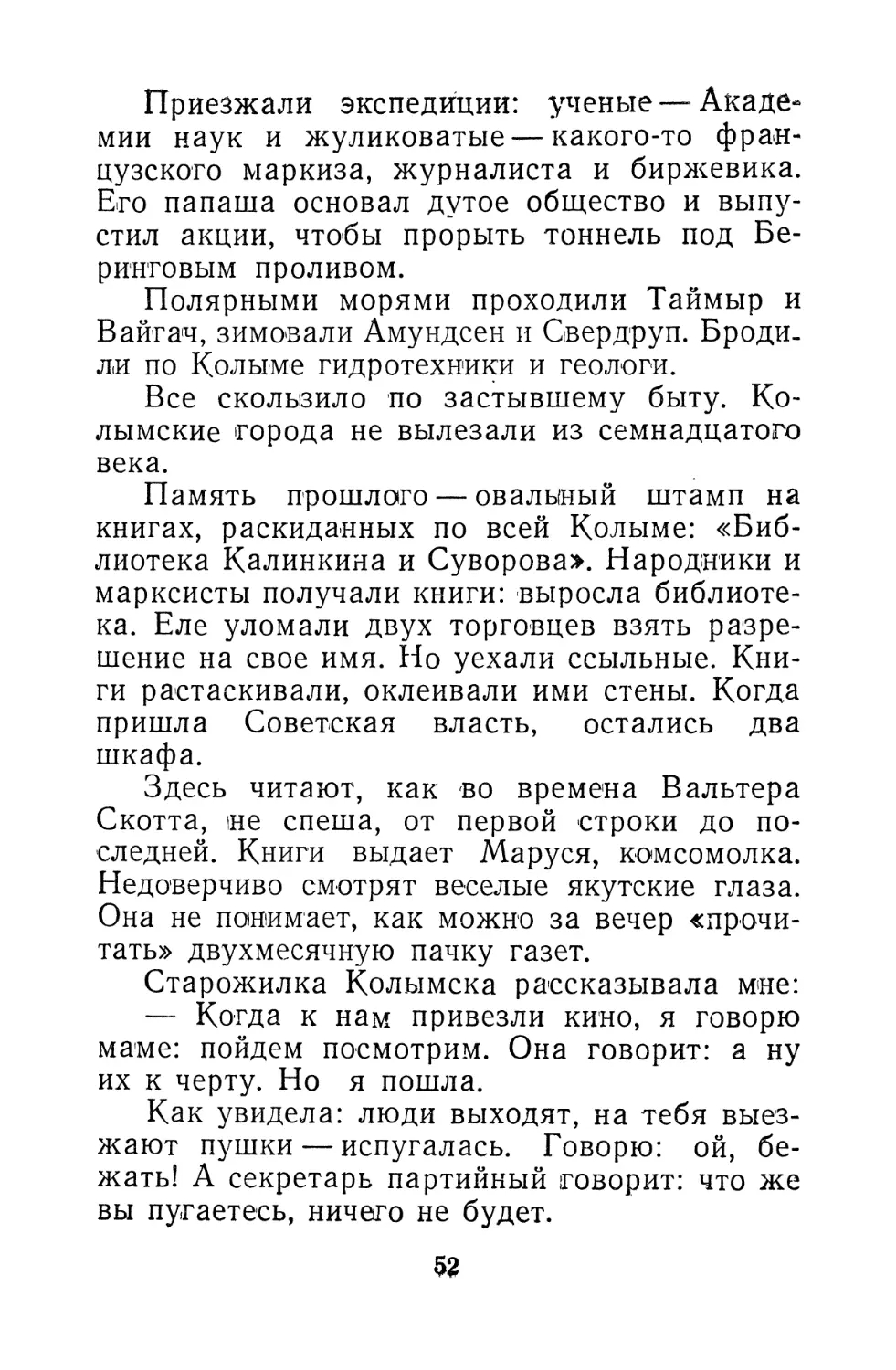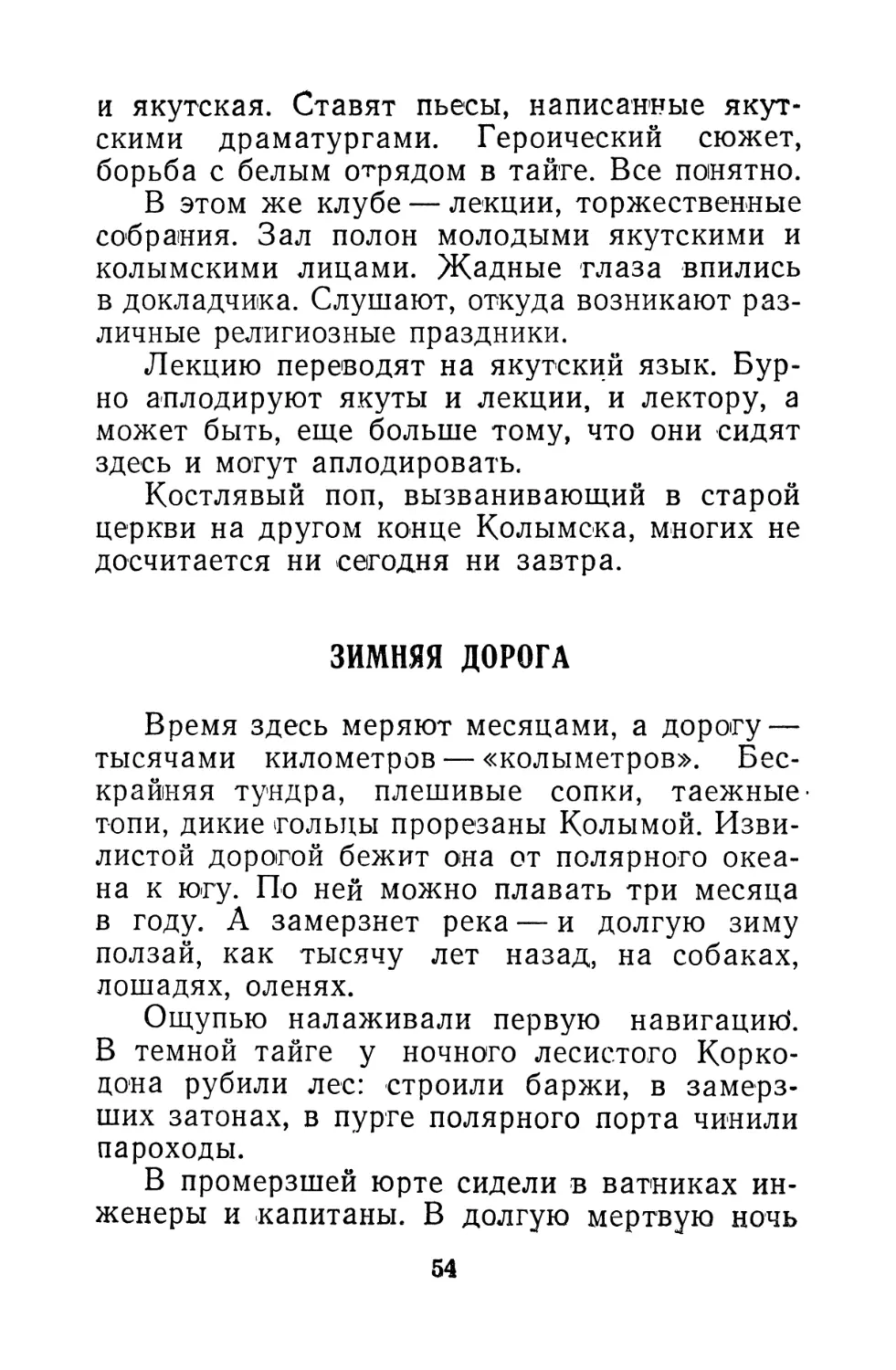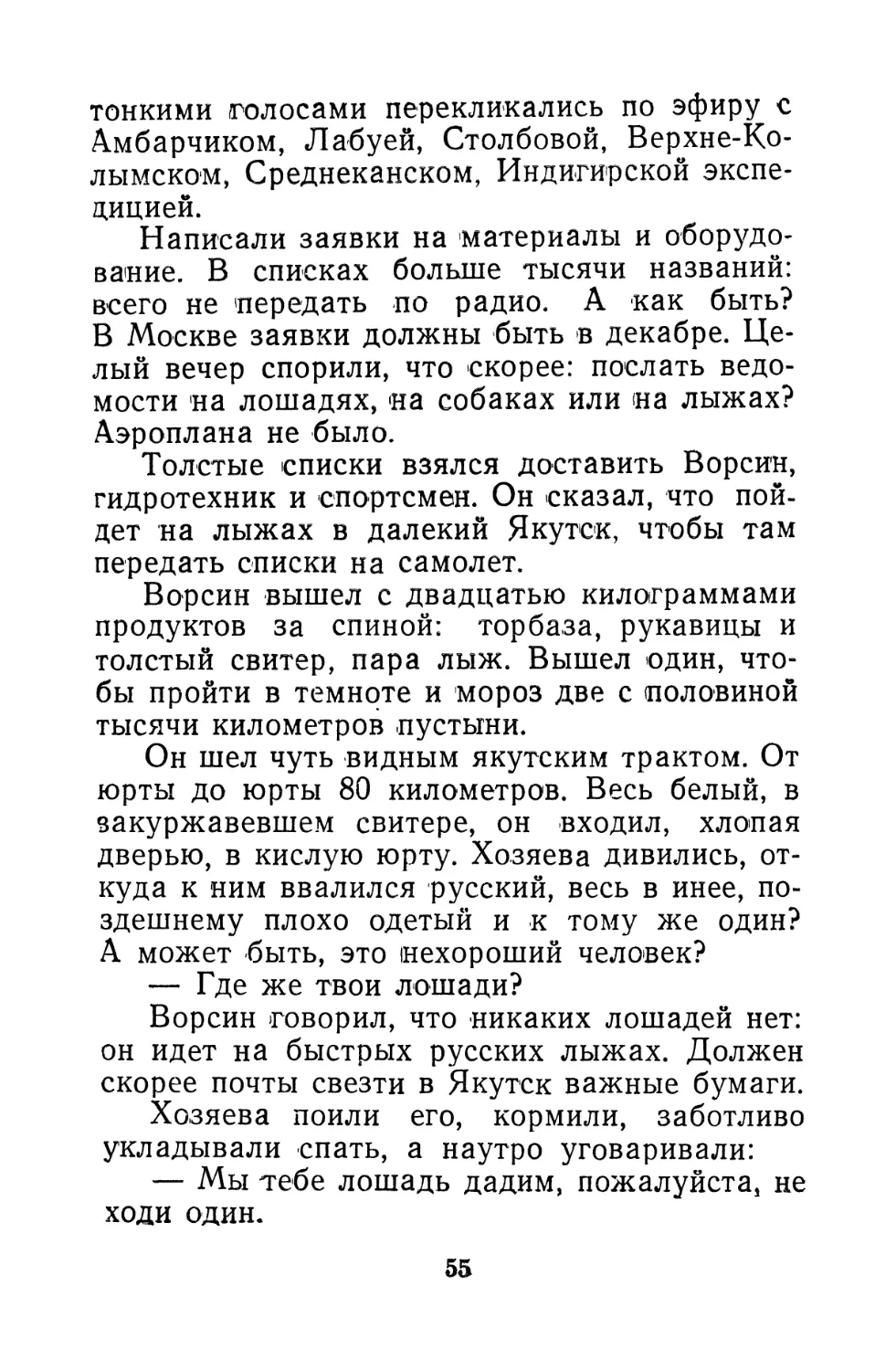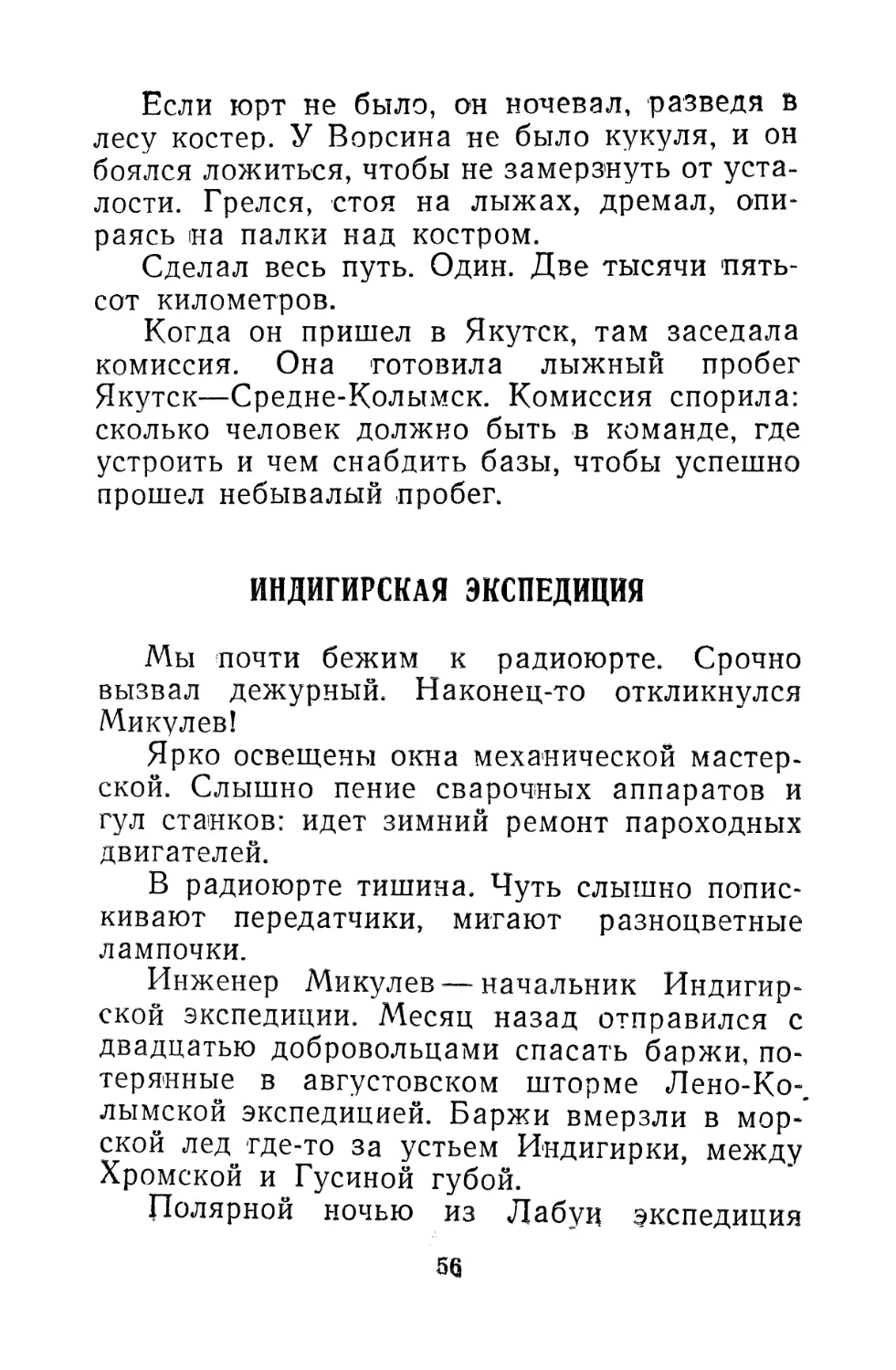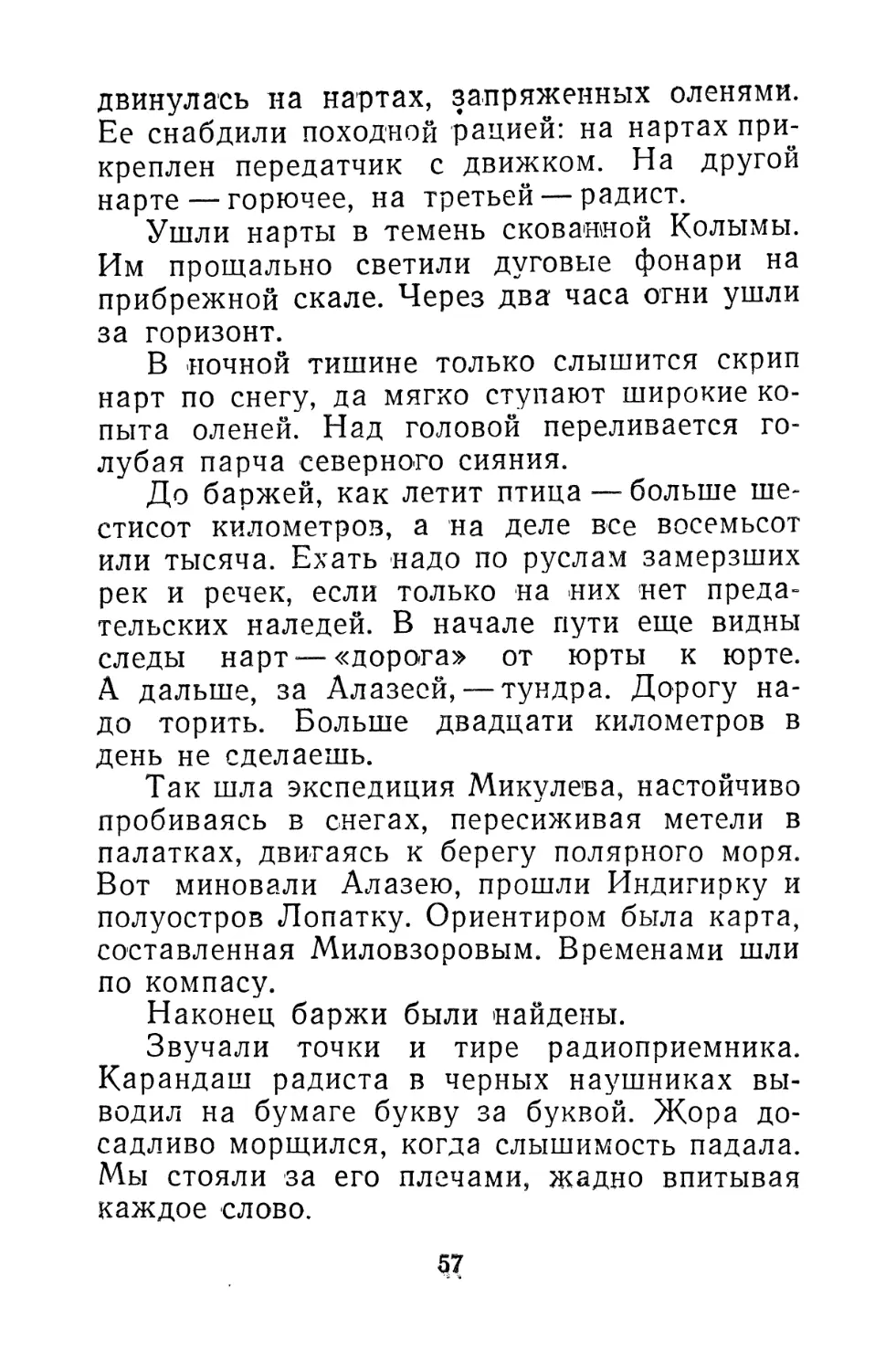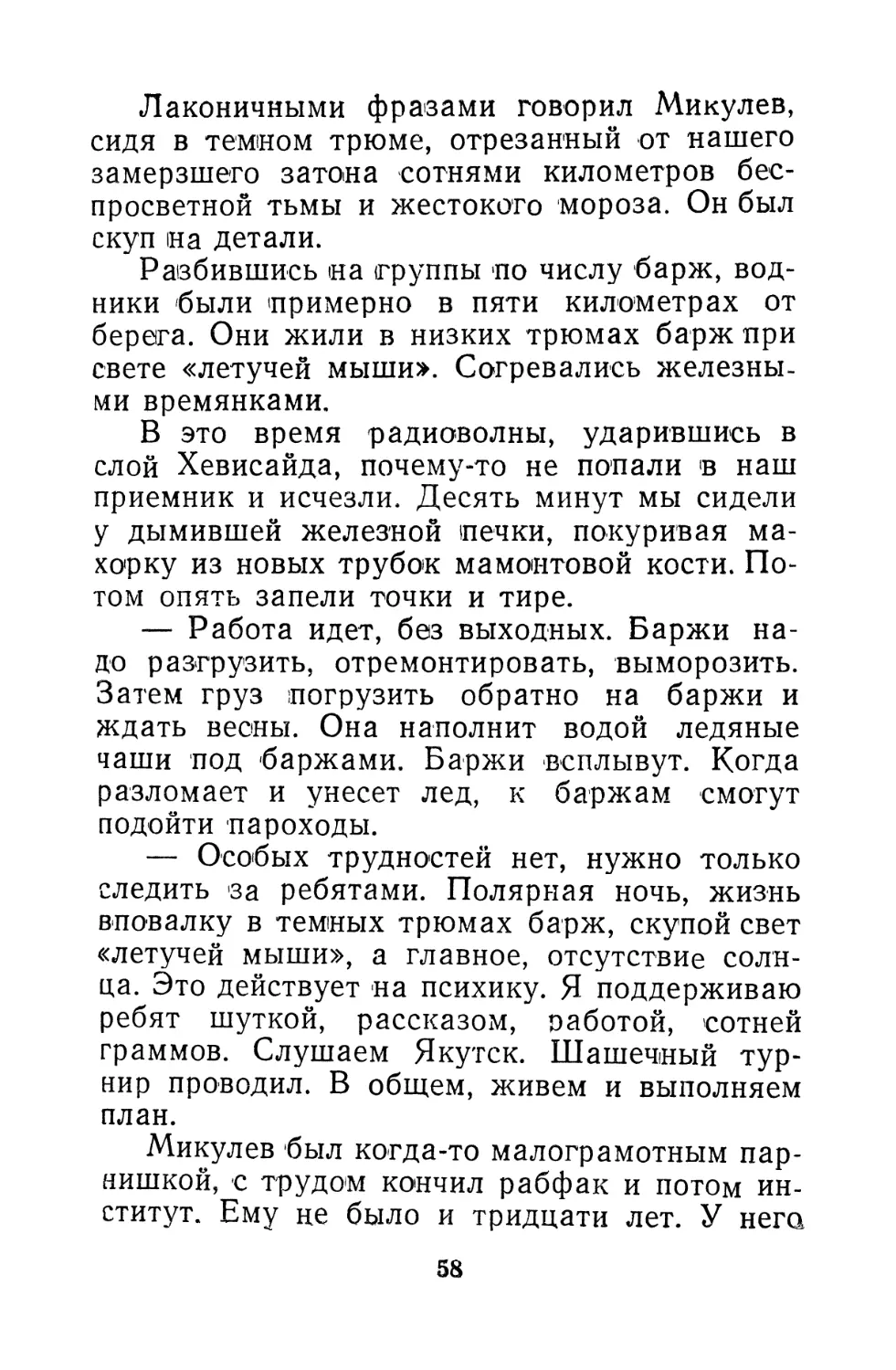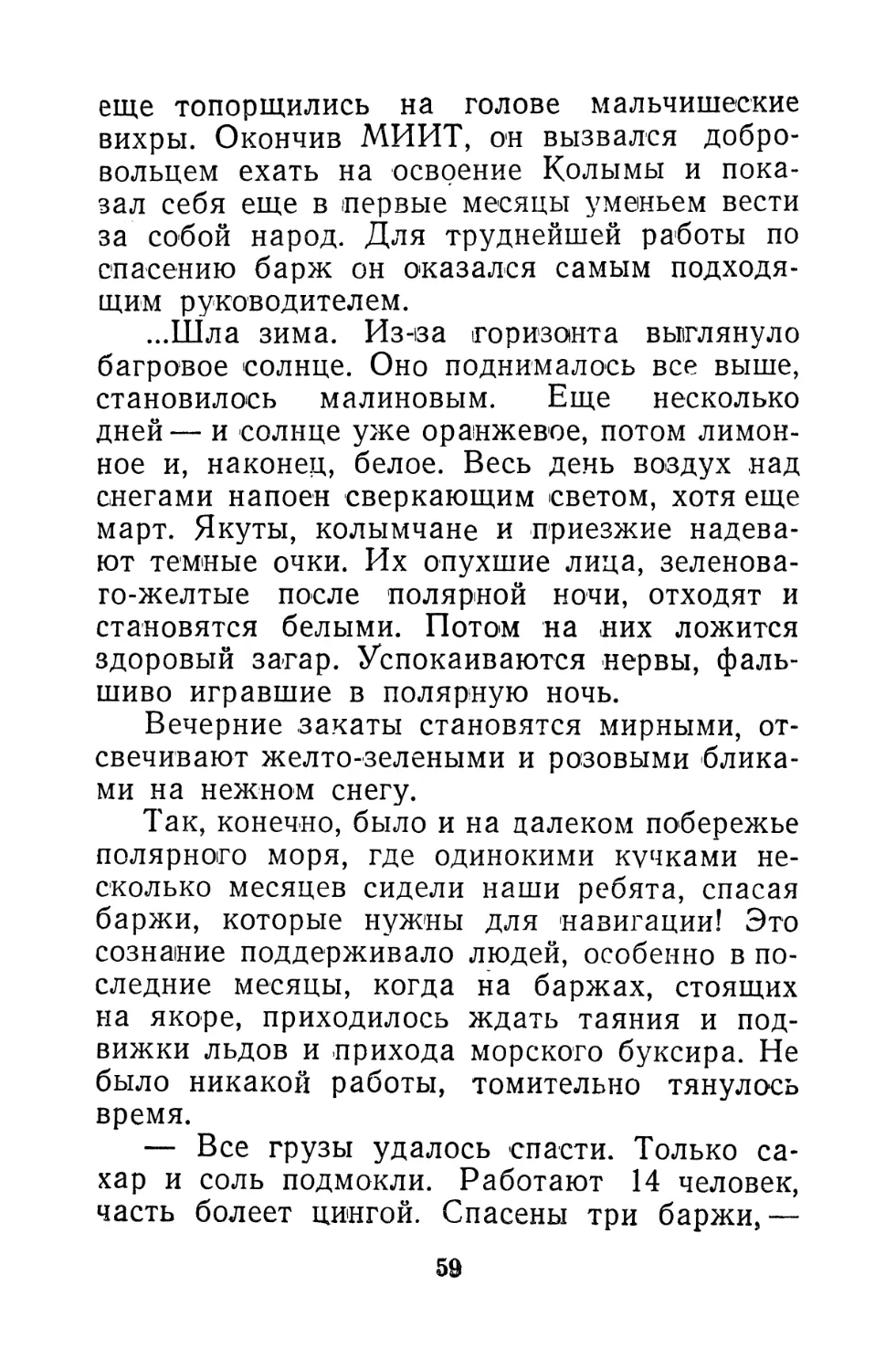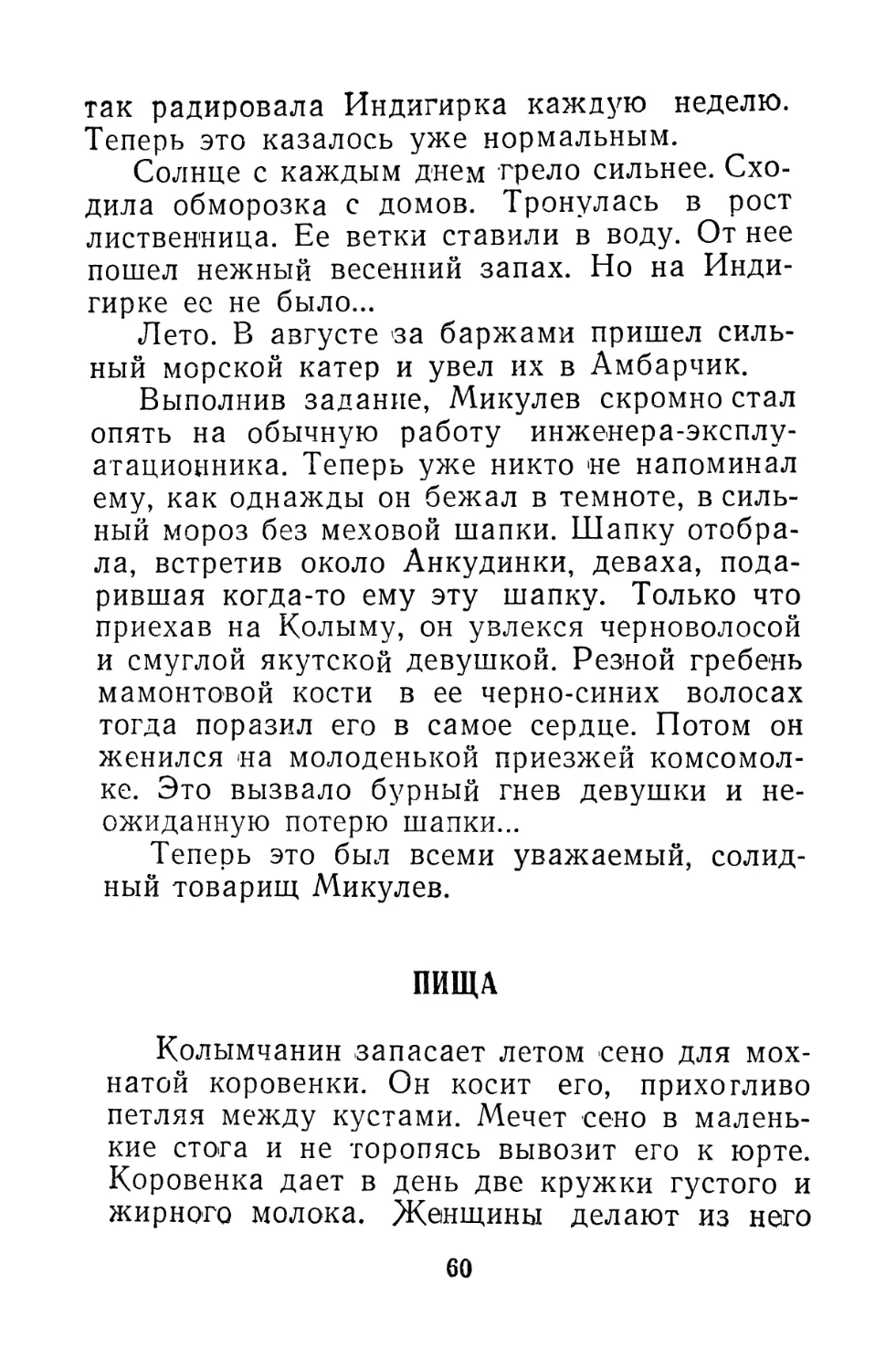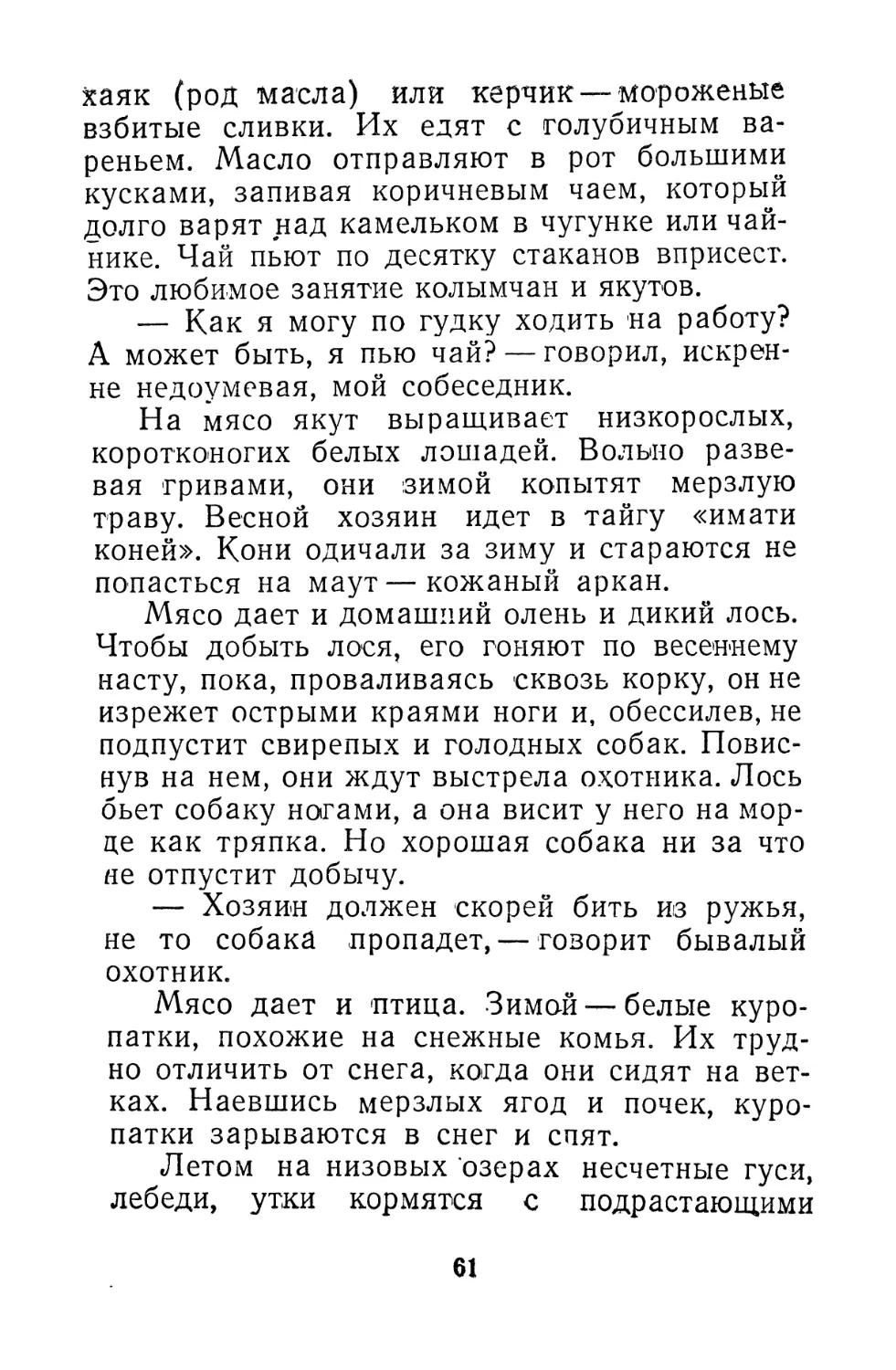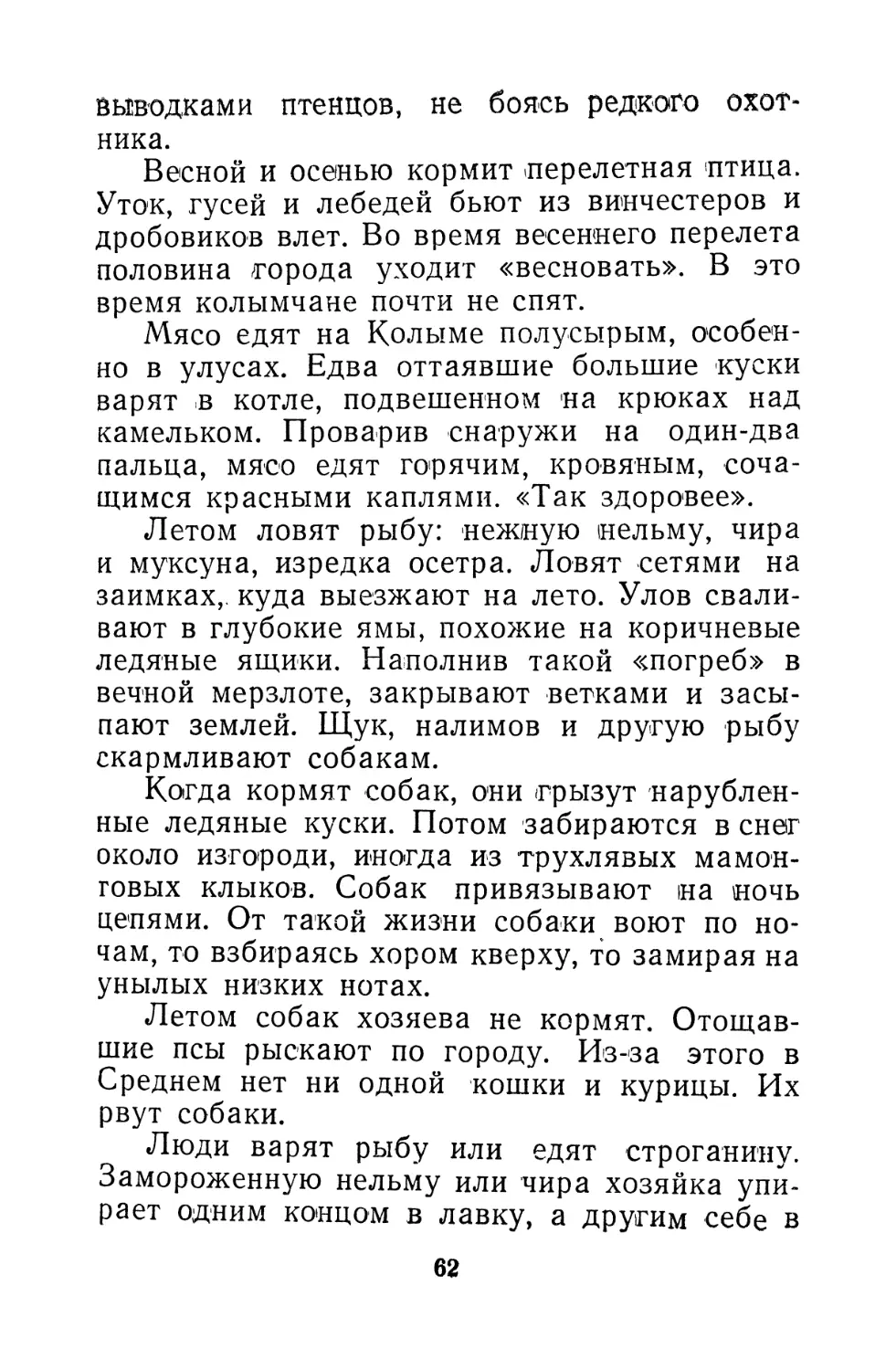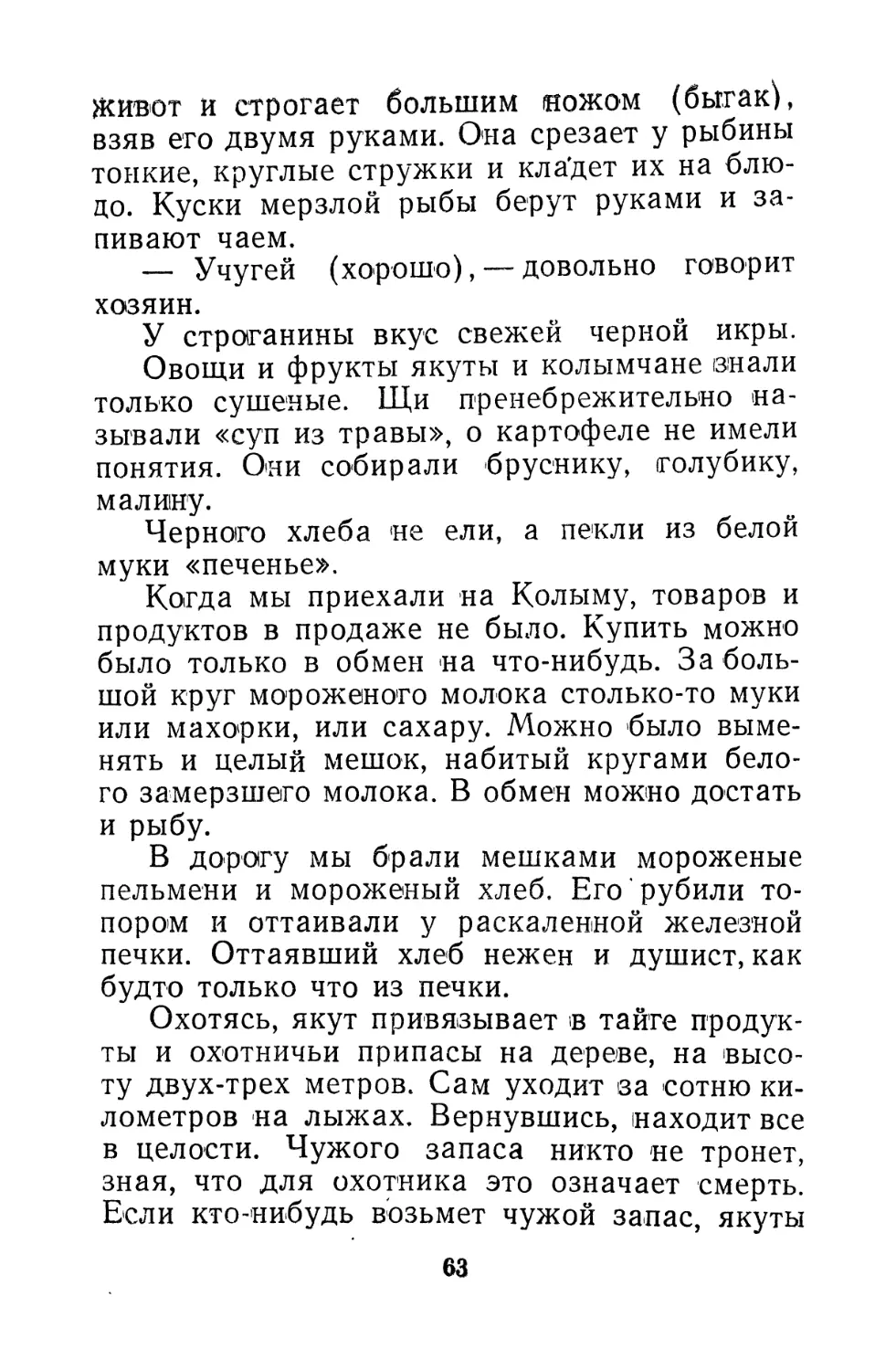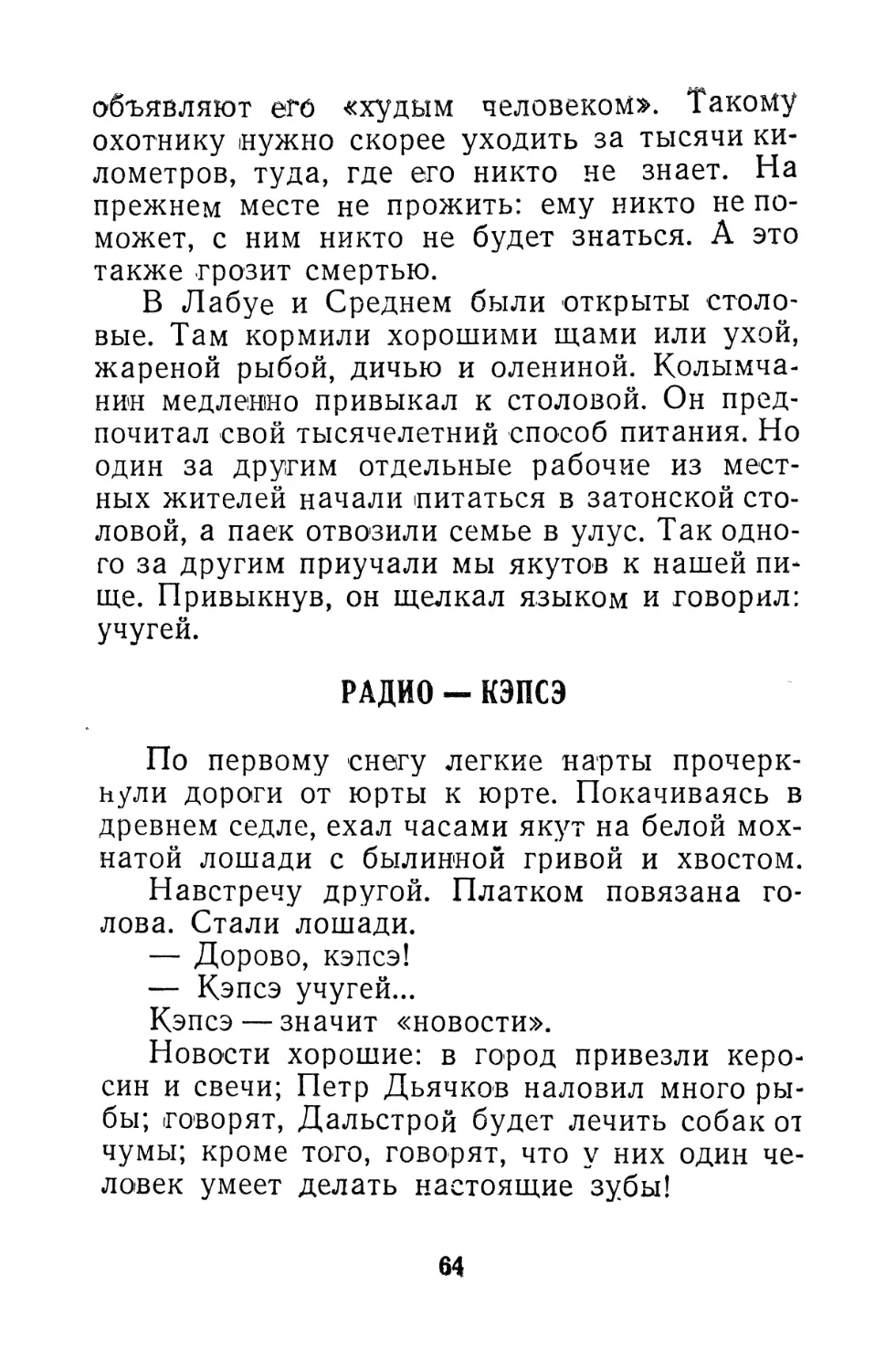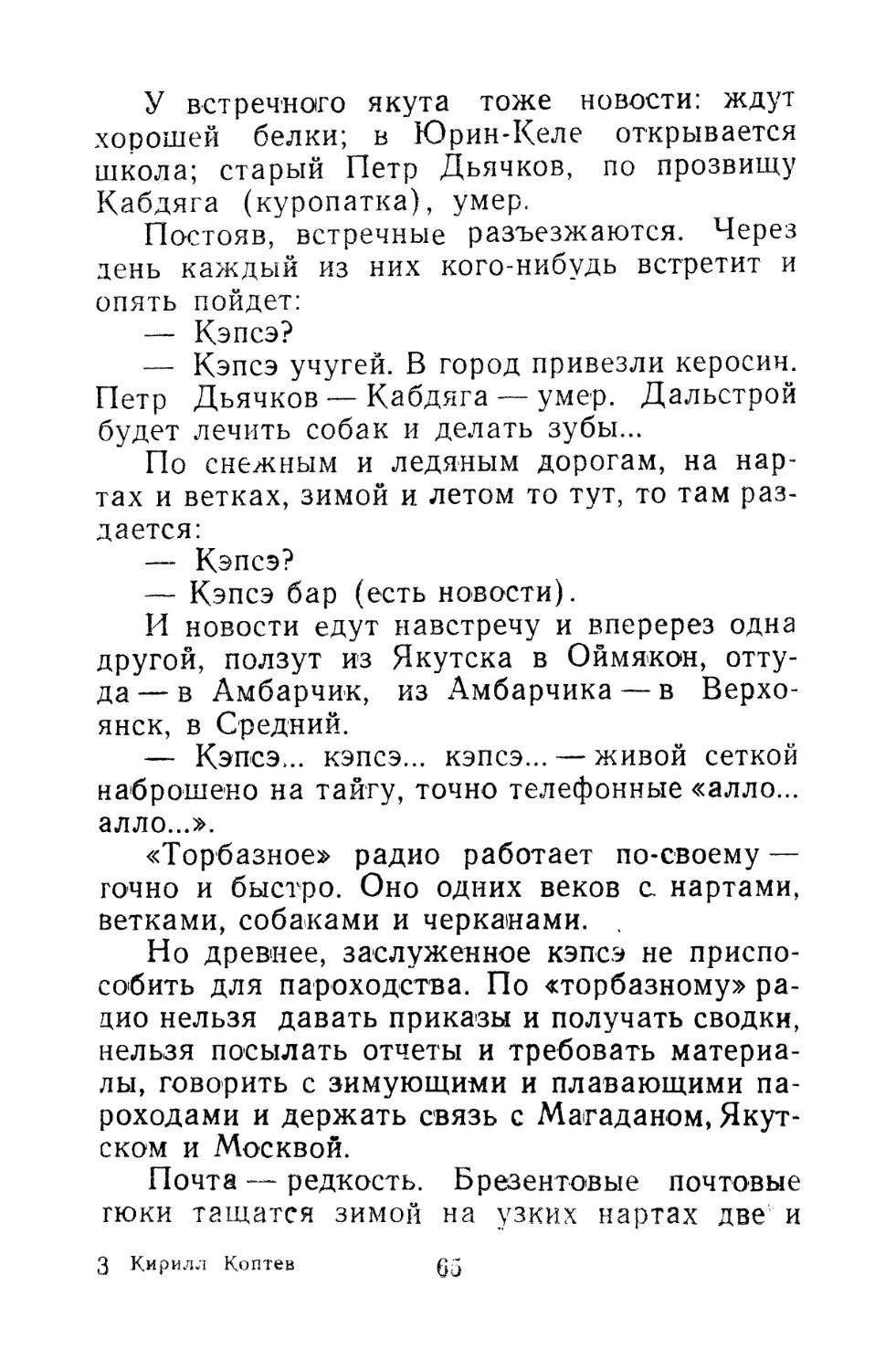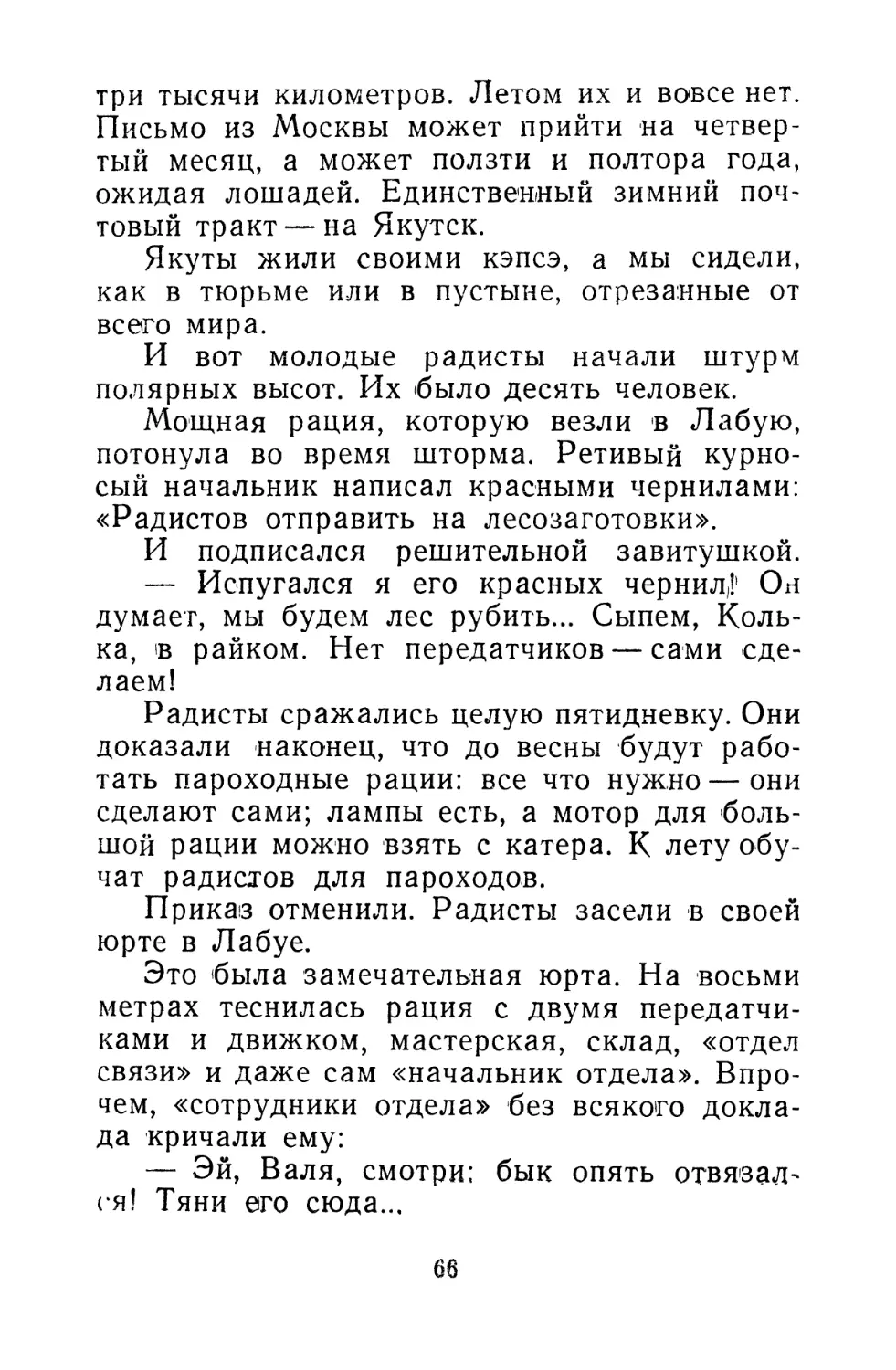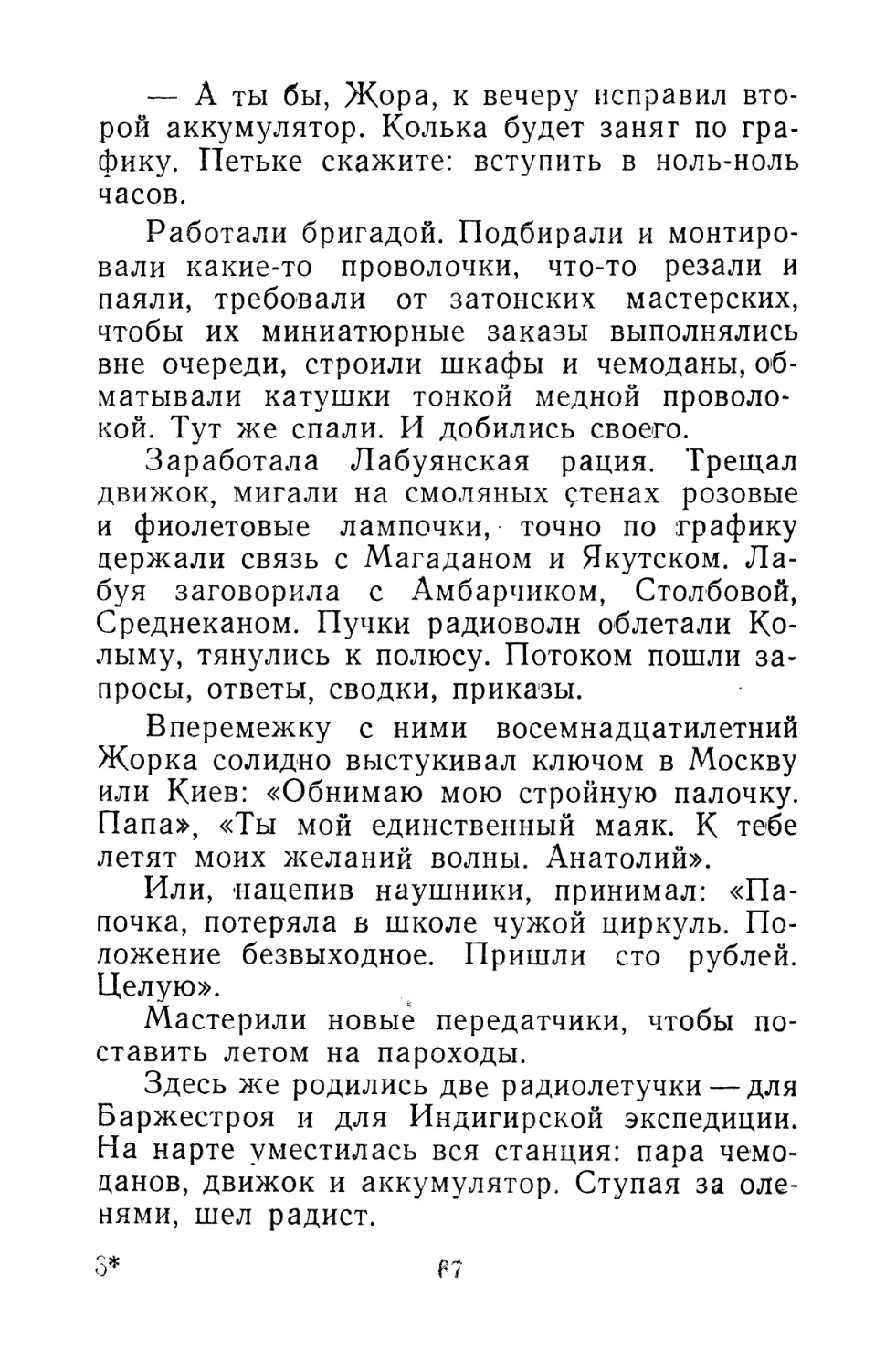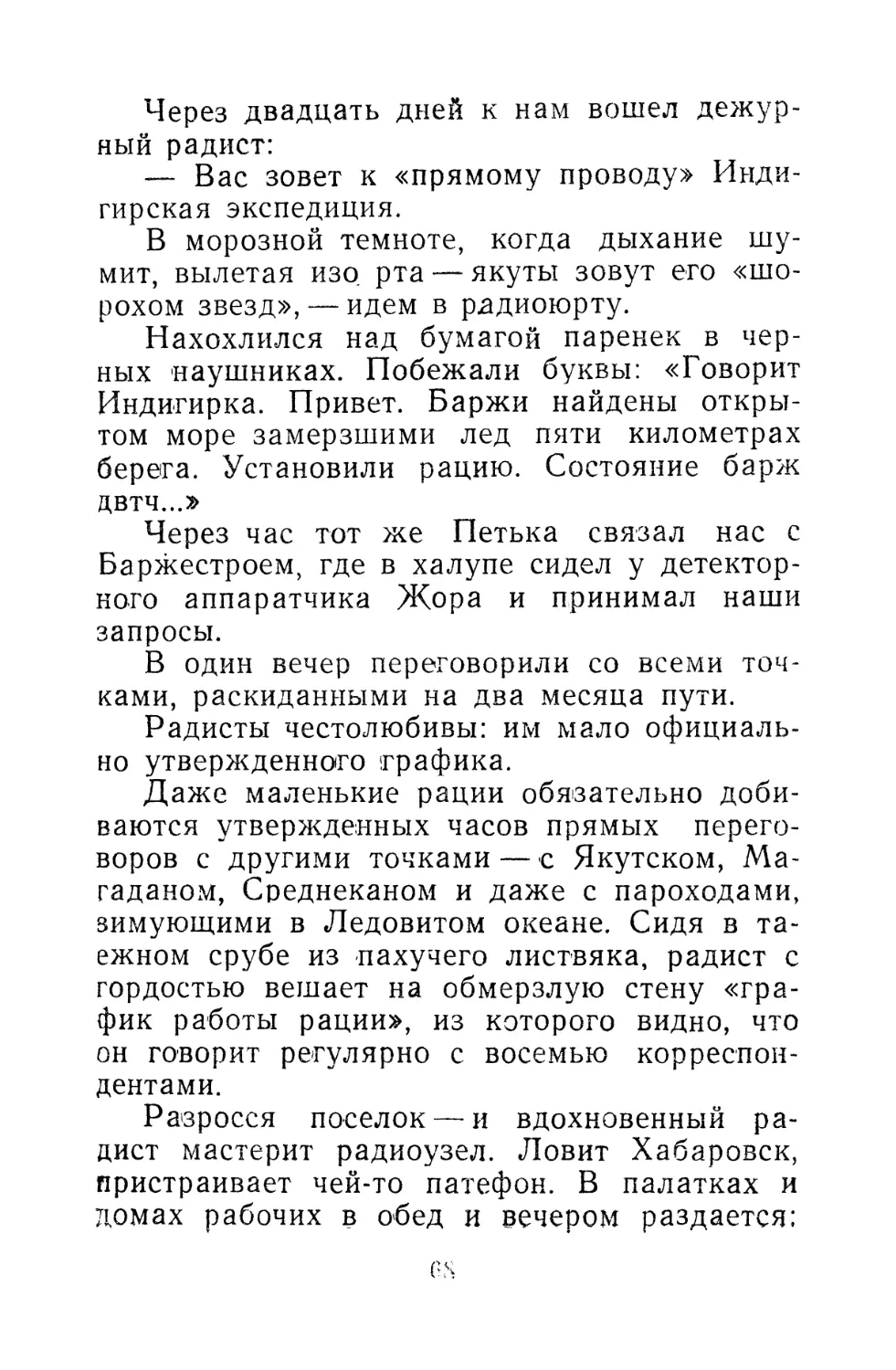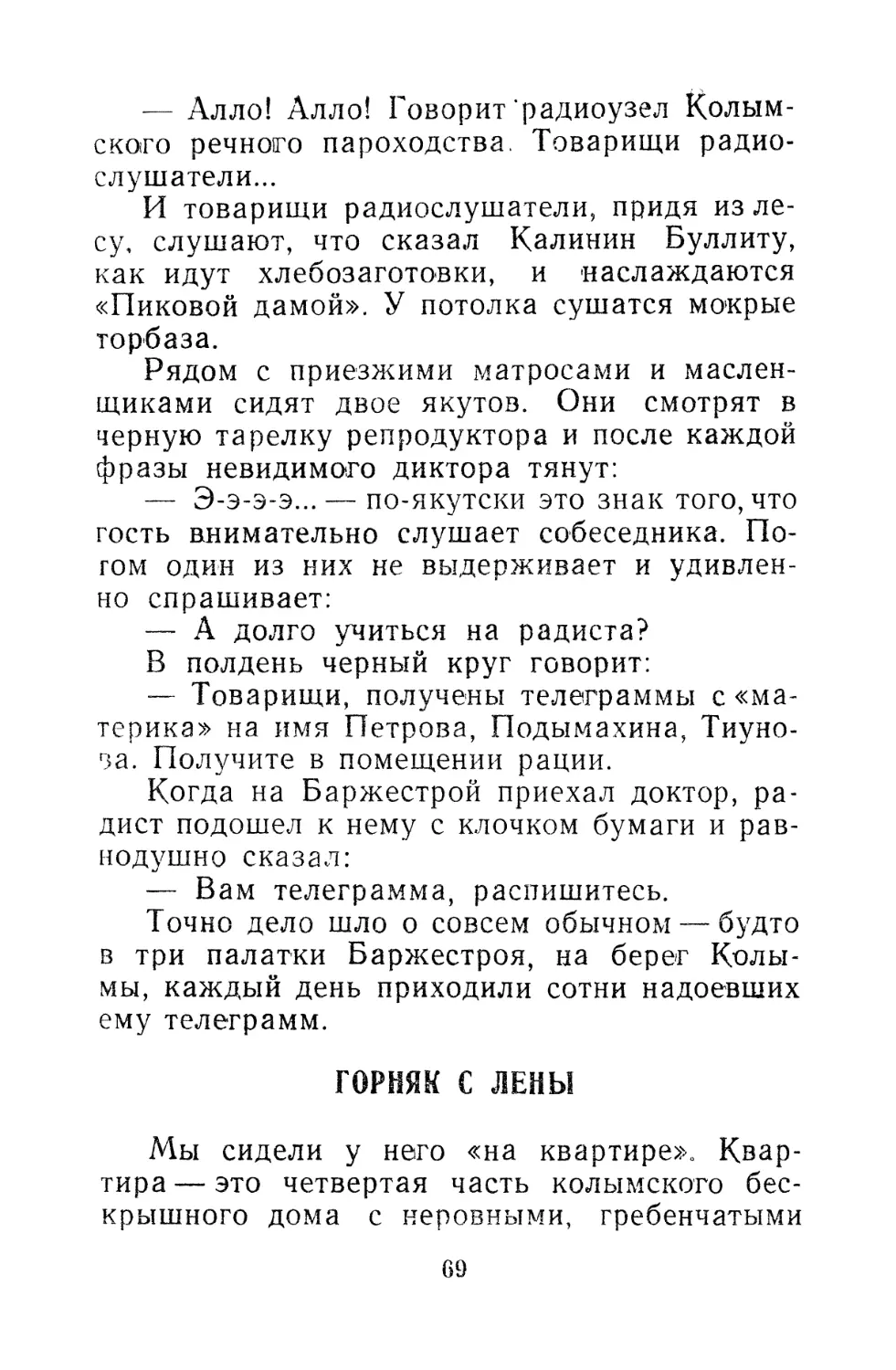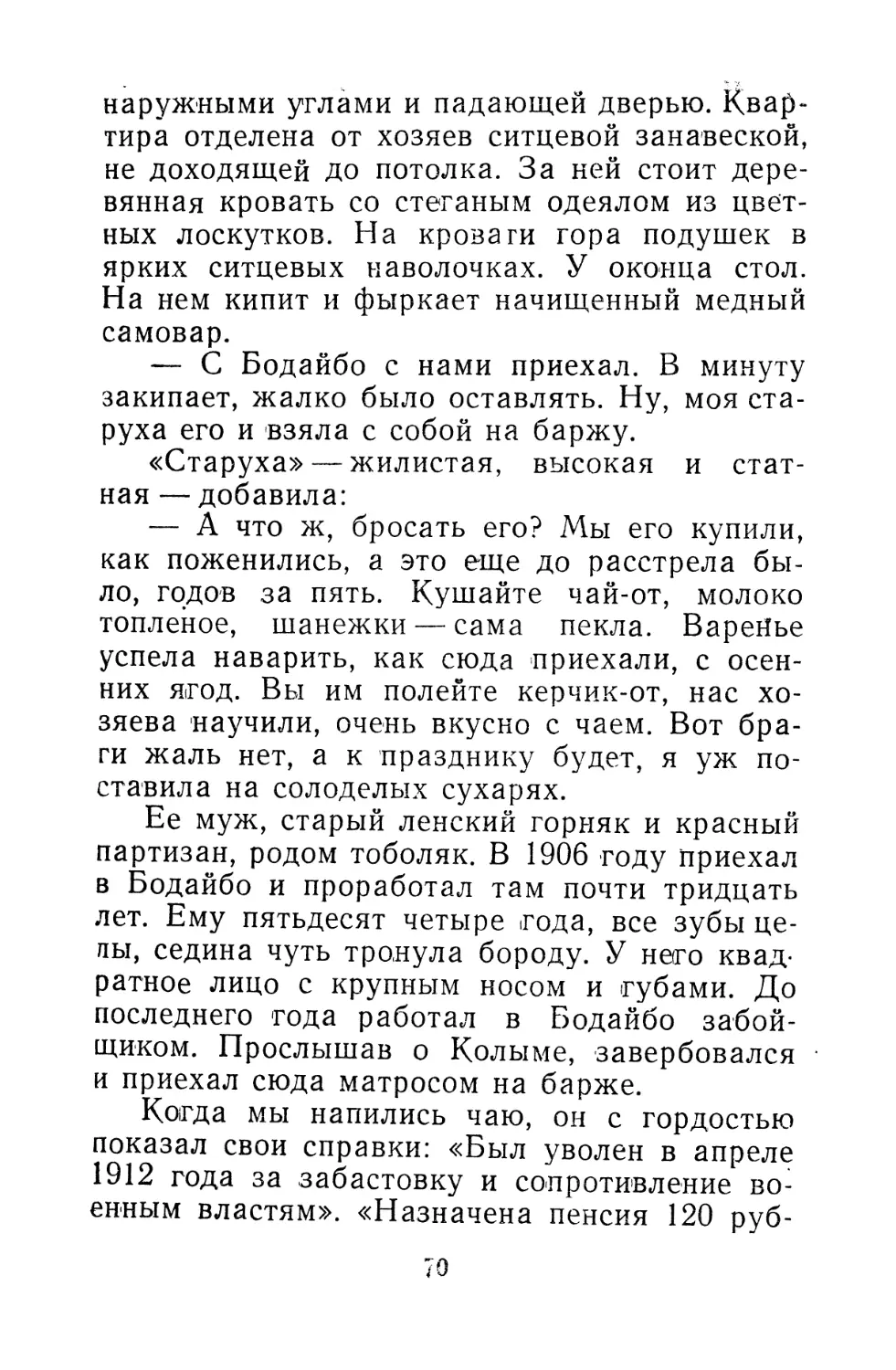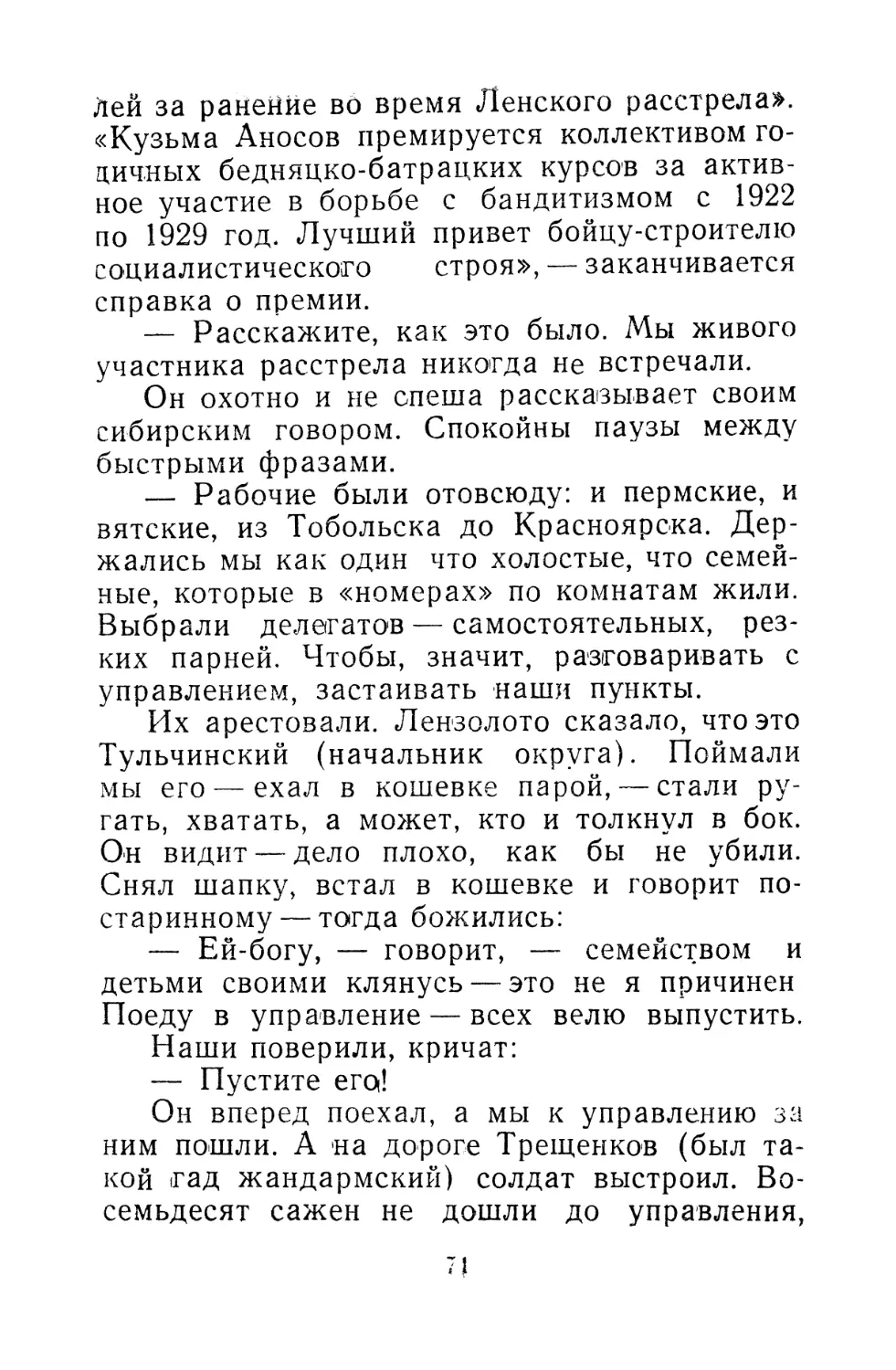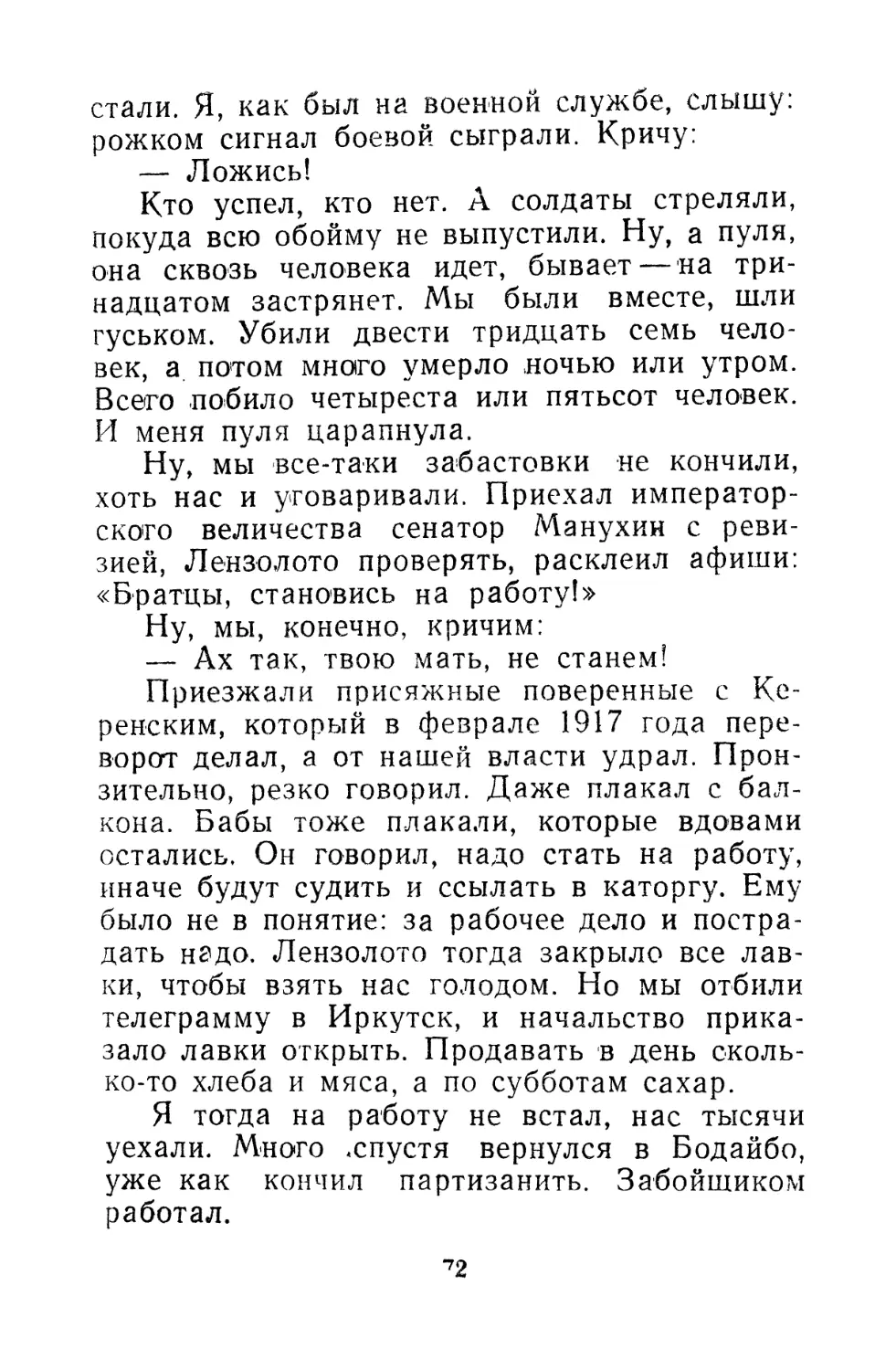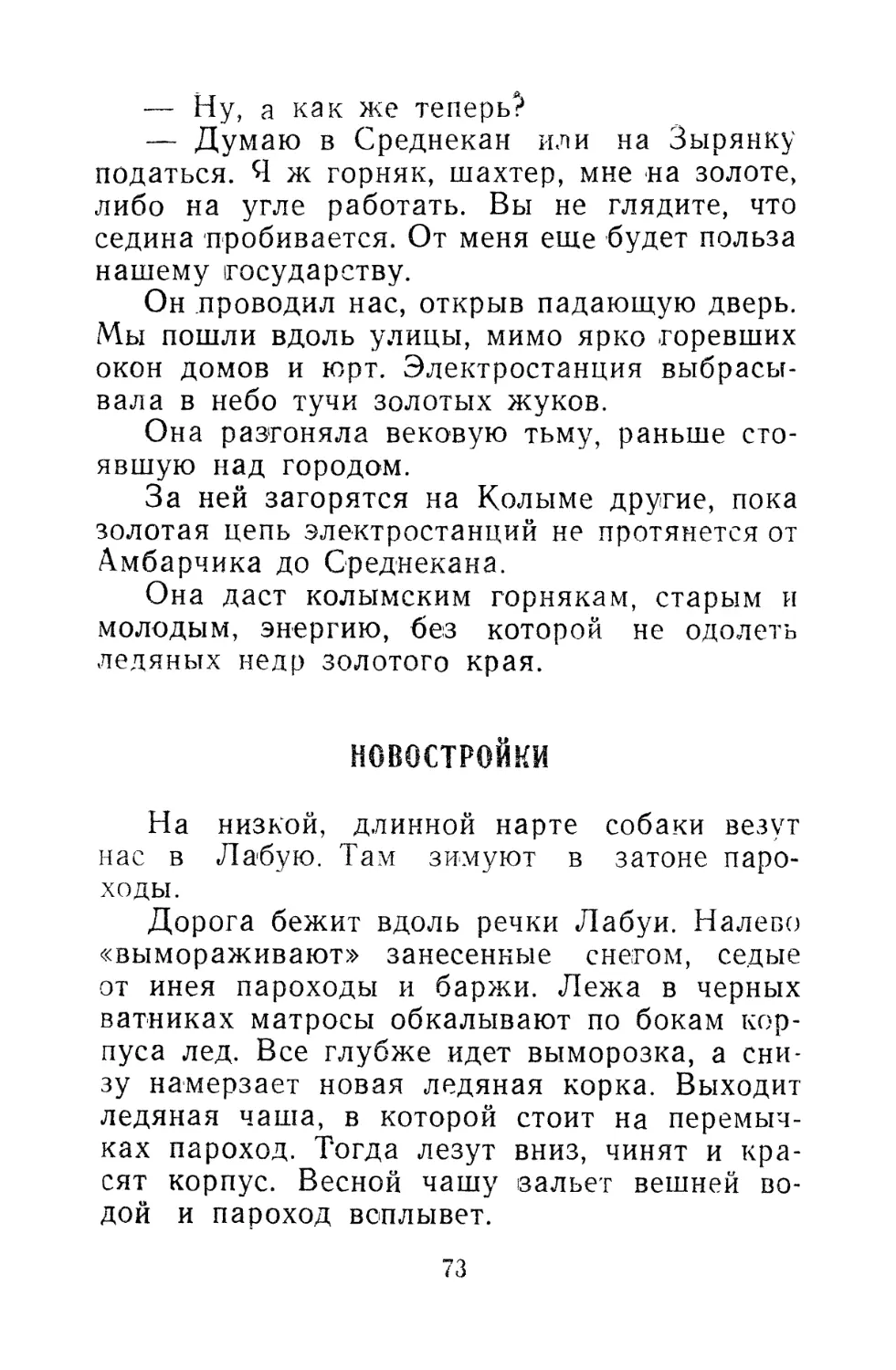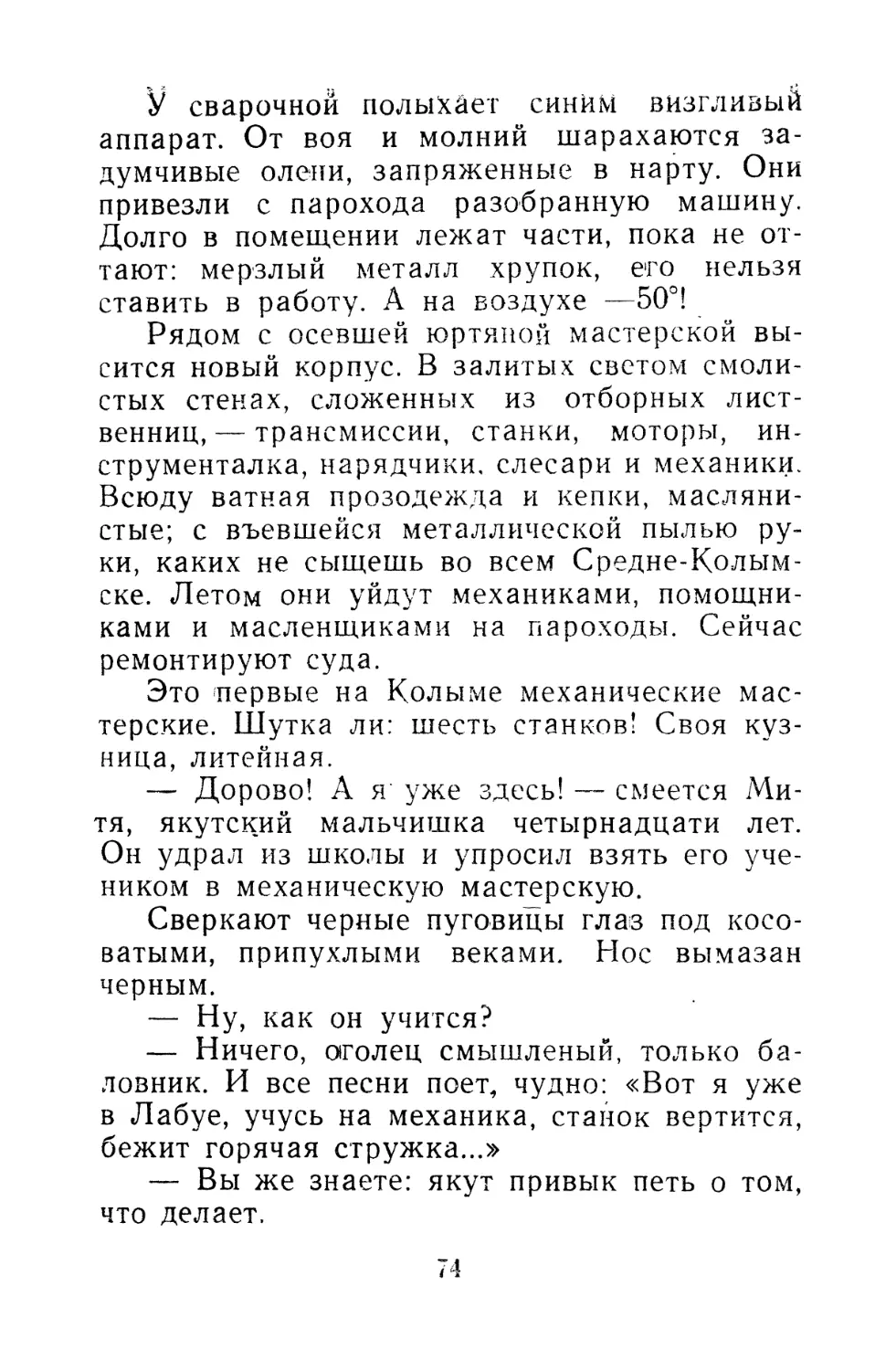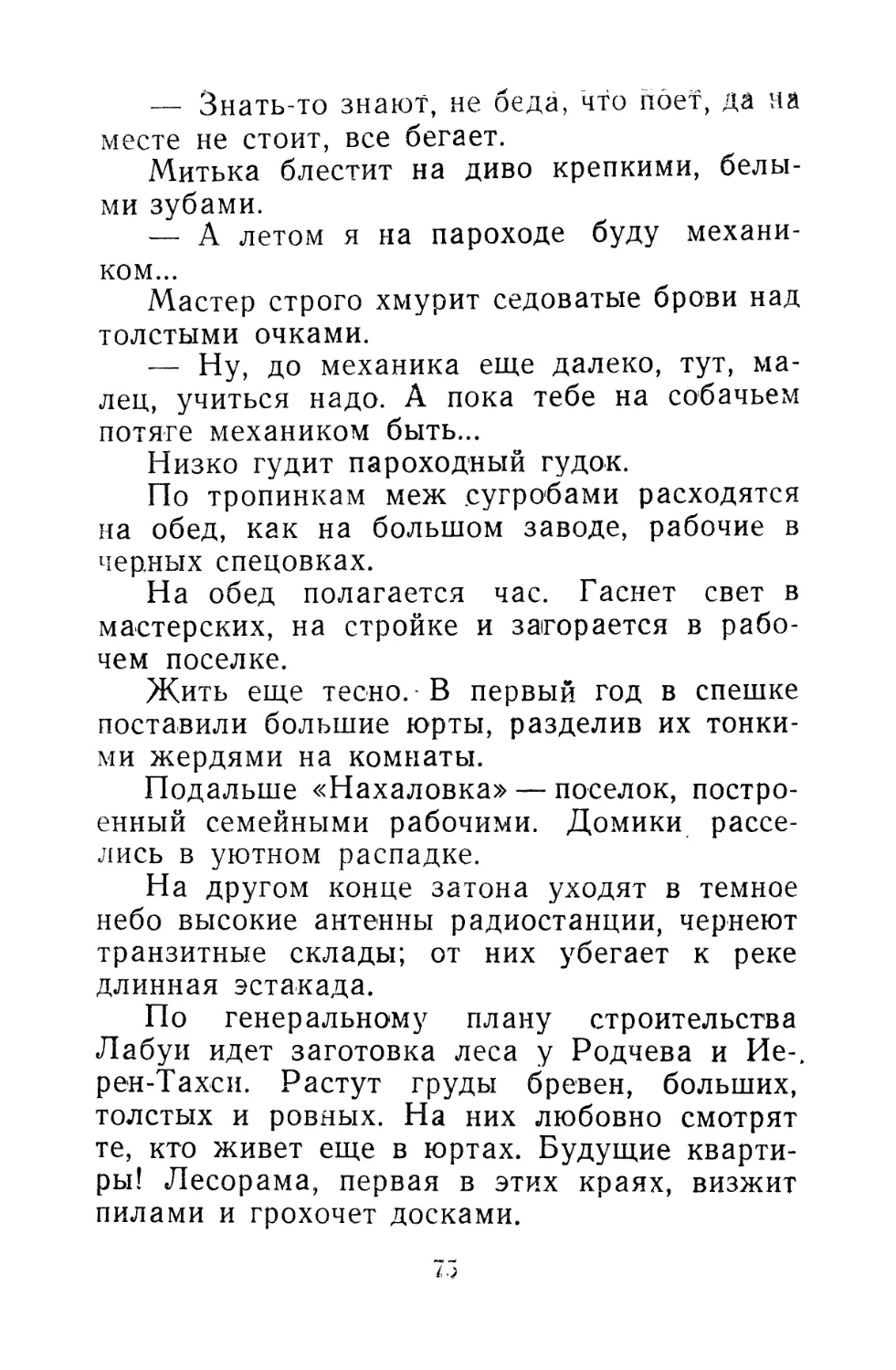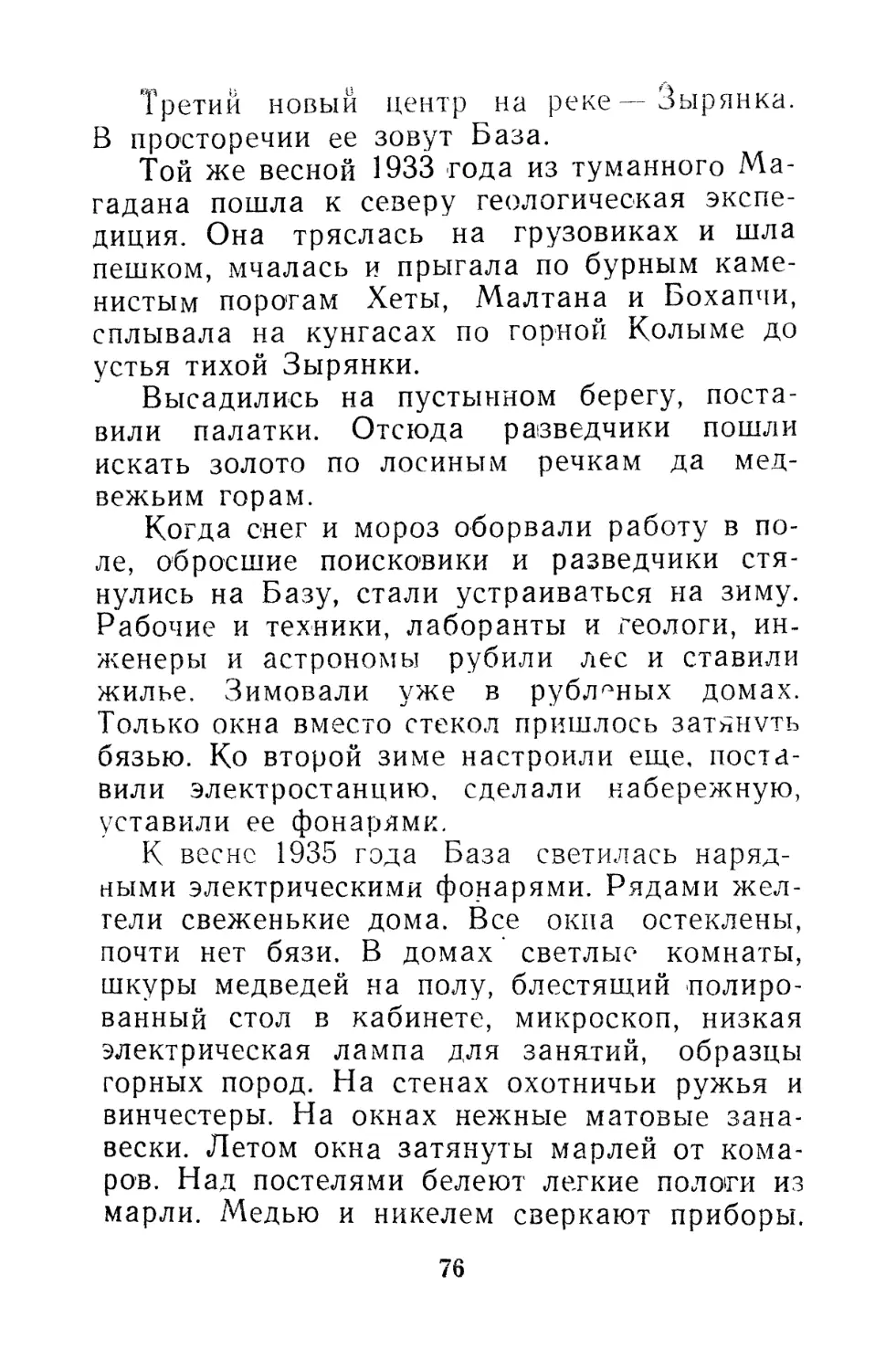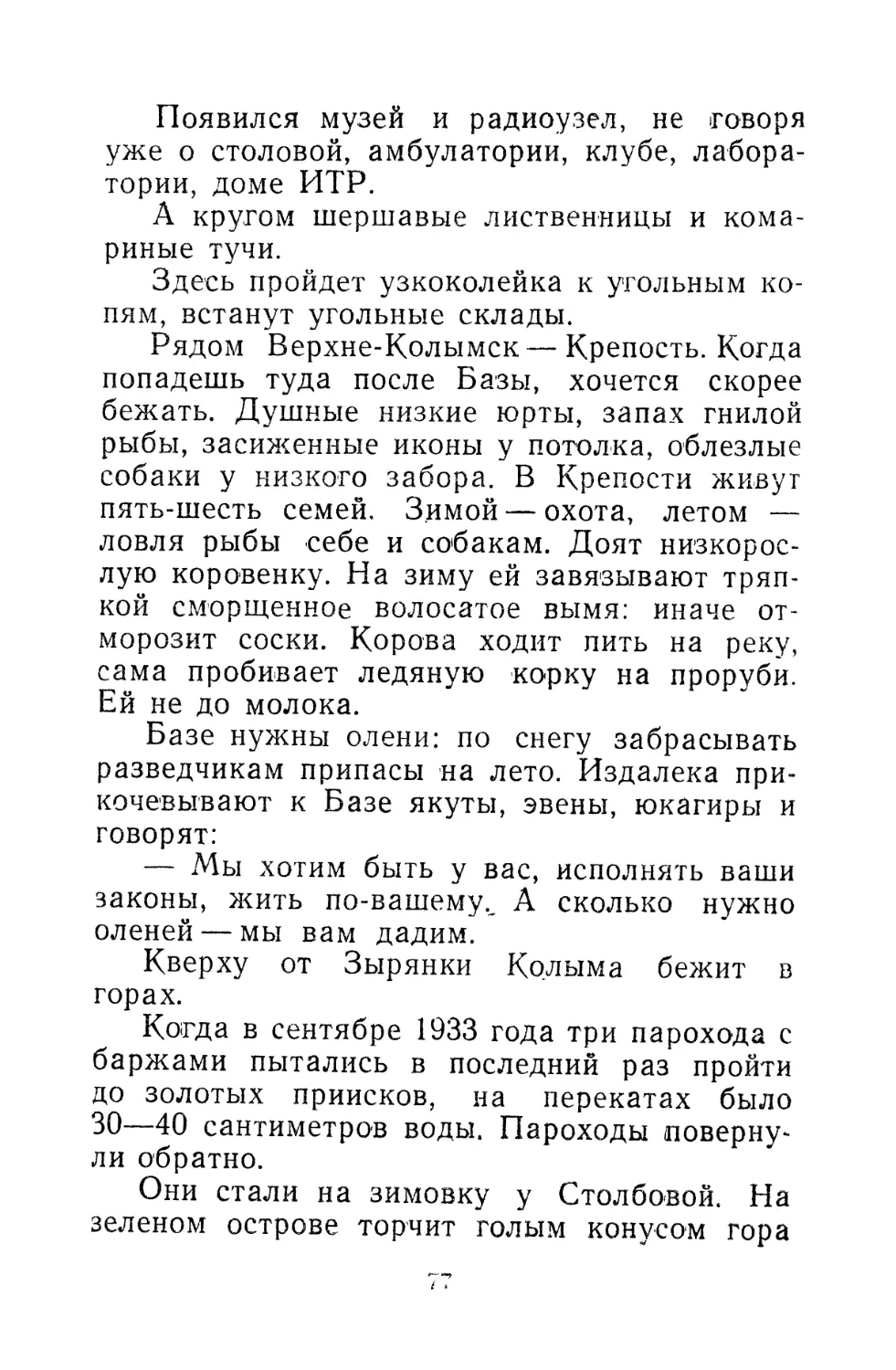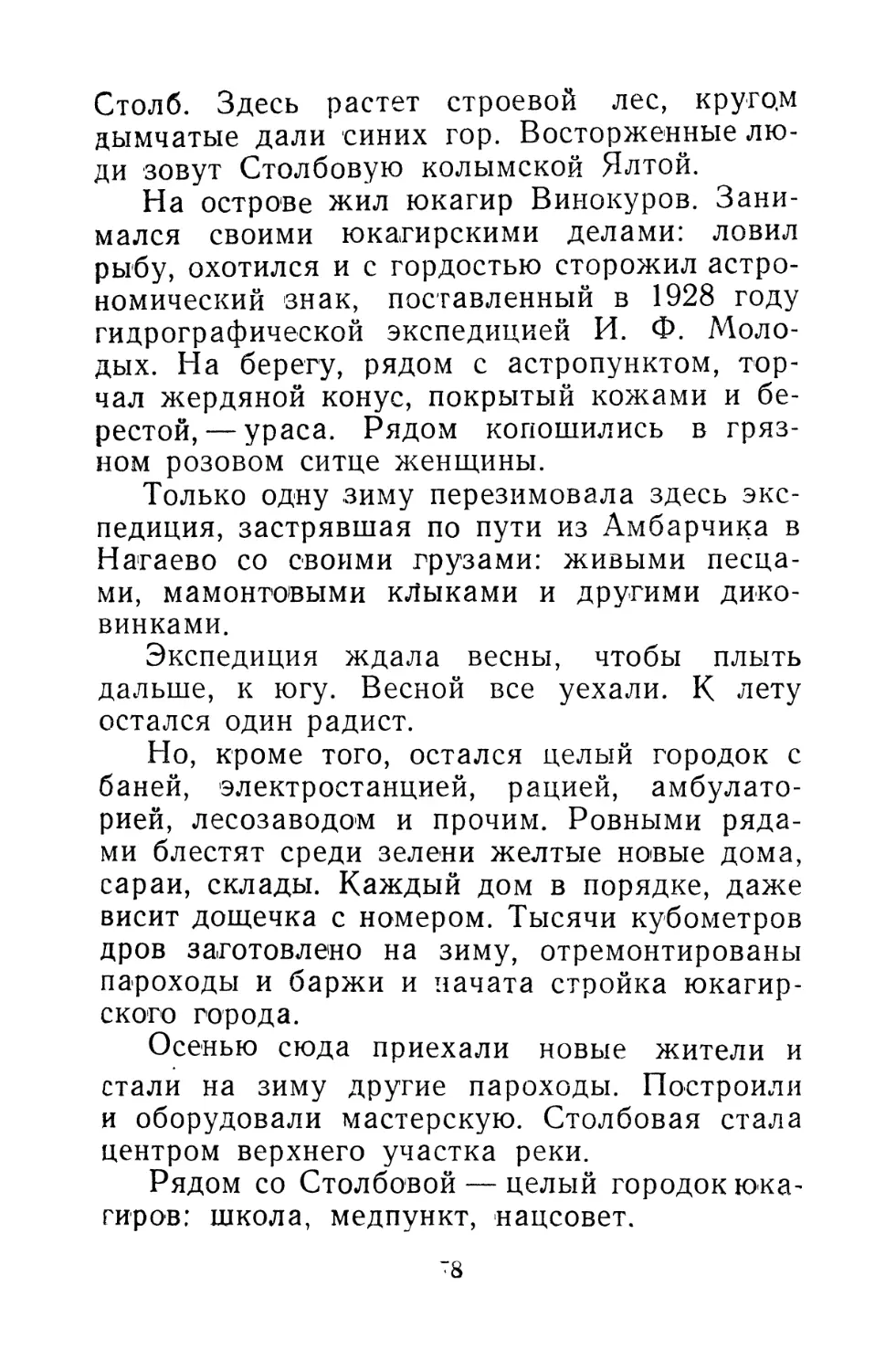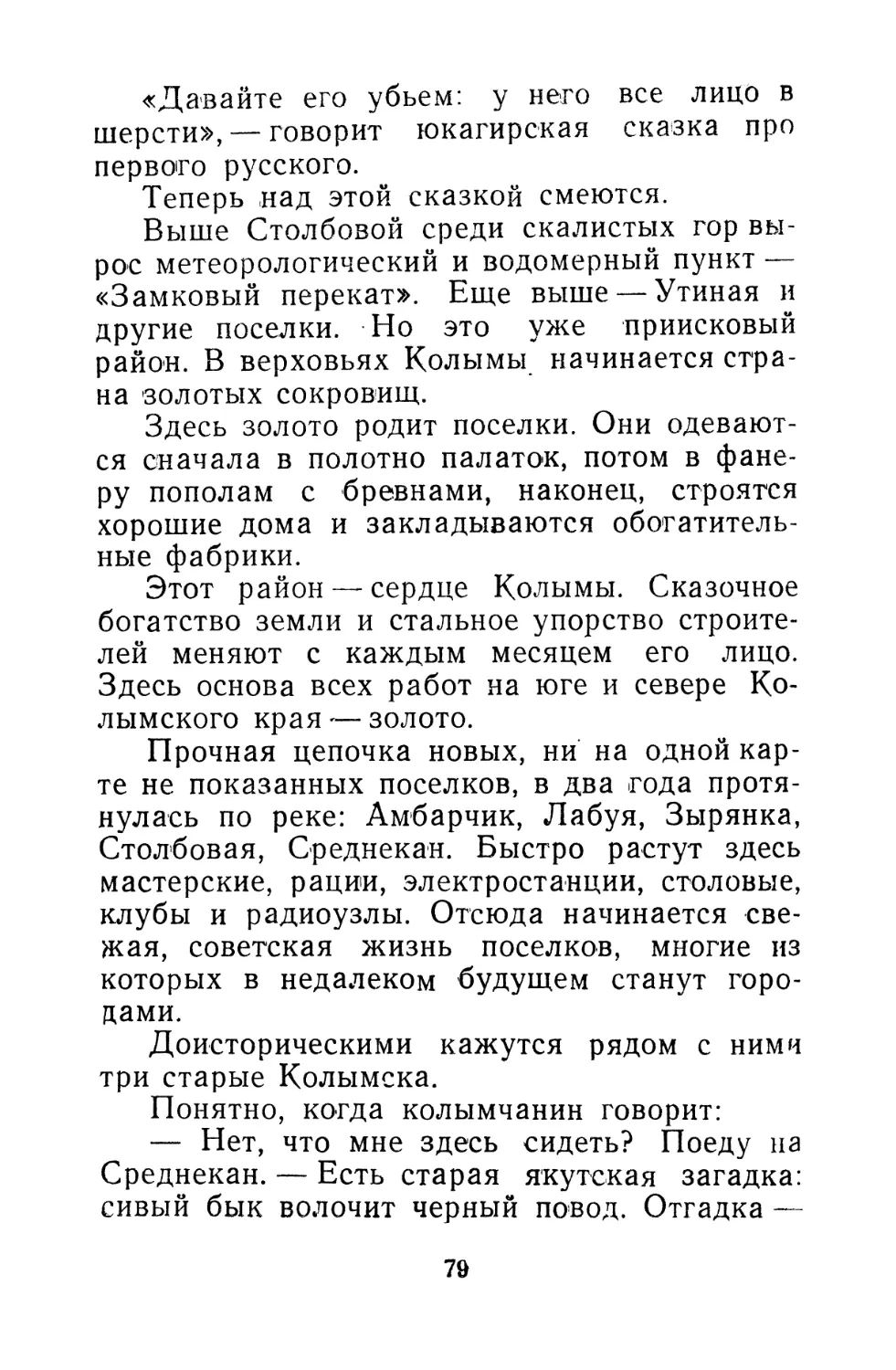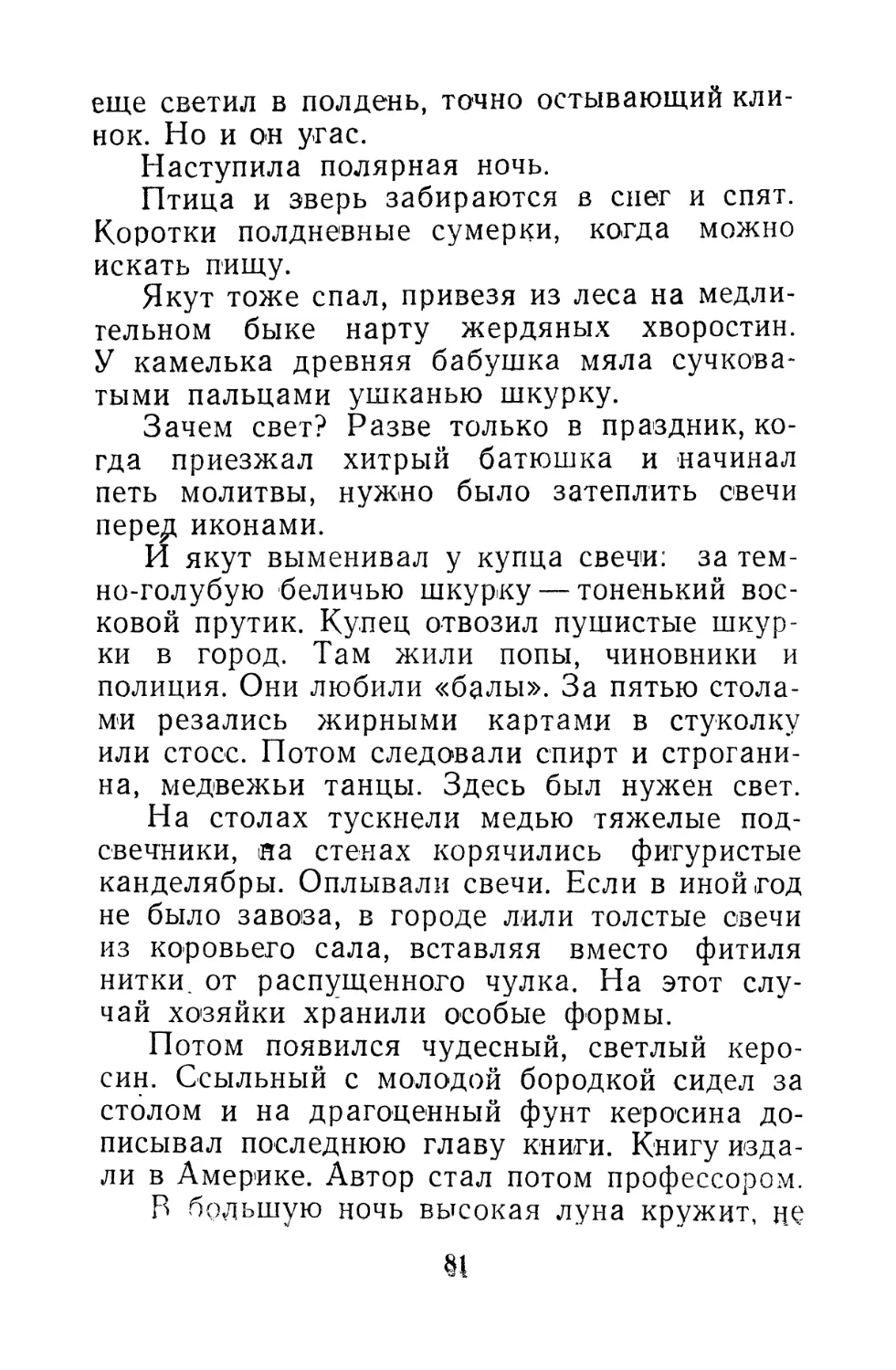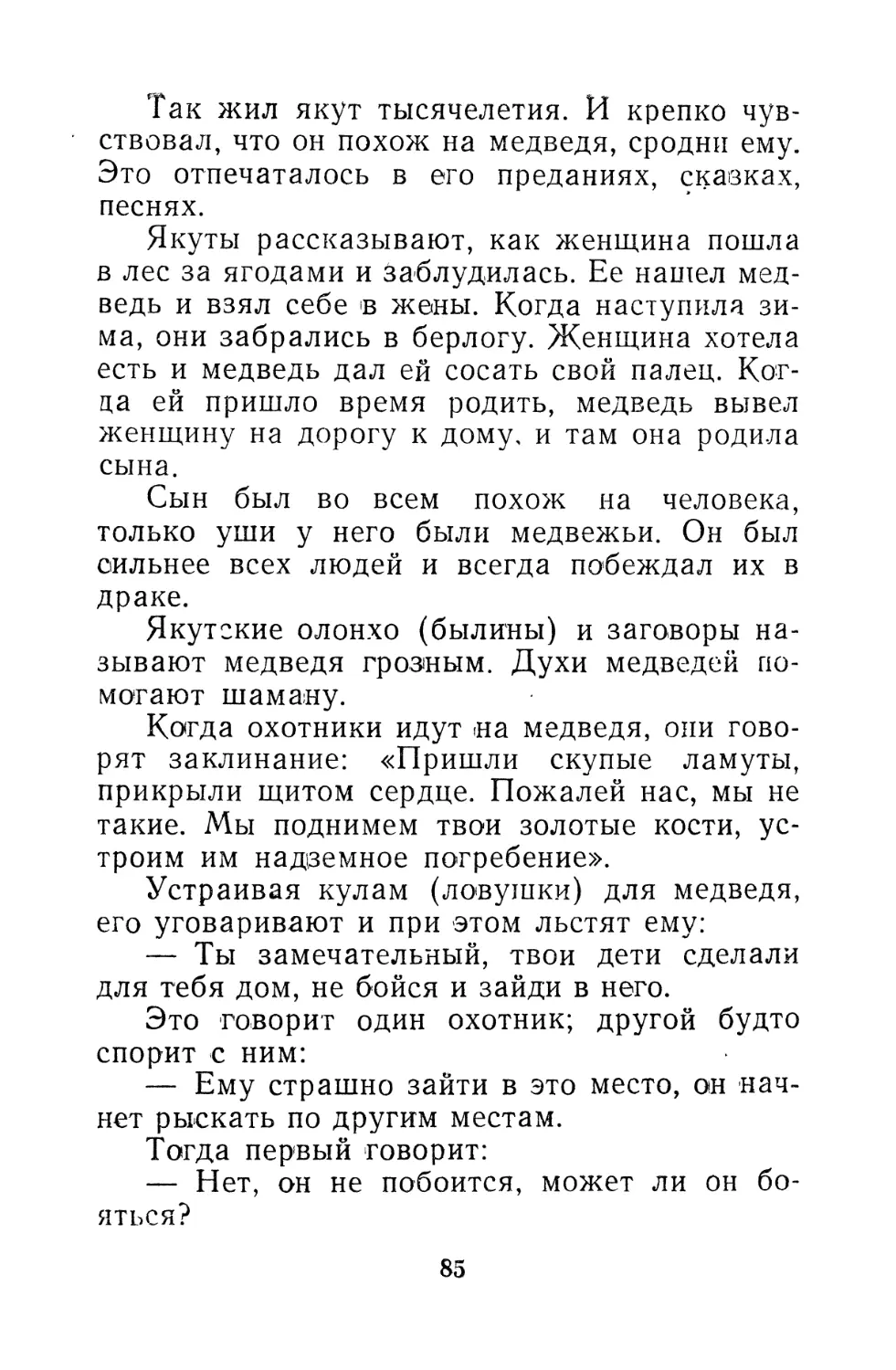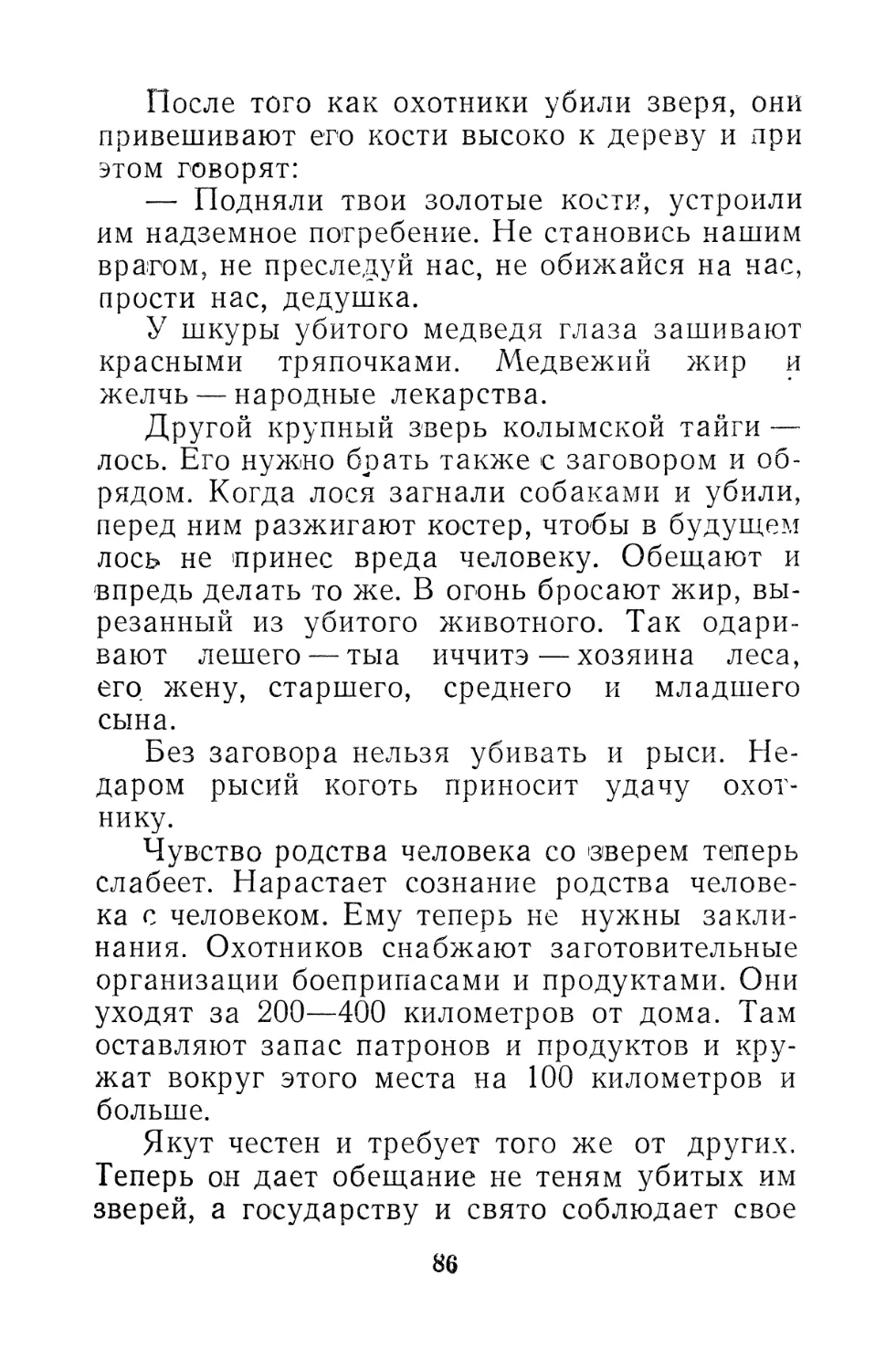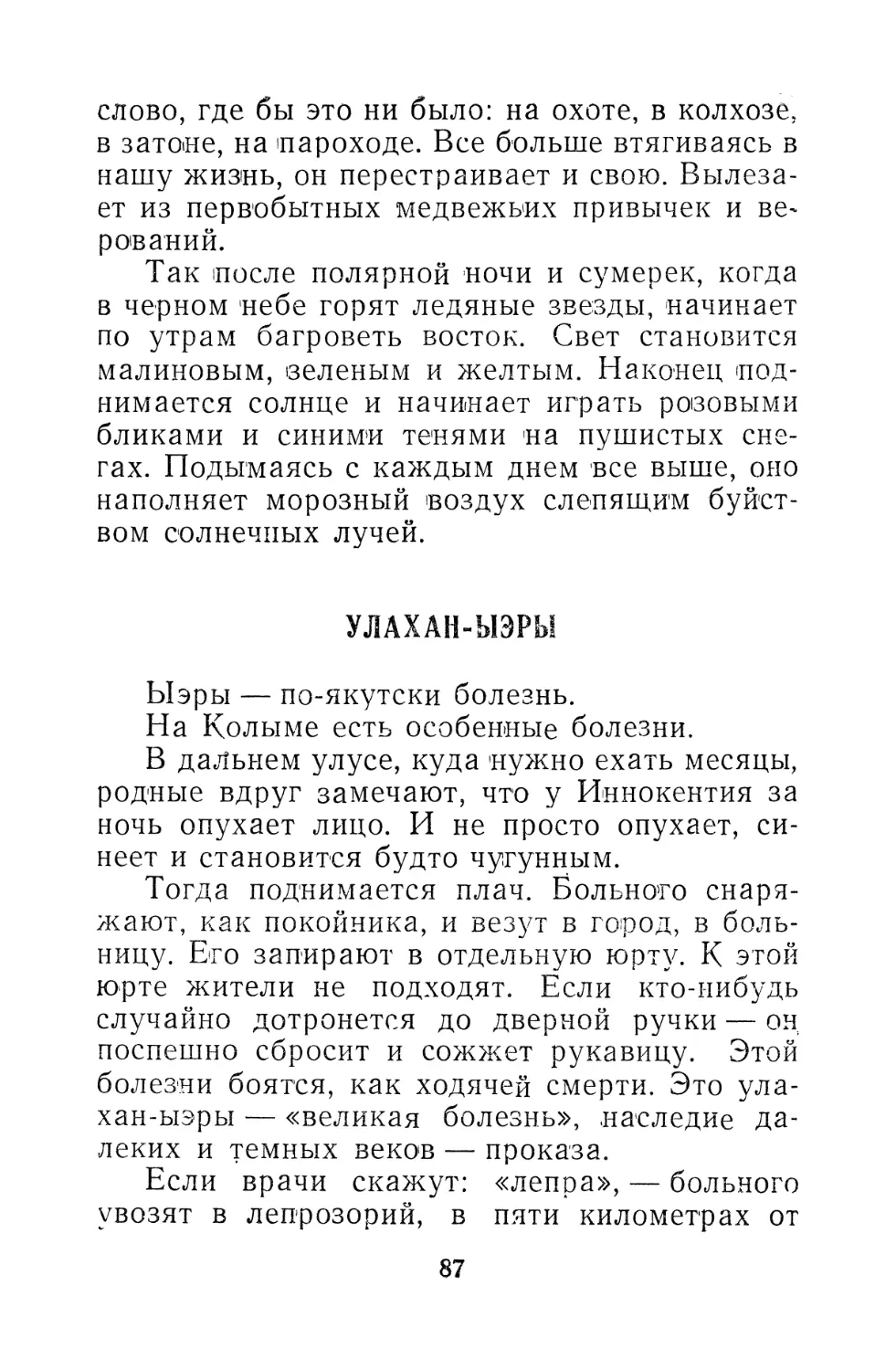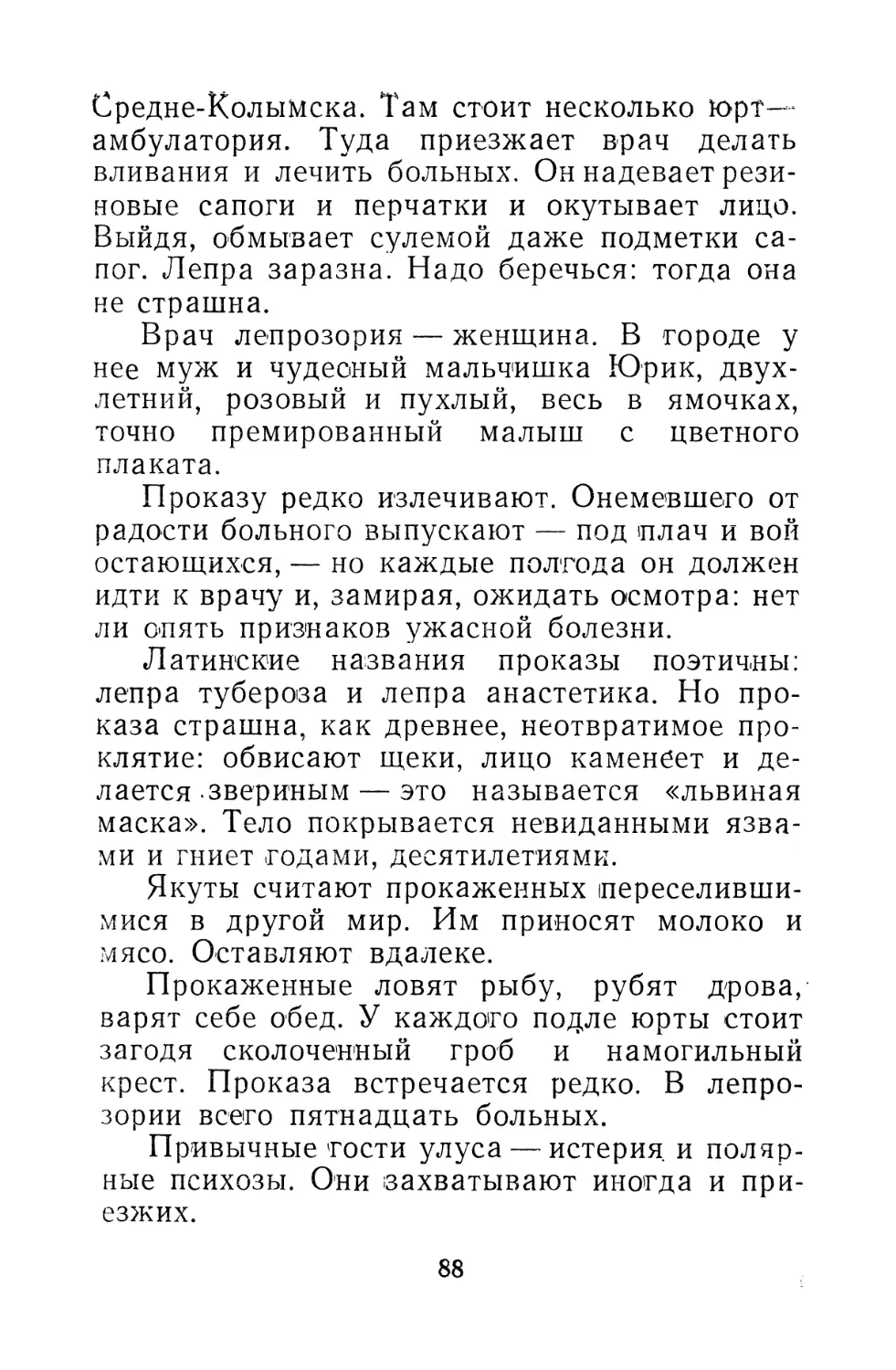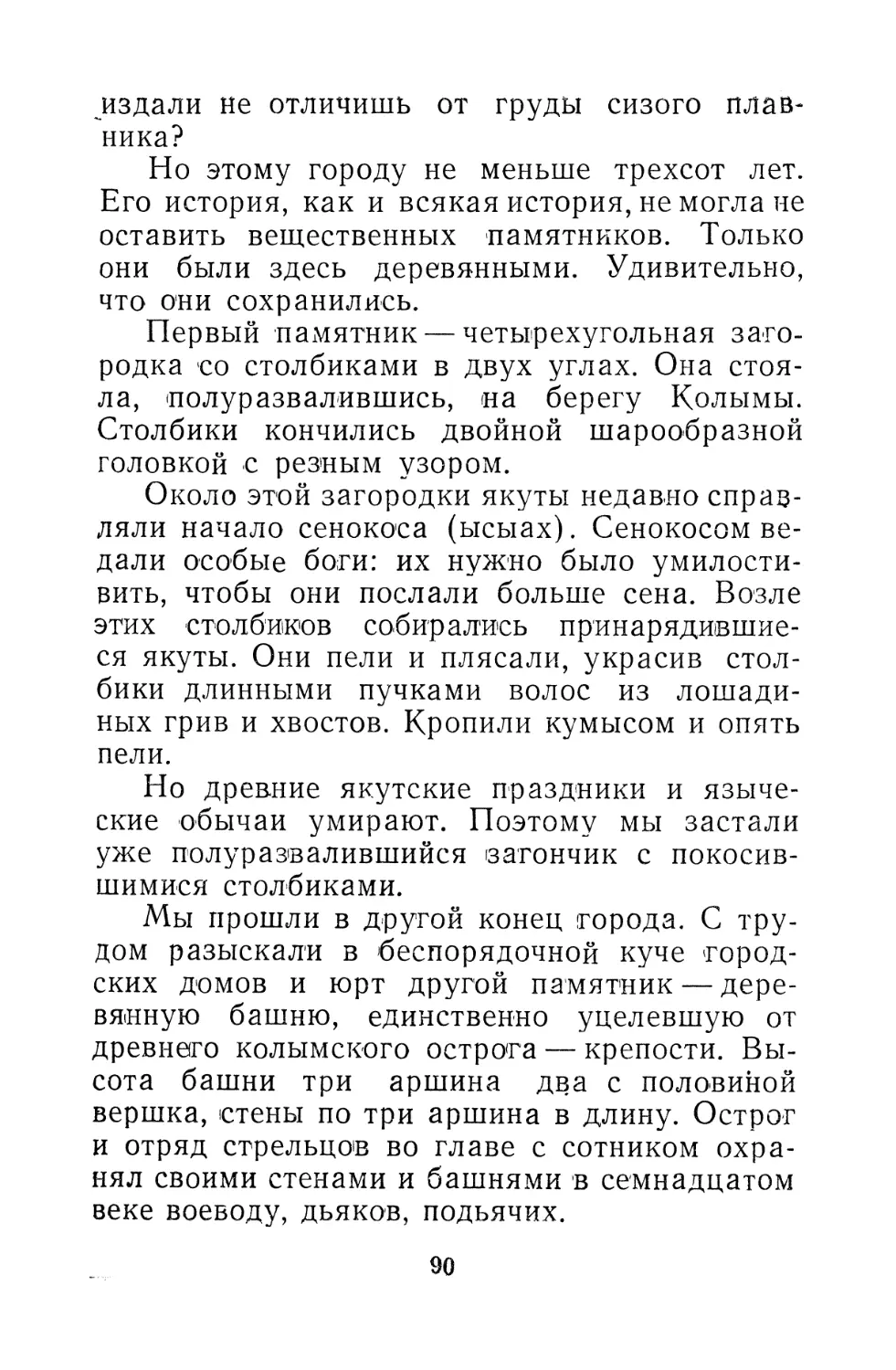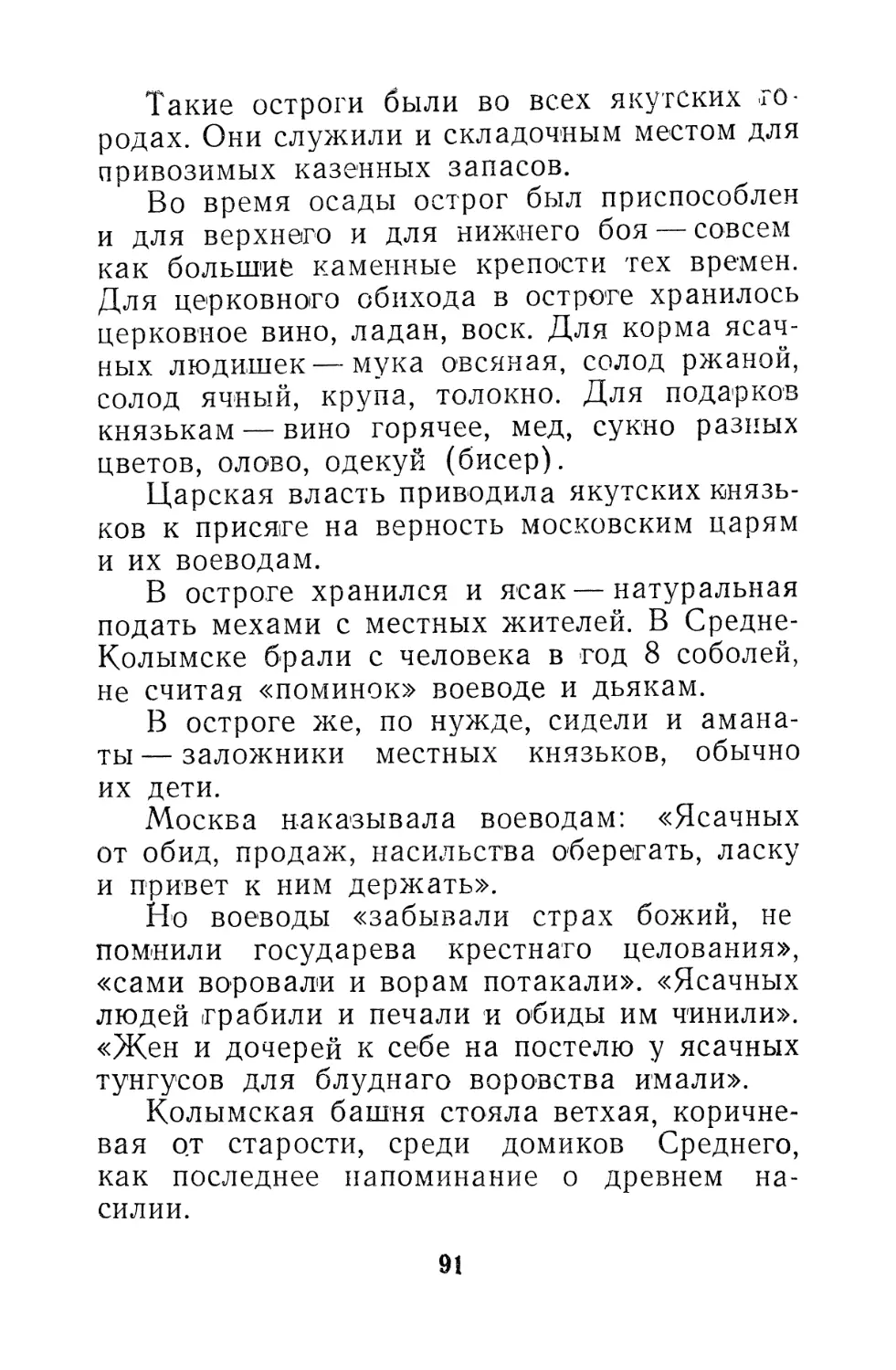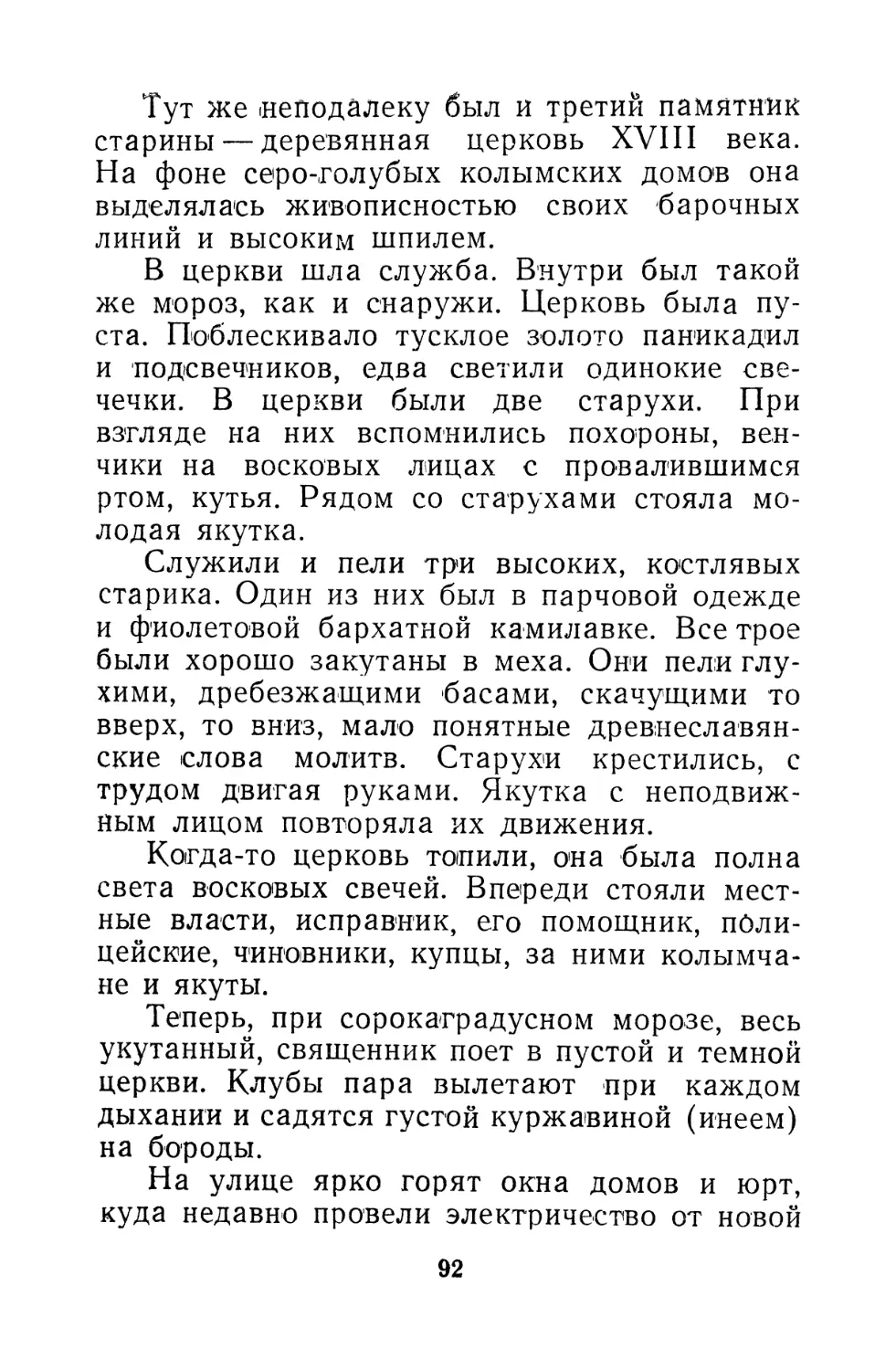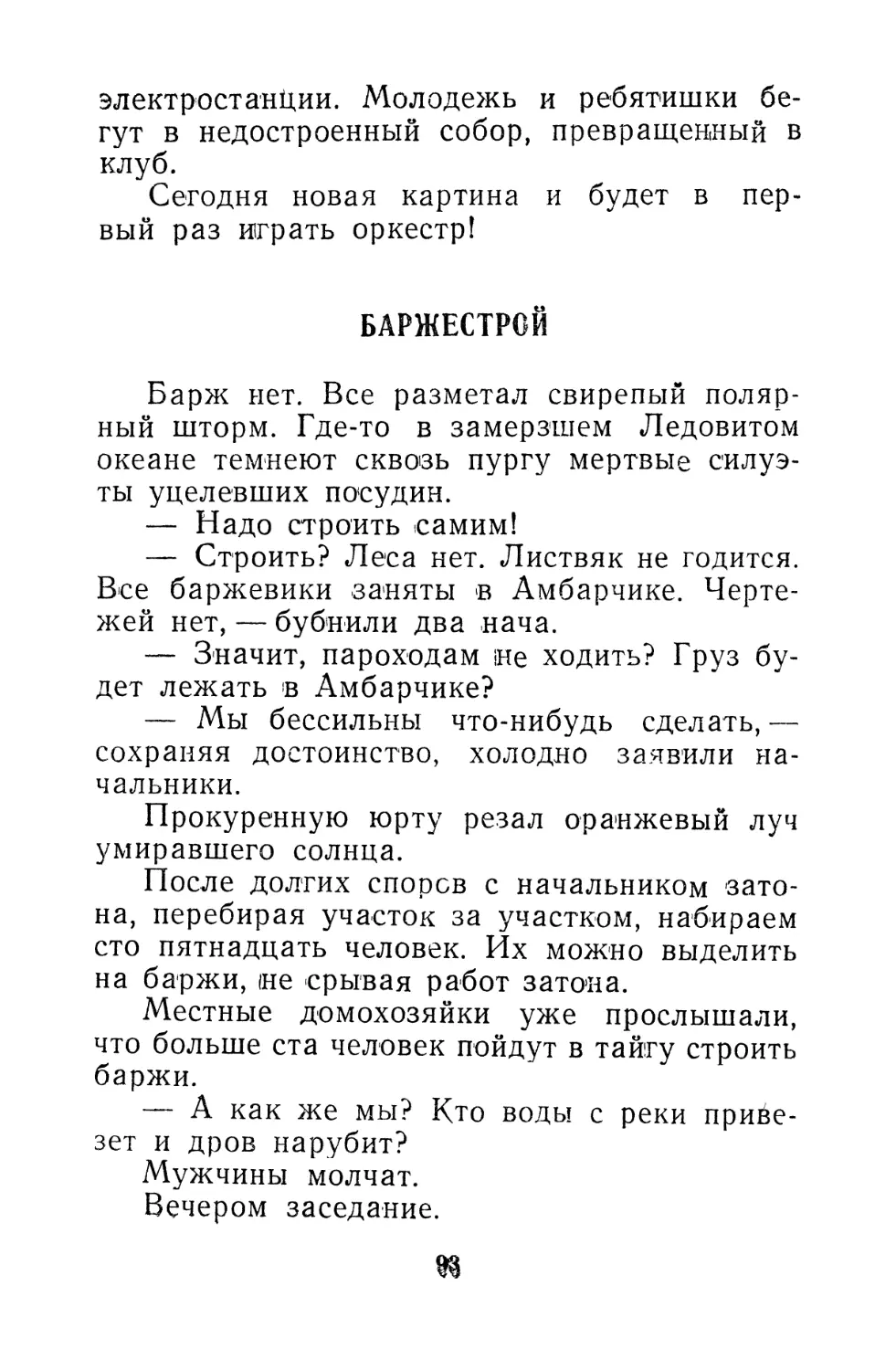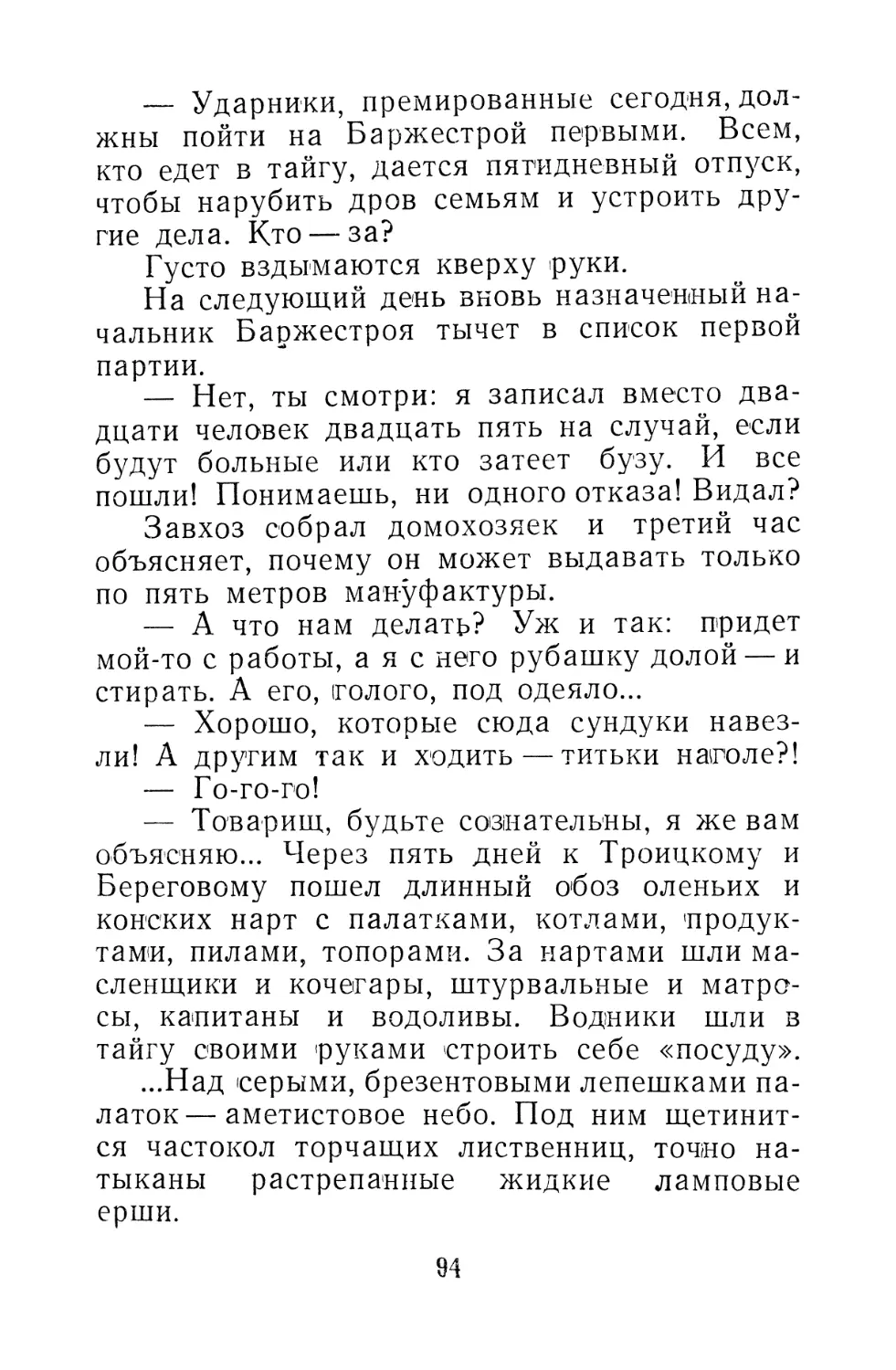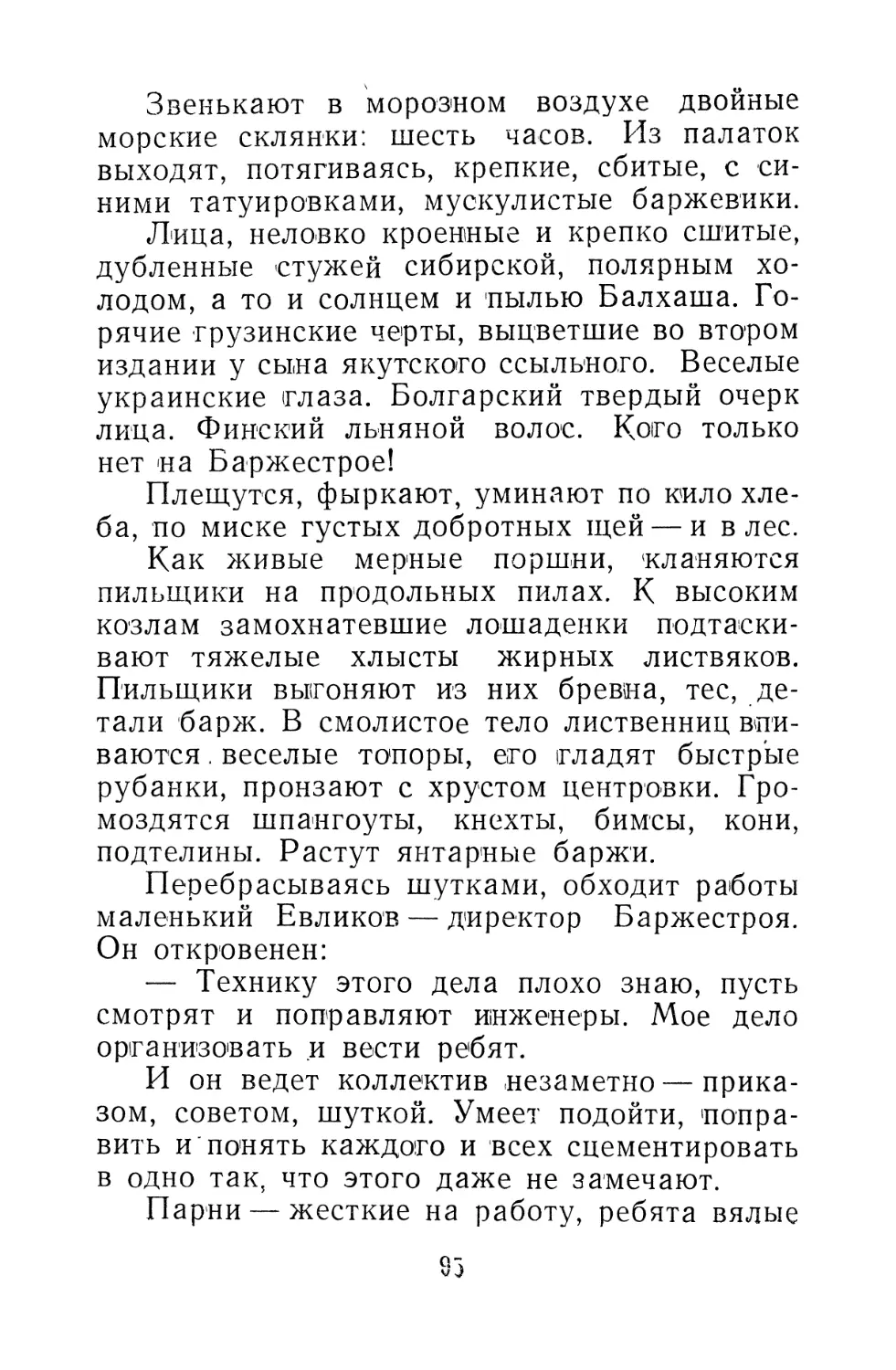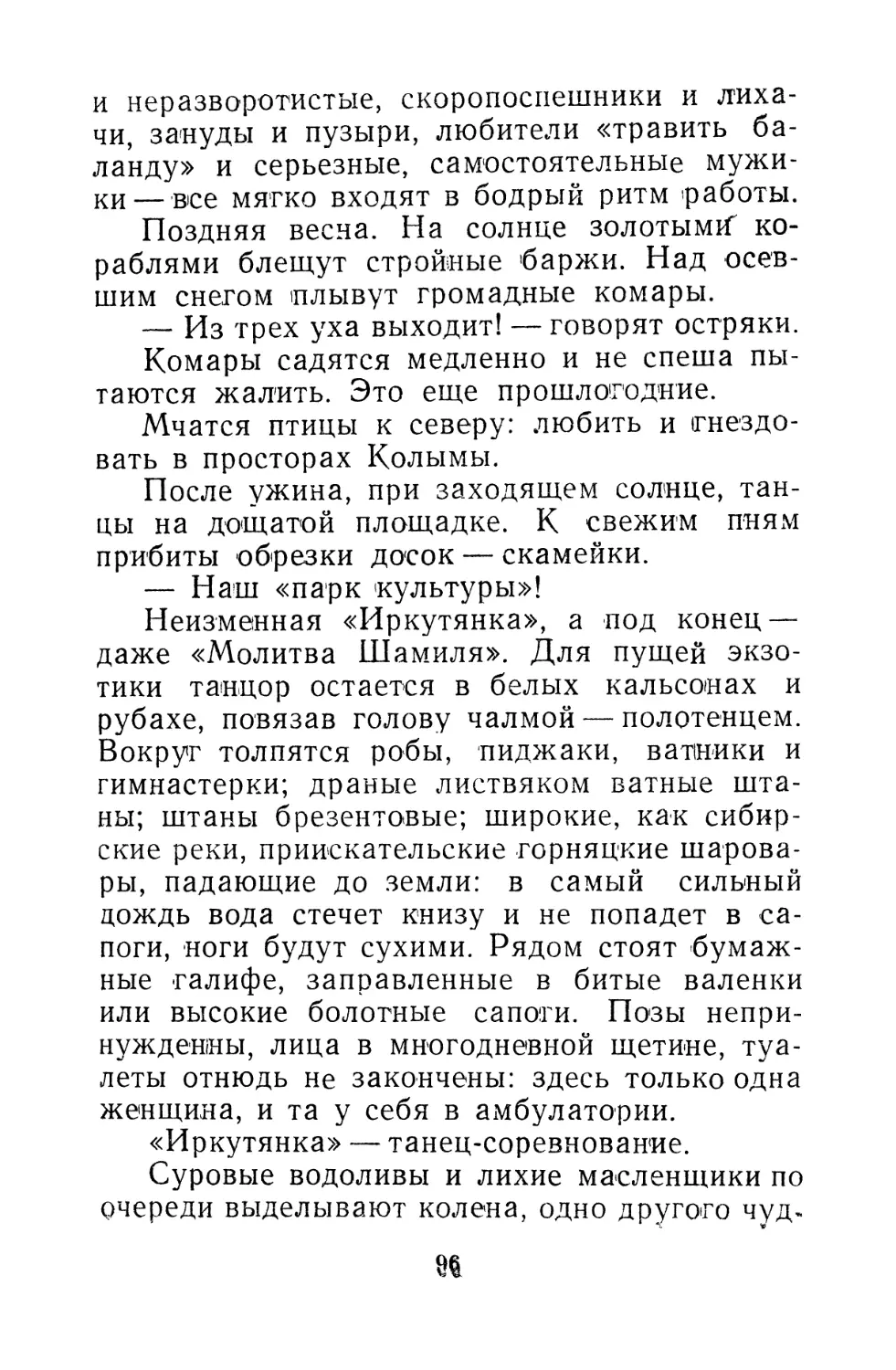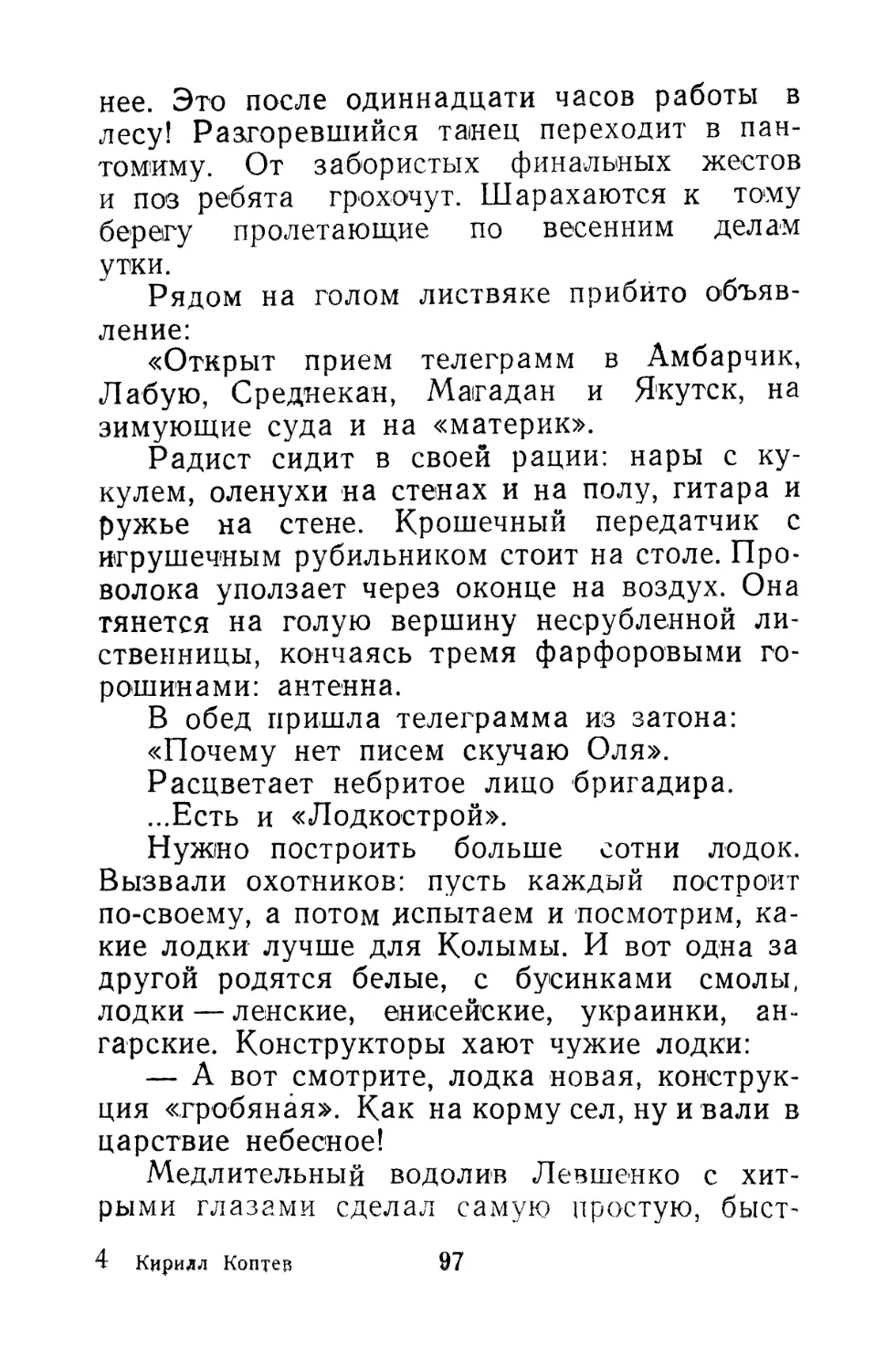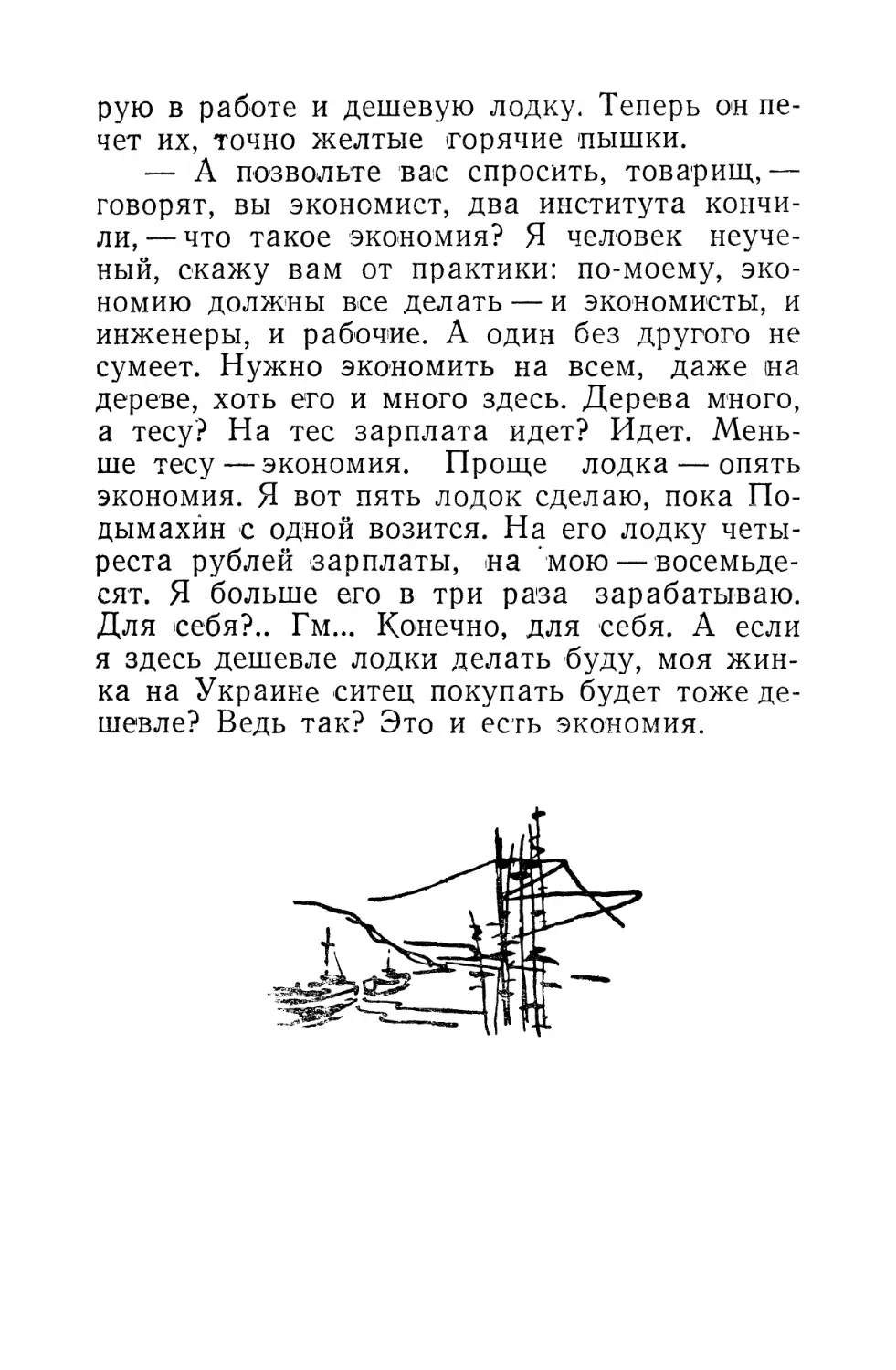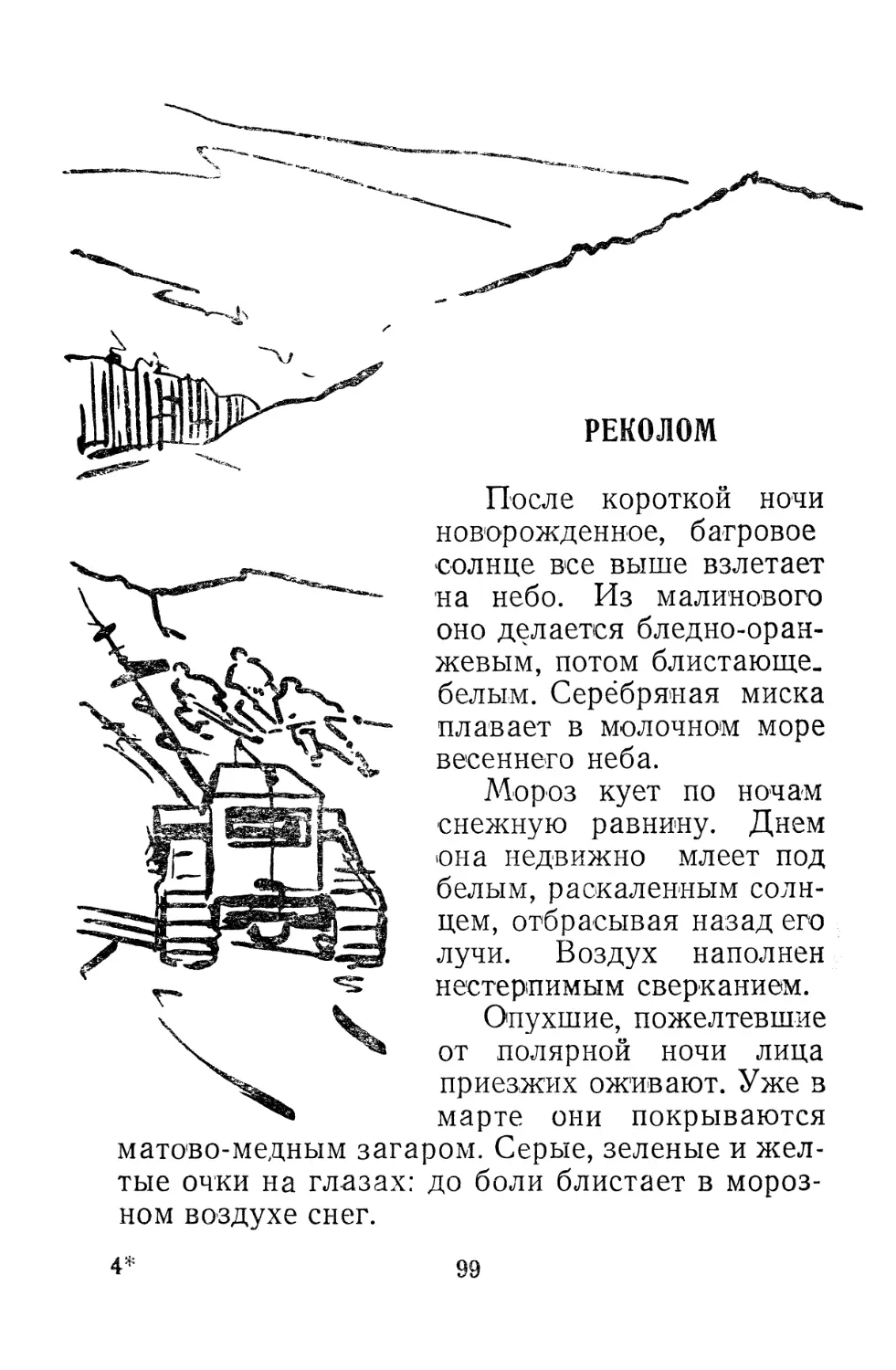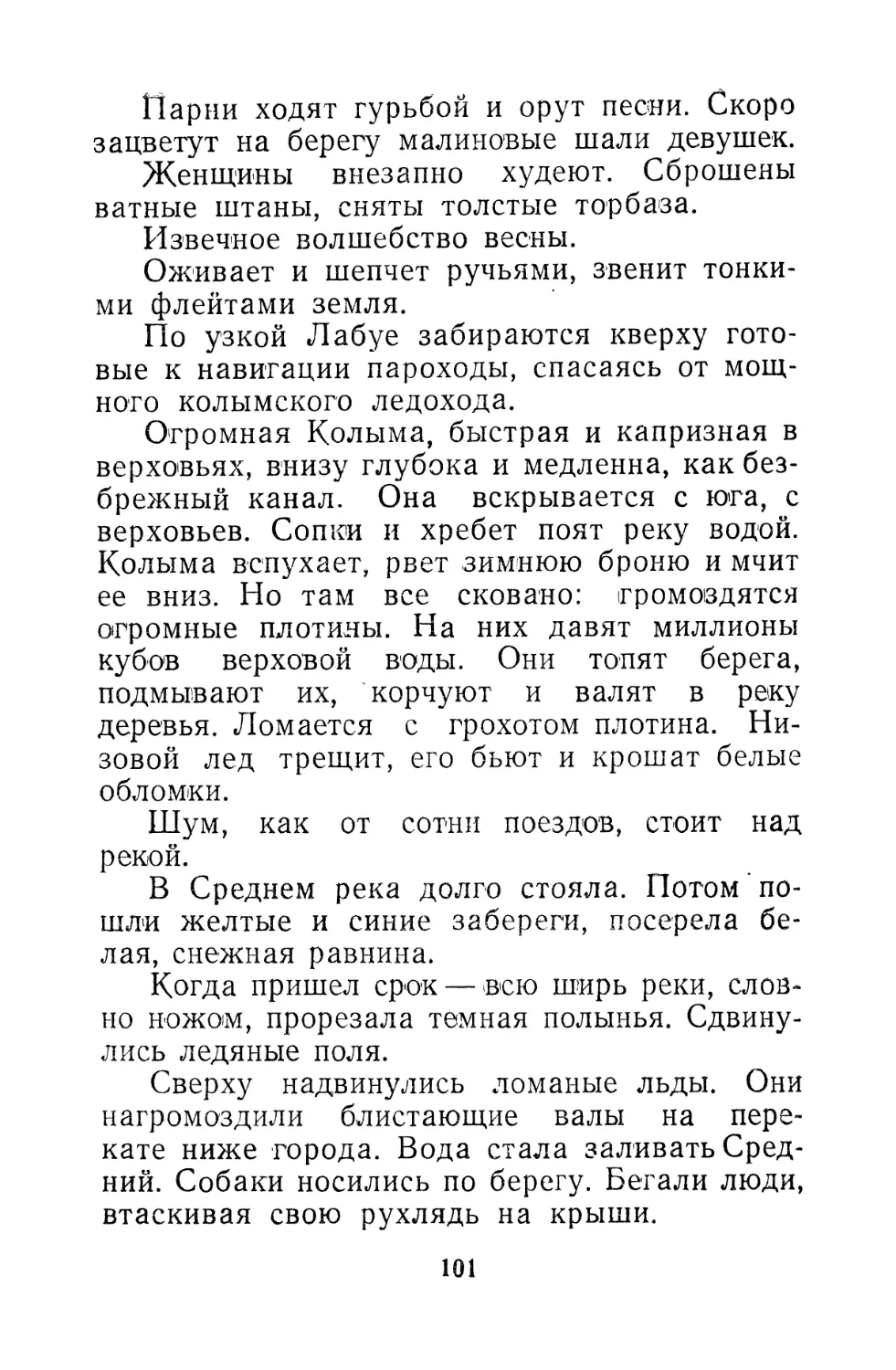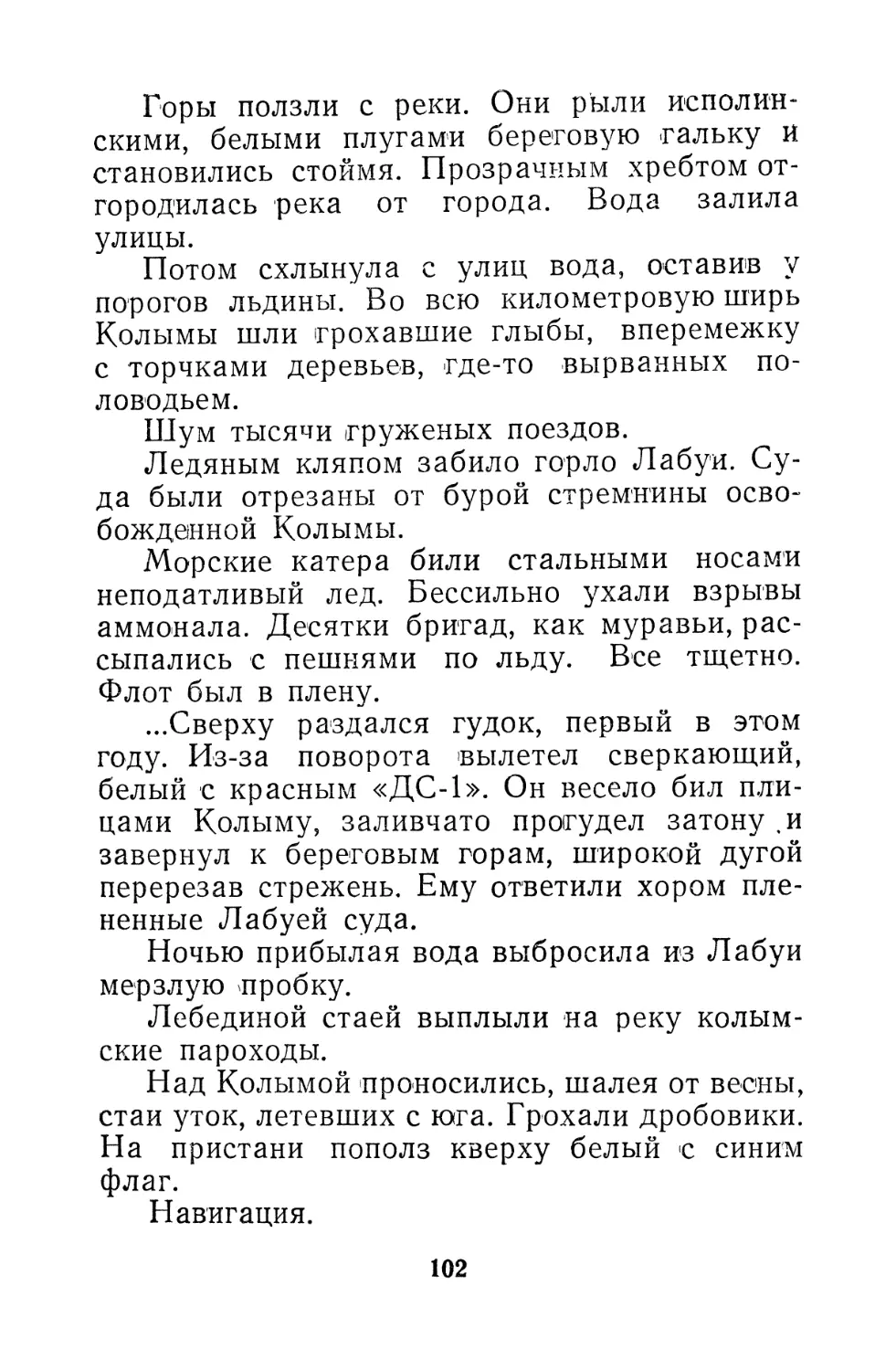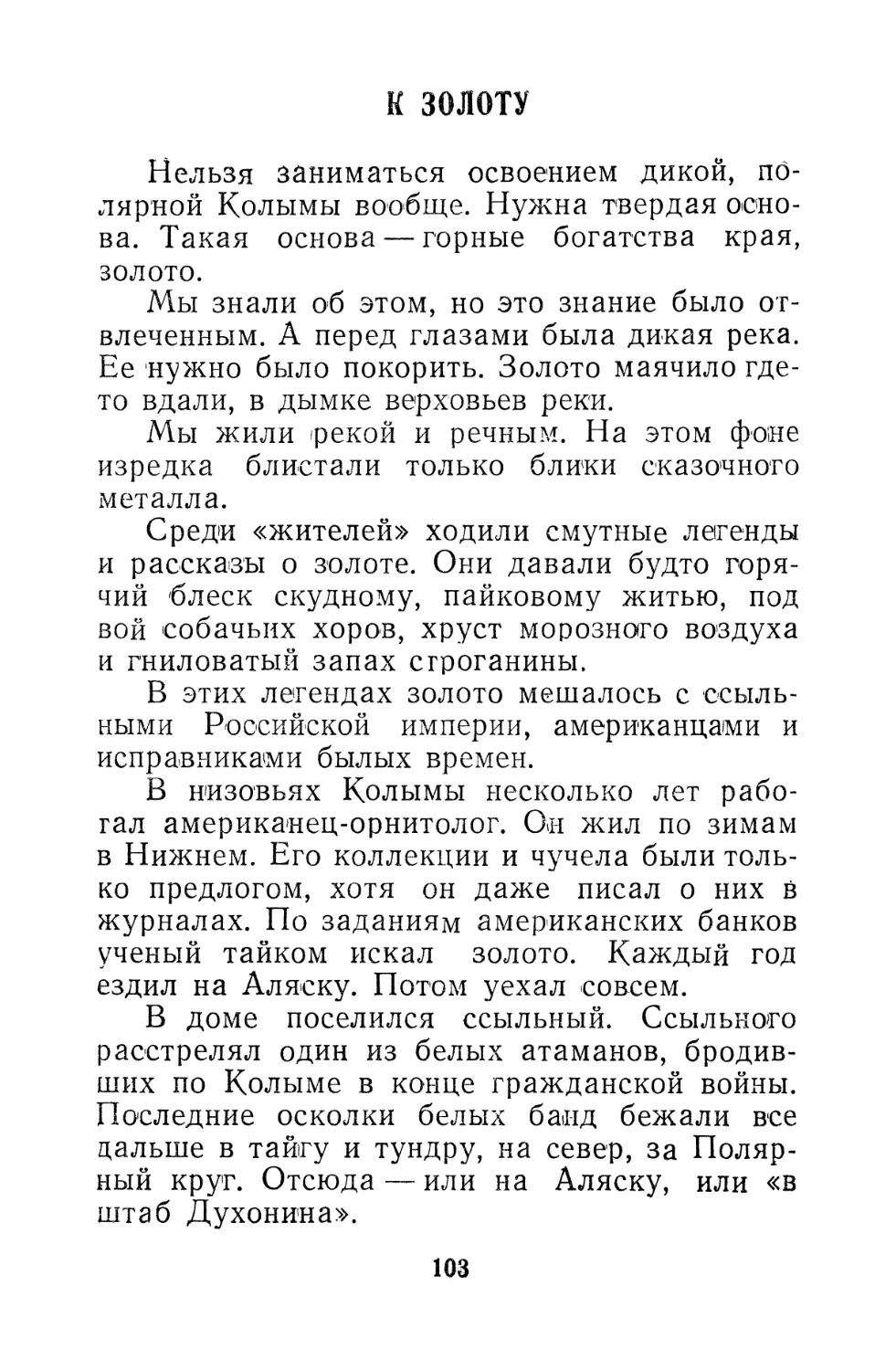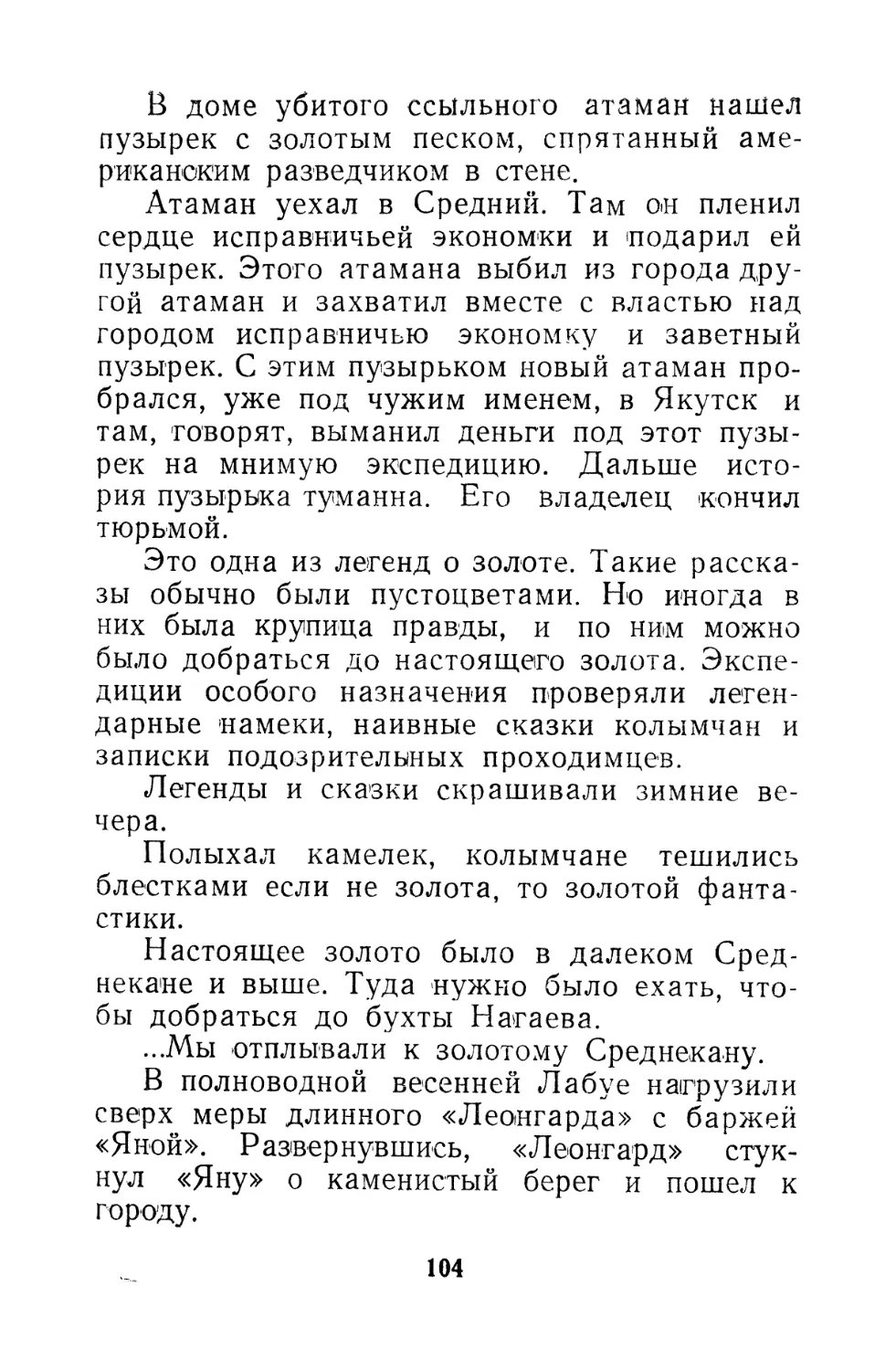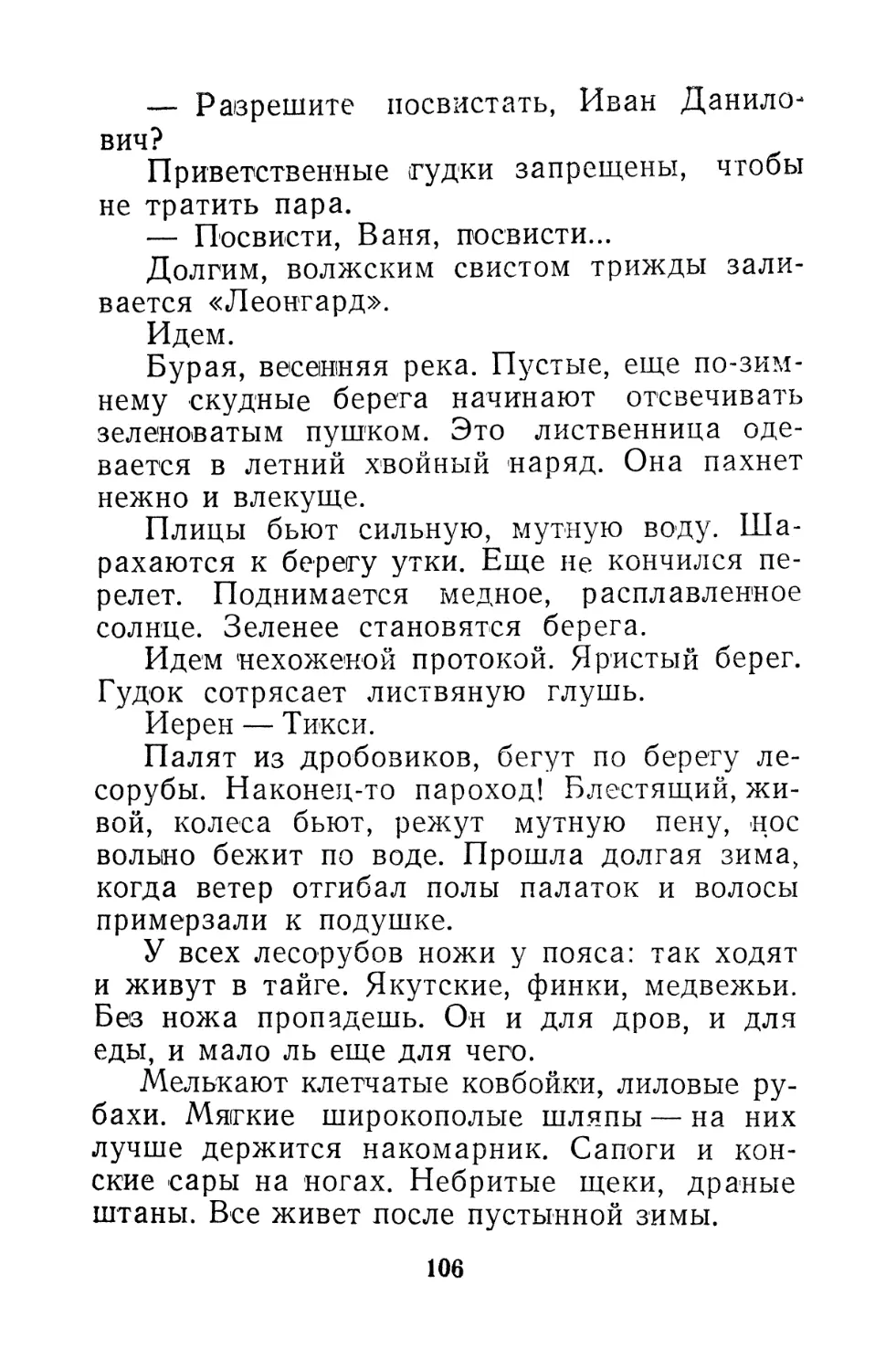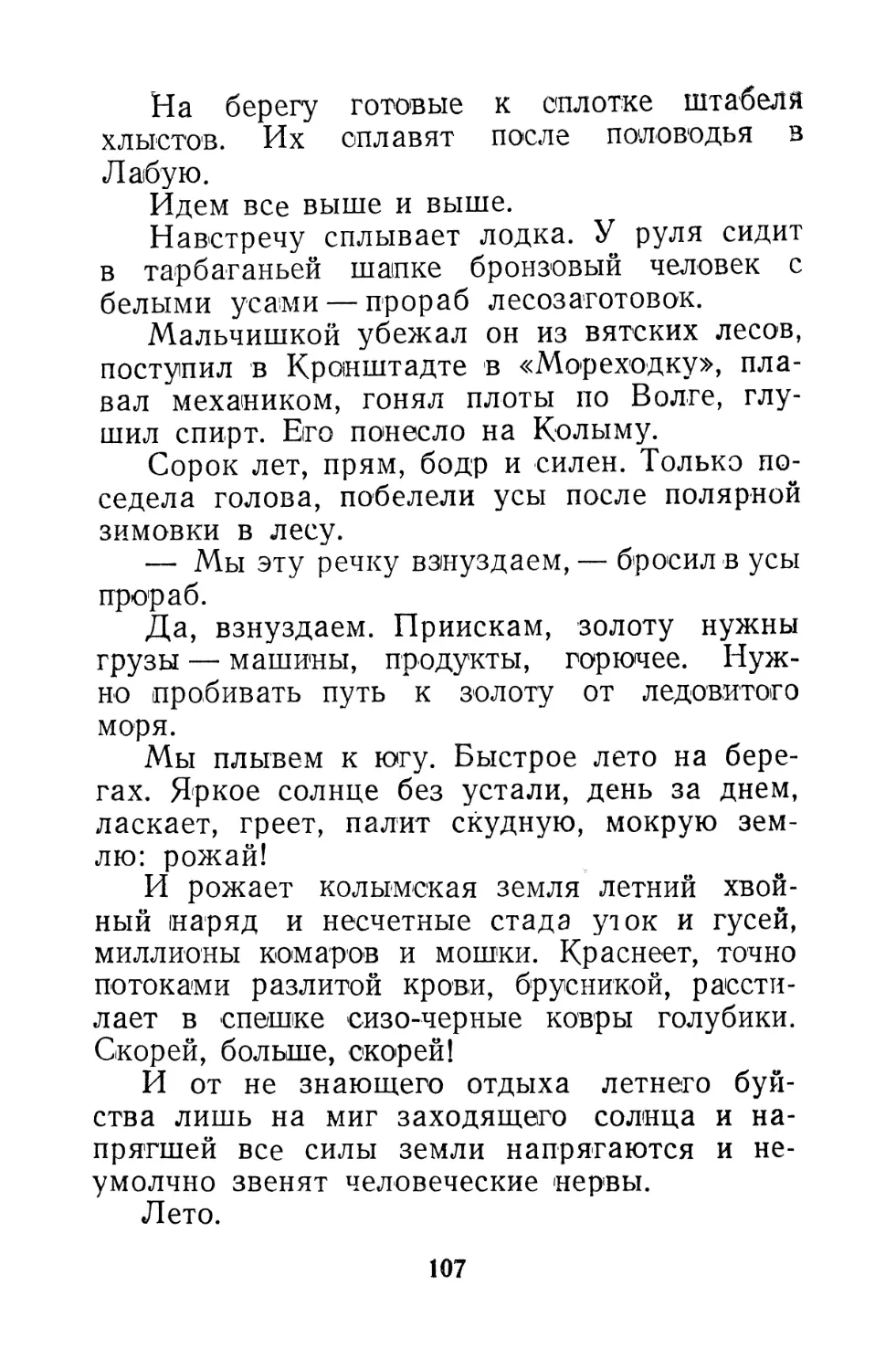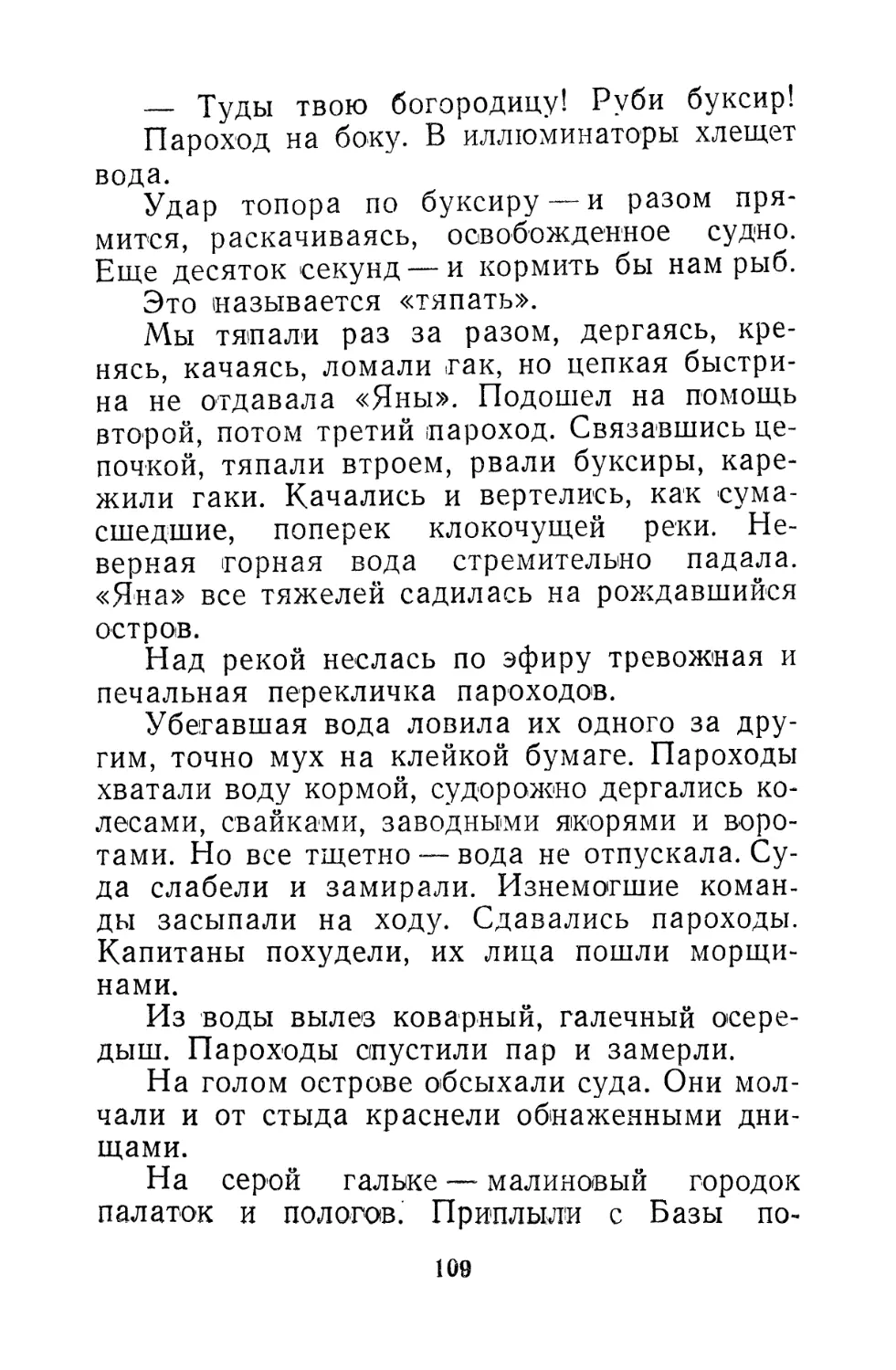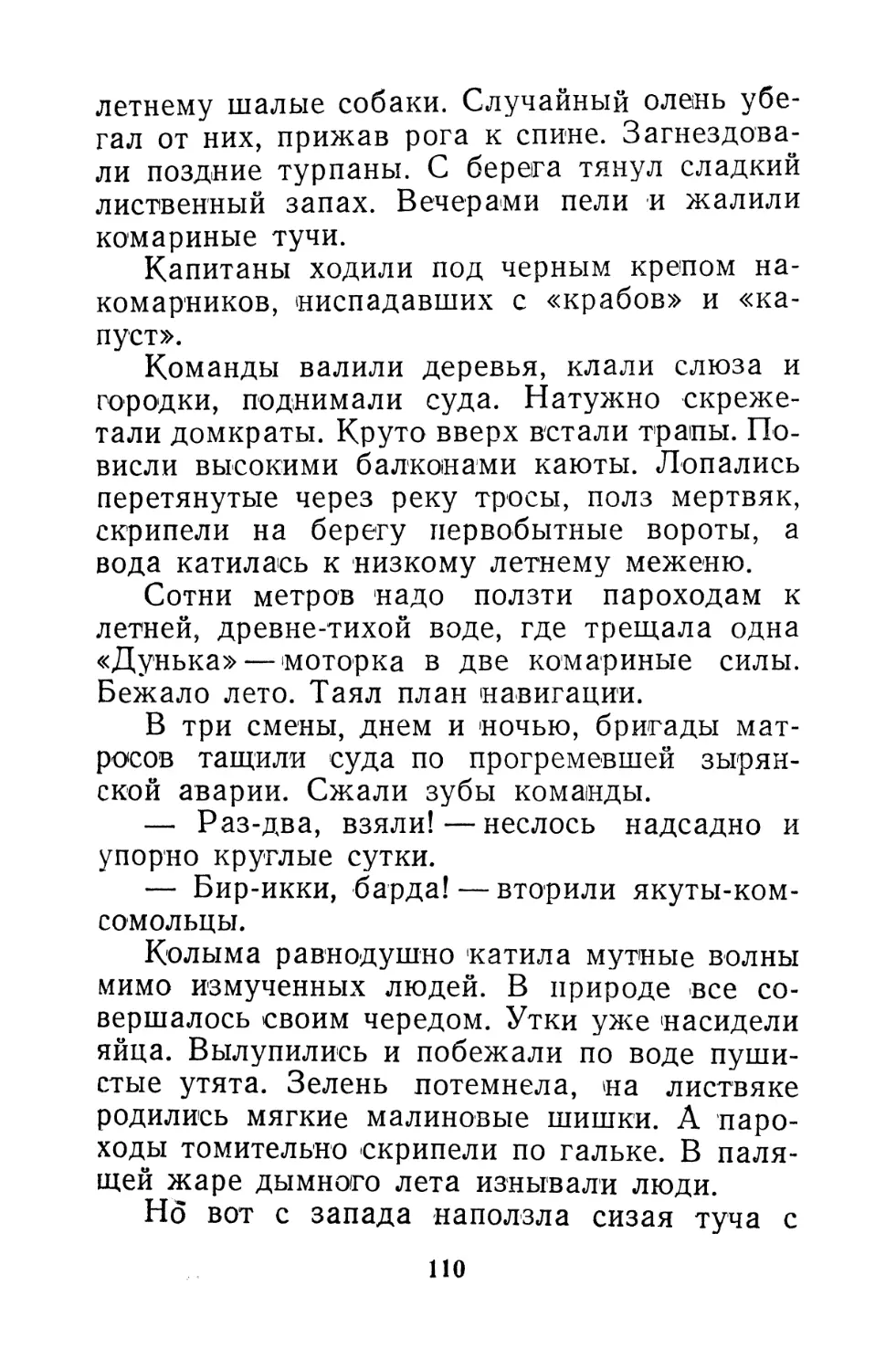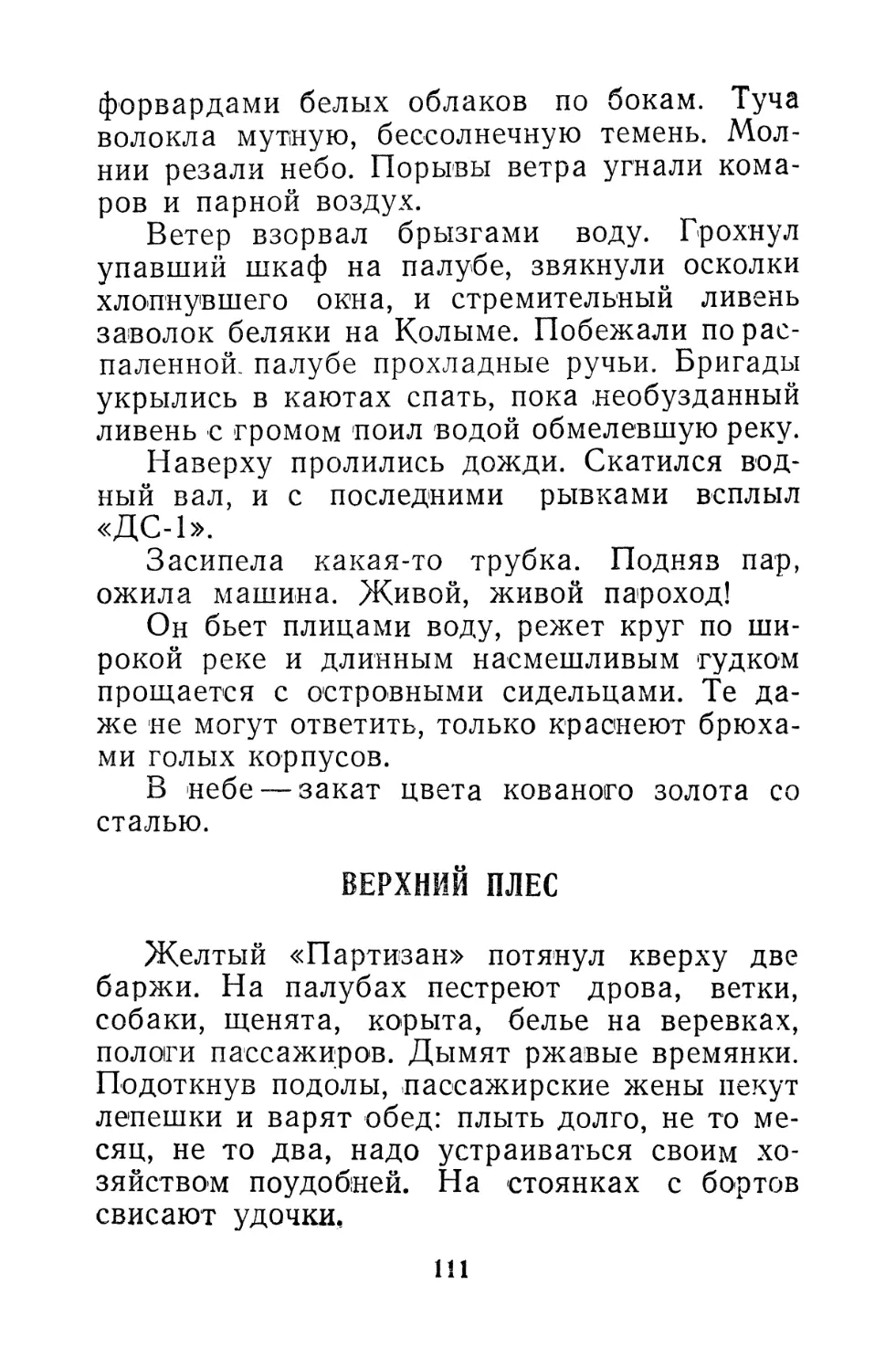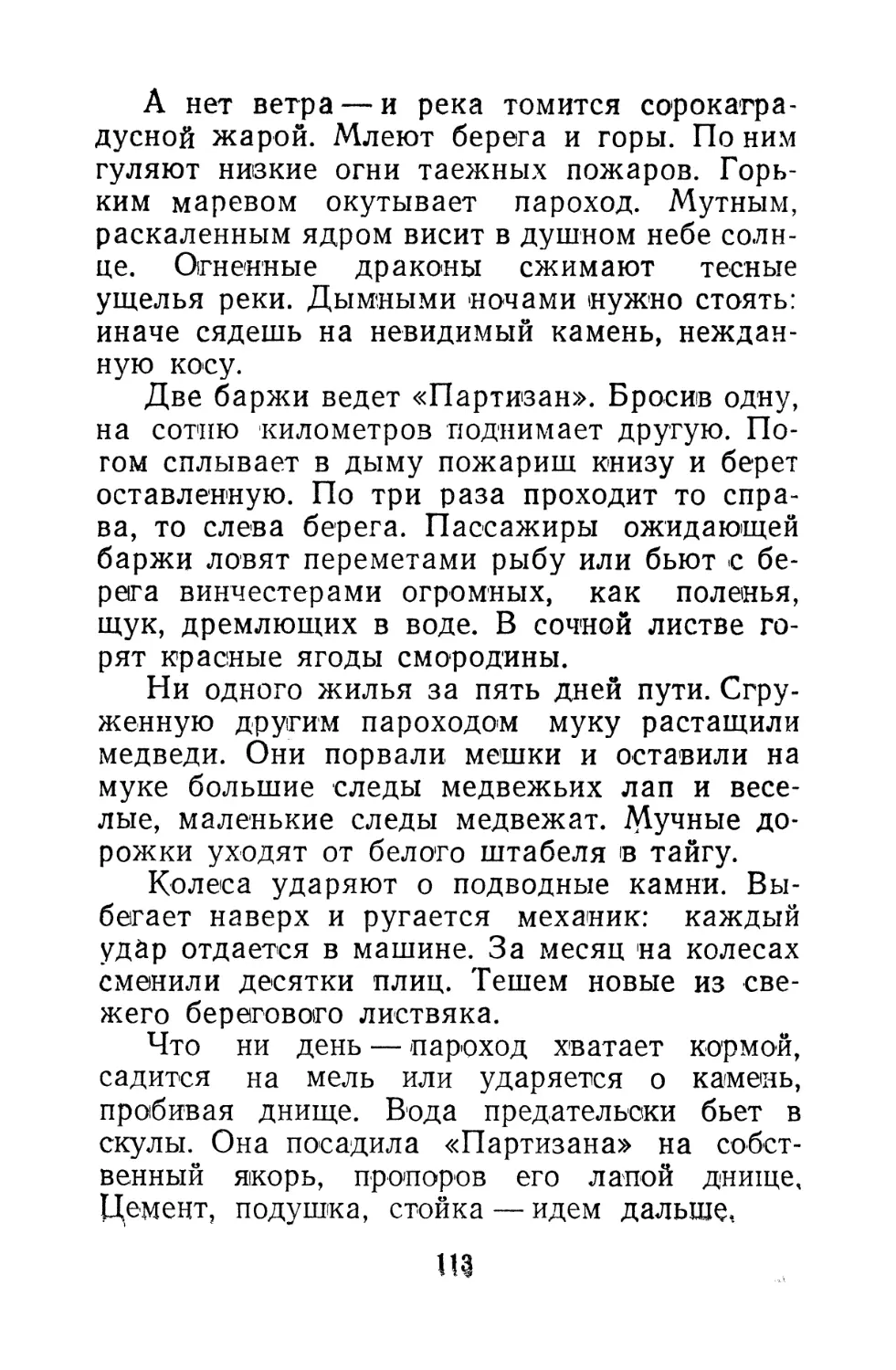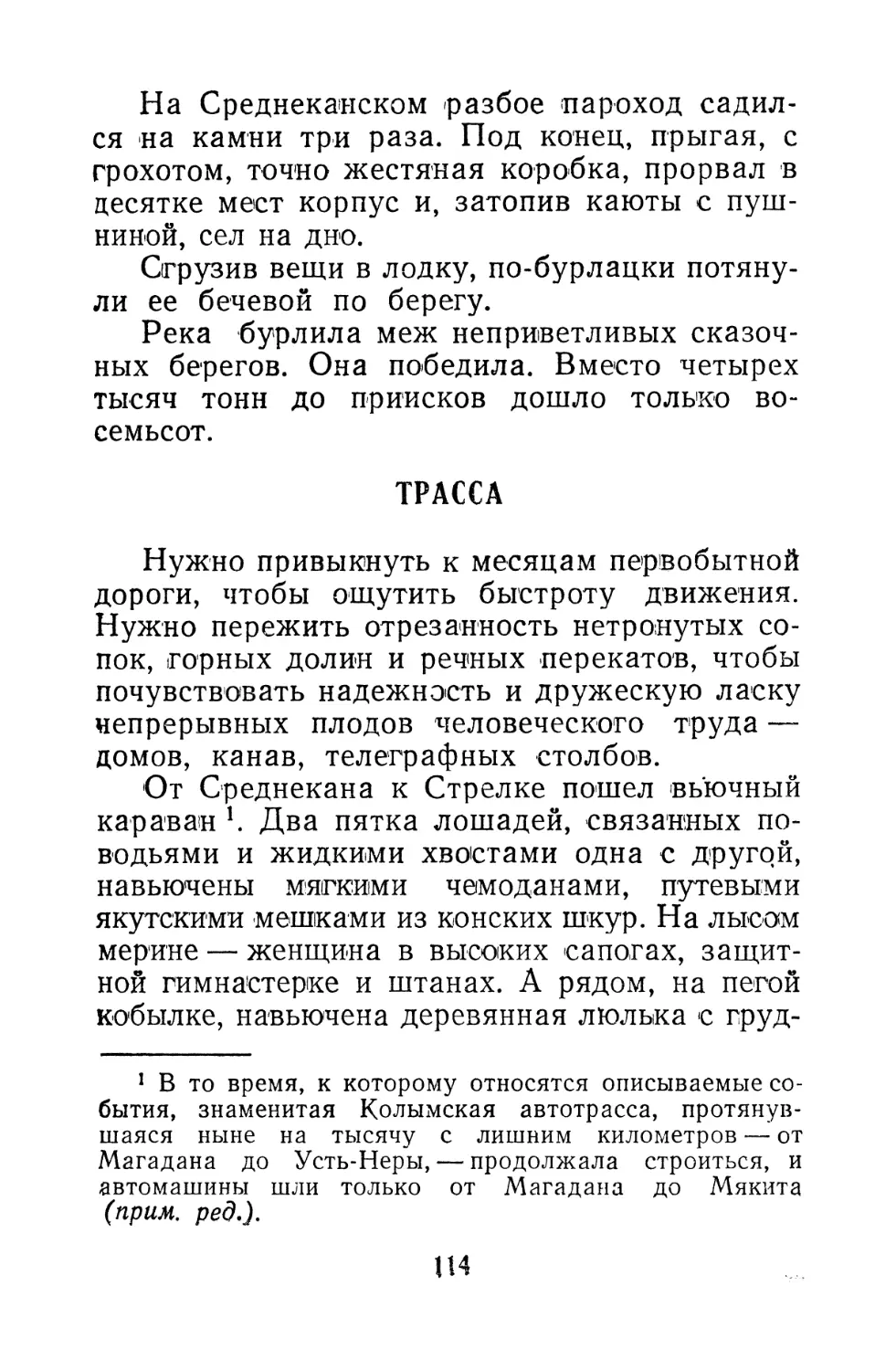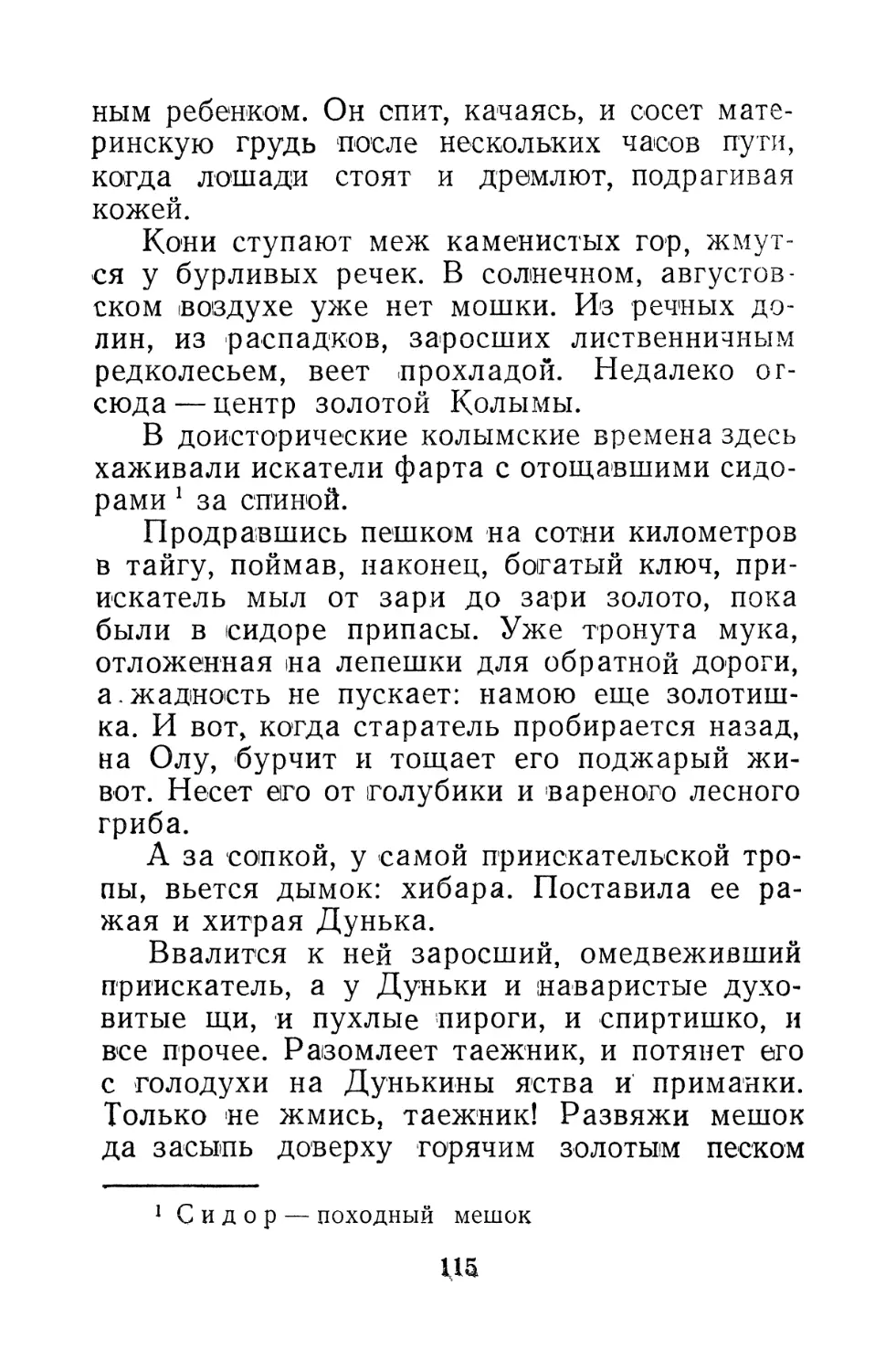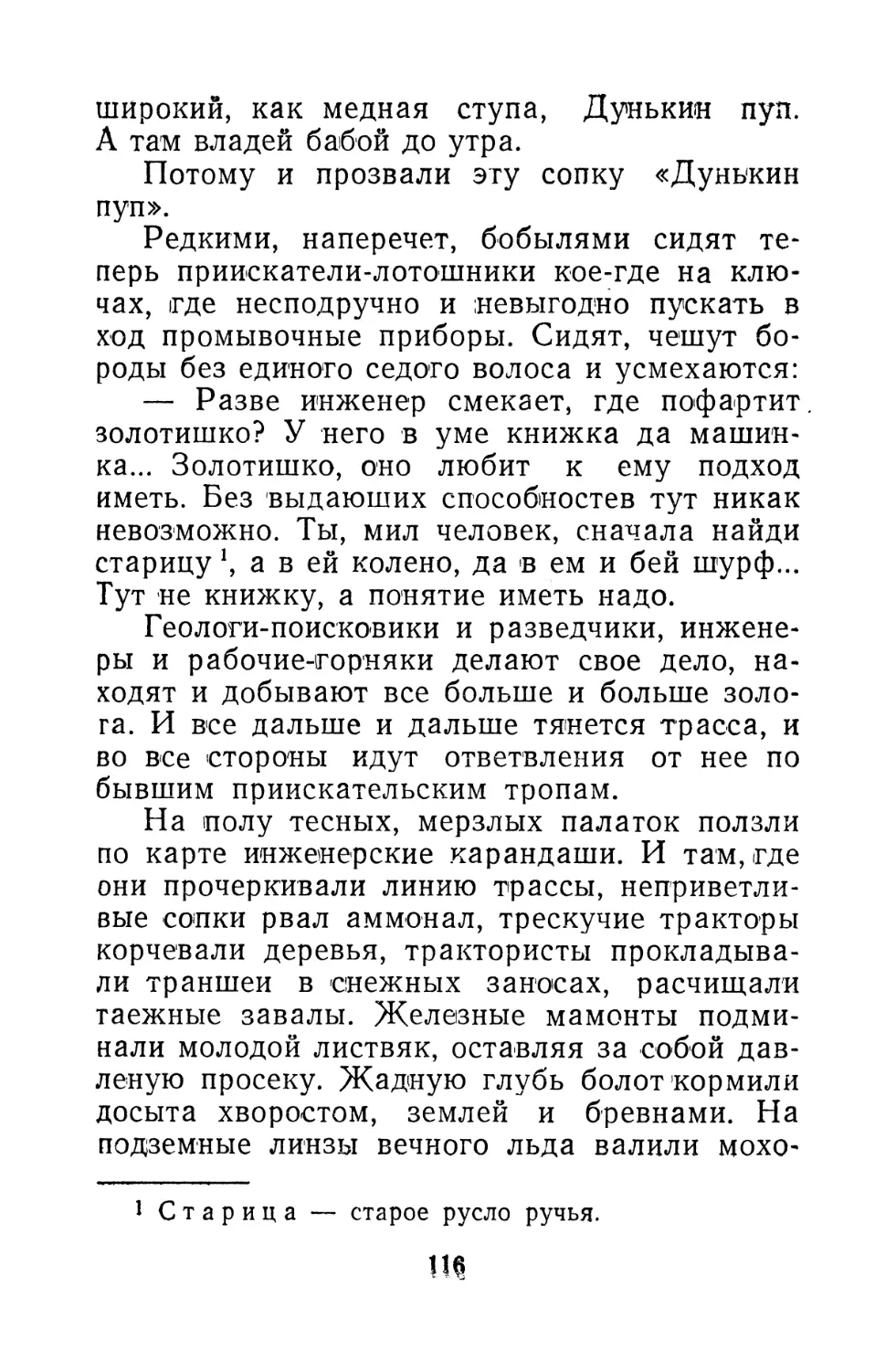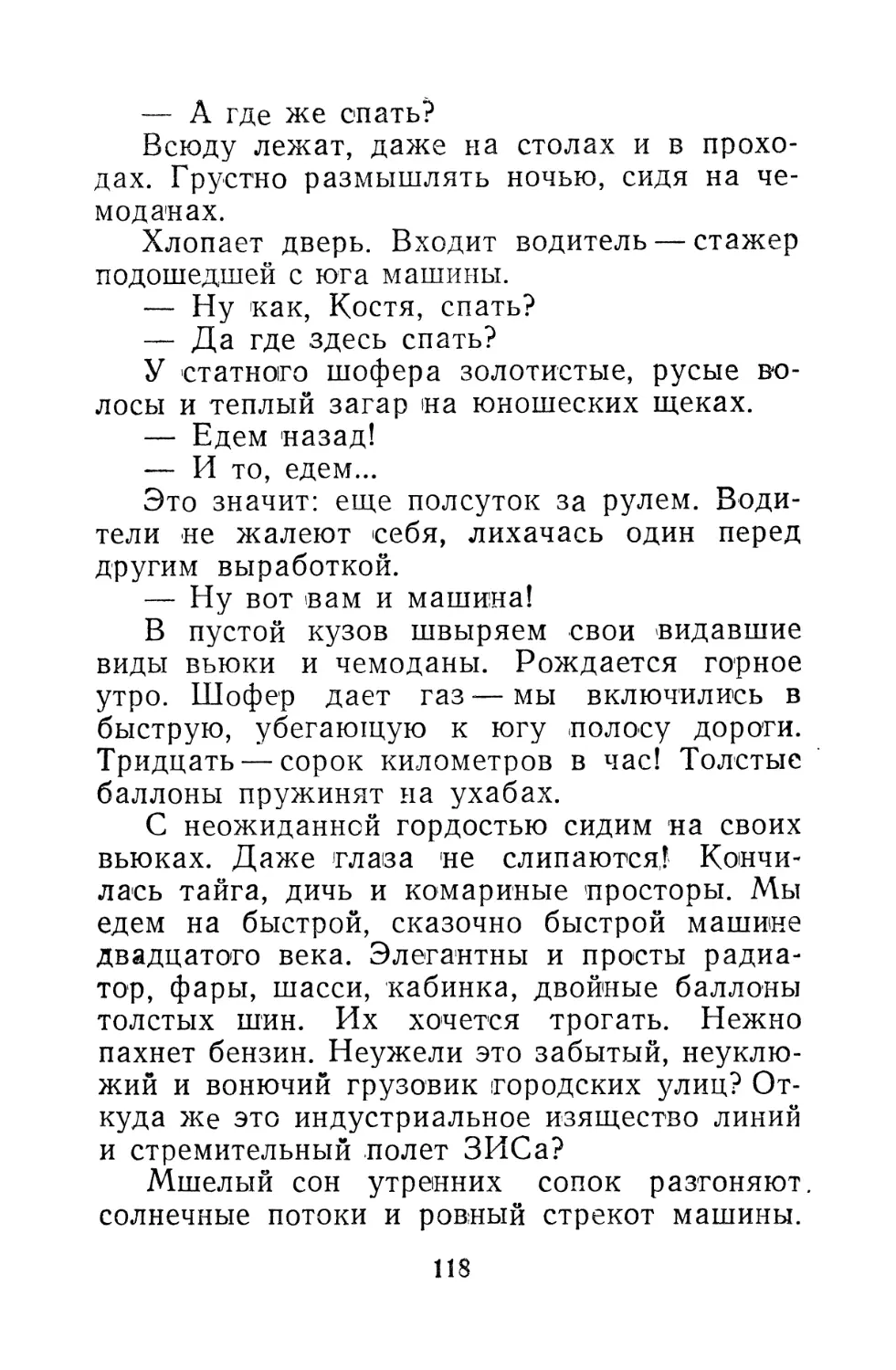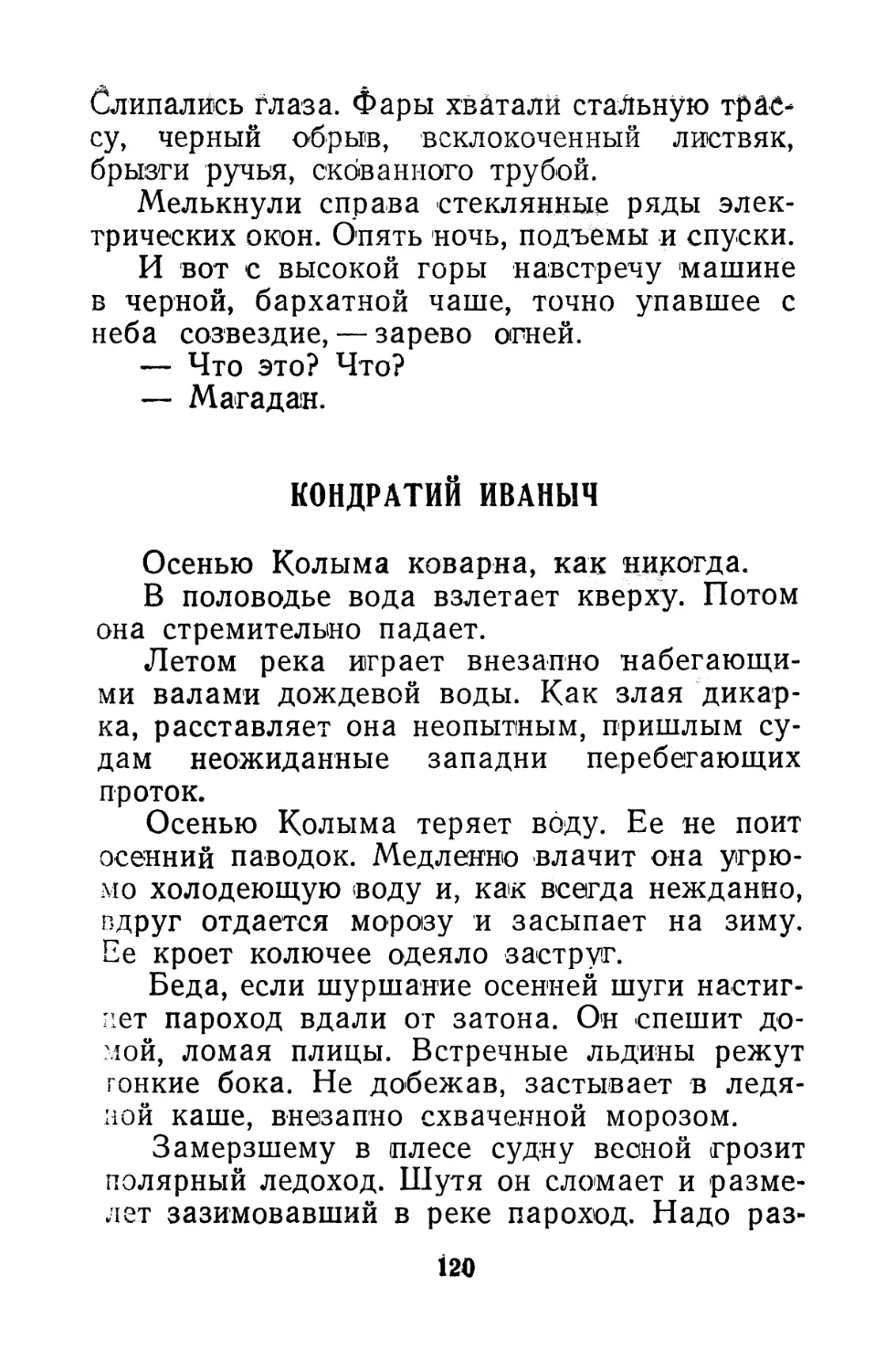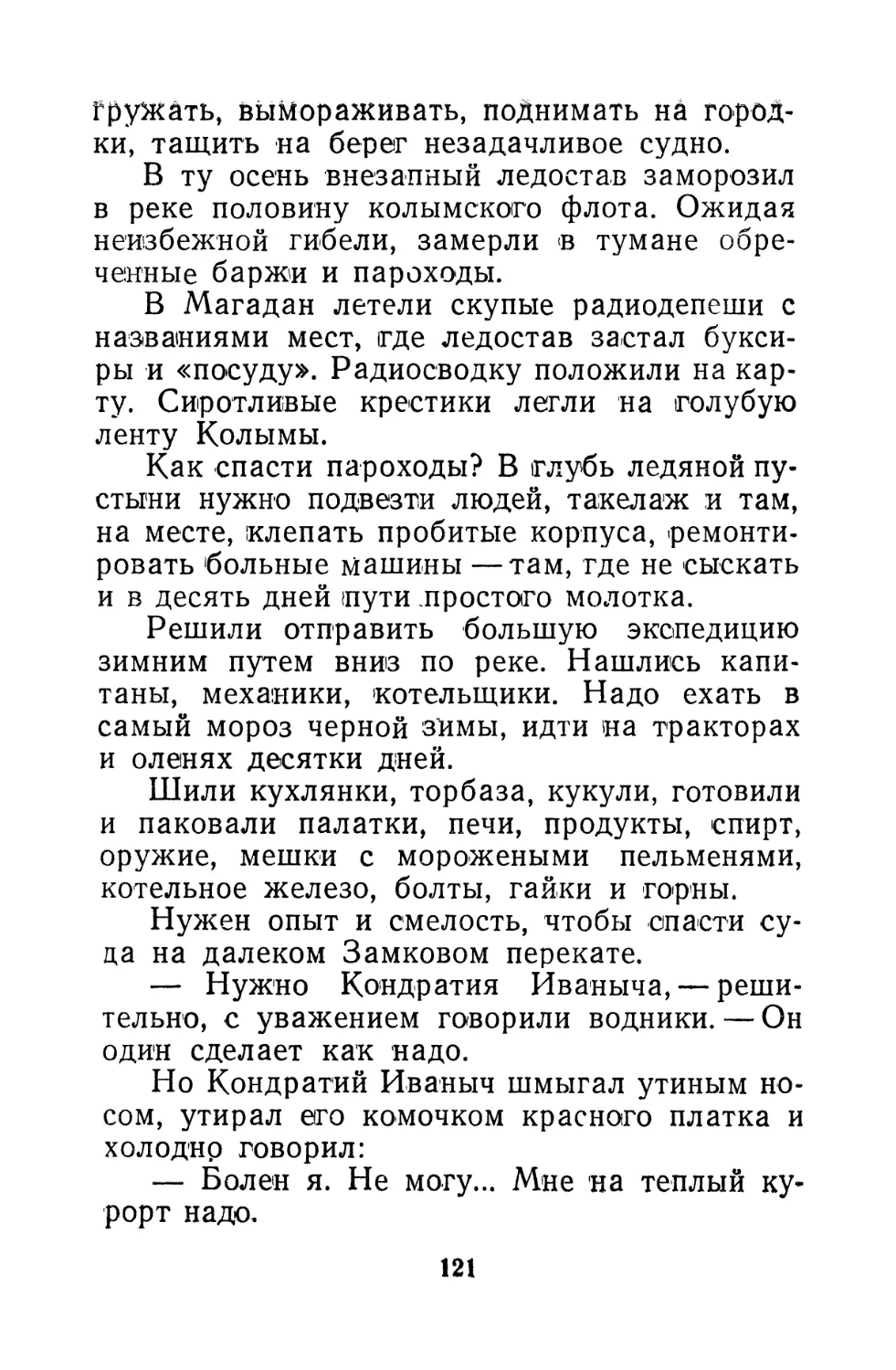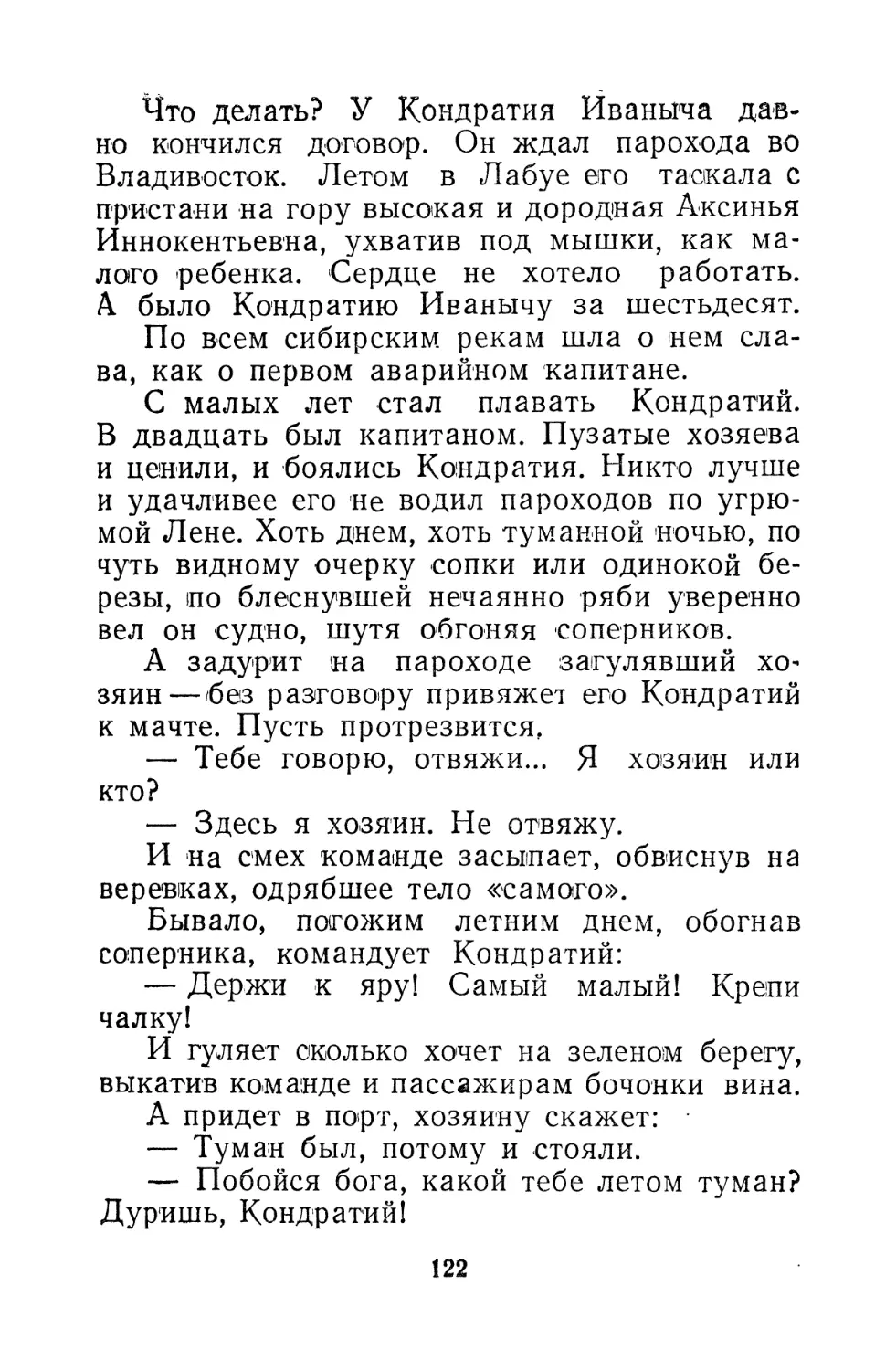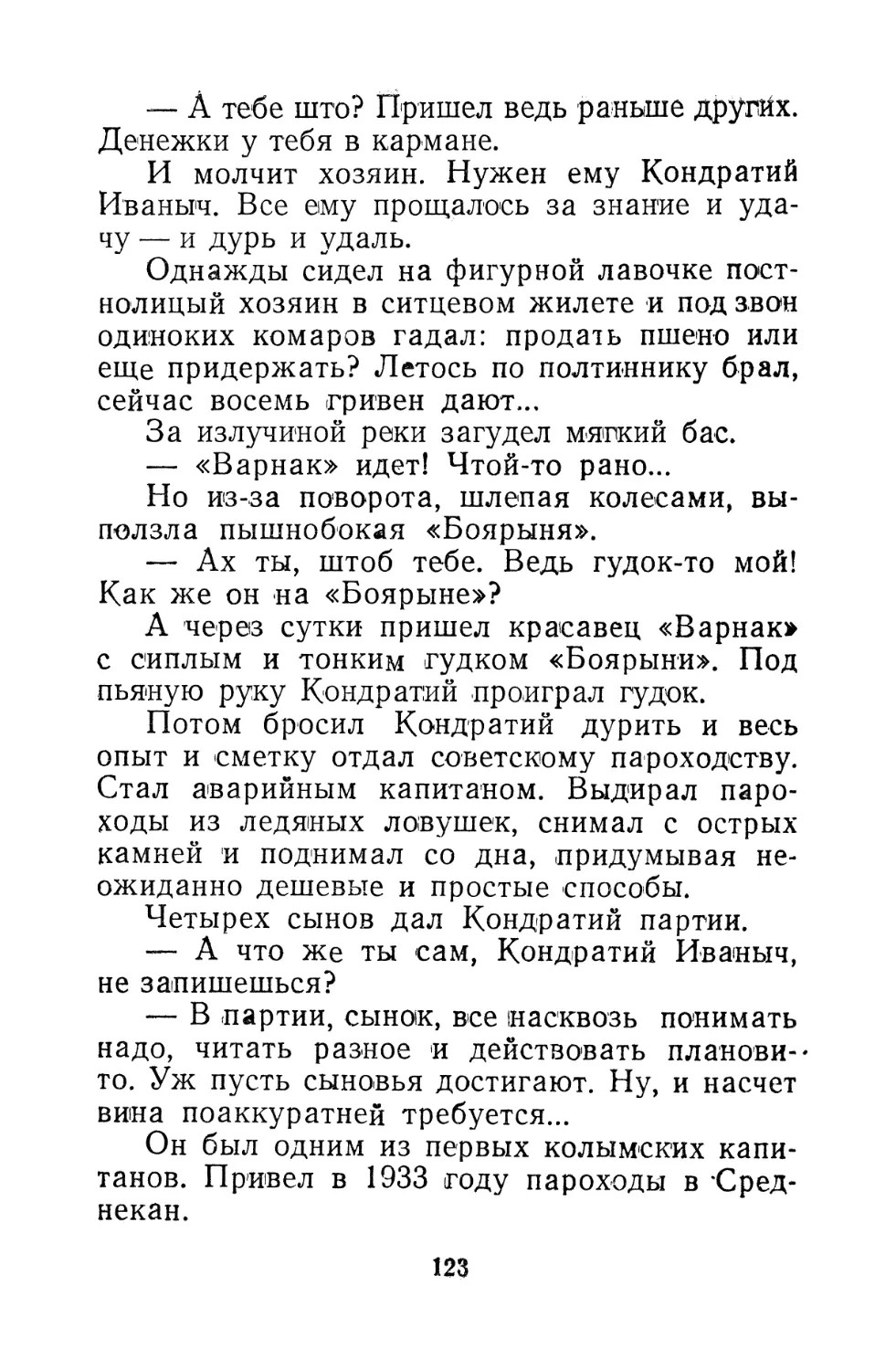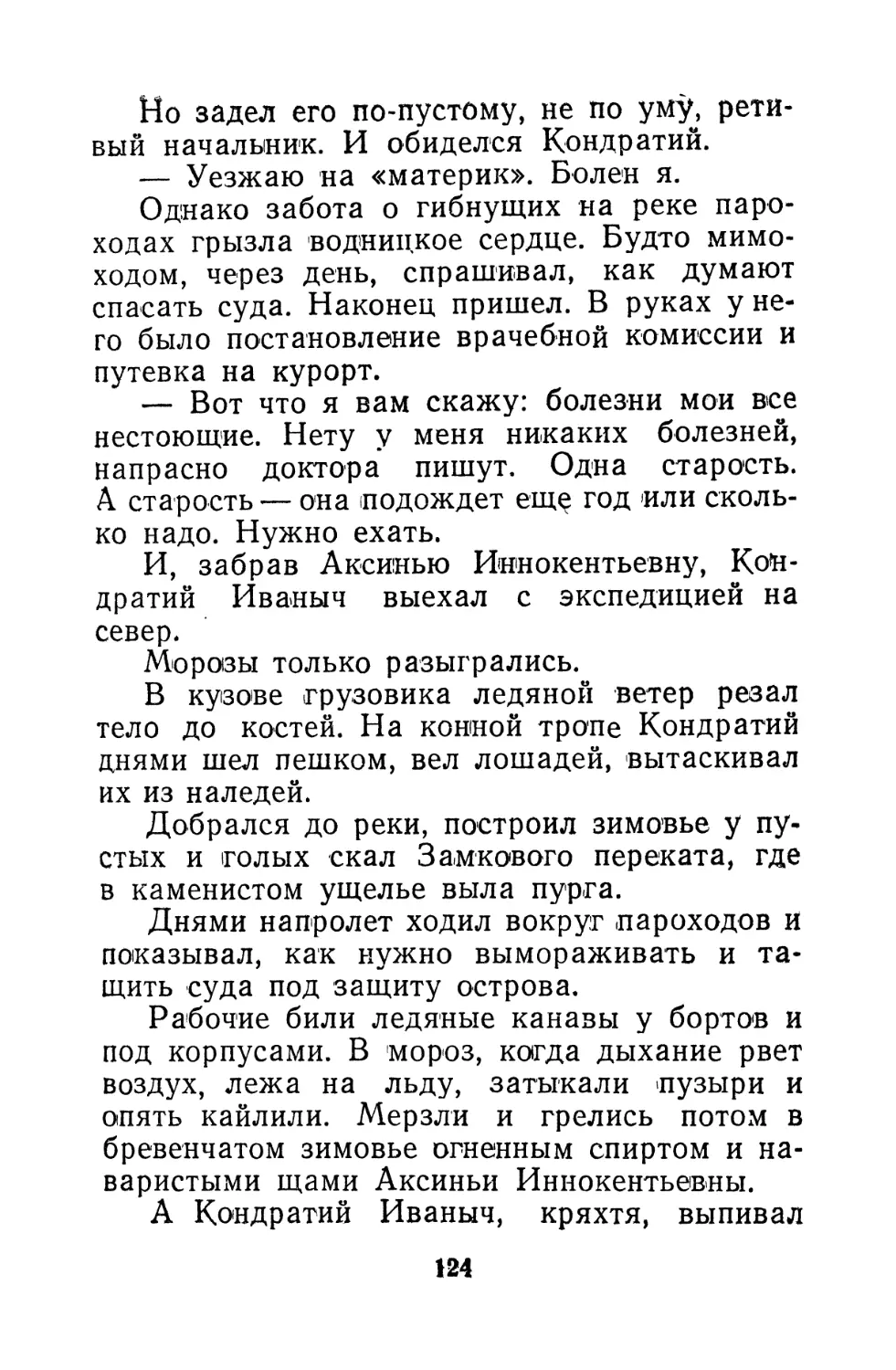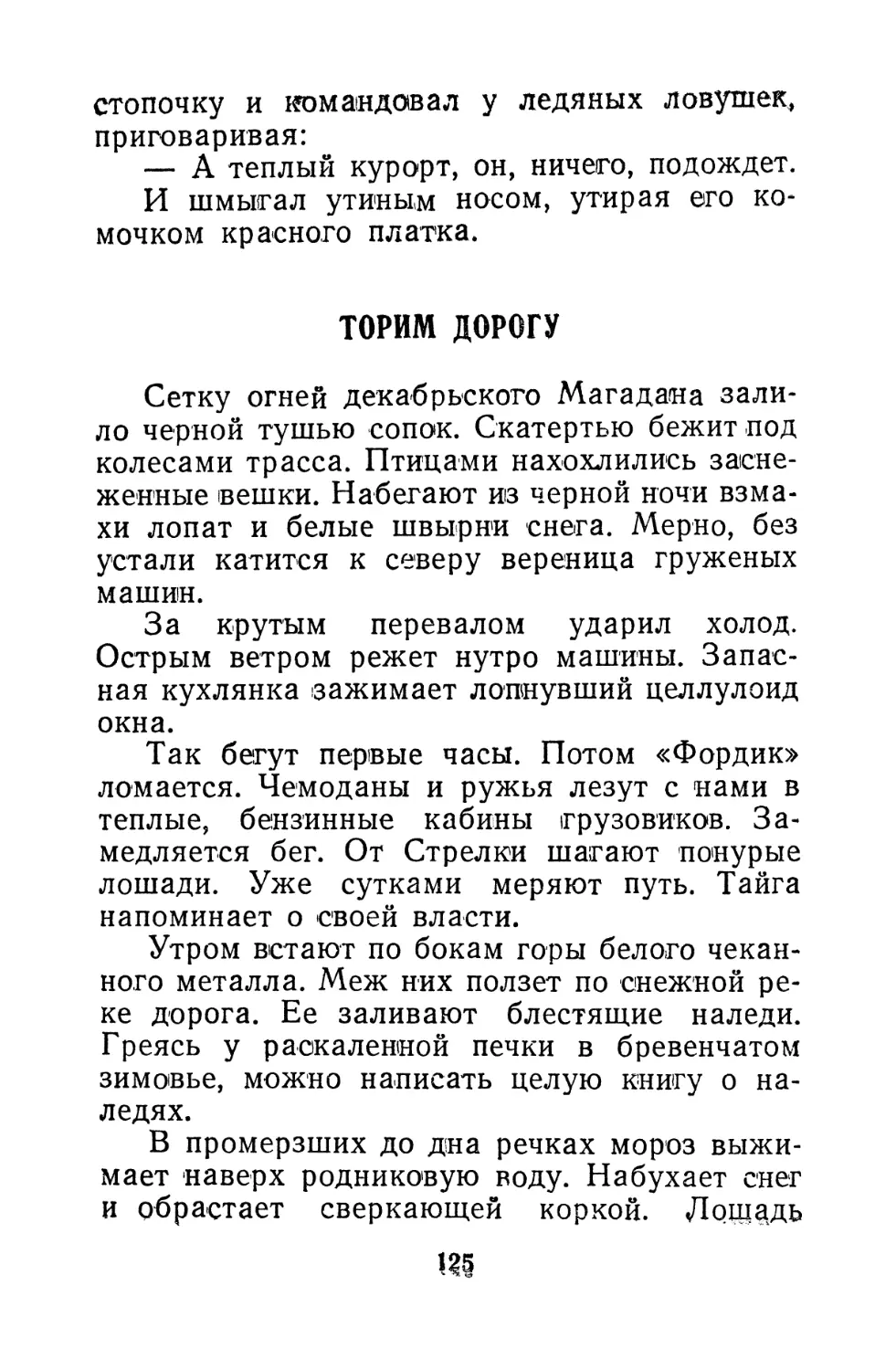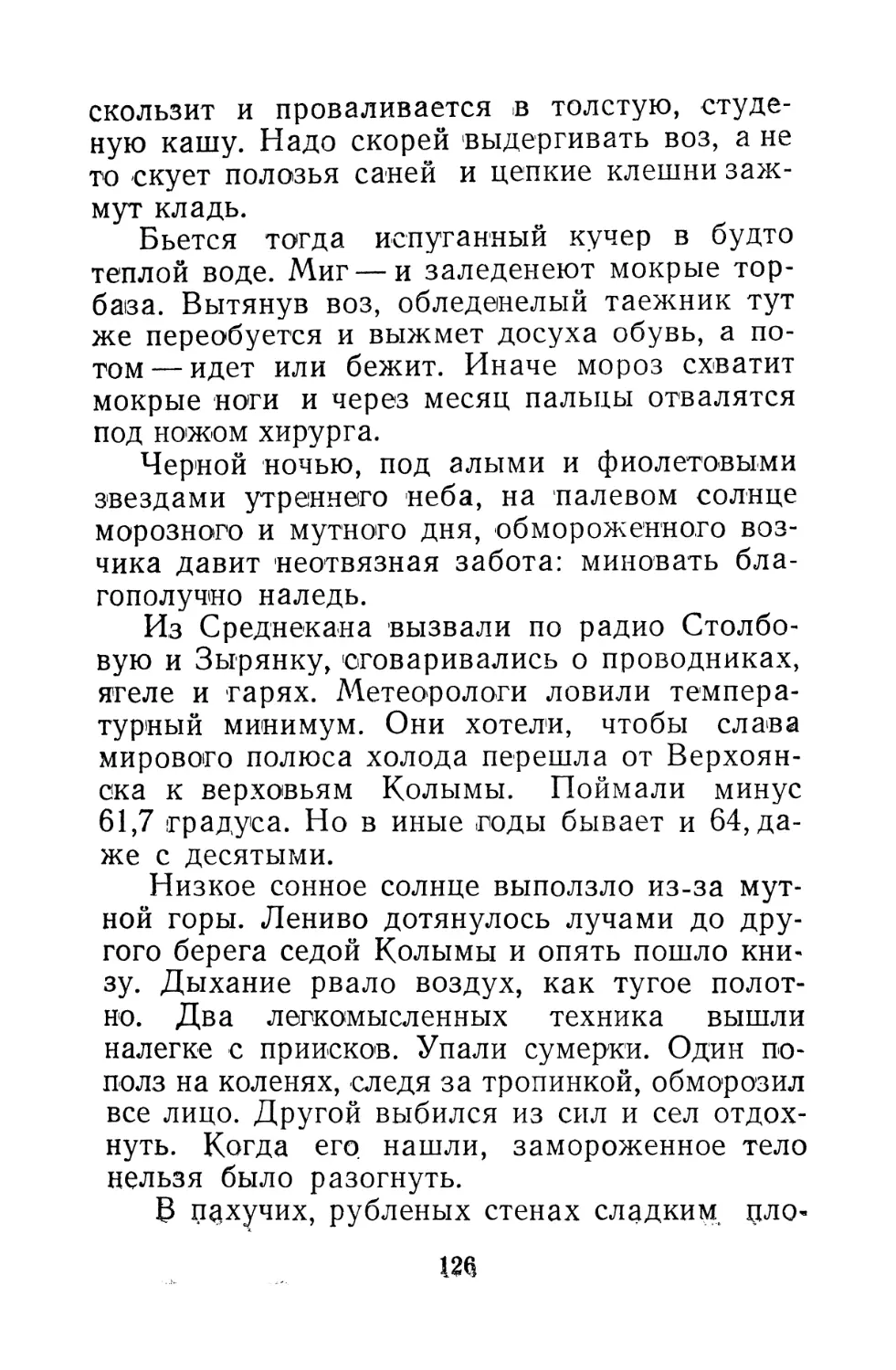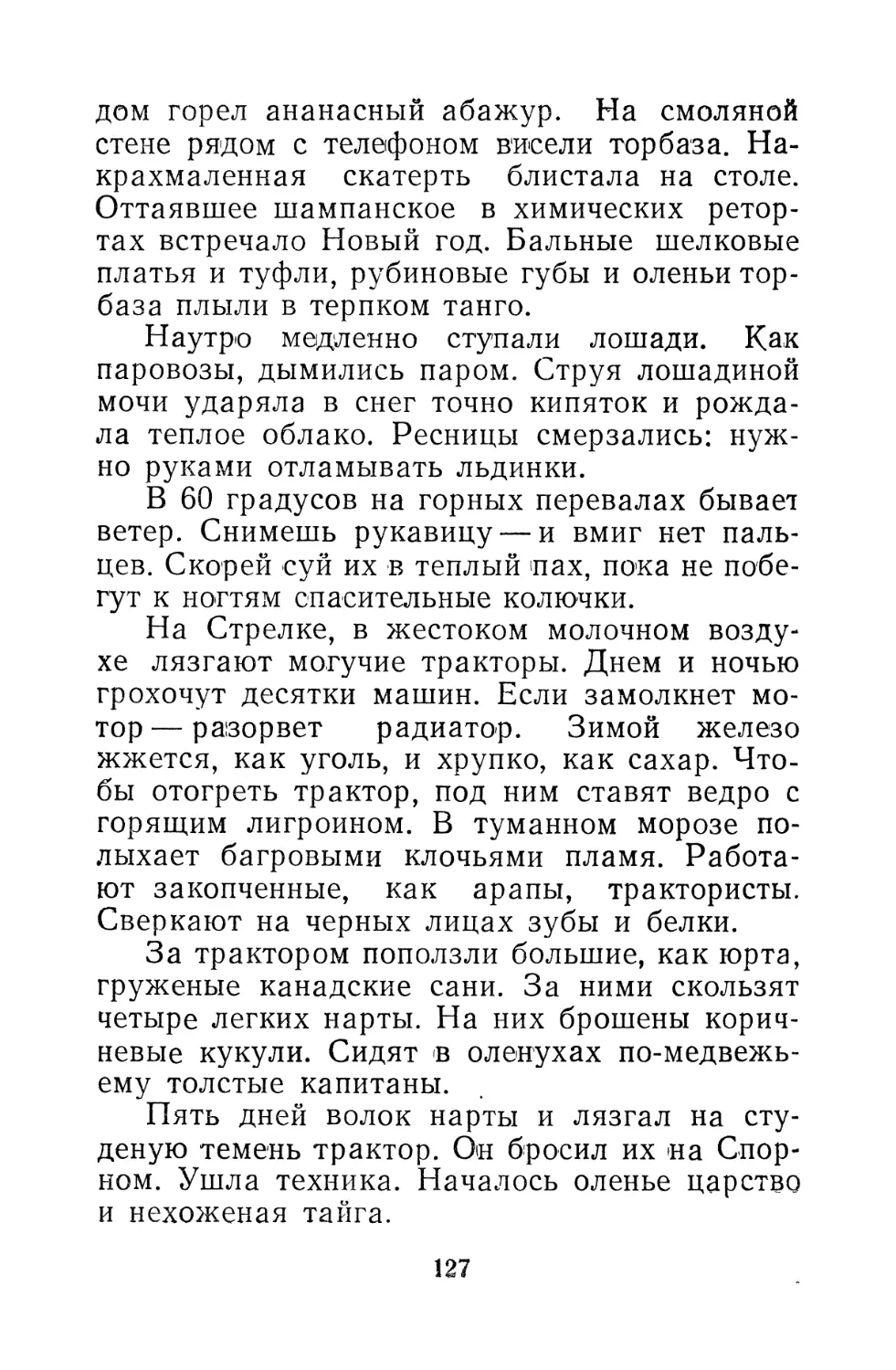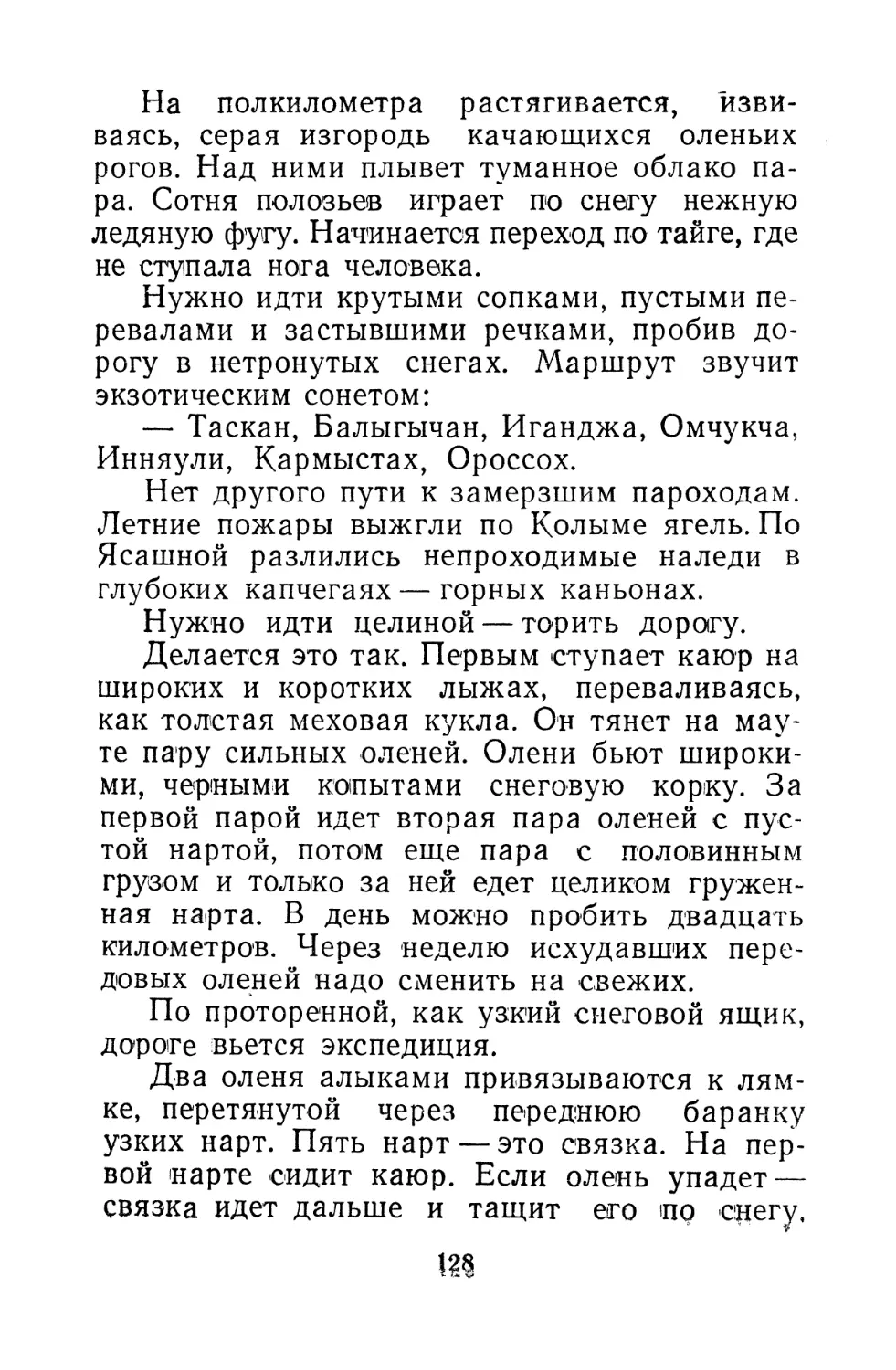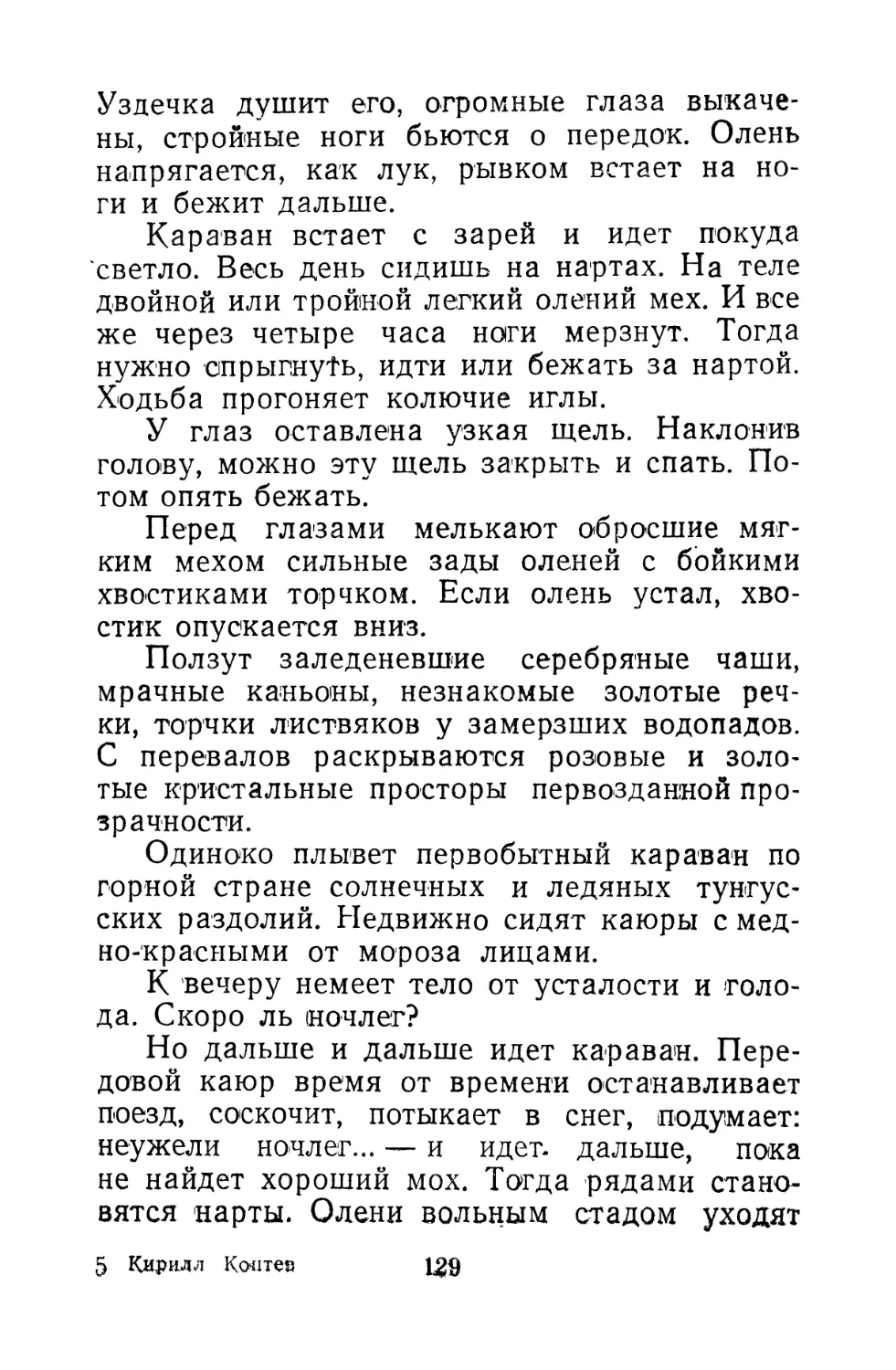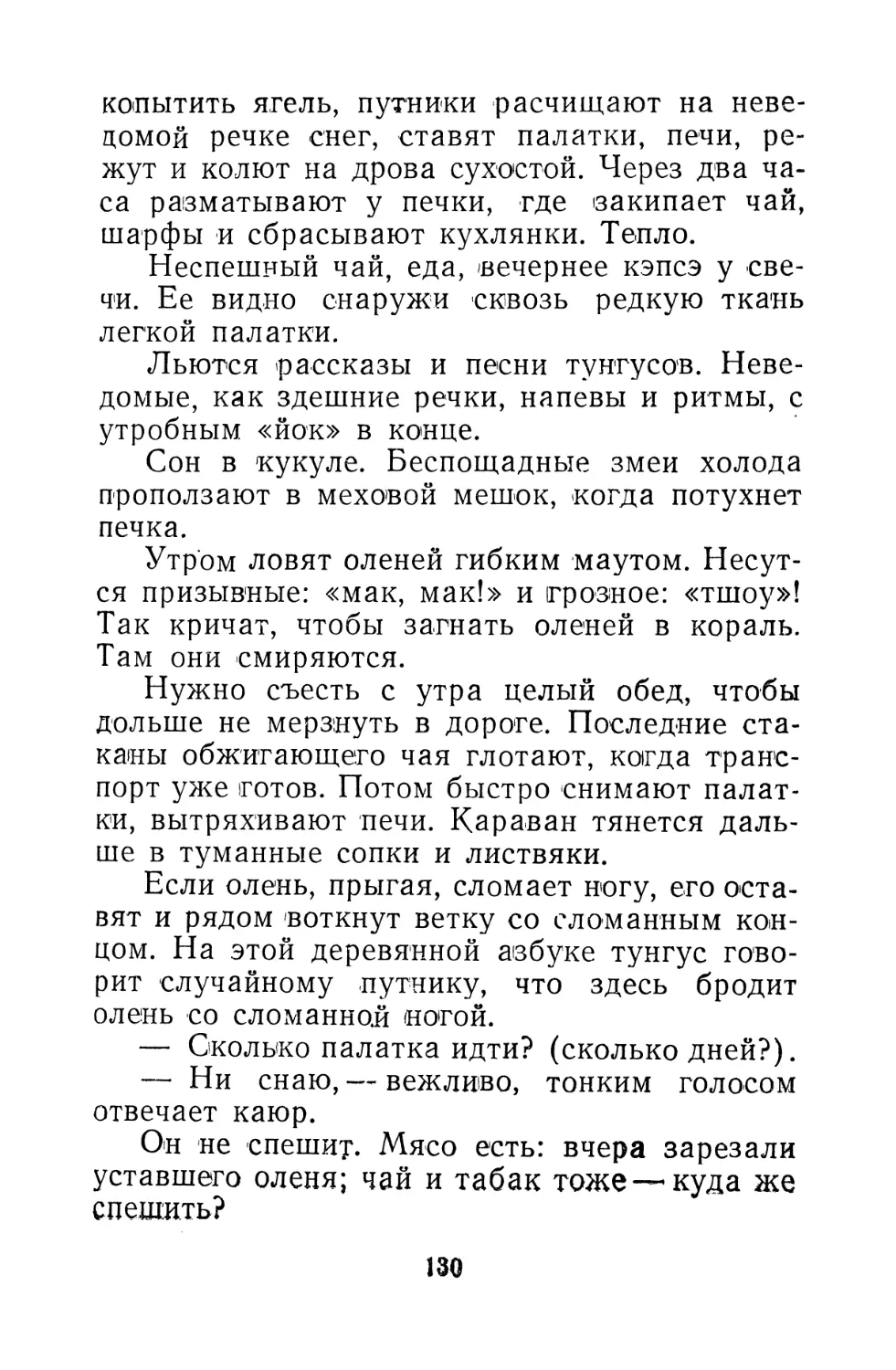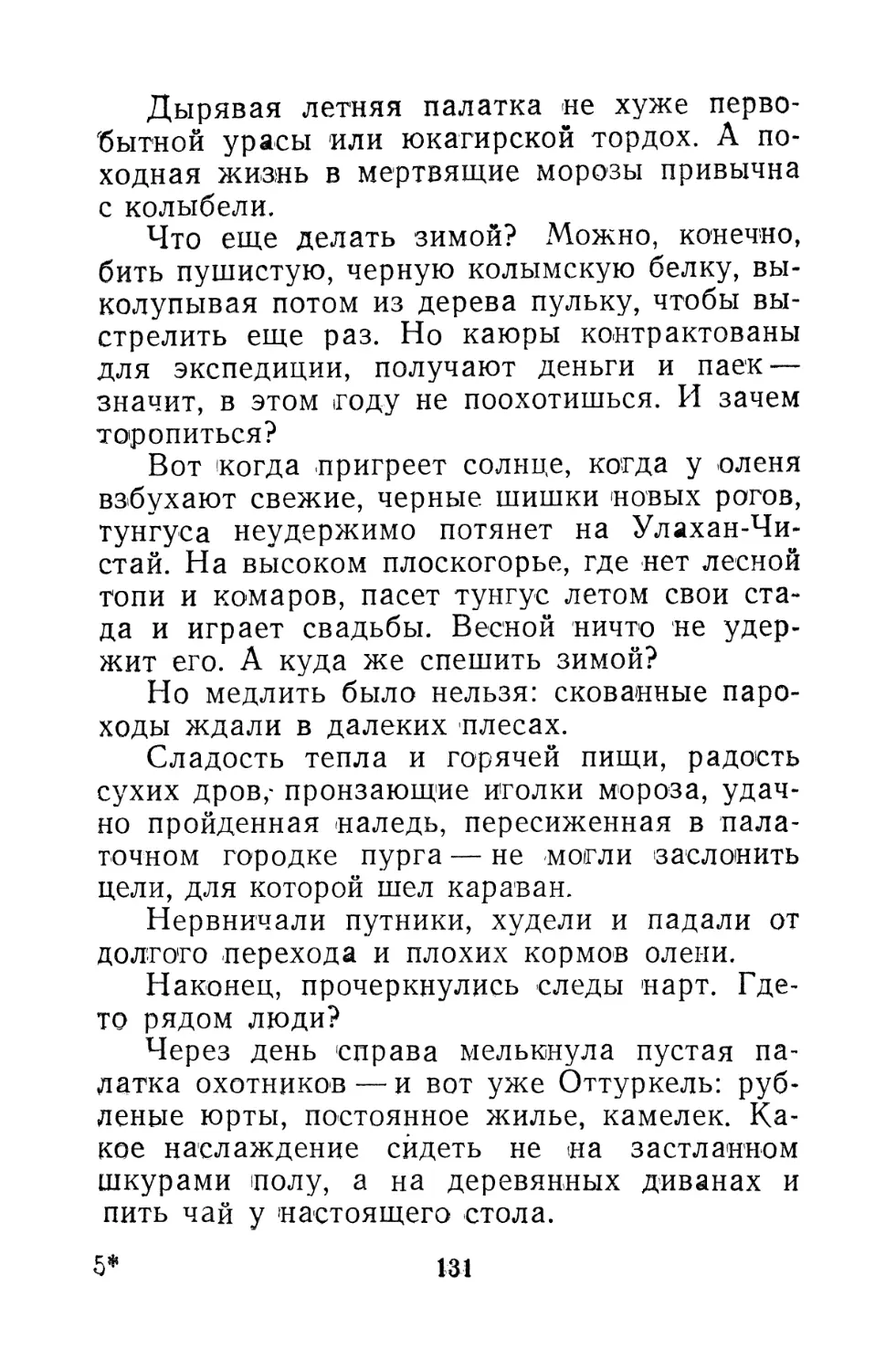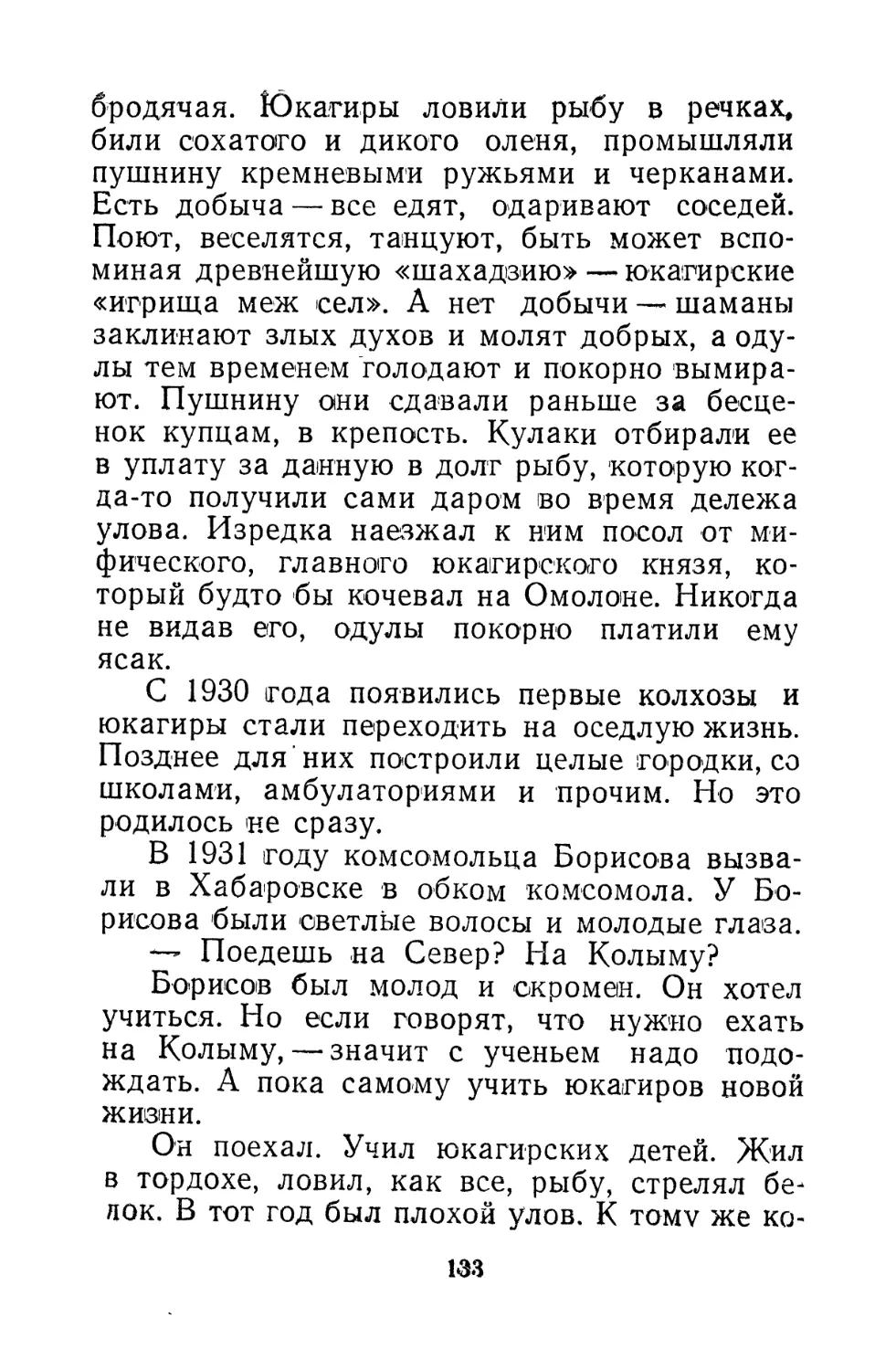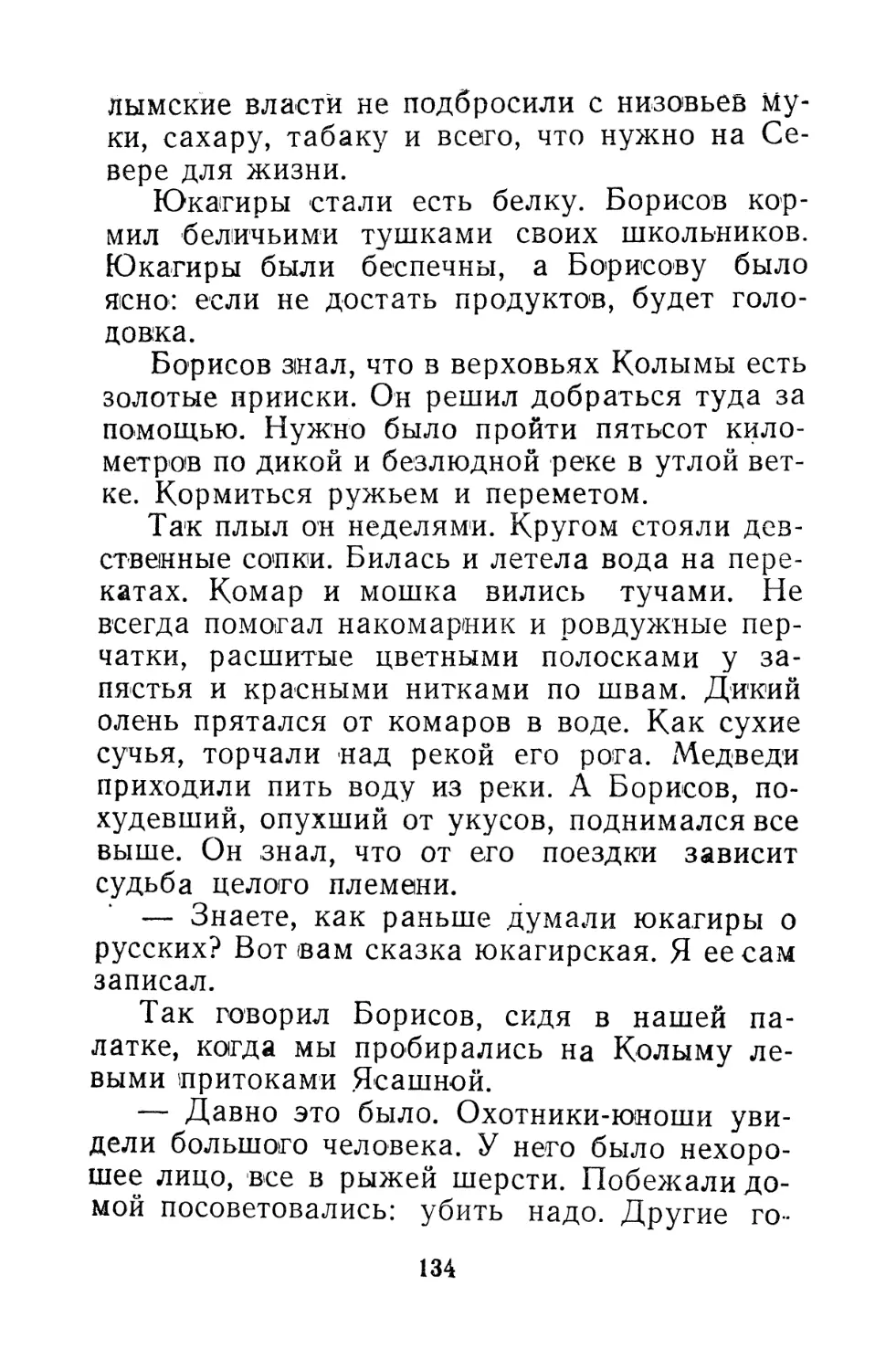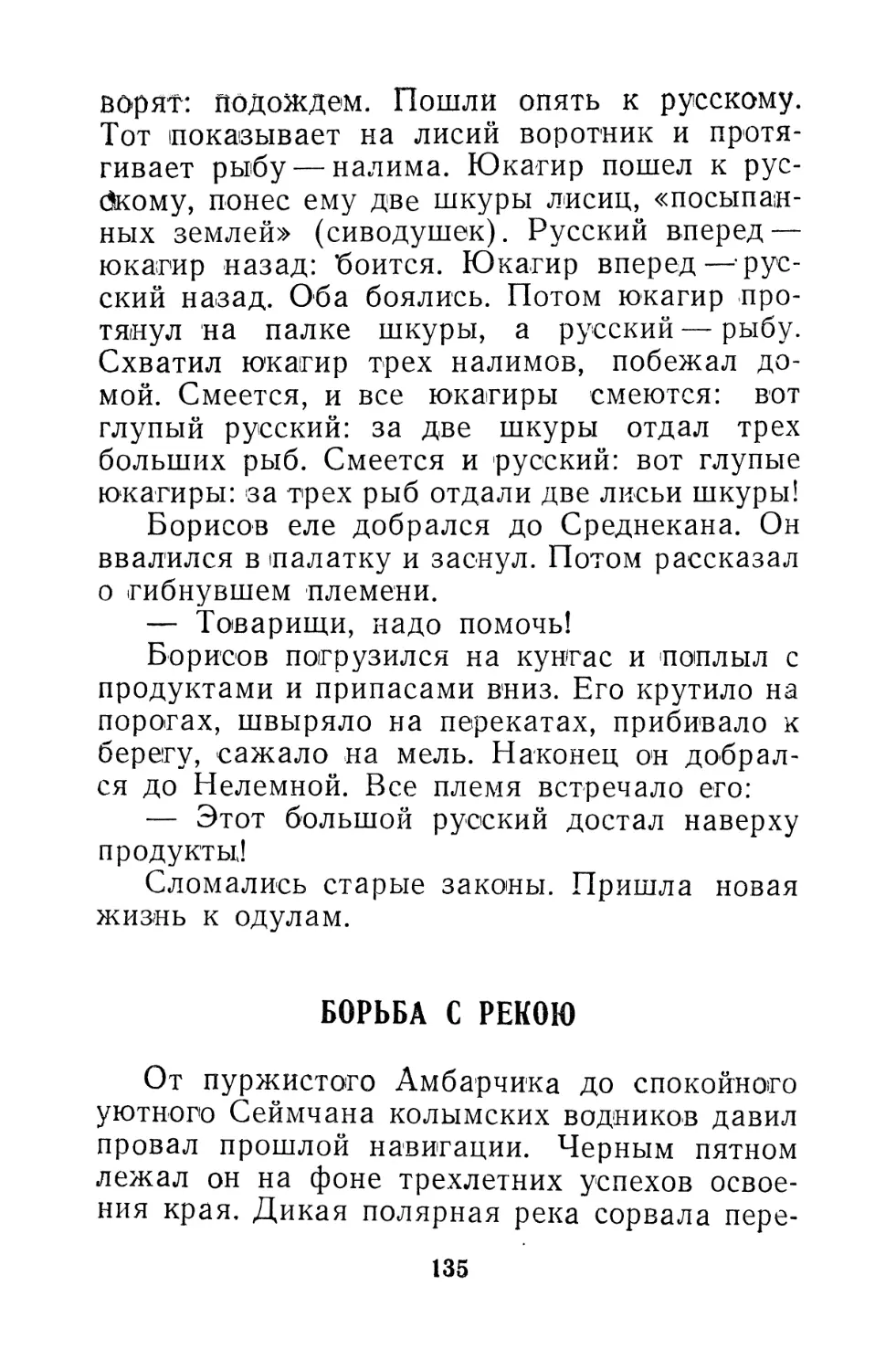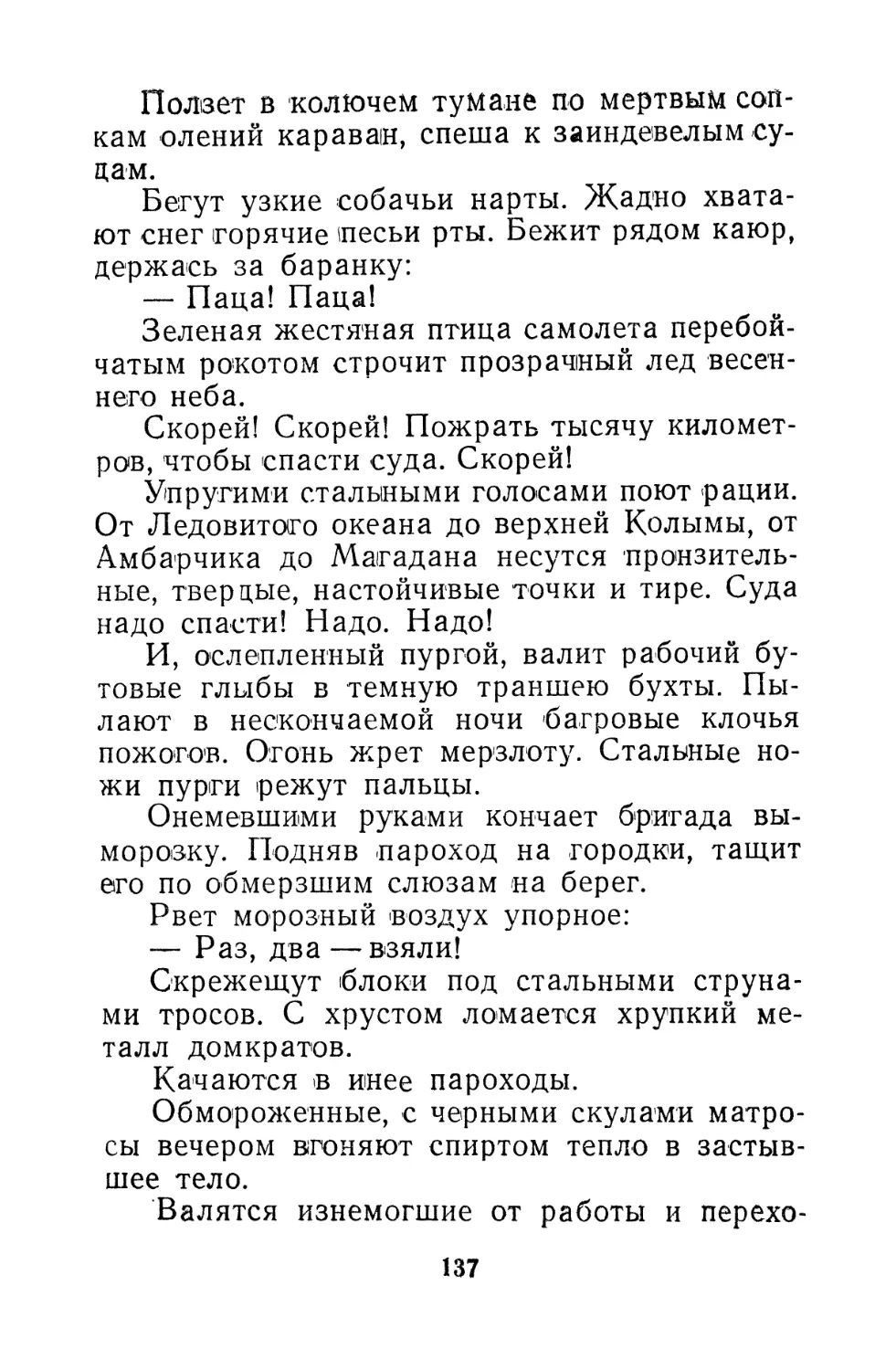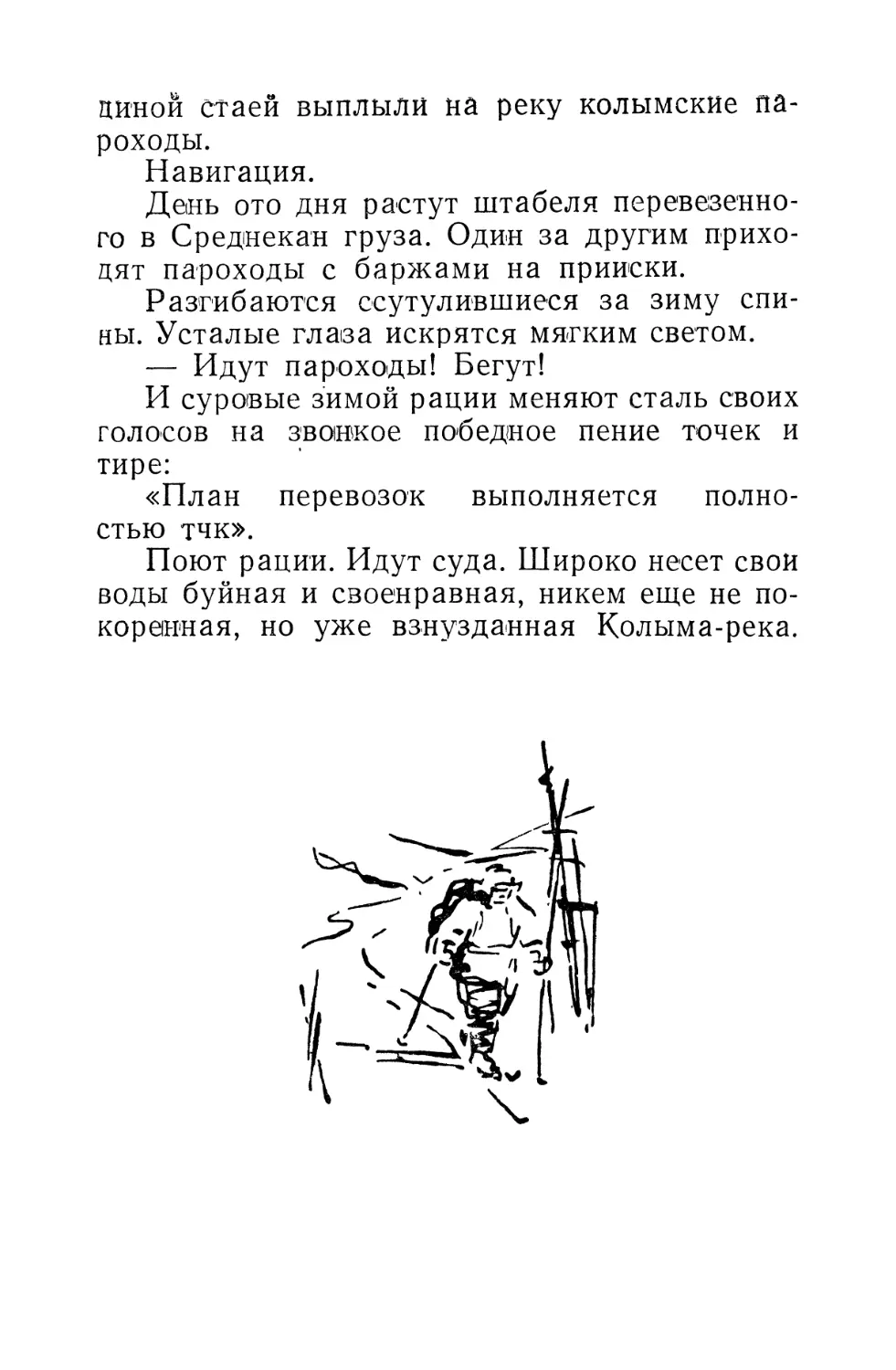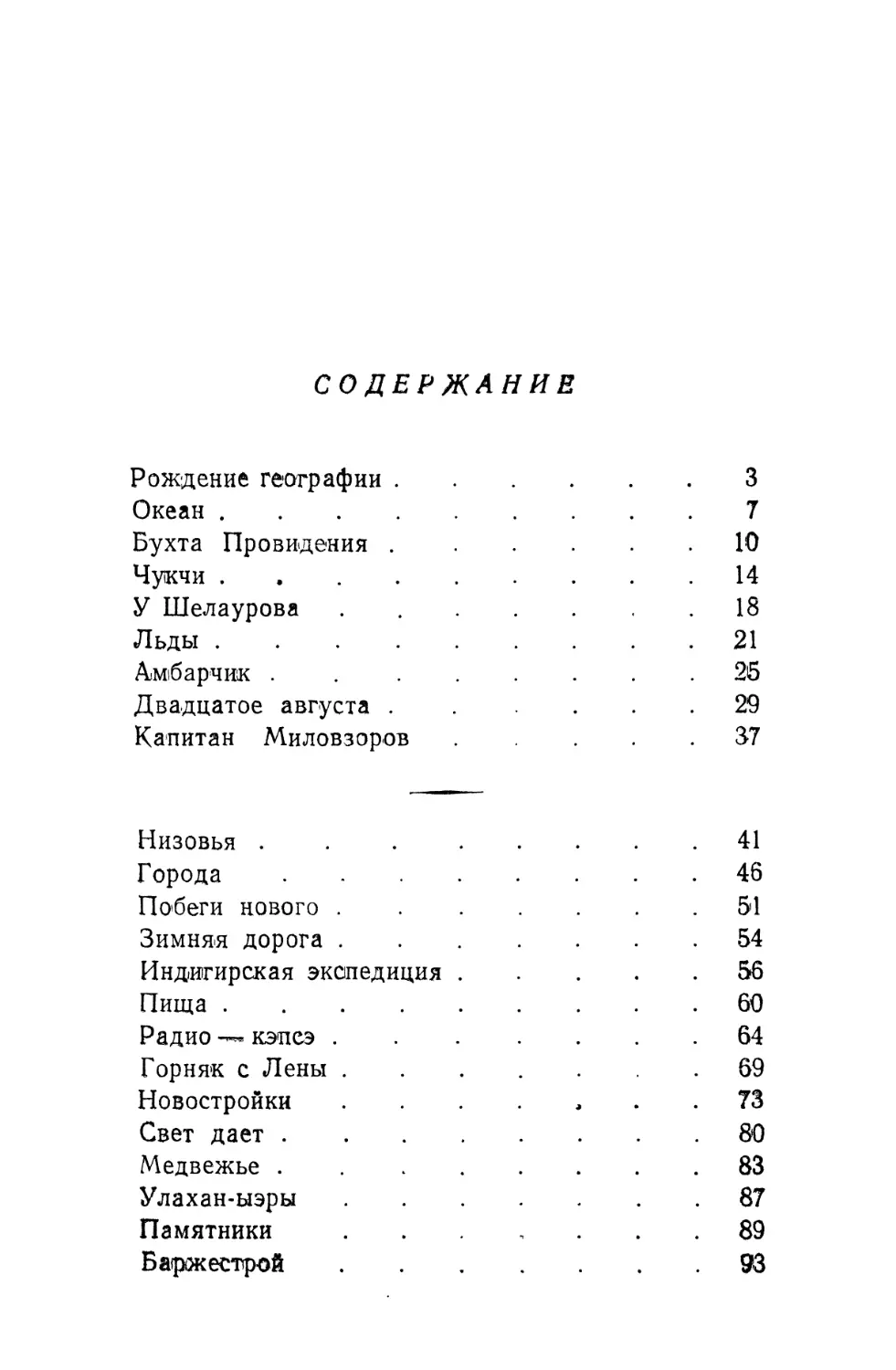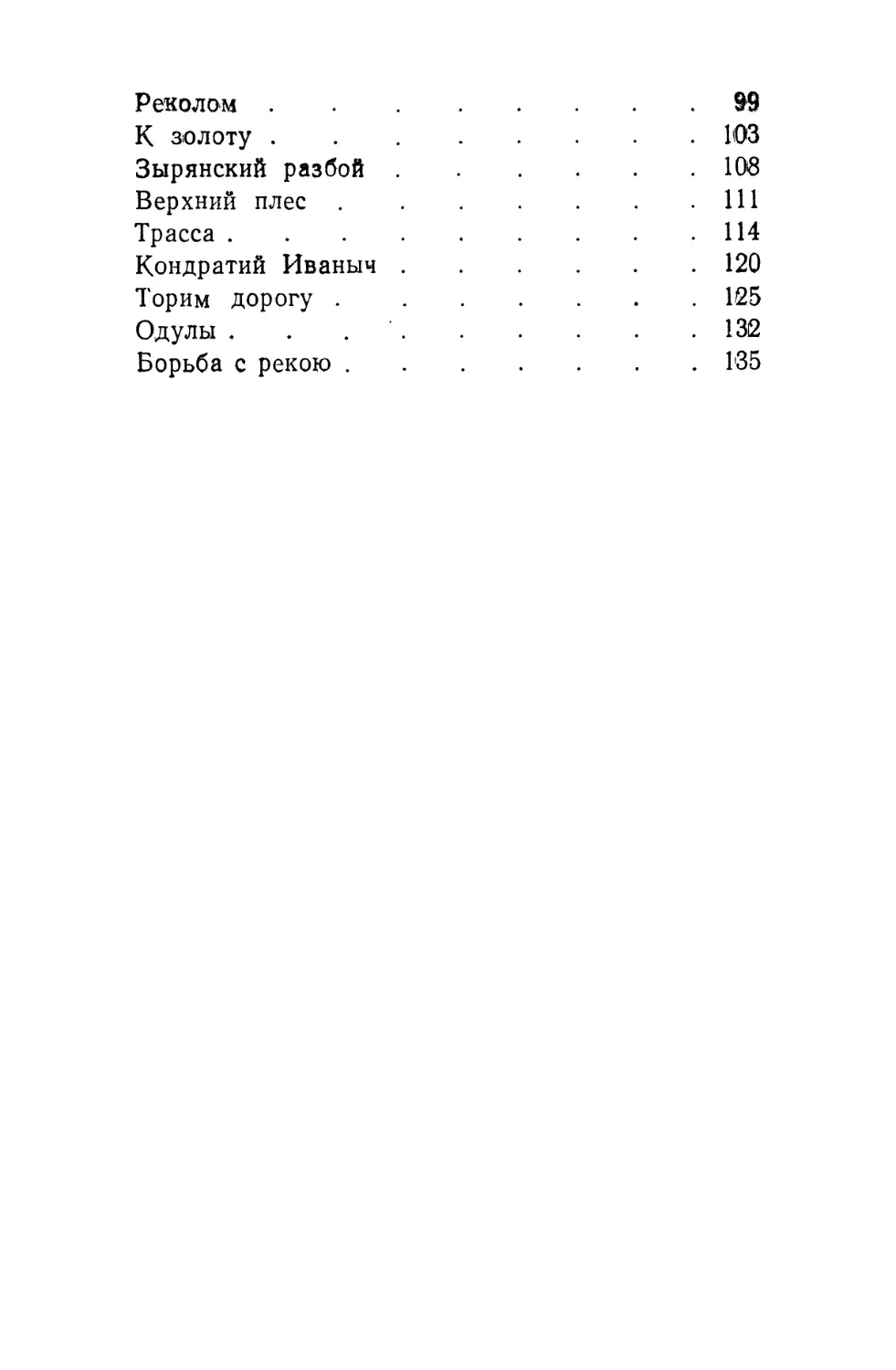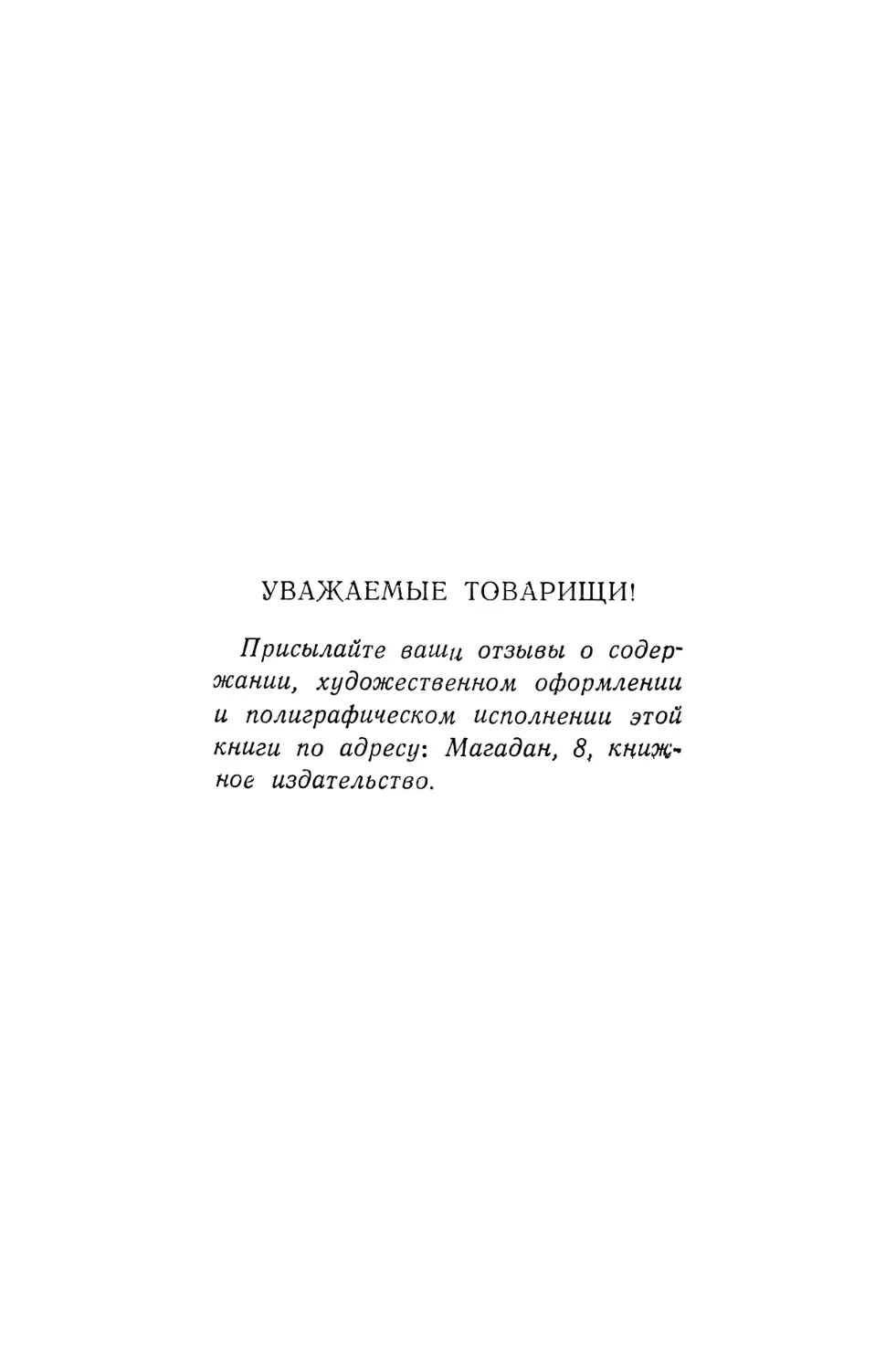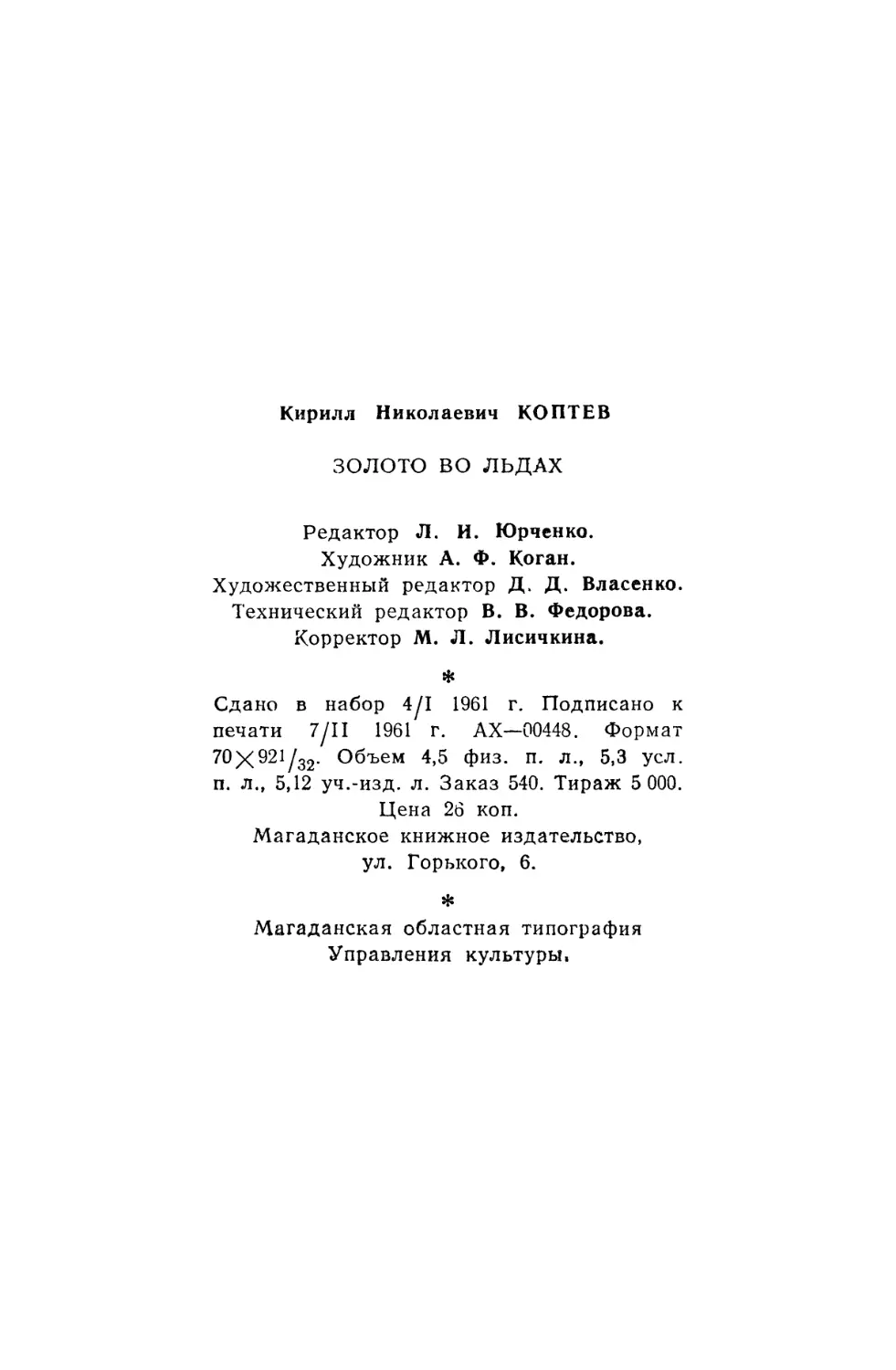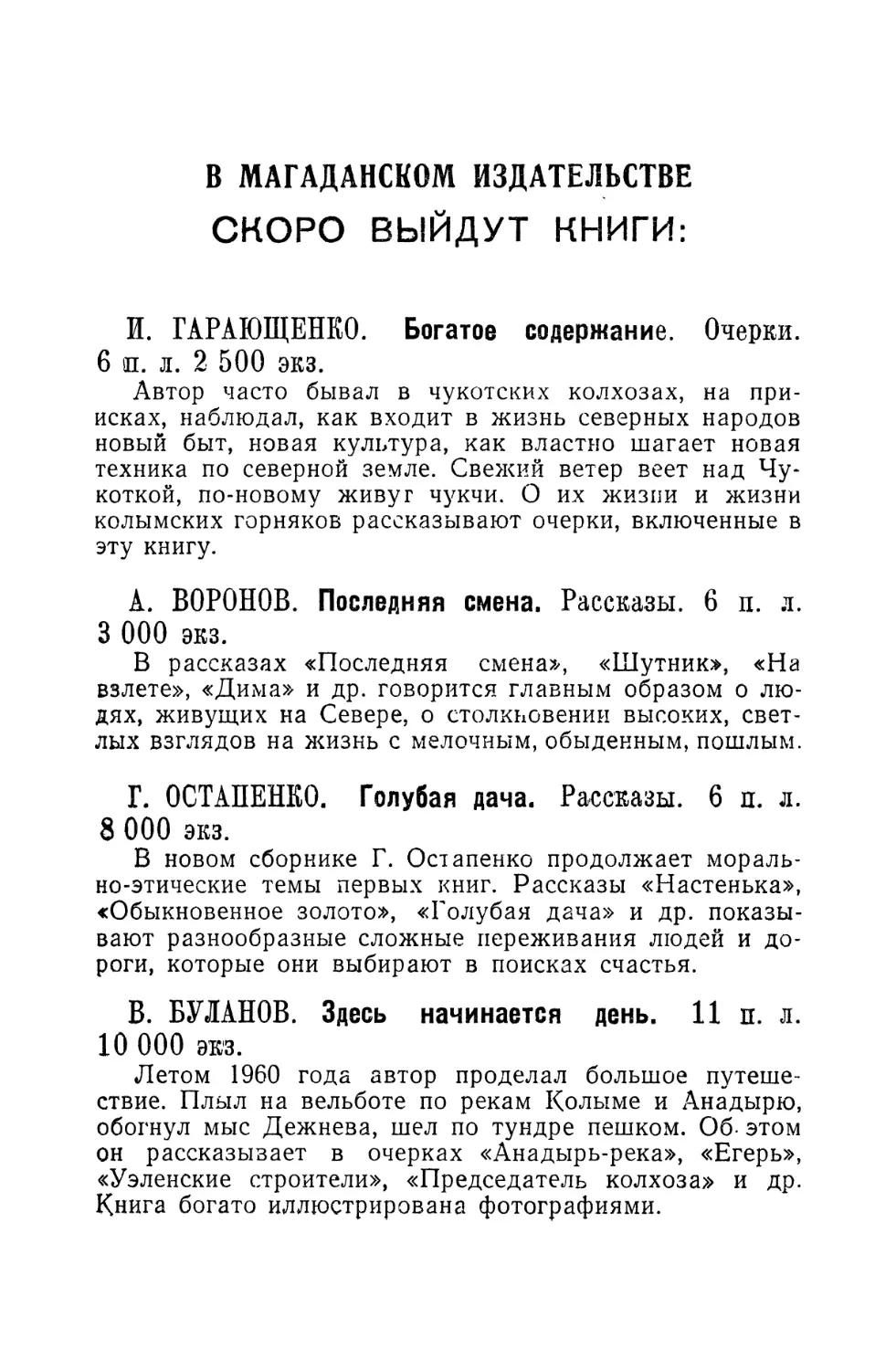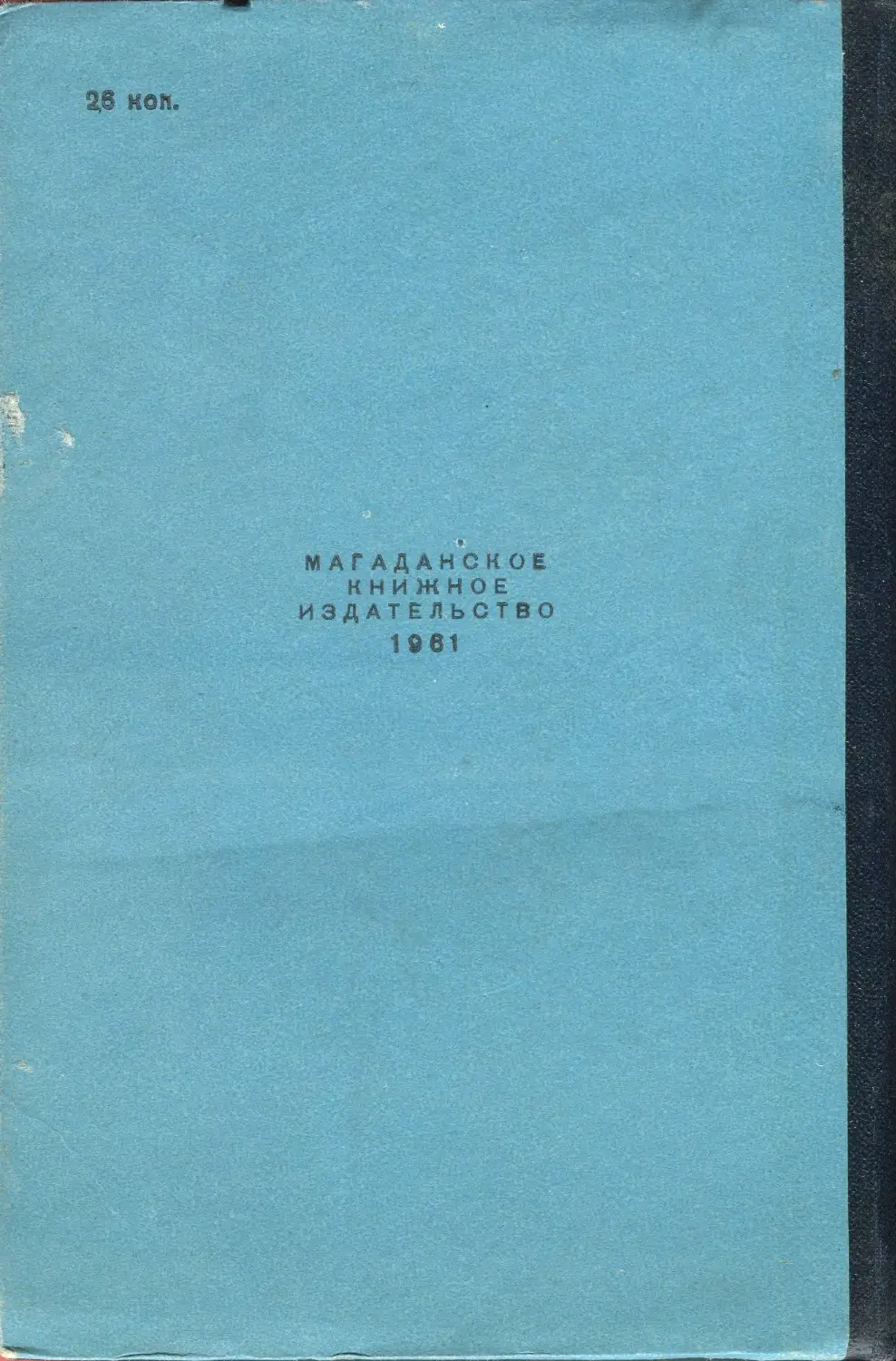Author: Коптев К.
Tags: художественная литература магаданское книжное издательство чукотка путешествия на север
Year: 1961
Text
КИРИЛЛ КОПТЕВ
МАГАДАНСКОЕ книжное издательство
19 6 1
Запискиf предлагаемые вниманию читателей, посвящены тому краю, который веками считался одним из самых глухих мест земного шара, а теперь стал одним из передовых. Колыме-Инд игарский край вошел ныне в состав Магаданского и Якутского экономических районов с развитой горнодобывающей промышленностью и возрожденным для нового исторического бытия коренным населением.
Записки относятся к 1933—1935 годам, когда вслед за геологами, проложившими первый след в верховья Колымы, сюда шли горняки и строители, дорожники и речники. В те годы автору записок Кириллу Николаевичу Коптеву пришлось не раз вместе с речниками про-делать путь от бухты Амбарчик на Ледовитом океане до бухты Нагаева на Охотском море, не раз довелось зимовать за Полярным кругом.
В повествовании нет прикрас и нет вымысла, но нет в нем и отчетов с протоколами. Оно написано по дневниковым записям, сделанным четверть века назад в пути на палубе парохода, в юрте, в палатке, у костра и во время короткого отдыха в Средне-Колымске и Зырянке, на Стрелке и Мяките, в Магадане и Владивостоке.
РОЖДЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
Обь, Енисей, Лена и последняя на Востоке река — Колыма.
Дальше ничего. Пустота. Белое пятно. Разыскать книги о Колыме?
В зале, где читают сотни людей, садимся за стол, отполированный тысячами студенческих и всяких других локтей. На столе Тан, Свердруп, Вагнер, Иохельсон, Молодых, Обручев.
Громоздятся повести и атласы, дневники и фотографии. Мелькают якуты и чукчи, экспедиции и исправники, норвежцы и
ссыльные, шаманы и гидротехники, моряки, геологи, колымские девахи.
Колыма — река длиной в две с лишним тысячи диких километров; она немногим меньше
3
цивилизованной и мирной Волги. Начало реки — в хребте Черского, устья — в Северном полярном море. В далеких верховьях, в вечной мерзлоте прячется золото. Кругом высятся сопки, долины поросли шершавой лиственницей.
Последние шестьсот пятьдесят километров уже полноводная, широкая Колыма течет за Полярным кругом по бескрайней тундре.
Один человек приходится на сотню квадратных километров. Это тунгусы, якуты, юкагиры, а у самого моря — чукчи.
Ездят там на оленях, собаках. Восемь месяцев стоят морозы в 40—50—60 градусов. Два месяца тянется зимой полярная ночь. Летом надоедливое солнце и в полночь висит на белом небе.
Песцы, горностаи, белки, лисы.
Древние, уныло-тусклые колымские города тонут в снегах. Слепит солнце, блестит снег во время весенних переходов на оленях. Топи лежат в низовьях; в верховьях реки поднимаются суровые скалистые горы. Как дикие стрелы, стремителен бег оленей.
К сердцевине края — золотым верховьям Колымы — пробивались с юга от холодного, туманного Охотского моря. Люди, машины и грузы ползли до Владивостока по земле сибирским железным путем или морем — через Суэцкий канал. Индийский -океан, мимо Сингапура и Японии. И еще три тысячи километров от Владивостока до ветристой бухты Нагаева. Отсюда — сотни немыслимых километров через тайгу и сопки на тракторах и автома-щинах.
4
К нему можно подойти и с севера, от Ледовитого океана. По Колыме нужно доставить к будущим приискам и горным заводам тяжелые машины, драги, локомобили. Нужно победить реку, наладить по ней судоходство.
К устью Колымы есть несколько путей. Самый старый и самый длинный — из Владивостока, мимо цветущей Камчатки, по Тихому океану. Пройти узкий Берингов пролив, миновать в тумане сказочную Аляску, выйти в Северное полярное море и затем пробиваться сквозь льды назад, на запад, вдоль скалистого снежного берега, мимо голых мысов Сердце-Камень, Северный, Биллингса, Баранова и других, мимо острова Айон — к устью коричневой, мутной Колымы, в штормовую бухту Амбарчик.
Другой путь к устью Колымы — с запада. Это великий Северный морской путь — из бухты Тикси, из Архангельска и Мурманска.
В год рейса «Челюскина» так шла экспедиция речных пароходов и барж, пробиваясь из бухты Тикси в Амбарчик вдоль отмелых берегов моря Лаптевых, сквозь штормы и льды Восточно-Сибирского моря.
Откладываются в ^памяти тысячи километров и десятки названий. Отрывки повестей и легенды Аляски и мандаринно-желтой Японии; рассказы о полярной героике норвежцев, о ледяных тюрьмах царской ссылки перемежают географические названия далекого края.
Что ждет нас там, на самом краю Азии?
Никто не может рассказать о рождении нового золотого края, о его освоении. Беседы с
5
побывавшими на Колыме людьми выходят обывательски-деловыми: нужно ли брать с собой кожаное пальто? Что лучше от цинги — сырое мясо или сырая рыба? Как переносится мороз в 60 градусов и т. д.
Живые картины дает жизнь и борьба, через которые нужно пройти самому, — борьба за новую жизнь в ледяных пустынях.
Год спустя, плавая по сторожкой и дикой реке или проезжая на оленях рассыпанные в морозном тумане прииски, встречаешь живых людей. На их картах наспех карандашом помечены названия золотых ключей: Малиновский, Кторовский, Утиный. Имена речных перекатов: /Медвежий, Комариный/Дождливый. Озеро Джека Лондона, озеро Танцующих Хариусов.
Геологи, разведчики, гидротехники говорят о том, как Билибин убил утку и назвал речку Утиной. Как они встретили во время съемки еще наивного медведя и окрестили перекат Медвежьим. Как партию чуть не заели комары при промере трудного переката. Его окрестили Комариным.
Эти люди сами делали географию. Она рождалась их борьбой за освоение края. Таяли белые пятна на карте. Карта расцвечивалась простым и красочным, настойчивым и героическим трудом первооткрывателей.
Наша работа по освоению открытых богатств Колымского края рождала новую жизнь, новые ландшафты, новых людей, — новые черты их облика, быта., новые мысли и чувства.
6
ОКЕАН
«Хабаровск» тяжело осел у каменной стены.
Проверка судна, всех до единого помещений, команды, пассажиров: впереди погранпо-лоса и международные воды.
Внизу, под носом, буксир, как водяной жук, медленно, но — удивительно! — все же оттаскивает «Хабаровск». Уплывает пристань. Развернувшись, идем своим ходом. Гордый исполненным долгом, буксиренок деловито уходит назад.
Выбравшись на рейд, кружимся и петляем. Объясняют: проверка девиаций — погрешности компаса.
Толстые никелированные стойки коек. Чуткие пружины, оранжевые занавесы. Ненадежный комфорт: под каждой подушкой легкий, пробковый пояс. Стойки наглухо привинчены к полу. Высокие комингсы — пороги: они не пустят воду, если ее нахлещет шторм. Белые шлюпки, насосы, парусиновые змеи шлангов. Мы пойдем шестью морями. Два из них богаты штормами, страшны тайфунами.
Зеленое ласковое море сереет и хмурится за проливом Лаперуза. В липкий туман врезаются низкие, тревожные гудки. Японский Сахалин, чужие пустые острова, редкие, убогие рыбачьи суда. Шумные взлеты дельфинов. Серпокрылые стремительные буревестники.
Тайфун пролетел, только задевая нас своими крыльями да свирепым ветром.
За мутным, холодным Охотским морем гряда Курильских островов. Четвертый проход.
7
Каменистые острова. Камнем лежит в море Парамушир. В бинокль видны детские деревеньки, кубики домов.
Дальше Тихий океан перекатывает водяные громады. Бурые, скалистые берега, языки залежалого снега Камчатки.
На седьмой день — Петропавловск.
Огромная, прекрасная бухта опоясана горами. Берега зеленые: прижимается к склонам низкий и яркий березняк. Пепельное и голубое море. Блеклая нежность перламутра. Солнце. Вдали, между гор, аккуратный городок.
Радостно кричат петухи.
Алюминиевые домики из оцинкованного гофрированного железа матово светятся на солнце, словно большие консервные банки. Улички, улички. Блестит лагуна, а за ней игрушечно-казарменный «Акоград» -поселок камчатского акционерного общества АКО.
Грузим уголь. Ловим рыбу. В зеленой воде плавают зонтики оранжевых медуз. На узкой косе — обломки шхуны. Ее унесло штормом в океан и швыряло неделями, покуда капитан не поседел; уцелело несколько человек.
Ходим по городку. За углом неожиданно белый флаг с красным солнцем — японский консул. В городе много памятников: Лаперузу, Берингу и другим. Русские и английские надпщ си, серые цепи, старинные пушки. Сюда забредал гонимый «музой дальних странствий» не один беспокойный мореход.
В сумрачную погоду выходим в море. Солнце висит зловещим малиновым диском над мглистыми сопками. Барометр падает.
Уплывает Камчатка.
8
Одинокая белая мгла маяка на высокой сопке. Острыми красными скалами торчат «Три монаха». В бинокль видны тучи чаек и уток.
И снова — открытое море. Качает. Мы одни в неприветном, пустом океане. Холодает.
Строже режим воды. Раздают теплую одежду, сапоги.
Залив Майна-Пыльгэн. Входим ощупью, в густом тумане. Внезапно появляется берег. Полуовал зеленой воды, обрамленный голубыми и серыми сопками. Лиловые горы. За слоистыми облаками медленно садится солнце.
Команда забирает оленьи спальные мешки и пушистые кухлянки на случай зимовки. Покупаем у чукотского колхоза неправдоподобно красную рыбу.
...Анадырский залив. Утренняя вахта. Солнце высоко. Кругом все голубое: вода, сопки, небо. В воздухе легкая свежесть. Пусто на палубе.
И в утренней голубизне — сотни, тысячи морских гаг и уток. Сидят на воде, пищат и, трепеща, убегают от парохода.
Киты равнодушны к шумному развалу волн.
Взлетают клубы водяных брызг. На мгновение показывается морда, быстро скользит бурая блестящая спина. Миг — и кит ныряет. Вздымается громадный, разлапый хвост и уходит стремительно вниз. Играют киты.
От месяца дороги все движется, качается и плывет. Больше и чаще туманы. Гудки. Гудки в неизвестность.
Берингово море.
9
БУХТА ПРОВИДЕНИЯ
Эту бухту открыл, спасаясь от шторма, если не Кук, то кто-то другой из прославленных мореплавателей. Вряд ли он был благочестив. Но стиль века обязывает. Поэтому рождались англикански скромные бухты и острова: «Провидения», «Святого Лаврентия», «Святого Диомида», «Ионы», «Святого Креста» и даже... «Святого Носа».
Нам странны эти квакерские названия, невольное наследие шхун, бригов, парусов и отважных капитанов в треуголках.
При высокомилостивой поддержке горбоносых герцогинь и снисходительных пудреных лордов капитаны шли в многолетние и героические поиски новых земель. Боролись со штормами и дрейфовали неделями. Ели сухари, болели цингой и месяцами грезили о сокровищах неведомых островов.
На горизонте маячила земля. Голые, раскрашенные туземцы на вертких челноках и стремительных пирогах убогими луками пытались отразить кортики страшных пришельцев. Озверевшие от месячных голодовок люди бросались на еду, вино и пленниц. Драгоценная, желтоватая кость, сонный жемчуг увозились победителями.
На открытом острове поднимали флаг, оставляли коменданта на правах царька и обязательно венерическую болезнь. Туземцы называли ее по национальности завоевателей: английской, французской, испанской. Начиналось жестокое благоденствие приобщенного к культуре острова.
10
Говорят, Кук не был свиреп. К тому же, когда после южных походов он плавал в Беринговом море, Чукотка уже принадлежала России. Еще в XVII веке здесь прошел, спускаясь с севера, легендарный Дежнев. Кук пробыл в. бухте несколько дней. Пополнив запасы воды и отдохнув, ушел дальше.
...После суток тумана, сурового ветра, мертвой волны рано утром показались берега. Узким ущельем входим в пустынную бухту. Стучит якорная цепь. Кругом застывшая зыбь голых гор. Белеют полосы упорно нетающего снега, а ведь июль! Вершины скал придавлены тяжелым пологом низких туч. Застыла холодная, немая вода, пронзителен сырой ветер. Нет жизни в бухте. Только пароход и поселок на берегу напоминают о людях. Виднеются восемь рубленых домиков: погранпост, школа, фактория, баня.
К нам идет пограничный катер. За ним бежит моторный вельбот. В нем человек пятнадцать эскимосов. Гости лезут по штормтрапу.
Они низкорослы и плотны, со здоровой странно-смуглой для севера кожей. Монгольские глаза и скулы над приплюснутыми носами, чуть выворочены губы. Жесткие, черные волосы выстрижены большой тонзурой, с бахромой, или длинными космами.
Сейчас лето, два градуса тепла. Гости одеты легко. У них непокрытые головы, легкие меховые одежды. Прочна нерпичья обувь и штаны, ире — коричневые или белые — длинные рубахи из оленьей шкуры. Ире оторочены по вороту, на рукавах и подоле длинноостым мехом росомахи.
11
Гости независимо расхаживают по пароходу. Вынимают розовые и голубые кисеты с красными и зелеными полосами и зигзагами. Сверкает цветной бисер, гремят жестяные и медные побрякушки завязок. Трубки эскимосов короткие и длинные, металлические и деревянные, моржовой кости, часто острых, причудливых форм. Едкий дым махорки голубыми струйками пронизывает острый запах рыбы и рыбьего жира, привезенный гостями.
Гости с интересом разглядывают пароход, катера и автомашины на палубе. Мы разглядываем гостей. Пытаемся разговаривать.
Не всем разглядывание приятно. Один гость — студент Ленинградского института Севера. Он одет по-европейски и сдержан, говорит по-русски, — остальные даже не понимают. Он хочет проехать с нами до Уэлена. Рассказывает о том, как учился, как его командировали в Ленинград. Теперь будет учителем в одной из здешних школ на 15 человек.
Байдара за байдарой идут к пароходу. Эскимосы и чукчи, мужчины и женщины. Последняя байдара — одни пестрые и экспансивные женщины. На многих лицах синяя татуировка. Две длинные полосы кверху от носа, знаки вроде интеграла на щеках и несколько полосок на подбородке. Только одна понимает по-русски. Она пишет в записную книжку свое имя — Маруся. Смущается татуировки.
— Я была маленькая, когда мне ее сделали.
Всю белую ночь идет бункеровка угля. Едем на берег.
Выглянуло солнце. Ожили пятнистые, тигровые сопки. Вода потеплела и прозрачно за
12
играла аквамарином. Розовая и зеленоватая галька зашуршала под носом шлюпки.
На крутом взгорье несколько круглых, приземистых яранг. Белеют американские летние палатки, уютные, теплые, меховые внутренние каюты — йоронги. Нас встречает хозяин, его отец и жена. Их имена запоминаются с трудом. В переводе на русский язык они значат: «пропавший морж», «смелый охотник», «белый заяц». Внутри яранги тот же резкий запах рыбы, жестянки, мешки от муки, коробка американских патронов для винчестера, пачка «Со-юзтабака» и журнал «Союзфото». Гарпуны выструганы из дерева, очень редкого и ценного здесь. Наконечник сделан из моржового клыка.
Старик хозяин оживленно и приветливо что-то говорит нам.
Тут же желтеют байдарки. Каркас легкого дерева обтянут янтарной кожей моржа. В байдару нельзя садиться в наших грубых сапогах с каблуками: продавится кожа. Местная обувь мягкая, на гибкой и прочной подошве из лах-така.
Вечером — смычка с эскимосамй. В ответ на наши песни мужчины показывают пляски-пантомимы. Под ударную, шумовую, струнноритмичную импровизацию эскимос пляшет «Охота на моржа», «Человек и медведь на льдине», «Ворон». Быстрыми, ловкими движениями, превращаясь то в охотника, то в моржа, танцор рассказывает об охоте, о том, чем живет и кормит семью. Нагибаясь вперед туловищем, машет руками-крыльями, втягивая и выдвигая голову, всматриваясь вдаль. Это ворон.
13
Женские пляски сдержаннее. Женщины пляшут о том, как мужчины уехали в море на охоту, был мороз, хлеб нельзя было резать и его нужно было рубить.
Ночью выходим в море. Под ясным солнцем горы сверкают розовым, синим и желтым. Топорки стоят на прибрежных камнях, вытянув вперед свои горбатые клювы. Тысячи птиц кричат на воде у красноватых скал.
Навстречу ветер, волна. Ночи уже нет. Солнце поднимается на Севере почти в полночь.
Полярный круг.
ЧУКЧИ
Чукчи — древнейшие обитатели Азии. Оленные чукчи — кочевники, приморские — зверобои — оседлые.
Потомки воинственного племени, они сохранили отвагу, выдержку, выносливость. На утлых байдарах уходят по льду на десятки километров от берега, неустанно преследуя нерпу, моржа, £ита, белого медведя. Метко бьют из винчестера. Иногда льдину отгоняет ветром и носит в открытом море десятки дней. Бывает, охотники гибнут.
Убьют большого зверя — в повеселевших ярангах праздник. Едят, угощают соседей и не выходят на охоту. Кончилась еда — чукча в любую погоду снова отправляется искать зверя.
Зверь дает все, что нужно для жизни, и прежде всего — пищу.
14
Главная пиша чукчи — мясо и сало убитого зверя. Шкура, кишки, моржовый клык идут на ярангу, на одежду, на продажу: охотнику нужны патроны, чай, табак. Из сала вытапливают жир: он освещает и согревает ярангу.
В ярангах маленькая внутренняя меховая кабина — ёроны. Туда забирается зимой вся семья. От человеческих тел, горящих каганков с жиром в ёроне жара. Сидят голые, в маленьких меховых трусах на блестящем от пота смуглом теле. Снаружи — пурга. Замерзнет даже полярная собака, если не зароется в снег.
Появляется пароход — чукчи едут в гости. Пока мы шли Чукотским морем, приезжало пять или шесть легких байдар с чукчами в меховых одеждах.
Даже почтенные старухи не хотят скучать дома. Сморщенную бабушку с трубкой в зубах пришлось обвязать под мышками тросом и так поднять на палубу.
Чукчи ходят по всему пароходу. Не устают любоваться никелем и стеклом. Говорят между собой, не обращая на нас внимания. Но это не совсем так. Ждут традиционного угощения: чая, печенья, конфет, папирос.
. Конечно, хорошо, если бы русские угостили огненной водой, но почему-то советские этого не делают.
В кают-компании гости без ломания и отказов весьма ловко рассаживаются на стульях, орудуют европейской посудой, оживленно беседуя.
Поговорив о льдах, об охоте, чукчи опять гуляют по пароходу. Через несколько часов или дней они неожиданно спускают на воду
15
байдару, которая до того мирно лежала на корме, и уезжают на берег. Может быть, им надоело? Может быть, показался мыс, до которого хотели проехать? Это не всегда понятно.
Однажды появился на горизонте человек. Он шел по торосистым льдам, то исчезая за торосами, то опять появляясь. В бинокль стал виден в руках у высокого юноши длинный гарпун. Человек переходил вброд озерки, натаявшие на морском льду. Проверял прочность дна гарпуном. Под конец, когда чукча подошел к открытой воде, мы выслали за ним «парусинку».
Это был молодой охотник в полосатой кам-лейке и кепке. Гарпун, винчестер, нож и длинная плетеная из кожи веревка. С этим снаряжением, даже без байдары, он ходил на зверя. Попав на пароход, и не подумал высушить насквозь мокрую меховую одежду. Обсыхал, рассматривая пароход, сидя за угощением. Вечером смотрел кино.
Утром ему показали на черную голову нерпы в дальней полынье. Схватив винчестер, гость спустился на лед и, подкравшись, убил нерпу, когда та вылезла нежиться на солнце. Зверя подарил нам. Только голову отрезал и выкинул в море. Это делается, чтобы дух жертвы не пришел мучить охотника.
На палубе чукча освежевал и разделал нерпу, отделив рубашку нежно-розового, толстого сала от темного ноздреватого мяса. Попробовали сделать жаркое. Лук, перец, чеснок не могли отбить резкого запаха рыбы. Вкуснее нерпичья печенка.
16
Другого охотника мы подвозили до ближней фактории. Он жевал американский табак, отрезая ломти охотничьим ножом. В мешке шкурки белых песцов.
— Сколько?
— Двадцать — два нету. — Это значило восемнадцать шкурок.
Двадцать — по числу пальцев на руках и ногах — основное число счета. В трудных случаях чукча может поднять две руки и ногу: пятнадцать.
Чукчи часто помогали ориентироваться в ледовой обстановке.
Судовой журнал полон отметок: «По словам береговых чукчей, к западу — сплошные тяжелые льды». «Приехали чукчи и сообщили, что в двадцати милях лед разбило».
Суровая, простая, мужественная жизнь чукчей иногда пленяла белых: американцев, норвежцев, русских. На берегах Чукотки есть осевшие австралийцы, бывшие проспекторы из Аляски, норвежские моряки, русские. Они женились на чукчанках и становились охотниками. Их дети — метисы. Говорят по-чукотски, по-русски и по-английски, учатся и охотятся.
Недалеко от мыса Северного мы встретили русского чукчу. Он ушел в тринадцатом году с Уссури, где крестьянствовал с отцом. После смерти отца был раздел, братья его обидели. Он унес свою обиду на полярные берега. Теперь у него пять детей. Младшие жмутся к чукчанке — матери. Старший, тринадцати лет, говорит по-русски и по-чукотски. Прост, смел и скромен. За зиму убил двадцать песцов. Это обеспечит семью на год.
17
— Довольны вы?
— А что? Чукчи хороший народ. Что еще нужно?
Раньше чукчей снабжали товарами американцы. Широкий кредит на слово, спирт, нужный ассортимент в удобной упаковке — и моржовый клык с песцовыми шкурами уходили на Аляску.
Теперь по всему побережью сеть наших факторий с дешевыми ценами.
Далеки те времена, когда чукчей спаивали русские купцы на пресловутой «пьяной ярмарке», под покровительством исправника. Когда цари давали опереточную автономию чукчам, назначая шутовских «чукотских королей» (старшин), присылая им парадные кафтаны — нечто среднее между формой гусара и ливреей швейцара.
Открыты школы и культбазы. Чукчи получили алфавит. У них есть студенты в Институте Севера. Колхозы, моторы, врачи и школы. Свои Советы.
Гордый, отважный и воинственный чукча охотно и любовно вешает в своей яранге портрет В. И. Ленина.
У ШАЛАУРОВА
Никита Шалауров, купец и казак, три раза плавал в XVIII веке вдоль берегов Северного моря. Здесь он и погиб. Память о несчастливом устюжанине хранит одинокий остров Шалау-рова. Красно-бурым булыжником лежит он у мыса. Северный ветер вплотную прижал льды К обрывистым скалам. Береговая полынья ис
13
чезла. Нужно ждать перемены ветра и подвижки льдов.
Выветренные скалы. Потревоженные птицы. Отлогий скат порос мхом и розоватыми цветами. Кости кита, белый олений череп и в земле остатки древнего деревянного жилья. Быть может, стоянка самого Шалаурова?
Близ нее три заботливо украшенных могилы: чукчи и двое русских погибли во время зимовок. На могилах высокие металлические стойки. На них — красные звезды, пробитые пулями.
Кто хотел осквернить эти звезды? В отчаянии убегающий белый? Контрабандист, пробравшийся с Аляски? Шхуну такого контрабандиста мы видели. Она трусливо отошла к горизонту, завидя нас.
У Шалаурова стояли долго. Белый день сменялся белой ночью, били склянки, молчаливый гидролог мерил температуру воды, наблюдал прибрежное течение. Его никто еще не изучал.
Туман. Впереди на 25 миль будто замерли тяжелые льды.
Второго августа льдины поредели. На горизонте появился высокий «Сучан», зимовавший в Чаунской губе. Высоко поднялась над водой ватерлиния, под ней изъеденное пятнами красное брюхо корпуса. Тяжело бьют воду уцелевшие лопасти обломанного льдами винта. Как большой усталый зверь, ползет пароход.
На мачте привет — три цветных флага. Мощным ревом дрожит «Хабаровск», полный сил, угля, продуктов и свежих людей. «Сучан» пытается басить в ответ, но только хрипит. Нет
19
больше сил — пара. Еле хватило подойти к нам за углем.
Тяжела нечаянная зимовка. Тушат котлы, перестает работать отопление. Команда переходит в темные трюмы. Дымят печи-времянки. Морозы становятся сильнее. Наступает полярная ночь. Керосиновые лампы разгоняют темноту.
Корабль засыпает. Становится жильем — и только.
Что делать зимой? Ремонт не отнимает всех сил. Без дела люди могут возненавидеть друг Друга.
Опытный капитан сразу вводит жесткий распорядок. Техника и политграмота, заготовка воды и топлива, прогулки и спорт — футбол, стрельба, охота. В Чаунской губе за зиму построили дом и передали культбазе. Строили баржи. Били песцов.
Часть команды «Сучана» болеет — люди жадно набрасываются на свежий чеснок, картофель, апельсины.
Мы ждали жадных расспросов о Москве, Владивостоке. Но люди слишком устали. С нетерпением ждут возвращения на желанный «материк». Там отойдут, отдохнут и тогда... снова поедут на Север. Север зовет, не отпускает...
На встречных судах были и пассажиры. Возвращалась беременная женщина с ребенком, потерявшая мужа на Колыме. Умерла в пути от родов. Детей взял доктор, старый, с развевающейся седой бородой. Он выхаживал I рудного, как мог. Вышло все сгущенное молоко: он приехал попросить у нас. Вместе с кон
20
сервированным мы дали ему свежего, с нашей «фермы». Засветлело суровое лицо.
Всегда пустынное море и остров Шалауро-ва оживлены, точно большой порт. Среди торосов и ледяных полей — пять пароходов: два встречных, два наших и шхуна- «Крестьянка». Бегают суетливо от пароходов к пароходу рульмоторы и шлюпки.
Ни нам, ни встречным нельзя терять времени. Пробирается вперед мелко сидящая «Крестьянка», за нею мы и потом «Свердловск». Набрав угля, тянутся к востоку усталые встречные суда.
Опять одни. Пустынен остров, медленно уползающий за горизонт.
ЛЬДЫ
Ночная вахта. Бодрый холод, снег на горах. Легкая радуга в небе. Низкое солнце пробивается сквозь облака. По темно-сиреневой воде сверкнула багровая, слепящая дорога...
Утро.
Розовая луна бледнеет и уходит в ожившее море. Солнце прорвалось сквозь облака. Льется на воду раскаленным потоком, точно солнечный чугун из космической домны.
Глухо дрожит корпус. На столе кают-компании звенит посуда. А ведь мы весим почти пять тысяч тонн! Судно стараются вести по полыньям. Они зеркально спокойны даже при ветре. На мелкую ледяную мелочь «Хабаровск» не смотрит. Он раздвигает и давит ее. Сплошные поля многолетнего торосистого льда
21
пароход хмуро и осторожно обходит: такой лед не берут и ледоколы.
Полярное море всегда полно дрейфующих льдин. Во всю ширь полярной полыньи — движутся льды. Законы их движения туманны. По крохам и отрывкам наблюдений и записей полярная наука только начинает строить эти законы. Но уже твердо известно, что северные ветры стремятся прижать льды к берегу. У берегов сидят на мели ледяные громады. Они не пускают дрейфующие поля тяжелых льдов. Получается узкая и длинная береговая полынья, по которой идут суда. У каменистых, обрывистых мысов Сердце-Камень, Северный. Биллингса и других — глубоко, стамухи 1 уже не могут защитить. Льды прижимаются к обрывистым скалам, и тогда путь закрыт. Нужно ждать.
...Мыс Дежнева мифическим и грозным каменным тараном выдается в море.
Отправившись с Колымы с купцом Алексеевым, отважный Дежнев открыл Берингов пролив и спустился до Камчатки. Тогда не было той техники, какой оснащены наши северные экспедиции. У Дежнева были кочи — деревянные лодки, конопаченные мхом с глиной. Убогий парус и весла, скудный запас харчей, огневого припаса и кучка товаров — это все, с чем ходили по полярным морям в поисках путей в Индию или Китай.
«Сии отваги, которые сами от себя таскались повсюду, так что их не могла остановить
1 Стамуха — сидящая на мели многолетняя льдлна. . i
22
никакая опасность, когда они могли где-нибудь получить корысть»,—так писал о них снисходительный историк XVIII века, сидя в прохладных залах Академии, Де Сияпс в городе Санкт-Петербурге. Историки были правы, говоря о корысти: сибирским рыцарям торгового капитала даже сто лет спустя просвещенная, любвеобильная дворянская матушка Екатерина мягко грозила оковами. Но честь открытия пролива между Азией и Америкой история неправильно приписала датчанину Берингу. Он был начальником Великой Северной экспедиции, снаряженной при Петре Первом, когда открытие Дежнева было забыто. Только мыс назван именем полярного «отвага». За черным мысом — десятки эскимосских жилищ гнездом круглых шлепков сидят на скалистой террасе: Наукан.
Падает туман. Мы тревожно гудим и ищем Уэлен. Сорвало ветром завесу тумана. Заходим в бухту.
Волнение, беготня, стрельба из ружей: с берега бежит золотистая байдара. Моторист — чукча. Опять гости, приобретение блестящих нерп, цветного шитья по нерпичьим тигристым шкурам.
После Уэлена начинается полярное плавание. Круг перейден.
В полночь солнце бьет красными косыми лучами. Льды светятся зелеными и голубыми драгоценными глыбами. Но скрылось солнце— и неприветливо, пустынны и бесцветны лед, вода, скалы безлюдных берегов.
Пароход идет, медленно лавируя, меняя ход, пробиваясь по полыньям. Когда тяжелые
23
Льды не дают идти, машина перестает работать, мы заводим ледовые якоря, пришвартовываемся к кромке льда, стоим и ждем.
В бочку на мачте поднимается по железным скобкам один из штурманов. Стоит ему спуститься, на него сыпятся нетерпеливые вопросы.
— Ну, что, видно? Когда пойдем?
Помощник улыбается.
— Не знаю. И никто не знает. Пока ничего не видно. Надо уметь ждать.
Успех полярного плавания зависит от выдержки. Только в редких случаях можно «форсировать льды». И то без большого эффекта. Главное, разведка и маневры.
Если нет метеосводок и самолета, смотрят из бочки, следят за ветром, течением, небом. Если небо покрыто тучами и тучи темные, — значит дальше полынья, а если впереди льды, — они окрашивают тучи в белый цвет. Это называется ледяным небом. Тогда высылают разведку пешком и на легкой складной шлюпке — парусинке. Ее может перетаскивать даже один человек. У берегов расспрашиваем чукчей-охотников, где лед взломало, где отнесло.
Двигаться вперед нельзя, надо ждать. Ветер и вода работают все время. Бывает, что за четыре-пять часов нельзя узнать льдин у борта.
Когда показывается полынья, нужно уметь сю пользоваться. В маневрах сказывается опытность капитана. Хороший полярный капитан знает, что ледяные поля сильнее тысяч лошадиных сил машины.
От Уэлена до Колымы около тысячи кило-
24
Метров. Их можно пройти по чистой воде в четыре-пять дней. Такой переход случайно удалось сделать один раз капитану Миловзорову.
Мы шли месяц, днями стояли у Северного и у Шалаурова. Новички изнывали и готовились к зимовке, а через день наш капитан получил от начальника прошлогодней экспедиции, зимовавшего далеко впереди, в Чаунской губе, поздравительную радиограмму: «Радуюсь вашему необычайному продвижению вперед».
АМБАРЧИК
В Амбарчике морские пароходы должны разгружаться в двенадцати километрах ог смутного берега, на открытом, ветристом рейде. Буравя морскую волну, туда подходят настойчивые катера с речными баржами и бар-жонками. Даже в свежий ветер и разыгравшуюся волну нельзя прерывать разгрузку. Морские суда торопят. Им надо скорее дойти до Берингова пролива, чтобы не зазимовать во льдах.
А на студеной воде уже видели хрусткое «стекло» — первый тонкий лед. Колючий ветер набирает силу. Все больше и злее серая волна.
Кругом зашитый морской катер с ходу подает к борту две накупавшиеся в волнах баржи. Они бессильно болтаются на воде рядом с тяжело качающимся пароходом и не могут пришвартоваться. Четыре раза с искрами рвутся металлические тросы. Тогда «Хабаровск», заботливо повернувшись чуть вбок, прикрывает утлые баржи от ударов острых волн.
25
Опускаясь, крутятся веревочные корзинки — стропы. С ними вертятся груды вещей и люди.
— Вира!.. Майна помалу.
В тот миг, когда корзина висит над неверной баржей, помощник вскрикивает:
— Майна! Майна!
Быстро урчит лебедка, и строп ослабело падает на баржу. Его хватают ловкие руки. Весело выгружают тюки и корзины на мокрую палубу. Опять и опять.
С высокого борта «Хабаровска» далеко внизу чернеет палуба маленькой, наглухо задраенной железной баржи. Кажется, она сидит в воде по самый борт. Через палубу переваливаются волны. Неужели можно плыть на такой барже?
Выгружают вещи, продукты, палатки, походную кухню — от качки она бестолково катается по палубе. Потом идет высадка людей.
Сходить надо по спущенному с борта штормтрапу. Висишь на последней ступеньке веревочной лестницы, точно груз маятника. Качается пароход, раскачивается трап, внизу то появится, то уйдет из-под ног баржа. Нужно выбрать момент и спрыгнуть на скользкую палубу.
Женщины спускаются, обвязавшись под мышки веревкой. Конец закреплен наверху. Если закружится голова и женщина сорвется с трапа, она, повиснув, не упадет в воду.
Спустившись, женщины что-то кричат и смеются. Но волна все сильнее. Лица бледнеют, оживление уносит ветром. Шатаясь, идут в трюм. Укачало.
26
Детей обвязывают веревками, как женщин. С ребенком спускается отец. Мальчик быстро перебирает руками и ногами ступеньки, мужчина переступает медленно и осторожно, как бы обнимая сына. Если малыш сорвется, отец удержит его. Внизу их бережно принимают матросы.
Уже все спустились. Снизу, с зыбкой темной баржи, пароход кажется устойчивой громадой. Все чаще дождевые капли. Под ногами хлюпает вода. Наверху, в иллюминаторах, видны оранжевые пологи опустевших коек.
С высокого спардека машут оставшиеся. Слабеют прощальные крики. С мостика ушел капитан. У борта чуть видны полярные бороды чаунских зимовщиков, возвращающихся на «материк».
Качаясь на мокрой палубе баржи, идем к мутному берегу по хмурым волнам. Ветер рвет из рук неподатливые брезентовые полотнища. На грузовых стрелах нужно поставить шатры, чтобы укрыться от ударов ветра и злобных брызг. Кренит на тридцать пять градусов. Измученные женщины засыпают.
Ночью встаем у ряжевых причалов Амбарчика.
Сырые холмистые берега покрыты мхом и тощими, блеклыми цветами. Летом здесь бесятся штормы. Зимой, в полярную ночь, хлещет и сечет пурга. Выходя из жилья, нужно крепко держаться за протянутую от двери веревку: иначе ослепит и собьет острая темень сумасшедшего снега.
Пурга набивает плотные сугробы, по ним потом свободно ползет тяжелый трактор. Что
27
бы натаять воды, снег приходится пилить и рушить кайлом. Жилье заносит с крышей. Люди откапываются кирками и железными лопатами.
В прошлую зиму удалой водолив вышел в пургу за топором. Топор лежал на нарте, в двадцати шагах от дома. Пурга валила набок, резала лицо. Немели руки и ступни. Водолив сбился через несколько шагов. Ослепленный, он бродил в темени свистящего вихря. Тяжелый как стена, снег валил его наземь, мельчайшая пыль забиралась сквозь одежду к телу. Он не слышал, как стреляли у дома. Полуживой добрался до чужого жилья и пересидел там пургу. Сидел он пять дней...
Из вытертого льдами бурого речного плавника выстроен Амбарчик. Грузы забили все склады и стоят штабелями. Ждут отправки ряды могучих локомобилей. На складах — машины, техническое имущество, продовольствие.
А рядом со складами — маленький, трогательный садик. В деревянных клумбочках и горшках зябнут выращенные в теплице астры. Посредине стоит памятник Карлу Луксу. Это известный герой Дальнего Севера и Заполярья. Красный партизан в прошлом. Лукс прошел от бухты Нагаева до Чукотского моря, где организовывал Советы полярных районов. Он погиб, разряжая винчестер.
Рядом с садиком в клетках живут ценные белые песцы. Дальше, за изгородью, похрюкивают десятки свиней и поросят.
Прошлой осенью сюда завезли свиней. Они выжили и дали приплод, только обросли длинной, а иные и кудрявой щетиной.
28
Всегда отважные чукчи первое время в испуге бросались от неведомых зверей. Они пугались свиней не меньше, чем стреляющих тракторов; при встрече спасались за штабелями грузов, покуда не стали «своими» чудовищные машины и хрюкающие чудовища.
Только большие электрические фонари в бухте сразу пленили чукчей.
— Теперь и зимой у нас будет много солнц, — говорили весело они.
Для чукчей не редкость видеть на небе три или даже пять солнц. Весной, кроме настоящего, в морозном воздухе сверкают два или четыре ложных солнца.
В полярную «большую ночь» раньше не было ярких и теплых солнц.
Они светят теперь в устье Колымы.
ДВАДЦАТОЕ АВГУСТА
На Колыме есть пароход «Память 20 августа».
Почему его так назвали?
Нужно разыскать в архиве связку старых тетрадей и книг. Это толстые судовые журналы и самодельные вахтенные журналы судовых раций Лено-Колымской экспедиции 1933 года.
Пачка прошнурованных тетрадей из серой бумаги, с красными печатями в конце. Записи карандашом, ровными и корявыми буквами, спокойными и скачущими строчками, когда в третью бессонную ночь, сквозь вой шторма летели в наушники скупые и трагические точки и тире.
Их было пять: изрядно потрепанные колесные посудины «Революционный», «Леонгард», «Колхозник», «ДС-1» и «ДС-2».
По полой воде вышла экспедиция из Жигалова на Лену. Речные пароходики поставили деревянные крепления, задраили снаружи свежими досками иллюминаторы, навесили щиты на окна палубных построек. В легких речных рубках встали большие морские компасы. На каждом пароходе, кроме речной команды, появились штурман и штурвальные моряки. Они принесли с собой морские приборы и карты.
Долгий месяц сплывали суда по дикой и мутной Лене. Уходили вверх пустые горы и нерубленые леса, грозили мелями безбрежные просторы низовий.
В пустынном Тикси экспедицию встретил морской пароход «Ленин». Заботливо, как матка, повел он длинный караван связанных буксирами судов: пароход, за ним баржа, опять пароход, опять баржа — и так на километр. Суда шли своим ходом и старательно вертели колесами, помогая один другому.
Уплыли за горизонт низкие берега. Над спокойной водой протянулась километровая цепочка дыма. Одинокой скалой проплыл Святой Нос.
В море Лаптевых скорость не превышает пяти узлов. Записи радистов обычны и мирны.
Начальник каравана Миловзоров передает код своих сигналов гудком: один длинный, два коротких — «постепенно остановиться, приготовить якоря на баржах»; два коротких — «отдать якоря».
Предлагается ежедневно в 12 часов ради
30
ровать количество оставшегося угля и пресной воды.
Капитаны просят Миловзорова: «Разрешите прочистить дымогарные трубы».
На пароходах команды по-речному стирают и, развесив, сушат белье. Жены стряпают на баржах обед, растопив углем железную времянку. Мычат коровы.
Вдали от берега начинается легкая волна. Суда идут раздельно, перекликаются по радио: «Нахожусь столько-то северной широты, столько-то восточной долготы. Сообщите ваши координаты».
Приближается первый шторм. В журналах— приказы и маневры.
Суда раскачивает. Но записи спокойны. Между приказами и сводками веснушчатый радист стучит в свободную минуту товарищу: «Павлуша, у нас больных нет, только якут плачет от морской болезни. Как у тебя?» — «У нас ничего; едим горячие булочки».
На другой день становится хуже. Суда болтаются в открытом море — к отмелому берегу идти нельзя:-волна разобьет корпус о мелкое дно. Экспедиция отходит «штормовать» на большие глубины. Моряк спасается в открытом море. С непривычки это непонятно речникам.
Крепчает ветер. Он срывает и уносит гребни волн. Швыряет суда. Волна то вздымается, то проваливается далеко вниз.
Чтоб укрыться от бури, начальник приказывает стать под защиту огромной стамухи. Заводят ледовые якоря. Тонко воет ветер в снастях. Рвет дым из труб. Волна бьет стамуху С севера. Под ветром, с юга, спокойно,
31
Свирепеет шторм. Под злыми ударами стамуха начинает крошиться.
Но упорна жизнь. «Леонгард» радирует: «Сегодня вечером открытие красного уголка. Будет доклад и концерт. По окончании сообщите слышимость».
Взбесилась стихия. 10 баллов. Отрывает, несет по ветру «Революционного». Осколки льдин бьются о тонкий корпус. Ударило тяжелой льдиной. Задрожал «Революционный».
Начальник дает сигнал: «Держаться против ветра, идти мористее!».
Тревожное радио: «Рвутся рулевые крепления».
В 13.50. «Революционный» отчаянно радирует: «Машине первом классе выступает вода, откачиванию не поддается».
Засорило углем и мусором приемники водоотливных насосов. Команда бьется, пытаясь заделать пробоину.
Налетает и слепит снежный шквал. Все глубже погружается судно. И воздух режет зловещее:
14.45. «SOS!».
Спокойно сидит в своей рубке в наушниках, с рукой на ключе радист Лаур.
14.50. «Я — «Революционный»! Я — «Революционный»!»— кричит он другим пароходам
Кто придет на помощь в далеком и пустом Ледовитом океане? Только краболов на Камчатке услышал сигналы.
15.15. «Революционному» отвечает «ДС-1»: «Идем вам на помощь».
Начальник приказывает: «ДС-1» и «ДС-2»! Подайте буксир «Революционному»!
32
Сам на «Ленине» спасает унесенного вдаль «Леонгарда».
Обезумели волны. Льдины взлетают на гребни и стремглав падают в пропасть.
«ДС-1» выбрасывает буксир с буйком и на огромных волнах обходит «Революционного». С гибнущего парохода баграми целятся поймать буек, но ударом волны его отшвыривает.
Миловзоров в 15.50 радирует «ДС-1» и «ДС-2»: «Спасайте первую очередь людей!»
Сам бьется у «Леонгарда» далеко за горизонтом.
Мечутся и падают маленькие «ДС-1» и «ДС-2», кружась около осевшего «Революционного».
17.00. «Революционный» — «ДС-2»: «Берите нас на буксир».
Двадцать минут бешеной борьбы.
17.23. «ДС-2»: «Не можем; судно не слушается руля. Становитесь против ветра».
17.30. «Революционный»: «Становимся».
Ударяет в корму.
17.35. «Революционный»: «Не можем, слетели цепи с руля».
«ДС-2»: «Рвет рулевые крепления, сами терпим бедствие».
«Ленин»: «Как вам ни тяжело, исполняйте свой долг».
«Революционный»: «Тонем! SOS!».
19.35. «Всем! Всем! Всем! SOS! Пароход «Революционный» пути Колыму тонет Восточно-Сибирском море, долгота 147°, широта 72°35'».
Тщетно мчатся радиоволны. Никого нет вблизи. Дрожит рука радиста в Якутске. Он
2 Кирилл Коптев
33
принял сигнал, но что может сделать Якутск! Он шлет дальше: «Всем! Всем! SOS! Тонет «Революционный» в Восточно-Сибирском море».
«ДС-2» унесло. Бьется вокруг гибнущего «Революционного» крошечный «ДС-1». Капитан Козлов и команда, спасая людей, борются со смертью, взлетая и проваливаясь, каждую минуту рискуя проломить свой корпус о льдину или разбиться о «Революционный». Бросаются люди, обвязавшись канатами, просто прыгают в воду. Им кидают тросы и тянут на палубу «ДС-1». В ледяной каше матросы ловят и вытаскивают людей. Женщин обвязывают под мышки и перетягивают тросами на «ДС-1». А как же быть с детьми?
Грудного ребенка заворачивают в шубу, кладут в ящик, обвязывают веревкой, к ящику— трос с «ДС-1» и сбрасывают в море. Хлещет вода, скользит и ныряет ящик. Быстро вытащив, режут веревки, долой доски и шубу — ребенок спокоен. Другого перетащили в чемодане. Детей хватают дрожащие руки женщин. Ребята смеются...
И тут же, путая аварийные сигналы, банк на Филиппинских островах спокойно радирует по-английски: «Хлопок в повышении, прекратите продажу».
Механик «Революционного» ехал с семьей. Когда пароход стал тонуть, он вывел жену и сына, помог им прыгнуть с накренившегося борта на «ДС-1» и, держась за поручни, спустился вниз, в машину. Больше его не видели. Машина должна работать до последней минуты.
34
Капитан «ДС-1» кричит:
— Доктор, прыгайте к нам! Здесь женщины, дети. Я вам приказываю.
— Еще остались женщины и пассажиры! Я прыгну последним, — кричит с борта судовой врач «Революционного» Аркин. Ветер треплет бороду молодого врача.
Наконец он прыгает. В это время «ДС-1» отбрасывает! Аркин летит мимо палубы и скрывается в воде. Он борется с ледяными волнами. Но волны ударяют его головой о корпус. Одна, другая, третья... Посиневшее лицо, лоб Аркина в крови. Он что-то кричит и скрывается под водой... Волны продолжают трепать о борт его разлохмаченную шапку и спасательные круги без людей.
Капитан Таланков на мостике, штурвальные у колеса, радист в будке, механик внизу. Так борется до последних сил «Революционный». Все больше и больше крен. Волны перекатывают через корму. Нос вздымается кверху.
Раздаются последние: «SOS!».
20.07. «Сигналы прекратились», — так записали у себя в журналах радисты. Замолчал радист «Революционного» Лаур, захлебнувшись ледяной водой.
Его друг дал в эфир: «Радист потонувшего «Революционного» Лаур погиб на своем посту в Ледовитом океане 147° восточной долготы, 72° северной широты».
Только соседние пароходы приняли сигнал. Ревел студеный океан, оборвавший короткую жизнь молодого радиста, который знал, что такое долг перед Родиной.
Это было 20 августа 1933 года.
2*
35
Из команды «Революционного» спасся только один человек. Семь долгих дней бушевал шторм. Разбросало, поломало баржи. Одну разломило пополам, на обломке носило людей и скот.
Бессонно работали суда, спасая людей.
«Спешите, много людей плавает на поясах, просят помощи».
Людей спасли. Коровы мычали и тонули. Но баржи спасти не удалось. Их понесло к отмелым берегам материка.
Все это в отрывистых, скачущих записях на страницах судовых журналов.
Конец шторма. Суда разбросало. Никого не видно.
«Дайте дым, пойдем на вас!». — «Идем полным ходом на дым. Не знаем, чей».
Ветер стихает. Близко берег.
«Третьи сутки не сплю, путается в голове... Треск в аппарате, не слышу». — «У нас тихо, но очень многие долго не могут заснуть».
И обрадованно: «Павлуша, здравствуй, как я рад! Ты здоров? Думал, уже ни с кем не смогу связаться».
Когда пароходы дошли до Амбарчика, где на рейде стояли морские суда, маленькие речники с поломанными, повисшими бушпритами и помятыми корпусами, проходя мимо моряков, дали приветственные гудки.
Низкими басами ответили морские корабли: точно старшие братья крепко пожали руку младшим. На мостиках полярные капитаны отдавали честь.
Четыре речных парохода прошли на Колыму.
эв
А с Волги уже бежали к Жигалову красные вагоны с частями новых пароходов.
На следующий год с Лены на Колыму пришла вторая флотилия речников. Год спустя еще одна.
Колымская флотилия была создана.
КАПИТАН МИЛОВЗОРОВ
Это было два года спустя. Миловзорова чествовали на торжественном собрании в Магаданском театре. Гремел оркестр. Выходили на трибуну ораторы с ликующими приветствиями. Речники, моряки, инженеры, рабочие прерывали их речи взрывами бурных рукоплесканий. Пятнадцатилетний юноша с синими глазами, в золоте кудрявых волос (будущий известный поэт Сергей Наровчатов) от имени комсомола и школьников читал восторженные стихи. Он бредил тогда Заполярьем.
А Миловзоров скромно сидел в президиуме в старой черной кожанке с давно полученным орденом в петлице. Он спокойно смотрел в зал: «Я делаю свое дело, за что же благодарить?»
Как будто провести на Колыму три флотилии речных судов было так просто.
Он был таким же и два года назад, когда после Лено-Колымской аварии ждал отправки в Москву с отчетом, зимним путем через Якутск—Большой Невер. Аккуратная комната в средне-колымском доме, оклеенная газетами, была завалена ящиками, кухлянками, продуктами и прочим. Миловзоров с Гольдштейном
17
и Чулковым (руководство экспедиции) послезавтра уезжают в Москву.
Миловзоров среднего роста. Ему за пятьдесят. У него простые рабочие руки, полысевшая голова с седыми висками. Черные, с проседью усы, умные, очень осторожные глаза. Капитан прост и любезен. Но в его движениях и словах сквозит настороженность и сдержанность.
В то время положение Миловзорова было очень трудным. В Средне-Колымске вокруг него бушевали страсти. Еще в Москве речники скептически относились к предложению Миловзорова доставить речные суда на Колыму полярным морем. Теперь, после аварии и десятков человеческих жертв, после гибели парохода и всех барж, местные речники страстно обвиняли Миловзорова. Спасая баржи, разметанные штормом, они не послушались его приказов и пошли не на запад, а на восток. А мощные насосы речных пароходов общими силами могли поднять полузатонувшие баржи на плав и увести их в Амбарчик.
Речники ставили в вину Миловзорову приказ идти во время шторма в море и там отстаиваться.
Миловзоров не спорил, но его молодой помощник Гольдштейн, тоже морской капитан, яростно отвечал:
— Только мальчишки, авантюристы без знаний и опыта могут кричать: «Нужно было выбрасываться на берег!» Да ведь речной пароход сел бы на мель на ничтожной глубине! Пассажирам пришлось бы брести три километра по отмелому дну, под настигавшими их ледяными волнами. Смерть была на берегу, а не
в море. Это не то, что на реке. Выскочил на берег — значит: вот она, жизнь!
...Москва полностью признала правоту Ми-ловзорова и назначила его начальником следующей экспедиции. Узнав об этом, начальник Колымского пароходства сказал тогда своему помощнику:
— Видать, мы с тобой мелко плаваем: -задница видна. Нас по ней и шлепнули.
Сидя в юрте Средне-Колымска, Миловзо-ров рассказывал:
— Думал во время Лено-Колымской написать о своих плаваниях. Захватил даже фотографии. Вот посмотрите.
Он достает пачку фотографий, накопившихся за двадцать лет. Сотни снимков, от Пет-ропавловска-на-Камчатке до Уэлена, остров Врангеля, бухты Тикси и Амбарчика. Льды зимние и летние, неподвижные и дрейфующие, «Колыма» и «Лена», приведенные Норден-шельдом. Морские пароходы стоят у кромки льдов. Пароходы в море, пароходы у острова Врангеля. Бухта Роджерса с голыми утесами вокруг, под мрачным небом, с зеркальной, почти черной водой. Милые оленьи морды, люди в мехах. Нарты с гробом товарища, погибшего во время зимовки: цинга, от которой тогда не знали верных средств.
О Миловзорове говорит Свердруп в своей книге «Плавание судна «Мод». Его имя вписано в историю освоения Арктики. На его счету не одно плавание в самых суровых условиях.
Это простой, отважный, волевой и скромный полярный капитан. Недаром на капитанском бушлате с золотыми нашивками алеет орден,
39
полученный Миловзоровым еще в двадцатых годах, когда чуть ли не все орденоносцы были известны по именам.
Мы попрощались и ушли. Хлопнула обитая коровьей шкурой дверь юрты. На небе ковшом висели огромные звезды Большой Медведицы. Из труб якутских юрт вылетали острые столбы багрового дыма с искрами. Собаки на железных цепях скоро заведут свои полночные унылые хоры. Впереди полярная зима.
низовья
Караваном в три баржи с катером «Тунгус» впереди идем в реку. Тихо. Качки нет. Это кажется странным.
Слева сереет берег, справа лежит открытое море. И только вглядевшись, ловишь на горизонте, меж водой и небом, прерывистую коричневую полоску. Это дальние, низовые острова. Дельта Колымы разбежалась на полтораста километров. Многоводна ходовая правая протока. Широк и медлен ход воды меж древних тундровых берегов. Часами тянутся обглоданные рекой, водой и льдами, точно кости, вековые наносы ошкуренного плавника.
На горизонте залегли неведомые хребты рдеющих сопок с дикой просинью каменных
41
долин. Застыли в светлом небе свинцовые кучи облаков с розовеюшими краями.
В низовьях Колымы летуют неисчислимые стаи дичи. На озерах, справа и слева от реки, осенью сбиваются в табуны гуси, утки и гагары.
За поворотом, на тиховодье, лениво сидит стадо разъевшихся гусей. Они кормятся перед отлетом на юг. Жирные птицы нехотя поднимаются после выстрела. В вечернем солнце розовыми парусами пролетают три лебедя...
Зашершавились берега кустиками, кривыми березками. Будто привычнее и мягче становится река.
И вдруг слепящий, огненной полосой сверкнул под бровкою берега старый, мокрый лед. Это загорелся на солнце тал — вечная мерзлота. Весной его подмывают струи высокой воды, летом выедает горячее солнце. Звенькают капли, падает кусок мокрой земли со льдом. У подножия талов находят метровые завитки дорогих бивней мамонта и большие кости носорогов.
В одном из талов реки Березовки нашли целого мамонта. Он стоит теперь в Зоологическом музее Академии наук. Вечный лед хорошо сберег мамонта. Даже остатки травы тех времен уцелели между зубами. Мерзлое мясо даже можно было есть.
Мамонта нашел тунгус Тарабукин: услышал лай и визг дравшихся над трупом песцов. Через год приехала из Питера экспедиция. Громадину обнесли навесом и стали резать острыми и гибкими якутскими ножами. Замороженные мамонтовые ноги и туловище погру
зили на длинный поезд нарт. Больше трех тысяч верст нужно было пройти на нартах и еще зимой перевезти зверя по железной дороге из Сибири в Питер. Иначе могли оттаять и погибнуть впервые найденные ткани доисторического зверя...
Баржа идет плавно — не шелохнется. Да, это совсем не малое судно! Железная морская баржа сидит грузно и низко, но сверху все же далеко до посмирневшей воды. На палубе разместились два шатра, кухня и склад продуктов. Прочно наладился строгий распорядок жизни.
На рассвете слышно сквозь сон: — Пятнадцать человек на дрова!
Ноги ступают по мшистым кочкам, поросшим низкой, растрепанной лиственницей. Земля, забытая земля, после мертвого и снежного камня полярных берегов!
Кружится и беззвучно жалит мошка. Вздуваются толстыми лопухами уши, заплывают глаза, плотной резиной напухает накусанная шея.
Дрова алеют сквозь сизую кору в ровных поленницах, сложенных у самого берега. Корявые и сучковатые метровые листвяки цепляются за рукава. Цепочкой ползут поленья с крутого берега в лодку. Лодка шлепает веслами между берегом и пароходом.
За поворотом реки в глаза бьет ядовитозеленая трава. Стоят копны сена. Настоящего, скошенного сена! Кто-то дергает за рукав:
— Смотрите, корова!
Действительно — корова. Стоит и машет черно-белым хвостом. Близка заимка.
Сиротеют три-четыре бескрышных сруба.
43
Сюда весной наезжают колымчане ловить жирную нельму и немного чира, муксуна и омуля. На иных заимках живут весь век. На высохшей береговой няше1 сохнут придуманные пращурами сети и валяются «ты» — по-русски: ветки—длинные, узкие долбленые челны. Садятся в ветку, вытянув ноги, и гребут двулопастным веслом. Эти ветки неустойчивы, вертки и быстры.
На плоских срубах заимок сидят широкие круглые трубы. Они сделаны из деревянных жердей и обмазаны серой глиной. Внизу горит камелек. На ночь трубу накрывают крышкой или тряпкой, чтобы не уходило тепло.
...За кормой идет деревянная баржа «Волга».
С нее окликает давно не бритый водолив: — Вы с «материка»? Ну, что нового за последний год?
— Как за год?
— Я зимовал в Амбарчике. У нас целый год не было почты. Может, захватили какую газетку?
Конечно, никто не захватил. Все давно выкинули.
Пытаются и не могут сразу вспомнить слегка растерявшиеся пассажиры: что же произошло за год? Ведь это целый доклад нужен. А где материалы? Кое-как, помогая один другому, рассказывают.
Водолив ловит давно забытые слова. Он забывает о барже. «Волга» рыскает, капитан буксира отчаянно кричит в рупор.
1 Н я ш а — ил с галькой.
44
На низком берегу — Нижне-Колымск. На огневом, закатном небе вырезаны черные силуэты: деревянные остовы складов, десятки людей, выбежавших к пароходу, большая собака, радиомачты.
Раз в сутки проплывает одна заимка: Ду-ванная, Помазкино, Колымская, Карлуково, Кульдино. Там живут колымчане — потомки древних покорителей края — якутские казаки.
На утлых кочах служилые казаки приплывали с Лены или Индигирки и поднимались вверх по реке. Рубили зимовья и острожки, собирали ясак, торговали и женились на молоденьких ясырках. Их дети и внуки опять переженились на эвенках, якутках, юкагирках; стали брюнетами со смуглой кожей и припухлыми глазами, но уверенно говорят:
— Мы юские (русские).
Они ловят рыбу и бьют пушного зверя ружьем, а то и древними ловушками — черканами мозжат головку горностая, тяжелыми бру-сами пасти давят песцов. Держат лучших в краю собак, зимой возят на них горой (по берегу) или по замерзшей Колыме грузы и пассажиров.
Черной ночью встает у борта гористый берег Забуи. Это главный затон будущего пароходства.
Сквозь тяжелый туман над темной рекой грохают раскаты капитанского баса: отцепляют баржу.
Неохотно светлеет небо. Через три часа Средне-Колымск — главный город реки Колымы.
45
ГОРОДА
На всех картах у реки Колымы есть три тощих кружка. Рядом с кружками канцелярская рука еще гусиным пером некогда написала: Верхне-Колымск, Средне-Колымск, Ниж-не-Колымск. Написала и присыпала песком. Так и осталось.
Местные жители зовут свои города по-старинному: Крепость, Город и Нижний. Раньше Нижний звался Острогом, даже Собачьим Острогом.
На невысоком берегу разметалась длинная низкая куча сизого хвороста. Слева — игольчатая мачта рации, справа — столетняя деревянная церковь. Это Средне-Колымск.
Средний — город деревянный, рублен из лиственницы. Она зябнет, мерзнет, пока растет на голых сопках, и выходит поэтому свилеватая, сбежистая и тонкая. Долго отбирают в речных долинах бревна потолще или на быстром стрежне ловят весной пригожий плавник, вырванный половодьем и ободранный ледоходом.
Зимовье ставили казаки, в XVII веке приплывшие с Лены в поисках «неразведанных землиц». Срубы для жилья, кругом тын с дозорными башнями — такими были Острог и Крепость.
Тыны сгнили, осталась одна башня. Эту осевшую, трухлявую башню не всякий найдет в беспорядочной куче Среднего.
Половина городских построек — обмазанные глиной, жердяные якутские юрты, половина— рубленые убогие домики. Все они без
46
крыш: здесь выпадает мало дождей, к тому же нет досок. Колымчанин и якут неохотно пилят даже поперечной пилой: лучше рубить и тесать топором. А сколько нужно теса на крышу?! Поэтому бревенчатый настил засыпают землей и так живут. Весной хозяева лезут на дом и загодя огребают снег, пока не начало таять. Если летом или осенью пойдет редкий дождь, на потолке появятся разводы, и сверху польется вода.
Дома ставят из бревен подходящей длины, не очень заботясь о точности. На углах торчат серые бревна, точно зубья обломанных гребенок. Иногда это удобно: можно что-нибудь повесить— оленью шкуру или собачий алык.
Строят дома как попало, улиц нет.
В Среднем тридцать три учреждения и ни одной вывески. Да и зачем? Все и так известно. Знают даже, сколько зубов собирается вставить себе жена бухгалтера РИКа.
Между домами тянутся тропки. Осенью и весной на них блестят просторные лужи. Во время перелета среди города может с треском вылететь из-под ног пара уток.
Весной жители не спят. Ночи нет. Низко пролетают отощавшие утки, гуси, чуть подальше — усталые лебеди.
Люди бродят с ружьями, сидят на обсохших пригорках. Бессонными глазами смотрят вверх. Выстрел. Другой...
В городе живут якуты и колымчане.
Летом полгорода пустеет. Якут косит сено, ловит рыбу. Колымчанин едет на заимку. Заимка— это промысловая дача: там ловят рыбу на зиму. Зимой колымчане добывают пуш
47
нину, служат в разных учреждениях, возят для них дрова.
Бывает, колымчанин подпишет договор — отапливать райпрофсовет или страхкассу. Он должен всю зиму держать тепло в единственной комнатке. Доставив на быке нарту дров, он рубит топором трехметровые толстые жерди. Потом якутским ножом делает из сухой лучины пачку тонких палочек с завитками стружек. Быстро раскаляются тонкие железные стенки печи. Изо рта перестают вылетать клубы морозного пара. Оттаивает вода в рукомойнике. В девять часов приходит начальник и два служащих: все обязательно с портфелями. На печке кипит чайник. Днем начальник идет на заседание. Оставшиеся пьют чай. Раз в два месяца получают почту. Иногда зайдет неторопливый посетитель. В четыре часа — домой. Печь тухнет. Комната замерзает до следующего утра.
Две трети служащих — приезжие с «материка» по договору.
Приехав, ищут квартиру. Колымчанин недоверчив. Он не пустит к себе человека с улицы. Познакомившись, попив чаю, поговорив не один раз, местный житель, наконец, соглашается взять приезжего в квартиранты. Тесную комнату перегораживают еще раз ситце-, вой занавеской, зеленой кисеей от комаров или одеялом. Там ставят койку и столик. Квартирант ест и пьет с хозяевами, тетка или деваха стирает ему белье.
Самый большой из «колымсков» — Средний. В нем около сотни домов. Улусный якут с уважением говорит:
— Это больс-о-о-й город!
48
Колымчанин видел в журналах и книгах фотографии многоэтажных домов. Но дом должен быть одноэтажным, как в Среднем. Это несомненно.
— Я знаю, у вас дома ставят один на другой — много-много.
Долго приходится объяснять, что такое водопровод и канализация. Увидев речные пароходы, колымчане верят этому, но все им удивительно: как это вода сама идет на верхушку горы из нескольких домов! Ну, а уборные на пятом этаже — это совсем смешно, а может быть, и просто сказки:
— Что ж, вы люди ученые, у вас все может быть...
В Нижнем — двадцать домов, а в Верхнем, в Крепости,— только шесть.
Ни тут, ни там нет ни одной, хотя бы маленькой, мастерской. Зато в Среднем есть баня — первая на всей реке. Она в первый раз появилась в контрольных цифрах РИКа за Д933 год. В бане воду греют в железных бочках из-под керосина. Мыться могут сразу четыре человека. Воду возят с реки в деревянном большом ушате, поставленном на нарту. В нарту запряжен бык. Весной он ревет, бьет землю копытом, дерется с другими быками и исполняет свби бычьи обязанности. Проходит пора, и он покорно тащит по песку нарту. В носу у быка кольцо для повода.. Повод тянет мальчишка. За ним медленно ступает бык. Нарта скрипит по песку — здесь нет летних дорог, и колесо неведомо Колыме.
Баня — для мужчин. Женские дни назначаются горисполкомом особыми объявлениями,
49
которые вывешиваются на заборе. Кнопок нет, клея тоже. На забор просто плюют и прихлопывают бумажку. В мороз не отдерешь, держит лучше клея.
Во многих юртах вместо стекол льдины. Ледяные окна вырезают с осени из молодого льда. Они держат тепло и пропускают свет. По утрам хозяйка соскребает иней ножом. Сквозь крошечные окна зимой пробивается желтый свет керосиновых пятилинеек или масляных каганков. Если нет ни керосина, ни масла — сидят при свете камелька или открытой железной печи. За окном темно, только полыхает юкагируста—сполохи. Тишина. Смолистый дух идет от горящей лиственницы. Тепло.
Зимним вечером скучно. Стукнет дверь — ее не закрывают даже уходя из дома: украсть нечего, и об этом не слышно совсем. Войдет женщина или мальчик.
— Ты что?
— Я сам.
Это не гость, а просто пришел побыть с другими людьми, не сидеть у себя в темноте. Если хозяин хочет, он может позвать пить чай. Тогда пришедший становится гостем. Если нет, просто постоит у дверей и уйдет. Побыл с людьми — хорошо.
От города до города без малого пятьсот километров. Не всякий колымчанин бывал в другом городе. Редко кто был в Якутске: до него две с половиной тысячи километров. Зимой нужно ехать больше месяца, на отдельной нарте везти продукты. Летом —два, а то и три месяца верхом по болотистой тайге.
По именам знают тех, кто был на «матери
50
ке». Туда е^ать три-четыре месяца, а может, придется еще и зимовать во. льдах. В Амбарчике на морских судах требовали от пассажиров, едущих во Владивосток, сдать при посадке годовой запас продовольствия — на случай зимовки во льдах.
— Я все думала: как приезжие к нам попадают? — говорит якутка.— У вас на «материке» своя земля — ну, как блюдечко, и свое небо кругом. А у нас здесь своя земля и свое небо. Как же вы между своей и нашей землей едете? Теперь я знаю: земля круглая как шар — можно проехать по воде на пароходе...
День ото дня застывает осень.
От промерзшего берега со слепыми домами, потонувшими в мутной темени, отчаливает буксир. Светятся круглые иллюминаторы. Белые пятна палубных построек горят над темной водой.
Река шумит шугой. Морозит. Пароход отчаливает. Повернулись огни и побежали книзу. Берег уснул.
ПОБЕГИ НОВОГО
В XVIII веке здесь прожили по многу лет опальные министры неудавшейся императрицы Анны — канцлер граф Головкин и барон Менгден.
В Среднем начал сходить с ума декабрист Бобрищев-Пушкин.
Позднее цари ссылали туда людей десятками и сотнями. Одни медленно гибли, другие писали книги о чукчах и юкагирах.
51
Приезжали экспедиции: ученые — Академии наук и жуликоватые — какого-то французского маркиза, журналиста и биржевика. Его папаша основал дутое общество и выпустил акции, чтобы прорыть тоннель под Беринговым проливом.
Полярными морями проходили Таймыр и Вайгач, зимовали Амундсен и Свердруп. Бродили по Колыме гидротехники и геологи.
Все скользило по застывшему быту. Колымские города не вылезали из семнадцатого века.
Память прошлого — овальный штамп на книгах, раскиданных по всей Колыме: «Библиотека Калинкина и Суворова». Народники и марксисты получали книги: выросла библиотека. Еле уломали двух торговцев взять разрешение на свое имя. Но уехали ссыльные. Книги растаскивали, оклеивали ими стены. Когда пришла Советская власть, остались два шкафа.
Здесь читают, как во времена Вальтера Скотта, не спеша, от первой строки до последней. Книги выдает Маруся, комсомолка. Недоверчиво смотрят веселые якутские глаза. Она не понимает, как можно за вечер «прочитать» двухмесячную пачку газет.
Старожилка Колымска рассказывала мне:
— Когда к нам привезли кино, я говорю маме: пойдем посмотрим. Она говорит: а ну их к черту. Но я пошла.
Как увидела: люди выходят, на тебя выезжают пушки — испугалась. Говорю: ой, бежать! А секретарь партийный говорит: что же вы пугаетесь, ничего не будет.
52
Потом 'подошли, щупаем, удивляемся: ничего нет — одно полотно. Уж потом увидели, что это ленты и через них свет пропускают.
Это было в двадцать седьмом году. Теперь кино освоено. Раз в пятидневку белеет лоскут с надписью: «Сегодня новое кино».
К недостроенной деревянной церкви, где теперь клуб, задолго до начала тянутся люди. Гуляют в гулком фойе, бывшем притворе.
Неслышно ступают меховые торбаза и са-ры из конской кожи, стучат сапоги и пара песочных дамских бог. Теснятся пальто, суконные куртки, коричневые оленьи дохи. Мелькнула шинель и буденновка. Средь финских ушанок пестрые тарбаганьи бергехе — шапки. Здесь любят сверкающие белые шапки из песцовых лапок, с пришитыми зелеными, фиолетовыми и малиновыми лентами. Висят длинные уши пушистых чебаков. У всех — рукавицы на шнурках, как в больших городах носят дети. Ходят приезжие женщины — крупные и белые среди маленьких черных якуток и колымчанок. Те кутаются в яркие шали, курят папиросы. Отливают синие волосы, горяча смуглая кожа — якутские Кармен.
В клубе идут спектакли, собрания. После — танцы. Уже нет старинного якутского «йоха-ря», когда, став в кружок и обняв за плечи соседей, плясуны прыгают все вместе — то вправо, то влево и хором отрывисто выкрикивают припев. Танцуют «Иркутянку», завезенную из Сибири. В кругу зрителей танцоры по очереди отбивают фигуры под быстрый плясовой мотив.
Играют самодеятельные труппы, русская
53
и якутская. Ставят пьесы, написанные якутскими драматургами. Героический сюжет, борьба с белым отрядом в тайге. Все понятно.
В этом же клубе — лекции, торжественные собрания. Зал полон молодыми якутскими и колымскими лицами. Жадные глаза впились в докладчика. Слушают, откуда возникают различные религиозные праздники.
Лекцию переводят на якутский язык. Бурно аплодируют якуты и лекции, и лектору, а может быть, еще больше тому, что они сидят здесь и могут аплодировать.
Костлявый поп, вызванивающий в старой церкви на другом конце Колымска, многих не досчитается ни сегодня ни завтра.
ЗИМНЯЯ ДОРОГА
Время здесь меряют месяцами, а дорогу — тысячами километров — «колыметров». Бескрайняя тундра, плешивые сопки, таежные топи, дикие гольцы прорезаны Колымой. Извилистой дорогой бежит она от полярного океана к югу. По ней можно плавать три месяца в году. А замерзнет река — и долгую зиму ползай, как тысячу лет назад, на собаках, лошадях, оленях.
Ощупью налаживали первую навигации! В темной тайге у ночного лесистого Корко-дона рубили лес: строили баржи, в замерзших затонах, в пурге полярного порта чинили пароходы.
В промерзшей юрте сидели в ватниках инженеры и капитаны. В долгую мертвую ночь
54
тонкими голосами перекликались по эфиру с Амбарчиком, Лабуей, Столбовой, Верхне-Колымском, Среднеканском, Индигирской экспедицией.
Написали заявки на материалы и оборудование. В списках больше тысячи названий: всего не передать по радио. А как быть? В Москве заявки должны быть в декабре. Целый вечер спорили, что скорее: послать ведомости на лошадях, на собаках или на лыжах? Аэроплана не было.
Толстые списки взялся доставить Ворсин, гидротехник и спортсмен. Он сказал, что пойдет на лыжах в далекий Якутск, чтобы там передать списки на самолет.
Ворсин вышел с двадцатью килограммами продуктов за спиной: торбаза, рукавицы и толстый свитер, пара лыж. Вышел один, чтобы пройти в темноте и мороз две с половиной тысячи километров пустыни.
Он шел чуть видным якутским трактом. От юрты до юрты 80 километров. Весь белый, в закуржавевшем свитере, он входил, хлопая дверью, в кислую юрту. Хозяева дивились, откуда к ним ввалился русский, весь в инее, по-здешнему плохо одетый и к тому же один? А может быть, это нехороший человек?
— Где же твои лошади?
Ворсин говорил, что никаких лошадей нет: он идет на быстрых русских лыжах. Должен скорее почты свезти в Якутск важные бумаги.
Хозяева поили его, кормили, заботливо укладывали спать, а наутро уговаривали:
— Мы тебе лошадь дадим, пожалуйста, не ходи один.
55
Если юрт не было, он ночевал, разведя в лесу костер. У Ворсина не было кукуля, и он боялся ложиться, чтобы не замерзнуть от усталости. Грелся, стоя на лыжах, дремал, опираясь на палки над костром.
Сделал весь путь. Один. Две тысячи пятьсот километров.
Когда он пришел в Якутск, там заседала комиссия. Она готовила лыжный пробег Якутск—Средне-Колымск. Комиссия спорила: сколько человек должно быть в команде, где устроить и чем снабдить базы, чтобы успешно прошел небывалый пробег.
ИНДИГИРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Мы почти бежим к радиоюрте. Срочно вызвал дежурный. Наконец-то откликнулся Микулев!
Ярко освещены окна механической мастерской. Слышно пение сварочных аппаратов и гул станков: идет зимний ремонт пароходных двигателей.
В радиоюрте тишина. Чуть слышно попискивают передатчики, мигают разноцветные лампочки.
Инженер Микулев —начальник Индигир-ской экспедиции. Месяц назад отправился с двадцатью добровольцами спасать баржи, потерянные в августовском шторме Лено-Ко-, лымской экспедицией. Баржи вмерзли в мор-" ской лед где-то за устьем Индигирки, между Хромской и Гусиной губой.
Полярной ночью из Лабуц экспедиция
50
двинулась на нартах, запряженных оленями. Ее снабдили походной рацией: на нартах прикреплен передатчик с движком. На другой нарте — горючее, на третьей — радист.
Ушли нарты в темень скованной Колымы. Им прощально светили дуговые фонари на прибрежной скале. Через два часа огни ушли за горизонт.
В ночной тишине только слышится скрип нарт по снегу, да мягко ступают широкие копыта оленей. Над головой переливается голубая парча северного сияния.
До баржей, как летит птица — больше шестисот километров, а на деле все восемьсот или тысяча. Ехать надо по руслам замерзших рек и речек, если только на них нет предательских наледей. В начале пути еще видны следы нарт — «дорога» от юрты к юрте. А дальше, за Алазеей, — тундра. Дорогу надо торить. Больше двадцати километров в день не сделаешь.
Так шла экспедиция Микулева, настойчиво пробиваясь в снегах, пересиживая метели в палатках, двигаясь к берегу полярного моря. Вот миновали Алазею, прошли Индигирку и полуостров Лопатку. Ориентиром была карта, составленная Миловзоровым. Временами шли по компасу.
Наконец баржи были найдены.
Звучали точки и тире радиоприемника. Карандаш радиста в черных наушниках выводил на бумаге букву за буквой. Жора досадливо морщился, когда слышимость падала. Мы стояли за его плечами, жадно впитывая каждое слово.
57
Лаконичными фразами говорил Микулев, сидя в темном трюме, отрезанный от нашего замерзшего затона сотнями километров беспросветной тьмы и жестокого мороза. Он был скуп на детали.
Разбившись на группы по числу барж, водники были примерно в пяти километрах от берега. Они жили в низких трюмах барж при свете «летучей мыши». Согревались железными времянками.
В это время радиоволны, ударившись в слой Хевисайда, почему-то не попали в наш приемник и исчезли. Десять минут мы сидели у дымившей железной печки, покуривая махорку из новых трубок мамонтовой кости. Потом опять запели точки и тире.
— Работа идет, без выходных. Баржи надо разгрузить, отремонтировать, выморозить. Затем груз погрузить обратно на баржи и ждать весны. Она наполнит водой ледяные чаши под баржами. Баржи всплывут. Когда разломает и унесет лед, к баржам смогут подойти пароходы.
— Особых трудностей нет, нужно только следить за ребятами. Полярная ночь, жизнь вповалку в темных трюмах барж, скупой свет «летучей мыши», а главное, отсутствие солнца. Это действует на психику. Я поддерживаю ребят шуткой, рассказом, работой, сотней граммов. Слушаем Якутск. Шашечный турнир проводил. В общем, живем и выполняем план.
Микулев был когда-то малограмотным парнишкой, с трудом кончил рабфак и потом институт. Ему не было и тридцати лет. У нега
58
еще топорщились на голове мальчишеские вихры. Окончив МНИТ, он вызвался добровольцем ехать на освоение Колымы и показал себя еще в первые месяцы уменьем вести за собой народ. Для труднейшей работы по спасению барж он оказался самым подходящим руководителем.
...Шла зима. Из-за горизонта выглянуло багровое солнце. Оно поднималось все выше, становилось малиновым. Еще несколько дней— и солнце уже оранжевое, потом лимонное и, наконец, белое. Весь день воздух над снегами напоен сверкающим светом, хотя еще март. Якуты, колымчане и приезжие надевают темные очки. Их опухшие лица, зеленова-го-желтые после полярной ночи, отходят и становятся белыми. Потом на них ложится здоровый загар. Успокаиваются нервы, фальшиво игравшие в полярную ночь.
Вечерние закаты становятся мирными, отсвечивают желто-зелеными и розовыми бликами на нежном снегу.
Так, конечно, было и на далеком побережье полярного моря, где одинокими кучками несколько месяцев сидели наши ребята, спасая баржи, которые нужны для навигации! Это сознание поддерживало людей, особенно в последние месяцы, когда на баржах, стоящих на якоре, приходилось ждать таяния и подвижки льдов и прихода морского буксира. Не было никакой работы, томительно тянулось время.
— Все грузы удалось спасти. Только сахар и соль подмокли. Работают 14 человек, часть болеет цингой. Спасены три баржи,—
59
так радировала Индигирка каждую неделю. Теперь это казалось уже нормальным.
Солнце с каждым днем грело сильнее. Сходила обморозка с домов. Тронулась в рост лиственница. Ее ветки ставили в воду. От нее пошел нежный весенний запах. Но на Индигирке ее не было...
Лето. В августе за баржами пришел сильный морской катер и увел их в Амбарчик.
Выполнив задание, Микулев скромно стал опять на обычную работу инженера-эксплуатационника. Теперь уже никто не напоминал ему, как однажды он бежал в темноте, в сильный мороз без меховой шапки. Шапку отобрала, встретив около Анкудинки, деваха, подарившая когда-то ему эту шапку. Только что приехав на Колыму, он увлекся черноволосой и смуглой якутской девушкой. Резной гребень мамонтовой кости в ее черно-синих волосах тогда поразил его в самое сердце. Потом он женился на молоденькой приезжей комсомолке. Это вызвало бурный гнев девушки и неожиданную потерю шапки...
Теперь это был всеми уважаемый, солидный товарищ Микулев.
ПИЩА
Колымчанин запасает летом сено для мохнатой коровенки. Он косит его, прихотливо петляя между кустами. Мечет сено в маленькие стога и не торопясь вывозит его к юрте. Коровенка дает в день две кружки густого и жирного молока. Женщины делают из него
60
хаяк (род масла) или керчик— мороженые взбитые сливки. Их едят с голубичным вареньем. Масло отправляют в рот большими кусками, запивая коричневым чаем, который долго варят над камельком в чугунке или чайнике. Чай пьют по десятку стаканов вприсест. Это любимое занятие колымчан и якутов.
— Как я могу по гудку ходить на работу? А может быть, я пью чай? — говорил, искренне недоумевая, мой собеседник.
На мясо якут выращивает низкорослых, коротконогих белых лошадей. Вольно развевая гривами, они зимой копытят мерзлую траву. Весной хозяин идет в тайгу «имати коней». Кони одичали за зиму и стараются не попасться на маут — кожаный аркан.
Мясо дает и домашний олень и дикий лось. Чтобы добыть лося, его гоняют по весеннему насту, пока, проваливаясь сквозь корку, он не изрежет острыми краями ноги и, обессилев, не подпустит свирепых и голодных собак. Повиснув на нем, они ждут выстрела охотника. Лось бьет собаку ногами, а она висит у него на морде как тряпка. Но хорошая собака ни за что не отпустит добычу.
— Хозяин должен скорей бить из ружья, не то собака пропадет,— говорит бывалый охотник.
Мясо дает и птица. Зимой —белые куропатки, похожие на снежные комья. Их трудно отличить от снега, когда они сидят на ветках. Наевшись мерзлых ягод и почек, куропатки зарываются в снег и спят.
Летом на низовых озерах несчетные гуси, лебеди, утки кормятся с подрастающими
61
выводками птенцов, не боясь редкого охотника.
Весной и осенью кормит перелетная птица. Уток, гусей и лебедей бьют из винчестеров и дробовиков влет. Во время весеннего перелета половина города уходит «весновать». В это время колымчане почти не спят.
Мясо едят на Колыме полусырым, особенно в улусах. Едва оттаявшие большие -куски варят в котле, подвешенном на крюках над камельком. Проварив снаружи на один-два пальца, мясо едят горячим, кровяным, сочащимся красными каплями. «Так здоровее».
Летом ловят рыбу: нежную нельму, чира и муксуна, изредка осетра. Ловят сетями на заимках,, куда выезжают на лето. Улов сваливают в глубокие ямы, похожие на коричневые ледяные ящики. Наполнив такой «погреб» в вечной мерзлоте, закрывают ветками и засыпают землей. Щук, налимов и другую рыбу скармливают собакам.
Когда кормят собак, они грызут нарубленные ледяные куски. Потом забираются в снег около изгороди, иногда из трухлявых мамонтовых клыков. Собак привязывают на ночь цепями. От такой жизни собаки воют по ночам, то взбираясь хором кверху, то замирая на унылых низких нотах.
Летом собак хозяева не кормят. Отощавшие псы рыскают по городу. Из-за этого в Среднем нет ни одной кошки и курицы. Их рвут собаки.
Люди варят рыбу или едят строганину. Замороженную нельму или чира хозяйка упирает одним концом в лавку, а другим себе в
62
Живот и строгает большим ножом (быгак), взяв его двумя руками. Она срезает у рыбины тонкие, круглые стружки и кла'дет их на блюдо. Куски мерзлой рыбы берут руками и запивают чаем.
— Учугей (хорошо), — довольно говорит хозяин.
У строганины вкус свежей черной икры.
Овощи и фрукты якуты и колымчане знали только сушеные. Щи пренебрежительно называли «суп из травы», о картофеле не имели понятия. Они собирали бруснику, голубику, малину.
Черного хлеба не ели, а пекли из белой муки «печенье».
Когда мы приехали на Колыму, товаров и продуктов в продаже не было. Купить можно было только в обмен на что-нибудь. За большой круг мороженого молока столько-то муки или махорки, или сахару. Можно было выменять и целый мешок, набитый кругами белого замерзшего молока. В обмен можно достать и рыбу.
В дорогу мы брали мешками мороженые пельмени и мороженый хлеб. Его рубили топором и оттаивали у раскаленной железной печки. Оттаявший хлеб нежен и душист, как будто только что из печки.
Охотясь, якут привязывает в тайге продукты и охотничьи припасы на дереве, на высоту двух-трех метров. Сам уходит за сотню километров на лыжах. Вернувшись, находит все в целости. Чужого запаса никто не тронет, зная, что для охотника это означает смерть. Если кто-нибудь возьмет чужой запас, якуты
63
объявляют его «худым человеком». Такому охотнику нужно скорее уходить за тысячи километров, туда, где его никто не знает. На прежнем месте не прожить: ему никто не поможет, с ним никто не будет знаться. А это также грозит смертью.
В Лабуе и Среднем были открыты столовые. Там кормили хорошими щами или ухой, жареной рыбой, дичью и олениной. Колымчанин медленно привыкал к столовой. Он предпочитал свой тысячелетний способ питания. Но один за другим отдельные рабочие из местных жителей начали питаться в затонской столовой, а паек отвозили семье в улус. Так одного за другим приучали мы якутов к нашей пище. Привыкнув, он щелкал языком и говорил: учугей.
РАДИО - КЭПСЭ
По первому снегу легкие нарты прочеркнули дороги от юрты к юрте. Покачиваясь в древнем седле, ехал часами якут на белой мохнатой лошади с былинной гривой и хвостом.
Навстречу другой. Платком повязана голова. Стали лошади.
— Дорово, кэпсэ!
— Кэпсэ учугей...
Кэпсэ — значит «новости».
Новости хорошие: в город привезли керосин и свечи; Петр Дьячков наловил много рыбы; говорят, Дальстрой будет лечить собак ог чумы; кроме того, говорят, что у них один человек умеет делать настоящие зубы!
64
У встречного якута тоже новости: ждут хорошей белки; в Юрин-Келе открывается школа; старый Петр Дьячков, по прозвищу Кабдяга (куропатка), умер.
Постояв, встречные разъезжаются. Через день каждый из них кого-нибудь встретит и опять пойдет:
— Кэпсэ?
— Кэпсэ учугей. В город привезли керосин. Петр Дьячков — Кабдяга — умер. Дальстрой будет лечить собак и делать зубы...
По снежным и ледяным дорогам, на нартах и ветках, зимой и летом то тут, то там раздается:
— Кэпсэ?
— Кэпсэ бар (есть новости).
И новости едут навстречу и вперерез одна другой, ползут из Якутска в Оймякон, оттуда— в Амбарчик, из Амбарчика — в Верхоянск, в Средний.
— Кэпсэ... кэпсэ... кэпсэ... — живой сеткой наброшено на тайгу, точно телефонные «алло... алло...».
«Торбазное» радио работает по-своему — точно и быстро. Оно одних веков с нартами, ветками, собаками и черканами. .
Но древнее, заслуженное кэпсэ не приспособить для пароходства. По «торбазному» рацио нельзя давать приказы и получать сводки, нельзя посылать отчеты и требовать материалы, говорить с зимующими и плавающими пароходами и держать связь с Магаданом, Якутском и Москвой.
Почта — редкость. Брезентовые почтовые тюки тащатся зимой на узких нартах две и
3 Кирилл Коптев
65
три тысячи километров. Летом их и вовсе нет. Письмо из Москвы может прийти на четвертый месяц, а может ползти и полтора года, ожидая лошадей. Единственный зимний почтовый тракт — на Якутск.
Якуты жили своими кэпсэ, а мы сидели, как в тюрьме или в пустыне, отрезанные от всего мира.
И вот молодые радисты начали штурм полярных высот. Их было десять человек.
Мощная рация, которую везли в Лабую, потонула во время шторма. Ретивый курносый начальник написал красными чернилами: «Радистов отправить на лесозаготовки».
И подписался решительной завитушкой.
— Испугался я его красных чернил,!’ Он думает, мы будем лес рубить... Сыпем, Колька, в райком. Нет передатчиков — сами сделаем!
Радисты сражались целую пятидневку. Они доказали наконец, что до весны будут работать пароходные рации: все что нужно—они сделают сами; лампы есть, а мотор для большой рации можно взять с катера. К лету обучат радистов для пароходов.
Приказ отменили. Радисты засели в своей юрте в Лабуе.
Это была замечательная юрта. На восьми метрах теснилась рация с двумя передатчиками и движком, мастерская, склад, «отдел связи» и даже сам «начальник отдела». Впрочем, «сотрудники отдела» без всякого доклада кричали ему:
— Эй, Валя, смотри: бык опять отвязался! Тяни его сюда...
66
— А ты бы, Жора, к вечеру исправил второй аккумулятор. Колька будет занят по графику. Петьке скажите: вступить в ноль-ноль часов.
Работали бригадой. Подбирали и монтировали какие-то проволочки, что-то резали и паяли, требовали от затонских мастерских, чтобы их миниатюрные заказы выполнялись вне очереди, строили шкафы и чемоданы, обматывали катушки тонкой медной проволокой. Тут же спали. И добились своего.
Заработала Лабуянская рация. Трещал движок, мигали на смоляных стенах розовые и фиолетовые лампочки, точно по графику держали связь с Магаданом и Якутском. Ла-буя заговорила с Амбарчиком, Столбовой, Среднеканом. Пучки радиоволн облетали Колыму, тянулись к полюсу. Потоком пошли запросы, ответы, сводки, приказы.
Вперемежку с ними восемнадцатилетний Жорка солидно выстукивал ключом в Москву или Киев: «Обнимаю мою стройную палочку. Папа», «Ты мой единственный маяк. К тебе летят моих желаний волны. Анатолий».
Или, нацепив наушники, принимал: «Папочка, потеряла в школе чужой циркуль. Положение безвыходное. Пришли сто рублей. Целую».
Мастерили новые передатчики, чтобы поставить летом на пароходы.
Здесь же родились две радиолетучки — для Баржестроя и для Индигирской экспедиции. На нарте уместилась вся станция: пара чемоданов, движок и аккумулятор. Ступая за оленями, шел радист.
3* F7
Через двадцать дней к нам вошел дежурный радист:
— Вас зовет к «прямому проводу» Инди-гирская экспедиция.
В морозной темноте, когда дыхание шумит, вылетая изо рта — якуты зовут его «шорохом звезд», — идем в радиоюрту.
Нахохлился над бумагой паренек в черных наушниках. Побежали буквы: «Говорит Индигирка. Привет. Баржи найдены открытом море замерзшими лед пяти километрах берега. Установили рацию. Состояние барж двтч...»
Через час тот же Петька связал нас с Баржестроем, где в халупе сидел у детекторного аппаратчика Жора и принимал наши запросы.
В один вечер переговорили со всеми точками, раскиданными на два месяца пути.
Радисты честолюбивы: им мало официально утвержденного графика.
Даже маленькие рации обязательно добиваются утвержденных часов прямых переговоров с другими точками —с Якутском, Магаданом, Среднеканом и даже с пароходами, зимующими в Ледовитом океане. Сидя в таежном срубе из пахучего листвяка, радист с гордостью вешает на обмерзлую стену «график работы рации», из которого видно, что он говорит регулярно с восемью корреспондентами.
Разросся поселок — и вдохновенный радист мастерит радиоузел. Ловит Хабаровск, пристраивает чей-то патефон. В палатках и домах рабочих в обед и вечером раздается:
— Алло! Алло! Говорит‘радиоузел Колымского речного пароходства. Товарищи радиослушатели...
И товарищи радиослушатели, придя из лесу, слушают, что сказал Калинин Буллиту, как идут хлебозаготовки, и наслаждаются «Пиковой дамой». У потолка сушатся мокрые торбаза.
Рядом с приезжими матросами и масленщиками сидят двое якутов. Они смотрят в черную тарелку репродуктора и после каждой фразы невидимого диктора тянут:
— Э-э-э-э...— по-якутски это знак того, что гость внимательно слушает собеседника. Потом один из них не выдерживает и удивленно спрашивает:
— А долго учиться на радиста?
В полдень черный круг говорит:
—- Товарищи, получены телеграммы с «материка» на имя Петрова, Подымахина, Тиунова. Получите в помещении рации.
Когда на Баржестрой приехал доктор, радист подошел к нему с клочком бумаги и равнодушно сказал:
— Вам телеграмма, распишитесь.
Точно дело шло о совсем обычном —- будто в три палатки Баржестроя, на берег Колымы, каждый день приходили сотни надоевших ему телеграмм.
ГОРНЯК С ЛЕНЫ
Мы сидели у него «на квартире»» Квартира— это четвертая часть колымского бес-крышного дома с неровными, гребенчатыми
69
наружными углами и падающей дверью. Квартира отделена от хозяев ситцевой занавеской, не доходящей до потолка. За ней стоит деревянная кровать со стеганым одеялом из цветных лоскутков. На кровати гора подушек в ярких ситцевых наволочках. У оконца стол. На нем кипит и фыркает начищенный медный самовар.
— С Бодайбо с нами приехал. В минуту закипает, жалко было оставлять. Ну, моя старуха его и взяла с собой на баржу.
«Старуха» — жилистая, высокая и статная — добавила:
— А что ж, бросать его? Мы его купили, как поженились, а это еще до расстрела было, годов за пять. Кушайте чай-от, молоко топленое, шанежки — сама пекла. Варейье успела наварить, как сюда приехали, с осенних ягод. Вы им полейте керчик-от, нас хозяева научили, очень вкусно с чаем. Вот браги жаль нет, а к празднику будет, я уж поставила на солоделых сухарях.
Ее муж, старый ленский горняк и красный партизан, родом тоболяк. В 1906 году приехал в Бодайбо и проработал там почти тридцать лет. Ему пятьдесят четыре года, все зубы целы, седина чуть тронула бороду. У него квадратное лицо с крупным носом и губами. До последнего года работал в Бодайбо забойщиком. Прослышав о Колыме, завербовался и приехал сюда матросом на барже.
Когда мы напились чаю, он с гордостью показал свои справки: «Был уволен в апреле 1912 года за забастовку и сопротивление военным властям». «Назначена пенсия 120 руб
79
Лей за ранение во время Ленского расстрела». «Кузьма Аносов премируется коллективом готичных бедняцко-батрацких курсов за активное участие в борьбе с бандитизмом с 1922 по 1929 год. Лучший привет бойцу-строителю социалистического строя», — заканчивается справка о премии.
— Расскажите, как это было. Мы живого участника расстрела никогда не встречали.
Он охотно и не спеша рассказывает своим сибирским говором. Спокойны паузы между быстрыми фразами.
— Рабочие были отовсюду: и пермские, и вятские, из Тобольска до Красноярска. Держались мы как один что холостые, что семейные, которые в «номерах» по комнатам жили. Выбрали делегатов — самостоятельных, резких парней. Чтобы, значит, разговаривать с управлением, застаивать наши пункты.
Их арестовали. Лензолото сказало, что это Тульчинский (начальник округа). Поймали мы его — ехал в кошевке парой, — стали ругать, хватать, а может, кто и толкнул в бок. Он видит — дело плохо, как бы не убили. Снял шапку, встал в кошевке и говорит по-старинному— тогда божились:
— Ей-богу, — говорит, — семейством и детьми своими клянусь — это не я причинен Поеду в управление — всех велю выпустить.
Наши поверили, кричат:
— Пустите его!
Он вперед поехал, а мы к управлению за ним пошли. А на дороге Трещенков (был такой гад жандармский) солдат выстроил. Восемьдесят сажен не дошли до управления,
71
стали. Я, как был на военной службе, слышу: рожком сигнал боевой сыграли. Кричу:
— Ложись!
Кто успел, кто нет. А солдаты стреляли, покуда всю обойму не выпустили. Ну, а пуля, она сквозь человека идет, бывает — на тринадцатом застрянет. Мы были вместе, шли гуськом. Убили двести тридцать семь человек, а. потом много умерло ночью или утром. Всего побило четыреста или пятьсот человек. И меня пуля царапнула.
Ну, мы все-таки забастовки не кончили, хоть нас и уговаривали. Приехал императорского величества сенатор Манухин с ревизией, Лензолото проверять, расклеил афиши: «Братцы, становись на работу!»
Ну, мы, конечно, кричим:
— Ах так, твою мать, не станем!
Приезжали присяжные поверенные с Керенским, который в феврале 1917 года переворот делал, а от нашей власти удрал. Пронзительно, резко говорил. Даже плакал с балкона. Бабы тоже плакали, которые вдовами остались. Он говорил, надо стать на работу, иначе будут судить и ссылать в каторгу. Ему было не в понятие: за рабочее дело и пострадать надо. Лензолото тогда закрыло все лавки, чтобы взять нас голодом. Но мы отбили телеграмму в Иркутск, и начальство приказало лавки открыть. Продавать в день сколько-то хлеба и мяса, а по субботам сахар.
Я тогда на работу не встал, нас тысячи уехали. Много «спустя вернулся в Бодайбо, уже как кончил партизанить. Забойщиком работал.
72
— Ну, а как же теперь*?
— Думаю в Среднекан или на Зырянку податься. Я ж горняк, шахтер, мне на золоте, либо на угле работать. Вы не глядите, что седина пробивается. От меня еще будет польза нашему государству.
Он проводил нас, открыв падающую дверь. Мы пошли вдоль улицы, мимо ярко горевших окон домов и юрт. Электростанция выбрасывала в небо тучи золотых жуков.
Она разгоняла вековую тьму, раньше стоявшую над городом.
За ней загорятся на Колыме другие, пока золотая цепь электростанций не протянется от Амбарчика до Среднекана.
Она даст колымским горнякам, старым и молодым, энергию, без которой не одолеть ледяных недр золотого края.
НОВОСТРОЙКИ
На низкой, длинной нарте собаки везут нас в Лабую. Там зимуют в затоне пароходы.
Дорога бежит вдоль речки Лабуи. Налево «вымораживают» занесенные снегом, седые от инея пароходы и баржи. Лежа в черных ватниках матросы обкалывают по бокам корпуса лед. Все глубже идет выморозка, а снизу намерзает новая ледяная корка. Выходит ледяная чаша, в которой стоит на перемычках пароход. Тогда лезут вниз, чинят и красят корпус. Весной чашу зальет вешней водой и пароход всплывет.
73
У сварочной полыхает синим визгливый аппарат. От воя и молний шарахаются задумчивые олени, запряженные в нарту. Они привезли с парохода разобранную машину. Долго в помещении лежат части, пока не оттают: мерзлый металл хрупок, его нельзя ставить в работу. А на воздухе —50°!
Рядом с осевшей юртяной мастерской высится новый корпус. В залитых светом смолистых стенах, сложенных из отборных лиственниц,— трансмиссии, станки, моторы, инструменталка, нарядчики, слесари и механики. Всюду ватная прозодежда и кепки, маслянистые; с въевшейся металлической пылью руки, каких не сыщешь во всем Средне-Колым-ске. Летом они уйдут механиками, помощниками и масленщиками на пароходы. Сейчас ремонтируют суда.
Это первые на Колыме механические мастерские. Шутка ли: шесть станков! Своя кузница, литейная.
— Дорово! А я уже здесь! — смеется Митя, якутский мальчишка четырнадцати лет. Он удрал из школы и упросил взять его учеником в механическую мастерскую.
Сверкают черные пуговицы глаз под косоватыми, припухлыми веками. Нос вымазан черным.
— Ну, как он учится?
— Ничего, оголец смышленый, только баловник. И все песни поет, чудно: «Вот я уже в Лабуе, учусь на механика, станок вертится, бежит горячая стружка...»
— Вы же знаете: якут привык петь о том, что делает.
74
— Знать-то знают, не беда, что поет, да на месте не стоит, все бегает.
Митька блестит на диво крепкими, белыми зубами.
— А летом я на пароходе буду механиком...
Мастер строго хмурит седоватые брови над толстыми очками.
— Ну, до механика еще далеко, тут, малец, учиться надо. А пока тебе на собачьем потяге механиком быть...
Низко гудит пароходный гудок.
По тропинкам меж .сугробами расходятся на обед, как на большом заводе, рабочие в черных спецовках.
На обед полагается час. Гаснет свет в мастерских, на стройке и загорается в рабочем поселке.
Жить еще тесно. В первый год в спешке поставили большие юрты, разделив их тонкими жердями на комнаты.
Подальше «Нахаловка» — поселок, построенный семейными рабочими. Домики расселись в уютном распадке.
На другом конце затона уходят в темное небо высокие антенны радиостанции, чернеют транзитные склады; от них убегает к реке длинная эстакада.
По генеральному плану строительства Лабуи идет заготовка леса у Родчева и Не-. рен-Тахси. Растут груды бревен, больших, толстых и ровных. На них любовно смотрят те, кто живет еще в юртах. Будущие квартиры! Лесорама, первая в этих краях, визжит пилами и грохочет досками.
75
Третий новый центр на реке — Зырянка. В просторечии ее зовут База.
Той же весной 1933 года из туманного Магадана пошла к северу геологическая экспедиция. Она тряслась на грузовиках и шла пешком, мчалась и прыгала по бурным каменистым порогам Хеты, Малтана и Бохапчи, сплывала на кунгасах по горной Колыме до устья тихой Зырянки.
Высадились на пустынном берегу, поставили палатки. Отсюда разведчики пошли искать золото по лосиным речкам да медвежьим горам.
Когда снег и мороз оборвали работу в поле, обросшие поисковики и разведчики стянулись на Базу, стали устраиваться на зиму. Рабочие и техники, лаборанты и геологи, инженеры и астрономы рубили лес и ставили жилье. Зимовали уже в рубленых домах. Только окна вместо стекол пришлось затянуть бязью. Ко второй зиме настроили еще. поставили электростанцию, сделали набережную, уставили ее фонарями.
К весне 1935 года База светилась нарядными электрическими фонарями. Рядами желтели свеженькие дома. Все окна остеклены, почти нет бязи. В домах светлые комнаты, шкуры медведей на полу, блестящий полированный стол в кабинете, микроскоп, низкая электрическая лампа для занятий, образцы горных пород. На стенах охотничьи ружья и винчестеры. На окнах нежные матовые занавески. Летом окна затянуты марлей от комаров. Над постелями белеют легкие пологи из марли. Медью и никелем сверкают приборы.
76
Появился музей и радиоузел, не говоря уже о столовой, амбулатории, клубе, лаборатории, доме ИТР.
А кругом шершавые лиственницы и комариные тучи.
Здесь пройдет узкоколейка к угольным копям, встанут угольные склады.
Рядом Верхне-Колымск — Крепость. Когда попадешь туда после Базы, хочется скорее бежать. Душные низкие юрты, запах гнилой рыбы, засиженные иконы у потолка, облезлые собаки у низкого забора. В Крепости живут пять-шесть семей. Зимой — охота, летом — ловля рыбы себе и собакам. Доят низкорослую коровенку. На зиму ей завязывают тряпкой сморщенное волосатое вымя: иначе отморозит соски. Корова ходит пить на реку, сама пробивает ледяную корку на проруби. Ей не до молока.
Базе нужны олени: по снегу забрасывать разведчикам припасы на лето. Издалека прикочевывают к Базе якуты, эвены, юкагиры и говорят:
— Мы хотим быть у вас, исполнять ваши законы, жить по-вашему., А сколько нужно оленей — мы вам дадим.
Кверху от Зырянки Колыма бежит в горах.
Когда в сентябре 1933 года три парохода с баржами пытались в последний раз пройти до золотых приисков, на перекатах было 30—40 сантиметров воды. Пароходы повернули обратно.
Они стали на зимовку у Столбовой. На зеленом острове торчит голым конусом гора
Столб. Здесь растет строевой лес, круго.м дымчатые дали синих гор. Восторженные люди зовут Столбовую колымской Ялтой.
На острове жил юкагир Винокуров. Занимался своими юкагирскими делами: ловил рыбу, охотился и с гордостью сторожил астрономический знак, поставленный в 1928 году гидрографической экспедицией И. Ф. Молодых. На берегу, рядом с астропунктом, торчал жердяной конус, покрытый кожами и берестой,— ураса. Рядом копошились в грязном розовом ситце женщины.
Только одну зиму перезимовала здесь экспедиция, застрявшая по пути из Амбарчика в Нагаево со своими грузами: живыми песцами, мамонтовыми клыками и другими диковинками.
Экспедиция ждала весны, чтобы плыть дальше, к югу. Весной все уехали. К лету остался один радист.
Но, кроме того, остался целый городок с баней, электростанцией, рацией, амбулаторией, лесозаводом и прочим. Ровными рядами блестят среди зелени желтые новые дома, сараи, склады. Каждый дом в порядке, даже висит дощечка с номером. Тысячи кубометров дров заготовлено на зиму, отремонтированы пароходы и баржи и начата стройка юкагирского города.
Осенью сюда приехали новые жители и стали на зиму другие пароходы. Построили и оборудовали мастерскую. Столбовая стала центром верхнего участка реки.
Рядом со Столбовой — целый городок юкагиров: школа, медпункт, нацсовет.
"8
«Давайте его убьем: у него все лицо в шерсти», — говорит юкагирская сказка про первого русского.
Теперь над этой сказкой смеются.
Выше Столбовой среди скалистых гор вырос метеорологический и водомерный пункт — «Замковый перекат». Еще выше — Утиная и другие поселки. Но это уже приисковый район. В верховьях Колымы начинается страна золотых сокровищ.
Здесь золото родит поселки. Они одеваются сначала в полотно палаток, потом в фанеру пополам с бревнами, наконец, строятся хорошие дома и закладываются обогатительные фабрики.
Этот район — сердце Колымы. Сказочное богатство земли и стальное упорство строителей меняют с каждым месяцем его лицо. Здесь основа всех работ на юге и севере Колымского края —золото.
Прочная цепочка новых, ни на одной карте не показанных поселков, в два года протянулась по реке: Амбарчик, Лабуя, Зырянка, Столбовая, Среднекан. Быстро растут здесь мастерские, рации, электростанции, столовые, клубы и радиоузлы. Отсюда начинается свежая, советская жизнь поселков, многие из которых в недалеком будущем станут городами.
Доисторическими кажутся рядом с ними три старые Колымска.
Понятно, когда колымчанин говорит:
— Нет, что мне здесь сидеть? Поеду на Среднекан. — Есть старая якутская загадка: сивый бык волочит черный повод. Отгадка —
79
иголка с ниткой. Но якутенок Миша, когда ему задали эту загадку, захлопал руками:
— Я знаю! Это пароход идет по реке, а из трубы — дым.
СВЕТ ДАЕТ
В черном небе мерзнут большие звезды. На Колыме верят, что звезды родятся, живу! и умирают, как люди.
Ночь. Тишина.
Разливается по небу немой и белый пожар, играют холодные, светлые дуги. Точно кто-то колеблет серебряную и голубую, тканную звездами кисею. Это мертвый свет, бездушная игра неведомых волн из космоса.
«Юкагир-уста» — юкагирские огни...
В далекие времена, — говорит предание,— юкагирские юрты были рассыпаны по всей стране, как голубика в лесу. Пролетая, ворон закоптил дымом юкагирских стойбищ крылья и стал черным. Пришли с юга воинственные тунгусы, оттеснили юкагиров далеко на север. Потом надвинулись умные якуты. Они плохо помнят историю. Но играющие на небе огни сполохов, немое северное сияние они зовут юкагирскими огнями, отблесками далеких юкагирских стойбищ.
Зима. Солнце встает все ниже и ниже. В морозном молоке лимонный круг пожелтел, стал оранжевым и, будто остывая, все краснее и сумрачней поднимался на мрачневшем небе. С трудом взбиралось на застывший край земли зловещее, умирающее солнце. Потом его не стало. Только слабеющий багровый луч
80
еще светил в полдень, точно остывающий клинок. Но и он угас.
Наступила полярная ночь.
Птица и зверь забираются в снег и спят. Коротки полдневные сумерки, когда можно искать пищу.
Якут тоже спал, привезя из леса на медлительном быке нарту жердяных хворостин. У камелька древняя бабушка мяла сучковатыми пальцами ушканью шкурку.
Зачем свет? Разве только в праздник, когда приезжал хитрый батюшка и начинал петь молитвы, нужно было затеплить свечи перед иконами.
И якут выменивал у купца свечи: за темно-голубую беличью шкурку — тоненький восковой прутик. Купец отвозил пушистые шкурки в город. Там жили попы, чиновники и полиция. Они любили «балы». За пятью столами резались жирными картами в стуколку или стосс. Потом следовали спирт и строганина, медвежьи танцы. Здесь был нужен свет.
На столах тускнели медью тяжелые подсвечники, на стенах корячились фигуристые канделябры. Оплывали свечи. Если в иной год не было завоза, в городе лили толстые свечи из коровьего сала, вставляя вместо фитиля нитки, от распущенного чулка. На этот случай хозяйки хранили особые формы.
Потом появился чудесный, светлый керосин. Ссыльный с молодой бородкой сидел за столом и на драгоценный фунт керосина дописывал последнюю главу книги. Книгу издали в Америке. Автор стал потом профессором.
В большую ночь высокая луна кружит, не
81
сходя с ледяного неба. Томятся от темноты приезжие инженеры, рабочие, Техники.
Как фальшивые струны, играют нервы. Вянут и желтеют лица. Нужен свет.
Якутским бабушкам довольно камелька. Но в юртах вертятся черноглазые Маруси, Кесы, Мисы. Они бегают в школы, живут в просторных школьных интернатах. Им нужно учиться, готовить уроки. Нужен свет.
Темно в новой больнице. Трудно делать операции. Плохо видны раны и лекарства. Нужен свет.
Свет, сильный и надежный, нужен, чтобы строить дома и затоны. Нужна энергия, чтобы двигать станки.
Железной фалангой пошли на Колыму невиданные в этом краю локомобили.
На сумрачной реке родились электростанции: Амбарчик, Лабуя, Средне-Колымск, Зырянка, Столбовая, Сеймчан, Среднекан, золотые прииски. Навстречу тянулась другая линия станций: Нагаево, Магадан, Атка, Мякит, Стрелка. Линии сомкнулись.
Золотая цепь протянулась от Ледовитого океана до Охотского моря и огневым пунктиром обозначила длинный колымский путь.
Бабушка курила деревянную трубку, бормотала, терла и мяла снежную ушканью шкурку. Хозяин поехал в город и долго смотрел на толстый султан огненных искр над широкой трубой электростанции.
Зашел внутрь, потрогал локомобиль. Красные чугунные колеса мерно дрожали. Бежал ремень, непонятно пела толстая низкая машина, по тонким проводам посылая свет в юрты,
82
— Сырдык бирер, — шептал якут,— дает свет.
Пятеро били ямку. Поставили пятнистый столб, набросали льда, залили водой. Схватило морозными клещами основание. Проволока побежала и впилась в стену, рядом с крошечным окошком. Вспыхнул матовый конус ласкового белого света, затопил стол, книги, оленьи шкуры, портреты Амундсена и Ленина на свежеоклеенной стене.
Склонившись над картой Колымы, инженер чертил круги дешевой энергии вокруг трех силовых узлов края: пороги Колымы, пороги Индигирки, зырянский уголь. Круги легли вплотную, покрыв район будущего сверхмощного комбината.
За окном играли сполохи. Новый свет захлестнул немую и слабую игру северного сияния.
МЕДВЕЖЬЕ
На Колыме в году больше всего зимы — девять месяцев. А морозы сорок пять градусов. Нужно носить теплую и легкую одежду из звериных шкур.
На голове носят бергехе — шапку из песцовых и ушканьих шкурок или из пыжика — мягкой шкурки неродившегося олененка. Бергехе с длинными висячими ушами зовут чебаком. Обвязав вокруг шеи эти длинные уши, можно закрыть почти все лицо. На голову натягивается пришитый к кухлянке меховой колпак. Остается лишь узкий просвет для глаз. А нагни немного голову — этот про
83
свет сомкнется и все лицо будет укрыто от мороза.
На туловище надевают пыжиковую рубашку — кукашку или кухлянку. У кухлянки один мех внутрь, другой наружу. Если кухлянка вышита или инкрустирована мехом другого цвета, ее называют паркой. Затем полагаются чижи — меховые оленьи чулки, мехом наружу. Поверх чулок надевают торбаза. Они делаются из оленьих камусов — шкур, содранных с оленьих ног. Торбаза могут быть из конской шкуры или коровьей. Коровьи торбаза называются инах этербесь. У торбазов подошва мягкая, чтобы легче было ступать.
На руки обязательно щужны ютюлюк — рукавицы, внешние — из короткого оленьего меха — камусов, и внутренние — из ушканье-го, беличьего или песцового. Поверх всего иногда надевают ровдужную (замшевую) кам-лейку. Это плащ с рукавами.
Тогда человека не берет ‘ никакой мороз. Он легко двигается, бежит, наклоняется, работает. Легкая одежда сидит на нем как шкура на медведе. Но ступает он немного переваливаясь, как меховая кукла. В этой одежде легко бежать за нартами.
Но якут и колымчанин не любит двигаться зимой. Зимой лучше спать, пона на дворе темно. А за Полярным кругом в декабре совсем не рассветает. Поэтому посредине зимы спят почти круглые сутки.
Якут забирается в юрту, как медведь в берлогу. На лавке постлана тамляк (постель), на которой лежат сыттык (подушки). Иногда лезут прямо в меховой кукуль.
Так жил якут тысячелетия. И крепко чувствовал, что он похож на медведя, сродни ему. Это отпечаталось в его преданиях, сказках, песнях.
Якуты рассказывают, как женщина пошла в лес за ягодами и Заблудилась. Ее нашел медведь и взял себе в жены. Когда наступила зима, они забрались в берлогу. Женщина хотела есть и медведь дал ей сосать свой палец. Ког-ца ей пришло время родить, медведь вывел женщину на дорогу к дому, и там она родила сына.
Сын был во всем похож на человека, только уши у него были медвежьи. Он был сильнее всех людей и всегда побеждал их в драке.
Якутские олонхо (былины) и заговоры называют медведя грозным. Духи медведей помогают шаману.
Когда охотники идут на медведя, они говорят заклинание: «Пришли скупые ламуты, прикрыли щитом сердце. Пожалей нас, мы не такие. Мы поднимем твои золотые кости, устроим им надземное погребение».
Устраивая кулам (ловушки) для медведя, его уговаривают и при этом льстят ему:
— Ты замечательный, твои дети сделали для тебя дом, не бойся и зайди в него.
Это говорит один охотник; другой будто спорит с ним:
— Ему страшно зайти в это место, он начнет рыскать по другим местам.
Тогда первый говорит:
— Нет, он не побоится, может ли он бояться?
85
После того как охотники убили зверя, они привешивают его кости высоко к дереву и при этом говорят:
— Подняли твои золотые кости, устроили им надземное погребение. Не становись нашим врагом, не преследуй нас, не обижайся на нас, прости нас, дедушка.
У шкуры убитого медведя глаза зашивают красными тряпочками. Медвежий жир и желчь — народные лекарства.
Другой крупный зверь колымской тайги — лось. Его нужно брать также с заговором и обрядом. Когда лося загнали собаками и убили, перед ним разжигают костер, чтобы в будущем лось не принес вреда человеку. Обещают и впредь делать то же. В огонь бросают жир, вырезанный из убитого животного. Так одаривают лешего — тыа иччитэ—хозяина леса, его жену, старшего, среднего и младшего сына.
Без заговора нельзя убивать и рыси. Недаром рысий коготь приносит удачу охотнику.
Чувство родства человека со 'зверем теперь слабеет. Нарастает сознание родства человека с человеком. Ему теперь не нужны заклинания. Охотников снабжают заготовительные организации боеприпасами и продуктами. Они уходят за 200—400 километров от дома. Там оставляют запас патронов и продуктов и кружат вокруг этого места на 100 километров и больше.
Якут честен и требует того же от других. Теперь он дает обещание не теням убитых им зверей, а государству и свято соблюдает свое
86
слово, где бы это ни было: на охоте, в колхозе, в затоне, на пароходе. Все больше втягиваясь в нашу жизнь, он перестраивает и свою. Вылезает из первобытных медвежьих привычек и ве^ рований.
Так после полярной ночи и сумерек, когда в черном небе горят ледяные звезды, начинает по утрам багроветь восток. Свет становится малиновым, зеленым и желтым. Наконец поднимается солнце и начинает играть розовыми бликами и синими тенями на пушистых снегах. Подымаясь с каждым днем все выше, оно наполняет морозный воздух слепящим буйством солнечных лучей.
УЛАХАН-ЫЭРЫ
Ыэры — по-якутски болезнь.
На Колыме есть особенные болезни.
В дальнем улусе, куда нужно ехать месяцы, родные вдруг замечают, что у Иннокентия за ночь опухает лицо. И не просто опухает, синеет и становится будто чугунным.
Тогда поднимается плач. Больного снаряжают, как покойника, и везут в город, в больницу. Его запирают в отдельную юрту. К этой юрте жители не подходят. Если кто-нибудь случайно дотронется до дверной ручки — он поспешно сбросит и сожжет рукавицу. Этой болезни боятся, как ходячей смерти. Это ула-хан-ыэры — «великая болезнь», наследие далеких и темных веков — проказа.
Если врачи скажут: «лепра», — больного увозят в лепрозорий, в пяти километрах от
87
Средне-Колымска. Там стоит несколько юрт-амбулатория. Туда приезжает врач делать вливания и лечить больных. Он надевает резиновые сапоги и перчатки и окутывает лицо. Выйдя, обмывает сулемой даже подметки сапог. Лепра заразна. Надо беречься: тогда она не страшна.
Врач лепрозория — женщина. В городе у нее муж и чудесный мальчишка Юрик, двухлетний, розовый и пухлый, весь в ямочках, точно премированный малыш с цветного плаката.
Проказу редко излечивают. Онемевшего от радости больного выпускают — под плач и вой остающихся, — но каждые полгода он должен идти к врачу и, замирая, ожидать осмотра: нет ли опять признаков ужасной болезни.
Латинские названия проказы поэтичны: лепра тубероза и лепра анастетика. Но проказа страшна, как древнее, неотвратимое проклятие: обвисают щеки, лицо каменеет и делается звериным — это называется «львиная маска». Тело покрывается невиданными язвами и гниет годами, десятилетиями.
Якуты считают прокаженных переселившимися в другой мир. Им приносят молоко и мясо. Оставляют вдалеке.
Прокаженные ловят рыбу, рубят дрова, варят себе обед. У каждого подле юрты стоит загодя сколоченный гроб и намогильный крест. Проказа встречается редко. В лепрозории всего пятнадцать больных.
Привычные гости улуса — истерия и полярные психозы. Они захватывают иногда и приезжих.
88
Колымскую истерию рождал постоянный страх холода, голода, тьмы, смерти. Страх замерзнуть, если не будет дров; погибнуть от голода, если не уловится рыба, если нападет копытка на оленей или чума на собак.
Может быть, виновата зимняя тьма, летнее, не сходящее с неба солнце, мощные потоки электронов, которые, врываясь в верхнюю атмосферу полярных областей, вызывают рентгеновское излучение, а возможно — и полярные сияния? Может быть, нужны особые, ультрафиолетовые или кварцевые лампы зимой и какая-то защита от разгула ультрафиолетовых лучей летом? Но прежде всего нужно вырвать колымчанина, якута, эвена, чукчу из первобытного хозяйства. А это возможно лишь при индустриализации края, опирающейся на богатейшие его недра.
Уже выбита почва из-под цинги — третьей колымской болезни. Первый враг побежден. Очередь за другими ыэры.
ПАМЯТНИКИ
— Сегодня выходной день. Идем смотреть памятники старины. Собирайтесь!
— Какой старины? Какие памятники? Разве здесь есть?
Это сказал молодой техник, с которым вдвоем мы снимали «квартиру» у колымчанки Акулины Николаевны. Она считала себя «юсской».
Костино удивление было понятно. Какие могут быть памятники в городе, которого
8а
издали не отличишь от груды сизого плавника?
Но этому городу не меньше трехсот лет. Его история, как и всякая история, не могла не оставить вещественных памятников. Только они были здесь деревянными. Удивительно, что они сохранились.
Первый памятник — четырехугольная загородка со столбиками в двух углах. Она стояла, полуразвалившись, на берегу Колымы. Столбики кончились двойной шарообразной головкой с резным узором.
Около этой загородки якуты недавно справляли начало сенокоса (ысыах). Сенокосом ведали особые боги: их нужно было умилостивить, чтобы они послали больше сена. Возле этих столбиков собирались принарядившиеся якуты. Они пели и плясали, украсив столбики длинными пучками волос из лошадиных грив и хвостов. Кропили кумысом и опять пели.
Но древние якутские праздники и языческие обычаи умирают. Поэтому мы застали уже полураэвалившийся загончик с покосившимися столбиками.
Мы прошли в другой конец города. С трудом разыскали в беспорядочной куче городских домов и юрт другой памятник — деревянную башню, единственно уцелевшую от древнего колымского острога — крепости. Высота башни три аршина два с половиной вершка, стены по три аршина в длину. Острог и отряд стрельцов во главе с сотником охранял своими стенами и башнями в семнадцатом веке воеводу, дьяков, подьячих.
90
Такие остроги были во всех якутских городах. Они служили и складочным местом для привозимых казенных запасов.
Во время осады острог был приспособлен и для верхнего и для нижнего боя — совсем как большие каменные крепости тех времен. Для церковного обихода в остроге хранилось церковное вино, ладан, воск. Для корма ясачных людишек — мука овсяная, солод ржаной, солод ячный, крупа, толокно. Для подарков князькам — вино горячее, мед, сукно разных цветов, олово, одекуй (бисер).
Царская власть приводила якутских князьков к присяге на верность московским царям и их воеводам.
В остроге хранился и ясак—натуральная подать мехами с местных жителей. В Средне-Колымске брали с человека в год 8 соболей, не считая «поминок» воеводе и дьякам.
В остроге же, по нужде, сидели и аманаты — заложники местных князьков, обычно их дети.
Москва наказывала воеводам: «Ясачных от обид, продаж, насильства оберегать, ласку и привет к ним держать».
Но воеводы «забывали страх божий, не помнили государева крестнаго целования», «сами воровали и ворам потакали». «Ясачных людей грабили и печали и обиды им чинили». «Жен и дочерей к себе на постелю у ясачных тунгусов для блуднаго воровства имали».
Колымская башня стояла ветхая, коричневая от старости, среди домиков Среднего, как последнее напоминание о древнем насилии.
91
Тут же (Неподалеку был и третий памятник старины — деревянная церковь XVIII века. На фоне серо-голубых колымских домов она выделялась живописностью своих барочных линий и высоким шпилем.
В церкви шла служба. Внутри был такой же мороз, как и снаружи. Церковь была пуста. Поблескивало тусклое золото паникадил и подсвечников, едва светили одинокие свечечки. В церкви были две старухи. При взгляде на них вспомнились похороны, венчики на восковых лицах с провалившимся ртом, кутья. Рядом со старухами стояла молодая якутка.
Служили и пели три высоких, костлявых старика. Один из них был в парчовой одежде и фиолетовой бархатной камилавке. Все трое были хорошо закутаны в меха. Они пели глухими, дребезжащими басами, скачущими то вверх, то вниз, мало понятные древнеславянские слова молитв. Старухи крестились, с трудом двигая руками. Якутка с неподвижным лицом повторяла их движения.
Когда-то церковь топили, она была полна света восковых свечей. Впереди стояли местные власти, исправник, его помощник, полицейские, чиновники, купцы, за ними колымчане и якуты.
Теперь, при сорокаградусном морозе, весь укутанный, священник поет в пустой и темной церкви. Клубы пара вылетают при каждом дыхании и садятся густой куржавиной (инеем) на бороды.
На улице ярко горят окна домов и юрт, куда недавно провели электричество от новой
92
электростанции. Молодежь и ребятишки бегут в недостроенный собор, превращенный в клуб.
Сегодня новая картина и будет в первый раз играть оркестр!
БАРЖЕСТРОЙ
Барж нет. Все разметал свирепый полярный шторм. Где-то в замерзшем Ледовитом океане темнеют сквозь пургу мертвые силуэты уцелевших посудин.
— Надо строить самим!
— Строить? Леса нет. Листвяк не годится. Все биржевики заняты в Амбарчике. Чертежей нет, — бубнили два нача.
— Значит, пароходам не ходить? Груз будет лежать в Амбарчике?
— Мы бессильны что-нибудь сделать, — сохраняя достоинство, холодно заявили начальники.
Прокуренную юрту резал оранжевый луч умиравшего солнца.
После долгих споров с начальником затона, перебирая участок за участком, набираем сто пятнадцать человек. Их можно выделить на баржи, не срывая работ затона.
Местные домохозяйки уже прослышали, что больше ста человек пойдут в тайгу строить баржи.
— А как же мы? Кто воды с реки привезет и дров нарубит?
Мужчины молчат.
Вечером заседание.
W
— Ударники, премированные сегодня, должны пойти на Баржестрой первыми. Всем, кто едет в тайгу, дается пятидневный отпуск, чтобы нарубить дров семьям и устроить другие дела. Кто — за?
Густо вздымаются кверху руки.
На следующий день вновь назначенный начальник Баржестроя тычет в список первой партии.
— Нет, ты смотри: я записал вместо двадцати человек двадцать пять на случай, если будут больные или кто затеет бузу. И все пошли! Понимаешь, ни одного отказа! Видал?
Завхоз собрал домохозяек и третий час объясняет, почему он может выдавать только по пять метров мануфактуры.
— А что нам делать? Уж и так: придет мой-то с работы, а я с него рубашку долой — и стирать. А его, голого, под одеяло...
— Хорошо, которые сюда сундуки навезли! А другим так и ходить — титьки наголе?!
— Го-го-го!
— Товарищ, будьте сознательны, я же вам объясняю... Через пять дней к Троицкому и Береговому пошел длинный обоз оленьих и конских нарт с палатками, котлами, продуктами, пилами, топорами. За нартами шли масленщики и кочегары, штурвальные и матросы, капитаны и водоливы. Водники шли в тайгу своими руками строить себе «посуду».
...Над серыми, брезентовыми лепешками палаток— аметистовое небо. Под ним щетинится частокол торчащих лиственниц, точно натыканы растрепанные жидкие ламповые ерши.
94
Звенькают в морозном воздухе двойные морские склянки: шесть часов. Из палаток выходят, потягиваясь, крепкие, сбитые, с синими татуировками, мускулистые биржевики.
Лица, неловко кроенные и крепко сшитые, дубленные стужей сибирской, полярным холодом, а то и солнцем и пылью Балхаша. Горячие грузинские черты, выцветшие во втором издании у сына якутского ссыльного. Веселые украинские глаза. Болгарский твердый очерк лица. Финский льняной волос. Кого только нет на Баржестрое!
Плещутся, фыркают, уминают по кило хлеба, по миске густых добротных щей — и в лес.
Как живые мерные поршни, кланяются пильщики на продольных пилах. К высоким козлам замохнатевшие лошаденки подтаскивают тяжелые хлысты жирных листвяков. Пильщики выгоняют из них бревна, тес, детали барж. В смолистое тело лиственниц впиваются . веселые топоры, его гладят быстрые рубанки, пронзают с хрустом центровки. Громоздятся шпангоуты, кнехты, бимсы, кони, подтелины. Растут янтарные баржи.
Перебрасываясь шутками, обходит работы маленький Евликов — директор Баржестроя. Он откровенен:
— Технику этого дела плохо знаю, пусть смотрят и поправляют инженеры. Мое дело организовать и вести ребят.
И он ведет коллектив незаметно — приказом, советом, шуткой. Умеет подойти, поправить и понять каждого и всех сцементировать в одно так, что этого даже не замечают.
Парни — жесткие на работу, ребята вялые
95
и неразворотистые, скоропоспешники и лихачи, зануды и пузыри, любители «травить баланду» и серьезные, самостоятельные мужики— все мягко входят в бодрый ритм работы.
Поздняя весна. На солнце золотым^ кораблями блещут стройные баржи. Над осевшим снегом плывут громадные комары.
— Из трех уха выходит! — говорят остряки.
Комары садятся медленно и не спеша пытаются жалить. Это еще прошлогодние.
Мчатся птицы к северу: любить и гнездовать в просторах Колымы.
После ужина, при заходящем солнце, танцы на дощатой площадке. К свежим пням прибиты обрезки досок — скамейки.
— Наш «парк культуры»!
Неизменная «Иркутянка», а под конец — даже «Молитва Шамиля». Для пущей экзотики танцор остается в белых кальсонах и рубахе, повязав голову чалмой — полотенцем. Вокруг толпятся робы, пиджаки, ватники и гимнастерки; драные листвяком ватные штаны; штаны брезентовые; широкие, как сибирские реки, приискательские горняцкие шаровары, падающие до земли: в самый сильный дождь вода стечет книзу и не попадет в сапоги, ноги будут сухими. Рядом стоят бумажные галифе, заправленные в битые валенки или высокие болотные сапоги. Позы непринужденны, лица в многодневной щетине, туалеты отнюдь не закончены: здесь только одна женщина, и та у себя в амбулатории.
«Иркутянка» — танец-соревнование.
Суровые водоливы и лихие масленщики по очереди выделывают колена, одно другого чуд
9t
нее. Это после одиннадцати часов работы в лесу! Разгоревшийся танец переходит в пантомиму. От забористых финальных жестов и поз ребята грохочут. Шарахаются к тому берегу пролетающие по весенним делам утки.
Рядом на голом листвяке прибито объявление:
«Открыт прием телеграмм в Амбарчик, Лабую, Среднекан, Магадан и Якутск, на зимующие суда и на «материк».
Радист сидит в своей рации: нары с ку-кулем, оленухи на стенах и на полу, гитара и ружье на стене. Крошечный передатчик с игрушечным рубильником стоит на столе. Проволока уползает через оконце на воздух. Она тянется на голую вершину несрубленной лиственницы, кончаясь тремя фарфоровыми горошинами: антенна.
В обед пришла телеграмма из затона:
«Почему нет писем скучаю Оля».
Расцветает небритое лицо бригадира.
...Есть и «Лодкострой».
Нужно построить больше сотни лодок. Вызвали охотников: пусть каждый построит по-своему, а потом испытаем и посмотрим, какие лодки лучше для Колымы. И вот одна за другой родятся белые, с бусинками смолы, лодки — ленские, енисейские, украинки, ангарские. Конструкторы хают чужие лодки:
— А вот смотрите, лодка новая, конструкция «гробяная». Как на корму сел, ну и вали в царствие небесное!
Медлительный водолив Левшенко с хитрыми глазами сделал самую простую, быст
4 Кирилл Коптев
97
рую в работе и дешевую лодку. Теперь он печет их, точно желтые горячие пышки.
— А позвольте вас спросить, товарищ,— говорят, вы экономист, два института кончили, — что такое экономия? Я человек неученый, скажу вам от практики: по-моему, экономию должны все делать — и экономисты, и инженеры, и рабочие. А один без другого не сумеет. Нужно экономить на всем, даже на дереве, хоть его и много здесь. Дерева много, а тесу? На тес зарплата идет? Идет. Меньше тесу— экономия. Проще лодка — опять экономия. Я вот пять лодок сделаю, пока По-дымахйн с одной возится. На его лодку четыреста рублей зарплаты, на мою — восемьдесят. Я больше его в три раза зарабатываю. Для себя?.. Гм... Конечно, для себя. А если я здесь дешевле лодки делать буду, моя жин-ка на Украине ситец покупать будет тоже дешевле? Ведь так? Это и есть экономия.
солнце все выше взлетает на небо. Из малинового оно делается бледно-оранжевым, потом блистающе. белым. Серебряная миска плавает в молочном море весеннего неба.
Мороз кует по ночам снежную равнину. Днем она недвижно млеет под белым, раскаленным солнцем, отбрасывая назад его лучи. Воздух наполнен нестерпимым сверканием.
Опухшие, пожелтевшие от полярной ночи лица приезжих оживают. Уже в марте они покрываются
матово-медным загаром. Серые, зеленые и желтые очки на глазах: до боли блистает в мороз-
ном воздухе снег.
4*
99
Все настойчивей горячее солнце. Сдавшись, подается и рушится снеговая равнина. Дороги ложатся буро-зелеными, теплыми полосами. Проступает влажная земля.
В окна льется по ночам голубое молоко. Утром шуршит в тазу ледяная каша, пальцы немеют, в щели видны радостно покрасневшие снега.
«Белая кобыла ушла, саврасая прискакала. Что такое?» Весна (якутская загадка).
Белые стены домов пошли пятнами. Солнце слизывает снежную обморозку стен. Она лежит на домах легким серебряным кружевом.
Ледяные окна юрт тают. Хозяйки моют на лето пузырь, белый мешок от американской муки или стеклянную мозаичную раму. Здесь берегут и осколки стекла.
В домах оживают в воде нежные лиственницы. Они прикрываются зеленым пухом. Разливается сладостный и легкий аромат..
И вдруг—телеграмма: вызов в Нагаево. Ехать вверх по реке, потом горными перевалами и новой трассой.
Две тысячи километров.
Собаки стали лениво щуриться. Последние дни сидят они, привязанные цепями к забору.
Скоро рухнут дороги, собак спустят с цепей. Впереди блаженная жизнь, без работы и привязи, отбросы рыбы на заимках и пушистые птенцы дикой птицы меж жадных, голодных челюстей. И весеннее, радостное томление, драки, свадебные вольные стаи на мокрой земле, под безночным небом.
100
Парни ходят гурьбой и орут песни. Скоро зацветут на берегу малиновые шали девушек.
Женщины внезапно худеют. Сброшены ватные штаны, сняты толстые торбаза.
Извечное волшебство весны.
Оживает и шепчет ручьями, звенит тонкими флейтами земля.
По узкой Лабуе забираются кверху готовые к навигации пароходы, спасаясь от мощного колымского ледохода.
Огромная Колыма, быстрая и капризная в верховьях, внизу глубока и медленна, как безбрежный канал. Она вскрывается с юга, с верховьев. Сопки и хребет поят реку водой. Колыма вспухает, рвет зимнюю броню и мчит ее вниз. Но там все сковано: громоздятся огромные плотины. На них давят миллионы кубов верховой воды. Они топят берега, подмывают их, корчуют и валят в реку деревья. Ломается с грохотом плотина. Низовой лед трещит, его бьют и крошат белые обломки.
Шум, как от сотни поездов, стоит над рекой.
В Среднем река долго стояла. Потом пошли желтые и синие забереги, посерела белая, снежная равнина.
Когда пришел срок — вею ширь реки, словно ножом, прорезала темная полынья. Сдвинулись ледяные поля.
Сверху надвинулись ломаные льды. Они нагромоздили блистающие валы на перекате ниже города. Вода стала заливать Средний. Собаки носились по берегу. Бегали люди, втаскивая свою рухлядь на крыши.
101
Горы ползли с реки. Они рыли исполинскими, белыми плугами береговую гальку и становились стоймя. Прозрачным хребтом отгородилась река от города. Вода залила улицы.
Потом схлынула с улиц вода, оставив у порогов льдины. Во всю километровую ширь Колымы шли грохавшие глыбы, вперемежку с торчками деревьев, где-то вырванных половодьем.
Шум тысячи груженых поездов.
Ледяным кляпом забило горло Лабуи. Суда были отрезаны от бурой стремнины освобожденной Колымы.
Морские катера били стальными носами неподатливый лед. Бессильно ухали взрывы аммонала. Десятки бригад, как муравьи, рассыпались с пешнями по льду. Все тщетно. Флот был в плену.
...Сверху раздался гудок, первый в этом году. Из-за поворота вылетел сверкающий, белый с красным «ДС-1». Он весело бил плицами Колыму, заливчато прогудел затону .и завернул к береговым горам, широкой дугой перерезав стрежень. Ему ответили хором плененные Лабуей суда.
Ночью прибылая вода выбросила из Лабуи мерзлую пробку.
Лебединой стаей выплыли на реку колымские пароходы.
Над Колымой проносились, шалея от весны, стаи уток, летевших с юга. Грохали дробовики. На пристани пополз кверху белый с синим флаг.
Навигация.
102
К ЗОЛОТУ
Нельзя заниматься освоением дикой, полярной Колымы вообще. Нужна твердая основа. Такая основа — горные богатства края, золото.
Мы знали об этом, но это знание было отвлеченным. А перед глазами была дикая река. Ее нужно было покорить. Золото маячило где-то вдали, в дымке верховьев реки.
Мы жили <рекой и речным. На этом фоне изредка блистали только блики сказочного металла.
Среди «жителей» ходили смутные легенды и рассказы о золоте. Они давали будто горячий блеск скудному, пайковому житью, под вой собачьих хоров, хруст морозного воздуха и гниловатый запах строганины.
В этих легендах золото мешалось с ссыльными Российской империи, американцами и исправниками былых времен.
В низовьях Колымы несколько лет работал американец-орнитолог. Он жил по зимам в Нижнем. Его коллекции и чучела были только предлогом, хотя он даже писал о них в журналах. По заданиям американских банков ученый тайком искал золото. Каждый год ездил на Аляску. Потом уехал совсем.
В доме поселился ссыльный. Ссыльного расстрелял один из белых атаманов, бродивших по Колыме в конце гражданской войны. Последние осколки белых банд бежали все дальше в тайгу и тундру, на север, за Полярный круг. Отсюда — или на Аляску, или «в штаб Духонина».
103
В доме убитого ссыльного атаман нашел пузырек с золотым песком, спрятанный американским разведчиком в стене.
Атаман уехал в Средний. Там он пленил сердце исправничьей экономки и подарил ей пузырек. Этого атамана выбил из города другой атаман и захватил вместе с властью над городом исправничью экономку и заветный пузырек. С этим пузырьком новый атаман пробрался, уже под чужим именем, в Якутск и там, говорят, выманил деньги под этот пузырек на мнимую экспедицию. Дальше история пузырька туманна. Его владелец кончил тюрьмой.
Это одна из легенд о золоте. Такие рассказы обычно были пустоцветами. Но иногда в них была крупица правды, и по ним можно было добраться до настоящего золота. Экспедиции особого назначения проверяли легендарные намеки, наивные сказки колымчан и записки подозрительных проходимцев.
Легенды и сказки скрашивали зимние вечера.
Полыхал камелек, колымчане тешились блестками если не золота, то золотой фантастики.
Настоящее золото было в далеком Сред-некане и выше. Туда нужно было ехать, чтобы добраться до бухты Нагаева.
...Мы отплывали к золотому Среднекану.
В полноводной весенней Лабуе нагрузили сверх меры длинного «Леонгарда» с баржей «Яной». Развернувшись, «Леонгард» стукнул «Яну» о каменистый берег и пошел к городу.
104
Он пришел туда поздней ночью; хотя о-том, что это ночь, говорили только часы: первого июня в Среднем ночи нет.
В бессолнечном свете идет погрузка «Леонгарда». Он стоит у ледяной гряды, наваленной рекой во время ледохода. Капитан трусовато протестует:
— Мы и так перегружены. Больше нельзя, Иван Данилович... Никак нельзя!
— Что значит — нельзя? Если я говорю грузить— значит можно!
Опять ползут на пароход тюки. Липовый водник, нашивший на рукава широкие, золотые галуны, с победным и решительным видом стоит на мостике. Капитан молчит. Глубоко сидящие пароход и баржа садятся еще ниже.
Просятся пассажиры.
— Это вам не пассажирский пароход. Здесь кают нет.
Но кто едет матросом, кто — помощником водолива, а кто и просто «по блату» в каюте знакомого из членов команды.
Матросы ожили после зимы: водник дома только на пароходе. Тут у него все: и жена, и даже ребятишки.
Сколько ни запрещай возить с собой семью, речник не может от этого отвыкнуть. Он работает наметчиком или масленщиком, а жена варит ему обед или стирает на палубе белье. Рядом играют ребятишки.
Горожане толпятся на берегу. Они дают фон деловому, может не слишком толковому оживлению пристани.
- Тяжело отваливает пароход.
105
— Разрешите посвистать, Иван Данилович?
Приветственные гудки запрещены, чтобы не тратить пара.
— Посвисти, Ваня, посвисти...
Долгим, волжским свистом трижды заливается «Леонгард».
Идем.
Бурая, весенняя река. Пустые, еще по-зимнему скудные берега начинают отсвечивать зеленоватым пушком. Это лиственница одевается в летний хвойный наряд. Она пахнет нежно и влекуще.
Плицы бьют сильную, мутную воду. Шарахаются к берегу утки. Еще не кончился перелет. Поднимается медное, расплавленное солнце. Зеленее становятся берега.
Идем нехоженой протокой. Яристый берег. Гудок сотрясает листвяную глушь.
Иерен — Тикси.
Палят из дробовиков, бегут по берету лесорубы. Наконец-то пароход! Блестящий, живой, колеса бьют, режут мутную пену, нос вольно бежит по воде. Прошла долгая зима, когда ветер отгибал полы палаток и волосы примерзали к подушке.
У всех лесорубов ножи у пояса: так ходят и живут в тайге. Якутские, финки, медвежьи. Без ножа пропадешь. Он и для дров, и для еды, и мало ль еще для чего.
Мелькают клетчатые ковбойки, лиловые рубахи. Мягкие широкополые шляпы — на них лучше держится накомарник. Сапоги и конские сары на ногах. Небритые щеки, драные штаны. Все живет после пустынной зимы.
106
На берегу готовые к сплотке штабеля хлыстов. Их оплавят после половодья в Лабую.
Идем все выше и выше.
Навстречу сплывает лодка. У руля сидит в тарбаганьей шапке бронзовый человек с белыми усами — прораб лесозаготовок.
Мальчишкой убежал он из вятских лесов, поступил в Кронштадте в «Мореходку», плавал механиком, гонял плоты по Волге, глушил спирт. Его понесло на Колыму.
Сорок лет, прям, бодр и силен. Только поседела голова, побелели усы после полярной зимовки в лесу.
— Мы эту речку взнуздаем, — бросил в усы прораб.
Да, взнуздаем. Приискам, золоту нужны грузы — машины, продукты, горючее. Нужно пробивать путь к золоту от ледовитого моря.
Мы плывем к югу. Быстрое лето на берегах. Яркое солнце без устали, день за днем, ласкает, греет, палит скудную, мокрую землю: рожай!
И рожает колымская земля летний хвойный наряд и несчетные стада уток и гусей, миллионы комаров и мошки. Краснеет, точно потоками разлитой крови, брусникой, расстилает в спешке сизо-черные ковры голубики. Скорей, больше, скорей!
И от не знающего отдыха летнего буйства лишь на миг заходящего солнца и напрягшей все силы земли напрягаются и неумолчно звенят человеческие нервы.
Лето.
107
ЗЫРЯНСКИЙ РАЗБОЙ
Весенняя Колыма мчит в океан горы дикой воды. Бешеное половодье подмывает ледяные яры и топит низкие острова. Оно ставит неопытным судам жестокие ловушки.
На Зырянском разбое узкий «Леонгард» с тяжелой баржей «Яной» брал дрова с берега. На корме вырос дровяной склад. Кончили погрузку.
— Отдай кормовую! Вперед полный!
Но непрогретая машина молчала. Вода подхватила воз и понесла книзу. Как в окне вагона, помчались назад берега, кусты и кочки.
Захлопали плицы, но глубоко осевшая «Яна» уже села кормой. Тужась изо всех сил, «Леонгард» не мог сдвинуть тяжелую баржу. Ее прижимало быстрой водой к залитому, невидному осередышу.
— Надо тяпать...
Не отдавая буксира, пароход сплывает на малом ходу к барже и разом дает «самый полный». Захлебываясь, бьют колеса. Мчимся наискось течению реки. Выхлестнул из воды буксир, напружился и дернул баржу. Задрожало судно. Загремели табуреты, посуда, выбежали наверх женщины и дети.
— Ничего, *не пугайтесь, снимаем баржу.
Быстрина валит «Леонгард» книзу. Буксир намертво закреплен к высокому гаку. Кренит пароход натянутым буксиром.
— Отдай буксир!
Заело у гака. Не сбросить буксира. «Леонгард» валится набок. Кричит штурвальный:
108
— Туды твою богородицу! Руби буксир!
Пароход на боку. В иллюминаторы хлещет вода.
Удар топора по буксиру — и разом прямится, раскачиваясь, освобожденное судно. Еще десяток секунд — и кормить бы нам рыб.
Это называется «тяпать».
Мы тяпали раз за разом, дергаясь, кренясь, качаясь, ломали гак, но цепкая быстрина не отдавала «Яны». Подошел на помощь второй, потом третий пароход. Связавшись цепочкой, тяпали втроем, рвали буксиры, каре-жили гаки. Качались и вертелись, как сумасшедшие, поперек клокочущей реки. Неверная горная вода стремительно падала. «Яна» все тяжелей садилась на рождавшийся остров.
Над рекой неслась по эфиру тревожная и печальная перекличка пароходов.
Убегавшая вода ловила их одного за другим, точно мух на клейкой бумаге. Пароходы хватали воду кормой, судорожно дергались колесами, свайками, заводными якорями и воротами. Но все тщетно — вода не отпускала. Суда слабели и замирали. Изнемогшие команды засыпали на ходу. Сдавались пароходы. Капитаны похудели, их лица пошли морщинами.
Из воды вылез коварный, галечный осере-дыш. Пароходы спустили пар и замерли.
На голом острове обсыхали суда. Они молчали и от стыда краснели обнаженными днищами.
На серой гальке —малиновый городок палаток и пологов. Приплыли с Базы по-
109
летнему шалые собаки. Случайный олень убегал от них, прижав рога к спине. Загнездовали поздние турпаны. С берега тянул сладкий лиственный запах. Вечерами пели и жалили комариные тучи.
Капитаны ходили под черным крепом накомарников, ниспадавших с «крабов» и «капуст».
Команды валили деревья, клали слюза и городки, поднимали суда. Натужно скрежетали домкраты. Круто вверх встали трапы. Повисли высокими балконами каюты. Лопались перетянутые через реку тросы, полз мертвяк, скрипели на берегу первобытные вороты, а вода катилась к низкому летнему меженю.
Сотни метров надо ползти пароходам к летней, древне-тихой воде, где трещала одна «Дунька» — моторка в две комариные силы. Бежало лето. Таял план навигации.
В три смены, днем и ночью, бригады матросов тащили суда по прогремевшей зырянской аварии. Сжали зубы команды.
— Раз-два, взяли!—неслось надсадно и упорно круглые сутки.
— Бир-икки, барда! — вторили якуты-комсомольцы.
Колыма равнодушно катила мутные волны мимо измученных людей. В природе все совершалось своим чередом. Утки уже насидели яйца. Вылупились и побежали по воде пушистые утята. Зелень потемнела, на листвяке родились мягкие малиновые шишки. А пароходы томительно скрипели по гальке. В палящей жаре дымного лета изнывали люди.
Но вот с запада наползла сизая туча с
по
форвардами белых облаков по бокам. Туча волокла мутную, бессолнечную темень. Молнии резали небо. Порывы ветра угнали комаров и парной воздух.
Ветер взорвал брызгами воду. Грохнул упавший шкаф на палубе, звякнули осколки хлопнувшего окна, и стремительный ливень заволок беляки на Колыме. Побежали по распаленной. палубе прохладные ручьи. Бригады укрылись в каютах спать, пока необузданный ливень с громом поил водой обмелевшую реку.
Наверху пролились дожди. Скатился водный вал, и с последними рывками всплыл «ДС-1».
Засипела какая-то трубка. Подняв пар, ожила машина. Живой, живой пароход!
Он бьет плицами воду, режет круг по широкой реке и длинным насмешливым гудком прощается с островными сидельцами. Те даже не могут ответить, только краснеют брюхами голых корпусов.
В небе — закат цвета кованого золота со сталью.
ВЕРХНИЙ ПЛЕС
Желтый «Партизан» потянул кверху две баржи. На палубах пестреют дрова, ветки, собаки, щенята, корыта, белье на веревках, пологи пассажиров. Дымят ржавые времянки. Подоткнув подолы, пассажирские жены пекут лепешки и варят обед: плыть долго, не то месяц, не то два, надо устраиваться своим хозяйством поудобней. На стоянках с бортов свисают удочки.
ш
«Партизан» плывет, отрезанный от всего мира, по неведомой реке. Что ни год, она разбивается на новые протоки, по нескольку раз перемывая за лето галечное ложе. Родятся и умирают осередыши, оплетчики и косы, меняются ухвостья и приверхи островов, улова и тиховодья неожиданно перебегают в синем кружеве проток.
В рубке сидит по-бабьему повязанный платком якут-лоцман. Он отмахивается от комаров черным конским хвостом на деревянной ручке.
Рядом с атласом И. Ф. Молодых лежит планшет переката, весь исчерченный красными чернилами поправок. Они мало помогают капитану. Только зоркий глаз да умение читать слив воды помогут найти фарватер.
В верховьях река дичает. Там нет мягких комариных куп, сырых берегов. Ломаными голыми уступами встают горы и падают обрывами в реку. Она мчится меж них мятой тафтой и жемчугами водоворотов. Стремительны каменные корыта перекатов, где течение неслыханно быстро. На полный пар, изо всех сил колотит колесами пароход — и его обгонит по берегу любой щенок. Тогда вдоль нависших скал протягивают стальной трос и, тужась, наматывают на шпиленок, чтоб быстрина не ударила в скулу и не завалила корпус на подводные камни.
Над головой встают на орлиной высоте голые зубья скал. Ветер ревет меж гор и разводит волну. Плицы то замедляют удары, попав в гребень волны, то дробно частят в провале меж двух гребней.
112
А нет ветра — и река томится сорокаградусной жарой. Млеют берега и горы. По ним гуляют низкие огни таежных пожаров. Горьким маревом окутывает пароход. Мутным, раскаленным ядром висит в душном небе солнце. Огненные драконы сжимают тесные ущелья реки. Дымными ночами нужно стоять: иначе сядешь на невидимый камень, нежданную косу.
Две баржи ведет «Партизан». Бросив одну, на сотню километров поднимает другую. Потом сплывает в дыму пожариш книзу и берет оставленную. По три раза проходит то справа, то слева берега. Пассажиры ожидающей баржи ловят переметами рыбу или бьют с берега винчестерами огромных, как поленья, щук, дремлющих в воде. В сочной листве горят красные ягоды смородины.
Ни одного жилья за пять дней пути. Сгруженную другим пароходом муку растащили медведи. Они порвали мешки и оставили на муке большие следы медвежьих лап и веселые, маленькие следы медвежат. Мучные дорожки уходят от белого штабеля в тайгу.
Колеса ударяют о подводные камни. Выбегает наверх и ругается механик: каждый удар отдается в машине. За месяц на колесах сменили десятки плиц. Тешем новые из свежего берегового листвяка.
Что ни день — пароход хватает кормой, садится на мель или ударяется о камень, пробивая днище. Вода предательски бьет в скулы. Она посадила «Партизана» на собственный якорь, пропоров его лапой днище, Цемент, подушка, стойка — идем дальше,
Ш
На Среднеканском разбое пароход садился на камни три раза. Под конец, прыгая, с грохотом, точно жестяная коробка, прорвал в десятке мест корпус и, затопив каюты с пушниной, сел на дно.
Сгрузив вещи в лодку, по-бурлацки потянули ее бечевой по берегу.
Река бурлила меж неприветливых сказочных берегов. Она победила. Вместо четырех тысяч тонн до приисков дошло только восемьсот.
ТРАССА
Нужно привыкнуть к месяцам первобытной дороги, чтобы ощутить быстроту движения. Нужно пережить отрезанность нетронутых сопок, горных долин и речных перекатов, чтобы почувствовать надежность и дружескую ласку непрерывных плодов человеческого труда — домов, канав, телеграфных столбов.
От Среднекана к Стрелке пошел вьючный караван Ч Два пятка лошадей, связанных поводьями и жидкими хвостами одна с другой, навьючены мягкими чемоданами, путевыми якутскими мешками из конских шкур. На лысом мерине — женщина в высоких сапогах, защитной гимнастерке и штанах. А рядом, на пегой кобылке, навьючена деревянная люлька с груд-
1 В то время, к которому относятся описываемые события, знаменитая Колымская автотрасса, протянувшаяся ныне на тысячу с лишним километров — от Магадана до Усть-Неры, — продолжала строиться, и автомашины шли только от Магадана до Мякита (прим. ред,).
114
ным ребенком. Он спит, качаясь, и сосет материнскую грудь после нескольких часов пути, когда лошади стоят и дремлют, подрагивая кожей.
Кони ступают меж каменистых гор, жмутся у бурливых речек. В солнечном, августовском воздухе уже нет мошки. Из речных долин, из распадков, заросших лиственничным редколесьем, веет прохладой. Недалеко отсюда— центр золотой Колымы.
В доисторические колымские времена здесь хаживали искатели фарта с отощавшими сидорами 1 за спиной.
Продравшись пешком на сотни километров в тайгу, поймав, наконец, богатый ключ, приискатель мыл от зари до зари золото, пока были в сидоре припасы. Уже тронута мука, отложенная на лепешки для обратной дороги, а.жадность не пускает: намою еще золотишка. И вот, когда старатель пробирается назад, на Олу, бурчит и тощает его поджарый живот. Несет его от голубики и вареного лесного гриба.
А за сопкой, у самой приискательской тропы, вьется дымок: хибара. Поставила ее ражая и хитрая Дунька.
Ввалится к ней заросший, омедвеживший приискатель, а у Дуньки и наваристые духовитые щи, и пухлые пироги, и спиртишко, и все прочее. Разомлеет таежник, и потянет его с голодухи на Дунькины яства и приманки. Только не жмись, таежник! Развяжи мешок да засыпь доверху горячим золотым песком
1 Сидор — походный мешок
115
широкий, как медная ступа, Дунькин пуп. А там владей бабой до утра.
Потому и прозвали эту сопку «Дунькин пуп».
Редкими, наперечет, бобылями сидят теперь приискатели-лотошники кое-где на ключах, где несподручно и невыгодно пускать в ход промывочные приборы. Сидят, чешут бороды без единого седого волоса и усмехаются:
— Разве инженер смекает, где пофартит, золотишко? У него в уме книжка да машинка... Золотишко, оно любит к ему подход иметь. Без выдающих способностей тут никак невозможно. Ты, мил человек, сначала найди старицу \ а в ей колено, да в ем и бей шурф... Тут не книжку, а понятие иметь надо.
Геологи-поисковики и разведчики, инженеры и рабочие-горняки делают свое дело, находят и добывают все больше и больше золота. И все дальше и дальше тянется трасса, и во все стороны идут ответвления от нее по бывшим приискательским тропам.
На полу тесных, мерзлых палаток ползли по карте инженерские карандаши. И там, где они прочеркивали линию трассы, неприветливые сопки рвал аммонал, трескучие тракторы корчевали деревья, трактористы прокладывали траншеи в снежных заносах, расчищали таежные завалы. Железные мамонты подминали молодой листвяк, оставляя за собой давленую просеку. Жадную глубь болот кормили досыта хворостом, землей и бревнами. На подземные линзы вечного льда валили мохо
1 Старица — старое русло ручья.
вые подушки и хворостяные постели, возводили насыпи, заградительные валы, отводили воду канавами от наледей и укладывали дорогу. С разгона давали победные телеграммы:
«Задание сломить тайгу выполнено тчк Механический транспорт победил тчк Тракторами пройдено 260 километров тчк».
«Штурмом взяли Дунькин пуп зпт проезд дан до 450 километра тчк».
Получив телеграмму, улыбался одними глазами начальник Дальстроя.
На Стрелке пересадка на тракторный прицеп. Трактор рушит голубым лязгом тяжелых калош стоялую тишину дымчатых сопок. Его кренит и швыряет. Горы, деревья, ручьи крутятся: вид как с качелей. Из тайги на галечную отмель, а там прямо по горной речке лязгает стальной зверь. Быстрая вода, журча, моет гусеницы. Победно пускает трактор сизые кольца дыма. Железный шум усмиряет ропот воды по гальке.
Через сутки проступила явная дорога: после года странствий увидели мы впервые справа и слева канавы. Канавы тянулись километр за километром. Перестал качаться прицеп. Последние выхлопы — и трактор замолчал у «гостиницы», большой палатки с нарами. Кругом дымилась горная чаша. На дне светились домики и горели дуговые фонари. Мякит — станция на новой трассе.
Ночь. Диспетчерская. Гудит в голове от суточного лязга и хлопанья. В телефонную трубку:
— Машина? Машин нет.
И 7
— А где же спать?
Всюду лежат, даже на столах и в проходах. Грустно размышлять ночью, сидя на чемоданах.
Хлопает дверь. Входит водитель — стажер подошедшей с юга машины.
— Ну как, Костя, спать?
— Да где здесь спать?
У статного шофера золотистые, русые волосы и теплый загар на юношеских щеках.
— Едем назад!
— И то, едем...
Это значит: еще полсуток за рулем. Водители не жалеют себя, лихачась один перед другим выработкой.
— Ну вот вам и машина!
В пустой кузов швыряем свои видавшие виды вьюки и чемоданы. Рождается горное утро. Шофер дает газ <— мы включились в быструю, убегающую к югу полосу дороги. Тридцать — сорок километров в час! Толстые баллоны пружинят на ухабах.
С неожиданной гордостью сидим на своих вьюках. Даже глаза не слипаются,! Кончилась тайга, дичь и комариные просторы. Мы едем на быстрой, сказочно быстрой машине двадцатого века. Элегантны и просты радиатор, фары, шасси, кабинка, двойные баллоны толстых шин. Их хочется трогать. Нежно пахнет бензин. Неужели это забытый, неуклюжий и вонючий грузовик городских улиц? Откуда же это индустриальное изящество линий и стремительный полет ЗИСа?
Мшелый сон утренних сопок разгоняют, солнечные потоки и ровный стрекот машины.
118
Летит навстречу молодая трасса. Точно могучим хлыстом прорезало сотни километров вчера еще безлюдной страны, ощетинившейся пиками векового листвяка, заросшей от конца до края кедрачом, оскалившейся каменными зубцами бесконечных хребтов.
Наш полет рожден десятками и сотнями тысяч трудодней, уложенных непрерывной лентой в тайге. Нет перерывов! Бежит дорога, поют нотные линейки телефонных проводов, поворот — домики — опять трасса. Красные баки, бензиновые колонки на шершавом фоне листвяка. Частокол телефонных столбов.
Навстречу мерно жикают, как пчелы, груженые, большегрузные машины с припасами для приисков. Жикают мерно, как метроном, заведенный большим хозяином.
Мы прыгаем с чемоданами в пустом кузове грузовика, как вишни в решете. И не устаем горделиво и сладостно приобщаться к индустриальной, человеческой власти над покоренной колымской глухоманью.
Взлетает машина, плавным вихрем огибает мышиные и золотистые склоны и рваные обрывы. Мягко пролетают настилы спичечножелтых мостов.
Поселки, тайга, баки, столбы, бетонные стройки, бригады рабочих, легкие арки, светлые школы вперемежку с тайгой.
Пролетел сверкающий солнцем день, намотавший на колеса четыре сотни километров. Подбрасывало в кузове людей, чемоданы и десяток железных бочек.
А рядом мчалась назад колымская ночь.
П9
Слипались глаза. Фары хватали стальную трассу, черный обрыв, всклокоченный листвяк, брызги ручья, скованного трубой.
Мелькнули справа стеклянные ряды электрических окон. Опять ночь, подъемы и спуски.
И вот с высокой горы навстречу машине в черной, бархатной чаше, точно упавшее с неба созвездие, — зарево огней.
— Что это? Что?
— Магадан.
КОНДРАТИЙ ИВАНЫЧ
Осенью Колыма коварна, как никогда.
В половодье вода взлетает кверху. Потом она стремительно падает.
Летом река играет внезапно набегающими валами дождевой воды. Как злая дикарка, расставляет она неопытным, пришлым судам неожиданные западни перебегающих проток.
Осенью Колыма теряет воду. Ее не поит осенний паводок. Медленно влачит она угрюмо холодеющую воду и, как всегда нежданно, вдруг отдается морозу и засыпает на зиму. Ее кроет колючее одеяло заструг.
Беда, если шуршание осенней шуги настигнет пароход вдали от затона. Он спешит домой, ломая плицы. Встречные льдины режут гонкие бока. Не добежав, застывает в ледяной каше, внезапно схваченной морозом.
Замерзшему в плесе судну весной грозит полярный ледоход. Шутя он сломает и размелет зазимовавший в реке пароход. Надо раз
120
гружать, вымораживать, поднимать на городки, тащить на берег незадачливое судно.
В ту осень внезапный ледостав заморозил в реке половину колымского флота. Ожидая неизбежной гибели, замерли <в тумане обреченные баржи и пароходы.
В Магадан летели скупые радиодепеши с названиями мест, где ледостав застал буксиры и «посуду». Радиосводку положили на карту. Сиротливые крестики легли на голубую ленту Колымы.
Как спасти пароходы? В глубь ледяной пустыни нужно подвезти людей, такелаж и там, на месте, клепать пробитые корпуса, ремонтировать больные машины —там, где не сыскать и в десять дней пути простого молотка.
Решили отправить большую экспедицию зимним путем вниз по реке. Нашлись капитаны, механики, котельщики. Надо ехать в самый мороз черной зимы, идти на тракторах и оленях десятки дней.
Шили кухлянки, торбаза, кукули, готовили и паковали палатки, печи, продукты, спирт, оружие, мешки с морожеными пельменями, котельное железо, болты, гайки и горны.
Нужен опыт и смелость, чтобы спасти суда на далеком Замковом перекате.
— Нужно Кондратия Иваныча, — решительно, с уважением говорили водники. — Он один сделает как надо.
Но Кондратий Иваныч шмыгал утиным носом, утирал его комочком красного платка и холоди р говорил:
— Болен я. Не могу... Мне на теплый курорт надо.
121
Что делать? У Кондратия Иваныча давно кончился договор. Он ждал парохода во Владивосток. Летом в Лабуе его таскала с пристани на гору высокая и дородная Аксинья Иннокентьевна, ухватив под мышки, как малого ребенка. Сердце не хотело работать. А было Кондратию Иванычу за шестьдесят.
По всем сибирским рекам шла о нем слава, как о первом аварийном капитане.
С малых лет стал плавать Кондратий. В двадцать был капитаном. Пузатые хозяева и ценили, и боялись Кондратия. Никто лучше и удачливее его не водил пароходов по угрюмой Лене. Хоть днем, хоть туманной ночью, по чуть видному очерку сопки или одинокой березы, по блеснувшей нечаянно ряби уверенно вел он судно, шутя обгоняя соперников.
А задурит на пароходе загулявший хозяин— без разговору привяжет его Кондратий к мачте. Пусть протрезвится,
— Тебе говорю, отвяжи... Я хозяин или кто?
— Здесь я хозяин. Не отвяжу.
И на смех команде засыпает, обвиснув на веревках, одрябшее тело «самого».
Бывало, погожим летним днем, обогнав соперника, командует Кондратий:
— Держи к яру! Самый малый! Крепи чалку!
И гуляет сколько хочет на зеленом берегу, выкатив команде и пассажирам бочонки вина.
А придет в порт, хозяину скажет:
— Туман был, потому и стояли.
— Побойся бога, какой тебе летом туман? Дуришь, Кондратий!
122
— А тебе што? Пришел ведь раньше других. Денежки у тебя в кармане.
И молчит хозяин. Нужен ему Кондратий Иваныч. Все ему прощалось за знание и удачу — и дурь и удаль.
Однажды сидел на фигурной лавочке постнолицый хозяин в ситцевом жилете и под звон одиноких комаров гадал: продать пшено или еще придержать? Летось по полтиннику брал, сейчас восемь гривен дают...
За излучиной реки загудел мягкий бас.
— «Варнак» идет! Чтой-то рано...
Но из-за поворота, шлепая колесами, выползла пышнобокая «Боярыня».
— Ах ты, штоб тебе. Ведь гудок-то мой! Как же он на «Боярыне»?
А через сутки пришел красавец «Варнак» с сиплым и тонким гудком «Боярыни». Под пьяную руку Кондратий проиграл гудок.
Потом бросил Кондратий дурить и весь опыт и сметку отдал советскому пароходству. Стал аварийным капитаном. Выдирал пароходы из ледяных ловушек, снимал с острых камней и поднимал со дна, придумывая неожиданно дешевые и простые способы.
Четырех сынов дал Кондратий партии.
— А что же ты сам, Кондратий Иваныч, не запишешься?
— В партии, сынок, все насквозь понимать надо, читать разное и действовать планови-то. Уж пусть сыновья достигают. Ну, и насчет вина поаккуратней требуется...
Он был одним из первых колымских капитанов. Привел в 1933 году пароходы в Сред-некан.
123
Но задел его по-пустому, не по уму, ретивый начальник. И обиделся Кондратий.
— Уезжаю на «материк». Болен я.
Однако забота о гибнущих на реке пароходах грызла водницкое сердце. Будто мимоходом, через день, спрашивал, как думают спасать суда. Наконец пришел. В руках у него было постановление врачебной комиссии и путевка на курорт.
— Вот что я вам скажу: болезни мои все нестоющие. Нету у меня никаких болезней, напрасно доктора пишут. Одна старость. А старость — она подождет еще год или сколько надо. Нужно ехать.
И, забрав Аксинью Иннокентьевну, Кондратий Иваныч выехал с экспедицией на север.
Морозы только разыгрались.
В кузове грузовика ледяной ветер резал тело до костей. На конной тропе Кондратий днями шел пешком, вел лошадей, вытаскивал их из наледей.
Добрался до реки, построил зимовье у пустых и голых скал Замкового переката, где в каменистом ущелье выла пурга.
Днями напролет ходил вокруг пароходов и показывал, как нужно вымораживать и тащить суда под защиту острова.
Рабочие били ледяные канавы у бортов и под корпусами. В мороз, когда дыхание рвет воздух, лежа на льду, затыкали пузыри и опять кайлили. Мерзли и грелись потом в бревенчатом зимовье огненным спиртом и наваристыми щами Аксиньи Иннокентьевны.
А Кондратий Иваныч, кряхтя, выпивал
124
стопочку и командовал у ледяных ловушек, приговаривая:
— А теплый курорт, он, ничего, подождет.
И шмыгал утиным носом, утирая его комочком красного платка.
ТОРИМ ДОРОГУ
Сетку огней декабрьского Магадана залило черной тушью сопок. Скатертью бежит под колесами трасса. Птицами нахохлились заснеженные вешки. Набегают из черной ночи взмахи лопат и белые швырни снега. Мерно, без устали катится к северу вереница груженых машин.
За крутым перевалом ударил холод. Острым ветром режет нутро машины. Запасная кухлянка зажимает лопнувший целлулоид окна.
Так бегут первые часы. Потом «Фордик» ломается. Чемоданы и ружья лезут с нами в теплые, бензинные кабины грузовиков. Замедляется бег. От Стрелки шагают понурые лошади. Уже сутками меряют путь. Тайга напоминает о своей власти.
Утром встают по бокам горы белого чеканного металла. Меж них ползет по снежной реке дорога. Ее заливают блестящие наледи. Греясь у раскаленной печки в бревенчатом зимовье, можно написать целую книгу о наледях.
В промерзших до дна речках мороз выжимает наверх родниковую воду. Набухает снег и обрастает сверкающей коркой. Лощадь
скользит и проваливается в толстую, студеную кашу. Надо скорей выдергивать воз, а не то скует полозья саней и цепкие клешни зажмут кладь.
Бьется тогда испуганный кучер в будто теплой воде. Миг — и заледенеют мокрые торбаза. Вытянув воз, обледенелый таежник тут же переобуется и выжмет досуха обувь, а потом— идет или бежит. Иначе мороз схватит мокрые ноги и через месяц пальцы отвалятся под ножом хирурга.
Черной ночью, под алыми и фиолетовыми звездами утреннего неба, на палевом солнце морозного и мутного дня, обмороженного возчика давит неотвязная забота: миновать благополучно наледь.
Из Среднекана вызвали по радио Столбовую и Зырянку, сговаривались о проводниках, ягеле и гарях. Метеорологи ловили температурный минимум. Они хотели, чтобы слава мирового полюса холода перешла от Верхоянска к верховьям Колымы. Поймали минус 61,7 градуса. Но в иные годы бывает и 64, даже с десятыми.
Низкое сонное солнце выползло из-за мутной горы. Лениво дотянулось лучами до другого берега седой Колымы и опять пошло книзу. Дыхание рвало воздух, как тугое полотно. Два легкомысленных техника вышли налегке с приисков. Упали сумерки. Один пополз на коленях, следя за тропинкой, обморозил все лицо. Другой выбился из сил и сел отдохнуть. Когда его нашли, замороженное тело нельзя было разогнуть.
В пахучих, рубленых стенах сладким цло-
дом горел ананасный абажур. На смоляной стене рядом с телефоном висели торбаза. Накрахмаленная скатерть блистала на столе. Оттаявшее шампанское в химических ретортах встречало Новый год. Бальные шелковые платья и туфли, рубиновые губы и оленьи торбаза плыли в терпком танго.
Наутро медленно ступали лошади. Как паровозы, дымились паром. Струя лошадиной мочи ударяла в снег точно кипяток и рождала теплое облако. Ресницы смерзались: нужно руками отламывать льдинки.
В 60 градусов на горных перевалах бывает ветер. Снимешь рукавицу — и вмиг нет пальцев. Скорей суй их в теплый пах, пока не побегут к ногтям спасительные колючки.
На Стрелке, в жестоком молочном воздухе лязгают могучие тракторы. Днем и ночью грохочут десятки машин. Если замолкнет мотор— разорвет радиатор. Зимой железо жжется, как уголь, и хрупко, как сахар. Чтобы отогреть трактор, под ним ставят ведро с горящим лигроином. В туманном морозе полыхает багровыми клочьями пламя. Работают закопченные, как арапы, трактористы. Сверкают на черных лицах зубы и белки.
За трактором поползли большие, как юрта, груженые канадские сани. За ними скользят четыре легких нарты. На них брошены коричневые кукули. Сидят в оленухах по-медвежь-ему толстые капитаны.
Пять дней волок нарты и лязгал на студеную темень трактор. Он бросил их на Спорном. Ушла техника. Началось оленье царство и нехоженая тайга.
127
На полкилометра растягивается, извиваясь, серая изгородь качающихся оленьих рогов. Над ними плывет туманное облако пара. Сотня полозьев играет по снегу нежную ледяную фугу. Начинается переход по тайге, где не ступала нога человека.
Нужно идти крутыми сопками, пустыми перевалами и застывшими речками, пробив дорогу в нетронутых снегах. Маршрут звучит экзотическим сонетом:
— Таскан, Балыгычан, Иганджа, Омчукча, Инняули, Кармыстах, Ороссох.
Нет другого пути к замерзшим пароходам. Летние пожары выжгли по Колыме ягель. По Ясашной разлились непроходимые наледи в глубоких капчегаях — горных каньонах.
Нужно идти целиной — торить дорогу.
Делается это так. Первым ступает каюр на широких и коротких лыжах, переваливаясь, как толстая меховая кукла. Он тянет на мау-те пару сильных оленей. Олени бьют широкими, черными копытами снеговую корку. За первой парой идет вторая пара оленей с пустой нартой, потом еще пара с половинным грузом и только за ней едет целиком груженная нарта. В день можно пробить двадцать километров. Через неделю исхудавших передовых оленей надо сменить на свежих.
По проторенной, как узкий снеговой ящик, дороге вьется экспедиция.
Два оленя алыками привязываются к лямке, перетянутой через переднюю баранку узких нарт. Пять нарт — это связка. На первой нарте сидит каюр. Если олень упадет — связка идет дальше и тащит его по снегу.
Уздечка душит его, огромные глаза выкачены, стройные ноги бьются о передок. Олень напрягается, как лук, рывком встает на ноги и бежит дальше.
Караван встает с зарей и идет покуда светло. Весь день сидишь на нартах. На теле двойной или тройной легкий олений мех. И все же через четыре часа ноги мерзнут. Тогда нужно спрыгнуть, идти или бежать за нартой. Ходьба прогоняет колючие иглы.
У глаз оставлена узкая щель. Наклонив голову, можно эту щель закрыть и спать. Потом опять бежать.
Перед глазами мелькают обросшие мягким мехом сильные зады оленей с бойкими хвостиками торчком. Если олень устал, хвостик опускается вниз.
Ползут заледеневшие серебряные чаши, мрачные каньоны, незнакомые золотые речки, торчки листвяков у замерзших водопадов. С перевалов раскрываются розовые и золотые кристальные просторы первозданной прозрачности.
Одиноко плывет первобытный караван по горной стране солнечных и ледяных тунгусских раздолий. Недвижно сидят каюры с медно-красными от мороза лицами.
К вечеру немеет тело от усталости и голода. Скоро ль ночлег?
Но дальше и дальше идет караван. Передовой каюр время от времени останавливает поезд, соскочит, потыкает в снег, подумает: неужели ночлег... — и идет- дальше, пока не найдет хороший мох. Тогда рядами становятся нарты. Олени вольным стадом уходят
5 Кирилл Koines
копытить ягель, путники расчищают на неведомой речке снег, ставят палатки, печи, режут и колют на дрова сухостой. Через два часа разматывают у печки, где закипает чай, шарфы и сбрасывают кухлянки. Тепло.
Неспешный чай, еда, вечернее кэпсэ у свечи. Ее видно снаружи сквозь редкую ткань легкой палатки.
Льются рассказы и песни тунгусов. Неведомые, как здешние речки, напевы и ритмы, с утробным «йок» в конце.
Сон в кукуле. Беспощадные змеи холода проползают в меховой мешок, когда потухнет печка.
Утром ловят оленей гибким маутом. Несутся призывные: «мак, мак!» и грозное: «тшоу»! Так кричат, чтобы загнать оленей в кораль. Там они смиряются.
Нужно съесть с утра целый обед, чтобы дольше не мерзнуть в дороге. Последние стаканы обжигающего чая глотают, когда транспорт уже готов. Потом быстро снимают палатки, вытряхивают печи. Караван тянется дальше в туманные сопки и листвяки.
Если олень, прыгая, сломает ногу, его оставят и рядом воткнут ветку со сломанным концом. На этой деревянной азбуке тунгус говорит случайному путнику, что здесь бродит олень со сломанной ногой.
— Сколько палатка идти? (сколько дней?).
— Ни снаю, — вежливо, тонким голосом отвечает каюр.
Он не спешит. Мясо есть: вчера зарезали уставшего оленя; чай и табак тоже—куда же спешить?
130
Дырявая летняя палатка не хуже первобытной урасы или юкагирской тордох. А походная жизнь в мертвящие морозы привычна с колыбели.
Что еще делать зимой? аМожно, конечно, бить пушистую, черную колымскую белку, выколупывая потом из дерева пульку, чтобы выстрелить еще раз. Но каюры контрактованы для экспедиции, получают деньги и паек — значит, в этом году не поохотишься. И зачем торопиться?
Вот когда пригреет солнце, когда у оленя взбухают свежие, черные шишки новых рогов, тунгуса неудержимо потянет на Улахан-Чи-стай. На высоком плоскогорье, где нет лесной топи и комаров, пасет тунгус летом свои стада и играет свадьбы. Весной ничто не удержит его. А куда же спешить зимой?
Но медлить было нельзя: скованные пароходы ждали в далеких плесах.
Сладость тепла и горячей пищи, радость сухих дров,- пронзающие иголки мороза, удачно пройденная наледь, пересиженная в палаточном городке пурга — не могли заслонить цели, для которой шел караван.
Нервничали путники, худели и падали от долгого перехода и плохих кормов олени.
Наконец, прочеркнулись следы нарт. Где-то рядом люди?
Через день справа мелькнула пустая палатка охотников — и вот уже Оттуркель: рубленые юрты, постоянное жилье, камелек. Какое наслаждение сидеть не на застланном шкурами полу, а на деревянных диванах и пить чай у настоящего стола.
5*
131
Кончилась тунгусская, древняя жизнь. Мы перескочили через тысячи лет в оседлое окружение якутов.
Доселе беззаботный каюр робко и неохотно сидит на лавке. Он прощается с путниками в непривычном, рубленом доме. Исхудалые олени наивными глазами смотрят на запад: скоро Улахан-Чистай и летний отдых.
ОДУЛЫ
За нами гнали стадо оленей нового юкагирского совхоза.
Мы держались подальше и не подпускали юкагирских оленей ближе чем на два дня пути. Наши олени были езженые, ходили смирным табуном. Но стоило подойти поближе юкагирским — и у наших просыпалась приглушенная дотоле непокорность.
В юкагирском стаде были дикие и красивые важенки и десятки годовалых телят, резвых, как дикие козы. Смешивались стада — и вместо двух часов на утреннюю ловлю оленей уходило больше.
Только начали выходить из первобытной Дикости и сами юкагиры.
Юкагиры, или одулы, древнейшие жители Колымы, — палеоазиаты. Ближние родственники американских индейцев, они уцелели редкими островками. На Коркодоне и Нелемной живет около двухсот человек. Красивые лица, сине-смоляные волосы; как все местные народы, они безбороды. Конусообразное жилье— «тордох» летом и «нуме» — зимой. Жизнь даже не кочевая, а до последних дней просто
132
бродячая. Юкагиры ловили рыбу в речках, били сохатого и дикого оленя, промышляли пушнину кремневыми ружьями и черканами. Есть добыча — все едят, одаривают соседей. Поют, веселятся, танцуют, быть может вспоминая древнейшую «шахадзию»— юкагирские «игрища меж сел». А нет добычи — шаманы заклинают злых духов и молят добрых, а одулы тем временем голодают и покорно вымирают. Пушнину они сдавали раньше за бесценок купцам, в крепость. Кулаки отбирали ее в уплату за данную в долг рыбу, которую когда-то получили сами даром во время дележа улова. Изредка наезжал к ним посол от мифического, главного юкагирского князя, который будто бы кочевал на Омолоне. Никогда не видав его, одулы покорно платили ему ясак.
С 1930 года появились первые колхозы и юкагиры стали переходить на оседлую жизнь. Позднее для них построили целые городки, со школами, амбулаториями и прочим. Но это родилось не сразу.
В 1931 году комсомольца Борисова вызвали в Хабаровске в обком комсомола. У Борисова были светлые волосы и молодые глаза.
— Поедешь на Север? На Колыму?
Борисов был молод и скромен. Он хотел учиться. Но если говорят, что нужно ехать на Колыму, — значит с ученьем надо подождать. А пока самому учить юкагиров новой жизни.
Он поехал. Учил юкагирских детей. Жил в тордохе, ловил, как все, рыбу, стрелял белок. В тот год был плохой улов. К тому же ко
133
лымские власти не подбросили с низовьев муки, сахару, табаку и всего, что нужно на Севере для жизни.
Юкагиры стали есть белку. Борисов кормил беличьими тушками своих школьников. Юкагиры были беспечны, а Борисову было ясно: если не достать продуктов, будет голодовка.
Борисов знал, что в верховьях Колымы есть золотые прииски. Он решил добраться туда за помощью. Нужно было пройти пятьсот километров по дикой и безлюдной реке в утлой ветке. Кормиться ружьем и переметом.
Так плыл он неделями. Кругом стояли девственные сопки. Билась и летела вода на перекатах. Комар и мошка вились тучами. Не всегда помогал накомарник и ровдужные перчатки, расшитые цветными полосками у запястья и красными нитками по швам. Дикий олень прятался от комаров в воде. Как сухие сучья, торчали над рекой его рога. Медведи приходили пить воду из реки. А Борисов, похудевший, опухший от укусов, поднимался все выше. Он знал, что от его поездки зависит судьба целого племени.
— Знаете, как раньше думали юкагиры о русских? Вот вам сказка юкагирская. Я ее сам записал.
Так говорил Борисов, сидя в нашей палатке, когда мы пробирались на Колыму левыми притоками Ясашной.
— Давно это было. Охотники-юноши увидели большого человека. У него было нехорошее лицо, все в рыжей шерсти. Побежали домой посоветовались: убить надо. Другие го
134
ворят: подождем. Пошли опять к русскому. Тот показывает на лисий воротник и протягивает рыбу — налима. Юкагир пошел к русскому, понес ему две шкуры лисиц, «посыпанных землей» (сиводушек). Русский вперед — юкагир назад: боится. Юкагир вперед—'русский назад. Оба боялись. Потом юкагир протянул на палке шкуры, а русский — рыбу. Схватил юкагир трех налимов, побежал домой. Смеется, и все юкагиры смеются: вот глупый русский: за две шкуры отдал трех больших рыб. Смеется и русский: вот глупые юкагиры: за трех рыб отдали две лисьи шкуры!
Борисов еле добрался до Среднекана. Он ввалился в палатку и заснул. Потом рассказал о гибнувшем племени.
— Товарищи, надо помочь!
Борисов погрузился на кунгас и поплыл с продуктами и припасами вниз. Его крутило на порогах, швыряло на перекатах, прибивало к берегу, сажало на мель. Наконец он добрался до Нелемной. Все племя встречало его:
— Этот большой русский достал наверху продукты!
Сломались старые законы. Пришла новая жизнь к одулам.
БОРЬБА С РЕКОЮ
От пуржистого Амбарчика до спокойного уютного Сеймчана колымских водников давил провал прошлой навигации. Черным пятном лежал он на фоне трехлетних успехов освоения края. Дикая полярная река сорвала пере
135
возки, разметала по пле£ам и заморозила суда.
Сжав зубы, дрались речники за будущую навигацию.
Одинокими островками лежали на замерзшей реке скованные полярной* ночью Амбарчик, Лабуя, Столбовая, Зырянка. Меж вечным льдом земли и темным ледяным небом, сбившись крохотными кучками в десятки и сотни человеческих точек, боролись люди.
Сквозь пургу, через магнитные бури пробивались радиоволны. Рации кричали металлическими голосами, что реку надо победить.
Черным утром вставали люди в Амбарчике. Звеневшие от мороза тракторы лязгали стальными калошами и тащили сквозь пургу бревна плавника и бутовый камень. Полозья скрипели по сбитому бурями снегу, твердому, как кирпич. Песчинка за песчинкой рос в бухте волнолом, чтобы укрыть летом от штормовых волн суда.
Рано выходили биржевики в Лабуе пилить, сверлить, рубить, строгать баржи для новой навигации. Прошлогодние аварии научили строить легкие баржи небольшой осадки.
Длинные болты сжимали железными объятиями стволы лиственниц. Весной желтыми слезами плакало мерзлое дерево. Лежа на льду, кайлили под пароходами матросы, одетые в ватники. Мороз схватывал воду и наращивал внизу новую прозрачную корку. Росли ледяные чаши под судами. Пробив нечаянно пузырь, затыкали водяной фонтан паклей и клиньями: иначе зальет чашу. Дымилась и мерзла вода. Немели пальцы.
136
Ползет в колючем тумане по мертвым сопкам олений караван, спеша к заиндевелым судам.
Бегут узкие собачьи нарты. Жадно хватают снег горячие песьи рты. Бежит рядом каюр, держась за баранку:
— Паца! Паца!
Зеленая жестяная птица самолета перебой-чатым рокотом строчит прозрачный лед весеннего неба.
Скорей! Скорей! Пожрать тысячу километров, чтобы спасти суда. Скорей!
Упругими стальными голосами поют рации. От Ледовитого океана до верхней Колымы, от Амбарчика до Магадана несутся пронзительные, твердые, настойчивые точки и тире. Суда надо спасти! Надо. Надо!
И, ослепленный пургой, валит рабочий бутовые глыбы в темную траншею бухты. Пылают в нескончаемой ночи багровые клочья пожогов. Огонь жрет мерзлоту. Стальные ножи пурги режут пальцы.
Онемевшими руками кончает бригада выморозку. Подняв пароход на городки, тащит его по обмерзшим слюзам на берег.
Рвет морозный воздух упорное:
— Раз, два — взяли!
Скрежещут блоки под стальными струнами тросов. С хрустом ломается хрупкий металл домкратов.
Качаются в инее пароходы.
Обмороженные, с черными скулами матросы вечером вгоняют спиртом тепло в застывшее тело.
Валятся изнемогшие от работы и перехо
137
дов. Падает и умирает механик: паралич сердца.
А в рациях настойчиво и неумолчно поют стальные точки и тире.
Спасти пароходы, спасти грузы, заготовить дрова. Спасти пароходы!..
* * *
Пароходы сверкают на берегу. Новые баржи ждут воды. Грузы вытащены на высокое место.
Белыми и красными табунами сидят на берегу готовые бакены. Они рассядутся по мелям и перекатам с первой вешней водой.
В конторах диспетчеры и инженеры чертят графики эксплуатации. Капитаны принимают суда, вышедшие из ремонта.
После большой ночи новорожденное багряное солнце все выше взлетает на небо. День все быстрее съедает ночь.
Весна.
По льду Колымы пошли желтые и синие забереги, посерела белая снежная равнина. Когда пришел срок — всю ширь реки, словно ножом, прорезали темные полыньи. Сдвинулись белые поля и пошли, нагромождаясь горами, взрывая исполинскими плугами береговую гальку.
Во всю километровую ширь Колымы шли громадные глыбы вперемежку с вырванными деревьями. Мутной лавиной катилась полая вода.
Колыма широко разлилась бескрайней коричневой шелковой пеленой, словно накинутой на плечи пробуждающейся красавицы. Лебе-
138
циной стаей выплыли на реку колымские пароходы.
Навигация.
День ото дня растут штабеля перевезенного в Среднекан груза. Один за другим приходят пароходы с баржами на прииски.
Разгибаются ссутулившиеся за зиму спины. Усталые глаза искрятся мягким светом.
— Идут пароходы! Бегут!
И суровые зимой рации меняют сталь своих голосов на звонкое победное пение точек и тире:
«План перевозок выполняется полностью тчк».
Поют рации. Идут суда. Широко несет свои воды буйная и своенравная, никем еще не покоренная, но уже взнузданная Колыма-река.
СОДЕРЖАНИЕ
Рождение географии...................3
Океан................................7
Бухта Провидения.....................10
Чукчи................................14
У Шелаурова..........................18
Льды.................................21
Амбарчик . 25
Двадцатое августа . ... 29
Капитан Миловзоров...................37
Низовья . . ...................41
Города..............................46
Побеги нового.......................51
Зимняя дорога......................54
Индигирская экспедиция.............56
Пища...............................60
Радио — кэпсэ......................64
Горняк с Лены ....... 69
Новостройки ....... 73
Свет дает..........................80
Медвежье . ................83
Улахан-ыэры........................87
Памятники..........................89
Баржестрой.........................93
Реколом..................................§9
К золоту................................103
Зырянский разбой........................108
Верхний плес............................111
Трасса..................................114
Кондратий Иваныч........................120
Торим дорогу ...........................125
Одулы . . 132
Борьба с рекою.........................1'35
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Присылайте ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении этой книги по адресу. Магадан, 8г книжное издательство.
Кирилл Николаевич КОПТЕВ
ЗОЛОТО ВО ЛЬДАХ
Редактор Л. И. Юрченко. Художник А. Ф. Коган. Художественный редактор Д. Д. Власенко. Технический редактор В. В. Федорова.
Корректор М. Л. Лисичкина.
*
Сдано в набор 4/1 1961 г. Подписано к печати 7/II 1961 г. АХ—00448. Формат 70х921/32. Объем 4,5 физ. п. л., 5,3 усл. п. л., 5,12 уч.-изд. л. Заказ 540. Тираж 5 000. Цена 26 коп.
Магаданское книжное издательство, ул. Горького, 6.
*
Магаданская областная типография Управления культуры»
В МАГАДАНСКОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ СКОРО ВЫЙДУТ КНИГИ:
И. ГАРАЮЩЕНКО. Богатое содержание. Очерки. 6 п. л. 2 500 экз.
Автор часто бывал в чукотских колхозах, на приисках, наблюдал, как входит в жизнь северных народов новый быт, новая культура, как властно шагает новая техника по северной земле. Свежий ветер веет над Чукоткой, по-новому живу г чукчи. О их жизни и жизни колымских горняков рассказывают очерки, включенные в эту книгу.
А. ВОРОНОВ. Последняя смена. Рассказы. 6 п. л. 3 000 экз.
В рассказах «Последняя смена», «Шутник», «На взлете», «Дима» и др. говорится главным образом о людях, живущих на Севере, о столкновении высоких, светлых взглядов на жизнь с мелочным, обыденным, пошлым.
Г. ОСТАПЕНКО. Голубая дача. Рассказы. 6 п. л. 8 000 экз.
В новом сборнике Г. Остапенко продолжает морально-этические темы первых книг. Рассказы «Настенька», «Обыкновенное золото», «Голубая дача» и др. показывают разнообразные сложные переживания людей и дороги, которые они выбирают в поисках счастья.
В. БУЛАНОВ. Здесь начинается день. И п. л. 10 000 экз.
Летом 1960 года автор проделал большое путешествие. Плыл на вельботе по рекам Колыме и /Анадырю, обогнул мыс Дежнева, шел по тундре пешком. Об- этом он рассказывает в очерках «Анадырь-река», «Егерь», «Уэленские строители», «Председатель колхоза» и др. Книга богато иллюстрирована фотографиями.
Сканирование - Беспалов, Николаева
DjVu-кодирование - Беспалов
2,6 кок.
МАГАДАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1961