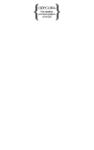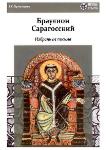Author: Кржижановский С.
Tags: эпистолярные произведения письма эпистолярное искусство переписка письма, написанные не в качестве литературного произведения литературные произведения в форме писем литературоведение документы художественная литература собрание сочинений новеллы издательство москва приложения
ISBN: 978-5-93381-315-6
Year: 2013
Сигизмунд
Кржижановский
Сигизмунд
Кржижановский
Собрание сочинений
в шести томах
Том шестой
Сигизмунд
Кржижановский
Невольный переулок
Переписка Сигизмунда Кржижановского
и Анны Бовшек
Воспоминания
о Сигизмунде Кржижановском
Приложения: переводы, документы, письма
Фотографии
Москва — Санкт-Петербург
b. s.g. -press / symposium
2013
УДК 82-6
ББК 83
К81
Составление, подготовка текста и комментарии
Вадима Перельмутера
Художественное оформление и макет
Андрея Бондаренко
В книге использованы фотографии
М. С. Наппельбаума
Кржижановский С. Д.
К81 Собрание сочинений: в VI т. Т. VI / Сост., подгот. текста и коммент. В. Перельмутера. — М.: Б.С.Г.-Пресс; СПб.:
Симпозиум, 2013. — 688 с.
ISBN 978-5-93381-315-6 (Б.С.Г.-Пресс; Т. 6)
ISBN 978-5-89091-131-5 (Симпозиум)
Пять предыдущих томов собрания сочинений представили читателям практически все творческое наследие С. Д. Кржижановского таким, каким он сам его видел.
В шестой том включены обнаруженная недавно новелла «Невольный переулок», переписка с женой, воспоминания о писателе, исследовательская работа В. Н. Топорова «„Минус“-пространство Сигизмунда Кржижановского»,
некоторые документы и многочисленные фотографии.
УДК 82-6
ББК 83
ISBN 978-5-93381-315-6
ISBN 978-5-89091-131-5
О В. Г. Перельмутер, 2012
О Симпозиум, 2012
О Б.С.Г.-Пресс, 2012
Невольный переулок
новелла
Невольный переулок
(Панка писем — от одного лица
разным адресатам)
1
Тверская 4 и, кажется, 3.
4-й этаж, слева.
Шести продолжительным звонкам.
Я познакомился с вами, проделывая зигзаг вашей узкой и достаточно темной лестницы. На квартирной доске — по белому, врамленному в красное, —
внизу стояла ваша фамилия. Но я забыл ее, простите. Помню только, что вы шестизвонковый. Это — уже
характеристика*. Первый, по возможности короткий
звонок, забирает себе наиболее почтенный жилец
квартиры. Обычно это отвработник*, человек с портфелем. Ему некогда вслушиваться и пересчитывать
звонки. После первого металлического толчка о слух
он перестает считать и возвращается к своим цифрам
и докладам. Человек о двух звонках уже не существо
с портфелем, а существо при портфеле*. Оно достаточно почтенно, состоит на сверхпайке*, но работает
и в сне и в яви*, все двадцать четыре в сутки. Ну, а шестизвонковый жилец, он и не в счет. Это терпеливый
человечек, которого терпят за терпение. И только. И я
знаю, что вы, терпеливо отсчитывающий ваши шесть,
настолько покорны, что долистнете эти страницы не¬
7
Невольный переулок
прошенного письма до последней. Это единственное,
что мне, в сущности, надо. Быть выслушанным.
Странная болезнь, скажем — письмомания, овладела мной вот каким образом. Это началось года два
тому, когда водка создавала внезапные и длинные очереди, а сдачу с рублей давали почтовыми марками*.
Я пью*. Что меня заставляет пить, спросите вы. Трезвое
отношение к действительности*. Я стар — у меня ры-
же-серые волосы и рыжие зубы, а жизнь юна — следовательно, меня надо смыть, как пятно, вытравить водкой начисто. Вот как.
Утро свое я начинал тогда так. Встав спозаран-
ками, я выходил к перекрестку и ждал. Как охотник на
току. Вскоре, а иной раз и невскоре, с той или иной
улицы перекрестка показывалась телега, груженая деревянными ящиками. В ящиках — запрятанный под
стекло и пробки алкоголь. Я выходил из неподвижности и шел за телегой — куда бы она ни поворачивала — вплоть до остановки и разгрузки. Чувство такое,
будто почтительно шествуешь за катафалком, на рессорах которого твой же собственный прах.
Но не в этом дело. Дело в марках, которыми платили тогда, по недостаче мелочи, сдачу. Что делать
человеку, живущему на отшибе от людей, отодино-
ченному от всех, с марками? Эти клейкие рубчатые
прямоугольнички для общающихся, сросшихся сердцами, вклеивающихся друг в друга. Марок у меня накопилось препорядочное количество. Они лежали
в стороне, на отодвиге, у края стола. И просили работы, осмысления. Я как-то — на полпьянии* это было —
оторвал рубчики от рубчиков и решил (мы, пьянчуги,
знаете, не злы) доставить удовольствие марке.
Но кому писать? хоть шаром. И ни конверта, ни
почтового листа*. Но все-таки я набросал мое первое письмо, сложил бумагу лодочкой, приклеил марку
8
Невольный переулок
и сверху: «Первому, кто подымет». Затем оставалось открыть форточку и бросить в нее, как в почтовый ящик.
Ну вот, так и повелось. Мы, я и мой соавтор, водка, постепенно пристрастились к эпистолярному делу.
Нечто вроде духовной закуски. Не обижайтесь. Впрочем вы, шестизвонковые, и не должны слишком быстро обижаться. Кстати, на каком звонке у вас возникает волнение? На четвертом, или может быть на пятом? Ведь если вы он, то ждете ону, а если она, то ждете
она*. А я вот стар и никого уже не жду. И ходит ко мне
только проклятое оно: вонзится в душу безглазием
в глаза, холодом в кровь — и иногда так станет тошно, так захолодеет сердце, что вот бы... впрочем, к чему это я. Бутылка до конца. Пойду за другой. По дороге брошу в ящик письмо. А там и меня в ящик. Ну, пока. Точнее — навсегда.
2
Арбат, 51*-
3-й этаж, первое окно слева, у правого подъезда.
Кому бы то ни было.
Нарочно наклеил в шесть раз больше марок, чем
нужно, — их у меня хоть на вей-ветер швыряй*. Авось,
почтальон смилостивится и не испугается странного
адреса.
Я про вас знаю, гражданин кто-бы-то-ни-было
только одно: что над подворотней вашего дома цифра
51, и что в самую глубокую ночь, когда тьма перевалит
через зенит и сотня окон вашего нелепого, облого* дома потухнет, только ваше окно горит*, пряча свет за
белой занавеской.
9
Невольный переулок
Я это знаю, потому что люблю гулять по ночам.
Очевидно, вы не в дружбе со сном. И когда все уже отдумали свои дневные мысли и расцепили контакты
мозговых полушарий*, вы продолжаете идти вслед за
мыслью. И я тоже. Нас только двое. Знаете, среди многого множества побратимств есть и такое: братья по
свече. Это из старины. Когда людям не хватает полушек*, чтобы купить обетную свечу*, они покупают ее,
сладившись*, и держат ее вместе, пальцы к пальцам.
Так вот, мы с вами братья по свече. Друзья по негаснущему думанию. Хотя и не знаем друг друга, ни разу не
видели один другого и вряд ли увидим.
Итак: люблю гулять по ночам. Днем, когда пространство заполнено лучами солнца и по всем излучи-
ям города кружение колес и дерги шагов, время слабо
ощутимо. Оно — лишь тень пространства. Но вместе
с ночью, когда вещи, живые и мертвые, бездвижутся,
тень выступает на место вещи, тем самым оттесняя ее
в сны, в тенеподобную жизнь*. Над пустыми улицами
горят циферблаты часов. И время, шевеля остриями
черных стрел, как вот я сейчас острием пера, вписывает свои мысли в тьму.
Наше время — это время времени. Мы отказались
от захвата пространств, от аннексии территорий. Но
мы захватили себе время, аннексировали эпоху. И эта
новая социалистическая собственность должна быть
тщательно и додонно изучаема. Я это делаю, как умею.
Глубокоуважаемое негаснущее окно, я часто беседую с вами, стоя на противолежащем тротуаре. Никто нам не мешает, кроме редких голосов пьяниц и набегающего грохота ночных грузовиков. Время мне
представляется то вихрем секунд, то водопадом, падающим вниз: в грядущее*. Если у ветра секунд хватило
баллов, чтобы сорвать с меня шляпу (а иным это стоило сорванной головы), то значит ли это, что я раскла¬
10
Невольный переулок
нялся с революцией? Вот в этот вопрос — как капля
в камень — и вдалбливаются все мои мысли.
Сейчас надо жить, распрямясь во всю душу. Уровень жизни так поднялся, что подбирается к горлу.
Легко стать утопленником смысла. Но что делать тем,
чья душа старчески ссутулена? Или горбатому? Обращаться — как консультирует пословица — за помощью
к могиле?* Очевидно, так.
Вы не отвечаете, окно. Вы молчите светом. Хотя
как-то на днях мне показалось, что я получил от вас,
именно от вас, строку в три слова. Строка золотилась
круглыми буквами по черной дощечке: «Уходя, погаси
свет»*.
3
Почтальону.
Товарищ почтальон, это письмо не надбавит шагов к вашей ходильной работе и не сделает вашу сумку
тяжелее ни на единый грамм. Боюсь только, что привычка носить письма заставит вас отнести и эти строки к себе на квартиру. Но я советовал бы вскрыть его
немедля, прочесть и выбросить: в ближайшую урну.
Я очень уважаю труд почтальона. По-моему,
между словами «почта» и «почтенная» есть даже какое-
то родство. И все-таки, я утверждаю — только не торопитесь обижаться, — что ни одно письмо ни до кого,
никогда и ни разу не дошло. Полностью. До последнего своего смысла.
Разумеется, я не хочу этим хоть в самой малой
степени порочить работу почтальона. Почтальон добросовестно стучится в дверь. Но стучать в сердце
1 1
Невольный переулок
и достучаться до него — это не входит в круг обязанностей письмоносца.
Почтальон вручает конверт. Но уверяю вас, что
письму со штемпелем «Владивосток», врученному
в Москве, предстоит гораздо более длинный путь, чем
тот, который оно уже проделало.
Мы ликвидировали, или почти ликвидировали,
неграмотность. Это очень хорошо. Кто спорит? Но что
мы сделали для ликвидации духовной неграмотности?
Ведь все мы понимаем друг друга по слогам, еле-еле, не
умеем читать чужое чувство, суть, спрятанную в букве.
И все-таки я угадываю в вас, мой случайный
адресат, некое ощущение обиды, а то и скуки, которая вот-вот — через секунды — швырнет мое письмо
прочь. Потерпите еще пару строк. Дело в том, что по
мере того, как в чернильнице — капля за каплей — убывают чернила, в пишущем — рюмка за рюмкой — прибывает водки. Вы сами, вероятно, иной раз не прочь.
Ваше здоровье. Недавно, после двух флаконов, я взял
да и написал открытку Господу Богу. Так и заадресовал: «Богу. В собственные руки». Ей-богу. И идя за третьей скляницей*, опустил открытку в ящик. Проспавшись я и забыл о ней, но она обо мне нет. Через два
дня получаю письмо обратно со штемпелем: «За нена-
хождением адресата». Скажите после этого, что наша
почта не четко работает. Ваше здоровье.
Но о чем бишь мы? Ах, да, о конвертах. Мысли боятся солнца, отдергиваются от нахлеста лучей.
Впрочем и я, кажется, нахлестался. Перед глазами
рябь какая-то и прыг пятен. Да, сперва мысль под теменем, в костяном конверте, потом в бумажном конверте. И легче проломить костяной, чем вскрыть — пойми ты, вскрыть — бумажную кожуру до... Фу ты черт,
мысли шатаются, как пьяные. И чернильница почему-
то на полу. Чернильница. Не догнусь. А перо всхт-*.
12
Невольный переулок
4
Невольный переулок, д. 16*, кв. 1.
Госспирты* стали открываться почему-то только
в 11. Вышел в 10 и принужден был бродить, пока не
снимут железной решетки. Сперва пошел по Варгуни-
хиной горе и постоял рядом с обезглавленной единоверческой церквушей*. Внизу, где раньше был голый
берег, теперь веселый зеленый сквер. Если всмотреться, за Москвой-рекой и за Бережками виден черный
циферблат Брянского*. Золотая стрела тянула по его
кругу минуты медленно и натужно, как носилыцик,
работающий сразу на двоих пассажиров. Потянуло
ветром. Я повернул ему спину и вошел в Варгунихин-
ский переулок*. Несколько коленчатых поворотов —
и нежданно для себя я очутился в незнакомой улочке,
обставленной одно- и двухэтажными домиками. Ничего в ней не было, останавливающего внимание. Как
и все другие. Только вот название — белыми буквами
по синему фону: «Невольный переулок»*.
Вас еще нет здесь, человек, которому пишу. Нет
уже потому, что домов у переулка всего четырнадцать,
а № 16 только строится, растет кирпичами вверх. Мне
не хочется, чтобы это письмо дошло слишком скоро.
Пусть оно доберется до ваших глаз вместе с будущим,
о котором сейчас думаю.
Невольный переулок: четырнадцать с половиной домов, а вот мне показалось — на минуту показалось — будто длиннится он, выкрючивая колена из колен, сквозь всю Россию, и будто не счесть невольных
вселенцев его, таких вот как я. Ведь я и мне подобные,
а нас не так уж мало, все мы живем в Невольном переулке истории.
13
Невольный переулок
Что мы сделали, чтобы пришла Она, вы знаете о чем я говорю. В лучшем случае мы выкликали ее,
как в деревнях выкликали весну. Веснянками*. И веснянкам нашим нужна была в сущности так, веснишка.
А пришла весна, пугающе юная, настоящая весна. Цветение ее слишком ярко для наших глаз. И мы прячем
глаза под консервы*. «Оханьем поля не перейти»* —
а мы хотели перейти его именно... оханьем. В то время, как другие, подымая на плечи тяжелые плиты дней,
мостили ими дорогу в революцию, подлинную дорогу
гигантов, мы отрывали календарю легонькие листочки, изредка лишь взглядывая, на сколько секунд прибавилось солнце и что на сегодня предлагает отрывной: бульон с гренками или раковый суп.
Да, какой может быть праздник в Невольном переулке. Невольный. Какая радость? «Нечаянная», как
озаглавил ее еще Блок*. А жить можно только чаян-
ным, бытие с чужого плеча — небытию сосед. И все мы,
как это учили нас в школе, — «возлЪ», «нынЪ», «подоЬ»*.
А что подлее «подлЪ»?* Из него «вчужЬ». Это для меня
стало теперь — «noc/rfc» — «въяв'Ь», и исход лишь в том,
что — «вкратцЬ», «вскоре»*... Но зачем об этом так вот,
«вообще»...
5
Человеку на марке.
Вот я вижу вас в вашем зеленом бумажном окошечке. Ваши плечи выдвинуты над рубчатым подоконником, а поднятая вверх голова охвачена суконным шлемом*. Вот я вас приклеиваю к письму вам же
адресованному. Я, человек не умеющий ни к чему при¬
14
Невольный переулок
клеиться*. Бесклейное существо. Бесклейное, но келейное.
Я завидую вам. Это благородная профессия: отдавать жизнь не минутами и не часами, а сразу всю, не
раздробью, а целиком. Загородить своим трупом свое
от чужого. Я тоже, собственно, кандидат в трупы. Потому что живой перегораживаю дорогу своему к своему.
Логика требует: убрать*. Но кроме логики есть еще и...
Сперва, когда это случилось, пробовал вместе
с другими. С вами. Голосовал, заседал, говорил речи,
одним словом — во все открытые двери. Но как-то рабочий один, лицо у него было похоже на ваше, отслушал одну из моих речей и сказал: «с февралевой душой, да в октябрьские дела»*. Занозил он меня. Обидно. Но обиднее обиды то, что верно.
Конечно, было много и другого. Не сразу я понял,
что вот скачу задом и передом, а дело своим чередом*.
Ну а там руки плетью. И к чему, в самом деле, вставлять
палки в колесо катафалка, на котором тебя везут*. От
людей я отошел и завел дружбу с бутылкой. Пью.
Теперь даже детишки с нашего двора, увидев меня, кричат: «дяденька красный нос». Ну что ж, лучше
красный нос, чем нос по ветру. Как вы полагаете, человек на марке?
6
Арбат, 51. 3-й этаж.
Негаснущее окно у правого подъезда.
Я опять к вам, окно. Наверное, вы писатель. Кому другому бодрствовать у ночной лампы. Признаться, я не люблю наших писателей. Одинаковые какие-
15
Невольный переулок
то и все про одно. Жизнь выбросила уйму тем, сюжет
на сюжете и сюжетом погоняет. А они трусят сюжета. Только у них и темы, что, мол, не те мы. Правильно. Ну а дальше?
Чернильницей вы, писатели, пользуетесь так,
как осьминог своим чернильным мешком: для самозащиты. Замутит свое вокруг и «отмежевался». И каждая
последующая книга удирает от предыдущей. С осьминогам проворством.
В общем не то литература, не то игра в перышки* и пятнашки: чуть пошалил перышком, сейчас тебя
и запятнают. И опять сначала.
Но у вас, наверное, свое окно в мир, и вы поймете меня.
Сам я, разумеется, никакой не писатель, а так...
записыватель. Если какой-нибудь образ увяжется за
мозгом и начинает преследовать меня, я иду на него
с пером, как с рогатинкой. Вот, например, выписываю
подряд*, не пробуя суразить несуразицу:
— Подтянитесь, — сказали человеку. «Хорошо»,
ответил тот, пошел и повесился.
Покойный был льстюга. Он даже и в петлю попробовал без мыла пролезть.
Сначала повесничал, а после повесился.
Не будет преувеличением, если сказать о висельнике: он в натянутых отношениях с жизнью.
Ну и так далее, около дюжины вариантов: вроде вариаций Шуберта на тему*. Сижу и придумываю,
пока не перепротивню противное. Тогда легче как-то.
Но вам, другу бессонниц, я хочу предложить одну тему. Пожалуй, даже две. Не откажитесь от скромного
16
Невольный переулок
подарка. Ведь всякая мысль, всякий замысел тянется
к форме. У меня ее нет. Но там, под желтым светом вашей лампы, авось замыслам не будет отказано в том,
о чем они просят.
Первая тема, в сущности, и не придумана, а наблюдена. Еще в молодости я знавал одного любопытного старика крестьянина. Звали его Захар. Про свою старость — а было ему под 80 — он говорил, что она обижает его. Именно обидчивое отношение к своей немочи,
к грузу годов, отнявшему возможность работать в поле
и по хозяйству, заставило Захара покинуть избу и разросшуюся семью и уйти в сторожа. Сторожил он где-то
под городом, на складах*. Работа не требовала мускульной силы (тряси колотушкой и только). Нужна была
лишь способность бодрствовать: от всех вечерних до
всех утренних зорь. Старик и так спал чрезвычайно мало, легким и будким сном. Теперь, честно выполняя обязанность, он стал жить на сплошном бдении.
Во время ночной работы он иной раз как бы
прикручивал фитиль сознанию, но никогда не гасил
его. С первым брезгом* старик проделывал несколько
верст, отделявших склады от его дома. Здесь он тоже
никогда не ложился. То присядет на завалинке, подставляя голову теплому солнцу, то помогает сыну в какой-нибудь легкой работе, то подшивает лапоть, штопает валенок или одежду. А с вечерними сумерками
опять на работу.
Я был тогда молод, платил сну третью жизни —
полностью, и для меня был крайне занимателен и непонятен этот своего рода феномен. Не раз я спрашивал Захара, как ему удается жить врозь со сном. Старик,
ясно улыбаясь, отвечал: «А что спать-то по мелочам?
как-нибудь завалюсь и сразу на веки веков».
Взгляд у Захара был очень зоркий, острый. Он
различал породы птиц, присаживающихся на даль¬
17
Невольный переулок
них нитях телеграфных проводов. Казалось, несмежа-
емость глаз надбавляла им силы, а непрерывность сознания уменьшает его рывкость, дает какое-то преимущество перед другими сознаниями, каждодневно
обрываемыми сном и снова стягиваемыми узлом при
пробуждениях.
Захар говорил мало, но всегда веско и точно.
Если ему прекословили, замолкал. Молчал он как-то
сверху вниз.
И вот однажды, отсторожив ночь, Захар вернулся — как обычно — к своим. Сперва он посидел под
стылым осенним солнцем. Потом, по просьбе сына,
взялся за одну из ручек пилы, чтобы помочь ему распилить тележку. Зубья заходили было, разрывая древесные нити, как вдруг старик отвел руку, отошел
к крыльцу и только с порога повернулся к удивленному сыну:
— Иди за попом. Сегодня засну.
Сын стоял оторопело на месте.
— Ну чего испугался, дурак? Делай, что говорят.
Вскоре пришел священник Захар, успевший
одеть чистую рубаху, исповедался и причастился. Сделал распоряжения по хозяйству: починить свиную
кровлю до дождей, подоткнуть забор, чтобы ветром
не сносило. Затем сел на завалинке. Домашние и соседи опасливо оглядывали старика. Ходили в полшума.
Кто-то спросил его: не перейти ли в избу. Старик не
ответил. Он слегка поклевывал носом, и тугая зевота
растягивала ему рот. Сперва он подоткнул голову локтями. Но так было неудобно. Прилег вдоль завалины
и разогнул ноги. Лицо его было повернуто к холодному осеннему солнцу.
Жена робко подошла к спящему:
— Захар Егорыч, пошел бы на полати. Захолодит
тут тебя.
18
Невольный переулок
Не слыша ответа, она притронулась к опавшей
руке спящего. Действительно, его уже захолодало:
смертью.
Ну вот вам одна тема. Может, не побрезгуете. Ну,
а другая, не знаю, стоит ли... Лучше отложим. Устал. Если факт мой подойдет вам, советую подлитературить
его, кое-что соскоблить, убрать. А то еще какой-нибудь
дурак скажет: мистика.
Кстати, давно собираюсь спросить: соседи ваши — за то, что жжете столько электричества, — наверно учиняют вам склоку?
7
Адрес тот же.
Другая моя тема: обо мне. Прилагаю несколько
копий моих писем. Написал их по памяти: большинство завалилось в беспамятье. Материала, конечно,
мало. Но все-таки. Заглавия не подсказываю, сами лучше моего придумаете, но мне, персонажу, хотелось бы:
Невольный переулок.
Письмо это — последнее. Больше не буду беспокоить. Все бы это, может быть, тянулось бы и тянулось,
если б не один пустячнейший случай.
Сегодня утром видел, как в сумятице колес раздавило автомобилем пса. Выдавило кишки и... но не
в этом дело. Пес был еще жив. Ему оставалось несколько секунд. Породистый, сильный зверь. Он встал на
качающихся ногах, вытянув вперед залитые кровью
глаза. Хозяин бросился к нему. Вслед за ним и еще несколько прохожих. И в ответ на протянутые руки пес
стал кусать, яростно кусать все что ни попадало под
19
Невольный переулок
зубы. Круг людей испуганно расширился. Пес, издыхая, продолжал лязгать зубами. Его слепнущие глаза
видели перед собой смерть, неминуемую смерть, и он
защищался. Защищался до последнего. Мудрый зверь.
Потом короткая конвульсия, и все.
Я тотчас же вернулся домой, так и не дойдя до
госспиртовой вывески. Невольный переулок пройден.
Теперь я не неволен. И сегодня я чокнусь с судьбой.
Но в рюмке моей будет не водка: другое.
Переписка
Сигизмунда Кржижановского
и Анны Бовшек
Письма Сигизмунда
1923
1
4/VII
Милый Друг,
я, пожалуй, и без Вашего сообщения догадался бы,
что адресоваться к Вам надо на Раскидайловскую*:
по крайней мере, в Кубасевом деле* Вы, как я вижу, из
сличения писем к нему и ко мне, придерживаетесь несколько раскидайловской тактики. Но хотя от Кубасе-
ва нетерпежа, в который Вы его вгоняете, страдаю до
известной степени и я, но у меня нет причин даже жаловаться: делайте, конечно, что хотите, Вам и «обратные расписки» в руки.
Я тощ, но письма от Вас тощее: двадцать разгонистых строк — и все. И при том все (простите старого брюзгу) во втором, например, письме, кроме слова «милый» (во 2-й строке) и беглого «родной» в 7-й
строке, не по существу. «Beau-freres’bi»*, «имянины»,
«пирожные», «солнце», — мне не светят, не услаждают, не радуют и не роднят ни с чем. От Вас я прошу
лишь Вас: это глупо сочинять какие-то правила для
писем; пишите, как пишется. Но в дальнейшем я постараюсь Вам отомстить, отвечая Вам по-Вашему. Вот.
От Анат<олия> Констант<иновича>* письма, как можно было ожидать, не получал. На днях принесли в мое
23
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
отсутствие какую-то синюю папку с нотами (вероятно, для передачи Вам?).
Температура в Москве 15° по R*.
Удостоверения от Сорабиса* о квадратуре не получал.
Ходил с Кубасем в Эрмитаж и на симфонический в Сокольники.
1 июля вернулись Северцевы*. Алекс<ей> Ни-
к<олаевич> кисл. Людмила Борисовна заботлива и мила: добрый, приятный и легкий «человек».
Вчера был на диспуте «Леф» с участием Сергея
Дмитриевича*: бросил в яму вечер и последние деньги.
Принципиально ленюсь. Живу одиноко. Гуляю
редко и то без компаньонок. В трудные дни вспоминаю о докторе Шротте (Влад<имир> Васильевич знает его)*, и это мне помогает. Пирожные будут куплены
29 июля: по степени их черствости (к моменту Вашего приезда) будем судить о Вашей черствости по отношению к Москве. Москву сейчас трудно любить: прежде, в незапамятные времена, в ней жили «московиты»; сейчас — москиты.
В таком роде можно писать до бесконечности.
Но я не буду.
Ваш Зима.
2
14/VII
Милый Друг —
медлил с письмами — думал: авось произойдет что-
нибудь, чем интересно и радостно будет с Вами поделиться. Ничего. Живу тупо и скучно. Уж чего: мои сандалии и те разносил, а скука что-то не разнашивается.
24
Письма Сигизмунда
Не думаю, а так как-то «полудумаю»; встреч с людьми
избегаю — а и встретишься иной раз, всегда потом пожалеешь. Только одной встречи жду с нетерпением
и живостью: с Вами. Правда.
«Пока» не работаю: и не знаю, где конец этому пока. Очевидно, перо мое зацепилось за какой-то
препятствующий ему смысл. Читаю — правда, с перебоями — Ленина, Плеханова, Каутского, Бернштейна et cetera, стараясь решить мучающее меня «или —
или»*, и не знаю, право, кто я*, шахматист, слишком
долго задумавшийся над очередным ходом, или пар-
тач,уже проигравший игру.
Впрочем, м<ожет> б<ыть>, все, даже победители, умеют лишь проигрывать время на выигрыш своей игры.
Итак, я «свечу» весьма тускло, а мой соперник, тем временем, уже успел, наверное, перекрасить
Вас в черный цвет, сделать Вас здоровее и радостнее. Смотрите, поправляйтесь как следует, до отказа, потому что здешние «солнца» укутаны либо в тучи, либо в скуки и умеют только портить настроение
и здоровье. Засим сообщаю перечень фактов: по воскресеньям играю в «городки» в Филях, но почти не
купаюсь — холодно; у Веры Георгиевны не был; у Сергея Дмитриевича почти не бываю (он очень занят)...
Факты получаются какие-то смешные, из неделания.
Еще один такой же факт: от Кубася по-прежнему никаких новостей. У меня хватает энергии, чтобы слегка обеспокоиться этим, но на то, чтобы написать ему
письмо, — нет.
С отвращением думаю о предстоящем сезоне
и вместе с тем хочу его скорее придвинуть к себе: мелкая суетня все же лучше, чем мертвый штиль.
Чаще всего встречаюсь с Леон<идом> Львовичем* (вот уже 3-4 раза за Ваше отсутствие). Екат<ери-
25
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
на> Мих<айловна> с Машей уже вернулись в Москву:
дача была неудачной.
Пока, простите, милая.
Ваш Зима.
1924
3
12/VIII
Милый Друг —
разница наших положений в том, что при мысли —
«две недели разделяют нас» — мне не «и радостно,
и больно», как Вам, а просто... радостно. И только.
Сегодня я открыл новый способ удачно вытягивать, сидя у моего стола, ноги: открытие это для меня чрезвычайно важно. Приедете: покажу. Думаю, если просидеть так еще десяток лет, стиснув зубы, — то
зубы (дело к старости) выпадут, и нечего будет стискивать. А вместе с тем: познакомили меня, почти случайно, с редактором «России»*: и после трех двухчасовых разговоров вижу: надо порвать. М<ожет> б<ыть>,
это последняя литерат<урная> калитка. Но я захлопну
и ее: потому что — или так, как хочу; или никак. Пусть
я стареющий и немного даже смешной дурак, но моя
глупость такая моя, что я и стыжусь, и люблю ее, как
мать своего ребенка-уродца. Но ну ее к ляду, вся эту
«литературу».
«Письмо в письме» было своевременно получено и передано Вере Георгиевне. Не беспокойтесь. Вера Георгиевна попросила у меня Ваш одесский адрес и уехала к матери в Орловс<кую> губ<ернию>, где
26
Письма Сигизмунда
пробудет до середины сентября. Белый, приблизительно то же, что и Вы: загорает и ничего не пишет*.
Раз в неделю захожу к Сергею Дмитр<иевичу>:
к концу августа выйдет из печати две его книги*: меня
это волнует и радует, как если б это было мое. Вот кто
достоин признания и славы.
Вчера проиграл в шахматы и очень удручен
этим: видно, даже и для этой игры я не гожусь.
Пивнушами Вы меня попрекали напрасно: расчисленные по дням копейки не разрешают мне ни пива, ни (что гораздо хуже) завершения цикла экскурсий, удачно было начатого мною. Мне кажется, все
эти старые, забытые камни и я — понимаем друг друга
с полувзгляда: и мне видимо в них что-то, мимо чего
смотрят все распроархиархеологи.
Кланяйтесь от меня Киеву. Мне с ним уже не
предстоит встреч.
Кстати: есть тут в Москве один старый брюзга,
который ворчит о том, что все для него перечеркнуто, что, кроме нет, ничего у него нет, а сам тем временем, заслышав свистки на Брянском вокз<але>*, торопит самое время и думает «скоро ли», хотя ничего, кроме никогда, брюзга не заслужил.
Ваш Зима.
1925
4
17/VII
Милый Друг!
Пусть у меня нос чуть опущен — зато у моих
новых полуботинок носы бодро вздернуты кверху:
27
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
очевидно, они надеются дотоптаться до лучшего будущего.
Серьезно: бросьте, милая, печалиться обо мне.
Живу я вовсе не так плохо: д-р Шротт хоть и бродит за
мной по пятам, но мне ловко удается уворачиваться от
встреч с ним — нос к носу.
А вот плохо другое: слишком рано начал скучать
по Вас. И за тысячу верст не спрячешься от Ваших
глаз: смотрят, хоть ты что!
Когда доработаюсь до свободных денег, начну
бить время пространством, то бишь, говоря популярнее, займусь экскурсиями. А пока кропаю корректуру — и еще корректуру. Кстати, когда я в первый раз
принес в издательство корректуру, то насмешил всех
мрачной оговоркой: «Вот вам — карикатура».
К Суслову много раз, но бесплодно, звонил*
и ходил, пока удалось, наконец, его дня 4 назад увидеть: «Зайдите через неделю». Завтра я, конечно, зайду, — но заплатят ли они Вам, без новых отлагательств,
следуемое, — «наверное не скажу, но, вероятно, навряд
ли». Но это ничего: не позднее 5-6 августа я смогу накроить Вам пару червонцев и выполнить обещание.
Жаль, что вчера сорвался один хороший заработок, на
кот<орый> я очень рассчитывал, — полумесячная работа в одной типографии. Но это ничего: откуда-нибудь, да набежит.
Источник моих всегдашних горестей — литературная невезятина — и летом не иссякает.
«Авт<обиографию> трупа» переселяют (ввиду сокращения объема «России» наполовину) из 6 № в 8 №*.
Можно сказать, дождался мой «труп» приличных похорон. Но у меня большой запас «пустей»: пусть. Тем
более что Лежнев по-прежнему очень сердечно относится ко мне и даже дважды забегал ко мне на квартиру, желая наладить, — правда, пока неудачно, — рабо¬
28
Письма Сигизмунда
ту для меня в типографии. Сам он: в тисках. Отсюда —
беды.
На днях Лундберг* собирается отвезти несколько моих вещей в Ленинград. Кой-что передано уже
Кричевской (к кот<орой> меня адресовал Лундберг
же) для прочета в «Круг»* и дожидается приезда Пильняка*, будь он неладен. Значит: опять сквозь строй.
Ну-ну, поживем — увидим: пусть Вас печет солнышко, меня сечет дождичком. А там встреча, и значит — радость, радость, которую никаким раздатчикам прав на счастье и славу — не отнять.
Будьте ж радостны, милая: наперед, в кредит, как я.
Ваш Зима.
5
22/VII
Милый Друг, —
старая лестница на Трубном запломбировала себе
нижнюю ступеньку и ждет Вас. Я — тоже. Но Вы не торопитесь менять солнце на «солнце», семейственную
Одессу на безнравственную Москву, где даже ртуть
в термометрах «низко пала». Живем мы здесь весьма
осклизло и зябко, мой друг, и я, хоть и соскучился по
Вас, посоветую вобрать в свои поры побольше юга;
так как мысль о Вашем здоровье часто меня мучает:
собирали Вы тепло месяц, а расходовать его придется
в течение 8-ми месяцев зимы.
Недели три (после прощания с Вами) я плющил
свой матрац, изучая все разновидности дремы, — после отряхнулся и стал плющить несчастных Шамиссо
и Уэллса*, бросаться за деньгами на «Словарь» Френкеля*, в редакц<ию> «Театра и мира»* и т. д.: в 1Уг неде¬
29
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
ли намакулатурил 5 печатных листов, что импонирует
даже Сергию Дмитриевичу. Меня поддерживает предчувствие, что, дав разгон перу на макулатуре, доскачу
на нем и до литературы.
Денег мне пока еще нигде не заплатили, но рано
или поздно, не здесь, так там, заплатят: во всяком случае, к первым числам Вы можете смело рассчитывать,
милый друг, на мою помощь и возвращаться без риска
очутиться в «матерьяльном тупике».
Кстати: удостоверение Сорабиса (о добав<оч-
ной> площ<ади>), наконец, доставлено по назначению; требование новое — о размере оклада, но с этим
Домком подождет.
Живу нелюдимо: даже у Северцевых бываю редко: то мешала спячка, сейчас — работа. Завтра будут
у меня гости: Сергей Дмитриевич с Софьей Павловной* (перед отъездом в Крым), — поведу их — показывать один московский раритет.
Вижу, что был неправ, обвиняя Вас в медлительности в деле Кубася: заключительный шаг Ваш — талантлив.
2-3 раза был в Филях, пробуя подчернить кожу: солнца — ни-ни. Утешаюсь лишь тем, что хоть карта на Шамиссо мне, кажется, «дана». Впрочем, пока не
подписан договор, повоздержусь с «гоп».
До свидания.
Зима.
6
25/VII
Милый-милый Друг!
Досадно, что мое письмо, отосланное 17-18 июля, очевидно, не дошло.
30
Письма Сигизмунда
Беспокоиться обо мне Вам не надо: только первую неделю было круто, а там повернуло, в смысле материальном, куда лучше, чем я ожидал: обедаю каждый день, а это — уже много. Итак: «ша!»
Вчера, добившись свидания (второго по счету)
с Сусловым, убедился, что на скорую получку Вашего
гонорара надежды нет. Но пусть это Вас особенно не
огорчает: как я уже писал Вам в своем заблудившемся письме, — к 5-6 августа я вышлю Вам два червонца.
Хотел бы и раньше, но с корректурой, которой, единственно, пока питаюсь, — сейчас довольно тихо.
Лундберг не оставляет меня своими заботами:
предполагается в скором времени работа по библиографии при его издательстве, кот<орая> даст, хоть
и мало, но даст.
Собираюсь строчить для «Энциклопедии» — по
заказу Серг<ея> Дмитр<иевича> — статью об Авенариусе*, скучно, но...
Что еще? Собираюсь писать рассказ, в котором
изображу Ваши глаза*: убедительные глаза! Как видите: жив курилка.
«Заглавие» передал в Госиздат*, послезавтра ответ. Готовлюсь к «не подходит».
«Фотогения», что ни день, делается беспокойнее
и суетливее и втягивает в себя довольно много времени. Повесили вывеску, приладили телефон; заставляют меня заседать, куда-то ходить, с кем-то договариваться и что-то храбро обещать.
Лето получается, как видите, довольно топотли-
вое и несуразное, но встреча с Вами, хоть медленно,
но все же близится — и это делает меня радостным той
радостью, которой я, быть может, и не заслужил.
Часто и подолгу разговариваю с Вами, мой друг.
И притом так нежно, как я не умею при встречах с реальной Вами. Да, два месяца разлуки — это неплохая
31
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
школа терпения; в школе — всего двое: постараюсь ее
окончить первым. В самом деле, давайте на пари: кто
к кому приедет? Если Вы ко мне, выигрываю я, если я,
и т. д. Только таким мошенническим путем и можно
у Вас выиграть: не правда ли?
Ну, будьте радостны, мой друг. —
Одно из двух солнц.
(Это не «комплимент» Вам, а моя подпись.)
7
27/VII
Неточка —
извещаю Вас о дальнейших своих достижениях в ничегонеделании. Похвалите.
Выискиваю предлоги: то еду в Звенигород к Лидии Васильевне показывать ей свое скучающее лицо,
то отдаю дни приехавшему из Киева Коле Пусен; и выходит всегда так, что маленькое «надо» оттесняет большое надо.
Впрочем: иногда — по ночам — играю сам с собой
в шахматы*. Приедете — придется Вам быть моим партнером. Конечно, это еще не точка, Неточка, но меня не
оставляет сумасшедшая надежда, что, когда дойду до нее,
доленюсь до конца, «проиграю себя в шахматы» в один
из своих ночных сеансов, — тогда я как бы «выиграю
проигрыш» (не ясно?) и поверну в подлинный труд. Хотя, м<ожет> б<ыть>, и не успею: из зеркала на меня смотрит лоб с седеющими висками; скоро и Endspiel.
Сейчас читаю «Ист<орию> социальн<ой> утопии»*: тема щекочет мозг. Иногда возникают замыслы.
Вообще: Вы и замыслы — это единственное, что меня
еще радует.
32
Письма Сигизмунда
Осуществлений что-то не предвижу: правда, мы с Леонид<ом> Льв<овичем> задумали одну
театр<альную> переработку* (опять «пере-»), он даже написал о ней Таирову, но я пока и пером не пошевелю. Скучная это работа. Упорно думаю о большом рассказе «Жесткий вакуум»*: все это чернильной
тучей давно нависло надо мной, а «гроза» не получается. А вдруг получится такая, как в М.Х.Т.: лучше совсем не надо*.
Вы спрашивали дважды о матерьяльных обстоятельствах. Теперь могу ответить прямо: было очень
трудно, сейчас спасен долгожданным гонораром из
«Жизни», который дает мне возможность безбедно
прожить август.
Так как из лета все равно ничего не вышло, думаю заполнить время до Вашего приезда экскурсиями в Троице-Серг<иев> Посад, Коломенское и т. д. Звенигород был началом. Спутником моим обещает быть
Леон<ид> Льв<ович>.
Сейчас иду в Фили к Коле Пусен, кот<орый>
пробудет еще 2-3 дня. Получил письмо от Евгения
Михайл<овича>*: он очень тепло пишет о Вас. Мой совет: заверните в Киев, остановитесь у Кузьминых.
Будьте здоровы и радостны, Нетеныш.
Всегда Ваш Зима.
8
8/VIII
Милый Друг!
Вчера ко мне — во время обычного сидения на
бульварной скамье — подошла цыганка: «Дай погадаю:
письмо получишь, хорошее письмо». Верно: сегодня
33
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
утром я уже получил его, «хорошее письмо». И отвечаю без промедлений.
Мне очень хотелось бы написать Вам слова, от
которых загорелась бы — это вот — бумага, но... тогда
письмо может не дойти. Лучше попытаться в стиле деловитом и дружески-сдержанном.
Отвечаю на вопросы: «уехали ли Северцевы». —
Почти: завтра, с вечерним поездом. «Видели ли Вы Веру Георг<иевну>». — Видели мы Вер<у> Георг<иевну>,
но она была в расстройстве чувств, и мы ушли, посидев
немного. «Что слышно о Бор<исе> Никол<аевиче>»?* —
Б. Н. прилагает все усилия к тому, чтобы о нем ничего
не было слышно. Я ему в этом не мешаю.
С литературой — тихо. Настрочил, преодолевая
отвращение, «Авенариуса». Серг<ей> Дмитр<иевич>
нашел, что «очень хорошо». Я: не знаю — написанного
даже не перечел. Д ля «Фотогении» — в срочном порядке — накропал сценарий для Моссельпрома. Называется: «История о Мосе, Селе и сыне их Проме»* Q/г печатного листа). Как видите, и я могу... а 1а Арго-Адуев* и т. д.
Сейчас прилаживаюсь к не то заказанной, не
то не заказанной Серг<еем> Дм<итриевичем> статье
«Авантюрный роман»*. Думаю, это могло бы у меня получиться, но можно ли будет за это... получить, — не
знаю.
В Госиздате дело мое — очередной щелчок —
провалилось*: нашли, что «очень интересно», но...
идеологически и т. д., и предложили дать письмо Полонскому в «Печ<ать> и Рев<олюцию>»*. Я, разумеется, отказался.
Лежнев кроит и мастерит свой «тришкин кафтан» с поистине муравьиным терпением. Но, после
описанного мною в перв<ом>, самый интерес к «России» у меня значительно упал, и я без волнения слежу
за его подготовительной работой.
34
Письма Сигизмунда
Лундберг, вместо того, чтобы ехать в Ленинград,
уехал в Киев: дело с рукописями, т<аким> обр<азом>,
попадает в долгий ящик: «сюочно», мой Друг.
Но не надо быть требовательным: хорошо хоть
то, что вот уже более месяца как д-ру Шротту не удается меня разыскать: хотелось бы, чтобы вообще старичишка как-нибудь обиделся на меня или потерял мой
адрес, что ли...
Серг<ей> Дм<итриевич> всерьез строится*: пустырь, отведенный ему, обведен забором, за забором груда кирпича. В роли «приобретателя» милый
Сер<гей> Дм<итриевич> чувствует себя немного сконфуженно, но радостно.
Есть еще всякие подотчетные пустяковые новости, но, поразительно, до какой степени я не умею писать: разрешите поэтому, тов<арищ> Друг, и пустяки,
и я, мы подождем.
Ваш Зима.
1926
9
16/VI
Милый мой Друг!
Сегодня я как будто уезжаю*. Вы, вероятно, уже
цвета кофе со сливками, а я... я получил систему д-ра
Киша*, по которой — людям, занимающимся загоранием на побережьи юж<ного> Крыма — в первый
день надо выставить солнцу только пятки, на второй
день надлежит обнажиться по щиколотку, на третий —
35
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
на фут выше... — при моей длине я не успею догреть
себя до макушки, это ясно.
Перед тем, как писать Вам, взглянул на себя
в зеркало: смесь усталости с тупостью. Ну, а Вы, Нет:
наверное, сидите среди выбитых градом окон и вертите ручку швейной машины. Целую милую ручку
(не швейной машины, конечно) и еще раз прошу —
если чем огорчил, простите. Виноват не я, «он»: каждый самому себе только сосед. Отжил я этот десяток дней тихо-скромно: как будет дальше... почем
я знаю.
Пейзаж «Киммерии», куда везет меня сегодня поезд, мне понравился (на фотогр<афии> в путеводителе): абстрактный: небо — камни — море.
Вчера заходил проститься к Сергею ДмитрСие-
вичу> и Софье Павл<овне>. Мне даже как-то совестно
уезжать: мне — солнце, а Серг<ею> Дм<итриевичу> —
лампа с зеленым колпачком.
Мысль у меня сейчас об одном: как бы московские злыдни не пролезли за мною в вагон*; из ковра
я сегодня вытряхнул всю пыль, а вот из головы...
Собственно, следовало бы за 3-4 дня до выезда
на отдых выключать себя из общения с людьми, а то
люди всегда на прощание стараются как-нибудь тебя
занозить.
Ну, Неточка, кончаю — надо идти за дорожными покупками. Пишите мне (до сред<ины> июля) по
адресу: Крым, Коктебель Феодосийского уезда; Дача
М. А. Волошина.
Привет всем Вашим.
Целую Вас крепко.
Зима.
36
Письма Сигизмунда
10
1/VII
Милый Друг!
Хотя и ведомо мне, что Вы великий «неписа-
ха», но неписание Ваше показалось мне чуть длиннее
обычного, и я уже стал беспокоиться.
Житие мое у Максимилиана Александровича
протекает, по сравнению с ожидаемым, менее ярко, но
зато более мирно и спокойно.
Встретил он меня радушнее, чем я мог рассчитывать, и относится ко мне, поскольку могу судить,
тепло и по-хорошему. Сам он — обаятельное сочетание мудрости и наивности, язвительности и любви;
огромный и грохочущий, он напоминает мне «Воскресенье», окруженное нами — приезжающими и уезжающими — «днями». И я опять человек, к<ото>рый
был, кто знает, м<ожет> б<ыть>, и Четвергом*.
До сих пор отдых мой сильно замутила внезапная болезнь Евг<ения> Львовича*, который слег
(сильн<ый> стоматит) на третий день после моего
прибытия. Сейчас он поправляется, хотя еще очень
слаб.
Каждый день купаюсь и самосжигаюсь; только,
вот, моя северная кожа плохо держит загар — до бронзы мне еще далеко.
Хотя настроение у меня не прогулочное, но все-
таки совершил две-три экскурсии в лодке — вдоль побережья, на лошадях — в Судак. Исходил всю территорию развалин Судакской Крепости*: теперь мне
отчасти понятна влюбленность в нее Алек. Алекс. Развалины — первый сорт.
По вечерам тут устраиваются иногда чтения: читал и я — как будто бы с успехом*.
37
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Живут здесь все несколько разреженно-малыми
группами, встречи — только за чаем. Я механистически включился в группу Ланна и его присных — опять-
таки по нежеланию делать лишние усилия — тот ли,
этот ли человек — все равно. Кстати, встретил тут довольно много полузнакомых: авось, дознакомимся.
К работе я себя не понуэвдаю: сидеть у моря
и слушать прибой — это куда интереснее возни со словами.
Ну, а Вы как, маленькая? Обо мне лучше не раз-
мечтывайтесь, я не стою этого; старайтесь спать без
снов и бодрствовать без грез — как стараюсь я, хотя это и не всегда у меня выходит. Серьезно: всячески
стараюсь не думать об Вас, а Вы, хитрая, все-таки пробираетесь в мысли, как и в прошлую разлуку.
Ну вот — крепко прижмитесь ко мне и — будет.
До свиданья.
Зима.
Кланяются и приветствуют Ланны. 16 июля
предполагаю выехать в Москву. Но до этого получу
еще одно письмо из Одессы? Правда?
11
10/VII
Что же это, Неточка, Вы мне ничего не пишете?
Жду-жду — хоть бы слово. Нехорошо так мучить: мне
и так печально и неспокойно, а тут еще Ваше молчание. Напишите сейчас же — о чем молчите? Слышите?
Или Вы не получили моего письма перед отъездом из Москвы. На всякий случай вот еще раз адрес:
Крым. Коктебель, дача Волошина.
38
Письма Сигизмунда
Милая Нетусь, друг мой единственный, обещаю
Вам писать каждую неделю, но только если и Вы будете делать то же: око за око, письмо за письмо. А не
то — сам теперь вижу — очень мучительно получается.
Пишите о себе всё, до мелочишек, — и мелочишки мне
эти дороги, потому что Ваши.
Я и здесь, Нетеныш, не могу выкарабкаться из
чувства ожесточения и горечи. Ни бризам из меня не
выдуть, ни солнцу из меня не выжечь подлой накипи,
бессмысленного гневного «за что», которое умный человек не должен пускать к себе в ум.
Списался с Анат<олием> Конст<антиновичем>
и в среду (13 августа)* еду к нему, а затем с ним в маленькую экскурсию — Судак, Алушта и ее окрестности.
Но, если в течение двух дней, отделяющих меня от поездки в Судак, не получу от Вас письма, то и эта экскурсия не доставит мне никакой радости. Вот Вы какая злокозненная Аннерле.
Встречи и разговоры здесь — у добрейшего Максимилиана Александровича — по касательной: постепенно во мне накопляется все больше и больше и умного и глупого (особенно последнего), и нет со мной
моей Неточки, которой можно головой в колени и до-
рассказаться до конца.
С работой не тороплюсь, да и ну ее, кому она
нужна!
Иной раз мечтаю, как на будущий год (если будет будущий год) поедем вместе, хоть ненадолго, к морю. Хотите?
Обнимите меня — издалека. Спасибо.
Зима.
39
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
12
18/VII
Милый мой Нетеныш!
Пишу, не дождавшись ответа, помня обещание
о еженедельнике. Ваше второе письмо, если не считать
непрочета, пришло все-таки вовремя — за несколько
минут до моего чтения, — я успокоился и легко овладел текстом «В зрачке»*. Рассказ произвел впечатление
более сильное, чем можно было ожидать. По окончании я увидел себя окруженным глазами с пристальностью и хорошим долгим молчанием. Затем Волошин,
вообще скупой на баллы, заявил, что это «великолепно и безжалостно».
Через день автобус увез меня и Анат<олия>
Конст<антиновича>, а еще через день пароход вез нас
сначала в Алушту, потом в Ялту. Экскурсия наша была — из-за несуразицы в расписании — скомканной
и короткой, но все же я немного проветрил свою скуку.
С радостью думаю, что уже более половины срока, разлучившего нас, прошло. Может быть, Вы, маленькая, приедете на несколько дней раньше конца
отпуска? Поедем с Вами в Троицкий посад*, отдохнете день-другой в Цекубу* или где-нибудь еще: и отдых,
как работа, требует некоторого разнообразия. Только вот, пока не восстановите и не добавите фунтов, не
попадайтесь мне на глаза. Слышите?
Мне здесь тоже как-то не так: сутолочно и вместе
с тем одиноко. В будущем, если жизнь позволит, я буду
приезжать к Максим<илиану> Алекс<андровичу>, но
на неделю-полторы, не больше.
С работой все еще не ладится, очевидно, общая
атмосфера действует на меня. К тому же я, как Вам известно, прирожденный лентяй.
40
Письма Сигизмунда
Шенгели* после чтения предложил свести меня
с издателем, который — по его убеждению — возьмется издавать меня. В ответ я кивал головой и благодарил и ни на секунду не верил.
Начали ли Вы работать, моя маленькая-боль-
шая Нета? Если нет, то, наверное, мучаетесь — ведь мы
оба с Вами из тех, кто и праздностью трудится, и мне,
и Вам не дает роздыха проклятое «иди».
Когда же письмо? Целую нежно и долго.
Зима.
13
2/VIII
Милая Неточка!
Вот Вам несколько слов перед отъездом. Настроение мое из двух слагаемых: грусть + покорность.
«Свояси» московские меня не слишком притягивают,
хотя праздность утомительна.
В общем, все это рассуждения биллиардного
шара, по которому уже ударили кием.
Позавчера произошла неожиданная и потому
вдвойне радостная встреча: Г]рин — я. Оказывается, он
живет в Феодосии*. Узнав, что я намарал «Штемпель:
Москва»*, оживился и пригласил к себе, т<ак> ч<то>
завтра — перед поездом — надеюсь побыть у него пару часов (кстати, я передал ему одну из своих рукописей, которую он завтра должен мне возвратить). Знакомство это — Вы знаете, почему, — для меня очень
ценно и нужно.
В мастерской Максим<илиана> Ал<ександрови-
ча> по утрам дочитал ему — с глазу на глаз — «Клуб
убийц букв» и прочел «Швы»*. С радостью выслушал
41
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
и похвалу, и осуждение: вижу — мне еще много надо
поработать над отточкой образа — и, если жизни мне
осталось мало, то воли — много.
Ну как, дитятко мое милое, Ваше плавание? Надеюсь по приезде в Москву застать два письма: «ураганное» и... зефирное.
Последние дни прошли гораздо лучше, чем ожидал. Причина: необычайная деликатность и духовная
вежливость хозяев — даже в мастерской был для меня создан возможный уют, и я был окружен заботой
о моем покое и удобстве. Удивительные люди.
Ну, маленькая, пишите. Самое хорошее в мире
то, что встреча наша близится. Не так ли. Обнимаю.
Зима.
14
10/VIII
Милый Друг!
Я устал Вас ждать. Серьезно: это очень изматывающее занятие. Если я и прибавил в весе (в Коктебеле) на 1 золотник, то сейчас ожидание, иссушающее
и тягучее, слопало мой золотник.
То 15, то 22 авг<уста> (ведь, уезжая, Вы собирались назад к 15)... мучительница!
Вы меня будите по утрам (раньше времени), вну-
триваетесь в мою служебн<ую> работу (что ни день,
я все рассеяннее — скоро меня прогонят из-за Вас):
безусловно, образ Ваш беспокойнее, капризнее («ка-
призульнее») реальной Вас. Так что, если уж выбирать,
то лучше Вы, чем он: приезжайте, а он пусть... уезжает.
А пока я живу по принципу: «всё на борьбу со
скукой». Для этого: 1) не хожу к людям, т<ак> к<ак> лю¬
42
Письма Сигизмунда
ди главные источники скуки, 2) завел себе радиоприемник и коротаю вечера, слушая концерты и трансляции опер, 3) 2 дня убил на бегах (это стоило денег —
но иначе нельзя). 4) придется, кажется, прибегнуть
к хождению на футбол, бокс и т. д., пока не расправлюсь с 12 днями, разделяющими нас.
Да, забыл: вчера просидел целый вечер на аукционе (в итоге сахарница (?) за 8 гривен). Вот видите,
куда Вы меня толкаете.
Получил очень хорошее письмо из Крыма от Веры Георгиевны, такое письмо, на которое человек не
имеет права не отвечать... и не ответил. Нажил себе
еще одного «судью».
Кстати, не позабыть себе приобрести непромокаемый жилет (до 22).
Ну, Нетусь, дайте дотянуться до Вас — через версты и версты — и губами к губам.
Будет. Жду.
Ваш Зима.
1927
15
7/VII
Милый Нетеныш!
Отвечаю без промедления, похвалите меня за это.
Очень хорошо, что Вам хорошо, но меня беспокоит, как бы Вы не простудились, — лето ведь на
редкость пакостное. У нас льют дожди, холод, иной
раз попадается прохожий в шубе, я кашляю и чихаю
и чувствую себя «пасынком природы».
43
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Лучше бы Ваш лес бросил звукообразность морю, и вообще, поменьше б ветра и побольше солнца.
«Мюнхгаузена» читал Ланнам, Анток<ольскому>,
Шторму* и 2-м артисткам из 3-й студии: дамы помалкивали, мужчины «восхищались» формой, но разошлись во мнениях относительно содержания последних двух глав — Ланн находит, что здесь я изменил
чистой «хронике» первых 6-и глав, сорвавшись в «немецкий сентементализм», — Антокольскому это-то
и нравится больше всего. Впрочем, многое в их восприятии вещи осталось для меня неясным.
Редактора меня пока не беспокоят, — я и рад: «зачем, — говоря словами моего М<юнхгаузена>, — блюду торопиться к ужину».
Плохая погода пробирается помаленьку в настроение*. из дождливости получается брюзгливость.
Думаю на днях вернуться к диктанту и перестучать
дождь. Два дня тому назад встретился в кино с Влади-
мир<ом> Васильевичем: по радостному лицу, прежде
слов, понял, что он накануне отъезда в Одессу, и просил его передать мой привет всем Вашим.
Ни с кем почти не встречаюсь и встреч не ищу.
Даже до сих пор не навестил Тины* и не зашел к Софье
Павловне, что с моей стороны очень нехорошо.
Ну, милая Неточка, целую Вас крепко. Набирайтесь тишины и покоя.
Ваш Зима.
16
29/VI
Маленькая моя Аннерле!
Следующее письмо «с прилагательными» Вы
адресуете: Крым, Коктебель Феодосийского уезда, дача
44
Письма Сигизмунда
Волошина и т. д.* И опять я буду Вас встречать в Москве, а не Вы меня. Вышло это так: Фаина Абрамовна*
задержалась с отпуском на месяц, и я еду — скоропалительно, не предупредив, как следует, Волошина, —
2 июля* (билет в кармане). Чехарда эта мне по вкусу — легче и лучше заполнить время трудной разлуки
с Вами: вместо темного московского томления — несколько дней сборов — затем месяц у моря — а там
полторы недели — и Вы.
Во мне, Неточка, тоже восклицают всякие знаки
и ворошатся многоточия — когда уже очень исколют
сердце, надеваю тесные ботинки и гоню себя по булыжникам: возвращаюсь измученный и выжатый, что
и требовалось. Полезная все-таки вещь — тесная обувь.
Еще немного прошло дней, разлучивших нас,
а во мне, в голове, столько накопилось глупостей и гнева на жизнь (тоже — глупость, не жизнь, а гнев) — и некому сказать. Представьте, Друг, так желчился и злился,
что не мог писать и даже думать о писании (кстати, тема о Мюнхгаузене — волей обстоятельств — мне окончательно испорчена*: надо выселить ее из головы).
Но сейчас опять взял себя в узду и думаю, что во
время отпуска хоть немного продвинусь в работе. Неожиданно для автора выползла тема «Неуюта»* — из
полутени в свет — и надоедает: м<ожет> б<ыть>, попробую начать эту длинную «гисторию».
Ранний отъезд хорош и тем, что обеспечивает
мне встречу с Анат<олием> Конст<антиновичем>.
Кстати, три ночи кряду «крестили», как выразился Серг<ей> Дм<итриевич>, его новый роман*. 18 печатных листов отчитать и отслушать — не шутка, но
о ночах ни секунды не жалел, потому что вправду
очень хорошо развернута вещь; правда, есть промахи
и некоторая недокомпонованность, но не могут изменить общего впечатления настоящей вещи.
45
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Завтра, маленькая, вышлю Вам — как мы условились — денег. В дальнейшем, когда понадобится, обещайте написать об этом немедля.
Привет всем Вашим.
Ну, привстаньте на цыпочки, дотянитесь (на
1500 верст) и поцелуйте меня. Обнимаю Вас крепкокрепко.
Зима.
17
21/VII
Милая Неточка!
Когда я, как и рассчитывал, 18/V1I, приехав
с вокзала, вошел к себе в комнату — тотчас же в дверь
постучался и возник... Кубась: нелепый и трогательный Кубась. В течение этих 3-х дней Кубась + работа,
которую на меня навалили, не дали мне возможности
Вам написать, моя капризуля. Сейчас — встав пораньше — строчу.
С Волошиным мы простились наилучшим образом: я получил приглашение приезжать, когда захочу, и акварель* (в виде напутственного подарка) с надписью: «Дорогому Сиг<измунду> Дом<иниковичу>,
собирателю изысканнейших щелей нашего растрескавшегося космоса». Ланны остались там до начала августа (кстати, они просили всячески Вас приветствовать). И еще одно «кстати»: Мак<симилиан>
Ал<ександрович> очень хорошо называет Алекс<анд-
ру> Влад<имировну> — «Лань».
В коктебельских ухаживаниях буду отчитываться устно (еще есть время обдумать, как это сделать).
А вот по Вас, что ни день, скучаю сильнее и сильнее:
боюсь, что, когда встретимся, скажу «комплимент».
46
Письма Сигизмунда
Чтений в Коктебеле было немного, но моих, пожалуй, слишком много: три*. Споров по поводу их было довольно много, но, как всегда, все видели только
«проблему», забывая о форме, оказывавшуюся у меня
всегда какой-то невидимкой.
Серг<ея> Дмитр<иевича> застал в полузамучен-
ном состоянии, но бодрящегося, как всегда. Софьи
Павл<овны> до сих пор так и не видел. О себе я не знаю:
не то поправился, не то не поправился. Разбираться
в этом придется Вам, когда увидимся: показания знакомых, как всегда, расходятся. Одно скажу — лень моя
поправилась: разрослась и окрепла — делать ничего не
хочется, хоть плачь. Теперь о Вас, милая: слова «грустно проходит лето», конечно, не случайность, — и они
очень обеспокоили. Если это грусть такая, от которой
можно уехать, то напишите или телеграфируйте, и я
тотчас (не дожидаясь начала августа) вышлю Вам на
дорогу. Конечно, Вам надо взять побольше солнца, да
и Москва, что она может дать в обмен на грусть? — но
ведь Вам, милая, все это ощутимее: решайте, как лучше.
Во всяком случае, 2-го августа (точно), если не
получу никаких директив от Вас, Неточка, отправляю — как было условлено — Вам перевод (можете
быть абсолютно спокойны).
Ну, миленыш, целую Вас крепко-крепко. Искренний привет Вере Кузьминишне* и всем Вашим.
Зима.
18
11/VIII
Милое мое горе, моя Нетусь!
Вы мне делаете больно: вот уже около двух недель ни одного письма. Или наше условие односто¬
47
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
ронне и обязательно писать должен только я? Вы ведь
знаете мою фантазию, которая когда-нибудь слопает
меня самого без остатка, — зачем Вы даете ей мучить
меня?
Сейчас я немногим лучше маниаков: всюду
и везде мысль о встрече, везде одно и то же: Вы.
Вы мне путаете работу, прогоняете из головы
все мысли, превращаете меня в воплощенное ожидание — ожидание существа, которое отказывает и в себе, и даже в той частице себя, которую можно переслать в почтовом конверте.
Москва меня встретила не слишком гостеприимно. Слоняюсь, не зная, куда деть вечера.
Без Вас мне скучно, неписаха моя: негодую на
себя, но вижу, что... ничего не поделаешь. Ну, будьте
радостны. Целую долго-долго.
Зима.
1928
19
12/VI
Милая моя Неточка!
Письма наши гоняются друг за другом и не могут догнать. Вы написали мне второе письмо, не дождавшись ответа, и я — в свою очередь, — не дождавшись ответа на ответ, пишу вот это.
Солнечные дни вернулись, скоро вернетесь
и Вы, моя маленькая женушка: по ночам я иногда почти ощущаю вкус Ваших губ на губах и прикосновение
горячего тела. А Вы?
48
Письма Сигизмунда
Только сейчас оправляюсь от хвори (д<олжно>
быть, бронхита): а то с трудом таскал себя на службу.
Литерат<урные> дела — черт бы их побрал — не
вырешились, но предчувствия у меня неважные. Общая литер<атурная> ситуация в «Красной Нови» для
меня сейчас весьма неблагоприятна*: этим, вероятно, объясняется молчание Раскольникова*. Но я жду —
пусть говорит он первым.
Сегодня мне звонил секретарь Нарбута*: рукопись моя, отданная Нарбутом «на рецензию»*, вернулась к нему, но он уезжает в Одессу (на VA недели)
и просит разрешения взять рукопись с собой. Я не возражал: пусть изучает. Относительно того, какова рецензия, я не спросил, зная, что они вправе на это не
ответить.
С «Журналом для всех»* пока не предпринимал
ничего. Расчет у меня такой: в случае успеха большой
вещи (т. е. принятия ее), он верно распространится и на мелкие новеллы, но не обратно. Тем более что
мне уже поздно торопиться: литературный успех уже
не может дать мне настоящей радости. На днях звонил
мне с Курск<ого> вокзала Анатолий Константинович:
он проезжал через Москву в Тифлис, куда приглашен
для прочтения лекций о музыке, и хотел меня видеть,
но я не мог бросить служебной работы, и мы ограничились разговором по телефону.
Навестил бедную Тину: она все еще не может получить место в санатории и получит его не ранее, как
через две недели. Настроение там очень угнетенное.
Влад<имир> Ва<сильевич>, уезжая, передал мне ключ
к Вашему чемодану.
Виделся с Малкиным*: одно слово, чудак-человек. А впрочем, и я ведь из чудаков!
Целую Вас, Нетусь, крепко-крепко.
Зима.
49
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
20
11 /VIIL Коктебель
Милая Неточка!
Только что получил Ваше письмо и, как пай-
мальчик, отвечаю немедля. Кстати, не писали Вы довольно долго, и я уже начал беспокоиться.
Начинаю с самой важной новости: вчера получил телеграмму из Москвы сл<едующего> содержания: «Землефабрика» приняла вашу книгу к изданию*.
Привет. Мстиславский». Я тотчас же ответил Серг<ею>
Дмитр<иевичу> письмом, в котором благодарил его за
новость, чувствуя себя весь день именинником. Это,
конечно, еще не победа, но предвестие борьбы «до победного конца». И надо запасаться силами и хладнокровием, чтобы и в этом литературном сезоне «иттить
и иттить», никуда не сворачивая и не сдавая без боя ни
единой запятой.
Максим<илиан> Алекс<андрович> по-прежнему
трогательно заботлив и добр, хотя нам редко удается
беседовать тет-а-тет — все разрывают его на части.
Туг сейчас гостит Зоя Петровна*, которая была очень огорчена, увидав, что я приехал один, без
Вас. Живет она очень как-то изолированно, работая
над Шубертом, так что мы видим друг друга лишь издали. Из новых знакомцев (их немного) интересен,
напр<имер>, поэт Всев<олод> Рождественский*, некоторые стихи которого я переписываю сейчас в тетрадку (для Вас). Неожиданно пришло уведомление от
Ланна, что он приедет в Коктебель 10 авг<уста> вместе с Алекс<андрой> Влад<имировной>, но затем телеграмма отодвинула срок их прибытия на 14 авг<уста>,
так что мы будем видеться всего лишь в течение Уг дня:
15 утром я уезжаю. Ужасно досадно.
50
Письма Сигизмунда
Читал 2 главы из «Мюнхгаузена» и «Локоть»*: слушали очень хорошо. Еще раз убедился в читабельности повести. Кстати, на чтении присутствовал секретарь редакции «Недр» (Леонтьев)*, неожиданно рассыпавшийся в похвалах. Судьба — ужасная гримасница.
Погода тут препоганая — то дождь, то холодные ветра. В течение уже нескольких дней приходится воздерживаться от купания, так как t моря 10-12°. Сейчас это перестало меня волновать, — все равно через три дня в Москву.
Простите меня, маленькая, за то, что я в наши
пароходные дни был нехороший, и пишите почаще
в Москву, где я буду один — без друзей, но среди забот.
А пока что целую Вас крепко.
Ваш Зима.
Вере Кузьминичне и всем Вашим — привет.
21
22/VIII
Милый Друг!
Письмо мое дожидалось «результатов», но, не дождавшись, отправляется к Вам без оных.
Преследую ускользающую Москву телефонными
звонками, но она отвечает — «занято», «завтра», «позвоните через недельку» и т. д. С ЗИФ’ом дело затягивается,
в виду нового отъезда Нарбута, при том рукопись оказывается принятой «условно» (что они хотят с нею делать,
пока не знаю), а книга, если выйдет, то с предисловием,
в котором меня, вероятно, здорово разругают*. Пусть.
Цензура отложила свой ответ (это уже пишу
о «Никит<инских> Суб<ботниках>»)* на неделю — послезавтра истекает срок.
51
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Реально только одно достижение: кажется, «Новь»
возвращает мне «Неуют». Сказочно!
Москва сейчас будто обмелела — почти никого
из знакомых, — но погода ничего себе, терпимая. Первые дни после приезда было даже теплее, чем в Крыму.
Кстати, провожали меня коктебельцы весьма сердечно, и немало дамских ручек махало вслед моему удаляющемуся автобусу. Вот как!
С Даннами, приехавшими 14-го, накануне моего
отъезда, видались мало и суматошно, но по очень хорошему. Вам, Нета, приветы от них и Волошиных.
С Серг<еем> Дмитр<иевичем> много успели
проговорить всяких тем. Он бодр, помолодел; написал
очень интересную вещь «Повесть о черном Маголе»*.
Я же не пишу и не собираюсь скоро браться за
это дело, над бровями у меня ничего не прыгает, но —
рано или поздно — я заставлю краснонововцев попрыгать.
С Евдоксией Федоровной* виделись мельком
(она собиралась в театр «Кабуки»)*. Хорошо то (с моей эгоистической точки), что она на поправку уезжает
не на Кавказ, как предполагалось, а всего лишь в подмосковную, так что работа издательства не прервется.
В общем, впечатление такое, что никто меня в Москве особенно не ждал, кроме клопов, жадно
бросившихся из всех щелей мне навстречу. Но и их
я смертельно разочаровал: вместо ответного чувства
им был предложен кипяток.
Ну, пока что прощайте, моя маленькая. Боюсь,
что у меня не наберется в ближайшие дни радостей
даже на 5-6 телеграммных слов. А «бросать» в Вас возможными неудачами, пожалуй, незачем.
Поправляйтесь изо всех сил и приезжайте. Целую крепко.
Зима.
52
Письма Сигизмунда
1929
22
11/VII
Милая-милая Неточка!
Жизнь моя сейчас продолжает приобретать все
более и более изматывающий характер. Похороны Ку-
бася (привезли его только 4 июля) израсходовали меня — в той или иной мере — не только морально. Гробовые хлопоты еще не вполне закончены и сейчас.
По линии вытряхивания монет из кино тоже дело обстоит довольно скверно: сам себя я растряс — из последних сил настрочил УЛ печ<атных> листа, а теперь
оказывается, что надо делать все сначала. Сначала так
сначала, но откуда взять сил и времени? Внешне я не
протестую, соглашаюсь писать «по Протазанову»*, но
внутренне во мне все кипит, и я близок к тому, чтобы
вообще послать их всех к черту. Тем более что никакого реального плана у Протаз<анова> нет, а так, кой-
какие обрывочки, которые ему кажутся, разумеется,
ценнее моего стройного темоведения.
Сейчас я прохожу через самое скверное: не могу еще преодолеть отвращение к вдруг опостылевшей
работе + болит сильно зуб + растрепавшиеся нервы,
заключив союз с клопами, не дают спать по ночам.
Но это надо из себя вырвать — и зуб, и отвращение...
Я, маленькая, уж не знаю отчего, устал, — настолько, что вот и сейчас перо как-то вяло путается
в строчках, вместо того чтобы все толком и подряд.
9-го, проездом через Москву на Кавказ, приходил
ко мне на службу Анат<олий> Конст<антинович> (с Еле¬
53
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
н<ой> Ник<олаевной> и Людм<илой> Ник<олаевной> —
зачем этот багаж?)*. Серг<ей> Дмитр<иевич> завтра уезжает на Север; а я должен торчать над какими-то дурацкими кадрами и гранками и не знаю даже, удастся ли мне
без задержек, к 1 авг<уста>, выпрыгнуть из этой чепухи.
Не сердитесь, Неточна, на эти капризные и злющие полстраницы — но надо же мне хоть как-нибудь,
хоть двумя-тремя каплями чернил, отреагировать на
ситуацию (у Вас на этот предмет имеются под ресницами другие капли).
Двадцать дней, разделяющих нас, будут мне казаться ужасно длинными, хотя «Межрабпом-Фильм»
и взял на себя труд не давать мне скучать.
Расскажите подробнее о словарях, о словомете
(то есть Софье Захаровне), о новых знакомствах, погоде. Но, прежде всего, о работе над репертуаром —
начали или еще отдыхаете. То, что две комнаты с верандой сплющились в одну, — огорчает меня, хотя
у меня и было желание испытать — в течение хотя бы
месяца, — что это такое за штука: занимать «квартиру»,
пусть крохотную, но квартиру.
Пожелайте мне, хоть кой-как, хоть на три с минусом, сдать свой экзамен. А и провалюсь — не беда.
Целую крепко в губы и другие дорогие места.
Зима.
23
15/VII
Друг мой Неточна!
В Вашем втором письме Вы так жалостливо пишете о влиянии моих писем и, особенно, отсутствия
их на Ваше самочувствие, что я спешу написать, нет —
54
Письма Сигизмунда
прописать Вам несколько строк, которые прошу рассматривать как рецепт.
Прежде всего старайтесь поменьше обо мне думать: «по одной капле через сутки», — я, вот, попробовал было думать о Вас, отходя ко сну, и сна не получилось, попробовал Вас мысленно голубить и ласкать
утром — по пробуждении, — в результате опоздал на
службу, и глаза у меня были «томные» и в свинцовом
обводе, хотя я ничего и не строю... если не считать
проклятущего сценария, который скорее разваливается, чем складывается. В течение трех дней пытаюсь
настроиться на протазановский лад, написал, перечеркнув все старое, всего лишь Уг печ<атных> листа,
да и то плохо: с некоторой даже веселостью жду «трагической развязки» — не в сценарии, а... со сценарием.
В дальнейшем от этих кинолюдей надо подальше. Пока я работал, как скаженный, над сколачиванием кадров, они тиснули в газете: «реж<иссер> Протазанов работает над составлением сценария «Праздник
Йоргена». И всё. В ответ на вполне корректное письмо
Серг<ея> Дм<итриевича>, просившего выяснить, состоит ли он консультантом М<ежрабком>-фильма или нет,
они по-хамски ничего не ответили (т<аким> о<бразом>
наши надежды на ежемесячный приработок кракнули).
Только позавчера закончил (как будто бы) по-
слепохоронные хлопоты: поставил урну в колумбарий
(при Крематории), приладил дощечку и пр<очее>. Одним словом, развлекаюсь на все лады.
Не столько «дела для», а чтобы отвлечься, позвонил в ЗИФ Черняку*: завтра предстоит разговор о «Том
Т]ретьем»*, — он не даст, конечно, матерьяльн<ых> результатов, но хоть на час-другой переведет мои мысли
на литературу. Хотя мысли и сами — без спросу — лезут именно сюда: вчера перед диктантом просидел часа
полтора в кафе и вместо того, чтобы готовиться к сцени-
55
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
рованию, обдумывал новые куски моей «Поэмы в рубленой прозе»*, что очень скверно сказалось на диктанте.
Зубная боль, мучившая меня двое суток, утихла, но жара такая, что самая легкая работа кажется
трудной.
Ну, милый Нетусь, целую Вас в губки, в груди,
в шею, в плечи — Вы оцелованы вся
Зимой.
P. S. При сем прилагаю я десять поклонов: можете их раздать по своему усмотрению.
24
24/VII
Миленько-маленький-миленький Нетусь!
Пишу всего лишь несколько слов — чтобы подравняться в числе писем (3 против 3-х), а также и потому что хочется (очень!), хоть «в письме увидеться».
Положение мое продолжает оставаться пиковым, и я никак не могу перевести игру в другую масть.
Мне иногда до смерти хочется затопать ногами на ки-
ноков и крикнуть «не хочу-у», но мы, увы, не в детской,
а во взрослом серьезном мире, и договор не игрушка,
которую можно выбросить, когда она надоест.
Volens-nolens пришлось отложить отпуск на
3-4 дня: рассчитываю приехать к Вам 4-го августа
утром (если произойдут изменения, напишу или телеграфирую). Последние дни, желая форсировать сценарий (чтоб ему ни дна, ни покрышки, — впрочем, он
и сам по себе без сюжетного дна и идеологической
покрышки), бросил пить — голова, действительно, посвежела, «но возу»... точнее — воз еле шевелит спицами. Подумать только, за этот месяц я написал более
56
Письма Сигизмунда
6 печ<атных> лист<ов> этой дряни (последнее слово
я не согласен закавычивать — пусть платят червонцами, без всяких аллегорий!).
Пробую в последние дни — как и Вы — рассеять
себя встречами с людьми. Мало, знаете, помогает: Георгий Аркадьевич, как и я, — одиночествующий без
своей Нины Леонтьевны* (она в Коктебеле), до трогательности милый... каталог*; Ланн занят своими болезнями и переводами; был в редакции у Черняка — на
двухчасовые его восхищения моим пером нельзя купить дюжины обыкновенных, дешевых, из штампованной стали перьев; приходил Машбиц-Веров*, предлагал дать что-нибудь для «Октября» — я было обещал,
потом раздумал... скучный это танец — кадриль.
А по ночам, Неточка, я просыпаюсь (все чаще
и чаще это случается) от ощущения Вас — вытягиваю
руки за 100 верст — ласкаю Ваши плечи, груди, все.
Это все-таки будет, не так ли, маленькая? Мы будем
жить всемером: две души + два тела + три словаря. Как
хочется отдыхать... работой!
Ну, вот, поцелуйте меня. А теперь — и письмо
и себя — по конвертам: особенно глух и прочно заклеен мой конверт, никак из него не выберешься.
Будьте терпеливы, мой добрый друг.
Ваш Зима.
1931
25
19/VII
Милая Неточка!
«Во первых строках моего письма» сообщаю,
что я уже начал — так, краем сердца — скучать по Вас.
57
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Единственное, что заслоняет меня от нудной пропыленной московской жизни, это работа: денно — корплю на службе, нощно — над итальянскими вокабулами и пр<очим> (надеюсь к отпуску сильно продвинуться в знании языка).
Мыслям (в летние месяцы) вход в мою голову
строго воспрещается, — если какие и протиснутся под
темя, немедленно заливаю их водкой.
Свой отъезд хочу, по возможности, придвинуть:
вероятно, выеду 1-2 авг<уста>, не позже.
Свой отшельнический режим на этот остающийся десяток дней думаю смягчить «прогулками
к людям». Кстати, приехали Шенгели и приглашали зайти. Не ограничиваясь живыми, собираюсь навестить Толстого в Ясной Поляне — на днях туда едет
экскурсия (ага! я раньше).
Жаль — испарился Лундберг: хотел расспросить
его о кавказских маршрутах и ценах*. Ничего не поделаешь — давайте натыкаться на сюрпризы.
В общем, чувствую себя, Нетеныш, бодро и как
будто не очень уставшим.
Смотрите, встретьте меня круглощекой и загорелой.
Пишите. Работа лежит у локтя и ждет. Целую Вас
крепко-крепко.
Ваш Зима.
Привет всем Вашим.
26
25/VII
Милый друг Неточка!
Только-только вернулся из Ясной Поляны и снова с головой — в работу. Поездка эта была проверкой
58
Письма Сигизмунда
моих сил, моей «мобильности», и дала положительный результат: я почти не устал, несмотря на бессонную ночь в вагоне и целоденную беготню. Об этой
странной, я бы сказал, Пасмурной Поляне (хотя солнце и светило вовсю) — при встрече*, а сейчас о наших
отдохновенческих делах. Я уже подал заявление, прося об отпуске с 1 авг<уста> и буду пытаться достать билет на 31 июля (о результатах сообщу телеграммой).
Билеты берите, пожалуй, на пароход-экспресс, так как
отпуск мой куц и хотелось бы подольше побыть в Батуми, а с побережьями мы с вами уже более или менее
знакомы.
Приеду я к Вам, вероятно, задрипанный и отвратный: ботинки отказываются чинить (нет кожи)
и сломанный о гусиную кость зуб отказываются лечить (нет времени), — боюсь, поцелуи мои будут щербаты. Затрепан я всячески: службой, заседаниями,
комиссиями и, наконец, упрямой работой над итальянским словарем. Как всегда в периоды перенапряжения, бросил на время пить (как хорошо иметь в запасе дурные привычки — есть от чего отказываться)
и, освободив мозг от балласта, не снижаю лёта. Ну, ничего, еще несколько дней сутолоки и потом, — может
быть, отдых. Может быть.
Жаль, что денег у нас будет небогато, но будем
по одежке «протягивать ножки», пока окончательно
их не протянем.
Арбат накатывают асфальтом, выравнивая мне
путь к вокзалу.
Ну, миленькая, целую Вас крепко, будьте умницей, как всегда, и только в одном не будьте умницей:
любите меня, если можно.
Ваш Зима.
59
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
27
28/VII
Милый Нетеныш!
Это письмо будет состязаться в скорости с телеграммой, которую я только что Вам послал. Выезжаю
я 1-го августа пассажирским 9.05 веч<ера> (очевидно,
не совсем тот, которым уезжали Вы; на всяк<ий> случай — № поезда 41).
Я стопроцентно выполнил Вашу программу-
максимум, т<ак> к<ак> пишу уже третье письмо. А от
Вас только одно — нехорошо.
Поездка в Ясную пробудила во мне путешество-
вальческий зуд: теперь я уже планирую нашу сентябрьскую поездку в Углич и т. п.
Итак, берите билеты на экспресс Одесса — Ба-
тум, помня, что 3-го августа днем я уже буду в Одессе;
берите непременно 1-го класса — наши дела несколько поправились, так как Сергей Дмитриевич (сверх
моих чаяний) возвратил долг. Будем «кутить». Я уже,
собственно, и начал: приехав на Городскую станцию у 9-ти и увидев столпотворение у «жестких» касс,
я стал в маленькую «мягкую» очередь — и через 1А часа билет (один из последних!) был у меня в кармане.
Разница — в сущности — незначительная, и в будущем
так будете поступать и Вы (я уж об этом позабочусь).
Работы у меня по-прежнему гибель, чехарда заседаний, визиты к зубному знахарю, какие-то рукописи молодых авторов, выматывающих из меня «мнения» и т. д.
Ну, пока прощайте, my little thing*, целую Вас
звонко.
Ваш Зима.
60
Письма Сигизмунда
1932
28
8/VII
Милая Неточна!
Только пять дней прошло с тех пор, как паровоз
просвистел на мотив «нет — и точка» и увез Вас от меня, а уже скучновато без Вас.
Единственный друг человеку в таких случаях — работа. Поэтому деятельно читаю, накупил целую пачку книг об Арктике и т. д., хожу к Ланнам (пока и они не укатили), был у Шенгели и у Звягинцевых,
на днях затеваю с Наумом Мих<айловичем>* маленькую экскурсию.
На днях бросит меня и редактор нашего журнала* — это прибавит мне работы. Таким образом я постараюсь загонять время, сделать его «худее».
Есть, конечно, и другой способ — утопить мириады длинных минут в алкоголе, — но, увы мне, Ваше
пожелание (прощальное, помните?) оказалось роковым: в Москве сейчас — по непонятным причинам —
совершенно исчезло вино, так что мы, пьянчужки,
в полной растерянности.
Сейчас, например, по стеклу окна барабанит
дождь, а в хрустале моей рюмки засуха.
Шенгели — к которому я отправился прямо с вокзала — угостил меня приятным миражом. Якобы вскоре
будет издаваться Узбекская энциклопедия*. На предложение «в случае, если бы» и т. д. ответил поспешным согласием принять участие в этом деле. И не раскаиваюсь:
во-первых, они не станут спешить реализовывать мое
спешное «да»; во-вторых, дело это было бы мне по душе.
61
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
От Лундберга пока ни слова. Я тоже не тороплюсь с третьим либретто*.
Шторм взялся протежировать мне в делах литературных. Именно: намечается возможность заключить договор на написание биографии Эдисона*
(в цвейговском стиле — как инструктирует издательство). Я не отказываюсь от этого. В первый момент
я не испытывал ничего, кроме матерьяльной заинтересованности, но сейчас к этому присоединилось
ощущение, что... может быть, и литературно у меня эта
тема получилась бы не очень провально.
Ну, вот — на этом кончается длинная «часть эгоистическая». Теперь поговорим о Вас. Вернее, послушаем Ваши чернила: что-то они мне расскажут.
Загорайте, полнейте, вбирайте в себя соленый
воздух, прикосновения волн... о, как бы я хотел быть
на их месте! Я постараюсь Вам писать аккуратно:
знаю, запоздавший грамм бумаги может грабительски
отнять у моей Неточки килограммы веса.
Целую крепко-крепко. И чувствую ответное
прикосновение губ.
Зима.
29
16/VII
Милая Нетусь!
Прежде всего простите, что пишу на каких-то
обрезках бумаги, притом запечатанных в глуповатый,
как «розовые надежды», конверт. Под руками у меня
нет сейчас ничего другого, а заставлять Вас ждать было бы еще хуже.
Письмо, друг мой, из двух частей: а) грустной и б) тайно-грустной (или, скажем, сдержанно¬
62
Письма Сигизмунда
грустной). Это заставило долго взвешивать причины: что ж, если причины неустранимы, тогда надо
отразить следствия. Вы поехали отдыхать? — Отдыхать. — Как отдыхать? — Отдыхать работой: своей работой от утомляющей чужой. Но если это почему-ли-
бо не ладится, если работа и здесь, у своих, натыкается
на чужое, то не лучше ли усталости противопоставить «просто отдых» — элементарное ничегонеделание. Это все-таки даст чисто физическое возобновление сил; тридцатисуточное накапливание сна, полусна, четвертьсна и т. д. даст Вам некий запас, который
впоследствии Вы разменяете на московские бессонницы и удвоенные яви.
А тем временем я Вам подготовлю матерьял. Уже
и сейчас прилежно читаю Рабле, вырезал для Неты интересное интервью с Ролланом, которое ей поможет
теснее сдружиться с «Кола Брюньоном»*, и даже «Маленькому человеку»*, как он ни мал, кажется, не удастся
замести свои букинистические следы: мне, хотя и смутно, но обещали достать нужный сологубовский том.
Живу так — ни два, ни полтора, — скорее, пожалуй, «полтора», поскольку прошла только меньшая половина разлуки, и, следовательно, Вы только как бы
полувернул ись...
Я почти никуда и ни к кому не хожу. Ко мне тоже никто ни ногой. Когда иной раз (это обычно бывает после визитирования людей) ко мне приходит —
с ответным визитом — чувство несправедливости, то
я притворяюсь, что меня нет дома.
От летней жары, — впрочем, не слишком жестокой — спасаюсь чтением книг об Арктике.
От Лундберга по-прежнему ни слова, в магазинах по-прежнему ни капли водки: а ведь мозгу необходим хоть какой-то малый % иллюзий. Впрочем, я умею
обходиться и без «необходимого».
63
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Поправляйтесь, малыш. Время сейчас нам попутно — оно течет в сторону нашей встречи. Целую
Вас странствующим повсюду в пределах Неты неутомимым поцелуем.
Зима.
Привет Вере Кузьминишне и всем Вашим.
30
25/VII
Милый Друг Неточка!
Много раз перечитывал Ваше последнее (второе) письмо: такое оно хорошее.
Сейчас у меня период — как Вы это называете — «светлой тоски» по Вас. Чтобы не дать тоске переодеться в черный цвет, всячески ей заговариваю зубы: проглатываю книгу за книгой, занимаюсь ремонтом языков, подготовляю кой-какой матерьял для Вас.
Наконец, настрочил еще одно либретто для Лунд-
берга. Молчание его меня не очень беспокоит. Дело
в том, что он (как я узнал от Ланнов) получил еще одну должность — заведующего издательством Курупра*.
Я очень надеюсь, что моему курортному сценарию
это не может повредить*. Послезавтра Ланны уезжают
в Боржом. Перед отъездом Евг<ений> Льв<ович> сильно разболелся — пришлось отложить отъезд. Но несмотря на хворь, он (что с его стороны очень трогательно) написал Горькому письмо о Вашем покорном
слуге и, пользуясь встречами Шторма с М. Горьким, передал письмо (вместе с некоторыми рукописями) по
назначению*. Таким образом, мой прах опять побеспокоили. Впрочем, я нечувствителен и безразличен
в этого рода делах, как всамделишный «прах».
64
Письма Сигизмунда
Только что — получас тому — встретил Арго*. Он
долго провожал меня, велел Вам передать сердечный
привет и требовал, чтобы я приехал в свободный день
к нему на дачу. Я охотно согласился.
Это будет моя первая загородная поездка в этом
сезоне — сижу, как заклятый.
В голове у меня, Неточка, толпится целая орава
новых тем, но я их гоню прочь: «Местов нет!»
Ну, напишите, маленькая, как Вам там — у волн —
живется, работается и думается. Жду.
Целую крепко и сладко.
Зима.
Привет Вере Кузьминишне и всем Вашим.
31
4/VIII
Милая Неточка!
Тороплюсь написать Вам это последнее «пред-
встречное» письмо. Надеюсь, оно не намного раньше
меня коснется Ваших пальчиков.
То, что Вы приедете на три дня раньше, пожалуй, единственная радостная весть, какую я получил
за последние недели.
Так, вообще, все обстоит благополучно, но в этом
«обстоит», в стоячести, в молчании друзей, в оставлении всех моих вопросов (немых и полусловных) без
ответов есть нечто раздражающее, желчащее мысль.
От моей хорошей созерцательности не осталось и следа. Как ветром свеяло.
Вероятно, от какого-нибудь неловкого психического движения я вывихнулся из себя, и теперь все
меня как-то раздражает. Служба, от которой я удачно
изолировал себя, вдруг вторглась в меня всеми свои¬
65
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
ми унижениями и мелочишками. Притом, вместо того, чтобы реагировать вовне, разряжаться, я реагирую
вовнутрь, т. е. отравляю себя совершенно недостойным мыслящего человека вздором.
Ну, ничего, еще день-другой и вправлюсь. Ведь
не случилось ничего печального, кроме... печали. Значит, прогнать ее, как прогнал «темы» — и все.
С Владимиром Васильевичем старался быть —
как только мог — радушней и мягче. Но приезд его,
увы, совпал с периодом, когда и мой кошелек, и его
хозяин были (каждый в своем смысле) пусты. Поэтому не мог его как следует угостить, что еще больше омрачило мое настроение.
Вы спрашиваете относительно Пастернака, не
слишком ли он интимен для эстрады. Нет, это особая
«интимность», вывернутая мехом наружу, а местами
даже интимность-прием.
Что я для Вас приготовил? Боюсь, что к моменту
встречи, вследствие резкого падения работы, удушливой жары и пр<очего>, я не успею сделать все, что хотел.
Но, во всяком случае, Вас будет дожидаться Рабле (2 отрывка) «Я жгу Париж»* и текст «Маленького человека»
Сологуба. Хотел еще перевести для Вас один маленький
рассказ Барбюса*, но — благодаря случайности — книга
уехала из Москвы и вернется только недели через три.
Ну, Неточка, целую Вас долго. Еще и еще. Прижмитесь ко мне покрепче.
Ваш Зима
32
11/IX
Милая Неточка,
menin altbn qasyq*.
66
Письма Сигизмунда
Пишу Вам, не дожидаясь прибытия и устроения
в Самарканде, т<ак> к<ак> боюсь, что, если отложить
посылку письма на день-два, оно может не застать
Вас в Мурманске*. Итак, это единственное письмо, которое нагонит Вас за полярным кругом, с другим Вы
встретитесь в Москве.
Дорога идет пока хорошо. Поезд настроен исследовательски: он останавливается на каждой станции, полустанке и разъезде. Но ведь и я хочу рассмотреть всё поподробнее и пообстоятельнее.
На каждой остановке — шумливый восточный
базар. Мы приезжаем — съедаем весь базар — едем до
следующего — опять его проглатываем — и так далее
до... очевидно, до Самарканда. Моя винная бутылка
раскаялась и каждый день наполняется молоком. Съедаю каждый день втрое больше, чем в Москве, а трачу
меньше. Так что с этой стороны будьте спокойны.
Сейчас — тоже спасибо медлительности поезда — только что вернулся после обстоятельного объезда и обхода Ташкента. 3-4 часов, которыми я располагал, конечно, мало, но как раз накануне в поезде я познакомился с одним знатоком Средней Азии (и с его
женой — очень симпатичная пара), который оказался
прекрасным чичероне. В первый день в Самарканде
я тоже буду под его крылышком — надеюсь, что он —
как опытный человек — поможет устроиться... себе,
а заодно и мне.
Впечатлений так много, Неточка, что я еле успеваю их осмыслять. На знаю, конечно, пока трудно забегать вперед, но кажется, это путешествие принесет
мне довольно много матерьяла.
Понемногу делаю, пока робкие, попытки заговаривать по-узбекски. Пока что не очень успешно. Начал работать над Барбюсом, но бросил — чувствую,
что сейчас нельзя отнимать времени от своего здесь:
67
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
несколько своевременно усвоенных узбекских слов
сейчас мне нужнее тома французских измышлений.
По прибытии в Самарканд — через день-два —
сделаю попытку поехать в Бухару (хотя бы на одни
сутки).
Ну, маленькая, целую Вас крепко и нежно. Не
подморозьте там сердца, смотрите.
Ну, прижмитесь ко мне покрепче.
Зима.
33
16/1X
Милый друг, Неточка!
Я уже пятый день как в Самарканде. Очень любопытно. Первый день я метался, стараясь сразу охватить все, а затем понял, что лучше не форсировать неизвестное, а брать его постепенно. Упрямо подучиваю
узбекский язык, но опыты восточных конверсаций —
обычно — кончаются довольно мизерно.
Надежда на помощь (рекомендательн<ые> письма) оказалась обманчивой: адресаты встретили меня
не слишком радушно. Приходится все разыскивать самостоятельно.
Живу я на экскурбазе, в одной из келий медресе
Тилля-Кари (XVII в.). Вначале, когда я занимал старинную гудусру (келию) один, — было удивительно хорошо, но после, когда стали ко мне вселять других туристов, настроение мое сильно понизилось. Но все это
пустяки!
Завтра вечером собираюсь уехать дня на два
в Бухару. Затем вернусь — тоже на день-два — в Самарканд — и тут-то мне предстоит неприятный момент
68
Письма Сигизмунда
(точнее, часы, м<ожет> б<ыть>, дни): получение места
в обратном поезде. Ну, как-нибудь обойдется.
Жизнь здесь — по сравнению с Москвой — довольно дешевая. Питаюсь я хорошо, хотя жара и блуждания мешают пополнеть.
Только что вернулся из довольно дальней экскурсии (в одиночку, разумеется) в окрестную деревню
и застал у нас во дворе медресе мусульманское богослужение.
В голове у меня сейчас не совсем пусто. Особенно по утрам, когда я сижу в чайхане над своей пиалой
и разглядываю посетителей и прохожих.
Ну, а как Вам ездилось, милая: приготовьтесь
к подробному отчету.
Целую Вас крепко и жарко-жарко. Жар, чтобы
поцелуй, пробыв шесть дней в дороге, все-таки не успел бы остынуть.
Ваш Зима.
Как только двинусь в обратный путь, с одной из
первых же станций пошлю телеграмму о дне приезда.
1933
34
4/VIII
' Милая Неточка, ау, где Вы?
Ничем и никак не дотянуться — разве лишь
длинными мыслями.
Каждый день либо звоню, либо хожу к Вам на
Земледельческий*, но ремонт движется более чем мед¬
69
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
ленно. Пока что поставлен калорифер (в 14 батарей,
под подоконником). Боюсь, что это будет еще долго
тянуться.
Два дня тому назад получил, наконец, первые
деньги — аванс от Союзфильма* — и начал отъедаться
после долгой проголоди. Пить же — наоборот — пью
значительно меньше, стараясь заменять водку легким
столовым вином. Я понял, что это необходимо, иначе
нервы не выдержат и работа кракнет.
Часть работы сдал и завтра принимаюсь с утра
за диктант основного текста «Гулливера». Помогите
мне мыслью издалека. Силенок во мне мало, но я хочу
сделать и сделаю хорошо.
Вслед за сценарием придется еще день-два поработать над заявкой «Машины времени»* для того же Со-
юзкино. Тема им очень понравилась, и они торопят меня зафиксировать ее, чтобы успеть включить в их план.
Надеюсь, что к середине августа горячка спадет
и я смогу немного передохнуть: буду ездить за город,
гулять.
Во всяком случае, матерьяльно я уже вышел как
будто из тупика и к концу месяца смогу помочь и Вам,
милая.
Помимо кино, в ближайшие дни предстоит,
кстати, пара мелких получек (из «В бой за технику»,
Academia, куда я сдал уже работу).
В Academia я — на ближайшее время — от работы отказался: уж больно нищенски они ее оплачивают.
Шум, поднятый Данном, в сущности, был почти что «из-
за ничего». Но Данн продолжает держать меня в опале — уклоняется от встреч и, чего я уже от него не ожидал, уклонился от действенной помощи, когда я в его
совете и поддержке очень нуждался. Конечно, я в высокой степени это заслужил и принимаю как справедливое наказание, но мне все-таки... больновато.
70
Письма Сигизмунда
Зато Левидов с необыкновенным тактом и заботливостью, почти как нянька, хлопочет около меня.
Раз в два-три дня я, по его настоянию, захожу к нему,
и он всегда находит слова ободрения, а то даже говорит о постороннем, но так, что я ухожу повеселевший
и успокоенный.
С Лукьян<овым> все по-прежнему. Встретил
Юрия Матв<еевича> и обещался, когда основная работа схлынет, приехать к ним на дачу. Непременно это
сделаю.
Симоновская студия продолжает поддерживать
со мной связь* (не далее как вчера был у меня зав. лит.
частью театра). На послезавтра назначена читка в тесном режиссерском кругу. Но, поскольку они меня уже
два раза обманывали, не уверен, что она состоится.
Очень, разумеется, меня обрадовало то, что Вы
пишете о хлебе. Ничего, помаленьку жизнь наладится.
Обнимаю Вас, другинюшка, и крепко целую.
Привет Вашим.
Зима.
35
11/VIII
Милая Неточка!
Сейчас нет еще и 7 утра, а я уже за работой.
Впрочем, не торопитесь разжалобиться. Основную
свою кино-работу я сдал вчера, и хоть они, конечно,
заставят меня переделывать, но в дальнейшем, думаю,
будет легко. Сейчас же я кончаю заявку на «Машину
времени», разросшуюся у меня почти в либретто (мог
бы сейчас — так ясно вижу тему — писать и сценарий)
и начинаю диктант статьи для «В бой за технику», черт
бы ее побрал!
71
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Нашел прекрасную машинистку: дороговато берет, но зато работать с ней одно удовольствие — схватывает налету. И живет она очень удобно — почти рядом со столовкой Горкома: это обстоятельство заставляет меня каждый день обедать. В дальнейшем, даже
вернувшись к Анне Алекс<андровне>, хочу не порывать связи и с этой машинисткой. Поезд о двух паровозах идет быстрее.
Работа в Вашей комнате совсем замерла — до
13 авг<уста>. Меня-то это, если хотите, спасло, так как
я не знаю, смог ли бы я закончить сценарий в срок,
вычитая из работы по несколько часов в день, но
вообще-то это нехорошо. Хоть бы они к Вашему приезду убрались вместе со своей грязью.
Позавчера заходил ко мне Вл<адимир> ВасСиль-
евич>, — если предположения его оказались верными,
а решение неизменным, то сейчас он у Вас на Фонтане. Очень рад за него, но значительно меньше радуюсь тому, что он, очевидно, увез с собой мои кооперативную книжку, карточку и пропуск в ЗИФ. Виноват
в этом, конечно, я сам — забыл спросить о них, точнее — мы оба забыли об этой прозе проз.
7-го читал свою комедию в студии Симонова. Был весь коллектив (даже художник и музыкант).
Успех был подготовлен, но все же превзошел мои ожидания. Хвалили меня и так, и этак. Но из всей кучи хвалений я отобрал в память два высказывания: 1) стихи
и проза на одном уровне; 2) каждая, самая маленькая
роль в пьесе индивидуализирована и есть роль (помните, что говорил Амаглобели?*). Но деловая сторона
откладывается со дня на день.
Яхонтов* — в ответ на мой звонок — обещал на
другой же день придти и сказал, что переписал кое-
что из данного матерьяла. Но в условленный час вместо него пришел какой-то юноша с рукописями и изви¬
72
Письма Сигизмунда
нением: Владимир Николаевич, мол, заболел ангиной
и просит свидание отложить.
Но самое приятное — к концу: помирился с этой
уродиной Данном.
Целую долго и крепко. Зима.
Привет Вере Кузьминичне и всем Вашим.
36
18/VIII
Милая Нетусь!
Сейчас раннее утро. Через полчаса отправляюсь вместе с Леонидом Львовичем на Истру. Сегодня у меня вторая передышка. Работаю, как лошадь.
Хорошо и весело. Решил поставить рекорд: в месяц
6 печ<атных> листов. После либретто «Машины времени» отдиктовал и сдал большую статью для «В бой
за технику»*, написал проспект «Литер<атурного> пейзажа»* и кончил (очень четко и точно) «Серый фетр»*.
Берусь за Шекспира*.
В работу мою вторглась смешная болезнь. Третьего дня встал утром, протянул руку к платью, а она у меня, глупая, упала, как плеть. Пошел к моему лейб-медику
Софье Павловне. Оказывается, ущемление локтевого нерва, того самого nervus radialis, в который вгрызся мой локтекус*. Так тема отомстила автору: мы квиты.
Сейчас постепенно рука приходит в нормальное состояние, а то было трудновато на одноруком положении.
Попросите Владимира Васильевича все-таки
выслать мне карточку и пропуск: я остался на август
и сентябрь без сахару к чаю.
С пьесой обстоит так. Когда Симоновская студия
обратилась в Гос<ударственную> Оперетту*, там зары¬
73
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
чали и сказали, что сами хотят ставить. Я сунулся было идти объясняться, но Симонов меня удержал: сейчас он уехал дней на десять и в начале сентября займется этим делом сам.
Был несколько дней тому назад (первая передышка) у Соколовых на даче*. Очень хорошо отдохнул.
С кино дело — как полагается — тянется, денег
почти не платят, но одного я все-таки добился — я их
«отравил»: им ужасно как не хочется признать мое авторство, но к старому варианту вернуться им тоже нельзя. Посмотрим.
Ну, маленькая моя, обрываю, а то опоздаю на
поезд.
Целую Вас дальним-дальним поцелуем. Пишите
все о себе.
Ваш Зима.
Привет Вере Кузьминичне и всем Вашим.
37
24/VIII
Милый друг Неточка!
Не знаю, последнее ли это или предпоследнее
письмо: будет зависеть от того, когда Вы выедете.
Ваше резко упавшее настроение как раз совпало
с моим погрустнением. На день-два бросил даже работу, но затем взял себя в руки и снова вошел в ритм. Надеюсь, и Вы справились с собой. Нельзя давать власти над собой предчувствиям и ожиданиям неприятного; надо копить силы для встречи с ним. Но у меня нет
права на поучающий тон: я часто сам позволяю «льзя»
одолеть «нельзя».
74
Письма Сигизмунда
Но сейчас — по крайней мере — у меня были некоторые основания для минора. Киношники, которым
я давно сдал работу, не платят вот уже почти две недели — и я опять вынужден был влезть в долги (правда,
небольшие).
Комната Ваша ни с места. Боюсь, что так до Вашего приезда ремонт и не будет закончен.
Работаю по-прежнему: написал 3 рассказа
(«Строка петитом», «Состязание певцов», «Серый фетр»)*,
проспект «Литературного пейзажа», который отнес
вчера в из<дательст>во «Советск<ая> литература»*.
Там как будто очень заинтересовались темой. Дня через три получу ответ. Вчера же, увидев, что «В бой за
технику» колеблется — печатать или нет статью, —
взял ее оттуда и отнес в редакцию ежемесячника
«Литературный критик»*. Там, опять-таки, очень благожелательно отнеслись к теме, но — по правде сказать — статья мне не очень-то удалась, и будет справедливо, если они ее возвратят или потребуют переработки.
Передо мной выстроились в ряд еще с десяток
маленьких рассказов: буду их щелкать один за другим,
пока не накопится сб<орник> «Чем люди мертвы»*.
Рано встаю и стараюсь распределять время так,
чтобы максимально сохранять силы. Каждый выходной день езжу на целый день за город. Вот и сегодня
(хотя с погодой что-то не ладится) отправляюсь во
второй раз к Соколовым. Прошлая поездка с Леонидом Львовичем была очень удачной.
Шенгели получил новую службу — редактора
восточной секции в ГИХЛ’е. Рекомендовал меня как
«переводчика» (горе мне!) с узбекского. А я вполовину
забыл то немногое, что знал.
Ну, маленькая, будьте умницей и приезжайте
скорей: соскучился.
75
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Целую Вас крепко и нежно.
Ваш Зима.
Рука моя поправляется, хотя и медленновато. Но
это пустяк.
Приветы — Вере Кузьминишне и всем-всем.
38
30/VIII
Милая Нетусь!
Только что получил Ваше письмо от 27/VTO.
Что ж, если надо еще остаться на несколько дней, разумеется, оставайтесь. Но только воспользуйтесь этими
днями, чтобы окончательно допоправиться. Ранние
осенние дни особенно полезны организму.
Я не стану ныть, что, мол, соскучился и хочу скорей Вас (хотя, признаться по секрету, таки соскучился
по Вас: и по женщине, и по другу).
Начну с печальной новости: вчера мы хоронили Софья Яковлевну Парнок*. Очень жаль, подлинно
жаль человека. В ней было редкостное сочетание: талант и честность.
От грустных мыслей стараюсь уходить в работу.
Это — единственное лекарство. Написал еще три рассказа — «Окно», «Гулливер ищет работы» и «Невольный
переулок» (последний еще не вполне закончен — он
довольно длинный)*.
В кино мне предлагают писать сценарий из жизни Красной армии*. Для этого придется поехать куда-
нибудь в лагеря, чтобы познакомиться с бытом красноармейцев. Получится нечто вроде отпуска, в котором я очень нуждаюсь. Поездку я постараюсь оттянуть
на вторую половину сентября.
76
Письма Сигизмунда
В «Советской литературе», хотя я туда еще не ходил за ответом, но знаю стороной, моим предложением и автором предложения как будто заинтересовались*. М<ожет> б<ыть>, что-нибудь и выйдет.
Лежнев предлагает написать статеечку для ленинградской газеты* — тоже согласен. Надо работать
широким фронтом: не здесь, так там добьешься хотя
бы малого, но чего-то.
«Лит<ературный> критик» предлагает мне переработать статью*, усилив литературную сторону
и сжав техническую. Забавно, что в журнале меня приняли за инженера, такие технические «знания» я обнаружил. Пришлось разубеждать.
Лодырь-Анатолий* — ни гу-гу. Сегодня пишу ему:
надо расшевелить.
С деньгами пока перебиваюсь со дня на день, но
это ничего. Скоро положение должно перемениться
в лучшую сторону.
Простите, мастерица моя милая, что не поблагодарил за брюки в прошлом письме. Целую потрудившуюся для меня ручку.
Сегодня же зайду к Сераф<име> Ал<ександров-
не> и выясню и улажу дело.
Несколько времени тому видел афишу: «Парк
культ<уры> и отд<ыха>. Цусима. Постановка А. Бов-
шек»*. Приятно было встретиться хотя бы с Вашим
именем.
Целую Вас долго и нежно. Зима.
Вере Кузьминишне и всем Вашим искренний
привет.
77
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
1934
39
20/VII
Милая Неточка!
Я задержался на один день с письмом, дожидаясь оформления договора с Театром Пионера*. Вчера мы подписали его, и я получил аванс. Он невелик,
но все-таки несколько больше той суммы, на которую
я рассчитывал. Если к нему прибавятся деньги, обещанные Анат<олием> К<онстантиновичем>, то этого
будет достаточно, чтобы безбедно прожить месяц на
Фонтане и сделать небольшую поездку.
Но еще одно обязательство: пьесу надо сдать
к 15 октября, не знаю, как я управлюсь. Ободряет меня
лишь то, что, торопя меня, они и себя самих связали
жестким сроком — театр должен поставить «Четвертого дурака»* не позже 1 февр<аля> 35 года. После этого
я получаю право отдать «дурака» в любой театр.
Живу я, почти не высовывая носа из своей конуры. Перечитываю и пере-перечитываю Шекспира. Надо добиться пианистической беглости — не столько
для статьи, сколько для будущего доклада.
Видеть людей нет ни малейшего желания. Даже
к Миловидовым, точнее, к Борису Михайловичу, с которым мы условились покорпеть над клавиром, никак
не могу собраться второй раз. Монтаж Чехова еще не
начинал*. Ну, и все в таком роде.
Левидов уезжает завтра с группой интуристов в качестве корреспондента «Известий»*: недель
на пять. Счастливец: поупражняется в английск<ом>
яз<ыке> и увидит много интересного.
78
Письма Сигизмунда
Не могу научиться рано вставать, вернее —
слишком основательно разучился это делать. А для
работы — или хотя бы обдумывания ее — мне нужен
очень длинный день.
Скорей бы уже оставить эту Москву, смесь из
дождей и духоты, и дорваться до моря.
Надеюсь, Вы встретите меня уже Аидой.
Поскольку я сижу дома, нигде не бываю, то и новостей у меня никаких. И о себе самом — тоже.
Целую Вас крепко-крепко. Приветы всем Вашим. Вере Кузьминишне особо.
Ваш Зима.
40
22/VII
Милый Друг Неточка!
Рад, что могу прислать Вам пару неплохих новостей. Конечно, через неделю-месяц все это может перекувырнуться, но пока что...
Во-первых, на следующий день после Вашего отъезда, был у меня пристальный разговор с Яхонтовым.
Пришел он вместе с женой-художницей*, очень симпатичной особой, приказавшей называть себя «Фиалкой»,
сидели они у меня часа три-четыре; я прочел несколько
отрывков, после чего Яхонт<ов> предложил мне вечер
специально из моих вещей. Я дал ему кой-какие мате-
рьялы, и дня через два нам предстоит встретиться снова.
Второе: получил телеграмму от Херсонского*
с просьбой срочно придти на кино-фабрику. Он предложил мне переработку (по форме и по существу)
сценария Рошаля* «Новый Гулливер». Сделать это надо очень скоро, т<ак> к<ак> фильм пошел уже в про¬
79
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
изводство. Я согласился, — ведь это самый простой
и радикальный выход из полного моего безденежья.
Сценарий — по прочтении, — действительно, оказался дребеденью. Через три дня я должен представить
план и некоторые стихотворные номера (фильм будет звуковым). Тогда только мне можно будет стучаться в окошечко их кассы.
Но самая интересная — третья новость: Симонов, ознакомившись с моей пьесой, заявил, что никому ее не отдаст и что хочет ее ставить, не откладывая
дела в дальний ящик. Завтра у нас назначено свидание. Конечно, хотелось бы дать пьесу сразу с двух сцен.
Но если придется выбирать, то выбор мой решит...
третья. Говорю о Ленинграде*. Ведь сущность выбора в данном случае такова: матерьяльный или художественный успех (точнее — возможность их). При перенесении матерьяльной опоры в Ленинград<ский>
театр, я могу себе позволить роскошь отказаться от
матерьяльн<ых> преимуществ Оперетты. Пока же что
надо выжидать. Во всяком случае, Мих<аил> Юльевич*
ходит сейчас с видом именинника, повторяя: «А я говорил!» Херсонский, наоборот, погрустнел и говорит, что внимание мое сосредоточится теперь на театре и кино отойдет на второй план. Но я его успокоил: с пьесой мое авторское дело, собственно, кончено,
а с кино еще и не начиналось.
На днях читал у новых знакомцев «Катафалаки»;
просят в ближайшее время повторить.
Частый мой гость — Владимир Васильевич*. Он
очень беспокоится об укреплении своего положения
в Театре Оперетты (не сегодня-завтра все это определится) — ходит со мной советоваться.
Ну, милая Нетусь, пишите о себе все: мне все интересно. Целую Вас крепко-крепко.
Зима.
80
Письма Сигизмунда
Сердечный привет Вере Кузьминичне и всем Вашим.
41
26/VII
Милый Друг!
Пишу Вам лишь несколько слов, т<ак> к<ак> новостей у меня мало.
Только что вернулся с дачи Василенко*, где провел вчера весь день и ночевал. Мы отобрали с ним ма-
терьял для радиомонтажа. Так как заключение договора они переносят на нач<ало> сентября, то торопиться мне некуда и некому растормошить мою лень.
Нигде не бываю (Василенко — исключение), мало читаю.
Езжу обедать, перед вечером, либо в Центральный Парк (на поплавке), либо в Зоопарк. Сперва пробовал питаться всухомятку, но с этим много возни, да
и невкусно.
Вернулись Ланны: из поездки Москва — Уфа (по
рекам). Я думаю — а уж не предпринять ли и нам с Вами такого рода плавание. Перед началом осенней работы совершенно необходимо отрегулировать нервы.
Занимает эта поездка 19 дн<ей>, место в двухместной
каюте 1-го класса — 210 <рублей>. Ну, вернется моя
Неточка, мы это обсудим.
Как у Вас? Надеюсь получить от Вас, милая, еще
хотя бы одно письмо.
Повторяю: если Вам там спокойно и Вы поправляетесь, задержитесь еще. Я же подожду: жизнь научила меня терпению.
Ну, целую Вас нежно и крепко.
81
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Сердечный привет мамочке и Вашим.
Зима.
42
28/VII
Милая Неточка!
Четверть часа тому получил одновременно письмо от Вас и открытку от Варвары Александровны —
«приходите... вам придется с неделю пожить у нас, т. к.
работа ведется медленно и нерегулярно». Поскольку Ваше письмо меня обрадовало — постольку сообщение о недельном исключении из свободы огорчило. Дело в том, что как раз сейчас на меня навалилась
работа, которую я при моем теперешнем крайне пониженном тонусе тащу еле-еле, из последних сил. Так,
через час мне надо ехать за город на кино-фабрику
подписывать договор (крайне для меня невыгодный,
но который я принимаю, чтобы физически спасти себя), послезавтра надо окончить и отнести правку для
«Academia» и т. п. Конечно, завтра с утра я отправлюсь
в Земледельческий и надеюсь удачно сочетать работу сторожа и литератора. И все это пустяки, о которых
не стоило бы и писать, если б не крайне расстроенная
нервная система, которая иногда совершенно выходит из повиновения.
Вот вчера, например. Я, стегая свой усталый мозг, как ломовую клячу, заставил его в течение
2-3 дней придумать целых 2 варианта «Гулливера», которые и изложил в Союзкино, представив ряд мате-
рьялов. Они слушали с раскрытыми ртами, признали,
что я распрямил тему во весь ее рост, что это перекрывает их сценарий, над которым работало несколько
82
Письма Сигизмунда
человек в течение 10 месяцев, но... т<ак> к<ак> старый
сценарий уже в производстве, типажи и декорации
готовы, то мне придется вернуться к первоначальному сценарию, углубляя и утончая его моими образами и словостроем. Я еле удержался, чтобы не сказать,
что за тему о «Гулливере» не следовало браться... лилипутам, но что-то вроде этого — достаточно резкое — сказал. А после этого смирился и принял трудные условия.
Яхонтов, о котором писал Вам в первом письме,
куда-то запропастился (м<ожет> б<ыть>, раздумал).
От Анат<олия> Конст<антиновича> ни слова. Ланна
не видел ни разу. Только Левидов — спасибо ему — помогает мне пока своим оптимизмом, а вскорости обещает помочь и... деньгами. Вообще, пока я забыл, как
они пахнут — эти самые деньги, но дня через 2-3 надеюсь получить некую сумму от кино. Думаю, это починит мою психофизику и даст возможность подсобить матерьяльно и Вам.
Виделся с Симоновым: говорит, что хочет ставить пьесу во что бы то ни стало в марте-апреле
34 г<ода> (даже если Оперетта не уступит права первенства, готов дублировать), что комедия сделана математически точно — нельзя ни выпустить, ни вставить ни одного, мол, слова — и как раз то, что ему нужно. Был назначен день, когда он, проведя пьесу через
худож<ественный> совет, должен был перевести вопрос на чисто-деловую почву, но срок прошел — вести нет.
Ну, вот, целую Вас, маленькая Анна.
P. S. Не сердитесь на меня за то, что я злой и нехороший.
83
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
43
7ДХ
Милая Неточка!
Пишу с некоторым запозданием. По приезде —
вместо работы — предаюсь лени. Не хочется никуда
ни шагу и трудно шевельнуть рукой. Даже путешествие на Земледельческий откладываю со дня на день.
Очевидно, я такой человек, что хоть брось... меня.
Вместо диктанта читаю турецкий словарь и Бен
Джонсона* (в голове строится пьеса «Неистовый
Бен»*) — и все-то у меня получается сплошное «вместо».
Виделся с Волькенштейнами, Тарловскими, Ле-
видовыми.
Пока ниоткуда никаких просветов. Правда, Вла-
д<имир> Мих<айлович>* говорит о желании Бебутова
непременно работать со мной — но мне с этим «папи-
льоном» не очень хочется связываться*. Мелькнула было какая-то возможность относительно «Школы конферансье»*, но тотчас же и погасла.
Настроение какое-то такое: никакое. Все говорят,
что я поправился. Но чувствую, что уже начинаю терять
приобретенное — благодаря нелепому образу жизни.
У Влад<имира> Васильевича взял только 30 руб-
<лей>, немного прихватил у Левидова (тоже половину
того, что он предложил). Не знаю, из каких сумм буду отдавать.
Надо приниматься за работу, а не то окончательно впаду в ничтожество.
Погода в Москве на редкость хороша — ничем
не хуже одесской, но я сижу дома.
Надо, разумеется, преодолеть инерцию. Уже сегодня утром зеркало дало мне предостерегающий сигнал.
Нет охоты писать подробно — ведь скоро мы увидимся.
84
Письма Сигизмунда
Поправляйтесь, маленькая, изо всех сил — Москва быстро выкачает из Вас значительную часть поправки.
Письмо у меня что-то не вяжется — простите,
милая, мою временную бездарность. Как у Вас на Фонтанном высокобережьи? Вижу ясно: пляж, тени в саду,
спящего в углу Шарика.
Не обижайтесь, что в этот перечень не включены Вы. Дело в том, что Вас я всегда вижу не совсем ясно; в каком-то реяньи.
Привет всем Вашим — нет, нашим. Мою глубокую
благодарность передайте Вере Кузьминичне. Котику
скажите, что некий Кот скребется в мое сердце. Поцелуйте милую Женю. И Володю*. Помимо Володи веселого, привет Вл<адимиру> Ник<олаевичу> Кислому. Обнимите от меня Андрейчика и не забудьте обнять себя.
Ваш Зима.
1938
44
14/VII
Милый Друг Неточка!
Отвечаю через три часа после получения письма. Ответил бы и раньше — если б не необходимость
отправиться — вместе с Сергеем Никиф<оровичем>* —
в радиокомитет для оформления наших отношений.
С этого и начинаю довольно длинный ряд новостей,
в общем, хороших.
С коллективом Попова*, кот<орый> будет выступать с «Попом и поручиком» в Радио, работа идет
85
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
к концу*. Радио на днях обязуется заключить с нами
договор, денежно мало выгодный, — но ведь тут дело не в этом. К концу июля мне нужно представить им
монтаж пьесы на 55 мин<ут> исполнения.
8/VII читал лекцию о Шекспире Воронежскому
т<еат>ру*. Читал с подъемом, очень легко. В результате
нечто вроде овации и предстоящее на днях получение
гонорара (200 р<ублей>).
Пять провинц<иальных> театров затребовали
«Попа и п<оручика>»* (в том числе Харьковский).
Имел разговор начистоту с Ковбасом о редактировании I-го тома Шекспира*. Назвал все своими
именами. И вдруг оказалась странная вещь: 17 сентября 37 года на мою сберкнижку поступила полностью
сумма, следуемая мне за работу. Никто меня об этом
не известил. А мы-то сколько раз за это время сидели
без денег. В общем, я получил довольно много — около
1500 р<ублей>. Таким образом, Ваша сотня пусть спокойно дожидается возвращения своей хозяйки.
Зато деньги, в которых я был уверен, — за редактирование однотомника Б. Шоу* — до сих пор не получены.
Сегодня отсылаю Литовскому «Мурата» и музко-
медию*. Он хочет завтра провести их на заседании Совета театра.
Таиров вдруг загорелся желанием возобновить
хлопоты об «Онегине». Он снова связался с Прокофьевым*. Боюсь, как бы он мне не напортил, этот несуразный человек.
Завадский, вернее, его секретарша, вернули мне,
к моей большой радости, две «упакованных» пьесы*.
Ну, вот — деловой отчет моей женушке как будто окончен. Уф!
Теперь о другом. Через пять минут после того,
как Вы уехали, я стал скучать. Искал спасения: спер¬
86
Письма Сигизмунда
ва в лекции — потом в зоопарке — потом в поездке
во Влахернское*. Василенки угостили меня великолепным, со льда, квасом и гениальным, с пылу, с жару, Филатовым*. Сперва Владимир Петрович несколько косился на меня, говорил как сквозь стену, но не то
третий, не то четвертый мой парадокс заставил его
распахнуть двери. Кончилось тем, что он увел меня
к себе в комнату и читал свои стихи — робко и взволнованно, как ученик (!?). Взял с меня слово, что я приеду еще и что мы вообще будем видаться.
Сердце мое в первые дни после Вашего отъезда
вело себя неважно, но Серг<ей> Ив<анович> дал мне
микстуру*, которая очень хорошо мне помогает.
Вы очень мало, моя радость, пишете о Ваших
и ни слова о маме. Почему?
На полученные деньги куплю для Вас несколько
хозяйственных предметов и несколько книг.
Целую горячо. Зима.
Сердечный привет маме и всем Вашим.
45
20/V1
Милый Друг Неточка!
Вы уехали, а лень осталась. Лучше бы наоборот.
Ничего почти не делаю. Единственное извинение —
жара.
Хотел это второе письмо отправить с Женей*, да
она что-то тянет с отъездом.
Хожу к Вам каждый день — на мысленное свидание — убираю в комнате, поливаю цветы и целыми часами вспоминаю о первых встречах с Вами.
87
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Событий мало. Да я их и не тороплю. Литовский
сообщил, что обе пьесы (Мурат и Поп) ему «очень нравятся» и что он их передал дирекции. Со сборн<иком>
Шоу (с получением денег) дело что-то застопорилось — но я и не нажимаю, пока что у меня есть, приедет Серг<ей> Серг<еевич> — он все устроит.
Пью микстуру — и самочувствие мое значительно лучше. Стараюсь помогать этому, переходя с водки на
красное вино. Это стоит дороже, но здоровье еще дороже.
Поскольку получил немного денег, то устроил
и запроектировал ряд «дружеских угощений»: сегодня, например, пригласил Наума Михайл<овича> в Эрмитаж на бутылку вина. В ближайшие дни условился об этом же с Мих<аилом> Юльевичем и Павлом
Ник<олаевичем>*. Вы не сердитесь? — Ведь я ищу способа избавиться от одиночества. А также и закрепить —
пусть очень наивно и примитивно — дружеские связи.
Думаю, маленькая, что Вам все-таки надо задержаться в Одессе еще на неделю-другую. Ведь что же
это за отдых — каких-то двадцать дней?! А поехать нам
вместе вряд ли удастся.
Ну, милая, целую Вас страстно.
Привет всем Вашим.
Ваш Зима.
1940
46
ll/TV
Милая Неточка!
Среди причин, мешавших мне Вам написать, дело решила одна очень глупая: на почте здесь нет конвертов.
88
Письма Сигизмунда
Физически я обставлен здесь очень хорошо:
просторная светлая комната, тишина, березки за окном*, регулярная и вкусная пища.
Но моральная обстановка для меня тут очень тягостна. Мне об этом не говорят, но ощущают меня как
некий призрак, привидение от литературы. Притом
ничуть не страшное. Я «являюсь» к чаям и ужинам, затем «рассеиваюсь» за дверью комнаты № 8.
Сегодня утром раскрыл Даля и загадал. Вышло:
«Ушел завтра — вернулся вчера». Вам не нужно объяснять этого, Неточка.
Было и еще другое, что толкало меня бросить
свои манатки в чемодан, захлопнуть и его и дверь
и уехать в Москву с первым поездом. Но я пересилил
себя и заставил остаться.
Долго не работалось. Я прятал голову, как страус
в песок, в россыпь далевских пословиц.
Мешало и то, что комната моя (в отличие от
других) отапливается двумя печками: от жары — хотя форточка и днем и ночью была открыта — я положительно задыхался. После долгих просьб я, наконец,
добился снижения температуры — и перо мое сразу же зашевелилось. Написал я пока немного, но та
легкость, с которой заскользил стих, несколько меня
успокоила*.
Мне очень совестно перед Танечкой, что я так
безучастно и пассивно встретил ее, — но это было как
раз в тот день, когда я сам себе стал видеться как привидение.
Добрейший Ланн, предвидевший грязь, которая
облепит мои ботинки, не предполагал того и тех, кто
будет окружать мой мозг.
Не звонил Вам, милая, потому что застать Вас
труднее трудного, да и не умею я говорить по телефону.
89
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Итак, 15-го, часам к 4-5, буду у Вас. Если Хозяйки не будет дома, пусть она оставит записку, когда Ее
ждать.
Целую губы, руку и еще раз в губы.
Зима.
47
30/V
Милая Неточка!
Пишу только несколько слов. Извините, что разговор наш по телефону принял такую нелепую форму:
разбуженный длинными звонками, я долго не мог понять, чего от меня надо какой-то девушке «Рузе», а когда понял, что это из Рузы*, было уже поздно — Вы положили трубку.
Болел, но вылечился 65-часовой абсолютной
диетой. Дела поэтому заросли крапивой. Надо ее вырвать (хотя бы и обжигая руки): сейчас отправляюсь
по всяким канцеляриям (на сегодня 5 №№). Комнату
Вашу держу в полном порядке. Надо бы и себя.
Пересылаю 2 письма. Открытку от Тины оставляю — в ней ничего существенного.
Старайтесь поправляться и не думать ни о чем —
особенно обо мне. Побольше ешьте и гуляйте. Мой
привет Лундбургам и Мстиславским (если последние
не уехали).
Целую крепко — и руку и в губы.
Ваш непутевый
Зима.
90
Письма Сигизмунда
48
6/VII
Милый Друг Неточка!
Час тому говорил по телефону с Нин<ой> Ста-
н<иславовной>*.
Вместо меня приехало к Вам, в Хотьково, вот это
письмо, оно лучше меня, поверьте.
После последней нашей встречи я понял, что
следующую я должен заслужить. А в таком состоянии,
как я сейчас, я не стою того, чтобы видеть Вас.
На сегодня я все еще полуболен, рожа кислая, голова пустая, сердце пустое, но болит, короче, «0,6 человека»*. К тому же запустил работу — две недели не добавили к «Суворову» ни буквы. Сегодня решил погнать
самого себя кнутом к машинистке. Делать нечего.
Вас, Неточка, тут, кроме меня, ждут:
Денежный перевод (повестка) на 261 р. 64 к. Получить должны Вы, по предъявлении паспорта. Срок
получения — один месяц. NB. Вы, м<ожет> б<ыть>,
приедете за переводом, прихватите в Хотьково и меня,
если я к тому времени превращусь из дроби в единицу.
Затем:
Письмо от Тины: все хорошо отдыхают, приглашают Вас, Николка и его Галя не то поженились, не то
поженятся на днях.
Рабинович прислал привет и новый свой адрес:
Кропоткинский пер., 19, кв. 14.
Таня Левдикова прислала Вам длинное письмо:
по счастью, в нем только о том, что она на курсы не
приедет, что сестра Станислава получила орден* + лирика.
Мужской голос из Клуба Строителей почти застонал, узнав, что Вы вне Москвы, и настоятельно про¬
91
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
сил Вас в первый же приезд зайти к ним, предварительно позвонив.
Проклятая бумага! Буквы расползаются.
Крепко целую Вас.
Ваш Зима.
1942
49
29/Х
Милый Друг Неточка!
В снах Вы мне не снитесь, а наяву снитесь.
За спиной уже половина пути. Сегодня будем
в Новосибирске*.
Солнце. В вагоне +16. Вчера сверх обеда в ресторане заглотал кусок творогу и кружку молока.
Надо бы думать о предстоящих лекциях, о «ст.
Суетиха»*, а у меня мысли о другом. Жаль, что так слабо, в научн<ом> отношении, подготовился к поездке.
Теории придется «пристраиваться в хвост» опыту. Настроение спокойное. Как только приеду в Иркутск, телефонирую. А Вы, пожалуйста, шлите на адрес Театра
(Иркутск) «Ник<олаю> Федор<овичу> Медведеву для
С. Д. К.»*
Поцелуйте ручку Ольге Ивановне* (ем ее масло — вспоминаю). И свою + целую крепко-крепко.
Всегда Ваш Зим-Сибирский.
92
Письма Сигизмунда
50
5/XI
Маленькая Неточка!
Урываю минуту, чтобы написать Вам. Знаю: будете беспокоиться без писем.
Работы здесь выше темени. Дейсмор*, разумеется, не приехал — и я работаю один за двоих и принимаю не две, а пять постановок. Шетет не труд, а чувство ответственности. Но я делаю свое дело четко, не
жалея сил. И — еще одно «разумеется» — натыкаюсь на
косность, цеховщину и эгоизм.
Энергии моей никому и ничему не сломить. Но...
брови сжал и зубы стиснул. Об этом всем — по возвращении.
Сергея Дмитриевича и Софью Павловну разыскал*, был у них дважды: впечатление сложное: сперва
радость, потом... не знаю, как это назвать?
Провел уже, за 4 дня, две беседы + две лекции.
Условия, в которых читаю, весьма нелегкие. Но я был
все время в нерве и не позволял колкам раскручиваться.
Бытовая обстановка тоже «не ахти» (например,
уже третий день сижу без хлеба — такова «распорядительность» здешнего администратора); ну и черт
с ним, с бытом; важно одно — нагрузить свой мозг сибирскими впечатлениями, оставаться во всем и всегда
писателем, пополнить свою «копилку образов», уметь
отнестись к настоящему, как к прошлому.
Письма от Вас пока нет как нет, мой милый Нет?!
Дня через два еду дальше, в Улан-удэ. Оттуда — прямо в Москву Боюсь, что к 15-му вернуться не
успею, а так, к 19-20-му.
Целую крепко-крепко.
Зима.
93
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
1945
51
21/III
Милая Нетусь!
Сижу у моря, в Махачкале*, и жду погоды (она
здесь очень переменчива). Еще нетерпеливее жду Вашего письма.
Здоров. В Осетии работал неописуемо. И здесь:
за четыре-пять дней — пять постановок, три лекции,
два собрания, встреча с представителями Совнаркома,
драматургами, итоговое собрание и тому подобное.
В Осетии — гостеприимство, в Дагестане —
сверхгостеприимство. Очень мучает, что не могу разделить куска и бокала с Вами, мой Друг. Обещаю привезти яблок и лимонов (на худой конец).
Скучаю. Скучайте и Вы, моя женушка.
Постарайтесь выполнить то, о чем просил.
Ваш Зима.
1946
52
31/VII
Милая Неточка!
Чувствую себя, как андалузский бык на арене:
бодайся — не бодайся, шпага тореодора сделает свое
дело. Решил все-таки бодаться: толкнулся еще в три
94
Письма Сигизмунда
редакции (до агро-пропаганды включительно; завтра
на очереди «Огонек»); закончил и сдал (30/VII) «Кола»*, развернув рукопись с 56 страниц до 74; трижды
ездил в кооперативы, куда и уплыли все деньги — как
Ваши, так и мои, — превратившись в муку, сливочное
масло, девять банок деликатесных консервов (эту девятку решил не трогать до Вашего возвращения) и пр.
Расчет на Лейтеса провалился*: новой работы не
дал, а за старую платеж отложен на полмесяца. И все
в таком роде. Пришлось идти в Литфонд за новой минимальной ссудой.
С сегодняшнего же дня принимаюсь за Фредро
и «Раненную Москву»*. М<ожет> б<ыть>, они вытащат
из ямы.
Никого (почти) не вижу. «Почти» относится
к Лундбергу и Аксюку. Аксюк*, бедняга, бьется хуже
моего, да еще донимает его язва желудка. Свидания
с редакторами не в счет: это встречи автомата с автоматами. И только.
Звонила Людмила Борисовна, расспрашивала
о Вас, посылает меня снова на посмеяние в Редотдел
Академии. Я пойду. Пусть длится мое «Путешествие из
Москвы в Москву».
Получил для Вас в Камерном 470 р. Приложу все
усилия, чтобы произошло не вычитание, а сложение
(470+х).
У меня (на Вашей территории) никого не бывает. Даже бутылка — очень редкая гостья.
Молите, Нетеныш, бога или замбога, чтобы работа моя не прекращалась: это укорачивает время
и низменные потребности.
Звоню каждый день Владимирову, но вызвонить
его не удается: боюсь, как бы он, Шантеклеру подобно,
не обиделся на солнце и не стал бы доказывать, что
оно сплошь из пятен. Тут я подражаю самооценке «по¬
95
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
эта» С. Васильева*: на днях — в столовке — я слышал,
как он рассказывал о своем последнем турне: «Мне говорят „нет билетов даже для генералов“, а я им: генералов у нас тысяча, а поэтов — хороших поэтов — десяток, не больше». Думаю, меньше десятка. Но в кратком
их списке не вижу ни фамилии С. Васильева, ни фамилии С. Кржижановского.
Питаюсь я пока что очень хорошо. До 1/VIII поглощаю по два обеда в день + сливочное масло, которое выдали в кооперативе на Мало-Остроумной улице* (нет, вру — в Вашей «Рыбе») в значительном количестве и которое все равно начало (жара длится!)
таять. Что ж, помогаю ему таять.
В письме моем много о съестном, но мало о святом... искусстве.
23/VI был на «Гкбели Надежды»*. Леон<ид> Львович острил, что в постановке Ганшина* сплошная «гибель» и никакой «надежды», но я не согласен с его мнением. Ганшин, присяжный неврастеник, неврастенизи-
ровал, конечно, и постановку. Но подлинно даровитые
из труппы выпускников все-таки постояли за себя. Вахрушев (директор конторы), Корнеева (его жена) и Ки-
сарова (вдовушка-рыбачка) играли прекрасно, как
вполне сформировавшиеся актеры. Но я и ждал от них
хорошего исполнения. А вот приятно удивил меня Серов, которого я расценивал под цвет его фамилии!
Свою маленькую роль бухгалтера он сыграл виртуозно.
Ну, Неточка, целую крепко. Поправляйтесь.
Ваш Зима.
Пересылаю немного сладкого. Хотел добавить
пастилок, но они слипаются в одну пастилище. Приедете — расклеивайте.
P. S. Приветы: Вере Кузьминичне, Котику, Тине,
Володе Довганю и Довганю Младшему.
Письма Анны
1920
1
Милый друг*, я не умею воевать с жизнью и бороться за счастье, но видит Бог, я умею любить и я
люблю Вас... Что хотите, то и думайте. Если я этим
огорчаю Вас, простите, если Вам радостно, то не бойтесь ни меня, ни жизни...
Вверяюсь Вашей чуткости в остальном.
Анна Бовшек.
2
18 июня 1923
Мой добрый-добрый, мой хороший друг, бесконечно обрадовалась Вашему письму, беру его с собой к морю, в степь и стараюсь из-за строк видеть
Вас. По-видимому, я огорчила Вас своими короткими легкомысленными посланиями, но я живу в разоренной дикой местности: на версту кругом ни чернил, ни пера, ни бумаги. К моему ужасу, «Кубасиада»
поглотила все мои бумажные запасы, и я, оставшись
без почтовых принадлежностей, почувствовала себя так, как чувствуют себя матросы, убедившись, что
97
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
на корабле не осталось ни капли воды для питья. Листы, на которых я пишу сейчас, достались мне почти
с такой же трудностью, с какой они достаются выброшенным на необитаемый остров, так что, при Вашем
воображении, мой конверт, вероятно, покажется Вам
бутылкою! Ну, вот видите, я опять не по существу. Зи-
мик, родной, мне надо много, много рассказать Вам.
Событий со мной не происходит никаких. В городе не
была и не буду до самого отъезда, никого кроме своих не вижу, но оттого, должно быть, что я отдохнула,
чувствую себя так, как будто у меня впереди радостная и важная работа, к которой нужно как можно скорей приступить. Первые две недели я ни о чём не думала, было жарко, легко, спокойно и я просто дремала, а сейчас много, много и часто думаю о Вас, думаю
неясно, радостно и с благодарностью, думаю о Москве
и, конечно, немного нервничаю. Не хочется оторваться от моря и хочется Ваших глаз умных и добрых, хочется Вашего голоса и я, о ужас! летом в мою любимую
жарищу считаю дни. Милый, на вокзал не приходите:
я, вероятно, буду с Влад<имиром> Васильев<ичем>, но
дома у себя будьте: если я приду и Вас не застану, мне
будет больно. Выеду 29, и только и только в несчастном случае 31, поезд приходит днём. Одновременно
с Вами пишу и Юрию Казимир<овичу>. Если он сейчас не приедет, то я не верю его чувству к Л., пожалуйста, так и скажите ему. О том, что из себя представляет Лидочка и о всех моих беседах с ней расскажу при
встрече, так как Вас это, вероятно, не так уж сильно
интересует. Юрий Казим<ирович> может устроиться
здесь на Ф<онтане>; наши и сама Лидочка ему в этом
помогут, так, по крайней мере, мы с нею условились.
Хорошо тут, так что я все время думаю о том, что за та*
кую красоту и радость можно зимой и пострадать, если суждено за всё платить. Я часто вспоминаю, как Вы,
98
Письма Анны
сидя у окна Студии, советовали мне чаще смотреть на
Москва-реку, чтобы сохранить радость от неё и для зимы, а я всё время думаю о том, что Вас нет здесь и что
Вы-то больше чем кто-либо могли бы насладиться морем и солнцем, и Вам не мешало бы очиститься от московской скверны. Только, милый, здесь надо «хорошо лениться», а я теперь вижу, что ничего не делать
и лениться, это тоже трудно, так как я часто не знаю,
где кончается беспечная радостная лень и начинается
острая, тревожная, страшная тоска. Она здесь усиливается еще и тем, что нигде и никогда я не видела такого контраста между красотой природы и безобразием
человеческих дел. Уцелевшие жилища такая редкость,
что не развалины, а они вызывают жалость и недоумение. И всё же мне хотелось, чтобы Вы всё это видели,
очевидно, в «Узкое» Вам не удалось попасть*: Вы, должно быть, поленились, но, милый, это здесь можно лениться, а там, в Москве, нельзя, и я всё же хотела бы,
чтоб Вы побывали там, так как боюсь, что Вам будет
нехорошо зимой. Ну, теперь скоро... Будьте здоровы,
родной, да хранит Вас Господь
Ваша Нета.
Если увидите Людмилу Борисовну и Алекс<ея>
Никол<аевича>, передавайте привет и скажите, что
я ужасно хорошо себя чувствую. Никаких признаков
Буцкого, Курбаса или Кунина* нигде нет, — очевидно,
что-нибудь у них не выгорело с дачей. Удержите Юрия
Казим<ировича>. от телеграмм, впрочем, Вы, кажется,
это с успехом уже проделали. Сегодня посылаю и ему
письмо, и досаднее всего, что к нему письмо полетит соколом, а к Вам черепаха. Спешную почту я прямо возненавидела, так как она несправедливая. Единственно меня утешает то, что он, вероятно, Вам читает
мои письма, и я все же лишний раз общаюсь. На Фон¬
99
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
тан писать можно, письма приносят, но дольше — это,
впрочем, ничего. Последнее письмо пошлите не позже 18 июля. Как Узкое? Обнимаю Вас, мой милый друг.
Будьте благословенны. А. Бовшек
Кончила письмо немилое, начинаю милое. До
сих пор Зимик, от Вас ни строчки. Боюсь, что запутала Вас сменой адресов. Знаю, что оставила Вас без денег, и хотела бы знать, как Ваши дела с издательством.
Выиграла ли я пари насчёт Шамиссо? Это единственное пари, которое я с удовольствием проиграла бы.
Мой добрый, родной, если б Вы знали, как мне хорошо сейчас. Я только всё время думаю, что за такую радость и покой, должно быть, жестоко придётся расплачиваться. Но пусть... Никаких мыслей в голове; солнце
сделало меня совсем здоровой и счастливой. Смотрите, родной, Вам предстоит большая работа зимой, так
надо будет <нрзб.> его в силе.
Представьте моё огорчение, милый, когда я узнала, что теперь на Фонтане нет почты и письма не
приносят на дом. Мне всё кажется, что Вы уж написали мне и теперь письмо начнёт странствия. Пишите родной по такому адресу: Одесса Раскидайловская
8 кв. 9. Если нужно, сообщите этот адрес и Юрию
Казим<ировичу>. В Люстдорф* по его делу я еще не
ездила, так как было сыро после дождя, а я из всех
сил лечусь от кашля. Мой новый bean-frere оказался очень добрым, простым легким человеком. Все
сообща кормят меня на убой, лечат. Я ничего не делаю, очень разленилась. Обратно выеду в Москву
тотчас же после именин обоих сестриных мужей —
оба Владимира 28 июля. Боюсь августовского тарифа. Как Ваши денежные дела, как Ваши компаньонки по прогулкам? На всякий случай готовьтесь к пирожным, потому что солнце здесь хорошо работает
100
Письма Анны
и пари выиграю, конечно, я. Будьте здоровы и счастливы. А. Бовшек.
3
Милый, родной мой Зимек, как Ваши дела? Мысли о Вас туманят горизонт моего бездумья. Тде Вы были за это время? как Вам дышится и живется? как наши
друзья? Что слышно с моим отоплением?
У нас здесь на Фонтане всё как будто по-прежнему
и вместе не по-прежнему. Пустые дачи... все мысли, дела и надежды сосредоточены на будущих уроках. Напряжение сил огромное, такое, как бывает, когда ставка — жизнь. Я после зимы сразу почувствовала себя
ослабевшей и не могу еще собрать себя как следует. Начала работать, но словно сквозь сон... Чувствую, что
силы мои восстановятся скоро, потому что, хотя и нашим очень трудно, — питаюсь я всё же регулярнее, чем
в Москве, а главное — солнце и море, которые действуют на меня чудесно. Вода теплая, погода ровная, хорошая. Пожалуй, слишком жарко. Боюсь, что не досижу
до сентября, так как не хочется быть в тягость, а жизнь
невероятно дорога. Пока решила об этом не думать
и каждый грамм сил и здоровья копить впрок.
Первые дни я очень была потрясена видом мамы, на ней после болезни словно печать обреченности, несомненно, что мысль о возможности рецидива
не отпускает её; но сейчас я ли отупела или мамочка
-повеселела, но уже и ей, и мне не так страшно.
Когда приеду, Зимек, много расскажу об одесских впечатлениях, в письме же не сумею.
Очень, очень беспокоюсь о Вас и прошу преодолеть свои трудности и написать мне о себе все и по¬
101
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
скорей. Мой любимый, мой милый, мой добрый друг,
целую Вас и нежно, и крепко... Люблю Вас...
Ваша Нега.
4
29 июня
Сейчас отправляюсь на почту, сдам письма, Ваше и Юрия Василь<евича>, и так как он, увы! Получит
свое раньше, то Вы от него и узнаете о страданиях молодого Вертера.
С почты прямо на Фонтан к морю. Пока могу доложить Вам, что пульс у меня 84, наполненный и крепкий, температура 36,6, самочувствие превосходное,
аппетит зверский, почти такой же, как у нашего общего друга. Кунин в дороге оправдал мои надежды, так
как он, так же, как и я, ориентировался на вагон-ре-
сторан. Зато Влад<имир> Вас<ильевич> совершенно
разбил меня. У него оказалось всё: предусмотрена была подушка, плед, пища, — всё с заранее обдуманным
намерением. Это дало ему возможность смотреть на
меня с нескрываемым презрением. Я страдала. Но час
мести настал, и я гордо с Куниным прошла в вагон-ресторан и даже имела дерзость пригласить и его.
Теперь, родной, не хочу терять ни минуты. Прощайте.
Горячо целую Вас и благословляю Бога за Вас.
Пишите на Фонтан.
Нега*
102
Письма Анны
1924
5
Мой милый, милый, добрый друг, сегодня неделя, как я приехала, и первый день, когда я предоставлена самой себе. Все время живу на даче, но как-то не
чувствовала ее, так как у мамы окончились занятия,
и все время к нам приезжали с прощальными пикниками. Я старалась быть любезной и помогала в хозяйстве, а Вы знаете, как я это люблю... Но сейчас все уехали в город, тихо, радостно, и-я с удовольствием думаю
о том, что через несколько часов станет прохладно,
я пойду в Люстдорф, море будет слева, степь справа,
потом опущу письмо в ящик, и оно пойдет к Вам. Произойдет «смычка» между Москвой и Одессой.
Кстати, украинское население очень смущено
словом «смычка», т. к. украинский глагол «смыкать»
значит «очищать».
Были ли Вы у Веры Георгиевны? Что наладилось
у Вас? Как денежная сторона? Тревожит меня она; не
знаю, на кого или на что надеяться для Вас. Как работается Вам? Мне пока сейчас очень хорошо, живу в состоянии бездумности, бездеятельности и беспечности, но все эти три «без» я себе спокойно разрешаю,
потому что летом в Одессе все так живут, так что никто ни видом, ни делом не может послать мне упрека.
Одесса понемножку разрушается, но это стало ее особенным состоянием, пока тихо, безмятежно — и прежней кипучей жизни в порту еще по-видимому нескоро
суждено возродиться.
Мамочка по-прежнему бодра, деятельна и своей
неутомимостью приводит меня — лентяйку — в сму¬
103
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
щение, но она одна-единственная бодрствует. На днях
приезжает из Харькова Ясенгорка*, у нее опасно болен был Василек* — сейчас поправляется; в Харькове
их на службе, конечно, обманули — обещали большую
ставку, но получить ее никак не удается; вероятно,
им придется вернуться вновь в Одессу совсем... Милый, родной, думаете ли Вы обо мне? Скоро ли начнете скучать? Состояние, в котором я Вас оставила, мне
не совсем понятно было... Когда я раздумываю о нем,
меня поддерживает вера в Вашу жизнеспособность
и упрямство. Вы можете, конечно, и даже должны обрушиться на меня. В самом деле, себе я разрешаю
и бездумность, и безделие, а когда к Вам приходит такая полоса, я многозначительно начинаю почесывать
затылок и обсуждать вопрос: «да что же это?»... Простите, родной, каждый лучше угадывает, что ему нужно. Милый, любимый, родной, обнимаю Вас.
Будьте благословенны.
Ваша Нета.
Одесса. Болын<ой> Фонтан. Станция Ковалевская. Дача Бовшек. Анне Гавр<иловне> Бовшек.
6
14 июня 1924
Зимик, Зимик, нехорошо так долго молчать.
Я очень хорошо знаю состояние, когда не пишется,
но и тут можно как-то овладеть собой. Я понимаю, что
Вам нечего беспокоиться обо мне, но письмо мне нужно не ради меня, т. е. я хочу знать о Вас, а не о себе.
Остались Вы и без денег, и без работы. И, конечно, меня точит мысль о Вас. Солнце, море и все вокруг так
104
Письма Анны
же чудесны, как в прошлом году, но какой-то легкости,
какая была в прошлом году, нет, — быть может, я обнаглела и не так страстно ощущаю природу и отдых,
а быть может, что-нибудь предощущаю... хотя нет —
и тревоги нет... сказала бы, совсем живу бездумно, если бы не думала о Вас... Вчера ходили с компанией гулять далеко-далеко, на обратном пути зашли в Люст-
дорф выпить пива... вдруг за соседним столиком
Ценин* с какой-то дамой... что он делает в Люстдорфе,
не поняла; он что-то болтал о рыбном промысле, будто поселился на берегу, как рыбак, в шалаше, и стал ловить рыбу с кем-то в компании, потом будто их разогнали, и так кончилась его трудовая жизнь. В качестве
нетрудового элемента он по-видимому чувствует себя
тоже хорошо, толст и весел.
Кстати, каково теперь Ваше отношение к пивному производству и не вызовет ли хоть это воспоминание о столь любимом Вами предмете маленькую улыбку на Вашем лице, пока все еще неподвижном и равнодушном. Нет? Ну, пойдем дальше.
Очень, очень прошу Вас повидать Веру Георгиевну и вручить ей мое послание к ней. Дело в том, что
я знаю ее адрес, но не помню точно окончания фамилии и боюсь быть невежливой; ей, пожалуйста, этого
не говорите; в своем письме к ней я ссылаюсь на незнание точного адреса, и этой причиной объясняю запоздание моего письма. Что слышно нового в политике? Какие новые законы и декреты? К нам ничего не попадает, а если попадает, то в виде слухов, а Вы знаете,
что их количество обратно пропорционально достоверности. Есть ли известия от Юрия Казимир<овича>?
Непременно навещу Лидию Алекс<андровну> и хочу на обратном пути в Москву навестить киевлян. На
днях напишу письмо Анатолию Конст<антиновичу>
и Евгению Михайл<овичу>*, чтобы предварить о наез¬
105
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
де и выяснить, у кого удобнее будет остановиться. Родной, если у Вас серьезная причина молчания, тогда,
детко, я всей душой принимаю ее, а если просто так, —
тогда не надо... Будьте здоровы, радостны и благословенны.
Ваша Нета.
7
Мой добрый-добрый, милый друг, кажется, Вы
не получили одного из моих писем: оно не более ценное, чем другие, но в него было вложено письмо к Вере Георгиевне. Я немного смущена, так как обещала ей
написать. Впрочем, это легко поправить.
Итак, между мною и Вами осталось 3 недели:
и радостно, и больно... В Москве я буду либо 24, либо 26 утром. В Киеве остановлюсь на 2-3 дня... Ваше
сообщение о гонораре, наконец-то полученном, меня успокоило и прибавило мне на 10 ф<унтов> веселости, так что я сейчас не решилась бы взвешиваться при посторонних: непосвященные истолковали
бы мой значительный вес обидно для моего женского достоинства. Ах, если б не пивные!!! Они иногда
приходят мне в голову, а Вам попадаются навстречу...
Что слышно о тех, кто гастролирует в Новгороде-Се-
верском*, горят или блистают? От Екатерины Михайловны* получила письмо — узнала, что они, к сожалению, не могут приехать и хотят попытаться снарядить
Леон<ида> Льв<овича> в Крым. Впрочем, Вы все это
знаете лучше меня.
Если «Жизнь» не прекратит своего существования* и Ваша статья будет напечатана, пошлите Полонской номер. Это будет первая Кагзаксукова <?> ра¬
106
Письма Анны
дость. А говорят «лиха беда начало». Как видите, во
мне как в истинной женщине сидит начало мести.
Несколько дней тому назад приехал сюда Владимир Никол<аевич> Твердохлебов*. Он поселился недалеко от нас вместе со своим товарищем, проф<ес-
сором> Зайцевым*. Меня это очень обрадовало, так
как мы по вечерам гуляем в степи и болтаем о всех
новостях в мире «Верхнем», «Нижнем» и «Здешнем».
Столь учеными беседами я стараюсь пополнить пробелы в моем социальном образовании. На днях читала очень хорошую книгу Конрада Берковичи*: «Дочь
укротителя». Это томик рассказов из цыганской жизни в Румынии. Автор — еврей, но пишет по-английски.
Рассказы определенно хороши, если попадутся Вам,
прочтите.
Милый, родной, теперь уже скоро увидимся. Женечка и Владимир Васильевич* приехали 3 дня тому
назад из Харькова, просят передать Вам привет. Ребенок их страшно исхудал, очень бледненький, но выскочил благополучно. Моя тревога о нем тоже рассеялась, так что мне совсем-совсем хорошо. Хочу, чтобы
и вам было хорошо.
Будьте счастливы, родной.
Ваша Нета.
1925
8
Мой милый, милый, мой добрый друг, из того,
что я пишу Вам, Вы можете смело умозаключить, что
со мной не произошло никакой катастрофы в доро¬
107
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
ге. От Киева до Одессы становилось все холодней, так
что на Фонтане меня встретила совсем суровая погода. Солнце сконфуженное и запрятавшееся в тучи: для
Вас, как видите, совсем не опасно. Правда, оно смелеет с каждым днем и начинает греть понемногу. Вчера
я уже купалась и делала вид, что лежу на солнце, но загара не произошло. В доме у нас все благополучно: настроение у всех радостное, Володя на службе, и я до
сих пор не видела его, он приезжает только в субботу. Сейчас материальные дела наших неплохи, но зимняя кампания у них была настолько тяжелой, в смысле безденежья, что они чинят старые прорехи. Если
Вам удастся получить мои деньги (только ради Бога
не хлопочите о них больше, чем мы договорились),
то пришлите на мое имя переводом. Деньги приносят
на дом и паспорта не спрашивают. Оказалось, что удостоверения у всех просрочены, так что мы все одинаково грешны, но это не играет роли. С моими подарками произошло много недоразумений, всех насмешивших, но я расскажу о них по приезде.
Меня мучит то, что самый благополучный из
периодов моей жизни каждого года совпадает с Вашим самым неблагополучным, и моя беспомощность
в этом вопросе меня убивает. Детко мое ненаглядное, любимый мой, черкните мне скорее, что слышно
у Вас. Знаю, что ничего хорошего не предвиделось, но
ведь спасение от клещей всегда у нас с Вами нежданное и не с той стороны, где хлопотали. Как Ваша работа? Целую Вас, мой добрый, мой любимый, и жду вестей.
Ваша Нета.
108
Письма Анны
9
22 июля 1925 г.
Зимочка, милый, разве можно так волновать меня! Если я пишу редко, это дурно, правда, но это не может Вас тревожить, потому что я у родных, меня греет солнце, моет волна и питают близкие мои. Событий
никаких — ни больших радостей, ни больших тревог...
А Вы, милый, в других обстоятельствах. Знаю наперед,
что тяжелых, и для меня весь вопрос в степени тяжести. При моем подлом воображении, мне нетрудно
представить себе разные виды опасностей, осложнений и затруднений Ваших. Если Вы не пишете, потому что сил нет собраться, — это еще понятно, но если Вы таким образом хотите уберечь меня от огорчений — это плохая тактика. Мы всегда и всем делились,
чем могли. Детко мое родное, мне всё снилось сегодня
ночью, что Вам плохо, что Вы ужасно выглядите, а потом снилось, что я Вас потеряла — не знаю, как, во сне
это было непонятно, но я чувствовала только, что Вас
как-то нет у меня и что тяжесть какой-то невероятной
потери мучит меня. Потом я искала Вас в каком-то невероятно большом доме с множеством лифтов, и беда
была в том, что я не знала, в какой Вы квартире, наконец, в большом вестибюле натолкнулась на Вас, и Вы
странно мне обрадовались, но были бледны и изнурены. Фуй! Милый, во сне являетесь, а наяву — хоть бы
строчку... Как вырешился вопрос о корректуре? Что
Лундберг? Какие статьи Вы написали для журналов?*
О душевном и матерьяльном состоянии немедленно дайте отчет!
О себе писать нечего: всё в порядке, приеду —
увидите... Несколько дней пробыла у нас Анна Федоровна, недельки через две уезжает снова в Рим, на
109
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
прежнее место, просила передать Вам привет. Муж Лидии Алекс<андровны> Вырлан <?> погиб в марте месяце, говорят, кончил самоубийством, потому что тело нашли в море, следов ограбления не было. Я не видела ее, в Люстдорфе она по-видимому не живет, так
как ставни ее мезонина всегда закрыты. Увидеться бы
хотелось, но брать на себя инициативу встречи... не
знаю, что-то меня удерживает, а я себе верю... должно
быть, нечаянно свидимся...
Милый, родной, солнышко мое, храни Вас Бог,
целую вас крепко. Пишите мне.
Ваша Нета.
10
2 августа 1925 г.
Родной мой, я получила оба Ваши письма; только первое с очень большим запозданием. Судя по
штемпелям, оно шло 10 дней, тогда как второе добралось в 3 дня. Ваше пари я, конечно, принимаю, но на
этот раз счастлива была бы вдвойне, проиграв его, так
как мало того, что увидела бы Вас, но еще показала бы
Вам Фонтан и всех моих близких! Ах, милый, это была бы такая радость, каких в жизни почти не бывает.
Несколько успокоилась насчет Ваших материальных испытаний... Фотогения меня смешит*, она,
как неродившаяся душа у Метерлинка*, непременно
хочет родиться... Ну что ж, по моей теории «сильного
желания», она, очевидно, родится.
Видели ли Вы Веру Георгиевну, и что слышно
о Борисе Николаевиче?* Уехали ли Северцовы за границу? Анна Федоровна уезжает 13 августа пароходом,
я провожаю ее с большой грустью, так как теперь уже
110
Письма Анны
не знаю, увидимся ли? Она гостила у нас на даче, и все
наши к ней еще больше привязались.
Милый, к Суслову не ходите больше. Я постараюсь получить деньги по приезде и тогда рассчитаюсь
с нашими. Этот вопрос меня не тяготит.
Если у Вас хоть капельку будет затруднений
в деньгах, то тоже не высылайте. На дорогу я использую деньги сестры моей, приготовленные ею для покупки материи в Москве.
Ах, милый, зачем Вы меня смутили этим «пари»,
знаю, что Вы меня дразните, но мне всё представляется Ваш силуэт шагающим по Фонтанским обрывам...
Нехорошо.
Самое чудесное в жизни здесь, на море, что нет
никаких желаний, кроме одного, чтоб Вы были близко; но так как я на этом фронте терпела от Вас всегда решительные поражения, то я знала: этих мыслей
нельзя пускать в душу. И, в конце концов, привыкаешь
к «нельзя»... Ах, Вы! возмутитель!
Поправилась я, как обычно, много купаюсь, лежу на солнце. Хозяйство ведем сами в этом году, но это
совсем нетрудно, так как наша основная пища — овощи
и фрукты. Аппетит волчий, но мы его удовлетворяем —
так что страданий никаких. Буду немного черна при
встрече, но Вы уж мне простите. Любимый мой, нежный
мой, друг мой, обнимаю Вас, целую, до скорой встречи.
Ваша Нета.
11
14 августа
Очень, очень благодарю Вас, мой родной, мой
добрый друг, за деньги и за письмо. Хоть тон Ваших
111
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
посланий довольно бодр, но боюсь, не пробили ли
Вы у себя брешь в Ваших финансах. Но так как теперь мы уже скоро увидимся, то я смогу произвести
на месте точное расследование, берегитесь: «иду на
вы!» Думаю я выехать 28-го, в пятницу, значит, в воскресенье, 30-го буду в Москве. Наши удерживают меня дольше, но я решила 27 августа проводить Анну
Федоровну (она к этому пароходу не поспела), а на
следующий день отправить себя. Если что-нибудь
изменится, я, конечно, сообщу. Чувствую, что я, как
говорится, одной ногой уже, если не в Москве, то
на вокзале. Такому ощущению способствует и резко изменившаяся погода. Только-только <было> тепло, а ветер уже гонит перед собой желтые листья, забирается в трубы и подымает на море волны. Не рискую купаться: вода теплее воздуха. Я с жадностью
хватаюсь за последние лучи солнца и голубые куски
неба. Говорят, что такая погода бывает здесь только в конце сентября, в начале октября. Ваш соперник — солнце — совсем бессилен, он не удержал бы
меня и двух дней, если б ему не помогали все наши.
Когда я думаю о Москве, я чувствую большую, большую радость от встречи с Вами и в то же время знаю,
что попаду в тучу мелких забот, которые кусают меня, как комары или москиты... Ну, что же, за все надо
платить!.. Прощай фонтанское солнце! свети московское!!! (чтоб было легче московскому, я поставила
три восклицательных знака за ним). Перед отъездом
обещала почитать нашим, кстати, тут и Влад<имир>
Ник<олаевич> Твердохлебов. Думаю читать Лескова*.
Один вечер из стихов я уж устраивала им, так как-то
сам собою вышел, очень понравился им. Бутыли появляются у нас в этом году реже, так как Володя уже
служит и приезжает только по воскресеньям, но на
прощанье не удержимся, вероятно...
112
Письма Анны
Родной мой, добрый, милый, скоро, скоро я буду глядеть Вам в глаза, пилить Вас за разные промахи
(это, скажете Вы, уже хуже) и просить о комплиментах. Подумайте, взвесьте и рассудите, так ли все это хорошо!!!
Ах, сколько дел в Москве и как не хочется за
них браться. Фотогения, чего доброго, еще выживет!!!
Впрочем, милое дитя, может быть, вырастет на радость родителям и на утешение отечеству. Ваш опыт
сценария меня очень обрадовал*, хотя, с другой стороны, нечем будет Вас укорять. Родной мой, любимый,
целую, обнимаю. Будьте здоровы в мое отсутствие
и счастливы в моем присутствии.
Ваша Нета.
12
25 августа
Зимек, милый, через неделю — рука в руке... я буду слышать Ваш голос, волноваться Вашими новостями... Кое-что надеюсь узнать еще здесь. По моим расчетам, сегодня или в понедельник я дощкна еще получить письмо от Вас, т<ак> как из Москвы я еще ничего
не получала, и только мое воображение поставляет
мне вымышленные известия — то радостные, то мрачные...
Еду я, милый, очень доброй, радостной и с запасом сил.
Буду в Москве в воскресенье, 2 сентября. На перроне Вы, вероятно, увидите Владим<ира> ВасСилье-
вича>, так как Женя выезжает тем же поездом. Билеты
уже заказаны, но если что-либо изменится, я протелеграфирую Вам. Что касается денег, то мне пришлось
из
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
заплатить за свое жилье, так что на дорогу я пока взяла из дому, с тем чтобы на эти деньги сделать в Москве покупки или выслать их оттуда. Не писала Вам об
этом, потому что такая комбинация менее хлопотна
и удобна для «августа».
Волнуюсь перед отъездом, как школьница... Но
это всякий раз, когда мне приходится надолго расставаться с морем. Одесса на этот раз была мне особенно
дорога, и я думаю — исключительно потому, что я перед ней получила для души пищу, и потому, что рассталась с Вами только на месяц. Больше всего я рада
душевному равновесию — последние годы оно было
самым уязвимым моим местом. Зимек, милый, защитите меня в Москве.
Привет моему доброму другу, господину Жилету.
Он всегда в трудные минуты находил для меня слова
утешения, согревал в ненастные дни и занимал в долгие зимние вечера. Милый, добрый друг — мой привет
ему. Надеюсь, Вы не ревнуете к нему? Ведь Вы же сами
сознались мне, что и Вы тоже даже летом не можете
обойтись без Него.
Ну, вот, потом Вы будете уверять, что я письма
свои наполняю «чепухой», — а у меня ни одной даже
самой маленькой новости, живу, как в Хосте, утром
каждый день погружаю тело в морские волны, вечером погружаю душу в сон. А в промежутке иногда думаю о Вас.
Ну, милый, пока не настанет воскресенье, получите мой воображаемый поцелуй, причем я позволяю
Вам самому придать ему нужную Вам крепость, горя-
честь и прочие качества.
Ваша Нета.
114
Письма Анны
1926
13
21/III
Зимочка, милый, пишу Вам по адресу: На деревню. Дедушке... Мало надежды на то, что Вы получите
моё письмо. Но поговорить хочется. Как-то Вы доехали? Ifte остановились, как питаетесь? И что Ваша напарница?
У меня после Вашего отъезда совсем упали нервы. Думала: вот когда я много сделаю, все приведу
в порядок и собой займусь. На деле вышло не так. Подушка моя единственная мечта и мой единственный
собеседник. Виной тому были и очень усилившиеся
морозы. Но вот 14 марта подул тёплый ветер, солнце
тоже постаралось, и весна заявила о своём прибытии.
Правда, она еще ведёт упорную борьбу с зимой: ночью морозы в 16-18 градусов, а днём всё течёт, смеется и бодрит всех нас, усталых и замерзших.
Вероятно, у Вас там совсем хорошо.
Часто на улицах вижу мимозы и вспоминаю
о Вас. Впрочем, я, увы!!! Вспоминаю не только, когда
вижу мимозы да голубое небо... Беспокоит меня многое в Вашей поездке, и хоть я рада, что Вы сейчас не
в Москве, а на юге, но всё же дни считаю...
Вероятно будет 4-я неделя поста, когда Вы вернётесь, а на четвёртой неделе обычно бывает уже хорошо.
Бытовые Ваши дела здесь в порядке... но о них
Вам лучше и не знать: «довлее же дневи злоба его»...*
Я всё лежу и мечтаю о том дне, когда я начну уничтожать все последствия печки; думаю, с какого угла начать и как повести борьбу... Ну, это неинтересно...
115
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
А что интересно? Видеть Вас. Быть с Вами. Даже
сердиться на Вас...
Ну, милый, все-таки напишите скорей. Может
быть, моему письму повезет. Крепко целую Вас.
Нета.
14
Мой милый, милый друг, наконец я знаю, где Вы.
Моё положение было отчаянным. Я убедилась, что для
самой пламенной фантазии необходим реальный отправной пункт. До 15 июня я в своих мечтах распоряжалась Вами довольно удачно; начиная же с этого рокового числа вплоть до 22, когда я получила, наконец,
Ваше письмо с извещением об ответе, я помещала Вас
то в поезд железной дороги и заставляла выходить на
всех станциях покупать землянику, молоко и пр., то
немедленно перебрасывала на Арбат*, причем Вы в таких случаях у меня лежали на своём синем возвышенном ложе и мрачно думали об энциклопедии, которая
решила продержать Вас в московской пыли до июля.
И когда я, возмущённая и негодующая, чувствовала,
что голова моя наполняется самыми страшными словами и мыслями по адресу Большой Сов<етской> Энциклопедии*, Москва тихо уплывала... Вы уже лежали
у меня на берегу моря в трусиках, так как разговоры
о последних и важная роль, которая им приписывается в Коктебеле, по словам бывалых людей, заставляет
меня представлять Вас в них и теперь. Милый, честное
слово, возя вас ежедневно с севера на юг, да еще по нескольку раз в день, я переутомилась. И потому Ваше
письмо было для меня не только большою радостью
духовной, но физическим облегчением. Особенно
трудно мне было, честное слово, не смейтесь, в шторм.
116
Письма Анны
Было несколько дней, когда Чёрное море сильно бушевало, и мне было крайне неприятно, что Вам трудно перенести сильную качку, да и опасно, к тому же
я не знала, как Вы вообще переносите море.
Мой милый, родной, хорошо ли Вам сейчас? Как
Вы устроились? Какие у Вас установились отношения с М. Волошиным и окружающими? Хорошая ли
подобралась компания? Если Ланны с Вами*, — мой
сердечный привет им от всей души. Возьмите у солнца побольше тепла для зимы, и пусть оно Вас раскрасит под арапа: во-первых, мне любопытно, как Вы будете выглядеть разделанным под бронзовый колер,
а во-вторых, и моя окраска в ваших глазах приобретёт
повышенную оценку.
Что до меня, я чувствую себя хорошо; выучила
Ионыча, пробую взяться за Гейне — не в состоянии:
мучит перевод; пока решила продолжать Чеховскую
программу. Усердие моё объясняется тем, что дни были не очень жаркие. На днях прочла роман Карин Ми-
хаэлис* «Семь сестёр»; автор очень против брака и доказывает это при помощи 7-ми сестер, выдавая их по
3 раза замуж, так что всякий читающий, видя столько
несчастных случаев, может все понять. Жаль только
бедных сестёр, что автор так много их мучит. Кроме
этой книжки, у меня ничего нет под руками. А жаль —
хочется почитать. Милый, мне очень не хочется кончать письмо, пишу под теснотку, больше нет бумаги.
Мне остаётся использовать оставшиеся три строчки,
чтобы поскорей успеть Вас поцеловать, милый, любимый, и пожелать Вам прожить это время на берегу
моря как можно радостней. Солнце абсолютно уничтожает злыдней*, так что за Вас в этом смысле я не
боюсь. Мне страшно приятно, что мы ждём погоды,
т. е. бездельничаем, у одного и того же Чёрного моря.
Нета.
117
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
15
30 июня
Милый, милый, не хочу ждать ответа на свое
первое письмо, иначе наша переписка обратится для
меня в подвиг терпения. За неимением точных данных о Вашей жизни в Коктебеле, я все еще упражняю
свою фантазию, и она, бедненькая, совсем устала...
Хорошо ли Вам на юге? Что Ваши злыдни присмирели — не сомневаюсь, хотелось бы получить извещение об окончательном поражении их.
Вчера начала работать над Гейне, и он переполнил меня и тоской, и любовью, и радостью — так что
нестерпимо захотелось видеть Вас, захотелось читать
его при Вас. За это страстное предчувствие возможного счастья, конечно, придётся зимой расплатиться неудачей — и та будет при Вас, конечно.
С переводом мелких вещей я помирилась,
а крупных вообще мы отобрали немного — думаю, что
вполне пригодного материала хватит. Работаю пока
каждый день и, чем больше работаю, тем больше верится, что что-то выйдет. Пишу Вам об этом не из хвастовства, а потому что очень радостно. Если это иллюзия, то ведь и счастливых обманов у нас мало, и они
все реже приходят, да и мы все меньше верим им.
По вечерам утешаю себя тем, что лунный шест
на море, несомненно, попадает в поле Вашего зрения,
и я по нему могу добраться до Вас.
Видите, милый, как я подробно пишу о себе; теперь Вы дайте мне точные сведения, и поскорей.
Есть ли у Вас новые интересные знакомства, как
Вам понравился М. Волошин, как отдыхаете и загораете. Привет мой Ланнам и Лунам*, если они там. Танцуете ли фокстрот? Носите ли трусики, и как отнеслось
118
Письма Анны
местное общество к тому, что у Вас одна рука длиннее
другой, т. е. один рукав длиннее другого?
Я с огорчением думаю о том, что если Вам нужно возвращаться в Москву 15 июля, то половина Вашего отдыха уже отхвачена у Вас.
Ну, милый, целую Вас. Пока прощайте... «мой
первый друг, мой друг бесценный»* (первый — потому
что лучший, к тому же из песни, да еще пушкинской,
слова не выкинешь).
Нета.
16
8 июля
Милый, наконец-то получила Ваше письмо. За
неимением или, вернее, отсутствием Вас, прижимаю
милые строчки... милые-милые... Надеюсь, что, если
я стрельну сейчас письмом, то еще застигну Вас в Коктебеле. В те тихие грустно-радостные мысли, которые
бывают в часы расставания с югом, когда особенно
остро чувствуется красота моря, берега, неба — всего
оставляемого, — хочется пробраться и мне к Вам.
Больно и обидно, что всё хорошее так спешит
уйти. Пожалуйста, сделайте напоследок хорошую дезинфекцию в душе, чтоб злыдней не осталось, а то
Москва коварна и зла; хорошо бы приобрести иммунитет. Так как мне свойственно мечтать, то я часто
представляю себе, что этак дня за 3 до Вашего отъезда приходит письмо от Сергея Дмитр<иевича>, в котором Вам разрешается продлить отпуск еще... ну хотя
бы на полмесяца.
Милый, как хотелось бы мне увидеть Вас... что-то
грустно проходит лето.
119
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Прервали мое письмо. Перечла последнюю
фразу — не придавайте ей значения — то был минутный стих такой... т. е. видеть-то Вас мне бы страстно хотелось, а что грустно проходит лето — не совсем точно: а именно — лето действительно проходит, но не всегда грустно. Очень, очень прошу Вас,
если у Макс<имилиана> Алекс<андровича> есть что-
нибудь из его вещей, подходящее для меня и моих сил,
достаньте*. По нескольким чертам, отмеченным в Вашем письме, нарисовала его образ — и чувствую, что
М. А. должен быть интересен, и мне как-то радостно,
что Вы общаетесь с ним и что, конечно, в душе что-то
останется ценное от этих дней.
Как не хочу я отдавать Вас Москве, пока на конверте штемпель: Коктебель*, — я знаю, что мы глядим
на одно и то же море и солнце одинаково поджаривает Вас и меня. Вас даже больше, вероятно, судя по географическим данным... а Москва — всё другое.
Находится ли Ваша дача на берегу и удалось ли
Вам дознакомиться с полузнакомыми? Кто они? Что
Вы ничего не делали, это очень хорошо, только так
и можно набраться сил. Когда мыслям и словам пора
будет придти, они и придут.
На днях получила письмо от Людмилы Борисовны — живут с Ал<ексеем> Ник<олаевичем>* в Posifolo
под Неаполем, счастливы и работой и природой, но
мечтают о возвращении в Россию; осенью, после курса лечения в Кисингене, собираются в Москву, страшно горюют о таможенных строгостях, придётся то, что
купили за границей, там и оставить. Прошу передать
мой поцелуй Алекс<андре> Владимировне и болыной-
болыыой привет Евгению Львовичу*.
Сейчас запечатаю письмо и пойду морем в Люст-
дорф, чтоб к 5 часам поспело — тогда оно сегодня же
поедет в Одессу и... дальше... люблю эту дорогу...
120
Письма Анны
Милый, крепко целую Вас, любимый. Пора.
Нета.
17
14 июля
Зимек, милый-милый... Целую Ваше письмо, Ваши глаза, Вас... родной, любимый, тоскую мучительно... тоскую. Всю эту неделю пережила целую бурю надежд и огорчений — в результате сижу у разбитого корабля, т. е. нет, хуже — корыта. Мне сказано было, что
билет в Феодосию стоит 8 рублей, и я решила ехать
в Судак. Написала Анат<олию> Конст<антиновичу>
и Фоминым. В результате получили телеграмму от Фоминых, очень милую — пригласительную. И вдруг узнаю, что билет будет стоить 23 рубля II классом, пароходом нельзя будто ехать III. Так<им> образ<ом>,
поездка обошлась бы мне не <в> 30 рублей, как я предполагала, а, по моему последнему подсчету, minimum,
70 р. Вы знаете услужливую гибкость моей фантазии,
и Вам нетрудно поверить, что я уже плыла по морю,
слышала биение сердца корабля, видела несущихся за
нами чаек и, наконец, на берегу, Вас. Зима, я не могу
сейчас вспоминать обо всем этом...
Не дали дописать письмо, и на этот раз, кажется,
к счастью, не то я бы и Вас, и себя раздразнила. Погодите, кажется, опять мои дела поправились; у меня еще
состояние предслезное, и потому боюсь радоваться.
Говорят, утро вечера мудренее. Сегодня оно
оказалось и добрее. Опять новые сведения о тарифах, и почти наверное будут деньги. Одним словом,
Зимек, сейчас скучно объяснять, но, кажется, я приеду на 2-3 дня в Судак. Думаю, что я выеду либо во
121
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
вторник, 19, либо в воскресенье, 24, вернее всего
последнее, тогда буду в Судаке 26 рано утром. Фомины просили телеграфировать. Не знаю, милый,
как быть дальше; думаю, что Вам лучше приехать
к Анат<олию> Конст<антиновичу>. Я остановлюсь
у Фоминых, зайду к Анат<олию> Конст<антиновичу>,
там решим всё. Чтобы Вам напрасно не быть связанным, решим так, что, если я выеду в другое время, не
24, а раньше, то и Вам протелеграфирую. Чувствую,
милый, что не могу не видеть, не слышать Вас; может
быть, оттого, что раздразнила себя. Боюсь одного —
как бы не обидеть Фоминых: хотелось бы мне познакомить их с Анат<олием> Конст<антиновичем>.
Во всяком случае, там увижу: надо, чтобы всем было хорошо.
Детко мое любимое, Вы ради Бога пишите, не
взирая на мой план. Пока не будет в кармане билета,
я еще не верю вполне... а Вы, пожалуй, и писать перестанете.
Милый-милый-милый, целую Вас крепко. Родной мой, хороший. Быть может, через 10 дней поцелую по-настоящему.
Ваша Аннерле.
18
Милый, сижу в Морагентстве в ожидании парохода. Нравы провинциальные, поэтому мне удалось невинно присесть к столу, незаметно похитить
ручку... и вот я опять болтаю с Вами. Билеты продают
только на пристани и только после прибытия парохода, т. е. в 11 час<ов>, а сейчас 10Уг. Итак, через полчаса
я снова на пароходе, на том же самом «Желябове», ко¬
122
Письма Анны
торый привез меня в Судак, совершил свой рейс до Батуми и снова подбирает меня.
Я очень рада такому совпадению: там и боцман,
и нянька знакомые. Капитан опять подымет руку к козырьку. Только ехать-то назад куда грустнее. Города не
успею осмотреть, вероятно, потому что не следует отлучаться, пока всё не будет в порядке, да я и не стремлюсь.
После чудес Судака и Коктебеля город мне не
совсем приятен.
Милый, билет в кармане. Представьте совпадение: та самая каюта № 6 и та самая койка, — очень
странно, точно я снова еду к Вам.
Радость моя, солнышко мое, прощайте до Москвы.
Привет М<аксимилиану> Алек<сандровичу>
и Марье Степановне. Горячо-горячо целую.
Ваша Аннерле.
19
Радость моя, Зимик милый, пишу Вам, не дождавшись письма от Вас, так как опять соскучилась.
Не знаю, что случилось со мной, но я проспала Коктебель и не видела его с моря; должно быть, оттого, что
на пароход долго не пускали, была большая погрузка,
и пассажирам пришлось долго ждать. Я решила, войдя
в каюту, прилечь на 20 минут, но тут меня охватил такой глубокий сон, что только пароходный гудок перед
Судаком вернул мне сознание. Я отыскала все дорогие мне места, послала последний привет «Моругол-
ку», шашлыкам и бузе и только тут остро почувствовала, что «все это» уже позади. Ну, ничего, «Москва» у меня впереди. Знаете, Зимочка, я не на шутку влюбилась
в Вас... ужасно неприятно... Как быть?..
123
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
В пятницу высадила Вас на Курском вокзале
и стала думать да гадать, что приготовила Вам Москва.
Знаю, милый-милый мой, что нерадостно и что Вам
вновь придется надевать тесные ботинки, чтобы разгуливать дурные мысли и тоску.
Я что-то ничего не делаю. Душа полна еще виденным и пережитым накануне — и мне не хочется вспугнуть свои воспоминания. Хорошо ли Вам,
милый, было в последние дни у М<аксимилиана>
А<лександровича>, берегла ли Вас «царица Таиах»*,
было ли Ваше чтенье? Как расстались с Коктебель-
цами? То, что я виделась с Вами и так много получила, дало мне силы на оставшиеся дни... У меня сейчас
«светлая тоска», я не сержусь ни на кого, не раздражаюсь и думаю, что по-настоящему наберусь сил, если не
придет «она» — мрачная сестра — «черная тоска». Милый, не пускайте ее ко мне, Вы знаете средство: она —
«черная» — боится Ваших писем. Прощайте, любимый
мой, боль моя... Целую Вас.
Ваша Аннерле.
20
12 августа
Зимек, милый, еще неделька — и с Вами. Выезжаю 19, значит, в воскресенье, 21, — в Москве. Как ни
люблю я море, но на этот раз покидаю его почти без
боли. Не то чтобы мне было плохо, а так как-то никчемно. Чувствую себя, как персонаж из чужой пьесы,
случайно забредший в не в ту комедию. Уж пятый акт
идет к концу, а я всё еще не впуталась в интригу. Должно быть, потому что я, милый, больше с Вами, чем
здесь... Как бы то ни было, главное сделано: сил я на¬
124
Письма Анны
бралась, желание жить, работать есть, Москва — ужасная Москва — кажется дорогой. Спасибо, милый, за
деньги; завтра Володя закажет билет в городе, и если
бы что изменилось, я дам телеграмму. Во всяком случае, измениться может только в сторону ускорения,
т. к. я пока еще не получала от Фомина разрешения
на официальную отсрочку. В понедельник, пятнадцатого, обещала нашим устроить вечер чтения... как-то
пройдет?..
Страшно хочу знать — услышать от Вас все, что
говорил Вам М. Волошин о Ваших вещах, и как прошла Ваша встреча с Г]рином. Очевидно, рано или поздно всё приходит, и весь вопрос в том, «как» оно приходит и «насколько нужно».
Когда это письмо попадет к Вам, между нами будет всего несколько дней, вероятно, 4 или 5. Милый,
милый-милый... Как я хочу скорее видеть Вас, держать
Вашу руку в своей... Пожалуйста, не сердитесь на меня
за мое сердитое письмо... из Москвы я еще ни строчки
не получила от Вас... впрочем, нет, на переводе была
пара строк, но они не в счет...
Знаете, Зимек, я пришла к тому выводу, что человеку так же нужны «поступки» для проверки своей
«человечности», как художнику выступления — для
проверки своей работоспособности и силы. Когда
так долго отдыхаешь, то как-то утрачиваешь именно
ощущение «человечности». Надо начать, хоть больно
и плохо, но поскорей — лишь бы «жить».
Ну, милый, получите мое одесское «пока...» и отнеситесь к нему со всей возможной снисходительностью, приняв во внимание, что оно гораздо короче,
чем то, которое я могла оставить Вам при прощании
в Москве и даже короче Коктебельского. Мой милый
и любимый, обнимаю Вас.
Ваша Нета.
125
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
1927
21
22 июня
Зимик, милый, всё еще не могу оторваться от
Москвы, т. е. от мыслей о Вас. Ноги топчут Фонтан-
ский гравий, а глаза еще не видят ни моря, ни безукоризненно голубого неба. Люблю Вас и тоскую по Вас,
милый... Ну-с, о жизни моей... Пока еще не наладила:
вчера приехала на дачу, сегодня еду в город навестить
маму, немножко волнуюсь, хотя по-видимому с ней дело обстоит благополучно, постольку поскольку можно
говорить о благополучии в применении к болезни.
Не дали писать, хотела вчера же опустить письмо в городе... помешали. Зато сегодня я уже совсем на
рельсах и могу говорить с Вами почти так, как если бы
Вы сидели на диване и я смотрела бы Вам в глаза. Зи-
мочка, Вы меня... Пожалуйста, не протестуйте! Видно
по лицу. А потом — Вы же на книжке написали!* Как
Ваш прострел? Милый-милый... Боюсь, что это лето
мне будет труднее выносить срок, который, по Вашей
теории, должен быть чрезвычайно полезным, но на
практике очень мучительным. Так как Вы сейчас улыбнулись, то мне в этот же миг полагается смеяться. Зимик, милый-милый! — целую Вас. Письмо мое выходит глуповатым, я, кажется, злоупотребила одним прилагательным, тем более что я и в жизни часто ставила
себе задачу воздержания от прилагательных, а в письме это уж совсем не годится, но мне так хочется видеть
Ваше тонкое доброе лицо с бьющейся у бровей мыслью и нервные губы, — ну вот, сейчас я не пишу прилагательного, но вызовите в памяти у себя самое до¬
126
Письма Анны
рогое для Вас. Тут должно быть многоточие и большая
пауза. Но, если мое настроение будет идти crescendo,
то мое последнее письмо к Вам будет состоять из одних восклицательных знаков, многоточий и пропусков.
Попробуем поговорить о деле.
Дела, как видно, у меня хорошие. И на самом деле: мама молодец, перенесла болезнь мужественно,
в понедельник перевезем ее на дачу, и тут уж надо поухаживать за ней. Володя держится вполне корректно,
думаю, что его личная жизнь выправилась, во всяком
случае, нет нервности в атмосфере. С завтрашнего дня
начну работать — пока возьмусь за английский, а еще
через пару дней попробую учить что-нибудь для клубов. В этом году мы с мамою переменили комнату.
Прямо в окно мне глядит башня, она почти такая же
высокая, как Вы, в ней 22Уг сажени...* все-таки ассоциация...
Когда Ваш отпуск? И как идет работа? Милый,
любимый, страница идет книзу, а письмо к концу. Целую Вас, родной мой.
Ваша Аннерле.
22
2 июля 1927 г.
Две недели, как я рассталась с Вами — и ни одного письма. Не знаю, чего больше во мне: негодования,
боли или страха за Вас. Если Вы просто ленитесь, то
это просто бесчеловечно. Вы знаете, что мне легче перенести обиду от случая, обстоятельств, жизни, — чем
от человека, потому что моя единственная ставка —
на «человека». Нельзя, чтобы один другому приносил
127
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
боль, — нельзя. Я больше не поеду на Фонтан. И солнце, и море, и тепло достаются мне слишком дорого...
Возможно, что Вы не виноваты, и мне никто не
может ничего сообщить о Вас... Вы ведь умеете становиться на чужое место и смотреть на факты из чужой
души. Побывайте во мне, — мой бедный и милый, если Вам плохо; — противный, если ленитесь и небрежничаете.
Писали ли Вы в Коктебель, как Ваш отпуск? Как
работа? Какое впечатление осталось от романа Сергея
Дмитриевича?
Только что почтальон принес письма — всем,
кроме меня. Завтра воскресенье, значит, тоже писем
не будет. Послать Вам телеграмму — обидно быть глупой, если это только лень. Я великолепно могла бы существовать без Ваших писем, если бы во мне не было
тревоги.
Все мы посмеиваемся над мещанским счастьем — но там все-таки уважают друг друга... Мне
трудно работать. Не могу и не хочу писать Вам больше.
Нета.
23
6 июля
Зимек, друг мой, — надо писать, хоть разбирает лень; не то следующий почтовый пароход, пожалуй, не застанет Вас в Коктебеле... Расставшись с Вами, я сразу впала в молчание; самаркандца больше
не видала, а Михаил Ильич был так добр, что в течение 2 дней говорил один, не дожидаясь моих ответов.
В последнюю ночь плавания поднялся хороший ветер, и, наконец, настала пора качки, к которой Вы взы¬
128
Письма Анны
вали. Пассажиры присмирели и стали с нетерпением
ждать Одессы. Приехали в 6 часов утра. Небо черное
от туч, море черное от волн и проливной холодный
дождь. Бедный Мандес, во все время своих странствий
ни разу не раскрывавший зонта и добросовестно таскавший его, в самую нужную минуту отдал зонт мне.
Пришлось взять — так как он действовал энергичными убеждениями и я поняла, как важно и хочется ему
быть джентльменом. Теперь боюсь за него — с тех пор
не видела, — несмотря на огромный зонт и пальто,
я вымокла, пока добралась... Что же стало с ним? Как
назло, в порту нет прикрытия, а в город извозчик едет
шагом по мокрой горе. Дня три в Одессе было холодно — сейчас неясная, мягкая, теплая погода, которую
я особенно ценю после кавказской жары. В голове появились мысли — и пока неплохие... Я на юге начала
было побаиваться хронического отупения... Появились и заботы: очень беспокоит мамино здоровье. Все
хотят, чтобы мама оставила школьную работу, я, конечно, присоединяюсь к этому. Теперь надо будет походить с мамой по контрольным врачам и комиссиям,
чтобы оформить уход...
Милый Зимек, как чувствуете себя Вы, как встретились с Макс<имилианом> Ал<ександровичем>? Кто
из Ваших знакомых живет там и как Ваше настроение? Читали ли Вы что-нибудь из своих работ у М. А.?
Поминаете ли Вы меня и как? Должно быть, Ваша подруга сейчас «задумчивая лень» — да будет она благословенна и верна Вам во все дни отдыха...
Хотелось бы знать, как Вы устроились и не стеснены ли помещением...
Пока целую Вас нежно и крепко.
Ваша Нета.
129
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
24
7 июля
Милый-милый, родной мой, — отослала Вам
письмо по Московскому адресу 4 июля и в тот же вечер получила от Вас. Очень рада теперь, что Вы это
второе мое письмо прочтете лишь по приезде из Крыма, т. к. я в нем очень свирепствовала. Причина урагана — сильная тревога, длившаяся 15 дней в период
Вашего молчания; последствия — сильное похудение.
Вы, конечно, злорадствуете: «Как она меня любит».
Нет, Зимек, пока Вы не уехали в отпуск, мне, правда,
тревожней было, — теперь — и радостней, и спокойней. Ifte и как устроились? Хорошо ли живется? Видели ли Анатолия Конст<антиновича>?
Моя жизнь течет мирно, бездумно. Володя и Котик уехали к своим родным, мама поправляется; от
скуки я шагаю по английским переводам «Академии»,
но книг взяла с собой мало, так что мне хватит занятий еще на пару недель. От художественной работы
увиливаю; потом возьмусь. Мое мирное житие будет
скоро нарушено, так как приехала Зоя Лодий* с мужем, с пианисткой и своей belle-soeur*, сняла дачу по
соседству; в пятницу переезжает жить — будет шумнее. Чувствую, что это последний мой приезд на Фонтан, по крайней мере, на такой большой срок. У меня
иногда легкое, а иногда и очень сильное чувство стыда перед собой. Нельзя так просто отдыхать, когда так
мало осталось жизни, и нельзя ездить все в одно место, когда столько неведомых мне краев. Какая умница
Озаровская* — у нее отдых всегда полезен и заполнен
работой. И мне так хочется сейчас что-то заготовлять,
собирать и двигаться вперед. К сожалению, в этом году еще труднее будет, чем в прошлом, сосредоточить¬
130
Письма Анны
ся: английский я могу проходить при всех, а для моей настоящей работы — нет угла и, главное, я как-то
не соображу, за что взяться. Есть еще одно соображение, отстраняющее меня от Фонтана: с тех пор, как
мой приезд стал регулярным, я 5-й год приезжаю, мне
кажется, он не так много доставляет радости моим, во
всяком случае, ощущается не так остро... Ну, довольно... Улыбнитесь... еще... еще шире. Хотите, мы у Вас
в комнате, на Вашем жестком сооружении, полка пытается разбить то Вашу, то мою голову, а мы всё болтаем и болтаем — час-другой-третий-пятый-седьмой,
можно всё это перенести на стонущие пружины моего дивана. Милый, любимый, очень хочется видеть
Вас. Пыталась угадать, что Вас волновало и злило перед отъездом, но вещей, портящих жизнь, так много,
что легко запутаться.
Мой любимый, милый, не мучьте меня молчанием: я всё же жажду набраться и сил, и фунтов. Да, деньги получила — спасибо, родной. Пока больше не надо. Если увидите А. К, ему привет. Вас, мой милый, милый друг, утешеньице мое, целую.
Ваша Аннерле.
25
29 июля
Милый друг, Ваши Коктебельские грехи, должно быть, очень тяжки, если Вам понадобится месяц
для обдумывания формы их изложения. Разделяющий
нас срок достанется мне значительно легче, чем Вам,
так как моя добродетель в это лето осталась несокрушимой, как та башня Ковалевская, которая у меня постоянно перед глазами. Думаю, что прекрасный образ
131
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
этой башни в значительной степени способствовал
незыблемости и моей твердыни. И если бы Гейне был
моим современником, не госпожа Пипер, но, конечно,
я* была бы представлена им как образец приличности,
честности, набожности и добродетели. Чувствую, что
Вы уже отворачиваете от меня своё лицо. Милый, я бы
сама с удовольствием отвернула от себя лицо. Как оно
мне бывает минутами ненавистно... Но это — минутами, я иногда бываю и привлекательна. Пожалуйста,
умоляю Вас, вспомните те случаи, когда я бывала привлекательна, и, пожалуйста, побольше думайте о них...
Ваше письмо после Коктебеля меня страшно обрадовало: даже в том, как буквы схватили друг друга,
как прыгают слова, мне почувствовалось что-то бодрое в Вас, и я думаю, что, если не телом, так духом Вы
все же приободрились. Безумно боюсь, что Москва,
дав три-четыре хороших удара по голове, выбьет оттуда все хорошие воспоминания о море и его радостях.
Большое спасибо Вам за предложенную денежную помощь, если я захочу раньше выехать, милый, очень,
очень благодарю. Выехать я хочу 20 августа, чтоб быть
в Москве 22, и хотела бы получить деньги в начале августа. О моей жизни здесь очень трудно рассказать,
потому что внешне всё обычно, а что внутри происходит — не пойму: не то это «с жиру бесится», не то
«какой-то психический процесс», в котором ничего не
разбираю.
Вас прошу не придавать этому решительно никакого значения: во-первых, это бывает с каждым взрослым человеком, а во-вторых, Вы правы, я во-первых,
во-вторых, ...в-двадцатых, «капризуля». К тому же, меня всегда вывозил мой «орган счастья» — вывезет и теперь, если его только не вырезали вместе с прочим.
Очень прошу, не делайте таких перерывов
в письмах, как в Коктебеле, — тяжело.
132
Письма Анны
Итак, 22 я с Вами... хорошо...
Ну! Время! Погоняй!!!
Крепко целую Вас, милый.
Нета.
P. S. Все просят передать привет. А.
26
11 августа
Милый Зимек, опять нет писем от Вас, знаю,
что Вы заняты и рады не брать пера в руки. Но меня
все же не следует огорчать. Получила деньги — спасибо; вчера ездила в город, в профсоюз, сняла себя
с учёта; думаю в следующую пятницу выехать — о чем
довожу до Вашего сведения, чтоб Вы своевременно
взяли меня на учет. Между нами каких-нибудь десять
дней, поэтому не хочется писать о важном, мелочи
же преходящи и не любят укладываться в строки. Неделю тому назад был Юрий Казимир<ович>, я нашла
его исключительно бодрым и помолодевшим. То ли
это он был возбужден, то ли в нем какой-то хороший
подлинный подъем на работу. Во всяком случае, вечер был хороший. Впоследствии я узнала, что в Москву приезжала Мэри Пикфорд*. Интересно, совпали
ли даты их пребывания в Москве? Ну, Вы уж мне расскажете и покажетесь, так как Кубась наговорил о Вашем внешнем виде много хорошего. Я очень поправилась, и мое настроение совсем выправилось, мне
совсем хорошо; покидаю наших и море с грустью,
а еду с надеждой.
Боюсь, что Вы за этот месяц растратили бодрость и силы, что работа сожрала Вас. Милый, родной, любимый-любимый, так хотелось бы застать Вас
133
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
крепким. Пока прощайте, сейчас иду в Люстдорф, хочу воспользоваться случаем и опустить письмо.
По получении его немедленно включите меня
в свои дни. Обнимаю Вас и целую.
Нета.
1928
27
5 июня
Зимек, милый, мне надо рассказать Вам очень,
очень много — и как я села в поезд, и как ехала, и как
водворилась на жительство, но так как нас отделяют
всего две недели, то все это по приезде.
Пока скажу Вам, что мне очень хорошо, что живу в прекрасных условиях и отдыхаю в полном смысле слова. Оказалось, что там, где я временно остановилась, есть комната, которая как раз до 15,16 июня свободна, — я и взяла ее.
Дом в возвышенной части города, последний —
за ним небольшая лужайка, и лес. Он шумит так же, как
море. А когда спадает ветер, то тишина и покой, которые бывают только на севере и в средней полосе. Я мало знала раньше природу средней России, а здесь она
так выявлена, что с каждым днем я все больше поддаюсь ее очарованию.
Таруса очень древний город, когда-то богатый
и торговый, теперь почти заброшенный. Обмелела
Ока, судоходство прекратилось. Железная дорога далеко; впрочем, о памятниках старины ничего не могла узнать — да пока и не стараюсь. Может быть, жите¬
134
Письма Анны
ли хвастают насчет старинного происхождения. Живет нас в доме на 5 комнат 4 человека: хозяйка, Елена
Алекс<андровна> Соколова, очень милая молодая девушка, московская учительница (дачу она получила
в наследство от умерш<их> в дни революции родителей); ее подруга, Марья Титовна, управляющая домом, садом, огородом и всем хозяйством; одна пожилая полная дама, Алекс<андра> Петровна, страстная
любительница растений (все дни и часы она проводит, рассматривая их в бинокулярную лупу и срисовывая в красках в огромный альбом; и лупа, и альбом
вызывают во мне чрезмерное уважение к ней) — и,
наконец, я. В первый же вечер выяснилось, что мои
новые знакомые знают Вас; выяснилось при таких
обстоятельствах, что я долго еще улыбалась, вспоминая о них. Очень культурные и в хорошем смысле слова интеллигентные, они в первый же вечер завели разговор о литературе. Елена Алек<сандровна>
сказала: только раз за всю зиму мы пришли услышать интересную вещь. На субботнике у Никитиной
читал один писатель; к сожалению — его не печатают. — «Кто такой?» — Ваше имя. Я улыбнулась. «Вы его
знаете?» Пришлось сознаться. Мне было страшно радостно. Потом спрашивали — не приедете ли Вы сюда? — «Нет».
Зимек, милый, как прошло Ваше чтение Мюнхгаузена и как Ваши дела литературные и душевные?
Прощайте пока, мой милый и добрый! Горячо
целую Вас.
А. Бовшек.
Адрес: Таруса Калуж<ской> губ<ернии>, Порт-
Артур, Пушкинская, 17, Марье Титовне Зайцевой для
меня.
Нета.
135
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
28
6 июня
Мой милый, милый, вчера отправила Вам письмо, а сегодня опять «руки тянутся к перу». Что-то вроде легкой, светлой тоски по Вас, как маленький, едва заметный дымок на горизонте моря. Еще не знаешь, фикция это или настоящее, а уж глаз не оторвешь
и ждешь, чтоб вероятное стало реальным. Но, Зимек,
мои мысли о Вас хорошие, мне легко, и я охотно прожду у моря свои две недели, пока дымок не обратится в Вас.
Здесь все для меня ново. С моими новыми знакомыми, очень милыми людьми, ходила сегодня за ландышами. Лес, не Кермесский, правда*, но все же густой,
настоящий, за ним лужайка, вся в ландышах, внизу —
сине-сиреневая стремительная Ока. По ту сторону —
снова лес: Улан. На обратном пути зашли в дом, где
жил, работал и умер Борисов-Мусатов. Узнала и места, с которых он писал свои вещи. Недалеко от усадьбы — простенькое кладбище над Окой, и под синим
крестом в треугольнике — могила Борисова-Мусатова. Раскинувшиеся дали, быстрые воды реки... Какая-
то новая для меня очаровательная смесь грусти, неясности покоя и в то же время скрытой, самосознающей
творящей силы. Думаю, что отдыхать, бездельничая,
хорошо в Крыму, отдыхать, работая, можно только
где-то вот так, как здесь, в средней России. Моя душевная смута, как туман под лучами солнца, отходит, но
работать еще пока не надо. Пусть дойдет на солнце.
7 июня. Все это было вчера. Сегодня было уже
настолько тепло, что я раскинула Ваш плед, с которым пока не приходилось ни на минуту расставаться, — раскинула Ваш плед на лужайке в лесу. Положи¬
136
Письма Анны
ла руки за голову и уставилась лицом в небо. Это были первые горячие лучи... Приободрившись, взялась
за стихи Звягинцевой*: было так легко, что я выучила
треть книги... Однако боюсь, потому что реагировала
я на них, если не так, как при «Кончине Моисея», то
все же не вполне артистически... Лучше опять за доброго старого Диккенса. Я взяла его Шмн Рождеству*
и читала его со всех сторон, заставив себя, как непроницаемой стеной, словарями. Язык трудный, но тем
интересней.
Кончаю письмо; быстро темнеет, а мне хочется снести его в город поскорее. Раз уж я впала в такую
письменную добродетель, то надо держаться. Зимек,
не забывайте свою подругу по ту сторону Оки. Милый,
умоляю Вас, напишите, как Ваши литературные дела? Как вечера у Ланнов? Какое настроение? Вероятно,
к моему приезду у вас кое-что выяснится. Милый, милый, горячо обнимаю и целую Вас.
Нета.
29
10 июня
Зимек, милый-милый, Вы умница вообще и умница в частности, так как вовремя отправленным
письмом не дали моему хорошему состоянию перейти в плохое. Если бы я не получила от Вас письма
в субботу, то пришлось бы ждать до вторника, да еще
до 5 часов вечера: в воскресенье и понедельник здесь
почта не функционирует. Пожалуйста, имейте это
в виду, милый. Последнее письмо, которое Вы можете
мне отправить, надо опустить не позже четверга днем,
так как во вторник, 19, я отсюда выеду и буду в Моек-
137
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
ве около 10 часов вечера Тульским поездом. Иногда он
приходит без четверти 10, иногда с маленьким запозданием. Но Вы на запоздание не рассчитывайте.
Сегодня у нас первый настоящий солнечный
день: теплый и ясный; я слегка загорела. Сидя на скамейке в саду, я думала: надо было иметь исключительно большую жажду тепла и радости, чтобы выходить
все предыдущие дни в 4-5 градусов с таким видом,
будто всё обстоит благополучно и я действительно
греюсь; и острые свежие лучи, изредка вырывавшиеся из-за туч, принимать за солнце. Правда, я схватила-
таки кашель, но должно было бы быть хуже. Сегодня
я получила усиленную порцию тепла, — вероятно, теперь будет хорошо, и Вы не беспокойтесь: прогреюсь
до костей. В Тарусу я влюбляюсь все больше и больше — и новые места, и новые люди... есть очень интересные, и мне жаль будет покинуть и то, и другое...
Есть какая-то здесь полнота, можно работать изумительно, так как рядом с собой и вокруг — повсюду чувствуешь большую скрытую мощь и невидимое, но непрестанное движение — рост — не знаю, что, — не могу назвать.
Я мечтаю, Зимек, о том, чтобы Вы попали сюда,
я знаю, что Вам понравится и Вас это захватит. И это
очень несправедливо, что Вы шагаете по Москве,
«и поливает Вас дождь, и посыпает Вас пыль»...*
Страшно рада, что у Вас с Мюнхгаузеном «по-
хорошему». Редакторов Вы, вероятно, заставили призадуматься. Они сидят, уткнувшись в рукопись, чешут
затылки и думают-думают долгую думу: вернуть неловко — оставить боязно — и снова...
Зимек, миленький, мне очень-очень хорошо. Настроение мое из andante moderato перешло в allegro,
когда я буду ехать в поезде, будет accelerando — на вокзале con passione*. Не пропустите момент. Пока пере¬
138
Письма Анны
хватите мой поцелуй и не понижайте своей квалификации как корреспондент.
Ну, ну... ловите же поцелуй!
Ваша Нета.
30
Милый-милый Зимек, хоть нас отделяет всего
3 дня, но я всё же пару слов еще успею Вам послать.
Если Вы на них лишний раз улыбнётесь, и то хорошо. Вчера приехали Софья Захаровна и Николай Петрович*. Въезд в Тарусу был чрезвычайно импозантен:
25 пудов багажу, коляска рессорная, телега с поклажей,
Джали...* Два дня они разбирают вещи, устраиваются.
Получается у них очаровательно, и сами они очень
милы, добры, не знаю, как это рассказать, но ко всему укладу и ритму Тарусской жизни подходят чрезвычайно. Николай Петрович снова возвращается в Москву в воскресенье, я же выезжаю во вторник, так как
меньше народу будет и легче попасть на мотор. Кстати
о моторах: последнее время они ужасно портятся в пути, так что у всех страх опоздать к поезду. Если бы случилось, что я не окажусь во вторник на Московском
перроне, то значит, плохо дело с мотором и придется провести ночь на станции Ока. Говорю это, чтобы
снять с себя вину за возможные недоразумения и чтоб
Вы не волновались. Впрочем, кажется, таких случаев
не бывало, и меня только дразнят, — во всяком случае,
не уходите с вокзала, пока не уйдут все-все...
Всеми моими мыслями и желаниями я с Вами,
и, я думаю, они так велики, что, если даже испортится
машина, то они будут двигать мотор + течение, так как
мы будем плыть по течению.
139
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
Зимек, милый, я пишу Вам глупое письмо, но
я знаю, Вы нежно прощаете мне глупости, тем более
что я сейчас глупею от радости свидеться с Вами. В истории, в жизни и в литературе случаи такого внезапного поглупения ведь уже известны.
О Москве — как о Москве — стараюсь не думать.
Вас я помещаю в «гдето-тамии»...
Мой добрый, мой милый друг, сейчас уже ночь,
все в доме спят. На столе стоит старинная керосиновая лампа под мягким абажуром. Она у самого окна,
так что за тёмными стёклами видны качающиеся ветви сирени.
Люблю Вас, Зимек, люблю, мой родной, мой нежный, мой добрый... Обнимаю Вас... Спокойной ночи.
Ваша Нета.
31
18 августа
Зимек, милый, как обрадовало меня известие от
Мстиславского* — Ваша такая маленькая и такая большая новость.
Знаю, что это только «право на бой» и многого
еще надо добиваться, но в этом году я как-то уверенней и веселей смотрю на предстоящие трудности... Кажется, и Вы тоже. Как встретила Вас Москва?.. Брюзгливая, недобрая старуха — она всегда готовит какой-
нибудь сюрприз, и я, приближаясь к ней, стараюсь
угадать: какой... всегда тревожно. На этот раз осенние
новости хороши, и я приободрилась. Любимый мой,
Вы знаете: если Вам будет хорошо, должно быть хорошо и мне. Мы столько раз сдвигались бокалами с вином в одном и том же желании, что, может быть, в кон¬
140
Письма Анны
це концов мечта обратится в реальность. Виделись ли
Вы с Евдоксией Федоровной и что слышно по поводу
Ваших тех книг*. Каково на том фронте? Что узнали от
Сергея Дмитриевича и от «Земли и Фабрики», виделись
ли с Нарбутом? Все это меня чрезвычайно волнует. Хорошо было бы сейчас сидеть на диване, держать Вашу
руку, следить за прыгающей над бровью мыслью и слушать подробно-подробно — что Вам сказали и как Вы
ответили. Милый, если Вы что-либо узнаете, телеграфируйте мне — ведь Вам приятна была телеграмма от
Сергея Дмитр<иевича>, — подумайте же о том, что и я
не капризничаю — радостью и болью надо перебрасываться тотчас же, а я получила от Вас письмо 16 августа, т. е. на 6-й день позже того, как Вы узнали, и вообще первое известие от Вас на 1б-й день после разлуки.
Говорят, в Москве ужасная погода, Людмила
Бори<совна> прислала мне знакомого доктора с письмом от нее и с просьбой помочь устроить его на даче.
К счастью, удалось исполнить ее просьбу. Но о Москве он мне насказал много огорчительного... боюсь за
Вас... Здесь, напротив, погода установилась, дни стоят
нежные, мягкие, ночи теплые, море фосфоресцирует,
и я по вечерам держу в руках его черную блестящую
пену... <зачеркнуто> Только мама беспокоит... Хлопочу о ее здоровье и пенсии... Кажется, наладится.
Работать нельзя, принимаю это как факт неизбежный и не мучусь. Если наладятся мои хлопоты
с мамой, постараюсь приехать в Москву раньше, но
думаю, что все же задержусь до 31 августа и буду на
месте 2 сентября. Очень прошу Вас, не томите письмами, обещаю Вам написать, не ожидая ответа на это
письмо. Милый, горячо-горячо целую Вас.
Ваша Нета.
P. S. Простите за зачеркнутую фразу: она глупа
без очаровательности.
141
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
1929
32
28/VI
Зимек, солнышко мое, окончательно последних
несколько строк: надо торопиться на почту, так как
вынимают в 10 ч<асов>. Страшно хочу, чтоб это краткое послание Вас еще застало в Москве.
Я переменила комнату: будем жить в очень хорошей, — правда, маленькой — комнате, в той же усадьбе,
где я в прошлом году жила. Потому и пишу, что я уже
переехала, так что, если Вам надо будет телеграфировать или если мы почему-либо при встрече разминемся, чего, я надеюсь, не случится, то знайте, что наш новый адрес такой: Пушкинская, д. 17, Соколовой.
Захватите почтовой бумаги, а главное конвертов — я пишу на московской. Мой родной и любимый,
простите, что обрываю: надо торопиться на почту. Сегодня я первую ночь провела в новой комнате, думаю,
что Вам будет хорошо. При одной мысли о том, что Вы
будете также сидеть у этого стола и также смотреть в окно, я чувствую себя счастливой. Не нравится мне Ваша задержка. Мы уговоримся так: 1 августа я выйду Вас
встречать, это будет генеральная репетиция для прессы,
что оправдает мое мрачное состояние духа при возвращении домой, а в воскресенье веселая премьера, ведь
4 августа — воскресение. Должна предупредить Вас, что
ехать будет труднее, так как массы будут ехать на Серпухов в субботу, поэтому на вокзал придите пораньше. ^
Ну, Зимек, отпустите меня, нельзя же так задерживать, раз я Вам в самом начале сказала, что тороплюсь на почту — Ваше же письмо отправить.
142
Письма Анны
Целуйте же меня скорей.
Милый-милый-милый.
Ваша Нега.
33
5 июля
Милый Зимек, только сегодня собралась Вам написать, так как до сих пор была на бивуачном положении: «Не так склалось, как ждалось»...
Видите ли, еще в Москве, накануне своего отъезда, я получила письмо, из которого узнала, что все мои
переговоры предварительные о помещении, телеграмма и задаток были ни к чему. Елена Алекс<еевна>
и Марья Титовна* извещали меня о своих колебаниях в выборе и успокаивали обилием комнат. Вам я не
хотела ничего говорить, чтобы напрасно не тревожить. Но, приехав, я выяснила, что положение в Тарусе весьма критическое, так как из тихого и безлюдного городка она вдруг обратилась в курорт для москвичей, убоявшихся голодного Крыма. Два дня я бродила
из дома в дом, отыскивая комнату, и до того отчаялась, что, к стыду своему, стала подумывать о возвращении в Москву. Такое положение было неожиданным для моих друзей, которые, сидя у себя на даче, не
подозревали, что делается вокруг. Они казались совсем смущенными и стали усердно помогать в поисках.
Тут же оказался художник Пастушков Павел Георгиевич, он знает Вас, встречал у Шифриных*, он уж который год живет в Тарусе, так что почти старожил. Случай со мной оказался подходящим для проявления его
альтруизма. Он, наконец, привел меня к тому домику
и той старушке, у которой я и поселилась. Хозяйка ми¬
143
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
лая, ухаживает за мной, комнатушка чистенькая, из
окна виден лес. К Вашему приезду, может быть, найду
что-нибудь пообширнее, но на худой конец и это неплохо, вроде Коктебельской Маврикиевны, только деревянный пол и без ковров.
Во всяком случае, этот месяц проживу с удовольствием, а там посмотрим, либо продлим эту комнату, либо еще что найдем.
Заплатила я 25 рублей вперед и накупила припасов.
Завтра начинается жизнь. Хочу рано вставать
и уходить в лес, пока там не душно.
Простите, родной, что всё письмо о быте, он Вас
и в Москве убивает, но я эти 3-4 дня употребила на мелочи, чтоб впредь с ними не иметь дела.
Теперь, родной, о Вас. Как подвинулась Ваша работа? Довольны ли Вы своим Доргеном? К чему привела встреча с Протазановым? Если Вам не тяжело, сообщите все, что узнали о Кубасе?
В первый день по приезде мне вдруг стало
страшно: не слишком ли я захвалила Вам Тарусу, не
было ли это моим весенним безумием, но сейчас 4-й
день, и вижу, что она все же хороша и что отдохнете Вы здесь лучше, чем на юге, особенно в нынешнее
лето.
Была только у Софьи Захаровны, которая все
еще лежит в постели. Со мной она очень мила. Николай Петрович ходит, словно влюбленный. Взор томный с поволокой: он строит зимний дом — и макет
его, и бревна для него я осмотрела с величайшим вниманием.
Милый, милый, любимый Зимек, пора кончать:
буквы близятся к краюшке, а день к ночи. Темновато.
До лампы успею еще крепко поцеловать Вас.
Милый, милый...
144
Письма Анны
Новый адрес мой такой:
Таруса Калужской губернии
Коммунальная ул., д. 21
Марье Афанасьевне Барначинской
для А. Г. Бовшек. Пишите скорее, мой любимый.
Ваша Нета.
34
11 июля
Сегодня уж десять дней, Зимек, как я не вижу
Вас — и ни строчки. Я оставила Вас в Москве в таком
запутанном сплетении всех обстоятельств, что сейчас
не решаюсь обращаться с упреками — но мне так хотелось бы знать, что у Вас там делается, так хотелось
бы реальной близости, хотя бы в виде письма... Ведь
все так хрупко, так непрочно... Трудно избавиться от
тревоги...
То я представляю Вас по делам в Ленинграде, то
в беседе с Протазановым, то за диктантом — еще, еще
и еще переделывающим Доргена*, словом, нет спасения — от Вас живого еще можно удрать, но от образа
чертовски трудно.
Пока что, если б не эти Ваши преследования,
то всё было бы совсем хорошо. Держусь жесткой программы: встаю в 7 утра, в 8 иду в лес и занимаюсь
до 11 часов, потом купаюсь, читаю и чувствую себя свободной все время от полудня до вечера, ложусь
в 9 или 10. Работается так легко и увлекательно, как
очень давно не работалось. Очевидно, на меня в этом
отношении совершенно исключительно действует
лес, обширное пространство, где можно дать во всю
величину голос и слышать себя, пробовать...
145
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Выучила несколько стихотворений Антокольского из Парижского цикла* и больше половины Чеховской «Дамы с собачкой». Три дня подряд идут грозы, но жара такая, что в поле и лугах через час после
ливня можно сидеть на пледе, как ни в чем не бывало.
Думаю, милый, что и Вам будет хорошо. Спокойное течение Оки, простор полей, мягкий шум леса и то, что никто никуда не торопится, что все добры
и немножко ленивы, от этого всего покойней и легче
дышится. А если соскучитесь — проедетесь по городам, как хотели, — там увидим. Ну, милый, не надо мучить друг друга. Какая Вам польза от того, что вдруг ка-
кая-нибудь строчка Антокольского, абзац Чеховской
повести проваливаются в воспоминания или тревожную мысль о Вас, — ведь никакой, а мне надо сражаться. Ну, любимый мой, обнимаю Вас и жду. Ваша Нета.
Коммунальная, д. 21, М. А. Барначинской — мне.
35
16 июля
Зимек, милый, ну-ка постучите в дверь и улыбнитесь. — Да-да, входите! Дверь на запор, песнэ на комод, а Зимек на диван... Чего же Вы смеетесь — дела-
то неважны.
Милый-милый... по Вашему письму видно, что
Вас сильно измотало и не до улыбок сейчас.
Не надо этого Межрабпома, ведь мы жили и без
денег.
Во-первых, сейчас не очень старайтесь: что будет, то будет; а во-вторых, не дарите им ни одного часа
после 31 июля, хотя бы пришлось потерять 1000 — все
равно им нельзя верить...
146
Письма Анны
Никогда еще я не чувствовала так сильно потребности для Вас отдыха, т. е. даже не отдыха: я не
знаю, возможен ли он когда-либо теперь, но освобождения от московской путаницы. Я всё чаще и чаще начинаю беспокоиться о том, удовлетворит ли Вас Таруса, — ведь это все-таки большая деревня. Боюсь, что
целый месяц Вам будет скучновато здесь. Быть может,
было бы большим облегчением для Вас сначала съездить в Севастополь — Балаклаву, пусть глаза насытятся новыми, незнакомыми местами, голова вытряхнет
все мысли, тогда в Тарусе хорошо поработать и подумать над своим.
Поезд из Севастополя проходит мимо станции
Тарусской. Чтоб легче было вынести разлуку, я приеду
на несколько дней в Москву и провожу Вас. Боюсь, что
другой проект: путешествие по маленьким старинным
городам, вроде Углича, — сейчас несколько беспокоен
для Вашей и без того взвинченной психики. Я очень
тоскую по Вас, Зимек, и уже не той хорошею светлою
тоской, которая бывает вначале, но злой, черной, —
и все-таки мне хочется всё устроить так, чтоб Вы полностью зачерпнули здоровья, покоя, сил и радости. Мой
милый, мой добрый друг, мой родной и хороший...
Я очень мало вижусь с людьми, бываю у Софьи
Захаровны, которая всё еще температурит, выходит
днем греться на солнышко и временами имеет совсем
притихший вид; новый дом ее растет. Пока не тянет
к людям, но на днях потянусь...
Лучшее — это утром в роще заниматься, слышать себя и проверять, а вечером — лодка. Ока широкая, увлекательная, неожиданная и такая красивая!
Милый, не томите — пишите. Ведь у меня здесь
нет ни близких, ни любимых. Крепко целую.
Нета. Привет от Соф<ьи> Зах<аровны> и Ник<о-
лая> Петр<овича>.
147
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
Р. S. Не успела вчера послать письмо Вам, зашла вечером к Соф<ье> Зах<аровне>. Она уверяет,
что я делаю ошибку — советую Вам вначале испробовать Крым, так как он не уйдет и потом, если Вы соскучитесь, а в Тарусе сейчас хорошая погода, и надо
ею воспользоваться. Это правда, погода мягкая и, если можно так выразиться, трогательная. Правда, почти ежедневны дожди, но они какие-то краткие и благодатные. Тучи куда-то торопливо разбегаются, точно
виноватые в произведенном беспорядке; солнце торжественно выплывает и начинает быстро убирать влагу. И вот опять сухо, тепло и не очень жарко... Ну, Зимек, еще и еще обнимаю Вас, крепко, крепко целую —
пока так, а ровно через две недели — по-настоящему.
Ваша Нета.
36
23/VII, 1929 г.
Зимек, милый, меня отделяют от Вас теперь
8 дней, а когда Вы будете бродить глазами по строчкам, останется 6, — поэтому слушайте внимательно
мои дорожные наставления. Как весело писать их!!!
Итак, 31 или 30 Вы до службы, в 9 часов, идете на Городскую Станцию. Очутившись перед главным входом в «Метрополь», войдете, однако, не в него, а в маленькую дверь с улицы, налево от главного входа
и почти рядом с ним. Это будет так называемый VI Зал.
В маленькой комнате с этим громким названием есть
сейчас же налево от входа касса, кажется, № 35. Билет до станции Ока, 31 в 11 ч. 55 м. Вы садитесь в Севастопольский поезд и едете до УА часов ночи, стараясь спать урывками и ни в коем случае не проспать
148
Письма Анны
Оку. Сойдя на станции, постарайтесь кого-нибудь нанять, чтобы снести вещи к мотору. Идти придется с горы к реке так приблизительно квартала 3 по вязкой
грязной земле. Мотор — разыщите Тарусский, иначе
Вы очутитесь в Прилуках*, — Вас уже ждет, Вы входите в него и сами начинаете ждать. В 5 часов он двинется — и тогда я уже начну ждать, потому что в 8 часов
мотор покажет мне Вас таким действительным, каким
не могла представить, мечтая.
Все это будет 1 августа, т. к., я надеюсь, Вам незачем задерживаться в Москве.
Так как во всем есть грустная сторона, то я не
скрою от Вас того, что при Ваших странствованиях
с Вами будет подушка и теплое одеяло — не морщитесь, это совершенно необходимо. Английских книг
без определенных надобностей не везите. Здесь есть
хорошая библиотека иностранных книг. Еще один
скучный пункт. При отъезде Домком у Вас возьмет Заборную книжку*, а Вы от них непременно получите
квитанцию, удостоверяющую, что книга от Вас взята.
На основании этой квитанции, здесь — это очень легко и просто, в минуту делается — Вам дадут местную
Заборную книжку. Иначе Вас никто не будет кормить,
так как ни одного грамма хлеба нельзя получить ни по
какой цене. Я вначале этого не проделала, и мне пришлось провести сложную переписку с моим Домкомом и налаживать все по почте. Не забудьте, родной,
это проделать.
Погодите, Зимек, только что ходила в город и узнала, что можно проще поступить. Есть правило, что,
если человек уезжает не больше, чем на месяц, то у него Домком не забирает книжки, поэтому скажите, что
Вы едете на 2-3 недели и старайтесь удержать Московскую Заборную книжку, — оказывается, по ней все дают. Со мной вышло сложнее, т. к. я уехала на 2 месяца.
149
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Так или иначе, постарайтесь привезти Москов<скую>
книжку, это надо не столько для нас, сколько для тех,
кто столует нас.
Боже мой, о такой чепухе приходится столько
писать... Кажется, у нас будет маленькая, но хорошая
комната к 1 августа — там же, где я была в прошлом
году, Пушкинская, 17, но я боюсь заранее радоваться. Ну, милый-милый, бумаги остается ровно на столько, чтобы попрощаться с Вами. My darling, my beloved
I embrace You with all my tenderness*. Фраза взята из
старого английского романа. Всё правильно, и все
слова хорошие. Мой милый-милый. Жду.
Нета.
<1930>
37
Мой милый, милый Зимик, уже 1б-е, а от Вас ни
строчки. Вы не лишены воображения. Подзовите-ка
его да порасспросите, как люди чувствуют себя при
таких обстоятельствах. Солнышко, не сравнивайте себя со мной: ведь я живу в хороших условиях... у меня
не происходит никаких событий, никаких встреч...
Хороший, здоровый полусон-полубдение, Вы знаете обо мне все даже тогда, когда я ничего не пишу...
Я же о Вас не знаю ничего, кроме того, что Вам не может быть хорошо. Прекрасная почва для всяких мыслей! Чем здоровей и крепче я становлюсь сама, тем
тревожнее и беспокойнее прислушиваюсь к тому, что
может делаться у Вас. Как налаживается Ваша экскурсия*? Какие новые планы? Удастся ли Вам еще пора¬
150
Письма Анны
ботать до отъезда, или Вы делите досуг между сном,
друзьями и вином?., на долю кого и чего приходится
большая часть... Впрочем, досуга очень мало — задача распределения очень несложна. Я начала правильно заниматься — по утрам, работается хорошо. К сожалению, я не могу вставать так рано, как в Тарусе, так
как наши ложатся часов в11и12, ая все же и сон берегу. Как бы то ни было, часа 2-2Уг у меня есть полной
тишины и покоя, пока не подымется весь дом и меня
не позовут к чаю; это всё же хорошо. В работе тянет
всё к Пушкину* по понятным причинам, и я не противлюсь. На днях напишу письмо Сладкопевцеву, а немного погодя и Анатолию Константиновичу*, боюсь,
что он пока еще не приехал.
Зимек, милый, проснитесь же Вы, наконец, ну,
вспомните, что я существую. Если б в моей было власти, я нагнала б на Вас такую тоску, что пальцы сами бы
тянулись к чернильнице и Вы бы почувствовали бумажный призыв с предельной остротой.
Пока прощайте и знайте, милый, что я очень,
очень люблю Вас и что самый коротенький привет от
Вас для меня большая-болыная радость. Мое солнышко, мой милый-милый, целую.
Ваша Нета.
38
21/VII
Милый, милый Зимек, правда, я получила уже
ответную телеграмму и слегка успокоилась, но тоска
не унимается. Письма все-таки до сих пор — ни одного. Или Вы очень поздно послали, или наша Большефонтанная почта застряла. Вот уж 3 недели, как я ни¬
151
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
чего-ничего не знаю о Вас, ничего, кроме 5 слов телеграммы.
Милый, перед отъездом пошлите мне письмо заказным: тут вместо почтальона бегает какой-то мальчишка, местности он не знает и, очевидно, не очень
хочет узнать: что он делает с письмами, я не знаю. Потерял две денежных повестки Тезавровскому, загубил,
вероятно, и Ваши письма. Как налаживаются Ваши
дела с экскурсией, когда выезжаете? Слышно ли что-
нибудь о книге? Как работаете и проводите время?
Мне мучительно обидно сознавать, что все, что я представляю себе о Вашей жизни, должно <быть>, не соответствует действительности и что я мечтаю впустую.
Зимек, в дни экскурсии непременно черкните мне и непременно укажите, куда я могу писать «до
востребования». Мысль о том, что я, даже если сейчас и получила от <Вас> весть, буду снова обречена
на молчание и неведение, не даёт мне радоваться ни
морю, ни теплу. Огорчать меня ведь не входит в ваш
план... Одновременно с Вами пишу Буцкому и Сладко-
певцеву. Предполагаю отсюда выехать 10 августа и буду, таким образом, 12 в Ленинграде, за 3 дня до Вашего
приезда. Может быть, в зависимости от ответов, которые я получу, выеду раньше...
Что сказать Вам о себе? Живется мне хорошо,
т. е. всё было бы очень хорошо, если бы не почтовые
страдания, в которых, я знаю, Вы не повинны, и потому я не намекаю...
Я очень посвежела, но весу как будто не прибавила, надеюсь еще прибавить. Работаю хорошо и, главное, с большою радостью, хотя время выбрать трудновато. Все наши сейчас в сборе, живут мирно и очень
тихо, стараясь забыть зимние болезни и невзгоды. Же-
нюра очень поправилась, что меня очень окрыляет.
Море, как всегда, прекрасное, даёт мне силы и помога¬
152
Письма Анны
ет работе. Выучила «Медного всадника», переработала
«Метель», выучила с десяток лирических вещей. Мечтаю показать Вам.
Милый, милый, как я хочу скорей увидеть, родной мой, любимый, думаете ли Вы обо мне? ждете ли?
Целую Вас, мой добрый, мой любимый, мой хороший.
Ваша Нета.
Зимек, милый, Ваше второе письмо, наконец,
получила. Как я рада! А первое, увы, пропало.
39
26/VII
Милый, милый Зимек, не знаю, застанет ли уже
это письмо Вас, но все же мне хотелось послать Вам
напутственный привет. Набирайтесь впечатлений,
знаний и сил. Смотрите внимательно-внимательно,
чтоб рассказать обо всем. Через 3 недели, даже, может
быть, раньше — свидимся.
Очень трудно без Вас... Дни томительно жаркие,
ночи душные, мысли в голове поворачиваются вяло.
Каждый день уж все надеемся: вот будет дождь... собираются черные тучи, сверкают зарницы, деревья качают вершинами, но все напрасно... Великолепные декорации, а постановки нет... Правда, очень томительное состояние... Вероятно, Вам на севере будет лучше...
Милый, пишите оттуда. Каковы Ваши спутники, сколько их? И сколько времени займет экскурсия?
Читала в «Известиях» о приезде Шоу*. Очень рада Вашему согласию перевести Шоу* — это интересно в смысле языка. Читаю сейчас «Записки Пиквик-
ского клуба» в прекрасном издании, кажется, я в про¬
153
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
шлом году Вам его показывала. Очень легко. Словаря
со мною нет, и я почти не ощущаю необходимости
в нем... Работать из-за жары трудновато, но все же от
плана я не отстаю...
Письма в Ленинград написаны*. Что они мне
принесут в ответ, не знаю... Чуть-чуть волнуюсь...
Ну, Зимек, подойдите же ко мне, поближе... вот так...
Ну, теперь целуйте крепко... неотрывно, как обещали
в письме. Ну, теперь хорошо, солнышко мое, будьте
счастливы и радостны!
Ваша Нета.
40
2/VIII
Зимек — радость моя, пишу Вам на Мурманск*,
но надежды у меня мало, что Вы получите мою весть.
Пока от Черного моря и до Белого доберется мое письмо, Вы, должно быть, уже куда-нибудь унесетесь. Единственная надежда, что Вы раньше совершите свои всякие экскурсионные набеги. А затем уже завершите их
Мурманском. Родной мой, как ни сутолочна, быть может, Ваша поездка, — она все же радость. Мысленно
брожу с Вами по Северу, а при свидании жду подробного рассказа.
Получила телеграмму от Буцких с приглашением, очень милым, и спешное письмо от своей ученицы также с очень приветливым приглашением. Думаю выехать 12 и остановиться пока у своей ученицы,
так как уж очень она трогательно уговаривает. После Вашего приезда, возможно, соберемся под один
кров. Пока, думаю, так будет лучше. У Ан<атолия>
Конст<антиновича> я, во всяком случае, буду ежеднев¬
154
Письма Анны
но справляться о Ваших письмах и буду ждать телеграммы и приезда, чтобы честь честью встретить. Солнышко мое милое, родное, сейчас Вы лицом к лицу
с незаходящим солнцем. Там, в той стране, коротенькое лето, у меня же обычно коротенькая зима, т. е., вернее, у меня зимой незаходящее солнце... Что-то запуталась, но Вы меня поймете, т. к. я все время намекаю
на Вас.
Пишу же я немножко нервно, так как у нас на
террасе сидят двое знакомых, которые стремятся в город, я же просила их подождать, чтобы послать Вам
пару строк. Письмо на два дня будет раньше, если опустить его на вокзале. Солнышко мое милое, любимое.
Скоро, скоро буду с Вами. Все наши шлют привет. Я же
целую нежно-нежно, долго-долго. Мой милый, мой
любимый, мой добрый друг.
Ваша Нета.
1931
41
17/VII
Зимик, милый, я уж в Одессе, как нетрудно догадаться; чувствую себя ужасно хорошо: и тепло, и светло, и радостно. Дорогу проглотила, как скверную пилюлю, и тотчас же позабыла о ней. Поезд мой пришел
точно по расписанию в 11 ч<асов> 20 минут утра, или
дня, как хотите, называйте. Сравнительно со скорым,
он запаздывает на 6 часов или немного меньше (ведь
он позже уходит). Скорый же приходит в 5 ч. 20 м.
утра. Так что я перед вашим приездом переночую в го¬
155
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
роде. Телеграммы доставляют на Фонтан очень небрежно. Обе телеграммы — и Твердохлебова, и Тезав-
ровского — были доставлены после приезда; поэтому
телеграмму пошлите тотчас же, как купите билет, —
тут же, на Городской Станции, есть телеграф, — и короткое письмо. На всякий случай, я еще и подробный адрес с указанием Вашего маршрута вышлю, хотя твердо верю, что на этот раз Вас получу прямо из
вагона. Что касается нашего плана относительно Ба-
тума*, вести все хорошие... Два чудесных новых парохода, «Г]рузия» и «Крым» довозят до Батума в 2 Уг суток
с остановками в главных портах, так что Севастополь
можно будет осмотреть. Это экспрессы, но можно будет выехать обыкновенным почтовым и ехать 5 дней.
Пароходы старые, неусовершенствованные, тогда как
в новых даже приличные каюты 3 класса. Кормят хорошо, достать билеты нетрудно. Мне нужно, чтоб Вы
непременно в следуюгцем же письме (очень боюсь, не
будет ли оно и первым) сказали, как Вы хотите ехать.
1 августа вернется сюда с Кавказа (кажется, из Тибер-
ды) Вл<адимир> Николаевич, он подробно расскажет
о своем пути, и можно будет воспользоваться его опытом... С продуктами здесь легче, и я питаюсь очень хорошо. Не забудьте захватить с собой документы и отпускное свидетельство со службы, так как в вагоне
и на пароходе проверяют. В вагоне не всегда, а на пароходе непременно. Влад<имир> Ник<олаевич> пишет, что ему его рассеянность (он забыл у нас свои документы) стоила больших огорчений. К счастью, на
пароходе нашлись знакомые, которые удостоверили
его личность... Ну, Зимик, пока что не скучайте: пока
мы будем сговариваться о том, о сём, время пододвинется, а там билет в Вашем кармане, билеты в моем,
и хлебнете отдыха, который, может быть, и обрадует
Вас, если не наполнит силами.
156
Письма Анны
Наши страшно обрадовались тому, что Вы, хоть
и на миг, но мелькнете здесь.
Крепко, крепко целую Вас, мой милый, милый,
любимый-любимый.
Ваша Нета.
42
25/VII
Зимик, милый мой, спасибо Вам, солнышко мое,
что Вы, не дожидаясь моего письма, черкнули мне:
сразу спокойнее стало. Очень рада, что Вы пододвинули отпуск и мы скорее свидимся. Вероятно, это будет
моим последним письмом, а потому слушайте внимательно и намотайте на ус. В тот же день, как купите билет, телеграфируйте так: Одесса. Большой Фонтан. Ковалевский пер., дача пять, мне*. Буду третьего
(или четвертого) скорым (или каким другим) вагон
5 (или...). Я буду искать Вас у помеченного вагона, а то
на Одесской платформе легко затеряться, не столько
от устройства ее, сколько от темперамента одесситов.
Очевидно, я еще получу от Вас письмо с указанием на
Ваши пароходные пожелания. Только по получении
Вашей телеграммы я смогу купить билеты.
Эти дни я внимательно рассматриваю Кавказские маршруты по путеводителю и карте. Когда приедете, я представлю Вам три проекта... В смысле встречи, мне удобнее было бы получить Вас в 11 час., так как
5 ч. 40 м. утра это... ужасно боюсь проспать. Впрочем,
Зимка, мне стыдно, что я это написала. Ради Бога, простите. Конечно же, лучше и удобнее ехать скорым...
Наши ждут Вас тепло и хорошо, обещаю не задержать
Вас долго. Живется мне хорошо, я очень поправляюсь
157
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
и весела. Весь дом занят исключительно малюткой
Котиком, и мне приходится принимать участие в общих интересах. Эта почти исключительно растительная, бездумная и здоровая жизнь сейчас как раз кстати. Долго я бы не могла, но ненадолго это очень, очень
хорошо... Погода несколько капризничала, но сейчас
как будто установилась, море тихое, вода теплая. Думаю о Вас и все время улыбаюсь, и так мне хорошо,
мой добрый, мой милый, мой добрый-добрый.
Итак, сначала до телеграммы, потом до поцелуя.
Ваша Нета.
1932
43
Милый мой, родной Зимик, я на месте назначения, тут, как всегда, хорошо, а мне что-то грустновато... и потому даже писать не хочется. Почему не по себе? В Одессе голодно, но кормят меня хорошо, и я, конечно, поправлюсь, наберусь сил, чувствую, что я ни
материально, ни морально не в тягость, и это хорошо,
а все же больновато.
Думаю, во-первых потому, что моя ставка на работу покачнулась. Зимой я нервничала, выбирая часы для работы, а сейчас нет комнаты и выбрать места
нельзя. Когда же у меня будет право на работу? Я на
второй же день уже принялась заниматься, а сейчас
уже опять нельзя. Невозможно жить все время на нервах и эксплуатировать свое горенье.
Вторая причина грусти — Ваше отсутствие —
и тут что-то нелепое!!! Ну, ладно, будем брать у жизни
158
Письма Анны
пока всё, что возможно, — когда-нибудь прекратятся
все желания, все стремления, будет поспокойней!
Моей жалобе не придавайте значения, Вы знаете,
что я отходчива и упряма. Что, милый, у Вас? Собственно,
мне бы следовало внимательно вообразить Вашу жизнь
в Москве, чтобы понять, что сравнение не в мою пользу.
Деточко мое родное, что у Вас нового, хорошего, что слышно о Вашем сценарии?* Сколько стоит билет в Туркестан? С кем водите знакомство и коротаете
вечера? Пишите, солнышко, мне поскорее. Ведь только у вас и могут быть перемены. Мои дни текут ровно.
Привет Вам от всех.
Я же целую Вас нежно-нежно, крепко-крепко.
Нета.
44
15/VTI
Во-первых, простите, милый Зимек, что я наградила Вас хлопотами об Евгении Гавриловне, а во-вто-
рых, спасибо Вам, родной, за письмо. Летом у нас с Вами всходят надеэвды, как цветы. Только бы не унесло
их осенним ветром. Ну, что будет — неизвестно, а пока
я рада, рада и верю!..
И Эдисон хорошо, и энциклопедия интересно* — тем более, что начинать не сейчас. Я бы сказала,
что и алкогольная засуха хорошо, если бы мы не расходились так серьезно в оценке этого явления. Родной мой, солнышко мое, мне очень неловко, что в первом письме поддалась грустному настроению. У меня
всё наладилось хорошо, я купаюсь, поправляюсь, круглею и здоровею. Наладилось и с работой; использовала пустую кухню, она — в полуподвале, в ней про¬
159
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
хладно, кругом тихо, и дело пошло. Выучила начерно
Кола Брюньона и Спекторского. Буду отделывать выученные и понемногу возьмусь за Павленко*. Текст Кола сам в душу лезет, перевод хорош, ритм, как будто,
нашла верный, но всё еще пока грубо и неточно, нечетко. Я часто думаю об игре Казадезюса*. Эти мысли
то тянут меня к работе, то пугают. Мой аппарат никогда, никогда не будет близким к совершенному, и все
же работать надо и тянет.
Вам, Зимек, спасибо за сокращения, они сделаны так внимательно, с такой экономией и чувством
ритма*, что я часто прерываю свою работу, чтобы отдаться чувству благодарности к Вам, тут же сержусь на
себя за интервалы и опять, опять думаю о Вас и о том,
как много, как много Вы мне дали и даете.
Радость моя, хороший мой... целую Вас... Несколько смущает меня очень большая интимность и автобиографичность «Охранной грамоты»*. Иногда кажется, что
при жизни автора нелегко читать об этом с эстрады. Как
Вы думаете, это ощущение имеет какое-нибудь основание? Как видите, у меня все хорошо, кроме сознания, что
Вы в Москве, ходите на службу, глотаете пыль и получаете все те «удовольствия», которыми награждает город летом. Как наш Туркестан? И в какой стадии все Ваши дела
и надежды? В ожидании хорошего будущего обнимаю
Вас крепко, крепко, родной мой, хороший.
Ваша Нета.
45
9/IX
Милый Зимек, через час уезжаю из Москвы. Решила всё же написать Вам, хотя еще не произошло
160
Письма Анны
ничего знаменательного, написать, потому что смертельно тоскую по Вас, как никогда, трушу перед путешествием, хотя, казалось бы, нечего, ужасно горюю,
что Вас нет со мной... Вчера весь день волновалась:
получила документы из ОПТЭ*, билет... Гляжу маршрут: Ленинград — Мурманск — Белое море — Архангельск. В первую минуту у меня ноги подкосились от
радости, но через 1А часа они сгибались уже от страха. Спрашиваю у кассы: а что, Белое море уже оплачено мной? — Нет. — А сколько это будет стоить? — Не
знаю. — А сколько дней ехать? — Не знаю. А справочное — при Туристе, я знаю, при городской станции, —
уже закрыто. Я вспомнила Махачкалу... четвертый
класс — Каспийское море...* И решила добывать деньги. Мобилизовала Софью Васильевну, Женю, — в результате деньги, 90 рублей, со мной. Думаю, что это
слишком много и я привезу обратно, тем более что
поездка будет — это я выяснила, во всяком случае, —
я буду разворачивать версты, не боясь Белого моря. Да,
еще курьез. Вечером, перебирая все возможности получить нужные мне сведения, позвонила Тарловско-
му*, — нет, он позвонил мне; долго подробно расспрашивал — была ли я на вокзале в день Вашего отъезда,
как Вы себя чувствовали и что произнесли в последнюю минуту, наконец, удовлетворив его, я просунула и свой вопрос: далеко ли от Мурманска до Архангельска и как он думает, сколько дней ехать и сколько будет стоить билет. Он сразу же заявил, что столько
же, сколько от Одессы до Батума, — со мною обморок,
но на ногах; чувствуя мою подавленность, он принялся изучать вопрос... Через час снова звонит: он прочел
книгу о Карелии и Мурмане*, но об Архангельске ничего не может найти, пароход, по его мнению, будет
идти сутки, так как останавливаться негде, кроме того, он может меня в Хибиногорске* направить к своей
161
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
двоюродной сестре, но адреса, к сожалению, не знает
и с сестрой не в очень хороших отношениях. Я благодарю его, и мне сразу делается весело.
Зимек, милый, скорей бы увидеться или подержать листок со словами от Вас.
Это поезд, который будет меня увозить все дальше и дальше от Вас — что это, что это? Мне почти не хочется... Из Ленинграда, где мы пробудем, кажется, 2 или
3 дня, я напишу еще. А пока целую Вас, моя радость,
крепко-крепко в самые губы. Пишите же скорей о себе.
Ваша Нета.
P. S. Ланнов в Москве еще нет.
46
11ДХ
Милый Зимек, пишу Вам — радость моя — из Ленинграда. Завтра выезжаем. Задержались на 3 дня, так
как долго не могли организоваться, друг друга найти и установить маршрут. В группе 6 человек, из них
3 совсем горе, а 2 ничего. После долгих мытарств выяснили, что пароход из Мурманска в Архангельск выходит 22, едет 4 суток, стало быть, в Москву я попаду
числа 28 или 29. Пришлось послать извещение в библиотеку. Наша группа узнавала, нельзя ли заменить
или продать группой билеты, — нельзя.
Тоскую я по Вас и без Вас отчаянно, успокоюсь
только, как буду знать, что мы приближаемся друг к другу, так как мысль и душа летят наперекор верстам. Един-'
ственная надежда, что, когда двинемся, — дорога увлечет. Накануне самого отъезда получила приглашение
преподавать в ТРАМ’е*, там, где Окунчиков* и Доронин*. Конечно, принципиально согласилась. О подроб¬
162
Письма Анны
ностях договоримся при приезде. Сейчас должна идти
к Анат<олию> Конст<антиновичу>, но идет отчаянный
ливень, гроза, гром. Впрочем, вероятно, скоро пройдёт.
Все мои мысли сейчас и надежды — получить от
Вас письмо в Мурманске — очень трудно вынести разлуку без писем. Ну, солнышко, пожелайте мне благополучия в моих скитаниях, напишите все о себе... Целую Вас и обнимаю горячо-крепко много-много раз,
и поскорее бы свидеться, только бы свидеться.
Ваша Нета.
1933
47
Милый Зимик, я ехала, доехала, приехала благополучно. Дорога пыльная, душная, томительная, но
всё же она дорога — и потому всегда заманчива. Сейчас чувствую себя точно в полусне; нервы сразу упали, тянет к постели... Не работается... Еще дня 3-4 поленюсь, а там начну заниматься, иначе, если на реке Лени бросить весла, так течение так занесет, что
не остановиться. Страшно хочу окрепнуть, набраться
сил и потому каждый глоток воздуха ловлю с жадностью и благодарностью. Пока у меня тоска «светлая» —
по Вас, и, милый друг, помогите ей остаться «светлой».
Я так раскаиваюсь, что позволила Вам дождаться моего письма для ответной вести. Сейчас письма идут
дольше, чем раньше, и ждать мне очень долго. Что Вам
написать о наших? Живут дружно, спокойно, рады были вниманию с Вашей стороны. Раз навсегда посылаю Вам привет от них... С деньгами жмутся, но пита¬
163
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
юсь я не хуже, чем в Москве, чувствую, что бременем
на них не легла. Погода очень хорошая, не слишком
жарко, вода в море приятно-свежая. В первый же день
погрузилась в голубые волны и почувствовала себя
в родной стихии. Женюрка поправилась настолько,
что купается в море, хотя последнее меня очень смущает... Котик тоже здоров. Словом, тут все хорошо.
Родной мой, теперь Вы. Как Ваше самочувствие и всякие большие и небольшие заботы... Пишите, родной
мой, хоть я и богаче Вас сейчас и солнцем, и теплом,
и бездельем, и прочими благами, но тревога за Вас со
мной ложится и со мной встает. Ну, мой добрый, милый, мой хороший-хороший, обнимаю Вас, отдыхайте от меня, но не забывайте. Целую крепко-крепко.
Нета.
(Телеграмма — вне нумерации)
Беспокоюсь здоровьи телеграфте Нета
48
10/VIII
Зимик, милый, здравствуйте и слушайте: во-первых,
вы умница, что ограничили себя в питье, во-вторых, умница, что сбросили с плеч корректуру в «Academia». Лучше всеща перетерпеть, но не впрягаться в чужую работу, обычно идешь на нее как на временную муку, а потом
оказываешься в длительном плену, а настоящее «свое»
где-то там... И не прощает. Наконец, в-третьих, вы умница, что не томите меня отсутствием писем.
164
Письма Анны
Итак, трижды умный человек, крепко, крепко
целую Вас. Да, надо сказать, что Вы умница вообще...
и в частности, в общем и целом!!! Как пошла Ваша работа по «Гулливеру» и принята ли «Машина времени»?
Как дела с Симоновым? Больше половины нашей разлуки уже прошло, и мысль о том, что мы вот-вот увидимся, раздвигает мои губы в улыбку. Хоть Москва мне
страшна, страшна, как обычно, и я всеми силами гоню
мысли о ней. Не надо мне сейчас на них останавливаться. Вот Вы представьте себе теплый мягкий августовский день... На деревьях уже пробивается кое-где
золотой лист, но море еще великолепное, синее, спокойное, с таким же синим бездумным и спокойным
небом. Зимой за такой денек отдал бы невесть что...
А тут он вот... весь твой... это мое «сегодня». Правда,
в этом «сегодня» нет Вас со мной, и это грустно, но не
больно, не тяжко. Все-таки Вы же есть, милый, хороший, и Вы мой друг, и Вы мой муж, и еще будут такие
же теплые, хорошие дни, и мы будем с Вами... Работаю
я неплохо; выучила Тургеневскую программу всю, но
еще недовольна ею, работа была черновая, «нетворческая», но я не боюсь... Придет... Да и время еще есть...
Кое о чем надо посоветоваться с Вами... По приезде...
Ох, беда, бумаги у нас не достанешь, а уж места
едва-едва осталось, что поцеловать Вас на прощание,
обнять крепко-крепко, мой милый друг.
Нета.
49
21/VIII
Зимик, милый, вчера получила от Вас такое чудесное письмо, и так стыдно мне стало за мое преды¬
165
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
дущее послание: вероятно, оно не отозвалось радостью в Вашем сознании и не помогло Вам жить, а ведь
мои настроения мимолетны. Я почти наверное выеду
1-го сентября, так что 3-го «будь готов» — пожалуйте
на Брянский вокзал. Да, так как я в прошлый раз забыла Вам написать о Ваших карточках, пропуске и кооперативной книжке, то давайте скорей от этого отделаемся. Все Ваше наследство оставлено в Леонтьев-
ском переулке* на попечение некой Анны Дмитриевны
Николаенко. Сия гражданка — соседка Тезавровских.
Дверь ее комнаты влево от двери Евгении Гавриловны.
Там в коридоре все Вам укажут. Образ жизни она ведет мирный, трудолюбива и почти всегда бывает дома. Ей обычно Тезавровские поручали все свои покупки, она высокий спец по кооперативным выстаиваниям, награждена от природы неистощимым терпением,
и ей поручено достать и на Вашу долю все доступное.
Попытайтесь у нее спросить о Ваших покупках. Ей
Тезавр<овские> написали письмо, так что она подготовлена к Вашему появлению...Ну, кончено!!!
Кроме этого письма, я, вероятно, успею Вам написать еще и, несомненно, от Вас получу еще, но если почему-либо Вы не получите, то, значит, я действительно выехала первого. Свое задание относительно
поправки принялась выполнять рьяно, со свойственным мне темпераментом и обещаюсь явиться в надлежащем виде...
Надеюсь, что гулливеровский текст у Вас есть*:
я очень много думаю о нем и заинтересовалась Вашим разрешением темы. Принесите с собой «Серый
фетр»... Увидимся... наговоримся и прочтем. Ваши выи
ходы в свет, я разумею дачные визиты, меня тоже радуют: хороший показатель Вашего самочувствия...
И потом, как хорошо Вы двинули «Литературный пейзаж», — очевидно, это для «Academia». Судьбу всех этих
1 66
Письма Анны
начинаний я, очевидно, буду непосредственно наблюдать... Как помирились Вы с Данном, не могу без
улыбки представить себе формы Вашего примирения.
Очень хорошо, что Вы не углубили Вашего кризиса
к моменту примирения, и это дало Вам преимущество.
Ах, Зимек, Зимек, кто-то, очевидно, нас бережет, а может, даже и любит, и мы это только потом, потом узнаем... Ну, ненаглядный мой, давайте в обнимку и до свиданья.
Крепко, крепко целую. От мамочки и всех наших привет: все они прочли «Попа и поручика», — не
нахвалятся, очень довольны. Ну, еще раз — горячей!!
Нета.
1934
50
29/VI
Зимек, милый, как порадовали Вы меня и тем,
что быстро отозвались, и теми вестями, которые переслали мне.
Итак, в каком положении сейчас Ваши дела? Что
удалось, а что сорвалось? Для моей полной и глубокой радости надо только знать, что Вы не сидите без
денег, что самочувствие поднялось и работа спорится. Я очень заинтригована темой и разработкой «Нового Гулливера». Собственно, тема-то определенно Ваша, но Вам, очевидно, придется идти по чужим следам.
Как поладили Вы с Данном и как дела с Луном?
У нас здесь стало много лучше. 3 дня тому назад открыли 80 коммерческих магазинов с хлебом.
167
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
Вы не можете представить себе, какая это для всех
радость. Не знаю, как дальше пойдет, но сейчас это
так изменило всю жизнь... вызвало столько надежд
на лучшие дни и бодрости. Все повеселели, шутят, радуются и болтают, болтают с той беспечностью и неугомонностью, которая так свойственна одесситам.
Я уже успела подрумяниться и чуть поздороветь, а теперь начну, как на дрожжах, подыматься и круглеть.
Работала довольно исправно и напряжно, выучила много. Отделывать и углублять работу еще как-то
трудно, но мне пока главное: черновую — как наиболее скучную часть — пройти. Мамочка и Женя поправляются на моих глазах, и это меня страшно радует. Общая радость, охватившая всех с появлением
хлеба, захлестнула и меня, а тут еще радостные вести от Вас. Это дает мне право и возможность лежать
бездумно на берегу, как и полагается летом. Страшно хочется набраться сил и подлечить нервы. Я стараюсь каждый глоток воздуха принимать как целебный и каждым лучом солнца насытиться и прогреться. Мое солнышко, моя радость, со мной, как видите,
хорошо. Надо столько заработать денег, чтоб можно
было и Вам набраться сил — иначе будет плохо и несправедливо.
Пишите, мое солнышко, моя радость, Зимек любимый мой, пишите так, чтоб я не тосковала по Вас
черной тоской. Не хочется мучиться, огорчаться. Ведь
сейчас так хорошо. Заходили ли Вы ко мне на квартиру? Что там?
Обнимаю Вас, милый, крепко, крепко.
Ваша Нета.
168
Письма Анны
51
31/VI
Зимек, родной мой, хороший, как встревожилась я письмом Вашим. Когда получите Вы деньги от
Левидова? Обедаете ли Вы? Очевидно, что Ваше самочувствие и нервы — все это в тесной связи и с безденежьем, и с плохим питаньем. Обо мне, пожалуйста, родной, не беспокойтесь, сейчас здесь появился коммерческий хлеб, и я не являюсь нашим в тягость, то, что
я перерасходую, я выплачу честно... А Вы... Как только улучшится Ваше положение, немедленно напишите, а то Вы знаете муку «воображения» и сладость «черных мыслей». Очень обидно и с Гулливером. Это до такой степени Вата тема, что уродовать ее, кромсать
и сгибаться в уровень прежних сценариев, — конечно,
нестерпимо мучительно.
Детко моё родное, солнышко, когда же можно
будет распрямиться во весь рост и дать работу во всю
силу...
То, что Симонов не дал о себе знать в назначенный день, — это не беда. Ваши темпы вообще страдают,
а летом — в особенности. Ваша же связь с Симоновым
меня чрезвычайно радует. Постановка будет действительно хорошей, и «слово» они донесут; возможно, что
донесут и замысел. Видели ли Вы Покровских?* Когда
наладите немного свою психику и материальную сторону, повидайтесь. Ведь это реальность, а мы с Вами
так устали от обещаний и заманчивых надежд. Мейерхольду я не могла передать пьесы, так как мы с ним
разминулись. Пожалуйста, милый, напишите, на каких условиях Вы подписали договор о Гулливере и будете ли Вы потом получать авторские, и сколько они
дадут Вам сейчас. Не увлекайтесь охраной моей ком¬
169
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
наты. Ведь работа обычно прекращается в 4 часа. Вероятно, Варвара Алексеевна просто боится оставаться
одна и думает обольстить Вас при помощи меня. Простите, моя радость, за подброшенные Вам заботы, Вам,
конечно, не до них...
Ну, любимый мой, хороший, всей душой с Вами,
простите, что так мало могу Вас утешить. Привет Вам
от всех наших.
Крепко, крепко и нежно целую Вас.
Ваша Нета.
52
19/VII
Милый Зимек, три дня была спокойна за Вас,
а со вчерашнего вечера вдруг заскребло на сердце.
Считаю числа, когда может придти письмо. Считаю,
сколько дней до встречи, гоню тревоги и страхи за
Вас и спешно ремонтирую себя. Работать не могу: чувствую утомленность и отталкивание от умственной
работы — и пусть!!!
Погода стоит мягкая, теплая и покойная; в море
вода чудесная, и я хочу быть в дружбе с покоем и ленью — пусть — потом платить. Это то замечательное
время, когда не происходит ничего... никто никуда не
торопится... и все, как пена на воде... Подробнее писать о себе и наших не хочется, ведь мы скоро увидимся...
Я мысленно все снаряжаю Вас в дорогу, оправляю, сажаю в поезд и встречаю в Одессе. Итак, надеюсь, Вы не забыли, что 27, в 9 утра, Вы отправляетесь
в Метрополь, зал № 8, окно 1 или 2. Открыты кассы
с 9 до 3, но надо придти пораньше, чтоб место было
170
Письма Анны
получше. В пути все есть, захватите только хлеб. Приедете в Одессу Вы в 8 ч. 33 м. утра. Если бы мы почему-
либо разошлись на вокзале, то сесть надо на 18 номер
трамвая, ехать до театра, т. е. до конца, и пересесть на
19, ехать тоже до конца*. Наши все Вас ждут с нетерпением, любовью и радостью; очень огорчились, что
я без Вас приехала. Комната у нас будет та же, где мы
с Вами жили 3 дня до отъезда на Кавказ. С питанием
тоже будет хорошо, понемножку собираю продукты,
чтобы потом за ними не ездить... Алексевне написала открытку с напоминанием о Вас... Ну, теперь Вы рапортуйте о себе: принимаете ли Вы лекарства? С кем
видитесь и как проводите дни? Что слышно с «Литературным критиком»?* Хорошо бы скорей забыть о всех
московских делах, видеть над собой только голубое
небо и ни о чем, ни о чем не думать.
У Лидии Карловны* на даче живет какая-то бригада молодых московских писателей, на днях приезжает Олеша*, но этим я Вас вряд ли прельщу.
Итак, Зимик, скорей, скорей, скорей, дайте теперь поцелую Вас крепко, крепко и побегу к почтовому ящику. Жду, целую, люблю,
Ваша Нета.
53
Милый Зимек, выяснилось, что Владимир Васильевич* получил командировку в Москву. Передайте
ему ключ от моей комнаты.
Как Вы себя чувствуете? Как настроение? Возможно, что я уж больше не буду писать Вам: через
10 дней увидимся — пока поправляюсь и крепну, когда Вы приедете, примусь за Вас. Непременно привези¬
171
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
те чаю, и очень хотелось, чтоб Вы купили себе туфли.
Относительно карточек хлебных — если Вы вернетесь
в конце августа в Москву, то, вероятно, можно не открепляться, подать сейчас сентябрьский стандарт или
поручить кому-нибудь подать, а потом получить в самый последний день; так в прошлом году сделал Тезав-
ровский — а впрочем, я не знаю, посоветуйтесь... Пока
горячо целую и жду.
Нета.
22/VII 1934 г.
54
24/VII
Зимек, милый, здравствуйте, у меня вот какая
просьба к Вам. Владимир Васильевич Довгань пробудет в Москве 4-5 дней. Дайте ему ключ от моей комнаты, будьте к нему добры и внимательны: ведь он мне
сделал много, много хорошего. Кутните с ним за мое
здоровье — Бог с Вами, — если найдете, чем наполнить
рюмки. Он очень добрый и компанейский человек —
у него командировка от завода.
Обо мне он Вам расскажет, я же о себе расскажу
в особом послании: это не в счет. Второе Ваше письмо
получила. Пока крепко, крепко целую.
Нета.
55
29/VII
Радость моя, Зимик, получила Ваше третье письмо и устыдилась своей медлительности. Как встрети¬
172
Письма Анны
лись Вы с Владимиром Васильевичем и как проводили время? Не причинило ли это Вам хлопот? Все Ваши
новости меня взбудоражили... Я ведь каждый раз начинаю верить сначала — и потому, что хочется, и потому, что твердо знаю, что какой-то «раз» будет «настоящим». И вообще мне как-то думается, или, вернее,
чувствуется, что этот год будет легче и лучше. Может
быть, поэтому я как-то весело ремонтирую себя снаружи и изнутри. Пусть осень сшибет задор, а пока держу нос кверху. Думаю вернуться к Вам в Москву 12, так
как это Ваш свободный день и можно будет провести
его с Вами. Но я еще напишу Вам, так как не знаю, когда Володя вернется в Одессу, и потому не уверена в получении билета. Так или иначе, спишемся. Я со всем
возможным увлечением впитываю в себя солнце, тишину и радость искрящегося моря, звездных ночей,
нежных, душистых вечеров и ясных, ласковых утр.
Каждый день думаю: вот если бы такое среди зимы, хотя бы один раз в месяц, я бы ждала, ждала этого раза,
и опять работала, и опять ждала.
Больно, стыдно и совестно, что Вас нет и что Вы
один, и в пыли, и в неволе служебной, и — совершенно для меня несомненно — полуголодны днем и совсем голодны вечером.
Что Вам работается хорошо — это чудесно. Хоть
Вы и разогнали Ваши новые темы, как назойливых гостей, но я все же мечтаю о том часе или тех часах, когда буду сидеть, поджавши ноги, на диване, а у вас над
бровью будет биться мысль, и Вы будете меня с ними,
вновь появившимися, знакомить.
Я люблю, Зимек, эти часы, и так как мне их посылает зима, то, очевидно, и ее надо встретить приветливо. Что отыскали вы мне для работы? Я выучила
«Охранную грамоту» и оба отрывка Павленко — и с кукольным театром, и с ложкой. Было трудно, потому
173
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
что много лиц проходит сразу и нужно двумя-тремя
чертами дать им жизнь, но потом как-то утряслось. За
натурализмом я не гонюсь, а просто стараюсь дать им
и их речам ритмическую правдивость. Думаю, что отрывки очень эстрадны и смогут взволновать аудиторию, если только я их не испорчу. Солнышко мое, счастье мое, спасибо Вам за все, за все... Да, каждый раз
в письме собираюсь Вам рассказать и забываю. Еще
в самом начале по приезде сюда я получила письмо от
Софьи Павловны очень милое и доброе, но меня несколько смутившее: она просила узнать, не смогла ли
бы мама приютить и прокормить Ирочку* за какую
угодно плату. Поговорив с мамой, я выяснила, что это
невозможно, так как до крайности трудно с продуктами, да и маму жаль обременять было заботой. Я совершенно откровенно написала обо всем Софье Павловне. Так как я писала искренно и правдиво, то думаю,
что она не могла обидеться. Ну, Зимек, я разболталась,
и у меня совсем не осталось листа, чтоб поцеловать
Вас на прощание, встав на цыпочки и дотянувшись до
Ваших губ. Милый, солнышко...
Ваша Нета.
56
4/VIII
Зимек, милый, радость моя, это последнее письмо мое; договоримся так, что я буду в Москве 12 скорым, если что-либо изменится, я дам телеграмму.
Очень смущает меня отсутствие Владимира Васильевича и известий о нем. Не знаю, кто достанет
мне билет, вернее, как достать его, а потом — будет ли
моя комната свободна и у кого будет ключ. Вероятно,
174
Письма Анны
со дня на день все это выяснится. Во всяком случае, если Володя, уезжая, не успеет передать вам ключ и не
успеет завезти его сюда, то он у Серафимы Александровны оставит, и хорошо было бы, если бы Вы с вечера получили его, накануне моего приезда, а то ведь
она с раннего утра уходит на реку купаться, и мы застынем перед дверью.
Родной мой, очень волнуюсь, рада видеть Вас,
но оторваться от покоя, лени, красоты и хорошей работы — трудно. Боюсь зимы, боюсь холода — гололеда
и всяческих забот. Опять библиотека — лучше пока не
думать. Еще несколько дней без дум... Прочь, прочь!!!
Я жадно-жадно смотрю на каждый зеленый листик, чтоб унести его и как можно дольше держать
в себе, пока вся это радость не будет растоптана в шуме и грохоте московских колес, перебранок, гудков
и толков. Зимек, Зимек, один Вы и только Вы — утешение и поддержка. И с каждым годом мне всё страшней
и страшней встречать осень.
Милый, милый, утешение мое, помощь моя... Не
хочется ступать в холод и ненастье. Ну, друг мой и товарищ! — руку и на будущее жилет! — попривыкну. От
Вас надеюсь получить еще письмо; вероятно, я слегка встревожила Вас тем, что с моим третьим письмом
проканителилась. В течение 3 дней его никак не могли опустить. От всех наших и мамы Вам привет. Мама очень, очень искренне огорчается тем, что Вас нет
здесь, и, строя планы на будущее, всегда отводит Вам
видную роль. Ну, радость моя, целую Вас так крепко,
чтоб можно было забыть в поцелуе и море, и небо,
и все то, что так прекрасно вокруг меня и что я постараюсь довезти до Вас.
Милый, целую.
Ваша Нета.
175
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
57
18/VIII
Милый друг мой, Зимек, бесконечно рада всему,
что узнала о Вас со слов Вл<адимира> Вас<ильевича>
Тезавровского и из Вашего же письма. Спасибо Вам,
что пишете исправно... Тосковать по Вас я начала
очень сильно и нехорошо, но и ехать боязно. Чувствую себя, как пожелтевший лист. Пока еще он висит на ветке, вместе со всеми шумит и играет с солнечными лучами, и живет одной жизнью со всем деревом... но вот-вот оторвется, и погонит его ветром,
а там чей-нибудь каблук вдавит в грязь... Осень... зима... нехорошо... Ну, о себе лучше не буду писать, а то
у Вас составится неверное представление о моем состоянии. Я, знаете ли, сегодня ночью что-то не спала, и те самые «мысли, как чёрные мухи»*, о которых
поётся в романсе, пробовали «кружиться над бедной
моей головою». Но ведь за ночью идет день, а потом
еще и еще день... и, наконец, посветлеет... Не знаю еще
точно, когда приеду в Москву, если 1, 2 сентября маме
придется пойти на рентген — то я задержусь числа до
3-4 сент<ября>, если же отложится курс лечения, то
я буду 3 уже в Москве; во всяком случае, выеду не раньше первого и еще напишу Вам.
Только бы у Вас все было хорошо, и наши мечты
и надежды не оказались бы обезглавленными и растоптанными в первые же дни осени.
Нынешним летом я не очень поправилась. Может быть, оттого, что застала все и всех в тяжелом положении, из которого еще не совсем выбрались наши,
может быть, оттого, что слишком жадно и трудно работала. Решила сейчас прекратить до отъезда занятия
и купанье и все силы употребить на поправку. Очень
176
Письма Анны
я любила ощущенье своей «легкости» — неужели не
найду его?
Обещала не писать о себе, а все к себе возвращаюсь!.. Это оттого, что нет поблизости Вашего «жилета». Кстати, я сшила Вам брюки, они со мной, но плакать «в брюки» не принято...
Зимек, милый мой, единственный, любимый,
целую Вас крепко, а писать больше не могу...
Ваша Нета.
P. S. Привет от мамочки и всех наших.
58
27/VIII
Зимек, спешу черкнуть Вам несколько строк;
сейчас едут в город, и письмо можно будет опустить
на вокзале.
Я не смогу выехать первого, как предполагала,
так как хочу переждать мамин рентген. Задержусь еще
дней на 5 и сообщу Вам о приезде либо письмом, либо телеграммой. Очень мне стыдно, что Вы хлопочете
о квартире моей. Если за время моего отсутствия Вам
придется еще побывать у меня в Земледельческом,
очень прошу: повидайте Серафиму Александровну
и помогите мне вот в каком деле. Я, уезжая, оставила ей 50 р. за два месяца квартирной платы — больше
у меня не хватало, а между тем, меня предупреждали,
что на топливо возьмут еще рублей 40. Вероятно, там
не хватит еще рублей 10. Если они у Вас будут, очень
прошу, дайте ей, если нет, попросите добавить от себя, я немедленно погашу при приезде. Срок 2 платежа 10 сентября. Почти наверное к этому времени я буду сама, но пишу на всякий случай. Простите, род¬
177
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
ной, что к Вашим заботам прибавляю свои. А так как
все это доставит Вам мало радости, то спешу вызвать
и улыбку. Во-первых, я действительно по-настоящему
поправилась и поправляюсь, во-вторых, чувствую себя хорошо, в-третьих, очень люблю Вас, в-четвертых,
тоскую по Вас, в-пятых, крепко-крепко, горячо, нежно
целую. Ну? Улыбнулись? Ну??? Всего доброго, радость
моя.
Ваша Нета.
59
2/IX
Милый Зимек, сейчас еду с мамой в город на
рентген, спешу черкнуть Вам весточку, чтоб опустить
в городе. Заказала билеты на 7 число, стало быть, 9 буду утром в Москве. Если случится какое-нибудь изменение, то дам Вам телеграмму или еще напишу. Всей
душой, мыслями и чувствами с Вами, мой добрый, милый и хороший друг.
Ваша Нета.
P. S. От всех наших привет.
60
12/IX 1934 г.
Милый Зимек, Ваше письмо не очень меня успокоило. Вероятно, я сделала нехорошо, задержавшись
в Одессе, а тут еще вышло так, что я заказала билет на
19, стало быть, буду в Москве только 21. Меня просила
Женя и наши провести выходной день 18 числа вме¬
178
Письма Анны
сте в последний раз... Погода стала мягче, нет жара,
небо бледней, дни серебряные, невыразимо очаровательные. Я гоню мысли о Вас, но уйти от тревожного,
живого и сосредоточенного плена не удается. Я уже
давно живу в «тени Москвы». В смысле работы сделала то, что предполагала по своему плану, но еще очень
начерно. Работы много... В смысле денег плохо, приеду без единой копейки, вся надежда на Вас... Почему-
то не волнуюсь и почти не думаю об этом. Вот какая
просьба к Вам. 20 должен придти полотер, непременно
накануне побывайте у Варвары Алексеевны, оставьте
ей ключ от комнаты и 6 руб. денег для полотера. Мыть
комнату предварительно не надо; полотер сам все сделает. Я писала Варв<аре> Алексеевне, что приеду 17,
но тогда еще не знала, что задержусь. Хорошо было
бы, если ключ после полотера Вы опять взяли к себе,
но такими чрезмерными хлопотами не решаюсь Вас
затруднять... Итак, 21 увидимся. Очевидно, что Вы не
напишете мне ни одного письма, из того же, что я получила от Вас, ничего не узнала, и это меня глубоко
огорчает. Приветы всем передала: каждый, получив
свое назначение, остался очень доволен. Все всё время вспоминают о Вас и в свою очередь шлют приветы.
Простите, что пишу как-то несобранно: сердце щемит,
а по какой такой причине — не знаю... Увидимся еще
не скоро, а знать ничего не знаю... Вы очень жестоки
в этом отношении, хотя наши и засыпают Вас похвалами, но Вы все-таки жестоки.
Ну, пока, мой друг, пока... Спешу отправить Вам
письмо, чтоб Вы 17 не разлетелись на Брянский <вок-
зал>...
Пока получайте свой поцелуй и будьте умницей.
Ваша Нета.
179
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
61
15ДХ
Милый Зимек, уже писала Вам, что буду в Москве 21. Сейчас билеты в руках, стало быть, не будет
перемен. Еду скорым, вагон 4-й. Писем от Вас за все
время — только одно. Очень томлюсь и беспокоюсь...
Все наши обнимают Вас и приветствуют. Итак, до 21.
Крепко, крепко, горячо-горячо целую.
Ваша Нета.
<1935>
62
6/IX
Мой милый, сижу за столом на Вашем любимом
месте, откуда Вы любили по утрам наблюдать планирующие в небе аппараты*, а в остальные часы сидеть с толстой книжкой Шекспира. По-прежнему тепло и тихо и ясно. Сегодня выходной, поэтому тишину и покой прерывает только голос Володи. Вот уже
6 дней, как Вас нет, а наши не перестают вспоминать
Вас и огорчаться, что от таких чудесных дней Вам
пришлось уехать... Говорят так тепло и так хорошо,
что я каждый день чувствую себя именинницей, и, если б не тревога за Вас, то чувствовала бы себя и счастливой. А тревога сидит упорная, назойливая и непрошенная. Так не хочется ни о чем думать и так приятно
знать, что пока я еще сильнее своей думы, потому что
ведь зимой бывает наоборот... Вчера ходила с Коти¬
180
Письма Анны
ком и Влад<имиром> Николаевичем к Киппену за виноградом*. Никогда не ела такого чудесного, крупного, сладкого винограда; это гамбургский мускат, из него делают розовое вино с запахом чайной розы* и на
вкус чуть-чуть сладкое. Киппен дал слово, что на будущий год припасет для меня несколько бутылок. У него 3 десятины земли под виноградом. Земля была ему
подарена уже после революции, и он за 8 лет развел
такое образцовое хозяйство, что посмотреть есть что
и стоит. Влад<имир> Ник<олаевич> принялся ему
в моем присутствии превозносить Вас, и я обещала
Вас познакомить. Ну, у нас все так просто, что Вам легко себе представить; я с нетерпением и тревогой жду;
что у Вас; считаю по пальцам ближайший день, когда почтальон может снять с меня груз тоски и тревоги. 9, если 10 не будет от Вас письма, я знаю себя: не
£пать мне ночью, не радоваться днем. Не могу не огорчаться, что Вы в такие дни уехали. Правда, 2 и 3 был
на море сильный шторм, но и это было красиво и великолепно. Сейчас в нашей комнате со мной — мама,
но в первые дни я была одна, и так сладко мучительно было ожидать, что вот-вот скрипнет гравий, потом
дверь — и Вы. Женя просит меня выехать 20, но я пока
не соглашаюсь, во всяком случае, если и оттяну отъезд,
то не позже 17, и тогда специально напишу о выезде.
Ну, все, конечно, прочие передают Вам свои приветы,
а я, перекрываю их, вставши на цыпочки и перехватив
Ваше дыхание поцелуем.
Ваша Нета.
63
Зимек, милый, так как новостей у меня никаких
нет, а мои заочные улыбки и поцелуи не могут разо¬
181
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
гнать облачности, если таковая имеется на Вашем горизонте, то вместо них посылаю Вам солнечные лучи
с нашего неба. Зайчата как раз прыгают сейчас по листам моей бумаги, и я надеюсь прихлопнуть их конвертом. Сегодня 7-е, осталось шесть дней. Дни неясные, добрые, сентябрьские дни, но мне не жаль отдать
их за радость скорейшего свидания. Марья Антоновна прислала мне книгу «Go big»* с очень милым письмом на английском языке. Делать мне нечего, и я читаю, но, увы! рассеянно... Хотя я и решила не думать
и впускать мысли с разбором и только «по пропускам»,
но они находят свои щели. Не хочу грешить против
них: большинство из них мои друзья и почти все о Вас
(только не зазнавайтесь).
Берегите, мое солнышко, свои силы, будьте умницей, почаще работайте на Плющихе*. Там все же
спокойнее и удобней. Опять ничего не спрашиваю,
хотя вопросы выстроились в длинную очередь и уже
затеяли спор из-за места. Жду телеграммы. Манечка,
Котик, Володя шлют Вам привет, целуют. Обнимаю
Вас крепко, крепко, целую.
Ваша Нета.
7/IX 1935 г.
<1937>
64
6/IX
Давайте поболтаем, Зимек, милый мой — хороший. Можно по порядку. Проводила Вас; к часу ночи
сидела на городской квартире за чашкой чаю. Утром
182
Письма Анны
проснулась, как обычно, в семь, и вдруг почувствовала, что Вы от меня уже верст за 300, и все едете, едете,
а я на месте.
В одиннадцать утра была уже на Фонтане, вошла
в нашу комнату, она все та же и не та... Ночью легла на
Вашу кровать — мне казалось, что от этого я буду ближе к Вам, но, видно, Ваша подушка ревниво отнеслась
ко мне, так как не давала спать всю ночь... Тогда я решила ехать за Вами со станции на станцию. Сегодня
уж третий день, как я без Вас. Никаких событий у нас
не произошло... Разве что приехал Николай* и Кора так бурно встретил его, что весь вечер было как-то
от этой собачей ласки всем хорошо. Шарик погрустнел и по примеру Коры тоже пробует получить ласку,
бедняга чувствует общий разъезд. На другой же день
после Вашего отъезда читала пьесу Пашкова* у них на
террасе. Если Вы вспомните орфографию Бети, то легко представите себе все трудности во время чтения.
О самой пьесе говорить сейчас не хочется, — вероятно, привезу, — может, прочтете, а если нет, расскажу. На чтении присутствовали, кроме самого М. В., Бети и Лидии Карловны, канадская певица и украинский
писатель Болобан*. Последний взял на себя весь труд
критики, и так как высказался весьма положительно,
то впечатление у автора осталось, по-видимому, хорошее. Сегодня у нас маленькое огорчение. Володя покрасил крышу два дня тому назад, и она высохла, но
небольшой кусочек, недоделанный раньше, закончил
сегодня. С утра было чудесно: ясно и тепло. Как вдруг
набежала грозовая туча, пролилась коротким, но на
этот раз вредным дождем. Красная краска, увы, смыта!!!
Зимек, милый, болтаю обо всем, так как знаю,
что Вам приятна моя болтовня. Вам же не задаю вопросов. Телеграмма от 8-го числа, как Вы обещали мне,
даст весточку о Вас, а когда приеду 13 (кстати, билет
183
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
уже у меня в руках, вагон 6, место 16), узнаю все от Вас
лично. Помните, Зимек, и в Ваши радостные, и Ваши
тревожные минуты сейчас, что, о чем бы я ни говорила сейчас, что бы ни видела, что бы ни делала — я все
время с Вами и всей душой, всегда, всегда хочу, чтоб
Вам было легче и лучше.
Ну, давайте руку, мой друг, мой милый, а теперь
губы. Вот так хорошо... а Вам?
Ваша Нета.
Самый теплый привет от всех наших.
<1939>
65
Зимек, милый, кончается первый день моего
пребывания здесь, — и мне хочется поделиться с Вами
впечатлениями. Мне хорошо; комната моя небольшая,
но очень чистая, просто и удобно обставлена. Дом деревянный, двухэтажный, с несколькими верандами.
Столовая, библиотека, биллиардная и службы в другом здании. Вероятно, это была усадьба, так как она
в стороне от большой дороги и от деревни. Внизу маленькая речушка Вертушинка; над нею лес.
Первый человек, которого я увидела, вступив на
территорию Дома, был Сергей Дмитриевич. Он здесь
с Софьей Павловной. Вы, конечно, легко представляете себе, как я обрадовалась им и как в то же время огорчилась, подумав, что Вас нет с нами. Говорю «с нами»,
потому что хозяйка, узнав, что я знакома с Мстиславскими, усадила меня за общим с ними столом. Здесь
система небольших столиков.
184
Письма Анны
Огорчительно то, что 30 мая Сергей Дмитриевич уезжает и Софья Павловна тоже, если не удастся
выхлопотать еще 4 дня. У меня к ним чувство такой
нежности и теплоты, что от одного этого я надеюсь
окрепнуть душой. О теле заботится хозяйка: питает замечательно. Боюсь, что привыкну есть много и тогда...
что буду делать в Москве?
Погода, на мое счастье, весь день была мягкая и теплая; по уверению отдыхающих, они сегодня
впервые вышли без пальто.
Я с первого же дня решила установить режим.
После утреннего чаю и завтрака, с 10 до 2 работала; после обеда 2 часа лежала в постели, отдыхая,
после чая час гуляла. В вечерние часы решила читать
и писать письма. Думать не буду совсем; вероятно, это
мне удастся, потому что, когда я гуляла сегодня вдоль
речки — то в голове было пусто и, я бы сказала, легко. Вспомнив Сергея Ивановича, его упреки Вам в не-
уменьи различать пенье птиц*, стала прислушиваться. Стая зябликов, как мне это потом объяснили, гонялась за кукушкой. Их пенья я теперь сумею отличить:
это и в самом деле хорошо. Лиственница стоит совсем
еще голая, черная, и только кое-где на березе почки
едва-едва раскрылись. Наверное, завтра покажутся листочки — только бы не было холодного ветра и зимы.
С отдыхающими я хоть и раскланиваюсь, но не
знакома.
Здесь супруги Бродские*, Лукачи*, Родовы*, одиночки Чекин*, Лагин...* других не знаю.
Всей душой хотела бы Вас увидеть здесь, потому
что, хоть Вы и мое горюшко, но Вы и моя жизнь, моя
радость, моя теплота.
Ну, милый, довольно с Вас на первый раз. Обнимаю Вас, целую и умоляю поберечься.
Нета.
185
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
P. S. Когда надумаете приехать, дайте телеграмму. Нет необходимости ждать четного числа. Правда,
писательская машина ходит по четным, но каждый
день тут автобусы на Рузу и Верею от станции Дорохо-
во. Они ждут того поезда, с которым я приехала. Нужно взять место в автобусе на Рузу и попросить остановиться у Дома писателей. Правда, от этой остановки
придется полкилометра пройти пешком. Ну, всего хорошего.
Нета.
66
1/VI
Спасибо Вам, милый, за Ваше письмо и другие
пересланные мне письма. Последние дни я уж начала
томиться отсутствием вестей и начала было считать
дни до отъезда. Правда, Ваше письмо не очень успокаивает. Что за болезнь? Действительно ли Вы сейчас
здоровы? Почему 65 часов диеты? Ну ничего, приеду —
наведу порядок. Осталось всего семь дней. Приеду 8-го
в 11 часов вечера или около одиннадцати. Если бы Ваше здоровье позволило, было хорошо бы встретиться
на вокзале. А впрочем, можно и дома.
Теперь о себе и своей окружении. Мстиславские
уезжают только 4-го, таким образом, я среди друзей.
Чувствую себя хорошо, поправилась, зимняя глубокая
усталость расходится, как туман, думаю, что когда вернусь, буду покойней и веселей, Лундберги берут меня на
прогулки, и я, кажется, заслужила их доверие в качестве
приемлемого или, вернее, терпимого сотоварища.
Третьего дня Сергей Дмитриевич читал в тесном
кругу (только при мне и Лундбергах) свою новую пье¬
186
Письма Анны
су о Баумане*. Читал хорошо, и пьеса хорошая; очень
порадовалась за него. Это был хороший вечер, потому
что можно было говорить правду и приятно было ее
говорить. Часто говорили о Вас: всем очень хотелось
бы, чтоб и Вы были тут.
Милый, Лундберг 2-го — 3-го пребудет в Москве,
вернется сюда четвертого, приезжайте, радость моя,
с ним. Ведь Вы ничем не рискуете: всем будет приятно, и мне чудесно. Хозяйка здесь добрая, милая, заботливая. В Доме тихо, никто никому не мешает, все работают, кто как может. Если Вы пребудете даже только 2 дня, это все же Вам что-то даст. Ну, Зимек, милый,
скажите себе: да, — и двиньтесь! Вам будет хорошо.
Я успела здесь кое-что сделать с «Войной и миром», так как работала каждый день довольно много. Теперь мне нужны Ваши советы; у меня все-таки нет концовки. Читаю, перечитываю, пробую, а остановиться
ни на чем не могу. Здесь очень неплохая библиотека;
перечитала «Большие ожидания»* и «Холодный дом»
Диккенса — ищу материал для вечера, для себя и «моих».
«Большие ожидания» — изумительны.
Прочла 1-ую часть «Енбели Парижа»*, а что думаю о нем, расскажу, когда свидимся.
Странно, такое чувство, как будто я в Малеевке
давно-давно. Вероятно, это потому, что первые дни после приезда всегда кажутся насыщенными и длинными.
Дышишь свежим пахучим воздухом и не надышишься;
смотришь на молодые тоненькие березки, на клочки
голубого неба, и не насмотришься. Сейчас подняла глаза, и прямо на меня смотрит молодой месяц. Он и в Москве есть, да не такой и не так смотрит... Не хочется шума, телефона, суеты, но очень, очень хочется Вас. Ну
давайте же скорей, я Вас крепко, крепко поцелую, не болейте больше, не хандрите. Скоро увидимся.
Ваша Нета.
187
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
1940
67
Милый Зимек, просила Ниночку Сухоцкую поговорить с Вами по телефону и убедить на день-два
приехать сюда. Видно, ей не удалось мое поручение,
постараюсь устроить свои дела так, чтобы девятого вечером быть в городе, десятое провести с Вами, а одиннадцатого очутиться в «Правде».
Сейчас моя работа значительно облегчена, так
как Олимпиада приходится на 41 год по распоряжению МК.
Дети еще пока ничего не знают, но руководители частично совсем освобождены, частично продолжают занятия. Я отношусь к последней группе, если
бы не печальная необходимость работать на два лагеря и трудности в переезде, то чувствовала бы себя совсем хорошо. Отпуск мне дают с 1 августа по 15 сентября.
Из «Светлицы трех сестер» совсем уехала Навро-
зова, Ниночка собирается жить с 10 до 20. Вместо На-
врозовой к нам приехала пока библиотекарша, девушка милая и серьезная; но веселый дружный наш ансамбль все же расстроен... Грустно... Очень удивилась,
когда, выйдя однажды на крылечко своего дома, увидела Ольгу Ивановну Преображенскую. Встреча вышла неожиданно теплой и радостной. Оказалось, что
с 8 числа она переезжает в нашу квартиру, вернее,
в нашу избу; комната напротив моей. Киногруппа поселилась здесь для съемок; нужны кадры тайги к картине «Золото». Москва любезно предоставила свои
леса. Места у нас действительно чудесные. Недаром
188
Письма Анны
в 15 минутах ходьбы знаменитая Левитановская «Ах-
тырка»*, а на 57-й версте Абрамцево* (в 2 верстах от
нас). В Ахтырку ходила с ребятами; они радостно вопили, открывая все новые и новые красоты, но мне не
мешали.
Первые дни беззаботности и легкомыслия миновали; нервы упали, и я понемножку начинаю подумывать о Москве и о других делах; мысли и заботы,
очевидно, торопятся заполнить пустое пространство,
освобожденное олимпиадой... И все же мне хорошо.
Кругом молодо, весело, шумно и бестолково.
Очень хотелось бы порассказать о своих впечатлениях от испанского лагеря. Там много интересного, но я надеюсь 9 или 10 свидеться, обнять Вас крепко, крепко и поговорить обо всем всласть. Девятого
назначаю Вам свидание на Плющихе, возможно, что
приеду поздно, часам к 10, не беспокойтесь.
Если не Сможете быть, ключ оставьте у Варвары
Алексеевны. Целую Вас крепко, милый, любимый.
Нета.
7/VII1940 г.
<194б>
68
31 июля
Милый Зимек, сегодня ровно неделя, как я в
Одессе. Пора браться за перо. Ну что же... Доехала благополучно. На вокзале нас встретили Котик и Володя
с машиной. Погрузили вещи, нас — пассажиров и доставили без аварий и катастроф на дачу. Мамочка и Ти¬
189
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек
на не были предупреждены о нашем приезде, так как
телеграмму мы направили в Дом отдыха на 11-ю станцию*, а оттуда не успели сообщить нашим. Было много радости при встрече и много грусти: все мы порас-
строились и сдали за эти годы. На даче и в саду тоже
запустение и заброшенность. Травы и цветов нет, деревья, изнуренные засухой, частично засохли и торчат мертвыми стволами, частично пытаются еще сохранить жизнь. Все эти годы не было воды и не было
поливки. Зной нынешнего лета сказался и на городских посадках. Листья пыльные и преждевременно
пожелтелые. Прекрасны по-прежнему море и южное
небо. Те же изумительные краски, тот же покой и размеренность в плеске волн, движении облаков. Морем и берегами можно пользоваться свободнее, чем
до войны. В обрывах много спутанной колючей проволоки, но она не мешает движению, так как собрана
в кучи. Спуски к морю и самый пляж даже лучше стали. Я купаюсь ранним утром, когда солнце еще низко
стоит над морем, и на берегу никого нет. Вода теплая...
Стараюсь ни о чем не думать и побольше спать. Наши очень много перенесли, душа у них наболела, и им
хочется обо всем рассказать. Я слушаю их в каком-то
оцепенении и воспринимаю в общем ритме как что-
то, что уже далеко отошло. Вероятно, потому что и для
них это тоже звучит, как отошедшее, а может, потому
что всем хочется отдыха. Питаюсь хорошо.
Возвращаться в Москву будем только все вместе:
сесть мне с ними легче в поезд, а билеты будет всем
доставать Володя Довгань одновременно. Машиной
тоже можно воспользоваться только раз для всех.
Выедем с таким расчетом, чтоб быть в Москве
1-2 сентября.
Ну, в общих чертах, о себе все.
Теперь рапортуйте Вы.
190
Письма Анны
Как продвигается Ваша работа? В каком состоянии «Кола»?* Продвинулись ли Вы со статьей о Фред-
ро? Как Ваши материальные дела? Получили ли деньги в Камерном?* Как прошел студийный спектакль «Гибель „Надежды“»? Как Вы ладите с Алексеевной? Но так
как я уже добралась до Алексеевны, то прошу передать
ей и всем Преображенским привет.
Вас же крепко-крепко, милый, обнимаю и напоминаю об обещанных 2 письмах. Помните, что они
идут сюда долго.
Ну, целую, будьте умницей. Постараюсь вернуться здоровой.
Нета.
Привет от всех наших.
69
10 августа
Милый Зимек, должно быть, я начинаю поправляться по-настоящему. На душе у меня покойней, и я
начинаю подумывать о Москве...
Правда, лень неописуемая, но только в голове ей
привольно, на деле же заботы и работы и здесь достаточно. Живем мы коммуной. Как живем, расскажу по
приезде. А пока мне важно одно: сообщить Вам. что
я здорова, очень жадно пью воздух, насыщаюсь морем
и солнцем, иногда сплю на воздухе (в очень жаркие
ночи), очень поглупела, что, по-моему, тоже на пользу.
В пятницу буду на 11-й станции, в санатории
у Володи Довганя, хочу провести у них весь день, с утра до вечера. Попрошу Володю заказать мне билет
в Москву. Очень возможно, что мне придется ехать одной. Будет трудно, так как на плацкарт нет надежды,
191
Переписка Сигизмунда Кржижановского иАнныБовшек
но задерживаться здесь, как предполагают остальные
москвичи, я не хочу, да и по деньгам не смогу. Котик
очень просит Вас поцеловать. Они, бедняжки, удручены болезнью Андрея, в которой есть новые осложнения. Андрей ростом едва ли не выше Вас, во всяком
случае, выше Николая и Васи. Но в глазах, в выражении лица столько ребячей наивности, что он кажется
совсем малышом. Очень застенчив, как это часто бывает с юношами в 16 лет. Хочется верить, что в конце
концов поправится. На даче композиторов отдыхающих свыше 100 человек. Из них москвичей мало, известных имён совсем нет, большинство киевлян, харьковчан и местных одесситов. Ни с кем из них я не знакомлюсь.
Мамочка держится молодцом, хотя, конечно,
и она сдала очень. В нашем коммунальном хозяйстве
больше всех достается Тиночке. Очень жаль ее, так как
тяжелые годы на ней сказались очень. Но обо всем
и обо всех — когда увидимся.
Простите за душевную пустоту: я сознательно
задерживаю свой «фармацевтический сон» ведь впереди скучная вереница дней, невыгодно отличающаяся от той <нрзб.>, которую я сейчас прохожу, одним
тем, что буду без солнца и без голубого неба. Одна надежда на Вас... Не обманите... В залог поцелуйте мне
так же крепко как я Вас. Ну, милый, до свидания. Привет ото всех. Нета.
70
23/VIII
Милый Зимек, в следующую субботу мы уже будем вместе (е. б. ж).
192
Письма Анны
Заказала билеты на 29, обещали мне вручить
их в понедельник. Если всё будет, как мы наметили,
т. е. отъезд точно произойдет в четверг, то, возможно,
я не дам телеграммы. Очень буду рада, если Вы меня
встретите. Поезд приходит днем, кажется, около 5 часов, впрочем, точно не знаю. Билеты Володя Довг<ань>
достает через санаторию по частям. Я попросилась
в первую очередь вместе с Варварой Петровной. Уезжать и не хочется, и хочется; видеть Вас определенно
хочется. Мое отвращение и недоверие к бумаге, так же
как и недостаток ее, дают мне все основания повесть
о моем пребывании на юге изложить в устной форме при свидании. Смотрите, Зимек, не очень переоценивайте мою поправку и мой внешний вид: красивей
я не стала, зато много-много бодрей, здоровей и спокойней. Ваше последнее письмо меня встревожило —
не столько содержанием, сколько почерком: и вкривь,
и вкось... Что это? Душевное смятение, внутренний
непорядок или «внешний непорядок»? Ну, там разберемся.
Итак, милый друг, до субботы.
Крепко жду, крепко целую, крепко люблю.
Ваша Нета.
Воспоминания
о Сигизмунде
Кржижановском
13*
АннаБовшек
Глазами друга
(Материалы к биографии
СигизмундаДоминиковича Кржижановского)
Всю мою трудную жизнь я был
литературным небытием, честно работающим на бытие.
С. Кржижановский
Киев
I
Киев. 1920 год. Я иду по улице вдоль сплошной
стены снега и выбеленных инеем деревьев. Огромные
сугробы на тротуарах и мостовой стоят неподвижно,
терпеливо дожидаясь первых теплых лучей солнца,
чтобы, превратившись в шумные водные потоки, заявить о приходе весны. На улице мало прохожих, еще
меньше проезжих. Изредка слышится тревожное цоканье копыт, проносится одинокий всадник или целый отряд конных. По тому, как выглядят всадники:
в широких красных штанах, с оселедцами на головах
и с пиками наперевес, в черных мохнатых шапках или
в серых шинелях и фуражках с пятиконечной звездой, — можно определить, чья власть в городе: петлю¬
197
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
ровцев, белых или красных. Сейчас в Киеве большевики и относительный порядок. Проходя мимо дверей
консерватории, я замечаю прибитое четырьмя гвоздиками небольшое печатное объявление:
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ КОНСЕРВАТОРИИ
СЕМИНАРИЙ по ОБЩИМ ВОПРОСАМ МУЗЫКИ А. К БУЦКОГО
С. Д. Кржижановский
Чтения и собеседования по вопросам искусства
6 чтений первого цикла
1. Четверг 1 марта
2. Понедельник 5
3. Четверг 8
4. Понедельник 12
5. Четверг 15
6. Понедельник 19
Культура тайны в искусстве
Искусство и «искусство»
Сотворенный творец (И. Эригена)*
Черновики. Анализ зачеркнутого
Стихи и стихия
Проблема исполнения
Чтения будут проходить в зале консерватории. Начало в 8!4 вечера.
Абонементы на все чтения 500 рублей.
О Кржижановском, его лекциях, выступлениях по вопросам музыки я слышала не раз. Все говорили: интересно. В самом деле, объявленный цикл любопытен. Надо послушать; если можно, познакомиться
с лектором; но у меня нет пятисот рублей, необходимых для покупки абонемента, и не предвидится скорой получки. Можно бы зайти в консерваторию, там
почти наверно встречу кого-нибудь из знакомых, кто
за меня поручится, но я поздно вышла из дому и теперь спешила к назначенному часу в наробраз* куда была вызвана на совещание. Сегодня там решался
вопрос о польском театре: организацию его предлагала известная польская актриса С. Э. Высоцкая*. Я уже
кое-что знала о ней, видела ее в Москве, когда она при¬
198
Анна Бовшек. Глазами друга
езжала к Константину Сергеевичу Станиславскому побеседовать с ним, познакомиться с основными положениями его «системы» и режиссерским методом. Она
не раз приходила на занятия студии театра, особенно
в те дни, когда их вели Константин Сергеевич или его
талантливый ученик Евгений Багратионович Вахтангов. Очень высокая, статная, прямая, с правильными
чертами крупного лица и низким, грудным голосом,
она походила на рисунки с изображением римских
матрон. Казалось, что именно такой должна быть трагическая актриса. Очутившись случайно в Киеве и не
имея возможности вернуться на родину — в Польшу,
она тосковала без любимой работы и задумала создать здесь польский театр.
Когда я вошла в комнату наробраза, там уже собралось человек двенадцать. Среди присутствовавших — мой бывший преподаватель театральной школы Владимир Владимирович Сладкопевцев*, талантливый автор и исполнитель юмористических рассказов.
Встретившись со мною в Киеве, он взял меня под свое
покровительство и нередко называл мою кандидатуру
для выполнения заданий, связанных с жизнью театра
и театральных школ.
Высоцкая докладывала о характере будущего театра, о плане работы. В Киеве не было польских акте-
ров-профессионалов, труппа должна была состоять из
любительской молодежи. Спектакли будут на русском
языке, но репертуар исключительно польский: пьесы
Словацкого*, Выспянского*.
Начались высказывания. Сидевший рядом со
мной Сладкопевцев указал мне на высокого, слегка сутулившегося человека в зимнем пальто, большой шапке,
закрывавшей пол-лица, и сказал — это Кржижановский.
Разглядеть Кржижановского было трудно, тем
более что он сидел в темном углу. Не разглядела я его
199
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
и тогда, когда ему было предложено высказаться. Не
поднимаясь с места, он заметил только, что высоко
ценит поэзию Словацкого, талант Высоцкой, большой
актрисы, но от суждений о возможной судьбе театра
отказывается, не имея данных о труппе и ее подготовке к классическому репертуару.
Высоцкая просила дать ей помещение для театра и выделить некоторую сумму денег на содержание
труппы и оформление декораций.
На совещании решили дать ей помещение и командировать человека для знакомства с составом
труппы, планом работ будущего театра, но от денежной субсидии пока воздержаться. Сладкопевцев и на
этот раз не подвел меня, предложив поручить мне задачу ознакомления с новым делом. Я чувствовала себя
недостаточно опытной и достойной для выполнения
возложенного поручения. Высоцкой вряд ли могла
понравиться моя кандидатура, но мне хотелось поближе познакомиться с замечательной актрисой и режиссером; к тому же в те дни не принято было отказываться от заданий.
Через два дня я уже сидела на репетиции, заняв
место в партере и стараясь быть как можно меньше замеченной. Это было нетрудно: Высоцкая, не видя никого из посторонних, с увлечением рассказывала исполнителям о будущем спектакле, любимом писателе, давала характеристики персонажей его пьесы.
Репетировали «Балладину»* Словацкого. Должно быть,
моя молчаливая почтительность и внимание к работе
примирили Высоцкую с возложенной на меня официальной ролью, и на третий день она предложила мне
взять на себя главную роль в «Балладине». Роль была не в моих данных, и я, не доверяя себе и попросив
Высоцкую прослушать меня, прочла ей из еврейских
мелодий Лермонтова: «Скорей, певец, скорей, вот ар-
200
Анна Бовьиек. Глазами друга
фа золотая»*. Она выслушала молча, но, должно быть,
что-то во мне ее заинтересовало, так как она повторила предложение сыграть «Балладину» на этот раз настойчивее и теплей.
В течение месяца мы с небольшими перерывами вели работу, но положение театра не улучшалось.
В труппе не хватало актеров, никто не получал платы,
стиль Словацкого — польского романтика — плохо воспринимался современной молодежью. Воспитанные
в традициях русской реалистической школы, молодые исполнители не могли удовлетворить требованию
режиссера. Чтение стихов просто убивало. Театр распался. Вскоре после того, как последние польские части, хозяйничавшие в стране, покинули Киев, Высоцкая
вернулась в Варшаву, основала свою студию, а позднее
заведовала драматическим отделением консерватории.
В те дни начинания, подобные польскому театру, возникали одно за другим, как грибы после веселого летнего дождя. Некоторые были интересны и полезны, другие фантастичны и нелепы. В наробраз то
и дело приходили с увлекательными предложениями. Там терпеливо выслушивали прожектеров, иногда
помогали помещением и людьми, но денег не давали.
Страна терпела разруху, в домах не топили, в магазинах не торговали, связь с Москвой была слабой. Поезда ходили редко, от случая к случаю. Работа держалась
на энтузиастах и энтузиазме.
II
Каждая литературная новинка, проникавшая из
Москвы в Киев, вызывала огромный интерес. Ее списывали друг у друга, читали, спорили. Особенно вол¬
201
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
новали имажинисты, но не потому, что нравились. Непонятны были истоки и цели их поэтических исканий;
стихи вызывали недоумение и искусственным построением образов, и совершенной оторванностью от жизни. В конце двадцатого года в Киев попала поэма Блока
«Двенадцать». Замечательное произведение всех взволновало. Только и разговоров было, что о поэме. Ярче,
лучше нельзя было отразить то смятение духа, тот порыв в неизвестность, ту жажду священного безумия, которые так свойственны были стихии революции. Хотелось без конца повторять вслух, петь простые и в то же
время насыщенные дыханием жизни строки:
Черный вечер. Белый снег.
Ветер, ветер.
На ногах не стоит человек —
Ветер, ветер
На всем белом свете.
Со мной незадолго до того произошёл один случай, который теперь все приходил на память, особенно при чтении стихов: «А Катька где? Мертва, мертва...
Простреленная голова».
Выйдя однажды рано утром из парадной двери во двор, я заметила шагах в двадцати перед собой
какую-то скорченную фигуру. Во дворе была большая круглая клумба, обнесенная невысокой узорной
чугунной оградой. Фигура лежала, упершись головой
в ограду. Подойдя ближе, я увидела, что это была женщина в ситцевом с разводами платье и с небольшим
платком на плечах. Лежала она неподвижно, голова
откинута назад, ноги согнуты в коленях, у спины небольшая лужица крови. Не было сомнений в том, что
в женщину стреляли и, вероятно, в спину. Лицо молодое, красивое, с правильными чертами, какие часто
202
Анна Бовшек. Глазами друга
встречаются у украинок, очень спокойное, почти благостное. Пока я стояла над трупом, не зная, что предпринять, подошли еще две-три женщины, а там собралась и небольшая толпа.
Смерть в то время мало кого трогала, никто не
торопился разыскать убийцу, а в адрес женщины сыпались и лестные, и нелестные замечания. «Это Ленка
из прачечной. Догулялась», — только я и узнала. Но образ этой молодой несчастной женщины не выходил
из головы. Он как-то странно сливался с ритмом стихов: «Черный вечер, белый снег... И опять идут двенадцать, за плечами ружьеца...»
Я и раньше любила Блока, но сейчас он стал мне
особенно близок, я благодарна была ему за открытие
в себе нового восприятия эпохи. Понятно поэтому,
как я обрадовалась, когда живший в то время в Киеве
литературовед Александр Осипович Дейч* предложил
устроить совместно литературный вечер, посвященный Блоку. А. О. брал на себя вступительное слово,
а вся поэтическая часть отводилась мне. Программу я составила из любимых мною стихов и включила
в нее поэму «Двенадцать».
Была ранняя весна, цвели каштаны, было тепло,
радостно и в то же время немного страшно: я впервые
выступала с целым отделением, предшественников-
чтецов у меня не было, и я не знала, выдержит ли публика сорок пять — пятьдесят минут слушанья стихов.
Вся надежда моя возлагалась на поэму. В нее
я верила больше, чем в себя. Я хотела, чтоб ее услышали, узнали, приняли.
Литературные и музыкальные вечера в те дни
посещались охотно, и надо отдать справедливость
их устроителям: программы составлялись ими интереснее, чем в нынешние дни. Жажда знаний казалась
ненасытной. Все чему-то учились, хотели что-то пе¬
203
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
ределывать, открывать новое. За стеклами окон всюду можно было видеть при свете солнца или коптилки группы людей, слушающих, записывающих, жадно
хватающих на лету то, что им преподносили многочисленные руководители.
И наш вечер, вечер Блока, как и следовало ожидать, собрал многочисленную аудиторию. Прошел он
с большим подъемом. Во время чтения поэмы «Двенадцать» в зале стояла та особая тишина, когда уже нет
барьеров между слушателями и исполнителями.
По окончании вечера А. О. подвел ко мне очень
высокого, худого, слегка сутулящегося человека с бледным нервным лицом и сказал: «Сигизмунд Доминико-
вич Кржижановский хочет поблагодарить вас».
Кржижановский молча пожал руку. Было еще
светло, когда закончился вечер. Время было переведено на два часа вперед, но после девяти часов вечера
запрещалось хождение по улицам.
К счастью, оказалось, что нам с Кржижановским
по дороге: я жила у Золотых ворот, он — на Львовской,
несколькими кварталами дальше.
Теперь, когда прожита долгая трудная жизнь,
можно, оглядываясь назад, выбрать из нее наиболее
значительные события, печальные и радостные.
Мне и тогда было очень хорошо, а сейчас кажется, что то был один из лучших дней в моей жизни. Я жила в дни великих ожиданий, небывалого общего подъема, я впервые перед аудиторией читала
Блока, притом гениальную его поэму, читала как настоящий художник, со мною рядом шел человек, о котором я уже не раз задумывалась, человек, которого
я еще не знала, но значительность которого и обаяние
я уже ощущала. И странно, несмотря на как будто отпугивающую замкнутость и отчужденность этого человека, хотелось ему довериться.
204
Анна Бовшек. Глазами друга
Кржижановский был довольно популярен в Киеве как лектор. Он часто выступал в театре, в консерватории с вступительным словом к музыкальным программам, говорили, что он блестящий оратор с большой эрудицией, мыслящий смело и оригинально. По
дороге я с некоторым стеснением расспрашивала его
о предстоящих выступлениях, он отвечал неохотно,
спросил меня о моих планах. Я тоже не распространялась, так как не знала, буду ли выступать в дальнейшем с концертами. В это время я преподавала практику сцены в студии бывшего Соловцовского театра*
и Театральной академии. Мое выступление в тот вечер
было случайным. Разговор оборвался. Некоторое время шли молча — и вдруг как-то случилось, что оба заговорили об одном и том же и тут же решили дать совместно ряд литературных вечеров. Выбор тем я предоставила Кржижановскому и пригласила его завтра
же зайти ко мне договориться подробно о работе. Исчезло стеснение, стало легко и говорить, и молчать.
Мой спутник отпускал меткие остроумные замечания
о людях и предметах, встречавшихся на пути, я от души смеялась. У ворот моего дома расстались как хорошие знакомые.
III
На следующий день ровно в двенадцать часов
Кржижановский сидел у меня в комнате за столом.
Онгвообще всегда был точен и аккуратен во времени,
в одежде, в работе. При дневном свете он показался
мне еще худей и бледней, чем накануне. Все мы жили
тогда в голоде и холоде, и похвалиться полнотой никто не мог, но его худоба и синеватая бледность лица
205
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
казались болезненными. Большинство выступлений
были бесплатными. Несколько позже, когда жизнь
стала налаживаться, за выступления стали платить натурой, то есть крупой, мармеладной пастой и другими продуктами. В таких случаях исполнители — члены бригады честно делили между собою «натуру». Но
пока приходилось очень трудно. К сожалению, в моем хозяйстве не оказалось ничего, кроме яблок, подаренных мне одной из моих учениц, только что вернувшейся из деревни. Яблоки были огромные, сочные,
красные. Мне кажется, что я в течение всей последующей жизни таких чудесных яблок не видала. У них
была своя история. Моя ученица возвращалась из деревни на тендере паровоза. Поезд в пути остановили
какие-то бандиты, пробовали отнять у нее яблоки, а ее
ссадить с поезда, но храбрая девушка под защитой кочегара выдержала нападение и привезла в Киев драгоценную ношу.
Кржижановский, получивший от меня яблоко,
впоследствии подсмеивался надо мной, утверждая,
что я действовала методом Евы. В то утро мы договорились о первой литературной программе: Саша Черный и Андрей Белый*. Этих поэтов я мало знала и потому попросила разрешения достать книги и познакомиться с ними. Кржижановский объяснил мне свой
замысел и основные положения доклада. Мне надо
было согласовать с ним отобранный материал. Поэты
были мне не очень близки, но я страстно хотела, чтобы вечер прошел удачно, как в конце концов и произошло. Очень важным событием для меня было укрепившееся в процессе работы над этой программой
знакомство с молодым композитором, с человеком
разносторонне образованным и замечательным организатором Анатолием Константиновичем Буцким. Он
вошел в наш вечер в качестве пианиста, так как Кржи-
206
Анна Бовшек. Глазами друга
жановскому казалось, что включенные в программу
«Сарказмы» Прокофьева помогут раскрыть тему.
Успех привел к тому, что был объявлен цикл литературных вечеров, получивший название «Сказка-
складка». А. К стал нашим неизменным участником
и даже предоставил для концертов зал в помещении Государственного музыкально-драматического института,
директором которого он к тому времени был назначен.
Первый вечер цикла мне был особенно дорог.
Это была сказка Адальберта Шамиссо «Чудесная
история Петера Шлемиля». В сказку я сразу влюбилась.
Меня волновал ее философский смысл, мастерское
развитие сюжета, трагическая биография автора. Исполнительская задача была трудной: я впервые читала прозу, читала наизусть два с половиной часа. Сигизмунд Доминикович в процессе работы помог мне разобраться в философском и политическом значении
сказки, в ее стилистических особенностях. На вечере
он великолепно рассказал о Шамиссо и его трагической судьбе, и хотя сюжет сказки был не связан, или,
вернее, лишь отдаленно связан, с революционной действительностью, аудитория реагировала бурно.
Впоследствии мы несколько раз повторяли сказку, а однажды в каком-то учреждении даже получили
за нее три миллиона. Чувствуя себя несказанными богачами, мы возвращались домой по тихим, пустынным улицам Киева, все трое держались за руки. На небе была полная луна. Набежавшая туча ее обволокла,
но один луч прорвался сквозь облачную ткань. Он падал как-то странно, прямо на нас и некоторое время
ше¥ за нами. Буцкий запрокинул голову и, глядя вверх,
сказал: «Как знать, может, это душа Адальберта Шамиссо». Нам хотелось поверить в эту чудесную нелепость,
ведь мы были так недавно в сказочной стране, и мы
радостно подхватили: «Ну да, конечно».
207
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Праздник закончился пиршеством. Буцкий указал на одно оконце в первом этаже на Рейтарской улице. Он знал, что тут продаются пирожные. Мы постучали, оконце отворилось, показалась голова старика,
обменявшего нам три миллиона на три «наполеона».
Эта была поистине чудовищная растрата.
Во время литературных концертов я обычно
слушала первое отделение, то есть вступительное слово Кржижановского, желая войти в настроение, глубже понять автора, которого предстояло исполнить.
Постепенно от раза к разу у меня составилось представление об особенностях Кржижановского как лектора, о методе подачи материала и приемах воздействия на аудиторию. Он всегда мыслил образами
и силлогизмы строил из образов. Дав ряд впечатляющих образных построений, он обрывал цепь их, предоставляя слушателям самим делать вывод. Тут надо
было торопиться следовать за ним, не упустить подсказываемый вывод. Возможно, что не все, о чем он
говорил, доходило до слушателей, но он их беспокоил
оригинальностью мыслей, образов, заставляя думать
и после того, как они покидали зал. Беседуя с аудиторией или читая лекцию, он не переходил с места на
место, жест его был скуп, но выразителен, особенно
выразительны кисти рук, белые, с тонкими длинными пальцами. Обладая великолепной памятью, он никогда не пользовался выписками, а цитировал целые
страницы наизусть. Повторять одну и ту же лекцию он
не мог, постоянно внося момент импровизации. Голос
низкий, слегка приглушенный, богатый обертонами,
казался насыщенным волевым посылом и увлекал слушателей неожиданностью интонаций.
Александр Яковлевич Таиров, слушавший его
много позже, не раз говорил, что по силе воздействия
на аудиторию Кржижановский напоминал ему Жореса*,
208
Анна Бовгиек. Глазами друга
хотя между этими двумя ораторами было мало общего. Думаю, что секрет воздействия Кржижановского на
аудиторию заключался в страстной сосредоточенности
его мысли, влюбленности в тему и, конечно, мастерстве.
IV
Знакомство с Анатолием Константиновичем,
постепенно переходившее в дружеские отношения,
дало мне возможность узнать некоторые подробности о жизни Кржижановского, вообще не любившего
говорить о себе.
Буцкий был прирожденным опекуном, он постоянно о чем-то хлопотал, о ком-то заботился. Медлительный в движениях и речи, он в то же время был
легок на подъем и поспевал всюду, где требовалось его
присутствие. Большие круглые глаза под роговыми
очками смотрели чуть насмешливо и, казалось, спрашивали: «Ну как? Все в порядке?»
С Сигизмундом Доминиковичем он был знаком
уже несколько лет. Высоко ценя его интеллектуальные
и нравственные качества, он в то же время относился
к нему несколько покровительственно и был озабочен
его материальным неустройством.
— Человек без профессии. Вы понимаете, у него
нет профессии, — повторял он мне.
Профессия у Кржижановского была, но он
с ней расстался. По окончании гимназии он поступил
в университет на юридический факультет, одновременно прошел и весь курс филологического факультета. Был назначен помощником присяжного поверенного при Киевском окружном суде. По поручению
своего патрона защитил несколько мелких дел, вло-
209
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
жив в них свою обычную страстность и проявив недюжинные способности. Волной революции смыло
весь старый государственный строй, а с ним и законы. Кржижановский легко расстался со своей профессией, так как все силы и внимание в то время уже отдавал литературе и писательскому опыту. В результате двух летних образовательных поездок за границу,
побывав в Швейцарии, Франции, Италии и Германии*,
он написал два путевых очерка об Италии, напечатанных в «Киевской мысли». В юношеском журнале «Рыцарь» появилось стихотворение «Бригантина» и, наконец, в первом номере журнала «Зори» за 1919 год уже
вполне зрелый рассказ «Якоби и „Якобы“».
О Сигизмунде Доминиковиче Буцкий говорил
всегда охотно. От него я узнала, что Кржижановский
киевлянин, родился и воспитывался в польской католической семье. Его отец, Доминик Александрович, прослужив недолго на военной службе и выйдя
в отставку, поступил бухгалтером на сахарный рафинадный завод, где проработал тридцать пять лет. По
оставлении службы он получил полагавшуюся ему небольшую сумму денег, которую употребил на покупку дома на Демиевке*. В этом доме и проживала семья
Кржижановских. Мать, умная, добрая женщина, всецело преданная семье, была хорошей музыкантшей. Она
любила играть, знала все сонаты Бетховена, часто исполняла Шуберта, Шумана, Шопена. Должно быть, ей
Кржижановский был обязан музыкальностью. В юношеские годы у него обнаружился хороший голос —
баритональный бас. Некоторое время он брал уроки
у известной в Киеве преподавательницы Кружилиной,
занимавшейся с ним бесплатно и даже подумывавшей
об оперной карьере для своего ученика.
Кржижановский был младшим ребенком в семье и единственным сыном. К матери он относил¬
210
Анна Бовшек. Глазами друга
ся с величайшей осторожностью, нежностью и впоследствии, когда мы стали ближе друг другу, рассказывая о ней, часто с живостью повторял: «Фабиана...
не правда ли, какое красивое имя Фабиана Станиславовна?»
Из четырех сестер старшая, Станислава, уже в то
время была известной актрисой, выступавшей под фамилией Кадмина на ролях героинь в крупных провинциальных городах. Впоследствии, в советские дни,
она получила звание заслуженной артистки и была
награждена орденом Ленина*.
Средняя — Елена, красивая, очень женственная,
болезненно хрупкая, — несмотря на разницу в летах,
дружила с братом. С ней одной в семье ему было хорошо, и ей одной он поверял свои юношеские планы
и мечты. Она была замужем за полковым командиром,
уехала сестрой милосердия на фронт в ту часть, в которой он сражался. Муж был убит. Потеря любимого
человека и трудные условия жизни привели к тому,
что притушенный было туберкулез снова вспыхнул
и она вскоре умерла. Две другие сестры — Юлия и Софья — жили своими семьями, были очень далеки от
брата, не искали с ним встреч и совершенно его не понимали. Брат отвечал им взаимностью, то есть равнодушием. «Кровное родство, — говорил он, — это еще не
родство. Надо выдержать экзамен на родственника».
Как это часто бывает в жизни, одна беда приводит за собой другую и одна смерть открывает дорогу
другим смертям. За последние три-четыре года Кржижановский потерял отца, мать, сестру и дядю — брата отца, Павла Александровича. Смерть последнего
была для него большой моральной утратой. Дядя видел в молодом человеке нечто отличавшее его от других юношей, ценил его ум, разносторонние способности. У Павла Александровича была небольшая усадьба
211
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
под Киевом с прекрасным садом, в котором он разводил редкие сорта роз. Он вообще был опытным садо-
водом-любителем, выписывал книги, вел переписку
с другими садоводами, давал консультации. В семье
Кржижановских его любили и приезды его встречали с радостью: дядя вносил в дом живую струю. Мать,
всегда чем-то опечаленная, не получившая удовлетворения в замужестве, в его присутствии оживлялась,
молодела, смеялась.
Усадьбу и какую-то сумму денег дядя завещал
племяннику, но от его щедрот остались лишь старый деревянный письменный стол, попавший в печку и давший иззябшим людям немного тепла, да чесучовый пиджак. В весенние и летние дни этот пиджак
бессменно служил Кржижановскому. Должно быть, дядя был довольно полным, так как пиджак висел на племяннике, как на вешалке, подчеркивая его худобу.
V
Несмотря на трудные условия, холод и голод,
культурная жизнь в городе крепла, развивалась, принимая широкий размах. Уже Марджанов показал
в драматическом театре замечательную постановку
Лопе де Веги «Овечий источник»*. Уже прошли вечера
древней литературы, средних веков, Возрождения, немецких романтиков; прозвучали Шекспир и Шиллер,
отмечены юбилеи Франциска Ассизского и Данте*.
Наши концертные выступления принимались
рабочей, красноармейской и интеллигентской аудиторией с все возраставшим интересом и успехом.
В них участвовали такие мастера, как Генрих Густавович Нейгауз*, обычно с блеском исполнявший «Поло¬
212
Анна Бовшек. Глазами друга
вецкие пляски» Бородина, певица Караулова*, чудесная исполнительница партии Шамаханской царицы из «Золотого петушка», певцы из оперного театра
и другие. Мне всегда боязно было смотреть на иззябшие руки молодого Нейгауза. Он играл в перчатках
с отрезанными пальцами. До выхода на сцену все сидели в зимних пальто, шапках, ботах и валенках, но
выступали перед публикой в строгих парадных платьях, стараясь придать концерту праздничный, торжественный характер.
В театральных школах молодежь бурлила, мечтая и споря о новом театре, новых пьесах и постановках. Приходилось менять привычный театральный
школьный репертуар. Психологические драмы, тонкие переживания никого не интересовали. Захватывали пьесы с революционным содержанием, яркие комедии с острыми ситуациями. Система Станиславского номинально еще существовала, но утратила свою
сущность. Оставался этюдный метод, но характер
этюдов, их содержание и исполнение были иными.
Я с удовольствием вспоминаю свою постановку
фарса «Адвокат Патлен»*. В работе мне помогала одна
из моих учениц, Вера Строева*, тогда уже обнаружившая режиссерские способности и смелую выдумку.
Небольшого роста, с огромными быстрыми глазами,
очень легкая в движении, она поспевала всюду, где намечалось что-нибудь интересное, зажигая товарищей
рассказами о последних новостях в художественной
жизни города.
Кржижановский преподавал в Государственном
музыкально-драматическом институте имени Лысенко и в еврейской студии. У молодежи он пользовался
популярностью и любовью. Его лекции посещали не
только студенты, но и заинтересованные слушатели
со стороны.
213
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Однажды в еврейской студии была получена
партия кем-то пожертвованной одежды и обуви. Си-
гизмунду Доминиковичу предложили подать соответствующее заявление. Он написал: «За лекцию о Глинке
прошу ботинки, за подход с литературной стороны —
штаны». Перед отъездом в Москву ему удалось получить в студии еще и демисезонное пальто, очень поношенное, неопределенного цвета, но зато по росту.
VI
Несмотря на то, что политическую жизнь города лихорадило, наробраз не снижал активности. Но
задания его часто носили неожиданный, аварийный
характер, что, конечно, сказывалось на качестве выполнения их.
Участие в одном таком задании стоило мне напряжения, о котором я и сейчас вспоминаю не без
волнения. Мне предложили выступить в бывшем Со-
ловцовском театре в большом концерте с чтением революционного стихотворения поэта Казина*. Вручили мне стихи за день до концерта. Об отказе не могло быть и речи: моя фамилия стояла на афишах,
писанных от руки и расклеенных по всему Крещати-
ку. А между тем я привыкла подготовлять исполнение
произведения загодя, хотя бы за два дня, и потому не
доверяла своей памяти, не говоря уже о беспокойстве
за качество работы. Наступил вечер...
Я на сцене перед переполненным залом, произношу с трепетом первую строчку: «Я медный вопль
тревоги...», за ней вторую, третью и вдруг теряю рифму, за исчезнувшей рифмой исчезает весь текст. Меня охватывает ужас, хочется самой исчезнуть, прова¬
214
Анна Бовшек. Глазами друга
литься сквозь пол. Кровь приливает к корням волос.
Не знаю, что делать. Уйти? Продолжать? Но что говорить? И тут меня осенило, какая-то сила подхватила, я начала импровизировать — очень нескладно, но
с какой-то непостижимой силой, убедительностью,
какой в себе до сих пор не подозревала. Помню, что
часто повторяла строчку: «Я медный вопль набата...
Бам... бам, бам». Вероятно, это длилось несколько секунд. В сознании с удивительной ясностью возникла
третья строка, а за нею и весь текст. Я начала все снова. Охватившее меня волнение придало исполнению
яркую выразительность и силу. По окончании зал бушевал от аплодисментов, криков, требований повторить. А я, добравшись до кулис, почувствовала, что
ноги меня не держат и что меня подхватили чьи-то
услужливые руки. Придя в себя, я с трудом добралась
домой и тут же, не раздеваясь, повалилась в постель
и крепко заснула. На другой день встретивший меня
Дейч спрашивал: «Говорят, вы вчера потрясающе читали. Что такое вы читали?» Пришлось открыть правду о причине успеха.
Очень напряженная работа с постоянно меняющимся репертуаром привела к тому, что я совсем потеряла сон. Меня устроили в первый открывшийся к тому времени дом отдыха в Киево-Печерской лавре. Так
же, как и я, в Лавре жил известный литературовед —
специалист по Достоевскому профессор Чиж с женой*. Жена жаловалась на отсутствие удобства в Лавре, плохое питание и все увеличивающееся нервное
расстройство мужа. Через три дня они уехали. Я осталась одна на весь дом в предоставленной мне огромной комнате со сводчатым потолком и стенами такой
толщины, что в оконном проеме могла поместиться
двуспальная кровать. Из Лавры выехали и высшие духовные чины, и администрация: осталось несколько
215
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
не знавших куда себя определить монахов. Они обычно показывали редким посетителям пещеры, усердно
посещали службы в церкви и выполняли задания по
хозяйству.
Навсегда запомнился мне один монах. В черной
длинной рясе, с огромной черной гривой волос, с черными пылающими глазами, он клал поклоны с неистовой дикостью, как будто и впрямь был одержим
злым духом и тщетно пытался изгнать его из себя. Он
падал на пол так, как пловцы бросаются в воду, — широко распластывая руки, бился головой о каменные,
плиты пола, затем с таким же неистовством вскакивал
и снова падал.
С пещерами я познакомилась впервые. Они
произвели на меня тяжелое, горько-обидное впечатление. Страшно было за силу человеческого духа, отданную религиозному безумию и изуверству. Какая
жестокая нелепость. На земле все сияло радостью.
В широких кронах деревьев шумела зеленая листва.
Днепр спокойно катил свои синие воды, воздух звенел от птичьего гомона, а человек уходил под землю
в вечный мрак и глухое молчание. И делал это во славу Бога.
Хотя Лавра расположена довольно далеко от
города, меня навещали, иногда приносили кое-что
из еды.
Приходили и Буцкий с Кржижановским. Я как-
то пожаловалась им на то, что в первые два-три дня
я с непривычки всю ночь просыпалась от звона чудесных мелодичных курантов Лавры: они отзванивали каждые четверть часа. Кржижановский написал об
этих курантах стихотворение «Восемь звонов восходящих, восемь звонов нисходящих». Буцкий положил
его на музыку. Это было единственное стихотворение,
услышанное мною в те киевские годы. Говорили, что
216
Анна Бовшек. Глазами друга
Кржижановский пишет стихи, но никому не показывает и не любит говорить о них.
Только после смерти Сигизмунда Доминикови-
ча, разбирая его архив, я нашла две тетради его юношеских стихов*. Очевидно, это была проба пера, тщательная подготовка к предстоящей литературной работе. Впоследствии С. Д. пользовался стихотворной
формой только при переводе зарубежных поэтов
и для своих оперных либретто: «Поп и поручик», «Суворов», «Фрегат „Победа“»*. В стихах ранних лет чувствуется влияние таких поэтов, как Александр Блок
и Саша Черный. Вполне оригинален и интересен небольшой, из восьми стихотворений, цикл «Философы»*. Каждому философу отведено особое стихотворение, в котором автор пробует перевести на язык образов сущность системы данного философа.
И влияние таких разных поэтов, как Блок и Саша Черный, и цикл «Философы» очень показательны
для понимания творческих путей Кржижановского,
для понимания пережитого им кризиса в процессе
самоопределения и окончательного выбора профессии. Цикл «Философы» явился мостом, переброшенным от абстрактного мышления к образному, от философии как науки к искусству, к художественной литературе.
В Киеве С. Д. знали как интересного лектора,
преподавателя, широко и разносторонне образованного человека, но, по словам Буцкого, человека без
профессии. Между тем именно эти последние годы
его жизни в Киеве были началом литературной жизни. Именно в эти дни в Киеве рождались и созревали
его маленькие философские новеллы, которые три года спустя он объединит в сборник «Сказки для вундеркиндов»*.
217
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
VII
Когда проходишь в жизни полосу, насыщенную большими событиями и яркими впечатлениями,
нет времени и желания задерживаться на анализе их.
То же бывает и при встрече с исключительными людьми. Кржижановский был таким исключительным явлением, и не хотелось задумываться над разгадкой его
личности. Все же совместная работа над литературными программами, частые встречи, мирные беседы
и споры понемногу открывали некоторые черты его
характера. Привлекало необычайное благородство натуры, скрытая, сдержанная страстность, чувство собственного достоинства в соединении с исключительной скромностью. Благородство сказывалось и в высоком строе мыслей, и в тонком понимании искусства,
и в отношении к окружающим. Наделенный от природы острым, цепким, критическим умом, хорошо эрудированный, он в общении с людьми, в беседах и спорах
никогда не высказывал своего превосходства, боясь
обидеть, унизить собеседника; всегда терпеливо, с уважением относился к чужому мнению, к чужим мыслям.
В то же время он не допускал и малейшего проявления насилия в отношении себя и других, в чем бы
это насилие ни выражалось — в области мысли или быта. Так же нетерпим он был к лжи и несправедливости.
Лицо его, сохраняя наружное спокойствие, мгновенно
бледнело, глаза и губы вспыхивали острым, уничтожающим огнем. У него были тонкие нервные губы, чувствительные к смене настроений и всех оттенков душевных движений, — настоящий барометр души.
Обычная доверчивая, внимательная улыбка вдруг
исчезала, острые зрачки глаз и губы вспыхивали, выдавая иронию, горечь, насмешку, боль обиды и нена¬
218
Анна Бовшек. Глазами друга
висть возмущения. И плохо приходилось тому, кто вызывал это возмущение. У Кржижановского был хорошо подвешен язык, и он не боялся говорить правду
кому бы то ни было. Удары его были сокрушительны
и неотразимы.
Разбирая архив, я среди заметок, афоризмов,
планов, зарисовок нашла небольшой бумажный лоскут с такой автохарактеристикой:
Я сдержан, но чувствителен к обиде;
Я скромен, но себе я знаю вес,
Я переменчив, но и semper idem*,
Я терпелив, но терпелив в обрез.
Должно быть, у меня на то похоже:
Под внешней кожей — две-три скрытых кожи.
Вероятно, эти строки появились много позже*.
Жизнь ломала человека, вела по извилистым путям,
требуя действий, поступков, меняя характер, сообщая
ему сложность и противоречивость, но некоторые из
отмеченных черт проступали уже в те годы. Тревожила уже тогда чувствительность к обиде, граничившая с мнительностью. Вспоминается такой случай.
Мы шли теплым весенним вечером по Николаевской
улице. Нам достали билеты на симфонический вечер:
в помещении бывшего театра оперетты на Мерингов-
ской исполнялась симфоническая поэма Чайковского «Франческа да Римини»*. Мы шли и спорили о том,
на котором слоге в словах итальянского языка стоит
преимущественно ударение. Я утверждала, что на третьем с конца и надо произносить да Рймини, а не да
Римини. С. Д. не соглашался; тут я вспомнила, что почти все названия дней недели звучат именно так, как
я говорила: lunedi; märtedi; mercolodi; giovedi; vdnerdi;
sabato; domenica*.
219
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Заговорили о недавно состоявшемся вечере, посвященном Данте. Кржижановский делал вступительное слово, Нейгауз играл Листа «Apres la lecture de Dante»*, я читала третью песнь из «Божественной комедии», историю Паоло и Франчески. Вечер удался,
и было приятно вспоминать о нем. Впереди нас шли
два молодых человека. Они оживленно о чем-то спорили, широко размахивая руками. Один из них посреди фразы внезапно обернулся, скользнув по нас взглядом. Кржижановский, вспыхнув, остановил его требованием: «Повторите, что вы сказали. Нет, повторите,
что вы только что сказали». Я стояла в стороне и не
слышала объяснений молодого человека, но, должно быть, они были настолько невинны и искренни,
что все трое рассмеялись. Кржижановский извинился,
все пошли своим путем. Я так и не узнала, о чем шла
речь. Некоторое время С. Д. шел молча, смущенный
своей вспышкой. Но то был хороший вечер, и все было для нас и за нас. У ворот стояла женщина с огромной охапкой только что срезанных веток белой сирени. С. Д. купил у нее чудесную пахучую ветвь с большими тяжелыми гроздьями, вручил мне. Сирень была
махровая, в каждом цветке было больше лепестков.
Не надо было искать счастья: оно смотрело из каждого
цветка. Я объяснила С. Д., как ищут счастье. Он улыбнулся.
— Что же, это хорошее предзнаменование, —
сказал он уже совсем весело.
Когда мы вошли в театр, зал был уже заполнен.
В большинстве это были красноармейцы. Во время
исполнения симфонии они сидели тихо, с серьезными важными лицами, выходили из театра осторожно, чуть не на цыпочках, точно уносили в себе что-то,
что боязно было растерять. Я наблюдала их и думала:
неужели это те самые красноармейцы, что ободрали
220
Анна Бовшек. Глазами друга
и унесли всю бархатную обшивку в театре, что делали самокрутки, разрывая на части листы бесценных
книг? Что это, культурный сдвиг или в душе каждого
человека лежит чувство красоты, жажда светлого, чистого?
VIII
Двадцать первый год шел к концу. Гражданская
война утихала. Уже никто не сомневался в том, что постоянные хозяева города — большевики и что за ними будущее всей страны. Редкие набеги банд, так же
быстро исчезавших, как и налетавших, все же мешали городу справиться с разрухой. Дома по-прежнему
не отапливались, единственное тепло зимой шло от
маленьких железных печурок буржуек, полки в магазинах пустовали в ожидании товаров, и население несло свои пожитки, остатки белья, предметы домашнего скарба на Бессарабку* в надежде продать или обменять на продукты. На этом красочном и жестоком
рынке по-прежнему величественно восседали на возах с сеном полногрудые, краснощекие «жинки» в цветастых платках. Они с наигранной небрежностью
осматривали, щупали руками товар и, глядя куда-то
в сторону, назначали цену или, отводя рукой предлагаемый предмет, так же величественно произносили:
«Не треба».
Но жизнь шла своим чередом, постепенно стабилизируясь. Стали выдавать на паек муку, восстанавливался транспорт, налаживалась связь с Москвою.
Редкие приезжие из Москвы рассказывали о новых достижениях революции, новых течениях в театре, в искусстве, в театральной жизни, волнуя, будя и укрепляя
221
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
мечты о возвращении в столицу. Буцкий и Сладкопевцев решили ехать в Ленинград. Я наметила отъезд
в Москву, приурочила его к первому весеннему месяцу — марту. С Сигизмундом Доминиковичем расставались ненадолго. В конце марта собиралась ехать в Москву еврейская студия всем своим составом*, с преподавателями и студентами. Они обязались доставить
в Москву и Кржижановского.
Друзья помогли мне получить билет в пассажирском поезде. По тому времени это было очень трудно.
Со мной был небольшой чемодан с вещами, книгами
и мешок муки — мой паек за два месяца.
Расставаться с местом, где прожита часть жизни, исполненная тревог, волнений, радости, творческих исканий, где оставались друзья, оставался прекрасный город с его тополями и каштанами, великолепным Днепром, Владимирской горкой, — было
грустно. Ехать в Москву после пятилетнего отсутствия
в ней было боязно. Кто оставался там из друзей? Все
ли они живы? Как встретили они революцию? Но сила сильнее горести разлуки и страха перед возможными бедами толкала вперед. Вместе с опасениями поднималось и захлестывало чувство радостного любопытства, веры в возможность лучшей жизни для всех,
а значит, и для меня.
В пассажирском вагоне ехала я только до станции Бровары — совсем недалеко от Киева. Туг пассажирам сказали, что в нашем вагоне загорелась ось, велели всем выйти и дожидаться товарного поезда, который нас должен подобрать. Проэвдав на морозе шесть
часов, мы, наконец, погрузились в теплушку и через
двое суток, промерзшие, голодные, усталые от бессонницы, въехали в Москву.
222
Анна Бовшек. Глазами друга
Москва
I
В Москве я остановилась у известной киноактрисы и моего друга Ольги Ивановны Преображенской*. Мы вместе служили в одной драматической
труппе, сблизились и с тех пор не теряли друг друга
из виду. Она была старше меня, опытней и часто давала советы полезные и в работе, и в театральном быту. Ольга Ивановна и муж ее Владимир Ростиславович
Гардин* приняли меня тепло. Они жили на Раушской
набережной в том доме, где сейчас гостиница «Бухарест». Работали в совсем еще молодом, но уже много
обещавшем советском кино.
Поначалу Москва произвела на меня не то впечатление, какого я ждала. Она и радовала, и в то же
время вызывала недоуменную растерянность. И не
потому, что после тихого Киева ошеломляла шумным
разнообразием жизни, пестротой множества начинаний, многолюдством уличного движения, магазинами
с долгожданными товарами. Вероятно, пугало отсутствие привычной стабильности, неустойчивость нового быта, только искавшего и не всегда находившего
для себя нужную форму.
В конце марта приехал в Москву с еврейской
студией и Кржижановский. Надо было начинать битву за жизнь, отвоевывать свое право на место под московским небом.
При отъезде из Киева друзья Сигизмунда Доми-
никовича снабдили его несколькими письмами к москвичам. Визит к Бердяеву с первым письмом оказался неудачным. Из беседы выяснилось, что и фило¬
223
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
софские, и политические позиции Н. Бердяева так же
шатки, как и самое его пребывание в Москве*. Второе
письмо, к профессору Авинову*, открыло Сигизмун-
ду Доминиковичу двери дома этой семьи, но что-то
и тут удержало его от закрепления знакомства. Он решил не повторять бесполезных хождений. Оставшееся, третье, неиспользованное письмо надолго застряло в боковом кармане его пиджака.
Однажды, когда он сидел в малой аудитории
университета, слушая доклад профессора Иванцова*,
пустили по кругу лист, на котором присутствовавшие
должны были поставить свои фамилии. Расписавшись, он передал лист сидевшей влево от него женщине в скромном темном костюме с серьезным, строгим
лицом. Она подписалась: Северцова. Именно к ней
и было адресовано третье письмо. Людмила Борисовна тут же прочла письмо, познакомила С. Д. с мужем
Алексеем Николаевичем и предложила пройти после
лекции к ним на чашку чая. Дом Северцовых и в жизни С. Д., и в моей сыграл очень значительную роль.
Здесь, в этом доме, мы встречали таких замечательных ученых, как Вернадский*, Зелинский*, Ферсман*, Ольденбург* и других. Здесь мы впервые слушали доклад о расщеплении атома, знакомились с новыми научными сообщениями.
Алексей Николаевич, большой, грузный, похожий на сказочного медведя, неизменно любезный
и приветливый, как большинство профессоров, смотрел на искусство несколько свысока: «Что ж, милое,
приятное занятие, но можно жить и без него». Нас это
не смущало и не огорчало: он был настоящим большим ученым, можно почудить и покапризничать. Это
было тем более простительно, что он все же любил литературу, любил слушать сказки, фантастические истории, всегда просил меня что-нибудь почитать, толь-
224
Анна Бовгиек. Глазами друга
ко не очень жалостное, да и сам грешил: в свободные
часы рисовал. Из-под его пера выходили болотные
черти, лешие, какие-то чудовища: звери не звери, люди не люди, речные омуты, причудливые деревья. Рисунки он дарил даже не на память, а просто так, не
зная куда девать. С окружающими был прост, обходителен, но, сохраняя некоторую важность, часто любил
повторять: «Мы, воронежские дворяне...» Дальше следовал какой-нибудь непередаваемый, с хорошим чувством юмора, рассказ из собственной жизни или богатой приключениями жизни его замечательного отца.
В студенческие годы Людмила Борисовна была
его ученицей, вышла за него замуж после смерти его
первой жены. Научной работы не оставляла. Некоторые из ее трудов по бактериологии были переведены
за рубежом и получили там признание. Она была его
секретарем, сопровождала всюду в командировках по
Советскому Союзу и за рубежом, переводила его труды на иностранные языки, после его смерти написала его биографию для серии «Жизнь замечательных
людей».
По годам она была много моложе A. H., подходила к нашему возрасту и искала сближения с нами.
«Добрый, простой, милый человек», — говорил
о ней С. Д. Д ля него она сразу же нашла комнату. Было
введено положение о десятипроцентной норме. Каждый дом должен был сдать в свой Райжилотдел десять
процентов жилой площади. О получении ордера нечего было и мечтать. Предлагаемая ею комната была
без мебели, маленькая, в шесть метров, числилась за
графом Коновницыным и не состояла на учете. Г]раф
не просил за нее денег, но предлагал брать у него платные уроки английского языка. Условия оказались приемлемыми, и Кржижановский, недолго думая, перетащил свои вещи по адресу: Арбат, 44, квартира 5. Уроки
225
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
продолжались недолго; граф был стар, вскоре заболел
и умер; графиня переехала на другую квартиру.
По приезде нового жильца комната стала приобретать жилой вид. Появились деревянная койка с волосяным матрацем, простой некрашеный стол с двумя ящиками, перед ним кресло с жестким сиденьем, на
противоположной стене полки с книгами. Самодельная скатерть и одеяло из кустарной материи покрыли стол и постель. Несколько фотографий по стенам
и две акварели с подписью: «М. Волошин»* дополняли
более чем скромное убранство комнаты. В таком виде она сохранилась до самых последних дней жизни
Кржижановского.
По инициативе Людмилы Борисовны и благодаря ее связям администрация ЦЕКУБУ (Дома ученых) предложила С. Д. провести совместно со мной
цикл литературных вечеров. В этот цикл вошли киевские программы и вновь подготовленные. Выступления имели значительный успех и расширили круг наших знакомств.
II
Живую радостную струю в жизнь первого московского года внесло знакомство и работа с театральной молодежью, объединившейся вокруг Григория Львовича Рошаля*. Это знакомство состоялось
благодаря стараниям уже полюбившейся нам по Киеву и приехавшей почти одновременно с нами Ве^
ры Строевой. Свойственное ей стремление быть там,
где намечается что-нибудь интересное, и острое «чувство нового» привели ее в группу Рошаля. Репетировали какую-то комедию Мольера, предполагали создать
226
Анна Бовшек. Глазами друга
свой театр. Сигизмунд Доминикович читал ребятам
лекции, беседовал о Мольере, его эпохе, комедии —
словом, обо всем, что требовалось знать в процессе
работы. Метод у Рошаля был свой, особый, отличный
и от системы Станиславского, и от системы, широко
применявшейся в те дни в молодежных студиях и известной под названием «биомеханика»*.
Театр не удалось создать, но большая часть из
ребят рошалевской группы впоследствии заняла командные посты в качестве режиссеров и ведущих актеров. В группе занимались: Окунчиков, Колесаев, Са-
жин* и др. Сам Рошаль и Вера Строева, увлекшись блестящими перспективами молодого советского кино,
отдали ему все силы юности и опыт зрелости. Ряд постановок этих крупных мастеров вошел в золотой
фонд кинематографического искусства.
Вере Строевой, ее умению находить интересных
людей мы обязаны были и знакомством с Яхонтовым.
III
Кржижановский был страстным путешественником. В пути он оживлялся, шагал уверенно, бодро, высоко откинув голову и глядя куда-то вдаль. Перед отъездом в незнакомую страну он тщательно изучал географию, историю этой страны, ее городов,
исторические места, памятники, а если путь лежал за
пределами родины, то и язык народа. Перед приездом
в Москву он не проделал нужной подготовки и решил
брать город немедленно: приступом, с бою. Времени
у него было достаточно, и он, не щадя подошв своих
единственных и без того обветшалых ботинок, шагал
по Москве, проделывая по пятнадцать-двадцать кило¬
227
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
метров из конца в конец. Москва ему нравилась, нравился и процесс ее освоения. Он с радостным увлечением рассказывал о ее достопримечательностях и курьезах.
Возникла мысль дать несколько очерков. Газета
по его просьбе прикомандировала к нему фотографа.
В результате появились «2000» (улиц), «Московские вывески», «Уличные фотографы»*, а несколько позже большая статья с философским обобщением наблюдений
«Штемпель: Москва». Напечатанная в журнале «Россия»,
она принесла автору не только солидный гонорар, но
и хорошее знакомство с редактором Лежневым.
Обилие московских впечатлений не отвлекало
Кржижановского от литературной работы. Он пишет
рассказы «Собиратель щелей», «Чудак», «Автобиография трупа», пополняет сборник «Сказки для вундеркиндов» маленькими новеллами*.
Это было время больших планов, больших ожиданий, веры в свои силы и упорного, упрямого труда.
Он вообще был трудолюбив, хотя и считал себя отъявленным лентяем; позднее в письмах постоянно жаловался на неспособность работать, длительные паузы,
перерывы, даже отвращение к работе.
Творческий процесс каждого художника имеет
свои особенности, можно воспитывать в себе те или
иные способности, но нельзя насиловать самый процесс.
С. Д. мог легко с разгону написать в два-три дня
шесть печатных листов, а потом неделями страдать от
невозможности выжать из себя хотя бы одну строчку.
А между тем именно в эти изводившие его так назын
ваемые «творческие пустоты» он не переставал вынашивать в себе замыслы, не отдыхая ни минуты. Голова
его работала и тогда, когда он, лежа на диване, смотрел широко раскрытыми глазами куда-то вдаль, и тог¬
228
Анна Бовшек. Глазами друга
да, когда шагал по московским улицам, и когда тихим
вечером, сосредоточенный, ушедший в себя, сидел на
скамье какого-нибудь бульвара.
Сюжет ложился на бумагу только после того,
как был продуман, выстрадан, определена система образов, найдена композиция, отысканы нужные слова, отточены фразы. Вначале он писал от руки, но постепенно выработалась привычка к диктанту*; ему необходимо было мыслить вслух, воспринимать текст
в звучащем слове. Сам он не только не владел машинкою, но даже никогда не думал о приобретении ее для
личного пользования.
Его нередко приглашали читать свои рассказы,
и он читал много, часто, всюду, где только проявлялся
интерес к нему. Одно время было даже модно «приглашать на Кржижановского».
Завязывались знакомства, устанавливались дружеские связи.
IV
Как-то мой большой друг режиссер Камерного театра Леонид Львович Лукьянов попросил у меня
для прочтения «Сказки для вундеркиндов». Спустя несколько дней при встрече он сказал: «Знаете, эти маленькие новеллы Кржижановского хороши, даже замечательны. Из него выйдет большой писатель. Я не
удержался, рассказал содержание некоторых сказок
Таирову: Александр Яковлевич загорелся желанием
познакомиться с автором. Нельзя ли это устроить?»
Первые же встречи Кржижановского с Таировым надолго определили их взаимоотношения, сначала внимательные, затем теплые, дружественные.
229
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Таиров был известным режиссером, создателем
своего собственного театра — Кржижановский неизвестным начинающим писателем, но что-то влекло
этих разных людей друг к другу. Таирову нравилось
своеобразие дарования Кржижановского, упрямство
в достижении намеченных целей, стойкость под ударами бесчисленных невезений, или, как он шутя их
называл, «невезятин». С своей стороны, Кржижановский уважал Александра Яковлевича не только как режиссера с большим вкусом и фантазией, но и как художника принципиального, всегда отстаивавшего
свои позиции, сохранившего за своим театром название Камерного, несмотря на все невыгоды такого названия и «советы свыше».
Постановка трагедии Расина «Федра» с Коонен
в главной роли* была в те дни высшим достижением
в театральном искусстве. До сих пор не могу забыть
первого выхода Федры. Высокая, прямая, в длинном
греческом хитоне, спадающем мягкими складками,
Коонен шла очень медленно, как если бы каждое движение стоило ей нечеловеческих усилий. И вместе
с нею выходил на сцену самый дух трагедии.
Как большой художник, Таиров не мог не чувствовать дыхания революции, не мог не восторгаться
героикой современности, гуманностью выходивших
декретов, размахом планов строительства, но драматургия тех дней его не удовлетворяла. Он был бесконечно счастлив, когда ему удалось получить для своего театра первую подлинно художественную пьесу,
отразившую пафос революции: «Оптимистическую
трагедию» Вишневского. И он первый ее поставил^
и поставил с присущим ему мастерством. Положение
его было трагическим: понимая и принимая революцию и современность, он так и не сумел отразить эпоху в своем творчестве. Репертуар театра, высокохудо¬
230
Анна Бовшек. Глазами друга
жественный, оригинальный, не отвечал требованиям
актуальности, и спектакли у широкой публики не имели успеха.
В первую же встречу Александр Яковлевич предложил Кржижановскому прочесть курс лекций по истории искусства в недавно открывшейся школе — так
называемых Государственных экспериментальных
мастерских. Позднее курс истории искусств был заменен курсом русской литературы. Занятия со студентами шли все годы вплоть до закрытия театра.
Внимание Таирова к Сигизмунду Доминиковичу
росло, с годами переходя в трогательную, почти нежную заботливость о нем.
Когда однажды Кржижановский попал в трудное положение, Таиров заволновался: «Кто ваш главный враг? Скажите. У меня все-таки есть связи... может...» — «Нет, Александр Яковлевич, не может, и ничто
не поможет. Мой главный враг — я сам. Я тот пустынник, который сам для себя медведь».
V
1924 год. Январь месяц принес стране весть
о горестной утрате: скончался Владимир Ильич Ленин. После незабываемых — трагических в своем величии — дней и ночей прощания жизнь, казалось, потекла своим порядком. На поверхности все шло, как
шло, но в сознании людей появилась едва ощутимая
трещина.
Москва по-прежнему шумела, суетилась, куда-
то неслась... Иногда она представлялась мне огромной веселой каруселью, наподобие той, которую я видела в детстве, когда отец водил нас, детей, в праздник
231
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
на «Куликово поле». С круглого потолка карусели свисают фестоны ярко-красного бархата с золотой бахромой и кистями, к дощатому полю прикреплены по
кругу лодки и качающиеся лошади. Заплатив пятачок,
можно выбрать любое место, но, конечно, на лошади
куда интересней. Все места заняты. Хозяин дает знак,
его подхватывает веселая музыка. Карусель начинает
двигаться, сначала медленно-медленно, потом все быстрей. Лошадь раскачивается в такт музыке, голова откидывается назад, и ты уже несешься вскачь по широкой, вольной степи навстречу ветру... Еще три-четыре
оборота, музыка играет тише, движения замедляются,
и ты снова у того места, где поднялась на круг.
Я не сомневалась в том, что мое ощущение жизни как заманчивой и обманчивой карусели неправильно: история не стоит на месте, не прекращаются
ни на минуту глубинные процессы, имеющие свою закономерность, но эти процессы становятся понятными лишь по выходе на поверхность, а пока живешь
тем, что видишь вокруг. Знание есть знание, а ощущение есть ощущение.
Кржижановский продолжал заниматься со студентами, писать новые рассказы, читать их, но моральное самочувствие его снизилось, дела в издательствах не налаживались, пройти в печать было делом
сверхтрудным.
Литературная жизнь напоминала игру в чехарду. Никогда еще литература не знала такого количества течений, направлений, из которых каждое выбрасывало свою программу и защищало право на
приоритет. Одерживали верх пролетарские поэты,
объединившиеся в РАПП*. Подлинная молодая советская литература пробивала свои ростки сквозь толщу всяческих препятствий. Дореволюционные издательства и объединения закрывались одно за другим.
232
Анна Бовшек. Глазами друга
Кржижановский отдал свои «Сказки для вундеркиндов» в издательство «Денница», но оно вскоре закрылось. Лежнев взял у него для журнала «Россия» «Автобиографию трупа»*, но печатание переносилось из
месяца в месяц, пока сам журнал не вынужден был наполовину сократить свой объем. Лежнев ушел, а с новым редактором не налаживался контакт.
Наши материальные дела были на грани краха.
Не имея летом заработка, я уехала в Одессу в надежде
пережить трудные дни в семье со своими близкими.
Уезжая, я не очень-то верила словам С. Д., уверявшего
меня в том, что дела пошли на улучшение и он вот-вот
получит верный гонорар. Опасения мои оправдались.
Как ни прятал он от меня горькую правду, но она прорывалась в письмах. Гонорар не поступал, приходилось познакомиться с «доктором Шроттом». Это имя
стало синонимом голодовки. В Германии была санатория доктора с такой фамилией. В ней лечили больных
голодом. Играя фамилией Шротт, С. Д. прикрывал истинное положение вещей. Он писал: «Источник всех
моих горестей — литературные „невезятины“. Познакомили меня почти случайно с редактором „России“,
и после двух-трех двухчасовых разговоров вижу: надо
порвать. Может быть, это последняя литературная калитка, но я захлопну и ее: потому что или так, как я хочу, или никак. Пусть я стареющий, немного даже смешной дурак, но моя глупость такая моя, что я ее и стыжусь, и люблю, как мать своего ребенка-уродца. И ну
ее к ляду, всю эту „литературу“... — И дальше: — Доктор
Шротт хоть и бродит за мной по пятам, но мне ловко удается отворачиваться от встреч с ним нос к носу.
...Хотелось бы, чтобы вообще старик как-нибудь отделался от меня, потерял мой адрес, что ли».
Я читала письма, и меня мучило воображение.
И наяву, и во сне представлялось. Он сидит на скамье
233
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
бульвара или в парке. Вечер. Он любит город и чувствует себя хорошо в одиночестве среди шумной, снующей взад и вперед толпы. В голове проносятся мысли, знакомые образы, реют замыслы, они сталкиваются, борются за право на осуществление. Великолепная
битва. Он чувствует, что кто-то подсел к нему. Это старикашка маленького роста с седой, торчащей клином
вперед бородкой, в пенсне на длинном шнурке и мягкой войлочной шляпе. Некто вроде «маленького Ца-
хеса»*. Но нет, это не Цахес, это доктор Шротт. Доктор, улыбаясь, что-то предлагает ему. Кржижановский
встает, идет, идет и... и Шротт за ним.... Что этот доктор ему предлагает? В чем убеждает?...
Избавление пришло от Сергея Дмитриевича
Мстиславского. Мстиславский предложил написать
для Большой Советской Энциклопедии статью об Авенариусе. Статья очень понравилась, последовал еще
ряд заказов, и к моему возвращению дорога в Большую Советскую Энциклопедию была уже проложена.
Его зачислили в штат в качестве контрольного редактора отдела ЛИЯ (литература, искусство, языки). Отто
Юльевич Шмидт*, руководивший энциклопедией, был
вежлив с сотрудниками, не докучал им мелкими придирками и больше был занят планами своих отважных великолепных экспедиций. Работать можно было спокойно.
В эту зиму удача пришла и с другой стороны. Таиров решил ставить в своем театре роман Честертона
«Человек, который был Четвергом»*, инсценировку его
поручил Кржижановскому; работа увлекала. Честертон был по душе, сюжет хотя и связывал, все же оставлял некоторый простор и для фантазии. Пьеса удалась, актеры и репетировали, и играли ее с удовольствием.
234
Анна Бовшек. Глазами друга
Пожалуй, стоит тут упомянуть о маленьком инциденте, принесшем, однако, большое огорчение.
Театр по традиции устраивал после премьеры
банкет. На банкете присутствовали исполнители, большая часть труппы во главе с Таировым, представители
прессы, друзья театра, именитые гости и «нужные люди». Банкет проходил в непринужденной обстановке: пили, провозглашали тосты. Актер, игравший роль
Среды, Соколов*, предложил тост за автора сценария —
Кржижановского. С. Д., сидевший к нему спиной, поднялся с бокалом вина, но вдруг увидел в руке Соколова
вместо бокала вазочку с печеньем. Была ли то неуклюжая шутка подвыпившего актера или сознательная дерзость — не знаю. Напрасно Таиров и Коонен подходили к С. Д. с приветствием, приглашали к своему столу —
боль обиды не унималась. Не помогло и извинение
спохватившегося и признавшего бестактность своей шутки Соколова. Еще и на другой день, вспоминая
о вчерашнем банкете, С. Д. бледнел от гнева и боли. Отравлена была первая радость от первой большой удачи.
Пьеса прошла свыше пятидесяти раз, давая сборы. Однажды во время спектакля сорвался лифт, входивший в конструкцию декораций. Актер, сидевший
внутри лифта, получил легкое повреждение. Охрана труда требовала изменений в конструкции декораций, что было невозможно, так как требовало изменения всего режиссерского плана. Только после этого
пьеса сошла со сцены.
Забегая несколько вперед, расскажу еще об одной совместной работе Кржижановского с Таировым. В тридцать седьмом году исполнилось сто лет со
дня смерти Пушкина. К юбилейной дате готовилась
вся страна, готовились и театры. Таиров решился на
довольно отважный шаг: поставить роман «Евгений
Онегин»*. Татьяна была давнишней мечтой Коонен,
235
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
а Чаплыгин*, вероятно, мог бы быть неплохим Онегиным. Инсценировку поручили Кржижановскому. Задача была очень трудной и ответственной. Гениальная
опера Чайковского, слишком хорошо знакомая зрителям, не сходившая в течение полустолетия со сцены,
навязывала и свое развитие сюжета, и свое освещение
всех персонажей. Надо было найти что-то новое, свежее, незнакомое, чтобы пьеса была не простым повторением уже пройденного этапа, а раскрытием каких-
то упущенных или недоработанных Чайковским возможностей. Все это надо было выполнить, оставаясь
в то же время верным замыслу Пушкина и стихотворному тексту романа. Трудность задачи только радовала Кржижановского. Он бесконечно любил Пушкина,
радовался возможности соприкоснуться с благородством высокого строя его мыслей и чувств, упиться
гармонией его стиха. Маленький томик «Евгения Онегина» стал его постоянным спутником.
Когда инсценировка была готова и впервые
прочитана, Таиров и Коонен считали задачу наполовину выполненной. Коонен уходила, прижимая к груди рукопись и повторяя: «Пьеса есть, пьеса есть».
Сигизмунд Доминикович начинал пьесу небольшим прологом: лавка Смирдина, Пушкин с группой
современников-писателей. Идет отрывок из «Разговора писателя с книгопродавцем». Следующая сцена:
скромное запущенное сельское кладбище; Ленский,
склонившийся над могилой Дмитрия Ларина, читает
надгробную надпись и т. д. В компоновке сцен выявилось много нового, неожиданно интересного. Письмо
Татьяны читает получивший его Онегин. Интересно
намечалась сцена «Онегин и Пушкин у парапета набережной Невы». В пьесе подчеркивалась сатирическая
сторона романа; любопытны были гости на именинах
у Татьяны, архивные юноши.
236
Анна Бовшек. Глазами друга
Одновременно с процессом создания пьесы
шли работы по оформлению спектакля. Декорации
были поручены Александру Александровичу Осмер-
кину*, яркому, жизнерадостному художнику, влюбленному в Пушкина и прожившему два лета в Михайловском. Уже были выполнены эскизы костюмов и чудесные макеты декораций. Написать музыку уговорили
С. С. Прокофьева*. Это было довольно трудно. С. С. решительно отказывался работать над «Евгением Онегиным» после Чайковского. На чтение пьесы он пришел мрачный, недовольный, сел в кресло в дальнем
углу огромного таировского кабинета, первые сцены
слушал, глядя себе под ноги. Потом незаметно для себя стал двигаться вместе с креслом по диагонали прямо на Кржижановского. По окончании чтения включился в разговор, спор — и окончил тем, что дал согласие на музыкальное сопровождение, уже увлеченный
какими-то одному ему известными творческими возможностями. Написанные им музыкальные фрагменты были ярки, оригинальны, особенно интересны контрасты музыки провинциального оркестра на
именинах Татьяны и холодной, чинной — на петербургском рауте.
Беспокоясь за судьбу постановки и желая обеспечить ей наилучшие условия, Таиров решил провести еще одно чтение — с пушкинистами*. Присутствовали Вересаев*, Цявловский*, Бонди*. Мнения разделялись в частностях, но серьезность и ответственность
работы признавалась всеми. Вересаева пугали новшества, Бонди их охотно принимал. Некоторые из замечаний пушкинистов все же пришлось учесть. Упрямый в вопросах переделки, Кржижановский уступил
на этот раз просьбам Таирова* и написал второй вариант. Гораздо хуже дело обстояло с реперткомом.
По настоянию его пришлось делать третий и четвер¬
237
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
тый варианты. Они уже не радовали С. Д. Пьеса от раза
к разу становилась все хуже, приближаясь к обычным,
стандартным инсценировкам.
Несмотря на принятые меры предосторожности, беда все же пришла, но не оттуда, откуда ждали. Театр не пользовался вниманием правительства
и высшей администрации. Высшие чины сюда редко
заглядывали. В театрах, посещаемых представителями власти, для высоких гостей устраивали отдельный
вход, особенно там, где бывал Сталин. Таиров не искал
высоких посещений, придерживаясь мудрой философии грибоедовской Лизы: «Ах, от господ подале. У них
беды себе на всякий час готовь».
Жизнь в театре шла своим чередом, готовилась
постановка комической оперы Бородина «Богатыри».
Декорации были написаны мастерами Палеха. В труппе были актеры с хорошими вокальными данными.
Спектакль обещал быть интересным.
На генеральную репетицию нежданно-негаданно приехал Молотов*. Бородин, создавший глубоко патриотический бессмертный образ князя Игоря,
задумал отразить некоторые черты древних богатырей в шутливом плане. Молотов в комическом разрезе образов богатырей увидел умаление русского духа,
русского патриотизма*, что представлялось ему опасным при создавшейся политической обстановке. На
следующий день последовало запрещение спектакля.
Пошли слухи о готовящемся закрытии театра, якобы не отвечающего своим репертуаром требованиям времени. В труппе царила паника. Рассказывали,
что Алиса Георгиевна ездила к жене Молотова* хлопотать о театре. Неизвестно кем инспирированная, появилась в газете статья, посвященная творчеству Коонен. О ней писали как о лучшей трагической актрисе современности.
238
Анна Бовшек. Глазами друга
Таиров метался, разыскивая пьесу для замены
«Богатырей». Поставили «Дети солнца» Горького с Коонен в заглавной роли*. Слухи о закрытии театра постепенно рассеивались, но в труппе еще долго держался страх. О постановке «Евгения Онегина» не могло быть и речи.
Захлопнулась еще одна калитка.
Пронесшаяся было над театром гроза все же
разразилась, но много позже. Театр вернулся из эвакуации, торжественно отпраздновал сорокалетие своего
существования. Храпченко*, как представитель власти, произнес прочувствованную речь, воздав хвалу театру и Таирову, а через два года Александр Яковлевич,
отставленный от руководства, был вынужден уйти из
театра*. Вместе с ним ушла и Коонен. Оставались здание, сцена, кулисы, оставалась труппа, но ушел великий мастер, и театр потерял имя, потерял лицо.
VI
Двадцатые годы и начало тридцатых были временем расцвета таланта Кржижановского. В эти годы
им были созданы такие произведения, как: «Собиратель щелей», «Чудак», «Швы», «Клуб убийц букв», «Возвращение Мюнхгаузена», «Чужая тема», «В зрачке»,
«Материалы к биографии Горгиса Катафалаки» и другие. Определились основные темы, характерные черты его писательской манеры, его философская направленность. Но эти же годы становления его как
писателя принесли ему наибольшие страдания. Рукописи неизменно возвращались к автору, иногда сопровождаемые любезной смущенной улыбкой и заверениями в том, что все в редакции читали... очень
239
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
интересно, «но... не подходит», иногда возвращались
молча, обезображенные прямоугольным штампом недоумением. Кржижановский был уверен в том, что нужен читателю, что читатель поправит его в ошибках,
поможет в исканиях. Ради встречи с читателем он готов был идти на какие угодно лишения и испытания,
но встречи не получались.
В таком состоянии крайней подавленности он
находился, когда летом двадцать шестого года он получил из БСЭ месячный отпуск. Надо было что-то
предпринять для приведения себя в порядок. Он решил воспользоваться приглашением Максимилиана
Александровича Волошина отдохнуть у моря в Коктебеле*. Привлекали рассказы о гостеприимном доме поэта, о его хозяине и своеобразном укладе жизни
его обитателей. Максимилиан Александрович встретил Кржижановского очень радушно и во все время
его пребывания старался создать ему хорошие условия для отдыха и работы.
«Каждый день купаюсь и самосжигаюсь. К работе я себя не понуждаю: сидеть у моря и слушать прибой — это куда интересней возни со словами». О Максимилиане Александровиче он писал как об исключительно интересном человеке: «Сам он обаятельное
сочетание мудрости и наивности, язвительности
и любви. Огромный и грохочущий, он напоминал
мне Воскресенье*, окруженный нами: приезжающими
и отъезжающими днями. И я опять человек, который
был, кто знает, может быть, Четвергом».
Жили в Коктебеле все несколько разрозненными малыми группами; по вечерам встречались за чаем.
Иногда устраивали чтения. Читал и Кржижановский,
читал довольно часто с неизменным успехом. Об одном чтении он так рассказывает: «Ваше письмо пришло все-таки вовремя, за несколько минут до начала
240
Анна Бовшек. Глазами друга
чтения*, я успокоился и легко овладел текстом. Рассказ произвел впечатление более сильное, чем можно
было ждать. По окончании я увидел себя окруженным
глазами с пристальностью и хорошим долгим молчанием. Затем Волошин, вообще скупой на баллы, заявил, что это великолепно и безжалостно».
Перед отъездом, прощаясь, Максимилиан Александрович вручил ему на память свою акварель с надписью: «Дорогому Сигизмунду Доминиковичу, собирателю изысканнейших щелей нашего растрескавшегося космоса» и приглашение приезжать, когда ему
захочется.
Даже Коктебель с его добрым хозяином, легким
укладом жизни, сочувствующим, впечатлительным,
внимательным человеческим ансамблем и вечно прекрасным морем не могли дать ему полного покоя.
Второе лето в Коктебеле уже было насыщено
гнетущей тоской, жаждой перемены мест и впечатлений. Он решил бить тоску километрами. В этот приезд
исходил все окрестности, побывал в Алуште, Судаке...
Тоска, быть может, и похудела, но, как верный пес, не
отставала от своего хозяина.
«Я и здесь не могу выкарабкаться из чувства ожесточенности и горечи. Ни бризам из меня не выдуть,
ни солнцу из меня не выжечь подлой накипи бессмысленного гневного „за что“, которое умный человек не должен пускать себе в уши».
Некоторую разрядку в это настроение внесло
неожиданное мое вторжение. Крымские письма беспокоили, надо было что-то предпринять. К счастью,
в Судаке отдыхали мои друзья — чета Фоминых. Они
приглашали меня погостить у них. Я знала, что там же
на даче композитора Спендиарова* отдыхает и наш
друг по Киеву — Анатолий Константинович Буцкий,
знала, что встреча с ним будет приятна С. Д. Наскоро
241
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
собравшись, я дала телеграмму в Коктебель. Неделя,
проведенная в узкой дружеской компании, отвлекла
всех нас от дум и забот — было просто хорошо.
Возвращаясь в Одессу, я на два дня задержалась
в Коктебеле. Тут я впервые увидала и познакомилась
с Максимилианом Александровичем. Я не могла воспользоваться его любезным приглашением погостить,
так как торопилась домой. С. Д. мог еще оставаться.
Очень живо помню эти два дня, проведенные
в Коктебеле. Вижу живописную Коктебельскую бухту с расположившимся у ног ее поселком. Скромные
домики, всеми своими окнами и террасами обращенные к морю, полукружие гор, непрерывно меняющих
свою окраску, знаменитую мастерскую с статуей царицы Таиах, хозяина, большого, с огромней гривой
седеющих волос, схваченных повязкой, в длинной белой холщовой одежде, подпоясанной ремешком. Он
похож на вещего кудесника, выходящего из священной рощи, или древнегреческого ваятеля перед станком с глыбой мрамора.
Перед самым отъездом с С. Д. случилась еще одна нежданная очень радостная встреча. Он познакомился с Александром Г]рином*. В беседе выяснилось,
что Г]рин читал его «Штемпель: Москва», хотел бы еще
повидаться и пригласил Кржижановского побывать
у него в Феодосии.
Через два дня С. Д. был уже в Феодосии. До отхода московского поезда оставалось два часа, он провел их в доме Грина. Тут ему все нравилось: сам Г]рин,
его образ жизни, жилище, непринужденность беседы.
Рассказывая в Москве о своей встрече, он волновался
так, как будто соприкоснулся с чем-то очень важным,
очень дорогим для себя. Особенно волновали его воспоминания об одной как будто мелкой детали: «Тут
Грин на минуточку замолчал, задумался. Потом протя¬
242
Анна Бовшек. Глазами друга
нул руку к морю и тихо сказал: „Здесь я впервые увидел мою Бегущую по волнам“».
VII
Нельзя сказать, что Кржижановский был несчастлив в друзьях. Исходившее от него обаяние привлекало к нему многих людей, но на сближение он
шел трудно; установившимися дружескими отношениями дорожил, свято оберегая их. Очень требовательный к себе, он был требователен и к друзьям.
«Друзья — это те, которых любят, ничего им не прощая». Некоторые, не выдержав испытаний дружбы,
отходили от него. Это было всегда болезненно. В те
трудные двадцатые годы его поддерживали морально
и помогали в устройстве литературных дел Мстиславский, Левидов, Ланн, Антокольский. Ланн и Антокольский познакомили его с Евдоксией Федоровной Никитиной, председателем литературного объединения
и организатором пользовавшихся хорошей известностью в Москве так называемых «Никитинских субботников». Субботники вели начало еще с дореволюционного четырнадцатого года. Будучи студенткой,
Никитина стала проводить литературные чтения, на
которые сходились и молодые начинающие писатели, и уже известные мастера слова, критики, литературоведы. По окончании университета она была приглашена читать курс русской литературы. Страстная любовь к литературе удачно сочеталась в этой молодой,
умной, энергичной женщине с редким организаторским талантом. Упорно, настойчиво, от субботы к субботе она укрепляла и расширяла объединение, на базе которого выросло свое издательство, сохранившее
243
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
название «Никитинские субботники». Евдоксия Федоровна обладала исключительным чутьем в отношении молодых дарований и мужеством в отстаивании
их произведений для печати. Многие молодые писатели, еще далекие от общественного признания, получали свое крещение в ее доме.
Кржижановский стал охотно посещать «субботники». Вскоре Никитина предложила ему выступить
со своими рассказами. Он читал в разное время «Собирателя щелей», «Боковую ветку», «Тридцать сребреников», главы из «Возвращения Мюнхгаузена». Рассказы вызывали широкий обмен мнений, принимались
как совершенно оригинальное, исключительное явление литературы.
После одного из таких чтений Никитина предложила Кржижановскому подождать, пока разойдутся присутствующие, так как ей необходимо переговорить с ним. Я чувствовала себя неловко, боясь помешать, но разговор состоялся в соседней комнате.
Чтение было удачным, и хотя я знала, что ничего не
может быть плохого, сильно волновалась. По лицу показавшегося в дверях комнаты Кржижановского я поняла, что разговор привел к хорошему результату.
Простившись с хозяйкой, мы спустились по
лестнице и вышли на улицу. Дом, в котором происходили литературные собрания, находился на Тверском
бульваре, почти напротив Камерного театра. Мы пошли бульваром. Было поздно, лишь редкие прохожие
попадались навстречу. Дойдя до памятника Тимирязеву, мы сели на скамью. Хотелось поговорить всласть.
«Что она сказала?.. А вы что ответили?..» и т. д. Никитина предлагала провести в издательстве одну из теоретических работ Кржижановского: «Поэтика заглавий»*. Дело было почти верное, так как ее слово имело
решающее значение.
244
Анна Бовшек. Глазами друга
На бульваре было безлюдно, поздние ночные
трамваи изредка прорезали звонками тишину; от памятника тянулась почти к ногам длинная тень. Мы размечтались на любимую тему Сигизмунда Доминико-
вича. Он страстно мечтал о поездке в Англию. Работая над повестью «Материалы к биографии Горгиса
Катафалаки», он долго просиживал над картой Лондона, тщательно изучал его улицы, сплетения переулков,
скверы, памятники старины и, вероятно, знал их не хуже старожилов этого удивительного города. Теперь он
рассказывал о том, что поедет со мной в Англию*, поведет по знакомым улицам Лондона, покажет Вестминстерское аббатство, Трафальгар-сквер и прочие чудеса.
Становилось зябко, мы встали и быстро пошли
бульваром. Было уже совсем поздно, когда, проводив
меня домой, он вернулся к себе на Арбат.
Никитиной удалось напечатать «Поэтику заглавий». Она начала хлопотать и о «Сказках для вундеркиндов»*, но даже ей получить разрешение на печатание не удалось.
«Поэтика заглавий» была первым значительным
произведением Кржижановского, появившимся в московской печати. Она не могла принести ни славы, ни
больших денег, но она положила начало дружеским
отношениям, сохранившимся до конца жизни автора.
Был один случай, когда активное вмешательство
Никитиной уберегло его от большой беды. В начале
тридцатых годов проводилась разгрузка Москвы. Была
объявлена общая паспортизация. Паспорт выдавался
только лицам, предъявившим справку с места работы.
Сигизмунд Доминикович в это время уже нигде
не служил. В милиции ему отказали в выдаче паспорта. Выслушав его заявление о том, что он писатель, дали три дня для получения справки из писательской
организации.
245
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Никитина, узнав о его критическом положении,
предложила ему немедленно подать заявление о приеме его в члены групкома драматургов и в течение
двух дней собрала свыше десяти подписей — рекомендаций известных писателей.
Групком принял Кржижановского в члены, выдал справку; на третий день у него уже был паспорт.
На «субботниках» выступали не только с чтением художественной литературы, но и с научными докладами, музыкальными номерами. Приезжали актеры, певцы. Тут можно было встретить Москвина*, Качалова* и других именитых гостей. Под Новый год
устраивалась елка.
Каждому приглашенному заранее подготовлялся подарок «со значением». С. Д. получил однажды
на елке стопку монет: тридцать шоколадных рублей,
обернутых серебряной бумагой — намек на тридцать
сребреников из его одноименного рассказа.
Евдоксия Федоровна всегда обладала исключительным даром не только притягивать, но и удерживать около себя людей. В ее обращении с окружающими чувствовалась теплота и некоторая доверительная
интимность, и это, должно быть, располагало и притягивало к ней.
Меня всегда трогала ее способность слушать.
Она слушает всем существом, особенно глазами. Внимательные, пристальные, глубокие, они не блестят, но
светятся матовым мягким светом, льющимся в душу
собеседника. Такое же впечатление производит и голос: низкий, грудной, обволакивающий.
Когда в 19б4 году праздновалось пятидесятилетие «субботников», на ее имя пришло свыше тысячи
поздравлений от друзей-членов, как она говорит, «от
ее большой семьи».
246
Анна Бовшек. Глазами друга
VIII
В стране началась коллективизация сельского
хозяйства. Проводилась она в кратчайшие сроки и без
необходимой подготовки. Кулаков выселяли из деревни; середняки и бедняки, не понимая смысла экономических реформ, частью сами покидали насиженные места, частью оставались, но от работы отказывались. Поля стояли невспаханными, незасеянными,
урожай гнил на корню. Голод, перекинувшись из деревни в город, прокатился по всей стране.
Магазины снова опустели, в витринах вместо
продуктов красовались в золоченых рамах копии натюрмортов знаменитых голландских мастеров. По карточкам давали черный хлеб.
В учреждениях шла чистка аппарата. Начались
аресты. Люди, боясь за себя и своих близких, старались держаться подальше друг от друга, стали уничтожать письма, книги с автографами, фотографические карточки. Это было начало тех грозных, страшных лет, которые унесли тысячи и тысячи невинных
жертв и горькая память о которых еще долго будет
жить в сознании народа.
Меня не покидало беспокойство о Сигизмун-
де Доминиковиче. Мы жили на разных квартирах
и обычно встречались вечером. Утром я не знала, как
прошла ночь, проснулся ли он в своей постели. Иногда, не в силах дождаться вечера, я после трех часов
звонила в редакцию, зная, что в это время работа уже
прекращалась и звонок не выдаст моей тревоги. Мне
отвечали: «Кржижановский был, уже ушел», — и я спокойно дожидалась вечерней встречи.
Особенно меня волновала судьба рукописей. Он
правил рукописи у меня на квартире и тут же остав¬
247
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
лял их. Почти все они лежали у меня в шкафу на полке, прикрытые черной, шитой золотом парчой (иронический намек на их литературное небытие).
Сергей Дмитриевич Мстиславский, к которому
я обратилась за советом, как надежнее сберечь рукописи, сказал мне, что его положение не лучше и что он
всегда выжидает, что будет, что будет...
Беспокойство мое достигло высшего напряжения, когда я, придя утром в Театральную библиотеку —
место моей временной работы, — узнала, что из восьми сотрудников двое арестованы.
Вернувшись домой, я долго сидела у стола, потом ходила по комнате, напряженно думая, потом, подойдя к полке с рукописями, откинула парчу и вдруг
приняла решение — нелепое, несуразное, но, как мне
тогда казалось, единственно возможное.
Наша квартира отапливалась дровами, и нам
был отведен сарай для трех съемщиков. Я собрала
рукописи в корзину, спустилась вниз к сараю и уложила рукописи поверх дров, прикрыв их поленьями.
Уже защелкивая замок сарая, я чувствовала нелепость
моей затеи. Поздно вечером пошел дождь, я слушала
стук капель по оконным стеклам, и мне казалось, что
даже они смеются надо мною. Потом мне представилось, что крыша сарая протекает, что капли, пробившись меж поленьев, заливают бумагу, что буквы
расползаются, что рукописи, точно живые существа, мерзнут и жалуются на мое легкомыслие. Проведя ночь без сна, я, чуть рассвело, снова спустилась
в сарай, уложила рукописи в корзину и вернулась домой. Туг, отдавшись благодетельной мысли: будь что
будет, — я сразу почувствовала разрядку напряженности.
К счастью, о моей нелепой затее С. Д. так и не узнал. Я упоминаю сейчас о ней, потому что испытан¬
248
Анна Бовгиек. Глазами друга
ные мною чувства в те дни были характерны не только для меня, но для большинства окружающих.
Настроение, общую подавленность и настороженность тех дней Кржижановский отразил в рассказах «Красный снег» и «Воспоминания о будущем».
Очень хотелось уехать из Москвы куда-нибудь
далеко, в незнакомый город, где будут незнакомые люди и говорить они будут на незнакомом языке. Англия
уже перестала быть мечтой: жили за железным занавесом.
Вспомнилась Таруса, где я прошлым летом провела две недели. Старинный город на Оке, вдали от
железной дороги, меня очаровал. Я написала своей
прежней хозяйке, прося оставить в ее доме одну комнату для меня и Кржижановского. Устроившись в Тарусе, стала ждать приезда С. Д.
Дела задержали его в Москве.
Межрабпом-фильм заказал ему сценарий по роману Бергстедта: «Праздник святого Йоргена». Фильм
должен был снимать Протазанов, в главной роли выступить Игорь Ильинский*. Поначалу работа увлекла, но когда дело приблизилось к съемкам, стали возникать великие и малые недоразумения, совершенно
измучившие его. Он написал мне: «Из последних сил
настрочил 3,5 печатных листа*, а теперь оказывается,
что надо делать все сначала. Сначала так сначала, но
откуда взять сил и времени? Внешне я не протестую,
соглашаюсь писать „по Протазанову“, но внутренне
во мне все кипит, и я близок к тому, чтобы вообще послать их всех к черту. Тем более что никакого реального плана у Протазанова нет, а так, кое-какие отрывки, которые ему кажутся, разумеется, ценнее моего
стройного темоведения... В дальнейшем от этих кино-людей надо подальше*: пока я работал, как скаженный, над сколачиванием кадров, они тиснули в газете:
249
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
„Режиссер Протазанов работает над составлением
сценария „Праздник святого Йоргена“. И все...»
В следующем письме продолжает: «Подумать
только, за эти месяцы я написал более 6 печатных листов* этой дряни — и ни „славы“, ни денег (последнее
слово я не согласен закавычивать — пусть платят червонцами без всех аллегорий)».
Его томила тоска по своей, настоящей литературной работе. В голове роились, оспаривая очередь,
новые и новые замыслы; он уже закончил «Возвращение Мюнхгаузена». Теперь задумал роман «Тот Третий»
и вел о нем переговоры в ЗИФе с Черняком*: «Не столько „для дела“, а чтобы отвлечься, позвонил в ЗИФ Черняку*. Завтра предстоит разговор о „Том Третьем“. Он
не даст, конечно, материальных результатов, но хоть
на час-другой переведет мои мысли на литературу. Хотя мысли и сами лезут именно сюда: вчера перед диктантом просидел часа полтора в кафе и вместо того,
чтобы готовиться к инсценированию, обдумывал новые куски моей „Поэмы в рубленой прозе“». И в следующем письме продолжает: «Был в редакции у Черняка*: на двухчасовое его восхищение моим пером нельзя купить и дюжины обыкновенных штампованной
стали перьев».
Только к началу августа удалось освободиться от
тисков кино и попасть наконец в Тарусу.
Дом наших хозяек находился на окраине города, в местности, носившей странное название Порт-
Артур. В сорока-пятидесяти шагах от дома подымался густой сосновый лес, влево раскинулись поля и луга. Наши хозяйки, две милые одинокие женщины, уже
кое-что знавшие о Кржижановском по слухам и даже
случайно слышавшие его на одном из «субботников»,
постарались наладить нашу жизнь, освободив от мелких хозяйственных забот. Мы вставали рано утром,
250
Анна Бовшек. Глазами друга
пили парное молоко с свежим домашним хлебом, завтракали в маленьком дворике при доме под невысокой тенистой грушей. Не спеша наблюдали сельскую
идиллию: возню кур с цыплятами, драку петухов, посапывание греющегося на солнце большого домашнего пса. Потом шли в лес на излюбленную поляну
и, расположившись на траве, принимались за чтение
вслух английского романа. С. Д. усердно занимался
английским языком, а отдыхать любил, по его словам,
работая.
После простого вкусного обеда с терпким красным домашним вином отдыхали. Под вечер уходили
гулять: шли лесом в поле, по дорогам, неизвестно куда, вперед и вперед, навстречу заходящему солнцу. Розоватая дымка заката, простор полей, смолистый запах сосен — все говорило о покое, извечном разумном
порядке. И боль души понемногу стихала, ожесточенность смягчалась. Иногда шли к реке. Ока мирно
и легко катила свои воды, и это радовало так же, как
радовала особая насыщенная тишина вечера. Ходили
и к могиле художника Борисова-Мусатова. Дважды ездили в имение Поленова* на противоположном берегу Оки. Дочери покойного художника водили нас по
комнатам музея, показывая экспонаты и объясняя их
происхождение.
Знакомых было мало. Посещая дом жившей
в Тарусе писательницы Софьи Захаровны Федорчен-
ко, встречались у нее с ее друзьями, простыми, хорошими людьми. Некоторые из них стали и нашими хорошими знакомыми. Меня всегда поражала стойкость
и выносливость человеческого духа, его способность,
преодолевая тяжелый груз невзгод, обид и унижений,
всюду находить скрытую красоту и жадно насыщаться ею. Впрочем, в Тарусе она не была скрытой и находить ее было нетрудно.
251
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Недаром этот тихий живописный город слыл
излюбленным местом художников и писателей.
Августовские дни постепенно гасли: приближалась осень, хрустальная, нежная. В поле и на кустах протянулись нити серебряной паутины, кое-где на
ветвях деревьев проглядывали золотые листья. Все напоминало о близком конце нашей жизни в Тарусе.
Простившись с милыми хозяйками, мы уложили
чемоданы и вернулись в Москву.
На вокзале расстались и разошлись по своим
комнатам, и это было очень грустно. Мы в первый раз
жили вместе в одной комнате, жили счастливо. Я не
раз убеждала С. Д. переехать ко мне* в мою довольно
большую удобную комнату с моим личным телефоном. Он всякий раз ссылался на то, что хочет иметь
свой угол, что жизнь в одной квартире, с неизбежными мелкими заботами, безобразным бытом, разрушает очарование дружеских отношений, убивает поэзию
чувства; мечтать о встрече, по его словам,— это тоже
радость, иногда не меньшая, чем сама встреча. Очень
тоскуя в разлуке, он в то же время защищал и ее хорошую сторону: она очищает образ близкого человека.
Только в конце жизни, опасно заболев, он переехал ко
мне на квартиру, но комнату на Арбате сохранял за собой до самого конца.
Больше всего С. Д. не любил и боялся красивых
фраз и внешнего выражения чувств. О самом дорогом
для себя: отчизне, литературе, искусстве, — он говорил
редко, строго и требовательно отбирая нужные слова.
Так же скуп он был на признания и в личной жизни.
Однажды он подарил мне англо-русский словарь. На
титульном листе стояло указание: «См. стр. 262, 272».
Отыскав помеченные страницы, я прочла подчеркнутые слова «darling», «love»*. Избегая стертых привычных выражений, он бережно охранял чувства, при¬
252
Анна Бовшек. Глазами друга
крывая их словами чужого языка. И мне вспомнилось:
вероятно, повинуясь той же внутренней потребности,
при совершенно иных обстоятельствах, Чехов, умирая, сказал по-немецки: «Ich sterbe»*.
Начались недоразумения по службе. Шмидт, уезжая в очередную экспедицию, поручил руководство
редакцией Лебедеву-Полянскому*, человеку сухому,
ограниченному, лишенному воображения, к тому же
перепуганному. Ему всюду в работе сотрудников мерещились погрешности в идеологии, и обращался он
с ними, как с чиновниками. Кржижановский не вызывал в нем доверия. К работе его он относился с особым подозрением, докучая нелепыми придирками.
Работать становилось все труднее, и С. Д. решил уйти
из редакции. После очередной придирки он подал такого рода заявление:
«Считая опыт по превращению меня из человека в чиновника в общем неудавшимся, прошу от должности контрольного редактора меня освободить».
Явно иронический тон заявления вряд ли мог
понравиться Полянскому. Он решил ничего не предпринимать до возвращения Шмидта. Вернувшись из
экспедиции, Шмидт пригласил к себе Кржижановского. Тон его обращения был чрезвычайно любезен. Он
благодарил Кржижановского за хорошую работу, говорил, что входит в его положение, расстается с ним,
крайне сожалея, понимая, что при создавшихся условиях работать будет затруднительно.
Только вечером, придя домой, С. Д. открыл трудовой список. Вместо резолюции, которой он ждал:
«Уволен по собственному желанию», стояло: «Уволен
по освежению аппарата». Такая формулировка не соответствовала фактам, ходу событий и показалась
ему крайне оскорбительной. В ином свете представлялся и разговор со Шмидтом. Очевидно, он уступил
253
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
настоянию Полянского. Что ж, месть чисто по-чиновничьи.
Если бы С. Д. заглянул в трудовой список в редакции, Полянскому пришлось бы выслушать несколько
любезных колкостей — все-таки была бы разрядка. Но
время было упущено. Ночь и утро не подсказали разумного выхода. Было ясно: удар нанесен в спину, время упущено, после драки кулаками не машут.
Так закончилась служебная карьера Кржижановского в БСЭ. Захлопнулась еще одна калитка.
IX
Кржижановский недолго оставался без службы.
Вскоре он уже работал в редакции издательства «В бой
за технику».
Летний отпуск решили провести на Кавказе.
Ознакомившись с северным побережьем, остановились в небольшом приморском городе Хосте. Здесь
прожили две недели. Жизнь своей размеренностью,
налаженностью быта и целительным влиянием природы напоминала тарусскую.
Кржижановский впервые видел Кавказ. Этот чудесный край захватил его воображение; хотелось проникнуть вглубь, в самое сердце, увидеть горы, бешеные реки, дикие ущелья.
Обстоятельства сложились так, что в следующее
лето он получил возможность осуществить свое желание.
Летом 1931 года он мне писал: «Берите билет на
экспресс Одесса — Батуми, помня, что 3 августа я уже
буду в Одессе. Берите непременно 1-й класс; наши дела немного поправились, так как Сергей Дмитриевич
254
Анна Бовшек. Глазами друга
возвратил долг. Будем „кутить“. Я уже, собственно, начал: приехав сегодня на городскую станцию к 9-ти часам и увидев столпотворение у „жестких касс“, я стал
в маленькую „мягкую“ очередь и через 1А часа билет
(один из последних) был у меня в кармане. Разница,
в сущности, незначительная, и в будущем так будете
поступать и Вы. Я уж об этом позабочусь».
Последние слова: «Я уж об этом позабочусь» —
меня очень тронули. Ему всегда хотелось сделать для
меня что-то особенное: хотелось создать лучшие условия для работы, хотелось видеть меня хорошо одетой,
радостной... и наконец-то это: «будем кутить».
Приехав в Одессу, Кржижановский впервые познакомился с моей матерью и сестрами. Отношения
сразу установились прочные и сердечные.
Через два дня пароход отплывал в Батуми. Наш
первоначальный план был очень скромен: предполагалось провести летний отпуск в знаменитом, воспетом в стихах Пастернаком Кобулети*.
Неожиданная получка денег позволила «кутить»,
то есть отказаться от Кобулети и пуститься в «большое
плавание». В течение месяца мы проделали около пяти тысяч километров: морем, сушей, рекой. Путешествие было полно приключений, и досадных, и забавных. Я видела С. Д. впервые в его стихии.
Всякий раз, когда ему удавалось вырваться из
тисков будничной жизни, оторваться от насиженного
места, он чувствовал себя легко, свободно, как птица
в морском просторе. Глядя на него со стороны, когда
он стоял на палубе парохода и следил за стаей резвившихся, обгонявших друг друга и высоко взлетавших
в воздух дельфинов или провожал глазами паривших
в небесном просторе чаек, я мысленно представляла
себе его участником какой-нибудь трудной геологической экспедиции или среди экипажа моряков в по¬
255
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
лярных льдах. Физически он был крепок, вынослив,
духовно — легко раним.
Сойдя с парохода в Батуми, мы направились
к Приморскому бульвару. Позавтракав, отыскали дом
Вашнадзе, местной жительницы, к которой у нас было
письмо. О гостинице в те дни нечего было и мечтать.
Приветливая, как большинство грузинок, Вашнадзе
поместила нас на плоской крыше своего дома, предоставив в распоряжение два матраса. Нас это вполне устраивало. Днем мы осматривали город, а ночью,
расположившись под звездным небом, слушая треск
цикад и шум морского прибоя, усталые и довольные,
крепко заснули.
На другой день поехали смотреть «Зеленый
мыс»*, побывали в Чакве и Кобулети. Последний не
очень понравился, и это тем более помогло нам отказаться от первоначального плана. Вернувшись к вечеру в Батуми, провели на знакомой крыше еще одну ночь. Хозяйка при прощании вручила рекомендательное письмо к своей знакомой в Тбилиси — Тамаре
Ушидзе. Мы сели в поезд.
В Кутаиси при посадке в вагон у С. Д. украли из
бокового кармана пиджака паспорт, воинский билет
и одну треть нашего капитала. Начальник станции,
к которому пришлось обратиться с заявлением о краже, старался утешить нас, вежливо объяснив, что давка при посадке — обычный прием местных жуликов.
Поезд пришел в Тбилиси утром. Несмотря на то,
что термометр показывал сорок три градуса, мы, преодолевая жару, отправились по указанному в письме адресу. Наша новая хозяйка поместила нас в узкой
длинной передней с двумя матрасами. Над головами
не было звездного неба, так любовно расстилавшего свой воздушный покров в Батуми, но ночлег все же
был обеспечен. Позавтракав вкусным грузинским ло-
256
Анна Бовшек. Глазами друга
био и переждав жаркие часы, пошли на Фрайдинскую
улицу к Елене Давыдовне Гогоберидзе, жене писателя
Лундберга. Елена Давыдовна, молодая женщина с правильными чертами красивого, матового лица, умными глазами, лениво грациозная в движениях, встретила нас дружески и много помогла в знакомстве с городом. Вечером она показала памятник Грибоедову,
повела на Давыдову гору.
Все дни мы бродили по городу, подолгу простаивали над желто-красными водами Куры, знакомились
с памятниками национального искусства, посетили местное кладбище, побывали в тбилисских банях.
В жаркие дни спасались от зноя в огромных старинных соборах, всегда прохладных и безлюдных. Истинное страдание от зноя мы испытали в Мцхете, древней
столице 1]рузии, пустынном, почти безлюдном городе,
насчитывающем около двух тысяч лет существования.
Выйдя из вагона, я едва добежала до тени ближайшего дерева и тут же остановилась, чувствуя себя
не в силах двинуться дальше. С. Д. пошел знакомиться
с недавно отстроенной электрической станцией, питающей Тбилиси и весь край.
К счастью, в Мцхете есть еще одна достопримечательность, которую я могла обозревать без отрыва
от спасительной тени под деревом.
На невысокой плоской горе высится тот самый
монастырь, который служил обителью лермонтовскому Мцыри. В памяти тотчас же проступили строки поэмы. Вслушиваясь в мерный ритм стиха, я старалась
угадать: где же мог быть «тот лес», «та поляна»?
Как ни интересно было оставаться в Тбилиси, но
дальнейший путь требовал к себе внимания и времени. У нас не было предварительного плана. Одно было ясно: хотелось вернуться в Москву по Волге, и путь
к ней лежал через Орджоникидзе, Махачкалу, Каспий¬
257
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
ское море, Астрахань. Впереди нас ждала самая интересная часть пути: Военно-Грузинская дорога.
Простившись с друзьями, напутствуемые их добрыми пожеланиями, мы уселись в машину и вскоре
уже неслись по узкому шоссе Военно-Грузинской дороги. Это чудо человеческого разума и рук, эта дорога,
не нарушая великолепия дикой природы, позволяла
вобрать в себя всю ее первобытную прелесть. Машина
неслась по узкому шоссе над самой пропастью, внизу
по ущелью Дарьяла мчался бешенный Терек, пенясь,
бросаясь грудью на скалы и разлетаясь тысячью брызг.
Но вот и дорога кончилась. Очутившись в Орджоникидзе, мы призадумались: рекомендательного письма ни к какой милой, сердечной хозяйке у нас
не было, вскоре выяснилось, что на место в гостинице
рассчитывать тоже нельзя. День провели, осматривая
город, вечером пошли в городской сад, где уже гремел
духовой оркестр, оповещая местных жителей о начале гулянья. Смешавшись с толпой, мы ходили по большому тенистому саду, похожему на парк, и посматривали на скамьи, смутно догадываясь, что именно они
ночью предложат нам свои услуги. У подножья сада
протекал Терек, тот самый Терек. Теперь он не мчался,
покрытый пеной, по уступам скал, как в Дарьяльском
ущелье, но, присмирев, величественно и спокойно нес
свои воды.
Мы уже наметили место удобное для ночлега —
оставалось ждать закрытия сада. Когда погас последний фонарь и сторожа куда-то исчезли, мы сели на
скамью и долго смотрели на темные воды Терека. Ночь
была теплая, безлунная. Решили спать по очереди.
Рано утром, когда воды Терека посветлели и чуть
поблескивали розоватыми искрами, мы привели себя в порядок и, совсем осмелев, пошли по аллее сада. В саду у невысокого здания кино стояли несколько
258
Анна Бовшек. Глазами друга
человек. К нашему счастью, начинался первый сеанс:
картина с участием Макса Линдера. Темнота зала располагала ко сну, но появление Линдера на экране, его
блестящее мастерство и заразительное веселье прогнали последние остатки дремоты.
В Махачкале нам пришлось довольно круто. Пароход на Астрахань должен был прийти только на третий день к вечеру. В Доме колхозника можно было получить на ночь одно место: мужское. С. Д. отказался
воспользоваться им.
Город производил удручающее впечатление.
С двух сторон дули сильные ветры, поднимая облака
черной пыли. Она вихрем носилась по улицам, забивая глаза, уши, ноздри, проникая за воротник платья.
Встречные прохожие в темных очках шли наклонившись вперед, головой разрезая ветер. На приморском
бульваре уныло стояли пустые скамьи. Мы присели.
Попытка настроить себя на романтический лад при
созерцании неприветливого, взлохмаченного ветрами Каспийского моря не удавалась. Надежды на то,
что скамьи окажут нам гостеприимство, не было: бульвар открыт со всех сторон, и первый же блюститель
порядка мог нам напомнить о порядке. Притом мы успели уже разочароваться в честности местных жителей. Пока мы созерцали Каспийское море и обдумывали свое положение, у С. Д. Украли переброшенное
на спинку скамьи летнее пальто и роман Мопассана
«Une vie»*. Ловкость рук удивительная, но восхищаться ею не хотелось.
Две ночи мы провели на пристани и временами
даже засыпали: вырабатывалась привычка. Иногда мучило искушение: вернуться в Москву поездом. Но впереди ждала Волга, она не простила бы отступничества.
Когда, наконец, подошел к пристани пароход на
Астрахань, оказалось, что все места заняты. Остава¬
259
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
лись билеты четвертого класса, то есть в трюме. Приободрившись, мы поднялись по трапу. Море бушевало
отчаянно: ветры хлестали со всех сторон, и пароход
швыряло, как щепку. Понадобился буксир, чтобы вывести его из водоворота. Я спустилась в трюм и, устроившись меж тюков и бочек с грузом, крепко заснула.
Когда утром я поднялась на палубу, светило ласковое
солнце; пароход плавно шел по синей гладкой прозрачной поверхности моря. С. Д. стоял у борта. У него
был такой вид, как будто по его хотенью, по его уменью утихли ветры, улеглись волны. Вскоре показалась
Астрахань.
Здесь нас ожидало радостное известие: вечером
придет пароход, который отправится в обратный рейс
на следующий же день. Зная, что пассажиры волжских
пароходов обычно запасаются обратными билетами,
я употребила всю энергию, чтобы получить билеты. На
следующее утро у меня был в руках ключ от каюты первого класса. Итак, мы завершали свой маршрут с таким
же комфортом, как и начинали. «Кутить так кутить».
Мы и вправду кутили. Все неполадки, неудобства предыдущих дней казались теперь забавными; мы много
видели, много узнали и поняли, впечатления роились
в голове, ожидая дальнейшего осмысления.
Очутившись на пароходе, мы первым делом
тщательно и с удовольствием помылись под душем.
Затем позавтракали сладким арбузом. Рассчитав, что
до отплытия парохода у нас остается еще три часа, решили поспать. Сон оказался крепче, чем мы ожидали:
когда мы вышли на палубу, пароход уже давно отплыл
далеко от Астрахани. Тяжело работая винтами и пыхтя, он усердно разгребал встречные волны. По берегам
тянулись все еще зеленые, но уже чуть-чуть тронутые
золотом осени леса, скошенные поля, деревушки и частые пристани. Вечерами слушали волжскую тишину.
260
Анна Бовгиек. Глазами друга
Пять дней по реке завершили наш не совсем
обычный отдых. С. Д. похваливал меня за выдержку
и выносливость, а я по-детски радовалась.
X
В сентябре тридцать второго года С. Д. удалось
осуществить еще одно желание: побывать на Востоке. Служащим редакции «Гудка»* полагался один бесплатный билет в любой конец Советского Союза: туда и назад. С. Д. решил познакомиться с Средней Азией и выбрал целью своего путешествия Узбекистан.
Он начал изучать язык, историю и географию.
В начале сентября я отправилась с экскурсией
на север, в Мурманск, он поехал в Ташкент.
О настроении и общих впечатлениях от поездки лучше всего расскажут выдержки из его двух писем.
«Поезд настроен исследовательски. Он останавливается на каждом разъезде. Но ведь и я хочу рассмотреть все поподробней и пообстоятельней.
...На каждой остановке — шумливый восточный
базар, едем до следующей — опять его проглатываешь
и так далее до... очевидно, до Самарканда.
..Л уже пятый день как в Самарканде. Очень любопытно. Первый день я метался, стараясь охватить
все, а затем понял, что лучше не форсировать неизвестное, а брать его постепенно. Упрямо подучиваю
узбекский язык.
...Живу я на экскурсбазе в одной из келий медресе Тилля-Кери. Вначале, когда я занимал келью один,
было удивительно хорошо, но после, когда ко мне стали вселять других туристов, настроение мое сильно
понизилось. Но все это пустяки. В голове у меня сей¬
261
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
час не совсем пусто. Особенно по утрам, когда я сижу
в чайхане над своей пиалой и разглядываю посетителей и проходящих. ...Впечатлений так много, что я еле
успеваю их осмыслять. Не знаю, конечно, пока трудно
забегать вперед, но, кажется, это путешествие принесет довольно много материала».
Использовать богатый материал, осмыслить
и привести в порядок впечатления ему не скоро удалось. По приезде в Москву он сразу почувствовал себя в окружении «московских злыдней». Неприятности ждали по службе. Непрекращавшаяся компания
чистки аппарата дошла наконец и до редакции «Гудка». В анкете Кржижановского в графе «происхождение» стояло: «дворянское». Ему еще при поступлении
на службу советовали написать: «сын служащего», но
он заупрямился. Теперь это упрямство, а может быть,
и инспирированная Лебедевым-Полянским резолюция увольнения из БСЭ в трудовом списке привела
к тому, что пришлось уйти из редакции. Снова захлопнулась служебная калитка и в этот раз навсегда. Одна
беда вела за собой другую... В Москве, как я уже раньше говорила, началась разгрузка города, шла общая
паспортизация. Для получения паспорта требовалась
справка с места службы или из писательской организации. С. Д. был без службы и ни в какой писательской
организации еще не состоял. Только дружеское вмешательство Никитиной, форсировавшей его вступление в групком драматургов, помогло получить необходимую справку.
Придя вечером домой, я застала записку: «Милая Наточка. Ужасно досадно, что я не могу с вами тотчас же поделиться своей усталостью и радостью. Эти
два дня были для меня днями отчаянного напряжения,
но у меня в кармане результат: паспорт. Завтра утром
около десяти — у Вас... 8 ч. 30 м. вечера».
262
Анна Бовгиек. Глазами друга
Впечатления от поездки в Среднюю Азию все
же получили отражение в его книге «Салыр-Поль», но
только одна глава из путевых очерков попала в печать, в журнал «Тридцать дней».
XI
«Всю мою трудную жизнь* я был литературным
небытием, честно работавшим на бытие».
Иногда спрашивают, как могло случиться, что
Кржижановский, несомненно талантливый писатель,
проявивший себя в самых разнообразных жанрах,
при жизни так и не увидел своей беллетристики в печати. Объяснение находят в том, что произведения
Кржижановского не были актуальными, не отражали современности; к тому же у него был трудный характер.
История показывает, что трудный характер не
помешал многим талантливым мастерам слова продвинуть свои работы в свет и добиться известности.
Если актуальными считать произведения, являющиеся живым откликом на текущую действительность, ответом на социальный заказ, пропагандой насущных идей сегодняшнего дня, то рассказы, новеллы
Кржижановского актуальными назвать нельзя.
В то же время отказать им в современности было бы несправедливо и недальновидно. Современность слагается из многих пластов. Жизнь, протекающая в верхних пластах, легко поддается наблюдению и анализу. Иное дело жизнь глубинных пластов.
Увидеть и понять сущность ее движения может только
писатель-мыслитель. И таким писателем-мыслителем
был Кржижановский.
263
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Его отношение к революции и ее преобразованиям было сложным и подчас противоречивым. Он
всецело принимал изменения в результате происшедшего в стране политического и социалистического
переворота, допускал применение силы в революционной борьбе и защите ее завоеваний.
Иначе обстояло дело с переоценкой духовных
ценностей и с декретизированным внедрением в сознание людей новой идеологии.
Свое мировоззрение Кржижановский вырабатывал в процессе длительной борьбы с самим собой.
Он прошел не только через боль сердца, но и через
еще более жестокую боль ума: «Мыслить — это расходиться во мнении* с самим собой. Искусство думать
легкое*, а вот искусство додумывать труднее всего. Самый медленный процесс* — процесс додумывания, до
мускула, до превращения мысли в дело».
Догматизм, упрощенчество он считал величайшим злом для человеческой культуры: «Самое омерзительное на свете*: мысль гения, доживающая свои дни
в голове бездарности».
Уже в юности у него наметился отход от умозрительного понимания мира и переход к практическому восприятию его. Предстоял выбор между Кантом
и Шекспиром, и Кржижановский решительно и бесповоротно встал на сторону Шекспира: «Когда человек подмечает* смешную сторону познания истины,
он забрасывает свой философский участок и обращается к искусству, подает апелляцию на понятия суду
образов».
В дальнейшем он не отказывается от постановки философских вопросов, не отказывается от понятий, но учится искусству видеть их.
Значительная часть рассказов Кржижановского носит проблемный характер. Это персонифици¬
264
Анна Бовшек. Глазами друга
рованные процессы мышления, осуществляемые действующими персонажами.
Герои рассказов не наделены яркими, сложными характерами: они нужны автору как смысловые
образы, ведущие игру. Но это и не схемы. Это — живые люди, мыслящие и действующие страстно, с предельным напряжением. «Эмоция в мысли, — по словам
Кржижановского, — это обертон в тоне». Язык персонажей сходен с языком самого автора, который, распределив роли партнеров, зорко следит за ходом интеллектуальной битвы. Для этой битвы не требуется
описания подробностей быта: отсюда тот же лаконизм в изображении реальных условий, что и в изображении характеров. «Меня интересует не арифметика, но алгебра жизни»*.
В записных книжках Кржижановского есть указания на метод его работы: «Обращаться с понятиями
как с образами*, соотносить их как образы — вот два
приема моих литературных опытов».
Излюбленные средства, которыми располагает
Кржижановский: гипербола, ирония, парадокс, фан-
тазм. «Фантастический сюжет — метод*: сначала берут
в долг у реальности, просят у нее позволения на фантазию, отклонение от действительности; в дальнейшем погашают долг перед кредитором — природой,
сугубо реалистическим следованием фактам и точной
логикой выводов»*.
Именно логике выводов автор придавал наибольшее значение: «Я не один. Со мной логика»*.
Толстой говорил, что главный герой его рассказов Правда. О Кржижановском можно сказать, что
главный герой его рассказов Мысль, живая человеческая мысль, прародительница всей материальной
и духовной культуры, мысль оживающая, падающая,
поднимающаяся, колеблющаяся, но всегда обращен¬
265
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
ная к свету, как стрелка магнита, всегда обращенная
к северу.
В защиту мысли Кржижановский вел свою трудную битву, в защиту прав каждого человека на мышление, на образование своего мировоззрения. Именно
потому, что он был рыцарем Мысли, его произведения
были современны, современны сейчас и останутся современными еще на долгие годы.
Творчество Кржижановского сложно, многотемно, многогранно. Те несколько замечаний, которые
я высказала на этих страницах, ни в коей мере не раскрывают его богатства. Оставленное им большое наследство еще ждет своего вдумчивого и серьезного исследователя.
XII
Прошло десять лет со времени переезда Кржижановского в Москву. За эти годы им были написаны
десятки рассказов, новелл. Из-под его пера вышли такие произведения, как: «Возвращение Мюнхгаузена»,
«Клуб убийц букв», «Чужая тема», «Швы», а литературная жизнь его все еще была неустроенной, и он мог
с горькой иронией внести в записную книжку: «Я известен своей неизвестностью»*.
Он продолжал читать в узком кругу друзей новые рассказы, в голове его теснилась целая уйма новых тем, которые он гнал: «Местов нет», он диктовал
упрямо и уверенно, но в редакциях издательств появлялся теперь лишь изредка.
Как-то он прочел Всеволоду Вишневскому рассказ «Разговор двух разговоров». Вишневский со свойственным ему темпераментом набросился на него:
266
Анна Бовгиек. Глазами друга
«Идти надо в издательства. Надо кричать, стучать
по столу кулаком». И он даже показал, как надо стучать. Кржижановский молчал: для него это был уже
пройденный этап. Спорить, защищать в редакции
свои произведения он никогда не умел.
Материальные дела его были из рук вон плохи,
настроение подавленное. «Вероятно, от какого-нибудь
неловкого психического движения* я вывихнулся из
себя, и теперь все меня как-то раздражает... Притом,
вместо того, чтобы реагировать вовне, разряжаться,
я реагирую вовнутрь, то есть отравляю себя совершенно недостойным мыслящего человека вздором».
И снова в эти трудные дни безденежья и застоя
к нему протянулась дружеская рука. На этот раз то была рука умного, честного, милого Левидова. Это он, Ле-
видов, внушил Кржижановскому, что нужно работать
широким фронтом: не здесь, так там добьешься хотя
бы малого, но чего-то. Это Левидов заставил Кржижановского взяться за изучение Шекспира. Это он поддержал его морально и материально в дни работы над
комедией «Поп и поручик».
Жизнелюбивый, подвижный, сверкающий остроумием, всегда оптимистически воспринимающий действительность, он хорошо действовал на своего подопечного. С. Д. писал мне: «Левидов с необычайным
тактом и заботливостью*, почти как нянька, хлопочет
около меня. Раз в 2-3 дня я по его настоянию захожу
к нему, и он всегда находит слова ободрения, и когда
даже говорит о постороннем, то так, что я ухожу повеселевшим и успокоенным...»
Когда счастье улыбалось Кржижановскому, Левидов ходил как именинник и повторял: «А, я говорил...»
Предполагалась небольшая, на полчаса, передача по радио о творчестве Шекспира; Левидов, со¬
2б7
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
гласовавшись с представителями от радио, поручил
С. Д. написать очерк. Случилось то, что весьма характерно для творческой практики Кржижановского. Он
написал очерк не столько по заданию радио, сколько по внутренней потребности высказаться о том, что
в Шекспире было интересно и дорого лично ему. Передача не состоялась, но Левидов заставил автора переделать очерк в статью, отдал ее в редакцию журнала
«Литературный критик». Так появились в этом журнале «Шаги Фальстафа», «Контуры шекспировской комедии»* и другие работы. С. Д. написал двенадцать работ
на шекспировские темы* и, сам того не замечая, превратился в шекспироведа. Не было ни одной шекспировской конференции, на которой Кржижановский
не выступил бы с новым докладом, освещающим новые участки в творчестве великого драматурга.
Контакт с «Литературным критиком» продолжался вплоть до закрытия этого журнала*. Из библиотек, по распоряжению свыше, а может быть, и «страха
ради», были изъяты из обращения все номера журнала*. Когда в пятьдесят седьмом году мне во время работы над архивом понадобилось обратиться в Ленинскую библиотеку с требованием необходимого номера, пришлось получить специальное разрешение.
Работа над комедией «Поп и поручик» проходила легко и весело. Положенная в ее основу ситуация
давала возможность включить в сюжет ряд веселых
остроумных комедийных конфликтов. Император
Павел I, недовольный поведением некоего поручика и некоего попа, дал приказ: быть поручику попом,
а попу поручиком.
Левидов посоветовал С. Д. переработать пьесу
в музыкальную комедию, показал ее режиссеру московской оперетты Покровскому. Комедия понравилась. Музыку заказали Сергею Никифоровичу Василенко.
268
Анна Бовгиек. Глазами друга
Чтение комедии в Союзе писателей имело шумный успех. О пьесе стало известно руководителю Вахтанговского театра Рубену Николаевичу Симонову*.
Познакомившись с комедией, Симонов заявил, что
пьеса написана математически точно, из нее нельзя
выбросить ни одного слова и он ее не выпустит из
рук: это как раз то, что ему нужно. Состоялось новое
чтение в студии Вахтанговского театра. Присутствовал весь коллектив, в том числе художник и музыканты. Хотя успех был заранее подготовлен, но он превзошел все ожидания. Говорили, что стихи и проза на
одном уровне и что каждая самая маленькая роль индивидуализирована и есть роль. Но... деловая сторона
откладывалась. В Ленинграде Акимов выразил желание ставить комедию. Композитор Анатолий Константинович Буцкий решил, использовав сюжет в драматическом плане, написать оперу. Со свойственной его
характеру точностью он даже ездил на могилу Нелидовой*.
Поступили требования на комедию от пяти провинциальных театров, в том числе и от харьковского.
А с заключением договора дело затягивалось.
Пока столичные и провинциальные театры
оспаривали право первой постановки, Кржижановский получил из Союзкино предложение ознакомиться со сценарием мультипликационного фильма
«Новый Гулливер»* и изменить его по форме и содержанию.
В течение трех дней Кржижановский придумал два варианта «Гулливера» и изложил их в Союзкино. Режиссеры сидели с раскрытыми ртами, признали, что он распрямил тему во весь ее рост, что это перекрывает их сценарий, но так как старый сценарий
уже в производстве, типажи и декорации уже готовы,
то придется вернуться к первоначальному сценарию,
269
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
углубляя и уточняя его новыми образами и слово-
строем.
«Я еле удержался, — писал мне С. Д., — чтобы не
сказать, что за тему о Гулливере не следовало браться лилипутам, но что-то дерзкое сказал. А после этого
смирился и принял трудные предложения».
В дальнейшем режиссерам не хотелось признавать авторства Кржижановского, но к старому варианту вернуться тоже нельзя было. А С. Д. смеялся:
«Все-таки я их отравил».
Работая над «Гулливером», он попутно предложил свою оригинальную тему «Машина времени», она
понравилась, и с одобрения Союзкино он написал сценарий*. Но заключать договор в Союзкино не торопились. Автор понял, что пробиться с самостоятельным,
оригинальным сценарием на экран кино так же трудно, как попасть из редакций издательства в печать.
Деньги, полученные за «Гулливера», вывели его
из материального тупика и дали возможность провести летний отдых на юге. В это лето он жил в Одессе на
Большом Фонтане в семье моей матери и сестры.
Большой Фонтан издавна был любимым местом
многих писателей. Здесь отдыхали Бунин, Куприн, Оле-
ша, Вишневский, Ольга Форш*, Г]россман*, ГЦепкина-
Куперник*. Здесь проводил лето Всеволод Мейерхольд
с женой Зинаидой Райх. На большой, обращенной к морю террасе соседнего с нами дома писателя А. М. Федорова* проводились литературные чтения. Тут читал Бунин своего «Господина из Сан-Франциско», читала свои
ранние прелестные стихи Вера Инбер*. Именно это место Большого Фонтана так поэтически описал Паустовский в своей повести «Годы больших ожиданий»*.
Дом, в котором мы теперь жили, стоял на высоком обрыве у самого моря. Ритмичный шум прибоя,
морской воздух и дружеские, полные уважения отно¬
270
Анна Бовшек. Глазами друга
шения всех членов семьи к Сигизмунду Доминико-
вичу создавали хорошие условия для лечения нервов
и общей поправки здоровья. Он жил надеждой на художественный и материальный успех «Попа и поручика» — эту настоящую козырную карту. Отдыхал, как
обычно, работая над небольшими новеллами и очерком об Одессе «Хорошее море»...
Через два года в том же приветливом доме происходило нечто иное. Мы с С. Д. сидели вечером на
террасе. У нас в гостях был Юрий Карлович Олеша
с женой Ольгой Густавовной. Писатели только что познакомились; завязалась беседа на волнующие литературные темы. Неожиданно на террасу вошел незнакомый мне человек. Извинившись, он объяснил, что
приехал к Юрию Карловичу поговорить с ним о деле, и вдруг сказал: «Арестован Бабель»*. Беседа оборвалась. Помолчав несколько минут, гости ушли к Оле-
ше; мы с С. Д. остались с только что услышанной
новостью. Бабель — талантливый писатель, умный, хороший человек. Новая жертва ежовщины, страшной
власти, уничтожавшей тысячи невинных людей, жертва времени, по жестокости не имеющего себе равного
во всей истории России.
В 1937 году были арестованы и мужья обеих моих сестер...
Возвращение в Москву не оправдало надежд, не
принесло радости. Театры, оспаривавшие право первой постановки «Попа и поручика», вдруг замолчали;
переговоры и связи прекратились. Трудно было понять, что, собственно, произошло*. Самолюбие мешало Кржижановскому расспрашивать о причине краха. Вывод был ясен: проникнуть на сценическую площадку так же трудно, как попасть на экран кино или
в печать. В правильности этого вывода он окончательно утвердился, когда выяснилось, что постановку «Ев¬
271
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
гения Онегина» в Камерном театре, как я уже раньше
рассказывала, тоже постиг крах.
«Самсон не боролся со своей мельницей. Он отращивал свои волосы, а может быть, и то, что под ними: мысль»*.
Кржижановский продолжал писать. Он не мог
не писать, так же как пчела не может не откладывать
мед, даже если убраны соты. Это были новые новеллы,
которые он предполагал объединить в сборник «Чем
люди мертвы». Работа была для него опасением. Он
жил уединенно, избегая встреч с людьми и не заводя
новых знакомств. Правда, одно неожиданное знакомство, встреча внесло тепло в его жизнь, но и то быстро
рассеялось. С. Д. продолжал еще встречаться с Василенко; они вместе подготовляли монтаж «Попа и поручика» для радио. Кржижановский приехал однажды во Влахернское. Василенко угостил его «великолепным со льдом квасом и гениальным с пылу с жару
Филатовым»*. Сперва Владимир Петрович косился на
С. Д., говорил как сквозь стену, но не то третий, не то
четвертый парадокс заставил его распахнуть дверь.
Кончилось тем, что Филатов увел его в свою
комнату, читал свои стихи, робко и взволнованно, как
ученик, взяв с него слово, что он еще приедет и вообще они будут видеться. Но даже это знакомство Кржижановский не закрепил. Встречи с людьми были для
него болезненны. Он чувствовал себя проигравшим
игроком, неудачником, стыдился своей роли, но в то
же время не переставал верить в свои творческие возможности и полезность своей работы. Особенно тягостно ему было общество писателей.
Ланны устроили ему бесплатную двенадцатидневную путевку в Дом отдыха писателей в Голицыне.
Кржижановский отказался ехать, но в конце концов
уступил настоянию товарища. На десятый день он сбе¬
272
Анна Бовгиек. Глазами друга
жал. У него была хорошая комната, все удобства для работы, но моральная обстановка оказалась тягостной:
«Мне об этом не говорят*, — жаловался он,— но ощущают меня как некий призрак, привидение от литературы. Причем ничуть не страшное. Я являюсь к чаям,
ужинам, затем рассеиваюсь за дверью комнаты № 8».
Ни явь, ни сон не давали ему покоя, алкоголь
стал для него необходимостью. Когда его спрашивали, что привело его к вину, он говорил, отшучиваясь:
«Трезвое отношение к действительности».
И все же он продолжал писать. В тридцать девятом году он закончил пьесу «Тот Третий»*. Первоначально тема была задумана как роман. С. Д. хотел
найти возможные литературные решения незаконченной повести Пушкина «Египетские ночи». Почему
«Тот Третий» имени векам не передал. Постепенно его
стала неотступно увлекать тема сыска, преследования
и бегства. В пьесе обе темы переплелись: литературная и философская.
Заканчивался и цикл рассказов о Западе.
Евгений Германович Лундберг, познакомившись на курорте с редактором «Советского писателя» Граником, охарактеризовал ему Кржижановского
как оригинального талантливого писателя и передал
ему сборник «Рассказы о Западе»*. Сборник безоговорочно был принят Граником к печати, отредактирован Митрофановым* и уже поступил в набор. Теперь наконец-то Кржижановкий будет держать в руках свою книгу, рассказы выйдут в свет и встретятся
с читателем. Это была, несомненно, крупная козырная
карта... Но в июне 1941 года радио сообщило советским гражданам о том, что фашистские полчища ворвались на территорию нашей страны. Война... Рушились все планы всех учреждений, в том числе и «Советского писателя». Карта бита.
273
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
XIII
Война... Москву трудно узнать. На стеклах окон
белые перекрещенные бумажные полосы, у магазинов
мешки с песком, на улицах надолбы. На лицах прохожих серьезность, сосредоточенная озабоченность.
Оставалась едва четвертая часть населения: немцы
быстро приближались к Москве, и жители торопливо
покидали город. По вечерам бомбежка: людские жертвы, разрушенные дома.
Арестован Левидов* — самый верный, терпеливый и добрый друг, Левидов, твердо веривший в мощь
русского духа и неизбежность нашей победы.
Знакомые и друзья один за другим уезжали на
Восток: за Волгу, в Сибирь.
Кржижановский решил остаться в Москве. На
недоуменные вопросы отъезжающих он отвечал: «Писатель должен оставаться там, где его тема».
Еще за год до начала войны Сценарная мастерская
Большого театра поручила ему сценарий оперы «Суворов». Музыку писал Василенко. Эвакуируясь в Куйбышев всем составом, Большой театр переуступил оперу
остававшемуся в Москве театру имени Станиславского.
Кржижановский решил остаться, чтобы держать связь
с уехавшим в Ташкент композитором Василенко, наблюдать за ходом репетиций и вносить по мере надобности
в текст оперы необходимые поправки и дополнения.
Я тоже осталась в Москве. Городской дом пионеров, где я вела работу по художественному слову,
не эвакуировался. Школы были закрыты, и Дом был
единственным местом, куда оставшиеся в Москве ребята могли приходить отдыхать и заниматься. Мы составили детскую концертную бригаду, которая обслуживала госпитали и Вторую военную дорогу.
274
Анна Бовгиек. Глазами друга
Начались репетиции «Суворова». Главную роль
исполнял Панчехин* — певец с небольшим голосом,
но с хорошими драматическими данными. Он удачно справлялся с вокальной стороной своей партии
и очень интересно намечал образ Суворова. Участникам спектакля нравились роли и музыка, они репетировали с подлинным увлечением.
В феврале месяце состоялась премьера*. Опасались, что бомбежка помешает спектаклю, не удастся
довести его до конца, но все шло великолепно. Театр
был переполнен военными: командирами и бойцами.
Многие сцены, особенно народные, принимались бурными аплодисментами. Только после окончания спектакля, когда слушатели покинули гардероб,
начался обстрел города. Небо мгновенно осветилось
ищущими лучами прожекторов, затрещали наши зенитки. Бомбежка продолжалась недолго, налетевшие
«мессершмитты» скрылись.
Когда мы с С. Д. пересекали улицу Горького, небо
было снова чистым и ясным. Звезды сверкали так ярко,
как они обычно светят в морозную зимнюю ночь. Под
ногами скрипел снег, отливая голубоватыми искрами.
Мы шли молча, без слов читали мысли друг друга. Война охватила полмира, льется людская кровь,
у каждого из нас есть близкие на фронте, и смерть
каждую минуту может поразить их... но есть и высшая
правда, высшая справедливость, и сегодня за нее надо биться. Мы, как могли, как умели, включились в эту
битву. Мы впервые чувствовали себя неотъемлемой
частью своего народа, сражающегося за родину, за человечество. Оттого на душе и торжественно, и светло.
Это и есть оптимистическая трагедия.
Мы прошли под большой аркой, ведущей в Ле-
онтьевский переулок. У ворот дома номер шесть, где
я сейчас жила у сестры, простились до завтра.
275
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
«Суворов» шел все годы войны, собирая полный
зал. Для обслуживания воинских частей в городе и на
фронте была организована суворовская бригада из
исполнителей оперных партий. Став членом бригады, С. Д. читал бойцам отрывки, сцены из «Суворова»,
а иногда и из «Попа и поручика».
Годы войны были временем подъема творческих сил Кржижановского. Он чувствовал себя подлинным гражданином родины и со всей щедростью
отдавал свои уже немолодые силы там, где они оказывались нужными.
В первый же год войны он написал пьесу на тему осады Севастополя «Корабельная слободка», либретто новой оперы «Фрегат „Победа“» о первом русском флоте, построенном Петром I*.
Видя его крайне истощенным и утомленным,
я не советовала ему браться за либретто «Фрегат „Победа“», тем более что «Корабельная слободка» не принесла ему денег, а сил отняла много. Но он упрямо писал: это было его внутренней потребностью. Когда
ему удалось получить деньги за «Фрегат „Победу“», он
явился ко мне, торжествующе преподнеся некую «эпистолу»:
Анне Бовшек
от
Фрегата «Победа»
Эпистола
Мингер Аннушка,
молвлено Тобою измыслителю моему пииту Сигиз-
мундусу: «Фрегат „Победа“ не даст вам ни копейки».
Сицевое слово вымпелу моему — пляма, а имени чистому, яко скло,— дисгонорация.
276
Анна Бовшек. Глазами друга
Вот ТЕ копейка, а вот ТЕ и еще оных 99,999, дабы нас
впредь с пиитом не осуждала...
Мон салют
всем бортом.
Мал-утл-фрегатец «Победа»
Януария 22-го 1942
Порт
В дни войны Кржижановский снова обращался к фольклору*, писал тексты песен на военные темы,
статьи «Русский солдат в мире сказок», «Об афишах
Ростопчина», «Смекалка на войне».
Большим радостным событием для него были
две командировки от ВТО. Первая в Иркутск, Новосибирск и Улан-Удэ*. Ему предстояло ознакомиться с репертуаром и постановками местных театров, провести ряд бесед и докладов. С особенным вниманием надо было отнестись к постановке пьесы Корнейчука
«Фронт»*, так как содержание ее некоторыми режиссерами трактовалось неправильно.
С. Д. впервые видел Сибирь. У него было мало
времени для серьезного ознакомления с этим краем,
но и то немногое, что он успел увидеть, давало материал для осмысления.
В Иркутске он встретился с Сергеем Дмитриевичем Мстиславским, своим старшим другом, советчиком и свидетелем первых литературных опытов.
Встреча оставила грустный осадок. Сергей Дмитриевич тяжело болел, чувствовалось, что друзья видятся
в последний раз*.
Вернулся в Москву Кржижановский, до краев
полный впечатлений от сибирских городов, людей,
от дорожных встреч, бесед, разговоров. Поезда почти
сплошь были переполнены военными, направлявшимися на фронт или возвращающимися в отпуск.
277
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Бледный, совершенно исхудавший, он походил
теперь на того Кржижановского, с которым я впервые встретилась в Киеве. Только волосы стали совсем
седыми, скорбные складки у рта прорезались резче,
и глаза еще потеплели. Таким добрым, светлым я видела его в редкие минуты жизни.
Вторую командировку ВТО в Осетию и Дагестан
он выполнил уже в конце войны.
Наступило 9 мая — праздник Победы. День выдался теплый, ясный. С утра улицы города полны народа. Красная площадь гудит веселым гулом. Люди обнимаются, плачут, смеются.
Вечером мы с С. Д. пришли к реке у Девичьего
монастыря. Здесь было тихо. Только серебристая сетка от множества причудливо переплетавшихся в небе лучей прожекторов напоминала о все еще длящемся празднике.
Древняя река у стен монастыря текла мирно,
спокойно, как и раньше: десять, двадцать, сто, тысячу
лет назад. Но мне казалось, что и река, и стены монастыря, и самый город те же и все же не те: они узнали
что-то иное, что узнала и я.
XIV
Война нанесла стране глубокие раны. Всюду
оставались следы глубоких разрушений, и народ, охваченный общим подъемом, принялся за трудное дело восстановления. Все ждали радостно и уверенно
изменений во внутренней жизни страны, но изменений не происходило. Все вернулось к прежнему состоянию. Прокатилась новая война арестов; на этот раз
жертвами ее стали пленные, возвращавшиеся из фа¬
278
Анна Бовгиек. Глазами друга
шистских лагерей. Настроение общего подъема начало постепенно падать.
Из эвакуации стали возвращаться друзья и знакомые. Сигизмунд Доминикович встречал их обессиленный и полубольной. Он по-прежнему читал лекции
студентам школы Камерного театра, вернувшегося из
эвакуации, но теперь в них не было прежнего блеска.
Своих оригинальных вещей он не писал. Попытка
продвинуть в печать последнюю работу — очерк «Раненая Москва»* — оказалась, как всегда, неудачной. Хуже было то, что работой был недоволен сам автор.
Внимание общественности теперь привлекала
новая Польша, ее культурная жизнь, ее искусство. Кржижановский, владевший польским языком, получил несколько заказов. Он переводил Юлиана Тувима*, Жеромского*, Мицкевича*, подготовил сборник рассказов
польских классиков*, написал монографию «А. Фредро».
Он жил теперь, мало общаясь с людьми. Друзья
посещали его все реже. Усилились приступы гипертонии, развивалось малокровие. Он окончательно переехал ко мне на квартиру.
В его записных книжках появляются строки:
«1.0 жизни думать уже поздно, пора обдумывать
свою гибель. 2. Жизнь допета и допита. 3. Близится
станция назначения — Смерть. Пора укладывать мысли. 4. Надо сдать свою жизнь, как часовой сдает свой
пост».
Первого мая выдался редкий для Москвы теплый ясный день. В окно было видно: чистое голубое
небо, прохожие в легких платьях и летних пальто.
Кржижановский сидел в глубоком кресле у стола, просматривая журналы, я читала, устроившись на
диване. Неожиданно, почувствовав толчок в сердце,
я подняла глаза: он сидел с бледным, застывшим, испуганным лицом, откинув голову на спинку кресла. «Что
279
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
с вами?» — «Не понимаю... ничего не могу прочесть...
черный ворон... черный ворон».
Ясно было: случилось нечто непоправимое,
и надо что-то немедленно предпринять. Устроив его
на диване, я сказала, что выйду на несколько минут
за покупками к обеду. Очутившись на улице, я быстро направилась к ближайшей психиатрической больнице, надеясь найти там дежурного врача и уговорить
прийти к больному. Дойдя по Плющихе до поворота
к скверу Девичьего поля, я столкнулась с двигавшимся прямо на меня трамваем. В вагоне не было никого,
кроме водителя. Вверху надпись: «Ваганьковское кладбище». Никогда по этой трассе не проходили трамваи
на кладбище — и почему пустой? Я в ужасе остановилась, следя за удаляющейся надписью. Только когда
вагон исчез, пришла в себя. Никакой мистики. Вагон
пустой, потому что идет из Артамоновского парка*. Сегодня Первое мая, в этот день на кладбище много народу, для обслуживания назначен специальный рейс.
В больнице я никого не застала, она оказалась
на ремонте. Зайдя в телефонную будку, я позвонила
Лундбергу и, рассказав в чем дело, попросила вызвать
из литфондовской поликлиники врача.
Врач констатировал спазмы в мозгу: парализовался участок памяти, хранивший алфавит*. Больной
мог писать, но не мог прочесть написанного и вообще
не мог читать. Это был сокрушительный удар. Чтение
было для него единственной радостью, чтение было
и насущной необходимостью. Перед ним лежала рукопись только что переведенного им пятого тома Мицкевича, дожидаясь правки, а он не мог прочесть ни одного слова. Лечение требовало терпения и покоя.
Прошло два месяца, а состояние не улучшалось.
О санатории писателей он не хотел и думать. Да у нас
и денег не было на санаторию. Навестившие его Ар¬
280
Анна Бовгиек. Глазами друга
го и Ланн выхлопотали некоторую сумму денег в Литфонде на лечение. Я купила две путевки в Плес в Дом
отдыха ВТО, надеясь на то, что Волга, волжская тишина и чистый воздух помогут преодолеть болезнь.
В Плесе С. Д. в окружении бездумных, беззаботно отдыхающих людей чувствовал себя неловко. Он дичился знакомых и незнакомых, прятал свою
болезнь, боясь обнаружить свою неполноценность,
рвался обратно в Москву. Мы уехали, не дождавшись
конца путевки.
Покой и лечение были не в его натуре. Он нетерпеливо ждал восстановления памяти, а она не прояснялась. Он купил алфавит, набросился на него, стараясь овладеть буквами, но буквы не возвращались.
В конце октября произошло кровоизлияние
в мозг. Оно привело к катастрофе.
В минуту просветления я спросила его: «Хотите ли вы жить?» Он ответил: «Не знаю. Скорей нет, чем
да, — потом тихо прибавил, — если б это не было так
пошло, я бы сказал, что душа у меня надорвалась».
Женщина врач-психиатр из поликлиники, желая установить картину болезни, задала ему несколько
вопросов. Он отвечал неохотно и нескладно. Женщина знала, что находится у постели писателя. Она спросила: «Любите ли вы Пушкина?» — «Я... я... Пушкина».
Он заплакал беспомощно, всхлипывая по-детски, не
удерживая и не стыдясь слез. Никогда раньше не видела я его плачущим.
28 декабря около четырех часов дня он скончался.
Кржижановский сдал свою жизнь, как часовой
сдает свой пост. Он работал до самого того дня, когда болезнь поразила его мозг. И не его вина, что всю
свою трудную жизнь он был литературным небытием,
честно работавшим на бытие.
1965
АбрамАрго
Альбатрос
1
Вы задаете человеку сто вопросов, и он на все
дает достойные, обязательные ответы:
— Вы признаете советскую власть?
— Что за вопрос!
— Без каких бы то ни было оговорок?
— Безусловно!
— Если бы вам предложили уехать куда-либо, переменить подданство?
— Ни за что! Моя страна, мой народ!
— А если бы защищать страну от врага?
— Всеми силами, до последней капли крови!
Итак, сто вопросов, будто бы все в порядке, но за
ними следует сто первый:
— А как по-вашему — бытие определяет сознание?
И в ответ на него:
-Нет.
Человек так устроен, так видит мир, так принимает события, что для него бытие сознания не определяет. Это дело мировоззренческое, законом не возбраняемое, ни грехом, ни преступлением не считающееся. Статьи нет. Отсюда и отношение к таким людям
двойственное.
Судя по погоде...
282
Абрам Арго. Альбатрос
2
В двадцатые годы в литературных и окололитературных кругах много говорили о Сигизмунде До-
миниковиче Кржижановском, поэте, прозаике, драматурге, критике, эссеисте и текстологе, о человеке великой образованности, замечательном лекторе, авторе
новаторских исследований по Шекспиру, Шоу и многим, многим — всего не перечислишь...
Сказал мне мой двоюродный брат, поэт Марк
Тарловский*:
— Хочешь познакомиться с выдающимся явлением нашей современности?
Я изъявил согласие и в назначенный час явился в назначенное место. На квартире Марка собрались
тридцать персон, заинтересованных предстоящим
знакомством.
В центре всеобщего внимания пребывал высокий, на косой пробор блондин с голубыми навыкат глазами; эти глаза не смотрели ни перед собой, ни
в сторону, а как-то внутрь, в себя, и звали собеседника
за собой, в глубину человеческого сознания.
Эти уста улыбались вежливо, корректно, безотказно и в то же время порою извергали полное опровержение этой же вежливости в такой же безукоризненно вежливой... форме.
Было налицо какое-то изощренное жонглирование мыслями, фигурное катание на коньках парадоксов, взрывание вековых пластов устоявшихся истин
и широкий взгляд на раскрывающиеся при этом дали
и вершины.
Кржижановский сел за стол, раскрыл папку, отхлебнул глоток чаю и приступил к чтению своих рассказов.
283
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
О чем были рассказы?
Один назывался «Неукушенный локоть». Речь
шла о неком чудаке, который в анкете некоего журнала на вопрос «ваша цель в жизни?» ответил: «Укусить
себя за локоть».
Редакция журнала заинтересовалась случаем,
направила сотрудника, и он действительно обнаружил
субъекта с прозрачными глазами, который в течение
многих лет, пребывая в грязной мансарде трущобного
дома, напрягал свои силы именно в этом направлении.
Журналист написал статью об этом, конкурирующий
журнал его высмеял, объявив, что тот стал жертвой
шантажиста, началась отчаянная полемика со взаимными обличениями, высмеиваниями и т. д.
Дальше — больше. Локтекуса приглашают в столичный мюзик-холл, из его попыток делают аттракцион, учиняют тотализатор, и каждый вечер ученые специалисты в белых халатах, с помощью сложнейших
приборов, устанавливают, насколько Локтекус продвинулся против вчерашнего измерения.
Дальше — больше. В минуту финансового кризиса государство выпускает «локтевой заем», и тут сатира достигает свифтовского сарказма! Кончается тем,
что Локтекус прокусил руку и умер от потери крови...
Другой рассказ называется «Желтый уголь». Дело
было так. В душный, безумно жаркий день шел в гору
трамвай, переполненный пассажирами, шел и вдруг
стал. И ни взад, ни вперед. Люди, сидящие внутри, державшиеся за поручни, висевшие на подножках, пребывали в состоянии высокого возбуждения, их раздражение и напряжение, наконец, доходит до такого
накала, что трамвай тронулся и... пошел*. Желчь, переполнявшая население трамвая, оказалась движущей
силой и дала направление вагону. По душной улице,
по раскаленной мостовой, по выгоревшему простран¬
284
Абрам Арго. Альбатрос
ству подымается вагон, движимый выделениями человеческой желчи.
Молодой ученый, на глазах у которого этот факт
имел место, вносит в правительство проект о всемерном использовании и применении желчи к нуждам
и потребностям человечества.
Желтый уголь!
И тут начинается новый тур свифто-чапеков-
ской иронии, переворачивающий вверх дном основные человеческие взаимоотношения.
Люди ходят со специальными абсорбаторами
для реализации желчевых выделений, все достижения
в этой области поощряются, становятся обязательными, и жизнь в конце концов упирается в чудовищный
парадокс: чем больше люди злятся, гневаются и грызутся между собой, отравляя жизнь друг другу, — тем
более подымается уровень житейского благосостояния...
Таковы были рассказы Сигизмунда Доминико-
вича. Тут была история о гениальном музыканте*, у которого пальцы сбежали... и стали вести самостоятельную жизнь, бродя по клавишам инструментов, и о том,
как эхо, бросив горные просторы, явилось в город*
и сделалось известным критиком, и многое другое.
Его в те времена не печатали. Один редактор
пришибеевского толка сказал ему:
— Поймите, ваша культура для нас оскорбительна!
Темперамента бойца у Сигизмунда Доминико-
вича не было. Он покидал поле сражения, не теряя
уверенности, что он делает доброе дело, что его труды нужнее народу, нежели многое признанное, напечатанное и обсуждаемое, но «время еще не пришло».
«Бетховен, которого играют фальшиво*, — все-
таки Бетховен. Даже больше: тот Бетховен, которого
совсем не играют, — тоже Бетховен».
285
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
«Здоровый пессимизм как-то веселее казенного
хилого оптимизма»*.
«Бытие определяет сознание — это верно, но сознание с этим не хочет мириться»*.
Таковы были афоризмы, которыми приходилось утешаться непризнанному...
И в самом деле, если бы сознание мирилось
с бытием, Прометей не похитил бы небожительско-
го огня, а Дон Кихот не пошел бы в свои героические
странствия.
з
Была у Кржижановского драматургия*: комедии,
драмы, либретто, все они были своеобразны, оригинальны, но все не в том ключе, «не в ту масть» и представляли собой загадку для тех «консулов, которым
надлежит блюсти...»*. С «правыми попутчиками» было
куда легче. Замятин или Пильняк* открыто излагали
свои взгляды и установки, иные критики с ними боролись, другие пытались их перевоспитывать...
То, что писал Кржижановский, нельзя было признать ни советским, ни антисоветским — ни в какой
мере. Это было нечто внесоветское. Другого измерения. Не в ту масть.
Одна пьеса называлась «Тот Третий». Речь в ней
шла о третьем любовнике Клеопатры (вспомним не
законченные Пушкиным «Египетские ночи»). Помимо первых двух претендентов — воина и философа, — третий был молодой поэт, притом он оказался трусишкой и позорно сбежал от любовного ложа
плотоядной царицы. Пьеса посвящена погоне оскорбленной Клеопатры за малодушным любовником,
286
Абрам Арго. Альбатрос
причем фарсовые сценические положения излагаются стилем древних папирусов, отсюда, конечно, вытекали замечательные театральные эффекты.
Времена Павла Г, романтического самодура, не
знавшего ни меры ни удержу в своих прихотях и капризах. Некий поп отличался нравом суровым и непреклонным; ему противопоставлен некий поручик,
сугубо лиричный и сентиментальный. В результате некой хитросплетенной интриги Павел издает рескрипт краткий и выразительный: «Попа в поручики,
поручика в попы!» Таким образом создается канва для
музыкального содержания пьесы — мы имеем церковное служение на военный лад и военное обучение, парад и маневры в духовном ключе, по всем правилам
церковных хоралов. Поручик такого раздвоения личности не вынес и стал пить вмертвую.
— Поручик, почему вы так много пьете? — спрашивает кто-то из персонажей.
Тот в ответ:
— Я слишком трезво отношусь к окружающей
действительности!
В тридцатых годах на приемной комиссии Союза писателей* стоял вопрос о принятии С. Д. Кржижановского в члены Союза.
А. А. Фадеев вел собрание и пребывал, по его
словам, в некотором недоумении.
— Что за явление? — спрашивает он. — Одна —
большая — часть не то что плохо говорят о человеке,
но просто не знают его, не подозревают о его существовании. Откуда он, кто он такой, что сделал? Неизвестно. Зато другие — в меньшинстве — превозносят
его, почитают европейским писателем, который может составить честь и славу советской литературы.
Таким и предстал Кржижановский на большом
собрании писателей, и после развернутых представле¬
287
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
ний его поручителей — это были Михаил Левидов, Евгений Ланн и несколько других солидных товарищей,
в том числе Николай Асеев, который лично с С. Д. знаком не был, но, прочитав несколько рассказов, высоко
оценил его дарование, — в конечном счете, Кржижановский был сочтен, как говорили в старину, «достойным войти» и причислен к лику советских писателей.
4
Таков был Сигизмунд Доминикович, драматург,
рассказчик, эссеист, исследователь и, помимо всего, замечательный лектор, популяризатор, преподаватель, владевший в совершенстве вниманием любой аудитории... Он мог вести своих слушателей известными путями, проторенными дорогами, но при
сопоставлении общепринятых, тривиальных истин
привести к ошеломляюще-неожиданным выводам.
И обратно: сопоставляя несовместимые идеи и факты, оратор с какой-то лукаво-извиняющейся улыбкой
констатировал давно известную, дважды-дважную
истину.
Делал он доклад о Шекспире и высказал при
этом отнюдь не новую мысль насчет бессмертия гениев человечества, которое в том и заключается, что
каждое новое человеческое поколение черпает из их
творений новое содержание, как бы говоря своим
предкам: «Вы его не так понимали, а вот мы поняли
по-настоящему!»
В этом месте Сигизмунд Доминикович пожал
плечами и развел руками:
— В сущности говоря, что такое вопросительный знак? Состарившийся восклицательный*.
288
Абрам Арго. Альбатрос
Аплодисменты зрительного зала.
При Камерном театре была театральная школа*.
Александр Яковлевич Таиров пригласил Кржижановского вести курс русской литературы*. С одной стороны, он хотел как-нибудь материально обеспечить
неустроенный талант, но в то же время твердо был
убежден, что дает молодым ученикам исключительного преподавателя, который способен взволновать
и увлечь слушателей своим предметом, своим отношением к искусству. Тут не было ошибки: каждая лекция Сигизмунда Доминиковича превращалась в праздник неожиданностей, научных открытий и счастливых находок... И в то же время преподаватель никак не
укладывался в рамках школьного курса, и отсюда вытекали досадные недоразумения.
Вот какой казус случился однажды в педагогической деятельности Кржижановского.
Не считаясь с лекционными нормами, он уделил однажды непомерно много времени древнерусской литературе со «Словом» и «Задонщиной» и «Перепиской Ивана Грозного», затем так же перегнул по
XVIII веку, по Ломоносову, Державину да Фонвизину, — одним словом, при первых проталинах ранней
оттепели наш лектор ощутил озноб...
Какой ужас! У него осталось четыре часа на девятнадцатый век, на золотую эру большой русской литературы! На пушкинский период, на эпоху критического реализма, на Чехова, на молодого Горького.
Четыре часа!
«Есть от чего в отчаянье прийти!»
Передаю слово потерпевшему.
— Я долго думал, — говорил он, — соразмерял, сопоставлял и... Наконец мелькнул просвет в чаще... Я вспомнил знаменитую статью Чернышевского* «Русский человек на рандеву», ту самую, из-за
289
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
которой пошел раскол, которая обусловила окончательный разрыв между либералами и благодушными разночинцами! Понятие «рандеву» берется здесь
как образ решительной встречи, последнего выбора в смысле определения общественного сознания
у русского интеллигента! Думал я, думал, и вдруг мне
ударил в мысль другой образ эпохи, столь же четко
определяющий линию развития общественных отношений! «Русский человек на поединке»! Ключ был
найден! Разве не под знаком дуэли шла вся русская
литература золотого века? Был ли хоть один писатель, не коснувшийся этой роковой темы? О Пушкине
и Лермонтове говорить не приходится. У Гоголя шутейный кулачный бой отца с сыном завершается их
трагедийной встречей!
У Тургенева — основная тема во многих рассказах и... романе «Отцы и дети». У Толстого и Достоевского поединок проходит эпизодом в «Войне и мире»
и «Бесах»...
Наконец, у ближайших современников — у Чехова и Куприна — эта тема отражена и варьируется
многократно.
Даже у молодого Горького, которому тема дворянской дуэли абсолютно чужда, все-таки под знаком
поединка идут такие рассказы, как «Мальва» и «Чел-
каш».
При этом нужно отдать справедливость, каждый
автор вкладывает свое содержание в этот образ встречи противников у барьера, на восьми шагах один от
другого...
Дуэль — это варварский пережиток, нелепый
способ разрешения принципиальных вопросов лотерейным путем! Такова дуэль Онегина и Ленского, такова же дуэль Базарова и Кирсанова, представляющая
тонкую и злую пародию на онегинский поединок!
290
Абрам Арго. Альбатрос
Но дуэль Печорина и Г]рушницкого — это встреча, которую нельзя назвать иначе как «Божий суд». Печорин отвергает все шансы, идет упорно навстречу
собственной смерти и... наносит смертельный удар
Грушницкому, а в его лице — пошлости, коварству, обману и лицемерию...
Таким образом, в двух двухчасовых лекциях
Кржижановский отразил тему дуэли в развитии большой русской литературы. Тема бытовала в истории
общественного сознания, отношение к ней менялось:
не прошло и пятнадцати лет после дуэли Пушкина,
как Герцен с презрением и негодованием отверг вызов
Гервега в аналогичных обстоятельствах — он взывал
к общественному суду, но считал недостойным для себя, семьянина и общественного деятеля, нужного своим детям и своему народу, подставлять грудь под пулю
обманщика и лицемера, пригретого им в своем дому!
Так вывернулся Кржижановский из тяжелого,
казалось, безвыходного педагогического казуса.
Внести новые пункты в академическую программу ему, пожалуй, не удалось, но молодой ученый, который создаст диссертацию «О теме поединка
в русской литературе», найдет много новых интересных сопоставлений в жизни русских писателей и характерах героев.
Из всего созданного Кржижановским было реализовано* несколько рассказов в журнале «Тридцать
дней», в том числе рассказ о локтекусе, была поставлена опера «Суворов» на музыку С. Н. Василенко в нескольких театрах страны, наконец, было опубликовано несколько статей о Шекспире, Шоу в первом издании «Литературной энциклопедии» и в журнале
тридцатых годов «Литературная учеба».
Кржижановскому не везло на оппонентов. Он
знал запреты — критики не знавал.
291
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Гордый и непризнанный, самолюбивый и болезненно не способный ни на какие компромиссы, он
всю жизнь так и прошлепал исполинскими крыльями по мокрой палубе наподобие бодлеровского альбатроса*.
Жизнь продолжается...
То, что писал Кржижановский, не было модным
в те времена и поэтому не может считаться устаревшим в другие времена.
Жизнь впереди...
<19б5>
Наталья, Семпер
Человек из небытия
Воспоминания о С. Д. Кржижановском
1942-1949
1
В один прекрасный день в июле 1937 года* к нам
на дачу в деревню Шуколово* пришли гости, три человека, почти одинаково одетые в синие костюмы и открытые белые рубашки. Это были: писатель Сигизмунд До-
миникович Кржижановский, композитор Сергей Никифорович Василенко и режиссер Валерий Михайлович
Бебутов*. Они пришли по делу к моему отцу художнику-
декоратору Евгению Соколову* обсудить вместе постановку пьесы Кржижановского «Поп и поручик». День
был яркий и жаркий, обедали на веранде, увитой хмелем; еды всякой было тогда много. За столом гости, папа, мама и я много смеялись — пьеса показалась очень
занятной и остроумной. Василенко я давно знала, он
был наш, местный, — его дача и теперь еще стоит в чаще старых елок, близко от платформы, напротив дачи
Сперанских*; Бебутов, давно знакомый с отцом, не раз
бывал у нас в Москве; Кржижановского я видела впервые и сразу обратила внимание на его своеобразный
и привлекательный облик: высокий человек с хорошей
осанкой, при этом мягко-пласгичный; интеллигентное
польское лицо с крупными нерезкими чертами; умные
293
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
проницательные глаза и очень приятный голос, баритон, отличавшийся особенным тембром и интонациями. Таким представился он мне через обеденный стол
в полутени качающихся листьев хмеля — мне, тогда диковатой темно-загорелой девушке с ромашкой за ухом,
босой, легко одетой в экзотический сарафан. После
обеда мы еще долго сидели за чаем со свежей малиной,
беседуя о здешней красивой природе. Шуколово стоит
на высокой горе, вид — на много верст крутом. Знаменитый окулист Владимир Петрович Филатов, отдыхая
летом у сестры, Елизаветы Петровны Сперанской, любил приходить сюда писать этюды, он считал себя художником прежде всего*. Вечером пошли провожать
гостей вниз. По дороге я в первым раз непосредственно обратилась к С. Д.: «Вам нравится эта местность?» —
«Она не может не нравиться», — ответил он.
Дома я сказала своим, что этот автор выглядит
очень своеобразно, совсем не так, как другие знакомые; стала расспрашивать о нем отца, но, только что
познакомившись с ним, он ничего не знал.
Отец увлекся новым заказом, скоро взялся за работу и к 10 сентября сделал два эскиза для «Попа и поручика»*: первый акт — дом попа в деревне (шуколов-
ская церковь с натуры), второй акт — мрачный плац
под снегом в Петербурге. Не помню, в каком театре*
должна была быть эта постановка, но помню, что она
не осуществилась нигде.
2
7 августа 1942 года отец попросил меня отнести на выставку во Всероссийское театральное общество два макета и несколько эскизов. Выставку работ
294
Наталья Семпер. Человек из небытия
московских декораторов (тогда еще не додумались до
слова сценография) устраивал Николай Александрович Попов, активный деятель ВТО, папин старый друг.
Установив макеты на место в Большом зале на пятом
этаже, я собралась домой, но Любовь Давыдовна Вен-
дровская*, сотрудница музея Вахтанговского театра,
с которой я встречалась на журфиксах у Поповых, уговорила меня остаться на вечер английской драматургии, главным образом потому, что доклад о творчестве
Бернарда Шоу будет читать Кржижановский, докладчик, по ее словам, замечательно интересный. Я поднялась на шестой этаж в Малый зал и села справа у окна.
Сначала рассматривала и зарисовывала — необычный
вид на крыши Елисеевского магазина и соседних домов — красноватую симфонию треугольников и пирамидок. Никаких ассоциаций фамилия докладчика не
вызвала через пять лет, но, увидев его, я сразу вспомнила автора и тот день в деревне. Доклад был действительно интересен, построен смело и гибко, полон вывертов в стиле самого Б. Шоу и очень странных метафор. Я была увлечена. Общее впечатление от него и от
личности С. Д. осталось очень сильное. Идя по Тверской, я думала только о нем.
з
Кое-как, кое-кого расспросив в ВТО, я окольными путями узнала, что С. Д. совсем недоступен для посторонних. Однако я решила познакомиться с ним —
хоть бы лишь здороваться на вечерах в ВТО, и стала
обдумывать, как этого добиться. За две недели я «единым духом» написала шесть коротких очерков, выбрав
ряд характерных эпизодов из своей жизни, и озагла¬
295
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
вила их «Письма к неизвестному другу»: 1) о работе
переводчиком с группой рабочей молодежи в школе Коминтерна; 2) о работе с японским режиссером-
политэмигрантом Иоси Хидзиката*; 3) образно и легко, о моем способе изучения иностранных языков;
4) о колорите «Поэмы о Беовульфе»*; 5) об одной ночевке в горах Киргизии; 6) о коллективном крещении
двенадцати младенцев в церкви на Воробьевых горах
(это было поистине красочное зрелище — окна окружены ярко-желтыми листьями, священник в ярко-
красном одеянии, дети вокруг купели в белом).
Осень в том страшном году, трагичная для всех
людей, была совершенна в природе. Подряд безоблачные, безветренные дни. Клены в парках золотились
и пылали. В безлюдной Москве чисто и тихо. Очерки
были написаны в Филевском парке, на заросшей площадке высоко над рекой; днем, как неведомые звери,
на ней покоились два колоссальных дирижабля воздушного заграждения. Я часто бродила там одна и уходила, когда они бесшумно возносились в небо в ничем
не освещенных сумерках.
30 сентября* в ВТО был большой концерт Обуховой*, и пела она своим проникновенным голосом
о том же: «В густолиственной кленов аллее...» В антракте Вендровская представила меня С. Д. Волнуясь внутри, я внешне была спокойна; стесняясь, извиняясь, попросила его когда-нибудь просмотреть очерки и сказать, стоит ли мне этим заниматься. Он был любезен
и обещал сделать это, но не так скоро, потому что через два дня должен был ехать далеко, в Улан-Удэ, принимать постановку «Фронта» Корнейчука — эта пьеса шла
во многих городах, и многих критиков посылали в командировки. Я поблагодарила его и отошла в свой ряд.
Отец тогда срочно писал декорации к пьесе «Салют, Испания!»*, и я две ночи помогала ему заливать
296
Наталья Семпер. Человек из небытия
задник, то есть писать точно такой же оранжево-ало-
коричневый парк, как наяву, в Москве, в те дни всеобщего горя и моего счастья.
4
С. Д. вернулся в ноябре совсем разбитый, с пожелтевшим лицом и потухшими глазами*. Условия
в пути туда-обратно были невыносимы: битком набитый, грязный, насквозь прокуренный вагон, собачий холод и вместе с тем духота. Он, некурящий и чистоплотный, предпочитал подолгу стоять в тамбуре
и смотреть сквозь пятна в обледенелых окнах на бесконечные голые пространства, на запущенные вокзалы, на безнадежно ждущих людей с детьми и с вещами.
Как он питался — неизвестно. Обо всем этом С. Д. рассказал довольно сытой публике в элегантном псевдоготическом зале Союза писателей. Потом сказал несколько официально прозвучавших слов о «Фронте»
в бурятском исполнении. Наконец — насыщенный реалиями и цитатами доклад о монгольском эпосе* по
материалам, которые он ухитрился там собрать.
Через несколько дней, встретив меня в коридоре ВТО, С. Д. вернул очерки и посоветовал продолжать
в том же духе.
5
Шекспировским кабинетом ВТО руководил Михаил Михайлович Морозов*, тогда ведущий специалист и переводчик, в plusquamperfectum* — тот самый
297
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
маленький мальчик Мика на картине Серова*, а в сороковых годах уже громадный громогласный мужчина в черном костюме, с черными волосами и темным
отливом на щеках. Полный бурной энергии, всегда
оживленный, то радушный, то грубый, он всем давал
возможность отдохнуть от забот, высказаться о литературе в своем кабинете и даже немного заработать
переводами, рецензиями, рефератами. В московских
квартирах было нетоплено, сыро, часто темно, а тут,
в ВТО, тепло и светло. Дома у всех горе, голод — а здесь
можно поговорить о высоких материях и микроскопических тонкостях языка. Во многих учреждениях
сидели в шубах — здесь была настоящая раздевалка,
можно было прилично одеться.
И потому в ВТО раз в неделю (кажется, по средам) собиралась теалитэлита: Ал. Толстой, Маршак,
Михоэлс, Ланн, Кржижановский, Шервинский*, Шен-
гели, Арго, Левик*, Станевич*, Дынник*, Узин*, Поль
и др. критики и переводчики, а также безмолвные слушатели докладов. Шекспироеды (sic!) спасались у Морозова от морозов, физических и духовных, и без
конца жевали, жевали Шекспира на голодный желудок — до последней косточки все трагедии, комедии, хроники, сонеты и прочие стихи и комментарии
к ним за триста лет.
В первые годы войны С. Д. бывал в ВТО довольно
часто, его доклады и выступления по чужим докладам
любили слушать и высоко ценили. На одном из вечеров он с большим успехом прочитал свой перевод
«Песенки Шекспира»*. Иногда мы вместе выходили
после заседания, обмениваясь мнениями, понемногу узнавая друг друга, и тут же расставались на трамвайной остановке. Зимой С. Д. был плохо одет и зяб,
дожидаясь «А»*. На нем было короткое поношенное
зимнее пальто, старая каракулевая шапка и холодные
298
Наталья Семпер. Человек из небытия
ботинки. Я уже знала, как он нуждался, как угнетен постоянными неудачами, но об этом не говорилось ни
слова. Подходил трамвай, он уезжал либо на Плющиху к А. Г. Бовшек, либо на Арбат, 44, в свою собственную комнатушку. Я шла домой на Воротниковский, 10,
где мы жили в бывшем доме Сувировой, первой жены
художника Бялыницкого-Бируля* (его квартира помещалась в том же дворе, в другом доме). Особняки были
превращены в адские коммуналки, однако отцу и матери удалось, выдержав гражданскую войну с жильцами, совсем отделить две комнаты. Одна из них, очень
маленькая, была предоставлена мне, когда я кончила
школу.
6
Чтобы понятно было дальнейшее, придется
сделать еще одно отступление о себе. Бросив в конце тридцатых годов основную специальность — иностранные языки, я ушла из ВОКСа*, где служила референтом, и занялась графикой, оформлением и шрифтом на выставках и в клубах. Плакаты, цитаты, лозунги
и диаграммы требовались повсюду и оплачивались
хорошо — у меня было много, по тем временам, своих денег. Кроме того, я работала в библиотеке Московского театра оперетты во время войны. Отец был там
главным художником, я помогала ему писать декорации и подрабатывала в бутафорской у Любови Константиновны Ереминой, художницы, встречавшей
С. Д. у Хализовых в тридцатых годах, так что с ней
я могла поговорить о нем.
В первые дни войны Театр оперетты эвакуировался в Прокопьевск. Основная часть труппы во главе
299
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
с Яроном* уехала, некоторые актеры остались с Аникеевым* в Москве. «Сильву» и «Марицу» сплющили
в одноактное состояние и показывали днем заезжим
военным и москвичам в бывшем помещении Театра
сатиры (ныне сломанный дом на Садовой). Публика не раздевалась, сидели в валенках, тулупах и шапках, наслаждались видом полуголых актрис в вечерних платьях, которых за кулисами ждали мамы с шубами и платками.
Театр «Аквариум» стоял совсем пустой, но кое-
где в нем теплилась жизнь: работали художники, бутафоры, маляры, столяры; была открыта библиотека,
в которой почти никто не бывал, а я сидела целыми
днями одна и читала вволю; на первом этаже в одной
комнатке жила Клавдия Сергеевна Судейкина* — комендант здания, — бывшая актриса «Привала комедиантов»*, бывшая теософка, жена кинорежиссера Леонида Оболенского*, пропавшего на войне. С этой
очень самобытной, уже немолодой женщиной скоро я подружилась. Библиотека помещалась на втором
этаже в большой светлой комнате. Кроме маленького
рабочего столика и стула были там четыре казенных
кресла и круглый стол у окна.
18 июня 1943 года я пригласила туда в гости
С. Д. — ждала отказа, однако он охотно согласился. Наши случайные беседы в ВТО были похожи на обрывки, на разрозненные черновики. Здесь можно было
поговорить наедине, долго и серьезно. Так как вход
с площади Маяковского был закрыт, я вышла встретить его к шести часам у выхода из метро. День был
летний, С. Д. пришел в белой рубашке с широко открытым воротником и в белых брюках, выглядел моложе обычного. Я повела его кругом через сад, сплошь
засеянный салатом, укропом и петрушкой (актеры сами вскопали его и поделили грядки), потом через за-
300
Наталья Семпер. Человек из небытия
ваденные досками задворки, через мастерские, по безлюдным лестницам и коридорам. Все было странно,
и я чувствовала, что ему это нравится. Вошли. Он увидел круглый стол, накрытый белой скатертью, уставленный закусками и сластями. Посредине — бутылка
розового муската и тонкая вазочка с пышно цветущей
веткой жасмина. Около нее несколько интересных
книг. Он, вероятно, был удивлен таким неожиданным
приемом. Тарелки, чашки, рюмки и серебро я принесла из дома, чтобы доставить ему удовольствие, в его
жизни было так мало красоты и комфорта... Мы пировали часа три-четыре, рассуэвдая о всяких тонкостях. Познакомились глубже. С. Д. откинулся в кресле,
явно наслаждаясь, его грустное лицо оживилось, он
острил и шутил. Глядя на него, я думала: ему пошел бы
костюм кардинала или ученого XVIII века. Говорили
о полузабытых, теперь вновь найденных поэтах начала нашего века — он много знал о них, и я жадно слушала. С. Д. первый рассказал мне о Марине Цветаевой
(о ней я не имела никакого понятия) и прочитал два-
три ее стихотворения. Затем об имажинизме в поэзии
и в прозе, о журнале «Гостиница для путешествующих
в прекрасном»*. Я сходила вниз к Судейкиной и принесла горячий кофе. Под салфеткой были два пирожных и шоколад (при желании все можно было достать
даже в 1943 году). Разговор тоже перешел на деликатесы — Джон Донн*, Гонгора, Рильке...* Мы плавали
за стеклами «Аквариума», как золотые рыбки в литературных водорослях. С. Д. не торопился, ему не хотелось прекращать этот сон в летнюю ночь, но к десяти часам все должны быть дома — война... Когда наше
окно стало лиловым, мы встали и пошли обратно по
темным лабиринтам. В темноте он плохо видел, и местами я вела его за руки, мысленно оказывая дружескую поддержку.
301
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
7
В сентябре 1943 года С. Д. почему-то пригласил
меня в театр, по контрамарке (вероятно, другие знакомые отказались), на чью-то постановку, в том же
б. Театре сатиры. Спектакль был плохой, даже не помню названия. В антракте мы остались сидеть в зале,
беседуя о том да о сем, и тут я сообщила С. Д., что мы
очень давно знакомы, и напомнила тот день в Шуко-
лове. Он удивленно, внимательно посмотрел на меня:
«Вот как! И та гогеновская девушка, это были вы?» —
«Да, это была я». — «Подумать только... une fatalit&..»*
(Не мудрено, что не узнал: сейчас рядом с ним сидела
сдержанная особа в длинной черной юбке и кофточке, вышитой китайскими шелками.)
8
28 декабря я еще раз пригласила С. Д. в гости,
уже домой, «на елку». Холодной военной зимой хотелось побаловать его уютом. В моей мини-комнатке
жарко топилась голландская печка, похожая на камин,
дверца оставалась открытой, и тепло лилось прямо на
широкий диван, покрытый мехом. Мы сидели на нем,
смотрели на веселую игру огня, слушали треск дров
и мечтали. В углу справа поблескивали старинные
елочные украшения, пахло свечами и хвоей. Рядом, на
низком столике, вкусные вещи, портвейн... какие-то
стихи. С. Д. грелся, прислонившись к подушкам и к высокой спинке дивана, глаза блестели, он был доволен.
Говорили весь вечер, кажется, о книгах. Как он любил
книги! Особенно редкие. Я подарила ему «Пословицы
302
Наталья Семпер. Человек из небытия
и поговорки» Даля*. Большие малиновые угли пламенели, переливаясь, угасали. Я пробормотала строчку
из «Ворона»: «...and each separate dying ember wrought
its ghost upon the floor»*. С. Д. любил Эдгара По*, и мы
стали вспоминать его стихи и рассказы.
9
С тех пор он стал изредка бывать у меня: я наконец добилась своей тайной цели: упросила его принести мне почитать его новеллы. Бедные пожелтевшие страницы, не познавшие типографского шрифта! Я не литературовед, анализ, критика и оценка их
мне и теперь не под силу, это дело опытных ученых, и этому не место в сугубо личных воспоминаниях. А тогда я была совсем не готова к их восприятию. Мы когда-то проходили Свифта на третьем курсе, но можно ли понять Свифта в девятнадцать лет?
Так же давно я читала Гофмана, без особого увлечения,— в юности моим любимым писателем был Джозеф Конрад. О существовании Кафки я не подозревала до встречи с С. Д*.
Новеллы С. Д. неожиданно обрушились на меня как нечто поразительно новое, я читала их по ночам с любопытством, с недоумением. Они немножко напоминали рассказы Густава Мейринка*. Одни
вдруг задели за живое, резали, как ножом, и запомнились навсегда; другие показались безжизненными, условными, даже заумными, но над всеми витала безысходность. Не так трудно было понять их, как высказать свое мнение С. Д. Он всегда ждал отзывов от кого
угодно, начиная со своих искушенных друзей, кончая рядовым читателем вроде меня. Новеллы настоль-
зоз
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
ко сложны и различны, что высказываться о них однозначно было нельзя. Я ограничивалась вопросами
и похвалами — даже того, что не совсем поняла. Воображаю, как он смеялся надо мной.
10
После какого-то дневного заседания ВТО, походив по книжным магазинам на улице Горького, мы спустились в Александровский сад. Мне давно хотелось понять С. Д., его мировоззрение в целом, но это было нелегко: я была слишком молода,
он был слишком оригинален как мыслитель. Все же
на этот раз выяснилось немного: что он предпочитает Гегеля Канту, любит Шопенгауэра, интересуется Сартром*. Востоком он не занимался*, и основа
основ моего бытия — природа была ему чужда. Это
был подлинный европеец, горожанин, расколотый
бинарными оппозициями, омраченный экзистенциализмом, скепсисом и подменами внешнего порядка. Когда я познакомилась с С. Д., идеологический
гнет и вето всемогущей цензуры уже сломили его
как писателя, вытравили надежду, погрузили в глубокий неизлечимый пессимизм. Все это было спрятано внутри, а в поверхностном общении с чужими
людьми он был нейтрален, и репрессии тридцатых
годов миновали его. Убедившись в том, что в области философии у нас нет ничего общего, я решила не
касаться метафизических истин, это было бесполезно. Наша беседа мирно вернулась в привычный мир
искусства.
304
Наталья Семпер. Человек из небытия
11
Энвер Ахмедович Макаев*, кандидат филологических наук, необозримо разносторонний, изысканно
одетый молодой ученый, знавший двадцать языков, готовил в то время докторскую диссертацию «Prolegomena
ad Edda»* и читал доклады по связанным с ней темам.
С ним у меня давно установились чисто товарищеские
отношения, мы часто непринужденно общались и купались в морях всемирной культуры: не было такой страны, эпохи, книги, о которой Энвер не мог бы захватывающе интересно и художественно рассказать.
В ноябре 1944 года он позвал меня на свой доклад «О великанах в скандинавском эпосе» в мою альма-матер — Институт иностранных языков. Полагая,
что это будет небезынтересно и С. Д., я пригласила его
тоже. Ровно падал тихий звездчатый снег. С. Д. встретил меня на углу Девичьего поля. Он был необыкновенно бодр, даже весел. Он вдруг взял меня под руку (!)
и бросился бежать через темную пустынную Зубовскую площадь. Я летела рядом с ним сквозь снег — это
было восхитительно, — наконец-то он почувствовал
себя молодым...
Отлично смонтированный доклад Энвера был
насыщен неожиданными сравнениями и примерами на древнеисландском языке; он хорошо знал кен-
нинги скальдов и приводил их в тексте, попутно объясняя. На вечере присутствовали профессора и аспиранты, несколько студентов. Последовало обсуждение.
С. Д. задавал вопросы и выступил с очень положительной оценкой доклада. Энвер был доволен, все ушли
в приподнятом настроении.
Решив познакомить их, я вскоре устроила маленький ужин в своей норке. Сама в их разговор не
305
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
вмешивалась — угощала, слушала, наблюдала. Прекрасно, когда два умных, блестяще образованных
мужчины сражаются на рапирах слов... Один — солидный и спокойный, с едва уловимым чувством юмора, другой — полный жизни, самоуверенный, распускающий перед старшим весь павлиний хвост своих
знаний. На другой день мы с Энвером пошли в какой-
то музей, и мой товарищ был совсем не в духе; а С. Д.
потом отзывался о нем с несвойственным ему добродушием: я думала, что будет наоборот.
12
О политике, о войне мы почти не говорили. Недоверия не было и тени, но мы будто инстинктивно
берегли друг друга. С. Д. неохотно сообщал о своих поездках на фронт, о том, что видел там, и я не знала, как
он относится к войне. В его произведениях звучат порой твердые, мужские ноты, он много изучал историю
и был точен в описаниях военного дела и быта; но
здесь, у меня, все это оставалось в стороне — он, вероятно, решил превратить меня в некий заповедник для
отдыха от тяжелых впечатлений, однако я испытывала угрызения совести, так как не желала отрываться от
действительности. Он же вел себя как в оранжерее: мы
бродили среди литературных орхидей и раффлезий*,
любуясь ими, потом выходили в противоположные
двери, каждый в свой мир. У меня дома С. Д. ни разу
не столкнулся с родителями, хотя был знаком с ними,
ни разу не ужинал со всеми в столовой. Никто из моих
родных и друзей не знал о наших встречах, и он никогда не предлагал познакомиться со своими. Полная
изоляция установилась сама собой, мы не сговарива¬
306
Наталья Семпер. Человек из небытия
лись об этом, но, кажется, оба находили в ней что-то
возбуждающе-острое.
13
В сороковых годах я бывала на концертах в до-
ме-музее Скрябина*. Музыку слушали в темной гостиной: Софроницкий* играл при свечах. Скрябин и Шопен были музыкальным подтекстом общения с С. Д.
и всех тогдашних переживаний. Мария Александровна Скрябина*, талантливая артистка, унаследовавшая
обаяние отца, устроила в ВТО вечер классической
трагедии и с полной самоотдачей сыграла Антигону.
С. Д. был восхищен ее игрой, особенно сценой, где она
перед смертью в экзальтации разрывает на себе цепи.
В конце войны М. А. попыталась организовать в музее
светомузыку, поставить «Прометея»*, но средств и техники не хватало. Цветные лампочки на длинных шнурах и аккомпанемент старой фисгармонии не давали
грандиозного эффекта.
Мы с Энвером увлекались тогда синестезией, читали «Философию искусства» Б. Христиансена*, «Синтетическую историю искусств» Маца*, Вёльфлина*,
Волькенштейна* и т. п.; об этом я рассказывала С. Д. —
это увлечение было не чуждо и ему.
Театральная жизнь тогда, несмотря на страшное
давление сверху и зверства Епавлита и реперткома,
была очень интенсивна, и в узком кругу высказывались интересные мысли. Акимов поставил «Дракона»
Шварца* — это был исключительно яркий, стилизованный спектакль. Мне посчастливилось увидеть генеральную репетицию в «Аквариуме», после которой
его моментально сняли.
307
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
14
А быт был ужасен. Однажды С. Д. проговорился, что все утро пробовал колоть дрова на дворе и чуть
не отморозил руки (сомневаюсь, что он умел колоть
и пилить...). В подъезде дома в Земледельческом переулке, где жила А. Г. Бовшек, были выломаны окна, полуразрушена стена, не закрывались двери, царил непроницаемый мрак — только в полнолуние видно, куда идешь.
15
Образ/понятие — самый любимый творческий
прием С. Д.; он был взят им из имажинизма и разработан до совершенства. Примеры его рассеяны по всем
его произведениям, от научных статей до фантастических новелл. Из записок о путешествии в Среднюю
Азию*: тени вагонов бегущего поезда / цепь ромбов,
сцепленных белыми полосами / мелькание мгновений = время; мелодия восточной флейты / разматывание чалмы = характер музыки; из рассказа: «...стих,
который, взяв квадрат земли... за четыре конца, растягивает кладбище до...»*, или: «Тогда я, обойдя стих кругом, вошел в него через „купили“...» и т. д., и т. д. — их
масса. Каждый образ латентно содержит и подсказывает понятие, каждое понятие понимается в образе,
через образ. С. Д. виртуозно владел смыслами слов, его
точный, предельно сжатый, но, в общем, реалистический язык открывает непредвиденные семантические
ряды, вызывающие в подсознании читателя непредвиденные образы, новые впечатления. И статьи, и но¬
308
Наталья Семпер. Человек из небытия
веллы развиваются сразу в двух аспектах, в конкретном и в отвлеченном. Удивительный язык!
16
В жизни бывают странные совпадения, начинаешь верить в эту самую fatalite: или все — не случайно? В поисках работы я зашла осенью 1945 года в Гослитиздат, показала свои рисунки главному художнику
Ильину*, они понравились, и тут же заказали мне обложку, титул и заставки к «Избранно^» Юлиана Туви-
ма. Так как надо было переосмыслить в графике содержание книги, выдали один рабочий экземпляр на дом.
Тут и обнаружилось неслучайное совпадение: взяв работу, я не подозревала, что в сборник включены переводы С. Д., а он не знал, что обложку буду делать я. Мы
были поражены и восприняли это в плане символики, даже мистики; это было в его вкусе. Он принес стихи Тувима и помог прочитать их в подлиннике (кстати, я еще до того наспех подучила польский язык, родной язык С. Д.). Поэт оказался мне очень близок, в его
стихах скрывалась большая глубина, привлекали человечность и прорывы в космическое сознание. Предложила редакции четыре варианта, выбрали один,
я его переработала и сдала. Книга вышла в 1946 году
(Тувим Ю. Избранное. М., 1946). С. Д. перевел девять
стихотворений, выбор которых мне представляется
очень субъективным*; он мог бы написать сам «Слово и плоть» и «Зиму бедняков» (может быть, «Сорок весен» и «У окна», они тоже совпадали с настроением тех
дней). Без влияния С. Д. я не смогла бы так верно решить эту задачу; так же как и он, я стремилась к максимальному обобщению в самой лаконичной форме.
309
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
17
Объяснение произошло после трех лет утонченной игры. Мы расстались в одиннадцать часов, но я до
двух часов ночи носилась по Москве в вихре чувств,
наивно веря, что принесу ему радость и vita nuova...*
18
С. Д. был большим любителем символики, иносказаний, двойных и тройных смыслов слов. Это относилось и к вещам, «случай/fatalite» с Тувимом подтвердил это.
У меня было бабушкино серебряное яйцо, оно
раскрывалось, изнутри вынимались подставочки
и ввинчивались снизу — получались две одинаковые
рюмки с позолоченным нутром. С. Д. нравился этот
маленький символ наших отношений, мы пили из
них вино. Когда он бывал в ударе, он приводил много
занятных случаев из книг и из жизни, которые я, к сожалению, не помню. Одним из самых изящных символических рассказов его я считаю «Дымчатый бокал».
19
«Затиск» — другое любимое слово С. Д. В нем
сконцентрировалась вся его тоска по свободе мысли,
вся горечь автора без читателя, поневоле не достигшего полноты самовыражения. Он высматривал аналогичные судьбы в жизни и в литературе. Одно время
зю
Наталья Семпер. Человек из небытия
собирал для монографии материал о венецианском
доже Дандоло*; симпатизировал мужу Софьи Ковалевской*, непризнанному таланту которого она была, по
мнению С. Д., обязана своим успехом.
Однажды, в минуту откровенности, С. Д. произнес: «Как-то я стоял на мосту через Яузу*, смотрел на
реку и повторял: Яуза, Яуза, Я...уза, я... узок; я — узок.
Наверно, я узок, многого не понимаю, не принимаю.
Звуковая ассоциация подсказала мне это». Я была согласна в душе, но промолчала сперва, потом стала
опровергать, а сама думала — он не причастен к сущности естества, к целостности мира, оттого не понимает многого, а люди не понимают его. Замкнут на себя. Мне казалось, что причина его невзгод коренится
в эгоцентризме. Затиск давил не только снаружи, он
душил его изнутри.
20
Весной 1946 года С. Д. был болен, стал шататься на улице, бояться переходить площадь. Узнав, до
чего он истощен, я передала ему через соседку, жену доктора Преображенского, в квартире А. Г., набор
полезных яств — мед, лимон и прочее. Но этого было мало, нужен был рыбий жир, купить который в аптеке было невозможно. Мать моей подруги, детский
врач В. А. Лебедева, достала мне бутылку этого ужасно
невкусного продукта, а ее надо было доставить дальше, переступить один порог. Я позвонила Анне Гавриловне Бовшек, и она попросила меня привезти лекарство в Камерный театр, где преподавала художественное чтение. За обедом я ничего не ела, потом взяла
себя в руки и поехала туда. Около пяти часов занятия
311
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
уже кончились, никого не было. А. Г. ждала меня в пустом классе. Спиной к окну передо мной стояла невысокая смуглая женщина с гладко причесанными темно-каштановыми волосами. Она приветливо протянула мне руки, улыбнулась и просто поздоровалась со
мной. Я отдала рыбий жир, она тепло поблагодарила
и вдруг обняла... по мне пробежала молния. В ее добрых карих глазах затаилась тревога — вся тяжесть изнанки его жизни лежала на ней. У меня хватило духу
спросить об его здоровье, дружески попрощаться, но
не помню, как я очутилась на Тверском бульваре, на
лавке против театра, в неописуемом состоянии. Заходило солнце, бегали дети. Я назвала ее Santa Anna: ведь
она все знала обо мне — от него.
21
В конце войны Ярон вернулся со своей частью
труппы и, нуждаясь в молодых актерах, решил открыть студию Московского театра оперетты — «это
вам не что-нибудь!!» (придумал гимн с таким припевом). На конкурс явились самые неподходящие личности — женпцина-кочегар, портнихи, уборщицы,
мясник и два рабочих в кепках. Они умели очень лихо
отбивать чечетку и шпарить подряд частушки. Одна,
в вытянутой шерстяной кофте и серой косынке, спела с надрывом «Ой, мамо, мамо». Все было очень смешно, тем не менее жюри из опереточных звезд сумело
отобрать двадцать человек, и студию открыли. Учебный план задумали самый серьезный, с историей партии по «Краткому курсу»* и с историей театра — тут
понадобился лектор. Место давало почасовую оплату и продовольственные карточки. Я предложила его
312
Наталья Семпер. Человек из небытия
С. Д., и он со вздохом согласился (непонятно, почему
у него, члена ССП, не было карточек?). Самое нелепое
в этом деле — неизмеримая разница уровней образования, он читал лекции в вакууме. Избегал меня в театре, где мы когда-то пировали в первый раз, все изменилось, а на вопрос «как дела в студии?» отвечал, махнув рукой: «Да никак. Мне все равно». Уже многое было
все равно. После болезни он тоже изменился, постарел, поблек. По-прежнему только ничего не удавалось,
он устал, уже не хватало сил бороться.
22
Этот эпизод лучше бы не вспоминать, но он выявил характерную черту в характере С. Д. Хотя он был
занят инсценировкой «Кола Брюньона» для оперы Кабалевского*, все так же не хватало работы, не было денег. Я совершила непростительную глупость — убедила его взять у меня взаймы восемьсот рублей (старыми деньгами); не надо было этого делать. Как раз в это
время грянула первая денежная реформа, номинально сумма уменьшилась в десять раз. С. Д., решив отдать
долг, не представляю каким образом, собрал восемьсот рублей новыми деньгами и вызвал меня на квартиру А. Г. (когда она была на работе). Между нами произошло столкновение, чуть не поссорились тогда. Как
я ни доказывала, что теперь следует отдать восемьдесят рублей, С. Д. не слушал, сердился, заставлял взять
восемьсот. Цце был его чистый разум? логика? здравый
смысл? Я вышла из себя и запустила конверт с деньгами под тахту. Ползать при мне, искать его он не стал
бы ни за что в жизни — и так хватало всяческих унижений. Но я вовсе не хотела его унижать, я не хотела
313
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
брать эту сумму. Конечно, С. Д. был шокирован этой
озорной выходкой. Я извинилась и ушла, не взяв ничего. Через неделю он передал мне восемьдесят рублей, сообразив, наконец, что к чему.
23
Еще раз неожиданно столкнула нас fatalite. Зимой 1947 года отец получил на два-три дня работу
в клубе Осоавиахима* в бывшем ресторане «Яр», и я
опять помогала ему что-то красить, и опять совпадение — в эти же дни С. Д. читал там какие-то лекции.
Раза два мы вышли вместе и, едва дыша в автобусном
затиске, удивлялись этому случаю.
24
В апреле 1947 года я напросилась в гости на Арбат, ссылаясь на женское любопытство. С. Д. пригласил меня в самое неудобное время, в четыре часа дня.
В конце темного коридора старой общей квартиры —
дверь направо в его собственную комнату, которую он
получил в 1922 году после переезда из Киева в Москву.
Вошла вслед за ним, повесила пальто на гвоздь у двери и огляделась: тесная-тесная, узкая комната, старомодное окно прямо в дом напротив; перегруженные
книжные полки; кровать с одной плоской подушкой;
стол у окна, два стула, шкаф. Несомненно, он описал
эту жилплощадь в рассказе «Квадратурин». С. Д. растерянно предложил мне сесть на стул, сам сел на другой.
Разговор не клеился. Он принес и положил на стол,
314
Наталья Семпер. Человек из небытия
покрытый бледной клеенкой, две порции мороженого в бумажках. Я попросила блюдце и ложку. Поискав
довольно долго, он дал мне позеленевшую медную ложечку — я никогда ее не забуду... Разговор опять не
клеился. С. Д. встал и принес из кухни эмалированный чайник с кипятком. Пили жидкий чай в граненых
стаканах, закусывая жестким и пресным печеньем.
С. Д: был чем-то удручен, и путешествия в прекрасное
не получилось. Он стал показывать мне фотографии
и рассказывать о себе. Вот на выцветшей карточке дама в широком кринолине шестидесятых годов прошлого века — его мать, Фабиана Пашута. Вот четыре
сестры; одна из них — редкая красавица византийского типа, Елена,— долго не могла я оторваться от ее
лица... как жаль, что она давно умерла. Вот он сам сидит на каменном парапете на Капри — тонкий, длинный молодой человек. Еще студентом Киевского университета он на скромные средства отца отправился
за границу, как тогда полагалось, прежде всего в Италию. С. Д. рассказывал и об убийстве Столыпина* — он
в тот момент был на улице, увидел бегущих людей, побежал с ними. Его семья жила в Преславинском переулке. Потом еще о своей дружбе с Северцовыми*, уже
в Москве, в двадцатые годы, когда увлекался биологией и часто бывал у них.
В этой унылой комнате он был совсем другим,
выглядел намного старше, а голос его звучал мягче,
теплее. У него было очень выразительное лицо, особенно глаза, небольшие, умные, неразгаданные, они
вдруг темнели изнутри, если наплывала тревога или
тоска. Я заглянула в их глубь в тот вечер, как в беспросветную бездну: мне стало не по себе, душу защемила
жалость. Скоро собралась уходить, и С. Д. тихо, грустно сказал мне: «A-а, вы никогда не поймете меня, вечно юная Нэле. Между нами двадцать четыре года... все
315
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
могло быть иначе. Не пытайтесь меня воскресить, лучше направьте свои силы на что-нибудь другое...»
Идя оттуда по арбатским переулкам, я испытывала раздвоение — и смешным показалось его хозяйство,
его робкая неумелость — ведь даже пальто не подал,
хотя был воспитан как настоящий джентльмен; и гнетущим было впечатление, которое осталось от этого
дня. Пусть невероятно: в интимные минуты я чувствовала себя старше его. Я была сильна, жизнеспособна,
неуязвима и как бы с высоты смотрела на иззябшего
затерянного ребенка, лишенного материнского тепла.
Иллюзия на миг! На самом деле — пустой, холодный
взгляд, иронический извив губ, вежливое «вы». Рассудок нашептывал мне то ли вывод, то ли совет: не берись не за свое дело. Если даже Santa Anna не смогла.
25
У нас возникли резкие разногласия по поводу
рассказа «Вальс ночных туманов». Готовился к печати сборник «Польская новелла»*, несколько переводов сделал С. Д. (в том числе конгениальный ему «Клуб
шахматистов» Свентоховского*); обложку опять рисовала я, на этот раз не случайно. Мне совсем не понравился этот душещипательный «Вальс» со всеми его неоромантическими аксессуарами: луна, тучи, кладбище, бедный скрипач etc. Я откровенно высказала свое
мнение С. Д., несмотря на то, что он этот рассказ расхвалил. Он, вероятно, обиделся на меня. Как мог этот
едкий сатирик, строгий критик, эстет, хвалить такой
сентиментальный вздор? Цце-то в недрах его изощренной натуры таился элемент, противоречащий его образу мысли, и это открытие изумило меня.
316
Наталья Семпер. Человек из небытия
26
Куда только ни посылали его читать лекции и доклады! В августе 1948 года С. Д. должен был выступить
в фабричном клубе где-то за Пресненской заставой.
Мне хотелось послушать его после долгого перерыва, узнать обстановку. Спросила адрес клуба,
он не без иронии написал на клочке: «Пролетарский
П/труд» (то есть пруд или труд). Я не скоро добралась туда на трамвае через море коричневых домишек, деревянные трущобы. Четырехугольный городской пруд. Мальчишки. Мусор. Кирпичные стены. Зал
с Портретом, лозунгами, графином и кумачом. Сонная одурь, только радио бубнит свое. Пришло всего
шесть баб с детьми и три парня в майках — чего-то послушать. Сев за стол против графина с мутной водой,
С. Д. начал неохотно и вяло рассказывать им что-то
о французских классиках (это мог бы сделать студент-
практикант). Было досадно, обидно за его интеллект,
эрудицию, потраченное время. Но время — деньги.
Отделался через час. Вопросов, разумеется, не было.
Я ждала у входа, и он был, видимо, доволен, что его
слушал хоть один понимающий человек. Ехали молча,
все было понятно без слов. Он плохо себя чувствовал
физически, но отправился на Курский вокзал встречать А. Г., а я — домой, с серым камнем на груди.
27
С. Д. не подарил мне ни одной книги, не принес
ни одного цветка со словами: «Нэле, это тебе». Тот, кто
всегда обращается на «вы», — не настоящий друг, об
317
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
этом писал Пушкин. Эта была не дружба, а подспудная
конфронтация при эфемерном сходстве интересов.
Неизвестно, как он относился ко мне, почему не приходил по три месяца, почему вдруг звонил, приходил
и сидел от шести до десяти. Такой педантизм раздражал меня, однообразие мучило: хоть бы раз куда-нибудь поехать, пойти — нет. Следуя политике открытых
дверей, я не задерживала его ни на минуту, не спрашивала о следующей встрече, никогда не требовала ничего. Наверно, именно эта политика устраивала С. Д.,
можно было не бояться очередного затиска. Он был
осторожен в поведении, застенчив в быту и кое в чем
боязлив. В результате возникло отчуждение от простых людей и вещей. Он сознавал это и выразил в таком техническом афоризме: «Мой годный мотор стучит вхолостую, потому что нет приводных ремней»*.
28
28 декабря 1948 года С. Д. был у меня на елке
в последний раз. Пришел сам не свой — возбужденный, нетрезвый, нетерпеливый. Лицо покраснело, глаза потемнели, седые волосы не приглажены — я ни разу не видела его в таком состоянии, все существо на
грани отчаяния. Он говорил отрывисто, горько: «Врачи нашли у меня белокровие... скоро меня не будет.
Прозевал всю жизнь. Если вы доживете до... может
быть, напомните обо мне...» (Обещала, дожила, напоминаю.) Помочь ничем было нельзя. Пытаясь отвлечь
его, я болтала о злободневных пустяках, угощала сосисками с пивом. С. Д. любил этот большой стеклянный
кувшин, вмещавший три литра, с удовольствием держал его в своих больших белых руках. В десять часов
318
Наталья Семпер. Человек из небытия
он, как всегда, ушел, оставив очень тяжелое впечатление. Пора все это прекратить, подумала я, пора. И он
больше не звонил и не приходил.
29
В марте 1949 года я зашла в Гослитиздат показать
эскизы к сборнику «Польская новелла». Совсем неожиданно столкнулась с С. Д. на лестнице, поздоровалась,
конечно, не собираясь задерживать его. Он посмотрел
на меня каким-то невидящим взором и чужим тоном
сказал: «Ах, это вы...» Не узнал! Не узнал, стоя лицом
к лицу. Я была ошеломлена. Потом он сидел с кем-то
на диване в коридоре, разговаривал о делах. Я два раза
прошла мимо, в отдел и обратно, не замечая его, и он
не замечал меня. Это был конец. Я была тогда в черной
шляпе и в черном пальто — как в трауре. Больше никогда не видела я этого несчастного человека.
30
В ответ на какие-то признания или обещания
С. Д. однажды сказал: «Есть только память разума, нет
памяти чувств». Тогда я приписала это его рационализму, теперь думаю, что он был прав. Почти через
полвека в памяти остались голые факты — осмыслявший их эмоциональный фон исчез. «Вечно юная Нэ-
ле» (ей семьдесят семь лет) пишет об этих фактах сейчас в той же прекрасной местности, всего в четырех
километрах от Шуколова, и перед ней стоит вазочка
с веткой жасмина. Его нежный, острый запах помога¬
319
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
ет вспоминать факты и чуть колеблет память чувств —
давным-давно забытую печаль.
С. Д. Кржижановский не дожил до наших дней,
когда его имя возникло из небытия. Что сказал бы он
об этом чуде? Поздно меня воскрешать? Или что-то
вроде fatalite? Если бы вера в бессмертие души научно
подтвердилась, он должен бы испытать наконец радость. У С. Д. не было настоящего, однако он заслужил
будущее — всем своим оригинальным творчеством
и страданиями пожизненно непризнанного писателя.
Деревня Стрёково
18 июня 1989
С. Д. Кржижановскому
Пролог
Хочу построить мостик зыбкий
Я на цепях примет
И по нему пройти с улыбкой
Неся привет как свет.
Хочу я в ясный день осенний,
Как пелось в старину:
«под золотой кленовой сенью»
с тобою быть в лесу.
Хочу твои большие руки
Держать в своих руках,
И вместо слез разлуки
Затеплить смех в глазах.
Хочу сорвать руками с неба
Спокойный лунный шар,
320
Наталья Семпер. Человек из небытия
И за шесть тысяч верст тебе бы
Как мяч закинуть в дар.
Хочу зимой уютно дома
Перед огнем сидеть —
Пусть льется в нас тепла истома —
И на тебя глядеть.
Хочу от всех трагедий мира
Бежать с тобой вдвоем...
Сплетем, шутя, венки для пира,
Еще вина нальем!
Хочу в кольцо «фантазмов» странных
С тобой, как в сон, войти,
В стихии смыслов слов стогранных
Все потерять пути...
30.IV. 1942
Примета
Утром сегодня совсем незаметно
Пестрый мой пояс сам распустился,
Змейкой на землю в ноги скатился —
Платье широкими складками пало.
Мать увидала, строго сказала:
«Милый, должно быть, твой разгрустился».
Сердцу тревожна эта примета —
Мне же, как на зло, весело стало:
«Чаще бы пояс так издали милый
Нежной своей развязывал думой,
Весточку слал с неведомой силой!»
Этому верить — все-таки мало:
Лучше бы милый сам возвратился,
Вовсе похитив девичий ум мой,
Пояс бы снял рукой осторожной...
Красками разными луг распестрился,
Новый цветочек в траве распустился,
Вся-то земля цветет разноцветно.
10.Х. 1942
321
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
3x4
Один день скучаю,
Другой день тоскую,
День третий — грущу.
Увижу ль — не знаю,
Увидеть — желаю,
Увидеть — хочу.
Забыть бы я рада,
Забыть это надо...
Забыть — не хочу.
Люблю и рыдаю,
Люблю и ликую,
Люблю и молчу.
31.11943
Наедине
После звучащих пауз,
После речей безмолвных
Время пришло расстаться:
День превратился в вечер,
Плащ распустив лиловый.
С кресла ты встал, прощаясь,
Ждать обрекая снова,
Пытке не дав предела.
С этого дня ни разу
Кресло чужой не тронул,
С места никто не сдвинул,
Но неизбывно, часто,
Слушаясь страстной силы,
Острой желая боли,
Я опускаюсь сразу.
Никну в него без воли.
322
Наталья Семпер. Человек из небытия
С формой твоей незримой
Вне измерений наших
Вдруг совершенно слившись,
Призраком счастья тешусь...
С формой твоей любимой
Слившись в одном пространстве,
В теплом и темном мире
Точкой лучистой рею.
18.06.1943
Эолова арфа
О том, что целый год тоскую,
Что дни мои одним тобою
И красотой полны до края
Сказать тебе, мой друг, не смею.
В твоих садах как эльф кочую,
Под шепот листьев ум теряя,
И тьмой себя укрыв ночною,
От мысли повстречать бледнея,
Входить в твой мрачный дом рискую,
Мечтой себя в тебе сжигая.
Не зная, ты раскрыл стихию —
На дне любви лежу во сне я,
Твою печаль обняв, целую,
И неживых детей рождая,
В цветах своих поэм их скрою,
Осуществляя цель иную.
Благодарю за все, страдая,
И тень твою, давно седую,
На молодой груди лелея,
Наполню жизнь одним тобою
На безнадежный путь вступая.
7.08.1943
323
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Танка II. Иносказания
1
Слова глубину
Первый ты мне подарил,
Повелев молчать.
Старых слов двойную глубь
Молча я дарю в ответ.
2
Если бы знала я
Все на свете языки —
Все равно тогда
Не хватило бы мне слов
Выразить всего одно...
3
Если б знала я,
Что ты думаешь о нас,
«Неизвестной друг», —
Не решилась бы тогда
Это слово подсказать...
(в оригинале под этими стихами — три даты: 12.09.1943,
12.09.51 и 1990, — первые две зачеркнуты, вероятно, потому,
что именно третье стихотворение, написанное уже во время работы над мемуарным очерком и превратившее диптих
в триптих, Семпер сочла наиболее хронологически значимым
для этого мини-цикла. — В. 77.).
Завязка
Друг мой, мы стали давно не чужими,
Знаю: ты знаешь — мы близкими стали давно,
324
Наталья Семпер. Человек из небытия
Знаю, по дну наших слов, будто в тёмном овраге
Корни питающий ключ протекает неслышно.
Вместе купаясь в потоке живительной влаги,
Молча выходим на разные мы берега;
Делит нас лес, но путей направленье одно.
Кто из нас двух уступает другому в отваге?
Кто из нас больше к огню прикоснуться робеет?
Тайнами правду зачем укрываем так пышно —
Или душа наша общая слишком строга,
Правду нагую увидеть не хочет, не смеет?
Друг мой, мы стали давно не чужими,
Больше не будем теснить что взойдет все равно!
24.12.1943
Дурман
Травами песен Шекспира —
Рутой и майораном,
Мятой и диким тимьяном
Натрешься ты после пира,
Их увяданием пряным
Пусть его пахнет порфира:
Принц, подаривший полмира,
Придет в твою спальню пьяным;
Сила гнетущего зелья
Сделала взгляд его странным...
От счастья померкнет келья,
Корчиться в муках похмелья
Будешь с твоим долгожданным, —
Чего ж ты боишься, Офелия?
3.04.1944
Игра с огнем
Я так боюсь тебя, король мой, так боюсь,
В твоих глазах нет никаких просветов,
325
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Но проплывает тень печальной пустоты
А на губах — изгиб насмешек скрытых;
Твой льдистый гнев меня как птичку сгубит
За каждую нечаянную шалость!
Стихии мрачной незаметно поддаюсь,
И так боюсь тебя, король мой, так боюсь.
Нет, не боюсь тебя, король мой, не боюсь,
В цветок души твоей я верю, верю —
Рассеяны следы его живой пыльцы
На лепестках твоих новелл забытых,
И мой цветок она покрыла серебром,
В нем пробудив игру творящих светов —
Смотри! Я каждый час в огне воссоздаюсь
И не боюсь тебя, король мой, не боюсь!
Октябрь 1944
Роман
Ведь для того, чтобы чуть-чуть понравиться
Такому злому цинику, как Вы,
Должна я навсегда, увы! Избавиться
От самой привлекательной черты.
Когда Вы смотрите в меня презрительно,
Прищурив потемневшие глаза,
Навстречу им растет неубедительно
Как стебелек наивная слеза.
Но не позволю я былинке скромной той
Вверх выбиться и оскорбить Ваш ум!
Дитя, робея перед темной комнатой,
Ггсушит в себе нарочно смеха шум.
Не буду называть банально «извергом»
Того, кто изнутри прожег меня,
Сравню его лишь с необъятным айсбергом,
Возникшим на дороге корабля.
326
Наталья Семпер. Человек из небытия
Стремиться неизбежное крушение —
Бросайте дружбу, парус и простор!
Безмолвно посвященным в погружение
Далек поверхностной волны напор.
Спущусь я вглубь медузой фосфорической
Лишь только там, где дна никто не знал,
И под улыбкой Вашей иронической
Найду ценой не тронутый кристалл.
Февраль 1945
Газелла
Бесцельно вдаль одна устало шла я, Салыр-Поль,
И на пути в пыли тебя нашла я, Салыр-Поль,
Последний умирающий от зноя
«Придуманный цветок» с лужаек рая — Салыр-Поль.
Ты как махровый мак, чуть-чуть лиловый,
Рожден в тени расти, благоухая, Салыр Поль;
Твой аромат единственный и сложный
Влечет к себе как опиум Китая, Салыр-Поль.
Ткань лепестков, причудливо стеснённых,
Избыток линий страстно изучая, Салыр Поль,
Я пью с них яд, целуя бледный холод
И корень твой слезами поливая, Салыр Поль,
Ему дарю всю влагу жизни новой,
Что неизвестно для кого несла я, Салыр Поль.
Ноябрь 1945
Из 1001 ночи
Помнишь, в горы пошёл Алладин,
Гол, смел, слаб и один,
Мальчик, ведавший слово «Сезам» —
Что спросил он там?
327
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Что ответила твердь?
Что нашел он внутри,
Жизнь? Сон? Смерть?
Господин!
Посмотри
Сам.
Февраль 1946
Музыкальная шкатулка. XVIII в.
Вокруг меня смеются дети,
Играя в маленьком саду:
Я терпеливей всех на свете —
Опять сегодня подожду.
Отсюда будет мне легко
Тебя заметить далеко.
Пройди, друг, вот здесь, друг, пройди вдруг сейчас
Обычный обеденный час.
Запели песенку малютки
Как вышел зайчик погулять;
Проказник — случай любит шутки —
Ты можешь здесь пройтись опять:
Тогда я спрячусь за кусты
И мимо, мимо минешь ты...
Пройди, друг, вот здесь, друг, пройди вдруг сейчас
Обычный обеденный час.
Сплели хорошенький веночек,
Поймали бабочку в сачок;
Я подожду еще часочек
Тебя, мой миленький дружок:
Другой дорогой не пойдешь —
Сюда наверно попадёшь!
Пройди, друг, вот здесь, друг, пройди вдруг сейчас
Обычный обеденный час.
328
Наталья Семпер. Человек из небытия
Спустилось солнышко по веткам,
Уж стало холодно в тени,
И надоели игры деткам —
Пора, пора и мне идти!
Ах если съест меня печаль,
Тебе совсем не будет жаль.
Пройди, друг, вот здесь, друг, пройди вдруг сейчас
Обычный обеденный час.
Вот опустел садок уютный,
Забыт веночек на песке...
И я встаю, в тоске минутной,
Роняя слезы по тебе, —
А завтра, сев на ту ж скамью
Опять все тоже запою:
Пройди, друг, вот здесь, друг, пройди вдруг сейчас
Обычный обеденный час.
Март 1946
Эпические загадки
«Можно ли шнур золотой без конца вить?
Можно ли ласточке в клетке всегда жить?
Можно ли вместо воды горький яд пить?
Дай мне, Альвисс, на все ответ».
— Шнур золотой можно петлей завить,
Ласточку в клетке легко умертвить,
Яд лучше в сладкую воду налить,
Вот тебе, Фрейя, на все мой ответ. —
«Может ли ум то, что плачет в груди, знать?
Может ли скальд, поседев, прочь стихи гнать?
Может ли Солнце на небе в пути встать?
Дай мне, Алвисс, на все ответ».
329
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
— Ум не умеет любовь узнавать,
Песню не в силах и старец прогнать,
Солнце не может в дороге устать,
Вот тебе, Фрейя, на все мой ответ.
Ноябрь 1946
Сонет
Ты есть во вне. Я пробую невольно
Все, что могу, вокруг тебя узнать,
Но сердца не коснусь... Нельзя сказать...
Пусть лучше мне все время будет больно.
Ты есть во мне — и этого довольно...
Пусть всё живет. Как страшно убивать!
Весь мир вошел в тебя непроизвольно,
Ifte без него душе существовать?
Тебя в себе и полный мир во вне
Усильем легким уничтожить можно,
За парапет шагнуть неосторожно...
Но верно ли, что просто? Свет во мне
Растет, повелевая непреложно
Жить, оживляя преданно и сложно.
Январь 1947
Катарсис
Ты пришла на яву ко мне в дом — это странно,
Для чего я тебе, о земная жена,
О покорная спутница — гостья незваная?
Ты пришла в этот день ко мне в дом, Santa Anna,
И я вышла на встречу, прозрачна до дна,
И была ты мне горестно, страстно желанна.
Ты взяла у меня то, что мир создавало,
То, что я у тебя никогда не брала...
Между нами дрожало любви прокрывало —
Но рука моя крепко его удержала,
330
Наталья Семпер. Человек из небытия
И счастливая ты в свое рабство ушла,
И меня, уходя, как сестра целовала.
Ты червонную цепь унесла с нежным звоном;
В неиспытанных муках открылся мне ад,
Возрождаясь, упала на землю со стоном
Под насыщенным тяжким дождем небосклоном,
И мечом перерезала молния сад,
И вокруг меня воздух проникся озоном.
Апрель 1947
Элегия
Если бы мы друг друга
Просто людьми считали,
Сколько часов досуга
Вместе бы скоротали!
Как бы мы облегчили
Путь для любого шага,
Если бы духу блага
Чувство сове вручили,
Если бы без испуга
Руку руке давали —
(Это ведь не услуга!)
— Так бы не изнывали,
Если бы находили
То, что дает отвага —
Здесь на краю оврага
В страхе бы не бродили,
Вместе в любой лачуге
Мирно мы жить бы стали —
Если бы вот друг друга
Просто людьми считали!
Ноябрь 1948
331
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Развязка
Ни мысли, ни песни, ни слова простого
Совсем ты, совсем не услышал!
Не может как будто быть горя такого —
Но ты ничего не услышал.
Зачем погасил ты венчальные свечи?
До сердца дотронуться больно.
Так в этом был смысл мистической встречи, —
Чтоб было дотронуться больно?
Не знаю, не знаю! Куда же мне деться?
Куда же теперь? То конец в самом деле!..
Осталось мне в траур надолго одеться
И быть без тебя. Силы кончились в теле.
Март 1949
Хроника
1942
За новых чувств неведомый расцвет — спасибо.
За новых мыслей плодотворный цвет — спасибо.
За твой ответ, за то, что ты живешь, мой свет,
За помощь в бегстве от ненужных бед — спасибо!
1945
Сколько дней без тебя проходит даром...
Сколько недель навсегда уходит — даром!
Сердце в тоске себе места нигде не находит,
И лучшие силы свои изводит — даром.
332
Наталья Семпер. Человек из небытия
1948
О, неужели время протекло напрасно,
Потоком кувыркающим несло — напрасно?
И творческой любви безвыходно русло,
И чувство, как река в песок, ушло напрасно?
1951
Зеленый с золотом фонтан зари встает, как много лет назад,
В лощине соловей в черемухе поет, как много лет назад,
Но больше нет истомы в сердце, одолевшем гнет,
И пляске чувств оно себя не отдает, как много лет назад.
(дата не проставлена)
Эпилог
То было во время оно —
Когда-то любила я,
Когда то страдала —
Его ждала...
Тревожная, хилая
Больна была.
Не видела небосклона
И в радость не верила,
А тело горело,
Душа в крови...
Весь мир я мерила
На грамм любви.
То было во время оно,
Во мраке отчаяния,
Тоски безнадежной
Военных лет;
Но после раскаяния
Всё залил свет.
1966
Приложения: переводы,
документы, письма
Сигизмунд Кржижановский
Из Юлиана Тувима (1894-1953)
Черешни
Сестре
Рвал я сегодня черешни —
С темным наливом черешни,
В садике было росисто,
Шепотно, юно, лучисто.
Ветви, обрызганы будто
Гроздьями зрелых черешен,
К озеру тихо склонялись,
Млея в бессилии вешнем.
Млея, в бессильи повисли,
Мыслью в воде утопали.
В травах зеленых и влажных
Отблески солнца играли.
Похороны
Светила тускло лампа
Вверху, над головой,
Когда они несли его
По лестнице крутой.
Всё вниз и вниз несли,
Как будто б версты долгие
Нести им до земли.
Шептали и несли, качали головой.
337
22 Собрание сочинений, том 6
Приложения
И падал мокрый снег
Над черной чередой.
Светозар
Если море напомнит, велю беспощадно
Бить, стегать его прутьями и батогами!
Взвой, вздыбись! Но да будет тебе неповадно,
Мстя мне, щепами словно швырять кораблями.
Если солнце напомнит — глаза себе вырву
И швырну их, властитель: не видеть им света!
Пусть вовек не увижу свою я порфиру,
Пусть славянская осень убьет мое лето!
Если ж ночь мне напомнит, в бессилии млея,
Ночь, согретая пьяным дыханьем жасмина,
Ароматом своим, жгучей лаской своею,
Дрожью жаркого тела в усладе звериной,
Я спалю тебя, ночь, будешь дня ты яснее!
Ночи солнце дарю! Тьму отдам в позолоту!
Пусть столица горит, пусть сгорит и истлеет,
В пепел ты обратись, Златоград Стоворотый!
И останусь я там, на пожарище черном,
Очи в землю втупив... День за днем, ночь за ночью...
Мать-земля, отчего сердце так непокорно?
Отчего ночь и день вновь и вновь плачут очи?
...По пескам раскаленным ведут мне верблюдов,
И бесценных ведут мне слонов из Сиама,
Дань несут — благовонья, шелка, изумруды
И дары из несметных сокровищ Сезама.
Караваны идут с грузом девушек черных,
Девок тысячу шлет князь нигрийский в знак дружбы —
Похотливы, бесстыдны они и покорны, —
Черногубый хитер — знает он, что мне нужно.
338
Из Юлиана Тувима (1894-1953)
Дале нету конца табунам и обозам:
Гонят стадо за стадом султана и хана,
Кони кровные ржут, и скрипит воз за возом
Из-за дальних границ до славянского стана.
Шлют меха мне с вином, и хрусталь, и сосуды,
Шлют куренья и мирру, бальзам и алоэ,
И кувшины мне шлют, и тяжелые блюда,
И пушистые перья, и злато литое.
Шлют одежды в слепящих камнях-самоцветах,
Упряжь конскую шлют, шкуры шлют и сайдаки,
Из кровавых кораллов сережки, браслеты,
И заморских шлют птиц, и заморские злаки...
Шлют поклоны — лбом оземь — все страны, языки,
Не посмеет никто к нашим рвам подступиться,
Помнят половцы наши победные клики.
Помнит погань, и вновь на войну не решится!
Да и я не забыл, как коню дал я шпоры,
Как сто тысяч людей я на половцев двинул,
Как сто тысяч коней, с ветром бешеным споря,
Понеслись на врага неудержной лавиной.
Погань вихрем я гнал, конь был в пене соловый,
И от шпор по бокам кровь сочилась на травы;
Но где прянет — победа звенит под подковой,
И поет степь широкая воинам славу.
Шали мы басурманов за степь, буераком,
На заре Дон нас видел, а к вечеру Волга,
И бежал сам Кончак, Езак бежал за Кончаком,
Гордый хан половецкий в ногах моих ползал.
И когда возвращались мы с дикого поля
И лбы вражьи качались на пиках, на палах,
Мне дружина кричала, моя рать соколья:
«Наш Буй-тур Светозар, воевода удалый!»
Захватил я тогда, знать, добычу не хуже,
Чем родитель мой, викингов бивший у Балта,
339
Приложения
Посейчас не сочли всех богатств и оружья:
Луков ханских, кольчуг и клинков в два закала.
Всех сокровищ не счесть — драгоценных каменьев,
Изумрудов и яшм, бирюзы, хризолитов,
Жемчугов — в них морей голубых отраженье,
Пестрых раковин — волны гудят в них сердито...
Не хватало и слов, чтоб поласковей звать вас,
Вас, утеха моя, светлячки летней ночи,
Как я вас миловал, как любил рассыпать вас
Или лунам в воде горсть швырнуть прямо в очи!
Мне казалось тогда, будто в водных глубинах
Чешуи позолотою змеи играют
И что месяц-паук там соткал паутину —
И небес лучезарная сеть достигает.
...И ясна и тепла, заряницею мая
На постель из цветов шла ты в ночь, о услада.
И шептала мне робко, к груди припадая:
«О владыка мой любый, мой Лель ты, мой ладо!»
А потом вдруг со смехом впивалась мне в тело —
Как на берег волна, на него набегала,
Мое сердце в груди клокотало и млело,
Ты волос ароматом меня опьяняла.
И от тайн благовонных туманились очи,
губы жадные жадно вбирали лобзанья,
Ум мутился от счастья. И не было мочи
Оторваться, любви погасить полыханья.
И я бился в сплетеньях, как в неводе рыбы,
И, объятьями скован, горел нетерпеньем,
Содроганья, касанья, извивы, изгибы,
Боренье, горенье, подъемы, паденья...
..А потом тяжело, но как сладко дышалось.
Я лежал: надо мною — лишь звезды-мерцалки,
На озерах заводят песнь-плач дивьи жены,
А в лесах на ветвях спят ночные русалки.
340
Из Юлиана Тувима (1894-1953)
И всё думалось-снилось, что будто б уж лада
Зачала и несет в своем чреве мне сына,
И что удаль мою унаследует чадо,
Как наследовал я у отца-исполина.
Был бы ты, Светозарич, владыка владыкам!
Воевода перунов! Князь во Златограде!
Вихорь мой Ураганович, Витязь великий!
В златоверхой тиаре, в багряном наряде!
Злая мать еще в чреве похитила сына,
Унесла мою гордость, надежду, опору,
И родишься на свет на немилой чужбине.
Сын святой мой, родишься с печатью позора!
А то бросит (как знать?), будто сучий помет ты,
Будешь жить ты в бесславье, по людям скитаться,
И проклянешь отца, и не будешь знать, кто ты,
А враги станут зло над тобой насмехаться.
...Помню отроком был я в отцовской палате;
Нам послы принесли тайно весть от хозаров:
Три волхва, мол, пошли на поклон в хлев к дитяти,
Те волхвы — Мельхиор и Каспер с Бальтазаром.
А дитя безымянно! И все хохотали,
И смеялся отец мой хмельной незлобиво.
«Чудеса в решете, — говорил он. — Видали?
Князь в хлеву! Средь скота? Ай да дивное диво!»
Ты б лежал в колыбели из белого пуха,
Ты б сосал, Светозарич, лебяжии перси,
Мой хоробрый, всю силу отважного духа
Вцеловал бы в тебя — и презрение к смерти!
Как земли бьется сердце от соков налива,
От моих поцелуев ярь-кровь в ней вскипела,
А во мне расшумелась, как зрелая нива,
Мощь святая любви, что не знает предела.
Дымом жертв голубели урочища, логи,
Песнопеньем звенели священные рощи,
341
Приложения
Мед, молитвы и туши суровые боги
Принимали, даря мне часть божеской мощи.
А теперь, видно, боги исполнились гнева
И бог-страх в камышах затаился прибрежных.
'Тщетно варите зелья мне, вещие девы,
Да и вы, старики-ведуны, бесполезны.
Возвратите мне очи, дышавшие степью,
Голос гусельный нежный, румянец ладоней!
Что мне слава, богатство и великолепье?
Князь, как раб, перед вами главу свою клонит.
Ifte ты, лада, вернись — меч мой туп стал и тяжек,
Без тебя не отбить мне поганые орды!
Грабь же, хан, Златоград! Печенег, сядь на Сяже!
А ты, пес половецкий, бери стяг мой гордый!
Гей, коня! без седла, лишь за гриву схватиться...
Дайте мне по степи во всю ширь развернуться
И за дьяволом-ветром кружить и носиться...
Дайте пасть мне, не встать и назад не вернуться!
Ты ж, дружина моя, коль найдешь меня в поле,
Возвращаясь, как преэвде, с победою бранной,
Т]ризну справь ты по мне, меду выпейте вволю
И любившее сердце засыпьте курганом!..
Зима бедняков
Холод свирепый прокрался в истертые платья,
В дыры, в прорехи пальто, что лишь ветром подшиты,
Куцый мы тянем к ушам воротник: не достать их...
Жмемся к стене мы, но нет от мороза защиты.
К ласкам привыкших, капризных, холеных и белых, —
Чем вас дарить, благовонные теплые любы?
Жесткими крючьями пальцев? Лицом посинелым?
Или тряпьем задубевшим, промерзлым и грубым?
342
Из Юлиана Тувима (1894-1953)
Или губами дрожащими? Носом багровым?
Может, вам тел, окостенелых от холода, надо?
Глаз, что слезою закрыты, пустых и соловых,
Глаз, что слезою соленой сочатся, как ядом?
Ветер стеклянный лицо полосует, бьет снегом,
Кожу метет и царапает жесткой метелкой,
Ногти мороза впиваются в щеки. С разбега
Бьют и клюют раскаленные стужи иголки.
Дуй и дыши на иззябшие пальцы! Жуй губы!
Пусть, каменея, о камень стучат наши ноги,
Бьются о землю, в скачках извиваются грубых,
Пляшут под скрежет зубовный свой танец убогий.
Выше прыжки, всё быстрей, истеричней движенья,
И начинается танец шальной на панели.
Пляшут в экстазе, в восторге и в исступленьи,
Треплются в пляске лохмотья на зябнущем теле.
Рьяно, с размаху руками бьем накрест о плечи.
Танец быстрей и быстрей. Обезумели ноги.
Хлещет трескучий мороз, как стрелой, как картечью,
И, растворяясь в бреду, исчезает тревога.
Мякнут у нас за спиной оснеженные стены,
Жадно вбирая тела наши каменным телом,
Льнут, как атласная кожа влюбленной сирены,
Жадным лобзаньем лаская, безумным и смелым.
Вот мы зарылись в перины пуховой постели,
В сладостных спазмах любви наготой пламенея,
Тонем всё глубже и глубже в молочной купели,
В жгучем сплетении тел бьется пульс всё сильнее.
В пурпур распоротых жил льет безумье ликеры,
Жадно их жидкого золота сладость вбираем,
В тропиках буйно врастаем мы в кактусов поры,
В мякоть зеленую глубже и глубже врастаем.
Плавимся в пышущих пеклом горючих Сахарах,
Прячемся в чреве разъятом израненной львицы,
343
Приложения
Жаримся шкварками в солнцем зажженных пожарах,
Жиром нам с улиц стекать, иссякать, испариться!
И нет нас! Только остался наш бешеный танец!
Ветром пустыни нас сдуло: и нет нас, не стало,
Только на белой стене — о, взгляните! — румянец:
Кровь бедняков запеклась, стужею их втанцевало.
Апрель
О утро! День, солнцем зажженный!
В весне, как в траве, я шагаю!
Из сердца мой галстук зеленый
Растет, словно ветка живая.
И длинная тень моя пляшет
И плавится в солнца блистаньи.
гуляю в пальто нараспашку
И руки засунул в карманы.
Гуляю с преласковой миной
(Гвоздика в петлице алеет)
И пялю глаза на витрины,
Как уличные ротозеи.
Весь мир, до последних изгибов,
Приемлю. Да слов не хватает.
И теплому солнцу спасибо,
И ветру, что благоухает!
Еояди — голова раскачалась
И тычется носом в гвоздику...
Тоски в моем сердце не стало,
Охваченном счастьем великим.
Апрель в моих жилах кружится,
А мир в голове каруселью!
За здравье весны бы напиться
Весенним дурманящим хмелем!
344
Из Юлиана Тувима (1894-1953)
Вечер
Лучами золотыми
Закат глядит в окно.
Мечтается так сладко:
«Что если... если б... но...»
То было, нет ли... Тени,
Вечерний сад, скамья, —
И с кем-то я, но с кем я,
Никак не вспомню я.
Тогда был тоже вечер
(А может, память лжет) —
Готов я ждать всю вечность:
А вдруг он вновь придет.
У окна
Знаю... Ты села сейчас у окна
И смотришь...
А за окном пожелтелый каштан
Листья роняет... осенние листья...
Дождь окропил его... мокнет каштан...
Знаю: сейчас ты сидишь у окна,
Осени сенью осенена,
В добрых глазах твоих отблески грусти,
Отблески отблесков: странно как., странно...
Листья летят и летят безустанно —
Листья каштана
С шорохом наземь ложатся,
1]рустят... золотятся...
— А может быть, светит солнце?
И знаю, мысли твои обо мне,
Вчера еще был у тебя я...
Ты помнишь? Как больно мне было
Сознанье того,
345
Приложения
Что должен тебя я покинуть
(...Тишина, предосенняя тишь...).
Да, что должен с тобою расстаться,
Что не будешь глядеть, как глядишь,
И не буду тебе улыбаться
(...Тишина, предосенняя тишь...),
Улыбаться, как та — в зале мрачном — больная
Улыбалась тогда... умирая.
Ах, вчера еще был у тебя я,
И знаю...
— А может быть, светит солнце?
На улице нет ни души,
Тихо-тихо в твоем городке,
Только падают листья в тиши,
И каштан, обнаженный, всё мокнет...
Ты сидишь, милый друг, у окна,
У окна, добрый друг, всё одна,
Мое ясное солнышко, счастье,
Мое грустное счастье в ненастьи!
...Маятник, знай, всё стучит —
День за днем и за мигом миг.
(Летят, летят с каштана листья...
Тишина, о осенняя тишь...)
Как ты устала,
Сонливо
Ты голову набок склонила,
Слеза блеснула в глазах...
— О чем твои мысли, скажи?
— Отчего твое сердце дрожит?
И я, вот здесь, как ты,
Ия.
Друг друга так знаем мы,
Так знаем друг друга мы...
— Слышишь?
— Летят с каштана листья,
Летят и летят безустанно
И с шорохом наземь ложатся.
Как странно...
Ты сидишь, милый друг, у окна,
У окна, добрый друг, всё одна...
— А может быть, светит солнце?..
346
Из Юлиана Тувима (1894-1953)
Слово и плоть (фрагменты)
I
И слово плотью стало
И ныне живет меж нами,
И тело, что изголодалось,
Кормлю я словами-плодами,
И пью, как студеную воду,
Я слово и ртом, и дыханьем;
Ловлю ароматы я слова
И неба ищу в нем сиянье,
И свежесть листка молодого.
Вином стало слово, и медом,
Оно стало мясом и хлебом, —
Глаза за словами уходят
По тропам звездного неба.
Радость — как хлеб человеку!
Боже! Ты видишь — я стражду.
Слова насущного даждь ми
Ныне, и присно, вовеки.
II
Мне чужды все ремесла,
Рожден ловцом я слов.
Весь в слух преображенный,
Я вышел в мир на лов.
Мгновения словами
Кружатся надо мной,
Жужжат с утра до ночи,
Как пчел звенящий рой.
Меня их жгут касанья
И ранят глубоко.
Но пусть тяжки страданья,
Мне с ними так легко!
347
Приложения
В сердце запрятаны,
Трепещут слова,
Оттого — в сердце стон.
Медом заклятым
Пьяна голова,
Оттого — снится сон.
III
В тебе моя вся алость,
В тебе моя вся зелень,
Ты мозга многопал ость
И нервов изветвленья.
Удары мира яры,
Струятся многошумно
В мозгу горящем яды —
Смесь слова и безумья.
Во мне кровь молвью стала,
Земли горячим грунтом, —
Взрастай же, слово ало,
Могучим гимном бунту!
Сорок весен
Взыграли все сорок весен,
Будто сорок зеленых рек, —
В один ток, в одну глубь, в один бег
Унесло мой ветвящийся вею
Сорок гудящих весен,
Юное половодье
Пенную песню заводит,
Ложе взбивает любви —
Пафос промчавшихся весен,
Вместе с корнями дерев,
Вместе с обломками вёсел
И в клочья изорванной гривой,
348
Из Юлиана Тувима (1894-1953)
Что бросил в потока зев
Какой-то
Из брызг серебрящихся лев.
И хаос зеленый лесной требухи,
Растерзанной током веселым в крови
(Смолисто-зеленая кровь!),
И пни, вырвидубовы зубы,
Ручьи, ручейки, все — и донья и глуби —
Все на гребень волны
Сорока половодьем разлившихся весен,
Что, как лодка, несутся по морю вольны,
Одному лишь желанию подчинены...
Всё несу я минуте одной,
Самой светлой и самой счастливой,
Самой яркой из всех сорока моих весен,
Что взыграла безбрежным весенним разливом.
Сигизмунд Кржижановский
Автобиография
Родился в 1887 в окрестностях Киева, на сахаро-
рафинадн<ом> заводе, в семье помощника бухгалтера завода
(отец прослужил здесь помощником бухгалтера, а затем бухгалтером 35 лет). В 1907 кончил 4-ю Киевскую гимназию, поступил на юридический факультет Киевского университета.
Параллельно работал на филологическом факультете. По окончании, в 1913, занимался историей литературы, но матерьяль-
ные обстоятельства заставили войти в сословие помощников
присяжных поверенных. Четыре года работал как юрист. Затем
постепенно отошел от судебной деятельности, выступая как
лектор по театру и музыке. В 1919 в советском журнале «Зори»
(№ 1) появляется мой первый рассказ. С 1920 по 1922 интенсивно работаю как лектор по театру и музыке в ряде учреждений Киева (постоянный лектор Государственного симфонического оркестра, цикл лекций в Консерватории, преподаватель
в Институте им. Лысенко и т. д.). С 1922 — в Москве: преподаю в Педагогическом Театре, в Московском Камерном Театре
(с 1923 по 1925) и др., затем — контрольный редактор в Большой Советской Энциклопедии (1925-31), помощник редактора в техническом журнале «В бой за технику» (1931-33). Сейчас всецело посвятил себя теории и практике драматургии.
19/Х 1938.
С. Кржижановский
Краткая автобиография
Родился в 1887 г. в г. Киеве. Отец тридцать пять лет прослужил бухгалтером сахаро-рафинадного завода на Демиев-
ке, пригороде Киева. Окончил 4-ю Киевскую гимназию, за-
350
Автобиография
тем Киевский же университет, по юридическому факультету.
Параллельно работал на историко-филологическом факультете. В 1911 и 1912 гг. совершил две летние образовательные
поездки за границу (Швейцария, Италия, Франция, Германия).
В 1914 г. был зачислен помощником присяжного поверенного при Киевском Окружном Суде. Практикой занимался мало,
почти все время отдавал изучению литературы и опытам писательства. Отбросив первые мелкие выступления (два путевых
очерка об Италии в «Киевской мысли», в журнале для юношества «Рыцарь» и др.), считаю более зрелым литературным дебютом рассказ «Якоби и „Якобы“» (журн. «Зори», № 1, 1919).
В 1922 г. переезжаю в Москву, где веду сперва главным
образом работу лектора по вопросам искусства (например,
в 1923-25 веду курс по теории театра* в Экспериментальных
мастерских Камерного Театра), затем переключаюсь почти исключительно на практику беллетристики и драматургии. Еще
позднее недовольство формой моих произведений заставляет меня глубже уйти в изучение драматургов-классиков. В печати («Литературный критик», «Театр» и другие органы) помещаю ряд статей, систематически изучающих Шекспира, Шоу,
Островского и др.
Параллельно, в 1925-31 и 1932 работаю контрольным
редактором в «Большой Советской Энциклопедии» и «В бой за
технику».
В последние годы центр моего писательского внимания
перенесен в область русского фольклора. Подготовляю работу:
«Фольклор как источник сюжетов».
24 августа 1942 г.
С. Крэкижановский
Автобиблиография
Напечатано:
1912(13)
Ст<атья> Banco-Lotto в Италии — «Киевская мысль», газета, осень.
Ст<атья> Любовь как метод познания* (в «отделе вестника исканий»; перепечатано почти целиком в «Библиотеке
литературы и жизни» за окт<ябрь> 1912).
351
Приложения
1913
Статьи и стихи в «журнале для молодежи» «Рыцарь» (Киев) — статьи: «Незамеченный литературный тип», «Злыдни»,
«Остров смерти» и др.; стихи: «Гробница Наполеона», «Прошлогодняя трава», «Могила Гейне» и др.
1918
Стихи «Схоласты» и «Magnus contemplator» (Голос Жизни, №11, Киев).
1919
Рассказ «Якоби и „Якобы“» (Зори, № 1, изд. Всеукра-
инского Литературного Комитета; под псевдонимом Frater
Tertius).
1923-24
Статьи в «7 дней МКТ»: передовая (№ 1); «Крепь» (2); передовая (3); «Деревянный капор» (5); «МКТ и его тема» (8); «Театрализация мысли» (9); «Этюды об Островском» (10-14); «Пед-
жент» (15); «Человек против машины» (16); «От механики к патетике» (17); «На распутьи» (18); «МКТ и МаКеТ» (19); передовая
и заключающая (20).
Рассказы «Проигранный игрок», «Якоби и „Якобы“» (перепечатан сокращенно), «История пророка» («Гостиница», 3,4).
Рецензии о книгах Степного, Никольского, Бузескула
(«Книга о книгах», 5-6 и 7-8).
1925
Статьи в Лит<ературной> Энциклопедии (изд. Л. Френкель): Заглавие, Киносценарий, Лаконизм, Либретто, Психологический роман, Плеоназм, Редакция, Черновик, Reise-Roman,
Читатель, Эзопов язык, Эпитафия.
«Штемпель: Москва» («Россия», № 5); «2000» («Огонек»,
лето); «Столичные вывески» и «Москва и я» (оба заглавия — результат искажения редакциями, у меня: «Московские вывески»
и «Коллекция секунд») («30 дней», 3 и 5).
1927
Сценарии, принятые в портфеле «Межрабкомруси»:
«Ли-И-юань», «Возвращение Мюнхгаузена», «Бег в мешке» (последний в производстве)*.
352
iJ-H de*i ,/гЛАЛ-^^ "
>(4i Ste 'U ~f ( ** К'4('ЛМ4ШФъС* Myt+/* MM
(M $Л”УУ**41# .<•>,* /
fiysscim^,
jP** r 4 *¥*&* Ah и Г -#M<
U f.my,M4,6 «fcr-i с
^■ >n ttt£4*i ftt>rrr/S4rJ/j;
Mi fktwi, £*м&нт*ш £ £k/4ßtr*+ii
W4U*iu* ft* £f**Af 14% >4'г*4<й *4S/Mjs+/^,
CbM>n U/ли 0 < h/ WMMf e
////- m л y,
< ^■/'/S 'jrA*/~f * * ■**
Автограф стихотворения Кржижановского «An den Frühling. (Григ)» (архив В. Перельмутера)
-> ',*^1**.^ y^u-uof; ;<■ , L,,.y t
4'cy ^ icf ^oecutk /
'ши , ^ре*^т*А*л£гсЛ
„ ". £
H u^< tfzsuc.^ Лу^Ф * *1 7^
eg.
v * *<W , ^ *t 4^'
?fy' 4 f'si А
} ** Л ^ c Cx (ZfL^ ^ ^
Страница письма Сигизмунда к Анне (8 августа 1925)
В. Н. Топоров
«Минус»-пространство
Сигизмунда Кржижановского
Памяти Михаила Львовича Левина
...Фрэнсис Бэкон определял эксперимент так:
«Мы лишь увеличиваем или уменьшаем расстояние между телами — остальное делает
природа».
«Возвращение Мюнхгаузена»
..Жизнь, заставленная отовсюду стенками,
убивает в человеке чувство пространства, мира
[...] в Москве пространство, так сказать, по карточкам; вместо неба — потолок, даль отрезана
стеной и вообще все изрублено стенами и перегородками [...] Чрезвычайно трудно не усомниться, что за этим крошевом из пространства есть где-то и настоящее, за горизонт
перехлестывающее пространство, классическая протяженность, одним словом, м и р*.
«Разговор двух разговоров»
I. Необходимые предпосылки1
Писатель, о творчестве которого здесь пойдет речь,
был одновременно и субъектом, и объектом иррационального «минус»-пространства: он творил его по неким собственным «внутренним» матрицам, в которых «природное», пси-
Разрядка в текстах Кржижановского передается дополнительно курсивом в отличие от разрядки автора статьи.
354
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
хоментальное почти неотделимо от «культурного», но и оно,
это «минус»-пространство, создавало его по своему образцу.
В этом смысле есть все основания говорить об изоморфизме творца и творения, поскольку и в каждом из них порознь
творящее и творимое начала тоже неразрывно связаны друг
с другом — ситуация, характеризующая явления той особой
взаимной вовлеченности и зависимости, остроты и напряженности, которые придают всей этой ситуации черты подлинного драматизма, парадоксальности и чреваты неожиданными
решениями. Это сродство пространства и его субъекта-объекта тем не менее не образует симметричной конструкции. Такая потенция остается нереализованной, хотя бы потому что
м и ф об этом «минус»-пространстве был создан автором,
но «минус»-пространство не создало мифа об авторе, если уж
только не идти слишком далеко в глубь сферы парадоксов.
Сразу же следует сделать оговорку — миф в данном случае никак не должен сводиться к вымыслу, к чистой «Dichtung», к «ненастоящему» и к «внеличному», к «коллективно-сознательному»; здесь уместно понимать миф скорее как ту смыслостроительную конструкцию, которая вполне может быть осознана,
понята и использована в контексте мифо-ритуальнош целого,
где в архаичной триаде мысль-слово-дело как бы снимается
противопоставление составляющих ее членов, и которая приобретает статус некоей общезначимой парадигмы — как сознания, так и поведения. В этом контексте, на известной глубине его, довольно безразлично, шел ли автор навстречу его
роковому пространству или это «минус»-пространство вовле-
кало-втягивало в себя сопротивляющегося ему автора, но зато
существенно другое — подвиг свидетельства о встрече с этим страшным «ссыхающимся», «задыхающимся» (или
«иссушающе-удушающим»?!), «опустошающе-опустошающим-
ся» пространством, о котором в те же годы свидетельствовал
другой поэт — Нам ли, брошенным в пространстве, Обреченным умереть, о другом городе — Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, И каждый час нам смертная година или Я за
жизнь боюсь — За твою рабу — В Петербурге жить — словно
спать в гробу и еще — о граненом воздухе, которым нельзя дышать, о Психее -жизни, спускающейся к теням, о летейской стуже и стигийском звоне, о черном бархате всемирной пустоты
и ночном беспамятстве, о веке-звере, когда И своя-то жизнь
мне не близка, и о насильственном лишении пространства
(...морей, разбега и разлета), сохраняющегося только в по¬
355
Приложения
следнем свидетельстве шевелящихся губ. Свидетельствование
Кржижановским об этом трагическом «минус»-пространстве
продолжалось два десятилетия, и что ни год, оно становилось
жестче, страшнее и безвыходнее, пока сам свидетельствующий не был поглощен этим пространством в его небытие. Так,
не по собственной воле, состоялось главное жизненное дело
писателя — ему суждено было стать одним из достовернейших
свидетелей этого пространства и, вероятно, глубочайшим истолкователем его метафизических бездн.
Возлюбил ли писатель эти бездны, потому что и сам
был их человеком? Едва ли. Как ни трудно было ему, все-таки
он до поры не давал одолевать себя сомнениям и уж во всяком
случае (об этом тоже немало свидетельств) верил, что «за этим
крошевом из пространства есть где-то и настоящее [...] пространство», которое он связывал с классической успокаивающей разум и душу протяженностью, с тем, что одним словом
он обозначил как мир, т. е. вселенское «плюс»-пространство
(«за горизонт перехлестывающее») и сополагаемое ему состояние примирения, мира, покоя, подлинной жизни. Это «настоящее» («плюс») пространство Кржижановский знал и л ю-
бил и предпочел бы, сложись жизненные обстоятельства
иначе, свидетельствовать о нем — о его полноте и о его благодатных смыслах. Это пространство, о котором писатель все-
таки успел сказать многое в немногом, как раз и совпадало для
него с гармонизирующей «классической» протяженностью,
которая, будучи укоренена в некоей онтологической и ноуменальной глубине, вместе с тем легко и естественно обнаруживает себя во всей своей смысловой полноте, имя которой —
мир как образ некоей гармонической идеальности. Каждый
символ этой идеальности отсылает к «обозначаемому», к целому или, иначе говоря, в соответствующе выбранной части уз-
ревается и целое. Поэтому-то так ценны даже нечастые, обычно стыдливо прикрываемые проговаривания автора о его заветном («...это напоминает, — пишет он однажды, „проходя
ранним утром по воскресным улицам мимо окон, заколоченных досками, покрытых жалюзями и решетками“, — тот идеальный город, который столько раз я старался себе представить». — «Швы», 1927-1928).
Выше было сказано, что Кржижановский знал пространство. Это знание свидетельствуется обширным, глубоким
и напряженно-интенсивным пространственным опытом, как
он отражен в его произведениях (а отчасти и в воспоминаниях
356
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
о писателе). Этот опыт охватывал всю толщу пространственных слоев — от самой «низкой» и предельно конкретной эмпирии до высочайшей-глубочайшей метафизики. В случае Кржижановского предикат «знание» был двунаправленным — человек знает-познаёт пространство, но и пространство
знает-познаёт человека, — но нередко, а в пределе всегда, одновременно двунаправленным (свойство религиозного
сознания на той высокой ступени, когда человек вступает в диалог с Богом — при всем смирении человека равноправный,
ибо и Бог самоумаляется, вступая в общение с человеком). Эта
«обоюдная» ситуация как бы намагничивает знание, которое,
подобно магнитной стрелке, поворачивается то к одному, то
к другому полюсу, то к пространству от человека, то к человеку
от пространства. И каждый поворот-обращение этой стрелки-
знания «открывает» то пространство для человека, то человека для пространства, а в совокупности — то, что объединяет их
в единую «антропо-спациальную» структуру и свидетельствует
о соприродности составляющих ее начал. Напрашивается вывод: человек, открывая-порождая пространство, познавая его,
овладевает им, и в этой цепи действий он всегда субъект, но
и пространство открывает-порождает человека, познает его
и овладевает им, и в этом случае субъект именно оно, а человек
или пространство (в первом случае) оказываются объектами.
Эта взаимопринадлежность человека и пространства, их взаимозависимость и взаимоотдача составляют самое суть этой
структуры, держащейся на взаимной дополнительности и взаимной потребности одного в другом. Соотнесенность и гармонизация двух этих начал, каждое из которых способно занимать (или выступать) как активную, так и пассивную позицию,
обеспечивает живую связь человека и пространства и, если
угодно, тот равновесный и взаимоконтролирующий характер ее, который гарантирует человеку актуальность переживания пространства в ситуации hic et nunc, предохраняя человека от автоматизмов в отношении пространства,
приводящих в конце концов к его омертвлению и забвению,
а пространству гарантирует способность к принятию человека* впусканию его в себя и открытию ему себя во всей полноте и глубине своих смыслов, что, собственно, и удерживает
пространство от тенденции к его овеществлению. В результате человек и пространство как овладевают один другим,
делают один другого своим, так и поддаются один другому и растворяются друг в друге, становясь не своим,
357
Приложения
а е г о, то открывая это д р у г о е, то свободно открываясь ему
навстречу (нужно напомнить, что вся здесь описываемая ситуация актуализирует ту связь рождения, открытия-обретения и,
следовательно, присутствия-наличия-бытия и познания-зна-
ния, которая эксплицитно представлена в и.-евр. *g’en-, «рождать», «знать», или в рефлексах и.-евр. *rod-, ср. русск. родить,
роды,, род, рост (из *rod-t-) при лит. rasti/runda, rädo — «обретать», «находить» и т. п., о чем уже не раз писалось).
Но Кржижановский не только знал пространство, т. е.
формировал-творил его через открытие-обретение и рождение его (оно-то и объясняет прежде всего родство писателя
с «его» пространством, их соприродность) и «разумно», логос-
но делал его «своим», переводя его в знаковую сферу, в тексты
на «естественном» языке, состоящие из букв, слов, фраз, абзацев, знаков препинания, цифр и т. п., на что он весьма часто
обращает свое внимание и к чему последовательно стремится привлечь внимание читателя. Кржижановский еще и «ч у в -
с т во в ал» пространство, — способность более редкая, чем
знание пространства, и предполагающая в его субъекте некий внутренний орган восприятия пространства. Эта способность, которую нужно понимать как глубинное «знание» своей соприродности пространству и органическую удовлетворенность этим родством-сродством, подтверждающимся при
каждом соприкосновении с пространством, была свойственна
Кржижановскому в высокой мере, особенно в его молодые годы, и он отчетливо сознавал ее как свой особый дар и боролся против всего, что угрожало этой способности «чувствовать
пространство»: «Сами же вы говорили, — писал он в „Разговоре двух разговоров“ (1931), — что жизнь, заставленная отовсюду стенками, убивает в человеке чувство пространства,
м и р а» и — затем — об условии прорыва к пространству: «Но
теперь, когда все стены рухнули, мир, в обесстенности и обес-
стенении своем, стал видим всем созерцаниям. Любой мирской сход решает теперь не мирское, а мировое, и каждому, если он хочет психически уцелеть, приходится вскарабкиваться
почти по отвесным понятиям» («обесстенение» обретает свой
полный смысл при учете того, что «история старой Москвы —
это история wo стечения*, что Москва — в отличие 0т других городов и городков, давно уже поваливших свои стены,
«всё еще прячет свое тучное круглое тело в обводы стен и валов», что даже в XIX веке она еще «недоверчиво, с прищуром
всматривается сквозь приоткрытые створы ворот — во всё, что
358
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
из „Замосковья“, провинции, и медленно-медленно поднимает свои крашеные шлагбаумы перед всеми „оттудными“, что
из-за стен», — «Штемпель: Москва». Письмо третье).
Кржижановский не только знал и чувствовал
пространство, которое он понимал как некий прекрасный
мир, отражение, пусть неясное, идеального пространства-мира, но и л ю б и л его и его освоение не менее, чем отдачу себя
ему, растворение в нем. О своих отношениях с пространством
подробнее всего он говорил в молодости. Это было «московское» пространство, и автор позволяет себе приоткрыть свое
очень личное, иногда интимное отношение к нему. Много важного, поучительного, дорогого открыл в нем для себя Кржижановский, несомненно, не только высоко ценивший его, но и,
похоже, усматривавший в нем нечто имеющее психотерапевтические функции. Общение с «московским» пространством
было настоятельной потребностью, вызывало чувство удовлетворения, а иногда и радости от сознания причастности ему,
хотя острый взгляд уже отчетливо замечал, как в самом центре этого пространства, в месте, где был «узкий» локус писателя, крыша над головой, уже склублялось погубившее его в конце концов зловещее «минус»-пространство.
О знании пространства и чувстве пространства, о любви и вкусе к нему, об «игре души с пространством» можно судить по фактам биографии писателя (потребность в «смыслоконструирующих» прогулках и соответствующая обширная
практика), засвидетельствованным людьми, хорошо его знавшими, и отраженным многими его произведениями, по опытам «вторичной» топографической рефлексии (погружение
в изучение планов Москвы2 или Лондона — и не только ради «дела», например в связи с «лондонскими» эпизодами своих рассказов, но и для «души», более того, само наличие неких
идеальных планов, основная черта которых — их самодостаточность, делающая их не только первичными, но и реальными, во всяком случае — более реальными, нежели те фантомно-потенциальные города, что могли бы этим планам соответствовать3), наконец и более всего по образам (и рефлексиям
над ними) того пространства, которое восстанавливается «от
противного» на основе деформированного и/или опустошенного, десемантизирующегося пространства, ставшего уделом
писателя в последние 10-15 лет его жизни.
Но прежде чем обратиться к «минус»-пространству
Кржижановского... несколько свидетельств автора о «мо¬
359
Приложения
сковском» пространстве — но не только и не столько ради самой Москвы, хотя «привозной человек», минус-москвич4,
Кржижановский посвятил ей одни из лучших в русской литературе страницы, сколько ради введения в «спациологию»
писателя — в ее принципы, методы, открытия, в ту пространственную эмпирию города, которая иногда определяет наиболее тонкие, но и наиболее неотразимые черты образа «разыгрываемого» города.
И. «Московское» пространство Кржижановского
Автор, два года как обосновавшийся в Москве, правда
на птичьих правах, пишет письма в провинцию тому, к кому
обращается как к «милому другу» («Штемпель: Москва. 13 писем в провинцию»). Он, автор, полюбил Москву, почувствовал
ее «особый отпечаток» и пытается понять его — опытным путем исследовать суть феномена Москвы. Сейчас это для него
главное: только об этом он и может писать в настоящее время
и признается в этом своему корреспонденту с полной откровенностью: «Только-только выкарабкиваюсь. Два года отщелкнулись, как счетные костяшки: позади голый стержень. Это-то
вы простите и поймете, милый друг, потому что вы... милый
друг. — Но простите ли вы мне разочарование: ведь под моим штемпелем „Москва“ ничего, кроме рассуждений о штемпелях с оттиском „Москва“, вам не найти. Для меня эта тема —
близкая и важная. Для вас, с расстояния в 700 верст, чужая и, может быть, скучная. Но ямогу писать только
о том, о чем могу: я так полно включился в свою проблему о штемпелях, так занят, может быть, по-чудацки, исследованием того „особого отпечатка“, еще Грибоедовым примеченного, который отличает и метит всю окружающую сейчас
меня жизнь, что придумывать другие, более забавные и волнующие вас темы никак не могу и не умею».
Москва для автора не только «близкая и важная» тема,
в которой не всё ясно и пока непонятно, какое направление
она примет за ближайшим поворотом: эта тема императивна
и побуждает автора к исследованию «трудноразрешимой задачи» города. Поэтому Москва это еще и работа автора — ежедневная, целенаправленная, упорная, но необходимая и для
ума и для души.
360
«Минуо-пространство Сигизмунда Кржижановского
«Каждое утро в 9 3/4, застегнув себя в пальто, отправляюсь вдогон к у за Москвой. Да-да: два года тому назад поезд, помню, запоздавший на 13 часов, довез меня только
до Брянского вокзала: до смысла Москвы отсюда еще
большой конец.
Итак, каждое утро я шагаю из переулка в переулок, позволяя перекресткам ломать, как им угодно, мой путь, собирая в себя Москву. Рядом со мной, стоит повернуть
голову на пол-оборота, в стеклах витрин шагает чуть сутулый,
длинный, с лицом под черными полями шляпы человек. Вдвоем, изредка переглядываясь, мы ищем наши смыслы.
Даже странно: в первый день, когда, оттянув плечо чемоданом, я смотрел с Дорогомиловского моста на кучу домов под
кучей огней, я не мог и предполагать, что когда-нибудь всё это
ляжет гигантской грудой поперек моего мышления как трудноразрешимая задача. [...] Но мне уйти из своей темы — никак:
я живу внутри ее. Окна домов, мимо которых хожу, смотрят
с определенным выражением; утром, чуть раскрыв глаза, вижу
красные кирпичи соседнего дома: это уже Москва. А значит —
и мысль: Москва. Проблема материализовалась, обступила меня тысячью каменных коробов, протянулась под подошвами
тысячью кривых и ломаных улиц, — и я, смешной чудак, исследующий свое где, попал в него, как мышь в мышеловку.
Когда я прохожу сначала мимо блекло-желтого дома
с оттиснувшимися на нем знаками ЦК РКП(б), а получасом
позднее мимо кривой колокольни церкви Девяти Мучеников
на Кочерыжках, что у Горбатого моста, я не могу не сделать отчаянной попытки найти общий знаменатель тому и этому [...].
Москва слишком затоптана, на ее асфальтах и булыжинах накопилось слишком много шагов: такие же вот, как и я,
шагали, день ото дня, год к году, век к веку, от перекрестка к перекресткам, поперек площадей, мимо церквей и рынков, запертые в обвод стен, включенные в обвод мыслей: Москва. Поверх следов легли следы и еще следы; поверх мыслей — мысли
и еще мысли. Слишком много свалено в эту кучу, обведенную
длинной линией Камер-Коллежского вала. Я, по крайней мере, все проверяю пусть расплывчатым, но неотвязным символом: Москва».
Так исследование Москвы, — хотя и «привозным человеком», но изнутри ее, — уже на первых шагах выдвигает «трудноразрешимую задачу», лежащую «поперек мышления» автора— осмыслах Москвы и даже — о ее смысле, потому
361
Приложения
что многое, разное, несовместимое, кривое и ломаное, стесненное и затоптанное, сваленное в беспорядочную кучу выдвигает перед автором задачу отыскания-нахождения некоей
единой смысловой конструкции, охватывающей собой, подобно обводам стен, всю Москву, в с е ее смыслы как единый
смысл — не о нем ли идет речь, когда автор говорит об «общем знаменателе тому и этому» или о «символе: Москва»? Сильнейший ход автора — осознание поперечности, так сказать,
«вертикальности» задачи, которую ему предстоит решить, своему мышлению. Совместить задачу-Москву и отмычку-
мышление, лежащие в разных плоскостях-планах, можно было лишь сделав самый сильный предварительный ход — заключить нечто вроде компромисса между «вещным» беспорядком
Москвы и организующим и смыслостроительным мышлением. Это и делает автор, но еще до этого необходимо было довериться эмпирическому и «поверхностному» слову хаотической
Москвы и быть готовым принять это слово за чистую монету,
хотя оно и стерто и деформировано и звучит то так, то этак.
В ответ на это смирение автора, то есть то новое состояние его
сознания, когда оно к деформирующим и дезинформирующим «шумам» Москвы перестает прибавлять свои собственные
«шумы» и подлинно смиряется-умиряется и становится открытым другому — Москве, Москва — навстречу мышлению — начинает открывать ему то, что за всем видимым ее «вещным» хаосом есть в ней соприродного мышлению. Речь идет о ее, Москвы, ноосферических смыслах (стоит напомнить, что учение
о ноосфере складывалось именно в эти годы).
Компромисс мышления и города, описывающего
и описываемого, субъекта и объекта (с теми поправками, которые были сделаны выше в связи с темой глубинной связи, перетекания, мены начал субъектно-объектного комплекса) был
творческим и плодотворным. Прорыв автора, его мышления
в «трудноразрешимую задачу» Москвы и открытие-обретение,
рождение смысла Москвы, у-знание его произошло скоро
и вполне, поразительно расширив метафизическое пространство Москвы, которое отныне стало опорой автора в его борьбе с обступающим его «минус»-пространством. Смысл Москвы,
как и смысл совершившегося прорыва, осознается автором
с отчетливостью и глубоким удовлетворением:
«Белый особняк на Никитском, 76, угрюмо повернувшийся боком к шуму улицы, лучше Шенрока объясняет мне душу одного из постояльцев этого дома.
362
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
Еще и сейчас журнальные столбцы бьют по полумертвому слову „славянофильство“, но тому, кто захотел бы в одно из воскресений от двух до четырех посетить ветхий Хомя-
ковский дом на Собачьей площадке, угловая комната дома, так
называемая „говорильня“, объяснит все окончательнее и резче: у ее сдвинутых на расстояние одной сажени глухих и безоконных стен — истертый кожаный диван на пять-шесть человек; в углу подставка для чубуков. И всё. В этой глухой, тесной
и темной комнате славянофилы, сев колени к коленям, и из-
говорили себя до конца.
Трамвай № 17, довозящий до Новодевичьего, гораздо
лучше иных книг показывает имя: Владимир Соловьев. Писано имя черной путаной вязью по белой крестовине, меж тремя
разноверными иконками. Если всмотреться в выцветшие буквы одной из них, нижней, только и прочтешь: erit...
Но будет. Начни только ворошить эту кучу, потяни за
нить, и за нею весь огромный спутанный клуб: Москва. Вы, вероятно, недоумеваете: как навязалось мне то, что я называю
своей проблемой, как начались мои блуждания п о см ы с -
лам Москвы?5
Очень просто. Квадратура моей комнаты — 10 кв. арш. Маловато. Вы знаете мою давнишнюю привычку, обдумывая что-
нибудь, возясь с замыслами, шагать из угла в угол. Туг углы слишком близки друг к другу. Пробовал: если стол вплотную к подоконнику, стул на кровать, — освобождается: три шага вдоль, полтора
поперек. Не разгуляешься. И пришлось: чуть в голове расшатается мысль и самому захочется того же, защелкнув свои три шага на
ключ, бежать на улицу, вдоль ее кривых длинных линий6.
Уберечь жизнь, запрятанную меж височных костей, от
жизни, клубящейся вокруг тебя, думать вдоль улицы, не видя
улицы, невозможно. Как ни концентрировал я свои образы,
как ни оберегал мысли от толчков извне, это оказалось немыслимым. Улица навязчива: она протискивается и под опущенные веки, топчется грубо и назойливо на моих барабанных
перепонках, прощупывается булыжником сквозь мои протертые подошвы. От улицы можно свернуть, бежать только в переулок, от переулка — в тупик И опять сначала. Город лязгами,
шЬрохами, разорванными на буквы словами бьет по мозгу, назойливо лезет в голову, пока не набьет ее, по самое темя, клочьями и пестрядью своих мельканий.
Во мне, безусловно, есть какая-то пассивность. Вначале
я сопротивлялся. Потом перестал: впустил город в себя. Когда
Збз
Приложения
я шел, отстукивая пунктир шагов поверх длинных линий улиц,
то иногда чувствовал, как пунктир этот стягивается в линию,
слиянную с линией улиц. Иногда, остановившись на безлюдном перекрестке, я ясно слышал гулкое биение Москвы у себя
меж висков. А то, бывало, странно: идешь, частя шаги, из переулка в переулок [...], вдруг видишь себя внутри каменного тупикового мешка с малыми, задернутыми занавесками окнами
и с кривыми фонарями вдоль тротуаров. Да, не раз с известной
радостью примечал я, как линии мысли совпадают с линиями,
исчертившими город: поворот на поворот, излом на излом,
выгиб на выгиб: с точностью геометрического наложения.
Понемногу я стал втягиваться в эту игру души с пространством: вечерами я любил размеренно шагать вдоль ряда фонарей, оглядываясь на ползущую позади меня тень. Дойдя до фонарного столба, я задерживал на миг шаги и знал, что
тут наступит момент, когда тень вдруг, неслышно ступая, обгонит меня и, странно дергаясь, пойдет впереди под углом 90° ко
мне [...]».
Через эту игру в связь с пространством вступает не просто и не только человек в его материальности, но его тончайшая субстанция — душа. И хотя человек ходит, смотрит, слушает, разговаривает, интересуется и т. п., участник игры и тот,
ради которого эта игра «разыгрывается», не столько «физический» человек, сколько «трансфизический», духовный — homo
spiritualis, в котором лучшее определяется душой и духом.
В этом пространстве игры душа ищет тот классический гармонизирующий мир, который знал писатель и свидетельства
которого обнаруживаются в его произведениях даже сквозь
мрак и обуженность «минус>-пространства. Настраиваясь на
этот светлый и легкий «классический» мир гармонии, душа как
бы индуцирует и в себе соответствующее уравновешивающее
начало. Но посредницей между классическим гармонизирующим пространством и писателем выступает Москва, «московское» пространство, далеко не гармоническое, но — как Вергилий для Данта — путеводительное и, более того, целящее
и целительное.
В чем секрет «московского» пространства и этого ее
свойства? Прежде всего в том, что оно органично, синтетично и самодостаточно: оно образует естественно растущий целостный мир, нечто почти природное и материнское. «Поддавшийся» Москве, т. е. растворившийся в ней
и скорее ощутивший-почувствовавший, чем понявший, —
364
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
и скорее некое «вещество» города, оповещающее — неясно
и хаотически — о его сути, нежели его смысле, подобен плоду в материнском лоне, имеющему все, что в этом лоне есть
(точнее — сущему в этой всецелостности7), и ни в чем вовне не
нуждающемуся. Созревание плода составляет великую метафизическую тайну становления и бытия жизни, не выводимую
ни из «логического», ни из «внешнего и чуждого» (Иль зреет
плод в родимом чреве Игрою внешних, чуждых сил?... — риторически вопрошал поэт, заранее знавший противоположный
ответ). Материнское предшествует всему живому, творит его
и навсегда пребывает в нем как стихия, не знающая одоления,
пока совершается-«растет» жизнь. Матерински-матрициру-
ющее входит в самое суть матрицируемого и задает ему жизненную инерцию роста-становления, сложность —
вплоть до хаотичности — этого «естественного» процесса. Оно
берет и несет свое порождение даже тогда, когда то не сомневается в своей самости и своей воле. Вот и сейчас, когда автор
задумал «покорпеть над этим круглым, как штемпель, пестрым,
расползшимся крашеными леторослями пятном» («Штемпель: Москва». Письмо первое)8 плана Москвы и твердо уверен — «нет, ему не уползти от меня. Я таки возьму его в железный обвод», он сам уже «в обводе», но не железном, а мягкогибком, «растительном», материнском, он — заложник одной
из московских леторослей и через нее — самой Москвы: отныне он порождение Москвы в духе, и к ней он будет обращаться
каждый раз, когда будет нуждаться в помощи, поддержке, когда опасности, грозящие гибелью, концом жизни обступят
его, когда будет ему плохо и когда жизнь сможет пребыть только через спасение.
В этом смысле Москва в течение двух десятилетий была
для писателя не только родительницей, так сказать «присно-
родительницей», заново порождавшей его каждый раз, когда
он погружался в ее лоно, но и спасительницей. Было ли это
случайностью, объясняемой всего лишь жизненной эмпирией? Едва ли. Москва имела в этом случае свои особые свойства-
достоинства (если иметь в виду именно Кржижановского) по
сравнению с Петербургом, которые давно были сформулированы народным сознанием в ряде формульных максим —
Москва-матушка, Петербург-отец; Москва растет, Петербург
строится; Москва деревянная, Петербург каменный; Москва
кривая, Петербург прямой; Москва круглая, Петербург квадратный; Москва-деревня, Петербург-город и т. п. За всеми эти¬
365
Приложения
ми рядами противопоставлений узревается главное и глубинное: Москва органична и в этой органичности подлинна, бы-
тийственна, Петербург «искусствен», вымышлен и «умышлен»,
ирреален, фантомен, и — доводя до логического предела —
Москва согревающе-живая, Петербург леденяще-мертвый, более того, Москва — жизнь, Петербург — смерть. Нет необходимости объяснять, что представленные здесь квалификации
лишь фрагменты одной из ходовых схем рефлектирующего, преимущественно «московского» историософски-мифоло-
гизированнош сознания, обремененного «оценочностью», но
тем не менее подкрепленного определенными эмпирически-
субстратными данными и даже отчасти (обычно вне «оценочных» критериев) разделяемого другой ходовой схемой —
«петербургской», скорее — в отличие от «московской» — исто-
риософски-логизированной. Также здесь не идет речь об
интеллектуальном выборе и предпочтении одной из схем —
«московской» или «петербургской» — вообще, но исключительно о встрече одного типа психоментальности с определенным конкретным пространством в контексте решения
неких внутренних задач и результатов этого решения. То же
обстоятельство, что сам Кржижановский пытался осмыслить
различие схем «московского» и «петербургского» пространств
именно в плане их противопоставления, и то, что он размышлял и над другим противопоставлением — город (реально Москва): «поле» (природа), делают не только осмысленным, но
и необходимым обращение к теме «московского» пространства у Кржижановского как одного из специфических пространств, встреча с которым для писателя была значима и —
в известное время и в определенном ракурсе — жизненно
важна: она снимала напряжение, предотвращала кризисы сознания и души или выводила из них. В переживании «московского» пространства писатель находил столь необходимое ему
удовлетворение и даже радость, тот гармонизирующий классический мир, который врачевал его душевные «нестроения»
и травмы. Поэтому важно понять, в чем состояла «разрешающая» особенность «московского» пространства в связи с теми
внутренними и внешними проблемами, которые непрерывно — с самого первого появления писателя в Москве — вставали перед ним.
Сложность, множественность, беспорядочность, хаотичность и заразительная инерционность и императивная навязчивость «московского» пространства были почувствованы
366
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
Кржижановским вскоре по приезде в Москву как собственная
«проницаемость» и в результате ее совершающаяся «одержи-
ваемость» со стороны страшного «московского», пришедшего к писателю через угрозы гибели, небытия во время ночных кошмаров. Во втором письме («Штемпель: Москва») он
сам описал первую встречу с Москвой — скорее с ее стихией,
чем с городом начал, элементов, вещей, с некоей «логосной»
структурой. После слов о «расползшихся леторослях» Москвы
он отмечает некую «странность», состоявшую в том, как быстро и полно Москва увела его от своей дискретности и организованности к непрерывности и хаотичности:
«Вот странность: стоило сунуть раз в желтый9 ящик
письмо, и теперь, куда ни пойдешь, всюду выпятившиеся чуть
ли не с каждой стены жестяные коробы. Коробы раскрыли
черные узкие квадратные рты и ждут: еще. Что ж, еще так еще.
Кстати, какие несчетные груды слов сливает Москва ежедневно внутрь этих коробов. В восемь утра и в пять перед вечером холщевые ящики со словами, наваленные один
поверх другого, трясутся на почтовой телеге, затем Москва
бьет по словам штемпелями и бросает их по радиусам врозь:
всем — всем — всем. Так и с моей горстью. Пусть.
В первые мои московские дни я чувствовал себя внутри
хаотичного кружения слов. Взбесившийся алфавит
ползал вокруг меня по афишным столбам, по стенным плакатам, по крашеной жести, торчал из папок газетчиков, терся
об уши концами и началами слов. Огромные черные — красные — синие буквы плясали вокруг глаз, дразнили их издали
с висящих поперек улицы качаемых ветром холстов. [...] они,
нагло задирая веки, лезли под ресницы еще и еще непрерывным потоком бликов и клякс. К ночи, когда я, щелкнув штепселем, пробовал спрятать глаза под веки, буквенная раздробь, ворошась в глазах, не хотела заснуть и, выползая пестрыми каракулями на белую наволочку, долго еще дергалась у самых глаз,
цепляясь за ресницы и не давая им смежиться.
Любопытно, что мои первые московские кошмары с их
бесшумно рушащимися на меня домами10, с напряженной до
смертной истомы спешкой по спутанным улицам, неизменно
приводящим снова и снова — всё к одному и тому же кривому перекрестку, с тупой тоской глухих и мертвых переулков, то
подводящих близко-близко к сиянию и гулу большой и людной площади, то вдруг круто поворачивающих назад в молчь
и мертвь, — все эти кошмары, повторяю, в сущности и были
367
Приложения
моими первыми сонными ощупями Москвы, первыми, пусть
нелепыми и бессознательными, попытками охвата, синтеза.
Примечательно, что выводы моей яви, по существу, не
спорили с черной логикой кошмара. Вначале и самая солнечная, самая дневная явь, в „я“ вошедшая, оставляла то чувство,
какое бывает, когда сойдешь с быстро откружившейся карусели и видишь, как вокруг — деревья, тучи, кирпичи тротуара и люди продолжают плыть и кружить по какой-то кривой.
Я часто доверял себя трамваям А, Б, и особенно В, кружащему
по длинному колеблющемуся радиусу (странное совпадение):
мимо меня мчались вывески с убегающими на них буквами,
мелькали люди, расшагавшиеся вдоль скользких тротуарных
лент, дребезжащие обода телег и пролеток; на окраинных пустынных площадях, мимо разлетевшейся, звонко лязгающей
по параллелям рельс буквы „B“ проплывали линялые от дождей, иногда вращающиеся, чаще устало-неподвижные цилиндры каруселей. Оглядываясь на них, я думал: вот тут».
«Круглая» Москва11, как и положено по определению, задает всему, что в ней, круговое движение по инерции. «Я закружился», — говорит новичок, попавший в круговерть Москвы,
или же — об общей атмосфере города: «голова кругом идет»,
«московская карусель». От этого кругового инерционного движения все, что ни есть в Москве, — от вещи до человека — включается в него, усиливает его, активно участвует в процессах
суммирования и интерференции накладывающихся друг на
друга круговых движений. От него же рябит в глазах: все множественно и разно, пестро и ярко, тесно и набито, беспорядочно и стихийно, возвратно и смежно, одним словом, разнообразно и многообразно, глубже — образно, «художественно». Этим круговым движением, многократно помноженным
на самого себя, создается, как на своего рода синхрофазотроне, мощное силовое поле с его парадоксами. Главный из
них — эффект пресуществления многого и разного в цельноединое и вовлечение в него человека как конгениального
этому пространству и этому движению и столь же стихийного, как и оно, «воспринимателя» его: синтетическое пространство, синтетическое движение, синтетический человек Москвы. Этот «синтетизм», собирающий вокруг некоего центра
все, что только возможно, и втягивающий все разное и многое в выстраиваемое-взращиваемое на глазах цельно-единство
(не так ли и «историческая» Москва ломала, «округляла» и выравнивала неудобные острые углы Твери и Рязани, Новгорода
368
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
и Пскова?!), сочетал в себе и память о разнообразии и яркости
(ср. «рыночность», «ярмарочность», «праздничность», «карна-
вальность» Москвы, где всегда найдется что-то на любой вкус),
и отчетливые следы совершающейся объединительно-унифи-
цирующей тенденции, — с тем, однако, что цельно-единство,
основанное на столь различных элементах, достижимо лишь
при очень большом увеличении радиуса того кругового движения, которое создает это единство (отсюда — эффект широты, размаха, стихийности). Эти особенности Москвы, еще
сохранявшиеся и в послереволюционные годы, объясняют
то не вполне обычное сочетание шири и масштабности, с одной стороны, и домашнести, интимности, патриархальности,
уюта, человекосообразности — с другой, сочетание, которое
увязывалось с образом Москвы и до поры выступало противовесом как овеществляющим тенденциям «регулярного», «чопорного», «бездушного» Петербурга, так и угрозам растворения «человеческого» начала в бесстрастном, безучастном, глухом к нуждам и желаниям человека «природном»12.
И относительность пространства, как она раскрывается при мысленных, метафизических по своему характеру, экспериментах, и многообразие реально явленных вариантов города и присутствие некоего сохраняющегося при
всех преобразованиях инварианта, и московская амбивалентность — «живо-мертвость» и «мертво-живость», «ново-старость»
и «старо-новость» и т. п. — в своей мыслимой глубине уже содержат в зародыше идею некоего соотнесения многого и разного друг с другом, смежности, совмещения, примирения
противоположностей и потому — хотя бы отчасти — особых
«объединительно-целительных» свойств пространства, умеющего или не допустить в себя той остроты и жгучести нравственных и социальных проблем, которые так мучили «петербургскую» литературу, или же смягчить их, распустить их
остро-напряженную конструкцию в некоем поле неопределенностей, или отложить решение на время, предварительно поставив под сомнение его актуальность. Нам некуда торопиться; поспешить> да людей насмешить; время терпит;
утро вечера мудренее; на хотенье есть терпенье; скоро хорошо не родится; скоро — не споро; не Спас обыденный, поспеешь; тише (тихо) едешь, дальше будешь; не время дорого,
пора; у Бога дней много и т. п. — типичные речения «московского» круга. Пороть горячку московские люди не любили,
потому что знали, что век — долог и что век мой — впереди,
369
Приложения
а еще — что терпенье и труд все перетрут и перемелется —
мука будет, что, наконец, если уж никаких других средств выхода из положения нет, всегда можно положиться на авось, небось и как-нибудь. В этом смысле, до поры до времени, Москва
умела как покровом оградить своих детей от слишком острых
бед или смягчить их, как бы растянуть особенно острые
из них в пространстве и времени или, на худой конец, умела научить своих людей стоически относиться к несчастьям,
«жить на сорока пеплах»13 и, следовательно, полуоседло, на
узлах, кое-как, в ожидании новых бед и как бы поторапливая
их, если они (страшно сказать: не к счастью, но к несчастью)
почему-то задерживались и выбивали московских людей из
привычной колеи, когда и беды успокаивали, подтверждая своей периодичностью и регулярностью какой бы то ни
было, но все-таки порядок — пусть и гибельный.
В этом смысле есть основания говорить о ритуальности Москвы, задаваемой суточным, недельным, годовым,
жизненным циклом, регулярностью богослужений и праздников, чередой царств и пожаров, войн и эпидемий, устойчивым укладом жизни даже в условиях неустойчивости. Москва
часто как бы не справляется со своей сложностью, многообразием, путаницей, не может адекватно выразить себя словом
столь же точным, сколь и ответственным и обязывающим, что
предполагает четкость артикуляции. Ее сила в другом — в синкретизме и в установке на непрерывное, инстинктивное, иррациональное, которое позволяет от системы, схемы, логического вернуться к незамутненным источникам жизни, к ее опыту,
к родовому и «природному». И выражать себя она предпочитает не словом, а делом, подобным, однако, такому слову, которое
предназначено для сокрытия мысли, делом, имитирующим дело. В этом отношении Москва противоположна Петербургу:
обрядовая и обрядоверная, она творит обряд и репродуцирует его, тогда как Петербург творит миф как некую организованную структуру, предполагающую ориентацию на дискретное, упорядочивающую мир и контролируемую логикой
мира (ср. «петербургский» миф). Москва — образна по преимуществу, Петербург — в сути своей «понятней», что было
проницательно подмечено Кржижановским. У первой зоркий
и цепкий глаз, у второго — аналогичная мысль.
Не сразу отыскался у писателя образ-символ Москвы,
прежде чем он мог сказать — «Нашел: Г л я д е я», одна из тринадцати сестер-трясовиц, чей единственный талант — гля¬
370
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
деть: много, непрерывно, буйно, беспорядочно, ничем не гнушаясь14. «Москва слишком пестра, слишком велика и слишком
метко бьет своими образами, чтобы, живя в ней без век, можно было уберечь хотя одну извилину мозга, хотя бы крохотный уголок внутри черепа от образов, заполняющих стихийно мозг. Оттого внутри московских мышлений такая страшная
теснота: все, как на театральном складе, завалено крашеными холстами, — и художнику негде повернуться; образ поверх
образа, а сверху еще образ; понятиям места нет: они
мыслятся как-то боком, кое-как протискиваясь среди солнечного груза. Бежать от своих глаз ведь некуда. Разве куда глаза
глядят»15.
Сочетание инерции кругового, т. е. снова и снова воспроизводимого, движения Москвы с жадной бесстыдностью
глаза предопределяет «московскую» способность к фиксации
явления смежности. Само явление — не творческое порождение глаза, но именно глаз прежде всего фиксирует эту
смежность и учит не только видеть ее, но «с м е ж а т ь» по образцу этой естественной и исходной смежности то, что по
природе не является смежным, но, будучи соотнесенным друг
с другом в смежной позиции, процветает метафоризмом, иногда безудержным, из которого рождается и сама поэзия16. Сама
Москва и цветисто-метафорична, и «поэтична», с одной стороны, и, с другой, как бы просится быть поэтически «разыгранной». И москвич — большой мастер в этом искусстве ассоциирования по смежности. «Здешний человек, homo urbanus, существо, ассоциирующее по смежности, — пишет
Кржижановский, — самая увязка и стройка города учит людей, в него включенных, строить и связывать речь и мысль так,
и только так. Куда ни глянь — в ряд: семиэтажная громада, за
ней избенка в три окна, тут же коленчатый причудливый особняк; десять шагов от колонн — и рынок; дальше — загаженный
писсуар; еще дальше — белый взлет легкого колокольного шатра; кокошниками отороченные, поднятые в лазурь главки —
и опять огромный, навалившийся на церковку, лоснящийся
свежей краской огромный домина. Москва — это свалка никак, ни логически, ни перспективно, не связанных строительных ансамблей, домищ, домов и домиков, от подвала по самые
кровли набитых никак не связанными учреждениями, квартирами, людьми, живущими врозь, вперебой, мимо друг друга, но
разделенных лишь тонкими стенками, подчас фанерой, не доходящей даже до потолка. В Москве люди и то, что около лю¬
371
Приложения
дей, близки друг другу не потому, что близки, а потому, что рядом, тут, по соседству, [...] то есть „по смежности“. Туг, в московском круговороте, сходятся, иной раз сдружаются не потому,
что сходны, а потому, что бульварные скамьи не одноместны,
а сиденья пролеток парные».
Путание и распутывание — две партии диалога, который ведется между городом и тем, кто хочет его понять и осмыслить17. История Москвы свидетельствует и о самосознании городом этой своей путаности, и об усилиях превратить
эту необходимую данность в добродетель — Москва как образ, отражение, «разыгрывание» темы свободно возрастающей
жизни, каждый шаг которой вольно и непринужденно отлагает свой след в структуре города. В итоге, к началу XX века —
тот город провалов и взлетов, контрастов и преодоления их
несовместимостей и некоей необъяснимой органичной гармонии, который заставляет вспомнить о другом творении и о
чувстве удовлетворенности им самого Творца — «И увидел Бог,
что э га о хорошо».
Поддавшись обаянию Москвы, Кржижановский захотел еще и понять секрет этого обаяния, смысл города. Ежедневные целенаправленные прогулки и бесцельные, как бы
сомнамбулические блуждания, когда автор «поддается» городу, отсекая свою волю («Пусть ведет улица. И пусть говорят окна» — «Окна», из «Физиологических очерков»), эмпирия общения с городом и рефлексия над его метафизическим слоем позволили выделить главное — путаницу, научили «правильно
мыслить город» и понять смысл этой путаницы, несовместимости, contradictio in adjecto — и в современной писателю Москве, и в ее прошлом.
«В восьмистах переулках этого шрода-путаницы есть
Путинковский переулок (не от него ли и пошло?), у начала его
крохотная, под белой краской, церковь Рождества Богородицы в Путинках (искажение древнего — в паутинках или в путанках). Строена церквушка в три стройки; из трех „рядом“
сделана: храм к храму, еще храм и к нему еще. После сотни лет
раздумья к третьему храму неожиданно пристроена трапезная.
Ассоциация по смежности строила, еще в XVII веке, сельцо Измайловское [...]; ею же слеплено Коломенское, как
лепится птичье гнездовье, без плана, по строительному инстинкту: хоромы к хоромам, без логического связыванья, по
принципу элементарной смежности. Древняя „проспектива“,
сделанная в XVIII веке тогдашним живописцем Зубовым, даю¬
372
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
щая утраченные звенья старой царской подмосковной, совершенно неожиданна для правильного архитектурного мышления: в воссоздании Измайловского, также и Коломенского, от
которых сейчас только разрозненные куски, признак объединяющего сходства совершенно бесполезен и бессилен. И мне
думается, что все эти давно изгнившие деревянные срубы, клети, подклети, угловатые четверики и восьмерики, громоздившиеся друг на друга, кое-как сцементированные либо просто сколоченные из бревен и теса, хотя и не умели дать города во всем его массиве и масштабе, как это делало западное
зодчество, но сущность города, который извне всегда беспорядочен, соединяет логически несоединимое на одной малой квадратуре, они выражали крепче и безоговорочнее. Все эти Смирные, Петушки, Потаповы,
Постники — не имели нужного материала и должной техники,
но имели правильное представление о „градостроительстве“,
умели правильно мыслить город [...] Петровские линии
состоялись лишь в виде одной куцей прямой, оказались бессильными и короткими потому, что, несмотря на приказы Петра I о стройке „по линее“, „линея“ сразу же запуталась в клубке переулков, слепых тупичков, переходов и извивов и далее
ста шагов не пошла. Московское переулочье быстро расправилось с „линеей“. Оно же, несуразное, противоречивое, ведущее
вправо с тем, чтобы тотчас же заставить свернуть влево, спутало и мои мысли в те первые недели московского новоселья,
когда я, оттоптав две пары башмачных подметок, не мог все же
дотоптаться до элементарнейшей мысли: если я не умею распутать московские узлы, то потому ли это, что они туго связаны, или потому, что пальцы у меня слабоваты? Надо было укрепить пальцы, сделать их хватче и цепче, за это я и принялся
методически» («Штемпель: Москва». Письмо второе).
Когда писатель понял, что для развязывания «московских узлов» пальцы должны быть «хватче и цепче» (и не только пальцы — зрение, слух, интеллектуальные способности восприятия и осмысления), что должны быть выработаны и усовершенствованы особые качества — концентрированная
и целенаправленная («хищная») наблюдательность, острая
и быстрая («реактивная») проницательность, «инвентивность»
экспериментатора, это означало, что «привозной человек» уже
усвоил первые и пока еще довольно невнятные уроки Москвы.
Но они «зацепили» писателя в принципе (ср.: «Я знал — Москва
зацеписта, но чтобы она и меня поймала на крюк, этого, при¬
373
Приложения
знаться, я не предвидел» — «Штемпель: Москва». Письмо девятое): отныне он уже не был свободен от Москвы. А как быт
и язык18 «хватались» за писателя, «цепляли» его, не раз рассказывал он сам. Приехав в Москву и не имея жилья, писатель ходил по разным адресам с рекомендательными письмами, которые предлагали обратить внимание и при возможности помочь «подателю сего». Он ходил от звонка к звонку, нажимал
кнопку звонка, с волнением ожидая результата. Дверь открывалась. «[...] и всегда получалось одно и то же: сначала вскрывали конверт и пробегали глазами по тексту, а потом и меня —
вскрывали и пробегали. Были взгляды и продолжительные,
и короткие, сперва обычно длиннее, потом короче; зрачки щ у п а л и меня так, этак, раз, и другой, и третий, раздумчиво щурились — сначала на меня, потом сквозь меня, потом
и мимо».
Всё кончалось неудачей, но и неудача куда-то вела
и чему-то учила, во всяком случае она «омосковляла» приезжего провинциала. «И, слушая мягкий защелк американского замка, я считал, мой друг, шершавые ступеньки лестницы,
ведущей книзу, и приискивал метафоры. Образ истертой
звонковой кнопки мне быстро надоел. Однажды, проходя по
рынку, я заметил нечто более пригодное: люди, теснящиеся
меж лотков и рундуков рынка, хорошо знают, что такое сдоба, обыкновенная сдоба, выставленная мальчишкой-продав-
цом для щупа,, то есть на предмет испытания недоверчивым покупателем добротности товара. [...] Но поверх холста
всегда одним-одна, выставленная под щупающие пальцы булка [...] она зябнет поверх холстины, разлученная с себе подобными; золотистая корка на ней, отхрустев, давно
уже осыпалась, теплое тело иззябло и все в грубых вдавлинах
и ямах —отщупа. — И помню, когда очередь дошла до письма с адресом „Зацепский вал, № 14“, я почему-то заколебался.
Взял шляпу. Положил. Развернул план: поперек длинной шеренги букв: 3-а-ц-е-п-а — вдруг ударившее по зрачкам словцо:
Щипок. Как будто знакомо. Перелистал: сначала Забелина —
нет, не тут, потом Мартынова („Улицы и переулки Москвы“),
наконец, Снегирева. Ага, вот оно что: оказывалось, прародителем Щипка был древний московский щуп о к, длинная жердь
с железным крюком у конца, которым можно было перетрогать и перещупать всю кладь, подвозимую к московским
заставам. Надо признать, что за два-три столетия москвичам
удалось сильно усовершенствовать этот остроумный прибор,
374
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
сделать его невидимым, в то же время усилив и утончив его
действие».
«Цепкость» города в отношении и своих жителей и приезжих учила «цепкости» глаза, и это, по Кржижановскому, было одной из отличительных черт «московской» литературы его
времени (и, конечно, его собственных произведений). «Повторяю, — писал он, — карандаши остры, глаза цепки; за бытом установлена строжайшая писательская слежка, быт пойман (зацеплен. — В. Г.) в блики и не столько зафиксирован, сколько арестован, насильно втиснут в строки» (ср.
«глаз зацепист». — Письмо пятое). И в самом деле, в Москве всё
«цепляет» человека, более того: цепляние-сцепление — свойство самой «московской» стихии, и трудно решить, кто кого
(и кто больше) цепляет — Москва ли человека, человек ли Москву. И еще дальше и глубже — человек ли цепляет имя в попытке выяснить его суть, а через нее и то, чем оно зацеплено,
к чему при-цеплено-при-креплено, или имя не дает прохода
человеку, «цепляя» его своей непонятностью или оригинальностью. И вот как это иногда случается — неожиданно и просто: «А то прохожу Высоким мостом, что поперек гнилой Яузы, и вдруг ассоциация: я — у з ы19». И еще один, несколько
иного характера, пример «цепляния» людей за название, названия за людей, которые должны помочь отстоять «подлинность» его, предложив ему на выбор различные семантические
мотивировки этого названия. И какой выбор ни сделать, каждый оказывается по-своему правилен и законен. Собственно,
иначе и быть не может в той круговерти «московского» пространства, где каждое название ищет свои ассоциативные ряды, и все-таки предложения и возможности превышают реальный спрос. Какие бы ни были названия-имена и как бы ни изменялись они, они всегда есть, пребывают и всегда подлинны.
Как всякий поэт, Кржижановский — номиналист. Обозначающее онтологически предшествует обозначаемому, «для поэта, например, имя, название вещи — это и есть вещь, тот реальный материал, каждый звук и призвук в котором для него
в ещен; самые же „вещи“, то, что названо для него так, — блики на пузыре; и только когда вещи-блики исчезнут, выпадут
из жизни, им ена вещей начинают то с ко в ать
о своих вещах — и совершают паломничество в Страну
нетов. Да, для того, чтобы начать быть в строках и строфах,
надо перестать быть во времени и пространстве: имена говорят лишь о тех, которых нет». После этих рассуждений автор
375
Приложения
признается, что Страна нетов уже давно зовет его. Он не противился ее обаянию, и если раньше он еще пробовал уходить
от нетов к естям, то сейчас он уже не может делать этого: «старые пеплы греют меня. А я иззяб», — с горечью признается писатель. И в этом месте он снова обращается к эмпирии дня нынешнего, чтобы понять эмпирию исторического бытия имени. Автор только что прочитал очерк Андрея Белого «Арбат» и,
переполненный образами, вышел на настоящий Арбат и «сразу же увидел, что отыскать хотя бы бледную проступь отсуще-
ствовавшего почти невозможно». И тут же: «Я был раздосадован. В конце концов, у них, у естей, их камень не тверже воска:
каких-нибудь тридцать лет, и все перелеплено заново. — Слова, те крепче. Вот, например, вспомнилось: на Маросейке и сейчас есть зажатая меж высоких домов церковка Николая Чудотворца. Церковка очень давней стройки: когда-то, когда вместо кирпича домов вокруг нее росли клены, называлась
Никола в Кленниках, но клены срубили (1504) и стали строить
по соседству оружейные мастерские для изготовления и прокалки клинков, тогда церковь стала называться Никола в Клин-
никах; и наконец, когда на месте разрушенных оружейных построили блинное заведение, Никола, чуть шевельнув буквами,
стал называть себя Никола в Блинниках. Так имя, крепко сцепив буквы, сквозь пять веков проносит свой корень, не отдавая ритма (кленники — клинники — блинники) и меняя звук
лишь у краезвучья». Москва богата такими примерами. Их осмысление неизбежно приводит к проблеме сущности знака
и его метафизики.
Кржижановский «разыгрывает» эту тему на московском
пространстве. «Московский» знак по преимуществу — крест.
«Сперва к крестам прибивали гвоздями людей [...] Затем, озолотив кровь на крестовинах, кресты подняли на купола. Чтобы увидеть их там, надо было подымать голову. Сначала подымали, потом перестали: некогда [...] И вскоре люди, хоть под
манишками у некоторых и прятался крестик, научились жить
хоть и по соседству с крестом, но мимо него. — И только когда человека клали под дерн, а имя его — внутрь черной рамки, на газетный столбец, имя еще раз встречалось с крестом.
Но его уже и не называли крестом, а — это знают старые наборщики — просто мертвым знаком [...] Так: (f). Затем скобки
сомкнулись, и клеточка, что у средней планки шрифт-кассы,
опустела: „мертвый знак“ умер. — Над Москвой и сейчас еще
нависло странное воздушное кладбище: 2000 мертвых знаков,
376
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
угрюмо скрестивших свои крестовины над городом, живущим
или мимо или прочь от них». Писатель привлекает внимание своих читателей к ряду странных храмов — Никола Большой Крест, Грузинской Божьей Матери др. Их странность —
в той двуярусности, при которой верхний ярус — собственно
храм, а нижний — обыкновенный торговый склад. «Строителю нужен был крепкий и безопасный склад для его товаров, и,
чтобы защитить свое добро „от дурна“ [...], он прикрывал его
сверху церковью. Презумпция: богобоязненный вор у богобоязненного строителя подвала-храма не украдет. Таким образом т о, небесное, с удобством было использовано для этого, земного».
Соотношение того и этого становится объектом
высокой метафизической рефлексии. В частности, оно определяет противопоставление то-пространства и это-пространства, двух векторов движения — то в это и это в то, двух
этических принципов, этими пространствами (статический
аспект) и этими векторами (динамический аспект) определяемых, двух «антропологических» типов — то-людей и это-людей, образующих два ряда знаков большой «разрешающей» силы и весьма диагностически важных. Сочетание дейктической
функции то и это с пространственным противопоставлением дальнего и ближнего и введение всей проблемы в «антропологическую» сферу придает всей этой лингво-философской
конструкции черты фундаментальности — тем более, что у нее
есть и особый ракурс, связанный с сознанием.
«Туг мы с вами, мой друг, у очень любопытной проблемы: сознание классифицирует вещи, предстоящие ему, на те
и эти, на выключенные из органов чувств и на включенные
в восприятие; эти вещи имманентны жизни, те — транс-
цендентны; эти — понятная, хорошо обжитая близь; те —
туманная, недоступная даль.
Если классифицировать самые сознания, то окажется,
что они сознают, в зависимости от своего типа, как бы в противоположные стороны. Одни сознания стремятся переставлять вещи из тех в эти; другие — из этих в те. Если
носителей сознания, то есть людей того или иного интеллектуального типа, я назову: ищущих претворить т о в это —
тов’этовцам и, волящих же превратить это в т о —
этов’товцами, то с номенклатурой будет покончено».
В этой классификации должно быть найдено место Москве и ее людям. «Она всегда радела об этом, в ее москов¬
377
Приложения
ские стены включенном, строила только это, лишь сверху,
от дурна кое-как прикрыв тем, писала и пишет всегда „про
это“. Самый московский из московских писателей, живя в Замоскворечьи, гордился тем, что он открыл новую страну —
Замоскворечье [...]. — Все москвичи — природные тов’этовцы.
Толстовцы, придуманные в доме № 21 по Хамовническому переулку, тоже не этов’товцы. — Стилосы и перья всех Плутархов обычно облюбовывали этов’товцев, героев, имевших силу
обменять доступное „это“ на недоступное „то“. — Но если бы
кто-нибудь захотел написать биографию наиболее последовательного тов’этовца, ему пришлось бы начать с посещения
Семеновского кладбища: там, в третьем отделе пятого разряда,
у главной аллеи кладбища может быть отыскана могила: черный горбатый камень, по камню четкими буквами:
При здоровой пище
Делайте движение на чистом воздухе.
Во время отдыха, то есть ночи,
Имейте спальню с открытым окном.
Перестаньте лечиться.
Бросьтесь в объятия природы
И
Будьте здоровы.
Я уважаю всё цельное: у черного горбатого камня я снял
шляпу» («Штемпель: Москва». Письмо десятое).
Должно быть, Кржижановский не раз снимал шляпу
и в других местах города. Будучи в принципе писателем интеллектуальным, суховатым, а иногда и жестковатым, не склонным ни к экстравертным движениям, ни к исповедальности,
ни к экспрессии, ни к эмоциям, контролируя изъявления своих чувств, ценя строгие логические конструкции и охотно
прибегая к ним, Кржижановский редко изменял себе в своих
привычках и установках, но когда все-таки делал это, то чаще всего это случалось в связи именно с Москвой. Впрочем,
он и сам сознавал и особое место Москвы в его жизни, и свой
долгий роман с нею, и то, как нелегко и как бы противоволь-
но вовлекся он в него. «Во мне, безусловно, есть какая-то пассивность, — писал он. — Вначале я сопротивлялся. Потом перестал: впустил город в себя. [...] Иногда [...] я ясно слышал гулкое
биение Москвы у себя меж висков». Это был уже явный знак
«захваченное™» Москвою, когда линии и ритмы мысли стано¬
378
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
вятся неотделимыми от структуры московского пространства.
И сознание этого единства было радостно: «Да, не раз с известной радостью примечал я, как линии мысли совпадают с линиями, исчертившими город» (в перволичной авторской речи
слова радоваться или любить у Кржижановского очень редки, и поэтому их появление в его «московском» тексте всегда
и очень диагностично и очень значаще). Москва учила писателя искусству смотрения («гляденья») и ассоциаций, а потом
и науке «мыслить город» — с тем, чтобы записать всё это московское, почти синхронно, по горячим следам, самим движением письма воспроизводя структуру города. Эта запись, как
диктуется самою Москвой, тороплива, наспех, начерно, карандашом — до того первого неловкого нажима, когда карандаш
ломается и записывание прекращается20. Значит, Москва обучала писателя описывать самое себя, и в московских страницах Кржижановского — ее дыхание и ее движение.
Писатель не только чувствовал и понимал Москву, не
только умел «мыслить ее», но и ценил и любил ее, и она — через
эту любовь к себе — спасала его, и он сознавал спасительность
ее для себя, хотя это спасение было зыбким и ненадежным:
Москва сама уходила в небытие, оставляя на нем неясный знак
утрачиваемого бытия. Почти гоголевскими лирическими отступлениями звучат некоторые признания Кржижановского.
«Как я люблю эти окраинные шатровые колоколенки, какую-нибудь деревянную церквушку, вроде той, что в Соломенной Сторожке, или трогательную архитектуру Похвалы Богородице, что в Башмачках: все они поодаль, отступя от
жизни, уже не существующие, но всё еще протягивающие свои
резные шатры к пустотам неба. Они умеют все-таки как-то
прочнее не существовать, чем все окружающие и теснящие
их „существовать“.
Мой любимец — это крутоверхий Крутицкий теремок. До него довольно трудно добраться. У Камер-Коллежского вала, среди путаницы Больших и Малых Каменщиков и нескольких Крутицких переулков, на взгорье, в узком тупичке,
хрупкий, весь в блеклых узорах изразцов, под старой растрескавшейся поливой, — легко повис над двойной аркой ворот
теремок. Слева, на крутой стене, — белые дутыши балясин,
подпирающих перекрытия переходов, соединявших встарь
Крутицкий теремок с пятиглавой церковью Успения.
Я никогда не устану бродить меж плит и крестов Донского, Даниловского и Лазаревского кладбищ, вчиты¬
379
Приложения
ваясь в плесенью затянутые старые слова. На десятках десятин
Кускова (подмосковная) меня больше всего волнует старый
мраморный постамент (на дорожке, что слева от дома), подписанный: Venus. Поверх постамента нет никакой Venus — статуя
давно, вероятно, разбита, — осталась неотколотой лишь одна
мраморная ее ступня с нежным очерком пальцев. Это все, что
есть; но я, помню, долго стоял, созерцая то, чего нет.
Территория Страны нетов день ото дня расширяется: робкие звоны колоколен, изредка вмешивающиеся в лязги
и гулы города, напоминают нам о самом несуществующем в стране несуществований: я говорю о Боге» («Штемпель: Москва». Письмо восьмое).
Но если Бог стал «самым несуществующим» (а он и не
мог продолжать существовать: человеку, которому «мало быть
без человека; надо — чтобы и без Бога; догмат вездесущности
нарушает право одиночеств» — «Швы». VII. Украденные одиночества, — и Бог ушел от человека, решившего, что «реальность
в нем самом»)21, если Лизин пруд превратился в «черную, зловонную лужу» и «пакостят прямо в него, заваливая его нечистотами», — остается одно: «Я повернул круто спину и пошел:
нет-нет, скорей назад, в Стра ну не то в», ибо почти всё
дорогое и спасительное уже там, а еще оставшееся — спешит
туда. И все-таки нельзя не быть благодарным и еще оставшемуся. Как помогали ему, поддерживали и до поры спасали его Измайловское и Коломенское, Кусково и Сокольники, Симоново и Крутица! Что чувствовал он, посещая Донское, Даниловское, Лазаревское, Семеновское, Новодевичье, Ваганьковское
кладбища! Что значили для него московские храмы с их двумя тысячами крестов, вознесенных над городом! Как оттаивала его душа, когда он бродил по высоким берегам Яузы и в тесном, кривом и шумном московском переулочье Китай-города
и просторном, зеленом и тихом Замоскворечье! И как ожесточалась она в холодные августовские ночи, проведенные на скамейке пустынного бульвара, потому что воистину «некуда было идти»! Остро подмечал он подлинно «московское» и спасительное и точно выбирал во многом главное — карамзинское,
гоголевское, хомяковское, соловьевское, Кремль, Иверская...
И поскольку это главное еще былоик его бытию еще
можно было пробиться сквозь обступающее его небытие,
оно образовывало еще то пространство жизни и творчества,
которое питало надежды на неполное исчезновение бытия, на сохранение его хотя бы в зазорах еще не окончательно
380
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
оплотневшего небытия (Кржижановский был трезвым человеком и иллюзий относительно «счастливого будущего», видимо, не питал) и пока еще давало жизненные и творческие силы. Но само усыхание бытия, его обнищание, уход его в небытие он видел отчетливо, сознавал это и не сомневался, что сам
он — именно в этом пространстве уходящего в небытие бытия.
В чем причины этого «обнищания» пространства? Конечно, очень важную, в каких-то ситуациях определяющую
роль играли внешние факторы, которые насильственно резко
вторглись в пространство жизни, начав свое бесовское разрушительное дело во славу небытия, и в значении которых писатель отдавал себе отчет. Радикальный, катастрофический
характер совершившегося и совершающегося был ему ясен:
«Революция опрокинула пространство, и горизонтали стали
вертикалями», — писал он об этом.
Но были и внутренние причины психофизиологического характера, до поры скрытые, но позже обнаруживавшие
себя тем скорее и полнее, чем жестче становились внешние
факторы. Психофизиологическая индивидуальность и особ-
ность со временем приняла опасное направление развития
и превращалась в синдром на тему пространства, не без отчетливого болезненного оттенка: писатель, «поэт пространства» со временем стал заложником человека, гениально одаренного чувством пространства и пространственности; через
«внутреннюю» силу и благо в него входила «внешняя» немощь
и зло. Кржижановский боролся с патологическими проявлениями в развитии этого синдрома (опытному глазу субстрат
этих будущих черт заметен уже в отдельных текстах 20-х годов, и дальнейшее лишь подтверждает наличие соответствующего субстрата до всякой патологии), многократно и разнообразно «разыгрывая» образы пространства в своих произведениях, большей частью прижизненно не печатавшихся.
Само это борение, стремление преодолеть патологическое как
некий изъян в полноте жизни и компенсировать его полнотою художественного творчества, сами результаты этих усилий позволяют читателю и исследователю открыть для себя
то уникальное индивидуальное пространство, которое впервые в русской литературе было найдено и обозначено именно Кржижановским.
Поэтому не болезнь («спацио-патология»), деформирующая восприятие «естественного» пространства, в центре внимания на этих страницах (хотя и о ней нельзя забывать), но ее
381
Приложения
изнанка, то высшее духовное здоровье, которое обнаруживает
себя в полноте и глубине ее творческого преображения, и, следовательно, то, как дух творчества, уходя своими корнями во ад
страдания, в своем возрастании использует во благо всё, даже
противоположное и враждебное ему. Что же касается оценки
совокупного образа пространства у Кржижановского, то оно,
несомненно, удивительно и в высшей степени индивидуально и оригинально. Однако сказать только это — слишком мало.
Оно уникально в такой мере, что иногда кажется, что теория
относительности, принцип дополнительности и соотношение
неопределенностей, сверхплотносгь вещества и расширяющаяся Вселенная, мир элементарных частиц и мир античастиц,
черные дыры и нейтрино, все захватывающие воображение топологические опыты преобразования пространства сошлись
все вместе в одном едином пространстве-времени и сговорились сконструировать некое новое, насквозь парадоксальное,
«безумное» пространство, которое отвечало бы двум условиям — чтобы оно органически объединяло всё только что перечисленное и чтобы всё это было укрыто от всех — кроме «научных» и «художественных» гениев пространства. К созданию
такого пространства вплотную приблизился именно Кржижановский. Именно поэтому есть основания говорить в этом случае о конгениальности художника и «физических» гениев —
Эйнштейна, Бора, Шредингера, Гейзенберга, Хаббла, Дирака,
Хоукинга и других, Dichtung u Wahrheit, поэзии и физики, которая в своих вершинных достижениях XX века сама не менее
Dichtung, чем Wahrheit. Стоит указать, что теория относительности Эйнштейна была хорошо знакома Кржижановскому, как
и некоторые другие «безумные» идеи 10-20-х годов (в частности, и в области биологии), но — и это самое удивительное —
многое было предвосхищено им на том уровне, где «несть ни
поэзии, ни физики», но есть преображение их в некое высшее
единство в духе платоновских идей.
III. Структура «минус»-пространства,
его семантика, его трансформации
Большинство текстов Кржижановского — о самом пространстве и о том, в чем оно обнаруживает себя и/или стано¬
382
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
вится доступным реконструкции. Но особенно важны в этом
отношении «Автобиография трупа», «Книжная закладка»,
«Странствующее „Странно“», «Разговор двух разговоров», «Собиратель щелей», «Катастрофа», «Воспоминания о будущем»,
«Четки», «Чудак», «Бумага теряет терпение», «Квадратурин», «Боковая ветка», «Окно», «Дымчатый бокал», «Швы», «Страна нетов»,
«Штемпель: Москва (тринадцать писем в провинцию)» и др.
Здесь акцент ставится на особом парадоксальном виде
пространства, которое в большей степени заслуживает названия анти-пространства («нет»-пространства), и если на предыдущих страницах много внимания уделено «московскому» пространству, притом и в положительных его «умиряюще-гармо-
низирующих» проявлениях, приоткрывающих возможность
заглянуть и в некое подобие подлинно идеального пространства, то сделано это не в последнюю очередь и потому,
что старое, еще не истребленное и не вытесненное до конца «старомосковское» пространство22 уже было осаждено наступающим «минус»-пространством: хуже того, оно не только
вовне, но и то здесь, то там прорастает изнутри и как бы соблазняет, подталкивает к принятию мысли об онтологичности
«минус»-явлений, о бытии небытия, «нетов», «минусов», страшных фантомов, отрицающих жизнь и ее пространство, свободу и, значит, человека, если только он не согласен рабствовать
небытию. Кржижановский часто обращался к описанию этого
анти-пространства и по-разному обозначал его — пустое пространствоу пустота, небытие, мертвое пространство («Он
знал, что там, за спиной, расползшееся черными углами мертвое, оквадратуриненное пространство. Знал и не оглядывался». — «Квадратурин») и т. п., но, может быть, точнее всего его
определяет элемент «минус», выступающий одновременно как
атрибут и как предикат пространства: «минус»-простраиство
есть попросту означает, что пространства нет или что есть
нечто противоположное ему, свернувшееся в нуль и отрицающее это пространство. К тому же такое анти-пространство,
образующее «минус»-мир, несет в себе и отсылку к той вполне
реальной ситуации, которая последовательно продвигает человека в сторону этого «минус»-мира, пока он не оказывается
безвозвратно вдвинутым в него.
«О людях, которых столица судит в своих судах и присуждает к отлучению от себя, к высылке за черту, говорят:
приговорен к „минус 1“. Мне никто не объявлял приговора:
О — 1. Я всё еще среди пестрот и шумов столицы. Но вместе
383
Приложения
с тем мною твердо и до конца понято: я выслан навсегда ибезвозвратно из всех вещей, из всех радостей и из
всех правд; и хотя иду, смотрю и слышу рядом с другими, вселёнными в город, — знаю: они — в Москве, я — в мину с-М о -
с к ее. Мне позволены только тени от вещей; вещи вне моих
касаний; [...] мне разрешены встречи и беседы лишь с пустотой [...]; все затоптанные людьми пороги для меня непересту-
паемы, и всё, что за ними, для меня почти трансцендентно. —
Я могу лишь, прижавшись к стене у вечереющего перекрестка,
наблюдать, как кто-то, многое множество всяких кто-то включают и выключают свет за окнами, задергивают и вздергивают пггоры; я могу наблюдать, как новые и новые кто-то, толкая
пружины подъездных дверей, выходят и входят: их ждут за занавесами театров, занавесами кроватей.
Да, я житель минус -Москвы. Тот город, из которого
я еще не выслан, в котором я еще имею свою квадратуру и свои
права, это не город из вещей, а город из отражений. В него, как
и в водную глубь, упали опрокинутые поверхности, контуры
и „обложки“ вещей. И если я человек, которому отданы только м и н у с ы, я стараюсь поверить в минусы. Мне невыгодно, понимаете, невыгодно повторять вслед за всеми: тень отброшена вещью. Нет, в моем минус -городе, в призрачном,
минусовом мирке имеют смысл лишь мину с-истины, —
лишь упавшая на свою вершину правда. Следовательно: вещь
отброшена тенью. Да-да, против этого в моем выключенном из мира мире не спорят. И я устраиваюсь, как умею,
среди своих минусов и теней; отчеркнутый порогами, перечеркиваю мыслью: ведь если оттуда, из иного мира, не дано
мне ничего, кроме поверхностей, теней, лжей и обложек, то
и я вправе заподозрить, что под всеми их обложками — лжи
и что все их вещи — тени моих теней.
Странно: и улицы Москвы похожи на расползшиеся
каменные швы. Что ж. Пусть меня обронило внутрь уличного шва, пусть мне придется жить и умирать в минусовом, выключенном и отверженном мирке, я принимаю его: и я пройду
по извивам всех его швов, куда бы они ни привели» («Швы»,
1927-1928)23.
Уже при первом чтении удается составить довольно
определенное представление о пространстве Кржижановского, о геометрии этого пространства; более того, читатель не
только осваивает правила этого пространства, но и, по-видимому, готов иногда сам освоиться в нем, приняв его, может
384
Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
быть, даже в свой личный пространственный опыт, который
становится от этого приобретения более богатым: пространство перестает быть нейтральным и гомогенным, но более
дифференцированным, разнородным, антропологично-цен-
трированным, личным, Я-ориентированным. Объясняется это
рядом причин и прежде всего степенью «проработанности»
пространства писателем. Количество параметров, определяющих специфику этого пространства, значительно превышает некую усредненную норму. Пространство Кржижановского
содержит несравненно больший запас информации, чем тот,
к которому привычно инерционное сознание (отсюда — неожиданности и парадоксы этого пространства, открытость его
структуры и списка конкретных характеристик, зыбкость границ между сферой реальности и потенциальности). «Живое»
и «личное» пространство писателя обнаруживает способность
к быстрым и легким динамическим изменениям, преобразованиям, пресуществлениям, которые отсылают к веществу или
стихии пространства — кпространственности, и она
выступает как то начало, которое пронизывает и время, и сознание, и язык, всё бытие и связывает всё между собой, отсылая это всё к своему субстрату — к пространству. Эта «пан-
спациальность» энергетична и императивна: она вынуждает читателя принять ее в свое сознание, точнее — во все слои
пространства восприятия, от сферы подсознательного до сферы мистически-провидческого. Если же напомнить, что «пространственный» словарь Кржижановского не только хорошо
и четко проработан и весьма богат, что количество употреблений элементов этого словаря в текстах очень велико (причем
они нередко дополнительно обыгрываются и актуализируются в определенных контекстах) и иногда производит впечатление некоей преизбыточествующей навязчивости, пространственной «логомании», что, наконец, языковые знаки «пространственного» в ряде фрагментов текста выступают почти
с регулярностью грамматических категорий типа артикля,
дейксиса и т. п., — то становится понятным эффект «заразительности» пространства Кржижановского в отношении «инфицируемого» этим пространством читателя.
Пространство Кржижановского, говоря в общем и с оттенком некоторой условности, формируется на трех уровнях — слов и той игры, в которую они вступают, эксплицитных описаний пространства и его образов и, наконец, той размытой стихии «пространственности», вовсе не обязательно
385
Приложения
связанной непосредственно с пространством как таковым, но
присутствующей и в описаниях времени, сознания, мышления, психических и физических состояний, о чем говорилось
несколько ранее.
Слова («алфавит» первого уровня, минимальные законченные блоки, из которых складывается описание пространства), обслуживающие два последующих уровня, аранжируются таким образом, что довольно быстро вводят читателя в проблематику двух пространств, классифицируемых по
признаку «просторности — тесноты». Выделяемые в соответствии с этим два пространства — «просторное» и «тесное» —
обладают мощным «фасцинирующим» эффектом: навязчиво повторяемые или избыточно варьируемые слова не только
прочно укореняют в читательском сознании ту или иную характеристику пространства, гарантируют устойчивость первого впечатления (imprinting), но и индуцируют в сознании
и в эмоциональной сфере читателя некую аналогичную структуру с чертами иконичности (прежде всего на ритмическом
уровне).
Индексы-слова первого пространства — просторный, пространный, страна, сторона, странствовать,
странный (знак, предупреждающий о возможности встречи с парадоксальной ситуацией, ср. «Странствующее „Странно“»)24; широкий, расширяться, растянуться, раздвигаться, разомкнуться, распутаться, расползтись, длиниться;
прямой, открытый, бесконечный, невоплощенный, пустой;
пустота, пустеть/опустошать(ся), исчезнуть, изник-
нуть и т. п. Индексы-слова «второго» пространства — тесный, теснота, теснить (от-, вы-), втиснуть(ся) (про-, за-),
тискать(ся), тиски, затиск(и) («личное» слово писателя),
тоска; узкий; щель, щелина, щелиный, расщелина, расселина, трещина, разрез, шов; (с)плющивать(ся), сжимать(ся),
стягивать(ся), суживать(ся), скрючивать(ся), смыкать(ся),
сползать(ся), цеплять(за-), спутывать; закрытый, кривой,
косой, ломаный, извилистый, изгиб, выгиб, вгиб и др.
Щель в текстах Кржижановского — часто до навязчивости, усугубляемой повторениями, вариациями, игрой созвучий (щель, вщелить, вещь, умерщвлять и т. п.), воспроизводимый символ расколотости, нецелости-нецельности, зияния, пустоты, из которой, однако, вырастает своя, «щ е л и н а я
этика», за которой в иных случаях чуть ли не «щелиная» религия, очищенный от конкретно-эмпирического и субли¬
386
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
мированный до метафизических высот вариант «дырмоляй-
ства». К концепции щели, к смыслу-бессмыслию щелиности —
ср. несколько фрагментов из рассказа «Собиратель щелей»
(1922). Господь приходит к благочестивому отшельнику: «Проси: жизни ли райской, богатств ли и царств земных — все дастся тебе. — И ответствовал Старец: — Просить ли мне о рае, Господи [...] Просить ли богатств и царств мира [...] И пристало
ли мне искать сует людских: разве не ушел я от путей и троп.
Но об одном молю, Господи: даруй мне власть над всеми, большими и малыми, щелями, вщеленными в вещи. Да
научу и их правде.
Улыбнулся Господь: будет по слову твоему [...] встал Старец среди глухой поляны лесной и воззвал к щелям. И щели,
позванные тихим словом, повыдергивались и повытянулись из
всех вещей, где какая ни была, и все — малые и большие, широкие и узкие, извилинные и прямые — стали сползаться на поляну [...] Ползли: и длинная щель, точащая камень скал; и малые
витые щелочки, выерзнувшие из стен, скрипучих половиц, рассевшихся печей; и гигантские зеленотелые щелины с иссохшего и растрескавшегося лунного диска; и махонькие щелочки, выдернувшиеся из скрипичных дек. И когда сползлись, стал
их Старец учить: — Худо быть Божьему миру не целу. — Вы, щели, раскол вщелили в вещи. — А отчего? Оттого, что тела
свои щелиные растите, извивы свои холите и ширите. Длинни-
тесь, трещинкой малой возникнете, ан глядь, она уж и щелью
виется. А там и в расселину расползлась. И гибнет от вас единство и братское слияние вещи с вещью. Расседается камень. Горы, точимые вами, рушатся. В полях отнимаете дождную влагу у слабого корня. Точите плод. Дерева дуплите. Смиритесь,
сестры щели, умерщвляйте плоть свою. Ибо что она: пустоты
извитие. Только. — И щели [...] внимали проповеданию. Обычно, отмолвив, Старец благословлял их [...] и дозволял ползти назад, по своим домам. Выгибая пустоты, тихо расползались щели и вщелялись снова, кому где зиять назначено: скальная трещина в скалу, печные щели в печи, лунный зигзаг в лунный
диск Так и повелось: каждый день, о повечерии, быть миру без-
щельну: целу. И тот час был часом тишины и покоя великих: даже черепные швы [...] и те — выщелившись из кости, уползали
к Старцу [...] И никто и нигде из вщеленных не посмел не внять
зову [...] — Старец отпускал щели [...] загодя, до зари. [...] Щели проворно уползали [...] по дорогам, тропам и бездорожью.
Но там, глядь, одну щель переедет тяжким ободом, там другую
387
Приложения
прищемит подошвой. И иные, не доползши до своих пределов,
стали вщеляться кто куда и как попало: горная расщелина лезла в скрипичную деку, дековая щелина пряталась в черепную
кость прохожему [...] Иные же щели [...] сбивались в большие
щелиные рои и тут же, на дорогах, вонзались в землю: внезапно разверзлись провалы; люди, кони, телеги с разбегу и расско-
ку срывались в ямы. Щелиные рои [...] вползали глубже и глубже, — и земля смыкалась над людьми и их скарбом. Людская
паника множила щелиные страхи; щелиный ужас множил беды людям. И был тот день ущербен и горестен для земли. Старцу, и сквозь листные стены и ветвную вязь, внятны были стоны
и грохоты, проклятия и мольбы, всколебавшие землю: подняв
руку, с вытянутыми к небу пальцами, он воззвал: ей, ГЬсподи,
слышишь ли? Вот рука, возьми меня и введи, как хотел, в твой
пресветлый рай: ибо отныне постыла мне земля.
Долго ждали пальцы, протянувшись в небо: не дождавшись, упали вниз и сжались в кулак. [...] Глаз Старца отыскал
тропу, тропа отыскала проселок, проселок повел на битую дорогу. И великий святой стал великим грешником, богохульцем
и блудодеем».
Автор сложил свою тетрадь, где был записан рассказ
о Старце, и «повел глазами по стенкам: вокруг были рты, приоткрытые и растянутые улыбками в длинные узкие щели. Из
щелей выдавливалось: — Недурно. — Очень мило. — Только вот
конец у вас — того... смят. — Кстати, тут есть один штрих...»
Автор сказки о Старце и щелях выходит на ночной безлюдный бульвар и неожиданно встречает человека, которого незадолго до этого — и тоже случайно — повстречал («Это
так — чудак. Математик, философ», — представили его автору). «Поджидаю вас здесь», — сказал человек. И после минутного молчания: «Скажите, [...] среди щелей, сползавшихся к Старцу, была ли и та неистребимая щель, что всегда меж „я“ и „я“?
Вот — сейчас сидим рядом: от головы до головы аршин... а может быть, и миллионы миль? Не правда ли?» и, приподняв шляпу: «меня зовут — Лёвеникс, Gotfrid Lövenix» — и сразу к делу,
как бы проверяя, «с к а з к а» ли текст о старце. И удостоверившись в том, что это действительно сказка, — «Ш. Я думаю: если бы в сонм снов явилась явь, — они, сны, приняли бы ее ка к
свою. По-вашему, „сказка“, а по-моему — протокол. Научный
факт. Правда, понятия ваши спутаны и даны не в точных словах. Но спутанность — не фантазм. Фантазм [...] легче делать из
цифр, чем из туманов».
388
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
И далее снова о щелях и щелиности: «Primo: ошибка
в эмоции: э т ому не улыбаются: улыбкой вы как щелью отрезали себя от темы о щелях. Вам мнится, будто темой играете вы, будто она в расщепе пера, — но на самом деле, стоит лишь вдуматься, не вы темой, Тема играет и вами, и мной...
и всё вот это (он описал рукою круг, охвативший и небо,
и землю, и всё, что есть вокруг. — В. Г.), — да, всё это, я утверждаю, ущемлено пустой щелью. Да-да. „Тема о Щ е л я х“: да знаете ли вы, что у ее дна? Вы вот боитесь покинуть пространство. Так принято — говорить о щелях в доске, почве, там, и так далее. Но если б властью хотя бы фантазии, что
ли (не этим ли жива поэзия), вы попробовали пересадить ваши щели из дюймов в секунды, из пространств во время, то вы
увидали бы... — Мне не совсем понятно, — пробормотал я. —
Совсем понять — тут и нельзя, — грубо оборвал Готфрид Лёве-
никс, — может, и лучше — недопо ня т ь».
Действительно, концепция щелиности мира, его восприятия, самого бытия прикосновенна к последним тайнам,
но была изложена рассказчику лишь в виде сильно упрощенной схемы. Перед ее изложением Лёвеникс признался, что он
вот уж тринадцатый год не покидает своего Щелиного Царства: «У меня не от сказок пошло, — нет. Тринадцать лет тому назад, во время первых моих опытов по психофизиологии
зрительного процесса я наткнулся на вопрос о прерывности
нашего видения». Изложение начинается с простейших примеров. Внутри моторного цилиндра автора взрывы бензина
прерывисты и толчками бьют о поршень, снаружи же — непрерывное движение колес. «Есть, как бы сказать, известная
видимость видения: человеку с обнаженным зрачком мнится,
что фиксируемая им вещь непрерывно, во все доли доль секунды, — как бы связана с зрачком не рвущимся ни на миг лучом».
Однако Лёвеникс усомнился в этом. Искровая вспышка электрической машины длится всего одну пятидесятитысячную
секунды, но задерживается в глазу на целую одну седьмую ее.
Иначе говоря, семь кратких мельков искр, отделенных друг от
друга паузами в одну седьмую секунды, воспринимаются глазом как непрерывное, секунду длящееся горение искры. Но
на самом-то деле горение отняло всего лишь семь пятидесятитысячных секунды. «49 "3/50 ооо длительности опыта — была
тьма, воспринятая как свет. Поняли? Растяните теперь: секунду
в минуту, минуту в час, час в год, в век, взрастите искру в солнце, — и окажется: можно убрать солнце с орбиты на девяно¬
389
Приложения
сто девять сотых дня и мы, живущие под солнцем, не заметим
этого, понимаете, не з ам е т им и, брошенные в тьму, будем радоваться мнимому солнцу и мнимому дню. Вам скучно? [...] Мысль моя оперлась на опыты [...]: самый факт толч-
кообразности видения, прерывистости восприятия, скажем,
кинофильмы, продергивающейся перед глазом, достаточно
известен. Но стать перед фактом — мало: надо уметь войти
в факт Меж мгновениями, когда лента, сняв с ретины одно
изображение, продергивается, с тем чтобы дать другое, вклинен миг, когда у глаза все уже отнято и ничего еще не дано: в этот миг глаз перед пустотой, но он видит ее: видение
мнится ему видением».
Лёвеникс не спешил с обобщениями и много экспериментировал с обтюпоратором, равномерно вращающимся диском с узкой щелью, поставленным между лучом киноаппарата и глазом. Поворачиваясь к лучу то своим глухим
сектором, то щелью, «обтюпоратор попеременно то рвет, то
сращивает луч». Экспериментатор замедлял скорость оборотов диска, удлиняя тем самым паузу между промельками света и расширяя черные щели. Большинство не замечало каких-
либо изменений25. «Гипотезы громоздились на гипотезы: если
меж систолой и диастолой сердца вклиняется пауза, думал я,
то отчего бы не быть и солнечным паузам. [...] я усомнился, понимаете ли, усомнился в этом желтом диске, врезанном в лазурь. Теперь все знают: солнце в черных пятнах. Но многим ли
открыто: само оно лишь черное пятно, черными лучами бьющее по планетам. Мне случалось и раньше замечать, иной раз
среди яркого полдня, как бы момент ночи, вдруг выставившейся черным телом своим в день. Испытали ли вы хоть раз это
жутко сладкое чувство? Лучи от солнца к земле, будто вдетые
в колки струны, натягиваются всё сильнее и сильнее, тончатся
и ярчатся и вдруг оборвались: тьма. На миг. Д там — всё как было. Опять лучи, лазурь и земля. — Ночь ведь и днем никуда
не уходит: разорванная на мириады теней, она таится здесь же,
в дне [...] И когда солнце устанет, отовсюду [...] выползают черные лоскутья и снова срастаются в тьму. И как можно и в сиянии полдня выследить и изловить глазом и чутью вот эту чисто оптическую ночь, — Ночь, я бы сказал, онтологическая не
покидает души и вещи. Ни на миг. Но это уже философия {...]».
Вдруг, среди рассказа, Лёвеникс насторожился: на аллее,
покрытой лунными бликами, возникло двое, покорно ступавших вслед своим черным теням. «Ведомые тенями, — прошеп¬
390
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
тал Лёвеникс и продолжал: — Тогда я... любил. Теперь не умею».
И он вспомнил тот прозрачный, безветренный осенний день,
когда он спешил на свидание: «У поворота, шагах в десяти передо мной, сквозистая, но длинная и раскидистая, поперек всей аллеи, тень липы. С чрезвычайной ясностью помню и сейчас тот миг: я был весь, насквозь и сплошь — любовь.
До тени десять-пять-три шага: я наступил на нее, и вдруг произошло нечто чудовищное: тень, будто разбуженная ударом подошвы, качнулась, мгновенно густясь в черный ком, и поползла, разворачиваясь с невероятной быстротой — вверх, вперед,
вправо, влево, вниз. Миг, и всё кануло в тень: аллея, деревья, лазурь, солнце, мир, „я“. Ничто. Потом — миг — и опять желтая
лента песку [...] Изникнув, всё возникло вновь и было, как до
мига, но чего-то не было. Я ясно ощущал: что-то осталось
там: в ничто. [...] И вдруг стало ясно, чего нет. В сердце было до
странности пусто и легко. Я вспомнил „ее“ всю, от вибрации
голоса до дрожи ресниц, мысленно увидел ее, ждущую там за
поворотом аллеи, и не мог понять, зачем мне она: чужая; ненужная, как все. Да, черная щель, сомкнувшись, возвратила все, кроме одного: оторванное от сердца, брошенное
в ночь, вместе с солнцами и землями, оно не нашло пути назад; солнце в лазури, как и до мига, земля на орбите, как и до
мига, а этого — нет; щелью затянуло». Выйдя из временного забытья, размышляя вслух, Лёвеникс пытался осмыслить
«щелиность» уже не только в жизненном и личном плане, но
и метафизически: «Проблема ставилась так: у океана свои отливы, и у бытия — тоже. Чувство бытия может быть дано двояко: как е см ь и есть „Я“ знает себя как е см ь. „He-я“ известно ему как некое есть. — Скажите, не были ли вы, хоть раз
за всю жизнь, в трех примкнутых друг к другу моментах. Первый: е см ь и есть. Второй: е см ь. И только. Т]ретий: есть
в е см ь. Путано? Сейчас поясню: после того как мир раз и еще
раз был взят от меня бытийной щелью, нет-нет да расщепляющейся в бездну, глотающей землю и солнце, — я стал
подозрителен к миру и как-то не верю ни в прочность протоптанных его планетами орбитных эллипсов, ни в негасимость
его солнц. Правда, провалы в ночь редки и знающие о них
редки, но щель, грозящая катаклизмом, никогда не сдвигает
вплотную своих краев; каждый миг грозит она их раздвинуть,
прозиять мироемлющей бездной; не я один разорван щелью
надвое. Разве вы не расщеплены ею? Разве Гейне не писал —
„через мою душу прошла великая мировая трещина“ [...] —
391
Приложения
Взгляните. — Уйдя в слушание, я и не заметил: ночь отошла. Заря проступала узкою алою щелью меж земли и неба. [...] — Мне
пора. [...] — Но вы не досказали...»
И хотя всего не доскажешь, Лёвеникс все-таки согласился поставить как бы последние акценты в своей «щелиной»
метафизике — «Вот суть: если нет единой нити времени, если
бытие не непрерывно, если „мир не цел“, расколот щелями на
розные, чужие друг другу куски, — то все эти книжные этики,
построенные на принципе ответственности, связанности моего завтра с моим вчера, отпадают и замещаются одной, я бы сказал, щелиной этикой. Формулу? Вот: за всё
оставленное позади щели я, переступивший щель, не отвечаю.
Я — здесь, поступок там: назади. Свершенное мной и я — в разных мирах; а из миров в миры — нет окон. О, это-то я давно постиг. Вы поняли? — Да. — Ведь та, что ждала тогда за поворотом
аллеи, помните, не догадалась, я оборвал без слов. Письма отсылал нераспечатанными. Как-то случайно, в газете попалось
в глаза — ее имя (ее звали София, да, — С о ф и я): „...выбросилась в окно. Причина неизвест...“ — но к чему это я вам?» И Лёвеникс ушел. «Пора было и мне. Но я медлил: какое-то странное недоверие и к солнцу, и к земле, и к себе самому связывало
мне мускулы: казалось, вот — сделаю шаг и всё — от солнца до
искр под копытами, от земли, подостланной под всю нашу суету до крохотных пылинок, растревоженных подошвами, — всё
вдруг канет в ночь и обещанного зарей дня не будет».
И всё-таки это еще не было концом. При расставании
рассказчик вручил Лёвениксу свою рукопись и ждал ответа. Его не было. Рассказчик разыскал каморку, где жил Лёвеникс: она была пуста. Удалось узнать, что он уехал из Москвы
в какой-то заштатный городок. На всякий случай туда было послано письмо. Когда уже не было надежды получить ответ, он
пришел. В нем были высказаны важные соображения — в развитие гипотезы, о которой говорилось выше, — о тайне циферблатов26. Рассказчик немедля написал Лёвениксу другое
письмо, и тот ответил («мысль его, Лёвеникса, пройдя сквозь
формулы физики и максимы этики, вступила в новую фазу»).
«Только теперь, — писал он, — оправдана для меня онтологическая канва Вашей сказки. Вам, поэтам, то, что дается, дается
смутно, но сразу. Нам, философам, — ясно, но в постепенности. Перечитываю Декартовы Meditatisas [так в тексте! — имеются в виду «Meditationes de prima philosophia de Dei existentia
et animae immortalitate», 1641; второе издание 1642 г. име¬
392
Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
ет несколько отличное название. — В. Т.]: его мысли о „промышлении миром“ — удивительны: „Промысел, — дедуцирует он, — не бережь бытия, а длящееся в веках творение мира,
который в каждую долю мига [...] срывается в ничто, но создается вновь и вновь, из мига в миг, весь, от солнц до песчинки,
мощью творческой воли“. Но ясно, что меж двух Декартовых
„вновь” возможны и перерывы — мертвые точки: в их
пунктир и уперлось мертвое дьяволово царство, межмирие,
черная Страна Щелей.— Один из вас, поэтов, давно это было,
вошел в провалы Царства мертвых. Должно и метафизику сойти туда же. [...] время медитаций прошло. Пора стать „ушель-
цем в щель”».
В последних фразах своего письма Лёвеникс говорит
о главном — о методе, о жизни, о смерти: «Особенность моего
метода такова: людям неведомо даже то, о чем знают все уличные циферблаты. Почему? Потому что щель, расщепляя
бытие, поглощает вместе с ним и их сознания, бытие отражающие. Выброшенные назад в бытие, бедняки и не подозревают,
что за миг до того их не было, — и только отдельные, как
бы утаенные вновь сросшейся щелью вещи и люди, не возвращенные вместе с ними назад, под солнце, возбуждают некоторый страх и недобрые предчувствия. О затерявшихся говорят:
„умерли-погибли неизвестно где”. И не знают, что каждый миг
грозит нам „неизвестно где”: всему и всем.
Но узнать в ну тренне е бездны может лишь тот, кто
не отдаст расщепившейся щели своего сознания; тот, кто, исчислив точно час и миг катаклизма, властью воления и веры —
останется быть один среди небытия, войдет живым в самую
смерть. Туг мало Дантовых терцин; нужны цифры и формулы;
и то, что поэт мог делать лишь с образами и подобиями вещей,
метафизику должно уметь сделать с самими вещами. — Числа
меня не обманут. Вера — тоже. День опыта близок [...]».
Письмо взволновало рассказчика. Он бросился на вокзал, «утренний поезд мчал его [собств. — меня] к разгадке». Когда он вошел в комнату, увидел — «в кресле — Лёвеникс; головой в стол, с руками, странно обвисшими до полу». Голова,
лежавшая на рукописи, была еще теплой, но взгляд был «мертвый, остеклившийся». Через час рассказчик уже сидел в поезде. «Я не понял всех цифр и формул, вписанных в тетради Лё-
веникса. Одно мне понятно: с моей сказкой покончено. Покоряюсь. Но цифры Лёвеникса хотят большего: им нужны все
вымыслы, мои и не мои, писанные и не писанные. Они требу¬
393
Приложения
ют отдать им всё до последнего фантазма. Нет, вчера я бросил
щ е л и н о е наследие — в огонь. Вымыслы и домыслы — сочлись. Фантазм — отмщен».
Это отступление о щели важно не только в связи с тем,
что сам принцип щелиности глубоко и достаточно полно вводит в метафизику пространства в творчестве Кржижановского и очерчивает некий более обширный круг связей —
пространство, Я, сознание, бытие, но и потому, что щелиность
непосредственно связана с двумя основными предикатами
пространства как субъекта — опустошать себя (т. е.
пустеть, изникать, изживать себя, уничтожаться и т. п.)
и заполнять, наполнять себя (т. е. возникать,
уплотняться и т. п.)27, реализующими разные степени полноты пространства — от нуля (отсутствовать, не быть) до максимального предела (преизбыточествовать), который — в определенной перспективе — тоже есть нуль; оба предела-полюса
полноты влекут за собой один и тот же результат — изъятие
пространства (пространство без заполнения и пространство,
заполненное до предела, абсолютно, равно мертвы и выпадают из игры), небытие, знаки которого — тишь, молчь, пусть
(: пустота), мертвь. Чувство небытия было изведано писателем не раз, хотя его интенции были всегда направлены в противоположную сторону: «Всю мою трудную жизнь я был литературным небытием, честно работавшим на бытие», — признается он в своих «Записных тетрадях». В обеих названных
операциях человек их объект: он подлинный patiens, постоянно терпящий поражение после длинного ряда страданий: тоска, страх, боль — основные знаки-индексы этого состояния,
возникающего у человека и в слишком тесном, сильно заполненном, и в слишком разреженно-просторном пространстве,
перед лицом бесконечности. В одном случае — страх «конечного», узость-ужас, теснота-тошнота-тоска (к^к у Достоевского), в другом — страх «бесконечного», безопорного, безос-
новного (как у Паскаля — «Le silence etemel de ces e s p а с e s
infinis m’effraie»).
О том, как заполняется и переполняется пространство,
как оно усложняется и, борясь с усложнением, начинает члениться, как оно делится на части, выступающие как образы
замкнутости-обуженности, всё-таки не преодоленной этйм
членением, или, напротив, как оно расширяется, распространяется, уходит на периферию, удлиняя взгляд находящегося в центре автора, открывая это возрастающее пространство
394
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
для легкого обозрения до тех пор, пока субъект пространства
не почувствует, что он потерялся в его обширности, и не будет
охвачен страхом этого само по себе живущего пространства,
как оно развеществляется, опустошается, становится небытием, вовлекающим в себя, в это «минус»-пространство, и человека, — обо всем этом неоднократно пишет Кржижановский.
Это — его главная тема — от глубин подсознания до высей метафизической рефлексии.
Из текста в текст повторяющиеся образы «тесной» заполненности пространства — дом, куб (дома или комнаты),
комната, квадрат (комнаты), шкаф, коробка, ящик, кузов,
корзина, портфель, саркофаг, гроб, могила («от плеча до плеча»), яма, окоп и даже мозг — меж черепных костей, «от виска
до виска». За этими образами угадывается некая неорганическая, но замышленная против человека «нечеловекосообразная» принудительно-принуждающая поделенность некогда идеального пространства, его обуженность, замкнутость,
«непроходимость», приговоренность человека к этому деформированному пространству несвободы, злая плененность им.
Прикованный к этому узкому и несвободному пространству,
человек, тем не менее, не может с чистым сердцем считать его
своим или назвать его — мое, так как мое всегда предполагает стоящее за ним >7, которое, однако, в этих условиях оказывается так же поделенным на части, изолированным, зажатым
и овеществляющимся, как и то светлое гармоническое пространство, которое только и соприродно подлинному Я.
Когда пространство человекосообразно и антропоцен-
трично, когда оно наполняется тем, что радостно принимает человека, открываясь ему навстречу, или тем, что свободно и творчески произведено человеком для своих подлинных
нужд и принято им в общение, — бытие цветет. Но когда мера наполнения нарушена и пространство переполняется сверх всякой меры, начинается хаос, та «давка» бытия, в которой оно гибнет. Но у пространства есть и другой полюс,
другая мера. Когда оно просторно, открыто человеку, позволяет осуществить ему свой выбор, свою свободу, — достигается
полнота бытия. Но если мера гармонической соотнесенности
человека и пространства нарушается из-за того, что оно неконтролируемо и необратимо «разъехалось» по сторонам, порвав связь со своим «человеческим» центром, наступает та пустота-опустошенность, которая губительна для человека, как
если бы он оказался в безвоздушном (опустошенном от воз¬
395
Приложения
душного «наполнения») пространстве, а значит, и для подлинного бытия. Об этой пустоте-опустошенности, о беспросветном одиночестве как сознании своей «последней» затерянно-
сти-заброшенности в пространстве, когда первые леденящие
дуновения небытия уже начинают шевелить волосы на непокрытой голове, — многочисленные свидетельства на страницах, оставленных нам писателем. Прежде чем исчезнуть в небытии — страдание одиночества, сознание, что ты еще человек, но что «человек человеку — призрак», что — еще хуже — ты
для людей не только не д р у г о й, до которого нет дела, но даже и не призрак: ты вычеркнут из жизни, из сознания, навек
забыт, и это забвение тебя мучительно болезненно:
«Всем дано забыть. Одному не дано — забытому. Это во
мне давно: от виска к виску. Знаю: выключен из всех глаз; из
всех памятей; скоро даже стекла и лужи перестанут отражать
меня: я не нужен и им. Меня нет — настолько, что никто даже
не сказал и не скажет обо мне: нет. И вот оттого мне и не дано: забыть. [...] Но и уйти не дано, потому что как уйти тому, кого нет. Я не надевал на себя шапки-невидимки [...]: и все же, даже глядя на меня, меня не видят [...] Я лишь смутно помню, что
это такое — рукопожатие, ладонь, притиснувшаяся к ладони.
И только редко-редко, когда шаги заведут меня на окраинное
кладбище, к могильным камням [...] я вижу слова, зовущие меня: „Прохожий“ и „Остановись“. И я останавливаюсь, иной раз
даже присаживаюсь у креста и решетки и беседую с теми, которые не отвечают. В сущности, мы одинаковые — и они, и я.
Смотрю, как над ними растет крапива и спутывает пыльные
стебли трава, — и думаю: мы» («Швы»)28.
Таких свидетельств много, и они разбросаны по разным текстам, начиная с самых ранних. Пустота, одиночество, выпадение из пространства человеческого общения характеризуют эту ситуацию опускания в небщтие — «Всю ночь
я пробродил по пустеющим улицам. Чувствовал: пустею и сам [...]», см. ниже («Чуть-чути», 1922); — «И конечно,
город наиболее город [...] в полночь [...] когда он из тишины
и снов: объясняет город до конца лишь обезлюдевшая
пустая улица29 с мертвыми потухшими окнами и рядами
дверей, сомкнувших створы. Да, мы умеем лишь жить — спина к спине [...]»; — «Забавно, что самая оптимистическая философия, измышленная Лейбницем, только и умела увидеть
мир несочетанных монад, то есть онтологических одино-
ч е с т в, из которых „ни единое не имеет окон“. И если попро¬
396
Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
бовать быть оптимистичнее оптимиста и признать у душ окна, способность раскрытия их вовне, то уж конечно и окна эти,
и способность наглухо заколочены и забиты, как в нежилых
домах30. И о монадах-людях ходит дурная слава: в них водятся
призраки. Самый страшный из них — человек. — Да, блаженны волки, ибо они уверовали — хотя бы в кровь. Все против
всех — это то, до чего нам надо долго и трудно идти, и только
когда... ну вот мысли и спутались и карандаш стал: будто увяз...
в шве» («Швы»).
Опустошение и его результат — пустота — образуют
важную или даже главную тему ряда текстов уже в 20-е годы.
Внимание концентрируется на исчезновении как чего-то «реального», конкретного, привычного, так и того, что до исчезновения не замечается, но оно присутствует как некая conditio
sine qua non, во всяком случае по «усредненному» человеческому мнению. И когда на месте привычного возникает пустота
и человек приходит в смятение, тогда-то и возникают те парадоксы полноты-пустоты, заполнения-опустошения, которые
взывают к человеку, требуя своего решения или, по меньшей
мере, признания того, что здесь — на ровном гладком месте,
сложные, остро поставленные проблемы, взрывающие поверхностную ровность и нейтральность. Писатель «разыгрывает» и самые простые, элементарные ситуации, представляющиеся, однако, наиболее нелепыми и фантастическими. «Две
тысячи ушных раковин повернулись к пианисту Генриху Дорну [...] Фалды фрака свисли с вертушки, а пальцы прыгнули
к черному ящику рояля — и мерным бегом по прямой мощенной костяным клавишем дороге. Сначала они направились [...]
от С большой октавы к крайним стеклисто-звенящим костяшкам дисканта. Там ждала черная доска — край клавиатурной
коробки: пальцам хотелось дальше, — они четко и дробно затопали по двум крайним костяшкам [...], — и вдруг, круто повернувшись на острых, обутых в тонкую эпидерму кончиках,
опрометью, прыгая друг через друга, бросились назад». И снова «пальцы стремительным пассажем неслись к краю клавиатуры. Правая рука пианиста тянула назад, к медиуму, но расскакавшиеся пальцы не хотели: в бешеном разбеге они мчались вперед и вперед», и так повторялось не раз, пока вдруг
они!, отчаянно рванувшись, не «выдернулись вместе с кистью
из-под манжеты пианиста и прыгнули [...] вниз [...] Одним мастерским прыжком пальцы перемахнули через порог и очутились на улице. [...] Вокруг молчала [...] ночная безлюдная пло¬
397
Приложения
щадь» («Сбежавшие пальцы», 1922). В этом рассказе внимание
автора не на опустошенном пианисте, точнее — его руке, но
на том, что «опустошило» ее, на возжелавшем уйти из целого
и стать «самим по себе» — на пальцах (вариант гоголевского
«Носа»). Но вне целого они встретили сплошную опасность,
которая заставила их осознать свою «частичность» и, надо думать, тосковать по целому. Поэтому возвращение (вполне случайное) пальцев к пианисту было радостным для обеих сторон. Но ничто, в том числе и выход, даже временный, части из
целого, не проходит даром. Исполнялся знаменитый концертный цикл Генриха Дорна. «Пианист играл как-то по-иному: не
было прежних ослепительных пассажей, молниевых glissando
и подчеркнутости мелизма. Пальцы пианиста будто нехотя
шли по мощенному костяным клавишем короткому — в семь
октав — пути. Но зато мгновеньями казалось, будто чьи-то гигантские персты, оторвавшись от иной — из мира в мир —
протянутой клавиатуры, роняя солнца с фаланг, идут вдоль
куцых пискливых и шатких костяшек рояля: и тогда тысячи
ушных раковин придвигались — на обращенных к эстраде шеях. — Но это — лишь мгновеньями. — Специалисты один за
другим — на цыпочках — покидали зал». Значит, были не только потери: дыхание иного, дольнего мира и его тревог вошло
в исполнение.
Другой текст об опустошении — эскиз 1939 года «Бумага теряет терпение». У бумаги «своя трудная долгая жизнь»,
сложная судьба, сопряженная с множеством испытаний, прежде чем растущее дерево станет книжной страницей. И не бумагу учить выдержке и терпению. И она — «терпит: и ложь,
и гнусь, и опечатки, и грязную совесть, и скверный стиль, и дешевый пафос. В с &>. Но в одно мутное утро ее терпение истощилось. «Ей надоело нести на своих плоских покорных листах
буквы, буквы и снова буквы; мириады бессмыслиц, притворившихся смыслами». Бумага отшвырнула от себя типографские
шрифты вместе с буквами и стала «снежно-чистой» и пустой.
Буквам надоело, что их ваксят типографской краской, и они
решили перестать таскать на своих свинцовых спинах чьи-то
дурацкие смыслы. Начался великий исход букв — с книг, вывесок, объявлений, отовсюду, где они были до сих пор, и,, уходя, они оставляли после себя пустые места, пустыни, пустоты.
Прекратились переписка, законы, указы, распоряжения, расписания, дипломатия, литература: «покорные буквы, послушные тексты, груженные якобы — смыслами, рухнули в небытие
398
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
[...] Буквы бежали, предали великое дело культуры». Молодой
поэт зашел в издательство, чтобы получить экземпляры своей
только что вышедшей первой книги. Дома, лихорадочно развернув пачку, он раскрывал экземпляр за экземпляром: всюду
зияла пустота. «На следующий день в хронике самоубийц появилась бы, наряду с другими, краткая заметка о... Но на следующее утро никаких газет не было». На пустых бумажных листах в эти дни не появилось ни одной буквы. Жизнь изменилась. Люди ходили понурившись. Что было бы дальше, — об
этом можно только гадать. Но выход из положения нашелся
просто, хотя и случайно. Мальчик, дежуривший в типографии,
лег спать. Вместо подушки он пододвинул под голову кипу бумажных стопок, прижавшись к ней ухом, и тотчас же заснул:
ему снилось, что белая бумага пучится и шевелится, хочет ослабить тугой зажим шпагата, что она жалуется на свое бумажное горе и, наконец, что «вот пустота ее теперь не так пуста, как та, прежняя, покрытая шеренгами букв». Похоже, что
бумага и люди взаимно нуждались в друг друге, и помочь им
в этом могли только буквы. Наутро мальчик рассказал свой сон
отцу, рабочему малярного цеха, и тот под диктовку сына, обмакнув кисть в краску, стал писать на чистом листе: «Я, бумага
всего мира, бумага завещаний, трактатов, газет, малых писем
от человека к человеку, великих книг от человека к человеку —
я зову вас, братья буквы, вернуться ко мне, но не ранее, чем вы
поклянетесь [...] вместе со мною служить правде [...] и не позволять человеку не быть человеком и не любить в другом самого себя». На глазах отца и сына совершалось чудо: буквы не исчезали, а продолжали жить. Вскоре полчища букв устремились
к бумажным пустотам, чтобы их заполнить. Могут спросить:
а где свидетельства всего происшедшего? На этот вопрос отвечает автор — «Отвожу вопрос: ведь буквы тогда ушли от нас,
а бумага болела абсолютной пустотой. Пусть она и отвечает: абсолютным молчанием».
И еще один текст о буквах, их исчезновении, пустоте и плодах ее — «Клуб убийц букв» (видимо, 1926). Известный писатель, автор многих книг, рассказывает свою историю
рассказчику. В молодости он был беден («выученик нищеты»)
и рано пристрастился к писательству. На последние гроши посылал рукописи в издательства, но они возвращались к нему
обратно: кошелек пустел, полки заполнялись. Обстановка комнаты писателя поражала аскетичностью — стол, «кладбище вымыслов», стул, кровать и книжная полка в четыре длинных до¬
399
Приложения
ски, заполненная книгами, к которым их владелец относился
«почти религиозно, как иные к образам». Вдруг телеграмма —
умерла мать, необходим приезд. Полнота библиотеки превратилась в три-четыре кредитных билета. Только когда писатель вернулся с похорон, «эффект пустых книжных полок
доощутился и вошел в мысль». Писатель вспоминает эту первую встречу с пустотой: «[...] я присел к столу и повернул лицо к подвешенной на четырех черных досках пустоте. Доски, хоть книжный груз и был с них снят, еще не распрямили
изгибов, как если б и пустота давила на них по перпендикулярам вниз. Я попробовал перевести глаза на другое, но в комнате [...] только и было: полки, кровать. Я разделся и лег, пробуя
заспать депрессию. Нет — ощущение, дав лишь короткий отдых, разбудило: я лежал, лицом к полкам, и видел, как лунный
блик, вздрагивая, ползает по оголенным доскам полок. Казалось, какая-то еще ощутимая жизнь — робкими проступями —
зарождалась там, в бескнижье. — Конечно, все это была игра на
перетянутых нервах — и когда утро отпустило им колки, я спокойно оглядел залитые солнцем пустые провалы полок, сел
к столу и принялся за обычную работу. Понадобилась справка: левая рука — двигаясь автоматически — потянулась к книжным корешкам: вместо них — воздух. Еще и еще. Я с досадой
всматривался в заполненное роями солнечных пылинок бес-
книжие, стараясь — напряжением памяти — увидеть нужную
мне страницу и строку. Но воображаемые буквы внутри воображаемого переплета дергались из стороны в сторону: и вместо нужной строки получалась пестрая россыпь слов, прямь
строки ломалась и разрывалась на десятки вариантов. Я выбрал один из них и осторожно вписал в мой текст».
С этого все и началось, но совсем иначе, чем прежде, когда после работы, вытянувшись на кровати, писатель
имел обыкновение заглядывать в увесистый том Сервантеса,
«прыгая глазами из эпизода в эпизод». Теперь книги не было
с ним. Закрыв глаза, он попробовал представить ее здесь, рядом с ним, «меж ладонью и глазом (так покинутые своими возлюбленными продолжают встречаться с ними — при помощи
зажатых век и сконцентрированной воли)». И что же — «Удалось. Я мысленно перевернул страницу-другую; затем память
обронила буквы — они спутались и выскользнули из видения. Я пробовал звать их обратно: другие слова возвращались,
иные нет: тогда я начал заращивать пробелы, вставляя в меж-
словия свои слова. Когда, устав от этой игры, я открыл глаза,
400
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
комната была полна ночью, тугой чернотой забившей все углы
комнате и полкам». Все чаще писатель вступал в игру «с пустотой его обескнижевших полок». «День вслед дню — они
зарастали фантазмами, сделанными из букв. [...] Я вынимал
их — буквы, слова, фразы — целыми пригоршнями из себя:
я брал свои замыслы, мысленно оттискивал их, иллюстрировал, одевал в тщательно придуманные переплеты и аккуратно ставил замысел к замыслу, фантазм к фантазму, — заполняя
покорную пустоту, вбиравшую внутрь своих черных деревянных досок все, что я ей ни давал». С этих пор рукописи, посылаемые писателем в издательства, принимались и печатались:
«то, чему не могли научить меня сделанные из бумаги и краски
книги, было достигнуто при помощи трех кубических метров
воздуха». Теперь он знал, что ему делать: «я снимал их, одни за
другими, мои воображаемые книги, фантазмы, заполнявшие пустоты меж черных досок старой книжной полки,
и, окуная их невидимые буквы в обыкновеннейшие чернила,
превращал их в рукописи, рукописи — в деньги. И постепенно — год за годом — имя мое разбухало, денег было все больше
и больше, но моя библиотека фантазмов постепенно иссякала:
я расходовал пустоту своих полок слишком торопливо и безоглядно: пустота их [...] превращалась в обыкновенный воздух».
«Нищая комната» теперь разрослась: «рядом с отслужившей старой книжной полкой, отработавшую пустоту которой
я снова забил книжным грузом, стали просторные остекленные шкафы [...]. Но я знал: проданная пустота рано или поздно
отмстит». И далее — почти исповедь перед посетителем: «Я, конечно, и тогда не был наивным человеком и знал, что превращаюсь в профессионального убийцу замыслов. Но что мне
было делать? Вокруг меня были протянутые ладони. Я швырял
в них пригоршни букв. Но они требовали еще и еще». Он повел
гостя анфиладой комнат, и они оказались в квадратном помещении с «рядами черных, абсолютно пустых книжных полок». Заметив его удивление, писатель признается: «Я приходил сюда, чтобы беседовать с пустотой книжных полок.
Я просил у этих черных деревянных каверн тему. Терпеливо,
каждый вечер, я запирался здесь вместе с молчанием и пустотой и ждал. Поблескивая черным глянцем, мертвые и чужие, они не хотели отвечать. [...] писать было не из чего.
[...] Да, я чувствовал и себя, и свою литературу затоптанными
и обессмысленными, и не помоги мне болезнь, здоровый исход вряд ли бы был найден. Внезапная и трудная, она надолго
401
Приложения
выключила меня из писательства: бессознательное мое успело
отдохнуть, выиграть время и набраться смыслов. И помню —
когда я, еще физически слабый и полувключенный в мир, открыл — после первого перерыва — дверь этой черной комнаты и [...] еще раз оглядел пустоту бескнижья, она, пусть невнятно и тихо, но — все же, все же! — заговорила — согласилась
заговорить со мной снова, как в те, казалось, навсегда отжитые дни! [...] Теперь я знал, что замыслы требуют любви и молчания. Прежде растратчик фантазмов, я стал копить их и таить от любопытствующих глаз. Я запер их все тут вот на ключ,
и моя невидимая библиотека возникла снова: фантазм к фан-
тазму, опус к опусу, экземпляр к экземпляру — стали заполнять
вот эти полки. [...] Ия решил [...] насадить свой, защищенный
молчанием и тайной, отъединенный сад, в котором бы всем
замыслам, всем утонченнейшим фантазмам [...] можно было
бы прорастать и цвести — для себя. [...] Не думайте, что я эгоист, не умеющий вышагнуть из своего я, ненавидящий людей
и чужие, н е - м о и мысли. Нет; в мире мне подлинно ненавистно только одно: буквы. И все, кто может и хочет, пройдя
сквозь тайну, жить и трудиться здесь, у гряды чистых замыслов, пусть придут и будут мне братьями».
Полнота и пустота — не просто два противоположных
и удаленных друг от друга на максимально возможное в данном пространстве расстояние полюса*, они еще и в одном
и том же хронотопе, где взаимно дополняют друг друга — и не
только антагонистически (где полнота, там нет пустоты, и наоборот), но и творчески, сотрудничая: из «материальной» полноты возникает «духовная» пустота, немощь; «материальная»
пустота, продуманная до глубины и соотнесенная с прежним
жизненным опытом, ведет к подлинной духовной полноте,
к открытию новых и глубоких смыслов. Тем самым как бы вводится идея слоистости пространства, его ярусов или модусов,
где, собственно, и развертывается сложная игра опустошения,
ведущего к полноте, и заполнения, вызывающего пустоту.
Иногда пустота являет себя в особом виде — как мнимость, неподлинность, ложь и фальшь. Кому не знать эту пустоту, как не графологу, работающему в кабинете судебной
экспертизы «над фальшивыми духовными, подложными векселями, вереницей поддельных подписей» («Чуть-чути», 1922)!
Он сам говорит о своей работе: «Беру человечье имя: вымеряю
угол наклона, разгон и округлость букв, уклоны строк, вывожу
среднее, сравниваю силу нажимов, фигурацию росчерков —
402
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
градуирую и изыскиваю запрятанную в чернильные точечки,
в вгибы и выгибы буквы — ложь». Работает он чаще всего с лупой, и с ее помощью открывается, как пустота маскирует себя мнимостями и подложностями: «и под прозрачностью стекла правда почти всегда разбухает в мнимость. Подложно имя:
следовательно, подложен и носитель имени. Подделен человек: значит, фальшива и жизнь. [...] нужно ли мерить углы букв,
стоит ли считать чернильные точки, когда и так ясно: все они
фальшиволицы, лжемысльны и мнимословны. Под живых.
„Что поделываете“. Почему не „что подделываете“: подделывают любовь, мысль, буквы, подделывают самое дело, идеологию, себя; все их „положения“ — на подлоге». Невольно мысль
обращается и на самого себя, на проблему своей собственной
подлинности. Графолог не любит ни своей комнаты в синих
обойных лотосах, ни своего тела, ни себя, «запрятанного от себя», потому что догадывается — «и начни я растаскивать „я“ по
точкам, как вот этих, в портфеле, то... но не надо». Сначала он
искал забвения, погружаясь в свою работу — «до боли в мозгу, до мутной ряби в глазах», пока однажды, анализируя некий вексель («по видимости [...] — все подлинно; по сути, чую,
все лживо, поддельно»), с ним не случилась странная встреча:
придвинув лупу к неясной букве, он заметил вдруг крохотного, в пылинку ростом человечка, оказавшегося королем ЧУТЬ-
ЧУГЕЙ, покорителем страны ЕЛЕ-ЕЛЕЙ. Вскоре они пришли
к соглашению: король принял графолога в свое подданство, за
что тот должен был оказать королю услугу: «благоволите разрешить в ознаменование дня и встречи этот вот подложный
росчерк, на котором стою, преобразить в подлинный и амнистировать несчастного: эй, букводелы, сюда — оподлиннить».
Графолог заверил подлинность бумаги, поняв, что неподлин-
ность универсальна, что она творится почти невидимо, всюду и всегда, пронизывая всё задолго до того, как перед людьми
встает вопрос о подлинности или неподлинности, о полноте
правды или пустоте лжи. Чувство облегчения заполнило его —
«Амнистия всем, — шептал я радостно и освобожденно, — амнистия всем поддельным, фальшивым, подложным, мнимым
и неверным. Буквам, словам, мыслям, людям, народам, планетам и мирам. Амнистия! » Захотелось наружу, к людям, к женщине. Вот одна из них перед ним, и он охвачен счастливым
предвкушением близости. Но... глаз, набитый на поисках неподлинности, замечает и в женщине микроскопические изъяны-пустоты, неподдинность, и он, отступая на шаг: «Простите.
403
Приложения
Бога ради. Это недоразумение... — Ее как ветром качнуло [...]
И она пошла [...], как если бы путь к порогу перегородило сотней порогов». Шев против чуть-чутей внезапно наполнил его,
и, схватив пресс-папье, он занес его над столом, заполненным
чуть-чутями. Но лишь на миг, потому что — «И тотчас понял
всю бесполезность борьбы: ведь чуть-чути повсюду — ими полны мои глаза, уши, вероятно, они успели пробраться и в мозг.
Чтоб истребить их всех, до последнего, надо проломать самому себе голову. Выронив пресс-папье, я бросился к порогу.
Толкнул дверь. Да, я, глупо-большое, саженное существо, бежал от незримых чуть-чутей». От пустоты неподлинности, замаскированной под полноту как бы подлинностей, оказывающихся мнимостями, он уходит в абсолютную, голую пустоту:
«Всю ночь я пробродил по пустеющим улицам. Чувствовал: пустею и сам. [...] Быстрым шагом я возвращался к себе. — В комнате было тихо и п у с т о: да, когда чуть-чути хотят отомстить, они лишь покидают осужденного. [...] Кончаю:
написанному в портфель. И мне: в черный, глухой портфель:
защелкнется — и ни солнц, ни тем, ни болей, ни счастий, ни
лжей, ни правд».
О теме «опустошения», как она представлена в «Проигранном игроке» (1921), «Катастрофе» (1919-1922) и «Ква-
дратурине» (1926), отчасти уже писалось выше, отчасти же будет сказано ниже.
В этом пространстве пустоты-опустошения, вычеркну-
тости, тотального одиночества и безвыходности возникает образ конца, смерти — труп (см. далее)31. Чем дальше, тем многообразнее, тоньше, изощреннее становится пустота и тем
грознее предносится сознанию писателя призрак небытия.
Личный жизненный опыт и уроки философии как бы соединяются, и за «минус»-пространством все чаще, императивнее,
безысходнее угадывается — как последний ц грозный приговор — абсолютное нет. Свидетельства этого — во многих текстах Кржижановского.
Феномены, и без того сомневающиеся, «суть ли они
или не суть» и, следовательно, «быть миру или не быть», мучаясь худшими подозрениями, приходят в состояние паники, но
на каждую, все более и более робкую, попытку да — как удар,
несравненно более мощное,и уверенное в себе — нет, и линия Платона, Беркли, Канта в транскрипции писателя логически завершается диалектической персонификацией этого
нет, отрицания, пустоты, универсальной негации в фигуре
404
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
Пурвапакшина32, а сам автор, как бы споря с одним из своих героев («лучше хоть как-нибудь быть, чем великолепно
не быт ь»), мужественно заявляет о своем решении — «Я выбрал: лучше сознательно не быть,чем быть, но
не сознавать», и бытие уходит со своего места, от самого
себя, чтобы угнездиться в сознании.
Бытие, бытийность которого никнет и которое само как
бы льнет к небытию, на определенной стадии становится неотличимым от небытия, бытие собою наполняющего, поглощающего и умерщвляющего его. Эта динамика и смысл совершающегося, может быть, лучше всего опознается в пространственной сфере, чутко подключающейся к этой игре обмена
бытия на небытие. Пространство разрежается, опустошается,
и вещи («всё, что есть в нем») становятся всё условнее, сомнительнее, фантомнее (фантасм/фантазм, фантасмагория,
фантасмагорический, фантом, фантастический и под. —
слова, десятки раз повторяющиеся у Кржижановского33 и обозначающие в метафизике писателя нечто очень существенное,
возникающее в отвлеченных ситуациях бытийно-небытийной игры). На известной грани и само пространство, и вещи,
его заполняющие, почти неотличимы от мнимостей, от смысловых пустот, претворяющихся бытием, тогда как если и есть
смысл в Raum und Zeit, то он в опустошенном от субстанции
und, а не в Raum или Zeit («собственно, можно б без „и“, а просто — точку, и всё, — говорит автор в „Фантоме“, — но традиция — не я ее начал, не я кончу — требует некоторого литературного закругления и ссылки на источники»). Об этом «и»
идет речь и в рассказе «Страна нетов» (1922), и тоже в контексте грани между бытием и небытием34.
В мифологии «нетов» у Судьбы три сына: "Ev — «Одно»,
näv — «Все» и Kai — «И», и выживает только последний, потому что он «никакой» и сам сознает это («И я без вас только „Kai“, только малое бессмысленное „Kai“ — „и“, ничего не
соединяющее»), и продолжает двигаться к небытию — чахнет, никнет, умаляется в „Kai“. «„Все люди смертны, — подводит итог автор. — Кай — человек. Следовательно, Кай — смертен“. Очевидно, если верить [...] учебникам, Kai стал смертен;
от него и пошли неты, или „смертные“ [...], существа, суть которых заключается в способности умирать, то есть не быть» (та
же история произошла и с затерявшимся в небытии ТОЖЕ);
в этой «бытенебыти» не случайно тень кажется более реальной, чем вещь, которою она порождена, а сама «бытенебыть»
405
Приложения
заселяется нетами, оттесняющими естей, и разными мнимостями — чуть-чутями, еле-елями, авдругами (а вдруг...), яко-
быми («Якоби и „якобы“») и т. п. Пространство становится незащищенным («а вдруг с пылинами, осевшими на их стекли-
стые вгибы (очков. — В. Г.), и все пространство — было
и нет, как налить») и все более и более мнимым, относительным. В нем все настойчивее проявляет себя бессубстанциаль-
ность или — по меньшей мере — изнаночность. Все отношения переворачиваются: тень порождает вещь, но не наоборот; не человек преодолевает пространство, но пространство
проходит через человека, прогоняется через его мозг; не человек входит в город, но он позволяет городу войти в себя; не
мир вправляет мысль в личность, но личность вправляет мир
в мысль; не столько природа боится пустоты, сколько пустота
боится природы, и акцент должен ставиться именно на этом
последнем утверждении, и т. п. И если подобное воспринимается «средним» сознанием в стандартной «средней» ситуации как парадокс, то, оказывается, есть сознания и есть ситуации, для которых все это норма, хотя и «ненормальная», данность, естественная для переживаемого «минус»-пространства.
В этом опустошающемся (но и опустошающем) и входящем
в небытие мире в самом человеке убивается чувство пространства мира, расстраивается и исчезает сообщительность и согласие его частей, наступает та лейбницианская ситуация
мира «несочетанных монад», то есть онтологических оди-
ночеств, из которых «ни единое не имеет окон», о чем уже говорилось выше. Но Кржижановский беспощаднее Лейбница
и идет дальше: «И если попробовать быть оптимистичнее оптимиста и признать у душ окна, способность раскрытия их вовне, то уж конечно и окна эти, и способность наглухо заколочены и забиты, как в нежилых домах. И о монадах-людях ходит дурная слава: в них водятся призраки. Самый страшный
из них — человек». Это «минус»-пространство — пространство
одиночества, «доживальное пространство» (в котором жить
нельзя, но доживать, то есть пустеть жизнью, бытием можно),
«без-пространство»35.
«Анти-пространство» тесноты и узости, замкнутости
и связанности-несвободы, «опрокинутых» перспектив десятки
раз описывается Кржижановским. Несомненно, что личный
жизненный опыт во всей конкретности московского житья-
бытья был столь труден и не раз подводил писателя к грани такого отчаяния, что он не мог не отразиться и на образах его
406
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
творчества, прежде всего на том, как «разыгрывается» в нем
это ущербное «минус»-пространство36. Физическая теснота,
достигнув некоего предела, начинает захватывать к духовную
сферу: в ней тоже как бы индуцируется теснота: утесненная
мысль начинает угнетать человека, отгораживать его от тех
смыслов, которые — с каждым новым прорывом к ним — расширяют пространство. Ища спасения, человек инстинктивно
ищет пространство. Свидетельства того, как начались блуждания писателя «по смыслам Москвы», — в его текстах, подробно цитируемых выше. Там же — и о том, как начинается «игра
души с пространством», как происходит «разматывание» себя
в нем, когда Я рассказов Кржижановского чуть ли не каждый
день, с утра отправляется «вдогонку за Москвой», в поисках потерянного пространства, в которых каждый отрезок обретенного пространства открывает ему и потерянное время в разных его фрагментах, а общие пространственно-временные
находки возвращают утраченные смыслы и позволяют обнаружить новые, свои, которые, собственно, и позволяют этому
Я говорить о Москве — моя.
Как и сам автор, его герои шагают, отшагивают, ходят, гуляют, странствуют, путешествуют, и в известном
отношении эти действия для них не средство достижения цели, не нечто подсобное и воспроизводимое по внешней необходимости, и даже не просто развлечение, разрядка, но сама
цель, то главное, что требует упорно-сосредоточенного труда,
который — в своем развертывании — и есть достижение цели,
точнее — ее достигание, то есть — спасение. В ходе его, как
бы попутно, писатель открыл для себя феномен большого города, его пространства, которое обучает «мыслить сам город»
(для Кржижановского, как и для ряда его персонажей, прогулка, путешествие — тот своего рода «метод опестрения и омно-
жествления нашего относительно однородного, так сказать,
сплошного опыта», который перерабатывает многих людей).
Это обучение совершается постепенно, потому что и само городское пространство не дано сразу и, к тому же, в своей неоднородности оно не может быть освоено и понято сразу, на
едином дыхании. Обычно оно начинается с продолжения
комнатной тесноты и за пределами комнаты — как по некоей инерции «утеснений», так и потому, что к ней добавляется уже и «внешняя» теснота города («Скученность городских вещей и людей мучает меня, — признается писатель. —
Тесная обступь их — непереносима. Каждый дом заглядывает
407
Приложения
в тебя всеми своими окнами»; последняя фраза подчеркивает агрессивно-вызнающий характер этой тесноты, делающей
положение писателя вдвойне страдательным, «непереносимым»). Надо пройти далеко, до городских окраин, увидеть то,
что уже з а пределами города (а все это требует немалого времени), и только тогда перед тобой — «Сверху всперенные облака. Слева над овражным краем синие дымки» и достижение
того состояния духа, о котором свидетельствует сам автор —
«Мысль моя отдергивается от фактов, и отбыло, и от будет: так хорошо отдыхать на абстракциях, на отрыве от всяческого этого».
Отрыв-абстракция, собственно, только и возможен при
освобождении от тесноты, и потому он знак этого освобождения как выхода на простор — физический и духовный. Однако лишь в самый момент отрыва, вдруг увидев просторность
нового пространства, можно отвлечься от было и будет, восстановив на минуту как бы безраздельное настоящее — есть.
Но уже в следующую минуту сознание спохватывается и принимается за упорное выстраивание было, прошлого, за ото-
движение туда тех или иных элементов накапливающегося настоящего, а выстраивание этого было как бы поляризует
и противоположный участок настоящего, где начинает мерцать — будет. Почему сознание включает в себя это было, индуцирующее будет и тем самым восстанавливающее только
что казалось бы навсегда преодоленную «цепь времен», сводя на нет то мимолетное блаженное состояние, о котором еще
в древности было сказано — «времени не было»? Гениальный
физик-мыслитель Максимилиан Штерер, в ранние свои годы,
как и многие незаурядные умы, переболевший «черной философической оспой шопенгауэризма», кажется, нашел верный
ответ на этот вопрос. В его лекционных тетрадях позже были найдены наброски «странной» теории, объясняющей происхождение прошлого. «Согласно записям, прошлое является результатом вытеснения восприятия А восприятием Б.
Но если усилить сопротивляемость А, Б принуждено
будет стать не на место А, а рядом. Так, нотный значок может
присоединиться к предыдущему и по горизонтали, и по вертикали: в первом случае мы будем иметь дело с мелодическим
временем, во втором — с гармонической его формой. Если
предположить столь обширное поле сознания, что восприятия, накапливаясь в нем, не теснили бы друг друга, то на
всех бы хватало настоящего. Ведь два предмета, находящихся
408
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
на равном отстоянии от глаза, мнятся — один близким, другой
дальним, в зависимости от яркости своего цвета, света и ясности контуров» («Воспоминания о будущем», 1929).
Здесь-то и возникает тема боли, той самой матери
пространства-времени, при повитухе-сознании, которая порождает и пространство, и время для того, чтобы преодолеть самое себя, «вышвырнуть свои боли прочь — опрошлить
и опространствить их», тем самым отодвинув их вдоль-вглубь
временной и пространственной перспективы. «Что же заставляет сознание отодвигать в прошлое те или иные элементы
накапливающегося настоящего, или, по терминологии записей, — что заставляет сознание строить прошлое, в которое
можно было бы отодвигать? „Боль“, — отвечал „тогдашний Штерер“ [...] Ведь в пространстве всякий организм естественно отодвигает или отодвигается от объекта, стимулирующего боль: так как обжигающую мне пальцы спичку можно
отшвырнуть, рефлекс ее и отшвыривает; но так как обжигающего меня солнца отшвырнуть нельзя, то я сам прячусь от него
в тень. И так как, — вступал в аргументацию пессимизм, — все
восприятия суть боли, различающиеся лишь в степени своей
болезненности, то и во времени, и в пространстве сознанию
только и остается что удалять их или от них удаляться при посредстве так называемых перспективы и прошлого. Комментируя это место в скудном рукописном наследии Штерера,
Стынский отмечает влияние теории Спенсера, истолковывающей болевые восприятия как сигналы, даваемые нервной периферией центру об опасностях извне. Штерер (по Стынско-
му), дошагав вместе с английским эволюционистом до пропасти, шагает и в пропасть: сознание, не предупреждающее об
опасности болью, излишне; следовательно, все его восприятия
суть сигналы и все сигналы — сигналы бедствия sum-SOS; отдалять свою гибель и значит жить. — В самих своих определениях понятий времени и боли Штерер этого периода стремится их как бы наложить друг на друга. „Время, — дефини-
рует он, — подобно лучу, убегающему от своего источника,
есть уход от самого себя, чистая безместность, минус из минуса; боль есть испытание, проникнутое тенденцией к неис-
пытыванию; боль постигаема своим настигаемым — и никак
иначе“»37. — К сказанному остается добавить, что предупреждает об опасности вовсе не всякая боль, а только личная,
боль моего Я (мне больно); мировая боль лишена подлинной
остроты и экзистенциального смысла, и потому она расплыв¬
409
Приложения
чата, туманна (Мировая туманная боль, по определению поэта) и располагает скорее к рефлексии, чем к реакции сознания, выступающего в случае личной боли как выдвинутая вперед мысль о себе самом, в этот момент находящаяся на службе
организма, его боли. В этом отношении боль предупреждает
и о «личном» — и прежде всего о таком — пространстве, а зна*
чит, и о присутствии в нем страдающего Я. Такая ситуация способствует установлению психической доминанты38, проявляющейся во «внимании, как бы сросшемся со своим объектом,
в однолюбии мысли», свойственной и самому Кржижановскому, и многим его героям и выступающей как знак одаренности.
Боль, порождающая пространство, отсылает одновременно и к «личному», острее и напряженнее — кперволич-
н о м у, к Я, связывая тем самым это Я с пространством, в случае Кржижановского прежде всего с «минус»-пространством,
которое — на ином уровне — само полно боли, им порождаемой. Здесь существенно подчеркнуть еще раз то, что так или
иначе уже не раз возникало при разных поворотах рассматриваемой темы, — наличие двух форм «минус»-пространства
и их асимметрию «в случае Кржижановского». Речь идет о двух
«угнетающе-пугающих» пространствах, объединяющихся в их
«минусовости», но различающихся в ее источнике, в происхождении, — о слишком узком и тесном «недо-пространстве»
и слишком широком и пустынном «пере-пространстве» или
даже «слишком-пространстве» («сверх-пространстве»), но также и о том, что именно первое из этих пространств оказывается чаще в сфере внимания писателя, подробнее проработано
и, если судить по известным текстам, более угнетало их автора. Эти обстоятельства как раз и определяют известную асимметрию двух «минус»-пространств, коренящуюся в гипертрофии варианта «тесного» пространства. Вероятно, такой выбор
имеет свое объяснение в жизненных обстоятельствах («реальная» теснота и узость жизненного пространства, жилплощади
в коммунальной квартире, мучительно переживаемая писателем, во всяком случае в периоды депрессии, тоски), возможно, и в особенностях его психофизиологической природы,
чуткой к феномену пространственности и как бы склонной
к переводу критических состояний в сферу пространственного и остро реагирующей на изменения объема пространства,
на уклонения от «нормы». Во всяком случае вариант «тесного»
пространства «разыгрывается» в текстах Кржижановского чаще, но вопрос о том, причина это или следствие асимметрии,
410
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
на самом деле достаточно сложен, почему в данном случае целесообразнее выбрать тот уровень анализа, на котором фено-
менализация идеи тесного пространства в текстах писателя
может правомерно рассматриваться как симптом некоего кризиса, связанного с реакцией на те или иные деформации «нейтрального» пространства.
Типичная ситуация, описываемая Кржижановским неоднократно, — выход из тесноты комнаты вовне как своего рода попытка избавления от этой тесноты. Три варианта такого
выхода обнаруживаются в текстах писателя или реконструируются на основании: 1) исходная инерция «домашней» тесноты оказывается слишком сильной, иногда настолько, что вызывает общую угнетенность духа, и этот инерционный хвост
как бы заставляет фиксировать и вне дома только или преимущественно тесноту города; 2) исходная инерция тесноты при
выходе вовне и по мере удаления от своего «тесного» локуса
постепенно ослабляется, затухает и со временем полностью
преодолевается (в этом случае возможны два варианта — успокоительно-нейтральный, снимающий душевную тесноту-тоску, и такой, который приводит к возникновению положительных эмоций, связан с душевным подъемом, радостным возбуждением, чувством глубокой удовлетворенности: радуюсь,
радостно, люблю и под. — знаки такого состояния); 3) исходная инерция тесноты по выходе из своего локуса растворяется,
снимается, как в предыдущем случае, но приближение к окраинам города, к обширным «природным» пространствам или
даже к открытым городским пространствам, дисгармонирующим со «стандартно» заполненными пространствами предшествующей части пути, делает это новооткрытое пространство
неуютным, пусто-разреженным, внушающим беспокойство
непредвиденностью своего состояния в будущем.
Все эти три варианта (и последний, может быть, особенно) акцентируют идею «относительности» пространства, хотя бы в плане его неравномерности, разнородности, и вносят
«относительность» в само восприятие пространства. Эта «относительность» пространства Кржижановского, в первую очередь и придающая ему черты парадоксальности, как бы оттесняет на периферию ньютоновское гомогенное, непрерывное,
геометризованное, равное самому себе пространство из-за его
информационно-смысловой бедности. Знание, что помимо
этого пространства есть иное, более сложное, богатое смыслами и возможностями их интерпретации, лучше соответствую¬
411
Приложения
щее современным физическим взглядам пространство, в котором и разыгрывается драма Я, способствует тому, что в центре
внимания оказывается это «максимально» непредсказуемое,
чреватое неожиданностями, иногда почти экспериментальное
или провоцирующее к экспериментам пространство. Это пространство относительно не только для субъекта своего восприятия, но оно относительно и для самого себя: в разных системах координат оно меняется («Вот — сейчас сидим
рядом: от головы до головы аршин... а может быть, и миллионы миль»), и каждое такое изменение, как правило, — вопреки логике здравого смысла, но ради некоей более глубокой логики, открывающей новое пространство, и ради этого нового
пространства, обнаруживающего неизвестную до того новую
логику. Такое парадоксальное пространство как бы нарушает принцип самотождества, самоидентификации: это пространство — странное, и само сведение этих двух слов в единую семантическую конструкцию, собственно, предназначено
обозначить парадоксальное «относительное» пространство.
К описанию, точнее — «разыгрыванию» этого странного пространства Кржижановский обращается не раз. Парадоксальная изменчивость его, «относительность», легко обнаруживаемая в силу того, что автор или его персонажи оказываются подвижными в пространстве созерцания
(«Anschauungsraum») и, следовательно, способными узреть
пространство с разных точек в системе координат, собственно, и составляют то, что автор обозначает как странно, странное, странность39. Пространственное соединяется
с этим атрибутом или, точнее, «странное» с пространственным
как его атрибутом уже в заглавии рассказа «Странствующее
„Странно“» (1924). Не заботясь о читателе, оказывающемся поначалу в некотором недоумении по поводу этого «странного» заглавия, автор сразу же подвергает его жесткому и очень
энергичному прессингу, стараясь внедрить в него языковой
образ-идею странствующего «странно» или странного стран-
ствия-пространства. Сразу после «тавтологизирующего» заглавия эпиграф из «Гамлета» — Это «странно» — Как странника
прими в свое жилище40. И после этого сразу же — in medias res:
«На циферблате шесть. Ваш поезд в девять? — В девять тридцать. — Что ж, постранствуйте. Это так просто: упаковать вещи и перемещаться в пространстве. Вот если бы
Пространство, упаковав звезды и земли, захотело путешествовать, то вряд ли бы из этого что-нибудь вышло [...] Мой
412
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
собеседник [...] подошел [...] к подоконнику, и глаза его [...] с состраданием41 оглядели пространство, которому некуда было странствовать. — Странно, — пробормотал я. —
Вот именно. Все железнодорожные путеводители и приводят в конце концов сюда: в странно. Мало: странствия
превратят вас самого, ваше „я“, в некое „С т р а н н о“; от смены
стран вы будете страннеть; хотите вы этого или не хотите;
ваши глаза, покатившись по свету, не захотят вернуться назад
в старые удобные глазницы; стоит послушаться вокзальных
свистков, и гармония сфер навсегда замолчит для вас; стоит
растревожить кожу на подошвах ног, и она, раззудевшись, превратит вас в существо, которое никогда не возвращается». Собираясь уезжать и опасаясь, что он видит учителя в последний
раз, ученик признается, что ему «мало простых железнодорожных указателей», что его собственный опыт «беден и тускл»,
и он просит помочь ему маршрутами или хотя бы воспоминаниями: «поверьте, то странно, в которое превратят меня
странствия, как вы сказали, сохранит все ваши слова, не
сдвинув в них ни единой буквы». Учитель, «старый маг», который в юности «откликался на зовы пространства, хотел дойти
до куда всех дорог, наступить подошвой на все тайны [...]»,
сейчас говорит своему ученику то, что может его разочаровать: «самое длительное и самое трудное мое путешествие передвинуло меня в пространстве всего лишь на семьдесят футов. Виноват, семьдесят один с половиной. [...] И мне кажется,
что можно менять страны на страны, не прибегая даже к этим,
на пальцах отсчитанным футам: последние четыре года [...]
я, как вы знаете, не многим подвижнее трупа. Моя оконная рама не сдвинулась никуда ни на дюйм. Но та страна, людей и дела которой я, не без любопытства, наблюдаю, уже не та страна;
и мне не нужно было [...] хлопотать о билетах и визах для того, чтобы превратиться в чужестранца и переехать из Санкт-
Петербурга в Ленинград». И учитель рассказывает ученику об
этом путешествии длиной в семьдесят футов.
Главное он объясняет сразу. «Но суть в следующем: самое имя Magus — от потерявшего букву слова magnus, большой42. Мы люди, почувствовавшие всю тесноту жилпланет-
ных площадей, захотевшие здесь, в малом мире, мира больше го. Но в больше е — лишь один путь: через л# еньшее;
в возвеличенье — сквозь умаление. Гулливер, начавший странствия с Лилипутии, принужден был закончить их в стране Великанов. Правила нашего магического стажа, — поскольку они
413
Приложения
хотят сделать нас большими среди меньших, великанами среди лилипутов, естественно, стягивают линии наших учебных
маршрутов, вводя нас в магизм, то есть в возвеличение, лишь
путем трудной и длительной техники умаления. — Рельсы, дожидающиеся вас, мне всегда напоминали длиннящий в бесконечность свои параллели знак равенства. [...] Но есть
и другой знак. Вот: < ». Старый маг вспомнил своего учителя,
начертавшего некогда ему этот же знак и перенесшего свой
указательный палец, прижатый к бумаге влево от знака, на
правую его сторону. «Вам пора: отсюда — туда». По сути дела,
это был урок того терпения (терпеть как страдать и страдать
как терпеть), без которого знакомство с пространством неизбежно поверхностно, ибо «раньше чем позволить шагу из аршинного стать семимильным, надо научить его микромикрон н о с т и». Собственно, весь рассказ и посвящен тому,
как воспринимается пространство субъектом «умалившегося,
микромикронного» сознания, каковы парадоксы «относительности» пространства sub specie «умаления» того, кто пребывает
в этом пространстве и судит о нем. Об этом своем опыте старый маг и рассказывает в перволичной форме своему ученику,
влекомому пока в иную — «макромакронную» — сторону.
Их трех пузырьков с жидкостями — желтой, синей
и красной — наставник первым показал ученику пузырек
с красной жидкостью: «эта тинктура обладает поразительной
силой стяжения. Содержимого стекляшки хватило б на то, чтобы тело слона стянуть в комок меньше мушьего тела43. И если
б это драгоценное вещество добыть в таком количестве, чтобы
обрызгать им всю землю, нашу планету легко можно было бы
сунуть в одну из тех сеток, в которых дети носят свои крашеные мячи». Но начал наставник с другого пузырька (с желтой
жидкостью), на наклейке которого «чернели еле различимые
бисеринки букв». «Послушайтесь этих букв, — сказал он, — и вы
сами станете в рост им. Сегодня же, до заката, тинктура должна сделать свое дело. Счастливого пути». Можно было, конечно, догадываться, что эта тинктура имеет какое-то отношение
к эффекту «микромикронности», но чувство неопределенности и тревоги сохранялось, и потому мысль и чувство невольно обращались к этому, пока еще своему, родному и привычному пространству, переживаемому, может быть, в последний
раз44. На мгновение, когда рука нащупала в кармане холодный
дутыш пузырька, возник соблазн — «Стоило швырнуть его (пузырек. — Я Г.) на камень, наступить подошвой — и... но я это¬
414
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
го не сделал. Нет: именно в этот момент нетерпение заслонило страх45, и я быстро зашагал к себе, мимо шумов и бликов,
будто выдергиваясь из пространства, и единственное, что я видел тогда, с почти галлюцинаторной ясностью, это бледный
и длинный палец учителя, который, переступив по ту сторону
ломаной черты, за знак неравенства, звал меня: туда».
Наконец обладатель пузырька дома. Солнце на излете.
На часах — шесть тридцать. Лупа позволяет раскрыть смысл
крошечных черных значков поверх пузырька. Осторожный
поворот пробки. Колющий прогорклый запах жидкости. Отступать некуда. Через мгновение пузырек пуст и запрятан в заранее намеченное место. «Тело мое, уже в ту секунду, когда
я запихивал стекло в обойную щель, стало вдруг стягиваться
и плющиться, как прорванный воздушный пузырь: стены бросились прочь от меня, рыжие половицы под ногами, нелепо
разрастаясь, поползли к внезапно раздвинувшемуся горизонту, потолок прянул кверху, а плоский желто-красный обойный
цветок, [...] вдруг неестественно ширясь желто-красными разводами, пополз, забирая рост, пестрой кляксой вверх и вверх.
Мучительное ощущение заставило меня на минуту зажать веки: когда я раскрыл их, то увидел себя стоящим у входа в довольно широкий стеклянный туннель с неправильно изогнутыми круглыми прозрачными стенами. Прошло несколько
времени, пока я понял: это пузырек, очевидно, оброненный
моим нечаянным движением в то последнее мгновение, когда я, сейчас лишь жалкое, в пылиночный рост, существо, мог
еще его обронить».
Описываемая здесь ситуация по существу, определяемому соотношением человека и пространства, в которое он
оказался вписанным в результате некоей метаморфозы, та
же, что и в «Квадратурине» (см. выше) — с той, однако, разницей, что здесь трансформируется человек (умаление), а в «Квадратурине» — пространство (увеличение), хотя в обоих случаях, независимо от объекта трансформации по величине, пространство как бы заполняет человека: он теряет ориентацию
в нем, захлебывается им и готов как бы утонуть в нем или, по
меньшей мере, отдаться на волю неизвестности. Последнее
случилось и с героем «Странствующего „Странно“». Едва совершилась с ним трансформация «умаления», радость наполнила его сердце: он вспомнил, что достаточно найти на пузырьке врезанный в стекло магический знак и дотронуться до
него, чтобы вернуться в прежнее тело и, значит, в прежнее про¬
415
Приложения
странство. Теперь спасительный возврат зависел от нахождения этого магического знака. К счастью, он нашелся легко. Это
был математический знак неравенства. «Упав острым наугли-
ем книзу, знак расправлял свои врезавшиеся в стекло линии,
как птица расправляет крылья, занесенные для полета. „Свобода“, — прошептал я, протягивая руку к знаку. „С т р а х“, —
услыхал я в себе полусекундой позже. Я не повторил этого
слова, но оно звучало громче, чем то, первое.
Да, мое назад было близко, на расстоянии протянутой руки, но я, отвернувшись от него, медленно ступая по гулкому
стеклу, направился в безвестное вперед». Свободе, сулящей
спасение, запрограммированное условием, которое составляло смысл магического знака, субъект трансформации предпочитает выбор страха, потому что — в отличие от свободы —
страх был его собственным выбором и, следовательно,
осуществлением подлинной свободы, а не свободы «по
условию». И, собственно, выбирался не страх, а неизвестность,
которой страх лишь сопутствовал. И даже не неизвестность,
а установка на максимум, на «пана» из пословичного пан или
пропал, на вопрос-вызов (challenge) о высших смыслах, а не на
ответ (response), как бы ставящий точку в пространстве свободы. «И прежде, и теперь я всегда предпочитал и предпочитаю
загадку разгадке, заданное данному, дальний конец алфавита
с иксом и зетой — элементарным абецедам и абевегам; и в данном случае я не изменил своему обыкновению», — говорит бесконечно «умалившийся» человек, бросающий вызов бесконечно возросшему пространству, беспредельному полю, где страх
неотделим от свободы, а свобода от пространства, «с в о я» свобода (*svoboda: *svojb) от «своего» пространства, что, в конечном счете, позволяет говорить о заданности Я высшим типам
пространства, голосом-личностью которого это Я и выступает46. Подлинная свобода, как и «сильное» пространство и сопоставимое ему «сильное» >7, всегда в становлении, в развертывании и устремлено в будущее. Осуществляя себя, она продолжает оставаться открытой для имеющих быть осуществлений и,
значит, пребывает как чистая потенция, как движение вперед,
не знающее предела.
Для «умалившегося» человека, выбравшего добровольно этот путь, начались томительные дни, полные мучительного труда-страдания и приводившие его на грань отчаяния, пока однажды не произошла знаменательная встреча: он оказался в некоей комнате, на столе, где были разбросаны игральные
416
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
карты. Лавируя среди них, он вдруг услышал чей-то голос: «Кто
вы, пришелец, вшагнувший в меня? [...] — Умаленный человек
[...] — Нет умаления горче моего, — проговорили бумажные губы, — и как бы ни была печальна история, принесенная вами,
история, которую вы унесете отсюда, будет еще печальнее. Приблизьтесь и слушайте». Так начался рассказ короля червей, тоже претерпевшего трансформацию «умаления». «Теперь моему
царству [...] и вот в этой картонной коробке для карт — просторно. И царство, и власть мои давно источены червями: наш маститый род стал глупой мастью, и я, который некогда со своими министрами игрывал в людей, я, превращенный в обыкновеннейшую карту, должен позволять им, людям, играть в нас,
в карты. О, странник, можешь ли ты понять мир, в котором мили превратились в миллиметры, в дворцах и хижинах которого
полы и потолки срослись в одну сплошную плоскость?» Как это
произошло, объяснил сам король червей: «Колеса, седла, носилки, лектики, спины камер-лакеев сделали для нас ноги излишними, а придворные козни и тайные заговоры создавали положение, когда иметь всего лишь одну голову оказывалось недостаточным. [...] Результатом приспособления нашей династии,
говоря в терминах дарвинизма, к среде — является хотя бы то,
что у меня, как видите, две головы плюс нуль ног». Но дело было
даже не столько в этом, сколько в том перевернутом соотношении «большого» и «малого», которое было сутью природы короля: «Мое большое сердце любило маленькую женщину;
мое маленькое сердце любило великий народ. И обоим
им, большому и малому, было тесно под моей королевской мантией. Они бились друг о друга, мешая друг другу биться». Тогда-
то двусердый король и решил покончить со своим двусердием,
хотя не знал, с каким сердцем надо расстаться. Но народ был
далеко, а любимая женщина рядом, и она отстояла то большое
сердце, которое любило ее. Но исход операции был неожиданным и трагическим: король уже никогда больше не смог оторваться от плоскости операционной доски и подняться кверху,
потому что «самое кверху оказалось ампутированным вместе с сердцем». В итоге «острая плоскостность перешла в хроническую», вивисектор, производивший операцию, бежал, и опыты «отрехмеривания» короля были прекращены. Дух времени
был таков, что короли, привыкшие к забавной «игре в люди», сами стали предметом игры для людей.
Однако уроки этой истории о двух сердцах не были
усвоены, и отношения «умаленного» человека с любимой жен¬
417
Приложения
щиной неопровержимо свидетельствовали об этом. Наставник был недоволен и повелел своему ученику прибегнуть к пузырьку с синей тинктурой, предупредив, что сила стяжения
в ней значительно больше, а путь испытаний труднее и жестче. Но не оставалось ничего иного, как довериться будущему — тем более, что любовь становилась тревожнее и печальнее. На этот раз сплющивание было столь велико, что возникла возможность проникнуть в некоторые тайны времени, его
длительности, его содержания. Более того, в результате тех
странных странствий, которые стали доступны ученику теперь, открылось главное и стала понятной история о двух картонных сердцах: «я думал, что путаные медитации мои об Аристотелевских большом и малом человеке распутали теперь для
меня все свои узлы: теперь я, микрочеловек, познал макрочеловека до конца». Красной тинктуры третьего пузырька не понадобилось. Ученик добрался до стеклянного знака, и «он снова превратил меня в меня», как описывает это
ученик. Разговор с вошедшей в комнату женщиной был краток: «Вы? Но ведь дверь была закрыта: как вы вошли? — Очень
просто: меня еще вчера бросил к вам в ящик для писем почтальон. — Как странно: вы так изменились. — Как обыкновенно:
вы так изменили. [...] Я ждала. Я бы ждала и дольше. Но... —
Ваше Но дожидается вас за стеной. Впрочем, и ему вы наступите когда-нибудь на сердце. Прощайте. [...] — Погодите. Прошу
вас: ведь вы же должны понять... как человек... [...] — А вы уверены в том, что я человек? Может быть, я только так... странствующее Странно».
Изменение соотношения масштабов человека и «человеческого» пространства таким образом, что человек начинает теряться в нем, вовсе не обязательно требует активности
человека в изменении его размеров (двуполюсная ситуация,
предполагающая варианты «Гулливера» и «лидипута», соответственно — знак тесноты и знак избыточного простора, и хорошо знакомая Кржижановскому по личному опыту, в котором он оказывался то в одной роли, то в другой). Достаточно,
чтобы активную роль взяло на себя пространство, точнее —
чтобы человек в пространстве воспринимал его как активное.
Выше уже говорилось о рассказе «Квадратурин», герой которого Сутулин становится жертвой расползания пространства.
Офтальмоскопический опыт в «Четках» (1921) — также отчасти о распространяющемся пространстве («Незачем ходить
в поля за просторами: просторы всюду — вкруг меня и во мне.
418
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
Каждая пылинка значительна, как солнце»). Остро разыгран
этот же мотив в другом рассказе 1921 года — «Проигранный
игрок». Когда знаменитый шахматист мистер Пемброк делал
свой последний ход, он предвидел все варианты дальнейшего развития партии, кроме одного, казавшегося невероятным.
«Мистер Пемброк не предусмотрел, что в ту самую долю секунды, как рука его, ставя пешку под удар, будет отдергиваться от деревяшки, душа его, душа мистера Пемброка, оброненная мозгом, неслышно скользнет вниз по переставляющей
деревяшку руке [...] Яркий свет брызнул из матовой люстры,
свеяв сумерки. — Ну вот. Давно бы так... — с чувством некоторого облегчения подумал мистер Пемброк, не замечая еще
происшедшего, и поднял веки: по глазам его ударило каким-
то совершенно новым и непонятным миром. Привычный зал
с привычными стенами, углами, выступами — всё исчезло, будто смытое неизвестно как и чем с поля зрения. Правда, кругом,
сколько глазу видно, те же знакомые светлые и черные квадраты паркета, но странно: линии паркетных полов уродливо
раздлиннились, поверхности, неестественно разросшись, упирались в ставший вдруг квадратным горизонт. Стол
стаял. Люстра взмыла в зенит. А стены... куда девались стены?
Пешка Пемброк [...] недоумевала. Не явью, а снящимися образами глядели на нее обступившие со всех сторон мерцающие
белыми и черными выступами, изгибами и рельефами, чудовищные обелиско-подобные сооружения, неизвестно кем,
к чему и как расставленные по гигантскому черно-бе-
лому паркету потерявшего свои стены зала. [...] и вдруг мистер
Пемброк понял. [...] Затем, столь же мгновенно, наступила и реакция: чувство растущего одеревенения, странной легкости
и малости». И когда всё уже кончалось, в последней точке сознания еще билось — «„Если это действительно произошло, —
оценивало свое положение существо, не умевшее сейчас себя
назвать, — то я под ударом белого коня с f3. Положение ясно.
И если f3 действительно занято конем, то...“ — и существо, еще
так недавно бывшее Пемброком [...], теперь, еле смея поднять
глаза за черту крохотной, три на три сантиметра, плоской клеточки, глянуло, минуя d3, еЗ, наискось, влево, на белое f3: там,
в желтом осиянии солнц, мнившихся ранее глазу лишь лампионами люстры, зияя пустотой глазниц, стоял бледный конь.
[...] Теперь только пешке-игроку стала ощутима вся глубина его
пойденности. То, что было раньше Пемброком, хорошо знало
беспощадную логику шахматной доски. — К f3: „Я“. Пусть. Це¬
419
Приложения
ною пешки — партия. И тронуто — пойдено. Поздно. — Но то
в Пемброке, что успело уже одеревенеть, опешиться и знало
лишь крохотный, три на три сантиметра, смысл одной своей
клетки, протестовало всеми ударами внезапно закопошившегося под резной лакированною грудью деревянного сердца:
не смейте трогать меня, прочь от моего d4! Хочу, чтобы я, а не
мной! Прекратить игру!»
В последние мгновения жизни Пемброка произошло
столь же мгновенное исчезновение пространства и времени.
Собственно, медлительно разворачивающееся слово исчезновение здесь некстати. Скорее это был взрыв пространства
и времени, их самих уничтоживших, но последним знаком их,
мгновенным их остатком стало главное — смысл этого взрывающегося последнего hic et nunc: f3 — угроза! Эта финальная
катастрофа поставила точку, подведя итог всей жизни шахматиста — ее смыслу. Но сходная катастрофа бесконечно разбегающегося и как бы самого себя уничтожающего пространства может случиться и в том случае, если смыслы покинут то,
чем наполнено пространство, и у этого наполнения и самого
пространства возникнет сомнение в своем собственном существовании — «суть ли они или не суть». И если это произойдет, вещи не могут не покинуть свое, отныне злое для них, пространство, а пространство не может не стать в этом случае пустым, то есть потенциально безгранично расширенным, ибо
разбегание вещей из пространства — не что иное, как разбега-
ние самого пространства. Об этом — рассказ Кржижановского
«Катастрофа». Он — о едва не состоявшейся вселенской катастрофе, виновником которой чуть не стал великий философ.
«Многое множество ненужных и несродных друг другу вещей: камни — гвозди — гробы — души — мысли — столы — книги свалены кем-то и зачем-то в одно место: мир.
Всякой вещи отпущено немножко пространства и чуть-чуть
времени: столько-то дюймов в стольких-то мигах [...] знаю точно — мысль Мудреца только и делала, что переходила из вещи
в вещь, выискивая и вынимая из них их с м ы с л ы. Все смыслы,
друг другу ненужные и несродные, она стаскивала в одно место:
мозг Мудреца. — Мысль с вещами, большими ли, малыми ли,
поступала так разжав их плотно-примкнутые друг к другуПоверхности и грани, мысль старалась проникнуть в глубь, и еще
в глубь, до того interieur’a вещи, в котором и хранится, в единственном экземпляре, смысл вещи, ее суть. После этого
грани и поверхности ставились, обыкновенно, на место: буд¬
420
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
то ничего и не случилось. — Естественно, что всякой вещи, как
бы мала и тленна она ни была, несказанно дорог и нужнее нужного нужен ее собственный неповторяемый смысл: лучами —
шипами — лезвиями граней, самыми малостью и тленностью
своими выскальзывают вещи из познания, защищают свои
крошечные „я“ от чужих „Я“. — Будьте всегда сострадательны
к познаваемому, вундеркинды. Уважайте неприкосновенность
чужого смысла. Прежде чем постигнуть какой-нибудь
феномен, подумайте, приятно ли было бы вам, если б, вынув из
вас вашу суть, отдали бы ее в другой, враждебный и чуждый вам
мозг. Не трогайте, дети, феноменов: пусть живут, пусть себе являются, как являлись издревле нашим дедам и прадедам».
К сожалению для феноменов, мысль Мудреца была
слишком последовательна в своем движении и не знала сострадания: сам Мудрец в этом не был виноват, да и мысль его
в этом не была виновата — просто она была одержима одной
высокой страстью познания и не умела оглядываться на окружающее (да и не задумывалась над этим), ставить себя на его
место, как если бы это окружающее имело своей целью быть
познанным Мудрецом, а не просто быть таким, каково
оно есть. Мысль Мудреца начинала свое мысленное дело издалека — с дальних небесных тел, и до поры «всё пространственно-близкое от головы философа, всё „само по себе понятное“
было вне круга опасности», и предметы, «крепко оправленные
в пространство», пока не испытывали чувства тревоги. Хуже
стало, когда по вещам пошел слух, что мысль Мудреца возвращается на землю, сюда, следуя маршруту: «звездное небо над
н ам и — моральный закон в на с».
«События шли таю медленно отряхая звездную пыль
со своих черных перьев, трехкрылый Силлогизм, смыкая
и стягивая спираль тяжкого лёта, близился к этим вещам. И когда те звездные пылинки коснулись этой серой пыли тупиков и переулков, зыбь тревоги и трепеты жути всколебали все земные вещи. С орбитами было покончено. Наступала очередь улиц — проселочных дорог — тропинок». Вот
тогда-то и разразилась катастрофа. Вещи, в точности не знавшие, суть ли они, или не с у т ь, не стали дожидаться слова -Разума, и «пространство и время почти на всем их земном
плацдарме переполнились паникой». Началось повальное бегство из мира. Бежали вещи, утварь, мебель, здания, бежали люди и животные. Пустеющее пространство раздвигалось, и чем
шире, тем больше вторгался хаос в открывающуюся ему пусто¬
421
Приложения
ту от феноменов и от их смыслов, потому что когда уходит сущее, является не-сущее, когда рушится космос, возникает хаос,
когда отказывает смысл, бессмыслие заступает на его место.
Паника вызывает путаницу в понятиях, в их иерархии, более
того, даже в основаниях самоидентификации человека. «Второпях некоторые рассеянные люди перепутали даже свои „я“
[...] Иные умы, зайдя в поисках укрытия за свои разумы, обнажили разумы, ткнув ими прямо в факты. Бесстрастный Разум,
не изменяя себе ни на миг, обо шел с я с ф актами как
с идеалами, а идеалы стали мыслить как
факты. Было мгновенье, когда Бог и душа попали в пальцы,
стали осязаемы и зримы, а стакан с недопитым кофе [...] представился недосягаемым Идеалом. Дискурсия и созерцание поменялись местами. В иных умах куда-то, точно в щель, провалилась бесконечность, в других затерялась категория причинности». Закачались эклиптики, звезды сорвались со своих
орбит и заскользили по безорбитью, «целые человечества с их
религиями и философиями» исчезали в пустоте, «и когда всё
отблистало, когда всё, до последнего обеспокоенного атома, отшумело и утишилось, остались: старый Мудрец;
пространство, чистое от вещей; чистое (от
событий) время; да несколько старых [...]
книг. [...] Мудрецу оставалось: описать чистое пространство
и чистое время, ставшие жутко-пустыми, точно кто опрокинул
их и тщательно выскоблил и вытряхнул из них все вещи и события. Он описал». В кругах эмиграции царило уныние. «Миру
не быть», — говорили одни; другие пытались отыскать хоть какое-нибудь основание для надежды: «время, не будучи вещью,
вещно в вещах не участвует», — объяснял блестящий женевский хронометр идею, позже подхваченную и развитую Шопенгауэром. Весь этот разброд продолжался до 4 часов пополудни 12 февраля 1804 года, когда «Мудреца не стало»47.
Парадоксальное опустошающееся вплоть до абсолютной пустоты пространство стало после этой смерти возвращаться к усредненному «физическому» и «бытовому», но эти
чуть не оказавшиеся для пространства гибельными опыты не
прошли бесследно: спустя век «относительность» пространства не только была почувствована и прочувствована, пережита в личном опыте и описана в литературе, но и стала основанием и одновременно содержанием одной великой научной
теории, в которой в мир «относительного» пространство вовлеклось в нерасторжимой связке с временем.
422
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
IV. О времени в его связи с пространством
Говоря выше об «относительности» пространства Кржижановского, уже приходилось подчеркивать, что оно относительно как для самого себя, так и для субъекта своего восприятия. Сейчас можно добавить: оно относительно и для време-
н и. Подробнее об этом будет сказано особо и в другом месте,
но кое-какие особенности времени относительно пространства и относительно самого себя заслуживают быть отмеченными. Прежде всего нужно отметить, что тема времени возникала у писателя, как правило, тогда, когда он в своих рефлексиях о сути пространства спускался до того глубинного слоя, где
пространство бытового повседневного опыта почти незаметно оборачивалось пространством парадоксов «относительности». И вот именно «там и тогда» — и тоже незаметно, почти
естественно — начинало мерцать нечто как бы соприрод-
н о е пространству или органически его продолжающее, что
по внимательном рассмотрении оказывалось временем, являющимся рефлектирующему сознанию «перпендикулярно»
или под определенным углом к нему, во всяком случае не вполне так, как ожидалось бы, зная «козырные» особенности этого сознания, то есть в его, времени, «физических» и — сильнее
того — «материально-физических» данностях и в ярких и конкретных образах художественной интуиции, споспешествующей усилиям научного поиска и философской рефлексии.
Можно напомнить о встрече ученика из «Странствующего „Странно“», выпившего тинктуру из синего пузырька
и сплющившегося «в существо много меньше Злыдня» (именно этот масштаб сплющивания-сжатия-умаления — в отличие от менее сильной деформации при принятии жидкости из
желтого пузырька — позволил ученику достичь той глубины
пространственности, где можно было встретиться с временем,
во всяком случае с его пространственной транскрипцией). Поначалу он вовсе не думал о времени, но свою пространственную деформацию умаления хотел использовать в своих практических целях. План был прост: было замечено, что женщина,
к которой его влекло и одиночество которой он хотел изучить
и понять, редко расстается с металлическим, тихо тикающим
существом и «часто ищет своих условленных минут и сроков
у остриев шевелящихся стрелок дискообразного существа».
423
Приложения
Поэтому и было решено поселиться на скользкой поверхности циферблата и сквозь прозрачный купол вести наблюдение за происходящим. Проникнуть под стекло было нетрудно, но, оказавшись там, «умаленный» ученик вступил в совершенно новый для него мир неожиданной топографии и ее
образов. «Металлический пуЛьс, резонируя о стеклянную навись высоко вверх уходящего свода, с оглушительным звоном
бился о мои уши. Сначала огромный белый диск, по которому
я шел, направляясь к центру, сразу же мне почему-то напомнивший дно круглого лунного кратера, — долгое время казался
мне необитаемым. Но вскоре мной овладело то ощущение, какое испытывает путник, проходящий во время горного подъема сквозь движущиеся, смутно видимые и почти не осязаемые
облака. Лишь после довольно длительного опыта и я стал различать те странные, совершенно прозрачные, струящиеся существа, которые продергивались мимо и сквозь меня, как вода
сквозь фильтр. Но вскоре я все же научился улавливать глазом
извивы их тел и даже заметил: все они, и длинные, и короткие,
кончались острым, чуть закорюченным, стеклисто-прозрач-
ным жалом. Только пристальное изучение циферблатной фауны привело меня к заключению, что существа, копошившиеся
под часовым стеклышком, были бац илл ам и вр ем е н и».
«Умаленный» человек вскоре убедился, что эти бациллы
времени умножались в своем числе при каждом дергающемся
движении часовой, минутной и даже секундной стрелки. «Юркие и крохотные Секунды жили, облепив секундную стрелку,
как воробьи ветвь орешника. На длинной черной насести минутной стрелы сидели, поджав под себя свои жала, Минуты,
а на медлительной часовой стреле, обвив свои длинные, членистые, как у солитера, тела вокруг ее черных стальных арабесков, сонно качались Часы. От стрел, больших и малых, отряхиваемые их толчками, бациллы времени, расползались кто
куда: легко проникая сквозь тончайшие поры, они вселялись
в окружающих циферблат людей, животных и даже некоторые неодушевленные предметы [...] Пробравшись в человека,
бациллы времени пускали в дело свои жала: и жертва, в которую они ввели токсин длительностей, неизбежно заболевала Временем. Те из живых, на которых опадали рои
Секунд, невидимо искусывающие их, как оводы, кружащие над
потной лошадью, — жили раздерганной, рваной на секунды
жизнью, суетливо и загнанно». Конечно, и до этих своих блужданий по циферблатной стране у «умаленного» человека бы¬
424
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
ли свои представления о времени. Пожалуй, главным из них
было убеждение, что понятия порядка и времени неотделимы
друг от друга, но «живой опыт опрокинул эту фикцию, придуманную метафизиками ц часовщиками. На самом деле сумбура тут было больше, чем порядка!», но ограничиться указанием на сумбур значило бы в этом случае коснуться лишь самого
поверхностного слоя явления. Внимательному взгляду давалось и иное — более дифференцированное и уводящее вглубь:
«почти каждая, скажем, Секунда, вонзив в мозг человеку жало на глубину, равную себе самой, тотчас же выдергивалась из
укушенного и возвращалась назад под циферблатное стекло
доживать свой век в полной праздности и покое. Но случалось
иногда, что бациллы времени, выполнив свое назначение, не
уступали места новым роям прилетевшим им на смену, и продолжали паразитировать на мозге и мыслях человека, растравляя пустым жалом — свои старые укусы. Этим несчастным плохо пришлось в дни недавней революции: в них не было... м-м...
иммунитета времен и»48.
Главным открытием «умаленного» человека было осознание неверности своего первоначального плана — «то, чего
я искал з а стеклом, оказалось тут, под стеклом». И, следовательно, — «Всё прошлое моей возлюбленной, правда, разорванное на мгновения, ползало и роилось вокруг меня». Однажды случайно, изловив одну из юрких Секунд, крепко сжав
ее меж ладоней и всматриваясь внутрь ее яростно извивавшегося тела, он заметил вдруг, как на прозрачных извивах Секунды стали проступать какие-то контуры и краски, более того, услышал, как «цокающий писк ее вдруг превратился в нежный
звук давно знакомого и милого-милого голоса, прошептавшего тихо, но внятно мое имя». Это было другим главным открытием «умаленного» человека в невидимом слое времени.
Дальнейшая охота за бациллами времени подтверждала первое впечатление и позволила сформулировать гипотезу, близкую к очевидности: «бациллы длительностей, введя в человека время, вбирали в себя из человека в свои ставшие полыми
желёзки содержания времени, то есть движения, слова, мысли, — и, наполнившись ими, уползали назад в свое старое циферблатное гнездовье, где и продолжали жить, как живут отслужившие ветераны и оттрудившиеся рабочие». Обмен
времени на содержание, длительностей на смыслы как тайный нерв бытия человека во времени, — этот вывод мог бы
стать третьим главным открытием автора во временной глуби
425
Приложения
(собственно, он это и имел в виду, хотя и не назвал ключевого
слова — обмен, которое позволяет объединить в нерасторжимое по существу целое — человека «природного» (жизнь, биология), человека «социального» (общество), человека «знакопроизводящего» и «знакопотребляющего» (знаковое пространство) с человеком «временным» (сфера космических энергий).
Однако временной опыт «умаленного» человека, соблазны и искушения времени, тяготы и страдания, связанные
с ним, наконец, активное мучительство, претерпеваемое со
стороны времени (и, как можно предполагать, заглянув глубже, мучительство времени со стороны человека, как бы упустившего в неравноценном обмене содержание-смысл, чтобы
заразиться временными длительностями, и мстящего за это
«разбогатевшему» времени), на этом не кончились: служба человека времени, как, впрочем, и времени — человеку, продолжалась. Слишком быстрое сплющивание тела ученика привело к тому, что бациллы времени, жившие в порах, были сильно ущемлены и с трудом выползли наружу. «Эти-то инвалиды
и обвиняли меня в злонамеренном покушении на их жизнь»,
а так как «умаленный» человек еще плохо понимал «металли-
чески-цокающие и тикающие звуки бациллового языка», то он
не смог предусмотреть опасность — тем более что и самое время восстало против него. Всё складывалось не в пользу человека. Общее настроение склонило те самые крохотные бациллы
длительностей, которые все-таки жили в «умаленном» человеке, несмотря на огромный масштаб умаления, к бойкоту человека, и он на некоторое время остался без времен и49.
«Обезвременность» была скорее моральной пыткой пустотой,
временной опустошенностью. Но когда спустя некоторое время бациллы времени вернулись к человеку, то начались «физические» мучения. Бациллы времени вернулись с единственной целью — «чтобы подвергнуть мучительнейшей из пыток:
пытке длительностями». Жертва их свидетельствует
о перенесенных ею страданиях50:«[...] Пытка продолжалась без
перерыва: и я знал, что моя возлюбленная, оставшаяся там, за
стеклом, каждый день заводит свои часики, толкающие лезвия,
к которым я был привязан, всё снова и снова вперед». Ждать
избавления от мучений не приходилось: это стало ясно, когда однажды «умаленный» человек при прохождении над ним
часовой стрелки услыхал тихий, шуршащий голос, произнесший по-латыни: — Omnia vulnemnt, ultima necat (надпись над
секундными делениями старинных цюрихских часов). Голос
426
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
принадлежал прозрачно-серому, кристаллической формы существу, крохотному кварцевому человечку, предупреждавшему о смертельной опасности51. Он, раскрывший «умаленному»
человеку многие секреты «фабрики времени», врагом которой
он был, способствовал высвобождению его из этих пут времени и новой встрече его со своей возлюбленной.
В этих странствиях и связанных с ними злоключениях
«умаленного» человека открывается тот уровень, на котором
«носителем» времени выступает пространство — от зубцов
и шестеренок часового механизма до стрелок часов, а субъектом восприятия времени («насыщения» им) оказывается человек, который «умален» настолько, что становится способным фиксировать поток квантов времени, «продергивающихся» сквозь него или мимо него, но где-то поблизости, рядом.
В этом контексте часы уже не только инструмент для измерения времени, но и как бы «родимое лоно», в котором куются
эти временные потоки. Очень похоже, что еще в детстве часы
как вполне конкретный предмет, механизм связались в сознании писателя с той абстрактной «часовой конструкцией», которая открыла ему тайну становления времени и связи его с пространством — и в практически-эмпирическом плане, и в плане
высокой теории. Возможно, всё началось с чего-то подобного
сказке о Тике и Таке, которую отец четырехлетнего Макса Ште-
рера рассказывал своему сыну. Персонификация элементов
хода времени и элементов пространства, этот ход обеспечивающих (как и сама художественная, что особенно важно в данном случае — ритмизованная форма введения в элементарный
курс «времеведения»), открывала, думается, далекие перспективы. Отец начинал: «Сказку эту рассказывают так: жили-бы-
ли часы (в часах пружина), а у часов два сына — Тик и Так. Чтобы научить Тика с Таком ходить, часы, хоть и кряхтя, дали себя
заводить. И черная стрелка — за особую плату — гуляла с Тик-
Таком по циферблату. Но выросли Тик и Так: всё им не то, всё
им не так. Ушли с цифр и с блата — назад не идут. А часы ищут
стрелами, кряхтят и зовут: „Тик-Так, Так-Тик, Так!“ Так рассказано или не так?» Первым ответом мальчика было — «Не так»,
а на вопрос отца — «Ну а как же?» Макс Штерер ответил тридцать лет спустя. Но «заболел» временем Макс именно тогда, за
30 лет до своего ответа-открытия. «Болезнь» состояла в одержимости идеей времени в широчайшей амплитуде проблемы — от устройства часов и хода времени до включения в свой
мир в качестве вполне реальных своих друзей двух временных
427
Приложения
персонификаций — Тика и Така. Этими полюсами были обозначены пределы того огромного временного пространства,
на котором только и можно было предложить и обосновать гениальную теорию времени.
Однажды мальчик исчез из дома. Всю ночь в доме горел свет. Беглеца нашли только к утру в десяти верстах от дома: он собирался путешествовать. На гневные окрики отца,
требовавшего чистосердечного признания, мальчик ответил:
«Это не я, а Так и Тик бежали. А я ходил их искать». Поиск тайны времени начался, и отец счел за благо ввести сына в принципы устройства часов. Водя пальцем по зубчатым контурам
механизма, он объяснял: «гири, оттого что они тяжелые, тянут
зубья, зубья за зубцы, а зубцы за зубчики — и всё это для того, чтобы мерить вр ем я»52. Но Макса уже тогда более интересовало не то, как устроены ч а с ы, но то, как устроено само
время, часами измеряемое,то есть что может время,
каков полный круг его возможностей, и эксперименты, к которым он приступил, подтверждали именно такую направленность его творческих поисков: «[...] легенда о Тике и Таке, изгнанная было из штерерского дома, возвратилась восвояси.
Штерер-младший, производя свой первый опыт, заставил часовые стрелки поменяться осями: минутную на часовую — часовую на минутную. И он мог убедиться, что даже такая простая перестановка нарушает ход психических механизмов»53. Так Макс стал учиться у часов, вступать с ними в диалог,
ставить вопросы и добиваться ответов. К часам он относился как к человеку — учителю из Цюриха. Конечно, тот был несколько «напружен, точен и методичен», даже механичен, как,
впрочем, многие из учителей. «Но гений и не нуждается в том,
чтобы его учили фантазии; страдая от своей чрезмерности, он
ищет у людей лишь одного — меры. Таким образом — преподаватель и ученик вполне подходили друг к другу». Когда отец
погружался в послеобеденный сон, сын, «придвинув табурет
к проблеме времени, начинал свои расспросы». Однажды механический учитель споткнулся и перестал отчеканивать свой
урок. «Папа, часы умерли, — воскликнул сквозь всхлипы
мальчик — Но я не виноват». Эта «биологичность» часов, отношение к времени как к оппоненту в каком-то серьезном спот
ре, на которого можно и должно воздействовать и который
вызывает эмоции, уместные при общении с человеком54, чрезвычайно важная особенность Штерера-младшего. Это эмоциональное отношение к времени какими-то невидимыми нитя¬
428
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
ми связано с глубинными свойствами самого времени — с его
нежеланием раскрыть эти свойства. Рассказывая однокашнику о своей идее темпорального переключателя, Штерер заключает указанием на цель эксперимента: «время, прячущееся под черепом, надо прикрыть шапкой, как мотылька сачком.
Но оно миллиардо-мириадокрыло и много пугливее — иначе
как в шапку-невидимку его не изловить. И я не понимаю, как
смысл шапки-невидимки, придуманной сказочниками, остался... невидимым для ученых. Я беру свое отовсюду.
Ты видишь, и сказки могут на что-нибудь пригодиться».
Когда Штерера спросили, как будет работать этот темпоральный переключатель, он объяснил, и в этом объяснении
легко увидеть тот же принцип, который лежал в основе перемены осей часовой и минутной стрелок в его детских опытах.
Это объяснение столь важно и для характеристики задуманного Штерером опыта, и для его метода экспериментирования,
и, более того, для особенностей психоментальной структуры
самого исследователя, что оно заслуживает приведения его
здесь в полном виде:
«[...] любой учебник физиологической психологии признает принцип так называемой специфичности энергии. Так,
если бы можно было, отделив внутреннее окончание слухового нерва, врастать его в зрительный центр мозга, то мы видели бы звуки и при обратного рода операции слышали бы контуры и цвет а55. Теперь слушай внимательно: все наши восприятия, втекающие по множеству
нервных приводов в мозг, либо пространственного, либо
временного характера. Разумеется, длительности и протяженности спутаны так, что никакому ножу хирурга их не разделить. Впрочем, и мысль моя, по-видимому, не изостреннее
стального острия, ей тоже трудно расцепить миги и блики, но
уже и сейчас я на верном пути, уже и сейчас я пусть смутно,
но угадываю разность в интенсии этих двух типов восприятий. И когда я научусь отделять в мозгу секунды от кубических
миллиметров [...], мне остается только доработать идею моего
нейромагнита. Видишь ли, и обыкновенный магнит отклоняет
электроны с их пути; мой нейромагнит, охватывающий в виде
шапки мозг, будет проделывать то же, но не с потоком электронов, а с потоком длительностей, временных точек, устремляющихся к своему центру: перехватив поток на полпути, мощный нейромагнит будет перенаправлять лёт временных восприятий мимо привычных путей в пространственные центры.
429
Приложения
Так геометр, желая превратить линию в плоскость, принужден отклонять ее от нее самой под прямым углом к ее обычному длению. И в миг, когда он, так сказать, впрыгнув в блик,
отрёхмерится, настоящее, прошлое и будущее можно будет
заставить как угодно меняться местами, как костяшки домино, игра в которое требует минимум двух мер. Третья мера —
для беспроигрышное™. Ведь для челна, потерявшего весла,
один только путь — по течению вниз, из прошлого в будущее,
и только [...] То, что я даю им, людям, это простое весло, лопасть, перегораживающая бег секунд. Только и всего. Действуя
им — и ты, и всякий, — вы можете грести и против дней, и в обгон им, и, наконец, поперек времени... к берегу».
Последовательность в работе со временем и над временем на глубине, в развертывании рефлексивных конструкций,
имеющих время своим предметом, не означала отвлечений от
круга новых идей, от увлечений. Уже говорилось о «черной философической оспе шопенгауэризма» и связанной с нею гипотезе о прошлом как результате вытеснения одного восприятия
другим и о тех эффектах, которые связаны с усилением сопротивляемости («мелодическое время» и «гармоническая форма»
его), о боли, заставляющей сознание выстраивать прошлое.
Время, пространство, сознание, психология идут в этот период как бы в одной связке. Жгучая потребность в определении
времени и боли вынуждает молодого ученого к попыткам как
бы наложения их друг на друга. В этот период физика на первый взгляд оттесняется метафизикой (тем более что и «полу-
игрушечный ящик-лаборатория», который использовал Штерер, оказывается слишком несовершенным инструментом для
физических опытов). Но некое облако философских представлений о времени всё более оплотневает: «Время [...] подобно лучу, убегающему от своего источника, есть уход от самого
себя, чистая безместность, минус из минуса; боль есть испытание, проникнутое тенденцией к неиспытыванию; боль постигаема своим настигаемым — и никак иначе», — рассуждает
он. Или же запись в тетради — «Сегодня мне исполнилось 22.
Я медлю и медитирую, а тем временем время в борьбе за тему
времени выигрывает темп. [...] Время побеждает всегда тем, что
проходит. Или оно отнимет у меня жизнь, прежде чем я отниму у него смысл, или...» (запись обрывается). Первая работа этого времени о так называемом поперечнике времени на несколько лет предвосхитила американские работы
«о длительности настоящего». Вывод Штерера состоял в том,
430
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
что настоящее не является некоей точкой, «нолем длительности». Более того, «Время не линейно, это „анахронизм о хроно-
се“, — оно имеет свой поперечник, известный „потребителям
времени“ под именем настоящего. Поскольку мы проектируем свое „nunc“ поперек длительности, постольку, меняя проекцию, можно укладывать nunc вдоль длительностей: таким образом можно сосчитать, сколько настоящих помещается на
протяжении, скажем, минуты». Темпограммы показывали, что
«поперечник времени» колебался в пределах от десятых долей до трех секунд. Но эта попытка второкурсника измерить
интервал между концом прошедшего и началом будущего не
встретила сочувственного понимания56.
Может быть, именно это обстоятельство вынудило Ште-
рера повернуться к официальной науке спиной, и со временем
он «выходит наконец в то бесстрастное из световых пронизей мышление, которое можно сравнить с тихим беспыльным
днем, когда распахнутый солнцем горизонт открывает невидимые обычно дальние очертания островов и гор». Именно
тогда и возникла у Штерера идея моделирования времени, которая вывела его на прямой путь к осуществлению
главного его замысла, в котором метафизика и физика времени, равно обильные глубокими прозрениями и блестящими
парадоксами, поддерживают друг друга и все время отсылают
к пространству как таковому и к аналогиям с ним.
«Исходя из предположения, что мера всегда сходна
с измеряемым [...], Штерер допускал в виде гипотезы, что и часы (точнее — схема их устройства) и время, ими измеряемое,
должны быть в чем-то сходны, как аршин и доска, черпак и море и т. д. Все механизмы, отсчитывающие время, — делают ли
они это при посредстве песчинок или зубцов, — сконструированы по принципу возврата, вращения на воображаемой или
материальной оси. Что это — случай или целесообразность?
Если аршин, разматывающий штуку материи, вращаясь в руках, наворачивает на свои стальные концы ткань, то движения его строго определены свойством измеряемого матери ал а и никоим образом не случайны. Отчего
не допустить, что и круговращательный ход аршинов, меряющих время (иначе — часов), определяется свойством материала, ими измеряемого, то есть времени. [...] Штерер инстаури-
ровал древнее пифагорейское представление о времени как
о гигантской кристальной сфере, охватывающей своим непрерывным вращением все вещи мира».
431
Приложения
Конечно, пифагорейский образ и представление Ште-
рера о многоосности времени не более чем аналогия элементарно-простого и специализированно-сложного, но эта аналогия действует как «наводчица», в конечном счете приводящая
к цели. Кстати, и Стынский нередко додумывал лаконично,
на лету фиксируемые мысли ученого с помощью аналогий.
«Желая подняться вровень, он (Стынский. — В. Г.) то и дело
пользуется услугами библиотечной лесенки. Так, по поводу гипотезы о многоосности времени он реминисцирует Лейбница:
создатель монадологии, отвечая на вопрос, как при непрерывности материи, заполняющей все пространство, при занятости
всех мест возможна перемена мест, то есть движение, — утверждал: единственное движение, возможное внутри такого сплошного мира — это вращение сфер вкруг своих осей. Если представить, додумывает Стынский, что сплошность этого мира не
из материи, а из движения (время и есть чистое движение), то
его нельзя мыслить иначе как в виде системы круговращений,
стремящихся из себя в себя. Как в механизме часов вращающие друг друга круги передают — в известной пространственной последовательности —с зубцов на зубцы толчок
пружины, так в механизме времени специфически присущая
ему последовательность перебрасывает „вращающийся миг“
с оси на ось в длиннящееся д а л е е; но оси, отвращав, остаются там, где были, — короче, время дано сразу и всё, но мы
клюём его, так сказать, по зерну, в раздерге секунд».
Некоторая импрессионистичность комментариев
Стынского уравновешивается в записях Штерера сухой конкретностью и почти механической наглядностью аналогий
и расчетов:
«На одноколейной дороге нельзя обогнать, не съехав в сторону. Пока время представлялось нам линейным, точки перегораживали дорогу точкам. Открытие поперечника времени дает мне возможность проложить вторую колею. Точкам придется посторониться, когда я пойду им
в обгон.
Часовой циферблат. Внутри часового минутный циферблат, который стрелка обходит, проделывая 60 шагов-секунд; но на часовом циферблате есть еще место для секундного круга [...] — стрелке на нем придется пробежать 60 делений в одну секунду; но если б часовой мастер захотел пустить
острие стрелы по кругу, требующему 60 движений в 1/60 секунды, мы б восприняли 60 движений как одно, так как время,
432
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
отпущенное нам на восприятие этих последовательных движений, не превышает по длительности нашего настояще-
г о, которое не допускает в себя никакого последования. Если,
пригнать быстроту движения стрелки к нашему апперципирующему аппарату так, чтобы острие обегало круг, разделенный на деления, в течение одного мига, воспринимаемого нами неделимо, если сосредоточить внимание на каком-нибудь
одном [...] делении, то сознание сольет момент ухода острия
с моментом возврата к данной черте в одно настоящее,
стрелка успеет, так сказать, отлучиться, обежать круг, задерживаясь на десятках других делений, и вернуться, не будучи ни
в чем „замеченной“. Несомненно, внутри каждого мига есть
некая сложность, некое [...] несвоевременное время; можно перейти время, как переходят улицу, — можно проскочить меж
потока секунд, как проскакивают меж мчащихся колес, не попав ни под одну»57.
Война изменила всё в жизни Штерера, кроме его рефлексий над временем. Попав в плен (он воспользовался первой возможностью, чтобы «сдать себя на хранение немцам»),
он тяготился им менее, чем другие из его соседей по бараку: звездчатые шипы вдоль параллелей проволоки раздражали его не более, чем звезды на концентрах орбит, опоясывавших Землю. Описатель жизни Штерера объясняет это другой
его особенностью, которая на фоне сказанного ранее может
показаться неожиданной: «Вообще к пространству и его содержаниям Штерер относился как неспециалист, равнодушно
и сбивчиво, путая просторное с тесным, никогда не мог запомнить, высок или низок потолок в его жилье и неизменно ошибался в счете этажей. Впрочем, в концентрационном лагере
таковых не было, а были низкие и длинные крыши корпусов,
внутри которых в четыре ряда нары. В течение долгих месяцев Штерер так и не научился различать друг от дфуга людей,
занимавших нары справа, слева и перед ним; это казалось ему
столь же ненужным, как умение различать доски, из которых
сколочены нары: при упражнении можно бы, но ни к чему»58.
Впрочем, не всё можно списать в этом случае на индивидуальные особенности Штерера — «Может быть, именно война [...]
заставила его открыть факт как бы некоей вражды, противонаправленное™ времени и пространства»; он заметил неизменное запаздывание времени по отношению к пространству,
неполную их корреляцию, что и влекло за собой «отставание
событий от вещей», общую неслаженность мироконструкции,
433
Приложения
«недогоняемость так называемых счастий, которые возможны
лишь при совпадении идеального времени с реальным».
Собственно, эта неполная скоррелированность времени и пространства при «неравномерности времени», составляющая суть относительности времени и пространства, объясняет пространственно-временную гипотезу Штерера последнего этапа его жизни и смысл изобретения им времяреза,
открывавшего возможность путешествия во времени, странного странствия по необъятным пространствам времени, которое не могло, однако, состояться из-за исчезновения Штерера («Исчезновение Максимилиана Штерера не было одиночным. Шепоты превратились в шелесты. Самое молчание
боялось слишком громко молчать»). Последняя версия теории
Штерера, изложенная перед людьми, от которых он не мог
требовать специальных знаний, выглядела примерно так (докладчик подчеркнул в самом начале, что излагает только «самую грубую схему конструкции»):
«Наука, некогда резко отделявшая время от пространства, в настоящее время соединяет их в некое единое Space-
Time. Вся моя задача сводилась, в сущности, к тому, чтобы
пройти по дефису, отделяющему еще Time от Space, по этому
мосту, брошенному над бездной из тысячелетий в тысячелетия. Если в своих работах Риман — Минковский отыскивают
так называемую мировую точку в скрещении четырех координат: x + y + z + t, тоя стремлюсь как бы к перекоординирова-
нию координат, скажем, так: х +1 + у + z. Ведь, подымаясь сюда
по ступенькам лестницы, вы вводили в пространство ступенчатость, последовательность, то есть некий признак времени;
идя обратным путем, так как, примысливая к понятию времени признаки пространства, мы...» И, заметив, что его изложение становится непонятным из-за его абстрактности и «теоретичности», переходя на язык образов и сравнений: «Попробую
еще проще. Время — это не цепьё секунд, проволакиваемых
с зубца на зубец тяжестью часовой гири; время — это, я бы сказал, ветер секунд, бьющий по вещам и уносящий, вздувающий
их, одну за другой, в ничто. Я предположил, что скорость этого
ветра неравномерна. Против этого можно спорить. И я
первый начал спорить с собой (мышление — это и есть спор
с самим собою), но как измерить время протекания времени;
для этого нужно увидеть д ру гое время, усложнить четырехзначную формулу Римана пятым знаком t [...] Но как мы относимся к... точнее, как мы движемся в этом неутихающем ве¬
434
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
тре длительностей? Совершенно ясно каю как флюгера. Куда
нас им поворачивает, туда и протягиваются наши сознания.
Именно оно, восприятие времени, линейно, само же время радиально. Но я постараюсь обойти термины, постараюсь обогнуть вместе с вами все углы и поперечины формул. Мы держим путь по времени, по ветру секунд, но ведь можно же плыть
и на косом парусе, поперек поперечника t, по кратчайшей, по
прямой, в обгон изгибу t-мерностей. Ну, как бы это вам яснее...
[...] Вот там, меж огней [...] — привычная, извилинами сквозь
город, река; все вы знаете, что там где-то, в стольких-то километрах от нас, извив этот впадает в другой извив и этот последний в море. Но если, взяв реку за оба ее конца (я говорю
о притоке), вытянуть ее прямым руслом, то она сама, без помощи подсобного извива, дотянется до моря и станет впадать не
в узкобережье, а в безбрежье. Я хочу сказать, что течение времени извилисто, как и течение рек, и что, распрямив его, мы
можем переместить точку А в точку В, то есть переброситься
из сегодня в завтра». И далее — о том, как строилась в голове
эта конструкция, как он вынул ее вот отсюда, из-под лба, как
она противилась овеществлению, как ему пришлось бы прибегнуть к своей машине и как она разбилась («На море длительностей тоже возможны кораблекрушения. Но рано или
поздно я попытаюсь еще раз бросить „поздно“ в „рано“ и „рано“ в „поздно“»)59.
«Воспоминания о будущем» — наиболее развернутый,
наиболее теоретически проработанный и наиболее индивидуальный и оригинальный текст Кржижановского о времени
и его соотношении с пространством. Однако им эта тема не
исчерпывается. О времени говорят и некоторые другие тексты, в которых много очень острых аналитических наблюдений, фрагментов некоей общей синтетической теории времени, наконец, весьма важных «личных» впечатлений от встречи с временем в широком диапазоне — от подсознательного,
не всегда даже вполне эксплицируемого писателем, до вполне осознанного и даже вкратце прокомментированного. Обозначая здесь отношение времени к пространству лишь в достаточно общем виде, приходится констатировать, что оно
несравненно сложнее, чем это предусмотрено идеей их континуума, вытекавшей из общей теории относительности. Время как убегающая от самой себя «чистая безместность», с одной стороны, пространственно (именно в связи с этим писатель развивает пифагорейскую идею времени как гигантской
435
Приложения
кристальной сферы, охватывающей своим вращением все вещи мира60); с другой же, оно не соотносится с пространством,
кроме случая «идеального» времени, вполне, как один к одному: время приближается к пространству, иногда подступает к нему настолько, что «трется» об него61, иначе говоря,
происходит «трение секунд о дюймы», которое и объясняет
происхождение войн и других катаклизмов и о котором уже
упоминалось выше (ср. еще один образ «трения» у писателя —
сна о действительность, явь)62, но все-таки время запаздывает
по сравнению с пространством, не успевает войти в гармоническую корреляцию с ним (неполное соответствие длительности и протяженности), что влечет за собой отставание событий от вещей и «общую неслаженность мироконструкции»,
проявляющуюся, как уже указывалось, в «недогоняемости счастий», достижимых, однако, при полном совпадении реального времени с идеальным (ср. выше идеи о «поперечнике времени» /нелинейный характер времени/, о длительности настоящего, о «второй колее» времени, объясняющей явление
«обгона» времени, разной скорости его и т. п., из чего следует ряд парадоксов времени, отмеченных ранее, и т. п.). Другая,
уже отмечавшаяся важная особенность времени у Кржижановского.— его разорванность («несплошность»), объясняющая
(или объясняемая?) выпадение времени (ср. временные купюры), гетерогенность. Она коррелирует с теми же свойствами
пространства, по крайней мере в его восприятии («Глаз, привыкший кружить путаницами улиц и стен, ерзать среди пе-
строт, втянувшийся в дробность и разорванность городского
восприятия, тщетно искал новых деталей и мельков»). Эти зияния, пустоты во времени и в пространстве и соответствующие явления в их восприятии предполагают и более сложное
взаимоотношение между всеми этими входящими в игру явлениями и более сложную структуру каждого цз них в отдельности. Как бы то ни было, эти проблемы не просто интересуют
писателя и поэтому нередко, в разных текстах, выдвигаются
в центр внимания. Они интересуют автора и подчеркиваются им как раз в силу того, что за ними стоит нечто главное,
что оригинальным образом определяет суть и времени, и пространства, и того общего, в чем оба они коренятся. Несплошность и гетерогенность времени (как, разумеется, и пространства) сложным образом связана у Кржижановского с «материальностью», «физичностью» времени, с его «энергетичностьк»
и, как можно с известным вероятием реконструировать, с его
436
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
«эк-тропичностью», творчески-созидательным, распаду и хаосу противостоящим характером времени (ср. также о «психич-
ности» в связи с воздействием времени). Эти художественные
интуиции писателя, помноженные на его интерес к физическим проблемам науки XX века, и серьезные познания в этой
области объясняют отчасти нередкие, и иногда удивительные,
переклички с наиболее «безумными» гипотезами современной
физики63.
Аналогии пространственных и временных структур образуют лишь поверхностный и самый слабый вид связей этих структур. Но некоторые из таких аналогий позволяют говорить о взаимозависимости и/или изоморфизме самих
этих структур, и тогда открываются некие фундаментальные
пространственно-временные связи, отсылающие к ингерент-
ным свойствам каждой из этих структур и к некоему «пра-
родству» их, к исходному единству, так или иначе напоминающему о себе в ряде предельных ситуаций. Одну из наиболее
существенных взаимозависимостей, связанных с «минус»-
пространством (аналогичная взаимозависимость существенна и для времени, но в данном случае она не будет предметом
рассмотрения), можно представить в виде двух импликаций:
теснота => движение вовне & простор z> движение внутрь или,
в несколько ином виде: чем теснее пространство, тем сильнее
стимулы к выходу из него, к движению в простор (по крайней мере, для субъекта, ощущающего отклонение от среднего,
«нормального» человекосообразного пространства в обе противоположные стороны как нарушение личной «спацио-эко-
логии», приводящей к дискомфортности, которая нуждается
в компенсации); чем просторнее пространство, тем сильнее
стимулы к пребыванию в бездвижье, обеспечиваемом как раз
теснотой. Сформулированная таким образом обратно пропорциональная зависимость между объемом пространства и количеством движения имеет первостепенное значение в связи
с существенными обстоятельствами его психофизиологической конструкции и жизненными условиями. Но эта же взаимозависимость открывает теоретическую возможность таких состояний пространства в предельных случаях, когда оно
или обладает огромной проникающей способностью и соответственно исключительно слабым взаимодействием с объектами (ср. пространство, как и время, «ветер времени», проходящее сквозь человека и как бы не задевающее его, аналогия с ситуацией нейтрино), или же, напротив, чрезвычайно
437
Приложения
устойчиво к проницанию и обладает максимальным взаимодействием («сверх-плотность»). И то и другое нашло свой образ в произведениях писателя.
На этом фоне, может быть, менее оригинальными
покажутся те оппозиции, которые довольно легко и естественно выделяются уже при первом знакомстве с текстами
Кржижановского и тем более при content-анализе и которые
берут свои истоки чаще всего в сфере пространственного
и становятся своего рода кодом описания человека и в физическом и в психоментальном плане. При традиционном
понимании времени эти оппозиции могли бы рассматриваться как своего рода метафоризация пространственных
отношений применительно к временным. Но в «нетрадиционной» теории времени Кржижановского эти оппозиции,
описывающие отношения времени, могут пониматься не
в метафорическом, а в «прямом», равноправном с пространственным, смысле.
Но сама тенденция к универсализации всего корпуса
подобных оппозиций (как и выработка особого «терминологического» языка для их обозначения) и возможность реконструкции на их основе пространственных (и, как следует из
предыдущего, в значительной степени и временных) операций говорит очень о многом. Поэтому некоторые из примеров
таких оппозиций должны быть обозначены (хотя и без подкрепления их конкретными примерами: многие из них уже
приводились, правда, обычно под несколько иным углом зрения, выше, другие легко выделяются читателем благодаря их
частотности, варьированию одного и того же типа, наконец,
благодаря помещению их в «сильные» позиции, которые определяют и организуют весь соответствующий контекст — от малых фрагментов до целого текста).
Среди подобных оппозиций — в данной связи — заслуживают быть отмеченными следующие (нужно помнить,
что существен не только сам состав их, но и их последовательность, в которой эмпирия неслучайно «случайно попадает» в суть дела): большой — малый, мир — Я, макрочеловек — микрочеловек (Гулливер — лилипут), увеличивать —
уменьшать (умалять), ширить/ся/ (расширять/ся/) — сужать/
ся/ (стягивать/ся/), разращивать(ся) — сжимать(ся) (сокращаться/), просторный — тесный, широкий — узкий, расползтись — сползтись (сжаться), разрежать — уплотнять, отпустить (освободить) — притиснуть (затиснуть, /за/цепить),
438
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
разомкнуть/ся/ (отомкнуть/ся/) — замкнуть/ся/ (сомкнуть/
ся/), открыть(ся) — закрыть(ся), распутывать — запутывать
(спутывать, путать), из (ех) — в (in), вовне — внутрь, выход —
вход, выгиб — вгиб, «товэтовцы» (то -> в это) — «этовтов-
цы» (это -> в то) (ср. «Штемпель: Москва»: Письмо 10), возникнуть — изникнуть (уничтожиться) , есть — нет, быть — не
быть, бытие — небытие, присутствие — изъятость, вопло-
щенность — невоплощенность, наполнять (заполнять) — пустеть (опустошать/ся/), полный — пустой, непрерывный
(сплошной) — прерывный (разорванный), длинный — короткий, прямой — кривой (извилистый, ломаный), параллельный — перпендикулярный, прилив — отлив, живой — мертвый и т. п. (существенно добавить, что, как правило, названия
членов этих оппозиций совпадают с реально используемыми
у Кржижановского словами).
Заслуживает особого внимания то обстоятельство,
что почти все эти оппозиции так или иначе «разыгрывают»
тему просторности и стесненности (узости) и/или свойств
этих двух состояний. В отличие от традиции Кржижановский избегает описывать среднее между этими крайними состояние, которое можно было бы считать нейтральным, нормой, свободной от уклонений в ту или другую
сторону. Во всяком случае избранным и отмеченным оказывается то одно, то другое из крайних, друг другу противопоставленных состояний, взятых — по крайней мере такова очевидная тенденция — в максимуме или в достаточно
высокой степени присутствия соответствующего качества.
В этих крайних обстоятельствах — в замкнутой тесноте, тяготеющей к «нуль»-пространству, и разомкнутом пространстве, кажущемся бесконечным, — у человека нет меры
пространства и, следовательно, нет и самого пространства,
но есть боль, которую причиняет это отсутствие пространства человеку: ему не только некуда идти, но и негде быть,
он безместен и как бы выписан из пространства и бытия,
а это противно тому, что было от века, ибо нормальное состояние, как сказано у Платона, «есть бытие, есть пространство и есть возникновение (би те ка\ ^copav ка! eveaiv elvai),
и эти три [рода] возникли порознь еще до рождения неба»
(Tlmaeus 5 2d). И та, и другая «безместность» — человек, совпадающий с местом и превращающийся в место, или человек, теряющий себя в необозримом пространстве, — болезненно переживается героями произведений Кржижанов¬
439
Приложения
ского, о чем и говорилось уже не раз выше, и избавиться от
этих болезненных ощущений и фобий можно или «разматыванием» себя в хождении (первый случай), или, наоборот, «сматыванием» себя в стремлении к более ограниченному, человекосообразному пространству (второй случай).
И то и другое движение позволяет преодолеть болезненные
ощущения и восстановить утраченные было смыслы — бытия, жизни, собственного Я и вдохнуть воздух свободы.
Кржижановский отчетливо сознавал связь смысла, мысли,
мышления со свободой, и более того — их единство и тождество. «Человек, владеющий общим понятием, не нуждается для его построения в обществе. Его идеям излишни соче-
ловеческие подпорки. Не сваливайте в голову индивидуума
сумбур проблематических суждений и пошлость суждений
ассерторических: подлинное „я“ берет себе аподиктизмы:
оно не мыслит „если я есмь“ или „Я есмь“, — но „я не могу
не быть“». И дальше: «„я мыслю, следовательно, мне принадлежат все мои следовательно“. Я не хочу хранить свои
логические излишки в сберегательной кассе, я хочу их иметь
в своей голове. Я требую, чтобы мне возвратили все, национализированные у меня, шестьдесят четыре модуса силлогизма. До единого. [...] так как без них не осуществится искусство, которое ведь всё из неосуществимых силлогизмов.
Мало того, я не хочу, чтобы меня пугали в детстве трубочистом, а в зрелоумии ошибкой, которая придет и унесет меня в мешке. Я декларирую право ошибаться. Почему? Потому
что достигнуть истины можно лишь доошибавшись до нее.
Мышление, мыслящее идею свобода, только называет себя по имени», — писал Кржижановский.
Здесь намечается еще одно существенное для писателя противопоставление — свободы мысли и несвободы жизни, которые, может показаться, уравновешивают друг друга.
Но это равновесие между ними хрупко, и оно в любой момент
готово нарушиться. Выше говорилось, что слишком тесное
и слишком широкое пространство при отсутствии соединяющей их середины всё более и более воспринимаются писателем как два варианта единого «минус»-пространства, равно
гнетущие человека. Угнетенное больное сознание порождает такое же пространство и такое же время, которые — со своей стороны — начинают осаду человека, загоняют его в тупик
безнадежности. И тогда не остается ничего иного, как сделать
«последний ход — самим собой».
440
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
V. «Автобиография трупа»
Этот рассказ, написанный, видимо, в 1925 году, должен был появиться именно в этом году в журнале «Россия»64,
но появился лишь 60 с лишним лет спустя, в 1989 году. Неудача с попыткой публикации воспринималась писателем, видимо, нелегко, и он позволил себе некоторое время предаваться иллюзиям. Тем решительнее было последующее расставание с ними, описанное им самим: «[...] Познакомили меня,
почти случайно, с редактором „России“ (в это время им был
уже не И. Лежнев. — В. Г.): и после трех двухчасовых разговоров вижу: надо порвать. М<ожет> б<ыть>, это последняя литературная калитка. Но я захлопну и ее: потому что — или так,
как хочу, или никак. Пусть я стареющий, немного даже смешной дурак, но моя глупость такая моя, что я и стыжусь, и люблю ее, как мать своего ребенка-уродца. Но ну ее к ляду, всю
эту „литературу“»65.
В ряде отношений «Автобиография трупа» одно из наиболее характерных произведений Кржижановского о «минус»-
пространстве, о том, как омертвляется пространство жизни,
и о том, как сама жизнь связана с пространством и зависит от
него. Конечно, рассказ никак не может претендовать на исчерпание темы «минус»-пространства, но он с беспощадной точностью свидетельствует о том, как это пространство пожирает своих детей, не хуже чем его напарник и сосед по времени
Сатурн, и ч т о делается с человеком, попавшим в это пространство и в это время, столь безжалостные к нему. Поэтому
настоящую работу уместно завершить главкой, посвященной
этому рассказу как своего рода summа’е всего этого предлежащего текста.
У журналиста Штамма, приехавшего из провинции
в Москву и верящего «в свои локти» и умение «обменивать чернильные капли на рубли», всё начинается с дефицита жилплощади: «в мертвые и живые, человечьи и телефонные уши одно и то же слово: комната...» упорно, но тщетно повторяется им. Но в Москве «всё, по самые крыши, — битком. Ночуют:
в прихожих, на черных лестницах, скамьях бульваров, в асфальтных печах и мусорных ящиках». Только благодаря своей
энергии Штамм обеспечивает себе ночлег на одну ночь — «на
трех жестких стульях, сталкивающих его спинками на пол, —
441
Приложения
призрак мусорного ящика, гостеприимно откинувшего деревянную крышку, ясно предстал сознанию». С рассветом он
уходит на поиски в полубезлюдные улицы заснеженной Москвы. Так сразу намечаются ключевые мотивы рассказа: живое и мертвое, пространство жизни и пространство проживания, теснота-обуженность, повторяемые далее не раз, и наме-
кается одновременно на тот вид одиночества, который связан
с разъединенностью с людьми, с пустотой. Штамму повезло:
едва выйдя из дома, он встречает человека, дающего ему нужный адрес, и в огромном доме в одном из кривых переулочных зигзагов Штамм получает желанную комнату в 20 аршин
на верхнем этаже (она показалась ему «несколько узкой и темной», но когда зажгли свет, на стенах проступили веселые синие розаны, длинными вертикалями протянувшиеся по обоям, и когда он подошел к окну, откуда виделись «сотни и сотни крыш», к нему пришло успокоение). Два следующие дня
Штамм со своим портфелем бегает по делам по необъятной
Москве и, возвращаясь к вечеру домой, чувствует увеличивающуюся тяжесть портфеля, шаги его укорачиваются, теряют
четкость и замедляются: пространство густеет, сжимается, тяжелеет и как бы передает эти качества своему субъекту, который сразу же проваливается «в пустой, черный сон». Лишь на
третий день (три ночи Штамма, проведенные им в этой
комнате, описаны в рассказе) удалось вернуться домой раньше. При открывании двери из щели вываливается пакет, а из
его довольно просторной бандерольной петли выпадает вчетверо сложенное бумажное тело рукописи (петля и тело, из нее
выпавшее, как бы отсылают к тому, что недавно произошло
и вскоре может произойти в этой самой комнате, но пока
Штамм не ведает ни о том, ни о другом; кстати, его въезд в комнату начинается с ввинчивания железной петли для замка).
Рукопись называлась «Автобиография трупа» и обращалась
именно к Штамму как жильцу-преемнику человека, неделю
назад повесившегося в этой комнате. Неизвестный автор рукописи, уже знавший о неотменности своего последнего выбора («Пишу об этом в прошедшем времени: точно расчисленное
будущее — мыслится как некая осуществленность, то есть почти как прошлое»), сообщал о том, чего Штамм не мог знать, но
предлагал все-таки не отказываться от этого «покойного угла»
(«Живите: комната сухая, соседи тихие и покойные люди; за
окном — простор»; грязные и потрепанные обои были предусмотрительно переклеены прежним жильцом, уверенным, что
442
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
синие вертикальные розаны должны понравиться Штамму)
и при этом просил лишь об одном — прочитать его рукопись
(«Мне не нужно, чтобы Вы, мой преемник и исповедник, были
умны и тонки: нет — мне нужно от Вас лишь одно чрезвычайно редкое качество: чтобы Вы были вполне живы»). Всё
дальнейшее — сама автобиографическая исповедь, написанная в три последние ночи жизни самоубийцы, вместившие
в себя жестко-точный и беспощадный анализ обстоятельств
его жизни, приведших к финалу и объясняющих этот финал.
Уже с самого начала у автора автобиографии (некоего
икса — X, чье имя состояло из 9 букв) сложились странные отношения с пространством: свое бытие в пространстве он не
ощущал как нечто органическое и естественное, о чем не думают, чего почти не замечают и что не вызывает рефлексии.
Начиналось с физиологии патологического оттенка: 8,5 диоптрий отнимали 55% солнца; стоило снять двояковогнутые окуляры и втолкнуть в футляр — «и пространство, будто и его бросили в темный и тесный футляр, вдруг укорачивается и мутнеет»; при стирании пыли со стекол — мысль: не сотрется
ли при этом и само пространство («было
и нет»), как некая налипь. В решающий момент объяснения
с любимой девушкой эти окуляры сыграли свою зловеще-ко-
мическую роль, и всё «личное» рухнуло сразу же и навсегда.
Тогда и возник впервые перед X образ трупа, появилось ощущение (спускаясь по лестнице, при бегстве от любимой), как
если бы он в темноте наткнулся на труп. Возникли «скуки», их
было много: «стоило закрыть глаза и насторожиться, — и было слышно, как тихо ступают они по скрипучей половице»,
и вскоре появился новый образ самого себя — двояковогнутое
существо, которому — «ни вовне, ни во в ну тръ, ни из себя, ни в себя: и то и это — равно запретны. Вне досяганий» и как
развитие — «тем, мертвым, — маячила мысль: хорошо. Чуть закостенели — сверху крышка: поверх крышки — глина: поверх
глины — дерн. И всё» («Чем люди мертвы» — название одного из циклов Кржижановского). И тогда же приходит мысль
о небытии как вакууме, боящемся природы, бегущем от нее,
как полном одиночестве, затерянности в огромном пространстве жизни. Эти настроения становятся навязчивыми и приводят к отказу от попыток выйти в свое в н е, от опытов дружбы,
любви, от поисков чужого «я». Замышляется и выход из положения — «сконструирование как бы с пл ющенного мирка, в котором всё было бы в здесь, — мирка, который мож¬
443
Приложения
но было бы защелкнуть на ключ внутри своей комнаты». Переживание утесненности пространства парадоксально приводит
к решению еще «теснее» укрыться в нем, бежать даже из той части его, которая, на 45%, открыта для X: «Пространство, — рассуждал я еще в годы самой ранней юности, — нелепо огромно
и расползлось своими орбитами, звездами и разомкнутостью
парабол в беспредельность» (огромность не как результат соразмерного с нею дальновидения, но как следствие невидения
его границ из-за дефекта зрения). И все-таки временный выход находится — вместить всю эту огромность, границы которой невидимы и неведомы, в узкие пределы двух-трех книжных полок, в книжную страницу66, в буквы алфавита, цифры
и другие письменные знаки и символы («Только они, эти молчаливые черные значки, и освобождали меня, пусть ненадолго,
[...] от власти назойливых, вялых и сонных скук»). Первый результат этого выбора — диссертация о букве «т»; до конца жизни X был благодарен «маленькому двурукому Т за все его хлопоты и помощь», оказанную им в черную полосу жизни: играя
с X в прятки и поддаваясь ему, эта буква вызывала его улыбку
и утешала его — «Ведь „я“ это буква, — говорила она, — такая
же, как и я. Всего лишь. Стоит ли о ней печалиться. Была и нет».
Но самое поле, в котором совершалась эта игра, обладало в случае X неким внутренним дефектом: утешение оказывалось преходящим, а путь к «минус»-пространству всё более отвесным и скользким, собирающим вокруг себя всё то, что до
поры лежало на закрытой глубине. Шутливый пример с «я» побудил X «шутя» заняться филологией «я»67. Он сделал для
себя два важных открытия: «у „я“ изменчивый корень, но всегда короткая фонема», и сфера «я» составляет чуть ли не 25%
текста [по подсчетам Штирнера] («Этак еще немного и весь
текст зарастет сплошным „я“. А если обыскать жизнь: много ли
в ней е г о?»). «Филология „я“> ввела X в проблематику своего
«я» и, что важнее, в многообразие других «я», в каждом из которых, как и у я-Х, может происходить «истечение души». Приходили и уходили галлюцинации: «тогда-то и начиналось то
последнее одиночество, ведомое лишь немногим из живых,
когда остаешься не только без других, но и без себя». Открытие других «я», другого могло бы вызвать к жизни спасительный диалог, но пространству больного сознания X более подходящим оказался другой ход: опустошение своего «я»,
доведение его до уровня других «я», еще недавно мыслившихся пустыми, т. е. вовсе несуществующими, мнимыми. Впрочем,
444
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
и «другой» осмыслялся больным сознанием: он был онтологически дефектен. Когда-то X прочитал, что в северной полосе
страны на одну квадратную версту приходится 0,6 человека,
и начали склубляться образы: белое поле, верстовые квадраты,
«у скрещения диагоналей о н о: сутулое, скудное телом и низко склоненное над нищей обмерзлой землей — 0,6 человека ,[...]. Не просто половина, не получеловек. Нет, к „просто“
тут припутывалась еще какая-то мелкая, диссимметрирующая
дробность. В неполно ту — как это ни противоречиво —
вкрадывался какой-то излишек; какое-то „сверх“». И прогнать этот цепкий образ-«примысл» было нельзя. Фобия пространства получала для себя новую пищу — «пространство
огромно, точка же не имеет никакой величины. Очевидно,
мои координаты разомкнулись, и отыскать меня, психическую
точку в беспредельности, оказалось невозможным». Я — мнимость. Но ведь есть и такие мнимые кривые, которые, пересекшись, дают реальную точку. Но и эта надежда тщетна: «„реальность“ ее (такой точки. — В. Т) своеобразна: из фикций. Пожалуй, это-то и будет л* о й случай». Но если мнимо мое «я», то
и не мое «я» обречено быть навеки чужим и непревратимым в «ты»: «Люди-брызги не знают ни русла, ни течения. Для
них — меж я и мы: ямы. Ъ ямы и свалились одно за другим поколения социальных оторвышей. Остается зарыть. И забыть».
Лишь позже X понял, что никакое «я», не получая питания из
«мы», не может быть хотя бы только собой и неизбежно гибнет. «Мысль мыслила или не дальше „я“, или не ближе „космоса“ [...] Видение имело либо микро скопиче с кий, либо
телескопический радиус». Всё, что было между этими
крайностями, выпадало из мысли и из видения: пространство
регенерации и спасения исчезало.
Было бы неверно думать, что болезнь развивалась только изнутри: она жадно набрасывалась на пищу извне. Два примера. В период жилищного кризиса и расцветающего бюрократизма и подозрительности чем чаще удостоверяли
личность X, тем менее достоверной становилась она, тем подозрительней становился он к своей «действительности» и «тем
острее чувствовал в себе и такого — и этакого»: на
пути к исчезновению личности никло чувство себя: «я — и я —
полу-я — еле-я — чуть-чуть-я: стаяло». Другой пример — война.
Еще до нее X слишком много оперировал с символом «смерть»,
слишком многое вкладывал в этот «биологический минус»
и слишком тесно связывал диссоциацию и смерть только со
445
Приложения
своим «я», чтобы новая действительность не подтолкнула его
мысль к расширению масштабов. Первая версия была элементарной: я — з д е с ь, из тех, за кого умирают, а другие, которые умирают за я и за нас, — там, хотя трупы их возвращаются
в здесь (сюда) и упрятываются тайно, ночью, чтобы не потревожить нас. Но перегородка между там и здесь ненадежна,
и совесть нудит преодолеть ее. «За нас? За меня? — спрашивает X у тяжелораненого, пригнувшись к носилкам. — А меня-то,
может, и нет. Так вот — нет». И это «нет» как бы объединяет
и отчасти уравнивает обоих: начинается игра «меня против меня», в которой, однако, неизменно выигрывают черные. Следующая версия — «сильнее»: диалектика войны «заставила идти
в смерть всех более или менее живых; и закрепляла права
на жизнь за всеми более или менее мертвыми», и люди из
здесь уже не скрывали свою неприязнь к людям из там. Для
X, прошедшего опыт «филологии „я“», это не могло пройти бес-
послед ственно. А тут еще попалась на глаза книга, в которой
говорилось, что в языке жителей Фиджи вообще нет слова «я»
и они обходятся без него, заменяя его чем-то вроде «мне»68. Это
открытие могло иметь практический выход — «А что, если уж
с „я“ у меня сорвалось, что если попробовать жить в дательном падеже». Пне будет ли спокойнее? — «Мне: хлеба, самку, покоя и царствьица небесного. Если есть». Но идея
явно запоздала, линии фронтов приближались. Было чувство,
что «всех, оставшихся здесь, вселили в огромный толстостенный дом» с рядами глухих, «ложных» окон. Возникает ощущение жесткого вакуума, полной пустоты, навеянное отчасти
опытом работы Вакуум-Лаборатории, где был создан стеклянный дутыш с профильтрованной пустотой. Аналогию можно было продолжить, и X спросил у знакомого инженера, как
можно снова впустить воздух в дутыш. Тот захохотал: «Очень
просто: разбить стекло ». Допускаемый мыслью выход из ситуации оказывался ложным и, более того, смертельным.
Записи, сделанные X в последнюю, третью ночь, говорят о том, что решение уже принято и «стекло» собственной
жизни будет разбито: я, личности, душе, имени, которые могли
бы стать центром «моего» пространства, его голосом, это пространство персонифицирующим, в этом случае такая задача не
по силам, и кто остается разъединенным с его что (ср.: «У философов всегда таю или что без кто, или кто без что» — из
«Записных тетрадей» Кржижановского). И подсознание точно
фиксирует ситуацию и подсказывает единственный, по сути
446
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
дела уже не являющийся секретом, выход: короткий сон — звук
колес, за окном дроги, затем топот тяжелых сапог: трое или
четверо несут на плечах по лестнице нечто неудобное и длинное; нужен ключ, чтобы запереться, но его нет, и шаги все тяжелее и ближе. Сон смахнуло как рукой, и первая мысль: неужели
боюсь? А вдруг... — Но сознание берет контроль над ситуацией:
«Нет. „Авдругу“ меня больше не провести». И все-таки соблазн
не преодолен, и в последний день жизни «трупа» (уже) Авдруг
выводит его из дома и чуть ли не подводит к кромке фактически уже оставленной жизни. На кладбище он видит девочку трех-четырех лет, приближающуюся к нему («Еще неокрепшие ножки [...] на склизкой глине упрямо, шаг за шагом, брали пространств о»). «Жизнь», — сказал X, когда девочка
достигла скамьи, где он сидел. Девочка стояла «среди крестов,
распластавших белые мертвые руки над нею», она улыбнулась ему, он заглянул в странно расширенные ее зрачки, но из-
за поворота аллеи раздался женский голос, и он звал девочку
«не моим именем». Встреча с жизнью не состоялась, и он окончательно увидел себя вне пространства жизни. Припомнились и другие знаки этого рода (вышибание мальчиками фигуры «покойника» в городках), осозналось, что «жизнь, взятая
в зажимы, [...] вогнанная в мертвый, однообразно отсчитывавший дни механизм, была как будто бы в пользу мертвых»™. что «люди с омертвевшим sensorium’OM, с почти трупным окостенением психики, уже никак не могут жить с а-
м и», хотя их жить можно.
Возможность Dasein-Ersatz, подделки под жизнь, тоже
отпала, и осталось сделать последнее дело, — дописав письмо,
исполнить свое решение. В последних строках своего послания X предупреждает: он не будет угрожать Штамму галлюцинациями («психологическая дешевка») и, рассчитывая на закон ассоциации идей и образов, предупреждает: всё — от синих пятен на обоях до последней буквы автобиографии — уже
вошло в мозг Штамма: «Я уже достаточно цепко впутан в Ваши [...] „ассоциативные нити“; уже успел всочиться к Вам в „я“.
Теперь и у Вас есть свой п р им ы с л*. И завершает: «О, мне издавна мечталось, после всех неудачных опытов со своим „я“,
попробовать вселиться хотя бы в чужое. Если Вы сколько-нибудь живы, мне это уж е у далось. До скорого».
Прочитав это, Штамм остался один на один с собою;
«ему нужен был какой-нибудь живой звук», хотя бы дыхания.
Он прижался ухом к соседской двери, но слышал лишь «свою
447
Приложения
кровь, тершуюся о жилы». Раздался звон с ближайшей колоколенки, но звал он не к жизни, как в «Фаусте», а провожал в противоположную от нее сторону. Как и ранее X, к тому же окну
подошел и Штамм; за ним так же начинало светлеть, и он увидел те же, что и X, «железные кузова запрокинувшихся крыш-
кораблей и ряды черных оконных дыр под ними». Бездуновен-
ность, мертвь и молчь почувствовал здесь 9 дней назад X и сказал себе: «Да, это мой час: в такой час я, вероятно, и — » (на
полуслове текст прерывался). Безлюдие, мертвь и молчь ощутил теперь на этом же месте Штамм: «Его ч а с», — прошептал
он «и почувствовал, будто петлей стиснуло горло». И немного
спустя: «Что ж [...] другой комнаты, пожалуй, не сыскать. Придется остаться. И вообще; мало ли что придется».
Своей автобиографией самоубийца «заразил» Штамма
(в ней он, кстати, точно указал, где в комнате находится крюк),
и в некоей далекой перспективе, об отдельных продолжениях которой автор, возможно, и не подозревал, X и Штамм сливаются почти до неразличимости. У обоих был один отец, передавший им некоторые из важных своих родовых черт и (не
исключено) спасенный своими «сыновьями» от их последнего
выбора. «Автобиографическое» в рассказе проступает не раз.
Помимо очевидных параллелей ср. общие черты в биографии всех троих — X, Штамма и Кржижановского; слово «труп»
Кржижановский применял и к себе; дважды укрытое за «9 буквами» имя — едва ли произвольная криптограмма, и, видимо,
нельзя исключать, что за ней могло стоять имя автора. Многие
черты собственной психоментальности переданы им X. Черты
«пространственной» патологии также достались в наследство
от автора герою «Автобиографии трупа» (как, впрочем, и персонажам некоторых других рассказов). То, что вышло наружу
в 1946 г. и воплотило в жизнь образ «жесткого вакуума» (при
переходе через широкую пустую площадь Кржижановский почувствовал, что дышать ему трудно: это задыхание и привело
его к потере сознания; с тех пор он старался не выходить из
дому один), — агорафобия или ее отдаленные предвестия —
в художественных текстах фиксируется гораздо раньше и неоднократно (ср. уже в «Четках», 1921: «Теперь я веду жизнь сидня. Незачем ходить в поля за просторами: просторы всюду —
вкруг меня и во мне. Каждая пылинка значительна, как солнце»
или: «В городе [...] кажусь себе как-то значительнее и нужнее, а здесь, в поле, подставленном под небо, я, тщетно пытающийся исшагать простор, затерянный и крохотный, кажусь
448
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
себе осмеянным и обиженным» и др., в том числе и «разыгрывание» темы умаления человека — и «самоумаления» в тех
же «Четках» — и соответственно гигантизации пространства,
подавляющего человека). Не только величина пространства,
но и его открытость, делающая человека беззащитным и отовсюду угрожаемым, приводят его в смятение и гонят в тесноту,
как и наоборот: угнетенность, порожденная теснотой, заставляет человека рваться на простор (обратно пропорциональное отношение между объемами пространства и движения).
Есть основания говорить и о наличии клаустрофобического
синдрома у ряда персонажей Кржижановского, как, вероятно,
и у него самого (нельзя исключать и отдельных примет акро-
фобии, нередко, связанных с агорафобией, ср. «Странствующее „Странно“»: описание переживаний кота, оказавшегося
на узком выступе высокого дома без всякой надежды на чью-
либо спасительную помощь). Обе эти фобии имеют общий корень (нарушение чувства соразмерности человека и «его» пространства), но предполагают доминантную ориентацию на
размежевание «соразмерного» и «несоразмерного» себе (как
и кто и что) и тонкое чувство опасной грани. Опыт глубокой
рефлексии и «инвентивность» сознания Кржижановского могли оживлять и приводить в движение оба варианта пространственной фобии, предполагающих потерю контроля над «своим» пространством и вход в чуждое себе пространство, вызывающее страх зажатости-тесноты или бездны-пустоты69. Так
или иначе, но особенности реакции индивидуальной психоментальной (и физиологической) структуры на «неуютное»
пространство, проявившие себя в конце жизни писателя, были увидены и засвидетельствованы им еще в самом начале его
творческого пути.
Таких предвидений-предсказаний было, кажется, больше, и они относились, не в последнюю очередь, к сфере психофизической цельности организма. Так, мотив исчезающих
с бумаги букв («Бумага теряет терпение») как бы получил свое
реальное воплощение в том поражении мозга, которое незадолго до смерти пережил Кржижановский: оно коснулось
именно того участка мозга, который хранит алфавит. Другой
пример. В свое время Кржижановский писал об опустошении жизни, когда остается одно — «под лопату». И в этом случае было страшное «пред-знание» об обстоятельствах смерти:
«Когда я порывался в жизнь — меня встретили холодом, когда я умер — меня встретили мерзлой землей» (Кржижанов¬
449
Приложения
ского хоронили в морозы под самый Новый год). И еще одно
предсказание, казавшееся невероятным, но все-таки сбывшееся. «Когда умру, не мешайте крапиве разрастаться надо мной:
пусть и она жалит», — писал Кржижановский. И действительно, могила его потеряна, хотя еще живы некоторые участники
похорон. Подобным прорывам в будущее, к сожалению, всегда
печальным, удивляться не приходится: они предусмотрены самой структурой пространства-времени писателя. Творя и «разыгрывая» его, он сам в нем жил, а оно проходило сквозь него,
заражая его своими ядами.
Примечания
1 Эти страницы предполагают некий более обширный
текст, посвященный анализам индивидуальных образов пространства в русской литературе (Батеньков, Гоголь, Достоевский, Коневской, Андрей Белый, Мандельштам, Платонов, По-
плавский и др.).
2 «Развернул план Москвы. Сейчас думаю покорпеть над
этим круглым, как штемпель, пестрым, расползшимся крашеными леторослями пятном: нет, ему не уползти от меня. Я таки возьму его в железный обвод» («Штемпель: Москва», 1925).
3 Мистеру Пемброку, который, как было сказано в посвященном ему некрологе, «променял широкую арену политической борьбы на квадрат шахматной доски — ушёл от поступков к ходам», было не по себе, когда он склонился над шахматными фигурами в своей последней партии. «Делая первый ход,
он глянул за прозрачный прямоугольник из стекла: иззяблый,
из сплетения голых ветвей, сад. Было похоже, будто кто-то развернул и притиснул к матовым мерцаниям стекла план огромного фантастического города — паутину спутанных и пересекшихся уличек, улиц, переулков и тупичков. — Не игралось.
Предчувствие чего-то давно уже ищущего быть найденным,
неизбежной и близкой встречи с каким-то бродячим фан-
тазмом, заблудившимся, быть может, здесь, в этих черных по
красному уличках несуществующего города, вычерченного
игрою заоконных ветвей, тревожило мозг» («Проигранный
игрок», 1921). «Метафизическая» фантомность «несуществующего города» вскоре соотнесется в сознании Кржижановско¬
450
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
го с «физической» фантомностью наступившей эпохи, с мнимостью и неподлинностью переживаемого «пустого» времени.
4 Ср.: «впрочем, „нам“ тут не к месту, — я-то не москвич,
а так, привозной человек» («Штемпель») или: «Понемногу то за
тем, то за этим трущимся о мглу стеклом возникают сутулящиеся, зябкие контуры. Но это уже не мое. [...]» («Швы»).
5 Ср. несколько позже: «Неделю тому назад меня гнало
косым дождем по ломаной линии переулков от Никитской до
Тверской. Шел и думал: вот тут, в особняке за акациями, мыслил и умирал Станкевич, а вот тут, на перекрестке, пирожники продавали традиционные в то время „дутики с нетом“. —
И вдруг я ясно ощутил е г о: налипший на подошвы, огромный
вспучившийся пузырь, круглая пустота, нагло выпятившаяся под нами. Чуть шагнуть не туда, подумать н е так —
и... Нет. Вздор. Я огляделся [...] В лужах, под рябью от дробных
капель, шевелилась опрокинутая крышами вниз Москва [...]
Я круто повернул домой. И там, с зажатыми глазами, с головой,
упершейся в ладони, я еще раз возвратился в мою сказочную
Стр а ну нетов» или — в развитие темы «Страны нетов»:
«Территория Страны нетов день ото дня расширяется: робкие звоны колоколен, изредка вмешивающиеся в лязги
и гулы города, напоминают нам о самом несуществующем в стране несуществований: я говорю о Боге. Проходя
мимо церквей, я вижу иногда человека, который, оглянувшись
по сторонам, робко приподымает картуз и позволяет руке дернуться от лба к плечам и груди: так здороваются с бедными
р о д cm в енн иками.
На Тверской, в № 29, где сейчас живет Долидзе, прежде жил Карамзин. Он выдумал „Бедную Лизу“, а трамвай № 28 возит желающих к товарной станции Лизино,
от которой в нескольких стах шагах и Лизин пруд: здесь
она, — помните? — погибла.
Я сел на трамвай № 28 и вскоре стоял у черной, зловонной лужи, круглым пятном вдавившейся в свои косые берега.
Это и есть Лизин пруд. Пять-шесть деревянных домиков, повернувшись к пруду задом, пакостят прямо в него, заваливая
его нечистотами, Я повернул круто спину и пошел: нет-нет,
скорей назад, в Стр а ну нетов».
6 Несколько лет спустя Кржижановский вернется к этой
теме параллелизма и взаимозависимости мысли и физического движения. «Сейчас ночь. Сон не идет ко мне. Приходится
довольствоваться суррогатом сновидения: мыслью. — Между
451
Приложения
учебником логики и железнодорожным путеводителем, между мышлением и путешествием есть несомненное сходство.
Мышление — это передвижение образов
в голове. Путешествие — передвижение головы мимо сменяющихся образов. Переставив
термины, можно сказать: странствовать — значит
мыслить объектами; думать — странствовать в себе самом. [...] Что я делаю сейчас? Прогоняю
пространство через мозг. [...] Но как только окна перестанут
быть черными, утлая модель заскользит — вместе с поездом —
по рельсовым нитям: внутричерепное превратится в заокон-
ное. — Время гораздо настойчивее пространства. Тоненькая
секундная стрелка толкает весь массив жизни вперед и вперед. Воспротивиться ей — то же, что умереть. Тяга пространства гораздо слабее. Пространство терпит бытие
мягких, приглашающих в неподвижность кресел, ночные туфли, походку с развальцей. Бесконечное пространство
столь терпеливо, что переносит даже человеческую
усидчивость. Время — сангвиник, пространство.— флегматик;
время ни на долю секунды не приседает, оно живет на ходу,
пространство же — как его обычно описывают — „разлеглось“
за горизонтным увальнем; оно спит, подложив горы под голову
и растянувшись своей беспредельной протяженностью на песке и травах наших степей. Его надо растолкать, разбудить паровозными свистками, — и только тогда оно начинает медленно и неохотно приходить в движение. И вот сейчас — я ясно
ощущаю — пространство на ходу; оно идет, еле поспевая за семенящей стрелкой секунд; оно шагает, медленно переставляя
невидимые пейзажи. Теперь оно даже стало слегка похоже на
своего спутника, у них есть право на некое space time» («Салыр-
Гюль», 1933). — Мотив терпеливости Земли (земли) как способности и готовности т е р п е т ь, то есть выносить-переносить
страдания, широко распространен в мифопоэтической традиции — от «Плача Земли» (Тяжело-то мне, Ibcnodu, под людьми
стоять...) в народной словесности до пастернаковского Надо быть в бреду по меньшей мере,/Чтобы дать согласье быть
землей... — если говорить о русской традиции. q
7 К проблеме «иметь» и «быть», приобретшей столь важное значение благодаря Гейдеггеру, Марселю, Фромму и др. i
8 Ср. тот же образ в том же тексте: «Уже около месяца
тому я заметил, что теме тесно в почтовых конвертах: она
452
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
растет под пером, как Москва, вширь, расходящимися лето-
р о с л я м и» (Письмо двенадцатое).
9 В отношении этого эпитета Кржижановский продолжает определенную традицию в истории русской литературы
(Гоголь, Достоевский, Андрей Белый и др.), о чем уже писалось
ранее.
10 Не исключено, что уже в этих сновидческих мотивах-
кошмарах можно подозревать отдаленное предвестие будущих «пространственных» фобий автора.
11 В восьмом письме («Штемпель: Москва») с темой Москвы («Москва на пустоте») сопрягается образ «круглой пустоты», от которого один шаг до «Страны нетов». Но Москва умеет притворяться и вводить в заблуждение своего наблюдателя. Иногда ей выгодно казаться консервативной, и мнение о ее
консерватизме стало общим местом («Существует предрассудок: Москва консервативна. Вздор. Разве не поет сейчас древняя, под прозеленью, бронза гимн будущему: „Интернационал“?»). Но в другой раз она молодится и модничает, и ей хочется, чтобы главным в ней считали ее пяти-шестиэтажные
каменные короба, возникшие на месте «тесного деревянного
гнездовья». Это — так и не так, «это — снаружи, но внутри всё
та же тесная, клетушечная, деревянная Москва; внутри — та же
оторопь жизни, то же „скородумье“ и потребность новоселий.
Старая деревянная Москва жива, только она запряталась под
наружную каменную облицовку, под мнимую монументальность и нерушимость. Даже если приглядеться к строениям
конца XVII, особенно XVIII века, то видишь: камни сомкнуты
приемами деревянной стройки: по зодческому замыслу, они —
дерево, лишь притворившееся камнем, древняя резь, запрятанная под каменную орнаментацию. А внутри, за широкими квадратами окон, за массивом кирпичных стен, все та же прежняя — от пожара до пожара, от революции до революции, от
катастрофы до катастрофы — жизнь». Конечно, Москве «жаж-
дется нового и нового, она спешит строить Москву поверх Москвы. И потому изжить себя до конца здесь никогда, никому
и ничему, ни идее, ни человеку, не удавалось. До конца догорала лишь копеечная свечка». Отсюда — и суть города, основной парадокс Москвы: «Но всё умершее недожитком, до своего
срока, и в самой смерти еще как-то ворошится. Отсюда основной парадокс Москвы: ни мертвое здесь до конца не мертво, ни живое здесь полно не живо: потому что как жить
ему среди мириадов смертей, среди чрезвычайно б е с по¬
453
Приложения
койных покойников, которые, хоть и непробудны, но
всё как-то ворочаются под своими дерновыми одеялами. Москва — это старая сказка о живой и мертвой воде, рассказанная спутавшим все сказочником: мертвой водой окропило живых, живой — мертвых, и никак им не разобраться — кто жив,
кто мертв и кому кого хоронить».
12 О своем отношении к «природному», о своей индивидуальной ситуации перед ликом природы писатель с достаточной определенностью писал в раннем рассказе «Четки» (1921):
«Я всегда предпочитал прямые и ломаные линии городских улиц извиву и кружениям полевого проселка. Даже
пригородное подобие природы, с вялыми пыльными травами у обочин шоссе, с тонкоствольными чахлыми рощицами
в дюжину березок, с лесом, где деревья вперемежку с пнями,
а на лопастях папоротника налипь рваной бумаги, — пугает меня. Природа огромна, я — мал: ей со мною неинтересно.
Мне с нею — тоже. В городе, среди придуманных нами площадей, кирпичных вертикалей, чугунных и каменных оград, —
я, придумыватель мыслей и книг, кажусь себе как-то значительнее и нужнее, а здесь, в поле, подставленном под небо, я,
тщетно пытающийся исшагать простор, затерянный и крохотный, кажусь себе осмеянным и обиженным. На природу с квадрата холста [...] я еще, скрепя сердце, согласен: тут я смотрю
ее. А там, в поле, небом прикрытом, она смотрит меня, вернее сквозь меня, в какие-то свои вечные дали, мне, тленному,
с жизнью длиною в миг, чужие и невнятные.
И в тот день (было прозрачное сентябрьское предвечерие) я вышел за шлагбаум не так, не просто, не прогулки ради,
а за делом: мне нужно было одолжить у небополя на час-два
чувство малости и затерянности. [...] Делать
было нечего.
Я прошел уже около версты от заставы. Глаз, привыкший кружить путаницами улиц и стен, ерзать среди пестрот,
втянувшийся в дробность и разорванность городского восприятия, тщетно искал деталей и мельков: зелень — синь, небо — земля — и всё. Поэтому понятна радость глаза, когда уда-
лось-таки ему, обежав горизонт, сыскать в просторах поля -г
мелочь: человека».
Этим человеком оказался некий старик, спутником которого в этот день стал автор-рассказчик. Они познакомились.
О себе старик сказал: «Я — человек, которого встречают в полях. Только в полях. И встреченный мною должен ответить:
454
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
чего он ищет в них?» — «В поля меня послали книжные поля: я здесь по их воле, — ответил старику его случайный спутник. — [...] Перу моему, не мне, ему нужны слова, слова малости и затерянности: там, в городе, их никак и нигде не достать
[...] — мне же нужны сейчас, так, на час-два, слова самоумаления, затерянности в просторах. И вот я пришел...» — «Странны,
странны люди из-под крыш», — заключил старик и, узнав, что
его спутник философ, точнее — «так, думалыцик», передал ему
странные четки. Они были действительно странными — из
глаз мертвецов. Преодолевая чувство брезгливости, рассказчик рассматривает их в офтальмоскоп. И вдруг он понял —
«передо мной был мир обратной перспективы,
мир, в котором мнящееся малым и дальним — огромно и близко, а близкое и большое съеживается, малеет и уползает вдаль.
И раньше, в снах, в предчувствиях, я знал об этом мире. Теперь
я его видел; опрокинутая перспектива звала меня: войти в нее
и вступить на кору далеких иноорбитных планет, жить неопа-
ленным внутри ее солнц, отодвинутых прямыми перспективами этого нашего мира за черные пустоты межпланетья.
Я знал, обратная перспектива грозит смертями: бездна, в полушаге от путника, кажется ему далекой и недостижимой. Но погибать в ней легко: ведь тело и самое „я“ там, в обратном мире,
мнится далеким, чужим и ненужным».
Все возможные эксперименты с этими «глазами умерших метафизиков», соответственно — с топологическими преобразованиями пространства были проделаны, и перед экспериментатором открылся новый мир. «Теперь я веду жизнь сидня, — заключает он свой рассказ. — Незачем ходить в поля за
просторами: просторы всюду — вкруг меня и во мне. Каждая
пылинка значительна, как солнце. [...] нужны были века, чтобы понять эти крохотные пятнышки. Помыслить их как миры.
Но понять — мало. Надо увидеть». И во всем — от туманных галактик до последнего дрязга — он видит «безлучные, закаменевшие, стиснутые в крохотные точки — бессильные миры».
Нет оснований сомневаться, что это не просто фантазия и что
Кржижановский не раз в своем жизненном опыте предавался
подобным мысленным экспериментам на тему относительности пространства и его восприятия.
13 В седьмом письме («Штемпель: Москва») автор сообщает, что он уже третью неделю сидит в верхнем зале Исторического музея и «отряхает пыль со старых книг о Москве»:
«Спросите: что же я нашел под пылью? Пеплы. [...] Я еще не кон¬
455
Приложения
чил работы, но уже могу утверждать: в кирпич и в камень Москву обрядила копеечная свечка. С упорством, отнюдь
не копеечным, она жгла да жгла Москву из года в год, пока та
от нее в камень не спряталась. История этих испепеляющих
копеек, жалких оплывков, слизывающих с земли весь труд, нагромождаемый сотнями тысяч людей, может быть рассказана
в сухих цифрах». Следует «малая горсть цифр», но она составляет длинный перечень, хотя отмечаются в нем только «всемо-
сковские» пожары, «снимавшие с земли Ул—Уз —даже Уг всех жилых и нежилых строений». Московские пожары — как годовой
ритуал: их повторяемость неотменна, они — основа летосчисления и по ним ведут счет как по царствованиям; чтобы о них
не забывали, им дают особые имена собственные — Всехс-
вятский, Большой Троицкий, Малый Троицкий и пр. «В течение столетий копеечная свечка, не унимаясь, делает свое дело: затлевает пожар где-нибудь в часовенке, у постава иконы,
затем ползет по переходам, стропилам, с клети на клеть, швыряя головешками с кровель на кровли, перемахивает огненными языками через каменные стены Кремля, ползет вверх к шатрам башен и колоколен, роняя на землю колокола среди разрастающегося гула толп и ударов набата. Затем — остывающий
пепел и опять муравьиная спешная стройка на пять-шесть лет.
Потому что через пять-шесть лет копеечная свечка опять возьмется за свое». Пожарами метят не только время, но и «московское» пространство — Погорелое Болото, Пожар (старое название Красной площади), Пожарище (Китай-город, XVII в.),
Огневой переулок, Палиха и т. д.: «изъясняется свеча, как видите, довольно однообразно». Всё горит — от Опричного дворца до рукописи «Мертвых душ». «Прежние жители Москвы —
профессиональные погорельцы: живут от пожара до пожара;
строят в угождение не столько себе, сколько всё той же копеечной свечке. И оттого самый характер стройки, мало, самый
уклад жизни внутри этих домиков-одноденок, рассчитан не на
то, чтобы в них можно было жить, а на то, чтобы они беспрепятственно и дотла могли сгореть, чтобы и они, и вещи в них
каждый миг, не противясь, могли стать пеплами. Свою стройку, например, в XVI веке жители московского посада так и называют: либо Скородомом, либо Скородумом. Не стоит долго
и трудно придумывать архитектурные формы, не стоит прочно крепить стены и глубоко врывать фундамент: все равно копеечной свечки не переспоришь [...] Но иногда бывало так: на
пепле строили скородомы; в скородомах скородумно, в чая¬
456
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
нии новых бед и вечных новоселий, жили кучно и тревожно
люди; но [...] копеечная свечка медлила: пожара ждали, а он не
случался. Домики, строенные наскоро в расчете на пять-шесть
лет, садились, давали трещины и, покривившись набок, с нетерпением ждали пожара, а он все медлил; и жизнь оказывалась выбитой из колеи, недоуменной и растерянной». — «Заезжий иностранец Иоганн Георг Корб» (1698 г.) сообщает о большом пожаре, уничтожившем по берегу Неглинной 600 домов.
Тушить пожар прибежало несколько немцев, их побили, а после бросили в пламень — дескать, не мешай пожару, не суйся
не в свое дело.
14 «У нас, как у нас, — говорит автор. — Не Геликоны
и не Парнасы, а семью кочками из болот и грязей — древнее
московское семихолмье; [...] вместо девяти Аонид — тринадцать сестер-трясовиц. — Аониды учат мерно пульсирующему,
в метр и ритм вдетому стиху; трясовицы знают, как пролихо-
рад ить и порвать строку, всегда у них трясущуюся [...] Заклятия
не берут трясовиц [...] Встречи с ними опасны. Но всего опаснее — с Епядеей. Елядея умеет одно: глядеть и учит только
одному: глядеть. [...] У Елядеи голые глаза: век нет —
оторваны. [...] для Елядеи нет ни роздыха, ни сна, ни ночи: непрерывно, бесперебойно, вечно видение Елядеи. Те, кто стыдятся, стыдясь, потупляют веки: безвекой Елядее нечего потуплять. — И потому многие зовут ее бесстыдной» («Штемпель:
Москва». Письмо четвертое). Безвекость — важная особенность Москвы — от бражников в кабаках и трактирах («т ам
не спят — умеют хранить Епядеев завет бессонниц») до
имажинистов («они первые умели выдержать взгляд Елядеи [...]
Видение имажинистов без веко: образами им залепило глаза, забило щели зрачков; их теория „свободного образа“ дает
свободу только образу, который может делать с беззащитным
глазом всё, что ему угодно»).
15 Ср. с «петербургско-московским» контрастам (там же):
«Как-то [...] сюда, в Москву, приезжал [...] санкт-петербургский
литератор; литератор привез с собой из города понятий в город образов манускрипт. Когда он, окружив
себя москвичами, зачитал свой манускрипт, то нам всем казалось [...], что по манускрипту заползали блеклые и бесконтур-
ные пятна: никак глазом не взять. Когда чтение кончилось, начался спор: москвичи дружно утверждали, что автор ничего
не видит; автор-петербуржец, что москвичи ничего не поняли. На том и разошлись». Возвращаясь домой,
457
Приложения
автор-рассказчик как бы случайно вспомнил два текста — На
берегу пустынных волн / Стоял он дум великих полн и другой — «...И сказал Василий Гречин князю: „Было мне виде -
н и е: на месте сем созиждется град превелик [...] и будет имя
ему — Москва“».
16 «Только явлениям смежности присуща та черта принадлежности и душевного драматизма, которая может
быть оправдана метафорически. Самостоятельная потребность в сближении по сходству просто немыслима», — писал
Пастернак в «Вассермановой реакции».
17 В путанице возникает и наращивается смежность,
в распутывании она уясняется и осмысляется — не в одночасье Москва строилась, но и не строилась она в просторном,
ясном, гарантированно благоприятном и едином времени, не
по единому замыслу и плану, а урывками, по временам, по возможности, применительно к обстоятельствам, по-разному, нередко кое-как, на авось, беспорядочно. Но эта «авосевая» беспорядочность, эта логическая несовместимость «смеженных»
явлений, невнятица и абсурдность московского «уличья» и «пе-
реулочья», эта путаница обладают своей особой прелестью,
почувствовав которую и поддавшись ей, можно добраться и до
смысла этой урбанистической конструкции, едва проступающей из захлестнувшей ее стихии. Москва, хотя бы интуитивно,
помнит о своем смысле и не стесняется изнаночных отражений его в своих наименованиях (сколько в ней Кривых, Косых,
Тупых, Пустых, Грязных, Вшивых, Дурных переулков и улиц,
сколько Лесных и Рощинских, Полевых и Огородных, Болотных и Овражных, Прудовых и Напрудных, Сиротских, Боже-
домских и Кладбищенских названий! и сколько вообще Безымянных, принявших безымянность в качестве своего имени!).
Москва знает, что в ней есть нечто тайное, иногда лишь слегка приоткрытое, что не позволяет ей размениваться по мелочам и трусливо скрывать знаки своего «неблагородства», которые всё равно никак не могут поставить под сомнение общий
смысл стихии целого.
18 Кржижановский не только живо интересовался языком и был полиглотом. Есть серьезные основания говорить
о его глубоком понимании феномена языка, о важных идеях теоретического характера, о достижениях в исследовательской практике, как она отражена или как она реконструируется по его произведениям, наконец, о выработке им глубоко
оригинального языка своих литературных текстов, в котором
458
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
интуиция художника сплавлена с аналитизмом исследователя. Кржижановский и язык — особая тема, ждущая своего обсуждения. Особо следует обратить внимание на невольные
(вероятно) переклички с гейдеггеровскими опытами выработки языка экзистенциального сознания и соответствующей
метафизики.
19 За тридцать лет до этого другой поэт стал жертвой
иной ассоциации, так эпатировавшей и скандализовавшей
тогдашних читателей: Дремлет Москва, словно самка спящего стр а у с а, /[...] Тянется шея — беззвучная, черная Я у з а
(«Ночью», 1895). И тоже, наверное, эта ассоциация возникла in
situ, у одного из яузских мостов, хочется думать, у (или даже
на) Костомаровского, по соседству с Высоким, где Кржижановского прихотливо-изящная излучина Яузы возвратила сначала
к своему названию, а потом название отослало его сразу в две
противоположные стороны — к излучине, подобной извивающимся узам, и к узам собственного состояния в узости московской жизни («я — узы»), чтобы вдруг синтезироваться в одном
мифопоэтическом и экзистенциальном комплексе. Об этом
вспоминает и подруга Кржижановского Н. Семпер: «Однажды,
в минуту откровенности, С. Д. произнес: „Как-то я стоял на мосту через Яузу, смотрел на реку и повторял: Яуза, Яуза, Я...уза,
я... узок, я — узок. Наверно, я узок, многого не понимаю, не
принимаю. Звуковая ассоциация подсказала мне это“. Я была согласна в душе [...], потом стала опровергать, а сама думала — он не причастен к сущности естества, к целостности мира, оттого не понимает многого, а люди не понимают его. Замкнут на себя. Мне казалось, что причина его невзгод коренится
в эгоцентризме. Затиск давил не только снаружи, он душил его
изнутри». См. Семпер Н. Человек из Небытия. Воспоминания
о С. Д. Кржижановском. 1942-1949 //Кржижановский С. Возвращение Мюнхгаузена. Повести. Новеллы. Воспоминания.
Л., 1990, с. 560. — Подобные ассоциации и игра ими отмечены у Кржижановского не раз — и не раз уводят автора в сферу
метафизического. Вот он сидит за бронзовым Гоголем на Пречистенском бульваре, дочитывая белый томик Аросева. Рядом
под деревом играет девочка, обводя палкой разлапистую тень,
падавшую от дерева. Вечереет, и тень быстро ползет по земле,
выходя за очерченный обвод. Девочка безуспешно ловит тень.
Автор наблюдал и рефлектировал. Наконец нянька увела девочку. Вдруг автор понял связь между занятием девочки и белой книжкой, которую он читал до этого: «она, да и все они
459
Приложения
умеют лишь обводить уползающие тени. Только. Но тени в отрыве от вещей, быт в отрыве отбытия бессильны и мнимы. Ведь быт — и „я“ бытия; своим „я“ он не богат. И если
уж отрывать от вещи тень, от бытия быт, то незачем останавливаться на полпути; надо, взяв быт, оттяпать ему его тупое „т“:
бы — чистая сослагательность, сочетанность свободных фан-
тазмов [...] — вот первый выход из мира теней в мир прихотливой романтики; б ы т и е, в которое, как слог, как ингредиент, включен быт, — вот второй выход из „обители теней“: он
известен, пожалуй, лишь одному Андрею Белому» («Штемпель:
Москва». Письмо шестое).
20 «Московская литература — действительно карандашная литература, не от пера, а от ломкого графита. На Западе, да и в том же Петербурге, пишут пером, тут —
нет. — Перо гибко, но твердо, корректно, отчетливо, любит
росчерк и завитушку, склонно к раздумью: то в чернильницу,
то на строку. Карандаш пишет сплошь, без отрыва, нервен, неряшлив, любит черновики: нашуршит каракули на каракули,
а там с разлету — хрясь, и сломался. — Некий брезгливый иностранец, посетив Москву еще в двадцатые годы прошлого века, потом жаловался: „В Москве я открыл пятую стихию: грязь“.
Московский глаз овладел четырьмя стихиями: он, выученик
Гпядеи, видит всю овидь, емлет всё, от звезд до пылинок; мир
в нем слоится, как земля, течет, как вода, сквозит, как воздух,
и испепеляющ, как огонь. Но поверх четырех стихий „пятая“ — по меткому слову иностранца, — осевшая серым, грязноватым карандашным налетом, мутной графитной пыльцой.
Видят чисто — пишут грязно: глаз зацепист — пальцы с расто-
пырью» («Штемпель: Москва». Письмо пятое).
21 Но смерть Бога не означает, что он исчерпан, что его
вообще нет. Просто, как сказано в другом месте, — «Происходило то, чему и должно было произойти: был Бог — не было веры; умер Бог — родилась вера. Оттого и родилась, что
умер. Природа не „боится пустоты“ (старые схоласты путали),
но пустота боится п р и р о д ы: молитвы, переполненные именами богов, если их бросить в ничто, несравнимо
меньше нарушат его нереальность. Пока предмет предметству-
ет [гейдеггеровский способ выражения. — Я Г.], номинативное
уступает место субстанциональному, имя его молчит: но стоит предмету уйти из бытия, как тотчас же появляется, обивая
все „пороги сознания“, его вдова — имя: оно опечалено, в крепе, и просит о пособии и воспомоществованиях. Бога не бы¬
460
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
ло — оттого и сказали все, искренне веруя и благоговея: есть»
(«Бог умер», 1922).
22 Нужно отметить проницательность Кржижановского: в 20-е годы «эмпирическое» московское пространство, его
ландшафты и его заполнение во всем главном еще сохранялись в высокой степени и при прочих равных легко было бы
представить себя в «старом» московском пространстве и ъ мирном времени (как говорили старые москвичи обо всем том зоне, конец которому положил 17-й год). Но это тождество старого и нового, вернее — основания к заключению о тождестве
не соблазнили писателя: суть «московского» пространства он
определял не эмпирически, а бытийственно и понимал, что
то, что прежде было самой сутью или непосредственно к ней
отсылало, теперь всё более и более становилось декорацией:
дух пространства покидал его, и оно всё больше превращалось в антипространство, имитирующее «живое» пространство бытия.
23 Ср. и другие «минусовые» контексты: «Я слишком много и часто оперировал с символом „смерть“, слишком систематически включал в свои формулы этот биологический минус, чтобы не чувствовать себя как-то задетым всем тем, что
начало происходить вокруг меня». Или: «Временами я думал:
а что если минусом минус, небытием в небытие: а вдруг получится бытие. Ия медлил...» («Фантом», 1926) — в контексте «фантомизма»: «Фантомизм прост: как щипцовый защелк.
Люди — куклы, на нитях, вообразившие себя невропастами. Книгам известно, что воли несвободны, но авторам книг
это уже неизвестно: и всякий раз, когда надо не внутрь переплета, а в жизнь, человек фатальным образом з а бы в а -
е т о своей детерминированности. Глупейший защелк сознания. Фикция, на которой держится все [...], слагающаяся в так
называемую „действительность“. И так как на фикции держаться ничего не может, то ничего и нет [...]. Поскольку
все определяемо д ру г им, то и существует лишь д ру гое,
а не самое. Но марионетке упрямо мнится, [...] что оба конца нити в ее руках». Не случайно, на книжной полке Двулюд-
Склифского стояла файгингерова «Philosophie des Als-Ob».
24 Просторность-пространность не только свойство любого пространства, его суть, и свойство особого типа пространства, характеризующегося интенсивностью указанной
особенности, имманентно присущее пространству как таковому, но и то качество, которое может быть получено экспе¬
4б1
Приложения
риментально, в опыте, как в рассказе «Квадратурин» (1926) —
истории об изобретении средства для ращения комнатного
пространства и о последствиях его применения. Этот рассказ
должен привлечь к себе особое внимание, поскольку в нем поставлен вопрос о двух «пространственных» крайностях, существенных для Кржижановского в жизненном плане, причинявших ему страдания (вплоть до фобии), одна из которых так
и не была преодолена (см. ниже). Сутулин, персонаж с «говорящей» фамилией (идея сгибания-сжатия в условиях стесненности), живет в тесной комнатушке («комната ваша: спичечная
коробка. Сколько здесь? — Восемь с десятыми»). Представитель иностранной фирмы предлагает ему средство для ращения комнат «квадратурин». Получив его, Сутулин поначалу не
собирается его применять. Однако, испытывая потребность
в хождении по комнате («Он встал и попробовал зашагать
из угла в угол, но углы жил клетки были слишком близко друг
к другу: прогулка сводилась почти к одним поворотам, с носков на каблуки и обратно») и не имея возможности удовлетворить ее, «Сутулин, круто оборвав, сел и закрыл глаза, отдался
мыслям, которые начинались: а что?., а если?., а вдруг?..» Тогда-
то он решил пустить в дело квадратурин. По мере разрастания
комнатного пространства оно становилось разнороднее и нескладнее, приспособить мебель к новому пространству сколько-нибудь сносным образом не удавалось. Комната продолжала расти, и этот рост таил в себе уже угрозу («Растет, проклятая, растет»). Мебель и вещи уходили-удалялись от Сутулина.
Лучам тусклой шестнадцатисвечной лампочки уже «трудно
было и дотянуться до черных, врозь расползшихся углов
огромной и мертвой, но пустой казармы, которая еще недавно
[...] была такой тесной, но такой своей, обжитой и теплой кро-
хотушей». Разрастающееся пространство комнаты в ночной
темноте, когда до выключателя не дотянуться и под руками нет
спичек, становится хаотическим и гибельным. Сутулину нужна была хоть какая-нибудь опора, «боясь идти дальше вглубь,
человек двинулся назад к узлу, брошенному под крючьями. Но
поворот был сделан, очевидно, неточно. Он шел — шаг к шагу, шаг к шагу — с пальцами, протянутыми вперед, и не находил ничего: ни узла, ни крючьев, ни даже стен.,Дойду же наконец. Должен же дойти“. Тело облипло холодом и потом. Ноги
странно выгибались. [...] „Не надо было возвращаться. А так —
одному, как стоишь, начисто“. И вдруг ударило: „Жду, тут, а она
растет, жду, а она...“». И итог — «Жильцы квадратур, прилегав¬
462
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
ших к восьми квадратным гражданина Сутулина, со сна и со
страху не разбирались в тембре и интонации крика, разбудившего их среди ночи и заставившего сбежаться к порогу суту-
линской клетки: кричать в пустыне заблудившемуся и погибающему и бесполезно и поздно: но если всё же — вопреки смыслам — он кричит, то, наверное, т а к».
25 Только один студент-медик заметил перебои: «Но разве этого не бывает вообще, в жизни?» Когда Лёвеникс попросил его рассказать об этом подробнее, тот, смущаясь, «будто изловленный на какой-то недоброй тайне», сказал, что еще в детстве дважды он испытал «чувство как бы полного выпадения
мира из глаз», правда, на ничтожную долю времени; он добавил также, что это явление нельзя объяснить мгновенным обмороком, так как оно происходило при непрерывности сознания и при ясном свете дня. Собственно, эти явления повторялись у него и позже, но в сильно ослабленном виде: вещи лишь
тускнели, отодвигались от глаза, обращались в крохотные пятнышки и точки с тем, чтобы после разбухнуть, сделаться четче
и ярче и вернуться на свои прежние места.
26 Однажды во время прогулки внимание автора привлек странный человек, который, глядя на нарисованный на
куске жести над дверью часового магазина циферблат, сверял о ним свои часы (стрелки на циферблате-вывеске показывали двадцать семь второго). Автор продолжал прогулку,
и теперь он невольно поглядывал и на другие попадавшиеся
ему нарисованные циферблаты: все они показывали двадцать
семь второго. Странность как бы оторвалась от человека, сверявшего свои часы с показаниями неподвижных стрелок циферблата-вывески, и разлилась повсюду («Тут-то и вошло в меня какое-то недоброе смутное предчувствие»). Вечером автор
читал своим знакомым рукопись «Собирателя щелей». Туг же
оказался и нежданный гость («чудак. Математик, философ»).
Чтение закончилось, мнения по поводу прочитанного были высказаны. Автору было несколько не по себе. «Однако не
пора ли нам?» — спросил он присутствующих. Чудак поднялся и отчеканил — «Двадцать семь второго». «Так поздно? Не может быть», — забеспокоились гости и зашарили в жилетных
карманах: на всех циферблатах было именно это время. Позже Лёвеникс, рассказывая автору историю своего несостояв-
шегося свидания с «ней», когда черная щель втянула в себя нечто важное и, сомкнувшись, не возвратила его назад, так описывал свое тогдашнее состояние: «Странная слабость овладела
463
Приложения
мной: шумело в ушах; подкашивались ноги; я сел на ближайшую скамью. Машинально вынул часы: двадцать семь второго. — До условленного часа — три минуты. Преодолевая слабость, я поднялся и автоматически зашагал к воротам парка.
Мое „я“ стало будто нежилым [...] Случайно на глаза мне попался какой-то вывесочный циферблат, глянув на его будто застрявшие в цифрах стрелки, я хотел пройти мимо, но стрелки не отпускали глаз; сделал усилие, пробуя оторвать зрачки,
и вдруг осознал: нарисованное время указывало — двадцать
семь минут второго: мой час. — И с тех пор циферблаты стали мучить меня. Обыкновенно, стараясь забыться, я прибегал
к быстрой ходьбе по полным гула улицам. Попробовал и теперь, но нет; стоило мне выйти на панель, — и отовсюду круглились циферблаты, десятки мертвых циферблатов; и почти
на каждом — двадцать семь минут второго. Пробовал не смотреть, но черные стрелы [...] тянулись к глазу черными остриями, а проклятые диски [...] ударяли о глаза всё тем же цифро-
сочетанием. И я прятался от улиц за стенами и дверью комнаты. Но и там, даже в снах, не было забвения: из ночи в ночь мне
снилось мертвое безлюдье улиц. Зажаты ставни. Потушены огни. Пуста панель; и только я иду от перекрестка к перекрестку один, среди сотен, тысяч белых дисков, облепивших стены, и на каждом диске одни и те же цифры; [...] всюду-всюду —
двадцать семь минут второго — второго двадцать семь.
Тогда я еще не понимал, да и не скоро понял, — продолжал Лёвеникс, — что водит рукою маляров, красящих вывески для часовых лавок. — По теории вероятностей [...] лишь
один из семисот двадцати закрашенных ими циферблатов
должен был указывать час двадцать семь. А однако, как вы вероятно заметили, в семи случаях из десяти...» Собеседник живо
прервал рассказчика, желая знать, как он это объясняет. Тогда-
то Лёвеникс и начал изложение своей «щелиной» гипотезы.
27 Мотив щели очень част и в рассказе «Странствующее
„Странно“» в контексте темы нарушения человекосообразного пространства, не говоря уж о целом ряде других текстов, где
этот мотив выступает как отмеченный.
28 Это мы объясняет самосознание «забытого» человека:
он еще жив, как и другие люди, его забывшие, но он забыт, как
и уже умершие. Он между теми и другими. В этом отношении
шов у Кржижановского — символ из того же ряда, что и щель:
кое-как еще держащийся на гнилых нитках шов вот-вот расползется и превратится в щель. Эмпирические конкретные и мета¬
464
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
физические абстрактные швы становятся характеристикой человека этого меж-состоятт. «Сегодня чуть ветрено. В швы
моего обтерханного пальто втискивается холод. Близко к закату. Опять — сквозь зябкую черную и длинную ночь. В сущности,
я ношу на себе свою проблему: ш в ы, расползшиеся краями,
вырубцевавшиеся, с прогнившей ниткой внутри — швы. Да, все
оттого, что я меж «здесь» и «там», в каком-то меж —в шве.
И может быть, старое пальтецо, стягивающее мне плечи, если
уже не умеет греть, то умеет напоминать: швы. —И писать-то
не могу иначе, как кусок за куском, в отрыве — по ш в у. И у мысли — будто короткое дыхание: вдох — выдох, выдох — вдох. Трудно додумывать» («Швы»). Эта «дяеле-ситуация» заставляет своего
субъекта постоянно задавать себе вопрос о природе этого «меж»
или — более «антропологично» и лично: кто я в отношении
их, и кто они в отношении меня. «Сначала мысль: кто они мне
и им я? [...] И опять: человек человеку волк Нет, неправда: сентиментально, жизнерадостно. Нет: человек человеку — призрак
Только. Так точнее. Вгрызться зубами в горло — значит поверить, хотя бы — это-то и важно — в чужую кровь. Но в том-
то и дело: человек в человека давно перестал верить; еще до
того, как усомнился в Боге. Мы боимся чужого бытия, как боимся привидений, и только редко-редко, когда люди померещатся
друг другу, о них говорят: любят».
29 В этом пустом пространстве пуст и сам воздух
(«Дни скапливались в недели, недели в месяцы; воздух [...]
оставался пустым». — «Воспоминания о будущем», 1929).
О пустом, мертвом, смертном, запрещенном воздухе (и самой жизни) в те же годы свидетельствовали и другие. Для одного из них, так ценившего неслучайно предоставленную ему
возможность дышать и жить и так чувствовавшего самый состав воздуха и его изменения, в те же годы воздух стал губительным и небо несло смерть — И без тебя мне снова/Дремучий воздух пуст (ср.: Твой мир, болезненный и странный, /
Я принимаю, пу cm от а!; бархат всемирной пу стоты;
неживой небосвод, неба пустая грудь и т. п.); И задыхаясь, мертвый воздух ем... Отравлен хлеб и воздух выпит;
Мы в каждом вздохе см ертный воздух пьем, /И каждый
час нам смертная година и т. д. И другая свидетельница,
знавшая в молодости благословенный воздух, который был
создан, чтобы песни повторять, познала позже и изгнания
воздух горький, и жизнь в том зазеркальи, где ни света, ни воздуха нет, и задыханье, и пустоту.
465
Приложения
30 О к н о — один из ключевых классификаторов и наиболее глубоких символов в мире Кржижановского. Оно образует границу между «внутренним» и «внешним». Если «внутри», у себя дома, где не только безопасно, но и уютно, хорошо, где пространство — человекосообразно, «под человека»,
человек этого домашнего «внутри»-пространства не склонен
фиксировать свое внимание на окне, как и благополучный человек «вне»-пространства, которому тоже не до окна. Но оба
эти варианта — не из мира Кржижановского, во всяком случае главный персонаж этого мира, Я, никогда не оказывается
благополучным. Как правило, он неблагополучен, часто — фатально неблагополучен, и вот в этой ситуации острого неблагополучия окна не обойти: оно дает надежду на выход
из положения, на спасение, но чаще всего эта надежда ложна. И в этой ситуации не так уж важно, внутри, по сю сторону окна, или снаружи, по ту его сторону, находится Я писателя (обычно — и эти контексты наиболее важны и диагностич-
ны — «человек окна» у Кржижановского ведет рассказ об этой
«оконной» ситуации в перволичной форме). Неблагополучный человек «внутри» томится теснотой, узостью, страхом, тоской и устремляется к окну в надежде найти простор, широту,
свободу, но, увидев из окна этот открывающийся навстречу его
взгляду простор, он не может усвоить его себе реально, жизненно: для этого нужно, по меньшей мере, выйти наружу, то
есть изменить свой пространственный локус и, следовательно, стать человеком «снаружи», «вовне», а это «внешнее» пространство несет человеку свои, иные, новые тяготы, и он снова
уже извне ищет взглядом окно в той же, хотя и противоположно направленной надежде на спасение. Но для героя Кржижановского и здесь — не окно, а «нет»-окно, «минус»-окно: оно
наглухо закрыто ставнями, плотно зашторено; само слепое,
не видящее того, для кого оно могло бы быть спасительным,
оно и ему не позволяет проникнуть через себя внутрь, делая
и его слепым. Но и в тех редких счастливых, казалось бы, случаях, когда окна открыты и охотно впускают взгляд «внешнего» человека внутрь комнаты, где свет, простор, уют, счастливые люди, надежды на спасение рушатся: человек «снаружи»
видит то, что могло бы его спасти, но сама возможность спасения неосуществима для него: слишком непроходима граница
окна и слишком велико пространство отчуждения между бедственным «здесь снаружи» и благополучным «там внутри». Так
и оказывается, что оба взгляда — изнутри вовне и снаружи, из¬
466
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
вне внутрь — пробегают одно и то же «минус»-пространство,
но в разных направлениях: неблагополучие тотально и универсально; оно не зависит от того, по какую сторону окна находится «минус»-человек Понятно, что в этих условиях взгляд
из окна и заглядывание в окно не только ничему не помогают,
но приносят новую растраву: они убеждают, что вырваться из
«минус»-пространства никак нельзя, и зрение-видение (см. выше) только увеличивает душевную боль — проницаемое, прозрачное стекло окна становится очередной подножкой, ловушкой, обманом (ср. окно: око /глаз: глядеть).
Образ окна у Кржижановского появляется очень часто. Более того, три текста специально посвящены окну и соответственно названы — «Окно», 1933 (из «Сборника рассказов 1920-1940 годов»), «Окно», 1933 (из «Салыр-Поль. Узбекистанские импрессии»), «Окна», 1948 (из «Физиологических
очерков»). Первый текст наиболее эмпиричен — о кассире
Илье Ильиче Витюнине, двадцать девять лет созерцавшем мир
сквозь свое узкое с изгибом сверху кассовое окошечко и получившем при выходе на пенсию комнату на седьмом этаже нового коопдома, где всё было хорошо, кроме — «Единственное,
что топорщило против шерсти его нервы, — окно. Широкое
шести-фрамужное итальянское окно. Он привык — тридцать
лет кряду — жить под узким и низким кассооконцевым
вздутьем, а тут вдруг широко разведший углы стеклянный пруд
окна, впускающий беспорядок солнечных лучей» (сходный образ — в рассказе «Окна»: «озеро стеклянно, а берега деревянны.
Разгадка: окно»). Эта перемена изменила всю жизнь Витюнина:
к окну он старался повернуться спиной. «Глаза его искали теней и тупоуглия. Ночью его беспокоили странные лунные сны.
[...] Он просыпался от безощущения своего тела [...] Окно ворочало его с боку на бок, будило ранее пробуждения дня, а днем
не давало отдыха и рассредоточивало мысль». И тем не менее
выход из положения был найден, и после того как по просьбе старого кассира рабочие переделали ему широкое окно на
маленькое с изгибом оконце под застекленной створой, «дни
его вправились в дни», и жизненное равновесие восстановилось. Два других текста об окнах более теоретичны. В «узбекистанском» тексте, написанном ночью в поезде, автор задает вопрос самому себе и сразу же отвечает на него — «Что я делаю
сейчас? Прогоняю пространство через мозг. Но как только окна перестанут быть черными, утлая модель заскользит — вместе с поездом — по рельсовым нитям: внутричерепное превра¬
467
Приложения
тится в заоконное». Внутреннее, закрытое, рефлектирующее
и внешнее, открытое, созерцательно-эмпирическое не только связаны друг с другом, но и дублируют одно другое, и окно при свете дня обеспечивает этот второй способ овладения
пространством. Третий рассказ, завершенный уже после войны, — о зоркости окон, о том, как много говорят они человеку,
искушенному в «оконном» опыте, о «фенетрологии», не уступающей по своей «предсказательной» силе хиромантии. «Я часто
брожу мимо, казалось бы, таких знакомых стеклянных прямоугольников, впластавшихся в кирпичные стены домов. Шеренга над шеренгой. Построены поэтажно. [...] Теперь я не узнаю
их (речь идет об окнах в Москве, заклеенных в начале войны
диагонально бумажными полосками. — В. Г.). [...] сейчас любое окно, глядящее на улицу Москвы, превратилось в загадку».
Каждое окно заклеено по-своему, и каждое теперь — особый
икс. «За бумажными иксообразно склеенными полосками живут некие [...] иксы. Попросту заклейщики. Работа ножницами,
руками и клеем — это уже высказывание. Демаскировка психики. Медлительность или торопливость, тщательность или небрежность, подавленность или бодрость — всё это должно так
или этак да отразиться в способе заклейки окна. На стеклянной
ладони хочешь не хочешь проступают бумажные линии. Ф е -
нетрология получает старт. Пусть стекла теряют часть
своей прозрачности, зато те, кто живут за их створами, делаются чуть-чуть прозрачны, доступны глазу и пониманию любого прохожего. При одном условии: если этот глаз достаточно остер и способность понимать хорошо знает свое дело —
понимать. — Но довольно введений. Пусть ведет улица. И пусть
говорят окна». После этого — ряд проницательных диагнозов «по окнам», относящихся к тем, кто находится по т у их
сторону. Один из них — «Подымите голову. Под самой крышей
два квадратных глядельца. Чинные и одинаковые, как влюбленная пара. [...] В левом треугольник и в правом треугольник. На
форточке правого — квадратик и крест, и на форточке левого —
крест и квадратец. Жизни, те, что за окнами, как параллельные
линии. Поправка: были. Теперь он на фронте, она ждет писем,
и между ними, раньше разделенными простенками, теперь тысячами километров, странствуют треугольные и квадратные
конверты». — И заключение: «Много их, окон, выстроившихся
справа и слева по обе стороны моих шагов. Одни мрачны и холодны, похожи на проруби во льду, вставшем дыбом; другие —
как поверхность вертикальных озер и затонов, на которых нет-
468
Минус »-пространство Сигизмунда Кржижановского
нет блеснет серебряной чешуей всплывший солнечный блик.
[...] Так вот и останетесь незапечатленными, иероглифы, начертанные войной на окнах Москвы. Разве что в памяти иных людей. Таких вот, как я. Да и их назовут чудаками».
С достаточным основанием можно, кажется, говорить
об особом «оконном» тексте писателя, со своими ключевыми точками. Два-три примера: «Скученность городских вещей и людей мучает меня. Тесная обступь их — непереносна. Каждый дом заглядывает в тебя всеми своими окнами»
(«Швы»); «...бреду дальше, от окна к окну, накапливая дурные
предчувствия» (там же); ср. тему окна в «Стране нетов» (зао-
конный мир не более чем «скверная привычка так называемой
нервной системы») или в «Воспоминаниях о будущем» (опыты
Штерера с «машиной времени»), или в «Автобиографии трупа»
(см. ниже) и т. п.
31 «Ночь была холодней, чем можно было ждать. Август
в начале, а уж заморозки и иней по утрам. В коленях ревматическая боль. И чуть-чуть температурю. Ну вот так когда-нибудь
притиснешься к спинке скамьи с вечера, а утром и не встанешь. Какая-нибудь иззябшая женщина с не купленной у нее
ночью, а то пьяница, сквозь муть в глазах спутавший сны и яви,
подсядет [...] ко мне на скамью и попросит прикурить. Я не отвечу. [...] И буду сидеть, сжав ледяные колени, с окостенелыми
пальцами в карманах пальто и с белыми зрачками, спрятанными под тень шляпы. Вероятно, будет довольно трудно распрямить меня, как полагается быть трупу. [...] Мой суточный
бюджет — 10 коп. Ни более и ни менее. Приходится укладываться в гривенничные границы. Хочешь не хочешь. И каждый
день, чуть солнце сдернет с Москвы черный, в звездном дырье
колпак, — я начинаю отшагивать свой день. Опять и опять. [...]
Почти у каждой витрины я останавливаюсь: всё это и для меня;
конечно, и для меня и для других; но только в пределах гривенника. Я поворачиваюсь лицом в улицу [...] — глаза женщин сквозь сеть вуалей, мельк бликов и теней; их проносит тихое шуршание шин в какое-то ускользающее к у да— мимо
и мимо. [...] ,Да-да, и это всё мое, как и их. Но только в пределах
гривенника. Терпение — тебе дадут твою долю земли: вширь —
от плеча до плеча, вдоль — от темени до пят; и разве тебе не
светит твое крохотное солнце: поперечником в гривенник“»
(«Швы»). — К теме трупа ср. также «Чудак» (1922).
32 Фигура Пурвапакшина возникает у Кржижановского дважды в «Швах» — в главках «Пурвапакшин» и «Д-р Шротт».
469
Приложения
Она — персонификация «минус»-пространства, оторвавшаяся уже от всякой эмпирии и на метафизических высях приобретшая значение универсального принципа отрицания. Автор
рассказывает, как, роясь в английских изданиях древнеиндийских текстов, он натолкнулся на это имя, и объясняет читателю, что такое Пурвапакшин: «Пурвапакшина будто и не было,
и вместе с тем кто же из нас вправе на „есмь“, если Пурвапакшина не было. Это человек-миф, придуманный индусскими казуистами ради построения антитетики. Чередой — друг вслед
другу — проходят строители систем. Сколько их — столько миров: каждый из них [...] приносили с собой свое „да“. И всякий
из них, отдав „да“, возвращался в смерть. Но человек-миф Пурвапакшин не умирал, хотя бы потому, что и не рождался; не говорил — ничему, никому и никогда — „да“, потому что самое
имя его значит: тот, который говорит „нет“ (это определение
не вполне точно; буквально щ>.-тщ.рйгиа — „первый“, pdksa —
„крыло“ (но и „сторона“, „половина“), откуда pürva-pdksin —
в терминологии древнеиндийского умозрения (например:
у Бадараяны) „тот, кто первым делает отрицание (некоего) утверждения“ (в „логических“ дискуссиях). — В. Г.). Защитник
антитезисов, Пурвапакшин возражает всем и всегда: трактат
за трактатом, тысячелетие за тысячелетием. В этом — единственное бытие человека-схемы: бить своим нет по всем д а.
И для меня извечный Пурвапакшин не диалектическая персонификация индусских риши: я почти вижу и остро чую его
тут, рядом со мной, на вечерней скамье бульвара: [...] он разжимает свой рот [...] лишь ради одного краткого, как удар, нет.
О, как часто мы вместе — локоть к локтю, — я и схема [...] заносили над всем этим — снова и снова — свое нет — Да, я влекусь к нему, мало, я почти люблю его, этого человека, которого
нет: с его нет. [...] Затиснуть виски меж ладоней, втянуть в сознанье весь мир, и, подымая, как молот, нет, возражать против всего [...] Это единственное мое, пусть припадочное, пусть
больное, но счастье: опрокинуть все вертикали; потушить мнимое солнце, спутать орбиты и мир в безмирье. — Я не могу сделать так, чтобы жизнь, ступающая по мне, была иной или совсем не была, — и все-таки —я возражаю, мы возражаем [...] Я не могу, затравленный и полуиздохший нищий,
опрокинуть все вещи, врывшиеся в землю дома, все домертва
обжитые жизни, но я могу одно: опрокинуть смыслы».
В этом контексте становится ясно, что писатель — своего рода двойник Пурвапакшина и, следовательно, тоже пер-
470
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
сонификацня «минус»-пространства, более того, он — голос
«нет»-пространства, антропный образ отрицания.
33 Несколько примеров — «Солнце не любит фантаз-
м о в, а вот лампы, те иной раз и не прочь [...] прослушать сказ-
ку-другую. — Итак, буквам приходилось дожидаться сумерек. —
Скудная авторская радость была наперед слажена и обеспечена [...] И вдруг (кто бы мог ждать) встреча с человеком,
перечеркнувшим ф а н т а з м»; — «Я думаю: если бы в сонм
снов явилась явь, — они, сны, приняли бы ее как свою. По-
вашему, „сказка“, а по-моему, — протокол. Научный факт. Правда, понятия ваши спутаны и даны не в точных словах. Но спутанность — не фантазм. Фантазм (я не поэт, мне трудно судить) легче делать из цифр, чем из туманов»; — «Вымыслы
и домыслы — сочлись. Фантазм — отмщен» («Собиратель
щелей»); — «бы — чистая сослагательность, сочетанность свободных фантазмов [...] — вот первый выход из мира теней
в мир прихотливой романтики; бытие, в которое, как слог,
как ингредиент, включен быт, — вот второй выход из „обители теней“: он известен, пожалуй, лишь одному Андрею Белому»
(«Штемпель: Москва»); — «Фантасмагория, — пробормотал Ундинг, оглядывая звезды, фонари, деревья и стлань аллей»
(«Возвращение Мюнхгаузена», 1928(?); сама фамилия Ундинг
отсылает к фантасмагорическому без-вещью: Un-ding); — «Ведь
большинство из вас любит сквозь темноту, когда манекен, лежащий рядом, можно облечь в какие угодно наипрекраснейшие тела, а тело — в наифатнтастичнейшую душу,
этот фантазм фантазмов» («Фантом», 1926); — «Но
действительность вскоре опровергла эту логическую фантасмагорию» («Случаи», 1934); — «За квадратом окна происходило нечто фантасмагоричное» («Воспоминания о будущем») и т. п. Фантомность составляет тему особого рассказа «Фантом» (1926). «Паре глаз, случайно забредшей
дальше заглавия, на эти вот строки, — тут нечего делать. Пусть
глаза — чьи б они ни были — поворачивают обратно. В последующем тексте нельзя будет сыскать фантомов, порожденных бредом и сном, равным образом, рассказ пройдет мимо фантомов аллегорических и символических: объект
его — архипрозаичный, из дерева, резины и кожи, так называемый медицинский фантом» — так начинается
рассказ. Речь идет о кукле, искусственной конструкции, с помощью которой, как предполагается, могут быть решены некоторые сугубо медицинские вопросы. Так думает «родитель»
471
Приложения
куклы Фифки врач Двулюд-Склифский (фамилия тоже значащая), рационалист и позитивист. Но его порождение полагает иначе. Однажды, когда Двулюд-Склифский в сумерках сидел
у себя в комнате, среди книжных полок с привычными корешками «Philosophie des Als-Ob» или «Metapsychologie», раздался
шорох. Врач обернулся и зажег спичку, чтобы увидеть источник шороха, и прежде чем увидел, услышал голос Фифки: —
«Да, это помогает: от волков и привидений. Но меня чирком
и спичками не прогнать: ведь даже солнце бессильно рассеять вас, называющих себя людьми». Растерявшись от услышанного, врач спешит оправдаться: «Н-нет. Я не за тем. И незачем поручать спичке то, что должна сделать логика. Слышимому отчего б не переброситься на зрительные перцепты.
Ты — факт, но, так сказать, бесфактный факт. Короче: галлюцинация...». Но диалог только начинается. И ведет его по своему
пути Фифка: «И ты мог подумать [...], что я стану втискиваться
в ваше бытие, как вот в эту дверь. Наоборот, я такого рода галлюцинация, которой нужно не реализоваться, не вкорениться
в чьи-либо воспринимающие центры, а дегаллюцинировать-
ся, выключиться начисто, сорваться с щипцов: назад — в нуль,
под герметическую крышку, в стекло банки, из которой — вы
же, вы, люди, — хитростью и силой выволокли меня в мир. Кто
позволил? Я спрашиваю, кто?» И далее — «Галлюцинация [...],
а слова — твои и мои — не галлюцинация? Или ты станешь утверждать, что наш разговор наполовину есть, наполовину не
есть; но как же мои слова, не существуя, рефлектируют твои
ответы, котррые, конечно, существуют: или и их нет? Даже при
минимуме логики, признав хотя бы одну наималейшую вещь,
одно наинеявнейшее явление среди неисчислимости других,
за галлюцинацию, должно распространить этот термин и на
все остальное. Представь себе человека, которому в сновидении мнится, что он заснул и видит сон. Этот свой сон во сне
спящий не принимает за действительность, он расценивает
его правильно как мнимость, видение. Но утверждать, что сон,
внутри которого — сон, реальнее последнего, то же самое, что
говорить, будто круг, описанный вокруг многоугольника, гео-
метричнее вписанного». Склифский вспылил, просит не ско-
роговорить и дать ему додумать: «ты говоришь, что... — Что
ты — и всякое вообще ты — вы создали себе мир и сами непробудно мнимы: я пробовал исчислить коэффициент вашей
реальности: приблизительно что-то около 0,000/Х/...» — «Гм...
это похоже на начало какой-то странной философии», — успе¬
472
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
вает вставить Склифский. «Может быть», — соглашается Фиф-
ка и тут же поясняет: «Это всего лишь предпосылки кфантом из му» и продолжает развивать свою мысль: «Фанто-
м и з м прост: как щипцовый защелк. Люди — куклы, на нитях,
вообразившие себя невропастами. Книгам известно, что воли несвободны, но авторам книг это уже неизвестно: и всякий
раз, когда надо не внутрь переплета, а в жизнь, человек фатальным образом забывает о своей детерминированности. Глупейший защелк сознания. Фикция, на которой держится всё: все поступки, самая возможность человечьих действий,
слагающаяся в так называемую „действительность“. И так как
на фикции держаться ничего не может, то ничего и нет:
ни Бога, ни червя, ни я, ни ты, ни мы. Поскольку всё определяемо д ру г им, то и существует лишь д ру гое, а не самое.
Но марионетке упрямо мнится, что она не из картона и ниток,
а из мяса и нервов и что оба конца нити в ее руках. Она тщится измышлять философемы и революции, но философии ее
о мертвых несуществующих мирах, а революции все и всегда...
срываются с щипцов. И вот тут-то и разъятый шов меж мной,
фантомом in expli, и вашими по-дилетантски фантом-
ствующими сознаниями. И меня, и вас втянуло в псевдобытие причинами, но в то время как вы, фантомоиды, до-
подданствовавшиеся в мире причин до небытия, мните отцар-
ствоваться в смехотворном „царстве целей“, как называл его
Кант, я, насильно живой, знаю лишь волю щипцов, втянувших
меня в явления, — и только — и поэтому включиться в игру це-
леполаганий — как вы, — [...] мне невозможно — никак и никогда; мною действуют причины — их ощущаю и осознаю, но
сам я не хочу ни единого из своих действий и слов, и хотеть
мне кажется столь же нелепым и невозможным, как ходить по
воде или подымать себя за темя».
«Странно, — пытается анализировать ситуацию Склифский, — этакая сумерковая наводь, даже не фантом, —
какая-то там „принадлежность“ — всклизнулась... нельзя ли
всю цепь — причину к причине — звено вслед звену». И Фифка
рассказал, как, выйдя из стеклянной купели, вовне, он встретился с сумерками и путаницей пустых коридоров, как «стал
вслушиваться в запрятанное меж толстых стен пространств о», как впервые различил его звуки, которые вывели его
во двор, а потом и в городскую ночь, «навстречу огням и грохотам». Сначала был страх — «узнают, увидят: „фанто м“,
схватят и назад — за стекло», но вскоре стало ясно, что люди
473
Приложения
замечают лишь тех, кто им нужен, а он, фантом, им ни для
чего не нужен. Людям легче, чем фантому Фифке, но у него есть свои преимущества: кое-что он видит лучше и кое-что
он понимает глубже. Свою природу и свою «условную» суть он
сознает адекватнее, чем человек — свою. Но это преимущество
связано с новой болью: «Иногда, когда я проходил по утренним бульварам, человечьи детеныши подымали на меня спрашивающие глаза. Я был еще в рост им и два или три раза пробовал ввязаться в их игры. „Не умри я тогда, до фантоми-
рования, — думалось мне, — был бы, как вот эти“. Но эти
со страхом и плачем отворачивались от то го [...] И я шел,
с трудом разгибая инъецированные ноги, — дальше и дальше — мимо множеств мим о». А дальше, собственно, не было никакого «дальше», но фантомное полубытие («п ринад-
лежность фантома» — заполнял Фифка графу «ваша
социальная принадлежность» в анкетах, а против графы «временное занятие» каллиграфически выводил: ч е л о в е к), в котором даже сны становятся безвидными и пустыми, охватывает тоска и приходит в голову мысль — «а что если минусом
минус, небытием в небытие: а вдруг получится бытие». —
И наблюдения над людьми, выискивающими «корректную линию меж мечтой и фактом», мнение фантома о так называемой человеческой любви, с одной стороны, и, с другой, рассказ Двулюд- Склифского перед самой его смертью о фантоме
и о сложностях автора при записывании этого рассказа в отыскании «корректной линии» между данным и должным — вот
конструкция финала с обозначением некоего возможного
продолжения идеи: «В полученном факте меня нисколько не
интересовал коэффициент его реальности, — из работы меня выбивала структурная неправильность рассказа: например,
мне нужно было уяснить постепенное очеловечивание Фиф-
ки, незаметный крен фантомизма в телеологию,
выпадение их причин в цели, — что это — привнесено впоследствии, так сказать, вдумано Двулюдом в свои ощущения,
или дано самими ощущениями, в неотделимости от феномена?» Двулюд мог бы, вероятно, разъяснить многое. Но было
поздно: однажды, когда вошли в его кабинет, нашли его лежащим недвижимо на полу: «переглянувшись, поставили диагноз: белая».
34 Ср.: «Я есть — есмь. И потому именно есмь, что принадлежу к великому Народу естей. Не могу не быть. [...] Но изъяснить вам, достопочтенные ести, как бытие терпит каких-то
474
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
там нетов, как оно где-то [...] дает возникнуть и разрастись
странному мирку нетов, — это для меня будет чрезвычайно
трудно. Однако Страна нетов — факт. [...] Один расфилософ-
ствовавшийся нет сказал: „Бытие не может не быть, не превращаясь в небытие, а небытие не может быть, не становясь
от этого бытием“, — и это настолько справедливо, что трудно поверить, как нет, несуществующее существо, могло — десятком слов — так близко подойти к истине. [...] Один искусник нет начинал так: „Мыслю, следовательно, существую“. Но
ведь не существование следствие мысли — мысль следствие существования. И так как даже нетовская логика строго воспрещает умозаключение от бытия следствия к бытию основания,
то, выводя свое существование из своей мысли, неты сами себе себя самих запрещают всеми §§-ми своих же логик. Притом
многие ли из нетов мыслят? Одиночные мыслители [...] И все.
Больше не припомню. Остальные, значит, не только не существуют, но даже и не мы слят,[...] Здесь я должен ознакомить вас, достопочтенные ести, с чуждым нам, специально
нетовским понятием — смерть. Хотя нетам и удается подчас
[...] притворяться существующими, но рано ли, поздно ли неизменно происходит раскрытие обмана, и это-то у них и называется „смерть“. Нет, о котором сегодня еще говорили невероятное: „Нет есть“, — внезапно слабеет, обездвиживается, бросает
игру в жизнь и перестает быть: истина вступает в свои права. [...] Так или иначе, но смерти неты не любят: она тревожит
их совесть, портит им их игру в кажимости и мучает дурными предчувствиями. Удивительному искусству казаться, будучи ничем, уметь быть всем, я особенно изумлялся в специфически нетовом учреждении, театре. Мы, ести, неизменно
пребываем в своей самости; неты же с поразительным проворством рядятся в чужую жизнь; там, в их театрах [...], неты живут
придуманными жизнями, плача над несуществующими горя-
ми, смеясь измышленным радостям».
35 Среди разнообразного словаря способов выражения
негации есть и особый сектор «без»-слов, к которым писатель
пристрастен: безлюдье, безвещье, безвременье, безместность,
безорбитье, бездорожье, безбугсвие, безвидие, бездвижие, обездвиживание, разбездушить, бессмыеление, бездуновенность,
обесстенение, ср. бытие без быта, люди без теперь и т. п.;
одиночество, по сути дела, есть «бесчеловечье»: «но человеку
мало быть без человека; надо — чтобы и без Бога», и наступающая обезбоженность мира чутко свидетельствуется писателем.
475
Приложения
36 О комнате-клетушке в шесть квадратных метров, где
жил писатель (Арбат, 44, кв. 5) с 1922 года до самой смерти
и которая (комната) описана, конечно, и в его собственных
произведениях, вспоминают таю «О получении ордера нечего было и мечтать. [...] комната была без мебели, маленькая,
в шесть метров, числилась за графом Коновницыным и не состояла на учете. [...] Условия оказались приемлемыми, и Кржижановский недолго думая перетащил свои вещи по адресу:
Арбат, 44, квартира 5. [...] По приезде нового жильца комната стала приобретать жилой вид. Появились деревянная койка с волосяным матрацем, простой некрашеный стол с двумя
ящиками, перед ним кресло с жестким сиденьем, на противоположной стене полки с книгами. [...] Несколько фотографий
по стенам и две акварели с подписью: „М. Волошин“ дополняли
более чем скромное убранство комнаты», см. БовшекА Глазами друга (Материалы к биографии Сигизмунда Доминиковича
Кржижановского) // Кржижановский С. Возвращение Мюнхгаузена. Л., 1990, с. 486. Или еще: «Вошла вслед за ним, повесила пальто на гвоздь у двери и огляделась: тесная-тесная, узкая
комната, старомодное окно прямо в дом напротив; перегруженные книжные полки; кровать с одной плоской подушкой;
стол у окна, два стула, шкаф. Несомненно, он описал эту жилплощадь в рассказе „Квадратурин“», см.: Семпер Н. Человек из
Небытия. Воспоминания о С. Д. Кржижановском. 1942-1949 //
Там же. С. 563- — Да и у жены, Анны Гавриловны Бовшек, жившей отдельно, но неподалеку (Земледельческий пер., 3), положение было едва ли лучше. Поэтому подводящим итог нужно признать заключение младшей родственницы писателя —
«Впрочем, дома в буквальном смысле .этого слова у них и не
было». И конкретнее: «Не знаю, в силу каких обстоятельств они
сначала и до конца жили порознь, по разным адресам, в коммунальных квартирах и ходили друг к другу „в гости“, как сами
невесело шутили. „Гости“ действительно оборачивались для
них самыми нелепыми и дикими историями. Соседи по коммуналке в Земледельческом переулке, где жила Анна Гавриловна, могли вызывать участкового чуть не каждый раз, когда дядя Зигмунт пытался остаться ночевать. Аналогичные истории
разыгрывались и у Сигизмунда Доминиковича, где соседей до
бешенства раздражала необычность быта и поведения казавшегося им вообще подозрительным человека. [...] Сигизмунд
же Доминикович почему-то нарушал паспортный режим, что
грозило высылкой из Москвы на сто первый километр. Веро¬
476
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
ятно, многое бы упростило официальное оформление их отношений, но тогда неизбежной становилась потеря той отдельной комнаты, в которой Сигизмунд Доминикович мог писать и которая, по его выражению, была превращена всерьез
и надолго в литературную конюшню. Анна Гавриловна это понимала и стойко выдерживала не стихавший многие годы поток неприятностей. Да и то сказать, ее комната представляла
узкую щель с одним окном, где не то что жить, просто сидеть
двоим было одинаково тесно и неудобно», см. Молева Н. Легенда о Зигмунте Первом // Там же. С. 540-541.
37 Боль как бы восстанавливает исконную связь тела
и его частей с мировым пространством-временем и, открывая человеку себя, открывает-порождает пространство и время (метафизический уровень архетипической схемы мифа
о Пуруше). Именно об этом говорит господин Тэст своему собеседнику — «Припомните, в детском возрасте мы открываем себя: мы медленно открываем пространство своего тела, выявляем, думается мне, рядом усилий особенности нашего существа ([...] (Quand on est enfant on se decouvre, on
decouvre lentement I’ e sp a с e de son corps, on exprime
la particularite de son corps par une serie d’efforts, je suppose?).
Мы изгибаемся и находим себя, или вновь себя обретаем —
и чувствуем удивление! [...] Ныне я знаю себя наизусть. Знаю
я и свое сердце... О! Вся земля перемечена, вся территория покрыта флагами... [...] Он почувствовал боль (П souffrit) — Однако что с вами? [...] Со мной?.. — сказал он. — Ничего особенного. Есть... такая десятая секунды, которая вдруг открывается...
Погодите... Бывают минуты, когда всё мое тело освещается [...] Я вдруг вижу себя изнутри... Я различаю глубину пластов моего тела; я чувствую пояса боли — кольца, точки, пучки боли (je distingue les profondeurs des couches de та chair; et je
sens des zones de dotdeur, des anneaux, des poles, des aigrettes de
douleur). Вам видны эти живые фигуры? Эта геометрия моих
страданий? (cette geometrie de та souffrance?). В них есть такие вспышки, которые совсем похожи на идеи. Они заставляют постигать: отсюда — досюда... [...] Когда это приходит, я вижу в себе нечто запутанное или рассеянное. В моем существе
образуются кое-где... туманности; есть какие-то места, вызывающие их. Тогда я отыскиваю в своей памяти какой-нибудь вопрос, какую-либо проблему... Я погружаюсь в нее [...] Моя усиливающаяся боль заставляет меня следить за собой. Я думаю
о ней! Я жду лишь своего вскрика... И как только я его слышу,
477
Приложения
предмет — ужасный предмет! — делается всё меньше и меньше, ускользает от моего внутреннего зрения... Что в силах человеческих? Я борюсь со всем, — кроме страданий моего тела,
за пределами известного напряжения их. А между тем именно на этом должен был я сосредоточить свое внимание. Ибо
страдать — значит оказывать чему-либо высшее внимание [...]»,
P. Valery — «Monsieur Teste», ср. заключительное — Je suis etant,
et me voyant; me voyant me voiry et ainsi de suite...
38 Кржижановский, судя и по его интересам, и по некоторым рассуждениям в его произведениях, и по кругу знакомств
(А. Н. Северцов прежде всего), знал об учении А. А. Ухтомского
о «доминантах», поведенческих (и психических) patterns, стоящих между человеком и миром и позволяющих человеку воспринимать то, к чему он подготовлен ими (ср.: «Случаи из детских лет Макса Штерера [...] свидетельствуют только об одном:
о рано установившейся психической домин а н т е,
о внимании, как бы сросшемся со своим объектом, об одно-
любии мысли, точнее, первых зачатков ее, в чем иные исследователи и полагают основу одаренности. Ребенок, затем отрок, как бы стремился вглядеться в протянувшийся впереди
путь, не делая по нему ни единого шага». — «Воспоминания
о будущем»). При этом необходимо помнить, что реальность
личного опыта определяется не столько отдельными конкретными образами, сколько теми интегральными образами, которые определяются пережитыми доминантами как формами причинности и которые держат в своей власти все поле
душевной деятельности человека. См.: Академик А А Ухтомский. Письма // Пути в незнаемое. М., 1973, с. 374. Характер же
подобной интегральности определяется установкой на «связность» воспринимаемого для субъекта восприятия. «Мы шли,
и он (г-н Тэсг. — В. Г.) ронял фразы, почти бессвязные Presque
incoherentes) [...] Бессвязность (l’incoherentes) иной речи зависит лишь от того, кто ее слушает. Человеческий ум представляется мне так построенным, что не может быть бессвязным
для себя самого (qu’il пе peut etre incoherent pour soi-meme) »,
Valery P. — «Monsieur Teste».
39 Теперешнему носителю русского языкового сознания
трудно понять, в чем сходятся понятия странности и пространства, восходящие к одной и той же основе стран- (из праслав.
*stor-n- < и.-евр. *ster-: *stor- «распространяться», «расширяться»), в чем их общий исходный корень. И.-евр. *ster-: *stor-, видимо, уже имело предрасположенность к тому развитию, ко¬
478
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
торое этот элемент получил в славянских языках, в частности
и в особенности в рус. про-стор и под., исключительную выразительность которого отмечал Гейдеггер. Описывая ситуацию с известной долей потенциальности и реконструктивности, «идеально» (то есть доводя до предела становления то,
о чьей идее идет речь) — стоит напомнить, что сакральное
мифопоэтическое пространство, собственно, и является моделью-матрицей идеальной герменевтической процедуры, —
можно настаивать на том, что это *ster- (:*stor~) должно рассматриваться как универсальный глагол пространства — его порождения-возникновения (*ster- «порождать пространство»),
его бытия или — сниженно — наличия (*ster- «быть пространством», «пространствовать»), его раз-двигания и ото-двигания
(от-странение, о-странение), его предельности-беспредельности, то есть той ситуации, в которой пространство как бы
опровергает само себя, становится парадоксальным, «странным» Cster- «доходить до предела пространственности, до самоотрицания себя, до само-о-странения, самоотчуж-
дения», ср. англ. strange «чужой», «чуждый», «странный»,
нои«по-сторонни й»). В этом контексте значение *ster-
в его глубинной идее надо отличать как от «частных» распространений пространства типа «расширять/ся/», «удлинять/ся/»
и т. п., так и от «общих», но «конечных» распространений типа «раздвигать/ся/», «разбегать/ся/», «рассыпать/ся/» (отчасти
и «расстилать/ся/», если это действие является локально ограниченным). Так называемое ‘ster-распространение предполагает не исходное отсутствие пространства, но наличие некоего чудовищно уплотненного «предпространственного» сгущения в некоем абсолютном центре (парадокс 1), которое
в определенной критической точке (ср. пастернаковское пространство, сжатое до точки), достигнув предела, взорвалось и дало начало быстрому, во все стороны, универсальному распространению критической массы, преобразуемой-
пресуществляемой в пространство (аналогии современной
физической космогонии позволяют лучше уяснить всю эту
ситуацию).
Осуществившись, то есть дойдя до предела, это
‘ster-распространение приводит к порождению пространства, к его наличию и, более того, к его бытию. Отныне пространство пространствует. Но, пространствуя, будучи по
идее независимым, самодовлеющим, абсолютным и как бы
бесконечно-неограниченным, пространство, вольно или не¬
479
Приложения
вольно, порождает и идею своей «предельности». Если *ster-
распространение прекратило свое действие, породив пространство, значит, оно имеет предел: пространство уже есть
и больше его не будет (первое ограничение по идее безграничного). Если ‘ster-распространение не прекратило своего
действия и еще продолжается, то, значит, пространство не может считаться абсолютным: есть нечто, где пространства пока н е т, но где ему только еще предстоит быть (второе ограничение по идее безграничного). Но «предельность»
пространства обнаруживается и иначе — через конституиро-
вание понятия сторона как некоего предела распространения пространства, за которым (пределом) его как бы и нет:
по-сторонний: по-ту-сторонний, ино-сто-
ронний: ино-странный и т. п. (ср. странная сторонушка) . Сторона как бы далее всего ушедшая от своего центра
стрела пространства (стоит напомнить, что этот образ не что
иное, как figura etymologica: рус. стрела < праслав. *strila, как
и лтш. strila, лит. strela, др.-в.-нем. sträl/а/ «луч», нем. Stmhl, др.-
англ. street и т. п., восходят к и.-евр. *ster~; ср. также лтш. /saules/
stars «солнечный луч», stars «сук», stara и др.; следовательно, за
стрела пространства стоит и.-евр. *ster- & *ster-, отсылающее
к глаголу с корнем *ster-), максимум рас-про-странения одновременно как бы снимает («aufheben») себя, кладет себе предел, указует на начало беспространственности (парадокс 2):
сторона принадлежит пространству, но уже не участвует в его
рас-про-странении (она просто — странение), но она же тем
самым делает решительный шаг к от-чуждению от пространства, к о-странению. И поэтому если сторона еще и является
пространством, то это стороннее-странное пространство
(ср. такие характерные смыслы у слов этого корня, как странь
«чужой», «странный»; «чудак»; «шатун», «негодяй»; «дикий», «дурак»; «божевольный»; «чушь», «дичь», «чепуха»; «бессмыслица»,
«вздор» и т. п.; странить «шляться», «шататься праздно», «бродить по сторонам», странничать «ходить и ездить по чужим
землям»; «чудить», «чудачить», «отличаться от людей странностями, чудачеством» и т. п., см.: Даль). И странничающий-путе-
шествующий по этой странной-сторонней стороне не может
не стать странничающим-странным, чуждым про-странству,
но сродным стороне, которая с точки зрения пространства тоже странная. (Языковые мотивировки обозначения пространства и сам семантический контекст этого слова могли бы быть
существенно уточнены и расширены при дальнейшем иссле¬
480
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
довании и.-евр. *ster- 1-8 (Pokorny I, 1022-1032); во всяком
случае то, что содержится в словаре Покорного о разных *ster-,
нуждается в существенном пересмотре).
Однако парадоксы относительности пространства, его
странности обнаруживают себя не только при распространении пространства до его предела, но и при свертывании, стягивании его. Парадоксы инволюции пространства в варианте утеснения его, ведущего к «минус»-пространству, не раз же
описывались и исследовались Кржижановским, и это сужающееся, никнущее, гибнущее пространство не раз появляется на предыдущих страницах. И наконец, пространство, «продуманное до его собственной сути» (по выражению Гейдегге-
ра), таит в себе событие, часто просматриваемое и упускаемое
из виду. Но и увиденное, оно слишком многое скрывает в себе от внешнего наблюдателя и уже хотя бы поэтому тоже может быть названо странным. Ср. Heidegger М. Die Kunst und der
Raum. Sankt-Gallen, 1969 и др. (о «сбывании простора»: «Не есть
ли он вмещение [...] в двояком смысле позволения и устроения?» /перевод В. В. Бибихина/). — Стоит указать на то, что
одновременно с немецким философом Кржижановский, бывший на два года старше его, демонстрирует в отдельных фрагментах своих текстов тот языковой стиль, который позже назовут «гейдеггеровским». Несомненно, что в данном случае это
явление было независимым, как независим был и «экзистенциальный» слой, обнаруживаемый в его произведениях, если говорить об общем, или, если говорить о более частном, но
в данном случае важном, как независим был и его взгляд на
связь языка с бытием. Когда писатель говорит о том, что исчезнувшие вещи живут в своих именах в языке и язык и имена эти тоскуют по ушедшему в небытие и бытийствующему
отныне только в языке, когда он пишет, что, «для того чтобы
начать быть в строках и строфах, надо перестать быть во времени и пространстве: имена говорят лишь о тех, которых нет»
и что «Слова тем крепче», чем вещи, ими обозначаемые, и т. п.,
когда, наконец, он восстает против умерщвляющей живую душу языка диктатуры штампа, «автоматизации», сугубой ору-
дийности как главной функции языка, — во всех этих случаях
нельзя не вспомнить о том, что прочно связалось в сознании
второй половины нашего века именно с Гейдеггером, — что
«язык — это дом бытия» и в этом доме оно, гонимое и попираемое, еще продолжает жить и живет прочнее, чем где-либо еще;
что не люди говорят языком, а язык говорит людям и людьми;
481
Приложения
что именно и поэтому к языку нужно прислушиваться и спасать его — смерть не перенесшего «технизации» языка в период господства «диктатуры публичности» оборвет последнюю
нить, соединяющую человека с бытием.
40 В английском тексте — Horatio [О day and night,]
but this is wondrous strange! — Hamlet. And therefore as
a st ranger give it welcome (1-е действие, 5-я сцена; Пастернак и wondrous strange, и a stranger переводит словом чудеса: сохраняя идею необычности, экстраординарности, этот
перевод отказывается от передачи игры слов и несколько
«обытовляет» ситуацию). Существенно, что тема странного
и странника из потустороннего мира (речь идет о Призраке, только что рассказавшем сыну о том странном и страшном, что с ним случилось) сразу вводит и Гамлета, и читателя в то странное, которое нуждалось в объяснении и которое
отныне объясняет всю линию поведения Гамлета, кажущуюся столь странной (если не сказать — сумасшедшей) тем,
кто не знает о том, что поведала сыну Тень отца, или не догадывается об этом только что приобретенном знании Гамлета. Правда, и Гамлет, казалось бы, получивший ответ на то,
что виделось ему как странное, вступает в новое странное
пространство, точнее, в открывшийся ему странный хронотоп, о странности которого он уже знает, но пока еще
не может распутать ее до конца. Не случайно, что сразу же
за процитированной фразой Гамлета следует знаменитое —
There are more things in heaven and earth, Horatio, / Than are
dreamt of in your philosophy — и чуть дальше, в заключительной партии 1-го действия, как знак вступления в странное
пространство, самой сути этой странности и странности его,
Гамлета, задачи в этой странной ситуации — The time is out of
joint: О cursed spite, / That ever I was bom to set it right!
41 Уместно напомнить, что сочетание образа «страдающего пространства» (оно несет на себе бремя всего, что в нем
есть, тяжелейшую из всех ношу; ср. то же и еще чаще в связи с Землей-матерью) и правдоподобного предположения
о том, что рус. страдать, страда, страсть восходят к и.-евр.
*ster-: *stre~: strö- (Рокоту I, 1022), дает известные основания
для подключения к разбираемому здесь комплексу и мотива
страдания.
42 Такие игры в звуки (буквы) и смыслы не раз встречаются у Кржижановского (ср. ergo — ego и т. п.), и всегдашняя их
тема — неслучайное в случайном.
482
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
43 Но еще раньше Кржижановским было описано иное
по направлению превращение, при котором идея осложнилась противопоставлением величины и малости, физического и духовного, — «бытие» слона с душою мухи (ср. «Мухо-
слон», 1920). На соотнесенность «Мухослона» с указанным
мотивом из «Странствующего „Странно“» обратил внимание
В. Г. Перельмутер.
44 «Я шел будто на спутанных ногах: воображение начало действовать раньше тинктуры; мне казалось — самые шаги
мои то странно укорачиваются, то неестественно длиннятся. Сердце под ребрами ворошилось,
как испуганная птица в гнезде. Помню, я присел на одну из
уличных скамей и позволил своим зрачкам кружить, как им
вздумается. Япрощался с пространством: с привычным, в лазурь и зелень раскрашенным, моим пространством. Я смотрел на сотни шагающих мимо ног: размеренно,
подымая и опуская ступни, сгибая и разгибая колени, движением, напоминающим стальной аршин, уверенно шагающий
под толчками пальцев приказчика вдоль мерно разматываемой штуки материи, — они разматывали и мерили свое, привычное пространство, которое видишь и с закрытыми глазами,
которое несешь в себе, обжитое и исхоженное, почти застегнутое вместе с телом под пуговицы твоего пальто, в тебя. Я вслушивался в трение одежд о тело, вглядывался в акварельные пятнышки облачной ряби, тонко выписанной по синему фону, ловил каждый звук и призвук, ввившийся в мои ушные завитки,
цеплялся глазом за каждый блик и отсвет, запутавшийся в моих ресницах.Я прощался с пространством».
45 С трах связан с пространством не только через пространственные фобии, то есть несоответствие пространства,
как оно воспринимается, с пространством, каким оно должно быть, каким оно мыслится, чувствуется и переживается как
идеальное. Сама изменчивость пространства, его «относительность», недоговоренность, неокончательность, наличие в нем тайны, чреватость его неожиданным и непредсказуемым определяет реакцию субъекта на него в виде страха.
Отчасти в силу этих свойств пространства, а также из-за «трудности», «страдательности» пространства, о чем говорилось ранее, и глубокой онтологической связи свободы (пространства
свободы) и страха, страх должен пониматься как ингерентное
свойство пространства. И язык, кажется, и в этом случае верифицирует эту связь: как и про-странство, про-стор, сторона
483
Приложения
и т. п., рус. страх, страсть (и как «страх», и как «чувство», 7га$о<;,
и как «страдание») восходит к и.-евр. *ster-: *stor-, *strö-, ср. лит.
stegti «оцепеневать» при в.-нем. strecken «рас-тягивать», «распространять» (к семантической связи растягивания и оцепенения о#, лежать в растяжку, т. е. безжизненно, неподвижно,
как бы оцепенело), др.-в.-нем. stracken и, что особенно показательно, др.-англ. ondrecan «страшиться» (*/s/ter-). Следовательно, пространство через определяющее его основное качество
«просторность» оказывается неотделимым в известных обстоятельствах от страха и страсти: в таких случаях оно воистину
страшное (ср. «Страшный мир» Блока как описание состояния
падшести и угрожаемости гармонически-прекраснош по идее
пространства) и страстное.
46 См. об этом другую работу автора этих строк. — Нужно особо подчеркнуть, что язык Кржижановского в существенной степени связан с пространством, «опространствлен», отчасти иконичен по отношению к пространству (и не только
в той мере, в какой язык вообще «специализирован», но в особой мере — в той, в какой язык — голос пространства, обращенный в будущее, ср. «инверсионный» образ Пастернака —
Так жить, чтобы в конце концов / Привлечь к себе любовь
пространства, / Услышать будущего зов). В пространстве Кржижановского сходятся само оно, пространство,
Я как его голос и — по-гоголевски — «всё, что ни есть» и откуда — тоже по-гоголевски — «видно во все концы света» и —
уместно добавить — видно и слышно будущее.
47 Впрочем, причиной ухода Мудреца из жизни была та
же логика его мысли — «Дело было так: Мудрец, описав „Формы чувственности“, раскрыв шифр книги, погибшей за право — быть непонятой, короче, высвободив свое „я“ из грез
и слов, спросил: явь ли я. — У философова „я“ был хороший
опыт: оно знало, какая судьба постигала всегда вопрошаем ое после в о пр о с а. И не успел „?“ коснуться „я“, как я,
выскочив из закавычки, бросилось, говоря вульгарно, наутек.
Туг и приключилась Мудрецу смерть».
48 Позже бывший «умаленный» человек, работая в своей
лаборатории, следуя опыту Шарко, пытался дать «страждущему человечеству прививку от времени». Проблема
не была решена — «значит ли это, что она не дастся и другим?»
49 «Мне не сыскать слов, — свидетельствует „умаленный“
человек, — чтобы хотя мутно и путано передать испытанное
мною тогда чувство обезвремененности: вы, вероят¬
484
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
но, читали о том, как отрок Якоби, случайно ударившись мыслью о восемь книжных значков Ewigkeit, испытал нечто,
приведшее его к глубокому обмороку и длительной прострации, охватившей вернувшееся вспять сознание. Скажу одно:
мне пришлось вынести удар не символа, а того, что им означено, войти не в слово, а в суть».
50 «Включенный опять во время, я, раскрыв глаза, увидел
себя привязанным к заостренному концу секундной стрелки:
мои руки, мучительно выгнутые назад, терлись о заднее лезвие движущейся стрелы, переднее же ее лезвие, вонзаясь мне
в спину, сильными и короткими толчками гнало меня по делениям секундного круга. Вначале я бежал что есть мочи, стараясь предупредить удары лезвием о спину. После двух-трех
кругов я ослабел и, истекая кровью, с полупотухающим сознанием, свис со стрелы, которая продолжала меня тащить вдоль
мелькавших снизу делений и цифр. Но страшная боль от копошащегося в теле лезвия заставляла меня, собрав силы, опять
бежать вдоль вечного круга среди злорадно расцокавшихся
и издевающихся надо мной Секунд».
51 Сама история этого кварцевого человечка и его
«временные» проблемы достаточно любопыгны. О себе он
успел рассказать «умаленному» человеку в недолгие отрезки их встреч. Как и последний, он попал в это циферблатное
захолустье властью судьбы. Некогда он жил в родном его песочной природе мире. Вместе с толпами других песчинок он
был вселен в прекрасный, из двух сросшихся вершинами стеклянных конусов сотворенный, мир. «Там было шумно, весело
и юно. В нас жили души грядущего. Мы, несовершившиеся миги, толкаясь гранями о грани, с веселым шуршанием проталкивались к узкому часовому устьицу, отсчитывающему бег настоящего». Каждый старался в обгон других попасть в узкое отверстие. «Стремление онастоящиться охватило
меня с непреодолимой силой», — признался своему собеседнику кварцевый человечек. И это ему удалось. Но оказалось,
что стремление попасть сюда, «на кладбище отдлившихся мигов», из прекрасного верхнего полумира было безумием: сейчас он лежал обездвиженный, с сознанием своей кончености,
заваленный другими падшими мигами, среди заживо мертвых. «Вдруг, — продолжал он свой рассказ, — резкий толчок
опрокинул всё наше кладбище дном кверху, и мы, отдливши-
еся длительности, вывалившись из вздыбившихся могил, снова ринулись в жизнь. Очевидно, произошла какая-то космиче¬
485
Приложения
ская катастрофа, опрокинувшая бытие и заставившая оттлев-
шее и незатлевшее, прошлое и грядущее, обменяться
местами». «Умаленный» человек, опасаясь, что до следующей
встречи он не доживет, и имея собственное мнение о ситуации, делает иной выбор: «Мне всё равно [...] пусть ваша вселенная лишь простые песочные часы. Я хочу быть там, где прошлое умеет превращаться в грядущее. Бежим. Бежим в вашу
двудонную родину, в страну странствующих от дна к дну. Потому что я — человек без грядущего». А тем временем вокруг
«умаленного» человека сновали бациллы времени, а он продолжал свой бег, оставляя на циферблате кровавые следы. В глазах
у него плыла кровавая муть, и казалось, что сердце бьется на готовой вот-вот оборваться нити. Верный друг, кварцевый человечек пришел на помощь, перепилив острыми своими гранями
путы, привязывавшие его друга к секундной стрелке. Освобожденным столь счастливым образом, им нельзя было оставаться
на циферблате, и единственным, хотя и временным, спасением было найти щель и проникнуть в часовой механизм. «Я им
разрушу их мастерню времени», — прошуршал кварцевый человечек, стараясь протиснуть свои острые ребра к металлическому зажиму волоска, но одно неловкое движение, и он попал
под удар стальной части механизма и был смертельно ранен,
но и умирая ему удалось остановить разбег колес, и шумная
«фабрика времени вдруг замолчала». Это и спасло «умаленного» человека: часы были отданы часовому мастеру и, починенные, возвращены возлюбленной «умаленного» человека.
52 Любопытно, что первая реакция сына на объяснения
отца носила скорее «эстетический» характер и была как бы не
по существу, в сторону от объяснения: «Слово „время“ понравилось Максу. И когда — два-три месяца спустя — его засадили
за букварь, в, е, м, р, я были первыми знаками, из которых он
попробовал построить, водя пером по косым линейкам, слово». Перед нами — опыт экспериментирования в области, которую можно было бы назвать «лингвистической механикой».
53 «Психический» эффект мены осей часовых стрелок,
вызвавший отцовское восклицание «Что за цум тайфель?», был
связан с обманутым ожиданием: семья села обедать, когда на
циферблате было две минуты третьего, в промежутке между
первым и вторым они уже показывали две минуты пятого: «Неужели мы ели суп два часа?» — удивился отец.
54 Однажды Штерер-старший заглянул в собрание пословиц, изданных Далем, и увидел на полях против Время на
486
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
дудку не идет детские каракули: «А я заставлю его плясать по
кругу». Отец не понял, про какого «его» шла здесь речь, но биограф Макса Штерера Иосиф Стынский «называет эту запись
„первой угрозой“ и отмечает образ круга, которым и впоследствии, в отличие от символизирующей обычно время прямой,
пользовался изобретатель при осуществлении своего плана». И другой пример: когда соученик Макса поинтересовался, почему он никогда не гуляет, тот ответил, что ему нет никакого дела до пространства, и объяснил: «Люди передвигаются в пространстве. От любых точек к любым. Надо, чтобы
и сквозь время: от любой точки к любой. И это будет, я тебе
скажу, прогулка!»
55 Своего рода предвосхищение биологической инженерии.
56 К этому же университетскому периоду относилось
изобретение хиэмсэтатора и проект «семипятничной недели». Смысл хиэмсэтатора, своего рода научной игрушки, Штерер видел в возможности представления
зимы (белый, снежный период) и лета (зеленый, лиственный
период) зрительному аппарату в «порошкообразном виде».
Зима и лето (белый и зеленый секторы на диске прибора) размалываются, как кофейное зерно на ручной мельничке, с сохранением всех своих свойств в каждой частичке размола. Набор дисков с различными соотношениями белых и зеленых
секторов открывал возможность приискания оптимального
для глаза соотношения этих секторов. Пафос, лежавший в основе этого изобретения, понятен, но сам изобретатель не придавал серьезного значения этой затее.
Тот же пафос — и в основе проекта «недели о семи пятницах», собственно, проблемы конструирования искусственного дня. В незаконченной рукописи — краткое
изложение проекта. «Дни [...] вкладываются в апперципирующий аппарат, как валики внутрь шарманки. Дни от валиков резко отличаются тем, что штифты на них, то есть стимулы воздействия на психофизику, непрерывно перемещаются.
Но если закрепить стимулы в гнездах, превратить дни в единообразные равномерности, завращать восприятия, как стрелу по циферблату, то кругообразный ход времени, точнее его
содержаний, должен будет [...] передаться и на психику, кру-
гообразя и ее». Очень существенны комментарии Стынского
к этой записи. Он, в частности, полагал, что «все это больше
похоже на пытку, чем на опыт, и пахнет застенком, а не лабо¬
487
Приложения
раторией». Туг же он оговаривается, что «помимо ожесточенности молодого ума, в проекте этом сказывается и нежелание
расстаться с давнишней мечтой „заставить время плясать по
кругу4. В конце концов „странная затея сотворить неделю семи пятниц, из которых все... Страстные“ (слова Стынского)
(ср. выше о сродстве странный, страстный: страдать, пространство и т. п. — В. Г.), может быть, является лирическим
порывом человека, загнанного внутрь единой, непрерывной,
вращающейся вкруг себя идеи, отдавшего все дни проблеме
дней» (эта «загнанность» может быть понята как образ тесноты-узости, но на этот раз — временной и психоментальной).
57 И после этих записей — отдельные фразы, иногда не-
конченные, в других случаях с не вполне ясным смыслом: «Надо колесо с оси на ось. Это будет несколько сложнее пресловутой аристотелевой головоломки о двух радиусах. Да, мой обод
не вкруг оси, а с оси на ось. В этом своеобразие транстемпоральных путешествий». И ниже: «Наш мозг т ем пери ру -
ет время. Если детемперировать tempus,то...», и после перечеркнутой формулы — «Здесь переходить через время опасно!» и т. п.
58 Стоит напомнить, что в «Воспоминаниях о будущем»
космические масштабы пространства и времени все время
уравновешиваются теснотой деформированного «бытового»
пространства. Вот описание штерерова жилья на Крутицком
валу: «Под лестницей, прикрытая косой линией ступенек, втре-
уголивалась крохотная безоконная каморка; под висячим замком ее складывались дрова. [...] — Вот вам и чехол, — ухмыльнулся Жужелев (дворник, вселивший сюда Штерера. — В. Г.)
[...], — тут захоти разжиреть, стены не пустят». Немногим просторнее была комнатушка под самой крышей громадного «каменного короба» на Козихе, где жил Штерер еще со студенческих времен, или квадрат комнаты в Зачатьевском. Впрочем, по-своему тесна и огромная Москва («Москва, гигантский
сплющенный человечник, тотчас же втиснулась в пустые аршины [...]).
59 Описание путешествия во времени с помощью время-
реза — из лучших образцов научной фантастики, предвосхищающее эпоху полетов в космосе и, возможно, того, что последует за ней (нужно напомнить, что само это путешествие в известном отношении «мысленное» (как и сам времярез, своего
рода машина Тьюринга): Штерер сидит в своей комнате у окна, — но оно вместе с тем и «сверх-реальное», поскольку по¬
488
«Минуо-пространство Сигизмунда Кржижановского
зволяет за фантасмагорически яркими феноменами провидеть «неподвижные», вечные ноумены). «За квадратом окна
происходило нечто фантасмагоричное: как если б гигантская
светильня, догорая, то вспыхивала, то затухала, бросая окно
то в свет, то в тьму. По сю сторону окна тоже что-то происходило: что-то маячило вертикальным, то придвигающимся, то
отодвигающимся в рост мне контуром, и сыпало прерывистой
дробью шагов. [...] Я потянул его (рычаг. — Я Г.) на себя, и картина за стеклом стала четче: слепящее глаза мелькание осолн-
целось — я видел его, солнце, — оно взлетало желтой ракетой
из-за сбившихся в кучу крыш и по сверкающей выгиби падало, блеснув алым взрывом заката, за брандмауэр. И прежде
чем отблеск его на сетчатке, охваченной ночью, успевал раствориться, оно снова из-за тех же крыш той же желтой Солнцевой ракетой взвивалось в зенит, чтобы снова и снова, чиркая фосфорно-желтой головой о тьму, вспыхивать новыми
и новыми, краткими, как горение спички, днями. И тотчас же
в машине моей появился колющий воздух цокающий звук Конечно, я сделал ошибку, дав сразу же полный ход. Надо быть
начеку: я отвел рычаг еще немного назад — солнце тотчас же
замедлило свой лёт; теперь оно было похоже на теннисный
шар, который восток и запад, разыгрывая свои геймы, перешвыривают через мой брандмауэр, как через сетку [...], я снова
чуть толкнул рычаг скоростей вперед — и тут произошло нежданное: солнце, взлетевшее было, точно под ударом упругой
ракеты, из-за крыш, внезапно метнулось назад (запад отдавал
шар), и всё, точно натолкнувшись на какую-то стену там, за горизонтом, остановилось и обездвижилось; лента секунд, продергивающаяся сквозь мою машину, застопорилась на каком-
то миге, какой-то дробной доле секунды — и ни в будущее, ни
в прошлое. Там, где-то под горизонтом, орбита солнца пересеклась с вечностью [...] Воздух был пепельно-сер, как бывает
перед рассветом. Контуры крыши, косая проступь улицы были врезаны в бездвижье, как в гравюрную доску. Машина молчала. Нерассветающее предутрие, застрявшее меж дня и ночи,
не покидало мертвой точки. Только теперь я мог рассмотреть
все мельчайшие детали жалкого городского пейзажа, притиснувшегося к пыльному окну [...] Я смотрел на, казалось, вылупленную из воска куклу ужаса, и стереоскопическое бездвижье мертвого мира всачивалось в меня. Долго ли это длилось,
я не могу сказать, потому что это было, поймите, вне длинне-
ний. Самые мои мысли, волей инерции продолжавшие сколь¬
489
Приложения
зить сквозь воск, постепенно застывали и останавливались,
как облака в безветрии. Слабеющим усилием, тем надчеловеческим напряжением, какое бывает лишь в кошмарах, я толкнул рычаг [...], и времярез, разрывая песок секунд, снялся с отмели. Теперь я шел медленно на тормозах. Дни, сливавшиеся,
как спицы быстро кружащего колеса, в неразличимость, стали теперь раздельно видимы. Будущее делалось доступным для наблюдения. Окно, выходившее в конец тридцатых годов нашего столетия (т. е. на десять лет вперед. —В. Г.)»... — далее могли последовать опасные открытия
(возник номер «Известий» от 11 июля 1951 года), но резким
вскриком Стынский потребовал купюры («разве вы не видите, что вы среди перьев? Этот номер стоит много дороже пятака. Дальше»), и тогда Штереру оставалось только закончить
свой рассказ:
«[...] Только теперь, оставив далеко позади настоящее,
я начал ощущать неполноту, оплощенность и недоощутимость
предвосхищенного времени, сквозь секундные поры которого, вдогонку за будущим, пробирался я все выше и выше. Мое
будущее, искусственно взращенное, как растение, до природного срока выгнанное вверх, было болезненно тонким, никлым и бесцветным [...] и во все, постепенно, вместе с секундами стала подпепливаться какая-то серость, бесцветящий налет нереального. Странная тоска вклещивалась в сердце [...]
меня не покидало чувство погони: топот секунд поверх секунд. Я наддал скорости — серая лента дней терлась о мои глаза; я закрыл их и, стиснув зубы, вслепую мчался на выброшенных вперед рычагах. Не знаю точно, как долго это длилось, но
когда я снова открыл глаза, то увидел такое... такое». И это
«т а к о е», увиденное Штерером как будущее, пережить которое ему не пришлось именно из-за этого «такого», положившего конец дням его жизни, и доподлинно теперь известное нам
как «такое» прошлое, было страшным. В русской художественной литературе столь страшного пророчества об этом времени, кажется, не было: был увиден сам ужас, хотя — усилиями
осторожного Стынского, а потом и самого Штерера, о содержании этого ужаса не было сказано ни слова (в этом отношении пророчество, сделанное писателем в год действительно
«великого перелома», скорее включается в ряд страшных пророчеств о судьбе России в XX веке, принадлежащих подвижникам веры от Серафима Саровского до тех, кому еще до семнадцатого открывалась ужасная даль будущего).
490
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
Содержания увиденного будущего Штерер изложить не
мог и потому резко свернул к последним теоретическим выкладкам и «житейским» заметкам:
«Отсюда и машине, и рассказу крутой поворот на сто
восемьдесят градусов. Теперь, после того что нежданно ударило меня по зрачкам, я не боялся быть опрокинутым поперечными ударами длительностей. Катастрофа? Пусть. И представьте, случайность была на моей стороне — поворот удался, и я шел против ветра секунд. Движение было медленным,
солнце желтым диском перекатывалось от запада к востоку, знакомая обочина дней тянулась от Futurum к Perfectum.
Теперь я точно знал свое куда. Несомненно, была допущена ошибка: не в конструкции — в конструкторе, во мне. Время
не только синусовидно, извилисто, оно умеет то расширять,
то суживать свое русло. Этого я не учел; экспериментируя над
t-значениями, я оказался плохим наблюдателем. За спиной
у меня был про пу с к, сцеп из трех-четырех годов, начисто
выключенных из моего сознания. Нельзя вживаться в жизнь,
если позади нежизнь, пробел в бытии. Эти нищие, кровью
и гневом протравленные года, когда гибли посевы и леса, но
восставал лес знамен, — они мнились мне голодной степью,
я проходил сквозь них, как сквозь пустоту, не зная, что... что
в ином настоящем больше будущего, чем в самом будущем.
Люди отрывают свои дни, как листки с отрывного календаря, с тем чтобы вымести их вместе с сором. Даже своим богам они не дают власти над прошлым. Но мои длительности
были листами единой книги: мой времярез был много сложнее разрезального ножа, вскрывающего непрочитанные листы, — он мог вернуть меня к непонятным страницам и лечь
закладкой меж любых двух, пока я буду перечитывать да пересчитывать реконструированное прошлое. Даже в области грубой пространственной техники мы уже близки к тому, чтобы
достигнуть скорости вращения Земли — стоит удвоить ведущую силу пропеллера, и можно пытаться настигнуть ускользающее за горизонт Солнце. Этого я и хотел: бросив рычаги на
полный ход, идти прямиком на пробел, настичь отнесенное назад и переподготовить свое вперед. Я двигался медленнее. Но навстречу мне шло само время, то вот реальное,
астрономическое и общегражданское, к которому, как стрелки компасов к полюсу, протянуты стрелки наших часов. Наши
скорости ударились друг о друга, мы сшиблись лбами, машина времени и самое время, яркий блеск в тысячу солнц засле¬
491
Приложения
пил мне глаза, беззвучный толчок вырвал контакты из моих
рук [...] Машина моя погибла на полпути. Ожоги на пальцах
и поперек лобной кости — единственный след, оставленный
ею в пространстве».
И не без разочарования, но выражая свое несогласие:
«Как странно, давно ли я заставлял звезды синей стаей
светляков мчаться сквозь ночь, а теперь я вот, вместе с вами,
снова на этом нелепом и сонном плоту, умеющем лишь вниз
и лишь по течению, который принято называть: настоящее. Но
я не согласен. Пусть машина разбита, мозг не разбит. Рано или
поздно я докончу начатый маршрут».
Когда выступление Штерера кончилось, один из присутствовавших, лингвист-полиглот, задал ему вопрос, связанный с впечатлением некоторого несоответствия между длительностью пребывания Штерера в «преждевременном» времени и количеством обыкновенного, «протекшего» времени:
«Я понимаю, Т и t разноязыки, но все-таки как вы успели?..» —
«Совершенно верно [...] — как я успел? Вот вопрос, который мучит меня все эти дни. Конечно, отсчет t внутри Т вещь не слишком легкая. Но мои вычисления заставляют меня думать, что,
может быть, яи не успел, что, возможно, встречи с реальным временем и не произошло [...] и что я, извините меня, среди призраков, порожденных призрачными длительностями.
Мне хотелось быть по возможности популярным [...], и я довольствовался в своем изложении гипотезой о t, ударившемся
о Т. Но если вы сами... если эта гипотеза не удовлетворяет вас,
то мы можем предположить, что машина не успела достигнуть
реальности, она расшиблась о выставившуюся вперед тень
Т-времени и... наблюдения над окружающими теперь меня
людьми дают ощущение, что эти люди без теперь, с настоящим, оставшимся где-то позади их, с проектированными волями, словами, похожими на тиканье часов, заведенных задолго до, с жизнями смутными, как оттиск из-под десятого листа
копирки. Впрочем, возможна и третья гипотеза: я, Максимилиан Штерер — сумасшедший, которому отказано даже в смирительной рубашке, и все изложенное мною — бред, дивагация.
[...] Засим имею честь». Штерер ушел. Поблизости прозвучало:
«Блеф. Штереровщина...» Стынский устало улыбнулся: «Когда-
нибудь историк, описывая эти вот наши годы, скажет: „Это было время, когда повсюду ползала, присасываясь к концевым
буквам имен, слепая и склизкая „щина“. Впрочем, я бы так, вероятно, и начал биографию Штерера, если б...».
492
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
60 Другая существенная идея связана с представлением
о возможности сплошности мира, состоящей, однако, не из
материи, но из движения (время как чистое движение) и с гипотезой «одновременной» («сразу») данности всего времени.
«Если представить [...], что сплошность этого мира не из материи, а из движения (время и есть чистое движение), то его
нельзя мыслить иначе как в виде системы круговращений,
стремящихся из себя в себя. Как в механизме часов вращающие друг друга крути передают — в известной пространственной по еле д о в am ел ьности —с зубцов на зубцы толчок пружины, так и в механизме времени специфически присущая ему последовательность перебрасывает „вращающийся
миг“ с оси на ось в длиннящееся далее; но оси, отвращав,
остаются там, где были, — короче, время дано сразу и всё,
но мы клюем его, так сказать, по зерну, в раздерге секунд».
61 «Т]рение» одного об другое — важная характеристика в мире Кржижановского. Глаголы тереться, шелестеть,
шуршать, шаркать, скрежетать и под. часты в его текстах.
В «аудитивном» коде они сигнализируют о неких важных
«подвижных», изменяющихся контактах, отсылающих, если
угодно, не столько к составу контактирующего, сколько к фактуре того, что приходит в контакт друг с другом.
62 Понятие трения у Кржижановского также имеет непосредственное отношение к некоей важной структурной
особенности мира и лишний раз подчеркивает идею относительности и этого мира, и всего, что в нем пребывает. Строго
говоря, трение как минимум предполагает движение одного
(активного) о другое (пассивное), трущегося о то, что является объектом трения. В «эйнштейновской» Вселенной писателя
вполне возможно поменять местами субъект и объект трения,
а сама возможность этих двух типов описания после Эйнштейна стала трюизмом. Но для Кржижановского важна не только
и, может быть, не столько сама эта относительность, сколько
следствие из нее и объяснения, почему в его «минус-мире» делается именно такой, а не иной выбор, почему одно признается реальным, а другое нереальным. Отталкиваясь от рассказа ^Боковая ветка» (1927-1928), где на реальность, явь, на право; представлять их претендует «портфель», готовый «живую
жизнь» объявить вымыслом, М. Л. Гаспаров (Мир Сигизмунда
Кржижановского // Октябрь, 1990, № 3, с. 201) заостряет эту
тему трения и то, как ничтожное и мертвящее распоряжается
присвоенным самовольно правом судить о подлинном и не¬
493
Приложения
подлинном. Поезд уносит героя в страну снов, где люди живут
во сне и спят наяву. «В самом деле: давно уже сказано, что если
сделать сны продолжающими друг друга, а явь прерывистой,
то сны покажутся явью, а явь — снами. Но пропаганда давно
приучила всех видеть единые сны, простейше-связные, а газеты давно целиком обновляют мир каждое утро. Сон блаженства, единый сон о единении. Действительность защищается, но закрытые глаза ее не видят. Легкий сон не выдерживает
трения о действительность, а тяжелый хорошо ассимилируется с жизнью. Хорошо просненные подушки; подушки нового
образца, набитые как портфели, цифрами и диаграммами. Все
на тяжелую индустрию тяжелых снов! Оптовая поставка утопий. Вечерние курсы ночных видений. Дневное оцепенение,
ночная страда: кошмароделы и экспедиторы фантомов торопятся... Как меняются местами сон и явь, так меняются вымысел и действительность. Персонажу обидно быть выдумкой
какого-то выдумщика; и он доказывает, что не автор измышляет его, а он измышляет автора. Выйдя из книги, такой персонаж обычно становится критиком книг: ему жизненно необходимо, чтобы все поверили, что Рудин или Пигасов — выдумка,
а он, слабая их копия — реальность. Не потому ли о Тургеневе
преимущественно пишут пигасовы, о Достоевском — ферды-
щенки, а о Грибоедове — молчалины? Если персонаж особенно энергичен, он может и убить своего автора — например, на
дуэли. Но он этого не делает, потому что тогда-то станет ясно,
что без автора он ничто (сюжет шварцевской „Тени“? Да, но на
десять лет раньше)».
63 В этой связи, конечно, трудно пройти мимо физической теории времени, выдвинутой в трудах Н. А. Козырева, где
некоторые важнейшие положения обязаны своим происхождением (помимо прочего) и острой интуиции (порождение
временем энергии неядерного происхождения и др.). Среди
общих идей, хотя и выступающих в разных контекстах, нужно отметить «физичность» времени, его активные (помимо
пассивных, например, — длительность) физические свойства
(плотность, «материальность», «тяжесть», текучесть), противостоящие энтропической тенденции (отсюда формулировка
того, что можно было бы назвать «четвертым» началом термодинамики), «энергетичность» времени, способного влиять на
изменение массы и веса тела, изменение формы тел (ср. асимметрию фигур планет) и участвовать в устроении мира. См.:
Козыревы. А Избранные труды. СПб., 1991, с. 335-400.
494
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
Наконец, нельзя не отметить, что в широкой перспективе отдельные интуитивные прозрения Кржижановского относительно времени и, пожалуй, общая направленность его идей
в этой области предвосхищают не столько конкретные открытия физики последнего периода в этой области (хотя и здесь
есть заслуживающие внимания аналогии), сколько рефлексии («метафизику») современных физиков, химиков, астрономов о времени. К рубежу XIX-XX вв. обозначился призрак
«конца» физики, ее исчерпанности, однако последующие годы
не только опровергли это чувство (или ожидание) конца, но
к очередному рубежу XX-XXI вв. наука оказалась перед столь
хаотической картиной мира, что хаос становится предметом
возможной науки (ср. коллоквиум на тему «Хаос — новая наука», проведенный несколько лет назад И. Р. Пригожиным).
Сам Пригожин в недавнем интервью («Поиск», № 10 /200/,
5-11 марта 1993, с. 3) более рельефно и популярно, чем в своих научных трудах, говорит о «новой» концепции времени.
«Я полагаю, что большинство ученых все-таки склоняются
к мысли о возникновении новой науки. Иногда ее ассоциируют с идеей хаоса. Я не думаю, что это хорошая ассоциация, потому что хаос — нечто непредсказуемое, и некоторый негативный оттенок, конечно, имеется. Я бы скорее сказал, что главное сейчас в науке — переоткрытие понятия времени,
выход его на первый план. Потому что основным понятием
классической науки было понятие о Вселенной вне времени
или без времени, о Вселенной с вечными законами, Вселенной
без событий. Мы же теперь живем с постоянным ощущением времени, ощущением истории. Мы видим, что постоянно происходят различные события, например, в космологии с теорией „большого взрыва“ или в отношении создания
жизни. И мы в своей повседневной жизни переживаем постоянные моменты истории [...] Я считаю, что величайшее событие нашего века — это придание Вселенной ощущения времени. Придание смысла понятию времени. [...] В своих последних работах я попытался осмыслить, каким образом можно
было бы ввести фактор времени или понятие времени в фундаментальную физику. Но, разумеется, время входит в уравнение Ньютона, как оно входит в античную механику. Но время
Ньютона — это время вещей, время траекторий, координат, количества движения. А мне кажется, что существует еще и другое время, которое связано не с предметами, а с отношениями между предметами. Например, я могу сказать в отношении
495
Приложения
себя. Я уверен, что атомы, из которых я сделан, бессмертны,
в то время как я не бессмертен. И вот это время, мой возраст,
связано с взаимоотношениями, взаимодействием между атомами, а не с каждым отдельным атомом, потому что это было
бы время по Ньютону. Это релятивистское время и есть второе
время, которое охватывает связь и взаимоотношения между
частицами, это как раз то время, благодаря которому мы получаем новое представление об окружающем нас мире. Это время охватывает взаимоотношения между частицами, между всё
большими пространствами, между странами. Введение этого
понятия времени в уравнения динамики — в этом и заключается моя задача [...].
Сейчас наука больше направлена на человеческие
проблемы, на личность. Но что такое Вселенная во времени,
что означает понимать Вселенную? Мы из Платона знаем, что
можно понять только вневременные истины, такие как геометрия, а все остальное мы просто воспринимаем благодаря нашим органам чувств, и потому невозможно понять время, —
говорит Платон. Однако сейчас речь идет именно о том, чтобы
понять время. Но понять время — это означает создать новое
виудение, новое понимание мира, создать новые математические орудия, новые физические средства, новые философии,
которые отличаются от традиционных».
64 Как сообщает В. Г. Перельмутер в примечаниях к этому рассказу в книге: Кржижановский С. Возвращение Мюнхгаузена. Л., 1990, с. 569, авторская рукопись, хранящаяся в ЦГАЛИ, ошибочно помечена 1927 годом.
65 Там же, с. 569.
66 Этот мотив перешел в «Клуб убийц букв», рассказ, написанный в непосредственно следующий за «Автобиографией трупа» отрезок времени. Во всяком случае в письме из Коктебеля от 2 августа 1926 г. писатель сообщает: «В мастерской
Максимилиана Александровича по утрам дочитывал ему —
с глазу на глаз — „Клуб убийц букв“ [...]».
67 Нужно напомнить, что философия «я», возникшая
в начале XIX века (ср. «System des transcendentalen Idealismus»,
1800, и особенно «Vom Ich als Prinzip der Philosophie» Шеллинга), вскоре же вызвала первый научный вариант «филологии
„я“», каковым были работы Гумбольдта, трактующие проблему
«лично-местоименности», отчасти «поссессивности» и соотношения «субъективного» и «объективного» в этой сфере. Не менее показательно, что спустя сто лет «философия „я“» и «фи-
496
«Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского
лология (или, точнее, лингвистика) „я“» практически одновременно снова вышли на сцену. Проблема «другого» (Бубер,
Гейдеггер, Марсель, Бахтин и др.), выдвинутая в 20-е годы, вызвала новое обращение к проблеме „Я“ как в ее лингвистическом, так и философском аспектах (ср. Cassirer E. Philosophie
der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache. Berlin, 1923,
S. 208 и след., в частности, в связи с понятиями «Ichgefühl»
и «Ichbegriff»). В этот круг, как теперь становится ясно, по праву должен быть включен и Кржижановский.
68 Кажется, этот пример позволяет заключить о непосредственном знакомстве писателя с книгой Кассирера, во
всяком случае в той ее части, которая посвящена проблеме „Я“.
69 О патофизиологических механизмах подобных навязчивых состояний см.: Scientific symposium on obsessive
compulsive neuroses and phobic disorders. Cambridge, 1977 и др.
[1992]
Два письма
В МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЪВДИНЕНИЕ
АРХИВОВ (МОСГОРАХИВ)
В связи с осуществлением Государственной программы,
созданием в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии Наук (ИМЛИ РАН) «Истории русской
литературы XX века», убедительно просим помочь установить
место захоронения одного из крупнейших представителей
русской литературы первой половины XX века СИГИЗМУНДА ДОМИНИКОВИЧА КРЖИЖАНОВСКОГО (1887 г. р.), проживавшего по адресу: Москва, Арбат, 44, кв. 5 (или: Москва, Земледельческий, 3) и скончавшегося 28 декабря 1950 г.
Зав. Отделом рукописей ИМЛИ М. А. Айвазян
В ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМ. А. М. ГОРЬКОГО
Зав. Отделом рукописей Айвазяну М. А.
На Ваш запрос об установлении места захоронения писателя Кржижановского С. Д. в г. Москве сообщаем, что сведениями данного характера наш архив не располагает.
23.05.2000
Зав. Сектором Центрального муниципального архива
Москвы (ЦМАМ)
Г. А. Шорохова
498
«Упоминательная клавиатура»
Сигизмунда Кржижановского
Деятели культуры и прочие исторические
личности, чьи имена и труды фигурируют
в его сочинениях1
Вынесенный в заглавие манделыптамовский термин
(Разговор о Данте, глава II) в разговоре о Кржижановском имеет куда больше смысла, нежели традиционно-привычный «Указатель имен», который, во-первых, выглядел бы, так скажем,
несколько странно в собрании сочинений, более трех четвертей которого — сочинения художественные, во-вторых, будучи несомненным «техническим подспорьем» для нынешних
и будущих исследователей (а создание такового, откровенно
говоря, в число задач составителя шеститомника не входило),
для абсолютного большинства читателей был бы, если не вовсе бесполезным, то, во всяком случае, малосущественным.
Уже говорилось о том, что размышления — письменные — Кржижановского о Шекспире или Пушкине, Шоу или
Чехове, словом, о любом писателе, чьи сочинения попадают
в магнитное поле его мысли и расщеп пера, непременно связаны с его собственными творениями, что он читает других так,
как хотел бы — чтобы читали его самого.
Потому решено было поступить, если угодно, по его
подсказке, отчетливо слышимой в статье «Бернард Шоу
и книжная полка» (IV, с. 546-568). То есть создать нечто вроде наброска важнейшей для постижения этого писателя темы
«Сигизмунд Кржижановский и книжная полка», очертить круг
имен — и мыслей, — в котором бытуют, действуют и размышляют не только сам автор, но и его персонажи. Ибо впечата-
ляющая эрудиция писателя совершенно органично включе¬
1 Замысел и составление — Иоанны Делекторской.
499
Приложения
на в его мышление, а значит — и в поэтику, где энергия мысли
упорядочивает и направляет сюжетное взаимодействие образов-понятий, естественно включая их движение в обширный
культурно-исторический контекст.
Правда, в этом случае следует говорить скорее не о палке, но о библиотеке, освоенной Кржижановским в пору подготовки к писательству и размещенной в его памяти так, чтобы понадобившееся находилось мгновенно и практически
безошибочно.
Напомню, что три первых тома сложены с максимально возможным приближением к воле автора: сюда вошли все
произведения, включенные им в машинописные варианты
книг, — и в той последовательности, какая задана Кржижановским. Четвертый, где собраны его размышления о литературе
и театре, а также пятый и шестой, о составе и структуре которых в преамбуле к комментариям сказано достаточно, чтобы
здесь не повторяться, призваны, по замыслу составителя, дать
читателю наивозможно более объемное и полное представление о творческом наследии этого писателя, о масштабах сделанного им — и замысленного, но, по известным причинам, не
осуществленного.
В составленном перечне приводятся лишь первые
упоминания имен в каждом из пяти томов. Таким образом для каждого тома обозначается часть библиотеки, в нем
присутствующая.
На первом плане, естественно, — то, что с полным основанием можно назвать рабочей полкой Кржижановского,
регистром клавиатуры, которым он пользуется постоянно и,
по собственному выражению, с пианистической беглостью.
Имена двадцпати четырех авторов, чьи мысли и сочинения сопутствуют ему почти всегда, о чем бы он ни думал и ни писал,
цитаты и реминисценции из которых чаще всего употребляет
без ссылок и нередко — если иноязычные — в собственных переводах. Сюда же отнесены те, кому посвящены его отдельные
работы (например, Лермонтов, По или Островский).
Пояснения к этим именам представляются — для читателей Кржижановского — излишними.
Во второй части перечня — все остальные.
Имена, упомянутые в письмах Кржижановского, — как
вошедшие, так и не попавшие в его сочинения, — сюда не
включены.
500
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
I
Алигьери Данте (1265-1321)
Аристотель (384-322 до н. э.)
Белый Андрей (Борис Николаевич Бугаев, 1880-1934)
Блок Александр Александрович (1880-1921)
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831)
Гейне Генрих (1797-1856)
Гете Иоганн Вольфганг (1749-1832)
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852)
Декарт Рене (1596-1650)
Кант Иммануил (1724-1804)
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646-1716)
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841)
Островский Александр Николаевич (1823-1886)
Платон (428 или 427 - 348 или 347 до н. э.)
По Эдгар Алан (1809-1849)
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837)
Свифт Джонатан (1667-1745)
Спиноза Бенедикт (Барух, 1632-1677)
Таиров (Корнблит) Александр Яковлевич (1885-1950)
Фихте Иоганн Готлиб (1762-1814)
Чехов Антон Павлович (1860-1904)
Шекспир Уильям (1564-1616)
Шопенгауэр Артур (1788-1860)
Шоу Джордж Бернард (1856-1950)
501
Приложения
II
Абеляр Пьер (1079-1142) — французский философ, богослов,
поэт — IV, с. 16
Августин Блаженный Аврелий (ок. 354-430) — христианский
богослов и церковный деятель, философ — I, с. 107;
II, с. 101; IV, с. 8; V, с. 283
Авенариус Рихард (1843-1896) — швейцарский философ — IV,
с. 12; V, с. 288
Аверроэс (Ибн Рушид, 1126-1198) — врач и философ, представитель арабского аристотелизма — II, с. 106
Адлер Альфред (1870-1937) — австрийский врач-психиатр
и психолог, ученик Фрейда, основатель индивидуальной психологии — I, с. 446
Аксенов Иван Александрович (1884-1935) — поэт, литературный и художественный критик, театральный деятель —
IV, с. 120
Аларих (ок. 370-410) — король вестготов — IV, с. 550
Александр Македонский (356-323 до н. э.) — македонский царь,
один из великих полководцев античности — III, с. 398
Алехин Александр Александрович (1892-1946) — гроссмейстер, чемпион мира по шахматам — И, с. 155
Алкей (конец VII в. - I пол. VI в. до н. э.) — древнегреческий лирик — IV, с. 86
Алтаузен Джек (Яков) Моисеевич (1907-1942) — поэт — V,
с. 613
Аль-Газари (Аль Газали) (1058/1059-1111) — исламский философ и теолог — III, с. 426
Альтенберг Петер (Рихард Энглендер, 1859-1919) — австрийский писатель-импрессионист — I, с. 371; IV, с. 680
Амфитеатров Александр Валентинович (1862-1938) — писатель — ГУ, с. 695
Андерсен Адольф (1818-1879) — немецкий шахматист — IV,
с. 124
Андерсен Ханс Кристиан (Ганс-Христиан, 1805-1875) — датский писатель — I, с. 311; IV, с. 473; V, с. 409
Аретино Пьетро (1492-1556) — итальянский писатель и публицист — IV, с. 374
Ариосто Лудовико (1474-1533) — итальянский поэт — IV,
с. 355; V, с. 460
502
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Аристофан (ок. 445 — ок. 386 до н. э.) — древнегреческий комедиограф — И, с. 129; IV, с. 145; V, с. 418
Аросев Александр Яковлевич (1890-1938) — партийный и государственный деятель, писатель — I, с. 532
Архилох (650 до н. э. - ?) — древнегреческий лирик — IV, с. 86
Арчер Вильям (1856-1924) — английский драматург — IV, с. 549
Асеев Николай Николаевич (1889-1963) — поэт — V, с. 613
Бабочкин Борис Андреевич (1904-1975) — актер, народный
артист РСФСР — V, с. 318
Бабур Змхмреддин Мухаммед (1483-1530) — основатель государства Великих Моголов — III, с. 438
Багрицкий Эдуард Георгиевич (Эдуард Годелевич Дзюбин,
1895-1934) — поэт, переводчик — III, с. 492; V, с. 345
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788-1824) — английский поэт
и драматург — IV, с. 83; V, с. 500
Бальзак Оноре де (1799-1850) — французский писатель — III,
с. 433; V, с. 267
Банвилль Теодор (1823-1891) — французский поэт — IV, с. 572
Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800-
1844) — поэт, прозаик — IV, с. 468
Барт Генрих (1821-1865) — немецкий историк, филолог, географ-путешественник — IV, с. 605
Батурин Александр Иосифович (1904-1983) — певец — V,
с. 614
Батюшков Константин Николаевич (1787-1855) — поэт — V,
с. 267
Бах Иоганн Себастьян (1685-1750) — немецкий композитор
и органист — V, с. 312
Беллини Джованни (1430-1516) — итальянский живописец —
V, с. 454
Вельский Владимир Иванович (1866-1946) — оперный либреттист — IV, с. 680
Бемэ (Бёме) Якоб (1575-1624) — немецкий философ — I,
с. 116; IV, с. 39; V, с. 161
Бенелли Сем (1877-1949) — итальянский поэт и драматург —
IV, с. 643
Бенкендорф Александр Христофорович (1781 или 1783 -
1844) — русский военный и государственный деятель —
IV, с. 469
Бентам Иеремия (1748-1832) — английский законовед — IV,
с. 571; V, с. 285
503
Приложения
Бенуа Александр Николаевич (1870-1960) — художник, историк искусства — IV, с. 91
Бербедж Джемс (ок. 1530-1597) — английский театральный
деятель — IV, с. 257
Бергсон Анри (1859-1941) — французский философ — IV,
с. 69; V, с. 288
Бердяев Николай Александрович (1874-1948) — философ — V,
с. 483
Беркли Джордж (1685-1753) — английский философ — I,
с. 125; IV, с. 40; V, с. 281
Бернар Сара (1844-1923) — французская актриса — И, с. 27; V,
с. 445
Берне Людвиг (1786-1837) — немецкий публицист и литературный критик — И, с. 15
Бернини Джованни Лоренцо (1598-1680) — итальянский архитектор и скульптор — И, с. 158
Бернулли Якоб (ум. 1583) — швейцарский математик — И,
с. 233
Бетховен Людвиг ван (1770-1827) — немецкий композитор —
И, с. 256; III, с. 78; V, с. 172
Бёрк Эдмунд (1729-1797) — английский оратор и писатель —
IV, с. 393
Блок Александр Львович (1852-1909) — юрист, профессор права Варшавского университета, отец А. А. Блока — V, с. 507
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836-1921) — драматург, критик, романист — IV, с. 670
Бомонт Фрэнсис (ок. 1584-1616) — английский драматург —
IV, с. 182
Бонди Сергей Михайлович (1891-1983) — литературовед,
пушкинист — IV, с. 413
Ботвинник Михаил Моисеевич (1911-1995) — шахматист,
чемпион мира по шахматам — IV, с. 117
Браге Тихо (1546-1601) — датский астроном — V, с. 331
Брайт Джон (1811-1889) — английский политический деятель — IV, с. 546
Брандес Георг Морис Кохен (1842-1927) — датский литературный критик — IV, с. 196
Брант Себастьян (1457/1458-1521) — немецкий писатель-гуманист — IV, с. 83
Браунинг Роберт (1812-1889) — английский поэт — I, с. 388
Бредлоу Чарльз (1833-1891) — английский журналист, политический деятель — ГУ, с. 568
504
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Брейгель Питер Старший (1525-1569) — нидерландский живописец и рисовальщик — I, с. 394
Бриэ Эжен (1858-1932) — французский драматург — IV, с. 60
Бродский Николай Леонтьевич (1881-1951) — литературовед — IV, с. 416
Бруно Джордано Филиппе (1548-1600) — итальянский философ и поэт — И, с. 248; V, с. 284
Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924) — поэт, прозаик, драматург, критик, литературовед, переводчик — IV, с. 417;
V, с. 268
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789-1859) — писатель, журналист — IV, с. 469; V, с. 512
Бунин Иван Алексеевич (1870-1953) — прозаик, поэт, переводчик — IV, с. 595
Буридан Жан (ок. 1300-1358) — французский философ-схоласт — I, с. 103; V, с. 289
Бэкон Роджер (1214-1294) — английский философ и естествоиспытатель, францисканец — И, с. 595
Бэкон Фрэнсис (1561-1626) — английский философ, родоначальник английского материализма и методологии
опытной науки — II, с. 208; IV, с. 25
Бэн (Бен) Александр (1818-1903) — английский философ,
представитель ассоциативной психологии — I, с. 519
Бэрбедж Ричард (ок. 1567-1619) — английский актер, премьер
труппы театра «Глобус», друг Шекспира, первый исполнитель роли Гамлета — И, с. 27; IV, с. 370
Бюффон Жорж-Луи Леклерк де (1707-1788) — французский
естествоиспытатель — IV, с. 512
Вагнер Николай Петрович (псевд. Кот Мурлыка, 1829-1907) —
зоолог, прозаик — IV, с. 19
Вагнер Рихард (1813-1883) — немецкий композитор, дирижер — IV, с. 680
Ваккенродер Вильгельм Генрих (1773-1798) — писатель-романтик, теоретик романтизма — III, с. 231
Варшер Сергей Абрамович (1854-1889) — историк литературы - IV, с. 372
Вебер Эрнст Генрих (1795-1878) — немецкий анатом и физиолог, один из основоположников экспериментальной
психологии — I, с. 452
Ведекинд Франк (1864-1918) — немецкий поэт и драматург —
IV, с. 564
505
Приложения
Веллингтон Артур Уэсли (1769-1862) — английский полководец и политический деятель — И, с. 150
Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805-1827) — поэт,
философ, критик — IV, с. 468
Вергилий Марон Публий (70-19 до н. э.) — римский поэт —
V, с. 94
Верещагин Василий Васильевич (1842-1904) — живописец-
баталист — III, с. 592
Веймер Маргарита Жозефина (псевд. М-ль Жорж, 1787-
1867) — французская актриса — I, с. 530
Верн Жюль (1928-1905) — французский писатель, один из создателей жанра научно-фантастического романа — IV, с. 687
Верди Джузеппе Фортунино Франческо (1813-1901) — итальянский композитор — V, с. 454
Верн Жюль Габриэль (1828-1905) — французский писатель,
один из создателей жанра научно-фантастического романа — IV, с. 687; V, с. 397
Веронезе Паоло (1528-1588) — венецианский живописец
Позднего Возрождения — IV, с. 329
Веснин Александр Александрович (1883-1959) — архитектор,
художник, сценограф — IV, с. 639
Веспуччи Америго (между 1451 и 1454 - 1512) — итальянский
мореплаватель — IV, с. 130
Виктор Эммануил II (1820-1878) — первый король единой
Италии нового времени — V, с. 456
Виндельбандт Вильгельм (1848-1915) — немецкий философ-
неокантианец — I, с. 121
Винокур Георгий Осипович (1896-1947) — языковед и литературовед — IV, с. 416
Волькенпггейн Владимир Михайлович (1883-1974) — драматург, теоретик драмы — IV, с. 641
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694-1778) — I, с. 300; IV, с. 33;
V, с. 280
Воронов Сергей Александрович (1866-1951) — биолог и хирург — IV, с. 39
Вудворт Вильям Э. (1875-?) — американский писатель — И,
с. 585
Вундт Вильгельм (1832-1920) — немецкий психолог, физиолог, философ, языковед, один из основоположников
экспериментальной психологии — IV, с. 195; V, с. 501
Выспянский Станислав (1869-1907) — польский драматург,
поэт, теоретик театра, художник — IV, с. 58
506
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Вяземский Петр Андреевич, князь (1792-1878) — поэт, критик,
мемуарист — V, с. 267
Вяткин Василий Лаврентьевич (1869-1932) — археолог — III,
с. 383
Гааз Федор Петрович (1780-1853) — старший врач московских тюремных больниц, чье имя стало символом милосердия к «падшим» — И, с. 194; IV, с. 637
Гай Петроний Арбитр (ум. 66) — римский писатель-сатирик —
V, с. 318
Гаман Рихард (1879-1946) — немецкий теоретик и историк
искусства, кантианец — I, с. 121; IV, с. 700
Гаррис Франк (1855/1856-1931) — английский литературовед — IV, с. 567
Гауптман ГЬрхарт (1862-1946) — немецкий драматург, поэт,
прозаик — IV, с. 61
Гафур Гулям (1903-1966) — узбекский поэт — III, с. 440
Гвидо де Верона (да Верона, 1881-1930) — итальянский писатель школы Габриэля д’Аннунцио — IV, с. 12
Гельдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1770-1843) — немецкий поэт и мыслитель — I, с. 109
Гейзе Пауль (1830-1914) — немецкий писатель — IV, с. 679
Гейлинкс Арнольд (1624-1669) — нидерландский философ —
V, с. 289
Геккель Эрнст (1834-1919) — немецкий зоолог и философ —
IV, с. 128
Гекели (Хаксли) Олдос (1894-1963) — английский писатель —
IV, с. 546
Геминдж (Хеминдж, Хемминг) Джон (1556-1630) — английский артист и театральный деятель — IV, с. 322
Гендерсон Арчибальд (1877-1963) — английский литературовед — IV, с. 559
Геннекен Эмиль (1858-1888) — французский критик — I,
с. 355; IV, с. 694
Гераклит Темный из Эфеса (IV-V вв. до н. э.) — древнегреческий философ — I, с. 120; V, с. 130
Гербарт Иоганн Фридрих (1776-1841) — немецкий философ,
психолог и педагог — IV, с. 685
Гербель Николай Васильевич (1827-1883) — поэт, переводчик — IV, с. 163
Герберпггейн Сигизмунд (I486-1566) — германский дипломат,
мемуарист — I, с. 546; И, с. 521
507
Приложения
ГЬрвинус Георг Готфрид (1805-1871) — немецкий историк, литературовед (представитель культурно-исторической
школы) — IV, с. 252
Геринг Эвальд (1834-1918) — немецкий физиолог, автор одной из теорий цветового зрения — I, с. 475
Герхардт Карл Иммануил (1816-1899) — немецкий историк
науки — IV, с. 563
Герцен Александр Иванович (1812-1870) — писатель и публицист — V, с. 362
Гершензон Михаил Осипович (1869-1925) — историк литературы и общественной мысли, пушкинист — IV, с. 416
Шнденбург Пауль фон (1847-1934) — немецкий военный
и политический деятель, президент Германии (1925-
1934) - III, с. 464
Глинка Михаил Иванович (1804-1857) — композитор, один из
основоположников русской классической музыки — V,
с. 363
Гоббс Томас (1588-1679) — английский философ — I, с. 113; IV,
с. 181; V, с. 421
Говард Джон (1725/1726-1790) — английский филантроп — И,
с. 194
Гогоцкий Сильвестр Сильвестрович (1813-1899) — русский
философ — И, с. 520
Голиншед (Холиншед) Рафаэль (ок. 1529-1580) — английский
хронист — IV, с. 239
Гольдберг (Гольберг, Хольберг) Людвиг (1684-1754) — виднейший деятель скандинавского Просвещения — IV, с. 144
Шльдони Карло (1797-1793) — итальянский драматург — IV, с 113
Гомер — легендарный древнегреческий поэт-сказитель, которому приписывается создание «Илиады» и «Одиссеи» —
V, с. 279
Гораций Флакк Квинт (65-8 до н. э.) — римский поэт — И,
с. 109; IV, с. 391; V, с. 302
Гонгора-и-Арготе Луис де (1561-1627) — испанский поэт — V, с 278
Горький Максим (Алексей Максимович Пешков, 1868-1936) —
писатель, публицист, общественный деятель — III,
с. 429; IV, с. 607; V, с. 268
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776-1822) — немецкий писатель и композитор — IV, с. 644
Гоцци Карло (1720-1806) — итальянский драматург — II, с. 305
Гракх Тиберий (162-133 до н. э.) — римский народный трибун — I, с. 405
508
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Гранвиль Жан (1803-1847) — французский рисовальщик-карикатурист и книжный иллюстратор — IV, с. 568
Грибоедов Александр Сергеевич (1795-1829) — драматург, поэт, дипломат — I, с. 357; V, с. 274
Грин (Гриневский) Александр Степанович (1880-1932) — писатель — I, с. 532
Грин Джон Ричард (1837-1883) — английский историк — IV,
с. 182
Гумбольдт Александр (1769-1859) — немецкий естествоиспытатель и путешественник — III, с. 258
iyc Ян (1371-1415) — национальный герой чешского народа,
проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации — V, с. 308
Гуссерль Эдмунд (1859-1938) — немецкий философ, глава феноменологической школы — ГГ, с. 402
Г&реборд Адриан (ум. 1661) — нидерландский философ-картезианец — Г, с. 162
Пойо Мари-Жан (1854-1888) — французский философ — V,
с. 288
Да Винчи Леонардо (1452-1519) — итальянский живописец,
скульптор, архитектор, ученый и инженер — ГГГ, с. 288
Д’Аламбер Жан Лерон (1717-1783) — французский философ-
просветитель и математик — ГУ, с. 241
Даль Владимир Иванович (1801-1872) — ученый, писатель,
автор «Толкового словаря живого великорусского языка» — V, с. 35
Дамаскин Иоанн (675-749) — православный ученый-богослов
и религиозный писатель — Г, с. 114.
Даниловски Густав (1872-1927) — польский поэт и новеллист — V, с. 397
Д’Аннунцио Габриеле (1863-1938) — итальянский поэт, прозаик, драматург, политический деятель — ГУ, с. 101
Дарвин Чарльз Роберт (1809-1882) — английский естествоиспытатель — ГГ, с. 1б7; TV, с. 568
Даргомыжский Александр Сергеевич (1813-1869) — композитор — rv, с. 682
Д’Арк Жанна (1412-1431) — национальная героиня Франции,
одна из главнокомандующих французскими войсками
в Столетней войне — V, с. 326
Деккер Эдуард Дауэс (псевд. Мультатули, 1820-1887) — нидерландский писатель, публицист, критик — ГУ, с. 19
509
Приложения
Де Костер Шарль (1827-1879) — бельгийский писатель — V, с. 352
Де Лиль Руже (1760-1836) — французский поэт и композитор — V, с. 172
Дельвиг Антон Антонович (1798-1831) — поэт, издатель, друг
и одноклассник А. С. Пушкина — V, с. 274
Де Лярманди Леон (1851 -1921) — французский эзотерик и писатель — V, с. 397
Демокрит из Абдер (ок. 470 — ок. 380) — древнегреческий философ — I, с. 112
Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов, 1883-1945) —
поэт — IV, с. 607; V, с. 385
Державин Гаврила Романович (1743-1816) — поэт — V, с. 268
Дефо Даниэль (1660-1731) — английский писатель и публицист — IV, с. 673
Джемс (Джеймс) Уильям (1842-1910) — американский философ и психолог, один из основателей прагматизма — I,
с. 519; IV, с. 247
Джером Джером Клапка (1859-1927) — английский писатель — IV, с. 679
Джонсон Бенджамин (1573-1637) — английский драматург,
поэт, актер — IV, с. 183
Джонсон Самюэль (1709-1784) — английский критик, лексикограф, эссеист — IV, с. 30
Дигэ (Диге, Диггес) Леонард (1588-1635) — пасынок одного из
ближайших друзей Шекспира — IV, с. 231
Дидло Шарль (Карл) Луи (1767-1837) — французский балетмейстер — IV, с. 435
Дидро Дени (1713-1784) — французский писатель и философ - I, с. 114; И, с. 166; V, с. 285
Дилецкий (Дылецкий) Николай Павлович (ок. 1630 —
ок. 1680) — украинский и русский музыкальный теоретик, композитор — IV, с. 681
Диоген Лаэртский (1-я пол. III в.) — древнегреческий писатель - IV, с. 26; V, с. 352
Диоген Синопский (404-323 до н. э.) — древнегреческий философ — IV, с. 26
Добролюбов Николай Александрович (1836-1861) — критик,
публицист — V, с. 274
Додэ Альфонс (1840-1897) — французский писатель — III,
с. 642; IV, с. 698
Долидзе Виктор Исидорович (1890-1930) — композитор — I,
с. 540
510
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) — писатель — I,
с. 357; IV, с. 689; V, с. 275
Дузе Элеонора (1858-1937) — итальянская актриса — IV, с. 371
Дулова Вера Георгиевна (1909-2000) — арфистка — V, с. 614
Дюамель Жан Батист (1624-1706) — французский ученый —
II, с. 552.
Дюпрель Карл (1839-1899) — немецкий оккультный писатель
и философ-мистик — V, с. 288
Дюсис Жан Франсуа (1733-1816) — драматург, автор переложений Шекспира — IV, с. 297
Дю Террайль Понсон (1829-1871) — французский романист —
IV, с. 680
Екатерина II Великая (1729-1796) — российская императрица - I, с. 535; II, с. 165
Ермолова Мария Николаевна (1853-1928) — русская драматическая актриса — IV, с. 310
Есенин Сергей Александрович (1895-1925) — поэт — V, с. 319
Жандр Андрей Андреевич (1789-1873) — поэт, драматург, переводчик — IV, с. 389
Жирмунский Виктор Максимович (1891-1971) — литературовед — IV, с. 77
Жомини Антуан Анри (Генрих Вениаминович) (1779-1869) —
военный теоретик и историк, генерал от инфантерии —
IV, с. 432
Жуковский Василий Андреевич (1783-1852) — поэт — V, с. 267
Забелин Иван Егорович (1820-1908) — историк, археолог — I,
с. 522; II, с. 219
Замятин Евгений Иванович (1884-1937) — прозаик — III, с. 495
Зархи Натан Абрамович (1900-1935) — киносценарист и драматург — IV, с. 594
Зелинский Корнелий Люцианович (1896-1970) — литературовед, критик — IV, с. 131
Зикинген Франц фон (1481-1523) — германский полководец -1, с. 111
Зомберт (Зомбарт) Вернер (1863-1941) — немецкий экономист — I, с. 395
Зонтаг Генриетта (1806-1854) — немецкая певица — Ш, с. 537
Зощенко Михаил Михайлович (1894-1958) — писатель — V,
с. 319
511
Приложения
Зубов Алексей Федорович (1682-1750) — художник-гравер —
I, с. 519
Зунделович Яков Осипович (1893-1965) — теоретик литературы — IV, с. 390
Ибсен Генрик (1828-1906) — норвежский драматург и поэт —
IV, с. 60; V, с. 329
Иванов Иван Иванович (1862-1929) — литературовед и историк культуры — IV, с. 694
Игнатий (Брянчанинов), архимандрит (1807-1867) — русский
подвижник и духовный писатель XIX в. — V, с. 506
Ильф Илья Арнольдович (1897-1937) — писатель и журналист — V, с. 320
Инбер Вера Михайловна (1890-1972) — поэтесса — V, с. 613
Иоанн IV 1]розный (1530-1584) — русский царь — I, с. 545
Кабэ Этьен (1788-1856) — французский социалист-утопист,
автор книги «Путешествие в Икарию» — I, с. 41
Казадезюс Роберт Марсель (1899-1972) — французский пианист и композитор — V, с. 291
Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846-1924), ученый-естествоиспытатель, автор научно-популярных книг — V, с 178
Калиостро Алессандро (Джузеппо Бальзамо, 1743-1795) — итальянский авантюрист, алхимик и «чародей» — I, с. 314
Калита Иван Данилович (до 1296-1340) — князь московский,
великий князь владимирский — I, с. 545
Кальдерон дела Барка Педро (1600-1681) — испанский драматург — II, с. 10; IV, с. 12
Кампанелла Томмазо (1568-1639) — итальянский философ —
I, с. 118; V, с. 407
Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) — писатель,
историк — I, с. 540; V, с. 267
Катаев Валентин Петрович (1897-1986) — прозаик, поэт, драматург, мемуарист — III, с. 474
Катенин Павел Александрович (1782-1791) — поэт, драматург
и критик — IV, с. 418
Катулл Гай Валерий (ок. 67 — ок. 54 до н. э.) — римский поэт-
лирик — II, с. 109
Кваккиоли Энрико (1885-1954) — итальянский драматург —
IV, с. 664
Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35 — ок. 96) — римский оратор
и теоретик ораторского искусства — IV, с. 684
512
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Кембл Джон Филип (1757-1823) — английский актер и драматург — П, с. 27
Кёрр (Карр) Эдвард (1820-1889) — австралийский этнограф-
любитель — V, с. 497
Кин Эдмунд (1787-1833) — английский актер — II, с. 27; IV,
с. 350
Клаубергус Иоганн (1622-1665) — немецкий философ-картезианец — I, с. 162
Клдиашвили Серго Давидович (1893-1986) — грузинский писатель — IV, с. 141
Клеопатра VII Филопатор (69-30 до н. э.) — последняя царица эллинистического Египта из македонской династии
Птолемеев — V, с. 75
Клюзере Постав Поль (1823-1900) — французский политический деятель — П1, с. 597
Ключевский Василий Осипович (1841-1911) — историк — V, с. 192
Княжнин Яков Борисович (1742-1791) — драматург — IV, с. 421
Козьма (Косьма) Индикоплов (VI в.) — византийский географ,
путешественник — IV, с. 144
Колерус Йоханес (1647-1707) — лютеранский пастор в Гааге,
биограф Спинозы — I, с. 1б1
Коллис Джон Стюарт (1900-1984) — английский литературовед — IV, с. 551
Колумб Христофор (1451-1506) — мореплаватель — IV, с. 648
Кольцов Алексей Васильевич (1809-1842) — поэт — V, с. 269
Конан Дойл Артур (1859-1930) — английский писатель — IV,
с. 680
Конделл Генри (?-1б27) — английский театральный деятель —
IV, с. 322
Конт Опост (1798-1857) — французский философ, один из основоположников позитивизма и социологии — II, с. 267
Корб Иоганн Георг (1672-1741) — секретарь посольства австрийского императора Леопольда I ко двору Петра I
(1698-1699), автор книги «Дневник путешествия в Московию» (1866-1867) — I, с. 534.
Корнейчук Александр Евдокимович (1907-1972) — драматург — IV, с. 631
Корнель Пьер (1606-1684) — французский драматург — V,
с. 280
Коро Жан Батист Камиль (1796-1875) — французский художник-пейзажист — IV, с. 77; V, с. 500
Кост Пьер (1668-1747) — французский литератор — I, с. 333
513
Приложения
Красиньский Зыгмунд (1812-1859) — польский поэт — IV, с. 35
Краузе Вильгельм (1833-1910) — немецкий медик — III, с. 69
Краузе Карл Кристиан Фридрих (1781-1832) — немецкий философ — I, с. 108
Кромвель Томас (ок. 1485-1540) — английский государственный деятель — IV, с. 255
Кронеберг Андрей Иванович (1815 или 1816 - 1855) — переводчик, критик — IV, с. 297
Крукс Уильям (1832-1919) — английский физик и химик — I,
с. 499
Крылов Иван Андреевич (1769-1844) — баснописец, прозаик,
сатирик, журналист — IV, с. 351; V, с. 257
Кук Джеймс (1728-1779) — английский мореплаватель, руководитель трех кругосветных путешествий — II, с. 176
Купер Джеймс Фенимор (1789-1851) — американский писатель — IV, с. 569
Кьеркегор Сёрен (1813-1855) — датский религиозный философ — IV, с. 16
Лажечников Иван Иванович (1790-1869) — исторический романист, драматург, мемуарист — IV, с. 586
Лайелл (Лайель) Чарлз (1797-1875) — английский естествоиспытатель, геолог, юрист — IV, с. 69
Лальфилатр Жак Шарль Луи (1732-1767) — французский поэт — IV, с. 391
Ламарк Жан Батист (1744-1829) — французский естествоиспытатель — III, с. 48
Лассаль Фердинанд (1825-1864) — немецкий политический
деятель и писатель — III, с. 278; IV, с. 306
Лацарус Мориц (1824-1903) — немецкий философ — I, с. 223
Левидов Михаил Юльевич (1891-1942) — писатель, историк литературы, журналист, друг Кржижановского — V, с. 426
Левитан Исаак Ильич (1860-1900) — художник — V, с. 268
Легуве Эрнест (1807-1903) — французский поэт, прозаик — IV,
с. 684
Лежнев (Альтшуллер) Исай Григорьевич (1891-1955) — литературовед, публицист, редактор-издатель журнала «Россия» — I, с. 525
Ленау Николаус (1802-1850) — немецкий поэт — IV, с. 48
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) — политический деятель, лидер большевистской революции в России — V, с. 288
514
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Леопарди Джакомо (1798-1837) — итальянский поэт — IV, с. 83
Лесаж Ален Рене (1668-1747) — французский писатель — III,
с. 468; IV, с. 652
Лессинг Готхольд Эфраим (1729-1781) — немецкий драматург,
теоретик искусства, один из крупнейших представителей литературы европейского Просвещения — V, с. 265
Лесков Николай Семенович (1831-1895) — писатель — I, с. 352
Ли Хунчжан (1823-1901) — китайский государственный деятель, дипломат — II, с. 157
Ливингстон Давид (1813-1873) — шотландский исследователь
Африки — II, с. 276
Ло Джон (1671-1729) — шотландский финансист — III, с. 106
Лобачевский Николай Иванович (1792-1856) — русский математик, создатель неевклидовой геометрии — II, с. 410
Лодж Томас (1558-1625) — английский драматург, поэт, романист — IV, с. 355
Лозинский Михаил Леонидович (1886-1955) — поэт, переводчик — IV, с. 364
Локк Джон (1632-1704) — английский философ и педагог — V,
с. 285
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) — поэт, ученый-
естествоиспытатель, историк, филолог — V, с. 273
Лонгинов Виталий Витальевич (1886-1937) — химик, разрабатывал теоретические и практические методы получения химически чистых веществ — III, с. 462
Лондон Джек (Джон Гриффит, 1876-1916) — американский
писатель — IV, с. 671
Лорие Мария Федоровна (1904-1992) — переводчица — IV,
с. 553
Луи-Наполеон (Шарль Луи Наполеон III Бонапарт, 1808-
1873) — президент Французской республики, император французов; племянник Наполеона I — V, с. 288
Лукиан (ок. 117 — ок. 190) — греческий писатель и философ —
IV, с. 15
Лундберг Евгений Германович (1887-1965) — писатель, критик — IV, с. 40
Лунц Лев Натанович (1901-1924) — прозаик, драматург, публицист — V, с. 276
Мадач Имре (1823-1864) — венгерский поэт — IV, с. 35
Мазаниелло (1620-1647) — рыбак, возглавивший антииспан-
ское восстание в Неаполе (1647-1648) — III, с. 619
515
Приложения
Майер Юлиус Роберт (1814-1878) — немецкий естествоиспытатель и врач — I, с. 446
Макс Линдер (Габриель Левьель, 1883-1925) — французский
киноактер-комик — IV, с. 667
Макферсон Джеймс (1736-1796) — шотландский писатель —
И, с. 247
Мальбранш Николя (1638-1715) — французский философ —
V, с. 282
Маракуев Николай Николаевич (1847-1910) — математик, педагог — V, с. 500
Марат Жан-Поль (1743-1793) — деятель Французской революции — I, с. 405
Марешаль Морис (1892-1964) — французский виолончелист — V, с. 319
Марк Аврелий (121-180) — философ-стоик, римский император — IV, с. 21
Марк Антоний (83-30 до н. э.) — древнеримский политический деятель и полководец — V, с. 75
Марк Твен (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, 1835-1910) — американский писатель — IV, с. 114
Маркс Карл (1818-1883) — немецкий социолог, философ, экономист — II, с. 147; IV, с. 319; V, с. 21
Марлоу (Марло) Кристофер (1564-1593) — английский драматург — IV, с. 239
Мармонтель Жан-Франсуа (1723-1799) — французский писатель — IV, с. 432
Мароци Геза (1870-1951) — венгерский шахматист — V, с. 385
Мартино Гарриэт (1802-1876) — английская писательница —
IV, с. 546
Мартынов Алексей Александрович (1818-1903) — историк, археолог, архитектор — I, с. 522
Мах Эрнст (1838-1916) — австрийский физик, математик, философ — V, с. 500
Мацист (Мацисте) (Бартоломео Пагано, 1878-1947) — итальянский актер — IV, с. 676
Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930) — поэт — I,
с. 525
Мейер (Мейер-Любке) Вильгельм (1861-1936) — австрийский
языковед — IV, с. 605
Мендель Георг Иоганн (1827-1884) — австрийский естествоиспытатель, основоположник учения о наследственности — II, с. 67
516
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Мендельсон Моше (Мозес, 1729-1786) — еврейско-немецкий
философ — V, с. 283
Менений Агриппа (ум. 493 до н. э.) — римский политический
деятель — I, с. 336; IV, с. 321
Мериме Проспер (1803-1870) — французский писатель — II,
с. 247
Метерлинк Морис (1862-1949) — бельгийский драматург — IV,
с. 57
Метнер Николай Карлович (1879/1880-1951) — русский композитор и пианист, создатель жанра фортепианной
«сказки» — И, с. 579
Миклашевич (Миклашевичева) Варвара Семеновна (1722-
1846) — писательница, переводчица — IV, с. 389
Миллер Петр Николаевич (1867-1943) — историк Москвы, секретарь Комиссии по изучению старой Москвы — I,
с. 533
Милль Джон Стюарт (1806-1878) — английский философ, логик, экономист — I, с. 364
Минковский Герман (1864-1909) — немецкий математик
и физик — II, с. 408
Мирес Френсис (1565-1647) — английский литературный
критик — IV, с. 187
Мольер (Поклен) Жан-Батист (1622-1673) — французский
драматург — IV, с. 113
Мольтке Хельмут Карл Старший (1800-1891) — германский генерал-фельдмаршал и военный теоретик — V, с. 289
Моне Клод (1840-1926) — французский художник — IV, с. 561
Монтень Мишель (1533-1592) — французский философ, писатель — И, с. 444
Мопассан Ей де (1850-1893) — французский писатель — IV,
с. 685
Мор Томас (1478-1535) — один из основоположников утопического социализма — I, с. 492; IV, с. 134
Мори Альфред (1817-1892) — французский ученый, писатель-IV, с. 353; V, с. 181
Мори Жан-Сифрен (1746-1817) — выдающийся французский
проповедник, политический деятель и писатель — IV, с 353
Мертон Генри (Джон Роуленде, 1841-1904) — американский
журналист, исследователь Африки — II, с. 276
Морфи Пол Чарлз (1837-1884) — американский шахматист,
признанный величайшим шахматистом XIX века — IV,
с. 117
517
Приложения
Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791) — австрийский композитор и дирижер, скрипач-виртуоз, клавесинист, органист — V, с. 266
Мстиславский (Масловский) Сергей Дмитриевич (1876-
1943) — писатель — V, с. 348
Мусоргский Модест Петрович (1839-1881) — композитор —
IV, с. 682
Мюллер Макс (1823-1900) — английский филолог, историк
литературы и религии — IV, с. 361
Мюллер Фридрих (1834-1898) — австрийский языковед и этнограф — IV, с. 605
Мюссе Альфред де (1810-1857) — французский поэт — IV,
с. 698
Нащокин Павел Воинович (1801-1854) — коллекционер, друг
А. С. Пушкина — V, с. 274
Невай-и-Махтум-Кули (Махтумкули, псевд. Фраги, ок. 1730-
1780-е) — туркменский поэт — III, с. 458
Неккер Жак Франсуа (1732-1804) — французский государственный деятель — IV, с. 391
Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858-1943) —
режиссер, театральный деятель, драматург — IV,
с. 558
Непот Корнелий (ок. 99 - ок. 24 г. до н. э.) — римский историк — IV, с. 33
Ницше Фридрих (1844-1900) — немецкий философ — И,
с. 224; V, с. 282
Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877) — поэт, публицист — V, 274
Нечкина Милица Васильевна (1901-1985) — историк, академик — IV, с. 346
Новалис (Фридрих фон Харденберг, 1772-1801) — немецкий
поэт и философ — IV, с. 687
Новиков Николай Иванович (1744-1818) — просветитель, писатель, журналист — IV, с. 9
Ноткер Заика (лат. Balbulus — Заика; ок. 840-912) — музыкант, поэт и ученый, монах-бенедиктинец — И, с. 54; IV,
с. 681
Ньютон Исаак (1643-1727) — английский физик и математик— И, с. 177
Нэш Томас (1567 - ок. 1601) — английский драматург и сатирик — IV, с. 259
518
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Овидий Назон Публий (43 до н. э. - ок. 18 н. э.) — римский поэт - II, с. 110; IV, с. 391; V, с. 367
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853-1920) —
историк культуры, литературовед, лингвист — V, с. 497
Одетс Клиффорд (1906-1963) — американский драматург —
IV, с. 126
Одоевский Владимир Федорович (1804-1869) — писатель
и музыкальный критик — IV, с. 9
Озеров Владислав Александрович (1779-1816) — драматург —
IV, с. 421
Ойра (Айра) Олридж (1805-1867) — первый американский актер, завоевавший мировую славу исполнением шекспировских ролей — III, с. 488
Олеарий Адам (ок. 1599-1671) — немецкий путешественник
и ученый — I, с. 546
Олеша Юрий Карлович (1899-1960) — писатель — IV, с. 109; V,
с. 334
Оствальд Вильгельм (1853-1932) — немецкий физик-химик,
лауреат Нобелевской премии по химии — V, с. 489
Остужев (Пожаров) Александр Алексеевич (1874-1953) — российский актер-трагик — IV, с. 370
О’Флаэрти Дайам (1897-1984) — ирландский писатель — IV, с. 516
Павленко Петр Андреевич (1899-1951) — писатель — V, с. 269
Пальма Веккьо Джакомо (1480-1528) — итальянский живописец — V, с. 452
Панов Николай Андреевич (1862-1906) — поэт, драматург,
фельетонист — IV, с. 698
Парменид из Элеи (ок. 540 - 480 до н. э.) — древнегреческий
философ, глава школы элеатов — II, с. 444
Паскаль Блез (1623-1662) — французский математик, физик,
философ, писатель — I, с. 500; П, с. 248; IV, с. 166
Пастер Луи (1822-1895) — французский микробиолог и химик — II, с. 302
Пастернак Борис Леонидович (1890-1960) — поэт, прозаик,
переводчик — I, с. 526; V, с. 362
Патанджали — индийский философ II в. до н. э. — I, с. 401
Патти Аделина (1843-1854) — немецкая певица — III, с. 537
Петр I Великий (1672-1725) — российский император — III,
с. 306
Петрарка Франческо (1304-1374) — итальянский поэт — IV,
с. 391; V, с. 475
519
Приложения
Пиль Джордж (1558-1597) — английский драматург — IV,
с. 259
Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894-1938) — писатель —
I, с. 526
Пиндар (522 - ок. 442 до н. э.) — древнегреческий лирик — I,
с. 110
Пиотровский Адриан Иванович (1898-1938) — литературовед,
театровед, историк античного театра, переводчик — IV,
с. 219
Пиранделло Луиджи (1867-1936) — итальянский прозаик
и драматург — IV, с. 101
Пири Роберт Эдвин (1856-1920) — американский путешественник — V, с. 269
Пиррон из Элиды (ок. 365-275 до н. э.) — древнегреческий философ, основоположник античного скептицизма — I,
с. 115; II, с. 444; V, с. 132
Пифагор Самосский (570-490 до н. э.) — древнегреческий философ и математик — V, с. 282
Плетнев Петр Александрович (1792-1865) — поэт и критик —
IV, с. 394
Плутарх (ок. 46 - ок. 127) — древнегреческий писатель, историк и философ-моралист — IV, с. 239
Погодин Александр Львович (1872-1947) — филолог, славист,
историк — IV, с. 360
Погодин Михаил Петрович (1800-1875) — историк, писатель,
журналист, издатель — IV, с. 468
Полевой Николай Алексеевич (1796-1846) — писатель, критик, журналист и историк — II, с. 29
Поп Александр (1688-1744) — английский поэт — IV, с. 252
Постник (Посник) Яковлев (XVI в.) — русский зодчий — I,
с. 520
Потапов Петр (XVII в.) — русский архитектор — I, с. 520
Потебня Александр Афанасьевич (1835-1891) — филолог, литературовед, этнограф — IV, с. 77; V, с. 497
Пристли Джон Бойнтон (1894-1984) — английский писатель,
драматург — IV, с. 122
Прудон Пьер Жозеф (1809-1865) — французский философ,
социолог, экономист — IV, с. 27
Пшибышевский Станислав (1868-1927) — польский прозаик,
драматург — IV, с. 60
Пюви де Шаванн Пьер (1824-1898) — французский художник — I, с. 386
520
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Рабле Франсуа (1494-1553) — французский писатель, гуманист, один из крупнейших представителей литературы
Возрождения — II, с. 532
Радлова Анна Дмитриевна (1891-1949) — поэтесса и переводчица — IV, с. 150
Раймунд Сабундский (де Сабунде, XV в.) — испанский теолог
и философ-схоласт — IV, с. 13
Ранке Иоганнес (1839-1916) — немецкий антрополог и физиолог — И, с. 267
Распэ (Распе) Рудольф Эрих (1737-1794) — немецкий писатель — IV, с. 140
Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943) — композитор,
пианист и дирижер — V, с. 439
Режан Габриель (Габриель Шарлота Режю, 1856-1920) — французская актриса — IV, с. 371
Рейнгольд Карл Леонгард (1758-1823) — немецкий философ — V, с. 285
Рети Рихард (1889-1929) — чешский шахматист — IV, с. 554
Рёскин Джон (1819-1900) — английский искусствовед и историк — IV, с. 568
Риман Бенрхард (1826-1866) — немецкий математик — П, с. 408
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844-1908) — композитор — IV, с. 680
Рише Шарль (1850-1935) — французский иммунолог, нобелевский лауреат (1902) — II, с. 552; IV, с. 691
Робертсон Джон Маккинон (1856-1933) — английский шек-
спировед — IV, с. 302
Робеспьер Максимилиан (1758-1794) — деятель Французской
революции, один из лидеров якобинцев — I, с. 405
Роден Опост (1840-1917) — французский скульптор — I,
с. 371; IV, с. 559
Розен Егор Федорович, барон (1800-1860) — поэт, драматург — IV, с. 681
Роллан Ромен (1866-1944) — французский писатель, музыковед, общественный деятель — IV, с. 117; V, с. 28
Росси Эрнесто (1827-1896) — итальянский актер-трагик — И,
с. 24
Ростан Эдмон (1868-1918) — французский поэт и драматург — V, с. 420
Роу Николас (1674-1718) — английский драматург — IV, с. 324
Рубакин Николай Александрович (1862-1946) — книговед, библиограф и писатель — IV, с. 694
521
Приложения
Рукавишников Иван Сергеевич (1877-1930) — поэт — V, с. 275
Рулье Карл Францевич (1814-1858) — русский зоолог — V,
с. 411
Руссо Жан Жак (1712-1778) — французский философ, писатель — IV, с. 9; V, с. 286
Рюисдаль (Рейсдаль) Якоб Ван (1628/1629-1682) — голландский художник — IV, с. 77
Саади (Муслихадцин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифад-
дин, между 1203 и 1210 - 1292) — персидский поэт
и мыслитель — IV, с. 392
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826-1889) — писатель - IV, с. 580; V, с. 275
Сальвини Томмазо (1829-1915) — итальянский актер — II, с. 27
Саммердам Ян (1637-1685) — нидерландский биолог — IV,
с. 378
Санд (Занд) Жорж (Аманда Люсиль Аврора Дюпен, 1804-
1875) — французская писательница — IV, с. 671
Сатин Николай Михайлович (1814-1873) — поэт, переводчик— IV, с. 361
Сафо (Сапфо, ок. 610 - ок. 580 до н. э.) — древнегреческая поэтесса — IV, с. 86
Саша Черный (Александр Михайлович Гиикберг, 1880-1932) —
поэт, прозаик — IV, с. 19
Светлов Михаил Аркадьевич (1903-1964) — поэт — V, с. 613
Северцов Николай Алексеевич (1827-1885) — зоолог, географ,
путешественник — V, с. 411
Сеймур Роберт (1798-1836) — английский рисовальщик и гравер, карикатурист и книжный иллюстратор — П, с. 499
Секст Эмпирик (ок. 200-250) — греческий философ и врач — I,
с. 115; IV, с. 129; V, с. 132
Семашко Николай Александрович (1874-1949) — партийный
и государственный деятель — II, с. 186
Семенова Екатерина Семеновна (1786-1849) — актриса — I,
с. 530
Сенека Луций Аней (ок. 4 до н. э. - 65 н. э.) — римский политический деятель, философ и писатель — IV, с. 205
Сенкевич Генрик (1846-1916) — польский писатель — IV, с. 669
Сенковский Осип Иванович (псевд. Барон Брамбеус, 1800-
1858) — писатель, редактор, востоковед — IV, с. 19
Сервантес Сааведра Мигель де (1547-1616) — испанский писатель — II, с. 10
522
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875-1958) — писатель — V, с. 268
Сергий Радонежский (в миру — Варфоломей, 1321-1392) —
церковный деятель, подвижник — I, с. 545
Сидней (Сидни) Филипп (1554-1586) — английский поэт — IV,
с. 277
Сильвестр (конец XV в. - ок. 1565) — митрополит, русский
церковный, политический и литературный деятель — I,
с. 545
Симонид Конский (ок. 556 - 468 до н. э.) — древнегреческий
поэт — IV, с. 699
Сингер Чарлз (1876-1960) — английский историк науки — IV,
с. 243
Скот (Скотус) Иоанн Дунс (Дунсиус) (ок. 1266-1308) — шотландский богослов, философ-схоласт — II, с. 116; V,
с. 225
Скотт Роберт Фолкон (1868-1912) — английский исследователь Антарктиды — V, с. 269
Словацкий Юлиуш (1809-1849) — польский поэт — IV, с. 493
Смит Адам (1723-1790) — шотландский экономист и философ — II, с. 261
Смыслов Василий Васильевич (р. 1921) — шахматист, чемпион
мира по шахматам — IV, с. 115
Снегирев Иван Михайлович (1793-1868) — историк, этнограф, фольклорист — I, с. 522
Соболев Леонид Сергеевич (1898-1971) — писатель — V, с. 269
Соболевский Сергей Александрович (1803-1870) — библиофил и библиограф, друг А. С. Пушкина — IV, с. 468
Соколовский Александр Лукич (1837-1915) — переводчик —
IV, с. 163
Сократ (470/469-399 до н. э.) — древнегреческий философ — I,
с. 169; II, с. 403; V, с. 21
Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) — поэт, философ,
публицист — I, с. 122; V, с. 353
Сольгер Карл Вильгельм Фердинанд (1780-1819) — немецкий
эстетик, ученик Шеллинга — I, с. 108
Софокл (ок. 496 - 406 до н. э.) — древнегреческий драматург —
IV, с. 205
Спасский Сергей Дмитриевич (1898-1956) — поэт — V, с. 319
Спенсер Герберт (1820-1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма — II, с. 351;
III, с. 48; IV, с. 66; V, с. 497
523
Приложения
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953) —
партийный и государственный деятель — V, с. 380
Станкевич Николай Владимирович (1813-1840) — общественный деятель, философ, поэт — I, с. 537
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826-1911) — публицист,
историк, общественный деятель — IV, с. 28
Стейниц Вильгельм (1836-1900) — первый чемпион мира по
шахматам — IV, с. 124
Степун Федор Августович (1884-1965) — философ, историк,
социолог культуры — IV, с. 646
Стефенсон Джордж (1781-1848) — английский изобретатель — I, с. 487
Струйский Николай Еремеевич (ок. 1739-1796) — поэт — IV, с. 21
Суворов Александр Васильевич (1729 или 1730 - 1800) — полководец и военный теоретик, генералиссимус — IV,
с. 628
Сумароков Александр Петрович (1717-1777) — поэт, драматург — IV, с. 297
Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817-1903) — драматург — IV, с. 117
Тагор Рабиндранат (1861-1941) — индийский писатель и общественный деятель — И, с. 305
Теляковский Владимир Аркадьевич (1860-1924) — управляющий
конторой Московских Императорских театров — IV, с 662
Тенирс Давид Младший (1610-1690) — фламандский живописец — II, с. 148
Тик Людвик (1773-1853) — немецкий писатель-романтик — II,
с. 137; IV, с. 410
Тимон Силлограф (ок. 320 - 230 до н. э.) — древнегреческий
философ, представитель скептического и скоптическо-
го направлений — I, с. 120
Тимур (Тимурленг, Тамерлан, 1336-1405) — полководец — III,
с. 398
Тнт Лукреций Кар (ок. 96 - 55 до н. э.) — римский поэт и философ — II, с. 252
Тит Флавий Веспасиан (38-81) — римский император — III,
с. 105
Тихонов Николай Семенович (1896-1979) — поэт, прозаик, литературный и общественный деятель — I, с. 526
Толстой Алексей Николаевич (1883-1945) — прозаик, драматург, поэт — I, с. 525
524
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Толстой Лев Николаевич (1828-1910) — писатель — IV, с. 277;
V, с. 267
Тредьяковский (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703-
1769) — поэт, переводчик — V, с. 273
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) — русский писатель —
I, с. 357; V, с. 22
Туровский Кирилл (1130-1182) — древнерусский проповедник и писатель — IV, с. 10
Уайльд Оскар (1854-1900) — английский прозаик, поэт, драматург — IV, с. 126
Уистлер Джеймс Эббот Мак-Нейл (1834-1903) — американский живописец — IV, с. 559
Уйгун (Рахматула Атакузиев, 1905—1990) — узбекский поэт
и драматург — III, с. 440
Улугбек Мухаммед Тарагай (1394-1449) — государственный
деятель, ученый, правитель Самарканда — III, с. 409
Уткин Иосиф Павлович (1903-1944) — поэт — V, с. 613
Ушаков Симон (Пимен) Федорович (1626-1686) — русский художник-иконописец — I, с. 541
Уэллс Герберт Джордж (1866-1946) — английский писатель
и публицист, родоначальник научно-фантастической
литературы XX века — V, с. 397
Фабий Максим Кунктатор Квинт (275-203 до н. э.) — древнеримский полководец и государственный деятель — IV,
с. 511
Фабр Жан Анри (1823-1915) — французский энтомолог и писатель — II, с. 594
Фаге Эмиль (1847-1916) — французский историк литературы
и критик — IV, с. 692
Файгинер Ганс (Файхингер, Вайгингер, 1852-1933) — немецкий
философ-неокантианец — П, с. 552; IV, с. 646
Фалес (ок. 625-547 до н. э.) — древнегреческий философ, родоначальник античной философии, основатель милетской школы — I, с. 451
Фальконе Этьен Морис (1716-1791) — французский скульптор — III, с. 306
Фейербах Людвиг (1804-1872) — немецкий философ-матери-
алист и атеист — I, с. 356; II, с. 552
Фенелон Франсуа (1651-1715) — французский писатель — IV,
с. 688
525
Приложения
Феокрит из Сиракуз (1-я половина III в. до н. э.) — древнегреческий поэт — V, с. 279
Фердинанд Кастильский (Фердинанд И Арагонский, 1452-
1516) — король Испании — IV, с. 130
Феспис (VI в. до н. э.) — древнегреческий поэт — IV, с. 65
Фехнер Густав Теодор (1801-1887) — немецкий физик, психолог, философ и писатель-сатирик, основатель психофизики — I, с. 452; IV, с. 424
Филидор Франсуа Андре (1726-1795) — французский композитор и шахматист — IV, с. 115
Фишер Куно (1824-1907) — немецкий писатель, драматург,
историк философии — IV, с. 565; V, с. 285
Флексиг Пауль (1847-1929) — немецкий невролог, один из основоположников нейроморфологии — IV, с. 46
Флетчер Джон (1579-1625) — английский драматург — IV, с. 239
Флобер Постав (1821-1880) — французский писатель-романист — V, с. 500
Фома Аквинский (1225/1226-1274) — монах-доминиканец,
философ и богослов — И, с. 101; V, с. 288
Фома Кемпийский (ок. 1379-1471) — голландский теолог — V,
с. 489
Фонвизин Денис Иванович (1744-1792) — драматург, журналист — IV, с. 95
Франклин Бенджамен (1706-1790) — американский государственный деятель и писатель — IV, с. 571; V, с. 285
Франко Иван Яковлевич (1856-1916) — украинский писатель,
ученый, общественный деятель — V, с. 320
Франс Анатоль (Анатоль Франсуа Тибо, 1844-1924) — французский писатель — IV, с. 249; V, с. 320
Франциск Ассизский (1181/1182-1226) — основатель ордена
францисканцев — II, с. 14; V, с. 179
Фрейд Зигмунд (1856-1939) — австрийский психиатр, психолог, основатель психоанализа — I, с. 446
Фукидид (460-396 до н. э.) — древнегреческий историк — IV,
с. 679
Хобден Ричард (1804-1865) — английский политический деятель — IV, с. 546
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886-1939) — поэт, критик, историк литературы, мемуарист — IV, с. 416
Холл Эдвард (Эдуард) (1498/1499-1547) — английский хронист — IV, с. 239
526
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Хольберг Людвиг (1684-1754) — датский драматург, историк,
философ — II, с. 592
Цветихин Михаил Никитич (1763-?) — переводчик — IV, с. 13
Цезарь Август (Цезарь Юлий Август Гай, Октавиан Август,
63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император — V, с. 127
Цезарь Юлий Гай (102 или 100 - 44 до н. э.) — римский государственный и политический деятель, полководец, писатель — V, с. 126
Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935) — ученый,
изобретатель, основоположник космонавтики и ракетной техники — V, с. 340
Цитович Петр Павлович (1844-1913) — юрист, публицист,
критик — IV, с. 27
Цицерон Марк Тулий (106-43 до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель — IV, с. 684; V, с. 134
Цуки Вирджиния (1847-1930) — итальянская балерина — IV,
с. 595
Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856) — философ и публицист — V, с. 274
Чайковский Петр Ильич (1840-1893) — композитор — III,
с. 570
Чаплин Чарльз Спенсер (1889-1977) — американский киноактер и кинорежиссер, «комик-звезда номер один» немого
кино — II, с. 198; IV, с. 676
Чапман (Чапмен) Джордж (1559-1634) — английский драматург — IV, с. 239
Чаттертон Томас (1752-1770) — английский поэт — II, с. 247
Челлини Бенвенуто (1500-1571) — итальянский скульптор,
ювелир, писатель — IV, с. 541
Черни Карл (1791-1857) — австрийский композитор, педагог
и пианист — V, с. 31
Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) — революционер и мыслитель, писатель, экономист, философ —
V, с. 276
Черчилль Уинстон Леонард (1874-1965) — английский политический деятель — II, с. 198
Чигорин Михаил Иванович (1850-1908) — шахматист — IV,
с. 117; V, с. 385
Чингисхан (ок. 1155-1227) — основатель и великий хан Монгольской империи — III, с. 398
527
Приложения
Чириков Евгений Николаевич (1864-1932) — прозаик, драматург — IV, с. 60
Чуковский Корней Иванович (Николай Васильевич Корнейчуков, 1882-1969) — писатель, критик, переводчик, литературовед — I, с. 525
Шамиссо Адальберт (1781-1836) — немецкий писатель и ученый-натуралист — IV, с. 688
Шарко Жан Мартен (1823-1893) — врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии, создатель
клинической школы — I, с. 319
Шаховской Александр Александрович (1777-1846) — драматург и режиссер — IV, с. 421
Шведенборг (Сведенборг) Эммануил (1688-1772) — шведский
ученый-натуралист, мистик и теософ — IV, с. 407
Шеллер Александр Константинович (псевд. Михайлов, 1838-
1900) — писатель, романист — III, с. 480
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775-1854) — немецкий
философ — I, с. 108; IV, с. 30; V, с. 283
Шенгели (Манухина) Нина Леонтьевна (1892-1980) — поэтесса и переводчица — III, с. 442
Шенрок Владимир Иванович (1853-1910) — русский литературовед — I, с. 513
Шереметев Петр Борисович (1713-1788) — граф, меценат — I,
с. 535
Шеридан Ричард Бринслей (1751-1816) — английский драматург — IV, с. 128
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759-1805) — немецкий
поэт, драматург, теоретик искусства — I, с. 247-254
Ширак Опост (1838—1903) — французский социолог и литератор, автор книги «Если... социальный очерк послезавтрашнего дня» (Париж, 1893) — I, с. 41
Шкловский Виктор Борисович (1893-1984) — писатель, литературовед — IV, с. 77
Шлегель Август Вильгельм (1767-1845) — немецкий историк
литературы, критик, поэт, переводчик — I, с. 120; IV, с. 410
Шлегель Фридрих (1772-1829) — немецкий критик, философ
и поэт, брат А. В. Шлегеля — IV, с. 410
Шлейермахер Фридрих Эрнст Даниель (1768-1834) — немецкий философ, протестантский теолог — V, с. 282
Шолохов Михаил Александрович (1905-1984) — писатель
и общественный деятель — V, с. 269
528
«Упоминательная клавиатура» Сигизмунда Кржижановского
Шпильгаген Фридрих (1829-1911) — немецкий писатель — IV,
с. 679
Шпренгер Яков (1436-1495) — немецкий монах-доминиканец, один из двух соавторов самого знаменитого трактата по демонологии «Молот ведьм» — V, с. 328
Штирнер Макс (1806-1856) — немецкий философ, основатель
анархического индивидуализма — II, с. 517; III, с. 46
Шуман Роберт Александр (1810-1856) — немецкий композитор — I, с. 79
Эббингауз Герман (1850-1909) — немецкий психолог, представитель ассоциативной психологии — I, с. 447; И, с. 16
Эврипид (Еврипид, 485/484 или 480 - 406 до н. э.) — древнегреческий драматург-трагик — II, с. 129
Эдвардс (Эдуарде) Борис Васильевич (1860-1924) — скульптор — III, с. 489
Эйнштейн Альберт (1879-1955) — физик-теоретик, один из основоположников современной физики — I, с. 569; II, с. 183
Эккерман Иоганн Петер (1792-1854) — личный секретарь
И. В. Гёте, автор мемуаров — II, с. 15
Элиот Джордж (Мэри Энн Эванс, 1819-1880) — английская писательница — IV, с. 546
Энгельке Герт (1890-1918) — немецкий поэт — И, с. 267
Энгельс Фридрих (1820-1895) — немецкий философ, социолог - II, с. 267; V, с. 186
Энесидем из Кносса (I в. до н. э.) — древнегреческий философ,
представитель школы скептицизма — II, с. 444
Эпикур (342/341-271/270 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель собственной философской школы
в Афинах — V, с. 78
Эриугена Иоанн Скот (Эригена, ок. 810 - 877) — философ,
представитель Каролингского возрождения — II, с. 106
Эссекс 2-й граф, Роберт Девере (1566-1601) — английский политический деятель — IV, с. 307
Эсхил (ок. 525 - 456 до н. э.) — древнегреческий драматург —
I, с. 242; IV, с. 282
Ювенал Децим Юний (ок. 60 - после 127) — римский поэт-сатирик — II, с. 498
Ювеналий (в миру Воейков, 1729-1807) — игумен из дворян,
автор поколенной росписи многих русских дворянских родов — IV, с. 21
529
Приложения
Юм Дэвид (1711-1776) — английский философ, историк, экономист — IV, с. 63
Юнг Эдуард (1683-1765) — английский поэт — IV, с. 14
Юркевич Памфил Данилович (1827-1874) — философ и педагог-1, с. 549; III, с. 521
Юрьев Сергей Андреевич (1821-1888) — писатель, переводчик, критик — IV, с. 655
Яворский Стефан (Симеон, 1658-1722) — церковный деятель
времен Петра I — IV, с. 26; V, с. 178
Языков Николай Михайлович (1803-1846) — поэт — V, с. 274
Якоби Фридрих Генрих (1743-1819) — немецкий философ
и писатель — I, с. 107-121, IV, с. 646
Комментарии
Собрание сочинений Кржижановского, как сказано
и повторено было в предыдущих томах, — не академически-
полное. По различным причинам, за его пределами остались
стихи, прозаические переводы, более десятка статей, некоторые пьесы, киносценарные наброски, инсценировки, оперные
либретто, часть переписки... Тем не менее, пусть с такой оговоркою, можно считать, что пять томов Собрания, как принято выражаться, вводят в читательский и научный оборот практически все творческое наследие Кржижановского (за одним-
единственным — существенным — исключением, о котором
еще пойдет речь): таким, каким он сам это видел, сделал для
этого все, от него зависевшее, хотя, судя по высказываниям,
мало верил в конечный успех...
В шестой том включено все то, что помогает осмыслить
и понять это наследие, представить себе, насколько это вообще возможно, характер и особенности личности Кржижанов-
ского-мыслителя и Кржижановского-художника, уникальную,
насколько мне известно, единственную в истории литературы
судьбу писателя, чье творчество практически целиком возникло из небытия и явилось читателю более чем через полвека после смерти автора.
Обыкновенно переписка писателя, воспоминания
о нем, основательные исследования его поэтики и философии
и прочие, так сказать, сопутствующие материалы появляются в печати — как следствие его утвердившейся популярности,
сложившейся во мнении читателей и критики литературной
репутации, то бишь отстают во времени, подчас существен¬
531
Вадим Перельмутер
но, от выхода в свет его произведений, словно бы накапливаются, дабы удовлетворить постепенно сложившийся спрос на
них. Случай Кржижановского и в этом ракурсе необычаен: интерес к нему возник вдруг, сразу по выходе первой, — увы, посмертной — книги, когда десятилетиями томившиеся в архиве
бумаги писателя уже как бы слежались, срослись в единое целое — и так же целиком оказались востребованными. Вместе
с немногими воспоминаниями о Кржижановском и первой,
написанной Владимиром Николаевичем Топоровым по горячим следам трех книг-погодков («Воспоминания о будущем»,
1989, «Возвращение Мюнхгаузена», 1990, «Сказки для вундеркиндов», 1991) работой «,,Минус“-пространство Сигизмунда
Кржижановского» (на мой взгляд, и по сию пору лучшей, конгениальной творчеству писателя).
Эти соображения и определили состав и композицию
последнего тома.
В заключение хочу назвать всех, кто помогли мне
в обдумывании, подготовке и комментировании Собрания
сочинений.
И начать с тех, кто до завершения издания не дожили: Александр Абрамович Аникст, Ирина Николаевна Врубель,
Михаил Леонович Гаспаров, Александр Александрович Лацис,
Сергей Александрович Макашин, Лев Адольфович Озеров, Нина Мироновна Рубашева, Наталья Евгеньевна Семпер, Нина
Станиславовна Сухоцкая, Владимир Николаевич Топоров, Натан Яковлевич Эйдельман, — их советы, рекомендации, сомнения, воспоминания были для меня в этой работе бесценными.
Глубоко признателен Ларисе Алексеевой, Максиму Амелину, Дмитрию Базыкину (Хьюстон), Михаилу Безродному
(Гейдельберг), Сергею Бычкову, Вальдемару Веберу (Аугсбург),
Ирине Великодной, Людмиле Володарской, Марии Гребельни-
ковой (Киев), Захару Давыдову (Торонто), Татьяне Двиняти-
ной, Иоанне Делекторской, Саше Денисовой, Кате Жуковой,
Степану Захаркину (Киев), Вере Калмыковой (корректировка
по архивным оригиналам «Тематических заявок» в томе пятом
и переписки Кржижановского с Бовшек в томе шестом), Елене
Крюковой (редактор трех последних — сложнейших — томов
Собрания сочинений), Леониду Махлису (Мюнхен), Галине
Мельник (Киев), Наталье Михайловой, Ирине Михиной (Ко-
стецкой, Харьков, — двоюродная внучка Кржижановского, давшая в Собрание сочинений уникальные фотографии из свое¬
532
Комментарии
го семейного альбома и пополнившая, отчасти скорректировав, мои знания о семье Кржижановских), Нелли Немухиной
(Мюнхен), Вячеславу Нечаеву, | Ольге Обуховой! (Имола), Никите Охотину, Катрин Перрель (Париж, первая переводчица
Кржижановского на французский), Валерию Петрову, Мирону
Петровскому (Киев), Артуру Попову (Ташкент), Елене Рачков-
ской (Киев), Татьяне Рогозовской (Киев, ей обязан я находкою
«Киевского архива» Кржижановского, а читатель — превращением пятитомного собрания сочинений в шеститомное), Станиславу Сиесс-Кжишковсому (Краков), Илье Смирнову, Марку Соколянскому (Любек), Валентине Станиславской, Лесю
Танюку (Киев), Элине Уткиной, Татьяне Фадеевой, Льву Фин-
кельбергу (Тель-Авив), Борису Хазанову (Мюнхен), Розе Хруле-
вой, Владимиру Шерстюку (Харьков, — двоюродный правнук
Кржижановского, благодаря которому отыскался след к родственникам писателя). Без их мгновенных откликов на многочисленные мои просьбы о помощи осуществить замысел
Собрания сочинений Сигизмунда Кржижановского было бы
просто-напросто невозможно.
Невольный переулок
Впервые — в сб. Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем (исследования и переводы). Под общ. ред.
М. С. Петровой (М.: ИВИ РАН, 2012), с. 205-236. Публикация,
вступительный очкрк и примечания В. В. Петрова. Благодарно
отмечу, что эти примечания использованы мною при комментировании новеллы.
Предваряя эти комментарии, мне хочется напомнить
сказанное в пятом томе.
Следы замысла «Невольного переулка» на протяжении
нескольких лет мелькали на страницах Записных Тетрадей.
Пока, наконец, в письме к Анне Бовшек (от 30 августа 1933 г.)
не было упомянуто, что новелла написана, хотя, по мнению
автора, еще не вполне завершена. Загадкой представлялась
то, что более никогда о «Невольном переулке» речи не было:
ни в письмах, ни в нескольких позднейших «автобиблиографиях» Кржижановского, ни в воспоминаниях Анны Бовшек,
как известно, после смерти мужа чрезвычайно тщательно собравшей и систематизировавшей его творческое наследие.
533
Вадим Перельмутер
После находки в конце 2005 г. «Киевского архива», преобразовавшей уже готовое к завершению пятитомное Собрание сочинений в шеститомное, я писал, что искать неизвестные его
сочинения больше негде, правда, оговорил, что не категоричен, просто мне в голову не приходит адрес дальнейших поисков. Потому что, когда речь о Кржижановском, с подобными
утверждениями надо быть очень и очень осмотрительным. Не
раз мне в том доводилось убеждаться. Теперь коллекция снова
пополнилась.
Летом 2012 г. В. В. Петров обнаружил текст новеллы —
и ни где-нибудь в ухоронке неожданной, а... в фонде Кржижановского в РГАЛИ. Просматривая перечень документов во второй описи фонда, увидел в самом конце описи приписку. Текст
был передан в РГАЛИ из Центрального архива ФСБ по акту, датированному 19 сентября 1995 года. Могу поручиться, что, когда я в последний раз просматривал опись — уже во время работы над Собранием сочинений, — этой приписки там не было. Как сие могло случиться, объяснить не берусь, но это — так.
Текст новеллы — не сама машинопись, а сделанная на стеклографе копия (то бишь текст копировался, а возможно, и размножался в нескольких экземплярах тогдашним НКВД-ОГПУ) из
объмистой машинописной — сшитой — тетради, где новелла занимает страницы 105-119 (детальное описание текста В. В. Петровым см. в его публикации в сетевом журнале «Toronto Slavic
Quarterly»: http://www.utoronto.ca/tsq/41/index.shtml).
Насколько удалось установить, тетрадь имеет отношение к «делу» Н. А. Клюева, арестованного 2 февраля 1934 г. по
обвинению в «составлении и распространении контрреволюционных литературных произведений». Как туда попала новелла — неизвестно. Как неизвестна и судьба остальных экземпляров машинописи, диктовка которой, судя по дате, была завершена на следующий день после письма автора к жене.
Можно лишь предположить, что они были уничтожены самим
Кржижановским, до которого каким-то образом дошло известие об аресте новеллы, — догадка, проверить которую, боюсь,
весьма и весьма непросто...
Ну, а то, что присутствие «Невольного переулка» в криминальной тетрадке обошлось без трагических для Кржижановского последствий, возможно, объяснимо его литературной безвестностью. Да и фамилия могла смутить следователей — не родственник ли знатного и высокопоставленного
партийца, по поводу которого никаких указаний в органы не
534
Комментарии
поступало, лучше не трогать... Впрочем, скоре — просто счастливый случай, ведь вообще безо всякой видимой причины попадали под каток репрессий сотни тысяч и вовсе ничем не
примечательных людей...
Не могу отделаться от впечатления, что внезапное явление «Невольного переулка» странным образом рифмуется
с находкой «Киевского архива». Случись оно всего несколькими неделями позже — и в Собрание сочинений новелла уже не
попала бы. Ровно так же, как без малого семью годами ранее
вне издания могли бы очутиться несколько сотен страниц, написанных Кржижановским.
И столь раздражавшая меня пауза между пятым и шестым томами не вызвана ли волею «Невольного переулка»?..
Новелла не только хороша сама по себе, — на мой
взгляд, она относится к числу наиболее зрелых и сильных сочинений Кржижановского. Она и во всем творчестве писателя
сразу и органично занимает одну из ключевых позиций. Поворотом этого ключа замыкается восьмилетний «московский»
цикл сочинений, то бишь тех, в которых топографии, топонимике, истории Москвы отведена особо значимая, содержательная роль. Вот перечень-пунктир этого цикла: «Штемпель: Москва» (1925), «Автобиография трупа» (1925), «Квадра-
турин» (1926), «Книжная закладка» (1927), «В зрачке» (1927),
«Швы» (1927-1928), «Чужая тема» (1928-1930), «Красный снег»
(1930), «Невольный переулок» (1933).
Восемь лет, жанрово закольцованных — двумя пачками
писем...
С. 7 Тверская 4 и, кажется, 3 — четные дома в начале Тверской (уже переименованной в улицу Горького)
были взорваны в 1938 г. во время расширения ее проезжей части.
Это — уже характеристика — ср. «Красный
снег» (V, 148): «На двери дощечка: „врачу Бухгалтеру —
три раза, Ю. Ю. Тишашеву — два раза, Безносенко —
один раз, И. Я. — ни разу“. Рука Шушашина в нерешительности описала круг около звонковой кнопки: интересно бы взглянуть на этого И. Я.; только как до него
добраться?»
...отвработник — об использовании Кржижановским советского новояза в комментариях упоминалось
не раз; вероятно, он был знаком с книгой А. М. Селище-
535
Вадим Перельмутер
ва «Язык революционной эпохи: Из наблюдений над
русским языком последних лет (1917-1926)» (М.: 1928),
в которой проанализированы различные способы подобных словообразований, а поскольку он не писал,
а диктовал свои сочинения, то, естественно, и вслушивался в звучание этих лексических гомункулусов, чутко
ловя неожиданные подас звуковые ассоциации, как, например, в этом случае: «отвра-ботник»...
С. 7 ...существо при портфеле — эта метафора, как
уже отмечалось, одна из сквозных в прозе Кржижановского: любопытно ее происхождение/толкование, относящееся ровно ко времени написания новеллы и обнаруживающееся в книге Г. В. Андреевского «Повседневная жизнь Москвы в Сталинскую эпоху. 1920-1930-е
годы» (Изд. 2-е. испр. и доп. М.: Молодая гвардия, 2008):
«Французский журналист Родэ-Сен нарисовал довольно
мрачную картину Москвы 1934 года. В журнале „Иллюстрированная Россия“ он писал: „...Некоторые прохожие резко отличаются от общей массы своим внешним
видом. Они гораздо лучше одеты и все, без исключения,
носят портфели. Это — чиновники, властители советского общества“» (с. 21-22).
...состоит на сверхпайке — сверхпаек — обычный паек плюс дополнительные продукты (см. упомянутую книгу А. М. Селищева, с. 36).
...и в сне и в яви — в машинописи: «и в сне в яве», —
что можно реконструировать как «и в сне, и в яви»,
но также «и в сне и въяве»; быть может, эта пословица заимствована из Собр. соч. Платона в пер. и с примеч. В. Н. Карпова (в шести томах, 2-е изд., 1863-1879);
Кржижановский хорощо знал это издание и использовал примечания Карпова в своих теоретических работах.
С. 8 ...сдачу с рублей давали почтовыми марками — ср. А. П. Чехов. Письма (1886): «В редакцию
JPadyzu“... Имею честь просить уважаемого г. Манс-
фельда сочинить мне для домашнего обихода четыре
комедии, три драмы и две трагедии погамлетистее, на
каковой предмет по изготовлении их вышлю три рубля.
Сдачу прошу переслать почтовыми марками... Полковник Кочкарёв»; в России, как правило, почтовые марки
заменяли мелкую монету во время нехватки последней,
536
Комментарии
так было и во время Крымской войны, когда марками
выдавали сдачу с рубля, и в годы Первой мировой и до
1917 г. — для этого использовались почтовые марки копеечных номиналов из юбилейной серии, выпущенной в 1913 г. к 300-летнему юбилею династии Романовых, надпись на них гласила, что они имеют хождение
наравне с медной или серебряной разменной монетой; следующий разменный кризис относится к началу
1920-х...
Я пью— см. письма Кржижановского к А. Г. Бовшею
«Мыслям (в летние месяцы) вход в мою голову строго воспрещается, — если какие и протиснутся под темя, немедленно заливаю их водкой» (19.07.1931); «В магазинах по-прежнему ни капли водки: а ведь мозгу необходим хоть какой-то малый % иллюзий» (16.07.1932);
«Пью значительно меньше, стараясь заменять водку легким столовым вином. Я понял, что это необходимо, иначе нервы не выдержат и работа кракнет» (04.08.1933);
«Пью микстуру — и самочувствие мое значительно лучше. Стараюсь помогать этому, переходя с водки на красное вино. Это стоит дороже, но здоровье еще дороже»
(20.06.1938).
Трезвое отношение к действительности — ср. А. Г. Бовшек о Кржижановском во втор. пол.
1930-х гг. («Глазами друга» XII): «Ни явь, ни сон не давали ему покоя, алкоголь стал для него необходимостью.
Когда его спрашивали, что привело его к вину, он говорил, отшучиваясь: „Т]резвое отношение к действительности“»; тот же каламбур — в музыкальной комедии
«Поп и поручик» (1934-1938).
...ни почтового листа — почтовый лист — специальный лист бумаги, который можно было сложить
и отправить без конверта.
С.9 ...если она, то ждете она — ср.: «нет влечется
к нёте, не зная, что нёты нету» («Страна нетов», I, 266).
Арбат, 51 — дом сохранился поныне, он расположен
чуть наискосок от дома 44, где жил Кржижановский, так
что горящее в ночи окно писатель мог видеть из собственного окна.
...хоть на вей-ветер швыряй — ср. В. И. Даль.
«Пословицы русского народа» в двух томах, изд. 2-е, т. 1,
раздел «Язык-речь» (СПб.-М., 1879), с. 522: «Это на вей-
537
Вадим Перельмутер
ветер сказано»; там же, с. 530: «Он на мах (на ветер, на
вей-ветер) слова на молвит».
С. 9 Облый — тучный, неповоротливый.
...только ваше окно г о р и т — о горящем ночью
окне см. в новелле «Красный снег» (V, 162).
С. 10 ...расцепили контакты мозговых полушарий — ср. «Красный снег» (V, 155): «Лежа лбом к стенке,
он пробовал слабеющими мыслями развязать и сбросить с себя день... Но связи путались и стягивались узлами, и тесный день продолжал охватывать мозг».
Полушка — название мелкой монеты (чаще всего
равнялась 1/4 копейки); последние полушки отчеканены в России в 1916 г.
Обетная свеча — по народному календарю на
Украине, в Белоруссии и в западных областях России
15 февраля отмечали <<Громницы», праздник встречи
зимы с весной, посвященный языческому богу весны
Громовнику; праздник, связанный с культом огня, совпадал с православным праздником Сретения Господня, заменившим поклонение огню на чествование свечи; несколько дворов в деревне объединялись, чтобы
топить воск на общинную свечу, которая именовалась
также обетной.
...сладившись — в машинописи: «слодившись», что
допускает вариант «сложившись».
...в тенеподобную жизнь — ср.::«...нельзясказать
с уверенностью, существует ли тенное тело или не существует. Правда, неты учат своих малых нетиков, что
тени отбрасываются какими-то там вещами, но если
рассудить здраво, то нельзя с точностью знать, отбрасываются ли тени вещами, вещи ли тенями — и не следует ли отбросить, как чистую мнимость, и их вещи, и их
тени, и самих нетов с их мнимыми мнениями» («Страна нетов», I, 266); этот мотив проходит через вс е творчество Кржижановского (см. «Штемпель: Москва», «Философема о театре», «Боковая ветка», «Швы», «Сэр Джон
Фальстаф и Дон-Кихот», «Фрагменты о Шекспире» etc.).
...вниз: в грядущее — т. е., в представлении автора,
время течет из прошлого в будущее — сверху вниз.
...за помощью к могиле — ср. у В. И. Даля («Пословицы», т. 1): «Горбатого могила исправит» (с. 445),
«От старости зелье — могила» (с. 551).
538
Комментарии
«Уходя, погаси свет» — ср.: «В сущности, все сокращенные заглавия, которые мы читаем над входом в автобус, в магазин, в библиотеку, в музей, — всегда содержат в себе момент заглавности: „Уходя, гаси
свет“ (пригодно для новеллы о фашистском режиме)...»
(«Фрагменты о Шекспире», IV, 358).
С. 12 Скляница — штоф, бутыль для вина или водки (ср.
В. И. Даль. «Пословицы». Т. 1, с. 277: «Охоча старица до
скляницы»).
...«За ненахождением адресата» —вовторой
ЗТ: «Письмо адресовано: „До востребования Господу Богу“. Не востребовали. Назад с надписью: „За ненахождением адресата“» (V, 349).
...всхт- — автор, разумеется, намеренно обрывает
письмо в конце шестой страницы машинописи этим
случайным — «нетрезвым» — набором согласных с дефисом-переносом «в никуда», ускользанием смысла; следующая, седьмая страница исправно начинается следующим, четвертым письмом.
С. 13 Невольный переулок, д. 16 — ни один из домов переулка до наших дней не дожил (см. далее).
Госспирты — Центральное управление государственной спиртовой монополии (Госспирт) ВСНХ
РСФСР (1918-1925, Москва); в 1918-1921 гг. именовалось Центроспиртом и Главспиртом, в 1921 г. переименовано в Госспирт, в 1925 г. упразднено.
...обезглавленной единоверческой церк-
вушей — церковь Николая Чудотворца Николо-Смоленской старообрядческой общины, построенная
в 1914-1915 гг, закрыта в 1931 г. (здание передано под
клуб завода «Напильник»), снесена в конце 30-х годов;
Варгунихина гора находилась на Смоленской набережной рядом с Бородинским мостом (срыта после войны).
...циферблат Брянского — вокзала (с 1934 г. —
Киевский).
Варгунихинский переулок — прекратил существование одновременно с уничтожением горы и новой застройкой этой части Смоленской набережной,
соединял Шубинский переулок со Смоленской улицей.
Невольный переулок — тоже исчез из адресной
книги Москвы, он обездомел, дома, выстроенные на месте шестнадцатидомного «переулочья», значатся по
539
Вадим Перельмутер
иным адресам, однако — совершенно в стиле автора новеллы — переулок сохранился как бы фантомно: именем на планах этой части города, фрагментом своей
проезжей части — вдоль пятиэтажной стороны типографии «Наука» (с другой стороны стоящее на косогоре
здание шестиэтажно, что не редкость в холмистой Москве), фантом, одним словом — и нет его, и есть...
С. 14 Веснянки-заклички — календарные обрядовые
песни у украинцев, белорусов и части русских.
...мы прячем глаза под консервы - очки-
консервы (goggles), защитные, облегающие очки; обычный в середине 20-х гг. «атрибут» московских таксистов
(«На шоферах (шоффэрах, как тогда писали) в любую
погоду кожаные костюмы, в зубах трубка, на лбу „очки-
консервы“», — писал Лев Славин в одном из июньских
номеров «Вечерней Москвы» 1925 г.); тема очков в прозе Кржижановского варьируется постоянно, от «Чуть-
чутей» (1922,1,83-92) до «Глазуньи в пенснэ» (<1940>, V,
167-170), однако здесь они единственный раз выступают, так сказать, в защитной роли.
Оханьем поля не перейти — ср. «Мухослон»:
«Душа мухи порешила так: „Оханьем поля не перейти“»
(I, 219).
...как озаглавил её еще Блок—АлександрБлок
«Нечаянная Радость». Второй сборник стихов (М.: Скорпион, 1907).
...как это учили нас в школе, — «возлЪ»,
« н ы н Ъ», « п о д л Ъ» — обыгрываются наречия на букву ять, которые гимназисты (и в их числе, естественно,
будущий автор новеллы) должны были заучивать наизусть; ср.: «Никакие отсихпоры и досихпоры, „возл’Ь —
нынЬ — подл'Ь — noorfe“, заколачиваемые учителями,
точно тугие пыжи, в мозг Горгиса, не держались в нем
никак» («Материалы к биографии Горгиса Катафалаки»,
1929, И, 267); подобный гимназический след обнаруживается и в новелле «Квадрат Пегаса» (1922,1,93-102), где
все главки названы существительными с «ять», для запоминания которых гимназисты затверживали стишок на
подобие считалки.
А что подлее «подл’Ь»? — ср.: «Въ нашемъ доре-
форменномъ письмЪ мы им’Ьли иногда возможность
корректировать неточность устной рЪчи (тЬмъ и темъ;
540
Комментарии
nptaie и npeHie; подлей и подлей; въ морЪ и въ море;
скй и сей). А съ новой ореограф1ей становятся омонимами, т.е. одинаково читающимися, и таюе слова, которые различаются въ произношенш (rfeiny и тешу;
осЬни и осени; сЬлъ и селъ; сЪла и села; сЬло и село;
см'Ьлъ и смелъ; м’Ьчу и мечу; желЬзка и железка и т.д.)»
(В. Перемиловскш. «Новое или старое правописаше?»
В кн.: «Къ вопросу о старой и „новой“ ореографш».
JordanvÜle, N.Y.: Holy Trinity Monastery, 1962, с. 17 ).
...исход лишь в том, что — «вкратц’Ь»,
«вскоре» — мнемонические цепочки, затверженные с гимназических времен, навсегда оставались в памяти; помимо приведенных выше литературных реминисценций относительно наречий на ять ср. организованные в стихотворение 19 модусов силлогизма
«Barbara, Celarent, Darii, Ferioque prioris» у Кржижановского в «Красном снеге» (V, 544).
...голова охвачена суконным шлемом —скорее всего, имеется в виду марка «Красноармеец» — одна из первых стандартных марок СССР; выпускалась
в 1923-1927 гг. номиналом от 1 коп. до 5 руб. золотом;
на марке — профиль красноармейца (изображение основано на бюсте работы И. Д. Шадра).
С. 15 ...не умеющий ни к чему приклеиться —ср.:
«Каждая партия имеет среди своих членов не только
лиц, солидарных во взглядах, но и лиц, вошедших в состав партии ради каких-нибудь выгод. Это — примазавшиеся. <...> В первые годы после Октября часто говорили: примазываться, примазавшийся...» (Селищев. «Язык
революционной эпохи», с. 106).
Логика требует: убрать — ср.: «Если ваш талон
М не отрезан, можно получить средние термины. Торопитесь, термина может не хватить... Средний термин
предположено, в целях рационализации, унифицировать... Ведь М в „S есть P“ все равно никогда не попадает,
следовательно, не все ли равно, какое оно там» («Красный снег», V, 158).
...с февралевой душой, да в октябрьские
дела— Вторая ЗТ (V, 342).
...а дело своим чередом — В. И. Даль. «Пословицы». Т. 1, с. 239: «...скачет баба и задом и передом, а дело
идет своим чередом».
541
Вадим Перельмутер
С. 15 ...вставлять палки в колесо катафалка, на
котором тебя везут —Первая ЗТ: «Жить — это значит втыкать палки в колеса катафалка, на котором меня
везут» (V, 329).
С. 16 ...не то литература, не то игра в пёрышки
и пятнашки — первая из этих двух детских игр ныне позабыта, просто потому, что надобных для нее перышек-вставок у школьников давным-давно нет (вторая, она же «салочки», в комментарии, пожалуй, не нуждается); правила игры требовали с помощью своего
пера щелчком перевернуть перо противника на «спинку», а потом тем же приемом вернуть его в исходное положение, если это удавалось, перо выигрывалось.
...выписываю подряд — на самом деле — не «подряд»: только последний пример можно обнаружить
(с несущественным разночтением) в Третьей ЗТ (V, 382),
в трех остальных случаях реальные записи использованы лишь как повод, черновой набросок (скажем, отдельной строкой стоящее во Второй ЗТ слово «Льстю-
га» - V, 344).
...вроде вариаций Шуберта на тему—имеется в виду: Франц Шуберт, Forellenquintett, IV часть. Тема
и вариации на тему песни «Форель».
С. 17 ...Сторожил... на складах — ср.: «...Служил только в советских учреждениях, в период же захвата Киева белыми, отказываясь от какого либо с ними сотрудничества, предпочел работать сторожем на складах кооперативных учреждений (в общем, в течении около
1 Уг лет» (С. Д. Кржижановский. Заявление Тройке Фрунзенского района по выдаче паспортов от 22.03.1933.
РГАЛИ, ф. 2280, on. 1, ед. хр. 99, л. 1); возможно, именно тогда его «копилка образов» пополнилась этим сюжетом.
С первым брезгом — ср.: «Осенью 1917-го один из
практикантов Гринвичской обсерватории, работавший
под раздвинутым в звезды сводом главного павильона,
с первым брезгом утра, закончив наблюдение и запись,
остановил часовой механизм трубы и направился к выходу» («Материалы к биографии Горгиса Катафалаки»,
П, 322).
542
Комментарии
Переписка Сигизмунда Кржижановского
и Анны Бовшек
Переписка эта хранится в РГАЛИ — ф. 2280 (С. Д. Кржижановский), on. 1, ед. хр. 77-78; оп. 2, ед. хр. 1-2.
Признаюсь, поначалу не предполагал включать ее в Собрание сочинений. Не потому, что не особенно люблю читать чужие письма и делаю это разве что из интереса сугубо профессионального. И не потому, что, читая их глазами
не-адресата, все равно не уловить слишком многого из того,
что заложено было туда автором, ведь письма — не более чем
фрагменты конспекта отношений, которые были и остаются тайною для всех, кроме двоих. И даже не потому, что, убежден, между предназначавшимся — автором — к печати (пусть
и в радужных мечтаниях), и тем, что, по определению, должно
было остаться делом сугубо личным, разница огромная.
Строго говоря, письма вообще не являются, на мой
взгляд, сочинениями — в том смысле, какой подразумевается
в словосочетании Собрание сочинений. И места для них мне
попросту не виделось.
Однако, перечитывая по необходимости эту переписку при комментировании первых томов, я мнение переменил.
Мне пришло в голову, что уже одно то, что Анна Бовшек, уезжая
из Москвы, рассталась с самым ценным, что оставалось у нее от
Сигизмунда Кржижановского, говорит о многом. Прежде всего — что она прекрасно понимала, с кем свела ее судьба, с кем
прожила она три десятка лет. Как понимала и то, что теперь,
когда эти годы позади, писатель Кржижановский — и все, что
с его жизнью связано, — принадлежит не ей одной. По тому,
с каким старанием она привела эту переписку в порядок, разметила по годам, по тому, с какою решимостью оставила в ней
все собственные письма, хотя некоторые — ради выигрышно-
сти образа (артистка все-таки!) — легко могла бы утаить, изъять, кто бы заметил? — стало ясно: она хотела, чтобы переписка была прочитана, нет, верней сказать — читалась. И не пойти навстречу столь очевидному желанию было невозможно.
У переписки этой есть особенность: она, можно сказать,
циклична. Так сложилось, что ежегодно, примерно в одно и то
же время, Анна и Сигизмунд расставались на два-три месяца.
На все — или почти на все — лето. Для нее это был мертвый
543
Вадим Перельмутер
сезон — и когда концертировала: на лето Москва пустела, а гастролировать она не любила — сил много, денег мало, и когда
стала работать с детьми, у которых в июне начинались каникулы, а оставаться в Москве, которую она так и не полюбила,
ей было тягостно, да и, опять же, дорого. Он оставался в Москве, лишь изредка и ненадолго куда-нибудь уезжал. Так и перекликались. Трижды Сигизмунд выбирался летом в Одессу: два
раза — на две-три недели (писем заметно меньше, чем в другие
годы), один раз — месяца на два (писем вовсе нет).
Есть, понятно, исключения: его письма из поездки
в Среднюю Азию или из командировки в Восточную Сибирь,
ее — из путешествия на Север, но такого — по пальцам...
Сохранились, конечно, не все письма — простым их
сопоставлением можно обнаружить очевидные лакуны, явно
случайные и на общем впечатлении, по-моему, не особенно
сказывающиеся.
Стоит, по-моему, обратить пристальное внимание на то,
сколь обширен и значителен круг упоминаемых в этой переписке — а также в воспоминаниях о Кржижановском — людей,
с которыми он был знаком, встречался-беседовал, сотрудничал, — тем загадочнее исчезновение этого писателя на целых
четыре десятилетия после смерти.
Большинство писем не датировано (т. е. число и месяц,
как правило, обозначены, а год указан лишь в немногих случаях). При подготовке переписки к публикации выяснилось, что,
несмотря на старания Бовшек, справиться с этою сложностью
ей удалось не всегда. Порядок писем в некоторых случаях оказался смещен, перепутан, а несколько писем и вовсе, судя по
упоминаемым фактам, не могли быть написаны в те годы, куда она их определила. Не уверен, что все напрашивающиеся
перестановки сделаны с безупречною точностью, однако надеюсь, что существенных несообразностей избежать удалось.
Благодарю Веру Калмыкову за помощь в работе над
этим разделом книги.
Письма Сигизмунда
1
С. 23 ...адресоваться к Вам надо на Раскидай-
л о в с ку ю — т. е. по адресу городской квартиры матери
544
Комментарии
Анны Гавриловны — Веры Кузьминичны Бовшек (Рас-
кидайловская, 8, кв. 9), стало быть, это письмо является
ответом на письмо Анны от 18 июня 1923 г. (2).
...в Кубасевом деле —Кубась, —имя это встречается
в переписке неоднократно, очевидно, речь идет об одном
из близких друзей Кржижановского и Бовшек, однако
никаких сведений о нем разыскать не удалось (поскольку разыскание сведений о людях, ничем в истории не отметившихся, кроме более или менее близкого знакомства с личностями, нас интересующими, к тому же, чаще
всего, не полностью поименованных в письмах и мемуарах, является делом, как правило, безнадежным, постольку — чтобы избежать при комментировании неоднократного повторения этих огорчительных для комментатора
и бессмысленных для читателя слов — в дальнейшем отсутствие в комментариях к письмам и мемуарам тех или
иных упоминаемых авторами имен означает лишь то, что
никакой информации об этих людях не найдено).
«Beau-freres’bi» — свояки (фр.).
От Анат<олия> Констант<иновича> — Анатолий Константинович Буцкой (в письмах и др. упоминаниях написание варьируется: «Буцкой-Буцкий», правильно — через «о»; 1892-1965), композитор, музыковед, педагог, один из основоположников украинской
театральной музыки XX в., по окончании Киевской консерватории преподавал в ней, с 1925 г. — преподаватель
Ленинградской консерватории; один из немногих многолетних и верных друзей Кржижановского.
С. 24 Температура в Москве 15° по R — т. е. по Реомюру: Рене Антуан Реомюр (1683-1757), французский
естествоиспытатель, изобретатель шкалы термометра,
градус по Реомюру — 1,25 градуса по Цельсию, т. о., имеется в виду температура около 20°.
Сорабис — Союз работников искусств.
Северцевы — см. первый комментарий к ЗТ (Записи... на отдельных листах); в письмах, мемуарах, записях написание варьируется: Северцов-Северцев (правильно — Северцов, однако внучка Алексея Николаевича Ольга уже твердо заменила «о» на «е»); Людмила
Борисовна (1892-1948) — вторая жена A. H., биолог,
на диспуте «Леф» с участием Сергея Дмитриевича— «ЛЕФ» — Левый Фронт Искусств, возглав-
545
Вадим Перельмутер
лявшийся в то время Маяковским; Сергей Дмитриевич
Мстиславский (Масловский, 1876-1943), писатель; с середины девятисотых годов — видный деятель партии
эсеров, затем — член ЦК партии левых эсеров, из которой вышел в 1918 г., после убийства Я. Г. Блюмкиным
германского посла графа Вильгельма Мирбаха, во время Гражданской войны занимал крупные посты в Красной Армии; впоследствии полностью ушел в литературу,
работал в издательстве «Энциклопедия», революционная биография и сохранившиеся связи обеспечили ему
в двадцатых-тридцатых годах серьезное влияние в литературных и издательских кругах, это влияние он не
раз использовал для помощи Кржижановскому, с которым познакомился в 1918 г. и был дружен четверть века;
Мстиславскому Кржижановский обязан публикацией
в журнале «Зори» новеллы «Якоби и „Якобы“», которую
он сам считал своим писательским дебютом; в начале
октября 1989 г., за две недели до смерти литературоведа
Сергея Александровича Макашина (1906-1989), знавшего обоих, мною записаны его воспоминания, в которых, со слов Мстиславского, рассказано об этом знакомстве: в 1918 г. Мстиславский был комиссаром в Красной
Армии, занимавшей Киев (одновременно входя во Все-
украинский комитет писателей — В. Нарбут, О. Форш,
А. Дейч и немн. др., — издававший журнал «Зори»); однажды, обходя ночные посты, он увидел высокого, худого — в болтающейся, словно на вешалке, шинели — часового, который, прислонив винтовку к стене, медленно расхаживал взад-вперед и довольно громко что-то
бормотал, будто разговаривал сам с собой; осторожно
приблизившись, чтобы, не вспугнув, разобрать слова,
Мстиславский с изумлением обнаружил, что странный
часовой декламирует... Вергилия в оригинале...
вспоминаю о докторе Шротте (Влад<имир>
Васильевич знает е г о )— доктор Шротт — персонаж написанной впоследствии новеллы «Швы» (1927-
1928, I, 397-426); Владимир Васильевич Тезавровский
(1880-1955), артист МХТ (1905-1918), в 1918 г. организовал в Одессе художественную студию, затем был режиссером в Одесском театре «Массодрама», здесь же начал работать в кино — на Одесской кинофабрике поставил два фильма (один из которых — с Мариусом Петипа
546
Комментарии
в главной роли); в 1925-1927 гг., по приглашению Станиславского, помогал ему в создании оперной студии-
театра, ставшей впоследствии музыкальным театром
им. Станиславского и Немировича-Данченко; в первой
половине 1930-х гг. работал в оперных театрах Минска
и Тбилиси, считается создателем белорусской и грузинской опер, затем был художественным руководителем
Московского областного драматического театра, режиссером Московского областного ТЮЗа и др.; муж сестры Бовшек — Евгении.
2
С. 25 Ленина, Плеханова, Каутского, Бернштейна et cetera, стараясь решить мучающее
меня «или — или» — не его одного из писателей, художников, режиссеров, ученых мучило сомнение в правильности своего понимания, в резонности своего отношения к происшедшему — и происходящему — в России, подобный кризис переживали и Мандельштам,
и Булгаков, и Шостакович, и Олеша, и многие другие,
даже Горький, ибо народничеством в сознание большинства из тех, у кого было сознание, прочно была вби-
та-внушена мысль о том, что не может же, в самом деле,
народ, подавляющее его большинство «шагать не в ногу», но только малая его часть — интеллигенция — идти
правильно; характерно, что в сомнениях этих он обращается к «первоисточникам», вплоть до германских теоретиков социал-демократии Карла Каутского (1854-
1938) и Эдуарда Бернштейна (1850-1932), взвешивает
pro et contra и... следствия всего этого мы можем сегодня увидеть в его сочинениях.
Чаще всего встречаюсь с Леон<идом>
Львовичем — Леонид Львович Лукьянов (1880-
1965), режиссер Московского Камерного театра, ближайший и многолетний соратник А. Я. Таирова.
3
С. 26 ...познакомили меня, почти случайно, с редактором «России* — т. е. с литературоведом и публицистом Исаем Лежневым (Исай Григорьевич Аль-
547
Вадим Перельмутер
тпгулер, 1891-1955), который с 1922 г. был главным редактором журнала «Россия», прекратившего существование в 1926 г.
С. 26 Белый, приблизительно то же, что и Вы:
загорает и ничего не пишет — знакомство
с Андреем Белым состоялось вскоре после его возвращения из Германии; известно, что Белый бывал на
чтениях Кржижановским своих новелл, в частности,
у П. Н. Зайцева (Староконюшенный, 5).
Раз в неделю захожу к Сергею Дмитр<ие-
вичу>: к концу августа выйдет из печати
две его книги — одна из этих книг Мстиславского — исследование «Классовая борьба в Германии», вторая — полубиографический роман «Крыша мира» — вышла годом позже.
на Брянском вокз<але> — ныне Киевский.
4
С. 28 К Суслову много раз, но бесплодно, звонил... — об этом персонаже выяснить ничего не удалось.
«Авт<обиографию> трупа» переселяют
(ввиду сокращения объема «России» наполовину) из 6 № в 8 № — подробно об этом
см. в комментариях к новелле (II, 683-685).
С. 29 Лундберг Евгений Германович (1883-1965) — писатель, критик, теоретик искусства, друг Кржижановского;
в 1920-1924 гг. жил в Берлине, организовал и возглавлял
издательство «Скифы», впоследствии — в 20-х—30-х гг. —
имел немалое влияние в советских издательских кругах;
именно это влияние помогло в конце концов «пробить»
книгу рассказов Кржижановского в издательстве «Советский писатель», выходу которой помешала война.
«Круг» — московское писательское издательство, созданное в 1922 г., кроме книг, выпускало одноименный
альманах, просуществовало до 1929 г., располагалось
в Кривоколенном пер., д. 11/16.
Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894-1938) —
писатель, входил в правление издательства «Круг».
548
Комментарии
5
C. 29 стал плющить несчастных Шамиссо и Уэллса — в то время Кржижановский вел переговоры с киностудией акционерного общества «Межрабпом-Русь»
(позже — последовательно: «Межрабпомфильм» — «Со-
юздетфильм» — Киностудия им. Горького) о сценариях-экранизациях — по одному из романов Уэллса (уточнить не удалось) и повести Адельберта фон Шамиссо
(1781-1838) «Необычайная история Петера Шлемиля»
(1813), которую Кржижановский очень любил, — ничего более не известно, насколько мне удалось выяснить,
архив студии тех лет не сохранился,
бросаться за деньгами на «Словарь» Френкеля — т. е. «Литературный словарь», для которого он
сочинил одиннадцать статей (см. IV, 669-700).
в редакц<ию> «Театра и мира» —в периодике
того времени такого издания не зарегистрировано, который из журналов (или газет) Кржижановский таким
образом переозаглавил, неизвестно.
С. 30 Сергей Дмитриевич с Софьей Павловной — Софья Павловна (1879-1948), жена Мстиславского, хирург.
6
С. 31 Собираюсь строчить для «Энциклопедии» — по заказу Серг<ея> Дмитр<иеви-
ча>— статью об Авенариусе — об этом см. мемуары А. Бовшек (глава «Москва», ч. V).
рассказ, в котором изображу Ваши глаза —
возникает замысел новеллы «В зрачке» (1,427-462).
«Заглавие» передал в Госиздат — о том, как
эта фраза помогла разрешить сомнения относительно
датировки «Поэтики заглавий», см. в предварении комментариев к этой работе (IV, 708-711).
«Фотогения», что ни день, делается беспокойнее и суетливее — примерно годом ранее Кржижановский и «гений фотопортрета» Моисей
Соломонович Наппельбаум (1869-1958), тогда только
что переехавший из Петрограда в Москву, приняли участие в организации предприятия с пышным названием:
549
Вадим Перельмутер
«Производственный трудовой кино-коллектив „Фотогения“ при Центропосредрабисе Наркомтруда РСФСР», —
иначе говоря, юридически оформили возможность существования собственной маленькой киностудии, которая могла бы жить, естественно, только на заказы,
получаемые через Наркомат; было у «Фотогении» и Петроградское отделение — по адресу: Петроград, Проспект 25 Октября (так некоторое время именовался Невский), 72, Фото-Студия Наппельбаума; надежды на заказы оказались тщетными, к реальной деятельности
«Фотогения» так и не приступила, доходов, понятно,
тоже не приносила, но время от времени приходилось
создавать иллюзию деятельности, опять же, в надежде
на «лучшие времена», продолжалось сие, как минимум,
года четыре: в 1928 г. в «расчетной книжке» Кржижановского еще красуется запись о том, что он является «Зав.
сценарной частью» этого предприятия, в «реквизитах»
которого за четыре года произошло лишь три изменения — РСФСР превратилась в СССР, Петроград — в Ленинград, а Проспект 25 Октября снова стал Невским;
даты исчезновения этого «проекта» установить не удалось. Отвлекаясь от комментария к строке письма, стоит добавить, что московское ателье Наппельбаума находилось в том же доме (этажом выше), что и квартира
Е. Ф. Никитиной (Тверской бульвар, 24, кв. 8), хозяйки
знаменитых «Никитинских субботников», где Кржижановский к тому времени уже был принят и признан,
и знакомству с Наппельбаумом Кржижановский обязан не только лучшими своими портретами, сделанными мастером в конце двадцатых годов, но, вполне вероятно, и размышлениями об искусстве фотопортрета
в очерке «Коллекция секунд» (1925): «Замечено: вырождается искусство портрета, медлительная техника которого может охватить лишь замедленное же течение
замедленных психик... Наши предки «выходили» на
дагерротипах, мы — зачастую не выходим и на чувствительных пленках...» (I, 559-560).
7
С. 32 ...иногда — по ночам — играю сам с собой в шахматы — начиная с новеллы «Проигран-
550
Комментарии
ный игрок» (I, 133-138), шахматная тема — одна из
сквозных во всем, что написано Кржижановским: в прозе, статьях, ЗТ, письмах.
...читаю «Ист<орию> социальн<ой> утопии» — эпитет к заглавию добавлен автором письма,
речь идет об изданной в 1910 г. в русском переводе книги одного из любимых Кржижановским польских писателей Александра Свентоховского «История утопии»
(переводчик, впрочем, тоже несколько отклонился от
оригинала: «Utopia w rozwoju historycznym», — «Утопия
в историческом развитии»).
С. 33 ...мы с Леонид<ом> Льв<овичем> задумали одну театр<альную> переработку — возможно, речь идет о замысле, осуществленном почти десятилетие спустя (1934): переработке для Камерного
театра сочинений Шекспира, Пушкина и Шоу «на тему
Клеопатры».
...думаю о большом рассказе «Жесткий
в акуум » — сочинения с таким заглавием в наследии
Кржижановского нет.
...а «гроза» не получается. А вдруг получится такая, как в М.Х.Т.: лучше совсем не
надо — намек на наделавшую шума в театральном мире несостоявшуюся постановку «Грозы» в МХТ в 1918 г.
Евгения Михайл<овича> — Евгений Михайлович Кузьмин (1862-1942), историк культуры, искусствовед, киевский знакомый Кржижановского, в начале
1910-х гг. издавал журнал «Рыцарь», в котором напечатано несколько ранних вещей Кржижановского.
8
С. 34 «Что слышно о Бор<исе> Никол<аеви-
ч е > » ? — Бугаеве, т. е. об Андрее Белом.
...накропал сценарий для Моссельпрома.
Называется: «История о Мосе, Селе и сыне их Проме» — этот вышедший, но, увы, не дошедший до нас рекламный киноролик, вероятно, был
одним из первых (если не первым) опытом отечественной анимации; опыт этот пригодился Кржижановскому
почти десятилетие спустя — при работе над фильмом
А. Птушко «Новый Гулливер».
551
Вадим Перельмутер
С. 34 ...а 1а Ар го-Адуев — т. е. в стиле написанного
Абрамом Арго и Николаем Адуевым текста для оперетты Шарля Лекока «Жирофле-Жирофля», поставленной
в Камерном Театре Александром Таировым в 1922 г.,
спектакль имел оглушительный успех.
...не то не заказанной Серг<еем> Дм<ит-
риевичем> статье «Авантюрный роман» —
среди словарных статей, написанных Кржижановским,
такой нет.
В Госиздате дело мое — очередной щелчок — провалилось — т. е. «Заглавие» к печати не
принято.
...письмо Полонскому в «Печ<ать> и Ре-
в<олюцию>» — см. ком. к «Путешествию клетки»
(V, 554).
С. 35 Серг<ей> Дм<итриевич> всерьез строится — дом семьи С. Д. Мстиславского находился по
адресу: Гагаринский пер., 8.
9
С. 35 Сегодня я как будто уезжаю — запись в «Домовой книге» Волошинского Дома Поэта свидетельствует, что Кржижановский приехал в Коктебель 18 июня
и пробыл там до 5 августа; история этой — первой из
трех — поездки в Коктебель начинается, вероятно, с московского знакомства Кржижановского и Волошина, которое, судя по всему, состоялось в марте 1924 г., во время поездки Волошина в Москву; вот несколько возможных — на выбор — вариантов этого знакомства: 13 марта
Волошин выступает в Доме ученых — вместе с Софьей
Федорченко, доброй знакомой Кржижановского по «Никитинским Субботникам», 21-го — у П. Н. Зайцева в Староконюшенном (где читывает свои новеллы и Кржижановский), 22-го — на «Субботнике» у Е. Ф. Никитиной,
где Кржижановский к тому времени уже один из признанных и постоянных посетителей-участников, тогда
же Волошин знакомится с А. Г. Габричевским и его женой Н. А. Северцовой, в доме которых в Чернышовом переулке Кржижановский довольно часто бывает; однако
Волошиным, встречавшимся в той поездке с десятками
и десятками прежде незнакомых людей, то знакомство
552
Комментарии
осталось не выделенным; полтора года спустя о Кржижановском как о своем «приятеле» упоминает в письме к Волошину (от 20 ноября 1925 г.) друживший с ним
Е. Л. Ланн, еще через полгода — 18 мая 1926 г. — он же
пишет к Волошину: «...Замолчал Сигизмунд Кржижановский — помните, я говорил о нем в прошлом году?
Это писатель большого масштаба. Один из самых глубоких людей, каких я когда бы то ни было знал. С ним
и с Лундбергом я хотел бы Вас познакомить» (здесь и далее в комментариях переписка Волошина и Ланна цитируется по кн.: «...Темой моей является Россия»: Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007,
с. 102; далее в комментариях при цитировании переписки Волошина с Данном указываются страницы этого издания); Волошин откликается 17 мая: «...Относительно Вашей сестры: не привезете ли Вы ее с собою
в Коктебель — рассеяться, посмотреть на людей и понабраться жизни и солнца? Буду очень рад ей. Так же как
Лун<д>бергу и К<р>жижановскому, если они соберутся
в Коктебель» (с. 104), — это уже звучало как приглашение, и месяц спустя Кржижановский им воспользовался.
...я получил систему д-ра Киша — Енох Генрих Киш (1841-1918) — чешский врач, один из основоположников бальнеологии: вероятно, имеется в виду его «Руководство к общей и частной бальнеологии»
(1875).
С. 36 ...как бы московские злыдни не пролезли
за мною в вагон — эти персонажи хорошо знакомы Кржижановскому еще с той поры, когда в № 6 за
1913 г. журнала «Рыцарь» он опубликовал свои размышления о них; неплохо осведомлена о них, судя по переписке, и Бовшек, фигурируют они и в повести «Странствующее „Странно“» (I, 302), той самой, которую, как
выяснится, Кржижановский берет с собою в эту поездку.
10
С. 37 И я опять человек, к<ото>рый был, кто
знает, м<ожет> б<ыть>, и Четвергом — намек на роман Г. К Честертона «Человек, который был
Четвергом», инсценировка которого, сделанная Кржи¬
553
Вадим Перельмутер
жановским и поставленная Таировым, шла в 1923-
1924 гг. на сцене Камерного театра.
...внезапная болезнь Евг<ения> Львовича — Евгений Львович Ланн (Лозман, 1886-1956),
прозаик, переводчик, друг Кржижановского (и первый
председатель в 1957 г. Комисии по творческому наследию С. Д. Кржижановского при Союзе писателей).
Исходил всю территорию развалин Судакской Крепости — крепость XIV—XV вв. в соседнем с Коктебелем Судаке, некогда бывшая опорным
пунктом итальянских колоний в Крыму.
...читал и я — как будто бы с успехом —
из Дневника литературоведа и книговеда И. Н. Розанова
(1874-1959): «1926. 1 июля, чт. ...Знакомых в Коктебеле
оказалось много: ожидаемые — Звягинцева, Дурылин,
Соловьев, Габричевский, С. А. Толстая, неожиданные
...С. Д. Кржижановский... 9 июля. ...После 5 часов Сиг.
Доминикович — рассказ Странствования странно»...
(т. е. та самая повесть «Странствующее „Странно“», где
среди действующих лиц есть и злыдни).
11
С. 39 в среду (13 августа) — описка: июля.
12
С.40 ...легко овладел текстом «В зрачке» — письмо вносит поправку в датировку, данную в авторской
«Автобиблиографии» (и повторенную мною в т. I) —
1927, сдвигает ее на год назад, что, кстати, более согласуется с письмом о замысле рассказа (от 25.VII.1925 —
6) и с фразою, в которой слышится импульс замысла, — из письма от 17.VII.1925 (5): «И за тысячу верст не
спрячешься от Ваших глаз: смотрят, хоть ты что!»
Троицкий посад — Т]роице-Сергиевский, под Москвой.
Цекубу — Центральная комиссия по улучшению быта
ученых при Совете народных комиссаров РСФСР была
создана в Петрограде по инициативе Горького в 1920 г.;
в письме речь идет о переданной Цекубу в 1922 г. усадьбы
Узкое (см. ком. к письму Анны от 18 июня 1923 г. — 2).
554
Комментарии
C. 41 Шенгели Георгий Аркадьевич (1894-1956) — поэт, переводчик, теоретик стиха, с Кржижановским
познакомился в 1922 г., когда оба почти одновременно переехали в Москву, один — из Харькова, другой — из Киева, встречались, особенно в первые годы, довольно часто — на «Никитинских Субботниках», на заседаниях ГАХН; по воспоминаниям жены
Шенгели Нины Леонтьевны Манухиной, Кржижановский появлялся у них, как говорится, «запросто»,
по московским меркам, они соседствовали — от дома Кржижановского (Арбат, 44) до жилища Шенгели (Борисоглебский пер, 15), через бывшую Собачью
Площадку, было минут десять ходьбы.
13
С. 41 ...радостная встреча: Грин — я. Оказывается, он живет в Феодосии — Кржижановский
чрезвычайно высоко ценил сочинения Александра Грина, потому встреча с ним стала едва ли не самым ярким
впечатлением от поездки; феодосийский адрес Грина — Басейная, 18; это упоминание о встрече с Грином,
приведенное мною в одном из первых изданий Кржижановского, подвигло неизвестного умельца на изготовление фотомонтажа — мистификации-фотографии
Грина с Кржижановским (подробнее — в подписях к иллюстрациям, фото А. С. и H. Н. Грин).
...намарал «Штемпель: Москва» — Россия,
1925, № 5.
В мастерской Максим<илиана> Ал<ександ-
ровича> по утрам дочитал ему — с глазу на глаз — «Клуб убийц букв» и прочел
«Швы» — это чтение наедине говорит о серьезном интересе Волошина к прозе Кржижановского, подобных свиданий удостаивались немногие — по утрам обыкновенно «мастерская» была наглухо закрыта для посещений: хозяин Дома работал; письмо вносит уточнение в датировку
новеллы «Швы» (1927-1928), видимо, речь идет о первом
ее варианте, в дальнейшем переработанном (в частности,
как явствует из письма, по Всшошинским замечаниям).
555
Вадим Перельмутер
15
С. 44 «Мюнхгаузена» читал Ланнам, АнтокСоль-
скому>, Шторму — Е. Л. Ланн и его жена, переводчица Александра Владимировна Кривцова, дружили с Кржижановским без малого тридцать лет; поэт Павел Григорьевич Антокольский (1896-1978) заведовал
в те годы литературной частью Театра им. Вахтангова,
с Кржижановским он познакомился — как и с привезшими его с собой в Москву артистами Еврейской студии — в 1922 г.; у Антокольского есть стихотворение,
посвященное Кржижановскому, вот оно:
Гулливер
С. Д. Кржижановскому
Подходит ночь. Смешав и перепутав
гул океана, книгу и бульвар,
Является в сознанье лилипутов
С неоспоримым правом Гулливер.
Какому-нибудь малышу седому
Несбыточный маршрут свой набросав,
Расположившись в их бреду как дома,
Еще он дышит солью парусов,
И мчаньем вольных миль, и черной пеной,
Фосфоресцирующей по ночам,
И жаждой жить, растущей постепенно,
Кончающейся, может быть, ничем.
И те, что в эту ночь других рожали,
На миг скрестивши кровь свою с чужой,
И человечеством воображали
Самих себя в ущельях этажей,
Те, чьи умы, чье небо, чьи квартиры
Вверх дном поставил сгинувший гигант,—
Обожжены отчаяньем сатиры,
Оскорблены присутствием легенд...
Не верят: «Он ничто. Он снился детям.
Он лжец и вор. Он, как ирландец, рыж».
556
Комментарии
И некуда негодованья деть им...
Вверху, внизу — шипенье постных рож.
«Назад!» — несется гул по свету, вторя
Очкастой и плешивой мелюзге...
А ночь. Растет. В глазах. Обсерваторий.
Сплошной туман. За пять шагов — ни зги.
Ни дымных кухонь. Ни бездомных улиц.
Двенадцать бьет. Четыре бьет. И шесть.
И снова. Гулливер. Стоит. Сутулясь.
Плечом. На тучу. Тяжко. Опершись.
А вы где были на заре? А вы бы
Нашли ту гавань, тот ночной вокзал,
Тот мрачный срыв, куда бесследно выбыл
Он из романа социальных зол?
Вот щелкающим, тренькающим писком
Запело утро в тысяче мембран:
«Ваш исполин не значится по спискам.
Он не существовал. Примите бром».
1929
Писатель Георгий Петрович Шторм (1898-1978) не раз
пытался помочь Кржижановскому опубликовать сочинения, именно он в 1932 г. передал его прозу Горькому — в надежде, что он сумеет ее напечатать (см. об
этом 1,25-39), а позже, после резко критического выпада «Правды» (см. I, 62-63), поспособствовал его эпизодическому печатанию в «Литературной газете» и других
центральных изданиях, что постепенно свело возникшую опасность на нет.
С.44 ...не навестил Тины — Валентина Гавриловна
Осмоловская, сестра Бовшек.
16
С.45 Следующее письмо «с прилагательными»
Вы адресуете: Крым, Коктебель — второй
поездке Кржижановского в Коктебель предшествовало
письмо, написанное 1 июня:
557
Вадим Перельмутер
«Глубокоуважаемо-дорогой Максимилиан Александрович!
„Зимой я отвечаю на письма“, сказали Вы мне при прощании. Я упустил зиму, не написал Вам, как обещал, и Ваш
неответ приму как заслуженное наказание. В оправдание могу сказать только одно: мне хотелось дождаться хотя бы маленького внешнего литературного успеха, чтобы поделиться
им с Вами; всю зиму я бился, пробуя заставить типографскую
краску заблагоухать и для меня, — и вот теперь вижу, что, если письму ждать успехов, то оно никогда не будет написано.
Дорогой Максимилиан Александрович, как задуманная
Вами книга („Коктебельские вечера“), пододвинулась к написанию или нет? Меня это очень интересует. А новые стихи?
Ваш ,Дом поэта“ у меня бессменно на столе среди самого нужного, — это ключ, которым я часто завожу раскружившуюся волю.
Самое Ваше молчание мне кажется грохочущим, в то
время как слова многих и многих заплатили за свой звук смыслом — интеллекту никак неслышимы.
Мне бы очень хотелось, если это будет возможно, побыть хотя бы неделю около Вас.
Но не знаю, удастся ли, а если удастся, то не так скоро
(к концу июля): но об этом, если обстоятельства разрешат мне
Коктебель, напишу особо.
Эту зиму я упорно, стиснув зубы, работал. В итоге: рассказ-памфлет „Книжная Закладка“ (2 печ. л.); сборник сказок
„Неукушенный локоть“ (лучшие среди них: „Жан-Мари-Аруэ-
Блез-Луи де Ку“, „Полспасиба“, „Когда рак свистнет“ и „Тринадцатая категория рассудка“); начало романа „Неуют“; наконец, основная тема этого года — „Возвращение Мюнхгаузена“ (получилось 6 Уг п. лист.). Вот перечень названий глав
повести: I. У всякого барона своя фантазия. П. Дым делает шум.
III. Ровесник Канта. IV. In partes infidelium. V. Черт на дрожках.
VI. Теория невероятностей. VII. Баденвердерский затворник
VIII. Истина, уклонившаяся от человека.
Как там получилось, не знаю, но ни в одну из своих вещей я не вложил столько страсти, как в историю о всесветном врале. Я читал кое-что из написанного в литерат<урных>
„чтильнях“ (м. б. такое слово?) — в результате несколько редакторов обратились ко мне с предложениями, но пока что ничего у нас не получается — да и не получится. Так мне, по крайней мере, кажется.
558
Комментарии
Почтительнейший привет Марии Степановне.
Крепко-крепко жму руку.
Ваш С. Кржижановский»
Следует отметить, что это и три остальных письма
к Волошину (они приводятся далее в комментариях) броско
отличаются от всей прочей виденной/читанной мною переписки Кржижановского (с Бовшек, Данном, Мстиславским,
Таировым etc.): обычно почерк его стремителен и неровен,
подчас весьма непрост не только для «стороннего», но и для
«адресатского» чтения (достаточно сказать, что даже Бовшек,
разбирая правку в его машинописях или строки Записных Тетрадей, не раз ошибалась в прочтениях), рука словно бы не
всегда успевает за намерением автора, здесь нередки лигатуры, сокращения, недописанные, но лишь угадываемые слова;
в письмах к Волошину — ничего подобного, они каллиграфи-
чески-тщательны, я бы даже сказал, прилежны на вид, этим,
на мой взгляд, — бессознательно или осознанно, судить не
берусь, — выказано почтение к единственному из адресатов
старшему, или, если угодно, подмастерья к мастеру.
(Несколько пояснений к тексту письма:
книга «Коктебельские вечера» написана не была;
автограф стихотворения Волошина «Дом поэта» (25 декабря 1926) в архиве Кржижановского не обнаружен; поскольку из текста письма ясно, что со дня отъезда Кржижановского из Коктебеля переписки между ним и Волошиным не было,
логично предположить, что список «Дома поэта» он получил
от кого-либо из общих знакомых, их было немало, например,
от А. Г. Габричевского, которому Волошин отправил стихотворение тотчас после завершения — 27 декабря;
перечень сделанного зимой 1926-27 гг. помогает скорректировать датировку нескольких произведений — с точностью
до двух-трех месяцев;
любопытно упоминание о «сборнике сказок», — предназначенное ему заглавие впоследствии было дано совсем другому сборнику, куда не вошла ни одна (!) из названных новелл:
две первых были включены в 1927 г. в окончательный состав
«Сказок для вундеркиндов» (с изменением имени-заглавия на
«ЛСан-Мари-Филибер-Блез-Луи де Ку», видимо, чтобы снять
случайную ассоциацию с подлинным именем Вольтера), двум
другим нашлось место лишь в «Сборнике рассказов 1920-
1940-х гг.»).
559
Вадим Перельмутер
С. 45 Фаина Абрамовна — из текста следует, что речь
идет о коллеге по службе в «Энциклопедии», ничего более
узнать не удалось.
я еду — скоропалительно, не предупредив,
как следует, Волошина, — 2 июля — очевидно, поездка планировалась на более поздний срок, пришлось срочно отправлять письмо — оно датировано
27 июня:
«Глубокоуважаемый и дорогой Максимилиан Александрович!
Только сегодня выяснилось, что отпуск мой, предполагавшийся на август, придвинулся к началу июля. Дальше
Вы уже сами догадываетесь: просьба о крове. Мне не стыдно
просить — Вы виноваты в том, что человек, раз побывав около Вас, хочет этого снова и снова. Но мне не хотелось бы,
дорогой Максимилиан Александрович, невольной внезапностью своего приезда причинять Вам хлопоты и затруднения.
Вначале я думал было, отправив это письмо, дожидаться ответа, но после сообразил, что проще отправиться за ответом
самому. Ведь дело в том, что перемещать срок отпуска сейчас я не могу, а решение мое — увидеть Вас и Коктебель —
твердо, поэтому если Вы приютите меня — еду, а если (по
многолюдству) не сможете приютить — тоже еду и поселяюсь где-нибудь поблизости (ведь во встречах Вы мне не
откажете?).
Еще просьба: в случае, если б у Вас было негде, пожалуйста, попросите Веру Клавдиевну (знаю — она у Вас) присмотреть мне обиталище.
Итак, не теряя дней, 4-го июля с автобуса к Вам, дорогой
Максимилиан Александрович, и на месте, просто и без стеснений, выясняем ситуацию. Не сердитесь за суматошное письмо
и внезапность. До скорой встречи.
Ваш С. Кржижановский.
Почтительнейший привет Марии Степановне.
С. К»
(Упоминается Вера Клавдиевна Звягинцева (1894-
1972), поэтесса и переводчица, с которой Кржижановский познакомился у Волошина годом раньше и — уже в Москве —
успел подружиться; в «Домовой книге» записано, что Кржижановский прибыл в Коктебель 4 июля и пробыл там до 5 августа,
560
Комментарии
первая дата верна, вторая — нет, видимо, получив письмо, Волошин пометил, что жилец пробудет в Доме месяц, но у того
в распоряжении было только 12 дней.)
С. 45 ...тема о Мюнхгаузене — волей обстоятельств — мне окончательно испорчена — в это время Кржижановский получает окончательный отказ от киностудии, куда давал киносценарий о Мюнхгаузене, переработанный тем временем
в повесть (сценарий не сохранился), ничем окончились и предварительные переговоры о повести в одной
или двух редакциях журналов (свидетельство Н. С. Су-
хоцкой).
Неожиданно для автора выползла тема
«Неуюта» — см. ком. к «Неуюту».
...три ночи кряду «крестили», как выразился Серг<ей> Дм<итриевич>, его новый
роман — очевидно, имеется в виду «Повесть о Черном Маголе» (опубликовано: Октябрь, 1928, № 9-10; отдельное изд. — М., 1932).
17
С. 46 ...я получил приглашение приезжать,
когда захочу, и акварель — «приглашение» не было фигурой вежливости гостеприимного хозяина: «Еще более узнал и оценил этим летом С. Д. Кр<жи>жановского», — писал он к Ланну
26 октября 1927 г (с. 112); упомянутая акварель не обнаружена.
С. 47 Чтений в Коктебеле было немного, но
моих, пожалуй, слишком много: три — одно из них, судя по волошинской надписи на акварели (см. мемуары А. Бовшек), «Собиратель щелей», второе выясняется из дневника А. П. Остроумовой-Лебедевой, записавшей, что 19 июля Кржижановский читал
«Тридцать сребреников» (дата, впрочем, либо — описка, либо неверно прочитана, ибо письмо начинается с того, что восемнадцатого Кржижановский был уже
в Москве), содержание третьего чтения выяснить не
удалось.
Вера Кузьминична Бовшек — мать Анны.
561
Вадим Перельмутер
19
С.49 ...ситуация в «Красной Нови» для меня
сейчас весьма неблагоприятна — в1927г.по-
сле ожесточенной кампании, развернутой против журнала «Красная новь», обвиненного более всего в «попустительстве к попутчикам», т. е. в переоценке «эстетики»
и недооценке «идеологии», в «противодействии пролетарской культуре», бессменный с момента основания
журнала (1921) главный редактор А. К Воронский был
снят; в 1929 г. журнал прекратил существование.
Раскольников (Ильин) Федор Федорович (1892-
1939) — крупный советский партийный и военный деятель, дипломат, литератор, с середины двадцатых годов «брошен партией» на идеологическое укрепление
искусства, стал одним из вдохновенных его душителей,
возглавлял печальной памяти Гиаврепертком, Комитет
по делам искусств, издательство «Московский рабочий»,
ряд журналов, в 1927 г. сменил Воронского на посту
главного редактора «Красной нови»; в редакции «Красной нови» в это время читали «пробные главы» повести
«Неуют».
...секретарь Нарбута — с поэтом Владимиром
Ивановичем Нарбутом (1888-1938) Кржижановский
познакомился в Киеве (тот был редактором журнала
«Зори»), знакомство, впрочем, неблизкое, продолжилось в Москве, где Нарбут возглавлял издательство «Земля и Фабрика» (ЗиФ).
...рукопись моя, отданная Нарбутом «на
рецензию» — речь идет о «Возвращении Мюнхгаузена» (см. предварение комментариев к повести — И,
620-632; там же — текст рецензии).
С «Журналом для всех» — выходивший в 1921 -
1925 гг. в Петрограде-Ленинграде «Журнал для всех»,
возобновился с сентября 1928 г. в Москве, выпускало
его общество пролетарских писателей «Кузница» в издательстве «ЗиФ».
Малкин Борис Федорович (1891-1938) — партийный и издательский деятель, литератор, знакомый
Кржижановского по «Никитинским Субботникам» (где
оба были членами кооператива одноименного издательства писателей), а также — через Мстиславско¬
562
Комментарии
го, чьим коллегой он был по деятельности в верхушке
партии левых эсеров; в 1918 г. перешел к большевикам,
вступил в ВКП(б), был одним из редакторов «Известий»,
затем заведовал агентством Центропечать при ВЦИК;
в то время, о котором идет речь, возглавлял правление
киностудии «Межрабпомфильм»; вероятно, именно знакомство с Малкиным способствовало впоследствии сотрудничеству Кржижановского с Протазановым при
создании «Праздника святого Йоргена».
20
Третьей поездке Кржижановского в Коктебель (в «Домовой книге» — с 1 по 14 августа) предшествовало его письмо
к Волошину от 25 июля:
«Глубокоуважаемый Максимилиан Александрович!
Это не письмо, а так — несколько пред’уведомительных
слов. 1-го августа — как я предполагаю — пароход привезет меня в Феодосию, и в тот же день я буду просить Вас о крове. Если обстоятельства (не Вы, конечно) мне откажут, поселюсь поблизости. Мне очень хочется Вас видеть, дорогой Максимилиан Александрович, услышать и сказать. Отпуск позволит мне
пробыть в Коктебеле не долее как до 15 августа.
Итак, до свидания.
Всегда Ваш
С. Кржижановский.
P. S. Марии Степановне мой почтительнейший привет».
С. 50 «Землефабрика» приняла вашу книгу к изданию — «Возвращение Мюнхгаузена».
Тут сейчас гостит Зоя Петровна — Лодий
(см. ком. к письму Анны от 7 июля 1927 г. — 24).
...поэт Всев<олод> Рождественский — Всеволод Александрович Рождественский (1895-1977)
впечатлением от этого знакомства поделился в письме
к литературоведу В. А. Мануйлову: «...Из любопытных
людей здесь Кржижановский — автор фантастических
повестей, которых не берут в журналы по „несвоевременности“».
С.51 Читал 2 главы из «Мюнхгаузена» и «Локоть» — т. е. «Неукушенный локоть».
563
Вадим Перельмутер
...секретарь редакции «Недр» (Леонтьев) — там же, в Коктебеле жил на собственной даче
и редактор «Недр» Н. С. Ангарский (Клестов, 1887-1941),
отношения с которым — и с журналом — у Кржижановского не сложились.
Побывать в Коктебеле Кржижановскому более не довелось. Хотя, по-видимому, он собирался туда и в следующем,
1929 г.: в Еженедельнике Волошина на 1929 г. фамилия Кржижановского записана — и зачеркнута. Поездка не состоялась. Но
сохранилось письмо Кржижановского к Волошину от 24 июля:
«Дорогой-глубокоуважаемый Максимилиан Александрович!
Это письмо не угрожает Вам ничьим приездом. Я попросту хочу Вам рассказать — пусть с запозданием — о моем
литературном нежитье-небытье; как это было условлено в нашу последнюю встречу.
Цензура, перечеркнувшая прошлой осенью три моих
книги кряду, на некоторое время перечеркнула и охоту к работе. Правда, я справился с малодушием и принялся, как ни в чем
не бывало, за новые книги, но темп был потерян, и к лету даже программа-минимум оказалась не выполненной. Хотел было форсировать работу, отдав ей летнее, предназначенное для
отдыха время. Но в это время подоспел заказ на киносценарий, с которым я вожусь уже более месяца и который мне никак не дается. Тем не менее, хотя ситуация и целиком против
меня, я за эту зиму успел: 1) проредактировать и переработать
30 своих старых новелл (Вы, Максимилиан Александрович, из
них знаете только одну — „Якоби и якобы“), которые составили томик в 10 печ. лист. Несколько опытов с чтением этих новелл показали мне, что они лучше доходят, чем более поздние
вещи. 2) рассказ „Чужая тема“ — экспозицией ему служит повествование о купле-продаже одного миросозерцания, проданного т. ск. „на-слом“, по дешевой цене. 3) недописанная повесть (готово 3 печ. л., осталось дописать 1 лист) — „Матерьялы
к биографии Горгиса Катафалаки“ — жизнеописание абсолютного дурака, данное на фоне грандиозных мировых событий.
С своим до мудрости глупым „Катафалаки“ я как-то особенно сжился и сдружился (да-да), как в прошл. году с Мюнхгаузеном. 4) и, наконец, также незаконченная (такой уж „дефицитный“ сезон!) вещь — „Воспоминания о будущем“: я, может
564
Комментарии
быть, ни в одну из своих вещей не вкладывал столько мысли,
как в эту, нигде не приводил в движение таких массивов, как
здесь; чтобы закончить, понадобится предельное усилие — и я
заставлю себя его сделать. Но после отдыха. Сейчас я переработался и ни на что не гожусь. Ближайшая очередная работа —
после месяца передышки — пьеса: крепко продуманная, с фокусом, поверхность из смеха, ядро из гнева, — если не удастся
(а вряд ли удастся — тема моей комедии слишком опережает
мою дилетантскую драматург<ическую> технику) — выброшу
в мусор, никому не читая.
Ну, вот и все, кажется. Письмо получилось архиэгоисти-
ческое. Понятно: перо мое — чьи чернила пьет, про того и пишет.
Но я, дорогой Максимилиан Александрович, вызываю
Вас — не рассердитесь только — на соревнование в эгоизме:
напишите только о себе, и Вы порадуете меня так, как я того
и не заслуживаю. Узнать о Вашей работе, или даже неработе,
для меня чрезвычайно нужно и важно. Сердечный привет Марии Степановне.
Всегда Ваш С. Кржижановский».
(Три книги, «перечеркнутых цензурой» в конце
1928 г. — сборники новелл «Сказки для вундеркиндов» и «Собиратель щелей» и повесть «Клуб убийц букв»; в архиве Е. Ф. Никитиной сохранился черновик адресованного шефу цензуры
П. И. Лебедеву-Полянскому письма по поводу второй из новеллистических книг и повести; дальнейшая судьба этого письма
неизвестна;
«заказ на киносценарий» — «Праздник святого Йоргена»;
под «переработкой 30 старых новелл» (на самом деле — 29)
разумеется окончательный состав «Сказок для вундеркиндов»,
судя по датам, полностью завершенный в 1927 г.;
задуманная пьеса, где «поверхность из смеха, ядро из гнева», —
очевидно, комедия «Писаная торба».)
21
С.51 ...книга, если выйдет, то с предисловием,
в котором меня, вероятно, здорово разругают — см. об этом в предварении комментариев
к «Возвращению Мюнхгаузена».
Цензура отложила свой ответ (это уже пишу о «Никит<инских> Суб<ботниках>») —
565
Вадим Перельмутер
вероятно, речь идет об ответе на письмо, адресованное
Лебедеву-Полянскому.
С. 52 «Повесть о черном Маголе» — Кржижановский просто-напросто запамятовал, что уже писал Бовшек об этой книге (см. письмо 16).
С Евдоксией Федоровной Никитиной (1892-
1973) — хозяйкой литературного салона «Никитинские Субботники», организатором одноименного издательства, многолетним и верным другом Кржижановского и Бовшек (стоит упомянуть, что устроенный ею
на одном из «Субботников» 1967 г. вечер памяти Кржижановского — к 80-летию со дня его рождения — так
и оставался единственным публичным воспоминанием
о писателе — вплоть до выхода, наконец, в 1989 г. первой книги его прозы — «Воспоминания о будущем»),
театр «Кабуки» — впервые театр «Кабуки» выехал
за пределы Японии в 1928 году — на гастроли в СССР.
22
С. 53 ...соглашаюсь писать «по Протазанову» —
сохранилась стенограмма-конспект беседы Кржижановского с Протазановым (РГАЛИ, ф. 2280, С. Д. Кржижановский, on. 1, ед. хр. 20), из которой можно понять,
что у режиссера было несколько пожеланий о переделке сценария «Праздника святого Йоргена».
С. 54 Анат<олий> Конст<антинович> (с Елен-
<ой> Ник<олаевной> и Людм<илой> Ни-
к<олаевной> — зачем этот багаж?) — Елена
Николаевна — жена Буцкого, Людмила — ее сестра.
23
С. 55 ...позвонил в ЗИФ Черняку — Яков Захарович
Черняк (1898-1955), критик, историк литературы, правая рука Нарбута в «ЗиФ»е; о попытках Черняка опубликовать одну из «крупных» вещей Кржижановского см.
предварение комментариев к разделу «Не включенное
в авторские проекты книг и незавершенное» (V, 559-
563).
...разговор о «Том Третьем» — т. е. о «пробных
главах» и конспекте романа.
566
Комментарии
C. 56 ...обдумывал новые куски моей «Поэмы
в рубленой прозе» — сочинения с таким заглавием (и ничего, чтобы подходило под это определение)
в архиве Кржижановского нет.
24
С. 57 Георгий Аркадьевич, как и я, — одиноче-
ствующий без своей Нины Леонтьевны —
Нина Леонтьевна Манухина (1893-1980), поэтесса, жена Шенгели.
...до трогательности милый... каталог —
поневоле вспомнишь его же фразу: «Плоха та шутка,
в которой под кожурой смеха не скрыт серьез»: попадание на одну из карточек этого Шенгели-каталога и подарило писателю то, что происходит ныне с его наследием: напомню, что именно с обнаружения дневниковой
записи Шенгели о смерти Кржижановского началась
нынешняя — посмертная — жизнь этого писателя.
Машбиц-Веров Иосиф Маркович (1900-1989) —
литературовед, критик, в 20-30-х гг. активный участник
РАППовского журнала «На литературном посту» и журнала «Октябрь»; в 1938 г. был репрессирован, по возвращении из лагеря и реабилитации (1955) снова вошел
в состав редколлегии «Октября».
25
С. 58 Жаль — испарился Лундберг: хотел расспросить его о кавказских маршрутах
и ценах — Лундберг, женатый на Елене Давыдовне
Гогоберидзе, часто бывал на родине жены; подробно
о кавказской поездке Сигизмунда и Анны см. в мемуарах Бовшек.
26
С. 59 Об этой странной, я бы сказал, Пасмурной Поляне (хотя солнце и светило вовсю) — при встрече — ср. историю возникновения книги «Чем люди мертвы» во вступительном очерке
к первому тому.
567
Вадим Перельмутер
27
С. 60 my little thing — моя малютка {англ.).
28
С.61 ...у Звягинцевых, на днях затеваю с На¬
умом Мих<айловичем> — мужем В. К Звягинцевой.
На днях бросит меня и редактор нашего
журнала — в это время Кржижановский уже начал
работать в журнале «В бой за технику».
Якобы вскоре будет издаваться Узбекская
энциклопедия — слухи не подтвердились: затея
издать «Энциклопедии» по всем союзным республикам
осталась «прожектом».
С.62 Я тоже не тороплюсь с третьим либретто — иных сведений об этих договоренностях с Лунд-
бергом не сохранилось; «либретто» Кржижановский нередко называл киносценарии.
...написание биографии Эдисона — не написана.
29
С.63 ...теснее сдружиться с «Кола Брюньо-
н о м » — речь о подготовке Бовшек концертной композиции по роману Р. Роллана; дюжину лет спустя «теснее сдружиться с „Кола Брюньоном“» довелось и самому Кржижановскому (см. ком. к письму Анны — 68).
...даже «Маленькому человеку» — рассказ Федора Сологуба (1907).
30
С.64 ...получил еще одну должность — заведующего издательством Курупра — Санаторно-
Курортного управления.
...моему курортному сценарию это не может повредить — речь о сценарии «Бег в мешке»,
написанном Кржижановским в пору «больших надежд»
на киностудию «Фотогения», а теперь предложенном
именно этому издательству, впрочем, безуспешно.
568
Комментарии
...пользуясь встречами Шторма с М. Горьким, передал письмо (вместе с некоторыми рукописями) по назначению — см. ком.
к письму 15.
С. 65 Арго Абрам Маркович (Гольденберг, 1897-1968) —
поэт, драматург.
31
С. 66 «Я жгу Париж» — роман-памфлет польского и русского писателя Бруно Ясенского (1901-1941), написанный в 1927 г. в Париже по-французски — как ответ на
только что опубликованный роман-памфлет француза
Поля Морана (1888-1976) «Я жгу Москву»; печатался —
с продолжениями — в «Юманите»; за эту публикацию
Ясенский был депортирован из Франции; с 1929 г. Ясен-
ский жил в СССР, где в том же году его роман был издан
тиражом 140 тыс. экз.
Б арб юс Анри (1873-1935) — французский писатель-коммунист.
32
С.66 menin altbn qasyq — последнее слово читается
нечетко (стертый карандаш, соскальзывающий к концу
строки по вылинявшей бумаге), однако общее прочтение этих слов, воспроизведенных в рамках весьма запутанной в начале тридцатых годов узбекской орфографии, сомнений не вызывает: «моя золотая касыда»; касыда — по определению, данному в томе «Литературной
энциклопедии», вышедшем в 1931 г., т. е. готовившемся,
когда Кржижановский еще служил в издательстве «контрольным редактором» и «контролировал», в частности,
это издание, — «самый „высокий“ и устойчивый жанр
арабской и вообще ближневосточной лирики», заимствованный персидской и, далее, тюркской поэзией.
С. 67 ...может не застать Вас в Мурманске — см.
письма Анны — 46-47.
(Подробным комментарием к этому и следующему
письму (33) может послужить цикл очерков «Салыр-Поль», написанный по итогам поездки.)
569
Вадим Перельмутер
34
С.69 ...к Вам на Земледельческий — адрес А. Бовшек: Земледельческий пер., 3.
С. 70 ...аванс от Союзфильма — т. е. от киностудии
«Союздетфильм»; речь — о работе над переделкой сценария «Нового Гулливера».
...поработать над заявкой «Машины времени» — сценарий по повести «Воспоминания о будущем», текст сценария не найден.
С.71 Симоновская студия продолжает поддерживать со мной связь — т. е. Театр-студия под
руководством Р. Н. Симонова (1899-1968), созданный
в 1928 г. (в 1937 г. влился в состав Театра им. Ленинского комсомола), с которым в это время идут переговоры о постановке комедии Кржижановского «Поп и поручик».
35
С. 72 Амаглобели Сергей Иванович (1899-1946) — театровед, театральный деятель, драматург; с 1928 г. работал в ГАХН, после разгрома которой возглавлял Новый
театр, в 1933 г. был директором и художественным руководителем Малого театра.
Яхонтов Владимир Николаевич (1899-1945) — артист эстрады, чтец.
36
С. 73 ...сдал большую статью для «В бой за технику» — о какой именно статье идет речь, установить не удалось, однако, скорей всего, это «Техника пути и техника путевого очерка»; в журнале статья не была опубликована, текста ее найти не удалось.
...написал проспект «Литер<атурного> пейзажа» — т. е. первый по времени из проспектов, что составляют содержимое папки «Тематические заявки».
...кончил (очень четко и точно) «Серый
фетр» — упоминание позволяет уточнить/изменить
датировку новеллы, которая в «Автобиблиографии» помечена 1927 г.
570
Комментарии
Берусь за Шекспира — т. е. за первую статью
о Шекспире («Комедии молодого Шекспира», 1934), которая должна была предварять первый том готовившегося в издательстве «Academia» и несостоявшегося издания Собрания сочинений, вместо этого она положила
начало гиекспириане Кржижановского: он действительно «взялся за Шекспира».
...ущемление локтевого нерва, того самого
nervus radialis, в который вгрызся мой локте кус — эта болевая ассоциация с новеллой «Неукушен-
ный локоть» — первый из череды случаев, коща написанное им откликнулось реальностью: достаточно назвать
его предсмертную алексию, упомянутую еще в словарной
статье «Читатель» (1925), или записи в ЗТ, предсказавшие,
что могила писателя так и не будет обнаружена.
Когда Симоновская студия обратилась
в Гос<ударственную> Оперетту — переговоры
о постановке «Попа и поручика» с Театром Оперетты, где
ставить спектакль намеревался В. М. Бебутов, начались
раньше, чем с Театром-студией Симонова, однако вскоре застопорились, и автор предложил пьесу Симонову.
С. 74 ...у Соколовых на даче — т. е. у художника
Е. Г. Соколова (см. ком. к мемуарам Н. Семпер); запись
позволяет исправить ошибку памяти Семпер, отнесшей — в мемуарах — этот визит к 1937 г.; судя по всему,
поездка была связана с «обращением» Симонова в Театр Оперетты, которое и вынудило Бебутова активизироваться: отправиться вместе с автором и композитором — заказывать декорации художнику.
37
С. 75 ...написал 3 рассказа («Строка петитом»,
«Состязание певцов», «Серый фетр») — запись уточняет датировку еще двух новелл: «Строка петитом» и «Состязание певцов».
.. .из<дательст>во «Советск<ая> литература» — возникло в 1933 г. на базе издательства «Федерация», годом позже — в результате его слияния с кооперативными издательствами Московского товарищества
писателей и Издательства писателей в Ленинграде —
было образовано издательство «Советский писатель».
571
Вадим Перельмутер
С. 75 «Литературный критик» — журнал начал выходить в 1933 г., в 1940 г. постановлением ЦК ВКП(б)
«О литературной критике и библиографии» был закрыт
на № 11-12, будучи обвинен в «обособленности от писателей и литературы.
...пока не накопится сб<орник> «Чем люди мертвы» — свидетельство, что первоначальный
замысел книги «Чем люди мертвы» резко отличался от
окончательного.
38
С. 76 Парнок Софья Яковлевна (1885-1933) — поэтесса;
знакомство Кржижановского с Парнок, очевидно, связано с его дружбою с людьми, в свою очередь, дружившими
с нею, прежде всего — В. Волькенпггейном и Г. Шенгели.
...не вполне закончен — он довольно
длинный — судя по объему и характеру машинописи, до нас дошел именно первоначальный текст..
...предлагают писать сценарий из жизни Красной Армии — о дальнейшей судьбе этого
предложения ничего не известно.
С. 77 В «Советской литературе»... моим предложением... как будто заинтересовались —
вероятно, имеется в виду «Литературный пейзаж».
...написать статеечку для ленинградской
газеты — ничего похожего не найдено.
«Лит<ературный> критик» предлагает мне
переработать статью — речь о статье «Техника
пути и техника путевого очерка»; в упомянутом журнале такой публикации не найдено.
Лодырь-Анатолий — речь о Буцком, который медлил с написанием музыки к намечавшейся Николаем
Акимовым постановке «Попа и поручика» в Ленинграде.
Видел афишу «Парк культуры и отдыха.
Цусима. Постановка А. Бовшек» — для Летнего театра Парка культуры и отдыха (будущий — им.
Горького) Бовшек поставила драматическую композицию по роману А. С. Новикова-Прибоя (1877-1944)
«Цусима» (первая редакция — 1932, вторая, существенно переработанная и расширенная, в 1941 г. была удостоена Сталинской премии).
572
Комментарии
39
C. 78 ...дожидаясь оформления договора с Театром Пионера — точнее: Театр Пионер ТРАМ
(Ленинградский Театр рабочей молодежи); эти так
и не получившие практического развития отношения
с ТРАМом, вероятно, изначально связаны с поездкой
А. Бовшек в 1932 г. на север — с заездом в Ленинград, где
она, в частности, встретилась со своим бывшим учеником, а ныне режиссером А. 3. Окунчиковым, от которого получила предложение преподавать в училище этого
театра (см. письмо Анны — 46 и ком. к нему).
...театр должен поставить «Четвертого
дурака» — никаких следов текста пьесы с таким заглавием не обнаружено, в архиве Кржижановского есть
только одна пьеса, написанная в 1933 г., — «Поп и поручик», а следующая — «Тот Третий» — уже 1937 г.
Монтаж Чехова еще не начинал — для концертной программы Бовшек.
Левидов уезжает завтра с группой интуристов в качестве корреспондента «Известий» — эта служба в бухаринских «Известиях» впоследствии сыграла в судьбе Левидова роль трагическую;
поездка — в Лондон, в котором Кржижановский мечтал
побывать.
40
С. 79 Пришел он вместе с женой-художницей —
E. Е. Поповой.
Херсонский Хрисанф Николаевич (1897-1958) —
сценарист и кинокритик.
Рошаль Григорий Львович (1899-1983) — режиссер
театра и кино, сценарист.
С. 80 ...то выбор мой решит... третья. Говорю
о Ленинграде — т. е. о постановке Н. П. Акимова.
Мих<аил> Юльевич — Левидов.
Владимир Васильевич —Тезавровский.Поступить
в режиссерский штат Театра оперетты ему не удалось.
573
Вадим Перельмутер
41
С. 81 Василенко Сергей Никифорович (1872-1956) —
композитор, друг Кржижановского, написал две оперы
на его либретто («Суворов» и «Фрегат „Победа“», а также
музыку к несостоявшимся постановкам: комедии «Поп
и поручик» и пьесы «Корабельная слободка».
43
С. 84 Бен Джонсон (1572-1637) — английский поэт
и драматург.
...пьеса «Неистовый Бен» — замысел не осуществлен.
Влад<имир> Мих<айлович> — Волькенштейн.
...но мне с этим «папильоном» не очень
хочется связываться — раздражение по адресу
Бебутова, по легкомыслию которого (фр- рарШоп — мотылек), как не без оснований полагал Кржижановский,
чересчур затянулась неопределенность в Театре Оперетты относительно постановки «Попа и поручика», затем
начались тяжбы этого театра с другими — за право постановки, так возникла нешуточная угроза, что комедия
и вовсе не будет поставлена (что и произошло).
...возможность относительно «Школы
конферансье» — об этой «возможности» ничего
более не известно.
С. 85 Поцелуйте милую Женю. И Володю — сестра Анны — Евгения Гавриловна и ее муж Владимир
Васильевич (об остальных упомянутых родственниках
и знакомых Анны сведений нет).
44
С. 85 ...вместе с Сергеем Никиф<оровичем> —
Василенко.
С коллективом Попова — Николай Александрович Попов (1871-1949), режиссер, драматург, театральный деятель.
С. 86 ...работа идет к концу — так и не «пришла»: радиопостановка не состоялась.
574
Комментарии
C. 86 8/VII читал лекцию о Шекспире Воронежскому т<еат>ру — во время гастролей этого театра
в Москве.
Пять провинц<иальных> театров затребовали «Попа и п<оручика>» — ни один не поставил.
Имел разговор начистоту с Ковбасом
о редактировании 1-го тома Шекспира —
об этом собеседнике ничего не удалось узнать, а разговор, как можно догадаться, шел о том, что Кржижановский так и не получил гонорара за договорную работу
над так и не вышедшим томом Шекспира.
Зато деньги, в которых я был уверен, — за
редактирование однотомника Б. Шоу —
книга вышла в 1938 г.
Сегодня отсылаю Литовскому «Мурата»
и музкомедию — Осаф Семенович Литовский
(1892-1971), драматург и критик, в 1930-1937 гг. был
председателем Гиавреперткома, впоследствии, перейдя на работу в один из московских театров, оставался
в составе этого комитета, в частности, «курировал» разработку и репертуар радиопередачи «Театр у микрофона»; Кржижановский «отсылает» ему свою инсценировку «Хаджи-Мурата» и комедию «Поп и поручик» — обе
эти вещи намеревался ставить в радиотеатре Н. А. Попов.
Таиров вдруг загорелся желанием возобновить хлопоты об «Онегине». Он снова
связался с Пр окофьевым — Александр Яковлевич Таиров (1885-1950), основатель, руководитель
и режиссер Московского Камерного театра; о подготовке и о запрещении в 1936 г. постановки инсценированного Кржижановским «Евгения Онегина» см. в мемуарах А. Бовшек. С. С. Прокофьев (1891-1953) написал музыку к этому спектаклю (к слову, музыка эта была
в юбилейном для композитора, 1991 г. включена в одну из передач о нем, но повод к ее написанию остался
для радиослушателей тайной). Кржижановского с Таировым связывали многолетние дружеские отношения,
по свидетельству Коонен, Таиров называл Кржижановского «кладезем премудрости» и относился к нему с неизменным уважением, в котором различался оттенок
575
Вадим Перельмутер
восторженного удивления. Узнав о смерти Таирова, уже
смертельно больной Кржижановский осенью 1950 г.
писал к Алисе Коонен: «Дорогая, милая-милая Алиса
Георгиевна! От меня скрыли известие о смерти Александра Яковлевича. И я не смог, как должно, проститься с ним. Но, если говорить по существу, я и не собираюсь прощаться с Александром Яковлевичем, прочно
и крепко он будет жить в моем сознании. Это не слова.
Благодарю Вас, Алиса Георгиевна, за неоплатно дорогие дары Вашего творчества. Целую Ваши прекрасные
руки. Сигизмунд Кржижановский». Анна Бовшек считала, что между Кржижановским и Таировым была особая
внутренняя — метафизическая — связь, подтверждаемая, по ее мнению, в частности, тем, что они умерли
в один год.
С. 86 Завадский, вернее, его секретарша, вернули мне, к моей большой радости, две
«упакованных» пьесы — в 1938г. Юрий Александрович Завадский (1894-1977) был главным режиссером Ростовского драматического театра им. Горького;
«две упакованных» (т. е. нераспечатанных) пьесы — это,
наверняка, «Поп и поручик» и, возможно, «Тот Третий».
С. 87 ...в поездке во Влахернское — т. е. на дачу
С. Н. Василенко.
...и гениальным, с пылу, с жару, Филатовым — Владимир Петрович Филатов (1875-1956) —
выдающийся врач-офтальмолог; у этого знакомства
спустя несколько лет было продолжение: H. М. Молева
рассказывала мне, что после войны у ее бабушки обнаружилась серьезная болезнь глаз, врачи рекомендовали ей обратиться в Одессу, в клинику Филатова, однако попасть туда представлялось делом совершенно невозможным; однажды разговор об этом зашел
в присутствии Кржижановского — и он неожиданно
сказал, что пора собираться в дорогу, потому что он
даст письмо к Филатову, и действительно — Филатов
тут же принял пациентку и сделал ей успешную операцию.
Серг<ей> Ив<анович> дал мне микстуру —
видимо, бывший хозяин, а после один из жильцов коммунальной квартиры, где жила Бовшек, врач, профессор Сергей Иванович Преображенский.
57 6
Комментарии
45
C. 87 Хотел это второе письмо отправить с Женей — Евгения Гавриловна Бовшек (1900-1942), актриса 2-й студии МХТ, режиссер, жена В. В. Тезавров-
ского.
С. 88 ...с Мих<аилом> Юльевичем и Павлом
Ник<олаевичем> — Левидов и Поль (1887-
1955) — актер; знакомый Кржижановского, вероятно, с первых «московских» лет — он был артистом кабаре «Кривой Джимми», созданного в 1919 г. в Киеве,
в 1922 г. переехавшего в Москву и обосновавшегося
в знаменитом первом московском небоскребе, Доме
Нирнзее (Б. Шездниковский, 10), где, под руководством
H. Н. Евреинова, просуществовал два года. Кржижановский в 1922-1923 гг. несколько раз выступал в «Кривом
Джимми» с чтением своих новелл; впоследствии Кржижановский и Поль нередко встречались, в частности,
у Таирова, с которым оба были дружны.
46
С. 89 Физически я обставлен здесь очень хорошо: просторная светлая комната, тишина,
березки за окном — о поездке в писательский
Дом творчества «Голицыно», откуда писано это письмо,
см. в мемуарах А. Бовшек (глава «Москва», часть XII).
Написал я пока немного, но та легкость,
с которой заскользил стих — начало работы
над либретто оперы «Суворов».
47
С. 90 ...а когда понял, что это из Рузы — см.пись-
ма Анны из Дома творчества «Малеевка» (Руза).
48
С. 91 Час тому говорил по телефону с Нин<ой>
Стан<иславовной> — Нина Станиславовна Су-
хоцкая (1906-1988), актриса, режиссер — верная соратница Таирова, племянница Алисы Коонен, много¬
577
Вадим Перельмутер
летне-близкий друг Анны и Сигизмунда, у которого
она в двадцатых годах училась в 1&кстемас’е, затем работала в Камерном театре, сперва актрисой, потом режиссером, одновременно (в 1930-1940-х) — вместе
с А. Бовшек — в Московском городском Доме пионеров
(вела Театральную студию); свидетельница — и участница — истории несостоявшейся постановки «Евгения
Онегина»; фрагментарные записи бесед с Ниной Станиславовной (с конца 1970-х до середины 1980-х) использованы мною в очерках о Кржижановском и в комментариях к Собранию сочинений.
С. 91 «0,6 человека» — см. новеллу «Некто» (I, 210-217).
...сестра Станислава получила орден —Станислава Доминиковна Кадмина-Георгиевская (Кржижановская), актриса, заслуженная артистка РСФСР, звания удостоена в 1939 г., в том же году награждена орденом Красного Знамени; Кржижановский узнал обо всем
об этом, как видим, стороной и со значительным опозданием.
49
С. 92 Сегодня будем в Новосибирске — первая из
двух военных командировок от ВТО (см. о них в мемуарах А. Бовшек).
.. .«ст. Суетиха» — в Иркутской обл., бывший пос.
Суетиха, ныне (с 1967) г. Бирюсинск.
...на адрес Театра (Иркутск) «Ник<олаю> Фе-
дор<овичу> Медведеву для С. Д. К.» — очевидно, описка, имеется в виду Николай Александрович
Медведев (1898-1968), режиссер и актер, в 1939-1945 гг.
главный режиссер Иркутского драматического театра.
Поцелуйте ручку Ольге Ивановне — Преображенской (см. ком. к мемуарам А. Бовшек).
50
С. 93 Дейсмор Дмитрий Александрович (?-19б5) —
театральный деятель.
Сергея Дмитриевича и Софью Павловну разыскал — Мстиславских (см. ком. к мемуарам
А. Бовшек).
578
Комментарии
51
C. 94 Сижу у моря, в Махачкале — командировка от
ВТО (1945).
52
С. 95 ...закончил и сдал (30/VII) «Кола» — см.
комм, к письму Анны (68).
Расчет на Лейтеса провалился — Лейтес Александр Михайлович (1899-1976), критик, литературовед.
С сегодняшнего же дня принимаюсь за
Фредро и «Раненую Москву» — статья-монография «Драматургия Александра Фредро», первая
в России основательная работа о творчестве польского комедиографа (1793-1876), была написана Кржижановским в 1946 г. и предназначалась для готовившегося
в Гослитиздате однотомника этого автора, — для этого
же издания им были переведены и пьесы Фредро, однако книга не вышла и статья не была опубликована, а переводы бесследно исчезли: в архивном фонде издательства сохранились упоминания о них, но текстов нет.
Аксюк Сергей Васильевич (1901-?) — композитор
и музыкальный критик.
С. 96 ...«поэта» С. Васильева — Васильев Сергей
Александрович (1911-1975), советский поэт.
...в кооперативе на Мало-Остроумной
улице — т. е. Малой Остроумовской, в Сокольниках.
23/VI был на «Гибели Надежды» — драма нидерландского драматурга Германа Гейерманса (1864-
1924), ставшая в России знаменитой после постановки ее Л. А. Сулержицким (1872-1916) в 1-й Студии МХТ
(1913); Сигизмунд пишет о постановке в студенческой
студии Камерного театра, оценивая игру своих — и Анны — учеников.
Ганшин Виктор Никонович (1903-1959) — актер, режиссер.
579
Вадим Перельмутер
Письма Анны
1
С. 97 Милый друг... — первое письмо, написанное Анной к Сигизмунду в 1920 г., с него-то все и началось...
2
С. 99 ...очевидно, в «Узкое» Вам не удалось попасть — бывшая усадьба князей Т]рубецких на юго-западе Москвы; в феврале 1922 г. было принято решение
о передаче Узкого Цекубу (Центральной комиссии по
улучшению быта ученых), по решению комиссии там
был основан санаторий; 20 мая 1922 г. сюда прибыли
первые сорок отдыхающих; в первые годы существования санатория там побывали Станиславский, академики Николай и Сергей Вавиловы, Вернадский, Зелинский, Кржижановский (Г. М.), Ферсман, Шмидт, профессор Северцов и др. (как видим, среди них — хорошие
знакомые Кржижановского — С. Д.).
Никаких признаков Буцкого, Курбаса или
Куни на — Лесь Курбас (1887-1937), выдающийся
украинский режиссер, актер, драматург, переводчик; Ку-
нин Иосиф Александрович (1870-е-?), по образованию
певец (окончил Петербургскую консерваторию), режиссер, театральный педагог, разработавший собственную систему постановки голоса драматического актера,
киевский знакомый Анны и Сигизмунда, вместе с которым работал в Еврейской Студии «Культур-Лига» (создана в 1919 г.), преподавал в Музыкально-драматическом
институте им. Лысенко, где создал творческую лабораторию «Театр чтеца», которую посещала и Анна (и почерпнула, по свидетельству Н. С. Сухоцкой, немало ценного для дальнейшей работы — и на эстраде, и в Студии чтеца Дома пионеров), работал с актерами театра
Курбаса «Березиль», с 1925 г. — в Харькове, тогдашней
столице Украины, где обосновался созданный на основе Еврейской Студии «Культур-Лиги» первый Всеукра-
инский еврейский государственный театр под руководством Э. Лейтера.
580
Комментарии
C. 100 Люстдорф (нем. Lustdorf — веселое село) — ныне:
Черноморка — приморский район в самой южной части Одессы.
5
С. 104 Ясенгорка — так Анна называла свою сестру Евгению Бовшек.
...у нее опасно болен был Василек — сын
Е. Г. Бовшек, будущий летчик.
6
С. 105 Ценин Сергей Сергеевич (1884-1964) — актер,
с 1919 г. один из ведущих артистов Камерного театра.
Анатолию Конст<антиновичу> и Евгению
Михайл <овичу> — Буцкому и Кузьмину.
7
С. 106 Новгород-Северский — древний город в Черниговской области Украины, с конца XI в. был столицей
Северского княжества.
Екатерина Михайловна — жена Л. Л. Лукьянова.
Если «Жизнь» не прекратит своего существования — журнал «Жизнь» затевался в 1924 г.; вышел один номер.
С. 107 Владимир Никол<аевич> Твердохлебов
(1876-1954) — юрист, профессор Петроградского/Ленинградского Политехнического института, крупнейший исследователь истории русских финансов XVIII-
XIX вв.
...со своим товарищем, проф<ессором>
Зайцевым — очевидно, А. Ф. Зайцев, коллега Твер-
дохлебова по Политехническому институту.
Конрад Берковичи (1882-1961) — американский
писатель, выходец из Румынии; в двадцатых годах книги Берковичи неоднократно издавались и были популярны в Советском союзе; книга «Дочь укротителя. Рассказы из цыганской жизни» — М., 1926.
Женечка и Владимир Васильевич — Тезавров-
ские.
581
Вадим Перельмутер
9
С. 109 Какие статьи Вы написали для журналов? — воодушевивший корреспондентку и адресата
успех опубликованной в первой половине 1925 г. повести «Штемпель: Москва» и еще двух «московских очерков» развития не получил; о дальнейшем течении событий можно судить по главе 3 написанной через год новеллы «Книжная закладка» (И, 589-596).
10
С. 110 Фотогения меня смешит — см. ком. к письму
Сигизмунда (6).
...она, как неродившаяся душа у Метерлинка — намек на десятую картину пятого действия
«феерии» бельгийского поэта, драматурга и философа
Мориса Метерлинка (1862-1949) «Синяя птица».
...что слышно о Борисе Николаевиче? —
Бугаеве, Андрее Белом; см. ком. к письму Сигизмунда (8).
11
С. 112 Думаю читать Лескова — в письмах неоднократно упоминается о работе Бовшек над своими концертными программами; в дальнейшем эти упоминания, за
редкими исключениями, не комментируются.
С. 113 Ваш опыт сценария меня очень обрадовал — возможно, речь о «Мосе, Селе и сыне их Проме».
13
С. 115 .. .«довлее же дневи злоба его» — точнее: До-
влее дневи злоба его (Мф 6:34).
14
С. 116 .. .немедленно перебрасывала на Арбат —
т. е. на Арбат, 44, кв. 5.
...по адресу Большой Сов<етской> Энциклопедии — т. е. места службы Сигизмунда.
582
Комментарии
C. 117 Если Данны с Вами — Е. Л. Ланн и А. В. Кривцова,
судя по «домовой книге», пребывали в Коктебеле.
Карин Михаэлис (1872-1950) — датская писательница, упомянутый роман — Пг., 1925.
Солнце абсолютно уничтожает злыдней —
см. ком. к письму Сигизмунда (9).
15
С. 118 Привет мой Ланнам и Луннам — Лундбергам.
...«мой первый друг, мой друг бесценный» — Пушкин. И. И. Пущину (1836).
16
С. 120...если у Макс Симил иана> Алекс<андро-
вича> есть что-нибудь из его вещей, подходящее для меня и моих сил, достаньте — об публичном исполнении Анной стихов Волошина неизвестно.
...пока на конверте штемпель: Кокте¬
бель — намек на заглавие повести «Штемпель: Москва», написанной в форме писем к адресату, в котором
угадывается Анна.
На днях получила письмо от Людмилы Борисовны — живут с Ал<ексеем> Николаевиче м> — Северцовы.
...передать мой поцелуй Алекс<андре>
Владимировне и бол ьшой-бол ьшой привет Евгению Львовичу — Кривцовой и Ланну.
19
С. 124...берегла ли Вас «царица Таиах» — голова статуи царицы Египта Таиах (свекрови Нефертити)
украшала (и украшает) мастерскую Волошина в Коктебеле; Таиах посвящено одноименное стихотворение
Волошина (1905).
583
Вадим Перельмутер
21
С. 126 Вы же на книжке написали — эта надпись не
найдена.
С. 127 Прямо в окно мне глядит башня, она почти такая же высокая, как Вы, в ней 22 Уг сажени — водонапорная Башня Ковалевского на окраине Дачи Ковалевского, близ дачи семьи Бовшек (1б-я
станция Большого Фонтана), упоминается и в очерке
«Хорошее море»; сажень — 2,134 метра, т. е., по «прикидке» Анны, высота башни — чуть более 48 метров (по
«путеводителям» — 45).
24
С. 128 Зоя Лодий — Зоя Петровна Лодий (1886-1957), камерная певица (лирическое сопрано); возможно, знакомство Анны с нею относится еще к киевскому периоду: Лодий была хорошо знакома с И. А. Куниным, брала
у пето уроки выразительности (см. ком. к письму 2).
belle-soeur — свекровь (фр.)
Озаровская Ольга Эрастовна (1874-1933) — исполнительница северных сказок, собирательница фольклора; в 1911 г. основала в Москве Студию живого слова; в 1914-м опубликовала книгу «Школа чтеца»; в советское время в Москве вела декламационный семинар по
произведениям А. С. Пушкина, ежегодно в день гибели
поэта проводила в своей квартире на Сивцевом Вражке Пушкинские вечера, на которые собирались десятки и десятки артистов, студийцев, литераторов, просто
знакомых хозяйки, единственным условием для приходящего было чтение наизусть хотя бы одного Пушкинского стихотворения или отрывка прозы, чтение происходило при свечах, в атмосфере и антураже, как бы
окликающих Пушкинскую эпоху. В конце двадцатых годов, переезжая из Москвы в Лениноград, Озаровская передала эстафету Пушкинских вечеров Бовшек, и Анна Гавриловна продолжила традицию — сначала на
квартире В. В. Вересаева, куда приходили и пушкинисты, потом, с 1936 г., в городском Доме пионеров, где руководила студией художественного слова, и, наконец,
со времени основания Московского музея Пушкина
584
Комментарии
(1957) и до своего отъезда в Одессу (1967), в этом музее.
По собственному признанию, Бовшек многому научилась у Озаровской, в конце шестидесятых она написала воспоминания об Ольге Эрастовне, экземпляры этих
мемуаров есть в РГАЛИ, в «Киевском архиве» Кржижановского, в Московском музее А. С. Пушкина, в нескольких частных архивах, в том числе, в моем (опубликованы: www.utoronto.ca/tsq/29/bovshek29.shtml).
25
С 130 И если бы Гейне был моим современником,
не госпожа Пипер, но, конечно, я — Анна,го-
дом раньше работавшая над программой по сочинениям
Гейне, ссылается на одно из самых знаменитых (благодаря опере Вагнера «Летучий голландец») прозаических
произведений Гейне — новеллу «Мемуары господина
фон Шнабельвопского» (1834), где автор-герой упоминает в качестве средоточия всех романтических добродетелей неких госпожу Пипер и госпожу Шнипер.
26
С. 131...в Москву приезжала Мэри Пикфорд —
американская актриса немого кино (1892-1979),
в 1927 г. посетила СССР, где с ее участием был снят
фильм «Поцелуй Мэри Пикфорд»; вскоре после появления звукового кино (в сорок лет) ушла из кино.
28
С. 136 Лес, не Кермесский, правда — возможно,
намек на дубовые леса Южной Европы, обиталище насекомого кермес (или дубовый червец), которое греки, римляне, арабы использовали для окраски тканей
в пурпурный цвет.
С. 137 .. .взялась за стихи Звягинцевой — см. ком.
к письму Сигизмунда (16).
...за доброго старого Диккенса. Я взяла
его Гимн Рождеству — святочный рассказ с привидениями «А Christmas Carol» — одно из немногих английских произведений о Рождестве, гимн в прозе, на¬
585
Вадим Перельмутер
полненный светлым чувством праздника; англичане верят в чудо Рождества: пусть хоть на один день, но счастье
может посетить дом, в котором раньше царила безнадежность, и даже старый черствый скряга Скрудж под Рождество становится добряком и усыновляет маленького сиротку Тима.
29
С. 138 Вы шагаете по Москве, «и поливает Вас
дождь, и посыпает Вас пыль» — аллюзия на
стих из «Песни о Вещем Олеге» (1822): «Их моют дожди,
засыпает их пыль»...
Настроение мое из andante moderato перешло в allegro, когда я буду ехать в поезде, будет accelerando— на вокзале con
passione — здесь: из «умеренного» в «радостное», потом — «ускорение», наконец, «со страстью».
30
С. 139 Вчера приехали Софья Захаровна и Николай Петрович — С. 3. Федорченко (1888-1957), писательница, автор знаменитой в конце 1910-х — первой
половине 1920-х гг. книги «Народ на войне»; с Кржижановским подружилась в начале двадцатых годов на «Никитинских Субботниках» (хотя не исключено, что познакомилась с ним еще в Киеве); Н. П. — муж С. 3.
Джал и — собака Федорченко (см. фото).
31
С. 140 ...обрадовало меня известие от Мстиславского — см. отправленное неделей раньше из Коктебеля в Одессу письмо Сигизмунда (20).
С. 141 ...что слышно по поводу Ваших тех книг —
речь идет о попытке Никитиной выпустить в издательстве «Никитинские Субботники» книгу новелл Кржижановского «Собиратель щелей» и повесть «Клуб убийц
букв».
586
Комментарии
33
C. 143 Елена Алекс<еевна> и Марья Титовна — см.
письмо 27.
Тут же оказался художник Пастушков Павел Георгиевич, он знает Вас, встречал
у Шифриных — о Пастушкове, увы, ничего узнать
не удалось; Ниссон Абрамович Шифрин (1892-1951),
театральный художник, ученик А. А. Экстер, до 1922 г.
жил в Киеве, оформлял спектакли в нескольких театрах,
в частности, в Еврейской Студии, где и познакомился
с Кржижановским.
34
С. 145... еще, еще и еще переделывающим
Доргена — прозорливость воображения просто-таки
замечательна: см. письмо Сигизмунда (22), написанное
в тот же день.
С. 146 ...несколько стихотворений Антокольского из Парижского цикла — название условное:
имеются в виду стихи Антокольского, навеянные поездкой в Париж в 1928 г.: «Песня дождя», «Портрет инфанты», «Венера в Лувре», «Бальзак».
36
С. 149 Прилуки — поселок близ Вологды (ныне — в составе города), знаменитый Спасо-Прилуцким храмом
(и монастырем) XIV в.
При отъезде Домком у Вас возьмет Заборную книжку — именная книжка с талонами на получение нормированных продуктов.
My darling, my beloved I embrace You with
all my tenderness — Мой дорогой/милый, мой
возлюбленный/любимый, я обнимаю Вас со всей моей
нежностью (англ.).
37
С. 150 Как налаживается Ваша экскурсия? — см.
далее письмо 40.
587
Вадим Перельмутер
С. 151 В работе тянет всё к Пушкину — о Пушкинской программе см. следующее письмо: впрочем, более
полно эту тягу удалось, пожалуй, реализовать только
в шестидесятых годах, да и то в ином, так сказать, качестве Бовшек руководила детско-юношеской студией чтеца при Московском музее Пушкина, готовила и проводила со своими учениками вечера пушкинской поэзии.
...напишу письмо Сладкопевцеву и Анатолию Константиновичу — и Сладкопевцев и Буц-
кой к тому времени уже прочно обосновались в Ленинграде, очевидно, Бовшек намерена предупредить их
о скором своем приезде.
39
С. 153 Читала в «Известиях» о приезде Шоу — Анна читала в газете сообщение о намеченном/предстоящем визите Б. Шоу, который состоялся в 1931 г.
...рада Вашему согласию перевести Шоу —
Кржижановский перевел пьесы «Кандида» и «Андрокл
и лев»: с этих переводов начались его исследования
творчества Б. Шоу, в 1934-1940 гг. им написано семь работ об этом драматурге.
С. 154 Письма в Ленинград написаны — т.е.Сладко-
пецеву и Буцкому.
40
С. 154...пишу Вам на Мурманск — кроме упоминания
о готовящейся экскурсии, этой полуфразы и двух лаконичных следов в ЗТ, об этой поездке ничего не известно.
41
С. 156 Что касается нашего плана относительно
Б ату м а — подробнее см. в мемуарах.
42
С. 157 Одесса. Большой Фонтан. Ковалевский
пер., дача пять, мне — адрес оставался неизменным три четверти века: шестьдесят четыре года спустя
588
Комментарии
автор этих строк легко нашел по нему дачу семьи Бовшек (впрочем, никто из владельцев-наследников этой
фамилии уже не носил), однако в 2008 г. — из-за оползня — дома не стало; впрочем, потомки семьи Бовшеков
переселились неподалеку — там же, на Даче Ковалевского (сообщено Евгением Голубовским).
43
С. 159...что слышно о Вашем сценарии? — речь
о работе над «Новым Гулливером» (титры к которому,
замечу в скобках, сочинили Ильф и Петров).
44
С. 159 И Эдисон хорошо, и энциклопедия интересно — см. письмо Сигизмунда (28).
С. 160 .. .возьмусь за Павленко — тут слышится рекомендация Сигизмунда (см. ком. к заявке-проспекту «Литературный пейзаж»).
Я часто думаю об игре Казадезюса — см.
ком. к миниатюре «Любитель».
...спасибо за сокращения, они сделаны так внимательно, с такой экономией
и чувством ритма — участие Сигизмунда в составлении и подготовке концертных программ Анны началось едва ли не с первой их встречи и продолжалось всю
их совместную жизнь, призвук этого участия обнаруживается практически во всех ее упоминаниях о работе: он
и в выборе материала, и в интерпретации оного.
Несколько смущает меня очень большая
интимность и автобиографичность «Охранной грамоты» (1931) — в ответ последовало:
«Вы спрашиваете относительно Пастернака, не слишком ли он интимен для эстрады. Нет, это особая „интимность“, вывернутая мехом наружу, а местами даже
интимность-прием» (письмо 31).
45
С. 161 ОПТЭ — Общество пролетарского туризма и экскурсий, создано в 1930-м и ликвидировано в 1936 г.
589
Вадим Перельмутер
С. 1б1 Я вспомнила Махачкалу... четвертый
класс — Каспийское море — см.мемуары.
...позвонила Тарловскому — см. первый ком.
к мемуарам А. Арго.
М у р м а н — прежнее название восточного побережья
Кольского залива Баренцева моря (расположенный там
Мурманск первоначально именовался — Романов-на-
Мурмане).
Хибиногорск — с 1934 г. город Кировск в Мурманской области.
46
С. 162 .. .преподавать в ТРАМ’е — Ленинградский
ТРАМ (Театр рабочей молодежи), в 1936 г. был слит с Ленинградским Красным Театром.
Окунчиков Абрам Зиновьевич (1904 — после
1981) — режиссер, педагог; в 1922-1923 гг. был учеником Бовшек и Кржижановского в Опытной мастерской
Педагогического театра (группа Г. Л. Рошаля), где Бовшек вела курс художественного чтения, а Кржижановский читал лекции по истории театра; в 1934-1937 гг. —
художественный руководитель Госцентюза (в который
был переименован Педагогический театр), который
был в ту пору, так сказать, «головной организацией» детских и молодежных театров страны, и потому его художественный руководитель нередко бывал в ТРАМе, ставил спектакли, налаживал работут театрального училища.
Доронин Виталий Дмитриевич (1909-1976) — актер, профессиональную сценическую деятельность начинал в ТРАМе в 1930 г., однако упоминание его в письме выглядит странно: в 1934 г. Доронина в этом театре
уже не было.
49
С. 166 .. .оставлено в Леонтьевском переулке —
в доме 6 по Леонтьевскому (ныне Дом-музей Станиславского) в ту пору жили Тезавровские.
Надеюсь, что Гулливеровский текст у Вас
есть — разыскать текст сценария не удалось.
590
Комментарии
51
C. 169 Видели ли Вы Покровских? — Александр Васильевич Покровский (1886-1963), актер и театральный
деятель; в 1933-1937 гг. — директор Театра Оперетты.
52
С. 171 .. .сесть надо на 18 номер трамвая, ехать
до театра, т. е. до конца, и пересесть на
19, ехать тоже до конца — шестьдесят лет спустя и маршрут, и номера трамваев остались теми же.
Что слышно с «Литературным критиком»? — в апрельском номере журнала напечатана
большая работа Кржижановского «Драматургические
приемы Бернарда Шоу»; в начале лета статья «Шаги
Фальстафа» уже передана в редакцию.
У Лидии Карловны — Федоровой (см. ком. к мемуарам Бовшек упоминание «дома писателя А. М. Федорова).
О л е ш а — Юрий Олеша любил бывать в «Доме Федорова», не раз отдыхал там, однако несколько посещений
Одессы Кржижановским с пребыванием там Олеши не
совпадали, только последняя (1939) поездка, вроде бы,
сулила встречу и общение, но оно оборвалось — вестью об аресте Бабеля (см. мемуары Бовшек, гл. «Москва», часть XII).
53
С. 171 Владимир Васильевич Довгань — муж Екатерины, сестры Анны.
55
С. 174 Ирочка — дочь Мстиславских.
57
С. 176 .. .«мысли, как чёрные мухи» — у автора:
«Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою: / Жалят, жужжат и кружатся над бедной моей головою!» — А. Н. Апухтин. Мухи (1873); романс на эти
стихи написан Е. Г)реве-Соболевской; к слову, точно так
591
Вадим Перельмутер
же, как Бовшек, перефразируя, вспоминает это полустишие... Клим Самгин (во второй части романа).
62
С. 180...сижу за столом на Вашем любимом месте, откуда Вы любили по утрам наблюдать
планирующие в небе аппараты — с большой
террасы стоящего на обрыве дома открывается панорама побережья — моря — неба, но с того места, о котором говорит Бовшек, в глубине террасы, спиной к стене,
ни моря, ни берега не видно — только небо...
С. 181...к Киппену за виноградом — Киппен Александр Абрамович (1870-1938) — писатель, его дача находилась неподалеку от федоровской; не раз упоминается в различных воспоминаниях — среди присутствовавших на литераторских встречах в доме Федорова.
...гамбургский мускат, из него делают розовое вино с запахом чайной розы — все
точно: из оного сорта винограда делается одноименное
вино с легким ароматом розы.
63
С. 182 «Go big» — Добейся успеха {англ. разг.).
...почаще работайте на Плющихе — т. е.
в Земледельческом переулке.
64
С. 183 ...приехал Николай — Николай Александрович Осмоловский, племянник Бовшек, сын ее сестры Валентины; вместе с женой — Антониной Федоровной Осмоловской — он жил в одном с Бовшек доме, по Земледельческому пер., 3, после смерти мужа А. Ф. вернулась в Одессу;
некоторые сведения для комментариев почерпнуты мною
из беседы с нею летом 1995 г. в Одессе, на даче Бовшек.
...читала пьесу Пашкова — в доступных комментатору «источниках» такой драматург не значится.
...украинский писатель Болобан Леонид Ви-
тович (Серговский-Болобан, 1893-1979) — украинский драматург.
592
Комментарии
65
C. 185 Вспомнив Сергея Ивановича, его упреки
Вам в неуменьи различать пенье птиц —
вероятно, С. И. Огнёв (1886-1951), известный зоолог,
основатель московской научной школы териологов,
профессор МГУ.
...супруги Бродские — поэт-переводчик Давид
Григорьевич Бродский (1899-1960).
Лукачи — Дьерд Лукач (1885-1971), венгерский философ и литературный критик, в 1930-1945 жил в СССР,
один из наиболее влиятельных авторов журнала «Литературный критик».
Родовы — Семен Абрамович Родов (1893-1968), поэт
и критик.
Чекин — этой четко выведенной в письме фамилии
среди литераторов того времени мне обнаружить не
удалось.
Лагин — Лазарь (Лазарь Иосифович Гинзбург, 1903-
1979), прозаик, поэт.
66
С. 187 Третьего дня Сергей Дмитриевич читал
в тесном кругу (только при мне и Лунд-
бергах) свою новую пьесу о Баумане —
т. е. переделку для сцены своего романа «Грач, птица весенняя» (первое издание — «Бауман», 1936).
«Большие ожидания» — в др. переводе «Большие
надежды».
Прочла 1-ую часть «Гибели Парижа» — так
Бовшек переименовывает роман «Я жгу Париж», по которому намерена делать очередную свою программу
(видимо, делает сие сознательно: именно таково заглавие — для программы), впрочем, намерение не осуществилось.
67
С. 189 .. .знаменитая Левитановская «Ахтырка» —
обмолвка: Ахтырка — «подмосковная» братьев князей Трубецких, усадьба ХГХ в., близ Абрамцева, связана
593
Вадим Перельмутер
с творчеством не И. И. Левитана, а В. М. Васнецова, который по мотивам окрестных пейзажей написал картину «Аленушка».
С. 189...на 57-й версте Абрамцево — бывшая «подмосковная» С. Т. Аксакова, а в конце XIX — начале
XX вв. имение С. И. Мамонтова, по приглашению которого там бывали (и работали) И. Е. Репин, В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов, И. С. Остроухов,
М. А. Врубель, В. А. Коровин, И. И. Левитан и др.; ныне —
Государственный художественно-литературный Абрамцевский музей.
68
С. 190 .. .в Дом отдыха на 1 1 -ую станцию — ...Большого Фонтана: от дачи семейства Бовшек (16-я Станция) это довольно далеко.
С. 191 В каком состоянии «Кола» — «схема либретто» по роману Р. Роллана «Кола Брюньон»; поставленная в 1938 г. опера Д. Б. Кабалевского по этому роману
имела успех, но вызвала и критические отклики, среди которых композитор не мог не обратить внимания
на мнение выдающегося музыковеда И. И. Соллертин-
ского: «Драматургам и либреттистам не следует забывать, что сюжетная интрига должна быть простой и наглядной, что не должно быть подмены „действующих“
лиц „суетящимися“ на сцене лицами. Это также бывает очень часто и в наших советских операх. Набросан
один какой-нибудь центральный персонаж, а вокруг
него располагаются — иногда ярко, иногда эскизно
очерченные — второстепенные лица, которые зачастую даже не могут иметь своей музыкальной характеристики. Примером этого может явиться неудачное либретто оперы Кабалевского „Кола Брюньон“, в котором
целый ряд второстепенных персонажей (вроде сестры
Кола — Мартины, или кюре) только рассеивает внимание зрителя» (Соллертинский И. И. Драматургия оперного либретто. Советская музыка. № 3, 1941). Сразу после войны Кабалевский приступил к работе над второй редакцией оперы и обратился к Кржижановскому
за помощью в переделке либретто (есть основания думать, что композитор сделал это по совету А. К Буцко-
594
Комментарии
го); в архиве сохранились письма, судя по которым сотрудничество пришлось по вкусу обоим, созданная
Кржижановским «схема либретто» была принята Кабалевским, однако некоторое время спустя работа над
второй редакцией была прервана (надо думать, не без
связи с начавшейся кампанией против «западничества»
в искусстве) и продолжилась лишь через десять с лишним лет после смерти писателя. Как и в прежних случаях, о которых уже упоминалось (фильмы Я. Протазанова и А. Птушко), имя Кржижановского как соавтора
либретто новой редакции оперы (премьера состоялась
в 1968 г.) названо не было.
С. 191 Получили ли деньги в Камерном? — за преподавание в учебной студии.
Воспоминания о Сигизмунде Кржижановском
Все публикуемые здесь мемуары впервые напечатаны в книге: Кржижановский С. Возвращение Мюнхгаузена.
Л., 1990.
В той книге было опубликовано четыре очерка —
и один из них, очерк H. М. Молевой «Легенда о Зигмунде Первом», сюда не включен. Поскольку это — все письменные воспоминания о Кржижановском (а записанные мною устные
рассказы Н. С. Сухоцкой и С. А. Макашина практически полностью использованы во вступительном очерке и комментариях), причины такого решения должны быть весомы — и читатель вправе их знать.
В начале мая 2009 г. вышла книга «Великое культурное
противостояние. Книга об Анне Гавриловне Бовшек» (М: Новое литературное обозрение, 2009). Нечастый, к сожалению,
случай материализованной благодарности учеников — учителю. Потому что из студии художественного слова первого
в Москве Дома пионеров на улице Стопани (ныне — Огородный проезд), которую Анна Гавриловна создала в 1936 году,
едва Дом пионеров открылся, и которой она руководила четверть века, вышло более десятка тех, чья жизнь стала немыслимой вне связи со сценой, эстрадой, съемочной площадкой. В том числе — первоклассные, знаменитые артисты.
595
Вадим Перельмутер
Один из них — Авангард Леонтьев — собрал, составил и сумел обеспечить издание этой книги в полторы сотни страниц, куда вошли два сочинения самой Бовшек (открывает
книгу ее очерк о Кржижановском) и воспоминания о ней.
В мою задачу не входит рецензирование этой книги, отмечу только, что некоторые вошедшие в нее материалы позволяют уточнить и дополнить биографию А. Г. Бовшек, вернее —
то, что уже было во вступительном очерке и комментариях
о ней рассказано в связи с С. Д. Кржижановским. Например,
исправить ошибочно указанную в описании фонда Кржижановского в РГАЛИ дату ее рождения — 1887, она родилась на
два года позже. Или упомянуть, что с 1922 г. она — вместе с мужем — преподавала в Высших экспериментальных мастерских
Камерного театра. Остальное добавлено мною далее — в предварение комментариев к мемуарам Бовшек.
Кроме воспоминаний самой Анны Гавриловны, лишь
один мемуарный очерк, опубликованный в этой книге, имеет непосредственное отношение к Сигизмунду Доминиковичу.
Автор — H. М. Молева. Заглавие — «Даже на самого маленького
она смотрела как на равного себе». Воспоминания эти, берусь
утверждать, — в той же мере о Бовшек, в какой о Кржижановском, а подчас даже больше о нем, нежели о ней.
Признаюсь, с первых же строк я... просто-напросто растерялся. И не избавился от сего самоощущения до последней
точки — оно только ширилось и углублялось. В итоге, как говаривал Кржижановский, «истина отклонилась от человека» настолько, что и сама не смогла бы сыскать обратную дорогу.
С фрагмента, когда мне стало сие окончательно ясно, я и начну. Сразу предупредив, что не считаю для себя возможным принимать во внимание почтенный возраст мемуаристки. Потому что трагическая судьба писателя Сигизмунда
Кржижановского, по моему глубокому убеждению, не может
и не должна быть предметом беллетристических экзерсисов
и автобиографических фантазий.
H. М. Молева рассказывает, как через много лет после
смерти писателя и его жены она пыталась начать публикацию
прозы Кржижановского, но безуспешно (к подробностям этих
ее усилий я еще вернусь).
«...A потом вдруг неожиданно выясняется, что выходит полное Собрание сочинений Кржижановского. Узнав об
этом, я помчалась в архив... и спросила: ,Д чем дело?“ И обнаружились интересные вещи. Любое архивное дело лежит в со¬
596
Комментарии
ответствующей папке, к папке приклеен лист, на котором
расписывается каждый, пользуюищйся этим материалом:
пишет число, часы, когда он работал, ставит свою подпись,
там же стоит подпись сотрудника, который после чтения
проверил состояние дела. Так вот у деда ни на одной папке
нет фамилии тех, кто ими пользовался. А книги изданы!
Кроме того, оказалось, что некий Вадим Перельму-
тер, который, выступив в качестве публикатора, весь этот
проект подготовил (а в действительности всё подготовила
и разделила по томам Анна Гавриловна), является и правопреемником и должен получать деньги за издание. Этого я уже
не выдержала. Он опубликовал материалы — ладно. Но получать за это деньги... Мы — родные — их не получаем. И никогда на это не претендовали, а хотели только всё сохранить
и опубликовать. Но чтобы кто-то другой за это получал
деньги — нет! Пришлось писать относительно этого обстоятельства объяснение, заверенное нотариусом, и передавать
его в архив»...
С Ниной Михайловной Молевой «некий Вадим Перель-
мутер» познакомился и впервые побывал у нее в гостях на Никитском (тогда еще Суворовском) бульваре, в музейного вида
квартире, осенью 1988 года. В начале которого, в первом номере «Вопросов литературы», был напечатан ее очерк «Повести старого дома». Там рассказывалось о всяких замечательных историях из жизни в начале XX века знаменитого «первого московского небоскреба» — дома Нирнзее, что в Большом
Шездниковском, близ Пушкинской площади. И две страницы
посвящалось Кржижановскому — его выступлениям с чтением
новелл в кабаре «Кривой Джимми», что обитал в начале двадцатых годов в подвале того дома. Читателям при этом пояснялось — о ком речь. Ибо заметные публикации его прозы толь-
ко-только начались — в восемьдесят седьмом, а вероятность
знакомства публики с периодикой более чеМ полувековой давности не стоило принимать в расчет.
В ту пору я уже знал — и от бывших студийцев А. Г. Бовшек, с которыми встречался, и от дружившей с Анной Гавриловной и Сигизмундом Доминиковичем Нины Станиславовны Сухоцкой, с которой был знаком в последние восемь лет
ее жизни и у которой не раз бывал-беседовал в ее жилище на
Тверском бульваре, по соседству с Пушкинским, бывшим Камерным театром, — что Нина Молева была «какой-то родственницей» Бовшек и занималась у нее в студии.
597
Вадим Перельмутер
Я позвонил Нине Михайловне — и тут же получил приглашение. Рассказал об уже полностью подготовленной к изданию первой книге Кржижановского. И про то, что договорился с другим издательством о второй, твердо решив включить в нее все воспоминания о писателе, какие только удастся
разыскать. Уговаривать не пришлось — Нина Михайловна тут
же согласилась написать всё, что помнит.
Тогда же, в разговоре, между прочим, выяснилось, скорее даже — проскользнуло, что в ее распоряжении нет ни одной
строчки Кржижановского. Для меня такая информация была
совершенно внятным свидетельством того, что, как минимум,
в последние двадцать лет жизни Бовшек у нее не было сколько-нибудь близких отношений ни с «семьей» H. М. Молевой, ни
с ней самой, а быть может, и вовсе никаких.
Перед отъездом в Одессу (1967), а затем и в Одессе Анна Гавриловна немалую часть зарплаты — и пенсии — тратила... на машинисток. Тиражировала таким образом новеллы
Кржижановского и свои воспоминания о нем и передавала/
рассылала их всем, кого знала, кого могла вспомнить из общих с Кржижановским друзей и знакомых: Е. Ф. Никитиной,
Н. С. Сухоцкой, В. К. Звягинцевой, Н. Л. Дружининой, Б. А. Привалову и другим, включая некоторых бывших своих учени-
ков-студийцев. Мне довелось не только видеть эти машинописи — изрядное их количество есть в моем архиве: владельцы
с готовностью передаривали их мне, узнав — сначала, что пытаюсь его напечатать, потом, что готовлю книгу.
Бовшек прекрасно понимала, что сдать рукописи мужа
в ЦГАЛИ — полдела. Главное, чтобы имя его — писательское —
продолжало звучать, пусть вполголоса, почти шепотом, в узком кругу, и что чем больше будет таких «кругов», тем вероятнее шансы на издание. Рано или поздно.
Датированный шестым июля 1989 года очерк Молевой
«Легенда о Зигмунде Первом» я получил пять с лишним месяцев спустя, пятнадцатого декабря. В тот день, когда привез ей
первую книгу Кржижановского «Воспоминания о будущем. Избранное из неизданного». Мучительно припоминать дату нет
нужды — она есть на инскрипте подаренной мне тогда же книги «Манеж Год 1962»: «Милому Вадиму Гершевичу с бесконечной признательностью за второе рождение человека, так дорогого мне, — С. Д. К, и глубокой симпатией. Н. Молева. 15.12.89».
«Легенда о Зигмунде Первом» была опубликована во
второй книге Кржижановского «Возвращение Мюнхгаузена»
598
Комментарии
(1990). Авторская — подписная — машинопись сохранилась
в моем архиве.
«Легенда» неплохо смотрелась в книге — в уследимом
соответствии своему заглавию. Живо изложенные детски-под-
ростковые впечатления о необыкновенном человеке — и семейные предания. Ничего о прозе Кржижановского (понятно: первая книга тогда еще не вышла) — лишь размышления
о времени и его персонажах. Не обошлось и без нередкого ме-
муаристского соблазна — сообщить нечто замечательное, но
принципиально не поддающееся проверке и комментированию. Например, как в «Легенде», поведать, что в опасные для
писателя времена «семье» было поручено припрятать его рукописи, их зарыли в землю на дачном участке в Малаховке, а после войны на этом месте воздвигся один из многоэтажных домов (адрес дома приложен). Не станут же, в самом деле, сносить дом, даже если под ним томятся рукописи Гомера...
Я отвез Нине Михайловне заказанные ею несколько экземпляров. Получил очередную порцию похвал и благодарностей. Бывал у нее и позже — по привычному уже поводу: «Сказки для вундеркиндов» (1991), «Страны, которых нет» (1994),
журнальные публикации Кржижановского.
В девяносто девятом, когда затевалось/планировалось
издание Собрания сочинений (к слову, не «полного»), позвонил ей — за разрешением на перепечатку ее воспоминаний
в последнем томе. И мгновенно получил согласие.
Два года спустя принес первый том. От которого она не
отрывалась во время устроенного по такому случаю «праздничного» чаепития. И, конечно, могла увидеть, что среди копирайтов
никакого «правопреемника» нет. А потом и прочитать в комментариях, что в первых томах, отданных прозе, воспроизводятся —
согласно авторской воле — шесть машинописных книг, сложенных в последние годы жизни самим Кржижановским, и шесть
его повестей. И что ни по каким «томам» Бовшек сочинения мужа не «разделяла», но только следовала, как и я, воле автора.
Кстати, в ту пору мне приходилось несколько раз наведываться в ЦГАЛИ, уже переименованный в РГАЛИ, — в фонд
2280 (С. Д. Кржижановский), — кое-что проверять и уточнять
для работы над комментариями. И никакого Молевского «объяснения, заверенного нотариусом», там, разумеется не было,
иначе я просто не мог о нем не узнать.
В последний раз виделись мы с Ниной Михайловной
во второй половине октября 2005 года. Она получила второй
599
Вадим Перельмутер
и третий тома. Я — роскошно изданную в Италии монографию
о ее муже Элии Белютине. Впрочем, общение получилось, так
скажу, более облачным, нежели прежние.
Дело в том, что несколькими днями ранее в еженедельнике «Культура» (№ 40 (7499), 13-19 октября 2005) появился очерк H. М. Молевой об Александре Таирове и Сигизмунде
Кржижановском, озаглавленный цитатой из воспоминаний
Н. С. Сухоцкой «Нам всегда везло на трагические символы».
И то, что говорилось там о Кржижановском, было, по моему
разумению, за считанными исключениями, если выражаться
предельно корректно, не очень точным. Начиная с помещенной в центре газетного листа, рядом с портретами А. Таирова
и А. Коонен, фотографии Кржижановского работы М. С. Нап-
пельбаума (ныне, вероятно, самой известной из немногих фотографий писателя), напечатанной «вывороткой», то бишь
с негатива, перевернутого лицевой стороной не вниз, а вверх:
«в оргинале» — полуповорот вправо, здесь — влево.
Мне придется ненадолго отвлечься на эту публикацию,
потому что поклонники Кржижановского могут повстречаться с нею в Интернете. И будут введены в заблуждение.
Постараюсь быть кратким: ограничусь отнюдь не полным перечнем «неточностей», выбрав наиболее существенные
и легко проверяемые, и минимальным комментарием, который отчасти повторяет уже известное читателю Собрания сочинений, однако хочу избавить его от поиска по томам и страницам — пусть все необходимое будет перед глазами.
Начинается с того, что Таирова и Кржижановского связывала «работа в Камерном театре с 1921 года».
Кржижановский приехал в Москву в марте 1922 года.
Несколько месяцев спустя друг Бовшек, режиссер Камерного
театра Леонид Львович Лукьянов познакомил его с Таировым.
С осени того же года, по приглашению Таирова, Кржижановский начал преподавать в театральной студии при МКТ.
Несколькими строками позже приводятся предсмертные слова Кржижановского: «По-видимому, между мной и читателем лежит, по‘крайней мере, полвека».
Ничего подобного Кржижановский не говорил. И не
потому, что фраза — не в его стиле. Просто в последние недели жизни он вообще не мог говорить «фразами» — только отдельные слова. Об этом написано в воспоминаниях Бовшек.
«Ни одно произведение писателя не было опубликовано
при жизни».
600
Комментарии
При жизни писателя было опубликовано: шесть новелл,
повесть, книжка «Поэтика заглавий» (1931), полдюжины очерков, около двух десятков статей — о Шекспире, Б. Шоу, Чехове, Пушкине etc.
О нынешней популярности Кржижановского:«... возникли
три клуба фанов в Париже, несколько в Польше, в Германии».
Точно знаю, что ни в Париже, ни в Германии нет ни одного клуба фанов Кржижановского. Про Польшу мне ничего
достоверного не известно, хотя упомянута она не случайно.
Но о том — чуть позже.
О похоронах Кржижановского: «Стоя на лютом морозе 29 декабря (1950. — В. П.) у раскрытой могилы писателя среди шести человек, решившихся его проводить, актриса Алиса Коонен скажет, словно про себя: „Мы не поняли, его положили в гроб
еще тогда, в Зб-м Сегодня просто забили последний гвоздь“».
И далее: «Около были: режиссер и актриса Камерного Нина Сухоцкая, скульптор Сарра Лебедева, театральный
художник Елена Фрадкина, пушкиновед С. М. Бонди и бывший
артист и питомец Камерного Михаил Жаров»...
Кржижановского хоронили 31 декабря 1950 года. Пришедшие проститься с мало кому известным, неизданным писателем ничем не рисковали, хотя бы по одному тому, что некролог о Кржижановском был вывешен в фойе Центрального дома литераторов (об этом упомянуто в «Дневнике» Юрия
Нагибина), и там было указано — когда и где с ним можно
проститься.
Коонен ничего там не говорила. Потому что ее там не
было (да и слова процитированные — не о Кржижановском,
а скорее о Таирове, которого надломила в 1936-м отчаянная
борьба за спасение театра; Кржижановского финальная трагедия ожидала много дальше). Из перечисленных на кладбище
была лишь Н. Сухоцкая (с сыном Александром).
По записям бесед с Сухоцкой, вдовой племянника Бовшек А. Ф. Осмоловской и бывшей старостой студии художественного слова Дома пионеров Л. Трофимовой могу назвать почти всех, кто вместе с ними присутствовал в тот день
на кладбище: Л. Л. Лукьянов, А. М. Арго, Е. Л. Ланн и его жена
А. В. Кривцова, племянник Анны Гавриловны Николай, ее бывшие ученики Г. Конюшкова и Б. Моргунов, три или четыре коллеги Бовшек по Дому пионеров, — всего человек пятнадцать.
Прочее — довольно многочисленные «мелочи». Вроде сообщения о «закрытии» постановки «Онегина», инсцени¬
601
Вадим Перельмутер
ровку для которой написал Кржижановский, декорации А. Ос-
меркин, а музыку С. Прокофьев. Никто ее не «закрывал», но сам
Таиров, узнав от кого-то из начальственных доброжелателей
о готовящемся запрете и — как следствие — решении о закрытии театра, сделал упреждающий ход: сам «вычеркнул Пушкина» из театрального плана и срочно — взамен — взялся, ради
спасения театра, за Горьковских «Детей солнца». Или мимоходного упоминания о «друживших» с Кржижановским Вернадских, чему нет ни единого подтверждения...
Каюсь, я не отнесся к той публикации всерьез: ну, решил автор покрасоваться в газете своей осведомленностью,
с кем не бывает, да и увлекся, перехлестнул через край... Допускаю, что при более жесткой реакции тогда не пришлось бы
писать и нынешних заметок, кто знает...
В оправдание могу сказать, что не хотелось скандалить-
ссориться с H. М. Молевой — и рисковать тем, что она, осерчав,
заберет свои мемуары из Собрания сочинений, и так воспоминаний о Кржижановском негусто.
Правда, два вопроса все же задал. Первый — о сотрудничестве Таирова и Кржижановского с двадцать первого года. Ведь Бовшек называет иную дату. И услышал: «Она не знала.
У меня в семейном архиве есть их переписка, между Киевом
и Москвой». Понимая, что недоумевать, с какого такого пере-
ляку подобная переписка могла очутиться в архиве семейства
Молевых и почему не процитирована в «Культуре», — занятие праздное, я только попросил дать ее для публикации в Собрании сочинений. И получил твердое обещание: непременно, вот только надо отыскать ее среди других бумаг. Видать, не
отыскала...
Вопрос второй: судя по описанию похорон, она, вероятно, там присутствовала? «Конечно!» — «Ну, тогда, быть может,
хоть вы помните — где его похоронили?» — «А как же! На Немецком». Сказано было с такою убежденностью, что я бы и поверил. Если бы к тому времени уже не проверил и не получил
документального подтверждения тому, что на Немецком кладбище могилы Кржижановского не было и нет.
В тот день я услышал от нее и про «кровное родство»
с Кржижановским — Нина Михайловна именовала его «дедом»
и никак иначе.
Врасплох это меня не застало. Двумя годами ранее позвонила мне из Варшавы страстно увлекшаяся Кржижановским литературовед Веслава Ольбрыхт. И восторженно со¬
602
Комментарии
общила, что отыскала в Москве «внучку Кржижановского».
Это — Нина Михайловна Молева. Я, естественно, спросил о документальном подтверждении. Она, слышно было по голосу,
обиделась: как, дескать, можно не верить такому уважаемому
человеку! На том и расстались. Насовсем. Вероятно, обида оказалась глубже, чем я предполагал...
Теперь я сам поинтересовался «документами», которые,
несомненно, украсят издание. К тому же, при таком-то родстве, наверно, и фотографии есть, на которых Сигизмунд Доминикович запечатлен «в семейном кругу». Документы Нина
Михайловна посулила вместе с письмами, когда отыщет. А фотографии, кивнула, есть, конечно, и не одна. Вот только сейчас это все сканируется для готовящегося тома ее воспоминаний, но она попросит, чтобы для меня сделали копии — и обязательно передаст.
И ничего-то я не дождался. А в книге воспоминаний
H. М. Молевой — единственное фото Кржижановского, то же,
что и в «Культуре», только на сей раз напечатанное правильно.
Зато с ошибочной датой: 1937. Хотя снимок сделан был никак
не позже 1932 года.
...Разобравшись более или менее с концовкой очерка,
возвращаюсь к началу. И теперь уже строго по порядку, с цитатами, не отвлекаясь. И, опять же, повторяя кое-где то, что читателю уже может быть известно.
«По линии моей матери членами нашей семьи стали
две сестры Бовшек <...>, которые вышли замуж за двух моих двоюродных дедов. Анна Гавриловна Бовшек стала супругой
Сигизмунда Доминиковича Кржижановского, а Евгения Гавриловна Бовшек — супругой Владимира Васильевича Тезавров-
ского, одного из первых актеров МХГ».
В. В. Тезавровский и С. Д. Кржижановский не были «кузенами». Сие «родство» никак не прослеживается ни по отцовской, ни по материнской линиям писателя. У Доминика Александровича Кржижановского был единственный брат, Павел,
умерший бездетным и завещавший свое имущество племяннику Сигизмунду. Про Фабиану Станиславовну (урожденную
Пашуту) известно меньше, но и тут никто из имевших отношение к их семье не упоминает о «родственниках» — ни в Киеве, ни в Харькове, ни в Польше, ни в Москве.
Желающим это проверить, могу напомнить, что
у Кржижановского было четыре сестры, три намного старше
него и одна чуть младше. И есть возможность разыскать по¬
603
Вадим Перельмутер
томков одной из них — Юлии (единственной, у кого были дети), то бишь, если верить мемуарам, еще одной «кузины» Тезав-
ровского и «бабушки» Молевой, и поискать — с их помощью —
следы упомянутого «родства».
Не говоря уже о том, что ни сам Кржижановский, ни
Бовшек, судя по всему, об этом «родстве» и не подозревали. Совершенно невероятно, чтобы они ни разу о нем не упомянули.
Ведь к моменту их знакомства Евгения Бовшек и Владимир Те-
завровский были женаты, как минимум, три года — в 1918 году у них родился сын Василий, будущий летчик. Добавлю, что
в переписке Анны и Сигизмунда, которая включена в последний том Собрания сочинений, В. В. Тезавровский упоминается всего по разу — каждым из корреспондентов, и, как нетрудно убедиться, упоминается между прочим, к слову пришлось,
имя-отчество с довеском двух-трех слов, и только.
И не был Тезавровский «одним из первых» артистов
МХТ, созданного, как известно, в 1902 году, — играл там в 1905-
1918 годах, а затем перебрался в Одессу, в театр Массодрамы.
Двадцать лет назад, когда трудно было вообразить будущую популярность Кржижановского, H. М. Молева куда более
скромно и убедительно описала свою родственную связь с ним:
внучатая племянница мужа Евгении Бовшек, сестры жены писателя. То бишь неблизкая «свойственница» даже не самой Анны
Бовшек, но ее сестры. С тех пор, как видим, многое изменилось...
Далее — со ссылкой на «семейные рассказы» — повествуется, что в юности Анна Бовшек поступила в Первую студию МХТ, где «стопа любимицей Вахтангова», что «у нее был
прямой выход на первые роли в Вахтанговской студии» и что
«перед его смертью, когда он и Станиславский готовили еврейскую студию ,уГабимаиу Анна Гавриловна уже ассистировала Вахтангову как режиссер».
Вахтанговская студия открылась в 1921 году, к тому времени Анны Бовшек уже пять лет не было в Москве. И к студии
«Габима» Н. Цемаха, которой занимался преимущественно Станиславский и от которой берет начало ныне существующий
в Израиле театр того же названия, она отношения не имела.
Равно как и к другой еврейской студии — Театру «Культур-Ли-
ги» И. Кунина и Э. Лейтера, перебравшейся в 1922 году из Киева в Москву по приглашению Вахтангова (и три года спустя,
в Харькове, ставшей первым на Украине Государственным еврейским театром). В этой студии преподавал Кржижановский,
она-то и привезла его с собой в Москву...
604
Комментарии
Тут же сообщено, что огромный успех имели чтецкие
программы Анны Бовшек, прежде всего — «Двенадцать» Блока. «То же можно сказать и про ^Рыцаря в тигровой шкуре“»...
Про успех этот говорится, понятно, со слов самой Бовшек, цитата без ссылки на источник Что до «Рыцаря...», то
здесь неувязок, минимум, две (не считая того, что слова «рыцарь» нет в заглавии ни одного из пяти существующих переводов поэмы Руставели на русский язык): во-первых, о такой программе никто, кроме Молевой, не упоминает, она тут свидетелем быть не может, по причине, так сказать, биографической;
во-вторых, и составить подобную программу в начале двадцатых годов было бы мудрено. Потому что первый полный перевод поэмы (К Бальмонта) был издан в 1933 году. В Париже.
Под заглавием «Носящий барсову шкуру». Остальные переводы сделаны-опубликованы значительно позже...
Дело было, правда, уже не в Москве, а в Киеве. Потому
что, по словам мемуаристки, «после февральской революции
Бовшек уехала к родителям в Одессу <...>, она надолго оказалась отрезанной от Москвы — с 1917 по 1922 год». От Одессы
до Киева, как известно, рукой подать. И Бовшек стала там выступать с чтецкими программами. К тому же «в Киеве был театр Станиславы Высоцкой, в будущем знаменитой польской
актрисы», и та «увлеклась талантом Анны Гавриловны и пригласила ее в свою новую труппу. Это обстоятельство сыграло роковую роль в судьбе Анны Гавриловны».
Вот и первая трещина в семейных преданиях, которыми, вроде бы, пользуется Молева. А. Г. Бовшек вовсе не уезжала к родителям в Одессу «после февральской революции».
Но в 1916 году, узнав об измене первого мужа, разошлась
с ним и ушла на фронт Первой мировой войны — сестрой
милосердия (кстати, в книге есть ее фотография фронтовой
поры). А в восемнадцатом война занесла ее в Киев, где она
и осталась.
И артисткой театра С. Высоцкой она не была. Как не было самого театра — в мемуарах Бовшек рассказано, что он так
и не открылся, не создал ни одного спектакля. Потому ни «роковой» и никакой иной роли в судьбе Бовшек сыграть не мог...
«В том же 1922 году она встретила в Киеве кузена мужа своей сестры, Сигизмунда Доминиковича. Это в высшей
степени необычный, оригинальный человек Не случайно сейчас существуют клубы его фанов и в Париже, и в Марселе,
и в Варшаве. Весь мир открыл для себя его гений».
605
Вадим Перельмутер
Бовшек и Кржижановский встретились двумя годами
ранее — в двадцатом. Познакомил их А. И. Дейч. Про клубы фанов я уже говорил. Добавлю, что и в Марселе такого клуба нет.
«Он получил прекрасное образование, в совершенстве
знал семь языков, владел латынью и греческим. <...> Его лекции пользовались фантастическим успехом. Анна Гавриловна увидела его в этом блестящем ореоле и объяснилась ему
в любви».
Кржижановский свободно владел польским (то бишь —
родным), немецким и французским, мог объясниться на итальянском (благодаря латыни, которая, как и древнегреческий, —
следствие классической гимназии и университета), более
основательно он принялся за этот язык лет пятнадцать спустя, английским всерьез занялся уже после переезда в Москву.
А «фантастический успех» следует, вероятно, понимать так, что
в Киеве начала двадцатых годов, когда для абсолютного большинства населения культура была, так скажем, не первостепенной, любой успех вполне можно было счесть фантастическим...
Им «было уже по тридцать два года», и можно, следуя
за автором, предположить, что оба пережили и перестрадали
немало. Тем отрадней, что чувство оказалось взаимным. Однако «регистрировать брак дед отказался». И объяснил (внимание, говорит блестящий оратор-лекгор и ярко одаренный писатель!): «Я совершенно нищий. У меня нет ничего, и мне нечего
вам предложить. Я не могу себе позволить стать жиголо рядом с вами». Тем не менее, «они прожили вместе почти тридцать лет, без регистрации».
В момент знакомства Кржижановскому было тридцать три года, Бовшек — тридцать один. О причинах не-
регистрации брака с Кржижановским Бовшек рассказывает
в своих воспоминаниях. С «мотивом», предлагаемым вниманию и доверию читателей в очерке Молевой, — ничего общего. Да и приписываемое писателю пошловатая фраза-клише с реальностью не согласуется. Кржижановский был киевлянином — и, так скажем, не безвестным, жилу себя, в жилье не
нуждался, преподавал в консерватории, театральном институте, двух театральных студиях, читал публичные лекции, понемногу, но печатался, короче, по тем временам, его существование можно считать вполне сносным. То есть был обустроен
значительно лучше, чем Бовшек...
В 1922 году они отправились в Москву. Кржижановский — в надежде на перспективы, жилье, заработок. Но — ни
606
Комментарии
одного, ни другого, ни третьего. «Тогда один из орловских помещиков, которого дед знал еще с юности, знаменитейший
акушер Иван Юрасовский устроил ему\ как для своего санитара, какую-то служебную площадь. Это была кладовка в большой квартире — из тех, где хранили кастрюли... Там стояла железная койка, маленькая тумбочка и один стул. И на
этой площади Сигизмунд Доминикович прожил двадцать восемь лет».
Кржижановский, как известно, приехал в Москву с еврейской студией «Культур-Лиги», заботы о которой взяли на
себя вахтанговцы. И был — вместе со студийцами — временно обеспечен и жильем, и кое-какими, очень скромными, заработками, ибо продолжал преподавать (а начавшееся тогда знакомство с вахтанговцами Рубеном Симоновым и Павлом Антокольским продолжалось много лет). Уже несколько месяцев
спустя жена знаменитого биолога А. Н. Северцова Людмила Борисовна нашла для него комнату по адресу: Арбат, 44, кв. 5, —
в квартире своего знакомого, графа Коновицына (об этом рассказано у Бовшек). Осенью он уже преподавал в студии Камерного театра, а чуть позже был зачислен еще и в «литчасть».
И — никаких упоминаний об акушере Иване Юрасовском
и фиктивной службе санитара. Впервые я услышал это имя от
Молевой четыре года назад. И усомнился, сославшись на Бовшек. Возражение было отметено сходу: «Она забыла». Молева,
которой тогда еще не было на свете, естественно, помнит...
А Бовшек «приехала в Москву по линии Наркомпроса —
был такой способ заниматься в школах, с детьми». И Нарком-
прос дал ей «вполне нормальную комнату в Земледельческом
переулке. Всего метров четырнадцать, но жить было можно». Она предложила Кржижановскому переехать к ней, он решительно отказался («жигало»?). А обменять обе комнаты на
что-либо более — для двоих — приемлемое было невозможно, ибо «его комната не подлежала обмену из-за отсутствия
в ней жилой нормы». Отказаться от своей площади — значит,
потерять «прописку в Москве, что для поляка — а он по паспорту был поляк — означало немедленную высылку».
Бовшек перебралась в Москву раньше мужа. И ко времени его появления в столице уже поселилась на Земледельческом, 3. Наркомпрос упомянут Молевой всуе, он тут ни при чем,
как и «занятия с детьми», к коим Бовшек приступила... четырнадцать лет спустя. А комнату эту («большую, с личным телефоном»,
как сказано в воспоминаниях Анны Гавриловны) ей устроила
607
Вадим Перельмутер
известная артистка О. И. Преображенская — в квартире своего
брата, врача, профессора С. И. Преображенского. По той же, если угодно, схеме, по какой Л. Б. Северцова вселила Кржижановского в Арбатский дом, в бывшую комнату «для прислуги».
Бовшек подробно описывает эту комнату, и в ее описании — ни одного совпадения с тем, как изображает сию «жилплощадь» Молева. Зато оно весьма точно соответствует тому,
что я слышал от бывавших в гостях у Кржижановского Н. С. Су-
хоцкой, С. А. Макашина, H. Е. Семпер.
Ну, а пассаж о «невозможности обмена» и прочем, по-
моему, понадобился лишь для упоминания о преследовании
поляков. К этому мотиву мы еще вернемся...
Далее — снова о «кладовке», которая волею писателя обрела литературное бессмертие. «У Сигизмунда Доминиковича
есть рассказ, который переведен на семьдесят языков и пользуется сейчас огромной популярностью, — „Квадратурин “
Это а-ля Булгаков, только за двадгщть лет до Булгакова».
Новелла «Квадратурин», написанная в 1927 году, за тринадцать лет до смерти Булгакова, и вправду, вероятно, самое
популярное творение Кржижановского. Она переведена на
шесть языков. К слову, Молева пересказывает ее в шести строках — и говорит, на мой взгляд, совсем не о том, о чем рассказал автор на одиннадцати страницах...
«.. .Жили они отдельно. Вместе они жили только летом. У моих родителей в Малаховке была дача, и Анна Гавриловна и Сигизмунд Доминикович летом приезжали туда. Это
была какая-то кособокая жизнь».
Анна Гавриловна и Сигизмунд Доминикович никогда не
«жили вместе летом» на даче родителей Молевой в Малаховке. На
лето Бовшек уезжала к родным — в Одессу (кстати, именно там,
на последней, 16-й станции Большого Фонтана, на даче, стоявшей над крутым спуском к морю, им удавалось — трижды — пожить вместе, когда Кржижановский ненадолго приезжал в Одессу, да еще — дважды — в Тарусе, тоже летом и тоже недолго).
Поэтому почти вся их переписка (сохранилось сто двадцать писем) —летняя. Вполне вероятно, что они иногда бывали в Малаховке — одновременно с Тезавровскими: сестер связывала нежная дружба, а видеться доводилось реже, чем хотелось, обычно — в Одессе, куда Евгения с сыном тоже наведывалась, а иногда
и с мужем, да во время коротких «отпускных» наездов Тезавров-
ских в столицу, они довольно долго работали в провинциальных
театрах. Без жены Кржижановский, судя по письмам, в Малахов¬
608
Комментарии
ке не бывал вовсе. Он, как правило, подробно описывает свои
летне-загородные «визиты». Малаховку не упоминает ни разу.
По словам Н. С. Сухоцкой, незадолго до войны у Бовшек и Кржижановского случился какой-то конфликт с Тезав-
ровскими, подробностей она не знала, но помнила, что более
они не общались, только были на похоронах Евгении, умершей в сорок втором...
Тем временем приближался тридцать седьмой год. В канун его, в тридцать шестом, в одночасье было закрыто восемнадцать театров. Под угрозой был и Камерный, где — в театральной студии — Бовшек преподавала художественное слово
(там же, к слову, работал и Кржижановский — читал курс «Внутренняя техника актера» и лекции по истории литературы и театра, о чем автор не упоминает, возможно, по незнанию, греха
тут нет — всего знать невозможно). «Но Камерный театр спас
летчик Михаил Васильевич Водопьянов — там под его именем
шла пьеса JAenma“, и Водопьянова не стали трогать».
Летчик М. В. Водопьянов не имел отношения к спасению театра в тридцать шестом году. Его пьеса «Мечта» была поставлена на сцене МКТ в тридцать седьмом. Если бы не это, надо думать, Сталин бы с таким автором посчитался...
Тогда же, в тридцать шестом, был открыт первый в Москве Дом пионеров. И «племянница Таирова, Нина Станиславовна Сухоцкая, перешла туда в качестве руководителя
старшей театральной группы», а Бовшек, о чем уже говорилось в начале этих заметок, возглавила студию художественного слова...
Н. С. Сухоцкая была племянницей не Таирова, а Коонен,
и в Дом пионеров в тридцать шестом она не «перешла», а совмещала эту работу с режиссерской — в Камерном...
Туг я пропускаю изрядный — четыре без малого страницы — фрагмент, который сообщает о деятельности студии
и студийцев — и, в этом качестве, самой Нины Молевой. Перекликаясь некоторым образом с воспоминаниями остальных участников книги, к моей теме — личной жизни Бовшек
и Кржижановского — он отношения не имеет, ничего к ней не
добавляет.
Разве что один абзац, примерно посередине... «Амежду
тем личная жизнь Анны Гавриловны продолжалась в том же
кособоком виде. Причем она скрывала на работе, кто ее муж.
Многие ее коллеги просто ничего о нем не знали. Объяснялось
это тем, что Сигизмунда Доминиковича преследовали как по¬
609
Вадим Перельмутер
ляка. Преследовали его и как писателя, которого не издавали <... >, хотя он был принят в Союз писателей — без единого
опубликованного произведения! Это же полный абсурд!»
Бовшек не «скрывала на работе, кто ее муж». Коллеги не только знали о нем, но и были с ним знакомы. Да и студийцы тридцатых-сороковых — тоже. Одна из программ была поставлена Анной Гавриловной целиком по коротким
новеллам Кржижановского (мне называли «гуся», «Доброе дерево», «Утреннюю прогулку леса»). Автор бывал на репетициях и, конечно, присутствовал на премьере. Да и на ежегодных Пушкинских вечерах у Бовшек он — до поры — появлялся неизменно.
А «преследования как поляка» в случае Кржижановского, видимо, заключались в том, что он при всяком подходящем
случае с удовольствием упоминал в своих работах польских
авторов (см. например, «Поэтику заглавий»), переводил Жеромского и Мицкевича, Тувима и «польского Мольера» Фредро и прозаиков XX века, во второй половине сороковых годов
полностью подготовил для «Художественной литературы» однотомник Фредро и том «Польская новелла», но ветер политики переменился, книги не вышли.
О приеме Кржижановского в Союз писателей — см.
ком. к воспоминаниям А. М. Арго, там же приводится сообщение об этом событии в «Литературной газете» от 5 апреля
1939 г.
И сразу — к финалу. «В 1950 году Сигизмунд Домини-
кович умер. Умер он очень страшно: его парализовало. <...>
И в таком состоянии он находился с мая до последних чисел
декабря 1950 года. Разумеется, Анне Гавриловне приходилось
очень трудно. Все родственники были уже немолодые, а ее
племянник — сын Женечки и другого моего деда, летчик-испытатель КБ Туполева, участник Отечественной войны, — разбился как разлетом того же года. Семья находилась в полном
раздрызге, и когда Анна Гавриловна обратилась в Дирекцию
Дворца пионеров с просьбой помочь ей с похоронами, ей сказали, что Сигизмунд Доминикович — неофициальный ее муж,
и поэтому никакой помощи она не получит. Бовшек обратилась в Союз писателей и тоже получила отказ».
Туг, пожалуй, самое удивительное во всем очерке: «род1
ной и близкий человек» Нина Молева, оказывается, не знает, что 15 октября 1946 года, то есть за четыре с лишним года до смерти С. Д. Кржижановского, его брак с А. Г. Бовшек был
610
Комментарии
официально зарегистрирован Фрунзенским ЗАГСом г. Москвы. Я слышал об этом браке четверть века назад от Сухоцкой,
но только весной 2006 года обнаружил в Киеве копию «Свидетельства о браке», годом позже опубликовал ее (www.utoronto.
са/tsq/19/perelmut ter 19.sh tml).
И дирекция Дома пионеров, и Союз писателей Бовшек
«с похоронами» помогли. В частности, Арго и Ланн привезли
выделенные Литфондом деньги (да и во время предсмертной
болезни Кржижановского Арго «выбил» из Литфонда деньги —
в помощь его жене).
Вот только семьи при этом не было. Хотя ее, семьи, любимец, Василий Владимирович Тезавровский, летчик-испытатель (не «КБ Туполева», а Летно-испытательного института,
и испытывал он самолеты Яковлева — одного из главных «соперников» Туполева), погиб не «летом того же года», а второго декабря 1949-го, почти за тринадцать месяцев до смерти
Кржижановского...
«И тут случился следующий удар: сразу после смерти
Сигизмунда Доминиковича Анна Гавриловна обратилась в архив с просьбой взять его бумаги». Ей отказали: «Непечатав-
тихся авторов мы не держим».
Бовшек не обращалась в архив «сразу после смерти мужа». Она занялась приведением в порядок его бумаг. Ей шел
седьмой десяток, она много работала, крепким здоровьем никогда не могла похвастаться, потому сильно уставала, и бодрое
время для чтения, перечитывания, систематизации нескольких тысяч страниц машинописей с авторской правкой, набросков, писем удавалось выкраивать с трудом. На все на это ушло почти пять лет.
А затем, вместе с Е. Л. Ланном, шекспироведом А. А. Аник-
стом, философом В. Ф. Асмусом, литературоведом В. А. Дын-
ник, стала готовить для издания в «Советском писателе» два тома избранных сочинений Кржижановского.
По письму Ланна Литфонд выдал деньги на перепечатку этих сочинений (в двух экземплярах). 1297 рублей. В пятьдесят шестом машинопись двухтомника была отдана в издательство. Несколько месяцев спустя последовал отказ, как
говаривал Кржижановский, «возвр.». Бовшек пыталась протестовать — тщетно. Тогда было решено придать следующим
попыткам более весомый, так сказать, официальный статус.
Литераторы — друзья Кржижановского — взялись за это дело.
И 20 июня 1957 года Союз писателей принял постановление
611
Вадим Перельмутер
о создании Комиссии по творческому наследию С. Д. Кржижановского — в составе: Е. Л. Ланн (председатель), А. А. Аникст,
В. Ф. Асмус, В. А. Дынник, А. Г. Бовшек (секретарь). В пятьдесят
восьмом, после смерти Ланна, председателем стал Аникст, а в
состав Комиссии вошел H. Н. Вильмонт...
Ни о чем об этом Молева не знает. И потому рассказывает, как «пятнадцать лет» помогала Бовшек в попытках
напечатать прозу Кржижановского. Как они вместе ходили
к Твардовскому в «Новый мир» — и тот отказал. Как несколько лет спустя уже другой глава журнала, «некий Косолапое», передал рассказы на рассмотрение своим сотрудникам. И ответ
гласил: «Интереса для наших читателей не представляет».
И подпись: «Ю. Даниэль».
И до отъезда Бовшек в Одессу, и после контактами
с журналами — по поводу сочинений Кржижановского — занимался Александр Абрамович Аникст. Не только с «Новым
миром», откуда ему отвечал не А. Т. Твардовский, а И. А. Сац,
но и практически со всеми существовавшими тогда журналами, вплоть до «Крокодила» и «Шахмат в СССР» (только здесь,
кстати, и удалось напечатать одну новеллу Кржижановского —
«Моя партия с королем великанов»). Перечень отправленных
в журналы сочинений Кржижановского и переписка с редакциями хранятся в фонде Аникста — в архиве Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей. И переписка
об этом Аникста с Бовшек — там же.
В. А. Косолапое возглавлял «Новый мир» в 1970-1974 гг.
Чисто теоретически Бовшек могла — через Молеву — отправить
туда новеллы мужа либо в семидесятом, либо, незадолго до смерти, в семьдесят первом. Юлий Даниэль, как известно, до августа
семидесятого отбывал пятилетний срок в мордовских лагерях.
К редакции «Нового мира» он никогда не имел никакого отношения. Зачем понадобилось Молевой приплетать его к этой выдуманной истории — можно только гадать. Но не хочется...
Мемуаристка сетует на то, что самостоятельно «дважды
пыталась начать публикацию этих рассказов», но ее «не допустили к фонду».
Не стану придираться к тому, что всего абзацем ранее
можно прочитать об отказе архива принять «бумаги» писателя, потому упоминание «фонда» может удивить читателя. Молева устраняет эту неувязку — на следующей странице. Скажу
только, что фонд 2280 (С. Д. Кржижановский) в ЦГАЛИ никогда не был сокрыт от исследователей. И, судя по его описанию
612
Комментарии
Молевой (оно приведено в начале этих заметок, но тогда мне
не хотелось на него отвлекаться от вещей, более, на мой взгляд,
существенных), она его не видывала. Потому что уже двадцать
лет назад в этом фонде не было ни одного дела без моей подписи на вкладыше, плюс подписи М. Л. Гаспарова и Е. В. Вит-
ковского — на большинстве дел. А в год выхода первого тома
Собрания сочинений в некоторых из папок можно было насчитать с дюжину исследовательских автографов...
Думаю, десятки, да что там, сотни исследователей, работавших в этом архиве и потому более или менее знавших его
директора Наталью Борисовну Волкову, изрядно позабавил
бы рассказ Молевой о том, как эта «замечательная женщина»,
в конце концов, помогла Бовшек и «на свой страх и риск» приняла бумаги Кржижановского. Замечательна Н. Б. Волкова была отнюдь не бесстрашием и рискованностью поступков. Хотя
на сей раз в этих качествах и не было нужды. Архив Кржижановского вместе с Бовшек сдавал Аникст. От имени Комиссии,
то бишь Союза писателей, об отказе которому не могло быть
и речи...
«Бовшек уехала в Одессу, где прожила менее двух лет».
На самом деле — четыре года...
Апокалиптический рассказ Молевой об отъезде Анны
Гавриловны в Одессу и ее одинокой фигуре на пустой вокзальной платформе цитировать уже неохота. Скажу только, что
среди провожавших были уже упоминавшиеся мною Н. Су-
хоцкая, А. Осмоловская, Л. Трофимова, коллега по последним
пяти годам службы в Пушкинском музее А. Фрумкина, еще несколько человек, и никто из них Н. Молевой на Киевском вокзале не заприметил...
Да и в читанной мною последующей переписке Анны
Гавриловны с московскими друзьями и знакомыми — ни единого упоминания ни о Молевой, ни о ее семье.
Зачем H. М. Молевой понадобилось громоздить и публиковать всю эту небывальщину — не могу знать. Но знаю, что
сделано это ею напрасно. Ибо вынужден теперь исключить
«Легенду о Зигмунде Первом» из Собрания сочинений Кржижановского. Не хочу рисковать: а ну как и там — сплошная
беллетристика?.. Тем более что нынешняя проверка некоторых— навскидку — сведений, не вызвавших у меня недоверия
двадцать лет назад, эти опасения подтвердила. Ну, например,
вопреки утверждению Молевой, ее двоюродный дед В. В. Тезавровский не был — «вместе со Станиславским» — создателем
613
Вадим Перельмутер
музыкального театра, носящего ныне имена Станиславского
и Немировича-Данченко, но лишь помогал Станиславскому
(в качестве «режиссера-администратора» и преподавателя дикции и грима, при этом сам учился у мэтра «постановочной работе») на первых порах существования оперной студии-театра, т. е. задолго до ее превращения в «театр», а в самом театре
никогда не работал. И так далее...
Впрочем, нет худа без добра: многолетние занятия наследием Кржижановского давно убедили меня в том, что события, время от времени клубящиеся близ имени его и сочинений, чреваты последствиями весьма неожиданными. Так
вышло и на сей раз. Стоило мне разобраться с мнимой «внучкою» Кржижановского, так сказать, освободить старательно
и с преизрядной выдумкой обустроенную H. М. Молевой — для
себя — родственную нишу, как, по чистой, вроде бы, случайности (а я, повторю, когда дело идет о Кржижановском, в случайности уже не верю), обнаружились вполне реальные кровные родственники писателя, обитающие в Харькове: сперва —
двоюродный правнук Владимир Шерстюк, затем — его тетя,
двоюродная внучка Кржижановского, Ирина Михина (урожденная Костецкая), ну, и остальные потомки Юлии Домини-
ковны Кржижановской (в первом браке — Левдиковой, во
втором — Педаевой)...
Анна Бовшек. Глазами друга
(Материалы к биографии
Сигизмунда Доминиковича Кржижановского)
Из писем Б. А. Привалова к А. Г. Бовшек (ГЛМ, Отдел рукописных фондов. Фонд 330, Кржижановский С. Д. Документы
из коллекции Е. Ф. Никитиной, 1918-1971) явствует, что существовал первый вариант воспоминаний, охватывавший значительно меньший период жизни Кржижановского. Текст не
сохранился.
По отзывом людей, знавших Анну Гавриловну Бовшек (1889-1971), человеком она была замечательным. Стоило мне упомянуть ее имя, как собеседники мои начинали говорить о ней с каким-то мгновенным, словно дремавшим и внезапно разбуженным взрывом эмоций, взволнованно и чуть ли
614
Комментарии
не восторженно. При том, что, судя по всем без изъятия рассказам, она неизменно была внутренне собранной, никакой такой
видимой «теплоты», «широты» и добродушия, скорей закрытость, всегда — некоторая дистанция общения, не подчеркнутая, но ощутимая. Безупречные одежда и макияж, аккуратность
и точность во всем, словно бы определенная, заданная сторона, с которой подпускала она к себе извне всех, кроме самых
близких. Ракурс, в котором допускала их к себе. Единственная
ее ученица из студии чтецов Московского Дома пионеров, где
Бовшек работала много лет (среди ее учеников в разное время были Ролан Быков и Людмила Касаткина, Геннадий Печников и Авангард Леонтьев, Сергей Никоненко, Борис Моргунов,
Игорь Кваша и другие, менее известные артисты), постоянно бывавшая у нее дома, нередко помогавшая ей по хозяйству,
ни разу не видела ее в халате, в домашних туфлях и небрежно, «по-домашнему» причесанной. Один из бывших ее учеников рассказывал, что в конце шестидесятых как-то отправился
в Одессу, к ней в гости. Дело было летом. Поезд прибыл туда на
рассвете, когда город еще глубоко спал. Выждав часа полтора,
гость отправился на Большой Фонтан, дальняя, 1б-я станция.
Прибыл он туда — еще не было восьми. Позвонил. И ему открыла Анна Гавриловна — в крахмальной белой блузке, идеально
выглаженной юбке, с тщательно уложенными волосами...
Небольшое это отступление нужно мне, чтобы стала понятна продуманность и тщательность всего, что делалось ею,
чтобы сохранить наследие Кржижановского. В том числе, конечно, и перенесенного из памяти на бумагу. Воспоминаний.
Завершенные в 1965 году, они должны были стать своего рода комментарием к этому наследию. И, как видим, стали. Тогда же она попросила нескольких наиболее близких людей написать о Кржижановском (подсказано Н. С. Сухоцкой).
Увы, ни у кого, кроме А. М. Арго, руки до этого так и не дошли...
Два последних московских года (в Одессу она уехала
в шестьдесят седьмом) были потрачены на приведение в образцовый порядок сдаваемого в ЦГАЛИ архива Кржижановского. То есть — всего того, что она сочла возможным доверить
государственному хранению. Остальные бумаги, о чем уже говорилось, она забрала с собой.
^5 Внутренняя собранность, закрытость характерны
и для ее воспоминаний. Они написаны, я бы сказал, не то, чтобы осторожно, но с внятным осознанием — в какое время
и где жил их герой (и живет автор) и с явственной надеждою
615
Вадим Перельмутер
на то, что рано или поздно все-таки удастся напечатать в этих
же советских условиях и прозу Кржижановского, и повествование о нем. Все, что, по ее мнению, могло этому помешать,
оставлялось вне текста.
Ну, например, она не могла не знать не только о сотрудничестве Кржижановского с не реабилитированным еще толком в первой половине шестидесятых Лесем Курбасом, но
и о добром его знакомстве с некоторыми деятелями украинской культуры, которые впоследствии были репрессированы
и объявлены ярыми националистами, об их реабилитации не
было и речи ни в конце пятидесятых, ни в начале шестидесятых. Или о том, что в двадцатых годах Михаил Левидов водил
Кржижановского читать новеллы в квартиру Каменевых. Равно и о том, что сотрудничество с издательством «Academia» утвердилось именно тогда, когда директором этого издательства
стал Каменев (потому, кстати, и обходится стороною история
возникновения гиекспирианы Кржижановского). Или о подробностях жестокого конфликта с всесильными шефом цензуры Лебедевым-Полянским. Или о том, как сочинения Кржижановского были переданы Горькому — и что по их поводу написал великий пролетарский писатель. Или о судьбе соседки
своей по одесской даче Лидии Федоровой...
Она пишет о репрессиях, о страхе, в котором все они
тогда жили, об арестах (тема эта, напомню, в середине шестидесятых — из самых заметных в печати, увод ее на дальний
план или в примечания еще не начался), но поименно называет... двоих. Каждого — в полутора строках.
Бабеля, которого с 1957 года уже начали не только часто упоминать, но и печатать.
И Левидова — одного из самых близких друзей
Кржижановского.
Хотя весьма непростая, как удалось выяснить, операция по приему Кржижановского в Союз писателей была предпринята еще и потому, что опала и безошибочно ожидавшийся арест Левидова сгустили тучи над его другом. Ситуация была похожа на ту, которую почти десятилетием раньше удалось
энергично разрешить Евдоксии Никитиной, используя свои
дружеские связи с влиятельными писателями (см. историю издания «Поэтики заглавий» — IV, 708), только еще опасней.
Точно так же Бовшек обходит молчанием тех, кому ее
разговорчивость все еще может повредить (или ей так кажется), — как говаривал один умный человек, лучше переосторож-
616
Комментарии
ничать, чем недоосторожничать. Так, вообще не упоминается
Георгий Шторм, не без риска взявшийся помогать в разрешении сложнейшей проблемы вывода Кржижановского из-под
удара «Правды» во второй половине тридцатых годов...
Все это пришлось по крупицам собирать, встречаясь
с дожившими до середины семидесятых знакомыми Кржижановского. Думать, что Бовшек — при ее-то памяти! — обо всем
об этом не вспомнила,, по крайней мере, наивно.
Есть и сугубо личные умолчания. Ну, скажем, она не
только знала о Семпер, но и была с нею знакома. Стихотворение «Я переменчив, но и semper idem» процитировала в мемуарах полностью, но не только не упомянула о его, так сказать,
происхождении, а и... не сохранила его в архиве, где уцелели
записи куда менее значимые.
Ни слова не сказала она и о первой женитьбе Кржижановского (впрочем, и о своем первом браке: как выяснилось
из опубликованных в упомянутой книге «Великое культурное
противостояние» воспоминаний внучатой племянницы Бовшек Натальи Даниленко, занимаясь — с 1914 г. — в Первой
Студии МХТ, у К С. Станиславского и Л. А. Сулержицкого, Бовшек вышла замуж за, как говорится, подававшего большие на-
дежды художника этой Студии Павла Григорьевича Узунова,
оформившего, в частности, один из самых знаменитых спектаклей Студии — «Сверчок на печи» Диккенса (1914); Станиславский был на их свадьбе посаженным отцом. В 1916 г., разойдясь с мужем, Бовшек ушла на фронт — сестрой милосердия, ас 1918 г. осела в Киеве, однако не театральную сцену уже
не вернулась, а стала выступать с программами художественного чтения, одновременно постигая специфику, тонкости
и «секреты» этого искусства с помощью И. А. Кунина, чью творческую лабораторию «Театр чтеца» она посещала). Разумеется,
о первой женитьбе Кржижановского она знала немало: не потому ли не отдала в ЦГАЛИ фотографию, к сему относящуюся, однако все же сохранила ее в числе увезенного в Одессу...
Все это стоит иметь в виду, читая мемуары. У автора их
была четко поставленная задача — и задача эта решена. Бовшек хотела рассказать правду о Кржижановском, хотя и не
всю. Но кто знает всю правду — даже о себе самом?..
С. 198 Сотворенный творец (И. Эригена) — Эриге-
на Иоанн Скотт (Эуригена, ок. 810 - ок. 877), средневековый философ и богослов.
617
Вадим Перельмутер
С. 198 Высоцкая Станислава (1878-1941) — выдающаяся польская трагическая актриса, режиссер, педагог;
в 1911-1920 гг. жила в Киеве, где в 1916 г. создала Польский национальный театр-студию.
С. 199 Владимир Владимирович Сладкопевцев
(1876-1957) — актер, чтец, педагог, в 1918-1923 гг.
профессор Киевского музыкально-драматического института им. Лысенко.
Словацкий Юлиуш (1809-1849) — польский поэт,
драматург.
Выспянский Станислав (1869-1907) — польский
поэт и драматург.
С. 200 «Балладина» — драма Ю. Словацкого (1834).
С.201...ИЗ еврейских мелодий Лермонтова:
«Скорей, певец, скорей, вот арфа золотая» — т. е. «Еврейскую мелодию» (1830), лермонтовский перевод из «Еврейских мелодий» Байрона.
С. 203 Дейч Александр Иосифович (1893-1972) — писатель,
историк литературы и театра, переводчик, драматург.
С.205...В студии бывшего Соловцовского театра — создан в 1881 г. товариществом драматических
артистов (в качестве Русского театра в Киеве), ныне —
Театр им. Леси Украинки.
С. 206 В то утро мы договорились о первой литературной программе: Саша Черный и Андрей Белый — это тематическое сопоставление, берущее начало из теории Кржижановского о Товэтов-
цах и этовТовцах, примерно тогда же им изложенной
на лекциях и на бумаге (ср. «Арго и Ergo»), встречается
у него и в дальнейшем (Поэтика заглавий, etc.).
С. 208 Жорес Жан (1859-1914) — политический деятель,
вождь французских социалистов.
С.210В результате двух летних образовательных поездок за границу, побывав в Швейцарии, Франции, Италии и Германии — из
маршрута европейской поездки Кржижановского летом
1912 г. здесь пропущена Австро-Венгрия (Будапешт и Вена); путевых очерков об Италии он написал десять, из
которых два — «Остров смерти (Cimitero S. Michele в Венеции)» и «Banco-Lotto» — были опубликованы; в «Рыцаре. Журнале для молодежи», издававшемся в 1913 г.
добрым знакомым Кржижановского E. М. Кузьминым
618
Комментарии
(см. ком. к письму Кржижановского — 7), он публиковался довольно регулярно, кроме стихов — статьи-эподы «Незамеченный литературный тип» (№ 3; впоследствии отсюда произошла новелла «Некто» — 1,210-217)
и «Злыдни» (№ 6); публикацию в журнале «Зори» Кржижановский считал своим гшсательским дебютом.
С. 210Демиевка — бывший пригород, давно вошедший
в черту Киева, ныне это место совсем недалеко от центра города.
С211 ...фамилией Кадмина... получила звание заслуженной артистки и была награждена орденом Ленина — см. комм, к письму Сигизмунда (48).
С. 212 Марджанов показал в драматическом театре замечательную постановку Лопе де
Веги «Овечий источник» — Марджанов (Марджанишвили) Константин (Котэ) Александрович (1872-
1933), режиссер, в 1919-м, оказавшись в Киеве, только что освобожденном от петлюровцев, был назначен
на пост комиссара всех киевских театров, именно тогда на сцене киевского театра «Соловцов» (Соловецкого
театра) был поставлен один из его легендарных спектаклей — «Фуэнте Овехуна» («Овечий источник») Лопе де
Вега, пользовавший огромным зрительским успехом.
...отмечены юбилеи Франциска Ассизского и Данте — юбилей Данте — 600 лет со дня смерти, юбилей Св. Франциска довольно-таки необычен —
740 лет со дня рождения.
Генрих Густавович Нейгауз (1888-1964) — пианист; известно о киевской серии сольных концертов
Нейгауза, каждый из которых предварялся докладом
Кржижановского о музыке и тех композиторах, чьи сочинения исполнялись в концерте.
С. 213 .. .певица Караулова — Нина Александровна
(1886-1975).
«Адвокат Патлен» (фр. Pathelin) — герой французских фарсов «Адвокат Пьер Патлен» (ок. 1470), «Новый Патлен» (1474), приписываемых многим авторам,
в том числе, Франсуа Вийону, и «Завещания Патлена»
(конец XV — нач. XVI в.).
В работе мне помогала одна из моих учениц, Вера Строева — Вера Павловна Строева
(1903-1988), режиссер театра и кино, кинодраматург.
619
Вадим Перельмутер
С. 214 Казин Василий Васильевич (1898-1981) — поэт,
один из организаторов литературной группы «Кузница», в начале двадцатых годов был близок к есенинскому кругу\ вероятно, Кржижановский мог встречаться
с Казиным в 1923-1924 гг., когда общался с имажинистами (с одним из них — Анатолием Мариенгофом —
он вместе работал в Камерном театре) и даже печатался в их журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном».
С. 215 .. .специалист по Достоевскому профессор Чиж с женой — не только «по Достоевскому»;
Владимир Федорович Чиж (1855 — около 1922), психолог и психиатр, профессор психиатрии Юрьевского
(Тартусского) университета; не только среди специалистов, но и у читающей публики были очень популярны
его медико-психиатрические портреты: «Тургенев как
психопатолог» (1899), «Достоевский как криминолог»
(1900), «Ницше как моралист» (1901), «Болезнь Гоголя»
(1903) и ряд других; последняя его работа «Психология
деревенской частушки» была опубликована в 1915 г.;
сведения о его смерти расходятся: по неподтвержденным данным, он умер в Киеве в 1922 г., энциклопедический словарь Гранат дает дату — 1924; в любом случае,
А. Бовшек — единственный достоверный свидетель, общавшийся с В. Ф. Чижом после его отъезда из Юрьева
в 1916 г.
С.217 Только после смерти Сигизмунда Доминиковича, разбирая его архив, я нашла две
тетради его юношеских стихов — как выяснилось при знакомстве с «Киевским архивом», не только: добрую половину объемистой машинописной тетради «Копилка образов», увезенной Анной среди бумаг
Сигизмунда из Москвы в Одессу, составляют именно
стихи (да и в фонде Кржижановского в РГАЛИ под стихи отведено не две, а три «единицы хранения» (71-73).
Впоследствии С. Д. пользовался стихотворной формой только при переводе зарубежных поэтов и для своих оперных
либретто: «Поп и поручик», «Суворов»,
«Фрегат „Победа“» — не совсем таю стихотворные наброски и фрагменты писались и позже, один из
них приводит и сама Бовшек (см. далее).
620
Комментарии
...небольшой, из восьми стихотворений,
цикл «Философы» — несколько стихотворений из
этого цикла можно прочитать в книге: Сигизмунд Кржижановский. Книжная душа. Стихи разных лет. М., 2007.
...он объединит в сборник «Сказки для
вундеркиндов» — см. предварение комментариев
к этому сборнику (I, 593).
С. 219 •• .semper idem... — всегда тот же (ла т.).
Вероятно, эти строки появились много
позже — и значительно позже, в середине сороковых, о чем Бовшек, разумеется, знала, как знала и о том,
что стихотворение обращено к H. Е. Семпер (возможно,
именно поэтому «бумажный лоскут» не сохранился —
в «Киевском архиве» его нет).
...симфоническая поэма Чайковского
«Франческа да Римини» — точнее: симфоническая фантазия, написанная Чайковским осенью
1876 г. на сюжет из «Божественной комедии» Данте (Ад,
песнь V) — о трагической любви юной замужней Франчески к Паоло, младшему брату ее мужа, и о постигшем
обоих возмездии.
...lunedi; martedi; mercolodi; giovedi;
venerdi; sabato; domenica — перечисляя по-
итальянски дни недели от понедельника до воскресенья, А. Бовшек ошибается: в словах Lunedi; Martedi;
Mercolodi; Giovedi; Venerdi ударение падает на последний слог (к слову: Кржижановский стал всерьез изучать
итальянский значительно позже, в конце 1930-х).
C.220 «Apres la lecture de Dante» — «По прочтении
Данте» (фр.).
С. 221 Бессарабка — рынок в центре Киева.
С. 222 В конце марта собиралась ехать в Москву еврейская студия всем своим составом — студия переехала (а не «поехала») в Москву
двумя группами: первая — во главе с руководителем
студии Эфраимом Лейтером — осенью 1921 г., вторая — в марте 1922 г. (с нею поехал и Кржижановский); импульсом к переезду стало приглашение Вахтангова, который принял большое участие в дальнейшей судьбе студии (см. ком. к письму Анны — 2);
вероятно, тогда и состоялось знакомство Кржижановского с вахтанговцами. В частности, с Р. Н. Симоно¬
621
Вадим Перельмутер
вым (см. историю несостоявшейся постановки комедии «Поп и поручик»).
С. 223 Ольга Ивановна Преображенская — (1881-
1971), артистка театра и кино, с 1925 г. выступала только как кинорежиссер; Преображенская не только приютила Бовшек на первых порах, но и, можно сказать,
поселила ее в Москве: как раз в ту пору началось «уплотнение» обитателей больших квартир, возникновение
пресловутых «коммуналок» (о чем Бовшек упоминает
далее, рассказывая о вселении Кржижановского в Арбатскую «квадратуру»), естественно, хозяева этих квартир — через родственников и знакомых — старались
найти себе «приличных» жильцов, резонно опасаясь
появления у себя под боком «шариковых», и Ольга Ивановна получила для Бовшек комнату в квартире своего
брата, врача, профессора Сергея Ивановича Преображенского, жившего на Девичьем поле, в доме 3 по Земледельческому переулку; в этой комнате Бовшек прожила все свои сорок пять московских лет, до отъезда
в 1967 г. в Одессу; здесь, по свидетельству С. А. Мака-
шина, в двадцатых годах в гостях у Бовшек и Кржижановского бывал М. А. Булгаков; дружеские отношения
с О. И. Преображенской продолжались и в дальнейшем
(см. письмо Сигизмунда — 49 и ком. к нему).
Владимир Ростиславович Гардин (Благонравов, 1877-1965) — режиссёр театра и кино, сценарист
и актёр.
С. 224 .. .выяснилось, что и философские, и политические позиции Н. Бердяева так же
шатки, как и самое его пребывание в Москве — философ Николай Александрович Бердяев
(1874-1948) к тому времени уже пережил арест и «лу-
бянское» заключение (1920), 28 сентября 1922 г. он был
выслан из страны на знаменитом «философском пароходе».
Второе письмо, к профессору Авинову —
вероятно, речь об экономисте Николае Николаевиче
Авилове (1881-1937), как и оба других адресата рекомендательных писем, некогда перебравшемся в Москву
из Киева; глухое упоминание Бовшек о неких неясных
причинах, удержавших Кржижановского «от закрепления знакомства», судя по всему, одно из характерных
622
Комментарии
для ее мемуаров умолчаний, о коих говорилось в предварении: позиции Авинова были нисколько не прочнее,
чем у Бердяева, в отличие от которого Авинов не был
выслан, остался в России, подвергался преследованиям,
перебивался — при высокой профессиональной квалификации — договорными работами-заработками и пятнадцать лет спустя, в декабре 1937 г., был расстрелян.
С. 224 .. .слушая доклад профессора Иванцова —
Николай Александрович Иванцов (1863-1927), зоолог,
профессор 2-го Московского государственного университета (в 1920-х гг.), соратник Н. К Кольцова и А. Н. Се-
верцова, один из зачинателей отечественной генетики.
Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) —
один из крупнейших русских ученых XX в.; в круг его
интересов и научной деятельности входили геология
и кристаллография, минералогия и геохимия, организаторская деятельность в науке и общественная деятельность, радиогеология и биология, биогеохимия
и философия, и в каждой из этих областей он оставил
яркое наследие.
Зелинский Николай Дмитриевич (1861-1951) —
химик-органик, академик
Ферсман Александр Евгеньевич (1883-1945) — геолог, геохимик, минералог; академик
Ольденбург Сергей Федорович (1863-1934) — востоковед (индолог), археолог, этнограф; академик
С.22б...две акварели с подписью: «М. Воло¬
шин» — судьба обеих акварелей неизвестна.
Григорий Львович Рошаль в 1921-1923 гг.
учился в Высших режиссерских мастерских Вс. Мейерхольда, работал режиссером в театре; в 1922 г. вместе с женой, В. П. Строевой, организовал Государственную мастерскую Педагогического театра (о которой
здесь идет речь), в 1925 г. мастерская вошла в состав
Педагогического театра, который Рошаль и возглавил (и в мастерской, и в Педагогическом театре преподавал Кржижановский — см. «Автобиографию»);
с 1925 г. — в кино; знакомство Бовшек с Рошалем, женившимся на ее ученице, и дальнейшее — в Москве —
общение с обоими сыграло существенную роль в ее
судьбе: ему она обязана приглашением в только что
открывшийся Дом пионеров, где возглавила Студию
623
Вадим Перельмутер
чтеца — работой, которая худо-бедно все же кормила
ее и Кржижановского в самые трудные для них годы.
С. 227 .. .известной под названием «биомеханика» — эта система была введена Мейерхольдом (как
практическое следствие его увлечения теорией Гордона
Крэга об «акгере-свехмарионетке»), она включала в себя совокупность приемов и навыков (гимнастических,
пластических, акробатических), с помощью которых
актер получает возможность сознательно, точно и естественно управлять механизмом движения своего тела,
т. е. умело регулировать свое поведение на сцене, подчинять движения определенному ритмическому рисунку, а главное (!) — мгновенно и точно выполнять задания режиссера; именно с этой системой «биомеханики
в отрыве от психоорганики» остро полемизировал Таиров и ставший его единомышленником Кржижановский (см. его статьи в газете «7 дней московского Камерного театра» — IV, 636-668), именно в полемике с нею
он вел в Шкстемас’е свой курс «Основы внутренней техники актера», т. е. психоорганики; думается, для Кржижановского этот полемический импульс — не столько
союзнический (с Таировым), сколько собственный, внутренний, ведь он — как писатель — не психологичен,
но психоорганичен.
В группе занимались: Окунчиков, Ко-
лесаев, Сажин — Окунчиков Абрам Зиновьевич
(см. ком. к письму Анны — 46), Колесаев Валентин Сергеевич (1903-1966), режиссер; Сажин Зиновий Абрамович (1903-1968), актер, режиссер, в 1922 г. окончил Киевскую драматическую студию, т. е. знакомый Бовшек
и Рошаля с киевской поры.
С. 228 «Уличные фотографы» — впоследствии заглавие
было изменено на «Коллекция секунд».
...«Сказки для вундеркиндов» маленькими
новеллами — см. в комментариях к письмам Сигизмунда (16 и 20) первое и последнее письма к Волошину.
С. 229 .. .постепенно выработалась привычка
к диктанту — привычка настолько прочная, что,
кроме опубликованных в пятом томе «Записных Тетрадей», краткого плана-конспекта романа «Тот третий»
(V, 561-562), включенных в эти комментарии Записей
о командировке в Восточную Сибирь и кратких заметок
624
Комментарии
по поводу романа Евгения Данна «Старая Англия» (и, понятно, писем), рукописных текстов в его архиве нет.
С. 230 Постановка трагедии Расина «Федра»
с Ко о не н в главной роли — премьера «Федры»
состоялась 21 ноября 1921 г.; Алиса Георгиевна Коонен
(1889-1974), любимая ученица Станиславского, жена
Таирова, вместе с ним создавшая в 1914 г. Камерный театр, где стала главной актрисой, под которую строился
практически весь репертуар (полагаю, что Таиров куда
энергичнее боролся бы в 1924 г. за сохранение в афише успешного спектакля «Человек, который был Четвергом», если бы в нем играла Коонен); по мнению одного из крупных театральных критиков, «Таиров был ум
и воля Камерного театра, Алиса Коонен — его сердце».
И он первый ее поставил — не совсем точно:
премьера второго варианта пьесы в Камерном театре
состоялась 18 декабря 1933 г., однако к этому времени первый вариант уже был поставлен — в том же году — на сцене Киевского русского театра режиссером
В. А. Нелли-Влад (1895 — после 1980), где первой исполнительницей роли Комиссара стала JI. И. Добржанская
(1908-1980).
С. 232 РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей; организационно оформилась в 1925 г., ликвидирована постановлением ЦК ВКП(б) в 1932 г., положившим начало созданию единого Союза советский писателей.
Лежнев взял у него для журнала «Россия» «Автобиографию трупа» — историю не-
публикации новеллы см. в предварении комментариев
к ней (II, 683-685).
С. 234 Некто вроде «маленького Цахеса» — герой
сказочной повести Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес по
прозванию Циннобер» (в прежних переводах, один из
которых был знаком Бовшек, — «Маленький Цахес...»).
Отто Юльевич Шмидт (1891-1956) — математик,
астроном, исследователь Севера; в 1921-1924 гг. руководил Госиздатом; ему принадлежит идея издания Большой Советской Энциклопедии — в 1929-1941 гг. он был
главным редактором этого издания (и издательства).
Таиров решил ставить в своем театре роман Честертона «Человек, который был
625
Вадим Перельмутер
Четвергом» — см. об этом:Кржижановский С. Воспоминания о будущем. Избранное из неизданного. М.
1989, с. 14-15.
С. 235 Актер, игравший роль Среды, Соколов —
Владимир Александрович (1889-1965).
...поставить роман «Евгений Онегин» —
там же, с. 16-17.
С. 236 Чаплыгин Николай Николаевич (1904-1953) —
один из ведущих актеров Камерного театра, с 1940 г. —
его директор.
С. 237 Декорации были поручены Александру
Александровичу Осмеркину — живописец,
график, театральный художник (1892-1953).
Написать музыку уговорили С. С. Прокофьева — см. ком. к письму Сигизмунда (44).
Таиров решил провести еще одно чтение — с пушкинистами — есть основания думать, что выбор приглашенных пушкинистов был сделан Бовшек (лично или через Н. С. Сухоцкую): и Цяв-
ловский, и Бонди бывали у Вересаева на Пушкинских
вечерах, которые проводила Бовшек, были хорошо знакомы не только с нею, но и с Кржижановским (в 1979 г.
в беседе с мной С. М. Бонди это подтвердил), к его Пушкинским штудиям относились с профессиональным
интересом; замечания Вересаева, вероятно, раньше
и глубже остальных осведомленного в разворачивающейся идеологической кампании, связанной со столетней годовщиной гибели Пушкина, надо думать, были
вызваны опасениями за судьбу постановки, да и самого
театра.
Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич (1867-
1945) — писатель, пушкинист.
Цявловский Мстислав Александрович (1883-
1947) — литературовед, историк литературы, пушкинист.
Бонди Сергей Михайлович (1891-1983) — литературовед, исследователь творчества Пушкина.
...Кржижановский уступил на этот раз
просьбам Таирова — «уговаривающее» письмо
Таирова и Коонен и «согласный» ответ Кржижановского сохранились в фондах Таирова и Кржижановского
в РГАЛИ.
626
Комментарии
C. 238 Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-
1986) — политический деятель, в 1930-1941 гг. —
Председатель Совета министров СССР, фактически —
второй человек в стране после Сталина.
Молотов в комическом разрезе образов
богатырей увидел умаление русского духа, русского патриотизма — так, во всяком случае, была представлена официальная точка зрения; однако была у этой истории закулисная — и, вероятно, более
существенная — причина: автор либретто этой фарсоперы Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов,
1883-1945), переиначивший на свой лад прежнее либретто, где были использованы сочинения Крылова, многолетний любимец Сталина, в эту пору впал в немилость,
закрытие спектакля послужило явным поводом к его удалению из окружения вождя и дальнейшей «опалы».
Алиса Георгиевна ездила к жене Молотова — Полина Семеновна Жемчужина (Пери Семеновна Карповская, 1897-1960), государственный деятель,
жена Молотова с 1921 г.
С. 239 Поставили «Дети солнца» Горького с Коонен в заглавной роли — этот спасительный
спектакль (1937) успеха у публики не снискал и в афише не удержался: достаточно сказать, что в обширной
литературе о Камерном театре, Таирове, Коонен упоминать «Дети солнца», как правило, забывают.
Храпченко Михаил Борисович (1904-1986) — государственный деятель, академик; в то время, о котором идет речь, — председатель Комитета по делам искусств при Совнаркоме; любопытно, что своего поста он
лишился раньше, чем Таиров — театра (1948), впрочем,
дальнейшая судьба его сложилась вполне благополучно.
...через два года Александр Яковлевич,
отставленный от руководства, был вынужден уйти из театра — Таиров был уволен из
Камерного театра 19 мая 1949 г. постановлением Комитета по делам искусств; еще раньше закрылось актерское училище при театре — Кржижановский остался
и без этой скудно кормящей работы.
С. 240 .. .приглашением Максимилиана Александровича Волошина отдохнуть у моря
в Коктебеле — см. ком. к письму Сигизмунда — 9.
627
Вадим Перельмутер
С. 240 ...он напоминал мне Воскресенье — персонаж из романа Честертона «Человек, который был Четвергом».
С. 241 «Ваше письмо пришло все-таки вовремя,
за несколько минут до начала чтения» —
см. письмо Сигизмунда — 12.
...на даче композитора Спендиарова —
Спендиаров Александр Афанасьевич (1871-1928).
С.242 0н познакомился с Александром Грином — см. письмо Сигизмунда — 13.
С. 244 Никитина предлагала провести в издательстве одну из теоретических работ
Кржижановского: «Поэтика заглавий» —
историю этого издания см. в предварении комментариев к «Поэтике заглавий» (IV, 708-709).
С. 245 .. .рассказывал о том, что поедет со мной
в Англию — ср. в Третьей ЗТ: «Сон: я и любимая подъезжаем к Лондону» (V, 405-406)...
Она начала хлопотать и о «Сказках для
вундеркиндов» — судя по документам, сохранившимся в архиве Е. Ф. Никитиной, хлопоты эти были не
о «Сказках», но о сборнике новелл «Собиратель щелей»;
впрочем, безуспешная попытка издать «Сказки» тоже
была предпринята.
С. 246 Москвин Иван Михайлович (1874-1946) — один из
ведущих актеров МХАТа.
Качалов Василий Иванович (Шверубович, 1875-
1948) — с 1900 г. один из ведущих актеров МХАТа.
С. 249 Ил ьи не кий Игорь Владимирович (1901-1987) —
актер театра и кино, исполнитель заглавной роли
в «Празднике святого Йоргена»; в 1920-1935 один из ведущих актеров Театра им. Мейерхольда.
«Из последних сил настрочил 3,5 печатных листа» — см. письмо Сигизмунда — 22.
«В дальнейшем от этих кино-людей надо
подальше» — он же — 23.
С.250 «...за эти месяцы я написал более 6 печатных листов...» — он же — 24.
...роман «Тот Третий» и вел о нем переговоры в ЗИФе с Черняком — см. об этом в предварении комментариев к разделу «Не включенное в авторские проекты книг и незавершенное» (V, 559-562).
628
Комментарии
C. 250 «.. .чтобы отвлечься, позвонил... Черняку» — письмо Сигизмунда — 23.
«Был в редакции у Черняка» — онже — 24.
С.251 Ходили и к могиле художника Борисова-Мусатова. Дважды ездили в имение Поленова —
Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870-
1905), живописец, поселился в Тарусе весной 1905 г.,
умер 26 октября, похоронен на высоком берегу над
Окой; усадьба Поленово (до 1931 г. — Борек) живописца и художника театра Василия Дмитриевича Поленова (1844-1927) расположена недалеко от Тарусы, на берегу Оки.
Я не раз убеждала С. Д. переехать ко
мне — несколькими строками ниже, в конце следующего абзаца, будет упомянут Чехов, и это, думается,
не случайно — ассоциация с ним начинается именно
здесь: «Если бы я женился, — вспоминает его слова писательница Лидия Авилова (1864-1943), — я бы предложил жене... Вообразите, я бы предложил ей не жить
вместе. Чтобы не было ни халатов, ни этой российской
распущенности... и возмутительной бесцеремонности».
С. 252 «darling, love» — дорогая, любовь (англ^.
С. 253 «Ich sterbe» — Я умираю («ел#.).
Лебедев-Полянский (Лебедев) Павел Иванович
(псевдоним — Валериан Полянский, 1882-1948) —
критик, начиная с 1917 г. один из крупнейших литературных функционеров, правительственный комиссар литературно-издательского отдела Наркомпро-
са (1917-1919), председатель Всероссийского совета
Пролеткульта (1918-1920), начальник Гиавлита (1921-
1932), директор, а затем главный редактор издательства
«Энциклопедия» и прочая; с 1946 г. академик.
С. 255...в знаменитом, воспетом в стихах Пастернаком Кобулети — имеется в виду цикл
«Волны» (1931), в котором тема Кабулет возникает несколько раз («И в тяжбе борющихся качеств / Займет по
первенству куплет / За сверхъестественную зрячесть /
Огромный берег Кабулет»... «И в шуме этих категорий /
Займут по первенству куплет / Леса аджарского предгорья / У взморья белых Кабулет»... «Он блещет снимком
лунной ночи, / Рассматриваемой в обед, / И сообщает
пошлость Сочи / Природе скромных Кабулет»...).
629
Вадим Перельмутер
С. 256 .. .поехали смотреть «Зеленый мыс» — курортный поселок к северо-востоку от Батуми.
С. 259 «Unе vie» — «Жизнь» (0/?.).
С. 261 Служащим редакции «Гудка» — стало быть,
журнал «В бой за технику», где служил Кржижановский,
входил в состав этой редакции.
С. 263 «Всю мою трудную жизнь...» — ЗТ,Записи...на
отдельных листах.
С. 264 «Мыслить — это расходиться во мнении» — там же.
«Искусство думать легкое» — Третья ЗТ; кон-
таминируя три записи из разных мест ЗТ, Бовшек допускает неточность («додумывать труднее всего» вместо
«додумывать — труднейшее из всех»).
«Самый медленный процесс...» — там же, двумя записями ниже.
«Самое омерзительное на свете...» — ВтораяЗТ.
«Когда человек подмечает...» — неточно цитируется последняя запись (Записи, наброски... на отдельных листах).
С.2б5«Меня интересует не арифметика, но алгебра жизни» — среди дошедших до нас текстов ЗТ
эта запись не обнаружена.
«Обращаться с понятиями как с образами» — Первая ЗТ.
«Фантастический сюжет — метод» — ЗТ, Записи... на отдельных листах.
«Я не один. Со мной логика» — эта запись тоже не обнаружена в ЗТ; возможно, по памяти, таким образом исказилась другая (из Записей...): «Я не один. Нас
двое: я и могила».
С. 266 «Я известен своей неизвестностью» — Первая ЗТ.
«Вероятно, от какого-нибудь неловкого
психического движения...» — см. письмо Сигизмунда — 31.
«Девидов с необычайным тактом и заботливостью...» — чуть неточно цитируется письмо Сигизмунда — 34: «Девидов с необыкновенным тактом»...
С.2б8Так появились в этом журнале «Шаги
Фальстафа», «Контуры шекспировской комедии» — первая из этих статей — «Литературный
630
Комментарии
критик», 1934, № 12, вторая — там же, 1935, № 2; однако
история их возникновения рассказана — по памяти —
не совсем точно, ее нетрудно скорректировать, пользуясь
записанным мною рассказом Александра Аникста, который знал «порядок действий» со слов самого Кржижановского; начать с того, что «Шаги Фальстафа» — не первая
статья этого автора о Шекспире, а вторая: в начале 1934 г.,
когда в издательстве «Academia» уже был составлен первый том задуманного Собрания сочинений Шекспира,
по рекомендации сотрудничавшего в издательстве Михаила Левидова Кржижановскому был заказан вступительный очерк к тому, так — вскоре — появилась статья,
заглавие которой точно соответствовало содержанию
тома — «Комедии молодого Шекспира»; радиопередача, о которой пишет Бовшек, была, можно сказать, ини-
гцлирована готовящимся изданием, должна была стать,
как сказали бы сейчас, рекламной акцией, естественно,
опять же, Левидов предложил ее создателям обратиться
к Кржижановскому; впрочем, упоминаемые статьи с передачей не связаны — их замыслы возникли (точно по
схеме, начертанной Кржижановским в конспекте «История ненаписанной литературы») как бы на полях первой
статьи; издание не состоялось — и, по иронии судьбы,
именно первая гиекспировская статья осталась в числе
тех — всего пяти — работ этой темы, которые при жизни автора не были опубликованы (впервые она была напечатана в «Шекспировском сборнике» 1967 г.).
С.268 С. Д. написал двенадцать работ на шекспировские темы — больше; точное число неизвестно, до нас дошло четырнадцать, но есть, например,
упоминание о работе «Шуты в комедиях Шекспира», разыскать которую не удалось.
Контакт с «Литературным критиком» продолжался вплоть до закрытия этого журнала — контакт с журналом начался раньше (первая
публикация Кржижановского в «Литературном критике» — статья «Драматургические приемы Бернарда Шоу», 1934, № 4) и прервался до закрытия журнала
(1940); после 1935 г. Кржижановский там не печатался.
...были изъяты из обращения все номера
журнала — вопреки расхожим представлениям того
времени, одно из которых — перед нами, ликвидирован¬
631
Вадим Перельмутер
ные журналы, как правило не изымались, по крайней мере, из крупных библиотек: мне доводилось листать библиотечные экземпляры таких журналов, в частности,
«Литературного критика» со статьями Кржижановского,
где попросту были вырезаны статьи репрессированных
авторов, а то и еще проще — имена авторов некоторых
публикаций были густо замазаны чернилами — и в «Содержании», и в тексте; впрочем, случай, который приводит Бовшек, из этого правила выпадает: в главных библиотеках страны номера журналов с публикациями репрессированных были упрятаны в спецхраны, очевидно,
один из таких номеров ей и понадобился.
С. 269 .. .руководителю Вахтанговского театра
Рубену Николаевичу Симонову — руководителем этого театра Симонов стал только в 1939 г.,
а в 1934 г., в то время, о котором идет речь, был в нем режиссером; ошибка автора вызвана тем, что тогда же —
одновременно — Симонов возглавлял «Театр-студию
под руководством Р. Н. Симонова» (см. письмо Сигизмунда — 35 и ком. к нему).
Со свойственной его характеру точностью он даже ездил на могилу Нелидовой — Нелидова Екатерина Ивановна (1758-1839), ка-
мер-фрейлина великой княгини, а затем императрицы
Марии Федоровны, ее дружба с Павлом I была при дворе
предметом пересудов, многие считали ее фавориткой
императора; последние годы жизни провела в Смольном монастыре, похоронена в Санкт-Петербурге.
...мультипликационного фильма «Новый
Гулливер» — фильм Александра Птушко (1935) —
первый в России/СССР (и один из первых в мировом
кино) фильм, в котором соединены приемы игрового
и анимационного кино.
С. 270 .. .предложил свою оригинальную тему «Машина времени», она понравилась,
и с одобрения Союзкино он написал сценарий — фильм поставлен не был, сценарий, замысел которого возник из повести «Воспоминания о будущем», написан не был, однако в «Киевском архиве» обнаружились
12 страниц, озаглавленных: «Доу и Роу (Больше, чем заявка, меньше, чем либретто)», где конспективно излагается
фабула этого сценария («либретто»), в ней пружиной дей¬
632
Комментарии
ствия становится остроумный вариант использования
«времяреза», изобретенного в повести Иосифом Стын-
ским, а здесь англичанином Вильямом Олджином: герой,
отправившись на три века назад, помещает в банк (под
высокий процент) золотую монету, и по возвращении
в XX век его ожидает целое состояние. Придуманная автором вполне «социальная» концовка замысла не спасла —
при отсутствии договора, писать полный сценарий стало
бессмысленно; из даты на первой странице явствует, что
текст был сочинен за два дня — 10-11 июля 1933 г., стало быть, уже после переделки Кржижановским сценария
«Нового Гулливера» Александр Птушко мучился съемками
около двух лет — фильм был завершен только в 1935 г.
Форш Ольга Дмитриевна (1873-1961) — писательница; ее знакомство с Кржижановским относится к началу
1910-х гг., когда Кржижановский сблизился с E. М. Кузьминым, с которым Ольга Форш и ее муж Борис дружили и сотрудничали; входила О. Д. Форш и в состав писательского «Комитета», издававшего в 1919 г. журнал
«Зори», в котором состоялся, по мнению самого Кржижановского, его «писательский» дебют.
Гроссман Леонид Петрович (1888-1965) — писатель, литературовед, историк литературы.
Щепкина- Купе рни к Татьяна Львовна (1874-
1952) — поэтесса, прозаик, драматург, переводчица.
С. 270 ...соседнего с нами дома писателя А. М. Федорова — Федоров Александр Митрофанович (1868-
1949), писатель, в 1920 г. эмигрировал в Болгарию; его
жена, Лидия Карловна (1866-1937), то и дело фигурирующая в письмах Анны (а также выведенная в повести Валентина Катаева «Уже написан Вертер» (1979)
под именем Ларисы Германовны), осталась в Одессе —
была хозяйкой этого знаменитого в русской литературе начала XX в. дома, который с середины двадцатых годов каледое лето становился пансионом для приезжих
отдыхающих, там по-прежнему любили бывать писатели и артисты; домоправительницей этого пансиона была... Вера Кузьминична Бовшек, мать Анны, сестра которой, Екатерина Довгань, при большом наплыве гостей,
нередко помогала матери; в 1937 г. Лидия Карловна была арестована и расстреляна, дом перешел во владение
Одесского отделения Литфонда и присоединен к рас¬
633
Вадим Перельмутер
положенному по соседству Дому творчества писателей;
впоследствии этот дом, стоявший на обрывистом берегу моря, был разрушен оползнем.
Инбер Вера Михайловна (1890-1972) — поэтесса.
...Паустовский в своей повести «Годы
больших ожиданий» — т. е. в четвертой книге «Повести о жизни» — «Время больших ожиданий» (1958).
С.271...И вдруг сказал: «Арестован Бабель» —
И. Э. Бабель был арестован 15 мая 1939 г.
Трудно было понять, что, собственно,
произошло — «произошла» резко ужесточившаяся
после Первого съезда писателей культурная политика
партии и правительства СССР.
С. 272 «Самсон не боролся со своей мельницей.
Он отращивал свои волосы, а может быть,
и то, что под ними: мысль» — третьяЗТ.
«...гениальным с пылу с жару Филатовым» — см. письмо Сигизмунда — 44 и ком. к нему.
С. 273 «Мне об этом не говорят» — он же, письмо 46.
В тридцать девятом году он закончил пьесу «Тот Третий» — в тридцать седьмом: об этом
свидетельствует и дата на авторизованной машинописи пьесы («III—IV. 1937»).
Сборник «Рассказы о Западе» — машинописи
с таким заглавием в архиве Кржижановского нет; известно, что это проходимое заглавие — для сборника — было предложено Лундбергом, текст сборника не сохранился, его состав неизвестен; впрочем, легко предположить,
что отобрано было — ради того, чтобы книга все-таки
вышла — наиболее «проходимое» из написанного Кржижановским, то, что не должно бы, вроде, вызвать нежелательных ассоциаций, так сказать, «не с Западом», однако
опасения оставались, в первую очередь, у издательства,
ведь автор почти не печатался, предсказать реакцию на
самую даже «невинную» его прозу никго бы не взялся, потому решили подстраховаться, заручиться мнением кол-
лег-писателей — в январе 1941 г. в ИДЯ было организовано выступление Кржижановского*.
«С. Кржижановский печатается мало и еще реже выступает с чтением своих произведений на писательских собраниях. Поэтому его фантастические новеллы и сатирические этю¬
634
Комментарии
ды, прочитанные на одном из собраний новеллистов, были
для многих своего рода откровением. Новеллы С. К очень понравились почти всем принявшим участие в их обсуждении.
Не раз упоминались имена лучших мастеров фантастической
литературной традиции — Эдгара По, Уэллса, Грина, — когда
писатели говорили о сюжетах и литературной традиции, которую как бы продолжает в своем творчестве С. К.» (Литературная газета, 19.01.1941 (№ 3/917), с. 6).
С. 273 Митрофанов Александр Георгиевич (1899-1951) —
писатель, в тридцатых годах — сотрудник ГИХЛ, откуда перешел в «Советский писатель»; десятилетие спустя имена Кржижановского и его редактора снова оказались рядом; из «Дневника» Юрия Нагибина:/«7 января
1951 г. ..Я имел бестактность сказать: „Т]ретья смерть на
одной неделе“. — „Почему третья?“ — спросил он резко. — „Митрофанов, Платонов, Кржижановский“. Он
впервые слышал о смерти Кржижановского... И вдруг
лицо его опять стало глубоким, проникновенно-серьезным и патетическим: „Это доказывает, какая у нас богатая литература“...» (собеседник Нагибина — Н. С. Ата-
ров (1907-1978), писатель и один из секретарей Союза
писателей).
С. 274 Арестован Левидов — М. Ю. Левидов, после процессов над Л. Б. Каменевым (1936) и Бухариным (1938),
а он был близок к обоим — у Каменева сотрудничал
в издательстве «Academia», у Бухарина работал в «Известиях», — изо дня в день ожидал ареста и дождался — в 1941 г., вскоре после выхода своей главной книги — «Путешествие в некоторые отдаленные страны
мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях», успев даже прочитать рецензии на нее, одна другой лучше, был
арестован, в 1942 г. расстрелян в Саратовской тюрьме.
С арестом и гибелью Левидова связана история, проступающая в обнаруженных мною в «Киевском архиве» нескольких исписанных карандашом листках; каюсь, вероятно, под впечатлением от количества найденного,
я далеко не сразу сумел в них вчитаться и понять — что,
собственно, передо мною. На первом листке — сверху —
строка: «(Кржижа) о Ст<арой> Англии»; так Кржижановского, насколько мне известно по читанной переписке,
635
Вадим Перельмутер
называли только два человека — Е. Л. Ланн и его жена
А. В. Кривцова; «Старая Англия» — изданный в 1943 г.
исторический роман Ланна, где главные персонажи —
Свифт, Генри Сент Джонс виконт Болингброк, Роберт
Хартли граф Оксфорд, Джозеф Аддисон; далее следуют — рукою Кржижановского — его заметки-впечатления о романе. Зная из писем, что у четверых издавна друживших писателей (Кржижановского, Ланна, Левидова,
Мстиславского) было принято читать друг другу и обсуждать только что завершенные большие вещи, резонно
предположить, что текст романа попал в руки Кржижановскому, скорей всего, во второй половине 1942 г. Ланн,
который тоже находился в зоне риска, ибо вместе с Ле-
видовым энергично сотрудничал в «Academia», да и у Каменевых дома не раз бывал, начал писать роман тогда,
когда Левидов завершал — или уже завершил — свою
работу над книгой о Свифте, с которой и Ланн, и Кржижановский были знакомы в рукописи, теперь они словно бы поминают своего погибшего друга (а в том, что
Левидов обречен, что его арест — синоним гибели, оба
не сомневались); и если знать обе книги, понятно, что,
размышляя о романе Ланна, Кржижановский отчетливо
помнит и сочинение Левидова. Вот эти заметки:
«1. 2 этажа романа — 2 читателя.
2. Заглавие („Поведение соперников“).
3. И в наше время „Исп<анское> наследство“.
4. Фигуры пролога — восковые, музейные.
5. Бутылки, стол... (Т]равма алкоголя). Я воображал, что
я пью водку, и хотел „эстетической оценки“.
6. Стиль производит впечатление — „тесноты“ — во
фразе часто увязаешь. Ощущаешь давления (Сцена 2-я Аддисона1 и Свифта — прозрачно, легко, также „Катон“2 — другой
стиль) — 2 стиля романа.
7. Сравнение с „ГЬардией“3 — в 1-м романе тщательно расставляете фигуры, дальше играете. В „Гвардии“ вы — юрист и эпиграмматист. Следователи, мучители, полит<ические> уродцы.
В „ГЬардии“ фигуры ходят, здесь — другой прием: двинута
первая фигура, затем перемешаны фигуры. И начата новая игра.
В смысле запоминания сделано хорошо почти все.
8. Свифт известен как мизантроп (школа). Автор —
мизантроп по отношению к мизантропу. Эпиграфы — страш¬
бзб
Комментарии
нее, чем свифтовские высказывания. Автор подводит мизантропический итог тому, что было в 19-м в<еке> и в 20-м
веке.
„Если войти в подвалы книги, то придешь к заговору
против всего строя политик“. Это приводит начисто к отрицанию Бедлама. „Я отношусь к вам, как Аддисон к Свифту“.
9. Автор выступил как обвинитель. Аналогий никаких
нет с советской литературой — через 50 лет эта книга будет
существовать.
По удару, направленному к определенной цели, книга
замечательная. Но временами <чувствуется> усталость автора.
Затрудненность чтения есть.
10. Образ Свифта. Автор несколько несправедлив.
Свифт выступает как политический деятель. Не дано — как
видит Свифт в образах. Вы говорите: Свифт предатель эпохи
и должен быть осужден. Но, может быть, здесь есть сокрытие
документов! Свифт дан как человек антипатичный, как развратитель души девушки. Мы не слышим Свифта как писателя, автора Гулливера. Это основная ошибка вещи.
Харли4 очень здорово сделан, особенно в начале — он
боится быть волевым. Он пленил меня. Нет никаких аналогий
этому образу.
Болингброк5 — я знал его как философа. Я не знал молодого Болингброка. Суть успеха С<ент> Джона — он не такой,
как все, он не англичанин. Болингброк — не нац<иональный>
гений Англии. Вскрывает его образ сцена с Бутом. Площадки
для персонажей — лорды и посетители кофеен. Несколько не
уравновешены эти 2 части — лорды перевешивают.
Ванесса — образ неясный. Девушка относ<ится> религиозно к Свифту. Те Deum6 адресовано к нему.
11. В величие Свифта открывает дверь его размышление: „мышление обуза“, — трагическая черта, раздвигающая
его пределы.
12. В образе Мальборо7 есть элемент памфлета: на
Черчилля.
13. Блестящая глава: Сарра у себя в кабинете перед отъездом и посещение ее доносчицей.
14. Хорошо клерк.
1. Аддисон — образ обаятельный.
2. Стиль — 2 признака: продает новость —
несимпат<ичная> черта и „наш Дик“: нет промежут<очных>
признаков».
637
Вадим Перельмутер
Примечания:
1. Джозеф Аддисон (1672-1719) — английский публицист, драматург, поэт и политик
2. «Катон» — трагедия Аддисона (1713).
3. «Гвардия Мак Кумгала» — исторический роман
Е. Л. Ланна (1938).
4. Роберт Харли, граф Оксфорд (1661-1724) — английский политический деятель.
5. Генри Сент Джон виконт Болингброк (1678-1751) —
английский политический деятель и писатель.
6. Те Deum laudamus (лат. «Тебя, Господи, хвалим...») —
начало католического гимна.
7. Джон Черчилль герцог Мальборо (1650-1722) — английский военный и государственный деятель.
С. 275 Главную роль исполнял Панчехин Николай
Дмитриевич (1901-?) — певец (бас-кантанте), в 1941-
1956 гг. солист Московского музыкального театра
им. Станиславского и Немировича-Данченко; партия
Суворова (1942) в одноименной опере С. Н. Василенко
считалась одной из лучших партий Панчехина (первого ее исполнителя).
В феврале месяце состоялась премьера —
23 февраля 1942 г.
С. 276 В первый же год войны он написал пьесу
на тему осады Севастополя «Корабельная
слободка», либретто новой оперы «Фрегат „Победа“» о первом русском флоте,
построенном Петром I — вероятно, четверть
века между событием и упоминанием о нем в мемуарах — причиною тому, что Бовшек не связывает внятно
эти два сочинения между собой и не говорит о них как
о двух частях более общего — и более масштабного —
замысла Кржижановского: «...Сегодня был у меня Кржижановский. Пишет трилогию, Петр — Суворов — Нахимов. Вчера утром бомба упала около его дома...» (дневниковая запись Георгия Шенгели, 6 января 1942 г.);
замысел, возникший еще до войны, в 1940 г., когда началась работа над либретто оперы «Суворов», в это время
уже близился к завершению — под падение бомб «возле его дома» на Арбате, всего через шестнадцать дней,
двадцать второго января поставлена последняя точка
638
Комментарии
в рукописи «Фрегат „Победа“», а двадцать третьего февраля состоялась премьера оперы «Суворов».
С. 277 В дни войны Кржижановский снова обращался к фольклору — в «Краткой автобиографии», датированной 24 августа 1942 г., Кржижановский
писал: «В последние годы центр моего писательского внимания перенесен в область русского фольклора. Подготовляю работу „Фольклор как источник сюжетов“»; здесь существен акцент — «русского», ибо интерес к фольклору был характерен для него и преяоде,
в частности, несколькими годами ранее он упоминал,
что работает над статьей «Шекспир и английский фольклор» (о судьбе этой работы ничего не известно, однако
сама тема ее отчетливо видна в илекспириане Кржижановского); текстов «песен на военные темы» разыскать
не удалось, машинописи упоминаемых статей хранятся
в фонде С. К Кржижановского в РГАЛИ.
Большим радостным событием для него были две командировки от ВТО. Первая
в Иркутск, Новосибирск и Улан-Удэ — овто-
рой поездке (март 1945 г.) далее следует всего одна строка. Вовсе не упоминает Бовшек и об еще одной поездке
Кржижановского — в середине войны, от Союза писателей, на Западный фронт — с выступлениями. Причина, думается, в том, что в обоих этих случаях сохранившиеся в ее распоряжении, т. е. в бумагах Кржижановского, следы этих поездок исчезающе малы: лишь одно
коротенькое письмо из Дагестана (см. Письма Сигизмунда — 51) и единственный листок с несколькими машинописными строками, подписью и печатью — «удостоверение-направление», выданное С. Д. Кржижановскому для поездки на фронт; вероятно, подробностей
тех поездок память не сохранила, а документов было явно недостаточно, чтобы ее освежить. Такое предположение следует из всего текста воспоминаний: мемуаристка стремится быть предельно точной, охотно и обильно
пользуется перепиской с мужем, заметками, «Записными
тетрадями» Кржижановского, говорит только то, в чем
не сомневается. Не только эти, но и некоторые другие
лакуны в ее повествовании связаны именно с отсутствием документа. С поездкой в Восточную Сибирь, во время которой Кржижановский по поручению ВТО (вместе
639
Вадим Перельмутер
со своими театральными спутниками-командировоч-
ными) принимал спектакли местных и эвакуированных
театров, а также (уже единолично) читал лекции о Шекспире и беседовал о драматургии с режиссерами и артистами, — иначе: в «Киевском архиве» сохранился краткий и отрывистый (чуть менее полусотни исписанных
карандашом тетрадных страниц) дневник, открывающийся подчеркнутым заглавием: «Москва — Иркутск»
(так я в дальнейшем его и называю, хотя «заглавием»
это можно считать лишь условно). Текст этот с большим
трудом поддается расшифровке, да и то не вполне, есть
в нем немало строк и вовсе нечитаемых, записи делались в тряском вагоне или в тусклом гостиничном номере — наспех, урывками, подчас «под винно-водочным
влиянием» (о чем в них тоже есть), а главное — для себя, потому и в прочитанном далеко не всё понятно, поддается объяснению, пониманию. Уверен, что и Бовшек
смогла разобрать только фрагменты, потому и оставила текст не перепечатанным — случай для нее редчайший. Она вообще не очень хорошо читала руку Кржижановского, у которого и в много более комфортной обстановке почерк был, так скажем, небольшой радостью
для текстолога (см. хотя бы в пятом томе комментарий
к «Записным тетрадям», примерно четверть которых
Бовшек просто-напросто не смогла прочитать). И все-
таки, в конце концов, большую часть записей удалось
расшифровать и подготовить к публикации, которая,
на мой взгляд, необходима. И не только потому, что добавляет существенные штрихи к представлению о личности, о характере Кржижановского. Или позволяет вообразить не дошедшие до нас письма Сигизмунда к Анне из Восточной Сибири (а что писем этих было явно
больше двух, опубликованных в их «Переписке», сомневаться не приходится — некоторые записи сделаны явно «для писем», впрочем, не дошло до нас и ни одно из
писем ответных). Для меня куда важнее неожиданно открывшаяся уникальная возможность исправить мною
же допущенный — по неведению — просчет в описании и толковании последнего десятилетия жизни писателя. Известные доселе сведения убеждали в том, что
после того, как с невероятным трудом подготовленная
к печати книга так и не вышла (из-за начавшейся вой-
640
Комментарии
ны), Кржижановский бросил писать, что эта неудача
сломила его — и потому прозы больше не было, а были
только так и не дописанные очерки «Раненой Москвы»,
пара оперных либретто, несколько статей. Упадок, депрессия, немота. Это подтверждалось мемуаристами.
И об этом я написал, сделав, таким образом, сей факт, если угодно, общим местом и для других исследователей
творчества Кржижановского. «Москва — Иркутск» свидетельствует об ином. О том, что трагическую неудачу
писатель перенес стоически. Что замыслы, темы, образы
продолжали возникать, тесня друг друга, обещая новые
сочинения, исследования, открытия. Наконец, что первая часть «Раненой Москвы» была не завершением пути,
но началом нового творческого этапа, осуществиться
которому помешала настигшая Кржижановского вскоре
после войны болезнь, которой он целых три года отчаянно сопротивлялся, но устоять не смог. Жизнь его была
не менее трагичной, чем виделось прежде, но последнее
действие трагедии было другим.
При публикации непрочитанные фрагменты обозначены отточиями в угловых скобках, равно как то, что кое-
как читается, но понятно было только автору записей.
Многочисленные — и естественные для такого рода
дневника — сокращения слов, фамилий, названий спектаклей etc, за редкими исключениями, здесь раскрыты,
чтобы не загромождать текст бесчисленными угловыми
скобками, затрудняя и без того непростое чтение, а сокращения «стандартные», вроде ч. (час, часов), вр. (времени), ст. (станция) etc, оставлены, как есть. Не помечены в тексте и не упоминаются в примечаниях персонажи, о которых ничего не удалось выяснить.
«МОСКВА-ИРКУТСК
ТУДА
24/Х 1942. 15.55 (поезд 42)
От Понтия к Пилату1. «Рейсовая» карточка. За часовой
стрелкой (по Москве-циферблату). <...>
Водка знакомит с «сожителями».
Легенда о «великом посте». <...>
25/Х. Михаил Федорович Кудрявцев (47 <лет>). <...>
641
Вадим Перельмутер
Спор нижней полки с верхней о «Фронте». Нижняя —
за идейность в узком смысле, верхняя — за форму в широком
смысле слова.
<...>
Гастрономические реминисценции: омуль — скумбрия — сиги... — колбаса в куриной коже — фрукты.
26/Х.
Кудрявцев <об охоте>. «Осечки» как школа самообладания.
Профессор: «не ест, не живет, все думает, да не просто
думает, а прыблызытэльно» (укр.).
Охота. Как защищается кабаниха с поросятами: задом
к дереву и клыками на две стороны (поросята под ней).
Рзг. «Открытие Америки»: 500 лет или 100 лет тому назад? Доводы pro и contra по поводу привоза из Америки капусты (древность щей?).
«След белого человека» — лист подорожника (семена на
колесах) — (Австралия).
27/Х. Вчера земля каштановая с проседью. Сегодня
в 6 утра (по места. 8) седая (холмы). Потом опять в мерзлых
лужах. Резкая перемена пейзажа: ст. Билибай.
Ст. Северка (ок. Свердловска): природные руины из
камня (!) — выветренные породы.
Зеленоватый серн, колчедан; чернозем + камни (в земле и на вагонных площадках); металлические Болванки, будто
железные дрова. <...> На севере — параллельно пути — синеватая цепь холмов.
Девушки, висящие на ступеньках вагона-ресторана (сибирячки: 1-й признак — уши под мехом или платком).
Ресторан: сумрачные люди; ложками — будто гребцы на
триреме.
Ожидающие. 2-е блюдо: мясо без костей; с косточкой;
с костью; кость без мяса (убывающая прогрессия).
Тема: Встреча паровозов ФД и ИС. Образ: ласково попыхивают из трубок.
28/Х. Гражданская война. Теплушка. Дыра, сделанная
в полу: 1) сперва для мусора, 2) на мусоре куры, 3) через дыру
на петлю курчонка и т. п. [Кудрявцев]. '»г
Новая Деревня. Лесок. Охота: а) за грибами — // б) за
гребенками собиралыциц.
Ясный день. Облака выше московских.
Проповедь в столовой: «Не берите ложек».
642
Комментарии
Война березы с елью. Береза наступает. особ<енно> бе-
резкинский молодняк. Ель: «Удалось потеснить наши чащи».
Чахоточный красноармеец: юноша лет 18, обожженные
губы, отдает суп, чуть тронув ложкой, усачу-товарищу; тот отодвигает, но мясо ест.
На каждой шпале: «стали».
Дверь в уборную не закрывается: источник «сюжетов».
Разъезд «Кочковастый». <...> Маленькие дома у больших
луж.
<...>
Фонарик с динамомашинкой: «глаз со свистом».
(карман со свистом...)
Ст. Любино: ряд хлебных амбаров и элеватор, а жители
меняют что попало на хлеб.
Утром — Малая Ишима: здесь в 1921 по 1924 подавляли кулацкие бунты — против продразверстки. Зверства белых:
кишки на палочку — судороги смеха — хохот палачей (псих.);
разрезан живот — всыпано просо и т. п.
Кайгородов и Бахич2.
(Легенда о неуловимости; отрубленную голову возили
в мешке, как Хаджи-Мурата.)
Красная дивизия действовала на огромном протяжении до Ойротской республики3.
Ночью Омск. Широкий черный Иртыш и «глупый» отраженный ломоть луны.
29/Х. Замешкался в снах: последний о том, что заблудился в коридорах дома в Москве, — встал в 6-м/9 мест. ч. ут.
Снега нет. Лишь у путей кой-где припудрено.
«Коченево». Выяснилось, что скот здесь бесквартирен,
зимой-летом в поле. Солнце не отстает. К 10 утра +17 (на дворе бодрый морозец).
Кудрявцев: в Костромской губ. все плотники-столяры
сами себе строят избы: и изразцами в краску. А здесь бедно,
даже геометрически-бедно, полупризмы и трапеции; продо-
жденное серо-черное дерево.
Навстречу составы с полуфабрикатами смерти. Два пути (от Омска), а запаздываем (на однопутке шли скоро, по расписанию).
Всё копны ковыля...
В 10/4 ут. Кривощеково. В 11 с мин. Новосибирск (центр
металлургии), р. Обь (рыба «ельчик»?) — ст. Ельцовка. Главная
ул.: Красный Проспект.
643
Вадим Перельмутер
Утром урок азбуки ромбов и шпал (звания и должности).
[М<осква>] > История (Жизнеописание) одной московской баррикады (Из темы: «Москва зимой 1941-42 г.»).
За Новосибирском местность начинает холмиться.
Справа гряда (невысокая).
Часа за два до Новосибирска первый тонкий снежный
покров. Тема: на буксире сани (переходный период!).
В очереди за хлебом: однорукий сделал папироску и зажег ее (коробок спичек — около 40 операций).
За обедом: «Можно 2-й стакан кофе».
К вечеру пурга. Ст. Тайга. Бой снежинок с паровозным
фонарем (// Цвейг).
Охота на <...> дроф — тележка на низеньких колесиках,
маскировка, руки-тяга. Дрофа отличает работника (с сохой) от
охотника, хорошего человека от худого, худой «под хорошего».
Медведи «курят» дым и пьют водку, спят пьяные в обнимку с вожаком. [Кудрявцев]
30/Х. За окном: пурга, сугробы, снега. <...> Люди, «переметающиеся» с чайничком через сугроб к «водогрейке».
Голый до пояса человек (сибиряк?), тело цвета мореного дуба (реминисценция: мой книжный шкаф). В конторке
проводницы: объедки моркови, на столике «Л. Первомайский.
Выбранна л1ржа», внутри расписание.
Набрасываю план чтений.
Местность с утра резко изменилась: предтайжье. Земля
сугробами, и под сугробами снега. Елки — пагоды.
Два паровоза задышали дымом весь пейзаж: сквозь прорыв, как сквозь дыбом поставленные облака.
Досказ Кудрявцева о зайцах (+ самые маленькие звери-
чусики, увидев ружье, начинают «кричать»).
Подъезжаем к Красноярску: безлесые «плавные» холмы,
будто волны при высоких баллах (6-7 баллов).
Енисей: город перебросился через реку.
31/Х. «Танком по мозолям» (Кудрявцев).
Впервые за год переел (селедка + молоко + обед в 17 р.).
Перед вечером у ст. Косачево: справа — в далеком дале-
ке — линия снежных гор; похоже на пилу, точнее — на фотопленку кино.
Образ: железно-дорожное расписание в «лирике» (обобщить).
Приезд в Иркутск. Машинка-грузовик, превратившаяся
в два авто и одну конягу.
644
Комментарии
Ночная Ангара.
Бессонница: свето-съемка (фарами) окон, шмыгающая
по стене, и клетки — по телу. Крик 1-х петухов в 6.20. Вторник
1/XI. Пробег по ул. К Маркса. <...>
Сбыт-база «Узбек-вино»: 110 р. за визит.
Театральная маята: с 11 Уг ч<асов>: Н. А. Медведев4,
О. А. Волин5, П. Г. Маляревский6...
Обед в столовой Музкомедии. Опять вино (Уг), кровяные котлеты. Каменный сон.
2/XI. ...2-й раз к Сергею Дмитриевичу7. Жадная беседа.
В голове (+ бутылке) строительный план завтрашних бесед.
3/XI. Парикмахерская (голову моют, массажа не делают).
В 11 и в 12: беседа с труппой и «Осажденная Москва».
Смотрю Ангару.
(«Забор рыбы на территории пункта строго воспрещен»).
Своенравие Ангары: замерзает со дна, в янв<аре>, после
туманов.
В 8.30 премьера «Фронта».
4/XI. «О Шекспире».
О Мстиславском (Анна): Мстиславскому. Об Ольхо-
не8 и прочестях. В 1 ч. ночи визит Алексеева с «Под небом Праги»9. Чтой-то будет?
5/XL Принимаю две премьеры: утром: «Под небом Праги». Алексей Григорьевич Алексеев10 (вечер/утро). «Обогащение» 1-го акта: «но» и «но-о!» <...>; 2-й акт: слишком много «писем» (4); 3-й акт: эвакуация «смеха»: со сцены в зрительный зал.
И. «Финист Ясный Сокол»11, гусляры. Перекройка конца. «Ваня» Сусанин — солдат. Работа до 2 ч. ночи. Сон, спасай!
6/XI. От портвейна № 53 к вишневке. В 10.45 знакомство с А. С. Ольхоном. В 11 ч<асов> «ораторствую» как «профессор» в Театре Музкомедии.
Хариус sensa pivo12.
Первая встреча с Ольхоном.
Вечером проверяю «Финиста». Великан (на глиняных
ногах) Евтюков.
12.50 — перекресток, слушаем речь Сталина. Москва, вде ты?
7/XI. До 2-х все закрыто.
Прощание с Сергеем Дмитриевичем.
Выставка: Евг. Орлов («Приказ»), Ельцова («Байкал»), театральные эскизы <нрзб.>, Штеренберг («Портрет рыбы» с рыбаком)13.
645
Вадим Перельмутер
Два пьянства: (Щербаков Александр Андреевич, Азадов-
ский Марк Константинович14, Кунгуров15) + Сагайдачный Леонид Юрьевич16, Алексеев.
Праздничная улица Иркутска (иркуты, иркутцы, иркутчане) — «наш профессор» и «московский профессор» (Ольга
Павловна17).
8/XI. Хочу назад, в Москву, а надо вперед, дальше!
Попытка «насчет водки» (113 р. — литр, 60 — Уг) — увыш-
ная! <...>
Беседа с Викт<ором> Ив<ановичем> Бурдиным, Талько
с Борисом Алекс<...>. (остаются). Я уже «лишний». Обещания
и их выполнение: в 7.30 на поезд в 8, на своих и на лошадиных.
Миша-носилыцик. Распорядок «Зала для транзитных». Девушки о еде. <...> Ребенок поезду: «Голубчик, опаздываю».
9/XI. Встреча с Далай-Нор18. «Это что за речка?» <...>
Проверка документов <...>. Ст. Селенга. За Татауровым —
Селенга под пушистым белым одеялом. Пейзаж у реки:
линия холмов — кривая в акустике (звук = зрит<ельная>
линия).
Новые «приключения»: пехтурой с вещами в театр.
Спутник — инвалид 2-й кат<егории>.
Люди идут по теневой стороне.
Я обрел Театралова19. «Уже» (премьера). Крамов20 и Марк
Давыдович (Харламов).
Знакомства в Совнаркоме: Бельгаев (Томбо Цыбико-
вич)21, Введенский Дмитрий Андреевич, Цедилов Иван Андреевич. (Про писателей («мало» работают), и плакат: «Работать,
яростно, не зная устали!»).
«1-й зал» совнарком<овской> столовой: завтрак (!) +
обед (!!) — ужин (столовая работников искусства и науки).
Я влюбляюсь в омуля!
Осмотр города. Парикмахерские: все процедуры 7 р.
Нац<иональные> особенности бурятов. <...> Смотрю на
город сквозь очки Калинина.
Под вечер: мальчишки на кромке льда в обгон
с Удой22 (на коньках). <...>
№ 73 (без ключа). Сосед Семен Маркович Бельман.
Вечером «Русские люди»23 (1-й раз): подчеркнутость, лирика «по разделениям», «ага» и «вообще» (не исправить!), привески музыки минус музыка (испр<авить>!).
<...>
646
Комментарии
10/XI. «Фронт» в Чите. <...> Дог<овор> соц. Соревнования в Чкалове. [Театр им. Горького, Сохновский, «Обязуюсь
с п-го числа стать талантливым».]
2-й разговор с Крамовым (у него, на Ленинской ул.) —
с 11 до 1 ч. дня, изменения в «Русс<ких> людях» — 1) шинель
вместо куртки Сафонову (Аристов), 2) убыстрение спектакля,
3) роль Козловского — прикровеннее, 4) отбросить музыку после «вот как умирают русские люди», 5) орнамент окопных наличников и ставень!
Бесснежные зимы, но влажная земля (урожай).
Магазин санитарии: две попытки обратить на себя глаза
продавца; покупка футляра.
Вечер — 2-й раз «Русские люди», «проверка исполнения»: 1, 2 (частично), 3,4 (частично) выполнены. Комиссия отсутствует. Тоска.
11/XI. Парикмахерская ок. 10 ут. О ребенке «Сыграй на
этой музыке, на этой флейте».
2-й визит к Бельгаеву — Введенскому — введение во...
кабинет Игнатьева (Семена Денисовича)24, человек «большого масштаба». Решаем: остаться до 15 ноября. Градус благоволения — вверх.
Знакомство с Бердичевским (Колхозный театр)25, Цы-
денджановым, Балдаевым Сергеем Петровичем26 и Шадаевым
Аполлоном Иннокентьевичем27: перспектива добычи фольклора. Загораюсь.
Вечер XXV-я. Буряты/русские <...>.
12/XI. С утра впервые ветер. Правда, солнце не сходит
с поста.
К 10.30 в театре. Читаю — перспективно — о «Фронте». Кажется, ничего. Знакомство с актером-монтажером Матовым28 (Васин) и Суковской29 (Харитонова). С первым в его
монт<аже> «Кутузов», с Суковской («я окончила...») о репертуаре для эстрады.
2-я беседа с Крамовым: я — кукушкин сын.
Назавтра опять беседа с труппой.
В 2 ч<аса> дня снова группа бурят-сказителей: Хоца
Намсараевич Намсараев30 (пред<седатель> СП <...>), усы как
сталактиты со скул; Цыдендамбаев Чимит31 (молод; читает —
жестикуляция, аритмия), <...> Шадаев, С. П. Балдаев (труженик,
30 лет работы, соминые усы).
647
Вадим Перельмутер
Вечером — после прокладки сна — до 4 ч<асов> тону
в <...транскрипция сказаний о Белом Старце /Убугун>; Застревая в пословицах.
Бельман после Тюзовского фестиваля учит меня
практике жизни (мясо с Т]ранс<портным> Театром32, ужин,
на который меня не пригласили, стекла для очков, хлеб
№ 22 и пр<очее>).
16/XI. Бельман: Чита — сало из ихтиоловой мази, 33-и
бутылочки валерьянки (собирание) — именинная выпивка.
В чаянии не чая, а... водки (о, Израиль Григорьевич!).
Бельман-комбинатор: поездом, сперва до Иркутска, потом дачным до... и «так далее». <...>
17/XI. 1 л. молока = 30 р.
Начинаю разбираться в иркутских материалах
(«Якуты»).
Ст. «Зима» — «Шуба» и обратно: острота. <...>
Перед вечером Нижне-Удинск. <...> «Читальщик»: «Ночью без книги не засну. Как лампочка потухнет — сплю, загорелась — ия»...
Тяжелая ночь. Отсталые: «догоночный акт». <...> Ноги
под прессом. Булка хлеба украдена (кем?).
К утру: «запах шеколада» (солд.) + «ароматом пахнет»
(проводница со смехом).
Чемодан на узде.
18/XI. В вагоне — с ночи — похолодало.
Первый пасмурный день. Снег, снеговей. Читаю «Новую
Сибирь»33.
Красноярск (северо-запад). Считаю километры: 4000.
Сейчас 12 часов местного времени = 8 Московского.
Ст. Чернореченская. Первая нищенка в вагоне.
<...>
К вечеру новая часть отсталых: «друзья» (сибирское воровское арго). Ноги под прессом.
Отказываюсь от обеда <...>. Разговор о бане, проскользнуло слово «вошь» (брр!).
Душа на костылях, страдающая поносом (образ).
Тяжелая вторая ночь. И все-таки не жалею, что еду: так надо.
Кстати: надо перейти на полу-диету, чтобы подавить,
пресечь хождение в уборную.
Сон: восстание монументов — бронзовые люди впереди всех идут на врага.
648
Комментарии
Счет на дни и на километры: на километры приятнее,
перевалить бы 3 тысячи на 2 с хвостиком и в «999» — и легче
(так и другие).
Постулат не-эвклидовой геометрии: две параллельные
линии, если двигаться по ним в разные стороны, уже не параллельные, — обратно по той же магистрали — иные, чем туда
(жить жизнь + вспоминать жизнь; юность не вспоминает).
«Сухачка» — сухой паек; вспоминается «поджарка» (столовая в Улан-Удэ») — жаль не попробовал.
19/XI. «Старик» («папаша») остался на старом месте; но
место меняет место (— Москва, Нетусь!).
«Отливы» дают приливы (энергию) — усовершенствуя
технику (уборная — тамбур — антистанция: не сразу далось).
Читаю «Даурию» Седых34.
За окном Барабинская степь35: не постановочно.
<...>
Матросы-тихоокеанцы, здоровяки, белозубы, с громким «ха-ха», свои «ложки-автоматы», «друзья-апостолы» (уже
бытует, кажется, в ироническом смысле).
[М<осква>] а) мотивы, ищущие чувств, б) «чувство»,
ищущее мотива. Человек-костер, пробующий отопить всю
степь (Барабинскую?).
20/XI. Четвертая ночь (чуть легче): В вагонном тупичке.
Отсталые наминают и сюда, как тугое тесто, замешанное пополам с грязью. Предутренний их разговор: отсталые — в моем
понимании — превращаются в «присталых», прилипают, как
бумага к янтарю, к родным местам (вот откуда их беглое знание станций, вот откуда новый тип веры (новая фаза) отсталого с мешком (картофель, огурцы, «капуста-Диккенс» и пр.): «козырни», «час с своей бабкой полежал», «пока приготовила браги, того-другого»...
<...>
Ночью: «дорогуша» флирт в темноте. <...> Грустно жить
на Руси.
Подъезжаем к ст. Омутинская.
Моряк-отсталый: когда проезжали мимо родного места,
хотел было (как другие) на час-другой, «на сердце стихом пело», да подумал: потом «голодом гони», а вот, из-ведра... (этюд
«Человек с ведром»).
Пятая ночь. На ногах уселись двое, двое на полу, четыре сапога свесились сверху: ни пошевелиться, ни продохнуть.
649
Вадим Перельмутер
21 /XI. С рассветом — Свердловск. Моряки «по линиям»
ушли (25 верст за день). Мой сосед Суворов.
Умываюсь на улице под краном. Бутыль ранена: истекает водой, и бутыль, и образ, в ней поселенный.
Скорее бы! а к чему скорее — кабы человек знал.
Нож, стакан то дезертируют, то появляются вновь.
Отсюда 2 часа разницы, tm — tsw = 2.
Вспомнилось: собиратели газет, окурков и огрызков из
под метлы (проводницы).
Разработать тему о «догоночной мысли»: как поезда.
Сайн-байну (будь хорош).
«Рубать» — от горного дела.
Улан-Батыр...
Рыбы неприкосновенны (священны).
Чай-Бал-Сан (глава провинции, город).
<...>
Рассказ украинки: в санпоезд, а там: «местов нет».
За окном: точно парк высоких елей; зима украшает белыми хлопушками.
<...>
Ст. «Евразия» — подъезжаем к Кунгуру. <...>
Проводница и ее «женихи» (тема для новеллы); Москва — Владивосток и обратно — для оперетты («Туда и обратно»): 2 романа, колебания...
Ночь с перебоями. Присосавшийся сосед.
Под утро замысел: «Человеческий пунктир». Типы
и встречи: 1) проводница («невеста неневестная»); 2) матрос-
тихоокеанец; 3) отсталый и его инварианты; 4) Рубай-человек;
5) «Семен звенный» и др.
22/XI. Мысли доехали до Москвы, а я в хвосте...
Ст. Яр.
<...>
23/XI. Утром Галич.
<...>
Копилка образов (II)36
NB! Геннадий Гор. Очерки и рассказы о Сибири (Байкал)37.
Пересолить — недосолить = самому — на стол спиной.
Конь + трепетная лань.
Конь + бестрепетная лень.
650
Комментарии
<...>
Подгорбунский. Шаманский бубен38.
У якутов кузнецы происходят от «Небесного кузнеца».
<...>
Чукчи (Богораз)39 — бубен каа резонатор — в темноте
голос — чревовещание...
Алтайцы — бубен от духов (духов болезни, собрав в бубен, — вон).
Похороны шамана: ломают и бубен, душа его — за душой шамана <...>.
[Буряты]
Эсэгэ-малан40 похитил душу и, посадив в бутылку, заткнул пальцем. Шаман, превратившись в шмеля, ужалил, Эсэгэ-
малан отмахнулся — душа улетела (вместе с шаманом). Тогда
Эсэгэ-малан бросил саблю — бубен надвое; с тех пор бубен обтянут кожей с одной стороны...
1^сэр [100.000 строк]41.
1&сэр (женитьба). 13 воинов (магия чисел нечетных:
1-3—5-7...).
<...>
[Акад. Шмит] — прозой, 183642. С немецким переводом.
Спб., 1836.
Козин, изд. 1939 (русский язык)43.
<...>».
Примечания
1. Из Второй Записной Тетради: От Понтия к Пилату.
Комментарий: В каждом Понтии Пилате есть от.
2. Атаман А. П. Кайгородов и генерал А. С. Бакич — видные
фигуры белого движения на юге Восточной Сибири. Бакич был
расстрелян красными в 1922 г., годом раньше Кайгородов, попав в окружение и под угрозой пленения красными, застрелился, «посмертную» легенду о нем и упоминает Кржижановский.
3. Точнее — Ойротская автономная область, созданная
в 1922 г.; в 1948 г. переименована в Горно-Алтайскую); правда,
в начале двадцатых речь шла именно о создании «республики», видимо, эхо этой «речи» два десятилетия спустя долетело
до Кржижановского.
4. См. ком к письму Сигизмунда — 49.
5. Волин Осип Александрович (1906-1976) — директор
Иркутского драматического театра.
651
Вадим Перельмутер
6. Маляревский Павел Григорьевич (1904-1961) — иркутский драматург.
7. Мстиславский.
8. Ольхой Анатолий Сергеевич (1903-1950) — иркутский поэт.
9. Антифашистская музыкальная комедия П. Малярев-
ского (композитор С. А. Заславский), поставленная в 1942 г.
в Иркутском театре музкомедии.
10. Алексеев Алексей Григорьевич (1887-1985) — артист эстрады, режиссер.
11. Пьеса-сказка Н. Я. Шестакова (1939).
12. Здесь (иронич.) — мысль о пиве.
13. Штеренберг Давид Петрович (1881-1948) — художник.
14. Азадовский Марк Константинович (1888-1954) —
фольклорист, литературовед, этнограф.
15. Кунгуров Гавриил Филиппович (1903-1971) — иркутский писатель и фольклорист.
16. Сагайдачный Леонид Юрьевич — директор Иркутского театра музкомедии.
17. Жена С. Д. Мстиславского.
18. Озеро в северо-восточной Монголии, соленое и священное.
19. Театралов Яков Борисович — театральный деятель.
20. Крамов Александр Григорьевич (1885-1951) — артист и режиссер, в эту пору — главный режиссер Харьковского русского драматического театра им. Пушкина, премьера
«Фронта» в постановке Крамова — начало 1943.
21. Бельгаев Гомбо Цыбикович (1904-1983) — государственный деятель, первый председатель Верховного Совета
Бурят-Монголии.
22. Приток Селенги.
23. Пьеса К М. Симонова (1942), шла почти во всех театрах страны.
24. Игнатьев Семен Денисович (1904-1983) — с октября
1937 г. по февраль 1943 г. первый секретарь Бурят-Моншль-
ского обкома ВКП(б); реакция Кржижановского на встречу
с ним — безошибочна, Игнатьев сделал «большого масштаба»
карьеру, вершиной которой был в 1951-1953 гг. пост министра ГБ СССР, и стал, в конце концов, единственным из сталинских карателей, кто умер своей смертью.
25. Журнал, выходивший под редакцией Ф. И. Панферова.
652
Комментарии
26. Балдаев Сергей Петрович (1889-1979) — этнограф,
фольклорист, писатель, драматург.
27. Шадаев Аполлон Иннокентьевич (1902-1969) — бурятский писатель, драматург, знаток и собиратель бурятских
сказок.
28. Харьковский артист-чтец, впоследствии — Заслуженный артист УССР.
29. Суковская К А. — артистка Харьковского русского
театра им. Пушкина.
30. Хоца Намсараевич Намсараев (1889-1958) — бурятский поэт, прозаик, драматург, собиратель фольклора.
31. Цыдендамбаев Чимит-Доржи (1918-1977) — бурятский писатель.
32. Центральный театр транспорта, ныне — Московский драматический театр им. Гошля; в 1941-1943 гг. выступал
в Забайкальском военном округе, в Бурят-Монголии и в Монголии.
33. Журнал, выходивший в Иркутске в 1937-1957 гг.
34. Роман К. Ф. Седых «Даурия» (1942, 2-я редакция —
1948) с 1939 г. главами печатался в «Новой Сибири».
35. Лесостепная равнина в южной части Западной Сибири.
36. Первая «Копилка образов» была собрана Кржижановским в 1910-1912 гг., в пору, которую он сам называл подготовкой к писательству (см.: V, 431-481,620-627); вторая «Копилка» не была собрана, однако начало собирания говорит
о том, что самому собирателю следующие годы представлялись именно писательскими.
37. Гор Геннадий Самойлович (1907-1981) — писатель,
родившийся в Верхнеудинске (Улан-Удэ), хорошо знавший
Восточную Сибирь и Крайний Север; вероятно, имеется в виду
его сборник рассказов «Большие пихтовые леса» (1940).
38. Имеется в виду брошюра В. Н. Подгорбунского «Материалы для изучения шаманских бубнов туземцев Сибири»,
Иркутск, 1923.
39. См.: Богораз В. Г\ Чукотские рассказы. СПб., 1899.
40. Имя одного из верховных божеств шаманского пантеона.
t. < 41. Далее следует сложная схема персонажей и событий
эпоса — так начинается подготовка к докладу в конце 1942 г.
в Центральном доме литераторов.
42. Точнее — Шмидт Яков Иванович (Исаак Якоб, 1779-
1847) — русский и немецкий ученый-востоковед; имеется в ви¬
653
Вадим Перельмутер
ду изданная им в своих переводах (русском и немецком) книга «Подвиги исполненного заслуг Богды Гессер-хана» (СПб.,
1836).
43. Козин Сергей Андреевич (1879-1956) — монголовед, академик; Кржижановский ошибается: «Гессериада», которую он имеет в виду, в переводе С. А. Козина, с его же вступительной статьей и комментариями, вышла в 1935 г.
C.277...K постановке пьесы Корнейчука «Фронт» — Александр Евдокимович Корнейчук (1905-1972), советский драматург, пьеса «Фронт»
(1942) была «рекомендована свыше» и шла в большинстве театров страны.
Сергей Дмитриевич тяжело болел, чувствовалось, что друзья видятся в последний раз — С. Д. Мстиславский умер в Иркутске
22 апреля 1943 г.
С. 279 Попытка продвинуть в печать последнюю
работу — очерк «Раненая Москва» — точнее:
цикл очерков «Москва в первый год войны» — первую
часть задуманной, но неосуществленной книги.
Он переводил Юлиана Тувима — см. ком.
к 16 главке мемуаров Н. Семпер.
Жеромский Стефан (1864-1925) — эти переводы
предназначались для невышедшей книги «Польская новелла» (см. комм, к 25 главке мемуаров Н. Семпер).
Мицкевича — про эти переводы выяснить ничего
не удалось.
сборник рассказов польских классиков —
т. е. «Польская новелла»; см. ком. к фрагменту о переводе новеллы Свентоховского «Клуб шахматистов» в мемуарах Н. Семпер).
С. 280 Вагон пустой, потому что идет из Артамонове ко го парка — ныне — 5-й троллейбусный
парк, Малая Трубецкая ул., близ метро «Фрунзенская».
Врач констатировал спазмы в мозгу: парализовался участок памяти, хранивший
алфавит — т. е. диагностировал алексию, болезнь,
о которой Кржижановский писал четвертью века раньше в словарной статье «Читатель» (IV, 692, ком. — 839) —
и не раз, не называя болезнь, упоминал ее симптомы
в новеллах, словно предчувствуя, пророча ее — себе.
654
Комментарии
АбрамАрго. Альбатрос
С Абрамом Марковичем Арго я познакомился в 1965 го-
ду. Сейчас, встречая в мемуарах упоминания о нем, я понимаю — почему он производил яркое впечатление на людей,
даже видевших его однажды и чуть ли не мельком. Он и под
семьдесят, за два-три года до смерти, был эффектен — высокий, широкоплечий, выглядевший мощным и стройным, несмотря на затрудненную, с опорой на шикарную суковатую
палку, ходьбу, крупная голова великолепно — скульптурно —
вылеплена, обильная серебряная шевелюра делала его еще выше. Когда мы, беседуя, неторопливо прогуливались по Тверскому бульвару, прохожие непроизвольно на него оглядывались.
Громкая в двадцатых-тридцатых годах его театральная
слава, начавшаяся с таировской постановки «Жирофле-Жи-
рофля», для которой он с товарищем своим Николаем Адуевым
написал текст, была далеко позади, однако это Абрама Марковича мало трогало. Он и в литературной жизни пятидесятых-
шестидесятых не затерялся: много и хорошо, а подчас — замечательно, переводил с французского романы, стихи и пьесы,
сочинял тексты песен и цирковые репризы, написал книгу воспоминаний «Своими глазами» (1965), каковую мне подарил...
Он рассказывал мне о Камерном театре и о Еврейском,
о Таирове и Коонен, о Зускине и своем близком друге, театральном художнике Исааке Рабиновиче, о многих еще, о ком
я прежде и не слыхивал.
Однажды вот так, за разговором, добрели до Арбата. И тут он упомянул о писателе, которого хорошо знал, бывал у него не раз, имени не назвал (или я пропустил его мимо ушей), но поразила деталь. Незадолго до смерти, сказал Арго, писатель этот тяжело заболел, не мог больше писать, а как
был он человек пьющий, то сидел целыми днями в кресле, потягивал водочку и бывавшим у него двум-трем совсем молодым писателям рассказывал сюжеты, которых он уже никогда не напишет...
Арго умер в шестьдесят восьмом. О Кржижановском
я узнал несколько лет спустя. Тогда и понял, что речь в той арбатской беседе шла именно о нем. Как-то, в конце восьмидесятых, к слову, упомянул об этом эпизоде Александру Александровичу Лацису, в середине сороковых учившемуся в Литин-
ституте. Реакция оказалась неожиданной: «А-а... — протянул
Лацис, — теперь, пожалуй, понятно. Был у нас на курсе один
655
Вадим Перельмутер
прозаик (он назвал имя писателя, впоследствии ставшего довольно известным, ныне покойного, называть его не буду. —
B. 77.), рассказывал, что бывает у Кржижановского, фамилия
запомнилась из-за знаменитого однофамильца, писал он... так
себе, но славился среди студентов тем, что фабулы придумывает с редкостными изобретательностью и остроумием»...
Кроме мемуарного очерка Арго о Кржижановском, написанного по просьбе Анны Бовшек, я обнаружил в архиве несколько документов, говорящих о том, что Арго не только высоко ценил этого писателя и мыслителя, но и многое делал,
чтобы ему помочь. Достаточно прочитать его эмоциональную
речь при обсуждении комедии Кржижановского «Поп и поручик» на секции драматургов.
Или — такой фрагмент из его выступления на заседании Приемной комиссии Союза писателей 13 февраля 1939 г.:
«Я знаю его много лет, и его судьба... — это один из самых странных и нелепых парадоксов. Человек настолько интересен и талантлив, что мы должны ставить вопрос не о том, что мы ему
можем дать, но о том, что мы от него можем взять»... После этих
слов стенографистка в скобках помечает, «аплодисменты».
Или — краткое упоминание, что именно он — вместе
с Евгением Данном — выхлопотал в Литфонде деньги, когда
Кржижановский заболел. И он же съездил в Литфонд за деньгами на похороны. И был в числе немногих, кто в трескучий
мороз 31 декабря 1950 г. пришел на кладбище проститься
с Сигизмундом Доминиковичем...
C. 283 ...поэт Марк Тарловский — Марк Ариевич Тар-
ловский (1902-1952), поэт, добрый знакомый Кржижановского, о творчестве которого хвалебно отзывался,
в частности, выступая на заседании Президиума Союза писателей, когда Кржижановского принимали в Союз (см. далее комм, к этому очерку).
С.284...ДО такого накала, что трамвай тронулся — пересказывая новеллу явно по памяти, автор
ошибается в деталях фабулы, отклонения эти читатель
легко опознает по тексту (III, 65-82).
С. 285 ...история о гениальном музыканте — тоже
самое с новеллой «Сбежавшие пальцы» (1,73-82).
...эхо, бросив горные просторы, явилось
в город — «Безработное эхо» (11,475-486)
«Бетховен, которого играют фальшиво...» —
среди записей Кржижановского эта не обнаружена, но,
656
Комментарии
поскольку две следующих Арго приводит по памяти, можно предположить, что и эта существовала — на одном
из разрозненных и утерянных листков (см. предварение
комментариев к «Записным тетрадям» — V, 592-596).
С. 286 «Здоровый пессимизм как-то веселее казенного хилого оптимизма» — среди «Записей... на отдельных листах» эта выглядит чуть иначе:
«Здоровый пессимизм как-то веселей хилого, казенного оптимизма».
«Бытие определяет сознание — это верно,
но сознание с этим не хочет мириться» —
во Второй ЗТ: «Бытие пусть себе определяет сознание,
но сознание не согласно».
Была у Кржижановского драматургия — см.предварение комментариев к разделу «Театр» (V, 524-525).
...«консулов, которым надлежит блюсти...» — автор приводит фрагмент формулы, согласно которой в Древнем Риме избранному на высшую государственную должность (консулом) надлежало «блюсти интересы государства и его граждан».
С «правыми попутчиками» было куда легче. Замятин или Пильняк — при упоминании
«попутчиков», с которыми (равно как с ГАХН и вообще
со всеми деятелями культуры, не выказывающими явного неприятия нового порядка) большевики вынуждены были мириться в первое десятилетие своей власти,
пока им было не до культуры, и не только мириться, но
и в специальном партийном документе (1925) подчеркивать «значение многих из них как квалифицированных „специалистов“ литературной техники», говорить
о необходимости «тактичного и бережного отношения
к ним, т. е. такого подхода, который обеспечивал бы все
условия для возможно более быстрого их перехода на
сторону коммунистической идеологии», при упоминании, повторю, которое для Арго связано с событиями
его молодости, имена Пильняка и Замятина возникают
в его памяти совершенно естественно; именно публикации в 1929 г. за границей повести Пильняка «Красное дерево» и романа Замятина «Мы» стали для советской власти сигналом к тому, что с «попутничеством»
пора кончать; в том же году была разгромлена ГАХН,
затем пришла очередь Всероссийского союза писате¬
657
Вадим Перельмутер
лей и прочих объединений, наконец, весной 1932 г. началась подготовка к Первому съезду советских (sic!) писателей (см. вступительный очерк в томе I).
С. 287 Времена Павла I — пересказывается комедия
«Поп и поручик» (1933, вторая редакция — 1934), на
обсуждении которой в Московском группкоме драматургов выступление Арго было одним из самых ярких.
В тридцатых годах на приемной комиссии
Союза писателей — Кржижановский был принят
в Союз писателей СССР 29 марта 1939 г., отчет о приемном заседании Президиума Союза писателей напечатан
в номере «Литературной газеты» от 5 апреля: «...B Союз принимается Сигизмунд Доминикович Кржижановский. В писательской среде мало знают этого талантливого человека. Положительные отзывы о работе Кржижановского дают тт. Ф. Левин, М. Тарловский, В. Асмус,
Н. Асеев, П. Павленко. Они отмечают, что до сих пор на
творчество Кржижановского обращалось незаслуженно мало внимания...»; летом того же года, при поддержке Е. Лундберга, начались переговоры с издательством
«Советский писатель» об издании книги новелл новоиспеченного «члена Союза»; ровно через два года, в начале
июня, подготовленная к печати рукопись была отправлена в типографию; две недели спустя началась война...
С. 288 В сущности говоря, что такое вопросительный знак? — ср. «Из архива Пруткова-внука. Афоризмы»: «Вопросительный знак в юности был
стройным восклицательным знаком»...
С.289 При Камерном театре была театральная
школа — т. е. Государственная экспериментальная театральная мастерская (1£кстемас).
Таиров пригласил Кржижановского вести
курс русской литературы — Таиров пригласил
Кржижановского вести другой курс — «Основы внутренней техники актера» (см. комм, к мемуарам А. Бовшек), курс истории русской литературы он стал читать
позже — и дополнительно.
...знаменитую статью Чернышевского... — автор переводит на русский концовку заглавия: «Русский человек на rendez-vous».
С. 291 Из всего созданного Кржижановским было
реализовано... — приводимый перечень неполон,
658
Комментарии
но по комментариям к Собранию сочинений читатель,
при желании, легко может его пополнить и уточнить.
С.292 ...наподобие бодлеровского альбатроса —
ассоциация, давшая заглавие и закольцевавшая мемуарный очерк Арго, для людей его поколения была совершенно естественной; русский символизм сделал последний катрен «Альбатроса» чем-то вроде эпиграфа
к созданному им образу Поэта, потому во всех русских
переводах стихотворения, а их было немало, это — ключевое — четверостишие, по сравнению с предыдущими,
варьируется минимально («Поэт похож на них, — царей небес волнистых: им стрелы не страшны и буря им
мила. В изгнанье, — на земле, — средь хохота и свиста
мешают им ходить огромные крыла» (В. Набоков); «Так,
Поэт, ты паришь под грозой, в урагане, / Недоступный
д ля стрел, непокорный судьбе, / Но ходить по земле среди свиста и брани / Исполинские крылья мешают тебе»
(В. Левик); перевод Д. Мережковского см. — I, 5).
Наталья Семпер. Человек из небытия
Воспоминания о С. Д. Кржижановском
1942-1949
Так вышло, что автор этих строк оказался причастен
к возникновению мемуаров Натальи Евгеньевны Семпер-Со-
коловой (1911-1995). И не косвенно. Мы познакомились в восемьдесят восьмом: она позвонила мне, узнав, что мною подготовлена к изданию первая книга Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (Воспоминания о будущем. Избранное из
неизданного. М., 1989), которого она близко знала в сороковых годах, в последнее десятилетие его жизни.
Впервые встретились мы четвертого декабря. Разговорились легко — помогли картины на стенах: ничего выдающегося,
но крепко, мастерски сделанные, уверенной, профессиональной рукой. На вопрос — стала рассказывать об авторе — об отце, Евгении Гавриловиче Соколове, из рода текстильных фабрикантов Поляковых. Его дядя, Сергей Александрович, давал деньги на брюсовские издательство и журналы да и сам недурно
переводил, Ламсуна, например. А отчим еженедельно собирал
у себя лучших московских художников, историки живописи
хорошо знают об этих «Шмаровинских средах». Соколов учил¬
659
Вадим Перельмутер
ся в Мюнхене у фон Штука, вернувшись, работал в театрах —
у Корша, в Оперетте, в Большом, оформил за жизнь более трехсот спектаклей. Дом был открытым — там бывали режиссеры,
драматурги, музыканты, артисты. Таков фон, на котором происходила своя жизнь единственной дочери, прибавившей, получая первый паспорт, к фамилии свой — тогда это можно было
сделать запросто — латинское определение Семпер (Semper —
всегдашняя, постоянная; semper idem — все та же)...
О Кржижановском Наталья Евгеньевна поначалу говорила напряженно, тщательно подбирая слова, чувствовалось,
что к встрече она готовилась, отбирала, но так и не решила
для себя — в какой мере следует быть откровенной. Однако
то, что она много думала о нем, а говорила впервые, разворо-
шило-таки память, речь стала эмоциональней, с любопытными мелкими подробностями и чисто «кржижановскими» словечками. Стало ясно, что она и впрямь знала его близко. И что
из его жизни ей достались, пожалуй, самый тягостные, в безнадежность скатывающиеся годы. Он уже почти не писал — и неохотно давал читать написанное «когда-то». И она познакомилась разве что с десятком его вещей. Но вспоминала их — через
четыре с лишним десятка лет — безошибочно. И первою припомнила вставную новеллу о коте из «Книжной закладки»...
Три года спустя я привел к ней знакомиться Элен Шат-
лен, инициатора и редактора первой французской книги
Кржижановского — с этим заглавием. И за чаем зашла речь
о сложностях перевода прозы этого автора, в частности, о кошачьей,, второй, теме «Книжной закладки». Час спустя, когда
мы вышли во двор, на наших глазах разыгралась копия-развязка той трагической фабулы.
Позже я поведал эту историю Владимиру Николаевичу
Топорову. «Я думаю, что было бы куда более странно, — помолчав, медленно произнес он, — если бы вокруг того, что связано
с этим писателем, подобных событий не происходило»...
При первом же свидании я стал уговаривать Наталью
Евгеньевну написать о Кржижановском. Она отнекивалась, отказывалась, говорила, что все это — слишком личное, интимное, едва ли кому-либо интересно, да и ей «на старости лет»
писать про то неловко. Я возражал, что ее воспоминания о писателе трагической судьбы, не увидевшем своих сочинений
напечатанными и лишь через четыре десятка лет после смерти, наконец, встречающемся с читателем, бесценны. Тем более что непосредственных свидетельств о его жизни сохра¬
660
Комментарии
нилось ничтожно мало, все, кто были с ним хорошо знакомы,
уже умерли, мне приходится буквально по крупицам выуживать хоть что-то из рассказов немногих людей, встречавшихся с ним случайно, эпизодически...
По счастью, меня поддержала моя добрая знакомая, сотрудница Гослитмузея Нина Мироновна Рубашева, пообещав
Наталье Евгеньевне, что музей непременно купит эти мемуары — и они займут место в «фонде Кржижановского».
Так появился очерк «Человек из небытия. Воспоминания о С. Д. Кржижановском. 1942-1949» (с которого началась
завершенная H. Е. Семпер незадолго до смерти книга мемуаров
«Пейзажи и портреты»).
Мне легко было проверить степень достоверности этих
мемуаров. Ведь кое-что из описанного я знал из других источников, в том числе — документальных, в частности, из писем самого
Кржижановского. И оно совпало с изложением Семпер — до деталей (за одним-единственным исключением, об этом есть в комментариях), не давая повода усомниться и в остальном. Только одно смутило — точные даты, которыми снабжен был каждый эпизод: уж не вела ли она дневник? Ответила отрицательно: никогда.
Так бы и томиться мне этою загадкой по сию пору, но... слаб человек: Наталья Евгеньевна, всю жизнь писавшая стихи и мне о том
ни намеком — при встречах — не обмолвившаяся, к экземпляру,
отдаваемому в музей, приложила тщательно датированный стихотворный цикл, посвященный Кржижановскому — и обращенный к нему. И всё стало понятно. Это и были ее дневники...
При подготовке тома к печати на мою просьбу прислать эти стихи мгновенно и готовно откликнулась наследница архива Семпер — Элина Уткина. Пользуюсь случаем — еще
раз ее поблагодарить.
С. 293 В один прекрасный день в июле 1937 года — немного досадно начинать комментарии с поправки памяти автора, тем паче — автора в остальном
весьма точного, хотя написан очерк полвека спустя поведанного в нем, тем не менее приходится: дело происходит не в июле 1937 г., а в августе 1933 г. (см. письмо
Сигизмунда от 16 августа 1933 г. — 36, а в комментарии
к тому письму — о причине/поводе к визиту); гости
пришли к Соколовым, можно сказать, по-соседски: дача С. Н. Василенко, где Кржижановский и Бебутов и прежде встречались с хозяином — для совместной работы
661
Вадим Перельмутер
над «Попом и поручиком», находилась на ст. Влахерн-
ская (см. далее).
С. 293 Шуколово — село в 1,5 км от ст. Влахернская (теперь
Турист) по Савеловской ж. д. (Примеч. авт.)
Валерий Михайлович Бебутов (1885-1961) —
режиссер, в 1920-1930-х гг. ставил спектакли в Театре
Оперетты.
Соколов Евгений Гаврилович (1880-1949) — художник-декоратор, работавший в крупнейших московских
театрах, кроме того, занимался книжной графикой.
...напротив дачи Сперанских — выдающегося врача-педиатра Георгия Нестеровича Сперанского
(1873-1969) и его жены Елизаветы Петровны.
С. 294 ...он считал себя художником прежде всего — есть как минимум два свидетельства, что Филатов — в душе — считал себя поэтом: одно — в письме
Сигизмунда — 44, второе — в стихотворении Льва Ошанина, где рассказывается, как автор, мучившийся глазами, отправился за помощью к великому хирургу в Одессу — и тот в одной из не-больничных бесед, смущаясь,
признался, что пишет стихи, и стал их читать...
...два эскиза для «Попа и поручика» —
эскизы, о которых идет речь, ныне хранятся в Гослит-
музее.
Не помню, в каком театре — в Театре Оперетты.
С. 295 Любовь Давыдовна Вендровская (1903-
1993) — сотрудница — и одна из создательниц — музея Театра им. Вахтангова.
С.296...0 работе с японским режиссером-по-
литэмигрантом Иоси Хидзиката — ему посвящена одна из глав неизданных пока воспоминаний
Н. Семпер (где она, правда, именует его чуть иначе) —
«Лицом к лицу с мечтой. (Воспоминания о Хидзиката
Ёси. 1933-1937)». Эта глава-очерк опубликована: www.
utoronto.ca/tsq/09/semper09.shtml.
«Поэмы о Беовульфе» — т.е.древнеанглийского
эпоса «Беовульф».
30 сентября — все-таки лирическая поэзия в качестве дневника иногда подводит автора: эта встреча Семпер с Кржижановским произошла, как минимум, на восемь дней раньше, ибо, как явствует из приведенно¬
662
Комментарии
го в комментариях к воспоминаниям Бовшек путевого
дневника Кржижановского «Москва — Иркутск», он выехал из Москвы в Иркутск 24 сентября.
С. 296 Обухова Надежда Андреевна (1886-1961) — певица.
«Салют, Испания!» — пьеса А. Н. Афиногенова
(1936).
С. 297 ...совсем разбитый, с пожелтевшим лицом
и потухшими глазами — ср. о том же в воспоминаниях Бовшек: «Бледный, совершенно исхудавший,
он походил теперь на того Кржижановского, с которым
я впервые встретилась в Киеве. Только волосы стали совсем седыми, скорбные складки у рта прорезались резче, и глаза еще потеплели. Таким добрым, светлым я видела его в редкие минуты жизни»; сравнение, понятно,
не для комментария (во всяком случае — краткого),
но не могу не обратить внимание читателя на эту противоречивость двух женских впечатлений.
...доклад о монгольском эпосе — востоковеды называют «1&сэр» (или «Г&сэриаду») «бурятским»,
«монгольским», «тибетским», — единственно, во избежание недоразумений не научных, а политических,
ибо, когда возникал/создавался этот эпос, никаких «государственных» границ в тех краях не существовало;
в случае, о котором идет речь, по той же логике, эпос
можно было назвать и «бурят-монгольским»: докладчик собирал материал в Улан-Удэ, столице тогдашней
Бурят-Монголии, и помогали ему в этом местные фольклористы и сказители; работать над будущим докладом
Кржижановский начал еще в поезде, на обратном пути
(см. «Москва — Иркутск»).
Михаил Михайлович Морозов (1897-1952) —
литературовед и театровед, автор первой русской книги
о Шекспире, один из основателей российского научного шекспироведения, истинным центром которого стал
созданный им Шекспировский кабинет ВТО: здесь регулярно происходили научные заседания, планировались
и организовывались Шекспировские конференции, зародилось издание Шекспировских сборников; Кржижановский был одним из завсегдатаев Шекспировского кабинета, десятки раз выступал в нем, по словам Аникста,
все шекспироведение Кржижановского было там проверено; к сожалению, до нас не дошли тексты некоторых
663
Вадим Перельмутер
докладов, читанных Кржижановским «у Морозова», вероятно, они погибли в начале 1990-х во время пожара
ВТО — вместе с хранившейся там значительной частью
архива Шекспировского кабинета.
plusquamperfectum — давнопрошедшее (время)
(лат.).
С. 298 маленький мальчик Мика на картине Серова — портрет «Мика Морозов» выполнен В. А. Серовым (1865-1911) в 1901 г.
Шервинский Сергей Васильевич (1892-1991) — поэт, переводчик; упоминание Шервинского в этом ряду
оказалось для меня совершенно неожиданным и породило загадку, которая не имеет отношения к этому комментарию, но, как мне представляется, свидетельствует
о непростых отношениях Кржижановского с людьми того неширокого, элитарного культурного круга, к которому он принадлежал, потому уместно, по-моему, о ней
сказать; дело в том, что с Шервинским меня связывали
более двух десятков лет отношений дружеских, даже доверительных; естественно, занявшись в начале семидесятых годов наследием Кржижановского, я поинтересовался у Сергея Васильевича: знал ли он его? — и получил категорический ответ: «В первый раз слышу!»; при
этом Анну Бовшек он знал хорошо (мудрено было бы
не знать — ведь преподавал актерам «искусство художественного слова», среди его учеников были чтецы замечательные), однако к ее творческой манере относился
профессионально-критически, чтобы не сказать — негативно; вскоре после того разговора мне довелось выяснить, что Кржижановский и Шервинский одновременно
бывали в Коктебеле у Волошина, нашлось и еще несколько пересечений, все они, впрочем, оставляли некоторую
возможность невстречи — мало ли случайно встреченных людей выскальзывают из нашей памяти; посещение обоими Шекспировского кабинета в годы войны,
когда присутствовавшие были наперечет, а Кржижановский выступал чуть не на каждом заседании, возможность эту начисто исключает*, не вспомнить его Шервинский мог только умышленно; о причинах мы уже никогда не узнаем...
Левик Вильгельм Вениаминович (1907-1982) — поэт-переводчик, литературовед, художник
664
Комментарии
C. 298 Станевич Вера Оскаровна (1890-1957) — переводчица.
Дынник (Дынник-Соколова) Валентина Александровна (1898-1979) — литературовед, переводчица,
знакомая Кржижановского с киевских времен, с начала
двадцатых годов.
Узин Владимир Самойлович (1887-1957) — театровед.
«Песенки Шекспира» — Семпер имеет в виду
прочитанные на том заседании четыре страницы с таким заглавием (текст сохранился — РГАЛИ, ф. 2280,
on. 1, ед. хр. 64), которые можно назвать исследовательской миниатюрой: в ней Кржижановский показывает — как, по его мнению, следовало бы переводить
встречающиеся у Шекспира песенки персонажей.
...дожидаясь «А» — трамвай маршрута «А» (москвичи именовали его «Аннушкой», как «Б» — «Букашкой») ходил по Бульварному кольцу, три его остановки отделяли Пушкинскую площадь (ВТО) от Арбатской,
а до Плющихи надо было добираться с пересадкой.
С. 299 Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович (1872-
1957) — живописец-пейзажист.
В О КС — Всесоюзное общество культурных связей
с заграницей.
С. 300 Ярон Григорий Маркович (1893-1963) — артист оперетты, режиссер, либреттист.
Аникеев Серафим Михайлович (1904-1962) — артист (комик-буфф), с 1930-го — артист Московского Театра Оперетты, с 1941 — директор этого театра.
Клавдия Сергеевна Судейкина (Оболенская-
Судейкина) — возможно, Семпер ошибается: в «деле»
Л. Л. Оболенского его жена названа: Клавдия Александровна, указан ее московский адрес; других сведений
найти не удалось.
«Привал комедиантов» («Звездочет») — основанное Б. К. Прониным (1875-1945) петроградское литера-
турно-артистическое кабаре (1916-1919); помещалось на
Марсовом поле, 7.
Оболенский (Оболенский-Судейкин) Леонид Леонидович (1902-1991) — кинорежиссер, в частности,
работал с Я. Протазановым над «Праздником святого
Йоргена»; в 1941-м ушел в ополчение, попал в плен, по-
665
Вадим Перельмутер
еле возвращения из плена был приговорен к десяти годам лагерей, после освобождения жил и работал в Челябинске, где теперь существует его Музей-квартира.
С. 301 ...о журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном» — в двух — из четырех вышедших — номерах которого Кржижановский печатался.
Джон Донн (1572-1631) — английский поэт.
Рильке Райнер Мария (1875-1926) — австрийский
поэт.
С. 302 une fatalite — судьба (фр.).
С. 303 «Пословицы и поговорки» Даля —ДалъВ.И.
Пословицы русского народа.
...строчку из «Ворона»: «...and each
separate dying ember wrought its ghost
upon the floor» — «...И от каждой вспышки красной тень скользила на ковер» (пер. М. Зенкевича).
С. Д. любил Эдгара По — именно с По (и Александром Грином) сравнивает Кржижановского Шенгели в записи о его смерти.
О существовании Кафки я не подозревала
до встречи с С. Д. — по записанному мною свидетельству литературоведа-германиста и переводчика H. Н. Вильмонта (1901-1986), Кржижановский впервые прочитал сочинения Франца Кафки в самом конце
тридцатых годов (когда давно уже были написаны его
собственные вещи, наводящие ныне на некоторые ассоциации с кафкианскшш).
Густав Мейринк (Майринк, 1868-1932) — австрийский писатель.
С. 304 .. .предпочитает Гегеля Канту, любит Шопенгауэра, интересуется Сартром — вероятно, Семпер — задним числом — обобщила некий вполне конкретный разговор; в написанном самим Кржижановским нет и намека на предпочтение
Гегеля Канту, скорее — наоборот, любви к Шопенгауэру там — в многочисленных упоминаниях — тоже не
видно, а вот интерес к Жану-Полю Сартру (1905-1980)
весьма любопытен, ведь ко времени знакомства с Семпер Кржижановский мог прочитать разве что первый роман «Тошнота» (1938), знакомство (если было)
с ранними философскими (совсем еще не сартров-
666
Комментарии
скими) работами едва ли могло его впечатлить, главный философский труд Сартра «Бытие и ничто» (1943)
попал в СССР значительно позже, остальное было еще
впереди.
Востоком он не занимался — характерное
свидетельство, что Семпер знала о Кржижановском
ровно столько, сколько он сам хотел ей поведать: Востоком он как раз занимался весьма серьезно — и задолго до встречи с нею, внимательное чтение написанного им обнаруживает весьма подчас основательное
знакомство с буддизмом, ведами, зороастризмом, древнекитайской философией и историей (см., например,
статью «Идея и слово», новеллы «Фу-Ш», «Швы» etc.).
С. 305 Энвер Ахмедович Макаев (1916-2004) — лингвист, впоследствии — выдающийся специалист по германскому, индоевропейскому и общему языкознанию,
индо-иранским языкам и армянскому языку; был членом первого состава редколлегии журнала «Вопросы
языкознания», одним из организаторов и активным
участником издания «Сравнительная грамматика германских языков» (4 тома, 1962-1966 гг.), членом Парижского лингвистического общества и Рунологического общества Швеции etc.
«Prolegomena ad Edda» — «Введение в Эдцу»
(лат.)
СЗОбмы бродили среди литературных орхидей
и раффлезий — упоминание раффлезии, паразитирующего на лианах необыкновенного цветка, у которого нет ни корней, ни листьев, перекликается с фразою, сказанной Натальей Евгеньевной во время первой
нашей встречи, — о том, что сочинения Кржижановского ей представлялись «очень далекими от жизни»,
этакими «цветами, лишенными земли»...
С. 307 в доме-музее Скрябина — на Арбате, Б. Николопесковский пер., 11 (в годы, о которых идет речь, —
ул. Вахтангова).
Софроницкий Владимир Владимирович (1901-
1961) — пианист.
Мария Александровна Скрябина (1900-
1984) — дочь А. Н. Скрябина от первого брака, драматическая актриса БДТ и МХАТа; в 1940-е гг. была сотрудницей Музея Скрябина.
667
Вадим Перельмутер
С. 307 .. .организовать в музее светомузыку, поставить «Прометея» — М. А. Скрябиной написан
целый ряд работ о «светомузыке» ее отца (не опубликованы); в симфоническую «Поэму огня» — «Прометей» (1909-
19Ю) впервые в истории музыки введена специальная
партия света, что связано с обращением к цветному слуху.
«Философию искусства» Б. Христиансе-
на — эта книга философа-неокантианца и психолога Бродера Христиансена (1852-1909), написанная
в 1908 г., вышла в русском переводе (Г. П. Федотова)
в 1911 г.
«Синтетическую историю искусств» Маца — Иван (Иоганн) Людвигович Мац (1893-1974), теоретик и историк искусства; упомянутая его книга издана в 1933 г.
Вёльфлин Генрих (1864-1945) — швейцарский теоретик искусства; разработал методику анализа художественного стиля, применяя ее для исследования «психологии эпохи» («Классическое искусство», 1899), а затем
«способов видения» («Основные понятия истории искусств», 1915).
Волькенштейн Владимир Михайлович (1883-
1974) — драматург, теоретик театра, киносценарист,
один из немногих друзей Кржижановского.
Акимов поставил «Дракона» Шварца — Николай Павлович Акимов (1901-1968), режиссер и художник, в это время со своим Ленинградским театром
Комедии работал в Москве, пьеса Е. Л Шварца «Дракон»
была поставлена им в 1944 г., спектакль был запрещен,
осуществить постановку Акимову удалось лишь в 1962 г.
С.308...из записок о путешествии в Среднюю
Азию — т. е. «Салыр-Поль».
«...стих, который, взяв квадрат земли...» — пример взят из новеллы «Тридцать сребреников» (III, 98-107).
С. 309 .. .показала свои рисунки главному художнику Ильину — Николай Васильевич Ильин
(1894-1954), график, художник и конструктор книги.
С. Д. перевел девять стихотворений, выбор
которых мне представляется очень субъективным — Кржижановский перевел стихотворения «Черешня», «Похороны», «Светозар», «Зима бедняков»,
668
Комментарии
«Апрель», «Вечер», «У окна», «Слово и плоть (Фрагменты)»,
«Сорок весен» (все они вкшочены и в упоминавшуюся уже
книгу: Кржижагювский С. Книжная душа; поскольку тираж
этой книги — 100 экз., что делает ее практически недоступной для абсолютного большинства читателей Кржижановского, я счел необходимым поместить эти переводы
в «Приложения» к Собранию сочинений — и сделал это
в порядке исключения, о чем см. ком. к публикации); Семпер интуитивно-тонко уловила настроенческую природу
этого выбора, хотя знала лишь малую долю им написанного и не могла видеть переклички переводов с мотивами
его собственных сочинений (правда, получила подсказку — ъ примечании к этому фрагменту Семпер пишет:
«Все высказанное в этих стихах Тувима соответствует, по
словам С. Д., его собственным переживаниям», — в чем нетрудно убедиться, сравнив стихи со статьей «Идея и слово»
и вообще с темой слов и слова в его статьях о литературе
и театре и в ЗТ, а «Сорок весен» напрашивается на сравнение с записями в Т]ретьей ЗТ: «Я: on the shady side of forty»
(старше сорока лет; переносно: на теневой стороне жизни — англ.), или «Моя жизнь — сорокалетнее странствование в пустыне. Земля обетованная мне будет предложена с заступов могильщиков»).
С. 310 vita nu ova... — новая жизнь (um.) — заглавие книги
Данте.
С. 311 ...собирал для монографии материал о венецианском доже Дандоло — Энрико Дандо-
ло (1107/1108-1205), сорок первый венецианский дож
(«слепой дож», 1192-1205), искусный дипломат и политик, при котором значительно возросло влияние Венеции в Средиземноморье; в примечаниях Семпер добавляет: «Стихотворение „Dandolo“, посредственное
по форме и прямолинейное по содержанию, я выписала для С. Д. из французской хрестоматии; его интересовала не поэзия Легуве (Эрнест Вилфрид Легуве, 1807-
1903, французский поэт, прозаик, мемуарист. — В. 77.),
а жесткое описание пытки и стойкости героя в безвыходном положении» (по одной из версий, Дандоло был
ослеплен в 1171 г. византийцами во время дипломатической миссии в Константинополь).
...симпатизировал мужу Софьи Ковалевской — Владимир Онуфриевич Ковалевский (1841-
669
Вадим Перельмутер
1883), ученый, основатель эволюционной палеонтологии, впервые применил эволюционное учение для
восстановления картины исторического развития позвоночных; в 1883 г. покончил с собой.
«Как-то я стоял на мосту через Яузу» —
см. о Яузе в повести «Штемпель: Москва» (II, 518).
С.312...С историей партии по «Краткому курсу» — т. е. по катехизизу большевизма — «Краткий
курс истории ВКП(б)», — впервые изданному в 1938 г.
G313 ...инсценировкой «Кола Брюньона» для оперы Кабалевского — см. комм, к письму Анны (68).
С.314...В клубе Осоавиахима — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, массовая общественная организация, существовавшая в СССР в 1927-1948 гг.
С. 315 .. .рассказывал и об убийстве Столыпина — Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911), премьер-министр России, был смертельно ранен бывшим
агентом охранки Д. Багровым 1 сентября 1911 г. в Киевском оперном театре.
...о своей дружбе с Северцовыми — здесь
Семпер сделала примечание «Внучка Северцовых сейчас живет в Москве, может быть, она помнит Кржижановского, так как, наверно, видела его много раз в детстве»; к сожалению, никаких сведений о Кржижановском Ольга Сергеевна Северцева сообщить не смогла.
С. 316 Готовился к печати сборник «Польская
новелла» — книга, для которой Кржижановский,
кроме переводов, написал вступительный очерк (Польская новелла, 1948), издана не была, переводы Кржижановского разыскать не удалось.
«Клуб шахматистов» Свентоховского —
Александр Свентоховский (1849-1938), польский писатель; разыскать перевод Кржижановского не удалось:
в архиве писателя он не сохранился, не обнаружен он
и в архивном фонде издательства «Художественная литература»; по словам редактора так и не вышедшей книги «Польская новелла» Юлии Марковны Живовой (она
пришла в издательство в 1949 г., и эта книга стала первой ее работой), Кржижановский не только перевел для
книги несколько новелл, но и весь тот, как сейчас бы сказали, «проект» был его делом: он составил книгу — вме¬
670
Комментарии
сте с отцом редактора (тогда еще будущего — книга была подготовлена в 1948 г.,), литературоведом, переводчиком, блестящим знатоком польской поэзии Марком
Семеновичем Живовым, подобрал тексты оригиналов
для раздачи переводчикам, перевел несколько новелл
по собственному выбору, написал предисловие — «О
польской новелле» и составил «Краткий биографический указатель» (оба эти текста есть в его фонде в РГАЛИ:
фонд 2280, on. 1, ед. хр. 68). Однако если в 1946 г. выход
книги Ю. Тувима был началом задуманной в СССР программы по привлечению деятелей польской культуры
на сторону «социалистического переустройства» Польши, то в 1949 г. Советское идеологическое руководство
выказало резкое недовольство отношением этих деятелей, прежде всего, писателей, к «новой жизни», программа была свернута (кроме «Польской новеллы» не вышел
и подготовленный Кржижановским в 1946-1948 гг. однотомник «польского Мольера», комедиографа-класси-
ка XVIII в. Александра Фредро, машинописи обеих будущих книг были попросту уничтожены в издательстве,
переводы Кржижановского погибли, и теперь об авторах, чьи сочинения входили в новеллистический том,
можно узнать только из упомянутого «Биографического указателя»); в 2007 г. — к 120-летию со дня рождения
Кржижановского — его любимая новелла была, по моей просьбе, переведена Галиной Федотовой и опубликована в № 22 интернет-журнала «Toronto Slavic Quarterly»
(www.utoronto.ca/tsq/2 2 /index22.shtml).
С.318«Мой годный мотор стучит вхолостую,
потому что нет приводных ремней» — цитируется по памяти: в ЗТ такой записи не обнаружено.
Приложения: переводы, документы, письма
СИГИЗМУНД КРЖИЖАНОВСКИЙ. ИЗ ЮЛИАНА
ТУВИМА
Как уже упоминалось, Собрание сочинений С. Д. Кржижановского не является академически-полным. Не включены
в него и переводы, которые, сохранись они все, могли бы составить полновесный отдельный том. Единственное исключе¬
671
Вадим Перельмутер
ние я решил сделать для переводов из Юлиана Тувима. Некоторые из этих переводов, сделанных для прижизненной книги
Тувима (М., 1946), который, к слову, свободно владел русским
языком и, конечно, получил из издательства эту книгу, не раз
переиздавались и переиздаются до сих пор. Впрочем, профессиональные качества любой зрелой работы этого писателя недискуссионны. Причин, подвигших к такому исключению, две.
Во-первых, Кржижановский начинал поэтом, однако впоследствии стихов своих (даже опубликованных в молодые годы)
к печати не предназначал, именно поэтому они и не включены
в шеститомник (интересующиеся могут с ними познакомиться
по изданию: Сигизмунд Кржижановский. Книжная душа. Стихи разных лет. М.: «Водолей», 2007). Тем не менее, конечно, хотелось, хотя бы таким образом, дать читателю некоторое представление о его работе со словом в стихе. Во-вторых, что, быть
может, даже более существенно, польская литература в переводческой деятельности Кржижановского была особенно, подчеркнуто заметной. Он с детства превосходно знал ее, в чем
нетрудно убедиться, перелистав «Поэтику заглавий». А в сороковых годах, уже бросив писать свое, переводил поляков, которые, можно сказать, помогали ему по-прежнему чувствовать
себя писателем. Проза Стефана Жеромского и комедии Александра Фредро, новеллы писателей, мало или вовсе не знакомых русскому читателю, фрагмент эпопеи Адама Микевича
«Пан Тадеуш», стихи Тувима. И не только переводил, но и писал о них: последнее, что написано им в жизни, — завершенная
15 февраля 1950 г. большая статья «Леон Кручковский».
Оставить Собрание сочинений без польской темы, по-
моему, было бы неправильно.
АВТОБИОГРАФИЯ. Печатается впервые.
Написана при подаче документов для вступления в Союз писателей СССР.
КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ. Печатается впервые.
Написана при оформлении документов в ВТО для зачисления в группу театральных деятелей, направляемых в командировки, цель которых — ознакомление с деятельностью
эвакуированных из Москвы и Ленинграда в Восточную Сибирь и местных театров.
672
Комментарии
C. 351 192 3 ^5 веду курс по теории театра — ос¬
новной курс, который вел Кржижановский в училище
Камерного театра, — «Основы внутренней техники актера», кроме этого, он читал курс истории русской литературы, а также курс истории и теории театра.
АВТОБИБЛИОГРАФИЯ. Печатается впервые.
Судя по тому, что в нее включено, составлена в 1933 г.,
однако цель этого занятия неясна; возможно, такая справка понадобилась д ля заполнения т. н. «Карточки автора» в Гослитиздате, где пришедший туда служить Шенгели намеревался привлечь Кржижановского к сотрудничеству в обеих переводных
редакциях («Зарубежной литературы» и «Литературы народов
СССР»), которые возглавляла некая дама Романова, к литературе отношение имевшая, так скажем, непрямое, но, главное, состоявшая в партии, а всю работу в них вел Шенгели (признаки этого начавшегося сотрудничества — в записях за 1933 г.).
С. 351 Любовь как метод познания — статья была
опубликована, как известно, в «Вестнике теософии», но
упоминать об этом в 1933 г. никак не стоило.
С. 352 «Ли-И-юань», «Возвращение Мюнхгаузена», «Бег в мешке» (последний в производстве) — шесть первых страниц сценария
«Ли-И-юань» сохранились в «Киевском архиве», полный
текст не найден; второй сценарий до нас не дошел (архив киностудии — за эти годы — не сохранился); текст
третьего сценария есть в РГАЛИ.
С. 353 Викторина в ж<урнале> «В бой за технику» — возможно, публикаций Кржижановского в этом
журнале больше, чем две указанных (известно, что он
подчас печатался под псевдонимами, раскрыть которые удалось пока лишь в считанных случаях); вероятно,
эти выделены — как самые литературные.
...статья о Барбюсе — статья и перевод — «побочное следствие» поездки Кржижановского в Среднюю Азию (1932).
Поэма «По пути Ленина» — полученный от
Шенгели заработок в Гослитиздате; было ли сие опубликовано — неясно (сборник разыскать не удалось).
Путеводитель по Москве — есть свидетельство,
что путеводитель был издан, однако найти его не уда¬
673
Вадим Перельмутер
лось; как пояснил автору этих строк один из былых корифеев библиотечного дела в СССР, путеводители, в те
годы издававшиеся, — библиографические редкости:
по мере изъятия из жизни крупных «пламенных революционеров», а также пересмотра роли других, успевших помереть своей смертью, ранняя советская топонимика Москвы соответственно менялась, а путеводители изымались из библиотек.
В. Н. ТОПОРОВ. «МИНУСЫ-ПРОСТРАНСТВО СИГИЗМУНДА КРЖИЖАНОВСКОГО
Впервые — В. Н. Топоров. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Избранное.
М, 1995. С. 476-574.
Обдумывая состав и композицию Собрания сочинений
Сигизмунда Кржижановского, я с самого начала твердо знал
лишь две вещи: чем намерен его начать — и чем завершить. Начинаться Собрание сочинений должно было с того, что считал своим началом сам писатель, то есть сборником «Сказки
для вундеркиндов» — в редакции-варианте 1927 года, когда попытка издать эту первую книгу провалилась; дополнив ее несколькими новеллами, писатель еще раз попробовал ее опубликовать и, не одолев цензуры, уложил машинопись «в стол»,
беру в кавычки, потому что стола, письменного стола писателя, у Кржижановского за двадцать восемь прожитых в Москве
лет так и не было, вполне вероятно, что этот условный стол,
хранилище ненапечатанного, метафора всей неизданной русской литературы советского периода, как-то неприметно пришел именно из биографии этого автора. А финалом, заключительным фрагментом последнего тома, думалось мне, следует
быть работе В. Н. Топорова «„Минус“-пространство Сигизмунда Кржижановского», опубликованной полтора десятка лет назад и остающейся, на мой взгляд, по сей день наиболее основательной и глубокой из всего, что написано о Кржижановском.
Из многих достоинств этой работы особо отмечу самое,
по-моему, существенное: она вводит разговор о Кржижановском в тот культурно-исторический — художественный к философский — контекст, в котором размышления об этом писателе наиболее, на мой взгляд, органичны и продуктивны.
И уже по одному по этому имеет смысл, чтобы она была под
рукой у читателя Собрания сочинений. Тем более что книга
674
Комментарии
«Миф. Ритуал. Символ. Образ» давным-давно стала, как говорится, библиографической редкостью.
Тогда же, при встрече с Владимиром Николаевичем,
я испросил его дозволения на эту — повторную — публикацию.
«Вообще-то, обычно я против перепечатки того, что однажды
уже было издано, — ответил он. — Но с Кржижановским — случай особый. Ведь без вас я этого писателя не прочитал бы —
и не написал бы о нем. Так что вы можете этой работой распоряжаться, как сочтете нужным».
В другом разговоре Владимир Николаевич признался,
что считает — для себя — открытие Кржижановского (я запомнил дословно) «самым важным открытием за последние
лет двадцать» и что для него это — не только писатель. И добавил: «Я теперь, когда бываю на Арбате, непременно захожу во
двор дома, где жил Сигизмунд Доминикович. Просто так, несколько минут постоять».
Собственно, Кржижановский нас и познакомил. Я подошел к Топорову после его выступления с небольшим рефератом о Кржижановском (работа над «,,Минус“-пространством»
тогда была еще в разгаре) на конференции «по русскому авангарду», проходившей, если верно помню, в новом здании Третьяковки. Он явно обрадовался, сказал, что хотел меня разыскать, знает, что, кроме первой книги Кржижановского, которая у него есть («Воспоминания о будущем», М., 1989), вышли
и другие, их он раздобыть не сумел и спросил, не могу ли
я в том помочь. Несколько дней спустя я отвез ему домой «Возвращение Мюнхгаузена» (Д., 1990) и «Сказки для вундеркиндов» (М., 1991).
Во время работы над первыми четырьмя томами Собрания сочинений мне приходилось обращаться к Владимиру Николаевичу за консультациями — его отклики неизменно
бывали быстрыми и полными. О чем и хочу еще раз благодарно упомянуть...
В. Н. Топоров сам исчерпывающе прокомментировал
свою работу. Добавить нечего. Разве что упомянуть-подчер-
кнуть, что в 1992 г., когда «„Минус“-пространство» было написано, автор не был знаком с теоретическими сочинениями Кржижановского, впервые — частично — опубликованными два года спустя (Сигизмунд Кржижановский. «Страны,
которых нет». Статьи о литературе и театре. Записные тетради.
М., 1994), а полностью вошедшими лишь в четвертый (2006)
и пятый (2010) тома Собрания сочинений.
675
Вадим Перельмутер
«УПОМИНАТЕЛЪНАЯ КЛАВИАТУРА» СИГИЗМУНДА
КРЖИЖАНОВСКОГО
(Замысел, составление и комментарий — Иоанны
Делекторской)
Вынесенный в заглавие манделыптамовский термин
(Разговор о Данте, глава II) в разговоре о Кржижановском имеет куца больше смысла, нежели традиционно-привычный «Указатель имен», который, во-первых, выглядел бы, так скажем, несколько странно в Собрании сочинений, более трех четвертей
которого — сочинения художественные, во-вторых, будучи несомненным «техническим подспорьем» для нынешних и будущих исследователей (а создание такового, откровенно говоря,
в число задач составителя шеститомника не входило), для абсолютного большинства читателей был бы если не вовсе бесполезным, то, во всяком случае, малосущественным.
Уже говорилось о том, что размышления — письменные — Кржижановского о Шекспире или Пушкине, Шоу или
Чехове, словом, о любом писателе, чьи сочинения попадают
в магнитное поле его мысли и расщеп пера, непременно связаны с его собственными творениями, что он читает других так,
как хотел бы — чтобы читали его самого.
Потому решено было поступить, если угодно, по его
подсказке, отчетливо слышимой в статье «Бернард Шоу
и книжная полка» (4, с. 546-568). То есть создать нечто вроде наброска важнейшей для постижения этого писателя темы
«Сигизмунд Кржижановский и книжная полка», очертить круг
имен — и мыслей, — в котором бытуют, действуют и размышляют не только сам автор, но и его персонажи. Ибо впечата-
ляющая эрудиция писателя совершенно органично включена в его мышление, а значит — и в поэтику, где энергия мысли
упорядочивает и направляет сюжетное взаимодействие образов-понятий, естественно включая их движение в обширный
культурно-исторический контекст.
Правда, в этом случае следует говорить скорее не о полке, но о библиотеке, освоенной Кржижановским в пору подготовки к писательству и размещенной в его памяти так, чтобы понадобившееся находилось мгновенно и практически
безошибочно.
Напомню, что три первых тома сложены с максимально возможным приближением к воле автора: сюда вошли
все произведения, включенные им в машинописные вариан¬
676
Ком ментарии
ты книг, и it той последовательности, какая задана Кржижановским. Четвертый, где собраны его размышления о литературе и театре, и пятый, о составе и структуре которого в преамбуле к комментариям сказано достаточно, чтобы
здесь не повторяться, призваны, по замыслу составителя, дать
читателю на и возможно объёмное и полное представление
о творческом наследии этого писателя, о масштабах сделанного им — и замысленного, но, по известным причинам, не
осуществленного.
В составленном перечне приводятся лишь первые
упоминания имен в каждом из пяти томов. Таким образом, для каждого тома обозначается часть библиотеки, в нем
присутствующая.
Особняком — то, что с полным основанием можно назвать рабочей полкой Кржижановского, регистрам клавиатуры, которым он пользуется постоянно и, по собственному выражению, с пианистической беглостью. Имена авторов, чьи
мысли и сочинения сопутствуют ему почти всегда, о чем бы
он ни думал и ни писал, цитаты и реминисценции из которых чаще всего употребляет без ссылок и нередко — если иноязычные — в собственных переводах. Сюда же отнесены те, кому посвящены его отдельные работы (как Лермонтову, По или
Островскому).
Пояснения к этим именам представляются — для читателей Кржижановского — излишними.
Во второй части перечня — все остальные.
Имена, упомянутые в письмах Кржижановского — как
вошедшие, так и не попавшие в его сочинения, — сюда не
включены.
В МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИВОВ (МОСГОРАРХИВ).
Последняя моя попытка отыскать могилу Кржижановского: это письмо было написано и отправлено из ИМЛИ по
моей просьбе.
Ответ на него в комментариях не нуждается.
В. Перельмутер
Алфавитный указатель к собранию сочинений
С. Д. Кржижановского
Автобиблиография VI, с. 337
Автобиография VI, с. 336
Автобиография трупа II, с. 508
«Альпийский турист» V, с. 473
Анекдот V, с. 479
Антипод V, с. 474
Арго А Альбатрос VI, с. 266
Арго и Ergo V, с. 505
Афоризмы V, с. 312
Бабушка с кошелкой III, с. 571
Баррикада III, с. 592
Баскская сказка III, с. 262
Безработное эхо II, с. 475
Белая мышь. Повесть V, с. 210
Березайский сапожник III, с. 208
Бернард Шоу, его образы, мысли и образ мыслей IV, с. 514
Бернард Шоу и книжная полка IV, с. 546
Бовшек А. Глазами друга (Материалы к биографии Сигизмунда
Доминиковича Кржижановского) VI, с. 181
Бог умер I, с. 255
Боковая ветка I, с. 485
Больное сердце Ш, с. 251
Бумага теряет терпение III, с. 148
В зрачке I, с. 427
В очереди III, с. 313
Ветряная мельница I, с. 233
678
Алфавитный указатель
Взбесившиеся брюки III, с. 241
Возвращение Мюнхгаузена II, с. 133
Воздух родины III, с. 163
Волькенштейн В. Драматургия. Метод исследования
драматических произведений IV, с. 641
Воображаемый Шекспир IV, с. 295
Воспоминания о будущем II, с. 335
Время V, с. 445
Выздоровление V, с. 481
Ганс и Фриц III, с. 7
Глазунья в пенсне V, с. 167
Голова с поклоном I, с. 235
Голос из рупора III, с. 506
ГТрайи I, с. 147
Гулливер ищет работы III, с. 92
гусь III, с. 205
Две шелковинки III, с. 184
Девять ворон III, с. 252
Девушки у воды III, с. 548
Деревянный капор IV, с. 640
Джин III, с. 239
Доброе дерево III, с. 216
Домоуправша III, с. 554
Дорогомиловская Руфь III, с. 524
Драматургия шахматной доски IV, с. 110
Драматургические приемы Бернарда Шоу IV, с. 473
Друзьям V, с. 431
Дымчатый бокал III, с. 115
Единогласно III, с. 246
Жан-Мари-Филибер-Блез-Луи де Ку I, с. 236
Желтый уголь III, с. 65
Жизнеописание одной мысли I, с. 139
Жидкий кристалл III, с. 526
Забытый Шекспир IV, с. 302
Завхоз III, с. 543
Заглавие IV, с. 669
Записные тетради V, с. 324
679
Алфавитный указатель
Золотой берег V, с. 257
Игра «в религию» V, с. 446
Игроки III, с. 212
Идея и слово V, с. 494
Из Архива Пруткова-внука V, с. 290
Из детства V, с. 441
Из Юлиана Тувима VI, с. 323
Искусство эпиграфа (Пушкин) IV, с. 387
История гиперболы V, с. 277
История ненаписанной литературы V, с. 271
История одной рукописи («Борис Годунов») IV, с. 464
История пророка I, с. 103
Итанесиэс I, с. 293
К истории макета «Человек, который был Четвергом» IV, с. 639
К лицу III, с. 256
Кабинет миллиардера III, с. 248
Катастрофа I, с. 123
Квадрат Пегаса I, с. 93
Квадратурин И, с. 449
Киносценарий IV, с. 673
Клуб убийц букв II, с. 5
Книга, помогающая жить V, с. 445
Книжная закладка И, с. 569
Когда рак свистнет III, с. 289
Коллекция секунд I, с. 559
Комната радости И, с. 461
Контролер III, с. 222
Концовки Шекспировских пьес IV, с. 285
Комедиография Шекспира IV, с. 153
Копилка образов V, с. 431
Красный снег V, с. 145
Краткая автобиография VI, с. 336
Крепь IV, с. 637
Кунц и Шиллер I, с. 247
Левое ухо III, с. 189
Лаконизм IV, с. 679
Легенда III, с. 231
Лермонтов читает «Онегина» IV, с. 450
Либретто IV, с. 680
680
Алфавитный указатель
Литературный пейзаж V, с. 26 5
Любовь V, с. 432
Любовь как метод познания V, с. 482
М. К Т. и его тема IV, с. 642
М. К Т. и МаКеТ IV, с. 665
М. О. V, с. 462
Мал мала меньше III, с. 203
Материалы к биографии Горгиса Катафалаки И, с. 263
Мечтатели III, с. 361
Мишени наступают III, с. 53
Могильщики III, с. 558
Молитва V, с. 480
Москва в первый год войны (физиологические очерки) Ш, с. 499
Московские вывески I, с. 567
Мост через Стикс II, с. 496
Моя партия с королем великанов III, с. 83
Мухослон I, с. 218
Мышук III, с. 325
На распутье IV, с. 664
Невозможно предвидеть III, с. 235
Невольный переулок VI, с. 7
«Некто» I, с. 210
Немая клавиатура III, с. 167
Неукушенный локоть III, с. 39
Неуют V, с. 194
Ничего не случалось V, с. 432
Нувелеты V, с. 290
О добром господине V, с. 435
Обиженное ми-бемоль III, с. 532
Одиночество III, с. 25
Одна копейка III, с. 261
Окна III, с. 501
Окно III, с. 340
Орфей в аду III, с. 243
Остров Смерти V, с. 464
Пальма V, с. 163
Педжент (Театр-телега) IV, с. 658
Переписка Сигизмунда Кржижановского и Анны Бовшек VI, с. 7
681
Алфавитный указатель
Петрарка и Чесси V, с. 47 5
Пещерный житель III, с. 577
Писаная торба. Условность в четырех актах,
семи ситуациях V, с. 7
Писательские «святцы» Чехова IV, с. 605
Плеоназм IV, с. 683
Пни I, с. 206
По строфам «Онегина» IV, с. 416
Побасенка III, с. 254
Повоюй Повоюевич III, с. 516
Полспасиба I, с. 240
Полувежливость III, с. 250
Последние минуты скупца III, с. 255
Последний из атуров III, с. 258
Поэтика заглавий IV, с. 7
Поэтика шекспировских хроник IV, с. 238
Поэтому I, с. 176
Прикованный Прометеем I, с. 242
Продавец Венеры Капуанской V, с. 457
Проданные слезы I, с. 224
Проигранный игрок I, с. 133
Пропащий человек III, с. 358
Психологический роман IV, с. 684
Путешествие клетки V, с. 171
Путешествие тени I, с. 198
Пьеса и ее заглавие IV, с. 621
Разговор двух разговоров I, с. 385
Ранец и портфель III, с. 237
Раскулаченный боксер III, с. 225
Рисунок пером III, с. 305
Ровесник июлю III, с. 590
Салыр-поль (узбекистанские импрессии) III, с. 363
Сбежавшие пальцы I, с. 73
Семпер Н. Человек из Небытия. Воспоминания
о С. Д. Кржижановском. 1942-1949 VI, с. 277
Семпер Н. С. Д. Кржижановскому (цикл стихов) VI, с. 304
Серый фетр III, с. 121
Сказочки V, с. 436
Сквозь кальку III, с. 297
Словарь эпиграфов V, с. 276
682
Алфавитный указатель
Случаи III, с. 265
Смерть бросает кости. Пантомима в 3 действиях V, с. 64
Смерть радиста III, с. 257
Смерть эльфа III, с. 174
Смысловые имена в литературе V, с. 277
Собиратель щелей I, с. 463
Соната «Death’s door» III, с. 134
Соня (сказка) V, с. 433
Состязание певцов III, с. 344
Спиноза и паук I, с. 161
Старик и море I, с. 200
Страна нетов I, с. 265
«Страница истории» I, с. 221
Странствующее «Странно» I, с. 279
Страны, которых нет IV, с. 129
Строка петитом III, с. 351
Сэр Джон Фальстаф и Дон Кихот IV, с. 341
Театр марионеток в Неаполе V, с. 457
Театрализация мысли IV, с. 646
Театральная ремарка (фрагмент) IV, с. 89
Теляковский В. А Воспоминания (1898-1917) IV, с. 662
Товарищ Брук И, с. 487
Топоров В. Н. «Минус»-пространство
Сигизмунда Кржижановского VI, с. 340
Тот Третий. Комедия V, с. 7 5
Три сестры III, с. 260
Тридцать сребреников III, с. 98
Тринадцатая категория рассудка III, с. 280
ТЪбики III, с. 253
Украденный колокол III, с. 199
Улица в Венеции V, с. 450
Урна III, с. 334
Утренняя прогулка леса III, с. 219
Фантом II, с. 543
Филозоф III, с. 563
Философема о театре IV, с. 43
Философия и стилистика V, с. 281
Форестьер — достопримечательность — жизнь V, с. 463
Форестьер и итальянский язык V, с. 471
683
Алфавитный указатель
Фрагменты к роману «Тот Третий» V, с. 234
Фрагменты о Шекспире IV, с. 350
Фу-Ш I, с. 194
Хлеб наш насушенный III, с. 233
Хлебодар III, с. 586
Хорошее море III, с. 471
Цыплята III, с. 228
Человек, винтовка и фонарь III, с. 508
Человек при книге III, с. 5 51
Человек против машины IV, с. 669
Чемпион дыхания III, с. 159
Черновик IV, с. 689
Чехонте и Чехов (Рождение и смерть юморески) IV, с. 574
Чётки I, с. 164
Чистая работа 111,108
Читатель IV, с. 691
Чудак II, с. 453
Чужая тема I, с. 347
Чужбинные дали V, с. 447
Чуть-чути I, с. 83
Шаги Фальстафа IV, с. 323
Швы 1,с. 397
Штемпель: Москва (13 писем в провинцию) I, с. 511
Эдгар Аллан По. 90 лет со дня смерти IV, с. 569
Эзопов язык IV, с. 694
Эмблема III, с. 259
Эпитафия IV, с. 696
Этюды об Островском (К предстоящей постановке
«1}розы») IV, с. 648
Якоби и «Якобы» I, с. 107
«Banco-Lotto» V, с. 468
Reise-роман IV, с. 686
2000 (К вопросу о переименовании улиц) I, с. 550
(Передовая, без заглавия) IV, с. 636
(Редакционная, без заглавия) IV, с. 667
Содержание
Невольный переулок
Невольный переулок. Новелла 7
Переписка
Сигизмунда Кржижановского
и Анны Бовшек
Письма Сигизмунда
192 3 23
192 4 26
192 5 27
192 6 35
192 7 43
192 8 .48
192 9 53
193 1 57
193 2 61
193 3 69
193 4 78
1938 85
1940 88
1942 92
194 5 94
194 6 94
685
Содержание
Письма Анны
1920 97
192 4 103
192 5 107
192 6 115
192 7 126
192 8 134
192 9 142
<1930> 150
193 1 155
193 2 158
193 3 163
193 4 167
<1935> 180
<1937> 182
<1939> 184
1940 188
<194б> 189
Воспоминания
о Сигизмунде Кржижановском
Анна Бовшек. Птазами друга (Материалы
к биографии Сигизмунда Доминиковича
Кржижановского)
Киев 197
Москва 223
Абрам Арго. Альбатрос 282
Наталья Семпер. Человек из Небытия.
Воспоминания о С. Д. Кржижановском. 1942-1949 293
С Д Кржижановскому (цикл стихов) 320
686
Содержание
Приложения:
переводы, документы, письма
Сигизмунд Кржижановский. Из Юлиана Тувима
(1894-1953)
Черешни 337
Похороны 337
Светозар 338
Зима бедняков 342
Апрель 344
Вечер 345
У окна 345
Слово и плоть (фрагменты) 347
Сорок весен 348
Автобиография (1938) 350
Краткая автобиография (1942) 350
Автобиблиография 351
В. Н. Топоров. «Минус»-пространство
Сигизмунда Кржижановского 354
Два письма
В Московское городское объединение
архивов 498
В Институт мировой литературы 498
«Упоминательная клавиатура»
Сигизмунда Кржижановского 499
Комментарии 531
Алфавитный указатель к Собранию сочинений
С. Д. Кржижановского 678
Литературно-художественное издание
Кржижановский Сигизмунд Доминикович
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Том VI
Редактор тома Е. Крюкова
Ответственный редактор М. Амелин
Компьютерная верстка: С. Валишин
ИЗДАТЕЛЬСТВО «Б.С.Г.-ПРЕСС»
109028, Москва, Покровский бульвар, д 14/6
Тел./факс: (495) 626-24-70; e-mail: bsgpress@mail.ru
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»
19Ю28, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 31, лит. «А», пом. 22-Н
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА Б.С.Г.-ПРЕСС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ
— Книжный магазин «Москва», м. «Пушкинская», «Тверская»,
ул. Тверская, д. 8. Тел.: (495) 629-64-83, 797-87-17.
— ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: (495) 781-27-37.
— Московский дом книги, м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.
Тел.: (495) 789-35-91.
— Дом книги «Молодая ГЬардия», м. «Полянка», ул. Большая Полянка,
д. 28. Тел.: (495) 238-50-01.
— Книжный магазин «Фаланстер», м. «Пушкинская», «Тверская»,
Малый Гкездниковский пер., д. 12/27. Тел.: (495) 629-88-21.
— Сеть магазинов «Республика». Тел.: (495) 251-65-27.
В РОЗНИЦУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
— Санкт-Петербургский Дом книги, м. «Невский проспект»,
«Гостиный двор», Невский проспект, д. 28. Тел.: (812) 448-23-55.
— Сеть магазинов «Буквоед». Тел.: (812) 601-0-601.
— Книжный магазин «Все свободны», наб. Мойки, 28.
Тел.: +7 (911) 977-40-47.
ОПТОМ
— КД «Б.С.Г.-Пресс», Москва, Покровский бульвар, д 14/6.
Тел. (495) 626-24-72; +7 (915) 110-36-50.
— «А Симпозиум», Санкт-Петербург, 20-я линия В. О., д. 5/7.
Тел. (812) 325-66-61.
Подписано в печать 10.10.2012. Гарнитура Garamond.
Формат 84x108 7зг. Объем 21,5 печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Заказ № 6539-
Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов.
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
Факс: (8332) 53-53-80,62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru; e-mail: order@gipp.kirov.ru