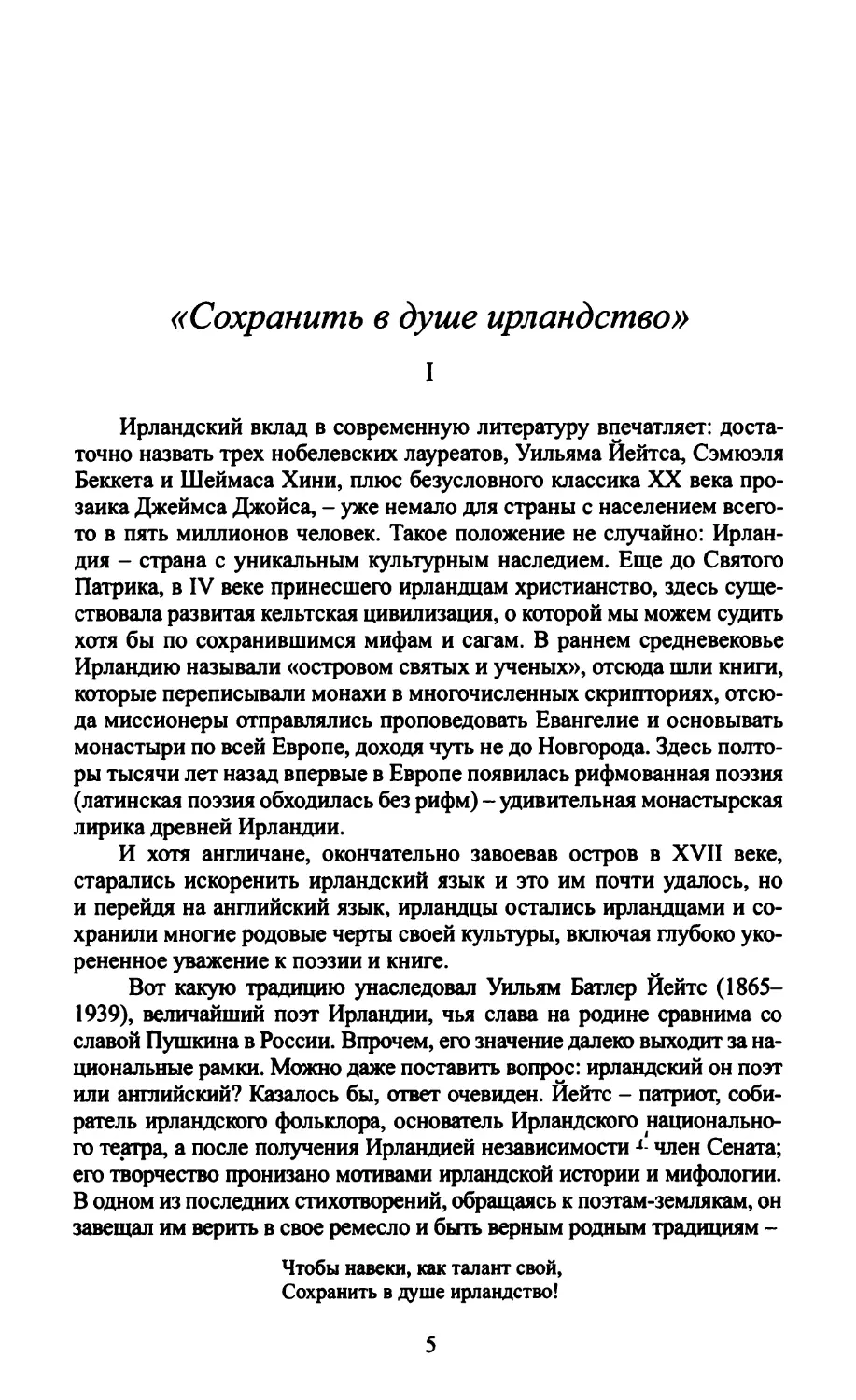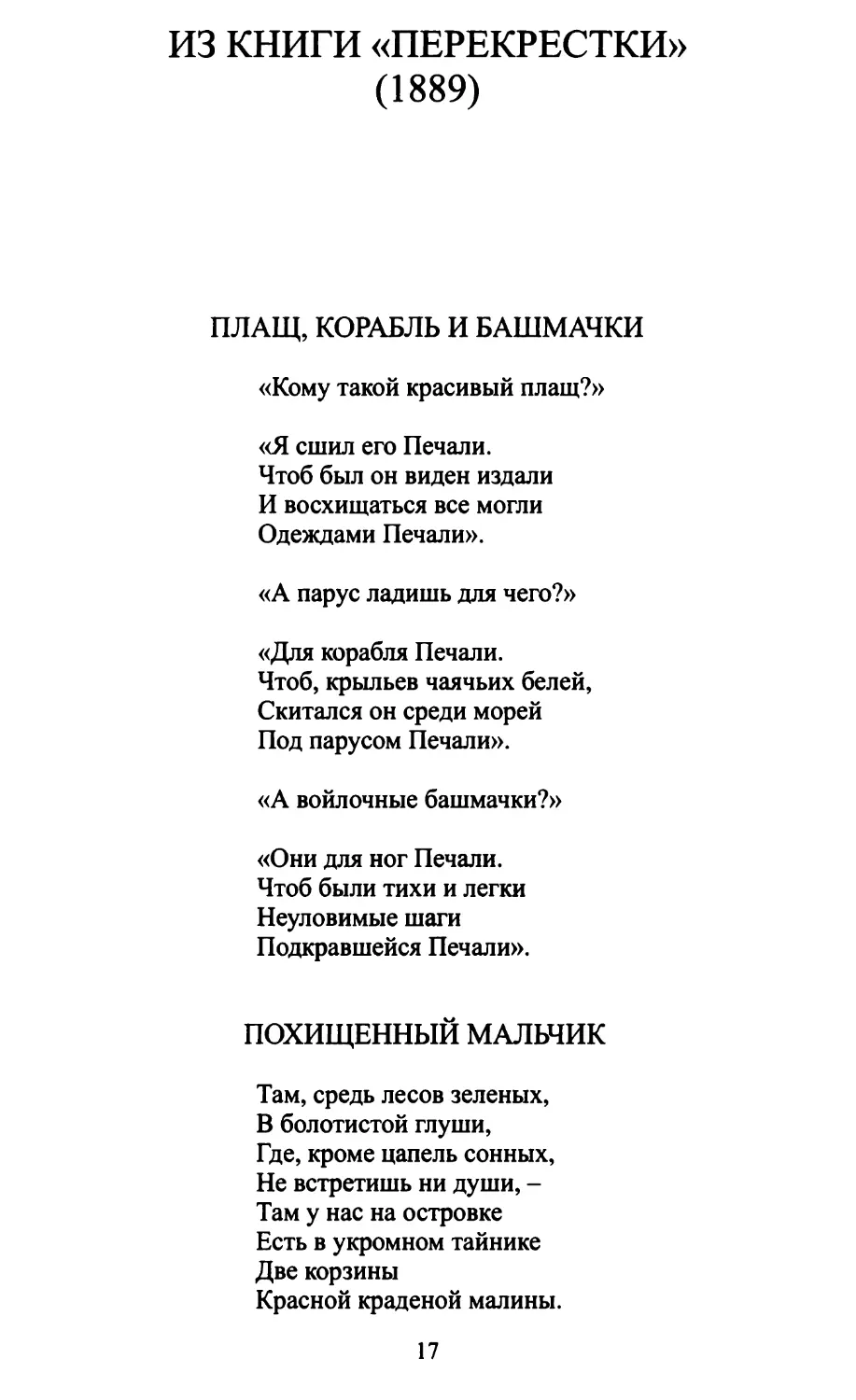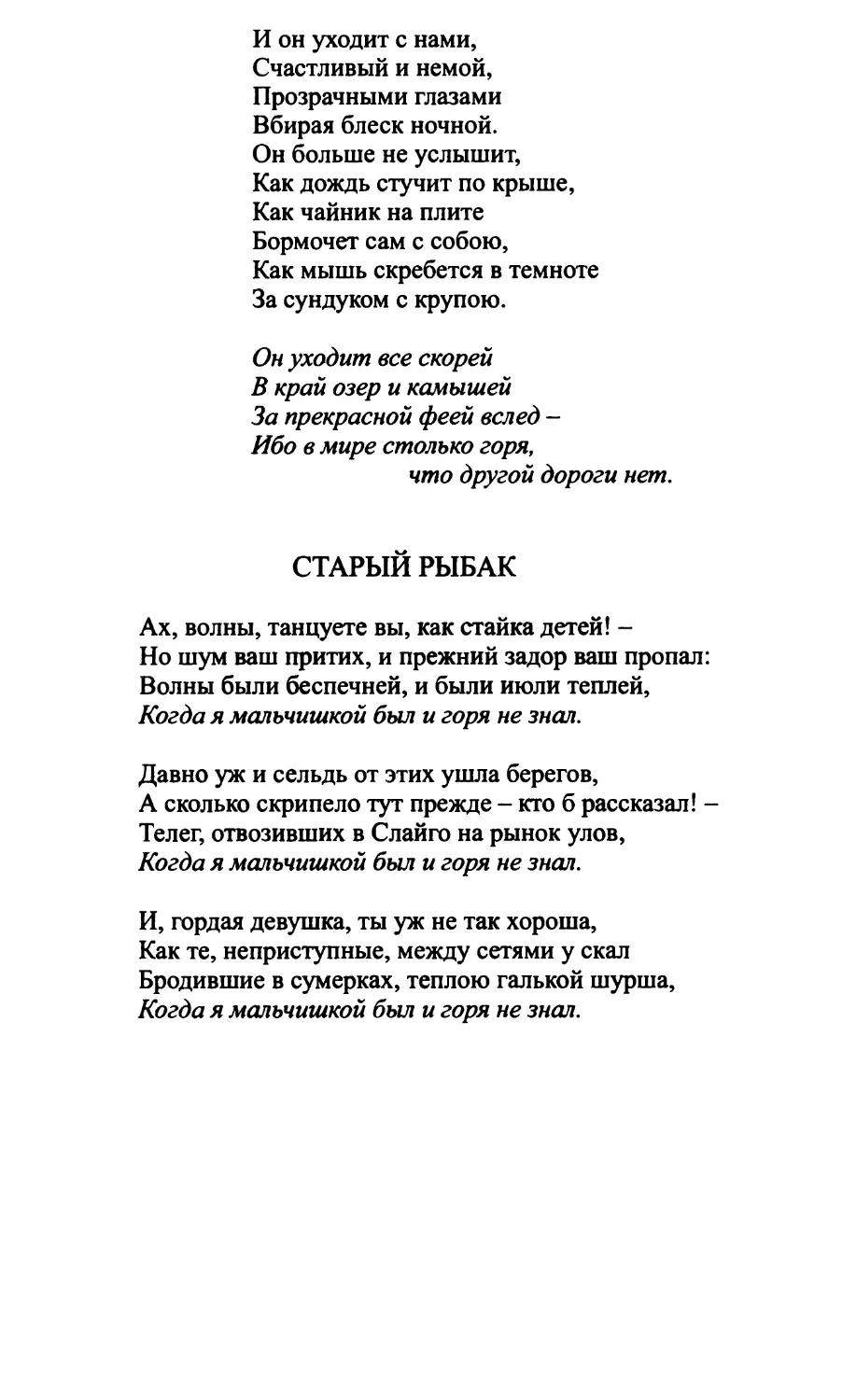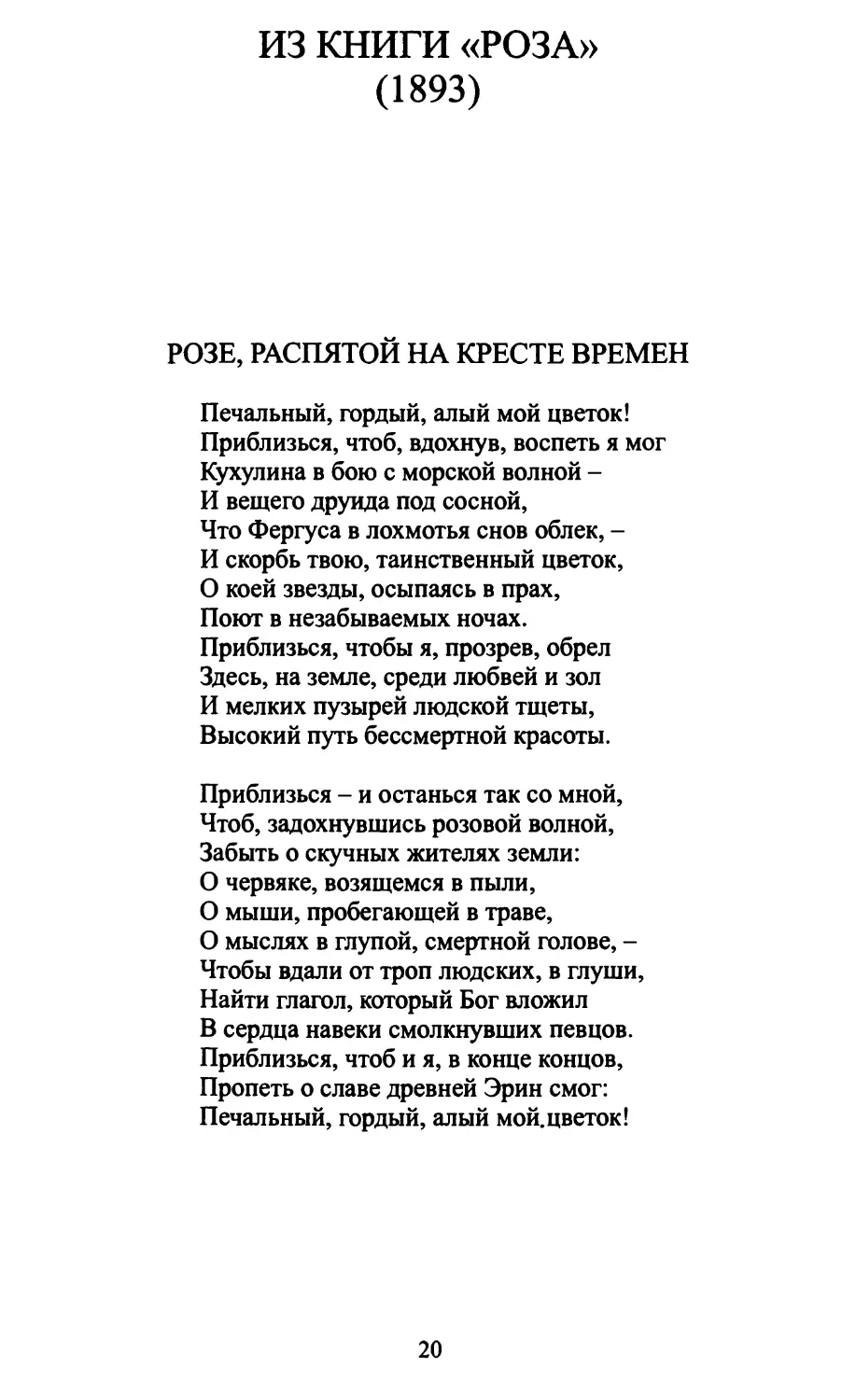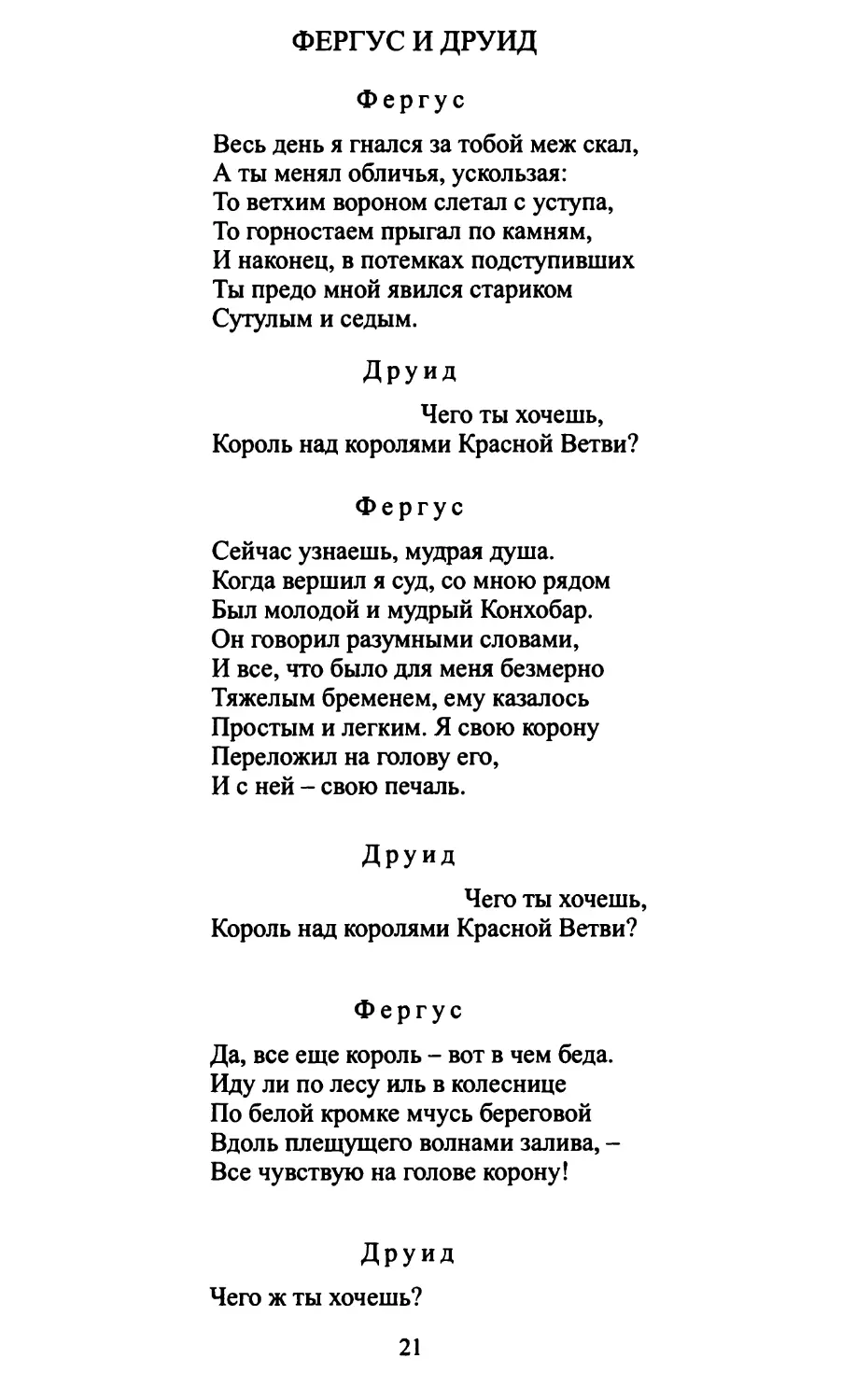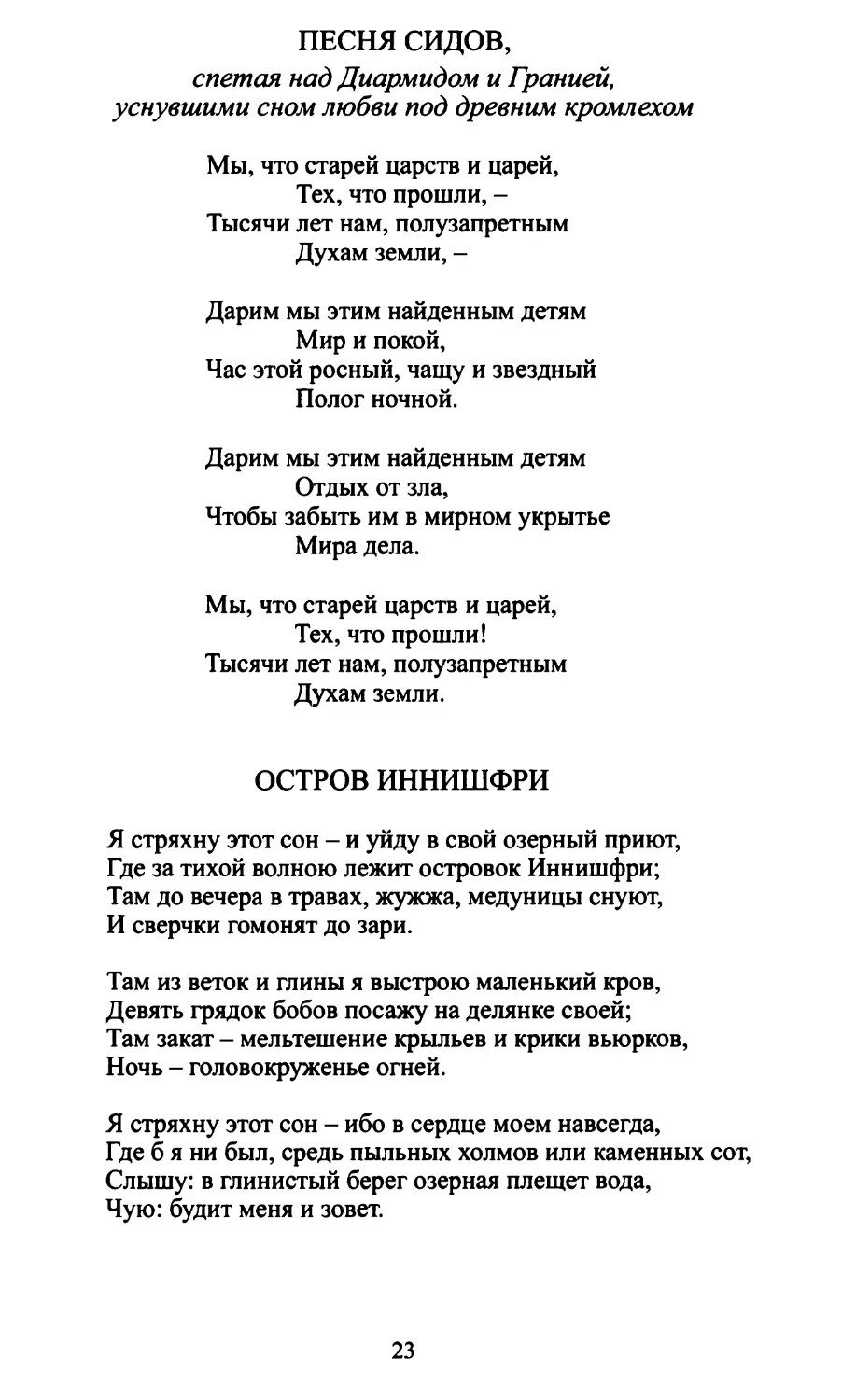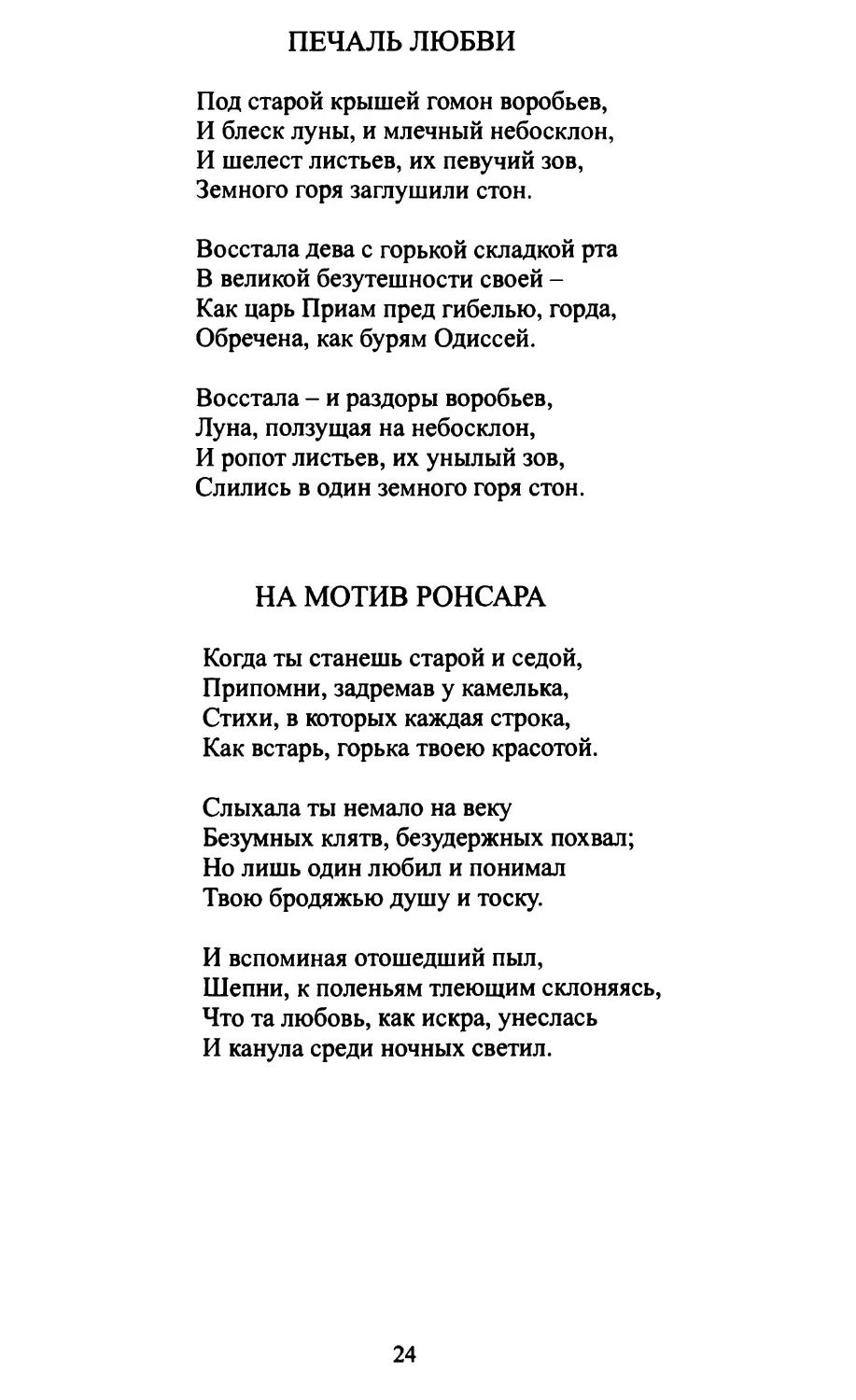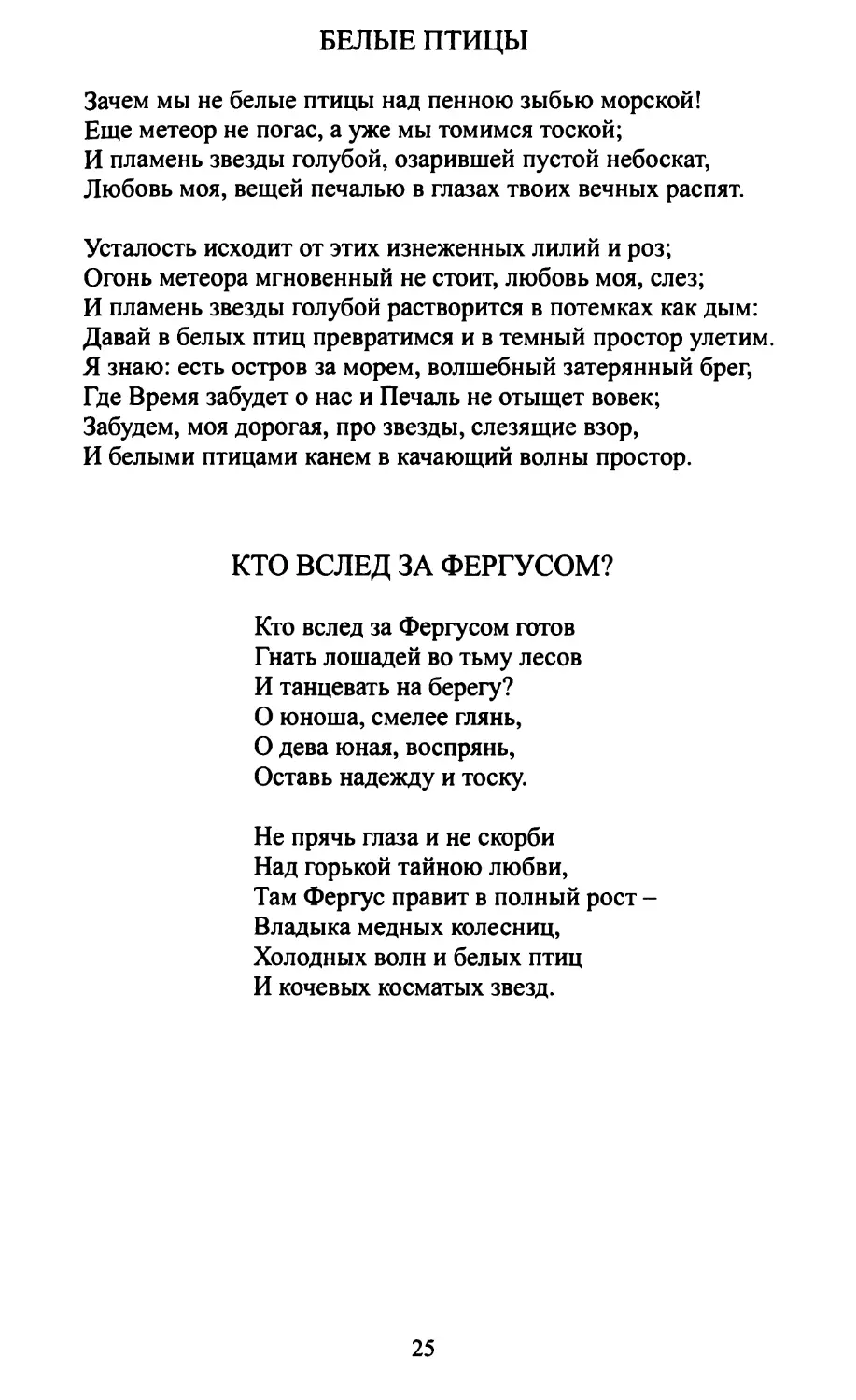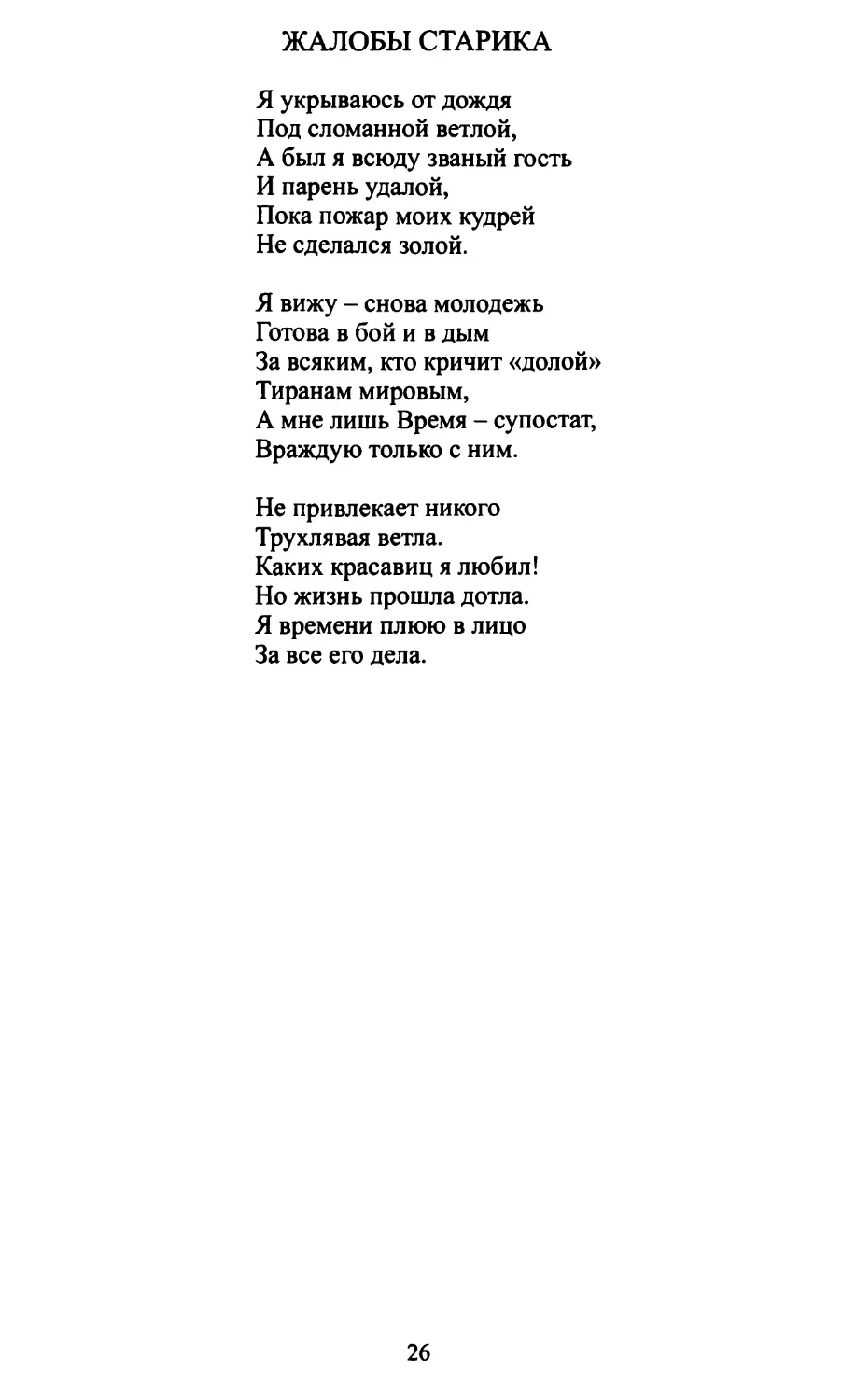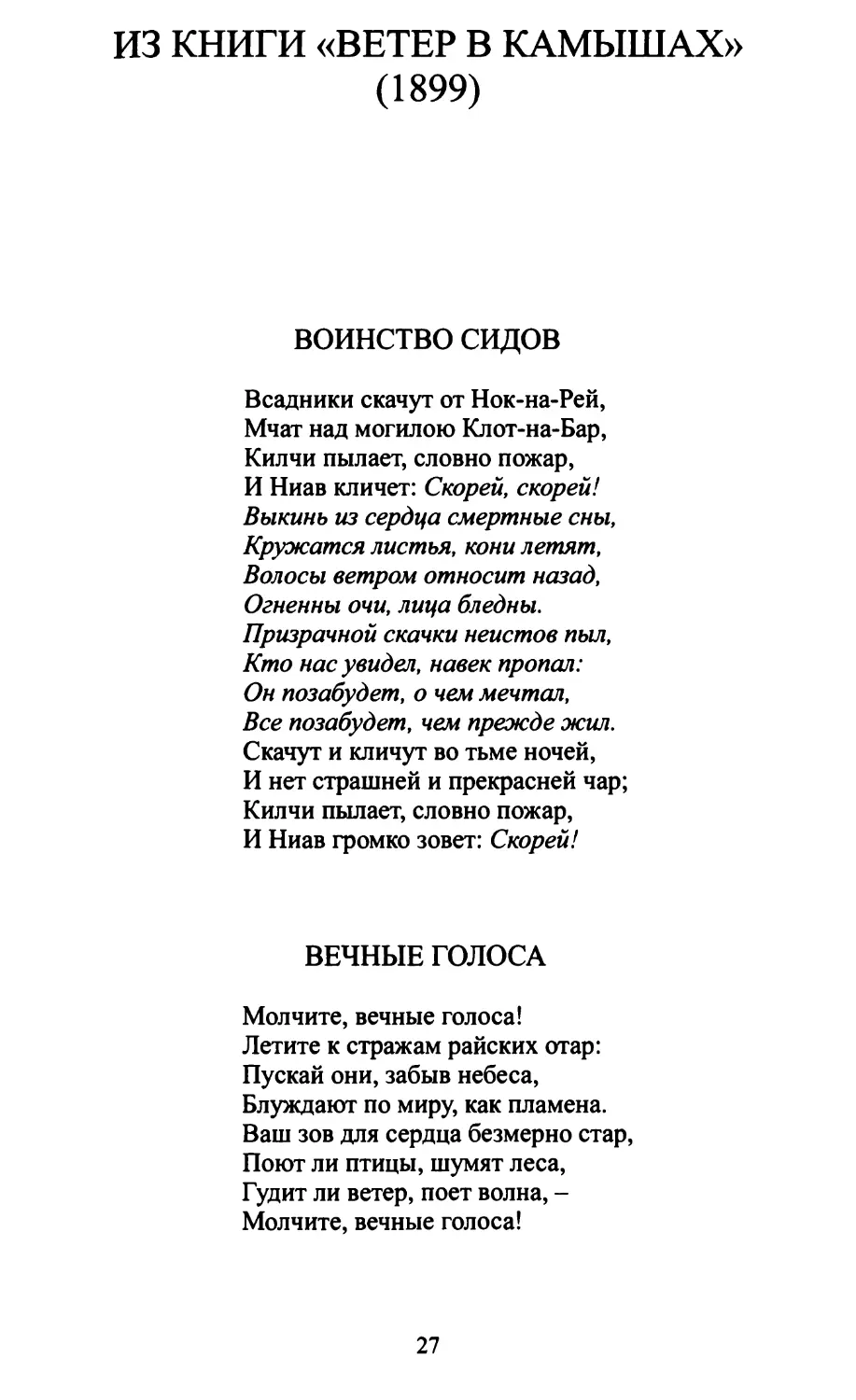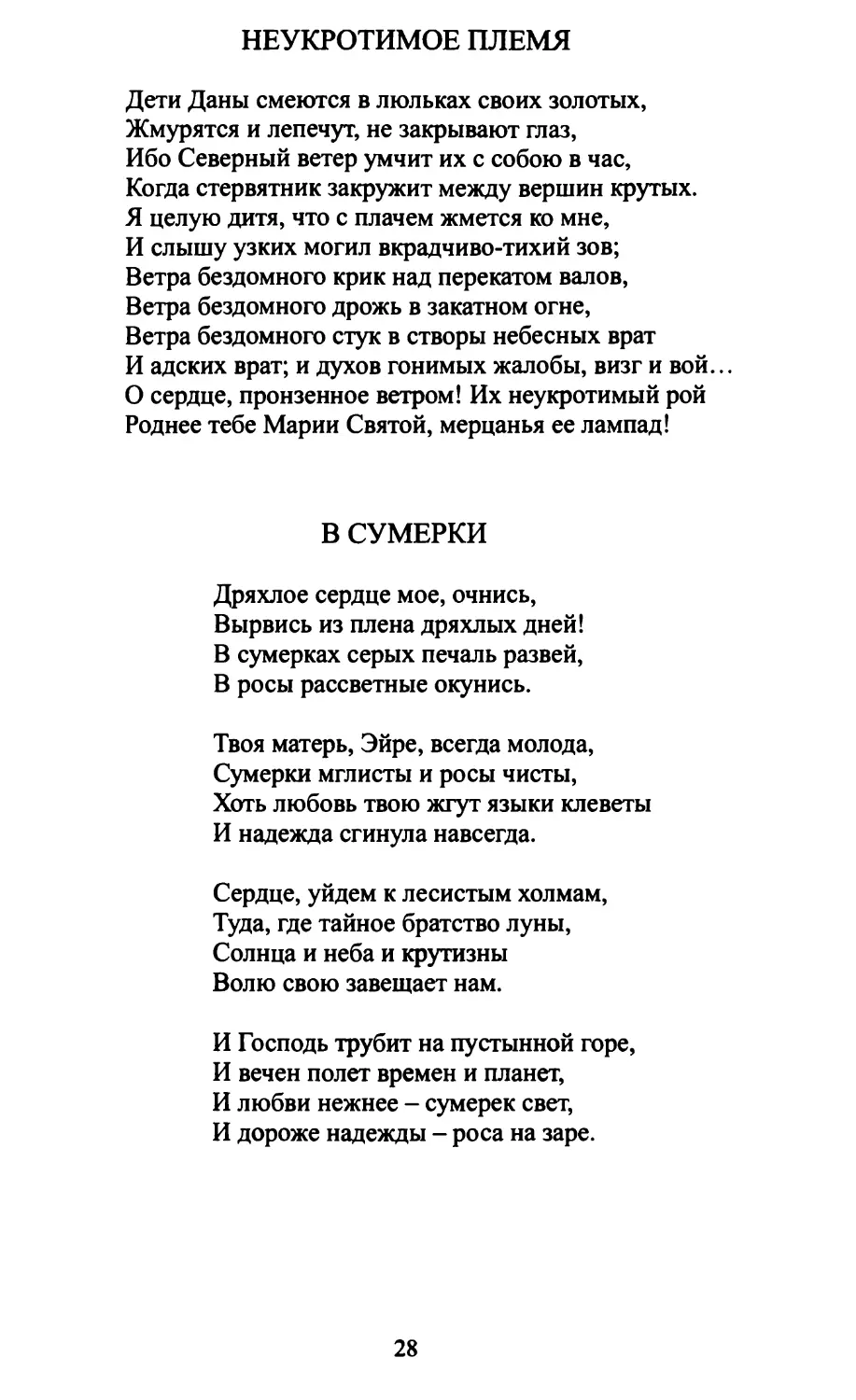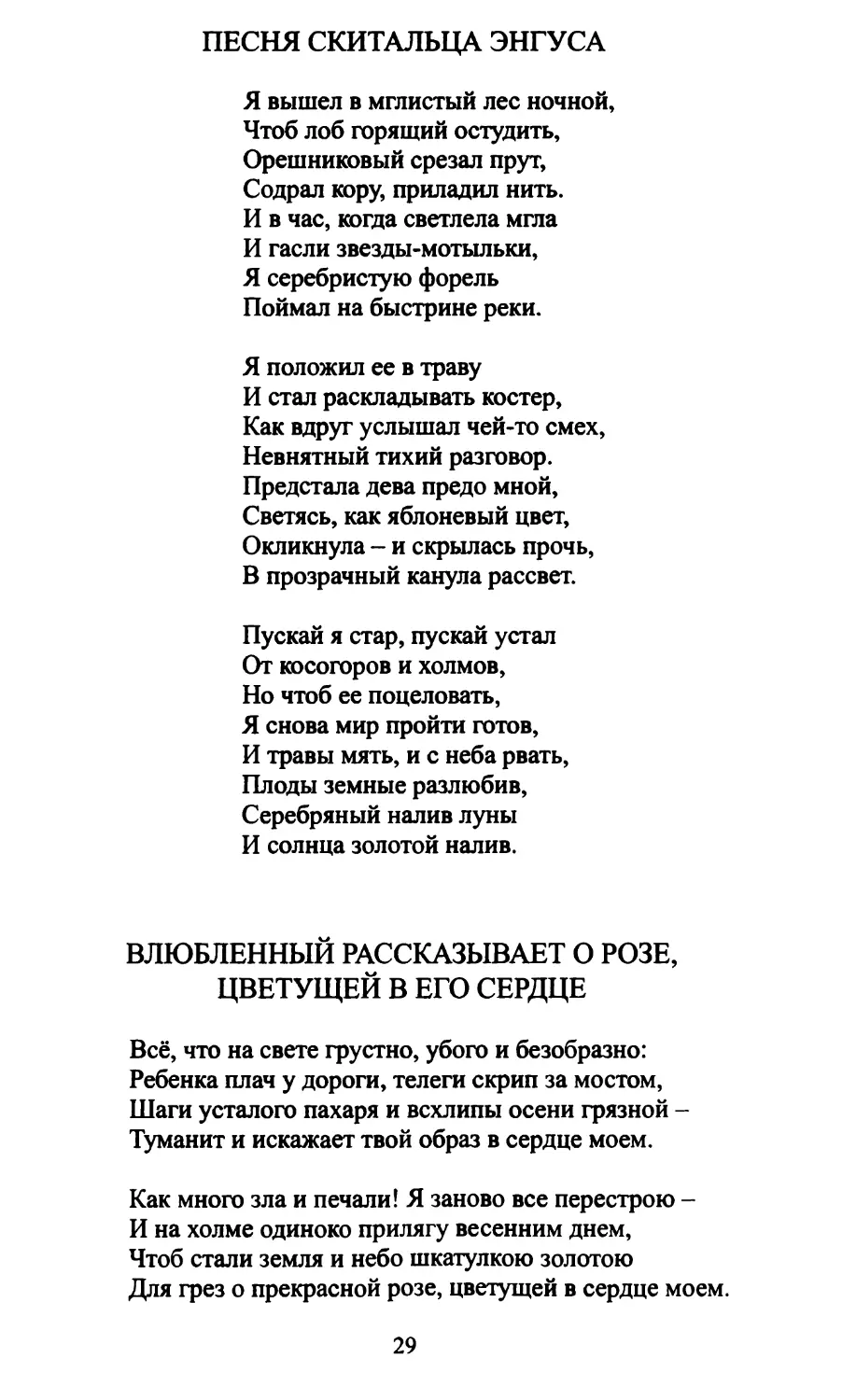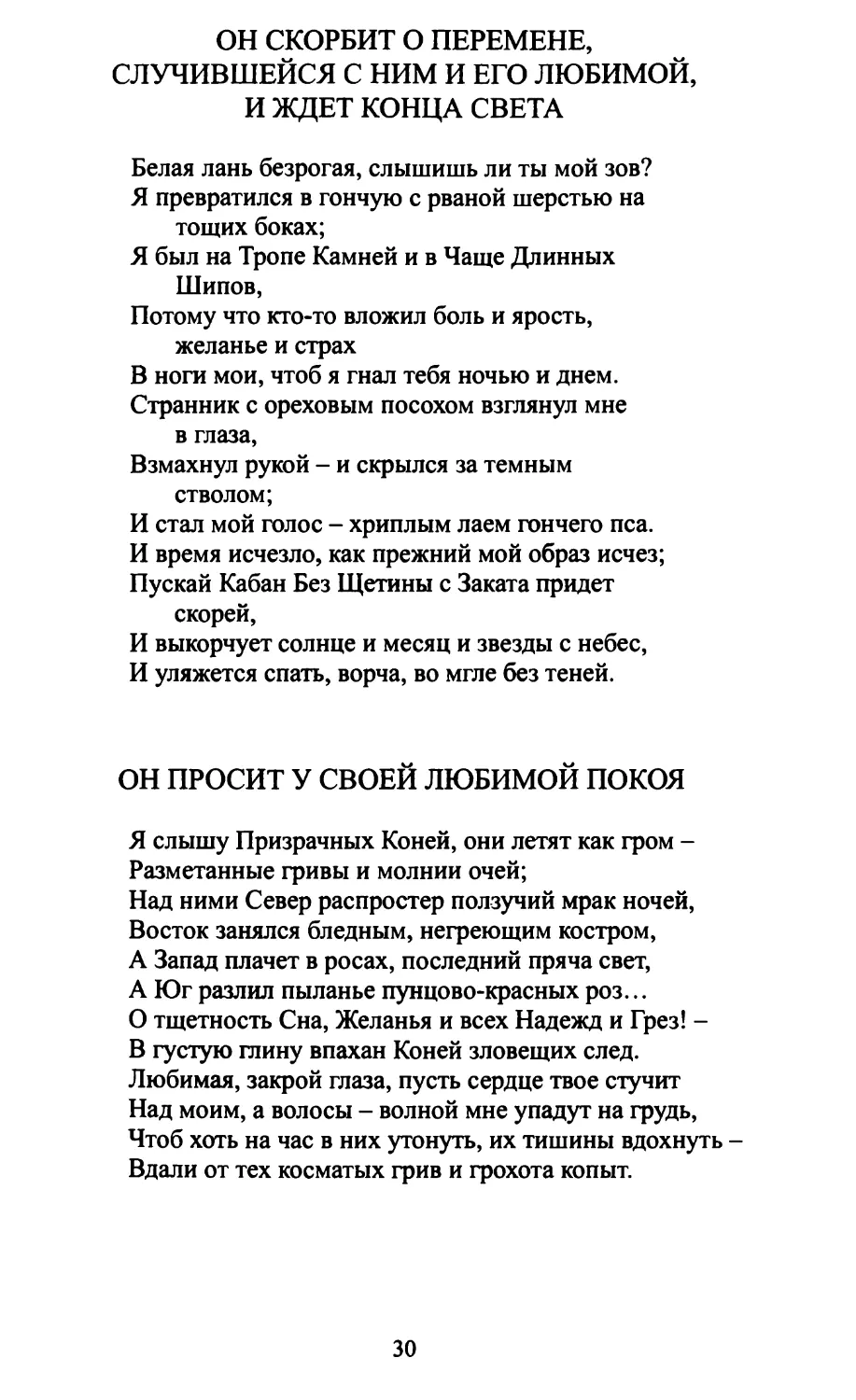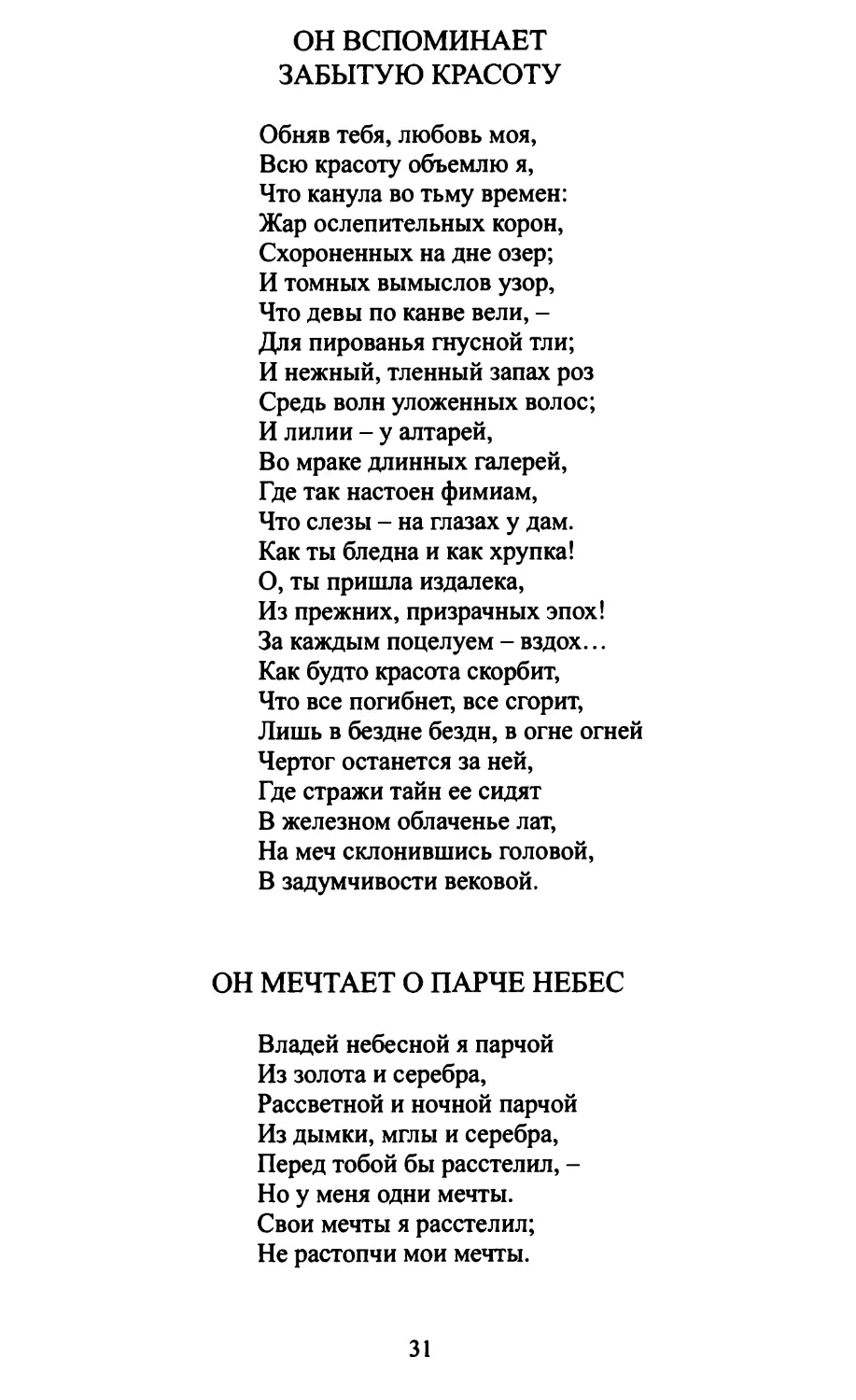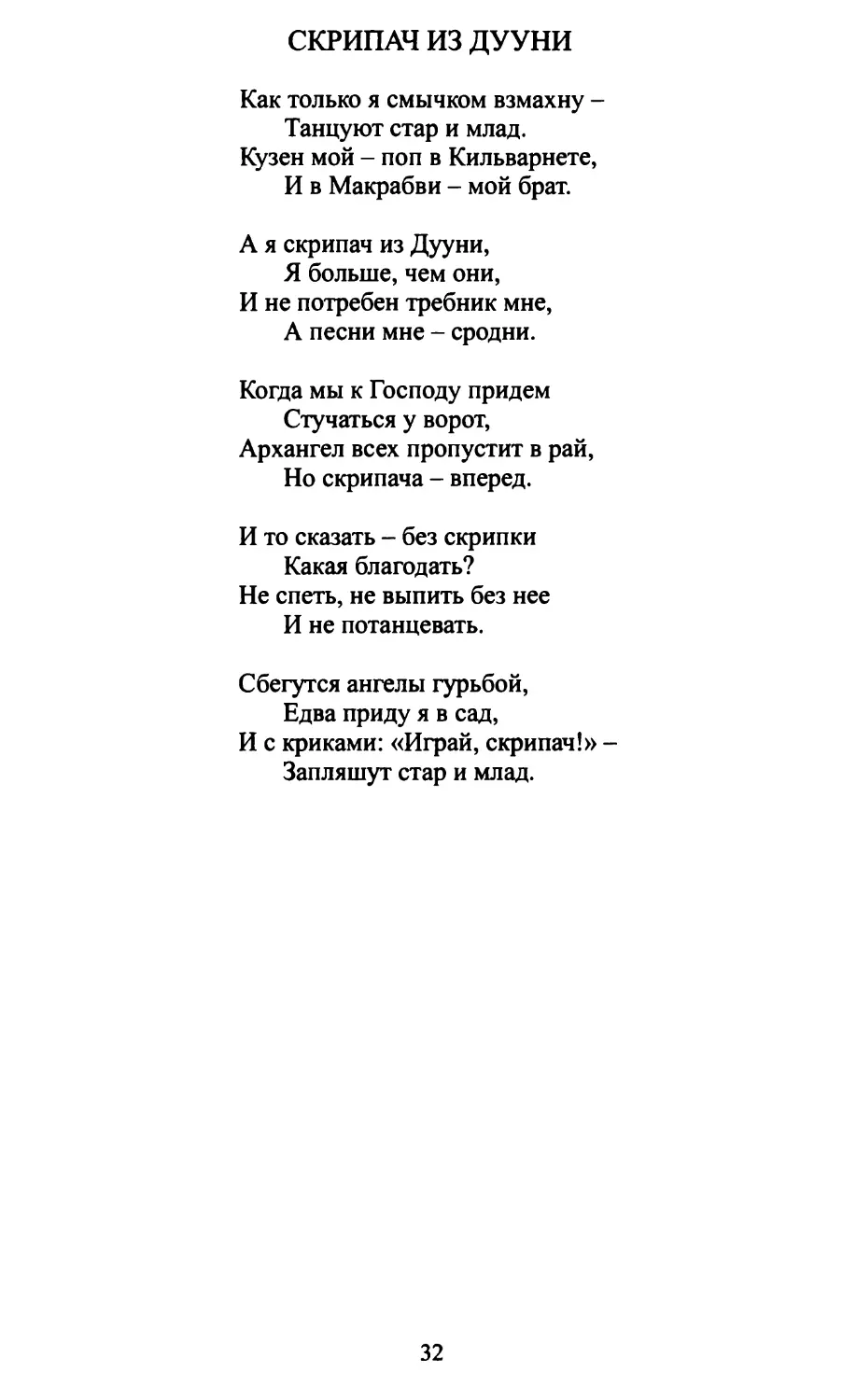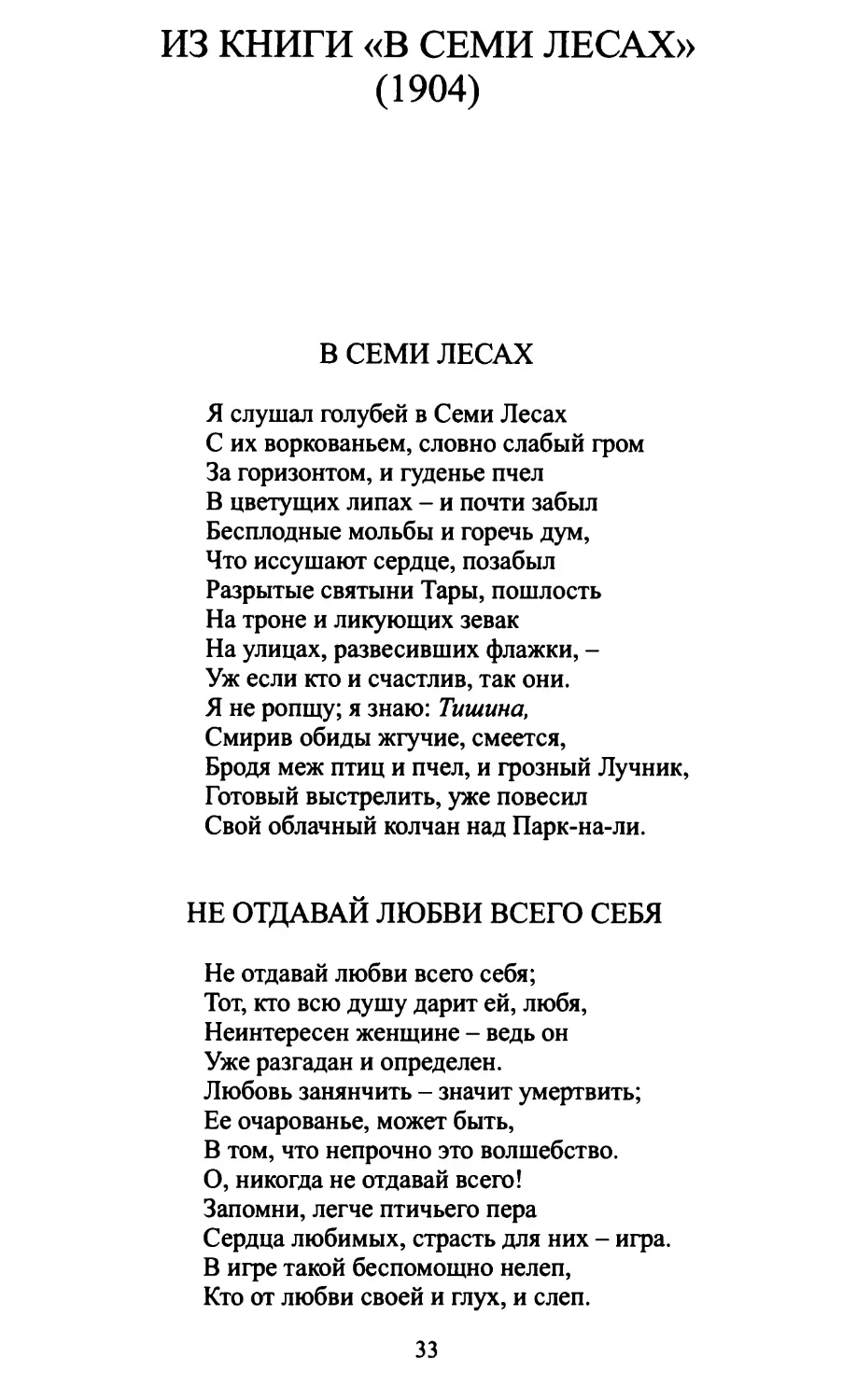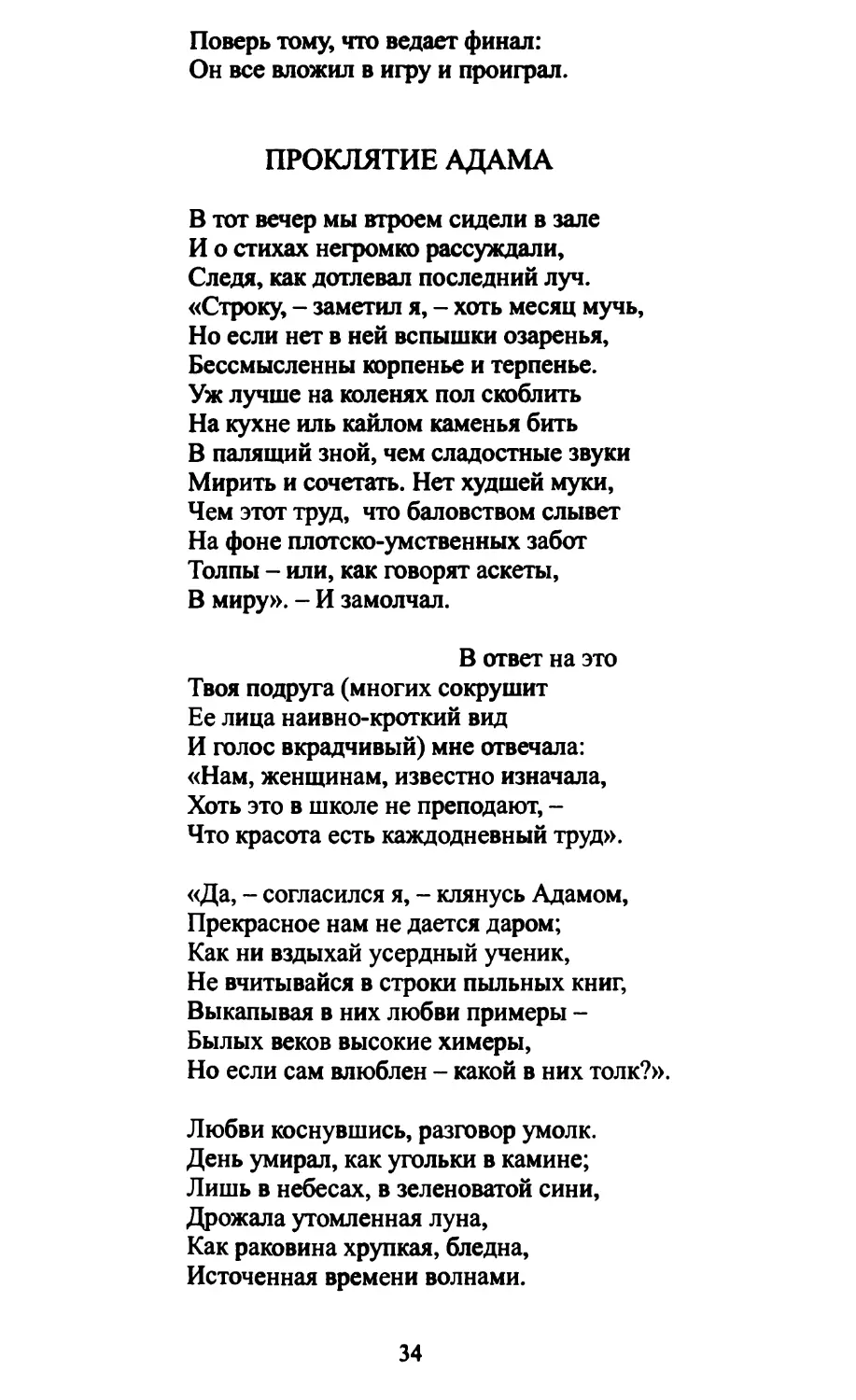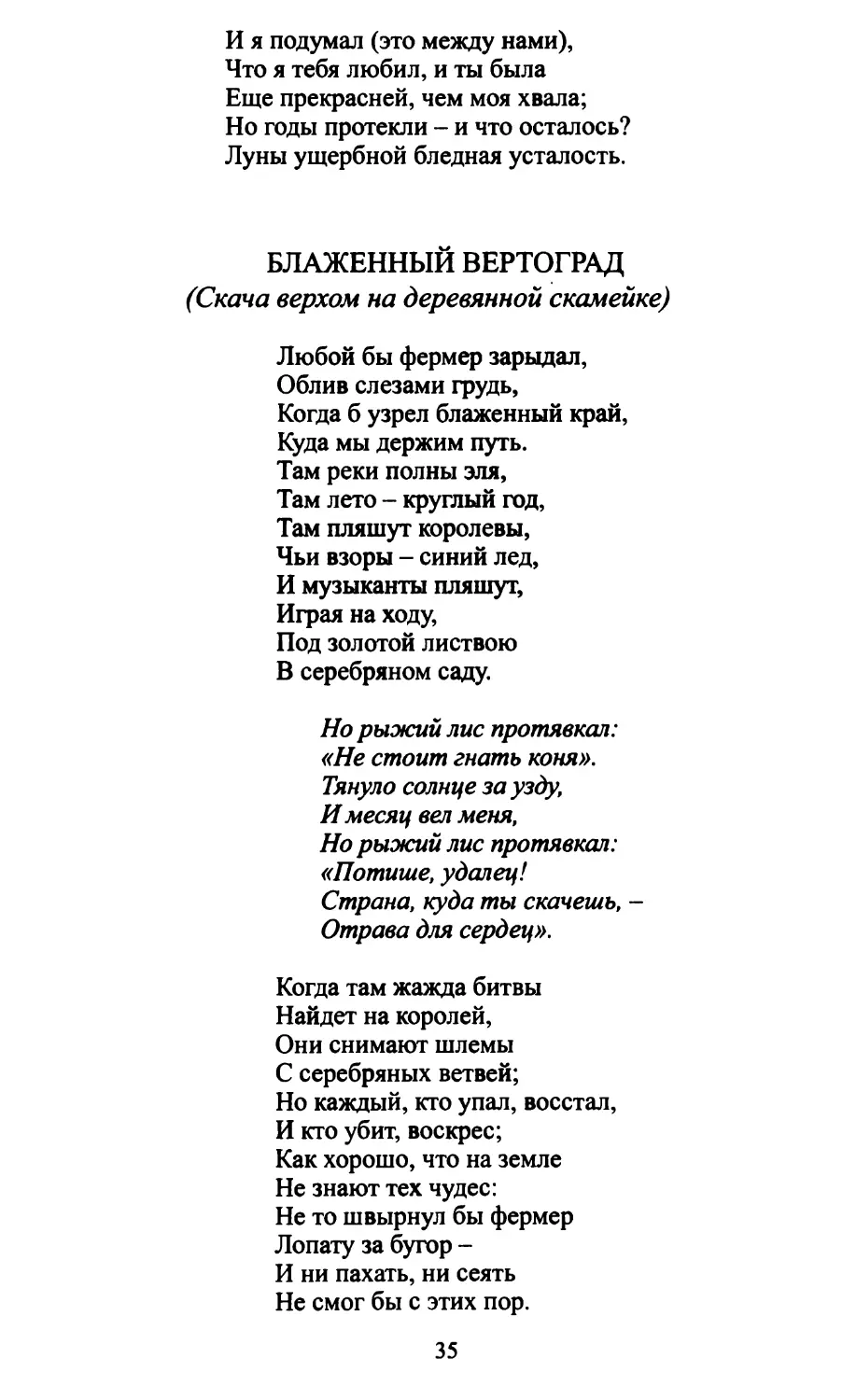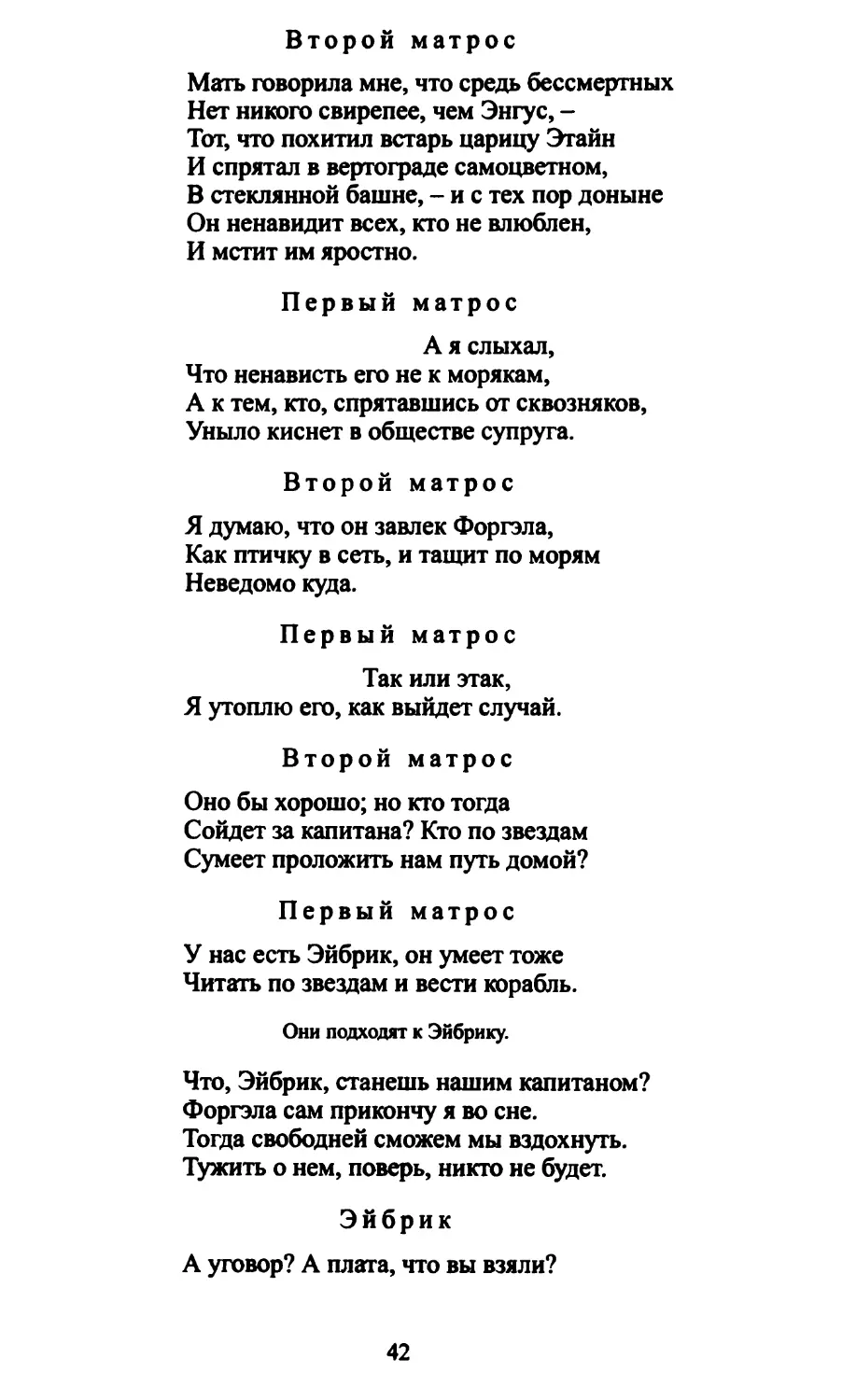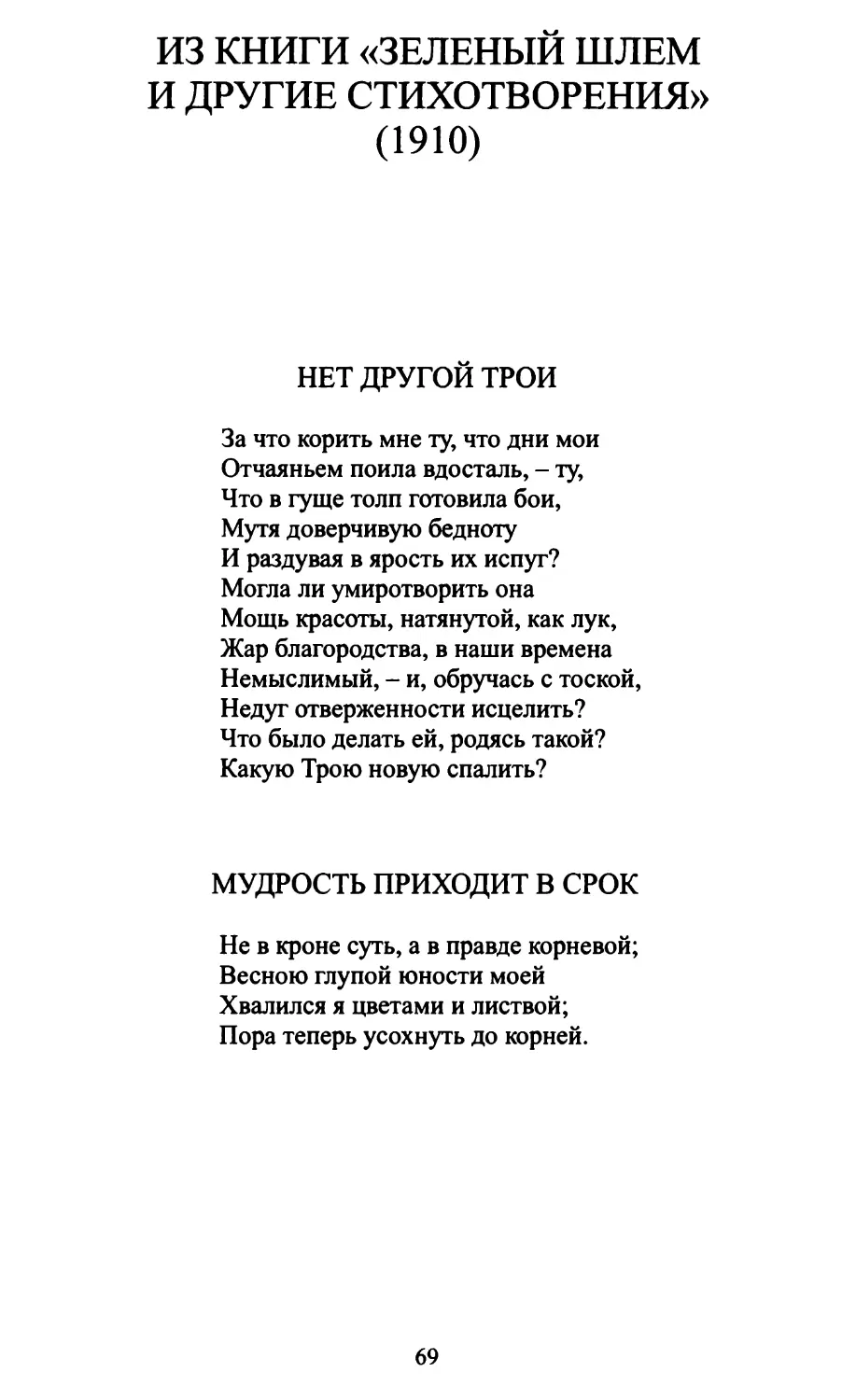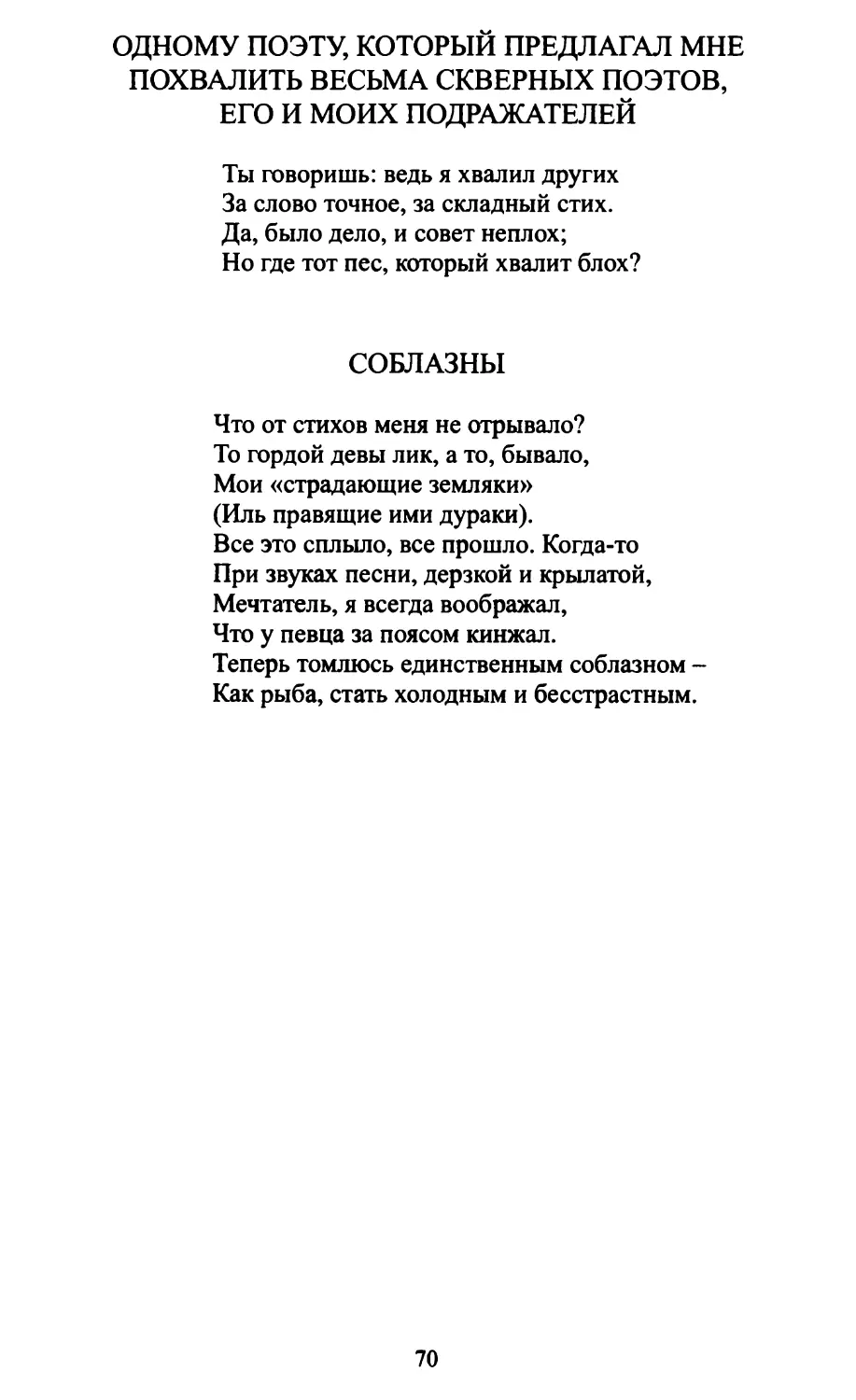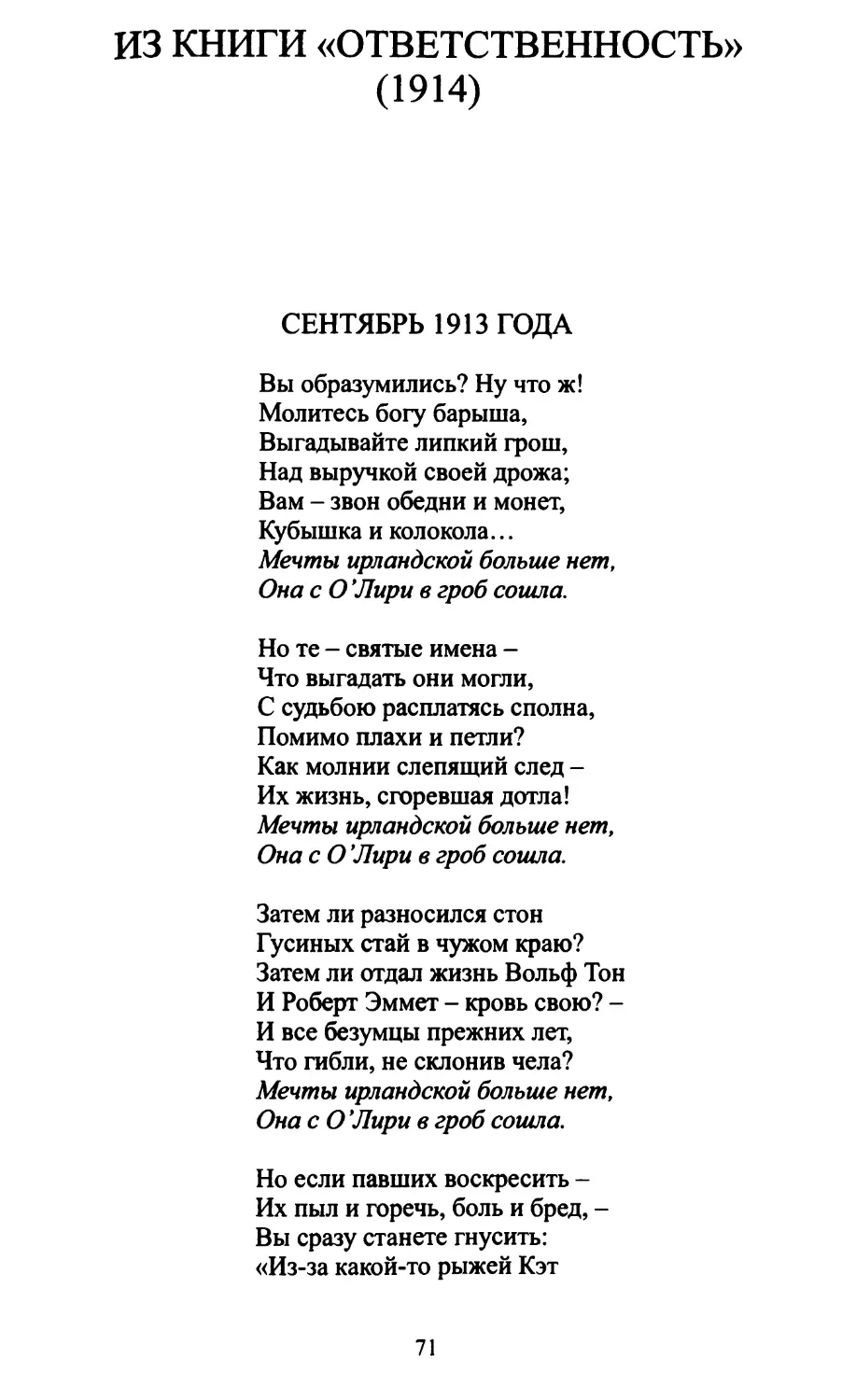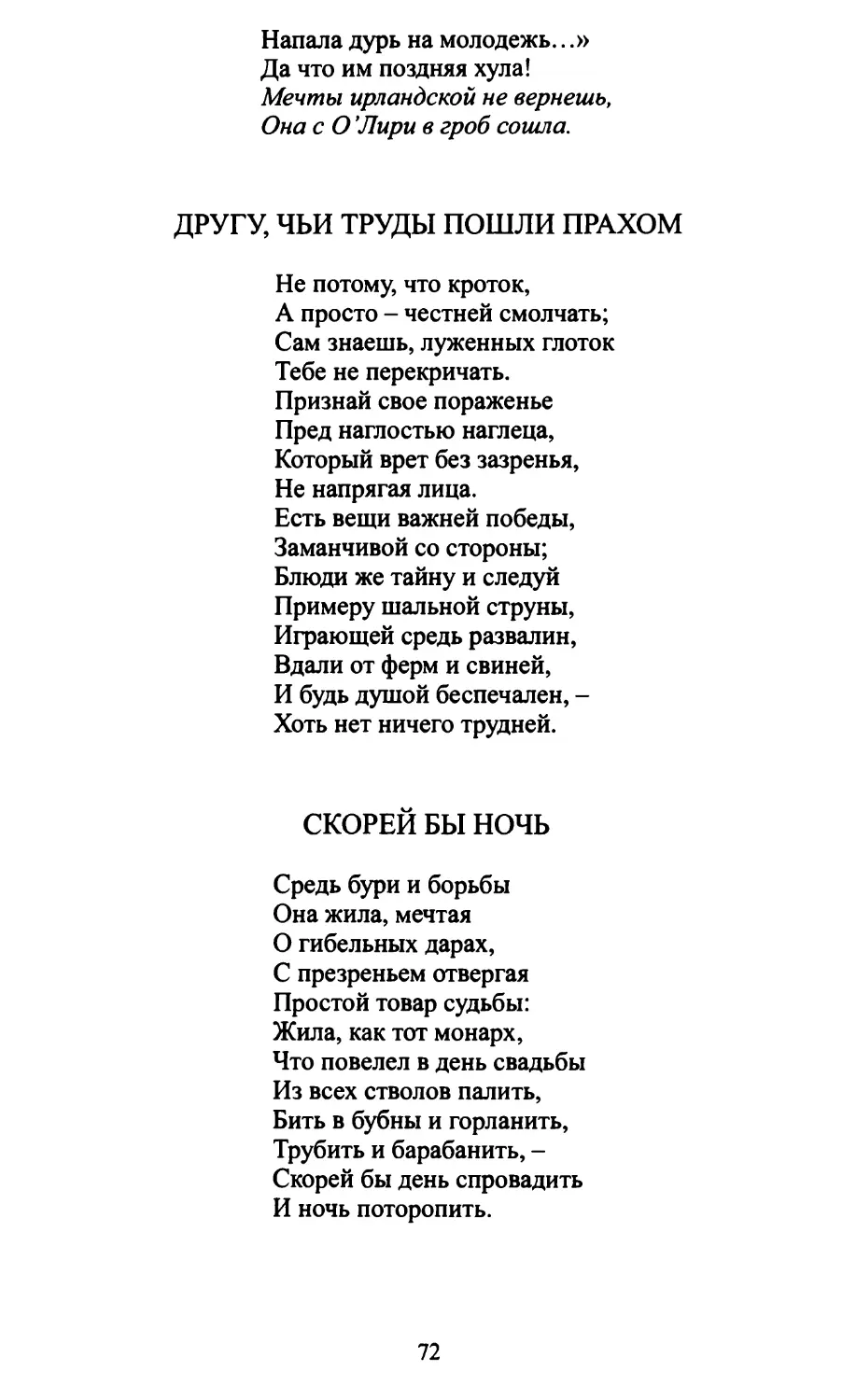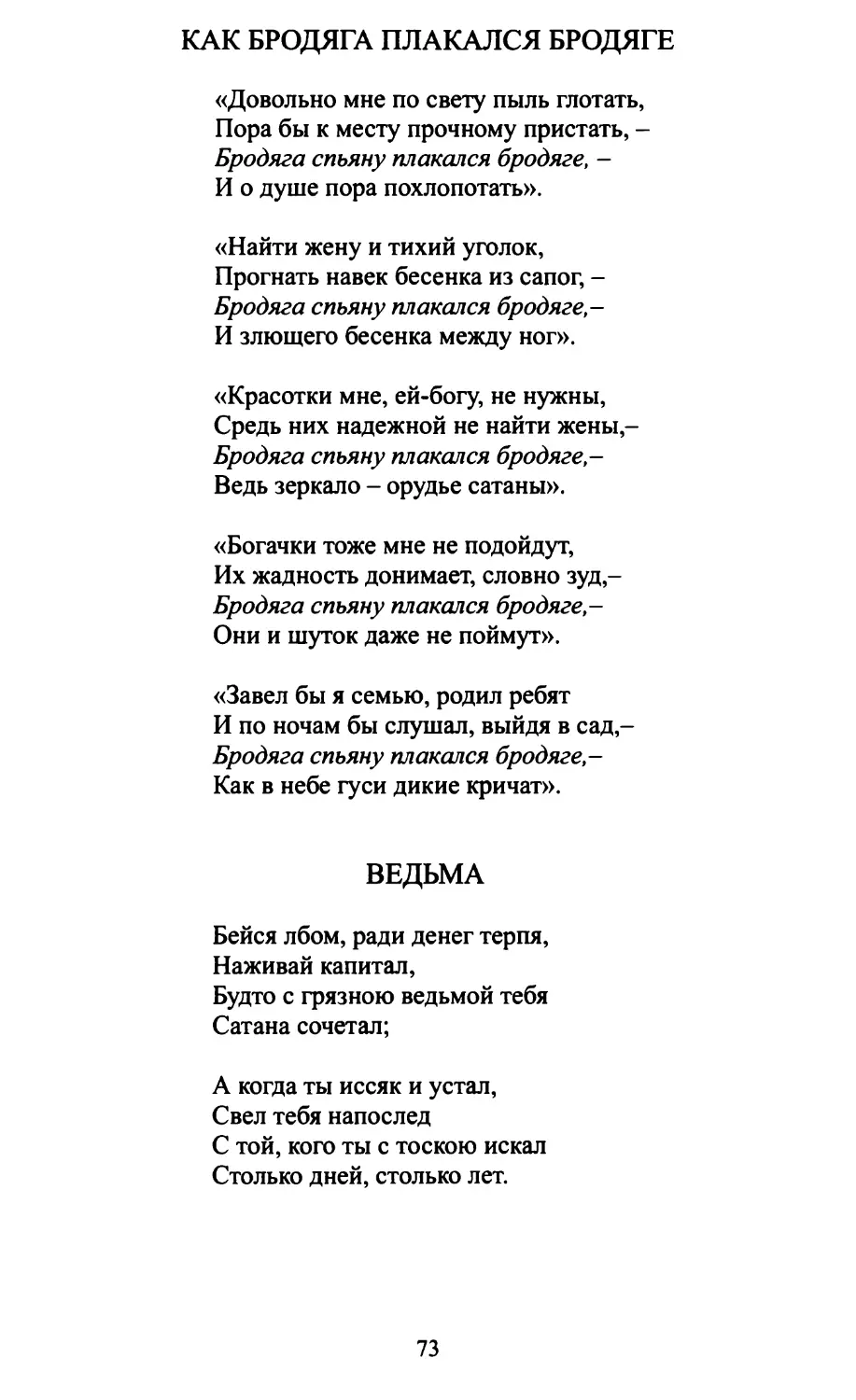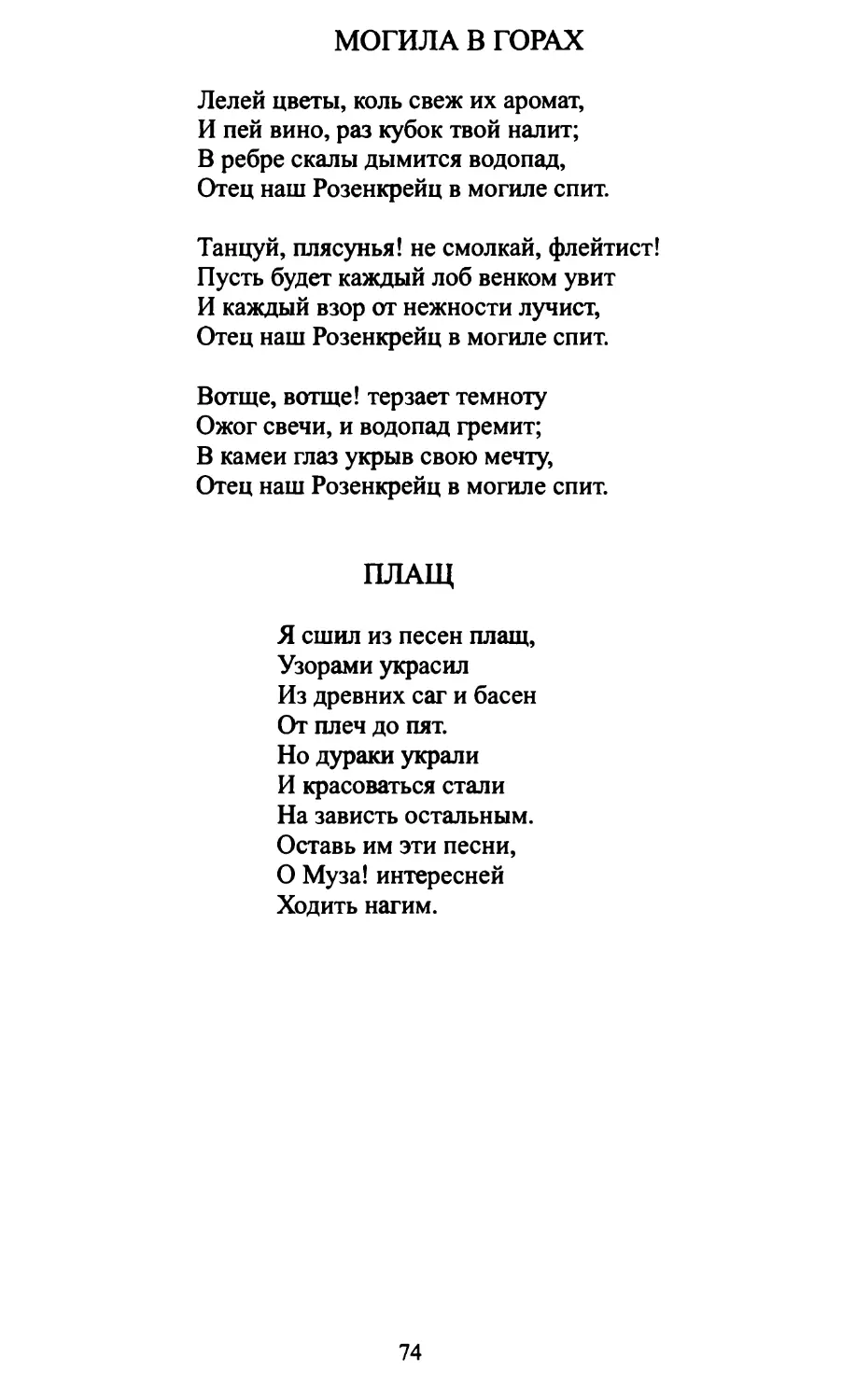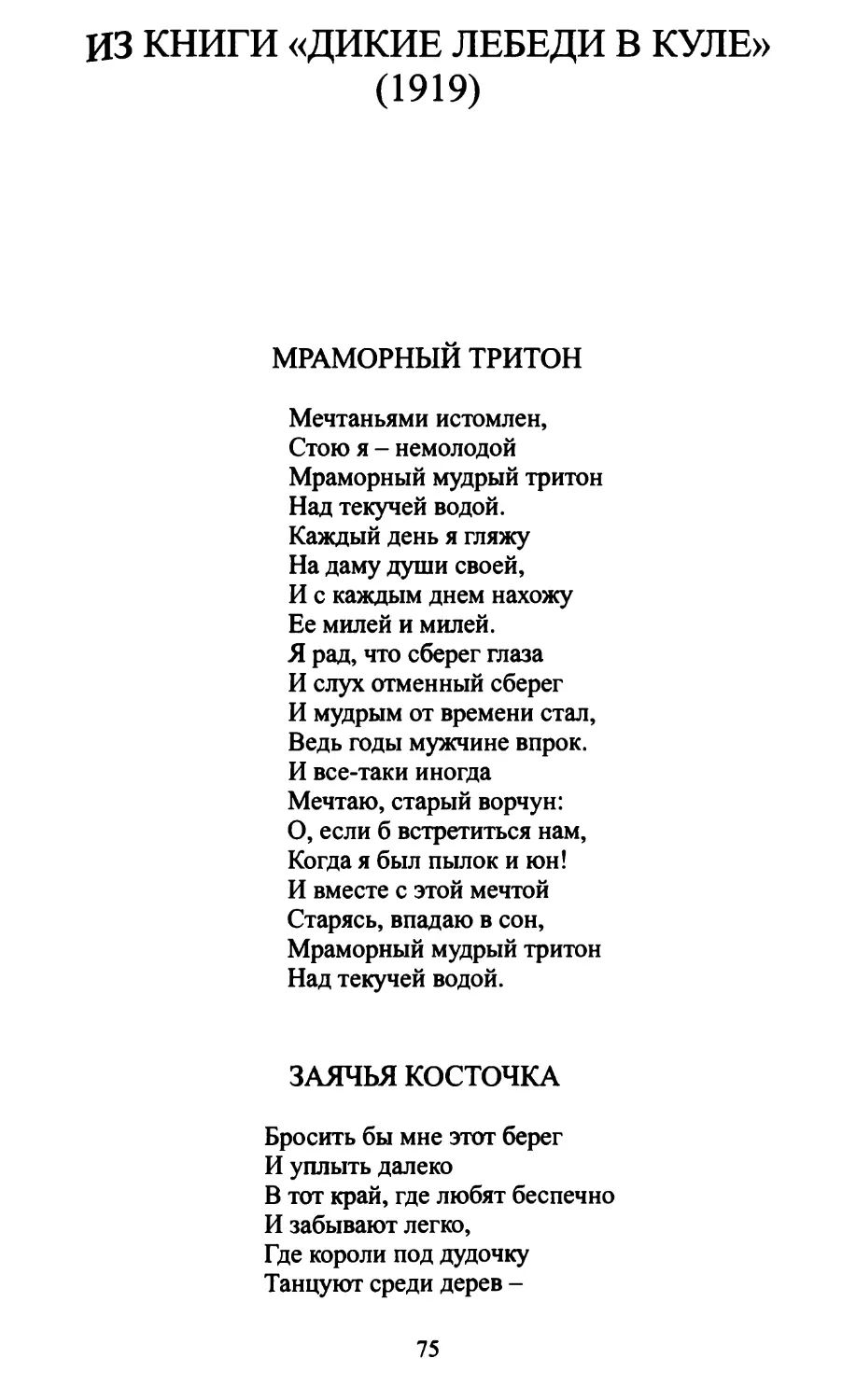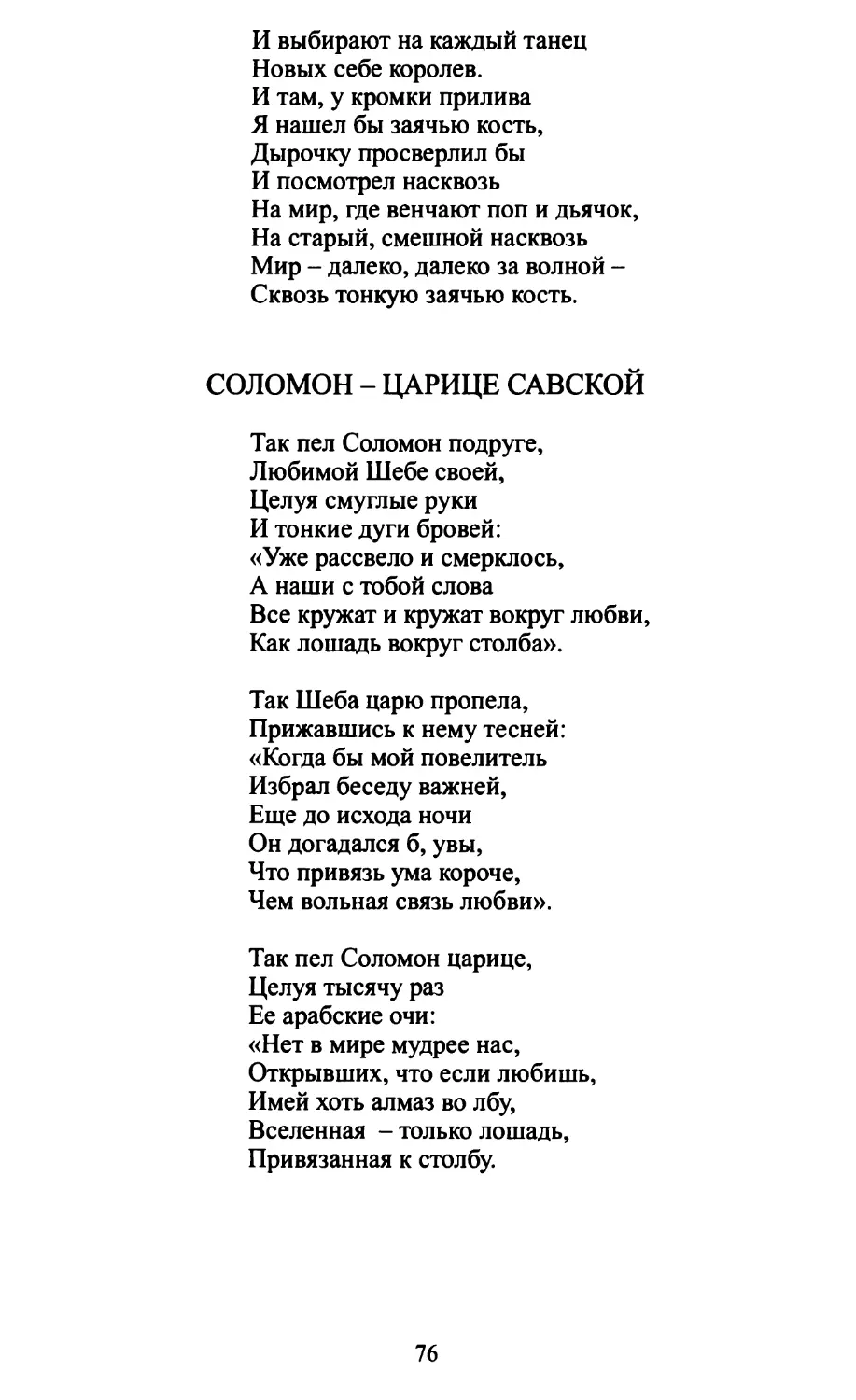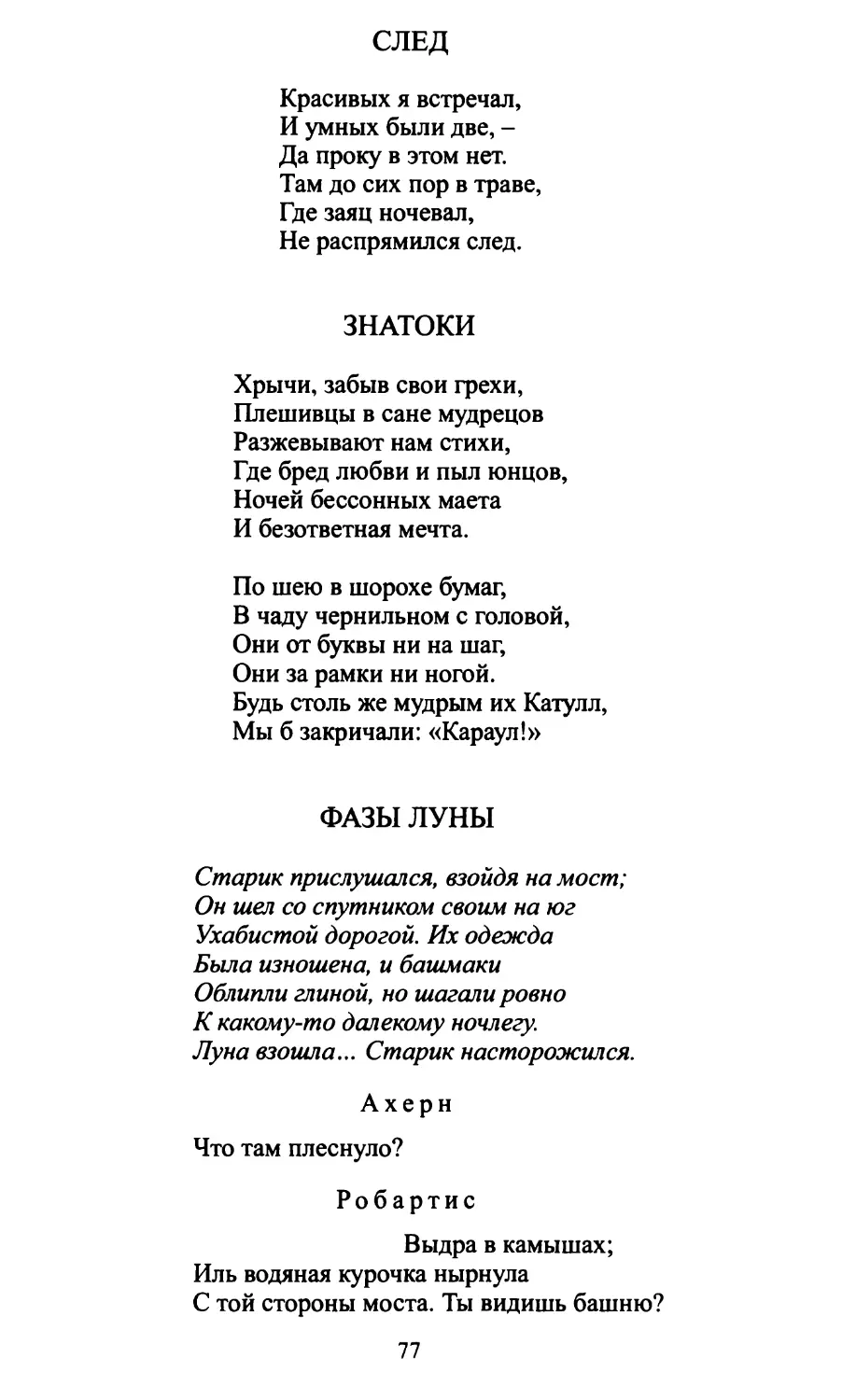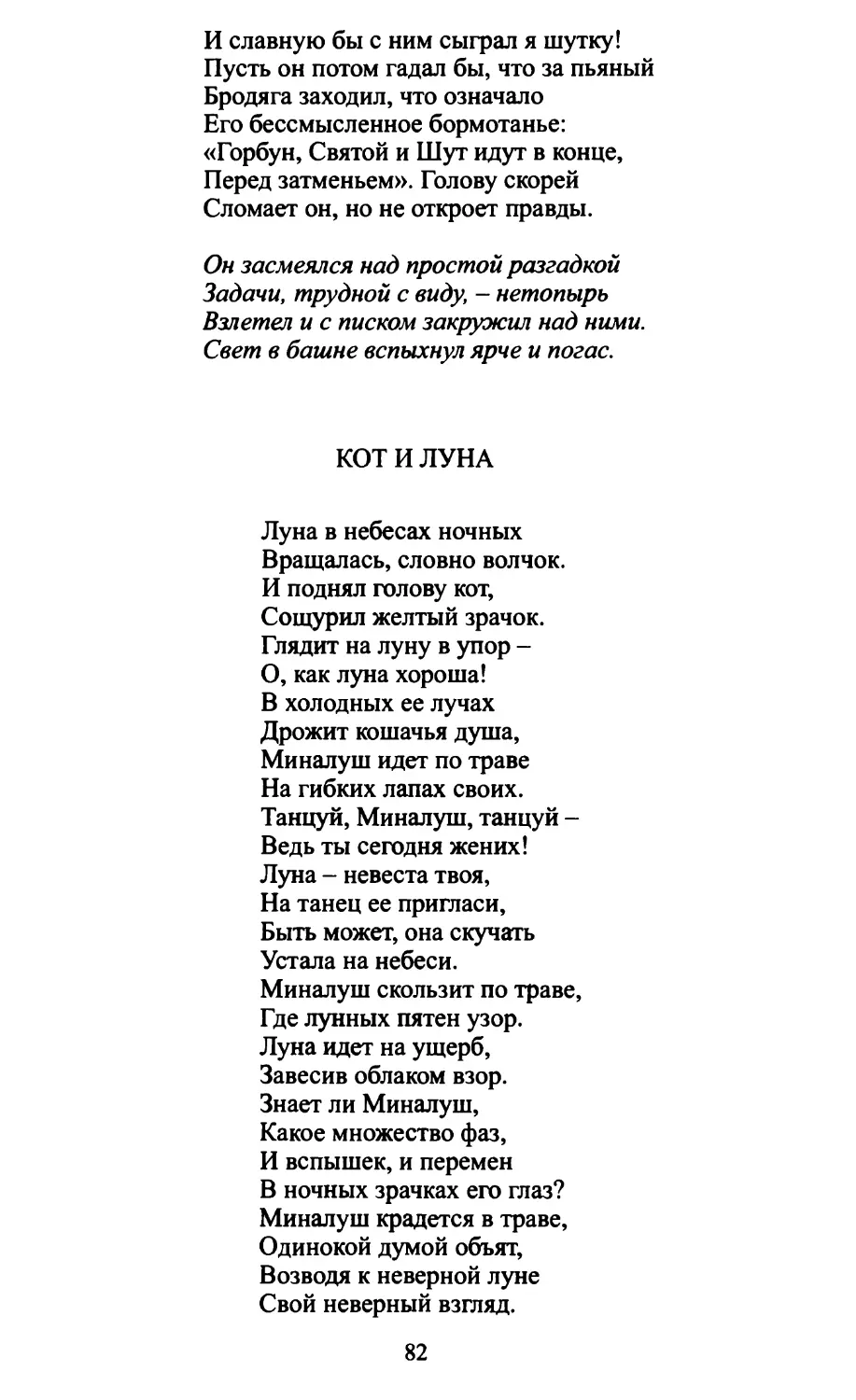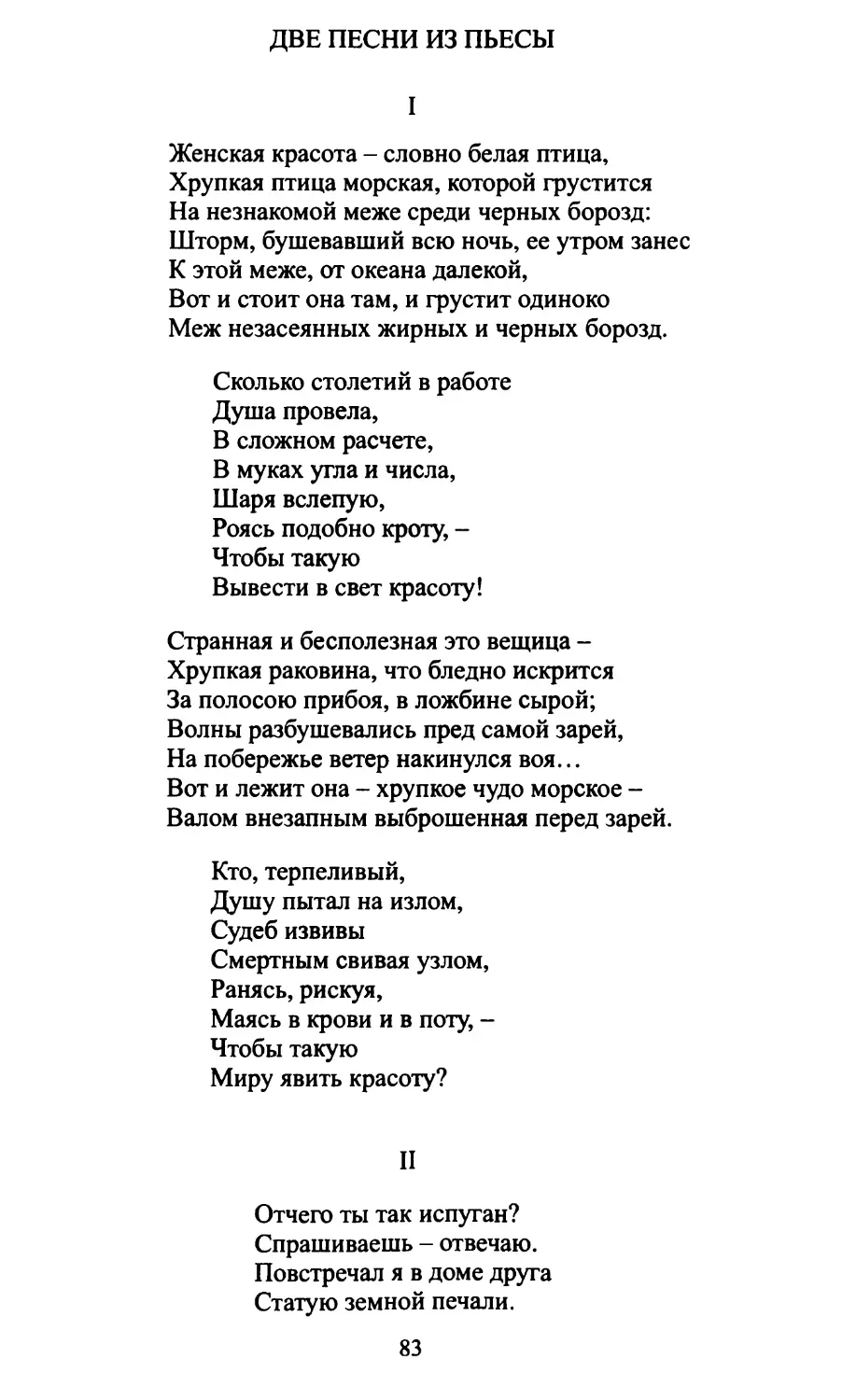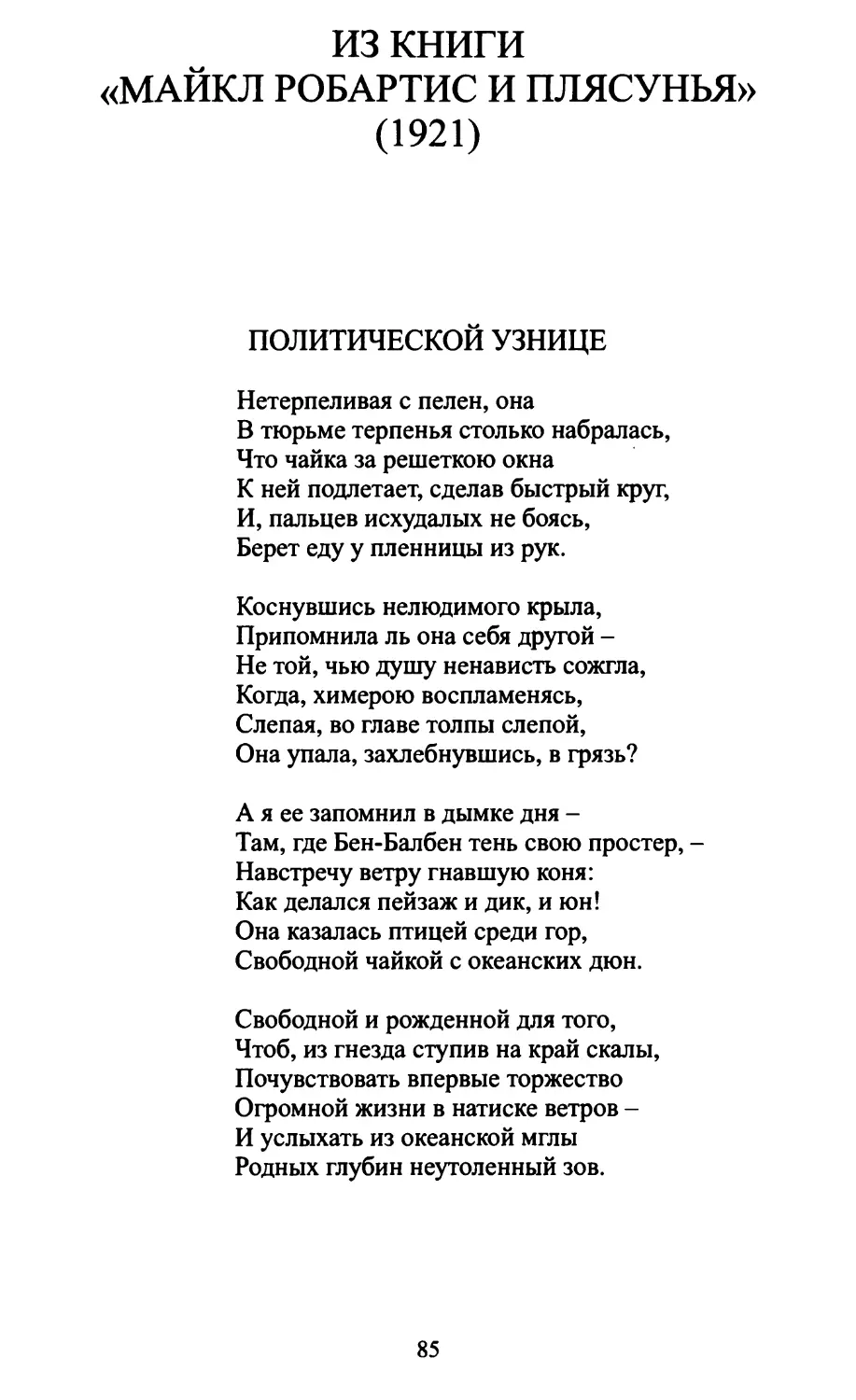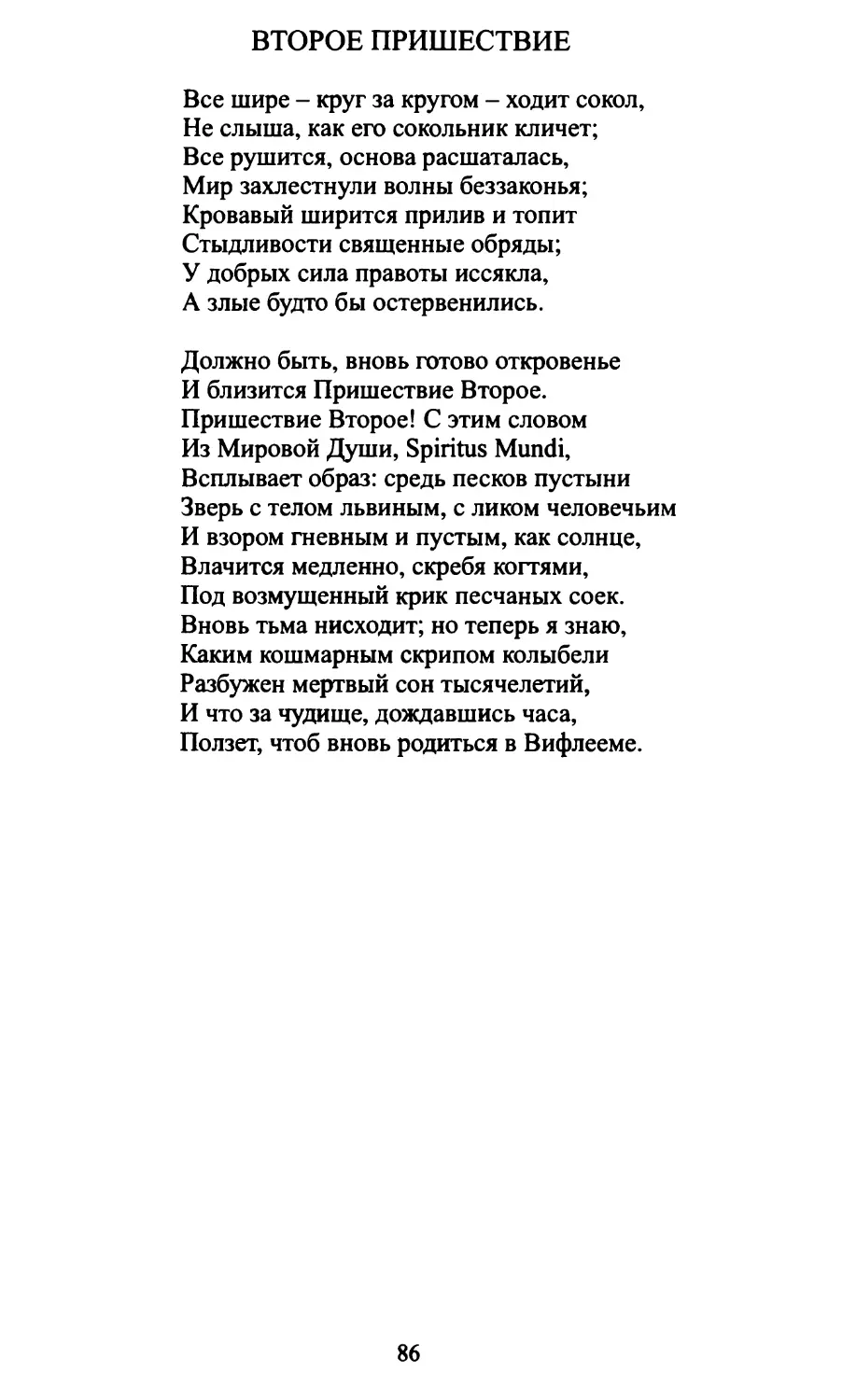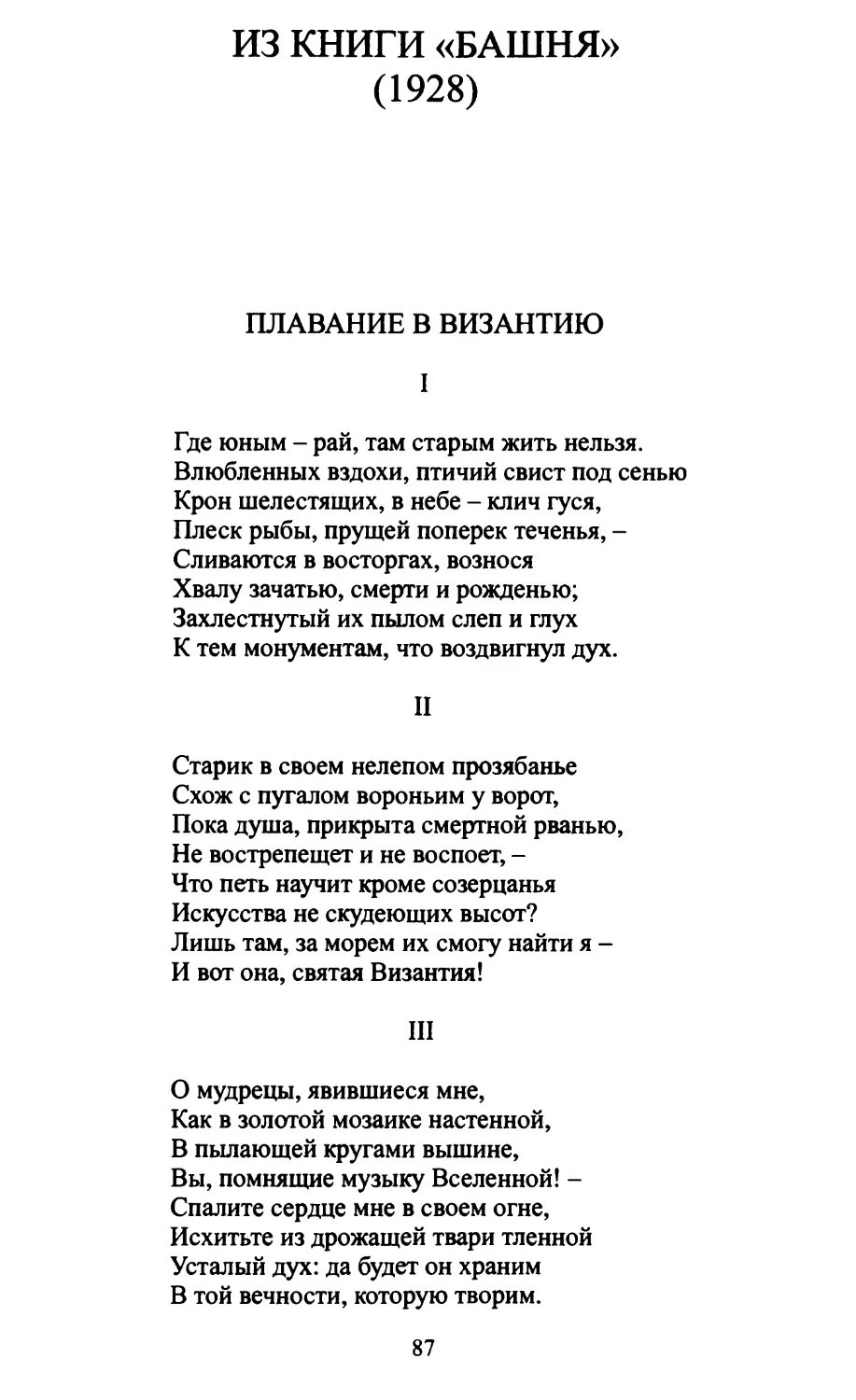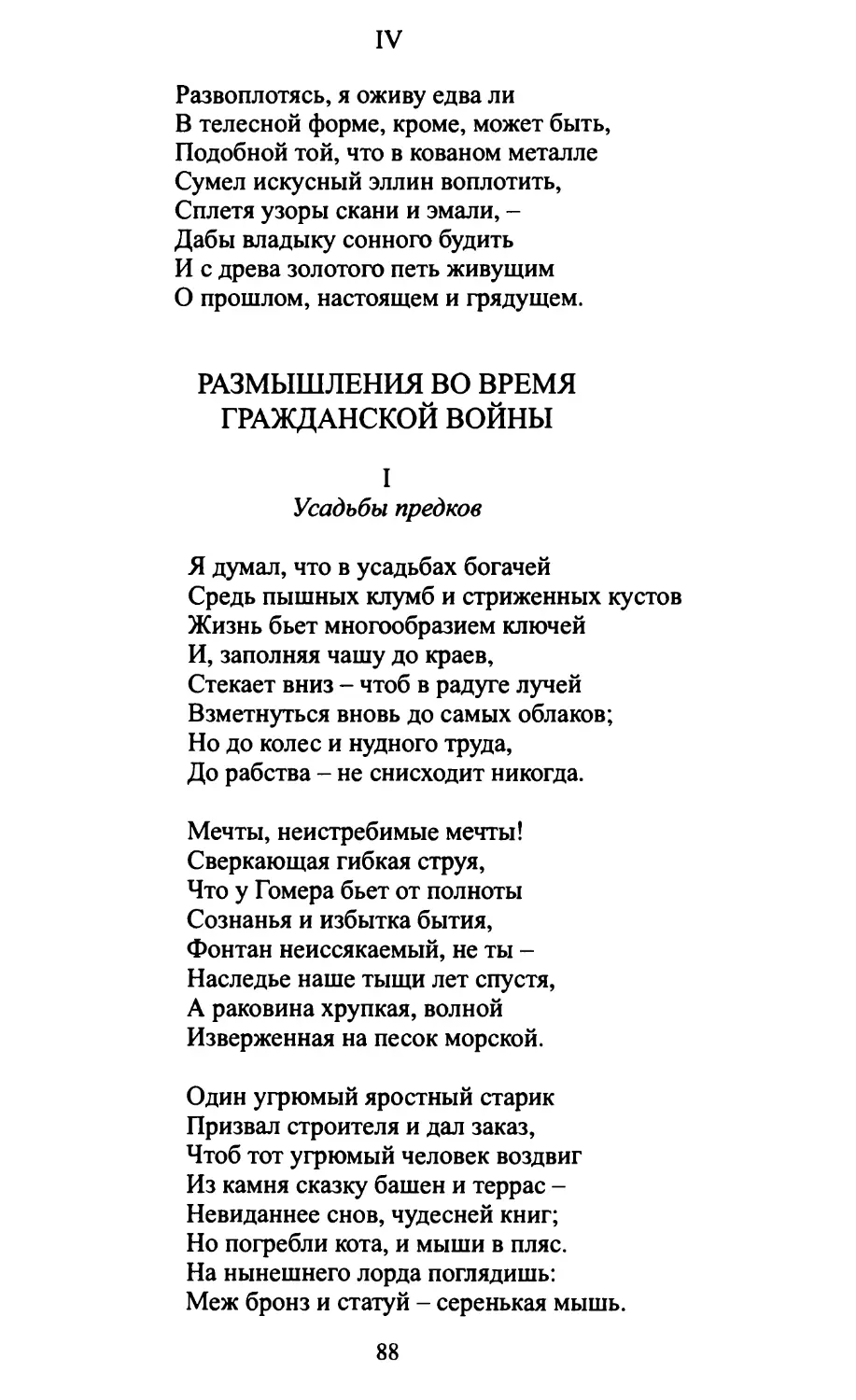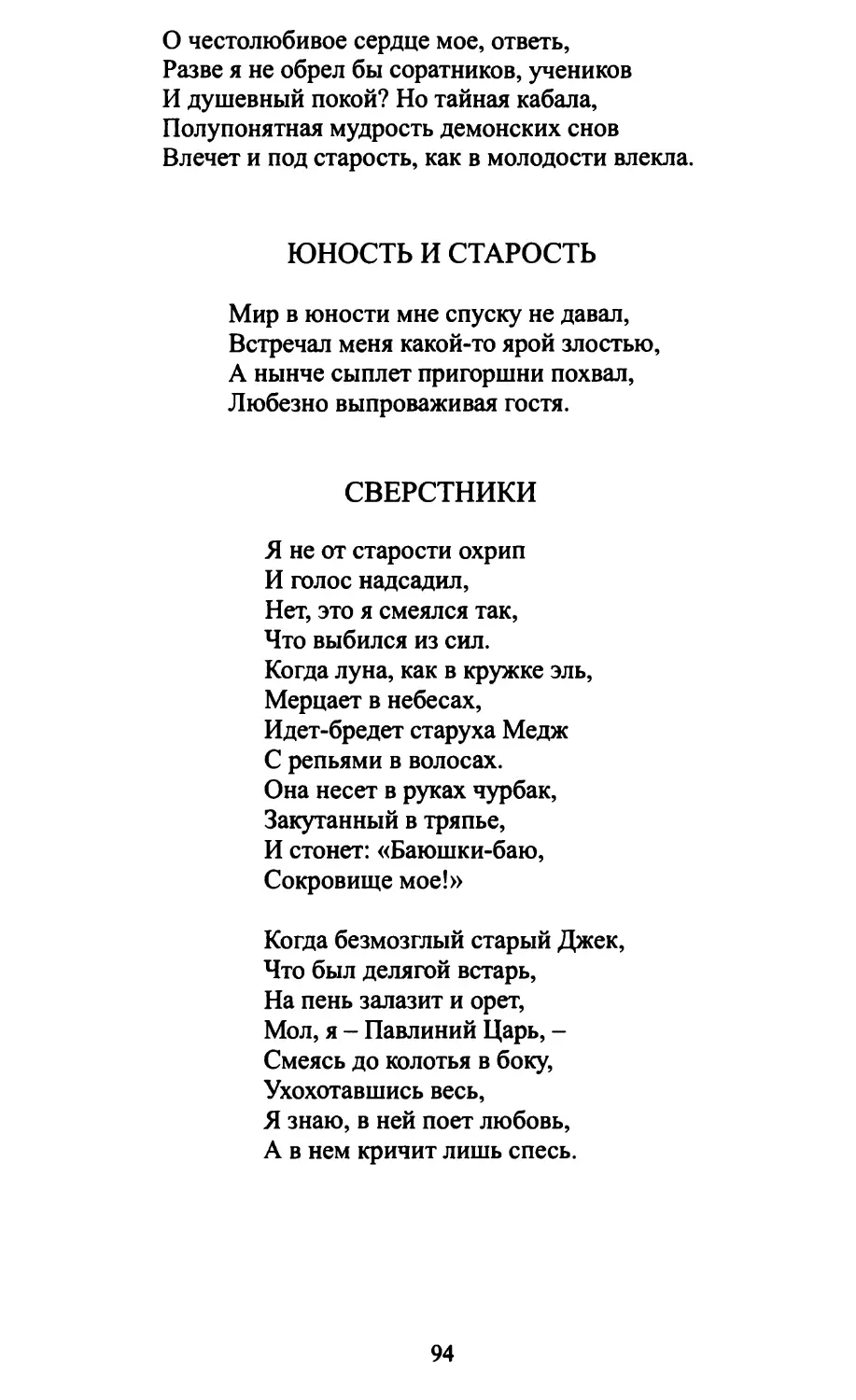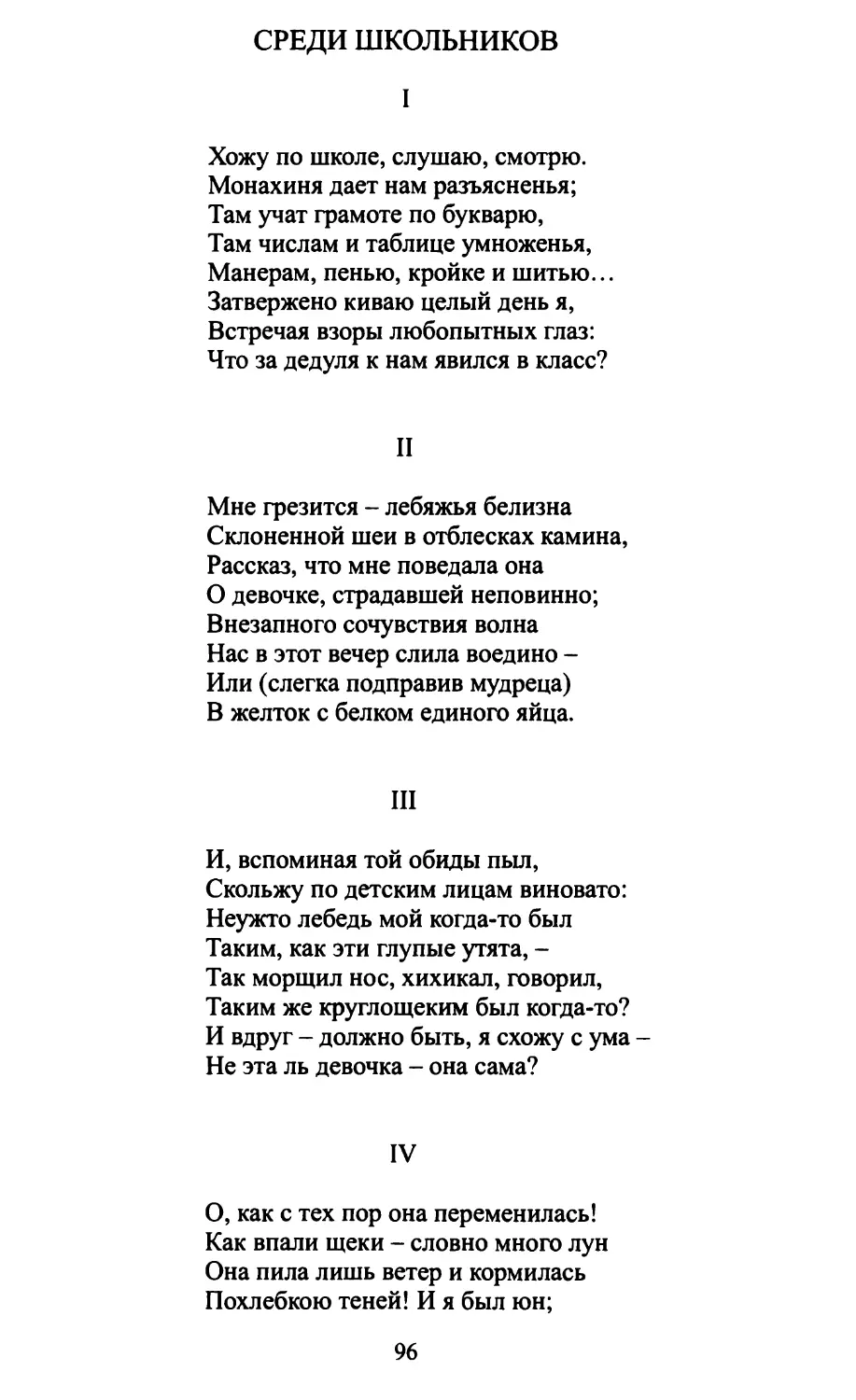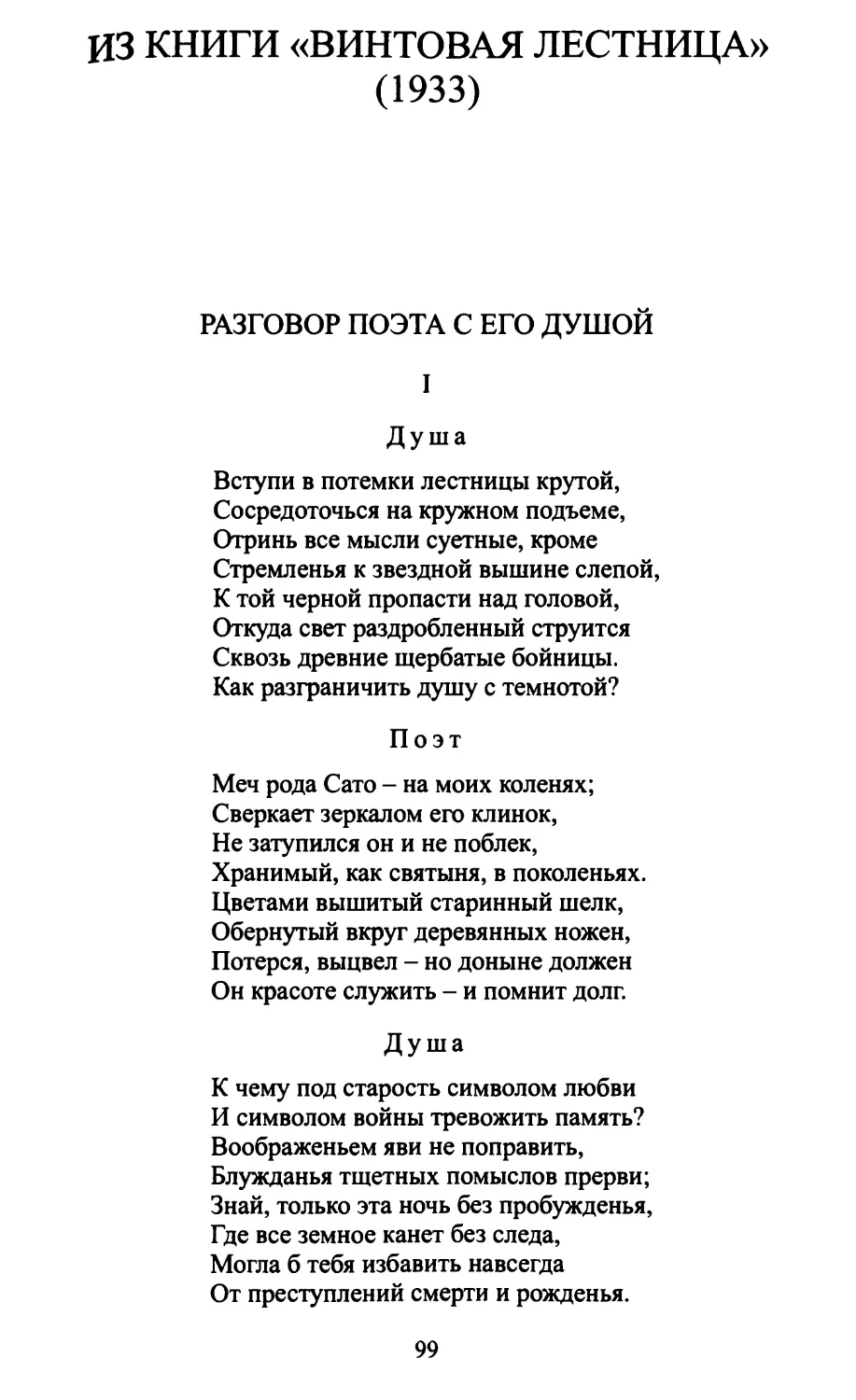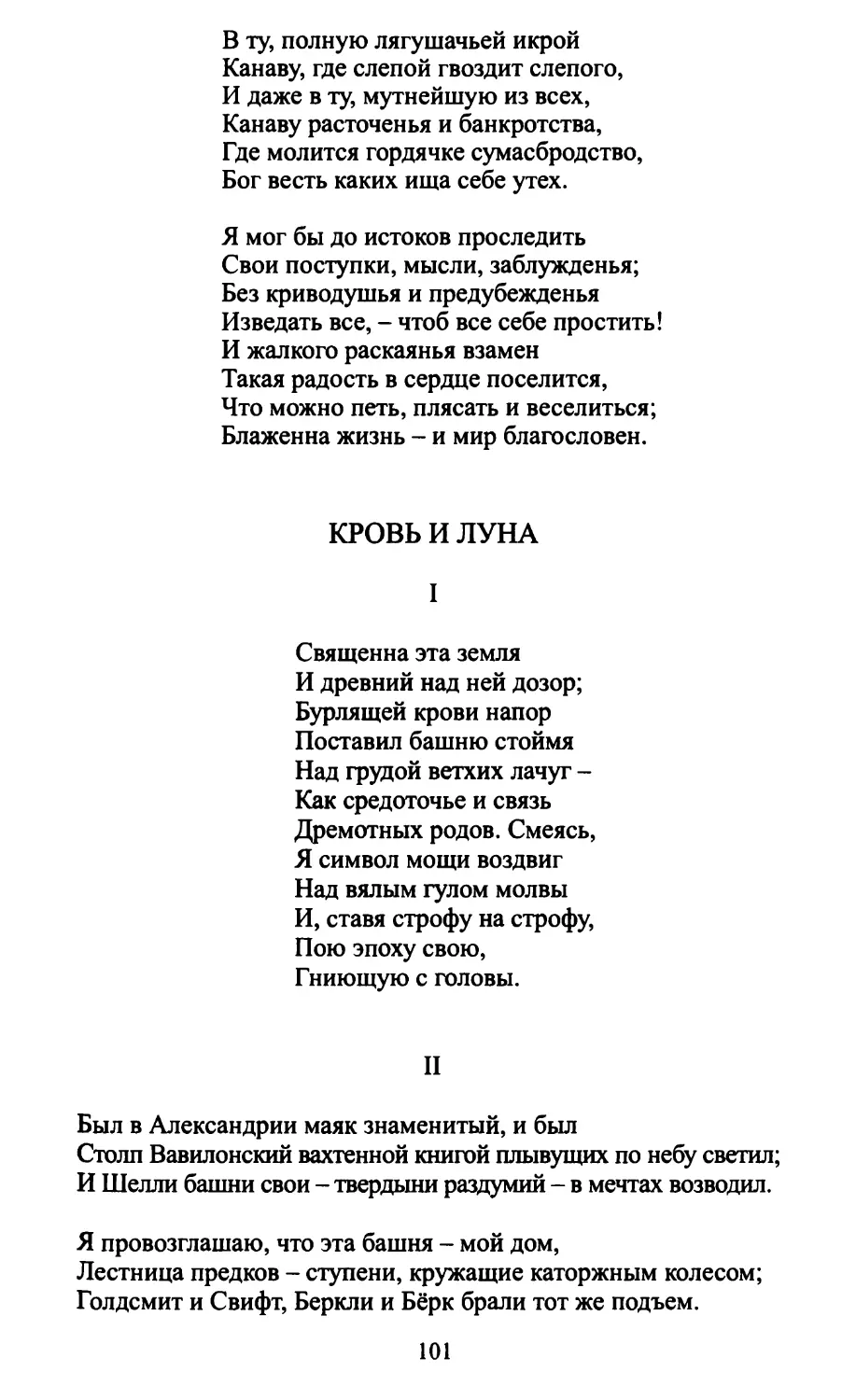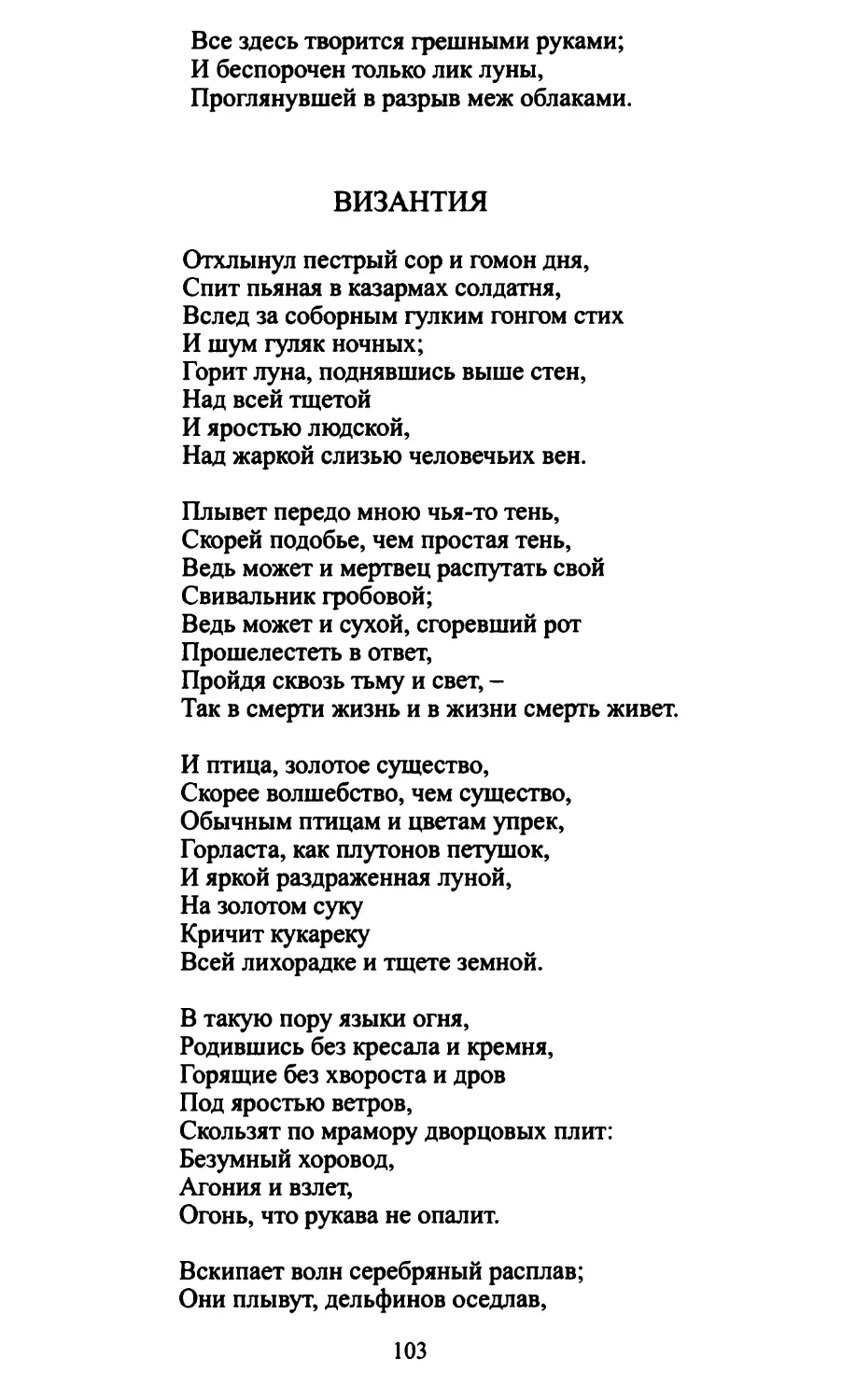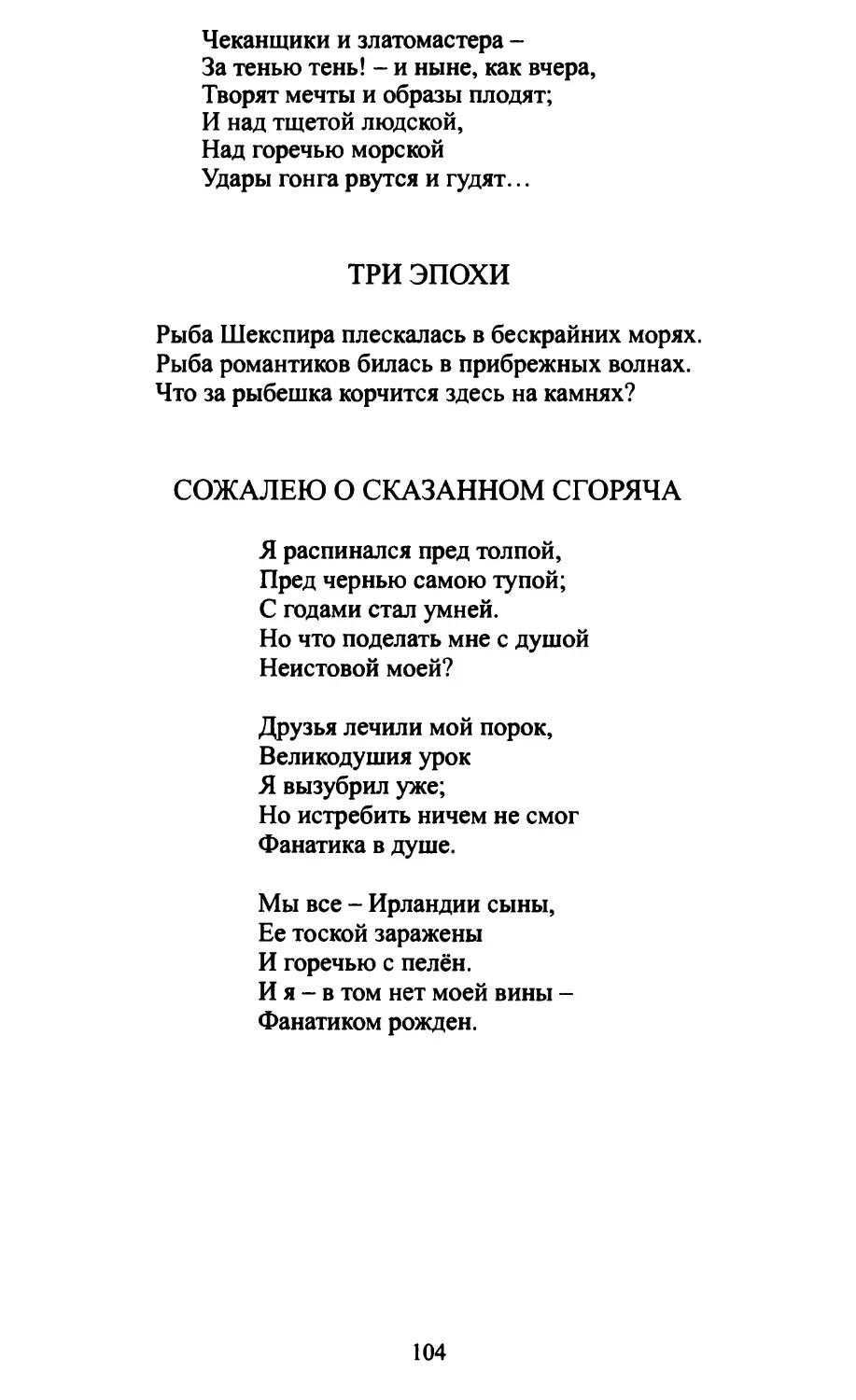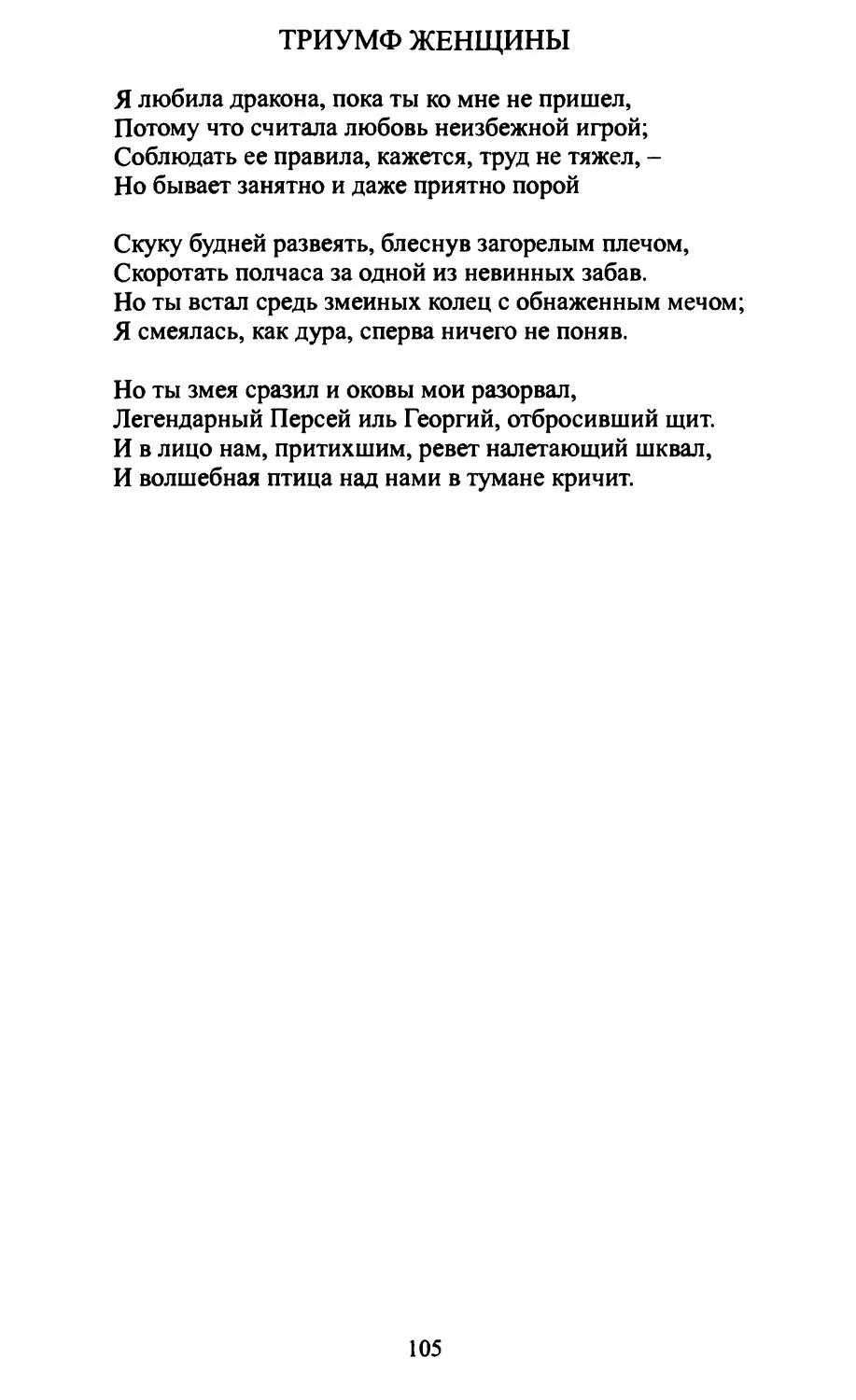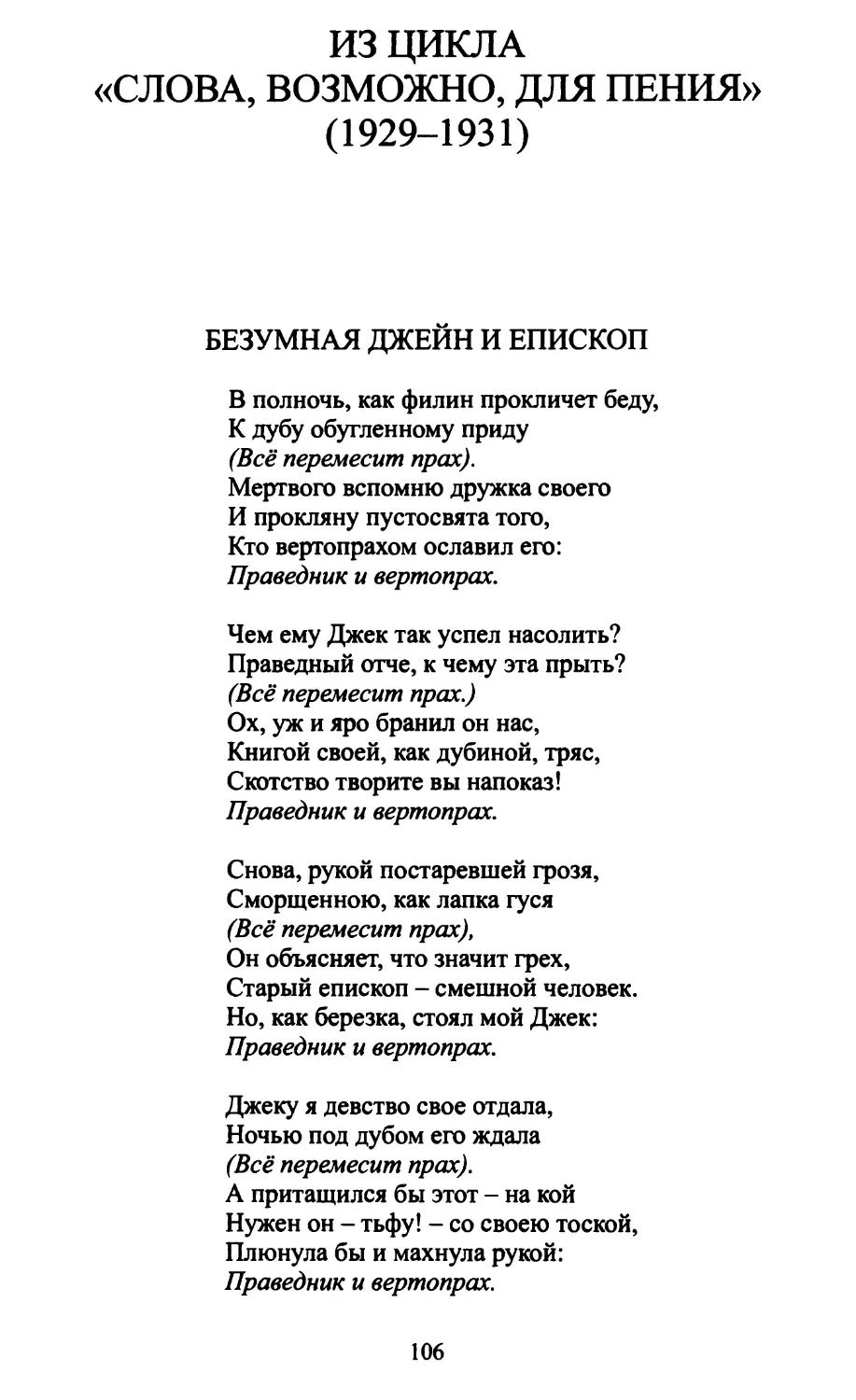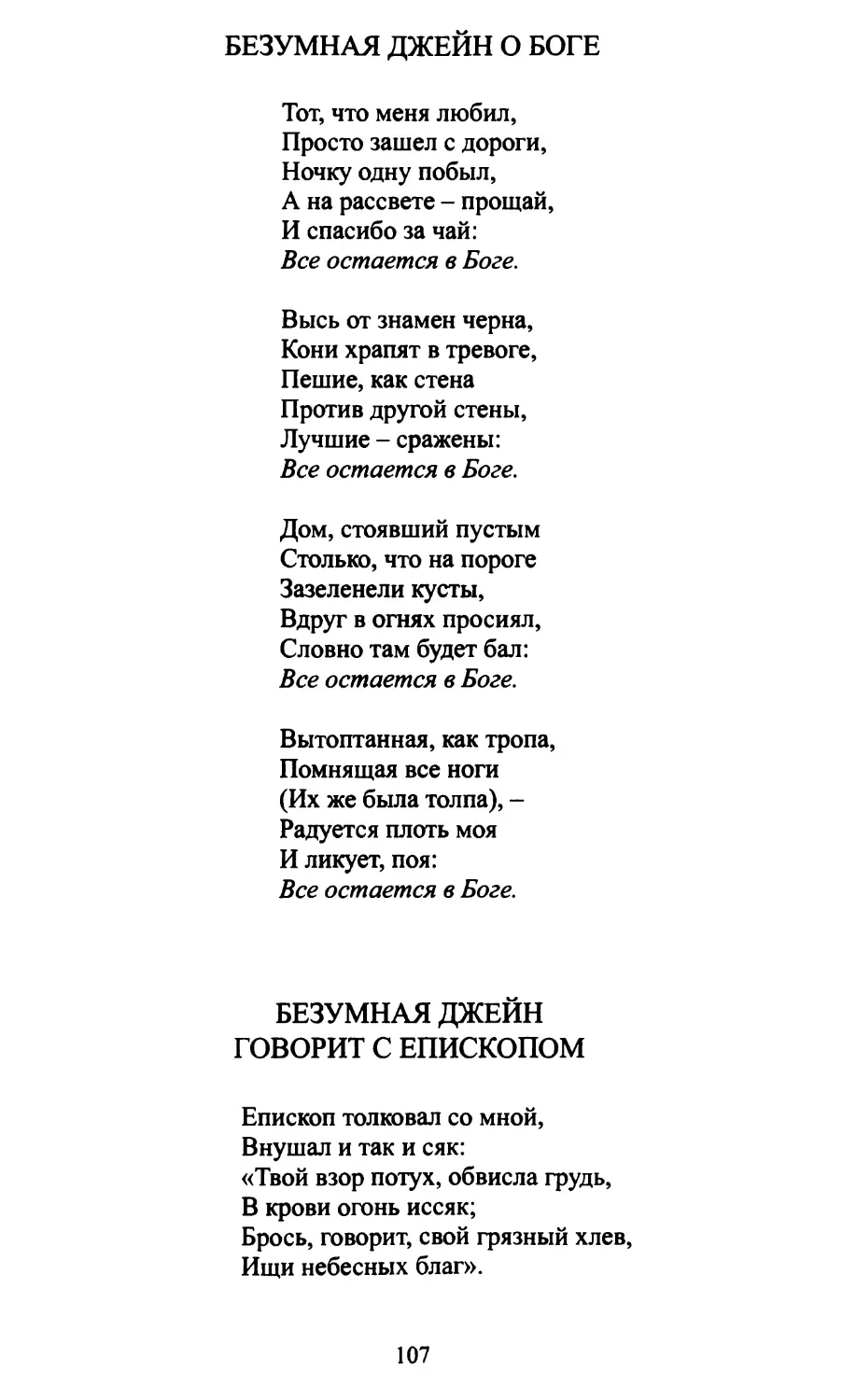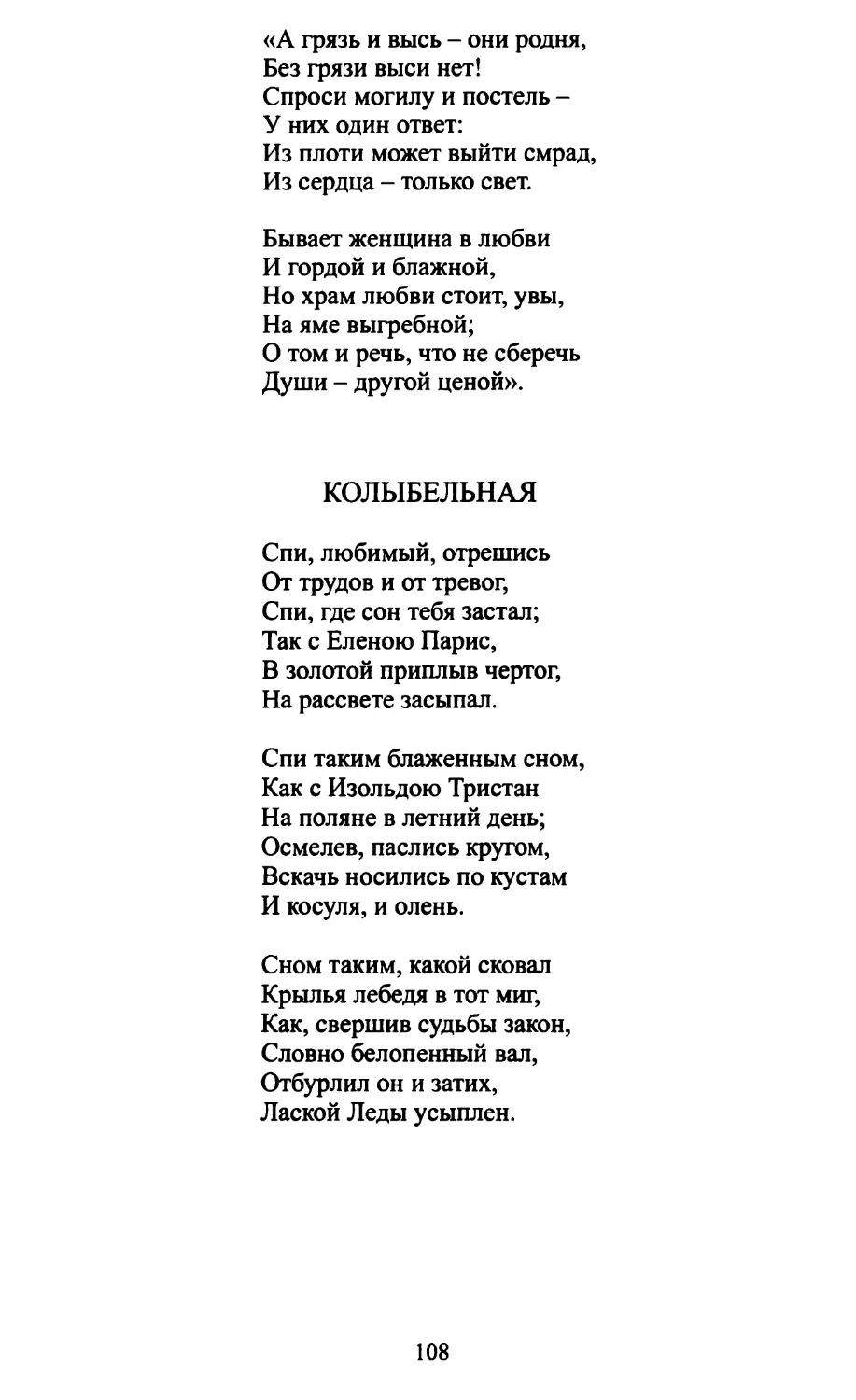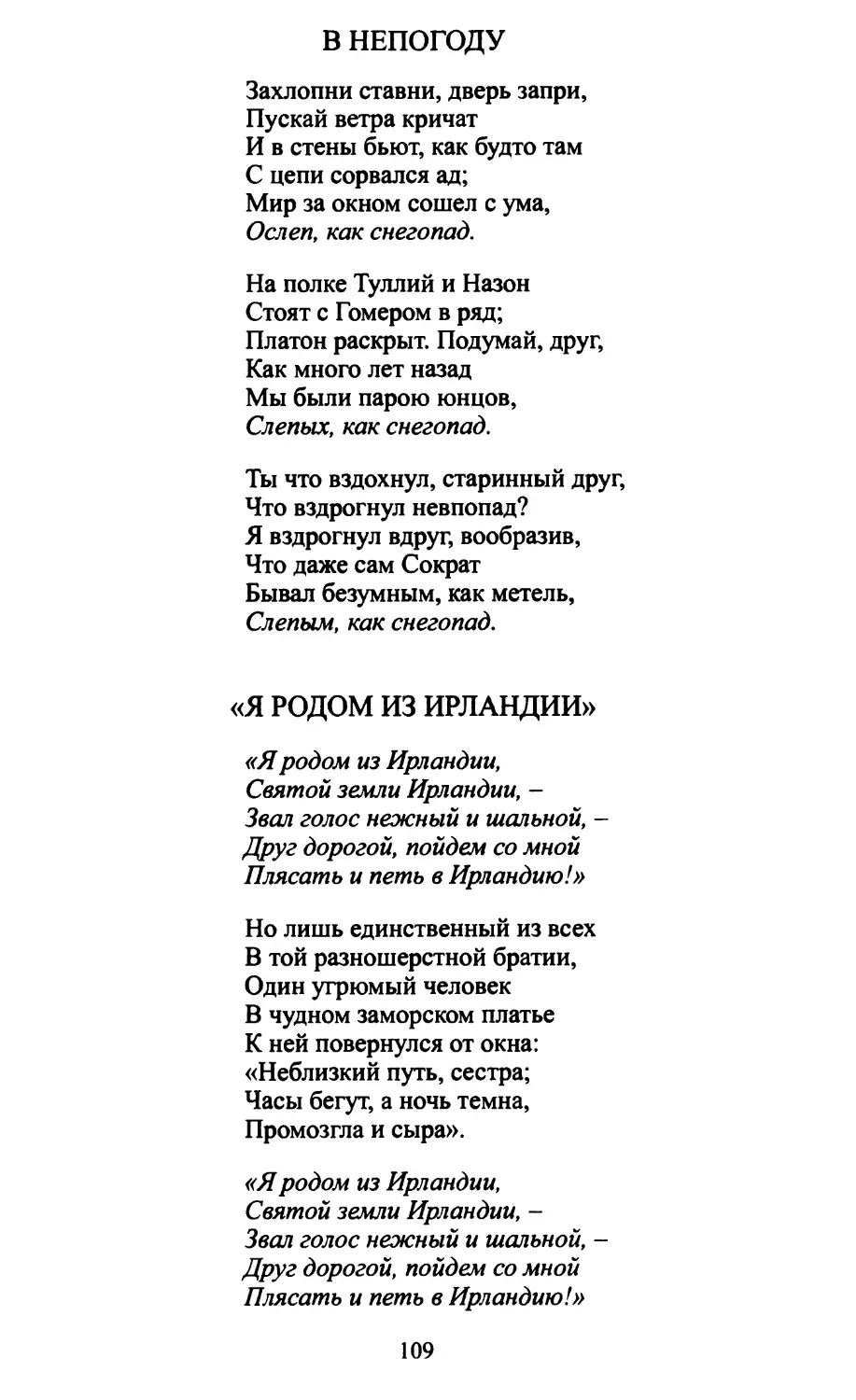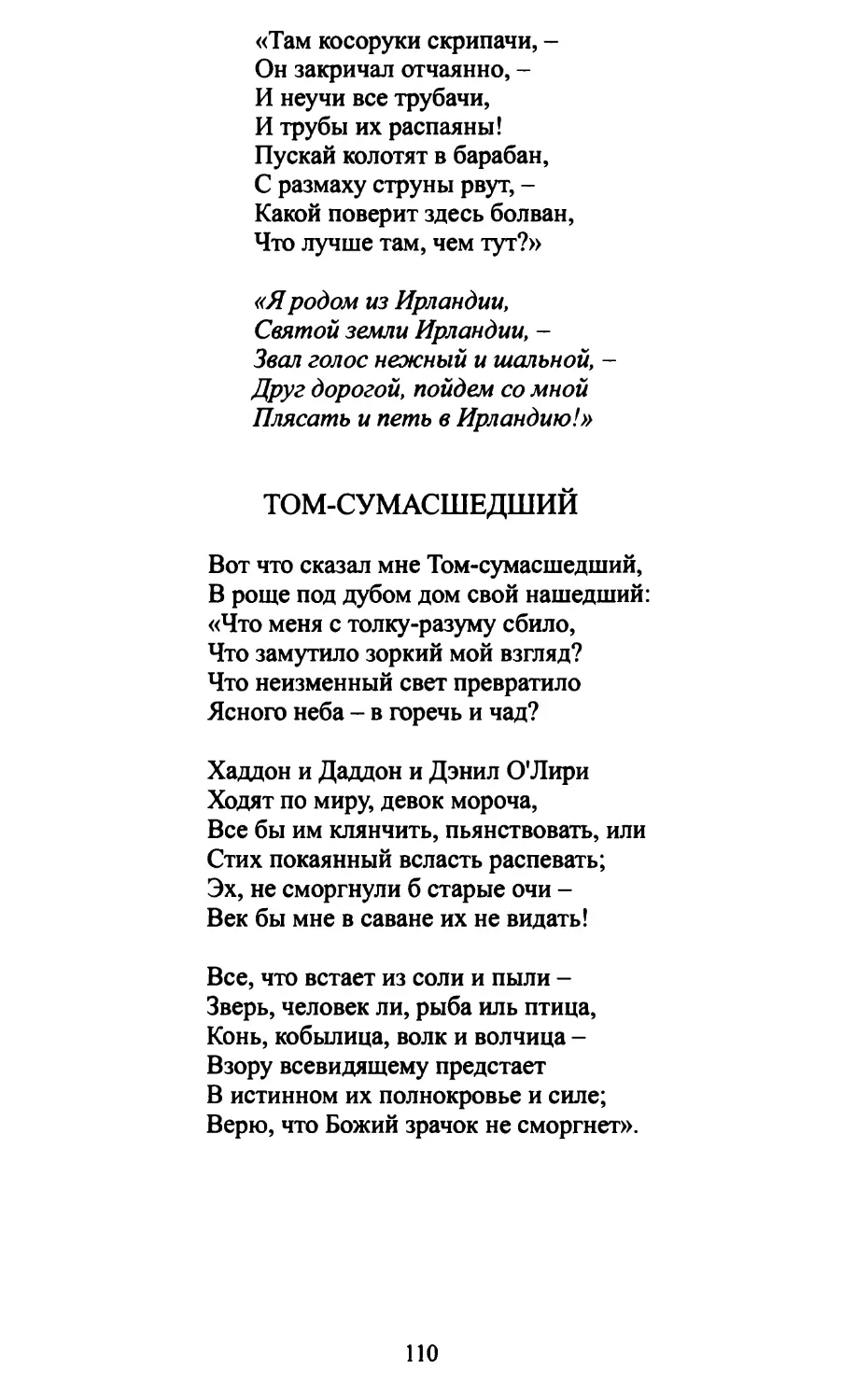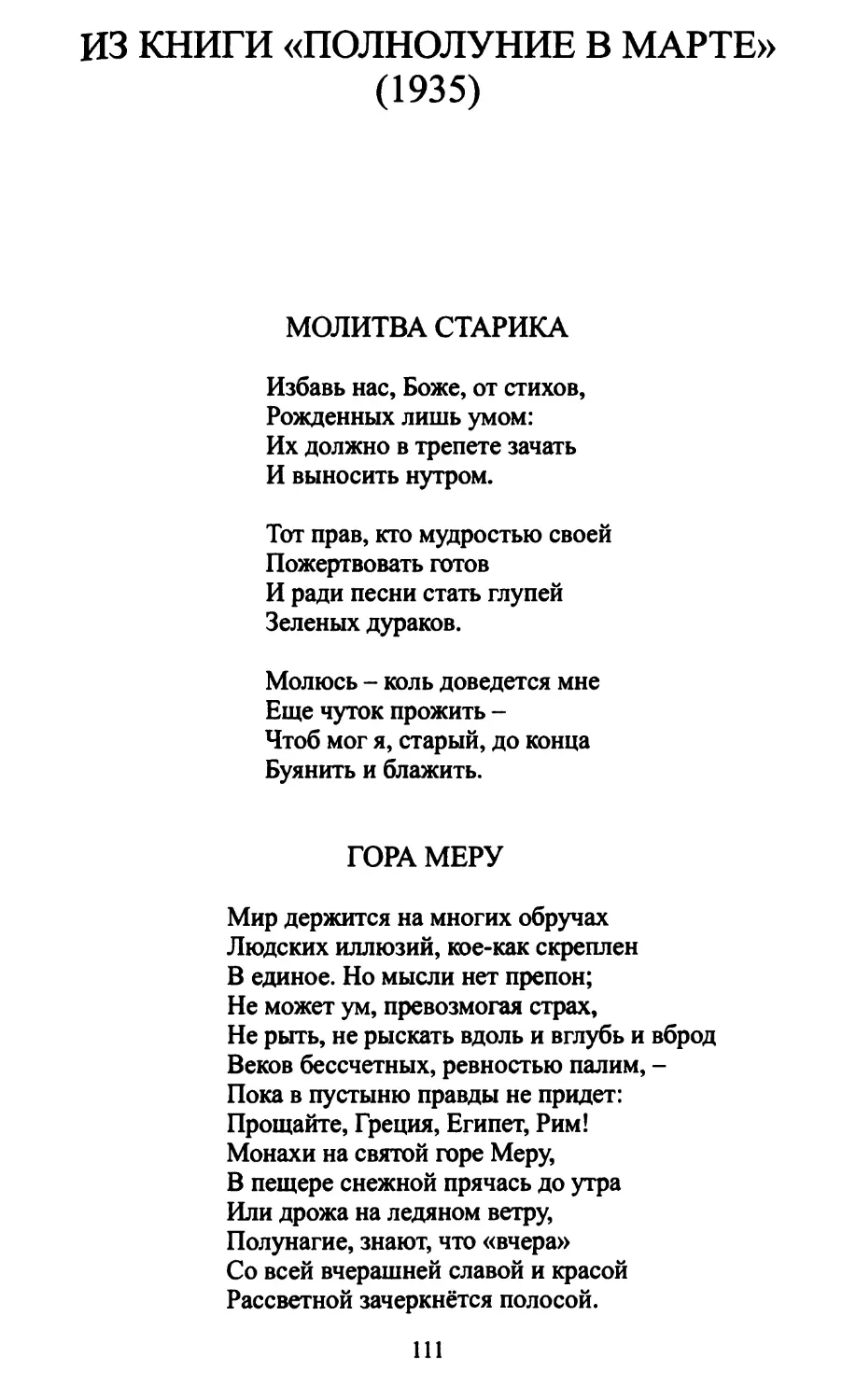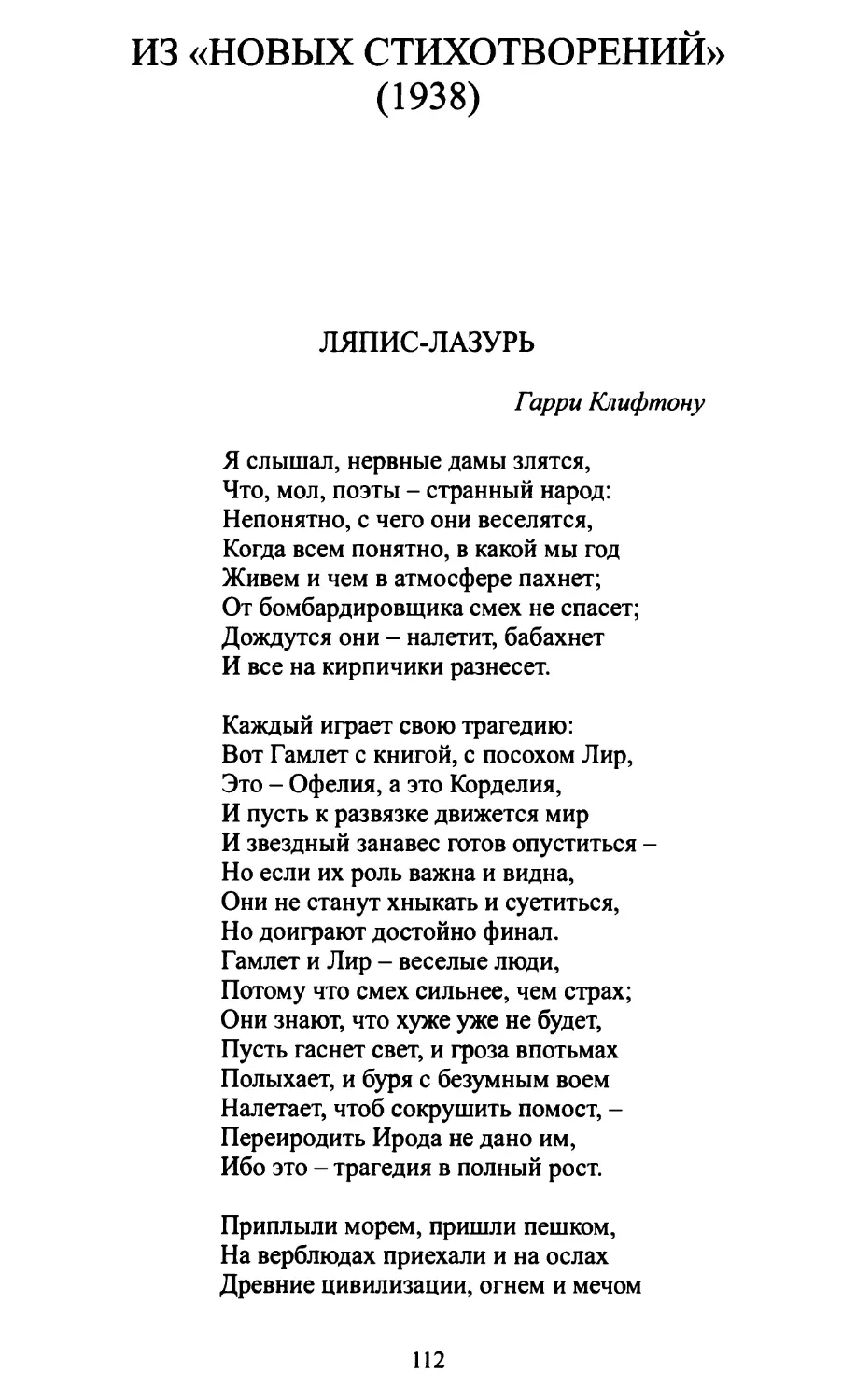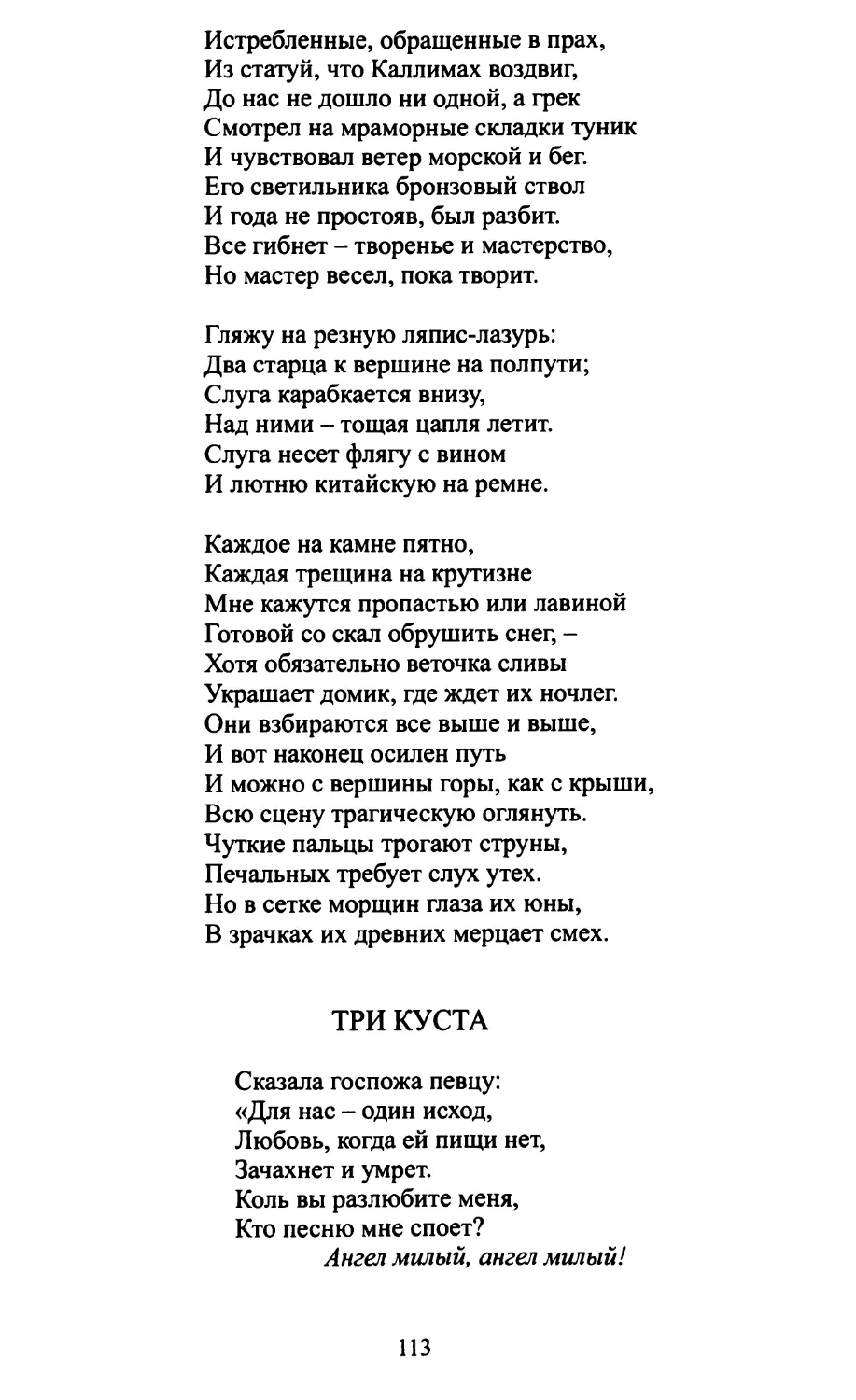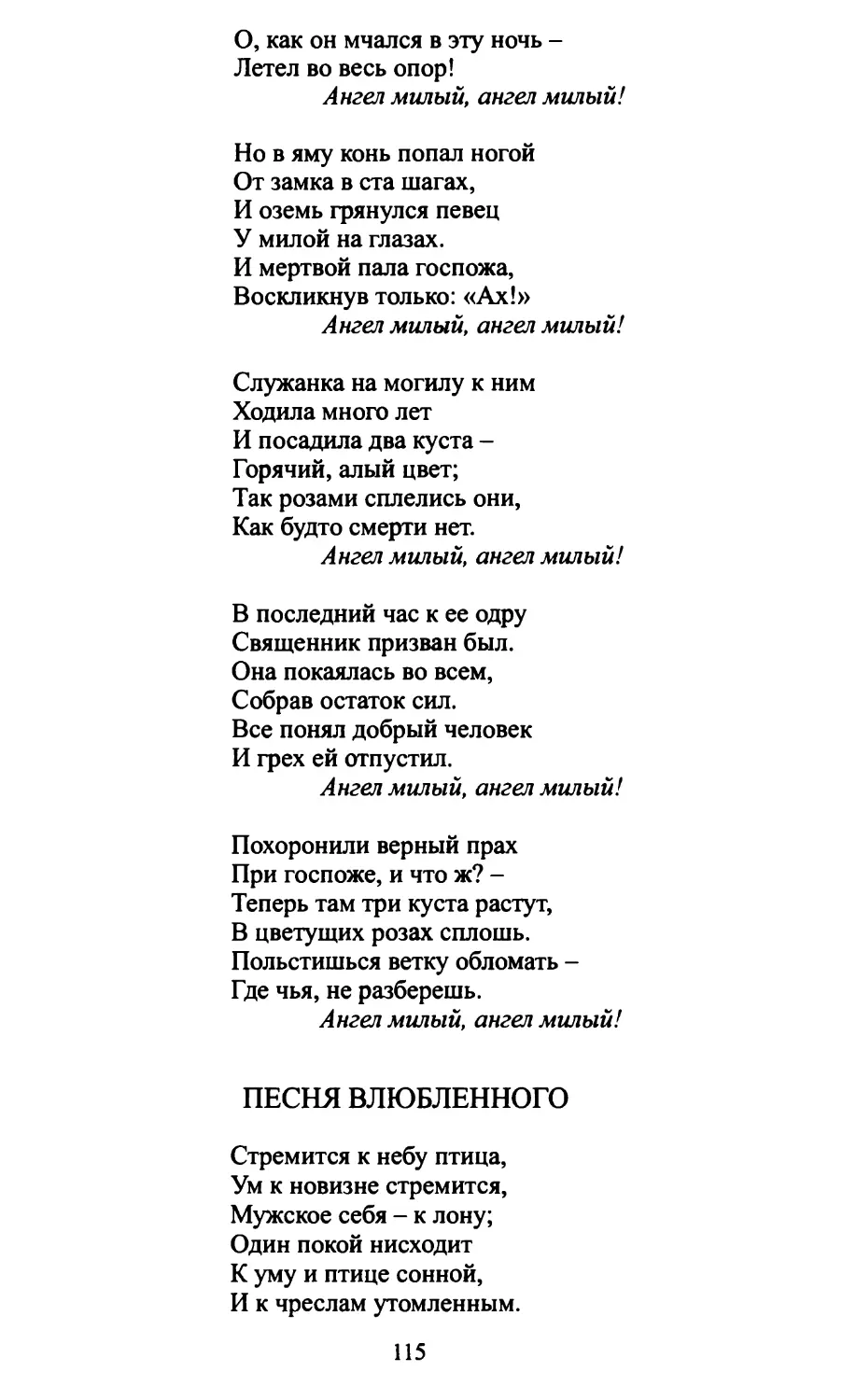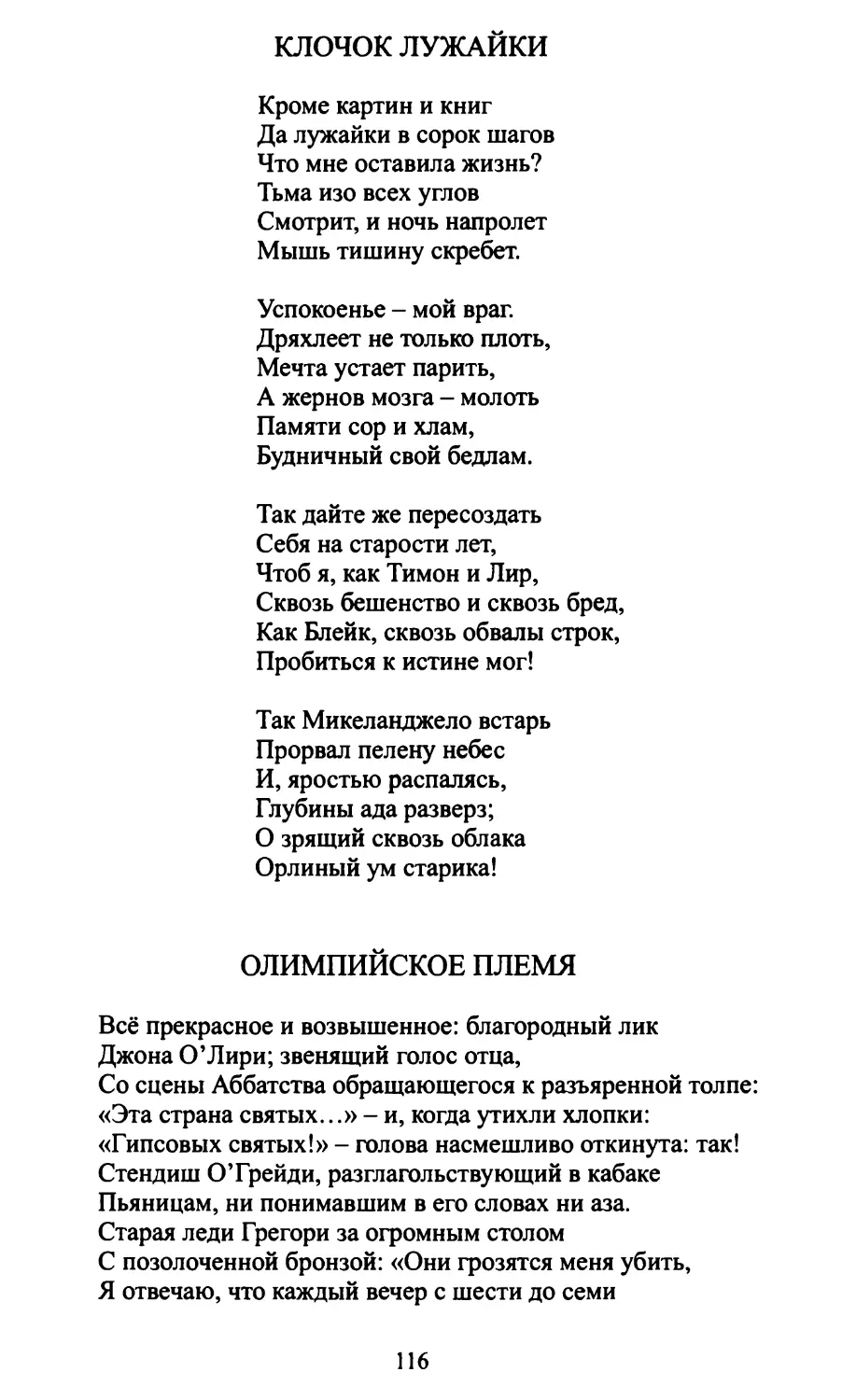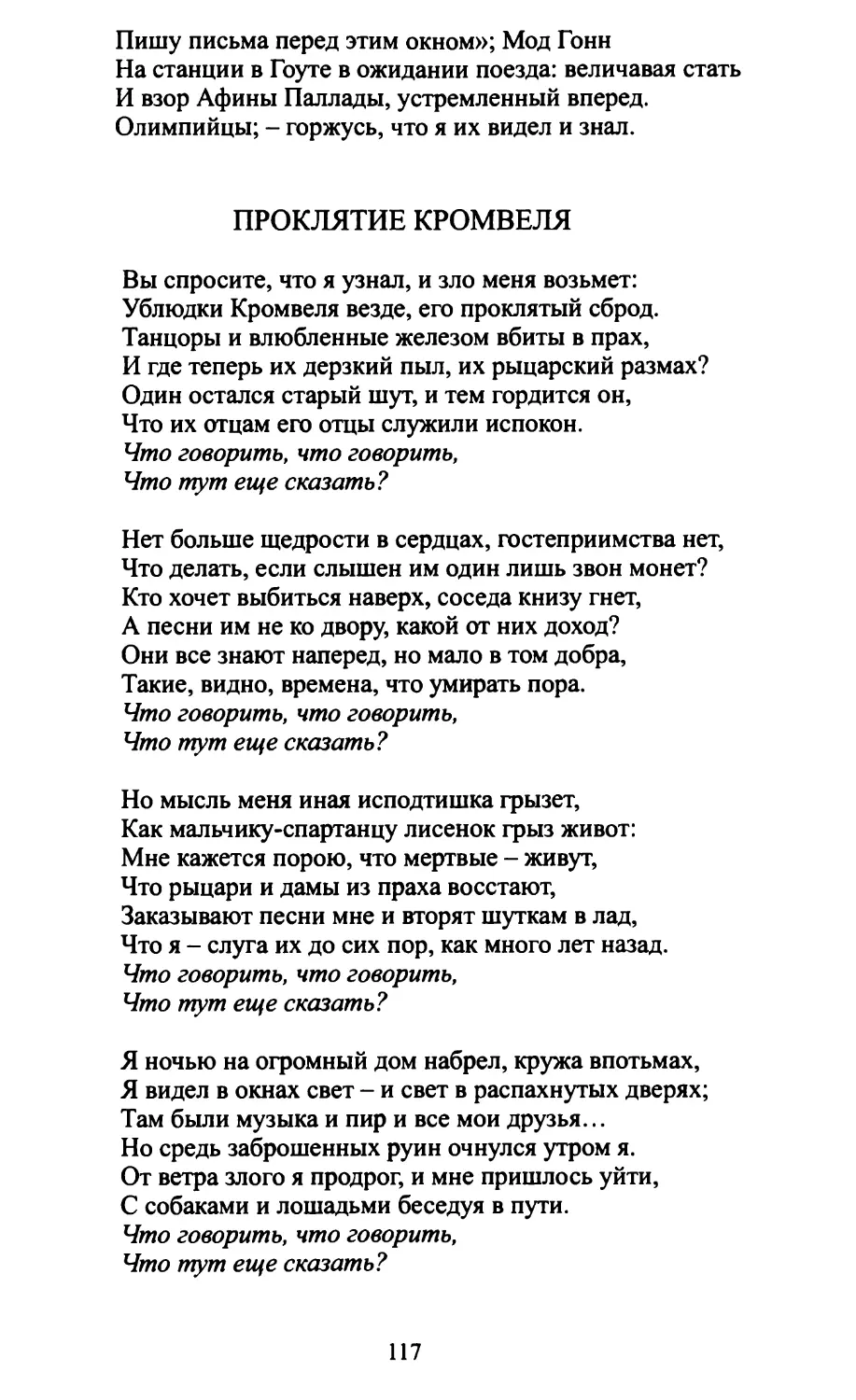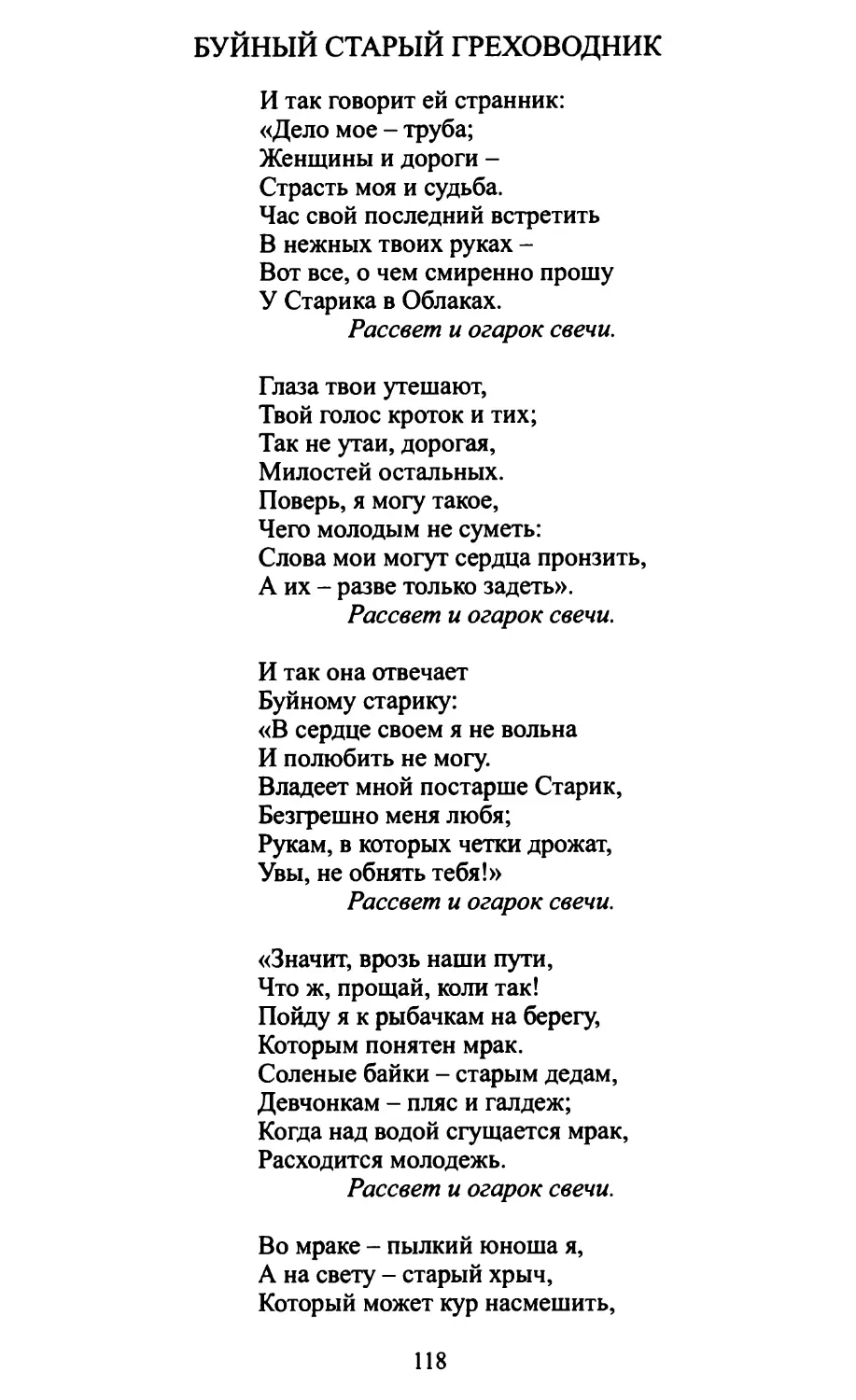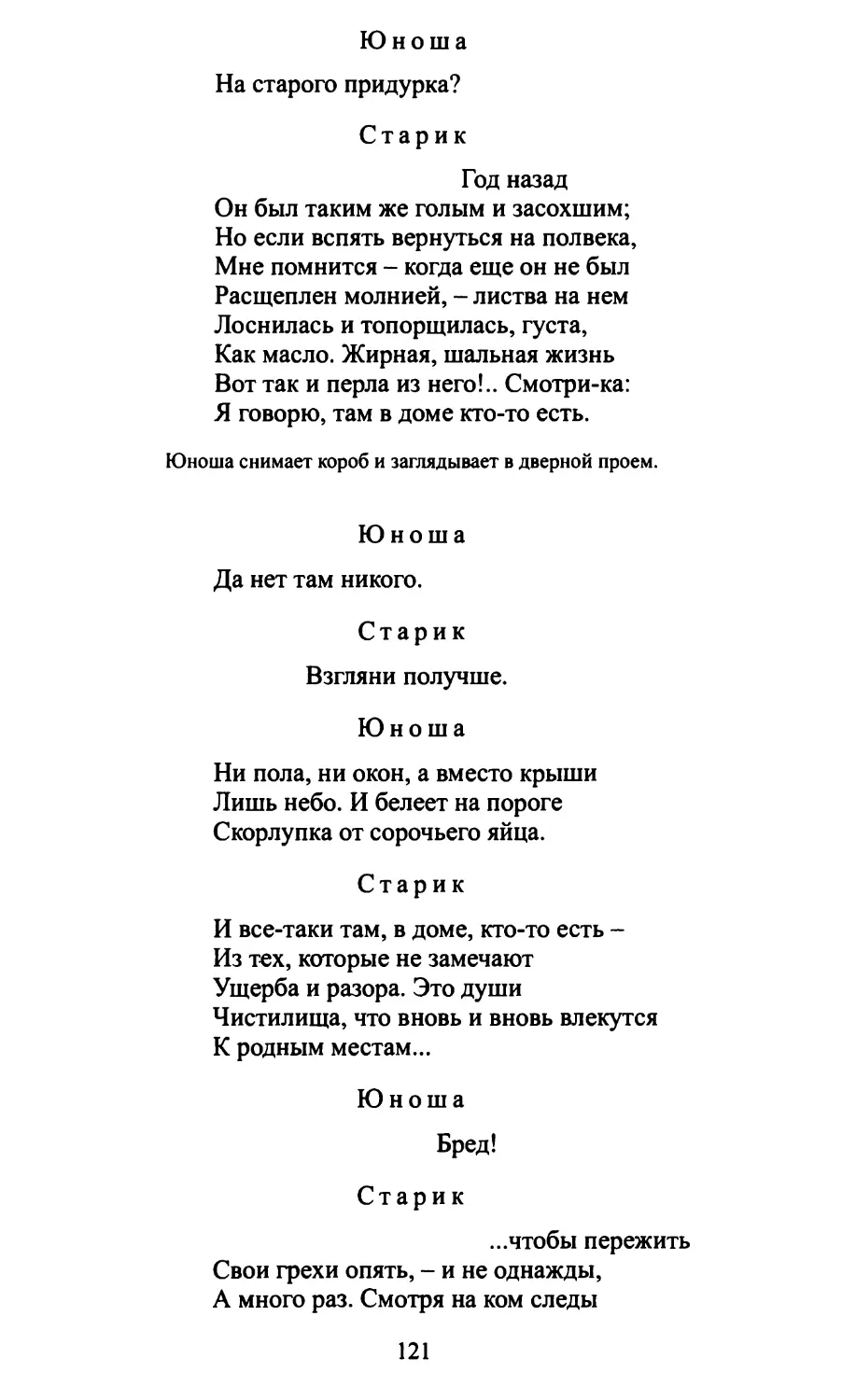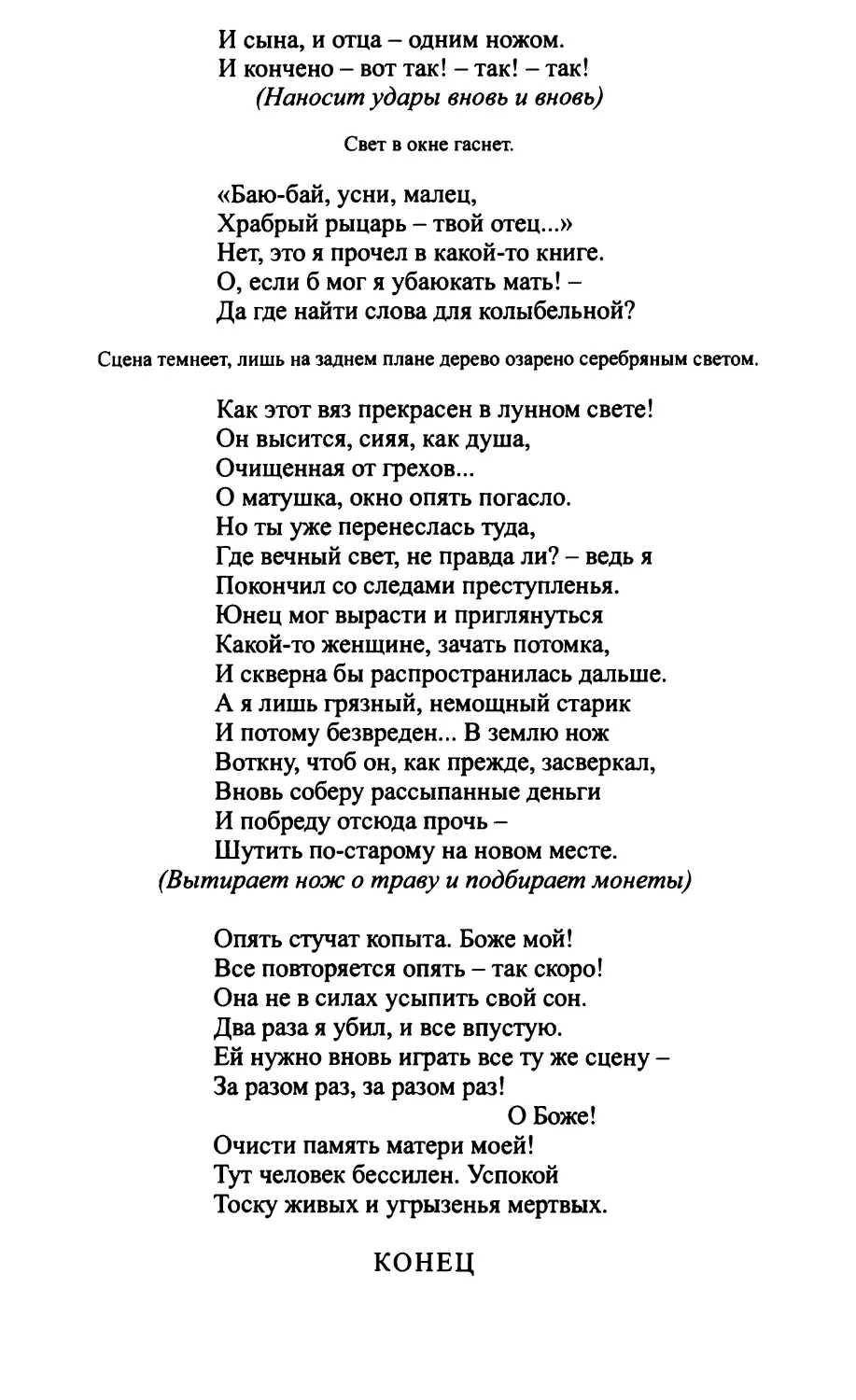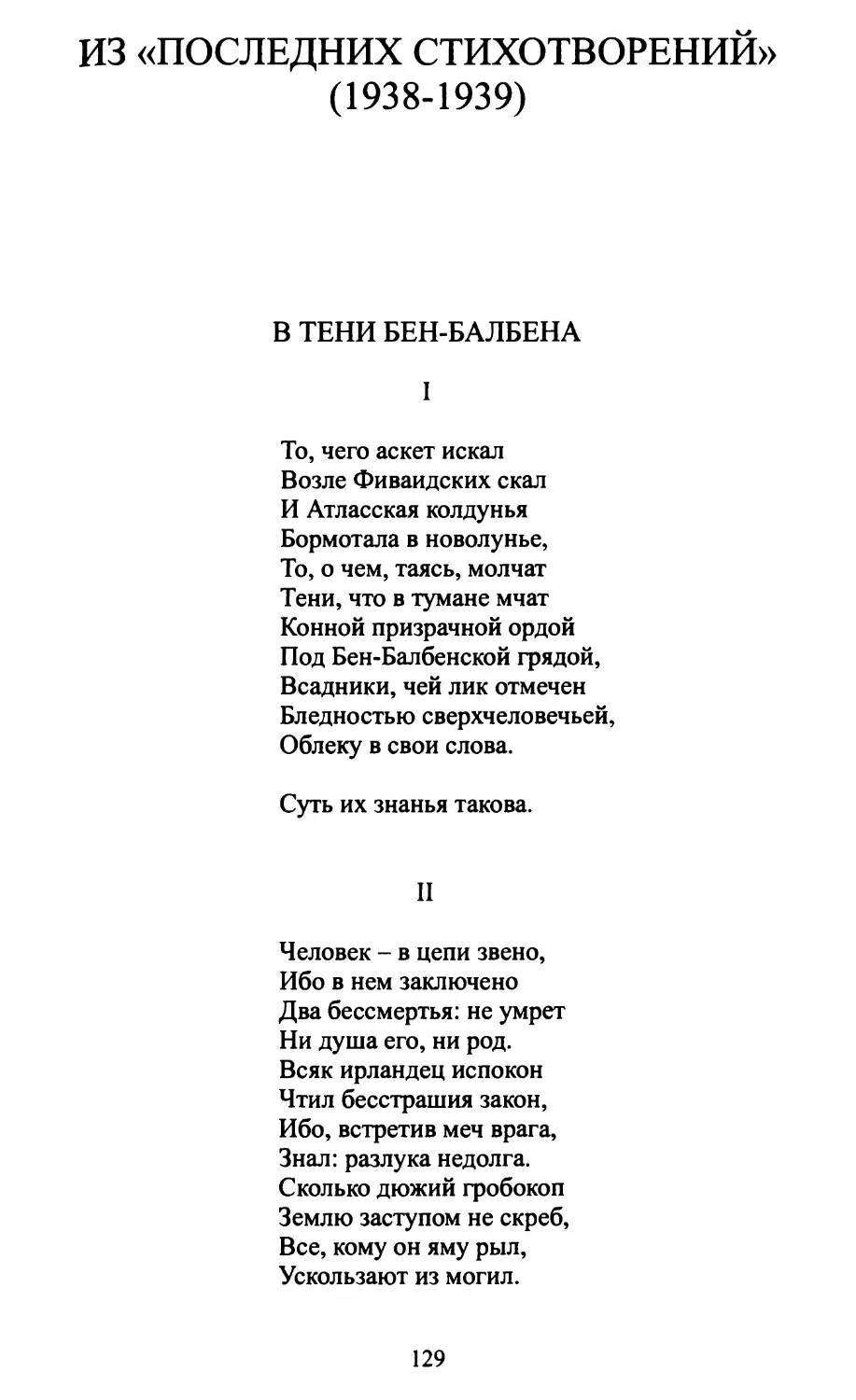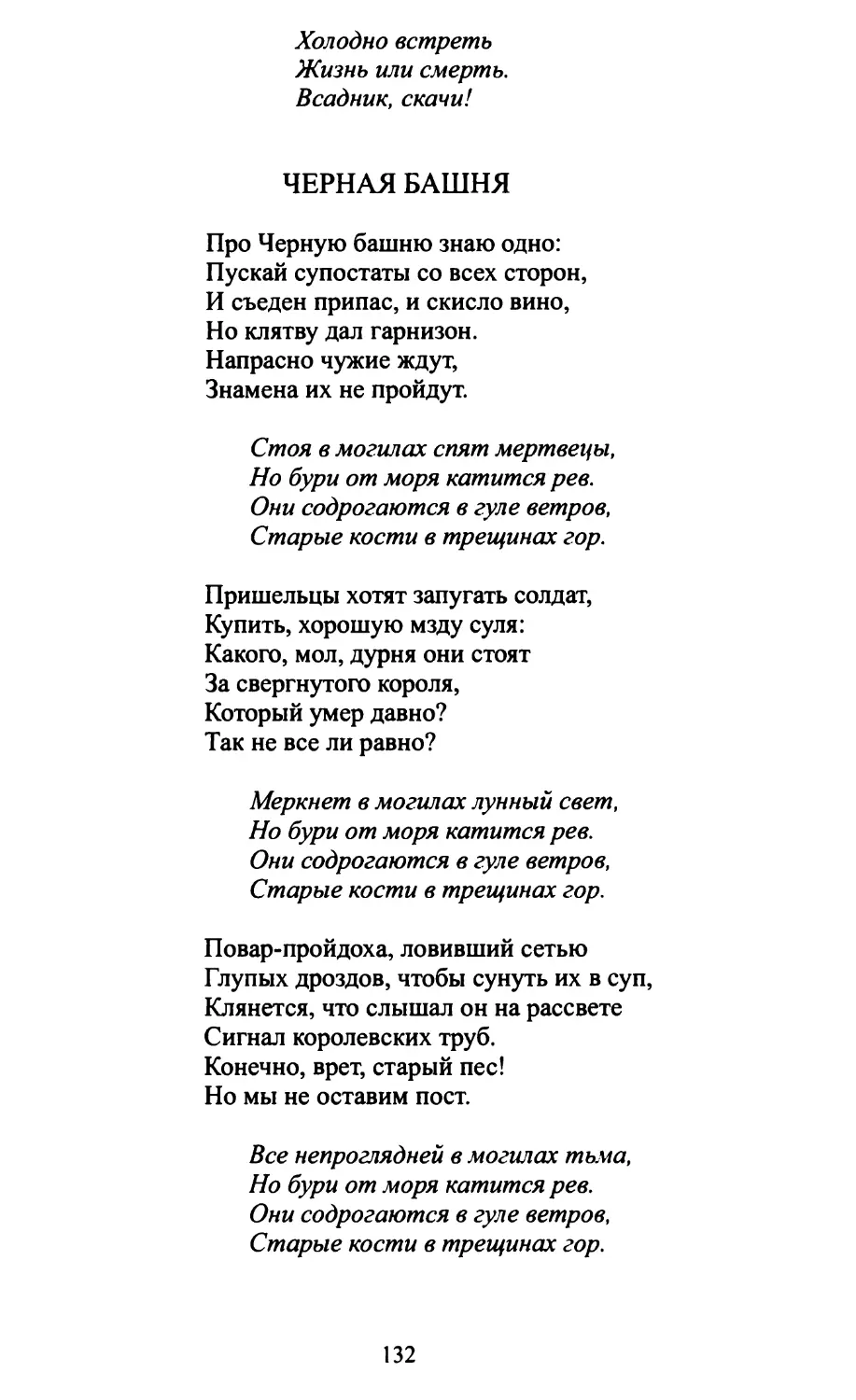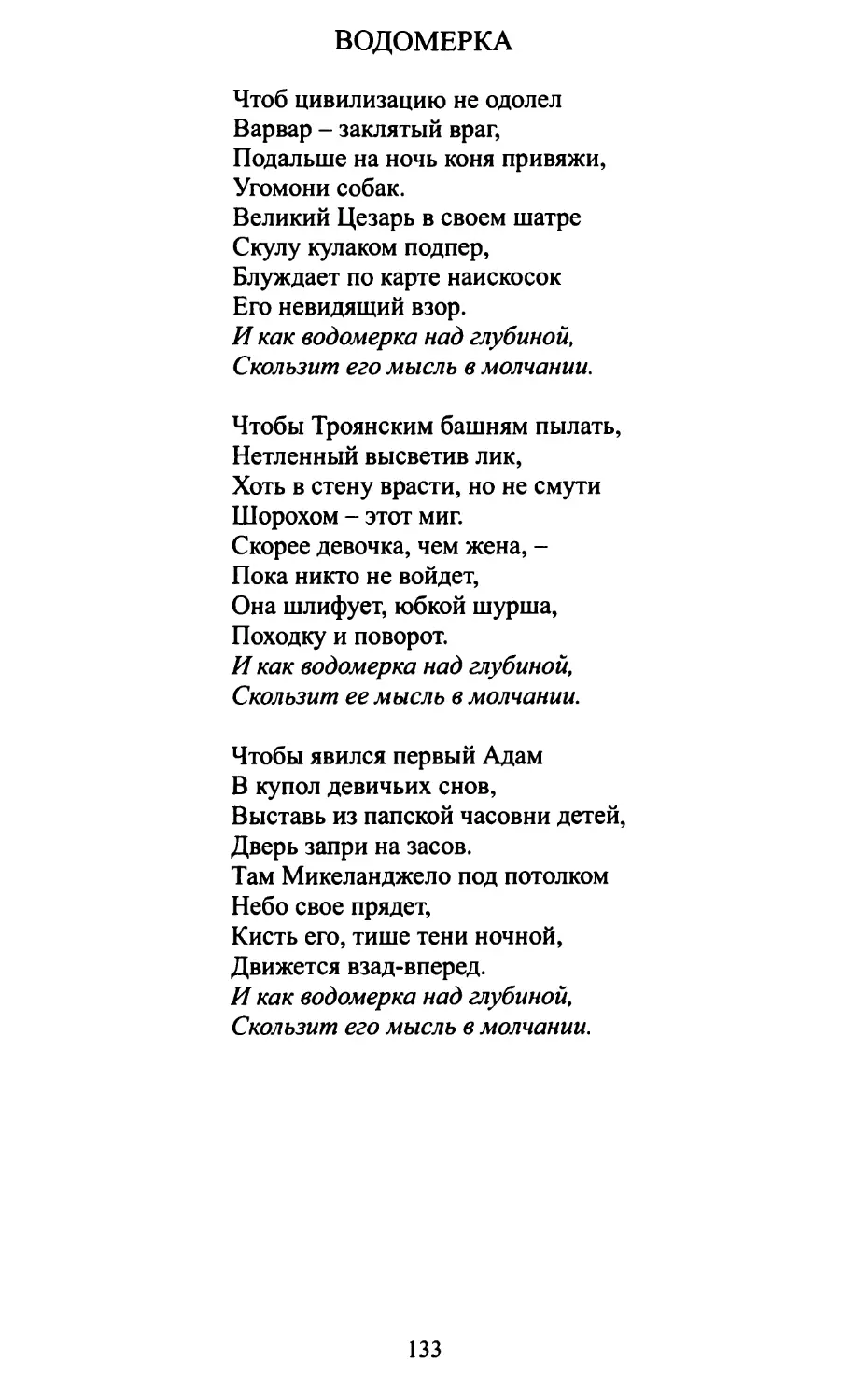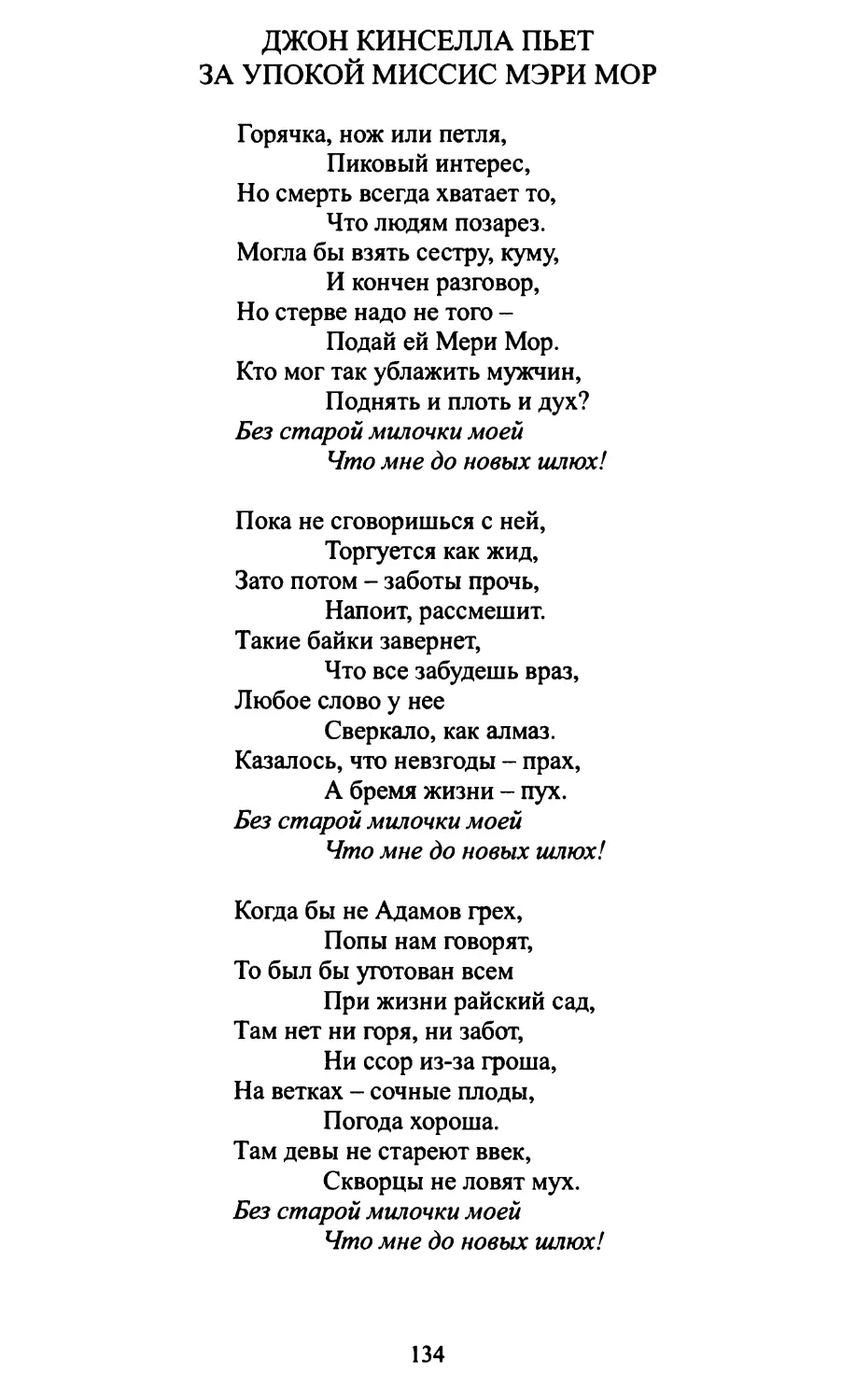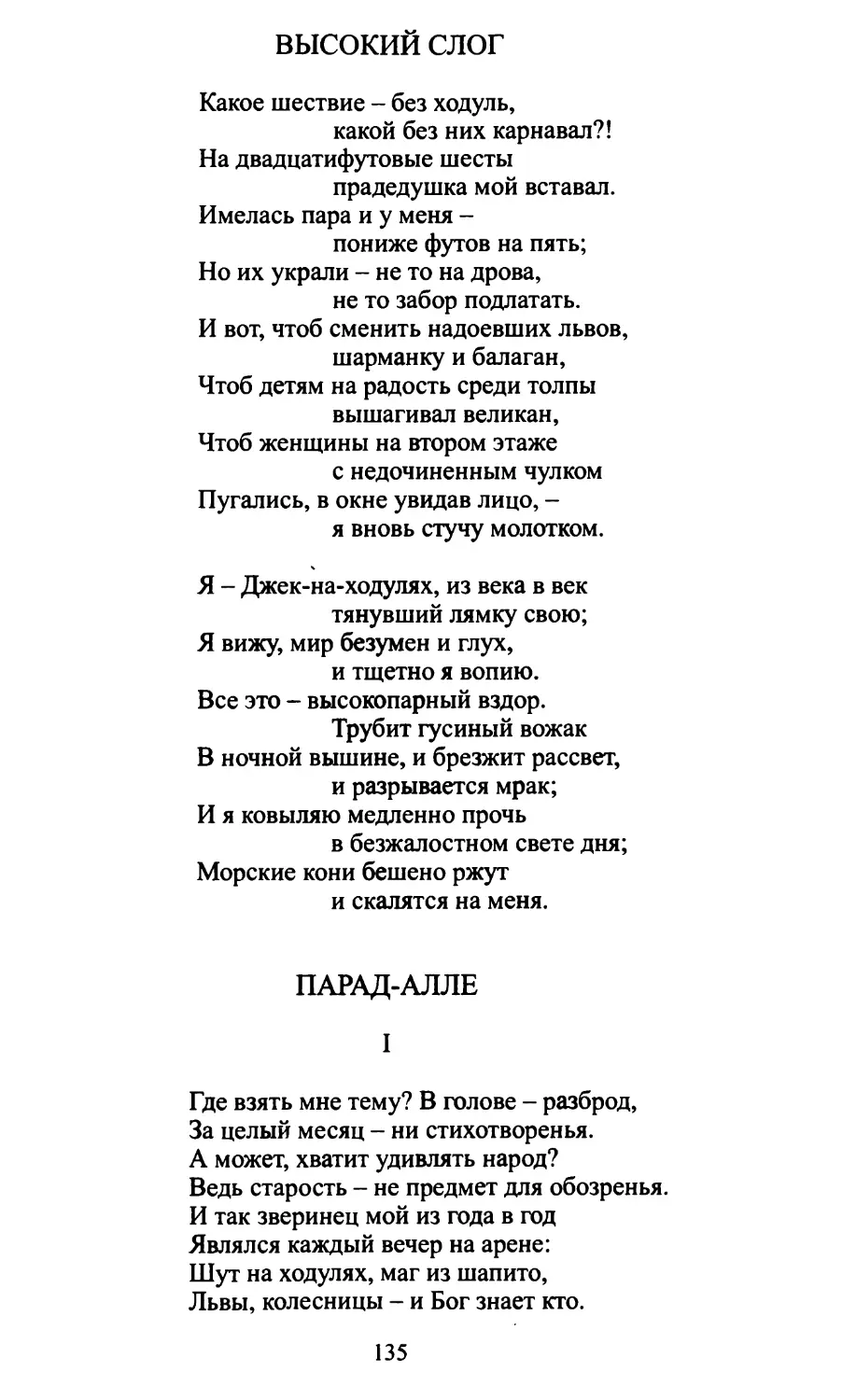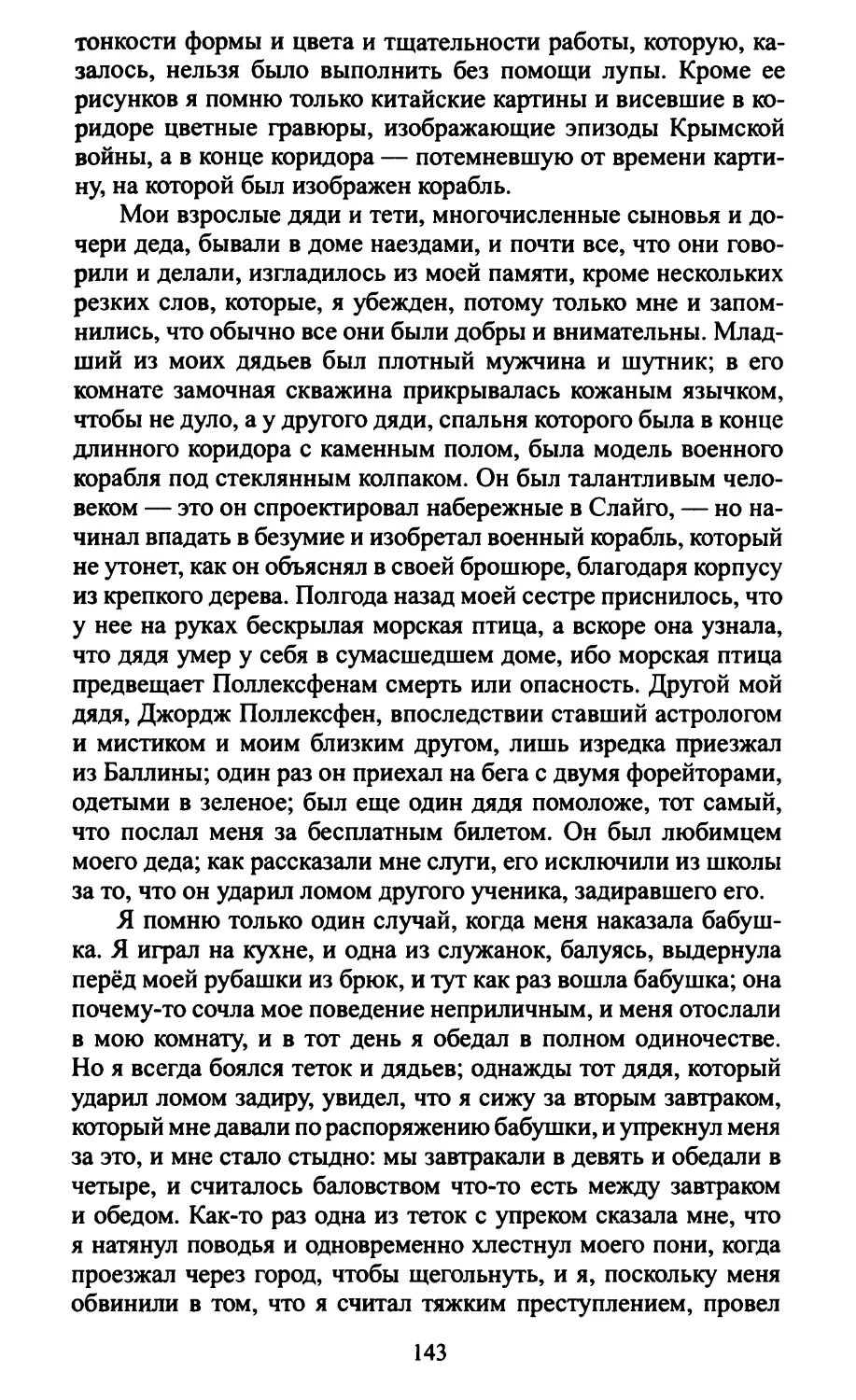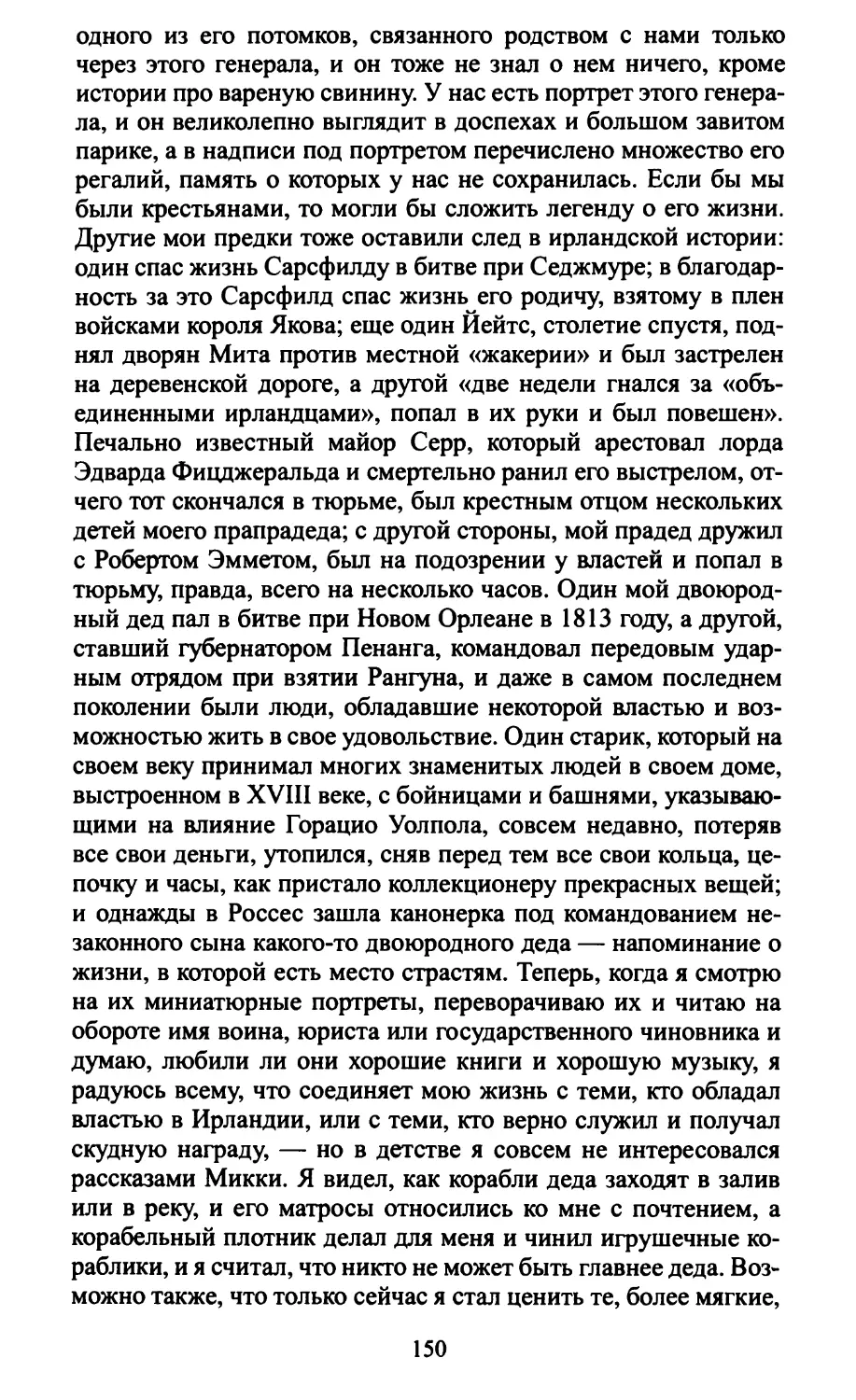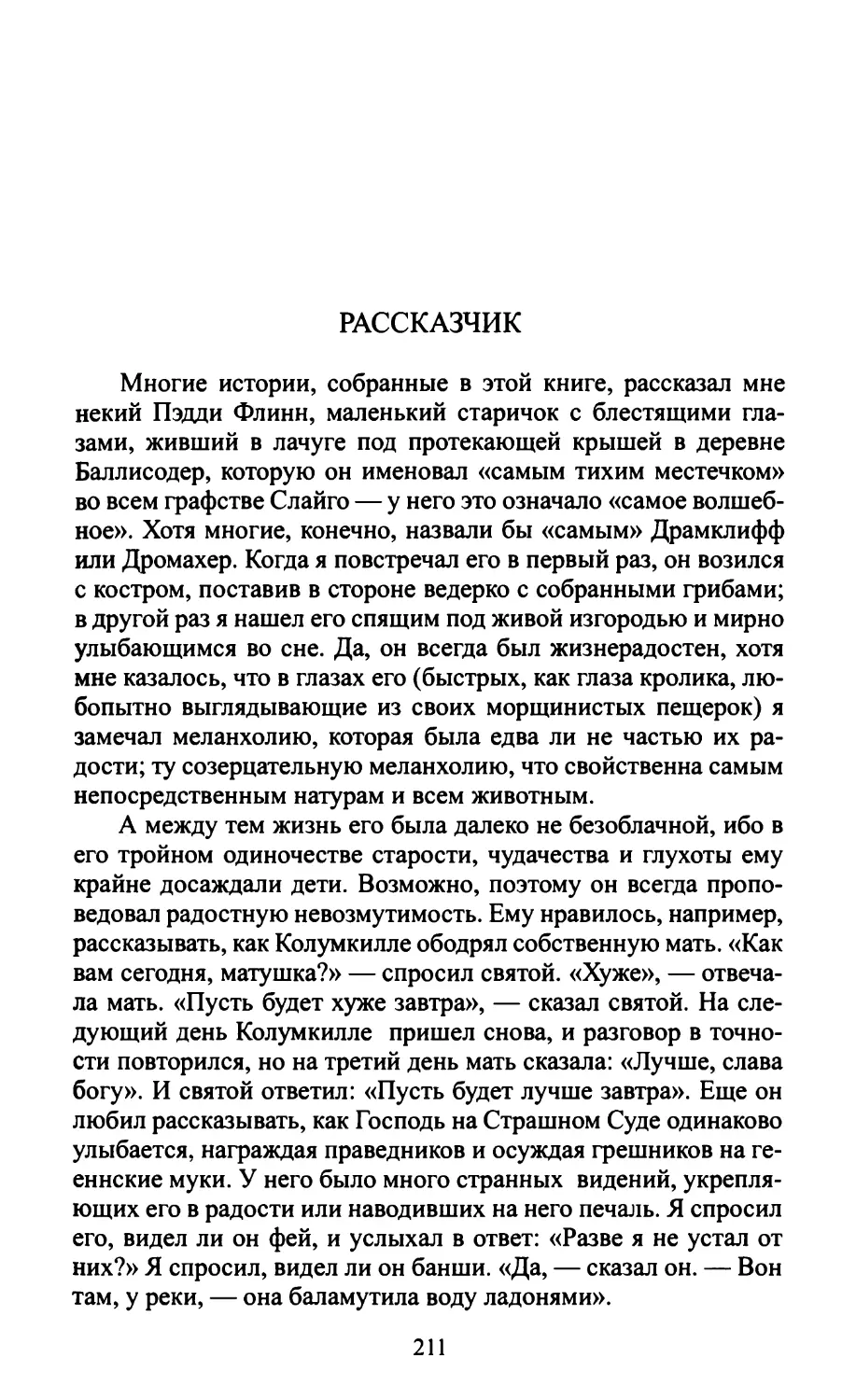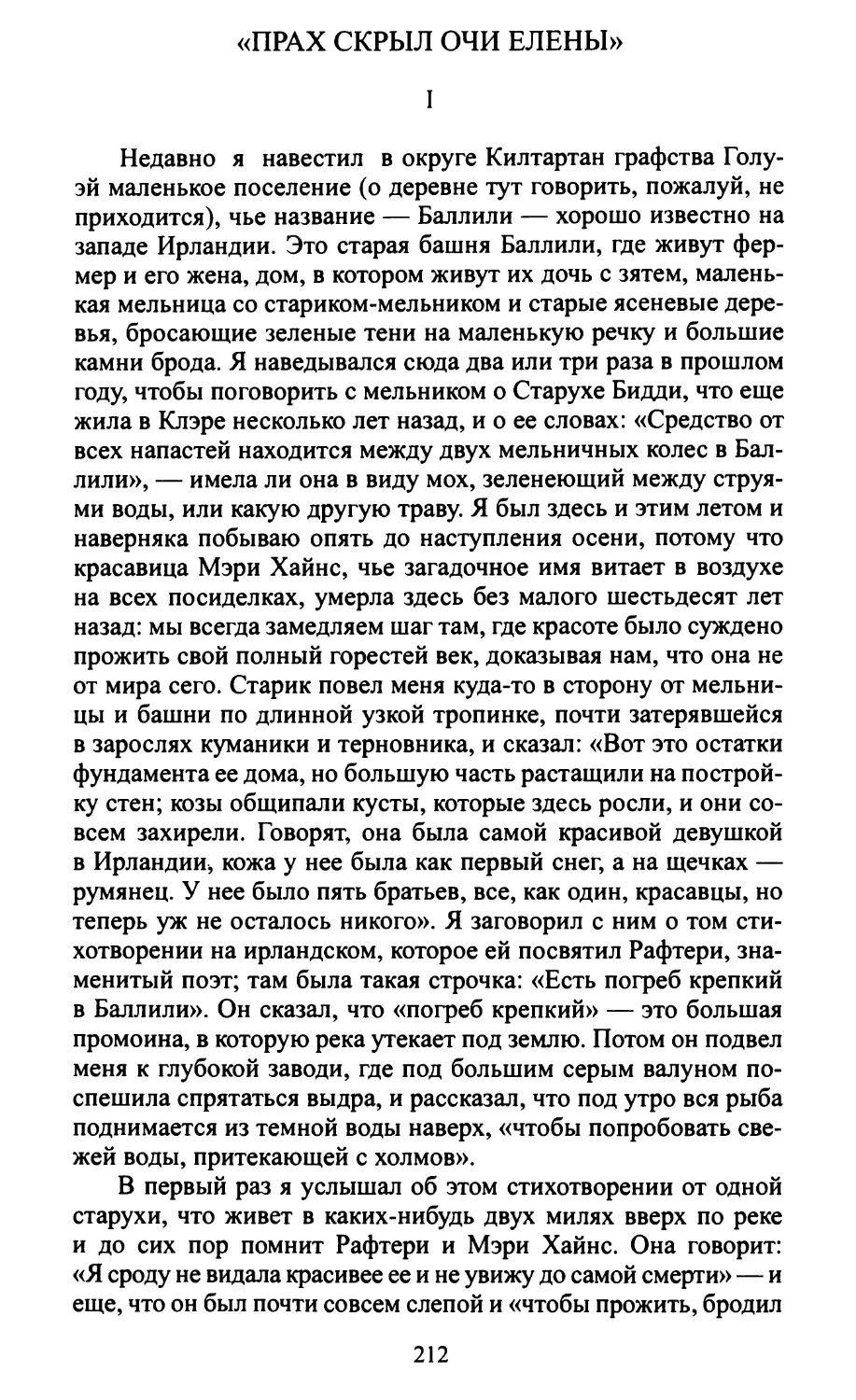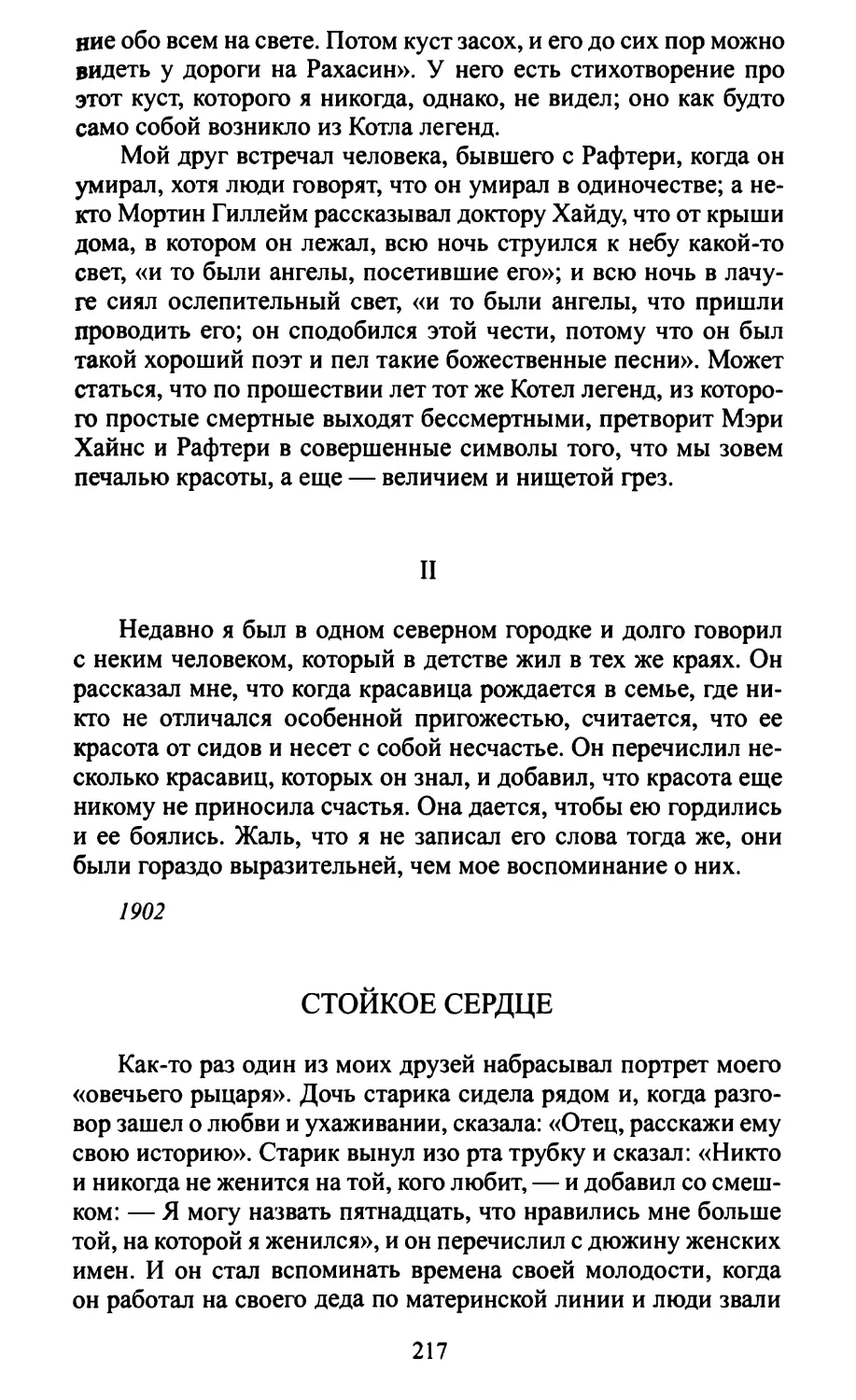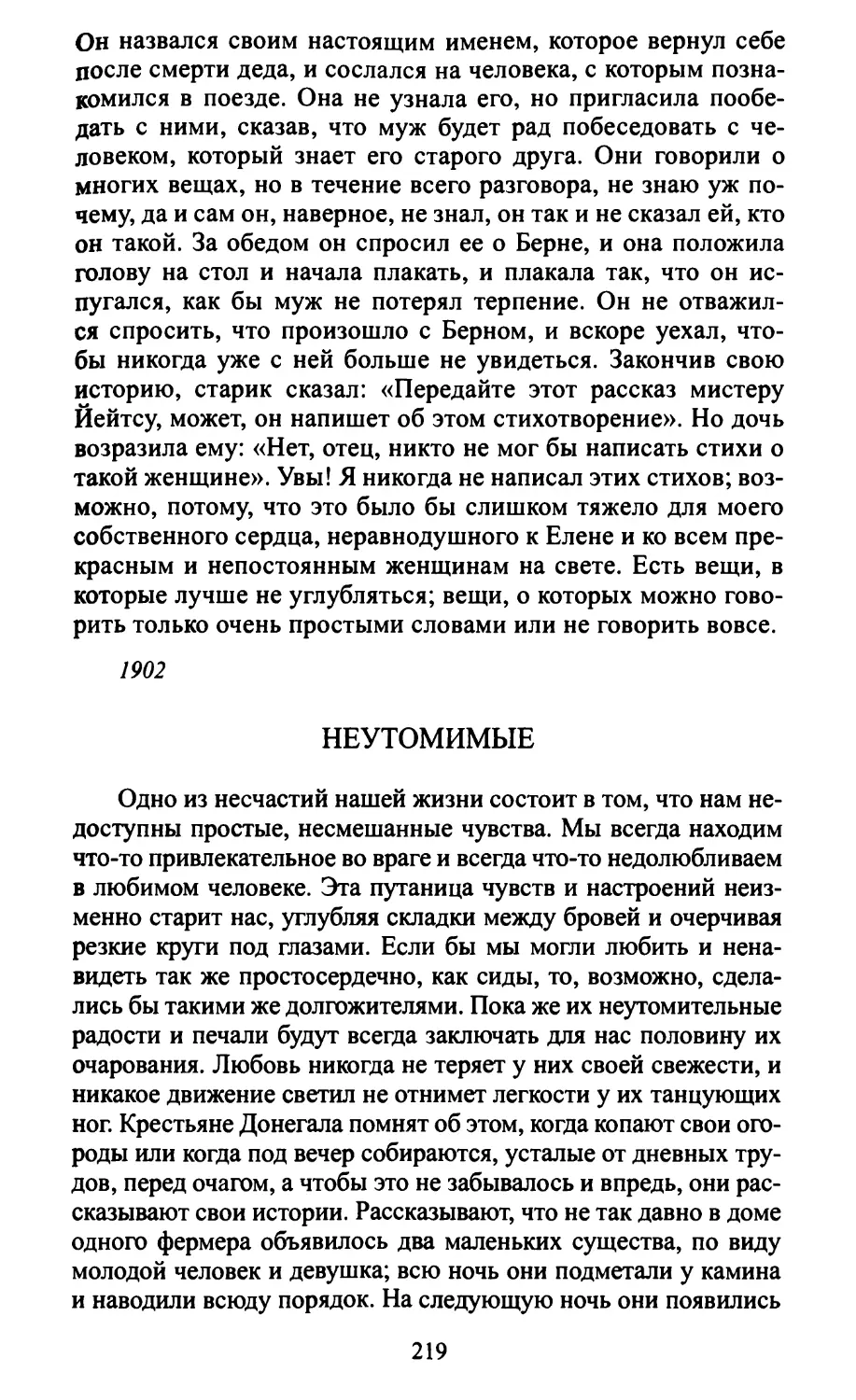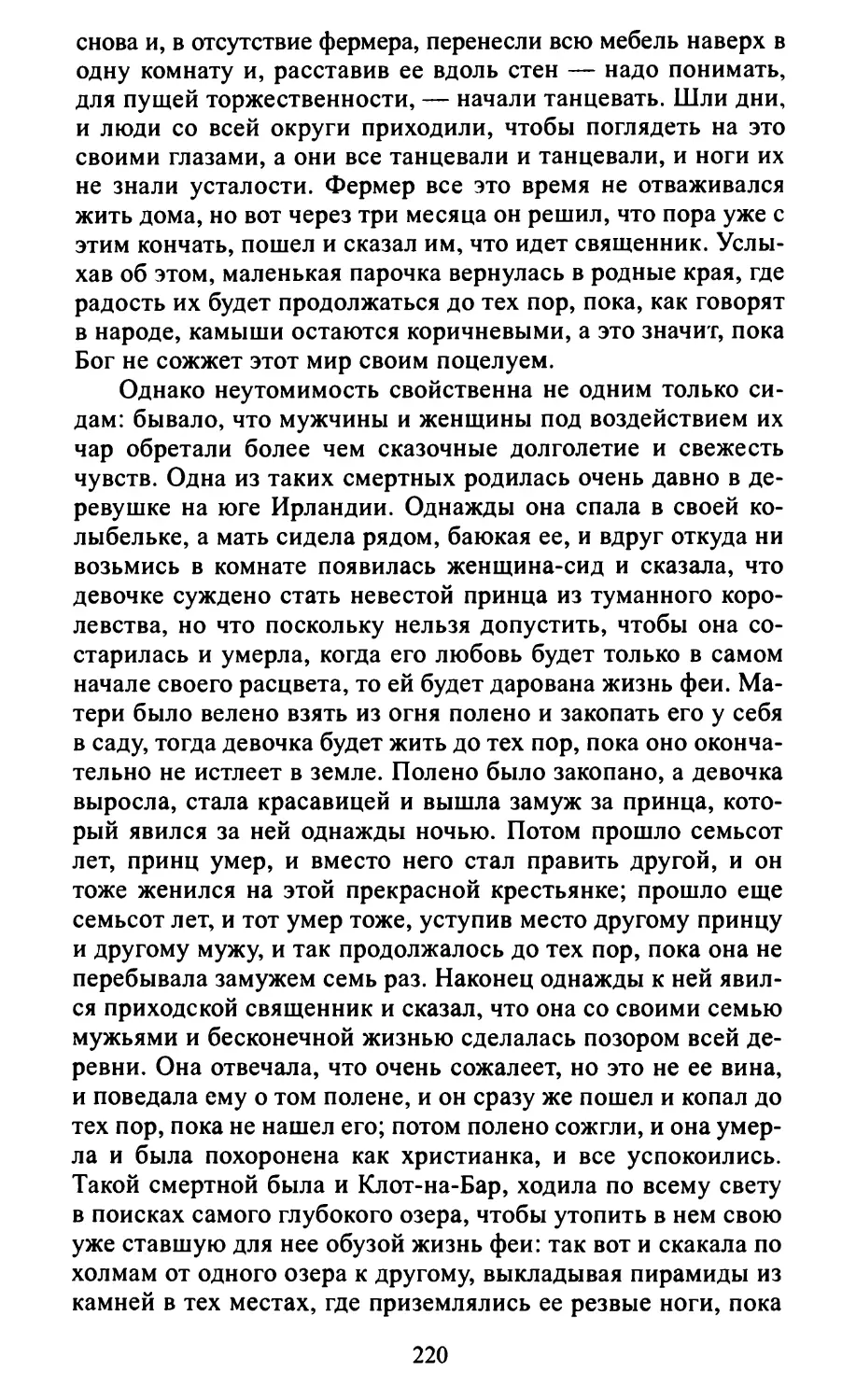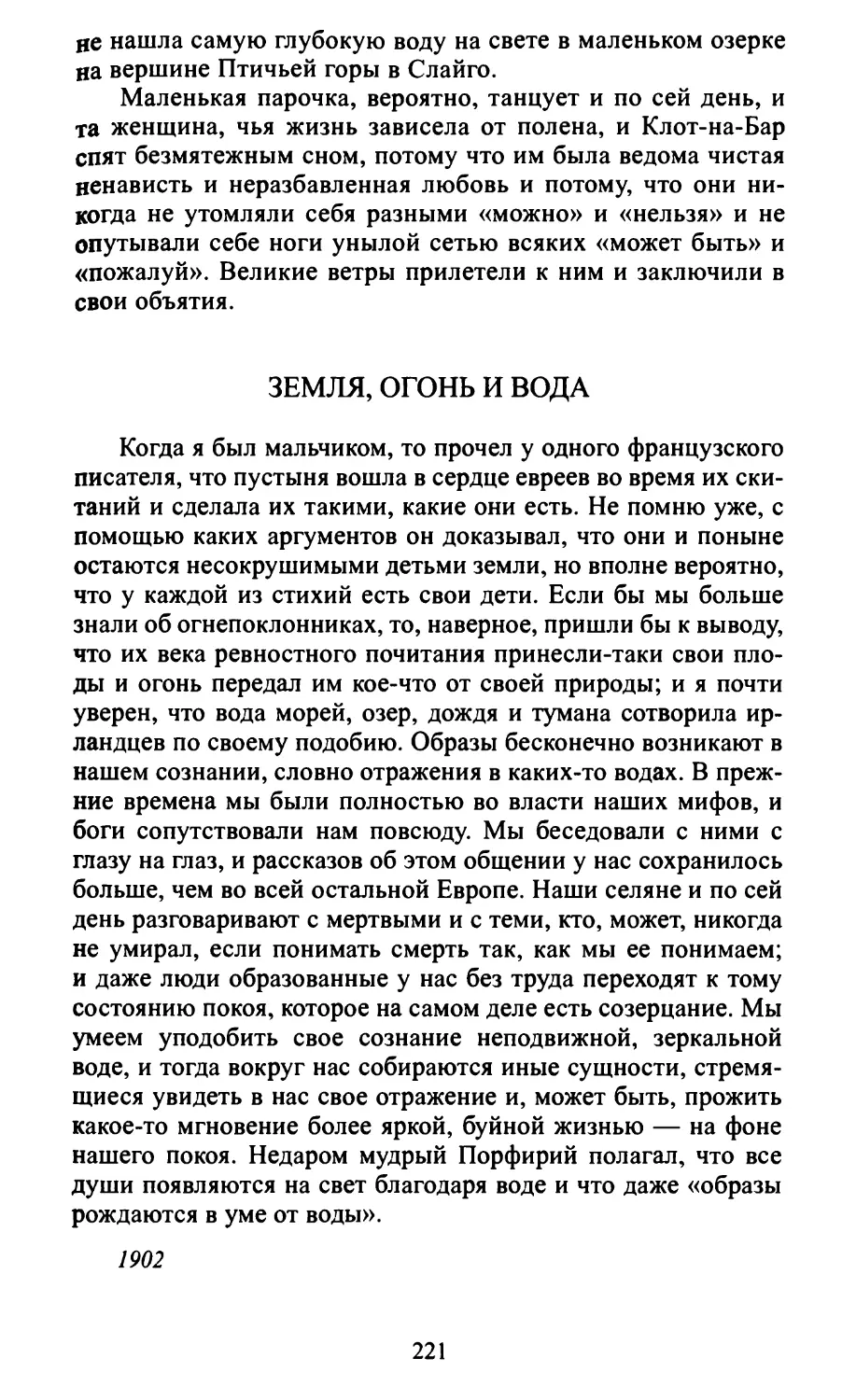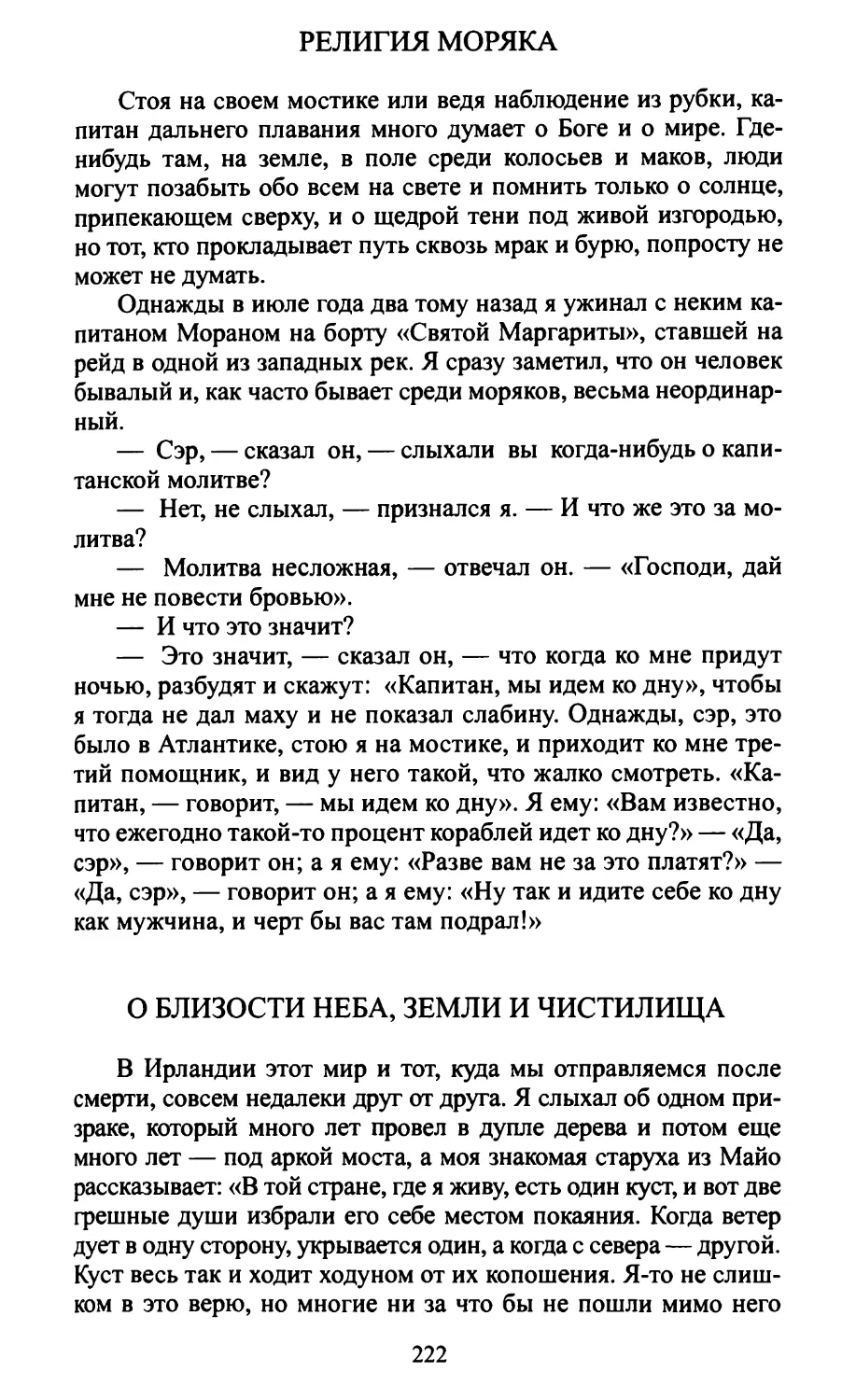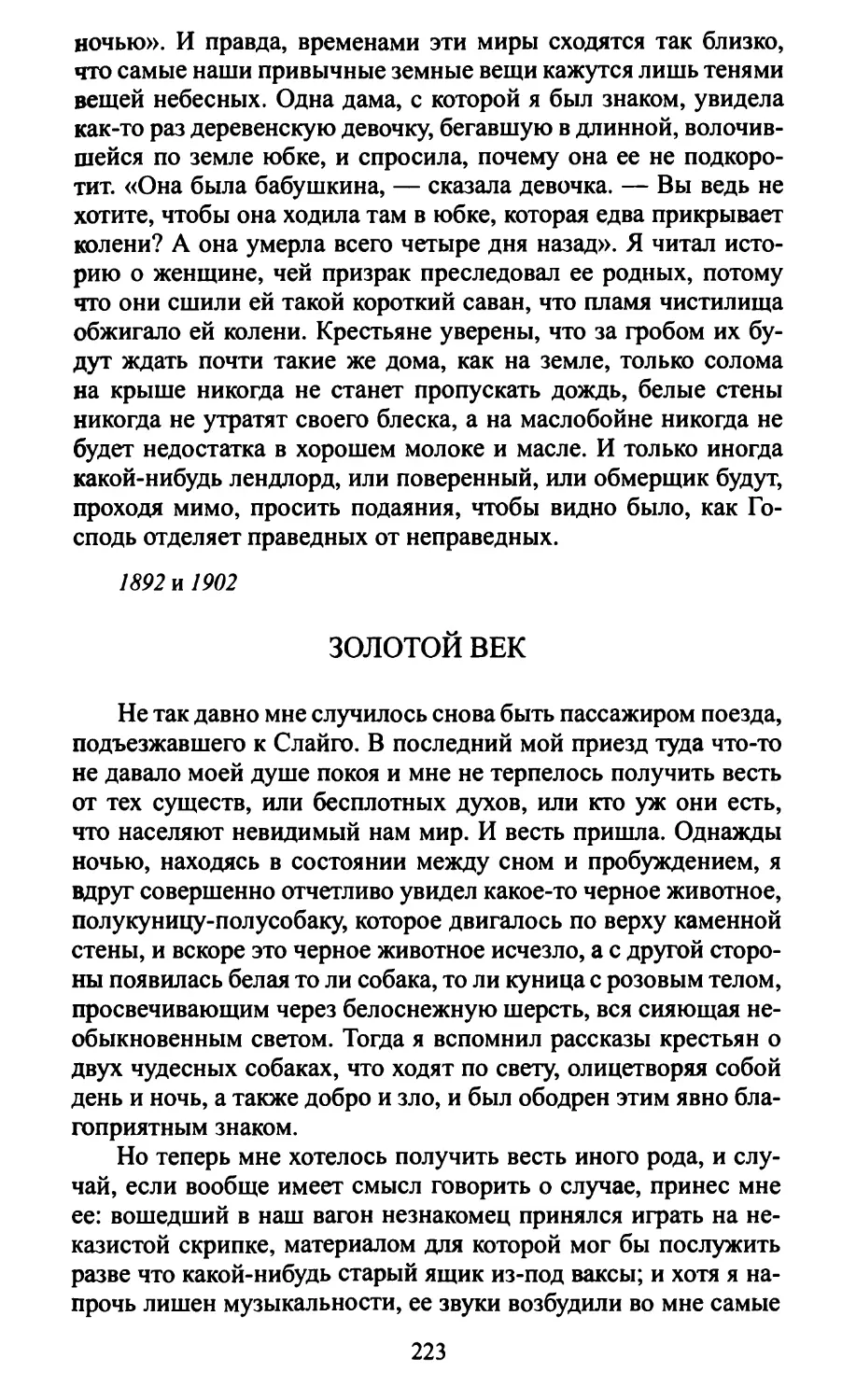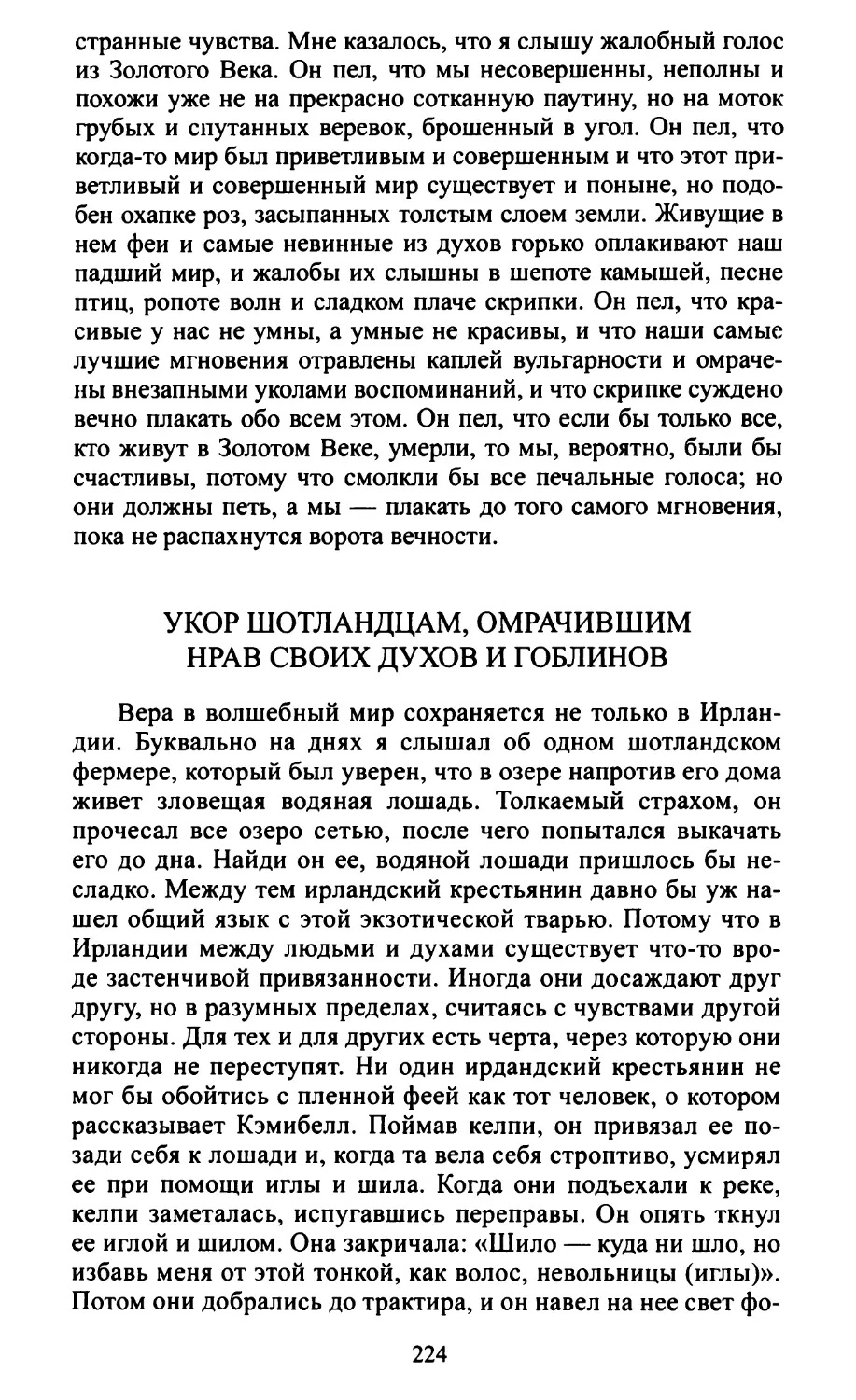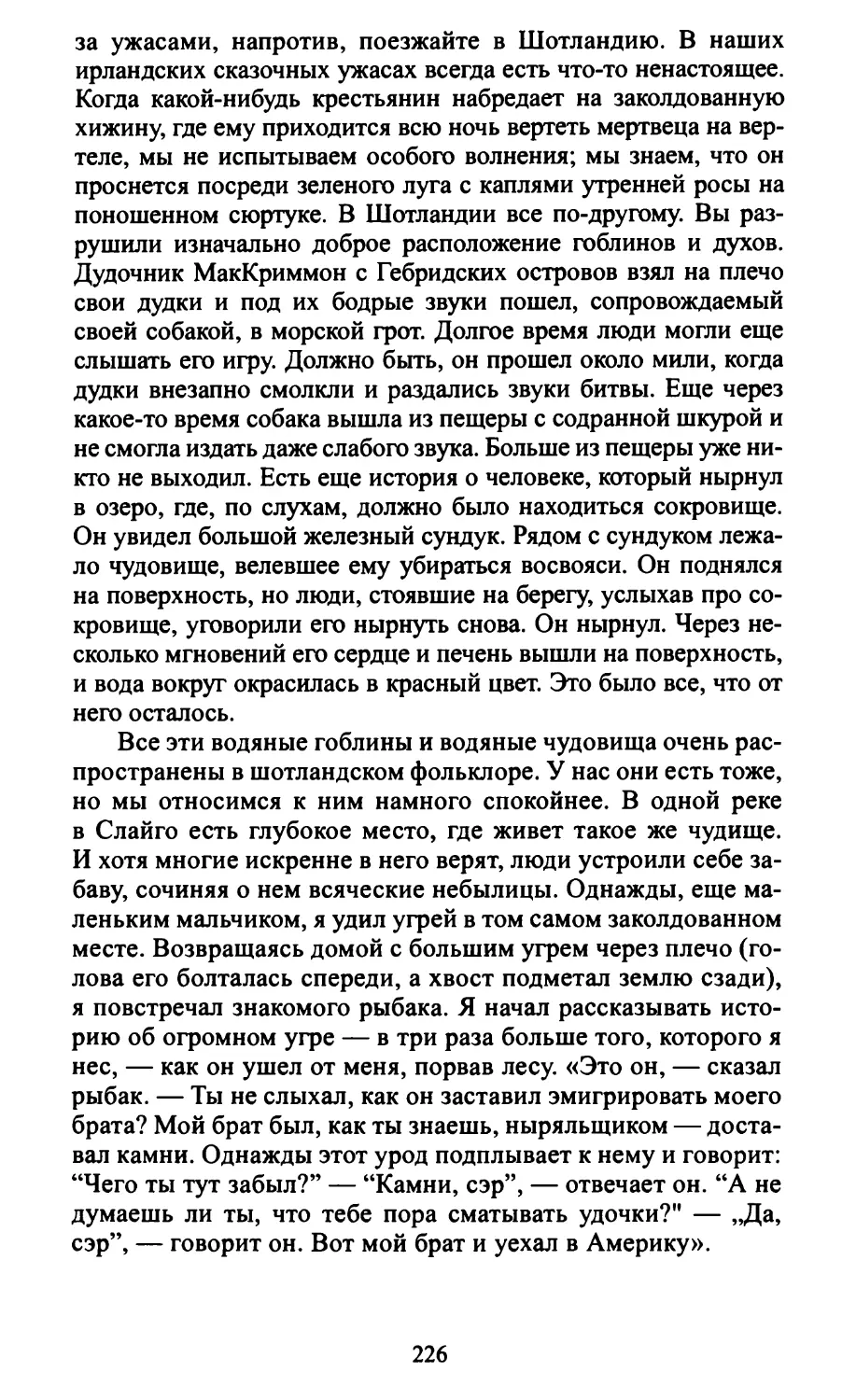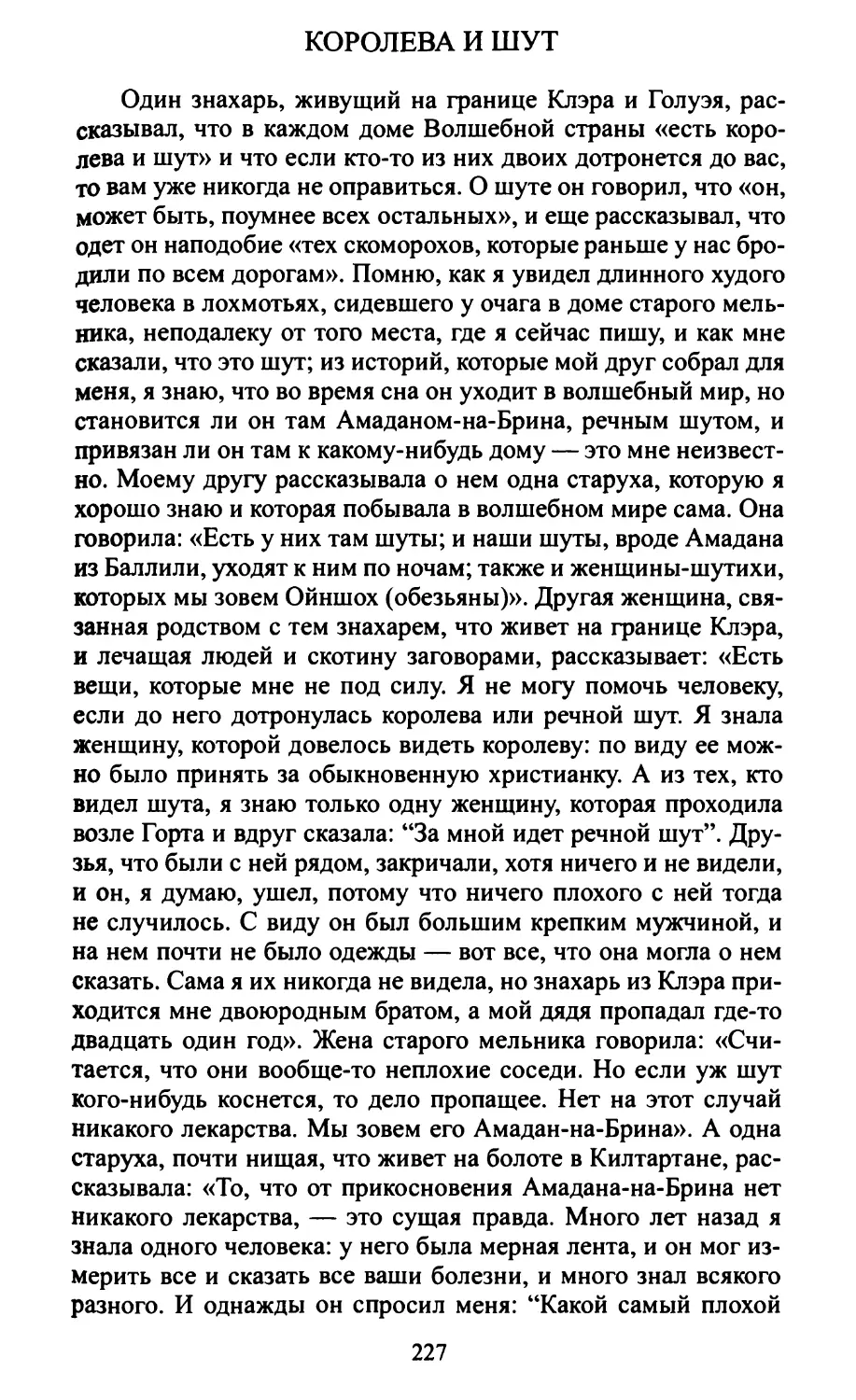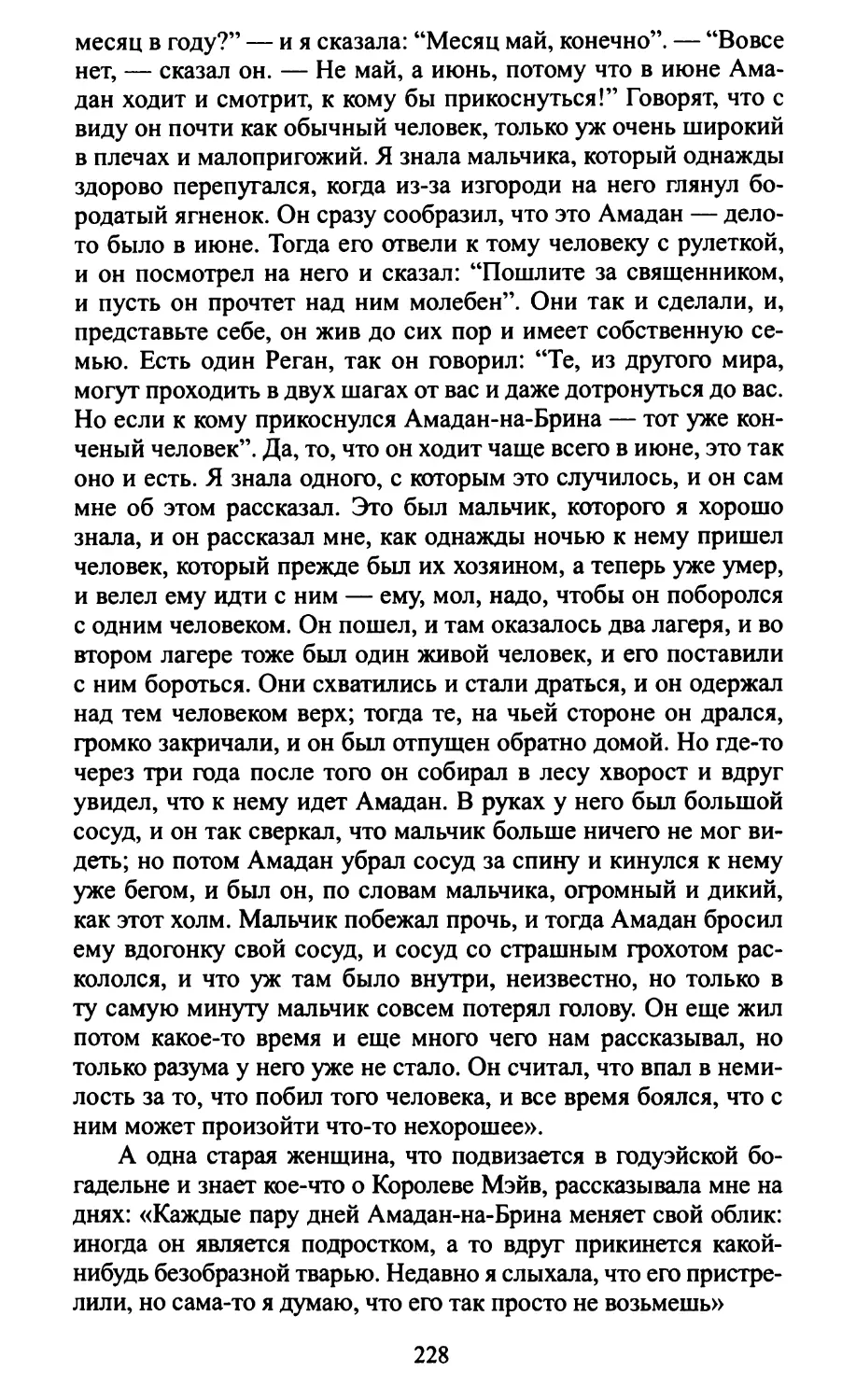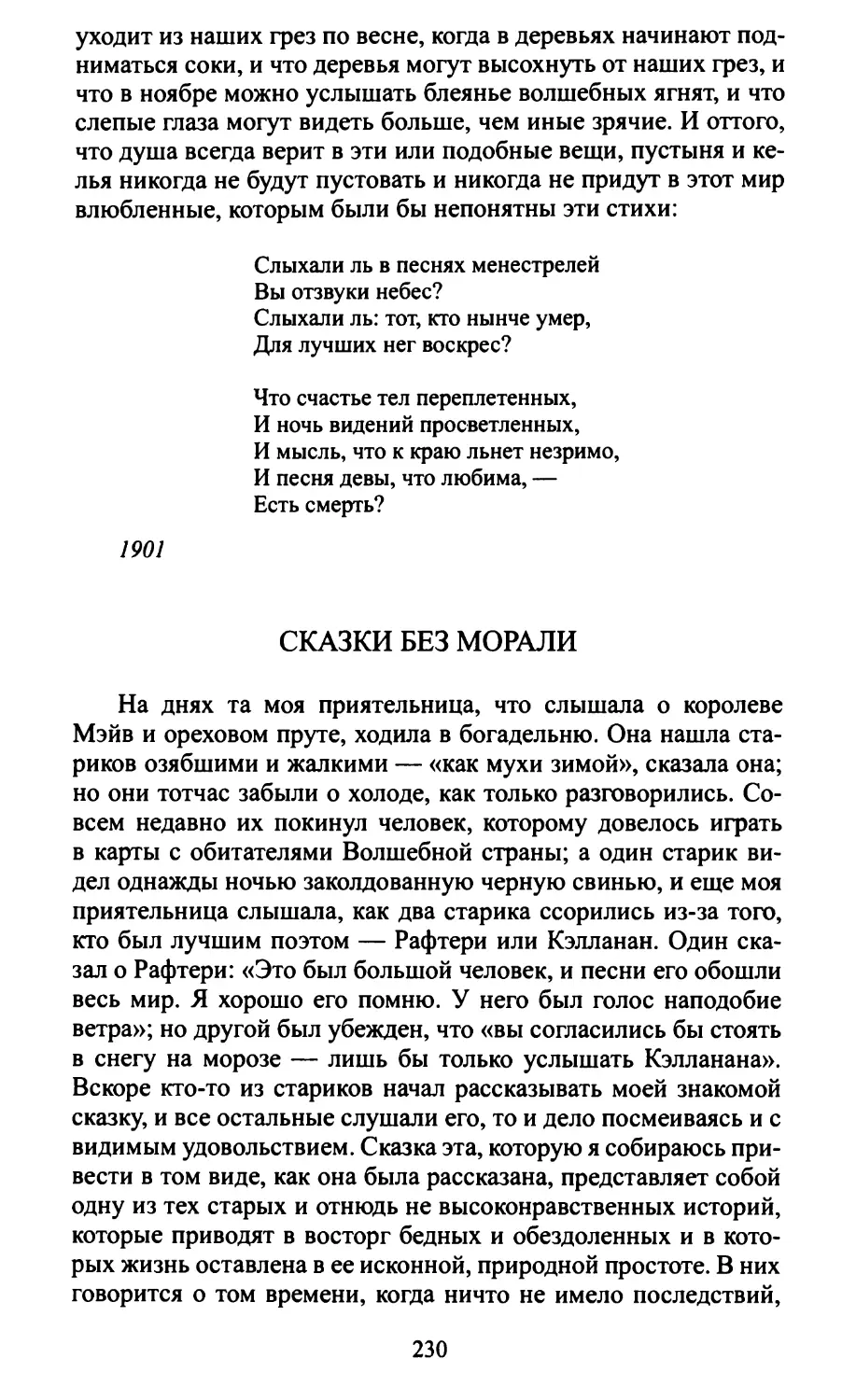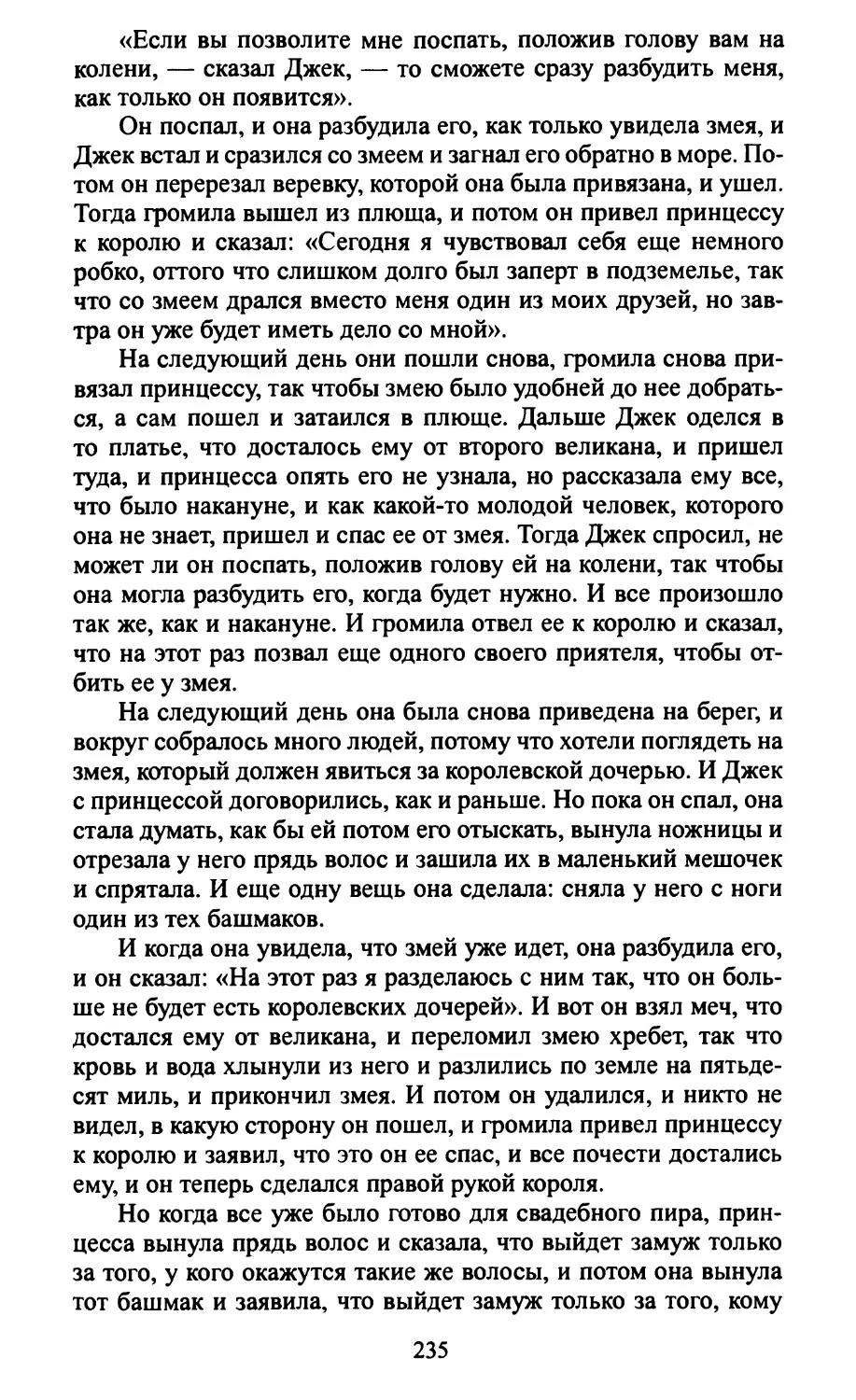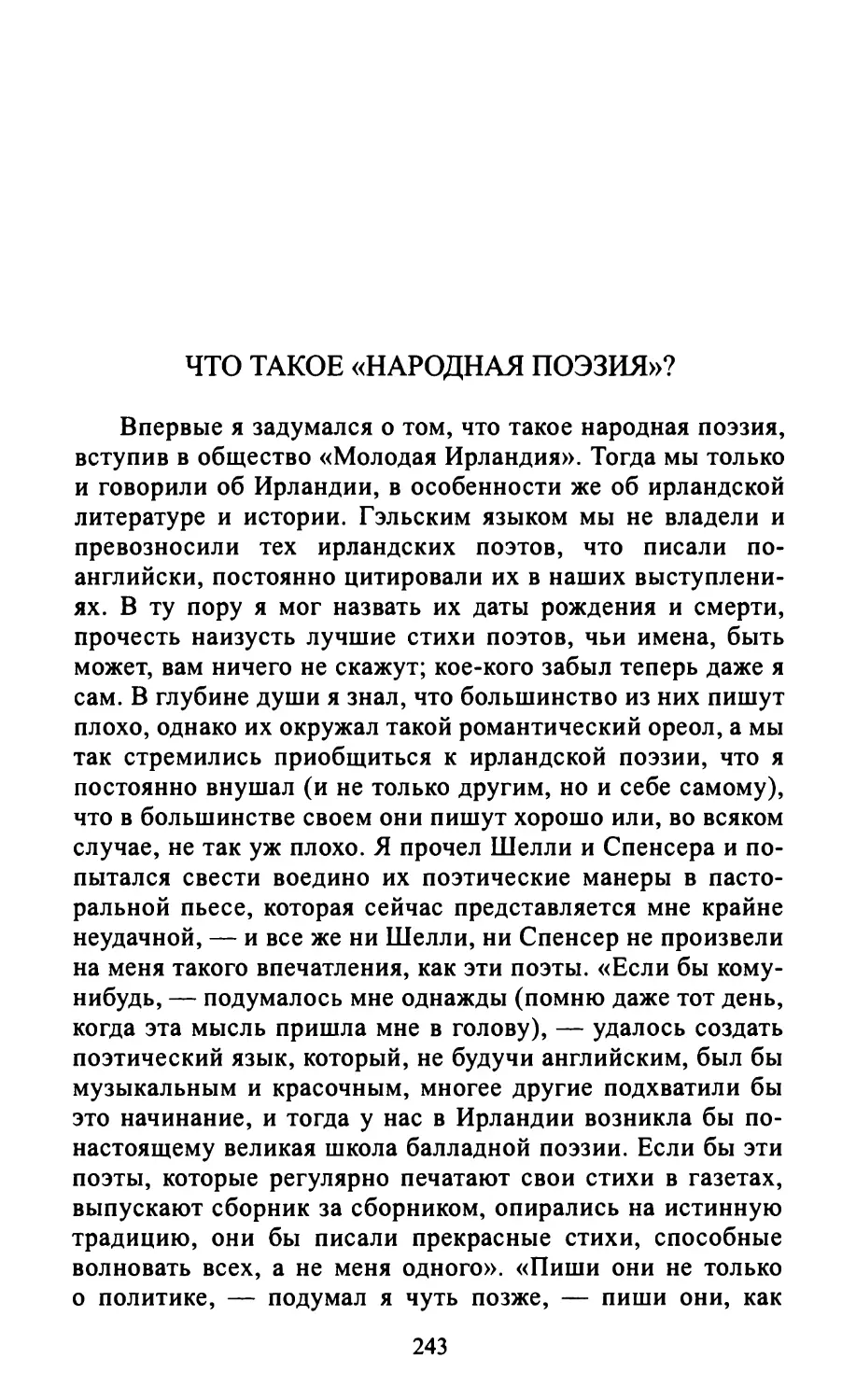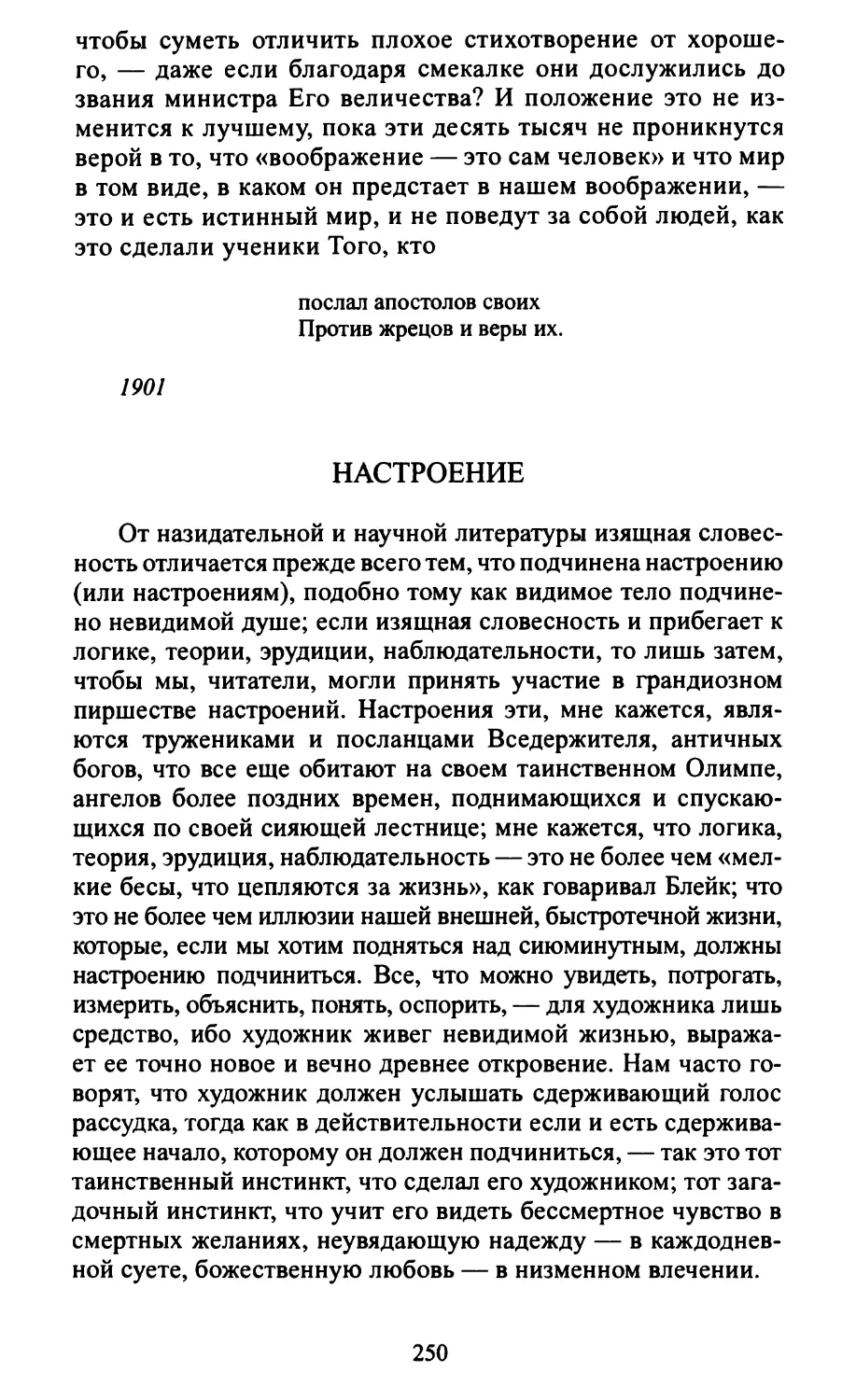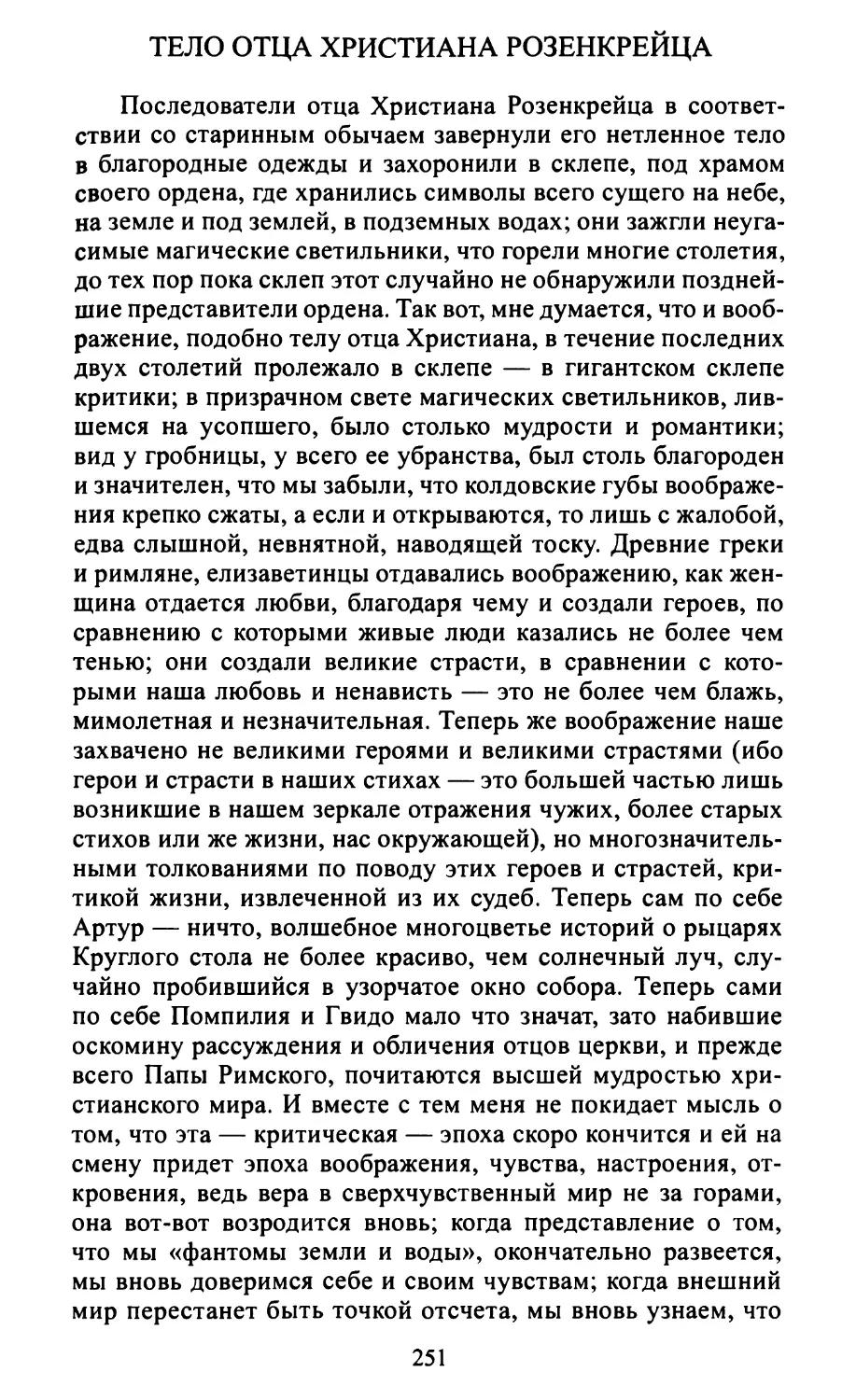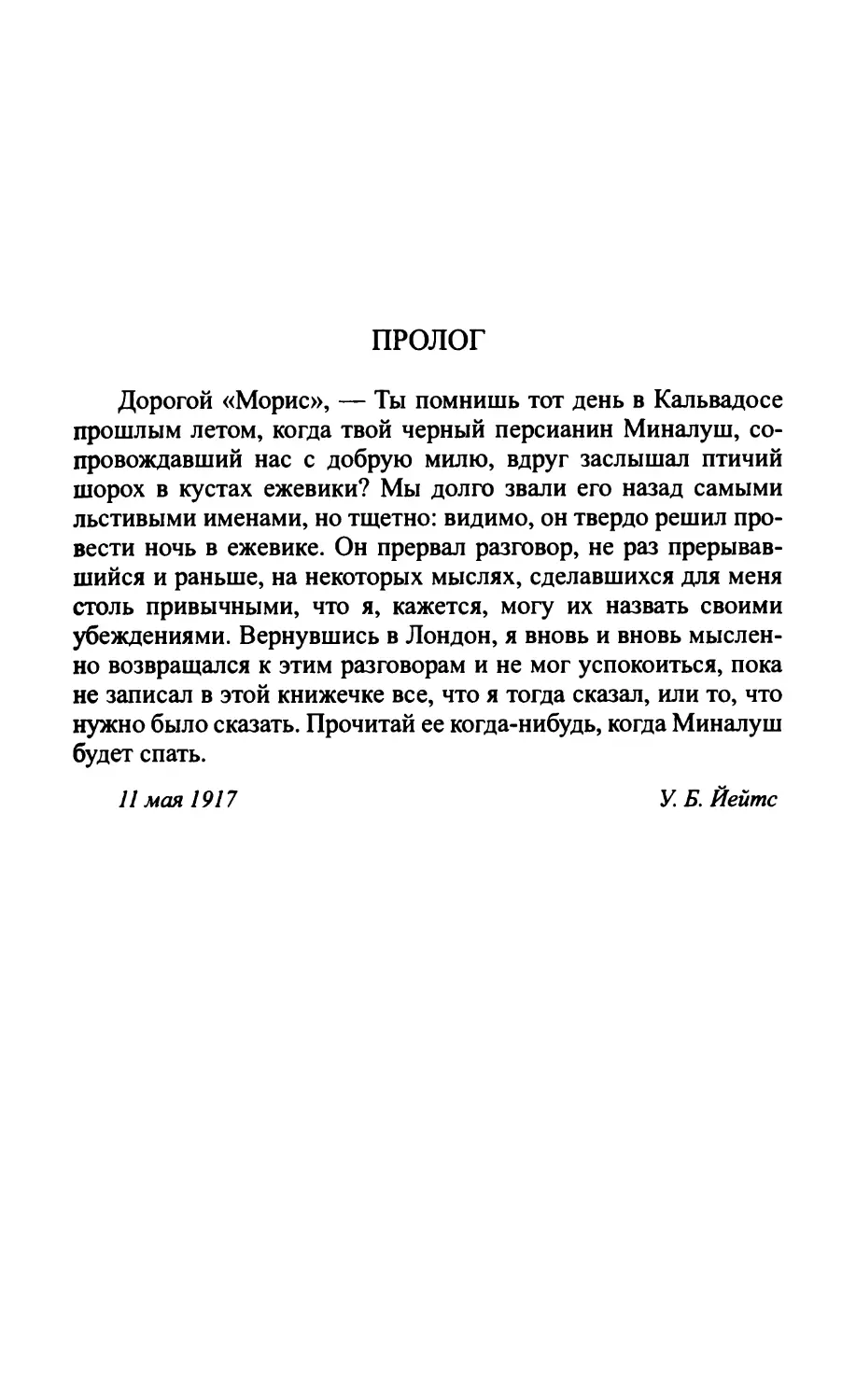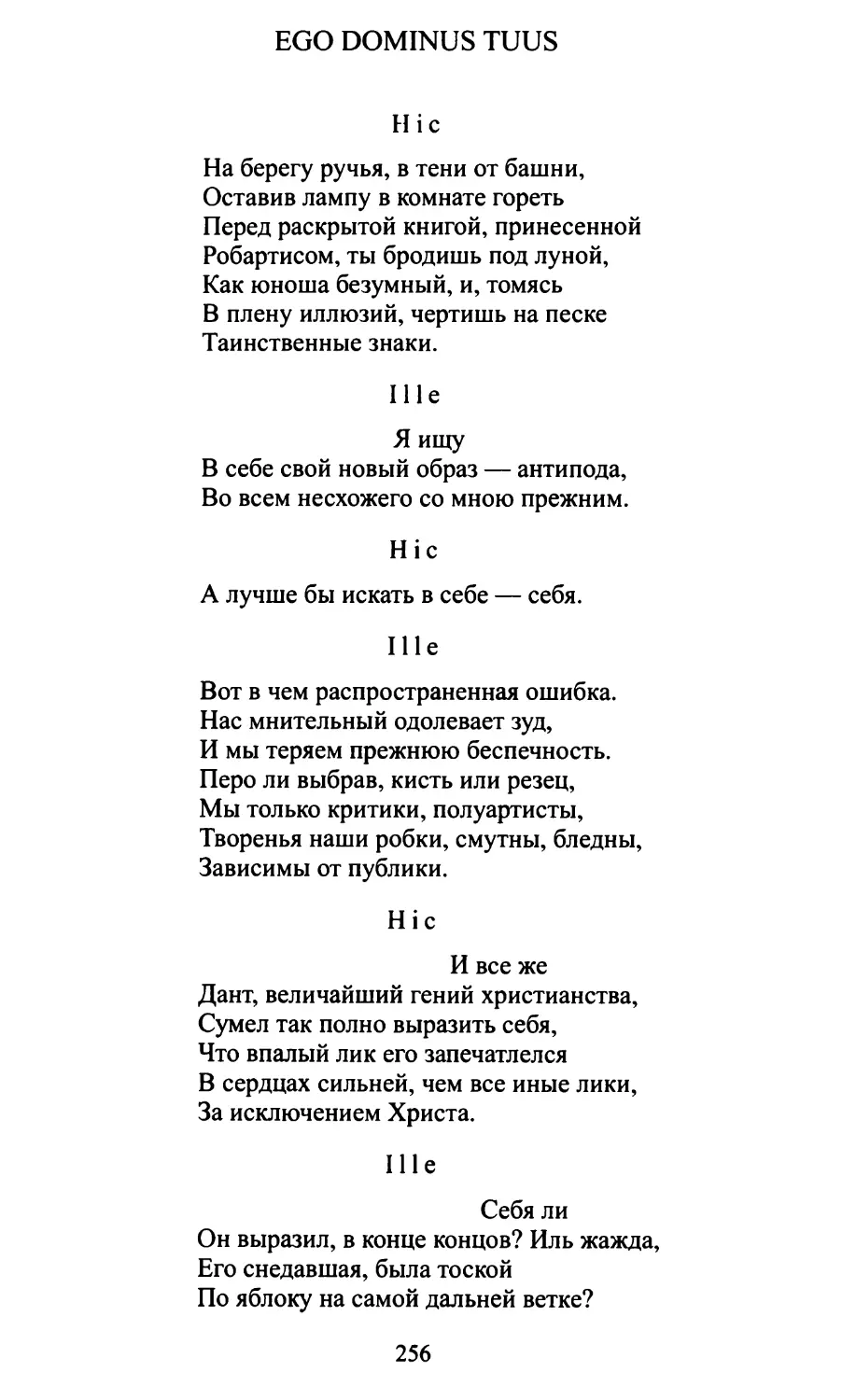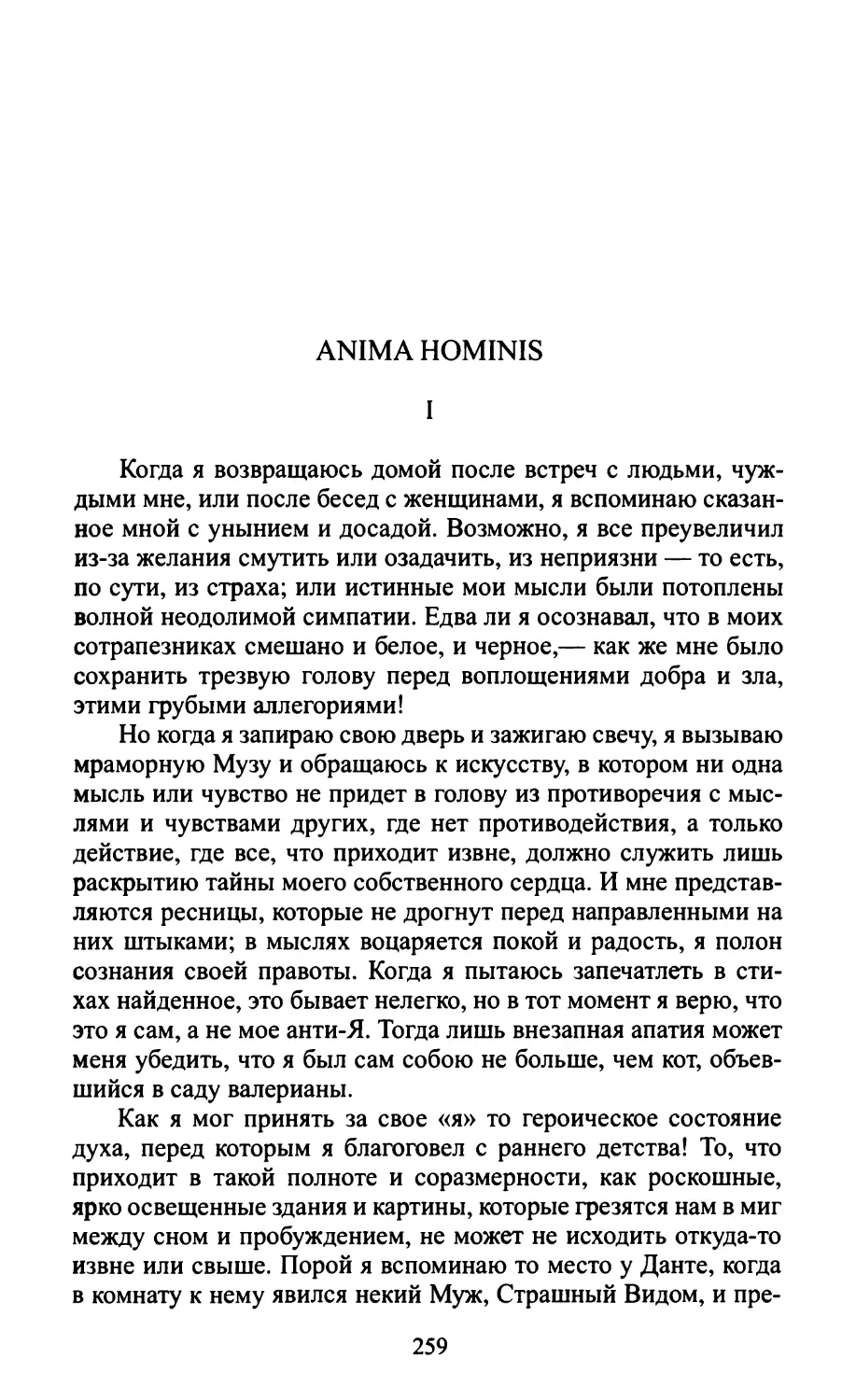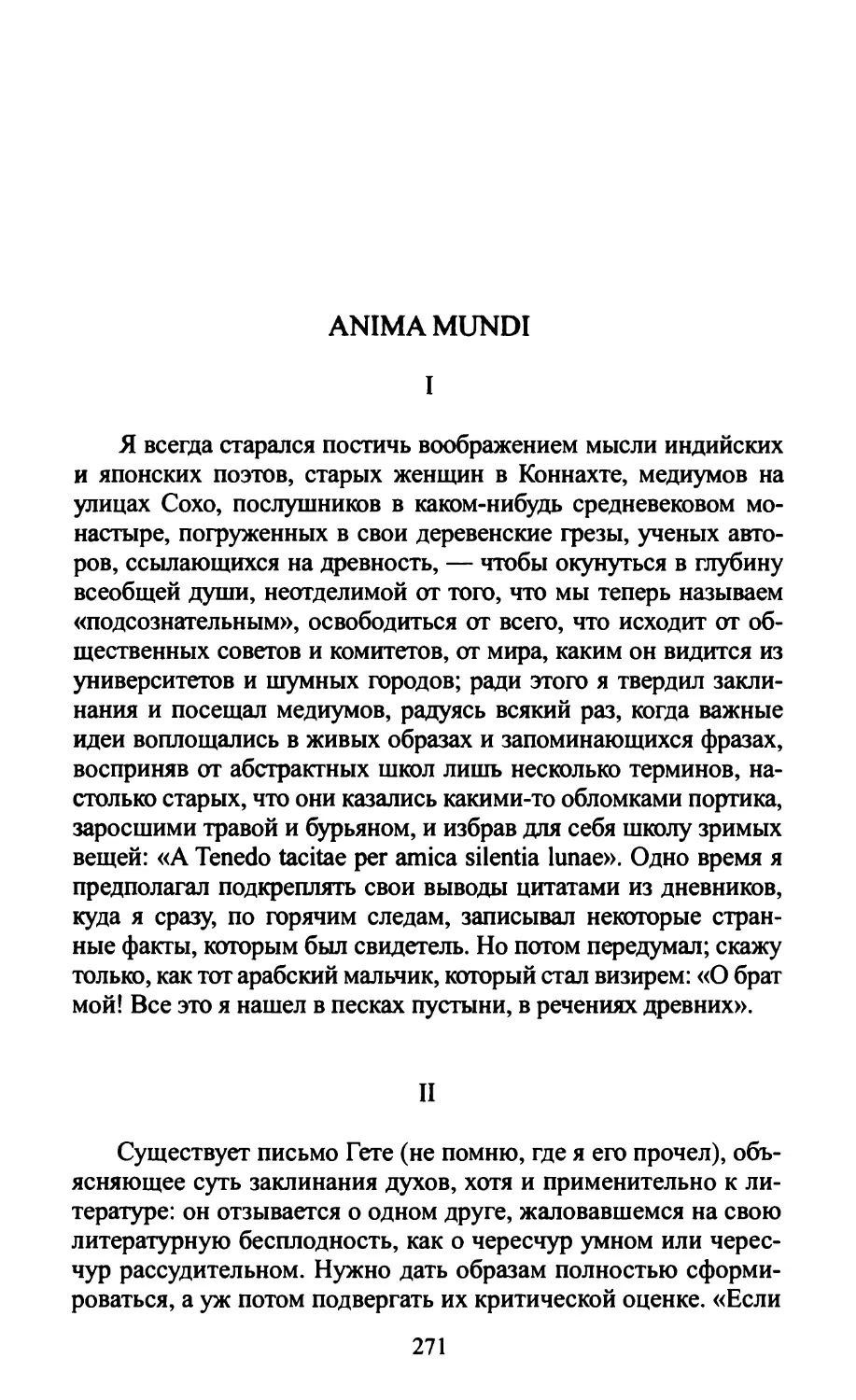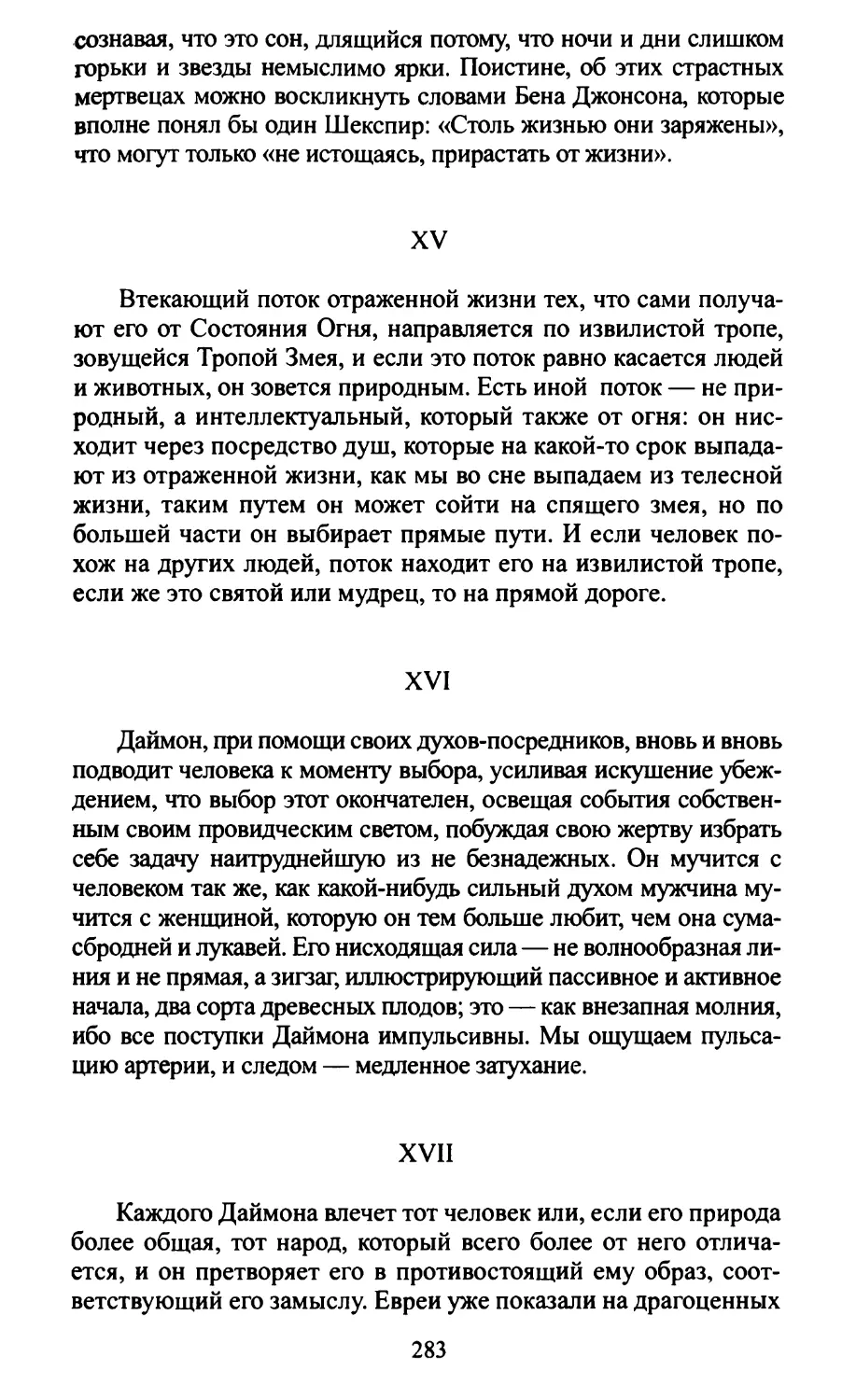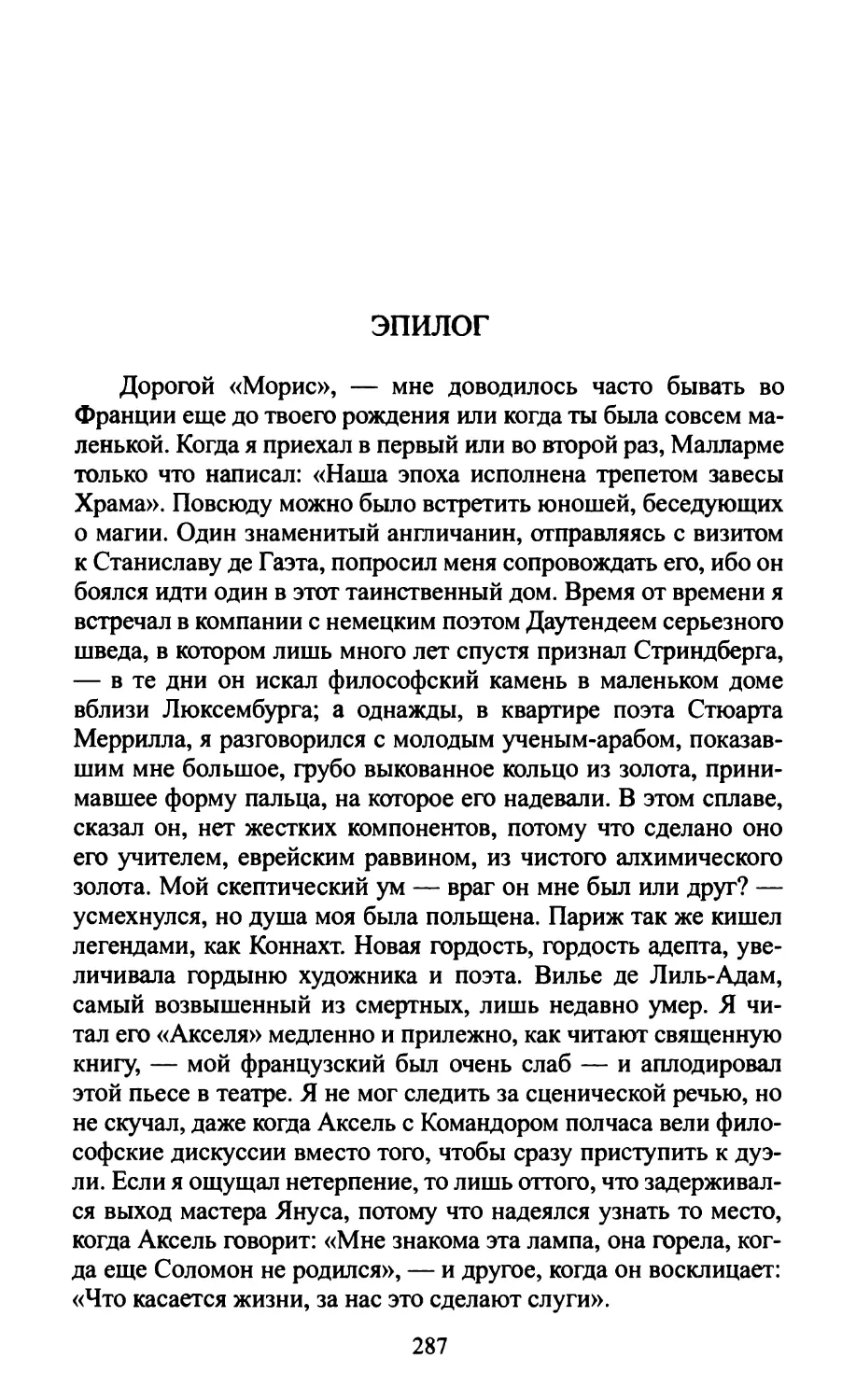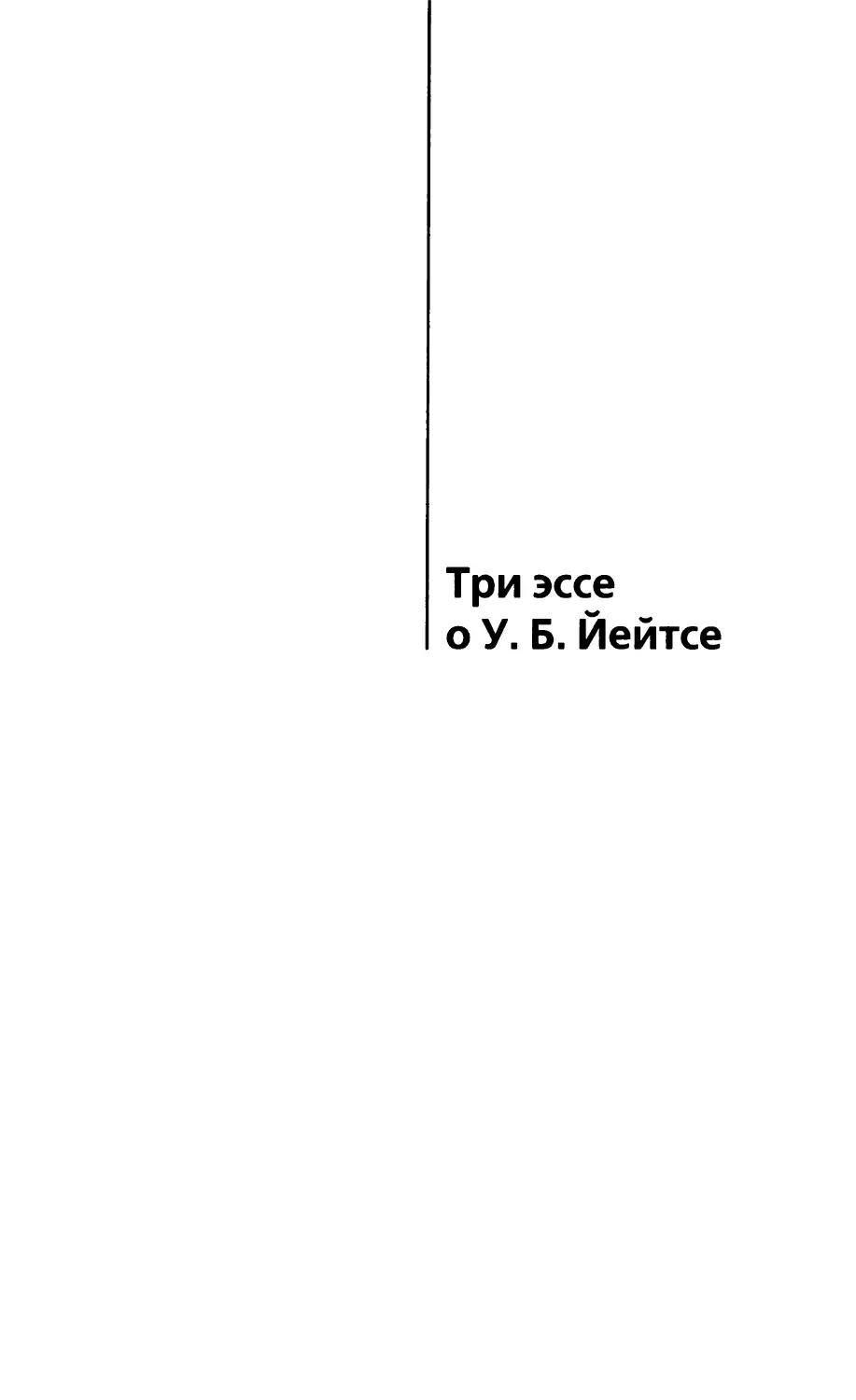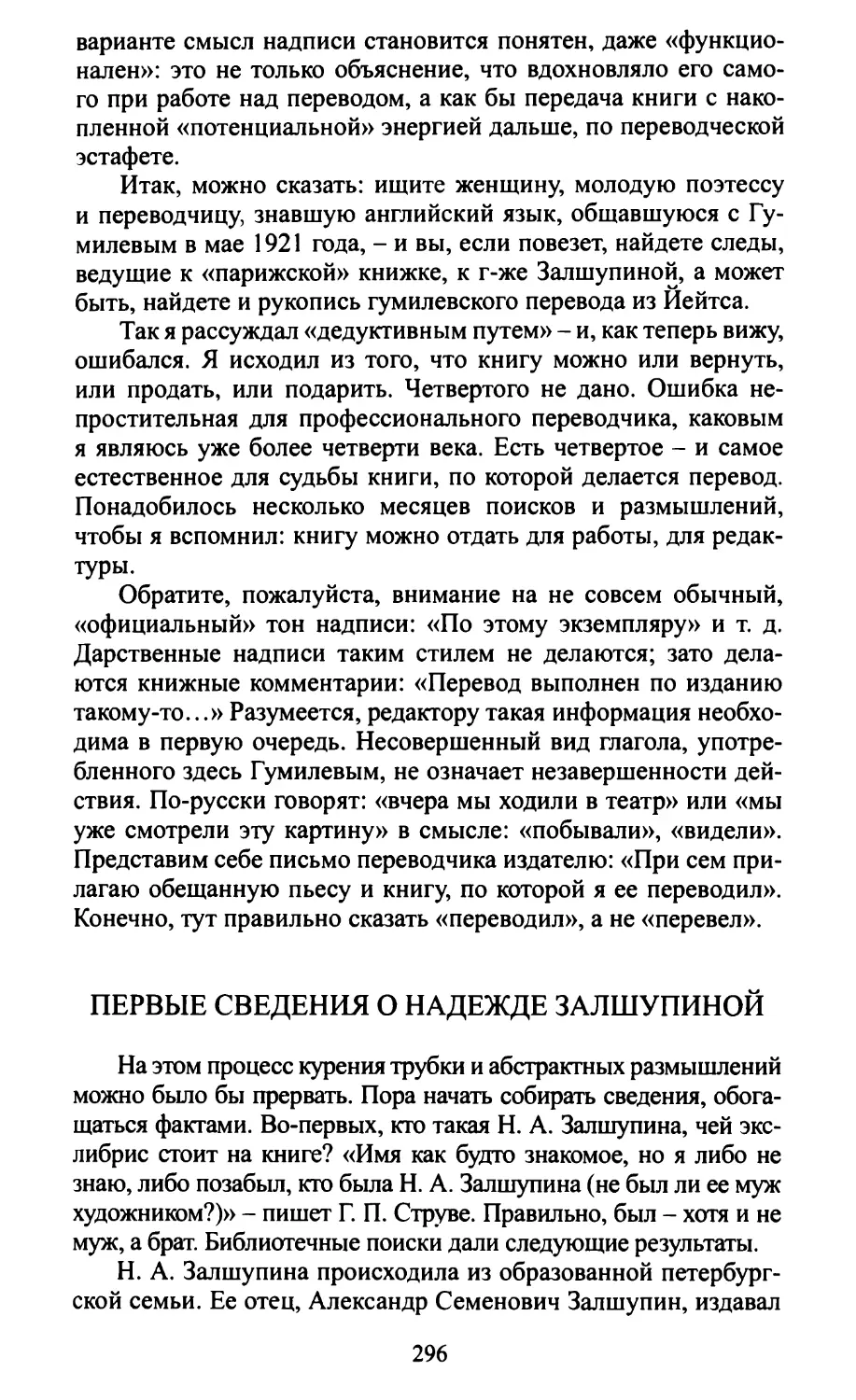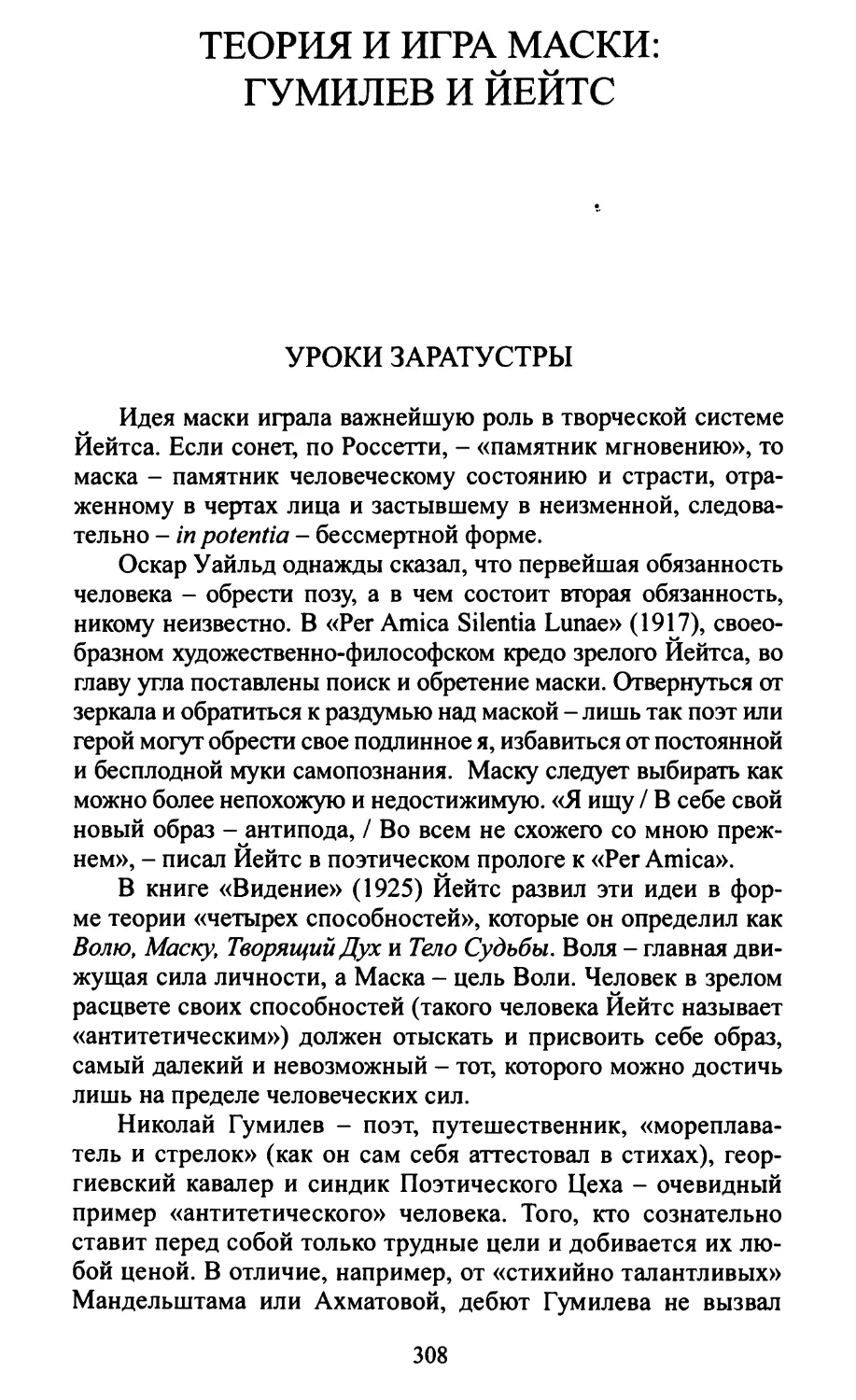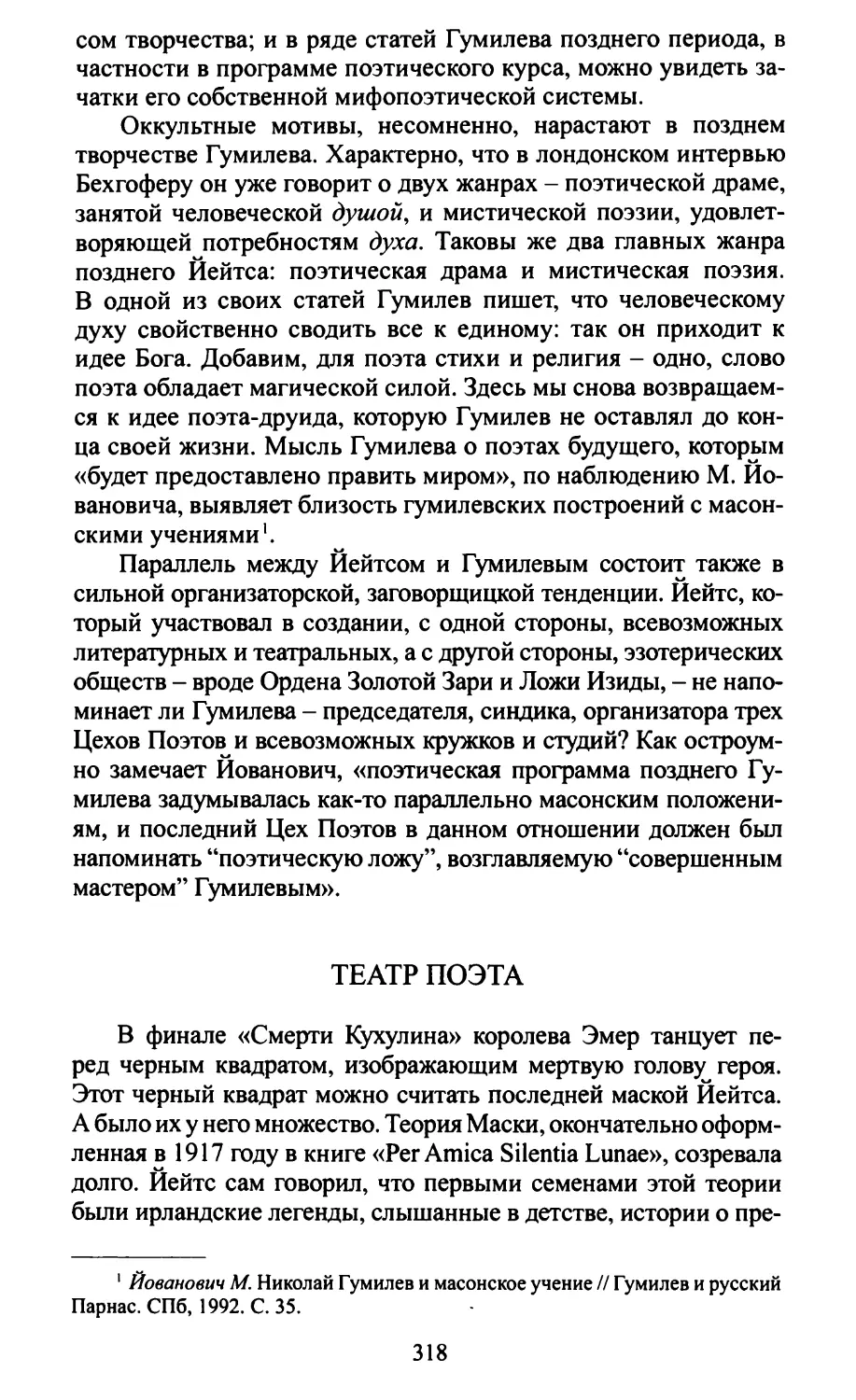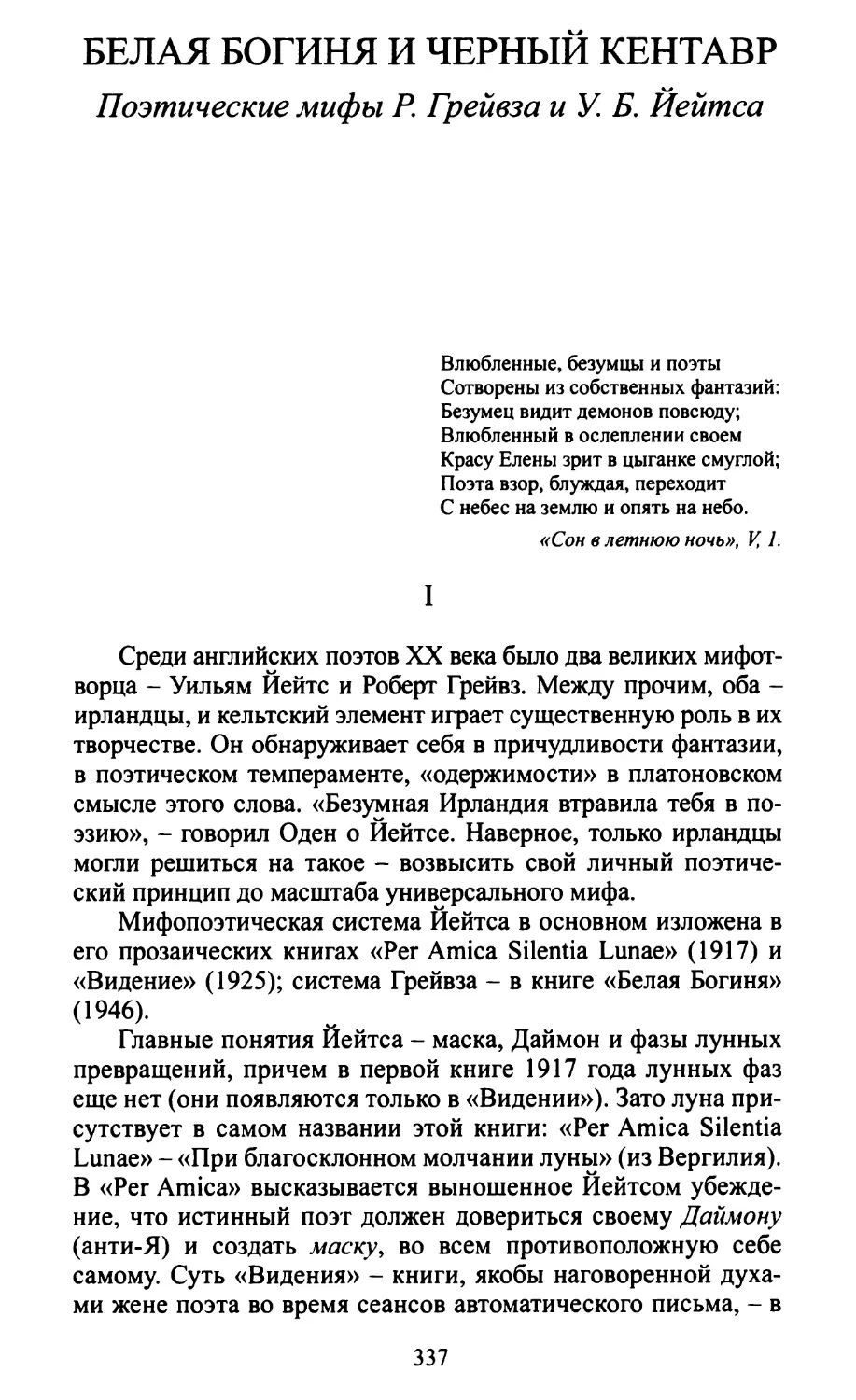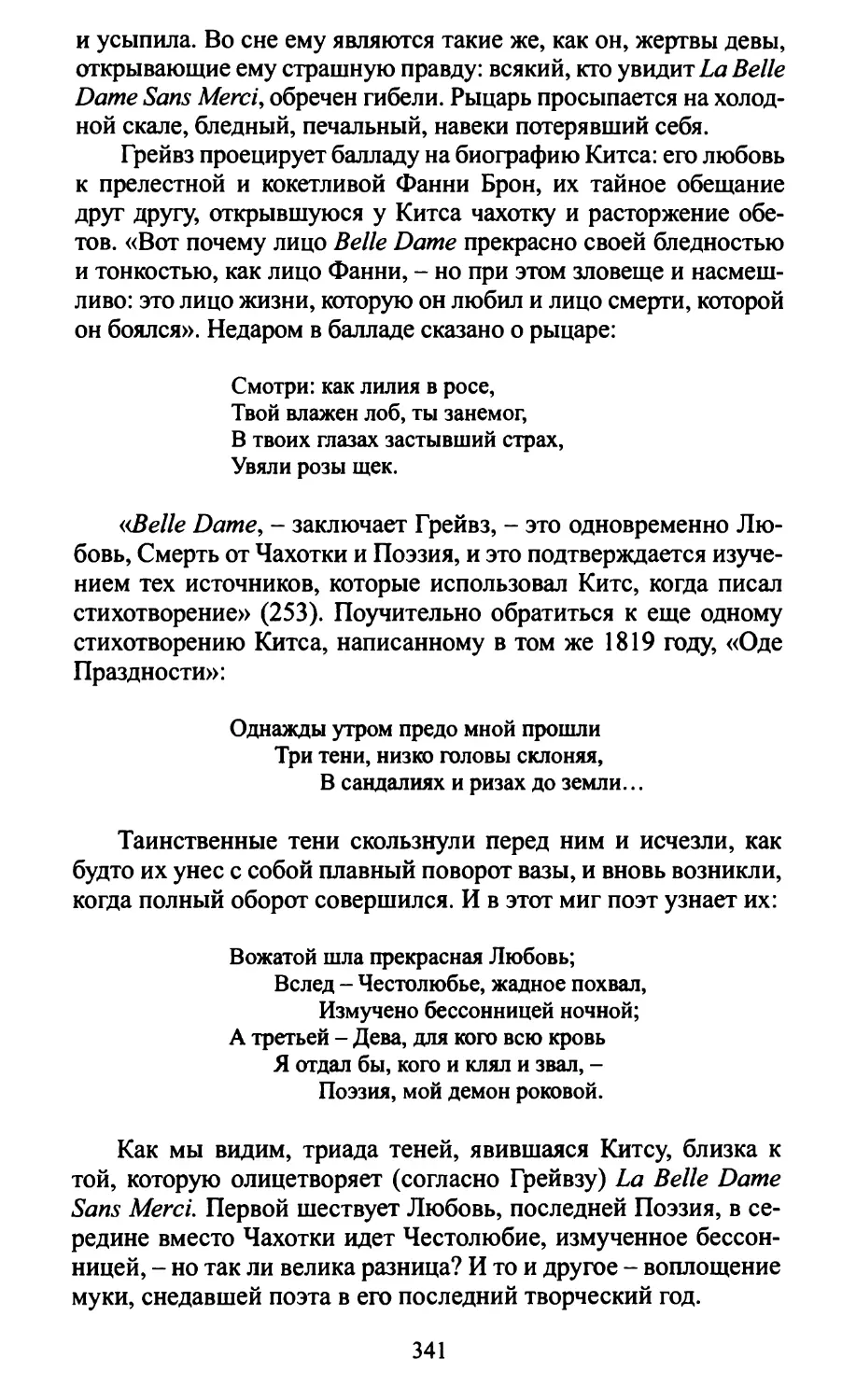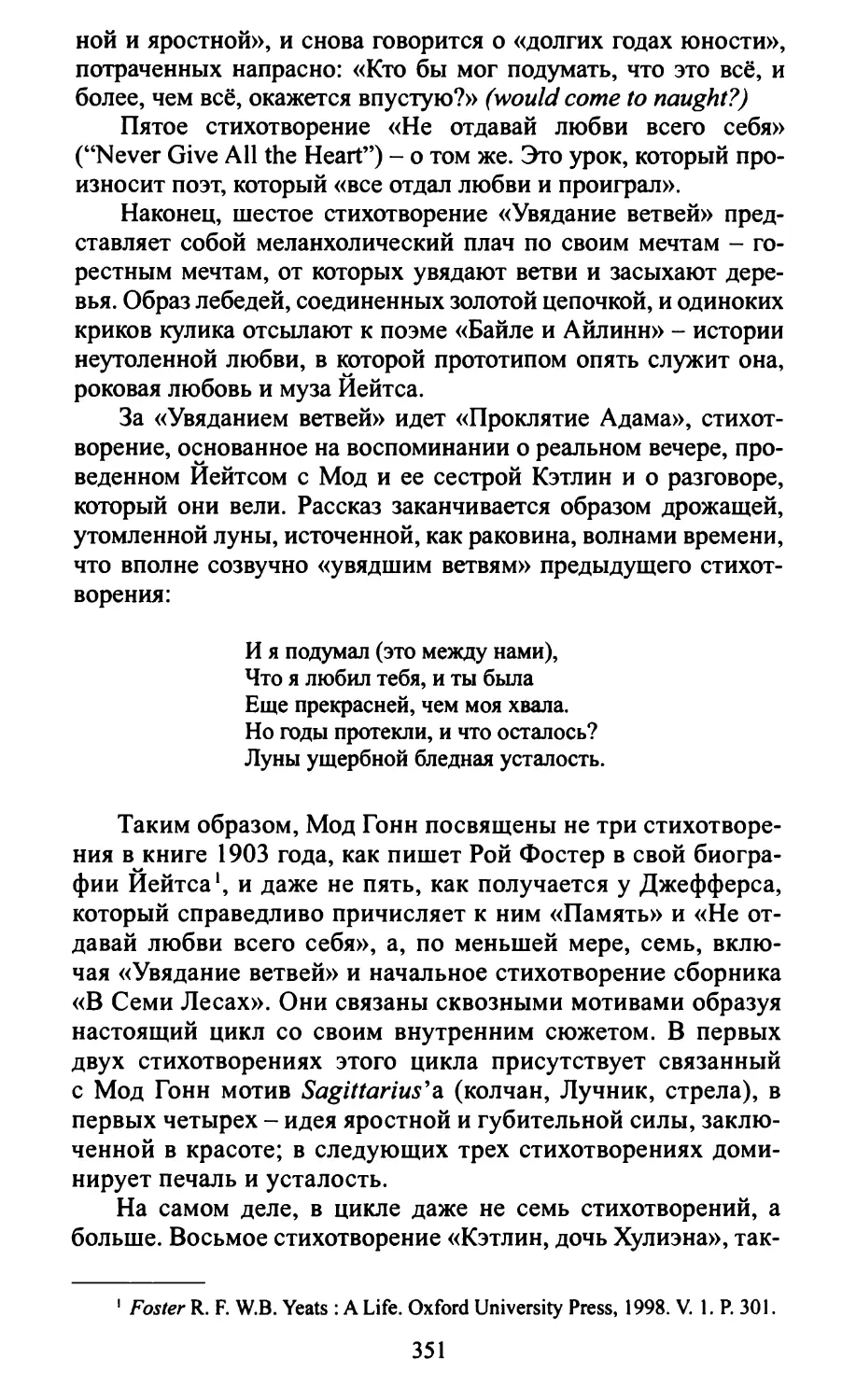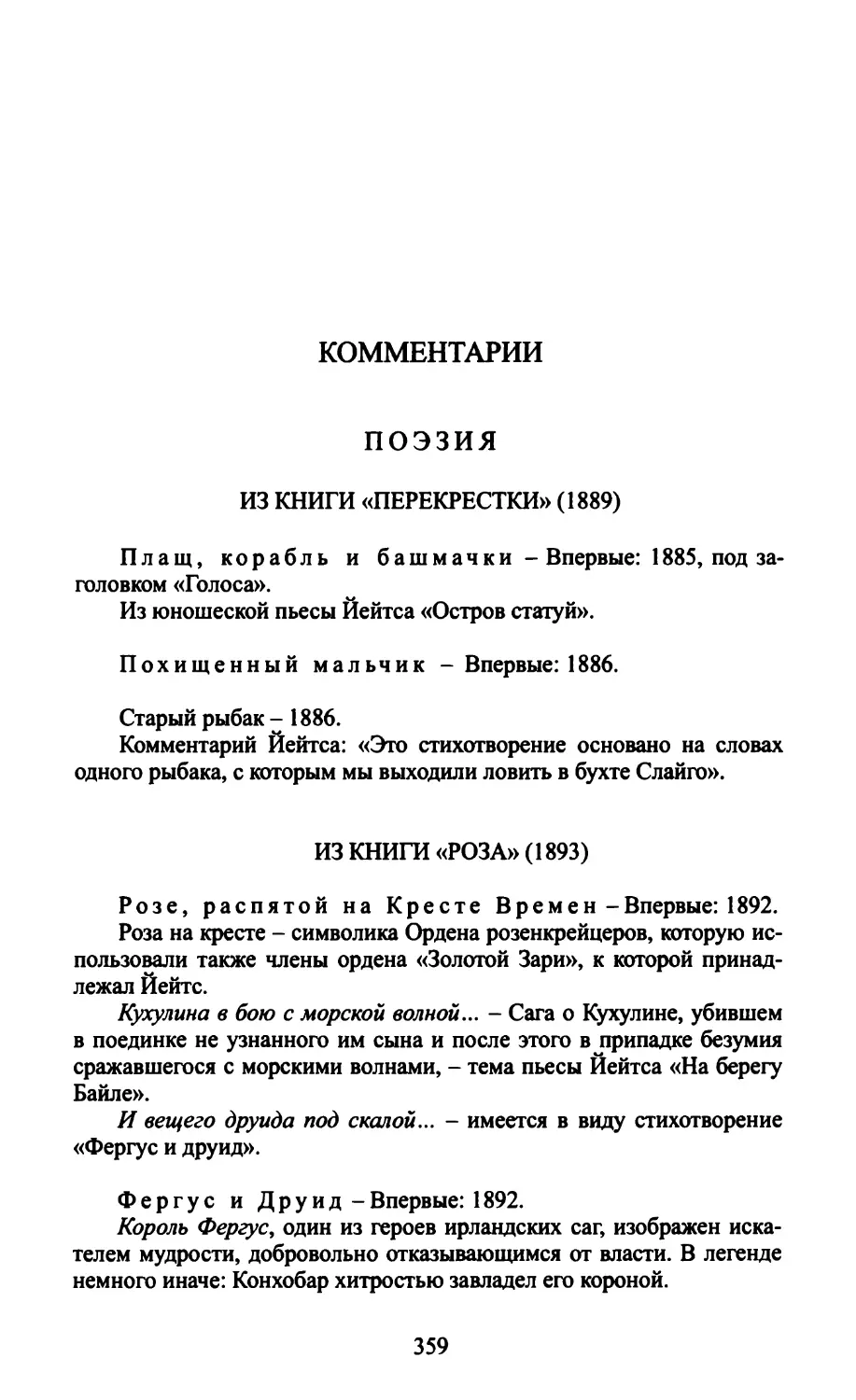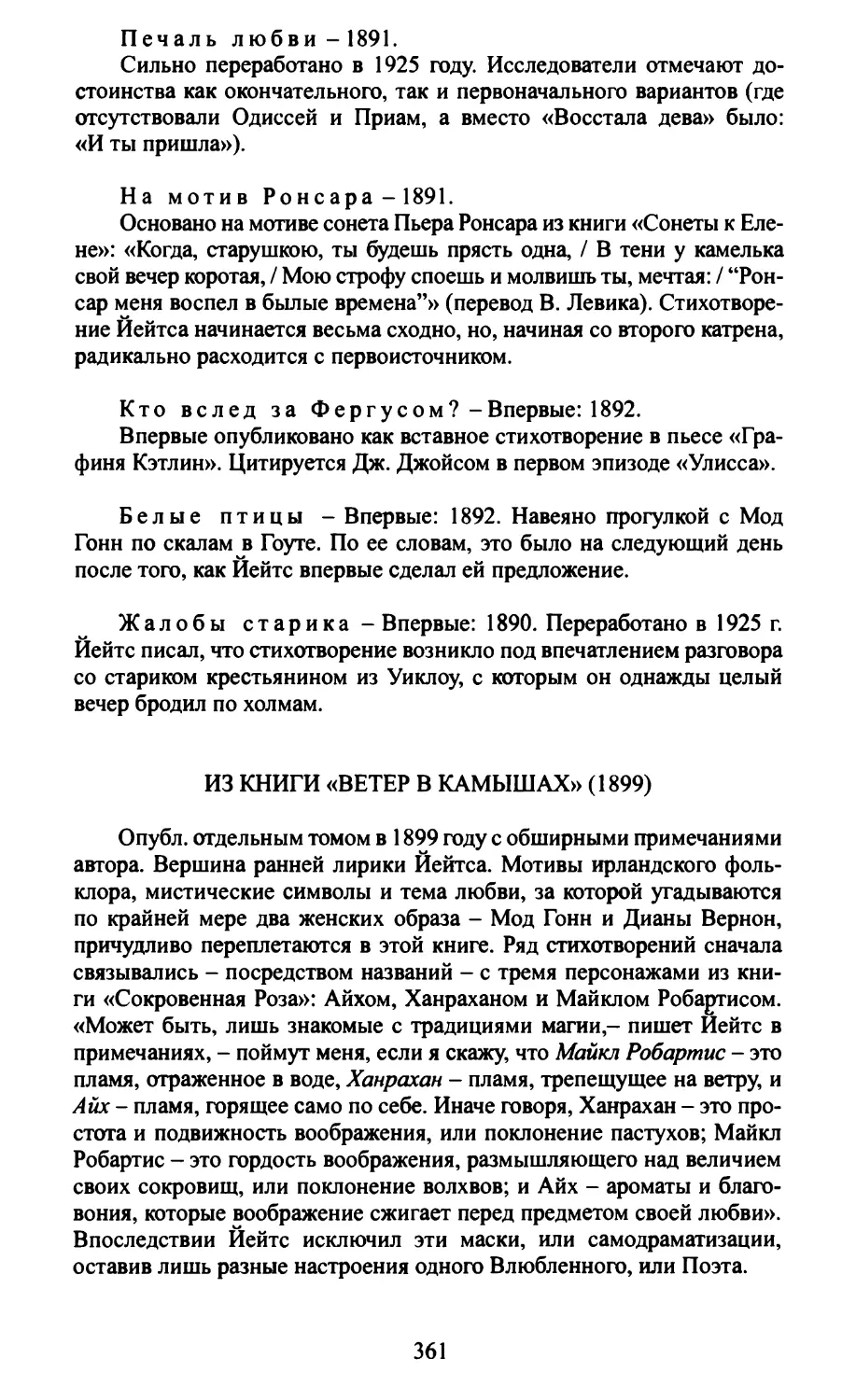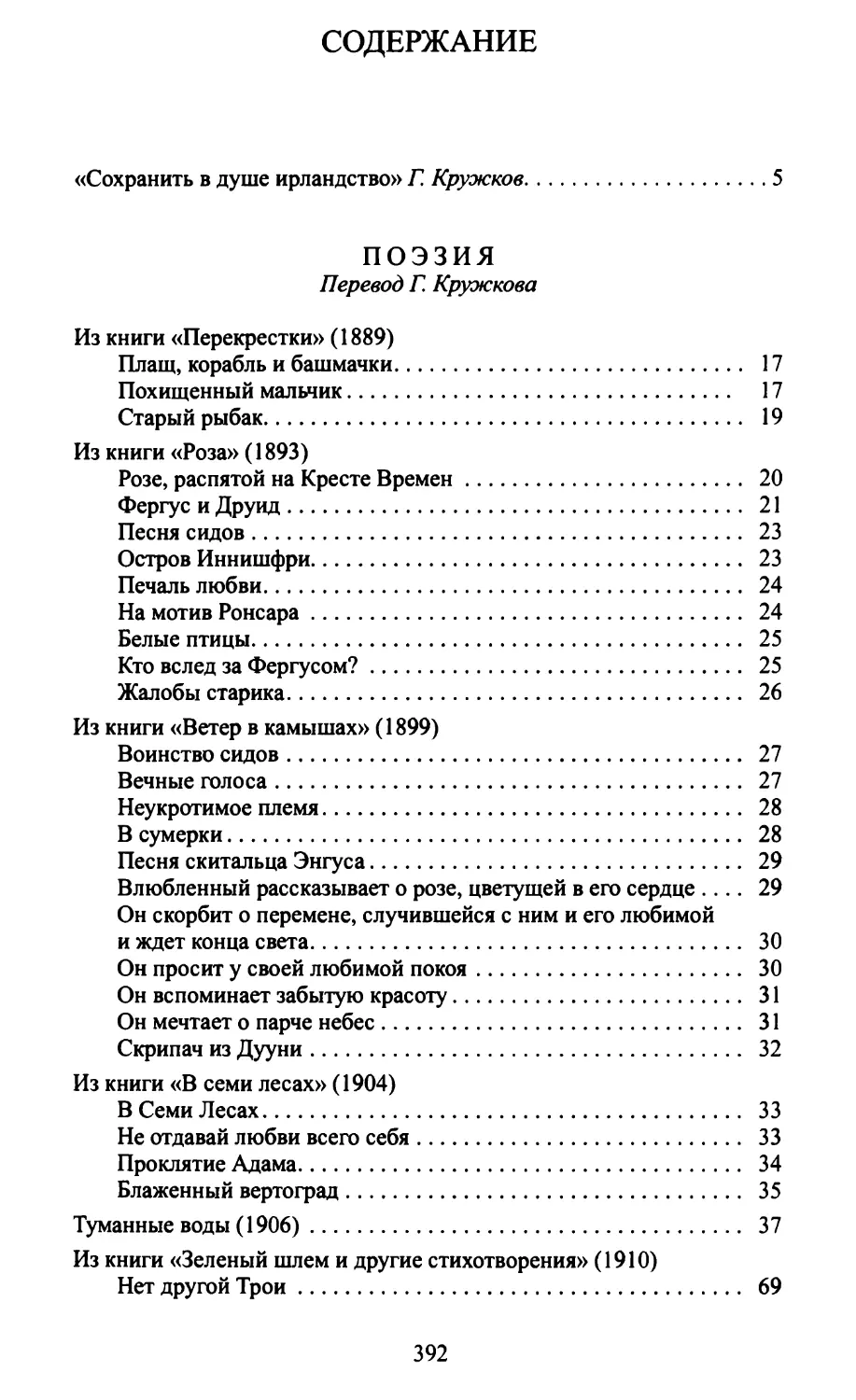Author: Йейтс У.Б.
Tags: художественная литература на английском языке художественная литература поэзия проза сборник стихов. серия поэты в стихах и прозе йейтс у.б
ISBN: 978-5-4224-0397-4
Year: 2012
Text
чт
i <
$
Уильям Батлер
ЙЕЙТС
Винтовая
лестница
v>
fcgo
ГПКО_
CfflS
поэты
в стихах
и прозе
поэты
в стихах
и прозе
Уильям Батлер
ЙЕЙТС
Винтовая
лестница
ШНИГОВЕЖ
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB
УДК 821.111
ББК 84(4 Исл)
ИЗО
Оформление художника А. Балашовой
Йейтс У. Б.
ИЗО Винтовая лестница: Поэзия / Пер. с англ. Г. Кружкова;
Размышления о детстве и юности / Пер. с англ. В. Ряполо-
вой; Из книги «Кельтские сумерки» / Пер. с англ. Т. Стамо-
вой; Из книги «Идеи добра и зла» / Пер. с англ. А. Дивер-
гента; Per Arnica Siientia Lunae / Пер. с англ. Г. Кружкова;
Вступ. ст., состав Г. Кружкова. — М.: Книжный Клуб Кни-
говек, 2012. — 400 с. — (Поэты в стихах и прозе).
ISBN 978-5-4224-0397-4
У. Б. Йейтс (1865—1939) принадлежит в равной степени ирландской и
английской литературе, девятнадцатому веку и двадцатому. В его творчест-
ве слились кельтские мотивы с теософией мадам Блаватской, ренессансное
ощущение мира как театра с мистическим романтизмом Блейка и Шелли.
Поэт-символист, маг и философ, драматург и критик, создатель Ир-
ландского национального театра, свои лучшие произведения Йейтс соз-
дал не до, а после присуждения ему Нобелевской премии в 1923 году.
Это прежде всего сборники «Башня» и «Винтовая лестница», в которых
Йейтс воспел свой поэтический приют — старинную башню Тур Баллили
в ирландском графстве Голуэй, а также стихи и пьесы последних лет —
его творческий дар не слабел до последних дней жизни.
Во всем мире Йейтс признан крупнейшим англоязычным поэтом
XX века, но в Ирландии он составляет предмет особого культа, сравни-
мого только с культом Пушкина в России. На изломе времен, в эпоху
войн и революций, он сделал самое важное: связал распавшуюся связь
литературной традиции и восстановил славу, исстари принадлежавшую
в Ирландии поэту — выразителю тайной души народа.
В предлагаемом издании представлены стихи Йейтса и его поэтиче-
ский театр. Также в книгу вошли «Воспоминания о детстве и юности»,
«Сокровенная роза» (рассказы) и «Per arnica siientia Lunae» («При благо-
склонном молчании луны», поэтическое кредо Йейтса, выраженное в
мифопоэтической форме).
УДК 821.111
ББК 84 (4 Исл)
© Г. Кружков, перевод, состав, вступительная
статья, комментарии, 2012
© А. Ливергант, перевод, 2012
© В. Ряполова, перевод, 2012
© Т. Стамова, перевод, 2012
ISBN 978-5-4224-0397-4 © Книжный Клуб Книговек, 2012
«Сохранить в душе ирландство»
i
Ирландский вклад в современную литературу впечатляет: доста-
точно назвать трех нобелевских лауреатов, Уильяма Йейтса, Сэмюэля
Беккета и Шеймаса Хини, плюс безусловного классика XX века про-
заика Джеймса Джойса, - уже немало для страны с населением всего-
то в пять миллионов человек. Такое положение не случайно: Ирлан-
дия - страна с уникальным культурным наследием. Еще до Святого
Патрика, в IV веке принесшего ирландцам христианство, здесь суще-
ствовала развитая кельтская цивилизация, о которой мы можем судить
хотя бы по сохранившимся мифам и сагам. В раннем средневековье
Ирландию называли «островом святых и ученых», отсюда шли книги,
которые переписывали монахи в многочисленных скрипториях, отсю-
да миссионеры отправлялись проповедовать Евангелие и основывать
монастыри по всей Европе, доходя чуть не до Новгорода. Здесь полто-
ры тысячи лет назад впервые в Европе появилась рифмованная поэзия
(латинская поэзия обходилась без рифм) - удивительная монастырская
лирика древней Ирландии.
И хотя англичане, окончательно завоевав остров в XVII веке,
старались искоренить ирландский язык и это им почти удалось, но
и перейдя на английский язык, ирландцы остались ирландцами и со-
хранили многие родовые черты своей культуры, включая глубоко уко-
рененное уважение к поэзии и книге.
Вот какую традицию унаследовал Уильям Батлер Йейтс (1865—
1939), величайший поэт Ирландии, чья слава на родине сравнима со
славой Пушкина в России. Впрочем, его значение далеко выходит за на-
циональные рамки. Можно даже поставить вопрос: ирландский он поэт
или английский? Казалось бы, ответ очевиден. Йейтс - патриот, соби-
ратель ирландского фольклора, основатель Ирландского национально-
го театра, а после получения Ирландией независимости■*- член Сената;
его творчество пронизано мотивами ирландской истории и мифологии.
В одном из последних стихотворений, обращаясь к поэтам-землякам, он
завещал им верить в свое ремесло и быть верным родным традициям -
Чтобы навеки, как талант свой,
Сохранить в душе ирландство!
5
Но, с другой стороны, писал-то Йейтс по-английски. Его детские
и юношеские годы поделены почти поровну между Ирландией и Ан-
глией. Он учился в лондонской школе (где нередко получал тумаки
вот именно, что за свое «ирландство»), в Лондоне он искал признания
в молодости, когда делал первые литературные шаги и был удостоен
благосклонного внимания Оскара Уайльда, здесь он ходил по редакци-
ям, проводил многие часы в Британской библиотеке, дружил с поэтами
из Клуба Рифмачей. И главное - Шекспир. Шекспир, которого он, если
не всосал с молоком матери, то впитал изустно из монологов своего
отца-художника. Шекспир, которого так же не вырвать из творчества
Йейтса, как самого Йейтса - не выкинуть из английской поэзии, где он
занимает прочное и почетное место.
Сходные процессы происходили на окраинах всех больших импе-
рий. А Франц Кафка, родившийся в Праге, и ряд других выдающих-
ся писателей и поэтов Австро-Венгерской империи? А Гоголь, плоть
от плоти своей Диканьки и своего Миргорода, кто он - украинец или
русский? Так было везде, где имперский язык, имперская культура на-
ступала на культуру и язык своих национальных окраин.
У. Б. Йейтс (1865-1939) принадлежит в равной степени ирланд-
ской и английской литературе, девятнадцатому веку и двадцатому. На-
чинал он как поэт-символист - и остался едва ли не единственным
крупным представителем этого движения в Англии. Так и пишут в эн-
циклопедиях: в Англии, мол, в отличие от Франции, России и других
стран Европы, символизма как такового не было - разве что Иейтс.
Но определить молодого Йейтса как символиста было бы не вполне
точно. Сам он, вспоминая молодые годы, писал: «Мы были последни-
ми романтиками».
Литературоведы рассматривают Уильяма Йейтса в рамках мо-
дернистской поэтики; но это ничего не объясняет в его судьбе. Да,
он - поэт модернистской эпохи, современник Томаса Элиота и Эзры
Паунда. Но в отличие от двух названных поэтов он демонстративно
придерживался антиавангардной позиции в искусстве. Йейтс никог-
да не старался бежать впереди прогресса - наоборот, он считал де-
лом чести хладнокровно игнорировать его, идти не в ногу, стоять на
своем, искать будущее в прошедшем. За это его называли чудаком,
не раз пытались (особенно в тридцатые годы) «сбросить с парохода
современности». Еще бы! В эпоху радио, аэропланов и профсоюзов
он увлекался сказками, сагами о богах и героях, основывал какие-то
загадочные эзотерические общества, искал истину в алхимии, в Каб-
бале, в индийской философии, сочинял философско-мистический
трактат о вечном круговороте души и истории. В мире победившей
рациональности он являл собой оплот самого упрямого и закорене-
лого идеализма. Где-то рядом партизанили Честертон и Киплинг,
Толкин и другие. Но если Киплинг, занявший конформистскую пози-
цию по отношению к современности, обнаруживал романтику, ска-
жем, в паровозах и машинах, то Йейтс не отдал бы за них ни лепестка
своей увядшей розы, ни камешка старой башни. И если Толкин четко
отделял свою профессорскую жизнь от блужданий в Средиземье, для
6
которых существовали особые часы творчества да задняя комната
оксфордского кафе «Орел и Дитя», то Йейтс как истинный симво-
лист не разделял жизни и стихов. Как заболевший кот обшаривает
всю округу в поисках особой травки - единственной, которая может
его исцелить, - так Йейтс искал противоядие от низкого практицизма
века где только мог - в фольклоре и учениях древних, в оккультизме
и теософии.
При всем при том он был ирландцем - наследником кельтской
традиции в литературе, духовным потомком друидов и бардов. Роди-
на Йейтса - портовый город Слайго, на западе Ирландии. Его предки
по материнской линии были моряками и купцами, по отцовской ли-
нии - священниками. Отец поэта, Джон Батлер Йейтс, получил юри-
дическое образование, но в 28 лет резко оборвал карьеру адвоката и
уехал в Лондон учиться живописи. Он стал художником, замечатель-
ным портретистом; благодаря его рисункам мы можем увидеть Уилья-
ма таким, каким он был в детстве - смуглым задумчивым мальчиком,
углубленным в книгу. Чем-то эти портреты похожи на детские портре-
ты Пастернака, набросанные его отцом Леонидом Пастернаком. Да и
сами эти художники, Йейтс-отец и Пастернак-отец, были чем-то по-
хожи - может быть, серьезностью своего отношения к искусству, не-
зависимостью от модных течений эпохи; оба они оказали основопола-
гающее влияние на сыновей; оба провели поздние годы в эмиграции:
Джон Йейтс в Америке, Леонид Пастернак в Англии.
II
Детские годы Уильяма Йейтса прошли в Лондоне, за исключени-
ем летних каникул, когда его отвозили к родственникам в Слайго. Он
любил слушать рассказы крестьян о волшебстве и духах, любил оди-
нокие прогулки по лесам и холмам, ночи на морском берегу. Сочинять
романтические стихи Уильям начал, учась в художественной школе в
Дублине; его ранние опыты заслужили одобрение известных поэтов,
в том числе Хопкинса и Оскара Уайльда. Путь его определился раз и
навсегда. «Моя жизнь в моих стихах, - писал он другу. - Ради них я
бросил свою жизнь в ступу. Я растолок в ней юность и дружбу, по-
кой и мирские надежды... Я похоронил свою юность и возвел над ней
гробницу из облаков».
Йейтсу было двадцать четыре года, когда он встретил Мод Гонн -
женщину, которой суждено было стать его музой, его долгой безна-
дежной любовью. Она была эффектной красавицей, богатой и неза-
висимой, но при этом - пылкой революционеркой, одержимой 'идей
ирландской независимости. Они подружились, Мод втянула его в
патриотическое движение, Уильям посвятил ее в свои оккультные и
поэтические интересы. Патриотизм Йейтса был далек от экстремист-
ских крайностей, в Ирландии он видел прежде всего страну поэзии и
оплот древней чести, попираемой прагматической и меркантильной
Англией. И когда Джордж Рассел писал ему: «Из Ирландии воссияет
7
свет, который преобразит эпохи и народы» (не правда ли, язык месси-
анства повсюду одинаков?), - Йейтс вполне разделял энтузиазм своего
друга.
В 1899 году вышел сборник «Ветер в камышах» - высшее дости-
жение раннего Йейтса, поэта «кельтских сумерек». Мир этой книги
населен призраками и тенями; повсюду поэту мерещатся таинствен-
ные «силы» - духи, населяющие холмы и ветреные равнины Ирлан-
дии. Они же - древние боги, племя богини Даны, они же - вечные
голоса, звучащие в шуме ветра, в ропоте тростника, в сумасшедшем
звоне ночных цикад. По настроению, по порыву - выйти за грань обы-
денного, дневного бытия - они близки к написанным в те же годы
стихам Блока, например «Я вышел. Медленно сходили / На землю
сумерки зимы...», или: «Я вышел в ночь - узнать, понять / Далекий
шерох, близкий ропот, / Несуществующих принять, / Поверить в мни-
мый конский топот». С такого же выхода начинается «Песня скиталь-
ца Энгуса»:
I went out to the hazel wood
Because a fire was in my head...
Я вышел в темный лес ночной,
Чтоб лоб горящий остудить...
Период между сборниками «Ветер в камышах» и «Ответствен-
ность», с 1899 по 1914 год, были у Йейтса наименее урожайными на
стихи. В это время основные труды поэта были связаны с Театром
Аббатства - первым ирландским национальным театром, одним из
основателей и многолетним директором которого он был. Стиль поэта
постепенно менялся, становился прямее, энергичней. Важной ока-
залась его дружба с молодым Эзрой Паундом, который в 1914-1916
годах практически стал секретарем Йейтса. Скажем, первая пьеса Йе-
йтса в стиле японского театра Но «У Ястребиного источника» была не
только навеяна исследованиями Паунда в области японского театра,
но и практически написана в соавторстве с ним: Йейтс диктовал текст,
а Паунд записывал его и критиковал. Тут работала сложная диалек-
тика: с одной стороны, Эзра искренне восхищался Йейтсом, выделяя
его из всех прочих «поэтических староверов», с другой стороны, он
постоянно внушал «дядюшке Вилли» свои имажисткие идеи. «Поэт
должен быть современным человеком, - утверждал Паунд. - Ясность,
точность, и никаких абстракций». Не правда ли - похоже на манифест
русского кларизма или акмеизма? Как бы то ни было, именно под вли-
янием Паунда завершилась давно желаемая и ожидаемая метаморфоза
стиля Йейтса.
Существует любопытный синхронизм политических событий в
XX веке в Ирландии и в России: ирландское восстание против ан-
гличан в 1916 году, обретение независимости в 1918-м, гражданская
война 1921-1923 годов происходили более или менее параллельно
с русскими революциями и гражданской войной. Когда в 1916 году
разразилось «Пасхальное восстание», закончившееся казнью шест-
8
надцати главарей (среди них - троих поэтов), реакция Йейтса была
неоднозначной. В первый момент он возмутился «глупостью» этих
людей, пожертвовавших жизнями из чистого нетерпения; но через
несколько недель его взгляд изменился и он написал стихотворение
«Пасха 1916 года» с его знаменитым рефреном: «Уже родилась на
свет / Страшная красота»). Эта «страшная красота» Йейтса, очевид-
но, сродни пушкинскому упоению на краю бездны, восторгу Блока в
поэме «Двенадцать» или трагическим прозрениям Мандельштама в
«Петропольском цикле».
Поэтическая карьера Йейтса распадается на два периода, которые
можно назвать «дореволюционным» и «послереволюционным». Вес-
ной 1917 года он купил свою знаменитую башню Тур Баллили, кото-
рая стала символом его поздней поэзии, в октябре женился (что было,
в некотором роде, революционным шагом для пятидесятидвухлетнего
холостяка); наконец, в этом же году он написал прозаическую книгу
Per Arnica Silentia Lunae («При благосклонном молчании луны»; ци-
тата из Вергилия), где в фрагментарной форме изложил свое поэтиче-
ское и философское credo.
Трудно исчислить все чудеса этого года. Достаточно сказать, что
в том самом ноябре 1917-го, когда «призраки коммунизма» штурмова-
ли Зимний дворец, другие призраки явили себя Йейтсу и его молодой
жене в сеансах «автоматического письма», и из тех вещей, которые
они рассказали, со временем родилась главная философская книга
Йейтса, содержащая его всеобъемлющую теорию круговращения че-
ловеческой души и истории.
III
В основе надиктованной «духами-коммуникаторами» книги Йейт-
са «Видение» (ударение ставьте где хотите!) лежат две древних идеи:
идея цикличности и идея борьбы противоположностей. Еще Эмпе-
докл писал:
Властвуют поочередно они во вращении круга,
Слабнут и вновь возрастают, черед роковой соблюдая.
В системе Йейтса Великое Колесо, разделенное на двадцать во-
семь секторов, или фаз (лунное число), изображает и эволюцию чело-
веческой жизни, и путь души, и ход мировой истории. Йейтс верит в
пифагорейское учение о переселениях душ - и строит классификацию
людей по типам в зависимости от его «лунной фазы». Человек оказы-
вается вовлеченным в два разных цикла: один связан с возрастом, дру-
гой - с перерождениями его бессмертной души, проходящей двадцать
восемь кругов таких фаз.
На самом деле он участвует даже в трех циклах, ибо проходит вме-
сте с человечеством по кругу земной истории: ее период, по Йейтсу, ра-
вен примерно двум тысячам лет и тоже связан с борьбой объективного
9
и субъективного начала. Нынешний цикл начался с рождения Христа и
достиг высшей объективности в эпоху Ренессанса; наше время близко
к окончанию цикла, вот почему так распространились всевозможные
нивелирующие личность учения. С этой точки зрения трагедия само-
го Йейтса - это трагедия человека героической, индивидуальной воли
(он относил себя к семнадцатой фазе) в период размывания личност-
ного начала - несовпадение фаз. С течением лет к этому прибавилось
и старение - несовпадение всех трех фаз. Ущерб века, ущерб тела - и
полнолуние души.
IV
В 1923 году Йейтсу присуждается Нобелевская премия по лите-
ратуре - жест, как часто бывает у Шведской Академии, не лишенный
политической подоплеки, - своего рода приветствие Ирландской ре-
спублике по случаю обретения ею независимости. Но Йейтс с лихвой
отработал свою «нобелевку». Лучшие стихи он написал не до нее, а
после. Сборники «Башня» (1928) и «Винтовая лестница» (1933) на-
ряду со стихами последних лет, могут считаться вершинными до-
стижениями поэта. Особо хочется сказать о цикле «Слова, возможно,
для музыки». Говорят, что прототипом ом Безумной Джейн послужи-
ла Чокнутая Мэри - юродивая, жившая неподалеку от имения леди
Грегори. Но эпический образ старухи, вспоминающей своих былых
любовников, - гордой и нераскаянной, - приводит на память прежде
всего «Старуху из Берри» - одно из лучших стихотворений древнеир-
ландской поэзии:
Вы, нынешние, сребролюбы,
живете вы для наживы,
зато вы сердцами скупы
и языками болтливы.
Но те, кого мы любили,
любовью нас оделяли,
они дарами дарили,
деяньями удивляли. <...>
Бывало, я мед пивала
в пиру королей прекрасных;
пью ныне пустую пахту
среди старух безобразных.
К «яростному негодованию» (слова из эпитафии Свифта) его
толкало не только отвращение к материализму эпохи в целом, но и
глубочайшее неудовлетворение ирландской жизнью и политикой. Он
убедился, что жертвы, принесенные на алтарь ирландской свободы,
были напрасны. Достигнутая в стране демократия оказалась «властью
черни», безразличной к духовности и культуре. «Если эта власть не
будет сломана, - писал он, - наше общество обречено двигаться от на-
10
силия к насилию или от насилия к апатии, наш парламент - портить и
развращать каждого, кто в него попадет, а писатели останутся кастой
отверженных в своей собственной стране».
Йейтса называют человеком поздней жатвы. Выпуская в 1937 году
второе издание «Видения», он писал другу: «Не знаю, чем станет эта
книга для других, - может быть, ничем. Для меня она - последний
акт защиты против хаоса мира, и я надеюсь, что еще десять лет смо-
гу писать, укрепившись на этом рубеже». Как это похоже на строки
юного Китса, восклицавшего в 1817 году: «О, дайте мне еще десять
лет, чтобы я мог переполниться поэзией и совершить то, что мне
предназначено!» Судьбы дала Китсу только три года. Еще меньше
времени было в запасе у семидесятидвухлетнего Йейтса. В декабре
1938 года он пишет свою последнюю пьесу «Смерть Кухулина», а
через две недели неожиданно заболевает, и 26 января 1939 года на-
ступает развязка.
Эта была красивая, героическая кончина - смерть непобежден-
ного. До последних дней Иейтс греб против течения, пел не в лад с
хором. В глазах авангардных, политически ангажированных поэтов
тридцатых годов он выглядел нелепым анахронизмом. Достоинства
его стихов признавались со страшным скрипом; его проза и критика
начисто отвергались, пьесы считались провальными, философские
взгляды - вредным чудачеством. Так что когда Уистен Оден, признан-
ный лидер нового направления, написал элегию на смерть Йейтса,
многим это показалось удивительным.
Но ведь и эти стихи полны знаменательных оговорок. Автор
считает, что Время в конце концов «простит» Йейтса - за «умение
хорошо писать». Характерно и название статьи Одена, опублико-
ванной в 1940 году, «Мастер красноречия»: в ней он утверждает,
что Йейтс «был больше озабочен тем, как звучит его фраза, чем ис-
тинностью идеи или подлинностью чувства». И безапелляционно,
как приговор: «отсутствие подлинной драмы никакой театрально-
стью не прикроешь».
Особенное раздражение вызывала «чокнутая псевдофилософия»
Йейтса. Взвешеннее других молодых высказывался, пожалуй, Луис
Мак-Нис, который даже был готов допустить, что Йейтс не настоящий
мистик, а лишь человек, обладающий мистической системой ценно-
стей, «а это совсем другое дело и вещь sine qua поп для всякого ху-
дожника».
И конечно, возмущала подозрительная аполитичность поэта.
В годы перед Второй мировой войной каждый обязан был выбрать
свою сторону баррикад. Но ему не внушало доверие ни одно из прави-
тельств. В одном из частных писем Йейтса 1936 года сказано: «Комму-
нисты, фашисты, националисты, клерикалы, антиклерикалы - все они
должны быть судимы в соответствии с числом своих жертв».
Йейтсу выпала длинная дорога. Если в молодости он и был эсте-
том, построившим себе башню из слоновой кости, то в дальнейшем,
как пишет Ричард Эллман, «из-за недовольства соседей, а отчасти из-
за собственных сомнений в ее прочности, он выбрался наружу, в мир,
11
и добыл там менее изысканные материалы, которыми постепенно за-
менил всю слоновую кость, до последнего кусочка».
Но это не значит, что Йейтс готов был поступиться своей юно-
шеской мечтой. Те «спасительные слова», которые впоследствии про-
изнесет И. Бродский и которые в письмах к нему дважды повторит
Ахматова: «Главное - это величие замысла», - были спасительными
и для Йейтса.
Он оставался цельным художником, несмотря на все свои проти-
воречия и сомнения. Он не скрывал их, он вообще ничего не хотел
скрывать: жизнь поэта, считал Йейтс, есть жизненный эксперимент, и
публика имеет право знать о ней все. Шекспировская эпитафия: «Про-
клятие тому, кто потревожит мои кости» не про него писана. Он по-
ложил на одну сторону весов свою поэзию, а на другую - свою судьбу,
и обе чаши таинственно уравновесились. Любые обстоятельства по-
вседневности значительны, когда они освящены великой целью.
В Древней Ирландии было две категории поэтов: барды - испол-
нители воинственных, заздравных и сатирических песен, и филиды -
поэты-жрецы, носители высшей мудрости. Йейтс унаследовал тради-
цию филидов.
Сознавал свою земную слабость, но верил в божественную искру,
в то, что поэт, может быть, лишь «сверхмарионетка» движущего им
высшего начала.
Старик в своем нелепом прозябанье
Схож с пугалом вороньим у ворот,
Пока душа, прикрыта смертной рванью,
Не вострепещет и не воспоет...
Наивность? Безумие? Но, как ни удивительно, с ним произошло
именно то, что предсказывал Платон в диалоге «Федр»: «Все созданное
человеком здравомыслящим затмится творениями исступленных».
V
Русскому читателю Йейтс долгое время оставался практически не-
известен. Это объяснимо условиями времени и места. Сквозь идеоло-
гическое сито в Советскую Россию мало что проникало. Рильке, Йейтс,
Элиот, Фрост и другие ведущие поэты Запада были персонами нон гра-
та - лишь в узком литературном кругу о них что-то знали. Авторитету
Рильке, например, содействовало восхищение Цветаевой и Пастернака.
У Йейтса тоже могла появиться такая влиятельная «русская под-
держка» - Николай Гумилев. Они познакомились летом 1917 года в
Лондоне, куда поручик Гумилев был командирован по военным делам.
Впрочем, его особое отношение к ирландской культуре проявилась на-
много раньше. Еще в ранних стихах Гумилев восхищался Кухулином,
Финном и другими героями кельтских саг. Он писал о кельтской ми-
фологии как третьей важнейшей в Европе после греческой и римской.
12
Но самое главное - его привлекала особая роль поэзии в Древней Ир-
ландии, где поэтов почитали наравне со жрецами и воинами, где слово
певца весило не меньше, чем слово короля. Он мечтал о том времени,
когда снова
Земля забудет обиды
Всех воинов, всех купцов,
И будут, как встарь, друиды
Учить с зеленых холмов.
И будут, как встарь, поэты
Вести сердца к высоте,
Как ангел несет кометы
К неведомой им мечте.
В 1916 году, то есть за год до лондонской встречи с Йейтсом, Гу-
милев написал пьесу «Гондла», главный герой которой — ирландский
принц и поэт, погибающий ради просвещения язычников-исландцев.
В основу сюжета Гумилев положил легенды, приводимые француз-
ским ученым Арбуа де Жубенвилем в его «Истории кельтской литера-
туры». Так что Гумилев уже обладал опытом обращения к ирландской
героической поэзии.
В письме Анне Ахматовой из Лондона он называет Йейтса «ан-
глийским Вячеславом», подразумевая русского поэта и «учителя по-
этов» Вячеслава Иванова и тем самым подчеркивая ключевую роль
Йейтса в английском символизме. После возвращения в Россию Гу-
милев думал об издании Йейтса по-русски, побуждал своих друзей, в
частности Михаила Зенкевича и Всеволода Рождественского, перево-
дить его стихи. Незадолго до смерти он сам перевел романтическую
пьесу Йейтса «Графиня Кэтлин». Сохранился автограф Гумилева на
книге стихов Йейтса, подтверждающий это и датированный 26 мая
1921 года.
Но планам Николая Гумилева не суждено было осуществиться.
В августе 1921 года поэт был расстрелян по приговору Петроград-
ского ЧК, а перевод пьесы Йейтса утрачен, скорее всего, уничтожен.
Прекратило деятельность и издательство «Всемирная литература», в
которой сотрудничал Гумилев.
На долгие годы живая связь с поэзией Запада в России оборвалась -
вплоть до конца 1960-х годов, когда появились первые полноценные
переводы Йейтса, выполненные замечательным поэтом и переводчи-
ком Андреем Сергеевым. Это совпало с мощным всплеском интереса
к Йейтсу в западном литературоведении. Достаточно сказать, что по
числу посвященных ему публикаций Йейтс лидирует среди всех ан-
глоязычных поэтов, за исключением Шекспира, одни лишь моногра-
фии исчисляются сотнями.
Думается, что этот «бум» имеет не чисто академическое проис-
хождение, он подпирается не ослабевающей читательской любовью.
Видно, несмотря на все реляции о полном разгроме и посрамлении
романтизма, в мире еще жива тяга к таинственному и прекрасному.
В наши времена, когда прагматизм старается сделать поэта затейником,
13
работником досуга, загнать сверчка искусства на предназначенный
ему шесток, - архимедово усилие Йейтса перевернуть мир и утвер-
дить его на нематериальной точке опоры вызывает невольное восхи-
щение. На переломе истории, в эпоху войн и глобальных перемен, он
сделал самое важное: связал распавшуюся цепь традиции и восстано-
вил славу, исстари принадлежавшую в Ирландии поэту - выразителю
тайной души народа.
Григорий Кружков
Эта страница
намеренно оставлена
пустой
Поэзия
ИЗ КНИГИ «ПЕРЕКРЕСТКИ»
(1889)
ПЛАЩ, КОРАБЛЬ И БАШМАЧКИ
«Кому такой красивый плащ?»
«Я сшил его Печали.
Чтоб был он виден издали
И восхищаться все могли
Одеждами Печали».
«А парус ладишь для чего?»
«Для корабля Печали.
Чтоб, крыльев чаячьих белей,
Скитался он среди морей
Под парусом Печали».
«А войлочные башмачки?»
«Они для ног Печали.
Чтоб были тихи и легки
Неуловимые шаги
Подкравшейся Печали».
ПОХИЩЕННЫЙ МАЛЬЧИК
Там, средь лесов зеленых,
В болотистой глуши,
Где, кроме цапель сонных,
Не встретишь ни души, -
Там у нас на островке
Есть в укромном тайнике
Две корзины
Красной краденой малины.
17
О дитя, иди скорей
В край озер и камышей
За прекрасной феей вслед -
Ибо в мире столько горя,
что другой дороги нет.
Там, где под светом лунным
Волнуется прибой,
По отмелям и дюнам,
Где берег голубой,
Мы кружимся, танцуя
Под музыку ночную
Воздушною толпой;
Под луною колдовской
Мы парим в волнах эфира -
В час, когда тревоги мира
Отравляют сон людской.
О дитя, иди скорей
В край озер и камышей
За прекрасной феей вслед -
Ибо в мире столько горя,
что другой дороги нет.
Там, где с вершины горной,
Звеня, бежит вода
И в заводи озерной
Купается звезда,
Мы дремлющей форели
На ушко, еле-еле,
Нашептываем сны,
Шатром сплетаем лозы -
И с веток бузины
Отряхиваем слезы.
О дитя, иди скорей
В край озер и камышей
За прекрасной феей вслед -
Ибо в мире столько горя,
что другой дороги нет.
18
И он уходит с нами,
Счастливый и немой,
Прозрачными глазами
Вбирая блеск ночной.
Он больше не услышит,
Как дождь стучит по крыше,
Как чайник на плите
Бормочет сам с собою,
Как мышь скребется в темноте
За сундуком с крупою.
Он уходит все скорей
В край озер и камышей
За прекрасной феей вслед -
Ибо в мире столько горя,
что другой дороги нет.
СТАРЫЙ РЫБАК
Ах, волны, танцуете вы, как стайка детей! -
Но шум ваш притих, и прежний задор ваш пропал:
Волны были беспечней, и были июли теплей,
Когда я мальчишкой был и горя не знал.
Давно уж и сельдь от этих ушла берегов,
А сколько скрипело тут прежде - кто б рассказал! -
Телег, отвозивших в Слайго на рынок улов,
Когда я мальчишкой был и горя не знал.
И, гордая девушка, ты уж не так хороша,
Как те, неприступные, между сетями у скал
Бродившие в сумерках, теплою галькой шурша,
Когда я мальчишкой был и горя не знал.
ИЗ КНИГИ «РОЗА»
(1893)
РОЗЕ, РАСПЯТОЙ НА КРЕСТЕ ВРЕМЕН
Печальный, гордый, алый мой цветок!
Приблизься, чтоб, вдохнув, воспеть я мог
Кухулина в бою с морской волной -
И вещего друида под сосной,
Что Фергуса в лохмотья снов облек, -
И скорбь твою, таинственный цветок,
О коей звезды, осыпаясь в прах,
Поют в незабываемых ночах.
Приблизься, чтобы я, прозрев, обрел
Здесь, на земле, среди любвей и зол
И мелких пузырей людской тщеты,
Высокий путь бессмертной красоты.
Приблизься - и останься так со мной,
Чтоб, задохнувшись розовой волной,
Забыть о скучных жителях земли:
О червяке, возящемся в пыли,
О мыши, пробегающей в траве,
О мыслях в глупой, смертной голове, -
Чтобы вдали от троп людских, в глуши,
Найти глагол, который Бог вложил
В сердца навеки смолкнувших певцов.
Приблизься, чтоб и я, в конце концов,
Пропеть о славе древней Эрин смог:
Печальный, гордый, алый мой.цветок!
20
ФЕРГУС И ДРУИД
Фергус
Весь день я гнался за тобой меж скал,
А ты менял обличья, ускользая:
То ветхим вороном слетал с уступа,
То горностаем прыгал по камням,
И наконец, в потемках подступивших
Ты предо мной явился стариком
Сутулым и седым.
Друид
Чего ты хочешь,
Король над королями Красной Ветви?
Фергус
Сейчас узнаешь, мудрая душа.
Когда вершил я суд, со мною рядом
Был молодой и мудрый Конхобар.
Он говорил разумными словами,
И все, что было для меня безмерно
Тяжелым бременем, ему казалось
Простым и легким. Я свою корону
Переложил на голову его,
И с ней - свою печаль.
Друид
Чего ты хочешь,
Король над королями Красной Ветви?
Фергус
Да, все еще король - вот в чем беда.
Иду ли по лесу иль в колеснице
По белой кромке мчусь береговой
Вдоль плещущего волнами залива, -
Все чувствую на голове корону!
Друид
Чего ж ты хочешь?
21
Фергус
Сбросить этот груз
И мудрость вещую твою постигнуть.
Друид
Взгляни на волосы мои седые,
На щеки впалые, на эти руки,
Которым не поднять меча, на тело,
Дрожащее, как на ветру тростник.
Никто из женщин не любил меня,
Никто из воинов не звал на битву.
Фергус
Король - глупец, который тратит жизнь
На то, чтоб возвеличивать свой призрак.
Друид
Ну, коли так, возьми мою котомку.
Развяжешь - и тебя обступят сны.
Фергус
Я чувствую, как жизнь мою несет
Неудержимым током превращений.
Я был волною в море, бликом света
На лезвии меча, сосною горной,
Рабом, вертящим мельницу ручную,
Владыкою на троне золотом.
И все я ощущал так полно, сильно!
Теперь же, зная все, я стал ничем.
Друид, друид! Какая бездна скорби
Скрывается в твоей котомке серой!
22
ПЕСНЯ СИДОВ,
спетая надДиармидом и Гранией,
уснувшими сном любви под древним кромлехом
Мы, что старей царств и царей,
Тех, что прошли, -
Тысячи лет нам, полузапретным
Духам земли, -
Дарим мы этим найденным детям
Мир и покой,
Час этой росный, чащу и звездный
Полог ночной.
Дарим мы этим найденным детям
Отдых от зла,
Чтобы забыть им в мирном укрытье
Мира дела.
Мы, что старей царств и царей,
Тех, что прошли!
Тысячи лет нам, полузапретным
Духам земли.
ОСТРОВ ИННИШФРИ
Я стряхну этот сон - и уйду в свой озерный приют,
Где за тихой волною лежит островок Иннишфри;
Там до вечера в травах, жужжа, медуницы снуют,
И сверчки гомонят до зари.
Там из веток и глины я выстрою маленький кров,
Девять грядок бобов посажу на делянке своей;
Там закат - мельтешение крыльев и крики вьюрков,
Ночь - головокруженье огней.
Я стряхну этот сон - ибо в сердце моем навсегда,
Где б я ни был, средь пыльных холмов или каменных сот,
Слышу: в глинистый берег озерная плещет вода,
Чую: будит меня и зовет.
23
ПЕЧАЛЬ ЛЮБВИ
Под старой крышей гомон воробьев,
И блеск луны, и млечный небосклон,
И шелест листьев, их певучий зов,
Земного горя заглушили стон.
Восстала дева с горькой складкой рта
В великой безутешности своей -
Как царь Приам пред гибелью, горда,
Обречена, как бурям Одиссей.
Восстала - и раздоры воробьев,
Луна, ползущая на небосклон,
И ропот листьев, их унылый зов,
Слились в один земного горя стон.
НА МОТИВ РОНСАРА
Когда ты станешь старой и седой,
Припомни, задремав у камелька,
Стихи, в которых каждая строка,
Как встарь, горька твоею красотой.
Слыхала ты немало на веку
Безумных клятв, безудержных похвал;
Но лишь один любил и понимал
Твою бродяжью душу и тоску.
И вспоминая отошедший пыл,
Шепни, к поленьям тлеющим склоняясь,
Что та любовь, как искра, унеслась
И канула среди ночных светил.
24
БЕЛЫЕ ПТИЦЫ
Зачем мы не белые птицы над пенною зыбью морской!
Еще метеор не погас, а уже мы томимся тоской;
И пламень звезды голубой, озарившей пустой небоскат,
Любовь моя, вещей печалью в глазах твоих вечных распят.
Усталость исходит от этих изнеженных лилий и роз;
Огонь метеора мгновенный не стоит, любовь моя, слез;
И пламень звезды голубой растворится в потемках как дым:
Давай в белых птиц превратимся и в темный простор улетим.
Я знаю: есть остров за морем, волшебный затерянный брег,
Где Время забудет о нас и Печаль не отыщет вовек;
Забудем, моя дорогая, про звезды, слезящие взор,
И белыми птицами канем в качающий волны простор.
КТО ВСЛЕД ЗА ФЕРГУСОМ?
Кто вслед за Фергусом готов
Гнать лошадей во тьму лесов
И танцевать на берегу?
О юноша, смелее глянь,
О дева юная, воспрянь,
Оставь надежду и тоску.
Не прячь глаза и не скорби
Над горькой тайною любви,
Там Фергус правит в полный рост -
Владыка медных колесниц,
Холодных волн и белых птиц
И кочевых косматых звезд.
25
ЖАЛОБЫ СТАРИКА
Я укрываюсь от дождя
Под сломанной ветлой,
А был я всюду званый гость
И парень удалой,
Пока пожар моих кудрей
Не сделался золой.
Я вижу - снова молодежь
Готова в бой и в дым
За всяким, кто кричит «долой»
Тиранам мировым,
А мне лишь Время - супостат,
Враждую только с ним.
Не привлекает никого
Трухлявая ветла.
Каких красавиц я любил!
Но жизнь прошла дотла.
Я времени плюю в лицо
За все его дела.
26
ИЗ КНИГИ «ВЕТЕР В КАМЫШАХ»
(1899)
воинство сидов
Всадники скачут от Нок-на-Рей,
Мчат над могилою Клот-на-Бар,
Килчи пылает, словно пожар,
И Ниав кличет: Скорей, скорей!
Выкинь из сердца смертные сны,
Кружатся листья, кони летят,
Волосы ветром относит назад,
Огненны очи, лица бледны.
Призрачной скачки неистов пыл,
Кто нас увидел, навек пропал:
Он позабудет, о чем мечтал,
Все позабудет, чем прежде жил.
Скачут и кличут во тьме ночей,
И нет страшней и прекрасней чар;
Килчи пылает, словно пожар,
И Ниав громко зовет: Скорей!
ВЕЧНЫЕ ГОЛОСА
Молчите, вечные голоса!
Летите к стражам райских отар:
Пускай они, забыв небеса,
Блуждают по миру, как пламена.
Ваш зов для сердца безмерно стар,
Поют ли птицы, шумят леса,
Гудит ли ветер, поет волна, -
Молчите, вечные голоса!
27
НЕУКРОТИМОЕ ПЛЕМЯ
Дети Даны смеются в люльках своих золотых,
Жмурятся и лепечут, не закрывают глаз,
Ибо Северный ветер умчит их с собою в час,
Когда стервятник закружит между вершин крутых.
Я целую дитя, что с плачем жмется ко мне,
И слышу узких могил вкрадчиво-тихий зов;
Ветра бездомного крик над перекатом валов,
Ветра бездомного дрожь в закатном огне,
Ветра бездомного стук в створы небесных врат
И адских врат; и духов гонимых жалобы, визг и вой.
О сердце, пронзенное ветром! Их неукротимый рой
Род нее тебе Марии Святой, мерцанья ее лампад!
В СУМЕРКИ
Дряхлое сердце мое, очнись,
Вырвись из плена дряхлых дней!
В сумерках серых печаль развей,
В росы рассветные окунись.
Твоя матерь, Эйре, всегда молода,
Сумерки мглисты и росы чисты,
Хоть любовь твою жгут языки клеветы
И надежда сгинула навсегда.
Сердце, уйдем к лесистым холмам,
Туда, где тайное братство луны,
Солнца и неба и крутизны
Волю свою завещает нам.
И Господь трубит на пустынной горе,
И вечен полет времен и планет,
И любви нежнее - сумерек свет,
И дороже надежды - роса на заре.
28
ПЕСНЯ СКИТАЛЬЦА ЭНГУСА
Я вышел в мглистый лес ночной,
Чтоб лоб горящий остудить,
Орешниковый срезал прут,
Содрал кору, приладил нить.
И в час, когда светлела мгла
И гасли звезды-мотыльки,
Я серебристую форель
Поймал на быстрине реки.
Я положил ее в траву
И стал раскладывать костер,
Как вдруг услышал чей-то смех,
Невнятный тихий разговор.
Предстала дева предо мной,
Светясь, как яблоневый цвет,
Окликнула - и скрылась прочь,
В прозрачный канула рассвет.
Пускай я стар, пускай устал
От косогоров и холмов,
Но чтоб ее поцеловать,
Я снова мир пройти готов,
И травы мять, и с неба рвать,
Плоды земные разлюбив,
Серебряный налив луны
И солнца золотой налив.
ВЛЮБЛЕННЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ О РОЗЕ,
ЦВЕТУЩЕЙ В ЕГО СЕРДЦЕ
Всё, что на свете грустно, убого и безобразно:
Ребенка плач у дороги, телеги скрип за мостом,
Шаги усталого пахаря и всхлипы осени грязной -
Туманит и искажает твой образ в сердце моем.
Как много зла и печали! Я заново все перестрою -
И на холме одиноко прилягу весенним днем,
Чтоб стали земля и небо шкатулкою золотою
Для грез о прекрасной розе, цветущей в сердце моем.
29
ОН СКОРБИТ О ПЕРЕМЕНЕ,
СЛУЧИВШЕЙСЯ С НИМ И ЕГО ЛЮБИМОЙ,
И ЖДЕТ КОНЦА СВЕТА
Белая лань безрогая, слышишь ли ты мой зов?
Я превратился в гончую с рваной шерстью на
тощих боках;
Я был на Тропе Камней и в Чаще Длинных
Шипов,
Потому что кто-то вложил боль и ярость,
желанье и страх
В ноги мои, чтоб я гнал тебя ночью и днем.
Странник с ореховым посохом взглянул мне
в глаза,
Взмахнул рукой - и скрылся за темным
стволом;
И стал мой голос - хриплым лаем гончего пса.
И время исчезло, как прежний мой образ исчез;
Пускай Кабан Без Щетины с Заката придет
скорей,
И выкорчует солнце и месяц и звезды с небес,
И уляжется спать, ворча, во мгле без теней.
ОН ПРОСИТ У СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ ПОКОЯ
Я слышу Призрачных Коней, они летят как гром -
Разметанные гривы и молнии очей;
Над ними Север распростер ползучий мрак ночей,
Восток занялся бледным, негреющим костром,
А Запад плачет в росах, последний пряча свет,
А Юг разлил пыланье пунцово-красных роз...
О тщетность Сна, Желанья и всех Надежд и Грез! -
В густую глину впахан Коней зловещих след.
Любимая, закрой глаза, пусть сердце твое стучит
Над моим, а волосы - волной мне упадут на грудь,
Чтоб хоть на час в них утонуть, их тишины вдохнуть -
Вдали от тех косматых грив и грохота копыт.
30
ОН ВСПОМИНАЕТ
ЗАБЫТУЮ КРАСОТУ
Обняв тебя, любовь моя,
Всю красоту объемлю я,
Что канула во тьму времен:
Жар ослепительных корон,
Схороненных на дне озер;
И томных вымыслов узор,
Что девы по канве вели, -
Для пированья гнусной тли;
И нежный, тленный запах роз
Средь волн уложенных волос;
И лилии - у алтарей,
Во мраке длинных галерей,
Где так настоен фимиам,
Что слезы - на глазах у дам.
Как ты бледна и как хрупка!
О, ты пришла издалека,
Из прежних, призрачных эпох!
За каждым поцелуем - вздох...
Как будто красота скорбит,
Что все погибнет, все сгорит,
Лишь в бездне бездн, в огне огней
Чертог останется за ней,
Где стражи тайн ее сидят
В железном облаченье лат,
На меч склонившись головой,
В задумчивости вековой.
ОН МЕЧТАЕТ О ПАРЧЕ НЕБЕС
Владей небесной я парчой
Из золота и серебра,
Рассветной и ночной парчой
Из дымки, мглы и серебра,
Перед тобой бы расстелил, -
Но у меня одни мечты.
Свои мечты я расстелил;
Не растопчи мои мечты.
31
СКРИПАЧ ИЗ ДУУНИ
Как только я смычком взмахну -
Танцуют стар и млад.
Кузен мой - поп в Кильварнете,
И в Макрабви - мой брат.
А я скрипач из Дууни,
Я больше, чем они,
И не потребен требник мне,
А песни мне - сродни.
Когда мы к Господу придем
Стучаться у ворот,
Архангел всех пропустит в рай,
Но скрипача - вперед.
И то сказать - без скрипки
Какая благодать?
Не спеть, не выпить без нее
И не потанцевать.
Сбегутся ангелы гурьбой,
Едва приду я в сад,
И с криками: «Играй, скрипач!» -
Запляшут стар и млад.
32
ИЗ КНИГИ «В СЕМИ ЛЕСАХ»
(1904)
В СЕМИ ЛЕСАХ
Я слушал голубей в Семи Лесах
С их воркованьем, словно слабый гром
За горизонтом, и гуденье пчел
В цветущих липах - и почти забыл
Бесплодные мольбы и горечь дум,
Что иссушают сердце, позабыл
Разрытые святыни Тары, пошлость
На троне и ликующих зевак
На улицах, развесивших флажки, -
Уж если кто и счастлив, так они.
Я не ропщу; я знаю: Тишина,
Смирив обиды жгучие, смеется,
Бродя меж птиц и пчел, и грозный Лучник,
Готовый выстрелить, уже повесил
Свой облачный колчан над Парк-на-ли.
НЕ ОТДАВАЙ ЛЮБВИ ВСЕГО СЕБЯ
Не отдавай любви всего себя;
Тот, кто всю душу дарит ей, любя,
Неинтересен женщине - ведь он
Уже разгадан и определен.
Любовь занянчить - значит умертвить;
Ее очарованье, может быть,
В том, что непрочно это волшебство.
О, никогда не отдавай всего!
Запомни, легче птичьего пера
Сердца любимых, страсть для них - игра.
В игре такой беспомощно нелеп,
Кто от любви своей и глух, и слеп.
33
Поверь тому, что ведает финал:
Он все вложил в игру и проиграл.
ПРОКЛЯТИЕ АДАМА
В тот вечер мы втроем сидели в зале
И о стихах негромко рассуждали,
Следя, как дотлевал последний луч.
«Строку, - заметил я, - хоть месяц мучь,
Но если нет в ней вспышки озаренья,
Бессмысленны корпенье и терпенье.
Уж лучше на коленях пол скоблить
На кухне иль кайлом каменья бить
В палящий зной, чем сладостные звуки
Мирить и сочетать. Нет худшей муки,
Чем этот труд, что баловством слывет
На фоне плотско-умственных забот
Толпы - или, как говорят аскеты,
В миру». - И замолчал.
В ответ на это
Твоя подруга (многих сокрушит
Ее лица наивно-кроткий вид
И голос вкрадчивый) мне отвечала:
«Нам, женщинам, известно изначала,
Хоть это в школе не преподают, -
Что красота есть каждодневный труд».
«Да, - согласился я, - клянусь Адамом,
Прекрасное нам не дается даром;
Как ни вздыхай усердный ученик,
Не вчитывайся в строки пыльных книг,
Выкапывая в них любви примеры -
Былых веков высокие химеры,
Но если сам влюблен - какой в них толк?».
Любви коснувшись, разговор умолк.
День умирал, как угольки в камине;
Лишь в небесах, в зеленоватой сини,
Дрожала утомленная луна,
Как раковина хрупкая, бледна,
Источенная времени волнами.
34
И я подумал (это между нами),
Что я тебя любил, и ты была
Еще прекрасней, чем моя хвала;
Но годы протекли - и что осталось?
Луны ущербной бледная усталость.
БЛАЖЕННЫЙ ВЕРТОГРАД
(Скача верхом на деревянной скамейке)
Любой бы фермер зарыдал,
Облив слезами грудь,
Когда б узрел блаженный край,
Куда мы держим путь.
Там реки полны эля,
Там лето - круглый год,
Там пляшут королевы,
Чьи взоры - синий лед,
И музыканты пляшут,
Играя на ходу,
Под золотой листвою
В серебряном саду.
Но рыжий лис протявкал:
«Не стоит гнать коня».
Тянуло солнце за узду,
И месяц вел меня,
Но рыжий лис протявкал:
«Потише, удалец!
Страна, куда ты скачешь, -
Отрава для сердец».
Когда там жажда битвы
Найдет на королей,
Они снимают шлемы
С серебряных ветвей;
Но каждый, кто упал, восстал,
И кто убит, воскрес;
Как хорошо, что на земле
Не знают тех чудес:
Не то швырнул бы фермер
Лопату за бугор -
И ни пахать, ни сеять
Не смог бы с этих пор.
35
Но рыжий лис протявкал:
«Не стоит гнать коня».
Тянуло солнце за узду,
И месяц вел меня.
Но рыжий лис протявкал:
«Потише, удалец!
Страна, куда ты скачешь,
Отрава для сердец».
Снимает Михаил трубу
С серебряной ветлы
И звонко подает сигнал
Садиться за столы.
Выходит Гавриил из вод,
Хвостатый, как тритон,
С рассказами о чудесах,
Какие видел он,
И наливает дополна
Свой золоченый рог,
И пьет, покуда звездный хмель
Его не свалит с ног.
Но рыжий лис протявкал:
«Не стоит гнать коня».
Тянуло солнце за узду,
И месяц вел меня.
Но рыжий лис протявкал:
«Потише, удалец!
Страна, куда ты скачешь, -
Отрава для сердец».
ТУМАННЫЕ ВОДЫ
(1906)
ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА
Посвящается Леди Грегори
Есть в Куле заповедных семь лесов:
Шан-Валла, где зарею зимней утки
Слетаются к прибрежным лознякам;
Влажный Киль-Дорта; светлый Киль-на-но,
Где белочки резвятся так беспечно,
Как будто старость под шатром тенистым
Не сможет отыскать их; Парк-на-ли,
Орешниковых тропок лабиринт;
Веселый Парк-на-карраг, царство пчёл,
Мелькающих в зеленом полумраке;
И смутный Парк-на-тарав, где порой
Являются мечтательным глазам
Таинственные тени; и последний -
Лес Инчи, логовище лис, куниц
И барсуков; за ним же - глухомань,
Которую старуха Бидди Эрли
Звала Недоброй Дебрей, - семь лесов,
Семь разных шелестов, семь ароматов.
Я среди них бродил, и мне казалось,
Что существа мудрее и счастливей,
Чем люди, бродят рядом, - и ночами
В мой сон врывались голоса и лица,
И образы Форгэла иДекторы
Ко мне явились в окруженье волн,
И темных птиц, и сполохов ночных.
А большего я рассказать не смею:
Ведь те, что мне дарили сны, способны
Язык болтливый в камень превратить,
Молчанье - их закон. Я знаю сердцем,
37
Таинственные тени, что лишь вы
Приносите нам истинное знанье.
Что вы из Рая прилетели к нам.
Где этот Рай? Зачем таитесь вы
От любопытных смертных, словно мыши,
Бегущие перед серпом жнеца,
Чтоб спрятаться в последней недожатой
Полоске ячменя? Иль есть иные
Леса, ручьи и тихие ветра,
Неведомые нам, за гранью мира,
Где времени уже не существует?
Не вы ли тайно веете над нами,
Когда над озером вечерний свет,
И запах трав, и тихий посвист птичий
Нам душу поднимают, как на крыльях?
Вам, тени, посвящаю эти строки,
Чтоб люди их прочли перед началом
Поэмы о Форгэле иДекторе, -
Так в старину пред тем, как арфам петь,
Всяк должен был плеснуть вина из чаши
Высоким и невидимым богам.
АРФАЭНГУСА
Когда, покинув царство сидов, Этайн
Умчалась к Энгусу в чертог стеклянный,
Где время тонет в ароматах сонных,
В друидских лунах, в шорохе ветвей,
Отягощенных гроздьями плодов -
Опаловых, рубиновых, янтарных,
Мерцающих, как сполохи в ночи,
Она сплела из собственных волос
Семь струн, в которых бред любви смешался
С безумьем музыки. Когда же ведьма
Заколдовала Этайн в мотылька
И вихрь ее унес, печальный Энгус
Из яблони душистой сделал арфу,
Чтоб вечную оплакивать разлуку,
И с той поры он помогает в мире
Лишь тем, кто любит верно.
38
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Форгэл Матросы
Эйбрик Дектора
Палуба старинного корабля. Справа - мачта с огромным квадратным парусом,
загораживающим почти все море и небо с этой стороны. Слева на сцене рум-
пель - длинное весло, проходящее сквозь отверстие в фальшборте. Палуба под-
нимается несколькими ступенями за румпелем к закругленной высокой корме.
В начале действия пьесы на сцене четверо. Эйбрик стоит у румпеля и правит.
Форгэл спит на приподнятой части палубы ближе к зрителю. Два матроса
стоят возле мачты, на которой висит арфа.
Первый матрос
Куда он нас уводит - с каждым днем
Все дальше в океан?
Второй матрос
Бес его знает.
Первый матрос
Три месяца плывем, ни видя близко
Ни паруса, ни берега.
Второй матрос
Я думал
Скопить, как умный, кругленькую сумму,
Вернуться и заняться чем-нибудь
Надежней и почтенней, чем пиратство.
Первый матрос
Я так устал от холостяцкой жизни,
Что отдал бы сейчас кошель и душу
Любой - хоть рыжей Молли одноглазой.
39
Второй матрос
Когда б сейчас каким-то колдовством
Все эти волны превратились в девок,
Я бросился бы за борт.
Первый матрос
Если он
Не повернет назад, то лучше взять
И самого его швырнуть с планшира.
Второй матрос
Согласен. Я бы сам на то решился,
Когда б не страх его волшебной арфы.
От музыки ее перед глазами
Являются диковинные вещи,
В ушах звучат диковинные крики.
Первый матрос
Нашел чего бояться!
Второй матрос
Помнишь ночь,
Когда мы потопили ту галеру
При свете новолунья?
Первый матрос
Он полночи
Играл на арфе.
Второй матрос
Да, луна светила,
И мертвецы качались на волнах.
И вдруг увидел я: на каждом мертвом
Сидит какая-то чудная птица -
Как чайка, только серая. Потом
Они все сразу поднялись на воздух
И, покружившись с заунывным криком,
На запад улетели. Долго-долго
Еще я слышал в небе шум их крыльев.
40
Первый матрос
Кажись, я тоже видел их в ту ночь.
Но вовремя напился, а проспавшись,
Все страхи позабыл.
Второй матрос
А вот еще.
В другую ночь, когда звучала арфа,
Из белопенных волн вдруг появились
Прекрасный юноша, и рядом - дева,
По виду непохожие на смертных.
Первый матрос
Ну да, ну да. Форгэл играл на арфе,
А эти двое слушали - так близко,
Что я, не удержавшись, попытался
Схватить ту девушку.
Второй матрос
Как! Ты рискнул
Ее коснуться?
Первый матрос
Я схватил лишь воздух.
Второй матрос
Но ты осмелился...
Первый матрос
Чего бояться?
Второй матрос
То были Энгус, бог любви, и Этайн,
Которых с трепетом и страхом чтят
Все любящие.
Первый матрос
Мне какое дело!
У тени нет меча или копья.
41
Второй матрос
Мать говорила мне, что средь бессмертных
Нет никого свирепее, чем Энгус, -
Тот, что похитил встарь царицу Этайн
И спрятал в вертограде самоцветном,
В стеклянной башне, - и с тех пор доныне
Он ненавидит всех, кто не влюблен,
И мстит им яростно.
Первый матрос
А я слыхал,
Что ненависть его не к морякам,
А к тем, кто, спрятавшись от сквозняков,
Уныло киснет в обществе супруга.
Второй матрос
Я думаю, что он завлек Форгэла,
Как птичку в сеть, и тащит по морям
Неведомо куда.
Первый матрос
Так или этак,
Я утоплю его, как выйдет случай.
Второй матрос
Оно бы хорошо; но кто тогда
Сойдет за капитана? Кто по звездам
Сумеет проложить нам путь домой?
Первый матрос
У нас есть Эйбрик, он умеет тоже
Читать по звездам и вести корабль.
Они подходят к Эйбрику.
Что, Эйбрик, станешь нашим капитаном?
Форгэла сам прикончу я во сне.
Тогда свободней сможем мы вздохнуть.
Тужить о нем, поверь, никто не будет.
Эйбрик
А уговор? А плата, что вы взяли?
42
Первый матрос
Что толку в этой распроклятой жизни,
Коль мы не можем выпить больше фляг
И перещупать больше девок за год,
Чем жалкий трус береговой - за жизнь?
Возьмешься ли ты с нами плыть обратно
В моря, где корабли, порты, пожива?
Твоею будет доля капитана
С любой добычи.
Эйбрик
Как? Предать того,
Кого я с детства чтил как господина,
И встать на сторону таких, как вы?
Нет! Если целый мир - против него,
Я буду - за! Вы все еще в сомненье?
Хватайте ваши сабли!
Первый матрос
Черт возьми!
Пропало наше дело. Он проснулся.
Матросы уходят.
Форгэл
Сквозь сон я слышал чьи-то голоса.
Не пролетали птицы?
Эйбрик
Я не видел.
Форгэл
Но ты уверен? Всякий раз, проснувшись,
Тревожусь я, что птицы пролетели,
Пока я спал. Без них, моих вожатых,
Я, уклонившись к северу иль к югу,
Могу не отыскать земли счастливой,
Куда они зовут. Уж много дней
Не видно птиц. А между тем на свете
Что ни мгновенье, умирают люди.
43
Эйбрик
Оставим это. Выслушай сперва:
Тут зреет бунт. Матросы замышляют
Тебя убить.
Форгэл
Не заплатил ли я
Щедрее, чем они могли мечтать,
За это плаванье? И вот теперь
Они со мною дальше плыть боятся!
Эйбрик
Какие ты сокровища мечтаешь
Найти в пустых туманных этих водах,
Куда еще не доплывал корабль,
Не долетала птица - кроме этих
Птиц с человеческими головами, -
У мира на краю?
Форгэл
За гранью мира
Дух обретает истину и с ней -
Неведомое на земле блаженство;
Там корни жизни, там огонь огней,
Начало всех начал.
Эйбрик
Порою духи
Безумят смертных для своей забавы.
Форгэл
И ты - не веришь мне? Ты вместе с теми,
Кто замышляет бунт?
Эйбрик
Ты знаешь сам,
Что я изменником тебе не стану.
Форгэл
Зачем же верным быть, коль ты не веришь
Моим словам?
44
Эйбрик
Я слишком долго знаю
Тебя, хозяин, чтобы строить козни.
Форгэл
А, может быть, и надо сомневаться.
Клянусь тебе, я никогда не ведал
Такой тоски, которую ни кубок,
Ни ярый бой, ни женский поцелуй
Не утолят.
Эйбрик
Что за тоска такая...
Форгэл
И все же попытайся в это вникнуть.
Пойми меня: мне нужны эти воды,
Где я далек от мира, от надежды -
Гадалки вкрадчивой, что нам бубнит:
«Ты будешь счастлив - лишь добудь себе
Мешок монет иль землю, чтоб оставить
В наследство детям». А добудешь денег
Или земли - где это счастье, где?
То кажется, что дует из-под двери,
То башмаки скрипят. И чем нам лучше,
В конце концов, чем олуху, который
За жизнь свою не шевельнул и пальцем?
О Эйбрик, Эйбрик, мы в плену у снов,
Которые бессмертные надышат
На зеркало - и вновь сотрут со вздохом,
И засмеются, - ведь от беглой грусти
Смех делается слаще им.
Эйбрик
Любовь
Могла б всё изменить.
Форгэл
И ты о том же?
Кто нашептал тебе? Конечно, тени -
Энгус и Этайн, вечные скитальцы,
И множество других, что на земле
45
Познали истинную страсть. Такую,
Что снится мне... Да, Эйбрик, я ищу
Прекрасной и неслыханной любви,
Которой в мире нет.
Эйбрик
Как - разве нет
Прелестных женщин в мире?
Форгэл
Есть, конечно.
Но вся любовь их - модный ритуал,
Включающий стремленье, утоленье
И даже негу плотскую; но это
Дает лишь краткий и непрочный хмель,
Как винный кубок - выпил, и опять,
Как прежде, жаждешь.
Эйбрик
Все, кто здесь любил,
Любили только так, а не иначе.
Форгэл
Но все они, целуя, представляли,
Что есть иная, вечная любовь,
И плакали по ней, и тосковали...
Эйбрик
Пожалуй - в двадцать лет; но, повзрослев,
Они объятьям узнавали цену,
И не стремились к большему, забыв
Мечты и грезы.
Форгэл
Это не мечтанье,
А истинная сущность, пред которой
Страсть человеческая - тень от лампы,
Нет - тень от солнца! То, о чем томились
Мильоны губ, должно же где-нибудь
Существовать.
46
Эйбрик
Я слышал, что друиды
Бормочут, грезя, что-то в этом роде.
Бессмертным, может, это и дано,
Но смертным - вряд ли.
Форгэл
Я, один из смертных,
Найду ее.
Эйбрик
Тебя морочат духи,
Как пастуха, которому приснилось,
Что он с богами ночь провел в холмах,
Играя в мяч или гоня оленя
При лунном свете.
Форгэл
Что, как это правда
И он был приобщен - пусть на полдня -
К иной, бессмертной жизни?
Эйбрик
Чепуха!
Спроси его жену: она видала,
Как он мертвецки дрыхнул до утра
Или во сне размахивал руками
И бормотал о всадниках прекрасных -
А это просто старая кобыла
Заржала за стеной.
Форгэл
Все дело в том,
Чтобы отдаться до конца виденьям,
Проникнуть в мир, что кажется лишь тенью
Для наших закоснелых чувств; лишь сны
Возносят нас в тот зыбкий, в тот текучий
Мир, по которому томится сердце.
Любовь, влюбленность, сладкий тихий смех,
Который нам нужней питья и хлеба,
Хоть горечь в нем, - что это, как не знак
Оттуда? О собрат мой по блужданьям,
47
Когда бы мы смогли стать частью сна,
А не сновидцами!
Эйбрик
Пока мы живы
И не бесплотны, это невозможно.
Форгэл
И все же я не верю, что мечты
Ведут нас к гибели. Когда б ты видел
Моих вожатых - Энгуса и Этайн,
Воспрянувших из волн, как видел я,
Лицом к лицу - стремительных и легких,
С распахнутыми яркими очами,
Как пламень звездный, - ты б не усомнился,
Что эти очи обещают жизнь
И вечную любовь.
Эйбрик
Одно мне ясно -
Что к смерти ты стремишься добровольно.
Лишь души мертвых и еще не живших
Способны так любить. Форгэл! Форгэл!
Ты сам мне говорил, что путь по следу
Птиц с человеческими головами
Ведет в край мертвых.
Форгэл
Ну, и что с того,
Что к смерти я стремлюсь? Когда лишь там
Должно исполниться их обещанье!
Я там найду - я это знаю точно -
Ту женщину - из сонма Вечно Юных,
Вечно Смеющихся - с которой вместе
Мы сыщем путь заветный в сердце мира,
Туда, где страсть становится бессмертной,
Как яблоки из колдовских каменьев -
Топаза, хризопраза и берилла;
Где в бесконечной смене чудных зрелищ,
В восторженном ошеломленье чувств
Сольемся мы в единое блаженство,
Пока луне достанет сил светить.
Вбегает несколько матросов.
48
Первый матрос
Корабль! Смотрите! Вон он там, в тумане!
Мы чуть с ним не столкнулись.
Второй матрос
Он везет
Груз пряностей. С подветренного борта
Несет такие запахи!
Первый матрос
Там перец
И кориандр.
Второй матрос
Нет, киннамон и амбра.
Форгэл
(перенимая румпель у Эйбрика)
Бессмертные, ты видишь, держат слово.
Их обещания - не тень.
Эйбрик
Готовьте
Веревки, чтоб связать борта потуже,
Мы их должны атаковать внезапно.
Первый матрос
На палубе - король и королева.
А, коли так, найдутся и служанки.
Эйбрик
Потише, нас ведь могут услыхать.
Первый матрос
Они другим увлечены. Глядите!
Он ее обнял и целует в губы.
Второй матрос
Когда она увидит, что за парни
Здесь, на борту, - не станет долго плакать.
49
Первый матрос
Нет, она будет хуже дикой кошки.
У этих дам на первом месте - титул,
Да почести, да серебро и злато,
А стать супружеская - на десятом.
Второй матрос
Разбойники - вот лучшие мужчины,
Решительные в схватке и в постели.
А мир их отвергает и плетется,
Как может, на своих кривых ногах.
Эйбрик
Вперед, захватим их врасплох, ребята!
Матросы уходят.
Слышны голоса и ожесточенное бряцание сабель с другого корабля,
невидимого из-за паруса и тумана в море.
Голос
На нас напали! Боже, я сражен!
Другой голос
Будите всех внизу!
Третий голос
Что там случилось?
Первый голос
Сюда! На нас напали! Я убит!
Форгэл
(стоя у румпеля)
Вот, вот они! Похожие на чаек,
Но с человеческими головами,
Мужскими или женскими. Парят
Над волнами, как будто ожидая
Товарищей; потом, собравшись вместе,
Умчат своим таинственным путем.
Еще - еще одна - теперь их пять;
Мне кажется, я слышу голоса,
Но речи их пока еще невнятны.
Нет, внятны! Вот одна из них сказала:
«Мы превратились в птиц. Ах, как легко!»
50
Другая отвечает: «Может быть,
Теперь мы сыщем край, куда стремились».
А третья спрашивает: «Как ты умер?»
И слышит: «Я зарезан был во сне».
И вдруг все закружились и взлетели
Над мачтой, и какая-то копуша
За ними с криком: «Я убита тоже,
И я хочу теперь соединиться
С моим любимым, чтоб кружиться в небе,
Чтобы блуждать средь ветреных долин,
Средь облаков идущего рассвета».
Но почему они как будто медлят
И ждут чего-то? Почему не мчатся
Навстречу долгожданному покою
В стране желанной?
(кричит)
Эй, чего вы ждете?
Зачем вы медлите - теперь, когда
Вы стали легче и счастливей ветра? -
Не слышат. Слишком высоко кружат.
Но в чем же промедленья их причина?
Возвращаются матросы. С ними -Дектора.
Форгэл
(повернувшись и увидев ее)
Зачем ты смотришь на меня так странно?
Ведь ты не сердце мира. Нет, нет, нет!
Не о тебе мне говорили птицы.
Я землю бы, как яблоко, разгрыз,
Чтоб только ту найти.
Дектора
Я - королева
И требую отмщения за мужа
И наказанья этим, что посмели
Меня коснуться.
(вырывается из рук матросов, державших ее)
Отпустите руки!
Форгэл
Увы, она отбрасывает тень!
Откуда ты и как сюда попала?
51
Они ведь не могли ко мне прислать
Земную женщину.
Дектора
Зачем случилось,
Что буря, потопившая мой флот
С сокровищами девяти провинций,
Не утопила и меня? Зачем
Дано узнать мне худшую утрату?
Но я жива - и требую отмщенья,
Жестокой кары требую для тех,
Кто поднял руку на него.
Форгэл
Все это
Предвидено и взвешено давно
Следящими за нами сквозь туман
Глазами мудрыми, - предречено
Устами золотых бесстрастных масок,
Бормочущих в таинственных могилах;
Они все так устроили на свете,
Что замыслы могучих королей -
Пыльца на крыльях бабочки, что в мире
Важны всего две вещи - смех и слезы,
Что каждый должен на своих плечах
Нести свою судьбу.
Дектора
Пустые речи!
Я знать хочу, ты дашь ли мне отмщенье.
Форгэл
(про себя)
Когда она поймет иль угадает,
Что я не отпущу ее ...
Дектора
Что, что?
Пробормочи еще раз: не отпустишь?
Я - королева!
52
Форгэл
Как ты не прекрасна,
Я дать тебе свободу был бы рад;
Но это невозможно. Если б я
Вернул тебе корабль и дал матросов,
И если бы корабль, расправив парус,
Поплыл домой, - внезапный буйный ветер
Поднялся бы и страшная волна
Плеснув до неба, погасила звезды
И бросила бы твой корабль обратно -
Бортом к борту с моим, и ты бы снова
Стояла здесь на палубе, как ныне.
Дектора
Должно быть, вы совсем с ума рехнулись
От странствий в этих нелюдимых водах?
Форгэл
Нет, королева, я в своем уме.
Дектора
Что это за таинственная буря
Поднимется, чтобы меня вернуть?
Вы бредите?
Форгэл
Нет, я в своем уме.
Но мне порою слышны голоса
Тех вечных духов, что следят за нами
С неведомых времен... Безмолвной ночью
Они со мной как будто говорят.
Дектора
Они тебе и приказали это -
Взять в плен меня?
Форгэл
Мы оба - ты и я -
Захвачены одною ловчей сетью.
Они и разбудили эту бурю,
Что принесла тебя сюда; они
Мне обещали вечную любовь,
53
Которой в мире нет, они мне дали
Вот эту заколдованную арфу,
Могущественней солнца и луны
И зыбкой сети звезд, - чтобы никто
Не отнял у меня тебя.
Дектора
(сперва с дрожью отступив от мачты, на которой висит
арфа, но потом рассмеявшись)
На миг
Твой бред о соглядатаях и арфе
Могущественней звезд меня встревожил.
Но лишь на миг. Как можешь ты принудить
Дочь королей и внучку королев
Любить себя?
Форгэл
Пока твои уста
Не назовут меня своим любимым,
Я не коснусь их.
Дектора
Муж мой и король
Погиб у ног моих, а ты со мною
Толкуешь о любви.
Форгэл
Здесь, в этих водах
Нарушилось течение времен,
И миг прошедший более не властен
Над следующим.
Дектора
О, я понимаю:
Ты - чародей, владеющий искусством,
Полученным от демонов морских,
Так завораживать бряцаньем струнным,
Чтоб я, себя не помня, поневоле
Тебя поцеловала.
Форгэл
Нет, ты волей
Отдашь мне поцелуй.
54
Дектора
Я не боюсь -
Пока есть волны, чтоб утопиться,
Или веревка - завязать петлю.
Но хватит слов. Взгляни в мое лицо
И убедись: в нем страха нет.
Форгэл
Как хочешь.
Но ни тебе, ни мне не разорвать
Ту золотую сеть, что нас поймала.
Дектора
Нет в мире ничего, что стоит страха.
(Проходит мимо Форгэла и на мгновение заглядывает ему
в лицо)
Я это знаю.
(Неожиданно взбегает на возвышающуюся часть палубы)
Вот, я не боюсь,
Я - королева.
(Становится ногами на фальшборт)
Дурень, жалкий дурень!
Ты поглядел в лицо мне, но не понял,
Что я задумала. Я прыгну прежде,
Чем ты пошевелишь рукой.
Форгэл
(складывая руки на груди)
Зачем?
Нас держат руки посильнее этих.
Теперь, что хочешь, делай, королева -
Не выпрыгнуть из золотых сетей.
Первый матрос
Топиться нет нужды. Коль пожелаешь
Простить нас и сумеешь проложить
Нам путь назад по звездам, мы сейчас же
Покончим с ним.
Дектора
Я это обещаю.
55
Первый матрос
Никто не будет защищать его.
Эйбрик
Я буду. И пока он не очнется
От грез своих и не достанет меч,
Сам буду биться.
Первый матрос
Одного осилим.
Матросы сбивают Эйбрика с ног. Они замахиваются мечами на Форгэла,
который держит в руках арфу, готовясь играть. Неожиданно начинает темнеть.
Матросы в страхе останавливаются.
Второй матрос
Черт! Он наслал затменье на луну.
Дектора
Дамасский меч с бесценной рукоятью -
Тому, кто первым нанесет удар!
Первый матрос
Я буду первым.
(Делает шаг к Форгэлу с занесенным мечом и вдруг
отшатывается)
Это лунный серп
Горит в его руках.
Второй матрос
Волшебный пламень,
Чтобы спалить того, кто подойдет.
Дектора
Галеру, нагруженную плодами,
Что слаще и пьяней вина, - тому
Кто насмерть поразит его.
Первый матрос
Смелей!
Один удар - и колдовство исчезнет
С ним вместе.
56
Второй матрос
Будь луна иль головешка
В его руках, но я его сражу!
Другие матросы
И я! И я! И я!
Форгэл начинает играть.
Первый матрос
(внезапно впадая в грезу)
Ты говорил,
Что на борту соседнем есть покойник,
И надо бы пойти его оплакать.
Он умер как-то вдруг.
Второй матрос
Да, да, идем.
Мы сотворить по нем должны поминки.
Дектора
Он их заклял друидским заклинаньем,
Чтоб грезили они.
Второй матрос
Но для поминок
Нам нужен эль - хороший темный эль.
Первый матрос
Я видел на борту бочонок эля.
Не помню, был он светлым или темным.
Третий матрос
Как причитать по мертвому, когда
Мы даже, как зовут его, не знаем?
Первый матрос
Пошли сначала, по дороге вспомним.
Покойник умер тыщу лет назад,
А до сих пор, бедняга, не оплакан.
57
Второй матрос
(начиная причитать по покойному)
О-хо-хо-хо! О-хо! Сломался дуб,
И птички разлетелись!
Все матросы
(подхватывая)
О-хо-хо!
(Уходят, причитая)
Дектора
Обороните нас, о боги предков!
Эйбрик поднимается с палубы. Медленно, как во сне, он начинает озираться
в поисках своего меча.
Эйбрик
Где меч, что выпал из моей руки,
Когда я вдруг услышал весть? Ах, вот он!
Эйбрик медленно идет к мечу, но Дектора опережает его и сама поднимает
меч.
Отдайте, королева.
Дектора
Он мне нужен.
Эйбрик
Зачем вам меч? А, впрочем, забирайте.
Раз он убит, мне больше меч не нужен.
Все, все пропало.
Один из матросов
(зовет с другого корабля)
Эйбрик, к нам, сюда!
Напомни, по кому сейчас поминки.
Эйбрик
(наполовину Декторе, наполовину сам себе)
Как звали короля? Артур Британский?
Нет, не Артур... Теперь я вспоминаю.
То был золоторукий Иолан,
58
И умер он от горя, потеряв
Свою похищенную колдовством
Супругу-королеву. А потом
Он был убит. О-хо-хо-хо! О-хо!
Наш златорукий Иолан скончался!
(Уходит)
В то время, пока он говорит, и в части следующего эпизода с другого корабля
слышатся причитания матросов. Дектора стоит перед Форгэлом с поднятым
мечом.
Дектора
Сейчас я с колдовством твоим покончу.
Бе голос становится смутным, как во сне. Она медленно опускает меч и, в
конце концов, роняет его. Распускает волосы, снимает корону и кладет ее на
палубу.
Пусть этот меч положат с ним в могилу.
Он бился им. Я пряди распущу
И горько закричу, ломая руки.
Он гордым и веселым раньше был,
Голубоглазым, сильным, быстроногим.
Его убили тыщу лет назад.
О смелый мой!..
Форгэл меняет мелодию.
Нет, всё иначе было.
Его убили на моих глазах...
О златорукий Иолан любимый!
Как громко он смеялся. Боже мой!
Смеялся... Почему я так сказала?
Звук этой арфы мне напомнил всё.
Зачем они набросились так злобно,
Рубя мечами золото доспехов?
Форгэл
Меня вы узнаете, госпожа?
Я тот, по ком вы плачете.
Дектора
Неправда.
Золоторукий Иолан убит.
О горе мне!
59
Форгэл
Так говорили после.
Но я вам докажу, что гробокопы
В безумном ослеплении зарыли
Лишь золотой доспех. Внемлите струнам
Смеющейся в моих руках луны,
И вы узнаете мой лик и голос.
Вы им внимали сотни лет подряд,
Припомните.
Вздрагивает, прислушиваясь к птичьим крикам. Арфа выскальзывает
из его рук.
Что нужно этим птицам?
Зачем вы так захлопали крылами?
О чем кричите вы, кружась над мачтой?
Браните? Упрекаете? Смеетесь
Над тем, что я в ней пробудил любовь
Волшебной музыкой? Я вам отвечу:
Так мне велели голоса и сны,
Посланники от Тех, Живущих Вечно.
И как я мог им не повиноваться?
Так в чем вы упрекаете меня?
Дектора
(смеясь)
Вот истинно неслыханное чудо:
Должна я плакать по тому, кто жив,
Над крепким и здоровым убиваться.
Форгэл
Так в чем же причиненное мной зло?
Вы видите - она развеселилась.
Нет, в ваших криках вовсе не упрек.
В плесканье крыльев - радость, а не горе,
В гортанных кликах - свадебная песнь.
Но если и упрек, я вам отвечу:
Средь вас нет никого, кто бы любил
Иначе. Называйте это страстью,
Великодушьем или благородством,
По сути, это все - обман, уловка,
Чтоб лестью женщину переупрямить.
Любовь - война. В ней хитрость и коварство.
Вы скажете, она по доброй воле...
60
Дектора
Зачем ты отворачиваешь взор
И прячешь от меня свое лицо,
Мой вечно ненаглядный?
Форгэл
О печаль!
Дектора
Я сотни лет любила не тебя ли?
Форгэл
Но я - не златорукий Иолан.
Дектора
Не понимаю. Мне твое лицо
Знакомее, чем собственные руки.
Форгэл
Я обманул тебя.
Дектора
Не правда разве,
Что ты родился сотни лет назад
На острове, где Энгусовы дети,
Блаженные, танцуют под луной,
И ты меня возьмешь туда?
Форгэл
Прости.
Я обманул.
Дектора
Как это может статься?
Ты смотришь на меня с такой любовью.
Ужели ты принадлежишь другой?
Форгэл
О нет!
61
Дектора
А если даже это так,
Что мне за дело? Пусть их будут толпы;
И думать не хочу о них. Молчи!
Упрямы женщины и своенравны,
Им лестью головы вскружить легко;
Вот почему влюбленные боятся
Сказать всю правду.
Форгэл
Суть совсем не в том.
Поверь, я так виновен перед тобой,
Что никакая мера не вместит
Моей вины.
Дектора
К чему признанья эти
Теперь, когда душа моя плывет
И тело начинает смутно грезить?
О чем бы ты мне не желал сказать -
Что ты околдовал меня коварно,
Или убил возлюбленного друга
У ног моих, - я слушать не хочу.
Вчера, а не сегодня это было.
Довольно! Уши я свои заткну -
Вот так, смотри же.
Пауза.
Отчего ты плачешь?
Форгэл
Я плачу оттого, что у меня
Нет ничего для глаз твоих прекрасных,
Помимо ветхих мачт и волн пустынных.
Дектора
О, подними же на меня глаза!
Форгэл
Я плачу оттого, что здесь лишь ночь,
А не резной сияющий чертог
Из золота и драгоценной кости.
62
Дектора
Мне бы наскучил золотой чертог
И опостылела бы кость резная.
Хочу, чтоб в мире были я и ты,
И больше не было б ни дня, ни ночи,
Ни прошлых, ни грядущих лет, чтоб веб
Исчезло - кроме встречи наших губ.
Форгэл
Ты отвернулась и глядишь куда-то...
К кому мне ревновать теперь - к волнам
Или к луне?
Дектора
Я на луну смотрела,
Мечтая сделать из нее корону
И возложить на голову твою.
Но ты и сам задумался о чем-то.
Ты смотришь в море. Разве ты не знаешь,
Как вредно и опасно для любви,
Когда задумывается влюбленный?
Форгэл делает два шага к борту. Она следует за ним. Он вглядывается в небо
из-под руки.
Куда ты смотришь?
Форгэл
Погляди туда.
Дектора
Там только стая странных серых птиц,
Летящих к западу.
Форгэл
Нет, ты послушай.
Дектора
Я слышу птичьи крики - вот и все.
Форгэл
Прислушайся! Быть может, в этих криках
Ты внятные расслышишь голоса.
63
Дектора
Да, человеческие голоса!
Мне кажется, теперь я различаю.
Откуда и куда они летят?
Форгэл
К блаженству, непостижному для смертных.
Они кружились, поджидая нас;
Теперь нам надо следовать за ними,
Как следуют за лоцманом. Пора.
И пусть их крылья серы, точно пепел,
Но в криках их - ты слышишь? - обещанье:
«Там, за морем - блаженная страна,
Родившиеся в ней не умирают».
Входят матросы с Эйбриком. Они сильно возбуждены.
Первый матрос
Корабль набит сокровищами!
Второй матрос
В трюмах -
Несметная казна.
Первый матрос
Бесценный клад!
Третий матрос
Коробки с пряностями.
Первый матрос
Сундуки
С каменьями и златом.
Третий матрос
Я приметил:
Там есть дракон с рубинами в глазах.
Первый матрос
Весь трюм сверкает, словно сеть с уловом.
64
Второй матрос
Скорей домой; богатства хватит всем.
Третий матрос
Я знаю, девки падки на рубины.
Эйбрик
(останавливая их жестом)
Форгэл, пора нам повернуть назад.
Теперь у нас сокровищ разных столько,
Что мы и не мечтали. Ты богат
И женщина желанная с тобою.
Чего тебе еще искать в морях?
Форгэл
Нет, я отправлюсь дальше - до конца.
А что до этой женщины, она
Отправится со мной.
Эйбрик
Ты обезумел.
То происки бессмертных. Или нет;
Я понял - эта женщина из мести
Тебя толкает к гибели. А я-то,
Дурак, надеялся, что образумит.
Дектора
Неправда; это он мне обещал
Там, за морем - неслыханное счастье.
Эйбрик
Пустая греза! Пена на волне,
Мечта безумца и пушинка в ветре.
Такого счастья в мире не бывает,
Ну, разве, в царстве мертвых.
Дектора
Нет, не там,
А на волшебном острове, где жизнь
Не плещется у ног волной докучной,
А брызжет вверх фонтаном!
65
Эйбрик
Он-то знает,
Что к гибели зовет тебя с собой.
Спроси его - он скажет.
Дектора
Это правда?
Форгэл
Не знаю; я уверен лишь в одном -
Что надо следовать путем, которым
Ведут вожатые.
Эйбрик
Обманы, тени,
Проделки духов, оборотней, вечных
Насмешников, что голосами ветра
Морочат смертных.
Дектора
Милый, отвези
Меня в какой-нибудь знакомый край,
В страну простую. Разве мало нам
Друг друга? Разве жизнь нам может дать
Иное, лучшее?
Форгэл
Как я могу
Не слушать мне назначенных вожатых,
Отвергнуть их призывы?
Дектора
Я руками
Закрою твои уши и глаза,
Чтоб ты не слышал криков этих птиц,
Не видел их.
Форгэл
Летай они пониже,
Я подчинился бы; но путь их в небе
Так головокружительно высок!
66
Дектора
Пророчества их головы нам кружат,
Но им, увы, не сбыться никогда:
Ведь мы не так горды и одиноки,
Крылаты и бессмертны.
Форгэл
Лишь поверь -
И так же будем мы любить крылато,
Когда бессмертный образ обретем.
Дектора
Я - женщина, и каждое мгновенье
Я умираю снова.
Эйбрик
Рухнул дуб,
И птички разлетелись. - Хватит хныкать.
(матросам)
Все - на другой корабль! Я - вслед за вами,
И сам последний разрублю канат;
Лишь попрощаюсь с этим человеком -
Ведь никому из смертных не придется
Его увидеть вновь.
Форгэл
(Декторе)
Ступай за ним.
Тебя домой доставит он сохранно.
Эйбрик
(протягивая руку Форгэлу)
Так. Обещаю.
Дектора
Я останусь с ним.
Иди, руби канат.
Эйбрик
(как бы причитая)
О-хо-хо-хо!
Сломался дуб, и птички разлетелись.
67
Прощайте!
(Уходит.)
Дектора
Меч ударил по канату -
И струны лопнули. О древний змей,
Дракон, любивший мир и нас державший
В своем плену, - ты побежден! Уходят
В туман борта и мачты корабля,
Мир старый уплывает прочь все дальше,
И вот - остались мы наедине
С моим любимым. Я смеюсь, Форгэл,
Тому, что больше нам не разлучиться,
Что мы навеки вместе. Мы вдвоем -
В тумане, отделившем нас от мира.
Откуда здесь корона? Я не помню,
Иль помню смутно, словно некий сон.
Позволь, твое чело я увенчаю.
О нежный мой цветок - птенец на ветке -
Серебряная гибкая рыбешка
В моих ладонях, только из ручья, -
Звезда, дрожащая в рассветном небе,
Как олененок на опушке леса
В тумане утреннем, - склонись ко мне,
Укроемся моими волосами,
Чтоб нам вовек уже не видеть мира!
Форгэл
(закрывая лицо волосами Декторы)
Любимая, в ограде их чудесной
Мы наконец-то обретем бессмертье;
И эта арфа старая, очнувшись,
Прокличет небесам и серым птицам,
Что сны отцов осуществились в нас.
ИЗ КНИГИ «ЗЕЛЕНЫЙ ШЛЕМ
И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
(1910)
НЕТ ДРУГОЙ ТРОИ
За что корить мне ту, что дни мои
Отчаяньем поила вдосталь, - ту,
Что в гуще толп готовила бои,
Мутя доверчивую бедноту
И раздувая в ярость их испуг?
Могла ли умиротворить она
Мощь красоты, натянутой, как лук,
Жар благородства, в наши времена
Немыслимый, - и, обручась с тоской,
Недуг отверженности исцелить?
Что было делать ей, родясь такой?
Какую Трою новую спалить?
МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ В СРОК
Не в кроне суть, а в правде корневой;
Весною глупой юности моей
Хвалился я цветами и листвой;
Пора теперь усохнуть до корней.
69
ОДНОМУ ПОЭТУ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЛ МНЕ
ПОХВАЛИТЬ ВЕСЬМА СКВЕРНЫХ ПОЭТОВ,
ЕГО И МОИХ ПОДРАЖАТЕЛЕЙ
Ты говоришь: ведь я хвалил других
За слово точное, за складный стих.
Да, было дело, и совет неплох;
Но где тот пес, который хвалит блох?
СОБЛАЗНЫ
Что от стихов меня не отрывало?
То гордой девы лик, а то, бывало,
Мои «страдающие земляки»
(Иль правящие ими дураки).
Все это сплыло, все прошло. Когда-то
При звуках песни, дерзкой и крылатой,
Мечтатель, я всегда воображал,
Что у певца за поясом кинжал.
Теперь томлюсь единственным соблазном -
Как рыба, стать холодным и бесстрастным.
70
ИЗ КНИГИ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
(1914)
СЕНТЯБРЫ913ГОДА
Вы образумились? Ну что ж!
Молитесь богу барыша,
Выгадывайте липкий грош,
Над выручкой своей дрожа;
Вам - звон обедни и монет,
Кубышка и колокола...
Мечты ирландской больше нет,
Она с О Лири в гроб сошла.
Но те - святые имена -
Что выгадать они могли,
С судьбою расплатись сполна,
Помимо плахи и петли?
Как молнии слепящий след -
Их жизнь, сгоревшая дотла!
Мечты ирландской больше нет,
Она с О Лири в гроб сошла.
Затем ли разносился стон
Гусиных стай в чужом краю?
Затем ли отдал жизнь Вольф Тон
И Роберт Эммет - кровь свою? -
И все безумцы прежних лет,
Что гибли, не склонив чела?
Мечты ирландской больше нет,
Она с О Лири в гроб сошла.
Но если павших воскресить -
Их пыл и горечь, боль и бред, -
Вы сразу станете гнусить:
«Из-за какой-то рыжей Кэт
71
Напала дурь на молодежь...»
Да что им поздняя хула!
Мечты ирландской не вернешь,
Она с О Лири в гроб сошла.
ДРУГУ, ЧЬИ ТРУДЫ ПОШЛИ ПРАХОМ
Не потому, что кроток,
А просто - честней смолчать;
Сам знаешь, луженных глоток
Тебе не перекричать.
Признай свое пораженье
Пред наглостью наглеца,
Который врет без зазренья,
Не напрягая лица.
Есть вещи важней победы,
Заманчивой со стороны;
Блюди же тайну и следуй
Примеру шальной струны,
Играющей средь развалин,
Вдали от ферм и свиней,
И будь душой беспечален, -
Хоть нет ничего трудней.
СКОРЕЙ БЫ НОЧЬ
Средь бури и борьбы
Она жила, мечтая
О гибельных дарах,
С презреньем отвергая
Простой товар судьбы:
Жила, как тот монарх,
Что повелел в день свадьбы
Из всех стволов палить,
Бить в бубны и горланить,
Трубить и барабанить, -
Скорей бы день спровадить
И ночь поторопить.
72
КАК БРОДЯГА ПЛАКАЛСЯ БРОДЯГЕ
«Довольно мне по свету пыль глотать,
Пора бы к месту прочному пристать, -
Бродяга спьяну плакался бродяге, -
И о душе пора похлопотать».
«Найти жену и тихий уголок,
Прогнать навек бесенка из сапог, -
Бродяга спьяну плакался бродяге -
И злющего бесенка между ног».
«Красотки мне, ей-богу, не нужны,
Средь них надежной не найти жены,-
Бродяга спьяну плакался бродяге-
Ведь зеркало - орудье сатаны».
«Богачки тоже мне не подойдут,
Их жадность донимает, словно зуд,-
Бродяга спьяну плакался бродяге-
Они и шуток даже не поймут».
«Завел бы я семью, родил ребят
И по ночам бы слушал, выйдя в сад,-
Бродяга спьяну плакался бродяге-
Как в небе гуси дикие кричат».
ВЕДЬМА
Бейся лбом, ради денег терпя,
Наживай капитал,
Будто с грязною ведьмой тебя
Сатана сочетал;
А когда ты иссяк и устал,
Свел тебя напослед
С той, кого ты с тоскою искал
Столько дней, столько лет.
73
МОГИЛА В ГОРАХ
Лелей цветы, коль свеж их аромат,
И пей вино, раз кубок твой налит;
В ребре скалы дымится водопад,
Отец наш Розенкрейц в могиле спит.
Танцуй, плясунья! не смолкай, флейтист!
Пусть будет каждый лоб венком увит
И каждый взор от нежности лучист,
Отец наш Розенкрейц в могиле спит.
Вотще, вотще! терзает темноту
Ожог свечи, и водопад гремит;
В камеи глаз укрыв свою мечту,
Отец наш Розенкрейц в могиле спит.
ПЛАЩ
Я сшил из песен плащ,
Узорами украсил
Из древних саг и басен
От плеч до пят.
Но дураки украли
И красоваться стали
На зависть остальным.
Оставь им эти песни,
О Муза! интересней
Ходить нагим.
74
ИЗ КНИГИ «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ В КУЛЕ»
(1919)
МРАМОРНЫЙ ТРИТОН
Мечтаньями истомлен,
Стою я - немолодой
Мраморный мудрый тритон
Над текучей водой.
Каждый день я гляжу
На даму души своей,
И с каждым днем нахожу
Ее милей и милей.
Я рад, что сберег глаза
И слух отменный сберег
И мудрым от времени стал,
Ведь годы мужчине впрок.
И все-таки иногда
Мечтаю, старый ворчун:
О, если б встретиться нам,
Когда я был пылок и юн!
И вместе с этой мечтой
Старясь, впадаю в сон,
Мраморный мудрый тритон
Над текучей водой.
ЗАЯЧЬЯ КОСТОЧКА
Бросить бы мне этот берег
И уплыть далеко
В тот край, где любят беспечно
И забывают легко,
Где короли под дудочку
Танцуют среди дерев -
75
И выбирают на каждый танец
Новых себе королев.
И там, у кромки прилива
Я нашел бы заячью кость,
Дырочку просверлил бы
И посмотрел насквозь
На мир, где венчают поп и дьячок,
На старый, смешной насквозь
Мир - далеко, далеко за волной -
Сквозь тонкую заячью кость.
СОЛОМОН - ЦАРИЦЕ САВСКОЙ
Так пел Соломон подруге,
Любимой Шебе своей,
Целуя смуглые руки
И тонкие дуги бровей:
«Уже рассвело и смерклось,
А наши с тобой слова
Все кружат и кружат вокруг любви,
Как лошадь вокруг столба».
Так Шеба царю пропела,
Прижавшись к нему тесней:
«Когда бы мой повелитель
Избрал беседу важней,
Еще до исхода ночи
Он догадался б, увы,
Что привязь ума короче,
Чем вольная связь любви».
Так пел Соломон царице,
Целуя тысячу раз
Ее арабские очи:
«Нет в мире мудрее нас,
Открывших, что если любишь,
Имей хоть алмаз во лбу,
Вселенная - только лошадь,
Привязанная к столбу.
76
СЛЕД
Красивых я встречал,
И умных были две, -
Да проку в этом нет.
Там до сих пор в траве,
Где заяц ночевал,
Не распрямился след.
ЗНАТОКИ
Хрычи, забыв свои грехи,
Плешивцы в сане мудрецов
Разжевывают нам стихи,
Где бред любви и пыл юнцов,
Ночей бессонных маета
И безответная мечта.
По шею в шорохе бумаг,
В чаду чернильном с головой,
Они от буквы ни на шаг,
Они за рамки ни ногой.
Будь столь же мудрым их Катулл,
Мы б закричали: «Караул!»
ФАЗЫ ЛУНЫ
Старик прислушался, взойдя на мост;
Он шел со спутником своим на юг
Ухабистой дорогой. Их одежда
Была изношена, и башмаки
Облипли глиной, но шагали ровно
К какому-то далекому ночлегу.
Луна взошла... Старик насторожился.
Ахерн
Что там плеснуло?
Робартис
Выдра в камышах;
Иль водяная курочка нырнула
С той стороны моста. Ты видишь башню?
77
Там свет в окне. Он все еще читает,
Держу пари. До символов охоч,
Как все его собратья, это место
Не потому ль он выбрал, что отсюда
Видна свеча на той старинной башне,
Где мильтоновский размышлял философ
И грезил принц-мечтатель Атанас, -
Свеча полуночная - символ знанья,
Добытого трудом. Но тщетно он
Сокрытых истин ищет в пыльных книгах,
Слепец!
Ахерн
Ты знаешь все, так почему бы
Тебе не постучаться в эту дверь
И походя не обронить намека? -
Ведь сам не сможет он найти ни крошки
Того, что для тебя - насущный хлеб.
Робартис
Он обо мне писал в экстравагантном
Эссе - и закруглил рассказ на том,
Что, дескать, умер я. Пускай я умер!
Ахерн
Спой мне о тайнах лунных перемен:
Правдивые слова звучат, как песня.
Робартис
Есть ровно двадцать восемь фаз луны;
Но только двадцать шесть для человека
Уютно-зыбких, словно колыбель;
Жизнь человеческая невозможна
Во мраке полном и при полнолунье.
От первой фазы до средины диска
В душе царят мечты, и человек
Блажен всецело, словно зверь иль птица.
Но чем круглей становится луна,
Тем больше в нем причуд честолюбивых
Является, и хоть ярится ум,
Смиряя плеткой непокорность плоти,
Телесная краса все совершенней.
Одиннадцатый минул день - и вот
78
Афина тащит за власы Ахилла,
Повержен Гектор в прах, родится Ницше:
Двенадцатая фаза - жизнь героя.
Но прежде чем достигнуть полноты,
Он должен, дважды сгинув и вокреснув,
Бессильным стать, как червь. Сперва его
Тринадцатая фаза увлекает
В борьбу с самим собой, и лишь потом,
Под чарами четырнадцатой фазы,
Душа смиряет свой безумный трепет
И замирает в лабиринтах сна!
Ахерн
Спой до конца, пропой о той награде,
Что этот путь таинственный венчает.
Робартис
Мысль переходит в образ, а душа -
В телесность формы; слишком совершенны
Для колыбели перемен земных,
Для скуки жизни слишком одиноки,
Душа и тело, слившись, покидают
Мир видимостей.
Ахерн
Все мечты души
Сбываются в одном прекрасном теле.
Робартис
Ты это знал всегда, не так ли?
Ахерн
В песне
Поется дальше о руках любимых,
Прошедших боль и смерть, сжимавших посох
Судьи, плеть палача и меч солдата.
Из колыбели в колыбель
Переходила красота, пока
Не вырвалась за грань души и тела.
Робартис
Кто любит, понимает это сердцем.
79
Ахерн
Быть может, страх у любящих в глазах -
Предзнание или воспоминанье
О вспышке света, о разверстом небе.
Робартис
В ночь полнолунья на холмах безлюдных
Встречаются такие существа,
Крестьяне их боятся и минуют;
То отрешенные от мира бродят
Душа и тело, погрузясь в свои
Лелеемые образы, - ведь чистый,
Законченный и совершенный образ
Способен победить отъединенность
Прекрасных, но пресытившихся глаз.
На этом месте Ахерн рассмеялся
Своим надтреснутым, дрооюащим смехом,
Подумав об упрямом человеке,
Сидящем в башне со свечой бессонной.
Робартис
Пройдя свой полдень, месяц на ущербе.
Душа дрожит, кочуя одиноко
Из колыбели в колыбель. Отныне
Переменилось все. Служанка мира,
Она из всех возможных избирает
Труднейший путь. Душа и тело вместе
Приемлют ношу.
Ахерн
Перед полнолуньем
Душа стремится внутрь, а после - в мир.
Робартис
Ты одинок и стар и никогда
Книг не писал: твой ум остался ясен.
Знай, все они - купец, мудрец, политик,
Муж преданный и верная жена -
Из зыбки в зыбку переходят вечно -
Испуг, побег - и вновь перерожденье,
Спасающее нас от снов.
80
Ахерн
Пропой
О тех, что, круг свершив, освободились.
Робартис
Тьма, как и полный свет, их извергает
Из мира, и они парят в тумане,
Перекликаясь, как нетопыри;
Желаний лишены, они не знают
Добра и зла и торжества смиренья;
Их речи - только восклицанья ветра
В кромешной мгле. Бесформенны и пресны,
Как тесто, ждущее печного жара,
Они, что миг, меняют вид.
Ахерн
А дальше?
Робартис
Когда же перемесится квашня
Для новой выпечки Природы, - вновь
Возникнет тонкий серп - и колесо
Опять закружится.
Ахерн
Но где же выход?
Спой до конца.
Робартис
Горбун, Святой и Шут
Идут в конце. Горящий лук, способный
Стрелу извергнуть из слепого круга -
Из яростно кружащей карусели
Жестокой красоты и бесполезной,
Болтливой мудрости - начертан между
Уродством тела и души юродством.
Ахерн
Когда б не долгий путь, нам предстоящий,
Я постучал бы в дверь, встал у порога
Под балками суровой этой башни,
Где мудрость он мечтает обрести, -
81
И славную бы с ним сыграл я шутку!
Пусть он потом гадал бы, что за пьяный
Бродяга заходил, что означало
Его бессмысленное бормотанье:
«Горбун, Святой и Шут идут в конце,
Перед затменьем». Голову скорей
Сломает он, но не откроет правды.
Он засмеялся над простой разгадкой
Задачи, трудной с виду, - нетопырь
Взлетел и с писком закружил над ними.
Свет в башне вспыхнул ярче и погас.
КОТ И ЛУНА
Луна в небесах ночных
Вращалась, словно волчок.
И поднял голову кот,
Сощурил желтый зрачок.
Глядит на луну в упор -
О, как луна хороша!
В холодных ее лучах
Дрожит кошачья душа,
Миналуш идет по траве
На гибких лапах своих.
Танцуй, Миналуш, танцуй -
Ведь ты сегодня жених!
Луна - невеста твоя,
На танец ее пригласи,
Быть может, она скучать
Устала на небеси.
Миналуш скользит по траве,
Где лунных пятен узор.
Луна идет на ущерб,
Завесив облаком взор.
Знает ли Миналуш,
Какое множество фаз,
И вспышек, и перемен
В ночных зрачках его глаз?
Миналуш крадется в траве,
Одинокой думой объят,
Возводя к неверной луне
Свой неверный взгляд.
82
ДВЕ ПЕСНИ ИЗ ПЬЕСЫ
I
Женская красота - словно белая птица,
Хрупкая птица морская, которой грустится
На незнакомой меже среди черных борозд:
Шторм, бушевавший всю ночь, ее утром занес
К этой меже, от океана далекой,
Вот и стоит она там, и грустит одиноко
Меж незасеянных жирных и черных борозд.
Сколько столетий в работе
Душа провела,
В сложном расчете,
В муках угла и числа,
Шаря вслепую,
Роясь подобно кроту, -
Чтобы такую
Вывести в свет красоту!
Странная и бесполезная это вещица -
Хрупкая раковина, что бледно искрится
За полосою прибоя, в ложбине сырой;
Волны разбушевались пред самой зарей,
На побережье ветер накинулся воя...
Вот и лежит она - хрупкое чудо морское -
Валом внезапным выброшенная перед зарей.
Кто, терпеливый,
Душу пытал на излом,
Судеб извивы
Смертным свивая узлом,
Ранясь, рискуя,
Маясь в крови и в поту, -
Чтобы такую
Миру явить красоту?
II
Отчего ты так испуган?
Спрашиваешь - отвечаю.
Повстречал я в доме друга
Статую земной печали.
83
Статуя жила, дышала,
Слушала, скользила мимо,
Только сердце в ней стучало
Громко так, неудержимо.
О загадка роковая
Ликований и утрат! -
Люди добрые глядят
И растерянно молчат,
Ничего не понимая.
Пусть постель твоя согрета
И для грусти нет причины,
Пусть во всех пределах света
Не отыщется мужчины,
Чтобы прелестью твоею
В одночасье не прельститься, -
Тот, кто был их всех вернее,
Статуе устал молиться.
О загадка роковая
Ликований и утрат! -
Люди добрые глядят
И растерянно молчат,
Ничего не понимая.
Почему так сердце бьется?
Кто сейчас с тобою рядом?
Если круг луны замкнется,
Все мечты пред этим взглядом
Умирают, все раздумья;
И уже пугаться поздно -
В ярком свете полнолунья
Гаснут маленькие звезды.
из книги
«МАЙКЛ РОБАРТИС И ПЛЯСУНЬЯ»
(1921)
ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЗНИЦЕ
Нетерпеливая с пелен, она
В тюрьме терпенья столько набралась,
Что чайка за решеткою окна
К ней подлетает, сделав быстрый круг,
И, пальцев исхудалых не боясь,
Берет еду у пленницы из рук.
Коснувшись нелюдимого крыла,
Припомнила ль она себя другой -
Не той, чью душу ненависть сожгла,
Когда, химерою воспламенясь,
Слепая, во главе толпы слепой,
Она упала, захлебнувшись, в грязь?
А я ее запомнил в дымке дня -
Там, где Бен-Балбен тень свою простер, -
Навстречу ветру гнавшую коня:
Как делался пейзаж и дик, и юн!
Она казалась птицей среди гор,
Свободной чайкой с океанских дюн.
Свободной и рожденной для того,
Чтоб, из гнезда ступив на край скалы,
Почувствовать впервые торжество
Огромной жизни в натиске ветров -
И услыхать из океанской мглы
Родных глубин неутоленный зов.
85
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
Все шире - круг за кругом - ходит сокол,
Не слыша, как его сокольник кличет;
Все рушится, основа расшаталась,
Мир захлестнули волны беззаконья;
Кровавый ширится прилив и топит
Стыдливости священные обряды;
У добрых сила правоты иссякла,
А злые будто бы остервенились.
Должно быть, вновь готово откровенье
И близится Пришествие Второе.
Пришествие Второе! С этим словом
Из Мировой Души, Spiritus Mundi,
Всплывает образ: средь песков пустыни
Зверь с телом львиным, с ликом человечьим
И взором гневным и пустым, как солнце,
Влачится медленно, скребя когтями,
Под возмущенный крик песчаных соек.
Вновь тьма нисходит; но теперь я знаю,
Каким кошмарным скрипом колыбели
Разбужен мертвый сон тысячелетий,
И что за чудище, дождавшись часа,
Ползет, чтоб вновь родиться в Вифлееме.
86
ИЗ КНИГИ «БАШНЯ»
(1928)
ПЛАВАНИЕ В ВИЗАНТИЮ
I
Где юным - рай, там старым жить нельзя.
Влюбленных вздохи, птичий свист под сенью
Крон шелестящих, в небе - клич гуся,
Плеск рыбы, прущей поперек теченья, -
Сливаются в восторгах, вознося
Хвалу зачатью, смерти и рожденью;
Захлестнутый их пылом слеп и глух
К тем монументам, что воздвигнул дух.
II
Старик в своем нелепом прозябанье
Схож с пугалом вороньим у ворот,
Пока душа, прикрыта смертной рванью,
Не вострепещет и не воспоет, -
Что петь научит кроме созерцанья
Искусства не скудеющих высот?
Лишь там, за морем их смогу найти я -
И вот она, святая Византия!
III
О мудрецы, явившиеся мне,
Как в золотой мозаике настенной,
В пылающей кругами вышине,
Вы, помнящие музыку Вселенной! -
Спалите сердце мне в своем огне,
Исхитьте из дрожащей твари тленной
Усталый дух: да будет он храним
В той вечности, которую творим.
87
IV
Развоплотясь, я оживу едва ли
В телесной форме, кроме, может быть,
Подобной той, что в кованом металле
Сумел искусный эллин воплотить,
Сплетя узоры скани и эмали, -
Дабы владыку сонного будить
И с древа золотого петь живущим
О прошлом, настоящем и грядущем.
РАЗМЫШЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
I
Усадьбы предков
Я думал, что в усадьбах богачей
Средь пышных клумб и стриженных кустов
Жизнь бьет многообразием ключей
И, заполняя чашу до краев,
Стекает вниз - чтоб в радуге лучей
Взметнуться вновь до самых облаков;
Но до колес и нудного труда,
До рабства - не снисходит никогда.
Мечты, неистребимые мечты!
Сверкающая гибкая струя,
Что у Гомера бьет от полноты
Сознанья и избытка бытия,
Фонтан неиссякаемый, не ты -
Наследье наше тыщи лет спустя,
А раковина хрупкая, волной
Изверженная на песок морской.
Один угрюмый яростный старик
Призвал строителя и дал заказ,
Чтоб тот угрюмый человек воздвиг
Из камня сказку башен и террас -
Невиданнее снов, чудесней книг;
Но погребли кота, и мыши в пляс.
На нынешнего лорда поглядишь:
Меж бронз и статуй - серенькая мышь.
88
Что, если эти парки, где павлин
По гравию волочит пышный хвост,
И где тритоны, выплыв из глубин,
Себя дриадам кажут в полный рост,
Где старость отдыхает от кручин,
А детство нежится средь райских грозд,
Что, если эти струи и цветы
Нас, укротив, лишают высоты?
Что, если двери вычурной резьбы,
И перспективы пышных анфилад
С натертыми полами, и гербы
В столовой, и портретов длинный ряд,
С которых, зодчие своей судьбы,
На нас пристрастно прадеды глядят,
Что, если эти вещи, теша глаз,
Не дарят, а обкрадывают нас?
II
Моя крепость
Старинный мост, и башня над ручьем,
Укрывшийся за ней крестьянский дом,
Кусок земли кремнистой;
Взрастет ли здесь таинственный цветок?
Колючий тёрн, утёсник вдоль дорог,
И ветер, проносящийся со свистом;
И водяные курочки в пруду,
Как маленькие челны,
Пересекают волны -
У трех коров жующих на виду.
Кружащей, узкой лестницы подъем,
Кровать, камин с открытым очагом,
Ночник, перо, бумага;
В такой же келье время проводя,
Отшельник Мильтона под шум дождя
Вникал в завет египетского мага
И вещих духов вызывал в ночи;
Гуляка запоздавший
Мог разглядеть на башне
Бессонный огонек его свечи.
89
Когда-то здесь воинственный барон,
С дружиною своей гонял ворон
И враждовал с соседом,
Пока за годы войн, тревог, осад
Не растерял свой маленький отряд
И не притих; конец его неведом.
А ныне я обосновался тут,
Желая внукам в память
Высокий знак оставить -
Гордыни, торжества, скорбей и смут.
III
Мой стол
Столешницы дубовый щит,
Меч древний, что на нем лежит,
Бумага и перо -
Вот все мое добро,
Оружье против злобы дня.
В кусок цветастого тканья
Обернуты ножны;
Изогнут, как луны
Блестящий серп, полтыщи лет
Хранился он, храня от бед,
В семействе Сато; но
Бессмертье не дано
Без смерти; только боль и стыд
Искусство вечное родит.
Бывали времена,
Как полная луна,
Когда отцово ремесло
Ненарушимо к сыну шло,
Когда его, как дар,
Художник и гончар
В душе лелеял и берег,
Как в шелк обернутый клинок;
Но те века прошли,
И нету той земли.
Вот почему наследник их,
Вышагивая важный стих
И слыша за спиной
И смех и глум порой,
90
Смиряя боль, смиряя стыд,
Знал: небо низость не простит;
И вновь павлиний крик
Будил: не спи, старик!
IV
Наследство
Приняв в наследство от родни моей
Неукрощенный дух, я днесь обязан
Взлелеять сны и вырастить детей,
Вобравших волю пращуров и разум,
Хоть и сдается мне, что раз за разом
Цветенье все ущербней, все бледней,
По лепестку его развеет лето,
И, глядь - все пошлой зеленью одето.
Сумеют ли потомки, взяв права,
Сберечь свое наследье вековое,
Не заглушит ли сорная трава
Цветок, с таким трудом взращенный мною?
Пусть эта башня с лестницей крутою
Тогда руиной станет - и сова
Гнездясь в какой-нибудь угрюмой нише,
Кричит во мраке с разоренной крыши.
Тот Перводвигатель, что колесом
Пустил кружиться этот мир подлунный,
Мне указал грядущее в былом -
И, возвращений чувствуя кануны,
Я ради старой дружбы выбрал дом
И перестроил для хозяйки юной;
Пусть и руиной об одной стене
Он служит памятником им - и мне.
V
Дорога у моей двери
Похожий на Фальстафа ополченец
Мне о войне лихие пули льет -
Пузатый, краснощекий, как младенец, -
И похохатывает подбоченясь,
Как будто смерть - веселый анекдот.
91
Какой-то юный лейтенант с отрядом
Пятиминутный делая привал,
Окидывает местность цепким взглядом;
А я твержу, что луг побило градом,
Что ветер ночью яблоню сломал.
И я считаю черных, точно уголь,
Цыплят болотной курочки в пруду,
Внезапно цепенея от испуга;
И, полоненный снов холодной вьюгой,
Вверх по ступеням каменным бреду.
VI
Гнездо скворца под моим окном
Мелькают пчелы и хлопочут птицы
У моего окна. На крик птенца
С букашкой в клювике мамаша мчится.
Стена ветшает... Пчелы-медуницы,
Постройте дом в пустом гнезде скворца!
Мы, как на острове; нас отключили
От новостей, а слухам нет конца:
Там человек убит, там дом спалили -
Но выдумки не отличить от были...
Постройте дом в пустом гнезде скворца!
Возводят баррикады; брат на брата
Встает, и внятен лишь язык свинца.
Сегодня по дороге два солдата
Труп юноши проволокли куда-то...
Постройте дом в пустом гнезде скворца!
Мы сами сочиняли небылицы
И соблазняли слабые сердца.
Но как мы так могли ожесточиться,
Начав с любви? О пчелы-медуницы,
Постройте дом в пустом гнезде скворца!
92
VII
Передо мной проходят образы ненависти,
сердечной полноты и грядущего опустошения
Я всхожу на башню и вниз гляжу со стены:
Над долиной, над вязами, над рекой, словно снег,
Белые клочья тумана, и свет луны
Кажется не зыбким сиянием, а чем-то вовек
Неизменным - как меч с заговоренным клинком.
Ветер, дунув, сметает туманную шелуху.
Странные грезы завладевают умом,
Страшные образы возникают в мозгу.
Слышатся крики: «Возмездие палачам!
Смерть убийцам Жака Молэ!» В лохмотьях, в шелках,
Яростно колотя друг друга и скрежеща
Зубами, они проносятся на лошадях
Оскаленных, руки худые воздев к небесам,
Словно стараясь что-то схватить в ускользающей мгле;
И опьяненный их бешенством, я уже сам
Кричу: «Возмездье убийцам Жака Молэ!»
Белые единороги катают прекрасных дам
Под деревьями сада. Глаза волшебных зверей
Прозрачней аквамарина. Дамы предаются мечтам.
Никакие пророчества вавилонских календарей
Не тревожат сонных ресниц, мысли их - водоем,
Переполненный нежностью и тоской;
Всякое бремя и время земное в нем
Тонут; остаются тишина и покой.
Обрывки снов или кружев, синий ручей
Взглядов, дрёмные веки, бледные лбы,
Или яростный взгляд одержимых карих очей -
Уступают место безразличью толпы,
Бронзовым ястребам, для которых равно далеки
Грезы, страхи, стремление в высоту, в глубину...
Только цепкие очи и ледяные зрачки,
Тени крыльев бесчисленных, погасивших луну.
Я поворачиваюсь и схожу по лестнице вниз,
Размышляя, что мог бы, наверное, преуспеть
В чем-то, больше похожем на правду, а не на каприз.
93
О честолюбивое сердце мое, ответь,
Разве я не обрел бы соратников, учеников
И душевный покой? Но тайная кабала,
Полупонятная мудрость демонских снов
Влечет и под старость, как в молодости влекла.
ЮНОСТЬ И СТАРОСТЬ
Мир в юности мне спуску не давал,
Встречал меня какой-то ярой злостью,
А нынче сыплет пригоршни похвал,
Любезно выпроваживая гостя.
СВЕРСТНИКИ
Я не от старости охрип
И голос надсадил,
Нет, это я смеялся так,
Что выбился из сил.
Когда луна, как в кружке эль,
Мерцает в небесах,
Идет-бредет старуха Медж
С репьями в волосах.
Она несет в руках чурбак,
Закутанный в тряпье,
И стонет: «Баюшки-баю,
Сокровище мое!»
Когда безмозглый старый Джек,
Что был делягой встарь,
На пень залазит и орет,
Мол, я - Павлиний Царь, -
Смеясь до колотья в боку,
Ухохотавшись весь,
Я знаю, в ней поет любовь,
А в нем кричит лишь спесь.
94
ЛЕДА И ЛЕБЕДЬ
Внезапный гром: сверкающие крылья
Сбивают деву с ног - прижата грудь
К груди пернатой - тщетны все усилья
От лона птичьи лапы оттолкнуть.
Как бедрам ослабевшим не поддаться
Крылатой буре, их настигшей вдруг?
Как телу в тростнике не отозваться
На сердца бьющегося гулкий стук?
В миг содроганья страстного зачаты
Пожар на стогнах, башен сокрушенье
И смерть Ахилла.
Дивным гостем в плен
Захвачена, ужель не поняла ты
Дарованного в Мощи Откровенья, -
Когда он соскользнул с твоих колен?
ЧЕРНЫЙ КЕНТАВР
По картине Эдмунда Дюлака
Ты все мои труды в сырой песок втоптал
У кромки черных чащ, где, ветку оседлав,
Горланит попугай зеленый. Я устал
От жеребячьих игр, убийственных забав.
Лишь солнце нам растит здоровый, чистый хлеб;
А я, прельщен пером зеленым, сумасброд,
Залез в абстрактный мрак, забрался в затхлый склеп
И там собрал зерно, оставшееся от
Дней фараоновых, - смолол, разжег огонь
И выпек свой пирог, подав к нему кларет
Из древних погребов, где семь Эфесских сонь
Спят молодецким сном вторую тыщу лет.
Раскинься же вольней и спи, как вещий Крон,
Без пробуждения; ведь я тебя любил,
Кто что не говори, - и сберегу твой сон
От сатанинских чар и попугайных крыл.
95
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
I
Хожу по школе, слушаю, смотрю.
Монахиня дает нам разъясненья;
Там учат грамоте по букварю,
Там числам и таблице умноженья,
Манерам, пенью, кройке и шитью...
Затвержено киваю целый день я,
Встречая взоры любопытных глаз:
Что за дедуля к нам явился в класс?
II
Мне грезится - лебяжья белизна
Склоненной шеи в отблесках камина,
Рассказ, что мне поведала она
О девочке, страдавшей неповинно;
Внезапного сочувствия волна
Нас в этот вечер слила воедино -
Или (слегка подправив мудреца)
В желток с белком единого яйца.
III
И, вспоминая той обиды пыл,
Скольжу по детским лицам виновато:
Неужто лебедь мой когда-то был
Таким, как эти глупые утята, -
Так морщил нос, хихикал, говорил,
Таким же круглощеким был когда-то?
И вдруг - должно быть, я схожу с ума -
Не эта ль девочка - она сама?
IV
О, как с тех пор она переменилась!
Как впали щеки - словно много лун
Она пила лишь ветер и кормилась
Похлебкою теней! И я был юн;
96
Хоть Леда мне родней не доводилась,
Но пыжить перья мог и я... Ворчун,
Уймись и улыбайся, дурень жалкий,
Будь милым, бодрым чучелом на палке.
V
Какая мать, мечась на простыне
В бреду и муках в родовой палате
Или кормя младенца в тишине
Благоухающей, как мед зачатий, -
Приснись он ей в морщинах, в седине,
Таким, как стал (как, спящей, не вскричать ей!),
Признала бы, что дело стоит мук,
Бесчисленных трудов, тревог, разлук?
VI
Платон учил, что наш убогий взор
Лишь тени видит с их игрой мгновенной;
Не верил Аристотель в этот вздор
И розгой потчевал царя вселенной;
Премудрый златобедрый Пифагор
Бряцал на струнах, чая сокровенный
В них строй найти, небесному под стать:
Старье на палке - воробьев пугать.
VII
Монахини и матери творят
Себе кумиров сходно; но виденья,
Что мрамором блестят в дыму лампад,
Дарят покой и самоотреченье, -
Хоть так же губят. - О незримый Взгляд,
Внушающий нам трепет и томленье
И все, что в высях звездных мы прочли, -
Обман, морочащий детей земли!
97
VIII
Лишь там цветет и дышит жизни гений,
Где дух не мучит тело с юных лет,
Где мудрость - не дитя бессонных бдений
И красота - не горькой муки бред.
О брат каштан, кипящий в белой пене,
Ты - корни, крона или новый цвет?
О музыки качанье и безумье -
Как различить, где танец, где плясунья?
ИЗ КНИГИ «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
(1933)
РАЗГОВОР ПОЭТА С ЕГО ДУШОЙ
I
Душа
Вступи в потемки лестницы крутой,
Сосредоточься на кружном подъеме,
Отринь все мысли суетные, кроме
Стремленья к звездной вышине слепой,
К той черной пропасти над головой,
Откуда свет раздробленный струится
Сквозь древние щербатые бойницы.
Как разграничить душу с темнотой?
Поэт
Меч рода Сато - на моих коленях;
Сверкает зеркалом его клинок,
Не затупился он и не поблек,
Хранимый, как святыня, в поколеньях.
Цветами вышитый старинный шелк,
Обернутый вкруг деревянных ножен,
Потерся, выцвел - но доныне должен
Он красоте служить - и помнит долг.
Душа
К чему под старость символом любви
И символом войны тревожить память?
Воображеньем яви не поправить,
Блужданья тщетных помыслов прерви;
Знай, только эта ночь без пробужденья,
Где все земное канет без следа,
Могла б тебя избавить навсегда
От преступлений смерти и рожденья.
99
Поэт
Меч, выкованный пять веков назад
Рукой Монташиги, и шелк узорный,
Обрывок платья барыни придворной,
Пурпуровый, как сердце и закат, -
Я объявляю символами дня,
Наперекор эмблеме башни черной,
И жизни требую себе повторной,
Как требует поживы солдатня.
Душа
В бессрочной тьме, в блаженной той ночи,
Такая полнота объемлет разум,
Что глохнет, слепнет и немеет разом
Сознанье, не умея отличить
«Где» от «когда», начало от конца -
И в эмпиреи, так сказать, взлетает!
Лишь мертвые блаженство обретают;
Но мысль об этом тяжелей свинца.
II
Поэт
Слеп человек, а жажда жить сильна.
И почему б из лужи не напиться?
И почему бы мне не воплотиться
Еще хоть раз - чтоб испытать сполна
Все, с самого начала: детский ужас
Беспомощности, едкий вкус обид,
Взросленья муки, отроческий стыд,
Подростка мнительного неуклюжесть?
А взрослый в окружении врагов? -
Куда бежать от взоров их брезгливых,
Кривых зеркал, холодных и глумливых?
Как не уверовать в конце концов,
Что это пугало - ты сам и есть
В своем убогом истинном обличье?
Как отличить увечье от величья,
Сквозь оргию ветров расслышать весть?
Согласен пережить все это снова
И снова окунуться с головой
100
В ту, полную лягушачьей икрой
Канаву, где слепой гвоздит слепого,
И даже в ту, мутнейшую из всех,
Канаву расточенья и банкротства,
Где молится гордячке сумасбродство,
Бог весть каких ища себе утех.
Я мог бы до истоков проследить
Свои поступки, мысли, заблужденья;
Без криводушья и предубежденья
Изведать все, - чтоб все себе простить!
И жалкого раскаянья взамен
Такая радость в сердце поселится,
Что можно петь, плясать и веселиться;
Блаженна жизнь - и мир благословен.
КРОВЬ И ЛУНА
I
Священна эта земля
И древний над ней дозор;
Бурлящей крови напор
Поставил башню стоймя
Над грудой ветхих лачуг -
Как средоточье и связь
Дремотных родов. Смеясь,
Я символ мощи воздвиг
Над вялым гулом молвы
И, ставя строфу на строфу,
Пою эпоху свою,
Гниющую с головы.
II
Был в Александрии маяк знаменитый, и был
Столп Вавилонский вахтенной книгой плывущих по небу светил;
И Шелли башни свои - твердыни раздумий - в мечтах возводил.
Я провозглашаю, что эта башня - мой дом,
Лестница предков - ступени, кружащие каторжным колесом;
Голдсмит и Свифт, Беркли и Бёрк брали тот же подъем.
101
Свифт, в исступленье пифийском проклявший сей мир,
Ибо сердцем истерзанным влекся он к тем, кто унижен и сир;
Голдсмит, со вкусом цедивший ума эликсир,
И высокомысленный Бёрк, полагавший так,
Что государство есть древо, империя листьев и птах, -
Чуждая мертвой цифири, копающей прах.
И благочестивейший Беркли, считавший сном
Этот скотский бессмысленный мир с его расплодившимся злом:
Отврати от него свою мысль - и растает фантом.
Яростное негодованье и рабская кабала -
Шпоры творческой воли, движители ремесла,
Все, что не Бог, в этом пламени духа сгорает дотла.
III
Свет от луны сияющим пятном
Лег на пол, накрест рамою расчерчен;
Века прошли, но он все так же млечен,
И крови жертв не различить на нем.
На этом самом месте, хмуря брови,
Стоял палач, творящий свой обряд,
Злодей наемный и тупой солдат
Орудовали. Но ни капли крови
Не запятнало светлого луча.
Тяжелым смрадом дышат эти стены!
И мы стоим здесь, кротки и блаженны,
Блаженнейшей луне рукоплеща.
IV
На пыльных стеклах - бабочек ночных
Узоры: сколько здесь на лунном фоне
Восторгов, замираний и агоний!
Шуршат в углах сухие крылья их.
Ужели нация подобна башне,
Гниющей с головы? В конце концов,
Что мудрость? Достоянье мертвецов,
Ненужное живым, как день вчерашний.
Живым лишь силы грешные нужны:
102
Все здесь творится грешными руками;
И беспорочен только лик луны,
Проглянувшей в разрыв меж облаками.
ВИЗАНТИЯ
Отхлынул пестрый сор и гомон дня,
Спит пьяная в казармах солдатня,
Вслед за соборным гулким гонгом стих
И шум гуляк ночных;
Горит луна, поднявшись выше стен,
Над всей тщетой
И яростью людской,
Над жаркой слизью человечьих вен.
Плывет передо мною чья-то тень,
Скорей подобье, чем простая тень,
Ведь может и мертвец распутать свой
Свивальник гробовой;
Ведь может и сухой, сгоревший рот
Прошелестеть в ответ,
Пройдя сквозь тьму и свет, -
Так в смерти жизнь и в жизни смерть живет.
И птица, золотое существо,
Скорее волшебство, чем существо,
Обычным птицам и цветам упрек,
Горласта, как плутонов петушок,
И яркой раздраженная луной,
На золотом суку
Кричит кукареку
Всей лихорадке и тщете земной.
В такую пору языки огня,
Родившись без кресала и кремня,
Горящие без хвороста и дров
Под яростью ветров,
Скользят по мрамору дворцовых плит:
Безумный хоровод,
Агония и взлет,
Огонь, что рукава не опалит.
Вскипает волн серебряный расплав;
Они плывут, дельфинов оседлав,
103
Чеканщики и златомастера -
За тенью тень! - и ныне, как вчера,
Творят мечты и образы плодят;
И над тщетой людской,
Над горечью морской
Удары гонга рвутся и гудят...
ТРИ ЭПОХИ
Рыба Шекспира плескалась в бескрайних морях.
Рыба романтиков билась в прибрежных волнах.
Что за рыбешка корчится здесь на камнях?
СОЖАЛЕЮ О СКАЗАННОМ СГОРЯЧА
Я распинался пред толпой,
Пред чернью самою тупой;
С годами стал умней.
Но что поделать мне с душой
Неистовой моей?
Друзья лечили мой порок,
Великодушия урок
Я вызубрил уже;
Но истребить ничем не смог
Фанатика в душе.
Мы все - Ирландии сыны,
Ее тоской заражены
И горечью с пелён.
И я - в том нет моей вины -
Фанатиком рожден.
104
ТРИУМФ ЖЕНЩИНЫ
Я любила дракона, пока ты ко мне не пришел,
Потому что считала любовь неизбежной игрой;
Соблюдать ее правила, кажется, труд не тяжел, -
Но бывает занятно и даже приятно порой
Скуку будней развеять, блеснув загорелым плечом,
Скоротать полчаса за одной из невинных забав.
Но ты встал средь змеиных колец с обнаженным мечом;
Я смеялась, как дура, сперва ничего не поняв.
Но ты змея сразил и оковы мои разорвал,
Легендарный Персей иль Георгий, отбросивший щит.
И в лицо нам, притихшим, ревет налетающий шквал,
И волшебная птица над нами в тумане кричит.
105
ИЗ ЦИКЛА
«СЛОВА, ВОЗМОЖНО, ДЛЯ ПЕНИЯ»
(1929-1931)
БЕЗУМНАЯ ДЖЕЙН И ЕПИСКОП
В полночь, как филин прокличет беду,
К дубу обугленному приду
(Всё перемесит прах).
Мертвого вспомню дружка своего
И прокляну пустосвята того,
Кто вертопрахом ославил его:
Праведник и вертопрах.
Чем ему Джек так успел насолить?
Праведный отче, к чему эта прыть?
(Всё перемесит прах.)
Ох, уж и яро бранил он нас,
Книгой своей, как дубиной, тряс,
Скотство творите вы напоказ!
Праведник и вертопрах.
Снова, рукой постаревшей грозя,
Сморщенною, как лапка гуся
(Всё перемесит прах),
Он объясняет, что значит грех,
Старый епископ - смешной человек.
Но, как березка, стоял мой Джек:
Праведник и вертопрах.
Джеку я девство свое отдала,
Ночью под дубом его ждала
(Всё перемесит прах).
А притащился бы этот - на кой
Нужен он - тьфу! - со своею тоской,
Плюнула бы и махнула рукой:
Праведник и вертопрах.
106
БЕЗУМНАЯ ДЖЕЙН О БОГЕ
Тот, что меня любил,
Просто зашел с дороги,
Ночку одну побыл,
А на рассвете - прощай,
И спасибо за чай:
Все остается в Боге.
Высь от знамен черна,
Кони храпят в тревоге,
Пешие, как стена
Против другой стены,
Лучшие - сражены:
Все остается в Боге.
Дом, стоявший пустым
Столько, что на пороге
Зазеленели кусты,
Вдруг в огнях просиял,
Словно там будет бал:
Все остается в Боге.
Вытоптанная, как тропа,
Помнящая все ноги
(Их же была толпа), -
Радуется плоть моя
И ликует, поя:
Все остается в Боге.
БЕЗУМНАЯ ДЖЕЙН
ГОВОРИТ С ЕПИСКОПОМ
Епископ толковал со мной,
Внушал и так и сяк:
«Твой взор потух, обвисла грудь,
В крови огонь иссяк;
Брось, говорит, свой грязный хлев,
Ищи небесных благ».
107
«А грязь и высь - они родня,
Без грязи выси нет!
Спроси могилу и постель -
У них один ответ:
Из плоти может выйти смрад,
Из сердца - только свет.
Бывает женщина в любви
И гордой и блажной,
Но храм любви стоит, увы,
На яме выгребной;
О том и речь, что не сберечь
Души - другой ценой».
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Спи, любимый, отрешись
От трудов и от тревог,
Спи, где сон тебя застал;
Так с Еленою Парис,
В золотой приплыв чертог,
На рассвете засыпал.
Спи таким блаженным сном,
Как с Изольдою Тристан
На поляне в летний день;
Осмелев, паслись кругом,
Вскачь носились по кустам
И косуля, и олень.
Сном таким, какой сковал
Крылья лебедя в тот миг,
Как, свершив судьбы закон,
Словно белопенный вал,
Отбурлил он и затих,
Лаской Леды усыплен.
108
В НЕПОГОДУ
Захлопни ставни, дверь запри,
Пускай ветра кричат
И в стены бьют, как будто там
С цепи сорвался ад;
Мир за окном сошел с ума,
Ослеп, как снегопад.
На полке Туллий и Назон
Стоят с Гомером в ряд;
Платон раскрыт. Подумай, друг,
Как много лет назад
Мы были парою юнцов,
Слепых, как снегопад.
Ты что вздохнул, старинный друг,
Что вздрогнул невпопад?
Я вздрогнул вдруг, вообразив,
Что даже сам Сократ
Бывал безумным, как метель,
Слепым, как снегопад.
«Я РОДОМ ИЗ ИРЛАНДИИ»
«Яродом из Ирландии,
Святой земли Ирландии, -
Звал голос нежный и шальной, -
Друг дорогой, пойдем со мной
Плясать и петь в Ирландию!»
Но лишь единственный из всех
В той разношерстной братии,
Один угрюмый человек
В чудном заморском платье
К ней повернулся от окна:
«Неблизкий путь, сестра;
Часы бегут, а ночь темна,
Промозгла и сыра».
«Яродом из Ирландии,
Святой земли Ирландии, -
Звал голос нежный и шальной, -
Друг дорогой, пойдем со мной
Плясать и петь в Ирландию!»
109
«Там косоруки скрипачи, -
Он закричал отчаянно, -
И неучи все трубачи,
И трубы их распаяны!
Пускай колотят в барабан,
С размаху струны рвут, -
Какой поверит здесь болван,
Что лучше там, чем тут?»
«Яродом из Ирландии,
Святой земли Ирландии, -
Звал голос неоюный и шальной, -
Друг дорогой, пойдем со мной
Плясать и петь в Ирландию!»
ТОМ-СУМАСШЕДШИЙ
Вот что сказал мне Том-сумасшедший,
В роще под дубом дом свой нашедший:
«Что меня с толку-разуму сбило,
Что замутило зоркий мой взгляд?
Что неизменный свет превратило
Ясного неба - в горечь и чад?
Хадцон и Даддон и Дэнил О'Лири
Ходят по миру, девок мороча,
Все бы им клянчить, пьянствовать, или
Стих покаянный всласть распевать;
Эх, не сморгнули б старые очи -
Век бы мне в саване их не видать!
Все, что встает из соли и пыли -
Зверь, человек ли, рыба иль птица,
Конь, кобылица, волк и волчица -
Взору всевидящему предстает
В истинном их полнокровье и силе;
Верю, что Божий зрачок не сморгнет».
ПО
ИЗ КНИГИ «ПОЛНОЛУНИЕ В МАРТЕ»
(1935)
МОЛИТВА СТАРИКА
Избавь нас, Боже, от стихов,
Рожденных лишь умом:
Их должно в трепете зачать
И выносить нутром.
Тот прав, кто мудростью своей
Пожертвовать готов
И ради песни стать глупей
Зеленых дураков.
Молюсь - коль доведется мне
Еще чуток прожить -
Чтоб мог я, старый, до конца
Буянить и блажить.
ГОРА МЕРУ
Мир держится на многих обручах
Людских иллюзий, кое-как скреплен
В единое. Но мысли нет препон;
Не может ум, превозмогая страх,
Не рыть, не рыскать вдоль и вглубь и вброд
Веков бессчетных, ревностью палим, -
Пока в пустыню правды не придет:
Прощайте, Греция, Египет, Рим!
Монахи на святой горе Меру,
В пещере снежной прячась до утра
Или дрожа на ледяном ветру,
Полунагие, знают, что «вчера»
Со всей вчерашней славой и красой
Рассветной зачеркнётся полосой.
111
ИЗ «НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ»
(1938)
ЛЯПИС-ЛАЗУРЬ
Гарри Клифтону
Я слышал, нервные дамы злятся,
Что, мол, поэты - странный народ:
Непонятно, с чего они веселятся,
Когда всем понятно, в какой мы год
Живем и чем в атмосфере пахнет;
От бомбардировщика смех не спасет;
Дождутся они - налетит, бабахнет
И все на кирпичики разнесет.
Каждый играет свою трагедию:
Вот Гамлет с книгой, с посохом Лир,
Это - Офелия, а это Корделия,
И пусть к развязке движется мир
И звездный занавес готов опуститься -
Но если их роль важна и видна,
Они не станут хныкать и суетиться,
Но доиграют достойно финал.
Гамлет и Лир - веселые люди,
Потому что смех сильнее, чем страх;
Они знают, что хуже уже не будет,
Пусть гаснет свет, и гроза впотьмах
Полыхает, и буря с безумным воем
Налетает, чтоб сокрушить помост, -
Переиродить Ирода не дано им,
Ибо это - трагедия в полный рост.
Приплыли морем, пришли пешком,
На верблюдах приехали и на ослах
Древние цивилизации, огнем и мечом
112
Истребленные, обращенные в прах,
Из статуй, что Каллимах воздвиг,
До нас не дошло ни одной, а грек
Смотрел на мраморные складки туник
И чувствовал ветер морской и бег.
Его светильника бронзовый ствол
И года не простояв, был разбит.
Все гибнет - творенье и мастерство,
Но мастер весел, пока творит.
Гляжу на резную ляпис-лазурь:
Два старца к вершине на полпути;
Слуга карабкается внизу,
Над ними - тощая цапля летит.
Слуга несет флягу с вином
И лютню китайскую на ремне.
Каждое на камне пятно,
Каждая трещина на крутизне
Мне кажутся пропастью или лавиной
Готовой со скал обрушить снег, -
Хотя обязательно веточка сливы
Украшает домик, где ждет их ночлег.
Они взбираются все выше и выше,
И вот наконец осилен путь
И можно с вершины горы, как с крыши,
Всю сцену трагическую оглянуть.
Чуткие пальцы трогают струны,
Печальных требует слух утех.
Но в сетке морщин глаза их юны,
В зрачках их древних мерцает смех.
ТРИ КУСТА
Сказала госпожа певцу:
«Для нас - один исход,
Любовь, когда ей пищи нет,
Зачахнет и умрет.
Коль вы разлюбите меня,
Кто песню мне споет?
Ангел милый, ангел милый!
ИЗ
Не зажигайте в спальне свет, -
Сказала госпожа, -
Чтоб ровно в полночь я могла
Приникнуть к вам, дрожа.
Пусть будет мрак, ведь для меня
Позор острей ножа».
Ангел милый, ангел милый!
«Я втайне юношу люблю,
Вот вся моя вина, -
Так верной горничной своей
Поведала она, -
Я без него не в силах жить,
Без чести - не должна.
Ангел милый, ангел милый!
Ты ночью ляжешь рядом с ним,
Стянув с себя наряд,
Ведь разницы меж нами нет,
Когда уста молчат,
Когда тела обнажены
И свечи не горят».
Ангел милый, ангел милый!
Не скрипнул ключ, не взлаял пес
В полночной тишине.
Вздохнула леди: «Сбылся сон,
Мой милый верен мне».
Но горничная целый день
Бродила как во сне.
Ангел милый, ангел милый!
«Пора, друзья! Ни пить, ни петь
Я больше не хочу.
К своей любимой, - он сказал, -
Теперь я поскачу.
Я должен в полночь ждать ее
Впотьмах, задув свечу».
Ангел милый, ангел милый!
«Нет, спой еще, - воскликнул друг,
Про жгучий, страстный взор!»
О, как он пел! - такого мир
Не слышал до сих пор.
114
О, как он мчался в эту ночь -
Летел во весь опор!
Ангел милый, ангел милый!
Но в яму конь попал ногой
От замка в ста шагах,
И оземь грянулся певец
У милой на глазах.
И мертвой пала госпожа,
Воскликнув только: «Ах!»
Ангел милый, ангел милый!
Служанка на могилу к ним
Ходила много лет
И посадила два куста -
Горячий, алый цвет;
Так розами сплелись они,
Как будто смерти нет.
Ангел милый, ангел милый!
В последний час к ее одру
Священник призван был.
Она покаялась во всем,
Собрав остаток сил.
Все понял добрый человек
И грех ей отпустил.
Ангел милый, ангел милый!
Похоронили верный прах
При госпоже, и что ж? -
Теперь там три куста растут,
В цветущих розах сплошь.
Польстишься ветку обломать -
Где чья, не разберешь.
Ангел милый, ангел милый!
ПЕСНЯ ВЛЮБЛЕННОГО
Стремится к небу птица,
Ум к новизне стремится,
Мужское себя - к лону;
Один покой нисходит
К уму и птице сонной,
И к чреслам утомленным.
115
КЛОЧОК ЛУЖАЙКИ
Кроме картин и книг
Да лужайки в сорок шагов
Что мне оставила жизнь?
Тьма изо всех углов
Смотрит, и ночь напролет
Мышь тишину скребет.
Успокоенье - мой враг.
Дряхлеет не только плоть,
Мечта устает парить,
А жернов мозга - молоть
Памяти сор и хлам,
Будничный свой бедлам.
Так дайте же пересоздать
Себя на старости лет,
Чтоб я, как Тимон и Лир,
Сквозь бешенство и сквозь бред,
Как Блейк, сквозь обвалы строк,
Пробиться к истине мог!
Так Микеланджело встарь
Прорвал пелену небес
И, яростью распалясь,
Глубины ада разверз;
О зрящий сквозь облака
Орлиный ум старика!
ОЛИМПИЙСКОЕ ПЛЕМЯ
Всё прекрасное и возвышенное: благородный лик
Джона О'Лири; звенящий голос отца,
Со сцены Аббатства обращающегося к разъяренной толпе:
«Эта страна святых...» - и, когда утихли хлопки:
«Гипсовых святых!» - голова насмешливо откинута: так!
Стендиш ОТрейди, разглагольствующий в кабаке
Пьяницам, ни понимавшим в его словах ни аза.
Старая леди Грегори за огромным столом
С позолоченной бронзой: «Они грозятся меня убить,
Я отвечаю, что каждый вечер с шести до семи
116
Пишу письма перед этим окном»; Мод Гонн
На станции в Гоуте в ожидании поезда: величавая стать
И взор Афины Паллады, устремленный вперед.
Олимпийцы; - горжусь, что я их видел и знал.
ПРОКЛЯТИЕ КРОМВЕЛЯ
Вы спросите, что я узнал, и зло меня возьмет:
Ублюдки Кромвеля везде, его проклятый сброд.
Танцоры и влюбленные железом вбиты в прах,
И где теперь их дерзкий пыл, их рыцарский размах?
Один остался старый шут, и тем гордится он,
Что их отцам его отцы служили испокон.
Что говорить, что говорить,
Что тут еще сказать?
Нет больше щедрости в сердцах, гостеприимства нет,
Что делать, если слышен им один лишь звон монет?
Кто хочет выбиться наверх, соседа книзу гнет,
А песни им не ко двору, какой от них доход?
Они все знают наперед, но мало в том добра,
Такие, видно, времена, что умирать пора.
Что говорить, что говорить,
Что тут еще сказать?
Но мысль меня иная исподтишка грызет,
Как мальчику-спартанцу лисенок грыз живот:
Мне кажется порою, что мертвые - живут,
Что рыцари и дамы из праха восстают,
Заказывают песни мне и вторят шуткам в лад,
Что я - слуга их до сих пор, как много лет назад.
Что говорить, что говорить,
Что тут еще сказать?
Я ночью на огромный дом набрел, кружа впотьмах,
Я видел в окнах свет - и свет в распахнутых дверях;
Там были музыка и пир и все мои друзья...
Но средь заброшенных руин очнулся утром я.
От ветра злого я продрог, и мне пришлось уйти,
С собаками и лошадьми беседуя в пути.
Что говорить, что говорить,
Что тут еще сказать?
117
БУЙНЫЙ СТАРЫЙ ГРЕХОВОДНИК
И так говорит ей странник:
«Дело мое - труба;
Женщины и дороги -
Страсть моя и судьба.
Час свой последний встретить
В нежных твоих руках -
Вот все, о чем смиренно прошу
У Старика в Облаках.
Рассвет и огарок свечи.
Глаза твои утешают,
Твой голос кроток и тих;
Так не утаи, дорогая,
Милостей остальных.
Поверь, я могу такое,
Чего молодым не суметь:
Слова мои могут сердца пронзить,
А их - разве только задеть».
Рассвет и огарок свечи.
И так она отвечает
Буйному старику:
«В сердце своем я не вольна
И полюбить не могу.
Владеет мной постарше Старик,
Безгрешно меня любя;
Рукам, в которых четки дрожат,
Увы, не обнять тебя!»
Рассвет и огарок свечи.
«Значит, врозь наши пути,
Что ж, прощай, коли так!
Пойду я к рыбачкам на берегу,
Которым понятен мрак.
Соленые байки - старым дедам,
Девчонкам - пляс и галдеж;
Когда над водой сгущается мрак,
Расходится молодежь.
Рассвет и огарок свечи.
Во мраке - пылкий юноша я,
А на свету - старый хрыч,
Который может кур насмешить,
118
А может - кровно постичь
То, что под спудом сердце таит,
И древний исторгнуть клад,
Скрытый от этих смуглых парней,
Которые с ними лежат.
Рассвет и огарок свечи.
Известно, хлеб человека - скорбь,
Удел человека - тлен,
Это знает на свете любой,
Спесив он или смирен,-
Лодочник, ударяя веслом,
Грузчик, тачку катя,
Всадник верхом на гордом коне
И во чреве дитя.
Рассвет и огарок свечи.
Речи праведников гласят,
Что тот Старик в Облаках
Молнией милосердья
Скорбь выжигает в сердцах.
Но я - греховодник старый,
Что б ни было впереди,
Я обо всем забываю
У женщины на груди».
Рассвет и огарок свечи.
ЧИСТИЛИЩЕ
(1938)
ПЕРСОНАЖИ ПЬЕСЫ
Юноша
Старик
Декорация - разрушенный дом и дерево без листьев на заднем плане.
Юноша
Ну и занятье - обивать пороги,
Таскаться по буграм и буеракам
С поклажей на горбу, и ко всему -
Выслушивать твой бред!
Старик
Я вспоминаю,
Как жили в этом доме, как шутили;
Что там на Пасху сказанул дворецкий
Про пьяного лесничего? - Провал.
Уж если я забыл, пиши пропало.
Куда деваются преданья дома,
Когда его отломанный порог
Употребляют для починки хлева?
Юноша
Так ты бывал здесь?
Старик
Лунный свет лежит
На травах, а на доме - тень от тучи.
И это символично. Видишь вяз?
Не кажется ль тебе, что он похож...
120
Юноша
На старого придурка?
Старик
Год назад
Он был таким же голым и засохшим;
Но если вспять вернуться на полвека,
Мне помнится - когда еще он не был
Расщеплен молнией, - листва на нем
Лоснилась и топорщилась, густа,
Как масло. Жирная, шальная жизнь
Вот так и перла из него!.. Смотри-ка:
Я говорю, там в доме кто-то есть.
Юноша снимает короб и заглядывает в дверной проем.
Юноша
Да нет там никого.
Старик
Взгляни получше.
Юноша
Ни пола, ни окон, а вместо крыши
Лишь небо. И белеет на пороге
Скорлупка от сорочьего яйца.
Старик
И все-таки там, в доме, кто-то есть -
Из тех, которые не замечают
Ущерба и разора. Это души
Чистилища, что вновь и вновь влекутся
К родным местам...
Юноша
Бред!
Старик
...чтобы пережить
Свои грехи опять, - и не однажды,
А много раз. Смотря на ком следы
121
Их преступлений: если на других,
Изгладятся следы - и прекратятся
Мытарства; если же на них самих,
Надежда лишь на милосердье Божье.
Юноша
С меня довольно! Проповедуй дальше
Сорокам, если чешется язык.
Старик
Ни шагу дальше! Сядь на этот камень.
Я здесь родился, в этом доме.
Юноша
Как!
В хоромах этих, выжженных пожаром?
Старик
Мать у меня была богатой дамой,
Усадьба эта ей принадлежала,
Дом, псарня, и конюшня, и земля.
А мой отец был конюхом в Курахе,
Где обучают верховой езде.
Увидела его - и вышла замуж.
Ее родня ей так и не простила -
И даже собственная мать...
Юноша
Вот на!
А дед мой был не промах! Отхватил
Единым махом девку и деньжища.
Старик
Взглянула только на него - и баста.
Все, что она имела, он загреб.
До худшего дожить ей, слава Богу,
Не довелось. Явился я, и мать
Скончалась родами. Но мертвецы
Все знают, и сейчас ей все известно.
Какие люди жили в этом доме!
Полковники, шерифы, адвокаты,
Парламентарии, майоры, судьи,
122
И те, что в давние года сражались
При Огриме и Бойне. Джентльмены,
Что занимали важные посты
В столице - или в Индии служили,
Откуда возвращались доживать
Под кров отеческий - гулять по саду
И любоваться, как цветет шиповник.
Они любили этот сад и парк,
Который он срубил, растратив деньги
На карты, шлюх и лошадей, - любили
Запутанные лабиринты дома,
Где столько именитых поколений
Рождались, оперялись, умирали...
Сгубить гнездо такое - преступленье.
Юноша
Эх, повезло тебе, черт побери!
Наряды всякие, а может быть,
И собственная лошадь.
Старик
Сам невежда,
Он так меня и не отправил в школу.
Но были те, что видели во мне
Часть материнскую - и снисходили;
Жена лесничего мне показала,
Как буквы складывать в слова, потом
Священник выучил меня латыни.
В библиотеке были горы книг -
В старинной коже и переплетенных
По моде восемнадцатого века,
Забытых авторов и современных...
Юноша
Какое мне ты дал образованье?
Старик
Образование под стать ублюдку,
Зачатому в канаве побирушкой
От коробейника. Но слушай дальше.
Когда мне стукнуло шестнадцать лет,
Отец, напившись вдрызг, спалил усадьбу.
123
Юноша
Как раз шестнадцать лет и мне сравнялось
В Иванов день.
Старик
Все обратилось в пепел -
Дом, книги... все сгорело.
Юноша
Я слыхал
Какой-то темный слух. Так это правда,
Что ты убил его в горящем доме?
Старик
Никто не слышит нас?
Юноша
Никто, отец.
Старик
Его зарезал я ножом - тем самым,
Которым режу хлеб и до сих пор.
Когда его достали из огня,
Заметил кто-то колотую рану,
Но труп так обгорел и почернел,
Что трудно было утверждать наверно.
Кой-кто из собутыльников отцовых
Грозился, что меня отдаст под суд,
Упоминались ссоры и угрозы.
Я убежал, скитался по дорогам,
Батрачил там и тут, пока не стал
Разносчиком, - занятье не ахти,
Но мне подходит в самый раз, ведь я -
Сын своего отца, не больше. Чу!
Ты слышишь стук копыт?
Юноша
Убей, не слышу!
Старик
Стук, стук копыт! Сегодня годовщина
Той брачной ночи, той проклятой ночи,
124
Когда я был зачат. Отец мой скачет
Из кабака, с бутылкою в кармане.
Одно из окон освещается; в нем силуэт девушки.
Смотри: она стоит и ждет,
Прислушиваясь; слуги все легли;
Она одна до ночи не спала,
Пока он пил и хвастался в трактире.
Юноша
Нет ничего, один пролом в стене.
Ты, видно, бредишь. Ты и впрямь свихнулся.
И бред твой все бредовей с каждым часом.
Старик
Все громче стук копыт. Он скачет
По гравию аллеи, с давних пор
Заросшей сорняками. Цокот смолк,
Он подскакал к конюшне, что за домом,
И ставит лошадь в стойло. Погляди:
Она, спустившись, отпирает дверь,
От страсти без ума. Ей все равно,
Что суженый ее не вяжет лыка.
Она ведет его наверх, к себе.
Ее постель девичья брачным ложем
Сегодня станет. Снова свет в окне.
Не дай ему обнять тебя! Неправда,
Что пьяные к зачатью неспособны,
Коль нынче он тобою овладеет,
Ты в чреве понесешь его убийцу.
Не слышат! Глухо! Можно бросить камень -
Они и не заметят. Может быть,
И впрямь рехнулся я. Но вот вопрос:
Все заново опять переживая,
Испытывает ли она теперь
С раскаяньем - былое наслажденье?
А если да, то что сильней -
Скорбь или сласть?
Вопрос не из простых.
Я должен заглянуть в Тертуллиана,
Быть может, он подскажет мне ответ,
Покуда их безумье приближает
Миг моего зачатья.
125
Мешок!
Стой! Назад!
Ты собирался тихо улизнуть,
Пока я отвернулся? Обыскал
Мой короб и нашел мешок с деньгами?
Свет в окне гаснет.
Юноша
Ты никогда со мною не делился
По-честному.
Старик
Зачем? Чтоб ты все пропил?
Юноша
А это уж моя забота.
Хочу - пропью.
Старик
Довольно слов. Отдай
Юноша
Нет!
Старик
Я тебе сломаю пальцы.
Стараются вырвать друг у друга мешок с деньгами. В конце концов роняют его,
и монеты рассыпаются по земле. Старик с трудом удерживается на ногах. Свет
в окне снова зажигается. Виден силуэт мужчины, наливающего себе виски в
стакан.
Юноша
А что, коль я тебя сейчас прикончу?
Ты кончил деда моего,
Когда был молод; а теперь я молод,
А ты - старик.
Старик
(глядя на горящее окно)
Еще совсем девчонка...
126
Юноша
Что ты бормочешь?
Старик
...Влюблена - и все же
Могла бы видеть, что он ей не пара.
Юноша
Довольно этих бредней! Замолчи!
Старик указывает на окно.
О Господи! Окно освещено,
И кто-то там стоит, хоть пол сгорел
И балки рухнули.
Старик
Отец зажег свечу,
Чтоб отыскать себе стакан для виски,
Он свесил голову, как пес усталый.
Юноша
Мертвец! Воскресший неживой мертвец!
Старик
«И вещий сон Адамом овладел...»
Откуда это?.. Впрочем, там, в окне,
Нет никого - лишь образ, сотворенный
Воспоминаньем матери. Увы,
Она и после смерти одинока
В своем раскаянье.
Юноша
Труп, сгнивший труп
Воскрес и ходит! Ужас! Ужас!
Старик
Он призрак, даже меньше: он никто,
А значит, ничего и не услышит,
Не вздрогнет, если даже под окном
Зарежут человека.
(Ударяет сына ножам в спину)
127
И сына, и отца - одним ножом.
И кончено - вот так! - так! - так!
(Наносит удары вновь и вновь)
Свет в окне гаснет.
«Баю-бай, усни, малец,
Храбрый рыцарь - твой отец...»
Нет, это я прочел в какой-то книге.
О, если б мог я убаюкать мать! -
Да где найти слова для колыбельной?
Сцена темнеет, лишь на заднем плане дерево озарено серебряным светом.
Как этот вяз прекрасен в лунном свете!
Он высится, сияя, как душа,
Очищенная от грехов...
О матушка, окно опять погасло.
Но ты уже перенеслась туда,
Где вечный свет, не правда ли? - ведь я
Покончил со следами преступленья.
Юнец мог вырасти и приглянуться
Какой-то женщине, зачать потомка,
И скверна бы распространилась дальше.
А я лишь грязный, немощный старик
И потому безвреден... В землю нож
Воткну, чтоб он, как прежде, засверкал,
Вновь соберу рассыпанные деньги
И побреду отсюда прочь -
Шутить по-старому на новом месте.
(Вытирает ноле о траву и подбирает монеты)
Опять стучат копыта. Боже мой!
Все повторяется опять - так скоро!
Она не в силах усыпить свой сон.
Два раза я убил, и все впустую.
Ей нужно вновь играть все ту же сцену -
За разом раз, за разом раз!
О Боже!
Очисти память матери моей!
Тут человек бессилен. Успокой
Тоску живых и угрызенья мертвых.
КОНЕЦ
ИЗ «ПОСЛЕДНИХ СТИХОТВОРЕНИЙ»
(1938-1939)
В ТЕНИ БЕН-БАЛБЕНА
I
То, чего аскет искал
Возле Фиваидских скал
И Атласская колдунья
Бормотала в новолунье,
То, о чем, таясь, молчат
Тени, что в тумане мчат
Конной призрачной ордой
Под Бен-Балбенской грядой,
Всадники, чей лик отмечен
Бледностью сверхчеловечьей,
Облеку в свои слова.
Суть их знанья такова.
II
Человек - в цепи звено,
Ибо в нем заключено
Два бессмертья: не умрет
Ни душа его, ни род.
Всяк ирландец испокон
Чтил бесстрашия закон,
Ибо, встретив меч врага,
Знал: разлука недолга.
Сколько дюжий гробокоп
Землю заступом не скреб,
Все, кому он яму рыл,
Ускользают из могил.
129
Ill
Тот, кто молвил в старину:
«Боже, ниспошли войну!» -
Знал, что, если спор велик
И слова зашли в тупик,
Человек мужает враз,
Пелена спадает с глаз.
В битву ярую вступив,
Он смеется, все забыв, -
Ибо даже мудрый впасть
Должен в буйственную страсть,
Чтоб не искривить свой путь,
Выбрать друга, вызнать суть.
IV
Помни, скульптор, верь, поэт:
В модных школах правды нет.
Делай дело - и блюди
Божью истину в груди.
Знай, откуда что пошло:
Измеренье и число,
Форм египетских канон,
Вольный эллина уклон.
Чти превыше всяких вер
Микеланджело пример:
Ведь не зря его Адам
Зажигает кровь у дам,
Кружит головы невест.
Погляди, как точен жест.
Правит творческой рукой
Совершенства сон мирской.
Есть у мастеров старинных
На божественных картинах
За фигурами святых
Дивный сад, где воздух тих,
Где безоблачные выси,
Травы, и цветы, и листья -
Словно грезы, что подчас
Спящих переносят нас
130
На какой-то остров дальний -
Чтоб, очнувшись в душной спальне
Знали мы: за явью скрыт
Мир иной. Скрипит, кружит
Колесо... Едва затмились
Вековые сны, явились
Калверт, Уилсон, Блейк и Клод
Новый возвести оплот
В душах, но сменилось круто
Время - и настала смута.
V
Верьте в ваше ремесло,
Барды Эрина! - назло
Этим новым горлохватам,
В подлой похоти зачатым,
С их беспамятным умом,
С языком их - помелом.
Славьте пахаря за плугом,
Девушек, что пляшут кругом,
Буйных пьяниц в кабаке
И монаха в клобуке;
Пойте о беспечных, гордых
Дамах прошлых лет и лордах,
Живших в снах и вбитых в прах,
Пойте щедрость и размах, -
Чтобы навеки, как талант свой,
Сохранить в душе ирландство!
VI
Под Бен-Балбенской горой
Йейтс лежит в земле родной.
Возле церкви - ряд могил,
Прадед здесь попом служил.
Место сиротливо, пусто,
Нет ни мрамора, ни бюста,
Только камень-известняк
Да завет, гласящий так:
131
Холодно встреть
Жизнь или смерть.
Всадник, скачи!
ЧЕРНАЯ БАШНЯ
Про Черную башню знаю одно:
Пускай супостаты со всех сторон,
И съеден припас, и скисло вино,
Но клятву дал гарнизон.
Напрасно чужие ждут,
Знамена их не пройдут.
Стоя в могилах спят мертвецы,
Но бури от моря катится рев.
Они содрогаются в гуле ветров,
Старые кости в трещинах гор.
Пришельцы хотят запугать солдат,
Купить, хорошую мзду суля:
Какого, мол, дурня они стоят
За свергнутого короля,
Который умер давно?
Так не все ли равно?
Меркнет в могилах лунный свет,
Но бури от моря катится рев.
Они содрогаются в гуле ветров,
Старые кости в трещинах гор.
Повар-пройдоха, ловивший сетью
Глупых дроздов, чтобы сунуть их в суп,
Клянется, что слышал он на рассвете
Сигнал королевских труб.
Конечно, врет, старый пес!
Но мы не оставим пост.
Все непроглядней в могилах тьма,
Но бури от моря катится рев.
Они содрогаются в гуле ветров,
Старые кости в трещинах гор.
132
ВОДОМЕРКА
Чтоб цивилизацию не одолел
Варвар - заклятый враг,
Подальше на ночь коня привяжи,
Угомони собак.
Великий Цезарь в своем шатре
Скулу кулаком подпер,
Блуждает по карте наискосок
Его невидящий взор.
И как водомерка над глубиной,
Скользит его мысль в молчании.
Чтобы Троянским башням пылать,
Нетленный высветив лик,
Хоть в стену врасти, но не смути
Шорохом - этот миг.
Скорее девочка, чем жена, -
Пока никто не войдет,
Она шлифует, юбкой шурша,
Походку и поворот.
И как водомерка над глубиной,
Скользит ее мысль в молчании.
Чтобы явился первый Адам
В купол девичьих снов,
Выставь из папской часовни детей,
Дверь запри на засов.
Там Микеланджело под потолком
Небо свое прядет,
Кисть его, тише тени ночной,
Движется взад-вперед.
И как водомерка над глубиной,
Скользит его мысль в молчании.
133
ДЖОН КИНСЕЛЛА ПЬЕТ
ЗА УПОКОЙ МИССИС МЭРИ МОР
Горячка, нож или петля,
Пиковый интерес,
Но смерть всегда хватает то,
Что людям позарез.
Могла бы взять сестру, куму,
И кончен разговор,
Но стерве надо не того -
Подай ей Мери Мор.
Кто мог так ублажить мужчин,
Поднять и плоть и дух?
Без старой милочки моей
Что мне до новых шлюх!
Пока не сговоришься с ней,
Торгуется как жид,
Зато потом - заботы прочь,
Напоит, рассмешит.
Такие байки завернет,
Что все забудешь враз,
Любое слово у нее
Сверкало, как алмаз.
Казалось, что невзгоды - прах,
А бремя жизни - пух.
Без старой милочки моей
Что мне до новых шлюх!
Когда бы не Адамов грех,
Попы нам говорят,
То был бы уготован всем
При жизни райский сад,
Там нет ни горя, ни забот,
Ни ссор из-за гроша,
На ветках - сочные плоды,
Погода хороша.
Там девы не стареют ввек,
Скворцы не ловят мух.
Без старой милочки моей
Что мне до новых шлюх!
134
высокий слог
Какое шествие - без ходуль,
какой без них карнавал?!
На двадцатифутовые шесты
прадедушка мой вставал.
Имелась пара и у меня -
пониже футов на пять;
Но их украли - не то на дрова,
не то забор подлатать.
И вот, чтоб сменить надоевших львов,
шарманку и балаган,
Чтоб детям на радость среди толпы
вышагивал великан,
Чтоб женщины на втором этаже
с недочиненным чулком
Пугались, в окне увидав лицо, -
я вновь стучу молотком.
Я - Джек-на-ходулях, из века в век
тянувший лямку свою;
Я вижу, мир безумен и глух,
и тщетно я вопию.
Все это - высокопарный вздор.
Трубит гусиный вожак
В ночной вышине, и брезжит рассвет,
и разрывается мрак;
И я ковыляю медленно прочь
в безжалостном свете дня;
Морские кони бешено ржут
и скалятся на меня.
ПАРАД-АЛЛЕ
I
Где взять мне тему? В голове - разброд,
За целый месяц - ни стихотворенья.
А может, хватит удивлять народ?
Ведь старость - не предмет для обозренья.
И так зверинец мой из года в год
Являлся каждый вечер на арене:
Шут на ходулях, маг из шапито,
Львы, колесницы - и Бог знает кто.
135
II
Осталось вспоминать былые темы:
Путь Ойсина в туман и буруны
К трем заповедным островам поэмы,
Тщета любви, сражений, тишины;
Вкус горечи и океанской пены,
Подмешанный к преданьям старины;
Какое мне до них, казалось, дело?
Но к бледной деве сердце вожделело.
Потом иная правда верх взяла.
Графиня Кэтлин начала мне сниться;
Она за бедных душу отдала, -
Но Небо помешало злу свершиться.
Я знал: моя любимая могла
Из одержимости на все решиться.
Так зародился образ - и возник
В моих мечтах моей любви двойник.
А там - Кухулин, бившийся с волнами,
Пока бродяга набивал мешок;
Не тайны сердца в легендарной раме -
Сам образ красотой меня увлек:
Судьба героя в безрассудной драме,
Неслыханного подвига урок.
Да, я любил эффект и мизансцену, -
Забыв про то, что им давало цену.
III
А рассудить, откуда все взялось -
Дух и сюжет, комедия и драма?
Из мусора, что век на свалку свез,
Галош и утюгов, тряпья и хлама,
Жестянок, склянок, бормотаний, слез,
Как вспомнишь все, не оберешься срама.
Пора, пора уж мне огни тушить,
Что толку эту рухлядь ворошить!
Размышления
о детстве и юности
1916
Для тех немногих, главным образом моих друзей,
кто прочел всё написанное мною
ПРЕДИСЛОВИЕ
Случается, что я вспоминаю любимого мною родственника
или какой-нибудь странный случай и тогда ищу, кому бы это
рассказать. Я начинаю говорить и вскоре замечаю, что моему
собеседнику скучно; но теперь, когда я обо всем этом написал,
прошлое может даже начать забываться. Во всяком случае, кни-
гу всегда можно закрыть, если она скучна.
Намеренно я ничего не менял, но наверняка многое изме-
нил ненамеренно: ведь я пишу спустя много лет, не сверяясь ни
с письмами, ни со старыми газетами, ни с друзьями, пишу то,
что приходит мне на память чаще всего.
Я говорю это, поскольку опасаюсь, что кто-то из ныне
здравствующих друзей моей юности помнит что-то по-другому
и может обидеться на меня за эту книгу.
Рождество, 1914 У. Б. Йейтс
I
Мои первые воспоминания отрывочны, события не имеют
связи между собой, и кажется, что все они происходили одно-
временно, — так, наверное, вспоминались бы первые минуты
семи дней творения. Время словно еще не сотворено: помню
свои ощущения, место, где происходило то или иное событие,
но последовательности событий не помню.
Вот я сижу у кого-то на коленях, в ирландском доме, и смо-
трю в окно на стену, покрытую растрескавшейся и обвалив-
шейся штукатуркой, но что это за стена — не помню, и мне
говорят, что здесь некогда жил кто-то из родственников. Вот
я в другом доме и тоже гляжу в окно. Это Лондон, а улица —
Фицрой-роуд. На мостовой играют мальчишки, один из них в
139
форменной одежде, возможно, рассыльный с телеграфа. Когда
я спрашиваю, кто этот мальчик, слуга говорит мне, что он со-
бирается взорвать город, и, когда я засыпаю, мне страшно.
После этого идут воспоминания о Слайго, где я живу с де-
дом и бабушкой. Я сижу на земле и смотрю на игрушечный
кораблик с отломанными мачтами, с которого почти облезла
краска, и говорю себе с глубокой меланхолией: «Она еще боль-
ше облезла», и при этом гляжу на большую царапину на корме,
потому что именно она больше всего меня огорчила. Следую-
щее воспоминание — мой двоюродный дед Уильям Мидлтон
говорит как-то за обедом: «Не следует легко относиться к дет-
скому горю. Оно глубже, чем у нас, так как мы видим конец на-
шего горя, а для них оно бесконечно», и я чувствую к нему при-
знательность, ибо знаю, что очень несчастен; я часто говорил
себе: «Когда я вырасту, никогда не буду говорить, как взрослые,
о радостях детства». К тому времени я, наверно, уже пережил
страшную ночь: я несколько дней молился, прося у Бога смер-
ти, и вдруг в ту ночь мне стало казаться, что я умираю, и я начал
молиться, чтобы я остался жив. Мои страдания были беспри-
чинны. Никто не относился ко мне плохо, а к моей бабушке
я до сих пор, спустя много лет, испытываю признательность
и почтение. Дом был такой большой, что всегда можно было
спрятаться в какой-нибудь комнате; у меня был рыжий пони,
был сад, где я мог бродить, и было два пса, которые ходили
за мной по пятам, один белый с черными пятнами на голове,
а другой — весь черный и лохматый. Я часто думал о Боге и
воображал, что я большой грешник; однажды я нечаянно попал
камнем в утку и перебил ей крыло, и потом был поражен, узнав,
что утку приготовят на обед, а меня не накажут.
Отчасти мои тогдашние страдания объяснялись одиноче-
ством и отчасти — страхом перед старым Уильямом Поллек-
сфеном, моим дедом. Он никогда не обращался со мной плохо,
и я не помню, чтобы он хоть раз говорил со мной резко, но его
боялись и почитали все. У него было звание почетного гражда-
нина какого-то испанского города, кажется, за спасение челове-
ка, но он хранил это в такой тайне, что его жена узнала об этом
только когда ему было около восьмидесяти лет, да и то случай-
но — от гостя, старого моряка. Она спросила деда, правда ли
это, и он ответил, что правда, но она слишком хорошо его знала,
чтобы расспрашивать дальше, а приятель-моряк уже уехал. Она
тоже боялась деда. Мы знали, что он плавал по всему свету, так
как у него на руке был большой шрам от гарпуна, а в столовой
стоял шкафчик, где хранились куски коралла, кувшин с водой
из Иордана для крещения его детей, картины на рисовой бумаге
140
из Китая и трость из слоновой кости из Индии, которая после
его смерти перешла ко мне. Он обладал большой физической
силой, и всем было известно, что он никогда не прикажет дру-
гому сделать то, чего бы не сделал сам. Он был владельцем
многих парусных судов; однажды капитан корабля, только что
ставшего на якорь в Россес-Пойнт, доложил, что у него что-
то случилось с рулем, и дед передал ему через посыльного:
«Пусть кто-нибудь нырнет и узнает, в чем дело». «Вся команда
отказывается», — был ответ, и дед сказал на это: «Ныряйте
сами», но капитан не выполнил приказ, и тогда дед нырнул с
палубы на виду у всех жителей, высыпавших на берег. Он по-
ранился, пока был под водой, зато выяснил, что же произошло
с рулем. У него был крутой нрав; у постели он держал топор на
случай, если в дом полезут грабители, и скорее сам бы распра-
вился с преступником, чем обратился в полицию, а однажды
я видел, как от него убегали несколько человек, а он гнался за
ними с арапником. У него не было родственников, близких ему
по возрасту, так как он рос единственным ребенком в семье, а
поскольку он был необщителен и молчалив, у него было мало
друзей. Он переписывался к Кэмпбеллом Ахлейским, который
приютил его и его команду после кораблекрушения, а капитан
Уэбб — первый, кто переплыл Ла-Манш, и утонул, пытаясь
спуститься по Ниагарскому водопаду, — был помощником ка-
питана на одном из его кораблей и его близким другом. Это все
его друзья, которых я помню, и тем не менее его так почитали,
что, когда он возвращался с лечения водами в Бате, его служа-
щие зажигали костры вдоль железной дороги на протяжении
многих миль, а его партнеру Уильяму Мидлтону, отец кото-
рого после «великого голода» неделями ходил за больными,
одного из них внес на руках в свой собственный дом, зараз-
ился от него холерой и умер, который был любезен со всеми и
умнее, чем мой дед, — не устраивали ни проводов, ни встреч.
Я думаю, что дед сливался в моем воображении с Богом, так
как, помнится, во время одного из приступов меланхолии я мо-
лился, чтобы он наказал меня за мои грехи. Помню, как меня
шокировала и изумила дерзость одной девочки (наверно, моей
кузины): зная, что перед обедом, около четырех часов, он будет
проходить по аллее, она подкараулила его там и сказала: «Если
бы я была на вашем месте, а вы были бы девочкой, то я пода-
рила бы вам куклу».
Но при всем почтении и страхе и несмотря на крутой нрав и
строгость деда, никто, включая меня, не считал зазорным пере-
хитрить его; и это было легко, поскольку у него отсутствовала
подозрительность, что делало его по-своему беззащитным и
141
вызывало симпатию. Как-то раз, когда мне, наверно, было еще
совсем мало лет, семь или восемь, один из дядьев поднял меня
среди ночи с постели и послал за бесплатным железнодорож-
ным билетом к кузену, жившему в Россес-Пойнт, в пяти-шести
милях от нас. Такой билет был и у деда, но он считал, что не-
честно передавать его другому; однако кузен был не так щепе-
тилен. Через ворота, находившиеся в достаточном отдалении
от дома, меня выпустили в переулок, примыкавший к саду, и я
с наслаждением проехался верхом при свете луны и разбудил
кузена, постучав хлыстом ему в окно. Я вернулся домой часа в
два или три; кучер дожидался меня в переулке. Дед и предста-
вить себе не мог подобной авантюры, так как был уверен, что
конный двор запирается каждый вечер в восемь часов, — ключ
приносили ему. Как-то ночью один из слуг попал в неприятную
историю, и тогда дед распорядился на ночь запирать двор. Он
не знал того, что знал весь дом: что, несмотря на торжествен-
ное вручение ему ключа, ворота никогда не запирались.
Даже сейчас, когда я читаю «Короля Лира», передо мной
возникает его образ, и я подозреваю, что любовь к страстным
людям, заметная в моей драматургии и поэзии, — может быть,
дань его памяти. Должно быть, он был необразован — хотя я
не мог судить об этом в детстве, — поскольку еще мальчиком
сбежал — «улепетнул», как он выражался, — на корабль, и я
помню, что он читал только две книги: Библию и «Кораблекру-
шение» Фолконера — эта книжка в зеленом переплете всегда
лежала у него на столе. Он принадлежал к одной из младших
ветвей старинного корнуоллского рода. Его отец служил в ар-
мии, а выйдя в отставку, стал владельцем парусных судов; в
маленькой гостиной у деда, рядом с изображением фамильного
герба, висела гравюра старого родового дома, который, по его
мнению, должен был бы перейти к нему. Его мать была родом
из Уэксфорда; его предки в течение многих поколений были
связаны с Ирландией, а одно время участвовали в торговле Го-
луэя с Испанией. Он был гордецом и не любил своих соседей, а
его жена, урожденная Мидлтон, была кроткой и снисходитель-
ной и занималась благотворительностью — в маленькой гости-
ной часто толпились окрестные жители, мужчины во фризовых
куртках и женщины с шалями на головах, и каждый вечер, ког-
да бабушка видела, что муж заснул, она обходила дом со све-
чой, чтобы удостовериться, что в доме нет грабителей, которым
грозит расправа топором. Она очень любила свой сад и, пока ей
не пришлось все силы отдавать дому, выбирала какой-нибудь
из любимых цветков и срисовывала его на рисовой бумаге.
На днях я взглянул на некоторые из ее рисунков и поразился
142
тонкости формы и цвета и тщательности работы, которую, ка-
залось, нельзя было выполнить без помощи лупы. Кроме ее
рисунков я помню только китайские картины и висевшие в ко-
ридоре цветные гравюры, изображающие эпизоды Крымской
войны, а в конце коридора — потемневшую от времени карти-
ну, на которой был изображен корабль.
Мои взрослые дяди и тети, многочисленные сыновья и до-
чери деда, бывали в доме наездами, и почти все, что они гово-
рили и делали, изгладилось из моей памяти, кроме нескольких
резких слов, которые, я убежден, потому только мне и запом-
нились, что обычно все они были добры и внимательны. Млад-
ший из моих дядьев был плотный мужчина и шутник; в его
комнате замочная скважина прикрывалась кожаным язычком,
чтобы не дуло, а у другого дяди, спальня которого была в конце
длинного коридора с каменным полом, была модель военного
корабля под стеклянным колпаком. Он был талантливым чело-
веком — это он спроектировал набережные в Слайго, — но на-
чинал впадать в безумие и изобретал военный корабль, который
не утонет, как он объяснял в своей брошюре, благодаря корпусу
из крепкого дерева. Полгода назад моей сестре приснилось, что
у нее на руках бескрылая морская птица, а вскоре она узнала,
что дядя умер у себя в сумасшедшем доме, ибо морская птица
предвещает Поллексфенам смерть или опасность. Другой мой
дядя, Джордж Поллексфен, впоследствии ставший астрологом
и мистиком и моим близким другом, лишь изредка приезжал
из Баллины; один раз он приехал на бега с двумя форейторами,
одетыми в зеленое; был еще один дядя помоложе, тот самый,
что послал меня за бесплатным билетом. Он был любимцем
моего деда; как рассказали мне слуги, его исключили из школы
за то, что он ударил ломом другого ученика, задиравшего его.
Я помню только один случай, когда меня наказала бабуш-
ка. Я играл на кухне, и одна из служанок, балуясь, выдернула
перёд моей рубашки из брюк, и тут как раз вошла бабушка; она
почему-то сочла мое поведение неприличным, и меня отослали
в мою комнату, и в тот день я обедал в полном одиночестве.
Но я всегда боялся теток и дядьев; однажды тот дядя, который
ударил ломом задиру, увидел, что я сижу за вторым завтраком,
который мне давали по распоряжению бабушки, и упрекнул меня
за это, и мне стало стыдно: мы завтракали в девять и обедали в
четыре, и считалось баловством что-то есть между завтраком
и обедом. Как-то раз одна из теток с упреком сказала мне, что
я натянул поводья и одновременно хлестнул моего пони, когда
проезжал через город, чтобы щегольнуть, и я, поскольку меня
обвинили в том, что я считал тяжким преступлением, провел
143
ужасную ночь. Надо сказать, я мало что помню о моих детских
годах, кроме страданий. Становясь старше, я с каждым годом
чувствовал себя счастливее, как будто постепенно побеждал
что-то в себе самом, ибо, конечно, источник моих страданий
был не в окружающих, а в моей собственной душе.
II
Однажды кто-то сказал мне о голосе совести, и, думая над
этим выражением, я решил, что для меня все пропало, посколь-
ку я не слышу никакого голоса. Я мучился несколько дней, пока
не остался наедине с одной из тетушек и не услышал шепот
мне на ухо: «Какой же ты шалун!» Сначала я решил, что это
сказала тетя, но когда понял, что она молчала, то заключил, что
это голос моей совести, и снова обрел душевное равновесие.
С того дня я постоянно слышу этот голос в кризисные момен-
ты, но только теперь это внутренний голос, всегда внезапный и
ошеломляющий. Он не говорит мне, что делать, но часто меня
упрекает. Например, я подумаю о ком-нибудь с осуждением, а
голос скажет мне: «Это несправедливо»; а однажды, когда я по-
сетовал, что моя молитва не была услышана, он сказал: «Тебе
помогли». Я поставил перед домом шест с красным флагом,
в углу которого был нашит английский флаг. Каждый вечер я
спускал свой флаг, сворачивал его и клал на полку в спальне,
и однажды утром, перед завтраком, я увидел, что он завязан
узлами и замотан вокруг флагштока у самой травы, хотя я твер-
до знал, что накануне вечером сложил его. Должно быть, я
слышал разговоры о феях, так как сразу решил, что эти четыре
узла завязала фея, и с тех пор верил, что на ухо мне шептала
тоже фея. Мне говорили, хотя сам я этого не помню, что в углу
моей комнаты я видел, то ли однажды, то ли много раз, фанта-
стическую птицу. Однажды под вечер я ехал с бабушкой вдоль
Канала, который тянется примерно на пять миль от Слайго до
моря, и бабушка показала мне на красный огонек уходящего в
море парохода и сказала, что там, на борту, дед, и в ту ночь я
закричал во сне, потому что мне приснилась гибель этого па-
рохода. Наутро дед приехал домой на слепой лошади, которую
нашли для него благодарные пассажиры парохода. Насколько я
помню, дед рассказал, что он сдал, когда капитан разбудил его и
сказал, что пароход несется на скалы. Дед спросил: «Вы попро-
бовали поставить парус?» и, поняв по ответу капитана, что тот
деморализован, взял командование на себя и, когда стало ясно,
что пароход не спасся, погрузил команду и пассажиров в шлюп-
144
ки. Его собственная шлюпка перевернулась, он спасся вплавь
и спас нескольких человек; нескольких женщин вынесло на
берег, они удержались на плаву благодаря своим кринолинам.
«Я боялся не столько волн, сколько этого грозного человека с
веслом», — так сказал учитель, который был среди спасшихся.
Однако восемь мужчин утонуло, и дед мучился воспоминанием
об этом всю свою жизнь, и, если его просили прочесть семей-
ную молитву, он всегда читал только ту главу Нового Завета,
где говорится о гибели корабля, на котором был святой Павел.
Я помню собак лучше, чем кого бы то ни было, за исключе-
нием деда и бабушки. У черного лохматого пса не было хвоста,
потому что, если мне сказали правду, его отрезало поездом. По-
моему, я ходил за ними по пятам больше, чем они за мной, а их
прогулки кончались у кроличьего садка за садом; иногда они
яростно дрались, при этом черному лохматому псу доставалось
меньше, так как его защищала густая шерсть. Помню одну дра-
ку, такую яростную, что белый пес, вцепившись в шерсть чер-
ного, разжал зубы только тогда, когда кучер повесил их на край
бочки с дождевой водой, так что один свисал снаружи, а другой
оказался внутри, в воде. Бабушка однажды попросила кучера
постричь черного пса подо льва, и он, после долгого совещания
с младшим конюхом, состриг всю шерсть на голове и на спине
и оставил ее на задней части туловища. Пес исчез на несколько
дней, и я не сомневался, что он глубоко страдал.
За домом был большой сад, где росло много яблонь; по-
середине были клумбы и газоны; там стояли также две дере-
вянные фигуры, снятые с носа корабля; одна у стены, среди
фруктовых деревьев и гряд клубники, другая — среди цветов.
Фигура среди цветов изображала белую даму в развевающих-
ся одеждах, а фигура крепкого мужчины в военной форме
была снята с трехмачтового корабля под названием «Россия»,
принадлежавшего деду; слуги считали, что крепкий мужчина
изображал царя и что сам царь подарил эту фигуру. Аллея,
ведущая к дому, или, как говорят в Англии, подъездная ал-
лея, которая шла от входной двери через купу высоких дере-
вьев к неказистым воротам и выходила на дорогу, где стоя-
ли полуразрушенные и грязные лачуги, была длиной всего
в двести-триста ярдов, и я часто думал, что ее нужно было
сделать более извилистой, потому что я судил о социальном
статусе человека главным образом по длине его подъездной
аллеи. Вероятно, эту идею мне внушил младший конюх, по-
скольку он был моим ближайшим другом. У него была книжка
оранжистских стихов, и в те дни, когда мы читали их вместе
на сеновале, я впервые ощутил удовольствие от рифмы. Когда
145
прошел слух о восстании фениев, мне, помнится, сказали, что
оранжистам раздали ружья; и вскоре, когда я начал воображать
себе свою будущую жизнь, я мечтал о гибели в сражении про-
тив фениев. В своих мечтах я строил очень быстроходный и
красивый корабль; под началом у меня была команда юношей,
которые постоянно тренировались, подобно спортсменам, и по-
этому стали такими же храбрыми и красивыми, как юные герои
сказок, и потом происходила большая битва на морском берегу
близ Россес, в которой я погибал. Я собирал кусочки дерева и
складывал их в углу двора, а на отдаленном поле было старое
гнилое бревно, на которое я часто ходил смотреть, потому что
считал, что оно-то и будет основой будущего корабля; с кора-
блями были связаны все мои мечты. Как-то раз один капитан,
приглашенный на обед, сказал, что покажет мне Африку, и, сда-
вив мне с боков голову, приподнял меня, а другой раз еще один
капитан показал на дым от текстильной фабрики, которая была
на набережной, поднимавшийся за деревьями перед домом, с
той стороны, где была гора, и спросил меня, не огнедышащая
ли гора Бен-Балбен.
Раз в несколько месяцев я ездил в Россес-Пойнт или в Бал-
лисодер повидаться с другим мальчиком, у которого был пони
в яблоках, раньше выступавший в цирке и иногда, забывая, где
он, начинавший ходить кругами. Этот мальчик был Джордж
Мидлтон, сын моего двоюродного деда Уильяма Мидлтона.
Старый Мидлтон купил землю — что тогда считалось надеж-
ным вложением капитала — в Баллисодере и в Россес и прово-
дил зиму в Баллисодере, а лето в Россес. Мельницы Мидлтонов
и Поллексфенов были в Баллисодере, там же на реке была боль-
шая форелевая запруда, пороги и водопад, но я чаще видался с
кузеном в Россес. Мы ходили на веслах в устье реки, или нас
брали покататься под парусом на тяжеловесной и медлительной
шхуне или на большой корабельной шлюпке, переделанной в
яхту. Под домом были большие подвалы, потому что сто лет
назад дом принадлежал контрабандисту, и иногда на закате в
окно гостиной трижды громко стучали, и все собаки начинали
лаять: какой-то покойный контрабандист подавал свой обыч-
ный сигнал. Однажды ночью я слышал эти удары очень ясно,
их часто слышали мои кузены, а позднее моя сестра. Один лоц-
ман рассказал мне, что ему трижды приснился сон про клад,
зарытый в саду моего дяди, и он перелез через ограду глубокой
ночью и стал копать, но отчаялся, «потому что этому не было
видно конца». Я рассказал кому-то об этом, и мне объяснили,
что хорошо, что он ничего не нашел, так как клад охраняет дух,
имеющий вид утюга. В скалах около Баллисодера была расще-
146
лина, мимо которой я проходил со страхом, потому что верил,
что там живет кровожадное чудовище, издающее звук, подоб-
ный жужжанию пчелы.
Вероятно, через Мидлтонов я заинтересовался деревенскими
легендами; точно помню, что первые волшебные сказки я услы-
шал от обитателей деревни, живших по соседству. Мидлтоны
дружили с ближайшими соседями и все время заходили в дома
лоцманов и своих арендаторов. Они были практичны, всегда
чем-то заняты — строили лодки, кормили кур — и лишены че-
столюбия. Один из них задолго до моего рождения сконструи-
ровал пароход, и я давно уже стал взрослым, а шум его допо-
топного мотора, хрипевшего как астматик, все еще доносился с
Канала — его было слышно на много миль вокруг. Пароход вы-
строили на озере, а потом поволокли через город, для чего по-
надобилось множество лошадей, и он застрял у школы, где тогда
училась моя мать, заслонив от света окна и погрузив всю школу
во мрак на пять дней, так что пришлось заниматься при свечах; в
последующие годы его без конца чинили, продлевая ему жизнь, —
главным образом потому, что, как считалось, он приносил удачу.
Его назвали по имени невесты его строителя — «Джаннет», что
быстро превратилось в более привычное «Дженет»; эта невеста
умерла, дожив до восьмидесяти с лишним лет, во времена моей
молодости, а при жизни была сущим наказанием для мужа из-
за своего буйного нрава. Еще один Мидлтон, бывший годом-
двумя старше меня, поразил меня тем, что щупал кур, опреде-
ляя, не собираются ли они снести яйцо. Их дома ветшали, в
теплицах были разбиты стекла, зато среди них был по крайней
мере один ясновидящий. К ним относились хорошо, но у них
не было ни гордости, ни сдержанности, ни чувства декорума и
порядка — той инстинктивной игры перед самими собой, что
отличает людей, вызывающих в народе восхищение.
Иногда бабушка брала меня с собой, когда посещала какую-
то старую леди, жившую в Слайго, у которой был сад, спускав-
шийся к реке до низкой стены, покрытой вьюнами, и я сидел на
своем стуле и очень скучал, пока старшие угощались кексом с
тмином и пили херес. Со слугами гулять было интереснее; ино-
гда нам встречалась девочка-толстушка, и слуга уговорил меня
написать ей любовное письмо, а в следующий раз она, встре-
тившись с нами, показала язык. Но меня больше всего интере-
совали рассказы слуг. На таком-то углу один человек получил
шиллинг от сержанта-вербовщика, стоя в бочке, а потом выка-
рабкался из нее и показал свои искалеченные ноги. А в таком-то
доме старуха спряталась под кроватью своих гостей, офицера и
его жены, и, услышав, как они ее ругают, побила их метлой.
147
У всех известных семейств были свои гротескные, трагические
или романтические легенды, и я часто говорил себе, как ужасно
будет уехать и умереть там, где никто не знает моей истории.
Многие годы спустя, в Лондоне, когда мне было десять или
двенадцать лет, я вспоминал Слайго со слезами, а когда начал
писать, то надеялся найти своих читателей именно там. Рядом
с «Мервиллем», домом, где я жил, был еще один дом, окружен-
ный деревьями, и я иногда ходил в гости к мальчику, время от
времени приезжавшему туда к своей бабушке, имя которой я
забыл и которая казалась мне доброй и радушной, хотя когда я
пошел навестить ее уже лет тринадцати-четырнадцати от роду,
то понял, что она любила только совсем маленьких мальчиков.
Когда к нам приходили гости, я прятался на сеновале и лежал
там за большой охапкой сена, в то время как слуга звал меня,
выйдя во двор.
Я не знаю, сколько мне было лет (поскольку все эти собы-
тия происходили, кажется, в одно и то же время), когда меня
напоили пьяным. Я плавал на яхте с дядей и кузенами, и на-
чалось сильное волнение. Я лежал на палубе между мачтой и
бупшритом, и на меня обрушилась волна, и я увидел у себя над
головой зеленую воду. Я был очень горд этим и совершенно
промок. Когда мы вернулись в Россес, меня переодели в одежду
мальчика старше меня, так что брюки закрывали мне сапоги,
и один лоцман дал мне немного неразбавленного виски. Ког-
да мы ехали домой, я сидел на империале и был так доволен
странным состоянием, в котором оказался, что, несмотря на все
старания дяди утихомирить меня, кричал всем прохожим, что
я пьян, и продолжал кричать до самого дома, и утихомирился
только когда бабушка уложила меня в кровать и дала мне какое-
то питье, имевшее вкус черной смородины, и тогда я заснул.
III
На расстоянии шести миль от дома по направлению к Бен-
Балбену, за Кавалои, как называют протоку между Слайго и Рос-
сес, образованную приливом, на вершине холма стоял двухэтаж-
ный домик, увитый ползучими растениями, с садом, где были
самые большие из виденных мной живые изгороди из самшита и
где я впервые увидел багряную стрелку гладиолуса и с волнением
ожидал, когда она расцветет. В одном месте у дома темные зарос-
ли низких деревьев образовали укромный, таинственный уголок,
где я играл и воображал разные приключения. В этом доме жила
моя двоюродная бабушка Микки. На самом деле ее звали не Мик-
148
ки, а Мэри Йейтс; ее отец, мой прадед Джон Йейтс, был приход-
ским священником Драмклиффа — деревни, расположенной еще
на несколько миль дальше, — и умер в 1847 году. Это была су-
хощавая, румяная пожилая женщина; у нее была такая старая
кошка, каких я никогда не видел: ее когда-то белая шерсть по-
желтела и висела спутанными космами. У Мэри была ферма,
землю обрабатывал единственный старый слуга, но ей было
бы не под силу содержать ферму, если бы соседи-фермеры не
помогали ей собирать урожай — в качестве платы за поль-
зование ее земледельческими орудиями и «из уважения к се-
мье», поскольку, как сказал мне Джонни МакГерк, парикмахер
в Слайго: «Йейтсы всегда были очень респектабельны». Она
знала всю историю рода; все ее столовые ножи были заостре-
ны как кинжалы из-за частой чистки, и у нее был маленький
молочник времен Якова I, с гербовым знаком и девизом Йе-
йтсов, а над камином в столовой стоял красивый серебряный
кубок, принадлежавший моему прапрадеду, который женился
на некоей Мэри Батлер. На кубке был гербовый знак Батлеров,
и он был старинным уже в 1534 году, когда на краю были вы-
гравированы инициалы каких-то жениха и невесты. Вся его
история на протяжении многих поколений была изложена на
пожелтевшем от времени листке бумаги, свернутом в трубоч-
ку и вложенном в кубок, но как-то один из гостей разжег этой
бумажкой свою трубку.
Еще одна семья Иейтсов, состоявшая из вдовы и ее двух
детей, которых я иногда навещал вместе с бабушкой, жила по-
близости, в длинном и приземистом коттедже; у них был очень
свирепый индюк, который нападал на гостей; а в нескольких
милях от них жил мой двоюродный дедушка Мэт Йейтс — се-
кретарь большого жюри и земельный агент — и его большая
семья, сыновья и дочери; но я думаю, что как следует позна-
комился с ними позже. По-моему, никто из них не любил Под-
лексфенов, которые были зажиточны и, как им казалось, кичи-
лись своим богатством, в то время как род Йейтсов обеднел.
По моим воспоминаниям, они были очень воспитанны и очень
набожны — они были евангелистами — и очень гордились
старыми семейными историями тетушки Микки. Среди наших
предков был один из генералов герцога Мальборо; когда его
племянник пришел к нему на обед, он предложил ему вареную
свинину, а когда тот сказал, что терпеть не может вареную сви-
нину, он снова пригласил его на обед, пообещав, что пригото-
вит что-нибудь по его вкусу. Однако он снова предложил варе-
ной свинины, и племянник понял намек и уже ничего не сказал.
Недавно, когда я возвращался домой из Америки, я встретил
149
одного из его потомков, связанного родством с нами только
через этого генерала, и он тоже не знал о нем ничего, кроме
истории про вареную свинину. У нас есть портрет этого генера-
ла, и он великолепно выглядит в доспехах и большом завитом
парике, а в надписи под портретом перечислено множество его
регалий, память о которых у нас не сохранилась. Если бы мы
были крестьянами, то могли бы сложить легенду о его жизни.
Другие мои предки тоже оставили след в ирландской истории:
один спас жизнь Сарсфилду в битве при Седжмуре; в благодар-
ность за это Сарсфилд спас жизнь его родичу, взятому в плен
войсками короля Якова; еще один Йейтс, столетие спустя, под-
нял дворян Мита против местной «жакерии» и был застрелен
на деревенской дороге, а другой «две недели гнался за «объ-
единенными ирландцами», попал в их руки и был повешен».
Печально известный майор Серр, который арестовал лорда
Эдварда Фиццжеральда и смертельно ранил его выстрелом, от-
чего тот скончался в тюрьме, был крестным отцом нескольких
детей моего прапрадеда; с другой стороны, мой прадед дружил
с Робертом Эмметом, был на подозрении у властей и попал в
тюрьму, правда, всего на несколько часов. Один мой двоюрод-
ный дед пал в битве при Новом Орлеане в 1813 году, а другой,
ставший губернатором Пенанга, командовал передовым удар-
ным отрядом при взятии Рангуна, и даже в самом последнем
поколении были люди, обладавшие некоторой властью и воз-
можностью жить в свое удовольствие. Один старик, который на
своем веку принимал многих знаменитых людей в своем доме,
выстроенном в XVIII веке, с бойницами и башнями, указываю-
щими на влияние Горацио Уолпола, совсем недавно, потеряв
все свои деньги, утопился, сняв перед тем все свои кольца, це-
почку и часы, как пристало коллекционеру прекрасных вещей;
и однажды в Россес зашла канонерка под командованием не-
законного сына какого-то двоюродного деда — напоминание о
жизни, в которой есть место страстям. Теперь, когда я смотрю
на их миниатюрные портреты, переворачиваю их и читаю на
обороте имя воина, юриста или государственного чиновника и
думаю, любили ли они хорошие книги и хорошую музыку, я
радуюсь всему, что соединяет мою жизнь с теми, кто обладал
властью в Ирландии, или с теми, кто верно служил и получал
скудную награду, — но в детстве я совсем не интересовался
рассказами Микки. Я видел, как корабли деда заходят в залив
или в реку, и его матросы относились ко мне с почтением, а
корабельный плотник делал для меня и чинил игрушечные ко-
раблики, и я считал, что никто не может быть главнее деда. Воз-
можно также, что только сейчас я стал ценить те, более мягкие,
150
натуры, так непохожие на него, с его горячностью и необуздан-
ностью. Старый священник из Слайго рассказал мне, как мой
прадед Джеп Йейтс всегда гремел ключами, идя в кухню, чтобы
не застать врасплох слуг за каким-нибудь недозволенным за-
нятием. Я узнал историю и о том, как управляющий имением
крупного помещика водил Джона Йейтса из дома в дом, чтобы
тот убедил крестьянок послать детей в протестантскую школу.
Все обещались это сделать, но одна закричала: «Мой ребенок
никогда не переступит твоего порога». — «Спасибо, милая, —
сказал он, — ты первая правдивая женщина, какую я встретил
сегодня». Мой дядя Мэт Йейтс, земельный агент, однажды це-
лую неделю подкарауливал ночами мальчишек, воровавших у
него яблоки, а когда поймал их, дал им шесть пенсов и велел
больше так не делать. Может быть, это только моя фантазия
или причиной тому мягкая манера художника-миниатюриста,
но я вижу в лицах моих предков учтивость и большую добро-
ту. Два лица XVIII века (одно из них — лицо прапрадеда), в
обрамлении завитых и напудренных париков, более всего ин-
тересуют меня, потому что они исполнены почти женственного
очарования, и когда я гляжу на них, то кажусь себе неуклюжим
и тяжеловесным. Но именно одному из Йейтсов принадлежит
единственная похвала, которая способна вскружить мне голо-
ву: «Мы люди идей, а не страсти, но, породнившись с Поллек-
сфенами, мы научили говорить прибрежные скалы».
Среди миниатюр есть один портрет побольше, замечатель-
ный рисунок неизвестного мне мастера, изображающий че-
ловека, который слишком грубоват и жизнерадостен для этой
компании. Это родич и близкий друг моей прабабки Корбет, и,
хотя мы, дети, называли его «дядя Битти», он не был в кровном
родстве с нами. Моя прабабка, умершая в возрасте девяноста
трех лет, много о нем рассказывала. Он был другом Голдсми-
та и, хотя был священником, часто хвастал, что принадлежит к
охотничьему клубу, все члены которого, кроме его самого, были
повешены или сосланы за государственную измену, и что на
любой вопрос он может ответить совершенно подходящим к
случаю богохульством кли непристойностью.
IV
Поскольку мне было трудно отвлекаться на что-то менее ин-
тересное, чем мои мысли, меня было трудно учить. Несколько
моих дядьев и теток пытались научить меня читать, а поскольку
им это не удавалось и поскольку я давно миновал тот возраст,
151
когда дети с легкостью учатся читать, то они решили, как я по-
том узнал, что я умственно неполноценный. Если бы не случай-
ность, они долго продолжали бы так думать. В это время мой
отец тоже приехал погостить в дом деда; он совсем не ходил в
церковь, и это придало мне мужества в одно воскресное утро
отказаться идти на службу. Я часто молился, у меня выступали
на глазах слезы при мысли о Боге и о моих грехах, но я нена-
видел церковь. Бабушка пыталась научить меня ступать носка-
ми при ходьбе, наверное потому, что я тяжело ступал на пятки,
и это лишало хождение в церковь всякого удовольствия. Впо-
следствии, когда я научился читать, я получил удовольствие
от слов гимнов, но не понимал, почему хор доходил до конца
втрое медленнее, чем я, и та часть службы, которую я любил,
проповедь и отрывки из Апокалипсиса и Экклезиаста, не ком-
пенсировала все эти повторы и усталость от долгого стояния.
Отец сказал, что, если я не пойду в церковь, он будет учить
меня читать. Я теперь думаю, что из уважения к бабушке он
хотел, чтобы я ходил в церковь, и не мог придумать никакого
другого способа, чтобы заставить меня это сделать. Он оказал-
ся сердитым и нетерпеливым учителем и запустил учебник мне
в голову, и в следующее воскресенье я решил пойти в церковь.
Однако отцу стало интересно научить меня читать, и он просто
передвинул урок на будний день и учил меня, пока не победил
мой рассеянный ум. По-моему, отец впервые ярко запечатлелся
в моем сознании всего за несколько дней до нашего первого
урока. Он только что приехал из Лондона и ходил взад-вперед
по детской. У него была очень черная борода и волосы, а на
щеке желвак — из-за винной ягоды, которая была положена на
больной зуб, чтобы снять боль. Одна из нянек (мои братья и
сестры приехали из Лондона со своей няней) сказала другой,
что, как она слышала, лучше всего приложить к зубу живую
лягушку. Потом меня отдали в школу для маленьких, где на-
чальницей была пожилая женщина, которая строила нас ряда-
ми; у нее была длинная палка, вроде бильярдного кия, чтобы
доставать ею до задних рядов. Отец был еще в Слайго, когда
я вернулся с первого урока, и он спросил, чему меня учили.
Я сказал, что меня учили петь, и он сказал: «Ну, спой», и я запел
тонким голоском:
Из мельчайших капель,
Зернышек песка —
Волны океана,
Мощь материка.
152
Тогда отец написал начальнице записку, чтобы меня больше
никогда не учили петь, и впоследствии говорил то же самое дру-
гим учителям. Вскоре приехала и надолго осталась моя старшая
сестра, и мы с ней ходили в двухэтажный домик, стоявший в
бедном квартале, где одна старая леди учила нас правописанию
и грамматике. Когда мы хорошо отвечали урок, нам разреша-
лось взглянуть на саблю, подаренную ее отцу, который воевал в
Индии или в Китае, и разбирать длинную похвальную надпись
на серебряных ножнах. Когда мы шли к ее дому или уходили
домой, мы вдвоем держали перед собой раскрытый большой
зонтик, глядя, куда идти, через круглую дырку, прогрызенную
мышью. Когда специальные книги для чтения, составленные
из односложных слов, стали для меня слишком просты, я начал
проводить время в комнате, называвшейся библиотекой, хотя
не помню никаких книг, кроме старинных романов, которые я
ни разу не открыл, и многотомной энциклопедии, вышедшей в
конце XVIII века. Я прочел множество статей в этой энцикло-
педии и до сих пор помню большой пассаж, где рассматривался
вопрос о том, не является ли окаменелое дерево, несмотря на
свою внешность, только камнем причудливой формы.
Поскольку отец был неверующим, я стал искать доказа-
тельств, свидетельствующих в пользу религии, и постоянно
думал об этом с большой тревогой, так как полагал, что не
смогу жить без религии. Испытывая религиозные чувства, я,
по-моему, всегда мысленно видел перед собой облака или ярко-
голубое небо с облаками, возможно, благодаря какой-нибудь
иллюстрации в Библии — например, изображающей Бога, ко-
торый говорит с Авраамом. По крайней мере, я помню зрелище,
тронувшее меня до слез. В один прекрасный день я получил
решающий аргумент в пользу веры. На ферме вот-вот должна
была отелиться корова, и я пошел на поле, где она была, с ра-
ботниками, которые держали фонарь, а на следующий день я
услышал, что рано утром корова отелилась. Я спрашивал всех,
как рождаются телята, а так как никто мне не сказал этого, то
я решил, что никто и не знает. Ясно было, что телята — Божий
дар, но было ясно и то, что никто еще не посмел увидеть, как
они появляются на свет, и дети, должно быть, появляются так
же. Я решил, что когда буду взрослым, то обязательно увижу,
как появляются телята и дети. Я был уверен, что приплывет
облако, будет вспышка света, и Бог вынесет теленка из света
в этом облаке. Эта мысль принесла мне удовлетворение, но
только до тех пор, пока один мальчик двенадцати-тринадцати
лет, который приехал к нам в гости на день, усевшись рядом
со мной на сеновале, не рассказал мне подробно о механизме
153
секса. Он узнал об этом от старшего мальчика, чьим «патиком»
он был (употребляя термин, которого бы он не понял), и его
описание — звучавшее, насколько я теперь понимаю, так, будто
речь шла о самом обычном факте физической жизни,— сделало
меня несчастным на многие недели. Когда первое впечатление
притупилось, я стал сомневаться в правде его слов, но однаж-
ды нашел в энциклопедии пассаж, который, хотя я лишь частич-
но понял все эти длинные слова, подтвердил то, что он сказал.
Я был недостаточно осведомлен, чтобы меня шокировали его
отношения со старшим мальчиком, но сон детства был впервые
нарушен. Осознание смерти пришло ко мне, когда отец, мать и
мои два брата и две сестры гостили в доме деда. Я был в би-
блиотеке и услышал топот ног, и кто-то в коридоре сказал, что
мой младший брат Роберт умер. Он болел несколько дней. Не-
много позднее мы с сестрой сидели за столом, очень веселые, и
рисовали корабли с приспущенными до половины мачт флагами.
На следующий день за завтраком взрослые говорили, что моя
мать и служанка услышали крик духа смерти в ночь перед тем,
как умер брат. Должно быть, именно после этого я сказал бабуш-
ке, что не хочу идти с ней, когда она будет посещать старых, при-
кованных к постели больных, потому что они скоро умрут.
V
Наконец, когда мне было восемь или девять лет, одна из
тетушек сказала мне: «Ты поедешь в Лондон. Здесь ты персона.
Там ты будешь просто никто». Я знал в тот момент, что ее сло-
ва были направлены против моего отца, а не против меня, но
только через несколько лет я узнал причину. Она считала, что
такой способный человек, как мой отец, смог бы заставить себя
писать картины, рассчитанные на более массовый вкус, если
бы как следует этого захотел, и что с его стороны было нехоро-
шо «проводить каждый вечер в клубе». То, что она ошибочно
считала местом времяпрепровождения бездельников, было Ху-
дожественное училище Хезерли.
Возможно, мать, брат и сестра были в Слайго, когда
меня отправили в Англию, поскольку мы с отцом и группа
художников-пейзажистов жили в Бернам-Бичиз, в пансионе,
принадлежавшем старой чете мистеру и миссис Эрл. Мой отец
писал первый большой труд по дороге от Слау, если ехать через
Фарнем-Ройал. Он начал картину весной и продолжал писать
ее целый год, и она менялась вместе с временами года, и когда
он изобразил снег, лежавший на берегу, заросшем вереском, то
154
бросил ее писать. Он никогда не бывает доволен своей работой
и не может заставить себя сказать хоть про какую-то картину,
что она закончена. Вечером он проверял мои уроки или читал
мне Фенимора Купера. У меня бывали замечательные приклю-
чения в лесу — однажды я видел, как в яме, заросшей травой,
дерутся слепозмейка и гадюка, — и иногда миссис Эрл боялась
убирать мою комнату, потому что я поставил на камин бутыл-
ку, полную тритонов. Время от времени, на рассвете, мальчик с
фермы, стоявшей через дорогу, бросал камешком в мое окно, и
мы с ним шли ловить рыбу во втором большом пруду. Время от
времени мы с другим мальчиком с фермы стреляли воробьев из
старого, заряжавшегося дробью револьвера, и он жарил их на
вертеле. Там была старая лошадь, которую один из художников
прозвал Каркасом, и иногда сын старого Эрла запрягал ее и во-
зил меня в Слау, а один раз в Виндзор; в Виндзоре мы пообедали
холодными сосисками, купленными в трактире. Одиночество
не тяготило меня: я бродил по Бернам-Бичиз, заходя в частные
владения — тогда очень обширные, — и испытывая от этого
приятное ощущение риска, или гулял вокруг какого-нибудь
пруда, представляя себе корабли, пристающие и отчаливающие
от берега, среди камышей, и думая о Слайго и о необычайных
приключениях на том замечательном корабле, которым я буду
командовать, когда вырасту. Вечерами мне всегда надо было
учить уроки, и это было постоянное мучение: мне так много
надо было помнить, что я очень редко мог сосредоточиться на
уроке — и то лишь из страха. Как-то раз отец передал мне слова
одного художника — что я очень толстокожий и равнодушен к
тому, что мне говорят, и я не мог понять, как можно быть таким
несправедливым. Я страдал от своей лени, но ничего не мог
с этим поделать. Однажды я испытал удивление и шок. Все,
кроме меня и отца, поехали в Лондон; вернувшись, Кеннеди,
Фаррар и Пейдж — я смутно помню их имена — смеялись и
болтали. Один из них унес листок с библейскими текстами из
зала ожидания станции и повесил его на стену. Я подумал: «Он
его украл», но для отца и всех остальных это был предмет ве-
селого разговора.
Потом я на несколько недель вернулся в Слайго — и на-
чиная с этого времени ездил туда раз или два в год в течение
Многих лет, — и после этого мы поселились в Лондоне. Воз-
можно, моя мать и остальные дети уже давно жили там, по-
скольку я теперь припоминаю, что отец время от времени ез-
дил в Лондон. Первый дом, в котором мы жили, был вблизи от
дома Бёрн-Джонса в Норт-Энде, но через год-два мы переехали
в Бедфорд-Парк. В нашем саду в Норт-Энде росло грушевое
155
дерево, и на нем было множество груш, но они обычно были
червивые, а почти напротив нас жил учитель по имени О'Нил,
и когда один мальчик сказал мне, что прадед этого учителя был
королем, я в этом не усомнился. Я как-то сидел у живой изго-
роди и решетки сада у одного из домов в Норт-Энде и услы-
шал, как один мальчик сказал другому, что у меня смуглая кожа
из-за болезни печени и что я проживу не больше года. Я сказал
себе: «Год — это большой срок, за год можно многое успеть
сделать» — и выбросил это из головы. Когда отец делал пере-
рыв в наших с ним занятиях и позже, когда у меня были кани-
кулы, я отправлялся со своей игрушечной шхуной на Круглый
пруд и пускал ее плавать — обычно рядом с двумя шлюпками,
принадлежащими старому морскому офицеру. Он, бывало, смо-
трел на уток и говорил: «Вот эта была бы хороша на обед» и
пел мне матросскую песню о «корабле-гробе», который отплыл
из Слайго после «великого голода», и я чувствовал себя очень
важной персоной. Слуги в Слайго рассказывали мне эту исто-
рию. Когда корабль снялся с якоря, на поверхность всплыло
тело неизвестного человека — очень зловещее предзнаменова-
ние, — и мой дед, бывший представителем компании Ллойда,
не разрешил выход в море, но корабль отошел под покровом
ночи. Вокруг пруда создавались свои легенды; один мальчик,
который видел, как модель парохода «сгорела до самой ватер-
линии», был знаменитостью, и его дружбы очень добивались.
Был один мальчик, к которому я был очень внимателен, потому
что слышал, что его отец совершил нечто постыдное, хотя я
не знал, что именно. Много лет спустя я выяснил, что его отец
был просто автором скульптур в общепринятом вкусе, многие
из которых сейчас стоят в публичных местах. Мнение о нем
я слышал от друзей отца. Иногда со мной гуляла сестра, и по
дороге домой мы смотрели на витрины всех кондитерских и
всех магазинов игрушек, особенно того, который был напротив
Холланд-Хаус, потому что в его витрине была модель шлюпки,
сделанная из сахара, и пили воду из всех фонтанчиков. Однаж-
ды с нами заговорил незнакомец, и купил нам конфет, и дошел
с нами почти до самого дома. Мы пригласили его войти и назвали
фамилию нашего отца. Он не захотел войти, но засмеялся и сказал:
«А, это тот художник, который каждый день соскребает то, что
написал накануне». Недавно, когда я проходил мимо питьевого
фонтанчика недалеко от Холланд-Парка, на меня нахлынули вос-
поминания, потому что на этом месте мы с сестрой говорили о
том, как мы тоскуем по Слайго и как ненавидим Лондон. Мы тогда
почти расплакались, и я вспоминаю — с удивлением, поскольку
ребенком никогда не слышал о подобных сувенирах, — что меч-
156
тал иметь кусок дерна с какого-нибудь известного мне поля,
какую-то частицу Слайго, которую можно было бы потрогать
руками. Это был какой-то древний инстинкт рода, вроде ата-
визма, потому что в нас воспитывали ироническое отношение
ко всяким проявлениям эмоций. Но именно мать, которая соч-
ла бы открытое проявление этой любви к Слайго вульгарной,
поддерживала ее в нас. Она могла часами слушать или рас-
сказывать истории о лоцманах и рыбаках Россес-Пойнт или о
ее собственных детских годах в Слайго, и так же, как мы, она
была убеждена, что прекраснее Слайго нет ничего. Я теперь по-
нимаю, что она отличалась большой глубиной чувств, что она
была истой дочерью своего отца. Мои воспоминания о ней, от-
носящиеся к тому времени, очень туманны, но думаю, что ее
ощущение собственного «я», желание самостоятельной жиз-
ни растворились в заботах о нас и в тревоге из-за безденежья.
Я всегда вижу ее в моих воспоминаниях за шитьем или вяза-
ньем, в очках и в скромном платье. Однако десять лет назад,
когда я был в Сан-Франциско, со мной пришел повидаться один
старый калека, уехавший из Слайго до ее замужества; он при-
шел сказать мне, что моя мать «была самой красивой девушкой
в Слайго».
Я выучивал урок только тогда, когда со мной занимался
отец, потому что он пугал меня, живописуя мою моральную
деградацию, и уничижительно сравнивал меня с разными не-
приятными людьми; но вскоре меня отдали учиться в школу
в Хэммерсмите. Это было здание из желтого кирпича в готи-
ческом стиле: большой зал, заставленный партами, несколь-
ко небольших классных комнат и отдельный дом для пан-
сионеров — все это было выстроено, наверно, в 1860 или в
1870 году. Я считал, что это древнее здание, принадлежавшее
основателю школы лорду Годольфину, который был для меня
романтической фигурой, так как о нем был написан роман.
Я его никогда не читал, но полагал, что в книгах могут быть
только романтические герои. По одну сторону от школы была
фабрика роялей, тоже из желтого кирпича, с двух других сто-
рон — наполовину застроенные ряды мелких лавок и жилых
домов, все тоже из желтого кирпича, а с четвертой стороны, за
стеной нашей спортивной площадки, — территория кирпич-
ного завода, где были горы золы и штабеля полуобожженных
желтых кирпичей. Фамилии и лица всех моих соучеников из-
гладились у меня из памяти; я помню только одну фамилию,
не помня лица, и лицо и фамилию моего друга, — без сомне-
ния, главным образом оттого, что это было так давно, но так-
же и потому, что, по-моему, я запоминаю только нечто само
157
по себе драматическое или как-то связанное с незабываемыми
местами.
Первые несколько дней, возвращаясь домой по
Хэммерсмит-роуд, я говорил себе, что для меня теперь недо-
стижимо то, что я больше всего люблю. Я нашел книжечку в
зеленой обложке, подаренную моему отцу одним дублинским
ученым; в ней описывались странные морские существа, ко-
торых он обнаружил среди скал в Хоуте или выловил сетью
в Дублинском заливе. Долгое время это была моя любимая
книга, и когда я читал ее, то казался себе очень умным, но
теперь, думал я, у меня не будет времени ни на нее, ни на
мои собственные мысли. Я только и буду учить или отве-
чать уроки или ходить между школой и домом четыре раза
в день (поскольку я приходил домой в середине дня, чтобы
пообедать). Но вскоре я забыл о своих опасениях, увлечен-
ный тем, чего я раньше никогда не знал: дружбой и враждой.
В первый же день после уроков, на спортивной площадке,
мои соученики окружили меня и стали задавать вопросы:
«Кто твой отец?», «Чем он занимается?», «Сколько у него
денег?». Потом один мальчик сказал что-то оскорбительное.
До этого я ни разу никого не ударил и никто не ударил меня,
и вот, в одну минуту, без всякого намерения с моей стороны,
словно меня дернули за веревочку, как марионетку, я набро-
сился с кулаками на тех, кого мог достать, а они стали коло-
тить меня. После этого меня стали дразнить из-за того, что я
ирландец, и я много дрался, но в течение нескольких лет ни
разу не мог победить своих обидчиков: я был болезненным,
и у меня совсем не было мускулов. Однако иногда я находил
способ отомстить, даже напасть. Там был один мальчик, от-
личавшийся широким шагом, которого очень боялись млад-
шие, и вот, увидев его одного на спортивной площадке, я по-
дошел к нему и сказал: «Сено-солома». — «Что ты хочешь
сказать?» — спросил он, и я объяснил ему, что в Ирландии
сержанты привязывают к ногам тупых рекрутов сено и соло-
му, чтобы те отличали правую ногу от левой. Он надавал мне
затрещин, а когда я пожаловался моим друзьям, они сказали,
что я сам виноват и так мне и надо. Вероятно, я осмеливался
на подобные подвиги, поскольку не находил в англичанах ни
ума, ни хороших манер — исключение составляли художни-
ки. Все, кого я хорошо знал в Слайго, презирали национа-
листов и католиков, но и к Англии испытывали неприязнь,
унаследованную, возможно, от времен ирландского парла-
мента. Я знал истории, дискредитирующие Англию, и верил
им безусловно. Моя мать как-то встретила одну англичан-
158
ку, сказавшую, что не любит Дублин, так как у мужчин там
слишком стройные ноги, а в Слайго, как было известно всем,
один англичанин как-то сказал кучеру: «Если бы вы тут не
были такими лентяями, то срыли бы гору и разровняли бы
грунт поверх песка, и это дало бы вам многие акры пре-
красной земли». В Слайго у реки широкое устье, и во время
отливов оно превращается в сухое песчаное ложе, но весь
Слайго знал, что каким-то образом — я забыл как — прилив,
наполняющий устье водой, делает наш узкий Канал пригод-
ным для судоходства. Во всяком случае, кучер со смехом рас-
сказывал эту историю по всему Слайго. Люди приводили ее
в доказательство того, что англичане вечно чем-то недоволь-
ны: «Они недовольны и обедом, и всем на свете, — был тут
один англичанин, который хотел срыть Нок-на-Рей», и так
далее. Мать обратила мое внимание на то, как они целуются
на вокзалах, и воспитывала во мне отвращение к такой не-
сдержанности, а отец рассказал историю, которую слышал от
моего деда, Уильяма Иейтса (умершего до моего рождения),
когда тот вернулся из Англии в свой приход в графстве Даун:
дед встретил на дороге одного человека, который «как истый
англичанин» тут же поведал ему обо всех своих делах. Отец
объяснил, что англичане обычно считают, что могут гордить-
ся состоянием своих дел, в то время как ирландцы, которые
обычно бедны, а то и в долгах, не имеют такой уверенности.
Однако я не верил этому объяснению. Мои няни в Слайго,
которые, скорее всего, ненавидели англичан так, как могут
ненавидеть только ирландские католики, никогда не гово-
рили доброго слова ни об одном англичанине. Как-то, гуляя
по Слайго, я обернулся, чтобы посмотреть на чету англичан,
чей наряд привлек мое внимание. Как я помню, мужчина был
весь в сером, в штанах до колен, а женщина — в сером пла-
тье, и моя няня презрительно сказала: «Тоу-роу» — возмож-
но, потому, что когда-то была английская песня с припевом
«тоу-роу-роу»; все говорили мне, что англичане едят скатов
и даже налимов, а я сам, только что приехав в Англию, ви-
дел, как один старик положил себе в овсянку джема.
Меня и всех остальных ребят, учившихся в этой школе,
разделяли не только подобные анекдоты — которые, возможно,
существуют везде как выражение недоверчивости между раз-
ными нациями; различными были и образы, запечатленные в
нашем сознании. Я читал английские книги для детей, и они
меня увлекали, но если я читал о какой-нибудь английской по-
беде, то не ощущал ее как победу моей нации. Они помнили о
битвах при Креси и Азенкуре и об английском флаге и все были
159
большими патриотами, а я, не испытывая тех чувств, что вол-
новали ирландцев-католиков, при мысли о Лимерике и Желтом
броде, думал о своей горе и об озере, о дедушке и о кораблях.
Антиирландские настроения в Англии тогда очень усилились,
поскольку образовалась Земельная лига, и были случаи убий-
ства помещиков, и я, не имея политических убеждений, все
же испытывал большую гордость, потому что жить в опасной
стране — романтично.
Скорее всего, я считал грубые нравы этой третьесортной
школы типичными для всей Англии, подобно тому как мой
дед Йейтс воспринял дурные манеры случайного знакомого.
Во всяком случае, меня постоянно задирали, я был вечно в
синяках и часто взрывался от отчаяния или гнева. Как-то раз
один парень, сын знаменитого изготовителя богемского стекла,
который был старше всех нас и был выслан из своей страны
из-за любовной истории, отколотил моего обидчика, потому
что «мы оба иностранцы». А мальчик, который стал лучшим
спортсменом школы и моим ближайшим другом, колотил из-за
меня многих. Это его лицо и фамилию я помню — фамилия
у него была гугенотского происхождения, а в чертах смуглого
лица и в гибкой фигуре проглядывало нечто, придававшее ему
сходство с индейцем.
Я очень боялся многих соучеников и поэтому впервые
усомнился в самом себе. Когда я собирал кусочки дерева для
будущего большого корабля, то был уверен, что сохраню спо-
койствие посреди штормов, а когда настанет великая битва, то
погибну сражаясь. Но теперь мне было стыдно за свою тру-
сость: ведь я хотел быть таким, как мой дед, который так мало
думал об опасности, что, будучи в Бискайском заливе, прыгнул
за борт за старой шляпой. Я очень боялся физической боли; од-
нажды, когда я шумел на уроке, в этом обвинили моего друга-
спортсмена, и я сознался только тогда, когда учитель два раза
ударил его тростью. Он вытянул руки, подставив их под уда-
ры, не дрогнув, и после не тер их, чтобы утишить боль. Меня
учитель не бил, но заставил стоять до конца урока. После я
очень страдал, когда вспоминал об этом, но мой друг ни разу
не упрекнул меня.
В последний раз я дрался, когда пробыл в школе уже не-
сколько лет. Благодаря моему другу-спортсмену меня мно-
го месяцев никто не трогал, но в конце концов он сказал,
что больше не будет драться из-за меня и что мне нужно
научиться боксу, а пока не научусь, не подходить к другим
ребятам. Я каждый день ходил к нему домой и тренировал-
ся в его комнате, и наши матчи всегда кончались одинако-
во
во. Поскольку я был легковозбудим, это сначала давало
мне преимущество, и я преследовал его по всей комнате, а
потом он переходил в наступление, и дело обычно конча-
лось для меня разбитым носом. Однажды его отец, пожи-
лой банкир, вывел нас в сад и попробовал научить драть-
ся вежливо и хладнокровно, но из этого ничего не вышло.
В конце концов мой друг сказал, что теперь я снова могу
подходить к ребятам, и вот, не успел я выйти на спортив-
ную площадку, как один из них швырнул в меня ком грязи и
крикнул: «Бешеный ирландец!» Я несколько раз ударил его
в лицо, сам не получив ни одного удара, и в конце концов
ребята, собравшиеся вокруг, сказали, что мы должны поми-
риться. Я протянул ему руку с опаской, потому что знал, что
если мы продолжим поединок, то он меня побьет, и он не-
хотя пожал ее. У меня как у драчуна была такая плохая репу-
тация, что для него это стало большим позором, и даже учи-
теля насмехались над его распухшим лицом; и хотя ко мне
явилась депутация младших ребят с просьбой поколотить
одного мальчика, я больше никогда не дрался в школе. Мы
много дрались с уличными мальчишками и с ребятами из со-
седней школы для бедных. Мы всегда побеждали, поскольку
нам не разрешалось кидаться камнями и поэтому мы были
сплочены или старались сплотиться. Старостам было велено
сообщать о каждом, кто дерется на улице, но они сообщали
только о тех, кто кидался камнями. Я всегда бегал по пятам за
спортсменом, но ни разу никого не ударил. Мой отец считал
эти драки дурацким занятием, как раз достойным англичан,
и поэтому я не мог разозлиться до того, чтобы мне нравилось
наносить и получать удары; кроме того, мой друг обращал
наших неприятелей в бегство. Он не задумываясь обрушивал
на них всю силу своих кулаков, считая, что подлого врага
надо бить как можно чаще, и действительно, нам было за что
мстить: одного из наших учеников убили снежком, внутри
которого был спрятан камень. Иногда наша сторона терпела
неприятности от родителей наших противников. Спортсмен
как-то поссорился со старым немцем, владельцем парикма-
херской, мимо которой мы проходили каждый день по пути
из школы, и однажды наш спортсмен плюнул в окно и попал
немцу на лысину — плеваться старосты не запрещали. Немец
погнался за нами, но, когда спортсмен остановился и встал
в боксерскую стойку, тот ушел. Хотя я знал, что плеваться
нехорошо, мое восхищение другом еще больше возросло.
Я разнес весть о его подвиге по всей школе, а на следующий
день был большой переполох: во время урока кто-то увидел,
161
что старый немец идет по двору, направляясь к кабинету ди-
ректора. Вскоре в коридоре раздался такой шум, что даже
наш учитель не мог не обратить на него внимание. Оказа-
лось, что это рыжий брат директора выгоняет немца и кричит
слуге: «Смотрите, чтобы он не украл пальто!» Как мы потом
узнали, он спросил фамилии тех двух учеников, которые каж-
дый день проходят мимо его окна, и ему назвали имена двух
наших старост, которые тоже проходили там, но были всем из-
вестны своими безупречными манерами. Однако мой друг тоже
проявлял робость, и это вернуло мне уверенность в себе. Он
часто просил меня купить ему конфет или лимонада, потому
что иногда боялся заговаривать с незнакомыми людьми.
У меня была одна лестная репутация. Вначале, когда я хо-
дил с другими ребятами в Хэммерсмитский бассейн, я боялся
нырять до тех пор, пока не опускался по лестнице в воду до
бедер; но однажды, когда я был один, я упал с высоты в пять-
шесть футов. После этого я нырял с большей высоты, чем дру-
гие, и плавал под водой, а вынырнув, делал вид, что не задо-
хнулся. Когда я участвовал в соревнованиях по бегу, я тоже не
показывал вида, что устал или запыхался. В этом у меня было
преимущество даже перед спортсменом, поскольку, хотя он бе-
гал быстрее и уставал меньше всех, он очень бледнел от бега; и
я часто слышал похвалы. Я часто бегал вместе с моим другом,
когда он тренировался, чтобы составить ему компанию. Он да-
вал мне большую фору и скоро догонял меня.
Я следил за успехами одного профессионального бегуна
на протяжении месяцев, специально покупая газеты. В одной
статье его назвали «яркой и особенной звездой американского
спорта», и эта замечательная фраза придала ему в моих глазах
ореол очарования. Если бы его назвали особенно яркой звездой,
я был бы к нему равнодушен. Я еще долгие годы не понимал,
что это определенный симптом. Я лелеял свою собственную
мечту, достаточно обычную для школьника, хотя уже и собирал
обломки гнилого дерева. Часто, вместо того чтобы учить уроки,
я изрисовывал карандашом и чернилами белые клеточки шах-
матной доски, изображая себя совершающим разнообразные
подвиги. Отец как-то сказал: «На корабле Нельсона был один
человек, корабельный казначей, который поседел после Тра-
фальгарской битвы; какая тонкая натура! на какие свершения
он был бы способен!» Я был раздосадован и смущен, и сейчас я
так же смущен и раздосадован, думая, как это скверно и абсур-
дно, что мы, силою воображения создавшие стольких велико-
лепных людей, не властны над своей плотью.
162
VI
Директор школы был священник, человек с легким и до-
бродушным характером, несомненно, такой же умеренный в
своей религиозности, как и во всем остальном; если он и был
способен лишиться сна из-за нас, то беспокоить его могло толь-
ко одно — чтобы мы выглядели джентльменами. Однажды я
впал в немилость, потому что пришел в школу в костюме из
ярко-синей домотканой шерстяной саржи, который моя мать
купила в Девоншире, и мне было приказано больше никогда
не надевать его. Директор несколько раз пытался, хотя, должно
быть, понимал, что это безнадежно, убедить наших родителей
одеть нас в итонские костюмы, а по определенным дням нас за-
ставляли носить перчатки. После того как я проучился там год,
нам запретили играть в камешки, сказав, что это азартная игра,
в которую играют плохие мальчики, а еще через несколько ме-
сяцев нам было велено не класть ногу на ногу на уроках. В этой
школе учились сыновья образованных людей из среднего клас-
са, чья карьера не удалась или только начиналась; когда учени-
ки узнали, что в школу поступил сын аптекаря, они устроили
собрание, где выразили свое возмущение (по-моему, сначала
его единственным другом был я); все мы делали вид, что наши
родители богаче, чем это было на самом деле. Я сказал маль-
чику, который часто видел, как моя мать вяжет или чинит мою
одежду, что она занимается этим ради удовольствия, хотя я-то
знал, что по необходимости.
Как я полагаю, наша школа была типичной для заве-
дений зтого типа, где царили отвратительные, грубые нра-
вы: старший мог ударить младшего в солнечное сплете-
ние и смотреть, как тот корчится от боли, — а некоторые
мальчики, еще слишком юные для сексуальных эмоций,
распевали грязные уличные песни, — но думаю, что эта
плохая школа подходила мне больше, чем хорошая. Я слы-
шал однажды, как директор спросил классного руково-
дителя: «Как такой-то успевает по греческому языку?»,
и тот ответил: «Очень плохо, но у него успехи в крике-
те», и тогда директор сказал: «Ну, оставьте его в покое».
Я не годился для школьных занятий, и, хотя я мог хорошо
заниматься в течение нескольких недель, мне приходилось
тратить целый вечер, чтобы выучить один урок. Мои мысли
очень занимали меня, но когда я пытался что-то из них вы-
строить, это было все равно, что упрятывать аэростат в ангар
при сильном ветре. Я всегда был одним из последних учени-
ков в классе и всегда находил отговорки, когда не знал урока,
163
что только увеличивало мою робость, но никто из учителей
не обращался со мной плохо. Было известно, что я коллекци-
онирую бабочек и что самая большая моя шалость — иногда
пронести в кармане и спрятать в парте старую бесхвостую
белую крысу.
Наша спокойная жизнь была нарушена только однажды,
когда на короткое время в школе появился учитель-ирландец,
знаток греческого и очень требовательный; он изумлял нас
своей манерой говорить. Урок он начинал словами: «Вот он
идет, вот он идет» и т. п., имея в виду директора, проходящего
в дальнем конце зала. «Конечно, эта школа никуда не годится.
Да и чего можно ожидать, если директор здесь — священник?»
И потом, бывало, его взгляд падал на меня, он поднимал меня с
места и говорил, что мне стыдно так лениться, поскольку всем
известно, что любой мальчик-ирландец способнее, чем целый
класс англичан, — изречение, за которое мне приходилось по-
том расплачиваться. Иногда он подзывал одного ученика с неж-
ным личиком, как у девочки, целовал его в обе щеки и говорил,
что на каникулы возьмет его с собой в Грецию, и вскоре мы
узнали, что он написал об этом родителям мальчика, но его уво-
лили задолго до каникул.
VII
В моей памяти возникают две картины. Я влез на дерево,
растущее на краю спортивной площадки, и смотрю сверху на
своих соучеников, и так горд собой, как мартовский петушок,
когда он первый раз в жизни кукарекает на рассвете. Я говорю
себе: «Когда я вырасту, если я буду настолько же умнее других
взрослых, насколько я умнее этих ребят, то буду знаменит».
Я напоминаю себе, как одинаково все они думают и как во
время предвыборных кампаний исписывают школьные сте-
ны фразами, которые их отцы вычитали в газетах. Я напоми-
наю себе, что я сын художника и должен посвятить всю свою
жизнь какой-нибудь работе, а не думать, как другие, о том,
чтобы разбогатеть и хорошо жить. Другая картина — это
комната в гостинице на Стрэнде и человек, сидящий согнув-
шись у камина. Это один из моих кузенов, который растра-
тил деньги другого кузена и бежал из Ирландии под угрозой
ареста. Отец привел нас, чтобы мы провели с ним вечер и
отвлекли от мук раскаяния, которые он, должно быть, испы-
тывал.
164
VIII
Бедфорд-Парк долго был для меня романтически-
волнующим местом. Когда мы еще жили в Норт-Энде, отец как-
то за завтраком объявил, что наша хрустальная люстра безобраз-
на и ее надо снять, а немного позже он описал нам «деревню»,
которую строил тогда Иормая Шоу. По-моему, он сказал: «Она
будет обнесена стеной, и туда не будут допускаться газеты».
А когда я встал в тупик, не увидев там ни стены, ни ворот, он
объяснил, что говорил о том, как надо было бы сделать. Мы по-
том увидели изразцы Де Моргана, двери сияющего синего цве-
та, гранатовый и тюльпановый орнаменты Морриса и поняли,
что нам всегда были противны двери, выкрашенные под древе-
сину, орнаменты из роз и плитки с геометрическими узорами,
словно вытряхнутыми из какого-то мутного калейдоскопа. Мы
стали жить в таком доме, какой видели только на картинках, и
даже встречали людей, одетых как персонажи сказок. Улицы
были не прямыми и скучными, как в Норт-Энде, но изгибались,
если на пути было, например, большое дерево или просто из
удовольствия изогнуться, а вместо железных решеток были де-
ревянные заборы. Новизна всего окружающего, пустые дома, в
которых мы играли в прятки, и странность всего этого создава-
ли такое ощущение, будто мы живем в игрушечном мире. Мы
воображали людей, живущих той счастливой жизнью, какая, по
нашим представлениям, была давным-давно, когда бедные хо-
дили в живописных одеждах, а хозяин дома рассказывал гостям
о чудесных приключениях за морями. К тому времени были вы-
строены только лучшие из домов этого квартала. Архитекторы-
ремесленники еще не начали штамповать свои вульгарные
копии, и, кроме того, мы знали только самые красивые дома,
дома художников. Я, две мои сестры и два брата брали уроки
танцев в невысоком доме из красного кирпича, крытом черепи-
цей, который был так хорош, что я отказался от своей давней
мечты — когда-нибудь поселиться в доме, где комнаты выгля-
дели бы точно как каюты. Обеденный стол, за которым мог бы
сидеть Синдбад-мореход, был сияюще-синего цвета, так же
были окрашены и деревянные панели, а оконная ниша на верх-
нем этаже была так велика и так высоко расположена, что к ней
шла отдельная лестница, а в самой нише стоял стол. Две сестры
хозяина дома, известного художника-прерафаэлита, учили нас
танцам; они и их старая мать были одеты в сияюще-синие пла-
тья такого простого покроя, что их можно было вообразить
персонажами любой сказки. Однажды, когда я с восхищением
смотрел на эту старую женщину, мой отец, который стал тог-
165
да испытывать влияние французской живописи, пробормотал:
«Только представь себе, что твоя мать будет ходить в таком на-
ряде в старости».
Друзьями моего отца были художники, которые в свое
время испытали влияние движения прерафаэлитов, но потом
отошли от него. Я помню имена Уилсона, Пейджа, Неттлшипа,
Поттера; их самих я помню лучше всего в тот период, когда мы
жили в Норт-Энде. Я часто слышал, как кто-нибудь из них го-
ворил, что Россетти так и не овладел своим материалом, и, хотя
Неттлшип уже стал изображать только львов, отец постоянно
вспоминал его рисунки, сделанные в юности, особенно один —
«Бог создает Зло»; отец читал письмо Россетти, где было ска-
зано, что «картины с более возвышенным замыслом не знало
ни древнее, ни современное искусство». В те ранние годы отец,
для того чтобы не отвлекаться от работы на светскую жизнь,
порвал фалду своего фрака; моя мать рассказывала, что однаж-
ды она зашила ее, но он распорол все швы. Изысканная картина
Поттера «Соня», которая теперь находится в Галерее Тейт, мно-
гие годы висела у нас в доме. Его самым близким другом была
красивая натурщица; в те годы, когда начинаются мои воспоми-
нания, она хотела поступить на работу в пансион. Помню, как
она сидит на краю постамента для натурщиц в студии отца в
Норт-Энде с книгою в руках, а отец проверяет у нее урок по
латинскому языку. Ее лицо — овальное, с мягкими чертами —
типично для живописи того времени и действительно могло по-
влиять на формирование идеала красоты. На днях, открыв том
«Земного рая», я увидел ее лицо — карандашный портрет, на-
рисованный на чистом листе. Через несколько лет, в Бедфорд-
Парке, я услышал, как Фаррар, которого я уже знал по Бернам-
Бичиз, рассказывает о смерти и похоронах Поттера. Поттер был
очень беден и умер из-за недоедания. Он так долго сидел на
одном чае с хлебом, что желудок у него ссохся — я уверен, что
было употреблено именно это слово, — а когда родственники
узнали об этом и стали его кормить как следует, было уже позд-
но. Фаррар был на похоронах и стоял позади каких-то явно за-
житочных людей, обступивших могилу, и видел, как один из
них указал на натурщицу, которая прошла пешком весь путь за
катафалком и теперь плакала, стоя в отдалении, и промолвил:
«Эта женщина забрала все его деньги». Она много раз умоляла
Поттера разрешить ей заплатить его долги, но это было беспо-
лезно. Вероятно, его богатые друзья винили в его смерти бедных
друзей, а те — богатых, а я думаю, что ему не помогли, потому
что никто из них не знал истинного положения вещей. Кроме
того, как я слышал, у него был странный «порок»: обожая детей
166
(его «Соня» — это детский портрет), он всегда опекал какого-
нибудь ребенка и тратил все свои деньги на его образование.
Моя сестра вспоминает, как он работал, надев на правую руку
темную перчатку: по его словам, он нанес на картину столь-
ко лака, что отражение руки на полотне мешало бы ему, если
бы не перчатка. «Скоро мне придется покрасить в темный цвет
лицо»,— прибавил он. Мне же запомнилось только то, что он
работал, сидя за мольбертом, — в то время как мой отец всегда
стоял или ходил, и что в фоне картины, которую он писал, был
темно-синий цвет, который всегда действует на меня. В родном
городе Уилсона, Абердине, сейчас есть галерея его картин, и
мои сестры подарили ей множество его пейзажей — в основ-
ном, лесные виды, написанные бесстрастной и меланхоличной
кистью, знаменующие период, когда романтическое движение
вступало в свою последнюю фазу.
IX
Отец впервые читал мне вслух стихи, когда мне было во-
семь или девять лет. Между Слайго и Россес-Пойнт есть мыс,
поросший жесткой травой; во время прилива его окружает
вода, а во время отлива — грязь; здесь закапывают павших ло-
шадей. На этом месте отец читал мне «Песни Древнего Рима».
Это были первые стихи, подействовавшие на мое воображе-
ние, если не считать оранжистских стихов, которые читал мне
младший конюх. Позже отец читал мне «Айвенго» и «Песнь
последнего менестреля», и они до сих пор ярко запечатлены в
моей памяти. Недавно я перечитал «Айвенго», но все поблекло,
кроме двух эпизодов, которые сильно воздействовали на мое
воображение в детстве: самого первого, с Гуртом-свинопасом,
и того, где речь идет о брате Туке и оленьем пироге. «Песнь по-
следнего менестреля» возбудила у меня желание стать волшеб-
ником, которое много лет боролось во мне с мечтой погибнуть
в битве на морском берегу. Когда я пошел в школу, отец пытал-
ся удержать меня от чтения газет для детей, потому что, как
он мне объяснил, газета по самой своей природе рассчитана на
посредственность и поэтому может только помешать развитию.
Он забрал у меня газету, а у меня не хватило духу сказать, что
я читал там только прозаический пересказ «Илиады», получая
большое удовольствие. Но через несколько месяцев отец ска-
зал, что он напрасно так беспокоился, и стал не так ревностно
относиться к моим школьным занятиям и не так раздражался,
если я плохо учил урокк, и перестал следить за моим чтением.
167
С тех пор я вместе со всеми моими соучениками с волнением
ждал по средам выхода газет для мальчиков и читал бесчис-
ленное количество рассказов; теперь я забыл их так же прочно,
как «Сказки братьев Гримм», прочитанные мною в Слайго, и
все сказки Андерсена, кроме «Гадкого утенка», которого моя
мать читала вслух мне и сестрам. Я смутно помню, что Ан-
дерсен мне понравился больше, чем братья Гримм, потому
что его сказки менее прозаичны, но и у него не было рыцарей,
драконов и прекрасных дам, о которых мне хотелось читать.
Я ничего не помню из того, что читал, — помню только то, что
слышал и видел. Когда мне было десять или двенадцать лет,
отец взял меня на «Гамлета» с Ирвингом; он не понимал, по-
чему я предпочел Ирвинга Эллен Терри, которая, как я теперь
знаю, была кумиром отца и его друзей. Я не мог отождествлять
ее с собой, как я это делал с Гамлетом-Ирвингом, и был еще
слишком мал, чтобы увлечься женским обаянием и красотой.
На многие годы Гамлет стал для меня образом героического са-
мообладания, примером подражания в детстве и юности, вои-
ном в моей борьбе с самим собой. Отец читал мне из Чосера
рассказ о мальчике, убитом евреями, и историю сэра Топаса,
объясняя мне трудные слова, и хотя обе эти истории захватили
меня, вторая из них нравилась мне больше, и я был недоволен,
что она обрывается на середине. Когда я стал постарше, отец
пересказывал мне романы Бальзака, заодно используя его об-
разы и сюжеты в качестве иллюстрации к своим критическим
рассуждениям о жизни. Теперь, когда я полностью прочел «Че-
ловеческую комедию», некоторые ее страницы для меня на-
столько ярче остальных, что это нарушает все пропорции по-
вествования; и я вспоминаю, как, где-то на улице лондонского
пригорода, он рассказал мне о том, как Люсьен де Рюбампре
дрался на дуэли после предательства своего патрона и как ра-
неный Люсьен, слыша чей-то голос, говорящий, что он не умер,
пробормотал: «Тем хуже».
Теперь я могу делиться с друзьями только своими мыслями
и чувствами, при этом все время видя, как мы различны, но в те
времена, когда я еще не обрел самого себя, нас объединяли при-
ключения. Когда друзья что-то задумывают и делают вместе, у
них нет никаких секретов друг от друга, все общее — и мысли,
и чувства. В спорте от меня не было никакого толка. Не помню,
чтобы я хоть раз забил гол или хорошо пробежал дистанцию, но
мои познания были очень полезны, когда я, мой друг-спортсмен
и два наших самых воспитанных мальчика — это их фамилию я
помню, забыв лица, — отправлялись в Ричмондский парк, или в
Кумбский лес, или к Туайфордскому аббатству ловить бабочек и
168
ясуков. Иногда я встречаю сейчас на завтраке или на обеде лю-
дей, чьи адреса кажутся знакомыми, и неожиданно вспоминаю,
что когда-то лесник прогнал меня из леска, насаженного поза-
ди их дома, или что я как-то забрался к ним на скотный двор и
переворачивал там коровьи лепешки, отыскивая каких-то ред-
ких жуков, которые, как считалось, там водились. Спортсмен
был нашим дозорным и нашей защитой. Он придумал, что
если мы увидим на подъездной аллее карету, то снимем шля-
пы и пойдем себе дальше, словно мы пришли с визитом.
А однажды в Кумбском лесу, когда нас заметил лесник, спорт-
смен убедил старшего из братьев сделать вид, что он учитель,
который вывел учеников на прогулку, и лескик, вместо того
чтобы браниться и грозить полицией, стал с огорченным ви-
дом увещевать нас. Как бы красиво ни было то или иное место
(в моей памяти остался прелестный ручей, протекающий по
лощине, где Уимблдонская пустошь примыкает к Кумбскому
лесу), я знал, что остальные мальчики видят в них то, чего не
вижу я. Здесь я был чужим. В том, как они произносили назва-
ния этих мест, было нечто, внушавшее мне это чувство.
X
Когда я приезжал в Кларенс-Бейсин в Ливерпуле (дом, на-
звание которого стало именем Кларенса Мэнгана) по пути в
Слайго на каникулы, я оказывался среди жителей Слайго. Ког-
да я был маленьким, одна старая женщина, приехавшая в Ли-
верпуль с клетками с домашней птицей, очень расстроила меня
тем, что обняла меня, как только я вышел из кеба, и сказала
матросу, который нес мой багаж, что держала меня на руках,
когда я был младенцем. Этот матрос, должно быть, знал меня
почти так же хорошо, потому что я часто пускал свой парусный
кораблик вдоль набережной в Слайго; и я приезжал и уезжал
раз или два в году на пароходах «Слайго» или «Ливерпуль»,
принадлежавших компании, где директорами были мой дед и
его партнер Уильям Мидлтон. Я всегда был доволен, если это
был «Ливерпуль», так как его построили, чтобы прорвать мор-
скую блокаду во время войны Севера и Юга в Америке.
Я всегда с волнением ожидал этого путешествия и хва-
лился этим перед другими учениками, а когда был маленьким,
то, бывало, ходил широко расставив ноги, подражая морякам,
которых видел в гавани. Обычно я страдал морской болезнью,
но, должно быть, скрывал это от других ребят и от себя само-
го, поскольку, вспоминая прошлое, я очень мало помню об
169
этом, — но помню истории, которые мне рассказывал капитан
или его первый помощник, и то, как выглядели высокие скалы
Донегала, и как жители острова Тори подплывали к кораблю,
предлагая омаров и говоря по-ирландски, а если это было но-
чью, зажигая куски торфа, чтобы привлечь наше внимание. Ка-
питан, широкоплечий старик с венчиком седых волос вокруг
лица, рассказывал своему первому помощнику, очень благо-
дарному слушателю, о драках, в которых он участвовал в Ли-
верпуле, когда сходил на берег; и, наверное, я имел в виду его,
когда, очень маленьким, спрашивал бабушку, так ли силен Бог,
как моряки. По крайней мере, один раз он едва не попал в кора-
блекрушение: «Ливерпуль» понесло ветром на мыс Голуэя, сло-
мало вал гребного винта, и капитан сказал своему помощни-
ку: «Когда нас ударит о скалу, прыгайте, потому что иначе нас
убьет обломками мачт», а когда помощник ответил: «Боже мой,
я не умею плавать!» — капитан сказал: «Кто сможет остаться
на плаву хотя бы пять минут при таком волнении?» Он часто
говорил, что никогда не встречал такого боязливого человека,
как его помощник, и что «его была способна поколебать даже
насмешка первой встречной девчонки». Мой дед не раз давал
ему в полное распоряжение корабль, но он всегда отказывался
и плавал только со своим капитаном, при котором чувствовал
себя в безопасности. Однажды его назначили командовать ко-
раблем, находившимся в сухом доке в Ливерпуле, но тогда в
Слайго утонул мальчик, и еще до того, как он это узнал, он по-
слал телеграмму жене: «Призрак, явись, а не то я откажусь от
корабля». Он не раз попадал в кораблекрушение, и, возможно,
это сломило его дух, и, возможно, у него была слишком тон-
кая натура, что дало бы ему вкус и культуру, принадлежи он
к другому классу общества. Однажды я забыл на палубе свою
книгу «Граф Роберт Парижский», а когда снова нашел, то она
вся была в отпечатках его грязных пальцев. Он однажды видел
повозку смерти. Она проехала по дороге, сказал он, скрылась за
домом и так и не показалась из-за него.
Однажды, когда мы были далеко от берега, я почувствовал
запах свежего сена, а в другой раз, наблюдая за морскими попу-
гаями (так моряки называют буревестников), заметил, или мне
показалось, что они по-разному прячут голову под крыло, и я
сказал капитану: «У них разные характеры». Иногда мой отец
тоже ездил со мной на пароходе, и матросы, видя, как он идет
к причалу, говорили: «Вон Джон Йейтс, значит, будет шторм»,
поскольку они считали, что он приносит несчастье.
Я разлюбил замкнутые уединенные уголки — заросли у
конного двора «Мервилля», где жил мой дед, или у дома «Си-
170
вью», где жила тетя Микки, и начал лазить по горам, иногда в
обществе младшего конюха, и читать о них в истории графства.
Я ловил на червя форель в горных речках и ходил на ночной лов
сельди; а поскольку дед сказал, что англичане правильно дела-
ют, что едят скатов, я как-то принес пойманного мной большого
ската из Россес-Пойнт, за шесть миль от дома, но дед не стал
его есть.
Однажды ночью, когда я возвращался домой на катере бе-
реговой охраны (как раз перед наступлением периода штор-
мов, которые бывают во время равноденствия), один мальчик
рассказал мне, что кто-то в Шотландии видел жука из литого
золота (возможно, забредшего из «Золотого жука» По), и, по-
моему, ни я, ни он нисколько не сомневались в правдивости
этой вести. Вообще я слышал столько рассказов от матросов и
на верфи, — и сидя с ними у костра на баке на том пароходи-
ке, что ходил между Слайго и Россес-Пойнт, и от мальчишек,
рыбачивших в море», — что мир казался мне полным чудес
и чудовищ. Иностранные матросы, носившие серьгу в ухе, не
рассказывали мне историй, но, как и мальчики-рыбаки, я смо-
трел на них с любопытством и восхищением.
Когда я гляжу на картину моего брата «Гавань памяти» —
дома, корабль на причале и дальний маяк, изображенные рядом,
как на старых картах, — я с волнением узнаю в мужчине в синей
куртке и широкой белой рубашке лоцмана, с которым я ходил
рыбачить, и меня печалит, что я написал мало стихов и что на-
писанное могло бы быть лучше. В свое время я гулял вместе с
Синдбадом по морскому берегу, и никакие другие берега не мо-
гут увлечь меня.
Я по-прежнему ездил верхом на рыжем пони, и однажды
отец поехал со мной и был очень придирчив. Он возмущал-
ся и даже доходил до угроз из-за того, что, по его мнению, я
плохо ездил верхом. «Ты должен хорошо делать все, — сказал
он, — что ценят Поллексфены, хотя должен уметь и другое».
Он то же самое говорил о школьных предметах и требовал от
меня успехов в математике. Я теперь понимаю, что он испыты-
вал чувство неполноценности в окружении этих энергичных и
преуспевающих дюдей. Сам он, как сказал мне кто-то из Пол-
лексфенов, ездил верхом очень плохо, но принимал участие в
охоте на любого зверя и прыгал через любую канаву. Его отец,
приходский священник графства Даун, был человеком истинно
хорошего тона и ученым, но при этом необычайным франтом,
когда дело касалось костюмов для верховой езды; я слышал,
что он как-то порвал три пары слишком обтянутых брюк, когда
садился в седло, чтобы отправиться на охоту; а когда он был
171
младшим священником, то его принципал однажды восклик-
нул: «Я надеялся, что у меня будет помощник, а мне прислали
жокея».
Предоставленный сам себе, я ездил верхом как мог, но все
равно часто падал; чаще всего я отправлялся в Рэтброуган, где
жил мой двоюродный дед Мэт. Мы с его детьми пускали наши
кораблики по реке, протекавшей перед его домом, оснастив их
заряженными игрушечными пушками и тщетно надеясь, что
они будут не кружиться в водоворотах, а стрелять друг в друга.
Должно быть, я иногда ездил в Слайго на Рождественские ка-
никулы, потому что помню, как ездил на охоту на своем пони.
Он заартачился и не стал прыгать уже через первую канаву — к
моему большому облегчению, а когда толпа мальчишек стала
его бить, я прекратил это. Они стали дразнить меня за трусость.
Я нашел пологий спуск и переехал через канаву, а когда остался
один, попробовал перепрыгнуть через другую канаву, но пони
не стал прыгать и через нее, тогда я привязал его к дереву, лег
в зарослях папоротника и стал смотреть в небо. По пути до-
мой я снова повстречал охотников и увидел, что все они едут
отдельно от собак, и, чтобы выяснить, в чем дело, подъехал к
собакам, собравшимся посреди дороги, и остановил там пони,
и все закричали на меня.
Иногда я ездил в замок Дарган, где жил небогатый поме-
щик, женатый на одной из моих кузин из семьи Мидлтонов,
большой скандалист; однажды я поехал туда с визитом вместе
с кузеном, Джорджем Мидлтоном. Это был, я полагаю, по-
следний из домов, где можно было увидеть бесшабашную
Ирландию былых времен в последней степени деградации.
Но это место нравилось мне своей романтичностью: там были
развалины двух замков, Даргана и Фьюри, словно глядевшие
друг на друга через озеро. Помещик жил в небольшом доме,
куда его предки переселились из замка еще в XVIII веке, а две
старые мисс Фьюри, сдававшие комнаты жильцам в Слайго,
были последними из того рода, который владел вторым из зам-
ков. Раз в год помещик ездил в Слайго и привозил этих двух
старушек, чтобы они посмотрели на развалины родового зам-
ка и вспомнили о своей знатности, и впрягал в экипаж самых
горячих лошадей, чтобы позабавиться страхом женщин. Ему в
голову приходили самые невероятные вещи, и он не знал ни-
какого удержу, когда хотел поразвлечься. В первый день, как я
приехал туда, он дал в руки моему кузену револьвер (мы были
на большой дороге); из этого револьвера, чтобы щегольнуть им
или своим умением стрелять, он застрелил цыпленка, а через
полчаса, стоя на берегу озера рядом со своим замком, от кото-
172
рого остался только разрушенный угол башни с винтовой лест-
ницей, выстрелил в направлении старого крестьянина, шедше-
го вдалеке по берегу. Как я узнал, на следующий день инцидент
был улажен за бутылкой виски, и оба были довольны. Как-то он
предложил одной моей робкой тетке взглянуть на его новое до-
машнее животное и ввел в вестибюль скаковую лошадь и про-
шелся с ней вокруг обеденного стола. А однажды тетка вышла
в столовую и увидела, что на столе совершенно пусто, потому
что хозяин придумал новую замечательную шутку: он открыл
окно, его гончие забрались в комнату и съели весь завтрак. Рас-
сказывали также, что он, демонстрируя меткость своей стрель-
бы, до тех пор стрелял по двери собственного дома из ружья
марки «Мартини-Генри», пока не отстрелил дверной молоток.
В конце концов он поссорился с моим двоюродным дедом Уи-
льямом Поллексфеном и, чтобы отомстить ему, собрал толпу
буйных деревенских парней, которые сели (как и он) на самых
разбитых кляч, каких только можно было выискать, и просле-
довали через весь Слайго под знаменем Земельной лиги. После
этого, не имея ни друзей, ни денег, он уехал не то в Австралию,
не то в Канаду.
Я ловил щук в озере у замка Дарган и стрелял в птиц из
пистолета, заряжавшегося через дуло, но однажды кто-то под-
стрелил кролика и я слышал, как он верещит. С тех пор я уби-
вал только немых рыб.
XI
Мы переехали из Бедфорд-Парка в длинный, крытый со-
ломой дом в Хоуте, графство Дублин. Тогда была в разгаре зе-
мельная война, и земля в Килдэре, которой наша семья владела
из поколения в поколение, уплывала от нас. Арендная плата за
землю все время падала, и нам пришлось ее продать, чтобы за-
платить по какому-то счету или по закладной, но мой отец и его
арендаторы расстались мирно. В самые худшие времена один
старый арендатор взял к себе в дом охотничью собаку отца и
ухаживал за ней так, что это стоило гораздо дороже платы за ее
содержание. Он отвел ей лучшее место у очага, а ес^ли кто-то из
мужчин сидел там, когда собака входила в дом, то был обязан
освободить ей место. Я помню, как, спустя много времени по-
сле продажи земли, отца призвали уладить какой-то спор между
этим старым крестьянином и его сыновьями.
Мне исполнилось пятнадцать лет, и так как отец не хотел
оставить свою живопись, то велел мне поступить в школу на
173
Харкорт-стрит. Когда я впервые пришел туда, то увидел угрю-
мое здание XVIII века, маленькую грязную и каменистую спор-
тивную площадку, огороженную железной решеткой, а напро-
тив — длинный забор строительной площадки и затейливое,
но убогое здание железнодорожной станции. Вскоре мне ста-
ло ясно, что здесь никто не заботится о соблюдении декорума.
На уроках стоял гул голосов. Мы начинали утро с молитвы, но
когда начинался урок, то директор, если у него было такое на-
строение, насмехался над церковью и священнослужителями.
Он мог, например, сказать: «Что бы они там ни говорили, но
Земля вращается вокруг Солнца». С другой стороны, здесь не
было драчунов, и я не представлял себе, что можно так усердно
учиться. Хотя крикет, футбол и коллекционирование бабочек
не запрещались, но и не поощрялись. Это считалось занятием
дая лентяев. В отличие от лондонской школы, я был не знаком
с большинством моих соучеников, потому что мы мало обща-
лись вне класса. Я начал смотреть на уроки в школе как на по-
меху для моих естественно-научных занятий, но даже если бы я
читал только книги, положенные по школьной программе, я бы
все равно не смог выучить и четверти того, что каждый день за-
давалось на дом. Мне всегда легко давалась геометрия, я быстро
решал задачи, в то время как другие потели у доски, и поэтому
часто из последних учеников переходил в первые; но у других
ребят были свои природные способности: они уже дошли до
конца учебника латыни, и мне, вместо того чтобы прочесть со
словарем десяток строк из Вергилия, приходилось заучивать с
помощью шпаргалки по сто пятьдесят строк. Мои одноклас-
сники были способны заучить перевод наизусть и помнить, ка-
кие латинские и английские слова соответствуют друг другу, а
я, хотя, кажется, пытался читать тот текст, который нам еще не
задавали, делал нелепые ошибки в переводе; и как мог я, никог-
да не учивший того, что меня не интересовало, выучить урок
по истории, если надо было запомнить целую колонку цифр —
семьдесят исторических дат? Хуже всего я успевал по литерату-
ре, потому что мы читали Шекспира только ради грамматики.
Однажды мне пришла в голову счастливая мысль. Послед-
ний час занятий отводился для повторения того, что мы, как
предполагалось, выучили наизусть накануне; я же неделями не
выучивал ни одного урока и потому, никого не спросясь, рас-
порядился этим часом иначе. Я попросил учителя математики
дать мне решить задачу, и никто не сказал ни слова. Отец ча-
сто, и всегда с катастрофическими последствиями для меня,
проходил со мной домашнее задание по латыни. «Но мне еще
нужно учить географию», — говорил я. «Географию, — отвечал
174
он, — вообще не надо преподавать. Она не тренирует ум. Ты по-
черпнешь все нужные сведения по географии из чтения книг».
А если это был урок по истории, он говорил то же самое, а также,
что «геометрия — слишком легкий предмет. Она не представля-
ет интереса для литературного воображения. Старую идею, что
уго хорошая тренировка для ума, уже давно отвергли». И вот я
так хорошо выучивал урок по латыни, что на короткое время это
становилось сенсацией, а потом меня не одну неделю стыдили
за то, что я такой способный и такой ленивый. Никто не знал,
что я учил латынь из страха; только это могло дисциплинировать
мой рассеянный ум. Наверно, я как-то проговорился насчет отца,
поскольку помню, как директор однажды сказал: «Я задаю этот
дополнительный урок вам, потому что не имею возможности за-
дать его вашему отцу». Иногда нам задавали писать сочинения; я
ни разу не получил за них награды, потому что оценку ставили за
почерк и правописание, но зато стяжал некоторую скандальную
славу. Учителя постоянно вызывали меня и спрашивали, неуже-
ли я верю в подобные вещи, и это сердило меня, потому что я
писал о том, во что верил всю жизнь, о том, что говорил отец или
когда-то говорили его друзья. Мне задали написать сочинение
на тему: «Восходит к небу человек по лестнице изжитых "я"».
Отец прочел заглавие матери (которая совсем не интересовалась
такими вещами). «Вот так, — сказал он, — в мальчиках воспиты-
вают неискренность и отучают от верности самим себе. Идеалы
разжижают кровь и лишают людей их человеческого естества».
Он ходил взад и вперед по комнате, возмущенно ораторствуя, и
велел мне ничего этого не писать, а взять темой строки Шекспи-
ра: «Будь верен сам себе; тогда, как вслед за днем бывает ночь,
ты не изменишь и другим». В другой раз он раскритиковал идею
долга: «Представь себе, — говорил он, — как настоящая жен-
щина должна презирать мужа, для которого долг — главное в
супружестве», и он говорил нам, с каким презрением отнеслась
бы к подобному моя мать. Возможно, существовали люди, для
которых эти идеи были естественны, но с такими людьми не
было принято знаться. Все, что он говорил, было правильно, как
я думаю сейчас, но тогда ему нужно было бы забрать меня из
школы. Он бы учил меня только латыни и греческому, и теперь
я был бы по-настоящему образованным человеком и не смотрел
бы с тоской на книги, создавшие мою душу, которые я узнал
благодаря несовершенному механизму перевода, а тогда мне не
пришлось бы робеть перед школьными наставниками, придумы-
вая увертки и отговорки. При тех обстоятельствах в отговорках
и увертках было не меньше мудрости, чем в домостроительном
инстинкте бобра.
175
XII
Мой лондонский школьный друг-спортсмен провел у нас
лето, но детская дружба, основанная на играх и приключени-
ях, подходила к концу. Он все еще превосходил меня во всех
физических упражнениях и залезал в такие места среди скал,
что даже сейчас мне об этом страшновато вспоминать, но я уже
находил у него недостатки. Однажды я предложил прогулять-
ся на остров Лэмбей, а когда он возразил, что мы пропустим
обед, отнесся к его словам презрительно. Мы подняли парус
на нашей маленькой лодке и быстро прошли девять миль до
острова и увидели на берегу ручную чайку, а двое ребят, сы-
новья берегового охранника, вбежали в воду прямо в одежде и
втянули нас на берег, как делали те дикари, о которых мы чи-
тали в книгах. Мы провели час на этом солнечном берегу, и я
сказал: «Я бы хотел всегда жить здесь, и, может быть, в один
прекрасный день так и будет». Я всегда находил места, где мне
хотелось провести всю жизнь. Мы отправились домой, и когда
прошел час после обычного времени обеда, у спортсмена на-
чались колики, и он лег на дно лодки, скрючившись от боли.
Я стал насмехаться над ним и его соотечественниками, у кото-
рых желудок отбивает часы, словно часовой механизм.
Наши естественно-научные занятия также стали нас раз-
делять. Я задумал написать книгу о том, как в течение года из-
меняются обитатели одного углубления в скале, и у меня была
собственная теория, которую я сейчас забыл, на счет цвета мор-
ских анемон, а после долгих и трудных размышлений и колеба-
ний я был готов опровергнуть Адама, Ноя и семь дней творения.
Я прочел Дарвина и Уоллеса, Гексли и Геккеля, а во время кани-
кул целыми часами задирал одного верующего геолога-любителя,
который работал на пивоваренном заводе Гиннеса, а в свободное
время брал молоток и искал окаменелости в Хоутских скалах.
«Знаете ли вы, — говорил я ему, — что таким-то человече-
ским останкам не менее пятидесяти тысяч лет, судя по тем
геологическим пластам, в которых они найдены?» — «А-а! —
отвечал он. — Это исключение». А однажды, когда я весьма
горячо оспаривал хронологию Ашера, он очень серьезно по-
просил меня больше никогда не говорить на эту тему. «Если
бы я верил в то, во что верите вы, — сказал он, — я не мог бы
вести нравственную жизнь». Но со спортсменом, который все
еще ловил бабочек для коллекции просто ради удовольствия и
интересовался только их названиями, я не мог даже спорить.
Я начал критически относиться к его уму и говорил ему, что его
естественно-научные занятия имеют так же мало отношения к
176
науке, как коллекционирование марок. Даже в мои школьные
годы в Лондоне, возможно под влиянием отца, я смотрел на
коллекционирование марок свысока.
\
XIII
В течение года или около того мы жили в доме, стоявшем на
скале, над морем, так что в штормовую погоду брызги залетали
в окно и ночью моя постель промокала, поскольку я вынул из
рамы стекло. Страсть к открытому воздуху, взращенная литера-
турой, жила во мне несколько лет. Затем год или два мы жили в
доме, откуда открывался замечательный вид на гавань, на сную-
щие взад-вперед рыбацкие суда. У нас была одна постоянная
служанка, жена рыбака, и одна приходящая — крупная красно-
щекая девушка, которая как-то съела целую банку варенья, пока
моя мать была в церкви, и обвинила в этом меня. Временные
служанки сменяли одна другую, а постоянная продолжала жить
в доме; такой порядок сохранялся много позже того времени, о
котором я пишу, до тех пор пока отец, зайдя в кухню, не увидел
там девушку, нанятую на время, всю в слезах из-за того, что ей
придется расстаться с нашей другой служанкой, и тогда отец
обещал, что их никогда не разлучат. Я не сомневаюсь, что мы
жили у гавани из-за матери. Когда мы были детьми, она отка-
залась поехать с нами на морской курорт, потому что слышала,
что там есть купальные кабины, но ей нравилась жизнь рыбац-
кого поселка. Когда я думаю о ней, я почти всегда вижу ее раз-
говаривающей в кухне за чашкой чая с нашей служанкой, же-
ной рыбака, о том единственном, что интересовало ее, помимо
собственного дома: о рыбаках Хоута или о лоцманах и рыбаках
Россес-Пойнт. Она совсем не читала книг, но они с женой рыба-
ка рассказывали друт другу истории, которые мог бы рассказы-
вать Гомер, получая удовольствие от драматических моментов
и дружно смеясь, если в рассказе была ирония. В моих «Кель-
тских сумерках» есть очерк под названием «Деревенские при-
видения», который является просто записью одного такого дня,
а многие замечательные рассказы пропали, потому что я слиш-
ком поздно догадался их записывать. Отец постоянно хвалил
мать, говоря о ней со мной и сестрами, потому что она никогда
не кривила душой. Мать могла рассказывать ему в письмах, как
она любуется клубящимися облаками, но была равнодушна к
картинам; она никогда не ходила ни на выставки, даже если там
были работы отца, ни в его студию — поинтересоваться, что
он успел сделать за день; так было и тогда, и в первые годы
177
их брака. Я очень ясно помню все это, и потом у меня мало
воспоминаний о ней до того момента, как с ней случился удар
и она лишилась рассудка, и тогда, наконец освободившись от
финансовых забот, она обрела полное счастье; помню, как она
сидит у окна в лондонском доме и кормит птичек. По словам
моего отца, она всегда отличалась глубиной чувств, — что у
него было высшей похвалой; и однажды, говоря об этом, он до-
бавил: «Ни у одного мота никогда не было сына-поэта, но он
может быть у скупого».
XIV
Пробуждение пола — великое событие в жизни любого
юноши. Он купается по многу раз в день или встает на рассвете
и, раздевшись, прыгает взад и вперед через палку, положенную
на два стула, и не понимает — и никогда не признается,— что
начал получать удовольствие от собственной наготы, и не пой-
мет смысла этой перемены, пока он не откроется ему в снови-
дении. Он может так и не осознать более значительных пере-
мен — в своей душе.
На меня, когда мне почти исполнилось семнадцать лет, все
это произвело впечатление разорвавшегося снаряда. В таком
состоянии крестьянские девушки-сомнамбулы испытывают
огромную тягу к чудесному; они изображают полтергейст —
швыряют тарелки или передвигают их при помощи длинного
волоска, а то и действительно становятся медиумами какого-
нибудь проказливого духа. Вспоминая это время, я снова ощу-
щаю, что мои страсти, любовные увлечения и страдания, вме-
сто того чтобы внести в мою душу тревогу и смятение, стали
так прекрасны, что мне нужно было постоянно быть одному,
чтобы ничто не отвлекало меня от них. То, что я видел, когда
был один, гораздо ярче запечатлелось в моей памяти, чем то,
что я делал или видел в обществе других.
Один пастух показал мне пещеру, расположенную футов
на сто пятьдесят ниже горной тропинки и на высоте примерно
двухсот футов над уровнем моря, и сказал, что там много лет
жил выселенный из дома арендатор по имени Макром, умер-
ший около пятнадцати лет назад; он также показал мне ржавый
гвоздь в скале, на котором, возможно, держалась какая-нибудь
деревянная заслонка — защита от ветра и холода.
Я принес туда банку какао и немного печенья и в теплые
ночи, вместо того чтобы укладываться в кровать, выскальзы-
вал из дома и спал в этой пещере под тем предлогом, что мне
178
надо ловить ночных бабочек. Туда нужно было проходить по
каменному карнизу, достаточно надежному для тех, у кого не
кружится голова, но казавшемуся, если смотреть сверху, узким
и покатым; один незнакомый мужчина сделал мне выговор,
увидев, как я пробираюсь по карнизу, — а я получил от этого
дополнительное удовольствие. Однако как-то в праздничный
день я застал в моей пещере влюбленную парочку, и потом это
место было неприятно для меня до тех пор, пока я не услышал,
что у входа в пещеру незадолго до рассвета видели призрак Ма-
крома, склонившийся над костром. Я пытался варить яйца тем
способом, о котором прочел где-то в книге: зарывая их в землю
под горячим костром.
Другие ночи я проводил под открытым небом в неокульту-
ренной части поместья при Хоутском замке, где среди скал росли
рододендроны. Через некоторое время отец, желая, чтобы я хоть
немного спал в постели, сказал, что я должен полночи проводить
дома, но я знал, что если лягу в кровать, то пригреюсь, засну
и не смогу встать, а потому обычно сидел у кухонного очага и
ждал, когда пройдет полночи. Слухи о моих ночных похождени-
ях, щедро расцвеченные вымыслом, разнеслись по всей школе,
и иногда, если я не знал урока, учителя подшучивали над тем,
как я проводил ночи. Мой интерес к науке стал угасать, и вскоре
я сказал себе: «Это было одно недоразумение». Я вспомнил, как
быстро мне надоедали мои коллекции и как мало я узнал за все
долгие годы, когда собирал их; я решил тогда, что на эти труды
меня подвигнул один библейский текст, впервые услышанный
мною в церкви Св. Иоанна в Слайго: я хотел набраться мудро-
сти, подражая царю Соломону, который знал и иссоп, и всякое
дерево. Я все еще носил с собой зеленый сачок, но теперь начал
воображать себя мудрецом, волшебником и поэтом. У меня было
много кумиров; взбираясь по узкому карнизу, я представлялся
самому себе то Манфредом, поднявшимся к леднику, то принцем
Атанасом, чье окно одиноко светилось в ночи, но вскоре моим
идеалом стал Аластор: я мечтал изведать такую же глубокую
меланхолию, а когда-нибудь, возможно, подобно ему исчезнуть
навсегда, сев в лодку и заскользив вниз по реке, медленно теку-
щей среди высоких деревьев. Когда же я рисовал в своем вооб-
ражении женщин, то они или страстно любили и страдали, как
в произведениях моих любимых поэтов, или, подобно героине
«Восстания Ислама», вместе со своими возлюбленными блуж-
дали по всевозможным диким местам; это были женщины, не
имевшие ни дома, ни детей, свободные как ветер.
179
XV
Влияние отца на мои умственные интересы было тогда наи-
более сильным. Каждый день мы с ним ездили на поезде в Ду-
блин и завтракали у него в студии. Он снял для нее большую
комнату с красивым камином XVIII века в многоквартирном
доме на Йорк-стрит; за завтраком он читал мне отрывки из
стихотворных пьес и поэм, всегда выбирая самые драматиче-
ские места. Он никогда не читал мне поэтических отрывков,
имеющих философский интерес; более того, был совершенно
равнодушен к поэзии, если в ней содержались общие или от-
влеченные идеи, несмотря на страстность их выражения. Он
читал мне первые монологи «Освобожденного Прометея»
(но никогда — исполненные лирического экстаза монологи из
знаменитого четвертого акта); в другой раз — сцену, где Корио-
лан приходит в дом Авфидия и говорит наглым слугам, что он
живет под сводом небесным. С тех пор я много раз видел «Ко-
риолана» на сцене и не раз перечитывал, но эта сцена остается
для меня более яркой, чем все остальные, и я слышу голос мое-
го отца, а не Ирвинга или Бенсона. Он был равнодушен даже
к тонкому лирическому пассажу, если не ощущал за его изы-
сканной красотой какого-то человека, и всегда искал в поэзии
симпатичные и всем понятные жизненные штрихи. О сцене, в
которой духи поют Манфреду песню, где есть презрительные
слова, а Манфред отвечает: «Печальные и сладостные звуки»1,
отец сказал, что духи, даже в гневе, не могут не быть нежными и
сладостными, ибо такова их природа. По его мнению, Ките был
более великим поэтом, чем Шелли, с его отвлеченными идея-
ми, но он не читал Китса, поскольку, полагаю, был, в сущности,
равнодушен к самой прекрасной поэзии нового времени — той,
что возникла под влиянием живописи. Вся поэзия, как он пола-
гал, должна была представлять собой идеализированную речь,
звучащую в момент напряженного действия или сомнамбули-
ческой грезы. Я помню, как он говорил, что люди созерцатель-
ного склада вступили в заговор, с тем чтобы превознести свой
образ жизни, и что все писатели, кроме величайших поэтов, —
из их числа. Теперь я думаю, что тогда воспринимал его взгля-
ды и мнения изолированно друг от друга, в то время как в них
было некое, скрытое от меня, объединяющее начало, которое
я начинаю видеть только сейчас. Он не любил викторианскую
поэзию идей, а у Вордсворта ценил только отдельные стихо-
творения иди некоторые пассажи. Как-то утром, за завтраком,
1 «Манфред». Акт 1, сцена 1. (Примеч. У. Б. Йейтса.)
180
он сказал, что обнаружил в форме головы одного специалиста
по Вордсворту — старого и весьма почтенного священнослу-
жителя, чей портрет он тогда писал, — все признаки животных
инстинктов, присущих боксеру. Он презирал красоту формы у
Рафаэля, говоря, что эта безмятежность — не упорядоченная
страсть, а лицемерие, и критиковал Рафаэля как человека за его
любовь к наслаждениям и отсутствие требовательности к себе.
В своих литературных вкусах отец всегда был прерафаэлитом и
переносил на литературу те принципы, которые начинали под-
рывать академическую форму в живописи, хотя Академия все
еще была в силе.
Он больше ничего не читал мне вслух ради сюжета; мы об-
суждали только стиль.
XVI
Я начал делать визиты и при этом совершал светские про-
махи; одна женщина, которую я знал и любил в детстве, сказала
мне, что я изменился к худшему. Я желал быть мудрым и крас-
норечивым — толчком для этого мне послужило чтение эссе
об Ампере-младшем; наедине с самим собой я преувеличивал
свои промахи и очень от этого страдал. Я начал писать стихи в
подражание Шелли и Эдмунду Спенсеру, а также — поскольку
отец считал драматическую поэзию высшей поэтической фор-
мой, — одну пьесу за другой, придумывая фантастические и
невнятные сюжеты. Мои строки редко укладывались в правиль-
ный размер, так как я не понимал правил просодии, изложен-
ных в книгах, хотя многие строки, взятые сами по себе, звучали
музыкально. Я медленно произносил их, когда писал, и, только
когда читал их кому-то, обнаруживал, что в них не было обще-
принятой мелодики — не было просодии. В какой-то мере я
все же оставался натуралистом; хотя я больше не ловил ночных
бабочек, но замечал все, что происходит: что на заходе солнца
появляются маленькие бабочки, потом летают только большие,
и их совсем немного, а на рассвете — снова маленькие; я знал,
какие птицы кричат ночью, словно во сне.
XVII
В Слайго, куда я продолжал ездить на каникулы, я жил у
дяди Джорджа Поллексфена, который переехал туда из Балли-
ны, чтобы занять в фирме место деда, отошедшего от дел. У деда
181
уже не было его большого дома, его партнер Уильям Мидлтон
умер, фирма пережила какие-то неприятности юридического
плана. Дед больше не был богат, а его сыновья и дочери завели
собственные семьи и разъехались. Он теперь жил в высоком
доме с гладкими стенами, с видом на гавань, и у него не было
другого занятия, кроме как впадать в ярость, когда он, напри-
мер, видел, как плохо управляются с лихтером, иди заключал
по дыму парохода, что его топят дешевым углем; кроме того, он
руководил сооружением собственного надгробия. У Мидлтонов
была гробница, где длинный список имен Мидлтонов занимал
значительную часть стены, а место, отведенное для Поллексфе-
нов, было практически пусто; но поскольку там был похоронен
один Мидлтон, которого дед не любил, он сказал: «Я не соби-
раюсь лежать рядом с этими старыми костями», и его имя было
уже выбито большими золочеными буквами на каменной ограде
новой могилы. Его прогулка оканчивалась почти каждый день
на кладбище при церкви Св. Иоанна, потому что он любил, что-
бы все было просто и аккуратно, как на корабле, и думал, что
если он не будет сам наблюдать за сооружением надгробия, то
строитель добавит какие-нибудь ненужные украшения. Однако
он ничуть не утратил ни профессиональной сноровки, ни энер-
гии. Как-то мы с ним плыли в Россес-Пойнт на торговом паро-
ходике, и на моих глазах он отобрал штурвал и повел пароход
неслыханным курсом — через узкий проход в стене Канала и
дальше по устью реки — и пришвартовался к причалу в Россес-
Пойнт в одно касание и без помощи канатов. Когда у него был
насморк, он нюхал табак, но никогда в жизни не курил и не пил;
а когда, на восьмидесятом году, услышал от своего доктора, что
хорошо бы принимать что-нибудь тонизирующее, то ответил:
«Нет, нет, я не хочу заводить дурные привычки».
Бабушка по-прежнему любила меня, но теперь была также
очень привязана к моему брату. Он уже несколько лет жил у нее
дома и ходил в местную школу, где всегда был среди послед-
них учеников. Бабушку это не беспокоило, она говорила: «Он
не хочет обгонять других по доброте сердечной». Он проводил
время с компанией ребят, сыновей лоцманов и рыбаков, и был
у них признанным заводилой: устраивал ослиные бега и ездил
на ослах цугом, что ввиду их упрямства требует от возницы
большого хитроумия. Кроме того, он стал развлекать всех свои-
ми рисунками; и в доброй половине картин, которые он пишет
сейчас, я узнаю лица людей, которых я видел на набережных в
Россес или в Слайго.
Он давно уехал оттуда, но его память столь же верна, как и
его глаз.
182
Джордж Поллексфен был настолько же инертен, насколько
импульсивен был его отец, и во всем следовал раз и навсегда за-
веденному порядку. Будучи уже пожилым и зажиточным чело-
веком, он жил в тех же бытовых условиях, что и в молодости.
У него был маленький дом, единственная старая служанка вы-
полняла всю работу, и был конюх, ухаживавший за его лошадью,
и каждый год он отказывался еще от одного занятия и исключал
из своего рациона какую-нибудь пищу, найдя ее вредной для здо-
ровья. Будучи мнительным, он носил шерстяные вещи до самого
лета, причем постоянно взвешивал их, ибо он должен был точно
знать, что в данный момент — скажем, в апреле или в мае —
носит на себе столько же унций одежды, сколько носил в это же
время года, когда еще был мальчишкой. Он вечно был в унынии,
находя для него поводы в самых радостных событиях, и каждый
год 22 июня вздыхал, что дни пошли на убыль. Однажды, уже
гораздо позже, я встретил его в Дублине; был полдень, середина
лета, он изнывал от жары, и я привел его в вестибюль библиоте-
ки на Килдэр-стрит, где было сумрачно и прохладно, но и там его
настроение не улучшилось, — он только сказал меланхоличным
тоном: «Как же здесь должно быть холодно зимой!» Иногда, за
завтраком, я пытался рассеять его уныние, бодро уверяя, что ни
его способности, ни память, ни здоровье не ухудшаются, — но
он сражал меня фразой: «Какой же старый я буду через двадцать
лет!» Однако этот пассивный человек, в котором, казалось, за-
сохли все жизненные соки, обладал ярким воображением. С ним
не случилось ничего интересного за всю жизнь; был только один
неудачный — и, думаю, не очень страстный — роман и одно
морское путешествие, которое он совершил в молодости. Мой
дед тогда послал его на шхуне в испанский порт, где пароходны-
ми агентами служили два испанца по фамилии О'Нил, потомки
Хью О'Нила, графа Тиронского, который бежал из Ирландии в
царствование Якова I; они торговали с Ирландией, и это было
все, что осталось от торговли между двумя странами, которая
когда-то была основой благосостояния Голуэя. Они переписыва-
лись с дядей несколько лет, поскольку бережно хранили память
о родине предков. Где-то в Коннахте, на кладбище, он случай-
но увидел похороны ребенка, на которых присутствовал только
©дин человек, явно иностранец, с благородной внешностью. Это
был австрийский граф, хоронивший последнего представителя
знатного ирландского рода, давно укоренившегося в Австрии;
когда кто-то из них умирал, его хоронили на этом полуразрушен-
ном кладбище.
Мой дядя почти перестал охотиться и вскоре совсем отка-
зался от охоты, а ведь когда-то он участвовал в скачках и, как
183
говорил его тренер, был лучшим наездником в Коннахте. Он,
безусловно, прекрасно разбирался в лошадях, поскольку мне
рассказывали в отдаленном от Слайго графстве, что в Баллине
он вылечивал лошадей с помощью волшебства. На самом же
деле он просто очень искусно ставил диагноз, поскольку еще
не скоро стал заниматься ночи напролет астрологией и магиче-
скими ритуалами. Его служанка Мэри Бэттл, жившая в доме со
времен его молодости, была ясновидящей, и, возможно, это и
обратило его к оккультным занятиям. Однажды утром она не-
сла ему чистую рубашку, но остановилась и сказала, что на ней
спереди кровавые пятна и надо принести другую. По дороге к
себе в контору он упал, перелезая через невысокую стену, поре-
зался, и кровь попала как раз на те места рубашки, где служан-
ка утром увидела пятна. Вечером она сказала ему, что рубашка,
которая показалась ей кровавой, совершенно чистая. Она не
умела ни читать, ни писать, и если дядя был всегда мрачен, то
она — всегда весела, а голова ее была набита всевозможными
старинными историями и фантастическими поверьями. Многое
в моих «Кельтских сумерках» записано с ее слов.
Моего дядю простые люди уважали как немногих в Слайго;
выражение более сильных чувств дядя счел бы назойливостью.
Сам он обращался с людьми с некоторой церемонностью и
отдавая должное их социальному статусу или личным досто-
инствам, а среди своих работников поддерживал дисциплину,
напоминавшую ту, что бывает в армии или на корабле, и верил
только в силу личного авторитета. Если, скажем, провинился
возчик, дядя не увольнял его, но призывал к себе, забирал у
него плеть и вешал ее на стену; и, таким образом разжаловав
провинившегося на несколько месяцев, потом восстаяавливал
его в прежнем звании и возвращал плеть. Этот прилежный и
методичный человек — пассивный во всем, кроме духовной
сферы, уверявший, что своим богатством, по ирландским по-
нятиям значительным, он обязан талантам брата или партне-
ра, — был поверенным моих ребяческих причуд и мечтаний.
Когда я сказал ему (вычитав это из какой-то книги), что нельзя
по-настоящему узнать местность, если не видел ее ночью, это
ему понравилось (хотя он сам не пожертвовал бы ни одной се-
кундой из времени, отведенного на сон), поскольку он любил
все, что относилось к природе, — он умел кричать чибисом и
знал два разных крика: один — чтобы подманить птиц, а дру-
гой — чтобы их прогнать. А когда я сказал, что отправляюсь в
путешествие вокруг озера Лох-Гилл и буду ночевать в лесу, он
выразил полное одобрение и распорядился, чтобы меня покор-
мили отдельно, в удобный для меня час. Я не сказал ему всего
184
о цели своего предприятия — у меня тогда появилось новое
заветное желание. Отец прочел мне отрывок из «Уолдена», и
я мечтал, что когда-нибудь буду жить в домике на маленьком
острове под названием Иннишфри, а этот остров был как раз
напротив Слишского леса, где я собирался провести ночь.
Я воображал, что подавлю в себе плотское желание и мысли
о женщинах и о любви и буду жить как Торо, пытаясь обрести
мудрость. Среди легенд графства была история о дереве, когда-
то росшем на этом острове, чьи плоды были пищей богов; де-
рево охранялось ужасным чудовищем. Одна девушка жаждала
попробовать плодов с дерева и велела своему возлюбленному
убить чудовище и сорвать плоды. Он так и поступил, но отве-
дал плодов, и сила, заключенная в них, убила его; добравшись
до берега, где возлюбленная ждала его, он умер. А она, в скорби
и раскаянии, тоже доела их и умерла. Я не помню, отчего я вы-
брал этот остров: из-за его красоты или из-за этой легенды, но
я не переставал мечтать о жизни на нем до двадцати двух или
двадцати трех лет.
Я отправился из Слайго около шести вечера и шел не спе-
ша, так как вечер был прекрасный; к тому времени как стемне-
ло и было пора ложиться спать, я уже был в Слишском лесу, но
спать не мог, и не потому, что мне было неудобно на моем каме-
нистом ложе, а из-за страха перед лесным обходчиком. Кто-то
сказал мне, хотя вряд ли это было правдой, что он делает обход
в самое неожиданное время. Я все думал, что сказать, если он
меня обнаружит, и не мог придумать ничего такого, чему бы он
поверил. Однако я увидел мой остров в первых лучах зари и за-
помнил, когда начинают петь те или другие птицы.
Я вернулся на следующий день домой невероятно усталый
и сонный, пройдя около тридцати миль, частью по плохой до-
роге и болотистым местам. Потом долгое время служанка мое-
го дяди (не Мэри Бэттл, которая тогда медленно выздоравлива-
ла после болезни, да и не позволила бы себе такой вольности)
начинала хохотать, когда я упоминал о своем походе. Она по-
лагала, что я провел ту ночь совсем иным образом, выдумав
фальшивый предлог, чтобы обмануть дядю, и говорила, к мое-
му великому смущению, поскольку я был стыдлив, как старая
дева: «Ясное дело, вы устали».
Как-то раз, гостя у дяди в Россас-Пойнт, где он жил не-
сколько месяцев в году, я около полуночи постучался к одному
из моих кузенов и попросил его выйти со мной в море на яхте,
потому что мне надо было точно узнать, какие морские птицы
кричат перед рассветом. Он возмутился и отказал мне; но тут
его старшая сестра, которая слышала, что я говорил, подошла
185
и сказала, чтобы он не смел никуда уходить, и это так его разо-
злило, что он тут же закричал, чтобы ему принесли непромо-
каемые сапоги. Он вышел из дома в очень мрачном настроении,
потому что, как заявил он, люди его уважают и пока еще ни-
кто не называл его сумасшедшим, как меня; потом мы зашли к
одному деревенскому парню и с трудом подняли его с постели.
Мы вышли в море и закинули сеть, так как кузен надеялся, что
его репутация будет восстановлена, если мы поймаем рыбу, но
ветер стих и наша яхта заштилела. Я завернулся в грот и уснул,
поскольку в те годы я мог спать где угодно. Проснулся я перед
рассветом и увидел, что мой кузен и деревенский парень выво-
рачивают карманы в поисках денег, и тоже стал шарить в карма-
нах. Они увидели рыбачью лодку, возвращавшуюся из Рафли с
уловом, и хотели купить рыбы и сделать вид, что это они ее пой-
мали, — но наши карманы были пусты. Крики птиц были нуж-
ны мне для поэмы, которая через пятнадцать лет превратилась
в пьесу «Туманные воды»; в ней было бы много живых наблю-
дений, если бы я написал ее в то время, когда впервые задумал.
Я снова поймал то освещение, какое бывает при ветре, которое я
так любил ребенком. Я убедил себя, что страстно люблю рассвет,
и эта страсть была в значительной мере надуманной и показ-
ной, — так, играя, придумывает себя ребенок, — но в ней при-
сутствовала и искренность. Много лет спустя, закончив поэму
«Странствия Ойсина», я понял, что не удовлетворен ею — этой
картиной в псевдомногозначительных желтых и тускло-зеленых
тонах, унаследованных от романтизма; и тогда я сознательно
изменил свой стиль, добиваясь эффекта, который производят
клубящиеся облака и холодный свет. Я отбросил традиционные
метафоры и сделал более свободным ритм; и, осознав, что пози-
ция критика жизни свойственна английским поэтам, а мне чуж-
да, насытил свою поэзию чувством — но таким, которое я для
себя определил как холодное. Для сына художника естественно
считать, что можно написать пейзаж, который символизирует
определенное духовное состояние и притягивает к себе с такой
же силой, с какой кошку влечет к валериане.
XVIII
Я написал длинную пьесу на сюжет, навеянный одним из ран-
них рисунков отца. Королевская дочь любит Бога, который в детстве
явился ей в сияющем небе над садом, и, чтобы стать достойной его
и возвыситься над смертными, делается безжалостной и соверша-
ет преступления, и наконец убивает отца, чтобы стать королевой.
186
Она сидит в тронном зале и ждет, когда Бог появится среди при-
дворных; один за другим они чувствуют, как их охватывает холод, и
умирают, потому что невидимый для всех, кроме нее одной, ее Бог
появился в зале. Наконец он оказывается у подножия трона, и она,
душой снова перенесенная в сад, умирает, лепеча как дитя.
XIX
Однажды, когда я плавал под парусом с моим кузеном, па-
рень, который был нашим матросом, стал рассказывать нам о
мюзик-холле в соседнем порту и о том, как девушки там отдают-
ся мужчинам, и все это с такими гиперболами, словно речь шла о
той куртизанке, именем которой назван город, или о самой цари-
це Савской. В другой раз он пожелал, чтобы мой кузен проплыл
около пятидесяти миль вдоль берега и пристал около каких-то
домов, где, как он слышал, были девушки, «и нам там будут
очень рады». Он просил очень горячо и взволнованно (кажется,
глаза у него сверкали), но едва ли надеялся уговорить нас, и, воз-
можно, все эти необычайные сцены жизни и секса были игрой
его воображения. Однажды мы с молодым жокеем, который так-
же был берейтором и в свое время тренировал нескольких лоша-
дей моего дяди, сидели в его рабочей комнате, и, пока мы жарили
индейку для нашего рождественского обеда, поворачивая ее на
вертеле над огнем, он рассказывал мне о распутстве англичан.
Он ездил в Англию на бега и встретил там двух лордов, которые
«всегда обменивались женами, когда ездили отдыхать на конти-
нент». Его самого однажды тоже ввели в искушение, и он пошел
домой с женщиной, но, случайно дотронувшись до своего на-
плечника, увидел в воздухе ангела с белыми крыльями. Вскоре я
уже не встречал его, и мой дядя сказал, что он совершил какой-то
бесчестный поступок, связанный с лошадью.
XX
Я взбирался верхом на гору в Хоуте и услышал позади себя
стук колес; со мной поравнялась и остановилась коляска, запря-
женная пони. В ней сидела хорошенькая девушка без шляпы,
которая сама правила. Она сказала мне, как ее зовут и что у нас
есть общие знакомые, и попросила меня ехать рядом с коля-
ской. После этого я стал проводить много времени в ее обще-
стве и скоро влюбился. Однако я не говорил ей о своей люб-
ви, потому что она была помолвлена. Она избрала меня своим
187
конфидентом, и я знал все об ее ссорах с возлюбленным. Не-
сколько раз он разрывал помолвку, и она заболевала, и друзья
их мирили. Иногда она писала ему по три раза на день, но ей
все равно был нужен конфидент. Она была взбалмошна, умела
талантливо передразнивать людей, иногда у нее бывали присту-
пы набожности. Помню, как она плакала на проповеди, называ-
ла себя грешницей, а потом изображала это в комическом виде.
Я посвятил ей несколько плохих стихотворений и провел не
одну бессонную ночь, негодуя на ее жениха.
XXI
В Баллисодере как-то произошло одно событие, которое
живо воскресило суеверия моего детства. Я не знаю, когда это
было, потому что события этого периода, так же как и детства,
не выстраиваются в определенной последовательности. Я го-
стил в Авена-Хаус, где жили мой двоюродный брат — молодой
человек несколькими годами старше меня, кузина — девушка
моего возраста и, кажется, еще одна сестра, которая была на-
много старше. Кузина, моя ровесница, часто рассказывала мне
о странных видениях, являвшихся ей в Баллисодере или в Рос-
сес. Однажды к окну подошла старуха ростом в три-четыре
фута, опиравшаяся на посох, и посмотрела на нее, а иногда
она встречала на дороге людей, которые спрашивали: «Как по-
живает такой-то?», называя кого-нибудь из членов ее семьи, и
она понимала, хотя не могла этого объяснить, что они явились
из мира иного. Однажды она заблудилась в хорошо знакомом
месте, на поле, а когда нашла дорогу, то серебряная накладка
на набалдашнике трости, которую ей дал брат, исчезла. После
одна деревенская старуха сказала: «У тебя есть среди них дру-
зья, и поэтому вместо тебя они забрали серебро».
Хотя все это было много лет назад, но то, что я сейчас рас-
скажу, я, по-моему, запомнил точно, потому что недавно кузина
сама записала воспоминание об этом, и оно совпало с моим. Она
сидела у старомодного зеркала и читала, а я тоже читал в другом
конце комнаты. Вдруг я услышал такой звук, словно кто-то бро-
сил в зеркало горсть гороха. Я сказал ей, чтобы она пошла в со-
седнюю комнату и постучала по стене с другой стороны, чтобы
проверить, не оттуда ли послышался звук, и, пока я был один в
комнате, прямо у моей головы из-за панели совсем другой стены
послышался звук тяжелого удара. Позднее, в тот же день, слу-
жанка услышала тяжелые шаги, раздававшиеся в пустом доме,
а вечером, когда я со своими двумя родственниками пошел про-
188
Пуляться, кузина вдруг увидела, как земля под деревьями ярко
^светилась. Я не видел ничего, но потом мы перешли на другой
берег реки и пошли вдоль него, мимо старого кладбища и того
места, где, как говорили, стояла деревня, разрушенная, кажется,
во время войн XVII века. Вдруг мы все увидели, как над рекой,
там, где стремнина, движется огонь. Он был похож на очень яр-
кий факел. Через секунду кузина увидела человека, двигающе-
гося в нашем направлении, который потом исчез в реке. Я все
время спрашивал себя, не обман ли это зрения. В конце концов,
возможно, хотя было трудно в это поверить, что кто-то шел по
Яоде с факелом. Но тут мы увидели огонек у подножия Нок-на-
Рей, на расстоянии семи миль, и он начал двигаться вверх по
Склону. Я заметил время по своим часам; через пять минут он
достиг вершины, а я, часто взбираясь на горы, знал, что никто из
людей не может двигаться с такой скоростью.
С тех пор я бродил по развалинам древних фортов и по
холмам, где обитали феи, и расспрашивал старух и стариков,
а когда я чувствовал себя совсем измотанным или несчастным,
то мечтал о таком конце, который нашел Честный Томас. Мой
разум отказывается верить, что живого человека можно пере-
нести в потусторонний мир, но чувства говорили иное — а по
поверьям крестьян, это было легко. Однажды, когда я заполз
ft каменный коридор в одном из фортов, лоцман, бывший со
мной, крикнул мне: «У вас все в порядке, сэр?» А как-то вече-
ром, когда я подходил к Россес по дороге из Слайго, справа от
меня, на травянистом склоне, спускавшемся к дороге, на вы-
соте семи-восьми футов, вспыхнул огонь, и тут же вдруг заго-
релся огонь и на Нок-на-Рей. Я быстро пошел вперед, веря и не
веря (но в глубине души не сомневаясь), что я снова видел те
огни, что и тогда, у реки в Баллисодере. Я стал иногда говорить,
что следует верить во все, во что верили люди в разных стра-
нах и в разные эпохи, и отвергать что-либо из этого только на
основании веских доказательств, вместо того чтобы начинать
все с чистого листа и верить только в то, что можно доказать.
Но я всегда был готов отрицать или превратить в шутку то, что
все же было моим тайным убеждением. Когда же я в свое время
читал Дарвина или Гексли и верил им, мне хотелось, имея на
своей стороне признанные авторитеты, со всеми спорить.
XXII
Я больше не ходил в школу на Харкорт-стрит, и мы пере-
ехали из Хоута в Ратгар. Я теперь поступил в художественное
189
училище на Килдэр-стрит, но учил меня отец, время от времени
приходивший туда. Учителя оставили меня в покое, потому что
им нравилось, чтобы мазки ложились гладко, а линия была очень
четкой, и вообще они ценили только гладкость и аккуратность.
Когда отец поправил один рисунок, где был скопирован
«Дискобол», быстро нанеся прерывистые штрихи, сразу сде-
лавшие плечо рельефным, то для наших учителей рисунок
потерял всякий смысл — а я по большей части еще преувели-
чивал все приемы отца. Правда, иногда, соревнуясь с кем-то из
студентов, работавших рядом со мной, я тоже пытался рисовать
гладко и аккуратно. Однажды я помог соседу, у которого явно не
было художественных способностей, сделать рисунок с какого-
то гипсового фрукта. В благодарность за это он рассказал мне
свою историю. «Меня не интересует искусство, — сказал он, —
я хорошо играю на бильярде, я один из лучших игроков в Дубли-
не, но мой опекун сказал, что я должен приобрести профессию;
тогда я спросил у друзей, куда можно поступить без экзаменов, и
вот я здесь». Возможно, что и у меня было не больше оснований
пребывать в этом училище. Отец хотел, чтобы я учился в Коллед-
же Троицы, а когда я отказался, промолвил: «Там учились мой
отец, и дед, и прадед». Я не сказал ему, что слишком слабо знаю
классические языки и математику, чтобы выдержать экзамен.
Среди моих соучеников был один несчастный «деревенский
гений», посланный в Дублин каким-то помещиком-меценатом
из Коннахта. Он писал религиозные картины на простынях,
прикрепив их на стены своей спальни, в том числе «Страшный
Суд». Был и один шалый молодой человек, бывало приходив-
ший по утрам в училище в ожерелье из маргариток; был там и
Джордж Рассел, «АЕ», поэт и мистик. Он не копировал модель,
как это пытались делать мы, потому что перед его взором вста-
вали иные образы (из них я помню св. Иоанна в пустыне), и
он уже тогда рассказывал нам о своих видениях. Однажды он
объявил, что уходит из училища, так как у него слабая воля, а
искусство или какое-нибудь другое эмоциональное занятие мо-
гут только еще больше ослабить ее.
Вскоре я перешел в класс скульптуры, чтобы общаться с не-
сколькими старшими студентами, которые пользовались среди
нас авторитетом. В их числе были Джон Хьюз и Оливер Шеп-
пард, теперь хорошо известные ирландские скульпторы. Впервые
придя в студию, где они работали, я замер на пороге в изумле-
нии. Посередине комнаты работала хорошенькая, кроткого вида
девушка, а все мужчины бранили ее за то, что она застит им свет,
употребляя самые крепкие и замысловатые ругательства, и вся-
чески обзывали ее, а она посреди всего этого спокойно и усердно
190
работала. Тут ближайший студент, видя выражение моего лица,
крикнул: «Она абсолютно глуха, поэтому мы всегда ругаемся на
нее, когда она застит нам свет». На самом деле, как я скоро убе-
дился, все были добры к ней: носили за ней чертежные доски и
прочие принадлежности, а после занятий сажали в трамвай.
У нас не было ни научной основы, ни знания истории живо-
писи, ни твердых критериев. Какой-нибудь студент, например,
показывал остальным иллюстрации во французской газете,
чтобы мы все могли полюбоваться новой статуей Родена, или
Далу, или каким-нибудь помпезным парижским монументом, и
я, если заранее не обсудил это с отцом, восхищался всем без
разбора, подобно всем остальным. Претенциозный памятник
Гамбетте произвел среди нас сенсацию. На нас влияло толь-
ко искусство Франции, где уже побывали один-два из старших
студентов и куда надеялись поехать все. Об Англии хоть что-то
знал один я. Наш самый способный студент выучил итальян-
ский, чтобы читать Данте, но никогда не слышал о Теннисо-
не или Браунинге, и на мою долю выпало принести в училище
хоть какие-то сведения об английской поэзии, особенно о Брау-
нинге, который начал воздействовать на меня, так как казался
мудрым. Не думаю, что я хорошо учился там, потому что много
писал и уставал от этого, а на занятиях мне было скучно. Когда
я был наедине с самим собой и никто на меня не воздействовал,
меня влекли к себе упорядоченная форма, прерафаэлитизм, ис-
кусство, соединенное с поэзией, и я снова и снова шел в нашу
Национальную галерею, чтобы созерцать «Золотую ветвь»
Тернера. Однако, даже если бы я знал, как уйти от стиля моего
отца и тех, кто меня окружал, я был слишком робок для этого.
Я все время надеялся, что отец вернется к стилю своей юности
и превратит в картины некоторые (теперь утерянные) рисунки,
которые все еще хранились в его папках. У него был один ри-
сунок, изображающий горбуна в неопределенно-средневековом
костюме, идущего по подземелью, где стоят кровати, а в них
лежат люди; девушка, приподнявшись с одной из них, схватила
его руку и целует ее. Я забыл, в чем состоит сюжет картины, но
странный старик и драматически-напряженная фигура девушки
с самого детства врезались мне в память1. По-моему, в Библии
есть одно место, где говорится о человеке, который спас город и
ушел, и о нем больше никто не слышал, а потом он вновь появил-
ся там в обличье старого оборванного нищего и смеялся над сво-
ей статуей, возведенной на рыночной площади. Но отец говорил:
1 Я нашел эту картину, и теперь она висит в моем доме. - 1926 г. (Примеч.
У. Б. Йейтса.)
191
«Я должен писать то, что вижу перед собой. Конечно, выйдет
что-то другое, так как моя натура бессознательно выразится
в картине». Иногда я пытался с ним спорить, поскольку на-
чал думать, что философия, которую исповедует он и его
собратья-художники, — недоразумение, рожденное виктори-
анской наукой, а науку я начал ненавидеть ненавистью, достой-
ной монаха; но из этого спора не выходило ничего хорошего, и
я моментально отказывался от того, что говорил, и делал вид,
что на самом деле не верю в это. Мой отец писал много отлич-
ных портретов: ведущих дублинских юристов, университет-
ских знаменитостей или случайных посетителей, которых он
писал бесплатно, если его привлекали их лица; но мне все они
не нравились. В глубине души я думал, что следует изображать
только прекрасное и что прекрасны только древность и грозы.
Я почти поссорился с отцом, когда он написал одну из своих
лучших картин, ныне утерянную, — большой акварельный
портрет чахоточной девушки-нищенки. А картина кого-то из
последователей Мане, выставленная в Ирландской академии,
изображавшая сидящих у кафе кокоток с желтыми лицами, от-
равила мне жизнь на несколько дней; но я был счастлив, когда,
частично благодаря усилиям отца, были привезены и выставле-
ны несколько картин Уистлера, и не согласился с отцом, когда
он сказал: «Представь себе, что ты сделал из своей старой мате-
ри композицию в сером!» Меня не увлекало простое воспроиз-
ведение натуры, и я был убежден, что у творчества свои законы,
но все, на что я был способен, — это подражать отцу. Я не мог
писать ничего кроме портретов и даже сейчас смотрю на людей
глазами портретиста, представляя их в том или ином ракурсе
на том или ином фоне. В то же время я еще во многом был
ребячлив: иногда делал вид, что рисую как одержимый, симу-
лируя то, что я принимал за вдохновение, а иногда торжествен-
но расхаживал, подражая Гамлету, и, останавливаясь у витрин,
смотрел на свое отражение, видел свой галстук, завязанный
слабым морским узлом, и жалел, что он не всегда развевается
на ветру, как шейный платок Байрона на известном портрете.
У меня было столько же идей, сколько и сейчас, но я не знал,
как выбрать из них те, что органичны именно для меня.
XXIII
Мы жили в доме из красного кирпича, имевшего претенци-
озный и вульгарный вид благодаря штрихам грифельного цве-
та, и казалось, что вокруг одни враги. Правда, с одной стороны
192
ясил друг-архитектор, но с другой — глупая толстая женщина
и ее семья. У меня был кабинет, окно которого было напротив
одного из ее окон, и однажды вечером, когда я писал, я услы-
шал издевательские голоса и увидел, что толстуха и ее семей-
ство стоят у окна. Я имею привычку как бы проигрывать то,
что пишу, и громко читать стихи, не замечая этого. Возможно,
я в тот момент стоял на четвереньках или смотрел вниз через
спинку стула, говоря в воображаемую пропасть. В другой раз
одна женщина спросила у меня дорогу, и, пока я соображал, по-
скольку меня так внезапно оторвали от моих мыслей, подошла
женщина, жившая в одном из соседних домов.
Она сказал, что я поэт, и та, что спрашивала дорогу, с пре-
зрением отвернулась от меня. С другой стороны, наш местный
полицейский и кондуктор трамвая, на котором я ездил, узнав от
нашей служанки, что я поэт, восприняли это как исчерпываю-
щее объяснение моей рассеянности. «А-а, — сказал полицей-
ский, который до этого интересовался, почему я хожу, не разби-
рая дороги, — ну, если голова у него занята только поэзией, то
это ничего!» Наверно, я был тощим и изможденным, поскольку
мальчишки на ближайшем перекрестке говорили, когда я про-
ходил: «Эй, вон опять идет Кощей!» Однажды утром, когда отец
шел в студию, он встретил хозяина дома, где она находилась, и у
них произошел такой разговор: «Как вы считаете, это правильно,
что Теннисону дали титул пэра?» — «У меня сомнение только
насчет одного — нужно ли было его принимать: гораздо почет-
нее быть просто Альфредом Теннисоном». Пауза, затем: «Ну,
все мои знакомые считают, что ему нечего было давать титул
пэра». Затем, злобно: «Какой прок от поэзии?» — «О, она до-
ставляет большое удовольствие нашей душе». — «Но не больше
ли удовольствия он доставил бы вашей душе, если бы написал
полезную книгу?» — «О, в таком случае я не стал бы ее читать».
Отец вернулся вечером в восторге от этой истории, но я был не
в состоянии понять, как он мог легко относиться к подобным
мнениям и почему не поспорил с этим человеком всерьез.
Никто из этих людей никогда не видел поэтов, если не счи-
тать одного седого старика, который написал тома простеньких
и слащавых стихов, истратил все свои деньги и совсем сошел с
ума. Он был примелькавшейся фигурой, жил в одном из много-
квартирных домов бедного квартала, где по мостовой среди
булыжников бродили куры и цыплята. Каждое утро он нес до-
мой буханку хлеба и половину отдавал этим курам и цыпля-
там, птицам, или какой-нибудь собаке, или голодной бродячей
кошке. Было известно, что у него только одна комната, а посе-
редине потолка вбит гвоздь, к которому привязаны бесчислен-
193
ные веревки, другим концом закрепленные на гвоздях, вбитых
в стены. Таким образом он создавал себе иллюзию, что живет в
шатре где-нибудь в Аравийской пустыне. Я не мог, как этот ста-
рик, уйти от окружающих домов и от соседей, но ненавидел их
и слышал каждый шепот, замечал каждый мимолетный взгляд.
К нам на несколько дней приехал дед, чтобы показаться
врачу, и у меня было состояние шока, когда я увидел его в на-
шем доме. Отец читал ему вечером «Крушение "Грувнора"»
Кларка Рассела, но доктор запретил это, поскольку дед вставал
посреди ночи и проигрывал бунт на корабле, как я проигрывал
свои стихи, приговаривая: «Да, да, вот так оно, должно быть, и
происходило».
XXIV
Как только мы возвратились в Дублин, отец стал время от вре-
мени водить меня к Эдварду Даудену. Они с отцом были друзья-
ми, когда учились в колледже, и, возможно, хотели возобновить
старую дружбу. Иногда он приглашал нас на завтрак, а потом отец
говорил, чтобы я прочел одно из моих стихотворений. Дауден был
мудрым критиком: никогда не перехваливал меня, но всегда был
доброжелателен, а иногда давал мне почитать книги из своей би-
блиотеки. Его благоустроенный и богатый дом, где все обнаружи-
вало хороший вкус, где поэзию ценили по достоинству, на время
примирил меня с Дублином; приблизительно на пару лет Дауден
стал для меня романтической фигурой. Отец не разделял моего
энтузиазма, и скоро я заметил, что он начинает раздражаться, ког-
да бывает у Даудена. Он иногда говорил, что, когда они были мо-
лоды, он убеждал Дауцена посвятить себя творчеству, и объяснял,
почему он считает, что Дауден — неудачник. Я теперь понимаю,
что он видел в своем друге то, от чего его самого спасло общение
с прерафаэлитами. Отец говорил: «Он не доверяет своей натуре»,
или: «На него слишком влияют те, кто ниже его», или хвалил одно
из его стихотворений — «Отрекшиеся», как пример того, как Дау-
ден мог бы писать. На меня это не действовало, поскольку я
воображал, что у Даудена было прошлое, достойное этого смуг-
лого романтического лица. Я буквально понимал его стихи, кое-
где отмеченные риторикой в духе Суинберна, и верил, что у него
была тайная несчастная любовь; а когда, благодаря собственной
творческой практике, я обнаружил, что некоторые образы любви к
женщине являются принадлежностью определенной поэтической
школы, я все равно продолжал видеть в нем нечто необыкновен-
ное — только теперь стал восхищаться его мудростью.
194
Меня постоянно тревожили философские проблемы. Я, на-
пример, говорил своим товарищам по художественному учили-
щу: «Поэзия и скульптура существуют, чтобы не дать угаснуть
нашим страстям», а кто-нибудь возражал: «Нам было бы гораздо
лучше без страстей». Я мог целую неделю мучиться над вопро-
сом: делает ли искусство нас счастливее — или мы становимся
впечатлительнее и, следовательно, несчастнее? И тогда я говорил
Хьюзу или Шеппарду: «Если я не могу быть уверен, что искус-
ство делает нас счастливее, я больше никогда не буду писать».
Если я говорил о таких вещах с Дауденом, он с добродушной
иронией отмахивался от них: казалось, что он выше всех, и те-
перь я видел в нем свой идеал мудреца. Мне скоро предстояло
узнать: тот, кто хочет стать лирическим поэтом, самой природой
и искусством предназначен играть одну из полдюжины традици-
онных ролей: любовника, святого, мудреца или сенсуалиста, или
того, кто просто презирает жизнь; только эта «горькая удача» мо-
жет открыть перед ним все богатство форм и средств выражения.
Я чувствовал это инстинктивно еще до того, как понял.
Меня тогда раздражало, что отец называл иронию Даудена ро-
бостью, но и теперь, спустя много лет, он не изменил своего мне-
ния, поскольку всего несколько месяцев назад написал мне: «Го-
воря с ним, ты как будто говорил со священником. Приходилось
выбирать слова, чтобы не напоминать ему, чем он пожертвовал
ради своего сана». Однажды после завтрака Дауден читал нам не-
которые главы своей неопубликованной книги «Жизнь Шелли», и
я, для кого «Освобожденный Прометей» был священной книгой, с
наслаждением его слушал. Однако я похолодел, когда он объяснил,
что разлюбил Шелли и не написал бы этого, если бы не давнее
обещание родственникам поэта. Когда книга была опубликована,
Мэтью Арнольд насмехался над некоторыми банальностями и не-
лепостями, которые, как понимали мы с отцом, выдавали раздра-
жение или беспомощность добросовестного человека, прячущего
от самого себя отсутствие симпатии к предмету.
Хотя моя вера в него была поколеблена, я рассердился и разо-
чаровался, только когда он стал побуждать меня читать Джордж
Элиот; я даже довел дело до ссоры — или почти что довел. Я читал
все романы Виктора Гюго и пару романтических сочинений Баль-
зака и совсем не собирался восхищаться Джордж Элиот. Казалось,
она испытывает недоверие или отвращение ко всему, что припод-
нимает нас над прозой жизни. Кроме того, она хорошо знала, как
внушить такое же отвращение другим, — используя авторитет
средне-викториаиской науки или привычный ход мысли, укоре-
ненный в той же науке, — и потому я, в свое время поддавшись
гипнозу того, что сейчас ненавидел, снова сомневался, что в жиз-
195
ни есть нечто великолепное. Это беспокоило и тревожило меня, но
когда я заговорил о Джордж Элиот с отцом, он отмахнулся от нее
одной фразой: «А-а, она была уродка и ненавидела красивых муж-
чин и женщин», — и начал превозносить «Грозовой перевал».
Только на днях, достав том писем Даудена, я обнаружил,
что дружба между ним и моим отцом на самом деле долгие
годы была враждой. В шестидесятых годах, живя на Фицрой-
роуд в Лондоне, отец написал ему, что «Братство», под которым
он подразумевал поэта Эдвина Эллиса, Неттлшипа и себя, «нена-
видит Вордсворта», а Дауден, забыв, что новая неделя принесет
отцу новые настроения и антипатии, ответил торжественным и
огорченным письмом. Отец тогда написал, что Дауден слишком
верит в интеллект, что самое ценное в образовании — пробудить
эмоции и что это не равнозначно поощрению возбудимости.
«В абсолютно эмоциональном человеке, — писал он, — малей-
шее пробуждение чувства — это гармония, в которой звучит каж-
дая струна каждого чувства. Возбуждение — свойство недоста-
точно эмоциональной натуры, это резкое звучание всего одной
или двух струн». Живя в свободном мире, привыкнув к веселому
и свободному обмену мыслями, характерному для разговора рав-
ных —тех, кто говорит и пишет ради отыскания истины, а не для
просвещения масс, — отец решил, еще когда им обоим было по
двадцать с лишним лет, что Дауден провинциален.
XXV
Я вышел из-под влияния отца, только когда начал изучать
психические явления и мистическую философию. Он был по-
следователем Джона Стюарта Милля и поэтому никогда не раз-
делял убеждения Россетти, что совершенно неважно, Солнце
ли вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Но бла-
годаря этим новым исследованиям, этой реакции против обще-
признанной науки, я наконец ощутил, что нашел союзников
своим сокровенным мыслям.
Однажды, когда я был в гостиной Даудена, слуга доложил
о приходе директора моей школы, ныне покойного. Я, долж-
но быть, покраснел или побледнел, поскольку Дауден, сказав
что-то дружески-ироническое, увел меня в другую комнату, и
я оставался там, пока посетитель не ушел. Через несколько ме-
сяцев, когда я снова увидел директора, я вел себя смелее. Мы
случайно встретились на улице, и он сказал: «Я хочу, чтобы вы
использовали свое влияние на такого-то, поскольку он все вре-
мя занимается какой-то мистикой и провалится на экзаменах».
196
Я очень встревожился, но сумел произнести в ответ, что, мол,
сыны века сего догадливее сынов света. Он отошел, отрывисто
сказав: «Всего хорошего». Не думаю, что даже в этом возрас-
те я мог бы удариться в подобную высокопарность, если бы не
разволновался. Однако он возбудил во мне все мое негодование.
За меня были и мои старые, и мои новые союзники. «Промежу-
точные экзамены», которые я всегда отказывался сдавать, и для
ученика, и для учителя означали только деньги, и больше ни-
чего. Отец воспитал меня так, чтобы, учась в школе, я никогда
не думал о будущем или о каких-то практических результатах.
Я даже помню, как он сказал: «Когда я был молод, определе-
нием джентльмена было: человек, который не занят исключи-
тельно своей карьерой». И вот этот учитель захотел оторвать
моего друга от поисков самой важной из истин. Мой друг, учив-
шийся тогда в последнем классе, был «образцовым учеником»,
его снова и снова признавали лучшим во всей Ирландии, но
теперь мы с ним знакомились с теорией «одической энергии»
барона Рейхенбаха и читали брошюры, издаваемые Теософским
обществом. Мы постоянно бывали в музее на Килдэр-стрит и
занимались тем, что водили руками по стеклянным витринам,
чувствуя или веря, что чувствуем, одическую силу, истекающую
через стекло из больших кристаллов. Мы также находили булав-
ки с завязанными глазами и читали доклады о наших открытиях
в Герметическом обществе, которое собиралось в мансарде на
Йорк-стрит. Когда мы основали наше общество, я предложил на
обсуждение следующую идею: то, что великие поэты утверж-
дали в свои высшие моменты, есть наибольшее приближение к
истинной религии; их мифология, их духи воды и ветра являют-
ся буквальной истиной. Когда я читал «Освобожденного Про-
метея», эта мысль не оставляла меня, и я нуждался в помощи,
чтобы исследовать с такой точки зрения всю литературу. Вскоре
я вызвал раздражение отца, определив истину как «драматиче-
ски адекватное высказывание величайшего из людей». А если
бы меня попросили дать определение «величайшего из людей»,
я бы, возможно, ответил: «Мы можем только найти его, как Го-
мер нашел Одиссея, когда искал для себя тему».
Мой друг написал в какое-то миссионерское общество,
чтобы они отправили его на острова Тихого океана, а я тем
временем предложил ему почитать «Жизнь Иисуса» Ренана
и «Эзотерический буддизм». Он отказался от обеих книг, но
через несколько дней, готовясь к экзамену в библиотеке на
Килдэр-стрит, в свободную минуту спросил «Эзотерический
буддизм» — и стал эзотерическим буддистом. Он написал
миссионерам, что отзывает свое письмо, и подал просьбу о
197
вступлении в Теософское общество в качестве «челы». Теперь
его раздражало отсутствие подобного же рвения во мне, по-
скольку я оставался где-то на полдороге между этими двумя
книгами; возможно, на меня влиял скептицизм отца. Я ска-
зал — и мой друг решил, что это отличная шутка, хотя я был
серьезен,— что даже если бы в душе я был в чем-то уверен,
то не знаю «ни одного человека с даром убеждения». Некоторое
время мне было стыдно перед ним за то, что люди моего круга
не проявляют пыла в вопросах веры, и я спрашивал себя: может
быть, его мир, где вера — это все (он был сыном известного ли-
дера оранжистов), лучше, чем тот, к которому принадлежу я? Он
сам предложил немедленно обратить в новую веру другого «об-
разцового ученика», умного мальчика очень маленького роста
(он стал математиком, живет в Дублине, а ростом по-прежнему
ниже пяти футов). Когда через день я его увидел, вид у него был
обескураженный. Я спросил: «Он не стал тебя слушать?» — «Да
нет, — ответил он, — я говорил всего минут пятнадцать, и он
сказал, что уверовал». Эти умы, иссушенные многочисленными
экзаменами, явно томились духовной жаждой.
Иногда в наше Общество приходил профессор восточных
языков из Колледжа Троицы, перс по национальности, и расска-
зывал о волшебниках Востока. В детстве ему в лужице чернил
явилось видение — множество духов, певших по-арабски: «Горе
тем, кто не верит в нас». А еще мы уговорили одного философа-
брамина приехать из Лондона и пожить несколько дней у един-
ственного из нас, кто имел собственную квартиру. Это была моя
первая встреча с такой философией, которая подтверждала мои
туманные догадки и казалась одновременно логичной и бес-
конечно глубокой. Он учил нас, что сознание не только расши-
ряет свою поверхность, но что в видении и в размышлении оно
обладает иным модусом и способно изменяться и в высоту, и в
глубину. Красивый молодой человек, лицо которого напомина-
ло типичные изображения Христа, он добродушно подтрунивал
надо мной: сказал, что я пришел к нему на завтрак и начал за-
давать какой-то вопрос, но меня перебил первый гость; потом
я молча ждал до десяти или одиннадцати вечера, пока не ушел
последний гость, и тогда все же докончил свой вопрос.
XXVI
Я очень много размышлял о системе образования, от кото-
рой пострадал, и, полагая, что у каждого есть философское обо-
снование того, что он делает, очень желал встретиться с каким-
198
нибудь учителем и расспросить его об этом. Был момент, когда,
казалось, мое желание исполнится. Меня пригласили прочесть
мою драматическую поэму «Остров статуй» — «аркадскую пье-
су», написанную в подражание Эдмунду Спенсеру, — перед со-
бранием критиков, которое должно было решить, достойна ли
она публикации в журнале Колледжа Троицы. Этот журнал уже
напечатал одно мое стихотворение, что было самой первой моей
публикацией, и мое имя было уже кое-кому знакомо. Мы со-
брались в квартире мистера Ч. X. Олдема (теперь он профессор
политической экономии в нашем новом университете), и, хотя
решающий голос принадлежал профессору Бери, тогда совсем
молодому, мистер Олдем созвал порядочное число слушателей.
Когда чтение было окончено и поэма одобрена, я, не помню поче-
му, оказался наедине с одним молодым человеком, который, как
мне сказали, был учителем. Я молчал, собираясь с духом, и он
тоже молчал; и потом я сказал без всякого предисловия: «Знаю,
вы приведете в защиту общепринятой системы образования тот
довод, будто она закаляет волю, но я уверен, что это только ви-
димость, потому что она подавляет все порывы». Тут я остано-
вился, так как меня одолела робость. Он ничего не ответил, но
улыбнулся и посмотрел удивленно, как будто бы я сказал: «Вы
скажете, что это персидское одеяние, — но его надо сменить».
XXVII
Я начал часто посещать клуб, основанный мистером Олде-
мом, но не потому, что мне там так уж нравилось, а благодаря
тайному честолюбивому желанию. Я хотел обрести самообла-
дание, научиться играть с враждебными мне умами, как Гам-
лет, — так сказать, смотреть не мигая в глаза льву. В Ирландии
ожесточенные споры, вышедшие из моды в Англии, были все
еще обычной манерой разговора, и в этом клубе юнионисты и
националисты могли перебивать и оскорблять друг друга, не
стесняя себя рамками официального и сдержанного стиля, по
традиции принятого в публичных выступлениях. Иногда они
меняли тему и обсуждали социализм или какой-нибудь фило-
софский вопрос, но выяснялось, что это только видимость, а на
самом деле продолжается все тот же ожесточенный спор. Я го-
ворил с легкостью и, как мне казалось, хорошо до тех пор, пока
кто-нибудь не позволял себе грубость, и тогда я замолкал, или
доводил свое мнение до абсурда, или запинался и путался, или
сам поддавался каким-нибудь партийным пристрастиям. Потом
я часами вспоминал свои слова и исправлял ошибки. Обнару-
199
жив, что я сохраняю самообладание только среди близко знако-
мых мне людей, я часто ради тренировки ходил в незнакомый
дом, где, как я знал, проведу ужасный час. Я тогда не пони-
мал, что самообладание Гамлета — результат не тренировки,
а равнодушия и мягкости, укрощающей страсть, и что менее
героические души могут надеяться обрести такое самооблада-
ние лишь в старости.
XXVIII
У меня было очень мало денег; однажды сборщик налога на
металлическом мосту через Лиффи и бывший с ним приятель за-
смеялись, когда я отказался дать полпенни и сказал: «Нет, я пойду
кругом, через мост О'Коннелла». Когда я в первый раз пришел в
один дом на Ленстер-роуд, в гостиной несколько женщин средне-
го возраста играли в карты; они предложили мне присоединиться
к ним и дали бокал хереса. Херес ударил мне в голову, я прои-
грал шесть пенсов, и потом мне пришлось не один день влачить
нищенское существование. Хозяйкой дома была Эллен О'Лири,
жившая вместе со своим братом Джоном О'Лири, знаменитым
фением, самым красивым стариком, какого мне довелось видеть.
Его приговорили к двадцати годам каторги, но освободили по-
сле того, как он отбыл пять, с тем условием, чтобы он в течение
пятнадцати лет не возвращался в Ирландию. Он ответил прави-
тельству: «Я не вернусь, если Германия начнет войну с вами, но
если войну начнет Франция, я вернусь». Он и его старая сестра
жили как раз напротив оранжистского лидера, к которому он ис-
пытывал большое уважение. Я сперва почувствовал симпатию к
его сестре просто потому, что она лицом и фигурой напоминала
экономку в моей лондонской школе, которая хорошо ко мне от-
носилась, но когда я по-настоящему узнал ее, то увидел, что и
брат, и сестра словно сошли со страниц Плутарха. Она расска-
зывала мне о жизни брата, о возникновении движения фениев, о
последующих арестах (кажется, ее собственный возлюбленный
тоже пострадал), о смертных приговорах, вынесенных на основа-
нии ложных показаний, посреди паники, охватившей общество,
и рассказывала все это без озлобления. В такой кроткой натуре
не было места для фанатизма. Для нее не составляло труда ве-
рить, что у ее оппонентов такие же высокие принципы, как и у
нее самой, и ей не требовалось пришпоривать себя ненавистью,
идя своей трудной дорогой. По первому впечатлению, ее брат был
очень непохож на нее, потому что часто прибегал к божбе — на-
пример, то и дело восклицал: «Господи ты Боже мой!», и если ему
200
не нравились чьи-то слова или поступки, то он высказывал все,
что думал; но вскоре я увидел, что он настолько же справедлив,
насколько она великодушна. «Не было еще ни одного дурного
дела, — говаривал он, — которое бы не защищали благородные
люди по благородным мотивам». Он также никогда не переоце-
нивал людей из-за того, что они разделяют его взгляды, и когда
давал мне почитать стихи Дэвиса и поэтов «Молодой Ирландии»,
которых я тогда совершенно не знал, то не утверждал, что это хо-
рошая поэзия, хотя стихи Дэвиса сделали его патриотом.
Он обладал той моральной высотой, которая всегда воздей-
ствует на молодых людей, — тем более если их отвращают от
себя те, кто имеет твердые принципы, — но прожил свою жизнь
банально. Я начал — как это сделал бы на моем месте любой
другой с такими же взглядами и воспитанием — говорить резкие
и парадоксальные вещи, чтобы эпатировать провинциальную
трезвость, и теперь ироническое спокойствие Даудена пред-
ставлялось мне всего лишь профессиональной позой. Но здесь
передо мной было нечто столь непосредственное, как жизнь
художника. Иногда он говорил такие вещи, которые хорошо бы
звучали в какой-нибудь елизаветинской драме. Для меня стало
наслаждением вызывать у него такие порывы красноречия, по-
скольку все это был материал для моей поэзии. Однажды, когда
я стал защищать одного ирландского политика — его судили как
обычного преступника, что наделало много шума, — доказы-
вая, что он совершил свой поступок ради общего дела, О'Лири
произнес: «Есть вещи, которых человек не должен делать даже
ради спасения нации».
В его доме я познакомился с теми, кто стал впоследствии
моими друзьями: с Кэтрин Тайней, которая тогда еще жила на
ферме своего отца, и с доктором Хайдом, в то время учившимся
в колледже; он нюхал табак, подобно тем крестьянам из Майо,
чьи сказки и песни он записывал. Один постоянный посетитель
смотрел на меня с большой враждебностью — возможно, рев-
нуя ко мне О'Лири, хотя впоследствии он нашел для своей враж-
дебности более веские причины, — это был Джон Ф.Тейлор,
по-своему великий оратор. Недавно в Дублине я услышал, как
один человек бормотал другому одну из его речей, — я мог бы
так бормотать наизусть какое-нибудь стихотворение елизаве-
тинских времен, ставшее частью меня самого. Эта речь была
произнесена во время одного диспута в Дублине — возможно,
на заседании какого-нибудь общества в Колледже Троицы. Тог-
да сначала выступил лорд-канцлер, говоривший взвешенно, без
эмоций, то спокойно и уверенно, то насмешливо. Затем слово
взял Тейлор и сначала говорил очень плохо, запинаясь и под-
201
бирая слова, но вдруг выпрямился и заговорил словно во сне:
«Я представляю себя перенесенным в другой век, в более бла-
городное собрание, и слышу, как говорит другой лорд-канцлер.
Я нахожусь при дворе первого фараона». Далее он вложил в
уста этого египтянина все, что говорил предыдущий оратор, но
теперь это было обращение к сынам Израилевым. «Если, как
вы похваляетесь, у вас есть хоть какая-то духовность, почему
бы не воспользоваться нашей великой империей и не распро-
странить вашу духовность на весь мир? Зачем вам держаться за
эту вашу жалкую нацию? Что значат ее история и ее свершения
по сравнению с историей и свершениями Египта?» Тут он изме-
нил тон и понизил голос: «Я вижу на краю толпы человека, он
стоит и слушает, но не желает повиноваться», — затем голосом,
перешедшим в крик: «Если бы он повиновался, он бы никогда
не сошел с горы, неся в руках скрижали закона, написанные на
языке отверженных».
Я снова и снова бросал вызов Тейлору, словно человек, ис-
пытывающий свою храбрость перед свирепым зверем, но всегда
убеждался, что он превосходит мои худшие ожидания. Я говорил,
цитируя Милля: «Ораторов слышат, поэзию подслушивают».
А он отвечал голосом, исполненным презрения, что все всегда
делается ради слушателей; и однако, в моменты возвышенной
речи, он сам был одинок даже перед большой толпой.
Кроме того, он, то ли из-за своих научных воззрений, то
ли благодаря своей католической ортодоксальности — я так и
не определил, из-за чего именно, — возмущался моей верой в
сверхъестественное. Я помню только один случай, когда я смог
выйти из схватки с ним непосрамленным и непобежденным.
Как-то на вечере у О'Лири я сказал с намеренной категорично-
стью: «Из каждых шести человек пятеро видели призраков»,
и Тейлор, попавшись в мою ловушку, подхватил: «Ну что ж, я
сейчас опрошу всех присутствующих». Я устроил так, чтобы
первым ответил человек, слышавший, как он считал, голос по-
койного брата, а второй была жена одного доктора, жившая в
доме с привидением и встретившая как-то на садовой дорожке
человека с перерезанным горлом, которое «открывалось и за-
крывалось, как рот у рыбы». Тейлор вздернул голову, как норо-
вистая лошадь, но больше никого не спрашивал и в тот вечер
не возвращался к этой теме. Если бы он продолжил, то услы-
шал бы от всех присутствующих подобные же истории, хотя
не обязательно происходившие с ними самими, а мисс О'Лири
рассказала бы ему, что случилось, когда умирал один из бра-
тьев МакМанусов (оба они были известными политическими
деятелями «Молодой Ирландии»). Другой брат, стоя у кровати,
202
увидел, как странная, похожая на ястреба птица влетела в от-
крытое окно и опустилась на грудь умирающего. Он не посмел
отогнать ее, и она, как ему показалось, сидела и смотрела в гла-
за его брату до самого момента его смерти, а затем вылетела в
окно. Кажется, хотя точно я не уверен, мисс О'Лири слышала
эту историю от самого брата МакМануса.
С О'Лири Тейлор был всегда мягок и почтителен, даже если
они не соглашались друг с другом, что бывало часто, — но толь-
ко однажды, и это было много лет спустя, мне показалось, что он
готов включить меня в число своих друзей. Мы случайно встре-
тились на^лице в Лондоне, и он остановил меня порывистым
жестом: «Иейтс, — сказал он, — я вот что подумал. Если бы вы
и... (он назвал другого неприятного ему человека) родились в ма-
леньком итальянском княжестве в средние века, то у него были
бы влиятельные друзья при дворе, а вас бы выслали из страны
и объявили бы награду за вашу голову». Он отошел, не сказав
больше ни слова, а когда мы вновь встретились, то вел себя так
же грубо, как и всегда. Это он, заключенный в самого себя, как
в темницу, а не всегда невозмутимый О'Лири, вспоминается мне
как трагическая фигура времен моей юности. Та же страсть ко
всякому моральному и физическому совершенству, которая при-
тягивала его к О'Лири, заставляла его упрашивать приятеля дать
ему поносить на несколько дней кольцо или булавку для галсту-
ка и наделила его сердцем, которое воспламеняла каждая хоро-
шенькая женщина. Сомневаюсь, чтобы он был счастлив в своих
романах, поскольку те, кого привлекал его мощный интеллект, я
думаю, должны были испытывать отвращение к его грубым ры-
жим волосам, некрасивому тощему телу, напряженным, словно
у деревянной куклы, движениям, к его плохо сложенному об-
трепанному зонтику. И все же с женщинами, как и с О'Лири, он
был мягок, почтителен, почти робок.
Одно из обществ «Молодой Ирландии», президентом которо-
го был О'Лири, собиралось в лектории рабочего клуба на Йорк-
стрит; четыре или пять студентов университета, я и иногда Тейлор
делали там доклады об ирландской истории и литературе. Высту-
пления Тейлора всегда были событием, и, когда в ходе речи или
лекции он читал стихи Томаса Дэвиса, для меня это было убеди-
тельной демонстрацией того, как велико может быть воздействие
стихов, когда их декламирует человек, почти опьяневший от рит-
ма, в момент наивысшей интенсивности, на вершине, до которой
постепенно поднялась его мысль. Стихи, которые при чтении на
бумаге выглядели плоскими и пустыми, преображались от его го-
лоса, красоту которого в основном составляли странный, резкий
тембр, благородство тона и чувство стиля. Мой отец всегда читал
203
вслух стихи с такой же энергией и с большей тонкостью, но ис-
кусство Тейлора было публичным, а искусство отца — камерным,
и именно голос Тейлора звучал у меня в ушах, когда недавно я с
тоской слушал, как один актер читает стихи — «так естественно,
словно это и не стихи», как сказал мне другой, знаменитый, актер.
Я произнес там много речей, — как я думаю, больше для трени-
ровки самообладания, чем из желания ораторствовать.
Однажды наши диспуты возбудили такие страсти, что
это вылилось на страницы газет и на улицы. Среди нас был
один весьма возбудимый человек, который воевал на стороне
Папы против итальянских патриотов и всегда ехал верхом на
белом коне в процессиях наших националистов. Он плохо ладил
с О'Лири, который сказал ему, что «участие в войне на стороне
угнетателей — плохая подготовка к борьбе за освобождение соб-
ственной страны». О'Лири написал открытое письмо в прессу, где
осуждал так называемую «ирландско-американскую динамитную
партию» и определял границы «честной войны». На следующем
заседании бывший папский солдат встал посреди дискуссии на
какую-то другую тему и предложил проголосовать за осуждение
О'Лири. «Я сам, — сказал он, — не одобряю бомб, но считаю, что
нельзя критиковать ни одного ирландца». О'Лири призвал его к
порядку и лишил слова. Тот не подчинился и продолжал стоять.
Те, кто были вокруг него, начали угрожать ему. Он схватил свой
стул и вертел им над головой, крича, что никого не боится. Однако
его схватили сразу несколько человек и вытолкали из зала, и было
назначено специальное заседание, чтобы исключить его. Он на-
писал в газеты и выступил где-то на митинге. «Ни одно общество
"Молодой Ирландии", — заявил он, — не может исключить чело-
века, дед которого был повешен в 1798 году». В назначенный день
мы собрались на специальное заседание, вопрос об исключении
был поставлен, но, прежде чем началось голосование, появился
какой-то человек и в большом волнении объявил, что на улице со-
бралась толпа, что наш папский солдат произносит речь и что в
следующую секунду мы подвергнемся нападению. Трое или чет-
веро из нас побежали к двери и стали там, упершись в нее спи-
нами, а остальные продолжали дискуссию. Это была внутренняя
дверь с узкими стеклянными оконцами, и через них было видно
входную дверь и толпу на улице. Вскоре кто-то спросил нас через
щель в двери, не могли бы мы сделать одолжение и «пропустить
толпу в рабочий клуб, на верхний этаж». Через пару минут по-
слышался сильный шум, стук палок и звон разбитого стекла — и
потом появился хозяин здания, чтобы выяснить, кто будет платить
за разбитую лампу в вестибюле.
204
XXIX
Этим дискуссиям, разговорам с О'Лири и ирландским кни-
гам, которые он дарил мне или давал читать, я обязан всем, что
сделал с тех пор. Я много узнал об ирландских поэтах, писавших
по-английски. Я с волнением читал книги, которые теперь счел бы
непригодными для чтения, и находил романтику в жизни людей,
не обладавших живым умом и не испытавших никаких приключе-
ний. Я не обманывал себя: я знал, как часто они писали холодным
и абстрактным языком, и все же я, никогда не испытывавший же-
лания увидеть дома, где жили Ките и Шелли, спрашивал всех, как
выглядел «Инкедони», потому что Кэлланан назвал его именем
плохую поэму, написанную в подражание «Чайльд-Гарольду».
Помню, как я сказал одному студенту, идя домой после дискус-
сии: «Ирландия не может отринуть привычки, корни которых — в
ее древней военной цивилизации и в церкви, где молятся на латы-
ни. Эти популярные поэты не затронули ее сердца; ее подлинная
поэзия, когда она возникнет, будет выражением возвышенного и
одикокого духа». О'Лири как-то сказал мне: «Ни Ирландия, ни Ан-
глия не могут отличить плохое от хорошего ни в одном виде ис-
кусства, но в отличие от Англии, Ирландия не станет ненавидеть
хорошее, если ей на него укажут». Я начал обдумывать и сооб-
ражать, как бы запечатлеть на этом мягком, еще не затвердевшем
воске истинный образ нации. Я видел, что ирландские католики,
из которых вышло столько политических мучеников, не обладают
вкусом, хорошими манерами и порядочностью той протестант-
ской Ирландии, которую я знал; однако протестантская Ирландия,
казалось, думала только о преуспеянии. Я полагал, что мы могли
бы соединить обе эти половины, если бы у нас была националь-
ная литература, которая бы запечатлела красоту Ирландии и в то
же время была бы свободна от провинциализма благодаря строгой
критике, европейской широте.
XXX
Кто-то из «Молодой Ирландии» дал мне газету, чтобы я
прочел там статью или письмо в редакцию. Я начал лениво чи-
тать стихи, в которых описывался берег Ирландии, увиденный
глазами возвращающегося и умирающего эмигранта. Мои глаза
наполнились слезами, и все же я знал, что стихи написаны пло-
хо — неточные, абстрактные, газетные слова. Я посмотрел на
подпись и увидел фамилию одного политического ссыльного,
который умер всего через несколько дней после возвращения
205
в Ирландию. Стихи тронули меня, потому что в них были под-
линные мысли конкретного человека в драматический момент
его жизни; когда я увиделся с отцом, я был переполнен своим
открытием. Мы должны стараться выражать наши собственные
мысли именно тем языком, каким выражали их в мыслях, — слов-
но в письме близкому другу. Мы никак не должны маскировать
их, ооскольку наша жизнь придаст им силу, так же как жизнь
персонажей пьес придает силу их словам. Высказывание от
первого лица, которое почти исчезло из английской литерату-
ры, может быть таким же прекрасным средством против рито-
рики и абстракции, как и драма. Но отец и слышать не хотел ни
о чем, кроме драмы; высказывание от первого лица, утверждал
он, — просто эгоизм. Я знал, что это не так, но еще не знад, как
объяснить разницу между тем и другим. С тех пор я пытался
точно передавать чувства, испытанные мной, ничего в них не
приукрашивая. «Если я смогу быть искренним и сделать мой
язык естественным, но не описательным и потому прозаиче-
ским, как 8 романах, — сказал я себе, — тогда, если счастье
или несчастье сделает мою жизнь интересной, я буду великим
поэтом, поскольку тогда уже дело будет не в литературе». Од-
нако когда я перечитываю мои ранние стихи, которые дались
мне с таким трудом, я нахожу там мало чего, кроме романтиче-
ской условности, бессознательной драматизации. Проходит так
много лет, пока начинаешь достаточно сильно верить в то, что
чувствуешь, чтоб хотя бы понять, какое это чувство.
XXXI
Кажется, за год до нашего возвращения в Лондон одна моя
знакомая-католичка привела меня на спиритический сеанс в
дом мододого человека, незадолго до того арестованного по
подозрению в принадлежности к фениям, но отпущенного за
недостатком улик. Он и его друзья каждую неделю садились
вокруг стола в надежде на явление духов, а в одном из них об-
наружились способности медиума. Они видели, как из стола
выскочил ящик с книгами, хотя никто до него не дотрагивался,
а на стене задвигалась картина. Нас было человек шесть; наш
хозяин начал делать пассы, пока медиум не уснул, прямо сидя
на своем стуле. Затем потушили свет, догорающий камин туск-
ло освещал комнату, а мы сидели в ожидании. Вскоре у меня на-
чали дергаться плечи и руки. Я легко мог бы это прекратить, но
никогда не слышал о подобных вещах, и мне было любопытно.
Через несколько минут движения стали резкими, и я остано-
206
вил их. Я сидел некоторое время неподвижно, и затем все мое
тело резко распрямилось, словно внезапно отпущенная часо-
вая пружина, и я отлетел назад, к стене. Я снова унял непро-
извольные движения и сел за стол. Все стали говорить, что я
медиум и что, если бы я не сопротивлялся, произошло бы нечто
замечательное. Я вспомнил, что Бальзак когда-то захотел ради
опыта попробовать опиум, но не стал этого делать, потому что
боялся потери воли. Теперь мы все держались за руки, и вскоре
моя правая рука постучала по столу костяшками пальцев моей
соседки. Она засмеялась, и медиум, заговорив в первый раз, с
трудом произнес сквозь свой месмерический сон: «Скажите ей,
что это очень опасно». Он встал и начал ходить вокруг меня,
делая такие жесты, словно что-то отталкивал. Я теперь тщетно
боролся с этой силой, которая заставляла меня делать непроиз-
вольные движения, а они стали такими неистовыми, что стол
сломался. Я попытался молиться, а поскольку не мог вспом-
нить ни одной молитвы, то громко повторял:
О первом преслушанье, о плоде
Запретном, пагубном, что смерть принес
И все невзгоды наши в этот мир,
Людей лишил Эдема, до поры
Когда нас Величайший Человек
Восставил, рай блаженный нам вернул, —
Пой, Муза горняя!
Моя знакомая-католичка вышла из-за стола и, стоя в углу,
начала читать «Отче наш» и «Аве Мария». Потом стало тихо и
так темно, что я никого не видел. На следующий день я расска-
зал кому-то о своем ощущении в тот момент: словно с шумно-
го политического собрания я попал на тихую сельскую дорогу.
Я сказал себе: «Теперь я в трансе, но у меня больше нет жела-
ния сопротивляться». Но когда я посмотрел на камин, то увидел
слабое мерцание света и подумал: «Нет, я не в трансе». Затем я
увидел, как в темноте появились смутные тени, и подумал: «Это
духи», но это были всего лишь спириты и моя знакомая, чи-
тавшая молитвы. Медиум сказал слабым голосом: «Здесь были
злые духи». Я спросил: «Как вы думаете, они когда-нибудь вер-
нутся?», и он ответил: «Нет, думаю, что никогда», и в своем
мальчишеском тщеславии я подумал, что это я изгнал их.
Многие годы после этого я не ходил на сеансы и не вертел
столы, и часто спрашивал себя, что за мощный импульс про-
несся тогда по моим нервам. Была ли это часть меня самого —
возможно, нечто, представляющее постоянную угрозу, — или
это действительно пришло извне, как показалось тогда?
207
XXXII
Я издал по подписке свою первую книгу стихов — многих
подписчиков нашел О'Лири — и книгу рассказов, и тут узнал, что
умерла бабушка, и поехал в Слайго на похороны. Она хотела уви-
деться со мной, но по какому-то недоразумению за мной не посла-
ли. Она услышала, что меня часто видят с красивой и имеющей
большой успех женщиной, и, боясь, что я не делаю ей предложе-
ние, так как беден, хотела сказать мне: «Женщины равнодушны к
деньгам». Дед тоже был при смерти и пережил ее всего на несколь-
ко недель. Я пошел к нему и поразился тому благородству, кото-
рое болезнь придала чертам его красивого лица, и заметил, что он
предсказал перемену погоды по таким тонким изменениям света
и температуры, которые для другого ничего бы не значили. Пока я
сидел у его кровати, ко мне вернулся мой детский страх перед ним,
и я был рад уйти. Я остановился у дяди, через дорогу, и как-то, идя
домой, мы встретили доктора. Тот сказал, что надежды нет и что
нужно сказать это деду, но дядя был против: «Человек может сойти
с ума, если ему сказать, что он умирает». Доктор тщетно уверял,
что все, кто узнавал об этом, напротив, успокаивались. Я слушал
все это с грустью и горечью — но дядя всегда был низкого мнения
о человеческой натуре; даже его чрезвычайно большая терпимость
объяснялась тем, что он и не ожидал ни от кого ничего хорошего.
Неизвестно, поддался бы он уговорам, потому что скоро наступил
конец: дед поднял руки и воскликнул: «Вот она», и, мертвый, упал
навзничь. Еще до того, как он умер, старые слуги этого дома, где
никогда не было шума или беспорядка, занялись мелким мародер-
ством, а после его смерти перессорились из-за каких-то ничего не
стоящих безделушек, стоявших на каминной полке.
XXXIII
Я провел несколько месяцев со своими собственными дет-
ством и юностью, и хотя писал не все время, но думал о них
почти каждый день, и теперь ощущаю грусть и беспокойство.
Дело не в том, что я выполнил слишком мало из задуманного,
потому что я могу довольствоваться и этим; но когда я думаю
обо всех книгах, которые прочел, и о мудрых словах, которые
слышал, и о беспокойстве, которое доставлял родителям, дедам
и бабушкам, и о своих былых надеждах, то вся жизнь, взвешен-
ная на весах моей собственной жкзни, кажется мне приготовле-
нием к чему-то, что так никогда и не наступает.
208
Эта страница
намеренно оставлена
пустой
Из книги
«Кельтские сумерки»
1893
РАССКАЗЧИК
Многие истории, собранные в этой книге, рассказал мне
некий Пэдди Флинн, маленький старичок с блестящими гла-
зами, живший в лачуге под протекающей крышей в деревне
Баллисодер, которую он именовал «самым тихим местечком»
во всем графстве Слайго — у него это означало «самое волшеб-
ное». Хотя многие, конечно, назвали бы «самым» Драмклифф
или Дромахер. Когда я повстречал его в первый раз, он возился
с костром, поставив в стороне ведерко с собранными грибами;
в другой раз я нашел его спящим под живой изгородью и мирно
улыбающимся во сне. Да, он всегда был жизнерадостен, хотя
мне казалось, что в глазах его (быстрых, как глаза кролика, лю-
бопытно выглядывающие из своих морщинистых пещерок) я
замечал меланхолию, которая была едва ли не частью их ра-
дости; ту созерцательную меланхолию, что свойственна самым
непосредственным натурам и всем животным.
А между тем жизнь его была далеко не безоблачной, ибо в
его тройном одиночестве старости, чудачества и глухоты ему
крайне досаждали дети. Возможно, поэтому он всегда пропо-
ведовал радостную невозмутимость. Ему нравилось, например,
рассказывать, как Колумкилле ободрял собственную мать. «Как
вам сегодня, матушка?» — спросил святой. «Хуже», — отвеча-
ла мать. «Пусть будет хуже завтра», — сказал святой. На сле-
дующий день Колумкилле пришел снова, и разговор в точно-
сти повторился, но на третий день мать сказала: «Лучше, слава
богу». И святой ответил: «Пусть будет лучше завтра». Еще он
любил рассказывать, как Господь на Страшном Суде одинаково
улыбается, награждая праведников и осуждая грешников на ге-
еннские муки. У него было много странных видений, укрепля-
ющих его в радости или наводивших на него печаль. Я спросил
его, видел ли он фей, и услыхал в ответ: «Разве я не устал от
них?» Я спросил, видел ли он банши. «Да, — сказал он. — Вон
там, у реки, — она баламутила воду ладонями».
211
«ПРАХ СКРЫЛ ОЧИ ЕЛЕНЫ»
I
Недавно я навестил в округе Килтартан графства Голу-
эй маленькое поселение (о деревне тут говорить, пожалуй, не
приходится), чье название — Баллили — хорошо известно на
западе Ирландии. Это старая башня Баллили, где живут фер-
мер и его жена, дом, в котором живут их дочь с зятем, малень-
кая мельница со стариком-мельником и старые ясеневые дере-
вья, бросающие зеленые тени на маленькую речку и большие
камни брода. Я наведывался сюда два или три раза в прошлом
году, чтобы поговорить с мельником о Старухе Бидди, что еще
жила в Клэре несколько лет назад, и о ее словах: «Средство от
всех напастей находится между двух мельничных колес в Бал-
лили», — имела ли она в виду мох, зеленеющий между струя-
ми воды, или какую другую траву. Я был здесь и этим летом и
наверняка побываю опять до наступления осени, потому что
красавица Мэри Хайнс, чье загадочное имя витает в воздухе
на всех посиделках, умерла здесь без малого шестьдесят лет
назад: мы всегда замедляем шаг там, где красоте было суждено
прожить свой полный горестей век, доказывая нам, что она не
от мира сего. Старик повел меня куда-то в сторону от мельни-
цы и башни по длинной узкой тропинке, почти затерявшейся
в зарослях куманики и терновника, и сказал: «Вот это остатки
фундамента ее дома, но большую часть растащили на построй-
ку стен; козы общипали кусты, которые здесь росли, и они со-
всем захирели. Говорят, она была самой красивой девушкой
в Ирландии, кожа у нее была как первый снег, а на щечках —
румянец. У нее было пять братьев, все, как один, красавцы, но
теперь уж не осталось никого». Я заговорил с ним о том сти-
хотворении на ирландском, которое ей посвятил Рафтери, зна-
менитый поэт; там была такая строчка: «Есть погреб крепкий
в Баллили». Он сказал, что «погреб крепкий» — это большая
промоина, в которую река утекает под землю. Потом он подвел
меня к глубокой заводи, где под большим серым валуном по-
спешила спрятаться выдра, и рассказал, что под утро вся рыба
поднимается из темной воды наверх, «чтобы попробовать све-
жей воды, притекающей с холмов».
В первый раз я услышал об этом стихотворении от одной
старухи, что живет в каких-нибудь двух милях вверх по реке
и до сих пор помнит Рафтери и Мэри Хайнс. Она говорит:
«Я сроду не видала красивее ее и не увижу до самой смерти» — и
еще, что он был почти совсем слепой и «чтобы прожить, бродил
212
ло округе и заглядывал всякий вечер к кому-нибудь на огонек,
тогда все соседи собирались, чтобы послушать. Если принима-
ешь хорошо, он тебе тут же хвалебный стих, а нет — ославит
по-ирландски. Он был величайшим поэтом в Ирландии, и если
бы ему случилось стоять под этим кустом, то обязательно сло-
жил бы о нем песню. Как-то он укрылся под одним кустом от
дождя и сложил о нем хвалебный стих, но когда листва стала
пропускать воду, сложил вместо него другой — хулительный».
Она спела это стихотворение мне и моему другу по-ирландски,
и каждое слово было внятно и выразительно: такими, я пола-
гаю, слова в песне были всегда, пока музыка не сочла для себя
зазорным быть всего лишь облачением слов, текущим и изме-
няющимся в соответствии с их пульсирующим движением. Это
стихотворение не столь непосредственно, как лучшие ирланд-
ские стихи прошлого века, потому что традиционность формы
в нем слишком очевидна, и старому бедному полуслепому че-
ловеку, сочинившему его, приходится говорить в манере бога-
того фермера, предлагающего все лучшее своей любимой; но в
нем есть наивные и нежные строчки. Часть перевода сделана
моим другом, который был тогда вместе со мной, а часть — са-
мими местными жителями. Я нахожу, что в нем лучше переда-
на наивная простота оригинала, чем в большинстве переводов
с ирландского.
Я шел на мессу по воле Божьей,
День увлажнился, и ветер поднялся;
И встретил Мэри Хайнс у развилки дорог,
И я полюбил ее в то же мгновенье.
Я обратился к ней чинно и ласково,
С добрым приветствием, как подобает;
Она сказала: «Рафтери, здравствуй,
Можешь пожаловать к нам в Баллили».
Услыхав ответ ее, я не медлил,
От слов ее сердце во мне встрепенулось,
И пройти было надо всего три поля,
И светлым путь был до Баллили.
Стол был накрыт, и вино играло,
И светловолоса была хозяйка;
Она сказала: «Пей, угощайся,
Есть погреб крепкий в Баллили».
О звезда света, о солнце в жатву,
О янтарные волосы, о моя радость,
213
Хочешь пойти со мной в воскресенье,
Чтоб нам сговориться перед всеми людьми?
Будет песня тебе каждый вечер воскресный,
Пунш на столе и вино, коль захочешь,
Только, Боже Славы, осуши мне дороги,
Чтобы легким путь был до Балл ил и.
Воздух сладкий на этом склоне,
Когда смотришь отсюда на Баллили,
Ежевику рвешь и орехи в долине,
Есть здесь музыка птиц и музыка сидов.
К чему величье, когда пред тобою
Сияет цветок, распускаясь на ветке?
К чему отрицать, и скрывать бесполезно:
Она солнце в небе, что ранит мне сердце.
Нет в Ирландии края, где я не бывал,
От речных долин до горных вершин,
До одетых в камыш берегов Лох-Грайне,
Но такой красоты, как ее, не видел.
Сияли волосы ее и брови,
И были губы ее медовы,
Ей, прекрасной, я дарю эту ветку,
Она сияющий цветок Баллили.
Это Мэри Хайнс, веселая и гордая,
Прекрасная лицом и прекрасная сердцем.
Пусть сотня писцов соберутся вместе —
Не опишут и половины ее достоинств.
Старый ткач, сын которого, как поговаривают, уходит по
ночам к сидам (феям), говорит: «Она была прекраснейшим
созданием, Мэри Хайнс. Моя мать нередко рассказывала мне о
ней, потому что она часто приходила посмотреть, как играют в
мяч, и на ней всегда было белое платье. Одиннадцать мужчин
просили ее руки в один день, но она никому не дала согласия.
Однажды ночью где-то за Кильбеканти собралась компания,
все пили и говорили о ней, и один из них встал и отправился
в Баллили, чтобы ее увидеть, но, дойдя до Клуна, попал в тря-
сину, и наутро его нашли там мертвым. Она умерла от тифоз-
ной горячки». Другой старик говорит, что видел ее, когда был
еще ребенком, но помнит, что самый сильный человек в окру-
ге, некто Джон Мэдден, лишился через нее жизни — простыл,
переправляясь ночью через реку по пути в Баллили». Возмож-
214
но, это был тот же человек, о котором упоминал предыдущий
рассказчик, ведь в народе одно и то же событие преподносят
по-разному. В Деррибрайене, среди безлюдных холмов Эхтге,
мало изменившихся с тех пор, когда в песне пелось: «Олень на
холодной вершине Эхтге слышит волчий вой», — в тех местах,
где и доныне хранят древние песни и старинную важность
речей, до сих пор живет старая женщина, которая помнит ее.
Она говорит: «Никогда еще солнце и луна не светили на такую
красавицу, и кожа у нее была такая белая, что казалась голу-
бой, и на щечках у нее были два маленьких румянца». А старая
морщинистая старуха, та, что живет поблизости от Баллили и
уже рассказала мне столько историй о сидах, говорит: «Я часто
видела Мэри Хайнс, она была и вправду красива. Возле щек у
нее вились две шелковистые пряди — цвета серебра. Я видела
Мэри Моллой, которая утонула потом в реке, и Мэри Гатри, что
жила в Ардрахане, но она обеих бы заткнула за пояс, до того
была хороша. Я и на поминках ее была — что ж! Она повидала
разное на этом свете. Как-то раз я возвращалась домой через
вон то поле и притомилась, и тут-то явилась она, Пойсин Гли-
гейл (сияющий цветок), и подала мне кружку парного молока».
Под «цветом серебра» эта женщина подразумевала просто кра-
сивый и яркий цвет, потому что, хоть один мой знакомый стари-
чок — его уже нет в живых — считал, что она знает «средство
от всех напастей», все же она вряд ли когда-нибудь видела сере-
бро или золото, чтобы отличать одно от другого.
Один человек, живущий у моря в Кинваре, который по
молодости лет не может помнить Мэри Хайнс, говорит так:
«Все сходятся на одном: таких красивых, как она, больше не
встретишь; ее волосы, говорят, были цвета золота. Она была
бедна, но платье ее и в будни выглядело как воскресное. И если
она появлялась где-нибудь в людном месте, тут же начиналось
смертоубийство, потому что все хотели ее увидеть, а уж сколь-
ко было влюбленных в нее, но она умерла молодой. Говорят,
что те, о ком сложили песню, долго не живут».
Есть поверье, что тех, кого сильно любят, забирают сиды,
которые могут использовать силу неуправляемого их чувства в
своих целях, так что, как пояснил мне один старый собиратель
трав, отец может невольно предать в их руки своего ребенка
или муж — жену. Любимых можно охранить, только если, гля-
дя прямо на них, произнести: «Благослови, Господи». Та ста-
рая женщина, что спела мне упомянутую песню, тоже считает,
что Мэри Хайнс, что называется, «забрали»: «Ведь и столько
некрасивых забирали, почему же такую-то не взять? И люди
приходили отовсюду, чтобы посмотреть на нее, и, может быть,
215
находились среди них такие, что не говорили: "Благослови, Го-
споди". Один старик из Дьюраса тоже не сомневается, что ее
забрали, «потому что живы еще люди, которые помнят, как она
пришла на праздник святого и была названа самой красивой
девушкой Ирландии». Она умерла молодой, потому что боги
любили ее, ведь сиды — это боги, и, может быть, это старое вы-
ражение, которое мы забыли воспринимать буквально, прежде
объясняло, каким образом она ушла из жизни. Эти бедные се-
ляне и селянки в своих верованиях и чувствах гораздо ближе к
античному, греческому миру, ставившему красоту у истока всех
вещей, чем нынешние образованные. Она «повидала разное на
этом свете», но все эти старые мужчины и женщины, рассказы-
вая о ней, винят кого угодно, но не ее, и, хотя они могут быть
резкими, сердца их смягчаются, как смягчались сердца троян-
ских старцев, когда Елена появлялась на городской стене.
Поэт, который столь же способствовал ее славе, был и сам
чрезвычайно знаменит на всем западе Ирландии. Некоторые
считают, что Рафтери был почти совсем слепой, и говорят:
«Я видел Рафтери, он был слепой, но все ж таки не настоль-
ко, чтобы ее не увидеть» — или нечто подобное; другие же
полагают, что он был абсолютно слеп, хотя, скорее всего, он
стал таким лишь под конец жизни. В легендах все доведено до
крайности, и слепой там никогда не увидит ни мира, ни солнца.
Я спросил у одного человека, повстречавшегося мне, когда я
искал Пруд Сидов, в котором видели фей: как это Рафтери мог
восхищаться Мэри Хайнс, будучи совсем слепым. Он сказал:
«Я думаю, что Рафтери был совсем слепой, но слепым дано ви-
деть какие-то вещи, и они могут знать больше, и чувствовать
больше, и творить больше, и угадывать больше, чем те, которые
имеют зрение, и им даны особый ум и особая мудрость». Что
он был очень мудр, это вам скажет любой, недаром же он был
не только слепцом, но и поэтом. Тот самый ткач, слова которого
о Мэри Хайнс я уже приводил раньше, говорит: «Его поэзия
была даром Всевышнего, потому что есть три вещи, дарован-
ные нам Всевышним: поэзия, танцы и верность души. Вот по-
чему в старое время какой-нибудь простолюдин, спускающий-
ся с холма, был воспитанней и знал больше, чем сегодня любой
с образованием, ведь прежде-то все получали от Бога»; а не-
кто из Кула говорит: «Стоило ему приложить палец к виску, и
все сразу приходило к нему, словно было написано в книге», а
старик из Килтартана рассказывает: «Как-то раз он стоял под
кустом и разговаривал с ним, и куст отвечал ему по-ирландски.
Некоторые говорят, что отвечал сам куст, но, вероятно, то был
исходивший из куста волшебный голос, что сообщал ему зна-
216
ние обо всем на свете. Потом куст засох, и его до сих пор можно
видеть у дороги на Рахасин». У него есть стихотворение про
этот куст, которого я никогда, однако, не видел; оно как будто
само собой возникло из Котла легенд.
Мой друг встречал человека, бывшего с Рафтери, когда он
умирал, хотя люди говорят, что он умирал в одиночестве; а не-
кто Мортин Гиллейм рассказывал доктору Хайду, что от крыши
дома, в котором он лежал, всю ночь струился к небу какой-то
свет, «и то были ангелы, посетившие его»; и всю ночь в лачу-
ге сиял ослепительный свет, «и то были ангелы, что пришли
проводить его; он сподобился этой чести, потому что он был
такой хороший поэт и пел такие божественные песни». Может
статься, что по прошествии лет тот же Котел легенд, из которо-
го простые смертные выходят бессмертными, претворит Мэри
Хайнс и Рафтери в совершенные символы того, что мы зовем
печалью красоты, а еще — величием и нищетой грез.
II
Недавно я был в одном северном городке и долго говорил
с неким человеком, который в детстве жил в тех же краях. Он
рассказал мне, что когда красавица рождается в семье, где ни-
кто не отличался особенной пригожестью, считается, что ее
красота от сидов и несет с собой несчастье. Он перечислил не-
сколько красавиц, которых он знал, и добавил, что красота еще
никому не приносила счастья. Она дается, чтобы ею гордились
и ее боялись. Жаль, что я не записал его слова тогда же, они
были гораздо выразительней, чем мое воспоминание о них.
1902
СТОЙКОЕ СЕРДЦЕ
Как-то раз один из моих друзей набрасывал портрет моего
«овечьего рыцаря». Дочь старика сидела рядом и, когда разго-
вор зашел о любви и ухаживании, сказала: «Отец, расскажи ему
свою историю». Старик вынул изо рта трубку и сказал: «Никто
и никогда не женится на той, кого любит, — и добавил со смеш-
ком: — Я могу назвать пятнадцать, что нравились мне больше
той, на которой я женился», и он перечислил с дюжину женских
имен. И он стал вспоминать времена своей молодости, когда
он работал на своего деда по материнской линии и люди звали
217
его по фамилии деда — Доран. У него был близкий друг, на-
зовем его Джон Берн, и как-то раз они отправились вдвоем в
Куинстаун дожидаться эмигрантского корабля, который должен
был доставить Джона Берна в Америку. И вот, прогуливаясь по
набережной, они увидели девушку, которая сидела на скамейке
и горько плакала, между тем как двое стоящих перед нею муж-
чин выясняли между собой отношения. Доран сказал: «Кажет-
ся, я знаю, в чем дело. Один — ее брат, а второй — любовник,
и брат, стало быть, отсылает ее в Америку, подальше от этого
приятеля. Как же она плачет! Но ничего, думаю, мне удастся ее
утешить». Через некоторое время брат и любовник удалились,
и Доран принялся прохаживаться перед ней взад и вперед, при-
говаривая: «Славная погода, мисс» — или что-то в этом роде.
Немного погодя она ответила ему, и они стали беседовать все
втроем. Эмигрантский корабль пришел только через несколько
дней; и все это время они втроем очень весело и невинно рас-
катывали на империале, оглядывая местные достопримечатель-
ности. Когда же корабль наконец появился и Дорану пришлось
открыть ей, что он не едет в Америку, она плакала о нем боль-
ше, чем о том своем приятеле. Когда Берн поднимался на борт,
Доран шепнул ему: «Ладно, Берн, я не прочь препоручить ее
тебе, только не женись молодым».
Когда рассказ дошел до этого места, дочка фермера иро-
нически заметила: «Полагаю, отец, твой совет был продикто-
ван исключительно заботой о друге». Старик стал доказывать,
что сказал это безо всякой задней мысли, и дальше поведал о
том, что, получив письмо, сообщавшее о помолвке Берна с той
девушкой, повторил ему в ответном послании свой совет. По-
том он несколько лет не имел о ней никаких известий и, хотя
сам уже успел жениться, нет-нет да и задумывался о том, что
стало с ней. Наконец он поехал в Америку и пытался навести
справки, расспрашивая каждого встречного, но так ничего и
не узнал. Прошло еще несколько лет, жена его умерла, сам он
был теперь богатым фермером и далеко уже не молод. И вот
он опять отправился под каким-то предлогом в Америку и
возобновил свои поиски. Как-то раз он разговаривал в вагоне
поезда с одним ирландцем и, по своему обыкновению, начал
спрашивать его об эмигрантах из таких-то и таких-то мест. На-
конец спросил: «А не слыхали вы о дочери мельника из Иннис-
Рат?» — и он назвал имя женщины, которую разыскивал.
«О да, — сказал его собеседник, — она замужем за моим дру-
гом, Джоном МакКингом, живет на такой-то улице в Чика-
го». Доран приехал в Чикаго и постучался в ее дверь. Она
открыла сама, за все эти годы она «ничуть не изменилась».
218
Он назвался своим настоящим именем, которое вернул себе
после смерти деда, и сослался на человека, с которым позна-
комился в поезде. Она не узнала его, но пригласила пообе-
дать с ними, сказав, что муж будет рад побеседовать с че-
ловеком, который знает его старого друга. Они говорили о
многих вещах, но в течение всего разговора, не знаю уж по-
чему, да и сам он, наверное, не знал, он так и не сказал ей, кто
он такой. За обедом он спросил ее о Берне, и она положила
голову на стол и начала плакать, и плакала так, что он ис-
пугался, как бы муж не потерял терпение. Он не отважил-
ся спросить, что произошло с Берном, и вскоре уехал, что-
бы никогда уже с ней больше не увидеться. Закончив свою
историю, старик сказал: «Передайте этот рассказ мистеру
Йейтсу, может, он напишет об этом стихотворение». Но дочь
возразила ему: «Нет, отец, никто не мог бы написать стихи о
такой женщине». Увы! Я никогда не написал этих стихов; воз-
можно, потому, что это было бы слишком тяжело для моего
собственного сердца, неравнодушного к Елене и ко всем пре-
красным и непостоянным женщинам на свете. Есть вещи, в
которые лучше не углубляться; вещи, о которых можно гово-
рить только очень простыми словами или не говорить вовсе.
1902
НЕУТОМИМЫЕ
Одно из несчастий нашей жизни состоит в том, что нам не-
доступны простые, несмешанные чувства. Мы всегда находим
что-то привлекательное во враге и всегда что-то недолюбливаем
в любимом человеке. Эта путаница чувств и настроений неиз-
менно старит нас, углубляя складки между бровей и очерчивая
резкие круги под глазами. Если бы мы могли любить и нена-
видеть так же простосердечно, как сиды, то, возможно, сдела-
лись бы такими же долгожителями. Пока же их неутомительные
радости и печали будут всегда заключать для нас половину их
очарования. Любовь никогда не теряет у них своей свежести, и
никакое движение светил не отнимет легкости у их танцующих
ног. Крестьяне Донегала помнят об этом, когда копают свои ого-
роды или когда под вечер собираются, усталые от дневных тру-
дов, перед очагом, а чтобы это не забывалось и впредь, они рас-
сказывают свои истории. Рассказывают, что не так давно в доме
одного фермера объявилось два маленьких существа, по виду
молодой человек и девушка; всю ночь они подметали у камина
и наводили всюду порядок. На следующую ночь они появились
219
снова и, в отсутствие фермера, перенесли всю мебель наверх в
одну комнату и, расставив ее вдоль стен — надо понимать,
для пущей торжественности, — начали танцевать. Шли дни,
и люди со всей округи приходили, чтобы поглядеть на это
своими глазами, а они все танцевали и танцевали, и ноги их
не знали усталости. Фермер все это время не отваживался
жить дома, но вот через три месяца он решил, что пора уже с
этим кончать, пошел и сказал им, что идет священник. Услы-
хав об этом, маленькая парочка вернулась в родные края, где
радость их будет продолжаться до тех пор, пока, как говорят
в народе, камыши остаются коричневыми, а это значит, пока
Бог не сожжет этот мир своим поцелуем.
Однако неутомимость свойственна не одним только си-
дам: бывало, что мужчины и женщины под воздействием их
чар обретали более чем сказочные долголетие и свежесть
чувств. Одна из таких смертных родилась очень давно в де-
ревушке на юге Ирландии. Однажды она спала в своей ко-
лыбельке, а мать сидела рядом, баюкая ее, и вдруг откуда ни
возьмись в комнате появилась женщина-сид и сказала, что
девочке суждено стать невестой принца из туманного коро-
левства, но что поскольку нельзя допустить, чтобы она со-
старилась и умерла, когда его любовь будет только в самом
начале своего расцвета, то ей будет дарована жизнь феи. Ма-
тери было велено взять из огня полено и закопать его у себя
в саду, тогда девочка будет жить до тех пор, пока оно оконча-
тельно не истлеет в земле. Полено было закопано, а девочка
выросла, стала красавицей и вышла замуж за принца, кото-
рый явился за ней однажды ночью. Потом прошло семьсот
лет, принц умер, и вместо него стал править другой, и он
тоже женился на этой прекрасной крестьянке; прошло еще
семьсот лет, и тот умер тоже, уступив место другому принцу
и другому мужу, и так продолжалось до тех пор, пока она не
перебывала замужем семь раз. Наконец однажды к ней явил-
ся приходской священник и сказал, что она со своими семью
мужьями и бесконечной жизнью сделалась позором всей де-
ревни. Она отвечала, что очень сожалеет, но это не ее вина,
и поведала ему о том полене, и он сразу же пошел и копал до
тех пор, пока не нашел его; потом полено сожгли, и она умер-
ла и была похоронена как христианка, и все успокоились.
Такой смертной была и Клот-на-Бар, ходила по всему свету
в поисках самого глубокого озера, чтобы утопить в нем свою
уже ставшую для нее обузой жизнь феи: так вот и скакала по
холмам от одного озера к другому, выкладывая пирамиды из
камней в тех местах, где приземлялись ее резвые ноги, пока
220
не нашла самую глубокую воду на свете в маленьком озерке
на вершине Птичьей горы в Слайго.
Маленькая парочка, вероятно, танцует и по сей день, и
та женщина, чья жизнь зависела от полена, и Клот-на-Бар
спят безмятежным сном, потому что им была ведома чистая
ненависть и неразбавленная любовь и потому, что они ни-
когда не утомляли себя разными «можно» и «нельзя» и не
опутывали себе ноги унылой сетью всяких «может быть» и
«пожалуй». Великие ветры прилетели к ним и заключили в
свои объятия.
ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ И ВОДА
Когда я был мальчиком, то прочел у одного французского
писателя, что пустыня вошла в сердце евреев во время их ски-
таний и сделала их такими, какие они есть. Не помню уже, с
помощью каких аргументов он доказывал, что они и поныне
остаются несокрушимыми детьми земли, но вполне вероятно,
что у каждой из стихий есть свои дети. Если бы мы больше
знали об огнепоклонниках, то, наверное, пришли бы к выводу,
что их века ревностного почитания принесли-таки свои пло-
ды и огонь передал им кое-что от своей природы; и я почти
уверен, что вода морей, озер, дождя и тумана сотворила ир-
ландцев по своему подобию. Образы бесконечно возникают в
нашем сознании, словно отражения в каких-то водах. В преж-
ние времена мы были полностью во власти наших мифов, и
боги сопутствовали нам повсюду. Мы беседовали с ними с
глазу на глаз, и рассказов об этом общении у нас сохранилось
больше, чем во всей остальной Европе. Наши селяне и по сей
день разговаривают с мертвыми и с теми, кто, может, никогда
не умирал, если понимать смерть так, как мы ее понимаем;
и даже люди образованные у нас без труда переходят к тому
состоянию покоя, которое на самом деле есть созерцание. Мы
умеем уподобить свое сознание неподвижной, зеркальной
воде, и тогда вокруг нас собираются иные сущности, стремя-
щиеся увидеть в нас свое отражение и, может быть, прожить
какое-то мгновение более яркой, буйной жизнью — на фоне
нашего покоя. Недаром мудрый Порфирий полагал, что все
души появляются на свет благодаря воде и что даже «образы
рождаются в уме от воды».
1902
221
РЕЛИГИЯ МОРЯКА
Стоя на своем мостике или ведя наблюдение из рубки, ка-
питан дальнего плавания много думает о Боге и о мире. Где-
нибудь там, на земле, в поле среди колосьев и маков, люди
могут позабыть обо всем на свете и помнить только о солнце,
припекающем сверху, и о щедрой тени под живой изгородью,
но тот, кто прокладывает путь сквозь мрак и бурю, попросту не
может не думать.
Однажды в июле года два тому назад я ужинал с неким ка-
питаном Мораном на борту «Святой Маргариты», ставшей на
рейд в одной из западных рек. Я сразу заметил, что он человек
бывалый и, как часто бывает среди моряков, весьма неординар-
ный.
— Сэр, — сказал он, — слыхали вы когда-нибудь о капи-
танской молитве?
— Нет, не слыхал, — признался я. — И что же это за мо-
литва?
— Молитва несложная, — отвечал он. — «Господи, дай
мне не повести бровью».
— И что это значит?
— Это значит, — сказал он, — что когда ко мне придут
ночью, разбудят и скажут: «Капитан, мы идем ко дну», чтобы
я тогда не дал маху и не показал слабину. Однажды, сэр, это
было в Атлантике, стою я на мостике, и приходит ко мне тре-
тий помощник, и вид у него такой, что жалко смотреть. «Ка-
питан, — говорит, — мы идем ко дну». Я ему: «Вам известно,
что ежегодно такой-то процент кораблей идет ко дну?» — «Да,
сэр», — говорит он; а я ему: «Разве вам не за это платят?» —
«Да, сэр», — говорит он; а я ему: «Ну так и идите себе ко дну
как мужчина, и черт бы вас там подрал!»
О БЛИЗОСТИ НЕБА, ЗЕМЛИ И ЧИСТИЛИЩА
В Ирландии этот мир и тот, куда мы отправляемся после
смерти, совсем недалеки друг от друга. Я слыхал об одном при-
зраке, который много лет провел в дупле дерева и потом еще
много лет — под аркой моста, а моя знакомая старуха из Майо
рассказывает: «В той стране, где я живу, есть один куст, и вот две
грешные души избрали его себе местом покаяния. Когда ветер
дует в одну сторону, укрывается один, а когда с севера — другой.
Куст весь так и ходит ходуном от их копошения. Я-то не слиш-
ком в это верю, но многие ни за что бы не пошли мимо него
222
ночью». И правда, временами эти миры сходятся так близко,
что самые наши привычные земные вещи кажутся лишь тенями
вещей небесных. Одна дама, с которой я был знаком, увидела
как-то раз деревенскую девочку, бегавшую в длинной, волочив-
шейся по земле юбке, и спросила, почему она ее не подкоро-
тит. «Она была бабушкина, — сказала девочка. — Вы ведь не
хотите, чтобы она ходила там в юбке, которая едва прикрывает
колени? А она умерла всего четыре дня назад». Я читал исто-
рию о женщине, чей призрак преследовал ее родных, потому
что они сшили ей такой короткий саван, что пламя чистилища
обжигало ей колени. Крестьяне уверены, что за гробом их бу-
дут ждать почти такие же дома, как на земле, только солома
на крыше никогда не станет пропускать дождь, белые стены
никогда не утратят своего блеска, а на маслобойне никогда не
будет недостатка в хорошем молоке и масле. И только иногда
какой-нибудь лендлорд, или поверенный, или обмерщик будут,
проходя мимо, просить подаяния, чтобы видно было, как Го-
сподь отделяет праведных от неправедных.
1892 и 1902
ЗОЛОТОЙ ВЕК
Не так давно мне случилось снова быть пассажиром поезда,
подъезжавшего к Слайго. В последний мой приезд туда что-то
не давало моей душе покоя и мне не терпелось получить весть
от тех существ, или бесплотных духов, или кто уж они есть,
что населяют невидимый нам мир. И весть пришла. Однажды
ночью, находясь в состоянии между сном и пробуждением, я
вдруг совершенно отчетливо увидел какое-то черное животное,
полукуницу-полусобаку, которое двигалось по верху каменной
стены, и вскоре это черное животное исчезло, а с другой сторо-
ны появилась белая то ли собака, то ли куница с розовым телом,
просвечивающим через белоснежную шерсть, вся сияющая не-
обыкновенным светом. Тогда я вспомнил рассказы крестьян о
двух чудесных собаках, что ходят по свету, олицетворяя собой
день и ночь, а также добро и зло, и был ободрен этим явно бла-
гоприятным знаком.
Но теперь мне хотелось получить весть иного рода, и слу-
чай, если вообще имеет смысл говорить о случае, принес мне
ее: вошедший в наш вагон незнакомец принялся играть на не-
казистой скрипке, материалом для которой мог бы послужить
разве что какой-нибудь старый ящик из-под ваксы; и хотя я на-
прочь лишен музыкальности, ее звуки возбудили во мне самые
223
странные чувства. Мне казалось, что я слышу жалобный голос
из Золотого Века. Он пел, что мы несовершенны, неполны и
похожи уже не на прекрасно сотканную паутину, но на моток
грубых и спутанных веревок, брошенный в угол. Он пел, что
когда-то мир был приветливым и совершенным и что этот при-
ветливый и совершенный мир существует и поныне, но подо-
бен охапке роз, засыпанных толстым слоем земли. Живущие в
нем феи и самые невинные из духов горько оплакивают наш
падший мир, и жалобы их слышны в шепоте камышей, песне
птиц, ропоте волн и сладком плаче скрипки. Он пел, что кра-
сивые у нас не умны, а умные не красивы, и что наши самые
лучшие мгновения отравлены каплей вульгарности и омраче-
ны внезапными уколами воспоминаний, и что скрипке суждено
вечно плакать обо всем этом. Он пел, что если бы только все,
кто живут в Золотом Веке, умерли, то мы, вероятно, были бы
счастливы, потому что смолкли бы все печальные голоса; но
они должны петь, а мы — плакать до того самого мгновения,
пока не распахнутся ворота вечности.
УКОР ШОТЛАНДЦАМ, ОМРАЧИВШИМ
НРАВ СВОИХ ДУХОВ И ГОБЛИНОВ
Вера в волшебный мир сохраняется не только в Ирлан-
дии. Буквально на днях я слышал об одном шотландском
фермере, который был уверен, что в озере напротив его дома
живет зловещая водяная лошадь. Толкаемый страхом, он
прочесал все озеро сетью, после чего попытался выкачать
его до дна. Найди он ее, водяной лошади пришлось бы не-
сладко. Между тем ирландский крестьянин давно бы уж на-
шел общий язык с этой экзотической тварью. Потому что в
Ирландии между людьми и духами существует что-то вро-
де застенчивой привязанности. Иногда они досаждают друг
другу, но в разумных пределах, считаясь с чувствами другой
стороны. Для тех и для других есть черта, через которую они
никогда не переступят. Ни один ирландский крестьянин не
мог бы обойтись с пленной феей как тот человек, о котором
рассказывает Кэмибелл. Поймав келпи, он привязал ее по-
зади себя к лошади и, когда та вела себя строптиво, усмирял
ее при помощи иглы и шила. Когда они подъехали к реке,
келпи заметалась, испугавшись переправы. Он опять ткнул
ее иглой и шилом. Она закричала: «Шило — куда ни шло, но
избавь меня от этой тонкой, как волос, невольницы (иглы)».
Потом они добрались до трактира, и он навел на нее свет фо-
224
наря, Она сразу упала «как падучая звезда» и превратилась
в студенистый комочек — таков был ее конец. У нас никогда
не стали бы обращаться с духом так, как с ним обращаются
в старой шотландской легенде. Некий дух любил маленькую
девочку, которая всегда приходила за дерном на склон вол-
шебного холма. Каждый день он высовывал из холма руку с
заколдованным ножом, и девочка нарезала этим ножом дерн.
Управлялась она очень быстро, и братьям ее это показалось
подозрительным. Одкажды они решили проследить за ней,
чтобы выяснить, кто ей помогает. И вот прямо у них на гла-
зах из земли показалась маленькая рука, и девочка взяла из
нее нож. Потом, когда дерн был весь нарезан, они увидели,
как она три раза стукнула по земле рукояткой. Маленькая
рука высунулась снова. Тогда они выхватили у девочки нож
и одним ударом отсекли у руки кисть. Дух тут же убрал
окровавленную руку назад в землю, и с тех пор его больше
не видели. Как говорится в легенде, он вообразил, что при-
чиной его несчастья стало предательство девочки.
У вас в Шотландии все рассуждают о Боге и настроены
очень мрачно. Вы и самого дьявола сделали набожным. «Где
вы живете, матушка? И как здоровье пастора?» — обратился
он к ведьме, повстречав ее по дороге. Вы сожгли всех ваших
ведьм. Мы в Ирландии оставили их в покое. Не стану отри-
цать, что «верное меньшинство» выбило одной из них глаз
капустной кочерыжкой 31 марта 1711 года в городке Каррик-
фергус. Но правда и то, что «верное меньшинство» состоит
наполовину из шотландцев. Вы объявили всех обитателей
волшебного мира языческим злом. Будь ваша воля, вы бы
всех их привлекли к суду. В Ирландии многие мужи прихо-
дили к ним и помогали им в их битвах, а они, в свою очередь,
открывали тем секреты трав и даже дозволяли некоторым
слушать свои песни. Каролан заснул на руинах заколдован-
ной крепости, и с тех пор их напевы никогда не покидали
его, благодаря чему он сделался великим музыкантом. Вы в
Шотландии обличали их с кафедры. В Ирландии священники
не отказывали им в совете и душеспасительных беседах. К
несчастью, те же священники признали, что у них нет души
как таковой и что в последний судный день они просто ис-
парятся, как яркий туман; но признали скорее сокрушенно,
нежели со злорадством. Католическая религия предпочитает
поддерживать хорошие отношения со своими соседями. Эти
два взгляда на вещи значительно повлияли в обеих странах
на весь мир духов и гоблинов. Если вы хотите увидеть их ве-
селые и добрые деяния, то следует отправиться в Ирландию;
225
за ужасами, напротив, поезжайте в Шотландию. В наших
ирландских сказочных ужасах всегда есть что-то ненастоящее.
Когда какой-нибудь крестьянин набредает на заколдованную
хижину, где ему приходится всю ночь вертеть мертвеца на вер-
теле, мы не испытываем особого волнения; мы знаем, что он
проснется посреди зеленого луга с каплями утренней росы на
поношенном сюртуке. В Шотландии все по-другому. Вы раз-
рушили изначально доброе расположение гоблинов и духов.
Дудочник МакКриммон с Гебридских островов взял на плечо
свои дудки и под их бодрые звуки пошел, сопровождаемый
своей собакой, в морской грот. Долгое время люди могли еще
слышать его игру. Должно быть, он прошел около мили, когда
дудки внезапно смолкли и раздались звуки битвы. Еще через
какое-то время собака вышла из пещеры с содранной шкурой и
не смогла издать даже слабого звука. Больше из пещеры уже ни-
кто не выходил. Есть еще история о человеке, который нырнул
в озеро, где, по слухам, должно было находиться сокровище.
Он увидел большой железный сундук. Рядом с сундуком лежа-
ло чудовище, велевшее ему убираться восвояси. Он поднялся
на поверхность, но люди, стоявшие на берегу, услыхав про со-
кровище, уговорили его нырнуть снова. Он нырнул. Через не-
сколько мгновений его сердце и печень вышли на поверхность,
и вода вокруг окрасилась в красный цвет. Это было все, что от
него осталось.
Все эти водяные гоблины и водяные чудовища очень рас-
пространены в шотландском фольклоре. У нас они есть тоже,
но мы относимся к ним намного спокойнее. В одной реке
в Слайго есть глубокое место, где живет такое же чудище.
И хотя многие искренне в него верят, люди устроили себе за-
баву, сочиняя о нем всяческие небылицы. Однажды, еще ма-
леньким мальчиком, я удил угрей в том самом заколдованном
месте. Возвращаясь домой с большим угрем через плечо (го-
лова его болталась спереди, а хвост подметал землю сзади),
я повстречал знакомого рыбака. Я начал рассказывать исто-
рию об огромном угре — в три раза больше того, которого я
нес, — как он ушел от меня, порвав лесу. «Это он, — сказал
рыбак. — Ты не слыхал, как он заставил эмигрировать моего
брата? Мой брат был, как ты знаешь, ныряльщиком — доста-
вал камни. Однажды этот урод подплывает к нему и говорит:
"Чего ты тут забыл?" — "Камни, сэр", — отвечает он. "А не
думаешь ли ты, что тебе пора сматывать удочки?" — „Да,
сэр", — говорит он. Вот мой брат и уехал в Америку».
226
КОРОЛЕВА И ШУТ
Один знахарь, живущий на границе Клэра и Голуэя, рас-
сказывал, что в каждом доме Волшебной страны «есть коро-
лева и шут» и что если кто-то из них двоих дотронется до вас,
•ю вам уже никогда не оправиться. О шуте он говорил, что «он,
может быть, поумнее всех остальных», и еще рассказывал, что
одет он наподобие «тех скоморохов, которые раньше у нас бро-
дили по всем дорогам». Помню, как я увидел длинного худого
человека в лохмотьях, сидевшего у очага в доме старого мель-
ника, неподалеку от того места, где я сейчас пишу, и как мне
сказали, что это шут; из историй, которые мой друг собрал для
меня, я знаю, что во время сна он уходит в волшебный мир, но
становится ли он там Амаданом-на-Брина, речным шутом, и
привязан ли он там к какому-нибудь дому — это мне неизвест-
но. Моему другу рассказывала о нем одна старуха, которую я
хорошо знаю и которая побывала в волшебном мире сама. Она
говорила: «Есть у них там шуты; и наши шуты, вроде Амадана
из Баллили, уходят к ним по ночам; также и женщины-шутихи,
которых мы зовем Ойншох (обезьяны)». Другая женщина, свя-
занная родством с тем знахарем, что живет на границе Клэра,
и лечащая людей и скотину заговорами, рассказывает: «Есть
вещи, которые мне не под силу. Я не могу помочь человеку,
если до него дотронулась королева или речной шут. Я знала
женщину, которой довелось видеть королеву: по виду ее мож-
но было принять за обыкновенную христианку. А из тех, кто
видел шута, я знаю только одну женщину, которая проходила
возле Горта и вдруг сказала: "За мной идет речной шут". Дру-
зья, что были с ней рядом, закричали, хотя ничего и не видели,
и он, я думаю, ушел, потому что ничего плохого с ней тогда
не случилось. С виду он был большим крепким мужчиной, и
на нем почти не было одежды — вот все, что она могла о нем
сказать. Сама я их никогда не видела, но знахарь из Клэра при-
ходится мне двоюродным братом, а мой дядя пропадал где-то
двадцать один год». Жена старого мельника говорила: «Счи-
тается, что они вообще-то неплохие соседи. Но если уж шут
кого-нибудь коснется, то дело пропащее. Нет на этот случай
никакого лекарства. Мы зовем его Амадан-на-Брина». А одна
старуха, почти нищая, что живет на болоте в Килтартане, рас-
сказывала: «То, что от прикосновения Амадана-на-Брина нет
никакого лекарства, — это сущая правда. Много лет назад я
знала одного человека: у него была мерная лента, и он мог из-
мерить все и сказать все ваши болезни, и много знал всякого
разного. И однажды он спросил меня: "Какой самый плохой
227
месяц в году?" — и я сказала: "Месяц май, конечно". — "Вовсе
нет, — сказал он. — Не май, а июнь, потому что в июне Ама-
дан ходит и смотрит, к кому бы прикоснуться!" Говорят, что с
виду он почти как обычный человек, только уж очень широкий
в плечах и малопригожий. Я знала мальчика, который однажды
здорово перепугался, когда из-за изгороди на него глянул бо-
родатый ягненок. Он сразу сообразил, что это Амадан — дело-
то было в июне. Тогда его отвели к тому человеку с рулеткой,
и он посмотрел на него и сказал: "Пошлите за священником,
и пусть он прочтет над ним молебен". Они так и сделали, и,
представьте себе, он жив до сих пор и имеет собственную се-
мью. Есть один Реган, так он говорил: "Те, из другого мира,
могут проходить в двух шагах от вас и даже дотронуться до вас.
Но если к кому прикоснулся Амадан-на-Брина — тот уже кон-
ченый человек". Да, то, что он ходит чаще всего в июне, это так
оно и есть. Я знала одного, с которым это случилось, и он сам
мне об этом рассказал. Это был мальчик, которого я хорошо
знала, и он рассказал мне, как однажды ночью к нему пришел
человек, который прежде был их хозяином, а теперь уже умер,
и велел ему идти с ним — ему, мол, надо, чтобы он поборолся
с одним человеком. Он пошел, и там оказалось два лагеря, и во
втором лагере тоже был один живой человек, и его поставили
с ним бороться. Они схватились и стали драться, и он одержал
над тем человеком верх; тогда те, на чьей стороне он дрался,
громко закричали, и он был отпущен обратно домой. Но где-то
через три года после того он собирал в лесу хворост и вдруг
увидел, что к нему идет Амадан. В руках у него был большой
сосуд, и он так сверкал, что мальчик больше ничего не мог ви-
деть; но потом Амадан убрал сосуд за спину и кинулся к нему
уже бегом, и был он, по словам мальчика, огромный и дикий,
как этот холм. Мальчик побежал прочь, и тогда Амадан бросил
ему вдогонку свой сосуд, и сосуд со страшным грохотом рас-
кололся, и что уж там было внутри, неизвестно, но только в
ту самую минуту мальчик совсем потерял голову. Он еще жил
потом какое-то время и еще много чего нам рассказывал, но
только разума у него уже не стало. Он считал, что впал в неми-
лость за то, что побил того человека, и все время боялся, что с
ним может произойти что-то нехорошее».
А одна старая женщина, что подвизается в годуэйской бо-
гадельне и знает кое-что о Королеве Мэйв, рассказывала мне на
днях: «Каждые пару дней Амадан-на-Брина меняет свой облик:
иногда он является подростком, а то вдруг прикинется какой-
нибудь безобразной тварью. Недавно я слыхала, что его пристре-
лили, но сама-то я думаю, что его так просто не возьмешь»
228
Я знал человека, который пытался представить себе образ
Энгуса, древнего ирландского бога любви, поэзии и вдохнове-
ния, который обратил в птиц четыре своих поцелуя; и вдруг пе-
ред его мысленным взором мелькнул образ человека в колпаке
с бубенчиками; потом он сделался совершенно отчетливым, и
заговорил, и назвался «Энгусом-посланцем». И я знал другого
человека, настоящего духовидца, который в одном из своих от-
кровений видел белого шута в удивительном саду, где росло
дерево с павлиньими перьями вместо листьев и с цветами, ко-
торые всякий раз, как белый шут касался их своим колпаком,
раскрывались, обнаруживая маленькие человеческие лица; а в
другой раз он видел белого шута, который сидел у воды и улы-
бался, глядя на выплывающих на поверхность красавиц.
Чем еще может быть смерть, как не началом мудрости, силы
и красоты? А шутовство — это, может быть, тоже род смерти.
Я не нахожу ничего удивительного в том, что многие видят в
«каждом доме Волшебной страны» шута со сверкающим сосу-
дом, полным каких-то чар, или грез, или откровений — непо-
стижимых для разума простых смертных. И так же естествен-
но, что в каждом «доме» там неизменно присутствует королева,
хотя вы вряд ли когда-нибудь услышите об их королях; ведь
женщины легче мужчин приходят к той мудрости, которую
древние народы считали единственной, а все дикие народы до
сих пор так считают. Наше «я» — основа нашего познания —
вдребезги разбивается шутовством и бывает забыто в мимо-
летных настроениях женщин, и потому шутам и уж, конечно,
женщинам должны быть ведомы проблески того, к чему свя-
тость приходит дишь в конце своего мучительного пути. Чело-
век, видевший белого шута, сказал как-то об одной женщине
(не крестьянке): «Если бы я обладал такой способностью ви-
деть незримое, то познал бы всю мудрость богов, но ее саму ее
прозрения не интересуют». И мне известно о другой женщине
(тоже не крестьянке), которая во сне уходила в края неземной
красоты и при этом никогда не заботилась ни о чем другом, кро-
ме собственного дома и благополучия собственных детей; не-
давно один знахарь, по его собственному выражению, излечил
ее от этой напасти.
Я думаю, что мудрость, красота и сила иногда посещают
тех, кто умирает в конце каждого прожитого дня, хотя это может
не иметь отношения к той смерти, о которой говорит Шекспир.
Существует война между живыми и мертвыми, и отголосок ее
будет вечно звучать в ирландских преданиях. Из них мы узнаем,
что, сгнивая здесь, картофель, пшеница или другие плоды зем-
ли одновременно созревают в волшебном мире, и что мудрость
229
уходит из наших грез по весне, когда в деревьях начинают под-
ниматься соки, и что деревья могут высохнуть от наших грез, и
что в ноябре можно услышать блеянье волшебных ягнят, и что
слепые глаза могут видеть больше, чем иные зрячие. И оттого,
что душа всегда верит в эти или подобные вещи, пустыня и ке-
лья никогда не будут пустовать и никогда не придут в этот мир
влюбленные, которым были бы непонятны эти стихи:
Слыхали ль в песнях менестрелей
Вы отзвуки небес?
Слыхали ль: тот, кто нынче умер,
Для лучших нег воскрес?
Что счастье тел переплетенных,
И ночь видений просветленных,
И мысль, что к краю льнет незримо,
И песня девы, что любима, —
Есть смерть?
1901
СКАЗКИ БЕЗ МОРАЛИ
На днях та моя приятельница, что слышала о королеве
Мэйв и ореховом пруте, ходила в богадельню. Она нашла ста-
риков озябшими и жалкими — «как мухи зимой», сказала она;
но они тотчас забыли о холоде, как только разговорились. Со-
всем недавно их покинул человек, которому довелось играть
в карты с обитателями Волшебной страны; а один старик ви-
дел однажды ночью заколдованную черную свинью, и еще моя
приятельница слышала, как два старика ссорились из-за того,
кто был лучшим поэтом — Рафтери или Кэлланан. Один ска-
зал о Рафтери: «Это был большой человек, и песни его обошли
весь мир. Я хорошо его помню. У него был голос наподобие
ветра»; но другой был убежден, что «вы согласились бы стоять
в снегу на морозе — лишь бы только услышать Кэлланана».
Вскоре кто-то из стариков начал рассказывать моей знакомой
сказку, и все остальные слушали его, то и дело посмеиваясь и с
видимым удовольствием. Сказка эта, которую я собираюсь при-
вести в том виде, как она была рассказана, представляет собой
одну из тех старых и отнюдь не высоконравственных историй,
которые приводят в восторг бедных и обездоленных и в кото-
рых жизнь оставлена в ее исконной, природной простоте. В них
говорится о том времени, когда ничто не имело последствий,
230
когда, даже если кого-то убивали, а у него было доброе сердце,
то кто-нибудь обязательно возвращал его к жизни прикоснове-
нием прутика, и если один из королей был как две капли воды
похож на своего брата, то ему ничего не стоило разделить ложе
с его королевой — все обходилось потом лишь незначительной
ссорой. А значит, и нам, если мы бедны, немощны и все вокруг
грозит нам новыми напастями, достаточно припомнить любую
старинную историю, сказку, чтобы сбросить со своих плеч бре-
мя этого мира.
Один король очень переживал, что у него нет сына, и вот
решил он обратиться к своему главному советнику. И главный
советник сказал: «Это дело поправимое, если только вы сделае-
те все, как я скажу. Пошлите кого-нибудь, — говорит он, — в
такое-то место удить рыбу. И когда рыба будет доставлена, дай-
те ее съесть вашей супруге — королеве».
Король сделал как было сказано, и рыба была поймана и
принесена во дворец, и он отдал ее кухарке и велел испечь ее на
огне, но так, чтобы все было без сучка без задоринки. Но при-
готовить рыбу на огне, да так, чтобы она осталась совсем глад-
кой, — дело невозможное, и вот пошли по ней разные задорин-
ки, и кухарка стала разглаживать их пальцами, но обожглась и
сунула палец в рот и так отведала вкус рыбы. Затем рыба была
подана королеве, и она съела ее, а во дворе были в это время
кобыла и борзая, и им бросили остатки рыбы.
И вот, не прошло и года, как у королевы родился мальчик и
у кухарки родился мальчик, а у кобылы появилось два жеребен-
ка и у борзой — два щенка.
Потом обоих мальчиков отослали до поры до времени куда-
то на воспитание, и когда они вернулись, то были так похожи
один на другого, что никто не мог сказать, где тут королевский
сын, а где — сын кухарки. И королеву это очень озадачило, и
она пошла к главному советнику и сказала: «Укажите мне спо-
соб, чтобы я могла узнать моего сына, потому что я не хочу,
чтобы мой сын и кухаркин ели и пили за одним столом».
«Это узнать не трудно, — сказал главный советник. — Надо
только сделать как я скажу. Пойдите и встаньте снаружи воз-
ле двери, через которую они будут входить: ваш сын, проходя,
склонит перед вами голову, а сын кухарки всего лишь рассме-
ется».
Королева так и сделала, и, когда ее сын склонил перед ней
голову, слуги пометили его, чтобы она могла узнавать его и
впредь. И когда потом они сели за стол и стали обедать, она
сказала Джеку, сыну кухарки: «Ты не сын мне, и тебе не место
за нашим столом». Тогда ее сын, пусть его будут звать Билл,
231
сказал: «Зачем вы гоните его, разве мы с ним не братья?»
Но Джек сказал: «Если бы я знал, что хозяева этого дома мне
не мать и не отец, то меня бы давно уже тут не было». И как
Билл ни.пытался его уговорить, он и слышать ничего не хотел.
Но напоследок, когда они стояли вдвоем в саду у колодца, он
сказал Биллу: «Если со мной когда-нибудь случится беда, то
вода в этом колодце — та, что сверху, превратится в кровь, а та,
что снизу, сделается медом».
Потом он взял одного из тех двух щенков, сел на одного из
жеребцов, что появились на свет после того, как кобыла попро-
бовала рыбы, и догнал ветер, что был впереди него, а тот ветер,
что был позади, не смог за ним угнаться. И так ехал он, ехал,
пока не доехал до дома ткача, и попросил приютить его, и тот
согласился. Долго ли, коротко, но доехал он до королевского
дома и попросил узнать у короля, не нужен ли ему слуга?
«Нужен только подпасок, — отвечал король, — чтобы каж-
дое утро выгонял коров в поле и пригонял их к ночи обратно на
подой». — «Эта работа по мне», — сказал Джек, и король взял
его к себе в услужение,
Наутро Джеку показали две дюжины коров и сказали, куда
их вести, и на том месте не оказалось ни единой травинки, одни
только камни. Тогда Джек стал присматривать место получше и
вскоре увидел поле с хорошей зеленой травой, а принадлежало
оно великану. Тут он не долго думая повалил часть каменной
ограды и пустил коров пастись, а сам взобрался на яблоню и стал
есть яблоки. Потом пришел великан и говорит: «Ух! Ух! Ирланд-
ский дух! А, вон ты где — на дереве! На один зуб, — говорит
он, — тебя, пожалуй, и много, а на два маловато, ладно, сотру
тебя, так и быть, в порошок — хоть будет что нюхать заместо та-
бака». — «Сильному не мешало бы быть подобрее», — отвечает
ему с дерева Джек. «Спускайся вниз, болтливый гном, — гово-
рит великан.— Не то от тебя и от дерева ничего не останется».
Джек спустился. «Выбирай, — говорит великан, — на чем будем
драться: на ножах или врукопашную на кочках?» — «Давай уж
лучше на кочках, мне так привычней, — отвечал Джек.— Твои
грязные ножищи будут в них проваливаться, а моим ногам куда
как удобно». И вот начали они драться. Твердая земля под ними
сделалась мягкой, а мягкая земля сделалась твердой, и из-под зе-
леного дерна там, где они дрались, начали бить родники.
Так продолжалось целый день, и ни один из них не мог
взять верх. Но вот откуда ни возьмись прилетела маленькая
птичка, села на куст и говорит Джеку: «Если до заката ты его
не одолеешь, то считай, что тебе конец». Тогда Джек собрался
с силами и поверг великана наземь. «Сохрани мне жизнь, —
232
говорит великан, — а я за это отдам тебе лучшее, что у меня
есть». — «И что же это такое?» — спрашивает Джек. «А это
меч, против которого никто еще не мог устоять». — «И где же
этот меч находится?» — спрашивает Джек. «За той красной
дверью, что виднеется на склоне холма».
Джек пошел туда и вернулся обратно с мечом. «На чем бы
мне его испытать?» — говорит он. «Испытай его на этом урод-
ливом черном пне», — говорит великан. «Я не вижу тут ни-
чего уродливее и чернее твоей собственной головы», — гово-
рит Джек. И с этими словами он одним ударом отсек великану
голову, так что она подлетела вверх, а когда стала падать, он
поймал ее на меч и расколол пополам. «Скажи спасибо, что я
не успела соединиться с телом, — сказала голова. — Тогда бы
ты уже вовек не смог меня одолеть». — «Ладно, после драки
кулаками не машут», — сказал Джек.
К вечеру он благополучно пригнал коров обратно, и все
удивлялись, потому что они давно уже не давали столько мо-
лока, как в ту ночь.
За ужином король обратился к своей дочери, принцессе, и
ко всем, кто был за столом, и сказал: «Сдается мне, что сегодня
я вместо трех рыков слышу только два».
На следующее утро Джек снова погнал коров и увидел другое
хорошее пастбище, и он снова повалил стену и пустил туда коров.
Все произошло как накануне, только теперь у великана было две
головы, и они с Джеком стали драться, и опять прилетела птичка и
сказала Джеку то же, что и прежде. И когда Джек поверг великана
на землю, тот сказал: «Сохрани мне жизнь, а я за это отдам тебе
лучшее, что у меня есть». — «И что же это такое?» — спросил
Джек. «Это платье, надев которое ты будешь по-прежнему ви-
деть всех, но тебя уже никто не сможет увидеть».— «И где же это
платье?» — спросил Джек. «За той маленькой красной дверью на
склоне холма». Джек пошел и вернулся назад с платьем. Потом
он отсек великану обе головы и, поймав их на лету, разрубил на
четыре части. И они сказали ему, что если бы он только дал им
соединиться с туловищем, то ему пришлось бы худо.
В тот вечер коровы, вернувшись домой, дали столько мо-
лока, что все сосуды, которые были в наличии, оказались за-
полненными.
На следующее утро Джек снова вышел чуть свет, и все про-
изошло как и раньше, но только на этот раз у великана было че-
тыре головы, и Джек разбил их все напополам. Но еще прежде
великан сказал ему, что за маленькой синей дверью на склоне
холма он может взять пару башмаков, которые, если их надеть,
понесутся быстрее ветра.
233
Коровы в тот вечер дали столько молока, что всех сосудов
оказалось мало: пришлось поить всех подряд, даже бедняков,
которым случилось проходить мимо, а излишки просто выли-
вали из окон. Я и сам тогда проходил той дорогой, так что и на
мою долю хватило.
И король в тот вечер сказал Джеку: «Почему это коровы
стали давать столько молока? Должно быть, ты водишь их на
другое пастбище?»
«Дело не в этом, — сказал Джек. — Просто у меня есть
хорошая палка, и всякий раз, как они останавливаются или ло-
жатся, я сразу же пускаю ее в ход, и они начинают прыгать и
скакать через ограды, камни и канавы; только так можно заста-
вить коров давать много молока».
В тот вечер за ужином король сказал: «Теперь я вовсе не
слышу никакого рыка».
На следующее утро король с принцессой решили посмо-
треть из окна, что будет делать Джек, когда придет на поле.
А Джек знал, что они смотрят, взял палку и ну колотить ко-
ров, так что те и вправду стали скакать через камни, изгороди
и канавы. «Теперь я вижу, что Джек не солгал», — сказал тогда
король.
А в те времена жил на свете огромнейший змей, и каждые
семь лет он объявлялся и брал себе на съедение королевскую
дочь, если только какой-нибудь добрый человек не отваживался
за нее заступиться. И теперь очередь дошла до той принцессы —
дочери того короля, у которого служил Джек; и король уже семь
лет откармливал в подземелье одного громилу, который, уж мо-
жете поверить, ни в чем не знал отказу и должен был в урочный
час сразиться со змеем.
И когда час настал, принцесса и вместе с ней тот громила
пошли на берег моря, но — что бы вы думали? — как только
они туда пришли, он сразу привязал принцессу к дереву, так
чтобы змею было удобней ее проглотить, а сам пошел и спря-
тался в плюще.
А Джек уже знал о том, что должно произойти, потому что
еще раньше принцесса сама ему об этом рассказала и спросила,
не думает ли он ей помочь, но он сказал, что не думает. Но те-
перь он вышел, взял меч, что достался ему от первого великана,
и отправился к тому месту, где находилась принцесса, только
она его не узнала.
«Разве годится, чтобы принцесса была привязана к дере-
ву?» — сказал Джек. «Не годится», — отвечала она. Потом она
сказала ему все как было и что змей должен скоро явиться и
взять ее на съедение.
234
«Если вы позволите мне поспать, положив голову вам на
колени, — сказал Джек, — то сможете сразу разбудить меня,
как только он появится».
Он поспал, и она разбудила его, как только увидела змея, и
Джек встал и сразился со змеем и загнал его обратно в море. По-
том он перерезал веревку, которой она была привязана, и ушел.
Тогда громила вышел из плюща, и потом он привел принцессу
к королю и сказал: «Сегодня я чувствовал себя еще немного
робко, оттого что слишком долго был заперт в подземелье, так
что со змеем дрался вместо меня один из моих друзей, но зав-
тра он уже будет иметь дело со мной».
На следующий день они пошли снова, громила снова при-
вязал принцессу, так чтобы змею было удобней до нее добрать-
ся, а сам пошел и затаился в плюще. Дальше Джек оделся в
то платье, что досталось ему от второго великана, и пришел
туда, и принцесса опять его не узнала, но рассказала ему все,
что было накануне, и как какой-то молодой человек, которого
она не знает, пришел и спас ее от змея. Тогда Джек спросил, не
может ли он поспать, положив голову ей на колени, так чтобы
она могла разбудить его, когда будет нужно. И все произошло
так же, как и накануне. И громила отвел ее к королю и сказал,
что на этот раз позвал еще одного своего приятеля, чтобы от-
бить ее у змея.
На следующий день она была снова приведена на берег, и
вокруг собралось много людей, потому что хотели поглядеть на
змея, который должен явиться за королевской дочерью. И Джек
с принцессой договорились, как и раньше. Но пока он спал, она
стала думать, как бы ей потом его отыскать, вынула ножницы и
отрезала у него прядь волос и зашила их в маленький мешочек
и спрятала. И еще одну вещь она сделала: сняла у него с ноги
один из тех башмаков.
И когда она увидела, что змей уже идет, она разбудила его,
и он сказал: «На этот раз я разделаюсь с ним так, что он боль-
ше не будет есть королевских дочерей». И вот он взял меч, что
достался ему от великана, и переломил змею хребет, так что
кровь и вода хлынули из него и разлились по земле на пятьде-
сят миль, и прикончил змея. И потом он удалился, и никто не
видел, в какую сторону он пошел, и громила привел принцессу
к королю и заявил, что это он ее спас, и все почести достались
ему, и он теперь сделался правой рукой короля.
Но когда все уже было готово для свадебного пира, прин-
цесса вынула прядь волос и сказала, что выйдет замуж только
за того, у кого окажутся такие же волосы, и потом она вынула
тот башмак и заявила, что выйдет замуж только за того, кому
235
он придется точно по ноге. И громила попытался его надеть, но
никак не мог втиснуть в него большой палец; что же до волос,
то они у него совсем не походили на ту прядь, которую прин-
цесса отрезала у своего спасителя.
Тогда король устроил большой бал, чтобы собрать всех
знатных людей королевства и посмотреть, не подойдет ли баш-
мак кому-нибудь из них. И все они стали бегать к столярам и
плотникам, чтобы они подстригали им тот или другой палец,
чтобы влезть в башмак, но никто так и не влез.
Видя такое, король пошел к своему главному советнику и
спросил, что ему теперь делать. И главный советник предложил
ему устроить еще один бал, и на этот раз он сказал: «Только
теперь позовите и богатых и бедных».
И вот устроили еще один бал, и людей собралось еще боль-
ше прежнего, но башмак все равно никому не подходил. И глав-
ный советник сказал: «Есть ли еще кто-нибудь из прислуги,
кого тут нет?» — «Вся прислуга здесь, — сказал король. — Нет
только того юнца, что ходит за коровами, но я не хотел бы, что-
бы он сюда пожаловал».
Джек в это время был внизу во дворе, и он услыхал слова
короля и очень разозлился, и он пошел, взял свой меч и кинулся
наверх, чтобы отрубить королю голову, но стражник на лестни-
це успел преградить ему дорогу и несколько охладил его пыл, а
когда он был уже наверху, то принцесса увидела его, вскрикну-
ла и упала в его объятья.
Потом они примерили башмак, и он пришелся ему точно
по ноге, и волосы тоже оказались такие, как надо. И тогда они
поженились, и был устроен великий пир, который продолжался
три дня и три ночи.
И по окончании этого времени за окном однажды утром
появился олень, и на нем были звенящие колокольчики, и он
крикнул: «Добыча вот она, где же охотники, где борзые?» Джек
услыхал это, поднялся, взял своего кони, борзую и поскакал охо-
титься на оленя. Когда олень был в долине, он был на холме, а
когда тот на холме, он в долине, и так прошел целый день, а когда
наступила ночь, олень скрылся в лесу. И Джек въехал в лес сле-
дом за ним, и увидел там одну-единственную мазанку, и вошел
в нее, в ней он увидел старуху, которая сидела у огня, и лет ей
было, наверное, под двести.
«Не видали вы, не пробегал тут мимо олень?» — спро-
сил Джек. «Не видала, — говорит она. — Но теперь уже позд-
но гоняться за оленем, оставайся у меня, переночуешь», —
«А куда я дену коня и борзую?» — сказал Джек. «Вот тебе два
волоса, — говорит она. — Пойди и привяжи их».
236
И вот Джек вышел и привязал коня и борзую, а когда воз-
вратился в хижину, старуха и говорит: «Ты убил трех моих сы-
новей, а я теперь расправлюсь с тобою», и она надела боксер-
ские перчатки весом по девять стоунов каждая, и из них торчали
когти длиной по пятнадцать дюймов. И они начали бороться, и
Джек почувствовал, что начинает сдавать.
«На помощь, пес!» — крикнул он.
«Души, волос!» — крикнула старуха, и волос затянулся на
шее собаки и задушил ее.
«На помощь, конь!» — позвал Джек.
«Души, волос!» — крикнула старуха, и волос затянулся во-
круг шеи коня и задушил его.
Тогда старуха прикончила Джека и выбросила его тело за
дверь.
Теперь вернемся назад к Биллу. Однажды он гулял в саду
и посмотрел в колодец, и увидел, что вода, та, что сверху, пре-
вратилась в кровь, а та, что снизу, сделалась медом. Тогда он
вернулся в дом и сказал матери: «Я не сяду два раза за один и
тот же стол и не переночую дважды в одной постели, пока не
узнаю, что случилось с Джеком».
Потом он взял коня и борзую и отправился через те холмы,
где петух никогда не кричит, и пастушья дудочка никогда не
играет, и дьявол никогда не трубит в свой охотничий рог.
Наконец он добрался до дома ткача, и, когда он зашел, ткач
сказал: «Милости прошу, в этот раз угощение будет получше,
чем в прошлый», потому что он подумал, что это снова Джек —
так они были похожи один на другого.
«Вот и хорошо, — сказал себе Билл. — Значит, брат уже
успел побывать в этом доме». И на следующее утро, прежде
чем уйти, он отсыпал ткачу полную меру золота.
Потом он отправился дальше и остановился у порога коро-
левского дома, и принцесса сбежала по лестнице ему навстре-
чу и сказала: «Счастливого возвращения». И все люди сказали:
«Мыслимое ли дело уехать на охоту через три дня после свадь-
бы и так долго не возвращаться». Тогда он провел эту ночь с
принцессой, и все это время она оставалась уверена, что это ее
супруг.
А наутро под окнами появился олень, и на нем были зве-
нящие колокольчики, и он крикнул: «Добыча вот она, где же
охотники и борзые?» Тогда Билл встал, взял коня и борзую и
пустился за ним по холмам и долинам, и преследовал его, пока
не оказался в лесу, и там он увидел одну-единственную мазанку
и старуху, которая сидела у огня, и она пригласила его остать-
ся на ночь и дала ему два волоса, чтобы привязать пса и коня.
237
Но Билл был похитрее Джека, и, прежде чем выйти из хижины,
он украдкой бросил эти два волоса в огонь.
Когда он вернудся, старуха сказала: «Твой брат убил трех
моих сыновей, а я убила его и теперь убью заодно и тебя».
И она надела свои перчатки, и они принялись драться, и
через некоторое время Билл крикнул:
«Конь, на помощь!»
«Волос, души!» — крикнула старуха.
«Не могу, я в огне», — сказал волос.
А конь вошел в хижину и ударил ее копытом.
«Пес, на помощь!» — позвал чуть позже Билл.
«Волос, души!» — приказала старуха.
«Не могу, я в огне», — сказал второй волос.
Потом пес вцепился в нее зубами, и Билл одолел ее, и
она запросила пощады. «Сохрани мне жизнь, — сказала
она, — и я укажу тебе, где найти твоего брата и его пса и
коня». — «И где же?» — спросил Билл. «Видишь тот шест,
что стоит у печи? — сказала она. — Возьми его и иди за по-
рог: там увидишь три зеленых камня — это и есть твой брат,
его конь и его борзая, ударь по ним шестом, и ты вернешь их
к жизни». — «Ладно, только прежде я превращу в зеленый
камень тебя самое», — сказал Билл и тут же отрубил ей го-
лову своим мечом.
Потом он вышел за порог и ударил по камням, и точно:
перед ним оказались Джек, его конь и пес, живые и невре-
димые. И они стали стучать по другим камням, что были во-
круг, и они тоже превращались в людей, и были их сотни и
тысячи.
И вот они отправились домой, но по дороге у них возник
какой-то спор или размолвка, потому что Джек был не очень
доволен, что Билл провел ночь с его женой, и Билл тогда разо-
злился и ударил Джека шестом и обратил его в зеленый камень.
Потом он вернулся домой, но принцесса сразу почувствовала,
что с ним что-то неладно, и он открылся ей и сказал: «Я убил
моего брата». И он пошел обратно и вернул его к жизни, и с
тех пор они жили мирно и счастливо, и детей у них рождалось
видимо-невидимо, так что едва успевали принимать, и все уже
сбились со счету.
Мне самому случилось как-то раз проходить мимо, и они
пригласили меня к себе на чашку чая.
1902
238
У ДОРОГИ
Вчера вечером я ходил к развилке килтартанской дороги
слушать ирландские песни. Пока я дожидался певцов, какой-то
старик начал петь о местной красавице, умершей уже много-
много лет назад, и потом рассказал о певце, с которым сам был
когда-то знаком, чье пение было так прекрасно, что ни одна ло-
шадь не могла пройти мимо, чтобы не повернуть голову и не
навострить уши.
Вскоре собрались слушатели: десятка два мужчин, под-
ростков и молодых девушек с покрытыми головами располо-
жились под дверями. Кто-то запел «Sa Muirnin Diles», а кто-то
еще — «Jimmy Me Milestor», скорбные песни о разлуке, смер-
ти и изгнании. Потом несколько мужчин поднялись с мест и
пустились в пляс, в то время как другие напевали, задавая им
ритм, и вслед за этим кто-то стал петь «Eiblina Ruin», радост-
ную песню свидания, которая всегда трогала меня больше
других, потому что сочинивший ее влюбленный пел ее своей
избраннице под сенью той горы, на которую я смотрел каж-
дый божий день, будучи ребенком.
Голоса поющих таяли в сумерках и растворялись среди
деревьев, и, когда я начинал задумываться о слогах, они тоже
таяли и растворялись в поколениях людей. Какое-нибудь непо-
вторимое выражение, эмоциональный оборот, неожиданный
поворот мысли то и дело относили мою память к старинным
стихам или даже забытым преданиям. Меня занесло так далеко,
что казалось, я вышел к одной из четырех рек и, следуя ее тече-
нию, добрался до самых стен Рая и до корней Древа познаний
и Древа жизни. Среди тех песен и легенд, что передаются из
уст в уста среди этих хижин, нет ни одной, которой не было
бы дано переносить нас в такие дали, потому что, даже если
вам мало известно об их истоках, мы знаем, что они, подоб-
но средневековым генеалогиям, восходят через непрерывность
династий к началу мира. Народное искусство и в самом деле
есть старейшая аристократия духа; отсекая все мелкое и пре-
ходящее, холодный ум и красивость, равно как вульгарность и
неискренность, и впитав в себя самые простые и самые незабы-
ваемые мысли всех поколений, оно является почвой, в которой
коренится все великое искусство. И там, где оно звучит в рас-
сказах у костра, или в песнях у дороги, или читается в резьбе
наличника, там скорее оценят и творение одного художника,
дающего новую жизнь и форму этим искусствам.
В обществе, отвергшем образную традицию, только очень
немногие (три или четыре тысячи из миллионов) в силу склада
239
своей личности или счастливого стечения обстоятельств, да и
то лишь путем больших усилий, приходят к пониманию образ-
ности, а между тем «воображение есть сам человек». В средние
века церковь поставила все искусства себе на службу, потому
что люди понимали, что едва только иссякнет воображение, и
главный — а кто-то сказал бы: единственный — голос, при-
званный разбудить мудрую надежду, неумирающую веру и са-
моотверженную любовь, станет прерывающимся и невнятным,
если не умолкнет вовсе.
Мне всегда казалось, что мы, те, кто хочет возродить образ-
ную традицию, оживляя старые песни и собирая в книги ста-
рые истории, участвуем в вечном галилейском противостоянии.
Те ирландцы, что хотят следовать чуждыми путями, которые, за
редким исключением, оказываются путями духовной нищеты,
участвуют в нем тоже. Их сторона — это сторона тех, кто, сами
будучи иудеями, кричали: «Если отпустишь Его, ты не друг ке-
сарю».
1901
Эта страница
намеренно оставлена
пустой
Из книги
«Идеи добра и зла»
1904
ЧТО ТАКОЕ «НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ»?
Впервые я задумался о том, что такое народная поэзия,
вступив в общество «Молодая Ирландия». Тогда мы только
и говорили об Ирландии, в особенности же об ирландской
литературе и истории. Гэльским языком мы не владели и
превозносили тех ирландских поэтов, что писали по-
английски, постоянно цитировали их в наших выступлени-
ях. В ту пору я мог назвать их даты рождения и смерти,
прочесть наизусть лучшие стихи поэтов, чьи имена, быть
может, вам ничего не скажут; кое-кого забыл теперь даже я
сам. В глубине души я знал, что большинство из них пишут
плохо, однако их окружал такой романтический ореол, а мы
так стремились приобщиться к ирландской поэзии, что я
постоянно внушал (и не только другим, но и себе самому),
что в большинстве своем они пишут хорошо или, во всяком
случае, не так уж плохо. Я прочел Шелли и Спенсера и по-
пытался свести воедино их поэтические манеры в пасто-
ральной пьесе, которая сейчас представляется мне крайне
неудачной, — и все же ни Шелли, ни Спенсер не произвели
на меня такого впечатления, как эти поэты. «Если бы кому-
нибудь, — подумалось мне однажды (помню даже тот день,
когда эта мысль пришла мне в голову), — удалось создать
поэтический язык, который, не будучи английским, был бы
музыкальным и красочным, многее другие подхватили бы
это начинание, и тогда у нас в Ирландии возникла бы по-
настоящему великая школа балладной поэзии. Если бы эти
поэты, которые регулярно печатают свои стихи в газетах,
выпускают сборник за сборником, опирались на истинную
традицию, они бы писали прекрасные стихи, способные
волновать всех, а не меня одного». «Пиши они не только
о политике, — подумал я чуть позже, — пиши они, как
243
Аллингем, о народных преданиях или, как Фергюсон, о ста-
ринных легендах, — им было бы легче обрести свой соб-
ственный поэтический язык». И тогда с упорством, которое
и по сей день поражает меня самого, ибо в глубине души
я всегда придерживался той точки зрения, что поэт — это
прежде всего художник и что даже патриот — это, по сути
своей, несостоявшийся художник, я стал искать стиль и со-
держание новой поэзии, чтобы авторам баллад было о чем
писать, чтобы они писали лучше.
Впрочем, писать лучше они все равно не будут, и стре-
миться к этому — вероятно, иллюзия, одна из тех иллю-
зий, которые создает Природа, ибо знает, что дары, которые
Она раздает, не стоят затраченных на них усилий. Чего мы
только ради Нее ни делаем, однако, не коснись Она нас сво-
ей волшебной палочкой, и мы можем не подыматься с по-
стели, не вставать со стула — все равно все наши потуги
будут напрасными. От меня природа хотела полдюжины
стихов, а поскольку желание увидеть мои книги в несколь-
ких светских гостиных потребовали бы от Нее слишком
много усилий, Она заронила мне в голову мысль о созда-
нии новой словесности; Она вынудила меня покинуть ду-
блинскую художественную школу, где, если бы не Она, я
бы, наверное, сидел до сих пор, прилежно копируя натуру,
и отправила меня в библиотеку читать плохие переводы
с ирландского, а из библиотеки — в Коннахт — сидеть в
окружении аборигенов у торфяного камина. Мне хотелось
сочинять «народную поэзию», такую же, как у ирландских
поэтов, ибо тогда я полагал, что всякая хорошая литера-
тура должна быть доступна народу; я даже вынашивал
мысль, что мелодрамы, которые ставились в «Адельфи» и
которых сам я никогда не видел, — это хорошая литерату-
ра; больше всего в то время мне был ненавистен так назы-
ваемый «литературный салон». Мне казалось, что писать
следует без натуги (пусть тщание будет уделом литератур-
ных салонов, думал я), с порывистой энергией, которая
все расставит по своим местам, — лишь бы автор творил
«от души». Я придерживался (и до сих пор придержива-
юсь) той точки зрения, что в стихах, как в зеркале, должны
в естественной пропорции отражаться палитра ощущений
поэта и характер окружающей обстановки, поэтому, обна-
ружив, что в моих стихах, как у Шелли в Италии, слишком
много красного и желтого, я два дня думал, как исправить
положение; сейчас я бы изменил ритм стиха, сделал бы
244
его неотчетливым и порывистым, я бы внес в образы не-
которую остраненность, ощущение бушующих стихий —
тогда же я ничего не изменил, зато мало ел и спал на голых
досках. Я негодовал на Мэтью Арнольда, ибо тот в свое
время жаловался на одного переводчика, который, перело-
жив Гомера в ритме баллады, попытался написать эпос на
мотив «Янки-дудл». Мне же казалось, что значение имеет
не ритм и мотив, а энергия стиха — если, разумеется, этой
энергией умело воспользоваться. В те годы я восторгался
книгой Пого о Шекспире; Гюго бросил вызов критикам и
литературному салону, ибо полагал, что Шекспир писал
легко и естественно, стараясь доставить удовольствие
всем. Подобным заблуждениям я бы предавался и впредь,
если бы верил в эту прямолинейную логику, ту самую, ко-
торой руководствуются авторы газетных заметок, что так
завораживающе действуют на наивных читателей. Но я
ведь всегда знал, что Природа не выбирает прямых путей
и что прямыми бывают только прорытые нами каналы —
реки же текут так, как им заблагорассудится.
С тех пор и по сей день меня живо интересуют стихи
и истории, которые люди пишут для самих себя, однако
увлекся я народным творчеством не раньше, чем понял:
то, что мы обычно называем «народной поэзией», к народу
никакого отношения не имеет. И Лонгфелло, и Кэмибелл,
и миссис Хеменс, и Маколей в своих «Песнях», и Валь-
тер Скотт в своих поэмах — это поэты, принадлежащие
по преимуществу к среднему классу, к той среде, которая
утратила связь с уходящей в глубь веков устной традицией,
что объединяет в единое целое всех, не знающих грамоты,
с тех самых пор, как они в полной мере осознали себя, и
которая вместе с тем не освоила письменной традиции, по-
коящейся на традиции устной. Я пришел к убеждению, что
Берне, чье величие не раз использовалось для того, чтобы
доказать ничтожность других, в каком-то смысле также
принадлежал к этой социальной категории, ибо, хотя фер-
меры, из чьей среды он вышел и в чьей среде жил, смогли
создать собственную, пусть и незначительную, традицию
(скорее традицию языка, чем образа мыслей) — от образов
и эмоций, уходящих корнями в тысячелетия, их отделяли
теперь религиозные и политические катаклизмы. Наряду
с выразительностью поэтического языка, которая ставит
Бернса выше всех других народных поэтов, в нем есть и
заурядность эмоций, и бедность идей, и несовершенное
245
чувство красоты той поэзии, наиболее типичным предста-
вителем которой является Лонгфелло. Лонгфелло же за-
воевал популярность в основном тем, что свои сюжеты и
мысли он выражает таким образом, что для их понимания
не требуется ничего, кроме самих стихов. Стихи Лонгфел-
ло отличаются первозданной красотой, не почерпнутой из
поэтического арсенала его предшественников; когда чита-
ешь Лонгфелло, то все понимаешь с полуслова; создается
впечатление, будто движешься перед старинным, выцвет-
шим занавесом, украшенным изображениями королей и
королев, их любовных историй, сражений и королевской
охоты, или же священными письменами и образами такой
глубокой древности, что никому не дано отличить в этих
изображениях бога от богини. Поэзия — если это не народ-
ная поэзия — таит в себе больше, чем выражает, хотя, не
зная, что такое быть обделенным, мы понимаем, насколько
больше, лишь когда сталкиваемся с наиболее типичными
выражениями такой поэзии, с «Эпипсихидионом» Шелли,
или с тем, как Спенсер описывает сады Адониса, или же,
напротив, с превратным толкованием стихов. Ступайте на
улицу и прочтите вашему булочнику или шандальному ма-
стеру любое стихотворение, которое не является «народ-
ной поэзией». Я сам слышал, как один булочник, мастер
своего дела, не верил, что Теннисон знал, что он пишет,
когда писал:
На башне филин о пяти умах,
Нахохлив перья, задремал впотьмах, —
и однажды, когда я прочел Омара Хайяма одному из лучших
шандальных мастеров, тот с недоумением спросил: «Как это
прикажете понимать: "Водой пришел я, ветром я уйду"?»
Или пойдите на улицу и поделитесь с первым встречным са-
мой, казалось бы, простой мыслью: скажем, мыслью Бена
Джонсона «Печаль и красота живут везде» — и вы увиди-
те, насколько очарование этого образа зависит от ассоциа-
ции красоты с печалью; ассоциации, которую письменная
традиция почерпнула из устной, а устная, в свою очередь,
из древней религии. Или возьмите нижеследующий пассаж,
смысл которого на первый взгляд предельно прост, — и вы
убедитесь: только влюбленные в Елену постигнут истинное
значение этих строк:
246
Краски неба остыли,
Красота спит в могиле,
Прах скрыл очи Елены...
Примеры эти я привожу по памяти, ибо сочиняю статью в
таком месте, где я лишен возможности листать книги, но во-
прос, о котором идет речь, столь прост, что в особых доказа-
тельствах не нуждается.
С другой стороны, когда Уолт Уитмен бросает вызов тра-
диции, он делает это потому, что традиция необходима ему в
качестве защиты, ибо мясник, булочник или шандальный ма-
стер подсмеиваются над ним, когда по чистой случайности им
попадаются на глаза его стихи. Природа, которая не терпит пу-
стоты, заставляет их коллекционировать условности, которые,
впрочем, не могут скрыть, что они люди низкого происхожде-
ния, хотя и подражают словно бы издалека в одежде и в повад-
ках, людям воспитанным и знатным. Подражатели высмеивают
любой способ выражения, если он разительно отличается от их
собственного — подобно тому как уличные мальчишки улюлю-
кают при виде необычно одетых людей или подымают на смех
стариков, что разговаривают сами с собой.
Хорошая поэзия это именно хорошая поэзия, ведь поэзия
книжная, которая предполагает письменную традицию, по
сути своей, не отличается от поэзии истинно народной, кото-
рая предполагает традицию устную. Для тех же, кто не пони-
мает стихов, и та и другая одинаково неясны, неестественны;
и та и другая вместо прямолинейной логики, четкой риторики
«народной поэзии», переливаются мыслями и образами седой,
мудрой старины. Очень может быть, что об их происхождении
мы знаем ничуть не больше, чем в свое время люди знали о
«человеке, рожденном стать царем», когда его нашли в колы-
бели с отметиной, похожей на львиную гриву, и все же где-то в
глубине души мы знаем, что мысли и образы эти когда-то вос-
певались в храмах, в женских покоях, — знаем и трепещем от
узнавания, которое подсказывает нам тысячи эмоций. Если бы
люди не помнили, пусть смутно, все самое невероятное; если
бы поклонение солнцу и луне не оставило, пусть слабый, но
благостный след в нашем сознании, — рыбачка с Аранских
островов не пела бы такого:
«Вчера поздней ночью говорил о тебе пес; вчера из болота
говорил о тебе бекас. Во всем лесу ты самая одинокая птица; и
ты останешься одиноким, покуда меня не отыщешь».
247
«Ты обещал мне, и ты солгал мне, что придешь, когда при-
гонят овец. Я свистела, я звала тебя триста раз — но не обнару-
жила никого, кроме блеющего ягненка».
«Ты обещал мне невыполнимое: золотой корабль под сере-
бряной мачтой; двенадцать городов с рынком в каждом, белый
дворец на морском берегу».
«Ты обещал мне невозможное: что подаришь мне перчатки
из рыбьей чешуи; что подаришь мне ботинки из птичьей кожи;
что подаришь мне костюм из самого дорогого ирландского
шелка».
«Моя мать сказала, чтобы я с тобой не разговаривала — ни
сегодня, ни завтра, ни в воскресенье. Не вовремя она это сказа-
ла: что толку запирать дверь, когда дом уже обворовали...»
«Ты отобрал у меня восток; ты отобрал у меня запад; ты
забрал все, что передо мной, и все, что за мной; ты взял у меня
луну, ты взял у меня солнце, и страх мой велик, что ты взял у
меня Бога».
Кельт с Шотландских островов не мог бы спеть невесте
свою красивую песню, если бы не помнил старое поверье, со-
гласно которому Христос был единственным человеком, в кото-
ром было ровно шесть футов роста, ни больше и ни меньше, и
который был идеально сложен; если бы не помнил старинные
символические ритуалы:
Я омываю твои ладони
В потоках вина,
В очистительном огне,
В малиновом соке,
В медовом молоке.
Ты — радость всего радостного,
Ты — свет солнечного луча,
Ты — дверь в самый гостеприимный дом,
Ты — самая лучезарная из звезд.
Ты — поступь горного оленя,
Ты — поступь степного коня,
Ты — благодать встающего солнца,
Ты — чудо самых чудесных желаний.
248
Чудный образ Господа
В твоем целомудренном лике,
Самый чудный образ, что был на земле.
Вскоре я сумел избавиться еще от одной иллюзии «на-
родной поэзии». Я узнал от народа (и только потом из книг),
что для него идея искусства или ремесла неотделима от ста-
ринных обрядов и таинств. Люди с трудом способны отли-
чить обучение как таковое от колдовства и любят слова и
стихи, в которых скрывается какая-то тайна. В самом деле,
не вызывает сомнений, что задолго до того, как банки соз-
дали новый класс и новое искусство (и то и другое — без
образования и без корней) и поместили это искусство и этот
класс между хижиной и замком и между хижиной и мона-
стырем, — народное искусство было так же тесно связано
с искусством образованных классов, как народная речь, ко-
торая наслаждается ритмической живостью, играет языком,
образами, словами, полными скрытого смысла, — с традици-
онным языком поэзии.
В настоящее время я вижу в Ирландии новое поколение,
которое рассуждает об ирландской литературе и истории в
обществе «Молодая Ирландия», а также в других, совсем
недавно созданных обществах, и теперь стихи для народа
пишут гораздо больше людей, чем когда я был ребенком.
Этим людям оказывает поддержку всемогущая журнали-
стика, и журналистика эта нередко призывает их прибегать
к прямолинейной логике, к четкой риторике «популярной
поэзии». Газетчики видят, что в Ирландии нет образован-
ного меньшинства, однако они не желают видеть, хотя и
готовы отказаться от всего английского, что ее литератур-
ный идеал в большей степени принадлежит Англии, чем
другим странам. Я очень надеюсь, что новые писатели не
впадут в это заблуждение, ибо они пишут по-ирландски и
для ирландцев, ибо даже банки не способны лишить памяти
целый народ. Среди семисот-восьмисот тысяч моих сооте-
чественников, которые знают ирландский язык с колыбели,
едва ли найдется хотя бы один человек, который знаком с
устной традицией настолько плохо, чтобы не уметь отли-
чить хорошее стихотворение от плохого, — если, конечно,
он наделен природным умом. И наоборот, среди всех тех,
кто говорит по-английски в Австралии, Америке, Велико-
британии, найдется ли хотя бы десять тысяч человек, кото-
рые знакомы с письменной традицией настолько хорошо,
249
чтобы суметь отличить плохое стихотворение от хороше-
го, — даже если благодаря смекалке они дослужились до
звания министра Его величества? И положение это не из-
менится к лучшему, пока эти десять тысяч не проникнутся
верой в то, что «воображение — это сам человек» и что мир
в том виде, в каком он предстает в нашем воображении, —
это и есть истинный мир, и не поведут за собой людей, как
это сделали ученики Того, кто
послал апостолов своих
Против жрецов и веры их.
1901
НАСТРОЕНИЕ
От назидательной и научной литературы изящная словес-
ность отличается прежде всего тем, что подчинена настроению
(или настроениям), подобно тому как видимое тело подчине-
но невидимой душе; если изящная словесность и прибегает к
логике, теории, эрудиции, наблюдательности, то лишь затем,
чтобы мы, читатели, могли принять участие в грандиозном
пиршестве настроений. Настроения эти, мне кажется, явля-
ются тружениками и посланцами Вседержителя, античных
богов, что все еще обитают на своем таинственном Олимпе,
ангелов более поздних времен, поднимающихся и спускаю-
щихся по своей сияющей лестнице; мне кажется, что логика,
теория, эрудиция, наблюдательность — это не более чем «мел-
кие бесы, что цепляются за жизнь», как говаривал Блейк; что
это не более чем иллюзии нашей внешней, быстротечной жизни,
которые, если мы хотим подняться над сиюминутным, должны
настроению подчиниться. Все, что можно увидеть, потрогать,
измерить, объяснить, понять, оспорить, — для художника лишь
средство, ибо художник живег невидимой жизнью, выража-
ет ее точно новое и вечно древнее откровение. Нам часто го-
ворят, что художник должен услышать сдерживающий голос
рассудка, тогда как в действительности если и есть сдержива-
ющее начало, которому он должен подчиниться, — так это тот
таинственный инстинкт, что сделал его художником; тот зага-
дочный инстинкт, что учит его видеть бессмертное чувство в
смертных желаниях, неувядающую надежду — в каждоднев-
ной суете, божественную любовь — в низменном влечении.
250
ТЕЛО ОТЦА ХРИСТИАНА РОЗЕНКРЕЙЦА
Последователи отца Христиана Розенкрейца в соответ-
ствии со старинным обычаем завернули его нетленное тело
в благородные одежды и захоронили в склепе, под храмом
своего ордена, где хранились символы всего сущего на небе,
на земле и под землей, в подземных водах; они зажгли неуга-
симые магические светильники, что горели многие столетия,
до тех пор пока склеп этот случайно не обнаружили поздней-
шие представители ордена. Так вот, мне думается, что и вооб-
ражение, подобно телу отца Христиана, в течение последних
двух столетий пролежало в склепе — в гигантском склепе
критики; в призрачном свете магических светильников, лив-
шемся на усопшего, было столько мудрости и романтики;
вид у гробницы, у всего ее убранства, был столь благороден
и значителен, что мы забыли, что колдовские губы воображе-
ния крепко сжаты, а если и открываются, то лишь с жалобой,
едва слышной, невнятной, наводящей тоску. Древние греки
и римляне, елизаветинцы отдавались воображению, как жен-
щина отдается любви, благодаря чему и создали героев, по
сравнению с которыми живые люди казались не более чем
тенью; они создали великие страсти, в сравнении с кото-
рыми наша любовь и ненависть — это не более чем блажь,
мимолетная и незначительная. Теперь же воображение наше
захвачено не великими героями и великими страстями (ибо
герои и страсти в наших стихах — это большей частью лишь
возникшие в нашем зеркале отражения чужих, более старых
стихов или же жизни, нас окружающей), но многозначитель-
ными толкованиями по поводу этих героев и страстей, кри-
тикой жизни, извлеченной из их судеб. Теперь сам по себе
Артур — ничто, волшебное многоцветье историй о рыцарях
Круглого стола не более красиво, чем солнечный луч, слу-
чайно пробившийся в узорчатое окно собора. Теперь сами
по себе Помпилия и Гвидо мало что значат, зато набившие
оскомину рассуждения и обличения отцов церкви, и прежде
всего Папы Римского, почитаются высшей мудростью хри-
стианского мира. И вместе с тем меня не покидает мысль о
том, что эта — критическая — эпоха скоро кончится и ей на
смену придет эпоха воображения, чувства, настроения, от-
кровения, ведь вера в сверхчувственный мир не за горами,
она вот-вот возродится вновь; когда представление о том,
что мы «фантомы земли и воды», окончательно развеется,
мы вновь доверимся себе и своим чувствам; когда внешний
мир перестанет быть точкой отсчета, мы вновь узнаем, что
251
великие страсти — это ангелы Господни и что олицетворять
их «в их вечной славе», даже когда они стремятся покончить
с миром и благоденствием человека, — значит нечто больше,
чем рассуждать, пусть и со всей мудростью, о тенденциях
нашего времени, или выражать социалистические, гумани-
стические или какие-нибудь еще популярные идеи или даже,
как принято теперь говорить, «давать оценку» нашему вре-
мени — ибо искусство — это откровение, а не критика, а
жизнь художника, как некогда было сказано, сравнима с ду-
хом: «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не зна-
ешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким,
рожденным от Духа».
Эта страница
намеренно оставлена
пустой
Per Arnica
Silentia Lunae
1918
ПРОЛОГ
Дорогой «Морис», — Ты помнишь тот день в Кальвадосе
прошлым летом, когда твой черный персианин Миналуш, со-
провождавший нас с добрую милю, вдруг заслышал птичий
шорох в кустах ежевики? Мы долго звали его назад самыми
льстивыми именами, но тщетно: видимо, он твердо решил про-
вести ночь в ежевике. Он прервал разговор, не раз прерывав-
шийся и раньше, на некоторых мыслях, сделавшихся для меня
столь привычными, что я, кажется, могу их назвать своими
убеждениями. Вернувшись в Лондон, я вновь и вновь мыслен-
но возвращался к этим разговорам и не мог успокоиться, пока
не записал в этой книжечке все, что я тогда сказал, или то, что
нужно было сказать. Прочитай ее когда-нибудь, когда Миналуш
будет спать.
11 мая 1917
У. Б. Йейтс
EGO DOMINUS TUUS
Hie
На берегу ручья, в тени от башни,
Оставив лампу в комнате гореть
Перед раскрытой книгой, принесенной
Робартисом, ты бродишь под луной,
Как юноша безумный, и, томясь
В плену иллюзий, чертишь на песке
Таинственные знаки.
П1е
Я ищу
В себе свой новый образ — антипода,
Во всем несхожего со мною прежним.
Hie
А лучше бы искать в себе — себя.
П1е
Вот в чем распространенная ошибка.
Нас мнительный одолевает зуд,
И мы теряем прежнюю беспечность.
Перо ли выбрав, кисть или резец,
Мы только критики, полуартисты,
Творенья наши робки, смутны, бледны,
Зависимы от публики.
Hie
И все же
Дант, величайший гений христианства,
Сумел так полно выразить себя,
Что впалый лик его запечатлелся
В сердцах сильней, чем все иные лики,
За исключением Христа.
Ше
Себя ли
Он выразил, в конце концов? Иль жажда,
Его снедавшая, была тоской
По яблоку на самой дальней ветке?
256
Возможно ли, чтоб этот призрак был
Тем смертным, о котором пишет Гвидо?
Я думаю, он выбрал антипода,
Присвоив образ, что взирал со скал
На пыльные палатки бедуинов —
Лик идола, клонящегося набок
Средь щебня и верблюжьего дерьма.
И впрямь, он резал самый твердый камень.
Ославлен земляками за беспутство,
Презренный, изгнанный и осужденный
Есть горький хлеб чужбины, он нашел
Непререкаемую справедливость,
Недосягаемую красоту.
Hie
Но есть поэты и другого рода,
В их песнях не трагический разлад,
А радость жизни. Вдохновляясь ею,
Они поют о счастье.
П1е
Жизнелюбы
Порой поют, но больше копошатся,
Приобретая деньги, славу, вес.
И кто из них писатель, кто художник —
Неважно; главное для них — возня,
Жужжанье мухи в блюдечке с вареньем.
Гражданственный поэт морочит ближних,
Сентиментальный лирик — сам себя,
Искусство же есть видение мира.
Какой барыш на свете может ждать
Того, кто, пошлый сон стряхнув, узрел
Распад и безысходность?
Hie
И однако
Никто не станет отрицать, что Ките
Любил людей и радовался жизни.
П1е
В стихах; а в глубине души — кто знает?
Я представляю мальчугана, носом
Прилипшего к стеклу конфетной лавки;
257
Ведь он сошел в могилу, не насытив
Ни алчных чувств, ни влюбчивого сердца.
Болезненный и нищий недоучка,
Сын конюха, с рожденья обделенный
Богатством, он роскошествовал в грезах
И расточал слова.
Hie
Зачем ты бросил
Раскрытый том и бродишь тут, чертя
Фигуры на песке? Ведь мастерство
Дается лишь усидчивым трудом,
И стиль оттачивают подражаньем.
П1е
Затем, что я ищу не стиль, а образ.
Не в многознанье сила мудрецов,
А в их слепом, ошеломленном сердце.
Зову таинственного пришлеца,
Который явится сюда, ступая
По мокрому песку, — схож, как двойник,
Со мной, и в то же время — антипод,
Полнейшая мне противоположность;
Он встанет рядом с этим чертежом
И все, что я искал, откроет внятно,
Вполголоса — как бы боясь, чтоб галки,
Поднявшие базар перед зарей,
Не разнесли по миру нашей тайны.
ANIMA HOMINIS
I
Когда я возвращаюсь домой после встреч с людьми, чуж-
дыми мне, или после бесед с женщинами, я вспоминаю сказан-
ное мной с унынием и досадой. Возможно, я все преувеличил
из-за желания смутить или озадачить, из неприязни — то есть,
по сути, из страха; или истинные мои мысли были потоплены
волной неодолимой симпатии. Едва ли я осознавал, что в моих
сотрапезниках смешано и белое, и черное,— как же мне было
сохранить трезвую голову перед воплощениями добра и зла,
этими грубыми аллегориями!
Но когда я запираю свою дверь и зажигаю свечу, я вызываю
мраморную Музу и обращаюсь к искусству, в котором ни одна
мысль или чувство не придет в голову из противоречия с мыс-
лями и чувствами других, где нет противодействия, а только
действие, где все, что приходит извне, должно служить лишь
раскрытию тайны моего собственного сердца. И мне представ-
ляются ресницы, которые не дрогнут перед направленными на
них штыками; в мыслях воцаряется покой и радость, я полон
сознания своей правоты. Когда я пытаюсь запечатлеть в сти-
хах найденное, это бывает нелегко, но в тот момент я верю, что
это я сам, а не мое анти-Я. Тогда лишь внезапная апатия может
меня убедить, что я был сам собою не больше, чем кот, объев-
шийся в саду валерианы.
Как я мог принять за свое «я» то героическое состояние
духа, перед которым я благоговел с раннего детства! То, что
приходит в такой полноте и соразмерности, как роскошные,
ярко освещенные здания и картины, которые грезятся нам в миг
между сном и пробуждением, не может не исходить откуда-то
извне или свыше. Порой я вспоминаю то место у Данте, когда
в комнату к нему явился некий Муж, Страшный Видом, и пре-
259
исполненный «такого веселья, что дивно было видеть, возго-
ворил, и сказал многое, из чего я мог понять лишь несколько
фраз, и среди них — ego dominus tuus». А когда такое состоя-
ние находит иначе, не в образе человека, а в виде какого-нибудь
прекрасного пейзажа, я иногда думаю о Бёме и о той стране,
где мы «вечно утешаемся превосходным и восхитительным
изобилием всевозможных красок и форм, деревьев и растений,
а также плодов».
II
Когда я вспоминаю характеры своих друзей, писателей и
артистов, я обнаруживаю похожее противоречие. Я говорил
одной своей близкой знакомой, что ее единственный недоста-
ток — привычка резко разговаривать с людьми, ей несимпатич-
ными, притом что в ее комедиях самые злые персонажи кажут-
ся всего лишь капризными детьми. Она не сознает, для чего она
создала этот мир, где никто никого не судит,— праздник все-
прощения, но мне кажется, что сотворенный ею идеал красо-
ты — своего рода компенсация характера,уставшего осуждать.
Я знаю знаменитую актрису, которая в частной жизни смахи-
вает на капитана пиратского корабля, у которого вся команда
ходит под дулом пистолета, а на сцене она с блеском представ-
ляет женщин беззащитных и беспомощных и совершенно вос-
хитительна в роли одной из тех королев, выдуманных Метер-
линком, которые настолько лишены своего «я», своей воли, что
подобны теням, вздыхающим где-то на краю мира. Когда я в
последний раз был у нее дома, она отчаянно жестикулирова-
ла и кипятилась, не слушая никого, перед стеной, увешанной
женскими портретами кисти Берн-Джонса (его последнего пе-
риода). Она пригласила меня в надежде, что я отстою этих жен-
щин, которые всегда ей молча внимали и, казалось, были ей так
же необходимы, как созерцающий Будда японскому самураю, и
защищу их от французского критика, убеждавшего ее сменить
их на постимпрессионистический портрет толстой и пухлой
ню, возлежащей на турецком ковре.
Существуют люди, чье искусство не столько самостояние
духа, сколько компенсация какого-либо их недуга или несча-
стья. Во время скандала, связанного с первым представлением
«Повесы с Запада», Синг настолько был смущен и обескура-
жен, что вскоре заболел, — я и вправду думаю, что это потря-
сение ускорило его смерть, — и в то же время он оставался,
как обычно, вежливым и немногословным, до щепетильности
260
сдержанным в своих мнениях. В пьесах же у него действуют
столь милые его душе и слуху отчаянные шалопаи и говору-
ны, «не устающие буянить и волочиться до гробовой доски».
В другом случае этот же драматург, обреченный из-за болез-
ни на монашескую жизнь, находит удовольствие, изображая ве-
личественных королев, безоглядно ставящих на кон себя и свою
жизнь. Воистину его воображение всегда привлекала телесность
в ее прекраснейших формах, — не просто луна, а луна, движущая
морским приливом. Последний акт пьесы «Дейрдре — дочь печа-
лей», где его искусство достигает вершины, писался на смертном
одре. Он не знал, что его ждет за этой гранью. Он оставлял ту, с
которой был помолвлен, и замысел ненаписанной пьесы. «Сколь-
ко потерянного времени!» — сказал он мне. Ему очень не хо-
телось умирать; в последних монологах Дейрдре и в середине
акта он приемлет смерть и великодушным жестом прощается
с жизнью. Он наделил Дейрдре чувствами, которые казались
ему самыми желанными, самыми трудными и благородными,
и, может быть, в этих ее последних семи годах, блаженных и
навеки уходящих, он видел исполнение и своей собственной
судьбы.
III
Когда я думаю о каком-либо великом поэте прошлого
(различие между реалистом и историком стирается, когда
речь идет о свидетельстве очевидца), я сознаю, прослеживая
контуры его жизни, что суть творчества — бегство человека
от предначертаний гороскопа, попытка вырваться из паучьей
сети звезд. Уильям Моррис, удачливый, деловой и крайне
раздражительный человек, описывал туманные картины и
элегические настроения, служа, более чем кто-либо из его со-
временников, Музе Праздности. Сэвидж Лэндор превосходил
нас всех не только своим спокойным благородством в те ми-
нуты, когда брал в руки перо, но и каждодневными буйными
вспышками страстей — когда перо откладывалось в сторону.
Он, напомнивший нам в своих «Воображаемых беседах», что
Венера Милосская недаром сделана из мрамора, писал, не по-
лучив от печатника экземпляры своей книги так быстро, как
он рассчитывал: «Я решился порвать на кусочки все свои на-
броски и проекты и отказаться от всяких будущих планов.
Я убиваю свое время сном и три четверти суток провожу в по-
стели. Можете считать меня мертвецом». Мне представляется,
что Китсу была от рождения присуща жажда роскоши, столь
261
характерная для многих ранних романтиков, но он не мог, как
богатый Бекфорд, удовлетворить ее разными красивыми и ди-
ковинными предметами. Это обратило его к воображаемым
наслаждениям; бедный и болезненный недоучка, к тому же
не получивший должного воспитания, он знал, что отлучен
от всякой осязаемой роскоши; встретив Шелли, он вел себя
враждебно и настороженно, потому что, как вспоминает Ли
Хант, «будучи довольно чувствительным к вопросу о своем
происхождении, он был склонен видеть во всяком знатном че-
ловеке своего естественного врага».
IV
Лет тридцать тому назад я прочел аллегорическую книгу
Симеона Соломона, с тех пор не переиздававшуюся, и запом-
нил (или кажется мне, что запомнил) одну фразу: «Застывший
слепок сбывшихся желаний». Все счастливое искусство пред-
ставляется мне таким застывшим слепком, но когда его черты
выражают также отчаяние или гнев, подвигнувшие автора на
труд, мы называем это трагическим искусством. Ките оста-
вил нам лишь свои роскошные грезы, но, читая Данте, нам
не удается надолго уйти от конфликта, заложенного в его сти-
хах. Отчасти потому, что они отражают его судьбу, отчасти
потому, что эта судьба так ясна и проста, как это нужно для
целей искусства. Я не специалист по Данте, я лишь читал его
в переводе Шэдуэлла и Данте Россетти, но я почти убежден,
что он славил чистейшую из когда-либо воспетых женщин и
божественную справедливость не только потому, что смерть
похитила эту даму и Флоренция изгнала ее певца, но и потому,
что он сам в своем сердце боролся с несправедливым гневом
и вожделением; в отличие от других великих поэтов, живших
в мире с окружающими и в раздоре с собой, он воевал на два
фронта. «И в юности, — пишет Боккаччо, — ив зрелые годы,
при всех своих добродетелях, он не чуждался и разврата»,
или, как смягчает эту фразу Мэтью Арнольд, «его поведение
отличалось крайней беспорядочностью». Гвидо Кавальканти,
судя по переводу Россетти, находит «слишком много недо-
стойного» в своем друге.
Меня добросердечно ты хвалил,
И я весьма ценил твои стихи,
Но, видя, как беспутно ты живешь,
Теперь остерегусь их одобрять.
262
«И когда Данте встречает Беатриче в раю, разве она не упре-
кает его за то, что он после ее ухода гнался за какими-то лож-
ными призраками, несмотря на явленные ему в снах предупре-
ждения, и разве не говорит, что, желая спасти его вопреки ему
самому, она навестила селение мертвых и избрала Вергилия
своим посланцем. И не зря Чино да Пистойя жалуется, что в
«Комедии» Данте приманчивые обманы... клеймят честных, а
злых оставляют без наказания».
Все ложное, что в этих строфах есть,
Как шелуху, нам надобно отместь,
Чтоб слух, посеянный во время оно,
Не породил потом такую месть,
Как гнев Антония на Цицерона.
Сам Данте пишет к Джованни Гвирини «на пороге смерти»:
Тот Царь, чьей щедрой смертию живут
Все, кто смогли его Отцом признать,
Велит из сердца ненависть изгнать
И уповать, смирясь, на Высший суд.
V
Из распри с другими людьми происходит риторика, из распри
с самим собой — поэзия. В отличие от витии, черпающего уве-
ренность в образе толпы, которую он воодушевил или должен
воодушевить, мы не знаем, для кого пишем. Даже в присутствии
высшей красоты стих содрогается, уязвленный внезапным оди-
ночеством. Полагаю, что ни один хороший поэт, какую бы бес-
порядочную жизнь он ни вел, никогда не делает наслаждение
своей целью. Джонсон и Даусон, друзья моей юности, были бес-
путными людьми: один — пьяница, другой — пьяница и вдоба-
вок бабник, и, однако, обоим была присуща серьезность людей,
понявших жизнь и старающихся стряхнуть с себя ее сон; оба —
один в искусстве и в жизни, другой больше в искусстве, чем в
жизни,— были поглощены религией. Ни один поэт из тех, кого я
читал или слышал или с кем встречался, не был сентиментален.
Второе «я», или анти-«я», — называйте как хотите, приходит
лишь к тем, кто более не обманывается, чья страсть стала реаль-
ностью. Сентиментальные люди практичны, они верят в день-
ги, в общественное положение, в свадебные колокола, счастье
для них значит — так увлечься работой и игрой, чтобы забыть
обо всем, кроме сиюминутной цели. Они находят удовольствие
263
в кубке, зачерпнутом с летейской пристани; но для откровения,
для постижения мира традиция предлагает нам другое слово —
экстаз. Один старый художник описывал мне, как, блуждая по
набережным Нью-Йорка, он встретил женщину с больным ре-
бенком на руках. Она рассказала ему о себе и о других своих де-
тях — тех, которые умерли, это была длинная трагическая исто-
рия. «Мне страшно захотелось нарисовать ее; если бы я мог хоть
как-то отгородиться от ее боли, я бы не ощутил такого экстаза».
Мы не должны творить фальшивой веры, пряча от самих
себя источники сомнений, ибо вера есть высшее создание чело-
веческого интеллекта, единственный дар, который человек мо-
жет предложить Богу, и он должен быть предложен искренне.
Равным образом мы не должны творить фальшивую красоту,
прикрывающую уродство, и преподносить ее миру. Лишь тот
способен создать величайшую мыслимую красоту, кто испытал
все мыслимые муки, и только ясно видя и предвидя все страш-
ное, мы можем быть вознаграждены появлением этой ослепи-
тельной, пернатообутой странницы. Мы бы не смогли обрести
ее, не будь она соприродна нам в некотором смысле, но сопри-
родна так, как вода огню и как шум тишине. Из всех возможных
вещей эта — самая трудная, но иначе она бы и не смогла стать
частью нас: «легко пришло — легко ушло», — гласит поговор-
ка. Тьма сделается светоносной и бездна плодородной, когда я
пойму, что я гол и нищ, что звонари на башне уготовили душе
взамен брачного благовеста лишь похоронный звон.
Последнее знание часто приходит к мятущимся людям,
принося на время новое смятение. Когда жизнь откладывает в
сторону — один за другим — свои дешевые фокусы, послед-
ними вполне могут оказаться винная чаша и чувственный по-
целуй, ведь наши Палаты Общин и Торговли не имеют этой бо-
жественной архитектуры тела, и хмель их не напоен солнцем.
Так что поэту, который не может отсиживаться за стенами мо-
настыря, но живет среди буйства ветров, осаждающих его дом,
можно найти оправдание.
VI
Я думаю, что христианский святой и герой встают на свой
путь не от разочарованности в жизни: они приносят сознатель-
ную жертву. Вспоминаю, как я однажды читал автобиографию
человека, совершившего рискованное путешествие в Сибирь,
к русским ссыльным. Оказывается, в детстве он был робок и,
чтобы преодолеть в себе трусость, гулял ночами по опасным
264
улицам. Святому или герою нелегко то являть миру свой «опу-
стошенный лик», то вновь, как ни в чем не бывало, возвращаться в
гетерогенное состояние. Их всегда тянет к одному полюсу, к своему
анти-«я». Всегда есть примесь одного типа в другом, и во всех вели-
ких поэтических стилях присутствует святой или герой, но в конце
концов Данте был волен опять возвратиться к своему волокитству,
а Шекспир — к своей «пинтовой кружке». Они не искали невоз-
можного совершенства, пока не брали пергамент или бумагу; и все
же святой и герой, чей материал — собственная плоть и кровь, а не
бумага или пергамент, скорее поймут чужую плоть и кровь.
Несколько лет назад я пришел к мысли, что наша куль-
тура с ее доктриной искренности и самовыражения сделала
нас слабыми и пассивными и что, может быть, средневеко-
вье и Возрождение не зря стремились к подражанию Христу
или какому-нибудь классическому герою. Святой Франциск и
Цезарь Борджиа сумели стать могучими творческими лично-
стями, отвернувшись от зеркала и обратившись к раздумью
над маской. Когда я понял это, я уже не мог думать ни о чем
другом. Не мог даже написать задуманной пьесы; все обрело
аллегорический смысл. Я изорвал сотни страниц — и все-таки
оставался в плену аллегорий. Воображение мое сделалось
стерильным почти на пять лет; в конце концов я спасся только
тем, что написал комедию, высмеивающую мою собственную
мысль. Я постоянно размышлял о подражательном элементе в
работе и в жизни и о том, что лежит за гранью героического
подражания. В моем старом дневнике есть такая запись: «Сча-
стье, мне кажется, зависит лишь от решимости присвоить чу-
жую маску. Лишь от перерождения во что-то другое, творимое
в данный миг и без конца обновляемое, в игре ребенка, кото-
рая избавляет его от «бесконечной муки» самовоплощения, в
той гротескной или строгой личине, которую надевают, чтобы
избежать неумолимого суда. Может быть, все грехи и мета-
ния мира — лишь попытки скрыться от какого-то всепрони-
кающего слепящего луча». И где-то, под более ранней датой:
«Если мы не можем вообразить себя кем-то другим, не можем
ощутить свое второе "я", мы вместо самодисциплины обречем
себя лишь на послушание». Активная добродетель, в отличие
от пассивного повиновения закону, — вещь театральная, осо-
знанно драматическая, это ношение маски... Вордсворт, хоть
он и великий поэт, нередко бывает тяжеловат и банален, отча-
сти потому, что его мораль — это послушание, где нет ничего
творческого, никакого театрального элемента. Это увеличива-
ет его популярность среди благонамеренных журналистов и
политиков, пишущих книги.
265
VII
Я думаю, герой — это тот, кто нашел на каком-нибудь дубу
Додоны древнюю маску, еще сохранявшую, может быть, что-то
египетское, и исправил ее по своему вкусу, коснувшись краской
там и сям, вызолотив брови или проведя золотом линию скул; и
когда он наконец глянул в прорези глаз, то почуял вдруг чужое
дыхание, входящее и выходящее сквозь уста маски вместо его
собственного дыхания, и глаза его на миг застыли, узрев нечто
в мире видений, — а как же еще божество может явиться к нам
в лесной чаще? В простых неученых книгах говорится, что Тот,
кто сторожит стада дальних звезд, приходит без посредника;
но согласно наставлениям Плутарха и по опыту старух в Сохо,
берущих со служанок один шиллинг за одно колдовство, по-
лучается, что живущий может сделать своим Даймоном какого-
нибудь великого мертвеца. Я бы добавил к этому еще одну
мысль: Даймон не приходит по сходству, он ищет свою проти-
воположность, ибо человек и Даймон утоляют свой голод друг
в друге. Дух прост, а человек смешан и неоднороден, поэтому
они связываются в единое целое, лишь когда человек находит
маску, выражающую все то и только то, чего ему самому недо-
стает, как бы это ни было ужасно, — и ничего сверх того.
Чем ненасытнее его желание, чем решительней его отказ от
подделок и легких побед, тем теснее будет их связь, тем ярост-
ней и определенней — их антипатия.
VIII
Все религиозные люди, по-моему, верят, что в события на-
шей жизни вмешивается чья-то посторонняя воля и что «слу-
чай — это судьба», как сказано в «Вильгельме Мейстере». Ка-
жется, у Гераклита есть слова: «Даймон — наша судьба». Когда
я думаю о жизни как о борьбе с Даймоном, подвигающей нас
на самое трудное дело из всех возможных, я понимаю, откуда
эта вражда между человеком и судьбой и откуда эта беззаветная
любовь человека к своей судьбе. В одной англо-саксонской по-
эме героя зовут именем, как бы концентрирующим в себе весь
его героизм, — «Судьбострастный». Я убежден, что Даймон
завлекает и обманывает нас, что он сплел свою сеть из звезд и с
размаху забрасывает ее в мир. Потом мое воображение переска-
кивает на любимую, и я дивлюсь непостижимой аналогии между
ними. Я вспоминаю, что древние греки учили находить главные
звезды, правящие одновременно нашими врагами и любимыми,
266
среди заходящих звезд в Седьмом Доме, как говорят астрологи, и
что, может быть, «чувственная любовь», основанная на «духовной
вражде», и есть символ противоборства человека и его Даймона.
Я даже думаю: нет ли какого секретного сообщения, какого-нибудь
перешептывания в темноте, между Даймоном и моей любимой.
Я вспоминаю, как часто влюбленные женщины становятся суе-
верными и думают, что они могут принести удачу своему воз-
любленному. Есть старинная ирландская легенда о трех юношах,
пришедших в жилище богов (Слив-На-Мон) просить у них помо-
щи в битве. «Сперва женитесь, — сказал им один из богов, — ибо
уцача или злосчастье человека приходит к нему через женщину».
Я иногда занимаюсь фехтованием по вечерам, и, когда я по-
том закрываю глаза на подушке, я вижу перед собой танцую-
щую рапиру, направленную острием мне в лицо. Мы всегда
встречаемся в глубине сознания — над чем бы мы ни труди-
лись, куда бы ни уносились в мечтах, — с этой чужою Волей.
IX
Поэт обретает и творит свою маску в момент разочарования,
герой — в разгроме. Утоленное желание не самое великое из
желаний, и то плечо не познало своей полной силы, которое не
пробовало пробить несокрушимые врата. Лишь святой смотрит
трезво, не ломясь никуда плечом и не протягивая вперед вожде-
леющих рук. Он может без окольных блужданий добраться до
своего анти-Я: индиец — сужая свою мысль в медитации или от-
решаясь от нее в созерцании, христианин — в подражании Хри-
сту, этому анти-«я» классического мира. Ведь герой любит мир,
пока тот не сокрушит его, поэт — пока он не утратит веры; а свя-
той отвернулся от мира, пока еще мир ему улыбался, и, не веря
в опыт, он будет носить такую маску, какую найдет. Поэт или ге-
рой, на каком бы дереве они ни нашли свою маску, в угоду своей
фантазии как-то изменяют ее черты, а святой, чья жизнь идет по
заведенному кругу, отвергает все лишнее; день за днем он би-
чует в своем теле римских и христианских завоевателей, морит
голодом в своей келье Александра и Цезаря. Он рождается не в
разочаровании и не в разгроме, как поэт или герой, но в искуше-
нии, подобном искушению Христа в пустыне, в ежемгновенном,
вечно обновляющемся созерцании Земных Царств, являющих
перед ним свои пустые троны. Эдвин Эллис в своем замечатель-
ном стихотворении, помня, что и Христос измерил приносимую
им жертву, представил себе, как он встречает на Голгофе видение
«Христа Меньшего» — того Христа, кто, может быть, прожил
267
счастливую и безгрешную жизнь и вот теперь скитается, не зная
покоя, как «унылый одинокий дух».
И я воззвал к нему, стеня:
«Меня покинул ты, Господь!»
Гвоздей железо жгло мне плоть,
Но призрак скрылся от меня.
И все же святой, несмотря на свой мученический венец и
борьбу с соблазнами, избежал разгрома, отвергнутой любви и
скорби расставания.
О мрак, огонь дорожный!
Мрак, что желанней яркого светила!
О мрак, приют надежный
Для милого и милой,
Где с милым милую в одно сплотило!
Там, на благоуханной
Груди, что для него лишь сберегала,
Уснул мой долгожданный,
А я его ласкала,
И волновалось кедров опахало.
И веянье покоя,
Когда по милым прядям я скользила
Бестрепетной рукою,
С неведомою силой
Меня внезапно в сердце поразило.
Забылась я, затмилась,
Склонясь над милым и забыв унынье,
И больше не томилась,
Теряясь в белом крине
На благодатной горной луговине.
Тому, кто берет в руки резец или перо, непозволительно
гоняться за оригинальностью, ибо единственная его забота —
страсть, и он не может лепить или писать стихи по последней
моде, ведь ни одно несчастье не похоже на другое. Он как те
призрачные влюбленные в японских пьесах, которые обречены
блуждать друг возле друга, как в тумане, восклицая: «Мы не
спим и не бодрствуем, но проводим ночи в печали, в грезах и
в печали; что нам эти картины весны!» Если, найдя маску, мы
268
чувствуем, что она не совпадет с нашим настроением, пока мы
не тронем золотом щеки, — мы делаем это скрытно и только
там, где дубы Додоны образуют самую глубокую тень, чтобы
Даймон не заметил нашего рукоделья и не покинул нас, как
враг и недоброжелатель.
XI
Много лет назад в минуту между сном и пробуждением мне
пригрезилась женщина несказанной красоты, пускающая в небо
стрелу из лука, и с тех пор как я впервые попытался отгадать ее
цель, я много размышлял о разнице между извилистыми путями
Природы и прямой линией, которая в «Серафите» Бальзака на-
звана «меткой человека», но вернее было бы сказать — метка
святого или мудреца. Мы — поэты и художники, которым запре-
щено преступать грань осязаемого, — должны, по-моему, жить
как смиренные скоты, переходя от желания к апатии, и снова к
желанию, пока озарение не нагрянет к нам подобно страшной
молнии. Я не сомневаюсь, что эти вольные круги, эти арочные
изгибы в жизни человека и эпохи подчиняются математическим
законам и что некто в нашем мире или за его пределами знал
наперед, что случится, и разметил в своем календаре жизнь Хри-
ста, Будды и Наполеона, что каждое движение чувств и ума, чем
оно становится яснее и отчетливей, тем вернее готовит во мраке
своего собственного палача. Мы ищем истину — медленно, на
ощупь, ударяясь о безграничное и непредсказуемое. Только отре-
шившись, подобно святому или мудрецу, от опыта как такового,
можно, говоря образами христианской Каббалы, отринуть вне-
запность молний и змеистость пути и стать лучником, пускаю-
щим стрелу в центр солнечного диска.
XII
Ученые-медики открыли, что некоторые сновидения —
хотя, по-моему, далеко не все — суть наши дневные неудовлет-
воренные желания и что страх перед этими подавленными в
себе желаниями искажает и возмущает наши сны. Они изучали
вторжение в сон того, что не контролируется и не очищается
сознанием. В жизни мы можем удовлетворить лишь немногие
из наших страстей, да и то отчасти, и хотя характеры у всех раз-
ные, всегда достигается какой-то компромисс. Этот компромисс
зыбкий: когда он нарушается, мы впадаем в ярость, в истерику
269
или в уныние; и вот, когда неутоленная или вытесненная страсть
является нам во сне, мы рушим все логические связи и отбрасыва-
ем ее в первоначальный хаос. Но страсти, которым суждено остать-
ся неутоленными, превращаются в наваждение, а наваждение —
бодрствуем мы или спим — продолжает кружиться в собственном
ритме и размере, как Колесо, на котором мир — лишь присевшая
бабочка. Не мы нуждаемся в защите, а наш сон, ибо стоит нам
перенести интерес на себя, на свою собственную жизнь, и мы
выпадаем из этого сновидения. Сам ли человек или его снови-
дение создает ритм, заставляющий вращаться Колесо, — трудно
сказать. Но несомненно, у нас есть множество способов удер-
жать этот ритм: мы находим наши образы в прошлом, мы от-
ворачиваемся от нашей эпохи, предпочитая Чосера ежедневным
газетам. Этот ритм вынуждает нас отрешиться от всего, чего он
не может вместить, и, приходя во сне, уносит нас туда, где даже
сон смежает веки и грезы впадают в грезы. Омытые чистейшим
светом, мы забываем, кто мы и что мы, и только упорно шепчем,
как Фауст: «Мгновенье, постой!» — но тщетно.
XIII
Когда поэт стареет, он спрашивает себя, сможет ли он со-
хранить свою маску и свое видение без новой горечи и новых
разочарований. Сможет ли, зная, как убывают силы с годами,
подражать Лэндору, не перестававшему до конца своих дней
любить и ненавидеть, нелепому и непобежденному, потерявше-
му все, кроме благосклонности своей Музы.
Как всем известно, Память — матерь Муз;
Она сбежала от меня, а дочки
Трясут, и тормошат, и петь велят.
Конечно, он может думать, что, мол, теперь, когда я нашел
видение и маску, я больше не буду страдать. Он может купить
какой-нибудь старый домишко, как Ариосто, возделывать свой
сад и верить, что в круговороте птиц и листьев, солнца и луны,
в вечернем кружении галок ему откроется ритм и контур, как
во сне, и видение его больше не оставит. Но потом он вспомнит
Вордсворта, одряхлевшего к восьмидесяти годам, почитаемого,
но умственно опустошенного, и тогда он забьется в свой одино-
кий угол и, не нужный никому, отыщет себе там какую-нибудь
сухую, черствую корку.
ANIMAMUNDI
I
Я всегда старался постичь воображением мысли индийских
и японских поэтов, старых женщин в Коннахте, медиумов на
улицах Сохо, послушников в каком-нибудь средневековом мо-
настыре, погруженных в свои деревенские грезы, ученых авто-
ров, ссылающихся на древность, — чтобы окунуться в глубину
всеобщей души, неотделимой от того, что мы теперь называем
«подсознательным», освободиться от всего, что исходит от об-
щественных советов и комитетов, от мира, каким он видится из
университетов и шумных городов; ради этого я твердил закли-
нания и посещал медиумов, радуясь всякий раз, когда важные
идеи воплощались в живых образах и запоминающихся фразах,
восприняв от абстрактных школ лишь несколько терминов, на-
столько старых, что они казались какими-то обломками портика,
заросшими травой и бурьяном, и избрав для себя школу зримых
вещей: «A Tenedo tacitae per arnica silentia lunae». Одно время я
предполагал подкреплять свои выводы цитатами из дневников,
куда я сразу, по горячим следам, записывал некоторые стран-
ные факты, которым был свидетель. Но потом передумал; скажу
только, как тот арабский мальчик, который стал визирем: «О брат
мой! Все это я нашел в песках пустыни, в речениях древних».
II
Существует письмо Гете (не помню, где я его прочел), объ-
ясняющее суть заклинания духов, хотя и применительно к ли-
тературе: он отзывается о одном друге, жаловавшемся на свою
литературную бесплодность, как о чересчур умном или черес-
чур рассудительном. Нужно дать образам полностью сформи-
роваться, а уж потом подвергать их критической оценке. «Если
271
поспешить с критикой, — писал Гете, — они совсем не сфор-
мируются». Я обнаружил: стоит на время отключить критиче-
скую функцию ума, что можно достигнуть тренировкой, или,
при наличии особого дара, погружением в легкий транс, — как
перед вами, один за другим начнут проходить видения. Если вы
сможете также отключить волю и не вмешиваться в их форми-
рование, погружение станет полным: возникающие образы об-
ретут особую чистоту красок и выражения, и вы вместе с ними
окажетесь в некоем пространстве, залитом мощным светом;
причем картины, проходящие перед вами, будут ассоциативно
связаны, ибо толчком для них послужили реальные образы и
звуки. Вы поймете, как, отключив мысль и волю, можно вы-
звать из подсознательного любое целое, обладая лишь его фраг-
ментом. Те, кто следует старой заповеди, соблюдают свои тела
в покое, а души в ясности и бдении, в особенности опасаясь
смешать мысленные образы с объектами чувств; в сущности,
они стремятся стать идеальными зеркалами.
Я лишен этого природного дара ясности и невозмутимости,
ибо мой дух, как вскоре обнаружилось, чрезвычайно беспокоен
и мне редко удается узреть эту внезапную светоносную закон-
ченность формы, которая убеждает, вопреки всем сомнениям,
что перед вами не просто плоды чистого воображения. Поэтому
я изобрел новый метод. Я обнаружил, что после заклинатель-
ных опытов мой сон иногда наполняется светом и видениями,
чего я не мог достичь в состоянии бодрствования, и нашел спо-
соб, как с помощью символических предметов влиять на свои
сны или, точнее, видения, ибо в них не было обычной смут-
ности снов, — я просто клал под подушку или рядом с крова-
тью какие-нибудь цветы или листья. Даже и сейчас, через двад-
цать лет, мне помнятся грезы, навеянные веткой боярышника
или какого-нибудь другого растения, помнится тот ни с чем не
сравнимый восторг озарения. Спустя некоторое время — из-
за того ли, что была потеряна новизна или работа в ирланд-
ском театре слишком меня увлекла, — но власть этих символов
ослабела и мой сон потерял прежнюю отзывчивость. У меня
были товарищи, изучавшие такие вещи, и время от времени то
я, то они делали некие открытия. Образы, возникавшие перед
моим мысленным взором во сне или наяву, встречались потом
в какой-нибудь книге, которую я открывал впервые; не найдя
достаточных объяснений в существующей теории этой памяти
о незнаемом, я уверовал в некую Великую Память, передаю-
щуюся от поколения к поколению. Вдобавок эти образы были
избирательны и целенаправленны. Они имели отношение к
знаемому, и в то же время расширяли сферу моего знания. Если
272
никого за этим нет, откуда же ко мне являлись мысли о соли
и сурьме, или о плавке золота, в точности соответствующие
концепциям средневековых алхимиков, или о каких-то кабал-
листических символах, неожиданно находившем авторитетное
подтверждение в старой неопубликованной рукописи? Кто мог
так изобретательно сочетать мифологические образы, действуя
по закону ассоциации, но с явным и лично ко мне обращенным
намерением? Порою цельная картина являлась нескольким лю-
дям, отдельными фрагментами и обретали смысл, лишь когда
головоломка складывалась вместе. Вновь и вновь ко мне явля-
лась мысль, что мы своими штудиями устанавливаем контакт с
душами тех, кто занимался сходными вещами в прошлые вре-
мена, и что эти души по-прежнему обладают зрением, разумом
и волей. Наши дневные мысли — только линия пены на отмели
безбрежного сияющего моря, той самой Anima Mundi Генри
Мора или вордсвортского «бессмертного океана, который нас
сюда принес»; детям дано только лишь играть на его берегу, но
есть те, что бороздят это море вплавь или под парусами, — и
уж они-то, наверное, исследили все его берега.
III
Я всегда заставлял себя концентрировать мысль на душах, а
не на их воплощениях, как бы они не были живы и ярки. Души,
управляющие этими зыбкими воплощениями, явно имели соб-
ственную форму, так что их внешние образы казались лишь от-
ражениями в некой живой субстанции, чьей истинной формой
была изменчивость. Согласно логике и традиции, наша жизнь
можно символически представить как землю, во всей разнород-
ности заполняющих ее вещей, образы — как нечто, отражен-
ное в воде, причем это что-то может мыслиться как воздух; а
за всем этим, я был уверен, стоит воля и любовь — субстанции
простые, как огонь. Но и сами образы были четверичны, и одно-
боко судил о них тот, кто видел лишь один из составлявших их
четырех элементов или только пятый элемент — завесу, скры-
вающую остальные четыре, феникса, рожденного из пламени.
IV
Мы жаждали разузнать хоть что-то — хотя бы фами-
лии и имена — о душах, присутствие которых интуитивно
угадывали и которые, однако, всегда ускользали от иденти-
273
фикации. Может быть, два или три раза отчетливо возника-
ло чувство контакта — и исчезало, оставляя по себе лишь
слабый след — внезапный пробел посреди напряженного
раздумья, чей-то шепот, прозвучавший в тишине. Правы ли
были наши учителя, утверждавшие, что достаточно угады-
вать присутствие этих таинственных, но дружеских сил по
тем же приметам, как явление «фантома» в стихах Коль-
риджа, и думать о них, по слову Святого Фомы, лишь как
о вступивших в вечное владение собою на один единствен-
ный миг?
Все, что судьба внесла в него —
Земное сходство и родство —
Исчезло. Этот яркий лик,
Что в сводчатых вратах возник,
С подобьями утратил связь;
Лишь дух ее, сквозь плоть светясь,
Предстал очам; она одна
В себе самой была видна.
V
Однажды ночью я услышал голос, говоривший: «Лю-
бовь Божья к любой душе человеческой безмерна, ибо лю-
бая душа неповторима, никакая другая не может утолить
той же жажды Божьей». Наши учителя не отрицали, что
личность не умирает вместе с телом и что даже грубые
очертания человека еще могут витать вокруг нас некоторое
время после смерти, но только если мы думаем о нем. Бы-
вая среди деревенских людей, я обнаружил, что они ищут и
находят в тенях своих близких те же знакомые им земные и
бренные черты, которые возбуждали их участие при жизни.
Один сведущий крестьянин из Спидалла, общавшийся со
своей умершей сестрой каждый год в Духов день, замечал,
встречая ее в дальнем углу сада, что раз от разу ее голова
все больше седеет. Не оттого ли, что умерла она раньше
срока и потому остаток назначенных лет должна провести
вблизи родного жилья? Подобные примеры убеждали меня
больше, чем любые авторитеты, в существовании некоего,
от начала мира идущего знания; и это побудило меня из-
учать спиритизм, столь презираемый Станисласом Гаэтой,
красноречивейшим и мудрейшим из ученых, писавших о
магии в наши времена.
274
VI
Мне известно многое, чего я бы никогда не понял, если бы
не научился принимать во внимание все, что в загробной жиз-
ни, как и в этой, смутно и раздроблено, и не понял, что медиу-
мы в Коннахте и Сохо знают то, о чем и словечка не найти у
Генри Мора, хотя его и называли при жизни самым святым из
людей, когда-либо ступавших по земле.
У каждой души есть своя оболочка, и как только мы при-
знаем это (вместе с Мором и платониками), мы сразу же избе-
жим абстрактных школ, стремящихся опереться на авторитет
Церкви или иных институтов, и окажемся в компании с вели-
кой поэзией и стихийной верой в некий чарующий и опасный
мир, которая присуща любому фольклору. Красота, по сути
своей, есть существование тела в особом идеальном состоя-
нии. Оболочки человеческой души называют иногда живот-
ными духами, и Генри Мор цитирует мнение Гиппократа: «Ум
человека... питается не яствами и питьем, поглощаемой утро-
бой, а чистой и сияющей субстанцией, действующей отдель-
но от его крови». Эти животные духи наполняют все части
тела и образуют эфирное тело, как называли его некоторые
писатели семнадцатого века. У души есть ваяющая сила, ко-
торая может после смерти — или при жизни, если движители
тела на время его оставят, — претворить его в любой образ,
какой она захочет; хотя чем дальше этот образ от обычного,
тем большее потребно усилие. Для живых, как и для мерт-
вых, чистота и обилие животных духов составляют главную
их силу. Душа может сотворить из них призрак, облаченный в
подобие жизни, и сделать его зримым, явленный нашим вну-
тренним очам, или же встроить в него некоторые частицы из
тела самого медиума, сотворив тем самым его столь же зри-
мым и осязаемым, как любой иной предмет. Чтобы помочь
такому творению, древние приносили снопы злаков, души-
стую смолу, ароматные плоды, цветы и кровь жертв. Недово-
плотившаяся оболочка медленно истекает сквозь кожу в виде
тускло светящихся капель или конденсируется из светящегося
облака в то время, как свет потухает и плотность увеличива-
ется. Колдунья, зайдя за спину медиума, предлагала медленно
оживающему фантому несколько капель своей крови. Обо-
лочка, отделенная от тела живого мужчины или женщины,
может быть трансформирована душами других людей, как и
его собственной душой и даже, кажется, душами живущих.
Она становится частью того потока образов, который я рань-
ше сравнил с отражениями на воде. Но как получается, что
275
души, никогда не державшие в руках инструмента скульпто-
ра, создают совершенные образы? Воплощения, запечатле-
вающие свои выразительные черты на парафиновом слепке,
оставляют по себе скульптурное изделие, для обдумывания и
лепки которого художнику понадобились бы многие часы. Как
вышло, что невежественная женщина могла, по свидетельству
Генри Мора, сотворить зайца, столь схожего с настоящим, что
конь, собака и охотник под звук взыгравшего рожка устреми-
лись за ним в погоню? Не обстоит ли тут дело так же, как с
теми законченными до малейших деталей картинами, являю-
щимися из темноты, которые, как вспышка магния, возникают
перед засыпающим человеком, или с теми сложнейшими об-
разами, которые наплывают и проходят у нас перед глазами
в моменты вдохновения или заклинания? Наши животные
духи, или оболочки, в сущности, лишь частные проявления
Anima Mundi, реализующие ее образы в смутной форме на-
ших обычных мыслей или в более мощной и зримой, когда
является призрак. Если эти образы погружены в оболочку, не
составляет труда заснять их обычной фотокамерой. Генри Мор
утверждает, что курица, испуганная соколом в тот момент, ког-
да ее топтал петух, родит цыплят с соколиными головами (хотя
я в это не очень-то верю), потому что, прежде чем душа еще
не рожденного цыпленка обретет свою форму, «глубоко потря-
сенное воображение его матери» вызовет из общего резервуара
форм иной, соперничающий образ. «Душа мира, — продолжает
он, — замешивается и проникает во все поколения вещей, в то
время как материя текуча и податлива, это заставляет думать,
что Душа мира не остается инертной в метаморфозах оболочек
даймонов, но помогает желаниям и фантазиям облачиться и за-
говорить по своей воле; или иногда против воли, когда неуправ-
ляемость материнской фантазии роковым образом влияет на
приносимый ею плод». Хотя образы по своей природе текучи
и зыбки, вполне возможно, что мы меняемся только по отно-
шению к ним, то обретая, то теряя что-то в своем мысленном
дрейфе; и Генри Мор несомненно прав, утверждая, что эти об-
разы, если их правильно коснуться, тверды, как «колонны из
яшмы», и так же ярко окрашены, если правильно на них взгля-
нуть. Шелли, истинный платоник, в одной из своих ранних ра-
бот помещает эту всеобщую душу в обиталище Бога — мнение,
с которым (как пишет друг Мора Кадворт) классическая древ-
ность отчасти соглашается, отчасти спорит; но сам Мор укре-
пляет нас в этом мнении. Всеобщая душа, отделенная от своей
оболочки, есть «субстанция бестелесная, но лишенная разума
и критики, пронизывающая всю материю вселенной и прояв-
276
дяющая в ней свою формообразующую силу в соответствии с
взаимным расположением и предрасположением частей, на ко-
торые она воздействует, управляющая этими частями материи
и порождающая такие явления, какие не могут быть сведены к
действию механических причин». Добавлю от себя, что «раз-
ум и критика», восприятие и воля — свойства индивидуальной
души, и что «Бог (как сказал Блейк) лишь действует или пре-
бывает в людях и существах».
VII
Старое богословское представление об индивидуальной
душе как о чем-то бесплотном или абстрактном привело к тому,
что Генри Мор называет «горячей дискуссией» по поводу того,
«сколько ангелов в сапогах со шпорами могут станцевать на
острие иголки», и позволило рационалистической физиоло-
гии убедить всех, что наша мысль не имеет иного телесного
существования, кроме как в молекулах мозга. Шелли считал,
что «мысли, которые называются реальными или внешними
объектами», только регулярной повторяемостью отличаются от
«галлюцинаций, фантазий и видений сумасшедших» и замечал,
что ему случалось «по три раза, с промежутком в два или более
года видеть один и тот же сон», — что еще более уменьшает
указанное отличие. Если наши мысленные образы не в мень-
шей степени, чем призраки (а я не вижу причин их различать),
являются формами, существующими в общей оболочке Anima
Mundi и отражающиеся в наших конкретных оболочках, мно-
жество запутанных вещей распутываются.
Я убежден, что логический процесс, или цепь связанных
образов, имеет форму и длительность, и я представляю себе
Anima Mundi в виде огромного пруда или сада, где этот рост
совершается по назначенному пути наподобие большого водя-
ного цветка и благоухающей в воздухе ветки. Поистине как у
Спенсера в Саду Адониса, о котором говорится:
Вот он, питомник тот первоначальный,
Где все должно процвесть и умереть
В урочный срок...
Душа, в изменениях своей «витальной предрасположен-
ности», учит Мор, привлекает к себе некую мысль, которая по
ассоциации влечет к себе цепочку других мыслей и наделяет их
жизнью в оболочке, отмеренной в соответствии с интенсивно-
277
стью первого впечатления. Зернышко растет, и этот рост может
продолжаться помимо воли, даже помимо сознания. Если я хочу
«передать» мысль, я могу вообразить, предположим, туфельку
Золушки, а мой объект увидит старушку, выходящую из камин-
ной трубы; или, ложась спать, пожелаю проснуться в семь часов
и, не разу больше о том не вспомнив, проснусь в назначенный
момент. Мысль сама по себе завершилась, какие-то логические
этапы, изгибы и узелки на стебле прошли, в сущности, вне моего
поля зрения и досягаемости. Мы вечно сажаем эти ползучие рас-
тения, которые принимаются виться за нашей спиной, — точь-в-
точь, как та дама у Бальзака, которая, прожив безгрешную жизнь,
на смертном одре возмечтала о побеге с когда-то отвергнутым
любовником. Мечта, давно оставленная и даже позабытая, после
смерти может вернуться во всем пафосе прошлой муки и сча-
стья. В нашей воле лишь отвергнуть этот извилистый путь или,
если уж он начат, удерживать его в свете разума, пока время не-
сется галопом, чтобы не соскользнуть ненароком в болото. Труд
живущих в том, чтобы освободиться от бесконечной цепочки
целей, а труд мертвых — в том, чтобы освободиться от бесконеч-
ной цепочки мыслей. Одна цепочка порождает другую, и власть
их происходит от всех тех ненужностей, которые мы совершаем
не ради совершения, а ради какого-то воображаемого блага.
VIII
Духовидение, в народном ли варианте, или в форме подго-
товленных «сеансов», мечтания Сведенбога, допущения плато-
ников и авторов японских пьес — все они сходятся на том, что
иногда на каких-то тропинках или в каких-то домах мы можем
стать свидетелями старых убийств, разыгранных вновь, или
увидеть, как скачет мертвый охотник на коне с своею борзой,
или как древние армии бьются на поле, засеянном им костя-
ми и прахом. Мы привносим в Anima Mundi нашу память, и
эта память становится на время нашим миром, в котором воз-
вращаются мгновения нашей страсти — вновь и вновь, ибо
страсть желает повторений больше, чем чего бы то ни было; и
все заключенные в памяти муки радости и раскаяния ложатся
в основу приговора; вспоминаются не только события: мысли,
порожденные желаниями и страхом, все эти вьющиеся расте-
ния, проскользнувшие между пальцев, возвращаются, как ко-
нец веревки, чтобы хлестнуть нас по лицу; и как пишет Корне-
лий Агриппа: «Нам может присниться огонь, пожирающий нас,
и демоны, мучающие нас», так и некоторые духи жалуются,
278
что будет нелегко воскресить тех, кто умер, полагая, что только
труба судная сможет их пробудить. Призрак в одной японской
пьесе пылает в огне какой-то воображаемой вины, и хотя буд-
дийский монах объясняет ему, что огонь потухнет, как только
он перестанет в него верить, но перестать он не может. Корне-
лий Агриппа называл такие грезящие души «хопгоблинами»,
и, когда Гамлет отказался дать себе ответ обнаженным кин-
жалом из-за снов, которые могут ему присниться, это не было
просто литературной блажью. Душа, кажется, действительно
может изменить эти вещи, выстроенные вокруг нас воспоми-
наниями (так же, как изменить собственную форму), но чем
больше изменение, тем больше усилие и скорее возвращение к
исходным образам. Несомненно, что в обоих случаях это уси-
лие часто превосходит ее возможности. Много лет назад я был
свидетелем того, как одна женщина советовалась с мадам Бла-
ватской по поводу подруги, к которой каждую ночь являлся во
сне умерший супруг в виде разлагающегося, смердящего трупа.
«Когда он умирал, — сказала мадам Блаватская, — он думал,
что смерть — это конец, и вот теперь, став мертвым, никак не
может освободиться от этого заблуждения». Один брамин го-
ворил моей знакомой актрисе, что не любит лицедейства, по-
тому что если человек умрет, играя Гамлета, он будет обречен
пребывать Гамлетом вечно. Впрочем, спустя некоторое время
душа частично освобождается и становится «оборотнем» из ле-
генд, приобретая способность, как средневековый маг, внушать
людям любые иллюзии. В одной из книг Леди Грегори гово-
рится об ирландском крестьянине, который закусывал с незна-
комцем на обочине дороги, а немного погодя его вырвало, и он
убедился, что ел нарезанную траву. Тут можно бы упомянуть и
о духах, являющихся в образах разных диких тварей.
IX
Мертвые, по мере того как страсти в них остывают, обретают
некую меру свободы и могут изменить ход вещей, начатый при
жизни, направив его по новому пути, но они не могут ничего на-
чать заново — без помощи живущих. Постепенно к ним возвра-
щаются ощущения, хотя они живут только своими старыми вос-
поминаниями, привязанностями, символами и представлениями,
как бы обновленными неким художником интерьера, их чувства
большей частью беспричинно отрадны, как у детей, танцующих в
хороводе; не сомневаюсь, что они могут и любиться, целиком сли-
ваясь друг с другом, как пишет Сведенборг; эти слияния кажутся
279
издалека свечением эфира. До сих пор общение тени с тенью про-
исходило лишь в моменты общих воспоминаний, ужасных или
радостных, повторяющихся, как фигуры в танце; но теперь они
движутся все вместе, дружными сонмами, имеющими свой узор и
ритм. Это движение и кружение, устремленное к общему центру,
хотя и без утери их личного начала, подготовлено их раздумья-
ми над своей жизнью, ее злых и добрых путях, и даже нехоженых
тропинках; совокупность всех этих мыслей суть факты и обстоя-
тельства, формирующие новую оболочку.
X
Существуют две реальности: земная реальность и состояние
огня. Вся власть исходит от земной реальности, ибо там сходят-
ся все противоположности и существует свобода выбора, пол-
ная свобода. Там существуют раздор и зло, ибо зло есть насилие
одной крайности над другой; но в состоянии огня все — музыка
и покой. Между ними есть еще состояние воздуха, в котором об-
разы живут заемной жизнью — памятью или отражениями, ими-
тирующими игру и краски огня, это царство теней, кружащихся
«в едином вихре с увяданьем», и восклицающих подобно влю-
бленным в японской пьесе:
Чтобы воскреснуть в силе,
Вопреки зыбкости нашей,
Мы должны принести
В этот мир сновидений
Позднее покаянье.
После стольких ритмических пульсаций душа истощает
жажду образов и может, так сказать, смежить глаза.
Когда цикл подходит к концу, время заканчивается, душа
облекается в ритмическую, ангельскую или светящуюся обо-
лочку и размышляет, погружаясь в воспоминания, обо всем
свершившемся и обо всем чаемом, собрав в едином миге себя и
вечность. Лишь это состояние и можно назвать одушевленным,
все остальное — фантазия; отсюда же проистекают все страсти
и, как думают иные, весь жар телесный.
Время рушится в прах,
Догорев, как свеча,
И горам, и лесам
Умирать тяжело.
280
О, какое одно
Из желаний моих,
Что в огне родилось,
Отгорев, отошло?
XI
Душа не может обрести истинное знание, пока она не стрях-
нула с себя одеяний своего века и места; но до тех пор она долж-
на зорко озираться вокруг, подвергая рассмотрению один за дру-
гим все предметы, на которых останавливается наш взгляд или
указательный перст. Ее интеллектуальная сила лишь возрастает
и совершенствуется по мере того, как восприятие делается все
многосторонней. Но и теперь мы можем по временам бежать от
времени в то, что можно назвать «предвидением», и от привязан-
ности к месту — в отдаленные миры снов и грез. Пару лет назад,
во время медитации, я ощутил как бы сонм теплых солнечных
лучей вокруг своей головы, и, когда я лег спать, мне присни-
лась женщина с горящими волосами. Я проснулся, второпях за-
жег свечу и вдруг понял — по запаху — что нечаянно подпалил
собственные волосы. Совсем недавно мне снилось, что я пишу
рассказ, и одновременно, что я — один из персонажей этого рас-
сказа, стремящийся тронуть сердце некой девушки вопреки на-
мерениям автора; и в то же самое время я — некто третий, ста-
рающийся попасть наконечником рапиры в большую китайскую
вазу. Темнота «Пророческих поэм» Уильяма Блейка, сочиненных
в состоянии ясновидения, происходит почти исключительно от
таких одновременных грез. У каждого есть в запасе история о
внезапном озарении во сне или при просыпании о некотором
событии, обычно несчастливом, которое должно случиться с ва-
шим другом, находящимся в этот момент где-то далеко от вас.
XII
Я убежден, что мертвые, которые живут в нашей памяти, и есть
первоисточник всего, что мы называем инстинктом, это их любовь
и страсть заставляет нас безотчетно преступать границы рассудка и
отвергать соображения пользы; что призрачные куницы снов и есть
истинные прорабы тех живых куниц, что строят свои хитрые гнезда
в нишах церковных стен, и что, в свою очередь, призраки получают
радость от согласия своих прозрачных оболочек и наших грубых
чувств. Было бы оскорблением величия и благости Божьей считать,
281
что злосчастные дети Александра, умерев, не добавили своей гор-
стки в общую казну, ни убитый в детстве Цезарион, зачатый Клео-
патрой от Цезаря, ни младший Перикл, рожденный от Аспазии, —
столько же благородный отрок, сколь рано погибший.
XIII
Даже самые мудрые из мертвых могут лишь раскладывать
кусочки воспоминаний, как мы расставляем фигурки на шах-
матной доске, и способны подчиняться лишь заученным словам,
потому-то зороастрийский оракул запрещает тем, кто намерен
стать магом, изменять по своему произволу «варварские слова»
заклинаний. Общение с Anima Mundi происходит ассоциатив-
но, посредством мыслей, образов или предметов; и знаменитые
мертвецы, и те, о которых сохранилась лишь смутная память, по-
прежнему могут — с единственной целью, чтобы мы безотчетно
ценили посмертную славу — пройти коридором и усесться в пу-
стое кресло. Перчатка или имя могут вызвать своего владельца;
тени мертвых касаются наших локтей, возвращаясь в свои преж-
ние обиталища; им легче материализоваться среди тех стен, скал
и деревьев, что приводят им на память чувства, испытанные в то
время, когда они обладали телами.
Мать непременно возвратится из могилы, чтобы хоть второ-
пях, своими сильными и нежными руками, которые даже могут
быть зримы, утешить свое заброшенное дитя или качнуть ко-
лыбельку; и во все времена своей жизни люди верили и знали,
что когда душа в тревоге, те, что жаждут сказаться обрывками
видений и песен, витают над нами,
как теней мелькания живые
В глухие вечера и в ночи штормовые.
XIV
Проживая заново мгновения страсти и горя, они могут уже
и не помнить, что умерли, — и вдруг, осознав это, пробудиться
или наполовину пробудиться, явившись зримо перед нашими
очами. Как изменяются они в этом сне, где время распадается,
а чувства обостряются? Меняется ли их осанка, загораются ли
особым блеском глаза? Несомненно, что видения тем долговеч-
ней, чем сильнее были при жизни обуревавшие их страсти: Елена
и ныне может впустить к себе Париса или любоваться им с башни,
282
сознавая, что это сон, длящийся потому, что ночи и дни слишком
горьки и звезды немыслимо ярки. Поистине, об этих страстных
мертвецах можно воскликнуть словами Бена Джонсона, которые
вполне понял бы один Шекспир: «Столь жизнью они заряжены»,
что могут только «не истощаясь, прирастать от жизни».
XV
Втекающий поток отраженной жизни тех, что сами получа-
ют его от Состояния Огня, направляется по извилистой тропе,
зовущейся Тропой Змея, и если это поток равно касается людей
и животных, он зовется природным. Есть иной поток — не при-
родный, а интеллектуальный, который также от огня: он нис-
ходит через посредство душ, которые на какой-то срок выпада-
ют из отраженной жизни, как мы во сне выпадаем из телесной
жизни, таким путем он может сойти на спящего змея, но по
большей части он выбирает прямые пути. И если человек по-
хож на других людей, поток находит его на извилистой тропе,
если же это святой или мудрец, то на прямой дороге.
XVI
Даймон, при помощи своих духов-посредников, вновь и вновь
подводит человека к моменту выбора, усиливая искушение убеж-
дением, что выбор этот окончателен, освещая события собствен-
ным своим провидческим светом, побуждая свою жертву избрать
себе задачу наитруднейшую из не безнадежных. Он мучится с
человеком так же, как какой-нибудь сильный духом мужчина му-
чится с женщиной, которую он тем больше любит, чем она сума-
сбродней и лукавей. Его нисходящая сила—не волнообразная ли-
ния и не прямая, а зигзаг, иллюстрирующий пассивное и активное
начала, два сорта древесных плодов; это — как внезапная молния,
ибо все поступки Даймона импульсивны. Мы ощущаем пульса-
цию артерии, и следом — медленное затухание.
XVII
Каждого Даймона влечет тот человек или, если его природа
более общая, тот народ, который всего более от него отлича-
ется, и он претворяет его в противостоящий ему образ, соот-
ветствующий его замыслу. Евреи уже показали на драгоценных
283
металлах, на вызывающих сокровищах храма Соломона, свою
страсть, сделавшую их кредиторами современного мира. Если
бы они не были хищнически жадными, похотливыми, узколо-
быми и деспотическими в большей степени, чем другие народы
той же эпохи, боговоплощение было бы невозможно; но интел-
лектуальный импульс Огненной Стихии претворил их анти-«я»
в антитезу всего античного мира. Так всегда лишь влияние не-
коего Даймона придает нашим тщетным, неудовлетворенным
желаниям смысл и форму, приемлемые для всех.
XVIII
Только в неуловимый момент внезапного озарения или в
смутных словах, доносящихся до нас в тиши раздумья, мысли
духа могут достичь нас почти неискаженными; ибо ум, который
постигает все предметы одновременно в зависимости только от
степени своей внутренней свободы, мыслит иначе, чем ум, вос-
принимающий предметы последовательно. Цель большинства
религиозных учений, с их упором на безусловном подчинении
воле Всевышнего,— обеспечить пассивность воспринимающей
оболочки в том месте, где она наиболее нежна и тонка. Когда мы
пассивны там, где оболочка груба, мы становимся медиумами,
и духи, формирующиеся в этой грубой оболочке, лишь иногда
и с большим трудом могут выражать свои подлинные мысли и
воспоминания. Они словно бы одурманены и заторможены, как
опившиеся меду (по словам древних писателей) и легко обма-
нываются, принимая наши воспоминания за свои и охотно веря,
чему нам самим угодно. Мы их угнетаем и запутываем, посколь-
ку, находясь в среде последовательного восприятия предметов,
они уступают нашему уму, созданному и отточенному такими
упражнениями, и могут лишь повторять, с редкими проблесками
из иной сферы, наши собственные мысли и слова.
XIX
Одной моей хорошей знакомой приснилось, что она видит
множество драконов, карабкающихся по крутой стене утеса и
непрерывно срывающихся вниз. Генри Мор полагал, что те,
кто, прожив сотни лет, так и не сумели обрести ритмического
тела и перейти в Состояние Огня, рождаются заново. Эдмунд
Спенсер, один из учителей Генри Мора, подтверждал это новое
рождение, не давая ему объяснения.
284
Когда же срок урочный совершится,
Они вернутся заново сюда,
В сей дивный сад, чтоб снова возродиться
В обличье юном, — будто никогда
Они не знали боли и стыда
И гибели не ужасались жалу;
И снова минут многие года,
Их, ветхих, снова возвратив к началу:
Так это колесо кружит мало-помалу.
XX
Но несомненно, что цель наша — Состояние Огня: в ту об-
ласть, где чувства не обрываются грубо и внезапно, где нет ни
оград, ни ворот, туда мы обязаны подняться; и маска, снятая с вет-
ви дуба, — символ ритмического тела, которое мы должны обре-
сти. Нужно молиться этой цели — неважно под каким именем, но
не так, как молятся вещи или идее; большинство молящихся обра-
щаются к ней, как к мужчине или женщине или ребенку, ибо —
У Милосердья — сердце человечье,
У Состраданья — женское лицо.
Внутри нас самих Разум и Воля, как муж и жена, приносят
к неведомому алтарю плачущее или смеющееся дитя.
XXI
Когда я вспоминаю, что Шелли называл разум человеческий
«зерцалом того огня, которого все жаждут», я не могу не задать
вопроса, который задавали все: «Отчего же растрескалось это
стекло?» И я начинаю исследовать единственный разум, доступ-
ный мне, — мой собственный, вновь наматывая на катушку раз-
мотанную нить.
Бывают моменты, всегда непредсказуемые, когда я делаюсь
счастлив, — чаще всего, когда я открываю наугад какую-нибудь
книгу стихов. Иногда это моя собственная книга, если мне случа-
ется, отвлекшись от технических погрешностей, погрузиться в нее,
как будто в первый раз. Порой я сижу в каком-то переполненном
кафе с открытой книгой под рукой — или закрытой, если волнение
перехлестнуло за край страницы. Я смотрю на незнакомых людей
вокруг так, как будто знал их всю жизнь, и мне странно, что я не
могу заговорить с ними; все наполняет меня любовью, нет больше
285
ни страхов, ни забот; я даже не помню, что этому счастью дожен
наступить конец. Кажется, что моя оболочка сделалась вдруг про-
зрачной и, растянувшись далеко, так засветилась, что образы из
Anima Mundi, заключенные в ней и напоенные сладостью этого
мига, могут, как деревенский пьяница, запаливший крышу соб-
ственного дома, поджечь время и испепелить его дотла.
Такое состояние может продолжаться целый час; и не-
давно я понял, с чего оно начинается — с момента, когда я
перестаю ненавидеть. Мне кажется, что обычное состояние
нашей жизни — ненависть (я сужу по себе): раздражение, ко-
торое вызывают в нас общественные или частные события,
или люди. Можно не обращать внимание на небрежность слуг,
рассеянность продавца; но как простить невоспитанность
Карлейля, риторику Суинберна или эту женщину, без умол-
ку тараторящую за обедом, пересказывая газетные глупости?
А лишь неделю назад, в воскресенье, я был зол на спаниеля,
потревожившего куропаткино гнездо, на форель, тронувшую
мою наживу, но избежавшую крючка. Книги говорят, что сча-
стье зависит от чувства, противоположного ненависти, но я в
этом не уверен: любовь может быть несчастна. Очевидно, что
когда я закрыл книгу, от волнения не способный больше чи-
тать, я испытал нечто, включавшее в себя любовь, но в целом
более похожее на неведение или святость. Я всегда по сосед-
ству с Даймоном, но я не знаю, со мной ли он, пока не нач-
ну создавать себя заново, отбирая черты и стараясь утолить
голод, происходящий от неудовлетворенности обыденной пи-
щей; и однако, стоило мне написать «отбирая черты», как я
уже полон сомнений, кто я — ладонь или глина. Однажды,
лет двадцать назад, я внезапно проснулся, чувствую странную
скованность во всем теле, и услышал некий голос, говорив-
ший моими губами: «Мы творим изваянье из спящего, и он
уже больше не он, а тот, кого мы зовем Еммануил».
XXII
Поднимаясь и спускаясь по своей лестнице, я прохожу мимо
позолоченного мавританского ящика (свадебного сундука), где я
храню свои «варварские речи», и не знаю, то ли мне снова взяться за
них, ибо я по-прежнему одержим голосами, обольщающими Одис-
сея — беззвучно, как летучие мыши; или уж теперь, когда старость
не за горами, обрести благочестие и верить, как верят старухи.
эпилог
Дорогой «Морис», — мне доводилось часто бывать во
Франции еще до твоего рождения или когда ты была совсем ма-
ленькой. Когда я приехал в первый или во второй раз, Малларме
только что написал: «Наша эпоха исполнена трепетом завесы
Храма». Повсюду можно было встретить юношей, беседующих
о магии. Один знаменитый англичанин, отправляясь с визитом
к Станиславу де Гаэта, попросил меня сопровождать его, ибо он
боялся идти один в этот таинственный дом. Время от времени я
встречал в компании с немецким поэтом Даутендеем серьезного
шведа, в котором лишь много лет спустя признал Стриндберга,
— в те дни он искал философский камень в маленьком доме
вблизи Люксембурга; а однажды, в квартире поэта Стюарта
Меррилла, я разговорился с молодым ученым-арабом, показав-
шим мне большое, грубо выкованное кольцо из золота, прини-
мавшее форму пальца, на которое его надевали. В этом сплаве,
сказал он, нет жестких компонентов, потому что сделано оно
его учителем, еврейским раввином, из чистого алхимического
золота. Мой скептический ум — враг он мне был или друг? —
усмехнулся, но душа моя была польщена. Париж так же кишел
легендами, как Коннахт. Новая гордость, гордость адепта, уве-
личивала гордыню художника и поэта. Вилье де Лиль-Адам,
самый возвышенный из смертных, лишь недавно умер. Я чи-
тал его «Акселя» медленно и прилежно, как читают священную
книгу, — мой французский был очень слаб — и аплодировал
этой пьесе в театре. Я не мог следить за сценической речью, но
не скучал, даже когда Аксель с Командором полчаса вели фило-
софские дискуссии вместо того, чтобы сразу приступить к дуэ-
ли. Если я ощущал нетерпение, то лишь оттого, что задерживал-
ся выход мастера Януса, потому что надеялся узнать то место,
когда Аксель говорит: «Мне знакома эта лампа, она горела, ког-
да еще Соломон не родился», — и другое, когда он восклицает:
«Что касается жизни, за нас это сделают слуги».
287
Литературная сцена была возвышенной еще до того, как
ее коснулась магия. Рембо сказал: «Разве я старая дева, чтоб
смерти бояться объятий?» И повсюду в Париже и в Лондоне
молодые люди обитали в мансардах и коморках, гордясь, что
вовсе не нуждаются в том, чего вожделеет толпа.
Прошлым летом ты, будучи в том возрасте, в каком я был,
когда впервые услышал про Малларме и Верлена, рассказывала
мне о молодых французских поэтах и поэтессах, которых сей-
час читают. О Клоделе я уже что-то слышал, но ты прочла мне
впервые из Жамма диалог между поэтом и птичкой, заставив-
ший нас обоих пролить слезы, и целый томик Пеги «Myste're
de la Charite de Jeanne d'Arc». Из прежнего не осталось ничего,
кроме увлеченности религиозными вещами; эти поэты полно-
стью подчинились Римскому Папе, и все, даже Клодель, гордый
и красноречивый, клянутся, что видят мир глазами винограда-
рей и угольщиков. Речь идет уже не о душе, которая сама себя
взнуздывает и школит, — таинственной душе, — но о Матери-
Франции или Матери-Церкви.
Разве и мои мысли не прошли по сходному кругу, — раз-
ве что я нашел свою традицию не в католической церкви, а в
религии моего детства: но есть ли на свете традиция более уни-
версальная и древняя?
11 мая 1917
Эта страница
намеренно оставлена
пустой
Три эссе
о У. Б. Йейтсе
ЗАГАДКА «ЗАМИУ»:
НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ
И ГРАФИНЯ КЭТЛИН
КРОКОДИЛ, ПАЛЬМА И СОЛНЦЕ
Когда говорят, что акмеизм есть «тоска по мировой культу-
ре», это не совсем справедливо по отношению к символизму.
По сути, весь русский поэтический Ренессанс начиная с 1890-х
годов был повернут лицом к Западу (и к Востоку - в той степе-
ни, в какой Запад интересовался Востоком). Хотя я бы не назвал
эту развернутость тоской; есть другие слова, например тяга и
захват, азарт и соревнование. Гумилев, как поэт всемирной от-
зывчивости, был в этом похож и на своего учителя Брюсова,
и на своего друга Мандельштама. Соревновательность у него
все-таки шла от Брюсова. Достаточно вспомнить, как много
он успел перевести из мировой поэзии - от аккадского эпоса
«Гильгамеш» до французских и скандинавских народных пе-
сен, от «Поэмы о старом моряке» Кольриджа до «Эмалей и ка-
мей» Теофиля Готье.
Интересовался Гумилев и современной поэзией Запада.
Мы уже говорили в Предисловии о встрече Гумилева с Йейт-
сом летом 1917 года. Это «скрещение судеб» тем более знаме-
нательно, что произошло в переломный момент как для Йейтса,
так и для Гумилева. Творчество Йейтса четко распадается на
два этапа: «дореволюционный» и «послереволюционный». Но
ведь и Гумилев достиг зрелости лишь после возвращения из
европейского путешествия 1917-1918 годов.
В письме Анне Ахматовой Гумилев характеризует Йейт-
са кратко и сильно: «Это их, английский, Вячеслав» (то есть
Вячеслав Иванов). Тем самым Гумилев (вполне справедливо)
отводил Йейтсу ключевое место в английском символизме. Тот
факт, что Йейтс - ирландец, только пишущий на английском
языке, не мог не заинтересовать Гумилева. Его пристрастие к
ирландской культуре хорошо известно. Еще в ранних стихах
Гумилев восхищался Кухулином, Финном и другими героями
кельтских саг. Древнеирландские жрецы-друиды были для него
идеалом поэтического призвания:
291
Земля забудет обиды
Всех воинов, всех купцов,
И будут, как встарь, друиды
Учить с зеленых холмов.
И будут, как встарь, поэты
Вести сердца к высоте,
Как ангел несет кометы
К неведомой им мете.
(«Канцона третья»)
В 1916 году, то есть за год до лондонской встречи с Йейтсом,
Гумилев написал пьесу «Гондла», главный герой которой - ирланд-
ский принц и поэт, погибающий ради просвещения язычников-
исландцев. Так что Гумилев уже обладал опытом отождест-
вления себя с ирландским певцом, опытом усвоения в своем
творчестве ирландской героической поэзии.
Имела ли встреча с Йейтсом творческое продолжение? Из-
вестно, что в 1918-1921 годах Гумилев активно занимался ху-
дожественным переводом, в частности для горьковского изда-
тельства «Всемирная литература», входил в редколлегию этого
издательства, перевел и отредактировал целый пласт англий-
ской поэзии. Не входил ли в его планы Уильям Йейтс? На этот
вопрос, кажется, можно ответить утвердительно.
В 1981 году в парижской газете «Русская мысль» профес-
сор Глеб Струве, знаменитый славист и издатель первых собра-
ний сочинений Гумилева, Ахматовой и других русских поэтов
Серебряного века, опубликовал статью «Неопубликованный ав-
тограф Гумилева»1 - и привел его фотоснимок. Автограф пред-
ставляет собой надпись на книге У. Б. Йейтса, сделанную рукой
Гумилева:
1 Струве Г. Неопубликованный автограф Гумилева // Русская мысль. 27 авг.
1981.
292
По этому экземпляру я переводил
Графиню Кэтлин, думая лишь о
той, кому принадлежала эта книга.
26 мая 1921 Н. Гумилев
Под автографом - эффектный «африканский пейзаж»:
пальма, солнце с лучами, большой крокодил. А под рисунком
мелким типографским шрифтом подписано: «The sorrowful are
dumb for thee». Lament of Morion Shehonefor Miss Mary Burke].
Это - эпиграф к стихотворной пьесе Йейтса «Графиня Кэтлин»
(1895). Следовательно, надпись Гумилева сделана не на титуле
книги, а на почти пустом развороте между названием пьесы и
ее началом. Кажется, что есть некая ироническая связь между
нарисованным зубастым крокодилом и расположенной прямо
под ним патетической подписью про «онемевших от скорби».
Крокодил (м.), пальма (ж.), солнце (ср.) - контрастные и
красноречивые объекты. Пальма в поэзии Гумилева символи-
зирует девушку. Например, «Там пальмы тонкие взносили вет-
ви, / Как девушки, к которым Бог нисходит» («Эзбекие»), «Есть
Моисеи посреди дубов, Марии между пальм...» («Деревья»)
и т. д. Крокодила можно трактовать как автошарж. Вспомним
отмечаемый многими мемуаристами удлиненный череп Гуми-
лева2, чуть косящий холодный взгляд охотника, иронически
культивируемую «брутальность»: «Я злюсь, как идол метал-
лический // Среди фарфоровых игрушек». Наконец, солнце на
языке символистов - символ сердца, любви, страсти... Сравни-
те с подписью к картинке, внесенной Гумилевым в альбом Ма-
рии Кузьминой-Караваевой: «А надо всем поднимается серд-
це, // Лютой любовью вдвойне пронзено...»3 Итак, три знака:
крокодил, пальма и над ними - пылающее солнце. Похоже, что
перед нами даже не криптограмма, а четко читаемая идеограм-
ма: «Я вас люблю».
На обороте переплета книги имеется экслибрис «Из книг
Н. А. Залшупиной»; но можно ли ее отождествить с той владе-
лицей, о которой говорит Гумилев, сразу не ясно. Публикатор
сообщает, что получил эту книгу от своего брата Алексея Стру-
1 «Скорбящие по тебе онемели». Плач Морион Шехоне по мисс Мэри
Берк.
2 «Как бы вытянутый щипцами акушера» (Оцуп Н. Николай Степанович
Гумилев // Н. С. Гумилев в воспо-минаниях современников. М., 1990. С. 182).
3 «Акростих» // Цит. Бронгулеев В. В. Посредине странствия земного. М.,
1995. С. 218.
293
ве (в момент публикации уже покойного), и сожалеет, что ему
«не пришло в голову» спросить у брата, кто такая г-жа Залшу-
пина и как к нему попала эта книга.
Если представить себе детектив под названием «Пропав-
шая рукопись Гумилева», то более эффектной завязки, чем эта
надпись, и выдумать нельзя. Сразу возникает множество во-
просов:
1. Закончил ли Гумилев перевод пьесы?
2. При каких обстоятельствах сделана эта надпись?
3. От кого Гумилев получил эту книгу?
4. Кому он ее передал ?
И так далее.
Верный ученик Шерлока Холмса, я подумал: а нельзя ли
чисто дедуктивным методом решить хотя бы некоторые из этих
вопросов? Конечно, логика - это еще не факты; неопровержи-
мых ответов мы таким образом не получим, но весьма правдо-
подобные - может быть.
«ПО ЭТОМУ ЭКЗЕМПЛЯРУ Я ПЕРЕВОДИЛ...»
Итак, я стал рассуждать. Во-первых, кому предназначался
автограф? Интуиция подсказывает, что женщине - мужчинам
не делают интригующих надписей и не рисуют пальм с кро-
кодилами, не имеющих никакого отношения к Йейтсу. Зато
для Гумилева это были символы, можно сказать, геральдиче-
ские: образ африканского путешественника (спародированный
К. Вагиновым в фигуре поэта Заэфратского, «чью палатку ви-
дели оазисы всех пустынь») был любимой маской Гумилева,
надпись с таким рисунком, как бы второй подписью, увеличи-
вала ценность подарка.
А впрочем, почему же обязательно подарка? - подумалось
мне. Автограф можно ведь сделать и на продажу. Известно, что
именно в 1921 году Гумилев, наряду с другими поэтами, со-
ставлял сборники своих стихов для продажи в книжном мага-
зине «Петрополис». Эти сборники Гумилева были иллюстри-
рованы его собственными рисунками. Такие же рукописные
«творения» выпускали тогда и москвичи в «Книжной лавке
писателей». К «самиздату» авторов подвигала нужда. Это были
времена, когда на вопрос в писательской анкете: «Чем зани-
маетесь в настоящее время?» - Гумилев ответил: «Розничной
продажей домашних вещей». Следовательно, и книг. Можно ли
представить, что в какой-то момент Гумилев, остро нуждаясь
294
в небольшой сумме денег, продает в «Петрополис» принадле-
жащую ему книгу Йейтса со своим «фирменным» рисунком и
загадочным автографом - небось, какая-нибудь романтическая
душа (с деньгами) клюнет и купит?
Представить можно. Да только маловероятно, что Гумилев
сделал бы такую надпись для постороннего (тем более не на
титуле, а в середине книги!). Она явно рассчитана на того, кто
имел какое-то представление о пьесе и работе над ее перево-
дом, на кого-то из близкого круга Гумилева. Для кого же? Мы
знаем, что в ту пору Гумилев был окружен ученицами и по-
клонницами, что он любил производить впечатление и завязы-
вать романтические отношения. И все-таки Гумилев вряд ли
отдал бы Йейтса просто так, за красивые глаза. Если это был
подарок, можно предположить, что одаряемой была женщи-
на, знавшая английский язык, скорее всего, поэтесса; и вполне
вероятно, что мотивом подарка было предложение перевести
стихи Йейтса из этого сборника. Почему возникло такое пред-
положение?
Потому что существует надпись на книге Йейтса, сохра-
нившейся в библиотеке поэта и переводчика Михаила Зенкеви-
ча. Надпись гласит:
Эта книга «A Selection from the Poetry ofW.B. Yeats»
была прислана мне в Саратов
из изд. «Всемирная литература» из Петрограда
поэтом КС Гумилевым для перевода
двух отмеченных стихотворений... '
Отмечены синим карандашом стихотворения на страницах
13 и 152: «Ирландии грядущих времен» и «Проклятие Адама» -
по-видимому, это выбор Гумилева.
Каждая из этих двух надписей на книгах Йейтса - инте-
ресный литературный факт, вместе же они дают кумулятивный
эффект, намного превышающий их арифметическую сумму.
Можно предположить, что Гумилев планировал издать сборник
Йейтса, состоявший из драматургии и лирики, наподобие того,
что был в его распоряжении в Петрограде, и того, что он послал
в Саратов. Переведя «Графиню Кэтлин», он, вероятно, стал ис-
кать переводчиков для лирики: свидетельством тому - книга,
посланная другу-акмеисту М. Зенкевичу, и другая, с романти-
ческой надписью, переданная неизвестному пока лицу. В таком
1 Опубликовано внуком поэта С. Зенкевичем в статье: «Мечта поэта нео-
существима...» // Арион. 1994. № 2. С. 24.
295
варианте смысл надписи становится понятен, даже «функцио-
нален»: это не только объяснение, что вдохновляло его само-
го при работе над переводом, а как бы передача книги с нако-
пленной «потенциальной» энергией дальше, по переводческой
эстафете.
Итак, можно сказать: ищите женщину, молодую поэтессу
и переводчицу, знавшую английский язык, общавшуюся с Гу-
милевым в мае 1921 года, - и вы, если повезет, найдете следы,
ведущие к «парижской» книжке, к г-же Залшупиной, а может
быть, найдете и рукопись гумилевского перевода из Йейтса.
Так я рассуждал «дедуктивным путем» - и, как теперь вижу,
ошибался. Я исходил из того, что книгу можно или вернуть,
или продать, или подарить. Четвертого не дано. Ошибка не-
простительная для профессионального переводчика, каковым
я являюсь уже более четверти века. Есть четвертое - и самое
естественное для судьбы книги, по которой делается перевод.
Понадобилось несколько месяцев поисков и размышлений,
чтобы я вспомнил: книгу можно отдать для работы, для редак-
туры.
Обратите, пожалуйста, внимание на не совсем обычный,
«официальный» тон надписи: «По этому экземпляру» и т. д.
Дарственные надписи таким стилем не делаются; зато дела-
ются книжные комментарии: «Перевод выполнен по изданию
такому-то...» Разумеется, редактору такая информация необхо-
дима в первую очередь. Несовершенный вид глагола, употре-
бленного здесь Гумилевым, не означает незавершенности дей-
ствия. По-русски говорят: «вчера мы ходили в театр» или «мы
уже смотрели эту картину» в смысле: «побывали», «видели».
Представим себе письмо переводчика издателю: «При сем при-
лагаю обещанную пьесу и книгу, по которой я ее переводил».
Конечно, тут правильно сказать «переводил», а не «перевел».
ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАДЕЖДЕ ЗАЛШУПИНОЙ
На этом процесс курения трубки и абстрактных размышлений
можно было бы прервать. Пора начать собирать сведения, обога-
щаться фактами. Во-первых, кто такая Н. А. Залшупина, чей экс-
либрис стоит на книге? «Имя как будто знакомое, но я либо не
знаю, либо позабыл, кто была Н. А. Залшупина (не был ли ее муж
художником?)» - пишет Г. П. Струве. Правильно, был - хотя и не
муж, а брат. Библиотечные поиски дали следующие результаты.
Н. А. Залшупина происходила из образованной петербург-
ской семьи. Ее отец, Александр Семенович Залшупин, издавал
296
еженедельный юридический и уголовно-криминальный журнал
«Жизнь и суд». Брат, Сергей Александрович Залшупин (Серж
Шубин, ум. Париж, 1929), был художником, о таланте которо-
го высоко отзывались, например А. Ремизов и В. Немирович-
Данченко. В 1923 году он издал в Берлине альбом портретов
русских писателей, включая А. Блока, А. Белого, М. Горького
и других. В том же году он сделал рисунки для «Ани в стране
чудес» - знаменитой «Алисы» Кэрролла в переводе В. Сири-
на (Набокова). Между прочим, в архиве Горького есть письмо,
адресованное Н. А. Залшупиной, в котором он сообщает, что в
связи со срочной работой не сможет позировать для портрета
раньше конца следующего месяца: очевидно, что Н. А. обраща-
лась к нему по просьбе брата, пользуясь своим более близким
знакомством с Горьким.
Знакомство же Надежды Александровны с Горьким объ-
ясняется просто: она работала секретарем в издательстве
3. И. Гржебина, давнего сотрудника и соратника Горького в его
издательских планах. Когда «Всемирная литература» из-за бу-
мажного кризиса практически прекратила выпуск книг, Зиновий
Гржебин, поддержанный Горьким, выдвинул идею частного из-
дательства за границей, в Германии, издающего книги для Рос-
сии по всем отраслям знаний. Несмотря на бешеное сопротивле-
ние партийных функционеров, Гржебину удалось провести свой
план в жизнь и наладить печатание книг в Берлине - хотя его
издательство просуществовало недолго.
В 1921-1923 годах в Берлине вышло немало замечатель-
ных книг, в частности Ахматовой, Гумилева, Маяковского и
ряда других поэтов. Содействие Гржебина давало возможность
писателям не только выпускать свои книги за границей, но и
получать визы для поездки в Германию. В частности, Борис Па-
стернак провел несколько месяцев в Берлине (конец 1922 - на-
чало 1923 года), где вышли две его книги: в издательстве Грже-
бина - «Сестра моя - жизнь» (2-е изд.), в «Геликоне» - «Темы
и вариации».
Пастернака я упомянул не случайно. Оказывается, у него
есть стихотворение, посвященное Надежде Александровне Зал-
шупиной! В комментариях к тому «Большой библиотеки поэта»
говорится, что Б. Пастернак вписал это стихотворение в альбом
Залшупиной, в настоящее время хранящийся в Парижской на-
циональной библиотеке. Более подробные сведения отыска-
лись в воспоминаниях Евгении Каннак (в то время сотрудницы
издательства «Геликон»), опубликованных в «Русской мысли»
в 1975 году. Е. Каннак тоже была знакома с Пастернаком, даже
получила от него «Сестру мою - жизнь» с автографом и «лю-
297
безными словами»; однако то, о чем она пишет, основано в
основном на рассказах самой Н. А. Зал шу пи ной:
Пастернак ежедневно заходил в издательство, поме-
щавшееся на Лютцо-Уфер, а потом, поболтав с Гржеби-
ным, отправлялся бродить по Берлину чаще всего один,
а иногда с молодой секретаршей издательства, Надеж-
дой Александровной Залшупиной (в замужестве Дани-
линой), дружившей со многими русскими писателями в
Берлине. <...>
В Берлине его воображение особенно поразила станция
метро «Глейсдрейэк», где скрещивались линии городских по-
ездов и метро. Надземные вагоны, прилетавшие с запада - а
какие закаты открывались с верхнего вокзала! - с грохо-
том летели потом очень высоко, на уровне пятых этажей,
до станции Ноллендорфплатц, а затем низвергались вниз,
как в преисподнюю. <...> [Пастернак] любил взбираться
вверх по высоким ступеням и смотреть на скрещивающие-
ся внизу пути, походившие на геометрические фигуры. Эта
станция вдохновила его на стихотворение.
GLEISDREIECK
Надежде Александровне Залшупиной
Чем в жизни пробавляется чудак,
Что каждый день за небольшую плату
Сдает над ревом пропасти чердак
Из Потсдама спешащему закату?
Он выставляет розу с резедой
В клубящуюся на версты корзину,
Где семафоры спорят красотой
Со снежной далью, пахнущей бензином.
В руках у крыш, у труб, у недотрог
Не сумерки, - карандаши для грима.
Туда, из мрака вырвавшись, метро
Комком гримас летит на крыльях дыма.
SO января 1923
Берлин
Уже эта первая горстка сведений была очень важна: они го-
ворили о том, что Надежда Залшупина вращалась в избранном
литературном кругу (Гржебин, Горький, Пастернак, Набоков и
298
др.) и, следовательно, книга с автографом Н. С. Гумилева по-
пала к ней не случайно; вполне возможно - из рук самого Гу-
милева. И все же доказательств, что Гумилев был лично знаком
с Залшупиной, у меня не было. По-видимому, их следовало ис-
кать прежде всего в ее парижском архиве.
КВАРТИРА НА КИРОЧНОЙ
И тут неожиданно мне улыбнулась удача. Первое доказа-
тельство я нашел дома, на книжной полке. Перечитывая кни-
гу «Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашне-
го архива семьи Лукницких», я дошел до расстрельного дела
Гумилева, скопированного в 1990 г. - по особому разрешению
прокуратуры - вдовой и сыном знаменитого гумилевского
биографа-энтузиаста Павла Лукницкого. Того самого «дела»
о «Ленинградской боевой организации», на обложке которого
даже фамилия поэта переврана:
В. Ч. К.
ДЕЛО №214224
«Л Б О»
Соучастники
(Гумелев Н.С. - 104 листа)
том №177
АРХ. № в 382 томах
Копирование производилось в условиях ограниченного
времени, в присутствии прокурора. С. Лукницкий так описыва-
ет атмосферу этих сеансов: «Желание скопировать документы
все в точности с подлинников - безмерно, документов много,
а перед столом - пожилой человек, ни разу не присев, терпе-
ливо, стоя, ждет, когда мы закончим и вернем "дело" из наших
рук в его руки»1. Отсюда - спешка, нерасшифрованные слова,
обозначенные в публикации как «неразб.». И тем не менее опу-
бликованная копия таила для меня нежданный сюрприз. Среди
множества изъятых у Гумилева бумаг находился - и подшит к
делу как «лист 38» - клочок с записью:
Надежда Александровна Замиу... (неразб. - В. Л.)
1 Лукнщкая В. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам семьи Лук-
ницких. Л., 1990. С. 268.
299
Конечно, это Залшупина! Вне всякого сомнения. Почему
же В. Лукницкая прочла ее как «Замиу...»? Очень просто. Ведь
когда мы читаем по письменному, мы не складываем слово из
отдельных букв - буквы в письме слиты, - а сразу угадываем
целое слово. Трудности возникают, когда попадается нечто не-
знакомое, например редкая фамилия. В данном случае фокус в
том, что в русском языке не существует слов, начинающихся
с «залил...»; вообще, сочетание согласных «лш» - редкое, оно
встречается лишь в слове «волшебник» (и однокоренных с
ним). Вот почему глаз, упавший на букву «л», продолженную
тремя палочками-крючочками «ш», скорее всего автоматически
отделит левую палочку и добавит ее к предыдущей букве, пре-
вратив «л» в <ш», а буква «ш» без первой палочки станет буквой
«и». Таким образом, непонятное «лш» превратится в более при-
емлемое «ми», «Залшу» - в «Замиу».
Я стал читать дальше, и вдруг - бывает же такое везение! -
через несколько страниц, на листе № 59 «Дела», карандашом:
Надежда Алис (неразборчиво. - В. Л.)
Замиунина (? - В. Л.)
Кирочная 17 кв. 9
т. 29-29
Опять Залшупина! То есть публикаторы прочли: «Замиуни-
на», потому что они не знали правильной фамилии, не ожидали
ее встретить. А я ожидал - и поэтому прочел правильно, даже
не видя оригинала. И вдобавок - адрес. Если у кого остались со-
мнения, пожалуйста, откройте адресно-телефонную книгу «Весь
Петроград» за 1917 год и убедитесь - это адрес Залшупиных!
Адрес и телефон записывают, имея намерение зайти в
гости. Когда же Гумилев сделал эту запись? Даты на клочке
бумаги нет. Но это - не тупик, потому что можно применить
метод стратиграфии, известный в археологии. Когда на рас-
копках находят, скажем, древнюю бусинку или каменную
статуэтку, как определяют ее возраст? По слоям. Если над
местом, где найдена вещь, слой горелой земли, для которой
радиоуглеродный анализ дает, скажем, дату 1000 лет до н. э.,
а снизу - слой пожара 1200 лет до н. э., то вещь датируется
между ними: XI - XII вв. до н. э. Если применить ту же идею
для документов, то естественно предположить, что и бумаги в
архиве накапливаются так же: смежность в пространстве чаще
всего означает смежность по времени, соседство бумажек в
деле, скорее всего, означает, что и при «выемке» их нашли ря-
дом; по крайней мере, такое соседство дает некий временной
300
ориентир. Взглянем на предыдущий лист № 58: это записка
от А. Беленсона, который рядом со своей подписью поставил
число: 23 мая 1921. Дата автографа Гумилева на книге Йейт-
са, принадлежащей Н. А. Залшупиной - 26 мая 1921. Три дня
разницы.
Обратим внимание и на следующий после листа с адресом
Залшупиной лист № 60. Список стихотворений на нем есть, как
установили В. и С. Лукницкие - подборка, предназначавшаяся
для антологии Гржебина. Его соседство с адресом секретарши
издательства Гржебина, с точки зрения стратиграфии, не слу-
чайно.
Итак, Гумилев лично знал Н. А. Залшупину, примерно в
двадцатых числах мая записал ее адрес и телефон с целью по-
сещения, а 26 мая сделал надпись и рисунок на книге Йейтса,
принадлежавшей впоследствии Залшупиной. Это делает более
чем вероятным, что книга была передана ей самим Гумилевым
и для нее же предназначался автограф.
Возможно, что у Гумилева было к Залшупиной не одно
дело. Он мог отдать ей подборку стихов для антологии, список
которых остался в его архиве, и перевод пьесы с предложением
ее издать. Почему не во «Всемирной литературе», где он со-
стоял в редколлегии и подготовил ряд переводных с англий-
ского книг, включая изданные «Поэму о старом моряке» (1919)
Кольриджа и «Баллады» Саути (1922)? Зачем ему было искать
других издателей? Это как раз очень понятно. Дело в том, что
к концу 1920 года «Всемирка» за отсутствием бумаги вынуж-
дена была остановить печатание книг. В течение по крайней
мере полугода не было видно ни малейшего просвета. «Типо-
графия наша, - писала 8 июля 1921 года секретарь издательства
В. А. Сутугина, - вот уже месяца 3-4 как закрыта и ничего не
печатается, да, должно быть, и не будет».
В этих условиях естественно, что Гумилев (кстати говоря,
не он один) обратился к другим издательствам, в особенности
тем, которые могли печатать свои книги за границей. Как со-
общает П. Лукницкий, он заключил договоры с издательства-
ми «Мысль», «Библиофил» и «Петрополис» (образовавшимся
на базе книжного магазина, о котором мы уже упоминали).
И действительно, «Мысль» в 1921-1923 годах выпустила не
менее восьми книг Гумилева в Петрограде и Берлине1, а эстон-
ский «Библиофил» опубликовал «Шатер» в Ревеле (1921). Что
1 Жемчуга, 1921; Дитя Аллаха, 1922, Фарфоровый павильон, 1922; Тень
от пальмы (рассказы), 1922; Стихотворения (посмертный сборник), 1922, 1923
(2-е изд.); Теофиль Готье. Избранные стихи, 1923, Письма о русской поэзии,
1923.
301
касается «Петрополиса», у Гумилева, по-видимому, были с ним
прочные связи. Н. А. Залшупина работала в «Петрополисе»;
после того, как она переехала в Берлин в августе 1921 года,
в первом номере журнала «Новая русская книга» за 1922 год
была опубликована ее статья «Петербургское издательство "Пе-
трополис"», кратко излагавшая историю и планы издательства.
В статье говорилось о пяти разделах плана: 1) современные
поэты, 2) серия «Памятники мирового репертуара», 3) моно-
графии о театре, 4) монографии о русских поэтах, 5) то же о
художниках и искусстве. Не для серии ли «Памятники миро-
вого репертуара» (где в 1921 году уже вышли или готовились
к печати пьесы Бена Джонсона, Аристофана, Гоцци и Леконта
де Лиля) предназначал Гумилев пьесу Йейтса? Во всяком слу-
чае, именно в «Петрополисе» вышла последняя книга стихов
Гумилева «Огненный столп» (1921), а позднее - «Французские
народные песни» в его переводе'.
Естественно предположить, что вместе с книгой Йейт-
са могла уйти и рукопись «Графини Кэтлин», переведенной
Гумилевым «по этому экземпляру». В этом случае один из
следов ведет в Берлин, в архивы издательств «Петрополис»
и 3. И. Гржебина. А может быть, и в личный архив Н. А. Зал-
шупиной.
СЕКРЕТ САЛАМАНДРЫ
Однако, прежде чем отправиться по этому следу, я решил
еще раз осмотреться и продолжить поиски среди опубликован-
ных материалов. И мне опять повезло. Совершенно случайно, в
давнем номере журнала «Континент», я наткнулся на публикацию
Л. Черткова2, сделанную по тому самому альбому Н. А. Залшу-
пиной, в который Пастернак вписал свое берлинское стихотво-
рение. Перечислен ряд авторов - фигурантов этого альбома, на-
чатого еще в Петербурге в годы Первой мировой войны. Список
впечатляющий: Б. Пастернак, В. Ходасевич, Ф. Сологуб, А. Бе-
лый, Н. Минский, А. Ремизов, Б. Зайцев, Б. Пильняк, Г. Иванов,
М. Лозинский, А. Ахматова, Н. Гумилев, М. Кузмин, Г. Адамович,
Анат. Каменский и др. Альбом украшен рисунками таких замеча-
тельных художников, как Д. Митрохин, Б. Григорьев, Н. Альтман,
Ю. Анненков, В. Масютин, И. Пуни.
1 Французские народные песни. Пер. и предисл. Н.С. Гумилева. Пг.; Бер-
лин: Петрополис, 1923.
2 Чертков Л. Листки из альбома // Континент. 1975. № 31. С. 335.
302
i Вот еще одно независимое свидетельство, что они были
лично знакомы - Гумилев и Залшупина. То, что Н. А. была за-
ядлой собирательницей автографов писателей, также красноре-
чивый факт: она могла сама попросить Н. С. сделать надпись
на книге Йейтса и поощрить его на рисунок. Мне даже кажется
логичным предположить, что автограф в альбоме Залшупиной
и автограф на книге сделаны в один день - во время визита
Гумилева к Залшупиной 26 мая 1921 года. Правда, для провер-
ки этого предположения нужно бы дополнительно исследовать
альбом, уточнить порядок записей и, может быть, опять при-
менить принцип стратиграфии.
Публикация Л. Черткова невелика по объему. Отметим в
ней, во-первых, стихотворение М. Кузмина, важное с биогра-
фической точки зрения:
Ведут веселые дороги
И на Берлин, и на Париж,
Но от любви и от тревоги
Ведь все равно не убежишь.
Вот отправляется Надина!
Всего! Махнете Вы платком...
Прости привычная картина:
«Петрополь», на Бассейной дом.
Любезны ль будут иностранцы?
Найдете ль блеск иль тусклый мрак?
Счастливей всех счастливых станций,
Поверьте мне, - счастливый брак.
Михаил Кузмин, 15 августа 1921 г.
Эти стихи дают нам примерную дату отъезда Залшупиной
из России («Вот отправляется Надина!») - очевидно, автограф
сделан накануне или незадолго до отъезда. Подтверждается
прямая связь Н. А. Залшупиной с «Петрополисом» («Прости,
привычная картина» и т. д.). Дом на Бассейной - «Дом литера-
торов», один из главных центров, вокруг которого вращалась
жизнь М. Кузмина и, вероятно, «Надины» Залшупиной.
Стихотворение говорит об их весьма коротком знакомстве.
Значит, имеет смысл заглянуть в переписку и дневники Кузми-
на, относящиеся к тому времени: нет ли в них других упоми-
наний Н. А. Залшупиной. Оказывается, что этих упоминаний
множество, в особенности в Дневнике 1921 года. В то время
жизнь Кузмина была так тесно связана с издательством «Пе-
трополис», что он «выбегал» туда практически каждый день -
303
покопаться в книгах, продать что-то, купить, взять очередной
аванс у дружественно к нему расположенного директора Якова
Ноевича Блоха, просто посидеть поболтать с сотрудниками и
знакомыми. Надежда Александровна неизменно была мила с
Кузминым, угощала его то «конфетками и хлебом с маслом», то
чем-нибудь еще. Кузмин запросто (то есть без предупреждения)
захаживал и домой к Н. А., причем здесь главным объектом его
вожделений, по-видимому, была библиотека. Н. А. фигурирует
в Дневнике под именами Надежды Александровны, Надины,
Наденьки и... Закорючки. Это последнее прозвище можно, на-
верное, объяснить ее положением члена правления и секретаря
кооператива «Петрополис»: на официальных документах, в том
числе на членских билетах, стояла ее подпись, которую, как мы
имели возможность убедиться, дальше начального «За» разо-
брать было невозможно, - просто какая-то «Закорючка»!
По Дневнику Кузмина устанавливаем и более точную дату
отъезда Залшупиной за границу: «(26 августа 1921) Я в "Пе-
трополе". Надина накануне отъезда ходит уже, как знатная
иностранка...» И главное - еще раз подтверждается факт ее
знакомства с Гумилевым: «(6 мая 1921) К Залшупиным по-
шел один и очень хорошо сделал. Там была компаньица: Гум,
Егорка и Пентегью (т. е. Гумилев, Георгий Иванов и Ирина
Одоевцева. - Г. К.). Скучно, хотя книги очень хорошие, осо-
бенно немцы, Volksbucher, романтики и т. п.» Итак, приходит-
ся ввести уточнения в наши предыдущие рассуждения и запи-
ску с адресом Н. А. Залшупиной датировать не позже первых
чисел мая - 6 мая Гумилев уже знал дорогу в ее дом.
Далее, представляется важной ворчливая (как обычно) за-
пись Кузмина о Гумилеве от 19 мая: «Заходил в "Петрополис".
Там Гумм предлагает свои opera omnia». Очень интересно!
Значит, в конце мая Гумилев предлагает «все свои сочинения»
(«opera omnia») издательству «Петрополис» - факт, вполне со-
гласующийся с записью П. Лукницкого.
В 1921-1922 годах «Петрополис» постепенно перебрался
в Берлин. Н. А. Залшупина уезжает, вероятно, в начале сентя-
бря, вскоре после расстрела Гумилева; Я. Н. Блох с семьею - на
год позже. Сохранилось два письма Залшупиной Кузмину из-
за границы. В первом (20 декабря 1921 года) она жалуется на
то, как ей грустно «без милого моего Петрополиса и любимой
работы», во втором, написанном год спустя, она уже снова со-
трудничает с приехавшим Я. Н. Блохом и хлопочет насчет из-
дания книг Кузмина по-французски. В связи с этим возникает
вопрос относительно ее работы в издательстве 3. И. Гржебина,
о чем пишет Е. Каннак. Если в этих сведениях нет ошибки, по-
304
лучается, что Н. А. в это время (конец 1922 - начало 1923 года)
сотрудничала в двух издательствах - гржебинском и «Петро-
полисе».
Но вернемся к «парижскому альбому» Залшупиной. В пу-
бликации Л. Черткова воспроизводятся также автографы Анны
Ахматовой и Николая Гумилева (первый датирован 1921 годом,
последний - без даты). Оба стихотворения названы публика-
тором «не очень значительными», но «в чем-то, однако, до-
полняющими их облик». Вот экспромт Гумилева, вписанный в
альбом Н. А. Залшупиной (мы исправляем, следуя логике поэ-
тической формы, небольшие искажения графики, по-видимому,
допущенные при наборе стихотворения):
ЭКСПРОМТ
Надежда
Александровна,
Она,
Как прежде
Саламандра, мне
Дана.
Н. Гумилев
Бросается в глаза искусная составная рифма, но смысл сра-
зу не доходит. О какой Саламандре идет речь? То есть, понятно,
какой: саламандра - дух огня, сказочная ящерка или змейка,
живущая в пламени, - была популярнейшим символом у ро-
мантиков и символистов. Ее связывали с сердцем, розой, стра-
стью и т. д. Саламандра играла важную роль в алхимических
чудесах, о ней писали Гете, Гофман, Одоевский... Ассоциаций
так много, что можно растеряться. Почему Гумилев сравнил
Надежду Александровну с саламандрой? Оттого ли, что она
вселяет пламень в сердца? Или, как саламандра, горит не сго-
рая в этом пламени? Но четверостишие не похоже на мадригал.
Оно слишком сухое, голое. И при чем тут «как прежде»? По-
лучается, что Гумилев свою комплиментируемую даму - «под-
жигательницу сердец» - сравнивает с кем-то еще, кто был дан
ему «прежде». Если это галантность, то очень странная.
Зная исключительную смыслоемкость стихов и прозы
Н. С. Гумилева, я не мог поверить, что он написал эти строки
случайно. В «Экспромте» был какой-то точный смысл. Я почти
догадывался какой. Увы, мне только не хватало знания реалий.
Несколько дней я томился раздумьями, одновременно расспра-
шивая всех, кто мог мне подсказать: не было ли какой-нибудь
305
подходящей «Саламандры» в гумилевские времена - например,
издательского проекта с таким названием? Оказалось, кстати,
что издательство «Саламандра» действительно существовало
в Риге и выпускало оккультную литературу - но, увы, лишь в
конце 20-х годов.
Тот же вопрос о «саламандре» я задал и Андрею Кирил-
ловичу Станюковичу, видному историку и гумилевоведу. «Са-
ламандра? - задумался он. - Знаете, первое, что приходит на
ум, это страховое общество «Саламандра»: такие жестяные та-
блички, которые прибивались на фасады деревянных домов по
всей России».
Я чуть не упал вместе с телефонной трубкой.
Конечно! В тот момент, когда «Всемирная литература»
буквально «горела» без бумаги, «Петрополис» со своей изда-
тельской программой возник как подстраховка, как палочка-
выручалочка для его авторов. Вот что значит: «Как прежде
Саламандра, мне дана»! Ведь прежде (до революции), вступая
в страховое товарищество, домовладелец получал табличку с
надписью «Саламандра» - или, скажем, «Феникс» - было и
такое общество. Оказывается, таблички «Саламандры» и «Фе-
никса» вплоть до 1960-х годов висели на деревянных домах в
России - и любители-краеведы их коллекционировали. Обычно
на этих табличках было еще написано: «Застраховано от огня».
Вот он, подтекст экспромта, который Гумилев вписал в альбом
Надежды Залшупиной, передавая ей свои рукописи («рукопи-
си не горят!») и договариваясь о сотрудничестве. Три месяца
спустя «Петрополис» издал последнюю прижизненную книгу
Гумилева «Огненный столп»; она вышла за несколько дней до
его расстрела. Тут, может быть, лежит еще дополнительный
смысловой обертон: если Залшупина в «Петрополисе» непо-
средственно занималась выпуском «Огненного столпа», то она
поистине «купалась в огне», как Саламандра!
Зная о намерении Н. А. Залшупиной переехать в Берлин, а
может быть, и о возможном ее сотрудничестве с Гржебиным,
Гумилев мог говорить и о перспективе берлинских изданий.
Пройдет несколько месяцев, и для русских писателей эта воз-
можность станет важной издательской отдушиной. Не говоря
уже о том, что издание книг у Гржебина давало возможность
получить визу на поездку в Германию, где жизнь тогда была
довольно дешевая и спокойная. В эти годы Берлин сделался
своеобразной Меккой для многих русских писателей. Кроме
того, он стал и тем «камнем на распутье», где выбирают доро-
гу. Между прочим, Н. А. Залшупина впоследствии вспоминала
о нерешительности Бориса Пастернака в этом вопросе: возвра-
306
щаться ли в Россию или оставаться на Западе. «Но для него вы-
бор осложнялся еще особым обстоятельством: легко увлекаю-
щийся, он влюбился в хорошенькую и очень милую немецкую
девушку, - и бросить ее, расстаться с нею навеки казалось ему
невозможным».
Надежда Александровна Залшупина, по-видимому, была
хорошей конфиденткой. Если бы не роковое «Дело Таганце-
ва», нетрудно и Гумилева представить в роли Б. Пастернака в
Берлине: вот он оставляет свою жену, Анну Николаевну, у пор-
тнихи, заходит к Гржебину поговорить о будущей книге, а от
него - погулять по городу с молодой секретаршей, поболтать
об общем и частном.
А пока, то есть в мае 1921 года, обговорив с Н. А. Залшупи-
ной издательские дела, он оставляет автограф на передаваемой ей
книге ирландского поэта - вероятно, дополнив его и устным на-
меком. .. Думаю, что Н. А. знала или догадывалась, кто была та, о
ком неотступно думал Гумилев, переводя «Графиню Кэтлин».
ТЕОРИЯ И ИГРА МАСКИ:
ГУМИЛЕВ И ЙЕЙТС
УРОКИ ЗАРАТУСТРЫ
Идея маски играла важнейшую роль в творческой системе
Йейтса. Если сонет, по Россетти, - «памятник мгновению», то
маска - памятник человеческому состоянию и страсти, отра-
женному в чертах лица и застывшему в неизменной, следова-
тельно - in potentia - бессмертной форме.
Оскар Уайльд однажды сказал, что первейшая обязанность
человека - обрести позу, а в чем состоит вторая обязанность,
никому неизвестно. В «Per Arnica Silentia Lunae» (1917), своео-
бразном художественно-философском кредо зрелого Йейтса, во
главу угла поставлены поиск и обретение маски. Отвернуться от
зеркала и обратиться к раздумью над маской - лишь так поэт или
герой могут обрести свое подлинное я, избавиться от постоянной
и бесплодной муки самопознания. Маску следует выбирать как
можно более непохожую и недостижимую. «Я ищу / В себе свой
новый образ - антипода, / Во всем не схожего со мною преж-
нем», - писал Йейтс в поэтическом прологе к «Per Arnica».
В книге «Видение» (1925) Йейтс развил эти идеи в фор-
ме теории «четырех способностей», которые он определил как
Волю, Маску, Творящий Дух и Тело Судьбы. Воля - главная дви-
жущая сила личности, а Маска - цель Воли. Человек в зрелом
расцвете своих способностей (такого человека Йейтс называет
«антитетическим») должен отыскать и присвоить себе образ,
самый далекий и невозможный - тот, которого можно достичь
лишь на пределе человеческих сил.
Николай Гумилев - поэт, путешественник, «мореплава-
тель и стрелок» (как он сам себя аттестовал в стихах), геор-
гиевский кавалер и синдик Поэтического Цеха - очевидный
пример «антитетического» человека. Того, кто сознательно
ставит перед собой только трудные цели и добивается их лю-
бой ценой. В отличие, например, от «стихийно талантливых»
Мандельштама или Ахматовой, дебют Гумилева не вызвал
308
особых восторгов. Долгое время его сопровождала репута-
ция прилежного брюсовского ученика, слагателя вполне ру-
котворных стихов. Есть мнение, что все стихи Гумилева до
1918 года были лишь предуготовлением к «звездной вспыш-
ке» 1918-1921 годов, по которой только и можно судить о его
истинном таланте1. Вместе с тем, чем больше материалов по
Гумилеву накапливается в результате исследовательской и
издательской работы, тем более укрупняется фигура поэта.
Впечатляют творческая воля, широкий диапазон его деятель-
ности, целеустремленный труд «самосоздания». В частности,
переиздания «Писем о русской поэзии» явили нам Гумилева
как блестящего литературного критика; материалы, относя-
щиеся к «Всемирной литературе» - как ключевую фигуру в
области теории и практики русского поэтического перевода
в ранний послереволюционный период. Высказывания Ахма-
товой о Гумилеве, «визионере и пророке», еще недавно казав-
шиеся преувеличенными, получают все больше подтвержде-
ний в углубленных критических анализах последних лет.
Отнести Гумилева к романтикам, даже к ультрароманти-
кам, было бы вполне справедливо. Но при этом надо иметь в
виду неизбежный парадокс, который можно назвать «парадок-
сом Пушкина»: самые большие романтики всегда оказывались
и самими большими антиромантиками. В своей зрелой фазе
романтизм неизбежно связан с авторефлексией и ироническим
подрывом собственных устоев: «ирония восстанавливает то,
что разрушил пафос» (Ежи Лец). Когда Чарский в «Египет-
ских ночах» говорит про вдохновение: «такая дрянь», когда сам
Пушкин пишет жене, чтоб она берегла свое «брюхо», это не
означает циничного отношения ни к вдохновению (Музе), ни к
жене (Мадонне и прелести), а лишь двойное зрение художни-
ка и его суеверное отношение к предмету поклонения - боязнь
сглаза. Учтем и мнение самого Н. Гумилева, подчеркнувшего в
письме Анненскому, что ирония «составляет сущность роман-
тизма» и что именно в этом плане следует понимать название
его книги «Романтические цветы».
«Поэзия и религия - две стороны одной и той же монеты.
И та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во
имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей,
неизвестной им самим». Духовная работа поэта должна совер-
шаться на пределе сил. Гумилев неоднократно писал о «пре-
красной трудности» нового искусства, об «аристократической
1 См., например: Иванов Вяч. Вс. Звездная вспышка (Поэтический мир
Гумилева) // Гумилев Н. Стихи. Письма о русской поэзии. М., 1989.
309
жажде редкого и труднодостижимого», о том, что принцип ак-
меизма - «всегда идти по линии наибольшего сопротивления».
Выбрать себе «задачу наитруднейшую из всех возможных», -
так формулирует это Йейтс и повторяет эту формулу еще и еще
раз в стихах и в прозе.
Задача эта включает отнюдь не только процесс сочинения
как таковой - в нее входит и жизнь художника. Безусловно,
африканские экспедиции и другие рискованные предприятия
были для Гумилева той самой линией наибольшего сопротив-
ления. «Разве не хорошо, - писал он еще в молодости, - сотво-
рить свою жизнь, как художник творит свою картину, как поэт
создает поэму? Правда, материал очень неподатлив, но разве
не из твердого камня высекают самые дивные статуи?»1 Это
дословно совпадает со словами Йейтса о поэте, творящем свое
«анти-я»:
И впрямь он резал самый твердый камень2.
Исток подобных совпадений долго искать не приходится.
Он содержится в речах Заратустры, оказавших, как можно ви-
деть на многих примерах, самое глубокое воздействие на Йейт-
са и Гумилева.
Много трудного существует для духа, для духа силь-
ного и выносливого, который способен к глубокому почи-
танию: ко всему тяжелому и самому трудному стремится
сила его3.
К этой тезе у Йейтса можно найти и антитезу:
Соблазн преодолений иссушил
Плоть моей жизни, вырвав из нее
Простую радость и убив родник
Бессмысленных блаженств...4
Впрочем, объективности ради, следует сказать, что диа-
лектическая оппозиция «трудность - легкость» присутствует и
у самого Ницше. «Что хорошо, то и легко, все божественное
ходит легкими стопами», - говорит он в «Случае Вагнера». Йе-
йтс, по-видимому, читал эту работу Ницше, и она могла повли-
1 Письмо В.Е. Арене 1 июля 1908.
2 «Ego Dominus Tuus».
3 Так говорит Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 18.
4 «The Fascination of What's Difficult» (1910).
310
ять на его стихотворение «Проклятие Адама», в котором он, как
стихийный диалектик, разрешает противоречие, формулируя
принцип «кажущейся легкости»:
«Строку, - заметил я, - хоть месяц мучь;
Но если нет в ней вспышки озаренья,
То ни к чему - корпенье и терпенье».
Ницше, безусловно, важнейшая точка пересечения русско-
го и ирландского символизма. Достаточно перелистать «Зарату-
стру», чтобы убедиться, какой это был резервуар образов и идей
для Иейтса и для Гумилева, сколь многое в их поэзии и мировоз-
зрении восходит к соблазнительным парадоксам этой книги.
В главе «О трех превращениях», откуда взята вышеприве-
денная цитата о трудном, говорится о трансформациях духа,
проходящих стадии верблюда, льва и ребенка. Не отсюда ли
победа ребенка над львом у Гумилева: «царь-ребенок на шку-
ре льва» («Жизнь»)? Не отсюда ли магизм ребенка в стихах о
метаморфозах человеческой жизни («Память»)? «Дитя есть...
святое слово утверждения», - говорит Ницше1. У Гумилева:
Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.
С той же формулой Ницше «верблюд, лев, ребенок», воз-
можно, связаны и три последние фазы превращения духа у Ие-
йтса: Горбун, Святой, Дурак (Шут). По крайней мере, они объ-
ясняют символизм Горбуна: «Все самое трудное берет на себя
выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, который
спешит в пустыню, спешит он в свою пустыню».
Особенность случая Гумилева в том, что здесь сложно от-
делить влияние идеи героя-сверхчеловека (полученной прямо
из Ницше или через посредников) от детского увлечения Майн
Ридом, Хаггардом и вообще приключенческой литературой.
И все же, как нам кажется, именно формулировки Ницше сы-
грали важнейшую роль в формировании героической маски Гу-
милева. Скажем, его участие в войне при полном равнодушии к
ее целям и отсутствии какой-либо ненависти к врагу, страсть к
войне как к благотворному для души занятию не нуждается ни
в каком ином толковании, кроме того, что дается в главе Ницше
«О войне и воинах»:
1 Ницше Ф. Сочинения. Т. 2. С. 18.
311
Вы говорите, что благая цель освящает даже войну?
Я же говорю вам, что благо войны освящает любую цель'.
Точно так же и тема «своей смерти», о которой говорит
Гумилев в стихотворении «Выбор» («несравненное право -
самому выбирать свою смерть»), amor fati - стремление идти
навстречу собственной судьбе и гибели, - не требует иного
идейного обоснования, кроме того, что дает Ницше в главе «О
свободной смерти»:
Многие умирают слишком поздно, а некоторые слиш-
ком рано. <.. .> Умри вовремя - так учит Заратустра2.
Нельзя не признать, что с символической точки зрения Гу-
милев умер «вовремя» - после стольких пророчеств о своей
смерти, после выхода книги с итоговым названием «Огненный
столп» - как это название ни понимай: путеводный ли свет в
ночи («Книги Неемии»), или символ погребального огня, в ко-
тором уходит в небо герой (см., например, «Завещание»:
И свирель тишину опечалит,
И серебряный гонг заревет
В час, когда задрожит и отчалит
Огневеющий огненный плот, -
а также третью часть триптиха «Душа и тело»:
Ужели вам допрашивать меня,
Меня, кому единое мгновенье -
Весь срок от первого земного дня
До огненного светопреставленья?) -
или же тут проклятие человеческому городу, по слову Зарату-
стры:
Горе этому большому городу! - И мне хотелось бы уже
видеть огненный столб, в котором сгорит он!3
О роковых пророчествах в стихах Гумилева пишет Вяч. Вс.
Иванов, особо останавливаясь на «сюрреалистическом» образе
отрубленной головы в стихотворении «Заблудившийся трамвай»:
1 Там же. С. 34.
2 Там же. С. 51.
3 Там же. С. 128.
312
В красной рубашке, с лицом как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.
Образ собственной головы, отрубленной палачом, не нов
для Гумилева: он привиделся ему в Африке за несколько лет до
написания «Трамвая»:
Ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абис-
синском дворцовом перевороте мне отрубили голову и я,
истекая кровью, аплодирую умению палача и радуюсь, как
все это просто, хорошо и совсем не больно].
Интересно отметить, что в пьесе Йейтса «Смерть Кухули-
на» - последней из цикла его пяти пьес, в которой древнеир-
ландский герой выступает как героизированное alter ego ав-
тора, Кухулин, весь израненный и привязавший себя к скале,
чтоб умереть стоя, гибнет от ножа Слепого, отрезающего у него
голову на ощупь:
Слепой
Все утро брел я наугад и вдруг
Услышал голоса. Я начал клянчить.
Сказали мне, что я в шатре у Мэйв,
И кто-то властный там пообещал мне:
За голову Кухулина в мешке
Я получу двенадцать пенсов...
«Двенадцать пенсов! - восклицает Кухулин. - Славная цена
за человечью жизнь! Твой нож наточен?» - «Мой нож востер:
ведь я им режу хлеб», - отвечает Слепой. Голова Кухулина,
проданная за двенадцать пенсов и отрезанная хлебным ножом,
вполне корреспондиреют с зеленной лавкой у Гумилева, где -
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.
Совпадение тут двойное: не только казнь, но и прозаиче-
ская торговля мертвыми головами. Убийства совершаются во
имя насущного хлеба; головы героев идут по цене капусты или
брюквы. Какой контраст с ранними стихами Гумилева, где герои
1 Африканская охота // Гумилев Н.С. Собр. соч.: В 3 т. Москва, 1991. Т. 2.
С.231.
313
сражались с равными себе или высшими и гибли на фоне пыш-
ных трагических декораций:
По небу бродили свинцовые, тяжкие тучи,
Меж них багровела луна, как смертельная рана.
Зеленого Эрина воин, Кухулин могучий,
Упал под мечом короля океана, Сварана.
В поэмах Оссиана Сваран - имя скандинавского (заморско-
го) короля, вторгшегося с войском в Ирландию. У Йейтса Куху-
лин тоже враждует с морем. В пьесе «На берегу Байле» (1903)
он, убив на поединке не узнанного им сына, впадает в безумие
и, подняв меч, бросается в бой с волнами - всадниками Ма-
нанана, владыки моря. В то время, когда он сражается, нищие
бродяги, Дурак и Слепой (тот самый Слепой, который снова
появится в последней пьесе Йейтса!), пользуются моментом,
чтобы стянуть что-нибудь в деревне.
С л е п о й. Ты говоришь, все выбежали из домов? В дерев-
не никого не осталось? Послушай, Дурак!
Дурак. Вот он скрылся в волнах! Показался снова! За-
ходит все дальше в море! Ух, какая большая волна! Накрыла с
головой! Его больше не видно. Вот так-то! С королями и вели-
канами справлялся, а волнам поддался!
Слепой. Поди сюда, Дурак!
Дурак. Волнам поддался.
Слепой. Поди сюда!
Дурак. Волнам поддался.
Слепой. Поди сюда, говорю.
Дурак. Что?
Слепой. В деревне никого. Скорее! В печах полно еды!
Пошли, наберем полные сумки!
Герой, не соразмеряющий силы с противником, бросающий
вызов тому, что намного больше его самого, - архитипичный
сюжет для неоромантиков такого склада, какими были Йейтс и
Гумилев. Но еще в 1903 году Йейтс предвидел, что наступает
царство пошлости и счет уже пошел на медяки.
314
УРОКИ изиды
Говоря о Йейтсе и Гумилеве, нельзя пройти мимо оккульт-
ной темы. Йейтс, как известно, занимался этим всерьез и в тече-
ние своей жизни состоял членом ряда эзотерических обществ.
Относительно Гумилева этого сказать нельзя, тем не менее ок-
культные мотивы его поэзии стали в последнее время предметом
пристального внимания исследователей. Н. А. Богомолов выдви-
нул гипотезу, что вся вторая книга стихов Гумилева «Романтиче-
ские цветы» (1908) есть книга заклинаний, «опыт практической
магии, направленный на привлечение любви к себе, любви той
женщины, имя которой названо в посвящении книги».
Образ «заклинаемой» зыблется в этих стихах, как в колдов-
ских зеркалах, и не фокусируется: то царица беззаконий, то блуд-
ница, то дух смерти с головой гиены, то юная принцесса, то всего
лишь «усталый, капризный ребенок». Лишь физические черты ге-
роини остаются все те же - повторяющиеся и легко узнаваемые:
И стан ее стройный и гибкий казался так тонок...
И руки особенно тонки, колени обняв.
Вышла тонкая девушка, нежная в синем сиянье...
Перечитывая «Романтические цветы», трудно не согла-
ситься с мнением Ахматовой, зафиксированным в ее записных
книжках, о «непрочитанном» Гумилеве - «визионере, пророке
и фантасте» и о невымышленности героини «Романтических
цветов». Гипотеза Богомолова о магическом характере сборни-
ка, как мне кажется, дополняет и конкретизирует это мнение.
В самом деле, уже первое стихотворение говорит о маге, закли-
нающем царицу Нила. Египетский антураж не случаен, ведь Еги-
пет всегда почитался мистиками колыбелью тайных знаний. Между
прочим, оккультное общество, членом которого Йейтс пребывал с
1893 года, называлось «Храмом Изиды-Урании». Отметим еще
сходство в интонации между «Заклинанием» Гумилева («Юный
маг в пурпуровом хитоне...») и стихотворением Иейтса «Колпак с
бубенцами» - о шуте, влюбившемся в королеву и пославшем хода-
таями к ней свои душу и сердце (магическое поручение!):
Он послал к ней сердце на рассвете,
В тишину ее и нежность веря.
В пурпурной, трепещущей одежде
Сердце к ней взывало из-за двери.
(У.Б. Йейтс)
315
Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил, как мертвый, не дыша,
Отдал все царице беззаконий,
Чем была жива его душа.
(Н. Гумилев)
Оба стихотворения кончаются успехом влюбленного: короле-
ва впускает душу и сердце к себе и утешает обоих: «и были ее
волосы цветком нераспустившимся, и покой любви был в ее ступ-
нях». Сходным образом и у Гумилева работает образ цветка:
А когда на изумрудах Нила
Месяц закачался и поблек,
Бледная царица уронила
Для него алеющий цветок.
Обратимся теперь к стихотворению Гумилева «Там, где
похоронен старый маг...» (на которое также указывает Бого-
молов). В нем говорится о могиле «старого мага» в пещере, о
ночном бдении и тайном обряде. Тот же антураж - гробница
и пещера с призраками - в стихотворениях: «Под землей есть
тайная пещера...» и «Я долго шел по коридорам...». Это - ти-
пично розенкрейцерская символика, связанная с почитанием
легендарного основателя ордена Отца Христиана Розенкрей-
ца, похороненного в горной пещере. Интересно, что все опи-
санное в указанных выше стихотворениях Гумилева реально
происходило с Йейтсом: он прошел все обряды посвящения на
Клипстон-Стрит в Лондоне, где была сооружена специальная
церемониальная гробница над могилой Отца Розенкрейца.
МОГИЛА В ГОРАХ
Лелей цветы, коль свеж их аромат,
И пей вино, раз кубок твой налит;
Над кручей гор дымится водопад,
Отец наш Розенкрейц в могиле спит.
Танцуй, плясунья! не смолкай, флейтист!
Пусть будет каждый лоб венком увит
И каждый взор от нежности лучист,
Отец наш Розенкрейц в могиле спит.
Вотще, вотще! терзает темноту
Ожог свечи, и водопад гремит;
В камеи глаз укрыв свою мечту,
Отец наш Розенкрейц в могиле спит.
316
Как известно, в оккультной науке Йейтс был учеником
Е. П. Блаватской (об этом он не раз пишет в своих воспоми-
наниях). Но после года занятий в Герметической секции лон-
донского Теософского общества, основанного Блаватской, он
был исключен оттуда за «магические эксперименты» и вскоре
присоединился к Ордену Золотой Зари, привлеченный туда из-
вестным мистиком Мак-Грегором Матерсом. Ритуалы Золотой
Зари включали смесь псевдомасонских обрядов с элементами
древнеегипетских верований и каббалы. Но «Тайная доктри-
на» осталась фундаментом его эзотерического образования.
Достаточно сказать, что тайное имя Иейтса в Золотой Заре
«D. Е. D. I.» (Demon Est Deus Inversus) заимствовано из назва-
ния главы первой книги Блаватской.
В последнее время выявлен целый семантический пласт в
стихотворениях Гумилева, связанных с оккультными представле-
ниями, в частности с текстом «Тайной доктрины». Не обязатель-
но они являются доказательством усердного чтения Гумилевым
трудов Блаватской; вокруг было достаточно медиаторов - как в
кругу собственно мистико-философическом, так и в литератур-
ном (впрочем, эти круги сильно пересекались), - через которых
передавались эти идеи. Естественно спросить: какое место они
занимали в мировоззрении Гумилева, насколько серьезно было
его увлечение эзотерикой. На этот вопрос, как мне кажется, не
может быть однозначного ответа.
Во-первых, надо учесть, что почти с самого начала гуми-
левского интереса к оккультному заметно стремление моло-
дого поэта сохранить позицию над схваткой, не утратить воз-
можности балансировать на грани серьезного и иронического
восприятия. Такая позиция не являлась уникальной; амбива-
лентное отношение к мистическому было характерно для рус-
ского символизма: здесь Гумилев следовал за Андреем Белым,
утверждавшим в предисловии к своей второй «Симфонии»
(1901), что только соединение идейного, музыкального и сати-
рического смыслов «ведет к символизму», и за Блоком, высме-
явшим собратьев-мистиков в своем нашумевшем «Балаганчи-
ке» (1906).
Чем же привлекал Гумилева модный в то время оккуль-
тизм? Во-первых, он являлся для Гумилева (как и для Иейт-
са) важным резервуаром необычных и волнующих символов,
необходимых для «подпитки» его стихов. Эзотерика частично
удовлетворяла его мальчишескую тягу к таинственному и од-
новременно - сильно развитую в нем жажду познания нового.
Кроме того, построение личностной модели мира, типичное
для оккультистов, всегда близко душе художника самим пафо-
317
сом творчества; и в ряде статей Гумилева позднего периода, в
частности в программе поэтического курса, можно увидеть за-
чатки его собственной мифопоэтической системы.
Оккультные мотивы, несомненно, нарастают в позднем
творчестве Гумилева. Характерно, что в лондонском интервью
Бехгоферу он уже говорит о двух жанрах - поэтической драме,
занятой человеческой душой, и мистической поэзии, удовлет-
воряющей потребностям духа. Таковы же два главных жанра
позднего Йейтса: поэтическая драма и мистическая поэзия.
В одной из своих статей Гумилев пишет, что человеческому
духу свойственно сводить все к единому: так он приходит к
идее Бога. Добавим, для поэта стихи и религия - одно, слово
поэта обладает магической силой. Здесь мы снова возвращаем-
ся к идее поэта-друида, которую Гумилев не оставлял до кон-
ца своей жизни. Мысль Гумилева о поэтах будущего, которым
«будет предоставлено править миром», по наблюдению М. Йо-
вановича, выявляет близость гумилевских построений с масон-
скими учениями1.
Параллель между Йейтсом и Гумилевым состоит также в
сильной организаторской, заговорщицкой тенденции. Йейтс, ко-
торый участвовал в создании, с одной стороны, всевозможных
литературных и театральных, а с другой стороны, эзотерических
обществ - вроде Ордена Золотой Зари и Ложи Изиды, - не напо-
минает ли Гумилева - председателя, синдика, организатора трех
Цехов Поэтов и всевозможных кружков и студий? Как остроум-
но замечает Йованович, «поэтическая программа позднего Гу-
милева задумывалась как-то параллельно масонским положени-
ям, и последний Цех Поэтов в данном отношении должен был
напоминать "поэтическую ложу", возглавляемую "совершенным
мастером" Гумилевым».
ТЕАТР ПОЭТА
В финале «Смерти Кухулина» королева Эмер танцует пе-
ред черным квадратом, изображающим мертвую голову героя.
Этот черный квадрат можно считать последней маской Йейтса.
А было их у него множество. Теория Маски, окончательно оформ-
ленная в 1917 году в книге «Per Arnica Silentia Lunae», созревала
долго. Йейтс сам говорил, что первыми семенами этой теории
были ирландские легенды, слышанные в детстве, истории о пре-
1 Йованович М. Николай Гумилев и масонское учение // Гумилев и русский
Парнас. СПб, 1992. С. 35.
318
вращениях, оборотнях и «двойниках», которых духи оставляют
вместо похищенного ими человека. Сказалась - не в последнюю
очередь - и многолетняя работа Йейтса в качестве руководите-
ля, драматурга и режиссера Ирландского национального театра.
Впрочем, «драматизироваться» его лирика начала еще раньше:
в сборнике «Ветер в камышах» было уже три «лирических ма-
ски», от лица которых произносились стихи: Рыжий Ханрахан,
Айх и Робартис.
Что касается драмы как таковой (а Йейтс написал около
двух дюжин пьес, по преимуществу стихами), то наклонность к
ней развивалась с отрочества, с тех шекспировских монологов,
которые любил декламировать ему отец.
И я стал думать (и продолжал так думать в течение
многих лет), что возвышенная поэзия может быть только
драматической поэзией, потому что в ней всегда, за каж-
дой мыслью, стоит человеческая жизнь, бурная, трепещу-
щая...
Гумилев также стремился к созданию своего поэтическо-
го театра. В 1920 году он подчеркнул важность драматической
формы в поэзии, «по-йейтсовски» связав ее с теорией поэтиче-
ской маски:
Веками подготовлявшийся переход лирической поэзии в
драматическую в девятнадцатом веке наконец осуществил-
ся. <.. .> К искусству творить стихи прибавилось искусство
творить свой поэтический облик, слагающийся из суммы
надевавшихся поэтом масок. Их число и разнообразие ука-
зывает на значительность поэта, их подобранность - на его
совершенство1.
В это время Гумилев уже является автором целого ряда
пьес, среди которых особый интерес для нас представляют на-
писанные в 1916 - 1918 годах «Гондла», «Дитя Аллаха» и «От-
равленная туника».
В центре каждой из этих пьес стоит Поэт (очередная ипо-
стась, или маска, автора): ирландец Гондла, действующий на
кельтско-скандинавском фоне, персианин Гафиз - на условном
восточном фоне и бедуин Имр - на фоне византийском. Различ-
ны жанры: драматическая поэма, пародийная пьеса для марио-
неток и пятиактная драма.
1 Гумилев Н.С. Собр. соч.: В 3 т. Москва, 1991. Т. 3. С. 204-205.
319
В «Гондле», написанной в первой половине 1916 года,
изображается конфликт христианского учения, воплощенно-
го в образе горбатого ирландского принца и поэта Гондлы, с
язычеством воинственных исландцев, среди которых Гондла
находит себе невесту - царевну Леру. Брак Гондлы и Леры
должен помирить волков и лебедей. Но выходит по-другому.
Гондла добровольно гибнет, чтобы смертью своей дать знак
и указать дорогу грубым и непросвещенным язычникам. Зна-
менательно, что поэт Гондла, не умеющий держать меча, уже
в первой сцене на обвинение в трусости отвечает угрозой са-
моубийства:
К правосудью, судья, к правосудью!
Удержи эту лживую речь,
Или я королевскою грудью
Упаду на отточенный меч.
Подобно поэту Шонахану в пьесе Йейтса «На королевском
пороге», лишь свою готовность к смерти (род духовной силы) он
может противопоставить физической силе и власти конунга.
Как мы уже отмечали, ирландская пьеса Гумилева написа-
на в год Дублинского восстания против англичан, иначе назы-
ваемого Пасхальным, ибо произошло оно на Пасху 1916 года
(24 апреля). Руководители восстания, среди которых были поэ-
ты Патрик Пирс, Томас Макдонах и Джозеф Планкетт, вдохнов-
лялись легендами об ирландских героях. Многие тогда считали
их дело бессмысленным бунтом; но этот бунт действительно
ускорил обретение Ирландией независимости.
Подобно ирландским поэтам, героям «Пасхи 1916-го», ко-
ролевич и певец Гондла приносит себя в жертву не ближайшей
и видимой цели, а лишь в надежде на перерождение людей -
свидетелей этой жертвы. Если синхронность написания пьесы
Гумилева с тем реальным действом, которое было разыграно в
Дублине весной 1916 года - совпадение, то поистине это про-
роческое совпадение.
К созданию своей ирландской пьесы Гумилев подошел,
вооруженный не только воспоминаниями о песнях Оссиана и
скандинавских сагах. В заметках о «Гондле», сохранившихся
в архиве А. М. Горького, Гумилев писал об источниках пьесы:
«В основание ее положен цикл легенд, приводимых Арбуа де
Жубенвилем в его "Истории кельтской литературы", где гово-
рится о горбатом принце Гондле, или Кондле, жившем во вто-
ром веке по Рождеству Христову в Ирландии, о его несчастьях
и отъезде на Острова Блаженства в таинственной стеклянной
320
ладье...» В заключительном монологе Леры, снаряжающем ко-
рабль со своим мертвым возлюбленным, - отзвуки подлинной
ирландской легенды о любви, «отторженной от земли», но со-
вершающейся в Краю Обетованном:
Я одна с королевичем сяду,
И весла я не брошу, пока
Хлещет ветер морскую громаду
И по небу плывут облака.
Так уйдем мы от смерти, от жизни -
Брат мой, слышишь ли речи мои? -
К неземной, к лебединой отчизне
По свободному морю любви.
Уход Леры с Гондлой «от смерти, от жизни» удивительно на-
поминает воздушное плавание Байле и Айллин в поэме Йейтса -
жениха и невесты, разлученных на земле богом любви Энгусом
и соединенных после смерти:
Их средь ночного забытья
Несет стеклянная ладья
В простор небесный без границ;
И стаи Энгусовых птиц,
Промчавшись низко над кормой,
Взвивают кудри их порой
И над влюбленными струят
Поток блуждающих прохлад.
(«Байле и Айллин»)
«Энгусовы птицы» - лебеди: превращение в лебедей было
первым, которое совершилось над Байле и Айллин после их
смерти. Отметим «стеклянную ладью», а также то, что прозви-
ще принца Байле в поэме «Медоречивый» («Baile who had the
honey mouth») - в ирландской традиции этот эпитет означает
певца, поэта.
Другая пьеса Гумилева «Дитя Аллаха» написана специ-
ально для театра марионеток режиссера П. Сазонова. Гуми-
лев, присутствовавший на первом представлении этого теа-
тра, загорелся идеей написать пьесу для марионеток; уже в
марте 1916 года она была готова. Это - своего рода антитеза
к «Гондле». Певец (Гафиз) оказывается здесь не страдальцем,
не жертвой, а счастливцем-победителем, который без труда
завоевывает любовь прекрасной Пери и утешает ее сердце,
опечаленное тремя роковыми смертями - Юноши, Бедуина и
Калифа.
321
Пьеса, написанная в легком и шутливом стиле, не имеет
аналогии в творчестве Йейтса. Однако само обращение к теа-
тру марионеток, внезапная популярность которого в Европе
была стимулирована английским режиссером Гордоном Крэ-
гом, точнее его знаменитым эссе 1907 года «Актер и сверх-
марионетка», заставляет вспомнить о многолетних тесных
контактах Йейтса и Крэга. Именно на сцене театра Аббатства
были применены ширмы Крэга (при постановке пьесы Йейтса
«Песочные часы»). Театрально-режиссерская мысль Йейтса
склонялась к маске, к стиранию всего слишком индивидуаль-
ного и случайного в актерском образе, он хотел показать на
сцене не человека, а страсть, владеющую человеком. Принци-
пы японского театра Но, с которым Йейтса познакомил Эзра
Паунд, пришлись как нельзя более кстати. После 1916 года
Йейтс пишет «пьесы для танцовщиков», интенсивно исполь-
зуя маску для закрытия лица актеров и снятия их «отвлекаю-
щих», личных черт. Для поэзии Йейтс сформулировал этот
принцип так: «Романист может описывать случайности, но
поэт не имеет на это права; он - скорее человеческий тип, не-
жели человек, скорее страсть, чем тип». Иначе говоря, поэт,
как и артист, лишь сверхмарионетка захватившей его идеи
или страсти.
Третья пьеса Гумилева, «Отравленная туника», писа-
лась в Париже и Лондоне, а закончена была в Петрограде
в 1918 году. Подобно тому, как в «Гондле» он столкнул два
мира и две культуры: ирландско-христианскую и германо-
языческую, так и в этой пьесе, отнесенной к VI веку н. э., Гу-
милев столкнул бедуинского бродячего поэта с византийской
государственностью. Этот конфликт совершенно иного типа:
теперь уже христианская сторона выступает как злой (от-
равленный властолюбием и коварством) полюс, а языческая
сторона - как носитель неиспорченной природной морали.
Протагонистами Гумилев избрал исторических персонажей:
с одной стороны, великого арабского поэта Имру-аль-Кайса
(Имра), с другой - знаменитого византийского императора
Юстиниана, строителя храма святой Софии. Как известно,
именно век Юстиниана и Феодоры Йейтс считал золотым
веком искусства, мечтал, если бы такое было возможно,
перенестись в это время «гармонического единения» власти
и народа. Гумилев показывает ту же эпоху с другой, «изна-
ночной» стороны. Имр должен погибнуть, пав жертвой сво-
ей любви к царевне Зое, сама она должна принять схиму -
все это во имя экспансионистской государственной идеи, не
учитывающей ценности человеческой жизни. В финальных
322
словах Феодоры, обращенных к Зое, воплощен ужас перед
мертвящей идей государства, извращающей все, включая
христианскую молитву:
Вся грязь дворцов, твоих пороки предков,
Предательство и низость Византии
В твоем незнающем и детском теле
Живут теперь, как смерть живет порою
В цветке, на чумном кладбище возросшем.
Ты думаешь, ты женщина, а ты -
Отравленная брачная туника,
И каждый шаг твой - гибель, взгляд твой - гибель,
И гибельно твое прикосновенье!
Царь Трапезондский умер, Имр умрет,
А ты живи, благоухая мраком.
Молись! Но я боюсь твоей молитвы,
Она покажется кощунством мне.
«Гондла», «Дитя Аллаха», «Отравленная туника» пред-
ставляют своего рода трилогию, построенную по законам
трехчастного музыкального произведения. Объединяющей
нитью в ней является оппозиция Поэта и Девы. Всякий раз
подчеркивается их принадлежность к разным мирам: хри-
стианин Гондла и язычница Лера, земной певец Гафиз и не-
земная Пери, вольный араб Имр и византийская царевна Зоя.
Показаны три исхода их любви: открытая гибель, игрушеч-
ный хэппи-энд, тайное соединение, чреватое опять-таки злой
гибелью.
НА КОРОЛЕВСКОМ ПОРОГЕ
Любовь Гумилева к Древней Ирландии легко понять: в его
представлении это была страна поэтов - то есть страна, где поэт
стоял наравне со жрецом и воином, где вольного певца могли
избрать королем (как это произошло с отцом Гондлы), где му-
дрость друидов, проповедуемая «с зеленых холмов», - высшая
ценность народа. Эта легендарная Ирландия вдохновляла и
Иейтса, когда еще в раннем своем стихотворении «Фергус и
друид» он показал короля, завидующего мудрецу, решившего
сменить свою корону на участь странника-друида. Но участь
эта не только заманчива, но и тяжела. Испытав на деле «мечта-
тельную мудрость» друида, после всех ярких грез и пережитых
превращений Фергус восклицает:
323
И все я испытал так сильно, полно!
Теперь же, зная все, я стал ничем.
Друид, друид! какая бездна скорби
Скрывается в твоей котомке серой!
Мечта Гумилева о всемирном правительстве поэтов была
заведомо утопической, но искренней. Он считал, что поэты
легче могут договориться между собой. Он видел все бесси-
лие «мертвых слов» и мощь животворящего, нового Слова. Он
высоко ценил честь поэта, защищал ее, как мог, даже в «вы-
вернутой» послереволюционной действительности. Он любил
заседать - в Союзе поэтов, в издательствах, в какой-нибудь
Комиссии исторических картин Наркомпроса и прочих полу-
эфемерных учреждениях. По его мнению, это все работало на
авторитет поэзии. Фигура Гумилева в советском Петрограде,
по воспоминаниям современников, сочетала в себе пафос и
нелепый анахронизм.
Такова же фигура поэта Шонахана в пьесе Йейтса «На
королевском пороге». Лишенный королем Гуардом исконного
права Верховного поэта: заседать за Столом Совета, Шона-
хан решает умереть от голода на пороге обидчика - в данном
случае короля, - что, по древним ирландским понятиям, на-
влекало на того тяжелейшее бесчестье. Король призывает дру-
зей и учеников Шонахана - убедить его отказаться от своего
намерения, и поначалу им кажется, что возмущение поэта -
всего лишь прихоть и безумие. Но Шонахан убеждает их, что
обида нанесена не ему лично, а всей поэзии. С пренебрежения
же поэзией начинается перерождение, порча мира. Поэт экза-
менует Старшего Ученика, заставляя вспомнить свои уроки.
«Во-первых, почему поэзия так чтима?» - «Потому, - отвечает
тот, - что поэты вывешивают над детской кроваткой мира об-
разы той жизни, какая была в раю, чтобы, глядя на эти карти-
ны, дети мира росли счастливыми и радостными». - А если
искусство исчезнет?» - продолжает экзамен Шонахан.
- А если оно исчезнет, - отвечает Старший Ученик, -
Мир без искусства станет, словно мать,
Что, глядя на уродливого зайца,
Родит ребенка с заячьей губой.
«Так как же надо охранять Поэзию?» - спрашивает Шо-
нахан, и ученик отвечает: «Как люди племени Даны охраняют
свои четыре сокровища - Камень Судьбы, котел изобилия Даг-
ды, меч и щит Луга; как короли Грааля охраняют свой заветный
324
кубок; как волшебный единорог охраняет драгоценный камень,
таимый в основании его рога; готовясь без колебаний пролить
за нее свою кровь, как сладкое и пьяное вино».
Никому из посылаемых королем - ни ученикам поэта, ни
Солдату, ни Другу, ни Городскому старшине, ни Принцессе, ни
Монаху - не удается поколебать Шонахана. В конце концов ко-
роль Гуард применяет последнее средство: он грозит казнить
учеников, если Шонахан не прекратит поститься, но уже и
ученики сделались неколебимы, как их вождь. «Умри, учитель,
и провозгласи право поэта», - восклицают они, презрев соб-
ственную казнь. В первоначальном варианте 1903 года пьеса
кончалась оптимистично: король уступал и принимал свою ко-
рону из рук поэта. И лишь в 1922 году (так и хочется сказать:
после казни Гумилева) Йейтс переделал пьесу и она обрела
свой окончательный и единственно логичный конец: ни король
не поступается своим деспотическим правом власти, ни поэт -
правом выбирать свою смерть. Шонахан умирает, обратив свое
смеющееся лицо прокаженной луне, заразившей мир всеми его
несчастьями.
«Древнее право ушло, - говорит Старший Ученик, - оста-
ется новое право - право смерти».
Вся последняя страница пьесы - торжественный реквием
поэту.
Старший Ученик
Поднимите тело
И возгласите, что, уйдя от толп,
У водопадов и у горных птиц
Займет он толику их одиночеств.
(Они сооружают носилки из плаща и дорожных посохов.)
Младший Ученик
И возгласите: вместе с древним правом
И общих снов лишается земля.
Так пусть он спит в горах, вдали от смертных.
Старший Ученик
Пусть он почиет там, не замечая,
Как мир все глубже увязает в грязь,
Пока кулик кричит в речном тумане.
(Они поднимают носилки на плечи и проходят несколько шагов.)
325
Младший Ученик
(давая знак остановиться)
Пускай звучит над ним победный гимн:
Зане грядущий век благословит,
Что он благословил, и проклянет
Все, что он проклял.
Старший Ученик
Нет! молчите, струны, -
Или играйте тихо: гимн победный
Его величья тайну умаляет.
Младший Ученик
Трубите же, серебряные горны!
Подайте весть грядущим племенам;
Пускай из ваших лебединых горл
Свободно, далеко прольются звуки
Над волнами времен, будя потомков!
Старший Ученик
(делая знак музыкантам играть тише)
Не то, что он оставил здесь, под солнцем,
А то, что он унес с собой во тьму, -
Воистину возвышенно. Ни гимны,
Ни горнов звон не призовут народы
От мира, разъедаемого порчей,
К войне со злом, - и не смутят покой
Сошедшей ныне в гроб великой тени.
(Фидельма и ученики уносят носилки. Звучит траурная музыка.)
Критики находят здесь, особенно в обращении к «грядущим
племенам», которые надо разбудить (в оригинале «к великой расе
грядущего»), явные ницшеанские мотивы. Это несомненно так; но
обратим внимание, что к победной музыке взывает младший уче-
ник, тогда как Старший настаивает на приоритете тайны поэта,
КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ РАЗМЕНЯТЬ НИ НА КАКУЮ ПОЛЬЗУ ИЛИ МОРАЛЬ. СТАРШИМ
козырем для Йейтса по-прежнему остается Шекспир: «Дальней-
шее - молчанье» (последние слова Гамлета).
Говоря о поэтическом театре Гумилева в его отношении
к театру Йейтса, нельзя обойти ирландскую пьесу Гумилева
«Красота Морни». Была ли она написана полностью или же
326
не далее дошедшего до нас фрагмента первого действия, неиз-
вестно. Но, к счастью, сохранился план всех четырех действий,
дающий достаточное представление о сюжете. Существующее
мнение, что «Красота Морни» является драматургической ва-
риацией на темы «Песен Оссиана», неточно. Гумилев, безу-
словно, основывался на подлинных ирландских источниках,
вероятно, на той же многотомной истории ирландской литера-
туры Арбуа де Жубенвиля, которую он упоминает в своих «За-
метках о Гондле».
Гумилев взял сюжет из «фенианского цикла» - предысто-
рию рождения вождя фениев Финна Мак Кумала. Интерес к
Фиане, как можно предположить, был у Гумилева не случаен.
Эта была особая, не зависимая от короля дружина профессио-
нальных воинов и охотников, проводивших жизнь в лесах, - но
в отличие от дружины Робин Гуда имевшая легальный и ува-
жаемый статус. Фении, члены Фианы, должны были обладать
целым набором редких (хочется сказать, рыцарских) качеств и
умений, носящих порой полуфантастический характер. В част-
ности, требовалось умение писать стихи: «Никто не допуска-
ется в Фиану, пока не сделается поэтом и не прочтет двенадца-
ти книг поэзии», - говорят юному соискателю Дайре в пьесе.
В ответ на это Дайра перечисляет двенадцать книг. Вкратце,
список их таков:
1. «История Макалпана, бога, сына моря»;
2. «Поэма о Лугадисе, добром короле»;
3. «Стихи Морфезы-друида»;
4. «Прорицания Макфарлана»;
5. «Любовь Фидельмы и Лозгайре»;
6. «Строфы Эны, ведающего прошлое»;
7. «Гибель Ниабы»;
8. «Быль о Красном Камне, добытом в голове Дракона»;
9. «Заклинанья Садбы»;
10. «Поучения Риагаллы Благочестивого»;
11. «Песнь Стеклянной Ладьи»;
12. «Солнце Страны Блаженных».
Подробный анализ этого списка завел бы нас слишком дале-
ко. Сделаем только два замечания. Первое: Гумилев адаптирует
по своему вкусу многие ирландские имена, например, Лугайд -
Лугадис, Логайре (Лири) - Лозгайре, Ниам (Ниав) - Ниаба. Вто-
рое: Гумилев явно стремится отразить жанровое и тематическое
разнообразие древнеирландской литературы: мифология, прори-
цания, заклинания, поучения, история, путешествия, фантастика,
327
повести о любви, и т. д. В самом внимании его к кельтской древно-
сти, к кельтской мифологии - третьей в Европе после греческой и
римской по своей важности и богатству - сказалась замечательная
интуиция Гумилева, его талант первопроходца и кладоискателя.
Сюжет пьесы Гумилева достаточно ясен из суммы планов
его четырех актов. Он близок к материалу саг. Морни, дочь дру-
ида Таджа, обладает редкой красотой. Король Конн сватается к
ней и при содействии ее отца получает согласие. Куммал, вождь
фениев, считающий Морни своей невестой, при помощи моло-
дого воина Дайры похищает ее. Конн идет войной на фениев.
В битве он одерживает победу. Куммал убит. Король снова пред-
лагает Морни выйти за него замуж, но Морни объявляет, что она
беременна и уходит и вместе с Дайрой в Mog-Mell. Действие пе-
реносится в Счастливую Страну Mog-Mell. Там Дайра встречает
Морни. У нее на руках ребенок, сын Куммала, который должен
отомстить за смерть отца.
Таким образом, сюжет Гумилева четко делится на две части:
собственно сагу и эпилог, происходящий в Счастливой Стране.
В связи с этим возникает вопрос: каким образом Морни и Дайра
переносятся в Счастливую Страну, иначе называемую Обетован-
ной Долиной, Страной Вечной Молодости, Островом Блаженства
и так далее? Может быть, фраза: «Морни вместе с Дайрой уходит
в Mog-Mell», - означает «они умирают»? Вряд ли, ведь Морни
рождает там ребенка и возвращается на землю. По-видимому,
попасть в Счастливую Страну можно было волшебным путем;
здесь возникают ассоциации с символическим театром, в част-
ности с «Синей птицей» Метерлинка, где «экскурсии» в потусто-
ронние области осуществляются без затруднений.
Основная идея пьесы, на мой взгляд, проясняется в финале.
Вернемся к плану, набросанному Гумилевым. Дайра попадает
в Mog-Mell. Его окружают легендарные влюбленные и оболь-
стительные феи. Они прославляют красоту Морни. В это вре-
мя входит Сама Морни, она показывает своего сына: «красота
Морни погибла, вот сила Морни». Это, по-видимому, ключевые
слова плана. Сын Морни станет великим Финном, вождем Фи-
аны. Концовка саги оборачивается началом новой, еще более
славной саги. Финал резко выводит зрителя за рамки истории
погибшей любви и одновременно объясняет смысл всего, что
случилось в пьесе. Ничто в мире не проходит бесследно, по-
смотрите: вот - страдание, отчаянье, гибель, и вот - улыбается
ребенок. Последняя строка неоконченной пушкинской «Русал-
ки» (а может быть, нарочно оборванной на этой строке):
Откуда ты, прекрасное дитя?
328
ГРАФИНЯ КЭТЛИН
Публикуя в первый раз «Красоту Морни», Шила Грехэм вы-
сказала надежду, что полный текст пьесы, возможно, еще оты-
щется в архивах. То же самое можно сказать о переводе пьесы
Йейтса «Графиня Кэтлин», выполненном Гумилевым, вероят-
но, в 1920-1921 годах. Что такой перевод существовал (если
даже не был закончен), следует из собственноручной надписи
Гумилева на книге У. Б. Йейтса, опубликованной профессором
Г. Струве. В предыдущей статье мы сделали попытку восста-
новить обстоятельства, связанные с происхождением этого ав-
тографа. Здесь же уместно поставить вопрос: чем привлекла
Гумилева именно эта пьеса?
Указанная в Полном собрании пьес Йейтса дата написания
«Графини Кэтлин» - 1892 год - формально верна, хотя способ-
на ввести в заблуждение. Дело в том, что пьеса многократно
переделывалась и при этом менялась, что существенно при ее
анализе. Всего было пять основных стадий, или версий. Благо-
даря описанию экземпляра книги, данному Глебом Струве, в
частности по предисловию, датированному июнем 1912 года,
можно установить, что речь идет о книге Poems (1912), точнее,
о ее переиздании 1913 года, отличающемся лишь отсутстви-
ем даты на титуле. Именно в этой книге была опубликована
четвертая версия «Кэтлин», близкая к окончательной - пятой!
Таким образом, еще раз подтверждается, что Гумилев сделал
очень мудро, написав на книге: «По этому экземпляру я перево-
дил Графиню Кэтлин», так как в разных изданиях содержатся
разные тексты.
Глеб Струве в своей публикации определяет пьесу как «на-
веянную ирландским патриотизмом». Думаю, он мог спутать
«Графиню Кэтлин» с «Кэтлин, дочь Улиэна» (1902) - другой
пьесой Йейтса, действительно патриотической и даже агита-
ционной. Но «Графиню Кэтлин» вряд ли можно назвать «на-
веянной патриотизмом»: при первой постановке в 1899 году она
вызвала настоящий скандал, вплоть до обвинений в том, что
«автор пьесы - предатель национальных интересов Ирлан-
дии». Защищаясь, Йейтс подчеркивал, что пьеса «не исто-
рична, а символична»; но, как мы увидим дальше, символы
ее злободневны, и пьеса имеет отнюдь не чисто лирическое
звучание. В основе пьесы - легенда о графине Кэтлин, про-
давшей свою душу ради спасения душ бедных крестьян, но
попавшей в рай, так как «небо судит по намерениям, а ад
- по поступкам». Действие пьесы определяется четырьмя
силами: это бесы, которые посещают пораженную голодом
329
местность, чтобы скупать души крестьян; крестьяне, охот-
но заключающие сделку с дьяволом; графиня Кэтлин, со-
страдательная и бескорыстная, и ее спутник, певец Айлиль.
Последние два образа имеют ясные биографические прото-
типы. «Эту пьесу я посвящаю моему другу мисс Мод Гонн,
по предложению которой я задумал и начал ее писать около
трех лет назад», - писал Йейтс в посвящении 1892 года. Три
года назад - это 1889 год, когда поэт впервые встретил ту,
которой было суждено стать его музой, его долголетней му-
чительной любовью.
Красавица, воспетая им во множестве стихов, - Елена Тро-
янская, «скитальческая душа», Роза, распятая на Кресте Вре-
мен, Мод Гонн - была яростной революционеркой, боровшейся
за дело Ирландии, за права бедноты.
Средь бури и борьбы
Она жила, мечтая
О гибельных дарах,
С презреньем отвергая
Простой товар судьбы, -
(«Чтоб ночь пришла», 1909)
писал Йейтс много лет спустя. И еще так:
За что корить мне ту, что дни мои
Отчаяньем поила вдосталь, - ту,
Что в гуще толп готовила бои,
Мутя доверчивую бедноту
И раздувая в ярость их испуг?
(«Нет другой Трои», 1910)
И уже в конце жизни, исчисляя главные вехи своего пути,
он вспоминает о своей первой законченной пьесе:
Потом иная правда верх взяла,
Графиня Кэтлин начала мне сниться:
Она за бедных душу отдала,
Но небо помешало злу свершиться;
Я знал: моя любимая могла
Из одержимости на все решиться.
Так зародился образ, и возник
В моих мечтах моей любви двойник.
(«Парад-алле», 1938)
330
В первом варианте пьесы певца Алиля вообще не было. Но
каждая переделка наращивала объем этой роли, так что в окон-
чательном варианте Айлиль присутствует уже практически во
всех сценах. Пьеса с одним главным героем превратилась в пье-
су с двумя героями, и конфликт между ними сделался главным
содержанием пьесы. Безусловно, он отражает реальный кон-
фликт Мод Гонн и Йейтса, характерный для того удивительного
времени - эпохи юных и прекрасных агитаторш, «кричащих в
толпу с перевернутой вагонетки» и погруженных в свои туман-
ные грезы «неотмирных» поэтов. Может быть, этот конфликт и
привлек внимание Гумилева.
В пьесе есть сцена, в которой Айлиль предлагает Кэтлин
бежать из этих охваченных злом лесов туда, где они смогут бес-
печно жить, наслаждаясь «звуками музыки и журчаньем вод»,
ибо здесь ее ждет «какая-то ужасная смерть, какое-то неслы-
ханное зло, какая-то великая темь, которую и представить не-
возможно... ». Кэтлин отвечает отказом.
Кэтлин
Меня он просит
Уйти туда, где смертных нет, - лишь лебедь
Барахтается в озере, да арфа
Бряцает, да шумят деревья хором, -
Чтоб там, когда закатится светило,
Под шорох трав, при свете бледных свеч,
Беседовать спокойно... Нет и нет!
Гумилев знал женщин с таким характером. В первую очередь,
конечно, приходят на ум стихи Ахматовой: «Мне голос был. Он звал
утешно...» Нельзя исключить, что надпись Гумилева на пустом
развороте книги Йейтса, где стоит только посвящение Мод Гонн и
эпиграф «Скорбящие по тебе онемели от горя», - надпись, сопо-
ставляющая героиню пьесы с известной ему женщиной (напомним:
«переводил Графиню Кэтлин, думая только о той, кому принадле-
жала эта книга»), - может относиться к Анне Ахматовой.
Но была и другая женщина, вспоминающаяся в связи с
леди Кэтлин. Это Лариса Рейснер, роман с которой (извест-
ный по сохранившимся письмам) имел особенное значение
именно для Гумилева-драматурга. Та, кем навеян образ Ко-
миссарши в «Оптимистической трагедии» Вишневского, была,
по-видимому, и прототипом исландской принцессы Леры из
пьесы Гумилева «Гондла» (1916). Гумилев в своих письмах к
Л. Рейснер обычно называл ее Лерой или Лери (это было одним
331
из ее «детских», семейных имен); второе, ночное имя принцессы
Леры -Лаик - она тоже приписывала себе, судя по сохранивше-
муся стихотворению с таким названием. Рейснер принадлежит
единственная опубликованная рецензия на «Гондлу»1. Добавим
сюда северный, скандинавский тип ее красоты, отмечавшийся
всеми мемуаристами, так что ее даже сравнивали с Валькирией
(например, Георгий Иванов в «Петербургских зимах»). Но ведь
принцесса Лера в «Гондле» и сама называет себя валькирией:
Королевич, поверь, что не хуже
Твоего будет царство мое,
Ведь в Ирландии сильные мужи,
И в руках их могуче копье.
Я приду к ним, как лебедь кровавый,
Напою их бессмертным вином
Боевой ослепительной славы
И заставлю мечтать об одном, -
Чтобы кровь пламенела повсюду,
Чтобы села вставали в огне...
Я сама, как валкирия, буду
Перед строем летать на коне.
Если образ Леры нарисован с Ларисы Рейснер такой, какой
она была в 1915-1916 годах, то невольно вспомнишь слова Ах-
матовой, что Гумилев был визионером и пророком. Ведь он уви-
дел ту, что лишь в шутку называли Валькирией, воистину в огне и
ужасе Гражданской войны - увидел ее «кровавым лебедем» битв.
Фраза «перед строем летать на коне» буквально предвосхищает те
эпизоды из ее будущей книги «Фронт», в которых она на фронте
учит бойцов верховой езде. Но и лебединое оставалось с нею - не-
даром в одном из газетных некрологов десять лет спустя, кажется,
в «Звезде Востока», говорится о ее лебедином духе.
К 1916 году относится и пьеса Гумилева «Дитя Аллаха»,
которую Лариса Рейснер тоже считала своей. Героев в ней зо-
вут Гафиз и Пери. «Гафизом» называла Гумилева Рейснер и в
письмах, и в своей «Автобиографической повести»; и вряд ли
случайно созвучие Пери - Лери.
В ноябре 1916 года, когда «Гондла» был уже окончен, Гуми-
лев пишет в письме Л ере:
Снитесь вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю
писать новую пьесу, причем, если вы не узнаете в героине
себя, я навек брошу литературную деятельность.
1 Рейснер Л. Н. Гумилев. «Гондла» // Летопись. 1917. № 5-6. С. 262-264.
332
Здесь неясно, о какой пьесе думает Гумилев. Но в письме с
фронта 15 января 1917 года замысел конкретизируется:
Лерочка моя, вы, конечно, браните меня, я пишу вам
первый раз после своего отъезда, а от Вас уже получил два
прелестных письма. <...> Я целые дни валялся в снегу,
смотрел на звезды и мысленно проводя между ними ли-
нии, рисовал себе Ваше лицо, смотрящее на меня с небес.
<...> ...Заказаннаямне вами пьеса (о Кортесе и Мексике)
с каждым часом вырисовывается передо мной все ясней
и ясней.
Итак, Лариса Рейснер - не только вдохновительница гу-
милевских пьес, но и заказчица одной из них (сравните с Мод
Гонн, «по предложению которой» Йейтс начал писать «Графи-
ню Кэтлин»); она же - помощница в доставании нужных книг, а
именно книги Вильяма Прескотта по истории Америки. «Пре-
скотта я так или иначе разыщу и Вам отправлю, - пишет она
Гумилеву. - Я очень жду Вашей пьесы». Ответ Гумилева 22 ян-
варя 1917 года доказывает, что он получил книгу и очень благо-
дарен. «Прескотт убедил меня в моем невежестве относитель-
но мексиканских дел. Но план вздор, а пьеса все-таки будет...»
И 6 февраля опять знаменательные для нас строки - вновь сое-
диняющие мысли о пьесе с мыслями о Лере:
По ночам читаю Прескотта и думаю о вас.
Известно, что роман Гумилева с Рейснер пережил кризис в
начале весны 1917 года и продолжения не имел. В апреле Гу-
милев начал хлопотать об отправке его на Салоникский фронт
и в середине мая выехал из России. В автобиографической по-
вести Рейснер называет свою героиню Ариадной - покинутой.
Согласно мифу покинутая Ариадна досталась Дионису, богу
опьянения и разгула. В реальности прошедшая через период
отчаяния и потерянности Лариса Рейснер отдалась стихии ре-
волюции и политической борьбы. Летом Л. Рейснер становится
женой матроса-революционера Федора Раскольникова, весной
1918-го она уезжает с ним на фронт, где проведет (с перерыва-
ми) почти три года, участвуя в сражениях от Камы до Персии,
став первой в России женщиной-комиссаром, а также журнали-
стом, автором книги очерков «Фронт».
А ведь начинала она как одаренный поэт акмеистической
ориентации, умный и тонкий критик. Кажется, в окружении
Гумилева больше не было женщин, о которых можно было бы
333
сказать: «Она за бедных душу отдала». Заметим еще одно: она
не переставала любить Гумилева до самой его смерти'.
В конце лета 1920 года Л. Раскольникова (Рейснер) с мужем,
назначенным комиссаром Балтийского флота, приехала в Петро-
град и прожила в нем до своего отъезда в Афганистан (март
1921). Существует мнение, что они с Гумилевым не встре-
чались, точнее, что Гумилев ее демонстративно не замечал.
Как и большинство негативных утверждений, такое мнение
не может считаться окончательным. Во-первых, у Гумилева и
Рейснер было слишком много общих друзей и знакомых. Блок
в 1920 году проводил много времени с Л. Рейснер и даже ка-
тался с ней верхом по Петрограду. С ней дружили и бывали у
нее в гостях О. Мандельштам, Всеволод Рождественский; на-
конец, Анна Ахматова, которой она оказывала всевозможные
услуги (у Лукницкого есть, например, упоминание о любимом
черном платье Ахматовой, подарке Л. Рейснер). Они сидели
за одним столом на заседаниях Союза поэтов (о чем есть вос-
поминания Е. Полонской), участвовали в одних и тех же по-
этических мероприятиях. Между прочим, при чтении мемуа-
ров следует учитывать явную неприязнь к Л. Рейснер многих
женщин, окружавших Гумилева: как они могли любить такую
соперницу - жену комиссара Балтфлота, приезжавшую на ве-
чера в автомобиле с шофером? Отсюда возникают различные
аберрации памяти; например, сообщение И. Одоевцевой, что
присутствовавшая на ее первом вечере в Доме литераторов
Лариса Рейснер напечатала о ней разгромный отзыв в «Крас-
ной газете», сквозным просмотром этой газеты за 1920 год не
подтверждается.
Особый интерес представляет дневниковая запись Блока о
том, что Лариса Рейснер предлагала издательству «Всемирная
литература» (в редколлегию которого входил Гумилев) переве-
сти книгу стихов Рильке - своего любимого поэта, о котором
она еще в 1917 году напечатала большую статью, привлекшую
внимание Б. Пастернака. Сохранившиеся протоколы заседаний
редколлегии «Всемирной литературы» содержат интересное
дополнение к этой информации:
Присутствовали: Алексеев, Блок, Браудо, Владимир-
ов, Волынский, Замятин, Крачковский, Левинсон, Лозин-
ский, Тихонов, Чуковский.
1 Подробнее см. статью «В случае моей смерти, все письма вернутся к
вам ...» в моей книге У.Б. Йейтс: исследования и переводы. М, 2008.
334
[Слушали:]
5) Заявление Тихонова о том, что Л. М. Рейснер вы-
ражает желание работать в Издательстве как переводчица
и, в частности, предлагает сделать перевод «Человека без
тени» Гофмансталя. У Рейснер имеются ряд новых немец-
ких книг, о которых она желала бы сделать доклад в Колле-
гии на одном из ближайших заседаний. Книги могут затем
поступить на просмотр сотрудников издательства.
Постановили: Признать принципиально желательным
сотрудничество Л. М. Рейснер. Заказать ей перевод «Чело-
века без тени» Гофмансталя. Просить сделать доклад о но-
вых немецких книгах в одном из заседаний Коллегии.
Отвлекаясь от ошибки, допущенной секретарем в назва-
нии пьесы Гофмансталя (речь, очевидно, идет о «Женщине без
тени» - «Frau ohne Schatten»), отметим то, что для нас суще-
ственно: Рейснер предлагает перевод пьесы, причем одновре-
менно выступает и в роли книгоноши. Напомним, что Гумилев
говорит, что пьеса Йейтса была получена им от женщины: «...
переводил Графиню Кэтлин, думая лишь о той, кому принад-
лежала эта книга».
Возникает вопрос: а знала ли Рейснер английский язык?
Безусловно, знала. Вс. Рождественский, описывая ее комна-
ту в здании Адмиралтейства (зимой 1921 года), отмечает:
«На широкой и низкой тахте в изобилии валялись англий-
ские книги, соседствуя с толстенным древнегреческим сло-
варем».
Учитывая приведенные факты, кажется, нет ничего не-
возможного в том, что какие-то контакты между Гумилевым и
Рейснер все-таки могли быть (во «Всемирной литературе», или
в гостях у общих знакомых, или даже по телефону). Ясно, что
в любом случае они бы не афишировались. Среди черновиков
Рейснер есть такой:
Мы чужие и друг другу далеки
И когда случайно на афише
Мы приветствуем друг друга тише
Чем прошедшие в тумане моряки.
Думается, нет ничего невозможного и в том, что Гумилев
мог мысленно совместить героиню пьесы Йейтса с своей старой
любовью, ведь даже их имена эквиритмичны и стопроцентно со-
впадают по составу и порядку гласных: Графиня Кэтлин - Лари-
са Рейснер («А-И-А Э-И»).
335
Но, самое главное, Гумилев не мог не заметить удивитель-
ного сходства ситуации, нарисованной в пьесе, с реальным
Петроградом 1920 года. Судите сами: местность, поражен-
ная голодом; бесы, скупающие души людей; люди, которые
рады такой ценой спастись от смерти. И, наконец, она - со-
ветская «графиня», живущая в замке (Адмиралтействе), но
горячо сострадающая бедноте, голодному народу. В представ-
лении певца Айлиля - продать душу Дьяволу - гибель, в гла-
зах Кэтлин - спасение.
БЕЛАЯ БОГИНЯ И ЧЕРНЫЙ КЕНТАВР
Поэтические мифы Р. Грейвза и У. Б. Йейтса
Влюбленные, безумцы и поэты
Сотворены из собственных фантазий:
Безумец видит демонов повсюду;
Влюбленный в ослеплении своем
Красу Елены зрит в цыганке смуглой;
Поэта взор, блуждая, переходит
С небес на землю и опять на небо.
«Сон в летнюю ночь», V, 1.
I
Среди английских поэтов XX века было два великих мифот-
ворца - Уильям Йейтс и Роберт Грейвз. Между прочим, оба -
ирландцы, и кельтский элемент играет существенную роль в их
творчестве. Он обнаруживает себя в причудливости фантазии,
в поэтическом темпераменте, «одержимости» в платоновском
смысле этого слова. «Безумная Ирландия втравила тебя в по-
эзию», - говорил Оден о Йейтсе. Наверное, только ирландцы
могли решиться на такое - возвысить свой личный поэтиче-
ский принцип до масштаба универсального мифа.
Мифопоэтическая система Йейтса в основном изложена в
его прозаических книгах «Per Arnica Silentia Lunae» (1917) и
«Видение» (1925); система Грейвза - в книге «Белая Богиня»
(1946).
Главные понятия Йейтса - маска, Даймон и фазы лунных
превращений, причем в первой книге 1917 года лунных фаз
еще нет (они появляются только в «Видении»). Зато луна при-
сутствует в самом названии этой книги: «Per Arnica Silentia
Lunae» - «При благосклонном молчании луны» (из Вергилия).
В «Per Arnica» высказывается выношенное Йейтсом убежде-
ние, что истинный поэт должен довериться своему Даймону
(анти-Я) и создать маску, во всем противоположную себе
самому. Суть «Видения» - книги, якобы наговоренной духа-
ми жене поэта во время сеансов автоматического письма, - в
337
учении о лунных фазах души, движущейся по кругу от пас-
сивной объективности к полной субъективности, достигая со-
стояния Единства Бытия в фазе полнолуния. При этом нужно
учесть, что поэтическая мифология Йейтса не исчерпывается
этими двумя важнейшими книгами, но включает в себя пред-
ставление о символической Розе, распятой на Кресте Вре-
мен (от розенкрейцерской доктрины, разделяемой Йейтсом),
и учение об трансмутации души (следствие его алхимических
увлечений). Эти представления наиболее ярко представлены в
его сборнике рассказов «Сокровенная Роза» {The Secret Rose,
1895) и в лирике.
Концепция Грейвза, в основе своей, чрезвычайно про-
ста. Он утверждает, что вся истинная поэзия есть не что иное,
как обряд поклонения тройственной богине Луны (которую
Грейвз называет Белой Богиней), правящей в небе, на земле
и под землей.
Представление о Луне как о тройственной богине восходит
к античности (Феокрит, комментарии Сервия к «Энеиде» и пр.).
Поэты Возрождения подхватили это идею. Грейвз ссылается на
Джона Скельтона (14647-1529), придворного поэта Генриха VIII,
который в поэме «Лавровый венок» пишет:
Диана в зелени листвы,
Луна, что светит ярко,
И Персефона Ада (154).
Если бы Грейвз знал сонет французского поэта Этьена
Жоделя (1532-1573) «К Диане», он, вероятно, процитировал
бы и его, потому что вряд ли в мировой поэзии существует
более красноречивое восхваление Тройственной богини в
единстве ее трех ипостасей - светлой (Силены или Цинтии),
грозной (Артемиды или Дианы) и зловещей (Персефоны или
Гекаты).
КДИАНЕ
Царица светлых сфер, и рощ, и Ахерона,
Диана, в трех мирах твоя звезда горит:
Со свитой гончих псов, и туч, и Эвменид
Ты гонишь, ты грозишь, ты блещешь с небосклона.
Так красота твоя пугающе бездонна,
Так власть ее слепит, преследует, мертвит,
Что молнии она Юпитера затмит,
И стрелы Фебовы, и ужасы Плутона.
338
Твои лучи, силки, в тебе сквозящий ад
Влюбляют и пленят, ввергают в тьму и хлад,
Но только ни на гран не делают свободней,
Покоя не сулят, - о Цинтия ночей,
Диана на земле, Геката в преисподней,
Свет, мука и печаль богов, людей, теней!
Здесь атрибуты Цинтии - лучи и тучи, Дианы - силки и гон-
чие псы, Гекаты - Ад и Эвмениды; им соответствуют глаголы:
слепить, влюблять (для Цинтии); преследовать, пленять (для Ди-
аны); мертвить, ввергать во тьму и хлад (для Гекаты). И, наконец,
этот замечательный сонет (любовный сонет, конечно, - какой же
еще!) разрешается последней строкой, «замком», в котором ока-
зываются намертво сплавлены бессмертные черты Тройствен-
ной богини:
Свет, мука и печаль богов, людей, теней!
II
Хорхе Луис Борхес характеризовал Роберта Грейвза как
«замечательного во всех своих разнородных проявлениях по-
эта, исследователя поэзии, восприимчивого и просвещенного
гуманитария, романиста, рассказчика, мифолога» и, в целом,
как «одного из самых оригинальных писателей нашего века».
Имелся в виду век двадцатый. Грейвз прожил долгую жизнь:
он родился в Лондоне в 1895-м и умер в 1985 году на острове
Мальорка, ставшим его постоянным домом с середины 1940-х
годов. Здесь он закончил «Белую богиню» (1948) - книгу, ко-
торую критики обычно называют «спорной», но, тем не менее,
это summa summarum его поэтики, выражение его кредо.
Роберт Грейвз не скрывает своих романтических убежде-
ний. Он ополчается на поэзию рациональную, мелочную, бес-
крылую. «Подлинные поэты согласятся с тем, что поэзия - это
духовное откровение, которое поэт сообщает равным, а не ис-
кусное умение поразить слушателей-простолюдинов или ожи-
вить подвыпивших гостей на званом ужине», - пишет он. И еще:
«Поэзия становится академической и переживает упадок до тех
пор, пока Муза не проявляет свою силу во времена так называе-
мых романтических возрождений».
Верность романтизму - якобы вышедшему из моды в XX ве-
ке - сближает «последнего романтика» Грейвза с «последним
романтиком» Йейтсом. Совершенно естественно, что и книга
339
Йейтса «Видение», и «Белая Богиня» Грейвза были встречены
холодом или насмешками критики. Один из друзей Йейтса даже
грозился написать книгу под названием: «Семь связок хвороста
для сожжения великого еретика Йейтса». Грейвз в предисло-
вии ко второму изданию «Белой Богини» сетовал, что ни один
специалист-кельтолог так и не высказался ни за, ни против его
доводов, видимо, ученые мужи просто не приняли их всерьез.
Тем не менее обе эти «сомнительные» книги выдержали
испытание временем: их переиздают, их читают, их переводят
на другие языки мира. Тысячи поклонников Йейтса и Грейвза с
их помощью проникают в глубину творчества своих кумиров, в
тайное тайных их воображения.
Между поэтическими кредо двух великих романтиков
XX века существует отчетливая связь. Белая Богиня состоит
в родстве, и даже не очень отдаленном, с Сокровенной Розой.
Вся лирика Йейтса расходится концентрическими кругами из
единого центра, и этот центр - объект мистического покло-
нения, сродни Белой Богине. Поэтический язык Йейтса - тот
самый магический язык, который, по словам Грейвза, «по сей
день остается языком истинной поэзии»1.
III
Прельщать и губить - две неотъемлемые функции таин-
ственной богини. Так и в балладе Джона Китса «La Belle Dame
Sans Merci» («Прекрасная Дама Без Пощады»), на которой
Грейвз останавливается с особой подробностью. Баллада начи-
нается описанием рыцаря, потерявшего свою возлюбленную и,
вместе с ней, свою душу.
Зачем, о рыцарь, бродишь ты
Печален, бледен, одинок?
Поник тростник, не слышно птиц,
И поздний лист поблек?2
Рыцарь рассказывает о встреченной им прекрасной деве с
цветами в волосах и диким взором, которая обольстила его сво-
ей любовью, ввела в волшебный грот, четырежды поцеловала
1 Цитаты из Грейвза (за исключением поэтических) даются по изда-
нию: Грейвс Р. Белая богиня: Избранные главы. - СПб, 2000). Перевод с англ.
И. Егорова.
2 Перевод В. Левика.
340
и усыпила. Во сне ему являются такие же, как он, жертвы девы,
открывающие ему страшную правду: всякий, кто увидит La Belle
Dame Sans Merci, обречен гибели. Рыцарь просыпается на холод-
ной скале, бледный, печальный, навеки потерявший себя.
Грейвз проецирует балладу на биографию Китса: его любовь
к прелестной и кокетливой Фанни Брон, их тайное обещание
друг другу, открывшуюся у Китса чахотку и расторжение обе-
тов. «Вот почему лицо Belle Dame прекрасно своей бледностью
и тонкостью, как лицо Фанни, - но при этом зловеще и насмеш-
ливо: это лицо жизни, которую он любил и лицо смерти, которой
он боялся». Недаром в балладе сказано о рыцаре:
Смотри: как лилия в росе,
Твой влажен лоб, ты занемог,
В твоих глазах застывший страх,
Увяли розы щек.
«Belle Dame, - заключает Грейвз, - это одновременно Лю-
бовь, Смерть от Чахотки и Поэзия, и это подтверждается изуче-
нием тех источников, которые использовал Ките, когда писал
стихотворение» (253). Поучительно обратиться к еще одному
стихотворению Китса, написанному в том же 1819 году, «Оде
Праздности»:
Однажды утром предо мной прошли
Три тени, низко головы склоняя,
В сандалиях и ризах до земли...
Таинственные тени скользнули перед ним и исчезли, как
будто их унес с собой плавный поворот вазы, и вновь возникли,
когда полный оборот совершился. И в этот миг поэт узнает их:
Вожатой шла прекрасная Любовь;
Вслед - Честолюбье, жадное похвал,
Измучено бессонницей ночной;
А третьей - Дева, для кого всю кровь
Я отдал бы, кого и клял и звал, -
Поэзия, мой демон роковой.
Как мы видим, триада теней, явившаяся Китсу, близка к
той, которую олицетворяет (согласно Грейвзу) La Belle Dame
Sans Merci. Первой шествует Любовь, последней Поэзия, в се-
редине вместо Чахотки идет Честолюбие, измученное бессон-
ницей, - но так ли велика разница? И то и другое - воплощение
муки, снедавшей поэта в его последний творческий год.
341
«Свет, мука и печаль...» Само собой разумеется, что свет -
это Любовь, а печаль - квинтэссенция Поэзии. Выходит, что ни-
кто иной, как сама Великая богиня в трех своих обличьях прошла
перед поэтом в тот ранний час между сном и пробуждением.
Обратим еще внимание, что Джон Ките называет Поэзию
демоном (в оригинале: 'ту demon Poesy'). «Роковой» добавлено
переводчиком; но ведь «мой демон» иным и не бывает, он не-
отделим от Рока, от судьбы. Йейтс тоже фактически отождест-
влял свою музу с Демоном (Даймоном).
IV
Вспомним теперь образ возлюбленной и музы в поэзии
У. Б. Йейтса, являющуюся ему с юности во множестве узнавае-
мых обличий. В поэме «Странствия Ойсина» это была нимфа
Ниав, увлекшая поэта на три острова, лежащих вне этого мира.
В «Песне скитальца Энгуса» - волшебная лосось, обернув-
шаяся девой и тотчас исчезнувшая, в «Печали любви» - Дева
с «алыми скорбными губами». Йейтс увидел в ней скитальче-
скую душу (pilgrim soul) и тайный дар сострадания. Он назвал
ее Сокровенной Розой. В жизни ее звали Мод Гонн; Йейтс был
безнадежно влюблен в нее долгие, долгие годы.
В сущности, нет ничего удивительного в том, что музы Йе-
йтса и Грейвза во многом схожи. И Сокровенная Роза, и Белая
Богиня - изводы той «Вечной женственности», приход которой
напророчил Гете в заключительной строке «Фауста»: «Вечное
женственное влечет нас ввысь» -
Das ewig weibliche ziht uns hinan.
Впрочем, романтическое возрождение не открыло, а лишь
с новой силой пережило то, что было издавна укоренено в евро-
пейской традиции: средневековый культ Богоматери, Дант с его
Беатриче, поклонение прекрасной даме. Спасительницей душ, ме-
диатором между человеком и Богом, Душой Мира - вот чем была
die Ewige Weiblichkeit в христианской Европе - вплоть до В. Соло-
вьева и Блока. Грейвз разглядел в ней нечто другое - архаические
черты неумолимой богини, оборотничество, гибельность ее чар.
Но ведь и муза Йейтса, по сути, тройственна. Еще в моло-
дости, в первом стихотворении сборника «Ветер в камышах»
(1899) он интуитивно расщепил натрое ее свойства: "Red Rose,
proud Rose, sad Rose of all my days!" (Красная Роза, гордая Роза,
печальная Роза всей жизни моей!)
342
«Свет, мука и печаль...»
Если посмотреть на творчество Йейтса в целом, то его Муза
с течением лет предстанет перед нами в трех последовательных
образах: хрупкая и пассивная красота, неистовая плясунья и не-
мощная старуха (цикл Безумной Джейн).
Ему довелось увидеть Мод Гонн стареющей, как луна на
ущербе, как раковина, «источенная волнами времени». В сти-
хотворении «Среди школьников» (1926) он рисует ее одновре-
менно в трех лунных фазах - девочкой, похожей на глупого
утенка, прекрасным лебедем молодости и уставшей, измучен-
ной женщиной:
О, как с тех пор она переменилась!
Как впали щеки - словно много лун
Она пила лишь ветер и кормилась
Похлебкою теней!
«Похлебка теней» - это политические страсти, которым
Мод Гонн отдала без остатка всю жизнь, которым и сам Йейтс
был когда-то не чужд; теперь, с высоты лет, они представляют-
ся ему пустым и бессмысленным делом.
Но в самых последних стихах Йейтса, в которых запечат-
лелся образ Мод Гонн, в позднем его воспоминании она все-
таки предстает богиней: "Pallas Athene in that straight back and
arrogant head."- «Величавая стать / И взор Афины Паллады,
устремленный вперед».
V
Мы видим, что поэзия Йейтса как таковая вполне уклады-
вается в схему Грейвза; другое дело - его поэтический миф,
как он выражен в «Per Arnica Silentia Lunae» и «Видении». Как
может сочетаться теория маски Йейтса и его Даймон с верой в
Белую Богиню? Можно ли примирить эти две системы?
Попробуем. На первый взгляд кажется, что у Грейвза все
просто: поэт попадает во власть Белой Богини, на него нахо-
дит вдохновение и диктует ему стихи. У Йейтса, безусловно,
тоже есть своя владычица, Муза (как бы он ее не называл), но
вдохновение не сходит на поэта просто так, оно завоевывается
в жестокой борьбе, в распре с самим собой. Победа достается
лишь тому, кто перевоплощается в нечто иное, противополож-
ное, кто находит героическую маску, находит своего Даймона и
подчиняется ему. Здесь первая сложность. В чем разница между
343
Даймоном и Музой? Почему именно Даймон говорит поэту: ego
dominus tuus?\ Почему, чтобы овладеть Музой, нужно надеть
маску, предложенную Даймоном? (Так Утер Пендрагон принял
вид герцога Тентажильского, чтобы соединиться с Игрейной, - в
предании о рождении Артура. Так Зевс принимал чужие обли-
чья, чтобы зачать Геракла и других героев.)
Магической цели можно добиться лишь магическим путем.
Речь идет о своего рода инициации поэта. Маска, изменение об-
личья - неотъемлемый элемент инициации. Наивно думать, что
человек, не пересоздав себя, может запросто творить поэзию.
Это момент, полностью упущенный Грейвзом. Даймон, кото-
рый подсказывает маску, - жрец Богини или, может быть, Дух
Предков. В маске, которую одевает поэт, воплощается героиче-
ский протагонист Темы. Отныне поэт должен пройти ее путем
до самого конца.
Вот что важно - поэт не только выбирает для своих сти-
хов тот или иной эпизод Темы, он сам воплощает в себе Тему
(основной миф). Грейвз это понимает. Он пишет: «Вкратце,
Тема - это древняя история в тринадцати главах с эпилогом,
история о рождении, жизни, смерти и возрождении бога При-
бывающего года. В центральных главах повествуется о том, как
этот бог терпит поражение в битве с богом Убывающего года
за любовь капризной и всесильной Тройственной богини, вы-
ступающей в трех ипостасях - их матери, невесты и погуби-
тельницы. Поэт отождествляет себя с Богом Прибывающего
года, а свою Музу - с богиней (Курсив мой. - Г. К.)\ соперником
оказывается его единокровный брат, второе «я», рок. Всякое
подлинное поэтическое произведение воспевает какой-либо
эпизод или сцену из этой древней истории».
Отсюда следует, в частности, что поклонение Богине носит
у поэта не пассивный характер, но активный и мужественный:
это любовь, которая требует завершения, консумации. В мифе
это влечет за собой гибель героя.
Стихотворение Грейвза «Белая богиня» рассказывает тот
же сюжет на языке сказки или романтического «квеста»:
Проходим мы там, где вулканы и льды,
И там, где ее исчезают следы,
Мы грезим, придя к неприступной скале,
О белом ее, прокаженном челе,
Глазах голубых и вишневых губах,
Медовых - до бедер - ее волосах.
1 Я твой бог (лат.). Слова Амора, явившегося Данту во сне («Новая
жизнь»).
344
Броженье весны в неокрепшем ростке
Она завершит, словно Мать, в лепестке.
Ей птицы поют о весенней поре,
Но даже в суровом седом декабре
Мы жаждем увидеть среди темноты
Живое свеченье ее наготы.
Жестокость забыта, коварство не в счет...
Не знаем, где молния жизнь пресечет1.
VI
Итак, выбор маски - часть инициации поэта, а Даймон -
образец для подражания или Дух Предка («живущий может
сделать своим Даймоном какого-нибудь великого мертвеца» -
PASL, 1, VII), но также и судьба, которую поэт выбирает. «Ког-
да я думаю о борьбе с Даймоном, подвигающей нас на самое
трудное дело из всех возможных, я понимаю, откуда эта вражда
между человеком и судьбой и откуда эта беззаветная любовь
человека к своей судьбе» (PASL, 1, VIII). Запомним на будущее:
вражда - и беззаветная любовь.
Мы можем проверить концепцию Йейтса, если попробуем
разобрать одно из его самых темных символических стихотво-
рений «Черный кентавр». Несомненно, впечатляющее, но сби-
вающее с толку критиков, пытающихся его интерпретировать
{'powerful if confusing' - Харолд Блум). Конечно, можно было
бы взять стихотворение попроще, но ведь сам Йейтс советует
выбирать «самое трудное дело из всех возможных». Итак, вот
это стихотворение; оно входит в сборник «Башня» (1928), хотя
написано восемью годами раньше.
ЧЕРНЫЙ КЕНТАВР
(по картине Эдмунда Дюлака)
Ты все мои труды в сырой песок втоптал
У кромки черных чащ, где, ветку оседлав,
Горланит попугай зеленый. Я устал
От жеребячьих игр, убийственных забав.
Лишь солнце нам растит здоровый, чистый хлеб;
А я, прельщен пером зеленым, сумасброд,
Залез в абстрактный мрак, забрался в затхлый склеп
И там собрал зерно, оставшееся от
Перевод И. Озеровой.
345
Дней фараоновых, - смолол, разжег огонь
И выпек свой пирог, запив его вином
Из древних погребов, где семь Эфесских сонь
Который век подряд спят молодецким сном.
Раскинься же вольней и спи, как вещий Крон,
Без пробуждения; ведь я тебя любил,
Кто что ни говори, - и сберегу твой сон
От сатанинских чар и попугайных крыл.
1920
VII
0 трудности этого стихотворения можно судить хотя бы по
тому, что оно ввело в заблуждение самого Ричарда Эллмана,
начинающего его разбор следующими словами: «Это гномиче-
ское стихотворение отражает удовлетворение Йейтса развити-
ем своего поэтического таланта и откровениями, полученными
его женой в процессе автоматического письма»1.
Поразительная глухота одного из лучших знатоков и интер-
претаторов Йейтса. Какое уж там «удовлетворение»! Наоборот,
тотальное разочарование и горечь - та самая, о которой Йейтс
писал в письме Оливии Шекспир: «Перечитывая "Башню", я
был удивлен ее горечью».
«Удовлетворения» нет ни в начале стихотворения («ты все
мои труды в сырой песок втоптал»), ни в конце, где говорится о «са-
турновом сне». Тут снова заблуждение, причем всех комментато-
ров поголовно. Стандартное примечание гласит: «Царство Сатурна
(позднее отождествленное с греческим богом Кроном) рассматри-
валось как Золотой Век человечества». Так во всех изданиях Йейтса
и монографиях, вплоть до «Нового комментария к стихотворениям
Йейтса» Джефферса2. Получается, что заклинание кентавра спать
«сатурновым сном» есть убаюкивание в радостный и безмятежный
«золотой сон». На самом деле наоборот! Строка:
Stretch out your lips and sleep a long Saturnian sleep -
аллюзия на знаменитую поэму Джона Китса «Гиперион»,
которая начинается описанием спящего Сатурна. Война богов
1 Ellmann R. The Identity of Yeats. N. Y., 1964. P. 264.
2 Jeffares A. N. A New Commentary on The Poems of W.B. Yeats. Stanford
University Press, 1984. P. 250.
346
окончена поражением возглавляемого им рода титанов; Са-
турн, простертый на песке сумрачной долины, не хочет про-
сыпаться. Его сестра Тея, придя к поверженному богу, сперва
пытается пробудить его, а затем в отчаянье отступается от
него со словами:
Saturn, sleep on - О thoughtless, why did I
Thus violate thy slumberous solitude?
Why should I ope thy melancholy eyes?
Saturn, sleep on! while at thy feet I weep!
Так спи, Сатурн, без пробужденья спи!
Жестоко нарушать твою дремоту,
Она блаженней яви. Спи, Сатурн! -
Пока у ног твоих я плачу горько.
Вот с чем резонируют слова Йейтса: «Раскинься же воль-
ней и спи, как вещий Крон, / Без пробуждения...» Перед нами
не великий и счастливый владыка Золотого Века, а Сатурн по-
сле войны богов - разгромленный и бессильный.
VIII
Что же такое Черный кентавр? - вот главный вопрос. Все
комментаторы, пытавшиеся на него ответить, отталкивались, в
первую очередь, от второй строки последней строфы: «Я лю-
бил (и люблю) тебя больше, чем свою душу, что бы я там ни
говорил» (I have loved you better than my soul for all my words).
Оговорка, по-видимому относится к утверждению, что Черный
кентавр втоптал в землю все его труды. Вопреки этому, поэт
любил и любит его.
Кого же (или что же) Йейтс любил больше, чем соб-
ственную душу? Перечислим возможные ответы: Мод Гонн,
Красоту, Музу, Ирландию, своего Даймона (последняя вер-
сия исходит из его поэтического кредо «Per Arnica Silentia
Lunae».
Ричард Эллман выбирает Музу, ссылаясь на близость кен-
тавра к Пегасу, а также на цитату из автобиографии Йейтса:
«Я думал, что любое искусство должно быть кентавром, обре-
тающем в фольклоре свою спину и сильные ноги»1.
1 Ellmann R. The Identity of Yeats. P. 264.
347
Джон Антерекер называет Ирландию'. Чем он доказывает, что
Ирландия втоптала в землю труды поэта? Тем, что в 1920 году,
когда было написано стихотворение, Йейтс был более популя-
рен в Англии и Америке, чем в Ирландии. (На мой взгляд, до-
вод довольно шаткий.)
Хэролд Блум отвергает версии Эллмана и Антерекера,
предлагая взамен свою интерпретацию: Черный кентавр - это
Даймон, который, по словам Иейтса, «завлекает и обманывает
нас», чьи отношения с человеком сочетают вражду и беззавет-
ную любовь.
У версии Блума есть весомые доказательства, например астро-
логическое. Целящийся в небо кентавр - знак созвездия Стрель-
ца, Йейтс же родился под знаком Близнецов, противоположного
Стрельцу в зодиакальном круге; глядя на кентавра, он смотрел свое-
го «антипода» - на Даймона, чью маску он себе присвоил.
Этим не исчерпываются возможности выбора. Если Чер-
ного кентавра можно отождествить с Музой или Ирландией,
почему нельзя его отождествить с Мод Гонн? Разве не с ней
связаны самые горькие переживания в его жизни? С этой на-
всегда отрезанной частью своей жизни Йейтс еще долго про-
щался после своей женитьбы в 1917 году, чему свидетель-
ством многие стихи этого периода. Может быть, он хотел
сказать своей давней и долгой любви: усни же, наконец, игра
окончена?
Вспоминаются ранние стихи:
Владей небесной я парчой
Из золота и серебра,
Рассветной и ночной парчой
Из дымки, мглы и серебра,
Перед тобой бы расстелил, -
Но у меня одни мечты.
Свои мечты я расстелил;
Не растопчи мои мечты.
Строка из «Черного кентавра»: «Ты все мои труды в
сырой песок втоптал» - не напоминание ли это о мечтах,
которые влюбленный поэт когда-то расстилал перед своей
любимой?
1 Unterecker J. A Reader's Guide to William Butler Yeats. N. Y., 1959. Pp.
189-91.
348
IX
Существует чрезвычайно сильный аргумент, связывающий
стихотворение с Мод Гонн. Ее день рождения приходился на
21 декабря, что соответствует знаку Стрельца - последнему
дню этого знака. Зодиакальное созвездие Стрельца (Sagittarius)
с древности изображалось в виде кентавра, стреляющего из
лука. Мог ли Йейтс при его многолетнем увлечении астрологи-
ей (он много раз составлял двойные гороскопы на себя и на Мод
Гонн) не ассоциировать свою возлюбленную с этим символом?
Вспомним, кроме того, что именно на 21 декабря приходит-
ся зимнее солнцестояние, самый короткий день и самая длинная
ночь,- «полночь года», по выражению Джона Донна. Рожденный
не просто под знаком Кентавра (Стрельца), но в самый темный
из его дней, воистину обречен быть «Черным кентавром».
Поразительно, что этот факт остался без внимания йейт-
соведов. Даже Блум, подошедший, как мы видели, вплотную
к разгадке, заметивший, что созвездие Йейтса, Близнецы, в
зодиакальном круге противоположно Стрельцу (Кентавру), не
полюбопытствовал насчет точного дня рождения его любви и
Музы.
Если наша догадка верна, если именно здесь ключ к сти-
хотворению 1928 года, зададим себе вопрос: единственная ли
эта репрезентация Мод Гонн как Стрельца в творчестве Йейт-
са? И здесь мы должны обратиться к сборнику «В Семи Лесах»
(1903), вышедшему вскоре после замужества Мод Гонн - собы-
тия, ставшего тяжелым и неожиданным ударом для поэта.
Рассмотрим первое стихотворение сборника. На первый
взгляд, оно кажется всего лишь идиллическим описанием
поместья леди Грегори, где Йейтс часто и подолгу гостил, га-
лантной данью Йейтса своей хозяйке и покровительнице. Но
таковой данью было стихотворение 1900 года «Есть в Куле
заповедных семь лесов...», опубликованное впоследствии
как пролог к драме «Туманные воды» (1905); а в 1902 году
Йейтс коренным образом перерабатывает стихи, вводя в них
фигуру Лучника, чья тень, нависая над зачарованным миром,
грозит в единый миг разрушить его безмятежную тишину.
В СЕМИ ЛЕСАХ
Я слушал голубей в Семи Лесах
С их воркованьем, словно слабый гром
За горизонтом, и гуденье пчел
В цветущих липах - и почти забыл
349
Бесплодные мольбы и горечь дум,
Что иссушают сердце, позабыл
Разрытые святыни Тары, пошлость
На троне и ликующих зевак
На улицах, развесивших флажки, -
Уж если кто и счастлив, так они.
Я не ропщу; я знаю: Тишина,
Смирив обиды жгучие, смеется,
Бродя меж птиц и пчел, и грозный Лучник,
Готовый выстрелить, уже повесил
Свой облачный колчан над Парк-на-ли.
Кто сей Лучник? Не имеется ли в виду созвездие Стрель-
ца (по-английски: Archer), астрологический символ его возлю-
бленной и музы? Содержание сборника подтверждает это пред-
положение. Следующее стихотворение «Стрела» ("The Arrow")
подхватывает и разъясняет тему Лучника. В нем поэт говорит
о «высокой и благородной» красоте любимой, застрявшей, как
стрела, в его груди. Несомненно, это стрела из того самого кол-
чана, о котором говорится в предыдущем стихотворении. А
высокая красота - та самая, о которой через несколько лет он
скажет в знаменитом стихотворении «Нет другой Трои» ("No
Second Troy", 1908):
Могла ли умиротворить она
Мощь красоты, натянутой как лук?
Особенно следует обратить внимание на третье стихо-
творение сборника «Ложь утешений» ("The Folly of Being
Comforted") - о безумии надежд поэта исцелиться от своей
любви. «Неизменно добрый друг» (по-видимому, леди Грего-
ри) утешает его тем, что любимая стареет и седеет, - так что
кажущееся сейчас невозможным станет возможным потом,
надо лишь запастись терпением. Нет, - восклицает поэт, - оре-
ол божественной красоты, вспыхивающий при каждом ее дви-
жении, с годами лишь становится ярче! Стоит ей повернуть
голову, и ты, мое сердце, поймешь, как безумны надежды об-
рести покой.
В первом стихотворении цикла - та же мысль, лишь вы-
раженная с помощью астрологического шифра. Идиллическая
тишина Семи Лесов предлагает поэту смирить «жгучие оби-
ды»; но грозный небесный Лучник напоминает о тщетности и
непрочности этого утешения.
Четвертое стихотворение сборника «Память» ("Old
Memory") также посвящено Мод Тонн, ее мощи, «возвышен-
350
ной и яростной», и снова говорится о «долгих годах юности»,
потраченных напрасно: «Кто бы мог подумать, что это всё, и
более, чем всё, окажется впустую?» (would come to naught?)
Пятое стихотворение «Не отдавай любви всего себя»
("Never Give All the Heart") - о том же. Это урок, который про-
износит поэт, который «все отдал любви и проиграл».
Наконец, шестое стихотворение «Увядание ветвей» пред-
ставляет собой меланхолический плач по своим мечтам - го-
рестным мечтам, от которых увядают ветви и засыхают дере-
вья. Образ лебедей, соединенных золотой цепочкой, и одиноких
криков кулика отсылают к поэме «Байле и Айлинн» - истории
неутоленной любви, в которой прототипом опять служит она,
роковая любовь и муза Йейтса.
За «Увяданием ветвей» идет «Проклятие Адама», стихот-
ворение, основанное на воспоминании о реальном вечере, про-
веденном Йейтсом с Мод и ее сестрой Кэтлин и о разговоре,
который они вели. Рассказ заканчивается образом дрожащей,
утомленной луны, источенной, как раковина, волнами времени,
что вполне созвучно «увядшим ветвям» предыдущего стихот-
ворения:
И я подумал (это между нами),
Что я любил тебя, и ты была
Еще прекрасней, чем моя хвала.
Но годы протекли, и что осталось?
Луны ущербной бледная усталость.
Таким образом, Мод Гонн посвящены не три стихотворе-
ния в книге 1903 года, как пишет Рой Фостер в свой биогра-
фии Йейтса1, и даже не пять, как получается у Джефферса,
который справедливо причисляет к ним «Память» и «Не от-
давай любви всего себя», а, по меньшей мере, семь, вклю-
чая «Увядание ветвей» и начальное стихотворение сборника
«В Семи Лесах». Они связаны сквозными мотивами образуя
настоящий цикл со своим внутренним сюжетом. В первых
двух стихотворениях этого цикла присутствует связанный
с Мод Гонн мотив Sagittarius'а. (колчан, Лучник, стрела), в
первых четырех - идея яростной и губительной силы, заклю-
ченной в красоте; в следующих трех стихотворениях доми-
нирует печаль и усталость.
На самом деле, в цикле даже не семь стихотворений, а
больше. Восьмое стихотворение «Кэтлин, дочь Хулиэна», так-
1 Foster R. F. W.B. Yeats : A Life. Oxford University Press, 1998. V. 1. P. 301.
351
же посвящено Мод Гонн, сыгравшей заглавную роль в одно-
именной - символической и патриотической - пьесе Йейтса.
Это новый поворот в цикле: обращающий нас к героической
стороне образа Мод Гонн. И это одновременно - высочайшая
нота книги, после которой следует неминуемый спад; осталь-
ные стихотворения представляют собой поэтические вариа-
ции на те же темы, но в другом ключе. Например, «О не люби
слишком долго» - вариация на тему «Не отдавай любви все-
го себя», а «Счастливый вертоград» ("The Happy Townland")
вновь трактует мотив гибельности мечты:
Страна, куда ты скачешь,
Отрава для сердец!
Таким образом, вся книга «В Семи Лесах» является
практически единым циклом - книгой прощания, проникну-
той свежей горечью уже непоправимо растоптанной любви.
Книга, вышедшая в год замужества Мод Гонн, и не могла
быть другой.
X
Следует еще добавить, что образ Лучника в первом сти-
хотворении «Семи Лесов» многомерен. Кроме Стрельца-
кентавра, астрологически репрезентирующего Мод Гонн, в
нем, безусловно, присутствует и лучник Амур, и другой луч-
ник - из Апокалипсиса: «Я взглянул, и вот, конь белый, и на
нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел
он как победоносный, и чтобы победить» (Откр. 6:1-2). Эти
ассоциации не случайны; новость о замужестве Мод Гонн
имела в тот момент для Йейтса характер почти апокалипси-
ческой катастрофы. Отметим символизм цвета в этом цикле
Йейтса. «Конь блед» как неявная компонента образа Лучни-
ка в первом стихотворении, яблоневый цвет (apple-blossom)
кожи богини во втором стихотворении «Стрела». Этой бе-
лизне суждено через четверть века превратиться в черноту
Кентавра.
Отметим еще важный образ Лучницы в «Per Arnica Silentia
Lunae», поэтическом credo Йейтса, в котором он пишет о та-
инственной связи между Даймоном и своей любимой. В главе
одиннадцатой читаем: «Много лет назад, в минуту между сном
и пробуждением, мне пригрезилась женщина несказанной кра-
соты, пускающая в небо стрелу из лука, и с тех пор как я впер-
352
вые попытался отгадать ее цель, я много размышлял о разнице
между извилистыми путями Природы и прямой линией, которая
в «"Серафите" Бальзака названа "меткой человека", но вернее
было бы назвать ее меткой святого или мудреца». Несомненно,
здесь образно говорится о Мод Гонн, о ее непостижимой для
Иейтса прямолинейности пламенной агитаторши и революцио-
нерки. Этой прямолинейности Йейтс противопоставляет изви-
листый путь Природы и воображения, свой собственный путь.
Образ, выбранный Йейтсом для своей возлюбленной (выделен-
ный выше курсивом), тот же самый: Лучница, стреляющая в
небо, - Sagittarius с лицом прекрасной женщины.
XI
Вернемся к сборнику «Башня». Здесь следует обратить
внимание на порядок стихотворений, который, как всегда у
Иейтса, отличается большой продуманностью. Стихи следуют
в такой последовательности: сонет «Леда и лебедь»; «Черный
кентавр»; «Среди школьников». Последнее из этих стихотво-
рений непосредственно говорит о Мод Гонн; с первым - со-
нетом «Леда и Лебедь» - оно связывается посредством образа
"Ledaean Body", примененного к Мод в молодости (в переводе
ему соответствует: «Мне грезится - лебяжья белизна / Скло-
ненной шеи в отблесках камина...»). Прекрасная Леда, жертва
божественного Лебедя, и Прекрасная Елена, которая должна
родиться от этого соития, отражают один и тот же реальный
образ; критики знают, что всегда, когда у Иейтса речь идет о
Елене, следует читать: Мод Гонн.
Таким образом, оба стихотворения, окружающие «Черно-
го кентавра» в книге, связаны с воспоминанием о его любви
к Мод. Вместе с «Черный кентавром» мы получаем три сти-
хотворения, идущих подряд, мини-цикл, объединенный одной
внутренней темой, - что вполне соответствует композицион-
ным принципам Иейтса.
XII
Остаются еще две загадки стихотворения: фараоново зерно
(в оригинале «пшеница мумий», mummy wheat) и зеленый по-
пугай. Обратим внимание, что эти загадки связаны - ведь имен-
но прельстившись зеленым пером, поэт отправляется добывать
зерно фараона из затхлого склепа.
353
В контексте творчества Йейтса вторая загадка (о фараоно-
вом зерне) не представляет особых затруднений. Речь идет об ок-
культных знаниях, о той древней мудрости, уходящей корнями к
египетским жрецам, которой поэт всю жизнь пытался овладеть,
чтобы напитать ею свою поэзию. Кроме того, здесь намек на сен-
сационные сообщения - впоследствии опровергнутые - о пше-
нице, выращенной из зерен, найденных в фиванских гробницах.
Что касается загадки о зеленом попугае, тут дело сложнее.
Прямых подсказок в творчестве и в биографии Йейтса почти
нет (если не считать, что у Йейтса дома тоже жил зеленый по-
пугай - как раз в тот период, когда было написано стихотво-
рение). Есть, впрочем, раннее стихотворение «Индус к сво-
ей возлюбленной», в котором упоминается попугай на ветке,
«злящийся на собственное отражение в зеркальной глади
моря». Он противопоставлен голубке, стонущей и вздыхаю-
щей от любви. По-видимому, попугай здесь - символ разума,
пытающегося постичь самого себя (в «Per Arnica» Йейтс го-
ворит о бесплодной муке самопознания), а голубка - символ
естественной души, не отягченной никакой рефлексией. Если
считать, что в «Черном кентавре» попугай означает то же са-
мое, связь между первым и вторым образом прочитывается
следующим образом: «А я, погнавшись за непостижимой му-
дростью (за попугайным пером), спустился вглубь веков, в
затхлый склеп, чтобы собрать там по зернышку тайное знание
(фараоново зерно, «пшеницу мумий») и сделать из него поэ-
зию (выпечь свой пирог). По крайней мере, в этом есть какая-
то логика. «Гибельные обольщения другого мира» (версия Эл-
лмана) и «демонические силы», угрожающие семье Йейтса и
мешающие его работе (объяснение Антерекера), кажутся мне
совсем уж смутными и произвольными допущениями.
И все-таки, все-таки... Зеленое крыло попугая как сим-
вол мудрости? Нет, это объяснение тоже никуда не годится.
Оно лежит слишком далеко, оно уводит в сторону, оно просто-
напросто искусственное.
XIII
Чтобы уточнить связь между попугайным крылом и ок-
культной мудростью, обратимся непосредственно к оригина-
лу. В стихотворении сказано: but I, being driven half insane /
Because of some green wing... To есть: «Но я, наполовину свих-
нувшись из-за какого-то зеленого крыла», собрал фараоново
зерно и т. д.
354
Из-за чего же «свихнулся» Йейтс, когда погрузился в ми-
стику? Да из-за Мод Гонн и свихнулся. Оккультные занятия,
в которые он втянул и Мод, были отчаянной попыткой приво-
рожить любимую. «Эти два наваждения [Мод Гонн и оккуль-
тизм] сделались для него неразрывно связанными и такими
остались навсегда», - пишет биограф Йейтса1. Кроме того, как
впоследствии писал поэт, в момент их встречи «Мод была уж
опытной (completed), а я нет». Имеется в виду и сексуальный,
и жизненный опыт. Поэтому он и вовлек ее в оккультизм, где
он мог «отыграться» и сделаться учителем, ведущим. Надеясь
на «ту близость, которая возможна лишь между любовниками
или соратниками-мистиками» (из неопубликованной прозы Йе-
йтса). Притом, как оказалось, «оккультная деятельность могла
некоторым образом смешиваться с националистической, и это
особенно привлекало Мод Гонн» .
Не забудем, что зеленый цвет - символ Ирландии. Поэт
был одержим любимой, но она-то была одержима политикой.
Зеленое перо - это ее флажок. Главным талантом Мод был ора-
торский дар, которым она, революционерка, легко увлекала
огромные толпы. То есть в каком-то смысле образ Мод Гонн
в стихотворении раздваивается. Она - Кентавр (роковая воз-
любленная), но и Попугай (народная агитаторша) - тоже она.
И, конечно, Мод Гонн легко могла ассоциироваться у Йейтса с
попугайным пером. В своей автобиографии он вспоминал всю-
ду сопровождавшие ее в поездках многочисленные «клетки,
полные птиц, всевозможных канареек, зябликов, одного попу-
гая - и даже взрослого ястреба, присланного ей из Донегала»2.
Она обладала значительным состоянием и постоянно курсиро-
вала между Парижем и Дублином.
Любимая, которая дразнила его и томила; Даймон, с кото-
рым он пребывал в состоянии «вражды и беззаветной любви»;
Муза, одарившая его многими бесконечно печальными стиха-
ми. И все это - Мод Гонн, его Кентавр, его Амор, который не-
когда сказал ему: «Я есмь твой владыка», но в конце концов
растоптал мечты поэта.
При сопоставлении стихотворения Йейтса с «La Belle
Dame Sans Merci» Китса и балладой «Дорога в Вальсингам»
выявляется их общая композиция. Они начинаются с разгрома,
разлуки, когда все безвозвратно утрачено: «Зачем, о рыцарь,
бродишь ты, печален, бледен, одинок?» - «Ты не встречал ли
по пути любимую мою?» - «Ты все мои труды в сырой песок
1 Foster R.F. Ibid. P. 101.
2 W.B. Yeats. Autobiographies. L.: Macmillan, 1989. P. 123.
355
втоптал...» Продолжаются ретроспективным рассказом о пре-
вратности судьбы и тщетности усилий. И заканчиваются печа-
лью (Ките) или присягой в верности утраченной любви: «Ведь
я тебя любил» (Йейтс) - «Но настоящая любовь - неугасимый
свет» (анонимная баллада).
Возлюбленная, Даймон, Муза - разные стороны одного и
того же, как Селена, Диана и Геката - ипостаси одной богини.
В них неразрывно соединены отрада, мука и печаль. Черный
кентавр, может быть, лишь еще одно воплощение Белой Бо-
гини, ее парадоксальное отражение в зрачке измученного ею
поэта - так фигуры, снятые против яркого света, получаются на
фотографиях черными.
Эта страница
намеренно оставлена
пустой
Комментарии
КОММЕНТАРИИ
ПОЭЗИЯ
ИЗ КНИГИ «ПЕРЕКРЕСТКИ» (1889)
Плащ, корабль и башмачки - Впервые: 1885, под за-
головком «Голоса».
Из юношеской пьесы Йейтса «Остров статуй».
Похищенный мальчик - Впервые: 1886.
Старый рыбак - 1886.
Комментарий Йейтса: «Это стихотворение основано на словах
одного рыбака, с которым мы выходили ловить в бухте Слайго».
ИЗ КНИГИ «РОЗА» (1893)
Розе, распятой на Кресте Времен -Впервые: 1892.
Роза на кресте - символика Ордена розенкрейцеров, которую ис-
пользовали также члены ордена «Золотой Зари», к которой принад-
лежал Йейтс.
Кухулина в бою с морской волной... - Сага о Кухулине, убившем
в поединке не узнанного им сына и после этого в припадке безумия
сражавшегося с морскими волнами, - тема пьесы Йейтса «На берегу
Байле».
И вещего друида под скалой... - имеется в виду стихотворение
«Фергус и друид».
Фергус и Друид-Впервые: 1892.
Король Фергус, один из героев ирландских саг, изображен иска-
телем мудрости, добровольно отказывающимся от власти. В легенде
немного иначе: Конхобар хитростью завладел его короной.
359
Король над королями Красной Ветви. - Это название (по типу ры-
царей Круглого стола) связано с пиршественным домом Ульстерских
королей в Эмайн-Махе, построенном из красного тиса.
Песня сидов -Впервые: 1891.
Диармид и Гранин (Диармайд и Грайне) - герои знаменитой ир-
ландской саги. Финн Мак-Кумал, вождь фенниев, овдовев, хотел же-
нить на Гранин, дочери короля Кормака Мак-Арта, но она выбрала
себе молодого воина Диармида и сбежала с ним со свадебного пира.
Много месяцев преследовали фении любовников по лесам и горам Ир-
ландии, но в конце концов Диармайд погиб из-за коварства Финна.
Кромлех - доисторическое сооружение: несколько вертикальных
каменных плит, прикрытых горизонтальной плитой. Кое-где в Ирлан-
дии их зовут «ложами Диармида и Гранин», веря, что они использова-
ли эти каменные шалаши для ночлега, убегая от Финна.
Сиды (по-ирландски произносится «ши») - духи, в древних ле-
гендах выступавшие как божества одного пантеона и одного рода
(«дети богини Дану»), в девятнадцатом веке низведенные народным
воображением до уровня обычной «нечистой силы» - фей, домовых,
леших и т. п.
Остров Иннишфри-1890.
Впервые: в газете «Нейшнл Обсервер» 13 декабря 1890 г. Напи-
сано в Бедфорд-парке. В написанном через год и неопубликованном
романе «Джон Шерман» Йейтс дает нам возможность представить, в
каких обстоятельствах сочинялось это стихотворение.
«Зажатый уличной толкучкой на Стрэнде, он вдруг услышал
легкий звон, как бы от струйки воды; он исходил от окошка какой-то
лавки, в котором в качестве рекламы находился фонтанчик, поддер-
живавший на своей верхушке деревянный шарик. Звук напомнил ему
водопад с длинным гэльским названием, который ниспадал по скале
возле Ворот ветров в Баллахе... Погруженный в мечты, он брел вдоль
берега Темзы, протекавшей в нескольких сотнях ярдах от дома, где
он тогда жил, и вдруг загляделся на покрытый ивняком островок на
реке. Речка, которая текла через сад у него на родине, брала исток в
окруженном лесом и украшенном несколькими островками озере, до
которого он не раз доходил в детстве, собирая чернику. На дальнем
конце озера был остров, называвшийся Иннишфри. Его скалистая се-
редина, покрытая кустарником, возвышалась на сорок футов над по-
верхностью озера. Когда жизнь и ее тяготы казались ему задачей для
более старших школьников, заданной ему по ошибке, приятно было
грезить о том, как он уйдет на этот остров, построит там деревянную
хижину и проведет несколько лет, удя рыбу с лодки или просто валяясь
в травянистых склонах островка, ночью - слушая плеск воды у бере-
га и шелест кустов, всегда полных каких-то неведомых обитателей, а
утром - разглядывая на берегу следы птичьих лапок».
360
Печаль любви-1891.
Сильно переработано в 1925 году. Исследователи отмечают до-
стоинства как окончательного, так и первоначального вариантов (где
отсутствовали Одиссей и Приам, а вместо «Восстала дева» было:
«И ты пришла»).
На мотив Ронсара - 1891.
Основано на мотиве сонета Пьера Ронсара из книги «Сонеты к Еле-
не»: «Когда, старушкою, ты будешь прясть одна, / В тени у камелька
свой вечер коротая, / Мою строфу споешь и молвишь ты, мечтая: / "Рон-
сар меня воспел в былые времена"» (перевод В. Левика). Стихотворе-
ние Йейтса начинается весьма сходно, но, начиная со второго катрена,
радикально расходится с первоисточником.
Кто вслед за Фергусом? -Впервые: 1892.
Впервые опубликовано как вставное стихотворение в пьесе «Гра-
финя Кэтлин». Цитируется Дж. Джойсом в первом эпизоде «Улисса».
Белые птицы - Впервые: 1892. Навеяно прогулкой с Мод
Гонн по скалам в Гоуте. По ее словам, это было на следующий день
после того, как Йейтс впервые сделал ей предложение.
Жалобы старика- Впервые: 1890. Переработано в 1925 г.
Йейтс писал, что стихотворение возникло под впечатлением разговора
со стариком крестьянином из Уиклоу, с которым он однажды целый
вечер бродил по холмам.
ИЗ КНИГИ «ВЕТЕР В КАМЫШАХ» (1899)
Опубл. отдельным томом в 1899 году с обширными примечаниями
автора. Вершина ранней лирики Йейтса. Мотивы ирландского фоль-
клора, мистические символы и тема любви, за которой угадываются
по крайней мере два женских образа - Мод Гонн и Дианы Верной,
причудливо переплетаются в этой книге. Ряд стихотворений сначала
связывались - посредством названий - с тремя персонажами из кни-
ги «Сокровенная Роза»: Айхом, Ханраханом и Майклом Робартисом.
«Может быть, лишь знакомые с традициями магии,- пишет Йейтс в
примечаниях, - поймут меня, если я скажу, что Майкл Робартис - это
пламя, отраженное в воде, Ханрахан - пламя, трепещущее на ветру, и
Лих - пламя, горящее само по себе. Иначе говоря, Ханрахан - это про-
стота и подвижность воображения, или поклонение пастухов; Майкл
Робартис - это гордость воображения, размышляющего над величием
своих сокровищ, или поклонение волхвов; и Айх - ароматы и благо-
вония, которые воображение сжигает перед предметом своей любви».
Впоследствии Йейтс исключил эти маски, или самодраматизации,
оставив лишь разные настроения одного Влюбленного, или Поэта.
361
Воинство сидов-1893.
Первоначальное название: «Воинство фей».
Нок-на-Рей (Нокнарей) - гора в графстве Слайго (букв, «гора ко-
ролей»), на вершине которой высится мегалитический каменный па-
мятник (кромлех). Здесь, по преданию, была похоронена легендарная
королева Мэйв.
Клот-на-Бар - «Старуха из Берри», фольклорный образ волшеб-
ницы. В примечании к стихотворению Йейтс пишет, что она скиталась
повсюду, ища озера достаточно глубокого, чтобы утопиться, и наконец
нашла его в графстве Слайго (Лох-Дагей, «озеро двух гусей»).
Килчи (Кайлте) - воин из дружины легендарного короля Финна.
В одной из саг появляется, как фигура с пылающими волосами, осве-
щающая отряду путь сквозь ночной лес.
Ниав (Ниам) - сида, увлекшая Ойсина в страну вечной молодо-
сти.
Вечные голоса - 1895. Впервые: 1896.
В рассказе «Смерть Ханрахана» герой слышит перед смертью
«слабые радостные голоса» и на вопрос, кто они такие, получает от-
вет: «Я один из вечного племени, из вечных неукротимых голосов, жи-
вущих, гибнущих, умирающих и сходящих с ума, я пришел за тобой, и
ты мой до того часа, когда весь мир вспыхнет и сгорит, как свеча».
Неукротимое племя -Впервые: 1896, как первая часть дип-
тиха, озаглавленного «Два стихотворения о крестьянских суевериях».
Дети Даны... - племя богини Даны (Туата де Данаан) - клан древ-
них ирландских богов, с течением веков оттесненных в народном со-
знании в разряд духов - «сидов» (по-ирландски, «ши»).
В сумерки- 1893.
Первоначальное название: «Кельтские сумерки».
Песня скитальца Энгуса-Впервые: 1897.
Первоначальное название: «Песня безумного». Сюжет с форелью,
обернувшейся девушкой-сидой, характерен для ирландского фолькло-
ра.
Энгус - ирландский бог любви (см. также комм, на с. 474), а также
распространенное имя. Кто герой этого стихотворения, влюбленный
бог или простой бродяга, зависит от интерпретации.
Бела, как яблоневый цвет... - деталь, устойчиво связываемая
Иейтсом с Мод Гонн (см. его воспоминания).
Влюбленный рассказывает о розе, цветущей в его
сердце - Впервые: 1892. Перв. назв.: «Роза в моем сердце». ВК:
«Айх рассказывает о розе...»
Он скорбит о перемене, случившейся с ним и его лю-
бимой и ждет конца света - 1897.
362
Первоначальное название: «Страсть мужчины и женщины».
Белая лань безрогая - образ женской любви - преследуемой. Муж-
ская любовь изображается (эти образы взяты из кельтского фольклора)
в виде гончего пса с одним красным ухом; к сожалению, эта последняя
деталь выпала из перевода.
Кабан Без Щетины - эсхатологический образ, связанный с ир-
ландским поверьем о великой битве в Долине Черного Кабана, в кото-
рой погибнут все враги Ирландии.
Он просит у своей любимой покоя-1895.
Мотив длинных волос в этом и в следующем стихотворениях -
опознавательный признак «цикла Дианы Верной».
Он вспоминает забытую красоту -Впервые: 1896.
Первоначальное название: «О'Салливан Руа - Мэри Лавелл».
Он мечтает о парче небес-Впервые: 1899.
Первоначальное название: «Айх мечтает о парче небес».
Скрипач из Дууни - 1892.
Дууни - деревушка, расположенная на берегу озера Лох-Гилл в
графстве Слайго.
Кильварнет, Мокрабви - деревни в графстве Слайго.
ИЗ КНИГИ «В СЕМИ ЛЕСАХ» (1904)
Опубл. в 1903 году издательством «Дан Эмер пресс», основанным
сестрами Йейтса Элизабет и Сьюзан (позднее - «Куала пресс»), где
выпускались многие последующие книги Йейтса. Издания «Куала
пресс» отличались особой изысканностью. В книгу 1903 года входили
наряду со стихами две поэмы: «Старость королевы Мэйв» и «Байле и
Айллин», а также пьеса «На берегу Байле». Семь лесов находились
в имении леди Грегори в Кул-парке, где Йейтс написал некоторые из
стихотворений этой книги.
В Семи Лесах- Впервые: 1902. Речь идет о лесах в поместье
леди Грегори, друга и патронессы Йейтса. Эти леса (с перечислением
их ирландских названий) описаны в прологе к драматической поэме
Йейтса «Туманные воды» (1900, 1906).
Разрытые святыни Тары. - Тара в графстве Мит недалеко от Ду-
блина - место коронования королей древней Ирландии. Йейтс говорит
о раскопках в районе Тары.
...ликующих зевак /Наулицах... - торжества по случаю коронации
Эдварда VII в Дублине.
Лучник - имеется в виду знак Зодиака Стрелец (Sagittarius). Стоит
заметить, что Мод Гонн была астрологическим Стрельцом. Так что все
стихотворение, вероятно, связано с ней.
363
Не отдавай любви всего себя -Впервые: 1905.
Проклятие Адама-Впервые: 1902.
Обращено к Мод Гонн. Упоминаемая в стихах ее подруга - сестра
Мод Кэтлин.
Блаженный вертоград- Впервые: 1903. ^
Первоначальное название: «Всадник с севера». Йейтс собирался
включить эти стихи в пьесу «Страна молодости», в которой бедный
мальчик, скача верхом на кухонной скамейке вместе с таинственным
незнакомцем, переносится посредством колдовства в страну мечты.
ТУМАННЫЕ ВОДЫ (1906)
Эта драматическая поэма (впоследствии переработанная в пьесу) -
один из самых упрямых и неподатливых замыслов Йейтса. Первый
вариант, опубликованный в 1900 году, представлял собой поэму в 430
строк. Вариант 1911 года - пьеса, написанная стихами и прозой впе-
ремешку. Вариант 1906 года, публикуемый здесь, вероятно, наиболее
законченный с художественной точки зрения. Тема поэмы - достиже-
ние апофеоза любви в смерти - созвучна опере Вагнера «Тристан и
Изольда»; кстати, ее сюжет восходит к кельтскому мифу о Диармиде
и Гранин.
Вступительные строки, посвященные Леди Грегори, - описание
лесов ее поместья в Куле, где Йейтс много лет подряд проводил летние
месяцы.
Шан-Валла - «Старая дорога» (ирл.).
Килъ-дорта - «Темный лес» (ирл.).
Килъ-на-но - «Ореховый лес» (ирл.).
Парк-на-ли - Поле телят» (ирл.).
Парк-на-карраг - «Поле камней» (ирл.).
Лес Инчи - «Лес в речной долине» (?).
Видди Эрли - местная ведунья, о которой среди крестьян ходило
много рассказов; часть из них было собрано леди Грегори и использо-
валось Йейтсом в его работах об ирландских поверьях и легендах.
«Арфа Энгуса», второе вступительное стихотворение, здесь весь-
ма уместное, потому что волшебная арфа играет важную роль в дра-
матической поэме Иейтса.
Этайн - героиня древнеирландской фантастической саги. Король
сидов Мидир женился на ней, но его прежняя ревнивая жена Фум-
нах, которую он отверг, превращает Этайн в мотылька и преследует ее,
пока та не попадает в дом Энгуса, бога любви. По другому варианту,
она сама влюбляется в Энгуса и бежит к нему, по третьему - Энгус
похищает ее; во многих фольклорных версиях говорится о стеклянной
башне, в которой он держал Этайн.
364
ИЗ КНИГИ «ЗЕЛЕНЫЙ ШЛЕМ И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
(1910)
Опубл. в 1910 г. «Куала пресс» и в расширенном виде в 1912 г. из-
дательством «Макмиллан». Плоды бедного на стихи семилетия, когда
в Йейтсе подспудно вызревал новый стиль.
Нет другой Трои-1908.
Прекрасная Елена - один из прочно связанных с Мод Тонн обра-
зов йейтсовских стихов.
Мудрость приходит в срок-1909.
Первоначальное название: «Молодость и старость».
Одному поэту, который предлагал мне похвалить весь-
ма скверных поэтов, его и моих подражателей - 1909.
Как показывает дневник, адресовано АЕ (Джорджу Расселу).
Один из членов его литературного кружка, когда речь зашла о влияни-
ях, воскликнул: «Какая дворняга думает о своих предках?»
Соблазны -1908.
Английское название: «All Things Can Tempt Me» («Всё искушает
меня»).
ИЗ КНИГИ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» (1914)
Опубл. в 1914 г. «Куала пресс»; в состав книги входила также пье-
са «Песочные часы». Множественное число, которое есть в оригина-
ле, ускользает при переводе названия сборника. Речь идет о разных
типах ответственности: перед живыми и мертвыми друзьями, перед
любовью и своими согражданами и, конечно, перед поэзией и самим
собой.
Сентябрь 1 9 1 3 г
Впервые опубликовано 1913 года в газете «Айриш Таймз» под на-
званием: «Романтика в Ирландии (Прочитав много писем против Ху-
дожественной галереи)». Контекстом этого и нескольких других сти-
хотворений послужила полемика в дублинской печати относительно
картин Лейна. Сэр Хью Лейн (1875-1915), племянник леди Грегори,
основатель Дублинской муниципальной галереи современного искус-
ства, предложил в дар городу свою коллекцию французской живописи
(в основном импрессионистов и постимпрессионистов) при условии
ее достойного размещения. Был создан проект музея-моста через
реку Лиффи, но власти Дублина могли выделить лишь малую часть
средств, остальное решено было собрать по подписке. И вот тут-то
удручающий материализм дублинских властей и публики проявился
365
во всей красе. Спектр нападок на проект был весьма широк; писали,
что Лейн решил увековечиться за счет города, что такие картины, ка-
кие писали Моне или Дега, мог бы нарисовать любой начинающий ир-
ландский художник, «если бы только захотел», высчитывали, сколько
домов для бедняков можно было бы построить вместо галереи, даже
сравнивали картины с Троянским конем, даром коварных данайцев!
Кончилось тем, что Лейн завещал свою коллекцию Лондону. После
гибели Хью Лейна на корабле «Лузитания», потопленной немецкой
подводной лодкой в 1915 году, начались многолетние споры вокруг
этих картин, кончившиеся лишь в 1959 году решением разделить кол-
лекцию надвое и каждые пять лет обмениваться половинами между
Дублином и Лондоном.
О'Лири, Джон (1830-1907) - член ирландской тайной органи-
зации фениев, арестованный в 1865 году, приговоренный к 20 годам
каторги, из которых он отбыл пять, с заменой оставшегося срока на
изгнание из страны. Йейтс познакомился с ним вскоре после возвра-
щения О'Лири на родину в 1885 году. Добавим, что строка, пере-
данная в переводе как «мечты ирландской больше нет», в оригинале
читается «романтической Ирландии больше нет», ибо О'Лири оли-
цетворял для Йейтса весь романтизм ирландской души и ирландской
истории.
Но те, святые имена... - борцы за свободу Ирландии. Йейтс име-
ет в виду прежде всего героев восстания 1798 г., которых он называет
по именам в следующей строфе.
Тон, Уолф (1763-1798) - основатель клуба «Объединенные ир-
ландцы». Приговорен к смерти военным судом и покончил самоубий-
ством в тюрьме.
Эммет, Роберт (1778-1803) - пытался поднять мятеж против ан-
гличан в 1803 г. Приговорен к смерти и повешен публично в Дублине.
Затем ли разносился стон/гусиных стай в чужом краю... - по-
сле введения карательных законов 1691 года десятки тысяч ирландцев
бежали на континент и поступили солдатами в европейские армии.
В Ирландии их называли «дикие гуси».
Из-за какой-то рыжей Кэт... - подразумевается Кэтлин Ни Хо-
лиэн, то есть сама Ирландия, в каждом новом поколении находящая
своих защитников и мстителей.
Другу, чьи труды пошли прахом -1913.
Это стихотворение тематически связано с предыдущим. Первона-
чально полагали, что оно обращено к сэру Хью Лейну; как уточнил
сам Йейтс в 1922 г., он имел в виду леди Грегори, принимавшей актив-
ное участие в истории с коллекцией ее племянника.
Скорей бы ночь-Впервые: 1912.
Как бродяга плакался бродяге - 1913.
Эти стихи можно рассматривать как реакцию Йейтса на вставшую
перед ним «панургову проблему» - жениться или не жениться - в связи
366
с одним его запутанным романом. Причем и леди Грегори, и Оливия
Шекспир, две его главные конфидентки, советовали жениться. Но,
видно, Иейтс еще «не созрел» для такого шага.
Ведьма -1912.
Могила в горах -Впервые: 1912.
Отец наш Розенкрейц - Кристиан Розенкрейц, по преданию,
основавший в 1484 году Орден розенкрейцеров, первое упоминание
о котором относится к 1614 году. «Последователи Отца Кристиа-
на Розенкрейца, как говорит легенда, обернули его нетленное тело в
благородные одежды и положили его под домом Ордена в гробнице,
вмещавшей символы всего сущего на небе и на земле и под землей,
в подземных водах, и зажгли рядом с ним неугасимые светильники,
которые горели много поколений подряд, пока другие адепты Ордена
случайно не обнаружили эту гробницу...» - Йейтс, «Тело отца Кри-
стиана Розенкрейца», 1901.
Плащ -1912.
Но дураки украли... - ср. со стихотворением «Одному поэту, ко-
торый предлагал мне похвалить весьма скверных поэтов, его и моих
подражателей».
ИЗ КНИГИ «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ В КУЛЕ» (1919)
Опубл. в «Куала пресс» в 1917 г. вместе с пьесой «У Ястребино-
го источника». Во втором издании («Макмиллан», 1919) пьеса была
опущена, но добавлено 17 новых стихотворений, так что истинной
датой сборника следует считать 1919 г. За 5 лет между этой книгой
и предыдущей произошли важнейшие события в жизни Йейтса, Ир-
ландии и всего мира: Первая мировая война, Дублинское восстание
1916 г., смерть мужа Мод Гонн и ее последний отказ выйти замуж
за Йейтса, сватовство к ее дочери Изольде; женитьба на Джорджине
Хайд-Лис, начало работы над книгой «Видение», покупка и ремонт
Тур-Баллили.
Мраморный тритон-1916.
Комментаторы связывают это стихотворение с Изольдой Гонн, до-
черью Мод Гонн.
Тритон - морской бог, сын Посейдона и Амфитриты, в садовой
архитектуре обычно изображается существом с рыбьим хвостом, дую-
щим в раковину.
Заячья косточка -1916.
Главный образ стихотворения, по-видимому, навеян ирландским
фольклором. В сказке «Сокровище ОЪернов и злые феи» говорится:
«Одному крестьянину, жившему по соседству, удалось увидеть со-
367
кровище О'Бернов. Он нашел на траве заячью косточку, в ней была
маленькая дырочка, через которую он посмотрел и увидел груду зо-
лота, схороненную под землей. Он сбегал домой за лопатой, но когда
вернулся обратно, не смог найти точного места, сколько ни искал».
Соломон - царице Савской-]918.
Написано в первый год после женитьбы Йейтса; Соломон и Цари-
ца Савская (Шеба в английской традиции), конечно, символизируют
здесь самого поэта и его жену «Джордж», молодую миссис Йейтс.
Соломон - царь Иудейский (972 - 932 г. до н. э.). История о Ца-
рице Савской, прослышавшей о мудрости Соломона и пришедшей ис-
пытать его загадками, повествуется в 3 Кн. Царств (X, 1). Сава, или
Савея, по мнению комментаторов, страна либо в Аравии, либо в Эфио-
пии. Любовь Соломона и Царицы Савской - популярный фольклор-
ный сюжет.
След -Впервые: 1916.
Знатоки - 1915.
Фазы луны- 1918.
Как и предыдущее стихотворение, представляет собой коммента-
рий к мифологической системе Йейтса.
Оуэн Ахерн - персонаж, появляющийся в рассказах Йейтса рядом
с магом Робартисом, благочестивый католик, которого Робартис ста-
рается вовлечь в свой мистический орден Алхимической Розы. Вдво-
ем они представляют пару дополнительных масок. Как писал Йейтс
в предисловии к книге, «они занимают свое место в фантасмагории,
с помощью которой я пытаюсь объяснить свою философию жизни и
смерти».
Где мильтоновский размышлял философ... - аллюзия на стихот-
ворение Мильтона «II Penseroso» и иллюстрацию к нему художника
Сэмюела Палмера (1805-1881), названную «Одинокая башня».
Принц Атанас - герой одноименной поэмы Перси Биши Шелли
(1792-1922).
Что, дескать, умер я... - так в рассказе Йейтса «Rosa Alche-
mica».
Есть ровно двадцать восемь фаз луны и т. д. - этот краткий экс-
тракт из «Видения» производит впечатление и сам по себе, без зна-
ния его «системной» подоплеки. Например, фраза о том, что «Горбун,
Святой и Шут идут в конце/Перед затменьем» дают названия трех
последних фаз Великого колеса, двадцать шестой, двадцать седьмой и
двадцать восьмой, в непосредственно убедительных образах старости,
завершения жизненного круга. Читатель может воспринимать Горбуна
как усталого человека, согнувшегося под бременем лет, памяти и т. д.;
Святого - как человека, изжившего свои желания; Шута - сразу в трех
планах: 1) как объекг насмешек (ср. с идеями Бахтина о карнавальном
осмеянии старости), 2) как романтического героя, трагическим сме-
368
хом реагирующего на «смешную и глупую шутку» жизни и смерти, и
3) как мудреца, готового к началу следующего круга перевоплощений.
Кот и луна - 1917.
Стихотворение написано в Нормандии, когда Йейтс гостил в се-
мье Мод Гонн.
Мииалуги - черный персидский кот Гоннов. Переводчик добавил
мотив жениха и невесты, что кажется уместным в этом стихотворе-
нии, комментирующем (и отчасти пародирующем) все ту же теорию
«лунных фаз».
Две песни из пьесы -Впервые: 1919.
Стихи из пьесы «Последняя ревность Эмер», которая относится к
т. н. «Кухулинскому» циклу пьес. Обе песни исполняются музыканта-
ми при развертывании и свертывании черного покрывала и являются
первая - прологом, а вторая - эпилогом пьесы.
I. «Женская красота - словно белая птица...»
Сколько столетий в работе /Душа провела, /В сложном расчете, /
В муках угла и числа... - мотив переселения души в сочетании с пифа-
горейским мотивом числа как внутреннего закона всех вещей.
II. «Отчего ты так испуган...»
Повстречал я в доме друга / Статую земной печали... - здесь сно-
ва имеется в виду Мод Гонн.
ИЗ КНИГИ «МАЙКЛ РОБАРТИС И ПЛЯСУНЬЯ» (1921)
Политической узнице-1919.
Она - Констанция Гор-Бут (1868-1932), в замужестве графиня
Маркевич, принимавшая участие в восстании; она была приговорена
к смертной казни, замененной на тюремное заключение. Иейтс знал
обеих сестер Гор-Бут, Еву и Констанцию, в молодости и бывал в их
имении в Лиссаделе.
Гнавшая коня во весь опор... - Констанция Гор-Бут обожала ез-
дить верхом; про нее даже говорили, что она лучшая наездница во всей
Ирландии.
Бен-Балбенская гора - гора Бен-Балбен к северу от Слайго, под
которой ныне находится могила Йейтса.
Второе пришествие -1919.
Одно из самых «системных» стихотворений Йейтса и в то же вре-
мя непосредственно понятных через образ апокалиптического зверя,
Антихриста. Его приход Йейтс связывает с концом христианской ци-
вилизации и началом нового исторического цикла, новой спирали.
Все шире - круг за кругом - сокол кружит, /Не слыша, как его со-
кольник кличет... - этот образ приводит на память полет змея Гериона,
369
переносящего Данте и Вергилия в восьмой круг ада. Интересно, что
тот же самый эпизод привлек внимание О. Мандельштама в его книге
«Разговор о Данте»: «Маневры Гериона, замедляющего спуск, уподо-
бляются возвращению неудачно спущенного сокола, который, взмыв
понапрасну, медлит вернуться на зов сокольничьего...».
Spiritus Mundi - Мировая Душа, хранилище образов, не принад-
лежащих никакой отдельной личности.
ИЗ КНИГИ «БАШНЯ» (1928)
В эту книгу вошли стихи, появившиеся ранее в сборниках СС,
КЛ и ОВ, выпущенных «Куала пресс». «Перечитывая «Башню»,- пи-
сал Йейтс в письме Оливии Шекспир, - я был удивлен ее горечью...
Но эта же горечь придала ей силу, это лучшая моя книга». Чтобы пол-
нее понять символическое значение башни, надо учесть и давнее увле-
чение Йейтса картами Таро. Многие из двадцати двух карт Старшего
Аркана Таро имеют параллели в системе образов Йейтса (в частности,
нулевой - Шут, первый - Маг). Башня (Аркан XVI) всегда изобража-
ется окутанной темными тучами, треснувшей под ударом молнии и
готовой рухнуть. Она означает крах и гибель, а также очищение души
от грехов и страданий.
Плавание в Византию - 1926.
Византия в поэзии Йейтса - символ гармонического искусства
и бессмертия. Источником его идеализированных представлений о
византийской культуре были отчасти книги (в том числе «Век Юсти-
ниана и Теодоры» У. Г. Холмса), отчасти - созерцание византийских
мозаик в Палермо и Равенне. «В те времена, когда ирландцы рисовали
иллюстрации «Книги из Келлса» (VIII век), Константинополь был цен-
тром европейской цивилизации и источником ее духовной философии,
поэтому я и делаю путешествие в этот город символом духовных ис-
каний», - объяснял Иейтс в своем выступлении по Би-би-си в 1931 г.
О мудрецы... - великомученики на фризе церкви Св. Аполлина-
рия в Равенне.
Подобной той, что в кованом металле / Сумел искусный эллин
воплотить... - Комментарий Йейтса: «Я где-то прочел, что во дворце
византийского императора было дерево, сделанное из золота и сере-
бра, и на нем пела механическая птичка». Весьма вероятно также, что
в этом образе смешались впечатления от сказки Андерсена «Соловей»
и «Оды к Соловью» Джона Китса.
Размышления во время гражданской войны - 1922.
Написано весной-летом 1922 года в Ирландии в Тур Балли-
ли (графство Голуэй) - куда Йейтс приехал с семьей, то есть женой
Джордж и двумя совсем маленькими детьми. Это был первый его
приезд в свою собственную «башню-крепость» после проведенного в
ней ремонта. Йейтс, встревоженный слухами о беспорядках в Голуэе,
370
медлил с этой поездкой, наконец решился - и попал в самый разгар
Гражданской войны.
I. Усадьбы предков
Фонтан неиссякаемый, не ты - / Наследье наше тыщи лет спу-
стя, /А раковина... - оппозиция «фонтан - раковина» соответствует
у Йейтса оппозиции «цветок - пошлая зелень» в стихотворении «На-
следство» (IV). Мощное искусство Гомера (фонтан) и его слабый от-
звук в искусстве наших дней (раковина); «цветок» символизма - и «по-
шлая зелень» прагматического будущего.
IV. Наследство
Я ради старой дружбы выбрал дом... - Башня Тур Баллили нахо-
дилась в нескольких милях от усадьбы леди Огасты Грегори - много-
летнего друга и покровительницы Йейтса.
V. Дорога у моей двери
Похожий на Фальстафа ополченец... - Гражданская война в
основном шла между сторонниками правительства Ирландской ре-
спублики, согласившихся на компромис с Англией - статус Ирландии
как свободного государства на правах доминиона, - и несогласных,
«ополченцев» (Irregulars).
VI. Гнездо скворца мод моим окном
У Йейтса есть подробное объяснение этого стихотворения.
В частности, он писал: «Это было в Гэлуэе во время Гражданской
войны. Железнодорожные мосты были взорваны, дороги заблоки-
рованы поваленными деревьями и камнями. Газеты и какие-либо
надежные вести до нас не доходили, мы не знали, кто берет вверх;
и даже когда, спустя неделю, газеты стали доходить, мы все равно
оставались в неизвестности относительно того, что происходит там,
за холмом, или за линией деревьев. Мимо нас по дороге проезжали
машины с гробами, всаженными стоймя между сиденьями. Ночами
мы слышали взрывы, а однажды днем мы видели дым горевшей не-
подалеку усадьбы». Вот тогда-то Йейтс и написал стихотворение о
скворце, поселившемся в выемке или расщелины каменной стены
рядом с его окном.
VII. Передо мной проходят образы ненависти,
сердечной полноты и грядущего опустошения
Название напоминает о сборнике английской ренессансной ли-
рики «Песни и сонеты» («Влюбленный рассказывает, как безнадежно
он покинут теми, кто прежде дарили ему отраду» Томаса Уайетта),
но еще больше о древнекитайской лирике, например: «Пишу, подняв-
шись на башенку в доме господина Пэй Ди» (Ван Вей). Тем более что
стихотворение начинается именно с подъема на башню.
Молэ, Жак де (1244-1314) - Великий Магистр Ордена Храма, сож-
женный в Париже после семилетнего процесса и проклявший с костра
371
короля Франции и папу Римского. Существует предание, что Фран-
цузская революция - месть тайных сторонников Жака де Молэ. Йе-
йтс так комментирует свое стихотворение: «Призыв к отмщению за
убийство Великого Магистра тамплиеров представляется мне под-
ходящим символом для действий, основанных на ненависти и, по
своему существу, бесплодных. Говорят, что этот призыв был частью
ритуала в некоторых масонских обществах восемнадцатого века и
в дальнейшем, питал классовую ненависть. Ястребов я поставил в
четвертую строфу, кажется, потому, что у меня перстень с ястребом
и бабочкой, символизирующий прямой путь логики и механики - и
извилистый путь интуиции».
Тысяча девятьсот девятнадцатый год-1919.
Поводом к написанию стихотворения послужили ожесточившиеся
схватки в Горте и его окрестностях между Ирландской республикан-
ской армией (ИРА), с одной стороны, и британской армией совместно
с королевской ирландской полицией - с другой.
Фидий - афинский скульптор (490-417), автор бронзовых, хри-
зоэлефантинных (сделанных из золота и слоновой кости) мраморных
статуй, в том числе Афины из Парфенона (сохранились копии) и Зевса
в Олимпии (не сохранился), а также мраморных фигур на фризе Пар-
фенона (сохранились фрагменты).
И хор умолк златых цикад и пчел... - имеются в виду популярные
у афинян брошки и заколки для волос, о которых писал историк Фу-
кидид.
Лой Фуллер (1862-1928) - американская танцовщица, выступав-
шая в Фоли-Бержер в девяностых годах. О ней писал Маллармэ и ее
рисовал Тулуз-Лотрек.
Платонов (или Великий) Год - время, за которое все созвездия
вернутся к положениям, которые они занимали при начале мира, тем
самым воспроизведя первоначальную карту неба. Понятие, основан-
ное на идеях и вычислениях Платона.
Высмеем, так уж и быть, /Вечных насмешников... - ср. со сти-
хотворением Блейка. «Mock on, mock on, Voltaire, Rousseau...»(«Смей-
тесь, смейтесь, Вольтер, Руссо»).
Дочери Иродиады... - в комментариях к «Воинству сидов» Йейтс
писал, что ирландские духи - силы - скачут верхом на ветре, и в средние
века смерчи пыли на дорогах называли пляской дочерей Иродиады.
Роберт Артисон (сын Арта) - согласно хроникам XIV века,
демон-инкуб, совративший леди Алису Кителер из Килкенни. Среди
обвинений, предъявленных ей и другим «колдуньям-еретичкам», зна-
чилось: «Они приносили в жертву демонам животных, которых они
разрубали заживо и разбрасывали на перекрестках дорог для некоего
злого духа низшего ранга именем сын Арта».
Леда и Лебедь -1923.
Леда - дочь царя Фестия из Этолии, отданная в жены Тиндарею,
изгнанному королю Спарты. Детьми Леды были близнецы-Диоскуры,
372
Клитемнестра и Елена Прекрасная. Последняя родилась от Зевса,
который увидел Леду во время купания и соединился с ней в образе
лебедя. Елена Прекрасная стала причиной Троянской войны (и всех
последующих трагических событий) - тема, чрезвычайно важная для
Йейтса, как в историческом, так и в личном плане, ведь Елена ассо-
циировалась для него с Мод Гонн.
Черный кентавр - 1920.
Английское название: «On a Picture of a Black Centaur by Edmund
Dulac». Картина была вдохновлена неизвестной нам картиной Эдмун-
да Дюлака.
Эдмунд Дюлак (1882-1953) - английский художник, иллюстриро-
вавший несколько книг Йейтса, а также оформивший постановку его
пьесы «У Ястребиного источника».
Семь Эфесских сонь - семеро юношей-христиан из Эфеса, кото-
рые спаслись от преследований в дни императора Деция в пещере воз-
ле города и проспали там двести лет, до времени правления императо-
ра Феодосия (средневековая легенда).
Раскинься же вольней и спи, как вещий Крон, / Без пробуж-
дения... - по-видимому, отзвук поэмы Джона Китса «Гиперион»,
которая начинается с картины спящего Сатурна (Крона), повер-
женного в борьбе с олимпийскими богами и не желающего про-
сыпаться.
Юность и старость-Впервые: 1924.
Сверстники -2 июля 1926. Из цикла «Мужчина в юности и
старости», вошедшего в сборник «Башня» (1928).
Среди школьников- 1926. Впервые: 1927.
Реальный план стихотворения: пожилой сенатор У. Б. Йейтс посе-
щает с инспекцией одну из монастырских школ для девочек. Философ-
ский план - человек в младенчестве, юности и старости, замкнутый
круг, который нельзя разорвать сознательными усилиями, из которого
можно только «вытанцевать» наружу, вырваться в танец - состояние,
в котором осуществляется соединение человека с миром, Единство
бытия.
Мне грезится - лебяжья белизна... - в этой строфе Йейтс вспо-
минает о Мод Гонн, делившейся с ним когда-то своими детскими оби-
дами.
В желток белком единого яйца - иронический намек на извест-
ную теорию любви, изложенную в диалоге Платона «Пир».
Хоть Лета мне родней не доводилась... - намек на Мод Гонн, ко-
торую Йейтс приравнивал в стихах к Елене Прекрасной (дочери Зевса
и Леды).
Будь милым, бодрым чучелом на палке - характерный йейтсов-
ский символ старости. Ср. «Плавание в Византию» и дальше в этом же
стихотворении: «Старье на палке - воробьев пугать».
373
ИЗ КНИГИ «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» (1933)
Разговор поэта с его душой - 1927.
Вступи в потемки лестницы крутой... - узкая винтовая лестница
в стене Тур Баллили.
Меч рода Сато - средневековый самурайский меч, подаренный
Йейтсу японцем Юнзо Сато во время его лекционного тура в США.
Йейтс долго не решался принять наследственный меч и в конце концов
принял с условием, чтобы по его завещанию реликвия снова вернулась
в семью Сато.
Монташиги, Бисю Осафуми (1394-1428) - японский мастер-
оружейник, изготовивший меч Сато.
От преступлений смерти и рожденья. - душа исповедует буд-
дистскую доктрину о преступности всякого действия и о выходе из
кармического круга как о высшей цели жизни.
Кровь и луна -1927.
Был в Александрии маяк знаменитый... - Фаросский маяк, одно
из семи чудес света.
И Шелли башни свои... возводил... - Шелли был одним из люби-
мых поэтов Йейтса.
Голдсмит и Свифт, Беркли и Бёрк - люди, которых Йейтс считал
своими духовными предками.
Голдсмит, Оливер (1728-1774) - англо-ирландский поэт.
Свифт, Джонатан (1667-1753) - английский писатель и поэт, на-
стоятель собора Св. Патрика в Дублине.
Беркли, Джордж (1685-1753) - ирландский философ, епископ
Клойнский.
Яростное негодование - по-латыни: saevo indignatio - фраза из
автоэпитафии Свифта («яростное негодование не терзает больше его
сердце...»).
На пыльных стеклах и т. д.- Йейтс описывает верхний этаж башни,
так и оставшийся не отремонтированным и нежилым. Ночные бабочки
проникали туда сквозь щели-амбразуры и гибли, ударяясь о стекла окон.
Византия - 1930.
В прозаическом наброске стихотворения (дневник 1930 года) гово-
рится: «Описать Византии, каким он был по системе в конце первого
христианского тысячелетия. Бредущая мумия. Костры на перекрестках,
в которых очищаются от грехов души. Выкованные из золота птицы на
золотых деревьях; в гавани [дельфины] предлагающие свои спины сте-
нающим мертвецам, чтобы отвезти их в райскую страну». Переводчик
здесь и в «Плавании в Византию» заменил название города на название
империи, так как в русской традиции называть Константинополь Визан-
тией после VI в. н. э. неверно, это звучит как анахронизм, неизбежно
вызывающий языческие, довизантийские ассоциации.
Вслед за соборным гулким гонгом... - Йейтс написал слово «гонг»
карандашом на полях книги «Век Юстиниана и Теодоры» напротив
374
текста: «При ударах большого "семантрона" - звучной доски, висящей
у входе во всякий храм, по которой бьет дьякон».
Так в смерти жизнь и в жизни смерть живет... - восходит, ве-
роятно, не столько к «Сказанию о старом мореходе» Кольриджа (при-
зрак, зовущийся «Смерть-В-Жизни»), сколько к диалектике Гераклита:
«воздух умирает - вода рождается, вода умирает - земля рождается»
и т. д.
Платонов петушок - здесь и в других местах Йейтс ассоциирует
петуха с волшебством и подземным царством мертвых.
Три эпохи - 1932.
Сожалею о сказанном сгоряча - 1931.
Я распинался пред толпой... - вероятно, воспоминание о своем
участии в национально-патриотическом движении в первые годы по-
сле знакомства с Мод Тонн.
Триумф женщины-1926. Вошло в цикл «Женщина в моло-
дости и в старости».
Легендарный Персей иль Георгий... - герой Персей, сын Зевса
и Данаи, убил дракона и освободил Андромеду; «Святой Георгий и
дракон» - один из наиболее популярных сюжетов христианской жи-
вописи.
ИЗ ЦИКЛА «СЛОВА, ВОЗМОЖНО, ДЛЯ МУЗЫКИ» (1931)
Цикл написан в 1929-1931 гг. В письме к Оливии Шекспир 2 мар-
та 1929 года Йейтс сообщал: «Пишу «Двенадцать стихотворений для
музыки» - не для того, чтобы их пели, а просто этим я определяю
для себя их эмоциональную окраску». Окончательное название цикла
звучит по-английски: «Words for Music Perhaps», что в переводе полу-
чается несколько неуклюже: «Слова, может быть, для пения».
Безумная Джейн и епископ-Впервые: 1930.
Прототипом Безумной Джейн могла послужить Чокнутая Мэри -
юродивая старуха, жившая недалеко от имения друга и покровитель-
ницы Йейтса леди Грегори. Вероятно и влияние народных ирландских
баллад, а также знаменитого древнеирландского стихотворения «Ста-
руха из Бери», незадолго до этого переведенного Фрэнком О'Коннором
на английский.
Безумная Джейн о Боге-1931.
Безумная Джейн говорит с епископом - 1931.
В этом и других стихах Безумной Джейн заметны влияние Вийона
(«Жалобы старухи»), которого Йейтс знал, в частности, по переводам
Дж. Синга.
375
Но храм любви стоит, увы, на яме выгребной. - у Блейка в поэме
«Иерусалим» есть слова: «Ибо я сделаю место их любви и радости
местом выбросов (экскрементов)».
В непогоду- 1929. В оригинале стихотворение называется
«Безумны, как туман и снег» («Mad as the Mist and Snow»).
Туллий - Марк Туллий Цицерон (106-43 г. до н. э.), римский ора-
тор и писатель.
Назон - Овидий Назон Публий (43 г. до н. э. - ок. 18 г. н. э.), рим-
ский поэт. У Йейтса вместо Овидия упоминается Гораций.
Колыбельная- 1929. Впервые: 1931.
Фрэнк О'Коннор утверждал, что «Колыбельная» основана на его
переводе древнеирландского стихотворения «Грания» (в русском пере-
воде В. Тихомирова - «Сон Диармайда»).
Сном таким, какой сковал /крылья лебедя... - см. примечание к
стих. «Леда и Лебедь».
«Я родом из Ирландии» -1929.
Источником является рукописный фрагмент XIV века. Даем его под-
строчный перевод: «Я родом из Ирландии, / святой земли Ирландии, / до-
брый сэр, прошу вас, / ради всего святого, / пойдемте плясать со мной в
Ирландию». Считается, что это одна из старейших сохранившихся англий-
ских плясовых песен. Йейтса, по-видимому, привлекло в ней то, что текст
вложен в уста ирландской девушки и сочинен, надо думать, каким-нибудь
ирландским менестрелем.
Том-сумасшедший -1931.
Том -традиционное имя для дурака. Можно вспомнить, например,
Тома из Бедлама в «Короле Лире», а также анонимную балладу шек-
спировского времени об этом персонаже, The Song of Tom o'Bedlam, с
которой, по-видимому, спорит Йейтс.
Что меня с толку-разуму сбило... - Том из Бедлама в старинной
балладе объясняет, что его «с толку-разуму» сбила любовь. Йейтс по-
лемически предлагает вместо любви время.
Хаддон иДаддон и Дэниел О'Лири - имена трикстеров из ирланд-
ских сказок, которых Йейтс упоминает в своей книге «Видение».
ИЗ КНИГИ «ПОЛНОЛУНИЕ В МАРТЕ» (1935)
В этот раздел входят стихи, опубликованные вместе с пьесой
«Полнолуние в марте» в 1935 году в «Куала пресс».
Молитва старика. -Впервые: 1934.
Одно из первых стихотворений, написанных Йейтсом после двух-
летнего молчания, последовавшего за смертью его друга и покрови-
тельницы леди Грегори.
376
Гора Меру- 1934.
Меру - Эверест, величайшая вершина Гималаев, на границе Тибе-
та и Непала. Йейтс написал предисловие к книге индийского монаха-
проповедника Шри Пурохит С вами «Священная гора».
Ушко иглы - 1934.
Стихотворение Йейтса связано с его увлечением индийской фило-
софией, в частности с его впечатлением от книги Шри Пурохит Свами.
ИЗ «НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ» (1938)
В этот раздел входят как стихи, подготовленные к печати самим
поэтом и опубликованные при его жизни («Новые стихотворения»,
1938), так и опубликованные после его смерти («Последние стихотво-
рения и две пьесы», «Куала пресс», 1939).
Л я п и с - л а з у р ь - 1936.
Гарри Клифтон - знакомый Йейтса, приславший ему на день
рождения в июле 1935 года настольное украшение из ляпис-лазури
(Китай, XVIII век), изображающее «гору с храмом на вершине, дере-
вья, тропу и идущих вверх монаха-отшельника с учеником».
Каллимах (V в. до н. э.) - греческий скульптор, по преданию, изо-
бретатель коринфской капители, о котором Йейтс читал у Павсания в
«Описании Греции».
Три куста - 1937.
Баллада возникла из переписки с другом Йейтса, английской поэтес-
сой Дороти Уэлсли, в процессе литературной игры и перекрестного редак-
тирования. «Ангел милый! Какой был восторг - сознавать, переписывая
балладу, что эти стихи ваши. Мы оба были победителями и побежденными,
так что мне припомнились «Голубка и феникс» (стихотворение, приписы-
ваемое Шекспиру, в котором воспевается платоническое единение влю-
бленных. - Г. К.).» (Из письма к Д. Уэлсли 21 июля 1936 г.) Йейтс написал
еще шесть небольших стихотворений в дополнение к балладе: три песни
Дамы, песню Влюбленного и две песни Служанки.
Песня влюбленного - 1936.
Три песенки госпожи и одну песню Влюбленного Йейтс «доба-
вил» к своей балладе «Три куста» в процессе творческой переписки с
Дороти Уэсли.
Клочок лужайки - 1936.
В первой строфе Йейтс описывает дом в Риверсдейле (графство
Дублин), куда его семья переехала в 1932 году. «Мы сняли его на
13 лет,- писал он Оливии Шекспир, - хоть мне столько и не протя-
нуть. .. По крайней мере, дети успеют получить образование и завести
друзей, пока этот дом наш».
377
Тимои - см. трагедию Шекспира «Тимон Афинский».
Блейк, Уильям (1757-1827) - поэт и художник, один из главных
духовных предков Йейтса. Любопытно, что он даже считал его (на
основании весьма шатких свидетельств) ирландцем по отцу.
Микеланджело Буонарроти (1475-1564) - итальянский скуль-
птор, художник и поэт. К числу его главных работ относятся роспись
потолка Сикстинской капеллы в Риме (1508-1512) и фреска Страшно-
го Суда на восточной стене той же капеллы (1535-1541), на которых он
«прорвал пелену небес» и «глубины ада разверз».
Олимпийское племя-1937.
В оригинале называется «Beautiful Lofty Thing» («Всё прекрасное
и возвышенное») по первым словам стихотворения.
Джон О'Лири - см. примечание к стих. «Сентябрь 1913 года».
...голос отца, /Со сцены Аббатства обращающегося к разъярен-
ной толпе... - случай, произошедший во время публичной дискуссии
по поводу беспорядков во время представления пьесы Синга «Повеса
с Запада» (1917).
Стендиш О Трейди (1846-1928) - ирландский историк, автор книги
«История Ирландии: Героический период» (1878), оказавшей большое
влияние на формирование Ирландского национального возрождения.
Старая леди Грегори... - имеется в виду эпизод из времен граж-
данской войны, когда в ответ на угрозы одного озлобленного аренда-
тора она подсказала ему, как удобней всего это сделать.
Мод Гонн / на маленькой станции... - воспоминание о совмест-
ных прогулках с Мод Гонн в Гоуте (гористый полуостров в получасе
езды от Дублина; в оригинале сказано: «на станции в Гоуте»), где в
1891 году Йейтс впервые сделал ей предложение.
Проклятие Кромвеля -1937.
Карательный поход Оливера Кромвеля (1599-1658) в Ирландию в
1650 году остался в памяти поколений. И столетия спустя ирландские
матери пугали детей его именем. Кроме жестокостей и казней сле-
дует отметить и тяжелый удар, нанесенный наследственной ирланд-
ской аристократии, - у нее была конфискована большая часть земель.
За этим следовали закрытие бардических школ, закат поэтической
традиции. В письме к Дороти Уэлсли 8 января 1937 года Йейтс сооб-
щал, что пишет о Кромвеле, «который был Лениным своего времени»:
«Я говорю устами ирландского странствующего барда».
Так мальчику-спартанцу лисенок грыз живот... - История спар-
танского мальчика, который украл лису и, чтобы не сознаваться в пре-
ступлении, дал ей изгрызть свой живот, но не выдал своей боли, взята
из «Жизнеописаний десяти ораторов» Плутарха.
Буйный старый греховодник - 1937.
В этой балладе, написанной, по мнению ряда комментаторов, для
леди Элизабет Пэлем, Йейтс вновь примеряет маску бродячего певца,
состарившегося, но не сломленного временем.
378
ЧИСТИЛИЩЕ-1938
Пьеса впервые поставлена в Театре Аббатства 10 августа 1938 г.
Художником спектакля была Энн Йейтс, дочь поэта. Это последняя
пьеса Йейтса, поставленная при его жизни.
Тертуллиан (ок. 160 - после 220 г. н.э.) - христианский теолог и
писатель.
ИЗ «ПОСЛЕДНИХ СТИХОТВОРЕНИЙ» (1938-1939)
В тени Бен-Балбена - 1938.
Поэтическое завещание Йейтса. Впервые опубликовано после его
смерти 3 февраля 1939 г. одновременно в «Айриш Пресс», «Айриш
Таймз» и «Айриш Индепендент».
То, него аскет искал /Возле фиваидских скал... - окрестности
египетских Фив во времена около 4 в. н. э. были областью многочис-
ленных христианских монастырей и отшельнических скитов.
Атласская колдунья - имеется в виду поэма П.Б. Шелли «Атлас-
ская колдунья». Шелли был одним из любимых поэтов Йейтса.
Тот, кто молвил в старину: «Боже, ниспошли войну»... - имеется
в виду Джон Митчелл (1815-1975), борец за свободу Ирландии, осно-
ватель журнала «Объединенные ираландцы». В его «Тюремном жур-
нале» (1854) есть запись, пародирующая привычные слова молитвы
«Ниспошли нам мир, Господи», - «Ниспошли войну, Господи».
Калверт, Эдвард (1799-1883) - английский художник, предтеча
символистов.
Вильсон, Джордж - художник-прерафаэлит. Хотя остается не
вполне ясным, его ли имел в виду Йейтс или кого-то из его более ран-
них однофамильцев.
Клод, Лорэн (1600 - 1682) - французский художник, высоко чти-
мый символистами автор пейзажей с античными руинами.
Черная Башня -1939.
Последнее стихотворение Йейтса, окончательный текст датирует-
ся 21 января.
Стоя в могилах спят мертвецы... - в древней Ирландии суще-
ствовал обычай хоронить королей и вождей, павших в битве, стоя, ли-
цом к вражеской земле.
Водомерка - 1938.
Цезарь, Гай Юлий (102-44 г. до н. э.) - римский император и пол-
ководец. Впрочем, здесь «великий Цезарь» может обозначать любого
римского принцепса, сражавшегося с варварами, так как имя Цезаря
стало императорским титулом.
Чтобы явился первый Адам... - имеется в виду изображение Ада-
ма на потолке Сикстинской капеллы. (См. примечание к ст. «Клочок
лужайки».)
379
Джон Кинселла пьет за упокой Мэри Мор - 1938.
Первоначальное название: «Дюжий фермер обвиняет Смерть».
Джон Кинселла и Мэри Мор - вымышленные персонажи.
Высокий слог -1938.
Йейтс писал о девяностых годах, что, когда они закончились, «нам
всем пришлось слезть с ходулей».
Я вновь стучу молотком... - поэт вновь ладит себе ходули под
старость. По-видимому, Йейтс имеет в виду создание своей поэтиче-
ской мифологии.
Парад-алле - 1938.
Осталось вспоминать былые темы... - в этой строфе Йейтс
вспоминает свою поэму «Странствия Ойсина» (1889).
Графиня Кэтлин начала мне сниться... - Пьеса «Графиня Кэт-
лин» (первый вариант - 1892) была написана специально для Мод
Гонн.
А там - Кухулин, бившийся с волнами, /Пока бродяга набивал ме-
шок. .. - кухулинский цикл пьес включает четыре пьесы - от «На Бере-
гу Байле» (1904) до «Смерти Кухулина» (1939). В первой из них двое
бродяг - Слепой и Дурак - занимаются воровством, пока обезумевший
Кухулин сражается с волнами.
ПРОЗА
Проза Йейтса многообразна по жанрам: это рассказы, философ-
ские произведения, воспоминания, эссе и статьи. Границы жанров ча-
сто размыты: философское произведение принимает форму рассказа
или статья переходит в воспоминание. Большая часть прозаических
произведений Йейтса собрана в книгах: «Мифы» (1959), «Автобио-
графии» (1955), «Воспоминания», сост. Денис Донохью (1972), «Эссе
и предисловия» (1961), «Исследования» (1962), «Видение» (1937).
Последняя книга, содержащая философскую систему Йейтса, не во-
шла в данный том (см. о ней в предисловии к настоящему изданию).
Не вошли также дневники и письма. Некоторые произведения дают-
ся частично или с пропусками, что отмечается в тексте и в коммен-
тариях.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ (1916)
Перевод В. Ряполовой
Написаны в 1914 году, опубликованы «Cuala Press» в 1916 году.
I
Россес-Пойнт - рыбацкий поселок и порт в окрестностях Слайго.
380
Атеисты (Айлей) - остров у западных берегов Шотландии.
«Великий голод», вызванный неурожаем картофеля - основ-
ной продовольственной культуры Ирландии, был в 1846-1847 гг.
От голода, голодного тифа и холеры тогда погибло около миллиона
человек.
Корнуоллский - от Корнуолла, графства на юго-западе Ан-
глии.
Уэксфорд - графство на юго-востоке Ирландии.
II
Оранжистские стихи - оранжист - член протестантского обще-
ства, образованного в 1795 году в северной Ирландии и известного
своим политическим экстремизмом.
Восстание фениев произошло в 1867 году. Фениями - взяв это
имя из саг о легендарном Финне и его воинах-фениях - называли себя
члены тайного общества, боровшегося за национальное освобождение
и демократическую республику.
III
Большое жюри - присяжные заседатели, решающие вопросы о
передаче дела в суд или о его прекращении.
Сарсфилд, Патрик - военачальник в армии английского короля-
католика Якова II Стюарта (годы правления 1685-1688), который по-
сле низложения пытался вернуть себе престол, борясь с войсками
короля-протестанта Вильгельма Оранского.
Мит - графство в Ирландии.
«Объединенные ирландцы» - общество, возникшее под влия-
нием Великой французской революции в 1791 году и просуще-
ствовавшее до 1798 года. В его программе была реформа законо-
дательства, борьба за гражданскую, политическую и религиозную
свободу. В 1794 году общество было объявлено вне закона. В 1798
году «Объединенные ирландцы» предприняли попытку вооружен-
ного восстания, одним из организаторов которого был лорд Эдуард
Фицджеральд.
Эммет, Роберт - см. примеч. к «Сентябрь 1913 года».
Уолпол, Гораций (1717-1797) - английский писатель, автор «готи-
ческих романов».
V
Берн-Джонс - см. примеч. к «Anima Hominis».
Холланд-Хаус - лондонский дворец XVII века (по имени владель-
ца, лорда Холланда).
381
...со времен ирландского парламента - то есть с XVIII века.
Креси, Азенкур - знаменитые битвы Столетней войны между Ан-
глией и Францией, принесшие победы английскому оружию.
«Желтый брод», или переправа через реку Войн - один из эпизодов
войны между армиями Якова II и Вильгельма Оранского; в битве при Бой-
не (1690) войска Вильгельма нанесли решающее поражение силам короля
Якова. Лимарик - последний город, капитулировавший в этой войне.
Земельная лига - была образована в 1878 году в целях борьбы за
справедливое распределение земли (которая тогда в основном принад-
лежала ленд-лордам).
VI
Итонский костюм - форма учащихся Итона, одной из аристокра-
тических школ Англии.
VII
Стрэнд - одна из центральных улиц Лондона.
VIII
Де Морган, Уильям (1839-1917) - английский романист и специа-
лист по керамике.
Моррис, Уильям (1834-1896) - английский поэт, художник и из-
датель.
Россетти, Данте Габриэль (1828-1882) - английский поэт и ху-
дожник.
IX
«Песни Древнего Рима» принадлежат английскому историку и
поэту Томасу Маколею (1800-1859). «Песнь последнего менестреля» -
Вальтеру Скотту.
Генри Ирвинг, Эллен Терри - знаменитые английские актеры, в
описываемый период времени выступавшие в театре «Лицеум», кото-
рым Ирвинг руководил.
...из Чосера - то есть из «Кентерберийских рассказов».
X
Донегол - графство в Ирландии севернее графства Слайго. «Граф
Роберт Парижский» - роман Вальтера Скотта.
382
XI
«Восходит к небу человек по лестнице изжитых «я»» - цитата из
Теннисона («In Memoriam», Пролог).
Шекспировская цитата взята из «Гамлета» (I, 3): это слова По-
лония, обращенные к отъезжающему во Францию Лаэрту. (Перевод
М. Лозинского.)
XII
Уоллес, Альфред Расселл (1823-1913) - английский путешествен-
ник и натуралист.
Гексли, Томас Генри (1825-1895) - английский биолог.
Геккель, Эрнст Генрих (1834-1919) - немецкий биолог и философ.
Ашер (Утер), Иаков (1580-1656) - видный протестантский
бого-слов: здесь имеется в виду его сочинение «Chronologia Sacra»
(1660).
XIV
...подражая Соломону... - в Третьей книге Царств (4: 33) о царе
Соломоне сказано «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до
иссопа, выраставшего из стены; говорил и о животных, и о птицах, и о
пресмыкающихся, и о рыбах».
Манфред - герой одноименной драматической поэмы Байрона.
Атанас и Аластор - герои одноименных поэм Шелли («Принц
Атанас» был только начат поэтом; текст состоит из нескольких фраг-
ментов).
«Восстание Ислама» - поэма Шелли.
XV
«Освобожденный Прометей» - драма Шелли.
«Кориолан» - трагедия Шекспира.
Бенсон, Фрэнк (1858-1939) - известный английский актер, глава
труппы, ставившей в основном пьесы Шекспира.
XVI
Ампер-младший, Жан-Жак (1800-1864) - сын знаменитого физи-
ка и математика, французский историк.
Спенсер, Эдмунд (1552-1599) - английский поэт.
383
XVII
«Уолден, или Жизнь в лесу» - книга американского писателя Генри
Торо (1817-1862).
XXI
Честный Томас - герой одноименной шотландской баллады,
поэт; его увлекает королева фей в Волшебную страну, где он остается
на семь лет.
XXIV
Арнольд, Мэтью (1822-1888) - английский поэт и критик.
Джордж Элиот (настоящее имя - Мэри Энн Эванс, 1819-1880) -
известная английская романистка реалистической школы.
«Грозовой перевал» - роман Эмили Бронте (1818-1848).
XXV
Милль, Джон Стюарт (1806-1873) - английский экономист и
философ-позитивист.
...сыны века сего... - Йейтс процитировал близко к тексту изрече-
ние из Евангелия от Луки (16: 8).
Барон фон Рейхенбах - немецкий ученый XIX века, создатель ги-
потезы об «оде» - универсальной энергии («одической энергии»).
«Жизнь Иисуса» - книга Эрнеста Ренана (1823-1892), француз-
ского писателя, филолога и историка религии.
Чела - ученик, послушник (в переводе с хинди - слуга).
XXVII
Юнионисты - представители политической партии, считавшей,
что Ирландия должна целиком и полностью быть подчинена Англии;
программа националистов была диаметрально противоположной.
XXVIII
Дэвис, Томас (1814-1845)-лидер партии «Молодая Ирландия», осно-
ватель газеты «Народ», автор патриотических, агитационных стихов.
«Молодая Ирландия» - политическое движение 1840-х годов.
Группы, называвшие себя этим именем в 1880-е годы, тем самым под-
черкивали преемственность национально-освободительной традиции.
384
Майо - графство в Ирландии.
...воевал на стороне Папы... - война за объединение Италии и
установление в ней республики (1859-1870) была направлена и про-
тив Папы Римского, правившего государствами Центральной Италии
в качестве светского монарха; тогдашний кардинал Ирландии органи-
зовал добровольческую бригаду, которая была послана воевать в Ита-
лию на стороне Папы.
... повешен в 1798 году... - во время восстания «объединенных ир-
ландцев».
XXXI
О первом преслушанье... - начало «Потерянного рая» Мильтона.
(Перевод Арк. Штейнберга.)
ИЗ КНИГИ «КЕЛЬТСКИЕ СУМЕРКИ» (1893)
Книга опубликована в 1893 году, но впоследствии дополнялась
и редактировалась. Сборник включает сказки и истории, собранные
Йейтсом в разные годы. Народные верования и суеверия Ирландии -
смесь фрагментов кельтской мифологии и христианства в фольклор-
ной обработке.
Рассказчик
Драмклифф^ - деревня у горы Бен-Балбен. Там впоследствии был
похоронен сам Йейтс.
Дромахер - деревня в Слайго.
Святой Колумкилле, он лее Святой Колумба (521-597) - один из
наиболее почитаемых ирландских святых. Происходил из королевско-
го рода и даже имел право претендовать на верховную власть, однако
предпочел власть духовную. Основал обитель на о. Айона - центр це-
лой «семьи» монастырей. Защитник и покровитель филидов (ирланд-
ских поэтов и сказителей).
«Прах скрыл очи Елены»
Название рассказа - цитата из стихотворения Томаса Нэша (1567-
1601), в котором есть такие строки (перевод Т. Стамовой):
Краски неба остыли,
Красота спит в могиле,
Прах скрыл очи Елены.
Мир устал, люди тленны.
Милость, милость, Господь!
Стойкое сердце
«Овечий рыцарь» - название одного из рассказов Йейтса.
385
Неутомимые
Клот-на-Бар - старуха из Берри, персонаж ирландских легенд.
Земля, огонь и вода
Порфирий (ок. 233-304) - греческий философ-неоплатоник, уче-
ник Плотина и издатель его сочинений.
Укор шотландцам, омрачивших нрав своих духов
и гоблинов
Кэмпбелл, Фрэнсис (1822-1885) - автор «Народных сказок Запад-
ной Шотландии».
Келпи - водяная лошадь, которая топит путников.
«Верное меньшинство» - североирландские протестанты, тради-
ционно лояльные британской короне.
Королева и шут
Ойншох - в переводе с ирландского означает «глупая женщина,
дура».
У дороги
Четыре реки, которые текут из рая, - Фисон, Гохон, Хиддикель
и Евфрат (Книга Бытия, 2: 10-14).
«Если отпустишь Его, ты не друг кесарю» - см. Евангелие от
Иоанна, 19:12.
ИЗ КНИГИ «ИДЕИ ДОБРА И ЗЛА» (1904)
Перевод А. Ливерганта
Что такое «народная поэзия»? Написано в 1901 г.
Аллингем, Уильям (1824-1889) - ирландский поэт.
Фергюсон, Сэмюэль (1810-1886) - ирландский поэт, президент
Королевской ирландской академии.
«Адельфи» - лондонский эстрадный театр.
Арнольд, Мэтью - см. примеч. к «Размышлениям о детстве и юности».
Кэмпбелл, Томас (1777-1844) - английский поэт и критик.
Хеменс, Фелиция Доротея (1793-1835) - американская поэтесса.
Маколей в своих «Песнях» - см. примеч. к «Размышлениям о дет-
стве и юности».
«Эпипсихидион» - поэма П. Б. Шелли.
Омар Хайям (1048-1123) - персидский поэт, автор четверости-
ший (рубай), замечательно переведенных на английский язык Эдвар-
дом Фицджеральдом (1809-1833).
Джонсон, Бен (1572-1637) - английский поэт и драматург эпохи
Возрождения.
«Краски неба остыли» и т. д.- см. «Прах скрыл очи...».
Уитмен, Уолт (1819-1892) - американский поэт.
386
Арапские острова расположены у западных берегов Ирландии.
Йейтс цитирует ирландскую народную песню в прозаическом (до-
словном) переводе с гэльского на английский.
Настроение Написано в 1895 г.
Тело отца Христиана Розенкрейца. Написано в 1895 г.
Христиан Розенкрейц - легендарный основатель ордена розен-
крейцеров; жизнь его относят к XIV веку, сочинения опубликованы в
начале XVI века.
Помпилия Компарини и ее муж: - и убийца - граф Гвидо Франче-
скини - герои поэмы Роберта Браунинга (1812-1889) «Кольцо и кни-
га» (1868-1869), написанной по мотивам громкого судебного процесса
в Италии XVI века.
«Дух дышит где хочет» и т. д.- Евангелие от Иоанна, 3:8.
PER AMICA SILENTIA LUNAE (1918)
Перевод Г. Кружкова
Per arnica silentia lunae - цитата из Энеиды. Перевод: «При благо-
склонном молчании луны». См. далее «Anima Mundi», I.
Пролог
Морис - шутливый «псевдоним» Изольды, дочери Мод Тонн.
Миналуш - кличка персидского кота Гоннов (см. стихотворение
«Кот и луна»).
Ego Dominuus Tuus -1915.
Название - цитата из «Новой жизни» Данте: «Я владыка твой»
(лат.). Йейтс утверждает, что творческий дух нисходит на человека
извне - как любовь, явившаяся Данте в виде «страшного обликом
мужа».
Hie и Ше - абстрактные оппоненты, буквально «один» и «другой»
(лат.). Hie - объективный человек, а Ше - субъективный.
Робартис, Майкл - впервые появляется у Йейтса в рассказе «Rosa
Alchemica» (1897). В первом издании книги «Видение» (1925) расска-
зывается, как маг Робартис обнаружил в Кракове мистическую средне-
вековую книгу Гиральдуса, которая и легла в основу излагаемой Йейт-
сом системы. Миф, опровергнутый самим автором в «Пакете для Эзры
Паунда»(1929).
Тот смертный, о котором пишет Гвидо... - имеется в виду Гвидо
Кавальканти (см. дальше Примечания).
Ките, Джон (1895-1921) - великий английский поэт-романтик,
скончался от чахотки.
Зову таинственного пришлеца и т. д. - Теорию антагонисти-
ческого человека (антипода) Йейтс развивает в «Per Arnica Silentia
Lunae», а потом - в «Видении».
387
Anima Hominis
I
Место у Данте - из книги «Новая жизнь», I.
Бёме, Якоб (1575-1624) - немецкий философ-мистик.
II
Я говорил одной своей близкой знакомой... - речь идет о леди Грегори.
Берн-Джонс, Эдуард (1833-1898) - английский художник-
прерафаэлит.
«Повеса с Запада» - пьеса Джона Синга (1871-1909), при первом
представлении которой в Театре Аббатства (в 1909 г.) «патриоты»
устроили скандал, усмотрев в пьесе оскорбление Ирландии.
«Дейрдре - дочь печалей» - последняя пьеса Синга на ту же мифо-
логическую тему, что пьеса Йейтса «Дейрдре». Поставлена 13 января
1910 г.
III
Моррис - см. примеч. к «Размышления о детстве и юности».
Лэндор, Сэвидж (1775-1864) - английский поэт.
Ли Хант (1784-1859) - поэт и издатель, друг Джона Китса.
IV
Россетти - см. примеч. к «Размышления о детстве и юности».
Арнольд - см. примеч. к «Размышления о детстве и юности».
Кавальканти, Гвидо (1250-1300) - итальянский поэт, друг Данте.
Пистойя, Чино да (12707-1330) - итальянский поэт, учился в Бо-
лонском университете вместе с Данте.
Данте пишет кДжовано Гвирини... - это стихотворение припи-
сывается Данте.
V
Джонсон, Лайонел (1867-1902) - поэт, друг Йейтса по Клубу риф-
мачей.
Даусон, Эрнест (1867-1900) - английский поэт-символист, умер-
ший от туберкулеза. Был членом Клуба рифмачей.
Один старый художник... - отец поэта, Джон Батлер Йейтс.
388
VII
Дуб Додоны - речь идет о святилище, где совершались весьма ар-
хаические обряды. О священном дубе Додоны пишет Джеймс Фрэзер
в книге «Золотая ветвь», которую Иейтс усердно читал.
Сохо - район в центре Лондона, известный своими злачными местами.
Даймон - демон (греч.); в понимании Йейтса - сокровенный дух,
движущий человеком и его судьбой.
VIII
«Вильгельм Мейстер» - роман И. В. Гете (точнее, два романа:
«Годы учения Вильгельма Мейстера» и «Годы странствий Вильгельма
Мейстера»).
IX
Искушение Христа в пустыне - см. Евангелие от Матфея: 4,1-10.
Эллис, Эдвин (1848-1916) - друг отца Йейтса, поэт и критик. Вме-
сте с Йейтсом они работали над изданием трехтомного собрания со-
чинений У. Блейка (опубл. в 1893 г.).
О мрак, огонь дорожный!,. - строфы из стихотворения испанско-
го поэта-мистика Сан Хуана де ла Крус (1542-1591), в котором изобра-
жена любовь Души и Бога. Перевод с испанского Б. Дубина.
«Серафита» - рассказ О. Бальзака.
XIII
Ариосто, Лудовико (1455-1530) - итальянский поэт, автор ирои-
комической поэмы «Неистовый Роланд».
Anima Mundi
I
A Tenedo tacitaeper arnica silentia lunae - «От Тенедоса в тиши под
защитой луны мочаливой». Энеида, кн. 2, ст. 255. Перевод С. Ошерова.
Речь идет об аргисской фаланге, отплывающей от Тенедоса. Созвучие
с латинской фразой silenticum lunae (полнолуние) оттеняет связь дан-
ной книги с идеями A. Vision.
II
Генри Мор (1614-1687) - философ-платоник, был связан с Кем-
бриджским университетом.
389
IV
«Все, что судьба внесла в него...» - отрывок из поэмы Кольриджа.
V
Станислас де Гаэта (Гуйата) - мистик, учредитель кабаллисти-
ческого ордена «Роза+Крест» во Франции (1888 г.).
VIII
«Нам может присниться огонь...» - Агриппа Нетестегеймский.
«Об оккультной философии», кн. 1, гл. 64.
X
Время рушится в прах... - стихотворение Йейтса «Мимолетное»
(«The Moods»).
XIII
...как теней мелькания живые... - из поэмы П. Б. Шелли «Адонаис».
XXI
Еммануил - «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф. 1:23).
Эпилог
Малларме, Стефан (1842-1898) - французский поэт, теоретик
символизма.
Даутендей, Макс (1867-1918) - немецкий писатель и поэт-
символист, друг Стефана Георге.
Стриндберг, Август (1849-1912) - шведский писатель и драматург.
Период его увлечения алхимией и мистикой относится к 1890-м годам.
Стюарт Меррил (1863-1915) - американский поэт, живший во
Франции и писавший по-французски.
Вилье де Лиль-Адан, Огюст (1838-1889) - французский писа-
тель, автор пьесы «Аксель», одной из «священных» книг Йейтса. На
русский язык переведена М. Волошиным. Частично опубликована в
книге: Огюст Вилье де Лиль-Адан. Жестокие рассказы. М.: «Наука».
Серия «Лит. памятники», 1975.
390
Клодель, Поль (1868-1955) - поэт-символист; яркий представи-
тель католического возрождения во французской поэзии XX века.
Жамм, Франсис (1868-1938) - французский поэт, в стихах кото-
рого преобладают пасторально-религиозные мотивы.
Пеги, Шарль (1873-1914) - французский поэт и философ, погиб-
ший в сражении на Марне. «Мистерия милосердной любви Жанны
д'Арк» (1911) - одно из главных его произведений.
ТРИ ОПЫТА О ЙЕЙТСЕ
Загадка «Замиу»: Николай Гумилев и Графиня Кэтлин.
Литературно-детективное исследование одного автографа Гуми-
лева и судьбы его перевода пьесы Йейтса «Графиня Кэтлин». Статья
впервые опубликована в газете «Русская мысль» (Париж), 1999 г. в че-
тырех номерах: № 4271 (27 мая); № 4272 (3 июня); № 4273 (10 июня);
№4274 (17 июня).
Теория и игра маски: Гумилев и Йейтс.
Статья впервые опубликована в книге: Кружков Г.М. Ностальгия
обелисков. Литературные мечтания. М., Издательство «Новое литера-
турное обозрение», 2001.
Белая Богиня и Черный кентавр: Поэтические мифы
Р. Грейвза и У. Б. Йейтса.
Сокращенная и переработанная версия статьи, опубликован-
ной в журнале «Новый мир», 2009, № 6, в которой выдвинута
новая интерпретация стихотворения «Черный кентавр». Аргумен-
тация усилена за счет рассмотрения ряда других стихов Иейтса,
репрезентирующих Мод Гонн как астрологического Стрельца, т. е.
Кентавра.
СОДЕРЖАНИЕ
«Сохранить в душе ирландство» Г. Кружков 5
ПОЭЗИЯ
Перевод Г. Кружкова
Из книги «Перекрестки» (1889)
Плащ, корабль и башмачки 17
Похищенный мальчик 17
Старый рыбак 19
Из книги «Роза» (1893)
Розе, распятой на Кресте Времен 20
Фергус и Друид 21
Песня сидов 23
Остров Иннишфри 23
Печаль любви 24
На мотив Ронсара 24
Белые птицы 25
Кто вслед за Фергусом? 25
Жалобы старика 26
Из книги «Ветер в камышах» (1899)
Воинство сидов 27
Вечные голоса 27
Неукротимое племя 28
В сумерки 28
Песня скитальца Энгуса 29
Влюбленный рассказывает о розе, цветущей в его сердце .... 29
Он скорбит о перемене, случившейся с ним и его любимой
и ждет конца света 30
Он просит у своей любимой покоя 30
Он вспоминает забытую красоту 31
Он мечтает о парче небес 31
Скрипач из Дууни 32
Из книги «В семи лесах» (1904)
В Семи Лесах 33
Не отдавай любви всего себя 33
Проклятие Адама 34
Блаженный вертоград 35
Туманные воды (1906) 37
Из книги «Зеленый шлем и другие стихотворения» (1910)
Нет другой Трои 69
392
Мудрость приходит в срок 69
Одному поэту, который предлагал мне похвалить весьма
скверных поэтов, его и моих подражателей 70
Соблазны 70
Из книги «Ответственность» (1914)
Сентябрь 1913 71
Другу, чьи труды пошли прахом 72
Скорей бы ночь 72
Как бродяга плакался бродяге 73
Ведьма 73
Могила в горах 74
Плащ 74
Из книги «Дикие лебеди в Куле» (1919)
Мраморный тритон 75
Заячья косточка 75
Соломон - царице Савской 76
След 77
Знатоки 77
Фазы луны 77
Кот и луна 82
Две песни из пьесы 83
Из книги «Майкл Робартис и плясунья» (1921)
Политической узнице 85
Второе пришествие 86
Из книги «Башня» (1928)
Плавание в Византию 87
Размышления во время гражданской войны 88
Юность и старость 94
Сверстники 94
Леда и Лебедь 95
Черный кентавр (по картине Эдмунда Дюлака) 95
Среди школьников 96
Из книги «Винтовая лестница» (1933)
Разговор поэта с его душой 99
Кровь и луна 101
Византия 103
Три эпохи 104
Сожалею о сказанном сгоряча 104
Триумф женщины 105
Из цикла «Слова, возможно, для музыки» (1929-1931)
Безумная Джейн и епископ 106
Безумная Джейн о Боге 107
Безумная Джейн говорит с епископом 107
Колыбельная 108
В непогоду 109
«Я родом из Ирландии» 109
393
Том-сумасшедший 110
Из книги «Полнолуние в марте» (1935)
Молитва старика 111
Гора Меру 111
Из «Новых стихотворений» (1938)
Ляпис-лазурь 112
Три куста 113
Песня влюбленного 115
Клочок лужайки 116
Олимпийское племя 116
Проклятие Кромвеля 117
Буйный старый греховодник 118
Чистилище (1938) 120
Из «Последних стихотворений» (1938-1939)
В тени Бен-Балбена 129
Черная башня 132
Водомерка 133
Джон Кинселла пьет за упокой миссис Мэри Мор 134
Высокий слог 135
Парад-алле 135
ПРОЗА
Размышления о детстве и юности (1916). Перевод В. Ряполовой .. 139
Из книги «Кельтские сумерки» (1893). Перевод Т. Стамовой
Рассказчик 211
«Прах скрыл очи Елены» 212
Стойкое сердце 217
Неутомимые 219
Земля, огонь и вода 221
Религия моряка 222
О близости неба, земли и чистилища 222
Золотой век 223
Укор шотландцам, омрачивших нрав своих духов и гоблинов ... 224
Королева и шут 227
Сказки без морали 228
У дороги 230
Из книги «Идеи добра и зла» (1904). Перевод А. Ливерганта
Что такое народная поэзия? 243
Настроение 250
Тело Отца Розенкрейца 251
Per Arnica Silentia Lunae (1918). Перевод Г. Кружкова
Пролог 255
Ego Dominus Tuus 256
Anima homini 259
394
Anima mundi 271
Эпилог 287
ПРИЛОЖЕНИЕ
Г. Кружков. Три эссе о У. Б. Йейтсе
Загадка «Замиу»: Николай Гумилев и графиня Кэтлин 291
Теория и игра маски: Гумилев и Йейтс 308
Белая Богиня и черный кентавр 337
Комментарии 359
Уильям Батлер Йейтс
ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА
Редактор А. Агапова
Художественный редактор А. Балашова
Технический редактор О. Стоскова
Корректор Н. Кузнецова
Компьютерная верстка О. Борисова
Подписано в печать 05.10.11 г.
Формат 84x108 732. Бумага офсетная.
Гарнитура «Тайме». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 22,1.
Заказ № 1117410.
Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su
Отпечатано в полном соответствии с качеством
д TVStO пРеД°ставленного электронного оригинал-макета
япк в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97
Уважаемые читатели!
Если вы желаете приобрести издания Книжного клуба «Книговек»,
просим обращаться по телефону: (495) 737-04-80; или по адресу:
127206, г. Москва, а/я 24, Книжный клуб «Книговек».
Вступив в Книжный клуб «Книговек», вы также можете приобре-
тать наши книги и знакомиться с новинками. Только члены Клуба по-
лучают 6 раз в год иллюстрированный журнал, в котором представлены
развернутые статьи о книгах клубной программы, публикуются отрыв-
ки из произведений, новости книжного мира, статьи по истории литера-
туры, факты из истории книги, печатного дела, искусства книги; от-
дельные рубрики посвящены читателям и писателям. Журнал распро-
страняется по всей стране.
Если вы желаете вступить в Книжный клуб «Книговек», просим
обращаться по телефону: (495) 737-04-80; или по адресу: 127206,
г. Москва, а/я 24, Книжный клуб «Книговек».
Также вы можете заказать книги в интернет-магазине на сайте
www.terra.su или www.knigovek.ru.
По вопросам оптовых закупок просьба обращаться по телефону:
(495) 737-04-73.
Мы рады вашим заказам!
Издательство «Книжный Клуб Книговек»
предлагает:
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
В десяти томах
Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) —
великий русский писатель-мыслитель, произведения
которого, характеризующиеся глубоким психологиз-
мом и эмоциональной напряженностью, известны во
всем мире. Его творчество оказало мощное воздейст-
вие на развитие мировой культуры, философской и
эстетической мысли XX века.
В собрании представлены все самые значимые
произведения писателя.
Приобрести издания Книжного клуба «Книговек»
можно по телефону: (495) 737-04-80, или по адресу:
127206, г. Москва, а/я 24, «Книжный Клуб Книговек».
Также вы можете заказать книгу в интернет-магазине
на сайте www.terra.su
Издательство «Книжный Клуб Книговек»
предлагает:
А. П. ЧЕХОВ
Собрание сочинений в 15 томах
Антон Павлович Чехов (1860—1904) — замеча-
тельный русский писатель, создатель ярких запо-
минающихся образов, тонкий психолог, мастер
подтекста, своеобразно сочетающий юмор и ли-
ризм. Его творческое наследие, в которое вошли
любимые читателями во всем мире прозаические и
драматические произведения писателя, оказало ог-
ромное влияние на развитие литературы и теат-
рального искусства XX века.
Предлагаемое собрание наиболее полное: оно
включает в себя как его ранние очерки и фельето-
ны, так и зрелые рассказы, дневниковые записи,
избранную переписку и фрагменты записных кни-
жек.
Приобрести издания Книжного клуба «Книговек»
можно по телефону: (495) 737-04-80, или по адресу:
127206, г. Москва, а/я 24, «Книжный Клуб Книговек».
Также вы можете заказать книгу в интернет-магазине
на сайте www.terra.su
«
к с
i ч
1
ISBN 978-5-4224-0397-4
www.soy uzkn iga.ru