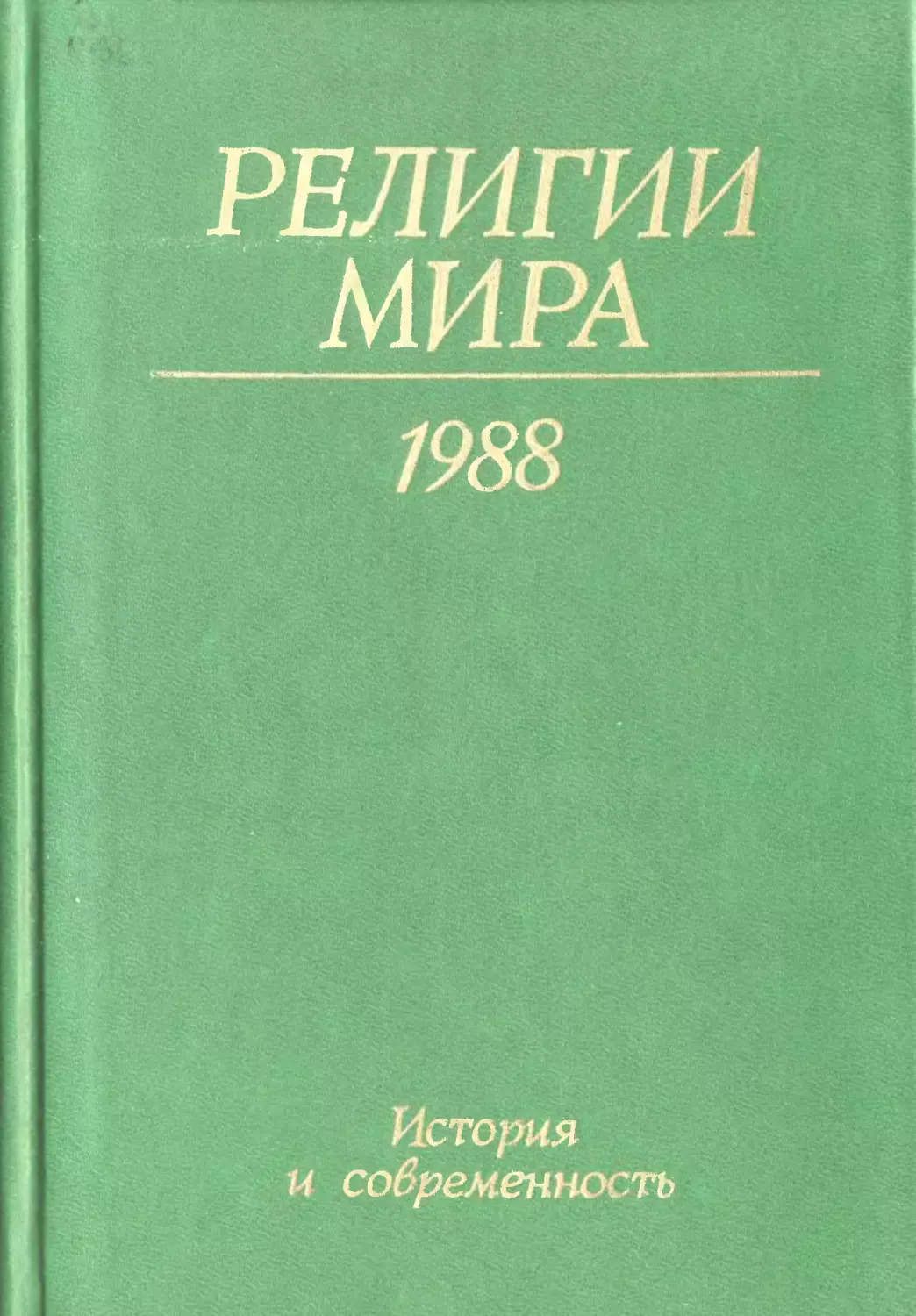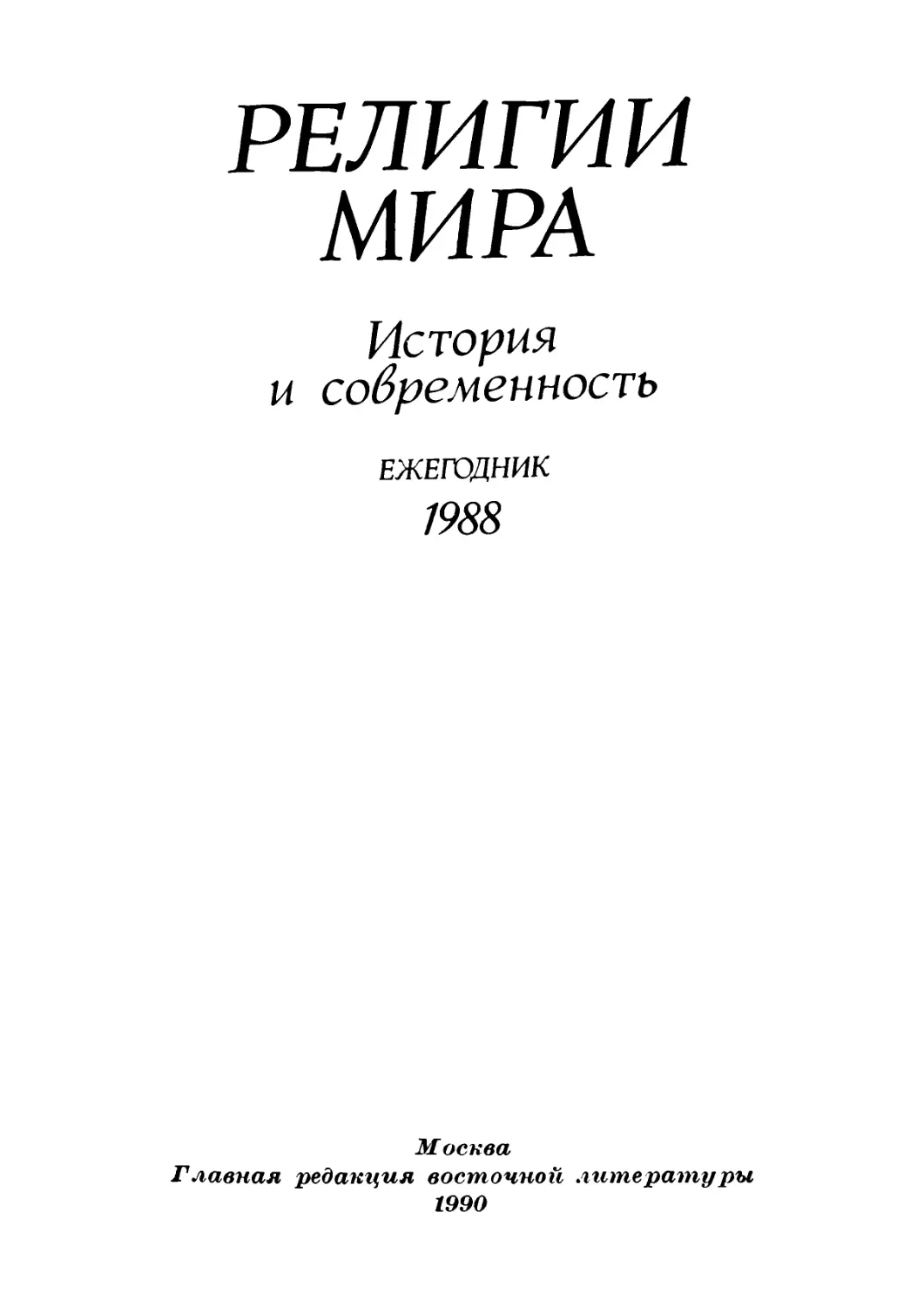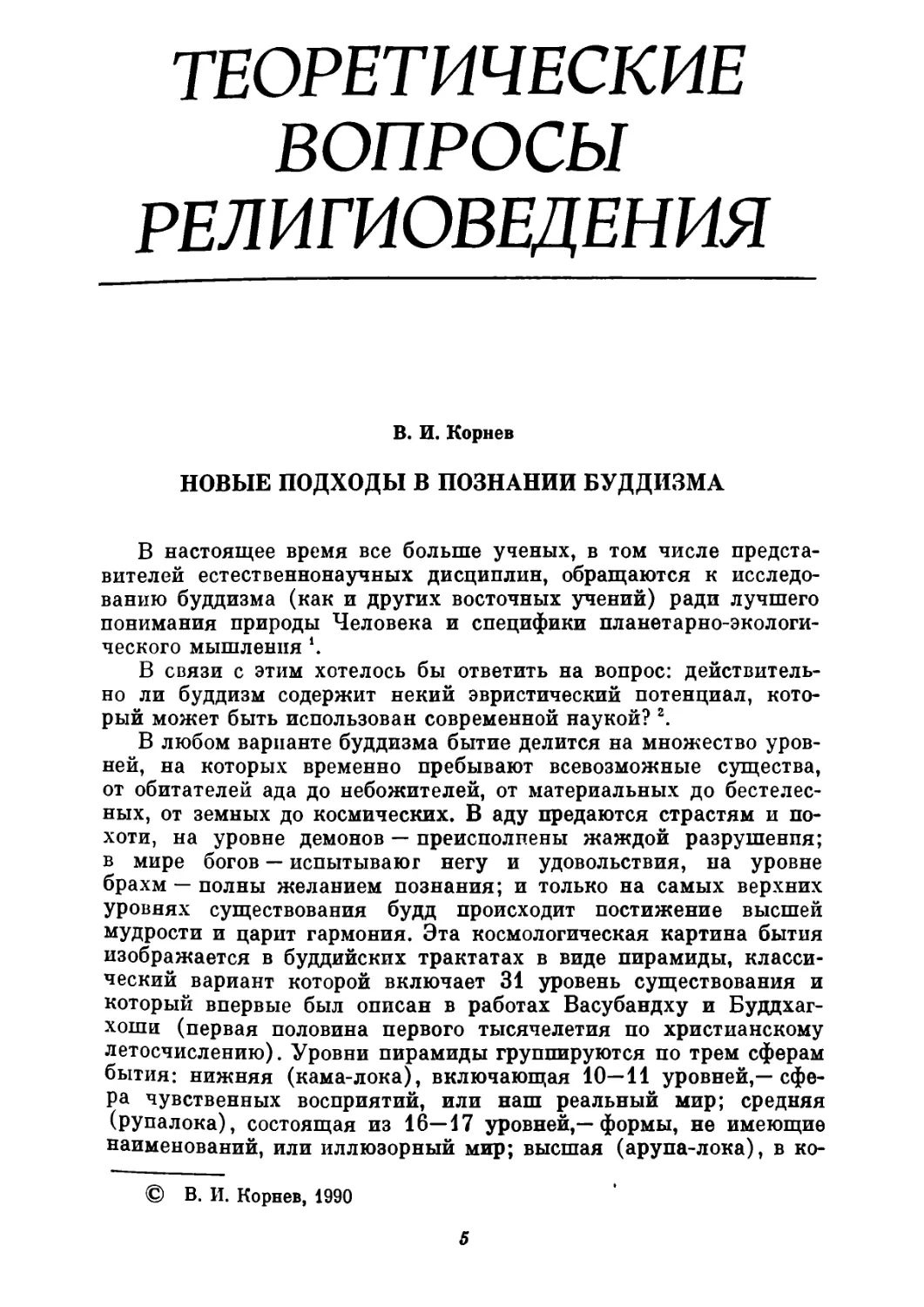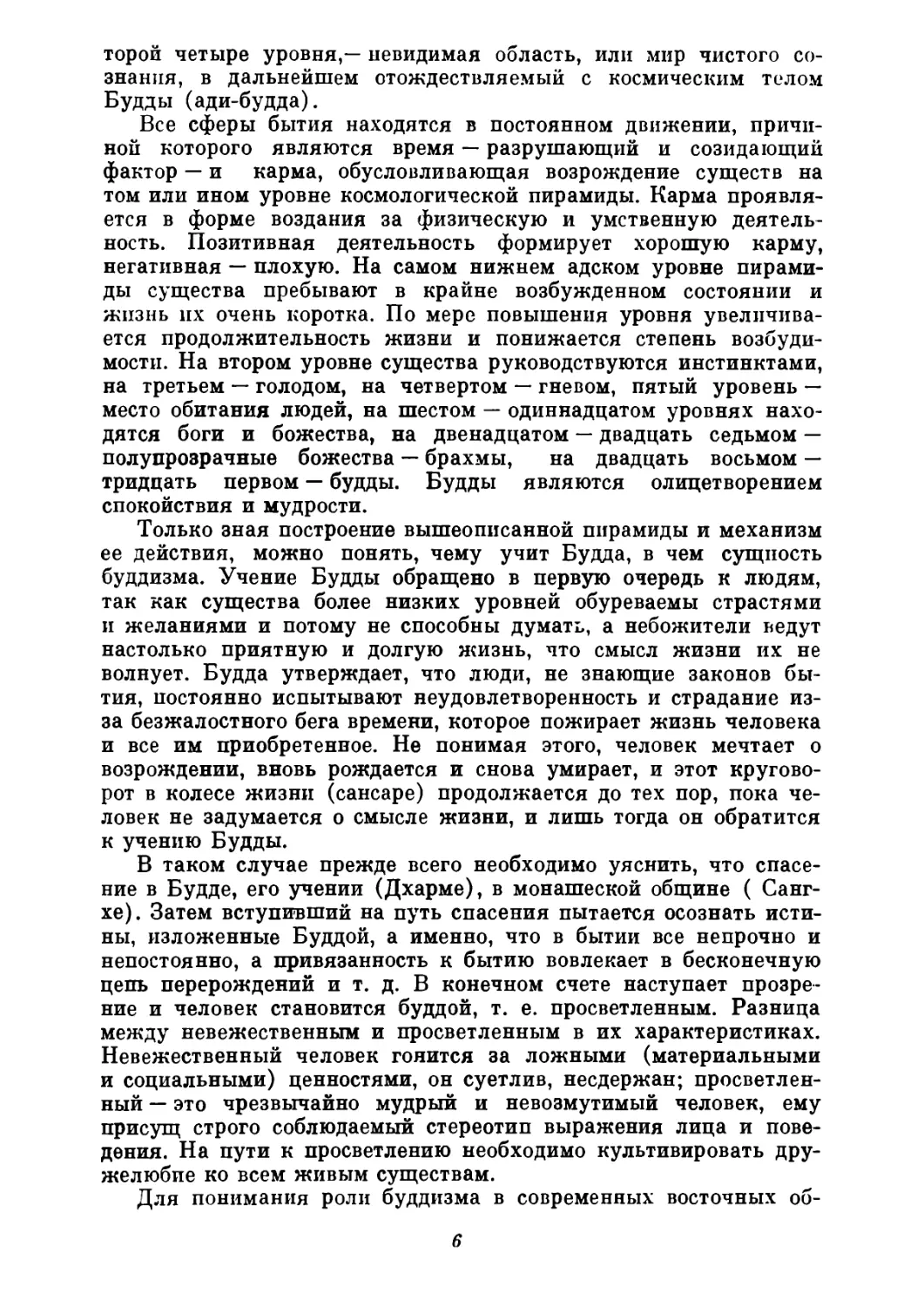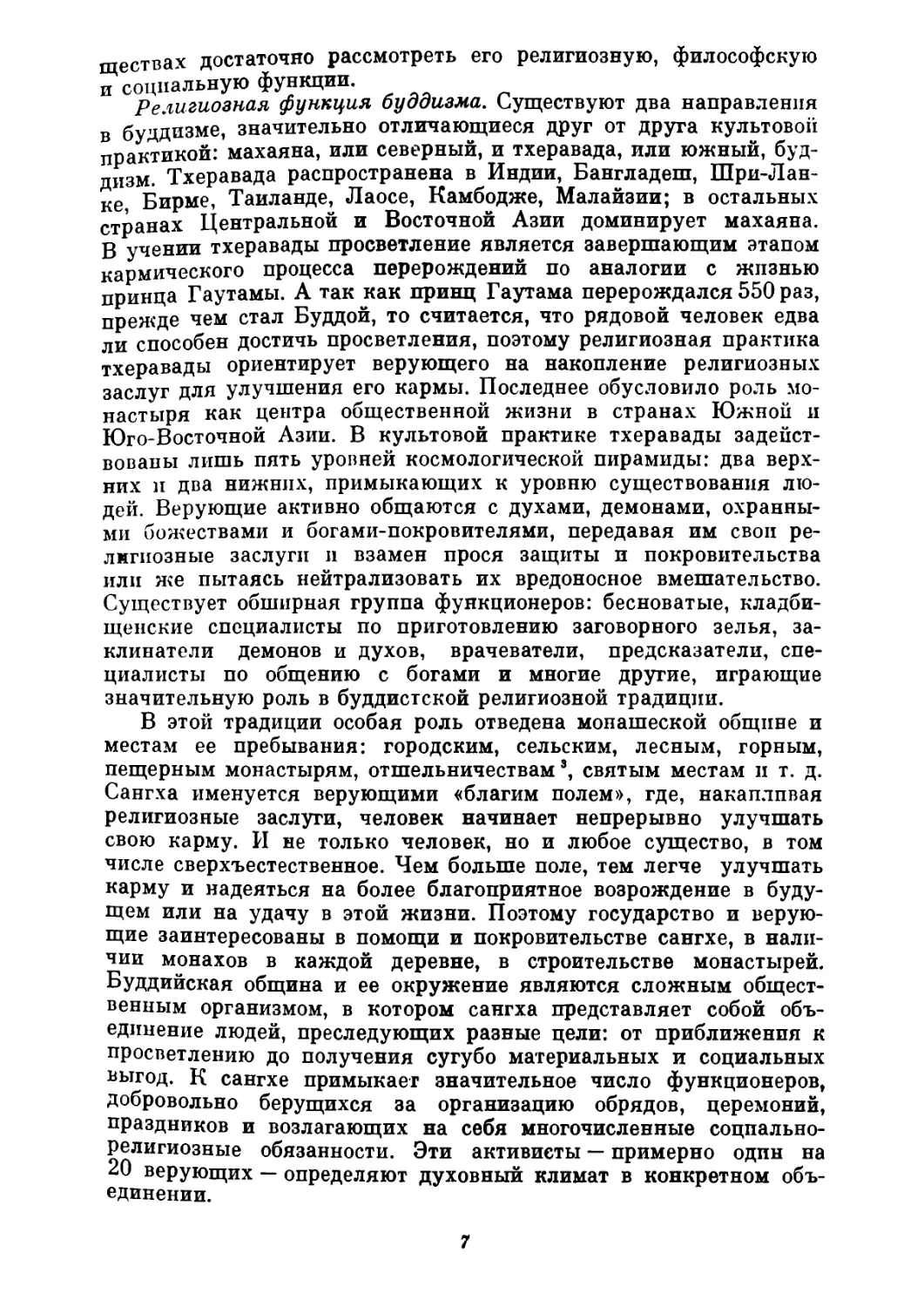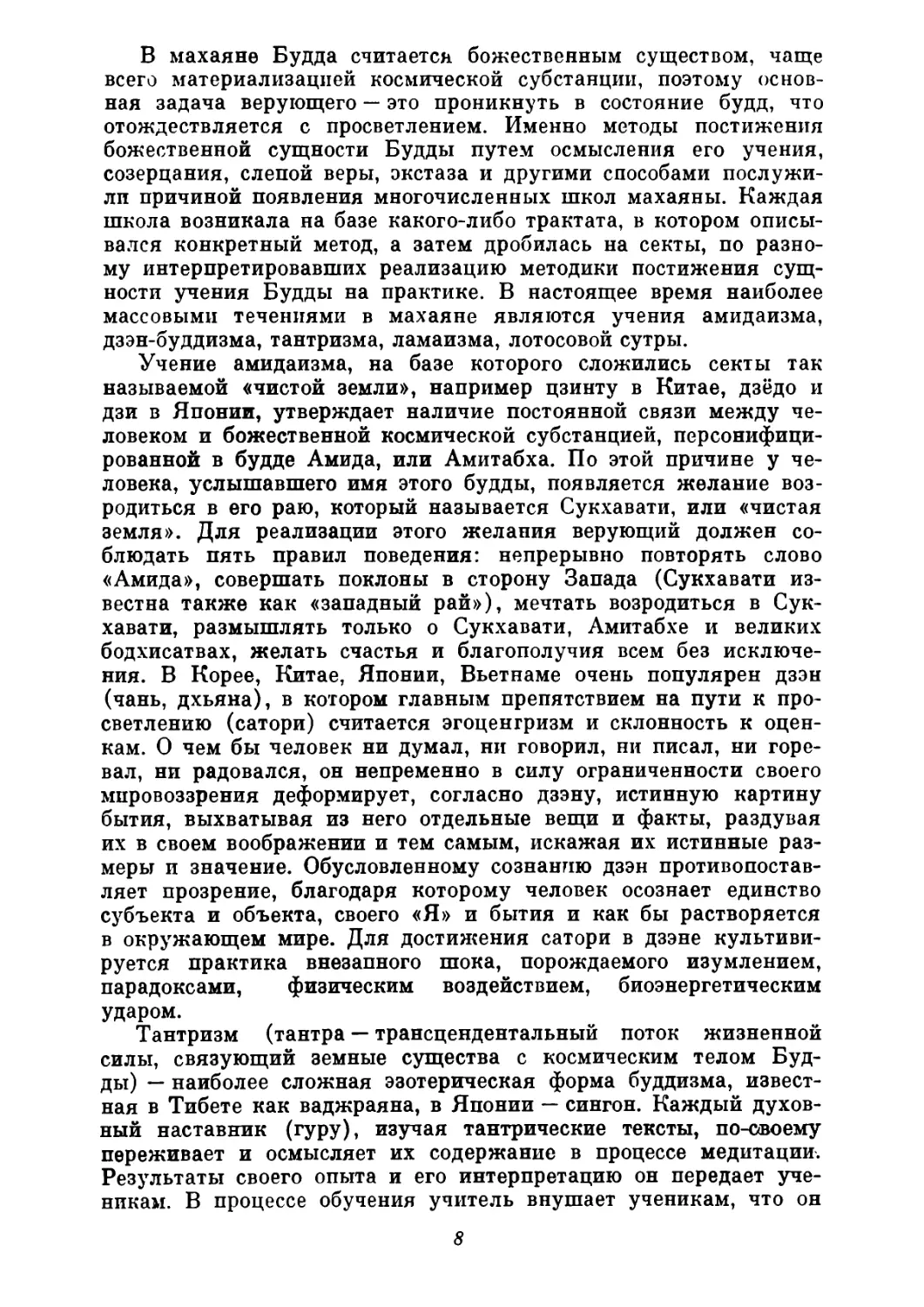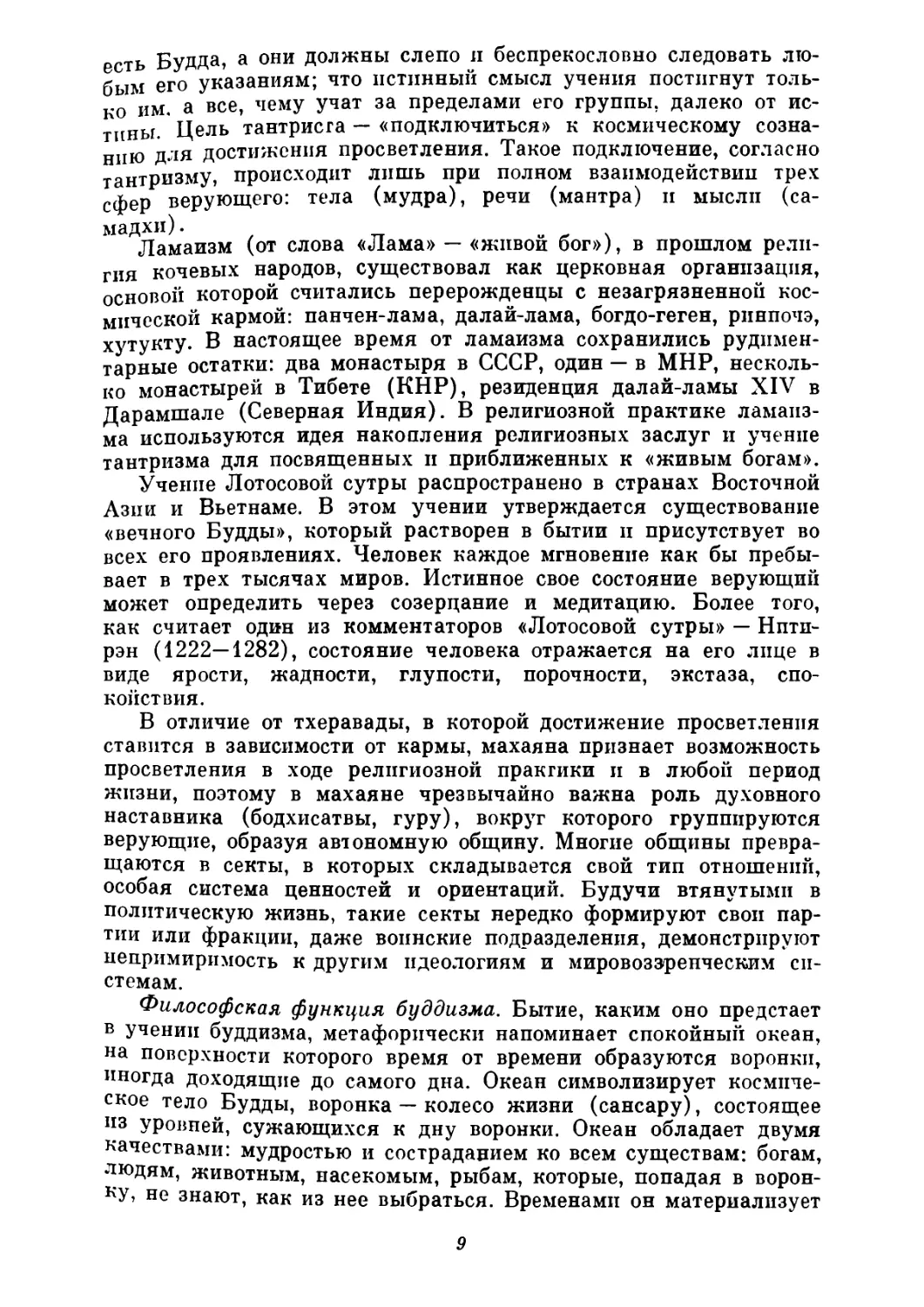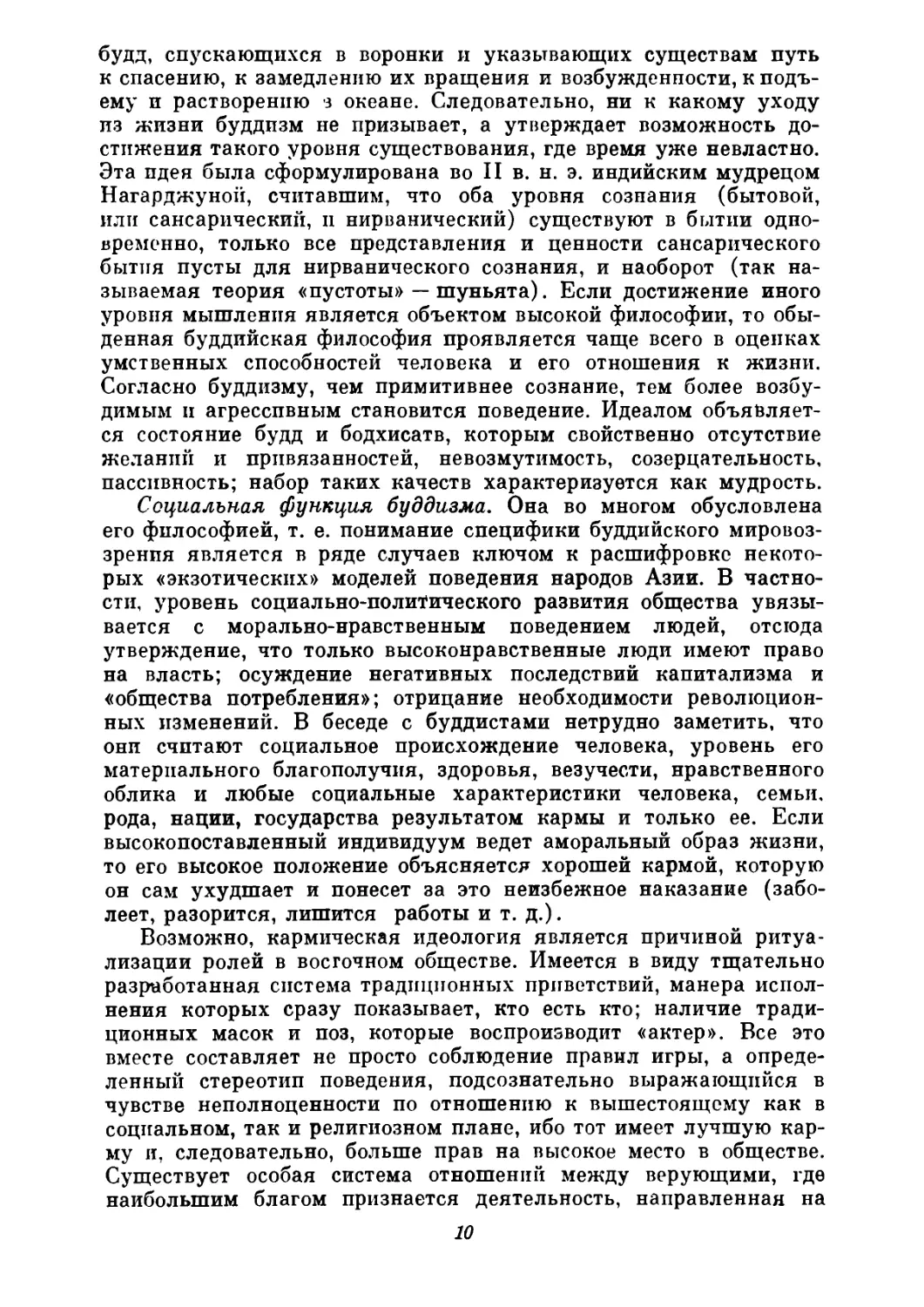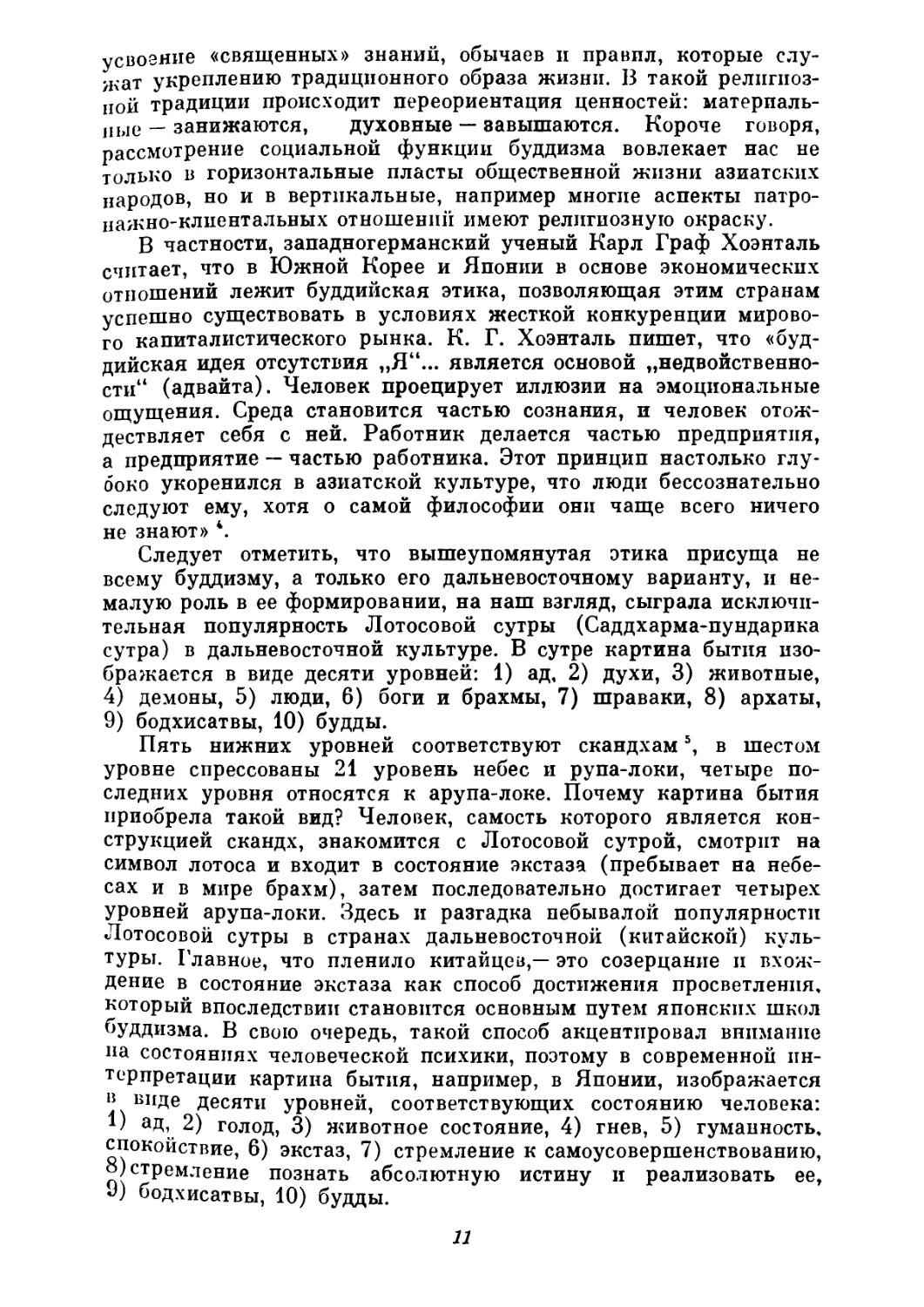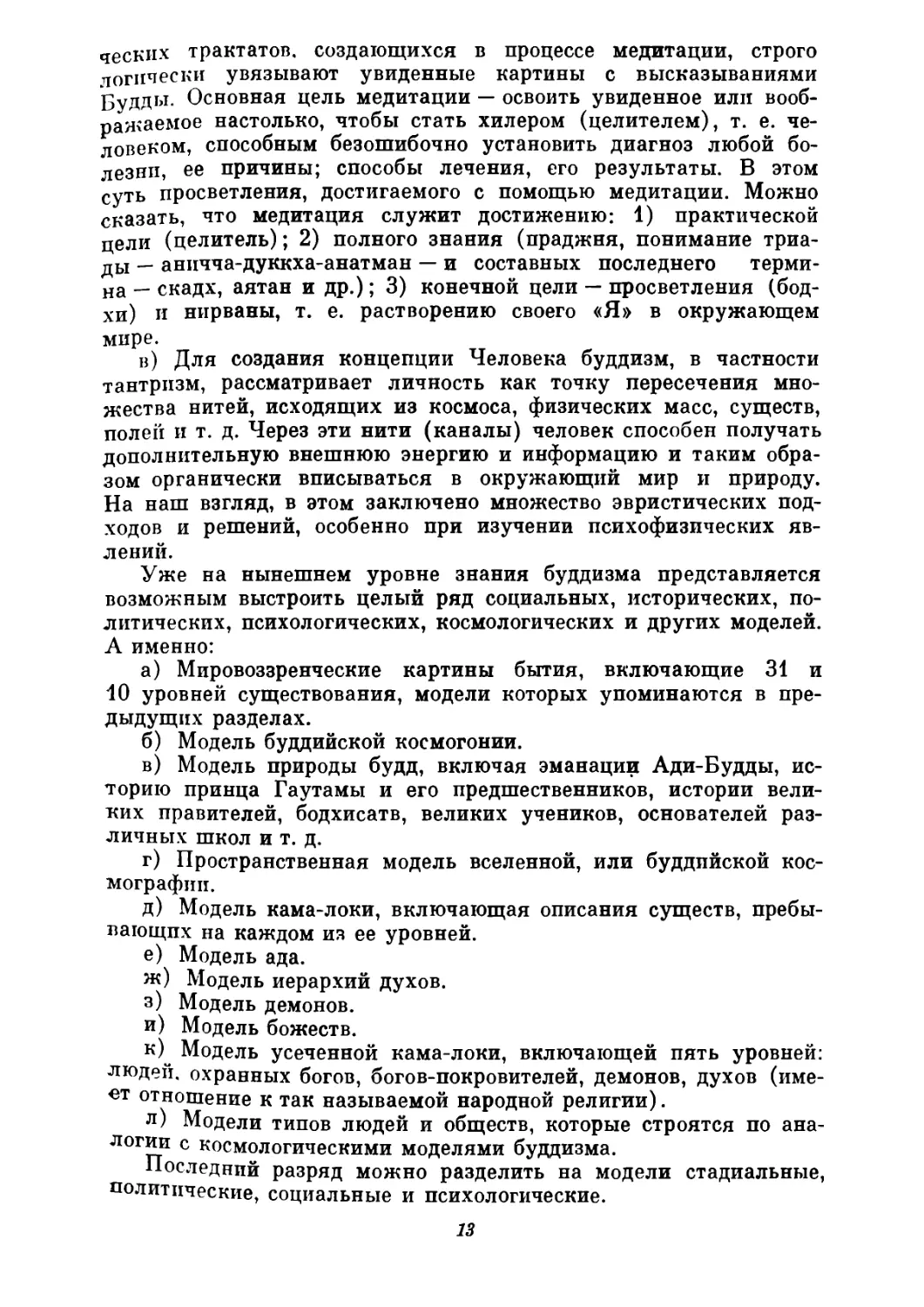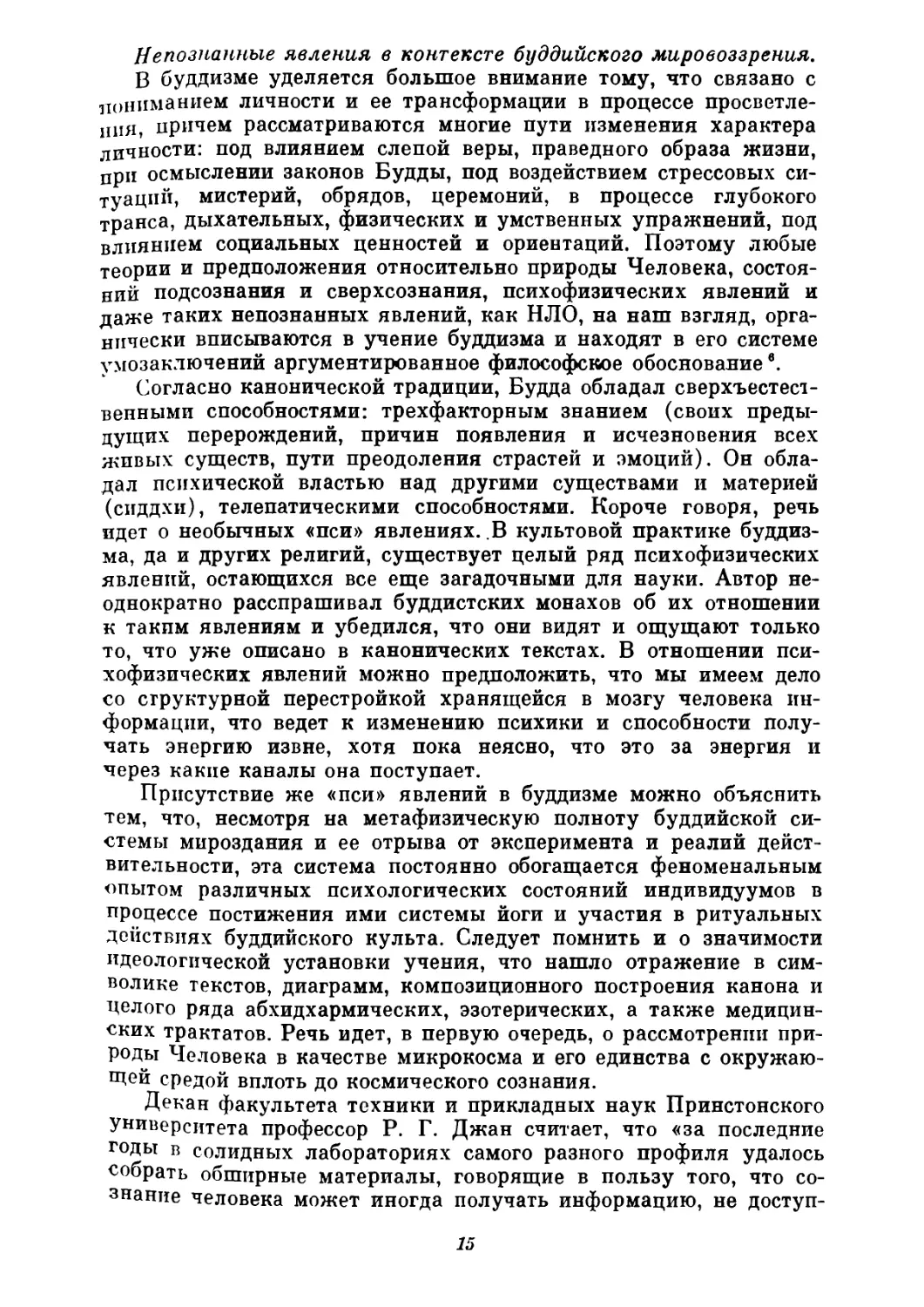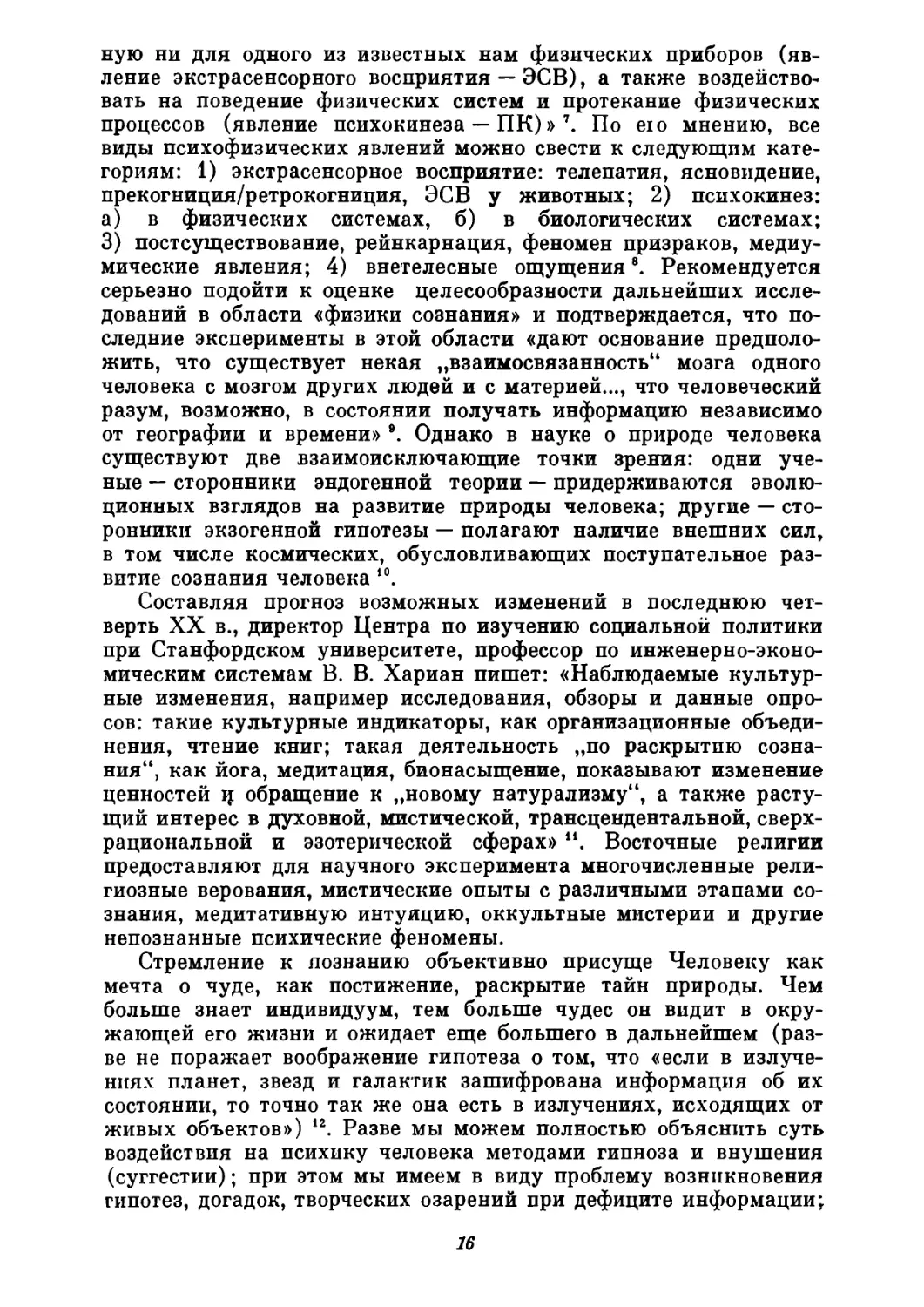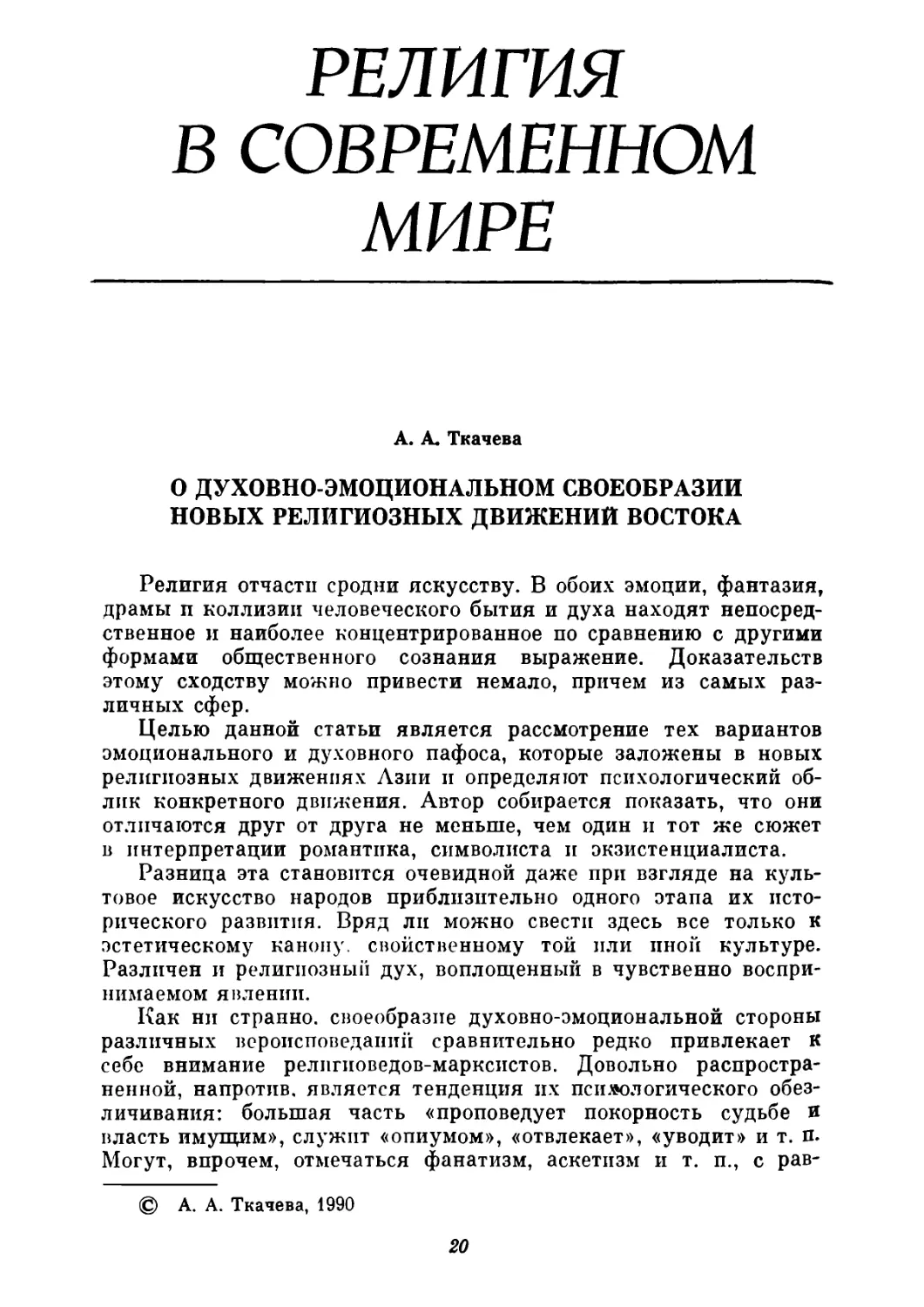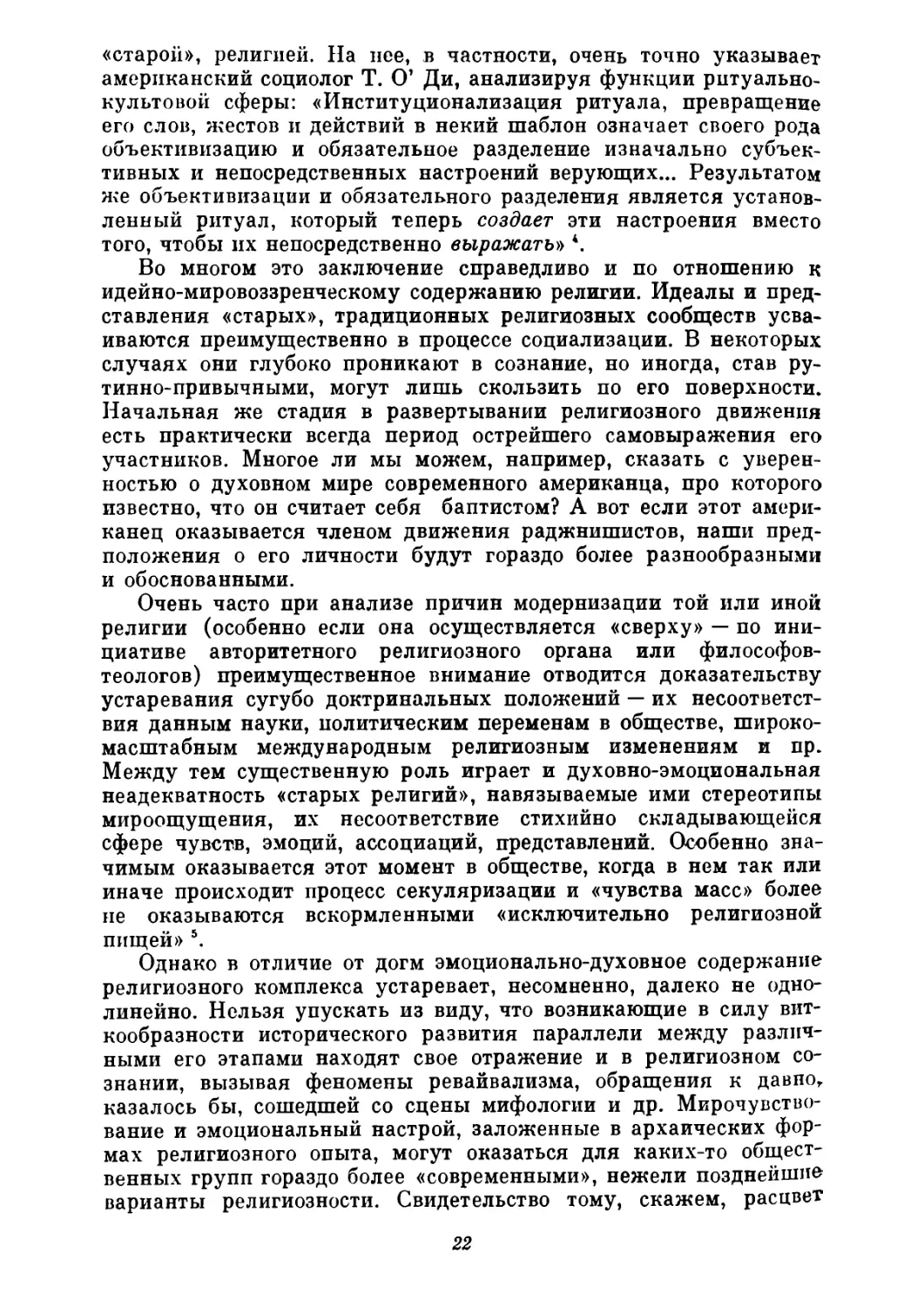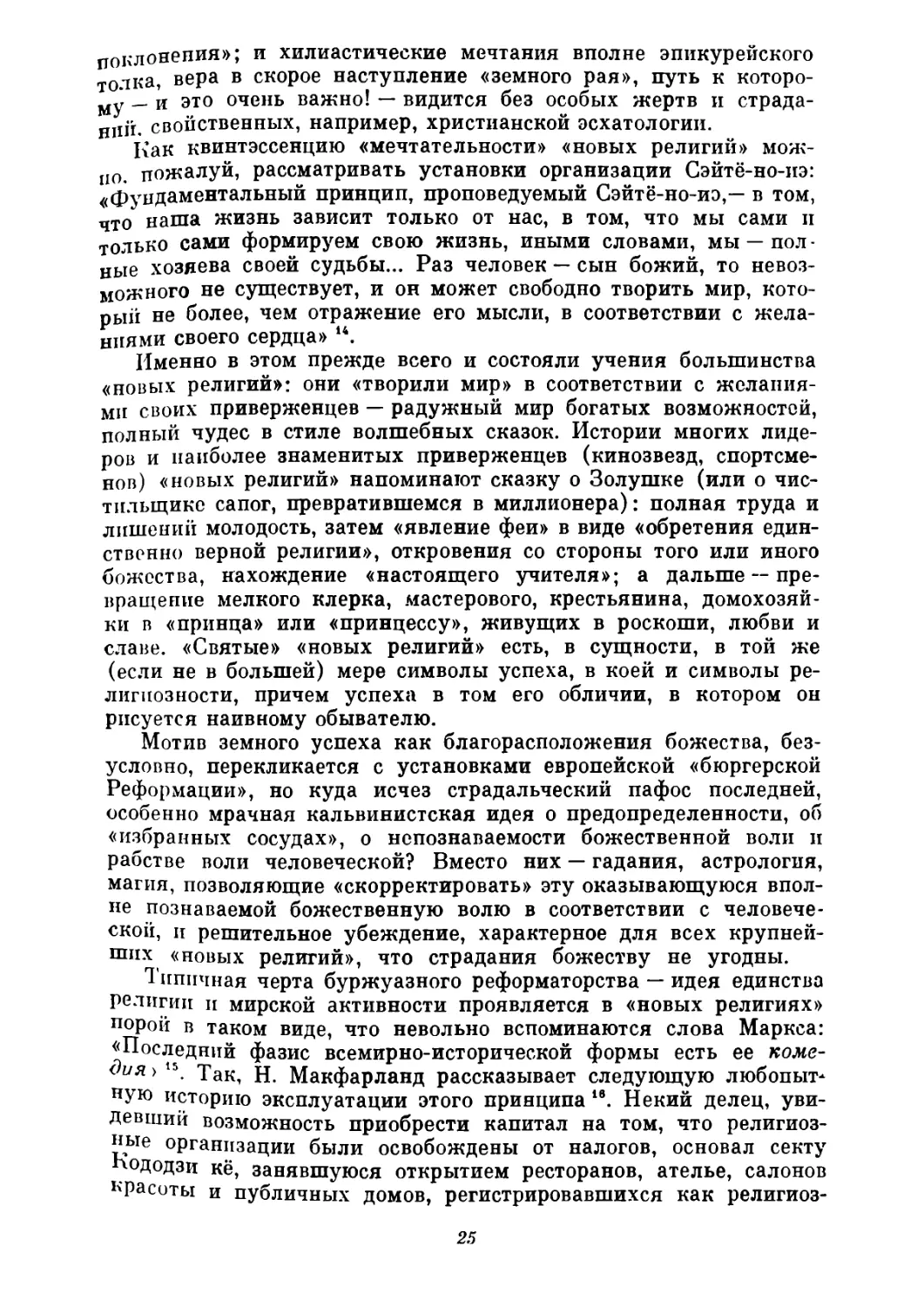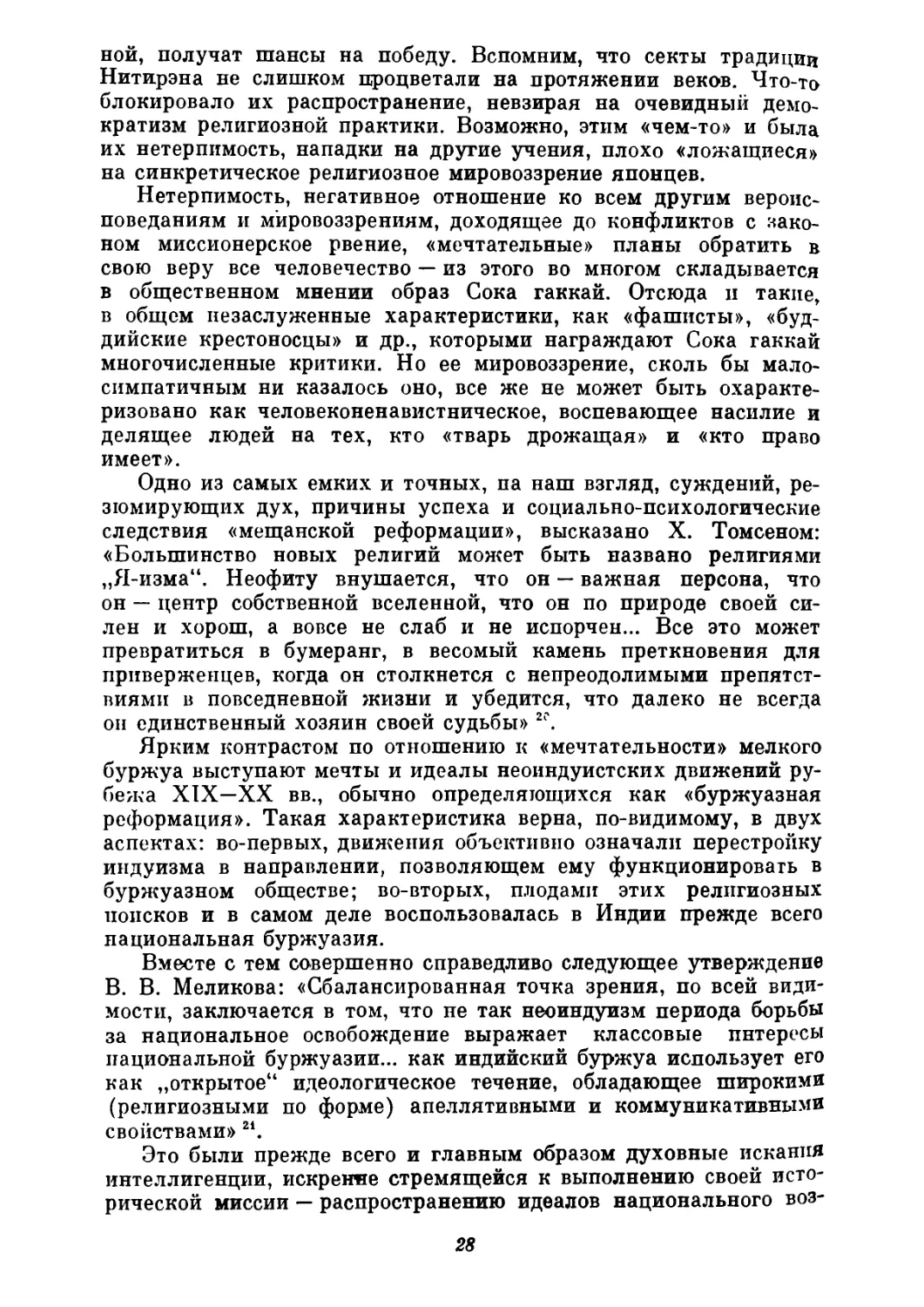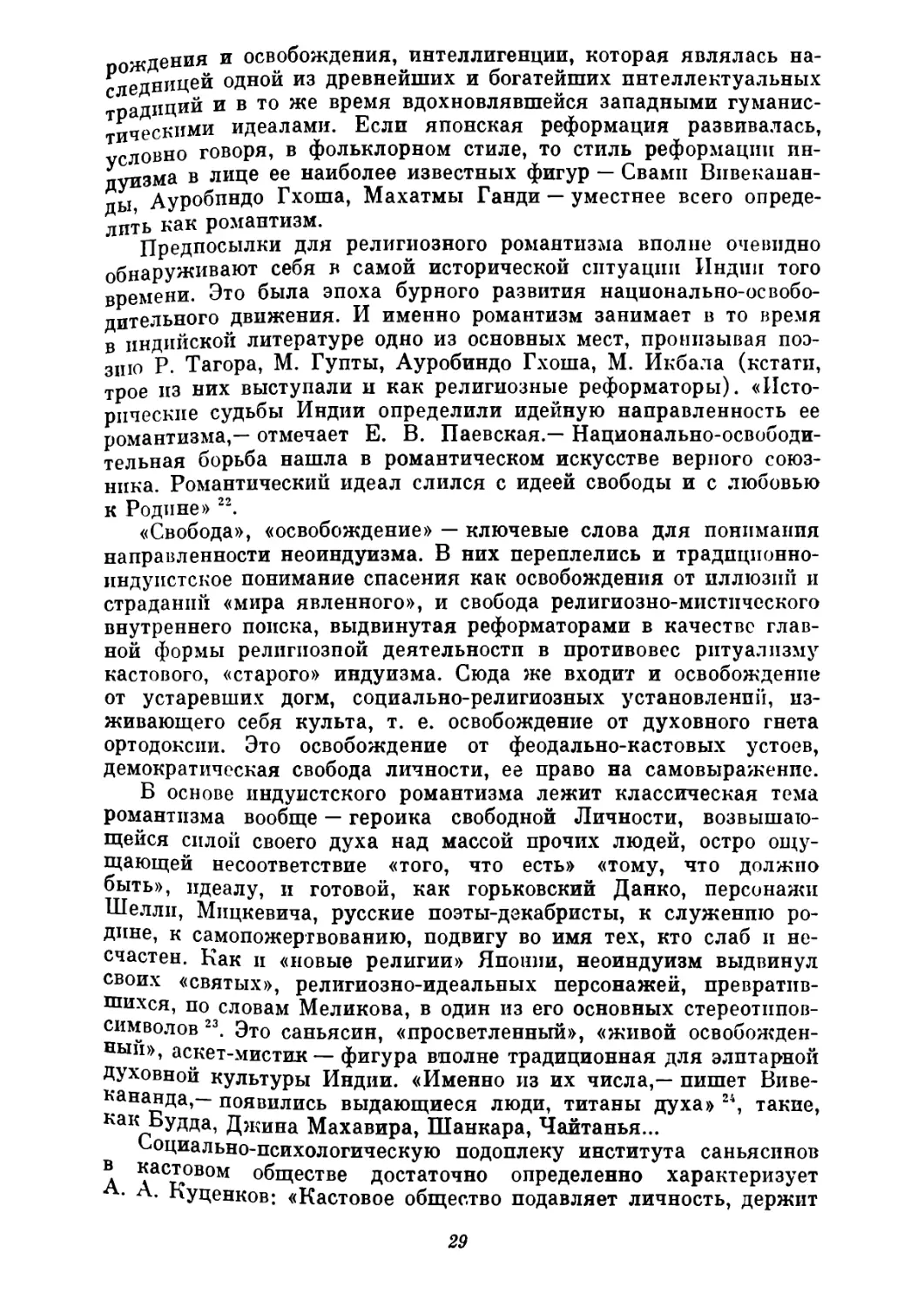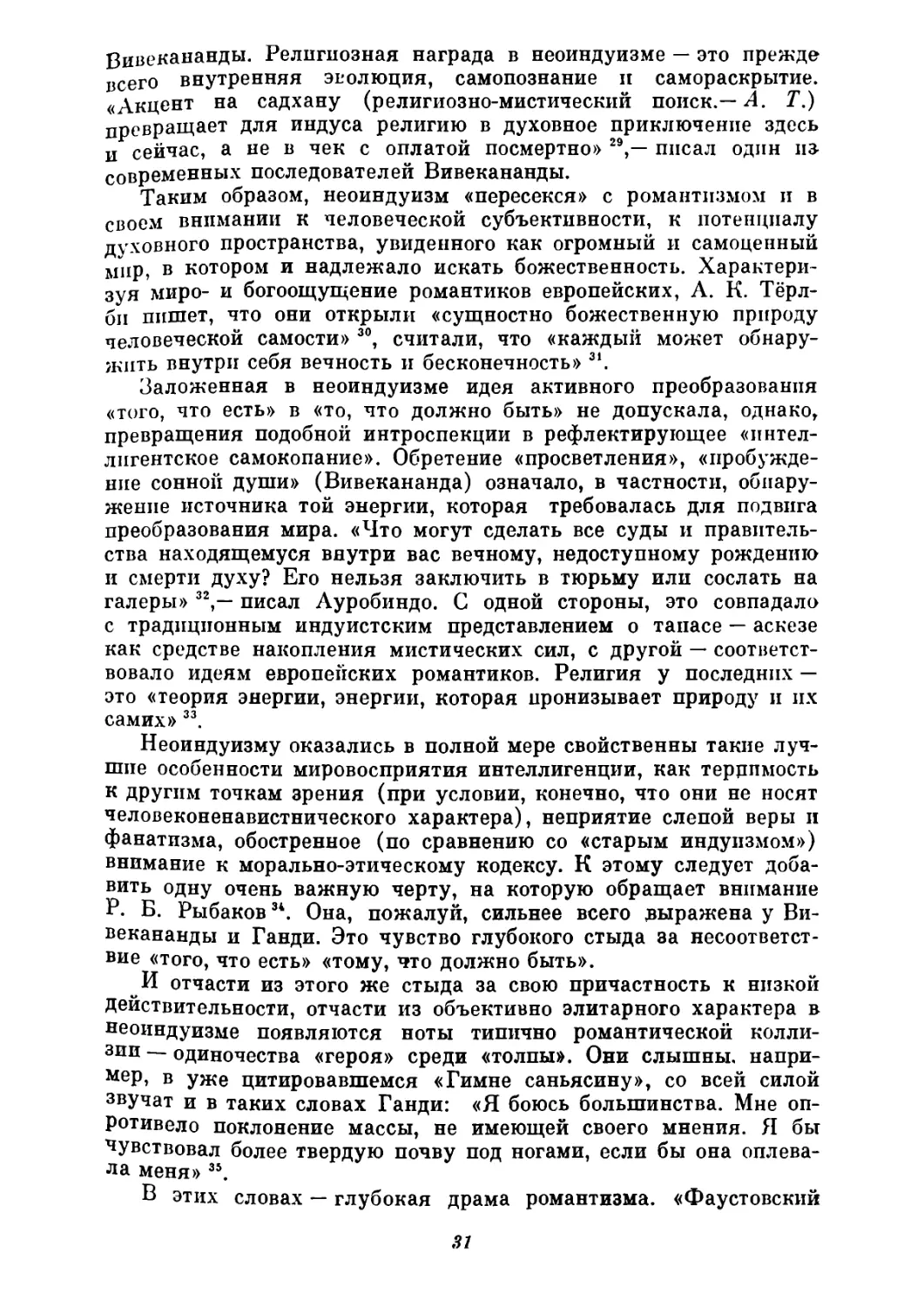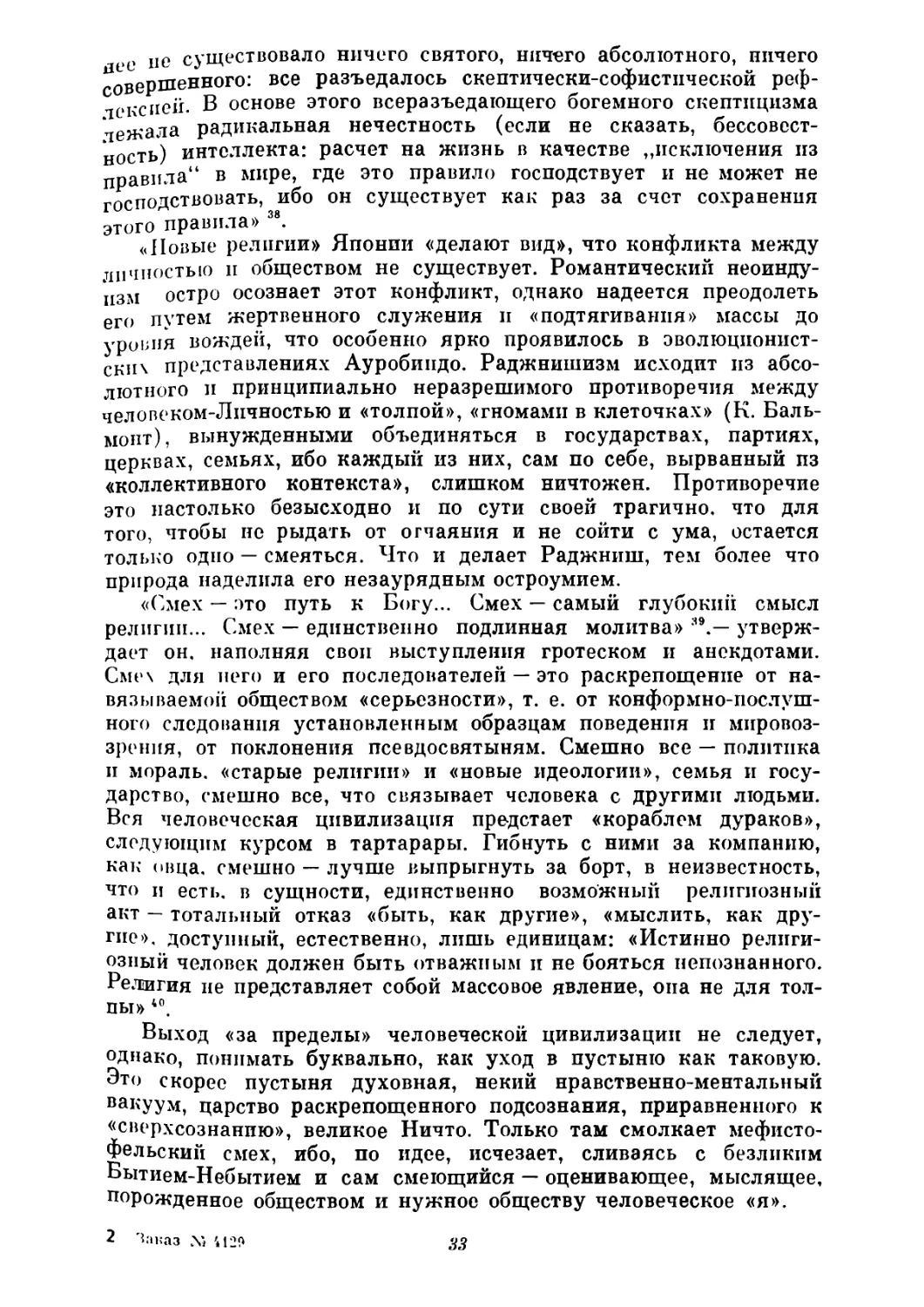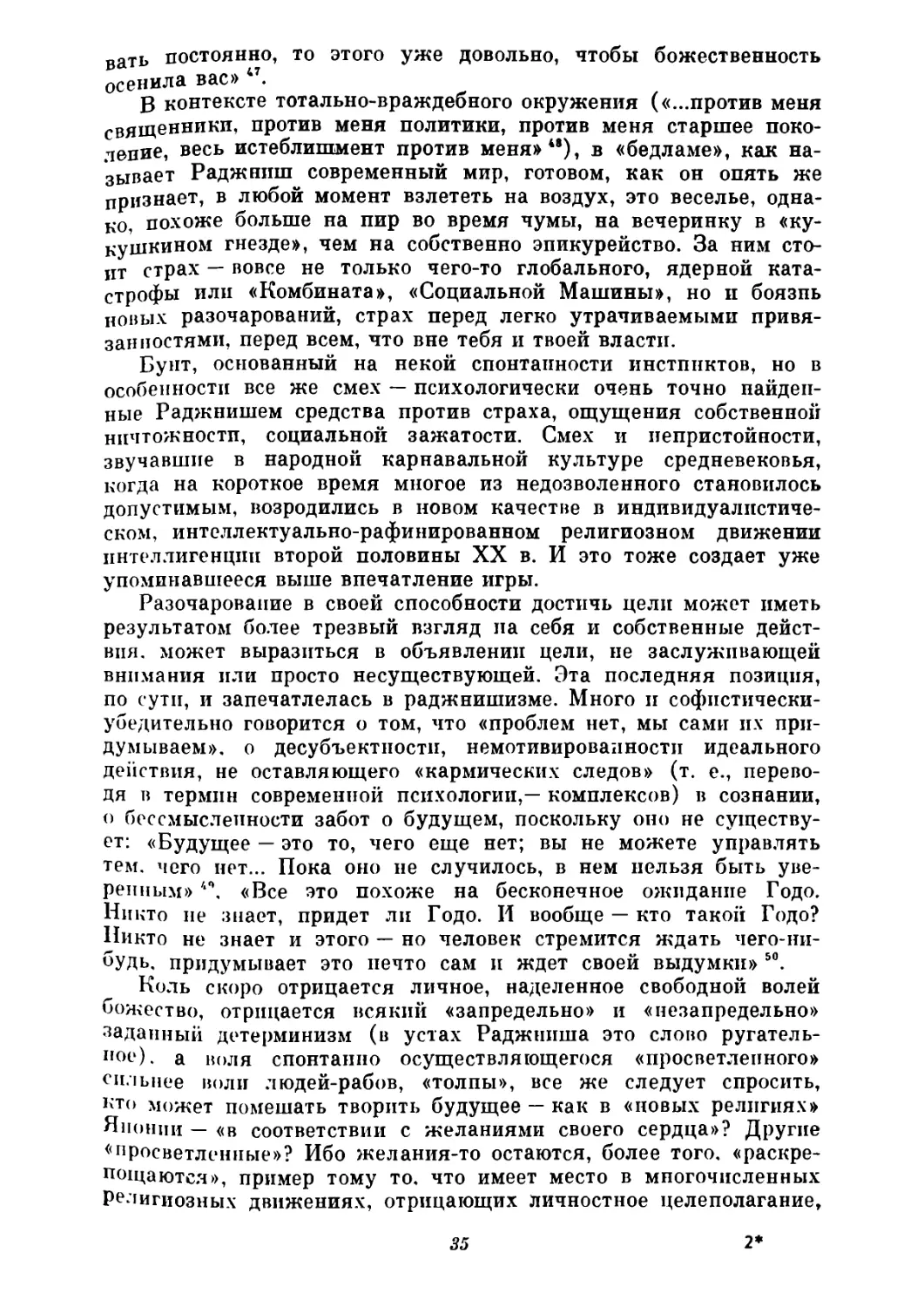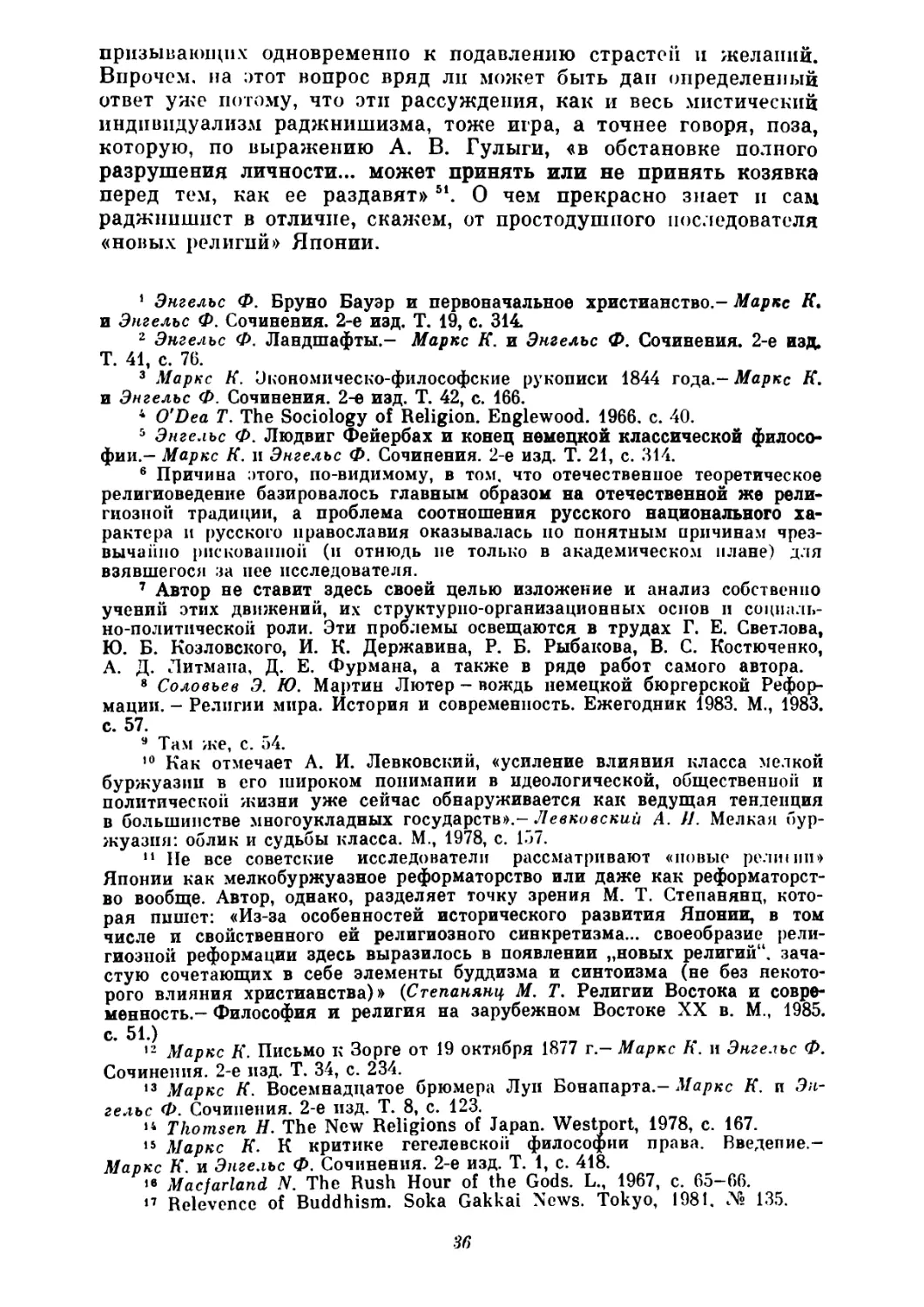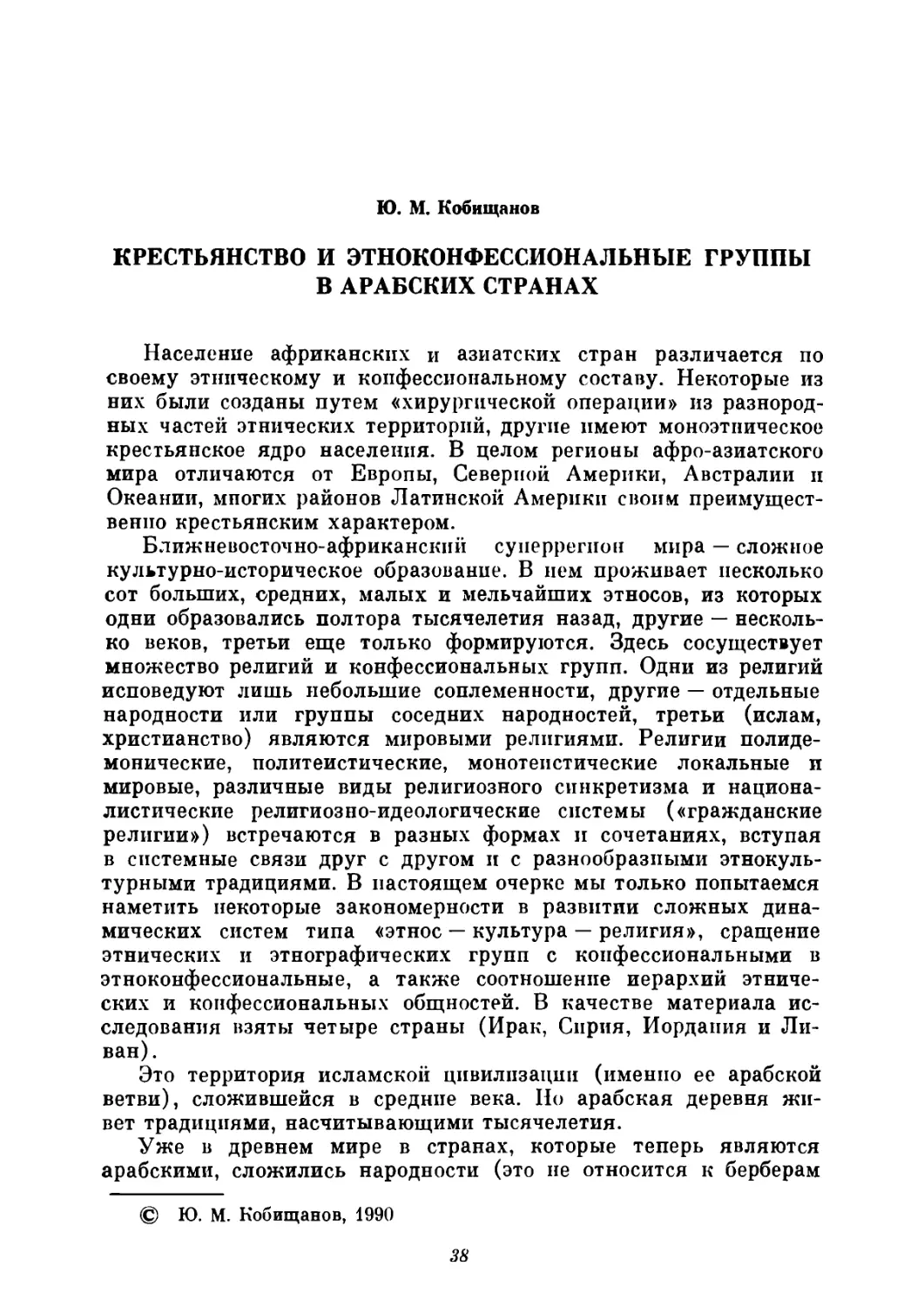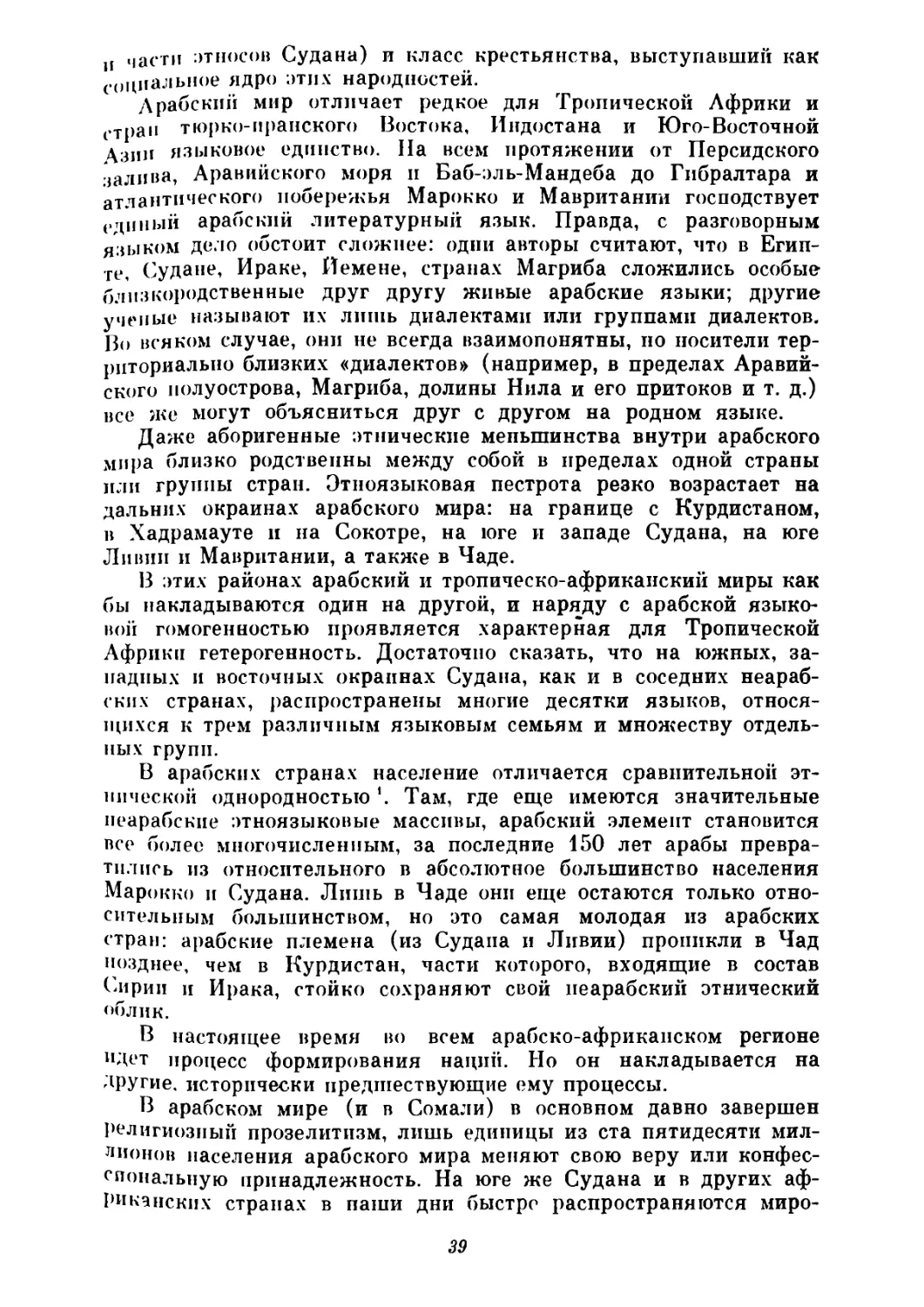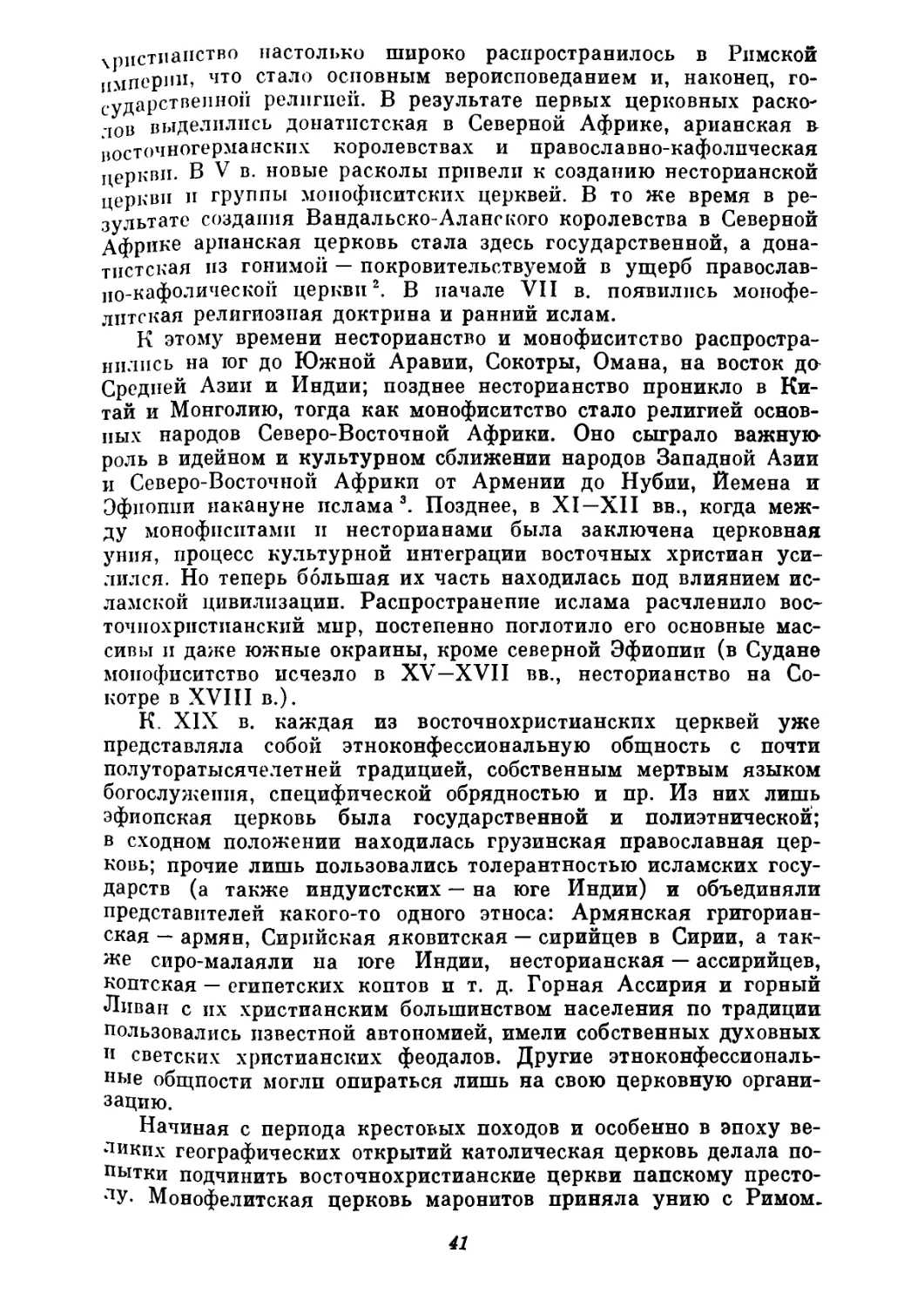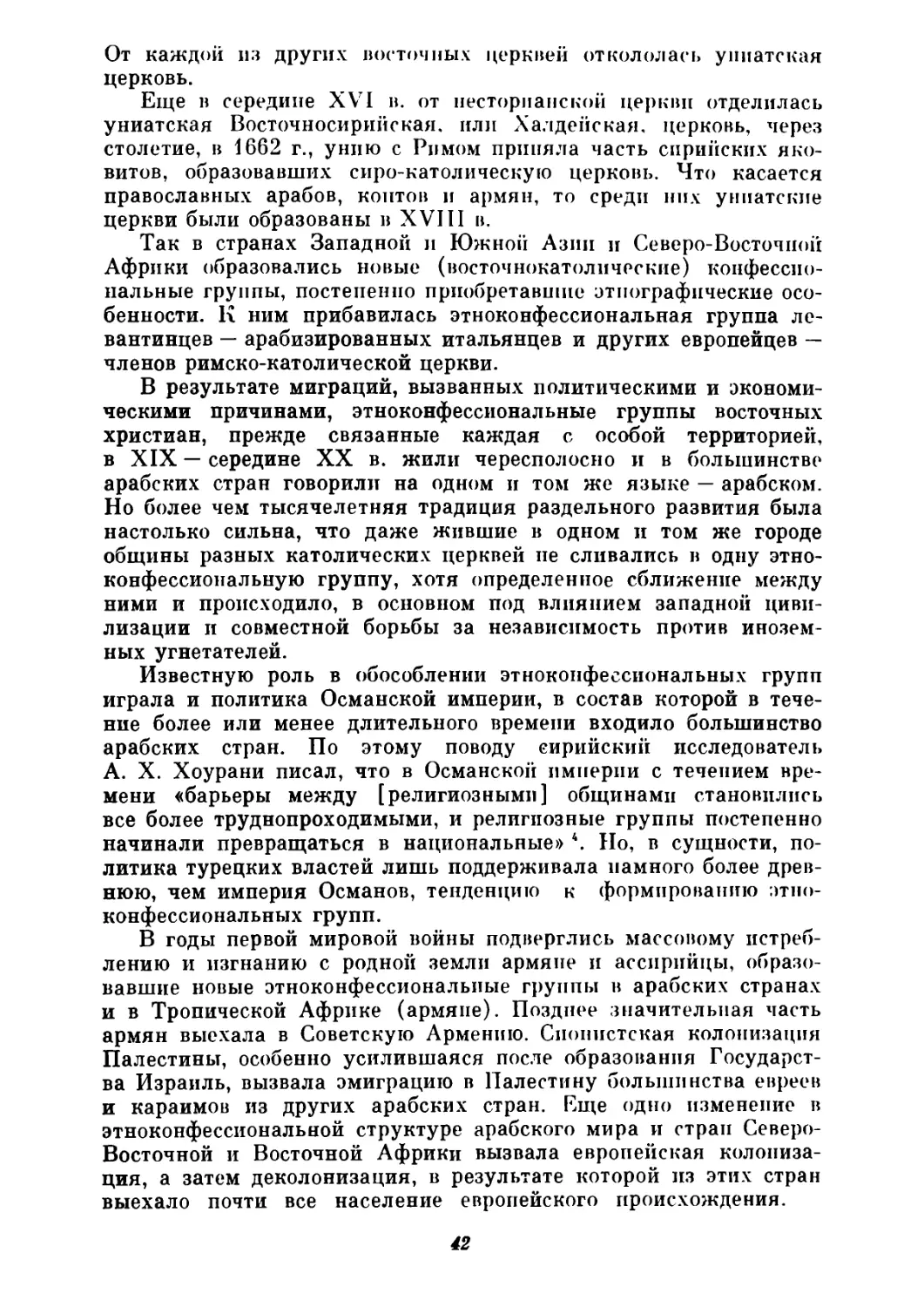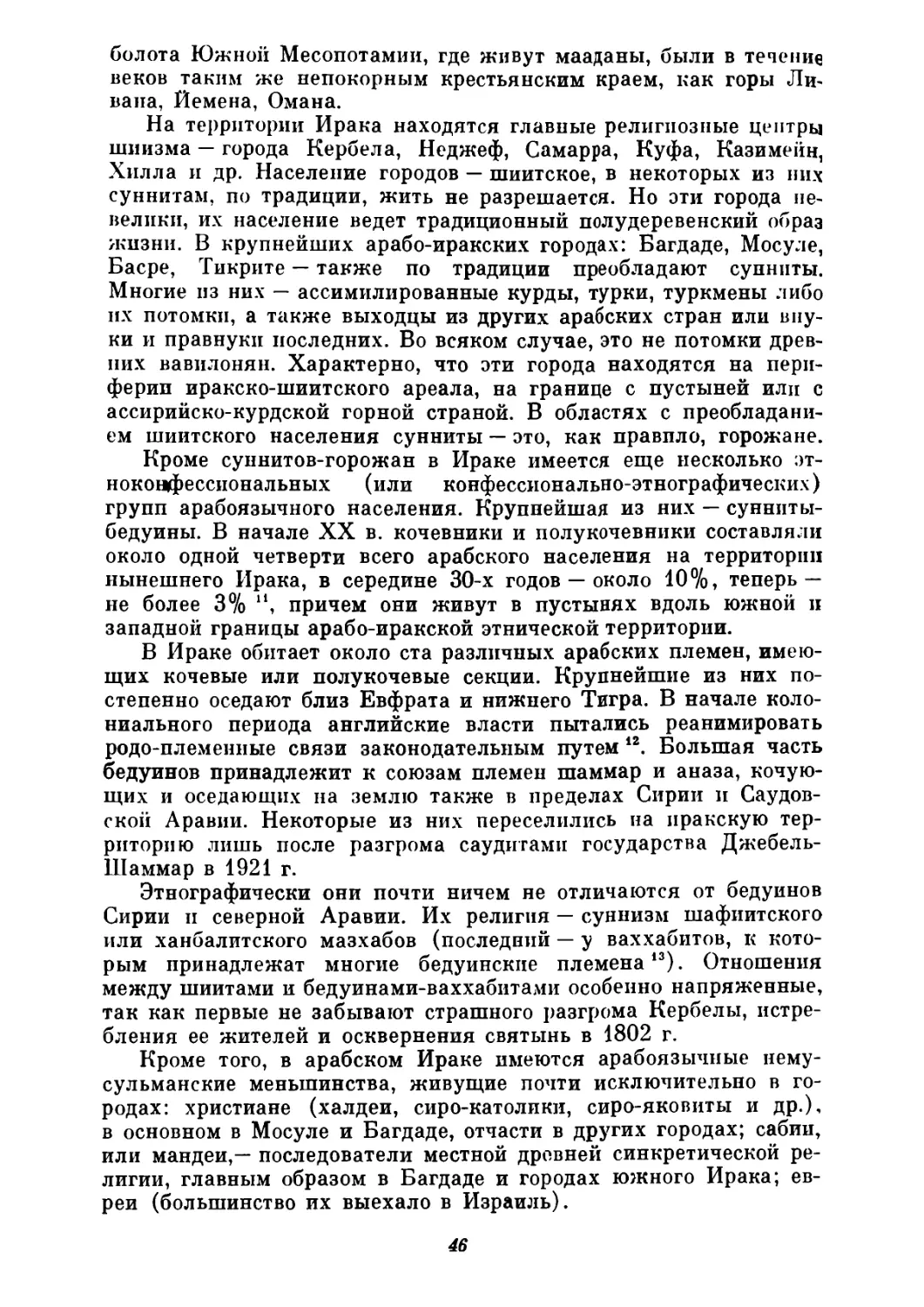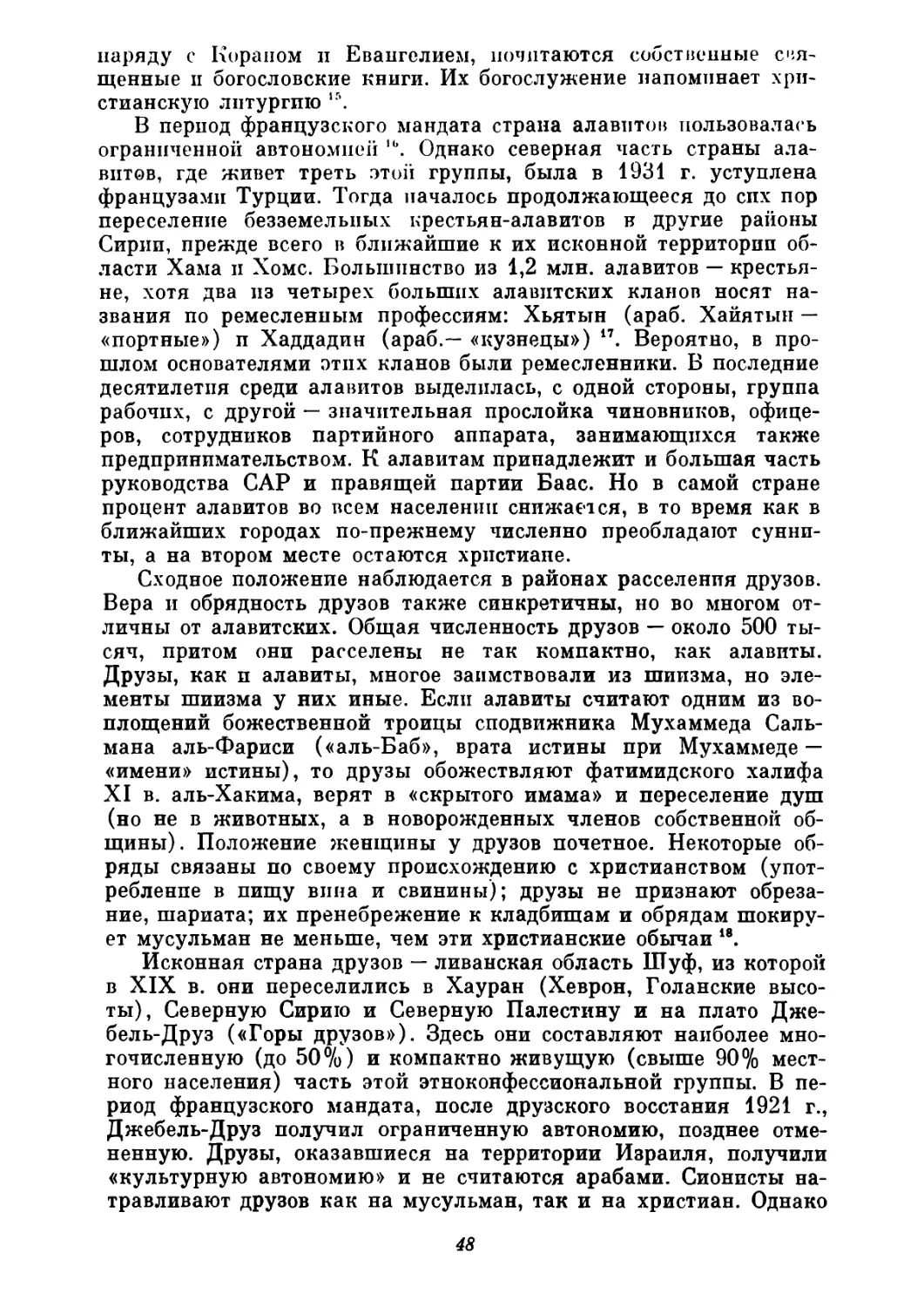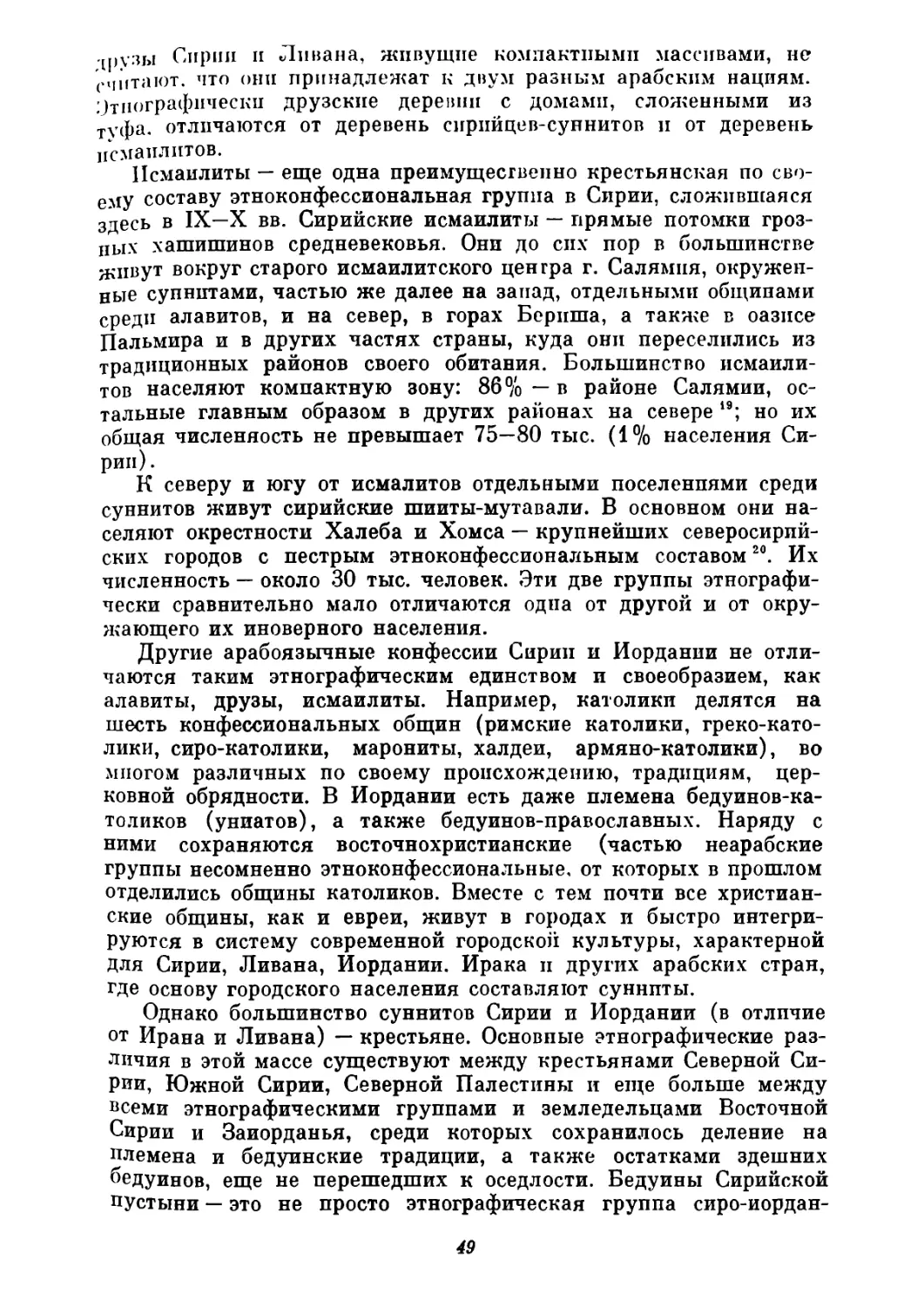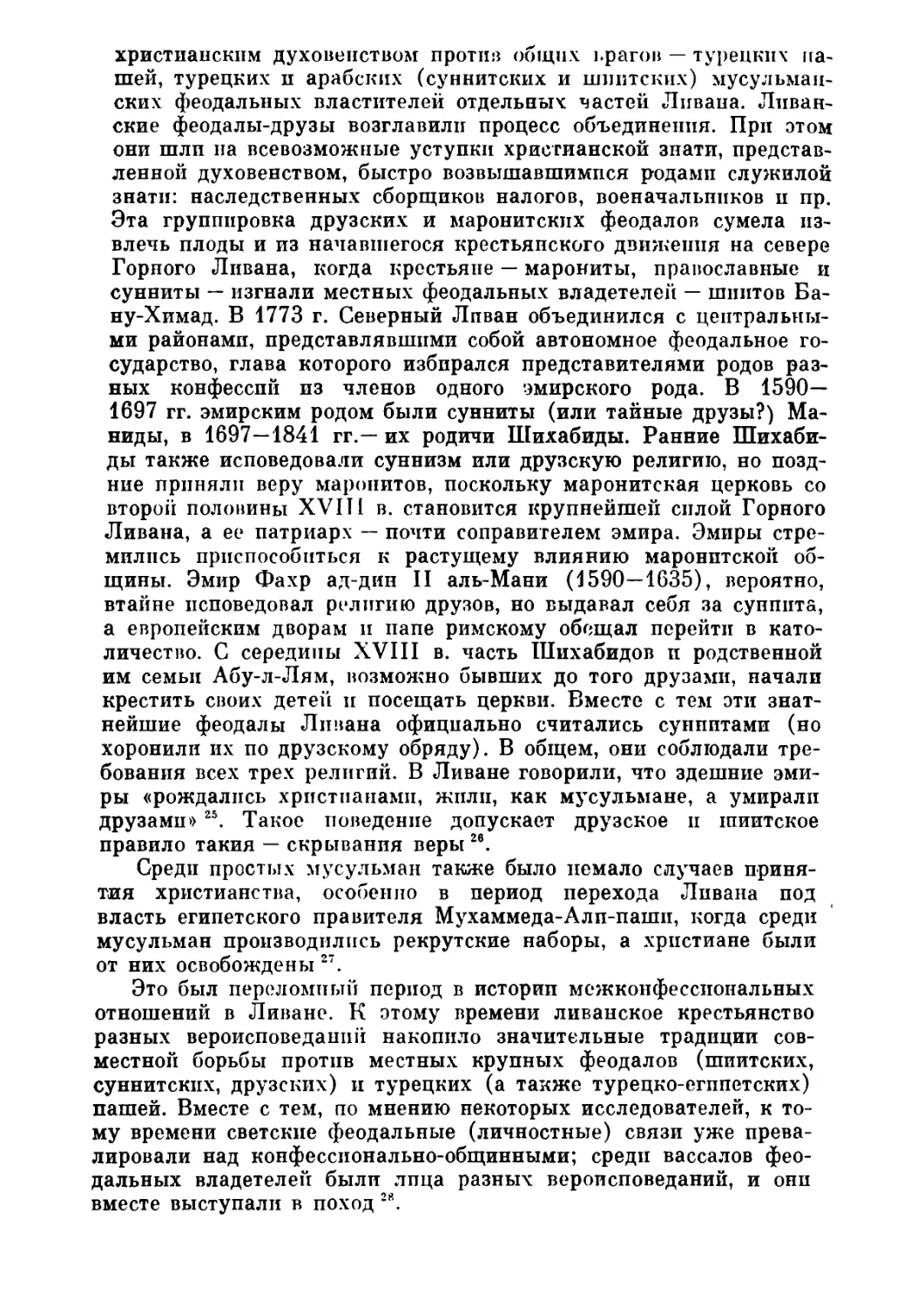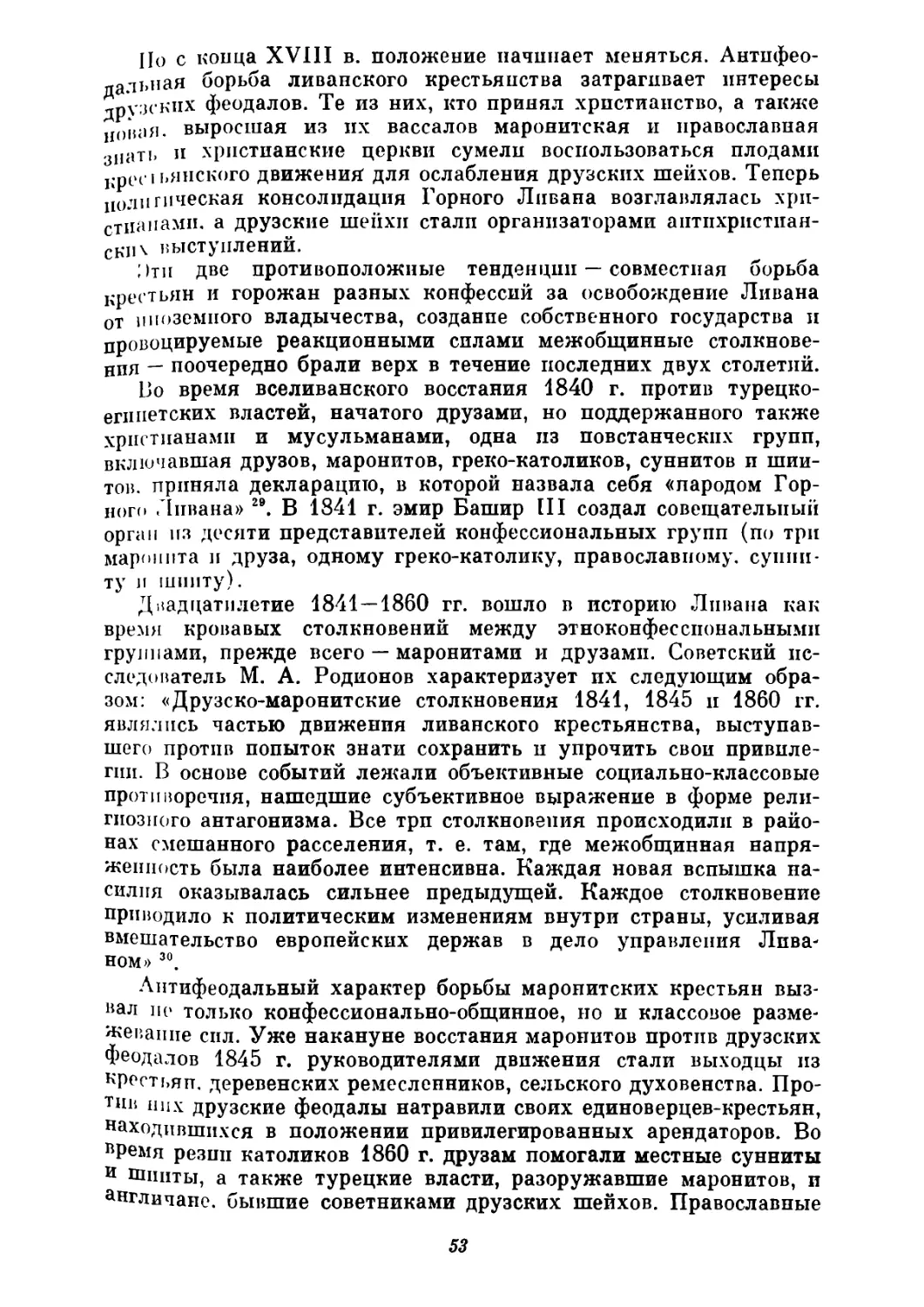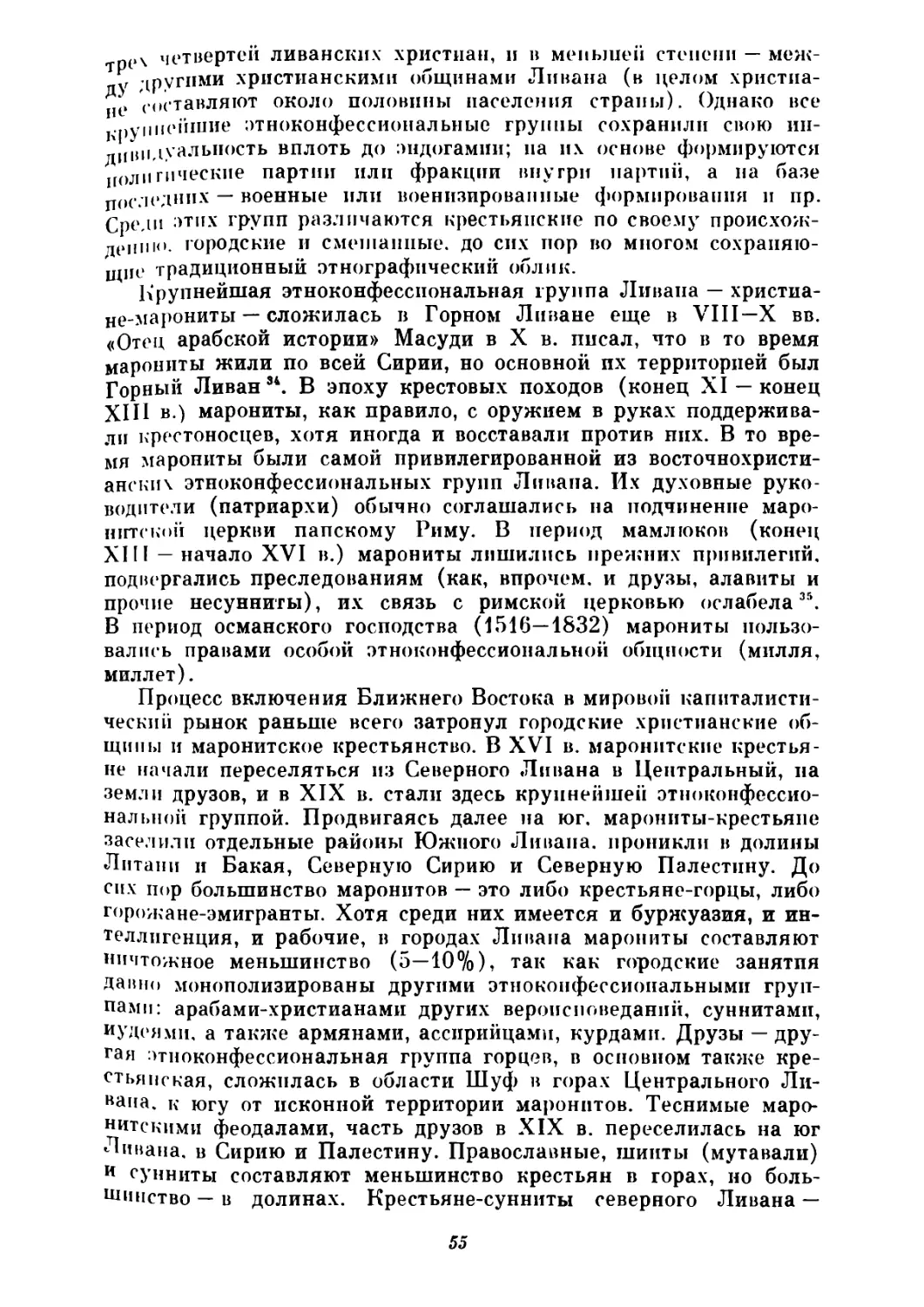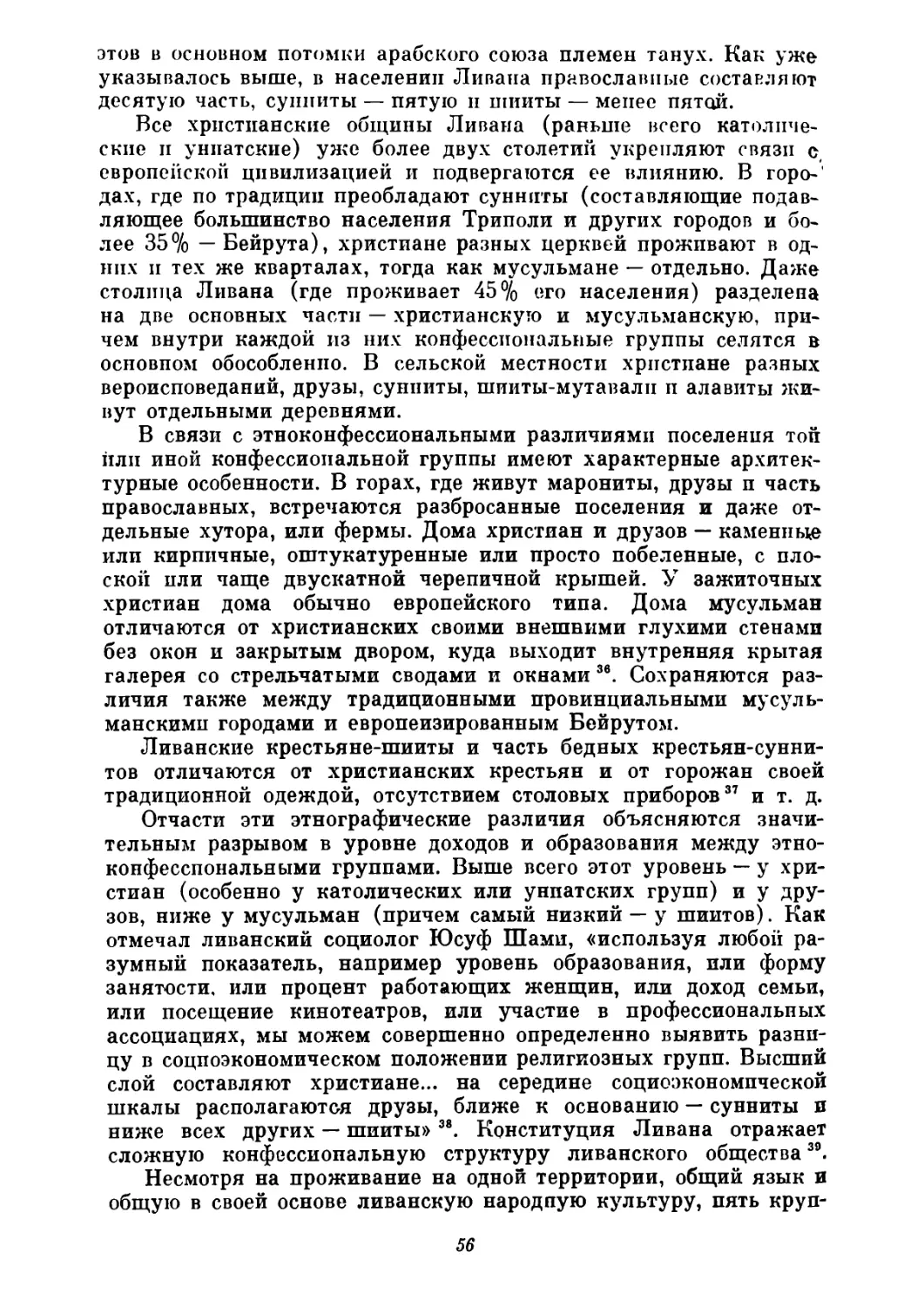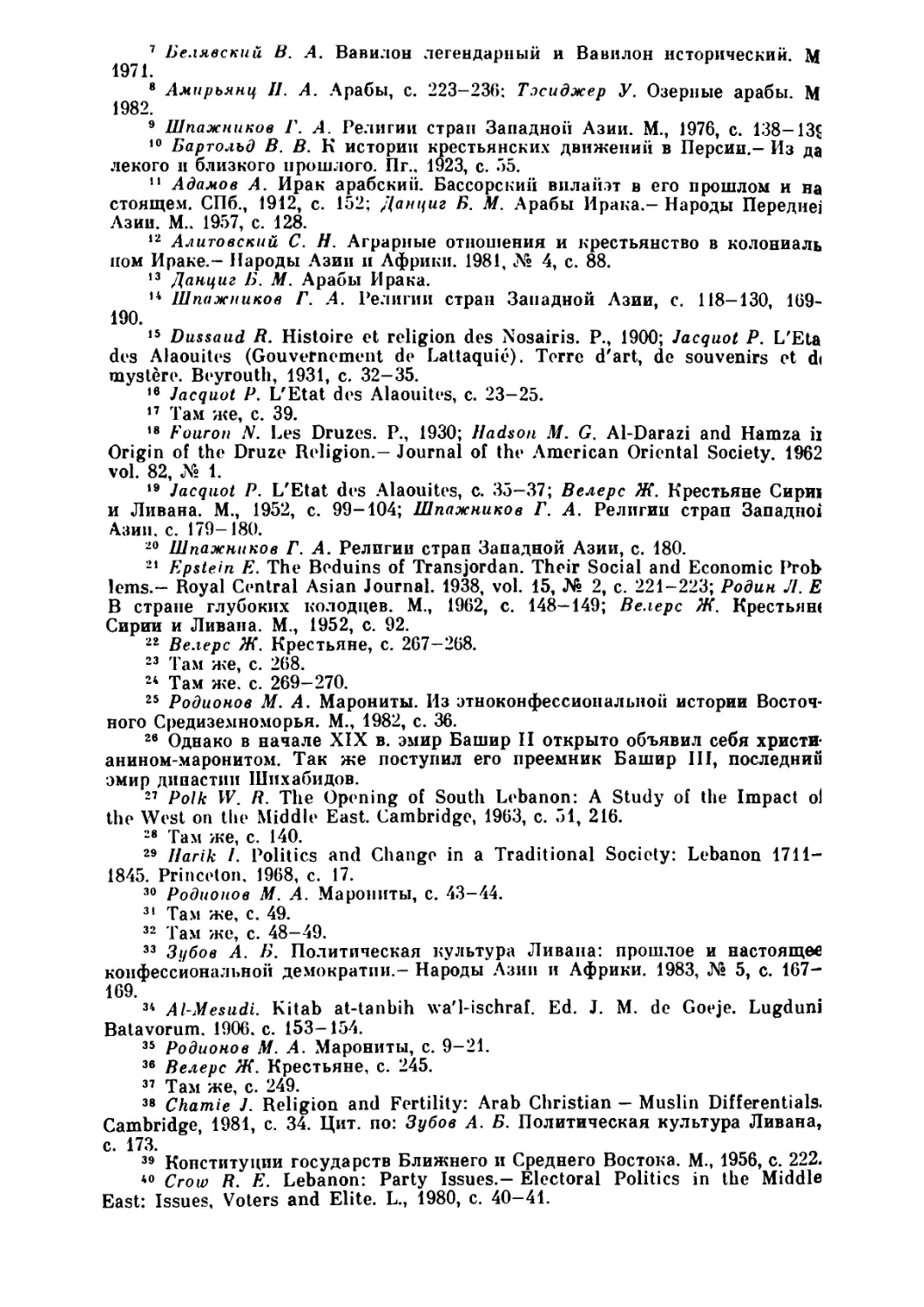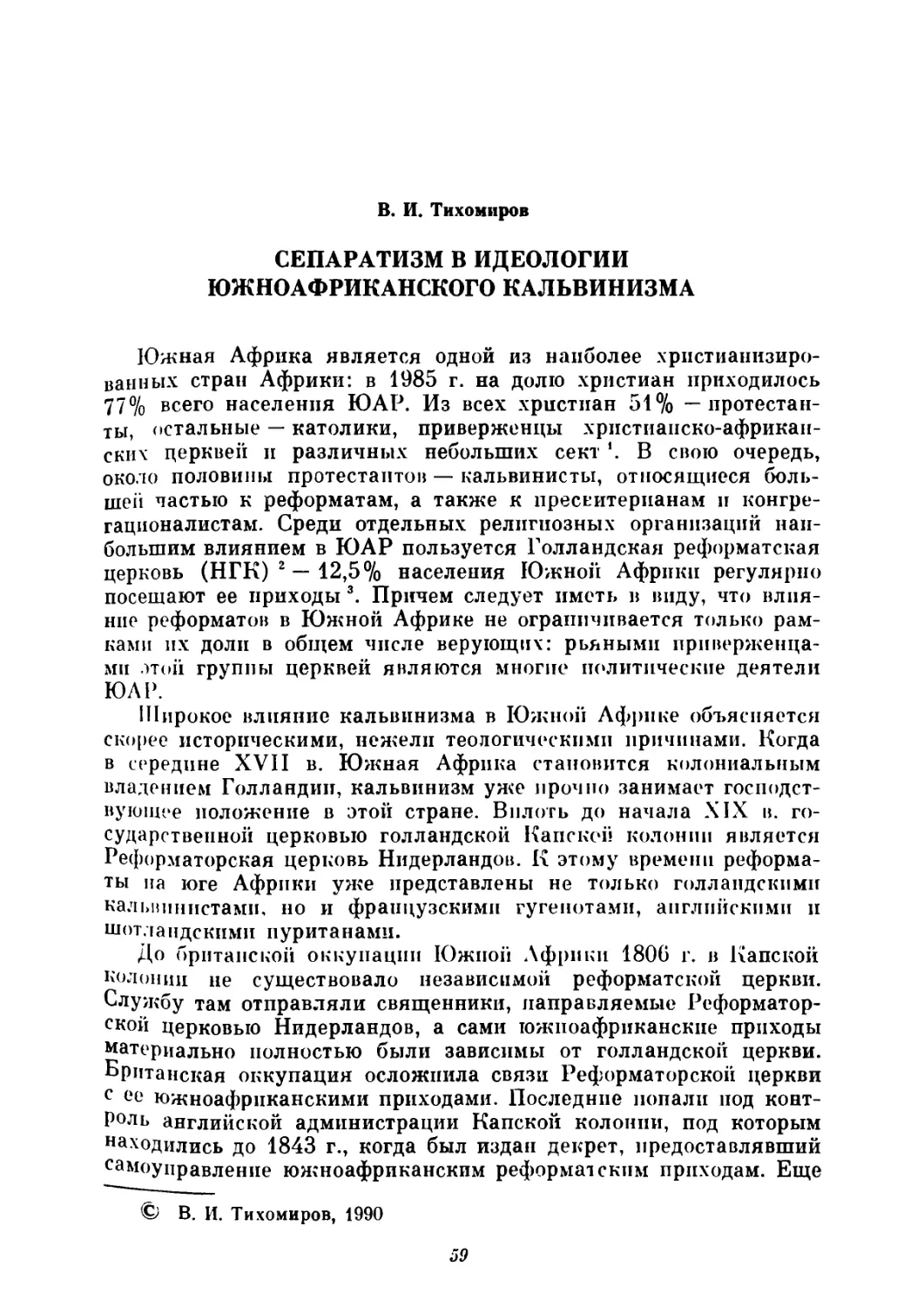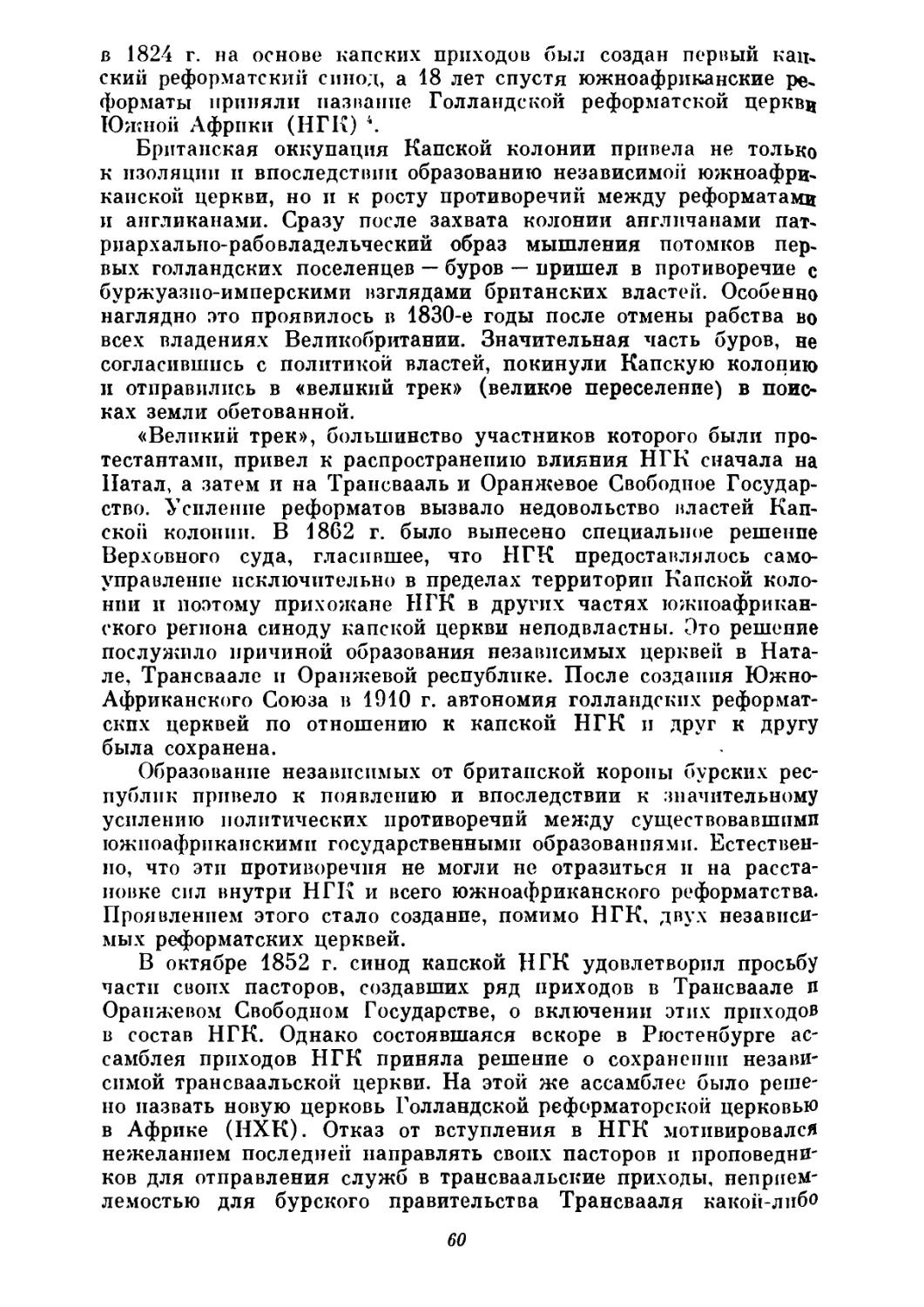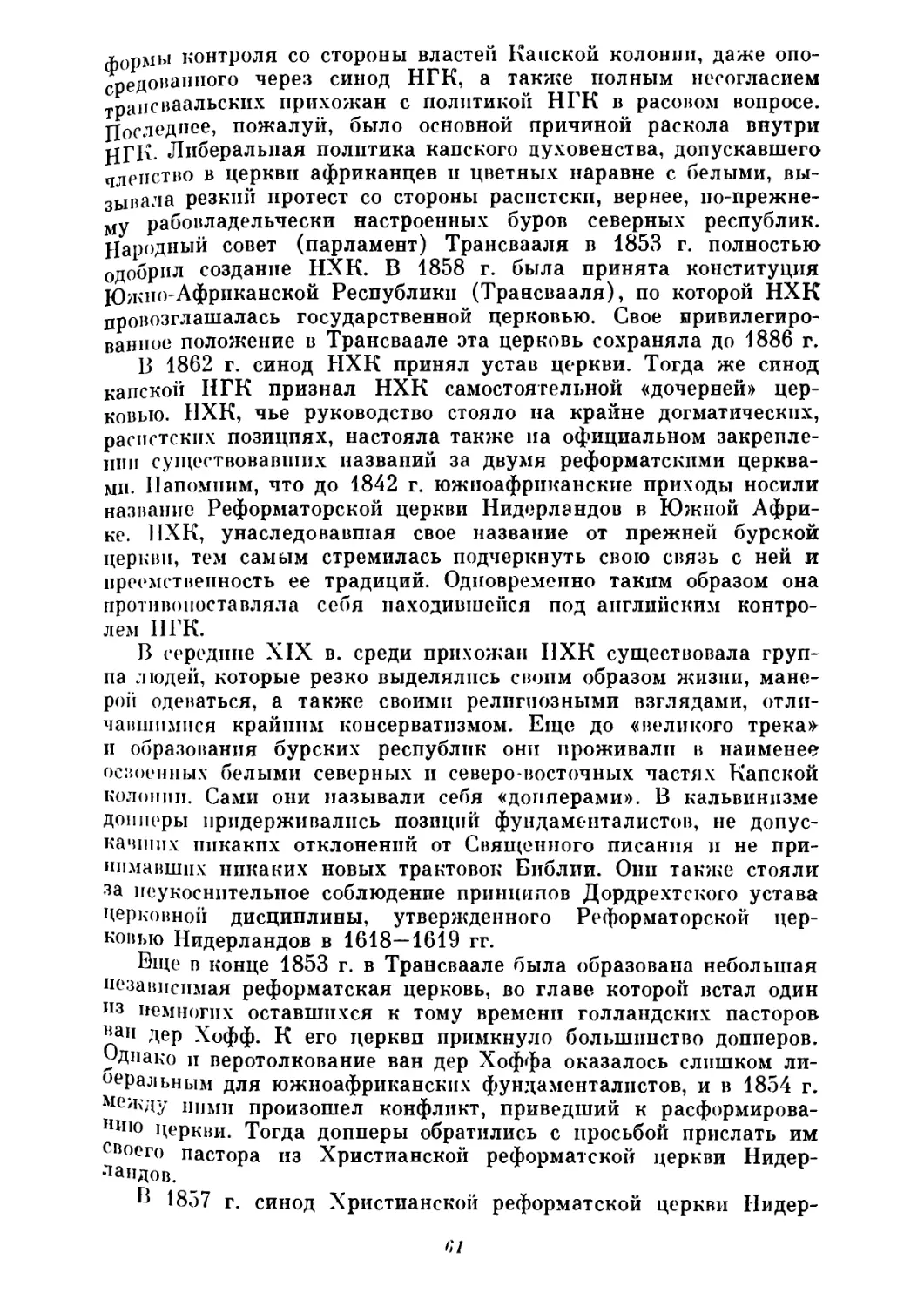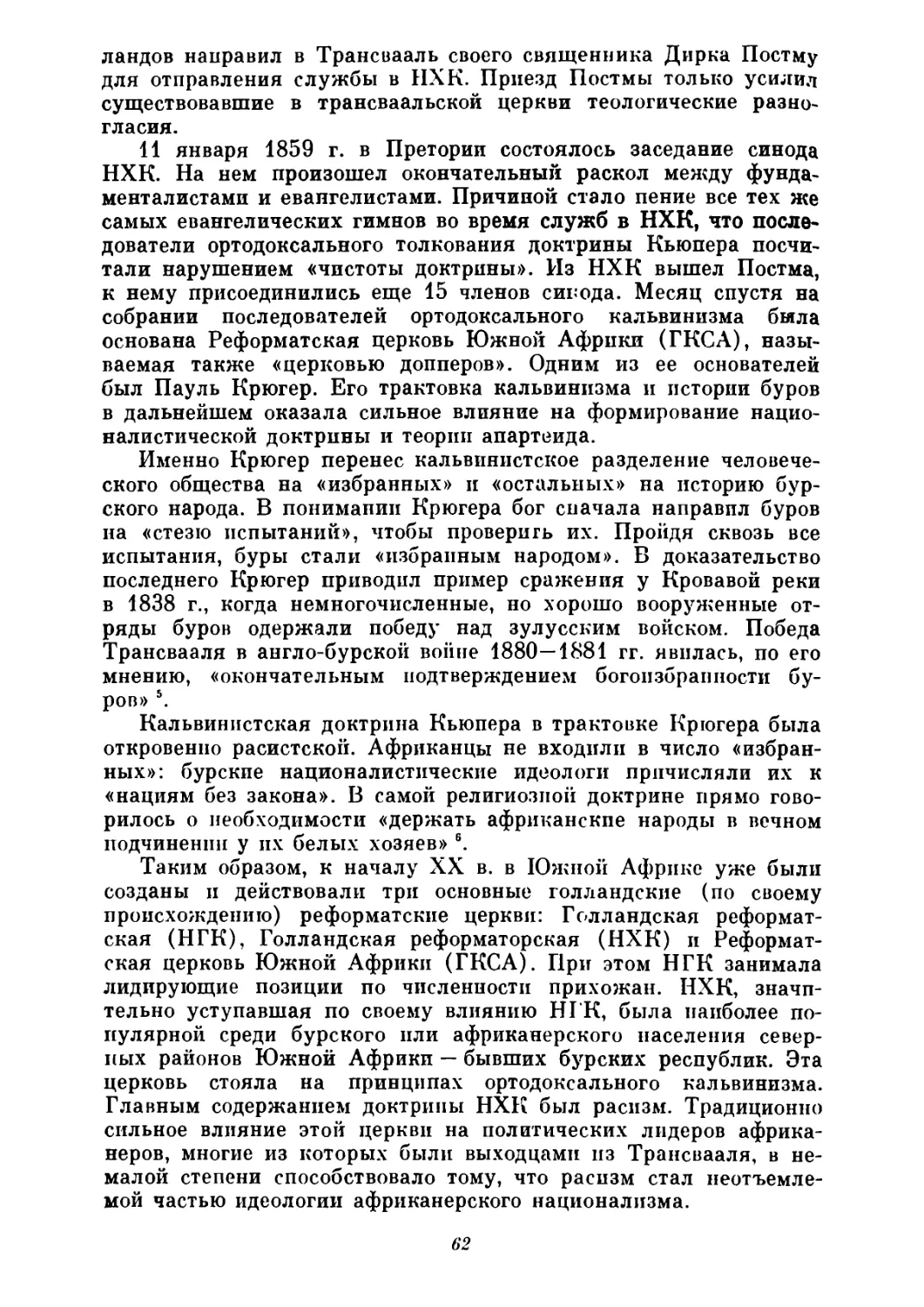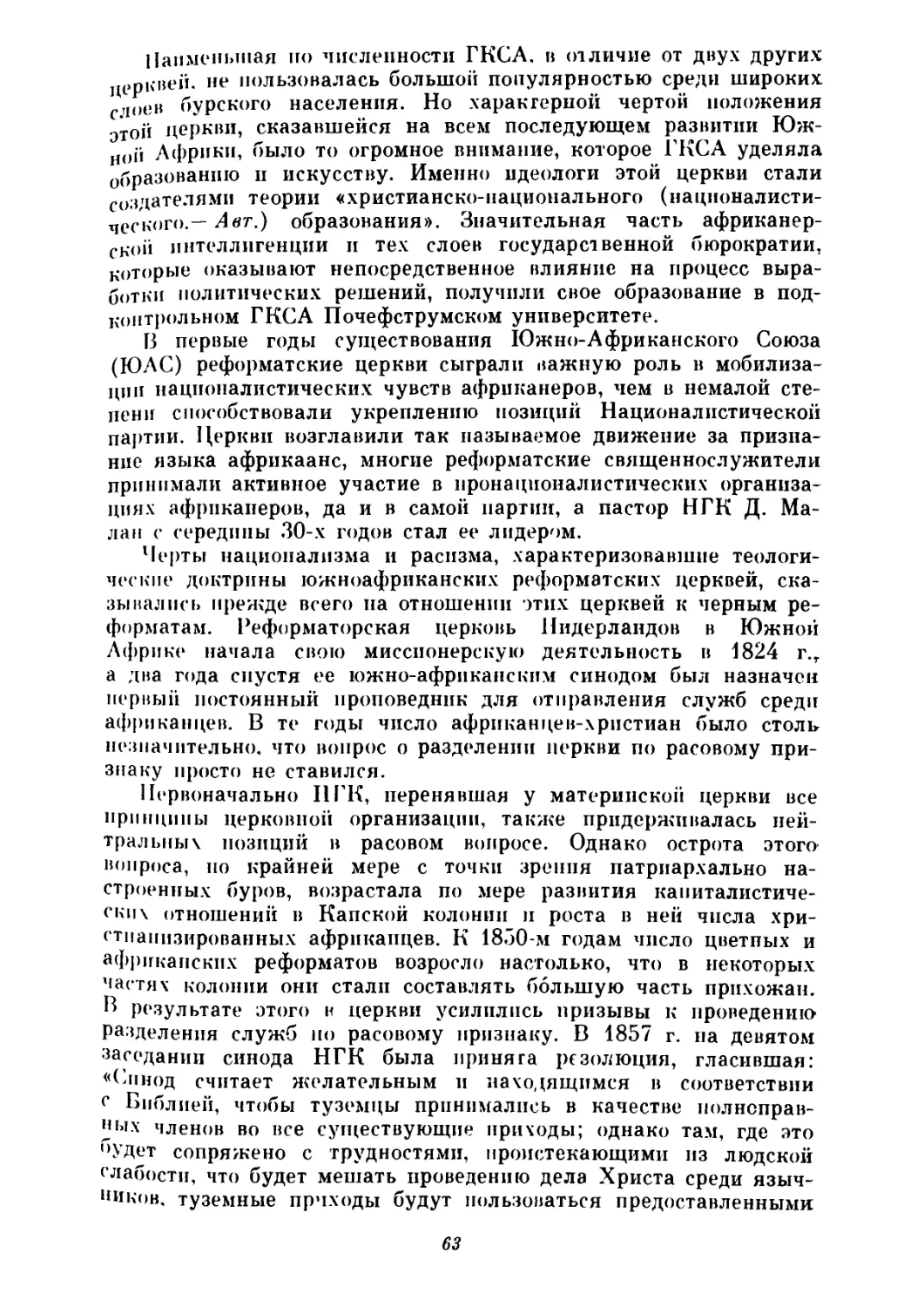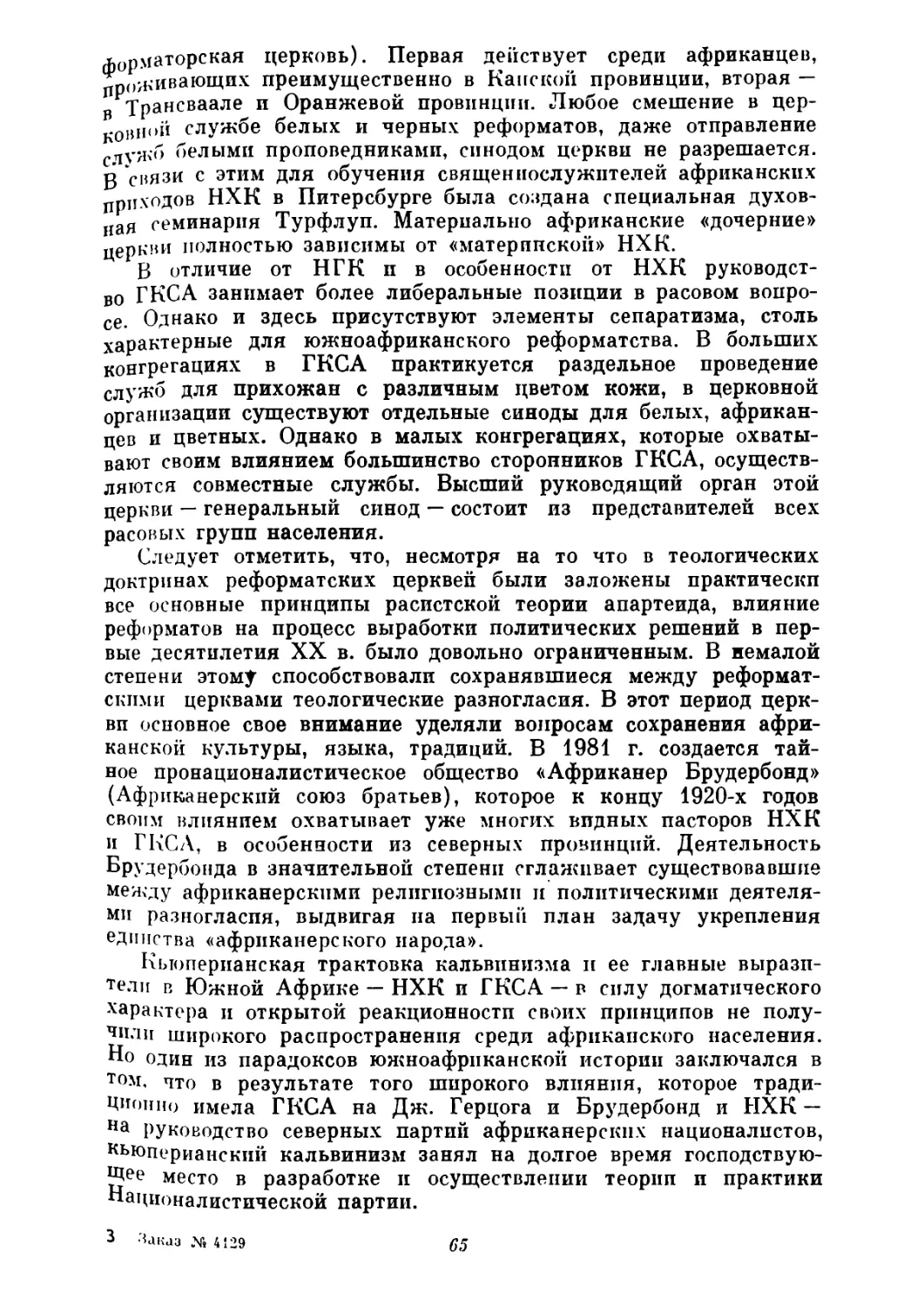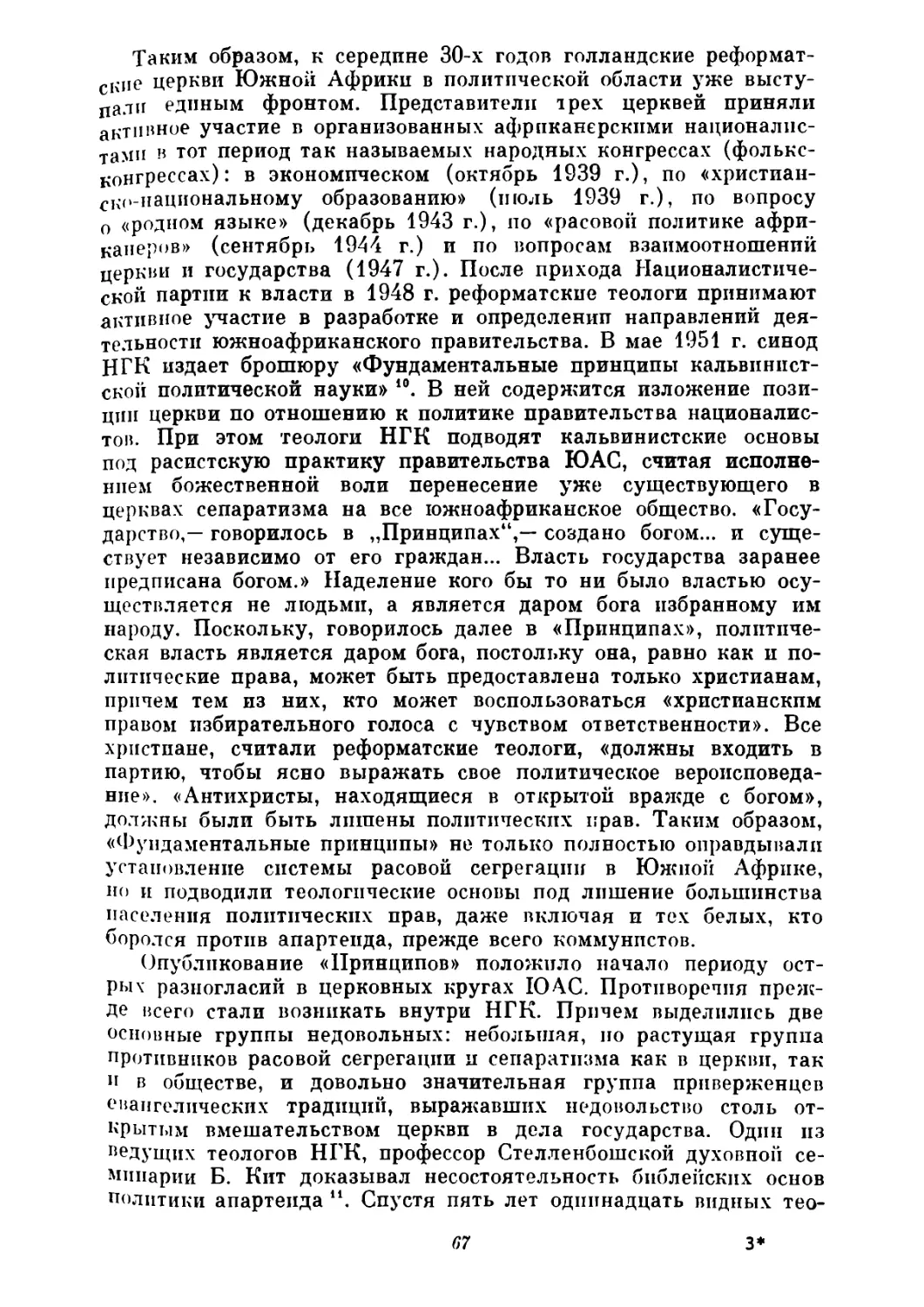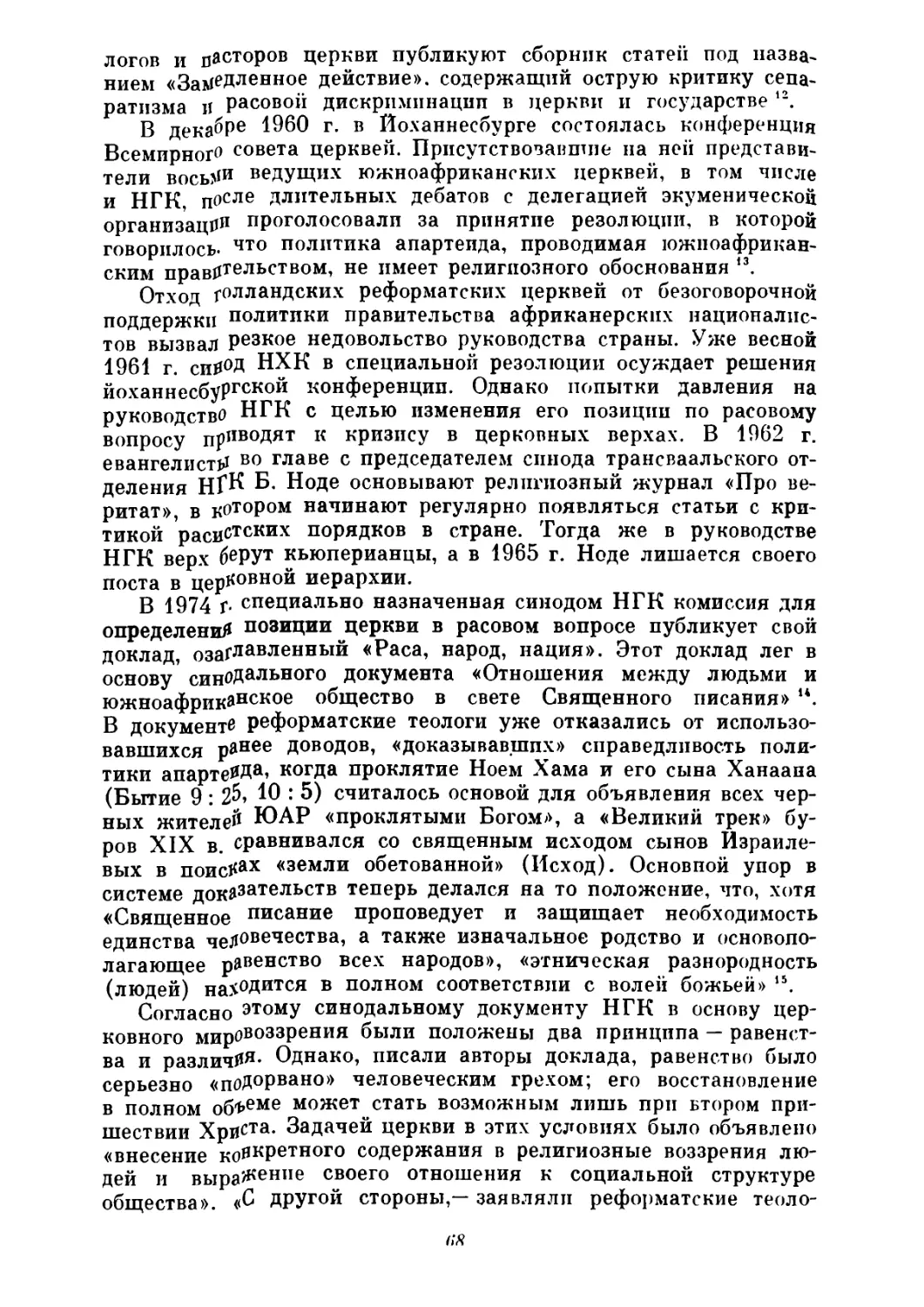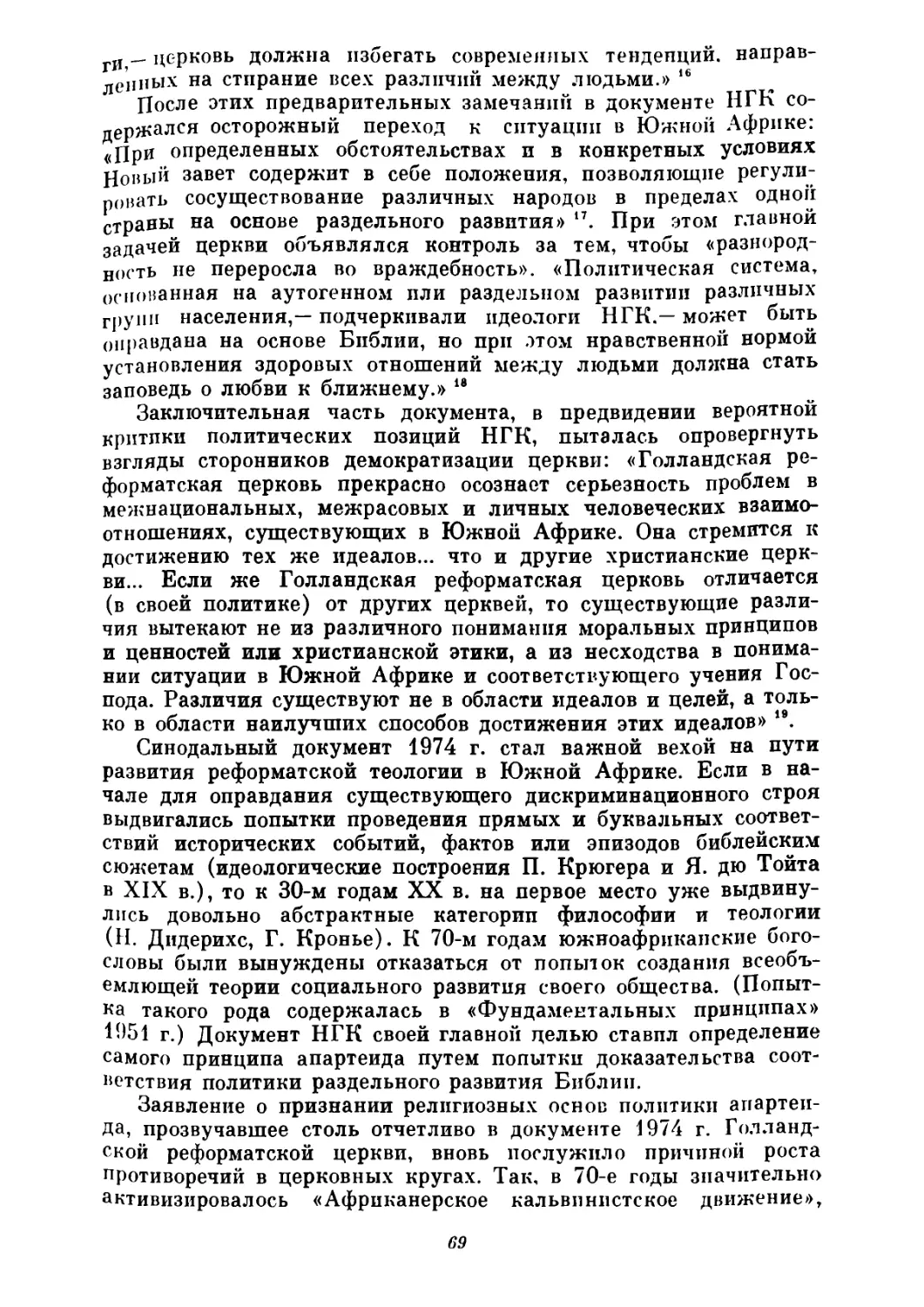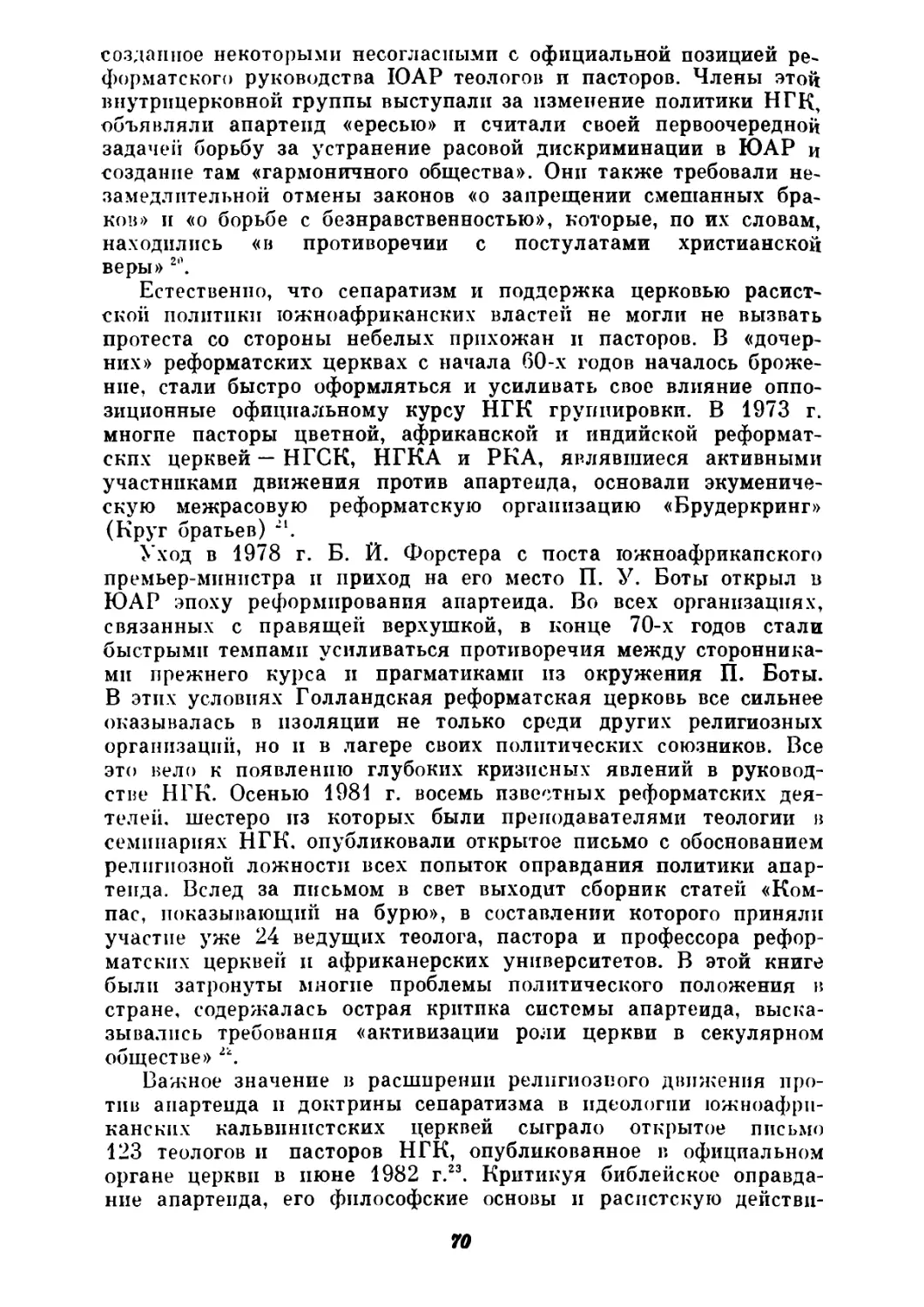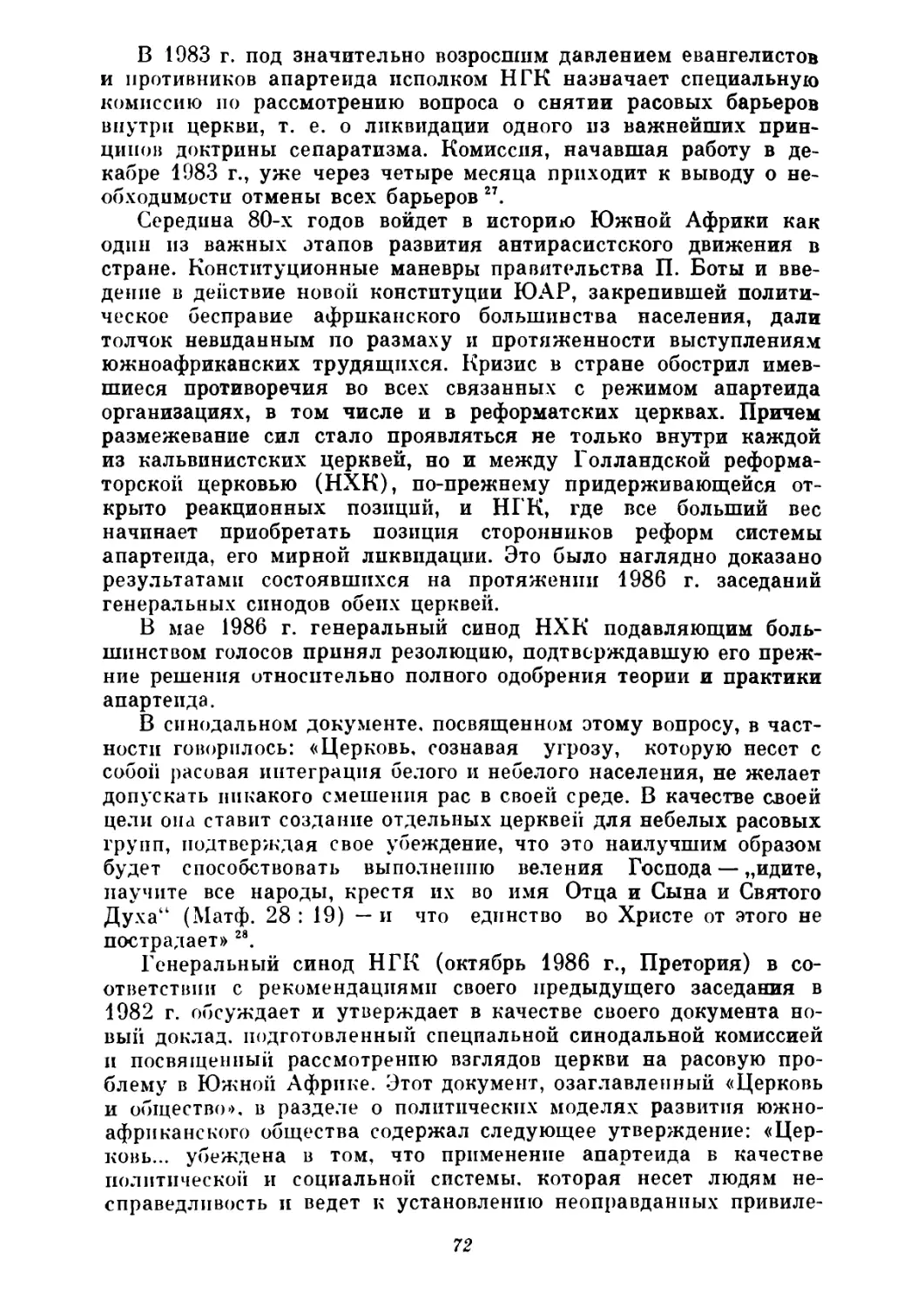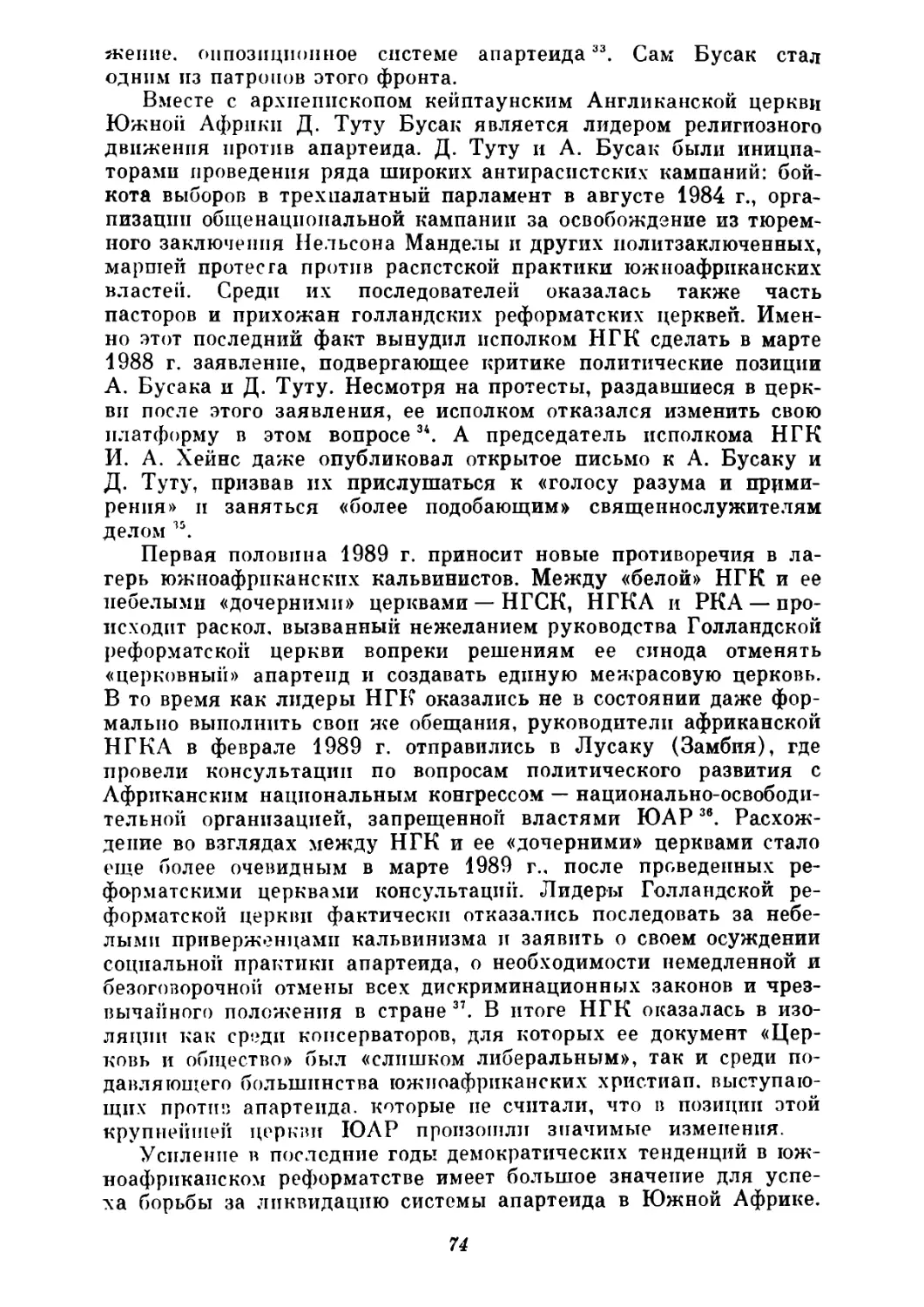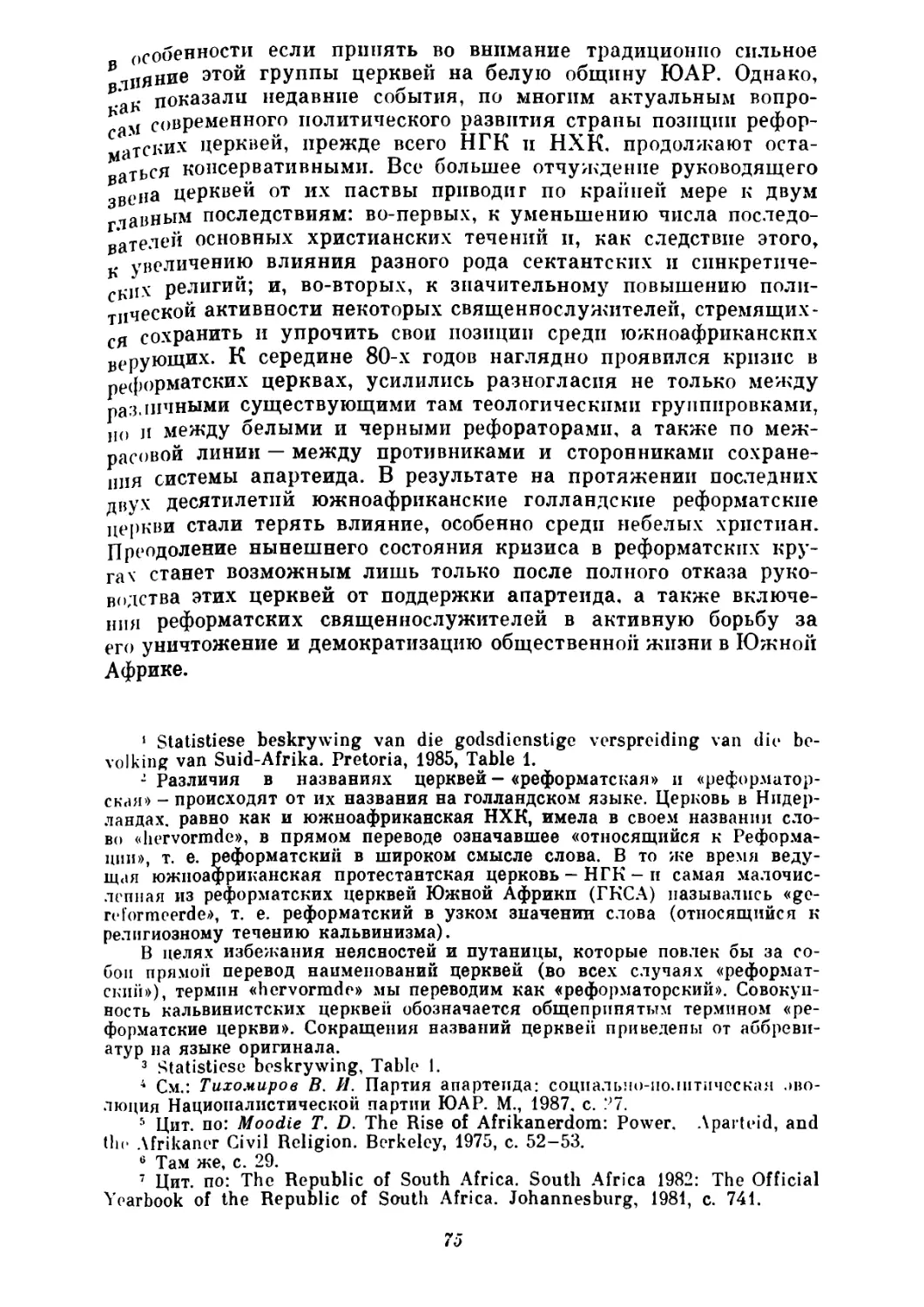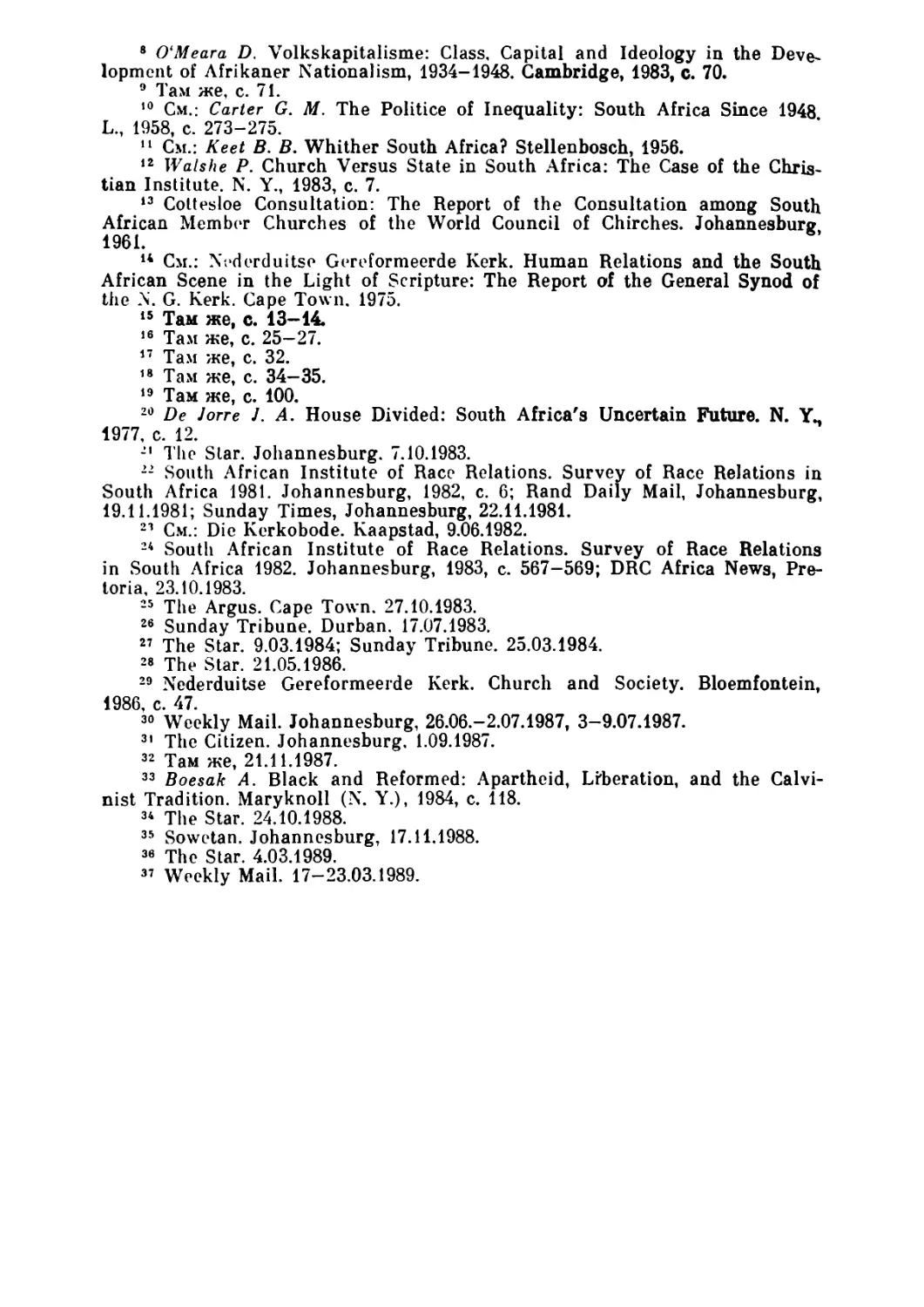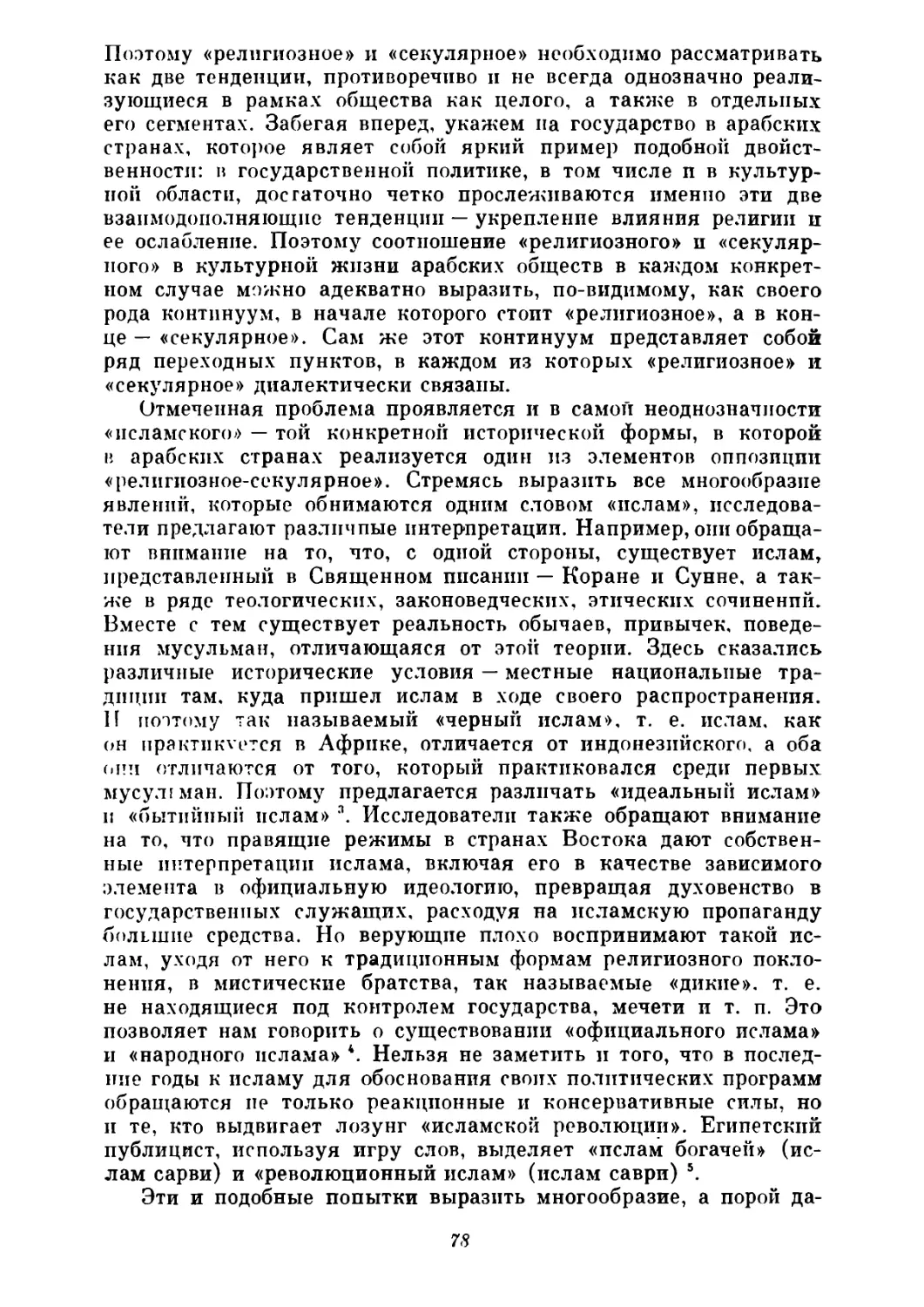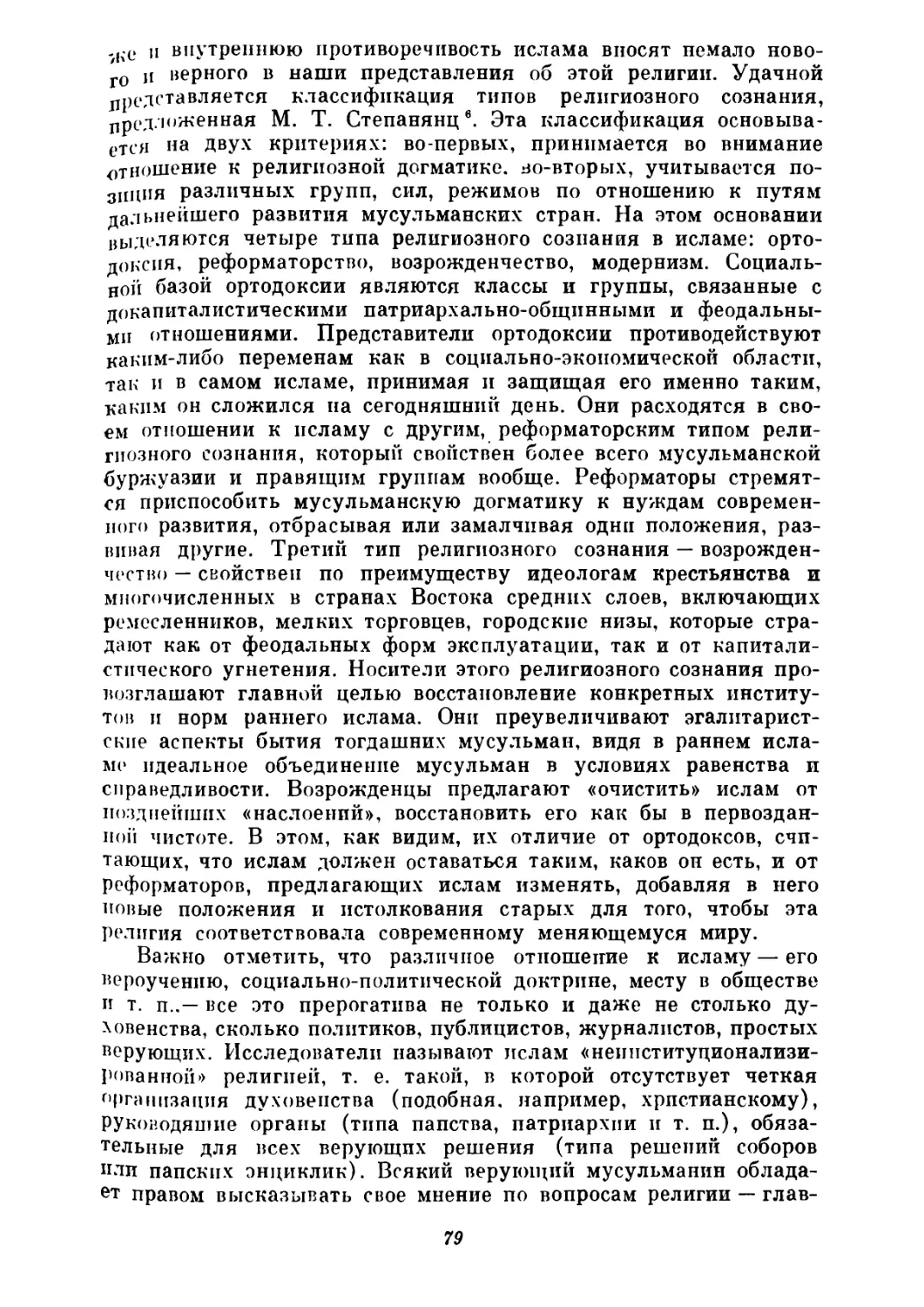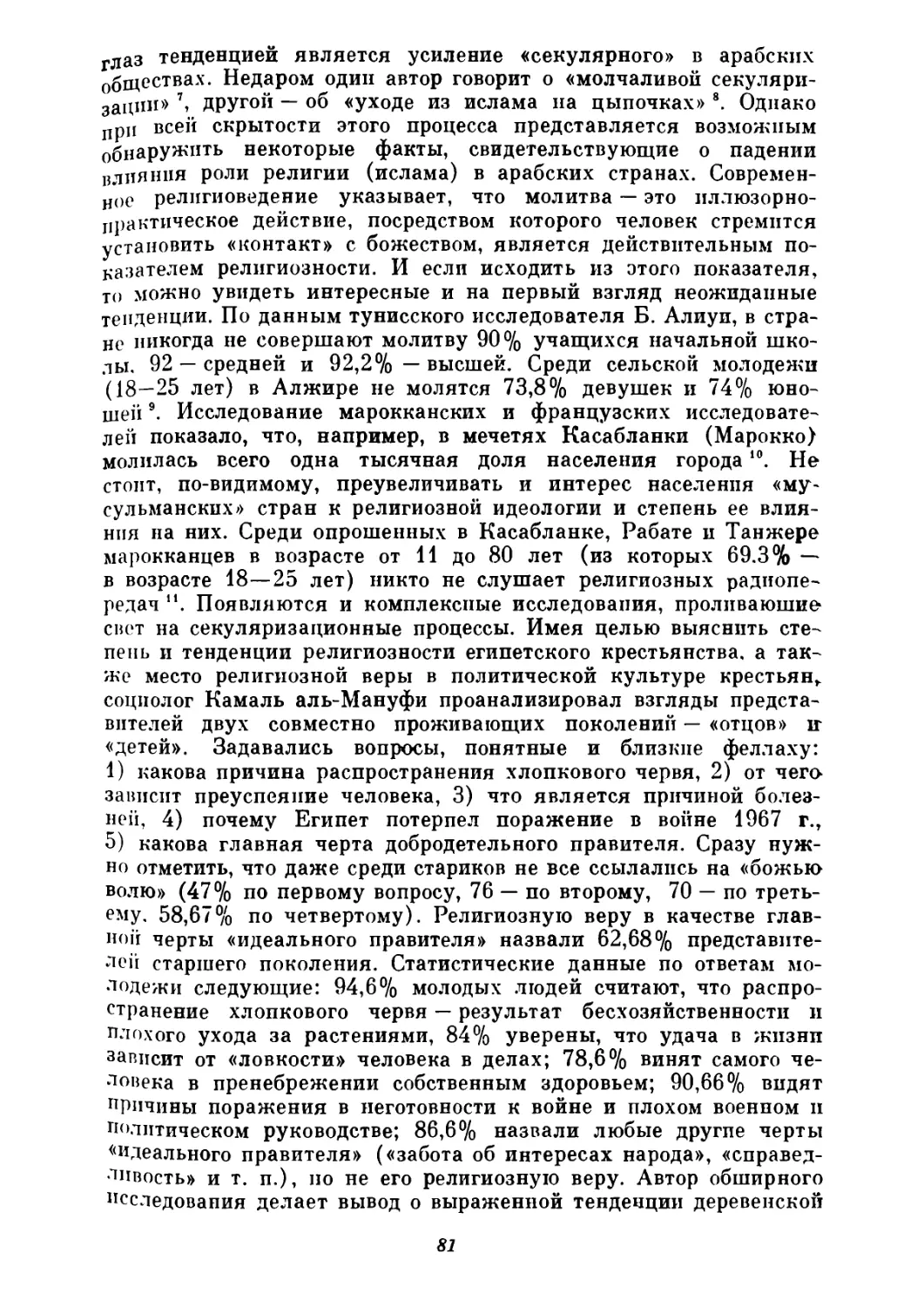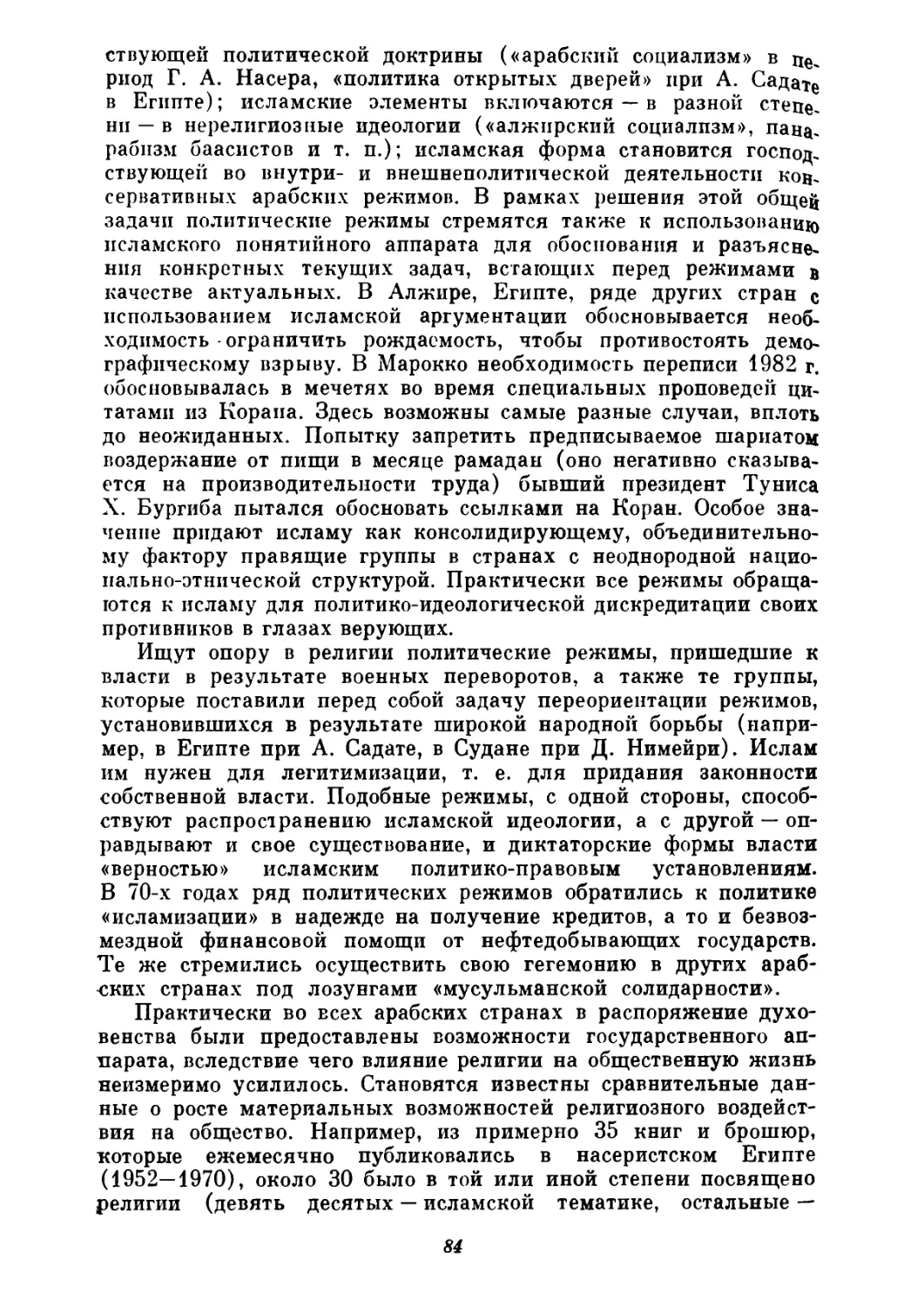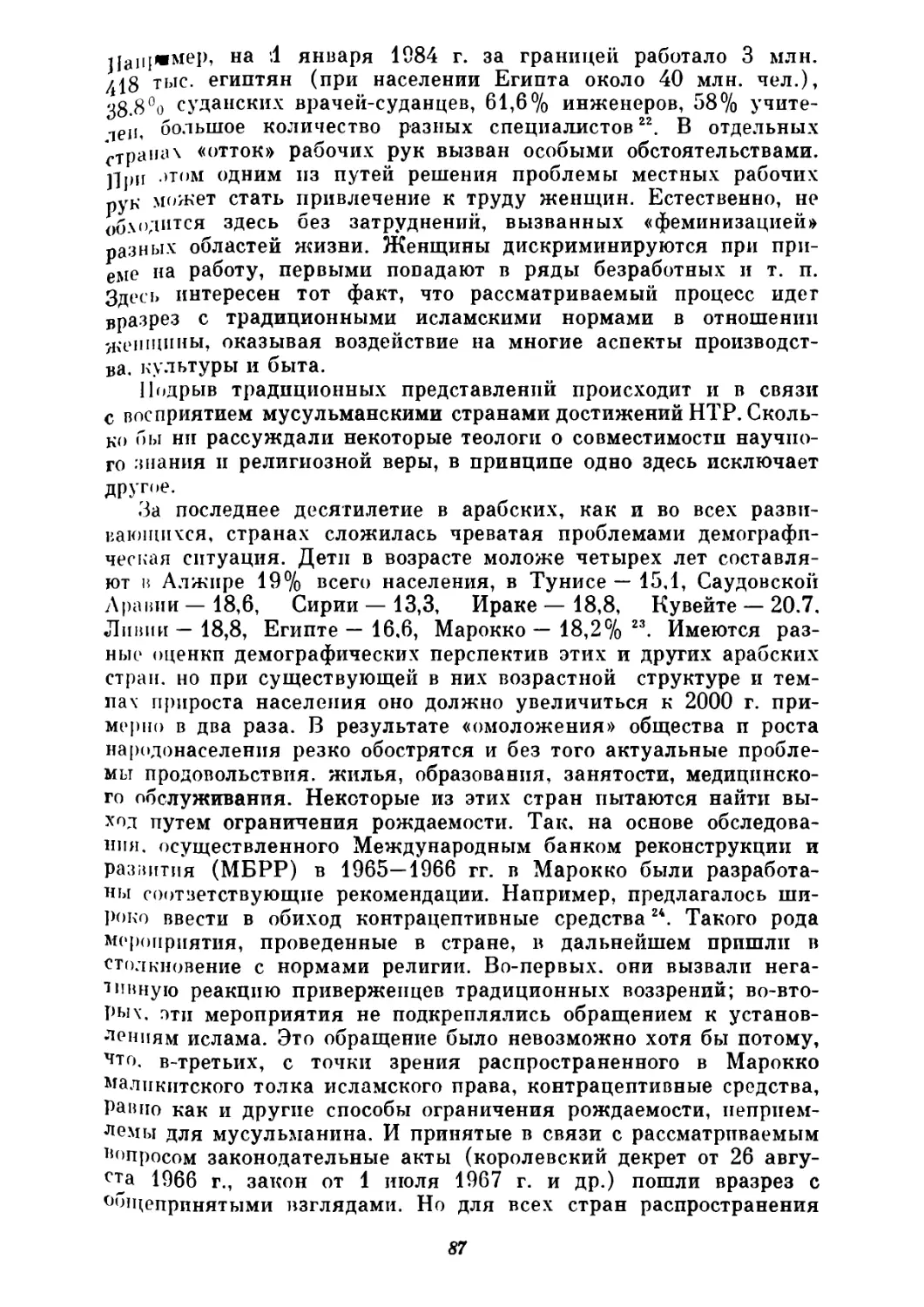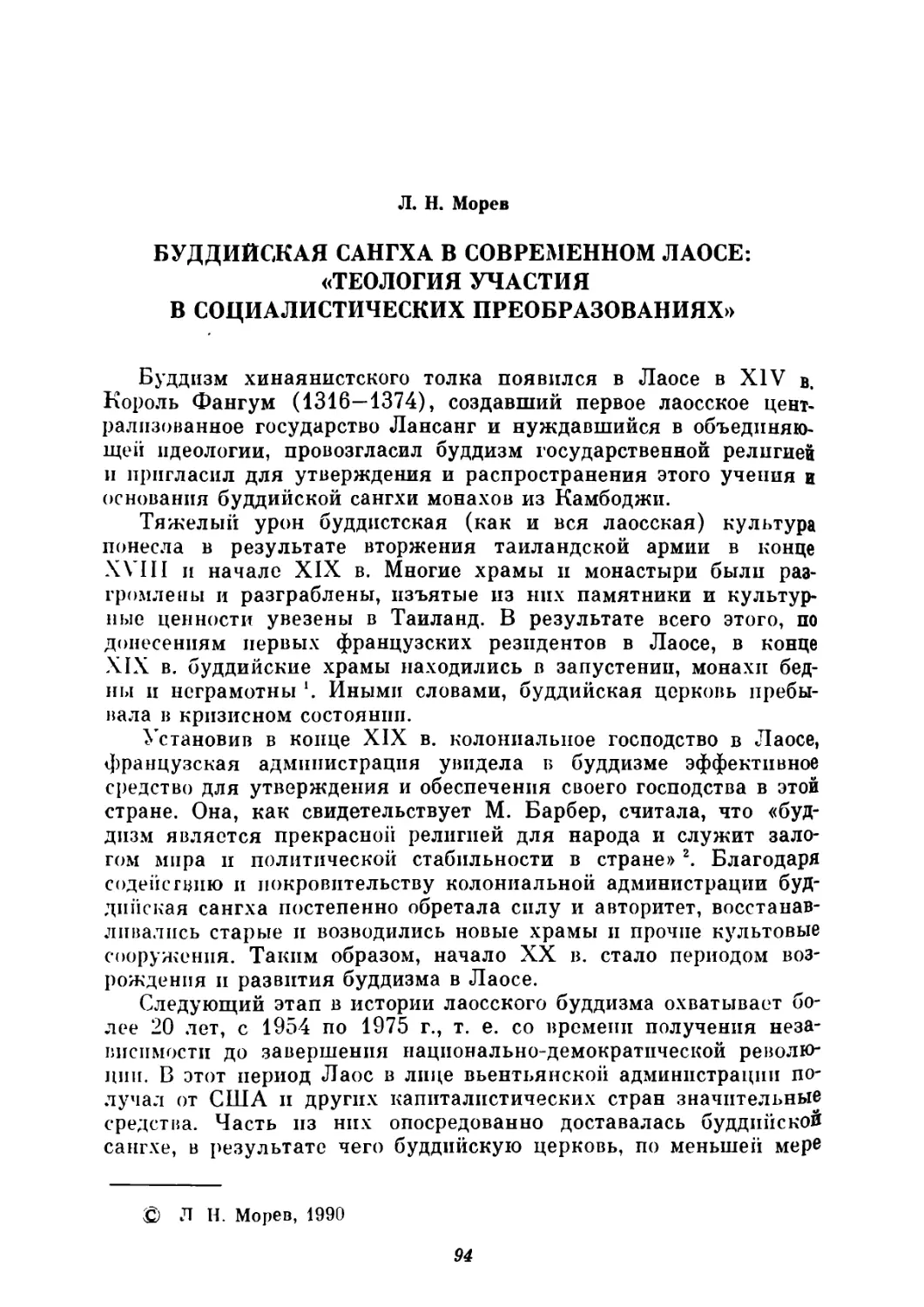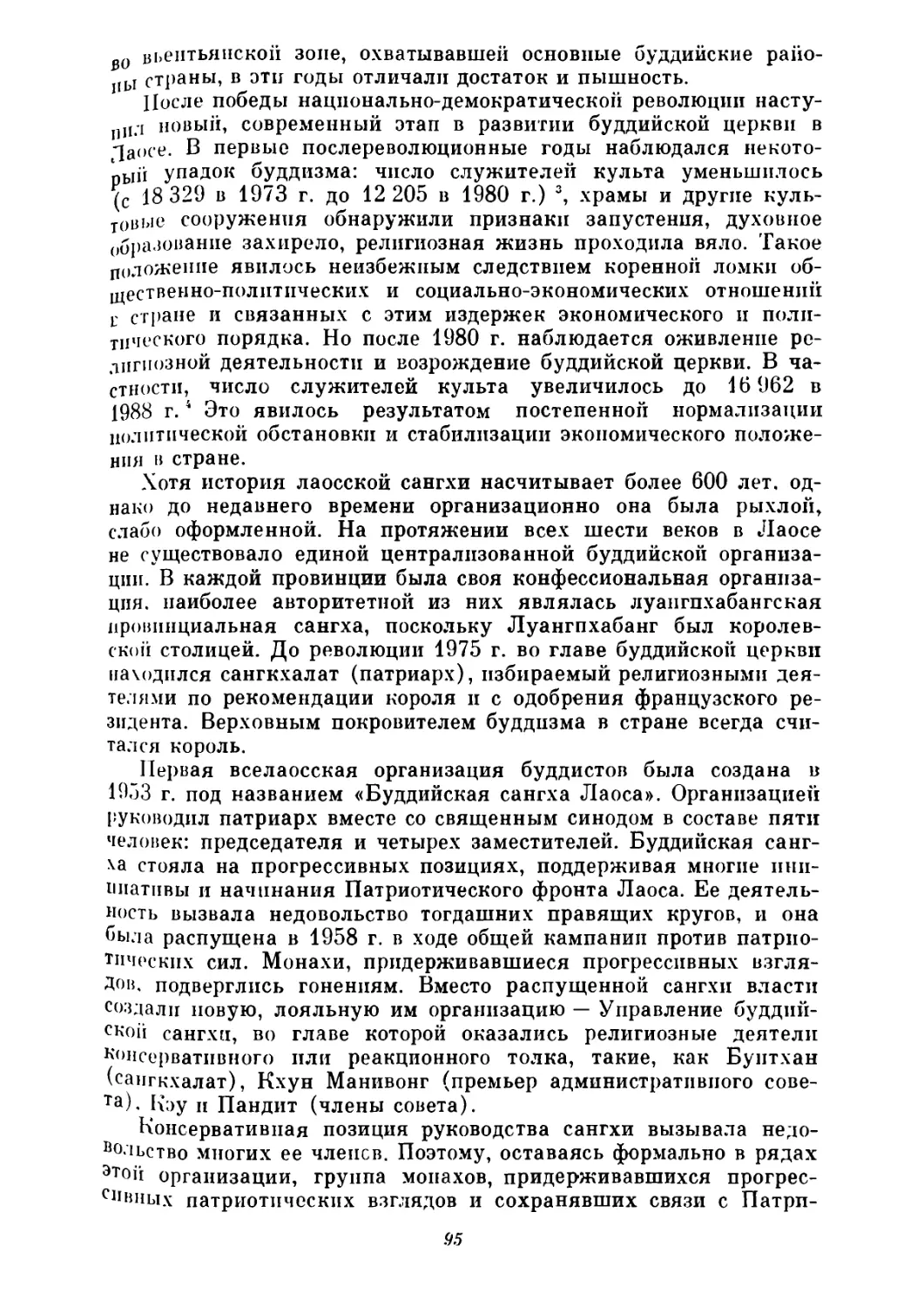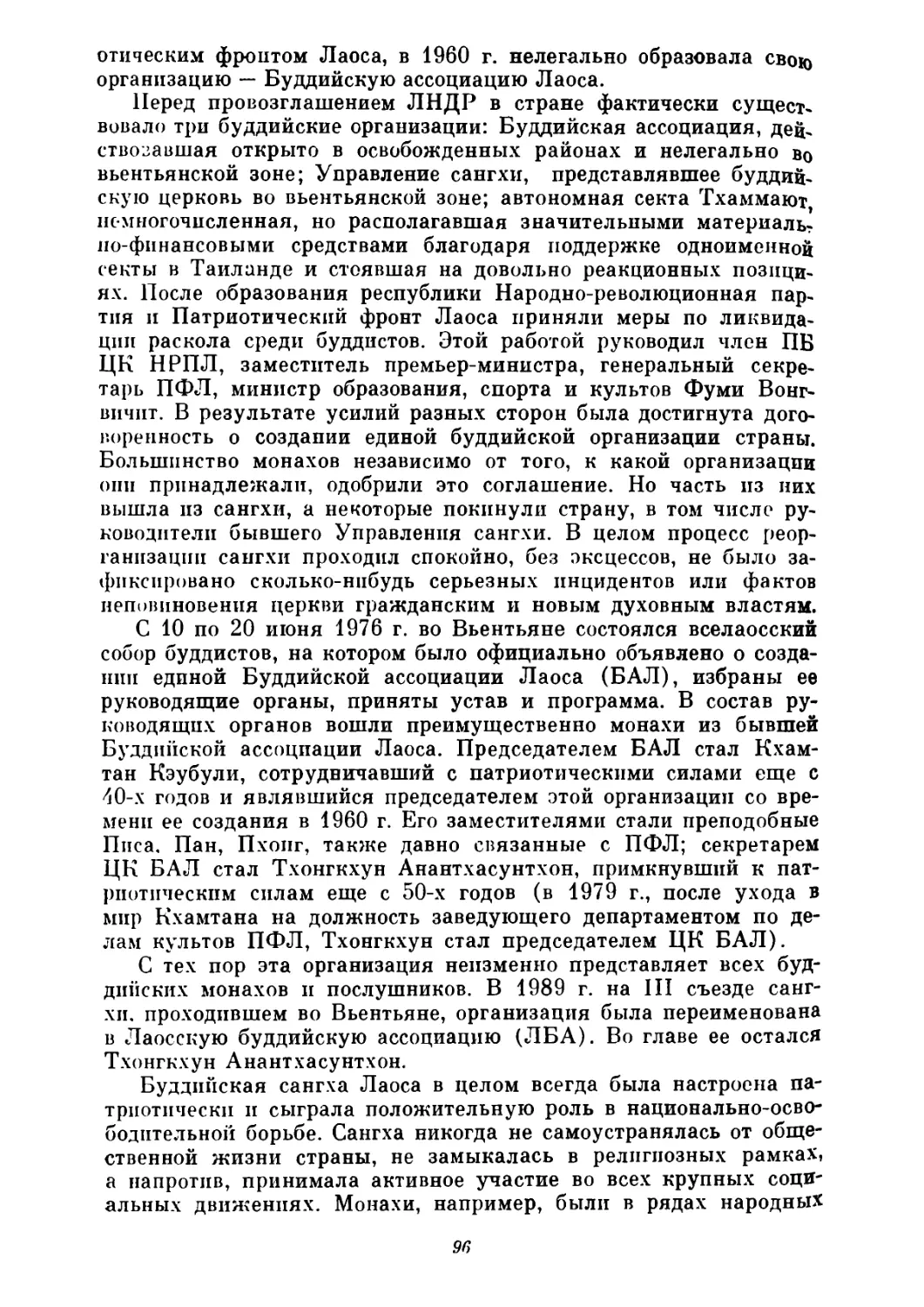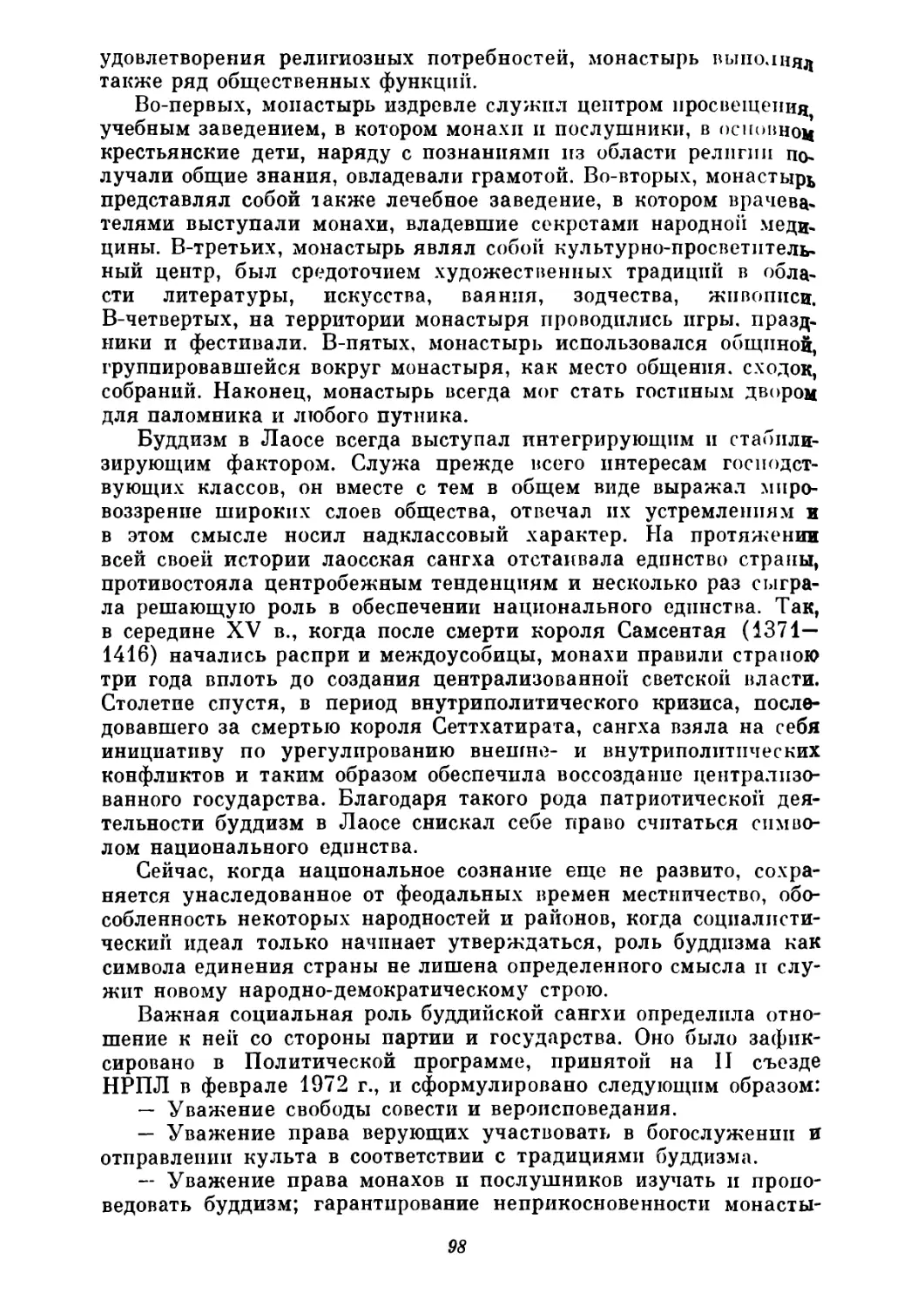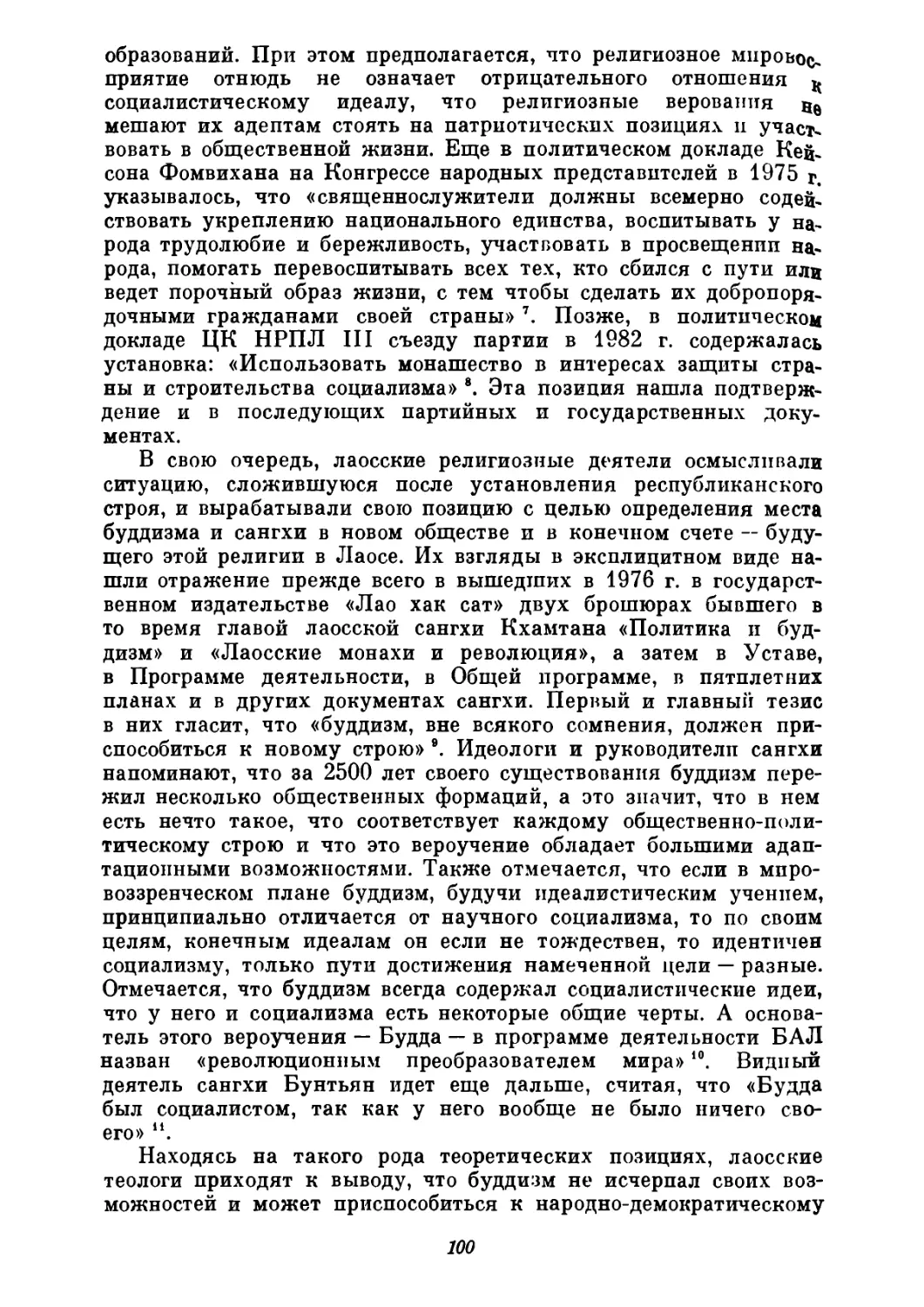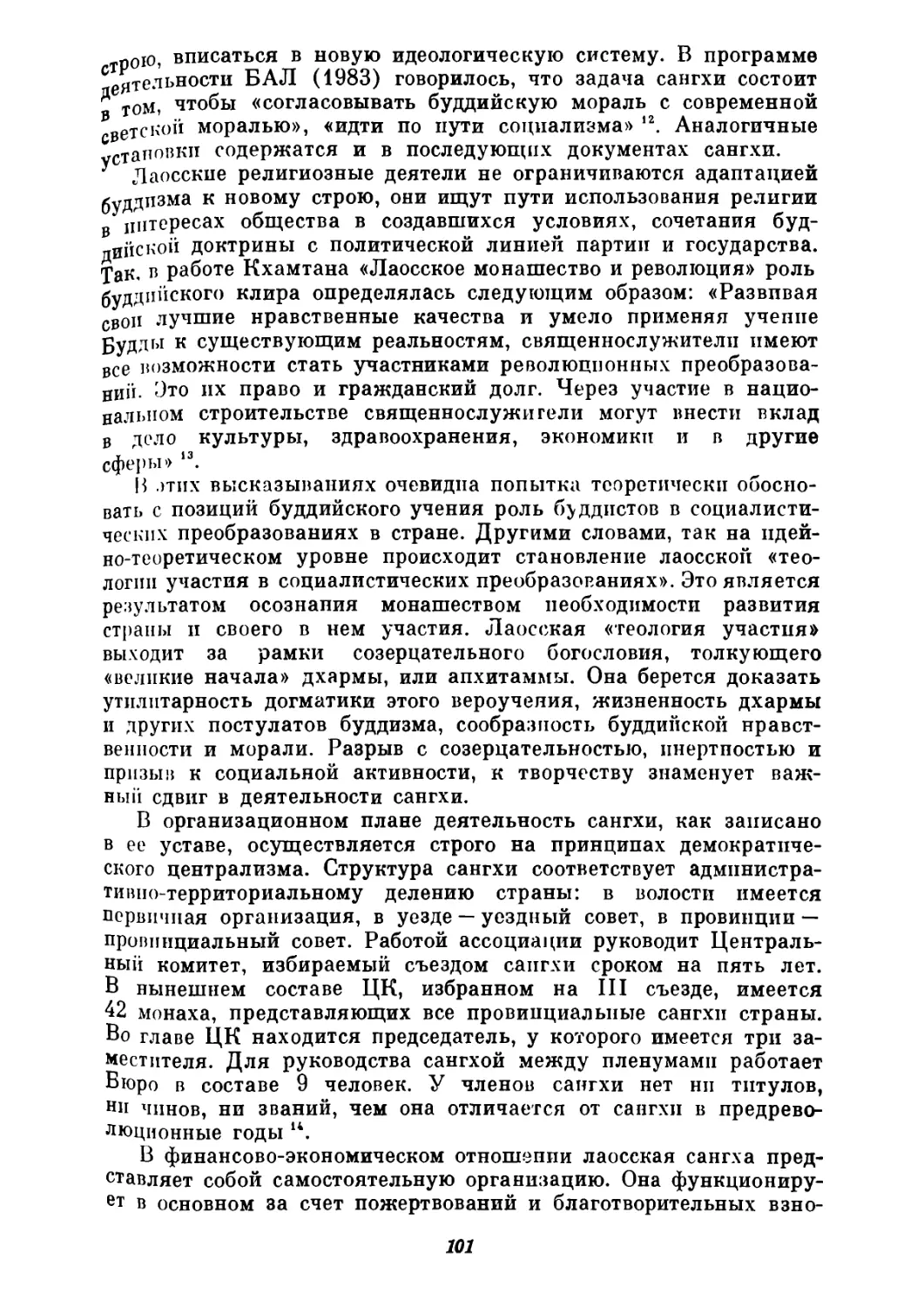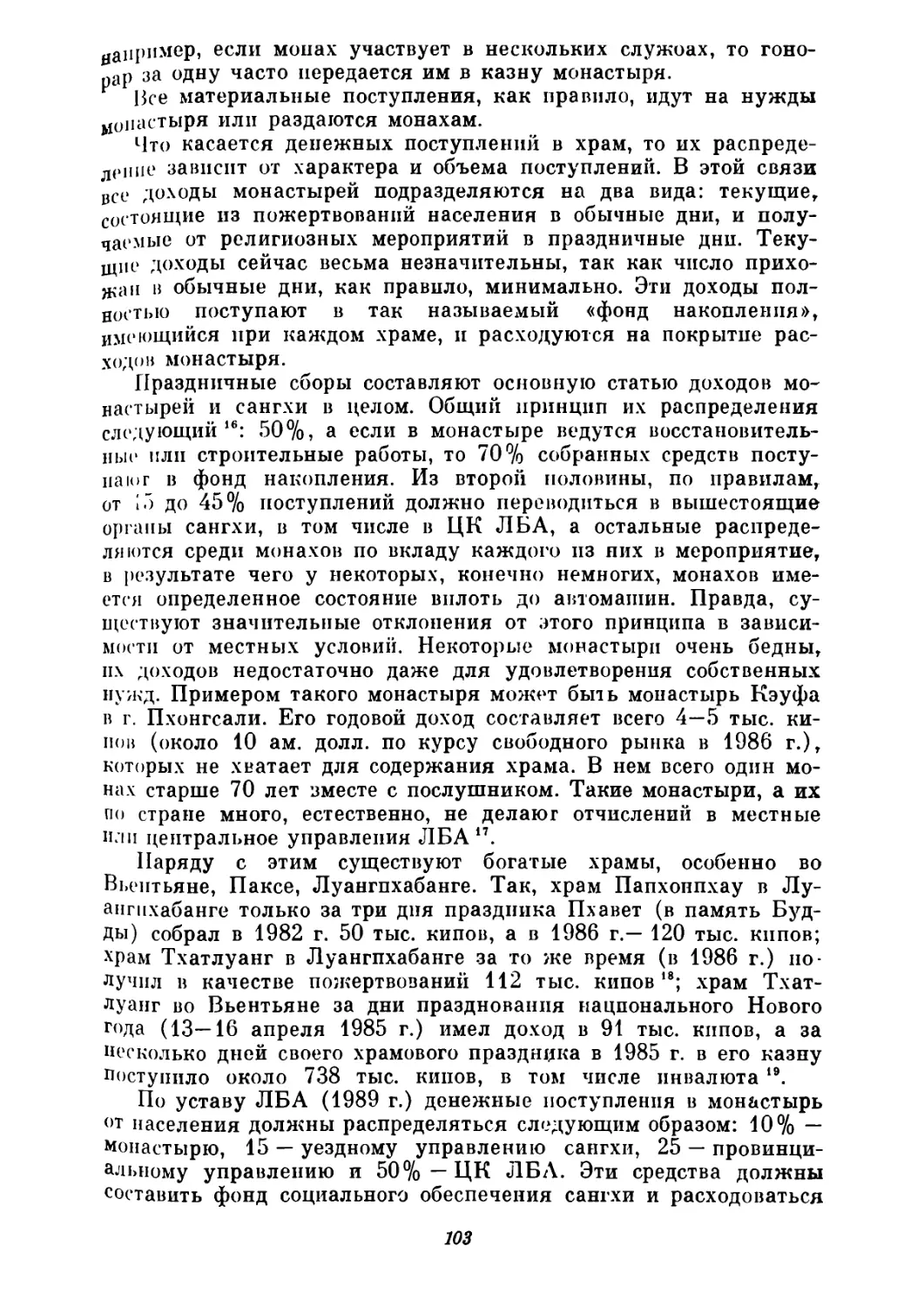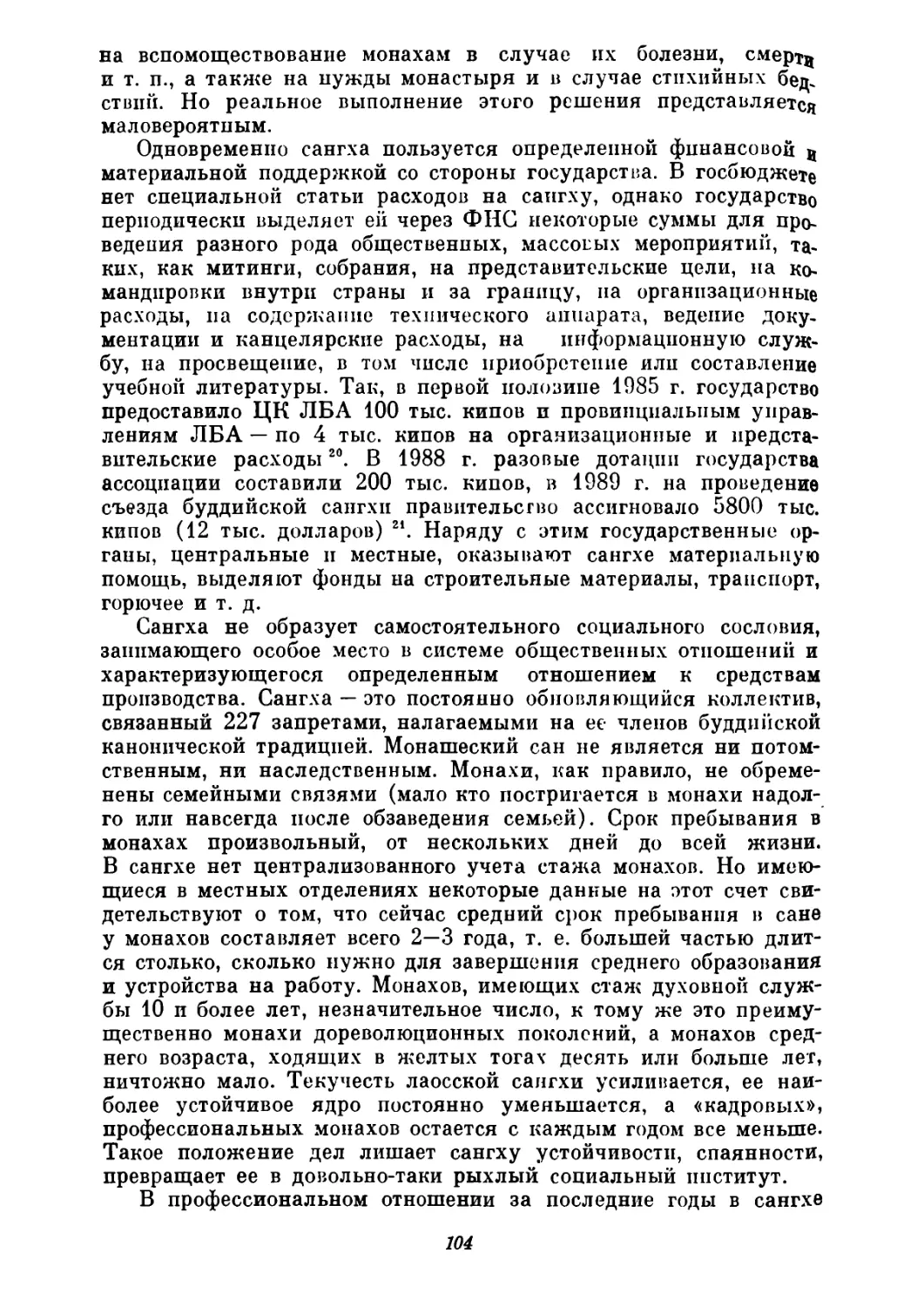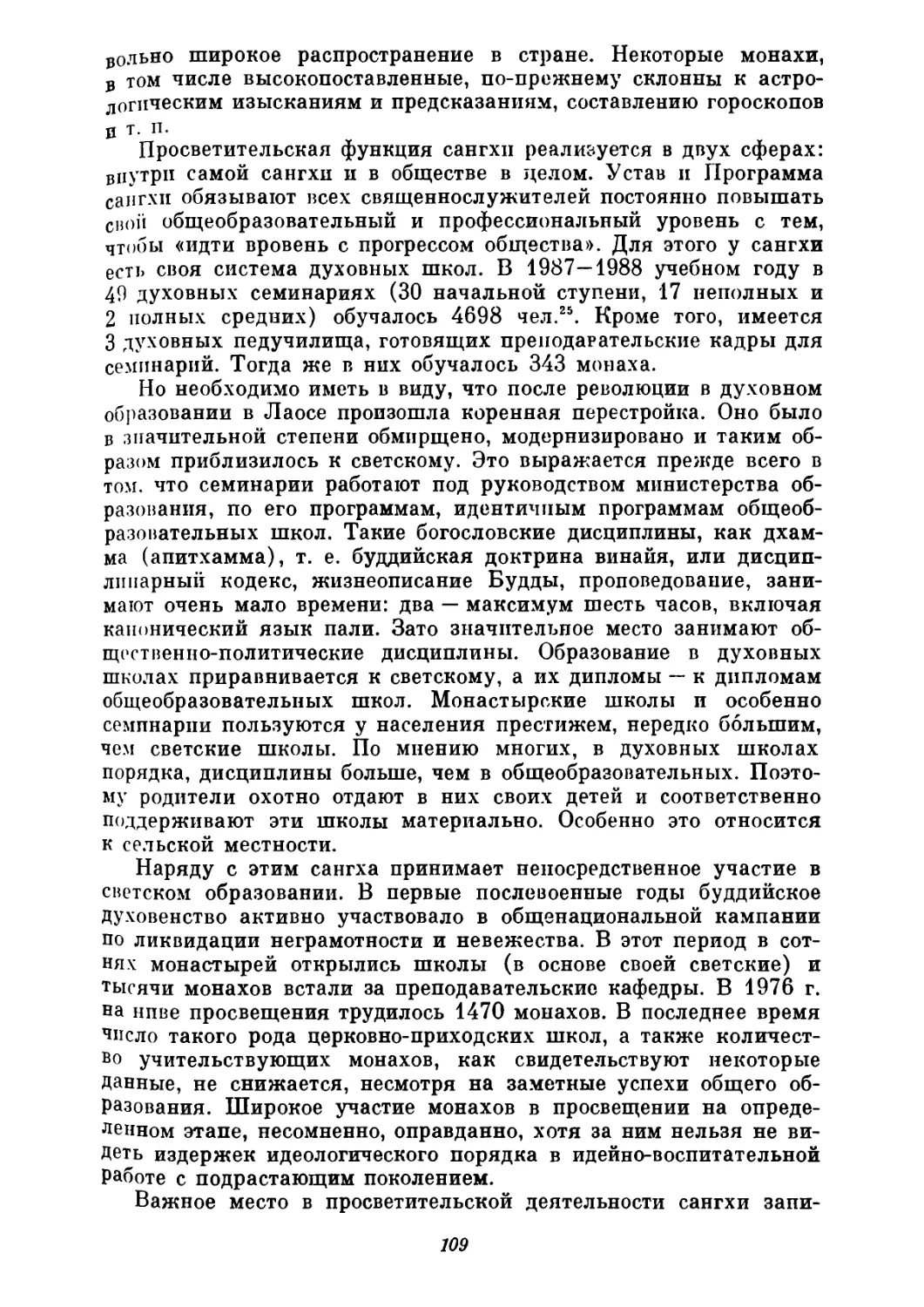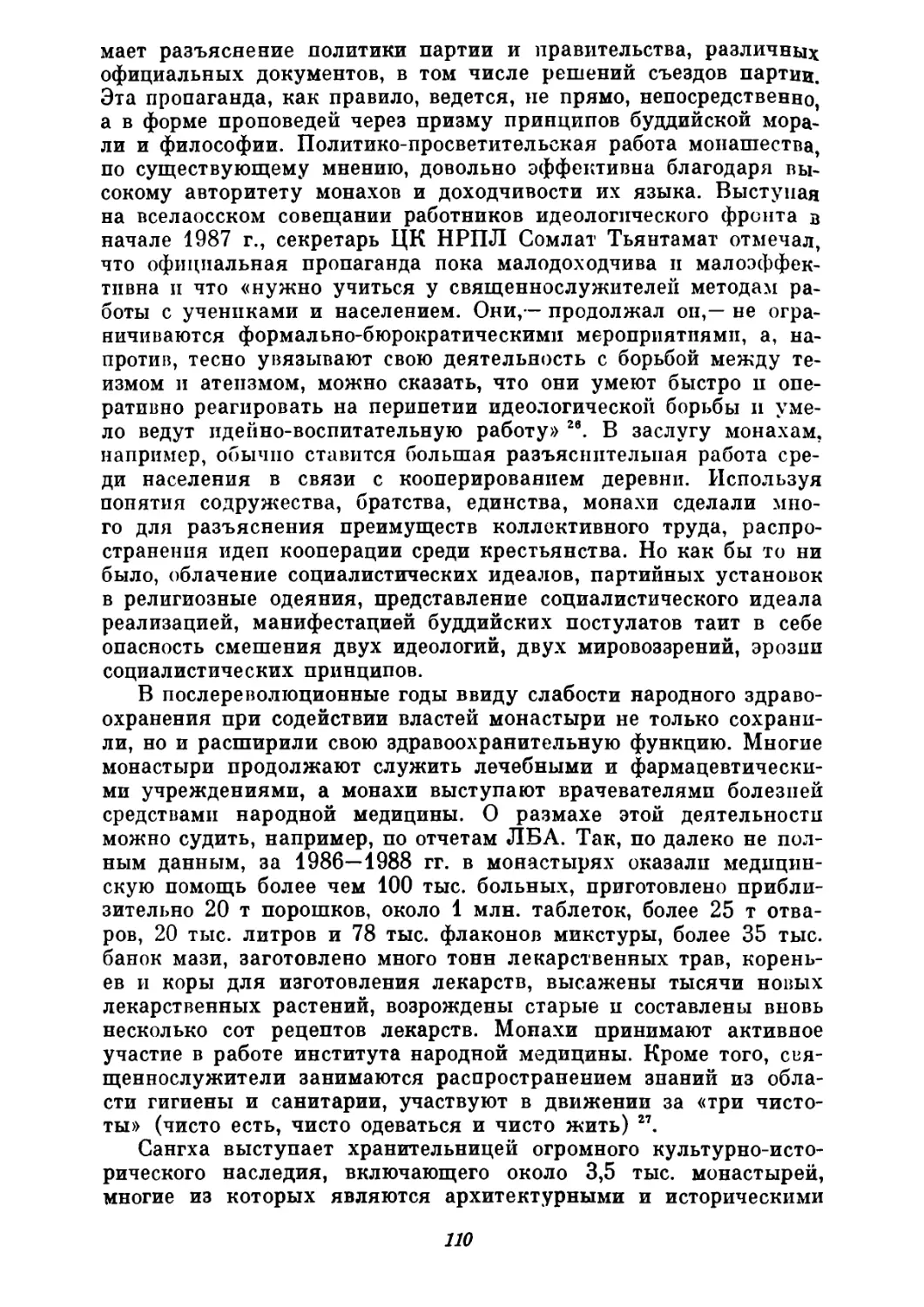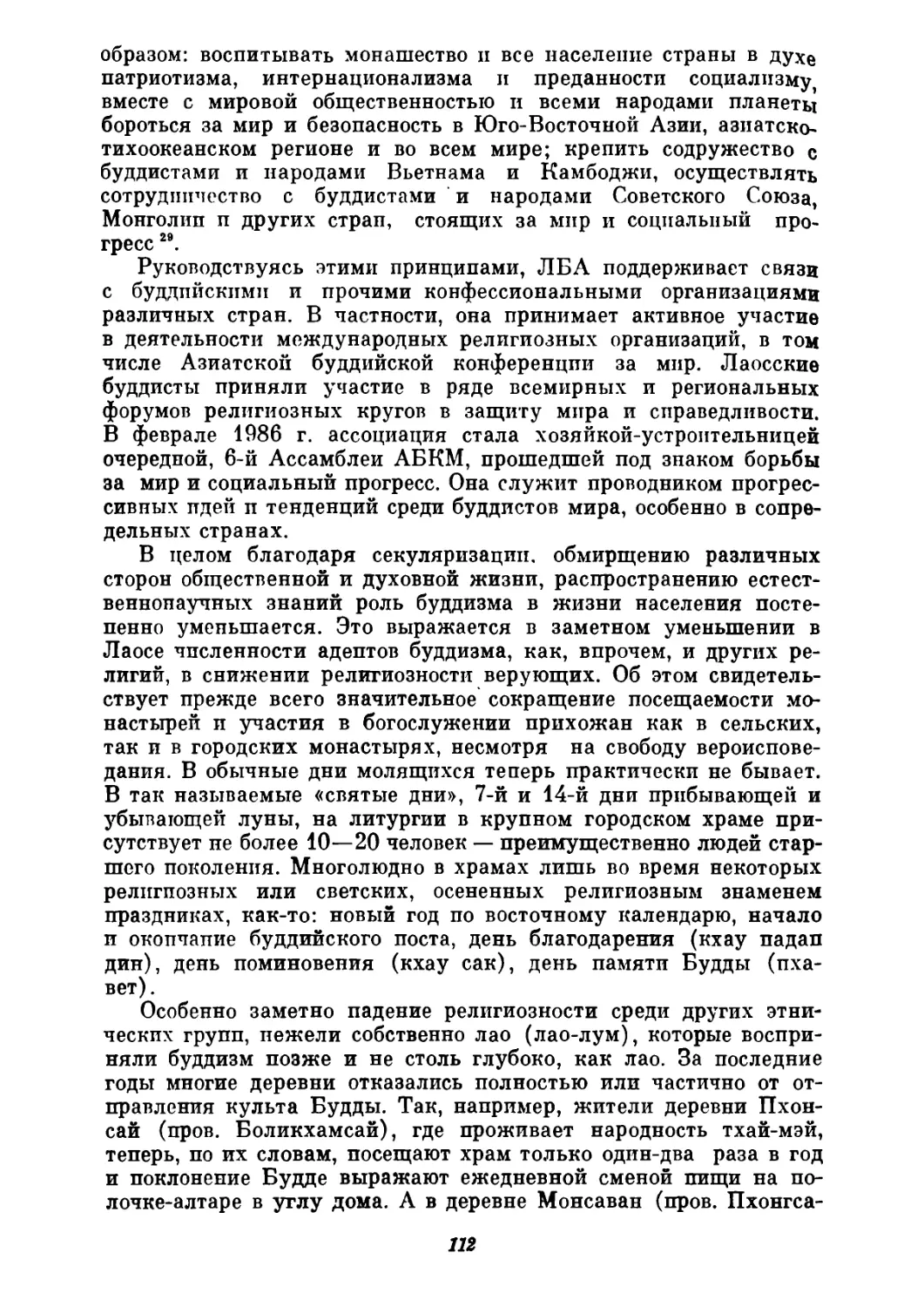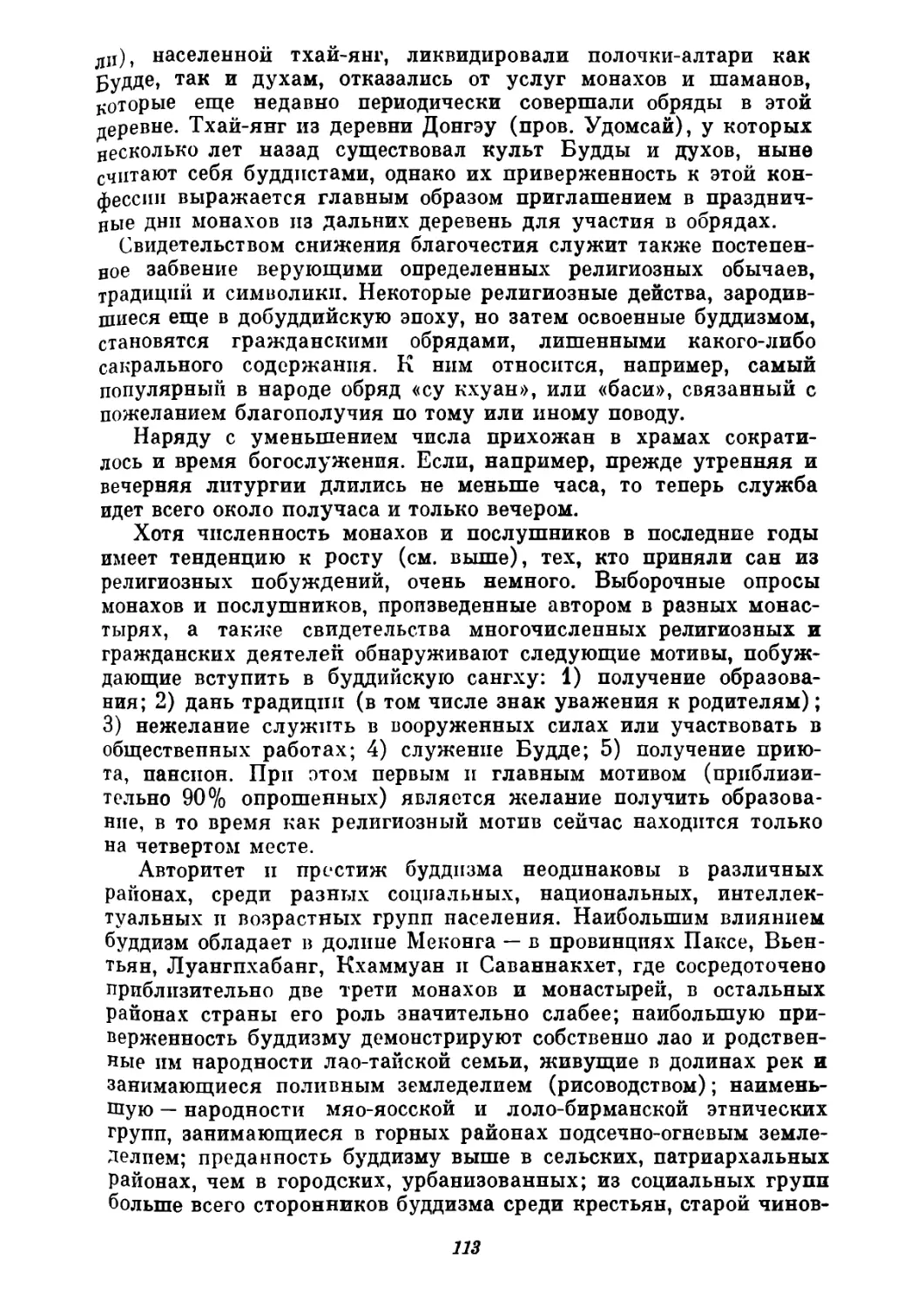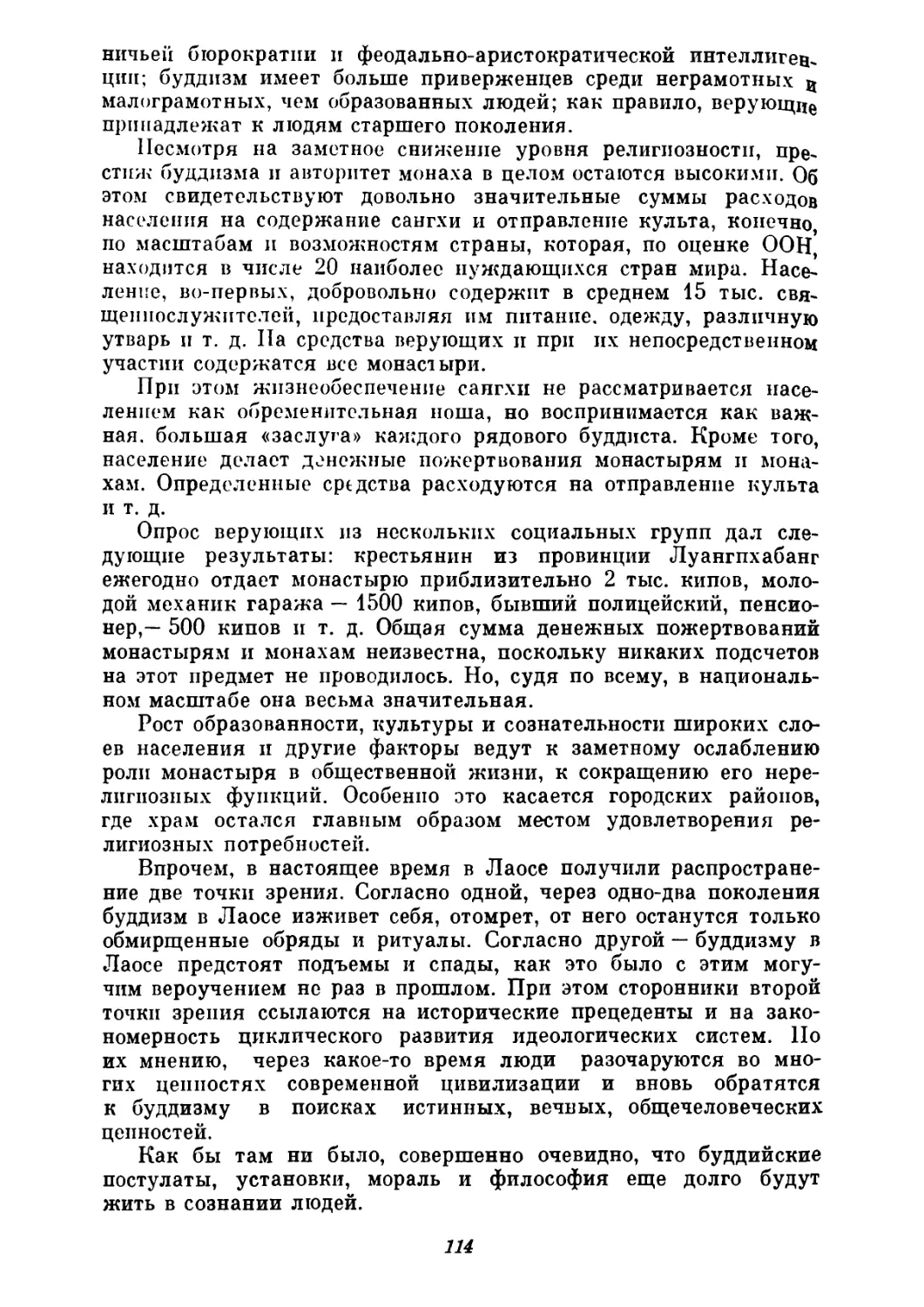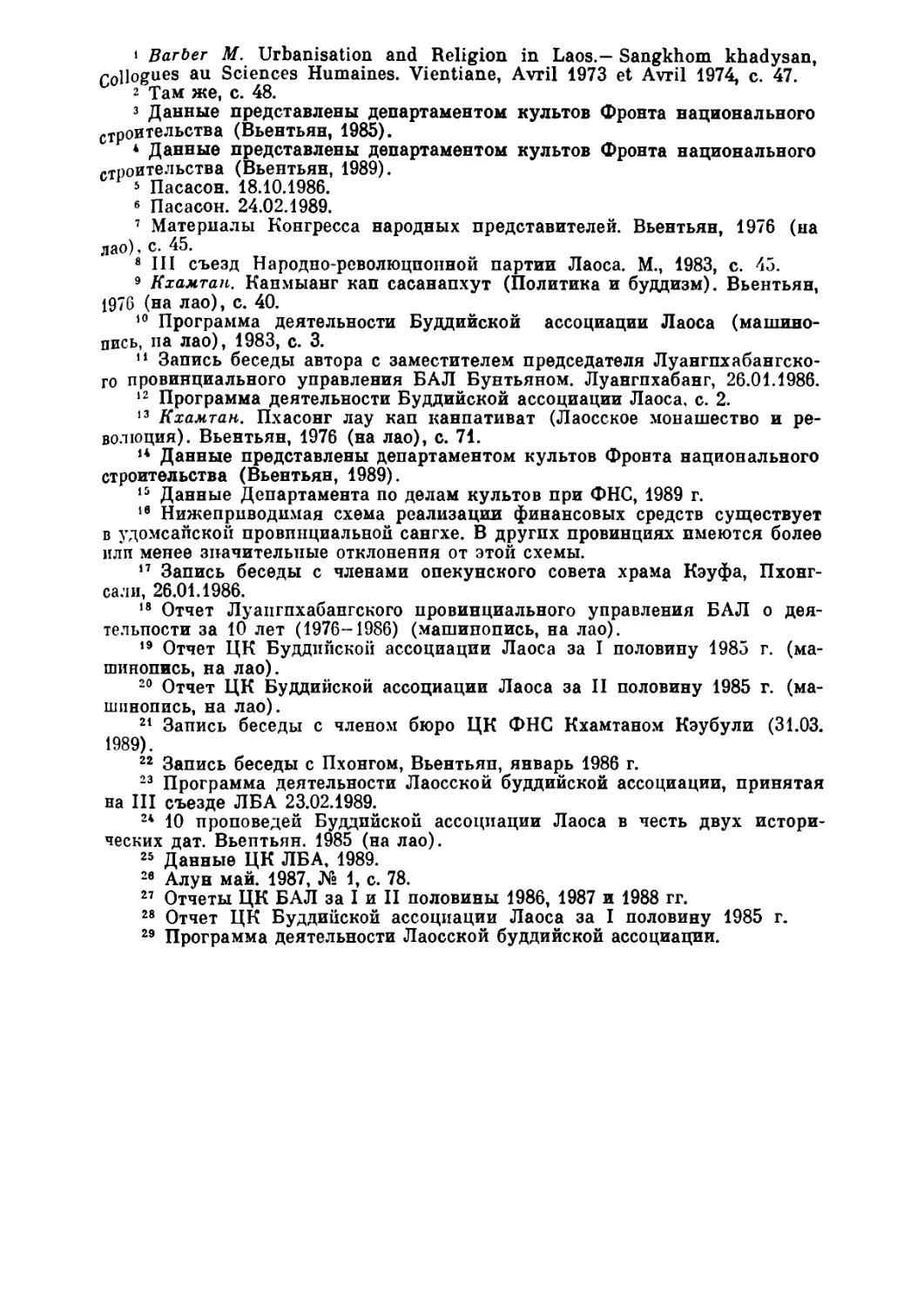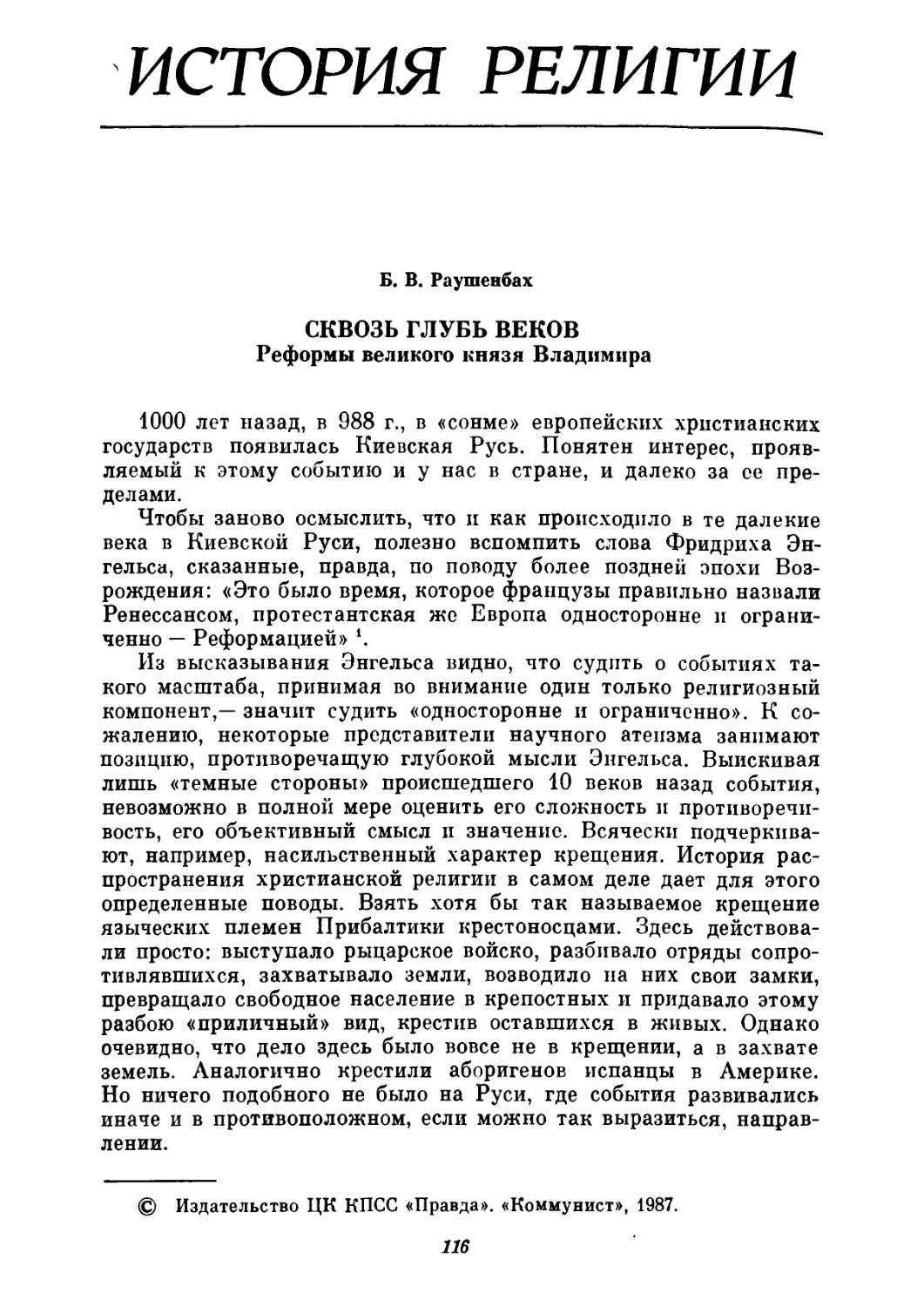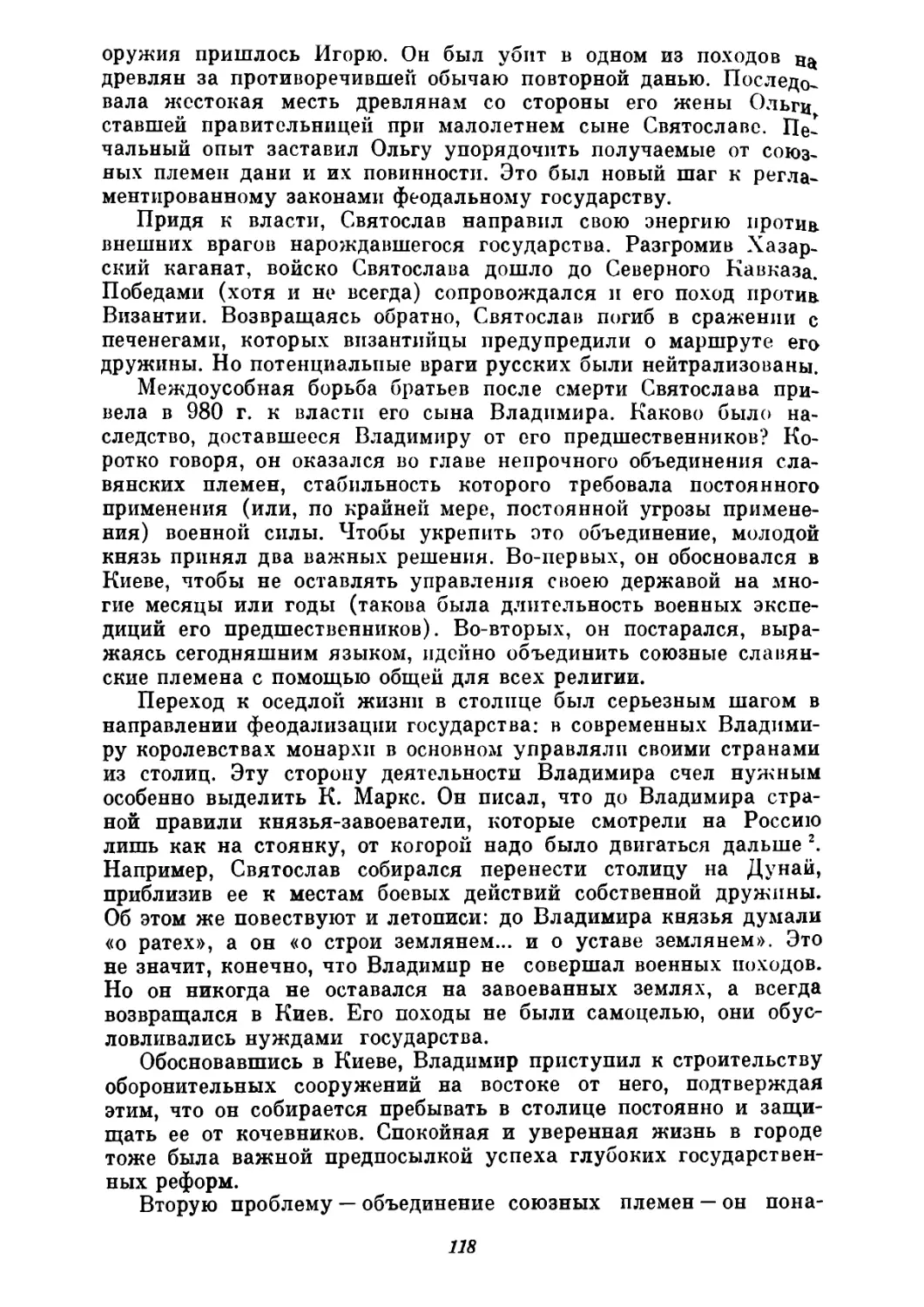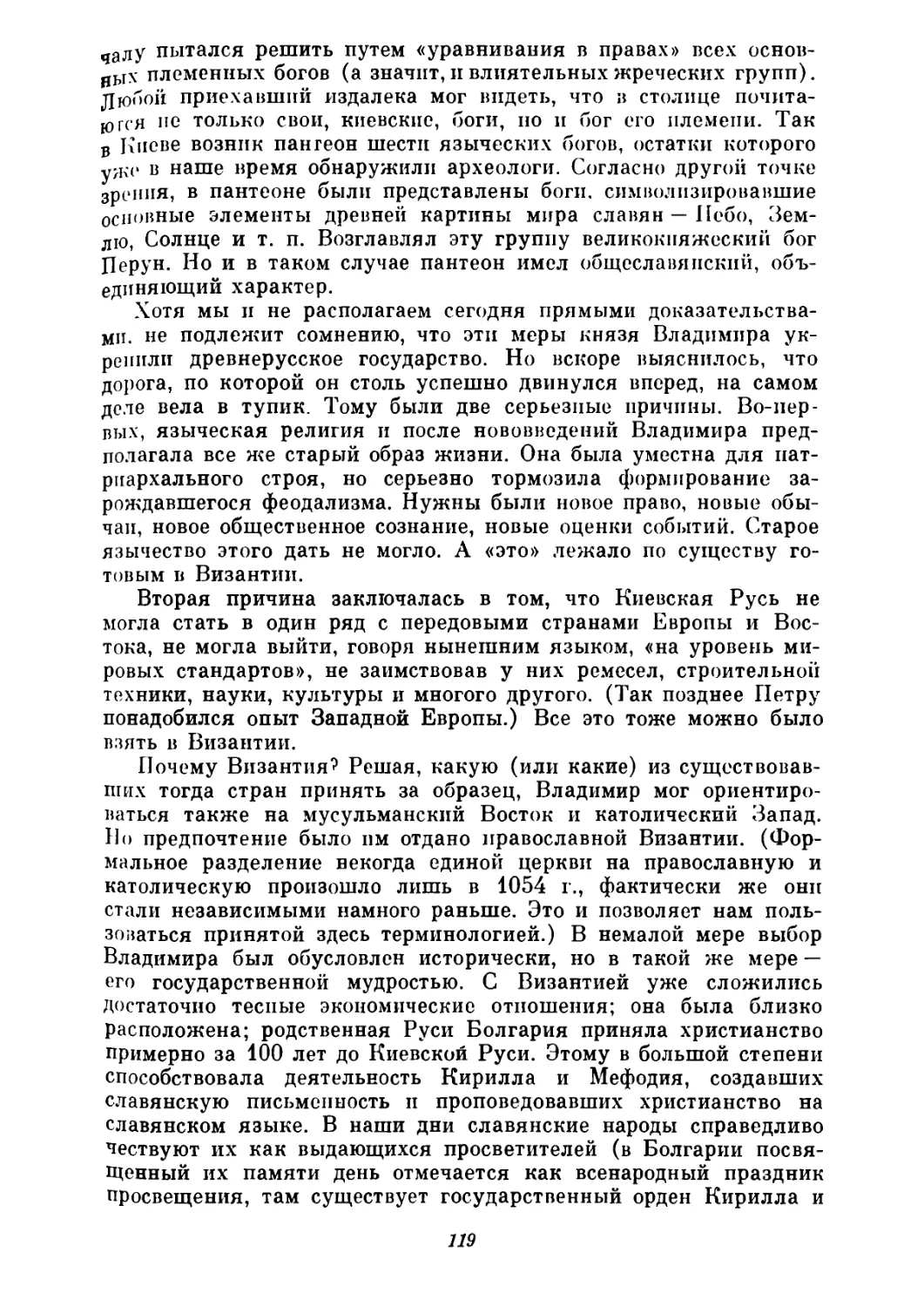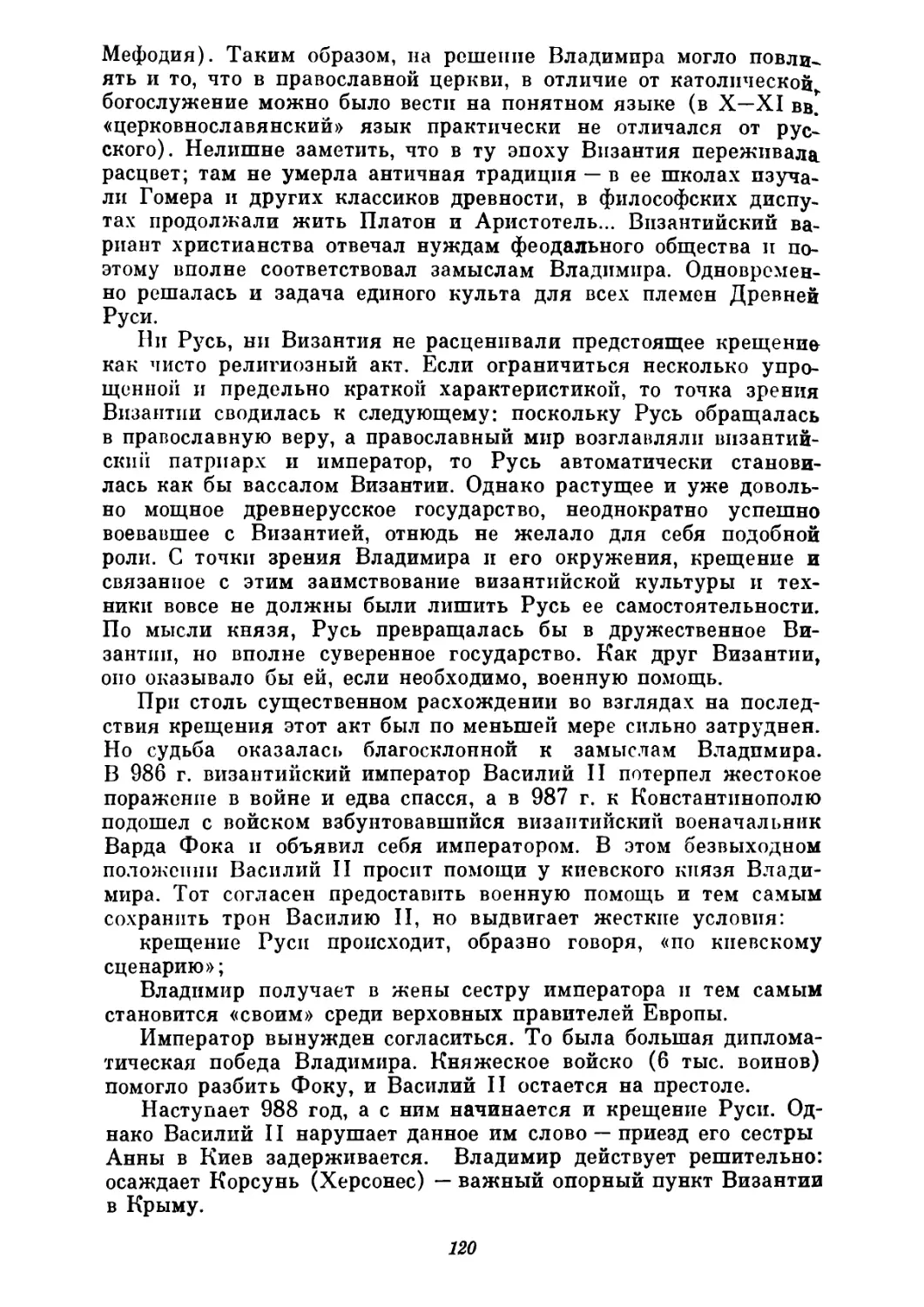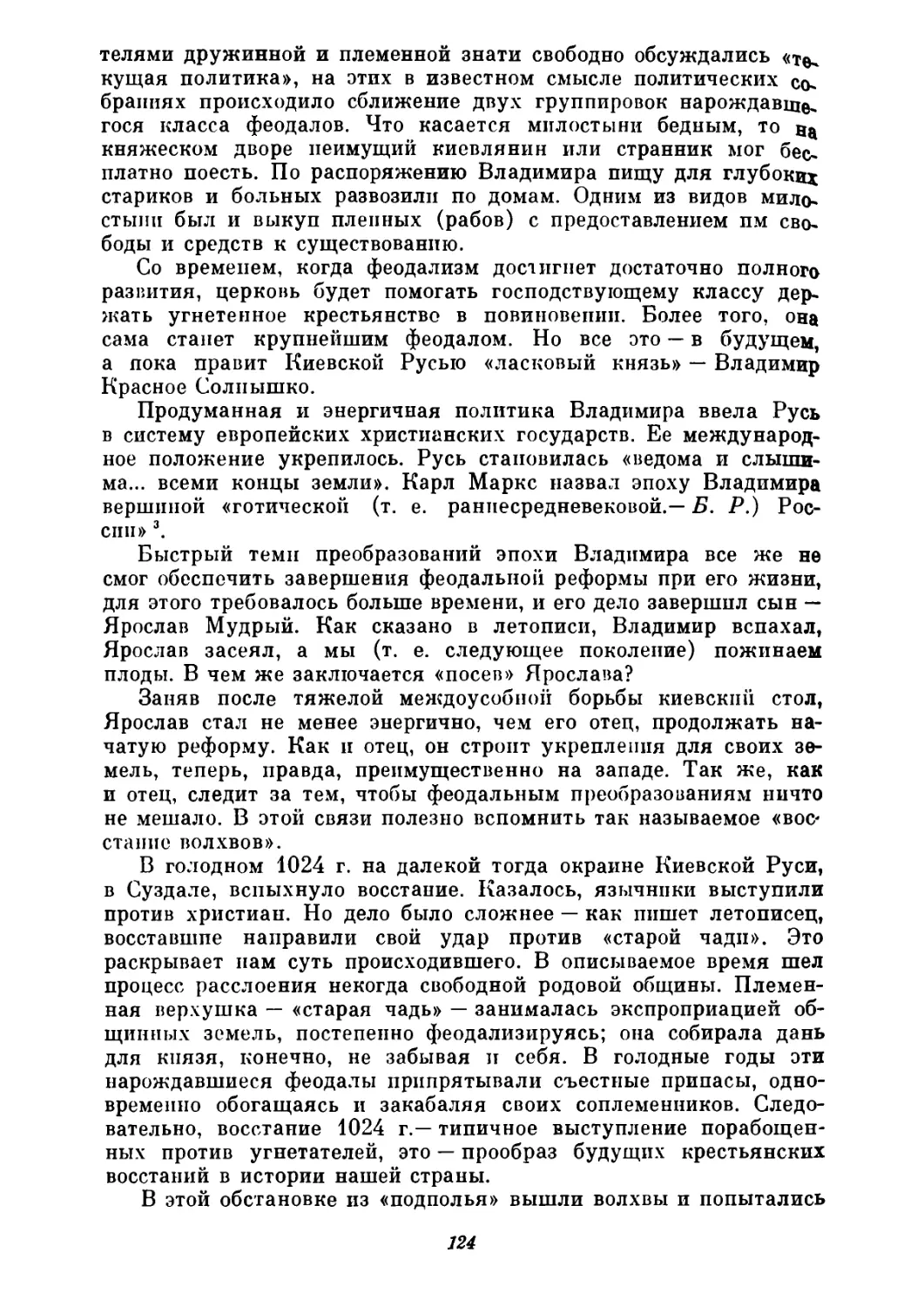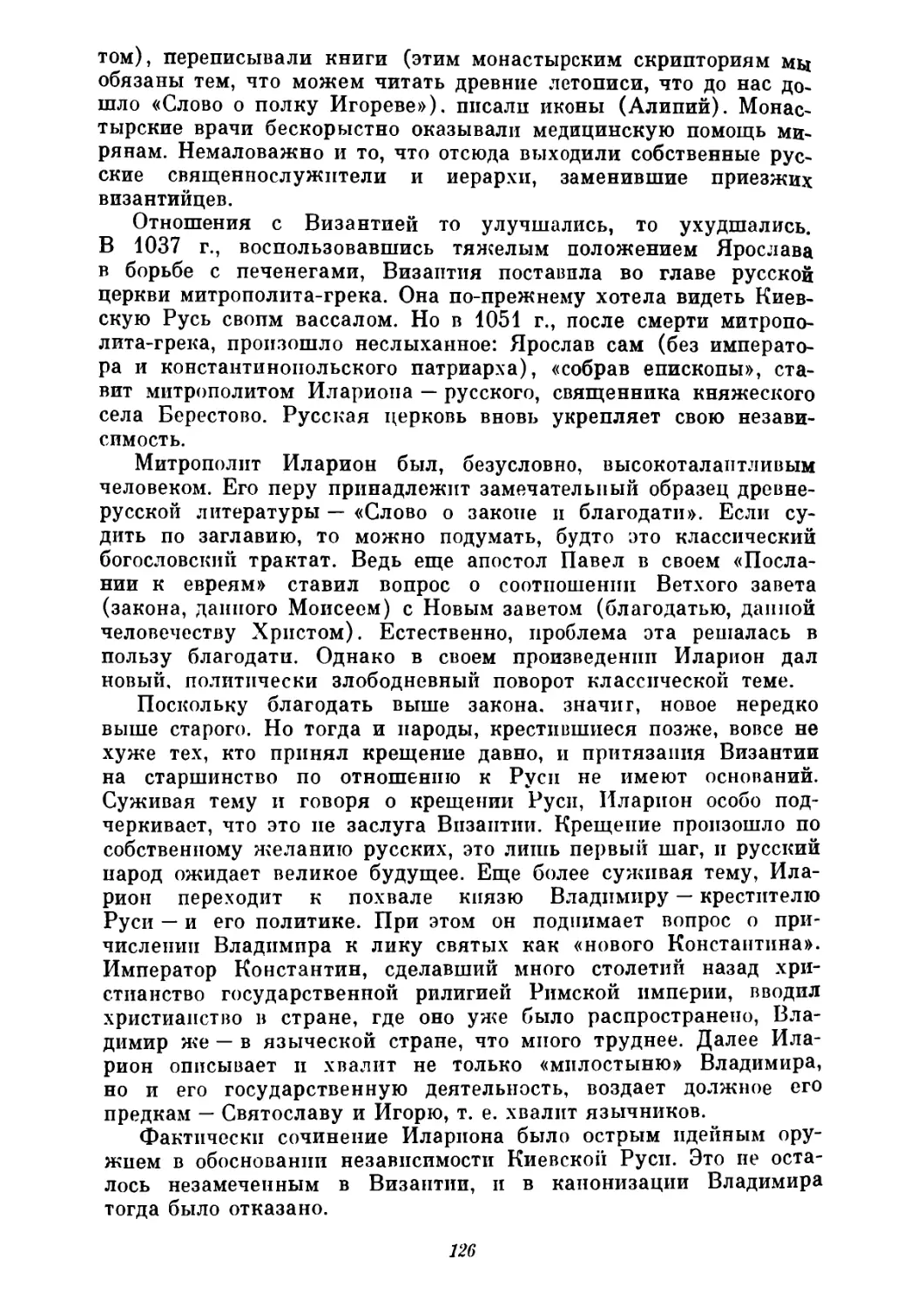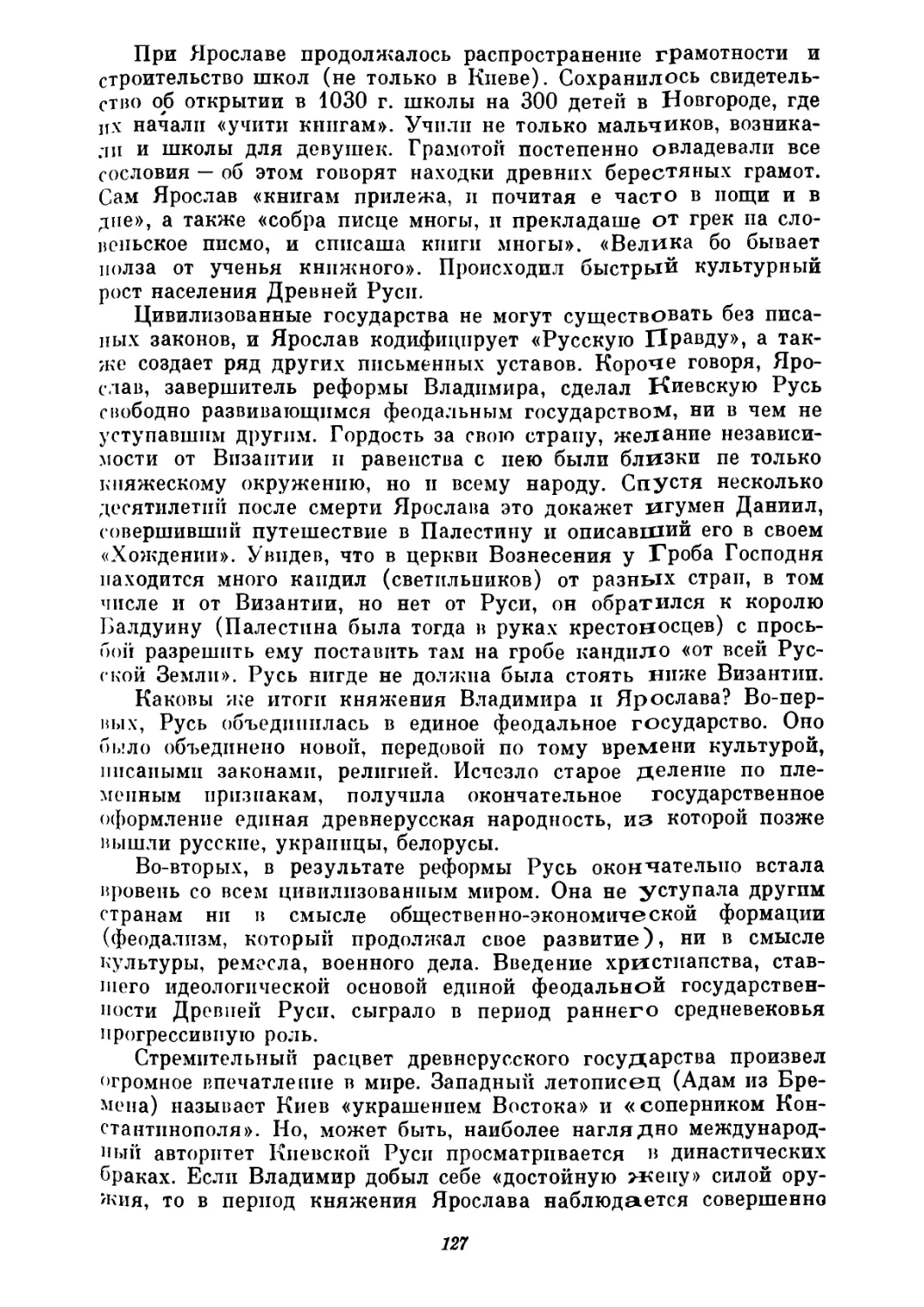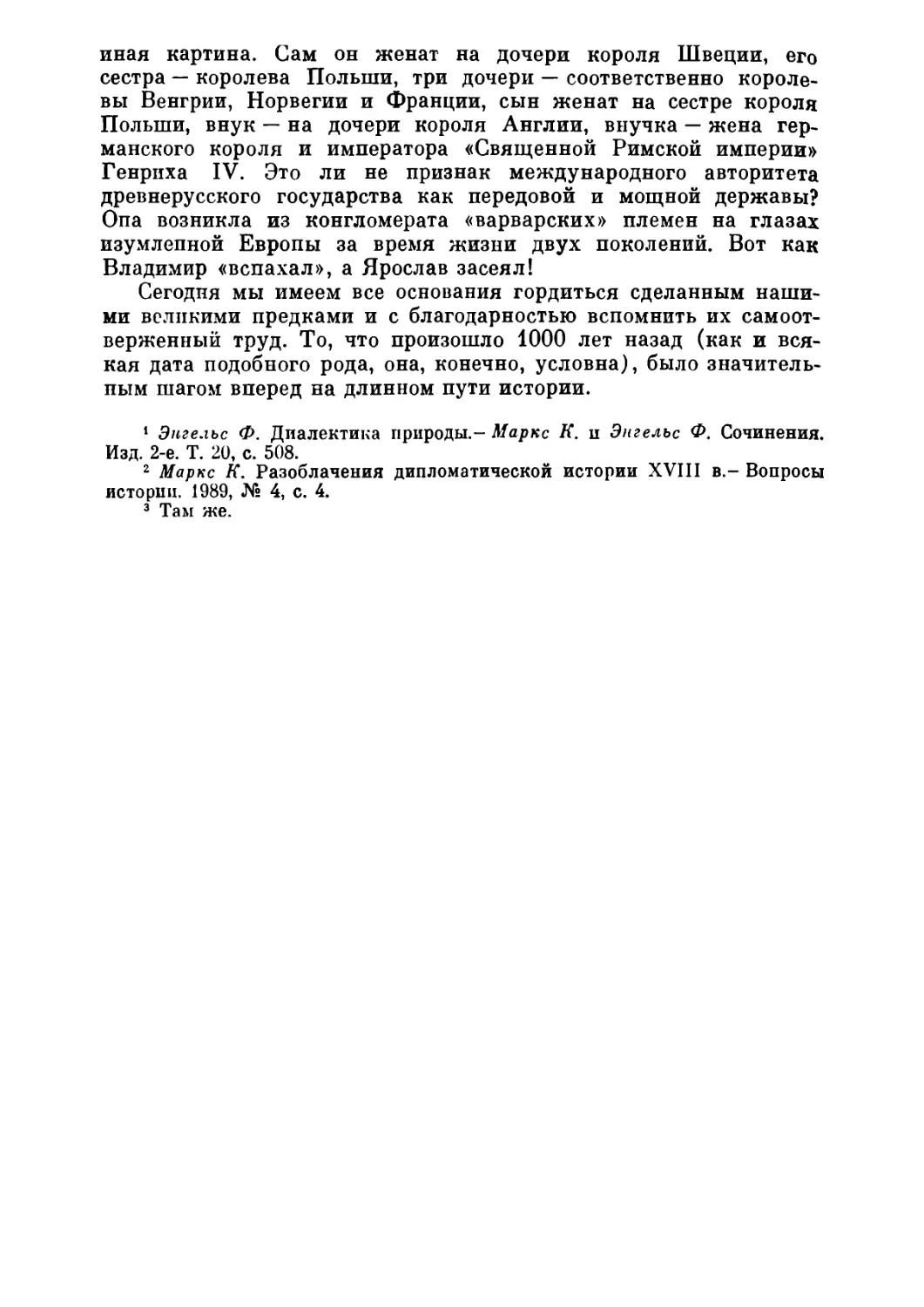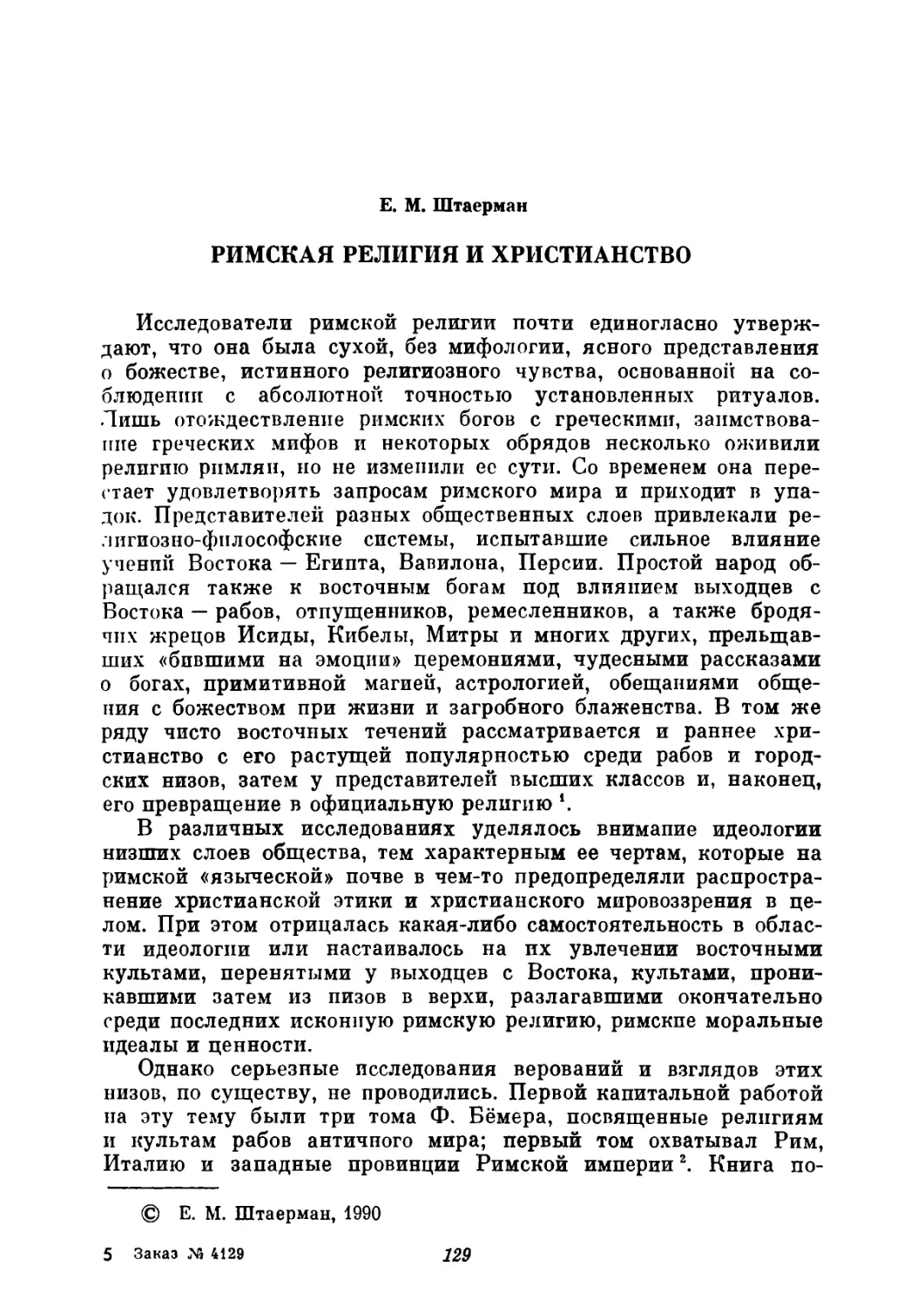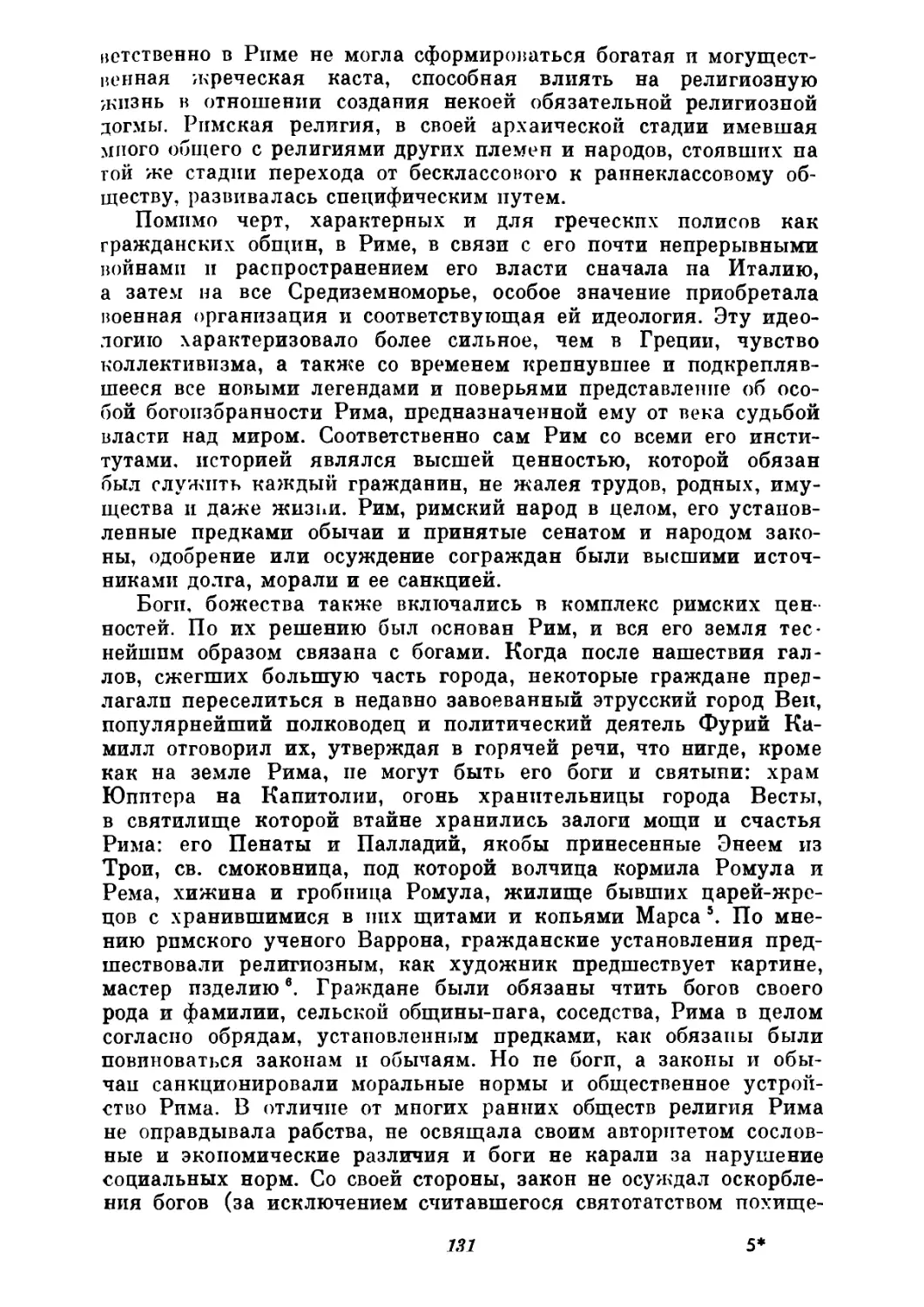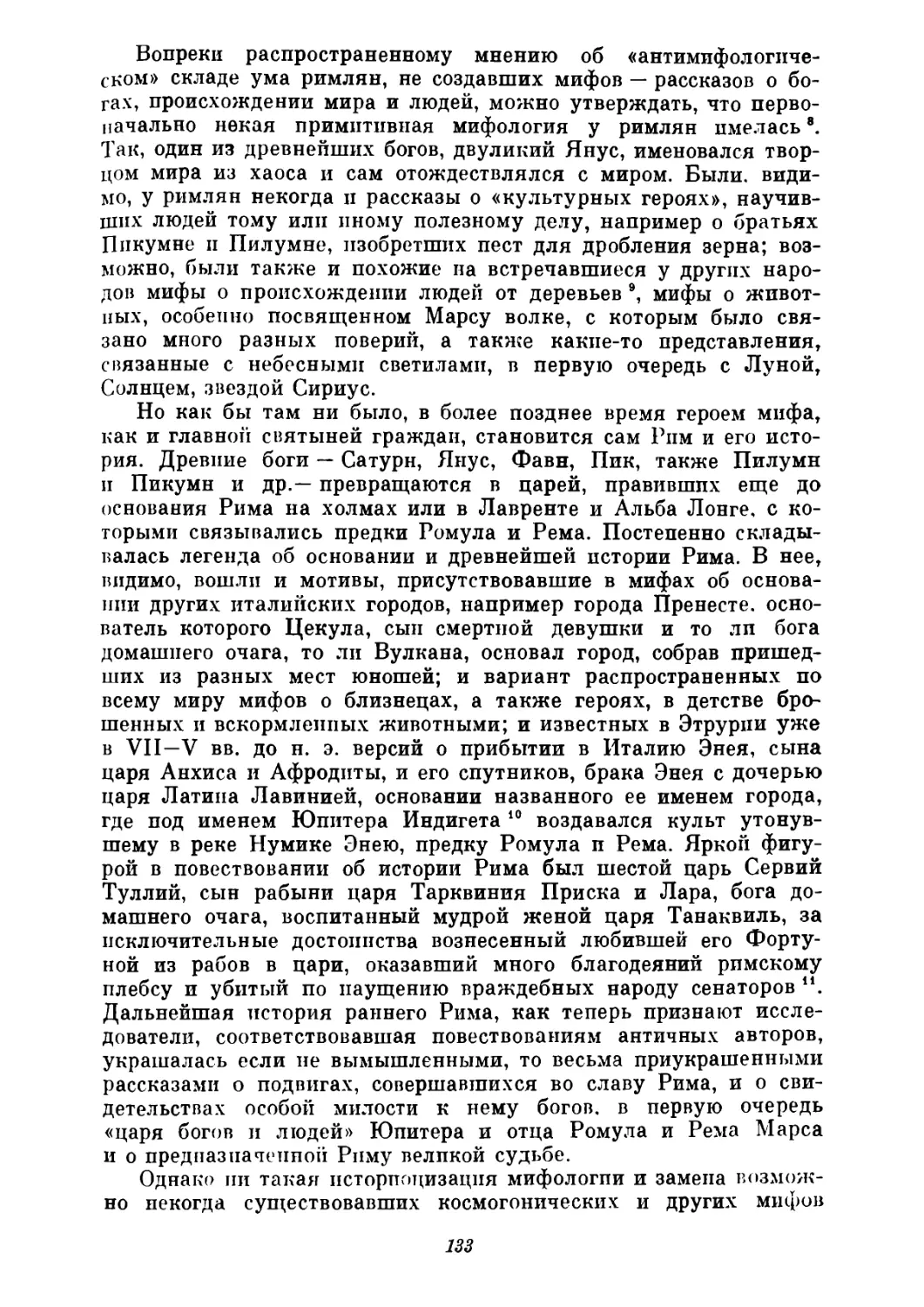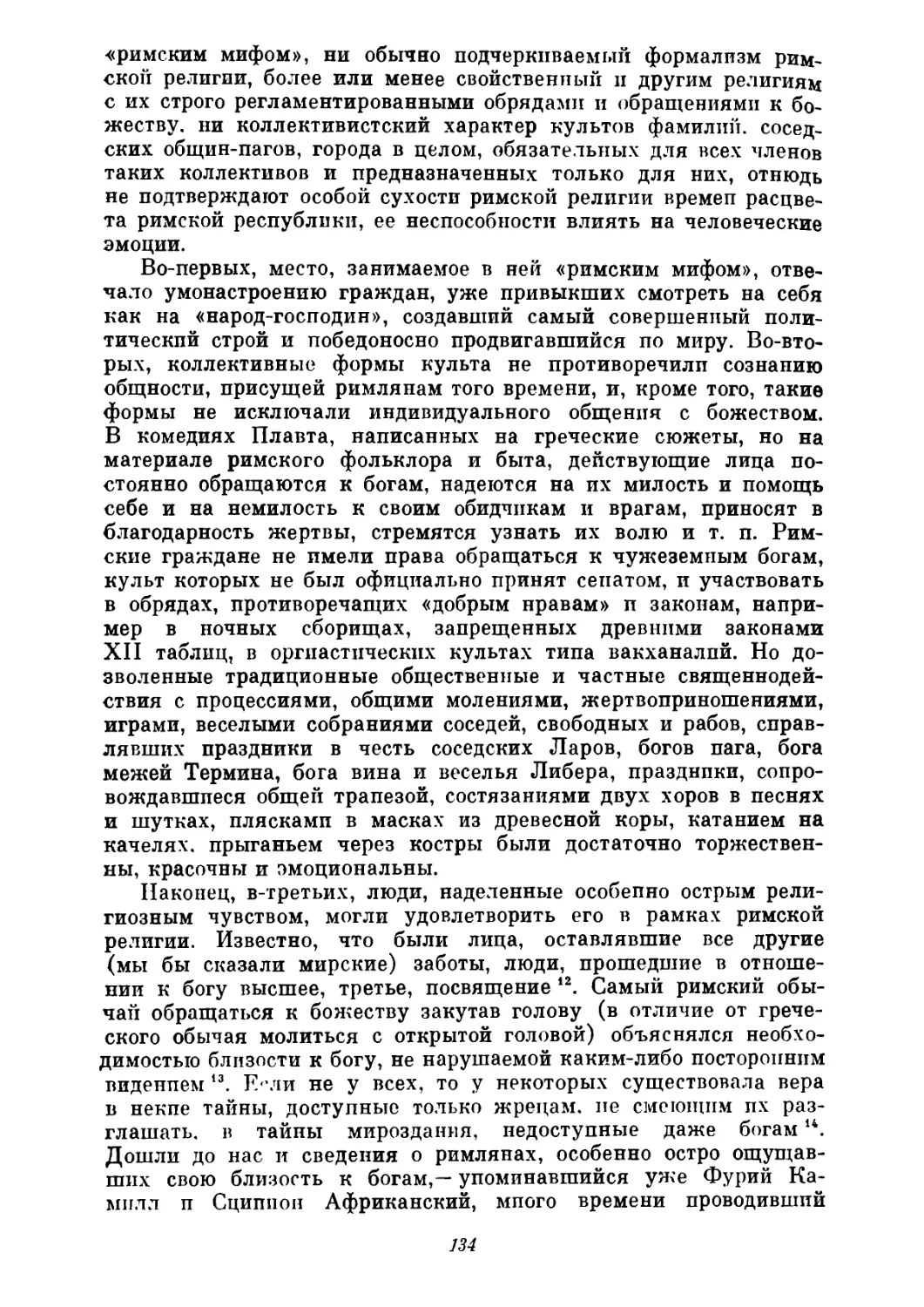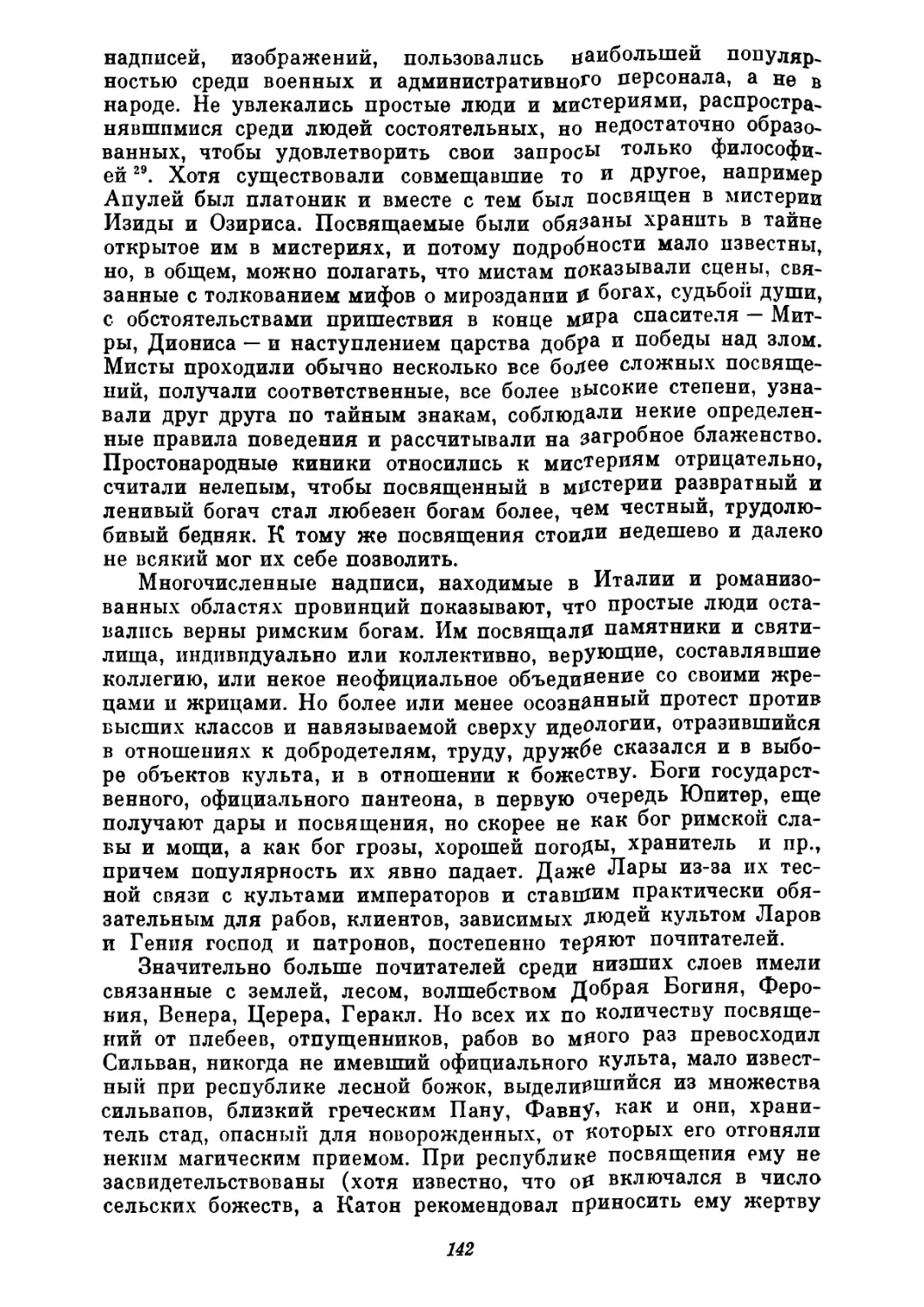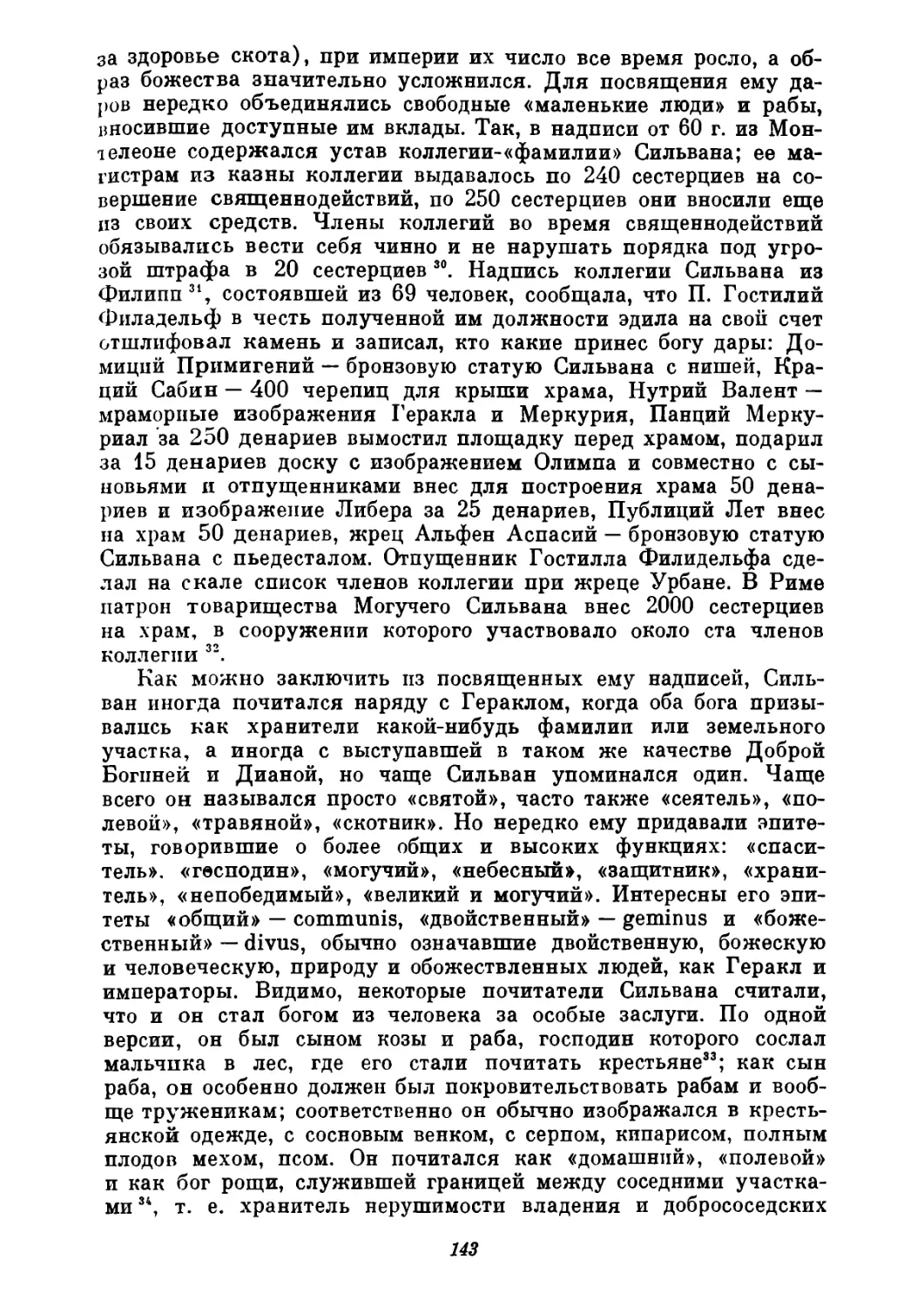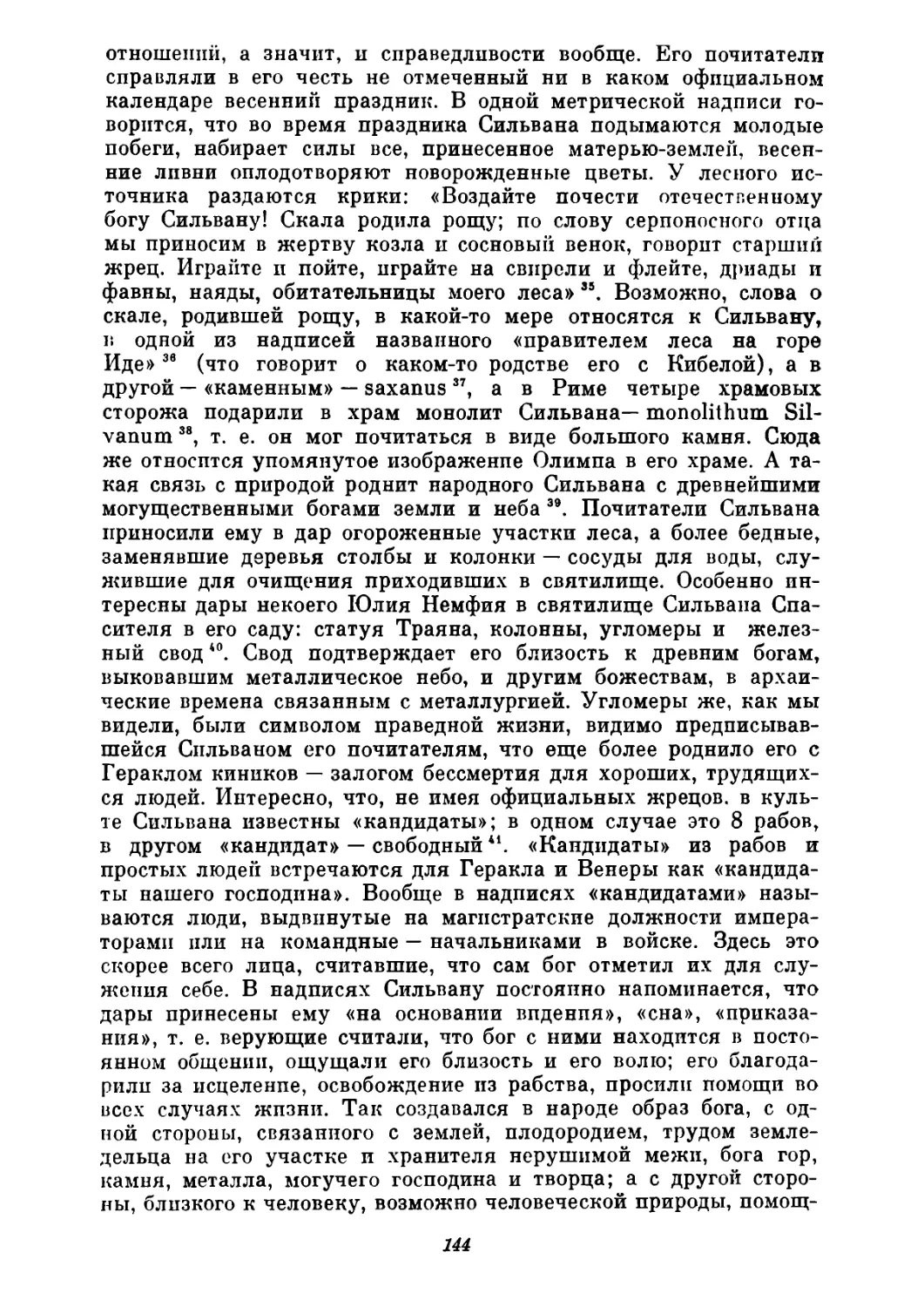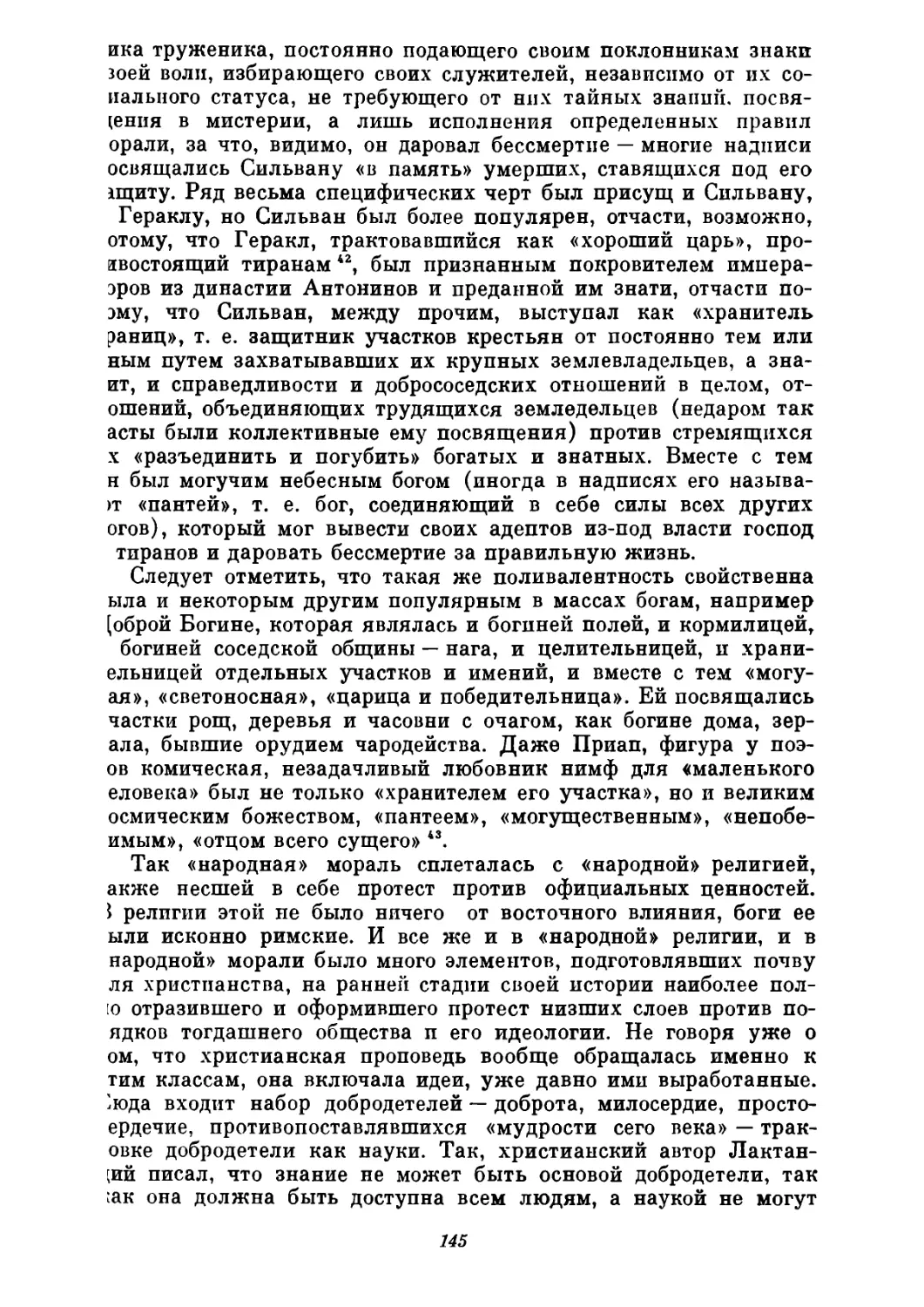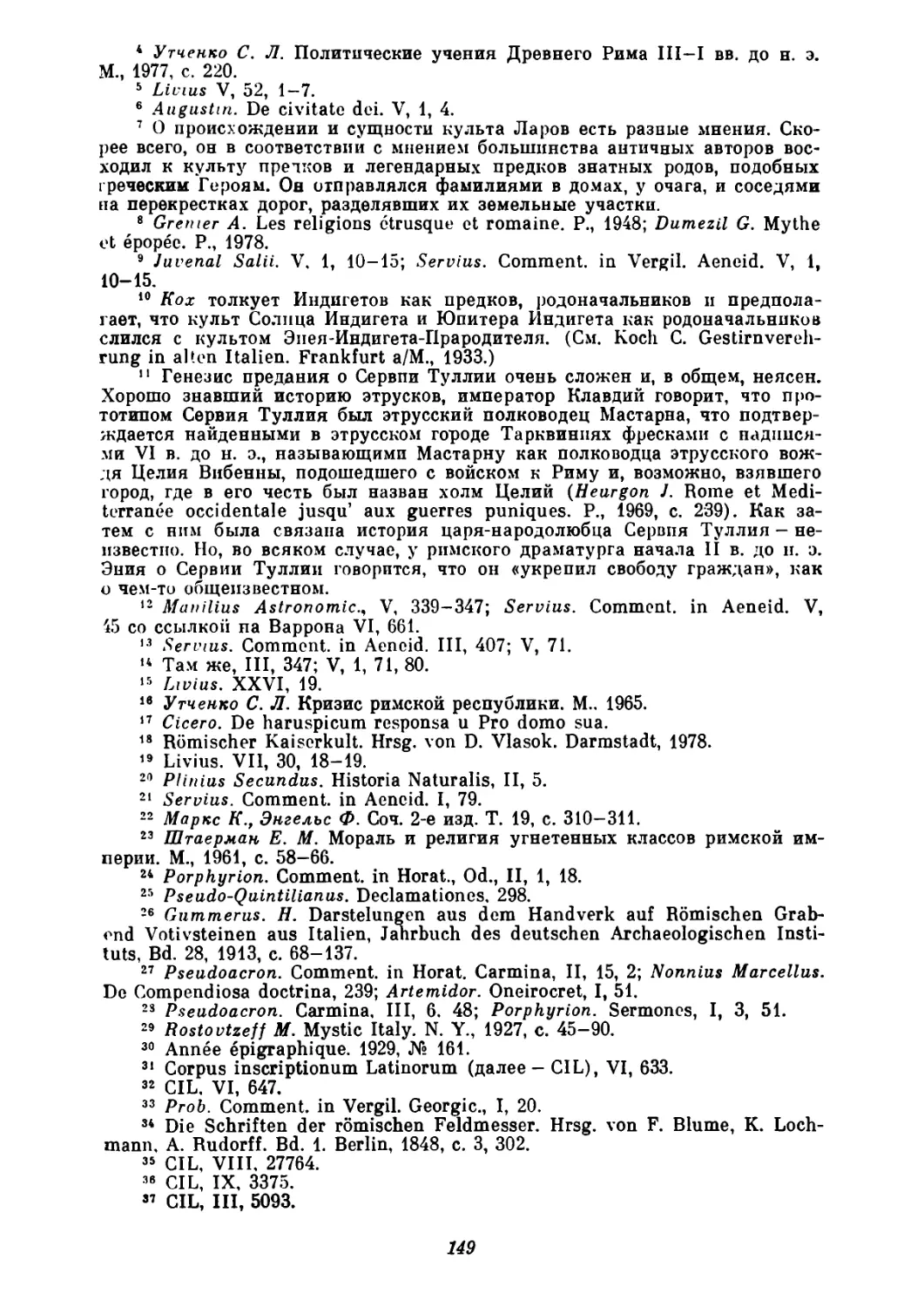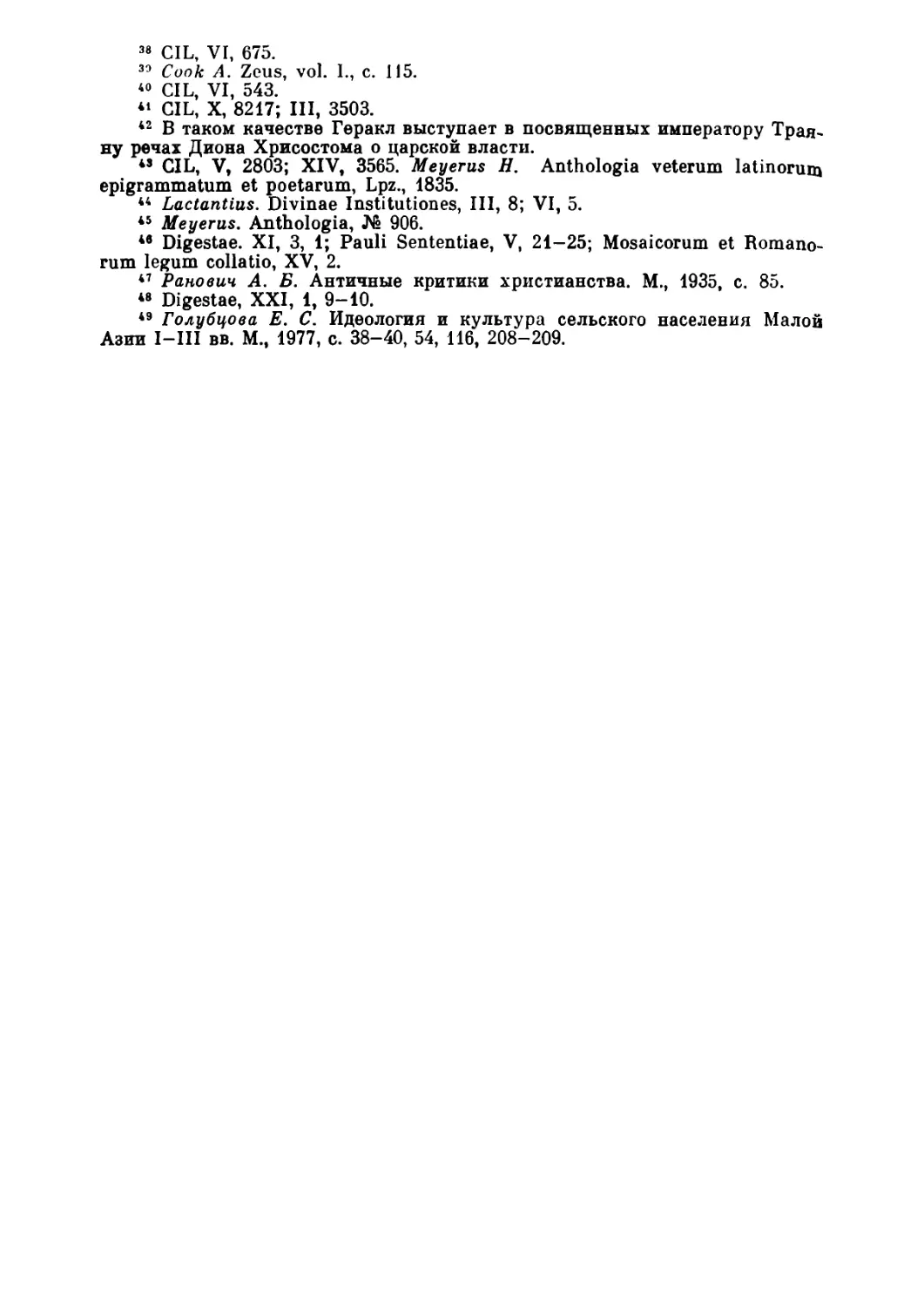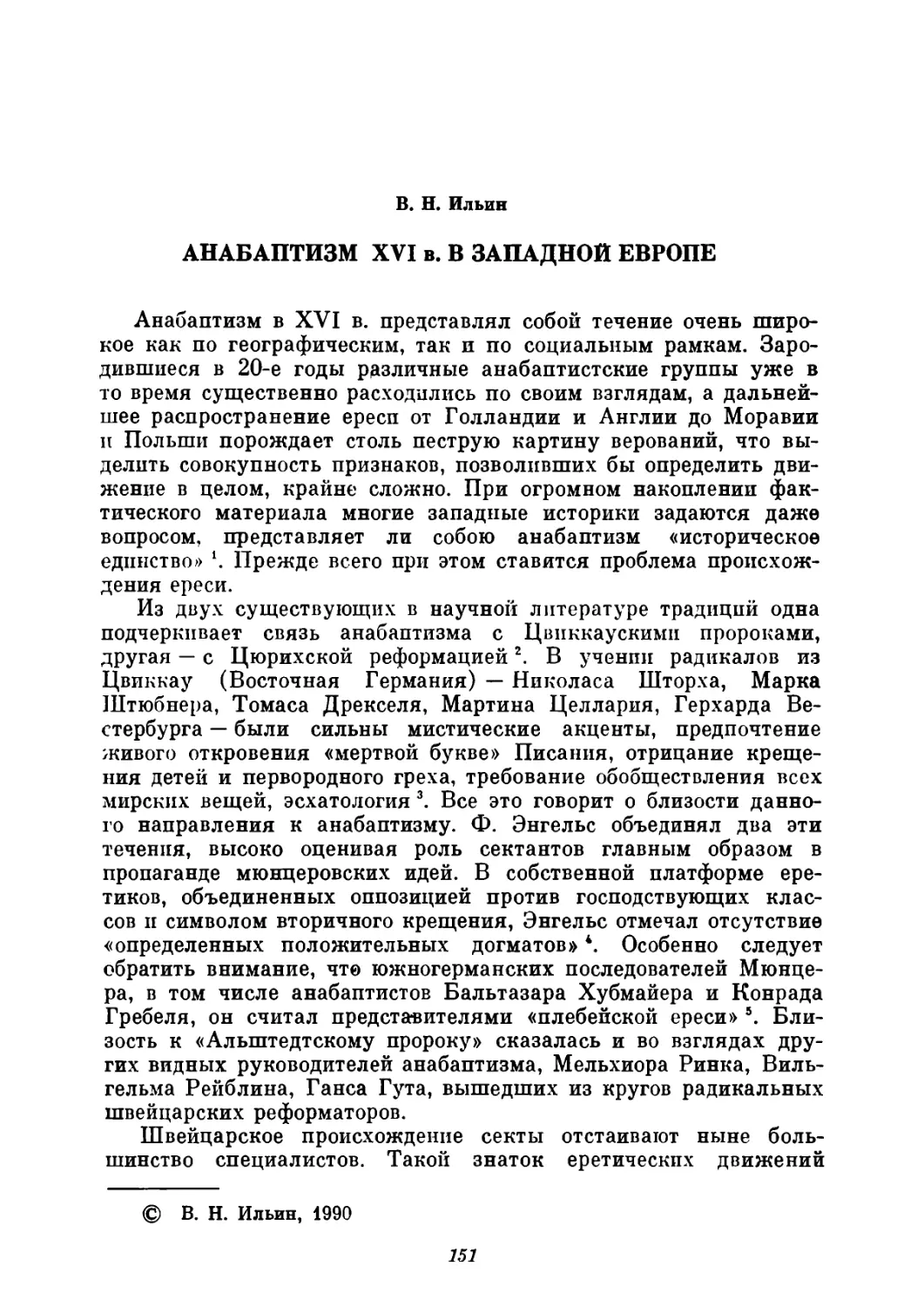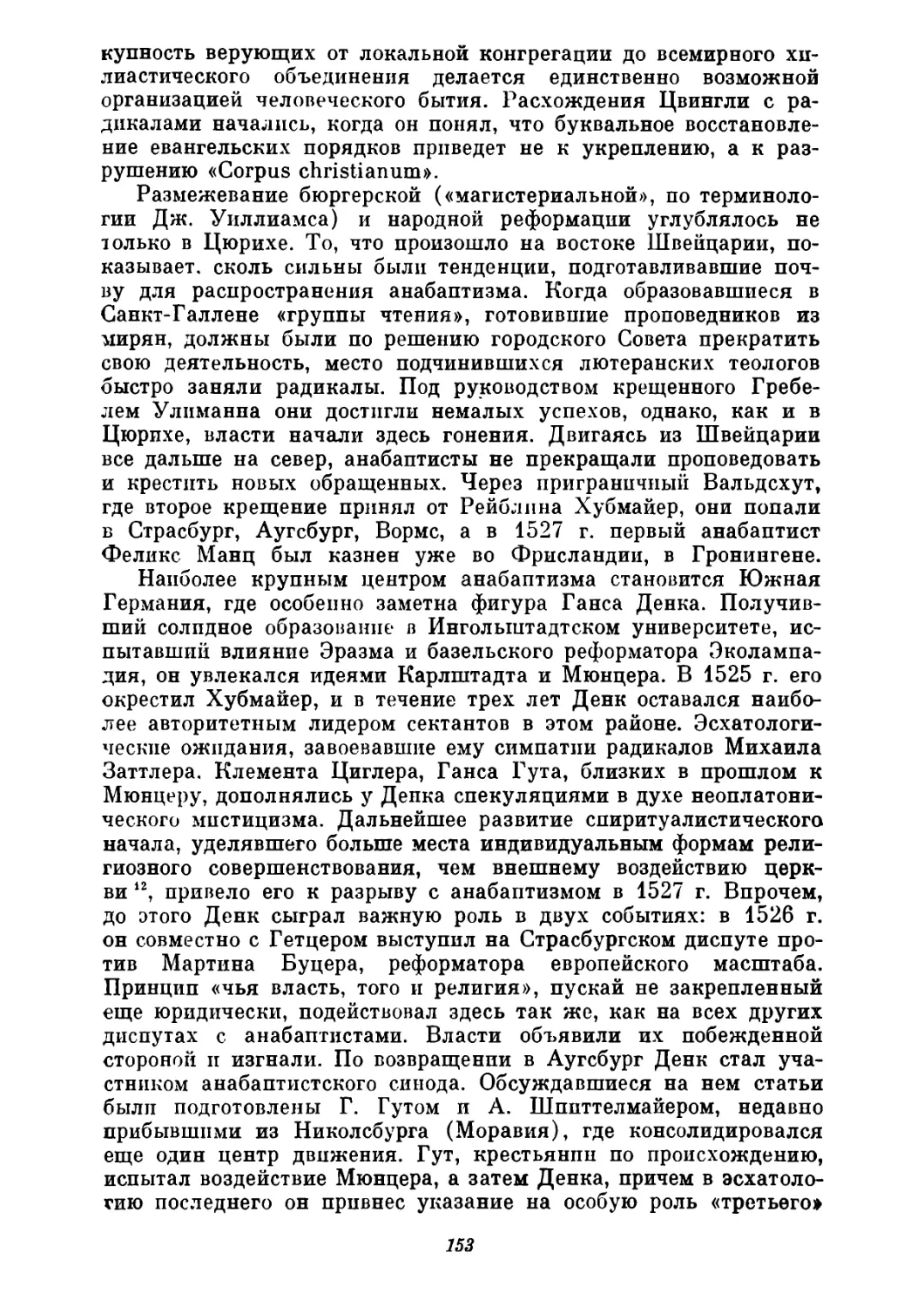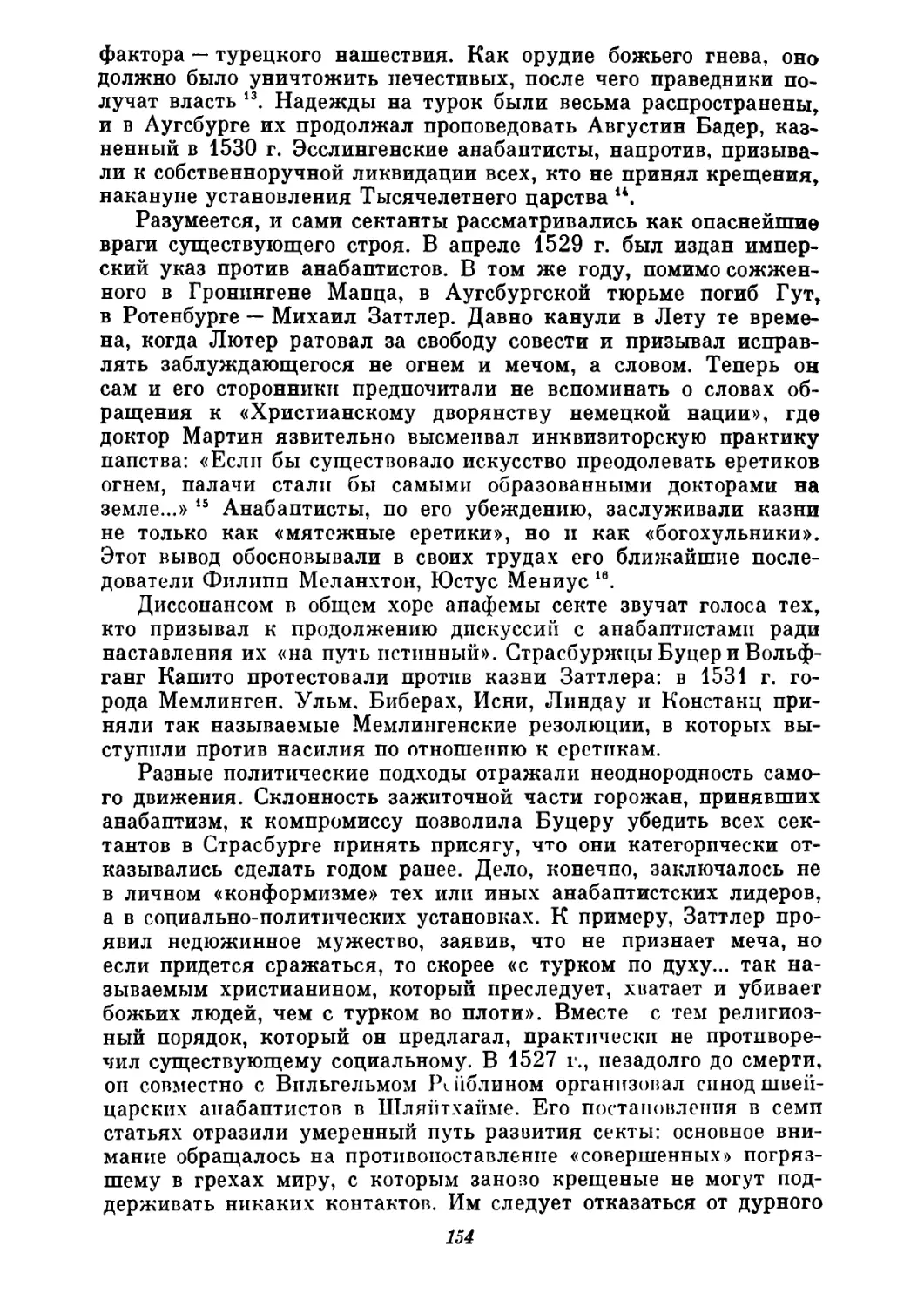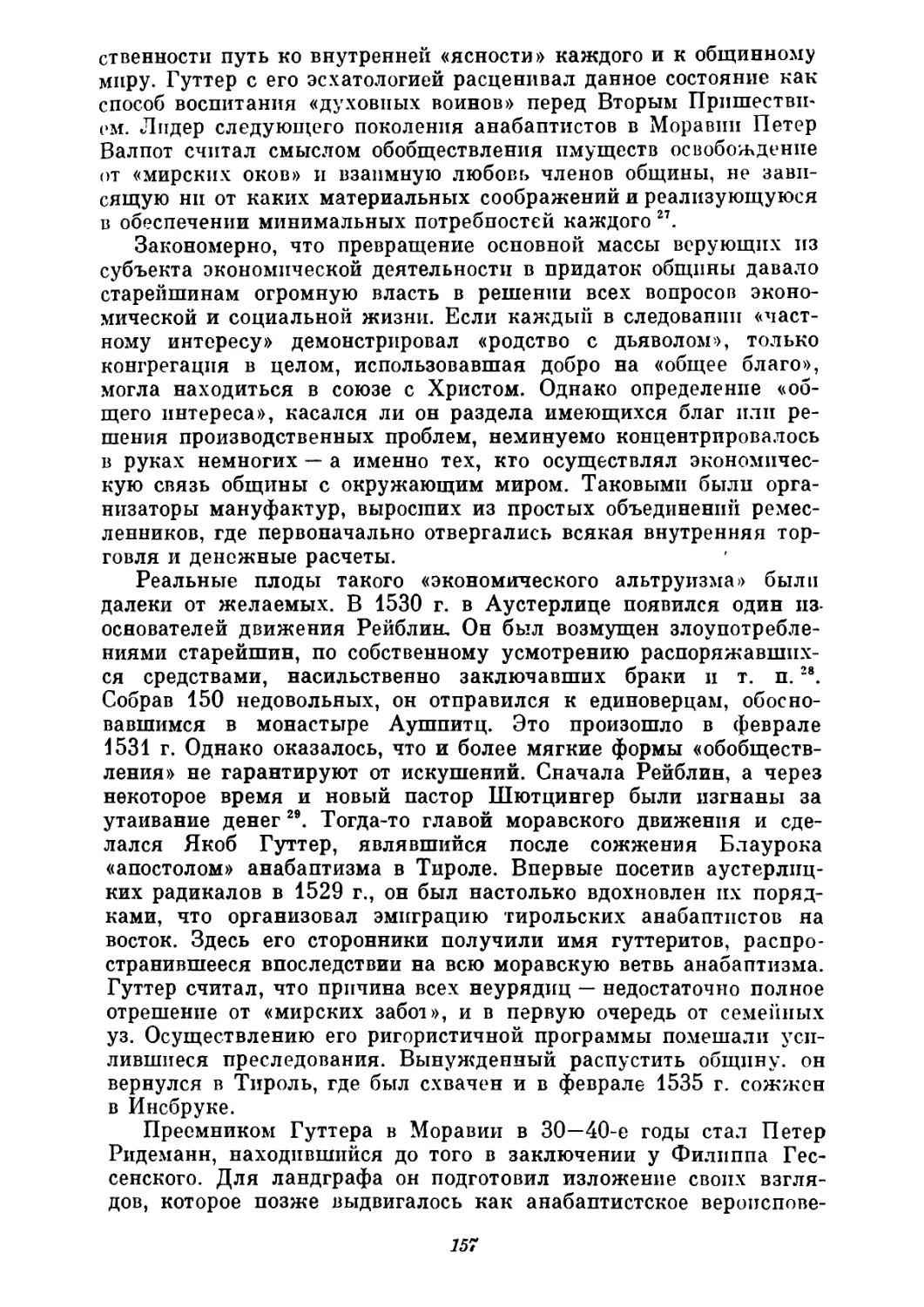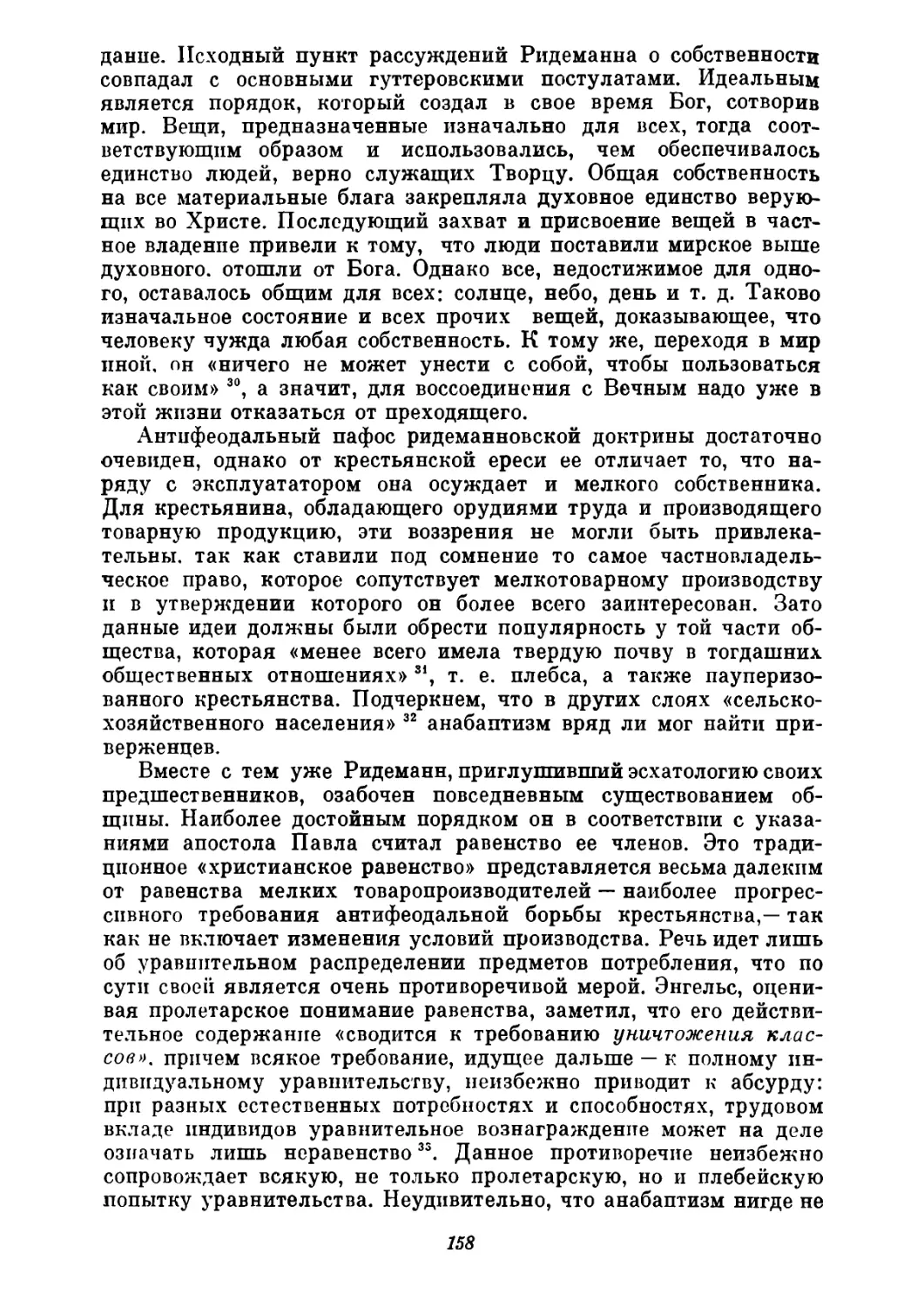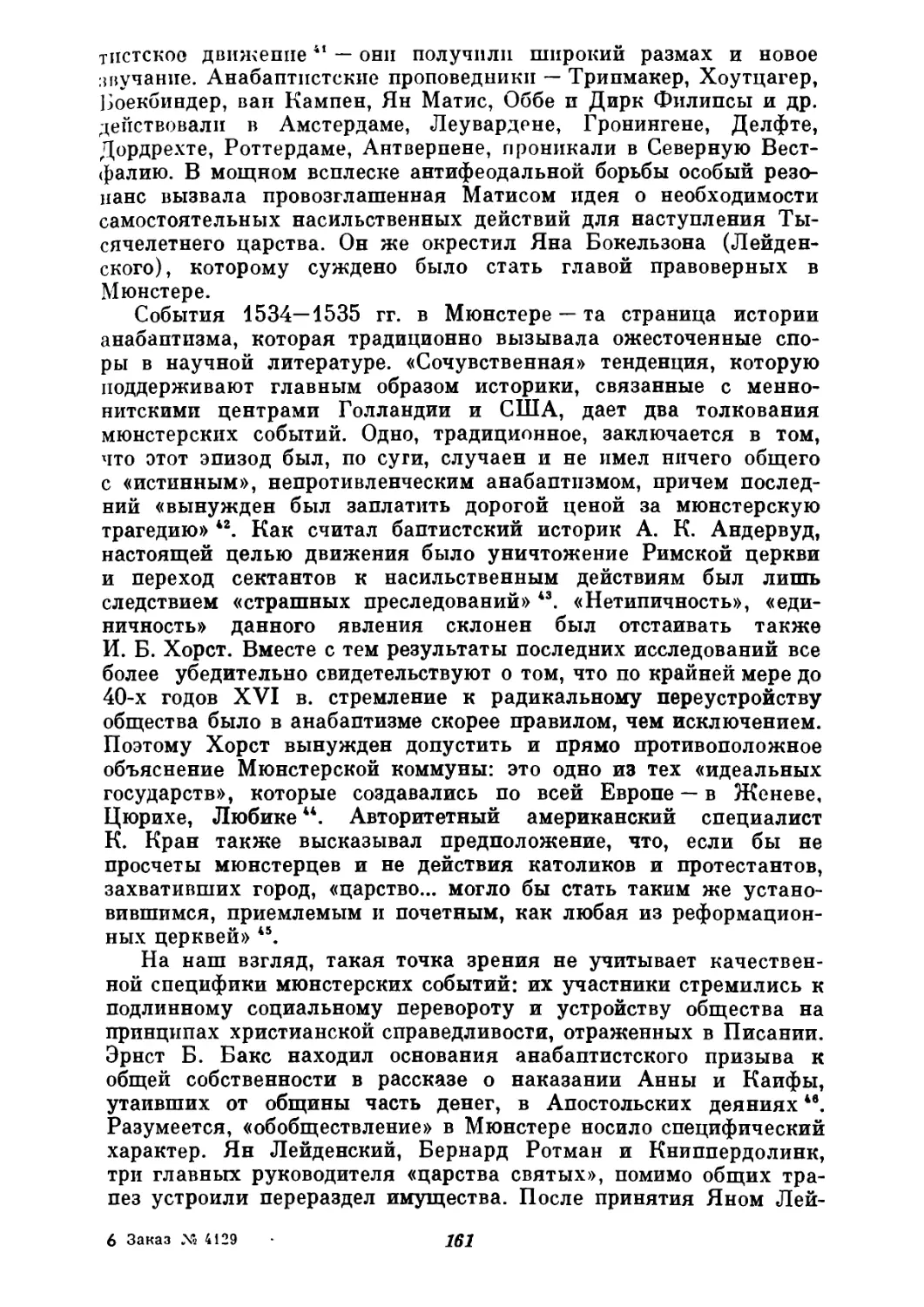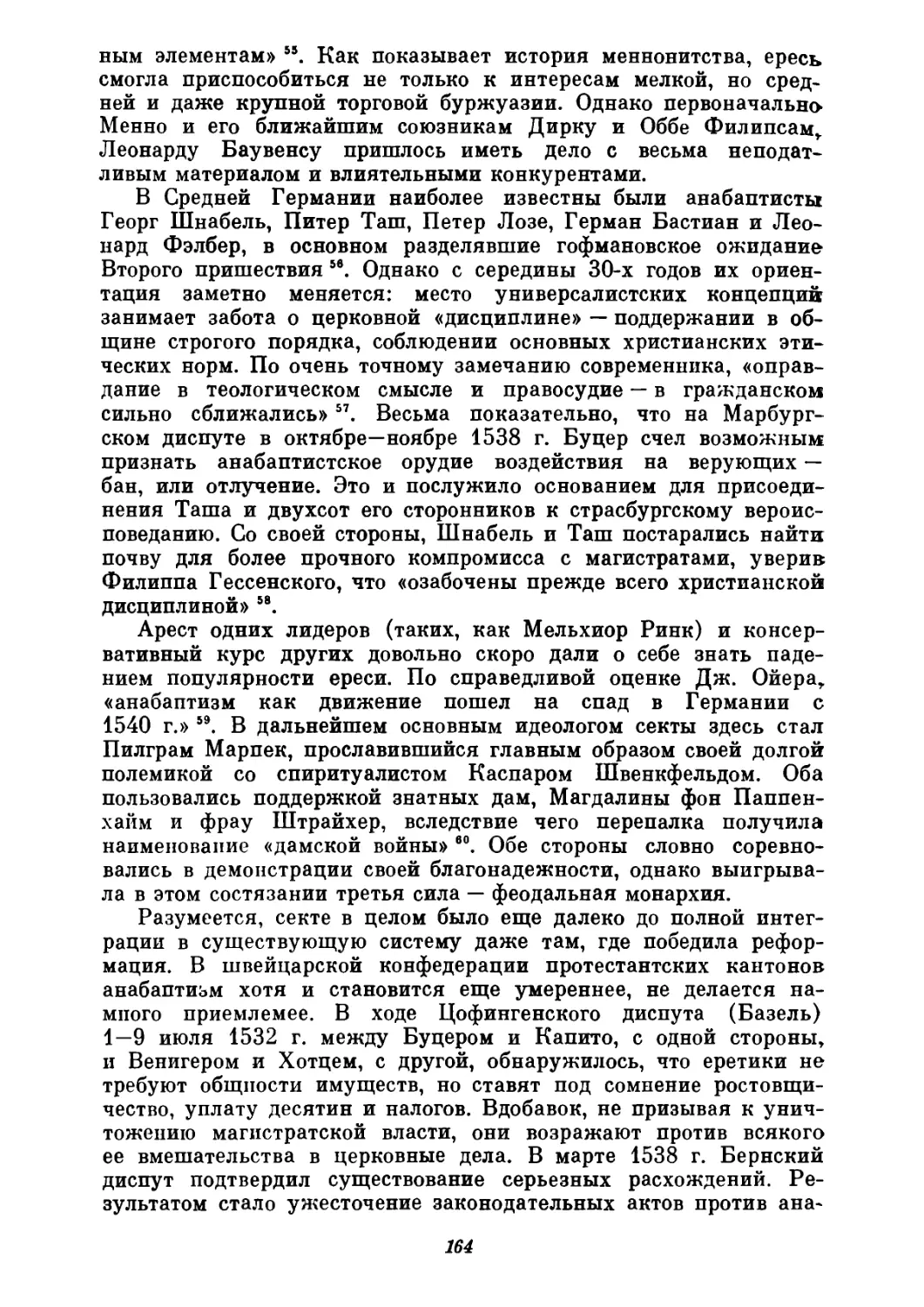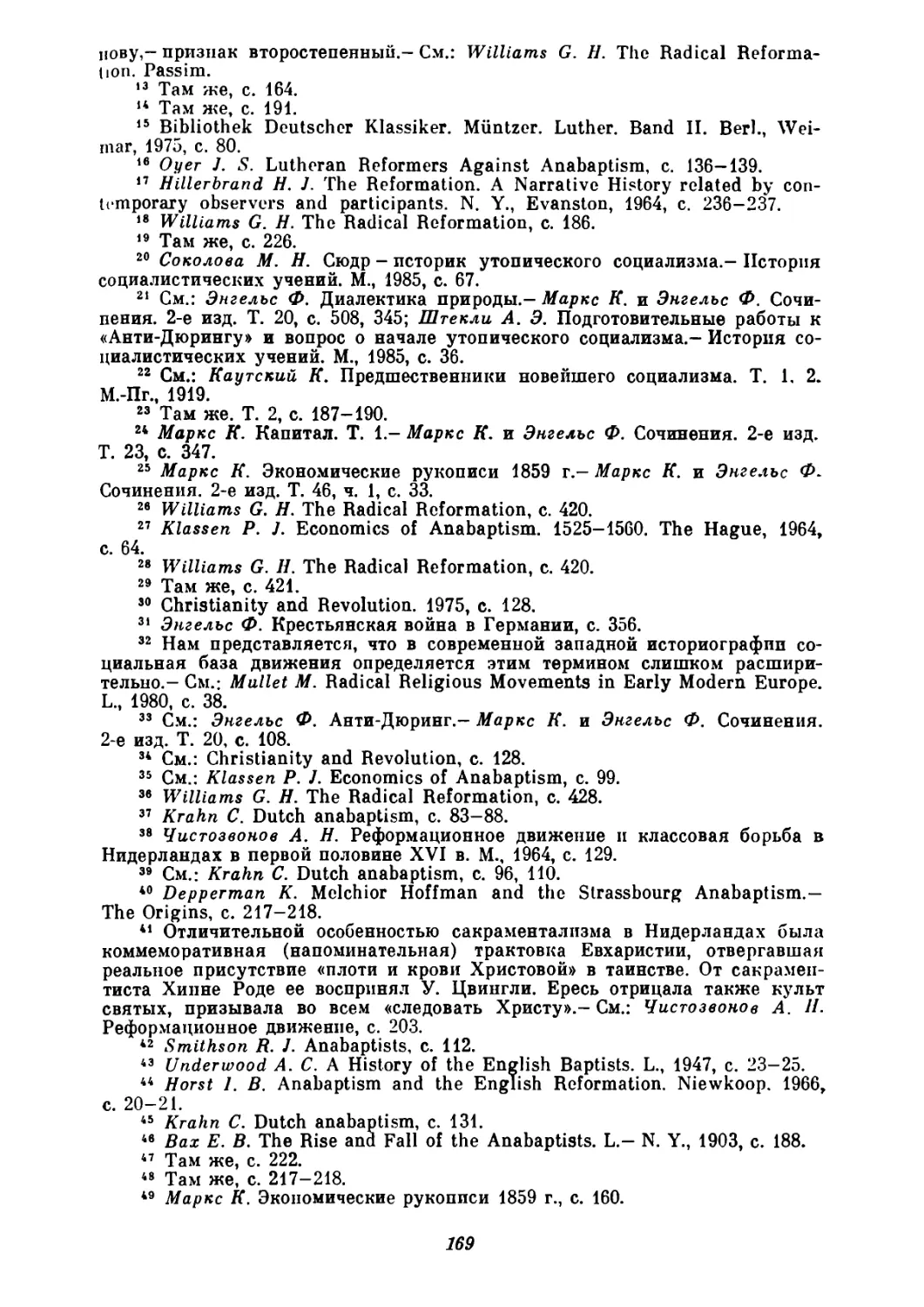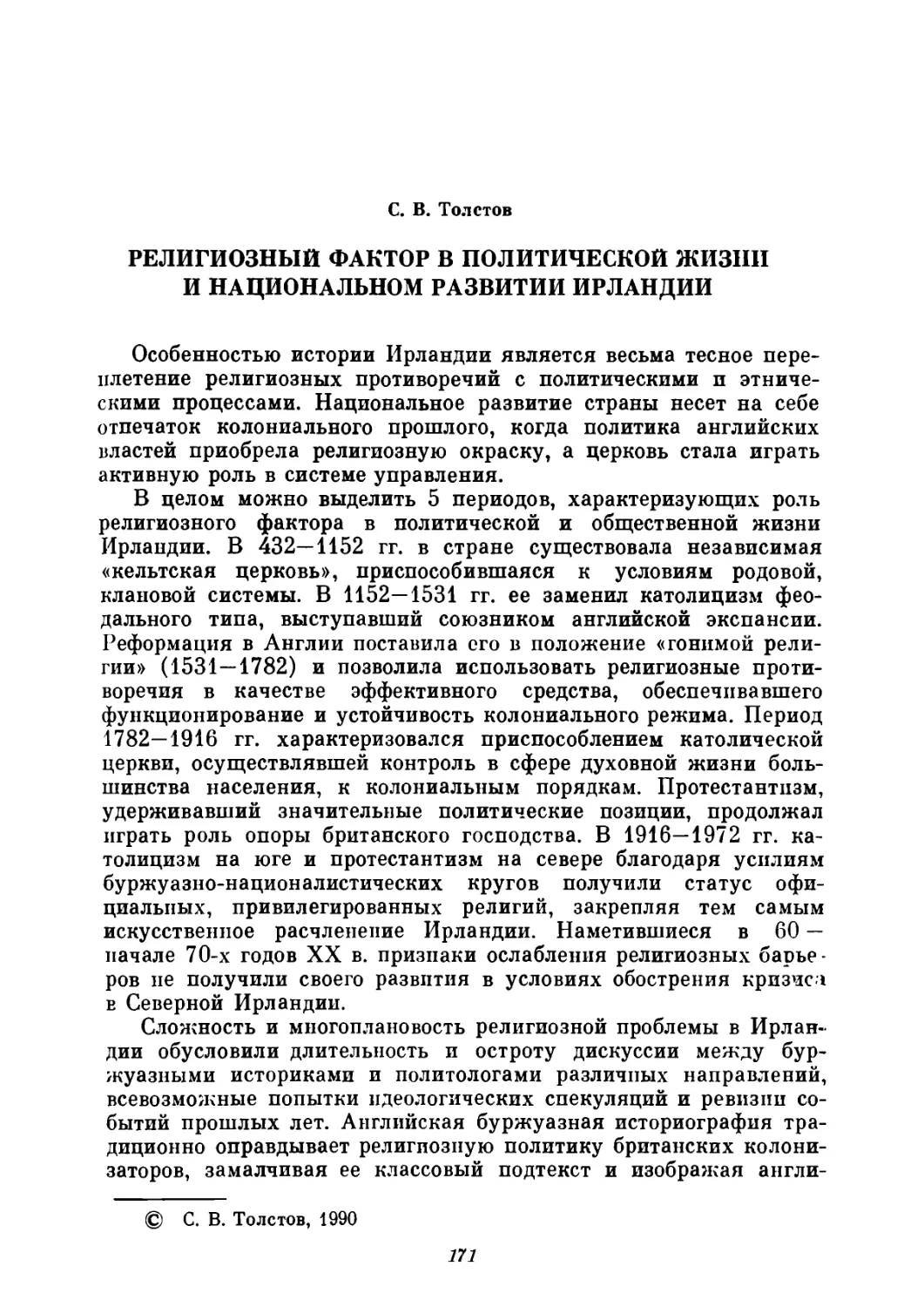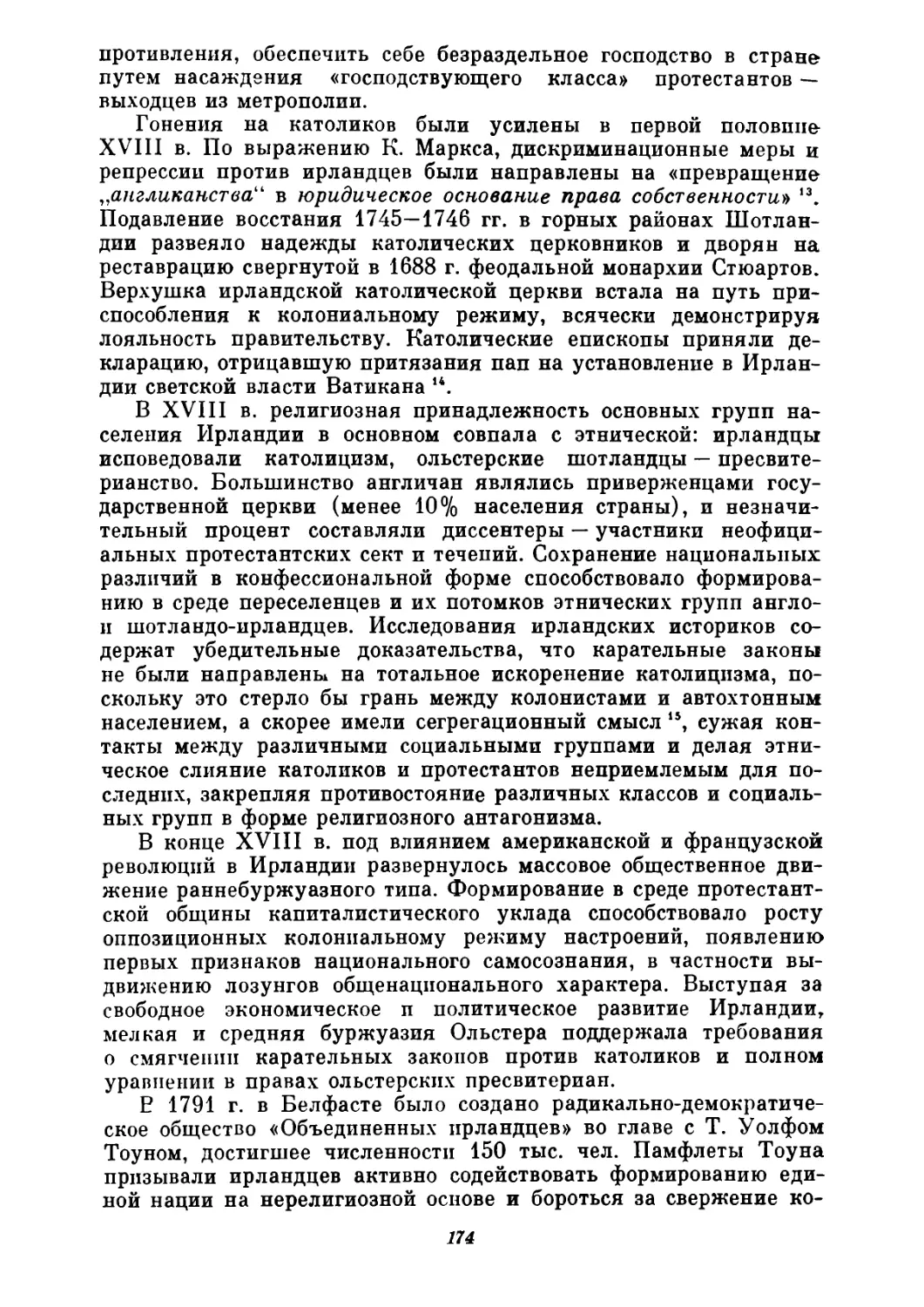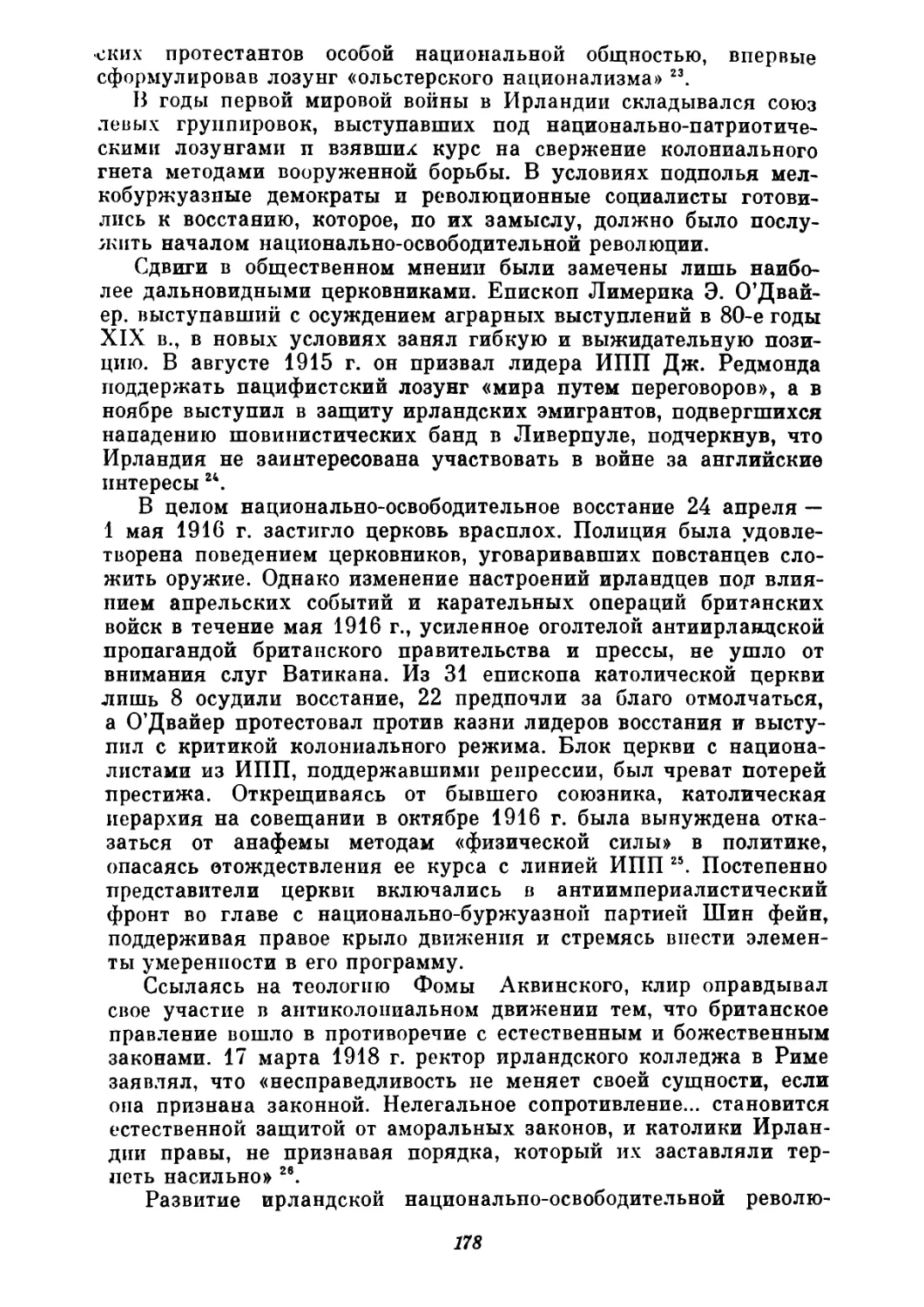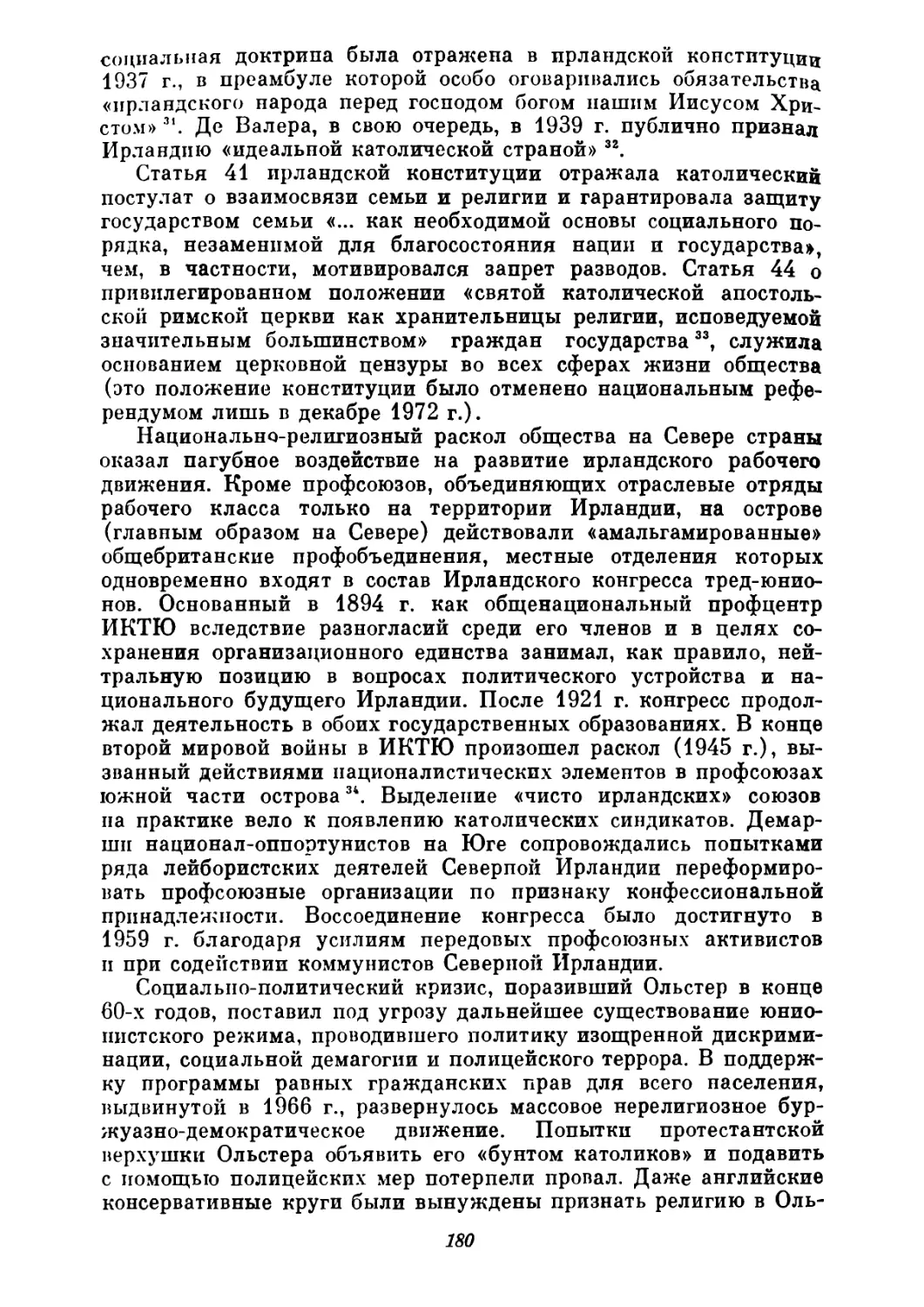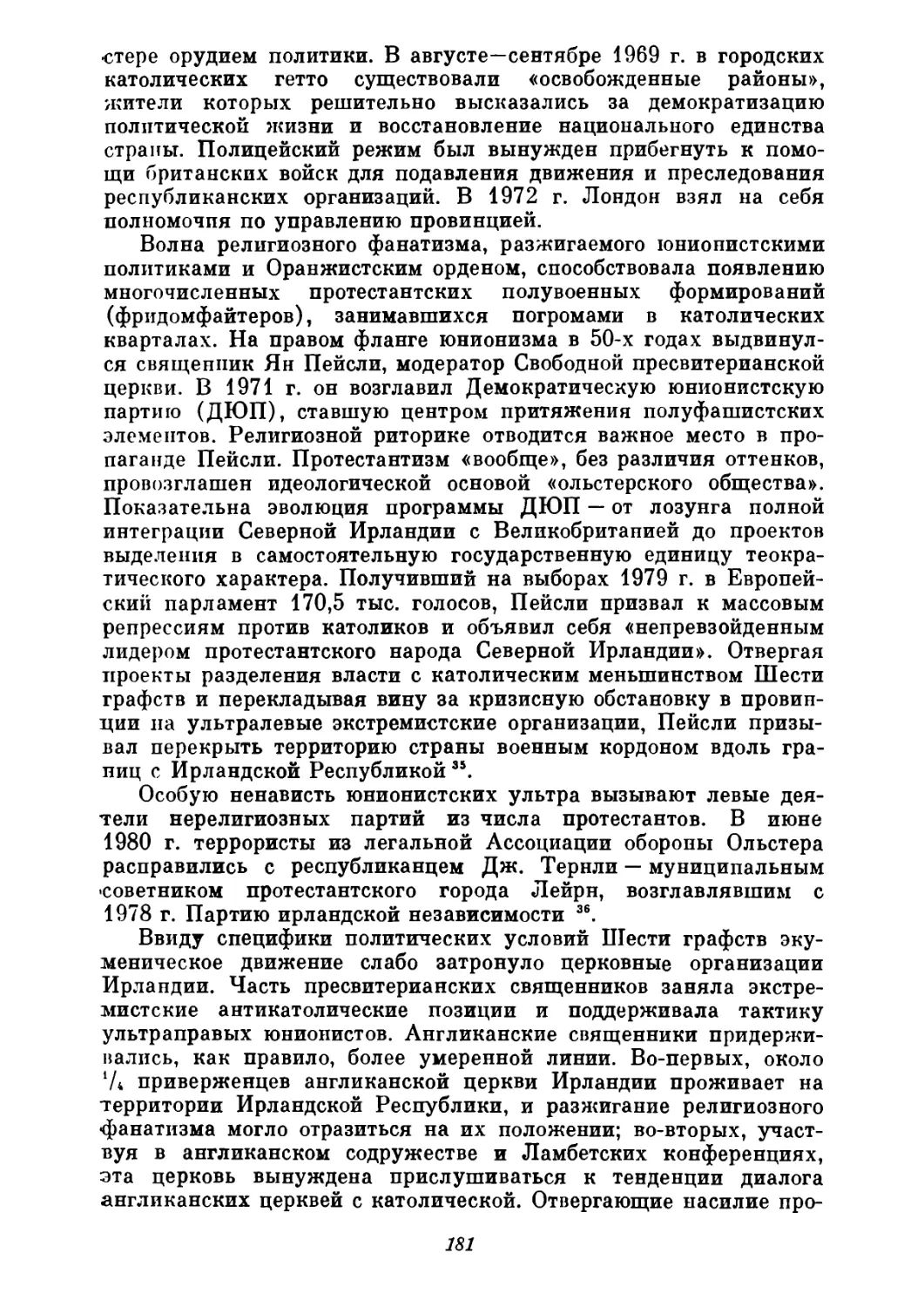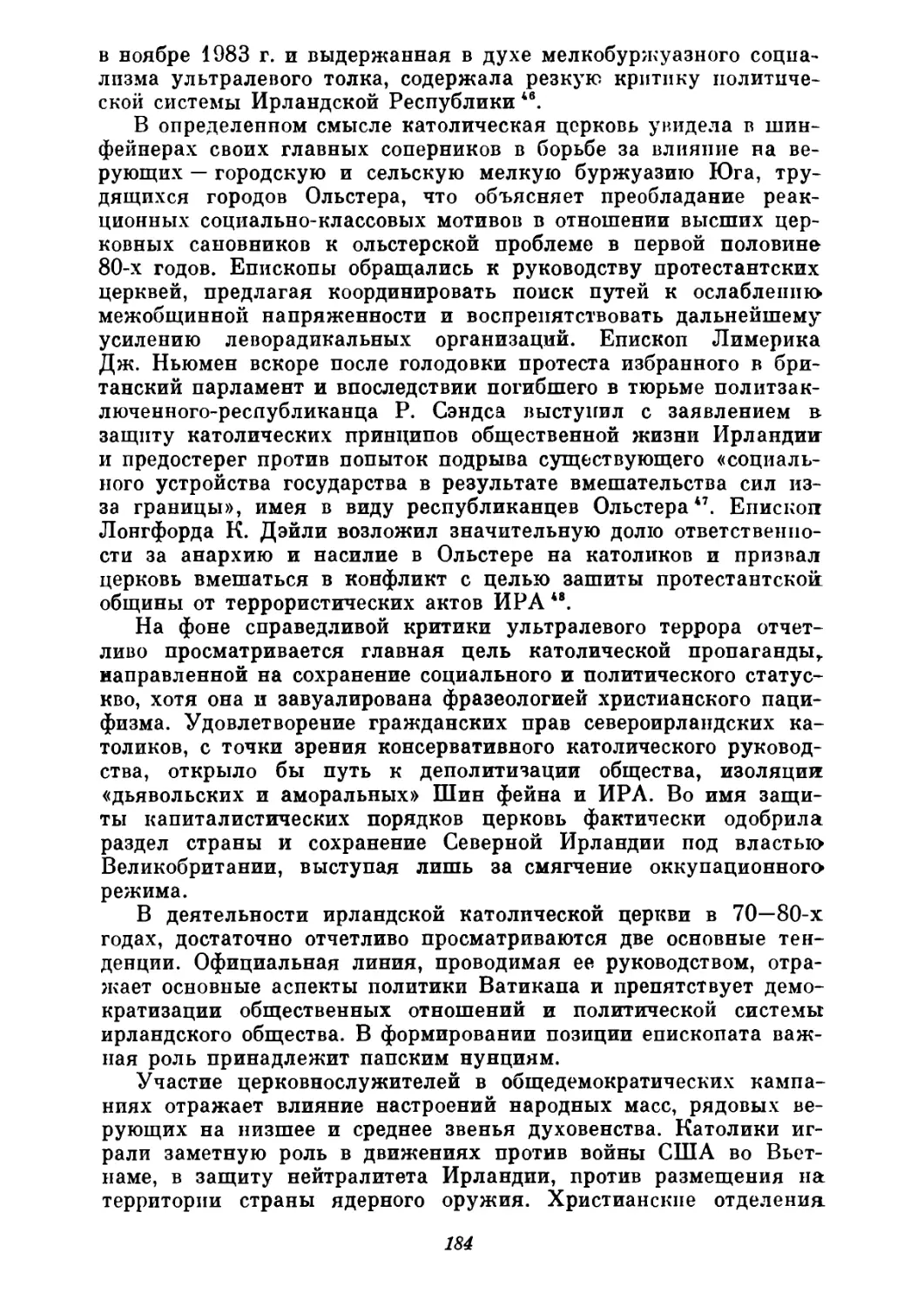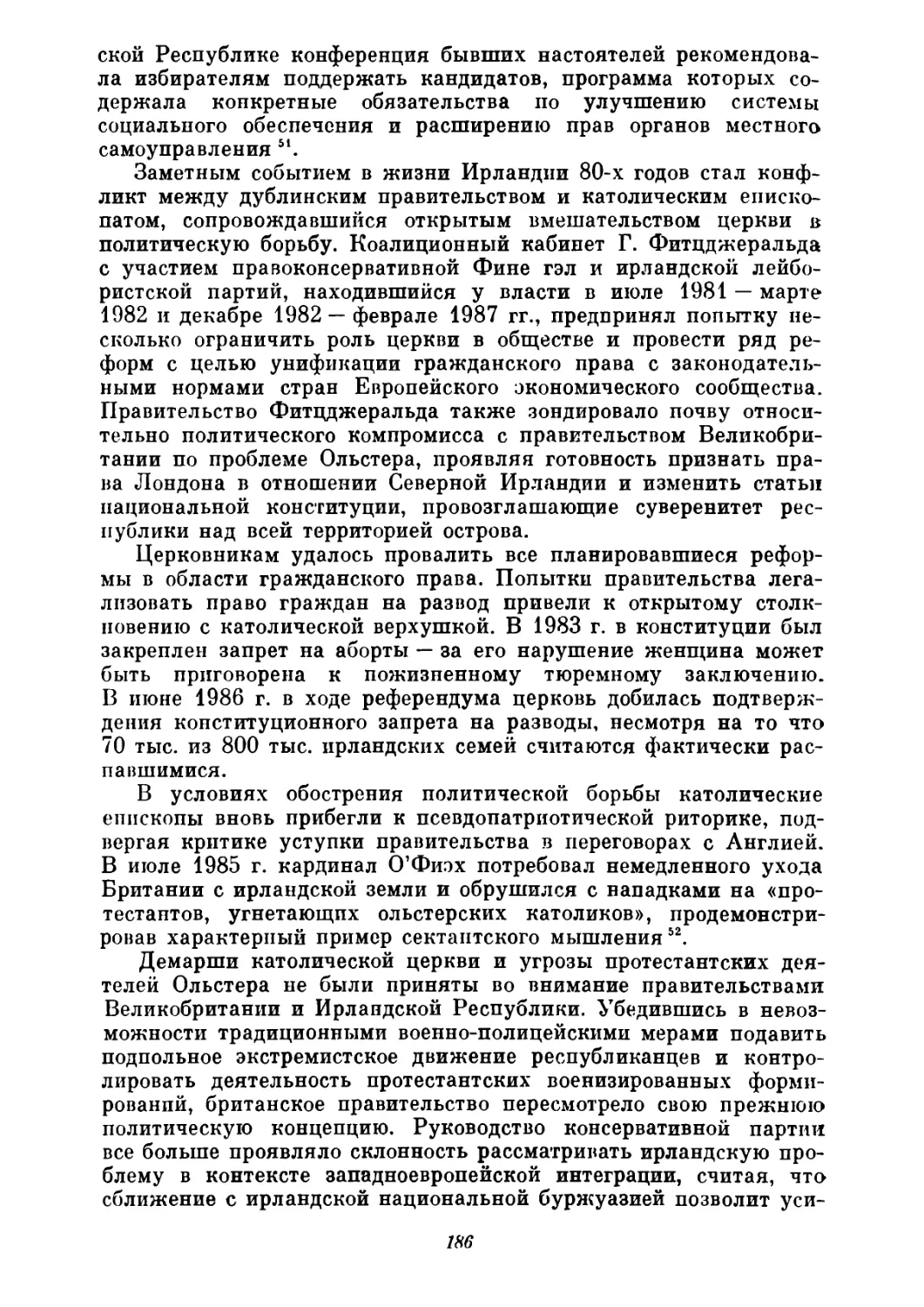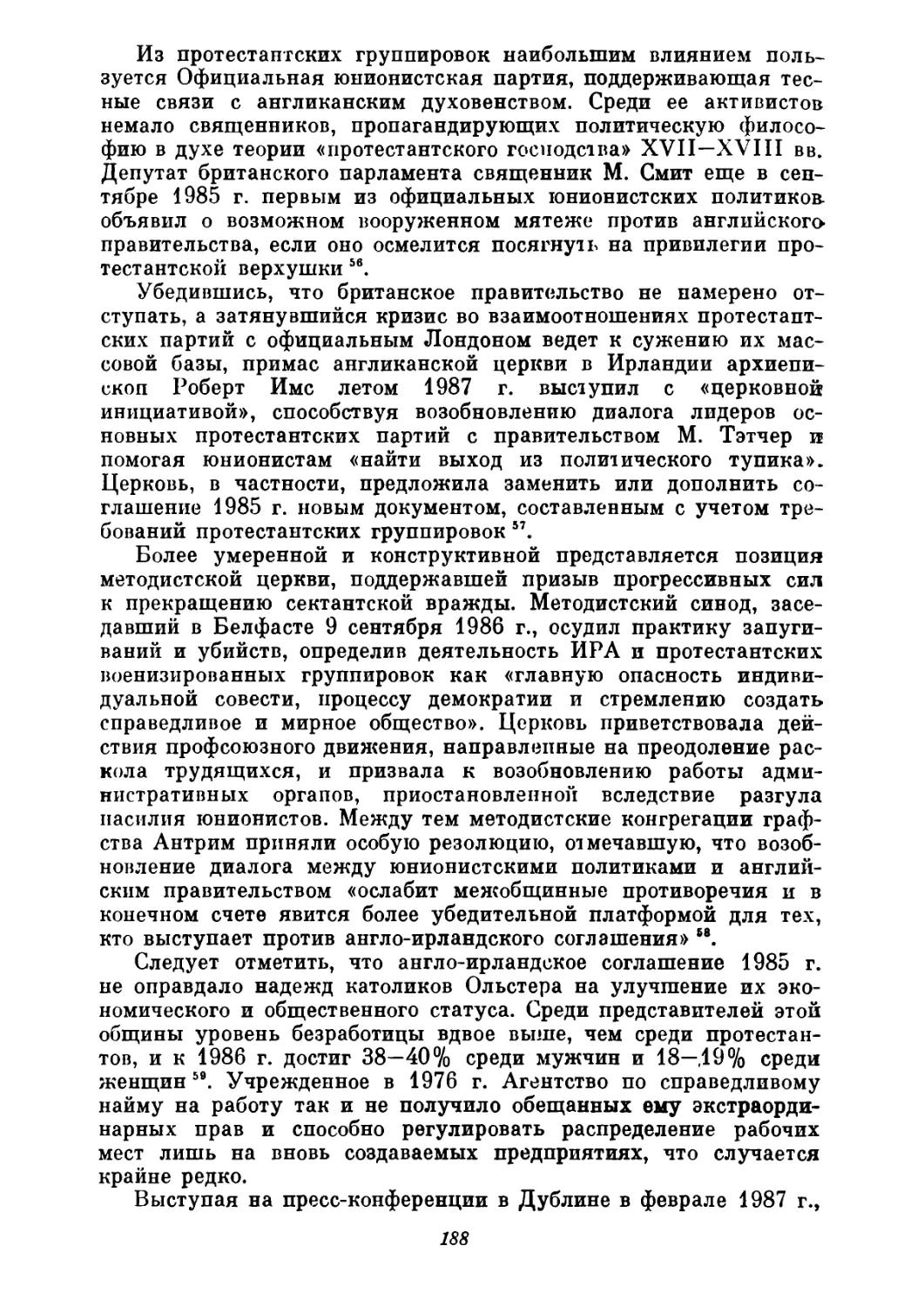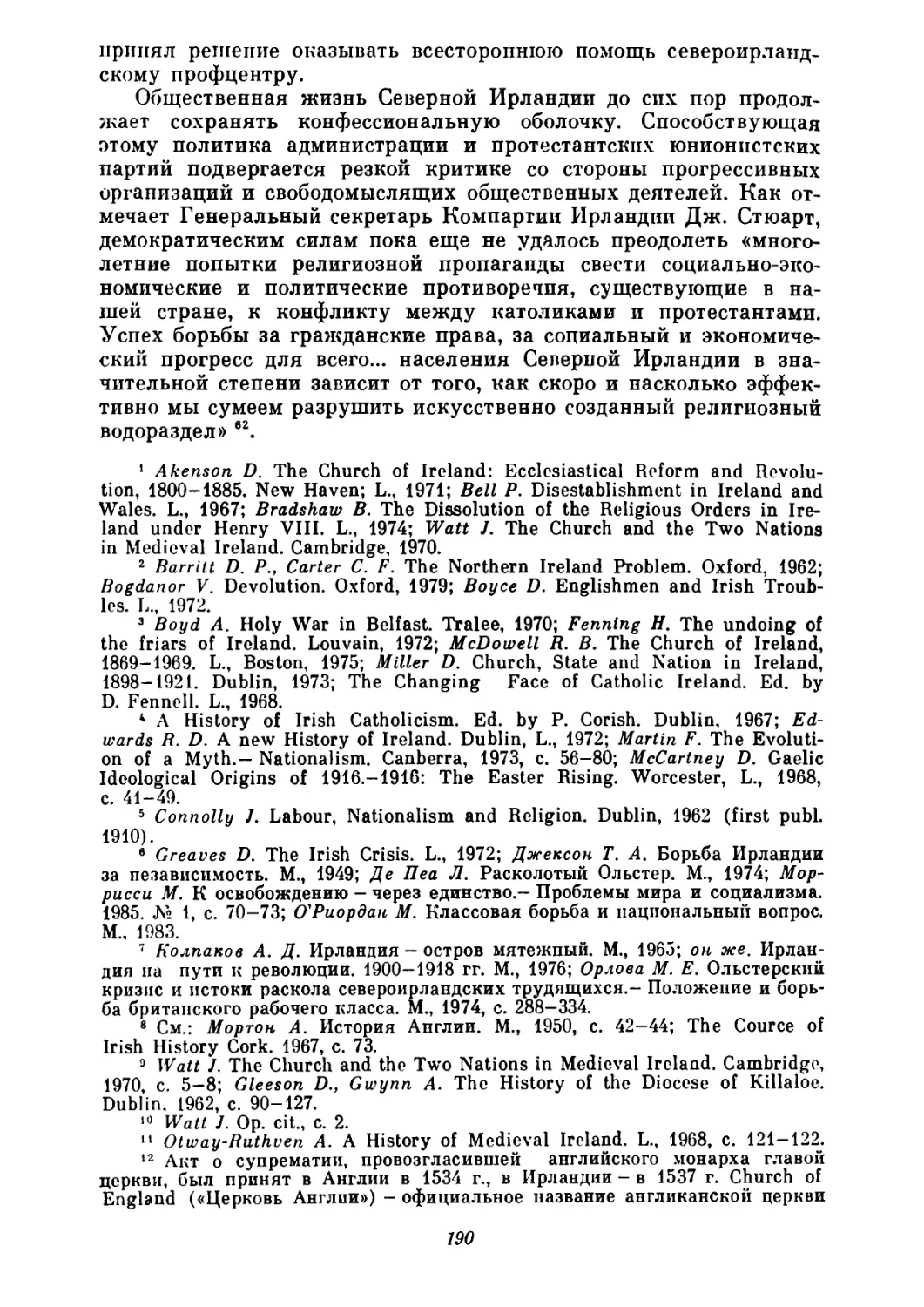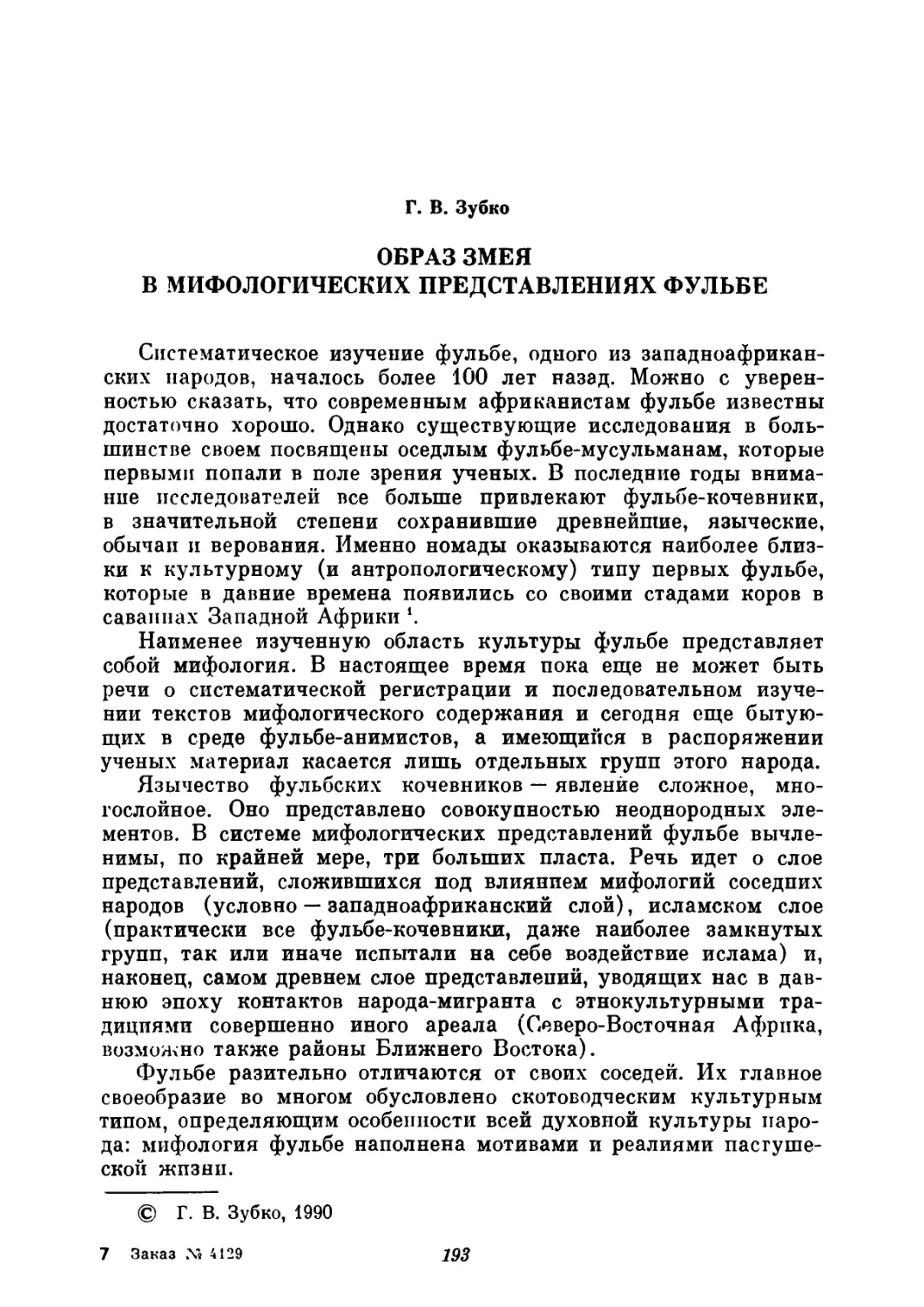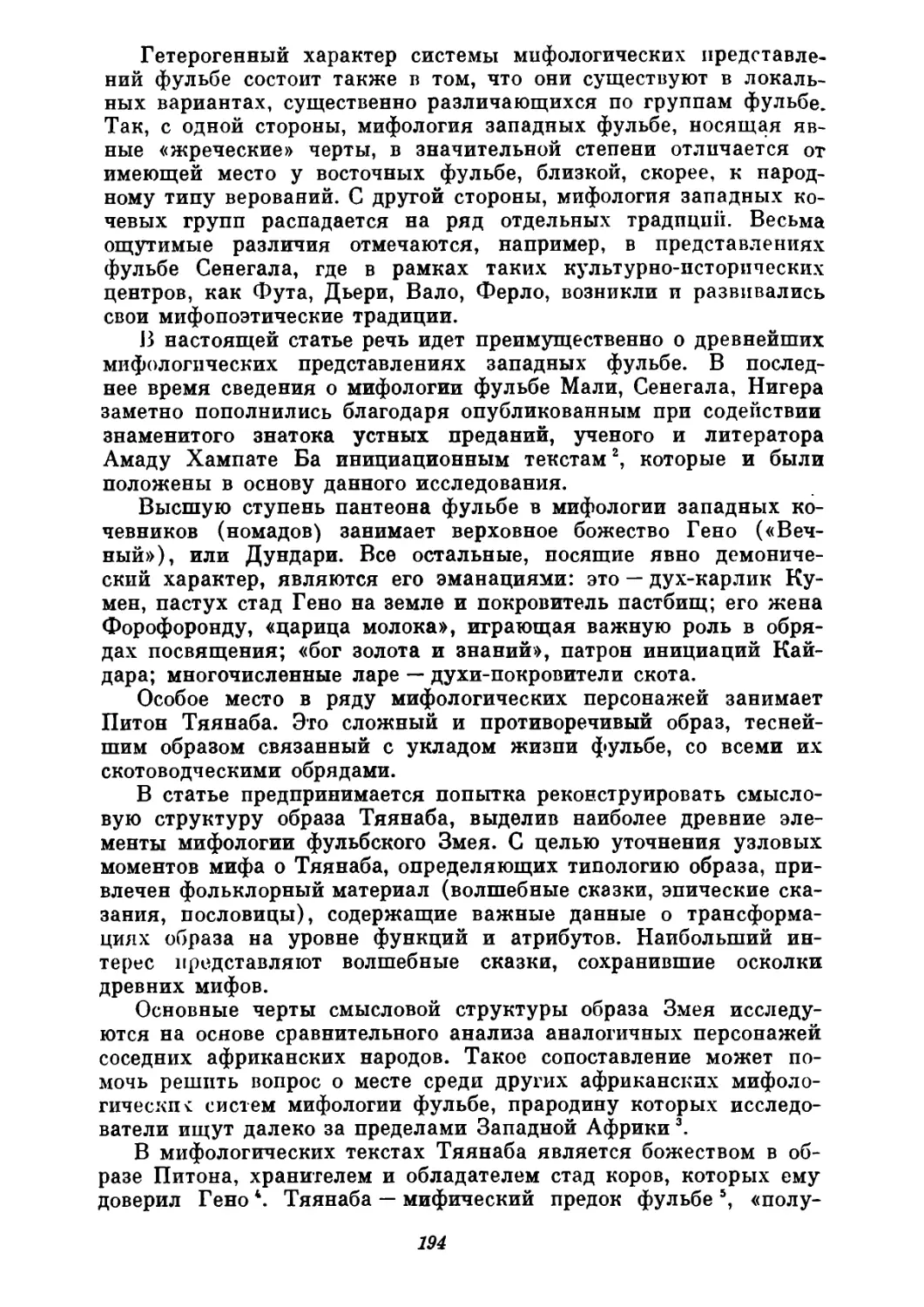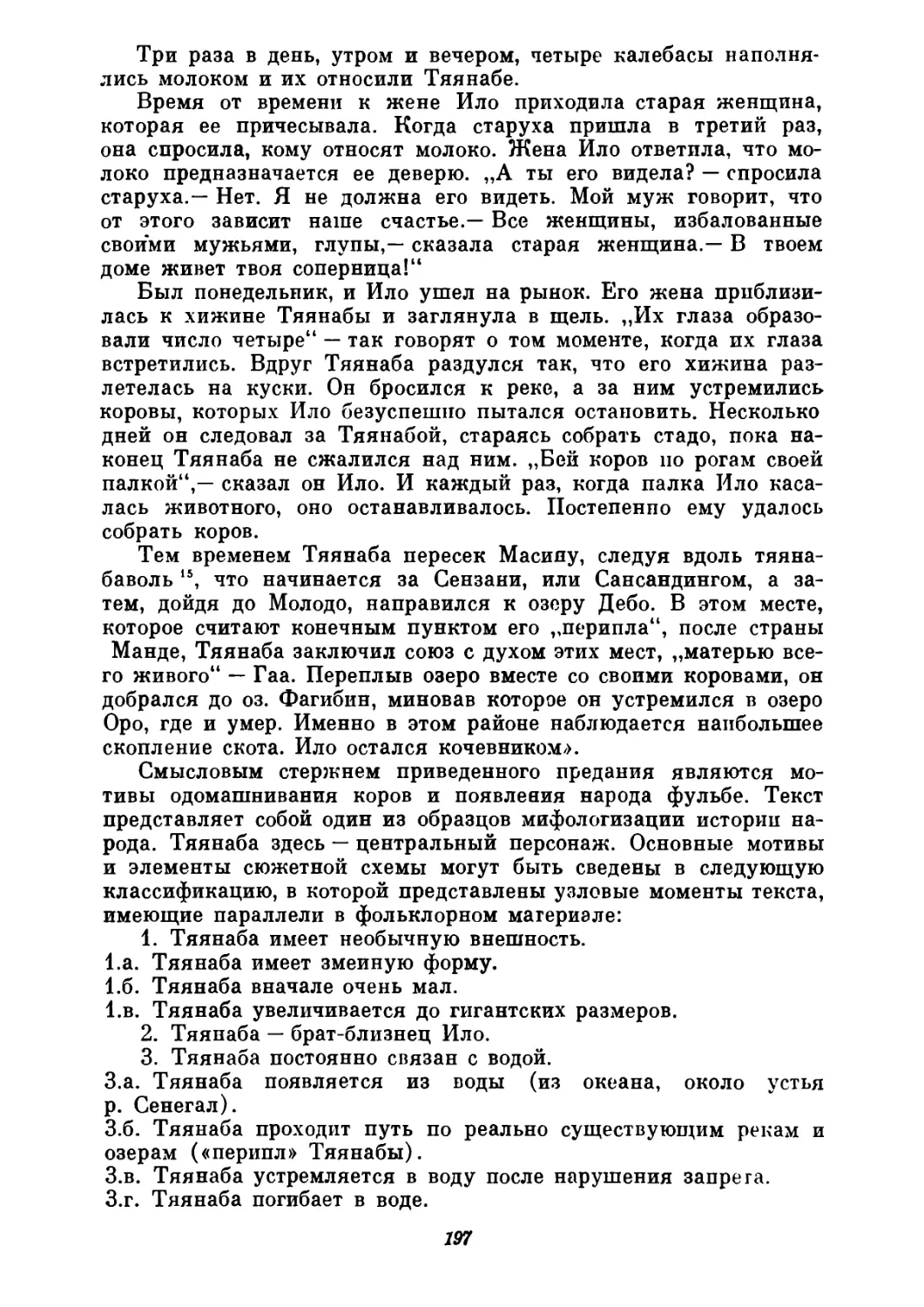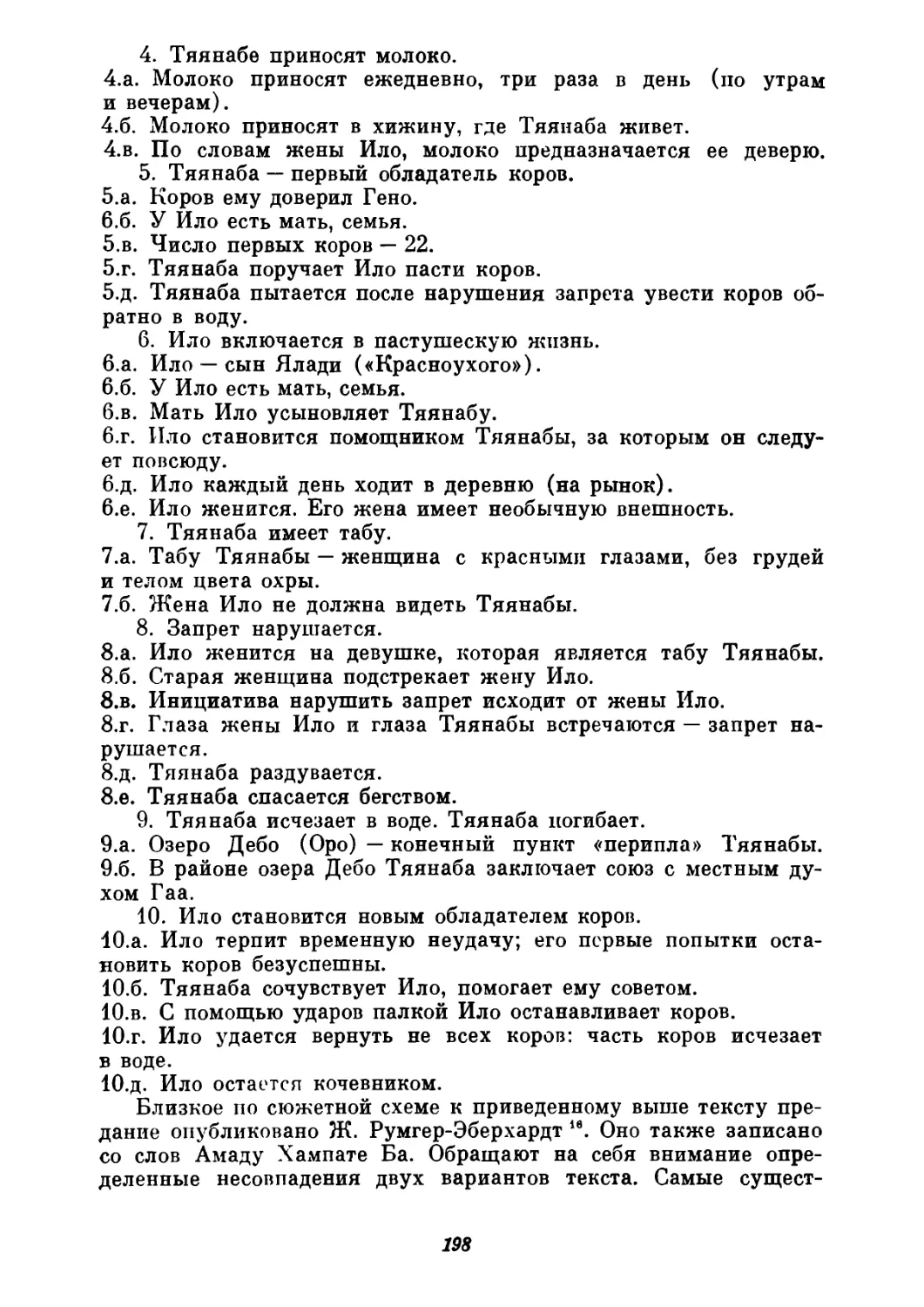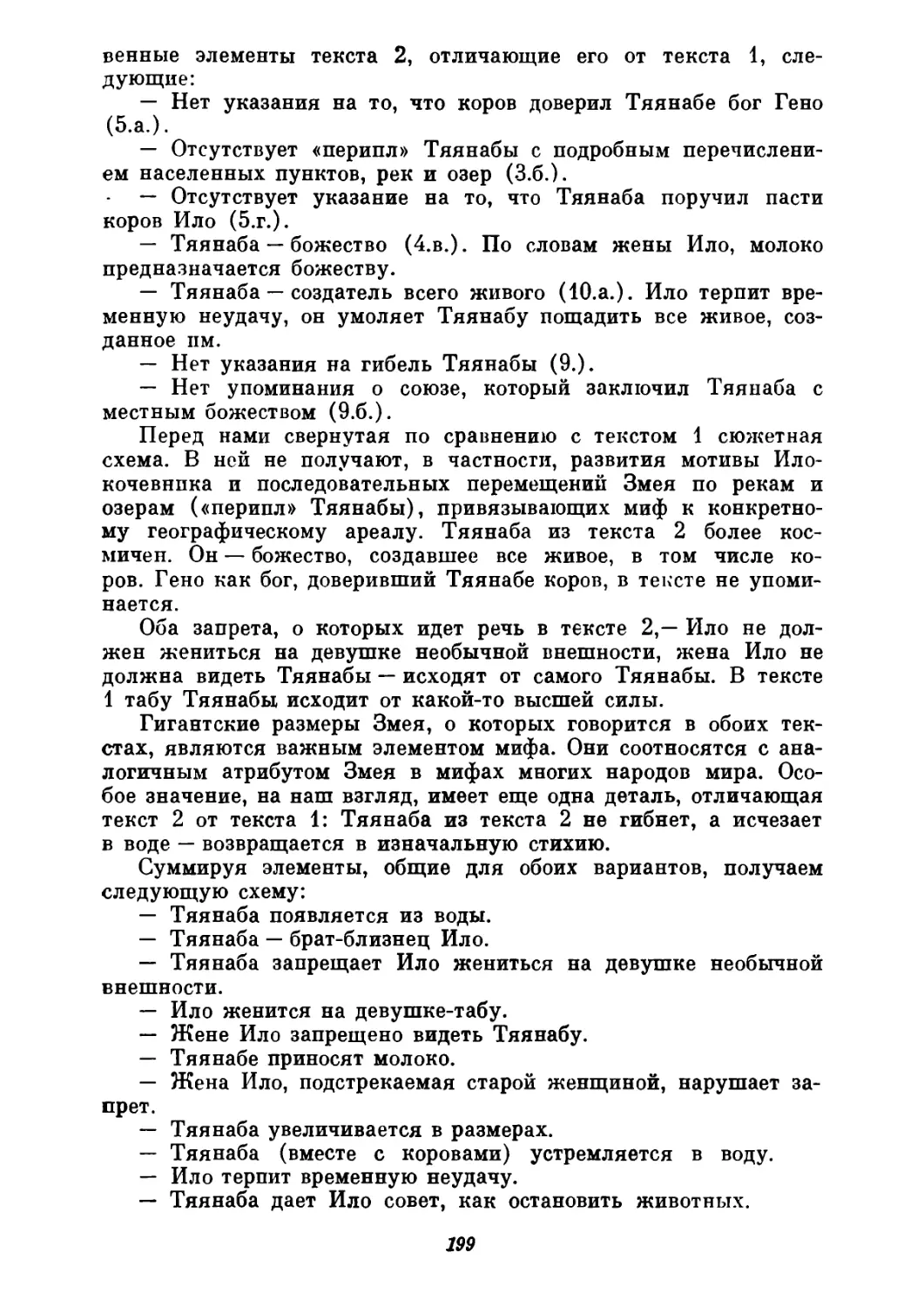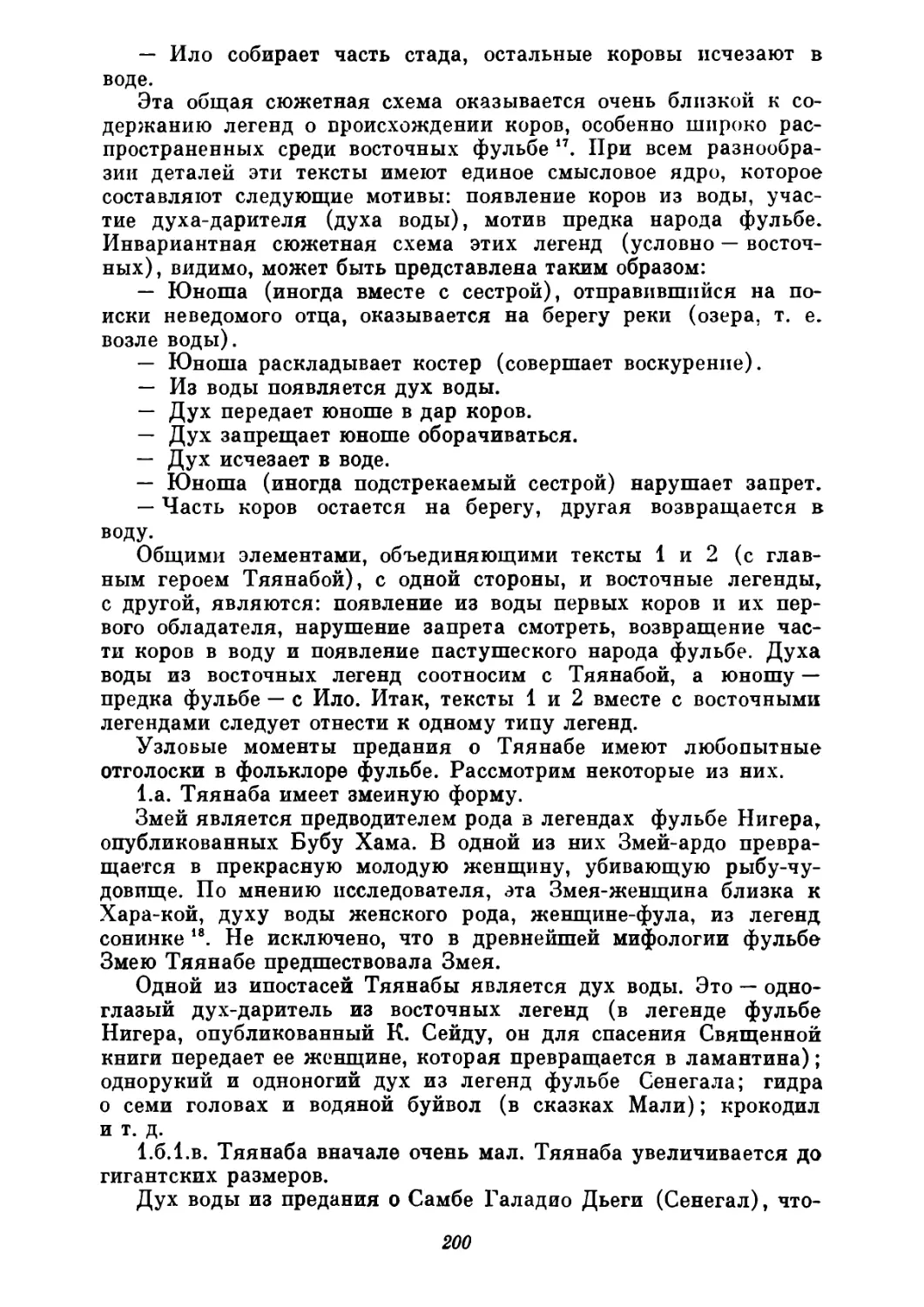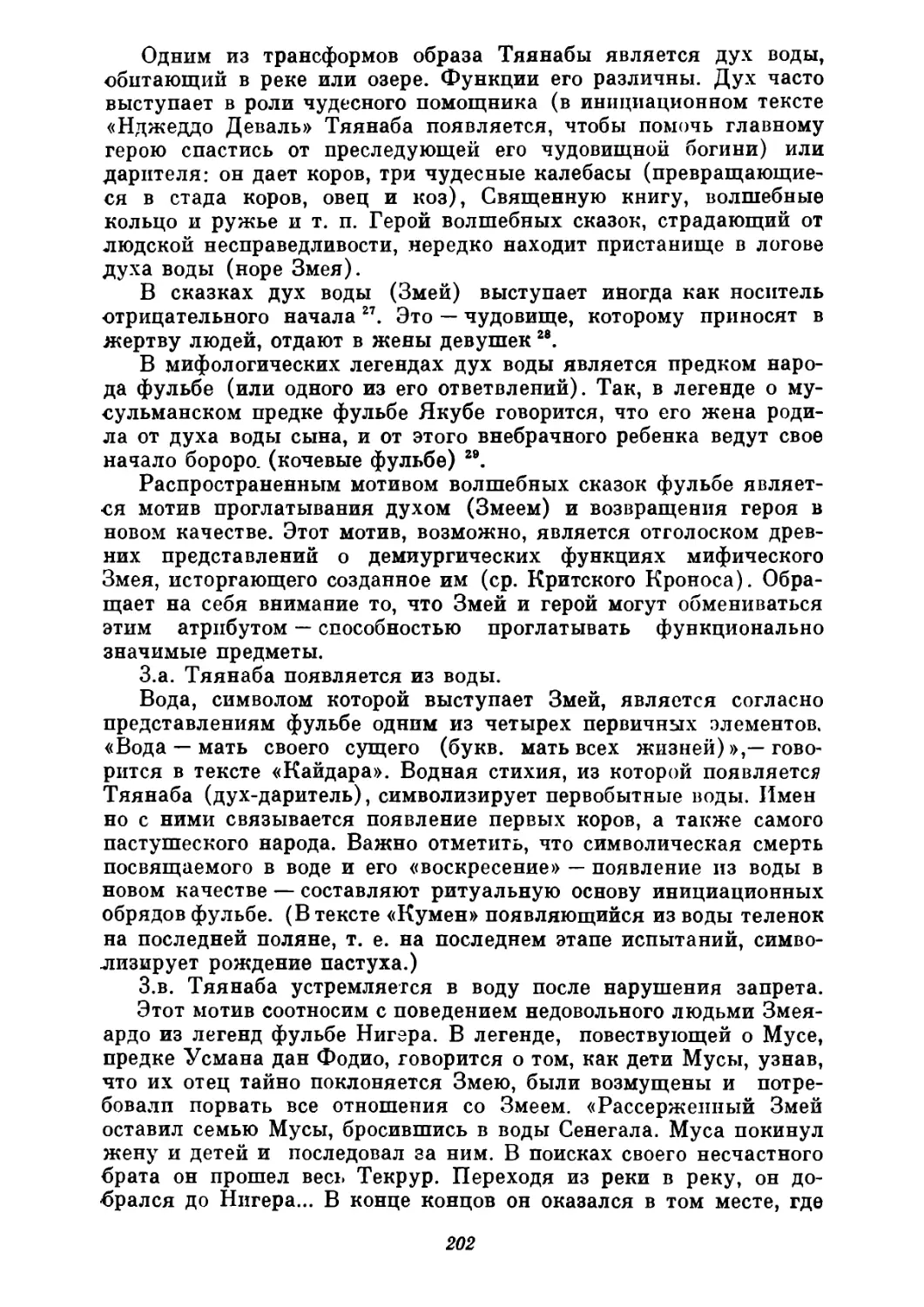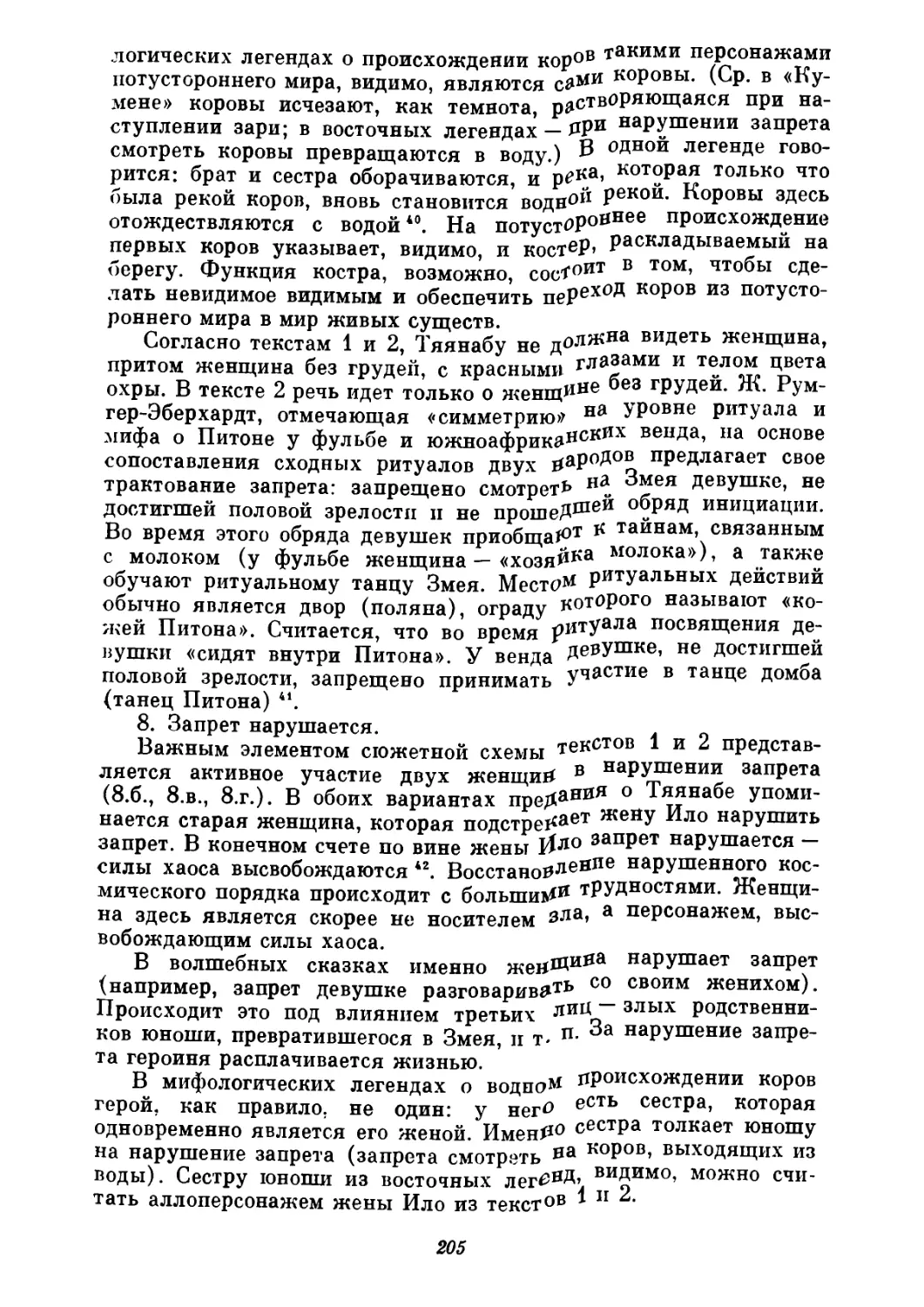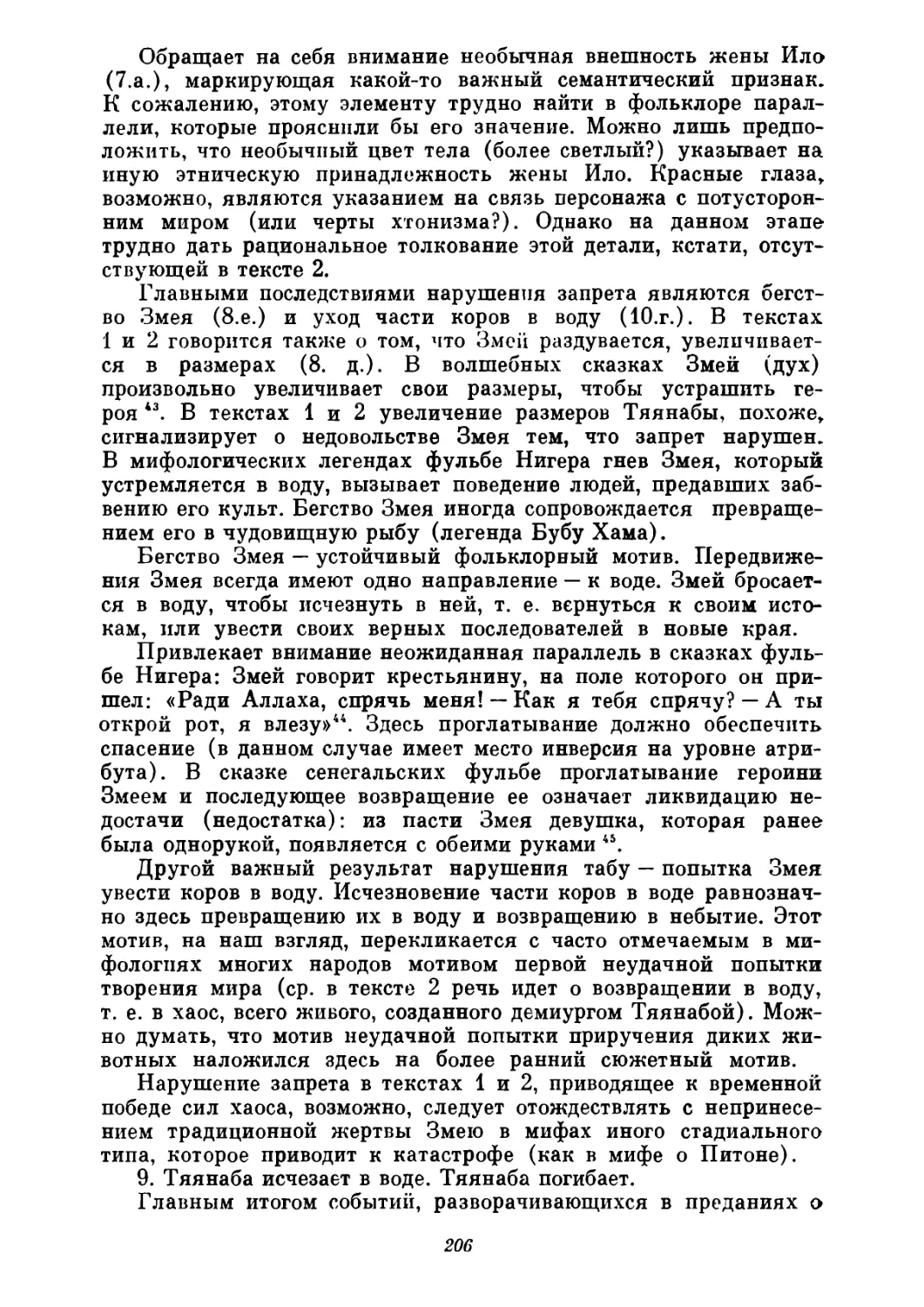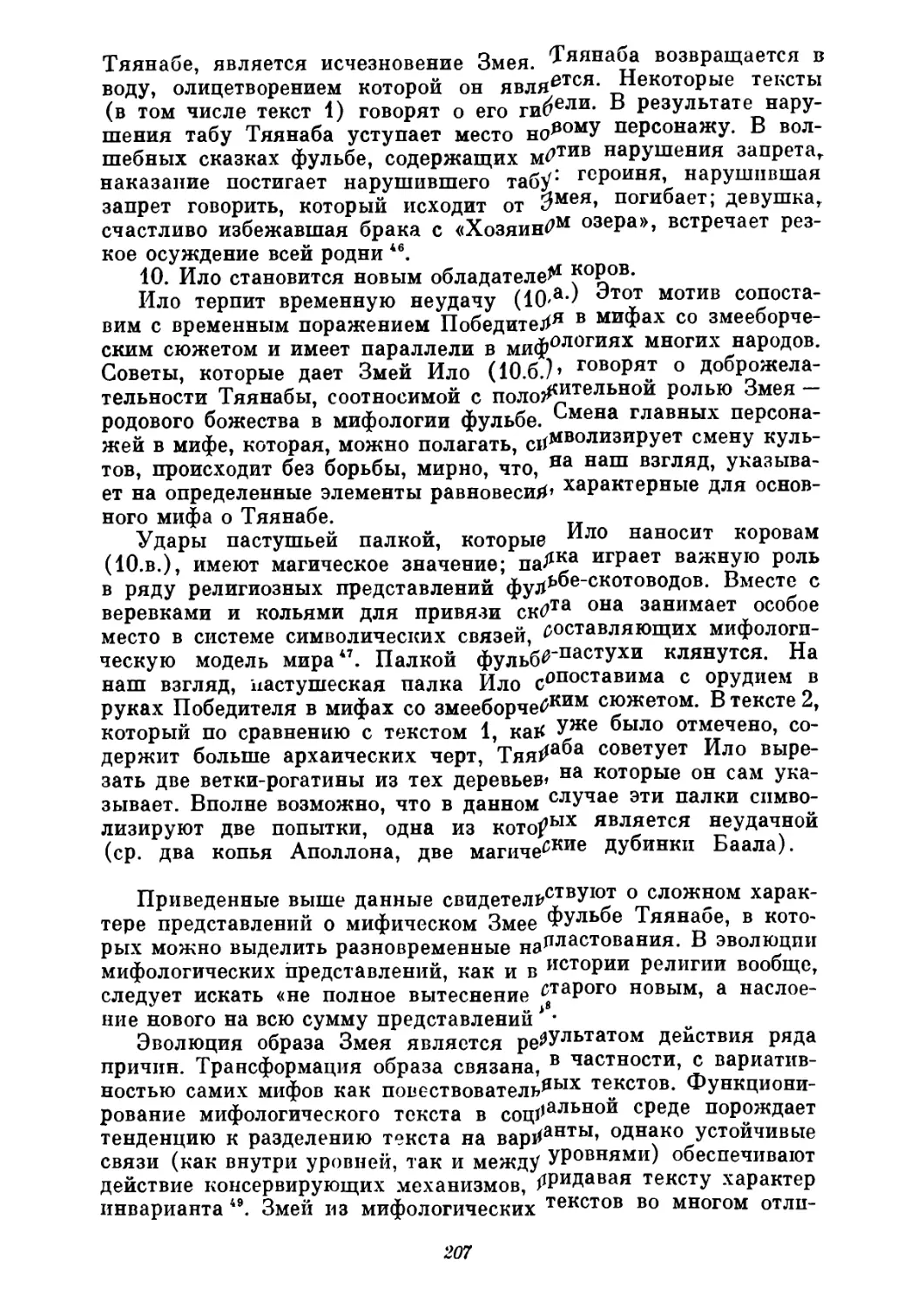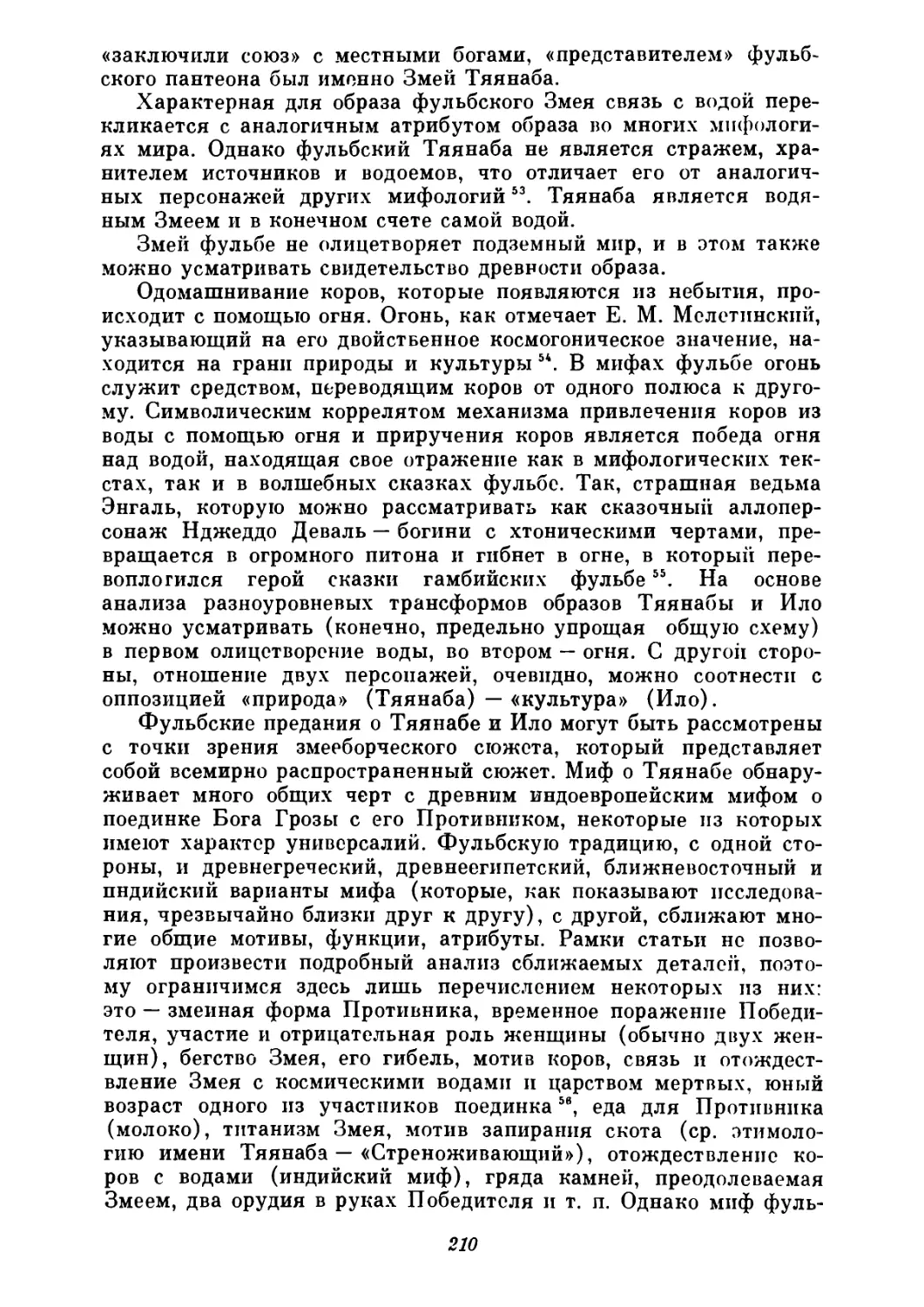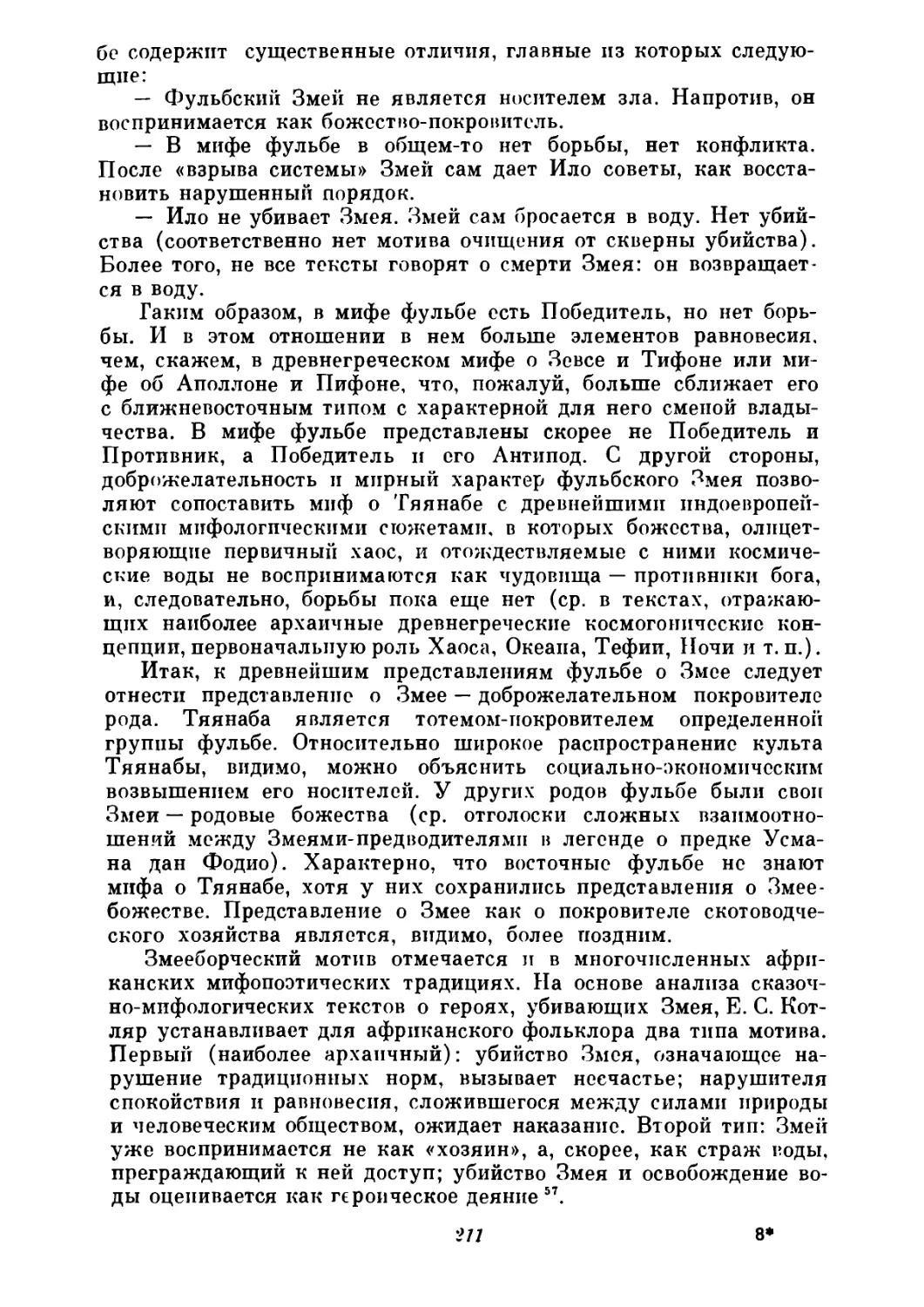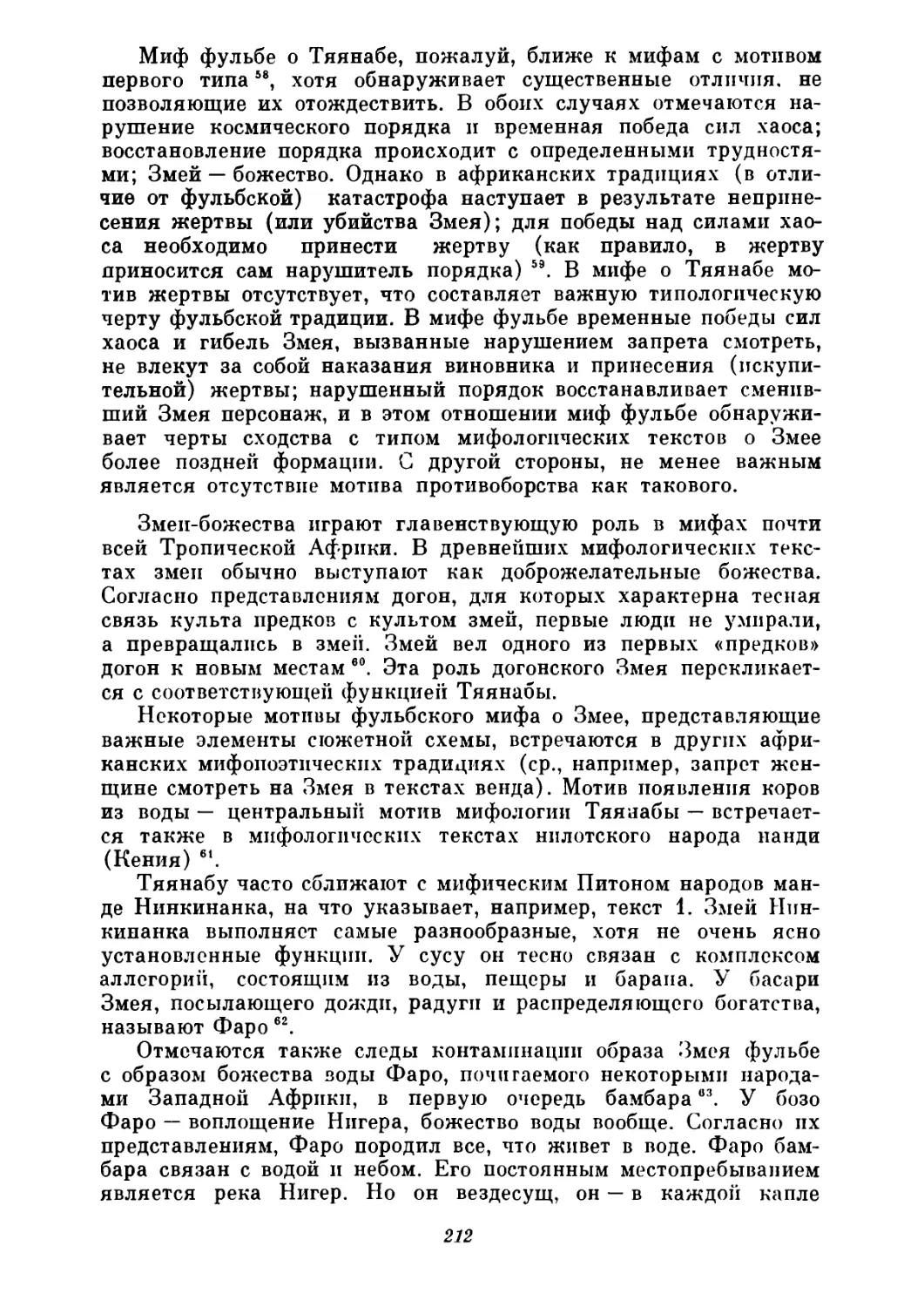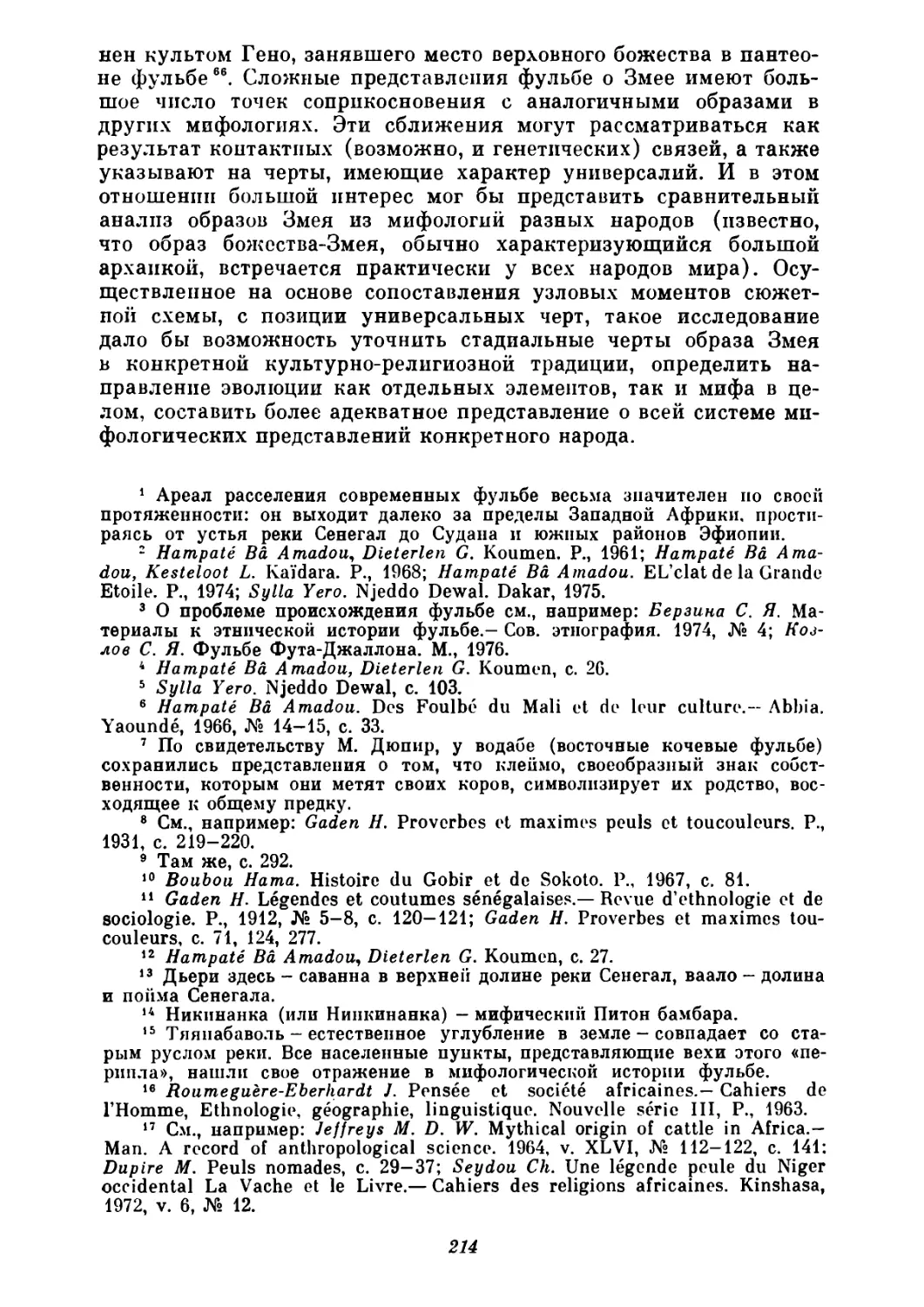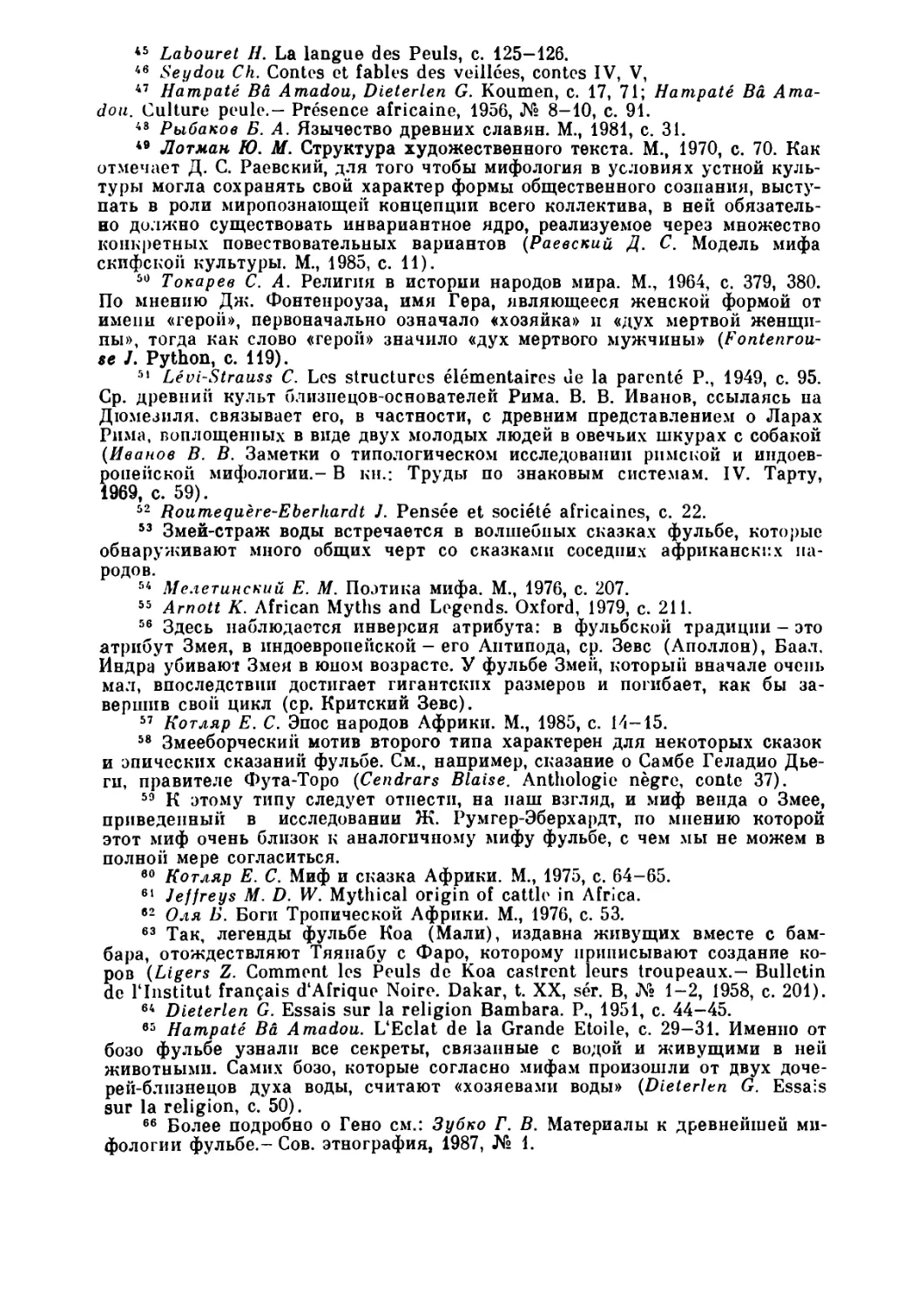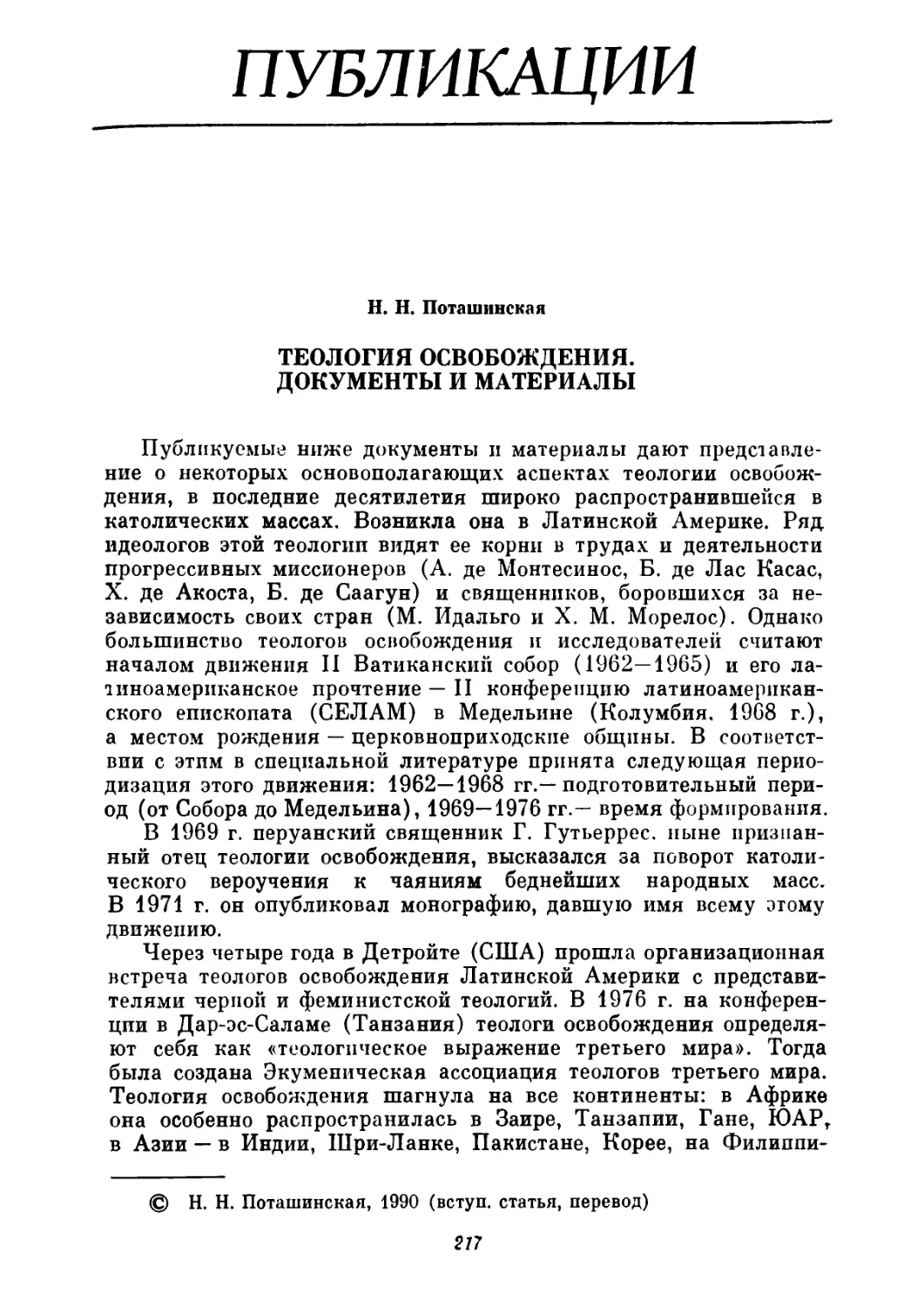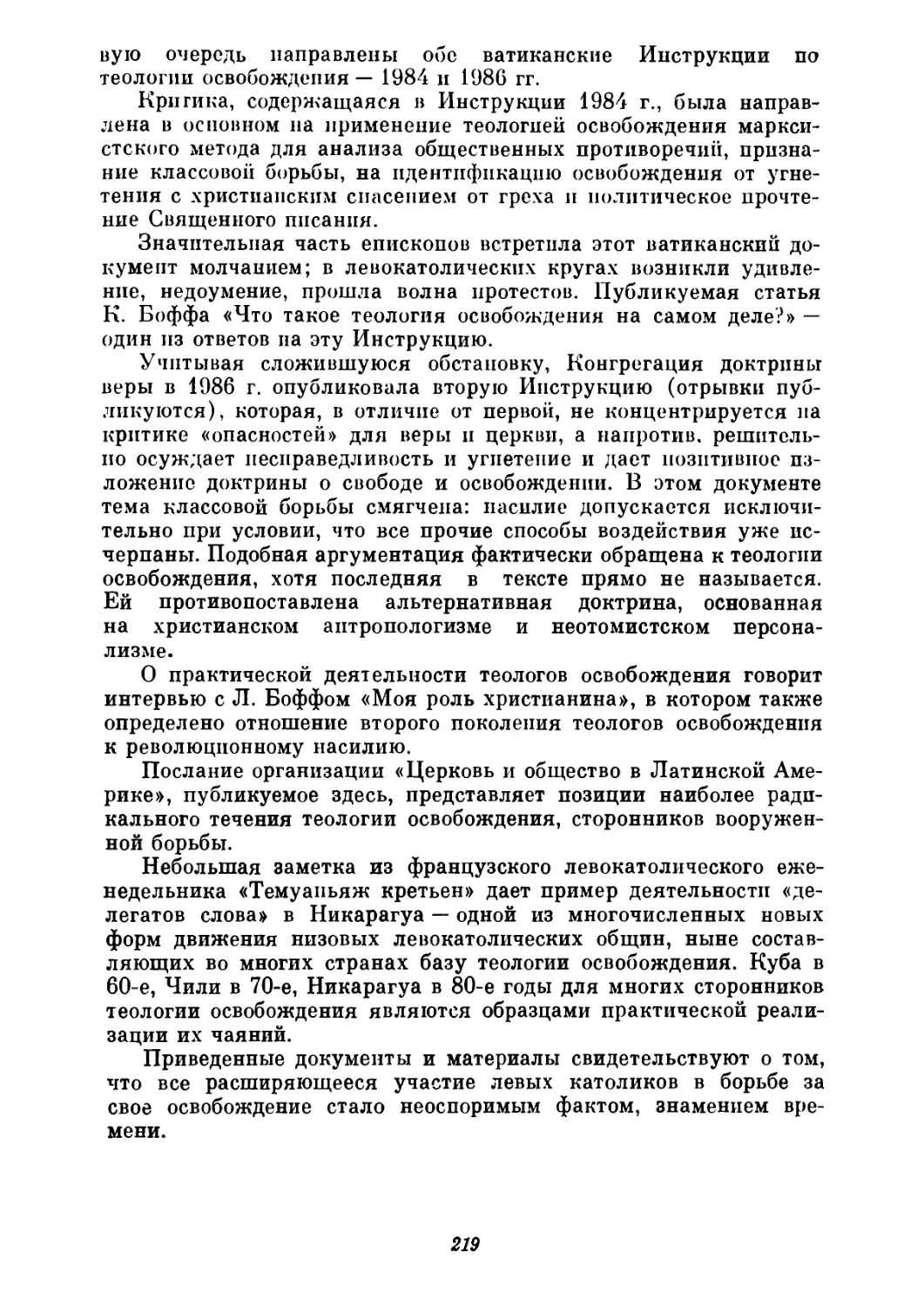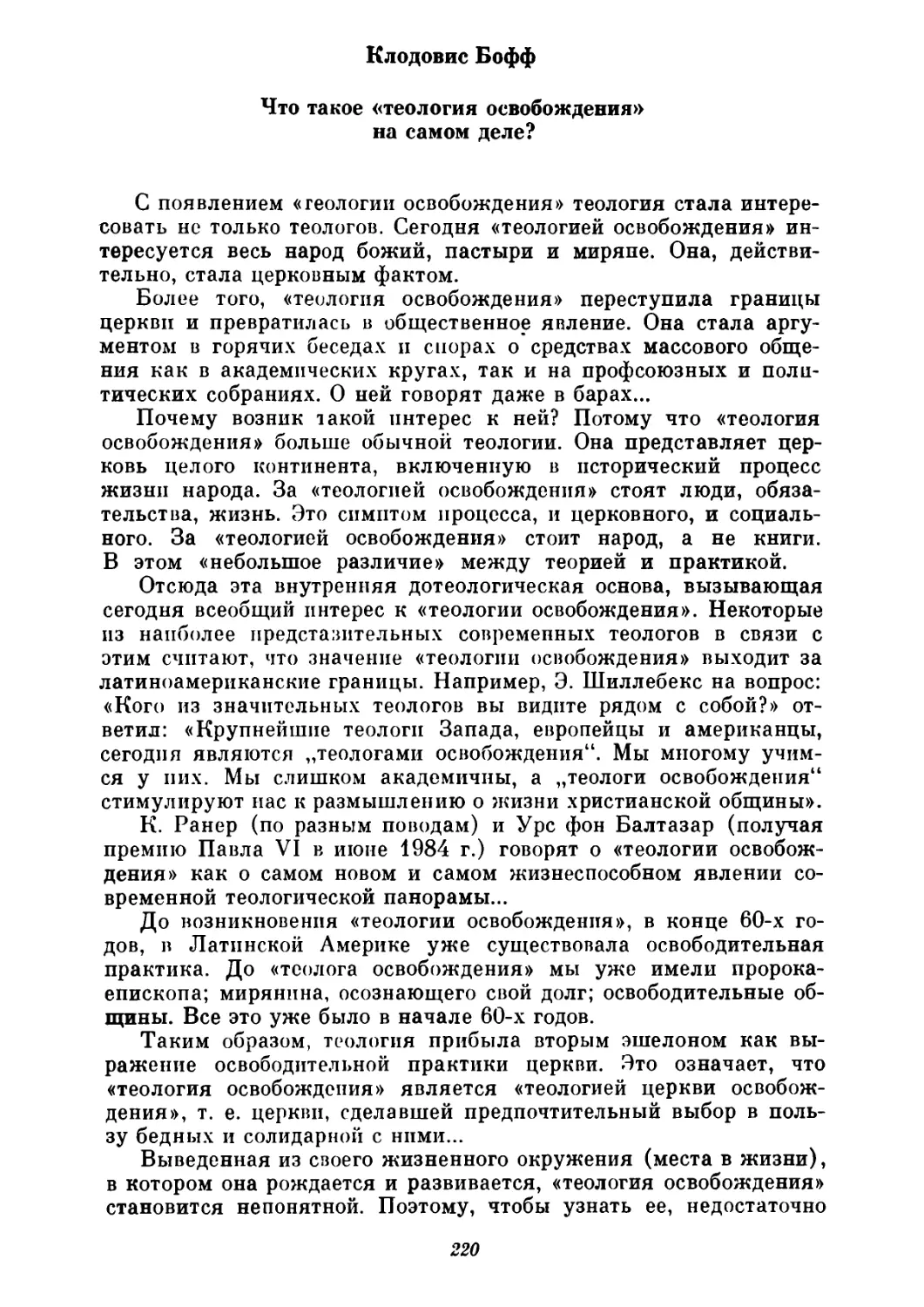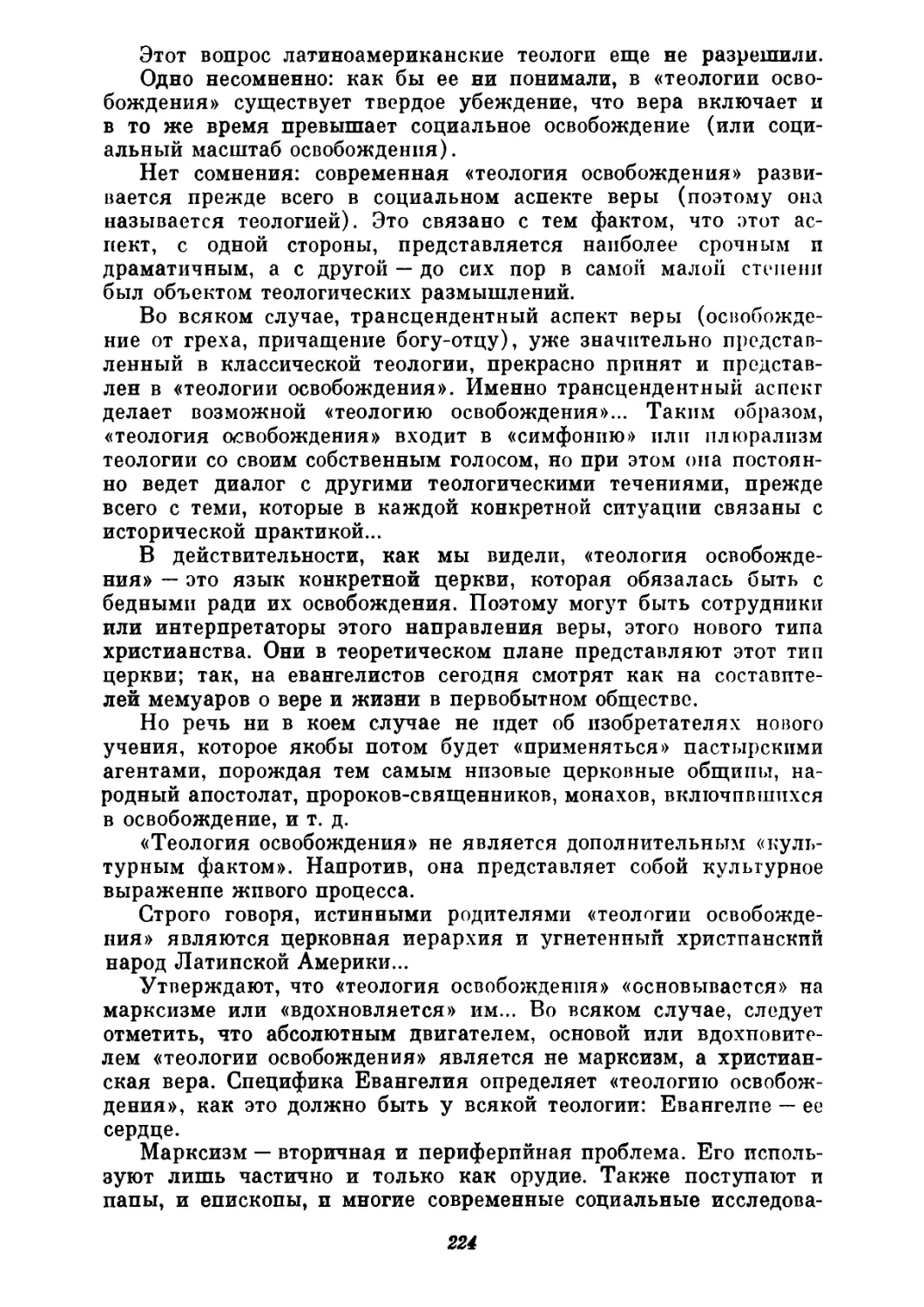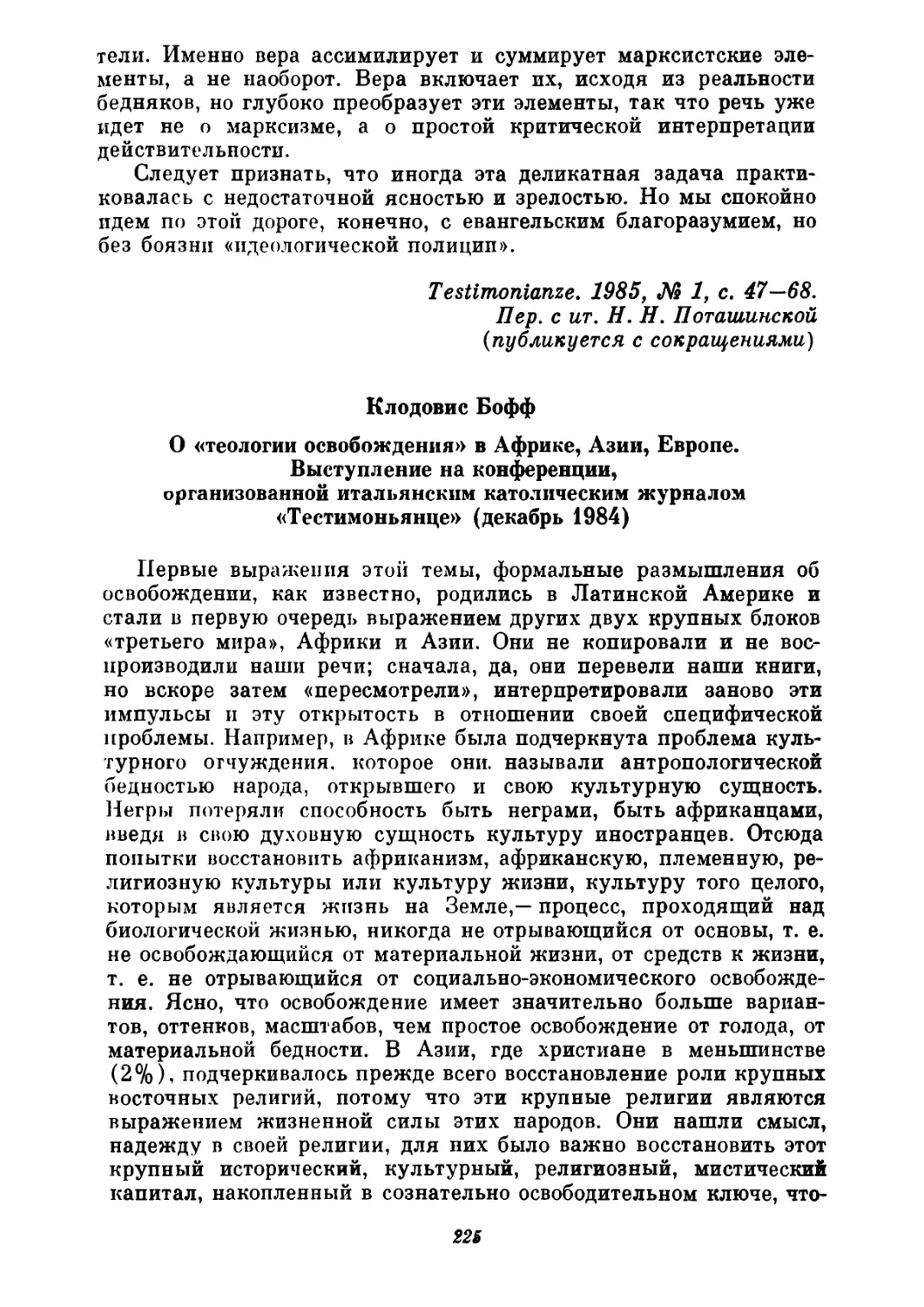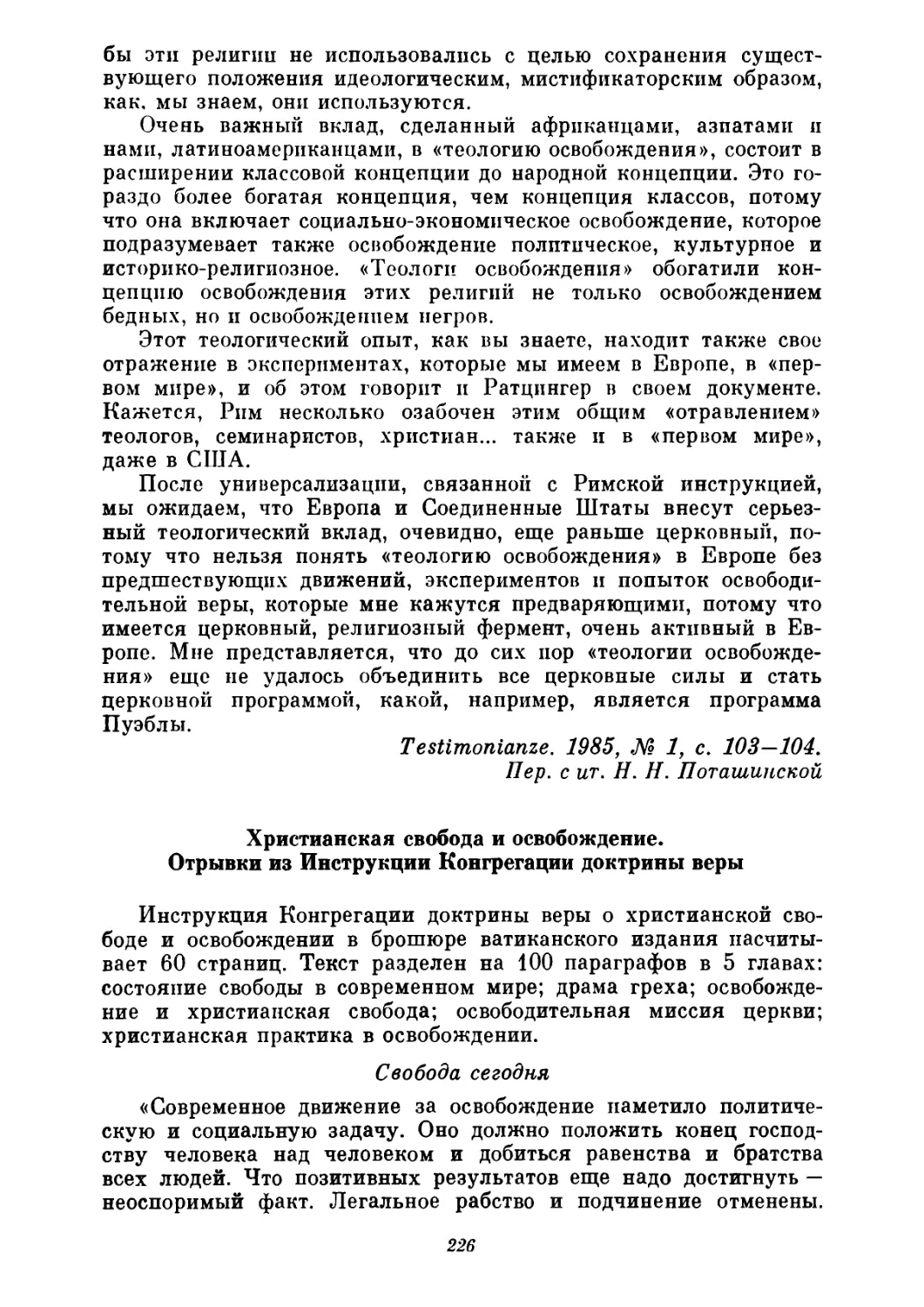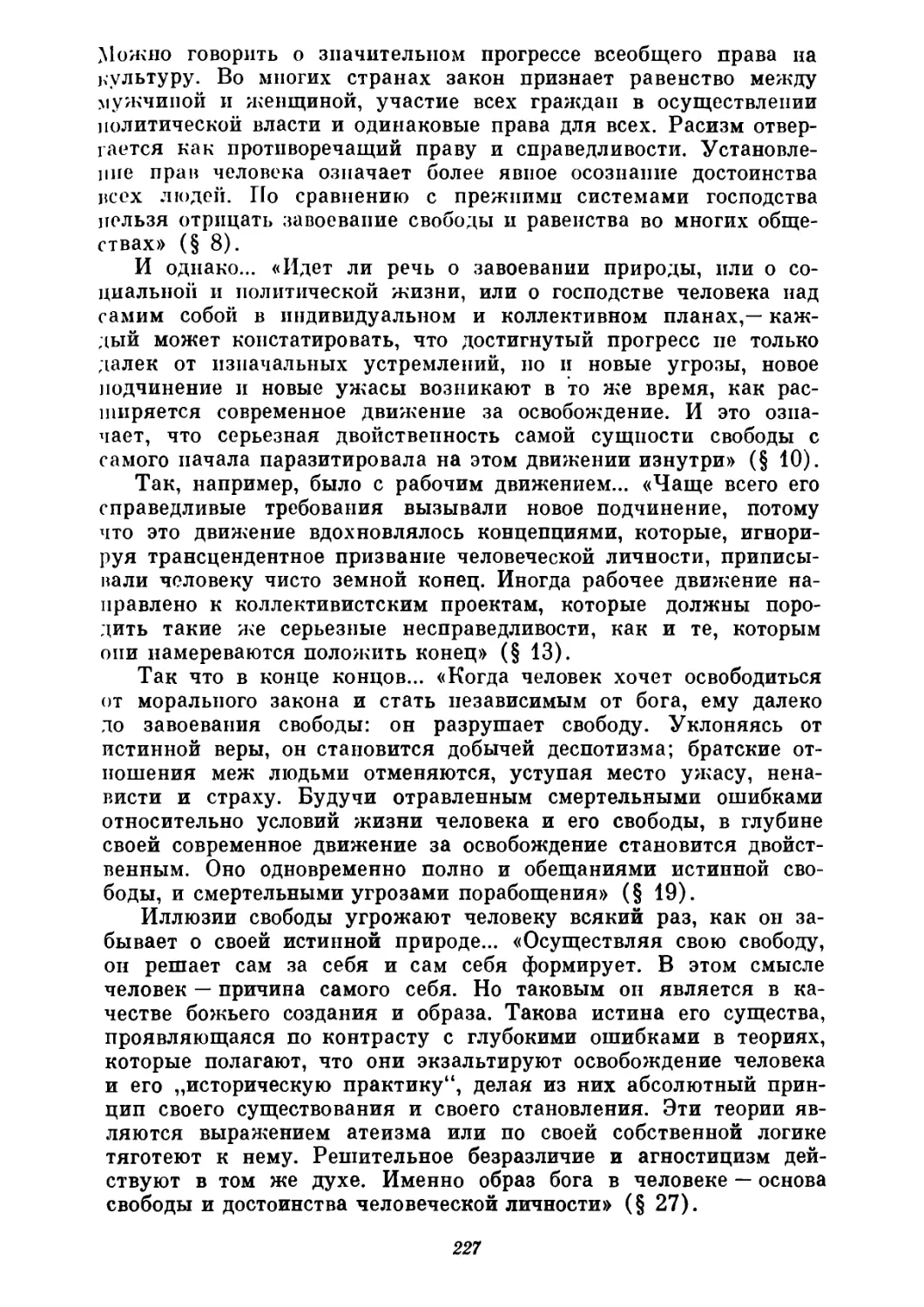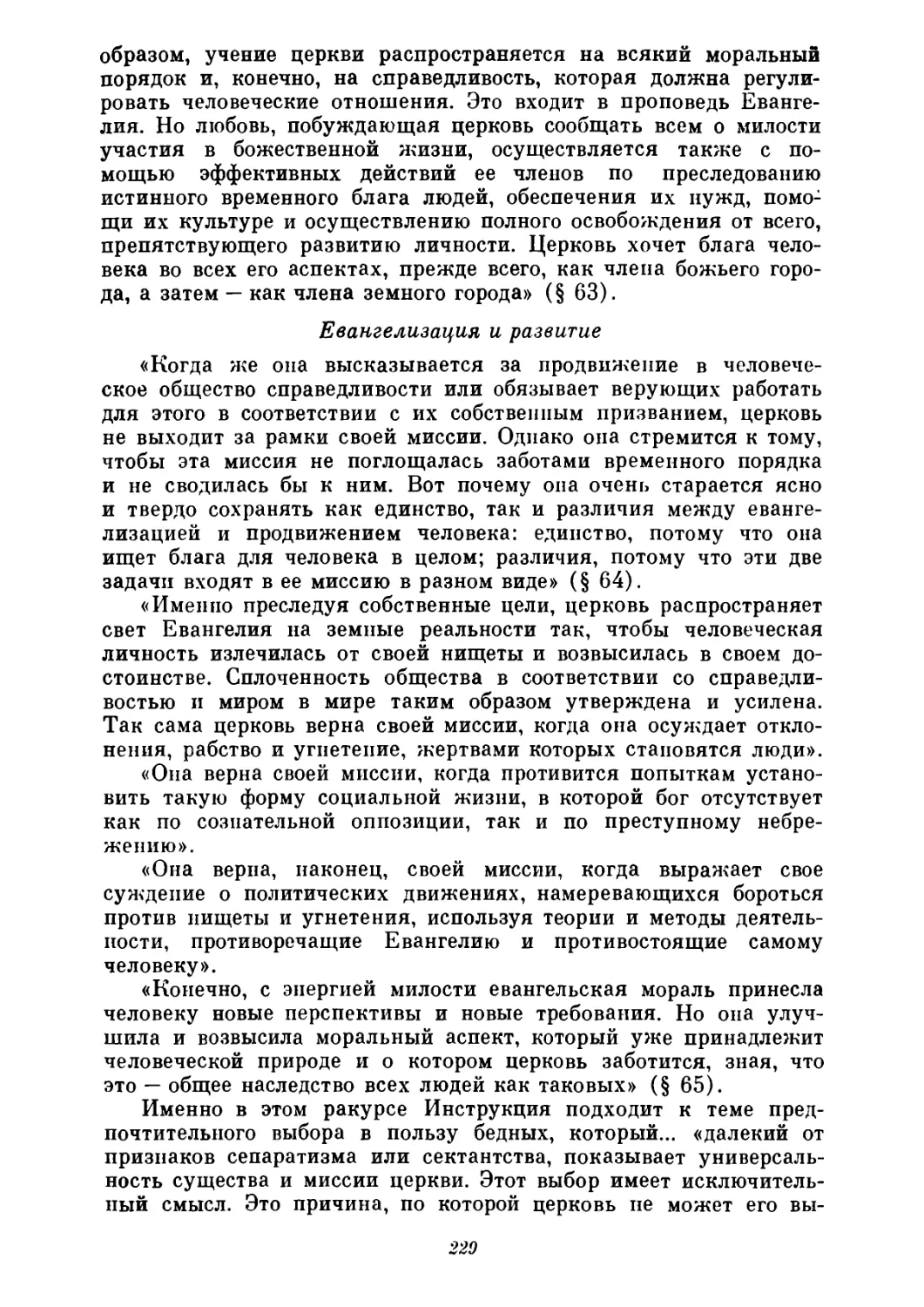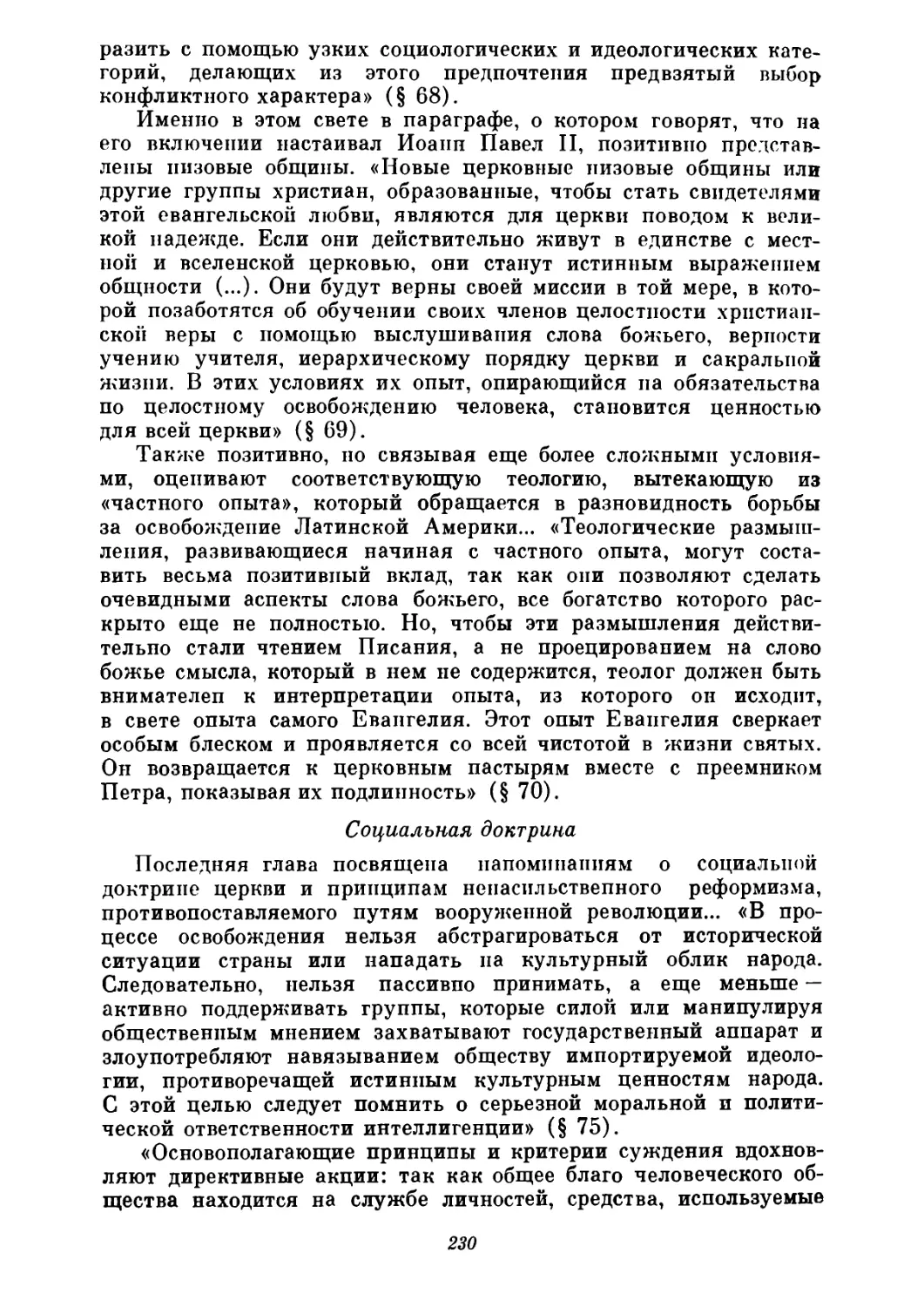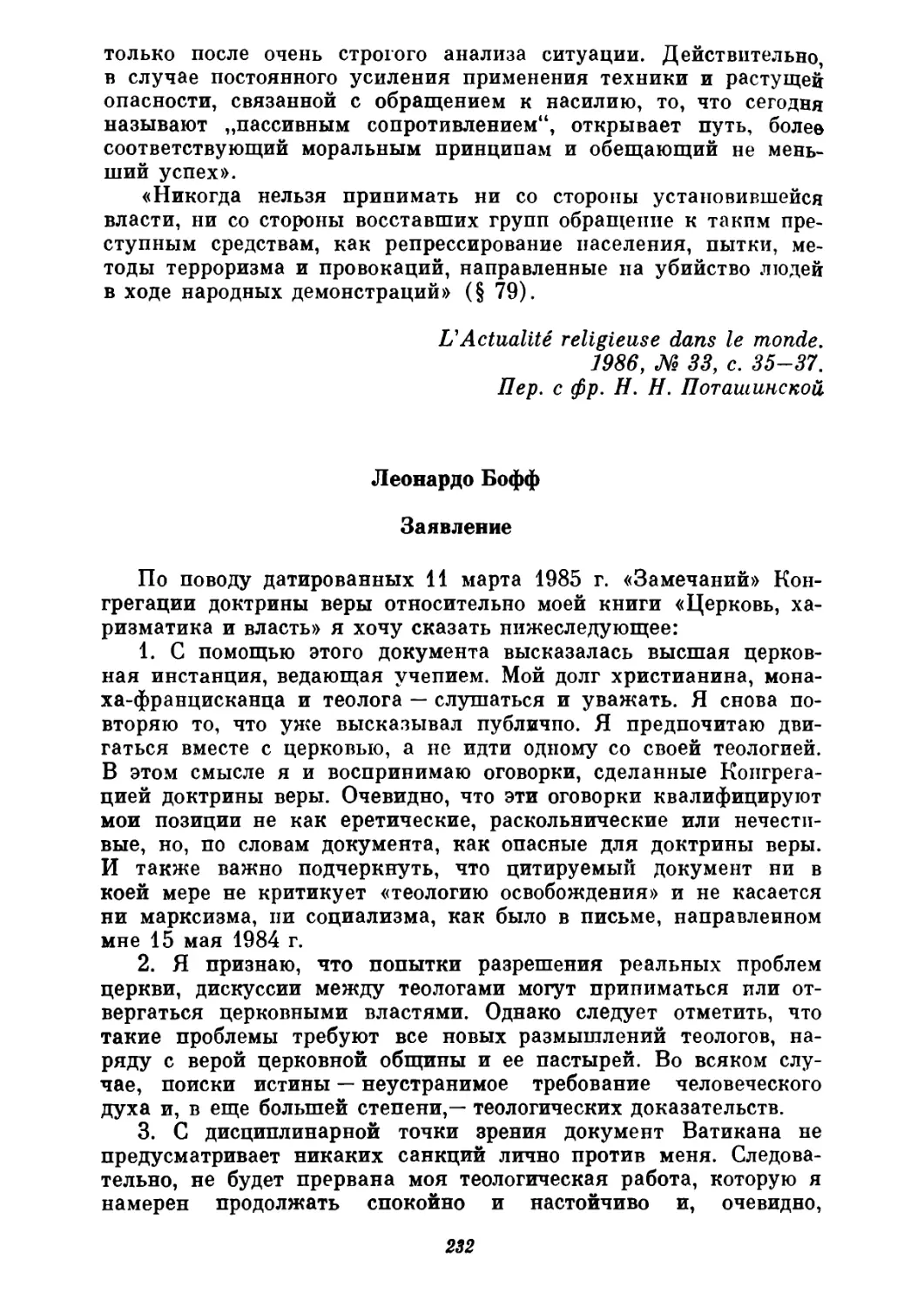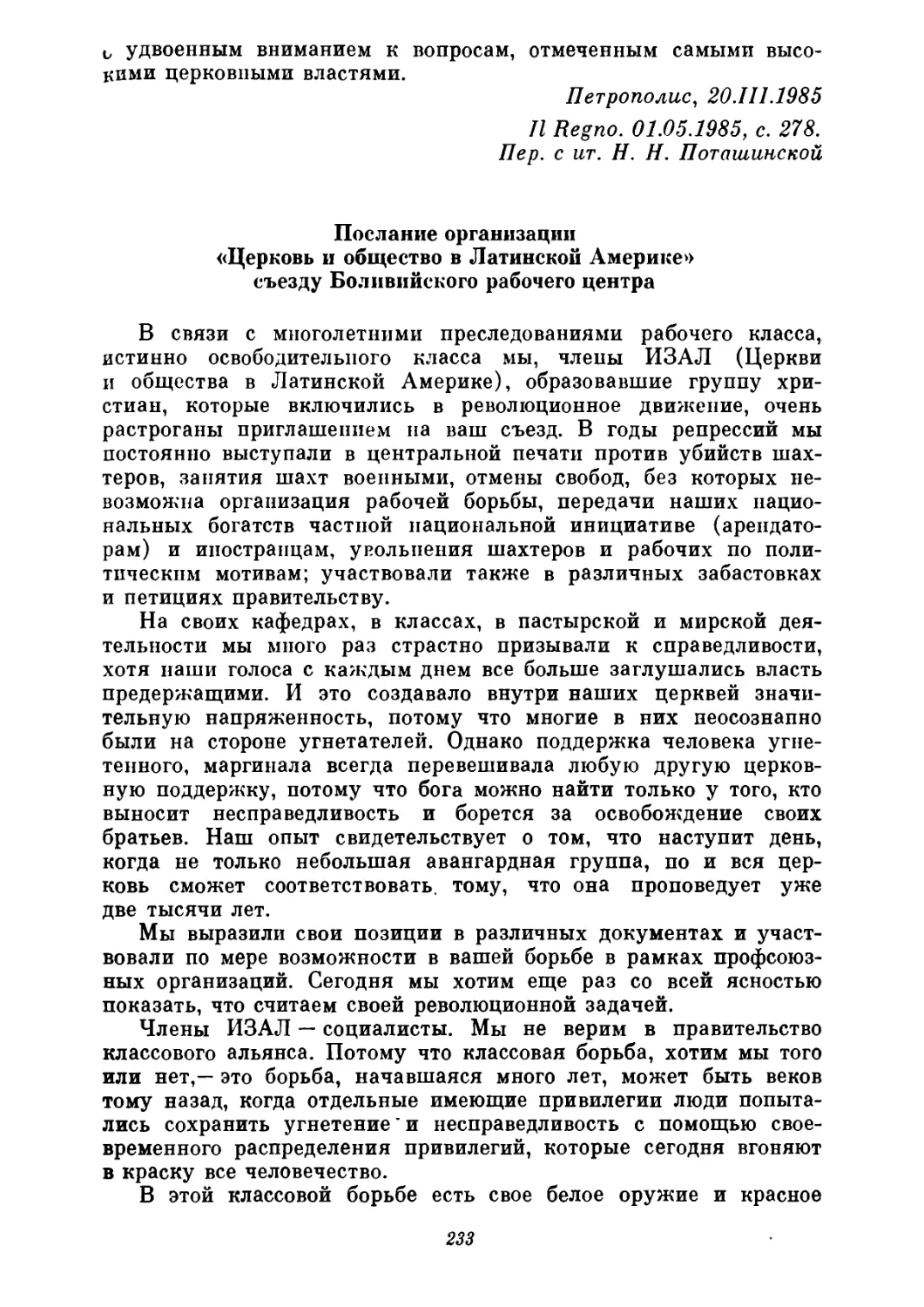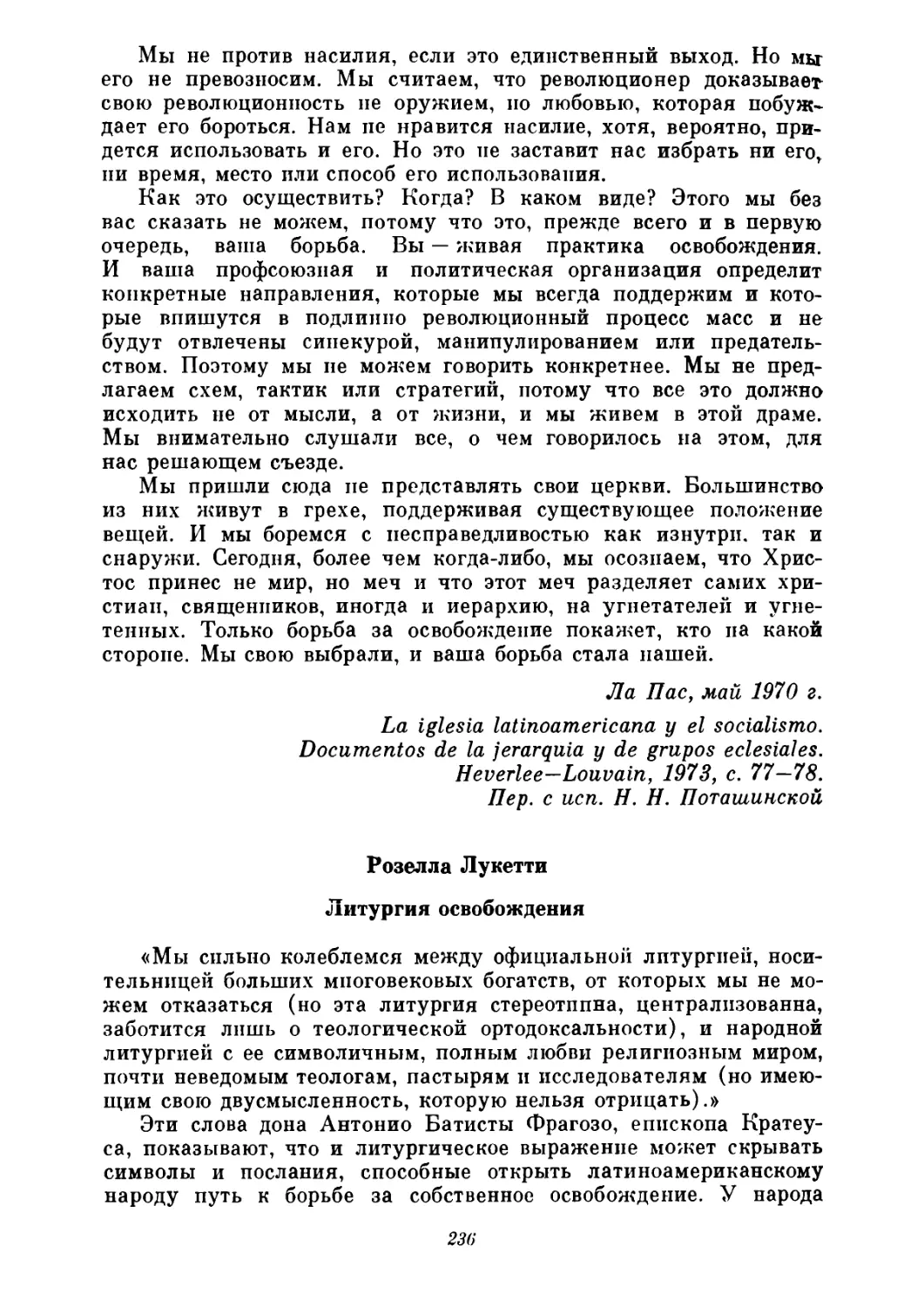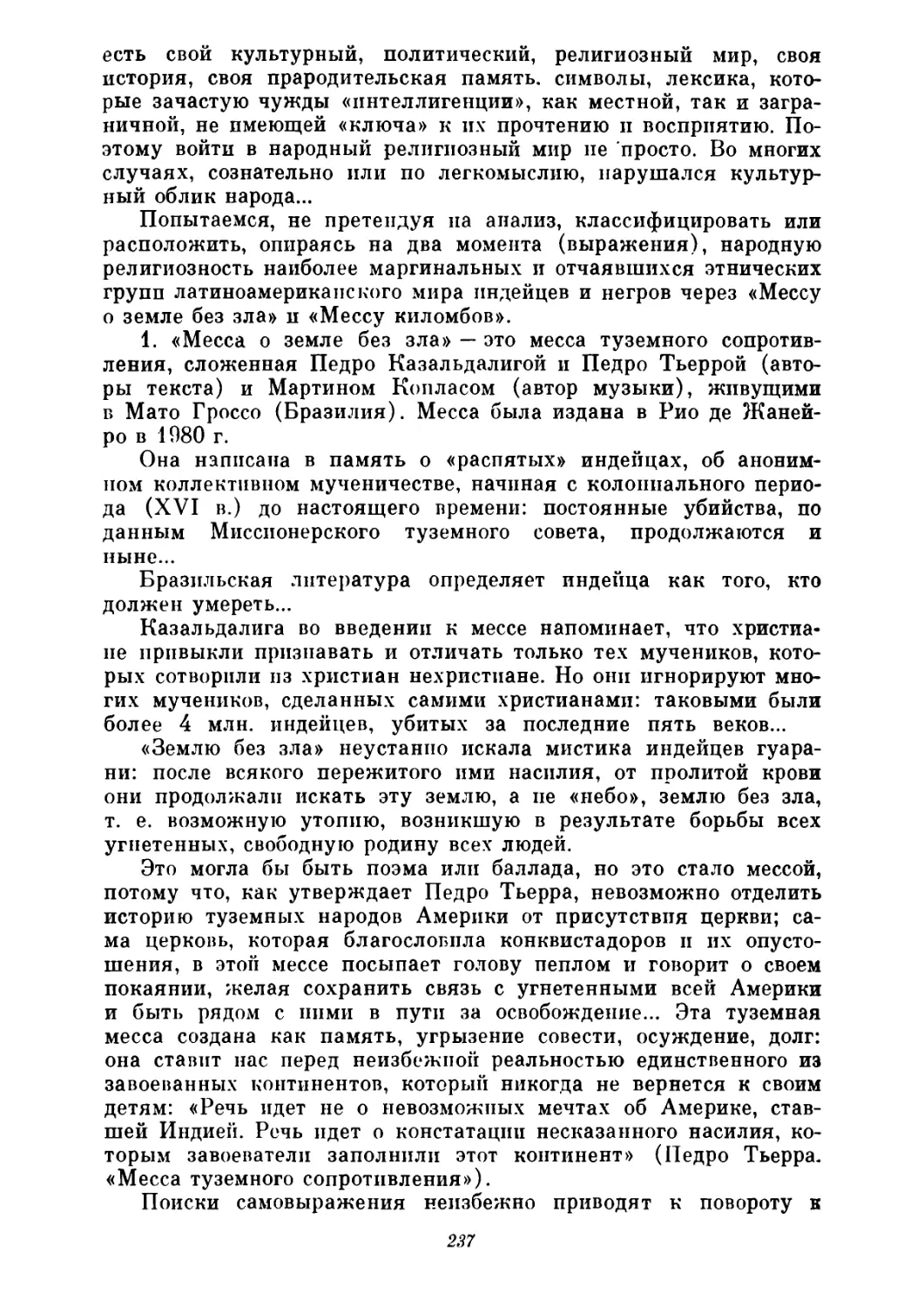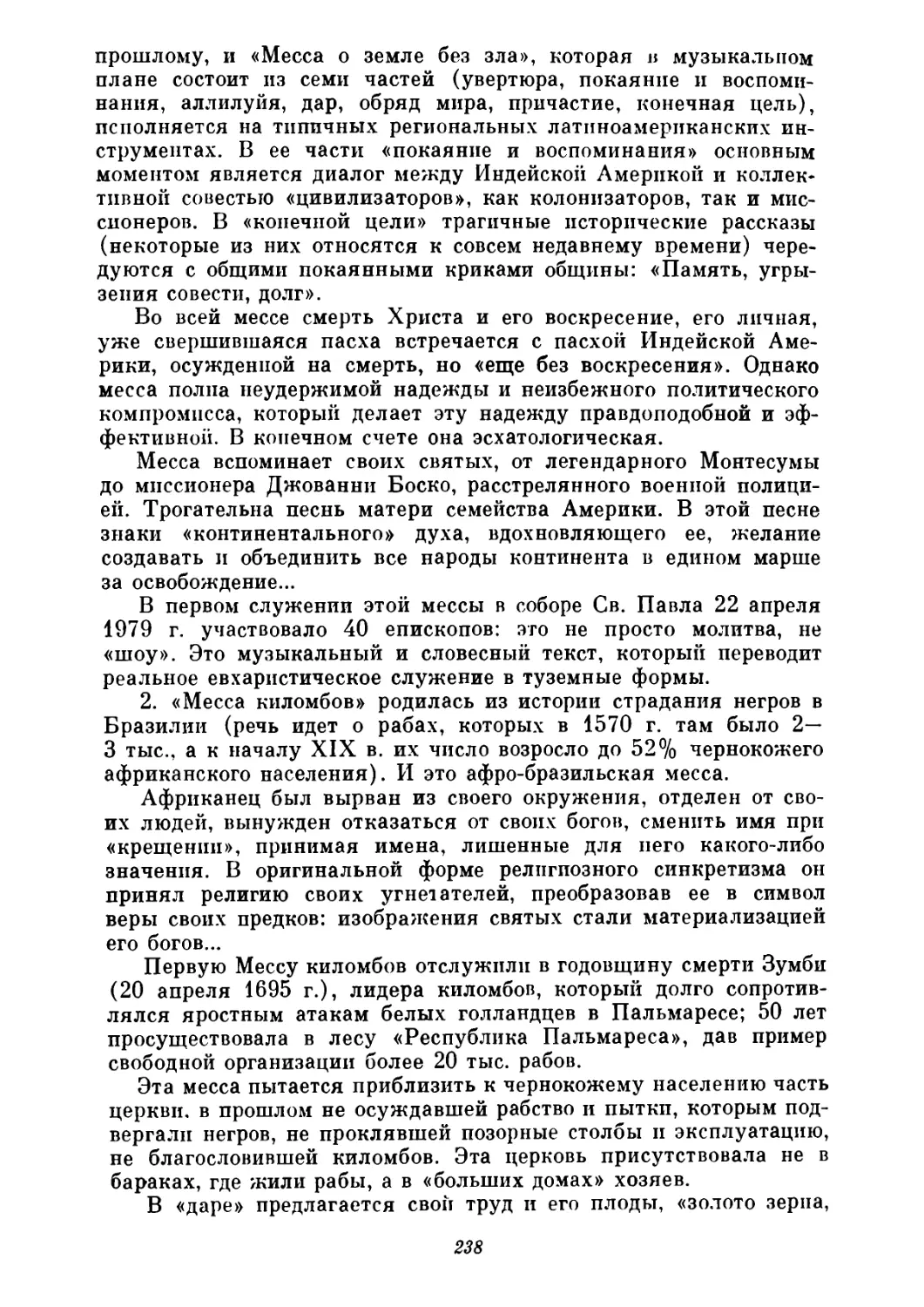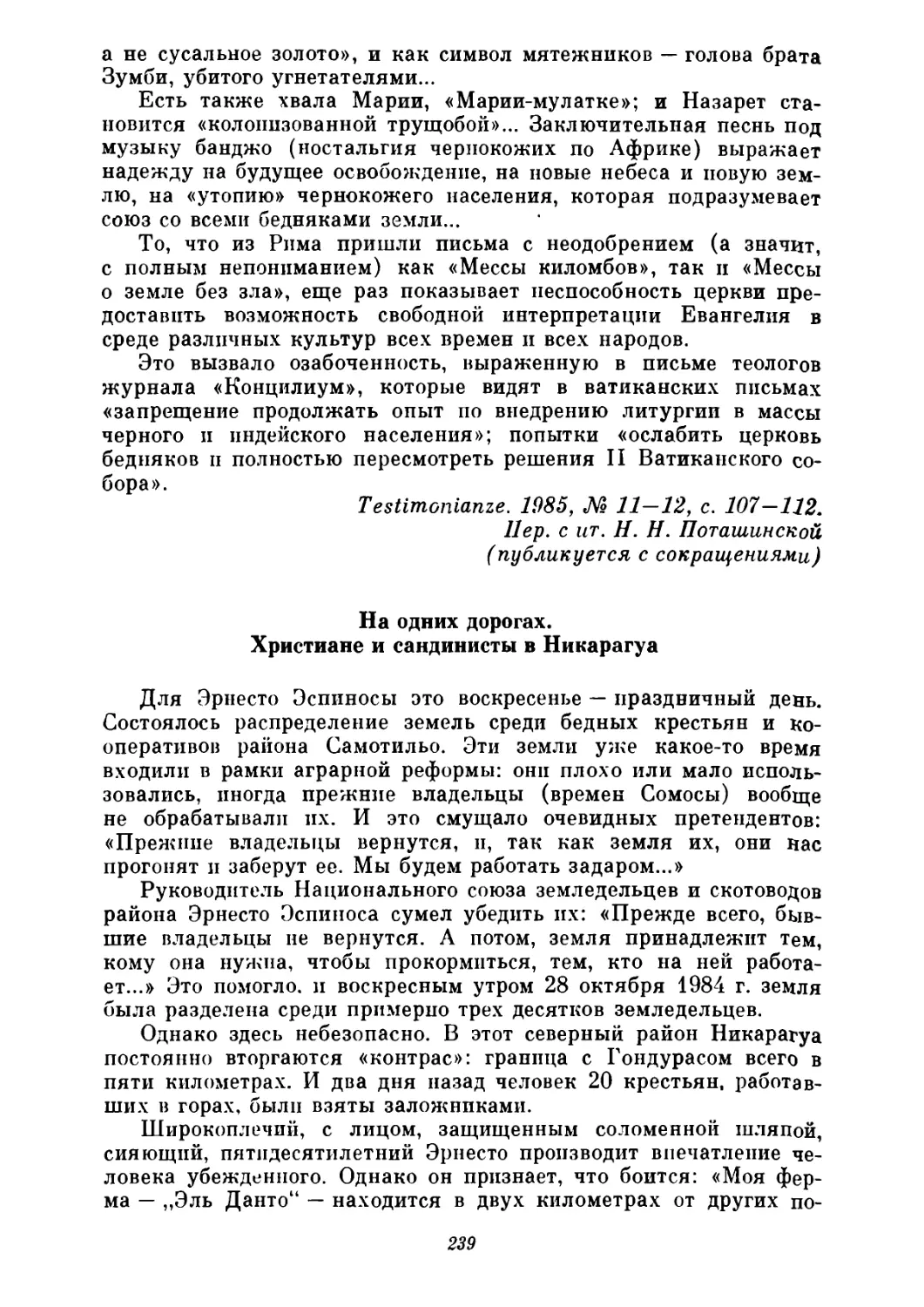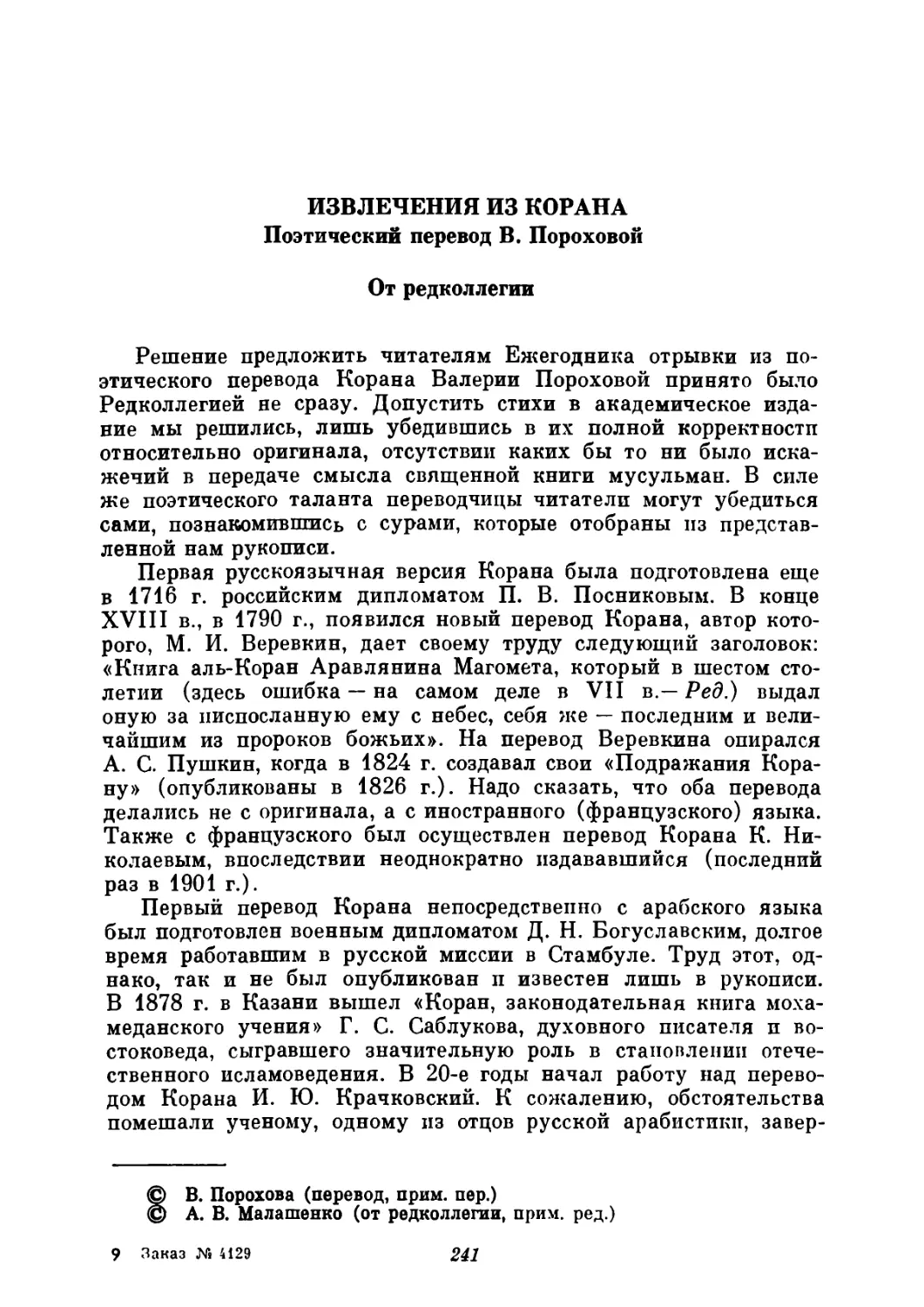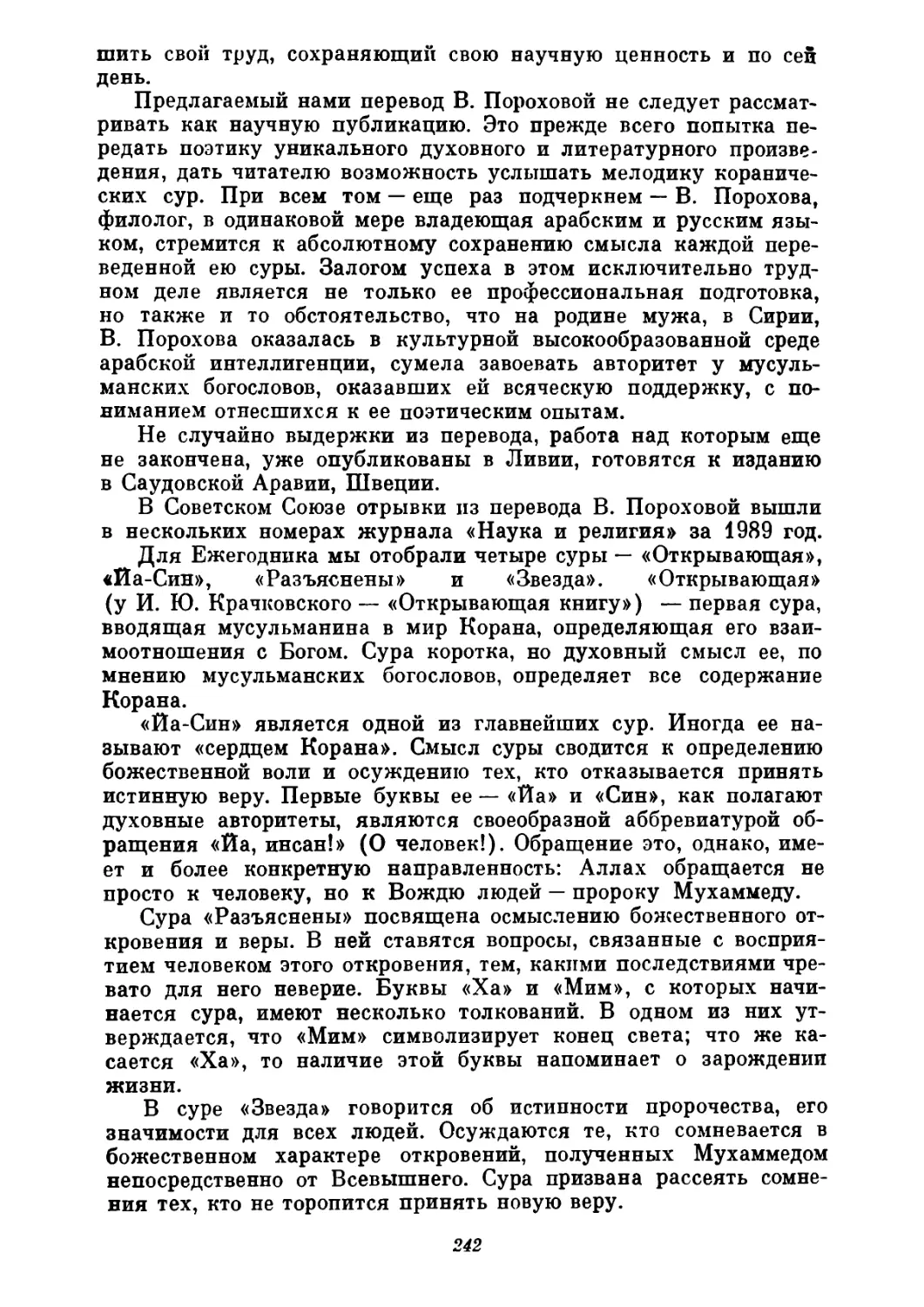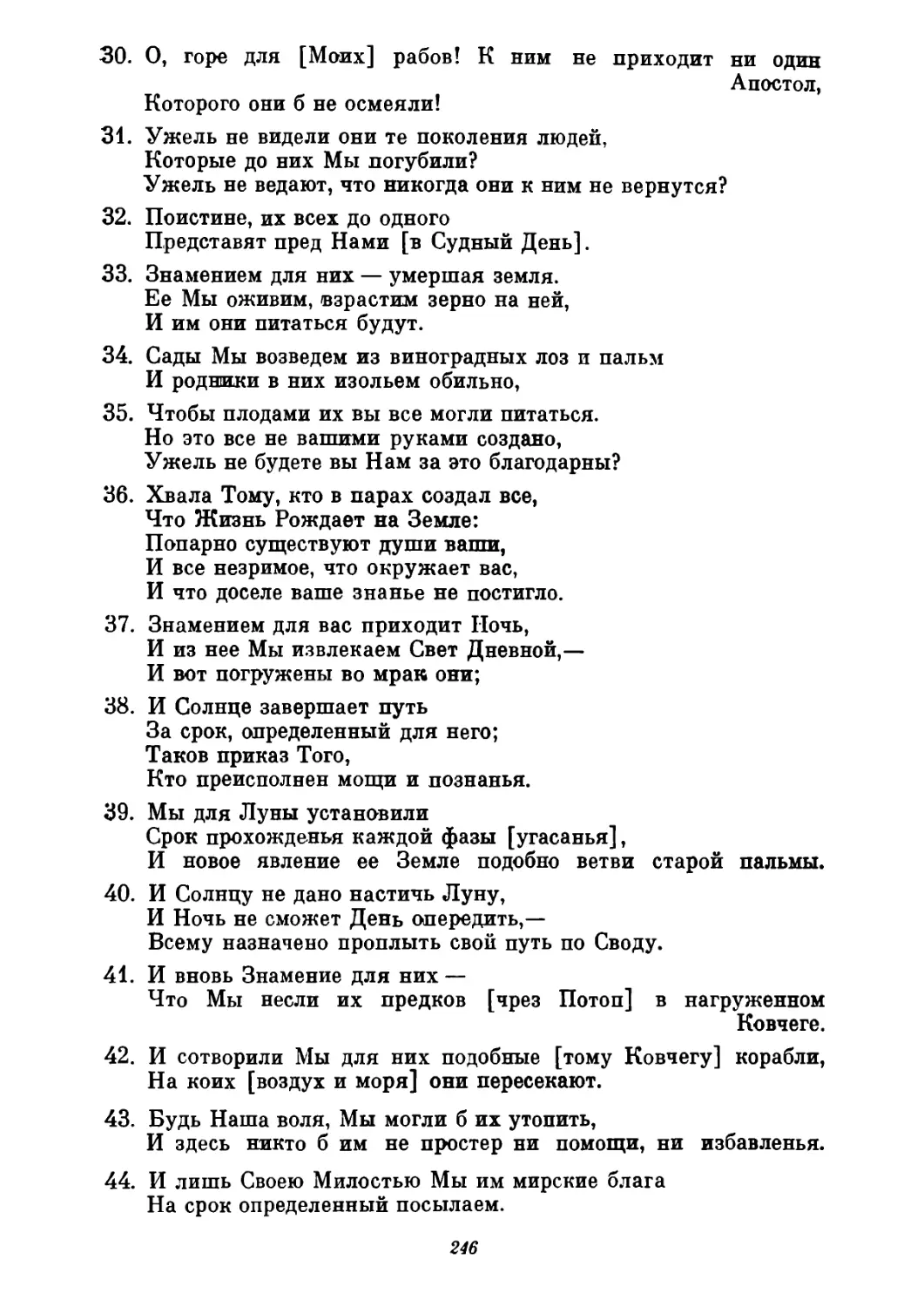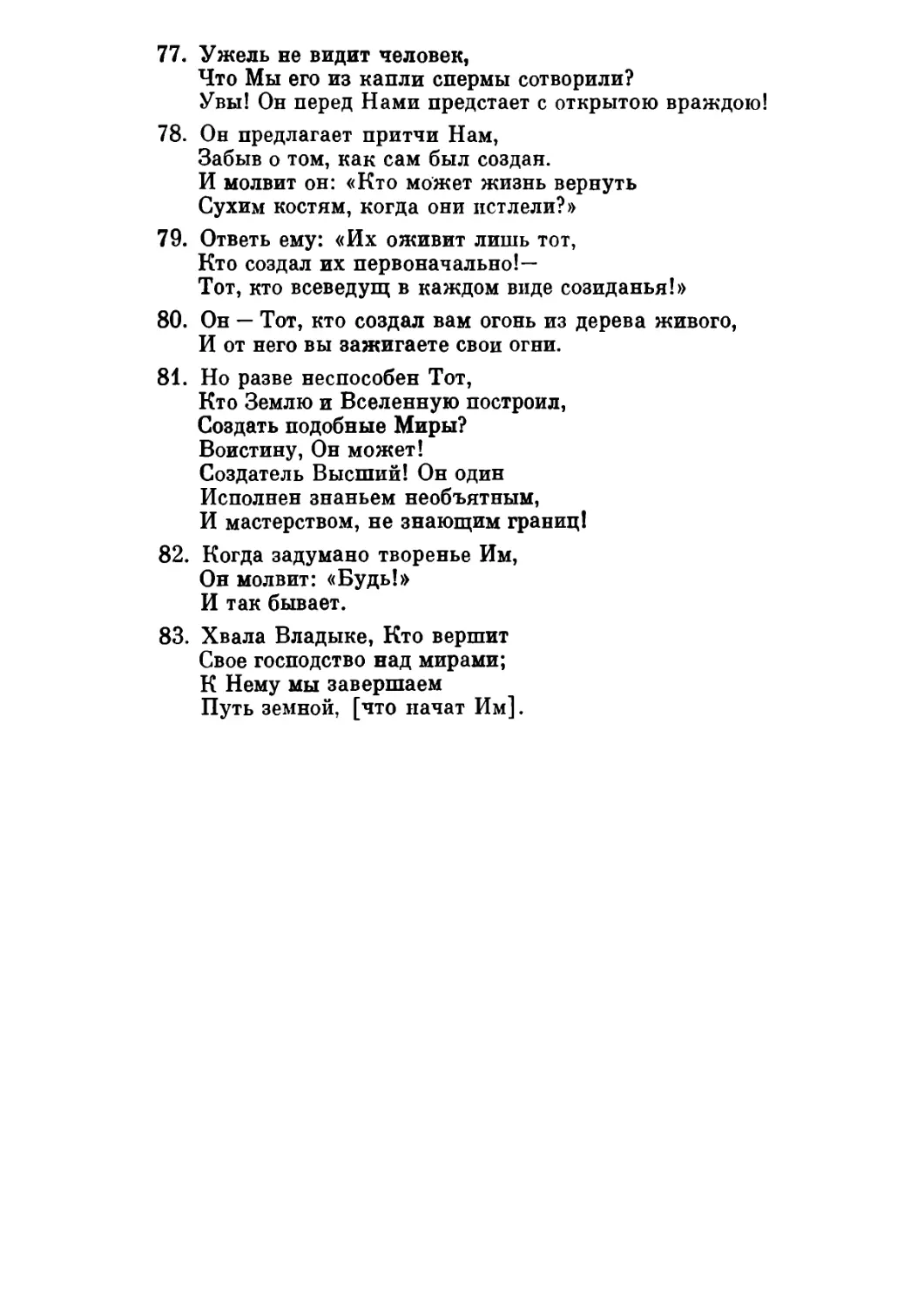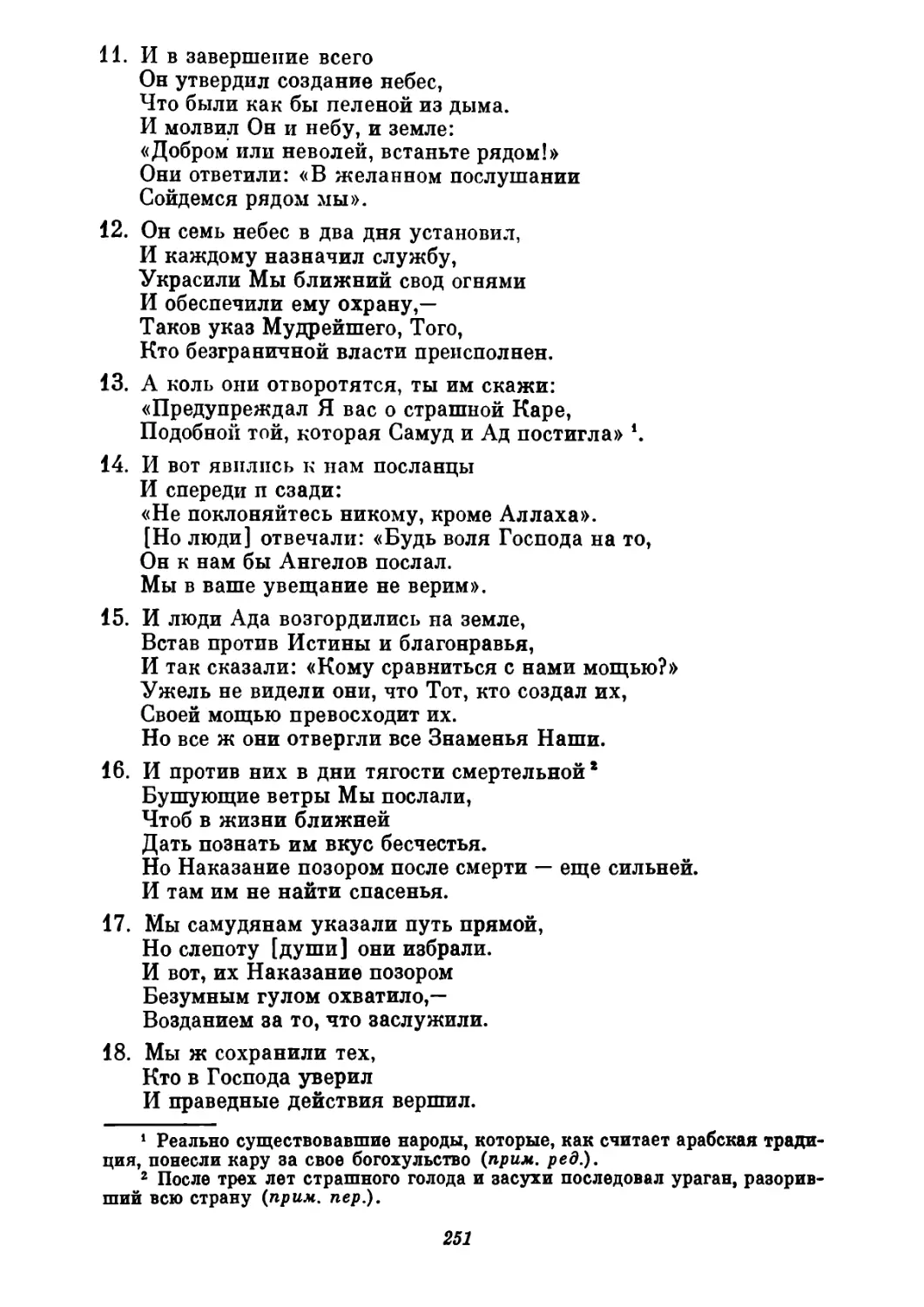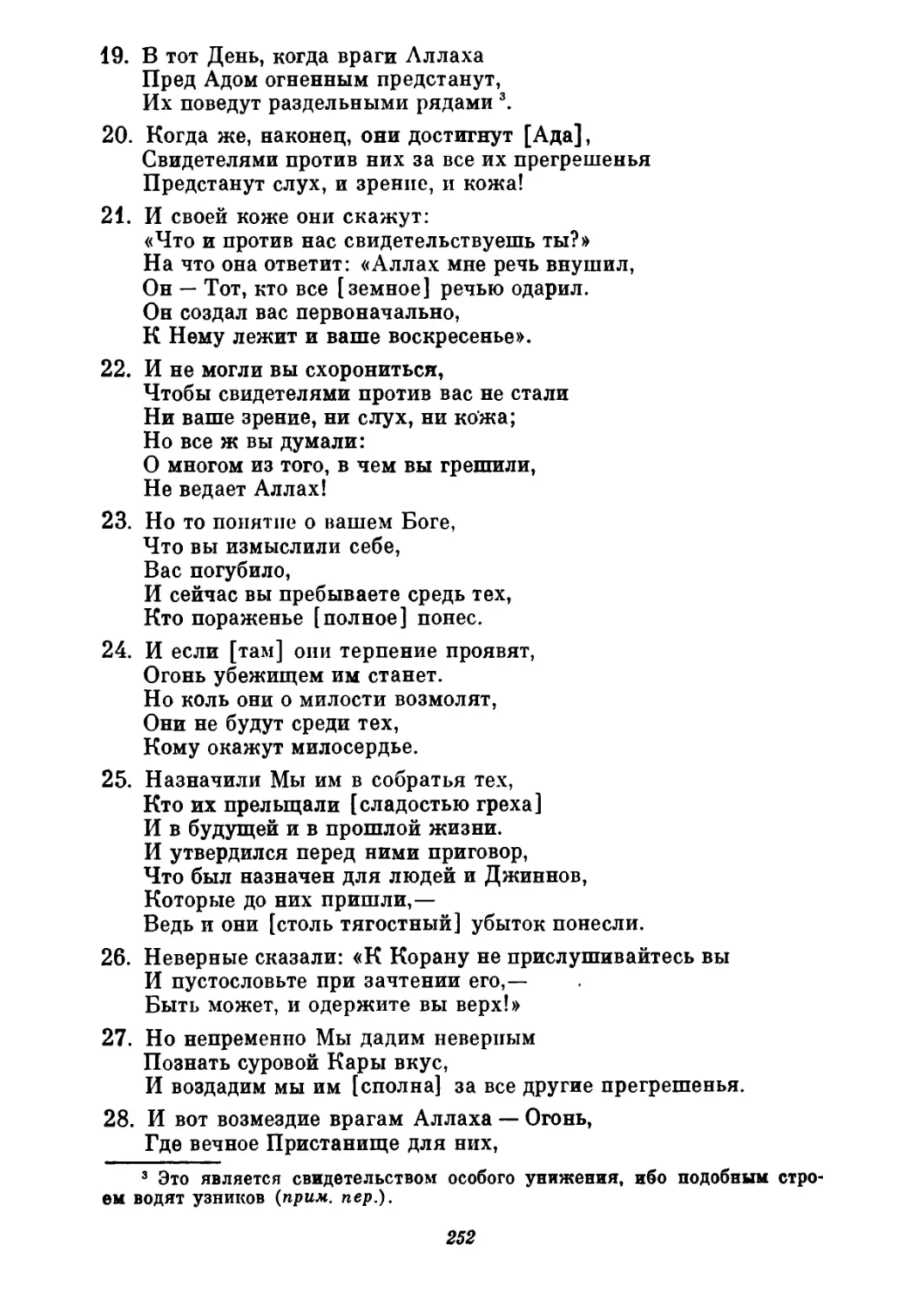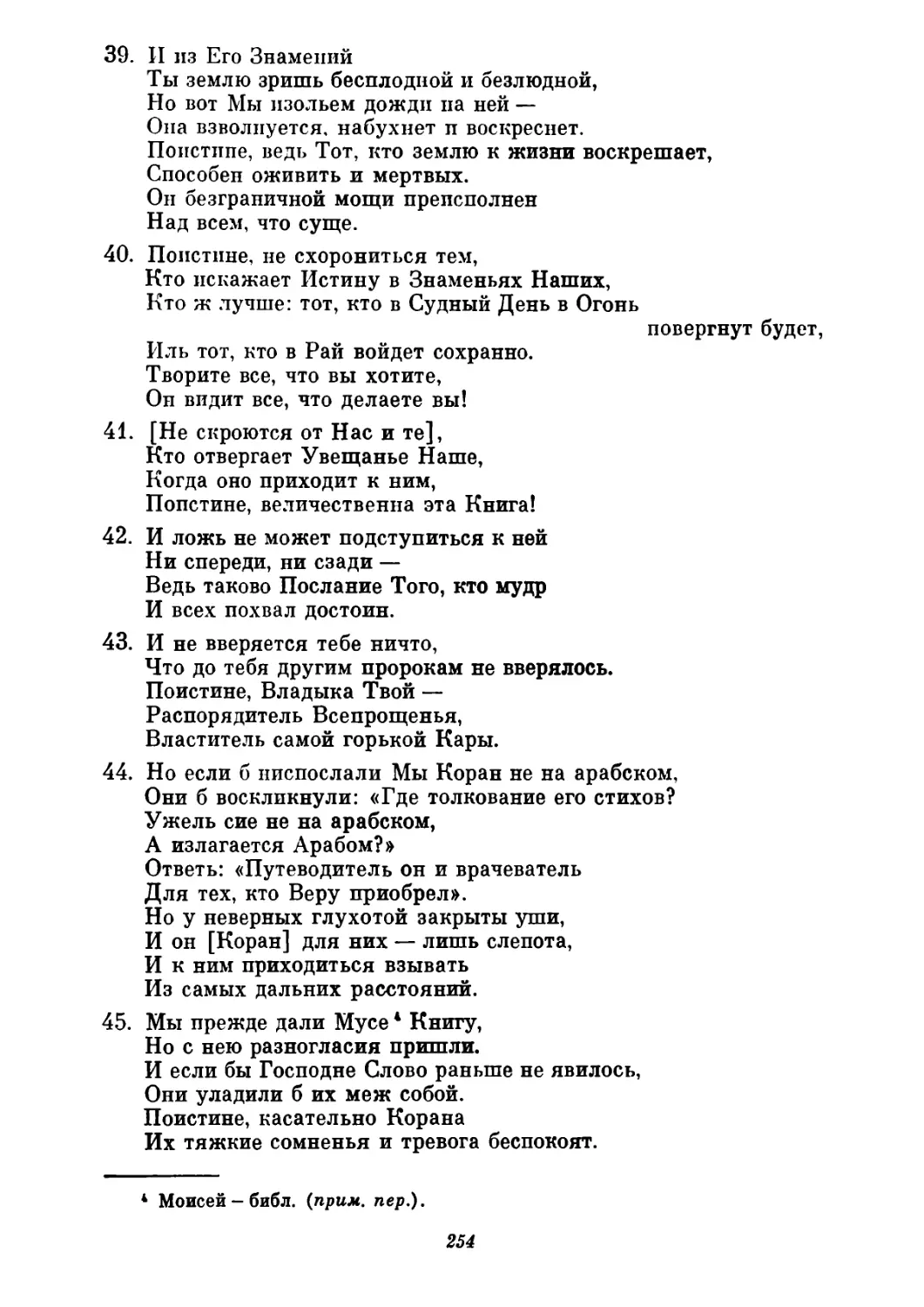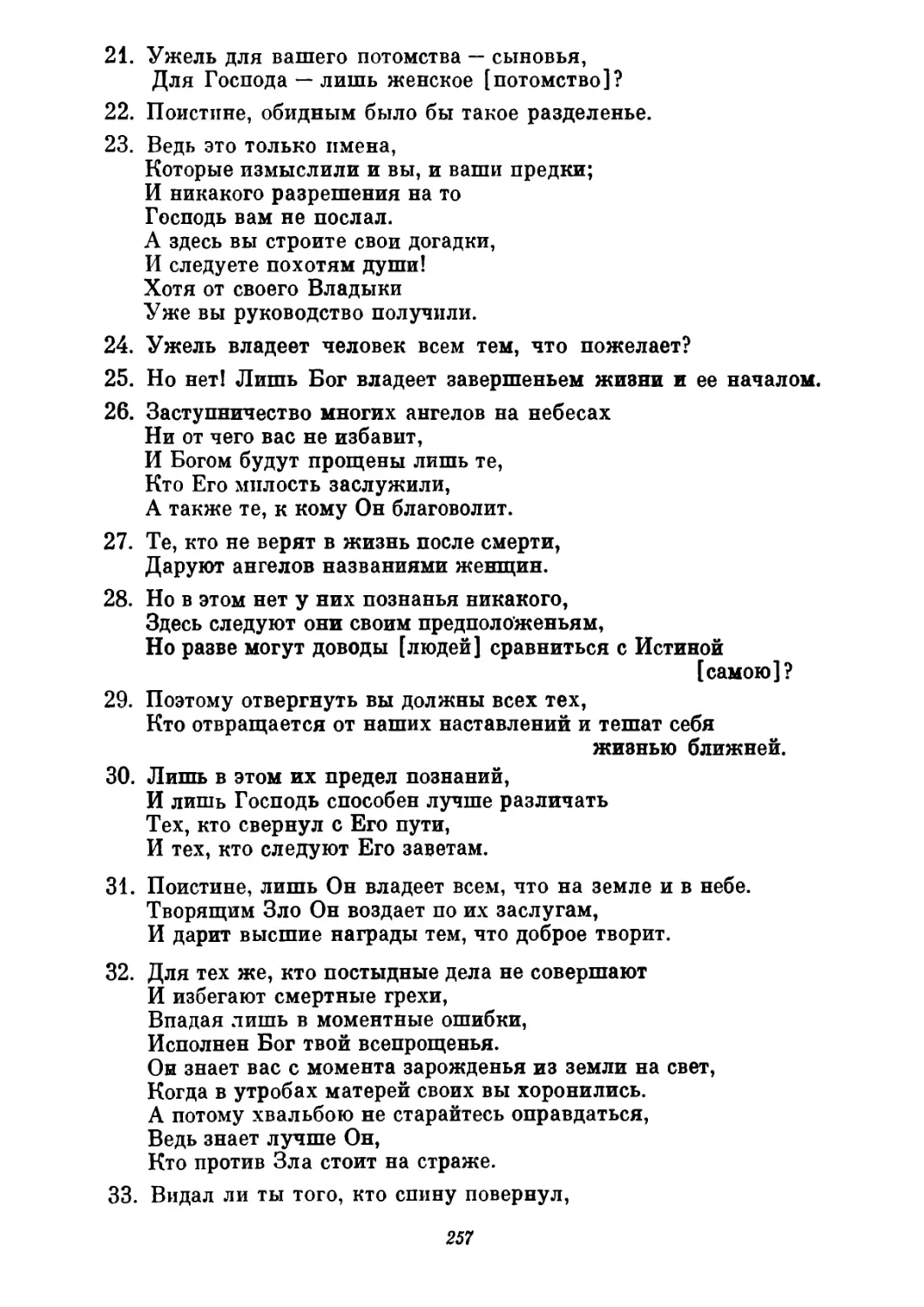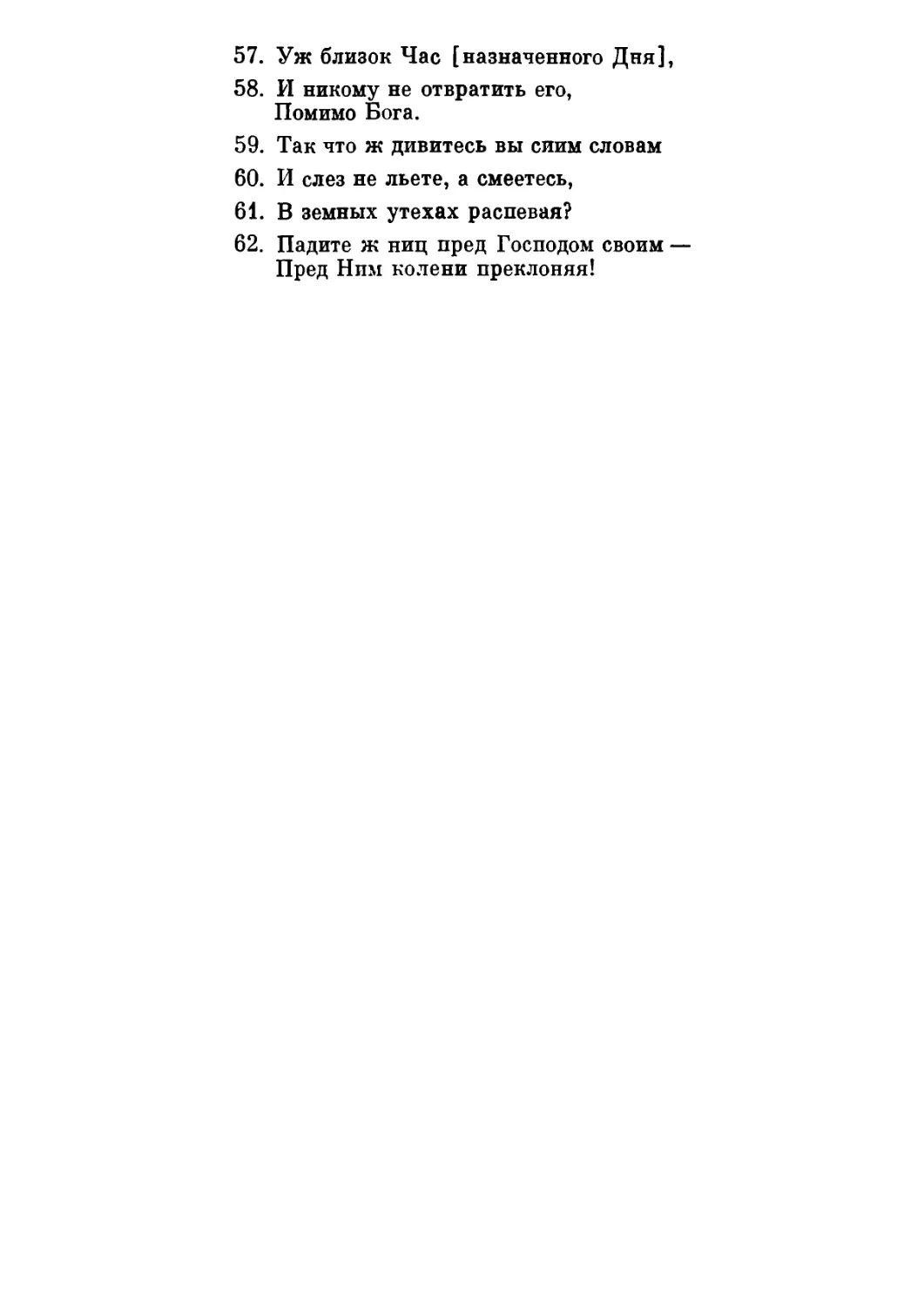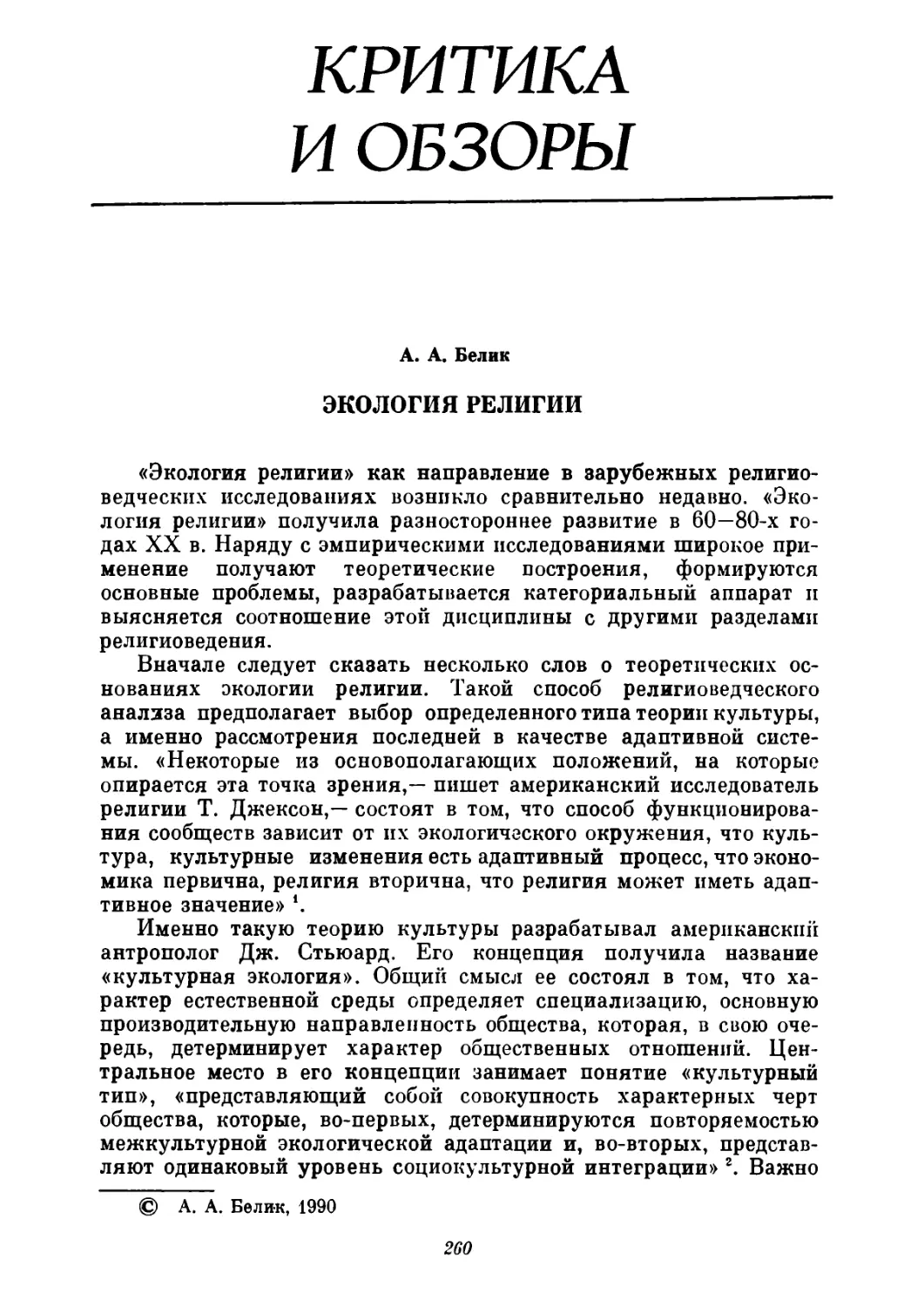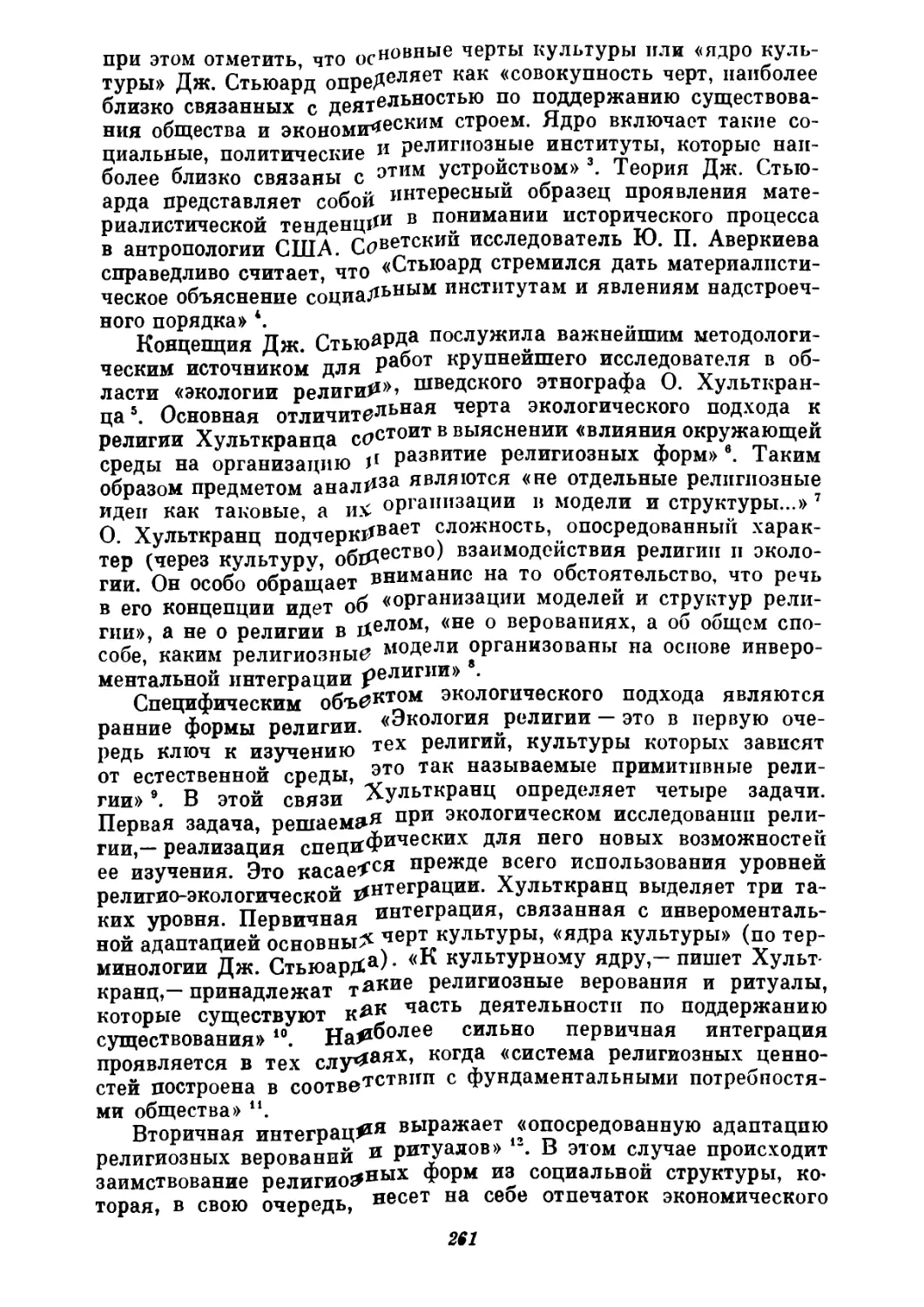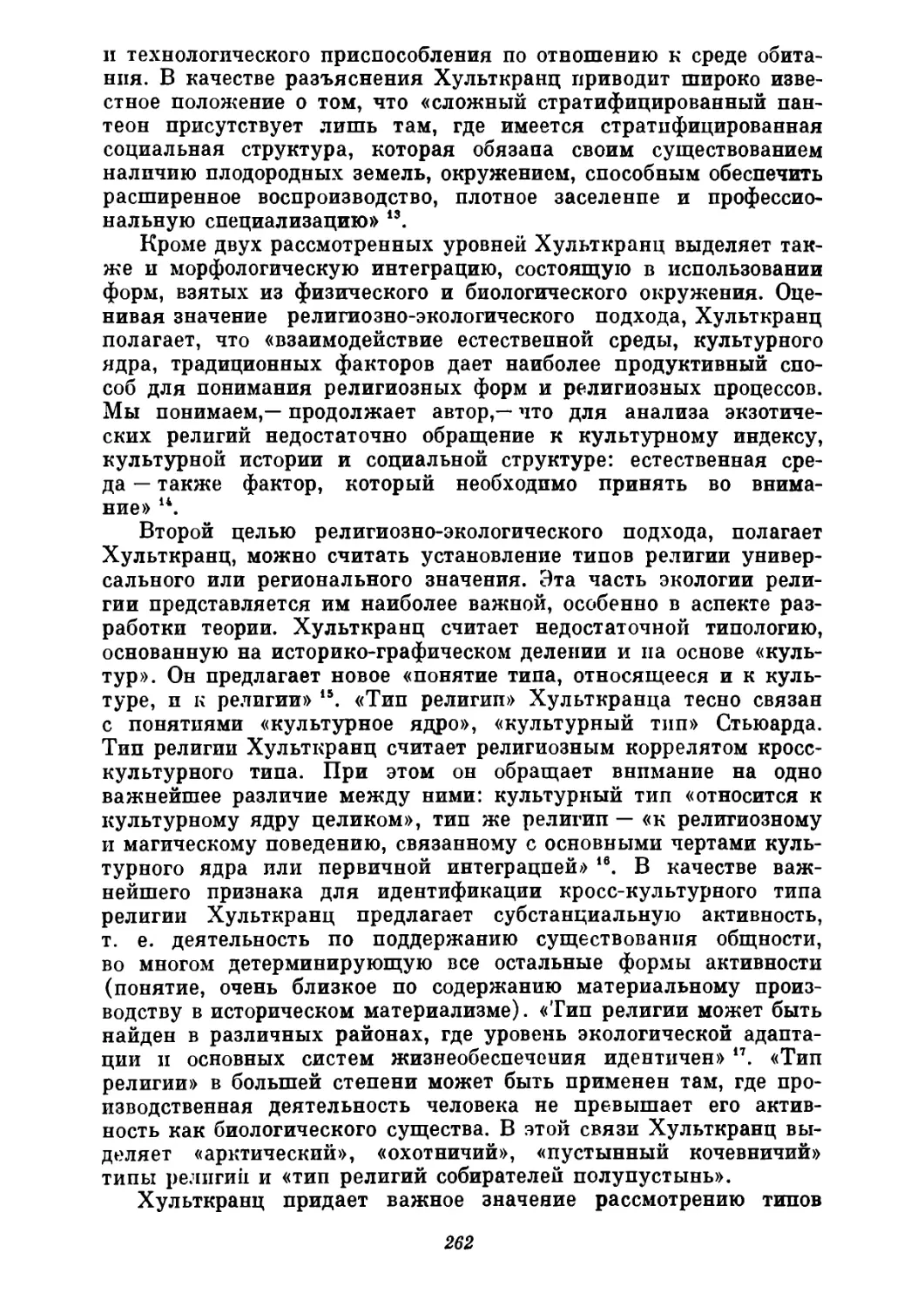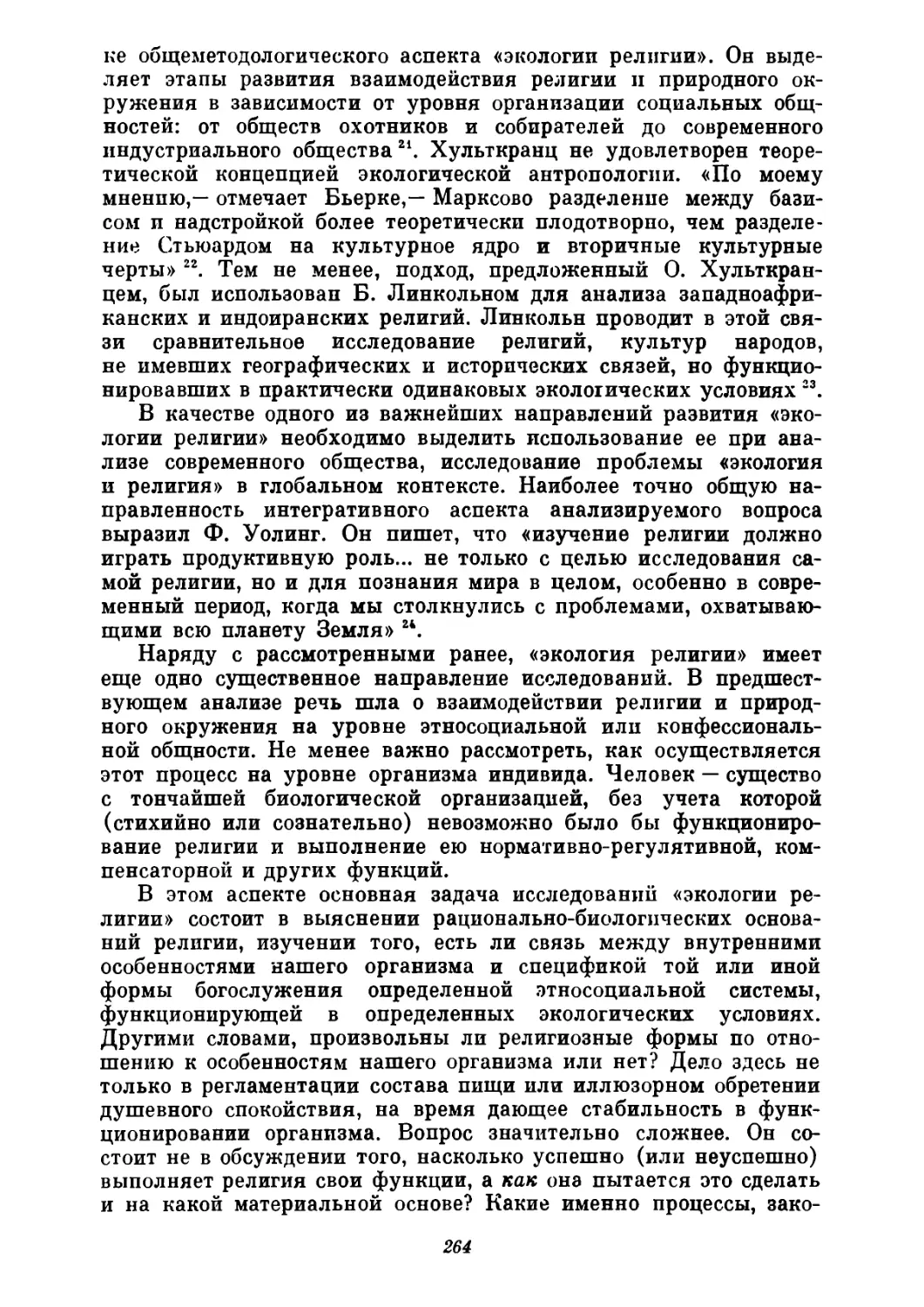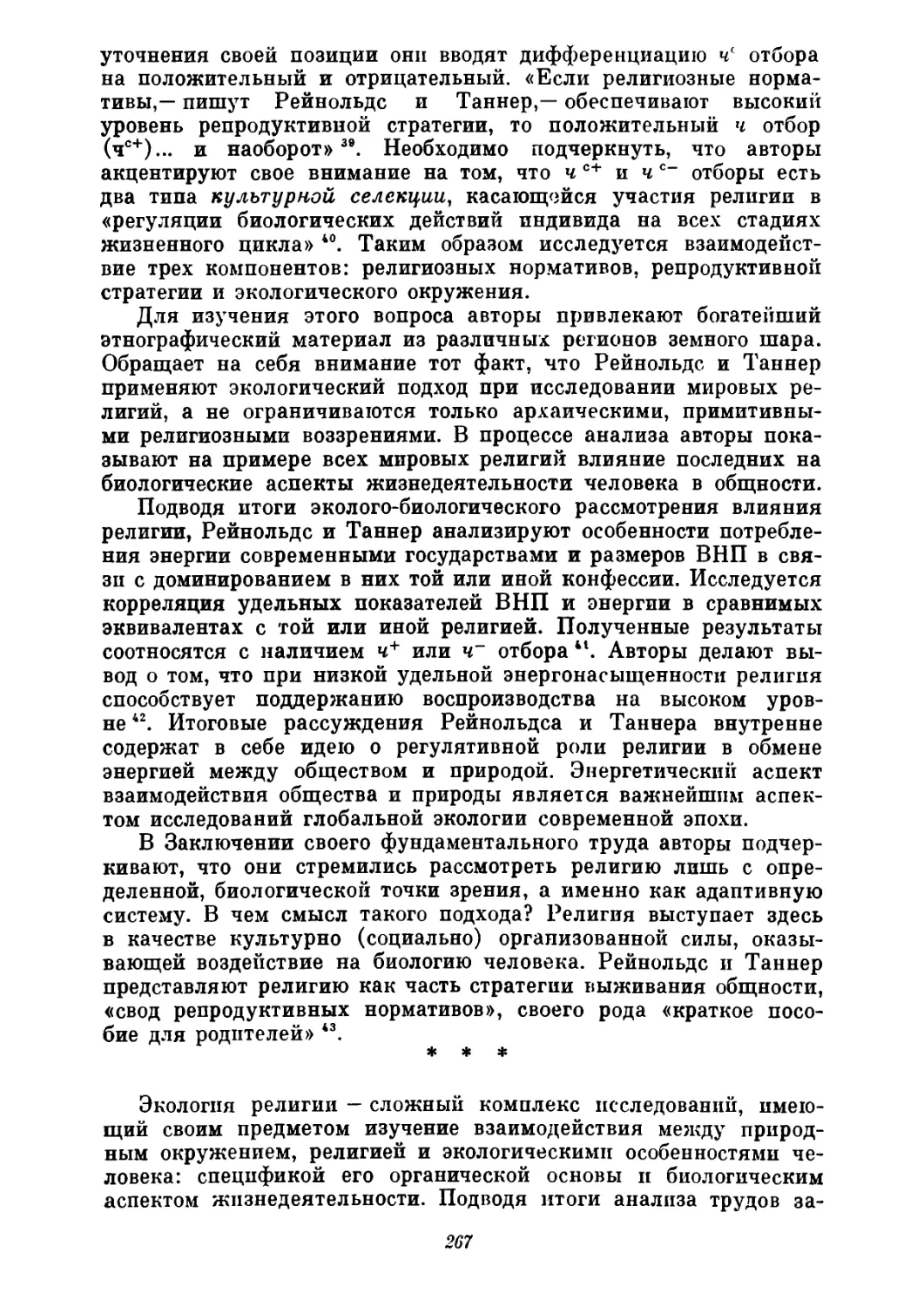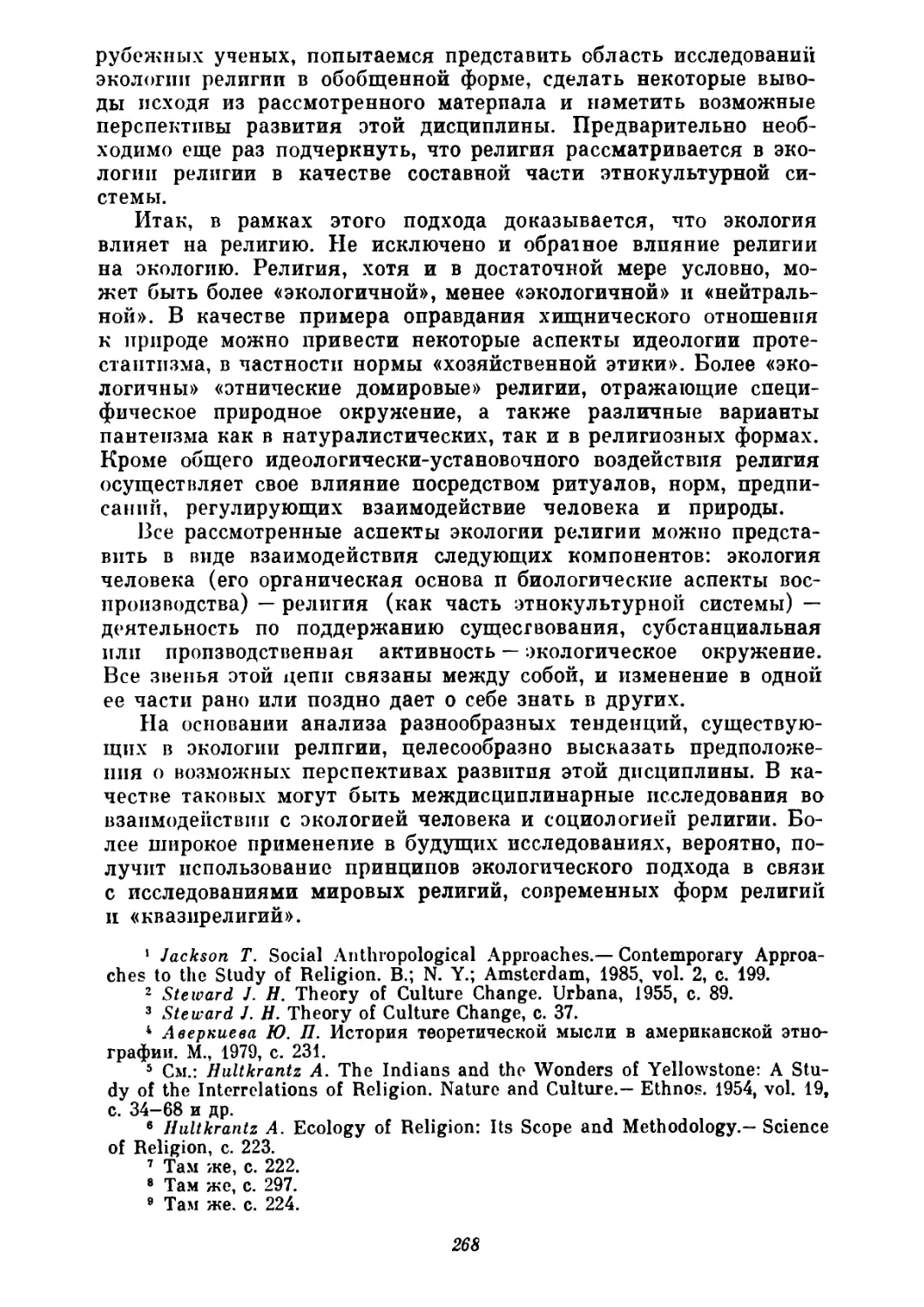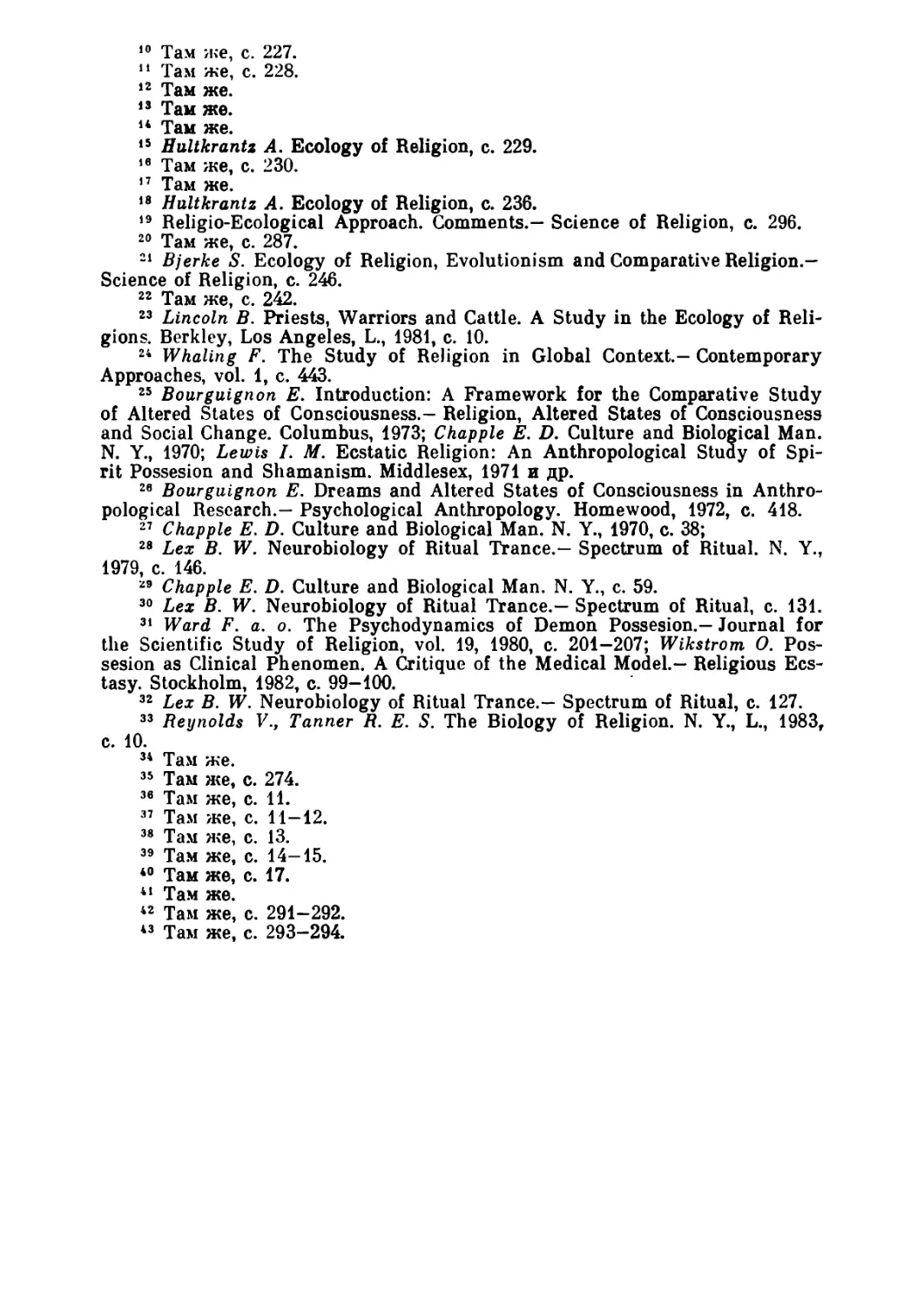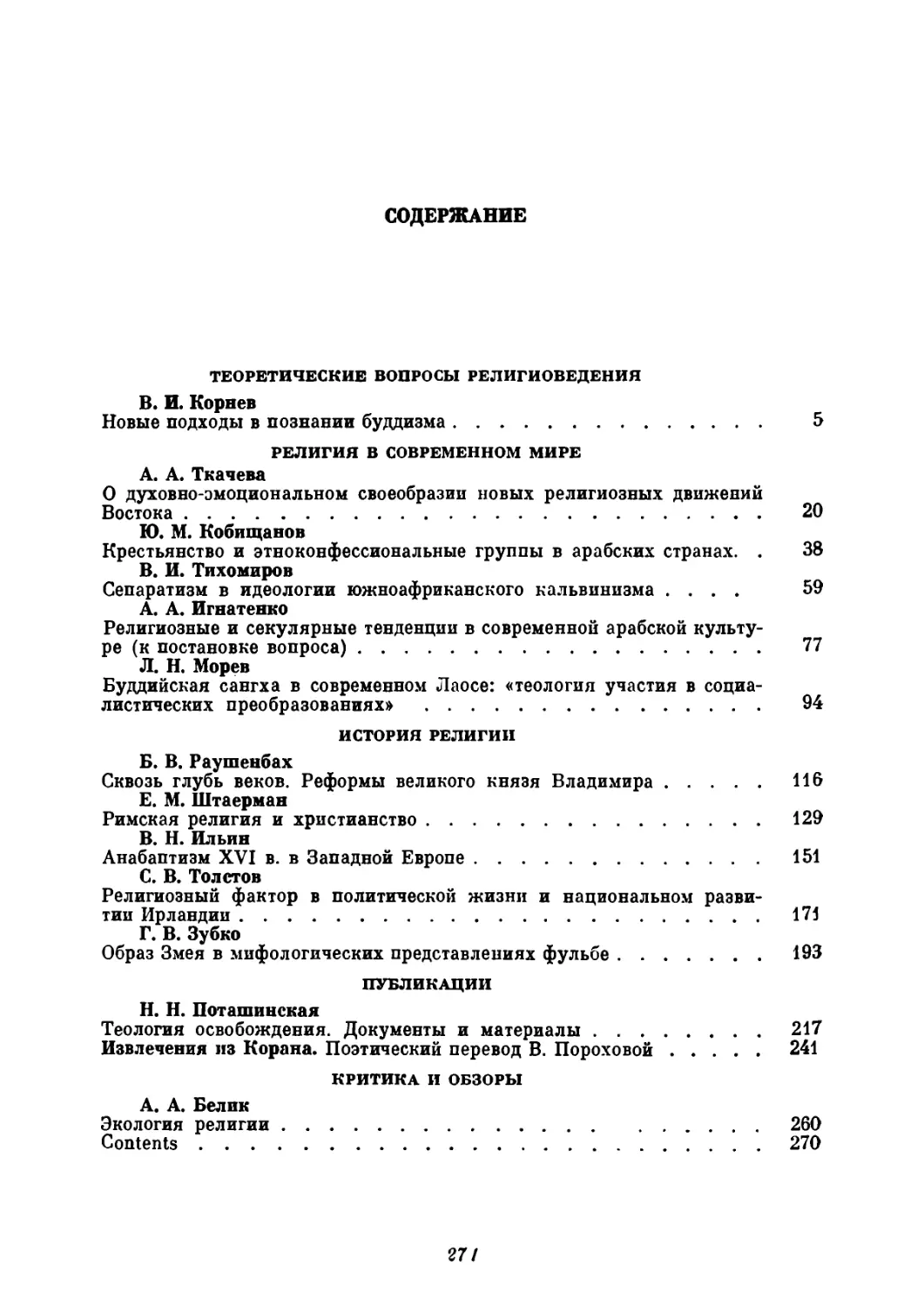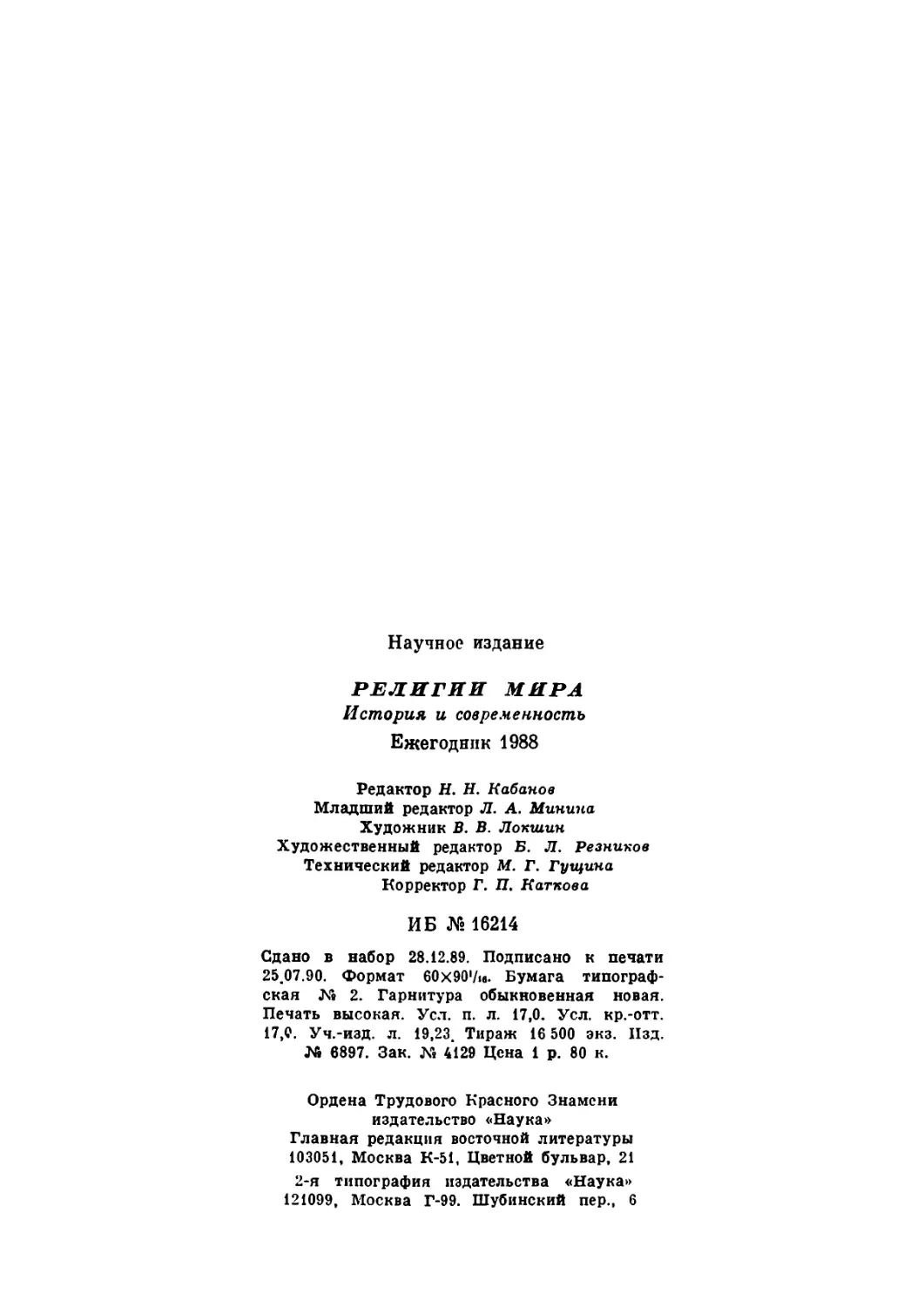Author: Бонгард-Левин Г.М.
Tags: отдельные религии религия история религии философия религии издательство наука издательство академия наук ссср
ISBN: 5-02-016517-4
Year: 1988
Text
РЕЛИГИИ
МИРА
1988
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ ИМ. H. H. МИКЛУХО-МАКЛАЯ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ"
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
«НАУКА»
РЕЛИГИИ МИРА
История
и современность
Редкол л ег и я
Г. М. Бонгард-Левин (председатель),
А. А. Кислова, А. В. Малашенко, В. Г. Овчинников,
Л. Р. Полонская, Р. Б. Рыбаков, Я. Н. Щапов
Секретарь
О. В. Ролик
РЕЛИГИИ
МИРА
История
и современность
ЕЖЕГОДНИК
1988
Москва
Главная редакция восточной литературы
1990
Triff np о. г
ciüin ии.оло
P36
Ответственный редактор
Л. В. МАЛАШЕНКО
Утверждено к печати
Институтом востоковедения АН СССР
Религии мира. История и современность. Ежегод-
Р36 ник 1988.— М.: Наука. Главная редакция восточной
литературы, 1990.- 271 с.
ISBN 5-02-016517-4
ISSN 0235-8166
Очередпой выпуск ежегодника включает материалы
теоретического плана, а также статьи, освещающие
современную религиозную ситуацию в отдельных странах и проблемы
истории религии.
ББК 86.3я5
ISBN 5-02-016517-4 © Институт этнографии АН СССР, 1990
ISSN 0235-8166^ ^ Л§ Идсуитут востоковедения АН СССР, 1990
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
В. И. Корнев
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ПОЗНАНИИ БУДДИЗМА
В настоящее время все больше ученых, в том числе
представителей естественнонаучных дисциплин, обращаются к
исследованию буддизма (как и других восточных учений) ради лучшего
понимания природы Человека и специфики планетарно-экологи-
ческого мышления *.
В связи с этим хотелось бы ответить на вопрос:
действительно ли буддизм содержит некий эвристический потенциал,
который может быть использован современной наукой? 2.
В любом варианте буддизма бытие делится на множество
уровней, на которых временно пребывают всевозможные существа,
от обитателей ада до небожителей, от материальных до
бестелесных, от земных до космических. В аду предаются страстям и
похоти, на уровне демонов — преисполнены жаждой разрушения;
в мире богов — испытывают негу и удовольствия, на уровне
брахм — полны желанием познания; и только на самых верхних
уровнях существования будд происходит постижение высшей
мудрости и царит гармония. Эта космологическая картина бытия
изображается в буддийских трактатах в виде пирамиды,
классический вариант которой включает 31 уровень существования и
который впервые был описан в работах Васубандху и Буддхаг-
хоши (первая половина первого тысячелетия по христианскому
летосчислению). Уровни пирамиды группируются по трем сферам
бытия: нижняя (кама-лока), включающая 10—11 уровней,—
сфера чувственных восприятий, или наш реальный мир; средняя
(рупалока), состоящая из 16—17 уровней,—формы, не имеющие
наименований, или иллюзорный мир; высшая (арупа-лока), в ко-
В. И. Корнев, 1990
торой четыре уровня,— невидимая область, или мир чистого
сознания, в дальнейшем отождествляемый с космическим толом
Будды (ади-будда).
Все сферы бытия находятся в постоянном движении,
причиной которого являются время — разрушающий и созидающий
фактор — и карма, обусловливающая возрождение существ на
том или ином уровне космологической пирамиды. Карма
проявляется в форме воздания за физическую и умственную
деятельность. Позитивная деятельность формирует хорошую карму,
негативная — плохую. На самом нижнем адском уровне
пирамиды существа пребывают в крайне возбужденном состоянии и
жизнь их очень коротка. По мере повышения уровня
увеличивается продолжительность жизни и понижается степень
возбудимости. На втором уровне существа руководствуются инстинктами,
на третьем — голодом, на четвертом — гневом, пятый уровень —
место обитания людей, на шестом — одиннадцатом уровнях
находятся боги и божества, на двенадцатом — двадцать седьмом —
полупрозрачные божества — брахмы, на двадцать восьмом —
тридцать первом — будды. Будды являются олицетворением
спокойствия и мудрости.
Только зная построение вышеописанной пирамиды и механизм
ее действия, можно понять, чему учит Будда, в чем сущность
буддизма. Учение Будды обращено в первую очередь к людям,
так как существа более низких уровней обуреваемы страстями
и желаниями и потому не способны думать, а небожители ведут
настолько приятную и долгую жизнь, что смысл жизни их не
волнует. Будда утверждает, что люди, не знающие законов
бытия, постоянно испытывают неудовлетворенность и страдание из-
за безжалостного бега времени, которое пожирает жизнь человека
и все им приобретенное. Не понимая этого, человек мечтает о
возрождении, вновь рождается и снова умирает, и этот
круговорот в колесе жизни (сансаре) продолжается до тех пор, пока
человек не задумается о смысле жизни, и лишь тогда он обратится
к учению Будды.
В таком случае прежде всего необходимо уяснить, что
спасение в Будде, его учении (Дхарме), в монашеской общине ( Санг-
хе). Затем вступивший на путь спасения пытается осознать
истины, изложенные Буддой, а именно, что в бытии все непрочно и
непостоянно, а привязанность к бытию вовлекает в бесконечную
цепь перерождений и т. д. В конечном счете наступает
прозрение и человек становится буддой, т. е. просветленным. Разница
между невежественным и просветленным в их характеристиках.
Невежественный человек гонится за ложными (материальными
и социальными) ценностями, он суетлив, несдержан;
просветленный — это чрезвычайно мудрый и невозмутимый человек, ему
присущ строго соблюдаемый стереотип выражения лица и
поведения. На пути к просветлению необходимо культивировать
дружелюбие ко всем живым существам.
Для понимания роли буддизма в современных восточных об-
ществах достаточно рассмотреть его религиозную, философскую
и социальную функции.
Религиозная функция буддизма. Существуют два направления
в буддизме, значительно отличающиеся друг от друга культовой
практикой: махаяна, или северный, и тхеравада, или южный,
буддизм. Тхеравада распространена в Индии, Бангладеш,
Шри-Ланке, Бирме, Таиланде, Лаосе, Камбодже, Малайзии; в остальных
странах Центральной и Восточной Азии доминирует махаяна.
В учении тхеравады просветление является завершающим этапом
кармического процесса перерождений по аналогии с жизнью
принца Гаутамы. А так как принц Гаутама перерождался 550 раз,
прежде чем стал Буддой, то считается, что рядовой человек едва
ли способен достичь просветления, поэтому религиозная практика
тхеравады ориентирует верующего на накопление религиозных
заслуг для улучшения его кармы. Последнее обусловило роль
монастыря как центра общественной жизни в странах Южной и
Юго-Восточной Азии. В культовой практике тхеравады
задействованы лишь пять уровней космологической пирамиды: два
верхних и два нижних, примыкающих к уровню существования
людей. Верующие активно общаются с духами, демонами,
охранными божествами и богами-покровителями, передавая им свои
религиозные заслуги и взамен прося защиты и покровительства
или же пытаясь нейтрализовать их вредоносное вмешательство.
Существует обширная группа функционеров: бесноватые,
кладбищенские специалисты по приготовлению заговорного зелья,
заклинатели демонов и духов, врачеватели, предсказатели,
специалисты по общению с богами и многие другие, играющие
значительную роль в буддистской религиозной традиции.
В этой традиции особая роль отведена монашеской общине и
местам ее пребывания: городским, сельским, лесным, горным,
пещерным монастырям, отшельничествам \ святым местам и т. д.
Сангха именуется верующими «благим полем», где, накапливая
религиозные заслуги, человек начинает непрерывно улучшать
свою карму. И не только человек, но и любое существо, в том
числе сверхъестественное. Чем больше поле, тем легче улучшать
карму и надеяться на более благоприятное возрождение в
будущем или на удачу в этой жизни. Поэтому государство и
верующие заинтересованы в помощи и покровительстве сангхе, в
наличии монахов в каждой деревне, в строительстве монастырей.
Буддийская община и ее окружение являются сложным
общественным организмом, в котором сангха представляет собой
объединение людей, преследующих разные цели: от приближения к
просветлению до получения сугубо материальных и социальных
выгод. К сангхе примыкает значительное число функционеров,
добровольно берущихся за организацию обрядов, церемоний,
праздников и возлагающих на себя многочисленные социально-
религиозные обязанности. Эти активисты — примерно один на
20 верующих — определяют духовный климат в конкретном
объединении.
В махаяне Будда считается божественным существом, чаще
всего материализацией космической субстанции, поэтому
основная задача верующего — это проникнуть в состояние будд, что
отождествляется с просветлением. Именно методы постижения
божественной сущности Будды путем осмысления его учения,
созерцания, слепой веры, экстаза и другими способами
послужили причиной появления многочисленных школ махаяны. Каждая
школа возникала на базе какого-либо трактата, в котором
описывался конкретный метод, а затем дробилась на секты, по
разному интерпретировавших реализацию методики постижения
сущности учения Будды на практике. В настоящее время наиболее
массовыми течениями в махаяне являются учения амидаизма,
дзэн-буддизма, тантризма, ламаизма, лотосовой сутры.
Учение амидаизма, на базе которого сложились секты так
называемой «чистой земли», например цзинту в Китае, дзёдо и
дзи в Японии, утверждает наличие постоянной связи между
человеком и божественной космической субстанцией,
персонифицированной в будде Амида, или Амитабха. По этой причине у
человека, услышавшего имя этого будды, появляется желание
возродиться в его раю, который называется Сукхавати, или «чистая
земля». Для реализации этого желания верующий должен
соблюдать пять правил поведения: непрерывно повторять слово
«Амида», совершать поклоны в сторону Запада (Сукхавати
известна также как «западный рай»), мечтать возродиться в
Сукхавати, размышлять только о Сукхавати, Амитабхе и великих
бодхисатвах, желать счастья и благополучия всем без
исключения. В Корее, Китае, Японии, Вьетнаме очень популярен дзэн
(чань, дхьяна), в котором главным препятствием на пути к
просветлению (сатори) считается эгоцентризм и склонность к
оценкам. О чем бы человек ни думал, ни говорил, ни писал, ни
горевал, ни радовался, он непременно в силу ограниченности своего
мировоззрения деформирует, согласно дзэну, истинную картину
бытия, выхватывая из него отдельные вещи и факты, раздувая
их в своем воображении и тем самым, искажая их истинные
размеры и значение. Обусловленному сознанию дзэн
противопоставляет прозрение, благодаря которому человек осознает единство
субъекта и объекта, своего «Я» и бытия и как бы растворяется
в окружающем мире. Для достижения сатори в дзэне
культивируется практика внезапного шока, порождаемого изумлением,
парадоксами, физическим воздействием, биоэнергетическим
ударом.
Тантризм (тантра — трансцендентальный поток жизненной
силы, связующий земные существа с космическим телом
Будды) — наиболее сложная эзотерическая форма буддизма,
известная в Тибете как ваджраяна, в Японии — сингон. Каждый
духовный наставник (гуру), изучая тантрические тексты, по-своему
переживает и осмысляет их содержание в процессе медитации.
Результаты своего опыта и его интерпретацию он передает
ученикам. В процессе обучения учитель внушает ученикам, что он
8
сть Будда» а они Должны слепо и беспрекословно следовать
любым его указаниям; что истинный смысл учения постигнут
только им, а все, чему учат за пределами его группы, далеко от
истины. Цель тантрисга — «подключиться» к космическому
сознанию для достижения просветления. Такое подключение, согласно
тантризму, происходит лишь при полном взаимодействии трех
сфер верующего: тела (мудра), речи (мантра) и мысли (са-
мадхи). и
Ламаизм (от слова «Лама» — «живой бог»), в прошлом
религия кочевых народов, существовал как церковная организация,
основой которой считались перерожденцы с незагрязненной
космической кармой: панчен-лама, далай-лама, богдо-геген, ринпочэ,
хутукту. В настоящее время от ламаизма сохранились
рудиментарные остатки: два монастыря в СССР, один — в МНР,
несколько монастырей в Тибете (КНР), резиденция далай-ламы XIV в
Дарамшале (Северная Индия). В религиозной практике
ламаизма используются идея накопления религиозных заслуг и учение
тантризма для посвященных и приближенных к «живым богам».
Учение Лотосовой сутры распространено в странах Восточной
Азии и Вьетнаме. В этом учении утверждается существование
«вечного Будды», который растворен в бытии и присутствует во
всех его проявлениях. Человек каждое мгновение как бы
пребывает в трех тысячах миров. Истинное свое состояние верующий
может определить через созерцание и медитацию. Более того,
как считает один из комментаторов «Лотосовой сутры» — Нити-
рэн (1222—1282), состояние человека отражается на его лице в
виде ярости, жадности, глупости, порочности, экстаза,
спокойствия.
В отличие от тхеравады, в которой достижение просветления
ставится в зависимости от кармы, махаяна признает возможность
просветления в ходе религиозной практики и в любой период
жизни, поэтому в махаяне чрезвычайно важна роль духовного
наставника (бодхисатвы, гуру), вокруг которого группируются
верующие, образуя автономную общину. Многие общины
превращаются в секты, в которых складывается свой тип отношений,
особая система ценностей и ориентации. Будучи втянутыми в
политическую жизнь, такие секты нередко формируют свои
партии или фракции, даже воинские подразделения, демонстрируют
непримиримость к другим идеологиям и мировоззренческим
системам.
Философская функция буддизма. Бытие, каким оно предстает
в учении буддизма, метафорически напоминает спокойный океан,
на поверхности которого время от времени образуются воронки,
иногда доходящие до самого дна. Океан символизирует
космическое тело Будды, воронка — колесо жизни (сансару), состоящее
из уровней, сужающихся к дну воронки. Океан обладает двумя
качествами: мудростью и состраданием ко всем существам: богам,
людям, животным, насекомым, рыбам, которые, попадая в
воронку, не знают, как из нее выбраться. Временами он материализует
будд, спускающихся в воронки и указывающих существам путь
к спасению, к замедлению их вращения и возбужденпости, к
подъему и растворению з океане. Следовательно, ни к какому уходу
из жизни буддизм не призывает, а утверждает возможность
достижения такого уровня существования, где время уже невластно.
Эта идея была сформулирована во II в. н. э. индийским мудрецом
Нагарджуной, считавшим, что оба уровня сознания (бытовой,
или сансарический, и нирванический) существуют в бытии
одновременно, только все представления и ценности сансарического
бытия пусты для нирванического сознания, и наоборот (так
называемая теория «пустоты» — шуньята). Если достижение иного
уровня мышления является объектом высокой философии, то
обыденная буддийская философия проявляется чаще всего в оценках
умственных способностей человека и его отношения к жизни.
Согласно буддизму, чем примитивнее сознание, тем более
возбудимым и агрессивным становится поведение. Идеалом
объявляется состояние будд и бодхисатв, которым свойственно отсутствие
желаний и привязанностей, невозмутимость, созерцательность,
пассивность; набор таких качеств характеризуется как мудрость.
Социальная функция буддизма. Она во многом обусловлена
его философией, т. е. понимание специфики буддийского
мировоззрения является в ряде случаев ключом к расшифровке
некоторых «экзотических» моделей поведения народов Азии. В
частности, уровень социально-политического развития общества
увязывается с морально-нравственным поведением людей, отсюда
утверждение, что только высоконравственные люди имеют право
на власть; осуждение негативных последствий капитализма и
«общества потребления»; отрицание необходимости
революционных изменений. В беседе с буддистами нетрудно заметить, что
они считают социальное происхождение человека, уровень его
материального благополучия, здоровья, везучести, нравственного
облика и любые социальные характеристики человека, семьи,
рода, нации, государства результатом кармы и только ее. Если
высокопоставленный индивидуум ведет аморальный образ жизни,
то его высокое положение объясняется хорошей кармой, которую
он сам ухудшает и понесет за это неизбежное наказание
(заболеет, разорится, лишится работы и т. д.).
Возможно, кармическая идеология является причиной ритуа-
лизации ролей в восгочном обществе. Имеется в виду тщательно
разработанная система традиционных приветствий, манера
исполнения которых сразу показывает, кто есть кто; наличие
традиционных масок и поз, которые воспроизводит «актер». Все это
вместе составляет не просто соблюдение правил игры, а
определенный стереотип поведения, подсознательно выражающийся в
чувстве неполноценности по отношению к вышестоящему как в
социальном, так и религиозном плане, ибо тот имеет лучшую
карму и, следовательно, больше прав на высокое место в обществе.
Существует особая система отношений между верующими, где
наибольшим благом признается деятельность, направленная на
10
усвоение «священных» знаний, обычаев и правил, которые
служат укреплению традиционного образа жизни. В такой
религиозной традиции происходит переориентация ценностей: матерпаль-
|1Ые _ занижаются, духовные — завышаются. Короче говоря,
рассмотрение социальной функции буддизма вовлекает нас не
только в горизонтальные пласты общественной жизни азиатских
народов, но и в вертикальные, например многие аспекты патро-
нажно-клиентальных отношений имеют религиозную окраску.
В частности, западногерманский ученый Карл Граф Хоэнталь
считает, что в Южной Корее и Японии в основе экономических
отношений лежит буддийская этика, позволяющая этим странам
успешно существовать в условиях жесткой конкуренции
мирового капиталистического рынка. К. Г. Хоэнталь пишет, что
«буддийская идея отсутствия „Я"... является основой
„недвойственности" (адвайта). Человек проецирует иллюзии на эмоциональные
ощущения. Среда становится частью сознания, и человек
отождествляет себя с ней. Работник делается частью предприятия,
а предприятие — частью работника. Этот принцип настолько
глубоко укоренился в азиатской культуре, что люди бессознательно
следуют ему, хотя о самой философии они чаще всего ничего
не знают» 4.
Следует отметить, что вышеупомянутая этика присуща не
всему буддизму, а только его дальневосточному варианту, и
немалую роль в ее формировании, на наш взгляд, сыграла
исключительная популярность Лотосовой сутры (Саддхарма-пундарика
сутра) в дальневосточной культуре. В сутре картина бытия
изображается в виде десяти уровней: 1) ад, 2) духи, 3) животные,
4) демоны, 5) люди, 6) боги и брахмы, 7) шраваки, 8) архаты,
9) бодхисатвы, 10) будды.
Пять нижних уровней соответствуют скандхам \ в шестом
уровне спрессованы 21 уровень небес и рупа-локи, четыре
последних уровня относятся к арупа-локе. Почему картина бытия
приобрела такой вид? Человек, самость которого является
конструкцией скандх, знакомится с Лотосовой сутрой, смотрит на
символ лотоса и входит в состояние экстаза (пребывает на
небесах и в мире брахм), затем последовательно достигает четырех
уровней арупа-локи. Здесь и разгадка небывалой популярности
Лотосовой сутры в странах дальневосточной (китайской)
культуры. Главное, что пленило китайцев,— это созерцание и
вхождение в состояние экстаза как способ достижения просветления,
который впоследствии становится основным путем японских школ
буддизма. В свою очередь, такой способ акцентировал внимание
на состояниях человеческой психики, поэтому в современной
интерпретации картина бытия, например, в Японии, изображается
в виде десяти уровней, соответствующих состоянию человека:
1) ад, 2) голод, 3) животное состояние, 4) гнев, 5) гуманность,
спокойствие, 6) экстаз, 7) стремление к самоусовершенствованию,
о) стремление познать абсолютную истину и реализовать ее,
У) бодхисатвы, 10) будды.
11
В японском буддизме существует также концепция «Трех
тысяч миров». Ее расшифровка: 1) существует 10 миров (восемь
сторон света, верх, низ), существо каждого из миров может
пребывать в любом из них, т. е. испытывать 100 состояний;
в каждом из миров существует десять факторов жизни: 100 X
X10= 1000. Каждая тысяча состояний имеется на трех уровнях
бытия (кама, рупа, арупа), т. е. 1000X3=3000 проявлений бытия
или миров, в которых может пребывать и любое существо.
Отсюда делается вывод, что человек всякое мгновение находится то
в одном, то в другом состоянии, т. е. ежеминутно пребывает в
одном из трех тысяч миров, чем объясняется неустойчивость его
настроения и непоследовательность поступков. Из этого можно
понять, скажем, идеологическую и этическую роль буддизма в
современном японском обществе, закрепляющую стереотипы
стиля жизни, масок и поведения японцев, 85% которых считают
себя буддистами.
Перспективы прикладного изучения буддизма.
а) Для разработки компьютерного языка. Буддийское
мироздание представляет собой закрытую логическую систему,
построенную лишь на знании канонических текстов или текстов,
полученных от учителя (гуру). За более чем 2 тыс. лет своего
существования эта система не только приобрела чрезвычайно
сложную и тонкую структуру, но и накопила значительную
информацию о состоянии человеческой психики путем ее
соотнесения с уровнями космологической пирамиды. На наш взгляд,
можно формализовать буддийскую картину мира для ее ввода в ЭВМ,
исходя из следующих характеристик буддийской философии.
Имеется конечная истина (всезнание, просветление), путь к этой
истине, структура мироздания, описанная в канонических
трактатах. Информационное содержание всей системы определяется
только высказываниями Будды и комментариями к ним. Это
позволяет создавать множество формализированных моделей
буддизма: философских, политических, социальных, психологических
и др. С помощью таких моделей возможно расшифровать идеи
других восточных учений и религий, например индуизма,
даосизма.
б) Для разработки методологии системного анализа, или
подхода, и развития ассоциированного мышления. Поскольку
учения буддизма представляют собой закрытые логические системы,
то основным методом их познания является медитация (самадхи
и випассана). С помощью медитации субъект просматривает
состояние любых существ, результаты и следствия их действий,
явлений, психических и моральных факторов, описанных в
канонических текстах, которые являются, по существу,
компендиумом поступков людей и их мотиваций. Согласно буддизму,
видение может быть истинным или ложным. Если то, что видит ме-
дитатор, соответствует содержанию текстов, тогда видение
истинное; если не соответствует — ложное, порожденное
невежеством, заблуждениями медитатора. Поэтому авторы абхидхарми-
12
qecKHX трактатов, создающихся в процессе медитации, строго
логически увязывают увиденные картины с высказываниями
Будды. Основная цель медитации — освоить увиденное или
воображаемое настолько, чтобы стать хилером (целителем), т. е.
человеком, способным безошибочно установить диагноз любой
болезни, ее причины; способы лечения, его результаты. В этом
суть просветления, достигаемого с помощью медитации. Можно
сказать, что медитация служит достижению: 1) практической
цели (целитель); 2) полного знания (праджня, понимание
триаду _ аничча-дуккха-анатман — и составных последнего
термина — скадх, аятан и др.) ; 3) конечной цели — просветления (бод-
хи) и нирваны, т. е. растворению своего «Я» в окружающем
мире.
в) Для создания концепции Человека буддизм, в частности
тантризм, рассматривает личность как точку пересечения
множества нитей, исходящих из космоса, физических масс, существ,
полей и т. д. Через эти нити (каналы) человек способен получать
дополнительную внешнюю энергию и информацию и таким
образом органически вписываться в окружающий мир и природу.
На наш взгляд, в этом заключено множество эвристических
подходов и решений, особенно при изучении психофизических
явлений.
Уже на нынешнем уровне знания буддизма представляется
возможным выстроить целый ряд социальных, исторических,
политических, психологических, космологических и других моделей.
А именно:
а) Мировоззренческие картины бытия, включающие 31 и
10 уровней существования, модели которых упоминаются в
предыдущих разделах.
б) Модель буддийской космогонии.
в) Модель природы будд, включая эманации Ади-Будды,
историю принца Гаутамы и его предшественников, истории
великих правителей, бодхисатв, великих учеников, основателей
различных школ и т. д.
г) Пространственная модель вселенной, или буддийской
космографии.
д) Модель кама-локи, включающая описания существ, пребы-
пающпх на каждом из ее уровней.
е) Модель ада.
ж) Модель иерархий духов.
з) Модель демонов.
и) Модель божеств.
к)^ Модель усеченной кама-локи, включающей пять уровней:
людей, охранных богов, богов-покровителей, демонов, духов (име-
«т отношение к так называемой народной религии).
л) Модели типов людей и обществ, которые строятся по
аналогии с космологическими моделями буддизма.
Последний разряд можно разделить на модели стадиальные,
политические, социальные и психологические.
13
Первичная стадиальная модель была изложена в диалоге
между монахом Нагасеной и греческим царем Милиндой
(Менандром), в котором Нагасена утверждал, что учение Будды
будет процветать первые 500 лет, затем столько же времени никто
не сможет достичь нирваны, еще через пять веков перестанут
соблюдаться заповеди, в следующие 500 лет люди забудут
содержание священных текстов. В V в. н. э. Буддхагхоша увеличил
действие Закона до 5 тыс. лет, создав теорию о пяти стадиях
деградации Дхармы через каждую тысячу лет: 1) в течение первой
тысячи лет невозможно будет определить уровень просветления,
2) затем перестанут соблюдать заповеди, 3) позабудут священные
тексты, 4) исчезнут внешние признаки Дхармы, 5) уничтожат все
священные реликвии Учителя. Подобные теории оказывали и
оказывают определенное влияние на умы последователей
буддизма, особенно это было заметно в первой половине второго
тысячелетия н. э., когда во многих странах Юго-Восточной,
Восточной и Центральной Азии предпринимались энергичные меры для
сохранения учения Будды путем сбора всех канонических
текстов и построения культовых сооружений, чаще всего храмовых.
Ню грандиозное храмовое строительство, которое велось в XI—
XIV вв., настолько подорвало экономические ресурсы многих
стран, например Японии, Бирмы, Таиланда, Кампучии, Шри-
Ланки, Китая, что привело к многовековому упадку буддизма,
продолжавшемуся до 60-х годов XX в.
Политические модели буддизма наиболее полно отражены в
концепциях царской власти («чакравартин», «дхармараджа»,
«бодхисатва», «Майтрея» и др.). В настоящее время такие
концепции уже не имеют политического звучания в странах с
парламентарной системой управления и используются только для
оценки морально-нравственного облика государственных и
общественных деятелей.
Социальные модели буддизма достаточно разнообразны и
имеют много вариантов: это модели буддийского образа жизни,
отношений между членами сангхи, монахами и мирянами, между
начальником и подчиненным; иерархические модели типов
индивидуумов, социальных групп, профессий; модели буддийского
государства, правительства, экономического развития, системы
образования и другие; морально-этические модели поведения;
модели отношений государства с крестьянством; модели, связанные
с финансами, проблемами сельского хозяйства, промышленности
средств массовой информации, современной науки. Иными
словами, любые идеи общественного развития, рассматриваемые через
призму буддийского мировоззрения, а поскольку мировоззрение
это построено по системному принципу, то социальные концепции
приобретают характеристики моделей.
Экологична ли система буддийского мироздания,
задействована ли в ней идея необходимости гармонии человека и природы?
На наш взгляд,— несомненно, особенно в сочетании с даоскими
представлениями.
14
Непознанные явления в контексте буддийского мировоззрения.
В буддизме уделяется большое внимание тому, что связано с
пониманием личности и ее трансформации в процессе
просветления, причем рассматриваются многие пути изменения характера
личности: под влиянием слепой веры, праведного образа жизни,
при осмыслении законов Будды, под воздействием стрессовых
ситуаций, мистерий, обрядов, церемоний, в процессе глубокого
транса, дыхательных, физических и умственных упражнений, под
влиянием социальных ценностей и ориентации. Поэтому любые
теории и предположения относительно природы Человека,
состояний подсознания и сверхсознания, психофизических явлений и
даже таких непознанных явлений, как НЛО, на наш взгляд,
органически вписываются в учение буддизма и находят в его системе
умозаключений аргументированное философское обоснованиев.
Согласно канонической традиции, Будда обладал
сверхъестественными способностями: трехфакторным знанием (своих
предыдущих перерождений, причин появления и исчезновения всех
живых существ, пути преодоления страстей и эмоций). Он
обладал психической властью над другими существами и материей
(сиддхи), телепатическими способностями. Короче говоря, речь
идет о необычных «пси» явлениях. В культовой практике
буддизма, да и других религий, существует целый ряд психофизических
явлений, остающихся все еще загадочными для науки. Автор
неоднократно расспрашивал буддистских монахов об их отношении
к таким явлениям и убедился, что они видят и ощущают только
то, что уже описано в канонических текстах. В отношении
психофизических явлений можно предположить, что мы имеем дело
со структурной перестройкой хранящейся в мозгу человека
информации, что ведет к изменению психики и способности
получать энергию извне, хотя пока неясно, что это за энергия и
через какие каналы она поступает.
Присутствие же «пси» явлений в буддизме можно объяснить
тем, что, несмотря на метафизическую полноту буддийской
системы мироздания и ее отрыва от эксперимента и реалий
действительности, эта система постоянно обогащается феноменальным
опытом различных психологических состояний индивидуумов в
процессе постижения ими системы йоги и участия в ритуальных
действиях буддийского культа. Следует помнить и о значимости
идеологической установки учения, что нашло отражение в
символике текстов, диаграмм, композиционного построения канона и
целого ряда абхидхармических, эзотерических, а также
медицинских трактатов. Речь идет, в первую очередь, о рассмотрении
природы Человека в качестве микрокосма и его единства с
окружающей средой вплоть до космического сознания.
Декан факультета техники и прикладных наук Принстонского
университета профессор Р. Г. Джан считает, что «за последние
годы в солидных лабораториях самого разного профиля удалось
собрать обширные материалы, говорящие в пользу того, что
сознание человека может иногда получать информацию, не доступ-
ную ни для одного из известных нам физических приборов
(явление экстрасенсорного восприятия — ЭСВ), а также
воздействовать на поведение физических систем и протекание физических
процессов (явление психокинеза — ПК) » \ По его мнению, все
виды психофизических явлений можно свести к следующим
категориям: 1) экстрасенсорное восприятие: телепатия, ясновидение,
прекогниция/ретрокогниция, ЭСВ у животных; 2) психокинез:
а) в физических системах, б) в биологических системах;
3) постсуществование, реинкарнация, феномен призраков,
медиумические явления; 4) внетелесные ощущения8. Рекомендуется
серьезно подойти к оценке целесообразности дальнейших
исследований в области «физики сознания» и подтверждается, что
последние эксперименты в этой области «дают основание
предположить, что существует некая „взаимосвязанность" мозга одного
человека с мозгом других людей и с материей..., что человеческий
разум, возможно, в состоянии получать информацию независимо
от географии и времени» 9. Однако в науке о природе человека
существуют две взаимоисключающие точки зрения: одни
ученые — сторонники эндогенной теории — придерживаются
эволюционных взглядов на развитие природы человека; другие —
сторонники экзогенной гипотезы — полагают наличие внешних сил,
в том числе космических, обусловливающих поступательное
развитие сознания человека 10.
Составляя прогноз возможных изменений в последнюю
четверть XX в., директор Центра по изучению социальной политики
при Станфордском университете, профессор по
инженерно-экономическим системам В. В. Хариан пишет: «Наблюдаемые
культурные изменения, например исследования, обзоры и данные
опросов: такие культурные индикаторы, как организационные
объединения, чтение книг; такая деятельность „по раскрытию
сознания'1, как йога, медитация, бионасыщение, показывают изменение
ценностей и обращение к „новому натурализму", а также
растущий интерес в духовной, мистической, трансцендентальной,
сверхрациональной и эзотерической сферах» ". Восточные религии
предоставляют для научного эксперимента многочисленные
религиозные верования, мистические опыты с различными этапами
сознания, медитативную интуицию, оккультные мистерии и другие
непознанные психические феномены.
Стремление к познанию объективно присуще Человеку как
мечта о чуде, как постижение, раскрытие тайн природы. Чем
больше знает индивидуум, тем больше чудес он видит в
окружающей его жизни и ожидает еще большего в дальнейшем
(разве не поражает воображение гипотеза о том, что «если в
излучениях планет, звезд и галактик зашифрована информация об их
состоянии, то точно так же она есть в излучениях, исходящих от
живых объектов») 12. Разве мы можем полностью объяснить суть
воздействия на психику человека методами гипноза и внушения
(суггестии) ; при этом мы имеем в виду проблему возникновения
гипотез, догадок, творческих озарений при дефиците информации;
16
готовность мозга к структурной перестройке хранящейся в нем
информации и вместе с тем «способность его высших отделов
переделывать имеющиеся и образовывать новые условные связи для
компенсации структурных и функциональных нарушении» 13,
возможность перехода человека от эпохи НТР к качественно
иному <(научно-биологическому» этапу своего развития.
Из учения Будды следует, что страх перед временем
преодолевается с помощью познания, развивающегося в процессе
безостановочного движения; высшей целью познания является
овладение психофизическими способностями. На практике это
выглядит следующим образом. Изложим здесь свою гипотезу,
связанную с НЛО 14.
Имеется огромное число цивилизаций, которые значительно
опережают в своем развитии земную. Мы вправе предполагать
возможность существования контактов между ними и даже
просматривание ими ближайших вселенных и, конечно, Солнечной
системы. Не исключено, что один из каналов связи проходит
через земную атмосферу: он может являться одновременно и
носителем информации, и средством наблюдения за Землей.
Наблюдение осуществляется через НЛО, которые, возможно, представляют
собой «пси» энергию в плазменном состоянии. (Под «пси»
энергией мы имеем в виду энергию, излучаемую бноорганизмом, более
конкретно, мозгом разумного существа — В. К.). Человек может
получать информацию непосредственно от НЛО, или в случае
попадания в поток космической информации — через
переживание состояния озарения, или просветления. Озарение — это
реализация способности мозга к структурной перестройке
хранящейся в нем информации.
Мозг защищает себя от информативных перегрузок,
вызывающих стрессы. Поэтому чем выше социализация индивидуума, его
устремленность к общепринятым ценностям, тем менее он
восприимчив к космическому сознанию, и наоборот. В свою очередьг
характер озарения непосредственно связан с объемом
хранящейся в мозгу информации: при небольшом количестве информации
озарение носит интуитивный, неосознанный характер, при
значительном (целевом) — осознанный, творческий характер. Можно
допустить, что космический поток воздействует и на генную
клавиатуру.
Приведем в этой связи высказывание профессора Аллен Хай-
нека — директора Центра исследования НЛО и главного
редактора ежемесячника «Международные доклады по НЛО»:
«Совершенно очевидно, что явление (НЛО.— В. К.) всецело
принадлежит к области психического. Я не говорю подробно о психических
явлениях, потому что для широкой публики все это уже отдает
оккультизмом и не вызывает ни малейшего доверия... Но факт
заключается в том, что такая связь существует. Так, во
многих случаях мы можем уверенно говорить о „материализации"
НТТпеМаТерИалИзации" Ht^O; часто люди в результате контакта с
НЛО приобретают повышенные парапсихические способности:
| Кктс-ыгнй аедагог)«»* I 17
умение исцелять, ясновидение и предвидепие будущего;
разительно изменялись мировоззрение, философские взгляды, стиль
поведения. Все это реально существует, хотя, разумеется, не обо
всем можно заявлять открыто. Многие... ощущают во всем этом
проводимую кем-то операцию по „психологическому кондифионн-
рованию" человечества» 15.
Заметим, что многие из вышеприведенных положений уже
были изложены в учении Будды. В современных аллегориях это
учение повествует о следующем. Человек с самого своего
рождения постепенно усваивает сумму фиксированных знаний,
установок, норм поведения, ценностей, известных старшим по
возрасту и вышестоящим по положению в обществе и направленных
на воспитание покорности. При этом он постоянно сталкивается
с необходимостью соблюдать правила игры в той или иной
социальной среде. Будда осуждает потерю умственной энергии при
усвоении правил социальных игр, которая, по его мнению,
происходит из-за невежества и порождает ненависть, гордыню, ложь,
воровство, насилие, попусту растрачивает жизнь человека. Будда
называет такое бытие сансарой, которому противопоставляет
нирвану. Сущность и содержание нирваннческого бытия Будда не
объяснил, но указал путь к нему. Во-первых, человек испытывает
озарение, увидев пли услышав Будду. Во-вторых, этот человек
должен освободиться от тщеславной суеты повседневной жизни,
вступив в монашескую общину. В-третьих, он учится
сосредоточивать все силы своего организма на умственной работе,
постепенно овладевает методами медитации, самовнушения, гипноза,
телепатии, ясновидения и т. д. В-четвертых, преисполненный
истинными знаниями, энергией и решительностью, он приступает
к реализации своих целей, которые Будда не объясняет, то есть
мы не знаем характеристик цивилизации, которая
отождествляется с термином нирвапа. Но в учении Будды достаточно ясно
показано, каким путем достигается контакт человеческого разума
с космическим.
На наш взгляд, существует разница между НЛО и потоком
космического сознания. НЛО (явление периодическое) — это
разум, вынесенный на расстояние и способный внушать мысли
разумным существам. Поток космического сознания (явление
постоянное) — это некая всеобъемлющая информация,
способная восполнить любые недостающие звенья хранящейся в мозгу
человека информации. Возможно, именно с НЛО связано
возникновение философии в середине первого тысячелетия до н. э. и
появление противоположных по своим установкам буддизма и
христианства. Согласно христианству, Бог создал мир, фауну,
флору, людей и приказал последним соблюдать целый ряд
морально-нравственных правил, тем самым раскрепостив их духовно
и нравственно. Установки буддизма: мир существует вечно, бога
нет, но есть путь к вечности и счастью; тем самым Будда
закрепостил людей духовно и нравственно, переложив на их плечи
.заботу о будущем. Иначе говоря, человечеству были заданы два
18
направления развития: один путь эмпирический (христианство),
другой — рационалистический (буддизм). В истории
общественной мысли, если за точку отсчета принять возникновение
философии, можно выделить несколько этапов: 1) ответственность за
судьбы людей возлагается на богов (жреческие или античные
цивилизации), 2) люди становятся ответственными за свои
мысли и поступки (мировые религии), 3) люди берут на себя
ответственность за общество (две формы ответственности: буржуазная
и социалистическая), 4) люди осознают свою ответственность
перед окружающей средой, природой (планетарное сознание). При
таком подходе становится очевидным, что эмпирический путь
является нижней ступенью, а рационалистический — более
высокой ступенью развития. И то, что учение Будды стало религией,
лишь подтверждает неготовность человечества понять и ощутить
свое единство с природой. Но возрастающий интерес именно к
учению Будды, а не к буддийской религии показывает, что
человечество постепенно подходит к новому этапу своего развития,
который можно характеризовать как научно-биологический.
Технические достижения начнуг восприниматься не как
саморазвивающийся феномен, подчиняющий себе человека, но как
инструменты развития биологических способностей человека.
Не следует, однако, полагать, что современная наука
способна решить проблемы, связанные с НЛО и природой
психофизических явлений: идут лишь поиски новых подходов.
1 25-27 ноября 1987 г. в Москве состоялась всесоюзная конференция
«Буддизм: проблемы истории, культуры, современности», в которой приняли
участие более 150 ученых из 50 научных учреждений.
2 Автор придерживается подхода к изучению буддизма в координатах
самого буддийского мировоззрения (см.: Корнев В. II. Буддизм и его роль в
общественной жизни стран Азии. М., 1983; Корпев В. И. Буддизм и
общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии. М., 1987).
3 Фанатичные последователи Будды поселяются в уединенных местах,
которые называются отшельничествами.
4 Hohenthal С. G. Der Weg ist das Ziel.— Frankfurter Allgemeine Zeitung.
№ 96. 25.04.1987.
1 О скандхах см.: Корнев В. И. Буддизм и его роль, с. 11-15.
6 Особенно через модель рационального в учении Будды. В этой модели
идеалом высшего разума выступает сам Будда, который утверждал, что
сознание достигает высшего уровня только в процессе непрерывного познании
(см. Вопросы истории. 1981. № 6).
7 Джан Р. Г. Нестареющий парадокс психофизических явлепин:
Инженерный подход.- ТИИЭР. Т. 70. 1982, № 3, с. 63.
8 Гам же. с. 67.
9 Report to the House of Representatives, Committee on Science and
Technology. June 1981.
Кибернетика живого. Человек в разных аспектах. М., 1985, с. 54-55.
,о__ ' Tl1^ Next 25 Years: Crisis and Opportunity. World Future Society. Wash.,
1У75, c. i(j#
^^оновалов Б. «Экстрасенс - глазами физики».-Известия. 02.06.1986.
. Кибернетика живого, с. 47.
Автор был очевидцем появления НЛО в августе 1969 г. под Москвой
г\Иш*ов°) п наблюдал его в течение 45 мин.
Гаков Вл. «Темна вода во облацех...». М., 1987, с. 62, 63, 126.
19
РЕЛИГИЯ
СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
А. А. Ткачева
О ДУХОВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СВОЕОБРАЗИИ
НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ ВОСТОКА
Религия отчасти сродни искусству. В обоих эмоции, фантазия,
драмы и коллизии человеческого бытия и духа находят
непосредственное и наиболее концентрированное по сравнению с другими
формами общественного сознания выражение. Доказательств
этому сходству можно привести немало, причем из самых
различных сфер.
Целью данной статьи является рассмотрение тех вариантов
эмоционального и духовного пафоса, которые заложены в новых
религиозных движениях Азии и определяют психологический
облик конкретного движения. Автор собирается показать, что они
отличаются друг от друга не меньше, чем один и тот же сюжет
в интерпретации романтика, символиста и экзистенциалиста.
Разница эта становится очевидной даже при взгляде на
культовое искусство народов приблизительно одного этапа их
исторического развития. Вряд ли можно свести здесь все только к
эстетическому канону, свойственному той или иной культуре.
Различен и религиозный дух, воплощенный в чувственно
воспринимаемом явлении.
Как ни странно, своеобразие духовно-эмоциональной стороны
различных вероисповеданий сравнительно редко привлекает к
себе внимание религиоведов-марксистов. Довольно
распространенной, напротив, является тенденция их психологического
обезличивания: большая часть «проповедует покорность судьбе я
власть имущим», служит «опиумом», «отвлекает», «уводит» и т. п.
Могут, впрочем, отмечаться фанатизм, аскетизм и т. п., с рав-
А. А. Ткачева, 1990
20
л им успехом обнаруживаемые в секте любой религии. Чаще всего
эти характеристики в той или иной степени справедливы, но дело
и том, что в итоге, скажем, православный оказывается в чем-то
похож на буддиста, мусульманина, кришнаита, не говоря уже о
его собратьях-христианах.
Между тем классики марксизма указывают на своеобразие
психологического настроя верующего, характеризуют
эмоционально-психологические аспекты религии. Так, анализируя
возникновение христианства, Ф. Энгельс уделяет
эмоционально-психологическому фактору, «общераспространенному чувству» * одну из
главных ролей. Или взять, например, его же поэтичный анализ
«религиозного характера, присущего той или иной местности» в
статье «Ландшафты»2. Вспомним, наконец, работу Маркса и
Энгельса «Святое семейство», в которой анализ религиозной
психологии и морали дается (причем на материале художественного
произведения!) наглядно и конкретно как
специфически-католических и раскрывается их, опять же, противоречие, по-существу,
определенному типу человеческой натуры \
Впрочем, можно задаться вопросом: являются ли такого рода
изыскания вообще задачей собственно религиоведческой науки?
Возможно, их следует «числить» по ведомству
научно-популярного жанра, тяготеющего к образности и большей живости, чем
академические исследования, или, более того, считать
прерогативой литературы художественной (кстати, последняя
действительно обнаруживает к этой теме несомненный интерес — достаточно
вспомнить «Покушение на миражи» В. Тендрякова, «Плаху»
Ч. Айтматова, произведения В. Сидорова)? Думается, однако, что
такой подход был бы вряд ли оправдан. Ведь не отмежевывается
от решения подобных задач литературоведение и
искусствоведение, анализирующие и своеобразие духовного мира писателей и
художников, основавших то или иное направление наряду со
средствами, с помощью которых этот мир запечатлевается в их
работах.
Естественно предположить, что в изучении религий такого
рода «лакуны» образовались в результате
искаженно-догматических представлений о предмете и целях научного атеизма. Его
критическая функция, как представляется, в известной мере
заслонила функцию познавательную, мировоззренческую, а
именно — выявления во всей конкретности того самого человеческого
самосознания, которое и отчуждается в религии. Ложно
интерпретируемая непримиримость атеизма на деле ведет к тому, что,
отстаивая всякий раз воинственным образом свою позицию, мы
оказмпаемся порой неспособными понять (что вовсе не значит
принять!) чужую.
„ Между тем вопрос о духовно-эмоциональном содержании при-
ооретает особую важность при рассмотрении новых или
сравнительно недавно возникших религиозных движений. Очевидно, что
в этом разрезе существует значительная разница между рели-
иозным движением на заре его существования и развитой,
21
«старой», религией. На нее, в частности, очень точно указывает
американский социолог Т. О' Ди, анализируя функции ритуально-
культовой сферы: «Институционализация ритуала, превращение
его слов, жестов и действий в некий шаблон означает своего рода
объективизацию и обязательное разделение изначально
субъективных и непосредственных настроений верующих... Результатом
же объективизации и обязательного разделения является
установленный ритуал, который теперь создает эти настроения вместо
того, чтобы их непосредственно выражать» 4.
Во многом это заключение справедливо и по отношению к
идейно-мировоззренческому содержанию религии. Идеалы и
представления «старых», традиционных религиозных сообществ
усваиваются преимущественно в процессе социализации. В некоторых
случаях они глубоко проникают в сознание, но иногда, став
рутинно-привычными, могут лишь скользить по его поверхности.
Начальная же стадия в развертывании религиозного движения
есть практически всегда период острейшего самовыражения его
участников. Многое ли мы можем, например, сказать с
уверенностью о духовном мире современного американца, про которого
известно, что он считает себя баптистом? А вот если этот
американец оказывается членом движения раджнишистов, наши
предположения о его личности будут гораздо более разнообразными
и обоснованными.
Очень часто при анализе причин модернизации той или иной
религии (особенно если она осуществляется «сверху» — по
инициативе авторитетного религиозного органа или философов-
теологов) преимущественное внимание отводится доказательству
устаревания сугубо доктринальных положений — их
несоответствия данным науки, политическим переменам в обществе,
широкомасштабным международным религиозным изменениям и пр.
Между тем существенную роль играет и духовно-эмоциональная
неадекватность «старых религий», навязываемые ими стереотипы
мироощущения, их несоответствие стихийно складывающейся
сфере чувств, эмоций, ассоциаций, представлений. Особенно
значимым оказывается этот момент в обществе, когда в нем так или
иначе происходит процесс секуляризации и «чувства масс» более
не оказываются вскормленными «исключительно религиозной
пищей» 5.
Однако в отличие от догм эмоционально-духовное содержание
религиозного комплекса устаревает, несомненно, далеко не
однолинейно. Нельзя упускать из виду, что возникающие в силу вит-
кообразности исторического развития параллели между
различными его этапами находят свое отражение и в религиозном
сознании, вызывая феномены ревайвализма, обращения к давпог
казалось бы, сошедшей со сцены мифологии и др. Мирочувство-
вание и эмоциональный настрой, заложенные в архаических
формах религиозного опыта, могут оказаться для каких-то
общественных групп гораздо более «современными», нежели позднейшие
варианты религиозности. Свидетельство тому, скажем, расцвет
магни и шаманизма в западноевропейском и американском
обществах, воскрешение культа древнегерманских божеств — в
гитлеровской Германии, древнескандинавских божеств — в некоторых
сектах современной Швеции.
Для анализа субъективного содержания религиозных
движений' важны по крайней мере еще два момента: во-первых,
социальная обусловленность «психологического портрета» данного
движения; во-вторых, отражение в нем национальной психологии.
К сожалению, ни тот, ни другой не являются теоретически
разработанными в советской религиоведческой науке. Между тем
буржуазное религиоведение, например в лице его, пожалуй,
одного из наиболее ярких представителей — М. Вебера, проявило
к этой теме заметный интерес. В своем труде «Социология
религии» Вебер дает подробный анализ соотнесенности различных ти-
пон религиозного сознания с общественным положением
различных групп населения — от элиты до деклассированных элементов,
огоиарпваясь, что, разумеется, выведенные им модели «работают»
гланпым образом как тенденции, а не правила без исключений.
Что же касается вопроса о выражении национального
характера в религии (или наоборот), то он до недавнего времени
разрабатывался в советской науке преимущественно в негативном
ключе, если вообще не обходился молчанием 6.
Вместе с тем нельзя не отметить, что в одних случаях
социально-классовая обусловленность субъективного содержания рели-
тнозных движений вырисовывается довольно четко, а в иных —
стремление к обязательной дефиниции такого рода может скорее
увести от подлинного понимания их мировоззренческой и
эмоциональной наполненности, не дать за
абстрактно-социологическими схемами увидеть формирующих их реальных людей.
Попробуем рассмотреть с этой точки зрения некоторые
религиозные движения современности, каждое из которых имеет
ярко выраженную, существенно отличающуюся от остальных
духовно-эмоциональную окраску7.
«Новые религии» Японии нередко называют «религиями
кризиса». Распространившись после II мировой войны в результате
массовых миграций в города в период ускоренной экономической
реконструкции, они, по мнению многих исследователей, вобрали
в себя тех, кто испытывал в больших городах чувства
потерянности, одиночества, Бсех разочаровавшихся з «старых
религиях» — «маленьких людей», мелких буржуа, переживших трагедию
национального унижения и мучительно ищущих новые
жизненные ориентиры и надежду. Однако из этих драматических
коллизий родились религиозные движения, проникнутые в
большинстве своем прямо-таки солнечным оптимизмом, а некоторые —
л гедонизмом.
Характеризуя эмоциональный настрой европейской
«бюргерской Реформации», Э. Ю. Соловьев определяет его как
«провоцирующий пессимизм» 8, «безотрадную невозможность поступить
иначе»9 у сословия, которому предстояла — через борьбу, мучи-
23
тельную ломку существующих общественных отношений и
норм — победоносная дорога к экономическому и политическому
могуществу. Японский мелкий буржуа, перекраивающий
религию, был политически обречен: развитые монополистические
структуры преграждали ему путь к власти и в той степени,
которая оказалась доступной ею «социальным коллегам» в странах
Востока, побывавших в колониальной или полуколониальной
зависимости 10. В историческом плане ему некуда было
«двигаться», можно было только «тянуться» и приспосабливаться. И
отсюда, сколь ни парадоксальным это может показаться, прямо
противоположный европейской Реформации дух реформации
японской п.
Мигранты приносили с собой в города народную религию с
ее опорой на чудеса, мифы, магию, шаманизм, наивным
прагматизмом и «посюсторонней ориентацией». В городах же они
попадали под массированное воздействие новых светских идеологий,
центральными пунктами которых в послевоенной Японии были,
однако, приблизительно одни и те же вопросы: экономическое
развитие, национальное возрождение, повышение жизненного
уровня, свобода и равенство возможностей. В силу низкого
уровня развития категориально-политического мышления масс эти
вопросы неизбежно превращались в малоосмысленные, зато
наполненные оптимистическим и прагматическим пафосом
стереотипы. Средства массовой информации, весь строй
урбанистического образа жизни внушали веру в «современную мифологию с ее
богинями справедливости, свободы, равенства и братства» 12Г
а также веру в культ обогащения и успеха — божество
капитализма.
Из сплава народной религии и «современной мифологии» и
родился феномен, духовную направленность которого, на наш
взгляд, можно было бы обозначить как «мещанская реформация».
История развития общественной мысли неоднократно
демонстрировала: чем больше перспектив у данной социальной группы,
тем более она склонна считаться с реальностью, хотя бы счеты
эти и принимали религиозный облик, как в европейской
Реформации, и наоборот. «Слабость,— писал Маркс,— всегда спасалась
верой в чудеса; она считала врага побежденным, если ей
удавалось одолеть его в своем воображении посредством заклинаний,
и утрачивала всякое чувство реальности из-за бездейственного
превознесения до небес ожидающего ее будущего и подвигов,
которые она намерена совершить...» 13.
Высказывание Маркса как нельзя лучше применимо к
характеристике духовно-эмоционального настроя «новых религий»:
здесь и заклинания — магические формулы-мантры,
долженствующие принести самые реальные жизненные блага; тут и
сногсшибательные служебные карьеры, сделанные теми, кто
примкнул к тому или иному движению; здесь и проекты свершения в
мировых масштабах «человеческой революции», для которой
вполне достаточно оказывается указать на «истинный предмет
24
поклонения»; и хилиастические мечтания вполне эпикурейского
толка, вера в скорое наступление «земного рая», путь к
которому—и это очень важно! — видится без особых жертв и
страданий, свойственных, например, христианской эсхатологии.
Как квинтэссенцию «мечтательности» «новых религий»
можно, пожалуй, рассматривать установки организации Сэйтё-но-иэ:
«фундаментальный принцип, проповедуемый Сэйтё-но-иэ,— в том,
чт0 наша жизнь зависит только от нас, в том, что мы сами и
только сами формируем свою жизнь, иными словами, мы —
полные хозяева своей судьбы... Раз человек — сын божий, то
невозможного не существует, и он может свободно творить мир,
который не более, чем отражение его мысли, в соответствии с
желаниями своего сердца» 14.
Именно в этом прежде всего и состояли учения большинства
«новых религий»: они «творили мир» в соответствии с
желаниями своих приверженцев — радужный мир богатых возможностей,
полный чудес в стиле волшебных сказок. Истории многих
лидеров и наиболее знаменитых приверженцев (кинозвезд,
спортсменов) «новых религий» напоминают сказку о Золушке (или о
чистильщике сапог, превратившемся в миллионера) : полная труда и
лишений молодость, затем «явление феи» в виде «обретения
единственно верной религии», откровения со стороны того или иного
божества, нахождение «настоящего учителя»; а дальше —
превращение мелкого клерка, мастерового, крестьянина,
домохозяйки в «принца» или «принцессу», живущих в роскоши, любви и
славе. «Святые» «новых религий» есть, в сущности, в той же
(если не в большей) мере символы успеха, в коей и символы
религиозности, причем успеха в том его обличий, в котором он
рисуется наивному обывателю.
Мотив земного успеха как благорасположения божества,
безусловно, перекликается с установками европейской «бюргерской
Реформации», но куда исчез страдальческий пафос последней,
особенно мрачная кальвинистская идея о предопределенности, об
«избранных сосудах», о непознаваемости божественной воли и
рабстве воли человеческой? Вместо них — гадания, астрология,
магия, позволяющие «скорректировать» эту оказывающуюся
вполне познаваемой божественную волю в соответствии с
человеческой, и решительное убеждение, характерное для всех
крупнейших «новых религий», что страдания божеству не угодны.
Типичная черта буржуазного реформаторства — идея единства
религии и мирской активности проявляется в «новых религиях»
порой в таком виде, что невольно вспоминаются слова Маркса:
«Последний фазис всемирно-исторической формы есть ее
комедия > 15. Так, Н. Макфарланд рассказывает следующую
любопытную историю эксплуатации этого принципа 1в. Некий делец,
увидевший возможность приобрести капитал на том, что
религиозные организации были освобождены от налогов, основал секту
Ьододзи кё, занявшуюся открытием ресторанов, ателье, салонов
ьрасоты и публичных домов, регистрировавшихся как религиоз-
ные учреждения. Соответственно клиенты рассматривались как
«приверженцы», услуги этих заведений — как «путь спасения»,
а деньги — как «жертва божеству». Просуществовала Кододзц
кё целых два года, пока, наконец, не вмешались
соответствующие органы. Эта история, конечно, курьез, но фарсом «отдает»
и интерпретация этого принципа одной из относительно крупных
«новых религий» — ПЛ Кёдан, которая приравняла к религиозной
деятельности игру в гольф. Движение Иттоэн за богослужение и
виде уборки общественных туалетов получила прозвище
«религия ватерклозетов».
Для иллюстрации того, как отражается дух «новых религий»
в их доктринах, переплетается в них национальная и социальная
психология, обратимся к учению крупнейшей из них — Сока гак-
кай. Вкратце основные мировоззренческие посылки этого
движения можно свести к следующему:
— жизнь — это и не дух, и не материя. Она представляет
собой единство духа и материи, проявление вечной, неразрушимой
«жизненной силы» одухотворенной Вселенной.
— каждый человек несет в себе это единство, или единство с
Буддой. Возможно его осознание — «просветление», ведущее к
абсолютному счастью. «Просветление» распространяется на все
грядущие жизни. Никакого «запредельного мира» нет.
— «просветление» возможно только благодаря следованию
единственно верной религии — «истинному буддизму Нитирэна»
в интерпретации Сока гаккай.
— единственно верная религия та, которая приносит
абсолютное счастье. Его дарует только «истинный буддизм», значит, он —
единственная верная религия.
— жизнь — единство духовного и материального, значит,
счастье тоже и духовно и материально. Практикование
«истинного буддизма» приносит не только духовные, но и материальные
плоды — обогащение, здоровье, продвижение по службе, успех в
любви и т. п.
— «истинный буддист» стремится к достижению
всестороннего счастья. Если это не так, то он не «истинный буддист».
— поскольку «истинный буддизм» приносит реальные блага,
он — религия жизнеутверждающая, «наставляющая, как жить
счастливо в тяжелые беспокойные времена сегодняшним днем»
а не в каком-то туманном потустороннем мире» 17.
— буддизм отмечает, что в жизни много страданий и есть
путь к их преодолению. Главная задача жизни — достижение
счастья вопреки существующим страданиям, что дается только
«истинным буддизмом».
— кроме «истинного буддизма» ни одна религия, ни одно
мировоззрение не признает нераздельности духовного и
материального и не приносит счастья. Значит, они есть источник бед и
подлежат искоренению.
Что обращает на себя внимание в этих тезисах? Прежде
всего, что доктрина «истинного буддизма» нацелена на вполне жи-
26
тенски настроенную личность, стремящуюся жить счастливо
«в этом мире». Эта личность не склонна к метафизическому
мышлению и философским размышлениям по поводу своих
взаимоотношений с Абсолютом. Критерий истинности религии здесь —
реальное благо. Далее, личность не слишком озабочена «вечными
моральными законами» — даже такое центральное буддистское
понятие, как «сострадание», места в доктрине не нашло. Она
настроена прагматически, но в то же время ищет в своем
прагматизме опоры на сверхъестественные силы. Личность хочет быть
убежденной в том, что во всем права, не знать ни сомнений, ни
колебаний.
Какое же мы дадим определение данному образу? Несомненно,
в нем проступают многие черты мелкого буржуа или обывателя.
Но если обратиться к работам исследовавших японский
национальный характер ученых, окажется, что ряд приводимых в них
параметров соответствует качествам «нашей личности». Возьмем
две схемы; одну составленную культурантропологом Фоско Ма-
раини, вторую — философом Накамура Хадзимэ. Первый
утверждает, что японской психологии присущи следующие особенности:
1) понимание конечной реальности как «здесь и сейчас»; 2)
преобладание интуиции над рациональностью, конкретного над
абстрактным; 3) оптимистическая концепция человека, принятие
всего человеческого существа как «двухслойного» (тело—душа)
континуума; 4) общее позитивное отношение к жизни,
превалирующий прагматический подход к проблемам 18. Накамура
Хадзимэ рисует следующую картину: нахождение абсолюта в
феноменальном мире, признание естественности человеческих качеств,
дух терпимости, слабо выраженный прямой критицизм,
нелогические тенденции, отсутствие способности формировать сложные
комплексные представления 10.
Схема, конечно, всегда остается схемой, и на формирование
психологии различных слоев населения большое влияние, помимо
общекультурного, цивилизационного фактора, оказывают
социальные условия их бытия. Но в том-то и дело, что «вычлененная»
нами личность воспроизводит одновременно и черты обывателя,
и черты японского национального характера. Она дает портрет
именно японского мелкого буржуа — основной базы Сока гаккай.
Типичные особенности социальной психологии накладываются в
ней на особенности психологии национальной, что ведет к их
взаимному укреплению.
Впрочем, одна черта портрета члена Сока гаккай и японский
национальный характер, как его дает Накамура Хадзима, явно
«ступают в противоречие друг с другом. Последний говорит о
ДУ-^е терпимости, слабо выраженном прямом критицизме.
Приверженец Сока гаккай воинствен, нетерпим и готов нападать на
тех, кто с ним не согласен. С другой стороны, эти качества
хорошо сочетаются с обывательской психологией, и нетерпимость
ока гаккай, на наш взгляд, дает образец того, как особенность
социальная, вступив в противоречие с особенностью националь-
27
ной, получат шансы на победу. Вспомним, что секты традиции
Нитирэна не слишком процветали на протяжении веков. Что-то
блокировало их распространение, невзирая на очевидный
демократизм религиозной практики. Возможно, этим «чем-то» и была
их нетерпимость, нападки на другие учения, плохо «ложащиеся»
на синкретическое религиозное мировоззрение японцев.
Нетерпимость, негативное отношение ко всем другим
вероисповеданиям и мировоззрениям, доходящее до конфликтов с иако-
ном миссионерское рвение, «мечтательные» планы обратить в
свою веру все человечество — из этого во многом складывается
в общественном мнении образ Сока гаккай. Отсюда и такие,
в общем незаслуженные характеристики, как «фашисты»,
«буддийские крестоносцы» и др., которыми награждают Сока гаккай
многочисленные критики. Но ее мировоззрение, сколь бы
малосимпатичным ни казалось оно, все же не может быть
охарактеризовано как человеконенавистническое, воспевающее насилие и
делящее людей на тех, кто «тварь дрожащая» и «кто право
имеет».
Одно из самых емких и точных, па наш взгляд, суждений,
резюмирующих дух, причины успеха и социально-психологические
следствия «мещанской реформации», высказано X. Томсеном:
«Большинство новых религий может быть названо религиями
„Я-изма". Неофиту внушается, что он — важная персона, что
он — центр собственной вселенной, что он по природе своей
силен и хорош, а вовсе не слаб и не испорчен... Все это может
превратиться в бумеранг, в весомый камень преткновения для
приверженцев, когда он столкнется с непреодолимыми
препятствиями в повседневной жизни и убедится, что далеко не всегда
он единственный хозяин своей судьбы» 20.
Ярким контрастом по отношению к «мечтательности» мелкого
буржуа выступают мечты и идеалы неоиндуистских движений
рубежа XIX—XX вв., обычно определяющихся как «буржуазная
реформация». Такая характеристика верна, по-видимому, в двух
аспектах: во-первых, движения объективно означали перестройку
индуизма в направлении, позволяющем ему функционировать в
буржуазном обществе; во-вторых, плодами этих религиозных
поисков и в самом деле воспользовалась в Индии прежде всего
национальная буржуазия.
Вместе с тем совершенно справедливо следующее утверждение
В. В. Меликова: «Сбалансированная точка зрения, по всей
видимости, заключается в том, что не так неоиндуизм периода борьбы
за национальное освобождение выражает классовые интересы
национальной буржуазии... как индийский буржуа использует его
как „открытое" идеологическое течение, обладающее широкими
(религиозными по форме) апеллятивными и коммуникативными
свойствами» ".
Это были прежде всего и главным образом духовные искания
интеллигенции, искрение стремящейся к выполнению своей
исторической миссии — распространению идеалов национального воз-
28
рдения и освобождения, интеллигенции, которая являлась на-
Р ницей одной из древнейших и богатейших интеллектуальных
Срадиций и в то же время вдохновлявшейся западными гуманис-
дческими идеалами. Если японская реформация развивалась,
условно говоря, в фольклорном стиле, то стиль реформации
индуизма в лице ее наиболее известных фигур — Свамн Вивеканан-
пы Ауробпндо Гхоша, Махатмы Ганди — уместнее всего
определить как романтизм.
Предпосылки для религиозного романтизма вполне очевидно
обнаруживают себя в самой исторической ситуации Индии того
времени. Это была эпоха бурного развития
национально-освободительного движения. И именно романтизм занимает в то время
в индийской литературе одно из основных мест, пронизывая
поэзию Р. Тагора, М. Гупты, Ауробиндо Гхоша, М. Икбала (кстати,
трое из них выступали и как религиозные реформаторы).
«Исторические судьбы Индии определили идейную направленность ее
романтизма,— отмечает Е. В. Паевская.—
Национально-освободительная борьба нашла в романтическом искусстве верного
союзника. Романтический идеал слился с идеей свободы и с любовью
к Родине»22.
«Свобода», «освобождение» — ключевые слова для понимания
направленности неоиндуизма. В них переплелись и традиционно-
индуистское понимание спасения как освобождения от иллюзий и
страданий «мира явленного», и свобода религиозно-мистического
внутреннего поиска, выдвинутая реформаторами в качестве
главной формы религиозной деятельности в противовес ритуалнзму
кастового, «старого» индуизма. Сюда же входит и освобождение
от устаревших догм, социально-религиозных установлении,
изживающего себя культа, т. е. освобождение от духовного гнета
ортодоксии. Это освобождение от феодально-кастовых устоев,
демократическая свобода личности, ее право на самовыражение.
В основе индуистского романтизма лежит классическая тема
романтизма вообще — героика свободной Личности,
возвышающейся силой своего духа над массой прочих людей, остро
ощущающей несоответствие «того, что есть» «тому, что должно
быть», идеалу, и готовой, как горьковский Данко, персонажи
Шелли, Мицкевича, русские поэты-дэкабристы, к служению
родине, к самопожертвованию, подвигу во имя тех, кто слаб и
несчастен. Как и «новые религии» Японии, неоиндуизм выдвинул
своих «святых», религиозно-идеальных персонажей,
превратившихся, по словам Меликова, в один из его основных стереотипов-
символов 23. Это саньясин, «просветленный», «живой
освобожденный», аскет-мистик — фигура вполне традиционная для элитарной
Духовной культуры Индии. «Именно из их числа,— пишет Виве-
кананда,— появились выдающиеся люди, титаны духа» ", такие,
как Будда, Джина Махавира, Шанкара, Чайтанья...
Социально-психологическую подоплеку института саньясинов
А дасХовом обществе достаточно определенно характеризует
• А- Куценков: «Кастовое общество подавляет личность, держит
29
ее в жестких оковах. Но если появляется человек, осознавший
свое рабское положение, если его не устраивал конформизм, если
обязанности, налагавшиеся обществом, становились для него
невыносимыми, он мог порвать узы с обществом, „выйти" из него и
жить так, как считал нужным... По существу, он (институт
саньясинов.— Л. Т.) представлял собой средство отторжения от
общества „нежелательных" элементов, бунтарей и диссидентов» ".
«Просветленный» в романтическом неоиндуизме, однако, не
мог довольствоваться ролью пассивного нон-конформиста.
Отражая устремления передовой интеллигенции, Вивекананда и
Ауробиндо пишут о духовных вождях, готовых взять на себя
ответственность за всеобщее просвещение и просветление, за
судьбу родины и человечества в целом, не стремясь при этом,
как и положено героям, к личной выгоде. Именно отречение от
всех мирских благ и уз, свойственное этому индуистскому
эквиваленту монашества, предстает в глазах Вивекананды гарантом
их бескорыстия и самоотверженного служения. Его «Гимн санья-
сину» пронизан типично романтическим пафосом жертвенного
подвига:
Немногим истина дана. И будь готов к тому, великий,
Что остальные ненавидеть и смеяться над тобою могут;
Да не смутит тебя все это, о свободный.
Иди своим путем, освобождая их из темноты,
Что рождена вуалью майи, заблуждением.
Долой страх боли, страсть к наслаждениям,
Ты выше их, саньясин смелый...26
Жертвенность здесь, как мы видим, вовсе не смиренна.
Напротив, она неотделима от гордости, от сознания своего
внутреннего превосходства, за которое заплачено дорогой ценой аскезы
и духовно-нравственных усилий. Эти жертвенные мотивы очень
важны и для понимания настроений М. К. Ганди, которому в
качестве «героя» виделась, в частности, и вся Индия как
человеческое целое. Для него мессианская роль родины заключалась
в том, чтобы, пройдя путем ненасильственного сопротивления
через жертвенные страдания к независимости, она
продемонстрировала человечеству действенность и превосходство ахимсы,
считавшейся М. К. Ганди одним из основных стержней индийской
традиционной культуры: «Я считаю, что миссия Индии
отличается от миссии других стран. Роль Индии — это роль
религиозного наставника человечества. В мире нет аналогий тому процессу
религиозного очищения, который добровольно приняла эта
страна» 2Т.
Воспевая готовность к трудностям и свершениям, неопндуизм
при этом отвергает веру в чудеса. В этом сказалось не только
влияние рационалистической культуры Запада, но и
традиционно-презрительное отношение истинных духовных подвижников-
саньясинов к весьма многочисленному племени аскетов,
использовавших свои необычные способности в качестве оплачиваемого
аттракциона — «трюкачества и шарлатанства» 2в, по определению
30
Вивекананды. Религиозная награда в неоиндуизме — это прежде
всего внутренняя эволюция, самопознание и самораскрытие.
«Акцент на садхану (религиозно-мистический поиск.— А. Т.)
превращает для индуса религию в духовное приключение здесь
и сейчас, а не в чек с оплатой посмертно» 2Э,— писал один из-
современных последователей Вивекананды.
Таким образом, неоиндуизм «пересекся» с романтизмом и в
своем внимании к человеческой субъективности, к потенциалу
духовного пространства, увиденного как огромный и самоценный
мир, в котором и надлежало искать божественность.
Характеризуя миро- и богоощущение романтиков европейских, А. К. Тёрл-
би пишет, что они открыли «сущностно божественную природу
человеческой самости» 30, считали, что «каждый может
обнаружить внутри себя вечность и бесконечность» 31.
Заложенная в неоиндуизме идея активного преобразования
«того, что есть» в «то, что должно быть» не допускала, однако,
превращения подобной интроспекции в рефлектирующее
«интеллигентское самокопание». Обретение «просветления»,
«пробуждение сонной души» (Вивекананда) означало, в частности,
обнаружение источника той энергии, которая требовалась для подвига
преобразования мира. «Что могут сделать все суды и
правительства находящемуся внутри вас вечному, недоступному рождению
и смерти духу? Его нельзя заключить в тюрьму или сослать на
галеры» 32,— писал Ауробиндо. С одной стороны, это совпадало
с традиционным индуистским представлением о тапасе — аскезе
как средстве накопления мистических сил, с другой —
соответствовало идеям европейских романтиков. Религия у последних —
это «теория энергии, энергии, которая пронизывает природу и их
самих» 33.
Неоиндуизму оказались в полной мере свойственны такие
лучшие особенности мировосприятия интеллигенции, как терцпмость
к другим точкам зрения (при условии, конечно, что они не носят
человеконенавистнического характера), неприятие слепой веры и
фанатизма, обостренное (по сравнению со «старым индуизмом»)
внимание к морально-этическому кодексу. К этому следует
добавить одну очень важную черту, на которую обращает внимание
Р. Б. Рыбаков34. Она, пожалуй, сильнее всего зыражена у
Вивекананды и Ганди. Это чувство глубокого стыда за
несоответствие «того, что есть» «тому, что должно быть».
И отчасти из этого же стыда за свою причастность к низкой
Действительности, отчасти из объективно элитарного характера в
неоиндуизме появляются ноты типично романтической
коллизии — одиночества «героя» среди «толпы». Они слышны,
например, в уже цитировавшемся «Гимне саньясину», со всей силой
звучат и в таких словах Ганди: «Я боюсь большинства. Мне
опротивело поклонение массы, не имеющей своего мнения. Я бы
чувствовал более твердую почву под ногами, если бы она
оплевала меня» 35.
В этих словах — глубокая драма романтизма. «Фаустовский
человек» громко заявляет о своеи самостоятельности и
готовности взять на себя ответственность не только за свои собственные
поступки, но и за судьбы мира... Но столкновение с суровой
действительностью показывает ему ограниченность собственных
возможностей, вызывая столь же острую неудовлетворенность собой,
как и окружающим миром...38. Драма отразилась и в личных
судьбах ведущих фигур неоиндуизма. Ауробиндо резко сворачи~
вает всю свою политическую деятельность и «уходит от мира» в
основанный им ашрам.
Вивекананда в последний год жизни предсказывает собственную
смерть с настойчивостью, создающей у его окружения впечатление,
что он стремится к ней. Непонимание со стороны соратников и
крушение надежд испытал в полной мере и Мохандас Карамчанд
Ганди.
Бог, обитающий в груди моей,
Влияет только на мое сознанье.
На внешний мир, на общий ход вещей
Не простирается его влиянье.
Мне тяжко от неполноты такой,
Я жизнь.отверг и смерти жду с тоской37.
В распространившемся в 70—80-е годы движении раджниши-
стов многое вроде бы напоминает психологические установки и
положения неоиндунзма рубежа веков. Речь идет прежде всего о
свободе; звучит презрение живого ума к догмам и ортодоксии,
воспеваются нон-конформисты, сильные личности, способные
стряхнуть с себя груз косных общественных установлений и
представлений.
Здесь тоже нет места наивной вере в чудеса, а спасение
мыслится как обретение «вечности и бесконечности» в собственном
внутреннем мире. Более того, некоторые язвительные и трезвые
рассуждения Раджниша о положении в Индии, за которые он был
назван «индийским Уленшпигелем», напоминают обличительный
пафос обращенных к соотечественникам гневных речей Свами
Впвекананды.
Вроде бы то же, по на самом деле совсем не то, ибо если за
всеми этими моментами в романтическом неоиндуизме стояли
мечта об идеале, воплощенном в действительность, надежда на
лучшее будущее, то мироощущение раджнишизма родилось из
глубокого разочарования и скепсиса. Основную базу этого
движения составила интеллигенция, чья молодость пришлась на
70-е годы — время распада движения «новых левых», взлета и
падения движения контркультуры на Западе.
Запечатлевшийся в раджнишизме тип сознания Ю. Н.
Давыдов и И. Б. Роднянская характеризуют как
люмпен-интеллигентский, возводя его историческое происхождение к античному ки-
нпяму. «Возникнув в результате процесса социального
разложения, она (богема.— Л. Т.) и в сфере культуры не могла обрести
иного способа бытия, кроме разлагающе-деструктивного, ибо для
32
ее не существовало ничего святого, ничего абсолютного, ничего
совершенного: все разъедалось скептически-софистической реф-
icKCiieii. В основе этого вееразъедающего богемного скептицизма
чежала радикальная нечестность (если не сказать,
бессовестность) интеллекта: расчет на жизнь в качестве „исключения из
правила" в мире, где это правило господствует и не может не
господствовать, ибо он существует как раз за счет сохранения
этого правила» 38.
«Новые религии» Японии «делают вид», что конфликта между
личностью и обществом не существует. Романтический неоинду-
пзм остро осознает этот конфликт, однако надеется преодолеть
его путем жертвенного служения и «подтягивания» массы до
уровня вождей, что особенно ярко проявилось в
эволюционистских представлениях Ауробиидо. Раджнишизм исходит из
абсолютного и принципиально неразрешимого противоречия между
челопеком-Лпчностью и «толпой», «гномами в клеточках» (К.
Бальмонт), вынужденными объединяться в государствах, партиях,
церквах, семьях, ибо каждый из них, сам по себе, вырванный из
«коллективного контекста», слишком ничтожен. Противоречие
это настолько безысходно и по сути своей трагично, что для
того, чтобы не рыдать от отчаяния и не сойти с ума, остается
только одно — смеяться. Что и делает Раджниш, тем более что
природа наделила его незаурядным остроумием.
«Смех — это путь к Богу... Смех — самый глубокий смысл
религии... Смех — единственно подлинная молитва» :19.—
утверждает он, наполняя свои выступления гротеском и анекдотами.
Смех для пего и его последователей — это раскрепощение от
навязываемой обществом «серьезности», т. е. от
конформно-послушного следоиання установленным образцам поведения и
мировоззрения, от поклонения псевдосвятыням. Смешно все — политика
и мораль, «старые религии» и «новые идеологии», семья и
государство, смешно все, что связывает человека с другими людьми.
Вся человеческая цивилизация предстает «кораблем дураков»,
следующим курсом в тартарары. Гибнуть с ними за компанию,
как овца, смешно — лучше выпрыгнуть за борт, в неизвестность,
что il есть, в сущности, единственно возможный религиозный
акт — тотальный отказ «быть, как другие», «мыслить, как
другие», доступный, естественно, лишь единицам: «Истинно
религиозный человек должен быть отважным и не бояться непознанного.
Религия не представляет собой массовое явление, она не для
толпы» t0.
Выход «за пределы» человеческой цивилизации не следует,
однако, понимать буквально, как уход в пустыню как таковую.
Это скорее пустыня духовная, некий нравственно-ментальный
вакуум, царство раскрепощенного подсознания, приравненного к
«сверхсознанию», великое Ничто. Только там смолкает
мефистофельский смех, ибо, по идее, исчезает, сливаясь с безликим
Бытием-Небытием и сам смеющийся — оценивающее, мыслящее,
порожденное обществом и нужное обществу человеческое «я».
2 -Чаиаз .Ni 4120 S3
Это пустыня, дух которой К. Бальмонт в своем стихотворении
«В домах» выражает следующим образом:
Все цельно в безлюдных просторах пустынь,
Желанье свободно уходит к желанью,
Там нет заподозренных чувством святынь,
Там нет пригвождений к преданью41.
Там, где идеал — пустыня, разумеется, создавать ничего не
нужно, достаточно разрушать, разрушать все, что мешает
спонтанному самоосуществлению, свободе.
Свобода! Свобода! Кто понял тебя,
Тот знает, как вольны разливные реки.
И если лавина несется губя,
Лавина прекрасна навеки42.
Мироощущению раджнишистов также нельзя отказать в
своего рода романтике, однако это романтика разрушения,
сладострастно-нигилистическая, взывающая не к чувству, а к
инстинкту, не к вере, а к отчаянию, романтика люмпенского бунта,
направленного не против кого-то или чего-то конкретного, а
«вообще»: «Христос (в данном контексте синоним „подлинно
религиозной личности".— А. Т.) — всегда бунтарь. Ничто не может
погасить его бунт, ничто не может изменить его. Его бунт
нельзя остановить, так как он направлен не против кого-то
конкретного; он происходит потому, что его сознание свободно.
Где бы на своем пути он ни встретил барьер, он взбунтуется
против него...» 43. «Моя цель — создание бунтарей» *4,— говорит о
себе Раджниш.
Если романтический неонндупзм воспринимал одиночество
как драму, то здесь, напротив, оно — естественное условие
освобождения. Но только не одиночество, переживаемое мучительно,
а то самое естественное и счастливое состояние индивида,
который любит только себя и нуждается лишь в себе самом. В его
душе — божественность, мир, покой и абсолютное счастье.
Мотивы его поведения непредсказуемы, неповторимы п недоступны
для понимания «толпы».
Отсюда, в частности, та «игрообралность» всей системы радж-
нишизма, которую отмечали и советские 45, и зарубежные
исследователи 4в. В ней нет каких-то более или менее выраженных
«внешних» целей и правил — она предстает как нечто,
обращенное на самое себя, так как всякое целеполагание — :)то
мыслительная проекция вовне себя, чего теоретически раджнишист
должен избегать.
Отвергая всяческие абстракции как порождение
«повредившегося разумом» человечества, раджнишнзм признает и культивирует
только чувственно-приятное, сиюминутное наслаждение. Здесь и
тантрические эротические установки, и удовольствия
«невинные» — цветы, пение птиц, музыка, еда, сон. «...Если вы
сможете радоваться простым вещам, внезапно вы почувствуете, как на
вас снисходит великое блаженство... Если вы сможете праздно-
34
вать постоянно, то этого уже довольно, чтобы божественность
осенила вас» 47.
В контексте тотально-враждебного окружения («...против меня
священники, против меня политики, против меня старшее
поколение, весь истеблишмент против меня»48), в «бедламе», как
называет Раджниш современный мир, готовом, как он опять же
признает, в любой момент взлететь на воздух, это веселье,
однако, похоже больше на пир во время чумы, на вечеринку в
«кукушкином гнезде», чем на собственно эпикурейство. За ним
стоит страх — вовсе не только чего-то глобального, ядерной
катастрофы или «Комбината», «Социальной Машины», но и боязнь
новых разочарований, страх перед легко утрачиваемыми
привязанностями, перед всем, что вне тебя и твоей власти.
Бунт, основанный на некой спонтанности инстпнктов, но в
особенности все же смех — психологически очень точно
найденные Раджнишем средства против страха, ощущения собственной
ничтожности, социальной зажатости. Смех и непристойности,
звучавшие в народной карнавальной культуре средневековья,
когда на короткое время многое из недозволенного становилось
допустимым, возродились в новом качестве в
индивидуалистическом, интеллектуально-рафинированном религиозном движении
интеллигенции второй половины XX в. И это тоже создает уже
упоминавшееся выше впечатление игры.
Разочарование в своей способности достичь цели может иметь
результатом более трезвый взгляд на себя и собственные
действия, может выразиться в объявлении цели, не заслуживающей
внимания или просто несуществующей. Эта последняя позиция,
по сути, и запечатлелась в раджнишизме. Много и софистически-
убедительно говорится о том, что «проблем нет, мы сами их
придумываем», о десубъектности, немотивировапностн идеального
действия, не оставляющего «кармических следов» (т. е.,
переводя п термин современной психологии,— комплексов) в сознании,
о бессмысленности забот о будущем, поскольку оно не
существует: «Будущее — это то, чего еще нет; вы не можете управлять
тем. чего нет... Пока оно не случилось, в нем нельзя быть
уверенным» *9, «Все это похоже на бесконечное ожидание Годо.
Никто не знает, придет ли Годо. И вообще — кто такой Годо?
Никто не знает и этого — но человек стремится ждать
чего-нибудь, придумывает это нечто сам и ждет своей выдумки» 50.
Коль скоро отрицается личное, наделенное свободной волей
божество, отрицается всякий «запредельно» и «незапредельно»
заданный детерминизм (в устах Раджниша это слово
ругательное), а воля спонтанно осуществляющегося «просветленного»
сильнее воли людей-рабов, «толпы», все же следует спросить,
кто может помешать творить будущее — как в «новых религиях»
Японии — «в соответствии с желаниями своего сердца»? Другие
«просветленные»? Ибо желания-то остаются, более того,
«раскрепощаются», пример тому то, что имеет место в многочисленных
Религиозных движениях, отрицающих личностное целеполагание,
призывающих одновременно к подавлению страстен и желаний.
Впрочем, на ;)тот вопрос вряд ли может быть дан определенный
ответ уже потому, что эти рассуждения, как и весь мистический
индивидуализм раджнишизма, тоже игра, а точнее говоря, поза,
которую, по выражению А. В. Гулыги, «в обстановке полного
разрушения личности... может принять или не принять козявка
перед тем, как ее раздавят» м. О чем прекрасно знает и сам
раджнишнст в отличие, скажем, от простодушного последователя
«новых религий» Японии.
1 Энгельс Ф. Бруно Бауэр и первоначальное христианство.- Марке К.
и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 19, с. 314
2 Энгельс Ф. Ландшафты.- Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд.
Т. 41, с. 76.
3 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года.- Маркс К.
и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 42, с. 166.
4 O'Dea Т. The Sociology of Religion. Englewood. 1966? с 40.
5 Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической
философии.- Маркс К. н Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21, с. 314.
6 Причина ;>того, по-видимому, в том, что отечественное теоретическое
религиоведение базировалось главным образом на отечественной же
религиозной традиции, а проблема соотношения русского национального
характера и русского православия оказывалась но понятным причинам
чрезвычайно рискованной (и отнюдь не только в академическом плане) для
взявшегося за нее исследователя.
7 Автор не ставит здесь своей целью изложение и анализ собственно
учений этих движений, их структурно-организационных основ и
социально-политической роли. Эти проблемы освещаются в трудах Г. Е. Светлова,
Ю. Б. Козловского, И. К. Державина, Р. Б. Рыбакова, В. С. Костюченко,
А. Д. Литмапа, Д. Е. Фурмана, а также в ряде работ самого автора.
8 Соловьев Э. Ю. Мартин Лютер - вождь немецкой бюргерской
Реформации. - Религии мира. История и современность. Ежегодник 1983. М., 1983.
с. 57.
9 Там же, с. 54.
10 Как отмечает А. И. Левковский, «усиление влияния класса мелкой
буржуазии в его широком понимании в идеологической, общественной и
политической жизни уже сейчас обнаруживается как ведущая тенденция
в большинстве многоукладных государств».- Левковский А. И. Мелкая
буржуазия: облик и судьбы класса. М., 1978, с. 157.
11 Не все советские исследователи рассматривают «новые религии»
Японии как мелкобуржуазное реформаторство или даже как
реформаторство вообще. Автор, однако, разделяет точку зрения М. Т. Степанянц,
которая пишет: «Из-за особенностей исторического развития Японии, в том
числе и свойственного ей религиозного синкретизма... своеобразие
религиозной реформации здесь выразилось в появлении „новых религий",
зачастую сочетающих в себе элементы буддизма и синтоизма (не без
некоторого влияния христианства)» {Степанянц М. Т. Религии Востока и
современность,- Философия и религия на зарубежном Востоке XX в. М., 1985.
с. 51.)
12 Маркс К. Письмо к Зорге от 19 октября 1877 г.- Маркс К. и Энгельс Ф.
Сочинения. 2-е изд. Т. 34, с. 234.
13 Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта.- Маркс К. и
Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 8, с. 123.
14 Thomsen H. The New Religions of Japan. Westport, 1978, с. 167.
15 Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введепие.-
Маркс К и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1, с. 418.
«e Macfarland N. The Rush Hour of the Gods. L., 1967, с 65-66.
17 Relevence of Buddhism. Soka Gakkai News. Tokyo, 1981, ЛГ« 135.
36
ie Maraini Я. Japan and the Future: Some Suggestions from Nihonjin-
ron Literature. Riv. internacion. di scicnze econ. e commercialli. Milano, 1975,
a> " «9 Уакатига Hajime. Basic Features of the Legal, Political and
Economic Thougth of Japan.— The Japanese Mind: Essentials of Japanese
Philosophy and Culture. N. Y., 1973.
го Thomsen II. The New Religions of Japan, с 27.
21 Меликов В. В. Неоипдуизм: протяженная двойственность
(религиозно-философские и социально-политические интерпретации Вивекапанды и
Ганди).- Философия и религия на зарубежном Востоке, с. 232.
22 Литература Востока в новое время. М., 1975, с. 271.
г* Меликов В. В. Неоиидуизм: протяженная двойственность, с. 236.
2* Цит. по: French H. The Swan's Wide Waters. Ramakrishna and Western
Culture. N. Y., 1974, с 181.
-ъ Куценков А. А. Эволюция индийской касты. M., 1983, с. 143.
2« Vivekananda Swami. Jnana-yoga. Calcutta, 1955, с. 5.
г? Gandhi M. К. India of my Dreams. Ahmedabad, 1959, с 3.
28 Цит. по: Ranganathananda Swami. Swami Vivekananda. His Life and
Mission.— Bulletin of the Ramakrishna Mission Institite of Culture. Calcutta.
1963, № 3, с 89.
29 Ranganathananda Swami. Eternal Values for a Changing Society.
Calcutta, 1960, с 13.
30 Thorlby A. K. The Romantic Movement, N. Y., 1983, с 40.
31 Там же, с. 41.
32 Цит. по: Костючепко В. С. Классическая веданта и нео-ведантизм.
М., 1983, с. 187.
33 Barzun J. Romanticism and the Modern Ego. Boston. 1944, с 79.
34 Рыбаков P. Б. Буржуазная реформация индуизма. M., 1981, с. 93.
35 Меликов В. В. Неоиндуизм: протяженная двойственность, с. 234.
36 См.: Кон И. С. В поисках себя: личпость и ее самосознание. М., 1984,
с. 126.
37 Гете И. В. Фауст. М., 1953, с. 99.
38 Давыдов Ю. Н., Роднянская И. Б. Социология контркультуры. М.,
1980, с. 2Г)0.
39 Rajneesh. Laugh Your Way to God.- Sannyas. Poona. 1977, № 3, с 29.
40 Rajneesh. What is Surrender. Sannyas. Poona, 1981, № 1, с 16.
41 Бальмонт К. Избранное. M., 1980. с. 139.
42 Там же.
43 Rajneesh. The New Evolution of Man. New Delhi, 1978, с 194-195.
44 Rajneesh. Why don't I Trust You? - Sannyas. Poona, 1981, № 1, с 5.
45 Фурман Д. Е. Дела и учения гуру Раджниша.- Вопросы философии.
1986, № 8.
48 Mullan В. Life as Laughter. L., 1983.
47 Rajneesh. Surrender into Freedom.- Sannyas. Poona, 1977, № 3, с 16.
48 Rajneesh. Why don't I trust you? - Sannyas. Poona, 1981, № 1, с 5.
49 Rajneesh. Tantra Visions. Poona, 1978, с 166.
50 Там же, с. 257.
51 Гулыга А. В. Искусство в век науки. М., 1978, с. 63.
Ю. M. Кобищанов
КРЕСТЬЯНСТВО И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
В АРАБСКИХ СТРАНАХ
Население африканских и азиатских стран различается по
своему этническому и конфессиональному составу. Некоторые из
них были созданы путем «хирургической операции» из
разнородных частей этнических территорий, другие имеют моноэтническое
крестьянское ядро населения. В целом регионы афро-азиатского
мира отличаются от Европы, Северной Америки, Австралии и
Океании, мпогих районов Латинской Америки своим
преимущественно крестьянским характером.
Ближневосточно-африканский суиеррегнон мира — сложное
культурно-историческое образование. В нем проживает несколько
сот больших, средних, малых и мельчайших этносов, из которых
одни образовались полтора тысячелетия назад, другие —
несколько веков, третьи еще только формируются. Здесь сосуществует
множество религий и конфессиональных групп. Одни из религий
исповедуют лишь небольшие соплеменности, другие — отдельные
народности или группы соседних народностей, третьи (ислам,
христианство) являются мировыми религиями. Религии
полидемонические, политеистические, монотеистические локальные и
мировые, различные виды религиозного синкретизма и
националистические религиозно-идеологические системы («гражданские
религии») встречаются в разных формах и сочетаниях, вступая
в системные связи друг с другом и с разнообразными
этнокультурными традициями. В настоящем очерке мы только попытаемся
наметить некоторые закономерности в развитии сложных
динамических систем типа «этнос — культура — религия», сращение
этнических и этнографических групп с конфессиональными в
этноконфессиональные, а также соотношение иерархий
этнических и конфессиональных общностей. В качестве материала
исследования взяты четыре страны (Ирак, Сирия, Иордания и
Ливан).
Это территория исламской цивилизации (именно ее арабской
ветви), сложившейся в средние века. Но арабская деревня
живет традициями, насчитывающими тысячелетия.
Уже в древнем мире в странах, которые теперь являются
арабскими, сложились народности (это не относится к берберам
Ю. М. Кобищанов, 1990
и части этносов Судана) и класс крестьянства, выступавший как
социальное ядро этих народностей.
Арабский мир отличает редкое для Тропической Африки и
стран тюрко-пранского Востока, Индостана и Юго-Восточной
Азии языковое единство. На всем протяжении от Персидского
залива, Аравийского моря и Баб-:)ль-Мандеба до Гибралтара и
атлантического побережья Марокко и Мавритании господствует
единый арабский литературный язык. Правда, с разговорным
языком дело обстоит сложнее: одни авторы считают, что в
Египте, Судане, Ираке, Йемене, странах Магриба сложились особые
близкородственные друг другу живые арабские языки; другие
ученые называют их лишь диалектами или группами диалектов.
Во всяком случае, они не всегда взаимопонятны, но носители
территориально близких «диалектов» (например, в пределах
Аравийского полуострова, Магриба, долины Нила и его притоков и т. д.)
нее же могут объясниться друг с другом на родном языке.
Даже аборигенные этнические меньшинства внутри арабского
мира близко родственны между собой в пределах одной страны
или группы стран. Этноязыковая пестрота резко возрастает на
дальних окраинах арабского мира: на границе с Курдистаном,
в Хадрамауте и на Сокотре, на юге и западе Судана, на юге
Линии и Мавритании, а также в Чаде.
В :)тих районах арабский и тропическо-африканский миры как
бы накладываются один на другой, и наряду с арабской
языковой гомогенностью проявляется характерная для Тропической
Африки гетерогенность. Достаточно сказать, что на южных,
западных и восточных окраинах Судана, как и в соседних
неарабских странах, распространены многие десятки языков,
относящихся к трем различным языковым семьям и множеству
отдельных групп.
В арабских странах население отличается сравнительной
этнической однородностью '. Там, где еще имеются значительные
пеарабскне этноязыковые массивы, арабский элемент становится
псе более многочисленным, за последние 150 лет арабы
превратились из относительного в абсолютное большинство населения
Марокко и Судана. Лишь в Чаде они еще остаются только
относительным большинством, но это самая молодая из арабских
стран: арабские племена (из Судана и Ливии) проникли в Чад
позднее, чем в Курдистан, части которого, входящие в состав
Сирии и Ирака, стойко сохраняют свой неарабский этнический
облик.
В настоящее время во всем арабско-африканском регионе
»Дет процесс формирования наций. Но он накладывается на
Другие, исторически предшествующие ему процессы.
В арабском мире (и в Сомали) в основном давно завершен
Религиозный прозелитизм, лишь единицы из ста пятидесяти
миллионов населения арабского мира меняют свою веру или
конфессиональную принадлежность. На юге же Судана и в других
африканских странах в паши дни быстро распространяются миро-
вые религии, появляются новые синкретические церкви и секты,
конфессиональные группы. Возникает вопрос: станут ли они этпо-
конфессиопальными? Последние обычны в арабском мире, где
сроки существования конфессиональных общностей сопоставимы
с периодами существования этносов и даже порой превосходят
последние. Сколько раз меняли свой язык и культуру евреи стран
Северной Африки и Западной Азии, в то же время сохраняясь
как этноконфессиональная группа? Конфессиональная группа
меняет свой язык, но сохраняет внутреннее единство и (хотя
далеко не всегда) традиционную социальную структуру. Чем
больше срок существования той или иной группы, тем более в силу
относительно изолированного развития и специфики культурных
-связей, она проявляет свойства этнографической группы, то есть
выступает как этноконфессиональная. Такие группы встречаются
в Эфиопии, но лишь намечаются в других африканских странах
с их бурнымп процессами этногенеза и религиозного
прозелитизма.
Другой важный фактор развития этноконфессиональных
групп —связь религии с политикой. Насаждение какой бы то ни
было религии и конфессиональной организации в качестве
государственной, покровительство той или иной конфессии или широкая
веротерпимость, поощрение синкретизма п религиотворчества или
борьба за «чистоту веры», войны между государствами и
общинами под знаменем конкретного вероисповедания — все это так
или иначе отражается на судьбах религий, формировании
местной традиции отношения к религиям и отдельным их формам,
конфессиональной и этноконфессиональной структуре общества.
При известных исторических условиях, включающих
определенное сочетание благоприятных и неблагоприятных для какой-либо
конфессии факторов, действующих на протяжении длительного
времени, может произойти сращение конфессиональной оргапиза-
ции с этносоциальным организмом феодальной эпохи или по
крайней мере (и это главное) с его крестьянским ядром. В сфере
культуры происходит сращение новой религии с традиционными
верованиями и ритуалами, рождение новых ритуалов,
специфических для данной народности, которые все вместе с течением
времени становятся для нее традиционными, превращаясь в часть
народной культуры. В итоге этноконфессиопальная группа
(церковь) отождествляется с народностью.
В интересующем нас регионе раньше всего такое
превращение произошло с евреями и самаритянами, хотя в течение многих
веков эти две этнокопфессиональные группы, живя на одной
территории, имели общий язык (арамейский) и общую культуру.
Христианская религия прошла классический для всех
мировых религий путь этноконфессионального развития. Как
известно, оно зародилось в северной части интересующего нас региона.
В эпоху своего первоначального развития эта копфессия прежде
всего отделилась от иудейского этноса, утратила прежний этно-
конфессиональный характер, стала межэтнической. В III—IV вв.
40
христианство настолько широко распространилось в Римской
империи, что стало основным вероисповеданием и, наконец,
государственной религией. В результате первых церковных раско-
тов выделились донатнстская в Северной Африке, арианская &
восточногерманских королевствах и православно-кафолическая
церкви. В V в. новые расколы привели к созданию несторианской
церкви и группы монофиситских церквей. В то же время в
результате создания Вандальско-Аланского королевства в Северной
Африке арианская церковь стала здесь государственной, а
донатнстская из гонимой — покровительствуемой в ущерб
православно-кафолической церкви2. В начале VII в. появились монофе-
лптская религиозная доктрина и ранний ислам.
К этому времени несторианство и монофиситство
распространились на юг до Южной Аравии, Сокотры, Омана, на восток да
Средней Азии и Индии; позднее несторианство проникло в
Китай и Монголию, тогда как монофиситство стало религией
основных народов Северо-Восточной Африки. Оно сыграло важную-
роль в идейном и культурном сближении народов Западной Азии
и Северо-Восточной Африки от Армении до Нубии, Йемена и
Эфиопии накануне ислама3. Позднее, в XI—XII вв., когда
между монофнситамп и несторианами была заключена церковная
уния, процесс культурной интеграции восточных христиан
усилился. Но теперь большая их часть находилась под влиянием
исламской цивилизации. Распространение ислама расчленило вос-
точнохристианский мир, постепенно поглотило его основные
массивы и даже южные окраины, кроме северной Эфиопии (в Судане
монофиситство исчезло в XV—XVII вв., несторианство на
Сокотре в XVIII в.).
К. XIX в. каждая из восточнохристианских церквей уже
представляла собой этноконфессиональную общность с почти
полуторатысячелетней традицией, собственным мертвым языком
богослужения, специфической обрядностью и пр. Из них лишь
эфиопская церковь была государственной и полиэтнической;
в сходном положении находилась грузинская православная
церковь; прочие лишь пользовались толерантностью исламских
государств (а также индуистских — на юге Индии) и объединяли
представителей какого-то одного этноса: Армянская
григорианская — армян, Сирийская яковитская — сирийцев в Сирии, а
также сиро-малаяли па юге Индии, несторианская — ассирийцев,
коптская — египетских коптов и т. д. Горная Ассирия и горный
Ливан с их христианским большинством населения по традиции
пользовались известной автономией, имели собственных духовных
и светских христианских феодалов. Другие этноконфессиональ-
ные общности могли опираться лишь на свою церковную
организацию.
Начиная с периода крестовых походов и особенно в эпоху
великих географических открытий католическая церковь делала
попытки подчинить восточнохристианские церкви папскому
престолу. Монофелитская церковь маронитов приняла унию с Римом.
41
От каждой из других восточных церквей откололась униатская
церковь.
Еще в середине XVI в. от несторнанской церкви отделилась
униатская Восточносирийская, или Халдейская, церковь, через
столетие, в 1662 г., унию с Римом приняла часть сирийских яко-
витов, образовавших сиро-католическую церковь. Что касается
православных арабов, коптов и армян, то среди них униатские
церкви были образованы в XVIII в.
Так в странах Западной и Южной Азии и Северо-Восточной
Африки образовались новые (восточнокатолнческие)
конфессиональные группы, постепенно приобретавшие этнографические
особенности. К ним прибавилась этноконфессиональная группа
левантинцев — арабизированных итальянцев и других европейцев —
членов римско-католической церкви.
В результате миграций, вызванных политическими и
экономическими причинами, этноконфессиональные группы восточных
христиан, прежде связанные каждая с особой территорией,
в XIX — середине XX в. жили чересполосно и в большинстве
арабских стран говорили на одном и том же языке — арабском.
Но более чем тысячелетняя традиция раздельного развития была
настолько сильна, что даже жившие в одном и том же городе
общины разных католических церквей не сливались в одну этно-
конфессиональную группу, хотя определенное сближение между
ними и происходило, в основном под влиянием западной
цивилизации и совместной борьбы за независимость против
иноземных угнетателей.
Известную роль в обособлении этноконфессиональных групп
играла и политика Османской империи, в состав которой в
течение более или менее длительного времени входило большинство
арабских стран. По этому поводу сирийский исследователь
А. X. Хоурани писал, что в Османской империи с течением
времени «барьеры между [религиозными] общинами становились
все более труднопроходимыми, и религиозные группы постепенно
начинали превращаться в национальные» 4. Но, в сущности,
политика турецких властей лишь поддерживала намного более
древнюю, чем империя Османов, тенденцию к формированию
этноконфессиональных групп.
В годы первой мировой войны подверглись массовому
истреблению и изгнанию с родной земли армяне и ассирийцы,
образовавшие новые этноконфессиональные группы в арабских странах
и в Тропической Африке (армяне). Позднее значительная часть
армян выехала в Советскую Армению. Сионистская колонизация
Палестины, особенно усилившаяся после образования
Государства Израиль, вызвала эмиграцию в Палестину большинства евреев
и караимов из других арабских стран. Еще одно изменение в
этноконфессиональной структуре арабского мира и стран Северо-
Восточной и Восточной Африки вызвала европейская
колонизация, а затем деколонизация, в результате которой из этих стран
выехало почти все население европейского происхождения.
42
Наконец, в течение последних ста лет усилилась эмиграция
коренного христианского и мусульманского населения за пределы
арабского мира: в Северную и Южную Америку, Европу,
Африку. В ряде стран (Ливия, Сирия, Ирак, Египет) она существенно
влияет на этноконфессиональную структуру населения.
С XIX в. в прибрежных районах Аравии образовалась группа-
азиатских компрадоров: арабов, индийцев и др. Среди них
выделяются этиоконфессиональныс группы индийских (низариты и
бохора) и йеменских исмаилитов, индийских ахмадийцев,
оманских ибадитов, индопакистанских ханифитов.
Если политическое разделение мусульман па суннитов, харид-
жнтов и шиитов произошло примерно на той стадии, когда у
христиан выделились циркумцеллионы, донатисты и пр., то развитие
мазхабов суннизма и шиизма, сект ибадитов, зейдитов,
исмаилитов, друзов, алавитов относится ко II—V вв. хиджры (VIII—
XII вв.). Несмотря на некоторое ускорение исторического
развития, разделение ислама на главные направления в общем
соответствовало аналогичному разделению в христианстве и буддизме.
Хариджизм отделился от общеисламской общины во время ее
политической победы на Ближнем Востоке. Основателем учения
был принявший ислам йеменский еврей Абдаллах ибн Саба,
современник халифов Османа и Али. После убийства Османа в
656 г. будущие хариджиты поддержали Али. В 657 г. сторонника
Али разделились на верных ему шиитов и хариджитов. Послед-
пне покинули прежний лагерь (отсюда их прозвище «хариджию-
на» — «ушедшие») и собрались в новом близ Нахравана (в
Ираке), где избрали халифом простого воина Абдаллаха ибн Вахба.
Хариджиты признавали законными халифами лишь Абу Бекра и
Омара, в принципе считали, что халифом может стать любой
правоверный. В 658 г. они были разбиты Али в битве при Нахрава-
не, причем из всего их войска, по преданию, спаслось лишь 9
человек, которые затем проповедовали свое учение на окраипах
Халифата. В Омане обосновались хариджиты секты ибадитов,
в Магрибе — ибадиты и суфриты, другая секта хариджизма.
В 739—740 гг. начались хариджитские восстания, постепенно
охватившие почти весь Магриб. Были созданы ибадитские и суф-
ритские государства в Марокко, Алжире, Тунисе и в Триполита-
нии. Хариджиты проникли в оазисы Сахары и в Западный Суданг
где они первыми начали распространять ислам. В IX в.
хариджиты подняли восстание против шиитского Фатимидского халифата,,
объединившего на короткий срок всю Северную Африку.
Восстание едва не привело к торжеству хариджизма во всем Магрибе,
но было подавлено. С этих пор в Магрибе суфизм совершенно
исчез, а ибадизм сохранился в отдельных, отдаленных друг от
Друга горных областях (горы Нефуса в Триполитании, горы
восточного Алжира) и в оазисах Сахары (Мзаб в Алжирской,
Сиджильмаса в Марокканской Сахаре). Здесь до сих пор
сохранилась этноконфессиональная общность берберов, исповедующих
хариджизм уже более 1200 лет. За это время (главным образом
43
в IX—XII вв.) ибадиты создали собственную литературу
(богословскую, правовую, историческую) на арабском языке. Их
религиозно-бытовые обычаи стали значительно отличаться от
суннитских и шиитских.
Шиизм отделился от суннизма на четверть века позднее ха-
риджизма. Вначале, как и последний, шиизм представлял собой
политическое движение, но с течением времени стал особой
формой религии. Южный Ирак, Бахрейн, Ливан, а также горный
Йемен, где в XI в. укрепилась шиитская секта зейдитов — вот
главные традиционные районы распространения шиизма в
арабском мире. С XV в. шиизм стал государственной религией в
Иране, где ее исповедует подавляющее большинство населения.
В Северной Африке, где в IX—X вв. шииты-исмаилиты были
политически господствующей конфессиональной группой, это
вероисповедание полностью исчезло. Однако исмаилиты
сохранились в отдельных районах Северной Сирии, горного Йемена,
Ирана, в горах Средней Азии, Афганистана и Пакистана, а
также в Индии. Эти разрозненные группы говорят на разных
языках и образуют несколько этноконфессиональных групп. Учение
псмаплиток настолько отошло от ортодоксального шиизма, что
почти превратилось в особую религию.
Еще в большей степени особыми синкретическими религиями
следует считать религии друзов и алавитов Сирин и Ливана.
В арабском мире, по традиции, далеко не все говорящие по-
арабски группы населения считают друг друга принадлежащими
к одному с ними этносу. Горожане, крестьяне п бедуины
отличаются друг от друга не только хозяйственно-культурным
типом, но порой и этническим самосознанием. Особепно
характерно, что крестьяне не считают себя арабами, относя этот
этноним к горожанам, бедуинам и их потомкам. Несомненно, в этом
сказывается различие в этническом происхождении
земледельцев — потомков древних народов Ближнего Востока — и поздних
пришельцев из Аравии, осевших в городах или продолжающих
кочевую жизнь в степях и пустынях. Как горожане, так и
бедуины представляют собой продукт смешения завоевателей-арабов
с аборигенным населением, рабами различпого этнического
происхождения, турецкими завоевателями. В противоположность им
крестьяне-христиане Ливана, горцы Йемена, египетские
феллахи — это почти «чистокровные» потомки древних народов своих
стран. Лишь в последние десятилетия в связи с формированием
наций и ростом общеарабского национализма в среду этих
крестьян проникает убеждение, что они тоже арабы, как бедуины и
горожане. Тем не менее традиционные представления живучи, как
и обусловившая их традиционная социальная структура.
Поэтому нельзя ограничивать специфику межэтнических
отношений в арабском мире лишь межгосударственными
отношениями, как это делает, в частности, М. С. Лазарев, который
утверждает, что «в арабском регионе... национальный вопрос выражен
как проблема взаимоотношений между различными арабскими
44
странами» (оговорены как особые случаи ситуации п Ираке,
Сирии н Судане, где имеются территории с неарабскнм по языку
населением) '•
Сложные этнические и субэтнические отношения в арабском
мирр выражаются помимо всего прочего и через
конфессиональную структуру современных арабских обществ.
В целом арабский мир отличается значительным
конфессиональным единством. Подавляющее большинство арабов и вообще
населения представляют мусульмане-сунниты. Они численно
преобладают в каждой из арабских стран Африки, в Аравии (кроме
го]) Йемена и Омана), Сирии и Иордании. В остальных арабских
странах (Ливан, Ирак, Бахрейн, Йемен, Оман) арабы-сунниты
составляют вторую по численности конфессиональную группу.
Прп этом в странах, где арабов-суннитов меньшинство,
социальная структура их конфессиональных групп благоприятна для
развития и получения культурной информации из региональных и
местных центров, так как сунниты составляют большинство
городского населения, подвижных бедуинов, в прошлом связанных
с караванной торговлей, а в наши дни переселяющихся в города,
моряков п рыбаков и т. д. В большинстве арабских стран, в том
числе Алжире, Египте, Сирии, Ливане, Бахрейне, наблюдается
неуклонное увеличение доли суннитов по отношению к другим
конфессиональным группам. Последние представлены множеством
христианских общин разных церквей, несуннитскими
направлениями ислама, иуданстскими общинами, а также
синкретическими сектами (сабии, друзы).
Ирак. Ядро арабской иракской народности составляют
местные феллахи и мааданы — «болотные арабы». И те и другие
делятся на племена и более мелкие родовые группы, предки которых,
как считается, переселились в разное время из Аравии. Тем не
менее представляется намного более правдоподобным, что арабо-
иракское крестьянство ведет свое происхождение от древних
насельников страны, протошумеров и шумеров. Таково мнение
Г. Фнлда. Г. Франкфурта, С. Ллойда и других видных
антропологов, археологов, этнографов °.
Во II тысячелетии до н. э. в Южной Месопотамии сложилась
вавилонская народность 7. Крестьянство сменило аккадский язык
на арамейский, затем — в средние века — арамейский на
арабский, меняло оно и веру, но во многом сохраняло традиционные
хозяйственно-культурные типы: феллахов, занятых в
интенсивном орошаемом земледелии, и мааданов, или «жителей болот»,
живущих на искусственных островах из тростниковых циновок 8.
Подавляющее большинство феллахов и мааданов Южной
Месопотамии — шииты-имамиты, частично шниты-шейхиты (около
2 % ) и сравнительно небольшая часть — сунниты9.
Ирак, наряду с Ираном,— тысячелетний оплот шиизма. Уже
с VIII—IX вв. крестьянское население Ирака и Ирана, до того
в массе немусульманское, становится главной социальной опорой
чнш.зма 10 и является таковым до настоящего времени. При этом
болота Южной Месопотамии, где живут мааданы, были в течение
веков таким же непокорным крестьянским краем, как горы
Ливана, Йемена, Омана.
На территории Ирака находятся главные религиозные центры
шиизма - города Кербела, Неджеф, Самарра, Куфа, Казимеин,
Хилла и др. Население городов — шиитское, в некоторых из них
суннитам, по традиции, жить не разрешается. Но эти города
невелики, их население ведет традиционный полудеревенский образ
жизни. В крупнейших арабо-иракских городах: Багдаде, Мосуле,
Басре, Тикрите — также по традиции преобладают сунниты.
Многие из них — ассимилированные курды, турки, туркмены либо
их потомки, а также выходцы из других арабских стран или
внуки и правнуки последних. Во всяком случае, это не потомки
древних вавилонян. Характерно, что эти города находятся на
периферии иракско-шиитского ареала, на границе с пустыней или с
ассирийско-курдской горной страной. В областях с
преобладанием шиитского населения сунниты — это, как правило, горожане.
Кроме суннитов-горожан в Ираке имеется еще несколько эт-
ноконфессиональных (или конфессионально-этнографических)
групп арабоязычного населения. Крупнейшая из них — сунниты-
бедуины. В начале XX в. кочевники и полукочевники составляли
около одной четверти всего арабского населения на территории
нынешнего Ирака, в середине 30-х годов — около 10%, теперь —
не более 3% и, причем они живут в пустынях вдоль южной и
западной границы арабо-иракской этнической территории.
В Ираке обитает около ста различных арабских племен,
имеющих кочевые или полукочевые секции. Крупнейшие из них
постепенно оседают близ Евфрата и нижнего Тигра. В начале
колониального периода английские власти пытались реанимировать
родо-племенные связи законодательным путем 12. Большая часть
бедуинов принадлежит к союзам племен шаммар и аназа,
кочующих и оседающих на землю также в пределах Сирии и
Саудовской Аравии. Некоторые из них переселились на иракскую
территорию лишь после разгрома саудитами государства Джебель-
Шаммар в 1921 г.
Этнографически они почти ничем не отличаются от бедуинов
Сирии и северной Аравии. Их религия — суннизм шафиитского
или ханбалитского мазхабов (последний — у ваххабитов, к
которым принадлежат многие бедуинские племена13). Отношения
между шиитами и бедуинами-ваххабитами особенно напряженные,
так как первые не забывают страшного разгрома Кербелы,
истребления ее жителей и осквернения святынь в 1802 г.
Кроме того, в арабском Ираке имеются арабоязычные
немусульманские меньшинства, живущие почти исключительно в
городах: христиане (халдеи, сиро-католпки, сиро-яковиты и др.),
в основном в Мосуле и Багдаде, отчасти в других городах; сабии,
или мандеи,— последователи местной древней синкретической
религии, главным образом в Багдаде и городах южного Ирака;
евреи (большинство их выехало в Израиль).
I»се ;>тп разнородные группы противостоят массе араоо-ирак-
ского крестьянства по следующим признакам: классовое
положение иной род занятий (среди нешиитои сравнительно мало зем-
тцчсльцеи)« поселение преимущественно в городах, иная религия,
'Сдельное проживание, избегание смешанных браков, намного
боле*1 высокий уровень образования и причастность к
современной культуре, более значительные культурные и религиозные
связи с внешним миром, тогда как крестьяне-шииты духовно
ориентированы на местные святыни и свою пятитысячелетнюю
сельскую культуру.
Сирия п Иордания — страны, где преобладают сунниты. В этой
части арабского мира суннизм в течение восьми веков (до 1918 г.)
был государственной религией, и до сих пор процент суннитов в
составе всего населения непрерывно растет (за счет
естественного прироста, эмиграции христиан, иммиграции палестинских
беженцев). Арабы-сунниты составляют ядро сирийского и
иорданского крестьянства, образовавшегося еще во времена
Ассирийского и Нововавилонского царств, сохранявшего свой арамейский
язык- и деревенскую культуру при Ахеменидах, эллинистических
правителях, римлянах и византийцах, но постепенно
смешавшегося с арабами-бедуинами, которым местное крестьянство
передало свою высокую земледельческую культуру и
хозяйственно-культурный тип. заимствовав, в свою очередь, язык, фольклор,
религию. В основной части Сирии (без курдской области Хасеке,
страны алавитов и страны друзов) и в Иордании арабы-сунниты
составляют более 80% населения. Арабоязычпые алавиты, друзы,
игмаилиты и шииты-имамнты (мутавали) — все вместе
составляют 16% населения Сирии, христиане (арабы, армяне и
ассирийцы) — около 10% населения Сирии и Иордании. Это
христианское население разделяется на два десятка церквей (из них
шесть католических) ; наиболее многочисленны православные
(более 4% всего населения Сирии и Иордании), католики и униаты
(все вместе — около 3,5%), яковиты (1,5%), а также армяне-
григориане (менее 2%, но в Халебе — одном из двух
крупнейших городов Сирии — и в г. Хасеке армяне составляют вторую но
численности после арабов-суннитов этноконфессиональную
группу п).
Конфессиональные и этнографические различия совпадают
прежде всего у армян-григориан (поскольку даже среди многих
армян-католиков арабский язык является родным), а также у ара-
боязычных крестьян-горцев алавитов, друзов и исмаилитов.
Алавиты, или нусайриты, составляют большинство сельского
населения горной области между северными границами Ливана
на юге, Средиземным морем на западе и р. Нахр-эль-Кальб на
севере и востоке. Здесь не менее тысячелетия назад сложилась
эта этноконфессиональная группа, а до первой мировой войны
проживали почти все ее представители. Учение и религиозная
обрядность алавитов — синкретичны; они содержат исламские
(шиитские), христианские и древневосточные элементы. У алавитов,
47
наряду с Кораном и Евангелием, почитаются собственные
священные и богословские книги. Их богослужение напоминает
христианскую литургию 15.
В период французского мандата страна алавнтон пользовалась
ограниченной автономней l(i. Однако северная часть страны ала-
внтов, где живет треть этой группы, была в 1931 г. уступлена
французами Турции. Тогда началось продолжающееся до сих пор
переселение безземельных ьрестьян-алавитов в другие районы
Сирии, прежде всего в ближайшие к их исконной территории
области Хама и Хомс. Большинство из 1,2 млн. алавитов —
крестьяне, хотя два из четырех больших алавитских кланов носят
названия по ремесленным профессиям: Хьятын (араб. Хайятын —
«портные») и Хаддадин (араб.— «кузнецы») 17. Вероятно, в
прошлом основателями этих кланов были ремесленники. В последние
десятилетия среди алавитов выделилась, с одной стороны, группа
рабочих, с другой — значительная прослойка чиновников,
офицеров, сотрудников партийного аппарата, занимающихся также
предпринимательством. К алавитам принадлежит и большая часть
руководства САР и правящей партии Баас. Но в самой стране
процент алавитов во всем населении снижается, в то время как в
ближайших городах по-прежнему численно преобладают
сунниты, а на втором месте остаются христиапе.
Сходное положение наблюдается в районах расселения друзов.
Вера и обрядность друзов также синкретичны, но во многом
отличны от алавитских. Общая численность друзов — около 500
тысяч, притом они расселены не так компактно, как алавиты.
Друзы, как п алавиты, многое заимствовали из шиизма, но
элементы шиизма у них иные. Если алавиты считают одним из
воплощений божественной троицы сподвижника Мухаммеда Саль-
мана аль-Фариси («аль-Баб», врата истины при Мухаммеде —
«имени» истины), то друзы обожествляют фатимидского халифа
XI в. аль-Хакима, верят в «скрытого имама» и переселение душ
(но не в животных, а в новорожденных членов собственной
общины). Положение женщины у друзов почетное. Некоторые
обряды связаны по своему происхождению с христианством
(употребление в пищу вина и свинины); друзы не признают
обрезание, шариата; их пренебрежение к кладбищам и обрядам
шокирует мусульман не меньше, чем эти христианские обычаи 18.
Исконная страна друзов — ливанская область Шуф, из которой
в XIX в. они переселились в Хауран (Хеврон, Голанские
высоты), Северную Сирию и Северную Палестину и на плато Дже-
бель-Друз («Горы друзов»). Здесь они составляют наиболее
многочисленную (до 50%) и компактно живущую (свыше 90%
местного населения) часть этой этноконфессиональной группы. В
период французского мандата, после друзского восстания 1921 г.,
Джебель-Друз получил ограниченную автономию, позднее
отмененную. Друзы, оказавшиеся на территории Израиля, получили
«культурную автономию» и не считаются арабами. Сионисты
натравливают друзов как на мусульман, так и на христиан. Однако
-грузы Сирии н Ливана, живущие компактными массивами, не
считают, что они принадлежат к двум разным арабским нациям.
Этнографически друзские деревни с домами, сложенными из
туфа, отличаются от деревень сирийцев-суннитов и от деревень
нсманлитов.
Исмаилиты — еще одна преимущественно крестьянская по
своему составу этноконфессиональная группа в Сирии, сложившаяся
здесь в IX—X вв. Сирийские исмаилиты — прямые потомки
грозных хашишинов средневековья. Они до сих пор в большинстве
живут вокруг старого исмаилитского центра г. Салямпя,
окруженные суннитами, частью же далее на запад, отдельными общинами
среди алавитов, и на север, в горах Бериша, а также в оазисе
Пальмира и в других частях страны, куда они переселились из
традиционных районов своего обитания. Большинство исмаили-
тов населяют компактную зону: 86% — в районе Салямии,
остальные главным образом в других районах на севере 19; но их
общая численность не превышает 75—80 тыс. (1% населения
Сирин).
К северу и югу от исмалитов отдельными поселениями среди
суннитов живут сирийские шииты-мутавали. В основном они
населяют окрестности Халеба и Хомса — крупнейших
северосирийских городов с пестрым этноконфессиональным составом20. Их
численность — около 30 тыс. человек. Эти две группы
этнографически сравнительно мало отличаются одна от другой и от
окружающего их иноверного населения.
Другие арабоязычные конфессии Сирин и Иордании не
отличаются таким этнографическим единством и своеобразием, как
алавиты, друзы, исмаилиты. Например, католики делятся на
шесть конфессиональных общин (римские католики, греко-като-
лики, сиро-католики, марониты, халдеи, армяно-католики), во
многом различных по своему происхождению, традициям,
церковной обрядности. В Иордании есть даже племена
бедуинов-католиков (униатов), а также бедуинов-православных. Наряду с
ними сохраняются восточнохристианские (частью неарабские
группы несомненно этноконфессиональные, от которых в прошлом
отделились общины католиков. Вместе с тем почти все
христианские общины, как и евреи, живут в городах и быстро
интегрируются в систему современной городской культуры, характерной
для Сирии, Ливана, Иордании, Ирака п других арабских стран,
где основу городского населения составляют сунниты.
Однако большинство суннитов Сирии и Иордании (в отличие
от Ирана и Ливана) — крестьяне. Основпые этнографические
различия в этой массе существуют между крестьянами Северной
Сирии, Южной Сирии, Северной Палестины и еще больше между
всеми этнографическими группами и земледельцами Восточной
Сирии и Заиорданья, среди которых сохранилось деление на
племена и бедуинские традиции, а также остатками здешних
бедуинов, еще не перешедших к оседлости. Бедуины Сирийской
пустыни — это не просто этнографическая группа сиро-иордан-
49
ских и отчасти иракских арабов; нередко каждое племя —
самодовлеющее целое 21.
Среди суннитов-горожан заметно различаются халеоцы, дама-
скцы, латакийцы, палестинцы. Эти обычные этнографические
различия дополняются конфессиональными, хотя и низшего
уровня — по мазхабу. Так, иорданские сунниты — шафииты,
палестинцы из Наблуса — ханбалиты, из Иерусалима и Эль-Халиля — ха-
нифиты, их южносирийские соседи — маликиты, североснрии-
ские — сунниты, как и турки,— в большинстве ханифнты,
племена Сирийской пустыни и прилегающих районов — ханбалиты,
племя руала и др.— шафииты и т. д. В больших городах
приверженцы разных мазхабов суннизма живут чересполосно.
Что касается сирийских крестьян-феллахов, то суннитский
ислам того или иного мазхаба мало затронул их традиционную
психологию. Как отмечал Ж. Велерс, «об исламе [сирийский]
феллах ничего не знает... В сельских местностях мечети
встречаются очень редко и посещаются слабо. Крестьянин не находит
там никакого религиозного руководства... Он на деле
пренебрегает самыми элементарными религиозными обязанностями. Не
говоря уже о паломничестве, даже пять ежедневных молитв им
редко соблюдаются. Мы имеем дело с родиной соперничающих
религий, и все-таки их влияние остается настолько
поверхностным, что последователей различных вероисповеданий трудно
различить по их поведению» 22.
Если формально каждая сельская конфессиональная группа
имеет свое собственное вероисповедание, то народная религия всех
этих групп в основной своей части едина. По словам Ж. Велерса,
сирийские «феллахи, будь то мусульмане или христиане, марони-
ты, друзы или алавиты, на деле придерживаются одних и тех же
верований независимо от формальной их привержепности к той
или иной религии. И эти верования черпаются из одного и того
же старого, доисламского и дохристианского, источника,
восходящего к заре истории. Такова вера в духов мужского и женского
пола, населяющих небо и землю, джиннов и джинний... вера в
дурной глаз, против которого повсюду принято защищаться
знамением — рукой с пятью вытянутыми пальцами; вера в талисманы: в
синюю стеклянную бусину — харазу и квасцовый камень,
который носят все мальчики без исключения; вера в магию и в магов,
в зелья и в колдовство; древние крестьянские верования в
независимую и таинственную волю, присущую растениям, полям и
временам года. Все эти верования проявляются в обрядах, столь
же древних, как библия: колосья, оставляемые несжатыми,
зерна, бросаемые на току и т. п.» 23.
Среди сирийских крестьян-суннитов широко распространен
культ святых (вали, или вели), к могилам которых совершают
паломничества и обращают молитвы с семейными или личными
просьбами. Иногда в таких могилах (мазар) захоронен
средневековый аскет или мусульманский ученый, или же «это памятник
вымышленной личности, имя которой скрывает под мусульман-
5в
ским обличием очень древнее безымянное божество» горы,
источника, вечнозеленого дерева» и.
Крестьянские календарные праздники никак не связаны с
ортодоксальным исламом и его лунным календарем; они следуют
древнему юлианскому календарю с автохтонными арамейскими
названиями месяцев (содержащими имена древнесемитских
богов) и сопровождаются разнообразными народными ритуалами.
Веротерпимость, сосуществование многих религиозных общин
н областнические тенденции — характерные черты религиозно-
культовой жизни Сирии начиная с античных времен, с
распространения здесь иудаизма, христианства различных направлений и
других религий еще в первые века н. э. Сирийцы гордятся
святыми разных религий на своей земле как общенациональным
культурно-историческим достоянием.
Что касается исламских духовных орденов, то среди арабов
Сирии, Ливана, Палестины и Иордании они не получили
значительного распространения и не стали, как в других арабских
странах, фактором этиоконфессиональной идентификации.
Ливан во многих отношениях составляет «особый случай»
среди арабских стран. В отличие от таких малых горных
арабских стран, как Йемен и Оман, в Ливане — не одна, а несколько
ландшафтных зон, благоприятных для земледелия, а именно
приморская низменность, речные долины Бекаа и Литани, горы
Ливана п Антиливана. Эта средиземноморская страна вместе с
Сирией, Палестиной и северо-западной частью Ирака представляет
собой один из главных мировых перекрестков цивилизаций. По
этим причинам в аграрном Ливане нет одпого крестьянского
этнографического ядра, но существует целых пять крестьянских
этпоконфессиональных и в то же время областных групп, а сверх
того - более десятка городских и деревенско-городских этнокон-
фисснональных и чисто конфессиональных общин (например, гре-
ко-католики).
Вместе с северо-западными областями исторической Сирии
Ливан с раннего средневековья является территорией, где ни одна
из конфессиональных групп (первоначально христианских : не-
сториане, монофиситы, православные-мелькиты, монофелпты,
позднее также мусульманских: сунниты, шииты, исмаилиты,
друзы, алавиты) не была численно преобладающей. Гонимые за
веру бежали в ливанские горы, и здесь иным из пих удавалось
найти приют и сочувствие у свободолюбивых горцев. В отдельных
районах в течение более или менее продолжительного времени
господствовала та или иная конфессия, но рядом и чересполосио
с ней существовали общины иноверцев, где-то по соседству
имевшие свои религиозные и политические центры.
С конца XVII в. впутри Османской империи начала
формироваться своеобразная политическая культура Ливана,
первоначально как чисто феодальная. Уже в первые столетия османского
владычества (XVI в.) началось сближение между друзскими
феодалами, общинной знатью маронитов и православных, высшим
христианским духовенством протия общих г.рагон — турецких ira-
шей, турецких и арабских (суннитских и шиитских)
мусульманских феодальных властителей отдельных частей Ливана.
Ливанские феодалы-друзы возглавили процесс объединения. При этом
они шлп на всевозможные уступки христианской знати,
представленной духовенством, быстро возвышавшимися родами служилой
знати: наследственных сборщиков налогов, военачальников и пр.
Эта группировка друзских и маронитских феодалов сумела
извлечь плоды и из начавшегося крестьянского движения на севере
Горного Ливана, когда крестьяне — марониты, праиославные и
сунниты — изгнали местных феодальных владетелен — шиитов Ба-
ну-Химад. В 1773 г. Северный Ливан объединился с
центральными районами, представлявшими собой автономное феодальное
государство, глава которого избирался представителями родов
разных конфессий из членов одного эмирского рода. В 1590—
1697 гг. эмирским родом были сунниты (или тайные друзы?) Ма-
ниды, в 1697—1841 гг.—их родичи Шихабиды. Ранние Шихаби-
ды также исповедовали суннизм или друзскую религию, но
поздние приняли веру маронитов, поскольку маронитская церковь со
второй полонины XVIM в. становится крупнейшей силой Горного
Ливана, а ее патриарх — почти соправителем эмира. Эмиры
стремились приспособиться к растущему влиянию маронптской
общины. Эмир Фахр ад-дин II аль-Мани (1590—1635), вероятно,
втайне исповедовал религию друзов, но выдавал себя за суппита,
а европейским дворам и папе римскому обещал перейти в
католичество. С середины XVIII в. часть Шихабидов и родственной
им семьи Абу-л-Лям, возможно бывших до того друзами, начали
крестить своих детей и посещать церкви. Вместе с тем эти
знатнейшие феодалы Линана официально считались сунпитами (но
хоронили их по друзскому обряду). В общем, они соблюдали
требования всех трех религий. В Ливане говорили, что здешние
эмиры «рождались христианами, жили, как мусульмане, а умирали .
друзами» ". Такое поведение допускает друзское и шиитское
правило такия — скрывания веры 2в.
Среди простых мусульман также было немало случаев
принятия христианства, особенно в период перехода Ливана под
власть египетского правителя Мухаммеда-Али-паши, когда среди
мусульман производились рекрутские наборы, а христиане были
от них освобождены 27.
Это был переломный период в истории межконфессиональных
отношений в Ливане. К этому времени ливанское крестьянство
разных вероисповедании накопило значительные традиции
совместной борьбы против местных крупных феодалов (шиитских,
суннитских, друзских) и турецких (а также турецко-египетских)
пашей. Вместе с тем, по мнению некоторых исследователей, к
тому времени светские феодальные (личностные) связи уже
превалировали над конфессионально-общинными; среди вассалов
феодальных владетелей были лпца разных вероисповеданий, и они
вместе выступали в поход 2Й.
По с ксшца XVIII в. положение начинает меняться.
Антифеодальная борьба ливанского крестьянства затрагивает интересы
«рузских феодалов. Те из них, кто принял христианство, а также
iioiwifl. выросшая из их вассалов маронитская и православная
знать и христианские церкви сумели воспользоваться плодами
крестьянского движения! для ослабления друзских шейхов. Теперь
политическая консолидация Горного Ливана возглавлялась
христианами, а друзские шейхи стали организаторами
антихристианских выступлений.
:)тп две противоположные тенденции — совместная борьба
крестьян и горожан разных конфессий за освобождение Ливана
оТ иноземного владычества, создание собственного государства и
провоцируемые реакционными силами межобщинные
столкновения — поочередно брали верх в течение последних двух столетий.
Во время вселиванского восстания 1840 г. против турецко-
епшетских властей, начатого друзами, но поддержанного также
христианами и мусульманами, одна из повстанческих групп,
включавшая друзов, маронитов, греко-католиков, суннитов и
шиитов, приняла декларацию, в которой назвала себя «пародом
Горного Лппана»29. В 1841 г. эмир Башир III создал совещательный
орган из десяти представителей конфессиональных групп (по три
маронпта и друза, одному греко-католику, православному,
сунниту и шииту).
Двадцатилетие 1841 — 1860 гг. вошло в историю Ливана как
время кровавых столкновений между этноконфессиональнымн
группами, прежде всего — маронитами и друзами. Советский
исследователь М. А. Родионов характеризует их следующим
образом: «Друзско-маронитские столкновения 1841, 1845 и 1860 гг.
являлись частью движения ливанского крестьянства,
выступавшего против попыток знати сохранить и упрочить свои
привилегии. В основе событий лежали объективные социально-классовые
противоречия, нашедшие субъективное выражение в форме
религиозного антагонизма. Все три столкновения происходили в
районах смешанного расселения, т. е. там, где межобщинная
напряженность была наиболее интенсивна. Каждая новая вспышка
насилия оказывалась сильнее предыдущей. Каждое столкновение
приводило к политическим изменениям внутри страны, усиливая
вмешательство европейских держав в дело управления
Ливаном» 30.
Антифеодальный характер борьбы маропитских крестьян
вызнал по только конфессионально-общинное, но и классовое разме-
Яхеианне сил. Уже накануне восстания мароиитов против друзских
феодалов 1845 г. руководителями движения стали выходцы из
крестьян, деревенских ремесленников, сельского духовенства.
Против них друзские феодалы натравили своих единоверцев-крестьян,
находившихся в положении привилегированных арендаторов. Во
время резни католиков 1860 г. друзам помогали местные сунниты
и шииты, а также турецкие власти, разоружавшие маронитов, и
англичане, бывшие советниками друзских шейхов. Православные
53
(ориентировавшиеся на Россию) и протестанты (которым покро.
вительствовали Англия и США) старались сохранять нейтралитет
Маронитским крестьянам помогали христианская торговая бур!
жуазня Бейрута и других городов, а также мароннтская церковь,
тогда как маронитскне феодалы, по свидетельству очевидца,
«желали втайне успеха друзам. Демократические настроения,
оказавшиеся столь губительными для феодальной власти шейхов ...
могли оказаться губительными и для их собственной власти...» 3|ш
Трагедия Ливана была в том, что классовая борьба
крестьянства и буржуазии против феодалов переросла в религиозную войну,
унесшую тысячи жизней, причем друзы и мусульмане, громя
села и городки христиан, не щадили даже стариков, женщин и
детей 32.
Истребление христиан друзами и мусульманами
распространилось н на Сирию (в Дамаске защиту христиан взял на себя
национальный герой Алжира Абд аль-Кадир со своими мухад-
жнрами-алжнрцами). Бежавшие от погрома сирийские христиане-
горожане основали новый (восточный) пригород Бейрута,
постепенно превратившийся в центр христиапско-ливанской культуры*
Маронитско-друзская резня вызвала вмешательство
европейских держав, под давлением которых Высокая Порта приняла
«Органический регламент» о Горном Ливане, ставший основой его
конституционного развития по пути «конфессиональной
демократии». Был создан Центральный административный совет Горного
Ливана, в который вошли по два представителя от каждой кон^
фессиональной группы. Впрочем, здесь еще в 1843—1860 гг. на
уровне местных малых административных единиц действовали
советы представителей основных религиозных общин. В 1864 г.
была принята важная поправка к «Органическому регламенту»,
в соответствии с которой Центральный административный совет
избирался соответственно численности каждой из конфессий
Горного Ливана. Этот принцип сохранялся в ливанских
конституциях 1926 г., 1943 г. п др. (см. ниже).
В период французского мандата границы автономного Ливана
были расширены. Если в Горном Ливане марониты и другие
католики составляли 2/з населения, то в новых границах — лишь
около 7з, а все христиане — немногим больше половины. При
этом даже православные, а тем более сунниты далеко не сразу
примирились с отделением от Сирии и Палестины 33.
В настоящее время ливанское общество урбанизировано. Хотя
большинство ливанцев живет в селах, почти каждая семья
связана разнообразными узами с тем или иным городом. Гражданская
война привела к резкому усилению эмиграции, еще большему, чем
прежде, разъединению этноконфессиональных групп внутри
страны и в эмиграции и одновременно с усилением их зарубежных
связей. Ускорилась и консолидация внутри групп, например
сближение между шестью католическими церквами (маронитской,
греко-католической, сиро-католической, халдейской,
армяно-католической и римско-католической), к которым принадлежит более
рех четвертей ливанских христиан, и и меньшей степени — меж-
\г тугими христианскими общинами Линана (в целом
христиане составляют около половины населения страны). Однако все
крупнейшие ;)тноконфессиональные группы сохранили свою
индивидуальность вплоть до эндогамии; па их основе формируются
политические партии или фракции внутри партий, а на базе
последних — военные пли военизированные формирования и пр.
Среди этих групп различаются крестьянские по своему происхож-
neiiiiio городские и смешанные, до сих пор во многом
сохраняющие традиционный этнографический облик.
Крупнейшая этноконфессиональная группа Ливана — христиа-
не-марониты — сложилась в Горном Ливане еще в VIII— X вв.
«Отец арабской истории» Масуди в X в. писал, что в то время
марониты жили по всей Сирии, но основной их территорией был
Горный Ливан 84. В эпоху крестовых походов (конец XI — конец
XIII в.) марониты, как правило, с оружием в руках
поддерживали крестоносцев, хотя иногда и восставали против них. В то
время марониты были самой привилегированной из восточнохристи-
анпчпх этноконфессиональных групп Ливана. Их духовные
руководители (патриархи) обычно соглашались на подчинение маро-
нитской церкви папскому Риму. В период мамлюков (конец
XIII — начало XVI в.) марониты лишились прежних привилегий,
подиергались преследованиям (как, впрочем, и друзы, алавиты и
прочие несунниты), их связь с римской церковью ослабела 3\
В период османского господства (1516—1832) марониты
пользовались правами особой этноконфессиональной общности (милля,
миллет).
Процесс включения Ближнего Востока в мировой
капиталистический рынок раньше всего затронул городские христианские об-
щипы и маронитское крестьянство. В XVI в. маронитскне
крестьяне начали переселяться из Северного Ливана в Центральный, на
земли друзов, и в XIX в. стали здесь крупнейшей этноконфессио-
налыюй группой. Продвигаясь далее на юг. марониты-крестьяне
заселили отдельные районы Южного Ливана, проникли в долины
Литани и Бакая, Северную Сирию и Северную Палестину. До
сих пор большинство маронитов — это либо крестьяне-горцы, либо
горожане-эмигранты. Хотя среди них имеется и буржуазия, и
интеллигенция, и рабочие, в городах Ливана марониты составляют
ничтожное меньшинство (5—10%), так как городские занятия
давно монополизированы другими этноконфессиональными
группами: арабами-христианами других вероисповеданий, суннитами,
иудеями, а также армянами, ассирийцами, курдами. Друзы —
другая этноконфессиональная группа горцев, в основном также
крестьянская, сложилась в области Шуф в горах Центрального Ли-
иана. к югу от исконной территории маронитов. Теснимые маро-
нитскими феодалами, часть друзов в XIX в. переселилась на юг
Ливана, в Сирию и Палестину. Правослаиные, шииты (мутавали)
и сунниты составляют меньшинство крестьян в горах, но
большинство — в долинах. Крестьяне-сунниты северного Ливана —
этов в основном потомки арабского союза племен танух. Как уже
указывалось выше, в населении Ливана православные составляют
десятую часть, сунниты — пятую п шииты — менее пятой.
Все христианские общины Ливана (раньше всего
католические и униатские) уже более двух столетий укрепляют связи с
европейской цивилизацией и подвергаются ее влиянию. В горо-',
дах, где по традиции преобладают сунниты (составляющие
подавляющее большинство населения Триполи и других городов и
более 35% —Бейрута), христиане разных церквей проживают в
одних и тех же кварталах, тогда как мусульмане — отдельно. Даже
столица Ливана (где проживает 45% его населения) разделена
на две основных части — христианскую и мусульманскую,
причем внутри каждой из них конфессиональные группы селятся в
осповпом обособленно. В сельской местности христиане разных
вероисповеданий, друзы, сунниты, шииты-мутавалн п алавиты
живут отдельными деревнями.
В связи с этноконфессиональными различиями поселения той
или иной конфессиональной группы имеют характерные
архитектурные особенности. В горах, где живут марониты, друзы п часть
православных, встречаются разбросанные поселения и даже
отдельные хутора, или фермы. Дома христиан и друзов — каменные
или кирпичные, оштукатуренные или просто побеленные, с
плоской или чаще двускатной черепичной крышей. У зажиточных
христиан дома обычно европейского типа. Дома мусульман
отличаются от христианских своими внешними глухими стенами
без окон и закрытым двором, куда выходит внутренняя крытая
галерея со стрельчатыми сводами и окнами зв. Сохраняются
различия также между традиционными провинциальными
мусульманскими городами и европеизированным Бейрутом.
Ливанские крестьяне-шииты и часть бедных
крестьян-суннитов отличаются от христианских крестьян и от горожан своей
традиционной одеждой, отсутствием столовых приборов37 и т. д.
Отчасти эти этнографические различия объясняются
значительным разрывом в уровне доходов и образования между
этноконфессиональными группами. Выше всего этот уровень — у
христиан (особенно у католических или униатских групп) и у
друзов, ниже у мусульман (причем самый низкий — у шиитов). Как
отмечал ливанский социолог Юсуф Шами, «используя любой
разумный показатель, например уровень образования, пли форму
занятости, или процент работающих женщин, или доход семьи,
или посещение кинотеатров, или участие в профессиональных
ассоциациях, мы можем совершенно определенно выявить
разницу в социоэкономическом положении религиозных групп. Высший
слой составляют христиане... на середине социоэкономпческой
шкалы располагаются друзы, ближе к основанию — сунниты и
ниже всех других — шииты» 38. Конституция Ливана отражает
сложную конфессиональную структуру ливанского общества39.
Несмотря на проживание на одной территории, общий язык и
общую в своей основе ливанскую народпую культуру, пять круп-
56
нейших конфессий Ливана проявляют себя как этиоконфессио-
нальные группы. Они, особенно марониты и друзы, нередко даже
рассматриваются как отдельные народности, арабоязычные, но
не арабские в полном смысле слова. Так, английский арабист
р. Э. Кроу писал: «Для ливанца религиозная община является
ег0 нацией, т. е. тем народом, к которому он принадлежит и
частью которого полагает себя. В Ливане проблема не в отсутствии
наинй. а в том, что их здесь слишком много и что все они уже
полностью сложились» 40. Это — одна из папболее резко
выраженных формулировок распространенной точки зрения, причем
главное основание для нее не этнографические признаки, а
обостренные, даже антагонистические отношения между этпоконфессио-
нальнымн группами, особенно между христианами, друзами и
мусульманами. Поэтому говорить о ливанской арабской нации
пока что не приходится.
Исторически в арабском мире сложилась этническая ситуация,
не похожая на ту, которую мы наблюдаем в Европе, на Кавказе
или в Тропической Африке. В качестве основной единицы
выступала та этническая общность, которую можно назвать арабской
народностью. Она ассимилировала, правда не полностью,
большинство других народностей арабских стран. На их основе с
течением времени образовались арабоязычные этноконфесснональные
группы. Они стали основным подразделением арабской общности,
более значимым, чем областные этнографические группы. Однако
изначально арабская народность разделялась на кланы, племена,
племенные союзы, группы. Это деление также сохрапилось.
В Йемене и Омане порой племена и кланы внутри одного
союза племен принадлежат к разным конфессиям, в Египте, Ливане
и Тунисе основная масса населения арабизировалась вне родо-
племенных структур.
Но в большинстве арабских стран племя как социальная
единица медленно утрачивает свое значение перед складывающимся
национальным единством. Дальше всего процесс национальной
консолидации продвинулся в исторически наиболее развитых
арабских странах (например, Египет, Тунис), однако во многих
частях арабского мира этноконфессиональные группы все еще не
могут рассматриваться как чисто конфессиональные.
1 Кобищанов Ю. М. Африка: этническая пестрота или единство в
многообразии? - Мировая экономика и международные отношения. 1978. № 7.
2 Дилигенский Г. Г. Северная Африка в IV-V вв. М., 1961; Жюльен Ш.-А.
История Северной Африки с древнейших времен до арабского завоевания.
м-. 1W1, с. 244.
3 Кобищаиов Ю. М. Северо-Восточная Африка в рапнесредневековом
мире (VI - середина VII в.), М., 1980.
k Hourani A. H. Race, Religion and National State in the Middle East.—
Readings in Arab Middle Eastern Societies and Cultures. Ed. by A. M. Lutfiy-
Уа and Ch. Churchill. The Hague, 1970, с 4.
ъ Лазарев М. С. Национальный вопрос в странах Азии и Африки.- На-
Роды Азии и Африки. 1979, № 1, с. 130.
6 Амиръянц И. А. Арабы Южного Ирака.- Расы и народы. Вып. 9. М.,
19?9, с. 223-224.
й7
7 Белявский В. А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический M
1971.
8 Амирьянц //. А. Арабы, с. 223-236: Тэсиджер У. Озерные арабы. M
9 Шпажников Г. А. Религии стран Западной Азии. М., 1976, с. 138—13?
10 Бартольд В. В. К истории крестьянских движений в Персии.- Из да
лекого и близкого прошлого. Пг., 1923, с. 55.
11 Адамов А. Ирак арабский. Бассорский внлайэт в его прошлом и на
стоящем. СПб., 1912, с. 152; Данциг Б. М. Арабы Ирака.- Народы Передне]
Азии. М.. 1957, с. 128.
12 Алитовский С. Н. Аграрные отношения и крестьянство в колониаль
ном Ираке.- Народы Азии н Африки. 1981, № 4, с. 88.
13 Данциг Б. М. Арабы Ирака.
14 Шпажников Г. А. Религии стран Западной Азии, с. 118-130, 169-
190.
15 Dussaud R. Histoire et religion des Nosairis. P., 1900; Jacquot P. L'Eta
des Alaouites (Gouvernement de Lattaquié). Terre d'art, de souvenirs et di
mystère. Beyrouth, 1931, с 32-35.
16 Jacquot P. L'Etat des Alaouites, с 23-25.
17 Там же, с. 39.
18 Fouron N. Les Druzes. P., 1930; Hadson M. G. Al-Darazi and Hamza h
Origin of the Druze Religion.— Journal of the American Oriental Society. 1962
vol. 82, № 1.
t9 Jacquot P. L'Etat des Alaouites, с. 35-37; Велерс Ж. Крестьяне Сирт
и Ливана. М., 1952, с. 99-104; Шпажников Г. А. Религии стран Западное
Азии. с. 179-180.
20 Шпажников Г. А. Религии стран Западной Азии, с. 180.
21 Epstein E. The Beduins of Transjordan. Their Social and Economic Prob
lems.- Royal Central Asian Journal. 1938, vol. 15, № 2, с 221-223; Родин Л. Е
В стране глубоких колодцев. М., 1962, с. 148-149; Велерс Ж. Крестьяне
Сирии и Ливана. М., 1952, с. 92.
22 Велерс Ж. Крестьяне, с. 267-268.
23 Там же, с. 268.
24 Там же. с. 269-270.
25 Родионов М. А. Марониты. Из этноконфессионалыюй истории
Восточного Средиземноморья. М., 1982, с. 36.
26 Однако в начале XIX в. эмир Башир II открыто объявил себя христи-
анином-маронитом. Так же поступил его преемник Башир III, последний
эмир династии Шнхабидов.
27 Polk W. /?. The Opening of South Lebanon: A Study of the Impact ol
the West on the Middle East. Cambridge, 1963, с 51, 216.
28 Там же, с. 140.
29 Ilarik I. Politics and Change in a Traditional Society: Lebanon 1711-
1845. Princeton, 1968, с 17.
30 Родионов M. À. Марониты, с. 43-44.
31 Там же, с. 49.
32 Там же, с. 48-49.
33 Зубов А. Б. Политическая культура Ливана: прошлое и настоящее
конфессиональной демократии.- Народы Азии и Африки. 1983, № 5, с. 167-
169.
34 Al-Mesudi. Kitab at-tanbih wa'1-ischraf. Ed. J. M. de Goeje. Lugduni
Batavorum. 1906, с 153-154.
35 Родионов M. A. Марониты, с. 9-21.
36 Велерс Ж. Крестьяне, с. 245.
37 Там же, с. 249.
38 Chamie J. Religion and Fertility: Arab Christian — Muslin Differentials.
Cambridge, 1981, с 34. Цит. по: Зубов А. Б. Политическая культура Ливана,
39 Конституции государств Ближнего и Среднего Востока. М., 1956, с. 222.
40 Crow Я. Е. Lebanon: Party Issues.- Electoral Politics in the Middle
East: Issues, Voters and Elite. L., 1980, с 40-41.
В. И. Тихомиров
СЕПАРАТИЗМ В ИДЕОЛОГИИ
ЮЖНОАФРИКАНСКОГО КАЛЬВИНИЗМА
Южная Африка является одной из наиболее
христианизированных стран Африки: в 1985 г. на долю христиан приходилось
77% всего населения ЮАР. Из всех христиан 51%
—протестанты, остальные — католики, приверженцы хрпстианско-африкан-
ских церквей н различных небольших сект '. В свою очередь,
около половины протестантов — кальвинисты, относящиеся боль-
шеи частью к реформатам, а также к пресвитерианам и конгре-
гационалистам. Среди отдельных религиозных организаций
наибольшим влиянием в ЮАР пользуется Голландская реформатская
церковь (НГК)2—12,5% населения Южной Африки регулярно
посещают ее приходы 3. Причем следует иметь и виду, что
влияние реформатов в Южной Африке не ограничивается только
рамками их доли в общем числе верующих: рьяными
приверженцами птон группы церквей являются многие политические деятели
ЮАР.
Широкое влияние кальвинизма в Южной Африке объясняется
скорее историческими, нежели теологическими причинами. Когда
в середине XVII в. Южная Африка становится колониальным
владением Голландии, кальвинизм уже прочно занимает
господствующее положение в этой стране. Вплоть до начала XIX и.
государственной церковью голландской Капской колонии является
Реформаторская церковь Нидерландов. К этому времени
реформаты на юге Африки уже представлены не только голландскими
кальвинистами, но и французскими гугенотами, английскими и
шотландскими пуританами.
До британской оккупации Южной Африки 1800 г. в Капской
колонии не существовало независимой реформатской церкви.
Службу там отправляли священники, направляемые
Реформаторской церковью Нидерландов, а сами южноафриканские приходы
материально полностью были зависимы от голландской церкви.
Британская оккупация осложнила связи Реформаторской церкви
с ее южноафриканскими приходами. Последние попали иод
контроль английской администрации Капской колонии, под которым
находились до 1843 г., когда был издан декрет, предоставлявший
самоуправление южноафриканским реформатским приходам. Еще
© В. И. Тихомиров, 1990
59
в 1824 г. на основе капских приходов был создан первый
капский реформатский синод, а 18 лет спустя южноафриканские
реформаты приняли название Голландской реформатской церкв^
Южной Африки (НГК) 4.
Британская оккупация Капской колонии привела не только
к изоляции и впоследствии образованию независимой
южноафриканской церкви, но и к росту противоречий между реформатами
и англиканами. Сразу после захвата колонии англичанами
патриархально-рабовладельческий образ мышления потомков
первых голландских поселенцев — буров — нришел в противоречие с
буржуазно-имперскими взглядами британских властен. Особенно
наглядно это проявилось в 1830-е годы после отмены рабства во
всех владениях Великобритании. Значительная часть буров, не
согласившись с политикой властей, покинули Капскую колопию
и отправились в «великий трек» (великое переселение) в
поисках земли обетованной.
«Великий трек», большинство участников которого были
протестантами, привел к распространению влияния НГК сначала на
Натал, а затем и на Трансвааль и Оранжевое Свободное
Государство. Усиление реформатов вызвало недовольство властей
Капской колонии. В 1862 г. было вынесено специальное решение
Верховного суда, гласившее, что НГК предоставлялось
самоуправление исключительно в пределах территории Капской
колонии и поэтому прихожане НГК в других частях
южноафриканского региона синоду капской церкви неподвластны. Это решение
послужило причиной образования независимых церквей в Ната-
ле, Трансваале и Оранжевой республике. После создания Южно-
Африканского Союза в 1910 г. автономия голландских
реформатских церквей по отношению к капской НГК и друг к другу
была сохранена.
Образование независимых от британской короны бурских
республик привело к появлению и впоследствии к значительному
усилению политических противоречий между существовавшими
южноафриканскими государственными образованиями.
Естественно, что эти противоречия не могли не отразиться и на
расстановке сил внутри НГК и всего южноафриканского реформатства.
Проявлением этого стало создание, помимо НГК, двух
независимых реформатских церквей.
В октябре 1852 г. синод капской НГК удовлетворил просьбу
части своих пасторов, создавших ряд приходов в Трансваале п
Оранжевом Свободном Государстве, о включении этих приходов
в состав НГК. Однако состоявшаяся вскоре в Рюстенбурге
ассамблея приходов НГК приняла решение о сохранении
независимой трансваальской церкви. На этой же ассамблее было
решено назвать новую церковь Голландской реформаторской церковью
в Африке (НХК). Отказ от вступления в НГК мотивировался
нежеланием последней направлять своих пасторов и
проповедников для отправления служб в трансваальские приходы,
неприемлемостью для бурского правительства Трансвааля какой-либо
*шрмы контроля со стороны властен Капской колонн», даже
опосредованного чеРез синод НГК, а также полным несогласием
трансваальских прихожан с политикой НГК в расовом вопросе.
Последнее, пожалуй, было основной причиной раскола внутри
уГК. Либеральная политика капского духовенства, допускавшего
членство в церкви африканцев и цветных наравне с белыми,
вызывала резкий протест со стороны расистски, вернее,
по-прежнему рабовладельчески настроенных буров северных республик.
Народный совет (парламент) Трансвааля в 1853 г. полностью
одобрил создание НХК. В 1858 г. была принята конституция
Южно-Африканской Республики (Трансвааля), по которой НХК
провозглашалась государственной церковью. Свое
привилегированное положение в Трансваале эта церковь сохраняла до 1886 г.
В 1862 г. синод НХК принял устав церкви. Тогда же синод,
капской НГК признал НХК самостоятельной «дочерней»
церковью. НХК, чье руководство стояло на крайне догматических,,
расистских позициях, настояла также на официальном
закреплении существовавших названий за двумя реформатскими
церквами. Напомним, что до 1842 г. южноафриканские приходы носили
название Реформаторской церкви Нидерландов в Южной
Африке. НХК, унаследовавшая свое название от прежней бурской
церкви, тем самым стремилась подчеркнуть свою связь с ней и
преемственность ее традиций. Одновременно таким образом она
противопоставляла себя находившейся под английским
контролем НГК.
В середине XIX в. среди прихожан НХК существовала
группа людей, которые резко выделялись своим образом жизни,
манерой одеваться, а также своими религиозными взглядами,
отличавшимися крайним консерватизмом. Еще до «великого трека»
н образования бурских республик они проживали в наименее
освоенных белыми северных и северо-восточных частях Капской
колонии. Сами они называли себя «допперами». В кальвинизме
дои норы придерживались позиций фундаменталистов, не допус-
каншнх никаких отклонений от Священного писания и не
принимавших никаких новых трактовок Библии. Они также стояли
за неукоснительное соблюдение принципов Дордрехтского устава
Церковной дисциплины, утвержденного Реформаторской
церковью Нидерландов в 1618—1619 гг.
Еще в конце 1853 г. в Трансваале была образована небольшая
независимая реформатская церковь, во главе которой встал один
из немногих оставшихся к тому времени голландских пасторов
]Да» дер Хофф. К его церкви примкнуло большинство допперов.
Однако н веротолкование ван дер Хоффа оказалось слишком ли-
°еральным для южноафриканских фундаменталистов, и в 1854 г.
между ними произошел конфликт, приведший к
расформированию церкви. Тогда допперы обратились с просьбой прислать им
Cßoero пастора из Христианской реформатской церкви
Нидерландов.
В 1857 г. синод Христианской реформатской церкви Нидер-
ландов направил в Трансвааль своего священника Дирка Постму
для отправления службы в НХК. Приезд Постмы только усилил
существовавшие в трансваальской церкви теологические
разногласия.
11 января 1859 г. в Претории состоялось заседание синода
НХК. На нем произошел окончательный раскол между
фундаменталистами и евангелистами. Причиной стало пение все тех же
самых евангелических гимнов во время служб в НХК, что
последователи ортодоксального толкования доктрины Кьюпера
посчитали нарушением «чистоты доктрины». Из НХК вышел Постма,
к нему присоединились еще 15 членов синода. Месяц спустя на
собрании последователей ортодоксального кальвинизма била
основана Реформатская церковь Южной Африки (ГКСА),
называемая также «церковью допперов». Одним из ее основателей
был Пауль Крюгер. Его трактовка кальвинизма и истории буров
в дальнейшем оказала сильное влияние на формирование
националистической доктрины и теории апартеида.
Именно Крюгер перенес кальвинистское разделение
человеческого общества на «избранных» и «остальных» на историю
бурского народа. В понимании Крюгера бог сначала направил буров
на «стезю испытаний», чтобы проверить их. Пройдя сквозь все
испытания, буры стали «избранным народом». В доказательство
последнего Крюгер приводил пример сражения у Кровавой реки
в 1838 г., когда немногочисленные, но хорошо вооруженные
отряды буров одержали победу над зулусским войском. Победа
Трансвааля в англо-бурской Boihie 1880—1881 гг. явилась, по его
мнению, «окончательным подтверждением богоизбранности
буров» \
Кальвинистская доктрина Кьюпера в трактовке Крюгера была
откровенно расистской. Африканцы не входили в число
«избранных»: бурские националистические идеологи причисляли их к
«нациям без закона». В самой религиозной доктрине прямо
говорилось о необходимости «держать африканские народы в вечном
подчинении у их белых хозяев» 6.
Таким образом, к началу XX в. в Южной Африке уже были
созданы и действовали три основные голландские (по своему
происхождению) реформатские церкви: Голландская
реформатская (НГК), Голландская реформаторская (НХК) и
Реформатская церковь Южной Африки (ГКСА). При этом НГК занимала
лидирующие позиции по численности прихожан. НХК,
значительно уступавшая по своему влиянию НГК, была наиболее
популярной среди бурского или африканерского населения север-
пых районов Южной Африки — бывших бурских республик. Эта
церковь стояла на принципах ортодоксального кальвинизма.
Главным содержанием доктрины НХК был расизм. Традиционно
сильное влияние этой церкви на политических лидеров
африканеров, многие из которых были выходцами из Трансвааля, в
немалой степени способствовало тому, что расизм стал
неотъемлемой частью идеологии африканерского национализма.
Наименьшая по численности ГКСА, и отличие от двух других
церквей, не пользовалась большой популярностью среди широких
споен бурского населения. Но характерной чертой положения
этой церкви, сказавшейся на всем последующем развитии
Южной Африки, было то огромное внимание, которое ГКСА уделяла
образованию и искусству. Именно идеологи этой церкви стали
создателями теории «христианско-национального
(националистического.— Авг.) образования». Значительная часть африканер-
скон интеллигенции и тех слоев государственной бюрократии,,
которые оказывают непосредственное влияние на процесс
выработки политических решений, получили свое образование в
подконтрольном ГКСА Почефструмском университете.
В первые годы существования Южно-Африканского Союза
(ЮАС) реформатские церкви сыграли важную роль в
мобилизации националистических чувств африканеров, чем в немалой
степени способствовали укреплению позиций Националистической
партии. Церкви возглавили так называемое движение за
признание языка африкаанс, многие реформатские священнослужители
принимали активное участие в нронационалистических
организациях африканеров, да и в самой партии, а пастор НГК Д. Ма-
лаи с середины 30-х годов стал ее лидером.
Черты национализма и расизма, характеризовавшие
теологические доктрины южноафриканских реформатских церквей,
сказывались прежде всего на отношении mix церквей к черным
реформатам. Реформаторская церковь Нидерландов в Южной
Африке начала свою миссионерскую деятельность в 1824 г.т
а дна года спустя ее южно-африканским синодом был назначен
мерный постоянный проповедник для отправления служб среди
африканцев. В те годы число африканцев-христиан было столь
незначительно, что вопрос о разделении церкви по расовому
признаку просто не ставился.
Первоначально НГК, перенявшая у материнской церкви все
принципы церковной организации, также придерживалась
нейтральных позиций в расовом вопросе. Однако острота этого
вопроса, по крайней мере с точки зрения патриархально
настроенных буров, возрастала по мере развития
капиталистических отношений в Капской колонии и роста в ней числа
христианизированных африканцев. К 1850-м годам число цветпых и
африканских реформатов возросло настолько, что в некоторых
мастях колонии они стали составлять большую часть прихожан.
В результате этого и церкви усилились призывы к проведению
Разделения служб по расовому признаку. В 1857 г. на девятом
заседании синода НГК была принята резолюция, гласившая:
«Синод считает желательным и находящимся в соответствии
с Библией, чтобы туземцы принимались в качестве
полноправных членов во все существующие приходы; однако там, где это
будет сопряжено с трудностями, проистекающими из людской
слабости, что будет мешать проведению дела Христа среди
язычников, туземные приходы будут пользоваться предоставленными
63
им правами в отдельном здании или учреждении» '. Эта
резолюция стала первым официальным закреплением в документах
НГК практики сегрегации как основы политики церкви по
отношению к небелым христианам. Одновременно она объявляла
также недействительной резолюцию синода 1829 г., в которой
говорилось о проведении совместных молений среди белых и черных
прихожан реформатской церкви.
Дальнейшее развитие практики сегрегации в церковных
службах НГК сделало практически невозможным управление делами
церкви в рамках единой организации. Рост числа черных
реформатов, особенно среди цветной части населения колонии, привел
в конце века к образованию отдельного синода для цветных.
В 1881 г. на заседании синода НГК было объявлено о создании
независимой «дочерней» церкви для цветных — Голландской
реформатской миссионерской церкви (НГСК). К 1899 г. НГК
также создает целый ряд автономных миссионерских организаций
среди африканского населения Южной Африки, а в 1908—
1910 гг. основывает две первые миссии в других регионах
континента — в Нигерии и в Португальской Восточной Африке.
В 1910 г. НГК объединяет существовавшие ранее раздельно
реформатские приходы для африканцев в «дочернюю» церковь —
Голландскую реформатскую церковь в Африке (НГКА). Однако
первоначально эта церковь базируется в Оранжевой
провинции ЮАС, затем создаются отдельные африканские
реформатские церкви в других частях страны. Объединение этих церквей
в единую африканскую реформатскую церковь произошло лишь
7 мая 1963 г., когда в Крунстаде состоялось первое заседание
синода объединенной НГКА. Еще несколько позднее, в 1968 г.,
НГК создает отдельную «дочернюю» церковь для индийцев —
Реформатскую церковь в Африке (РКА), объединяющую всего
четыре конгрегации.
Доктрина сепаратизма, приведшая в НГК к образованию
отдельных параллельных церквей для различных расовых групп
населения, является стержнем расовой политики и двух других
реформатских церквей. Ввиду своих крайне расистских позиций,
Голландская реформаторская церковь имеет более скромную по
количеству и менее разветвленную сеть миссионерских
организаций, нежели НГК. С момента своего основания НХК
отстаивала полную сегрегацию всей церковной деятельности и разделение
прихожан в зависимости от их принадлежности к определенной
расовой группе. В свою очередь, это стало главной причиной
низкой популярности НХК среди небелых реформатов.
Миссионерская деятельность НХК берет свое начало
с 1928 г. Однако она носила столь ограниченный характер, что
в 1948 г. миссионерское общество было распущено. Вскоре
евангелический совет НХК взял на себя руководство церковной
деятельностью среди небелых прихожан. Были созданы две
«дочерние» церкви — «Исонто лемпендуко лика Кристу»
(Реформатская христианская церковь) и «Кереке эа Нчафатсо» (Ре-
04
АорМаторская церковь). Первая действует среди африканцев,
проживающих преимущественно в Капской провинции, вторая —
в Трансваале и Оранжевой провинции. Любое смешение в
церковной службе белых и черных реформатов, даже отправление
с1уИчо белыми проповедниками, синодом церкви не разрешается,
ß "связи с этим для обучения священнослужителей африканских
прпх°Д°в НХК в Питерсбурге была создана специальная
духовная семинария Турфлуп. Материально африканские «дочерние»
церкви полностью зависимы от «материнской» НХК.
В отличие от НГК и в особенности от НХК
руководство Г КС А занимает более либеральные позиции в расовом
вопросе. Однако и здесь присутствуют элементы сепаратизма, столь
характерные для южноафриканского реформатства. В больших
конгрегациях в ГКСА практикуется раздельное проведение
служб для прихожан с различным цветом кожи, в церковной
организации существуют отдельные синоды для белых,
африканцев и цветных. Однако в малых конгрегациях, которые
охватывают своим влиянием большинство сторонников ГКСА,
осуществляются совместные службы. Высший руководящий орган этой
церкви — генеральный синод — состоит из представителей всех
расовых групп населения.
Следует отметить, что, несмотря на то что в теологических
доктринах реформатских церквей были заложены практически
все основные принципы расистской теории апартеида, влияние
реформатов на процесс выработки политических решений в
первые десятилетия XX в. было довольно ограниченным. В немалой
степени этому способствовали сохранявшиеся между
реформатским» церквами теологические разногласия. В этот период
церкви основное свое внимание уделяли вопросам сохранения
африканской культуры, языка, традиций. В 1981 г. создается
тайное пронационалистическое общество «Африканер Брудербонд»
(Африканерский союз братьев), которое к концу 1920-х годов
своим влиянием охватывает уже многих видных пасторов НХК
и ГКСА, в особенности из северных провинций. Деятельность
Брудербонда в значительной степени сглаживает существовавшие
между африканерскнми религиозными и политическими
деятелями разногласия, выдвигая на первый план задачу укрепления
единства «африканерекого народа».
Кыоперианская трактовка кальвинизма и ее главные
выразители в Южной Африке — НХК и ГКСА — р силу догматического
характера и открытой реакционности своих принципов не
получили широкого распространения среди африканского населения.
Но один из парадоксов южноафриканской истории заключался в
том, что в результате того широкого влияния, которое
традиционно имела ГКСА на Дж. Герцога и Брудербонд и НХК —
На руководство северных партий африканерекпх националистов,
кьюперианский кальвинизм занял на долгое время
господствующее место в разработке и осуществлении теории и практики
Националистической партии.
Значительную роль в укреплении позиции сторонников этой
трактовки кальвинизма в рядах партии и Ерудербопда сыграли,
но определению Т. Д. Мудп, «неофихтеанцы», или приверженцы
замены в теологической доктрине всеобъемлющего суверенитета
бога суверенитетом нации с вытекающим отсюда всеобъемлющим
национализмом. Мудп не случайно назвал сторонников этого
течения в южноафриканском кальвинизме «неофихтеанцами».
Многие из них обучались в 30-е годы в Германии, где испытали
сильное влияние идеологии национал-социализма и идеализма
Фихте, возводивших нацию и индивида в степень центральных
категорий мировоззрения.
В середине 30-х годов в Южной Африке между сторонниками
ортодоксального кыоперианского кальвинизма и
«неофихтеанцами» разгорелись ожесточенные идеологические дебаты по вопросу
о будущем политическом развитии страны. Однако многие
лидеры националистических организаций, в том числе и Д. Малан,
не примкнули ни к одному из течений в кыоперианском
кальвинизме. В этих условиях важное значение приобретала позиция
руководства крупнейшей из реформатских церквей — НГК.
Не придерживаясь ни доктрины кьюперианцев, ни взглядов
«неофнхтеанцев», теологи этой церкви, испытавшие ранее
влияние евангелических взглядов А. Мюррея, встали на позиции
«средней группы», считая необходимым установление «более
органичных отношений между народом и церковью» 8. Последняя,
по их мнению, должна была активизировать свою роль в жизни
«народа», став поистине «народной церковью» (фолькскерк). При
этом в понятие «народ» они включали только тех белых южно-
африканцев, которые придерживались доктрины кальвинистского
протестантизма, т. е. преимущественно африканеров. Учитывая
расширявшуюся в этот период политическую борьбу африканер-
ских националистов за приход к власти, доктрина реформатов
отражала взгляды именпо этой части населения.
Несмотря на существовавшие между ними различия,
сторонники всех трех основных течений в южноафриканском
реформатстве нашли общую почву для сотрудничества. Как отмечал
южноафриканский прогрессивный ученый Д. Омира,
«существовало четыре области (такого) сотрудничества: вопрос о
соотношении культуры и национализма; опасность классовых
противоречий; необходимость экономической мобилизации сил
африканеров и республиканский идеал. („Туземный вопрос", в котором
господство белых считалось само собою разумеющимся, сюда не
включался.)»9. Все идеологи южноафриканского кальвинизма
сходились на том, что нация является основной социальной
единицей. Личность, по их мнению, являлась лишь отражением
нации. Нации, в свою очередь, будучи результатом действия соли
всевышнего, отличались друг от друга своей культурой. Отсюда
делался вывод о настоятельной необходимости развития
национальной культуры и защиты ее уникальных особенностей, что
являлось служением богу.
Таким образом, к середине 30-х годов голландские
реформатские церкви Южной Африки в политической области уже
выступали единым фронтом. Представители трех церквей приняли
активное участие в организованных афрпканерскими
националистами в тот период так называемых народных конгрессах (фолькс-
Конгрессах): в экономическом (октябрь 1939 г.), по «христиан-
ско-национальному образованию» (июль 1939 г.), по вопросу
о «родном языке» (декабрь 1943 г.), но «расовой политике
африканеров» (сентябрь 1944 г.) и по вопросам взаимоотношений
церкви и государства (1947 г.). После прихода
Националистической партии к власти в 1948 г. реформатские теологи принимают
активное участие в разработке и определении направлений
деятельности южноафриканского правительства. В мае 1951 г. синод
НГК издает брошюру «Фундаментальные принципы
кальвинистской политической науки» 10. В ней содержится изложение
позиции церкви по отношению к политике правительства
националистов. При этом теологи НГК подводят кальвинистские основы
под расистскую практику правительства ЮАС, считая
исполнением божественной воли перенесение уже существующего в
церквах сепаратизма на все южноафриканское общество.
«Государство,— говорилось в „Принципах",— создано богом... и
существует независимо от его граждан... Власть государства заранее
предписана богом.» Наделение кого бы то ни было властью
осуществляется не людьми, а является даром бога избранному им
народу. Поскольку, говорилось далее в «Принципах»,
политическая власть является даром бога, постольку она, равно как и
политические права, может быть предоставлена только христианам,
причем тем из них, кто может воспользоваться «христианским
правом избирательного голоса с чувством ответственности». Все
христиане, считали реформатские теологи, «должны входить в
партию, чтобы ясно выражать свое политическое
вероисповедание». «Антихристы, находящиеся в открытой вражде с богом»,
должны были быть лишены политических прав. Таким образом,
«Фундаментальные принципы» не только полностью оправдывали
установление системы расовой сегрегации в Южной Африке,
но и подводили теологические основы под лишение большинства
населения политических прав, даже включая и тех белых, кто
боролся против апартеида, прежде всего коммунистов.
Опубликование «Принципов» положило начало периоду
острых разногласий в церковных кругах ЮАС. Противоречия
прежде всего стали возникать внутри НГК. Причем выделились две
основные группы недовольных: небольшая, но растущая группа
противников расовой сегрегации и сепаратизма как в церкви, так
и в обществе, и довольно значительная группа приверженцев
евангелических традиций, выражавших недовольство столь
открытым вмешательством церкви в дела государства. Один из
ведущих теологов НГК, профессор Стелленбошской духовной
семинарии Б. Кит доказывал несостоятельность библейских основ
политики апартеида ". Спустя пять лет одиннадцать видных тео-
07 3*
логов и пасторов церкви публикуют сборник статей под
названием «ЗаМеДленное действие», содержащий острую критику
сепаратизма и Расовой дискриминации в церкви и государстве 12.
В декабре 1960 г. в Йоханнесбурге состоялась конференция
Всемирного совета церквей. Присутствовавшие па ней
представители восьМи ведущих южноафриканских церквей, в том числе
и НГК, после длительных дебатов с делегацией экуменической
организации проголосовали за принятие резолюции, в которой
говорилось, что политика апартеида, проводимая
южноафриканским правИтельств0М' не имеет религиозного обоснования 13.
Отход голландских реформатских церквей от безоговорочной
поддержки политики правительства африканерских
националистов вызвал резкое недовольство руководства страны. Уже весной
1961 г. сиЯ°Д НХК в специальной резолюции осуждает решения
йоханнесбуРгскои конференции. Однако попытки давления на
руководство НГК с целью изменения его позиции по расовому
вопросу прив°Дят к кризису в церковных верхах. В 1962 г.
евангелисть! во главе с председателем синода трансваальского
отделения HfK Б. Ноде основывают религиозный журнал «Про ве-
ритат», в котором начинают регулярно появляться статьи с
критикой расистских порядков в стране. Тогда же в руководстве
НГК верх беРУт кьюперианцы, а в 1965 г. Ноде лишается своего
поста в церковной иерархии.
В 1974 г- специально назначенная синодом НГК комиссия для
определений позиции церкви в расовом вопросе публикует свой
доклад, озаглавленный «Раса, народ, нация». Этот доклад лег в
основу' синоДального документа «Отношения между людьми и
южноафриканское общество в свете Священного писания» 14.
В документе реформатские теологи уже отказались от
использовавшихся ранее доводов, «доказывавших» справедливость поля-
тики апарте^Да' когда проклятие Ноем Хама и его сына Ханаана
(Бытие 9 : 2^> Ю : 5) считалось основой для объявления всех
черных жителе^ ЮАР «проклятыми Богом», а «Великий трек»
буров XIX в. сравнивался со священным исходом сынов Израиле-
вых в поис!(ах «земли обетованной» (Исход). Основной упор в
системе доказательств теперь делался на то положение, что, хотя
«Священное писание проповедует и защищает необходимость
единства чеЛовечества' а также изначальное родство и
основополагающее равенство всех народов», «этническая разнородность
(людей) наХ°Дится в полном соответствии с волей божьей» 15.
Согласно этому синодальному документу НГК в основу
церковного мировоззрения были положены два принципа —
равенства и различи- Однако, писали авторы доклада, равенство было
серьезно «поД°Рвано>> человеческим грехом; его восстановление
в полном об*еме может стать возможным лишь при втором
пришествии ХрйСта- Задачей церкви в этих условиях было объявлено
«внесение ко0кРетного содержания в религиозные воззрения
людей и выра#енпе своего отношения к социальной структуре
общества». «С ДРУГОЙ стороны,— заявляли реформатские теоло-
л _- церковь должна избегать современных тенденций,
направленных на стирание всех различий между людьми.» 16
После этих предварительных замечаний в документе НГК
содержался осторожный переход к ситуации в Южной Африке:
«При определенных обстоятельствах и в конкретных условиях
Ноный завет содержит в себе положения, позволяющие
регулировать сосуществование различных народов в пределах одной
страны на основе раздельного развития» 17. При этом главной
задачей церкви объявлялся контроль за тем, чтобы
«разнородность не переросла во враждебность». «Политическая система,
основанная на аутогенном пли раздельном развитии различных
групп населения,— подчеркивали идеологи НГК,— может быть
оправдана на основе Библии, но при этом нравственной нормой
установления здоровых отношений между людьми должна стать
заповедь о любви к ближнему.» 18
Заключительная часть документа, в предвидении вероятной
критики политических позиций НГК, пыталась опровергнуть
взгляды сторонников демократизации церкви: «Голландская
реформатская церковь прекрасно осознает серьезность проблем в
межнациональных, межрасовых и личных человеческих
взаимоотношениях, существующих в Южной Африке. Она стремится к
достижению тех же идеалов... что и другие христианские
церкви... Если же Голландская реформатская церковь отличается
(в своей политике) от других церквей, то существующие
различия вытекают не из различного понимания моральных принципов
и ценностей или христианской этики, а из несходства в
понимании ситуации в Южной Африке и соответствующего учения
Господа. Различия существуют не в области идеалов и целей, а
только в области наилучших способов достижения этих идеалов» 19.
Синодальный документ 1974 г. стал важной вехой на пути
развития реформатской теологии в Южной Африке. Если в
начале для оправдания существующего дискриминационного строя
выдвигались попытки проведения прямых и буквальных
соответствий исторических событий, фактов или эпизодов библейским
сюжетам (идеологические построения П. Крюгера и Я. дю Тойта
в XIX в.), то к 30-м годам XX в. на первое место уже
выдвинулись довольно абстрактные категории философии и теологии
(Н. Дидерихс, Г. Кронье). К 70-м годам южноафриканские
богословы были вынуждены отказаться от попыток создания
всеобъемлющей теории социального развития своего общества.
(Попытка такого рода содержалась в «Фундаментальных принципах»
1951 г.) Документ НГК своей главной целью ставил определение
самого принципа апартеида путем попытки доказательства
соответствия политики раздельного развития Библии.
Заявление о признании религиозных основ политики
апартеида, прозвучавшее столь отчетливо в документе 1974 г.
Голландской реформатской церкви, вновь послужило причиной роста
противоречий в церковных кругах. Так, в 70-е годы значительно
активизировалось «Африканерское кальвинистское движение»,
созданное некоторыми несогласными с официальной позицией
реформатского руководства ЮАР теологов и пасторов. Члены этой
внутрнцерковной группы выступали за изменение политики НГК,
объявляли апартеид «ересыо» и считали своей первоочередной
задачей борьбу за устранение расовой дискриминации в ЮАР и
создание там «гармоничного общества». Они также требовали
незамедлительной отмены законов «о запрещении смешанных бра-
кон» и «о борьбе с безнравственностью», которые, по их словам,
находились «в противоречии с постулатами христианской
веры» 20.
Естественно, что сепаратизм и поддержка церковью
расистской политики южноафриканских властей не могли не вызвать
протеста со стороны небелых прихожан и пасторов. В
«дочерних» реформатских церквах с начала 60-х годов началось
брожение, стали быстро оформляться и усиливать свое влияние
оппозиционные официальному курсу НГК группировки. В 1973 г.
многие пасторы цветной, африканской и индийской
реформатских церквей — НГСК, НГКА и РКА, являвшиеся активными
участниками движения против апартеида, основали
экуменическую межрасовую реформатскую организацию «Брудеркринг»
(Круг братьев) 2|.
Уход в 1978 г. Б. Й. Форстера с поста южноафрикапского
премьер-министра п приход на его место П. У. Боты открыл в
ЮАР эпоху реформирования апартеида. Во всех организациях,
связанных с правящей верхушкой, в конце 70-х годов стали
быстрыми темпами усиливаться противоречия между
сторонниками прежнего курса и прагматиками из окружения П. Боты.
В этих условиях Голландская реформатская церковь все сильнее
оказывалась в изоляции не только среди других религиозных
организаций, но н в лагере своих политических союзников. Все
это вело к появлению глубоких кризисных явлений в
руководстве НГК. Осенью 1981 г. восемь известных реформатских
деятелей, шестеро из которых были преподавателями теологии а
семинариях НГК, опубликовали открытое письмо с обоснованием
религиозной ложности всех попыток оправдания политики
апартеида. Вслед за письмом в свет выходит сборник статей
«Компас, показывающий на бурю», в составлении которого приняли
участие уже 24 ведущих теолога, пастора и профессора
реформатских церквей и африканерских университетов. В этой книге
были затронуты многие проблемы политического положения и
стране, содержалась острая критика системы апартеида,
высказывались требования «активизации роли церкви в секулярном
обществе» 2\
Важное значение в расширении религиозного движения
против апартеида и доктрины сепаратизма в идеологии
южноафриканских кальвинистских церквей сыграло открытое письмо
123 теологов и пасторов НГК, опубликованное в официальном
органе церкви в нюне 1982 г.23. Критикуя библейское
оправдание апартеида, его философские основы и расистскую действи-
70
т(>льность, авторы письма утверждали, что принципом
социальной характеристики южноафриканского общества стала неразре-
HiiiMOCTb межрасовых противоречий, а это ставит непреодолимые
препятствия на пути развития доверия и взаимопонимания
между народностями, населяющими страну. Этот принцип, по их
мнению, должен быть уничтожен, а вместо него необходимо
создать такие условия, когда все, кто признает Южную Африку
своей родиной, смогли бы участвовать в разработке новых
политических структур. В области политики авторы письма потребо-
лалн отмены законов апартеида и перераспределения доходов.
Сам факт появления открытого письма оказал значительное
влияние на южноафриканские кальвинистские церкви.
Во-первых, это был первый за всю историю религиозного движения
против апартеида документ, подписанный столь широким кругом
священнослужителей НГК. Во-вторых, р письме содержались
практически все основные требования этого движения, оно стало
его своеобразной программой. В-третьих, дебаты, сразу
возникшие вокруг письма, еще глубже раскололи и без того
находившееся в состоянии кризиса реформатское руководство.
Открытое письмо было поддержано многими религиозными деятелями
в ЮАР, в том числе и лидерами «Африканерского
кальвинистского движения», журнал которого в августе 1982 г. опубликовал
статью в защиту авторов письма.
Дебаты по вопросам, затронутым в открытом письме, были
вынесены на заседание генерального синода НГК в октябре
1082 г. Однако из-за противодействия консерваторов широкой
дискуссии на синоде не получилось. Генеральный синод
подтвердил позицию церкви, изложенную в отношении расовых проблем
в ее документе 1974 г., хотя в специальной резолюции
отмечалось, что последние события внесли такие изменения, которые,
в сущности, требуют пересмотра этого решения. Поэтому
создается специальная комиссия, главной задачей которой объявляется
рассмотрение возможностей для изменения резолюции церкви
1074 г.24
Спустя год капское отделение Голландской реформатской
церкви на своем заседании официально присоединяется к
решению цветных реформатов об объявлении апартеида «неверной
доктриной» ". Этот шаг фактически означал, что одно из самых
крупных отделений НГК отказывалось признавать и следовать
решениям центрального руководства церкви.
Незадолго до осуждения капскими реформатами апартеида
исполком НГК сделал заявление, в котором, в частности,
говорилось: «Хотя церковь не обязана прямо вмешиваться в конфликт,
имеющий место в политической области, она вовлечена в него
косвенно, поскольку ее прихожане относятся к разным
противоборствующим сторонам. Церковь обязана строго предупредить
<> греховности раздора между братьями...» 26. Как стало
очевидным из последовавших событий, это заявление не уменьшило
остроты разногласий внутри Голландской реформатской церкви.
71
В 1983 г. под значительно возросшим давлением евангелистов
и противников апартеида исполком НГК назначает специальную
комиссию по рассмотрению вопроса о снятии расовых барьеров
внутри церкви, т. е. о ликвидации одного из важнейших
принципов доктрины сепаратизма. Комиссия, начавшая работу в
декабре 1983 г., уже через четыре месяца приходит к выводу о
необходимости отмены всех барьеров ".
Середина 80-х годов войдет в историю Южной Африки как
один из важных этапов развития антирасистского движения в
стране. Конституционные маневры правительства П. Боты и
введение в действие новой конституции ЮАР, закрепившей
политическое бесправие африканского большинства населения, дали
толчок невиданным по размаху и протяженности выступлениям
южноафриканских трудящихся. Кризис в стране обострил
имевшиеся противоречия во всех связанных с режимом апартеида
организациях, в том числе и в реформатских церквах. Причем
размежевание сил стало проявляться не только внутри каждой
из кальвинистских церквей, но и между Голландской
реформаторской церковью (НХК), по-прежнему придерживающейся
открыто реакционных позиций, и НГК, где все больший вес
начинает приобретать позиция сторонников реформ системы
апартеида, его мирной ликвидации. Это было наглядно доказано
результатами состоявшихся на протяжении 1986 г. заседаний
генеральных синодов обеих церквей.
В мае 1986 г. генеральный синод НХК подавляющим
большинством голосов принял резолюцию, подтверждавшую его
прежние решения относительно полного одобрения теории и практики
апартеида.
В синодальном документе, посвященном этому вопросу, в
частности говорилось: «Церковь, сознавая угрозу, которую несет с
собой расовая интеграция белого и небелого населения, не желает
допускать никакого смешения рас в своей среде. В качестве своей
цели она ставит создание отдельных церквей для небелых расовых
групп, подтверждая свое убеждение, что это наилучшим образом
будет способствовать выполнению веления Господа — „идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа" (Матф. 28 : 19) — и что единство во Христе от этого не
пострадает» 28.
Генеральный синод НГК (октябрь 1986 г., Претория) в
соответствии с рекомендациями своего предыдущего заседания в
1982 г. обсуждает и утверждает в качестве своего документа
новый доклад, подготовленный специальной синодальной комиссией
и посвященный рассмотрению взглядов церкви на расовую
проблему в Южной Африке. Этот документ, озаглавленный «Церковь
и общество», в разделе о политических моделях развития
южноафриканского общества содержал следующее утверждение:
«Церковь... убеждена в том, что применение апартеида в качестве
политической и социальной системы, которая несет людям
несправедливость и ведет к установлению неоправданных привиле-
72
riiii одной группы населения над другой, не может быть
оправдано с точки зрения христианской этики» 29. И хотя далее в этом
документе южноафриканских кальвинистов содержались старые
призывы к необходимости учета «разнородности народов» в любых
проектах политического устройства, значение факта частичного
осуждения апартеида Голландской реформатской церковью
трудно переоценить.
Многие либералы-реформаторы остались недовольными
робостью признаний документа «Церковь и общество», но в еще
большей степени неудовлетворенными себя почувствовали
ортодоксальные кальвинисты, которые все явственнее начинали
терять влияние в рядах НГК. Уже в начале 1987 г. они в рамках
НГК создали так называемый Голландский реформатский союз,
представлявший собой объединение священнослужителей,
несогласных с решениями синода НГК по вопросу об апартеиде, а
также отменой расовых барьеров в церковной организации.
Летом 1987 г. большинство несогласных с решениями
генерального синода НГК выходят из состава церкви и объявляют
об образовании независимой Африканерской протестантской
церкви, основанной на принципах ортодоксального кальвинизма,
политике апартеида и доктрине сепаратизма. Во главе новой
консервативной церкви встал профессор теологии В. Луббе 30.
Однако произошедший раскол не снял всех противоречий.
В числе священнослужителей Голландской реформатской церкви
по-прежнему оставалось значительное число пасторов,
придерживающихся консервативных и реакционных взглядов на
политическое развитие ЮАР. В августе 1987 г. исполком НГК в целях
сдерживания роста влияния этой идеологии принимает решение
о недопустимости одновременного членства в церкви и в
Голландском реформатском союзе 31.
Ноябрь 1987 г. приносит новое обострение разногласий между
НГК и НХК. Последняя в резкой форме отвергает предложение
исполкома НГК о проведении совместного заседания
руководящих органов двух церквей в целях устранения имеющихся между
ними разногласий. Особую озабоченность НГК вызвала, серия
статей, опубликованная в газете Голландской реформаторской
церкви «Ди херформдер», в которых острой критике были
подвергнуты решения октябрьского синода НГК 1986 г.S2.
Несмотря на сохраняющееся в целом большинство за
сторонниками ортодоксальных кальвинистских взглядов на политические
процессы в Южной Африке, в рядах южноафриканских
реформатов в последние годы существенно усилилось влияние
демократического крыла христианства. Видным представителем этой
части реформатских священников является цветной пастор А. Бу-
сак, приобретший мировую известность своими страстными
выступлениями против расизма в ЮАР. Именно Бусак первым
в январе 1983 г. предложил создать общенациональную
межрасовую демократическую организацию — Объединенный
демократический фронт, превратившуюся в крупнейшее внутреннее дви-
жение. оппозиционное системе апартеида33. Сам Бусак стал
одним из патронов этого фронта.
Вместе с архиепископом кейптаунским Англиканской церкви
Южной Африки Д. Туту Бусак является лидером религиозного
движения против апартеида. Д. Туту и А. Бусак были
инициаторами проведения ряда широких антирасистских кампаний:
бойкота выборов в трех палатный парламент в августе 1984 г., орга-
пизацни общенациональной кампании за освобождение из
тюремного заключения Нельсона Манделы и других политзаключенных,
маршей протеста против расистской практики южноафриканских
властей. Среди их последователей оказалась также часть
пасторов и прихожан голландских реформатских церквей.
Именно этот последний факт вынудил исполком НГК сделать в марте
1988 г. заявление, подвергающее критике политические позиции
А. Бусака и Д. Туту. Несмотря на протесты, раздавшиеся в
церкви после этого заявления, ее исполком отказался изменить свою
платформу в этом вопросе34. А председатель исполкома НГК
И. А. Хейнс даже опубликовал открытое письмо к А. Бусаку и
Д. Туту, призвав их прислушаться к «голосу разума и
примирения» и заняться «более подобающим» священнослужителям
делом ".
Первая половина 1989 г. приносит новые противоречия в
лагерь южноафриканских кальвинистов. Между «белой» НГК и ее
небелыми «дочерними» церквами — НГСК, НГКА и РКА —
происходит раскол, вызванный нежеланием руководства Голландской
реформатской церкви вопреки решениям ее синода отменять
«церковный» апартеид и создавать единую межрасовую церковь.
В то время как лидеры НГК оказались не в состоянии даже
формально выполнить свои же обещания, руководители африканской
НГКА в феврале 1989 г. отправились в Лусаку (Замбия), где
провели консультации по вопросам политического развития с
Африканским национальным конгрессом —
национально-освободительной организацией, запрещенной властями ЮАР36.
Расхождение во взглядах между НГК и ее «дочерними» церквами стало
еще более очевидным в марте 1989 г.. после проведенных
реформатскими церквами консультаций. Лидеры Голландской
реформатской церкви фактически отказались последовать за
небелыми приверженцами кальвинизма и заявить о своем осуждении
социальной практики апартеида, о необходимости немедленной и
безоговорочной отмены всех дискриминационных законов и
чрезвычайного положения в стране 37. В итоге НГК оказалась в
изоляции как ср«дн консерваторов, для которых ее документ
«Церковь и общество» был «слишком либеральным», так и среди
подавляющего большинства южноафриканских христиан,
выступающих npoTiuî апартеида, которые не считали, что в позиции этой
крупнейшей церкви ЮАР произошли значимые изменения.
Усиление в последние годы демократических тенденций в
южноафриканском реформатстве имеет большое значение для
успеха борьбы за ликвидацию системы апартеида в Южной Африке.
74
особенности если принять во внимание традиционно сильное
Сияние этои группы церквей на белую общину ЮАР. Однако,
*-*ак показали недавние события, по многим актуальным вопро-
ьаМ современного политического развития страны позиции рефор-
тсКих церквей, прежде всего НГК и НХК, продолжают
оставаться консервативными. Все большее отчуждение руководящего
звеПа церквей от их паствы приводит по крайней мере к двум
данным последствиям: во-первых, к уменьшению числа
последователей основных христианских течений и, как следствие этого,
к увеличению влияния разного рода сектантских и
синкретически* религий; и, во-вторых, к значительному повышению
политической активности некоторых священнослужителей,
стремящихся сохранить и упрочить свои позиции среди южноафриканских
верующих. К середине 80-х годов наглядно проявился кризис в
реформатских церквах, усилились разногласия не только между
различными существующими там теологическими группировками,
но и между белыми и черными рефораторами, а также по
межрасовой линии — между противниками и сторонниками
сохранения системы апартеида. В результате на протяжении последних
двух десятилетий южноафриканские голландские реформатские
церкви стали терять влияние, особенно среди небелых христиан.
Преодоление нынешнего состояния кризиса в реформатских
кругах станет возможным лишь только после полного отказа
руководства этих церквей от поддержки апартеида, а также
включении реформатских священнослужителей в активную борьбу за
его уничтожение и демократизацию общественной жизни в Южной
Африке.
1 Statistiese beskrywing van die godsdienstige versproiding van die be-
volking van Suid-Afrika. Pretoria, 1985, Table 1.
-Различия в названиях церквей-«реформатская» и
«реформаторская» - происходят от их названия на голландском языке. Церковь в
Нидерландах, равно как и южноафриканская НХК, имела в своем названии
слово «liervormde», в прямом переводе означавшее «относящийся к
Реформации», т. е. реформатский в широком смысле слова. В то же время
ведущая южноафриканская протестантская церковь - НГК - и самая
малочисленная из реформатских церквей Южной Африки (ГКСА) назывались
«gère formeerde», т. е. реформатский в узком значенип слова (относящийся к
религиозному течению кальвинизма).
В целях избежания неясностей и путаницы, которые повлек бы за
собой прямой перевод наименований церквей (во всех случаях
«реформатский»), термин «hervormde» мы переводим как «реформаторский».
Совокупность кальвинистских церквей обозначается общепринятым термином
«реформатские церкви». Сокращения названий церквей приведепы от
аббревиатур на языке оригинала.
3 Statistiese beskrywing, Table I.
Т В И П
yg
4 См.: Тихомиров В. И. Партия апартеида: социально-политическая
эволюция Националистической партии ЮАР. М., 1987. с. 'Л.
5 Цит. по: Moodie Т. D. The Rise of Afrikanerdom: Power. Apaitcid, and
the Afrikaner Civil Religion. Berkeley, 1975, с 52-53.
6 Там же, с. 29.
7 Цит. по: The Republic of South Africa. South Africa 1982: The Official
Yearbook of the Republic of South Africa. Johannesburg, 1981, с 741.
8 O'Meara D. Volkskapitalisme: Class, Capital and Ideology in the
Development of Afrikaner Nationalism, 1934-1948. Cambridge, 1983, с 70.
9 Там же, с. 71.
10 См.: Carter G. M. The Politice of Inequality: South Africa Since 1948
L., 1958, с 273-275.
11 См.: Keet В. В. Whither South Africa? Stellenbosch, 1956.
12 Wals he P. Church Versus State in South Africa: The Case of the
Christian Institute. N. Y., 1983, с 7.
13 Coltesloe Consultation: The Report of the Consultation among South
African Member Churches of the World Council of Chirches. Johannesburg
1961.
14 См.: Ni'derduitso Gereformeerde Kerk. Human Relations and the South
African Scene in the Light of Scripture: The Report of the General Synod of
the N. G. Kerk. Cape Town. 1975.
15 Там же, с. 13-14
16 Там же, с. 25-27.
17 Там же, с. 32.
18 Там же, с. 34-35.
19 Там же, с. 100.
20 De Jorre J. A. House Divided: South Africa's Uncertain Future. N. Y„
1977, с. 12.
-l The Star. Johannesburg. 7.10.1983.
22 South African Institute of Race Relations. Survey of Race Relations in
South Africa 1981. Johannesburg, 1982, с 6; Rand Daily Mail, Johannesburg,
19.11.1981; Sunday Times, Johannesburg, 22.11.1981.
23 См.: Die Kerkobode. Kaapstad, 9.06.1982.
24 South African Institute of Race Relations. Survey of Race Relations
in South Africa 1982. Johannesburg, 1983, с 567-569; DRC Africa News,
Pretoria, 23.10.1983.
25 The Argus. Cape Town. 27.10.1983.
26 Sunday Tribune. Durban. 17.07.1983.
27 The Star. 9.03.1984; Sunday Tribune. 25.03.1984.
28 The Star. 21.05.1986.
29 Nederduitse Gereformeerde Kerk. Church and Society. Bloemfontein,
1986, с 47.
30 Weekly Mail. Johannesburg, 26.06.-2.07.1987, 3-9.07.1987.
31 The Citizen. Johannesburg, 1.09.1987.
32 Там же, 21.11.1987.
33 Boesak A. Black and Reformed: Apartheid, Liberation, and the Calvi-
nist Tradition. Maryknoll (N. Y.), 1984, c. 118.
34 The Star. 24.10.1988.
35 Sowotan. Johannesburg, 17.11.1988.
36 The Star. 4.03.1989.
37 Weekly Mail. 17-23.03.1989.
А. А. Игнатенко
РЕЛИГИОЗНЫЕ И СЕКУЛЯРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)
«Состояние, близкое к шизофрении» 1 — так охарактеризовал
тунисский исследователь ту ситуацию, в которой оказываются
арабские общества, в жизнедеятельности которых проявляются
как верность религиозным установлениям, освященным
традицией и освящающим ее, так и стремление идти в ногу с
современным миром, проводя или ускоряя уже идущий процесс
секуляризации 2.
Оппозиция «религиозное-секулярное» в этом случае
оказывается сведением воедино целого ряда различий, противоречий,
антагонизмов, существенных для самого существования культуры раз-
впнающегося общества в ее специфической исторической форме.
Эта оппозиция как бы связывает воедино противопоставления на
различных уровнях человеческого бытия. «Сакральное» и «про-
фанное», «иррациональное» и «рациональное», «партикулярное»
и «универсальное», «ограниченное» («закрытое») и
«плюралистическое», «супранатуралистическое» и «гуманистическое»,
«традиционное» и «новаторское»... Список этих оппозиций может быть
продолжен вплоть до выявления глубинных
социально-экономических корней дихотомии (например, люмпены, пауперы и иные
представители низших слоев городского населения, а также
феодальные и полуфеодальные прослойки в первом случае, часть
буржуазно-либеральных и революционно-демократических
элементов — во втором) и принципиальной противопоставленности двух
«проектов» будущего («возврат к золотому веку» и
«неукоснительный прогресс»).
Однако подобные дихотомические оппозиции выглядят более
или менее респектабельно в рамках теории. В реальности же
процессы оказываются более сложными и внутренне
противоречивыми. Скажем, в Саудовской Аравии поощряется женский
труд, но при этом накладывается на него ряд ограничений
(например, запрет совместного труда женщин и мужчин).
Необходимость сугубо светской власти в мусульманской общине
обосновывается ссылками на высочайший религиозный авторитет —
пророка Мухаммада. Примеры подобного рода могут быть умножены.
© А. А. Игнатенко, 1990
77
Поэтому «религиозное» и «секулярное» необходимо рассматривать
как две тенденции, противоречиво и не всегда однозначно
реализующиеся в рамках общества как целого, а также в отдельных
его сегментах. Забегая вперед, укажем на государство в арабских
странах, которое являет собой яркий пример подобной
двойственности: и государственной политике, в том числе и в
культурной области, достаточно четко прослеживаются именно эти две
взаимодополняющие тенденции — укрепление влияния религии и
ее ослабление. Поэтому соотношение «религиозного» и «секуляр-
иого» в культурной жизни арабских обществ в каждом
конкретном случае можно адекватно выразить, по-видимому, как своего
рода континуум, в начале которого стоит «религиозное», а в
конце — «секулярное». Сам же этот континуум представляет собой
ряд переходных пунктов, в каждом из которых «религиозное» и
«секулярное» диалектически связаны.
Отмеченная проблема проявляется и в самой неоднозначности
«исламского» — той конкретной исторической формы, в которой
к арабских странах реализуется один из элементов оппозиции
«релнгнозное-секулярное». Стремясь выразить все многообразие
явлений, которые обнимаются одним словом «ислам»,
исследователи предлагают разлнчпые интерпретации. Например, они
обращают внимание на то, что, с одной стороны, существует ислам,
представленный в Священном писанин — Коране и Сунне, а
также в ряде теологических, законоведческих, этических сочинений.
Вместе с тем существует реальность обычаев, привычек,
поведения мусульман, отличающаяся от этой теории. Здесь сказались
различные исторические условия — местные национальные
традиции там, куда пришел ислам в ходе своего распространения.
II пттому так называемый «черный ислам», т. е. ислам, как
он практнк\ч»тся в Африке, отличается от индонезийского, а оба
они отличаются от того, который практиковался среди первых
мусульман. Поэтому предлагается различать «идеальный ислам»
и «бытийный ислам» 3. Исследователи также обращают внимание
на то, что правящие режимы в странах Востока дают
собственные интерпретации ислама, включая его в качестве зависимого
элемента в официальную идеологию, превращая духовенство в
государственных служащих, расходуя на исламскую пропаганду
большие средства. Но верующие плохо воспринимают такой
ислам, уходя от него к традиционным формам религиозного
поклонения, в мистические братства, так называемые «дикие», т. е.
не находящиеся под контролем государства, мечети и т. п. Это
позволяет нам говорить о существовании «официального ислама»
и «народного ислама» *. Нельзя не заметить и того, что в
последние годы к исламу для обоснования своих политических программ
обращаются не только реакционные и консервативные силы, но
и те, кто выдвигает лозунг «исламской революции». Египетский
публицист, используя игру слов, выделяет «ислам богачей»
(ислам сарви) и «революционный ислам» (ислам саври) 5.
Эти и подобные попытки выразить многообразие, а порой да-
78
-ia. л внутреннюю противоречивость ислама вносят немало
нового и верного в наши представления об этой религии. Удачной
лредставляется классификация типов религиозного сознания,
предложенная М. Т. Степанянц6. Эта классификация
основывается на двух критериях: во-первых, принимается во внимание
отношение к религиозной догматике, во-вторых, учитывается
позиция различных групп, сил, режимов по отношению к путям
дальнейшего развития мусульманских стран. На этом основании
выделяются четыре типа религиозного сознания в исламе:
ортодоксия, реформаторство, возрожденчество, модернизм.
Социальной базой ортодоксии являются классы и группы, связанные с
докапиталистическими патриархально-общинными и
феодальными отношениями. Представители ортодоксии противодействуют
каким-либо переменам как в социально-экономической области,
так и в самом исламе, принимая и защищая его именно таким,
каким он сложился на сегодняшний день. Они расходятся в
своем отношении к исламу с другим, реформаторским типом
религиозного сознания, который свойствен более всего мусульманской
буржуазии и правящим группам вообще. Реформаторы
стремятся приспособить мусульманскую догматику к нуждам
современного развития, отбрасывая или замалчивая одни положения,
развивая другие. Третий тип религиозного сознания — возрожден-
чество — свойствен по преимуществу идеологам крестьянства и
многочисленных в странах Востока средних слоев, включающих
ремесленников, мелких торговцев, городские низы, которые
страдают как от феодальных форм эксплуатации, так и от
капиталистического угнетения. Носители этого религиозного сознания
провозглашают главной целью восстановление конкретных
институтов и норм раннего ислама. Они преувеличивают
эгалитаристские аспекты бытия тогдашних мусульман, видя в раннем
исламе идеальное объединение мусульман в условиях равенства и
справедливости. Возрожденцы предлагают «очистить» ислам от
позднейших «наслоений», восстановить его как бы в
первозданной чистоте. В этом, как видим, их отличие от ортодоксов,
считающих, что ислам должен оставаться таким, каков он есть, и от
реформаторов, предлагающих ислам изменять, добавляя в него
новые положения и истолкования старых для того, чтобы эта
религия соответствовала современному меняющемуся миру.
Важно отметить, что различное отношение к исламу — его
вероучению, социально-политической доктрине, месту в обществе
и т. п..— все это прерогатива не только и даже не столько
духовенства, сколько политиков, публицистов, журналистов, простых
верующих. Исследователи называют ислам «неипституционализи-
рованной» религией, т. е. такой, в которой отсутствует четкая
°ргаипзацня духовенства (подобная, например, христианскому),
руководящие органы (типа папства, патриархии и т. п.),
обязательные для всех верующих решения (типа решений соборов
или папских энциклик). Всякий верующий мусульманин
обладает правом высказывать свое мнение по вопросам религии — глав-
79
ное, чтобы оно формально не противоречило Священному
писанию — Корану и Сунне. В этом — одна из причин такого
явления, когда политический деятель, скажем, ливийский лидер
Муаммар Каддафи дает свою интерпретацию того, каким должен
быть ислам. До него так поступал Г. А. Насер, а сейчас
продолжают делать и другие политические деятели. В этом также
кроется один их секретов тех разногласий, которые существуют
между сторонниками разных типов религиозного сознания —
ортодоксами, реформаторами, возрожденцами.
К трем перечисленным типам примыкает четвертый—
модернизм. Модернистски ориентированные идеологи и политики
считают, что ислам не содействует прогрессу, более того, служит
препятствием на его пути.
По какому пути должен пойти исследователь, имеющий дело
с оппозицией «исламское—секулярное»? Нам представляется, что
совершенно бесперспективны попытки определить, что есть
«истинный ислам», который был бы подставлен на место
«религиозного» в конкретных условиях арабских стран и
противоположен «секулярному». Исходя из взаимодополнительности двух
тенденций в арабской культуре, мы были бы склонны
рассматривать формы реализации в теории и на практике указанных выше
типов религиозного сознания как своего рода последовательные
пункты в континууме отличающихся позиций между двумя его
полюсами — «религиозное» и «секулярное». Ведь эти типы
характеризуются и разным подходом к проблеме соотношения
«религиозного» и «секулярного» в жизни общества. Тогда в самом
начале указанного континуума окажутся возрожденцы.
выступающие за полное господство религии и предлагающие такую
культурную программу, которая была бы копированием членами
общины поведения пророка Мухаммеда и его ближайших
сподвижников. Эта «программа» реализуется как в большом (например,
в «хиджре» — уходе от мира), так и в малом (например, в
отращивании бороды, ношении особой одежды). В пункте
континуума, близком к полюсу «секулярное», окажутся модернисты,
предлагающие иную культурную программу — «материальные
ценности — с Запада, духовные же у нас есть свои»,
«европейская шляпа на мусульманской голове» и т. п. Ортодоксы и
реформаторы окажутся где-то посередине, ибо первые, защищая
статус-кво, набрасывают флер «религиозного» на те элементы
культуры, которые, в сущности, стали проявлениями объективно
идущего процесса секуляризации (например, отмена халифата),
а вторые пытаются приспособить религию к меняющейся
действительности. Очевидно, что реальность дает массу переходных
пунктов.
Факт усиления «религиозного» в культуре арабских стран в
последние 10—15 лет ни у кого не вызывает сомнения. И
публицисты, и исследователи говорят об «исламском буме»,
«исламском возрождении» и т. п. Приводятся многочисленные данные,
подтверждающие эту тенденцию. Значительно более скрытой от
глаз тенденцией является усиление «секулярного» в арабских
обществах. Недаром один автор говорит о «молчаливой
секуляризации» 7, другой — об «уходе из ислама на цыпочках» 8. Однако
при всей скрытости этого процесса представляется возможным
обнаружить некоторые факты, свидетельствующие о падении
влияния роли религии (ислама) в арабских странах. Современ-
нос религиоведение указывает, что молитва — это пллюзорно-
лрактическое действие, посредством которого человек стремится
установить «контакт» с божеством, является действительным
показателем религиозности. И если исходить из этого показателя,
Т() можно увидеть интересные и на первый взгляд неожиданные
тенденции. По данным тунисского исследователя Б. Алиуи, в
стране никогда не совершают молитву 90% учащихся начальной
школы, 92 — средней и 92,2% — высшей. Среди сельской молодежи
(18—25 лет) в Алжире не молятся 73,8% девушек и 74%
юношей 9. Исследование марокканских и французских
исследователей показало, что, например, в мечетях Касабланки (Марокко)
молилась всего одна тысячная доля населения города10. Не
стоит, по-видимому, преувеличивать и интерес населения
«мусульманских» стран к религиозной идеологии и степень ее
влияния на них. Среди опрошенных в Касабланке, Рабате и Танжере
марокканцев в возрасте от 11 до 80 лет (из которых 69.3% —
в возрасте 18—25 лет) никто не слушает религиозных
радиопередач и. Появляются и комплексные исследования, проливающие1
енот на секуляризационные процессы. Имея целью выяснить
степень и тенденции религиозности египетского крестьянства, а
также место религиозной веры в политической культуре крестьян,,
социолог Камаль аль-Мануфи проанализировал взгляды
представителей двух совместно проживающих поколений — «отцов» ir
« детей». Задавались вопросы, понятные и близкие феллаху:
1) какова причина распространения хлопкового червя, 2) от чего-
зависит преуспеяние человека, 3) что является причиной
болезной, 4) почему Египет потерпел поражение в войне 1967 г.,
5) какова главная черта добродетельного правителя. Сразу
нужно отметить, что даже среди стариков не все ссылались на «божью
волю» (47% по первому вопросу, 76 — по второму, 70 - по
третьему. 58,67% по четвертому). Религиозную веру в качестве
главной черты «идеального правителя» назвали 62,68%
представителей старшего поколения. Статистические данные по ответам
молодежи следующие: 94,6% молодых людей считают, что
распространение хлопкового червя — результат бесхозяйственности и
плохого ухода за растениями, 84% уверены, что удача в жизни
зависит от «ловкости» человека в делах; 78,6% винят самого
человека в пренебрежении собственным здоровьем; 90,66% видят
причины поражения в неготовности к войне и плохом военном и
политическом руководстве; 86,6% назвали любые другие черты
«идеального правителя» («забота об интересах народа»,
«справедливость» и т. п.), но не его религиозную веру. Автор обширного
исследования делает вывод о выраженной тенденции деревенской
молодежи п Египте и, соответственно, египетского крестьянства
в целом к нерелигиозному видению политики и мира 12.
Можно высказать некоторые соображения и о будущем
религии в странах распространения ислама, также основываясь на
некоторых статистических данных. В 1984 г. в Алжире во время
экзаменов на степень бакалавра, дающих доступ к высшему
образованию, из 25 000 экзаменующихся только один сдавал экзамен
по предмету «исламские науки» 13, остальные 24 999 молодых
алжирцев не хотели связывать свое профессиональное будущее
■с религией.
Конечно, эти данные в значительной степени отрывочны, и
другие страны могут дать иные результаты. Но и приведенные
цифры показывают на тенденцию отхода от религии наряду с
другой — ростом влияния ислама в общественной жизни.
Естественно, арабские страны не являются исключением в зоне
распространения ислама. Так, несмотря на активно проводящуюся
в Пакистане «исламизацию», 85% населения этой страны не
соблюдают в полном объеме предписания ислама. Только 9—10%
населения совершают ежедневные пятикратные молитвы,
паломничество, воздерживаются от дневного приема пищи в месяце
рамадан, платят религиозные налоги. Проведенное в 1981 г.
конкретно-социологическое исследование также свидетельствует
о том, что основная масса населения Пакистана не соблюдает
полностью традиционные исламские нормы 14.
Как уже отмечалось выше, изменение соотношения «религиоз-
ное-секулярное» представляет собой многоаспектный процесс,
в котором переплетаются разнообразные — объективные и
субъективные, нововозникшпе и унаследованные, внутренние и
внешние — факторы. Выделение главного фактора в этой ситуации
становится необходимым для понимания как существа самого
процесса, так и его перспектив. Нам представляется, что в
арабских странах решающим агентом в процессе реализации двух
рассматриваемых тенденций является государство. Во-первых,
в этой связи можно только согласиться с автором обзора,
подготовленного ЮНЕСКО и указывающего в качестве
«институциональных рамок и решающих инстанций» политики в области
культуры имеющиеся практически во всех арабских странах
министерства культуры15. Вопросы планирования,
финансирования, подготовки кадров, контроля за исполнением
соответствующих программ, идеологическая ориентация — эти и другие
аспекты политики в области культуры находятся в ведении
государственных органов. Но здесь мы имеем дело со сравнительно
узким толкованием «культуры», которое, к слову сказать, не
является единым для всех арабских стран. Поэтому, исходя из
более широкого толкования культуры как специфического
способа организации и развития человеческой жизнедеятельпости в
рамках целостных человеческих коллективов1в, мы, во-вторых,
видим обоснованность выделения государства в качестве
решающего или главного фактора рассматриваемых процессов в куль-
82
rpe еще и в том, что в ведении государства оказываются и
другие» еслп не все> сферы материального и духовного
(культурного в широком смысле) производства, включая культ, про-
свешеине, средства массовой информации и т. п. Государство,
р-третьих, используя немалые материальные возможности и
контрольно-репрессивный аппарат, стремится осуществить
собственную монополию в области культуры.
Именно деятельность государственных институтов оказалась
средоточием двух противоположных тенденций. Рассмотрим
сначала первую — поощрение религии, т. е. она, как
представляется, предшествовала секуляризации. Здесь достаточно уже
сослаться на то, что правящие группы являются носителями
перечисленных и кратко охарактеризованных выше типов религиозного
сознания.
Подобная ситуация сложилась исторически. В период борьбы
за национальную независимость значительная часть ее
руководителей и участников ориентировалась на религию, включала
ислам в свои идеологические построения. В этом сходились
представители разных классово-политических сил. Революционные
демократы преувеличивали революционные и эгалитаристские
аспекты ислама. Осознанно или неосознанно, они стремились
построить будущее государство на принципах сельской или
окраинной городской общины — той традиционной среды, из которой
вышла значительная их часть. Технократы
буржуазно-либерального толка, будучи сами далеки от религии, считали, что к
темной, неграмотной массе можно обращаться только на
религиозном языке. Набиравшая силу разночинная интеллигенция видела
п исламе квинтэссенцию культурной самобытности, и задача
возрождения национальной культуры представлялась ей как
возрождение наследия ислама. Патриотическая часть духовенства,
участвовавшая в освободительной борьбе, не могла не считать
исламскую религию важнейшим фактором успеха в деле
национального освобождения и строительства нового общества. Немалую
роль сыграло и то, что колонизаторы и порабощенные народы во
многих случаях были разделены религиозным барьером. Многие
участники рассматривали существовавший конфликт как борьбу
«Угнетенных мусульман» против «колонизаторов-христиан».
Деятельность правящих групп в период после достижения
независимости показывает, что ислам рассматривается ими в
качестве удобного инструмента социально-политического
манипулирования. Все без исключения политические режимы в арабских
странах обращаются к этой религии в надежде осуществить ряд
задач. Прежде всего понятия, категории, лозунги, почерпнутые
113 исламского наследия, призваны, по мнению политических
деятелен, служить средством воздействия на массы в желательном
Для правящих режимов направлении. Предполагается мобилиза-
И-Ия народа на осуществление того или иного политического кур-
са- Проводится разъяснение в доступной для мусульман религноз-
ц°п форме светских по существу положений и принципов господ-
83
стпующей политической доктрины («арабский социализм» в
период Г. А. Насера, «политика открытых дверей» при А. Садате
в Египте); исламские элементы включаются — в разной степе-
ни — в нерелигиозные идеологии («алжирский социализм», пана-
рабнзм баасистов и т. п.); исламская форма становится господ,
ствующей во внутри- и внешнеполитической деятельности кон-
сервативных арабских режимов. В рамках решения этой общей
задачи политические режимы стремятся также к использованию
исламского понятийного аппарата для обоснования и
разъяснения конкретных текущих задач, встающих перед режимами в
качестве актуальных. В Алжире, Египте, ряде других стран с
использованием исламской аргументации обосновывается
необходимость - ограничить рождаемость, чтобы противостоять
демографическому взрыву. В Марокко необходимость переписи 1982 г.
обосновывалась в мечетях во время специальных проповедей
цитатами из Корана. Здесь возможны самые разные случаи, вплоть
до неожиданных. Попытку запретить предписываемое шариатом
воздержание от пищи в месяце рамадан (оно негативно
сказывается на производительности труда) бывший президент Туниса
X. Бургиба пытался обосновать ссылками на Коран. Особое
значение придают исламу как консолидирующему,
объединительному фактору правящие группы в странах с неоднородной
национально-этнической структурой. Практически все режимы
обращаются к исламу для политико-идеологической дискредитации своих
противников в глазах верующих.
Ищут опору в религии политические режимы, пришедшие к
власти в результате военных переворотов, а также те группы,
которые поставили перед собой задачу переориентации режимов,
установившихся в результате широкой народной борьбы
(например, в Египте при А. Садате, в Судане при Д. Нимейри). Ислам
им нужен для легитимизации, т. е. для придания законности
собственной власти. Подобные режимы, с одной стороны,
способствуют распространению исламской идеологии, а с другой —
оправдывают и свое существование, и диктаторские формы власти
«верностью» исламским политико-правовым установлениям.
В 70-х годах ряд политических режимов обратились к политике
«исламизации» в надежде на получение кредитов, а то и
безвозмездной финансовой помощи от нефтедобывающих государств.
Те же стремились осуществить свою гегемонию в других
арабских странах под лозунгами «мусульманской солидарности».
Практически во всех арабских странах в распоряжение
духовенства были предоставлены возможности государственного
аппарата, вследствие чего влияние религии на общественную жизнь
неизмеримо усилилось. Становятся известны сравнительные
данные о росте материальных возможностей религиозного
воздействия на общество. Например, из примерно 35 книг и брошюр,
которые ежемесячно публиковались в насеристском Египте
(1952—1970), около 30 было в той или иной степени посвящено
религии (девять десятых — исламской тематике, остальные —
84
.рнстианской). И это — не считая журнальных и газетных ста-
У ii Использовались для религиозной пропаганды и другие
средства массовой информации. В 1964 г. была создана специальная
радиостанция, передававшая на Египет и другие страны только
Тексты Корана, хадисов и толкований Корана. В 1952—1962 гг.
ло нсем другим радиопрограммам религиозные передачи
занимали П часов в неделю, а к 1970 г. они стали звучать в эфире
s течение 707 часов 20 минут еженедельно. Этим передачам
отводилось 10% всего эфирного времени. В 1963 г. 2,1% передач
перкой программы телевидения и 3,7% второй были посвящены
религиозной тематике, а к 1970 г. они уже занимали 8,5% всего
«телевизионного времени. Резко возросло количество мечетей. За
период 1952—1963 гг. оно удвоилось, а в 1970 г. составило
17 901 17. В Сирии количество служащих министерства вакфов
(религиозных дел) возросло за 17 лет в десять раз — с 298 в
19Ь2 г. до 2759 в 1978 г. Расходы министерства выросли за тот
тке период более чем в шесть раз 18. Подобные тенденции
увеличения государством материальных возможностей религиозного
комплекса наблюдаются и в других арабских странах.
Получившая большое развитие «исламизация» общественной
зки.чгш предстает как результат целенаправленной деятельности
долитических режимов. При этом теоретические и практические
установки правящих групп в их стремлении использовать ислам
п конкретных политических целях сводятся в конечном счете к
идеалистической переоценке религиозного фактора. Но
диалектическая противоречивость процесса такова, что эта деятельность
но «нсламизации» общества ради осуществления конкретных
классовых целей правящих групп дает свои плоды в виде
своеобразной политической культуры, которая становится
господствующей в обществе. Всякое социально-политическое действие
становится религиозно окрашенным, «сакрализуется».
Но есть и иная сторона медали: столкновение тех же самых
правящих режимов с исламом, осуществление ими действий,
ведущих в конечном счете к вытеснению религии из разных сфер
общественной жизни. В ряде стран возник и укрепляется
современный сектор экономики (и шире — всего общества):
нефтедобыча и нефтепереработка; внедрение достижений НТР в сферу
транспорта, связи, вооружений; развитие промышленности,
сельского хозяйства и энергетики; совершенствование медицинского
обслуживания, системы образования и т. п. При этом
формируются определенные стереотипы жизни, культуры и поведения,
меняются восприятие мира и социально-психологическая
атмосфера. Тем самым «осовремениваются» важные области
общественной жизни, непосредственно с производством и яе связанные.
Определенным «противовесом» новому сектору является
традиционный сектор с его отсталыми — как правило,
докапиталистическими — структурами и отношениями. Он противодействует
росту современного сектора, все время воспроизводя не только
старые производственные отношения, но и устоявшуюся за много
веков систему ценностей. Традиционный сектор как бы
«цементируется» религией (преимущественно исламом). Поптому-
многие стороны жизнедеятельности и развития современного
сектора неизбежно приходят в столкновение с религией. И так как-
государство олицетворяет собой современный сектор общества и
руководит его развитием, то именно оно осуществляет
конкретные меры, ограничивающие роль и влияние религии в различных
сферах общественной жизни. К какой бы сфере мы ни
обратились, обнаружим, что режимы в арабских странах сталкиваются,
чаще всего вынужденно, норой непроизвольно, с исламом как-
привычной идеологией традиционного сектора.
Женщина —«узел всех общественных противоречий» |9,
считает алжирская исследовательница. Это слишком категоричное-
заявлен'ие, но вопрос ставится так остро потому, что именно
положение женщины характеризует традиционные отношения. Не>
так эмоциональны в своих оценках государственные деятели,
которые уделяют основное внимание проблеме развития
современного сектора. «Мы страдаем от острой нехватки местных рабочих
рук и компенсируем ее импортом иностранной рабочей силы,
тогда как женщины — примерно половина общества — не
работают»,— именно этот аспект «женского вопроса» волнует
министра труда и общественных дел государства Катар 20.
Такая постановка вопроса не случайна. Некоторые страны,
особенно нефтедобывающие, расположенные на побережье
Персидского залива, страдают от серьезнейшей проблемы —
отсутствия местных рабочих рук при довольно интенсивно
развивающейся промышленности. В качестве компенсации осуществляется
«импорт» иностранной рабочей силы — из арабских стран. Ирана,
Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии. Но на определенном
этапе оказалось, что из-за этого доля коренного населения
катастрофически уменьшается. К 1980 г. процент иностранцев
составил, например, в Саудовской Аравии 19, в Кувейте — 54, в
Катаре — 71, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — 72.1.
В ОАЭ в 1984 г. их было уже 82%, а по оценкам газеты «Аш-
Шарк аль-Авсат», иностранцы в этой стране будут составлять к
2000 г. 96% населения21. Совершенно очевидно, что подобная
ситуация создает массу проблем — экономических, социальных,
культурных и др. Так, тормозится процесс формирования
национальной рабочей силы, особенно в производительных отраслях;
за границу переводится немалая доля валютных запасов —
зарплата иностранных рабочих; присутствие западных специалистов
несет в себе угрозу внешнего давления (например, путем отзыва
специалистов). Одна из серьезнейших проблем заключается в
том, что, как отмечают арабские исследователи, «размывается»
автохтонная культура арабоз,
В другой группе стран, вследствие укрепления экономической
зависимости от капиталистических стран и некоторых других
факторов, происходит «отток» местной рабочей силы — в те же
страны Персидского залива, а также в Западную Европу, США.
i{ai[(iaMep,~ на .1 января 1084 г. за границей работало 3 млн.
418 тыс. египтян (при населении Египта около 40 млн. чел.),
38.8% суданских врачей-суданцев, 61,6% инженеров, 58% учите-
ieïu большое количество разных специалистов ". В отдельных
странах «отток» рабочих рук вызван особыми обстоятельствами.
]7j)H ;>том одним из путей решения проблемы местных рабочих
рук может стать привлечение к труду женщин. Естественно, не
обходится здесь без затруднений, вызванных «феминизацией»
разных областей жизни. Женщины дискриминируются при
приеме на работу, первыми попадают в ряды безработных и т. п.
Здесь интересен тот факт, что рассматриваемый процесс идет
вразрез с традиционными исламскими нормами в отношении
женщины, оказывая воздействие на многие аспекты
производства, культуры и быта.
Подрыв традиционных представлений происходит и в связи
с восприятием мусульманскими странами достижений НТР.
Сколько бы ни рассуждали некоторые теологи о совместимости
научного знания и религиозной веры, в принципе одно здесь исключает
другое.
За последнее десятилетие в арабских, как и во всех
развивающихся, странах сложилась чреватая проблемами
демографическая ситуация. Дети в возрасте моложе четырех лет
составляют в Алжире 19% всего населения, в Тунисе — 15,1, Саудовской
А ранни — 18,6, Сирии — 13,3, Ираке — 18,8, Кувейте — 20.7,
Линии — 18,8, Египте — 16,6, Марокко — 18,2% 23. Имеются
разные оценки демографических перспектив этих и других арабских
стран, но при существующей в них возрастной структуре и
темпах прироста населения оно должно увеличиться к 2000 г.
примерно в два раза. В результате «омоложения» общества и роста
народонаселения резко обострятся и без того актуальные
проблемы продовольствия, жилья, образования, занятости,
медицинского обслуживания. Некоторые из этих стран пытаются найти
выход путем ограничения рождаемости. Так, на основе
обследовании, осуществленного Международным банком реконструкции и
развития (МБРР) в 1965—1966 гг. в Марокко были
разработаны соответствующие рекомендации. Например, предлагалось
широко ввести в обиход контрацептивные средства24. Такого рода
мероприятия, проведенные в стране, в дальнейшем пришли в
столкновение с нормами религии. Во-первых, они вызвали нега-
тинную реакцию приверженцев традиционных воззрений;
во-вторых, эти мероприятия не подкреплялись обращением к
установлениям ислама. Это обращение было невозможно хотя бы потому,
что. в-третьих, с точки зрения распространенного в Марокко
малпкитского толка исламского права, контрацептивные средства,
Ранно как и другие способы ограничения рождаемости,
неприемлемы для мусульманина. И принятые в связи с рассматриваемым
вопросом законодательные акты (королевский декрет от 26 авгу-
ста 1966 г., закон от 1 июля 1967 г. и др.) пошли вразрез с
общепринятыми взглядами. Но для всех стран распространения
87
ислама «типовой» является многодетная (7—10 детей) семья
Демографическая проблема остается...
Трудно представить себе ту степень остроты, которую в му..
сульманскпх странах приобрела еще одна проблема —
отрицательное влияние привычных религиозных обрядов и ритуалов на
национальную экономику. Нарушение ритма работы национального
экономического организма — вот результат следования
религиозному календарю — «расписанию» жизни традиционного сектора.
Только в период дневного воздержания от пищи в месяце
рамадан " происходит падение всего общественного производства как
минимум на 60% 2в. В праздник жертвоприношения (ид-аль-ад-
ха) за один день уничтожается 25% поголовья баранов27.
Государство вынуждено закупать на валюту в больших количествах
дорогостоящие экзотические продукты — ингредиенты
традиционных для рамадана блюд. За один месяц подобного «поста»
потребляется 20% годовой нормы пищевых продуктов28.
«Обжорством» назвала это явление алжирская газета 29. Попытка
запретить «пост» в месяце рамадан в Тунисе, как известно, закончилась
неудачей, но вопрос продолжает тревожить, о чем
свидетельствуют данные, приведенные выше, а самое главное —
продолжающиеся попытки запретить или модифицировать пагубные для
экономики религиозные обряды и ритуалы. Например, накануне
нд-аль-адха в 1984 г. король Марокко, опираясь на свой
закрепленный конституцией авторитет «повелителя правоверных»,
призвал подданных в нарушение установившейся исламской
традиции воздержаться от принесения в жертву баранов, чтобы не
уничтожить все их поголовье, и без того пострадавшее от
засухи 30.
Происходящие в современном секторе мусульманских стран
преобразования, отражающиеся на всей общественной жизни,
находят свое закрепление в законодательстве. Одна из характерных
особенностей такого законодательства заключается в его
светскости, секулярности. Если рассматривать отношения мусульманских
стран с внешним миром, то становится ясным, правовая
регуляция экономических, политических, культурных и других связей
осуществляется в соответствии с уже давно секуляризованным
международным публичным правом. Относительно же
правотворчества и правоприменения, то начиная со второй половины XIX в.
происходило его становление в основном через ориентацию на
нормы буржуазного, светского права западноевропейских
государств. Этот процесс протекал в разное время и в разных формах
в различных мусульманских странах. Наблюдаемое ныне
правовое закрепление отношений современного сектора в
капиталистических странах — непосредственное его продолжение. Именно
буржуазными по своему характеру являются начаты« еще в
период правления короля Фейсала в Саудовской Аравии
мероприятия в области законодательства (законы о социальном
обеспечении, о трудовых отношениях, о социальном страховании).
Страны, выбравшие социалистический путь развития, воспринимают
88
екоторые принципы и нормы социалистического права. Так,
оТчетыом докладе V съезду партии Фронта национального
освобождения Алжира (ФНО) отмечалось, что в период разработ-
j и широкого обсуждения Всеобщего статута трудящегося
/1970—1983) предпринимались усилия для «перестройки
трудового законодательства в направлении защиты прав трудящегося,
широкого внедрения оплаты труда в соответствии с принципом
^каждому по труду"» 3|.
Наконец укажем совсем не последнюю причину обращения
лраиящих режимов в арабских странах к секуляризации
разных сфер общественной жизни. Имеются в виду негативные
результаты «исламизации», в той или иной форме проводящейся
в этом регионе мира. (Немаловажен и тот факт, что здесь, как
к и случае с самой «исламизацией», имеет место своего рода
«дпффузность» — влияние процессов, происходящих в одних
странах, на другие, чему способствует ряд социально-культурных
черт, объединяющих народы арабских стран.) Политика «ислами-
зацшг» явилась, без сомнения, одной из причин обострения
религиозно-общинной розни в разных формах. Это — затяжные меж-
релпгнозные (христианско-исламские по форме,
социально-экономические и этнокультурные по содержанию) конфликты в
Судане (между мусульманами-арабами, обладающими центральной
властью, и христианами и анимистами — негроидными племенами
Юга). Египте (между мусульманами-арабами и христианами-
коптами). На весь регион бросает угрожающую тень ливанский
конфликт, враждующие стороны которого разделились и по ре-
липнкшо-общинному принципу. Сирия, Иордания, Ирак — в этих
странах существуют немалые христианские меньшинства, п их
ситуация не может не приниматься во внимание правящими
режимами. А ведь «исламизация» как минимум с опаской
воспринимается христианами, по мнению которых она не может не
принести к дискредитации большей части граждан. «Исламиза-
дня» является также одной из причин межобщинной (суннитско-
пнштской) розни. Ведь нельзя проводить «исламизацию вообще»,
в каждой стране речь идет об определенном направлении в
исламе. И тогда, скажем, политика «исламизации» в государствах
Персидского залива, по преимуществу суннитских, не может не
повлиять негативно на живущих в этих странах шиитов. Более
того, имеет место даже внутриобщинная рознь — в тех случаях,
когда представители одной религиозной (например, суннитской)
общины отличаются в этническом или ином отношении
(например, рост берберского активизма, в том числе и культурного,
15 Алжире с начала 80-х годов). С целью смягчить эти
противоречия ради сохранения стабильности правящие режимы избегают
лронодить последовательную «исламизацию».
«Исламнзация» привела еще к одной группе негативных
результатов, выражающихся в возникновении религиозной
(исламской) оппозиции государственной политике. Так произошло
потому, что, вследствие использования правящими режимами ислама
89
к качестве мобилизующего, легитимизирующего и интегрирующе
го фактора, получила распространение специфическая политик
екая культура, в рамках которой программы и действия разных
сил и партий, в том числе оппозиционных, приобретают релц_
гиозную окраску. «Официальному» исламу государственных орга~
нов (например, министерства религиозных дел и подчиненных
ему священнослужителей) противопоставляется другой («народ,
нын», «революционный» и т. п.) ислам — те интерпретации
социально-политических установок исламской религии, которые
даются разными организациями и партиями. В последнее время
на анансцену политической жизни в арабских странах
выдвинулись экстремистские неправительственные
религиозно-политические организации (НРПО) 32, предлагающие «исламскую
альтернативу» режимам, которые осуществляют «исламизацию».
(Выражением этого противоречия между носителями разных
интерпретаций ислама явилось, в частности, убийство в 1981 г. членами
организации «Священная война» египетского президента А. Са-
дата, проводившего в стране политику «исламизации».)
Деятельность этих и подобных организаций сводит на нет усилия по
использованию ислама государством. Не удается легитимизация:
НРПО провозглашают «неисламскими» или «не
соответствующими истинному исламу» даже те режимы, которые делают
максимальные усилия в направлении использования ислама
(например, саудовский режим; вспомним события ноября 1979 г. в
Мекке). Ничего не получается с интегрирующей ролью ислама: для
ьсех экстремистских НРПО свойственно открыто провозглашаемое
«отлучение» от ислама (такфир) всех с ними не согласных;
нечего говорить о немусульманах, проживающих в арабских
странах,— они становятся объектами нападений и т. п.; обостряется
религиозно-общинная рознь. Возникают серьезные трудности с
использованием ислама как мобилизующего фактора в условиях,
когда одним («официальным») интерпретациям положений этой
религии противопоставляются другие, и нередко довольно
убедительные для верующих, интерпретации (например, толкования и
лозунги НРПО). Религиозная оппозиция становится объектом
манипуляций со стороны внешних сил (например, Ирана) в целях
дестабилизации внутриполитической ситуации. Сама же
религиозная оппозиция и особенно НРПО в полной мере используют
религиозную инфраструктуру, создаваемую государством: мечети
становятся опорными пунктами фундаменталистской
деятельности. Важно подчеркнуть, что религиозная оппозиция исходит из
нсеохватности ислама и, соответственно, предлагаемой ею
«исламской альтернативы». Особо ставится цель распространения
«исламской культуры», охватывающей все сферы жизни
мусульман. В этих ситуациях правящие режимы оказываются перед
опасностью утратить политико-идеологическую инициативу я
опять-таки вынуждены ограничивать влияние религии.
Таким образом, государство воплощает в своей политике две
противоположные тенденции — поощрение религии и ее ограни-
л,,е. Разумеется, в разных арабских странах мы найдем разные
4 )()11,)[)цнн, формы проявления и результаты этих двух тенден-
''jjjj Цо они неизбежно реализуются в любой области культуры.
ü |',ажной и сложной проблемой является определение
объективно критерия секуляризованности культуры. Идеальным реше-
111ем в данном случае было бы использование статистических
аН11ых об отходе от религии различных групп населения.
Однако такие данные отсутствуют, и нельзя надеяться на то, что они
моГут появиться в ближайшем будущем. Поэтому речь может ид-
т1( т»лько о методике использования косвенных данных.
Подобные методики предлагались. Например, Питирим Сорокин,
пытать представить процесс освобождения от религии различных
сфер культуры и общественного сознания западноевропейских
нар<»Д():* в течение полутора тысяч лет. определял долю
скульптур и картин религиозного характера и ее динамику по
отношению к общему количеству произведений искусства, соотношение
в философии эмпиризма, скептицизма и материализма, с одной
стороны, и идеализма и фидеизма — с другой, активность
пропаганды христианской этики 33. По-видимому, такая методика
представляет интерес, но она не вполне приложима к предмету наше-
то рассмотрения. Достаточно сказать, что скульптуры и картины
в наследии исламской культуры практически отсутствуют. Если
они есть сейчас, то статистические данные о них получить еще
более трудно, чем статистику религиозности. Необходим поиск
.критериев, которые бы адекватно выражали секуляризацнонные
процессы в их конкретно-историческом выражении на нынешнем
этапе развития арабских стран.
Нам представляется возможным в качестве подобного
критерия предложить данные о прямом участии женщин в
экономической деятельности. В пользу этой методики говорит несколько
доводо'!. Во-первых, положение женщины вообще и женский
труд и особенности лежат едва ли не в центре проблемы «рели-
гио:шое-секулярное» в арабских странах распространения
ислама. «В наших (арабских.— А. И.) странах религия
функционирует в качестве негативного давления на женщин»,— констатн-
Рует египетская публицистка и социолог Наваль ас-Саадави34.
Препятствием на пути женской эмансипации считает
«религиозные институты» ливанская исследовательница Хади Зарнк35.
^о-нторых, сравнение этих данных с другими покажет
корреляцию между процессом вовлечения женщины в общественное
производство и другими процессами, также свидетельствующими об
идущей в обществе секуляризации. Речь здесь идет и о решении
1гР'»олемы занятости в рамках общества и, соответственно, про-
Цепте паунерско-люмпенских слоев, являющихся «горячим
материалам» «исламского взрыва» (большая доля женских рабочих
РУк свидетельствует, как правило, о решении в масштабах обще-
ст»а проблемы занятости); и о наличии и результатах
проведении определенной демографической политики (на высвобождение
Ямщины для труда в производительной сфере влияет успех по-
литикн ограничения рождаемости, которая приходит в
столкновение с исламскими традиционными нормами культуры и быта)«
и о наличии или насущной необходимости принятия соотнетст-
вующего законодательства (оно по необходимости будет идщ
вразрез с установлениями шариата); и о распределении по
сферам занятости (высокий процент женского труда свидетельствует
о выходе женщины из ограниченной сферы приложения своей
активности, например детских садов и т. д., к более широкой —
материальному производству, что приводит к совместному труду
мужчин и женщин и, соответственно, разрушению исламских
культурных стереотипов). В-третьих, не последнюю роль играет
и тот факт, что данные об экономической активности женщин
нполие доступны и сравнимы по странам и периодам.
И имеющаяся статистика показывает, что происходит
неуклонный рост производственно-экономической активности женщин.
Уже в середине 70-х годов женщины составляли 14,2% занятой
в экономике рабочей силы в Марокко, 21,1% —в Сирии.
Соответствующий показатель вырос за неполное десятилетие (1975—
1983) с 4,1 до 7,0% в Алжире, с 3,5 до 8,6% -в Бахрейне,
с 19,5 до 20,0% — Тунисе, с 10,5 до 22,5% — в Судане. В Ираке в
1986 г. работающие женщины составили 23% всей рабочей силы36.
Если принять данный критерий в качестве показательного, то
остаются некоторые проблемы. Среди них — оптимальный с точки
зрения завершенности секулярязационных процессов показатель
женского труда.
Дальнейшая разработка рассматриваемой темы
(«религиозное» и «секулярное», их детерминанты, благоприятствующие и
препятствующие факторы, перспективы процесса) поможет лучше
понять сложные процессы, происходящие в арабской культуре в
настоящее время.
1 Boularès Habib. L'Islam: la peur et l'espérance. P., 1983, с 231.
2 Под секуляризацией понимается освобождение общества и личности
от религии, вытеснение последней из разных сфер социальной жизни.-
См.: Угринович Д. М. Введение в теоретическое религиоведение. М., 1973,
с. 139 и ел. Секуляризацию можно трактовать двояко: во-первых, как
объективно и во многом стихийно складывающийся процесс, являющийся
следствием и проявлением глубинных общественных трансформаций
(индустриализации, урбанизации, просвещения и т. п.), во-вторых, как направляемую
активным субъектом, чаще всего государством, деятельность по
ограничению роли религии в обществе. В статье понятие «секуляризация»
употребляется в обоих значениях.
3 Merad A. L'Islam à l'horizon 2000.- Tiers Monde. P., 1982, T. 23, Л° 92.
с. 771.
4 См.: Annalos (Economie. Sociétés. Civilisations), 35 année, № 3-4. 1980,
с 610-612.
5 Фуда Фараг. Кабаль ас-сукут (Накануне падения). Каир, 1985, с. 160-
161.
6 См. С.тепанянц М. Т. Мусульманские концепции в философии и
политике (XIX-XX вв.). М., 1982, с. 7-11. Существуют и иные классификации
типов религиозного сознания в исламе (см., например: Капустин Б. Г.
Основные направления эволюции исламских концепций общественного
устройства в Новое и Новейшее время.- Философия зарубежного Востока о соЦй"
92
■jibiioii сущности человека. M., 1986, с. 101-102). Однако их отличия от
приведенной классификации, несмотря на использование иной терминологии,
ве представляются нам существенными - во всяком случае, в рамках дан-
goii статьи.
• Слова тунисского историка Мухаммеда Тальби.- См.: Islamochristiana,
Roma. 1981, № 7, с. 63.
s Выражение ливанского общественного деятеля Эдмона Рибата.- См.:
Л1Ь-Хавадис, 10.1982. № 1344, с. 75.
' " '■' Revolution Africaine. Alger, 09.1982, № 970, c. 24.
'" См.: Etienne В., Tozy M. Le glissement des obligations islamiques vers
je phénomène associatif à Casablanca.— Le Maghreb musulman on 1979. P.,
1981. с 241.
11 См.: Ruf W. Dépendance et aliénation culturelle.—Indépendance et
interdépendance au Magrcb. P., 1974, с 248.
12 См.: Алъ-Мануфи Камаль. Ас-Сакафа ас-сиясийя ли-ль-фалляхин аль-
Мнс|шиин (Политическая культура египетского крестьянства). Бейрут, 1980.
с 9.-,с-259.
'3 См.: El-Moudjahid, 4.06.1984.
14 См.: Розовский Ф. А. Национальный и исламский аспекты
культурной политики военного режима Зия-уль-Хака.- Ислам и проблемы
национализма в странах Ближнего и Среднего Востока. М., 1986, с. 223.
15 См.: Messadi Mahmoud. Le développement culturel dans les Etats
arabes.- Le dévelopement culturel. Expériences régionales. P., 1980, с 313-314.
16 См.: Ерасов Б. С. Социально-культурные традиции и общественное
сознание в развивающихся странах Азии и Африки. М., 1982, с. 9-10.
17 См.: Le mois en Afrique. P., 12.1980-01.1981, № 180-181, с. 121.
18 См.: Ясин Ву-Али. Ас-салюс аль-мухаррам (Три запретные темы)»
Бейрут, 1980, с. 134.
19 Сhelig-Ainad-Tabet N. La femme musulmane moderne vue par les li-
céens algériens.— Le Maghreb musulman en 1979. P., 1981, с 147.
-° См.: Аш-Шарк аль-Авсат. 5.05.1983.
21 См.: Аш-Шарк аль-Авсат. 12.04.1984.
22 См.: Аш-Шарк аль-Авсат. 12.01.1984, 21.01.1984.
23 См.: Аль-Файсаль. 1983, № 74, с. 80-82. Соответствующий показатель
для ФРГ-4,9%, Франции-6,8, Италии - 6,3, Великобритании - 5,8%,
(там же).
24 См.: Bouzidi M. L'Islam et la société marocaine face à la
contraception.- Le Maghreb musulman en 1979. с 293.
25 В популярных изданиях месяц рамадан называется периодом поста.
На самом деле речь идет о воздержании от приема каких бы то ни было
веществ (пищи, питья, сигаретного или другого дыма, даже испарений
ароматических составов) в период от восхода до захода солнца.
Соответственно, от захода до восхода, т. е. ночью, запреты снимаются, и все
«постившиеся» устраивают праздничные трапезы.
26 См.: Аль-Муджахид. Алжир. 07.1982, № 1145, с. 26.
27 См.: Revolution Africaine. Alger, 16-22 09.1983, с. 20-21.
2S См.: Ат-Тадамун. Никосия, 1984, № 62, с. 63.
29 См.: El-Moudjahid, 7.06.1984.
10 См.: Monde. 5.09.1984.
31 El-Moudjahid. 24.12.1983.
12 См.: Игнатенко А. А. Политика государственного терроризма и
исламские неправительственные религиозно-политические организации на
Ближнем Востоке.-«Исламский фактор» в международных отношениях в Азии
(70-е - первая половина 80-х годов). М., 1987.
13 См.: Угринович Д. М. Введение в теоретическое религиоведение,.
с- 149-150.
34 См.: Afrique-Asie. 9.04.1984.
35 См.: Аль-Мустабкаль аль-Араби. 1983, № 2, с. 107.
36 См.: Аль-Мустабкаль аль-Араби. 1983, № 2; Ас-Сияса, 3.04.1984; Аш-
щарк аль-Авсат, 22.06.1984; Ан-Нахдж, 1986, № 13; Народы Азии и
Африки« 1087, № 1, с. 92 96.
Л. Н. Морев
БУДДИЙСКАЯ САНГХА В СОВРЕМЕННОМ ЛАОСЕ:
«ТЕОЛОГИЯ УЧАСТИЯ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ»
Буддизм хинаяннстского толка появился в Лаосе в XIV в.
Король Фангум (1316—1374), создавший первое лаосское
централизованное государство Лансанг и нуждавшийся в
объединяющей идеологии, провозгласил буддизм государственной религией
и пригласил для утверждения и распространения этого учения и
основания буддийской сангхи монахов из Камбоджи.
Тяжелый урон буддистская (как и вся лаосская) культура
понесла в результате вторжения таиландской армии в конце
XVIII и начале XIX в. Многие храмы и монастыри были
разгромлены и разграблены, изъятые из них памятники и
культурные ценности увезены в Таиланд. В результате всего этого, по
донесениям первых французских резидентов в Лаосе, в конце
XIX в. буддийские храмы находились в запустении, монахи
бедны и неграмотны '. Иными словами, буддийская церковь
пребывала в кризисном состоянии.
Установив в конце XIX в. колониальное господство в Лаосе,
французская администрация увидела в буддизме эффективное
средство для утверждения и обеспечения своего господства в этой
стране. Она, как свидетельствует М. Барбер, считала, что
«буддизм является прекрасной религией для народа и служит
залогом мира и политической стабильности в стране» 2. Благодаря
содействию и покровительству колониальной администрации
буддийская сангха постепенно обретала силу и авторитет,
восстанавливались старые и возводились новые храмы и прочие культовые
сооружения. Таким образом, начало XX в. стало периодом
возрождения и развития буддизма в Лаосе.
Следующий этап в истории лаосского буддизма охватывает
более 20 лет, с 1954 по 1975 г., т. е. со времени получения
независимости до завершения национально-демократической
революции. В этот период Лаос в лице вьентьянской администрации
получал от США и других капиталистических стран значительные
средства. Часть из них опосредованно доставалась буддийской
сангхе, в результате чего буддийскую церковь, по меньшей мере
© Л. Н. Морев, 1990
94
ß0 вьентьянской зоне, охватывавшей основные буддийские
районы страны, в эти годы отличали достаток и пышность.
После победы национально-демократической революции насту-
п„л новый, современный этап в развитии буддийской церкви в
1а<>се. В первые послереволюционные годы наблюдался
некоторый упадок буддизма: число служителей культа уменьшилось
(с 18 329 в 1973 г. до 12 205 в 1980 г.) 3, храмы и другие куль-
т()иые сооружения обнаружили признаки запустения, духовное
образование захирело, религиозная жизнь проходила вяло. Такое
положение явилось неизбежным следствием коренной ломки
общественно-политических и социально-экономических отношений
Е стране и связанных с этим издержек экономического и
политического порядка. Но после 1980 г. наблюдается оживление
религиозной деятельности и возрождение буддийской церкви. В
частности, число служителей культа увеличилось до 16 962 в
1988 г.4 Это явилось результатом постепенной нормализации
политической обстановки и стабилизации экономического
положения в стране.
Хотя история лаосской сангхи насчитывает более 600 лет,
однако до недавнего времени организационно она была рыхлой,
слабо оформленной. На протяжении всех шести веков в Лаосе
не существовало единой централизованной буддийской
организации. В каждой провинции была своя конфессиональная
организация, наиболее авторитетной из них являлась луангпхабангская
провинциальная сангха, поскольку Луангпхабанг был
королевской столицей. До революции 1975 г. во главе буддийской церкви
находился сангкхалат (патриарх), избираемый религиозными
деятелями по рекомендации короля и с одобрения французского
резидента. Верховным покровителем буддизма в стране всегда
считался король.
Первая вселаосская организация буддистов была создана «
1953 г. под названием «Буддийская сангха Лаоса». Организацией
руководил патриарх вместе со священным синодом в составе пяти
человек: председателя и четырех заместителей. Буддийская санг-
*а стояла на прогрессивных позициях, поддерживая многие
инициативы и начинания Патриотического фронта Лаоса. Ее
деятельность вызвала недовольство тогдашних правящих кругов, и она
была распущена в 1958 г. в ходе общей кампании против
патриотических сил. Монахи, придерживавшиеся прогрессивных
взглядов, подверглись гонениям. Вместо распущенной сангхи власти
создали новую, лояльную им организацию — Управление
буддийской сангхи, во главе которой оказались религиозные деятели
Консервативного или реакционного толка, такие, как Бунтхан
(сангкхалат), Кхун Манивонг (премьер административного
совета). Кэу и Пандит (члены совета).
Консервативная позиция руководства сангхи вызывала
недовольство многих ее членов. Поэтому, оставаясь формально в рядах
Эт°н организации, группа монахов, придерживавшихся
прогрессивных патриотических взглядов и сохранявших связи с Патрп-
отическим фронтом Лаоса, в 1960 г. нелегально образовала свою
организацию — Буддийскую ассоциацию Лаоса.
Перед провозглашением ЛНДР в стране фактически
существовало три буддийские организации: Буддийская ассоциация,
действовавшая открыто в освобожденных районах и нелегально во
вьентьянской зоне; Управление сангхи, представлявшее
буддийскую церковь во вьентьянской зоне; автономная секта Тхаммают,
немногочисленная, но располагавшая значительными материалу
ло-финансовыми средствами благодаря поддержке одноименной
секты в Таиланде и стоявшая на довольно реакционных
позициях. После образования республики Народно-революционная
партия и Патриотический фронт Лаоса приняли меры по
ликвидации раскола среди буддистов. Этой работой руководил член ПБ
ЦК НРПЛ, заместитель премьер-министра, генеральный
секретарь ПФЛ, министр образования, спорта и культов Фуми Вонг-
впчнт. В результате усилий разных сторон была достигнута
договоренность о создании единой буддийской организации страны.
Большинство монахов независимо от того, к какой организации
они принадлежали, одобрили это соглашение. Но часть из них
вышла из сангхи, а некоторые покинули страну, в том число
руководители бывшего Управления сангхи. В целом процесс
реорганизации сангхи проходил спокойно, без эксцессов, не было
зафиксировано сколько-нибудь серьезных инцидентов или фактов
неповиновения церкви гражданским и новым духовным властям.
С 10 по 20 июня 1976 г. во Вьентьяне состоялся вселаосский
собор буддистов, на котором было официально объявлено о
создании единой Буддийской ассоциации Лаоса (БАЛ), избраны ее
руководящие органы, приняты устав и программа. В состав
руководящих органов вошли преимущественно монахи из бывшей
Буддийской ассоциации Лаоса. Председателем БАЛ стал Кхам-
тан Кэубули, сотрудничавший с патриотическими силами еще с
40-х годов и являвшийся председателем этой организации со
времени ее создания в 1960 г. Его заместителями стали преподобные
Писа, Пан, Пхопг, также давно связанные с ПФЛ; секретарем
ЦК БАЛ стал Тхонгкхун Анантхасунтхон, примкнувший к
патриотическим силам еще с 50-х годов (в 1979 г., после ухода в
мир Кхамтана на должность заведующего департаментом по
делам культов ПФЛ, Тхонгкхун стал председателем ЦК БАЛ).
С тех пор эта организация неизменно представляет всех
буддийских монахов н послушников. В 1989 г. на III съезде
сангхи, проходившем во Вьентьяне, организация была переименована
в Лаосскую буддийскую ассоциацию (ЛБА). Во главе ее остался
Тхонгкхун Анантхасунтхон.
Буддийская сангха Лаоса в целом всегда была настроена
патриотически и сыграла положительную роль в
национально-освободительной борьбе. Сангха никогда не самоустранялась от
общественной жизни страны, не замыкалась в религиозных рамках,
а напротив, принимала активное участие во всех крупных
социальных движениях. Монахи, например, были в рядах народных
движений в начале века, участвовали в патриотическом
движении лаосской интеллигенции протп» японских оккупантов и
драниУзских колонизаторов, известном под названием «Лаос для
лаосцев» (Лао пен лао), имеют заслуги в деле провозглашения
резависимости Лаоса 12 октября 1945 г. После поражения
патриотических сил под ударами французского экспедиционного кор-
пуСа в начале 1946 г. многие монахи вместе с остатками
вооруженных сил во главе с Суфанувоигом ушли в Таиланд, а часть
цродолжала борьбу внутри страны против французского
колониального господства. Именно в эти годы лаосские коммунисты,
входившие тогда в состав Компартии Индокитая и взявшие на
себя руководство национально-освободительной борьбой
лаосского народа, начали работу среди монашества с целью вовлечения
его и национально-освободительную борьбу под знаменем
патриотических организаций: сначала движения «Свободный Лаос»,
а затем Патриотического фронта Лаоса. Используя национально-
патриотические чувства монашества, партия сумела привлечь на
свою сторону значительную часть его священнослужителей,
установить с ними сотрудничество, заручиться в их лице союзником
на длительный период. Это позволило расширить социальную
базу движения, привлечь на его сторону крестьянские массы
и некоторые другие слои, видевшие в буддизме свой духовный
идеал.
В годы борьбы за свободу и независимость против
иностранной интервенции большинство монашества поддерживало
патриотические силы самыми разнообразными средствами и способами.
Оно вело агитационно-пропагандистскую работу среди населения
в пользу патриотических сил, предоставляло монастыри в
качестве убежища для патриотов, места явок и собраний, складов
оружия и продовольствия, собирало средства, выступало с
обращениями. На заключительном этапе
национально-демократической революции буддийское духовенство способствовало ее
мирному завершению. Например, видный деятель луангпхабангскоа
сангхи Бунтьян сумел убедить короля подписать отречение от
престола во имя интересов нации. Свидетельством признания
заслуг духовенства перед революцией я пилось избрание шести
монахов делегатами на Конгресс народных представителей, который
2 декабря 1975 г. провозгласил ЛНДР.
За время своего существования на лаосской земле буддизм
прочно вошел в сознание масс. Он стал традиционной религией
лаосцев, доминирующим компонентом духовной культуры
общества, а его служители — монахи — завоевали высокий авторитет и
уважение в обществе. До самого последнего времени буддизм был
господствующей формой идеологии, а понятие лаосская культура
ассоциировалось с понятием буддийская культура. Значение
буддизма выходило далеко за религиозные рамки. Главный
буддийский институт — монастырь всегда занимал видное место в
жизни народа. В Лаосе говорят: «Посмотри на монастырь и
узнаешь, как живет народ». Будучи местом отправления культа и
4 Заказ X, 4129 'J7
удовлетворения религиозных потребностей, монастырь пыполня*
также ряд общественных функций.
Во-первых, монастырь издревле служил центром просвещения^
учебным заведением, в котором монахи и послушники, в основной
крестьянские дети, наряду с познаниями из области религии по-
лучали общие знания, овладевали грамотой. Во-вторых, монастырь
представлял собой также лечебное заведение, в котором
врачевателями выступали монахи, владевшие секретами народной
медицины. В-третьих, монастырь являл собой
культурно-просветительный центр, был средоточием художественных традиций в
области литературы, искусства, ваяния, зодчества, живописи.
В-четвертых, на территории монастыря проводились игры,
праздники и фестивали. В-пятых, монастырь использовался общиной,
группировавшейся вокруг монастыря, как место общения, сходок,
собраний. Наконец, монастырь всегда мог стать гостиным двором
для паломника и любого путника.
Буддизм в Лаосе всегда выступал интегрирующим и
стабилизирующим фактором. Служа прежде нсего интересам
господствующих классов, он вместе с тем в общем виде выражал
мировоззрение широких слоев общества, отвечал их устремлениям и
в этом смысле носил надклассовый характер. На протяжении
всей своей истории лаосская сангха отстаивала единство страны,
противостояла центробежным тенденциям и несколько раз
сыграла решающую роль в обеспечении национального единства. Так,
в середине XV в., когда после смерти короля Самсентая (1371—
1416) начались распри и междоусобицы, монахи правили страною
три года вплоть до создания централизованной светской власти.
Столетие спустя, в период внутриполитического кризиса,
последовавшего за смертью короля Сеттхатирата, сангха взяла на себя
инициативу по урегулированию внешне- и внутриполитических
конфликтов и таким образом обеспечила воссоздание
централизованного государства. Благодаря такого рода патриотической
деятельности буддизм в Лаосе снискал себе право считаться
символом национального единства.
Сейчас, когда национальное сознание еще не развито,
сохраняется унаследованное от феодальных времен местничество,
обособленность некоторых народностей и районов, когда
социалистический идеал только начинает утверждаться, роль буддизма как
символа единения страны не лишена определенного смысла и
служит новому народно-демократическому строю.
Важная социальная роль буддийской сангхи определила
отношение к ней со стороны партии и государства. Оно было
зафиксировано в Политической программе, принятой на II съезде
НРПЛ в феврале 1972 г., и сформулировано следующим образом:
— Уважение свободы совести и вероисповедания.
— Уважение права верующих участвовать в богослужении я
отправлении культа в соответствии с традициями буддизма.
— Уважение права монахов и послушников изучать и
проповедовать буддизм; гарантирование неприкосновенности монасты-
peü и ДРУГИХ культовых сооружений, обеспечение сохранности
усех монастырей и храмов, имеющих историческую и
художественную ценность для нации; одновременно уважение права
представителей других религий исповедовать, изучать и проповедовать
свои вероучения и иметь свои культовые сооружения.
— Все верующие и священнослужители обязаны вносить
вклад в дело завоевания и защиты свободы и независимости на-
цпп, участвовать в строительстве родины и уважать законы
народной властиб.
После победы национально-демократической революции в
Лаосе не издавалось каких-либо актов, определяющих отношения
между государством и церковью. В правительственной
программе, утвержденной Конгрессом народных представителей 2
декабря 1975 г., лишь говорилось, что в стране сохраняются все
религиозные учреждения, а за священнослужителями сохраняется
свобода культово-религиозной деятельности, т. е., по существу,
подтверждались положения Политической программы партии по
вопросу о религии.
ЛНДР — светское государство, в котором официальной
идеологией является марксизм-ленинизм. Вместе с тем в Лаосе нет
отделения церкви от государства в строгом смысле этого слова.
Буддизм рассматривается в двух аспектах: как определенная
идеология, система мировоззрения и как конфессиональная
организация, надстройка над данной идеологией. Соответственно с
этим подходом религия как идеология отвергается ввиду ее
несовместимости с диалектическим материализмом, а сангха как
конфессиональный институт пользуется официальным
признанием. В выступлении и. о. президента страны Фумн Вонгвичита на
III съезде Буддийской ассоциации и затем в воззвании этого
съезда к буддистам страны говорилось, что в Лаосе «церковь не
отделена от общества и священнослужители не отделены от
народа. В период перехода к социализму церкви по-прежнему
принадлежит важная роль в деле сплочения верующих различных
национальностей и она имеет достаточно возможностей соединить
буддийское учение с политикой партии и государства» г>.
Буддийская ассоциация в Лаосе имеет статус
религиозно-общественной организации. В первые послереволюционные годы она
осуществляла свою деятельность под руководством министерства
образования, спорта и культов, а с начала 80-х годов — под
началом департамента по делам культов при ЦК Фронта
национального строительства (ФНС). Ассоциация входит в общественно-
политическую систему страны через ФНС, в котором она
является коллективным членом. Буддийская ассоциация имеет своих
представителей во всех отделениях ФНС, в том числе 12 человек
и составе ЦК ФНС, избранного на III съезде в 1988 г.
После победы революции партия и государство исходили из
того, что созидательные возможности этого религиозного
института не исчерпаны и они могут служить укреплению народно-
демократического строя и осуществлению социалистических пре-
99 4*
образований. При этом предполагается, что религиозное мирово^
приятие отнюдь не означает отрицательного отношения ^
социалистическому идеалу, что религиозные верования ge
мешают их адептам стоять на патриотических позициях и
участвовать в общественной жизни. Еще в политическом докладе Кей-
сона Фомвихана на Конгрессе народных представителей в 1975 г.
указывалось, что «священнослужители должны всемерно содей-
ствовать укреплению национального единства, воспитывать у
народа трудолюбие и бережливость, участвовать в просвещении
народа, помогать перевоспитывать всех тех, кто сбился с пути ила
ведет порочный образ жизни, с тем чтобы сделать их
добропорядочными гражданами своей страны»7. Позже, в политическом
докладе ЦК НРПЛ III съезду партии в 1982 г. содержалась
установка: «Использовать монашество в интересах защиты
страны и строительства социализма» 8. Эта позиция нашла
подтверждение и в последующих партийных и государственных
документах.
В свою очередь, лаосские религиозные деятели осмысливали
ситуацию, сложившуюся после установления республиканского
строя, и вырабатывали свою позицию с целью определения места
буддизма и сангхи в новом обществе и в конечном счете —
будущего этой религии в Лаосе. Их взгляды в эксплицитном виде
нашли отражение прежде всего в вышедших в 1976 г. в
государственном издательстве «Лао хак сат» двух брошюрах бывшего в
то время главой лаосской сангхи Кхамтана «Политика и
буддизм» и «Лаосские монахи и революция», а затем в Уставе,
в Программе деятельности, в Общей программе, в пятилетних
планах и в других документах сангхи. Первый и главный тезис
в них гласит, что «буддизм, вне всякого сомнения, должен
приспособиться к новому строю» 9. Идеологи и руководители сангхи
напоминают, что за 2500 лет своего существования буддизм
пережил несколько общественных формаций, а это значит, что в нем
есть нечто такое, что соответствует каждому
общественно-политическому строю и что это вероучение обладает большими
адаптационными возможностями. Также отмечается, что если в
мировоззренческом плане буддизм, будучи идеалистическим учением,
принципиально отличается от научного социализма, то по своим
целям, конечным идеалам он если не тождествен, то идентичен
социализму, только пути достижения намеченной цели — разные.
Отмечается, что буддизм всегда содержал социалистические идеи,
что у него и социализма есть некоторые общие черты. А
основатель этого вероучения — Будда — в программе деятельности БАЛ
назван «революционным преобразователем мира»10. Видный
деятель сангхи Бунтьян идет еще дальше, считая, что «Будда
был социалистом, так как у него вообще не было ничего
своего» и.
Находясь на такого рода теоретических позициях, лаосские
теологи приходят к выводу, что буддизм не исчерпал своих
возможностей и может приспособиться к народно-демократическому
100
трою, вписаться в новую идеологическую систему. В программе
се^тельности БАЛ (1983) говорилось, что задача сангхи состоит
^ том, чтобы «согласовывать буддийскую мораль с современной
ветской моралью», «идти по пути социализма» 12. Аналогичные
установки содержатся и в последующих документах сангхи.
Лаосские религиозные деятели не ограничиваются адаптацией
буддизма к новому строю, они ищут пути использования религии
в интересах общества в создавшихся условиях, сочетания
буддийской доктрины с политической линией партии и государства.
Так, в работе Кхамтана «Лаосское монашество и революция» роль
буддийского клира определялась следующим образом: «Развивая
свои лучшие нравственные качества и умело применяя учение
Будды к существующим реальностям, священнослужители имеют
все возможности стать участниками революционных
преобразований- Это их право и гражданский долг. Через участие в
национальном строительстве священнослужители могут внести вклад
в дело культуры, здравоохранения, экономики и в другие
сферы » 13.
H :)тнх высказываниях очевидна попытка теоретически
обосновать с позиций буддийского учения роль буддистов в
социалистических преобразованиях в стране. Другими словами, так на
идейно-теоретическом уровне происходит становление лаосской
«теологии участия в социалистических преобразованиях». Это является
результатом осознания монашеством необходимости развития
страны и своего в нем участия. Лаосская «теология участия»
выходит за рамки созерцательного богословия, толкующего
«великие начала» дхармы, или апхитаммы. Она берется доказать
утилитарность догматики этого вероучения, жизненность дхармы
и других постулатов буддизма, сообразность буддийской
нравственности и морали. Разрыв с созерцательностью, инертпостью и
призы» к социальной активности, к творчеству знаменует
важный сдвиг в деятельности сангхи.
В организационном плане деятельность сангхи, как записано
в ее уставе, осуществляется строго на принципах
демократического централизма. Структура сангхи соответствует
административно-территориальному делению страны: в волости имеется
первичная организация, в уезде — уездный совет, в провинции —
провинциальный совет. Работой ассоциации руководит
Центральный комитет, избираемый съездом сангхи сроком на пять лет.
В нынешнем составе ЦК, избранном на III съезде, имеется
42 монаха, представляющих все провинциальные сангхи страны.
Во главе ЦК находится председатель, у которого имеется три
заместителя. Для руководства сангхой между пленумами работает
Бюро в составе 9 человек. У членов сангхи нет ни титулов,
ни чинов, ни званий, чем она отличается от сангхи в
предреволюционные годы 14.
В финансово-экономическом отношении лаосская сангха
представляет собой самостоятельную организацию. Она
функционирует в основном за счет пожертвований и благотворительных взно-
101
сов населения и организаций. В настоящее время сангха обладает
значительным состоянием, накопленным за годы своего
существования. Оно включает как движимое, так и недвижимое имуще,
ство. К недвижимому имуществу сангхи принадлежат различные
постройки, сооружения религиозного и бытового назначения
сосредоточенные в 3547 монастырях, в том числе в 2952
действующих и 595 заброшенных (1988 г.) 15, плодовые и
лекарственные деревья и кустарники и т. д. Сангха (за исключением ряда
монастырей) ныне не имеет собственных земель за
монастырскими стенами, с которых она получала бы доходы. Так, в южной
провинции Тьямпасак у нескольких монастырей имеются свои
кофейные плантации, монастырь Ванхом под Вьентьяном владеет
плантацией кокосовых пальм и сахарного тростника. Все доходы
от реализации произведенной продукции идут в бюджет
монастыря. Земля, принадлежащая монастырю, не может быть предметом
купли и продажи, поскольку земля в Лаосе считается
общенациональной собственностью. Государство имеет право
экспроприировать землю у монастыря, но практически до итого не доходит.
В случае необходимости, связанной с прокладкой дорог,
строительством каких-либо объектов общественного назначения и т. д.,
монастыри обычно добровольно отказываются от земли в пользу
государства. Кроме недвижимости сангха владеет значительным
движимым имуществом: предметами культа, произведениями
искусства, книгами и т. д.
Сколько-нибудь полных данных о финансовом состоянии и
доходах буддийской церкви в Лаосе пет, поскольку в сангхе не
существует строгого учета материальных и финансовых средств,
нет единой финансовой дисциплины. Монастыри и местные
отделения ЛБА представляют финансовые отчеты в вышестоящие
органы нерегулярно и в неполном объеме.
Доходы сангхи представлены двумя гидами: от монастырей и
от священнослужителей.
Доходы монастырей состоят главным образом из
пожертвований населения, куда входят: принадлежности культа, деньги,
одежда, обувь, посуда, постельные принадлежности, мебель и
прочие предметы обихода и быта, продукты питания, в том числе
ежедневные приношения и т. д.— одним словом, все, что
необходимо для функционирования монастыря и жизни его обитателей.
Кроме того, монастыри имеют некоторые доходы от
реализации плодов деревьев, лекарственных растений, выращиваемых на
территориях монастыря, кустарных изделий, изготавливаемых
монахами, и т. д. Но большинство произведенной монахами
продукции идет или на внутреннее потребление или раздается
жителям прихода в обмен на их услуги.
Доходы монахов, индивидуальные и реже групповые,
образуются от участия монахов в службах и церемониях вне монастыря.
Все они, денежные или в форме подарков, как правило, остаются
у монахов и идут на удовлетворение их личных потребностей.
Часть вознаграждения иногда отдается в пользу монастыря. Так,
102
flaiip«MeP» если монах участвует в нескольких служоах, то
гонорар за одну часто передается им в казну монастыря.
Нее материальные поступления, как правило, идут на нужды
монастыря или раздаются монахам.
Что касается денежных поступлений в храм, то их
распределило зависит от характера и объема поступлений. В этой связи
все доходы монастырей подразделяются на два вида: текущиег
состоящие из пожертвований населения в обычные дни, и
получаемые от религиозных мероприятий в праздничные дни.
Текущие доходы сейчас весьма незначительны, так как число
прихожан » обычные дни, как правило, минимально. Эти доходы
полностью поступают в так называемый «фонд накопления»,
имеющийся при каждом храме, и расходуются на покрытие
расходов монастыря.
Праздничные сборы составляют основную статью доходов
монастырей и сангхи в целом. Общий принцип их распределения
следующий16: 50%, а если в монастыре ведутся
восстановительные или строительные работы, то 70% собранных средств
поступают в фонд накопления. Из второй половины, по правилам,
от 1Г) до 45% поступлений должно переводиться в вышестоящие
органы сангхи, в том числе в ЦК ЛБА, а остальные
распределяются среди монахов по вкладу каждого из них в мероприятие,
в результате чего у некоторых, конечно немногих, монахов
имеется определенное состояние вплоть до автомашин. Правда,
существуют значительные отклонения от этого принципа в
зависимости от местных условий. Некоторые монастыри очень бедны,
их доходов недостаточно даже для удовлетворения собственных
нужд. Примером такого монастыря может быть монастырь Кэуфа
в г. Пхонгсали. Его годовой доход составляет всего 4—5 тыс. ки-
по» (около 10 ам. долл. по курсу свободного рынка в 1986 г.),
которых не хватает для содержания храма. В нем всего один
монах старше 70 лет вместе с послушником. Такие монастыри, а их
по стране много, естественно, не делают отчислений в местные
или центральное управления ЛБА17.
Наряду с этим существуют богатые храмы, особенно во
Вьентьяне, Паксе, Луангпхабанге. Так, храм Папхоппхау в
Луангпхабанге только за три дня праздника Пхавет (в память
Будды) собрал в 1982 г. 50 тыс. кипов, а в 1986 г.— 120 тыс. кипов;
храм Тхатлуанг в Луангпхабанге за то же время (в 1986 г.)
получил в качестве пожертвований 112 тыс. кипов18; храм
Тхатлуанг во Вьентьяне за дни празднования национального Нового
года (13—16 апреля 1985 г.) имел доход в 91 тыс. кипов, а за
несколько дней своего храмового праздника в 1985 г. в его казну
поступило около 738 тыс. кипов, в том числе инвалюта19.
По уставу ЛБА (1989 г.) денежные поступления в монастырь
°т населения должны распределяться следующим образом: 10% —
монастырю, 15 — уездному управлению сангхи, 25 —
провинциальному управлению и 50% — ЦК ЛБА. Эти средства должны
составить фонд социального обеспечения сангхи и расходоваться
103
на вспомоществование монахам в случае их болезни, смертц
и т. п., а также на нужды монастыря и в случае стихийных бед.
ствин. Но реальное выполнение этого решения представляется
маловероятным.
Одновременно сангха пользуется определенной финансовой и
материальной поддержкой со стороны государства. В госбюджете
нет специальной статьи расходов на сангху, однако государство
периодически выделяет ей через ФНС некоторые суммы для про-
ведения разного рода общественных, массовых мероприятий,
таких, как митинги, собрания, на представительские цели, на
командировки внутри страны и за границу, на организационные
расходы, на содержание технического аппарата, ведение
документации и канцелярские расходы, на информационную
службу, на просвещение, в том числе приобретение или составление
учебной литературы. Так, в первой половине 1985 г. государство
предоставило ЦК ЛБА 100 тыс. кипов п провинциальным
управлениям ЛБА — по 4 тыс. кипов на организационные и
представительские расходы20. В 1988 г. разовые дотации государства
ассоциации составили 200 тыс. кипов, в 1989 г. на проведение
съезда буддийской сангхп правительство ассигновало 5800 тыс.
кипов (12 тыс. долларов) ". Наряду с этим государственные
органы, центральные и местные, оказывают сангхе материальную
помощь, выделяют фонды на строительные материалы, транспорт,
горючее и т. д.
Сангха не образует самостоятельного социального сословия,
занимающего особое место в системе общественных отношений и
характеризующегося определенным отношением к средствам
производства. Сангха — это постоянно обновляющийся коллектив,
связанный 227 запретами, налагаемыми на ее членов буддийской
канонической традицией. Монашеский сан не является ни
потомственным, ни наследственным. Монахи, как правило, не
обременены семейными связями (мало кто постригается в монахи
надолго или навсегда после обзаведения семьей). Срок пребывания в
монахах произвольный, от нескольких дней до всей жизни.
В сангхе нет централизованного учета стажа монахов. Но
имеющиеся в местных отделениях некоторые данные на этот счет
свидетельствуют о том, что сейчас средний срок пребывания н сане
у монахов составляет всего 2—3 года, т. е. большей частью
длится столько, сколько нужно для завершения среднего образования
и устройства на работу. Монахов, имеющих стаж духовной
службы 10 и более лет, незначительное число, к тому же это
преимущественно монахи дореволюционных поколений, а монахов
среднего возраста, ходящих в желтых тогах десять или больше лет,
ничтожно мало. Текучесть лаосской саигхи усиливается, ее
наиболее устойчивое ядро постоянно уменьшается, а «кадровых»,
профессиональных монахов остается с каждым годом все меньше.
Такое положение дел лишает сангху устойчивости, спаянности,
превращает ее в довольно-таки рыхлый социальный институт.
В профессиональном отношении за последние годы в сангхе
104
прОизошли коренные изменения. Ортодоксальных, правоверных
axoB, получивших религиозное образование в духовных инсти-
б б б
jioi р р у
тутах за рубежом или внутри страны и глубоко владеющих
буддийской доктриной, осталось очень немного — около сотни чело-
веК. Нынешнее же поколение монахов, по распространенному
доению, значительно уступает дореволюционному поколению в
знании буддийской доктрины и буддийской философии. Это
обусловлено прежде всего недостаточным объемом и низким
качеством преподавания в религиозных учебных заведениях. В
настоящее время в буддийских семинариях богословские предметы
занимают всего от 2 до 6 часов в неделю. Кроме того, некоторое
количество канонических знаний монахи приобретают во
внеурочные часы, а также в период буддийского поста, т. е. в период
уединения в монастыре. Но в целом объем теологических знаний,
предусмотренный учебной программой, теперь незначителен. К тому
яа- уровень, качество преподавания этих дисциплин невысоки
из-за недостаточной профессиональной подготовки самих
наставников. К этому нужно добавить, что, по свидетельству
преподавателей и руководителей сангхи, нынешние слушатели духовных
учебных заведений, как правило, не проявляют рвения и усердия
к теологии, их больше интересуют естественнонаучные знания,
которые понадобятся в повседневной жизни или в будущей работе.
Ввиду чрезмерного обмирщения сангхи и падения
профессионализма в настоящее время принимаются меры по улучшению
преподавания теологических дисциплин, в том числе путем
увеличения количества часов в учебных программах, а также по
закреплению монахов в монастырях после окончания духовных
семинарий или училищ (например, предписание монахам
отслужить и монастыре два-три года после завершения образования в
духовном учебном заведении, прежде чем иметь право уйти в мир).
Наряду с общеобразовательной и профессиональной
подготовкой монахи, так же как рабочие и служащие, занимаются
политическим образованием в кружках и группах по изучению
документов партии и правительства.
В целях повышепия идейно-теоретического и политического
уровня монахов в 1981—1984 гг. при главном монастыре страны
Тхатлуанге существовала так называемая теоретическая школа,
где руководители сангхи несколькими потоками, по три месяца
каждый, знакомились с основами марксизма-ленинизма, слушали
курс лекций по общественно-политическим вопросам. Большое
внимание на занятиях уделялось сопоставлению марксизма с
буддизмом, выявлению общего и различий между ними. Перед
монахами выступали руководители партии и государства, в том
числе Фуми Вонгвичит. Кроме того, периодически проводятся
встречи монахов с партийными и государственными деятелями,
1{о время которых священнослужители получают информацию и
Разъяснения относительно политики партии и правительства.
В социальном отношении лаосская сангха является
крестьянской организацией. В ЛБА нет данных относительно социально-
105
то состава, но беседы на разных уровнях, от руководства до
рядовых членов, опросы на местах показывают, что подавляющее
большинство членов этого института — выходцы из крестьян
в том числе почти все нынешние руководители ЛБА, включая
председателя и его заместителей, секретарей. Представителей
других социальных групп в сангхе незначительное количество.
Внутри сангхи развита миграция — перемещение монахов д
послушников из маленького монастыря в крупный, из сельского
в городской. В городских монастырях, в том числе в столице,
живет очень немного монахов из числа жителей данной
местности, из городских слоев населения. Как правило, это пришлые
люди из сельской местности. Типичная биография современного
монаха из городского монастыря: крестьянский сын — послушник
в сельском храме, в котором получил начальное образование,—
послушник монастыря в районном центре, где прошел
подготовку по курсу неполной средней школы,— послушпик или монах
при монастыре в провинциальном центре, где завершает среднее
образование. Иными словами, монастырь служит временным
пристанищем типа школы-интерната с полным пансионом. Получив
образование, подавляющее большинство монахов уходит в
государственные учреждения и на предприятия. По мнению
заместителя председателя ЛБА Пхонга, в настоящее время только два
из ста монахов в конечном счете остаются на религиозной
службе 22.
Для лаосской сангхи сейчас характерна урбанизация, т. е.
сосредоточение монахов в городах. Это объясняется тем, что в
городах, особенно крупных, имеется удовлетворительно
поставленное образование, которое служит основной притягательной силой
для новых, молодых монахов. Такая концентрация монахов
ложится нелегким бременем на городское население, значительная
часть которого живет на более чем скромную зарплату и неболь
шие доходы от личных подсобных хозяйств.
В лаосской сангхе, как и в некоторых других общественных
и государственных организациях, распространено землячество.
Так, в руководящих органах ЛБА большинство составляют
выходцы из провинции Тямпатсак.
Лаосская сангха представляет собой
религиозно-общественную организацию, входящую в политическую систему общества
через Фронт национального строительства, в котором она
является коллективным членом. Четкий общественно-политический
характер сангхи находит отражение в ее основополагающих
документах. Так, в программе деятельности ЛБА, принятой на
III съезде в феврале 1989 г., задачи сангхи, помимо собственно
религиозно-культовых, определены следующим образом:
пропаганда буддийской морали в соответствии с политикой партии И
правительства на каждом данном этапе, активное участие в
работе на ниве народного образования, например в деле ликвидации
неграмотности и позыгаения образовательного уровня народа,
охрана памятников старины и достопримечательностей, в том
числе монастырей и всех исторических и культурных ценностей,
сосредоточенных в них, участие в работе на поприще здравоохра-
0ения, в том числе в возрождении и распространении народной
медицины, пропаганда санитарии и гигиены среди населения,
осуществление интернациональных связей с буддийскими и
другими религиозными и общественными организациями различных
стран в целях сохранения всеобщего мира и международной
безопасности 23.
Из имеющихся документов лаосской сангхи явствует, что ее
социально-политические концепции в подавляющей части
совпадают с программными положениями НРПЛ и ФНС, а идейная
основа — буддизм — не представляет особого течения,
противопоставленного идеологическим основам правящей партии. Сангха
признает, по меньшей мере формально, главенствующую роль
партии в обществе и ее руководство над собой. Во всех
документах ЛБА постоянно подчеркивается, что сангха должна
действовать в соответствии с линией партии и правительства,
сотрудничать с органами власти на всех уровнях. Все свои планы и
мероприятия сангха согласовывает с Управлением по делам культов
ФИС и его отделениями на местах. Как правило, между сангхой
и государством не возникает сколько-нибудь серьезных
разногласий. Все вышесказанное о лаосской сангхе позволяет сделать
вывод о том, что сейчас она не представляет собой самостоятельной
политической силы и является составной частью единой
общественно-политической системы, руководимой Народно-Революцион-
нои партией Лаоса.
В настоящее время сангха по-прежнему остается полифунк-
цнональной организацией и занимается многосторонней
деятельностью.
Первая н основная функция сангхи — культово-религиозная.
Она заключается, как записано в Уставе ЛБА, в наследовании,,
сохранении и распространении буддизма. Эта функция исправно
и свободно выполняется монахами в храмах, в домах верующих
и, реже, в общественных организациях, где они участвуют в
различных праздниках, церемониях, ритуалах. Культово-религиозная
Функция реализуется через литургии, в проповедях и в других
формах воздействия па сознание верующих, а также посредством
распространения религиозной литературы.
ЛБА совместно с Управлением по делам культов ФНС
проделали значительную работу по пересмотру старых и составлению
новых проповедей, с тем чтобы «согласовать буддийскую мораль
с современной светской моралью», привести проповедническую
Деятельность в соответствие с очередными задачами. В
обновленном наборе проповедей буддийские понятия получают
материалистическую трактовку, основоположения буддизма
истолковываются с обмирщенных позиций. Наглядным примером этого
может служить цикл 10 новых проповедей, подготовленных к
30-летию НРПЛ и 10-летию ЛНДР 24.
В этих литургических текстах традиционные буддийские по-
107
нятпя: «рай», «ад», «заслуга», «грех» и др. наполняются новыц
содержанием, получают прагматическую направленность. Так,
«рай», или «счастье»,— это хорошая жизнь, которая наступит не
после «конца света» по воле мессии, а в результате добросовест-
ного труда; «ад», или «мучения»,—страдания дейстительные,
от которых нужно избавляться упорным трудом; «грех» —
дурные поступки, противоречащие общественной морали и
собственной совести; «добро* — средство духовного очищения,
«судьба» — собственные поступки; «заслуга» — результат трудовой
деятельности. Лейтмотивами проповедей «Об избавлении от
страданий», «Об успехе», «О пользе», «О счастье» и некоторых
других являются труд, знания, просвещение. Эта тема завершается
призывом «Ни одного бесполезно прожитого дня» (проповедь
«Путь жизни»). В проповеди «О самообеспечении»
подчеркивается, что каждый человек должен быть сам себе опорой.
Одновременно следует уметь помогать друг другу, нужна
взаимовыручка. Далее это положение развивается до общегосударственных
масштабов: ребенок опирается на родителей, ученик — на
учителей, армия, полиция и народ — на руководство, руководство —
на армию, полицию и народ.
Все проповеди ориентированы на социальный заказ
сегодняшнего дня. Так, проповедь «О единстве», совершенно очевидно, сая-
зана с кооперированием сельского хозяйства и некоторыми
другими процессами, трактат «О самообеспечении», помимо всего
прочего, направлен против иждивенческих настроений,
получивших распространение среди определенной части населения. В
целом пафос этих текстов, облеченных в культовую форму,
ориентирует на повышение жизнедеятельности, активности, воспитание
трудолюбия, коллективизма, патриотизма, а их конечный смысл
состоит в том, чтобы постепенно освобождать сознание людей от
веры в сверхъестественное, потустороннее, от идеалистических,
трансцендентных представлений, утверждать материалистическое
мироощущение, практический реализм.
Важное место в деятельности ЛБА отводится очищению
буддизма от всего наносного, чуждого ему, прежде всего от
многочисленных элементов браминизма и анимизма, а также
шаманства, черной магии, идолопоклонничества и оккультизма,
освобождению сознания людей от веры во всевозможных духов,
от сакрализации изваяний Будды и отнесения монахов к
медиумам, или посредникам между людьми и Буддой, удалению из
храмов различных астрологов, гадателей, хиромантов,
предсказателей, ясновидцев и т. д. Такое начинание, безусловно, имеет
прогрессивное значение, так как направлено против вредных обычаев
и нравов, суеверий и предрассудков, опутывающих сознание
людей. Эта деятельность оказалась плодотворной: оккультные
представления среди малых народностей заметно пошли на убыль.
Во многих селениях жители отказались от культа духов, от услуг
шаманов, от варварских обычаев и т. д. Однако в 80-х годах
эзотерические действа и мистические обряды вновь получили до-
вольно широкое распространение в стране. Некоторые монахи,
в том числе высокопоставленные, по-прежнему склонны к
астрологическим изысканиям и предсказаниям, составлению гороскопов
в т. п.
Просветительская функция сангхи реализуется в двух сферах:
внутри самой сангхн и в обществе в целом. Устав и Программа
сангхи обязывают всех священнослужителей постоянно повышать
Сноп общеобразовательный и профессиональный уровень с тем,
чтобы «идти вровень с прогрессом общества». Для этого у сангхи
есть своя система духовных школ. В 1987—1988 учебном году в
49 духовных семинариях (30 начальной ступени, 17 неполных и
2 полных средних) обучалось 4698 чел.25. Кроме того, имеется
3 духовных педучилища, готовящих преподавательские кадры для
семинарий. Тогда же в них обучалось 343 монаха.
Но необходимо иметь в виду, что после революции в духовном
образовании в Лаосе произошла коренная перестройка. Оно было
в значительной степени обмирщено, модернизировано и таким
образом приблизилось к светскому. Это выражается прежде всего в
том. что семинарии работают под руководством министерства
образования, по его программам, идентичным программам
общеобразовательных школ. Такие богословские дисциплины, как дхам-
ма (апитхамма), т. е. буддийская доктрина винайя, или
дисциплинарный кодекс, жизнеописание Будды, проповедование,
занимают очень мало времени: два — максимум шесть часов, включая
канонический язык пали. Зато значительное место занимают
общественно-политические дисциплины. Образование в духовных
школах приравнивается к светскому, а их дипломы — к дипломам
общеобразовательных школ. Монастырские школы и особенно
семинарии пользуются у населения престижем, нередко большим,
чем светские школы. По мнению многих, в духовных школах
порядка, дисциплины больше, чем в общеобразовательных.
Поэтому родители охотно отдают в них своих детей и соответственно
поддерживают эти школы материально. Особенно это относится
к сельской местности.
Наряду с этим сангха принимает непосредственное участие в
светском образовании. В первые послевоенные годы буддийское
духовенство активно участвовало в общенациональной кампании
по ликвидации неграмотности и невежества. В этот период в
сотнях монастырей открылись школы (в основе своей светские) и
тысячи монахов встали за преподавательские кафедры. В 1976 г.
на нпве просвещения трудилось 1470 монахов. В последнее время
число такого рода церковно-приходских школ, а также
количество учительствующих монахов, как свидетельствуют некоторые
Данные, не снижается, несмотря на заметные успехи общего
образования. Широкое участие монахов в просвещении на
определенном этапе, несомненно, оправданно, хотя за ним нельзя не ви-
Деть издержек идеологического порядка в идейно-воспитательной
Работе с подрастающим поколением.
Важное место в просветительской деятельности сангхи запи-
109
мает разъяснение политики партии и правительства, различных
официальных документов, в том числе решений съездов партии.
Эта пропаганда, как правило, ведется, не прямо, непосредственно,
а в форме проповедей через призму принципов буддийской
морали и философии. Политико-просветительская работа монашества,
по существующему мнению, довольно эффективна благодаря
высокому авторитету монахов и доходчивости их языка. Выступая
на вселаосском совещании работников идеологического фронта в
начале 1987 г., секретарь ЦК НРПЛ Сомлат Тьянтамат отмечал,
что официальная пропаганда пока малодоходчива и
малоэффективна и что «нужно учиться у священнослужителей методам
работы с учениками и населением. Они,— продолжал он,— не
ограничиваются формально-бюрократическими мероприятиями, а,
напротив, тесно увязывают свою деятельность с борьбой между
теизмом и атеизмом, можно сказать, что они умеют быстро п
оперативно реагировать на перипетии идеологической борьбы и
умело ведут идейно-воспитательную работу» 2в. В заслугу монахам,
например, обычно ставится большая разъяснительная работа
среди населения в связи с кооперированием деревни. Используя
понятия содружества, братства, единства, монахи сделали
много для разъяснения преимуществ коллективного труда,
распространения идеи кооперации среди крестьянства. Но как бы то ни
было, облачение социалистических идеалов, партийных установок
в религиозные одеяния, представление социалистического идеала
реализацией, манифестацией буддийских постулатов таит в себе
опасность смешения двух идеологий, двух мировоззрений, эрозии
социалистических принципов.
В послереволюционные годы ввиду слабости народного
здравоохранения при содействии властей монастыри не только
сохранили, но и расширили свою здравоохранительную функцию. Многие
монастыри продолжают служить лечебными и
фармацевтическими учреждениями, а монахи выступают врачевателями болезней
средствами народной медицины. О размахе этой деятельности
можно судить, например, по отчетам ЛБА. Так, по далеко не
полным данным, за 1986—1988 гг. в монастырях оказали
медицинскую помощь более чем 100 тыс. больных, приготовлено
приблизительно 20 т порошков, около 1 млн. таблеток, более 25 т
отваров, 20 тыс. литров и 78 тыс. флаконов микстуры, более 35 тыс.
банок мази, заготовлено много тонн лекарственных трав,
кореньев и коры для изготовления лекарств, высажены тысячи ноных
лекарственных растений, возрождены старые и составлены вновь
несколько сот рецептов лекарств. Монахи принимают активное
участие в работе института народной медицины. Кроме того,
священнослужители занимаются распространением знаний из
области гигиены и санитарии, участвуют в движении за «три
чистоты» (чисто есть, чисто одеваться и чисто жить) ".
Сангха выступает хранительницей огромного
культурно-исторического наследия, включающего около 3,5 тыс. монастырей,
многие из которых являются архитектурными и историческими
110
дамятниками непреходящей ценности; произведения
изобразительного искусства, прежде всего тысячи изваяний Будды и
других божеств; множество старинных манускриптов и рукописей
на пальмовых листьях, разнообразные предметы культа. Описи
вСого имущества сангхи не имеется. Но одна только луангпха-
баигская сангха в своих 211 монастырях имеет 2199 изваяний
Будды, 2147 связок рукописных текстов на пальмовых листьях,
2533 экземпляра различных книг, 42 пещерных храма и т. д.
й т. п.28. Храм Пракэо во Вьентьяне является крупнейшим в
стране историко-археологическим музеем, а монастырь Сисакет,
также во Вьентьяне,— хранителем обширнейшей в стране
коллекции буддийской иконографии.
Содержание всех храмов и хранение ценностей материальной
и духовной культуры производится самой сангхой и населением
на свои средства без дотации государстиа. Культуроохранитель-
ная функция составляет вторую сторопу деятельности сангхи.
Наконец, сангха еще и хозяйственная организация, она
частично обеспечивает себя, а также помогает населению, насколько
это не противоречит ее кодексу, запрещающему членам сангхи
добывать своим трудом средства к существованию. Причем
участие сангхи в хозяйственной жизни становится все более
активным. На территории некоторых монастырей имеются подсобные
хозяйства, монахи занимаются разведением скота, птицы,
выращивают полезные растения — лекарственные, ароматические,
фруктовые и др., устраивают огороды, продукция которых идет
на удовлетворение как собственных нужд, так и потребностей
населения, принимают непосредственное участие в строительстве и
ремонте различных сооружений на территории монастыря,
в рытье колодцев и т. д.; они добровольно помогают населению
в сооружении больниц, школ, дорог, ирригационных каналов и
других объектов общественного назначения; занимаются
изготовлением кустарных изделий, различными ремеслами: керамикой,
резьбой по дереву, чеканкой, разрисовкой, орнаментированием,
плетением и т. д.— всем, что необходимо для функционирования
монастырей.
Сангха осуществляет большую миротворческую деятельность.
Монахи ведут активную работу среди населения е защиту мира.
Особенно широкий размах эта деятельность лаосского
монашества приобрела в последние годы. Так, в 1986 и 1987 гг.
священнослужители совместно с другими общественными организациями
провели в различных районах страны многочисленные митинги
против «звездных войн», за запрещение атомного оружия и т. д.
В конце 1986 г. ЛБА была инициатором проведения в храме
Тхатлуанг конференции под девизом «Идеи мира женщинам и
молодежи», в которой приняли участие член ЦК НРПЛ,
заместитель председателя ФНС Болан Буалапха и активисты женской,
молодежной, профсоюзной и других общественных организаций.
В программе деятельности ЛБА, принятой на III съезде,
задачи сангхи в международной области определены следующим
111
образом: воспитывать монашество п все население страны в духе
патриотизма, интернационализма и преданности социалнзму>
вместе с мировой общественностью и всеми народами планеты
бороться за мир и безопасность в Юго-Восточной Азии, азиатско-
тихоокеанском регионе и во всем мире; крепить содружество с
буддистами и народами Вьетнама и Камбоджи, осуществлять
сотрудничество с буддистами и народами Советского Союза,
Монголии п других страп, стоящих за мир и социальный
прогресс 29.
Руководствуясь этими принципами, ЛБА поддерживает связи
с буддийскими и прочими конфессиональными организациями
различных стран. В частности, она принимает активное участив
в деятельности международных религиозных организаций, в том
числе Азиатской буддийской конференции за мир. Лаосские
буддисты приняли участие в ряде всемирных и региональных
форумов религиозных кругов в защиту мира и справедливости.
В феврале 1986 г. ассоциация стала хозяйкой-устроительницей
очередной, 6-й Ассамблеи АБКМ, прошедшей под знаком борьбы
за мир и социальный прогресс. Она служит проводником
прогрессивных идей и тенденций среди буддистов мира, особенно в
сопредельных странах.
В целом благодаря секуляризации, обмирщению различных
сторон общественной и духовной жизни, распространению
естественнонаучных знаний роль буддизма в жизни населения
постепенно уменьшается. Это выражается в заметном уменьшении в
Лаосе численности адептов буддизма, как, впрочем, и других
религий, в снижении религиозности верующих. Об этом
свидетельствует прежде всего значительное сокращение посещаемости
монастырей и участия в богослужении прихожан как в сельских,
так и в городских монастырях, несмотря на свободу
вероисповедания. В обычные дни молящихся теперь практически не бывает.
В так называемые «святые дни», 7-й и 14-й дни прибывающей и
убывающей луны, на литургии в крупном городском храме
присутствует не более 10—20 человек — преимущественно людей
старшего поколения. Многолюдно в храмах лишь во время некоторых
религиозных или светских, осененных религиозным знаменем
праздниках, как-то: новый год по восточному календарю, начало
и окопчапие буддийского поста, день благодарения (кхау падап
дин), день поминовения (кхау сак), день памяти Будды (пха-
вет).
Особенно заметно падение религиозности среди других
этнических групп, нежели собственно лао (лао-лум), которые
восприняли буддизм позже и не столь глубоко, как лао. За последние
годы многие деревни отказались полностью или частично от
отправления культа Будды. Так, например, жители деревни Пхон-
сай (пров. Боликхамсай), где проживает народность тхай-мэй,
теперь, по их словам, посещают храм только один-два раза в год
и поклонение Будде выражают ежедневной сменой пищи на
полочке-алтаре в углу дома. А в деревне Монсаван (пров. Пхонгса-
112
л11), населенной тхай-янг, ликвидировали полочки-алтари как
БуДДе» так и ДУхам, отказались от услуг монахов и шаманов,
которые еще недавно периодически совершали обряды в этой
деревне. Тхай-янг из деревни Донгэу (пров. Удомсай), у которых
несколько лет назад существовал культ Будды и духов, ныне
считают себя буддистами, однако их приверженность к этой
конфессии выражается главным образом приглашением в
праздничные дни монахов из дальних деревень для участия в обрядах.
Свидетельством снижения благочестия служит также
постепенное забвение верующими определенных религиозных обычаев,
традиций и символики. Некоторые религиозные действа,
зародившиеся еще в добуддийскую эпоху, но затем освоенные буддизмом,
становятся гражданскими обрядами, лишенными какого-либо
сакрального содержания. К ним относится, например, самый
популярный в народе обряд «су кхуан», или «баси», связанный с
пожеланием благополучия по тому или иному поводу.
Наряду с уменьшением числа прихожан в храмах
сократилось и время богослужения. Если, например, прежде утренняя и
вечерняя литургии длились не меньше часа, то теперь служба
идет всего около получаса и только вечером.
Хотя численность монахов и послушников в последние годы
имеет тенденцию к росту (см. выше), тех, кто приняли сан из
религиозных побуждений, очень немного. Выборочные опросы
монахов и послушников, произведенные автором в разных
монастырях, а также свидетельства многочисленных религиозных и
гражданских деятелей обнаруживают следующие мотивы,
побуждающие вступить в буддийскую сангху: 1) получение
образования; 2) дань традиции (в том числе знак уважения к родителям) ;
3) нежелание служить в вооруженных силах или участвовать в
общественных работах; 4) служение Будде; 5) получение
приюта, пансион. При этом первым п главным мотивом
(приблизительно 90% опрошенных) является желание получить
образование, в то время как религиозный мотив сейчас находится только
на четвертом месте.
Авторитет и престиж буддизма неодинаковы в различных
районах, среди разных социальных, национальных,
интеллектуальных и возрастных групп населения. Наибольшим влиянием
буддизм обладает в долине Меконга — в провинциях Паксе,
Вьентьян, Луангпхабанг, Кхаммуан и Саваннакхет, где сосредоточено
приблизительно две трети монахов и монастырей, в остальных
районах страны его роль значительно слабее; наибольшую
приверженность буддизму демонстрируют собственно лао и
родственные им народности лао-тайской семьи, живущие в долинах рек и
занимающиеся поливным земледелием (рисоводством) ;
наименьшую — народности мяо-яосской и лоло-бирманской этнических
групп, занимающиеся в горных районах подсечно-огневым
земледелием; преданность буддизму выше в сельских, патриархальных
районах, чем в городских, урбанизованных; из социальных групп
больше всего сторонников буддизма среди крестьян, старой чинов-
113
ничьей бюрократии и феодально-аристократической
интеллигенции; буддизм имеет больше приверженцев среди неграмотных ц
малограмотных, чем образованных людей; как правило, верующце
принадлежат к людям старшего поколения.
Несмотря на заметное снижение уровня религиозности,
престиж буддизма и анторитет монаха в целом остаются высокими. Об
этом свидетельствуют довольно значительные суммы расходов
населения на содержание сангхи и отправление культа, конечно,
по масштабам и возможностям страны, которая, по оценке ООН,
находится в числе 20 наиболее нуждающихся стран мира.
Население, во-первых, добровольно содержит в среднем 15 тыс.
священнослужителей, предоставляя им питание, одежду, различную
утварь и т. д. На средства верующих и при их непосредственном
участии содержатся все монастыри.
При этом жизнеобеспечение сангхи не рассматривается
населением как обременительная ноша, но воспринимается как
важная, большая «заслуга» каждого рядового буддиста. Кроме того,
население делает денежные пожертвования монастырям и
монахам. Определенные средства расходуются на отправление культа
и т. д.
Опрос верующих из нескольких социальных групп дал
следующие результаты: крестьянин из провинции Луангпхабанг
ежегодно отдает монастырю приблизительно 2 тыс. кипов,
молодой механик гаража — 1500 кипов, бывший полицейский,
пенсионер,— 500 кипов и т. д. Общая сумма денежных пожертвований
монастырям и монахам неизвестна, поскольку никаких подсчетов
на этот предмет не проводилось. Но, судя по всему, в
национальном масштабе она весьма значительная.
Рост образованности, культуры и сознательности широких
слоев населения и другие факторы ведут к заметному ослаблению
роли монастыря в общественной жизни, к сокращению его
нерелигиозных функций. Особенно это касается городских районов,
где храм остался главным образом местом удовлетворения
религиозных потребностей.
Впрочем, в настоящее время в Лаосе получили
распространение две точки зрения. Согласно одной, через одно-два поколения
буддизм в Лаосе изживет себя, отомрет, от него останутся только
обмирщенные обряды и ритуалы. Согласно другой — буддизму в
Лаосе предстоят подъемы и спады, как это было с этим
могучим вероучением не раз в прошлом. При этом сторонники второй
точки зрения ссылаются на исторические прецеденты и на
закономерность циклического развития идеологических систем. Но
их мнению, через какое-то время люди разочаруются во
многих ценностях современной цивилизации и вновь обратятся
к буддизму в поисках истинных, вечных, общечеловеческих
ценностей.
Как бы там ни было, совершенно очевидно, что буддийские
постулаты, установки, мораль и философия еще долго будут
жить в сознании людей.
114
1 Barber M. Urbanisation and Religion in Laos.— Sangkhom khadysan,
CoUogues au Sciences Humaines. Vientiane, Avril 1973 et Avril 1974, с. 47.
2 Там же, с. 48.
3 Данные представлены департаментом культов Фронта национального
строительства (Вьентьян, 1985).
* Данные представлены департаментом культов Фронта национального
/.тпоительства (Вьентьян, 1989).
1 s Пасасон. 18.10.1986.
6 Пасасон. 24.02.1989.
7 Материалы Конгресса народных представителей. Вьентьян, 1976 (на
ла0), с. 45.
8 III съезд Народно-революционной партии Лаоса. М., 1983, с. 45.
9 Кхамтап. Канмыанг кап сасанапхут (Политика и буддизм). Вьентьян,
1976 (на лао), с. 40.
10 Программа деятельности Буддийской ассоциации Лаоса
(машинопись, па лао), 1983, с. 3.
11 Запись беседы автора с заместителем председателя Луангпхабангско-
го провинциального управления БАЛ Бунтьяном. Луангпхабанг, 26.01.1986.
12 Программа деятельности Буддийской ассоциации Лаоса, с. 2.
13 Кхамтан. Пхасонг лау кап канпативат (Лаосское монашество и
революция). Вьентьян, 1976 (на лао), с. 71.
14 Данные представлены департаментом культов Фронта национального
строительства (Вьентьян, 1989).
15 Данные Департамента по делам культов при ФНС, 1989 г.
16 Нижеприводимая схема реализации финансовых средств существует
в удомсайской провинциальной сангхе. В других провинциях имеются более
илп менее значительные отклонения от этой схемы.
17 Запись беседы с членами опекунского совета храма Кэуфа, Пхонг-
сали, 26.01.1986.
18 Отчет Луапгпхабангского провинциального управления БАЛ о дея-
тельпости за 10 лет (1976-1986) (машинопись, на лао).
19 Отчет ЦК Буддийской ассоциации Лаоса за I половину 1985 г.
(машинопись, на лао).
20 Отчет ЦК Буддийской ассоциации Лаоса за II половину 1985 г.
(машинопись, на лао).
21 Запись беседы с членом бюро ЦК ФНС Кхамтаном Кэубули (31.03.
1989).
22 Запись беседы с Пхонгом, Вьентьян, январь 1986 г.
23 Программа деятельности Лаосской буддийской ассоциации, принятая
на III съезде ЛБА 23.02.1989.
24 10 проповедей Буддийской ассоциации Лаоса в честь двух
исторических дат. Вьептьян. 1985 (на лао).
25 Данные ЦК ЛБА, 1989.
26 Алун май. 1987, № 1, с. 78.
27 Отчеты ЦК БАЛ за I и II половины 1986, 1987 и 1988 гг.
28 Отчет ЦК Буддийской ассоциации Лаоса за I половину 1985 г.
29 Программа деятельности Лаосской буддийской ассоциации.
ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ
Б. В. Раушенбах
СКВОЗЬ ГЛУБЬ ВЕКОВ
Реформы великого князя Владимира
1000 лет назад, в 988 г., в «сонме» европейских христианских
государств появилась Киевская Русь. Понятен интерес,
проявляемый к этому событию и у нас в стране, и далеко за ее
пределами.
Чтобы заново осмыслить, что и как происходило в те далекие
века в Киевской Руси, полезно вспомнить слова Фридриха
Энгельса, сказанные, правда, по поводу более поздней эпохи
Возрождения: «Это было время, которое французы правильно назвали
Ренессансом, протестантская же Европа односторонне и
ограниченно — Реформацией» '.
Из высказывания Энгельса видно, что судить о событиях
такого масштаба, принимая во внимание один только религиозный
компонент,— значит судить «односторонне и ограниченно». К
сожалению, некоторые представители научного атеизма занимают
позицию, противоречащую глубокой мысли Энгельса. Выискивая
лишь «темные стороны» происшедшего 10 веков назад события,
невозможно в полной мере оценить его сложность и
противоречивость, его объективный смысл и значение. Всячески
подчеркивают, например, насильственный характер крещения. История
распространения христианской религии в самом деле дает для этого
определенные поводы. Взять хотя бы так называемое крещение
языческих племен Прибалтики крестоносцами. Здесь
действовали просто: выступало рыцарское войско, разбивало отряды
сопротивлявшихся, захватывало земли, возводило на них свои замки,
превращало свободное население в крепостных и придавало этому
разбою «приличный» вид, крестив оставшихся в живых. Однако
очевидно, что дело здесь было вовсе не в крещении, а в захвате
земель. Аналогично крестили аборигенов испанцы в Америке.
Но ничего подобного не было на Руси, где события развивались
иначе и в противоположном, если можпо так выразиться,
направлении.
Издательство ЦК КПСС «Правда». «Коммунист», 1987.
116
То, что произошло в конце X в. в Древней Руси, было
выдающимся событием в истории нашей Родины. Великий князь
Владимир осуществил смелую государственную реформу,
имевшую далеко идущие последствия. Я бы сравнил ее с реформой
Петра I. Как и во времена Петра, тогда нужен был рывок в
развитии страны, усвоение высших достижений передовых стран той
эпохи. Владимир преследовал цель встать вровень с развитыми
феодальными монархиями. Для этого надо было решиться на
проведение феодальной реформы и связанные с ней глубокие
преобразования. Именно эту реформу «односторонне и
ограниченно» называют нередко крещением Руси.
(Во избежание недоразумений в самом начале подчеркну, что
о феодальном характере реформ, государства, древнерусского
общества в целом я говорю, пользуясь современными понятиями и
отнюдь не желая представить Владимира кем-то вроде
сознательного «теоретика феодализма». Он выражал объективные
потребности общественного развития, которые обусловили его
естественное стремление создать государство, ни в чем не уступавшее
известным ему монархиям, в том числе Византии.)
Чтобы лучше понять процессы, определявшие жизнь наших
предков в ту далекую эпоху, необходимо хотя бы вкратце
вспомнить события предшествовавшего столетия. Первоначально
разрозненные славянские племена временами объединялись и вели
военные действия с соседями, тревожа иногда и окраины
Византийской империи. В середине IX в. состоялся первый большой
поход на Византию, связываемый летописью с именем киевского
князя Аскольда. Это был период, когда шло разложение
патриархального общинного строя, зарождались феодальные отношения.
Они имели тогда примитивную форму — осенью и зимой дружина
с князем ходила по своей территории, собирала дань;
феодального землевладения еще не существовало. Весной избытки
собранного (меха, воск и т. п.) отправляли по Днепру в Византию и
даже в более отдаленные страны Востока. Оттуда привозили
изделия, которых на Руси не производили. Аскольд осадил
Константинополь, взял большой выкуп и заключил с Византией договор,
вероятно, содержавший какие-то выгоды для русской знати.
Византия впервые столкнулась с нарождавшимся государством. Это
были уже не «варвары», грабившие пограничные провинции,
а нечто более серьезное.
В конце IX в. пришедший из Новгорода Олег захватил Киев
и объединил северную и южную Русь (Новгород и Киев).
Возникли контуры будущего древнерусского государства. Еще
непрочное объединение Руси в одно целое поддерживалось
постоянными боевыми действиями против непокорных племен.
Новый удачный поход на Византию завершился заключением в
911 г. выгодного русским договора и обеспечением ежегодной
Дани (платы за ненападение).
Со смертью Олега выявилась непрочность объединения
славянских племен — их союз распался. Восстанавливать его силою
117
оружия пришлось Игорю. Он был убит в одном из походов на
древлян за противоречившей обычаю повторной данью. Последо~
вала жестокая месть древлянам со стороны его жены Ольги
ставшей правительницей при малолетнем сыне Святославе. Пе~
чальный опыт заставил Ольгу упорядочить получаемые от
союзных племен дани и их повинности. Это был новый шаг к
регламентированному законами феодальному государству.
Придя к власти, Святослав направил свою энергию против
внешних врагов нарождавшегося государства. Разгромив
Хазарский каганат, войско Святослава дошло до Северного Кавказа.
Победами (хотя и не всегда) сопровождался и его поход против
Византии. Возвращаясь обратно, Святослав погиб в сражении с
печенегами, которых византийцы предупредили о маршруте его
дружины. Но потенциальные враги русских были нейтрализованы.
Междоусобная борьба братьев после смерти Святослава
привела в 980 г. к власти его сына Владимира. Каково было
наследство, доставшееся Владимиру от его предшественников?
Коротко говоря, он оказался во главе непрочного объединения
славянских племен, стабильность которого требовала постоянного
применения (или, по крайней мере, постоянной угрозы
применения) военной силы. Чтобы укрепить это объединение, молодой
князь принял два важных решения. Во-первых, он обосновался в
Киеве, чтобы не оставлять управления своею державой на
многие месяцы или годы (такова была длительность военных
экспедиций его предшественников). Во-вторых, он постарался,
выражаясь сегодняшним языком, идейно объединить союзные
славянские племена с помощью общей для всех религии.
Переход к оседлой жизни в столице был серьезным шагом в
направлении феодализации государства: в современных
Владимиру королевствах монархи в основном управляли своими странами
из столиц. Эту сторону деятельности Владимира счел нужным
особенно выделить К. Маркс. Он писал, что до Владимира
страной правили князья-завоеватели, которые смотрели на Россию
лишь как на стоянку, от которой надо было двигаться дальше 2.
Например, Святослав собирался перенести столицу на Дунай,
приблизив ее к местам боевых действий собственной дружины.
Об этом же повествуют и летописи: до Владимира князья думали
«о ратех», а он «о строи землянем... и о уставе землянем». Это
не значит, конечно, что Владимир не совершал военных походов.
Но он никогда не оставался на завоеванных землях, а всегда
возвращался в Киев. Его походы не были самоцелью, они
обусловливались нуждами государства.
Обосновавшись в Киеве, Владимир приступил к строительству
оборонительных сооружений на востоке от него, подтверждая
этим, что он собирается пребывать в столице постоянно и
защищать ее от кочевников. Спокойная и уверенная жизнь в городе
тоже была важной предпосылкой успеха глубоких
государственных реформ.
Вторую проблему — объединение союзных племен — он пона-
даЛу пытался решить путем «уравнивания в правах» всех
основных племенных богов (а значит, и влиятельных жреческих групп).
Дююой приехавший издалека мог видеть, что в столице
почитаются не только свои, киевские, боги, но и бог его племени. Так
в Киеве возник пантеон шести языческих богов, остатки которого
уяа1 в наше время обнаружили археологи. Согласно другой точке
зрения, в пантеоне были представлены боги, символизировавшие
основные элементы древней картины мира славян — Небо,
Землю, Солнце и т. п. Возглавлял эту группу великокняжеский бог
Перун. Но и в таком случае пантеон имел общеславянский,
объединяющий характер.
Хотя мы и не располагаем сегодня прямыми
доказательствами, не подлежит сомнению, что эти меры князя Владимира
укрепили древнерусское государство. Но вскоре выяснилось, что
дорога, по которой он столь успешно двинулся вперед, на самом
деле вела в тупик. Тому были две серьезные причины.
Во-первых, языческая религия и после нововведений Владимира
предполагала все же старый образ жизни. Она была уместна для
патриархального строя, но серьезно тормозила формирование
зарождавшегося феодализма. Нужны были новое право, новые
обычаи, новое общественное сознание, новые оценки событий. Старое
язычество этого дать не могло. А «это» лежало по существу
готовым в Византии.
Вторая причина заключалась в том, что Киевская Русь не
могла стать в один ряд с передовыми странами Европы и
Востока, не могла выйти, говоря нынешним языком, «на уровень
мировых стандартов», не заимствовав у них ремесел, строительной
техники, науки, культуры и многого другого. (Так позднее Петру
понадобился опыт Западной Европы.) Все это тоже можно было
взять в Византии.
Почему Византия? Решая, какую (или какие) из
существовавших тогда стран принять за образец, Владимир мог
ориентироваться также на мусульманский Восток и католический Запад.
Но предпочтение было им отдано православной Византии.
(Формальное разделение некогда единой церкви на православную и
католическую произошло лишь в 1054 г., фактически же они
стали независимыми намного раньше. Это и позволяет нам
пользоваться принятой здесь терминологией.) В немалой мере выбор
Владимира был обусловлен исторически, но в такой же мере —
его государственной мудростью. С Византией уже сложились
Достаточно тесные экономические отношения; она была близко
расположена; родственная Руси Болгария приняла христианство
примерно за 100 лет до Киевской Руси. Этому в большой степени
способствовала деятельность Кирилла и Мефодия, создавших
славянскую письменность и проповедовавших христианство на
славянском языке. В наши дни славянские народы справедливо
чествуют их как выдающихся просветителей (в Болгарии
посвященный их памяти день отмечается как всенародный праздник
просвещения, там существует государственный орден Кирилла и
119
Мефодия). Таким образом, на решение Владимира могло
повлиять и то, что в православной церкви, в отличие от католической,,
богослужение можно было вести на понятном языке (в X—XI вв*
«церковнославянский» язык практически не отличался от
русского). Нелишне заметить, что в ту эпоху Византия переживала
расцвет; там не умерла античная традиция — в ее школах
изучали Гомера и других классиков древности, в философских
диспутах продолжали жить Платон и Аристотель... Византийский
вариант христианства отвечал нуждам феодального общества и
поэтому вполне соответствовал замыслам Владимира.
Одновременно решалась и задача единого культа для всех племен Древней
Руси.
Ни Русь, ни Византия не расценивали предстоящее крещение
как чисто религиозный акт. Если ограничиться несколько
упрощенной и предельно краткой характеристикой, то точка зрения
Византии сводилась к следующему: поскольку Русь обращалась
в православную веру, а православный мир возглавляли
византийский патриарх и император, то Русь автоматически
становилась как бы вассалом Византии. Однако растущее и уже
довольно мощное древнерусское государство, неоднократно успешно
воевавшее с Византией, отнюдь не желало для себя подобной
роли. С точки зрения Владимира и его окружения, крещение и
связанное с этим заимствование византийской культуры и
техники вовсе не должны были лишить Русь ее самостоятельности.
По мысли князя, Русь превращалась бы в дружественное
Византии, но вполне суверенное государство. Как друг Византии,
оно оказывало бы ей, если необходимо, военную помощь.
При столь существенном расхождении во взглядах на
последствия крещения этот акт был по меньшей мере сильно затруднен.
Но судьба оказалась благосклонной к замыслам Владимира.
В 986 г. византийский император Василий II потерпел жестокое
поражение в войне и едва спасся, а в 987 г. к Константинополю
подошел с войском взбунтовавшийся византийский военачальник
Варда Фока и объявил себя императором. В этом безвыходном
положении Василий II просит помощи у киевского князя
Владимира. Тот согласен предоставить военную помощь и тем самым
сохранить трон Василию II, но выдвигает жесткие условия:
крещение Руси происходит, образно говоря, «по киевскому
сценарию»;
Владимир получает в жены сестру императора и тем самым
становится «своим» среди верховных правителей Европы.
Император вынужден согласиться. То была большая
дипломатическая победа Владимира. Княжеское войско (6 тыс. воинов)
помогло разбить Фоку, и Василий II остается на престоле.
Наступает 988 год, а с ним начинается и крещение Руси.
Однако Василий II нарушает данное им слово — приезд его сестры
Анны в Киев задерживается. Владимир действует решительно:
осаждает Корсунь (Херсонес) — важный опорный пункт Византии
в Крыму.
120
А. К. Толстой, обладавший отменным чувством юмора, так
описывает осажденных византийцев:
Увидели грекп в заливе суда,
У стен уж дружина толпится.
Пошли толковать и туда и сюда:
«Настала, как есть, христианам беда.
Приехал Владимир креститься!»
Корсунь капитулирует, Владимир грозится перенести военные
действия на территорию Византии. Теперь вынужден
капитулировать и Василий II. Судьбу Анны оплакивают в
Константинополе целую неделю, и нетрудно вообразить, с какими мыслями
отправляется она после этого к Владимиру.
Любители порассуждать о «насильственном крещении» могут
на этом примере убедиться, что насилие действительно имело
место. Сохраняя ироническую интонацию А. К. Толстого, можно
сказать, что древнерусское войско, разбив византийцев,
заставило их окрестить себя.
Прежде чем обратиться к реформам, рассмотрим религиозную
сторону вопроса. На первый взгляд может казаться, что
социальная роль любой религии одинакова, коль скоро все они признают
существование некоей мистической силы, которая управляет
происходящим в мире. В действительности дело, конечно же, обстоит
сложнее, религии имеют свою непростую историю, и, в частности,
переход Киевской Руси от язычества к христианству следует
оценивать положительно, как переход к «цивилизованной»
религии. Например, обязательным элементом языческого культа
населявших Европу славянских племен были человеческие
жертвоприношения (впрочем, это было свойственно и другим языческим
племенам). Они совершались по разным поводам, включая
некоторые праздники годового цикла. При похоронах женатого
человека убивали его жену, а если он был достаточно состоятельным,
то и рабыню, иногда даже несколько рабынь и рабов. Бывало,
что перед сражением в жертву приносили одного из воинов.
Известны и жертвоприношения, связанные с благодарственными
богослужениями.
Естествен вопрос: как шло распространение христианства?
Не встречал ли этот процесс сопротивления? Подчеркнем еще раз,
что он был внутренним делом Киевской Руси. Преобразования
осуществлялись по указанию великого князя и его ближайшего
окружения, как бы «правительства». Внешнего, насильственного
напора страна не испытывала. Кроме того, население было
знакомо с христианством: уже многие годы в древнерусских городах
существовали маленькие христианские общины, появившиеся еще
во времена княжения Ольги, бабушки Владимира, которая первой
из верховных правителей Киевской Руси приняла христианство
(если не считать легендарных сведений о крещении Аскольда).
Это тоже способствовало утверждению новой религии.
Как и при всяком кардинальном преобразовании, новое,
прогрессивное наталкивалось на сопротивление старого, отжившего.
121
Поэтому полезно обсудить, кому это новое было выгоду
а кому — нет. h
Князь только выигрывал — если раньше он просто был главо"
племенного союза, то теперь его власть была освящена, «дарова-
на богом». Ближайшее окружение Владимира не несло никакого
имущественного или иного ущерба. То же можно сказать ц 0
дружине. Перед теми, кто занимался торговлей с Византией ц
другими государствами, реформа открывала новые возможности
Если прежде на торговых площадях заморских стран они была
«варварами», «скифами», то отныне в Византии и Европе —
уважаемыми единоверцами, а на мусульманском Востоке —
представителями одной из мировых религий. Рядовые общинники, пока
процесс феодализации еще не набрал силу, тоже особенно не
страдали. Рабам христианство обещало свободу. Как известно,
в Древней Руси рабство было домашним, рабов не использовали
в производстве, но они составляли заметный слой общества.
Широко была распространена работорговля. Феодализму рабство не
свойственно, и. церковь резко выступала против него, особенна
тогда, когда своих соплеменников продавали «в поганые».
Кто терял все, так это языческие жрецы. Влиятельное
жреческое сословие вдруг становилось никому не нужным. В этих
условиях языческое жречество прибегло к двум принципиально
разным тактическим приемам: во-первых, к «уходу в подполье»,
когда на окраинах и в других местах, где это было возможно,
продолжалось служение идолам, совершение магических обрядов
и т. п.; во-вторых, к открытому (даже вооруженному)
сопротивлению всей системе реформ Владимира.
Реакция Владимира на эти дчо тактики была различной. На
«подпольных» языческих жрецов почти не обращали внимания,
им не мешали, ведь они не представляли опасности для
главного—феодальной реформы. В этом один из корней так
называемого двоеверия. Владимир считал, что в результате деятельности
христианского духовенства эти элементы язычества постепенно
отомрут. При столь масштабных реформах неразумно требовать,
чтобы сразу все изменилось.
Иной была реакция на сопротивление системе реформ. Здесь
Владимир проявлял твердость, безжалостность и при
необходимости применял военную силу. Однако для нас важно, что «огнем
и мечом» не просто вводилась новая религия, а создавалось
централизованное феодальное государство.
Процесс христианизации протекал постепенно и, по
современным оценкам, в основном занял приблизительно 100 лет. С
учетом размеров страны это очень малый срок: крестившимся почти
одновременно с Русью Швеции и Норвегии потребовалось на это
соответственно 250 и 150 лет.
Государственная реформа Владимира как бы высвободила
постепенно накапливавшийся в древнерусском государстве
потенциал — началось бурное, стремительное развитие страны, и это
показывает, сколь своевременна была реформа.
Приглашенные из Византии мастера строят каменные здания
храмы, расписывают их, украшают фресками, мозаикой,
иконам1*' а РЯД°М с ними работают русские, которые учатся неизвест-
0о>1у' ранее мастерству. Уже следующее поколение будет
возводить сложные сооружения в русских городах, почти не прибегая
J помощи иностранцев. Изменяется и сельское хозяйство — на
руси появляется огородничество.
Прибывшее духовенство не только служит в новых храмах,
и готовит «национальные кадры» для церкви, и, как следствие,
распространяются знания и грамотность. Организуются школы,
Р Которые Владимир под плач матерей собирает детей высшего
сословия (потом этим методом будет пользоваться Петр), молодых
лЮден посылает на учебу за рубежи родной страны. Вводится
летописание. Киевская Русь начинает чеканить золотую монету.
Древняя Русь постепенно становится государством новой
высокой культуры. Не следует, однако, думать, что в языческие
времена она не обладала по-своему совершенной культурой. Эта
народная языческая культура будет еще долго жить и придаст
дреинерусскому искусству своеобразные и неповторимые черты.
Говоря о новом, я имею в виду главным образом ту массу
знании (от сочинений Аристотеля до способов кладки каменной
арки), которая уже тогда стала достоянием мировой культуры.
Византийцы, возможно, были не совсем удовлетворены
деятельностью Владимира, но его восторженно воспевает
фольклор, а это высшая оценка, которую мог получить тогда
политический деятель. Владимир Красное Солнышко навечно остался в
народной памяти. И это не случайно. Во все времена человек
хотел, чтобы сегодня было лучше, чем вчера, а завтра — лучше,
чем сегодня. Чем выше темп непрерывного улучшения жизни,
тем счастливее человек. В период реформ Владимира темп
обновления всех сторон жизни древнерусского общества был поистине
ошеломляющим. Еще вчера киевлянин с удивлением взирал на
чудеса Константинополя, а назавтра видел нечто близкое в
Киеве. Это вселяло в его душу гордость за родную страну и
уверенность в ее великом будущем.
Первоначально христианство на Руси было радостным,
чуждым мпроотрицающего аскетизма. Во времена Владимира на Руси
не было своих монахов, не существовало монастырей. Все это
Довольно естественно. Чтобы кто-либо ощутил потребность идти
в монастырь, он должен был сжиться, лучше всего с детства,
с христианскими представлениями и идеалами. А на это нужно
время. Кроме того, русские христиане первого поколения считали
сам факт крещения столь большим подвигом личного благочестия,
что дополнять его подвигами монашеской жизни было
необязательно. Из проповедуемых христианством добродетелей наиболее
Ценилась любовь к ближнему, которая проявлялась, в частности,
D практике пиров и милостыни бедным.
Княжеские пиры знало и язычество. Владимир сохранил этот
обычай, придав ему новое содержание. Здесь между представи-
телями дружинной и племенной знати свободно обсуждались «х^
кущая политика», на этих в известном смысле политических со«
браниях происходило сближение двух группировок нарождавще,
гося класса феодалов. Что касается милостыни бедным, то н^
княжеском дворе неимущий киевлянин или странник мог
бесплатно поесть. По распоряжению Владимира пищу для глубоких
стариков и больных развозили по домам. Одним из видов
милостыни был и выкуп пленных (рабов) с предоставлением им
свободы и средств к существованию.
Со временем, когда феодализм достигнет достаточно полного
развития, церковь будет помогать господствующему классу
держать угнетенное крестьянство в повиновении. Более того, она
сама станет крупнейшим феодалом. Но все это — в будущем,
а пока правит Киевской Русью «ласковый князь» — Владимир
Красное Солнышко.
Продуманная и энергичная политика Владимира ввела Русь
в систему европейских христианских государств. Ее
международное положение укрепилось. Русь становилась «ведома и
слышима... всеми концы земли». Карл Маркс назвал эпоху Владимира
вершиной «готической (т. е. раннесредневековой.— Б. Р.)
России» 3.
Быстрый теми преобразований эпохи Владимира все же не
смог обеспечить завершения феодальной реформы при его жизни,
для этого требовалось больше времени, и его дело завершил сын —
Ярослав Мудрый. Как сказано в летописи, Владимир вспахал,
Ярослав засеял, а мы (т. е. следующее поколение) пожинаем
плоды. В чем же заключается «посев» Ярослава?
Заняв после тяжелой междоусобной борьбы киевский стол,
Ярослав стал не менее энергично, чем его отец, продолжать
начатую реформу. Как и отец, он строит укрепления для своих
земель, теперь, правда, преимущественно на западе. Так же, как
и отец, следит за тем, чтобы феодальным преобразованиям ничто
не мешало. В этой связи полезно вспомнить так называемое «вое*
стапис волхвов».
В голодном 1024 г. на далекой тогда окраине Киевской Руси,
в Суздале, вспыхнуло восстание. Казалось, язычники выступили
против христиан. Но дело было сложнее — как пишет летописец,
восставшие направили свой удар против «старой чади». Это
раскрывает нам суть происходившего. В описываемое время шел
процесс расслоения некогда свободной родовой общины.
Племенная верхушка — «старая чадь» — занималась экспроприацией
общинных земель, постепенно феодализируясь; она собирала дань
для князя, конечно, не забывая и себя. В голодные годы эти
нарождавшиеся феодалы припрятывали съестные припасы,
одновременно обогащаясь и закабаляя своих соплеменников.
Следовательно, восстание 1024 г.— типичное выступление
порабощенных против угнетателей, это — прообраз будущих крестьянских
восстаний в истории нашей страны.
В этой обстановке из «подполья» вышли волхвы и попытались
124
рользовать восстание в своих целях — для восстановления
язычества. Восстание было Ярославом подавлено. Интересно
отмерь, что пока суздальские волхвы творили свои языческие обря-
дьь Ярослав их не трогал. Он выступил тогда, когда разразилось
дртнкняжеское (лишь по форме антихристианское) восстание.
gMy? как и Владимиру, важно было закрепить феодальные
реформы.
Ярослав продолжает интенсивную строительную деятельность,
явно стремясь сделать Киев не хуже Константинополя. Если Кон-
стаптинополь знаменит своим собором Софии, то величественный
Софийский собор возводится и в Киеве; и тут и там городские
укрепления украшают Золотые ворота и т. п. Много сил отдает
Ярослав и развитию торговли: при нем начали чеканить не
только золотую, но и серебряную монету.
Однако главной заботой Ярослава стало создание собственной,
русской интеллигенции (при всей условности применения
данного понятия к этой эпохе). Эту задачу Владимир не мог решить
за недостатком времени. Требовалась не просто грамотность,
надо было сделать так, чтобы Киевская Русь не нуждалась в
«импорте» греческого духовенства, чтобы она имела собственных
ученых, писателей, философов, чтобы она могла при
необходимости вести идейную борьбу, в частности, против имперской
идеологии Византии.
В средние века единственным местом, где человека
обеспечивали всем необходимым п давали возможность заниматься
науками, были монастыри. Они играли роль не только религиозных
центров, но и своего рода академий наук и университетов. Здесь
писались трактаты на самые различные темы и воспитывалось
ноное поколение образованных людей. Князья и цари ездили в
монастыри не только для молитвы, но и для совета — ведь
нередко тут были самые знающие соотечественники. Неудивительно,
что при Ярославе возникает русское монашество, появляются
русские монастыри.
Описи XV—XVII вв. (более ранние погибли) показывают, что
большинство книг монастырских библиотек носило не
богослужебный, а светский характер. Здесь хранились летописи,
различные «хождения» (т. е. географические сочинения), философские
п поенные трактаты, такие классические труды, как «История
Иудейской войны» Иосифа Флавия, патриотическая литература
и т. п. Ученый монах должен был быть всесторонне образован.
Об этом свидетельствует, например, начало «Повести о Стефане
Пермском», в котором автор — Епифаний Премудрый, монах Тро-
ице-Сергиева монастыря (XV в.),—принижает, по обычаю того
времени, свои таланты: «Не бывал ведь я в Афинах в юности и
пе научился у философов ни хитросплетениям, ни мудрым
словам, ни Платоновых, ни Аристотелевых бесед не осилил...» Из
этих слов виден идеал монаха-ученого.
В монастырях велось летописание (Нестор), писали сочинения
полемического характера (часто с четким политическим подтекс-
125
том), переписывали книги (этим монастырским скрипториям мы
обязаны тем, что можем читать древние летописи, что до нас
дошло «Слово о полку Игореве»). писали иконы (Алипий).
Монастырские врачи бескорыстно оказывали медицинскую помощь
мирянам. Немаловажно и то, что отсюда выходили собственные
русские священнослужители и иерархи, заменившие приезжих
византийцев.
Отношения с Византией то улучшались, то ухудшались.
В 1037 г., воспользовавшись тяжелым положением Ярослава
в борьбе с печенегами, Византия поставила во главе русской
церкви митрополита-грека. Она по-прежнему хотела видеть
Киевскую Русь своим вассалом. Но в 1051 г., после смерти
митрополита-грека, произошло неслыханное: Ярослав сам (без
императора и константинопольского патриарха), «собрав епископы»,
ставит митрополитом Илариона — русского, священника княжеского
села Берестово. Русская церковь вновь укрепляет свою
независимость.
Митрополит Иларион был, безусловно, высокоталантливым
человеком. Его перу принадлежит замечательный образец
древнерусской литературы — «Слово о законе и благодати». Если
судить по заглавию, то можно подумать, будто это классический
богословский трактат. Ведь еще апостол Павел в своем
«Послании к евреям» ставил вопрос о соотношении Ветхого завета
(закона, данного Моисеем) с Новым заветом (благодатью, данной
человечеству Христом). Естественно, проблема эта решалась в
пользу благодати. Однако в своем произведении Иларион дал
новый, политически злободневный поворот классической теме.
Поскольку благодать выше закона, значит, новое нередко
выше старого. Но тогда и пароды, крестившиеся позже, вовсе не
хуже тех, кто принял крещение давно, и притязания Византии
на старшинство по отношению к Руси не имеют оснований.
Суживая тему и говоря о крещении Руси, Иларион особо
подчеркивает, что это не заслуга Византии. Крещение произошло по
собственному желанию русских, это лишь первый шаг, и русский
парод ожидает великое будущее. Еще более суживая тему,
Иларион переходит к похвале князю Владимиру — крестителю
Руси — и его политике. При этом он поднимает вопрос о
причислении Владимира к лику святых как «нового Константина».
Император Константин, сделавший много столетий назад
христианство государственной рилигией Римской империи, вводил
христианство в стране, где оно уже было распространено,
Владимир же — в языческой стране, что много труднее. Далее
Иларион описывает и хвалит не только «милостыню» Владимира,
но и его государственную деятельность, воздает должное его
предкам — Святославу и Игорю, т. е. хвалит язычников.
Фактически сочинение Илариона было острым идейным
оружием в обосновании независимости Киевской Руси. Это не
осталось незамеченным в Византии, и в канонизации Владимира
тогда было отказано.
126
При Ярославе продолжалось распространение грамотности и
строительство школ (не только в Киеве). Сохранилось
свидетельство об открытии в 1030 г. школы на 300 детей в Новгороде, где
их начали «учити книгам». Учили не только мальчиков,
возникали и школы для девушек. Грамотой постепенно овладевали все
сословия — об этом говорят находки древних берестяных грамот.
Сам Ярослав «книгам прилежа, и почитая е часто в нощи и в
дне», а также «собра писце многы, и прекладаше от грек на сло-
нсньское ппсмо, и спнсаша книги многы». «Велика бо бывает
полза от ученья книжного». Происходил быстрый культурный
рост населения Древней Руси.
Цивилизованные государства не могут существовать без
писаных законов, и Ярослав кодифицирует «Русскую Правду», а
также создает ряд других письменных уставов. Короче говоря,
Ярослав, завершитель реформы Владимира, сделал Киевскую Русь
свободно развивающимся феодальным государством, ни в чем не
уступавшим другим. Гордость за свою страну, желание
независимости от Византии и равенства с нею были близки пе только
княжескому окружению, но и всему народу. Спустя несколько
десятилетий после смерти Ярослава это докажет игумен Даниил,
совершивший путешествие в Палестину и описавший его в своем
«Хождении». Увидев, что в церкви Вознесения у Гроба Господня
находится много каидил (светильников) от разных стран, в том
числе и от Византии, но нет от Руси, он обратился к королю
Балдуину (Палестина была тогда в руках крестоносцев) с прось-
оой разрешить ему поставить там на гробе кандило «от всей
Русской Земли». Русь нигде не должна была стоять ниже Византии.
Каковы же итоги княжения Владимира и Ярослава?
Во-первых, Русь объединилась в единое феодальное государство. Оно
было объединено новой, передовой по тому времени культурой,
писаными законами, религией. Исчезло старое деление по
племенным признакам, получила окончательное государственное
оформление единая древнерусская народность, из которой позже
вышли русские, украинцы, белорусы.
Во-вторых, в результате реформы Русь окончательно встала
вровень со всем цивилизованным миром. Она не уступала другим
странам ни и смысле общественно-экономической формации
(феодализм, который продолжал свое развитие), ни в смысле
культуры, ремосла, военного дела. Введение христианства,
ставшего идеологической основой единой феодальной
государственности Древней Руси, сыграло в период раннего средневековья
прогрессивную роль.
Стремительный расцвет древнерусского государства произвел
огромное впечатление в мире. Западный летописец (Адам из
Бремена) называет Киев «украшением Востока» и « соперником
Константинополя». Но, может быть, наиболее наглядно
международный авторитет Киевской Руси просматривается н династических
браках. Если Владимир добыл себе «достойную жену» силой
оружия, то в период княжения Ярослава наблюдается совершенно
иная картина. Сам он женат на дочери короля Швеции, его
сестра — королева Польши, три дочери — соответственно
королевы Венгрии, Норвегии и Франции, сын женат на сестре короля
Польши, внук — на дочери короля Англии, выучка — жена
германского короля и императора «Священной Римской империи»
Генриха IV. Это ли не признак международного авторитета
древнерусского государства как передовой и мощной державы?
Опа возникла из конгломерата «варварских» племен на глазах
изумленной Европы за время жизни двух поколений. Вот как
Владимир «вспахал», а Ярослав засеял!
Сегодня мы имеем все основания гордиться сделанным
нашими великими предками и с благодарностью вспомнить их
самоотверженный труд. То, что произошло 1000 лет назад (как и
всякая дата подобного рода, она, конечно, условна), было
значительным шагом вперед на длинном пути истории.
1 Энгельс Ф. Диалектика природы.- Маркс К. и. Энгельс Ф. Сочинения.
Изд. 2-е. Т. 20, с. 508.
2 Маркс К. Разоблачения дипломатической истории XVIII в.- Вопросы
истории. 1989, № 4, с. 4.
3 Там же.
E. M. Штаерман
РИМСКАЯ РЕЛИГИЯ И ХРИСТИАНСТВО
Исследователи римской религии почти единогласно
утверждают, что она была сухой, без мифологии, ясного представления
о божестве, истинного религиозного чувства, основанной на
соблюдении с абсолютной точностью установленных ритуалов.
Лишь отождествление римских богов с греческими,
заимствование греческих мифов и некоторых обрядов несколько оживили
религию римлян, но не изменили ее сути. Со временем она
перестает удовлетворять запросам римского мира и приходит в
упадок. Представителей разных общественных слоев привлекали ре-
.чигиозно-фплософские системы, испытавшие сильное влияние
учений Востока — Египта, Вавилона, Персии. Простой народ
обращался также к восточным богам под влиянием выходцев с
Востока — рабов, отпущенников, ремесленников, а также
бродячих жрецов Исиды, Кибелы, Митры и многих других,
прельщавших «бившими на эмоции» церемониями, чудесными рассказами
о богах, примитивной магией, астрологией, обещаниями
общения с божеством при жизни и загробного блаженства. В том же
ряду чисто восточных течений рассматривается и раннее
христианство с его растущей популярностью среди рабов и
городских низов, затем у представителей высших классов и, наконец,
его превращение в официальную религию '.
В различных исследованиях уделялось внимапие идеологии
низших слоев общества, тем характерным ее чертам, которые на
римской «языческой» почве в чем-то предопределяли
распространение христианской этики и христианского мировоззрения в
целом. При этом отрицалась какая-либо самостоятельность в
области идеологии или настаивалось на их увлечении восточными
культами, перенятыми у выходцев с Востока, культами,
проникавшими затем из пизов в верхи, разлагавшими окончательно
среди последних исконную римскую религию, римские моральные
идеалы и ценности.
Однако серьезные исследования верований и взглядов этих
низов, по существу, не проводились. Первой капитальной работой
иа эту тему были три тома Ф. Бёмера, посвященные религиям
и культам рабов античного мира; первый том охватывал Рим,
Италию и западные провинции Римской империи2. Книга по-
© Е. М. Штаерман, 1990
5 Заказ X« 4129 129
строена на очень большом материале, в основном
эпиграфическом 3.
Но труд Ф. Бёмера имеет один существенный недостаток.
Примыкая к тем западным античникам, которые стремятся
опровергнуть мнение об определенном значении в структуре и
истории Рима класса рабов и их борьбы, автор старается доказать,
что у рабов не было своей религии, мировоззрения, резко
отличных от религии свободных, а значит, не было своей классовой
идеологии; они не осознавали себя как класс и не ставили себе
никаких присущих только их классу целей, иными словами,
вообще не были классом. В доказательство Ф. Бёмер ссылается на
то, что одни и те же боги были популярны среди рабов и
свободной бедноты, что рабам вообще не была свойственна особая
религиозность и они, как выборные министры и магистраты
религиозных коллегий, только обслуживали культы и святилища и
никак не связывали себя с божествами. Бёмер, наконец,
утверждает, что религия, римская в частности, никогда не была
связана с моралью, а значит, приверженность рабов тому или иному
божеству и его культу не влияла на их этику и, следовательно,
на их мировоззрение в целом.
Аргументация автора не представляется убедительной. Мы
попытаемся показать, что источники свидетельствуют именпо об
усилении и углублении религиозного чувства низов и его связи
с моралью, с мировоззрением, отличными от мировоззрения
верхов. Протест против последнего и обусловил возможность
распространения христианства и, притом, не в связи с восточными
влияниями, а на основе римской религии, правда
модифицировавшейся в связи с эволюцией социально-политического строя Рпма,
от строя гражданской античной общины к строю империи, что
для ее населения означало, по меткому выражению С. Л. Утчен-
ко, переход от гражданина к подданному, от «связей соучастия
в системе гражданская община — гражданин» к связям
«подчинения в системе империя — подданный» *.
Римская гражданская община, расцвет которой приходился
на конец IV — конец II в. до н. э., как и греческий полис,
конституировалась в результате борьбы народа (римского плебса)
с родовой аристократией. Хотя в Риме престиж аристократии
был подорван в значительно меньшей степени, чем в Афинах,
все же плебс добился политического и юридического
равноправия, верховной власти народного собрания, наделения
значительной части неимущих землей, запрещения долгового пли иного
рабства для граждан, что обусловило резкое противопоставление
свободы рабству, отсутствие слоев, промежуточных между
свободными и рабами, многочисленных в других древних обществах.
Верховная собственность коллектива на его территорию
сказалась и в запрете дарить и завещать земли храмам (дабы
обработка земли ее владельцами не вышла из-под контроля общиныт
требовавшей, чтобы каждый гражданин добросовестно
возделывал свой надел как часть общинного земельного фонда). Соот-
130
нетственно в Риме не могла сформироваться богатая и
могущественная жреческая каста, способная влиять на религиозную
жизнь в отношении создания некоей обязательной религиозной
догмы. Римская религия, в своей архаической стадии имевшая
много общего с религиями других племен и народов, стоявших па
той же стадии перехода от бесклассового к раннеклассовому
обществу, развивалась специфическим путем.
Помимо черт, характерных и для греческих полисов как
гражданских общин, в Риме, в связи с его почти непрерывными
войнами и распространением его власти сначала па Италию,
а затем на все Средиземноморье, особое значение приобретала
военная организация и соответствующая ей идеология. Эту
идеологию характеризовало более сильное, чем в Греции, чувство
коллективизма, а также со временем крепнувшее и
подкреплявшееся все новыми легендами и поверьями представление об
особой богоизбранности Рима, предназначенной ему от века судьбой
власти над миром. Соответственно сам Рим со всеми его
институтами, историей являлся высшей ценностью, которой обязан
был служить каждый гражданин, не жалея трудов, родных,
имущества и даже жнзьи. Рим, римский народ в целом, его
установленные предками обычаи и принятые сенатом и народом
законы, одобрение или осуждение сограждан были высшими
источниками долга, морали и ее санкцией.
Боги, божества также включались в комплекс римских
ценностей. По их решению был основан Рим, и вся его земля
теснейшим образом связана с богами. Когда после нашествия
галлов, сжегших большую часть города, некоторые граждане
предлагали переселиться в недавно завоеванный этрусский город Вей,
популярнейший полководец и политический деятель Фурий
Камилл отговорил их, утверждая в горячей речи, что нигде, кроме
как на земле Рима, не могут быть его боги и святыни: храм
Юпитера на Капитолии, огонь хранительницы города Весты,
в святилище которой втайне хранились залоги мощи и счастья
Рима: его Пенаты и Палладий, якобы принесенные Энеем из
Трои, св. смоковница, под которой волчица кормила Ромула и
Рема, хижина и гробница Ромула, жилище бывших
царей-жрецов с хранившимися в них щитами и копьями Марса \ По
мнению римского ученого Варрона, гражданские установления
предшествовали религиозным, как художник предшествует картине,
мастер изделиюв. Граждане были обязаны чтить богов своего
рода и фамилии, сельской общины-пага, соседства, Рима в целом
согласно обрядам, установленным предками, как обязаны были
повиноваться законам и обычаям. Но не боги, а законы и
обычаи санкционировали моральные нормы и общественное
устройство Рима. В отличие от многих ранних обществ религия Рима
не оправдывала рабства, не освящала своим авторитетом
сословные и экономические различия и боги не карали за нарушение
социальных норм. Со своей стороны, закон не осуждал
оскорбления богов (за исключением считавшегося святотатством похище-
ния чего бы то ни было из храмов), за него они должны была
мстить сами. Очень рано гражданское право (ins) отделилось от
сакрального, божеского (fas). Только в отношениях внутри
фамилии, подчиненной абсолютной власти ее главы, отца, и
которые не могло вмещаться ius, право, известным регулятором
выступала религия, fas: хранители фамилии и ее земли, главные
объекты фамильного культа Лары7 считались блюстителями
pietas — исполнения долга людей в отношении богов, детей в
отношении родителей, младших членов фамилии относительно
старших и карали как оскорбивших отца или мать, так и, с другой
стороны, жестокость отца к детям и господина к рабам.
Вообще же боги гневались только на несоблюдение их воли,
па пренебрежение к ней при важных общественных
начинаниях; воли, узнававшейся специальными жрецами — авгурами,
гаруспиками по полету и поведению птиц, по внутренностям
жертвенных животных и другим знакам, о которых богов
просили пли которые те посылали сами (так называемые проднгпп —
знамения: удары молнии, затмения, кометы, кровавые дожди,
рождение уродов и т. п.). Так, по преданию, Рим был основав
согласно знаку — появлению 12 коршунов над Палатниом —
Ромулом, первым авгуром. Авгурии испрашивались при выборе
царей, пока таковые правили в Риме, при освящении мест для
сооружения храмов, созыве народных собраний, совершении
некоторых общественных жертвоприношений, перед началом боя с
противниками и т. п. Пренебрежение авгуриями неизбежно
должно принести неудачу, например поражение в битве, и требовало
поэтому искупительных церемоний для умилостивления богов и
восстановления нарушенного «мира с богами». В случае
устрашающих знамений, общественных бедствий — эпидемий,
землетрясений, нашествий врага — специальная жреческая коллегия
обращалась к хранившимся в тайне от непосвященных так
называемым Сивиллиным Книгам (или книгам судьбы — libri fatales),
по преданию купленным последним римским царем Тарквинием
Гордым У пророчицы Сивиллы и содержавшим написанные
на пальмовых листьях греческими акростихами указания, как
следует в том или ином случае умилостивить богов.
Иногда по предписанию Сивиллиных Книг вводились новые
культы. Так, в 433 г. до н. э. был введен культ Аполлона и
выстроен в его честь храм, а в связи с нашествием на Италию
Ганнибала были приняты культы почитавшейся в Сицилии
Венеры Эруцины и в Пергаме Великой Матери Богов — Кибелы.
Иногда во искупление назначались очистительные
жертвоприношения, процессии граждан с хорами, моления в разных храмах,
особые «угощения богов», так называемые лекстистернии,
устраивались в их честь игры с различными состязаниями, а с конца
III в. до н. э.— с театральными представлениями по греческому
образцу, что способствовало скорому отождествлению римских
божеств с греческими и все более широкому знакомству граждан
Рима с греческой мифологией.
132
Вопреки распространенному мнению об «антимифологиче-
ском» складе ума римлян, не создавших мифов — рассказов о
богах, происхождении мира и людей, можно утверждать, что
первоначально некая примитивная мифология у римлян имелась8.
Так, один из древнейших богов, двуликий Янус, именовался
творцом мира из хаоса и сам отождествлялся с миром. Были,
видимо, у римлян некогда и рассказы о «культурных героях»,
научивших людей тому или иному полезному делу, например о братьях
Пнкумне и Пилумне, изобретших пест для дробления зерна;
возможно, были также и похожие на встречавшиеся у других
народов мифы о происхождении людей от деревьев 9, мифы о
животных, особенно посвященном Марсу волке, с которым было
связано много разных поверий, а также какие-то представления,
связанные с небесными светилами, в первую очередь с Луной,
Солнцем, звездой Сириус.
Но как бы там ни было, в более позднее время героем мифа,
как и главной святыней граждан, становится сам Рим и его
история. Древние боги — Сатурн, Янус, Фавн, Пик, также Пилумн
и Пикумн и др.— превращаются в царей, правивших еще до
основания Рима на холмах или в Лавренте и Альба Лонге, с
которыми связывались предки Ромула и Рема. Постепенно
складывалась легенда об основании и древнейшей истории Рима. В нее,
видимо, вошли и мотивы, присутствовавшие в мифах об
основании других италийских городов, например города Пренесте,
основатель которого Цекула, сын смертной девушки и то ли бога
домашнего очага, то ли Вулкана, основал город, собрав
пришедших из разных мест юношей; и вариант распространенных по
всему миру мифов о близнецах, а также героях, в детстве
брошенных и вскормленных животными; и известных в Этрурии уже
в VII—V вв. до н. э. версий о прибытии в Италию Энея, сына
царя Анхиса и Афродиты, и его спутников, брака Энея с дочерью
царя Латина Лавинией, основании названного ее именем города,
где под именем Юпитера Индигета 10 воздавался культ
утонувшему в реке Нумике Энею, предку Ромула и Рема. Яркой
фигурой в повествовании об истории Рима был шестой царь Сервий
Туллий, сын рабыни царя Тарквиния Приска и Лара, бога
домашнего очага, воспитанный мудрой женой царя Танаквиль, за
исключительные достоинства вознесенный любившей его
Фортуной из рабов в цари, оказавший много благодеяний римскому
плебсу и убитый по наущению враждебных народу сенаторов ".
Дальнейшая история раннего Рима, как теперь признают
исследователи, соответствовавшая повествованиям античных авторов,
украшалась если не вымышленными, то весьма приукрашенными
рассказами о подвигах, совершавшихся во славу Рима, и о
свидетельствах особой милости к нему богов, в первую очередь
«царя богов и людей» Юпитера и отца Ромула и Рема Марса
и о предназначенной Риму великой судьбе.
Однако ни такая псторттоцизацня мифологпи и замена
возможно некогда существовавших космогонических и других мифов
133
«римским мифом», ни обычно подчеркиваемый формализм
римской религии, более или менее свойственный и другим религиям
с их строго регламентированными обрядами и обращениями к
божеству, ни коллективистский характер культов фамилий,
соседских общин-пагов, города в целом, обязательных для всех членов
таких коллективов и предназначенных только для них, отнюдь
не подтверждают особой сухости римской религии времен
расцвета римской республики, ее неспособности влиять на человеческие
эмоции.
Во-первых, место, занимаемое в ней «римским мифом»,
отвечало умонастроению граждан, уже привыкших смотреть на себя
как на «народ-господин», создавший самый совершенный
политический строй и победоносно продвигавшийся по миру.
Во-вторых, коллективные формы культа не противоречили сознанию
общности, присущей римлянам того времени, и, кроме того, такие
формы не исключали индивидуального общения с божеством.
В комедиях Плавта, написанных на греческие сюжеты, но на
материале римского фольклора и быта, действующие лица
постоянно обращаются к богам, надеются на их милость и помощь
себе и на немилость к своим обидчикам и врагам, приносят в
благодарность жертвы, стремятся узнать их волю и т. п.
Римские граждане не имели права обращаться к чужеземным богам,
культ которых не был официально принят сенатом, и участвовать
в обрядах, противоречащих «добрым нравам» и законам,
например в ночных сборищах, запрещенных древними законами
XII таблиц, в оргиастических культах типа вакханалий. Но
дозволенные традиционные общественные и частные
священнодействия с процессиями, общими молениями, жертвоприношениями,
играми, веселыми собраниями соседей, свободных и рабов,
справлявших праздники в честь соседских Ларов, богов пага, бога
межей Термина, бога вина и веселья Либера, праздники,
сопровождавшиеся общей трапезой, состязаниями двух хоров в песнях
и шутках, плясками в масках из древесной коры, катанием на
качелях, прыганьем через костры были достаточно
торжественны, красочны и эмоциональны.
Наконец, в-третьих, люди, наделенные особенно острым
религиозным чувством, могли удовлетворить его в рамках римской
религии. Известно, что были лица, оставлявшие все другие
(мы бы сказали мирские) заботы, люди, прошедшие в
отношении к богу высшее, третье, посвящение 12. Самый римский
обычай обращаться к божеству закутав голову (в отличие от
греческого обычая молиться с открытой головой) объяснялся
необходимостью близости к богу, не нарушаемой каким-либо посторонним
виденпем 13. Ei-ли не у всех, то у некоторых существовала вера
в некие тайны, доступные только жрецам, не смеющим их
разглашать, в тайны мироздания, недоступные даже богами.
Дошли до нас и сведения о римлянах, особенно остро
ощущавших свою близость к богам,— упоминавшийся уже Фурий
Камилл и Сципион Африканский, мпого времени проводивший
уединенно в храме Юпитера на Капитолии, откуда якобы и по-
цгли слухи о его божественном происхождении, подобном
происхождению Александра Македонского, и особом, посланном свыше
счастии, сделавшем его «роковым мужем» — vir fatalis — второй
Пунической войны, победителем Ганнибала 15.
Наметившиеся в последние полтора-два века римской
республики изменения в отношении римлян к религии вызывались
прежде всего переменами во всех сферах жизни Рима, из
гражданской общины ставшего столицей мировой державы. Это
превращение сопровождалось расколом гражданского коллектива,
разложением прежде составлявшего основу римского общества
крестьянства, обострением экономического и социального
неравенства и социальных конфликтов, вылившихся в длившиеся более
пека гражданские войны, рабские восстания, восстания в
провинциях 16.
Соответственно разрушалась прежде более или менее общая
идеология. Высшие классы, практически порвавшие с
крестьянским прошлым Рима, с соседскими общинами и в значительной
мере с фамильными традициями (фамилией теперь стала
именоваться главным образом совокупность рабов, занятых в одном
имении, доме, одной мастерской), получавшие образование в
городах Греции, у греческих философов, знакомившиеся с
мистериями Греции и Востока, с астрологией, стали по-ииому
относиться к религии вообще и к римской в частности. Как наглядно
видно на примере сочинений Варрона и Цицерона, политические
деятели, высоко образованные «интеллигенты» считали, что
религия в той форме, в какой ее создали «предки», необходима для
простого народа, во-первых, чтобы неповинующиеся законам
обуздывались хотя бы страхом перед богами, а во-вторых, потому,
что религия совершенна, как и все римские институты, и
пренебрежение к ней подорвет авторитет власти сената и «лучших»
людей. Примерно в таком плане говорил Цицерон, когда,
обращаясь с речами к сенату, затрагивал вопросы культа 17.
Поэтому, кстати, и Цицерон, и Варрон, следуя Платону, осуждали
«религию поэтов», которые, начиная с Гомера, рассказывали
о богах разные непристойные и безнравственные истории.
Достойной они признавали только «религию философов», неподходящую
для простого народа, но более истинную, согласно которой бог
представляет собой верховный разум, высший закон космоса,
мировую душу и души людей, божественных и бессмертных,
посмертные судьбы душ и т. п. Вместе с тем Цицерон готов был
признать и известную правоту доводов сторонников
атеистического мировоззрения. В своих написанных в форме диалогов
трактатах «О природе богов» и «О дивинации» (т. е.
предсказаниях, узнавании воли богов) он выводит представителей разных
философских школ — эпикурейцев, стоиков, платоников новой
Академии, излагающих свои взгляды и оспаривающих друг
друга. От имени великого понтифика Аврелия Котты Цицерон
приводит аргументы против участия богов в делах мира и людей,
бытия богов вообще, а ог своего имени, несмотря на то что а
сам был авгуром, высмеивает все виды и способы дивинации.
Подобные выступления главы римского культа — великого
понтифика и авгура впоследствии казались чудовищными
христианскому мыслителю Блаженному Августину. Но они были
возможны и нормальны в Риме того времени, когда не
существовало никакой религиозной догмы, а следовательно, и
отступающей от нее «ереси», когда за оскорбление богов должны были
карать не светские власти, а сами боги, а власти требовали лишь
соблюдения традиционных предписаний, но не веры.
Но если представители слоев общества колебались между
атеизмом, верой в воздействие на земные дела звезд и
различными философскими теориями мироздания и места в нем
божества, то простой народ оставался верен традиционной римской
религии. Сакральные надписи посвящались римским богам как
в самом Риме, так и по всей Италии. Восточные боги не
упоминаются даже в надписях несомненных выходцев с Востока. Во
всех городах, селах и пагах создаются также известные нам по
надписям культовые коллегии различных, в том числе римских
богов.
Коллегии эти состояли из свободнорожденных плебеев,
отпущенников и рабов. Они имели свою казну, выборных магистров
и министров, заботившихся об отправлении культа, совместных
трапезах, сооружении помещений для жертвоприношений и
собраний коллегиатов, и т. п. Одни из таких коллегий
обслуживали богов, официально почитавшихся в том или ином городе, и
соответственно именовались «меркуриалы», «маршалы», «цереа-
лы» и т. п. Другие образовывались спонтанно лицами, особо
преданными одному какому-нибудь богу для совместных ему
посвящений и даров. Наиболее распространены были коллегии
Ларов, почитавшихся соседями в различных городских кварталах
по аналогии с Ларами перекрестков в сельской местности.
То были самые массовые и демократические организации
выступавшего против знати народа. Кандидаты в магистраты
старались заручиться поддержкой лиц, влиятельных в коллегиях и
пагах. Сенат попытался их запретить, но народный трибун, враг
Цицерона «демагог» Клодий их восстановил, набирая в них
плебеев и рабов, организуя при их содействии антисенатские
ассоциации. И все же как ни распространены были уже греческие
идеи, в более доступной и простой форме сообщавшиеся
римлянам драматургами и ораторами, римские традиции были
непоколебимы. Так, взятая верхами из Греции идея бессмертия души
в народ еще не проникала. Никаких намеков на веру в
посмертную награду или кару за земную жизнь в то время еще не было
в надгробных надписях простых людей.
Значительные изменения начинаются с установлением
империи. Тому было много причин.
Во-первых, уже во время правления Августа конституируется
императорский культ — обожествление императоров, вначале
причислявшихся к богам после смерти, затем считавшихся
богами уже при жизни. О происхождении и сущности императорского
культа есть разные точки зрения 18: он возникал по инициативе
снизу или, напротив, сверху; на пего повлияли эллинистические
формы обожествления царей и вообще власть имущих, в
частности римских полководцев и наместыиков в восточных
провинциях; культ правителей в античном мире был формой почитания
«благодетелей» или особо выдающихся людей, подобных
божественным героям Гомера, основателен городов, устроителей
государств, законодателей и т. п.; этот культ обусловливался верой
и их особое, данное богами счастье, удачу, силу — «харизму»,
и Риме приписывавшуюся Сципиону Африканскому, Сулле,
Помпею, Цезарю (затем его преемникам). Все это может быть
подтверждено фактами. Действительно, не только в Греции, но и в
Риме издавна бытовало представление о близости благодетелей
к богам. Так, еще в IV в. до н. э. послы от жителей Кампании
пришли просить у римлян помощи против самнитов, заявив, что
если римляне помогут, то станут для них «предками,
основателями и богами бессмертными» 19, т. е. всеми объектами культа.
На древний обычай чтить благодетеля как бога ссылается
Плиний Старший20. Август же, в правление которого прекратились
гражданские войны, 300 тыс. ветеранов получили земельные
наделы, расцвело сельское хозяйство, ремесло, невиданных прежде
высот достигли литература, искусство, архитектура,
упорядочилось управление провинциями, многими его современниками
действительно мог считаться благодетелем, достойным
обожествления. Но, видимо, немалое и, может быть, основное, значение в
культе не только Августа, но и его преемников имело то
обстоятельство, что установление единоличной власти внесло новое в
жизнь римлян. При республике аппарат власти и принуждения,
характерный для всякого государства, был настолько слаб, что
иногда даже возникает сомнение, можно ли вообще считать
Римскую республику вполне развитым государством. С Августа
такой аппарат начинает создаваться и постепенно укрепляется,
превращаясь в последние века империи в огромную
военно-бюрократическую машину, тяжело давившую на подданных. Эта
новая социальная сила была так же неподвластна людям, как
устрашавшие их силы природы, и была обожествлена, как и они>
был обожествлен ее главный носитель и представитель —
император. Между императорами — считались ли они божествами при
жизни или только после смерти — и настоящими, исконными
богами была существенная разница: боги обычно именовались
«dei», а «обожествленные» императоры — «divi», как
заслужившие приобщения к богам герои. К ним не обращались с обетами
и молитвами о здоровье, удаче, избавлении от опасности и т. п.,
повседневными нуждами и чаяниями. Они были слишком
удалены от простого человека, более далеки, чем боги, но, может быть,
вызывали больше страха. Соблюдение императорского культа
стало для римлян и провинциалов обязательным. В нем участво-
137
вали все, начиная с сенаторов, входивших в высшие жреческие
коллегии, и провинциальной знати, для которой должность
жреца императорского культа была наиболее почетной, до
рабов-магистров и министров поквартальных Ларов, к культу которых
был прибавлен культ Гения императора. В городах Италии и
провинциях его отправляли коллегии августалов, часто из богатых
отпущенников; и в городах, и в селах создавались обычно из
простых людей под руководством отпущенников императора и
другие коллегии императорских Ларов, императорского
«божественного дома» и его «божественной силы». Повсюду воздвигались
святилища и статуи победам и добродетелям императоров,
наиболее чтимым тем или иным императором богам. Коллегии
ремесленников, или так называемых маленьких людей, собирались на
совместные трапезы в императорские юбилеи, и каждое
официальное обращение к богам должно было кончаться молитвой
за римский народ, сенат и императора.
Участие в этом культе было свидетельством лояльности и
благонадежности, уклонение — преступным святотатством.
При империи и простые люди стали надеяться на посмертные
воздаяния. Так, в огромном количестве эпитафий родные
покойного выражают уверенность, что за хорошую честную жизнь его
душа пребывает в Элисии, среди богов, или что и сам он стал
богом и любим богиней. На надгробьях он изображался с
атрибутами того или иного божества, чаще всего с палицей и
львиной шкурой Геракла, а также часто сидящим за трапезой.
Грамматик Сервий писал, что богом человек может стать или как
любовник богини, или участвуя в трапезе богов, за которой не
возлежат, а сидят 21.
Такое изменение в умонастроении было обусловлено, конечно,
не одним только императорским культом. Еще большую роль
играли другие факторы. Уже в правление Августа центральное
место в его «пропаганде» занимала идея наступившего,
благодаря его заслугам и усилиям, «золотого века», идея,
поддерживавшаяся и распространявшаяся талантливейшими поэтами и
прозаиками — Вергилием, Горацием, Овидием, Титом Ливием и др.
В их творениях «римский миф» неразрывно переплетался с новым
«мифом Августа»: он, от века избранный богами, завершил
миссию Рима — подчинить все народы и править ими для их же
счастья, и он же дал вечные мир и счастье римскому народу.
Все, за что этот народ веками боролся во внешних и
внутренних войнах, наконец достигнуто. Он властвует над миром, и он
стоит у власти, ибо, как гласит официальная версия, оя «перенес
свое величие и могущество на императора» и тот ежегодно
облекался полномочиями народного трибуна, представляющего
парод.
Однако если Август еще мог с некоторым основанием
претендовать на удовлетворение чаяний всех слоев римского общества,
то в дальнейшем все более становилось ясно, что надеждам на
«золотой век» не суждено сбыться. Правда, экономическое поло-
мнение некоторой части населения империи улучшилось, и в
первые два века н. э. не было особых стеснений в его деятельности
» хозяйственной и иделогической сферах. Так, значительно
смягчилось положение рабов, особенно во II в., когда законы
ограничивали злоупотребление властью. Но единоличное правление и
разрастание бюрократического аппарата приводило ко все
большей иерархизации общества, зависимости низших от
покровительства, а часто и капризов высших. Лести и покорности
требовали и ожидали императоры от сенаторов и придворных,
сенаторы — от городов, избиравших их патронами, от писателей, поэтов,
ученых, искавших их поддержки, богатый землевладелец от
бедного соседа. К тому же никто не был уверен в завтрашнем днег
так как в любой момент покровитель мог лишить своих милостей,
враг — призвать в суд и разорить, подкупив судью, богатый —
отнять у бедного последнее, пользуясь своим влиянием или
просто силой; к тому же всякий человек, чем-то выделявшийся,
внушал опасения вышестоящему. Господа считали, что толковые,
знающие рабы склонны к мятежу, императоры — что
свободомыслящий, богатый, талантливый сенатор станет его соперником,
В прежние времена граждане считали, что рабов от них отличает
необходимость угождать господам, льстить, скрывать свои мысли,
лгать. Теперь такие, считавшиеся «рабскими пороками» свойства
стали всеобщими, что порождало у многих чувство отчуждения,
неудовлетворенности, заставляло искать ответа на вопрос, отчего
боги допускают плохих людей жить в богатстве и могуществе,
а хороших оставляют в бедности и ничтожестве, и откуда берется
в мире такое зло, и что заставляет человека унижаться, боясь
тирана, патрона, господина. Когда в последний век республики
народ считал, что зло происходит от захвата сенаторами всех:
богатств и власти в государстве, отстранения народного собрания
и народных трибунов, оп боролся за восстановление своего
влияния, за передел земли, уменьшение долгов. Теперь, когда начиная
с Августа каждый последующий император объявлял, что при
нем настал «золотой век» и все сословия государства получили
все, чего могли желать, выдвинуть какие-то новые лозунги и
бороться за них никто еще не был в состоянии, никто не верил и
не представлял себе, что может быть какой-нибудь иной строй,
чем римская Империя с ее главой и ее социальной иерархией22.
Тем более что эпоха античности еще не исчерпала своих
возможностей. Безропотное примирение с существующим проповедовал
стоик Сенека, доказывая, что философ не должен сопротивляться
ни космическим законам, ни мировой необходимости, ни земным
властям, ни земным законам. Те, кто не мог примириться с
унизительной несвободой, искали иных путей.
Ответы на возникавшие вопросы давались разные, их искали
и в области философии, и в области религии, но общим стало
положение, наиболее полно и последовательно
формулировавшееся и развивавшееся Эпиктетом, философом-стоиком, близким,
однако, киникам, проповеди которых были особенно популярны сре-
139
ди простого народа. Положение это основывалось на приоритете
духовной сущности человека перед материальной, души над
телом, внутреннего «я» над внешним. Человек боится того, кто
властен дать ему или отнять у него то, к чему человек привязан,
чего он желает из внешних, материальных благ: богатство, почет,
близких, свободу, саму жизнь. Тот, кто понял, что все подобное,
по существу, лишь внешнее, несущественное, а истинное — лишь
внутреннее, лишь одно истинно подвластное человеку — его воля,
его суждения, его добродетель, которые не может поработить
тиран и господин,— тот не будет испытывать страха; он бросит в
лицо тирану свое тело, свою жизнь, но не даст ему поработить
свою свободную мысль, а значит, сохранит свободу для той
стороны своего «я», которая важнее и выше материальной, телесной
его стороны. Это истинное «я» — разум, душа, полученные
человеком от бога — верховного разума и души мира, а потому и сами
они божественны и бессмертны. Искра божества, гений, живущий
в каждом человеке, всегда с ним, и тот, кто об этом помнит, кто
осознает, что он — сын бога, не будет никогда считать себя
одиноким и несчастным. Если на его долю выпадут всякие беды и
горести, он будет стойко их переносить, зная, что для мудрого
и добродетельного человека внешние беды не имеют значения и
что посылая их, бог его испытывает и тренирует, как тренировал
Геракла, как полководец тренирует хороших солдат. И,
подчинившись богу, стоящему неизмеримо выше земных властей, человек
перестает бояться тиранов и господ, обретает свободу и даваемое
ею самоуважение. Эти положения быстро распространялись и
обусловливали поворот, даже в праве, от внешнего к
внутреннему, от действия к намерению, от материального, земного к
духовному, небесному. Особенно характерно это было в идеологии
низших слоев.
Эпиктет, сам бывший раб жестокого и высокомерного хозяина,
живший в большой бедности, облекал в форму философских
доктрин, принимавшихся и его учениками из высших слоев, мысли
и чувства, распространявшиеся в те времена среди свободных и
рабов, равно страдавших от эксплуатации и пренебрежения к
людям физического труда, бедным, необразованным и более или
менее осознанно противопоставлявших идеологическому нажиму
сверху свой, идеологический протест.
В этой среде утратил значение еще игравший значительную
роль в официальной «пропаганде» «римский миф», его герои и
связанная с их образами мораль, требовавшая подвигов во имя
Рима. Не могли удовлетворить навязывавшиеся господами и
патронами в городах для маленьких людей, в имениях — для рабов
коллегии для почитания и «обожания» богов — покровителей
этих господ и патронов, их Гениев, Ларов и их самих 23,
проповедь дружбы и взаимной любви между высшими и низшими,
господами и рабами, «благодетелями» и
«облагодетельствованными». О скрытых в подобных проповедях лжи и злом умысле
говорили популярные пословицы и близкие народу баснописцы
федр и Авиан: «Получить благодеяние значит продать свободу»,
«Тяжела помощь, идущая во вред», «Негожи благодеяния,
которым сопутствует страх». В баснях рассказывалось, как какой-
нибудь лев, коршун не в силах победить более слабых — быков,
голубей, пока те держались сплоченно, но, притворившись
другом, он их разъединил и съел всех поодиночке. Не может быть
дружбы между рабом и господином, бедным и богатым; ведь
дружба возможна только между хорошими людьми, а «богатый —
или негодяй, или наследник негодяя» и «добродетель не живет в
высоких хоромах»: простой человек должен держаться вне их
общества, не допускать их в свой внутренний мир.
«Добродетель — это мудрость, плебс ее не имеет»,— гласил
известный афоризм 24. Для киников, проповедовавших на
площадях и, с точки зрения таких авторов, как Апулей и Лукиан,
вербовавшихся из беглых рабов, трактирщиков и сапожников,
добродетель была не в знании, а в труде: Геракл, учили они, ставший
богом за свои труды на пользу людей, очистил Авгиевы конюш-
ни, чтобы показать уважение даже к самому грязному труду.
Федр басню о пчелах и трутнях заканчивает выводом, что плоды
труда должны принадлежать тому, кто их произвел, а не лени-
г.ым бездельникам. Басня Авиана о Крестьянине и Геракле
учила, что боги помогают не молящимся лентяям, а тем, кто сам
деятелен; басня Федра о посвященных богам деревьях
заканчивалась выводом о нелепости прославления деятельности, не
приносящей людям пользы. Человек должен работать, а не
унижаться за подачки богачей ". Показателен был обычай изображать
на надгробьях простых людей орудия труда, особенно
строительные инструменты2в, причем уровень и отвес, а также другие
плотничьи орудия и инструменты считались символом праведной,
честной жизни ". Трудолюбие покойного постоянно отмечалось
его близкими в эпитафиях, часто прибавлялись и похвалы его
мастерству. Другими уважаемыми добродетелями были честность,
кроткость, доброта, милосердие, бедность, готовность помочь
друзьям и особенно простодушие, т. е. скромность,
справедливость, миролюбие, жизнь без ссор и тяжб, без излишнего
мудрствования 28. За все эти добродетели человек надеялся, что после
смерти его душа будет среди блаженных. Теперь на приобщение
к богам рассчитывали не только выдающиеся политические
деятели, полководцы, правители, а всякий хороший человек, будь
то ремесленник, отпущенник, раб. Награду за добродетельную
жизнь если не на земле, то на небе, давали боги. Уже боги,
религия, а не предки и нормы Рима стали источником этики; боги
должны были помочь остаться хорошим человеком, сохранить
достоинство и свободу духа в враждебном мире власть имущих,
стремившихся поработить неимущих не только физически, но и
духовно.
Как и в последний век республики, боги эти были римские,
а не восточные. Уже упоминалось, что восточные боги, в
первую очередь Митра, которому было посвящено много храмов,
141
надписей, изображений, пользовались наибольшей популяр-
ностью среди военных и административного персонала, а не в
народе. Не увлекались простые люди и мистериями,
распространявшимися среди людей состоятельных, но недостаточно
образованных, чтобы удовлетворить свои запросы только
философией 29. Хотя существовали совмещавшие то и другое, например
Апулей был платоник и вместе с тем был посвящен в мистерии
Изиды и Озириса. Посвящаемые были обязаны хранить в тайне
открытое им в мистериях, и потому подробности мало известны,
но, в общем, можно полагать, что мистам показывали сцены,
связанные с толкованием мифов о мироздании Я богах, судьбой души,
с обстоятельствами пришествия в конце мира спасителя —
Митры, Диониса — и наступлением царства добра и победы над злом.
Мисты проходили обычно несколько все более сложных
посвящений, получали соответственные, все более высокие степени,
узнавали друг друга по тайным знакам, соблюдали некие
определенные правила поведения и рассчитывали на загробное блаженство.
Простонародные киники относились к мистериям отрицательно,
считали нелепым, чтобы посвященный в мистерии развратный и
ленивый богач стал любезен богам более, чем честный,
трудолюбивый бедняк. К тому же посвящения стоили недешево и далеко
не всякий мог их себе позволить.
Многочисленные надписи, находимые в Италии и
романизованных областях провинций показывают, что простые люди
оставались верны римским богам. Им посвящали памятники и
святилища, индивидуально или коллективно, верующие, составлявшие
коллегию, или некое неофициальное объединение со своими
жрецами и жрицами. Но более или менее осознанный протест против
высших классов и навязываемой сверху идеологии, отразившийся
в отношениях к добродетелям, труду, дружбе сказался и в
выборе объектов культа, и в отношении к божеству. Боги
государственного, официального пантеона, в первую очередь Юпитер, еще
получают дары и посвящения, но скорее не как бог римской
славы и мощи, а как бог грозы, хорошей погоды, хранитель и пр.,
причем популярность их явно падает. Даже Лары из-за их
тесной связи с культами императоров и ставпшм практически
обязательным для рабов, клиентов, зависимых людей культом Ларов
и Гения господ и патронов, постепенно теряют почитателей.
Значительно больше почитателей среди низших слоев имели
связанные с землей, лесом, волшебством Добрая Богиня, Феро-
ния, Венера, Церера, Геракл. Но всех их по количеству
посвящений от плебеев, отпущенников, рабов во много раз превосходил
Сильван, никогда не имевший официального культа, мало
известный при республике лесной божок, выделившийся из множества
сильвапов, близкий греческим Пану, Фавну, как и они,
хранитель стад, опасный для новорожденных, от которых его отгоняли
неким магическим приемом. При республике посвящения ему не
засвидетельствованы (хотя известно, что о# включался в число
сельских божеств, а Катон рекомендовал приносить ему жертву
142
за здоровье скота), при империи их число все время росло, а
образ божества значительно усложнился. Для посвящения ему
даров нередко объединялись свободные «маленькие люди» и рабы,
»носившие доступные им вклады. Так, в надписи от 60 г. из Мон-
телеоне содержался устав коллегии-«фамилии» Сильвана; ее
магистрам из казны коллегии выдавалось по 240 сестерциев на
совершение священнодействий, по 250 сестерциев они вносили еще
из своих средств. Члены коллегий во время священнодействий
обязывались вести себя чинно и не нарушать порядка под
угрозой штрафа в 20 сестерциев30. Надпись коллегии Сильвана из
Филипп31, состоявшей из 69 человек, сообщала, что П. Гостилий
Филадельф в честь полученной им должности эдила на свой счет
отшлифовал камень и записал, кто какие принес богу дары: До-
миций Примигений — бронзовую статую Сильвана с нишей, Кра-
ций Сабин — 400 черепиц для крыши храма, Нутрий Валент —
мраморные изображения Геракла и Меркурия, Панций Мерку-
риал за 250 денариев вымостил площадку перед храмом, подарил
за 15 денариев доску с изображением Олимпа и совместно с
сыновьями и отпущенниками внес для построения храма 50
денариев и изображение Либера за 25 денариев, Публиций Лет внес
на храм 50 денариев, жрец Альфен Аспасий — бронзовую статую
Сильвана с пьедесталом. Отпущенник Гостилла Филидельфа
сделал на скале список членов коллегии при жреце Урбане. В Риме
патрон товарищества Могучего Сильвана внес 2000 сестерциев
на храм, в сооружении которого участвовало около ста членов
коллегии 3\
Как можно заключить из посвященных ему надписей, Спль-
ван иногда почитался наряду с Гераклом, когда оба бога
призывались как хранители какой-нибудь фамилии или земельного
участка, а иногда с выступавшей в таком же качестве Доброй
Богиней и Дианой, но чаще Сильван упоминался один. Чаще
всего он назывался просто «святой», часто также «сеятель»,
«полевой», «травяной», «скотник». Но нередко ему придавали
эпитеты, говорившие о более общих и высоких функциях:
«спаситель», «гесподин», «могучий», «небесный», «защитник»,
«хранитель», «непобедимый», «великий и могучий». Интересны его
эпитеты «общий» — communis, «двойственный» — geminus и
«божественный» — divus, обычно означавшие двойственную, божескую
и человеческую, природу и обожествленных людей, как Геракл и
императоры. Видимо, некоторые почитатели Сильвана считали,
что и он стал богом из человека за особые заслуги. По одной
версии, он был сыном козы и раба, господин которого сослал
мальчика в лес, где его стали почитать крестьяне33; как сын
раба, он особенно должен был покровительствовать рабам и
вообще труженикам; соответственно он обычно изображался в
крестьянской одежде, с сосновым венком, с серпом, кипарисом, полным
плодов мехом, псом. Он почитался как «домашний», «полевой»
и как бог рощи, служившей границей между соседними
участками 3\ т. е. хранитель нерушимости владения и добрососедских
143
отношений, а значит, и справедливости вообще. Его почитатели
справляли в его честь не отмеченный ни в каком официальном
календаре весенний праздник. В одной метрической надписи
говорится, что во время праздника Сильвана подымаются молодые
побеги, набирает силы все, принесенное матерью-землей,
весенние ливни оплодотворяют новорожденные цветы. У лесного
источника раздаются крики: «Воздайте почести отечестпенному
богу Сильвану! Скала родила рощу; по слову серпоносного отца
мы приносим в жертву козла и сосновый венок, говорит старший
жрец. Играйте и пойте, играйте на свирели и флейте, дриады и
фавны, наяды, обитательницы моего леса» ". Возможно, слова о
скале, родившей рощу, в какой-то мере относятся к Сильвану,
г. одной из надписей названного «правителем леса на горе
Иде»зв (что говорит о каком-то родстве его с Кибелой), а в
другой — «каменным» — saxanus ", a в Риме четыре храмовых
сторожа подарили в храм монолит Сильвана— monolithum Sil-
vanum38, т. е. он мог почитаться в виде большого камня. Сюда
же относится упомянутое изображение Олимпа в его храме. А
такая связь с природой роднит народного Сильвана с древнейшими
могущественными богами земли и неба39. Почитатели Сильвана
приносили ему в дар огороженные участки леса, а более бедные,
заменявшие деревья столбы и колонки — сосуды для воды,
служившие для очищения приходивших в святилище. Особенно
интересны дары некоего Юлия Немфия в святилище Сильваиа
Спасителя в его саду: статуя Траяна, колонны, угломеры и
железный свод40. Свод подтверждает его близость к древним богам,
выковавшим металлическое небо, и другим божествам, в
архаические времена связанным с металлургией. Угломеры же, как мы
видели, были символом праведной жизни, видимо
предписывавшейся Сильваном его почитателям, что еще более роднило его с
Гераклом киников — залогом бессмертия для хороших,
трудящихся людей. Интересно, что, не имея официальных жрецов, в
культе Сильвана известны «кандидаты»; в одном случае это 8 рабов,
в другом «кандидат» — свободный41. «Кандидаты» из рабов и
простых людей встречаются для Геракла и Венеры как
«кандидаты нашего господина». Вообще в надписях «кандидатами»
называются люди, выдвинутые на магистратские должности
императорами или на командные — начальниками в войске. Здесь это
скорее всего лица, считавшие, что сам бог отметил их для
служения себе. В надписях Сильвану постоянно напоминается, что
дары принесены ему «на основании видения», «сна»,
«приказания», т. е. верующие считали, что бог с ними находится в
постоянном общении, ощущали его близость и его волю; его
благодарили за исцеленпе, освобождение из рабства, просили помощи во
всех случаях жизни. Так создавался в народе образ бога, с
одной стороны, связанного с землей, плодородием, трудом
земледельца на его участке и хранителя нерушимой межи, бога гор,
камня, металла, могучего господина и творца; а с другой
стороны, близкого к человеку, возможно человеческой природы, помощ-
144
ика труженика, постоянно подающего своим поклонникам знаки
зоей воли, избирающего своих служителей, независимо от их со-
иального статуса, не требующего от них тайных знаний, посвя-
<ения в мистерии, а лишь исполнения определенных правил
орали, за что, видимо, он даровал бессмертие — многие надписи
освящались Сильвану «в память» умерших, ставящихся под его
щиту. Ряд весьма специфических черт был присущ и Сильвану,
Гераклу, но Сильван был более популярен, отчасти, возможно,
отому, что Геракл, трактовавшийся как «хороший царь», про-
явостоящий тиранам42, был признанным покровителем пмпера-
эров из династии Антонинов и преданной им знати, отчасти
поэму, что Сильван, между прочим, выступал как «хранитель
раниц», т. е. защитник участков крестьян от постоянно тем или
ным путем захватывавших их крупных землевладельцев, а зна-
ит, и справедливости и добрососедских отношений в целом, от-
ошений, объединяющих трудящихся земледельцев (недаром так
асты были коллективные ему посвящения) против стремящихся
х «разъединить и погубить» богатых и знатных. Вместе с тем
н был могучим небесным богом (иногда в надписях его называ-
)т «пантей», т. е. бог, соединяющий в себе силы всех других
огов), который мог вывести своих адептов из-под власти господ
тиранов и даровать бессмертие за правильную жизнь.
Следует отметить, что такая же поливалентность свойственна
ыла и некоторым другим популярным в массах богам, например
[оброй Богине, которая являлась и богиней полей, и кормилицей,
богиней соседской общины — нага, и целительницей, и храни-
ельницей отдельных участков и имений, и вместе с тем «могу-
ая», «светоносная», «царица и победительница». Ей посвящались
частки рощ, деревья и часовни с очагом, как богине дома, зер-
ала, бывшие орудием чародейства. Даже Приап, фигура у поэ-
ов комическая, незадачливый любовник нимф для «маленького
еловека» был не только «хранителем его участка», но и великим
осмическим божеством, «пантеем», «могущественным», «непобе-
имым», «отцом всего сущего» 43.
Так «народная» мораль сплеталась с «народной» религией,
акже несшей в себе протест против официальных ценностей.
I религии этой не было ничего от восточного влияния, боги ее
ыли исконно римские. И все же и в «народной» религии, и в
народной» морали было много элементов, подготовлявших почву
ля христианства, на ранней стадии своей истории наиболее пол-
ю отразившего и оформившего протест низших слоев против по-
ядков тогдашнего общества и его идеологии. Не говоря уже о
ом, что христианская проповедь вообще обращалась именно к
тим классам, она включала идеи, уже давно ими выработанные.
1юда входит набор добродетелей — доброта, милосердие, просто-
ердечие, противопоставлявшихся «мудрости сего века» — трак-
овке добродетели как науки. Так, христианский автор Лактан-
[ий писал, что знание не может быть основой добродетели, так
;ак она должна быть доступна всем людям, а наукой не могут
145
заниматься рабы, крестьяне, ремесленники ". Сюда же входит
и высокое уважение к труду. Христианство выдвинуло принцип
«не трудящийся да не ест», и общины требовали, чтобы
примкнувшие к ним занимались ремеслом или другой работой, так
как тот, кто только проповедует, а не трудится,— лжехристианин
и лжепророк. Христиане, уча «отдать кесарю кесарево»,
предостерегали верующих против обращения в суды и к властям, как и
«язычники» из той же среды, ставя на первое место свою
внутреннюю свободу и отгороженность от грешного мира богатых и
знатных, готовы были к внешнему повиновению, с тем чтобы не
давать повода этому миру вмешиваться в их жизнь, смущать их
души. В «Посланиях Апостолов» часто встречаются призывы
жить тихо и скромно, своим трудом, не нарушать законы,
повиноваться властям, чтобы не привлекать к себе враждебного
внимания вышестоящих, а некий анонимный автор из «язычников»
писал, что хочет пребывать частью простого народа, не
привлекая ничьего внимания почестями ". Христианство утоляло
жажду «маленького человека» обрести веру в могучего бога-творца,
стоящего неизмеримо выше земных властей, и бога кроткого,
милостивого, близкого человеку, самого когда-то бывшего человеком,
подающего пример своей жизнью. Почему, писал тот же Лактан-
цпй, Иисус пришел на землю как сын плотника и умер смертью
раба? Чтобы за ним мог следовать любой, самый низко стоящий
человек. Надежда на рай для праведных и ад для злодеев
дополнялась надеждой на долженствовавшее наступить при втором
пришествии Иисуса тысячелетнее царство справедливости, т. е.
открывалась некая новая перспектива, росла уверенность в
возможности иных порядков, кроме бывших в империи, что давало
пекие новые общие цели и обусловливало активность христиан,
проповедовавших свое учение и за него погибавших. Наконец,
христиане довели до конца неприятие современного им мира,
отказываясь от участия в императорском культе, основе
имперской идеологии подданного. Римские правители, писали
христианские авторы, начиная с братоубийцы Ромула, все были и есть
насильники, грабители народов и убийцы. Если бы они были
частными людьми, им бы, как нечистым грешникам, запретили бы
входить в храмы; тем более нельзя им поклоняться.
В первые два века н. э. власти Рима то преследовали
христиан, то оставляли их в покое. К концу II и в III в.
параллельно с ухудшением положения в империи ужесточились законы
против проповедников «непризнанных учений, волнующих души
простого народа надеждой на что-то», «внушая рабу дерзкие мысли»,
презрение к господину46. А таких проповедников, пророков,
считавших себя исполненными божеством (искренне или в расчете
на некие выгоды), становилось все больше4Т. Даже некоторые
рабы «впадали в экстаз» и пророчествовали, что, по мнению
юристов, было пороком, дававшим право аннулировать сделку по их
покупке 48. Христиане, конечно, подпадали под действие законов.
В середине и в конце III в. на них проводились систематические
146
гонения (к тому времени относятся многие «жития» мучеников,,
впоследствии объявленных святыми).
Гонения были особенно жестоки, поскольку в это время
императорский культ приобрел особое значение. Острый кризис,
переживавшийся империей,— экономический упадок, нашествие
варваров, восстания в провинциях, выдвигавших своих
правителей, острые классовые и социальные конфликты — императоры
пытались преодолеть крайним усилением своей власти.
Делались попытки создать некую теологию императорского
культа, исходя из давнишних философских и астрологических
учений о солнце как повелителе всех светил, определяющих
судьбы мира и людей, о его роли видимого образа верховного
бога, единого или, во всяком случае, стоящего недосягаемо
высоко над другими богами. Солнце определяло течение времени,
веков в земном, подлунном, мире и правило вечностью в мире
чистых светил, богов, куда устремлялись души достойных людей,
освобождавшиеся от оков тела. Также между двумя мирами
стоял бог-император, душа которого еще до рождения была избрана
Солнцем своим помощником, соправителем, спутником, как
называл его учредивший новый культ Солнца император Аврелиан.
Часто видят в этих идеях решающее влияние восточных
солярных культов, но если это и так, то в основе лежало развитие
исконных греческих и римских представлений и культов Солнца-
Гелиоса, бывшего к тому же и символом справедливости, качество,
на которое особенно претендовали императоры III в., выставляя
себя защитниками «маленьких людей» от сильных49.
Предпочтение, оказывавшееся императором Солнцу, не устраняло
почитания старых римских богов. Их имена и изображения чеканились
па монетах, им по-прежнему посвящали дары и надписи люди,
принадлежавшие к разным социальным слоям. Религиозные
искания приводили людей к поклонению каким-то неизвестным
ранее божествам вроде «вечных», «божественных огней»,
«драконов», символизировавших время; поклонялись самому Времени
(Хроносу-Кроносу), векам, сезонам, небесным светилам и т. п.
Если такие божества пе препятствовали воздавать почести
императору, они не запрещались. И хотя, в общем, в отличие от
эпохи просвещенных правителей II в. философия не пользовалась
покровительством императоров, различные
религиозно-философские системы III в., если они не отрицали божественности
императора, не ущемлялись. Между тем становившаяся сакральной
власть императоров требовала религиозной догмы, единого,
обязательного для всех учения, не только отказ от которого, но и
самовольные добавления, толкования могли бы
квалифицироваться как строго наказуемая ересь, чего не было в римской религии.
Христианство к этому времени уже знало и понятие ереси,
и борьбу с еретиками. К сторонникам нового вероучения с
середины II п. стали примыкать уже не только рабы и беднота, но и
многие представители других слоев. Христианские общины росли,
умножались за счет пожертвований верующих, усиливались
147
власть и влияние возглавлявших общины епископов. Вместе с
тем вновь приходившие в общины люди, тяготевшие к
философскому образу мышления, усложняли христианское вероучение,
привнося в него свои толкования. Возникло множество
ответвлений, сект; их идеологи собирались на соборы, спорили между
собой, обвиняя друг друга в отступлениях, в ереси. Епископы
наиболее крупных общин требовали от своей паствы признапия тех
истин, которых придерживались сами, изгоняли несогласных. Так,
Кнпрнан, епископ большой и богатой общины Карфагепа, в
середине III в. раздавал вспомоществование только тем ее членам,
которые не были замечены в приверженности его противникам-
еретикам.
Гонения хотя и привели к отпадению некоторой части
христиан, особенно из более богатых, не ослабили, а, напротив,
укрепили общины, сплотившиеся в тяжелые времена вокруг своих
руководителей и пострадавших за веру мучеников, пользовавшихся
огромным авторитетом за свою стойкость и непримиримость к
порокам власть имущих. В складывавшихся их жизнеописаниях
центральное место обычно занимала речь мученика,
произнесенная им перед смертью на арене цирка и обличавшая присутстио-
навших на зрелище императора и всех его приближенных и
соратников.
Упрощением, конечно, было бы часто высказывавшееся
предположение, что император Константин, прекративший гонения на
христиан и сделавший христианство государственной религией,
имел в виду только политические соображения. Как огромное
большинство людей того времени, он также искал веры, которая
бы наиболее полно ответила его духовным запросам. Но он и его
преемники, став христианами и признанные церковью если не
богами, то властью, богом данной, естественно, оценили
преимущество для абсолютной единоличной власти обязательной догмы
и наказуемой ереси. Борьба между ортодоксией (того
направления, которого придерживался тот или иной император) и
ересями, переплетавшаяся с политической борьбой и
сопровождавшаяся жестокими репрессиями, непрерывно продолжалась.
1 Wissowa G. Religion und Kultus der Römer. München, 1912; Altheim F.
Römische Religionsgeschichte. B. 1-3, Baden-Baden, 1951-53; Latte K.
Römische Religionsgeschichte. München, 1960; Bayancé P. Etudes sur la religion
romaine. P., 1972; Bayet J. Histoire politique et psychologique de la religion
romaine. P., 1969; Dumésil G. La religion romaine archaique. P., 1966; Piccalu-
ga G. Aspetti e problemi délia religione romana. Firenze, 1975.
2 Bömer F. Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griecheland
und Rom. I. Die Wichtigsten Kulte end Religionen in Rom und lateinischen
Westen. Wiesbaden, 1981.
3 Представление о широком распространении в низших слоях
общества восточных культов сложилось под влиянием идей крупнейшего
специалиста по истории последних (особенно митраизма) Ф. Кюмона. Затем
оно было использовано историками, имевшими склонность объяснять
материальный и моральный упадок Рима проникновением выходцев с Востока,
с их культами и идеями, вытеснявшими исконно римские.
148
4 Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима III—I вв. до н. э.
М., 1977, с. 220.
5 Livius V, 52, 1-7.
6 Augustin. De civitate dci. V, 1, 4.
7 О происхождении и сущности культа Ларов есть разные мнения.
Скорее всего, он в соответствии с мнением большинства античных авторов
восходил к культу прение и легендарных предков знатных родов, подобных
греческим Героям. Он отправлялся фамилиями в домах, у очага, и соседями
на перекрестках дорог, разделявших их земельные участки.
8 Grenier A. Les religions étrusque et romaine. P., 1948; Dumézil G. Mythe
et épopée. P., 1978.
9 Juvenal Salii. V. 1, 10-15; Servius. Comment, in Vergil. Aeneid. V, 1,
10-15.
10 Кох толкует Индигетов как предков, родоначальников н
предполагает, что культ Солнца Индигета и Юпитера Индигета как родоначальников
слился с культом Энея-Индигета-Прародителя. (См. Koch С.
Gestirnverehrung in alten Italien. Frankfurt a/M., 1933.)
11 Генезис предания о Сервии Туллии очень сложен и, в общем, неясен.
Хорошо знавший историю этрусков, император Клавдий говорит, что
прототипом Сервия Туллия был этрусский полководец Мастарна, что
подтверждается найденными в этрусском городе Тарквиннях фресками с
надписями VI в. до н. э., называющими Мастарну как полководца этрусского
вождя Целия Вибенны, подошедшего с войском к Риму и, возможно, взявшего
город, где в его честь был назван холм Целий (Heurgon J. Rome et
Méditerranée occidentale jusqu' aux guerres puniques. P., 1969, с 239). Как
затем с ним была связана история царя-народолюбца Сервия Туллия -
неизвестно. Но, во всяком случае, у римского драматурга начала II в. до н. э.
Эния о Сервии Туллии говорится, что он «укрепил свободу граждан», как
о чем-то общеизвестном.
12 Manilius Astronomie, V, 339-347; Servius. Comment, in Aeneid. V,
45 со ссылкой па Варрона VI, 661.
13 Servius. Comment, in Aeneid. III, 407; V, 71.
14 Там же, III, 347; V, 1, 71, 80.
15 Livius. XXVI, 19.
16 Утченко С. Л. Кризис римской республики. М.. 1965.
17 Cicero. De haruspicum response u Pro domo sua.
18 Römischer Kaiserkult. Hrsg. von D. Vlasok. Darmstadt, 1978.
19 Livius. VII, 30, 18-19.
2(1 Plinius Secundus. Historie Naturalis, II, 5.
21 Servius. Comment, in Aeneid. I, 79.
22 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19, с. 310-311.
23 Штаерман Е. М. Мораль и религия угнетенных классов римской
империи. М., 1961, с. 58-66.
24 Porphyrion. Comment, in Horat., Od., II, 1, 18.
25 Pseudo-Quintilianus. Declamationes, 298.
26 Gummerus. H. Darstelungen aus dem Handverk auf Römischen Grab-
ond Votivsteinen aus Italien, Jahrbuch des deutschen Archaeologischen
Instituts, Bd. 28, 1913, с 68-137.
27 Pseudoacron. Comment, in Horat. Carmina, II, 15, 2; Nonnius Marcellus.
Do Compendiosa doctrina, 239; Artemidor. Oneirocret, I, 51.
2S Pseudoacron. Carmina, III, 6. 48; Porphyrion. Sermones, I, 3, 51.
« Rostovtzeff M. Mystic Italy. N. Y., 1927, с. 45-90.
30 Année épigraphique. 1929, № 161.
31 Corpus inscriptionum Latinorum (далее- CIL), VI, 633.
32 CIL, VI, 647.
33 Prob. Comment, in Vergil. Géorgie, I, 20.
34 Die Schriften der römischen Feldmesser. Hrsg. von F. Blume, K.
Lochmann, A. Rudorff. Bd. 1. Berlin, 1848, с 3, 302.
35 CIL, VIII, 27764.
36 CIL, IX, 3375.
" CIL, III, 5093.
149
38 CIL, VI, 675.
39 Cook A. Zeus, vol. I., c. 115.
40 CIL, VI, 543.
41 CIL, X, 8217; III, 3503.
42 В таком качестве Геракл выступает в посвященных императору Трая-
ну речах Диона Хрисостома о царской власти.
43 CIL, V, 2803; XIV, 3565. Meyerus H. Anthologie veterum latinorum
epigrammatum et poetarum, Lpz., 1835.
44 Lactantius. Divinae Institutiones, III, 8; VI, 5.
45 Meyerus. Anthologie, № 906.
46 Digestae. XI, 3, 1; Pauli Sententiae, V, 21-25; Mosaicorum et Romano-
rum legum collatio, XV, 2.
47 Ранович А. Б. Античные критики христианства. M., 1935, с. 85.
48 Digestae, XXI, 1, 9-10.
49 Голубцова Е. С. Идеология и культура сельского населения Малой
Азии I—III вв. М., 1977, с. 38-40, 54, 116, 208-209.
В. Н. Ильин
АНАБАПТИЗМ XVI в. В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
Анабаптизм в XVI в. представлял собой течение очень
широкое как по географическим, так и по социальным рамкам.
Зародившиеся в 20-е годы различные анабаптистские группы уже в
то время существенно расходились по своим взглядам, а
дальнейшее распространение ересп от Голландии и Англии до Моравии
н Польши порождает столь пеструю картину верований, что
выделить совокупность признаков, позволивших бы определить
движение в целом, крайне сложно. При огромном накоплении
фактического материала многие западные историки задаются даже
вопросом, представляет ли собою анабаптизм «историческое
единство» 1. Прежде всего при этом ставятся проблема
происхождения ереси.
Из двух существующих в научной литературе традиций одна
подчеркивает связь анабаптизма с Цвпккаускими пророками,
другая — с Цюрихской реформацией2. В учении радикалов из
Цвиккау (Восточная Германия) — Николаса Шторха, Марка
Штюбнера, Томаса Дрекселя, Мартина Целлария, Герхарда Ве-
стербурга — были сильны мистические акценты, предпочтение
живого откровения «мертвой букве» Писания, отрицание
крещения детей и первородного греха, требование обобществления всех
мирских вещей, эсхатология 3. Все это говорит о близости
данного направления к анабаптизму. Ф. Энгельс объединял два эти
течения, высоко оценивая роль сектантов главным образом в
пропаганде мюнцеровских идей. В собственной платформе
еретиков, объединенных оппозицией против господствующих
классов и символом вторичного крещения, Энгельс отмечал отсутствие
«определенных положительных догматов» \ Особенно следует
обратить внимание, чт© южногерманских последователей Мюнце-
ра, в том числе анабаптистов Бальтазара Хубмайера и Конрада
Гребеля, он считал представителями «плебейской ереси» \
Близость к «Алыптедтскому пророку» сказалась и во взглядах
других видных руководителей анабаптизма, Мельхиора Ринка,
Вильгельма Рейблина, Ганса Гута, вышедших из кругов радикальных
швейцарских реформаторов.
Швейцарское происхождение секты отстаивают ныне
большинство специалистов. Такой знаток еретических движений
В. Н. Ильин, 1990
XVI в., как Дж. X. Унллиамс, полагает даже, что анабаптизм
является «радикальной формой цпннглианства» 6. Долгое время
эту точку зрения с особым энтузиазмом поддерживали те
историки (в основном баптисты), которые стремились подчеркнуть
пацифистские тенденции анабаптизма, изолировать его от
Крестьянской войны и Мюнстерской коммуны. С такой концепцией
выступал, в частности, английский специалист Р. Смитсон,
решительно разъединявший «фанатические и революционные
секты» с «большинством анабаптистов»7. С ним
солидаризировался X. Бендер, основатель Меннонитского исторического общества
в США (1924 г.) 8. Лишь сравнительно недавно Дж. Стейер
акцентировал внимание на том, что швейцарское движение
начиналось с весьма революционных лозунгов или, как он определил
их, «анархического нападения на церковную и светскую
иерархию» 9.
Главные события, сопутствовавшие рождению анабаптизма,
развернулись в Цюрихе. После Первого Диспута о мессе
(1523 г.), когда Цвингли возглавил партию реформы, в его стане
произошло размежевание. В январе 1525 г. он вместе с Генрихом
Буллингером выступил против недавних союзников — Гребеля,
Манца, Блаурока и Рейблина, которые начали практиковать
вторичное крещение «истинных» христиан и настаивали на
повсеместном распространении этого правила. После диспута
деятельность анабаптистов поставили под запрет, однако введенные в
Цюрихе ограничения послужили только скорейшему
распространению движения вширь. В деревне Цолликон, близ Цюриха, Гет-
цер, Манц и Блаурок основали первую анабаптистскую общину,
где были воплощены «апостольские» нормы братского союза
верующих, в том числе обобществление имуществ. Секта
становилась все более грозной силой, и на ноябрьском диспуте о
крещении 1525 г. Цвингли обвинил ее приверженцев в отрицании
христианской магистратуры и намерении оказывать власти
вооруженное сопротивленце, а также в перфекционизме (учение о
возможности достижения христианского совершенства в земной
жизни).
В тот период отношение еретиков к насилию колебалось от
непротивления до призывов к вооруженной борьбе. В знаменитом
письме 1524 г. Гребель осуждал Мюнцера за его
приверженность «мечу и кулаку», впрочем, пацифистские убеждения
исповедовал и Клемент Циглер, что не помешало ему принять участие
в Крестьянской войне 10. Главным же отличием анабаптизма от
бюргерской реформации было его стремление воплотить
евангельские принципы не только в духовных, но и в мирских
отношениях, не только в церкви, но и в человеческом сообществе.
Анабаптизм, в отличие от цвинглианства и других
направлений бюргерской реформации, не только уничтожает феодальную
церковь, но и распространяет требования раннего христианства
на общественные отношения ". Человеческая общность,
построенная на таких нормах, заменяла и государство, и церковь: сово-
152
купность верующих от локальной конгрегации до всемирного хи-
лиастического объединения делается единственно возможной
организацией человеческого бытия. Расхождения Цвингли с
радикалами начались, когда он понял, что буквальное
восстановление евангельских порядков приведет не к укреплению, а к
разрушению «Corpus christianum».
Размежевание бюргерской («магистериальной», по
терминологии Дж. Уиллиамса) и народной реформации углублялось не
только в Цюрихе. То, что произошло на востоке Швейцарии,
показывает, сколь сильны были тенденции, подготавливавшие
почву для распространения анабаптизма. Когда образовавшиеся в
Санкт-Галлене «группы чтения», готовившие проповедников из
мирян, должны были по решению городского Совета прекратить
свою деятельность, место подчинившихся лютеранских теологов
быстро заняли радикалы. Под руководством крещенного Гребе-
лем Улиманна они достигли немалых успехов, однако, как и в
Цюрихе, власти начали здесь гонения. Двигаясь из Швейцарии
все дальше на север, анабаптисты не прекращали проповедовать
и крестить новых обращенных. Через приграничный Вальдсхут,
где второе крещение принял от Рейблнна Хубмайер, они попали
в Страсбург, Аугсбург, Вормс, а в 1527 г. первый анабаптист
Феликс Манц был казнен уже во Фрисландии, в Гронингене.
Наиболее крупным центром анабаптизма становится Южная
Германия, где особенно заметна фигура Ганса Денка.
Получивший солидное образование в Ингольштадтском университете,
испытавший влияние Эразма и базельского реформатора Эколампа-
дия, он увлекался идеями Карлштадта и Мюнцера. В 1525 г. его
окрестил Хубмайер, и в течение трех лет Денк оставался
наиболее авторитетным лидером сектантов в этом районе.
Эсхатологические ожидания, завоевавшие ему симпатии радикалов Михаила
Заттлера, Клемента Циглера, Ганса Гута, близких в прошлом к
Мюнцеру, дополнялись у Депка спекуляциями в духе
неоплатонического мистицизма. Дальнейшее развитие спиритуалистического
начала, уделявшего больше места индивидуальным формам
религиозного совершенствования, чем внешнему воздействию
церкви 12, привело его к разрыву с анабаптизмом в 1527 г. Впрочем,
до этого Денк сыграл важную роль в двух событиях: в 1526 г.
он совместно с Гетцером выступил на Страсбургском диспуте
против Мартина Буцера, реформатора европейского масштаба.
Принцип «чья власть, того и религия», пускай не закрепленный
еще юридически, подействовал здесь так же, как на всех других
диспутах с анабаптистами. Власти объявили их побежденной
стороной и изгнали. По возвращении в Аугсбург Денк стал
участником анабаптистского синода. Обсуждавшиеся на нем статьи
были подготовлены Г. Гутом и А. Шпиттелмайером, недавно
прибывшими из Николсбурга (Моравия), где консолидировался
еще один центр движения. Гут, крестьянин по происхождению,
испытал воздействие Мюнцера, а затем Денка, причем в
эсхатологию последнего он привнес указание на особую роль «третьего»
153
фактора — турецкого нашествия. Как орудие божьего гнева, оно
должно было уничтожить нечестивых, после чего праведники
получат власть 13. Надежды на турок были весьма распространены,
и в Аугсбурге их продолжал проповедовать Августин Бадер,
казненный в 1530 г. Эсслингенские анабаптисты, напротив,
призывали к собственноручной ликвидации всех, кто не принял крещения,
накануне установления Тысячелетнего царства 14.
Разумеется, и сами сектанты рассматривались как опаснейшие
враги существующего строя. В апреле 1529 г. был издан
имперский указ против анабаптистов. В том же году, помимо
сожженного в Гронингене Мапца, в Аугсбургской тюрьме погиб Гут,
в Ротенбурге — Михаил Заттлер. Давно канули в Лету те
времена, когда Лютер ратовал за свободу совести и призывал
исправлять заблуждающегося не огнем и мечом, а словом. Теперь он
сам и его сторонники предпочитали не вспоминать о словах
обращения к «Христианскому дворянству немецкой нации», где
доктор Мартин язвительно высмеивал инквизиторскую практику
папства: «Если бы существовало искусство преодолевать еретиков
огнем, палачи стали бы самыми образованными докторами на
земле...» 15 Анабаптисты, по его убеждению, заслуживали казни
не только как «мятежные еретики», но и как «богохульники».
Этот вывод обосновывали в своих трудах его ближайшие
последователи Филипп Мсланхтон, Юстус Мениус 1в.
Диссонансом в общем хоре анафемы секте звучат голоса тех,
кто призывал к продолжению дискуссий с анабаптистами ради
наставления их «на путь истинный». Страсбуржцы Буцер и
Вольфганг Капито протестовали против казни Заттлера: в 1531 г.
города Мемлинген, Ульм, Биберах, Исни, Линдау и Констанц
приняли так называемые Мемлингенские резолюции, в которых
выступили против насилия по отношению к еретикам.
Разные политические подходы отражали неоднородность
самого движения. Склонность зажиточной части горожан, принявших
анабаптизм, к компромиссу позволила Буцеру убедить всех
сектантов в Страсбурге принять присягу, что они категорически
отказывались сделать годом ранее. Дело, конечно, заключалось не
в личном «конформизме» тех или иных анабаптистских лидеров,
а в социально-политических установках. К примеру, Заттлер
проявил недюжинное мужество, заявив, что не признает меча, но
если придется сражаться, то скорее «с турком по духу... так
называемым христианином, который преследует, хватает и убивает
божьих людей, чем с турком во плоти». Вместе с тем
религиозный порядок, который он предлагал, практически не
противоречил существующему социальному. В 1527 г., незадолго до смерти,
оп совместно с Вильгельмом Pi-иблином организовал синод
швейцарских анабаптистов в Шляитхайме. Его постановления в семи
статьях отразили умеренный путь развития секты: основное
внимание обращалось на противопоставление «совершенных»
погрязшему в грехах миру, с которым заново крещеные не могут
поддерживать никаких контактов. Им следует отказаться от дурного
154
премяпрепровождения и любых клятв, они не должны оказывать
сопротивления кому бы то ни было, но полностью отвергнуть
насилие как атрибут «плотского» начала. Признавая необходимость
«меча» для наказания преступников и защиты добрых христиан,
они оставляли прерогативу его использования магистратам из
«несовершенных». Единственным средством воздействия на едино-
нерцев объявлялось церковное отлучение — бан,
провозглашавшийся после двукратного увещания пастора17. Как мы видим,
оппозиция швейцарских анабаптистов светской власти приняла
очень ограниченный характер, за пределами их внимания
остались и вопросы собственности.
Тем не менее упорные преследования анабаптистов в
кантонах продолжаются. Помимо Цюриха, где погибшего в 1531 г.
«тишайшего» Цвингли сменил еще более ярый гонитель еретиков
Генрих Буллингер, борьба с ними ведется в Базеле, Берне. Два
бернских диспута — в январе 1528 г. и апреле 1531 г., так же как
н все им подобные, оканчиваются осуждением и высылкой
сектантов 18.
Одной из немногих областей, где анабаптисты могли
чувствовать себя временами в относительной безопасности, была Моравия.
Там Бальтазар Хубмайер, воспринявший мирную ориентацию,
сумел доказать местным властям лояльность движения. Самым
поразительным было то, что он завоевал симпатии князя
Леонарда фон Лихтенштейна. Это не помешало тому впоследствии
выдать своего исповедника на жестокую расправу новому королю —
Фердинанду I Австрийскому. Однако прежде, чем это случилось,
фон Лихтенштейн устроил диспут в Николсбурге (май 1527 г.),
где Хубмайер и Шпиттелмайер добились осуждения радикалов
Я. Видеманна и Ф. Йэгера, настаивавших на строгом соблюдении
«полного» обобществления имуществ в преддверии наступающего
Тысячелетнего царства и на отказе брать в руки оружие для
защиты от турок19. Побежденные, собрав последователей,
двинулись в Аустерлиц, чтобы основать в Моравии первую из общин,
которые часто именуются «коммунистическими».
Данное определение идет от буржуазной историографии
XIX в., безоговорочно отождествлявшей любую попытку
обобществления имуществ с коммунизмом. Особенно популярным было
«опровержение» коммунистических и социалистических учений
Нового времени через их «предшественников». Этому, например,
посвятил свою «Историю коммунизма» (1848 г.) Л. С. Сюдр,
сформулировавший «основные идеи буржуазной историографии»
об утопическом социализме20. Вопрос о классовой борьбе в
средние века обретал все большее политическое значение, с чем
было связано и обращение Ф. Энгельса к истории Крестьянской
войны в Германии, к личности Томаса Мюнцера. Высоко
оценивая роль этого революционера, Энгельс пе склонен был
безоговорочно относить его к «коммунистам» и говорил лишь о
близости мюнцеровской программы к коммунизму, о «проблесках»
коммунизма. Работая над «Диалектикой природы», Энгельс внес
155
ь1 и в определение идеологии выступле-
существенные коррек?11*' шественников современного пролетариа-
ний «революционных ЛР'ра?кения «с красным знаменем в руках
та» в XVI в. Вместо в т^х>) он использовал другое: «...и с тре-
и с коммунизмом на ^^дества на устах», на чем справедливо
бованием общности #м;> э. Штекли ".
акцентирует внимание ^'оКратического лагеря, и прежде всего
Идеологи социал-Де ^ учеником и последователем Энгельса,
Каутский, считавший сетоМу существенному уточнению, и в их
не придали значения д11ализм», «коммунизм», «обобществление
сочинениях термины <<с°^я как синонимичные22. «Коммунизм»
имуществ» употреблю10 как данное, причем анабаптисты попа-
средневековьЯ был пР1|Н„дных представителей этого течения,
ли в число наиболее 3 аНабаптистским «коммунизмом»? Каут-
Что же понималось п ^ «коммунистическое крупное производ-
ский находил У секта1*Торку оказывается лишь «простой коопе-
ство» 23, которое на &оВ сТВующей «в тех отраслях производства,
рацией» — формой, госЯ°£ круПН0М масштабе, а разделение труда
где капитал оперирув* значительной роли» 24.
и машины не играют tlW оММунистической» организации сектант-
Другим признаков * <<поТребительский коммунизм». Однако
ских общин считаетсЯ 0Т противоречие в объекте. По существу,
само это понятие содеР^леНИе» сводится к перераспределению
само
щ 0Т р
это понятие содеР^леНИе» сводится к перераспределению
«обобществленное поТР ^ладовые, общие трапезы. Иллюзия «общ-
продуктов через «кад*1*' ходе коллективных трапез, разумеется,
ности», возникавшая 3 ' и та, что возникала в совместном тру-
столь же обманчива, c*i0 практике, «обобществление» предметов
де на мануфактуре. Одежды и т. д., встречавшееся у морав-
личного пользования "~ £ ]у[юнстерской коммуне, было лишь спе-
ских сектантов, а так^е ^ их распределения. Ее противоречие с
цифической организай^ собственности — феодальным способом
существующей Ф°Р^° оСь, однако, непосредственно производст-
произподства — не «ас» системы распределения. Ведь, по Марк-
ноР
ва, включающего осноР леНИе есть распределение продуктов,
РаС gH0e орудий пр 2)
реде^ ^ различным
ление членов общестпа сЛеднего 2S. Всякие изменения в распре-
определяет структуру п ных отношений не способны создать
, лча ле ррд ру,
су, «прежде чем РаС gH0e орудий производства и 2) ...расиреде-
оно есть: 1) распреде^ ^ различным родам производства», что и
общестпа сЛеднего 2S. Всякие изменения в распре-
е члено щ сЛед рр
определяет структуру п данных отношений, не способны создать
делении, не касающи^^енной формы,
жизнеспособной общесТ je денег и имуществ, которого добивался
Строгое обобщест1^1е Jie стало и не могло стать спасением от
Видеманн в Аустерлйое' е буквально преследовали сектантов,
голода и нищеты, к°т(^ецзгоды становились нормой п должны
Напротив, постоянны*? сРете мистического Gelassenheit как зем-
были восприниматься в а1Ощес от мирских оков и устанавливаю-
ное испытание, освоб^ь^ тоМ 26.
щее духовную связь с А^ ^ыЛ очень силен у идеологов морап-
Лскетнческий насТР & Щтадлера. Филиппа Плепера и Габ-
ского сектантства Ул^Р]- вИдели в духовной отрешенности от соб-
риеля Ашерхама, котоР
lob
ственностн путь ко внутренней «ясности» каждого и к общинному
миру. Гуттер с его эсхатологией расценивал данное состояние как
способ воспитания «духовных воинов» перед Вторым
Пришествием. Лидер следующего поколения анабаптистов в Моравии Петер
Валпот считал смыслом обобществления нмуществ освобождение
от «мирских оков» и взаимную любовь членов общины, не
зависящую ни от каких материальных соображений и реализующуюся
в обеспечении минимальных потребностей каждого ".
Закономерно, что превращение основной массы верующих из
субъекта экономической деятельности в придаток общины давало
старейшинам огромную власть в решении всех вопросов
экономической и социальной жизни. Если каждый в следовании
«частному интересу» демонстрировал «родство с дьяволом-), только
конгрегация в целом, использовавшая добро на «общее благо»,
могла находиться в союзе с Христом. Однако определение
«общего интереса», касался ли он раздела имеющихся благ или
решения производственных проблем, неминуемо концентрировалось
в руках немногих — а именно тех, кто осуществлял
экономическую связь общины с окружающим миром. Таковыми были
организаторы мануфактур, выросших из простых объединении
ремесленников, где первоначально отвергались всякая внутренняя
торговля и денежные расчеты.
Реальные плоды такого «экономического альтруизма» были
далеки от желаемых. В 1530 г. в Аустерлице появился один из-
основателей движения Рейблин, Он был возмущен
злоупотреблениями старейшин, по собственному усмотрению
распоряжавшихся средствами, насильственно заключавших браки и т. п.28.
Собрав 150 недовольных, он отправился к единоверцам,
обосновавшимся в монастыре Аушпитц. Это произошло в феврале
1531 г. Однако оказалось, что и более мягкие формы
«обобществления» не гарантируют от искушений. Сначала Рейблин, а через
некоторое время и новый пастор Шютцингер были изгнаны за
утаивание денег 29. Тогда-то главой моравского движения и
сделался Якоб Гуттер, являвшийся после сожжения Блаурока
«апостолом» анабаптизма в Тироле. Впервые посетив аустерлнц-
ких радикалов в 1529 г., он был настолько вдохновлен их
порядками, что организовал эмиграцию тирольских анабаптистов на
восток. Здесь его сторонники получили имя гуттеритов,
распространившееся впоследствии на всю моравскую ветвь анабаптизма.
Гуттер считал, что причина всех неурядиц — недостаточно полное
отрешение от «мирских забот», и в первую очередь от семейных
уз. Осуществлению его ригористичной программы помешали
усилившиеся преследования. Вынужденный распустить общину, он
вернулся в Тироль, где был схвачен и в феврале 1535 г. сожжен
в Инсбруке.
Преемником Гуттера в Моравии в 30—40-е годы стал Петер
Ридеманн, находившийся до того в заключении у Филиппа
Гессенского. Для ландграфа он подготовил изложение своих
взглядов, которое позже выдвигалось как анабаптистское веронспове-
дание. Исходный пункт рассуждений Ридеманна о собственности
совпадал с основными гуттеровскими постулатами. Идеальным
является порядок, который создал в свое время Бог, сотворив
мир. Вещи, предназначенные изначально для всех, тогда
соответствующим образом и использовались, чем обеспечивалось
единство людей, верно служащих Творцу. Общая собственность
на все материальные блага закрепляла духовное единство
верующих во Христе. Последующий захват и присвоение вещей в
частное владение привели к тому, что люди поставили мирское выше
духовного, отошли от Бога. Однако все, недостижимое для
одного, оставалось общим для всех: солнце, небо, день и т. д. Таково
изначальное состояние и всех прочих вещей, доказывающее, что
человеку чужда любая собственность. К тому же, переходя в мир
иной, он «ничего не может унести с собой, чтобы пользоваться
как своим» 30, а значит, для воссоединения с Вечным надо уже в
этой жизни отказаться от преходящего.
Антифеодальный пафос ридеманновской доктрины достаточно
очевиден, однако от крестьянской ереси ее отличает то, что
наряду с эксплуататором она осуждает и мелкого собственника.
Для крестьянина, обладающего орудиями труда и производящего
товарную продукцию, эти воззрения не могли быть
привлекательны, так как ставили под сомнение то самое
частновладельческое право, которое сопутствует мелкотоварному производству
н в утверждении которого он более всего заинтересован. Зато
данные идеи должны были обрести популярность у той части
общества, которая «менее всего имела твердую почву в тогдашних
общественных отношениях» 31, т. е. плебса, а также пауперизо-
ванного крестьянства. Подчеркнем, что в других слоях
«сельскохозяйственного населения» 32 анабаптизм вряд ли мог найти
приверженцев.
Вместе с тем уже Ридеманн, приглушивший эсхатологию своих
предшественников, озабочен повседневным существованием
общины. Наиболее достойным порядком он в соответствии с
указаниями апостола Павла считал равенство ее членов. Это
традиционное «христианское равенство» представляется весьма далеким
от равенства мелких товаропроизводителей — наиболее
прогрессивного требования антифеодальной борьбы крестьянства,— так
как не включает изменения условий производства. Речь идет лишь
об уравнительном распределении предметов потребления, что по
сути своей является очень противоречивой мерой. Энгельс,
оценивая пролетарское понимание равенства, заметил, что его
действительное содержание «сводится к требованию уничтожения
классов», причем всякое требование, идущее дальше — к полному
индивидуальному уравпительству, неизбежно приводит к абсурду:
при разных естественных потребностях и способностях, трудовом
вкладе индивидов уравнительное вознаграждение может на деле
означать лишь неравенство33. Данное противоречие неизбежно
сопровождает всякую, не только пролетарскую, но и плебейскую
попытку уравнительства. Неудивительно, что анабаптизм нигде не
158
проводит этого принципа последовательно. Ридеманн вынужден
концентрировать внимание на необходимости избавиться от
себялюбия и алчности, так, чтобы, обладая собственностью, не
делаться ее рабом34.
Столь абстрактное пожелание могло быть санкцией любых
отношений, и в анабаптистских общинах оно прикрывало
развивающуюся мануфактуру, специализировавшуюся главным
образом на ткачестве и керамике. При епископах Ланценштиле и
Рядеманне (1542—1556/65), а затем при Петере Валпоте (умер в
1578 г.), несмотря на периодически начинавшиеся преследования,
сектанты в Моравии укрепились и немало преуспели в овладении
рынком35. Дешевизна их продукции объяснялась не только
мануфактурным разделением труда, но и натуральным характером
обеспечения работников, удешевлявшим рабочую силу. Такой
«коммунизм» служил на деле средством усиления эксплуатации.
Подчинение ереси умеренно-буржуазным требованиям
проявилось и в политическом отношении. Уже с 40-х годов главнейшим
«источником греха» она считала неповиновение власти 36; ее
пацифизм как форма отказа от гражданской деятельности с
уменьшением внешней опасности терял в глазах властей
первоначальный пугающий смысл. Когда фанатичного Фердинанда I на
императорском троне сменил Максимилиан II (1564—1570),
моравский анабаптизм обрел статус терпимой секты.
Развитие анабаптизма в Германии и Нидерландах оказалось
гораздо более насыщенным событиями и драматичным. В начале
30-х годов наиболее видная фигура в движении — Мельхиор
Гофман, скорняк из Галле, действовавший в 20-е годы как
лютеранский проповедник. Первым трудом, который знаменовал его
отход от «евангелизма», было «Толкование 12-й главы Даниила»,
изданное в 1526 г. в Стокгольме. Подозрения, а затем гнев
Лютера и его последователей вызвали чрезмерное пристрастие
Гофмана к спекуляциям вокруг мистических понятий
«обожествленного человека» Gelassenheit, эсхатология, аллегорическая
интерпретация Писаний. После фленсбургского диспута с
лютеранами Бугенхагеном и Тастом в апреле 1529 г. Гофман некоторое
нремя укрывался вместе с Карлштадтом в Восточной
Фрисландии, а затем оба перебрались в Страсбург. В это же время в
городе пребывали Хубмайер, Рейблин, Каутц, Гетцер, Заттлер и
другие крупнейшие идеологи радикальной реформации37.
Знакомство с их взглядами сыграло решающую роль в обращении
заметного уже теолога (только в 1529—1530 гг. вышло 5
трактатов Гофмана по экзегетике) в анабаптизм. Поддержав
требование сектантов о предоставлении им церкви для богослужений, он
не только лишился расположения Буцера, но и должен был
предстать перед судом. Гофман бежал — вновь на север, где нащупал
благодатную почву для своей проповеди. Проникновение
анабаптизма в Нижние земли было достаточно активным, о чем
косвенно свидетельствует появление Шпейерского эдикта 1530 г.,
изгонявшего сектантов из Восточной Фрисландии.
159
Особенно благоприятные условия для распространения секты
складывались в Нидерландах. По данным А. Н. Чистозвонова,
процессы пауперизации были особенно интенсивны в северных
провинциях: «Уже в 1514 г. пауперы и бедняки, освобожденные
от уплаты налогов, составили в Лейдене — 63, в Хоорне — 40,
в Делфе — 38, в Хаарлеме — 35, в Хаузе — 32, в Амстердаме —
23 процента от общего числа глав семей этих городов»38.
И в Восточной Фрисландии, и в Нидерландах деятельность
Гофмана имела огромный успех. Только за один раз в эмденской
церкви он окрестил 300 человек. Популярность мельхиоритской
(названной так по имени основателя) ветви анабаптизма объяснялась
преобладанием в учении чисто плебейских черт. Главная из них —
пылкая эсхатология, заставлявшая мир ожидать грядущего
Второго пришествия. Оно, по мнению Гофмана, неминуемо
приближается с каждой новой жертвой преследований и наступит с
«исполнением» числа мучеников. Сам он вместе с ближайшим
сподвижником Полдерманом будет проповедовать, как новые
пророки Илия и Енох, 1260 дней. Их убиение Драконом и
воскресение послужат началом Тысячелетнего царства праведников39.
Убежденный, что последняя земная трагедия разыграется в
Страсбурге, Гофман после вторичной поездки по Нидерландам вернулся
туда и обратился в Совет с требованием публичного диспута.
Вместо этого его предают суду. 10—14 июня 1534 г. синод уже
утвердил статьи веры, подготовленные на основании капитального
буцеровского труда «Тетраполитана», так что радикалам
оставалось либо подчиниться принятому вероисповеданию, либо
подписать себе приговор.
Возражения Гофмана, как ни странно, не коснулись главной
для него проблемы — милленаризма, однако и чисто
теологических расхождений оказалось достаточно, чтобы его приговорили
к пожизненному заключению. Ересью были объявлены его
суждения о свободе воли, необходимости крещения взрослых и
недопустимости любых прегрешений после него, а главное — христология.
Гофман полагал, что Христос не получил человеческой плоти от
Девы Марии, по «принес ее с собою с неба» (до него эту же идею
высказывал Клемент Циглер, побывавший в тот период в
Страсбурге40).
Вероятно, от казни Гофмана спасла не только необычайная
для тех времен терпимость страсбургских властей и особая
позиция Буцера, но и «пассивно-страдательный» дух его собственного
учения. Он не допускал и мысли о возможности насилия со
стороны «святых». Правда, для установления «Соломонова
царства» — земного воплощения «царства Божия» — требовалось
предварительно уничтожить «жрецов Ваала», но эта забота
возлагалась целиком на плечи магистратов. Сами анабаптисты могли
лишь строить «храм», но не сражаться.
Иной поворот приняли идеи Гофмана в Нидерландах. Через
старые каналы — общины «братьев и сестер общей жизни»,
камеры риторики и, самое главное, широкое, но аморфное сакрамен-
TiicTCKoo движение4I — они получили широкий размах и новое
звучание. Анабаптистские проповедники — Трипмакер, Хоутцагер,
]3оекбиндер, ван Кампен, Ян Матис, Оббе и Дирк Филипсы и др.
действовали в Амстердаме, Леувардене, Гронингене, Делфте,
Дордрехте, Роттердаме, Антверпене, проникали в Северную Вест-
фалию. В мощном всплеске антифеодальной борьбы особый
резонанс вызвала провозглашенная Матисом идея о необходимости
самостоятельных насильственных действий для наступления
Тысячелетнего царства. Он же окрестил Яна Бокельзона
(Лейденского), которому суждено было стать главой правоверных в
Мюнстере.
События 1534—1535 гг. в Мюнстере — та страница истории
анабаптизма, которая традиционно вызывала ожесточенные
споры в научной литературе. «Сочувственная» тенденция, которую
поддерживают главным образом историки, связанные с менно-
нитскимп центрами Голландии и США, дает два толкования
мюнстерских событий. Одно, традиционное, заключается в том,
что этот эпизод был, по сути, случаен и не имел ничего общего
с «истинным», непротивленческим анабаптизмом, причем
последний «вынужден был заплатить дорогой ценой за мюнстерскую
трагедию» ". Как считал баптистский историк А. К. Андервуд,
настоящей целью движения было уничтожение Римской церкви
и переход сектантов к насильственным действиям был лишь
следствием «страшных преследований» 43. «Нетипичность»,
«единичность» данного явления склонен был отстаивать также
И. Б. Хорст. Вместе с тем результаты последних исследований все
более убедительно свидетельствуют о том, что по крайней мере до
40-х годов XVI в. стремление к радикальному переустройству
общества было в анабаптизме скорее правилом, чем исключением.
Поэтому Хорст вынужден допустить и прямо противоположное
объяснение Мюнстерской коммуны: это одно из тех «идеальных
государств», которые создавались по всей Европе — в Женеве,
Цюрихе, Любике44. Авторитетный американский специалист
К. Кран также высказывал предположение, что, если бы не
просчеты мюнстерцев и не действия католиков и протестантов,
захвативших город, «царство... могло бы стать таким же
установившимся, приемлемым pi почетным, как любая из реформацион-
ных церквей» 4\
На наш взгляд, такая точка зрения не учитывает
качественной специфики мюнстерских событий: их участники стремились к
подлинному социальному перевороту и устройству общества на
принципах христианской справедливости, отраженных в Писании.
Эрнст Б. Бакс находил основания анабаптистского призыва к
общей собственности в рассказе о наказании Анны и Каифы,
утаивших от общины часть денег, в Апостольских деяниях4в.
Разумеется, «обобществление» в Мюнстере носило специфический
характер. Ян Лейденский, Бернард Ротман и Книппердолинк,
три главных руководителя «царства святых», помимо общих
трапез устроили перераздел имущества. После принятия Яном Лей-
6 Заказ .\й 4129 • 161
денским царского титула по городу была проведена конфискация
излишков в соответствии с пророчеством, что «человек не должен
обладать более чем одной курткой, двумя парами штанов, двумя
фуфайками, тремя рубахами; женщины — только одной юбкой,
одной накидкой и четырьмя рубахами. Никто не должен иметь
более одной кровати и четырех простыней» 47. Впрочем, говорить
о последовательном уравнительстве было бы неверно: сам «царь»
пользовался подобающими его званию регалиями и
привилегиями, так же как и его приближенные 48.
Помимо вмешательства в распределение, анабаптисты сдела-
лали попытку разрушить систему обмена. Взамен старой монеты,
оставленной для внешних сношений, была выпущена другая, не
имеющая ценности. Это было следствием резко негативного
отношения ко всякому стяжательству и материальному интересу,
противоречащим духовному единству верующих. Результатом
отмены денег, как доказал Маркс, может быть либо возвращение
<<к более низкой ступени производства (которой соответствует
меновая торговля, практикуемая как нечто побочное), или...
(переход.— В. И.) к более высокой ступени» 49. В данном
случае мы, несомненно, должны были бы столкнуться с первым
вариантом, однако «символическая» монета фактически вполне
заменяла прежнюю как средство обращения: в этом качестве ее
«материал» совершенно безразличен, как и для бумажных денег.
В целом же существенных сдвигов в организации
производства в Мюнстере не произошло; слуги и подмастерья обязаны были
подчиняться прежним господам, ремесленники продолжали
трудиться как по заказам властей, так и по частным, лишь земля
внутри города, которую предполагалось обобществить, была
«роздана частным хозяевам по ртам» 50.
Едва ли не главным пунктом обвинения мюнстерцев со
стороны как современников, так и потомков, служила полигамия.
При объяснении этого явления, на наш взгляд, не следует
упускать из виду гипотезы, которая несколько «филистерски»
прозвучала у Каутского, а именно, что многоженство было
вызвано значительным преобладанием в городе женщин. Этот
фактор, как полагает К. Кран, мог сыграть решающую роль, ибо,
в понимании сектантов, женщина «находила доступ к духовным
дарам Господа» только через мужа— члена «сообщества святых»,
что следовало из указания апостола Павла: «глава каждому
мужу — Христос, глава каждой женщине — муж» ".
Естественно, с социальной ролью семьи сектанты не
считались, как игнорировали они и потребности производства. В
целом, к воззрениям мюнстерцев полностью применима энгельсов-
ская характеристика плебейских взглядов, подвергавших
сомнению «учреждения, представления и взгляды, которые были
свойственны всем покоящимся на классовых противоречиях
общественным формам» ", а не только феодализму. Основной труд
Бернарда Ротмана «Восстановление, или новое установление
справедливого и цельного христианского учения, веры и жизни
162
через Христову церковь Мюпстера» (октябрь 1534 г.)
провозгласил пороком частную собственность, которая позволяет «есть и
тшть пот бедняков». Речь, однако, шла не столько о конкретной
феодальной эксплуатации, сколько вообще о стяжательстве.
Проявлениями частного интереса главный идеолог сектантов считал,
наряду с куплей-продажей и ростовщичеством, «работу за
деньги» 53! Осуждение наемного труда заставляет предположить, что
запросы зачаточного пролетарского элемента были столь же
чужды ереси, сколь и насущные потребности мелких
товаропроизводителей. Никаких реформ в интересах тех и других п Мюнстере
также проведено не было. Объяснение этого лежит, на наш
взгляд, в чисто плебейском характере мюнстерского мельхиорит-
ства.
Разгром восстания в начале 1535 г. стал критическим
моментом в истории движения. Жесточайшие преследования,
начавшиеся в Голландии и Германии, докатились до Моравии;
запылали костры в Англии. Отдельные попытки восстановить «царство
справедливости» продолжались еще некоторое время. Самая
значительная из них произошла 10 мая 1535 г. в Амстердаме.
Однако большинство городских анабаптистов, находившихся под
влиянием умеренного Оббе Филипса, отказались присоединиться
к «мятежникам», в результате чего восстание быстро подавили,
а сектантов подвергли массовым гонениям и казням.
Преследования еще более углубили противоречия между
«воинствующим» и «мирным» анабаптизмом, в полной мере
раскрылись на Бохольтской конференции руководителей движения
летом 1536 г. Первое направление представлял Иоганн Батен-
бург, второе — Менно Симоне, незадолго до того примкнувший
к секте. Партию «примирения» возглавил Давид Йорис.
Достигнутый его стараниями компромисс оказался эфемерным, и
впоследствии оба течения все более расходятся. Террористические
методы, которых придерживался Батенбург, восприняли после
его казни (1538 г.) Ян Оливиерсзон, «Эмлихсеймские дети»
и, наконец, Ян Виллемсзон, погибший в 1580 г.54. В
Центральной Германии аналогичную позицию занимали в 40—50-е годы
«братья крови» Клауса Людвига. Последние, по существу,
смыкались с либертинством — направлением, снимавшим
необходимость всяких моральных норм для своих приверженцев, априорно
безгрешных (поэтому само понятие либертинства стало
ассоциироваться со вседозволенностью). Данные группы, отражавшие
настроения деклассированных элементов, не могли играть роль
антифеодальной силы.
Не менее значительные сдвиги происходили па правом крыле
анабаптизма, в меннонитстве, которое во второй половине XVI в.
охватило основную массу приверженцев ереси в Европе.
Буржуазное перерождение секты — процесс вполне закономерный,
и вытекает он из самой сущности плебейской оппозиции. По
характеристике Энгельса, «в той мере, в какой она самостоятельна,
она реакционна и подчиняется своим собственным
мелкобуржуазна 6*
ным элементам» ". Как показывает история меннонитства, ересь
смогла приспособиться не только к интересам мелкой, но
средней и даже крупной торговой буржуазии. Однако первоначально-
Менно и его ближайшим союзникам Дирку и Оббе Филипсамг
Леонарду Баувенсу пришлось иметь дело с весьма
неподатливым материалом и влиятельными конкурентами.
В Средней Германии наиболее известны были анабаптисты
Георг Шнабель, Питер Таш, Петер Лозе, Герман Бастиан и
Леонард Фэлбер, в основном разделявшие гофмановское ожидание
Второго пришествия5в. Однако с середины 30-х годов их
ориентация заметно меняется: место универсалистских концепции
занимает забота о церковной «дисциплине» — поддержании в
общине строгого порядка, соблюдении основных христианских
этических норм. По очень точному замечанию современника,
«оправдание в теологическом смысле и правосудие — в гражданском
сильно сближались» ". Весьма показательно, что на Марбург-
ском диспуте в октябре—ноябре 1538 г. Буцер счел возможным
признать анабаптистское орудие воздействия на верующих —
бан, или отлучение. Это и послужило основанием для
присоединения Таша и двухсот его сторонников к страсбургскому
вероисповеданию. Со своей стороны, Шнабель и Таш постарались найти
почву для более прочного компромисса с магистратами, уверив
Филиппа Гессенского, что «озабочены прежде всего христианской
дисциплиной» 58.
Арест одних лидеров (таких, как Мельхиор Ринк) и
консервативный курс других довольно скоро дали о себе знать
падением популярности ереси. По справедливой оценке Дж. Ойераг
«анабаптизм как движение пошел на спад в Германии с
1540 г.» 59. В дальнейшем основным идеологом секты здесь стал
Пилграм Марпек, прославившийся главным образом своей долгой
полемикой со спиритуалистом Каспаром Швенкфельдом. Оба
пользовались поддержкой знатных дам, Магдалины фон Паппен-
хайм и фрау Штрайхер, вследствие чего перепалка получила
наименование «дамской войны» в0. Обе стороны словно
соревновались в демонстрации своей благонадежности, однако
выигрывала в этом состязании третья сила — феодальная монархия.
Разумеется, секте в целом было еще далеко до полной
интеграции в существующую систему даже там, где победила
реформация. В швейцарской конфедерации протестантских кантонов
анабаптиьм хотя и становится еще умереннее, не делается
намного приемлемее. В ходе Цофингенского диспута (Базель)
1—9 июля 1532 г. между Буцером и Капито, с одной стороны,
и Венигером и Хотцем, с другой, обнаружилось, что еретики не
требуют общности имуществ, но ставят под сомнение
ростовщичество, уплату десятин и налогов. Вдобавок, не призывая к
уничтожению магистратской власти, они возражают против всякого
ее вмешательства в церковные дела. В марте 1538 г. Бернский
диспут подтвердил существование серьезных расхождений.
Результатом стало ужесточение законодательных актов против ана-
164
баптизма, которое в 1544 г. произошло во всей конфедерации в!.
Наиболее убежденным и влиятельным противником секты
стал «женевский папа» — Жан Кальвин. Еще до
кратковременного изгнания из Женевы он устроил в 1537 г. два диспута с
анабаптистами. Тогда же он пишет против Шляйтхаймского
символа знаменитый трактат «Краткое наставление, дабы вооружить
всех добрых христиан против губительных заблуждений извест-
пой секты анабаптистов». В дальнейшем ему пришлось иметь
дело главным образом с либертинами, составившими в Женеве
довольно влиятельную партию. Конфликт закончился их полным
поражениемв2.
Борьба с либертинством, или, если взять шире,
спиритуализмом, была одним из немногих моментов, объединявших в тот
период кальвинизм и анабаптизм. Главным врагом и Менно,
и Дирк Филипс считают не своих гонителей, а недавнего союз-
пика Йориса, «лжепророка и антихриста», который проповедовал
возможность внешнего примирения с любой церковью и сам
демонстрировал пример подобного никодемизма. Остаток жизни оп
мирно провел в Базеле под чужим именем. Спиритуалистические
принципы его учения воспринял Хенрик Никлаасзон, основатель
секты Семья любви.
О том, как идет процесс перерождения ереси в Нидерландах,
ярко свидетельствуют труды Менно. Его «Ответ на фальшивые
обвинения» (1552 г.) провозглашал: «Мы публично и однозначно
исповедуем, что служба магистратов установлена Богом... и мы
им повинуемся, когда это не противно божьему слову. Налоги
и подати мы платим, как учил и делал сам Христос. Мы
молимся за королевские величества, королей, господ, государей и всех,
кто у власти» вз. Общность имуществ откровенно превращается
в пожелание помощи «нуждающимся братьям» или, говоря
словами Энгельса, в «примитивную организацию
благотворительности». Сам Менно называл «ложным и фальшивым» обвинение,
будто сектанты владеют всем сообща64. Современный
американский специалист У. К. Кини провел интересный анализ
изменений, произошедших в трудах Симонса, включая
прижизненные издания его основного трактата «Основания христианской
веры». При всей малоубедительности конечных выводов историка
о роли меннонитства в развитии общественного сознания и в
историческом процессе в целом, книга наглядно демонстрирует,
как усиление конформизма в социально-политической сфере
сопровождалось смягчением этических норм и соответствующей
модификацией догматики. Так, на смену мельхиоритскому
требованию полной безгрешности новообращенного приходит указание
на неизбывную человеческую греховность и необходимость
постоянного покаяния, что прямо соответствовало лютеранским и
кальвинистским представлениям; место учения о достижении
«благодати» собственными усилиями занимает оправдание верой;
правило «следования Христу» в последней редакции «Оснований»
опущено. Соответственно, эволюционировало и представление
165
о Христе. Если мельхиориты, утверждая, что «Слово сделалось
плотью» во Христе, подразумевали, что оно может воплотиться
и в любом правоверном, то Менно стал осторожно различать
Христа, родившегося «от Бога вне человека», и праведника,
родившегося «от человека вне Бога». Это выбивало почву из-под
спекуляций о возможном «обожествлении» человека, которое
делало его неподвластным светскому порядку. Характерно, что акт
крещения в сознательном возрасте, символизировавший смерть
«старого», «плотского» человека и рождение «нового»,
«духовного», делается теперь лишь знаком принадлежности к
анабаптистской общине и.
Прежде всего данный сдвиг связан с возросшей заботой об
институционализации церкви. Второй характерной чертой этого
процесса является борьба вокруг полномочий и способа избрания
пасторов. Если первоначально ими становились лица, более
других наделенные мистическими дарами «благодати» («харизмы»),
то впоследствии, с переходом от «живого откровения» к строгому
меннонитскому «евангелизму», обращается особое внимание на
«законность» пасторской власти, преемственность которой
осуществляется через рукоположение. Передача этой компетенции
пз рук одного священника в ведение синода «епископов», или
«старейшин» (главы конгрегации назывались по-разному),
свидетельствует о формализации, но никак не о «демократизации»
управлениявв: рядовые члены общины так или иначе от него
отстранялись. Полномочия пастора были тем более велики, что
в его руках находилось право отлучения. Оно являлось
эффективнейшим средством воздействия — не только религиозного, но и
социального, ибо апостольское указание «не вкушать с неверными»
распространялось зачастую на все контакты, включая торговые
и даже брачные.
Неудивительно, что вопросы применения отлучения, власти
пастора оказались в фокусе внимания противоборствующих
группировок. Первым от Менно отделился Адам Пастор (настоящее
имя — Рольф Мартене), который еще в 1547 г. проявлял
неудовлетворенность анабаптистским церковноцентризмом, а в 1552 г.
выдвинул собственную христологию, радикально расходившуюся
с мельхиоритско-меннонитской. Христа он считал не Богом, но
пророкомв7, а его пример — достижимым для всякого истинно
верующего, причем без церковной опеки. Процесс приближения
к этому идеалу он, однако, рассматривал как чисто духовный и
не требующий какого-либо внешнего действия.
Реакцией на рост спиритуалистических настроений стала
дальнейшая регламентация общинной жизни. В 1554 г. Менно п семь
его наиболее видных последователей на встрече в Висмаре
пришли к общему соглашению. Из девяти пунктов.пять посвящались
правилам отлучения, остальные — возможности занятия
«мирских» должностей, применения оружия (его дозволялось только
носить), назначению проповедников •'.
Очень растяжимыми висмарскими резолюциями прежде всего
166
воспользовался популярнейший фризский проповедник Леонард
Баувенс. (О его авторитете говорило хотя бы то, что с 15^51
по 1582 г. он лично окрестил 10 386 человек). Однако его кра^_
ний ригоризм вызвал недовольство руководителей Франекерсксэй
и Эмденской общин Генриха Наальдемана и Якоба Янса Шеед;е_
макера. Несколько лет ожесточенных споров привели к расколку.
Образовавшаяся «либеральная» ветвь получила наименование
ватерландцев или, по презрительному отзыву Баувенса,
«навозной телеги» вв.
Примерно в это же время аналогичную ватерландцам
позицию заняли верхнегерманские анабаптисты. На Страсбургск^й
конференции 1557 г. они отвергли ультимативное письмо М
с требованием ужесточения «дисциплины» в общинах и
были отлучены 70.
После десятилетия относительной стабильности новые неур*я_
дицы начались в Западной Фрисландии. Спасавшиеся там от
преследований Альбы фламандские меннониты отказались
подчиниться порядку избрания проповедников, установленному
четырьмя фризскими общинами. Конфликт перерос в крупнейшей
раскол, в центре которого находились вопросы соотношения
власти общины и совета конгрегации, регионального
старшинства 7|. Эти принципиальные расхождения усугубились личн^ш
соперничеством между Баувенсом и Дирком Филипсом. Однако
и со смертью последнего в 1568 г. примирения враждующих
группировок не состоялось. Очередную попытку объединения
анабаптистского движения предприняли в сентябре 1577 г. ват^р_
лаидцы Ян де Рис, Шеедемакер, Симон Михиельс. В Алкма^ре
они составили первый для Нидерландов символ веры,
призванный удовлетворить как можно более широкие круги сектантовч
Старательное сглаживание «острых углов» было на ру*ку
прежде всего тем силам, которые стремились к скорейшему
Интегрированию меннонитства в существующую социальную и
Политическую систему. Они одержали верх и на Амстердамской
конференции, отменившей традиционные запреты на брак с
иноверцами и несение государственной службы72. Первым
официальным признанием этого курса стала объявленная
Вильгельмом Оранским в 1577 г. веротерпимость по отношению к ереСи.
Данное решение отнюдь не было признанием роли
анабаптистов в свержении Габсбургского ига: в борьбу Соединенных
провинций против испанского владычества они не включалась,
считая недозволенной гражданскую активность, прежде всего
участие в войнах. Сектантский изоляционизм привел к
значительному падению авторитета анабаптизма, однако его
общественный статус отныне поддерживался иными средствам^ —
денежными. В Восточной Фрисландии меннониты успешно
занимались зерноторговлей, мукомольным, морским и китобойэым
промыслами, винокурением, в Нидерландах — производством
текстиля; немалую «деловую активность» проявляли они в
различных частях Германии.
167
Естественно, умеренно-буржуазные требования ереси
по-разному преломлялись в общинах, где преобладали различные
социальные слои, однако вся система взглядов была направлена
объективно на создание аппарата воздействия на
эксплуатируемых со стороны буржуазии. Идеологически данная задача была
почти одновременно решена в двух крупных центрах
движения — Нидерландах и Моравии, Менно Симонсом и Петером
Ридеманном. И уже в 40-х годах намечается тенденция
сближения анабаптизма с протестантскими вероисповеданиями73.
Примечательно, однако, что сектантский сепаратизм, не
сопровождающийся более требованием решительной социальной
ломки, играет в этот период явно консервативную роль.
Яростные нападки на меннонитов одного из самых смелых идеологов
кануна Нидерландской буржуазной революции Ги де Бре
убедительно подтверждают, что кальвинисты сумели аккумулировать
несравненно больший заряд социального нонконформизма и
сплотить гораздо более мощные силы на антифеодальную борьбу,
нежели анабаптисты. Их реалистичная, буржуазная по своей
сути программа, содержавшая позитивные социальные
требования, была существенным шагом вперед по сравнению с
абстрактно-нигилистическими лозунгами анабаптистов. Этим, в конечном
итоге, и определялись судьбы двух течений реформации:
восходящего буржуазного и деградирующего плебейского.
1 Horst I. В. The Radical Brethern. Anabaptism and the English
Reformation to 1558. Niewkoop, 1972, с 25.
2 Полемика берет начало еще от основоположников двух протестантских
учений, отказывавшихся признавать хотя бы косвенную причастность к
порождению столь «чудовищного» детища, как анабаптизм. В то время как
Лютер обычно упоминал Цвингли «на одном дыхании с анабаптистами»,
преемник последнего Генрих Буллингер указывал, что «анабаптизм
происходил от последователей Лютера, Карлштадта и Мюнцера.- См.: Кгакп С.
Dutch Anabaptism. Origin, Spread, Life and Thought. The Hague, 1968, с 41.
3 Oyer J. Lutheran Reformers Against Anabaptism. The Hague, Nijhof,
1964.
4 Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии.- Маркс К. и Энгельс Ф.
Сочинения. 2-е изд. Т. 7, с. 374,
5 Там же, с. 375.
6 Williams G. H. The Radical Reformation. Philadelphia, 1962, с 47.
7 Smithson R. J. Anabaptists. Their Contribution to our Protestant
Heritage. L., 1935, с 16.
8 Mennonite Quarterly Review. V. XVII. Jan., 1943, № 1, с 16.
9 Stayer J. M. Reublin and Brötly: The Revolutionary Beginnings of Swiss
Anabaptism.- The Origins and Characteristics of Anabaptism. The Hague, 1977,
с 102.
10 Williams G. H. The Radical Reformation, с 247.
11 Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии, с. 362.
12 Наиболее популярная в англо-американской историографии
классификация Дж. X. Уиллиамса рассматривает спиритуализм как второе, па-
ряду с анабаптизмом, направление «радикальной реформации». Внутри
него, так же как и в анабаптизме, выделяется три разновидности:
революционная (Мюнцер, Денк, Карлштадт /?!/), евангелическая (С. Франк, К. Швенк-
фельд), рационалистическая (М. Сервет). На наш взгляд, такое деление
очень условно, ибо отношение верующего к церкви, положенное в его ос-
168
нову,-признак второстепенный.-См.: Williams G. H. The Radical
Reformation. Passim.
13 Там же, с. 164.
14 Там же, с. 191.
15 Bibliothek Deutscher Klassiker. Müntzor. Luther. Band II. Berl.,
Weimar, 1975, с 80.
16 Oyer J. S. Lutheran Reformers Against Anabaptism, с 136-139.
17 Hillerbrand H. J. The Reformation. A Narrative History related by
contemporary observers and participants. N. Y., Evanston, 1964, с 236-237.
18 Williams G. H. The Radical Reformation, с 186.
19 Там же, с. 226.
20 Соколова M. H. Сюдр - историк утопического социализма.- История
социалистических учений. М., 1985, с. 67.
21 См.: Энгельс Ф. Диалектика природы.- Маркс К. и Энгельс Ф. Сочи-
пения. 2-е изд. Т. 20, с. 508, 345; Штекли А. Э. Подготовительные работы к
«Анти-Дюрингу» и вопрос о начале утопического социализма.- История
социалистических учений. М., 1985, с. 36.
22 См.: Каутский К. Предшественники новейшего социализма. Т. 1, 2.
М.-Пг., 1919.
23 Там же. Т. 2, с. 187-190.
24 Маркс К. Капитал. Т. 1.- Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд.
Т. 23, с. 347.
25 Маркс К. Экономические рукописи 1859 г.- Маркс К. и Энгельс Ф-
Сочинения. 2-е изд. Т. 46, ч. 1, с. 33.
28 Williams G. H. The Radical Reformation, с 420.
27 Klassen P. J. Economics of Anabaptism. 1525-1560. The Hague, 1964,
с 64.
28 Williams G. H. The Radical Reformation, с 420.
29 Там же, с. 421.
30 Christianity and Revolution. 1975, с. 128.
31 Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии, с. 356.
32 Нам представляется, что в современной западной историографии
социальная база движения определяется этим термином слишком
расширительно.- См.; Mallet M. Radical Religious Movements in Early Modern Europe.
L., 1980, с 38.
33 См.: Энгельс Ф. Анти-Дюринг.- Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения.
2-е изд. Т. 20, с. 108.
34 См.: Christianity and Revolution, с. 128.
35 См.: Klassen P. J. Economics of Anabaptism, с 99.
36 Williams G. H. The Radical Reformation, с 428.
37 Krahn С Dutch anabaptism, с 83-88.
38 Чистозвонов A. H. Реформационное движение и классовая борьба в
Нидерландах в первой половине XVI в. М., 1964, с. 129.
39 См.: Krahn С. Dutch anabaptism, с. 96, 110.
40 Depperman К. Melchior Hoffman and the Slrassbourg Anabaptism.-
The Origins, с 217-218.
41 Отличительной особенностью сакраментализма в Нидерландах была
коммеморативная (напоминательиая) трактовка Евхаристии, отвергавшая
реальное присутствие «плоти и крови Христовой» в таинстве. От сакрамен-
тиста Хипне Роде ее воспринял У. Цвингли. Ересь отрицала также культ
святых, призывала во всем «следовать Христу».-См.: Чистозвонов А. II.
Реформационное движение, с. 203.
42 Smithson R. J. Anabaptists, с. 112.
43 Underwood А. С. A History of the English Baptists. L., 1947, с 23-25.
44 Horst 1. В. Anabaptism and the English Reformation. Niewkoop. 1966,
с 20-21.
45 Krahn С Dutch anabaptism, с 131.
48 Bax E. B. The Rise and Fall of the Anabaptists. L,- N. Y., 1903, с 188.
47 Там же, с. 222.
48 Там же, с. 217-218.
49 Маркс К. Экономические рукописи 1859 г., с. 160.
169
50 См.: Чистозвонов А. Н. Реформационное движение, с. 253.
51 Krahn С. Dutch anabaptism, с. 144.
52 Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии, с. 363.
53 Christianity and revolution, с. 100.
54 Oyer J. S. Lutheran Reformers Against Anabaptism, с. 74.
55 Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии, с. 356.
58 Corpus Reformatorum. Th. 3. Halis Saxonum, 1836, с. 580.
57 Цит. по: Williams G. H. The Radical Reformation, с 449.
58 Там же, с. 450.
59 Oyer J. S. Lutheran Reformers Against Anabaptism, с. 74.
60 Williams G. H. The Radical Reformation, с 468.
61 Там же, с. 594-596.
62 Там же, с. 608.
63 Chrictianity and Revolution, с. 124.
84 Там же.
85 Keeney W. Е. Dutch Anabaptist. Thought and Practice 1539-1564 Niew-
koop, 1968, с 78-198.
86 Там же, с. 200.
87 Krahn С. Dutch anabaptism, с. 197.
88 Там же, с. 230.
89 Williams G. H. The Radical Reformation, с 496.
70 Там же, с. 497.
71 Там же, с. 766.
72 Там же, с. 776-777.
73 К. Р. Дэвис доказывает, что не только Буцер, но и Кальвин, а
также руководители отдельных лютеранских церквей восприняли
анабаптистскую дисциплинарную систему, основанную на отлучении.- См.: Davis К. R.
No Discipline, no Church.- The XVI century Journal. V. XIII. № 4, 1982.
с 43-57.
С. В. Толстов
РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
И НАЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ИРЛАНДИИ
Особенностью истории Ирландии является весьма тесное
переплетение религиозных противоречий с политическими п
этническими процессами. Национальное развитие страны несет на себе
отпечаток колониального прошлого, когда политика английских
властей приобрела религиозную окраску, а церковь стала играть
активную роль в системе управления.
В целом можно выделить 5 периодов, характеризующих роль
религиозного фактора в политической и общественной жизни
Ирландии. В 432—1152 гг. в стране существовала независимая
«кельтская церковь», приспособившаяся к условиям родовой,
клановой системы. В 1152—1531 гг. ее заменил католицизм
феодального типа, выступавший союзником английской экспансии.
Реформация в Англии поставила его в положение «гонимой
религии» (1531—1782) и позволила использовать религиозные
противоречия в качестве эффективного средства, обеспечивавшего
функционирование и устойчивость колониального режима. Период
1782—1916 гг. характеризовался приспособлением католической
церкви, осуществлявшей контроль в сфере духовной жизни
большинства населения, к колониальным порядкам. Протестантизм,
удерживавший значительные политические позиции, продолжал
играть роль опоры британского господства. В 1916—1972 гг.
католицизм на юге и протестантизм на севере благодаря усилиям
буржуазно-националистических кругов получили статус
официальных, привилегированных религий, закрепляя тем самым
искусственное расчленение Ирландии. Наметившиеся в 60 —
начале 70-х годов XX в. признаки ослабления религиозных
барьеров не получили своего развития в условиях обострения кризис*
Е Северной Ирландии.
Сложность и многоплановость религиозной проблемы в
Ирландии обусловили длительность и остроту дискуссии между
буржуазными историками и политологами различных направлений,
всевозможные попытки идеологических спекуляций и ревизии
событий прошлых лет. Английская буржуазная историография
традиционно оправдывает религиозную политику британских
колонизаторов, замалчивая ее классовый подтекст и изображая англи-
С. В. Толстов, 1990
171
канскую церковь в Ирландии в качестве преемницы
средневековой религиозной организации '.
Конфессиональные противоречия изображаются в виде
естественного противостояния католицизма, исповедуемого потомками
кельтов, протестантизму англосаксов, а неоколониальный раздел
страны в 1921 г. представляется вызванным религиозной
нетерпимостью ирландцев, отвергнувших «благоденствие» в составе
империи во имя католических идеалов 2.
В работах ирландских авторов, как правило, содержится
критика английской колониальной политики в области религии,
однако большинство их посвящено частным церковным
проблемам 3. Католические социологи рассматривают исторический
процесс в Ирландии в свете клерикальной теории «католической
нации», изображая Ирландскую Республику идеальным
государством для католиков и цитаделью Ватикана4.
Социальные и политические аспекты этнорелигиозного
конфликта привлекали внимание передовых деятелей ирландского
революционного движения5, затрагивались в исследованиях
прогрессивных английских и ирландских авторов и в работах деятелей
коммунистического движенияв. Отдельные фрагменты проблемы
рассматривались советскими авторами7, однако вопрос о роли
религии и церкви в политической истории страны и ее
национальном развитии не получил самостоятельного рассмотрения.
Первые сведения о проникновении в Ирландию христианства
относятся ко времени римского завоевания Британии.
Принявшее форму пелагианской ереси, оно в значительной мере
отрицало официальную церковную догматику. Монахи сами избирали
аббатов, нередко совмещавших функции епископов, не
признавали верховной власти Рима. Несмотря на своеобразие церковной
организации, Ирландия VI—VIII вв. была одним из основных
центров христианства и миссионерской деятельности в Западной
Европе8.
Такое устройство ирландской церкви сохранялось вплоть до
начала XII в., несмотря на настойчивые попытки римской курии
установить прямой контроль над ирландским духовенством. Лишь
в середине XI в., при поддержке клана О'Брайенов — королей
Манстера (Южная Ирландия), добивавшихся распространения
своей власти на всю территорию страны, в Ирландии началась
подготовка церковной реформы. В 1152 г. синод ирландских
епископов принял все требования папского престола. В
осуществлении реформы значительную роль играла католическая церковь
Англии — многие епископы посвящались в сан в Кентербери или
назначались из числа английских монахов, действовавших по
указу англо-нормандской знати9.
В 1155 г. по просьбе английского короля Генриха II Планта-
генета папа Адриан IV, англичанин по происхождению
(в миру — Джонстон), передал Англии все права на Ирландию.
Официальным мотивом готовившегося вторжения было подчине-
пие ирландской церкви Риму. Однако, учитывая явную несостоя-
172
тельность этого предлога ввиду решений собора 1152 г., в
последующие годы папы Адриан IV и Александр III объясняли
англонормандское завоевание необходимостью более последовательного
завершения церковной реформы 10.
Английская феодальная экспансия, начавшаяся в 1169 г.,
встретила поддержку и английской, и ирландской католической
иерархии, заинтересованных в процессе феодализации. Синоды
ирландских епископов 1171 и 1175 годов одобрили завоевание
страны. Церковь получила значительные земельные пожалования
от английского короля и англо-нормапдских баронов. Влияние
монашеских орденов, появившихся в стране в начале XII в.,
значительно усилилось, а рыцарские ордена, принимавшие участие
в завоевании вместе с английскими войсками, к середине XIII в.
стали крупнейшими феодальными землевладельцами ".
Английские короли широко привлекали духовенство к управлению
колонией.
Экспансия привела к значительному торможению
экономического и социального развития Ирландии. Реформация, ввиду
неразвитости в стране буржуазного уклада, не получила поддержки
местного населения, которое, включая крестьянство, гэльскую
(кельтскую) и англо-ирландскую знать, придерживалось
католического вероисповедания. Это и послужило отправным моментом
нового этапа религиозной политики. Королевская реформация
Генриха VIII проводилась насильственными методами и
сопровождалась дальнейшим завоеванием Ирландии. В лице
установленной в 1531 г. государственной англиканской церкви 12 монархия
приобрела союзника в колониальном грабеже, проводившемся с
тех пор под религиозными лозунгами.
Династия Стюартов активно способствовала захвату
ирландских земель протестантами. В 1608 г. Западный Ольстер был
предоставлен для колонизации лондонским компаниям. Графства
Восточного Ольстера — Антрим и Даун — стали зоной
расселения шотландских пресвитериан. При Карле I лорд-лейтенант
Ирландии (1633—1639) Т. Уэнтворт (граф Страффорд) передал
англиканской церкви земли, перешедшие в ходе реформации к
светским владельцам, усилилась дискриминационная политика в
отношении католиков. Введение в 1639 г. обязательной присяги
английскому королю как главе церкви вызвало в Ирландии
противодействие и католиков, и пресвитериан, чем воспользовался
созванный в 1640 г. Долгий парламент для оправдания репрессий
в Ирландии.
В ходе национальных восстаний ирландцев 1641—1653 и
1688—1691 гг. католический клир пытался вернуть утраченные
ранее земли и вынашивал планы установления
феодально-теократического режима. Подавление восстаний сопровождалось
массовыми конфискациями имущества католиков. Посредством
введения карательного законодательства, лишившего исповедовавших
католицизм ирландцев гражданских и юридических прав,
английская буржуазия стремилась подавить дух национального со-
173
противления, обеспечить себе безраздельное господство в стране
путем насаждения «господствующего класса» протестантов —
выходцев из метрополии.
Гонения на католиков были усилены в первой половине
XVIII в. По выражению К. Маркса, дискриминационные меры и
репрессии против ирландцев были направлены на «превращение
„англиканства" в юридическое основание права собственности» 13.
Подавление восстания 1745—1746 гг. в горных районах
Шотландии развеяло надежды католических церковников и дворян на
реставрацию свергнутой в 1688 г. феодальной монархии Стюартов.
Верхушка ирландской католической церкви встала на путь
приспособления к колониальному режиму, всячески демонстрируя
лояльность правительству. Католические епископы приняли
декларацию, отрицавшую притязания пап на установление в
Ирландии светской власти Ватикана 14.
В XVIII в. религиозная принадлежность основных групп
населения Ирландии в основном совпала с этнической: ирландцы
исповедовали католицизм, ольстерские шотландцы —
пресвитерианство. Большинство англичан являлись приверженцами
государственной церкви (менее 10% населения страны), и
незначительный процент составляли диссентеры — участники
неофициальных протестантских сект и течений. Сохранение национальных
различий в конфессиональной форме способствовало
формированию в среде переселенцев и их потомков этнических групп англо-
и шотландо-ирландцев. Исследования ирландских историков
содержат убедительные доказательства, что карательные законы
не были направлены на тотальное искоренение католицизма,
поскольку это стерло бы грань между колонистами и автохтонным
населением, а скорее имели сегрегационный смысл 15, еужая
контакты между различными социальными группами и делая
этническое слияние католиков и протестантов неприемлемым для
последних, закрепляя противостояние различных классов и
социальных групп в форме религиозного антагонизма.
В конце XVIII в. под влиянием американской и французской
революций в Ирландии развернулось массовое общественное
движение раннебуржуазного типа. Формирование в среде
протестантской общины капиталистического уклада способствовало росту
оппозиционных колониальному режиму настроений, появлению
первых признаков национального самосознания, в частности
выдвижению лозунгов общенационального характера. Выступая за
свободное экономическое и политическое развитие Ирландии,
мелкая и средняя буржуазия Ольстера поддержала требования
о смягчении карательных законов против католиков и полном
уравнении в правах ольстерских пресвитериан.
Е 1791 г. в Белфасте было создано
радикально-демократическое общество «Объединенных ирландцев» во главе с Т. Уолфом
Тоуном, достигшее численности 150 тыс. чел. Памфлеты Тоуна
призывали ирландцев активно содействовать формированию
единой нации на нерелигиозной основе и бороться за свержение ко-
лониалыюго господства Англии. Против революционного
движения объединились различные консервативные силы, включая
английское правительство и колониальную администрацию, церковь,
ирландских помещиков и умеренных либеральных политиков.
Стремясь воспрепятствовать единству действий католиков и
протестантов, лидер ирландской буржуазно-аристократической
группировки, известной как «патриотическая партия», Г. Флуд,
считавший уравнение католиков в правах неприемлемым,
провозгласил теорию о наличии в Ирландии двух наций — протестантской
и католической. В интерпретации буржуазно-помещичьей
олигархии программа народного представительства приобрела
уродливый колониальный облик «протестантской демократии» 1в.
Колониальные чиновники провоцировали стычки на
религиозной почве среди крестьян-арендаторов в районах со смешанным
населением. Возникший в 1795 г. как тайное крестьянское
общество Оранжистский орден был преобразован в массовую
англиканскую организацию массонского типа. Действия оранжистов и
репрессии властей были призваны закрепить лишавшуюся
законодательного подтверждения дискриминацию католиков в
практике повседневной жизни. Выход из назревавшего кризиса
лондонские политики видели в отмене действовавшей с 1782 г.
законодательной автономии Ирландии и интеграции колонии в
составе метрополии.
Английское правительство заигрывало с католической
верхушкой, обещая зажиточным слоям ирландской общины полную
политическую эмансипацию. В 1798 г. католические епископы
осудили восстание «Объединенных ирландцев», подтвердив лояльное
отношение церкви к контрреволюционному террору
колонизаторов. Однако после подавления восстания и введения Унии 1801 г.,
■формально зафиксировавшей объединение Великобритании и
Ирландии в рамках одного государства, Лондон отказался от
обещаний предоставить католикам гражданские права,
демонстративно отменив ограничения, распространявшиеся на пресвитериан.
Лишь в 1829 г. британский парламент, столкнувшись с угрозой
новых социальных потрясений в Ирландии, допустил
состоятельных католиков к политической деятельности.
Вынужденные уступки в сфере законодательства
колониальный режим стремился компенсировать мерами, направленными
на англизацию Ирландии. В 1831 г. для воспитания ирландцев в
лояльном духе была учреждена «национальная» система
образования. Революционер-демократ Дж. Митчел (1815—1875) отмечал,
что программа школьного обучения была направлена на
подавление национальных чувств ирландцев-католиков, безразличие к
истории и традициям страны. Католическое духовенство
противилось смешанному обучению, внося свою лепту в разжигание
религиозной розни. Несмотря на то что в этнически неоднородных
районах католики практически не посещали школ, к 1850 г. новая
система охватывала уже 511 239 учащихся 1Т.
Хотя католицизм в Ирландии изрядно тяготился положением
175
«религии угнетенных», национальный ореол, приобретенный им
в период гонений (1531 — 1782), способствовал глубокому
проникновению религиозной идеологии в сознание ирландского
крестьянства. Проявление ранних форм национального самосознания в
религиозной оболочке, совпадение этнической принадлежности
с конфессиональной порой позволяли церковникам
эксплуатировать национальные чувства ирландцев. В свою очередь,
политический капитал, обретенный католической религией, церковь
использовала, когда в этом возникала нужда.
В XIX в. ирландская католическая иерархия активно
вмешивалась в политическую жизнь, подчиняя своему контролю
деятельность умеренных группировок и проявляя открытую
враждебность по отношению к радикальным и
революционно-демократическим организациям. В 1829 г. рескриптом папы
Григория XVI священникам было запрещено участвовать в
организациях, добивавшихся отмены англо-ирландской унии18.
Предельно резкими были выпады церкви против революционных
выступ л епий 1848—1849 гг. в странах Западной Европы. В
Ирландии вмешательство клира привело к срыву
антиколониального восстания и в значительной мере обусловило неудачи
движения «молодых ирландцев». В 1864 г. среди «величайших грехов»
века папа Пий IX предал анафеме социализм, либерализм, мас-
сонство и тайные общества, в особенности антиклерикальные.
Неудивительно, что действовавшее подпольно в Ирландии,
Великобритании и США мелкобуржуазное по своему характеру
Ирландское республиканское братство фениев подверглось яростным
нападкам со стороны церковников. В пастырском послании 10
октября 1865 г. католический архиепископ Дублина П. Каллен не
только объявил ИРБ безрассудной и сатанинской затеей, но
также призвал верующих воздерживаться от помыслов свергнуть
колониальный режим и отказывать в поддержке стремящимся к
этому безбожникам и отступникам, врагам церкви и
общественных устоев 1в.
Во время восстания, организованного фениями в 1867 г.,
католические священники недвусмысленно продемонстрировали
Англии свою лояльность. Либеральный кабинет У. Ю. Гладстона,
стремившийся ослабить недовольство народных масс и
использовать в своих интересах социальный консерватизм католического
духовенства, провел в колонии церковную реформу. В 1869 г.
англиканская церковь на территории Ирландии была отделена от
государства и формально уравнена в правах с другими
религиозными конгрегациями. С 1850 г. были отменены ограничения на
деятельность католической церкви в Англии. Ее возглавил
английский шовинист и реакционер, ярый противник реформ в
Ирландии кардинал Г. Э. Мэннинг, предостерегавший, что уступки
национальному движению приведут в недалекой перспективе к
отделению колонии 20.
После поражения восстания 1867 г. антиколониальную борьбу
возглавила Ирландская парламентская партия (ИПП), действо^
176
вавшая легально и выдвинувшая требование гомруля —
самоуправления в рамках Соединенного Королевства. Не находя поводов
для подавления движения с помощью военных мер, английские
правящие круги при активном содействии Мэннинга и с согласия
Ватикана в конце 80-х годов развернули кампанию травли
председателя ИПП Ч. С. Парцелла (протестанта по
вероисповеданию). Отставка Парнелла и раскол движения за гомруль в
1890 г. обусловили глубокий кризис и последующее
перерождение партии, подчинение ее влиянию либералов в английском
парламенте и епископата в Ирландии.
Служители церкви и клерикальные организации были в
первых рядах против поднимавшегося рабочего движения. В духе
«официального» национализма социализм представлялся как
«английский феномен, занесенный в Ирландию для развращения
чистоты ирландской души» ". Священники пытались
препятствовать развитию связей ирландских профсоюзов с английским
рабочим движением.
Центром переплетения противоречий оставался ирландский
Север. В середине XIX в. концепция «протестантского господства»
получила в Ольстере новую интерпретацию. В то время как
большая часть Ирландии находилась в состоянии экономической
депрессии, на северо-востоке при содействии колониальной
администрации и участии британского капитала возник динамично
развивавшийся промышленный район. В пестрой этноконфессио-
нальной мозаике Ольстера трудящиеся-протестанты занимали
привилегированное положение. Вековая традиция религиозной
дискриминации и нетерпимости была использована английскими
консерваторами, добивавшимися провал-a вносившихся на
рассмотрение британского парламента биллей о гомруле. В ходе
массовой внепарламентской кампании во время политических
кризисов 1886 и 1893 гг. в Ольстере сформировалась
Юнионистская партия (от англ. Union —Уния), претендовавшая на роль
выразителя интересов всей протестантской общины. В качестве
главной цели ее участники провозгласили сохранение
колониальных порядков в форме англо-ирландской Унии 1801 г.
Центральное место в идеологии юнионизма занял тезис о протестантских
свободах и привилегиях, подменявший понятие гражданских
прав.
Накануне первой мировой войны консерваторы руками
юнионистов готовили мятеж против либерального правительства,
обещавшего ввести законодательную автономию в Ирландии. В Ко-
венанте 1912 г., провозглашенном юнионистами, гомруль был
назван «угрозой материальному благосостоянию Ольстера и всей
Ирландии», способной подорвать гражданскую и религиозную
свободу ольстерских протестантов и единство империи22.
Возглавлявший ирландских юнионистов в 1910—1921 гг. Э. Карсон,
приверженец расистских теорий о превосходстве англосаксов и
германцев над кельтами и другими народами, накануне
ирландской национально-освободительной революции объявил ольстер-
177
•ских протестантов особой национальной общностью, впервые
сформулировав лозунг «ольстерского национализма» 23.
13 годы первой мировой войны в Ирландии складывался союз
левых группировок, выступавших под
национально-патриотическими лозунгами и взявших курс на свержение колониального
гнета методами вооруженной борьбы. В условиях подполья
мелкобуржуазные демократы и революционные социалисты
готовились к восстанию, которое, по их замыслу, должно было
послужить началом национально-освободительной революции.
Сдвиги в общественном мнении были замечены лишь
наиболее дальновидными церковниками. Епископ Лимерика Э.
О'Двайер. выступавший с осуждением аграрных выступлений в 80-е годы
XIX в., в новых условиях занял гибкую и выжидательную
позицию. В августе 1915 г. он призвал лидера ИПП Дж. Редмонда
поддержать пацифистский лозунг «мира путем переговоров», а в
ноябре выступил в защиту ирландских эмигрантов, подвергшихся
нападению шовинистических банд в Ливерпуле, подчеркнув, что
Ирландия не заинтересована участвовать в войне за английские
интересы ".
В целом национально-освободительное восстание 24 апреля —
1 мая 1916 г. застигло церковь врасплох. Полиция была
удовлетворена поведением церковников, уговаривавших повстанцев
сложить оружие. Однако изменение настроений ирландцев под влия-
пием апрельских событий и карательных операций британских
войск в течение мая 1916 г., усиленное оголтелой антиирлавщской
пропагандой британского правительства и прессы, не ушло от
внимания слуг Ватикана. Из 31 епископа католической церкви
лишь 8 осудили восстание, 22 предпочли за благо отмолчаться,
а О'Двайер протестовал против казни лидеров восстания и
выступил с критикой колониального режима. Блок церкви с
националистами из ИПП, поддержавшими репрессии, был чреват потерей
престижа. Открещиваясь от бывшего союзника, католическая
иерархия на совещании в октябре 1916 г. была вынуждена
отказаться от анафемы методам «физической силы» в политике,
опасаясь отождествления ее курса с линией ИПП ". Постепенно
представители церкви включались в антиимпериалистический
фронт во главе с национально-буржуазной партией Шин фейн,
поддерживая правое крыло движения и стремясь внести
элементы умеренности в его программу.
Ссылаясь на теологию Фомы Аквинского, клир оправдывал
свое участие в антиколониальном движении тем, что британское
правление вошло в противоречие с естественным и божественным
законами. 17 марта 1918 г. ректор ирландского колледжа в Риме
заявлял, что «несправедливость не меняет своей сущности, если
она признана законной. Нелегальное сопротивление... становится
естественной защитой от аморальных законов, и католики
Ирландии правы, не признавая порядка, который их заставляли
терпеть насильно» 2в.
Развитие ирландской национально-освободительной револю-
178
дни сопровождалось нарастанием классовой борьбы трудящихся.
Стачки и массовые выступления сельскохозяйственного и
промышленного пролетариата, опровергавшие националистическую
проповедь о бесклассовой и религиозной природе «ирландской
яшзни», заставляли духовенство поступаться политическими
принципами и в целях защиты частной собственности просить
заступничества у колонизаторов. В случае экспроприации земли
ц скота священники обращались с жалобами в английский
парламент ".
В годы англо-ирландской войны 1919—1921 гг. в основном
сложился союз католического клира с правыми шинфейнерами.
Церковь одобрила заключение договора 1921 г., согласно
которому 6 графств северо-востока остались в составе Соединенного
Королевства. Республиканцев, выступивших за продолжение ре-
иолюции, епископы обвинили в «бесцельном истреблении
национальных сил», лишив их тем самым поддержки значительной
части населения2в.
Развитие революционных событий на юге и западе страны в
1919—1920 гг. побудило британские правящие круги принять
меры для упрочения своей власти в Ольстере. В 9 графствах
провинции с населением 1582 тыс. чел. католики составляли
691 тыс.29. Сохранение в режиме Унии лишь шести из них
сделало протестантское большинство более устойчивым и сократило
долю католиков до 7з. Буржуазно-демократические
преобразования в этой части страны проведены не были. Пришедшая к
власти в Северной Ирландии Юнионистская партия возродила
кодекс дискриминационных законов в отношении католического
населения. Поддерживая состояние «психологической войны»,
юнионисты провоцировали погромы в католических гетто.
Политической доминанте Юнионистской партии способствовали
активная деятельность протестантских церквей и Оранжистского орде-
па, насаждавшего национальную вражду и религиозную
нетерпимость в рабочей среде.
Религиозная идеология оказывала значительное влияние на
социальное поведение трудящихся в обеих частях острова. На
большей части территории страны, получившей в 1921 г. статус
доминиона (с 1949 г.—Ирландская Республика), католическая
церковь добилась значительных привилегий, активно
вмешивалась в политическую жизнь, осуществляла полный контроль за
школьным образованием. Церковная пропаганда велась в это
время преимущественно с антикоммунистических позиций.
Церковная иерархия оказывала влияние на политику
ирландских правительств как неокомпрадорской, так и национально-
буржуазной ориентации. Священники стремились воплотить в
жизнь решения ирландского католического конгресса 1932 г.,
объявившего курс на усиление роли церкви и религии в жизни
общества и создание «католической нации»30. Вследствие
компромисса национально-буржуазного правительства Э. де Валеры
с епископатом и прямого давления церковников, католическая
179
социальная доктрина была отражена в ирландской конституции
1937 г., в преамбуле которой особо оговаривались обязательства
«ирландского народа перед господом богом нашим Иисусом
Христом» 3|. Де Валера, в свою очередь, в 1939 г. публично признал
Ирландию «идеальной католической страной» 32.
Статья 41 ирландской конституции отражала католический
постулат о взаимосвязи семьи и религии и гарантировала защиту
государством семьи «... как необходимой основы социального
порядка, незаменимой для благосостояния нации и государства»,
чем, в частности, мотивировался запрет разводов. Статья 44 о
привилегированном положении «святой католической
апостольской римской церкви как хранительницы религии, исповедуемой
значительным большинством» граждан государства33, служила
основанием церковной цензуры во всех сферах жизни общества
(это положение конституции было отменено национальным
референдумом лишь в декабре 1972 г.).
Национально-религиозный раскол общества на Севере страны
оказал пагубное воздействие на развитие ирландского рабочего
движения. Кроме профсоюзов, объединяющих отраслевые отряды
рабочего класса только на территории Ирландии, на острове
(главным образом на Севере) действовали «амальгамированные»
общебританские профобъединения, местные отделения которых
одновременно входят в состав Ирландского конгресса
тред-юнионов. Основанный в 1894 г. как общенациональный профцентр
ИКТЮ вследствие разногласий среди его членов и в целях
сохранения организационного единства занимал, как правило,
нейтральную позицию в вопросах политического устройства и
национального будущего Ирландии. После 1921 г. конгресс
продолжал деятельность в обоих государственных образованиях. В конце
второй мировой войны в ИКТЮ произошел раскол (1945 г.),
вызванный действиями националистических элементов в профсоюзах
южной части острова34. Выделение «чисто ирландских» союзов
на практике вело к появлению католических синдикатов.
Демарши национал-оппортунистов на Юге сопровождались попытками
ряда лейбористских деятелей Северной Ирландии
переформировать профсоюзные организации по признаку конфессиональной
принадлежности. Воссоединение конгресса было достигнуто в
1959 г. благодаря усилиям передовых профсоюзных активистов
и при содействии коммунистов Северной Ирландии.
Социально-политический кризис, поразивший Ольстер в конце
60-х годов, поставил под угрозу дальнейшее существование
юнионистского режима, проводившего политику изощренной
дискриминации, социальной демагогии и полицейского террора. В
поддержку программы равных гражданских прав для всего населения,
выдвинутой в 1966 г., развернулось массовое нерелигиозное
буржуазно-демократическое движение. Попытки протестантской
верхушки Ольстера объявить его «бунтом католиков» и подавить
с помощью полицейских мер потерпели провал. Даже английские
консервативные круги были вынуждены признать религию в Оль-
180
стере орудием политики. В августе—сентябре 1969 г. в городских
католических гетто существовали «освобожденные районы»,
жители которых решительно высказались за демократизацию
политической шизни и восстановление национального единства
страны. Полицейский режим был вынужден прибегнуть к
помощи британских войск для подавления движения и преследования
республиканских организаций. В 1972 г. Лондон взял на себя
полномочия по управлению провинцией.
Волна религиозного фанатизма, разжигаемого юнионистскими
политиками и Оранжистским орденом, способствовала появлению
многочисленных протестантских полувоенных формирований
(фридомфайтеров), занимавшихся погромами в католических
кварталах. На правом фланге юнионизма в 50-х годах
выдвинулся священник Ян Пейсли, модератор Свободной пресвитерианской
церкви. В 1971 г. он возглавил Демократическую юнионистскую
партию (ДЮП), ставшую центром притяжения полуфашистских
элементов. Религиозной риторике отводится важное место в
пропаганде Пейсли. Протестантизм «вообще», без различия оттенков,
провозглашен идеологической основой «ольстерского общества».
Показательна эволюция программы ДЮП — от лозунга полной
интеграции Северной Ирландии с Великобританией до проектов
выделения в самостоятельную государственную единицу
теократического характера. Получивший на выборах 1979 г. в
Европейский парламент 170,5 тыс. голосов, Пейсли призвал к массовым
репрессиям против католиков и объявил себя «непревзойденным
лидером протестантского народа Северной Ирландии». Отвергая
проекты разделения власти с католическим меньшинством Шести
графств и перекладывая вину за кризисную обстановку в
провинции па ультралевые экстремистские организации, Пейсли
призывал перекрыть территорию страны военным кордоном вдоль гра-
пиц с Ирландской Республикой 3\
Особую ненависть юнионистских ультра вызывают левые
деятели нерелигиозных партий из числа протестантов. В июне
1980 г. террористы из легальной Ассоциации обороны Ольстера
расправились с республиканцем Дж. Тернли — муниципальным
советником протестантского города Лейрн, возглавлявшим с
1978 г. Партию ирландской независимости 36.
Ввиду специфики политических условий Шести графств
экуменическое движение слабо затронуло церковные организации
Ирландии. Часть пресвитерианских священников заняла
экстремистские антикатолические позиции и поддерживала тактику
ультраправых юнионистов. Англиканские священники
придерживались, как правило, более умеренной линии. Во-первых, около
ли приверженцев англиканской церкви Ирландии проживает на
территории Ирландской Республики, и разжигание религиозного
•фанатизма могло отразиться на их положении; во-вторых,
участвуя в англиканском содружестве и Ламбетских конференциях,
эта церковь вынуждена прислушиваться к тенденции диалога
англиканских церквей с католической. Отвергающие насилие про-
181
тестантские секты (квакеры, унитарии) малочисленны и не
пользуются заметным влиянием.
Волна насилия, развязанного оранжистами в конце 60-х годов,
вызвала ответную реакцию. На рубеже 70-х годов из военной
организации республиканской партии Шин фейн выделилась
ультралевая террористическая группировка — «временная» ИРА ".
Взяв на вооружение лозунги христианского социализма и
выступая с воинствующих позиций, ИРА способствовала обострению
межобщинных отношений. Первоначально многие католические
священники и даже епископы поддерживали партизанскую
деятельность ИРА, объявив «все ненасильственные способы борьбы
уже испробованными» и обосновывая с точки зрения теологии
возможности «священной войны» католиков. Действия
ультралевых препятствовали политическому урегулированию кризиса и
служили поводом для репрессий против демократического
движения. Лишь после компромиссного Саннингдейлского соглашения
1973 г. между правительствами Ирландии и Великобритании
католическая церковь по настоянию правительства Ирландской
Республики осудила эскалацию насилия, хотя отдельные ее
представители продолжали тайно поддерживать «городских
партизан» 38.
Затяжной характер кризиса обусловил дальнейшие изменения
в настроениях ирландского духовенства. В конце 1977 г. лидеры
четырех основных церковпых организаций Ирландии —
англиканской, пресвитерианской, методистской и католической — в
совместном заявлении осудили пытки и интернирование,
применявшиеся британскими оккупационными властями 39.
Североирландская проблема обсуждалась на Европейской
экуменической конференции 10—13 апреля 1978 г. в Шантильи
(под Парижем), собравшей представителей католической,
протестантских и православных церквей. Участники совещания не
предложили приемлемого пути преодоления кризиса в Северной
Ирландии, однако конференция предложила каждой из церквей
в отдельности опубликовать воззвание за мир и разоружение и
конкретными действиями способствовать урегулированию
различных конфликтных ситуаций40.
Под влиянием демократического движения отдельные
представители ирландских церквей выступали с инициативами начать
конструктивные переговоры различных политических сил с целью-
урегулирования проблемы Ольстера. Англиканский священник из
Белфаста Э. Эллиот, призывая церковные организации покончить
с практикой религиозной розни и признать свою долю
ответственности за раскол общества, подчеркивал, что «нечестно и
необъективно отрицать сектантский подход различных церквей к
северному конфликту»41. Один из лидеров пресвитерианской
церкви, А. Вейр, предупреждал о неизбежном выходе паствы из-
под влияния церквей, так как их деятельность «не способствует
разрешению проблем общества, Севера и Юга... поскольку сами
они могут рассматриваться как часть этой проблемы» *2.
182
Систематические нарушения британскими властями прав
человека в Северной Ирландии вызвали массовую кампанию
протеста демократической общественности. Некоторые из
протестантских деятелей также выступили с критикой карательных
операций армии и полиции. В 1978 г. протест против варварского
обращения с заключенными печально известных Эйч-блоков
тюрьмы Мэйз направило лейбористскому госсекретарю по делам
Северной Ирландии руководство пресвитериан 43.
Представители реакционных кругов, в свою очередь,
дискутировали вопрос об объединении англиканской, пресвитерианской и
методистской церквей в противовес католической. Были
существенно расширены полномочия уже существующего
консультативного органа — Ирландского совета церквей.
Ольстерский конфликт находится в поле зрения римской
курии. Во время своего визита в Ирландию 29 сентября — 1
октября 1079 г. папа Иоанн Павел II признал ирландский вопрос
важной проблемой международного характера, хотя, как справедливо
отмечают ирландские коммунисты, осуждение насилия, данное им
в общей форме, «не подразумевало обвинений против британской
армии — главного виновника произвола» 44.
Руководство ирландской католической церкви было вынуждено
занять более определенную позицию. Примас Ирландии кардинал
Томас О Фиэх и созданная духовенством Комиссия за
справедливость и мир неоднократно констатировали «грубое нарушение»
прав человека в ольстерских тюрьмах, заявляли протесты
британскому правительству, обращались с призывами облегчить
положение политических заключенных, однако их действия носили
скорее демонстративный характер и не были приняты во
внимание ".
В начале 80-х годов североирландский кризис вступил в
новую фазу, отмеченную дальнейшим усилением межобщинной
напряженности и обострением национальных отношений.
Голодовка протеста узников ольстерской тюрьмы Мэйз — членов ИРА
в 1981 г. всколыхнула страну и привлекла внимание мировой
общественности. Находившееся у власти в Англии с 1979 г.
консервативное правительство ответило усиленвем репрессий против
участников республиканского движения, одновременно делая
попытки придать оккупационному режиму в Ольстере видимость
законности. С этой целью в октябре 1982 г. были проведены
выборы в Североирландскую ассамблею с консультативными
полномочиями. Однако в результате бойкота заседаний ассамблеи
партиями, представляющими католическое население, и
непрекращающейся грызни между юнионистскими группировками, широко
разрекламированное «восстановление демократии» в Северной
Ирландии обернулось политическим фарсом на фоне
усилившегося влияния в обеих общинах экстремистских группировок.
В 1981—1983 гг. партия «временный» Шин фейн, считающаяся
политическим крылом ИРА, значительно активизировала
деятельность в обеих частях страны. Программа Шин фейна, принятая
183
в ноябре 1983 г. и выдержанная в духе мелкобуржуазного
социализма ультралевого толка, содержала резкую критику
политической системы Ирландской Республики 46.
В определенном смысле католическая церковь увидела в
шинфейнерах своих главных соперников в борьбе за влияние на
верующих — городскую и сельскую мелкую буржуазию Юга,
трудящихся городов Ольстера, что объясняет преобладание
реакционных социально-классовых мотивов в отношении высших
церковных сановников к ольстерской проблеме в первой половине
80-х годов. Епископы обращались к руководству протестантских
церквей, предлагая координировать поиск путей к ослаблению-
межобщинной напряженности и воспрепятствовать дальнейшему
усилению леворадикальных организаций. Епископ Лимерика
Дж. Ньюмен вскоре после голодовки протеста избранного в
британский парламент и впоследствии погибшего в тюрьме
политзаключенного-республиканца Р. Сэндса выступил с заявлением в
защиту католических принципов общественной жизни Ирландии:
и предостерег против попыток подрыва существующего
«социального устройства государства в результате вмешательства сил из-
за границы», имея в виду республиканцев Ольстера47. Епископ
Лонгфорда К. Дэйли возложил значительную долю
ответственности за анархию и насилие в Ольстере на католиков и призвал
церковь вмешаться в конфликт с целью защиты протестантской:
общины от террористических актов ИРА *".
На фоне справедливой критики ультралевого террора
отчетливо просматривается главная цель католической пропаганды,,
направленной на сохранение социального и политического статус-
кво, хотя она и завуалирована фразеологией христианского
пацифизма. Удовлетворение гражданских прав североирландских
католиков, с точки зрения консервативного католического
руководства, открыло бы путь к деполитиэации общества, изоляции
«дьявольских и аморальных» Шин фейна и ИРА. Во имя
защиты капиталистических порядков церковь фактически одобрила
раздел страны и сохранение Северной Ирландии под властью
Великобритании, выступая лишь за смягчение оккупационного-
режима.
В деятельности ирландской католической церкви в 70—80-х
годах, достаточно отчетливо просматриваются две основные
тенденции. Официальная линия, проводимая ее руководством,
отражает основные аспекты политики Ватикана и препятствует
демократизации общественных отношений и политической системы
ирландского общества. В формировании позиции епископата
важная роль принадлежит папским нунциям.
Участие церковнослужителей в общедемократических
кампаниях отражает влияние настроений народных масс, рядовых
верующих на низшее и среднее звенья духовенства. Католики
играли заметную роль в движениях против войны США во
Вьетнаме, в защиту нейтралитета Ирландии, против размещения на
территории страны ядерного оружия. Христианские отделения
184
действуют в рамках антивоенных движений в обеих частях
страны. В крупнейшей организации сторонников мира — Ирландской
кампании за ядерное разоружение — активную роль играет
массовая ассоциация католиков-мирян «Паке-Кристи».
Проявляя незаурядное гражданское мужество, многие
священники северо-восточных графств выступают с разоблачениями
преступлений армии и полиции, произвола британских властей,
высказываются в пользу глубоких преобразований в сеиероирланц-
ском обществе. Но в тех случаях, когда представители клира
решаются на публичное выражение несогласия с линией церковного
руководства, их ждет отстранение от пастырских обязанностей
или, в лучшем случае, строгая эпитимья и перевод на новое
место. Вследствие бурной реакции общественности на решения
епископата лишить сана белфастского свяшенника Д. Вильсона
и отозвать из прихода в графстве Даун П. Бакли эти инциденты
получили широкую огласку. Д. Вильсон поплатился за то, что
выступал против запрета церкви посылать детей в
государственные, а не в сегрегированные католические школы и проявлял
терпимость к смешанным бракам. П. Бакли, пользовавшийся
репутацией сторонника церковного обновления, вступил в полемику
с консервативно настроенными епископами и был наказан после
публикации открытого письма в газете «Айриш ньюс»,
призывавшего священнослужителей «мужественно трудиться во имя
справедливости в нашем обществе» 49.
Ухудшение экономических условий и сьертывание
промышленного производства в первой половине 80-х годов болезненно
отразились на положении широких слоев трудящихся в обеих
частях Ирландии. В стране, прочно занявшей первое место в
Западной Европе по уровню безработицы и обладающей худшими
жилищными условиями, церковь не могла игнорировать вопросы
социального характера. Вопреки политике основных буржуазных
партий Ирландской Республики католическая церковная
комиссия по социальному благосостоянию высказалась за расширение
материальной помощи малоимущим. В то же время различные
церковные организации проявили редкое единодушие в прогнозе
относительно дальнейшего снижения жизненных стандартов как
неизбежного и необратимого. Осенью 1986 г. католическая
Национальная конференция священников и межконфессиональная
Конференция главных религиозных старшин опубликовали
совместный доклад под названием «Наши перспективы, рабочие
места и безработица: христианский ответ», выдержанный в
пессимистических тонах. «Политики и экономисты,— говорится в
докладе,— должны прекратить заявлять, что они способны
восстановить полную занятость. Все больше людей видит в этих
обещаниях утопические проекты, если не преднамеренный
обман» 50.
Углубление социальных противоречий побуждает служителей
культа более чутко относиться к настроениям верующих.
Состоявшаяся накануне парламентских выборов 1987 г. в Ирланд-
185
ской Республике конференция бывших настоятелей
рекомендовала избирателям поддержать кандидатов, программа которых
содержала конкретные обязательства по улучшению системы
социального обеспечения и расширению прав органов местного
самоуправления 51.
Заметным событием в жизни Ирландии 80-х годов стал
конфликт между дублинским правительством и католическим
епископатом, сопровождавшийся открытым вмешательством церкви в
политическую борьбу. Коалиционный кабинет Г. Фитцджеральда
с участием правоконсервативной Фине гэл и ирландской
лейбористской партий, находившийся у власти в июле 1981 — марте
1982 и декабре 1982 —феврале 1987 гг., предпринял попытку
несколько ограничить роль церкви в обществе и провести ряд
реформ с целью унификации гражданского права с
законодательными нормами стран Европейского экономического сообщества.
Правительство Фитцджеральда также зондировало почву
относительно политического компромисса с правительством
Великобритании по проблеме Ольстера, проявляя готовность признать
права Лондона в отношении Северной Ирландии и изменить статьи
национальной конституции, провозглашающие суверенитет
республики над всей территорией острова.
Церковникам удалось провалить все планировавшиеся
реформы в области гражданского права. Попытки правительства
легализовать право граждан на развод привели к открытому
столкновению с католической верхушкой. В 1983 г. в конституции был
закреплен запрет на аборты — за его нарушение женщина может
быть приговорена к пожизненному тюремному заключению.
В июне 1986 г. в ходе референдума церковь добилась
подтверждения конституционного запрета на разводы, несмотря на то что
70 тыс. из 800 тыс. ирландских семей считаются фактически
распавшимися.
В условиях обострения политической борьбы католические
епископы вновь прибегли к псевдопатриотической риторике,
подвергая критике уступки правительства в переговорах с Англией.
В июле 1985 г. кардинал О'Фиэх потребовал немедленного ухода
Британии с ирландской земли и обрушился с нападками на
«протестантов, угнетающих ольстерских католиков»,
продемонстрировав характерный пример сектантского мышления52.
Демарши католической церкви и угрозы протестантских
деятелей Ольстера не были приняты во внимание правительствами
Великобритании и Ирландской Республики. Убедившись в
невозможности традиционными военно-полицейскими мерами подавить
подпольное экстремистское движение республиканцев и
контролировать деятельность протестантских военизированных
формирований, британское правительство пересмотрело свою прежнюю
политическую концепцию. Руководство консервативной партии
все больше проявляло склонность рассматривать ирландскую
проблему в контексте западноевропейской интеграции, считая, что
сближение с ирландской национальной буржуазией позволит уси-
186
лить влияние британского монополистического капитала на
политику и экономику всей страны. Длительные англо-ирландские
переговоры и консультации завершились 15 ноября 1985 г.
подписанием премьер-министром М. Тэтчер и Г. Фитцджеральдом
соглашения по проблеме Ольстера.
Британская сторона, по существу, впервые официально
признала политическую (а не религиозно-общинную) природу
конфликта в Северной Ирландии. В документе подчеркнута
заинтересованность обеих сторон и прежде всего населения провинции в
«ослаблении межобщинной розни, достижении прочного мира и
стабильности» и выражена готовность «признать права двух
важных традиций в Ирландии, представленных, с одной стороны,
теми, кто не хочет изменения нынешнего статуса Северной
Ирландии, а с другой стороны — теми, кто стремится к созданию
суверенной объединенной Ирландии на основе использования мирных
средств и согласия». Авторы соглашения выразили убеждение,
что создание общества, свободного от дискриминации и
нетерпимости, возможно лишь в условиях «искреннего примирения и
диалога между юнионистами и националистами» 53.
Протестантские партии объявили о бойкоте английского
правительства и парламента и попытались добиться отмены
соглашения, закрепившего за правительством Ирландской Республики
совещательную роль в решении экономических и социальных
проблем Северной Ирландии. Марши протестантских боевиков,
юнионистские парады и локауты на предприятиях, принадлежащих
сторонникам ультраправых партий, сопровождались погромами в
католических кварталах и стычками с полицией. Однако даже
симпатизировавшие юнионистам обозреватели были вынуждены
признать «нежелание более широких протестантов, включая
профсоюзы, поддержать действия, которые могли бы стоить людям
рабочих мест и привести к столкновению с полицией и
налоговыми органами» 54. В то же время английское правительство,
опасаясь вызвать озлобление умеренных юнионистов, как
правило, избегало решительных мер по пресечению провокаций
ультраправых банд и не спешило с выполнением условий,
предусматривавших искоренение дискриминации католической общины.
В обстановке хаоса и разгула насилия, захлестнувшего
Северную Ирландию после подписания англо-ирландского соглашения,
заметно активизировалось участие церквей в политической борьбе.
Конференция католических епископов, с оглядкой на позицию
наиболее влиятельной среди католиков Ольстера
Социал-демократической лейбористской партии, призвала молиться за успех
•соглашения. Пресвитерианская и англиканская церкви
поддержали бойкот англо-ирландского соглашения юнионистскими
партиями и призвали к его отмене, хотя и высказались за
установление мира в межобщинных отношениях. Методисты заняли
уклончивую позицию, считая, что соглашению нужно дать шанс и что
оно в принципе может привести к определенным позитивным
переменам ".
187
Из протестантских группировок наибольшим влиянием
пользуется Официальная юнионистская партия, поддерживающая
тесные связи с англиканским духовенством. Среди ее активистов
немало священников, пропагандирующих политическую
философию в духе теории «протестантского господина» XVII—XVIII вв.
Депутат британского парламента священник М. Смит еще в
сентябре 1985 г. первым из официальных юнионистских политиков-
объявил о возможном вооруженном мятеже против английского-
правительства, если оно осмелится посягнуть на привилегии
протестантской верхушки 5в.
Убедившись, что британское правительство не намерено
отступать, а затянувшийся кризис во взаимоотношениях
протестантских партий с официальным Лондоном ведет к сужению их
массовой базы, примас англиканской церкви в Ирландии
архиепископ Роберт Имс летом 1987 г. выступил с «церковной
инициативой», способствуя возобновлению диалога лидеров
основных протестантских партий с правительством М. Тэтчер и
помогая юнионистам «найти выход из политического тупика».
Церковь, в частности, предложила заменить или дополнить
соглашение 1985 г. новым документом, составленным с учетом
требований протестантских группировок ".
Более умеренной и конструктивной представляется позиция
методистской церкви, поддержавшей призыв прогрессивных сил
к прекращению сектантской вражды. Методистский синод,
заседавший в Белфасте 9 сентября 1986 г., осудил практику
запугиваний и убийств, определив деятельность ИРА и протестантских
военизированных группировок как «главную опасность
индивидуальной совести, процессу демократии и стремлению создать
справедливое и мирное общество». Церковь приветствовала
действия профсоюзного движения, направленные на преодоление
раскола трудящихся, и призвала к возобновлению работы
административных органов, приостановленной вследствие разгула
насилия юнионистов. Между тем методистские конгрегации
графства Антрим приняли особую резолюцию, отмечавшую, что
возобновление диалога между юнионистскими политиками и
английским правительством «ослабит межобщинные противоречия и в
конечном счете явится более убедительной платформой для тех,
кто выступает против англо-ирландского соглашения» ".
Следует отметить, что англо-ирландское соглашение 1985 г.
не оправдало надежд католиков Ольстера на улучшение их
экономического и общественного статуса. Среди представителей этой
общины уровень безработицы вдвое выше, чем среди
протестантов, и к 1986 г. достиг 38—40% среди мужчин и 18—19% среди
женщин59. Учрежденное в 1976 г. Агентство по справедливому
найму на работу так и не получило обещанных ему
экстраординарных прав и способно регулировать распределение рабочих
мест лишь на вновь создаваемых предприятиях, что случается
крайне редко.
Выступая на пресс-конференции в Дублине в феврале 1987 г.,
188
представители католических общин городов Северной Ирландии,
священники и депутаты муниципальных советов отмечали
многочисленные факты репрессий и притеснений со стороны
британских «сил безопасности». В 1986 г. жертвами угроз ольстерской
полиции и протестантских банд стали более 1 тыс. семей,
вынужденных покинуть свои дома. В свою очередь, католическая
иерархия, критикуя правительства республики за недостаточную
твердость в переговорах с Великобританией, пыталась представить
церковь главным защитником интересов верующих. Учитывая
значительное сокращение численности прихожан в северных
епархиях, кардинал О'Фиэх стал чаще обращаться к политической
тематике, отмечая бедственное положение католиков, которые
ввиду явного нежелания Лондона ликвидировать действующую в
Ольстере репрессивную систему, чувствуют себя преданными
дублинским правительствомв0.
На Севере и на Юге, в обеих частях Ирландии, религиозный
фактор и поныне продолжает оказывать существепное влияние
на политические процессы и сохраняет относительно
самостоятельную роль в общественной жизни. В Северной Ирландии
вопросы этноконфессионального характера составляют основу
идеологии ведущих буржуазных партий и группировок. Это
находит выражение в сознательно искаженных оценках важнейших
политических и социальных проблем, закрепляет в общественном
сознании населения приоритет религиозно-общинной
принадлежности по сравнению с классовой и национальной, препятствует
деятельности левых сил и массовых нерелигиозных движений.
Манипулируя религиозными лозунгами, националистические и
церковные круги эффективно препятствуют социально-классовой
дифференциации внутри политической системы.
«За редкими исключениями,— отмечает обозреватель газеты
„Файнэншл тайме" X. Карнеги,— проблемы, по которым могли бы
столкнуться левые и правые, социалисты и консерваторы,
подчинены основному противоречию в провинции: между юнионистами,
в основном представителями протестантского большинства
населения, которые хотят, чтобы Северная Ирландия оставалась
частью Соединенного Королевства, и националистами, главным
образом принадлежащими к католическому меньшинству и
стремящимися к объединению с Ирландской Республикой» в|.
Десятилетия кризиса и межобщинной вражды не принесли
выгод ни одной группе трудящихся. В результате
экономического спада работу потеряли многие протестанты, ранее
пользовавшиеся привилегиями при найме и оплате труда. Безработица
достигла уровня 23%, увеличилась эмиграция. В условиях разгула
насилия и террора значительно активизировалась деятельность
профсоюзного движения. Преодолев внутренние разногласияг
Североирландский комитет ИКТЮ в 1986 г. положил начало
массовому движению трудящихся против шантажа и угроз
экстремистов, за мир, работу и прогресс для всего населения
ольстерских графств. Генсовет Британского конгресса тред-юнионов.
189
принял решение оказывать всестороннюю помощь
североирландскому профцентру.
Общественная жизнь Северной Ирландии до сих пор
продолжает сохранять конфессиональную оболочку. Способствующая
этому политика администрации и протестантских юнионистских
партий подвергается резкой критике со стороны прогрессивных
организаций и свободомыслящих общественных деятелей. Как
отмечает Генеральный секретарь Компартии Ирландии Дж. Стюарт,
демократическим силам пока еще не удалось преодолеть
«многолетние попытки религиозной пропаганды свести
социально-экономические и политические противоречия, существующие в
нашей стране, к конфликту между католиками и протестантами.
Успех борьбы за гражданские права, за социальный и
экономический прогресс для всего... населения Северной Ирландии в
значительной степени зависит от того, как скоро и насколько
эффективно мы сумеем разрушить искусственно созданный религиозный
водораздел» в2.
1 Akenson D. The Church of Ireland: Ecclesiastical Reform and
Revolution, 1800-1885. New Haven; L., 1971; Bell P. Disestablishment in Ireland and
Wales. L., 1967; Bradshaw B. The Dissolution of the Religious Orders in
Ireland under Henry VIII. L., 1974; Watt J. The Church and the Two Nations
in Medieval Ireland. Cambridge, 1970.
2 Barritt D. P., Carter С F. The Northern Ireland Problem. Oxford, 1962;
Bogdanor V. Devolution. Oxford, 1979; Boyce D. Englishmen and Irish
Troubles. L., 1972.
3 Boyd A. Holy War in Belfast. Tralee, 1970; Fenning H. The undoing of
the friars of Ireland. Louvain, 1972; McDowell R. B. The Church of Ireland,
1869-1969. L., Boston, 1975; Miller D. Church, State and Nation in Ireland,
1898-1921. Dublin, 1973; The Changing Face of Catholic Ireland. Ed. by
D. Fenncll. L., 1968.
4 A History of Irish Catholicism. Ed. by P. Corish. Dublin, 1967;
Edwards R. D. A new History of Ireland. Dublin, L., 1972; Martin F. The
Evolution of a Myth.- Nationalism. Canberra, 1973, с 56-80; McCartney D. Gaelic
Ideological Origins of 1916.-1916: The Easter Rising. Worcester, L., 1968,
с 41-49.
5 Connolly J. Labour, Nationalism and Religion. Dublin, 1962 (first publ.
1910).
e Greaves D. The Irish Crisis. L., 1972; Джексон Т. А. Борьба Ирландии
за независимость. M., 1949; Де Пеа Л. Расколотый Ольстер. М., 1974; Мор-
рисси М. К освобождению - через единство.- Проблемы мира и социализма.
1985. № 1, с. 70-73; О'Риордан М. Классовая борьба и национальный вопрос.
М., 1983.
7 Колпаков А. Д. Ирландия - остров мятежный. М., 1965; он же.
Ирландия на пути к революции. 1900-1918 гг. М., 1976; Орлова M. Е. Ольстерский
кризис и истоки раскола североирландских трудящихся.- Положение и
борьба британского рабочего класса. М., 1974, с. 288-334.
8 См.: Мортон А. История Англии. М., 1950, с. 42-44; The Cource of
Irish History Cork. 1967, с 73.
D Watt J. The Church and the Two Nations in Medieval Ireland. Cambridge,
1970 с 5-8; Gleeson D., Gwynn A. The History of the Diocese of Killaloe.
Dublin. 1962, с 90-127.
10 Watt J. Op. cit., с. 2.
11 Otway-Ruthven A. A History of Medieval Ireland. L., 1968, с 121-122.
12 Акт о супрематии, провозгласившей английского монарха главой
церкви, был принят в Англии в 1534 г., в Ирландии - в 1537 г. Church of
England («Церковь Англии») - официальное название англиканской церкви
190
на территории Англии. Значительная часть католических епископов
перешла в новую церковь, принеся присягу королю.
13 Маркс К. Набросок доклада по ирландскому вопросу... 16 декабря
1867 г.- Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 16, с. 469.
14 Curtis E. A History of Ireland. L., 1950, с. 310.
15 MacArdle D. The Irish Republic. L., 1938. с 35-36; Де Пеа Л.
Расколотый Ольстер. М., 1974, с. 37.
16 Конноли Дж. Рабочий класс в истории Ирландии. М., 1969, с. 85-86.
17 Mitchell Л The History of Ireland from the Treaty of Limerick to the
Present Time. Dublin; L., 1869, Vol. II, с 328.
18 Unity. 29.09.1979, с 9.
19 Lyons F. Ireland Since the Famine. Glasgow, 1973, с 129, 130.
20 Leslie S. Henry Edward Manning. L., 1921, с 403.
21 Lyons F. Culture and Anarchy in Ireland, 1890-1939. Oxford, 1979,
с 96.
22 Irish Historical Documents 1172-1922. EM. by E. Curtis and R.
McDowell. L., 1943, с 304. Ковенант - общественный договор, торжественная
клятва религиозно-политического характера. Шотландские ковепанты 1557-
1643 гг. ставили целью защиту интересов пресвитерианской церкви.
Ковенант 1912 г. преследовал задачу чисто политическую - организовать в
Ольстере кампанию в поддержку политики британского колониализма. Документ
собрал 471,5 тыс. подписей. См.: Полякова Е. Ю. Ольстер: истоки
трагедии. М., 1982, с. 70-72.
23 Good J. W. Olster and Ireland. Dublin, L., 1919, с 219.
24 Whyte J. H. 1916 - Revolution and Religion,— Leaders and Men of the
Easter Rising: Dublin 1916. L., 1967, с 219.
25 Там же, с. 223, 225.
26 Lyons F. Culture and Anarchy in Ireland, c. 101.
27 Parliamentary Debates. House of Commons. 5th series, Vol. 128, cob
959-960.
28 Lyons F. Ireland Since the Famine, с 465.
29 Gwynn D. The History of Partition (1912-1925). Dublin, 1950, с 122.
30 Holland M. A Holy Roman Ireland.- New Statesman. 31.08.1979, с 295.
31 Конституции буржуазных государств Европы. M., 1957, с. 415.
32 O'Brien С. С. States of Ireland. Bungay, 1974, с. 116.
33 Конституции буржуазных государств Европы, с. 451.
34 Орлова М. Е. Ирландия в поисках путей независимого развития. 1945—
1948. М., 1973, с. 104-106.
35 Morning Star. 13.06.1979, 25.06.1980.
зв Morning Star. 06, 25.06.1980.
37 «Временная» ИРА - террористическая группировка, в 1970 г.
отделившаяся от Ирландской республиканской армии - военной организации
национального движения, прекратившей вооруженную деятельность в
конце 70-х годов. Действия ИРА используются властями в качестве повода для
репрессий против католического населения, усугубляют раскол
североирландского рабочего класса и препятствуют политическому урегулированию
проблемы. См.: Зимулина Л. А. Ирландская республиканская армия.-
Вопросы истории, 1973, № 8, с. 130-141; White В. From Conflict to Violence. -
Northern Ireland: The Background to the Conflict. Belfast, N. Y., с 186-196.
38 Unity. 12.04.1980, с 9; Вейш Я. Религия и церковь в Англии. М., 1976,.
с. 114-115.
39 Unity. 10.07.1977, с. 6.
40 The Irish Times. 11.04.1978, 14.04.1978.
41 The Irish Times. 24.04.1976.
42 The Irish Times. 31.05.1978.
43 The Irish Times. 10.06.1978.
44 Irish Socialist. October 1979.
45 The Guardian. 02.08.1978; Morning Star. 21.04 27.06, 14.07.1981.
48 Unity. 19.09.1983, с 6-7.
47 Irish Independent. 01-2.01.1982.
; 48 Irish Independent. 14.05.1982.
49 Unity. 26.10.1985, с. 3: Чепоров Э. А. Ольстер: время остановилось? M
1985, с. 50.
Unity. 01.11.1986, с. 6.
За рубежом. 1987, № 7, с. 13.
52 Irish Socialist, August 1985.
53 Agreement between the Government of the United Kingdom of Great
i d Nth Ild d th Gt f th Rbli f Ild
ngdo
ublic
g g eat
Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Ireland.
November 1985.-The Times. 20.11Л985.
54 Financial Times. 28.01.1986.
55 Hard Life.- Unity. 30.11.1985, с 2.
58 Unity. 07.09.1985, с 2.
57 Straws in the wind from Ireland.- The Times. 29.06.1987; Hunt J.
Ulster devolution talks «mildly encouraging». - Financial Times. 12.08.1987.
58 Unity. 13.09.1986, с 1, 4.
59 Fortnight. 16.12.1985, 10.02.1986.
eo The Irish Times. 09.10.1987.
61 Financial Times. 30.10.1986.
62 Стюарт Дж. Опасные симптомы.- Проблемы мира и социализма. 1978.
№ 6, с. 9.
Г. В. Зубко
ОБРАЗ ЗМЕЯ
В МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ФУЛЬБЕ
Систематическое изучение фульбе, одного из
западноафриканских народов, началось более 100 лет назад. Можно с
уверенностью сказать, что современным африканистам фульбе известны
достаточно хорошо. Однако существующие исследования в
большинстве своем посвящены оседлым фульбе-мусульманам, которые
первыми попали в поле зрения ученых. В последние годы
внимание исследователей все больше привлекают фульбе-кочевники,
в значительной степени сохранившие древнейшие, языческие,
обычаи и верования. Именно номады оказываются наиболее
близки к культурному (и антропологическому) типу первых фульбе,
которые в давние времена появились со своими стадами коров в
саваннах Западной Африки *.
Наименее изученную область культуры фульбе представляет
собой мифология. В настоящее время пока еще не может быть
речи о систематической регистрации и последовательном
изучении текстов мифологического содержания и сегодня еще
бытующих в среде фульбе-анимистов, а имеющийся в распоряжении
ученых материал касается лишь отдельных групп этого народа.
Язычество фульбских кочевников — явление сложное,
многослойное. Оно представлено совокупностью неоднородных
элементов. В системе мифологических представлений фульбе вычле-
нимы, по крайней мере, три больших пласта. Речь идет о слое
представлений, сложившихся под влиянием мифологий соседних
народов (условно — западноафриканский слой), исламском слое
(практически все фульбе-кочевники, даже наиболее замкнутых
групп, так или иначе испытали на себе воздействие ислама) и,
наконец, самом древнем слое представлений, уводящих нас в
давнюю эпоху контактов народа-мигранта с этнокультурными
традициями совершенно иного ареала (Северо-Восточная Африка,
возможно также районы Ближнего Востока).
Фульбе разительно отличаются от своих соседей. Их главное
своеобразие во многом обусловлено скотоводческим культурным
типом, определяющим особенности всей духовной культуры
парода: мифология фульбе наполнена мотивами и реалиями
пастушеской жизни.
© Г. В. Зубко, 1990
7 Заказ M 4129
Гетерогенный характер системы мифологических
представлений фульбе состоит также в том, что они существуют в
локальных вариантах, существенно различающихся по группам фульбе.
Так, с одной стороны, мифология западных фульбе, носящая
явные «жреческие» черты, в значительной степени отличается от
имеющей место у восточных фульбе, близкой, скорее, к парод-
ному типу верований. С другой стороны, мифология западных
кочевых групп распадается на ряд отдельных традиций. Весьма
ощутимые различия отмечаются, например, в представлениях
фульбе Сенегала, где в рамках таких культурно-исторических
центров, как Фута, Дьери, Вало, Ферло, возникли и развивались
свои мифопоэтические традиции.
J3 настоящей статье речь идет преимущественно о древнейших
мифологических представлениях западных фульбе. В
последнее время сведения о мифологии фульбе Мали, Сенегала, Нигера
заметно пополнились благодаря опубликованным при содействии
знаменитого знатока устных преданий, ученого и литератора
Амаду Хампате Ба инициационным текстам2, которые и были
положены в основу данного исследования.
Высшую ступень пантеона фульбе в мифологии западных
кочевников (номадов) занимает верховное божество Гено
(«Вечный»), или Дундари. Все остальные, носящие явно
демонический характер, являются его эманациями: это — дух-карлик Ку-
мен, пастух стад Гено на земле и покровитель пастбищ; его жена
Форофоронду, «царица молока», играющая важную роль в
обрядах посвящения; «бог золота и знаний», патрон инициации Кай-
дара; многочисленные ларе — духи-покровители скота.
Особое место в ряду мифологических персонажей занимает
Питон Тяянаба. Это сложный и противоречивый образ,
теснейшим образом связанный с укладом жизни фульбе, со всеми их
скотоводческими обрядами.
В статье предпринимается попытка реконструировать
смысловую структуру образа Тяянаба, выделив наиболее древние
элементы мифологии фульбского Змея. С целью уточнения узловых
моментов мифа о Тяянаба, определяющих типологию образа,
привлечен фольклорный материал (волшебные сказки, эпические
сказания, пословицы), содержащие важные данные о
трансформациях образа на уровне функций и атрибутов. Наибольший
интерес представляют волшебные сказки, сохранившие осколки
древних мифов.
Основные черты смысловой структуры образа Змея
исследуются на основе сравнительного анализа аналогичных персонажей
соседних африканских народов. Такое сопоставление может
помочь решить вопрос о месте среди других африканских
мифологически * систем мифологии фульбе, прародину которых
исследователи ищут далеко за пределами Западной Африки 3.
В мифологических текстах Тяянаба является божеством в
образе Питона, хранителем и обладателем стад коров, которых ему
доверил Гено4. Тяянаба — мифический предок фульбе 5, «полу-
194
змей, получеловек», который привел фульбе к зеленым берегам
Нигера в.
Имеются упоминания о Тяянаба как огромном Змее с 96
чешуйками — по числу оттенков в масти коров. Согласно
представлениям фульбе-скотоводов, между ними и коровами существует
магическая связь. Для фульбе коровы — родственники. Играющая
важную роль классификация разновидностей масти коров
оказывается теснейшим образом увязанной с системой родственных
связей и основными родами 7.
Имеются многочисленные упоминания о существовавшем в
далеком прошлом культе змей, с которым были связаны
ритуальные приношения. Отголоски этого культа еще сравнительно
недавно отмечали исследователи. Так, если фульбе встречали
ползущего по дороге ужа, они должны были прыснуть на него
молоком (или водой, если молока не было под рукой) 8.
Со змеями связана целая система запретов. Само название
змеи — mboddi, являющееся самым распространенным, означает
«нечто табуированное». Каждый из видов змей является табу
для определенного рода фульбе (или семейной группы).
Например, гремучая змея (soore) — табу для рода Со, что нашло
отражение и в связи двух имен; уж — табу для рода Ба. (Ср. также
пословицу: «Тот, кто съел пищу змей, не будучи змеем,
обязательно погибнет» 9.)
Согласно легендам, у каждого рода фульбе был свой Змей-
покровитель, своего рода ардо, т. е предводитель. Одна из легенд
повествует о Змее — духе рода, который был братом предка
знаменитого Усмана дан Фодио, основателя халифата Сокото 10.
В систему табу включены не только змеи. Запреты, к
которым следует отнести прежде всего пищевые, касаются игуаны,
варана, антилопы, ламантина, некоторых видов обезьян и др.11.
Каждый род (или семейная группа) фульбе оказывается
магически связанным, с одной стороны, с определенным видом
домашних животных — преимущественно коровами, с другой — с
каким-то видом диких животных. Змеям принадлежит в этой
системе особое место: они являются не просто родственниками,
которых нельзя есть из-за услуги, оказанной одному из предков
фульбе, а самими предками. Если в первом случае следует
говорить о тотемной классификации, отражающей отношения родстваг
то во втором речь идет об отношении фульбе к змеям как
объекту родового культа. Легенды нередко повествуют о том, как Змей-
предводитель какого-либо рода, недовольный недостаточным
вниманием к нему людей, лишает их своего покровительства
(насылает беду, покидает их).
В языке фула (язык фульбе.— Г. 3.) существует много
обозначений для змей, но нет родового названия, что, видимо,
объясняется действующими механизмами табуирования имен. Все
бытующие названия, в том числе самое употребительное —
mboddi, являются эвфемизмами: например, «веревка» («веревка на
земле»), «полоска коры», «убийца на земле», «нечто ползущее»,
195 7*
«нечто глотающее» (питон). Особый интерес представляют
случаи вторичного табуирования. Так, на Фута-Topo (совр. Сенегал)
название «убийца на земле» является запретным, вместо него
употребляют другое имя — «полоска коры».
Фула знает несколько названий питона, например: ngaadaada,
ngolwa, ndaama. Все три имени относятся к классу крупных
животных МВА. В названии мифического Питона Тяянаба (Caanaba)
окончание -Ьа тоже, видимо, является указанием на
принадлежность к именному классу МВА. Название ngaadaada сопоставимо
с обозначением латерита (ngaadaare) и, возможно, имеет
отношение к понятию «красный»; ngolwa сближаемо со словом ngolwu
«лошадь рыжей масти». Не исключено, что оба названия питона
связаны с системой цветообозначений, играющей особую роль в
мифологической модели мира фульбе. Имя ndaama полисемантич-
но. Одно из его значений, возможно основное,— «символ». Все
три имени, следовательно, корреспондируют с очень важными
для мировосприятия фульбе понятиями. И наконец, можно
указать на возможную связь названия mboddi с корнями таких слов,
как «красивый», «совершенный», «красный». Эти соответствия,
по всей вероятности, не случайны. Возможно, перечисленные
слова имеют отношение к единому семиотическому комплексу,
образуемому понятиями «табуированный», «совершенный», «красный».
Имя мифологического персонажа «Тяяпаба», видимо,
этимологически связано с корнем слова языка фула «привязыпать,
стреноживать пасущихся животных» (а также, возможно, с
мотивом «запирания скота»).
Обратимся теперь к мифологическим преданиям о Тяянабе.
Наиболее полный текст такого рода приведен авторами «Куме-
на» 12.
«Когда-то Тяянаба, в те времена совсем маленький, вышел из
„соленой реки" (океан) вместе с двадцатью двумя первыми
коровами, которых ему доверил Гено. Преодолев гряду камней,
загораживающих вход в устье реки Сенегал, он поднялся по реке и,
миновав дьери и ваало 13, добрался до истоков Нигера, с водами
которого он „вступил в брак", и где, начиная от Бафулабе, он
стал называться Никинанка ".
Так как он был еще совсем мал и беззащитен, он был
усыновлен матерью и семьей Ило, сына Ялади, т. е. „Красноухого".
Тяянаба стал братом-близнецом Ило.
Число коров все увеличивалось, и в конце концов Тяянаба
поручил ими заниматься Ило, который следовал за ним повсюду,
ведя за собой стадо. Они спустились по течению Нигера.
У Тяянабы было табу. Вверив себя Ило, вместе с которым он
жил, он рассказал ему, что его не должна видеть женщина с
красными глазами, телом цвета охры и без грудей. Но однажды,
когда они остановились в Саме, Ило, который каждый день
ходил в деревню, женился на девушке, внешность которой в
точности соответствовала описанию женщины-табу Тяянабы. Он
напомнил Ило о запрете и обещании не нарушать его.
196
Три раза в день, утром и вечером, четыре калебасы
наполнялись молоком и их относили Тяянабе.
Время от времени к жене Ило приходила старая женщина,
которая ее причесывала. Когда старуха пришла в третий раз,
она спросила, кому относят молоко. Жена Ило ответила, что
молоко предназначается ее деверю. „А ты его видела? — спросила
старуха.— Нет. Я не должна его видеть. Мой муж говорит, что
от этого зависит наше счастье.— Все женщины, избалованные
своими мужьями, глупы,— сказала старая женщина.— В твоем
доме живет твоя соперница!"
Был понедельник, и Ило ушел на рынок. Его жена
приблизилась к хижине Тяянабы и заглянула в щель. „Их глаза
образовали число четыре" — так говорят о том моменте, когда их глаза
встретились. Вдруг Тяянаба раздулся так, что его хижина
разлетелась на куски. Он бросился к реке, а за ним устремились
коровы, которых Ило безуспешно пытался остановить. Несколько
дней он следовал за Тяянабой, стараясь собрать стадо, пока
наконец Тяянаба не сжалился над ним. „Бей коров но рогам своей
палкой",— сказал он Ило. И каждый раз, когда палка Ило
касалась животного, оно останавливалось. Постепенпо ему удалось
собрать коров.
Тем временем Тяянаба пересек Масияу, следуя вдоль тяяна-
баволь 15, что начинается за Сензани, или Сансандингом, а
затем, дойдя до Молодо, направился к озеру Дебо. В этом месте,
которое считают конечным пунктом его „перипла", после страны
Манде, Тяянаба заключил союз с духом этих мест, „матерью
всего живого" — Гаа. Переплыв озеро вместе со своими коровами, он
добрался до оз. Фагибин, миновав которое он устремился в озеро
Оро, где и умер. Именно в этом районе наблюдается наибольшее
скопление скота. Ило остался кочевником».
Смысловым стержнем приведенного предания являются
мотивы одомашнивания коров и появления народа фульбе. Текст
представляет собой один из образцов мифологизации истории
народа. Тяянаба здесь — центральный персонаж. Основные мотивы
и элементы сюжетной схемы могут быть сведены в следующую
классификацию, в которой представлены узловые моменты текста,
имеющие параллели в фольклорном материале:
1. Тяянаба имеет необычную внешность.
1.а. Тяянаба имеет змеиную форму.
1.6. Тяянаба вначале очень мал.
1.в. Тяянаба увеличивается до гигантских размеров.
2. Тяянаба — брат-близнец Ило.
3. Тяянаба постоянно связан с водой.
З.а. Тяянаба появляется из воды (из океана, около устья
р. Сенегал).
З.б. Тяянаба проходит путь по реально существующим рекам и
озерам («перипл» Тяянабы).
З.в. Тяянаба устремляется в воду после нарушения запрета.
З.г. Тяянаба погибает в воде.
197
4. Тяянабе приносят молоко.
4.а. Молоко приносят ежедневно, три раза в день (по утрам
и вечерам).
4.6. Молоко приносят в хижину, где Тяянаба живет.
4.в. По словам жены Ило, молоко предназначается ее деверю.
5. Тяянаба — первый обладатель коров.
5.а. Коров ему доверил Гено.
6.6. У Ило есть мать, семья.
5.в. Число первых коров — 22.
5.г. Тяянаба поручает Ило пасти коров.
5.д. Тяянаба пытается после нарушения запрета увести коров
обратно в воду.
6. Ило включается в пастушескую жизнь.
6.а. Ило — сын Ялади («Красноухого»).
6.6. У Ило есть мать, семья.
6.в. Мать Ило усыновляет Тяянабу.
6.г. Ило становится помощником Тяянабы, за которым он
следует повсюду.
б.д. Ило каждый день ходит в деревню (на рынок),
б.е. Ило женится. Его жена имеет необычную внешность.
7. Тяянаба имеет табу.
7.а. Табу Тяянабы — женщина с красными глазами, без грудей
и телом цвета охры.
7.6. Жена Ило не должна видеть Тяянабы.
8. Запрет нарушается.
8.а. Ило женится на девушке, которая является табу Тяянабы.
8.6. Старая женщина подстрекает жену Ило.
8.в. Инициатива нарушить запрет исходит от жены Ило.
8.г. Глаза жены Ило и глаза Тяянабы встречаются — запрет
нарушается.
8.д. Тяянаба раздувается.
8.е. Тяянаба спасается бегством.
9. Тяянаба исчезает в воде. Тяянаба погибает.
9.а. Озеро Дебо (Оро) — конечный пункт «перипла» Тяянабы.
9.6. В районе озера Дебо Тяянаба заключает союз с местным
духом Гаа.
10. Ило становится новым обладателем коров.
10.а. Ило терпит временную неудачу; его первые попытки
остановить коров безуспешны.
10.6. Тяянаба сочувствует Ило, помогает ему советом.
Ю.в. С помощью ударов палкой Ило останавливает коров.
Ю.г. Ило удается вернуть не всех коров: часть коров исчезает
в воде.
Ю.д. Ило остается кочевником.
Близкое по сюжетной схеме к приведенному выше тексту
предание опубликовано Ж. Румгер-Эберхардт 1в. Оно также записано
со слов Амаду Хампате Ба. Обращают на себя внимание
определенные несовпадения двух вариантов текста. Самые сущест-
венные элементы текста 2, отличающие его от текста 1,
следующие:
— Нет указания на то, что коров доверил Тяянабе бог Гено
(5.а.).
— Отсутствует «перипл» Тяянабы с подробным
перечислением населенных пунктов, рек и озер (3.6.).
— Отсутствует указание на то, что Тяянаба поручил пасти
коров Ило (5.г.).
— Тяянаба — божество (4.в.). По словам жены Ило, молоко
предназначается божеству.
— Тяянаба — создатель всего живого (Ю.а.). Ило терпит
временную неудачу, он умоляет Тяянабу пощадить все живое,
созданное им.
— Нет указания на гибель Тяянабы (9.).
— Нет упоминания о союзе, который заключил Тяянаба с
местным божеством (9.6.).
Перед нами свернутая по сравнению с текстом 1 сюжетная
схема. В ней не получают, в частности, развития мотивы Ило-
кочевнпка и последовательных перемещений Змея по рекам и
озерам («перипл» Тяянабы), привязывающих миф к
конкретному географическому ареалу. Тяянаба из текста 2 более кос-
мичен. Он — божество, создавшее все живое, в том числе
коров. Гено как бог, доверивший Тяянабе коров, в тексте не
упоминается.
Оба запрета, о которых идет речь в тексте 2,— Ило не
должен жениться на девушке необычной внешности, жена Ило не
должна видеть Тяянабы — исходят от самого Тяянабы. В тексте
1 табу Тяянабы исходит от какой-то высшей силы.
Гигантские размеры Змея, о которых говорится в обоих
текстах, являются важным элементом мифа. Они соотносятся с
аналогичным атрибутом Змея в мифах многих народов мира.
Особое значение, на наш взгляд, имеет еще одна деталь, отличающая
текст 2 от текста 1: Тяянаба из текста 2 не гибнет, а исчезает
в воде — возвращается в изначальную стихию.
Суммируя элементы, общие для обоих вариантов, получаем
следующую схему:
— Тяянаба появляется из воды.
— Тяянаба — брат-близнец Ило.
— Тяянаба запрещает Ило жениться на девушке необычной
внешности.
— Ило женится на девушке-табу.
— Жене Ило запрещено видеть Тяянабу.
— Тяянабе приносят молоко.
— Жена Ило, подстрекаемая старой женщиной, нарушает
запрет.
— Тяянаба увеличивается в размерах.
— Тяянаба (вместе с коровами) устремляется в воду.
— Ило терпит временную неудачу.
— Тяянаба дает Ило совет, как остановить животных.
199
— Ило собирает часть стада, остальные коровы исчезают в
воде.
Эта общая сюжетная схема оказывается очень близкой к
содержанию легенд о происхождении коров, особенно широко
распространенных среди восточных фульбе 17. При всем
разнообразии деталей эти тексты имеют единое смысловое ядро, которое
составляют следующие мотивы: появление коров из воды,
участие духа-дарителя (духа воды), мотив предка народа фульбе.
Инвариантная сюжетная схема этих легенд (условно —
восточных), видимо, может быть представлена таким образом:
— Юноша (иногда вместе с сестрой), отправившийся на
поиски неведомого отца, оказывается на берегу реки (озера, т. е.
возле воды).
— Юноша раскладывает костер (совершает воскурение).
— Из воды появляется дух воды.
— Дух передает юноше в дар коров.
— Дух запрещает юноше оборачиваться.
— Дух исчезает в воде.
— Юноша (иногда подстрекаемый сестрой) нарушает запрет.
— Часть коров остается на берегу, другая возвращается в
воду.
Общими элементами, объединяющими тексты 1 и 2 (с
главным героем Тяянабой), с одной стороны, и восточные легенды,
с другой, являются: появление из воды первых коров и их
первого обладателя, нарушение запрета смотреть, возвращение
части коров в воду и появление пастушеского народа фульбе. Духа
воды из восточных легенд соотносим с Тяянабой, а юношу —
предка фульбе — с Ило. Итак, тексты 1 и 2 вместе с восточными
легендами следует отнести к одному типу легенд.
Узловые моменты предания о Тяянабе имеют любопытные
отголоски в фольклоре фульбе. Рассмотрим некоторые из них.
1.а. Тяянаба имеет змеиную форму.
Змей является предводителем рода в легендах фульбе Нигера,
опубликованных Бубу Хама. В одной из них Змей-ардо
превращается в прекрасную молодую женщину, убивающую
рыбу-чудовище. По мнению исследователя, эта Змея-женщина близка к
Хара-кой, духу воды женского рода, жешцине-фула, из легенд
сонинке 18. Не исключено, что в древнейшей мифологии фульбе
Змею Тяянабе предшествовала Змея.
Одной из ипостасей Тяянабы является дух воды. Это —
одноглазый дух-даритель из восточных легенд (в легенде фульбе
Нигера, опубликованный К. Сейду, он для спасения Священной
книги передает ее женщине, которая превращается в ламантина) ;
однорукий и одноногий дух из легенд фульбе Сенегала; гидра
о семи головах и водяной буйвол (в сказках Мали) ; крокодил
и т. д.
1.6.1.в. Тяянаба вначале очень мал. Тяянаба увеличивается до
гигантских размеров.
Дух воды из предания о Самбе Галадио Дьеги (Сенегал), что-
200
бы запугать героя, меняется в размерах: он то становится
огромным, то вновь уменьшается 10.
Змей — «Хозяин воды» — из некоторых волшебных сказок
меняет цвет, последовательно становясь черным, красным,
белым. Способность Змея менять цвет обычно связывается с его
способностью летать20. (Ср.: некоторые легенды называют Тяя-
набу «Небесным Змеем».) Изменения цвета Змея, на наш взгляд,
соотносимы с пестрой окраской самого Тяянабы, а также
мифического двуполого быка — прародителя коров и символа
Вселенной: пестрая окраска является здесь магическим коррелятом
всех мастей коров, соответственно коррелятом всего скота.
2. Тяянаба — брат-близнец Ило.
Змею Тяянабе в анализируемом предании противостоит Ило,
его брат. Ило — мифический первопредок некоторых групп
фульбе 21. В тексте 1 Ило является сыном Ялади («Красноухого»)
(6.а.). Можно предположить, что имя Ялади указывает на
светлую кожу Ило. Кстати, мотив светлой кожи — один из самых
распространенных в фольклоре фульбе. Ило всегда упоминается
в связи с кем-то. В легендах он, как правило, является чьим-то
сыном: Ило - сын Хама 22 или, судя по сопутствующим именам,
чей-то первый сын, посвященный богу Хаму. В одной из легенд
Эло (т. е. Ило) — первый сын Ялади, правителя мифической
страны Йоойо23. Ш. Монтей высказывает предположение, что
Ило — один из могущественных правителей Западной Африки
прошлого 24.
В этногенетических легендах касооке (народа, родственного
фульбе) Ило считается сыном Амаду (Амади). В них говорится
также, что предки фульбе восходят к некоему Амади Табара,
который был братом Ило25. Имя Амаду упоминается в
сенегальских легендах, например в легенде об Амаду-фула, который жил
в воде 2в. Важной деталью представляется подчеркивание
легендой, в данном случае нефульбской, связи фульбе с водой.
В отличие от зооморфного Тяянабы Ило является
антропоморфным предком фульбе. Ило — брат-близнец. (Ср. легенду о предке
Усмана дан Фодио, у которого был брат-близнец — родовое
божество в змеиной форме.) Ило олицетворяет собой весь
пастушеский народ фульбе. В инициационном тексте «Кумен» он
называется хозяином мифического быка (представляющего весь скот
фульбе и отождествляемого с быком Ндурбеле, андрогинным
символом Вселенной). На наш взгляд, Ило корреспондирует с духом
Куменом, мифическим пастухом, помощником Тяянабы,
являющимся также хранителем пастушеских знаний (ср. мотив
восточных легенд: юноша получает от духа воды Священную книгу,
содержащую все пастушеские знания). Интересно указание
Ж. Румгер-Эберхардт на демиургичес^ие функции Ило. Часто
упоминаемый в мифологическом тексте «Священное омовение»
«источник Ило», возможно, связывает Ило с первичными
водами — мифическими истоками народа фульбе и их скота.
3. Тяянаба постоянно связан с водой.
201
Одним из трансформов образа Тяянабы является дух воды,
обитающий в реке или озере. Функции его различны. Дух часто
выступает в роли чудесного помощника (в инициационном тексте
«Нджеддо Деваль» Тяянаба появляется, чтобы помочь главному
герою спастись от преследующей его чудовищной богини) или
дарителя: он дает коров, три чудесные калебасы
(превращающиеся в стада коров, овец и коз), Священную книгу, волшебные
кольцо и ружье и т. п. Герой волшебных сказок, страдающий от
людской несправедливости, нередко находит пристанище в логове
духа воды (норе Змея).
В сказках дух воды (Змей) выступает иногда как носитель
отрицательного начала ". Это — чудовище, которому приносят в
жертву людей, отдают в жены девушек28.
В мифологических легендах дух воды является предком
народа фульбе (или одного из его ответвлений). Так, в легенде о
мусульманском предке фульбе Якубе говорится, что его жена
родила от духа воды сына, и от этого внебрачного ребенка ведут свое
начало бороро. (кочевые фульбе) 29.
Распространенным мотивом волшебных сказок фульбе
является мотив проглатывания духом (Змеем) и возвращения героя в
новом качестве. Этот мотив, возможно, является отголоском
древних представлений о демиургических функциях мифического
Змея, исторгающего созданное им (ср. Критского Кроноса).
Обращает на себя внимание то, что Змей и герой могут обмениваться
этим атрибутом — способностью проглатывать функционально
значимые предметы.
З.а. Тяянаба появляется из воды.
Вода, символом которой выступает Змей, является согласно
представлениям фульбе одним из четырех первичных элементов.
«Вода — мать своего сущего (букв, мать всех
жизней)»,—говорится в тексте «Кайдара». Водная стихия, из которой появляется
Тяянаба (дух-даритель), символизирует первобытные воды. Имен
но с ними связывается появление первых коров, а также самого
пастушеского народа. Важно отметить, что символическая смерть
посвящаемого в воде и его «воскресение» — появление из воды в
новом качестве — составляют ритуальную основу инициационных
обрядов фульбе. (В тексте «Кумен» появляющийся из воды теленок
на последней поляне, т. е. на последнем этапе испытаний,
символизирует рождение пастуха.)
З.в. Тяянаба устремляется в воду после нарушения запрета.
Этот мотив соотносим с поведением недовольного людьми Змея-
ардо из легенд фульбе Нигера. В легенде, повествующей о Мусе,
предке Усмана дан Фодио, говорится о том, как дети Мусы, узнав,
что их отец тайно поклоняется Змею, были возмущены и
потребовали порвать все отношения со Змеем. «Рассерженный Змей
оставил семью Мусы, бросившись в воды Сенегала. Муса покинул
жену и детей и последовал за ним. В поисках своего несчастного
брата он прошел весь Текрур. Переходя из реки в реку, он
добрался до Нигера... В конце концов он оказался в том месте, где
202
теперь находится Сокото. Здесь он и нашел своего брата Змея.
Узнав, что ради него Муса оставил свою семью, Змей посоветовал
ему обосноваться в Сокото. Он предсказал Мусе и его потомству
славу и процветание.» 30
Приведенная здесь нигерская легенда удивительным образом
перекликается с текстом 1. Их объединяют, в частности, такие
общие сюжетные элементы, как мотивы бегства Змея,
перемещений его по воде, ополоски близнечного мифа. Змей является
здесь аллоперсонажсм Тяянабы, а Муса — Ило.
З.г. Тяянаба погибает в воде.
В мифологии фульбе вода ассоциируется со смертью. Ср.
близость слов, возможно, имеющих общий корень: maayo «река,
море, океан» и maayde «смерть» (мн. ч. maayeele). Богиня зла,
чудовищная Нджеддо Деваль, превращается в воду, чтобы взять
верх над Багумавелем. вступившим с ней в борьбу. Характерно,
что это превращение богини в воду — последнее в цепи ее
многочисленных воплощений.
Функционально характеристики воды в некотором смысле
совпадают с той ролью, которую в мифах фульбе играет
термитник (часто являющийся коррелятом логова Змея). Обычная
деталь — ливень или, наоборот, исчезновение героя в термитнике —
означает возвращение его в материнское лоно, откуда он
выходит с дарами духа (Змея) 31. Нередко исчезновение героя
связано с исчезновением воды, а появление героя вызывает воду.
Согласно легендам кочевых фульбе Конни (Нигер), первый
пастух, которого звали Хуф, погиб в термитнике. Водабе (одна
из групп кочевых фульбе Адамауа) имеют обыкновение
хоронить своих мертвых возле термитника, тем самым, как они
считают, они приближают своих покойников к первому предку32.
5. Тяянаба — первый обладатель коров.
5.а. Коров Змею доверил Гено.
Этот мотив не имеет параллелей в фульбских легендах о
происхождении коров и народа фульбе. В них обычно речь идет либо
о духе воды — дарителе коров (тип 1), либо о коровах, которые
сами выходят из воды и идут на огонь раскладываемого на
берегу юношей-сиротой костра (тип 2). В легендах второго типа
юноша, как правило, находится у воды вместе со своей сестрой. От
их брака и происходит народ фульбе. Мотив инцеста является
узловым моментом сюжетной схемы, перекликающимся с
аналогичным элементом мифов многих народов мира. Другой значимый
элемент — огонь (костер, воскурение), вызывающий коров из
воды. Духа воды нет: коровы появляются как субститут
неведомого отца и, возможно, являются ипостасью воды.
Наконец, коровы достаются фульбе от соседних народов (бам-
бара, бозо, хауса и др.), с которыми фульбе живут в симбиозе
(тип 3). Так, в легенде, которую приводит П. Думбиа, в этой
роли выступает кузнец (в Мали фульбе и кузнецы находятся
друг с другом в отношениях так называемого «шуточного
родства»):
202
«Однажды дикая корова в поисках соли забрела в пещеру-
кузнеца. Там она отелилась. В ту пору кузнецы еще были
обезьянами и жили в пещерах. Один хитрый фула, зайдя как-то к
кузнецу, быстро смекнул, какую выгоду можно получить от молока
коровы...» 33
5.6. Коровы появляются вместе с Тяянабой из воды.
Би-утебе (бороро Нигера) считают, что первая корова
появилась из огромного моря, которое окружает всю Землю 34. В
волшебных сказках коровы нередко являются даром духа воды.
5.в. Число первых коров — 22.
Число появляющихся из воды коров значимо. В одной легенде
дух воды подарил двум своим сыновьям (предкам фульбе)
двадцать коров и двух быков35. 22 коровы, с которыми Тяянаба
вышел из океана у устья Сенегала (текст 1), соотносимы, на наш
взгляд, с 22 общинами фульбе Фута-Topo (совр. Сенегал) 36.
5.г. Тяянаба поручает пасти коров Ило.
Передача скота Ило означает ликвидацию недостачи и вместе
с ней — рождение пастушеского народа. Это — один из
центральных мотивов восточных легенд о происхождении коров, которых
дух вручает предку народа: недостача ликвидируется,
юноша-сирота становится обладателем скота и родоначальником
пастушеского народа. (Рождение народа есть результат инцеста.)
Ило в тексте 1 является сначала как бы пастухом при Тяяна-
бе (ср. роль Кумена при Тяянабе). Система найма пастухов очень
характерна как для общества самих фульбе-скотоводов ", так и
для их отношений с соседними народами. Очевидная зависимость
Ило от Тяянабы, типичная для начального этапа их совместной
истории, сменяется в конце предания переходом коров в полную
собственность Ило.
7. Тяянаба имеет табу.
Суть табу, которое имел Тяянаба, состоит в том, что его не
должна видеть женщина определенной внешности. В содержании
запрета можно выделить три составных элемента: 1. запрет
глядеть; 2. запрет женщине смотреть на Змея; 3. женщина имеет
необычную внешность.
Запрет глядеть — непременный элемент сюжетной схемы
почти всех легенд о происхождении коров из воды: дух запрещает
юноше оборачиваться; запрет нарушается — те коровы, которые
не успели выйти из озера (реки), возвращаются в воду.
Аналогичный запрет является составной частью ритуала, связанного с
заговорами. При произнесении заклинания, имеющего целью
предохранение стада от хищников, пастух обходит весь загон с
закрытыми глазами. Обычно его ведет ребенок или он сам
опирается на палку. Открыть глаза — это табу, нарушение которого
непременно причинит ьред стаду 38.
Мотив запрета герою смотреть, очевидно, следует связывать с
представлением о невидимости для человека персонажей
потустороннего мира и неспособности видеть как свойстве, которое
охраняет героя от опасности, исходящей от другого мира 39. В мифо-
логических легендах о происхождении коров такими персонажами
потустороннего мира, видимо, являются с**и K0P0BbL (СР' в «КУ"
мене» коровы исчезают, как темнота, р^тв0Р^аряся припна;
ступлении зари; в восточных легендах - ^ДП^дП^
смотреть коровы превращаются в воду.) D " "
рится: брат и сестра оборачиваются, и Р^' ^Коровы ад! ь
оыла рекой коров, вновь становится водноИ * F M
отождествляются с водой". На ^^Z^^Z
первых коров указывает, видимо, и костеР> * м ^
берегу. Функция костра, возможно, сос^ит в ™м -обь сд -
б
лать невидимое видимым и обеспечить
рОННеГО Мира В МИр ЖИВЫХ СущеСТВ.
Согласно текстам 1 и 2, Тяянабу не Д^
притом женщина без грудей, с красными г\, « », -
охры. В тексте 2 речь идет только о женщине, б«.грудей.^
гер-Эберхардт, отмечающая «симметрию. ^Д™™ ^
мифа о Питоне у фульбе и южноафрикански
сопоставления сходных ритуалов двух i»apw V « "
трактование запрета: запрещено смотреть . й„ ' '
достигшей половой зрелости и не прошеД^еи обряд ин^~
достигшей половой зрелости и не прошеД ^м
Во время этого обряда девушек приобщаС» к J*™*^\СВ***.[™™
с молоком (у фульбе женщина - «хозяЯка молока»>. а также
б З М^ Р^л'™;^С1™
(у фу щ
обучают ритуальному танцу Змея. Места^ ^в;^
обычно является двор (поляна), ограду которого называют
«кожей Питона». Считается, что во время р^ала посвящения
девушки «сидят внутри Питона». У венда №>££е "° Достигшеи
половой зрелости, запрещено принимать участие в танце домоа
(танец Питона) ".
ляется активное участие двух женщин /L ^ v
(8.6., 8.в., 8.г.). В обоих вариантах пре^ния о Тяянабе
упоминается старая женщина, которая подстре^ J наоушае^ся-
запрет. В конечном счете по вине жены Й*о запрет нарушается
силы хаоса высвобождаются ». Восстановлен^ нарушенного
космического порядка происходит с большими ^ я иж енщ^
на здесь является скорее не носителем зла» исР^Ий»ем1
вобождающим силы хаоса.
В волшебных сказках именно жей*и*а нарушает запрет
(например, запрет девушке разговаривать со своим женихом;.
Происходит это под влиянием третьих ли« - злых
родственников юноши, превратившегося в Змея, и т. п- За наРУшение запРе"
та героиня расплачивается жизнью.
В мифологических легендах о водноМ происхождении коров
герой, как правило, не один: у нег* еСТЬ сестРа' К0Т0Рая
одновременно является его женой. Имен^ сестра толкает юношу
на нарушение запрета (запрета смотреть *а К0Р0В' выходящих из
воды). Сестру юноши из восточных лег^Д, видимо, можно счи-
тать аллоперсонажем жены Ило из текст °в а т '
205
Обращает на себя внимание необычная внешность жены Ило
(7.а.), маркирующая какой-то важный семантический признак.
К сожалению, этому элементу трудно найти в фольклоре
параллели, которые прояснили бы его значение. Можно лишь
предположить, что необычный цвет тела (более светлый?) указывает на
иную этническую принадлежность жены Ило. Красные глаза,
возможно, являются указанием на связь персонажа с
потусторонним миром (или черты хтонизма?). Однако на данном этапе
трудно дать рациональное толкование этой детали, кстати,
отсутствующей в тексте 2.
Главными последствиями нарушения запрета являются
бегство Змея (8.е.) и уход части коров в воду (Ю.г.). В текстах
1 и 2 говорится также о том, что Змеи раздувается,
увеличивается в размерах (8. д.). В волшебных сказках Змей (дух)
произвольно увеличивает свои размеры, чтобы устрашить
героя 43. В текстах 1 и 2 увеличение размеров Тяянабы, похоже»
сигнализирует о недовольстве Змея тем, что запрет нарушен.
В мифологических легендах фульбе Нигера гнев Змея, который
устремляется в воду, вызывает поведение людей, предавших
забвению его культ. Бегство Змея иногда сопровождается
превращением его в чудовищную рыбу (легенда Бубу Хама).
Бегство Змея — устойчивый фольклорный мотив.
Передвижения Змея всегда имеют одно направление — к воде. Змей
бросается в воду, чтобы исчезнуть в ней, т. е. вернуться к своим
истокам, или увести своих верных последователей в новые края.
Привлекает внимание неожиданная параллель в сказках
фульбе Нигера: Змей говорит крестьянину, на поле которого он
пришел: «Ради Аллаха, спрячь меня! — Как я тебя спрячу? — А ты
открой рот, я влезу»44. Здесь проглатывание должно обеспечить
спасение (в данном случае имеет место инверсия на уровне
атрибута). В сказке сенегальских фульбе проглатывание героини
Змеем и последующее возвращение ее означает ликвидацию
недостачи (недостатка): из пасти Змея девушка, которая ранее
была однорукой, появляется с обеими руками ".
Другой важный результат нарушения табу — попытка Змея
увести коров в воду. Исчезновение части коров в воде
равнозначно здесь превращению их в воду и возвращению в небытие. Этот
мотив, на наш взгляд, перекликается с часто отмечаемым в
мифологиях многих народов мотивом первой неудачной попытки
творения мира (ср. в тексте 2 речь идет о возвращении в воду,
т. е. в хаос, всего живого, созданного демиургом Тяянабой).
Можно думать, что мотив неудачной попытки приручения диких
животных наложился здесь на более ранний сюжетный мотив.
Нарушение запрета в текстах 1 и 2, приводящее к временной
победе сил хаоса, возможно, следует отождествлять с
непринесением традиционной жертвы Змею в мифах иного стадиального
типа, которое приводит к катастрофе (как в мифе о Питоне).
9. Тяянаба исчезает в воде. Тяянаба погибает.
Главным итогом событий, разворачивающихся в преданиях о-
Тяянабе, является исчезновение Змея. Тяянаба возвращается в
воду, олицетворением которой он является- Некоторые тексты
(в том числе текст 1) говорят о его ги^ели- В Результате
нарушения табу Тяянаба уступает место новомУ персонажу. В
волшебных сказках фульбе, содержащих м<?тив нарушения запрета,
наказание постигает нарушившего табУ: героиня нарушившая
запрет говорить, который исходит от Змея» погибает; девушка,
счастливо избежавшая брака с «Хозяин<?м озера», встречает
резкое осуждение всей родни 4в.
10. Ило становится новым обладателей К0Р0В-
Ило терпит временную неудачу (10<а-) Эт°т мотив
сопоставим с временным поражением Победите^* в миФах со змееборче-
ским сюжетом и имеет параллели в мифологиях многих народов.
Советы, которые дает Змей Ило (10.6.?» ГОВ°РЯТ о
доброжелательности Тяянабы, соотносимой с поло^ительнои Ролью Змея ~
родового божества в мифологии фульбе. Смена главных
персонажей в мифе, которая, можно полагать, Си*волизирует смену
культов, происходит без борьбы, мирно, что, на наш взгляд,
указывает на определенные элементы равновесий характерные для
основного мифа о Тяянабе. т._
Удары пастушьей палкой, которые Ил0 наносит коровам
(Ю.В.), имеют магическое значение; па^а игРает важную роль
в ряду религиозных представлений фульое-скотоводов. Вместе с
веревками и кольями для привязи ск0та она занимает особое
место в системе символических связей, доставляющих
мифологическую модель мира47. Палкой фульб^пастухи клянутся. На
наш взгляд, пастушеская палка Ило сопоставима с орудием в
руках Победителя в мифах со змееборче*ким сюжетом. В тексте 2,
который по сравнению с текстом 1, как Уже было отмечено,
содержит больше архаических черт, Тяя^аба советует Ило
вырезать две ветки-рогатины из тех деревьев» на К0Т0Рые он сам
указывает. Вполне возможно, что в данном слУчае эти палки
символизируют две попытки, одна из кото?ых является неудачной
(ср. два копья Аполлона, две магиче^кие ДУбинки Ьаала).
Приведенные выше данные свидетел^У10? о сложном
характере представлений о мифическом Змее ФУль°е 1яянаое, в
которых можно выделить разновременные нэпластования- в эволюции
мифологических представлений, как и в истории религии вообще,
следует искать «не полное вытеснение £таР°го новым, а
наслоение нового на всю сумму представлений * •
Эволюция образа Змея является ре0Ультатом действия ряда
причин. Трансформация образа связана, в частности, с
вариативностью самих мифов как повествователь^ых текстов.
Функционирование мифологического текста в соц!'альнои сРеДе порождает
тенденцию к разделению текста на вар^анть1' однако устойчивые
связи (как внутри уровней, так и между уровнями) обеспечивают
действие консервирующих механизмов, *ФиДавая тексту характер
инварианта 49. Змей из мифологических текстов во многом отли-
207
чается, например, от Змея из волшебных сказок. Тем не менее
трансформации функгтий и атрибутов персонажа происходят в
рамках определенной шкалы соответствий.
Мифологические тексты, на основе которых реконструируется
древнейший образ фульбского Змея, сами по себе далеко не
идентичны. Сквозь более поздние наслоения проглядывают древние,
устойчивые представления. Указания текста 1 на конкретный
ареал с перечислением географических реалий — явно более
поздний слой, отражающий историю появления в этих местах
некоей группы фульбе, причем именно группы, а не всего народа,
поскольку, видимо, просачивание фульбе в районы Западной
Африки происходило из разных мест. Вместе с тем некоторые
детали остаются смутными, кажутся противоречивыми: видимо, они
представляют собой отсылку к иным, более ранним текстам. Так,
в тексте 1, с одной стороны, говорится о том, что Тяянаба
вначале был мал и беспомощен, поэтому его усыновила мать (семья)
Ило, с другой — Тяянаба язляется центральной фигурой
повествования, а Ило — всего лишь его помощник, зависимость
которого от Тяянабы очевидна. Только после гибели (исчезновения)
Тяянабы Ило занимает его место.
Гетерогенный характер мифологических представлений,
свидетельствующий об их эволюции, обнаруживается прежде всего на
уровне функций анализируемого образа. Тяянаба фульбе —
предводитель рода, родовое божество. Он предок и герой. При этом
«герой» понимается здесь в смысле наиболее архаичных
представлений, характерных, например, для древнегреческого культа
героев. Как известно, в древнегреческой мифологии героями пер
воначально были духи-покровители отдельных родов,
предки-родоначальники. В архаическом языке надгробий слово «герой»
означало просто умершего. Эти наиболее ранние представления о
героях существенным образом отличаются от аналогичных
концепций классической эпохи, когда почитание героев перерастает
из родовой формы з форму общинных и городских культов
(хотя наряду с последними сохраняются и традиции
аристократического родового почитания героев) 50.
Вместе с тем необходимо говорить о космизме фульбского
Тяянабы, о чем свидетельствуют указания на его демиургические
функции (текст 2) (ср. появление аллоперсонажа Змея из
космических вод). Змей — сам Космос (вспомним девушек, сидящих
«внутри Питона» во время обряда посвящения). В тексте «Ку-
мен» Тяянаба появляется на первой поляне — «поляне четырех
первичных элементов». Описанная встреча пастуха Силе Садио
с Тяянабой на этой поляне имеет космогонический смысл: «Силе
Садио заметил свет, который шел из глубины горшка с водой.
Змей, сидевший лицом к горшку, играл грустную мелодию па
флейте, вырезанной из стебля сорго и имевшей семь отверстий».
Как отмечают в своих комментариях к тексту авторы книги, :>та
сцена означает единство четырех основных элементов
мироздания: земли (глиняный горшок), воды (в горшке), огня (свет, иду-
щий из горшка) и воздуха (дыхание Змея, играющего на
флейте). При этом в тексте подчеркивается победа огня над водой.
На древность образа Тяянабы указывает также змеиная форма
(Змей — типичнейшее хтоническое животное). О хтонизме
персонажа свидетельствует и его титанизм. К древнейшим чертам
образа Тяянабы следует отнести представление о Змее как о
родовом тотеме. Он — зооморфный предок с чертами культурного
героя: Тяянаба передал народу коров, положив начало
пастушеской культуре фульбе.
Об архаичности системы представлений о фульбском Змее
свидетельствуют и матриархальные черты. Рудиментом
древнейших родовых отношений можно считать, например, поиски
отсутствующего (и даже неведомого) отца в мифологических легендах
фульбе. Характерно, что в тексте 1, в котором упоминаются мать
и семья Ило, ничего не говорится об отце. Более того, именно
мать Ило усыновила Тяянабу.
Следы близнечного культа, ощутимые в мифах о Тяянабе,
также должны быть соотнесены с древней системой родовых
отношений. Культ близнецов связан с дуальными
противопоставлениями, которые представляют очень характерные черты
мифологии фульбе. В мифологии народов, для которых характерна
дуальная организация общества, отмечает К. Леви-Строс, обычно
большую роль играют два культурных героя, иногда старший и
младший, иногда близнецы "и.
Миф о фульбском Змее — это миф скотоводов: он целиком и
полностью относится к традиции, отражающей систему ценностей
скотоводческой культуры. Миф пронизан символикой, типичной
для уклада жизни скотоводческого народа. Центральный мотив
его — переход к скотоводству. Он представляет собой
мифологизацию истории одомашнивания коров. Мотив коров — ключевой
сюжетный элемент, соединяющий в одно целое циклы мифов о
Тяянабе, Кумене и Нджеддо Деваль, относящихся к древнейшим
пластам мифологии фульбе. Тяянаба являет собой символ
скотоводства и богатства, которое представляет скот (ср. значение
лат. pecunia, слав. «скот»).
Тяянаба связан с миром как диких, так и домашних
животных. Тяянаба, как и Ило, иногда представляется в виде
быка. Другими словами, у Тяянабы две ипостаси: он — Змей и
он — бык. Тяянаба, следовательно, является олицетворением
коров и диких животных одновременно. Он — символ всего живого.
Две ипостаси Тяянабы сближают, на наш взгляд, фульбекого Змея
со славянским богом скотоводства Белесом. Со скотоводческим
культом Тяянабы связаны жертвенные возлияния, следы которых
сохранились в фольклоре, и ритуальные захоронения головы и
хвоста змеи. По словам Ж. Румгер-Эберхардт, фульбе бросают
кожу змеи в воду, а голову и хвост хоронят на перекрестках
дорог ". На важность культа, связанного с Тяянабой, указывает
также и то, что Тяянаба «участвует» во всех религиозных
ритуалах кочевых фульбе. Характерно и то, что, когда боги фульбе
8 Заказ .Y« 4129 209
«заключили союз» с местными богами, «представителем» фульб-
ского пантеона был именно Змей Тяянаба.
Характерная для образа фульбекого Змея связь с водой
перекликается с аналогичным атрибутом образа но многих
мифологиях мира. Однако фульбекий Тяянаба не является стражем,
хранителем источников и водоемов, что отличает его от
аналогичных персонажей других мифологий53. Тяянаба является
водяным Змеем и в конечном счете самой водой.
Змей фульбе не олицетворяет подземный мир, и в этом также
можно усматривать свидетельство древности образа.
Одомашнивание коров, которые появляются из небытия,
происходит с помощью огня. Огонь, как отмечает Е. М. Мслстпнскнй,
указывающий на его двойственное космогоническое значение,
находится на грани природы и культуры 54. В мифах фульбе огонь
служит средством, переводящим коров от одного полюса к
другому. Символическим коррелятом механизма привлечения коров из
воды с помощью огня и приручения коров является победа огня
над водой, находящая свое отражение как в мифологических
текстах, так и в волшебных сказках фульбе. Так, страшная ведьма
Энгаль, которую можно рассматривать как сказочный аллопер-
сонаж Нджеддо Деваль — богини с хтоническими чертами,
превращается в огромного питона и гибнет в огне, в который
перевоплотился герой сказки гамбийских фульбе ". На основе
анализа разноуровневых трансформов образов Тяянабы и Ило
можно усматривать (конечно, предельно упрощая общую схему)
в первом олицетворение воды, во втором — огня. С другой
стороны, отношение двух персонажей, очевидно, можно соотнести с
оппозицией «природа» (Тяянаба) — «культура» (Ило).
Фульбские предания о Тяянабе и Ило могут быть рассмотрены
с точки зрения змееборческого сюжета, который представляет
собой всемирно распространенный сюжет. Миф о Тяянабе
обнаруживает много общих черт с древним индоевропейским мифом о
поединке Бога Грозы с его Противником, некоторые из которых
имеют характер универсалий. Фульбскую традицию, с одной
стороны, и древнегреческий, древнеегипетский, ближневосточный и
индийский варианты мифа (которые, как показывают
исследования, чрезвычайно близки друг к другу), с другой, сближают
многие общие мотивы, функции, атрибуты. Рамки статьи не
позволяют произвести подробный анализ сближаемых детален,
поэтому ограничимся здесь лишь перечислением некоторых из них:
это — змеиная форма Противника, временное поражение
Победителя, участие и отрицательная роль женщины (обычно двух
женщин), бегство Змея, его гибель, мотив коров, связь и
отождествление Змея с космическими водами и царством мертвых, юный
возраст одного из участников поединка5в, еда для Противника
(молоко), титанизм Змея, мотив запирания скота (ср.
этимологию имени Тяянаба — «Стреноживающий»), отождествление
коров с водами (индийский миф), гряда камней, преодолеваемая
Змеем, два орудия в руках Победителя и т. п. Однако миф фуль-
210
бе содержит существенные отличия, главные из которых
следующие:
— Фульбский Змей не является носителем зла. Напротив, он
воспринимается как божество-покровитель.
— В мифе фульбе в общем-то нет борьбы, нет конфликта.
После «взрыва системы» Змей сам дает Ило советы, как
восстановить нарушенный порядок.
— Ило не убивает Змея. Змей сам бросается в воду. Нет
убийства (соответственно нет мотива очищения от скверны убийства).
Более того, не все тексты говорят о смерти Змея: он
возвращается в воду.
Таким образом, в мифе фульбе есть Победитель, но нет
борьбы. И в этом отношении в нем больше элементов равновесия,
чем, скажем, в древнегреческом мифе о Зевсе и Тифоне или
мифе об Аполлоне и Пифоне, что, пожалуй, больше сближает его
с ближневосточным типом с характерной для него сменой
владычества. В мифе фульбе представлены скорее не Победитель и
Противник, а Победитель и его Антипод. С другой стороны,
доброжелательность и мирный характер фульбского Змея
позволяют сопоставить миф о Тяянабе с древнейшими
индоевропейскими мифологическими сюжетами, в которых божества,
олицетворяющие первичный хаос, и отождествляемые с ними
космические воды не воспринимаются как чудовища — противники бога,
и, следовательно, борьбы пока еще нет (ср. в текстах,
отражающих наиболее архаичные древнегреческие космогонические
концепции, первоначальную роль Хаоса, Океана, Тефии, Ночи и т.п.).
Итак, к древнейшим представлениям фульбе о Змее следует
отнести представление о Змее — доброжелательном покровителе
рода. Тяянаба является тотемом-покровителем определенной
группы фульбе. Относительно широкое распространение культа
Тяянабы, видимо, можно объяснить социально-экономическим
возвышением его носителей. У других родов фульбе были свои
Змеи — родовые божества (ср. отголоски сложных
взаимоотношений между Змеями-предводителями в легенде о предке Усма-
на дан Фодио). Характерно, что восточные фульбе не знают
мифа о Тяянабе, хотя у них сохранились представления о Змее-
божестве. Представление о Змее как о покровителе
скотоводческого хозяйства является, видимо, более поздним.
Змееборческий мотив отмечается и в многочисленных
африканских мифопоэтических традициях. На основе анализа
сказочно-мифологических текстов о героях, убивающих Змея, Е. С. Кот-
ляр устанавливает для африканского фольклора два типа мотива.
Первый (наиболее архаичный): убийство Змея, означающее
нарушение традиционных норм, вызывает несчастье; нарушителя
спокойствия и равновесия, сложившегося между силами природы
и человеческим обществом, ожидает наказание. Второй тип: Змей
уже воспринимается не как «хозяин», а, скорее, как страж годы,
преграждающий к ней доступ; убийство Змея и освобождение
воды оценивается как героическое деяние ".
211 8*
Миф фульбе о Тяянабе, пожалуй, ближе к мифам с мотивом
первого типа58, хотя обнаруживает существенные отличия, не
позволяющие их отождествить. В обоих случаях отмечаются
нарушение космического порядка и временная победа сил хаоса;
восстановление порядка происходит с определенными
трудностями; Змей — божество. Однако в африканских традициях (в
отличие от фульбской) катастрофа наступает в результате
непринесения жертвы (или убийства Змея); для победы над силами
хаоса необходимо принести жертву (как правило, в жертву
приносится сам нарушитель порядка) 59. В мифе о Тяянабе
мотив жертвы отсутствует, что составляет важную типологическую
черту фульбской традиции. В мифе фульбе временные победы сил
хаоса и гибель Змея, вызванные нарушением запрета смотреть,
не влекут за собой наказания виновника и принесения
(искупительной) жертвы; нарушенный порядок восстанавливает
сменивший Змея персонаж, и в этом отношении миф фульбе
обнаруживает черты сходства с типом мифологических текстов о Змее
более поздней формации. С другой стороны, не менее важным
является отсутствие мотива противоборства как такового.
Змеи-божества играют главенствующую роль в мифах почти
всей Тропической Африки. В древнейших мифологических
текстах змеи обычно выступают как доброжелательные божества.
Согласно представлениям догон, для которых характерна тесная
связь культа предков с культом змей, первые люди не умирали,
а превращались в змей. Змей вел одного из первых «предков»
догон к новым местам в0. Эта роль догонского Змея
перекликается с соответствующей функцией Тяянабы.
Некоторые мотивы фульбского мифа о Змее, представляющие
важные элементы сюжетной схемы, встречаются в других
африканских мифопоэтнческнх традициях (ср., например, запрет
женщине смотреть на Змея в текстах венда). Мотив появления коров
из воды — центральный мотив мифологии Тяяиабы —
встречается также в мифологических текстах нилотского народа нанди
(Кения) 6t.
Тяянабу часто сближают с мифическим Питоном народов
манде Нинкинанка, на что указывает, например, текст 1. Змей Нин-
кинанка выполняет самые разнообразные, хотя не очень ясно
установленные функции. У сусу он тесно связан с комплексом
аллегорий, состоящим нз воды, пещеры и барана. У басари
Змея, посылающего дожди, радуги и распределяющего богатства,
называют Фаро 62.
Отмечаются также следы контаминации образа Змея фульбе
с образом божества зоды Фаро, почитаемого некоторыми
народами Западной Африки, в первую очередь бамбаравз. У бозо
Фаро — воплощение Нигера, божество воды вообще. Согласно их
представлениям, Фаро породил все, что живет в воде. Фаро
бамбара связан с водой н небом. Его постоянным местопребыванием
является река Нигер. Но он вездесущ, он — в каждой капле
воды. Он соединяется сам с собой. Обычно отмечают женскую
сущность божества.
Основой контаминации образа Тяяпабы с образами Нинкинан-
ка и Фаро, бесспорно, являются две главные формы фульбского
Змея — змеиная и водяная. Однако каждый из трех образов
характеризуется большей сложностью и определяется
совокупностью всех мотивов, с ним связанных. Так, Фаро в мифологии
бамбара — демиург, верховное божество. И все эти функции он
выполняет попеременно с другим божеством — Пемба. Согласно
некоторым вариантам космогонического мифа, Фаро н Пемба —
результат сложной эволюции первичных принципов, восходящих
к вибрирующей, издающей звук пустоте. Фаро и Пемба
порождены креативной мыслью в самом начале возникновения
Вселенной в4.
Однако, пожалуй, самое главное отличие Тяянабы от
сближаемых с ним мифологических образов других мифологий состоит в
том, что фульбский Змей представляет собой неотъемлемую
часть духовной культуры скотоводческого народа, что в
значительной мере определяет специфику и отличие иницнационных
обрядов фульбе от обрядов соседних земледельческих народов.
Вместе с тем нельзя не говорить о том большом воздействии,
которое оказали на мифологическую систему фульбе мифологии
их соседей, прежде всего бамбара и догоп. Мифологии этих
народов, входящих в так называемую суданскую религиозную
общность, образуют единый комплекс взаимосвязанных традиций.
Особенно ощутимо влияние жреческой мифологии бамбара п до-
гон в системе религиозных представлений, ритуалистике западных
кочевых фульбе. Как и у большинства африканских народов,
огромное значение в культурно-религиозных традициях бамбара и
догоп имеет культ предков, характеризующийся большой
разработанностью и организованностью. У фульбе, напротив, культ
предков не играет такой важной роли.
Особенно следует подчеркнуть близость
культурно-религиозных традиций фульбе и сорко — небольшого народа, основное
занятие которого — рыболовство. На нее указывает, в частности,
общность некоторых мифологических персонажей. Так, в инициацион-
ных текстах фульбе встречается упоминание о большой рыбе
Бооногаль (сом) 65. В мифах фульбе и сорко Бооногаль, которую
называют также «привратником Фаро», является олицетворением
времени: во время сухого сезона она зарывается в ил, кладет свой
хвост себе в рот (т. е. соединяет конец с началом), тем самым
образуя символическую фигуру, внутренняя часть которой
представляет известное, а внешняя — неизвестное (ср. у фон Змею-
Радугу Айдо-Хведо с ее характерной позой).
Предпринятый в статье анализ смысловой структуры образа
мифического Змея фульбе помог уточнить его архаические черты.
Есть оснонания считать, что Змей Тяянаба — одно из древнейших
(если не самое древнее) божеств фульбе. В более поздний период
культ Тяянабы, главного божества фульбе-скотоводов, был оттес-
213
нен культом Гено, занявшего место верховного божества в
пантеоне фульбе66. Сложные представления фульбе о Змее имеют
большое число точек соприкосновения с аналогичными образами в
других мифологиях. Эти сближения могут рассматриваться как
результат контактных (возможно, и генетических) связей, а также
указывают на черты, имеющие характер универсалий. И в этом
отношении большой интерес мог бы представить сравнительный
анализ образов Змея из мифологий разных народов (известно,
что образ божества-Змея, обычно характеризующийся большой
архаикой, встречается практически у всех народов мира).
Осуществленное на основе сопоставления узловых моментов сюжет-
пой схемы, с позиции универсальных черт, такое исследование
дало бы возможность уточнить стадиальные черты образа Змея
в конкретной культурно-религиозной традиции, определить
направление эволюции как отдельных элементов, так и мифа в
целом, составить более адекватное представление о всей системе
мифологических представлений конкретного народа.
1 Ареал расселения современных фульбе весьма значителен по своей
протяженности: он выходит далеко за пределы Западной Африки,
простираясь от устья реки Сенегал до Судана и южных районов Эфиопии.
2 Hampaté Bâ Amadou, Dieterlen G. Koumen. P., 1961; Hampaté Bâ
Amadou, Kesteloot L. Kaïdara. P., 1968; Hampaté Bâ Amadou. EL'clat de la Grande
Etoile. P., 1974; Sylla Yero. Njeddo Dewal. Dakar, 1975.
3 О проблеме происхождения фульбе см., например: Берзина С. Я.
Материалы к этнической истории фульбе.- Сов. этнография. 1974, № 4;
Козлов С. Я. Фульбе Фута-Джаллона. Мм 1976.
4 Hampaté Bâ Amadou, Dieterlen G. Koumen, с 26.
5 Sylla Yero. Njeddo Dewal, с 103.
6 Hampaté Bâ Amadou. Des Foulbé du Mali et de leur culture.-- Abbia.
Yaounde, 1966, № 14-15, с. 33.
7 По свидетельству М. Дюпир, у водабе (восточные кочевые фульбе)
сохранились представления о том, что клеймо, своеобразный знак
собственности, которым они метят своих коров, символизирует их родство,
восходящее к общему предку.
8 См., например: Gaden H. Proverbes et maximes peuls et toucouleurs. P.,
1931, с 219-220.
9 Там же, с. 292.
10 Boubou Hama. Histoire du Gobir et de Sokoto. P., 1967, с 81.
11 Gaden H. Légendes et coutumes sénégalaises.— Revue d'ethnologie et de
sociologie. P., 1912, № 5-8, с 120-121; Gaden H. Proverbes et maximes
toucouleurs, с 71, 124, 277.
12 Hampaté Bâ Amadou, Dieterlen G. Koumen, с 27.
13 Дьери здесь - саванна в верхней долине реки Сенегал, ваало - долина
и пойма Сенегала.
14 Никпнанка (или Нинкинанка) - мифический Питон бамбара.
15 Тяяпабаволь - естественное углубление в земле - совпадает со
старым руслом реки. Все населенные пункты, представляющие вехи этого «пе-
рппла», нашли свое отражение в мифологической истории фульбе.
16 Roumeguère-Eberhardt J. Pensée et société africaines.— Cahiers de
l'Homme, Ethnologie, géographie, linguistique. Nouvelle série III, P., 1963.
17 См., например: Jeffreys M. D. W. Mythical origin of cattle in Africa.-
Man. A record of anthropological science. 1964, v. XLVI, № 112-122, с 141:
Dupire M. Peuls nomades, с. 29-37; Seydou Ch. Une légende pcule du Niger
occidental La Vache et le Livre.— Cahiers des religions africaines. Kinshasa,
1972, v. 6, № 12.
214
18 Возможно также, что эта Змея сопоставима с духом женского рода,
хранительницей скота- Кориранвой (Dupire M. Pculs nomades, с. 35), и
духом воды женского рода из сказки о волшебном кольце (Equilbecq F. V.
Contes populaires d'Afrique Occidentale P 1972 conte XVIII)
9; Labou-
rei п. ьа langue ues reuis ou roume. иакаг, iyo,i, c. iz4-izd.
21 О фульбском Ило см. Зубко Г. В. Ближневосточные предки фульбе:
факт или легенда?- Сов. этнография. 1984, № 1.
22 Tauxier L. Moeurs et histoire des Peuls. P., 1937. c. 42-43.
23 Hampaté Bâ Amadou. Des Foulbé du Mali et de leur culture, c. 34.
24 Monteil Ch. Les Khassonké. P., 1915, c. 15.
25 Там же.
26 Gaden H. Légendes et coutumes sénégalaises.
27 В одной из сказок малийских фульбе чудовище, живущее в воде,
нападает на беременную женщину. Ребенок, выпавший из ее чрева, став
большим, убивает чудовище г. помощью двух копий (Seydou Ch. Contes et fables
des veillées, conte 1). Ср. древнегреческий сюжет о юном Аполлоне и его
матери Лато, преследуемой Пифоном.
28 Seydou Ch. Contes et fables des veillées, conte VII; Equilbecq F. V.
Contes populaires d'Afrique, conte XIX.
23 Dupire M. Peuls nomades, c. 32; Jeffreys M. D. W. Mythical origin of
cattle in Africa, с 141.
30 Boubou Hama. Histoire du Gobir, c. 82-84.
31 Seydou Ch. Contes et fables des veillées, contes X. XI.
32 Dupire M. Peuls nomades, c. 30.
33 Dumbia P. E. N. Etude du clan des forgerons.- Bulletin du Comité
d'études historiques et scientifiques de l'A. 0. F. Dakar, 1936, c. 334.
34 Dupire M. Peuls nomades, c. 29.
35 Wilson-Haffenden J. R. The Red Men of Nigeria. Lnd. 1967, c. 97.
зв Об общинах фульбе Фута-Topo см.: Oumar Bâ. Le Foûta Того чц
carrefour des cultures. P., 1977, c. 82.
37 См.: Diouldé Laya. La voie peule. Solidarité pastorale et bienséance sa-
héliennes, P., 1984.
38 Gaden H. Proverbes et maximes peuls et toucouleurs, c. 208-209.
39 См., например: Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области
славянских древностей. М., 1974, с. 127-130. Ср. мотив слепоты славянской
Бабы-Яги, являющейся воплощением смерти. В. Я. Пропп объяснял слепоту
Бабы-Яги взаимной невидимостью живых и мертвых (Пропп В. Я.
Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946, с. 59).
40 Jeffreys M. D. W. Mythical origin of cattle in Africa, с 141. Ср. в
индийской мифологии отождествление коров с водами, которые запирает Врит-
ра (Fontenrouse J. Python. Berkley and Los Angeles, 1959, с 48).
41 Roumguère-Eberhardt J. Pensée et société africaines, с. 21-22. На
фресках Тассили, обнаруженных и опубликованных А. Лотом, есть сцены, очень
напоминающие ритуальный танец Змея (Lhote H. Les peintures d'époque
bovidienne du Ta?sili.- Journal de la Société des Africanistes, t. XXXVI, fasc. 1,
P., 1966). На фреске из Джаббарена отчетливо видны фигуры пяти
танцующих девушек. Они помещены внутри разомкнутого круга, образуемого
змеевидным телом. Женские фигуры, с увеличенными бедрами, лишены
грудей. Аналогичные сцены с похожими женскими фигурами можно видеть и
на фресках из Тн-н-Тазарифта. А. Лот приписывает эти сахарские фрески
предкам фульбе. На наш взгляд, вопрос об атрибуции наскальных
изображений из Сахары, которые пока нельзя даже приблизительно датировать,
остается нерешенным. Однако очевидно, что сцепы, запечатленные на
фресках, имеют отношение к ритуалам какого-то древнего скотоводческого
народа (или народов), возможно, близким к ритуалам современных фульбе-
скотоводов.
42 Ср. с ролью Геры в древнегреческих мифах о Зевсе.
43 Например: Equilbecq F. V. Contes populaires d'Afrique, conte XCVIII.
44 Hiiro. Niamey, 1983, c. 50.
215
45 Labouret H. La langue des Peuls, с 125-126.
46 Seydou Ch. Contes et fables des veillées, contes IV, V,
47 Hampaté Bâ Amadou, Dieterlen G. Koumen, с 17, 71; Hampaté Bâ
Amadou. Culture peule.- Présence africaine, 1956, № 8-10, с 91.
48 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. M., 1981, с. 31.
49 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970, с. 70. Как
отмечает Д. С. Раевский, для того чтобы мифология в условиях устной
культуры могла сохранять свой характер формы общественного сознания,
выступать в роли миропознающен концепции всего коллектива, в ней
обязательно должно существовать инвариантное ядро, реализуемое через множество
конкретных повествовательных вариантов (Раевский Д. С. Модель мифа
скифской культуры. М., 1985, с. 11).
50 Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1964, с. 379, 380.
По мнению Дж. Фонтенроуза, имя Гера, являющееся женской формой от
имени «герой», первоначально означало «хозяйка» и «дух мертвой женщп-
пы», тогда как слово «герой» значило «дух мертвого мужчины» (Fontenrou-
se J. Python, с. 119).
51 Lévi-Strauss С. Les structures élémentaires ue la parenté P., 1949, с 95.
Ср. древний культ близнецов-основателей Рима. В. В. Иванов, ссылаясь на
Дюмезиля. связывает его, в частности, с древним представлением о Ларах
Рима, воплощенных в виде двух молодых людей в овечьих шкурах с собакой
(Иванов В. В. Заметки о типологическом исследовании римской и
индоевропейской мифологии.- В кн.: Труды по знаковым системам. IV. Тарту,
1969, с. 59).
52 Boumequère-Eberhardt J. Pensée et société africaines, с. 22.
53 Змей-страж воды встречается в волшебных сказках фульбе, которые
обнаруживают много общих черт со сказками соседних африканских
пародов.
54 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976, с. 207.
55 Arnott К. African Myths and Legends. Oxford, 1979, с. 211.
56 Здесь наблюдается инверсия атрибута: в фульбской традиции - это
атрибут Змея, в индоевропейской - его Антипода, ср. Зевс (Аполлон), Баал.
Индра убивают Змея в юном возрасте. У фульбе Змей, который вначале очень
мал, впоследствии достигает гигантских размеров и погибает, как бы
завершив свой цикл (ср. Критский Зевс).
57 Котляр Е. С. Эпос народов Африки. М., 1985, с. 14-15.
58 Змееборческий мотив второго типа характерен для некоторых сказок
и эпических сказаний фульбе. См., например, сказание о Самбе Геладио Дье-
ги, правителе Фута-Topo (Cendrars Biaise. Anthologie nègre, conte 37).
59 К этому типу следует отнести, на наш взгляд, и миф венда о Змее,
приведенный в исследовании Ж. Румгер-Эберхардт, по мнению которой
этот миф очень близок к аналогичному мифу фульбе, с чем мы не можем в
полной мере согласиться.
80 Котляр Е. С. Миф и сказка Африки. М., 1975, с. 64-65.
61 Jeffreys M. D. W. Mythical origin of cattle in Africa.
62 Оля Б. Боги Тропической Африки. M., 1976, с. 53.
63 Так, легенды фульбе Коа (Мали), издавна живущих вместе с бам-
бара, отождествляют Тяянабу с Фаро, которому приписывают создание
коров (Ligers Z. Comment les Peuls de Коа castrent leurs troupeaux.— Bulletin
de l'Institut français d'Afrique Noire. Dakar, t. XX, sér. B, № 1-2, 1958, с 201).
64 Dieterlen G. Essais sur la religion Bambara. P., 1951, с 44-45.
65 Hampaté Bâ Amadou. L'Eclat de la Grande Etoile, с 29-31. Именно от
бозо фульбе узнали все секреты, связанные с водой и живущими в иен
животными. Самих бозо, которые согласно мифам произошли от двух
дочерей-близнецов духа воды, считают «хозяевами воды» (Dieterlen G. Essais
sur la religion, с 50).
66 Более подробно о Гено см.: Зубко Г. В. Материалы к древнейшей ми-
фологии фульбе.- Сов. этнография, 1987, № 1.
ПУБЛИКАЦИИ
H. H. Поташинская
ТЕОЛОГИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ.
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Публикуемые ниже документы и материалы дают предстапле-
ние о некоторых основополагающих аспектах теологии
освобождения, в последние десятилетия широко распространившейся в
католических массах. Возникла она в Латинской Америке. Ряд
идеологов этой теологии видят ее корни в трудах и деятельности
прогрессивных миссионеров (А. де Монтесинос, Б. де Лас Касас,
X. де Акоста, Б. де Саагун) и священников, боровшихся за
независимость своих стран (М. Идальго и X. М. Морелос). Однако
большинство теологов освобождения и исследователей считают
началом движения II Ватиканский собор (1962—1965) и его
латиноамериканское прочтение — II конференцию
латиноамериканского епископата (СЕЛАМ) в Медельине (Колумбия, 1968 г.),
а местом рождения — церковноприходские общины. В
соответствии с этим в специальной литературе принята следующая
периодизация этого движения: 1962—1968 гг.—подготовительный
период (от Собора до Медельина), 1969—1976 гг.— время формирования.
В 1969 г. перуанский священник Г. Гутьеррес, ныне
признанный отец теологии освобождения, высказался за поворот
католического вероучения к чаяниям беднейших народных масс.
В 1971 г. он опубликовал монографию, давшую имя всему этому
движению.
Через четыре года в Детройте (США) прошла организационная
встреча теологов освобождения Латинской Америки с
представителями черной и феминистской теологии. В 1976 г. на
конференции в Дар-эс-Саламе (Танзания) теологи освобождения
определяют себя как «теологическое выражение третьего мира». Тогда
была создана Экуменическая ассоциация теологов третьего мира.
Теология освобождения шагнула на все континенты: в Африке
она особенно распространилась в Заире, Танзании, Гане, ЮАРГ
в Азии — в Индии, Шри-Ланке, Пакистане, Корее, на Филиппи-
Н. Н. Поташинская, 1990 (вступ. статья, перевод)
217
нах, в США она цредставлена черной теологией, борющейся за
гражданские права негритянского населения; в Европе это
движение за солидарность с «третьим миром», а также с бедняками
и маргиналами развитых стран.
Характерно, что для теологов освобождения бедные, в
отличие от христианских традиций, не объект, а субъект
освобождения. Мы публикуем выступление бразильского теолога
К. Боффа, посвященное распространению теологии освобождения
за пределы государств Латинской Америки.
К теологии освобождения, помимо феминистских, примкнули
также и экологические, пацифистские и антиядерные движения.
Теология освобождения неходит в основном не из догматов
Священного писания, а из реальной жизни. Размышления в ней —
вторичный акт: происходит интерпретация конкретных ситуаций,
которые для этих теологов неизменно первичны, но
интерпретируются они в соответствии с источниками христианских традиций.
С 1977 г. по настоящее время теология освобождения
переживает период систематизации. Появляется новое поколение
теологов освобождения. Последние постепенно начинают сочетать
теоретические построения с активной практической пастырской
деятельностью.
Традиционные католические догматика и символика в теологии
освобождения приобретают иные формы, зачастую максимально
приближенные к местным условиям. Примеры приводятся в
публикуемой статье Р. Лукетти «Литургия освобождения».
Теология освобождения прежде всего интересуется социально-
политическим аспектом (освобождение угнетенных), затем
антропологическим (построение качественно нового общества путем
изменения к лучшему души человека) и только потом традиционно
теологическим («освобождение от греха» как корня всякого
угнетения). Поэтому теологи освобождения отдают предпочтение
общественным наукам и признают, что используют марксистские
методы анализа. Их вождем остается Иисус Христос,
а Карл Маркс для них — товарищ по пути, как заявили братья
Бофф \
Теология освобождения представляет собой обновленческую
концепцию, отражающую стихийный социальный протест
верующих трудящихся.
В этой концепции отражены различные, нередко весьма
разнородные тенденции и направления, объединенные общей
методологией прочтения библейских текстов в свете
современного общественного развития. Наиболее важны различия
течений в зависимости от приоритетного направления на:
пастырскую практику; этнический и культурный аспект (расовая
проблема) ; социально-политический аспект; практику
революционных групп. Против последнего направления были в пер-
Boff L., Boff С. Como hacer toologia de la liberation. Madrid, 1985, с. 42.
218
uyio очередь направлены обе ватиканские Инструкции по
теологии освобождения— 1984 и 1986 гг.
Критика, содержащаяся и Инструкции 1984 г., была
направлена в основном на применение теологией освобождения
марксистского метода для анализа общественных противоречий,
признание классовой борьбы, на идентификацию освобождения от
угнетения с христианским спасением от греха и политическое
прочтение Священного писания.
Значительная часть епископов встретила этот ватиканский
документ молчанием; в левокатолических кругах возникли
удивление, недоумение, прошла волна протестов. Публикуемая статья
К. Боффа «Что такое теология освобождения на самом деле?» —
один из ответов на эту Инструкцию.
Учитывая сложившуюся обстановку, Конгрегация доктрины
веры в 1986 г. опубликовала вторую Инструкцию (отрывки
публикуются), которая, в отличие от первой, не концентрируется на
критике «опасностей» для веры и церкви, а напротив,
решительно осуждает несправедливость и угнетение и дает позитивное
изложение доктрины о свободе и освобождении. В этом документе
тема классовой борьбы смягчена: насилие допускается
исключительно при условии, что все прочие способы воздействия уже
исчерпаны. Подобная аргументация фактически обращена к теологии
освобождения, хотя последняя в тексте прямо не называется.
Ей противопоставлена альтернативная доктрина, основанная
на христианском антропологизме и неотомистском
персонализме.
О практической деятельности теологов освобождения говорит
интервью с Л. Боффом «Моя роль христианина», в котором также
определено отношение второго поколения теологов освобождения
к революционному насилию.
Послание организации «Церковь и общество в Латинской
Америке», публикуемое здесь, представляет позиции наиболее
радикального течения теологии освобождения, сторонников
вооруженной борьбы.
Небольшая заметка из французского левокатолического
еженедельника «Темуапьяж кретьен» дает пример деятельности
«делегатов слова» в Никарагуа — одной из многочисленных новых
форм движения низовых левокатолических общин, ныне
составляющих во многих странах базу теологии освобождения. Куба в
60-е, Чили в 70-е, Никарагуа в 80-е годы для многих сторонников
теологии освобождения являются образцами практической
реализации их чаяний.
Приведенные документы и материалы свидетельствуют о том,
что все расширяющееся участие левых католиков в борьбе за
свое освобождение стало неоспоримым фактом, знамением
времени.
219
Клодовис Бофф
Что такое «теология освобождения»
на самом деле?
С появлением «геологии освобождения» теология стала
интересовать не только теологов. Сегодня «теологией освобождения»
интересуется весь народ божий, пастыри и миряне. Она,
действительно, стала церковным фактом.
Более того, «теология освобождения» переступила границы
церкви и превратилась в общественное явление. Она стала
аргументом в горячих беседах ц спорах о средствах массового
общения как в академических кругах, так и на профсоюзных и
политических собраниях. О ней говорят даже в барах...
Почему возник такой интерес к ней? Потому что «теология
освобождения» больше обычной теологии. Она представляет
церковь целого континента, включенную в исторический процесс
жизни народа. За «теологией освобождения» стоят люди,
обязательства, жизнь. Это симптом процесса, и церковного, и
социального. За «теологией освобождения» стоит народ, а не книги.
В этом «небольшое различие» между теорией и практикой.
Отсюда эта внутренняя дотеологическая основа, вызывающая
сегодня всеобщий интерес к «теологии освобождения». Некоторые
из наиболее представительных современных теологов в связи с
этим считают, что значение «теологии освобождения» выходит за
латиноамериканские границы. Например, Э. Шиллебекс на вопрос:
«Кого из значительных теологов вы видите рядом с собой?»
ответил: «Крупнейшие теологи Запада, европейцы и американцы,
сегодня являются „теологами освобождения". Мы многому
учимся у них. Мы слишком академичны, а „теологи освобождения"
стимулируют нас к размышлению о жизни христианской общины».
К. Ранер (по разным поводам) и Урс фон Балтазар (получая
премию Павла VI в июне 1984 г.) говорят о «теологии
освобождения» как о самом новом и самом жизнеспособном явлении
современной теологической панорамы...
До возникновения «теологии освобождения», в конце 60-х
годов, в Латинской Америке уже существовала освободительная
практика. До «теолога освобождения» мы уже имели пророка-
епископа; мирянина, осознающего свой долг; освободительные
общины. Все это уже было в начале 60-х годов.
Таким образом, теология прибыла вторым эшелоном как
выражение освободительной практики церкви. Это означает, что
«теология освобождения» является «теологией церкви
освобождения», т. е. церкви, сделавшей предпочтительный выбор в
пользу бедных и солидарной с ними...
Выведенная из своего жизненного окружения (места в жизни),
в котором она рождается и развивается, «теология освобождения»
становится непонятной. Поэтому, чтобы узнать ее, недостаточно
читать статьи и книги о «теологии освобождения». Необходимо,
прежде всего, соединять эти статьи и книги с церковной и
социальной почвой, из которой они вышли и которую теологи хотят
интерпретировать и осветить.
Поэтому «теология освобождения» делается (и понимается) в
процессе, в факте страдания и надежды. Сверху и извне она
становится непонятной.
Я бы даже сказал, что «теологию освобождения» понимают
только два типа людей: бедные и те, кто борется за
справедливость. Т. е. те, кто 1) алчет хлеба и 2) алчет справедливости
(и солидаризуется с алчущими хлеба). Напротив, не понимают и
не могут понять «теологию освобождения» все удовлетворенные:
богатые и пассивно принимающие порядок вещей.
Это означает, что в основе (и до любой теологии) существует
жизненный выбор, определенный опыт веры, занятие позиции по
отношению к конкретному миру, в котором мы живем.
Следовательно, дотеологическая ситуация (в общем плане) или за или
против «теологии освобождения».
Отсюда важно понять «теологию освобождения» в ее
собственном окружении. «Теологов освобождения» следует читать не в
«башнях из слоновой кости» некоторых теологических
факультетов (используя выражение Иоанна Павла II), но в бараках, в
народных кварталах, на фабриках и в полях, в общем, там, где
страдает, борется и умирает угнетенный народ.
Осуждать «теологию освобождения», не видя бедняка,
означает ошибиться в мишени, не видеть центральной проблемы этой
теологии. Напротив, основная проблема «теологии
освобождения» — не теология, а освобождение. Не теолог, а бедняк. Можно
(гипотетично) разрушить «теологию освобождения», но проблема,
которую она ставит, не разрешится...
Я бы даже сказал, что многим для понимания этой теологии
и прихода к ней необходим живой и непосредственный опыт
бедности и борьбы, которую народ ведет, ради преодоления бедности.
Вот недавнее заявление кардинала Д. Данеелса из Брюсселя по
возвращении из поездки по Бразилии: «Есть нечто трагичное в
том, что сегодня происходит с „теологией освобождения" и вокруг
нее. Потому что она восходит к очень острому и очень глубокому
чувству бедности. Эту бедность мы со всей очевидностью можем
наблюдать повседневно. Но другое дело — познать ее там, где
она существует, застапить ее проникнуть в нас через пять чувств,
чтобы нас тронули страдания бедных, чтобы мы почувствовали их
тоску, пережили грязь трущоб, которая липнет к твоей коже. Это
проблема номер один: судьба бедных. Мы не можем допустить,
чтобы эти люди впадали в еще большую нищету, и должны
поддержать их теологов».
В этом смысле «Инструкция» Конгрегации доктрины веры,
хотя и очень строго отнесшаяся к современным достижениям
«теологии освобождения» (кардинал Данеелс, член этой
Конгрегации, описывает данную «Инструкцию» как «набросок» того.
221
чем могла бы стать плохая «теология освобождения», которая,
однако, «в такой форме не существует в действительности*), не
нападает на источник, из которого исходит эта теология, т. е. на
борьбу за справедливость и на выбор в пользу бедных... При
условии, что сам источник остается открытым, реку можно менять
п даже перегораживать плотиной...
Скажем, кроме того, что у римского документа есть и другая
заслуга: он освящает и гарантирует возможность, законность
проекта «теологии освобождения». До «Инструкции» Конгрегации
доктрины веры все это весьма оспаривалось во влиятельных
церковных кругах. Очевидно, проблема в другом — и такова
серьезная критика, выраженная в документе,— в способе, с помощью
которого развивался законный теологический проект. Следует, во
всяком случае, отметить, что, каковы бы ни были оценки
допустимости или недопустимости призывов Ватикана, «теология
освобождения» признает свои границы, двусмысленность п даже
противоречия. Тем не менее, несмотря на ошибочные шаги,
направление и намерения справедливы. А именно это н наиболее
важно в плане размышления.
«Теология освобождения» — это мысли о вере как ферменте
исторических преобразований, как «соли земли», как «свете мира»,
как «социальном милосердии».
Проще, «теология освобождения» является отражением жизни
христианской общины, вовлеченной в освобождение. В этом
контексте идея жизни кажется более богатой и гибкой, чем идея
практики (внешний аспект исторического преобразования). Мне
хочется дать формулу «теологии освобождения» в виде: вера
+угнетение = «теология освобождения».
Социальные или политические масштабы веры — это новый
аспект «теологии освобождения», который ее возвышает, не делая
исключительной. «Теология освобождения» исследует ту
«целостную», «составную часть» евангелизации или миссии церкви,
которой является «деятельность, направленная на достижение
справедливости и участие в преобразовании мира».
«Теология освобождения» хочет показать, что царство божье
должно установиться не только в душе (личностный масштаб),
не только на небесах (трансцендентно-исторический масштаб),
но и в отношениях между людьми, в социальных проектах
(исторический масштаб).
В общем, это теология, которая хочет принимать всерьез и
историю, и историческую ответственность христиан.
Однако ныне христиане встречаются с огромным,
неслыханным вызовом. Сегодня в церкви открывается — об этом говорит
Собор в «Гаудиум эт спес» (54) — «новая эпоха человеческой
истории». Медельин почти ввел эту новизну в Латинскую
Америку: «Мы на пороге новой исторической эпохи своего континента,
эпохи, заполненной жаждой всеобщей эмансипации, избавления
от любого рабства».
Может быть, впервые перед верой и христианской общиной в
коллективных масштабах ставится такой сильный проект: внести
решительный (может быть, даже решающий) вклад в построение
нового общества, в котором будет преодолено крупное социальное
неравенство.
Мы можем отметить, в общем плане, что в первые века вера
выполняла в социальных условиях функцию оспаривания. Потом
но время всего долгого периода константинианства она выполняла
преобладающую функцию сохранения существующего порядка.
Сегодня для веры наступил исторический момент выполнения
роли социального построения. «Теология освобождения» хочет
быть эхом п ответом на эту обширную задачу, охватывающую всю
церковь, прежде всего начиная с «Рерум новарум».
Новизна «теологии освобождения» не основывается
исключительно на описанной выше исторической задаче. В этом
отношении «теологию освобождения» обогнали социальная доктрина
католической церкви, европейская «политическая теология» и еще
больше — теология «знамение времени», как она была
предложена и практиковалась в «Гаудиум эт спес».
Новизна «теологии освобождения» опирается в первую очередь
на способ разработки отмеченных тем, т. е. на практику
освобождения. Речь идет о внутреннем, но не жестком объединении
теории к практики, теологии и жизни веры.
Действительно, метод «теологии освобождения» не
дедуктивный, но п не индуктивный. Это сумма обоих: диалектический
метод. Речь просто-напросто идет о «взаимном призыве, с которым
постоянно обращаются и Евангелие, и жизнь» («Эвангелии нун-
цианди», 29). Только так, на деле, станет возможным преодоление
одной из «самых серьезных ошибок нашего времени»: «разрыва»
между верой и жизнью, как говорит Собор («Гаудиум эт спес»,
43).
Эта взаимная связь теории с практикой действительна и для
самого теолога. Последний должен иметь конкретные, а не
только теоретические связи с практикой веры общины. Войдя таким
образом в общину веры и милосердия, он сможет практиковать
теологию, которая рождается изнутри.
Важно отметить, что диалектика теории — практики вовсе не
марксистская и не была таковой с самого начала, хотя она и
получила от Маркса специфическую формулировку. Напротив, в
действительности она основана на теологии отцов церкви и на
библейском откровении.
Действительно, это соотношение теории с практикой
определило первую великую теологию — патристику. Тогда теологи были
одновременно и теоретиками и пастырями. Теология отцов
церкви глубоко связана с конкретными проблемами, пережитыми ими
и их церквами. В этом смысле «теология освобождения»
представляется не такой новой, как она может показаться на первый
взгляд...
Является ли «теология освобождения» целостной теологией
или она — частное направление развития общей теологии?
223
Этот вопрос латиноамериканские теологи еще не разрешили.
Одно несомненно: как бы ее ни понимали, в «теологии
освобождения» существует твердое убеждение, что вера включает и
в то же время превышает социальное освобождение (или
социальный масштаб освобождения).
Нет сомнения: современная «теология освобождения»
развивается прежде всего в социальном аспекте веры (поэтому она
называется теологией). Это связано с тем фактом, что этот
аспект, с одной стороны, представляется наиболее срочным и
драматичным, а с другой — до сих пор в самой малой степени
был объектом теологических размышлений.
Во всяком случае, трансцендентный аспект веры
(освобождение от греха, причащение богу-отцу), уже значительно
представленный в классической теологии, прекрасно принят и
представлен в «теологии освобождения». Именно трансцендентный аспект
делает возможной «теологию освобождения»... Таким образом,
«теология освобождения» входит в «симфонию» пли плюрализм
теологии со своим собственным голосом, но при этом она
постоянно ведет диалог с другими теологическими течениями, прежде
всего с теми, которые в каждой конкретной ситуации связаны с
исторической практикой...
В действительности, как мы видели, «теология
освобождения» — это язык конкретной церкви, которая обязалась быть с
бедными ради их освобождения. Поэтому могут быть сотрудники
или интерпретаторы этого направления веры, этого нового типа
христианства. Они в теоретическом плане представляют этот тип
церкви; так, на евангелистов сегодня смотрят как на
составителей мемуаров о вере и жизни в первобытном обществе.
Но речь ни в коем случае не идет об изобретателях нового
учения, которое якобы потом будет «применяться» пастырскими
агентами, порождая тем самым низовые церковные общины,
народный апостолат, пророков-священников, монахов, включившихся
в освобождение, и т. д.
«Теология освобождения» не является дополнительным
«культурным фактом». Напротив, она представляет собой культурное
выражение живого процесса.
Строго говоря, истинными родителями «теологии
освобождения» являются церковная иерархия и угнетенный христианский
народ Латинской Америки...
Утперждают, что «теология освобождения» «основывается» на
марксизме или «вдохновляется» им... Во всяком случае, следует
отметить, что абсолютным двигателем, основой или
вдохновителем «теологии освобождения» является не марксизм, а
христианская вера. Специфика Евангелия определяет «теологию
освобождения», как это должно быть у всякой теологии: Евангелие — ее
сердце.
Марксизм — вторичная и периферийная проблема. Его
используют лишь частично и только как орудие. Также поступают и
папы, и епископы, и многие современные социальные исследова-
224
телн. Именно вера ассимилирует и суммирует марксистские
элементы, а не наоборот. Вера включает их, исходя из реальности
бедняков, но глубоко преобразует эти элементы, так что речь уже
идет не о марксизме, а о простой критической интерпретации
действительности.
Следует признать, что иногда эта деликатная задача
практиковалась с недостаточной ясностью и зрелостью. Но мы спокойно
идем по этой дороге, конечно, с евангельским благоразумием, но
без боязни «идеологической полиции».
Testimonianze. 1985, M 1, с. 47-68.
Пер. с ит. H. H. Поташинской
{публикуется с сокращениями)
Клодовис Бофф
О «теологии освобождения» в Африке, Азии, Европе.
Выступление на конференции,
организованной итальянским католическим журналом
«Тестимоыьянце» (декабрь 1984)
Первые выражения этой темы, формальные размышления об
освобождении, как известно, родились в Латинской Америке и
стали в первую очередь выражением других двух крупных блоков
«третьего мира», Африки и Азии. Они не копировали и не
воспроизводили наши речи; сначала, да, они перевели наши книги,
но вскоре затем «пересмотрели», интерпретировали заново эти
импульсы и эту открытость в отношении своей специфической
проблемы. Например, в Африке была подчеркнута проблема
культурного отчуждения, которое они. называли антропологической
бедностью народа, открывшего и свою культурную сущность.
Негры потеряли способность быть неграми, быть африканцами,
»ведя в свою духовную сущность культуру иностранцев. Отсюда
попытки восстановить африканизм, африканскую, племенную,
религиозную культуры или культуру жизни, культуру того целого,
которым является жизнь на Земле,— процесс, проходящий над
биологической жизнью, никогда не отрывающийся от основы, т. е.
не освобождающийся от материальной жизни, от средств к жизни,
т. е. не отрывающийся от социально-экономического
освобождения. Ясно, что освобождение имеет значительно больше
вариантов, оттенков, масштабов, чем простое освобождение от голода, от
материальной бедности. В Азии, где христиане в меньшинстве
(2%), подчеркивалось прежде всего восстановление роли крупных
восточных религий, потому что эти крупные религии являются
выражением жизненной силы этих народов. Они нашли смысл,
надежду в своей религии, для них было важно восстановить этот
крупный исторический, культурный, религиозный, мистический
капитал, накопленный в сознательно освободительном ключе, что-
226
бы эти религии не использовались с целью сохранения
существующего положения идеологическим, мистификаторским образом,
как, мы знаем, они используются.
Очень важный вклад, сделанный африканцами, азиатами и
нами, латиноамериканцами, в «теологию освобождения», состоит в
расширении классовой концепции до народной концепции. Это
гораздо более богатая концепция, чем концепция классов, потому
что она включает социально-экономическое освобождение, которое
подразумевает также освобождение политическое, культурное и
историко-религиозное. «Теологи освобождения» обогатили
концепцию освобождения этих религий не только освобождением
бедных, но и освобождением негров.
Этот теологический опыт, как вы знаете, находит также свое
отражение в экспериментах, которые мы имеем в Европе, в
«первом мире», и об этом говорит и Ратцингер в своем документе.
Кажется, Рим несколько озабочен этим общим «отравлением»
теологов, семинаристов, христиан... также и в «первом мире»,
даже в США.
После универсализации, связанной с Римской инструкцией,
мы ожидаем, что Европа и Соединенные Штаты внесут
серьезный теологический вклад, очевидно, еще раньше церковный,
потому что нельзя понять «теологию освобождения» в Европе без
предшествующих движений, экспериментов и попыток
освободительной веры, которые мне кажутся предваряющими, потому что
имеется церковный, религиозный фермент, очень активный в
Европе. Мне представляется, что до сих нор «теологии
освобождения» еще не удалось объединить все церковные силы и стать
церковной программой, какой, например, является программа
Пуэблы.
Testimonianze. 1985, M 1, с. 103-104.
Пер. с иг. Н. Н. Поташипской
Христианская свобода и освобождение.
Отрывки из Инструкции Конгрегации доктрины веры
Инструкция Конгрегации доктрины веры о христианской
свободе и освобождении в брошюре ватиканского издания
насчитывает 60 страниц. Текст разделен на 100 параграфов в 5 главах:
состояние свободы в современном мире; драма греха;
освобождение и христианская свобода; освободительная миссия церкви;
христианская практика в освобождении.
Свобода сегодня
«Современное движение за освобождение наметило
политическую и социальную задачу. Оно должно положить конец
господству человека над человеком и добиться равенства и братства
всех людей. Что позитивных результатов еще надо достигнуть —
неоспоримый факт. Легальное рабство и подчинение отменены.
Можно говорить о значительном прогрессе всеобщего права на
культуру. Во многих странах закон признает равенство между
мужчиной н женщиной, участие всех граждан в осуществлении
юлитической власти и одинаковые права для всех. Расизм отвер-
•ается как противоречащий праву и справедливости. Установле-
ше прав человека означает более явное осознание достоинства
исех люден. По сравнению с прежними системами господства
тсльзя отрицать завоевание свободы и равенства во многих
обществах» (§8).
И однако... «Идет ли речь о завоевании природы, или о
социальной и политической жизни, или о господстве человека над
самим собой в индивидуальном и коллективном планах,—
каждый может констатировать, что достигнутый прогресс не только
далек от изначальных устремлений, но и новые угрозы, новое
подчинение и новые ужасы возникают в то же время, как
расширяется современное движение за освобождение. И это
означает, что серьезная двойственность самой сущности свободы с
самого начала паразитировала на этом движении изнутри» (§ 10).
Так, например, было с рабочим движением... «Чаще всего его
справедливые требования вызывали новое подчинение, потому
что это движение вдохновлялось концепциями, которые,
игнорируя трансцендентное призвание человеческой личности,
приписывали человеку чисто земной конец. Иногда рабочее движение
направлено к коллективистским проектам, которые должны
породить такие же серьезные несправедливости, как и те, которым
они намереваются положить конец» (§ 13).
Так что в конце концов... «Когда человек хочет освободиться
от морального закона и стать независимым от бога, ему далеко
до завоевания свободы: он разрушает свободу. Уклоняясь от
истинной веры, он становится добычей деспотизма; братские
отношения меж людьми отменяются, уступая место ужасу,
ненависти и страху. Будучи отравленным смертельными ошибками
относительно условий жизни человека и его свободы, в глубине
своей современное движение за освобождение становится
двойственным. Оно одновременно полно и обещаниями истинной
свободы, и смертельными угрозами порабощения» (§ 19).
Иллюзии свободы угрожают человеку всякий раз, как он
забывает о своей истинной природе... «Осуществляя свою свободу,
он решает сам за себя и сам себя формирует. В этом смысле
человек — причина самого себя. Но таковым он является в
качестве божьего создания и образа. Такова истина его существа,
проявляющаяся по контрасту с глубокими ошибками в теориях,
которые полагают, что они экзальтируют освобождение человека
и его „историческую практику", делая из них абсолютный
принцип своего существования и своего становления. Эти теории
являются выражением атеизма или по своей собственной логике
тяготеют к нему. Решительное безразличие и агностицизм
действуют в том же духе. Именно образ бога в человеке — основа
свободы и достоинства человеческой личности» (§27).
227
И еще... «Бог призывает человека к свободе. И каждый живет
стремлением быть свободным. Однако такое стремление почти
всегда приводит к рабству и угнетению. Всякие обязательства по
освобождению и свободе предполагают, таким образом,
столкновение с этим драматическим парадоксом» (§ 37).
Христианская свобода
«Из-за жертвы Христа культурные предписания Ветхого
Завета утратили свое значение. Что же касается юридических
норм социальной и политической жизни Израиля, то
апостольская церковь как царство божье на земле осознает, что она
больше не связана с ними. Это показывает христианской
общине, что законы и действия властей различных пародов, хотя и
законные и достойные послушания, однако, вовсе не могут
претендовать на священный характер как таковые. В свете
Евангелия многие законы и структуры кажутся носящими марку греха
и угнетающе влияющими на общество» (§ 54).
И, таким образом, перед лицом «беззаконного неравенства,
которое сегодня бьет по миллионам мужчин и женщин»,
христианин не может уйти в надежду на будущее блаженство, пе
связанное с земной жизнью; эта надежда в действительности...
«не ослабляет обязательств относительно прогресса в земном
городе, но, напротив, придает им силу. Конечно, следует
тщательно отличать не являющиеся одноплановыми земной прогресс и
возрастание царства божьего. Тем не менее, это различие —
не разделение, потому что призвание человека к вечной жизни
не устраняет, а подтверждает его задачу введения в оборот
энергии и средств, которые он получил от создателя для развития
своей временной жизни» (§ 60).
Миссия церкви
Именно церкви вверена «освободительная миссия», которую
человеческие.идеологи и власти, по словам Инструкции, так
плохо используют. Эта миссия берет начало и выражение в
возвещении Евангелия... «Евангелие — это могущество вечной жизни,
отныне отданное тем, кто его получает». Но, охватывая новых
людей, эта сила проникает в человеческую общину и в ее
историю, очищая и оживляя таким образом свою деятельность.
Отсюда она — «корень культуры»...
«Основная миссия церкви, вслед за миссией Христа,— это
евангелизаторская спасительная миссия. Она черпает свои силы
в божественном милосердии. Евангелизация — возвещение
спасения, дар бога. По слову бога и по его таинствам человек был
освобожден прежде всего от власти греха и от власти зла,
которые его угнетали, и он вместе с богом был введен в общность
любви. Вслед за своим господом, который „пришел в мир спасти
грешников" (I Тим. 1, 15), церковь хочет спасти всех людей.
В этой миссии церковь указывает путь, которым в нашем мире
человек должен следовать, чтобы войти в царство божье. Таким
образом, учение церкви распространяется на всякий моральный
порядок и, конечно, на справедливость, которая должна
регулировать человеческие отношения. Это входит в проповедь
Евангелия. Но любовь, побуждающая церковь сообщать всем о милости
участия в божественной жизни, осуществляется также с
помощью эффективных действий ее членов по преследованию
истинного временного блага людей, обеспечения их нужд,
помощи их культуре и осуществлению полного освобождения от всего,
препятствующего развитию личности. Церковь хочет блага
человека во всех его аспектах, прежде всего, как члена божьего
города, а затем — как члена земного города» (§ 63).
Евангелизация и развитие
«Когда же она высказывается за продвижение в
человеческое общество справедливости или обязывает верующих работать
для этого в соответствии с их собственным призванием, церковь
не выходит за рамки своей миссии. Однако она стремится к тому,
чтобы эта миссия не поглощалась заботами временного порядка
и не сводилась бы к ним. Вот почему она очень старается ясно
и твердо сохранять как единство, так и различия между еванге-
лизацией и продвижением человека: единство, потому что она
ищет блага для человека в целом; различия, потому что эти две
задачи входят в ее миссию в разном виде» (§ 64).
«Именно преследуя собственные цели, церковь распространяет
свет Евангелия на земные реальности так, чтобы человеческая
личность излечилась от своей нищеты и возвысилась в своем
достоинстве. Сплоченность общества в соответствии со
справедливостью и миром в мире таким образом утверждена и усилена.
Так сама церковь верна своей миссии, когда она осуждает
отклонения, рабство и угнетение, жертвами которых становятся люди».
«Она верна своей миссии, когда противится попыткам
установить такую форму социальной жизни, в которой бог отсутствует
как по сознательной оппозиции, так и по преступному
небрежению».
«Она верна, наконец, своей миссии, когда выражает свое
суждение о политических движениях, намеревающихся бороться
против нищеты и угнетения, используя теории и методы
деятельности, противоречащие Евангелию и противостоящие самому
человеку».
«Конечно, с энергией милости евангельская мораль принесла
человеку новые перспективы и новые требования. Но она
улучшила и возвысила моральный аспект, который уже принадлежит
человеческой природе и о котором церковь заботится, зная, что
это — общее наследство всех людей как таковых» (§ 65).
Именно в этом ракурсе Инструкция подходит к теме
предпочтительного выбора в пользу бедных, который... «далекий от
признаков сепаратизма или сектантства, показывает
универсальность существа и миссии церкви. Этот выбор имеет
исключительный смысл. Это причина, по которой церковь не может его вы-
229
разить с помощью узких социологических и идеологических
категорий, делающих из этого предпочтения предвзятый выбор
конфликтного характера» (§ 68).
Именно в этом свете в параграфе, о котором говорят, что на
его включении настаивал Иоанн Павел II, позитивно
представлены низовые общины. «Новые церковные низовые общины или
другие группы христиан, образованные, чтобы стать свидетелями
этой евангельской любви, являются для церкви поводом к
великой надежде. Если они действительно живут в единстве с
местной и вселенской церковью, они станут истинным выражением
общности (...). Они будут верны своей миссии в той мере, в
которой позаботятся об обучении своих членов целостности
христианской веры с помощью выслушивания слова божьего, верности
учению учителя, иерархическому порядку церкви и сакральной
жизни. В этих условиях их опыт, опирающийся на обязательства
по целостному освобождению человека, становится ценностью
для всей церкви» (§ 69).
Также позитивно, но связывая еще более сложными
условиями, оценивают соответствующую теологию, вытекающую из
«частного опыта», который обращается в разновидность борьбы
за освобождение Латинской Америки... «Теологические
размышления, развивающиеся начиная с частного опыта, могут
составить весьма позитивный вклад, так как они позволяют сделать
очевидными аспекты слова божьего, все богатство которого
раскрыто еще не полностью. Но, чтобы эти размышления
действительно стали чтением Писания, а не проецированием на слово
божье смысла, который в нем не содержится, теолог должен быть
внимателеп к интерпретации опыта, из которого он исходит,
в свете опыта самого Евангелия. Этот опыт Евангелия сверкает
особым блеском и проявляется со всей чистотой в жизни святых.
Он возвращается к церковным пастырям вместе с преемником
Петра, показывая их подлинность» (§ 70).
Социальная доктрина
Последняя глава посвящена напоминаниям о социальной
доктрине церкви и принципам ненасильственного реформизма,
противопоставляемого путям вооруженной революции... «В
процессе освобождения нельзя абстрагироваться от исторической
ситуации страны или нападать на культурный облик народа.
Следовательно, нельзя пассивно принимать, а еще меньше —
активно поддерживать группы, которые силой или манипулируя
общественным мнением захватывают государственный аппарат и
злоупотребляют навязыванием обществу импортируемой
идеологии, противоречащей истинным культурным ценностям народа.
С этой целью следует помнить о серьезной моральной и
политической ответственности интеллигенции» (§ 75).
«Основополагающие принципы и критерии суждения
вдохновляют директивные акции: так как общее благо человеческого
общества находится на службе личностей, средства, используемые
230
в деятельности, должны подтверждать достоинство человека и
благоприятствовать воспитанию в духе свободы. Именно здесь
точный критерий суждения и деятельности: нет истинного
освобождения, если с самого начала не утверждаются права
свободы».
«Нужно осуждать в систематических выступлениях насилие,
представляемое как необходимый путь к освобождению,
показывать, что это разрушительная иллюзия, открывающая дорогу к
новому рабству. С той же силой следует осуждать насилие
имущих, направленное против бедных, полицейский арбитраж и
любые формы насилия, установившиеся в системе управления.
В этих областях нужно уметь брать уроки из трагического опыта,
который знала и все еще знает история нашего века. Больше
нельзя принимать преступную пассивность общественных
властей в демократических странах, где социальное положение
значительного числа мужчин и женщин далеко от соответствия
требованиям гарантированных конституцией личных и
общественных прав» (§ 76).
Осуждение насилия во всех формах, а значит, и борьбы
классов, как одной из форм этого насилия... «Когда церковь
поддерживает создание и деятельность ассоциаций (как профсоюзов),
которые борются за законные права и интересы трудящихся и
за социальную справедливость, она тем самым не принимает
теорию, видящую в классовой борьбе структурную динамику
общественной жизни. Деятельность, которую она проповедует,— это
не борьба одного класса против другого с целью устранения
противника; она не делает ошибочного подчинения пресловутому
закону истории. Она за благородную и разумную борьбу за
справедливость и социальную солидарность. Христианин всегда
предпочтет путь диалога и согласования» (§ 77).
«Положение, чреватое серьезной несправедливостью, требует
смелых и глубоких реформ и устранения неоправданных
привилегий. Но тот, кто дискредитирует путь реформ ради мифа о
революции, не только питает иллюзию, что отмена несправедливой
ситуации сама по себе достаточна для создания более
человечного общества, но еще и способствует появлению тоталитарных
режимов. Борьба против несправедливостей имеет смысл только
в том случае, если она ведется ради установления нового
социального и политического порядка, соответствующего
требованиям справедливости. Последними должны уже отмечаться
этапы установления такого порядка. Существуют нравственные
принципы применяемых средств» (§ 78).
«Эти принципы должны специально применяться в том
крайнем случае, когда прибегают к вооруженной борьбе, отмеченпой
в учении церкви как последнее средство для того, чтобы
положить конец „очевидной и продолжительной тирании, серьезно
угрожающей основным правам личности и вредящей общему
благу страны" („Популорум Прогрессио"). Во всяком случае,
конкретное применение этого средства может быть рассмотрено
231
только после очень строгого анализа ситуации. Действительно,
в случае постоянного усиления применения техники и растущей
опасности, связанной с обращением к насилию, то, что сегодня
называют „пассивным сопротивлением", открывает путь, более
соответствующий моральным принципам и обещающий не
меньший успех».
«Никогда нельзя принимать ни со стороны установившейся
власти, ни со стороны восставших групп обращение к такпм
преступным средствам, как репрессирование населения, пытки,
методы терроризма и провокаций, направленные на убийство людей
в ходе народных демонстраций» (§ 79).
L'Actualité religieuse dans le monde.
1986, M 33, с 35-37.
Пер. с фр. H. H. Поташинской
Леонардо Бофф
Заявление
По поводу датированных 11 марта 1985 г. «Замечаний»
Конгрегации доктрины веры относительно моей книги «Церковь, ха-
ризматика и власть» я хочу сказать нижеследующее:
1. С помощью этого документа высказалась высшая
церковная инстанция, ведающая учепием. Мой долг христианина,
монаха-францисканца и теолога — слушаться и уважать. Я снова
повторяю то, что уже высказывал публичпо. Я предпочитаю
двигаться вместе с церковью, а не идти одному со своей теологией.
В этом смысле я и воспринимаю оговорки, сделанные
Конгрегацией доктрины веры. Очевидно, что эти оговорки квалифицируют
мои позиции не как еретические, раскольнические или
нечестивые, но, по словам документа, как опасные для доктрины веры.
И также важно подчеркнуть, что цитируемый документ ни в
коей мере не критикует «теологию освобождения» и не касается
ни марксизма, ни социализма, как было в письме, направленном
мне 15 мая 1984 г.
2. Я признаю, что попытки разрешения реальных проблем
церкви, дискуссии между теологами могут припиматься или
отвергаться церковными властями. Однако следует отметить, что
такие проблемы требуют все новых размышлений теологов,
наряду с верой церковной общины и ее пастырей. Во всяком
случае, поиски истины — неустранимое требование человеческого
духа и, в еще большей степени,— теологических доказательств.
3. С дисциплинарной точки зрения документ Ватикана не
предусматривает никаких санкций лично против меня.
Следовательно, не будет прервана моя теологическая работа, которую я
намерен продолжать спокойно и настойчиво и, очевидно,
232
ъ удвоенным вниманием к вопросам, отмеченным самыми
высокими церковными властями.
Петрополис, 20.111.1985
11 Regno. 01.05.1985, с. 278.
Пер. с ит. Н. И. Поташинской
Послание организации
«Церковь и общество в Латинской Америке »
съезду Боливийского рабочего центра
В связи с многолетними преследованиями рабочего класса,
истинно освободительного класса мы, члены ИЗАЛ (Церкви
и общества в Латинской Америке), образовавшие группу
христиан, которые включились в революционное движение, очень
растроганы приглашением на ваш съезд. В годы репрессий мы
постоянно выступали в центральной печати против убийств
шахтеров, занятия шахт военными, отмены свобод, без которых
невозможна организация рабочей борьбы, передачи наших
национальных богатств частной национальной инициативе
(арендаторам) и иностранцам, увольнения шахтеров и рабочих по
политическим мотивам; участвовали также в различных забастовках
и петициях правительству.
На своих кафедрах, в классах, в пастырской и мирской
деятельности мы много раз страстно призывали к справедливости,
хотя наши голоса с каждым днем все больше заглушались власть
предержащими. И это создавало внутри наших церквей
значительную напряженность, потому что многие в них неосознанно
были на стороне угнетателей. Однако поддержка человека
угнетенного, маргинала всегда перевешивала любую другую
церковную поддержку, потому что бога можно найти только у того, кто
выносит несправедливость и борется за освобождение своих
братьев. Наш опыт свидетельствует о том, что наступит день,
когда не только небольшая авангардная группа, но и вся
церковь сможет соответствовать, тому, что она проповедует уже
две тысячи лет.
Мы выразили свои позиции в различных документах и
участвовали по мере возможности в вашей борьбе в рамках
профсоюзных организаций. Сегодня мы хотим еще раз со всей ясностью
показать, что считаем своей революционной задачей.
Члены ИЗАЛ — социалисты. Мы не верим в правительство
классового альянса. Потому что классовая борьба, хотим мы того
или нет,— это борьба, начавшаяся много лет, может быть веков
тому назад, когда отдельные имеющие привилегии люди
попытались сохранить угнетение "и несправедливость с помощью
своевременного распределения привилегий, которые сегодня вгоняют
в краску все человечество.
В этой классовой борьбе есть свое белое оружие и красное
оружие. Однако результат всегда один: голод, нищета, смерть,
разрушение и уничтожение человеческой личности, включая
физическое.
Мы не верим в изменение к лучшему класса угнетателей.
Мы видим, что возможен подъем сознательности отдельных
групп, но не реформа современных структур. Эти структуры
основывались на капиталистических принципах частной
собственности на средства производства, злоупотреблении потреблением
и наживой, а также на частной инициативе, которую мы
квалифицируем как слепой и ужасный эгоизм. Все эти принципы
привели нас к тому иесправедливейшему распределению богатства
и власти, при котором мы живем и которое осуждаем во имя
Евангелия.
Более того, мы считаем, что, в сущности, могут встряхнуть,
ниспровергнуть и разрушить этот несправедливый порядок те,
кто не имеет от него прибыли, потому что только они смогут
полностью осознать отчуждение, в котором живет вся страна,
подчиненная иностранному империализму денег и власти. С
другой стороны, в этой борьбе некоторые наиболее сознательные
группы из других классов понемногу ломают отчуждение и
освобождаются от мышления эксплуататоров и имеющих привилегии.
Однако эти группы, в которые входили и мы, должны служить
опорой для рабочих масс, должны открыто встать под их
руководство и на их службу, вовсе не претендуя на замену их в деле
руководства революционным движением, а еще меньше — в
контроле над властью.
Когда мы говорим о революционном движении, это не просто
лозунг. Мы переживаем скорбь нашей родины и нашего
континента. Мы считаем, что ситуация на нем сложилась
революционная, будем мы употреблять это слово или нет. Несправедливость
п угнетение, которые сегодня характерны для нашей истории,
достигли апогея. Невыносима деградация ручного труда, которая
происходит в нашей стране из-за обрекающей на голод зарплаты,
в то время как бюрократы получают зарплату, как в самых
развитых странах. Невыносимо, что в нашей стране 80%
неграмотных и что жилищная проблема стоит перед 40% населения, в то
время как у нас 10 университетов и более 10 тыс. студентов
только в одном из них, и мы в изумлении взираем на этажи
своих небоскребов. Невыносимо, что в мире на каждого человека,
который ест, приходится трое умирающих с голода. Мы будем
бороться вплоть до мученического конца, чтобы в мире нас не
связывали с этим злом. Мы будем бороться с тем, чтобы победить
его, а не с тем, чтобы его исправить.
Мы, конечно, понимаем, что с последним государственным
переворотом ситуация слегка изменилась. Начался процесс
возвращения наших национальных богатств, который, дай-то бог, не
превратился бы в плод оппортунизма или демагогии. Рабочий
класс получил некоторые демократические гарантии, были
сделаны робкие шаги в печати, вплоть до социализации. Но продол-
234
ясаются противоречия, колебания даже в рядах самого
правительства. И оно не соглашается с крайней необходимостью быстрого
изменения структур. Нельзя питать надежды, если люди мрут
с голода или человек не может оставаться человеком. И такое
положение почти во всей стране. Поэтому мы здесь повторяем
слова того, кто погиб от ярости империализма: «Если нет
богатства, то, по крайней мере, давайте получше распределим
бедность».
И потому же мы считаем, что освобождение угнетенных,
помимо того что его нельзя откладывать пи на один день, нельзя
регулировать с помощью реформизма и теорий развития.
Сверх того, оно требует жесткости и самоотверженности,
которые предполагают революционный стиль, стиль нового
человека.
Наше освобождение начинается на профсоюзном уровне, но
оно должно охватить весь мир. Это обширная и жестокая
борьба, потому что угнетающие власти со своими предприятиями и
дипломатическими миссиями сегодня проникают во все уголки
земли.
Пожалуй, мы можем экспериментировать с попытками
развертывающегося прогресса, который приводит к минутному
облегчению, чтобы сделать страну еще более зависимой и
эксплуатируемой, чтобы нас превратили в нищих, подбирающих крохи,
падающие с изобильного стола, за которым сегодня сидит капитализм,
пожирая сельскохозяйственные продукты, нефть и олово.
Истинная революция предполагает революционный стиль, и она
завоевывает народ в большей степени с помощью морали и
сознательности, чем своей политической тактикой, включая свое оружие.
И мы считаем, что христианину есть что внести в эту область.
Наша революция должна осуществиться со всей искренностью,
с высот гуманизма и не может заниматься личным реваншем,
политическим оппортунизмом или сектантством традиционных
партий, более интересующихся своей собственной партией, чем
страной и пролетариатом. Наша революция должна исходить из
любви, а не из ненависти. Революция — это не дешевый
оптимизм или экзальтация, а надежда, потому что это задача,
рассчитанная не на один день, не на несколько лет. Это постоянное
дело человека на земле. Общество никогда не бывает
совершенным. Его структуру всегда можно улучшать. Поэтому
освобождение человека — постоянный процесс вплоть до последнего дня
мира. Действительно, в определенные моменты освобождение
приобретает более срочное и полное значение, потому что нужно
устранить всех столпов общества. И это ситуация, сложившаяся
в настоящее время, революционная ситуация в нашей стране, на
континенте, в «третьем мире». Но не следует впадать в
фальшивый оптимизм, полагая, что этот мир мигом преобразится, как
только пролетариат получит власть. Появятся новые
противоречия, и снова придется учитывать новых угнетенных бюрократией,
привилегией власти.
235
Мы не против насилия, если это единственный выход. Но мьг
его не превозносим. Мы считаем, что революционер доказывает
свою революционность не оружием, но любовью, которая
побуждает его бороться. Нам не нравится насилие, хотя, вероятно,
придется использовать и его. Но это не заставит нас избрать ни егог
ни время, место или способ его использования.
Как это осуществить? Когда? В каком виде? Этого мы без
вас сказать не можем, потому что это, прежде всего и в первую
очередь, ваша борьба. Вы — живая практика освобождения.
И ваша профсоюзная и политическая организация определит
конкретные направления, которые мы всегда поддержим и
которые впишутся в подлинно революционный процесс масс и не
будут отвлечены синекурой, манипулированием или
предательством. Поэтому мы не можем говорить конкретнее. Мы не
предлагаем схем, тактик или стратегий, потому что все это должно
исходить не от мысли, а от жизни, и мы живем в этой драме.
Мы внимательно слушали все, о чем говорилось на этом, для
нас решающем съезде.
Мы пришли сюда не представлять свои церкви. Большинство
из них живут в грехе, поддерживая существующее положение
вещей. И мы боремся с несправедливостью как изнутри, так и
снаружи. Сегодня, более чем когда-либо, мы осознаем, что
Христос принес не мир, но меч и что этот меч разделяет самих
христиан, священников, иногда и иерархию, на угнетателей и
угнетенных. Только борьба за освобождение покажет, кто на какой
стороне. Мы свою выбрали, и ваша борьба стала нашей.
Ла Пас, май 1970 г.
La iglesia latinoamericana у el socialismo.
Documentos de la jerarquia y de grupos eclesiales.
Heverlee-Louvain, 1973, с 77-78.
Пер. с ucn. H. H. Поташинской
Розелла Лукетти
Литургия освобождения
«Мы сильно колеблемся между официальной литургией,
носительницей больших многовековых богатств, от которых мы не
можем отказаться (но эта литургия стереотипна, централизованна,
заботится лишь о теологической ортодоксальности), и народной
литургией с ее символичным, полным любви религиозным миром,
почти неведомым теологам, пастырям и исследователям (но
имеющим свою двусмысленность, которую нельзя отрицать).»
Эти слова дона Антонио Батисты Фрагозо, епископа Кратеу-
са, показывают, что и литургическое выражение может скрывать
символы и послания, способные открыть латиноамериканскому
народу путь к борьбе за собственное освобождение. У народа
есть свой культурный, политический, религиозный мир, своя
история, своя прародительская память, символы, лексика,
которые зачастую чужды «интеллигенции», как местной, так и
заграничной, не имеющей «ключа» к их прочтению и восприятию.
Поэтому войти в народный религиозный мир не просто. Во многих
случаях, сознательно или по легкомыслию, нарушался
культурный облик народа...
Попытаемся, не претендуя на анализ, классифицировать или
расположить, опираясь на два момента (выражения), народную
религиозность наиболее маргинальных и отчаявшихся этнических
групп латиноамериканского мира индейцев и негров через «Мессу
о земле без зла» и «Мессу киломбов».
1. «Месса о земле без зла» — это месса туземного
сопротивления, сложенная Педро Казальдалигой и Педро Тьеррой
(авторы текста) и Мартином Копласом (автор музыки), живущими
в Мато Гроссо (Бразилия). Месса была издана в Рио де Жаней-
ро в 1980 г.
Она написана в память о «распятых» индейцах, об
анонимном коллективном мученичестве, начиная с колониального
периода (XVI в.) до настоящего времени: постоянные убийства, по
данным Миссионерского туземного совета, продолжаются и
ныне...
Бразильская литература определяет индейца как того, кто
должен умереть...
Казальдалига во введении к мессе напоминает, что
христиане привыкли признавать и отличать только тех мучеников,
которых сотворили из христиан нехристиане. Но они игнорируют
многих мучеников, сделанных самими христианами: таковыми были
более 4 млн. индейцев, убитых за последние пять веков...
«Землю без зла» неустанно искала мистика индейцев
гуарани: после всякого пережитого ими насилия, от пролитой крови
они продолжали искать эту землю, а не «небо», землю без зла,
т. е. возможную утопию, возникшую в результате борьбы всех
угнетенных, свободную родину всех людей.
Это могла бы быть поэма или баллада, но это стало мессой,
потому что, как утверждает Педро Тьерра, невозможно отделить
историю туземных народов Америки от присутствия церкви;
сама церковь, которая благословила конквистадоров и их
опустошения, в этой мессе посыпает голову пеплом и говорит о своем
покаянии, желая сохранить связь с угнетенными всей Америки
и быть рядом с ними в пути за освобождение... Эта туземная
месса создана как память, угрызение совести, осуждение, долг:
она ставит нас перед неизбежной реальностью единственного из
завоеванных континентов, который никогда не вернется к своим
детям: «Речь идет не о невозможных мечтах об Америке,
ставшей Индией. Речь идет о констатации несказанного насилия,
которым завоеватели заполнили этот континент» (Педро Тьерра.
«Месса туземного сопротивления»).
Поиски самовыражения неизбежно приводят к повороту к
237
прошлому, и «Месса о земле без зла», которая и музыкальном
плане состоит из семи частей (увертюра, покаяние и
воспоминания, аллилуйя, дар, обряд мира, причастие, конечная цель),
исполняется на типичных региональных латиноамериканских
инструментах. В ее части «покаяние и воспоминания» основным
моментом является диалог между Индейской Америкой и
коллективной совестью «цивилизаторов», как колонизаторов, так и
миссионеров. В «конечной цели» трагичные исторические рассказы
(некоторые из них относятся к совсем недавнему времени)
чередуются с общими покаянными криками общины: «Память,
угрызения совести, долг».
Во всей мессе смерть Христа и его воскресение, его личная,
уже свершившаяся пасха встречается с пасхой Индейской
Америки, осужденной на смерть, но «еще без воскресения». Однако
месса полна неудержимой надежды и неизбежного политического
компромисса, который делает эту надежду правдоподобной и
эффективной. В конечном счете она эсхатологическая.
Месса вспоминает своих святых, от легендарного Монтесумы
до миссионера Джованни Боско, расстрелянного военной
полицией. Трогательна песнь матери семейства Америки. В этой песне
знаки «континентального» духа, вдохновляющего ее, желание
создавать и объединить все народы континента в едином марше
за освобождение...
В первом служении этой мессы в соборе Св. Павла 22 апреля
1979 г. участвовало 40 епископов: это не просто молитва, не
«шоу». Это музыкальный и словесный текст, который переводит
реальное евхаристическое служение в туземные формы.
2. «Месса киломбов» родилась из истории страдания негров в
Бразилии (речь идет о рабах, которых в 1570 г. там было 2—
3 тыс., а к началу XIX в. их число возросло до 52% чернокожего
африканского населения). И это афро-бразильская месса.
Африканец был вырван из своего окружения, отделен от
своих людей, вынужден отказаться от своих богов, сменить имя при
«крещении», принимая имена, лишенные для него какого-либо
значения. В оригинальной форме религиозного синкретизма он
принял религию своих угнетателей, преобразовав ее в символ
веры своих предков: изображения святых стали материализацией
его богов...
Первую Мессу киломбов отслужили в годовщину смерти Зумби
(20 апреля 1695 г.), лидера киломбов, который долго
сопротивлялся яростным атакам белых голландцев в Пальмаресе; 50 лет
просуществовала в лесу «Республика Пальмареса», дав пример
свободной организации более 20 тыс. рабов.
Эта месса пытается приблизить к чернокожему населению часть
церкви, в прошлом не осуждавшей рабство и пытки, которым
подвергали негров, не проклявшей позорные столбы и эксплуатацию,
не благословившей киломбов. Эта церковь присутствовала не в
бараках, где жили рабы, а в «больших домах» хозяев.
В «даре» предлагается своп труд и его плоды, «золото зерна,
238
а не сусальное золото», и как символ мятежников — голова брата
Зумби, убитого угнетателями...
Есть также хвала Марии, «Марии-мулатке»; и Назарет
становится «колонизованной трущобой»... Заключительная песнь под
музыку банджо (ностальгия чернокожих по Африке) выражает
надежду на будущее освобождение, на новые небеса и новую
землю, на «утопию» чернокожего населения, которая подразумевает
союз со всеми бедняками земли...
То, что из Рима пришли письма с неодобрением (а значит,
с полным непониманием) как «Мессы киломбов», так и «Мессы
о земле без зла», еще раз показывает неспособность церкви
предоставить возможность свободной интерпретации Евангелия в
среде различных культур всех времен и всех народов.
Это вызвало озабоченность, выраженную в письме теологов
журнала «Концилиум», которые видят в ватиканских письмах
«запрещение продолжать опыт по внедрению литургии в массы
черного и индейского населения»; попытки «ослабить церковь
бедняков и полностью пересмотреть решения II Ватиканского
собора».
Testimonianze. 1985, M 11-12, с. 107-112.
Пер. с ит. H. H. Поташинской
(публикуется с сокращениями)
На одних дорогах.
Христиане и сандинисты в Никарагуа
Для Эрнесто Эспиносы это воскресенье — праздничный день.
Состоялось распределение земель среди бедных крестьян и
кооперативов района Самотильо. Эти земли уже какое-то время
входили в рамки аграрной реформы: они плохо или мало
использовались, иногда прежние владельцы (времен Сомосы) вообще
не обрабатывали их. И это смущало очевидных претендентов:
«Прежние владельцы вернутся, и, так как земля их, они нас
прогонят и заберут ее. Мы будем работать задаром...»
Руководитель Национального союза земледельцев и скотоводов
района Эрнесто Эспииоса сумел убедить их: «Прежде всего,
бывшие владельцы не вернутся. А потом, земля принадлежит тем,
кому она нужна, чтобы прокормиться, тем, кто на ней
работает...» Это помогло, и воскресным утром 28 октября 1984 г. земля
была разделена среди примерно трех десятков земледельцев.
Однако здесь небезопасно. В этот северный район Никарагуа
постоянно вторгаются «контрас»: граница с Гондурасом всего в
пяти километрах. И два дня назад человек 20 крестьян,
работавших в горах, были взяты заложниками.
Широкоплечий, с лицом, защищенным соломенной шляпой,
сияющий, пятидесятилетний Эрнесто производит впечатление
человека убежденного. Однако он признает, что боится: «Моя
ферма — „Эль Данто" — находится в двух километрах от других по-
239
селений и в 15 км от Сомоти.льо. Если сюда придут „контрас",
они начнут с меня, потому ч то я руководитель Национального
союза земледельцев и скотоводов, а прежде всего, потому что
я „делегат слова"».
«Делегатов слова» — нечто- вроде дьяконов — около 50 на
180 тыс. жителей провинции. Шз-за недостатка священников
обычно вокруг них группируются христианские общины ферм или
мелких изолированных деревешь. Они организуют собрания с
молитвами, службы, конечно б«ез причастия, читают проповеди,
иногда отправляют таинства.
Но как более сознательные* и обладающие (почти все)
огромным моральным весом, они за частую выполняют и другие
функции — профсоюзные или дажег политические. Эриесто поясняет:
«Христиане и сандинисты, м ы встречаемся на одних дорогах.
И как же не участвовать в груде ради народа: в охране
деревень, в общественных собраниях, в организации кооперативов?..»
Никарагуанский епископа*1 этого не одобряет. Несомненно,
именно поэтому епископ Леояа никогда не посещал церковные
общины Сомотильо и даже отказался принять в Леоне
«делегатов слова», которые прибыли к нему с визитом. Эрнесто Эспино-
са не понимает: «Раньше, пр:и Сомосе, были христиане,
связанные с сомосовцами, которые эксплуатировали трудящихся. Их
епископ принимал, с ними он беседовал. Но ведь Евангелие — это
послание об освобождении, надежда для самых бедных».
«Говорят,—продолжает Эрнесто,—что мы коммунисты. Это
неправда. Единственный текст, к которому я обращаюсь,— это
Библия, а не книги Маркса. Но верно, что Христос — основатель
вселенской церкви и что нас тоже должны слушать все
христиане, даже критически настроенные по отношению к сандинизму...
Нужно следить за тем, чтобы сандинизм и христианство не
смешивались...»
Témoignage Chrétien. 24-30.12.1984, с. 18-19.
Пер. с фр. H. H. Поташинской
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КОРАНА
Поэтический перевод В. Пороховой
От редколлегии
Решение предложить читателям Ежегодника отрывки из
поэтического перевода Корана Валерии Пороховой принято было
Редколлегией не сразу. Допустить стихи в академическое
издание мы решились, лишь убедившись в их полной корректности
относительно оригинала, отсутствии каких бы то ни было
искажений в передаче смысла священной книги мусульман. В силе
же поэтического таланта переводчицы читатели могут убедиться
сами, познакомившись с сурами, которые отобраны из
представленной нам рукописи.
Первая русскоязычная версия Корана была подготовлена еще
в 1716 г. российским дипломатом П. В. Посниковым. В конце
XVIII в., в 1790 г., появился новый перевод Корана, автор
которого, М. И. Веревкин, дает своему труду следующий заголовок:
«Книга а ль-Коран Аравлянина Магомета, который в шестом
столетии (здесь ошибка — на самом деле в VII в.— Ред.) выдал
оную за ниспосланную ему с небес, себя же — последним и
величайшим из пророков божьих». На перевод Веревкина опирался
А. С. Пушкин, когда в 1824 г. создавал свои «Подражания
Корану» (опубликованы в 1826 г.). Надо сказать, что оба перевода
делались не с оригинала, а с иностранного (французского) языка.
Также с французского был осуществлен перевод Корана К.
Николаевым, впоследствии неоднократно издававшийся (последний
раз в 1901 г.).
Первый перевод Корана непосредственно с арабского языка
был подготовлен военным дипломатом Д. Н. Богуславским, долгое
время работавшим в русской миссии в Стамбуле. Труд этот,
однако, так и не был опубликован и известен лишь в рукописи.
В 1878 г. в Казани вышел «Коран, законодательная книга моха-
меданского учения» Г. С. Саблукова, духовного писателя и
востоковеда, сыгравшего значительную роль в становлении
отечественного исламоведения. В 20-е годы начал работу над
переводом Корана И. Ю. Крачковский. К сожалению, обстоятельства
помешали ученому, одному из отцов русской арабистики, завер-
SB. Порохова (перевод, прим. пер.)
А. В. Малашенко (от редколлегии, прим. ред.)
9 Заказ К> 4129 241
шить свой труд, сохраняющий свою научную ценность и по сей
день.
Предлагаемый нами перевод В. Пороховой не следует
рассматривать как научную публикацию. Это прежде всего попытка
передать поэтику уникального духовного и литературного
произведения, дать читателю возможность услышать мелодику кораниче-
ских сур. При всем том — еще раз подчеркнем — В. Порохова,
филолог, в одинаковой мере владеющая арабским и русским
языком, стремится к абсолютному сохранению смысла каждой
переведенной ею суры. Залогом успеха в этом исключительно
трудном деле является не только ее профессиональная подготовка,
но также и то обстоятельство, что на родине мужа, в Сирии,
В. Порохова оказалась в культурной высокообразованной среде
арабской интеллигенции, сумела завоевать авторитет у
мусульманских богословов, оказавших ей всяческую поддержку, с
пониманием отнесшихся к ее поэтическим опытам.
Не случайно выдержки из перевода, работа над которым еще
не закончена, уже опубликованы в Ливии, готовятся к изданию
в Саудовской Аравии, Швеции.
В Советском Союзе отрывки из перевода В. Пороховой вышли
в нескольких номерах журнала «Наука и религия» за 1989 год.
Для Ежегодника мы отобрали четыре суры — «Открывающая»,
«Йа-Син», «Разъяснены» и «Звезда». «Открывающая»
(у И. Ю. Крачковского — «Открывающая книгу») — первая сура,
вводящая мусульманина в мир Корана, определяющая его
взаимоотношения с Богом. Сура коротка, но духовный смысл ее, по
мнению мусульманских богословов, определяет все содержание
Корана.
«Йа-Син» является одной из главнейших сур. Иногда ее
называют «сердцем Корана». Смысл суры сводится к определению
божественной воли и осуждению тех, кто отказывается принять
истинную веру. Первые буквы ее — «Йа» и «Син», как полагают
духовные авторитеты, являются своеобразной аббревиатурой
обращения «Йа, инсан!» (О человек!). Обращение это, однако,
имеет и более конкретную направленность: Аллах обращается не
просто к человеку, но к Вождю людей — пророку Мухаммеду.
Сура «Разъяснены» посвящена осмыслению божественного
откровения и веры. В ней ставятся вопросы, связанные с
восприятием человеком этого откровения, тем, какими последствиями
чревато для него неверие. Буквы «Ха» и «Мим», с которых
начинается сура, имеют несколько толкований. В одном из них
утверждается, что «Мим» символизирует конец света; что же
касается «Ха», то наличие этой буквы напоминает о зарождении
жизни.
В суре «Звезда» говорится об истинности пророчества, его
значимости для всех людей. Осуждаются те, кто сомневается в
божественном характере откровений, полученных Мухаммедом
непосредственно от Всевышнего. Сура призвана рассеять
сомнения тех, кто не торопится принять новую веру.
Сура I. Открывающая (аль-фатиха)
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного
1. Во имя Аллаха,
Всемилостивого и Милосердного!
2. Хвала Аллаху, Повелителю Миров;
3. Всемилостив и Милосерден Он один,
4. Дня Судного один Он Властелин.
5. Перед Тобой колени преклоняем,
И лишь к Тебе о помощи взываем.
6. И молим: «Укажи нам путь,
7. Который Ты избрал для тех,
Кто милостью Твоею одарен,
Но не для тех, кто гнев Твой испытал
И кто с пути прямого сбился».
Сура XXXVI. Йа-Син
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного
1. Йа-Син.
2. В Знак Корана, исполненного мудрости [Господней],—
3. Поистине, стоишь в одном ряду с Апостолами Бога ты.
Ты замыкаешь ряд Пророков Божьих
4. На праведной стезе.
5. И в этом — Откровение
Владеющего властью необъятной
И милосердием, не знающим границ.
6. Чтоб смог ты тех предостеречь,
Отцы которых, не приняв предупрежденья Наши,
Остались глухи ко Знамениям Аллаха.
7. Господне Слово оказалось справедливым,
Карая большинство из них за то, что отвергали Веру.
8. В кольцо Мы заточили шеи их до самых подбородков
И приковали руки к этому кольцу,
Лишая власти их и зрить и воспринять.
9. Над головой у них, и за спиной, и перед ними
Мы возвели высокие преграды
С тем, чтоб лишить возможности их видеть.
10. И ту же кару понесут они,
Пошлешь ты им предупреждение иль нет —
В Аллаха не уверуют они.
11. Предостеречь ты можешь только тех,
Кто следует Писанию Святому [Корану]
И хоть не зрят, но поклоняются Аллаху.
Ты весть прекрасную им должен сообщить,
Что ждет прощенье их и высшая награда.
12. Мы мертвых восстановим к жизни.
И счет ведем тому, что в жизни ближней эти люди совершили
И что оставили [в сей жизни] за своей спиной,
И это все мы в Ясной Книге [Показаний] поместили.
13. Ты изложи им притчу о жителях селения1;
И вот явились к ним Апостолы Господни.
1 Антиохии - 300 г. до н. э. (прим. пер.)
244
14. Мы к ним отправили двоих, но их они отвергли.
На помощь им Мы третьего послали,
И людям молвили они:
«Поистине мы к вам Аллахом посланы сюда»,
15. Но жители сказали им:
«Всего лишь люди вы, подобные всем нам.
И никакого Откровения не дал вам Милосердный.
Несете вы одну лишь только ложь».
16. Они [Апостолы] сказали им:
«И все же знает наш Господь,
Что с миссией Его мы к вам пришли —
17. На нас возложено вам Ясное Посланье передать».
18. Они ж ответили: «Мы в вас увидели зловещую примету,
И если вы не прекратите [миссии своей],
Мы забросаем вас камнями,
И нами уготовлено для вас мучительное наказанье».
19. [Апостолы] ответ держали: «При вас останутся зловещие
приметы,
Коль наши увещания бесплодны.
Поистине вы преступили все дозволенные грани».
20. И прибежал из самой удаленной части [того селенья] человек,
И возгласил: «О люди! Прислушайтесь к Апостолам Аллаха!
21. И следуйте за теми, кто никаких наград себе от вас не ждут
И сами следуют по праведной стезе.
22. Ужель не поклоняться мне тому, кто сотворил меня,
И у Которого сойдутся все дороги наши?
23. Ужель в служение Единому Ему
Я стану брать других Богов?
Ведь если Милосердный зла мне пожелает,
Заступничество их мне не поможет
И избавленья мне не принесет.
24. Здесь я предстал бы в явном заблужденье.
25. Но в Бога вашего уверил я —
Прислушайтесь ко мне, о люди!
26. [Когда ж, каменьями избитый, умер он],
Было повелено: «Ты в Рай войди!»
И он сказал: «О, если б знали мои люди,
27. За что Господь мне дал прощенье
И почестью Своею наделил!»
28. Вслед за его кончиной на его людей
Мы армии небесной не послали —
Нам в этом не было нужды.
29. Один лишь вскрик — и вот они погасли.
245
30. О, горе для [Моих] рабов! К ним не приходит ни один
Апостол,
Которого они б не осмеяли!
31. Ужель не видели они те поколения людей,
Которые до них Мы погубили?
Ужель не ведают, что никогда они к ним не вернутся?
32. Поистине, их всех до одного
Представят пред Нами [в Судный День].
33. Знамением для них — умершая земля.
Ее Мы оживим, взрастим зерно на ней,
И им они питаться будут.
34. Сады Мы возведем из виноградных лоз и пальм
И родники в них изольем обильно,
35. Чтобы плодами их вы все могли питаться.
Но это все не вашими руками создано,
Ужель не будете вы Нам за это благодарны?
36. Хвала Тому, кто в парах создал все,
Что Жизнь Рождает на Земле:
Попарно существуют души ваши,
И все незримое, что окружает вас,
И что доселе ваше знанье не постигло.
37. Знамением для вас приходит Ночь,
И из нее Мы извлекаем Свет Дневной,—
И вот погружены во мрак они;
38. И Солнце завершает путь
За срок, определенный для него;
Таков приказ Того,
Кто преисполнен мощи и познанья.
39. Мы для Луны установили
Срок прохожденья каждой фазы [угасанья],
И новое явление ее Земле подобно ветви старой пальмы.
40. И Солнцу не дано настичь Луну,
И Ночь не сможет День опередить,—
Всему назначено проплыть свой путь по Своду.
41. И вновь Знамение для них —
Что Мы несли их предков [чрез Потоп] в нагруженном
Ковчеге.
42. И сотворили Мы для них подобные [тому Ковчегу] корабли,
На коих [воздух и моря] они пересекают.
43. Будь Наша воля, Мы могли б их утопить,
И здесь никто б им не простер ни помощи, ни избавленья.
44. И лишь Своею Милостью Мы им мирские блага
На срок определенный посылаем.
246
45. Когда ж им говорят: «Побойтесь вы того,
Что ваши предки претерпели,
А равно и того, что будет после вас»,—
Они не внемлют.
46. И нет ни одного из всех Знамений Бога,
Которое они бы не отвергли.
47. Когда ж им говорят: «Пожертвуйте хотя б немногим из того,
Чем наделил вас Бог»,
Неверные глаголят верующим так:
«Пристало ль нам кормить всех тех,
Кого Господь, будь Его Воля, накормил бы сам?
Здесь вы находитесь в глубоком заблужденье».
48. И говорят они: «Коль истину вы нам несете,
Когда же это обещание свершится?»
49. И им не предстоит увидеть ничего,—
Один лишь вскрик настигнет их,
Пока они все меж собою сквернословят!
50. И не дано им будет завершить дела свои,
И не вернуться им к родным и близким.
51. Раздастся трубный глас, и из могил своих
Поднимутся и устремятся к Богу люди.
52. И возгласят они: «О горе нам!
Кто поднял нас из мест упокоенья?»
[Им голос прозвучит] : «Всемилостивый Бог вам это обещал.
И правду вам несли Его Пророки!»
53. Один лишь вскрик —
И вот они предстали перед Нами!
54. В тот День не будет ни одна душа
Обижена не по заслугам,
И вам воздастся лишь за те поступки,
Которые вы в жизни ближней совершили.
55. Поистине, в Тот День все обитатели Садов Эдема
Восторгу радостному предадутся.
56. Они с супругами своими в тени па ложах возлегают,
57. И все плоды, и все, что можно пожелать, они имеют.
58. «Мир вам!»—прямой привет от Бога Милосердного
[для них].
59. «О вы, погрязшие в грехах!
В День этот, отделитесь!
60. Не Я ль вам заповедал, Адамовы сыны,
Не поклоняться Сатане,— ведь он ваш враг заклятый.
61. Меня вы почитать должны —
Таков путь истинный.
247
62. Увлек он [Сатана] множество людей от праведной дороги,
Ужель вы этого не поняли еще?
63. Вот Ад, который вам обещан был!
64. И в этот День гореть в огне вам,
За то, что Веру вы отвергли.
65. И в этот День уста Мы им скрепили,
И руки их Нам будут говорить,
Свидетелями их деяний станут ноги.
66. Будь Наша Воля. Мы б зрения лишили их,
И, обгоняя и толкаясь, они бы устремились к аль-Сирату2,
Но как им остается видеть?
67. Будь Наша Воля, Мы б сотворили их в застывшей форме,
И не смогли б они передвигаться иль возвратиться вновь
[Через раскаянье и Нашу милость].
68. Кому Мы жизнь долгую даруем,
Тому Мы спину гнем с годами3.
Ужель и этого они не разумеют?
69. Слагать стихи Мы не учили Мухаммеда,
И не пристойно это для него.
Послание сие —
Напоминание Господне и ясные заветы Аль Корана.
70. Для увещания всех тех, кто жив,
А также для свершения Господних приговоров
Для тех, кто Верой пренебрег.
71. Ужель не ведают они, что среди многих прочих
Руками Нашими построенных вещей
Мы создали [домашний] скот, и им они владеют?
72. Мы этот скот поставили на службу им:
Одних они едят, других используют для переездов,—
73. Для них здесь польза и питье.
Ужель за это Нам они не будут благодарны?
74. И все ж они берут себе других богов4 для почитанья
С надеждой, что получат помощь.
75. Но нет возможности помочь им [у других Богов],
И [в Судный День] единою толпою предстанут
предо Мной они
[Для наказанья].
76. Поэтому пусть не печалят их слова тебя
[О Мухаммед!],
Поистине, Мы знаем, что сокрыто ими,
А также все, о чем они гласят открыто.
2 Дорога в Рай (прим. пер.).
3 Согнутая спина - символ процесса старения (прим. пер.).
4 Другие боги-идолы у язычников (прим. пер.). • ...
248
77. Ужель не видит человек,
Что Мы его из капли спермы сотворили?
Увы! Он перед Нами предстает с открытою враждою!
78. Он предлагает притчи Нам,
Забыв о том, как сам был создан.
И молвит он: «Кто может жизнь вернуть
Сухим костям, когда они истлели?»
79. Ответь ему: «Их оживит лишь тот,
Кто создал их первоначально!—
Тот, кто всеведущ в каждом виде созиданья!»
80. Он — Тот, кто создал вам огонь из дерева живого,
И от него вы зажигаете свои огни.
81. Но разве неспособен Тот,
Кто Землю и Вселенную построил,
Создать подобные Миры?
Воистину, Он может!
Создатель Высший! Он один
Исполнен знаньем необъятным,
И мастерством, не знающим границ!
82. Когда задумано творенье Им,
Он молвит: «Будь!»
И так бывает.
83. Хвала Владыке, Кто вершит
Свое господство над мирами;
К Нему мы завершаем
Путь земной, [что начат Им].
Сура XLI Разъяснены
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного
1. Ха - Мим.
2. Сие ниспослано Всемилостивым и Милосердным!
3. [Святая] книга, стихи которой разъяснены,
Коран арабский для людей, которые внимают.
4. Несущий Весть Великую [для них],
[А также] предостереженье.
Но большинство из них отворотились,
И вот уж — ничего не слышат!
5. И говорят: «Наши сердца покрыты пеленой,
Что отделяет всех нас от твоих призывов.
И глухотой закрыты наши уши,
И между нами и тобой — завеса.
А потому, что хочешь, [то и] делай ты.
Мы ж будем делать [то, что нам угодно].
6. Скажи: «Всего лишь человек я,
Вам подобный.
Открыто мне внушеньем,
Что ваш Господь — Единый Бог [для всех].
Так будьте же Ему верны
И вопросите для себя прощенья.
И горе тем, кто в поклонении Ему
Зовут другие божества.
7. Кто милости заповедальной не блюдут.
И в будущую жизнь не верят,
8. Тех, кто уверовал и праведно творит,
Воистину, награда ждет [без промедленья]».
9. Скажи: «Ужель не веруете вы в Того,
Кто землю сотворил в два Дня,
И в равные Ему других божеств зовете?»
10. Он прочно горы высоко над ней воздвиг
И ниспослал благословенье.
И за четыре Дня Он пропитанье соразмерно сотворил
Для всех согласно их нужде.
250
11. И в завершение всего
Он утвердил создание небес,
Что были как бы пеленой из дыма.
И молвил Он и небу, и земле:
«Добром или неволей, встаньте рядом!»
Они ответили: «В желанном послушании
Сойдемся рядом мы».
12. Он семь небес в два дня установил,
И каждому назначил службу,
Украсили Мы ближний свод огнями
И обеспечили ему охрану,—
Таков указ Мудрейшего, Того,
Кто безграничной власти преисполнен.
13. А коль они отворотятся, ты им скажи:
«Предупреждал Я вас о страшной Каре,
Подобной той, которая Самуд и Ад постигла» \
14. И вот явились к нам посланцы
И спереди п сзади:
«Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха».
[Но люди] отвечали: «Будь воля Господа на то,
Он к нам бы Ангелов послал.
Мы в ваше увещание не верим».
15. И люди Ада возгордились на земле,
Встав против Истины и благонравья,
И так сказали: «Кому сравниться с нами мощью?»
Ужель не видели они, что Тот, кто создал их,
Своей мощью превосходит их.
Но все ж они отвергли все Знаменья Наши.
16. И против них в дни тягости смертельной*
Бушующие ветры Мы послали,
Чтоб в жизни ближней
Дать познать им вкус бесчестья.
Но Наказание позором после смерти — еще сильней.
И там им не найти спасенья.
17. Мы самудянам указали путь прямой,
Но слепоту [души] они избрали.
И вот, их Наказание позором
Безумным гулом охватило,—
Возданием за то, что заслужили.
18. Мы ж сохранили тех,
Кто в Господа уверил
И праведные действия вершил.
1 Реально существовавшие народы, которые, как считает арабская
традиция, понесли кару за свое богохульство (прим. ред.).
2 После трех лет страшного голода и засухи последовал ураган,
разоривший всю страну (прим. пер.).
251
19. В тот День, когда враги Аллаха
Пред Адом огненным предстанут,
Их поведут раздельными рядами3.
20. Когда же, наконец, они достигнут [Ада],
Свидетелями против них за все их прегрешенья
Предстанут слух, и зрение, и кожа!
21. И своей коже они скажут:
«Что и против нас свидетельствуешь ты?»
На что она ответит: «Аллах мне речь внушил,
Он — Тот, кто все [земное] речью одарил.
Он создал вас первоначально,
К Нему лежит и ваше воскресенье».
22. И не могли вы схорониться,
Чтобы свидетелями против вас не стали
Ни ваше зрение, ни слух, ни кожа;
Но все ж вы думали:
О многом из того, в чем вы грешили,
Не ведает Аллах!
23. Но то понятие о вашем Боге,
Что вы измыслили себе,
Вас погубило,
И сейчас вы пребываете средь тех,
Кто пораженье [полное] понес.
24. И если [там] они терпение проявят,
Огонь убежищем им станет.
Но коль они о милости возмолят,
Они не будут среди тех,
Кому окажут милосердье.
25. Назначили Мы им в собратья тех,
Кто их прельщали [сладостью греха]
И в будущей и в прошлой жизни.
И утвердился перед ними приговор,
Что был назначен для людей и Джиннов,
Которые до них пришли,—
Ведь и они [столь тягостный] убыток понесли.
26. Неверные сказали: «К Корану не прислушивайтесь вы
И пустословьте при зачтении его,—
Быть может, и одержите вы верх!»
27. Но непременно Мы дадим неверным
Познать суровой Кары вкус,
И воздадим мы им [сполна] за все другие прегрешенья.
28. И вот возмездие врагам Аллаха — Огонь,
Где вечное Пристанище для них,
3 Это является свидетельством особого унижения, ибо подобным
строем водят узников (прим. пер.).
252
Достойное воздание за то, что все Знаменья Наши
С таким упорством отвергали.
29. Неверные жд скажут: «О Господин наш,
Укажи нам тех из Джиннов и людей,
Кто сбил нас [ с праведной стези].
Ногами мы растопчем их,
Чтоб найсквернейшими они предстали [пред всеми]».
30. Но те, кто говорят: «Наш Господин — Аллах!»
И кто потом стоит на этом стойко,—
На них нисходят Ангелы [порой]:
«Не бойтесь вы и не печальтесь,
Примите радостную Весть о Саде,
Что вам обещан».
31. Мы ваши покровители и в ближней жизни, и в далекой,
В кой вы найдете все, что ваши души пожелают,
И все, о чем воспросите, вы там найдете.
32. Таков гостеприимный дар Того,
Кто Милостив и Всепрощающ.
33. Что может быть прекрасней речи,
Чем та, что к Господу зовет,
Творить благое призывает,
Которая гласит: «Принадлежу я к тем,
Кто предался Исламу!»
34. Добро и Зло не могут быть равны,
Так оттолкни же зло добром,
И тот, кто ненависть к тебе питает,
В родного друга обратится.
35. И не даровано сей чести никому,
Помимо тех, кто с отрешением терпел.
И не даровано сей чести никому,
Помимо обладателей великой доли.
36. И если Сатана ко Злу тебя склоняет,
Ищи спасения у Бога.
Ведь Он один всеведущ и всесущ!
37. И из Его Знамений —
И Ночь и День,
И Солнце и Луна,
Но Солнцу и Луне не поклоняйтесь,
А поклоняйтесь Господу, который создал их,—
Коль в вас живет стремленье к Вере.
38. А коль гордыня их охватит —
Приближены к Аллаху будут те,
Кто, славя Господа и днем, и ночью,
В своем усердии не устают.
253
39. II из Его Знамений
Ты землю зришь бесплодной и безлюдной,
Но вот Мы изольем дожди на ней —
Она взволнуется, набухнет и воскреснет.
Поистине, ведь Тот, кто землю к жизни воскрешает,
Способен оживить и мертвых.
Он безграничной мощи преисполнен
Над всем, что суще.
40. Поистине, не схорониться тем,
Кто искажает Истину в Знаменьях Наших,
Кто ж лучше: тот, кто в Судный День в Огонь
повергнут будет,
Иль тот, кто в Рай войдет сохранно.
Творите все, что вы хотите,
Он видит все, что делаете вы!
41. [Не скроются от Нас и те],
Кто отвергает Увещанье Наше,
Когда оно приходит к ним,
Поистине, величественна эта Книга!
42. И ложь не может подступиться к ней
Ни спереди, ни сзади —
Ведь таково Послание Того, кто мудр
И всех похвал достоин.
43. И не вверяется тебе ничто,
Что до тебя другим пророкам не вверялось.
Поистине, Владыка Твой —
Распорядитель Всепрощенья,
Властитель самой горькой Кары.
44. Но если б ниспослали Мы Коран не на арабском,
Они б воскликнули: «Где толкование его стихов?
Ужель сие не на арабском,
А излагается Арабом?»
Ответь: «Путеводитель он и врачеватель
Для тех, кто Веру приобрел».
Но у неверных глухотой закрыты уши,
И он [Коран] для них — лишь слепота,
И к ним приходиться взывать
Из самых дальних расстояний.
45. Мы прежде дали Мусе4 Книгу,
Но с нею разногласия пришли.
И если бы Господне Слово раньше не явилось,
Они уладили б их меж собой.
Поистине, касательно Корана
Их тяжкие сомненья и тревога беспокоят.
4 Моисей - библ. (прим. пер.).
254
46. Добро творящий — благотворит душе своей,
Творящий зло — вершит к погибели ее,—
И никогда к Своим рабам
Несправедливым твой Господь не будет.
47. И лишь к Нему восходит Знание о Часе 5,
И без Его соизволенья
И плод из завязи своей не выйдет,
И самка ни зачать и не родить не сможет.
В тот День Он обратится к ним [с вопросом] :
«Кого измыслили вы Мне в партнеры?»
И скажут те: «Тебе свидетельствуем мы,
Что ни один из нас не видел такового».
48. И их покинули те [божества],
К кому они взывали раньше,
И осенение пришло,
Что нет им никакого избавленья.
49. Без устали взывает человек об умножении добра,
Когда же зло его коснется,
В отчаянном бессилии своем
Он оставляет всякую надежду.
50. Когда же после всех невзгод,
Даем вкусить ему Мы Нашу милость,
Он [дерзко] говорит: «Сие мне [за мои труды],
И я не думаю, что Час [Суда] настанет.
А коль я буду возвращен к Владыке моему,
Конечно, у Него найдется милость для меня!»
Но Мы представим для [ушей и глаз] неверных
Все их свершенные [грехи].
И им дано будет вкусить суровую расплату!
51. Когда Мы милостью Своей одариваем человека,
Он отвращается и вдаль уходит,
Когда же зло падет на его плечи,
Он погружается в обильные молитвы.
52. Скажи: «Ужель не ясно, что онов
Действительно от Господа исходит?
И все же ты отверг его.
Кто более заблудшие, чем те,
Кто в отдалении [от Бога] пребывают?
53. Мы им Знамения Свои представим
И в душах их, и в отдаленных землях,
Пока не станет ясно им, что это Истина [Господня]!
Ужели недостаточно для них [узнать],
Что их Господь свидетельствует все, что суще?
54. Увы! Они в сомнениях о встрече со своим Владыкой!
А Он один все сущее объять способен!
5 Имеется в виду Судный день (прим. пер.).
6 Откровение (прим. ред.).
255
Сура LUI. Звезда
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного
1. Клянусь звездой, летящей с небосклона,—
2. Твой верный друг с пути не сбился,
3. И речь глаголит не с пристрастьем,
4. А лишь по Откровению, которое ниспослано ему.
5. И наставляет его Тот, Кто мощи необъятной преисполнен.
6. Во всем величии тебе явился Он
7. На высшей точке горизонта.
8. Затем спустился Он и ближе подошел,
9. И был на расстоянии не боле двух пролетов лука.
10. Так своему рабу Бог передал то [Откровение],
Которое назначил Он для своего Пророка.
11. То, что узрели ум и сердце, они Пророку не солгали,
12. Ужель вы станете оспаривать все то, что он узрел?
13. Ведь при втором явлении Его '
[Пророк] поистине его уж видел2
14. Близ Лотоса 3
За коим недоступно никому пройти,
15. И за которым Райская Обитель.
16. И был тот Лотос огражден [неведомым] покровом,
17. [Свой] Взгляд [Пророк] не отвернул ни на мгновенье,
И взгляд ему не изменил,—
18. Ведь, истинно, он Величайшее Значение Аллаха зрил!
19. Так кто ж для вас ал-Лат и аль-Узза,
20. И третья — Манат 4
1 Архангела Гавриила (прим. пер.).
2 Первое зримое явление Гавриила Мухаммеду было на горе Света
около дерева Лотос, где пророку было передано первое Откровение (прим. пер.).
3 Дерево Лотос (Zizyphus Spina Christi), из которого
предположительно был свит венок Иисуса,— тернистое кустарниковое дерево, которое дает
тень и является символом райского блаженства (прим. пер.).
* Языческие богини-идолы древних арабов (прим. пер.).
256
21. Ужель для вашего потомства — сыновья,
Для Господа — лишь женское [потомство]?
22. Поистине, обидным было бы такое разделенье.
23. Ведь это только имена,
Которые измыслили и вы, и ваши предки;
И никакого разрешения на то
Господь вам не послал.
А здесь вы строите свои догадки,
И следуете похотям души!
Хотя от своего Владыки
Уже вы руководство получили.
24. Ужель владеет человек всем тем, что пожелает?
25. Но нет! Лишь Бог владеет завершеньем жизни и ее началом.
26. Заступничество многих ангелов на небесах
Ни от чего вас не избавит,
И Богом будут прощены лишь те,
Кто Его милость заслужили,
А также те, к кому Он благоволит.
27. Те, кто не верят в жизнь после смерти,
Даруют ангелов названиями женщин.
28. Но в этом нет у них познанья никакого,
Здесь следуют они своим предполо'женьям,
Но разве могут доводы [людей] сравниться с Истиной
[самою]?
29. Поэтому отвергнуть вы должны всех тех,
Кто отвращается от наших наставлений и тешат себя
жизнью ближней.
30. Лишь в этом их предел познаний,
И лишь Господь способен лучше различать
Тех, кто свернул с Его пути,
И тех, кто следуют Его заветам.
31. Поистине, лишь Он владеет всем, что на земле и в небе.
Творящим Зло Он воздает по их заслугам,
И дарит высшие награды тем, что доброе творит.
32. Для тех же, кто постыдные дела не совершают
И избегают смертные грехи,
Впадая лишь в моментные ошибки,
Исполнен Бог твой всепрощенья.
Он знает вас с момента зарожденья из земли на свет,
Когда в утробах матерей своих вы хоронились.
А потому хвальбою не старайтесь оправдаться,
Ведь знает лучше Он,
Кто против Зла стоит на страже.
33. Видал ли ты того, кто спину повернул,
257
34. Дал мало и облекся в скупость?
35. Что ведает он о незримом,
Чтоб мог он верно видеть?
36. Ужель он незнаком с Писаниями Мусы
37. И Ибрахима, верного [своим словам]?
38. Душа, несущая свой груз,
Не понесет чужую ношу.
39. И возымеет человек лишь то,
Что приобрел своим стараньем.
40. Усердие сие [на жизненной стезе]
Получит верную оценку [у Владыки],
41. И за него наивысокую награду он получит.
42. И что у Господа — предел конечный,
43. Что только Он дарует вам и смех и слезы,
44. И только Он дарует жизнь и смерть.
45. Что только Он создал все в парах —
И мужа, и его жену,
46. Из капли (крохотной),
Что изольется (в место израстанья).
47. И лишь на Нем лежит вторичное творенье 5,
48. И только Он богатства и наделы раздает.
49. И только Он — Властитель Сириуса [мощи] *,
50. Лишь Он послал погибель первому народу Ада
51. И самудян не пощадил.
52. Еще до них — народу Нуха,
За то, что были всех невернее и вероломней всех,
53. И города поверженные ниспроверг7,
54. Так что покрыло их [неведомым покровом].
55. [О человек!] Какой же дар Владыки твоего
Тебя в сомненье повергает?!
56. Посланник это,
Кто стоит [в одном ряду]
С Мессиями времен ушедших.
5 Воскрешение из мертвых (прим. пер.).
6 Сириус-самая яркая звезда, входящая в созвездие Большого Пса.
Ее голубое свечение вызывало одновременно ужас и благоговение у
язычников, которые поклонялись ей как Богу. В данном стихе указывается, что
Аллах является Создателем всей Вселенной, в том числе и Сириуса (прим.
пер.).
7 Содом и Гоморру (прим. пер.).
258
57. Уж близок Час [назначенного Дня],
58. И никому не отвратить его,
Помимо Бога.
59. Так что ж дивитесь вы сиим словам
60. И слез не льете, а смеетесь,
61. В земных утехах распевая?
62. Падите ж ниц пред Господом своим —
Пред Ним колени преклоняя!
КРИТИКА
И ОБЗОРЫ
А. А. Велик
ЭКОЛОГИЯ РЕЛИГИИ
«Экология религии» как направление в зарубежных
религиоведческих исследованиях возникло сравнительно недавно.
«Экология религии» получила разностороннее развитие в 60—80-х
годах XX в. Наряду с эмпирическими исследованиями широкое
применение получают теоретические построения, формируются
основные проблемы, разрабатывается категориальный аппарат и
выясняется соотношение этой дисциплины с другими разделами
религиоведения.
Вначале следует сказать несколько слов о теоретических
основаниях экологии религии. Такой способ религиоведческого
анализа предполагает выбор определенного типа теории культуры,
а именно рассмотрения последней в качестве адаптивной
системы. «Некоторые из основополагающих положений, на которые
опирается эта точка зрения,— пишет американский исследователь
религии Т. Джексон,— состоят в том, что способ
функционирования сообществ зависит от их экологического окружения, что
культура, культурные изменения есть адаптивный процесс, что
экономика первична, религия вторична, что религия может иметь
адаптивное значение» *.
Именно такую теорию культуры разрабатывал американский
антрополог Дж. Стьюард. Его концепция получила название
«культурная экология». Общий смысл ее состоял в том, что
характер естественной среды определяет специализацию, основную
производительную направленность общества, которая, в свою
очередь, детерминирует характер общественных отношении.
Центральное место в его концепции занимает понятие «культурный
тин», «представляющий собой совокупность характерных черт
общества, которые, во-первых, детерминируются повторяемостью
межкультурной экологической адаптации и, во-вторых,
представляют одинаковый уровень социокультурной интеграции» 2. Важно
А. А. Велик, 1990
260
при этом отметить, что основные черты культуры или «ядро
культуры» Дж Стыоард определяет как «совокупность черт, наиболее
близко связанных с деятельностью по поддержанию
существования общества и экономическим строем. Ядро включает такие
социальные, политические и религиозные институты, которые
наиболее близко связаны с этим Устройством» 3. Теория Дж. Стыо-
арда представляет собой интересный образец проявления
материалистической тенденции в понимании исторического процесса
в антропологии США. Светский исследователь Ю. П. Аверкиева
справедливо считает, что «Стыоард стремился дать
материалистическое объяснение социальным институтам и явлениям
надстроечного порядка» *.
Концепция Дж СтьюаРД* послужила важнейшим
методологическим источником для Р*бот крупнейшего исследователя в
области «экологии религий шведского этнографа О. Хульткран-
ца5 Основная отличительная черта экологического подхода к
религии Хульткранца состоит в выяснении «влияния окружающей
среды на организацию >* развитие религиозных форм» в. Таким
образом предметом анализа являются «не отдельные религиозные
идеи как таковые, а и* организации » модели и структуры...»
О Хульткранц подчеркивает сложность, опосредованный
характер (через культуру, общество) взаимодействия религии п
экологии Он особо обращает внимание на то обстоятельство, что речь
в его концепции идет об «организации моделей и структур
религии», а не о религии в целом, «не о верованиях, а оо оощем
способе, каким религиозные м°Дели организованы на основе инверо-
ментальной интеграции религии» .
Специфическим объектом экологического подхода являются
ранние формы религии. «Экология религии - это в первую
очередь ключ к изучению тех религии, культуры которых зависят
от естественной среды, это так называемые примитивные
религии» 9 В этой связи Хульткранц определяет четыре задачи.
Первая задача, решаемая при экологическом исследовании
религия-реализация специФических Для пего новых возможностей
ее изучения. Это касаемся прежде всего использования уровней
религяо-экологической интеграции. Хульткранц выделяет три
таких уровня. Первичная интеграция, связанная с инвероменталь-
ной адаптацией основный черт культуры, «ядра культуры» (по
терминологии Дж. Стьюарда). «К культурному ядру,-пишет
Хульткранц,-принадлежат т^кие религиозные верования и ритуалы,
которые существуют к** часть Деятельности по поддержанию
существования» 10. Наиболее сильно первичная интеграция
проявляется в тех слу*а*х' когда «система религиозных
ценностей построена в соответствии с фундаментальными потреопостя-
ми общества» ".
Вторичная интеграция выражает «опосредованную адаптацию
религиозных верований и ритуалов» •-. В этом случае происходит
заимствование религиозных форм из социальной структуры, ко-
торая, в свою очередь, несет на сеое отпечаток экономического
и технологического приспособления по отношению к среде
обитания. В качестве разъяснения Хульткранц приводит широко
известное положение о том, что «сложный стратифицированный
пантеон присутствует лишь там, где имеется стратифицированная
социальная структура, которая обязана своим существованием
наличию плодородных земель, окружением, способным обеспечить
расширенное воспроизводство, плотное заселение и
профессиональную специализацию» 13.
Кроме двух рассмотренных уровней Хульткранц выделяет
также и морфологическую интеграцию, состоящую в использовании
форм, взятых из физического и биологического окружения.
Оценивая значение религиозно-экологического подхода, Хульткранц
полагает, что «взаимодействие естественной среды, культурного
ядра, традиционных факторов дает наиболее продуктивный
способ для понимания религиозных форм и религиозных процессов.
Мы понимаем,— продолжает автор,— что для анализа
экзотических религий недостаточно обращение к культурному индексу,
культурной истории и социальной структуре: естественная
среда — также фактор, который необходимо принять во
внимание» 14.
Второй целью религиозно-экологического подхода, полагает
Хульткранц, можно считать установление типов религии
универсального или регионального значения. Эта часть экологии
религии представляется им наиболее важной, особенно в аспекте
разработки теории. Хульткранц считает недостаточной типологию,
основанную на историко-графическом делении и на основе
«культур». Он предлагает новое «понятие типа, относящееся и к
культуре, и к религии» 15. «Тип религии» Хульткранца тесно связан
с понятиями «культурное ядро», «культурный тип» Стьюарда.
Тип религии Хульткранц считает религиозным коррелятом кросс-
культурного типа. При этом он обращает внимание на одно
важнейшее различие между ними: культурный тип «относится к
культурному ядру целиком», тип же религии — «к религиозному
и магическому поведению, связанному с основными чертами
культурного ядра или первичной интеграцией» 1в. В качестве
важнейшего признака для идентификации кросс-культурного типа
религии Хульткранц предлагает субстанциальную активность,
т. е. деятельность по поддержанию существования общности,
во многом детерминирующую все остальные формы активности
(понятие, очень близкое по содержанию материальному
производству в историческом материализме). «Тип религии может быть
найден в различных районах, где уровень экологической
адаптации и основных систем жизнеобеспечения идентичен» 17. «Тип
религии» в большей степени может быть применен там, где
производственная деятельность человека не превышает его
активность как биологического существа. В этой связи Хульткранц
выделяет «арктический», «охотничий», «пустынный кочевничий»
типы религии и «тип религий собирателей полупустынь».
Хульткранц придает важное значение рассмотрению типов
262
религии в историческом аспекте. На основе анализа
существующих ныне религий во взаимодействии их с природой и
имеющихся археологических данных, по мнению шведского
исследователя, возможна реконструкция доисторических религий.
Применение понятия «типа религии» для исследования ее доисторических
форм Хульткранц считает новым продуктивным способом
изучения религии и третьим направлением исследований «экологии
религии».
И, наконец, четвертая цель экологии религии, выделяемая
Хульткранцем, состоит в анализе изменений в религии,
обусловленных трансформацией социальной структуры общества.
Изменения в религии есть лишь отражение социальных
преобразований. Достаточно ярко выраженное переустройство в обществе
может служить индикатором грядущих перемен в религии.
(Стабильность примитивных религий О. Хульткранц объясняет
практической неизменностью их естественного окружения и
однообразием форм и видов деятельности по поддержанию
существования.)
Оценивая возможности ведущих направлений развития
«экологии религии», Хульткранц высказывает мнение, что изучение
примитивных культов предложенными средствами поможет и при
определении экологических ориентации и экологической
«специфики» современных религий. «Более тщательный анализ
внутренних ценностей так называемых примитивных религий может,
я думаю,— пишет Хульткранц,— дать нам ключ к пониманию
религиозных традиций, которые доминируют сегодня.» 18
Не все поставленные Хульткранцем цели были достигнуты им
в его исследованиях, и в первую очередь это касается
дальнейшей разработки понятия «тип религии». Но, видимо, трудно
требовать от шведского этнографа решения всех проблем, связанных
с анализом взаимодействия экологического окружения и религии.
Главная его задача состояла в обосновании целесообразности
методов экологии религии, в выявлении перспективных направлений
исследований, и Хульткранц, безусловно, ее выполнил.
Экология религии Хульткранца вызвала неоднозначную
реакцию со стороны зарубежных религиоведов. Так, его концепцию
подверг довольно резкой критике голландский исследователь
Дж. ван Баал. Он выразил несогласие с определяющей ролью
«средств существования» в «экологии религии» Хульткранца и
«протестовал» против того обстоятельства, что теория шведского
ученого «равносильна по смыслу историческому
материализму» ". Американский религиовед Э. Перри вообще высказался
против экологического подхода к религии на том основании, что
религию надо изучать как религию, а не в качестве
социокультурного феномена 20.
Но все же большинство ученых, в то или иное время
анализировавших «экологию религии», высказывали конструктивные
предложения или сами разрабатывали эту концепцию. В числе
последних — С. Бьерке, уделивший большое внимание разработ-
263
ке общеметодологического аспекта «экологии религии». Он
выделяет этапы развития взаимодействия религии и природного
окружения в зависимости от уровня организации социальных
общностей: от обществ охотников и собирателей до современного
индустриального общества 2i. Хульткранц не удовлетворен
теоретической концепцией экологической антропологии. «По моему
мнению,— отмечает Бьерке,— Марксово разделение между
базисом п надстройкой более теоретически плодотворно, чем
разделение Стьюардом на культурное ядро и вторичные культурные
черты» ". Тем не менее, подход, предложенный О. Хульткран-
цем, был использован Б. Линкольном для анализа
западноафриканских и индоиранских религий. Линкольн проводит в этой
связи сравнительное исследование религий, культур народов,
не имевших географических и исторических связей, но
функционировавших в практически одинаковых экологических условиях 23.
В качестве одного из важнейших направлений развития
«экологии религии» необходимо выделить использование ее при
анализе современного общества, исследование проблемы «экология
и религия» в глобальном контексте. Наиболее точно общую
направленность интегративного аспекта анализируемого вопроса
выразил Ф. Уолинг. Он пишет, что «изучение религии должно
играть продуктивную роль... не только с целью исследования
самой религии, но и для познания мира в целом, особенно в
современный период, когда мы столкнулись с проблемами,
охватывающими всю планету Земля» 24.
Наряду с рассмотренными ранее, «экология религии» имеет
еще одно существенное направление исследований. В
предшествующем анализе речь шла о взаимодействии религии и
природного окружения на уровне этносоциальной или
конфессиональной общности. Не менее важно рассмотреть, как осуществляется
этот процесс на уровне организма индивида. Человек — существо
с тончайшей биологической организацией, без учета которой
(стихийно или сознательно) невозможно было бы
функционирование религии и выполнение ею нормативно-регулятивной,
компенсаторной и других функций.
В этом аспекте основная задача исследований «экологии
религии» состоит в выяснении рационально-биологических
оснований религии, изучении того, есть ли связь между внутренними
особенностями нашего организма и спецификой той или иной
формы богослужения определенной этносоциальной системы,
функционирующей в определенных экологических условиях.
Другими словами, произвольны ли религиозные формы по
отношению к особенностям нашего организма или нет? Дело здесь не
только в регламентации состава пищи или иллюзорном обретении
душевного спокойствия, на время дающее стабильность в
функционировании организма. Вопрос значительно сложнее. Он
состоит не в обсуждении того, насколько успешно (или неуспешно)
выполняет религия свои функции, а как она пытается это сделать
и на какой материальной основе? Какие именно процессы, зако-
264
номерности внутриорганической жизни человека она использует,
а затем преподносит в мистифицированной форме?
В настоящее время не на все поставленные вопросы есть
исчерпывающие ответы. В большей степени ныне в зарубежном
религиоведении исследуется компенсаторно-замещающая,
психотерапевтическая функция религии. Особое внимание при этом
уделяется изучению органических процессов, сопровождающих
ритуальные действия. Предметом исследования в этом случае
чаще всего служат разного рода пограничные состояния
сознания: одержимость, религиозный экстаз, ритуальный транс
и т. д.25. Ритуальный транс и аналогичные ему состояния
пользуются повышенным интересом у ученых, в частности, ввиду
широкой распространенности в традиционных культах. Так,
согласно подсчету Э. Бургиньон на основании этнографического
атласа Мёрдока, в 437 из 488 культур, т. е. в 89% случаев,
в той или иной форме отмечается наличие ритуального транса 26.
В ходе проведенных исследований также было обнаружено
влияние ритмических звуков, движений и т. д. на нейробиологи-
ческие процессы, лежащие в основе деятельности как
центральной, так и вегетативной нервной системы ". Основная
направленность воздействия ритуалов состоит в синхронизации
биоритмов 28. Влияние религиозных ритуалов на биологические ритмы
человека затрагивает и «внутренние биохимические и
физиологические состояния» 29. Подчеркивая значимость взаимодействия
внутриорганических процессов и поведения в религиозных
церемониях, Б. Леке полагает, что «символы и поведение — оба
результаты возбуждения в нейрофизиологических структурах и
они соотносятся с определенными эмоциональными
состояниями» 30. В процессе анализа биологических основ поведения в
религиозных церемониях затрагивается также вопрос о
соотношении языка, эмоций и ритуального транса3|. В заключение
краткой характеристики исследований взаимодействия эколого-
биологической основы человека и религии хотелось бы отметить
один факт, свидетельствующий о силе воздействия некоторых
религиозных ритуалов на человека. Состояния, аналогичные
ритуальному трансу, можно достичь и биохимическим путем, п
частности, применяя сильнейший наркотик ЛСД-2532, во много раз
превышающий эффект, получаемый при воздействии опиума на
организм человека.
В работах, посвященных анализу внутриорганической основы
некоторых видов ритуального поведения (как в функциональном,
так н в биохимическом аспектах), озиачепная проблема далеко
не исчерпывается изучением «пограничных состояний сознания».
Более широко ставят ее те ученые, которые рассматривают
религию как часть социокультурного окружения и регулятивную
силу биологических процессов у людей, их экологии. Влияние
религии на биологическую сторону существования человека мно-
гоплаиово. Оно касается пищи, сексуальных отношений,
репродуктивных процессов и т. д. В обобщенной форме и в различных
265
аспектах, с использованием кросс-культурных исследований эта
комплексная проблема стала предметом специального изучения
в книге В. Рейнольдса и Р. Таннера «Биология религии».
Религия, выполняя нормативно-регулятивную функцию,
оказывает влияние на все стадии жизненного цикла человека.
Прежде всего это выражается в воздействии на «сексуальные
отношения, репродуктивное поведение, контрацепцию, рождение и
воспитание ребенка» 33. Кроме исследований норматпвно-регуля-
тпвпон функции религии в рамках жизненного цикла человека
есть еще два существенных аспекта в биолого-экологическом
подходе к ней: «воздействие религии на генетическую систему
человека и распределение болезней» ".
Общую же свою цель авторы книги видят в изучении
«репродуктивной стратегии в связи с принадлежностью к той или иной
религии» 3\ Для выполнения поставленной задачи Рейнольде и
Таннер используют понятия К и ч отбора, распространенного в
экологической антропологии и социобиологиизв. Основная
особенность указанных типов отбора связана с двояким действием
экологического окружения на существование живых существ.
Если ресурсы скудные в течение года, то стратегия выживания
направлена на рождение немногих детенышей, которых
окружают заботой не только мать, но и отец, что гарантирует
выживание всех, кто родился (К отбор). Напротив, если наблюдается
изобилие ресурсов в одно время года и практическое их
отсутствие в другое, то рождаемость высока в благоприятный сезон и
совсем низка в неблагоприятный. Забота отца при этом
недлительна (ч отбор) 37.
Рейнольде и Танпер критически относятся к К и ч отбору
вообще и к возможности применения их в неизменной форме в
исследованиях человеческого общества в частности. Они
подчеркивают, что и человеческом обществе влияние экологических
условии па репродуктивность общности может иметь прямо
противоположный характер по сравнению с популяциями животных.
Например, там, где наблюдается скудность ресурсов,—
рождаемость высокая, и наоборот. Ввиду существенных различий
воздействия экологического окружения на животных п человека
Рейнольде и Таннер предлагают применять указанные типы
отбора в преобразованном виде, в культурно обусловленных
модификациях. Большое значение авторы придают культурной
форме ч отбора (чс), поскольку основная направленность
исследования, представленного в книге «Биология религии», состоит
в выяснении влияния религии на жизненный цикл и
последующее воздействие на репродуктивную стратегию. В связи с этим
в центре рассмотрения оказывается вопрос о взаимодействии чс
отбора с уровнем рождаемости и религиозными нормативами,
регулирующими экологические характеристики человека,
влияющие на его воспроизводство как биологического вида. Рейнольде
и Таннер подчеркивают качественное отличие эволюции видов от
«эволюции религиозных норм путем культурного отбора» 38. Для
266
уточнения своей позиции они вводят дифференциацию чс отбора
на положительный и отрицательный. «Если религиозные
нормативы,— пишут Рейнольде и Таннер,— обеспечивают высокий
уровень репродуктивной стратегии, то положительный ч отбор
(чс+)... и наоборот»39. Необходимо подчеркнуть, что авторы
акцентируют свое внимание на том, что чс+ и ч с~ отборы есть
два типа культурной селекции, касающейся участия религии в
«регуляции биологических действий индивида на всех стадиях
жизненного цикла» 40. Таким образом исследуется
взаимодействие трех компонентов: религиозных нормативов, репродуктивной
стратегии и экологического окружения.
Для изучения этого вопроса авторы привлекают богатейший
этнографический материал из различных регионов земного шара.
Обращает на себя внимание тот факт, что Рейнольде и Таннер
применяют экологический подход при исследовании мировых
религий, а не ограничиваются только архаическими,
примитивными религиозными воззрениями. В процессе анализа авторы
показывают на примере всех мировых религий влияние последних на
биологические аспекты жизнедеятельности человека в общности.
Подводя итоги эколого-биологического рассмотрения влияния
религии, Рейнольде и Таннер анализируют особенности
потребления энергии современными государствами и размеров ВНП в
связи с доминированием в них той или иной конфессии. Исследуется
корреляция удельных показателей ВНП и энергии в сравнимых
эквивалентах с той или иной религией. Полученные результаты
соотносятся с наличием ч+ или ч~ отбора ". Авторы делают
вывод о том, что при низкой удельной энергонасыщенности религия
способствует поддержанию воспроизводства на высоком
уровне 42. Итоговые рассуждения Рейнольдса и Таннера внутренне
содержат в себе идею о регулятивной роли религии в обмене
энергией между обществом и природой. Энергетический аспект
взаимодействия общества и природы является важнейшим
аспектом исследований глобальной экологии современной эпохи.
В Заключении своего фундаментального труда авторы
подчеркивают, что они стремились рассмотреть религию лишь с
определенной, биологической точки зрения, а именно как адаптивную
систему. В чем смысл такого подхода? Религия выступает здесь
в качестве культурно (социально) организованной силы,
оказывающей воздействие на биологию человека. Рейнольде и Таннер
представляют религию как часть стратегии выживания общности,
«свод репродуктивных нормативов», своего рода «краткое
пособие для родителей» 43.
* * *
Экология религии — сложный комплекс исследований,
имеющий своим предметом изучение взаимодействия между
природным окружением, религией и экологическими особенностями
человека: спецификой его органической основы и биологическим
аспектом жизнедеятельности. Подводя итоги анализа трудов за-
рубежных ученых, попытаемся представить область исследований
экологии религии в обобщенной форме, сделать некоторые
выводы исходя из рассмотренного материала и наметить возможные
перспективы развития этой дисциплины. Предварительно
необходимо еще раз подчеркнуть, что религия рассматривается в
экологии религии в качестве составной части этнокультурной
системы.
Итак, в рамках этого подхода доказывается, что экология
влияет на религию. Не исключено и обратное влияние религии
на экологию. Религия, хотя и в достаточной мере условно,
может быть более «экологичной», менее «экологичной» и
«нейтральной». В качестве примера оправдания хищнического отношения
к природе можно привести некоторые аспекты идеологии
протестантизма, в частности нормы «хозяйственной этики». Более
«экологичны» «этнические домировые» религии, отражающие
специфическое природное окружение, а также различные варианты
пантеизма как в натуралистических, так и в религиозных формах.
Кроме общего идеологически-установочного воздействия религия
осуществляет свое влияние посредством ритуалов, норм,
предписаний, регулирующих взаимодействие человека и природы.
Все рассмотренные аспекты экологии религии можно
представить в виде взаимодействия следующих компонентов: экология
человека (его органическая основа и биологические аспекты
воспроизводства) — религия (как часть этнокультурной системы) —
деятельность по поддержанию существования, субстанциальная
пли производственная активность — экологическое окружение.
Все звенья этой цепи связаны между собой, и изменение в одной
ее части рано или поздно дает о себе знать в других.
На основании анализа разнообразных тенденций,
существующих в экологии религии, целесообразно высказать
предположения о возможных перспективах развития этой дисциплины. В
качестве таковых могут быть междисциплинарные исследования во
взаимодействии с экологией человека и социологией религии.
Более широкое применение в будущих исследованиях, вероятно,
получит использование принципов экологического подхода в связи
с исследованиями мировых религий, современных форм религий
и «квазирелигий».
1 Jackson T. Social Anthropological Approaches.—Contemporary
Approaches to the Study of Religion. В.; N. Y.; Amsterdam, 1985, vol. 2, с 199.
2 Steward J. H. Theory of Culture Change. Urbana, 1955, с 89.
3 Steward J. H. Theory of Culture Change, с 37.
4 Аверкиева Ю. П. История теоретической мысли в американской
этнографии. М., 1979, с. 231.
5 См.: Hultkrantz A. The Indians and the Wonders of Yellowstone: A
Study of the Interrelations of Religion. Nature and Culture.— Ethnos. 1954, vol. 19,
с 34-68 и др.
6 Hultkrantz A. Ecology of Religion: Its Scope and Methodology.— Science
of Religion, с 223.
7 Там же, с. 222.
8 Там же, с. 297.
9 Там же, с. 224.
10 Там же, с. 227.
11 Там же, с. 228.
12 Там же.
13 Там же.
14 Там же.
15 Hultkrantz A. Ecology of Religion, с. 229.
18 Там же, с. 230.
17 Там же.
18 Hultkrantz A. Ecology of Religion, с. 236.
19 Religio-Ecological Approach. Comments.- Science of Religion, с 296.
20 Там же, с. 287.
21 Bjerke S. Ecology of Religion, Evolutionism and Comparative Religion.-
Science of Religion, с 246.
22 Там же, с. 242.
23 Lincoln В. Priests, Warriors and Cattle. A Study in the Ecology of
Religions. Berkley, Los Angeles, L., 1981, с 10.
24 Whaling F. The Study of Religion in Global Context.- Contemporary
Approaches, vol. 1, с 443.
25 Bourguignon E. Introduction: A Framework for the Comparative Study
of Altered States of Consciousness.- Religion, Altered States of Consciousness
and Social Change. Columbus, 1973; Chappie E. D. Culture and Biological Man.
N. Y., 1970; Lewis I. M. Ecstatic Religion: An Anthropological Study of
Spirit Possesion and Shamanism. Middlesex, 1971 и др.
26 Bourguignon E. Dreams and Altered States of Consciousness in
Anthropological Research.- Psychological Anthropology. Homewood, 1972, с 418.
27 Chappie E. D. Culture and Biological Man. N. Y., 1970, с 38;
28 Lex B. W. Neurobiology of Ritual Trance.- Spectrum of Ritual. N. Y.,
1979, с 146.
29 Chappie E. D. Culture and Biological Man. N. Y., с 59.
30 Lex B. W. Neurobiology of Ritual Trance.— Spectrum of Ritual, с 131.
31 Ward F. a. o. The Psychodynamics of Demon Possesion.-Journal for
the Scientific Study of Religion, vol. 19, 1980, с 201-207; Wikstrom O. Pos-
sesion as Clinical Phenomen. A Critique of the Medical Model.— Religious
Ecstasy. Stockholm, 1982, с 99-100.
32 Lex B. W. Neurobiology of Ritual Trance.- Spectrum of Ritual, с 127.
33 Reynolds V., Tanner Л. E. S. The Biology of Religion. N. Y., L., 1983,
с 10.
34 Там же.
35 Там же, с. 274.
38 Там же, с. 11.
37 Там же, с. 11-12.
38 Там же, с. 13.
39 Там же, с. 14-15.
40 Там же, с. 17.
41 Там же.
42 Там же, с. 291-292.
43 Там же, с. 293-294.
CONTENTS
THEORETICAL ASPECTS OF RELIGION STUDIES
V. I. Kornev
New Approaches to Buddhist Studies 5
RELIGION IN THE CONTEMPORARY WORLD
A. A. Tkachyova
On Spiritual-Emotional Distinctions of the Latest Religious Trends in the
East 20
Yu. M. Kobischanov
The Peasantry and Ethnoconfessional Groups in Arab Countries ... 38
V. I. Tikhomirov
Separatism in the Ideology of South African Calvinism 59
A. A. Ignatenko
Religious and Secular Tendencies in Contemporary Arabic Culture ... 77
L. N. Morev
The Buddhist Sangha in Laos Today: «The Theology of Participation
in Socialist Transformations» . . 94
HISTORY OP RELIGION
B. V. Raushenbakh
Looking Back through the Ages. Prince Vladimir's Reforms 116
Ye. M. Shtayerman
Roman Religion and Christianity 129
V. N. Ilyin
16th-century Anabaptism in Western Europe 151
S. V. Tolstov
Religious Factor in Politics and National Development in Ireland ... 171
G. V. Zubko
The Image of Snake in Fulbe Mythology 193
PUBLICATIONS
N. N. Potasbinskaya
Liberation Theology. Documents and Materials 217
Excerpts from the Quran. Translated by V. Porokhova 241
REVIEWS
A. A. Belik
The Ecology of Religion 260
270
СОДЕРЖАНИЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
В. И. Корнев
Новые подходы в познании буддизма 5
РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
A. А. Ткачева
О духовно-эмоциональном своеобразии новых религиозных движений
Востока 20
Ю. М. Кобпщанов
Крестьянство и этноконфессиональные группы в арабских странах. . 38
B. И. Тихомиров
Сепаратизм в идеологии южноафриканского кальвинизма .... 59
A. А. Игнатенко
Религиозные и секулярные тенденции в современной арабской
культуре (к постановке вопроса) 77
Л. Н. Морев
Буддийская сангха в современном Лаосе: «теология участия в
социалистических преобразованиях» 94
ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ
Б. В. Раушенбах
Сквозь глубь веков. Реформы великого князя Владимира 116
Е. М. Штаерман
Римская религия и христианство 129
B. Н. Ильин
Анабаптизм XVI в. в Западной Европе 151
C. В. Толстов
Религиозный фактор в политической жизни и национальном
развитии Ирландии 17J
Г. В. Зубко
Образ Змея в мифологических представлениях фульбе 193
ПУБЛИКАЦИИ
Н. Н. Поташинская
Теология освобождения. Документы и материалы 217
Извлечения из Корана. Поэтический перевод В. Пороховой 241
КРИТИКА И ОБЗОРЫ
А. А. Велик
Экология религии 260
Contents 270
Научное издание
РЕЛИГИИ МИРА
История и современность
Ежегодник 1988
Редактор Н. Н. Кабанов
Младший редактор Л. А. Минина
Художник Б. Б. Локшин
Художественный редактор Б. Л. Резников
Технический редактор М. Г. Гущина
Корректор Г. П. Каткова
И Б № 16214
Сдано в набор 28.12.89. Подписано к печати
25.07.90. Формат 60х90'Лв. Бумага
типографская Кя 2. Гарнитура обыкновенная новая.
Печать высокая. Усл. п. л. 17,0. Усл. кр.-отт.
17,0. Уч.-изд. л. 19,23. Тираж 16 500 экз. Изд.
*6 6897. Зак. Xi 4129 Цена 1 р. 80 к.
Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
Главная редакция восточной литературы
103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21
2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва Г-99. Шубинский пер., 6