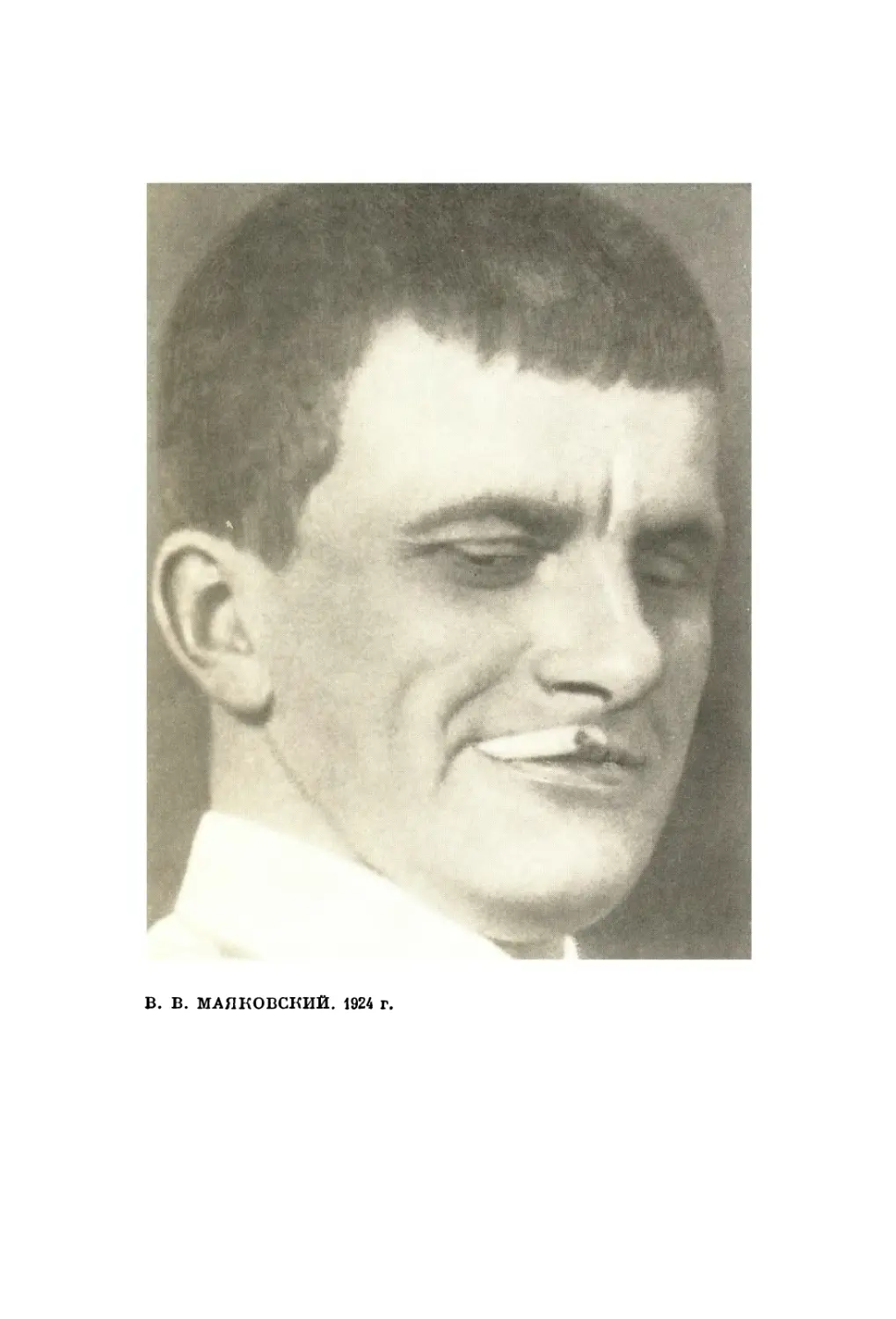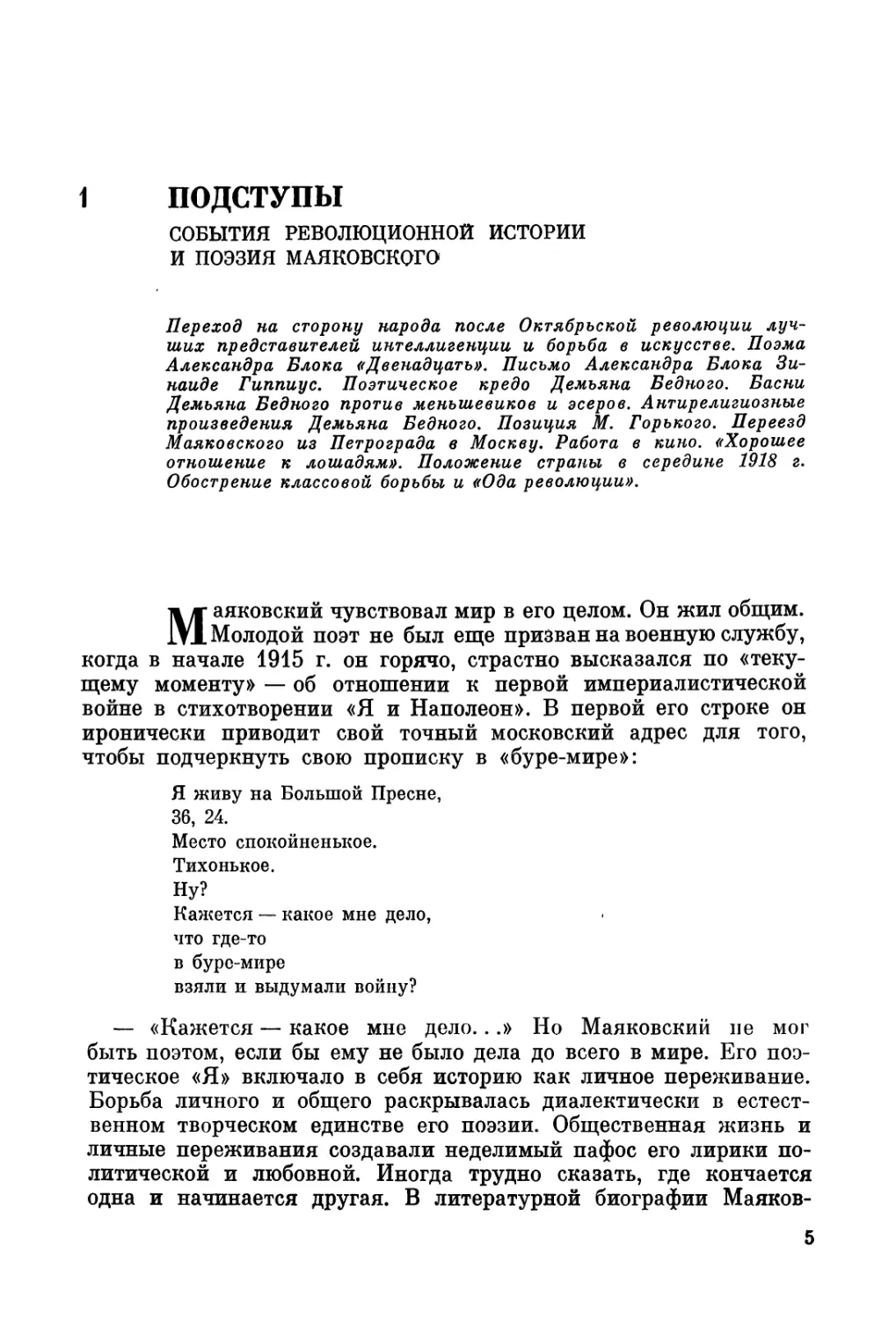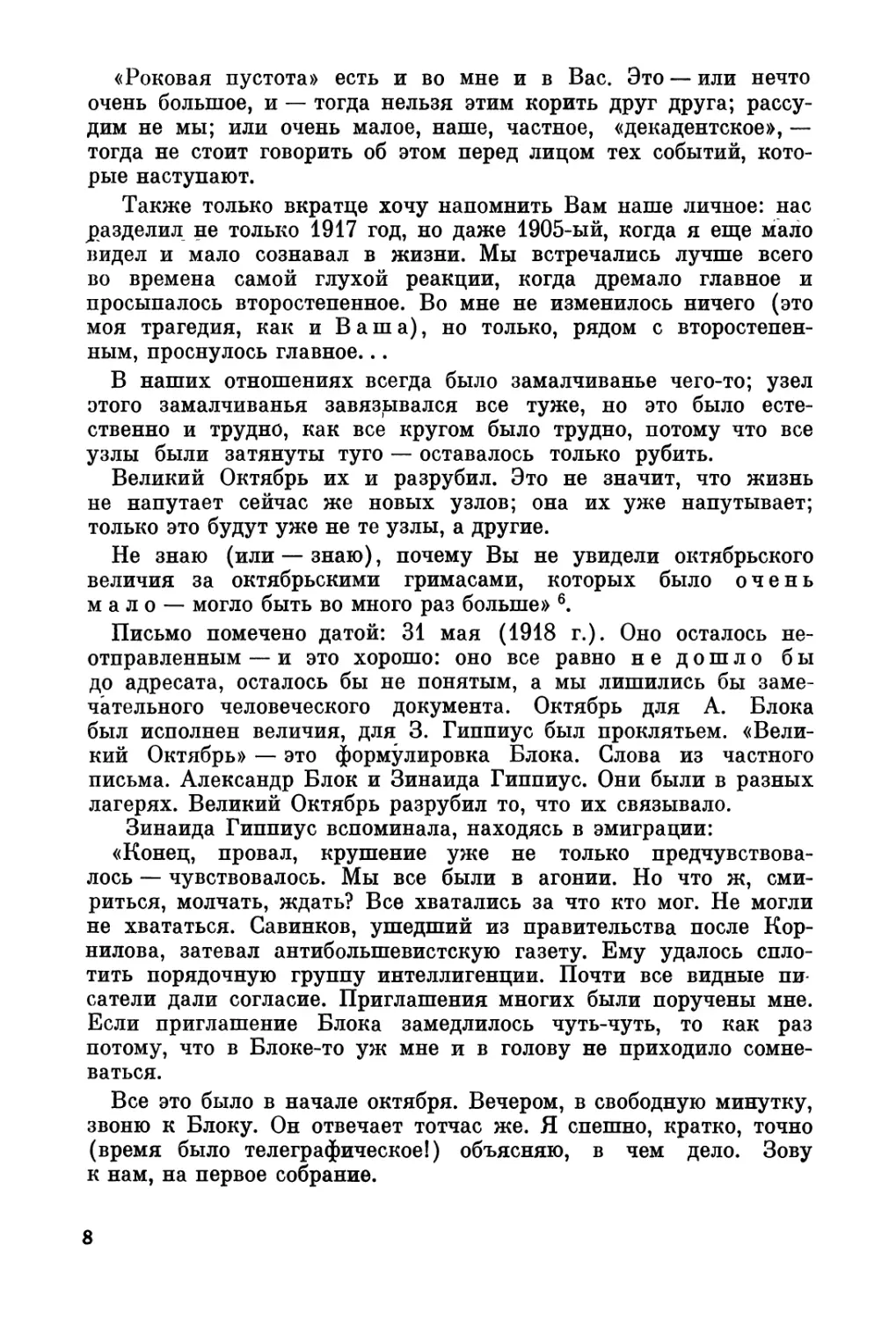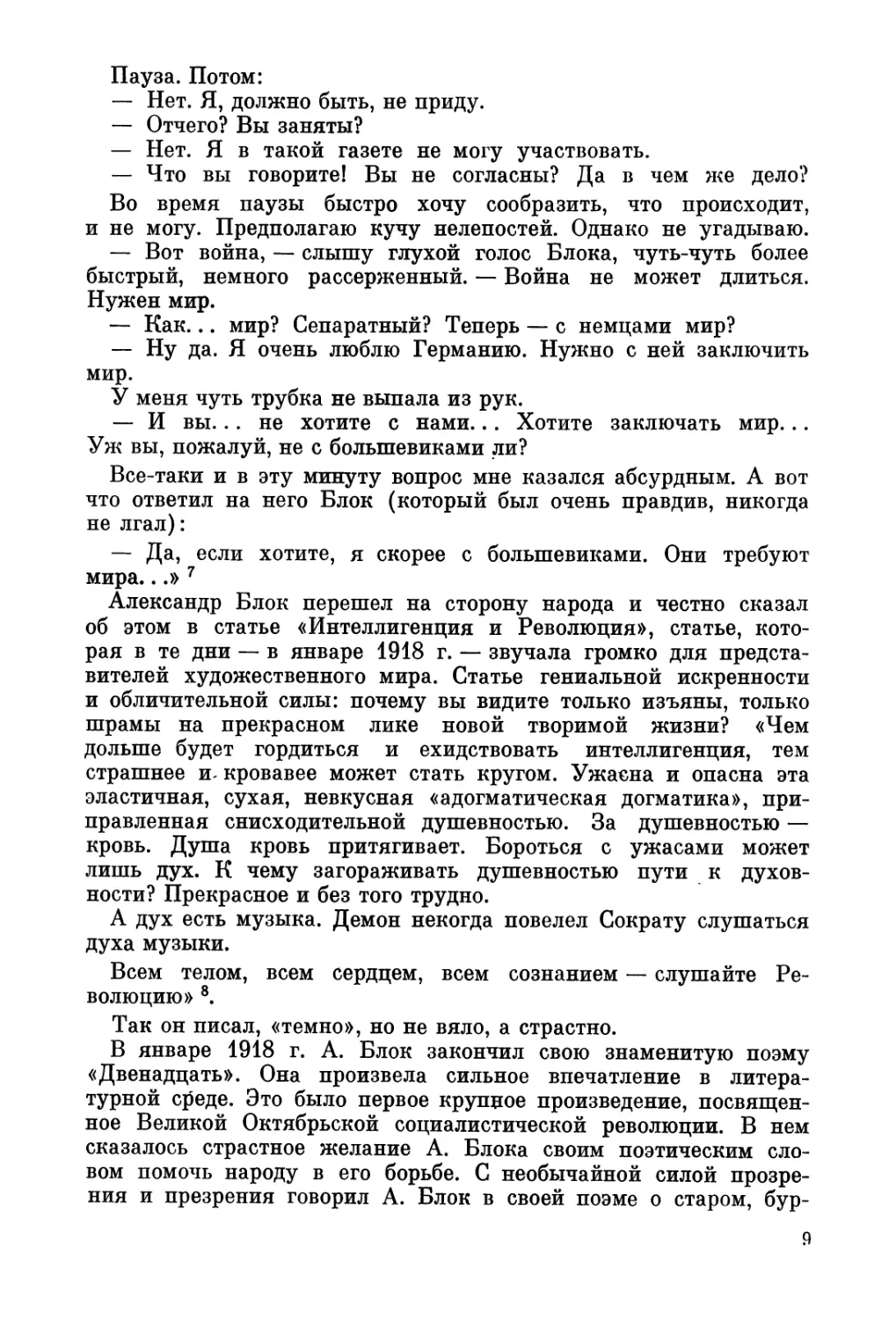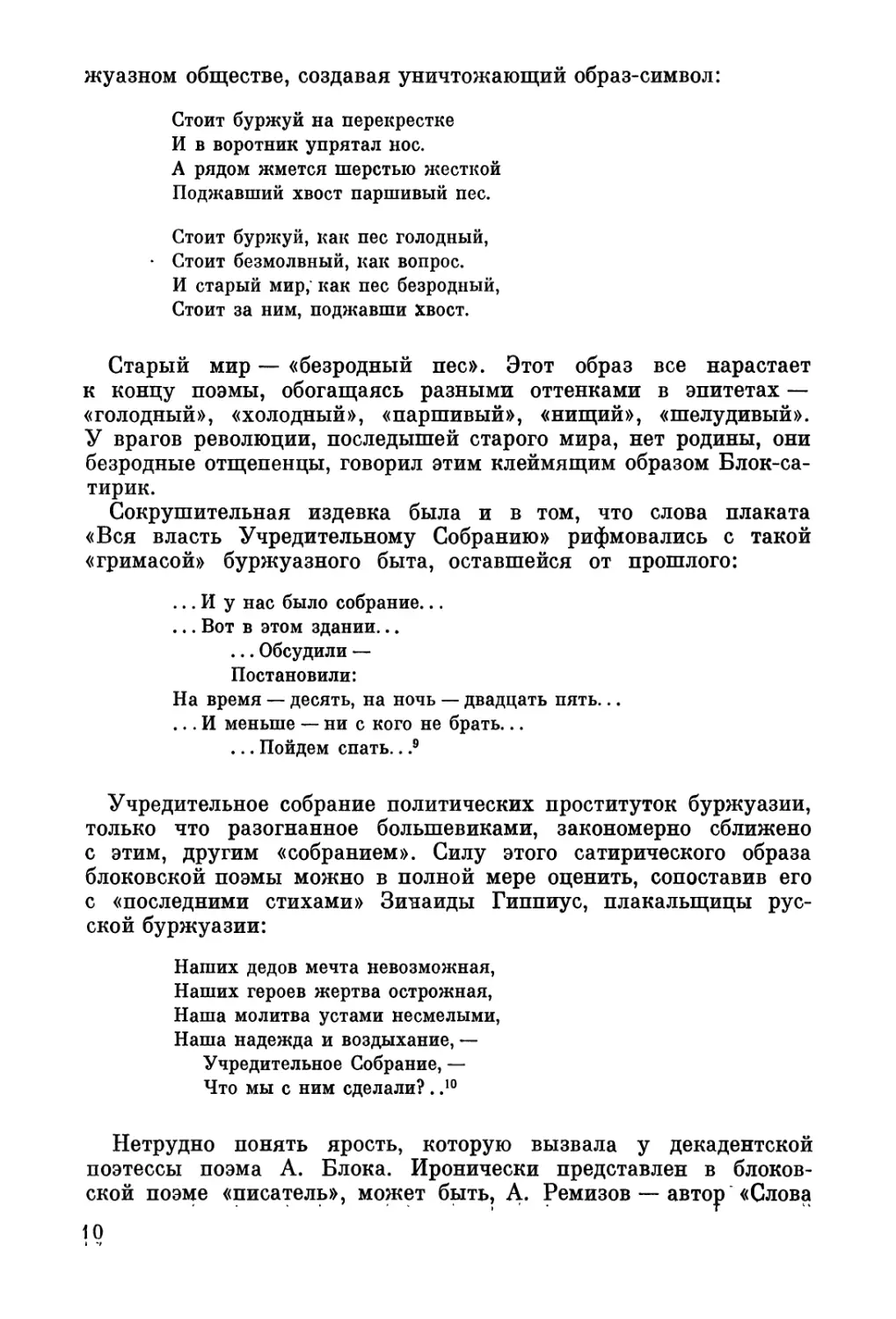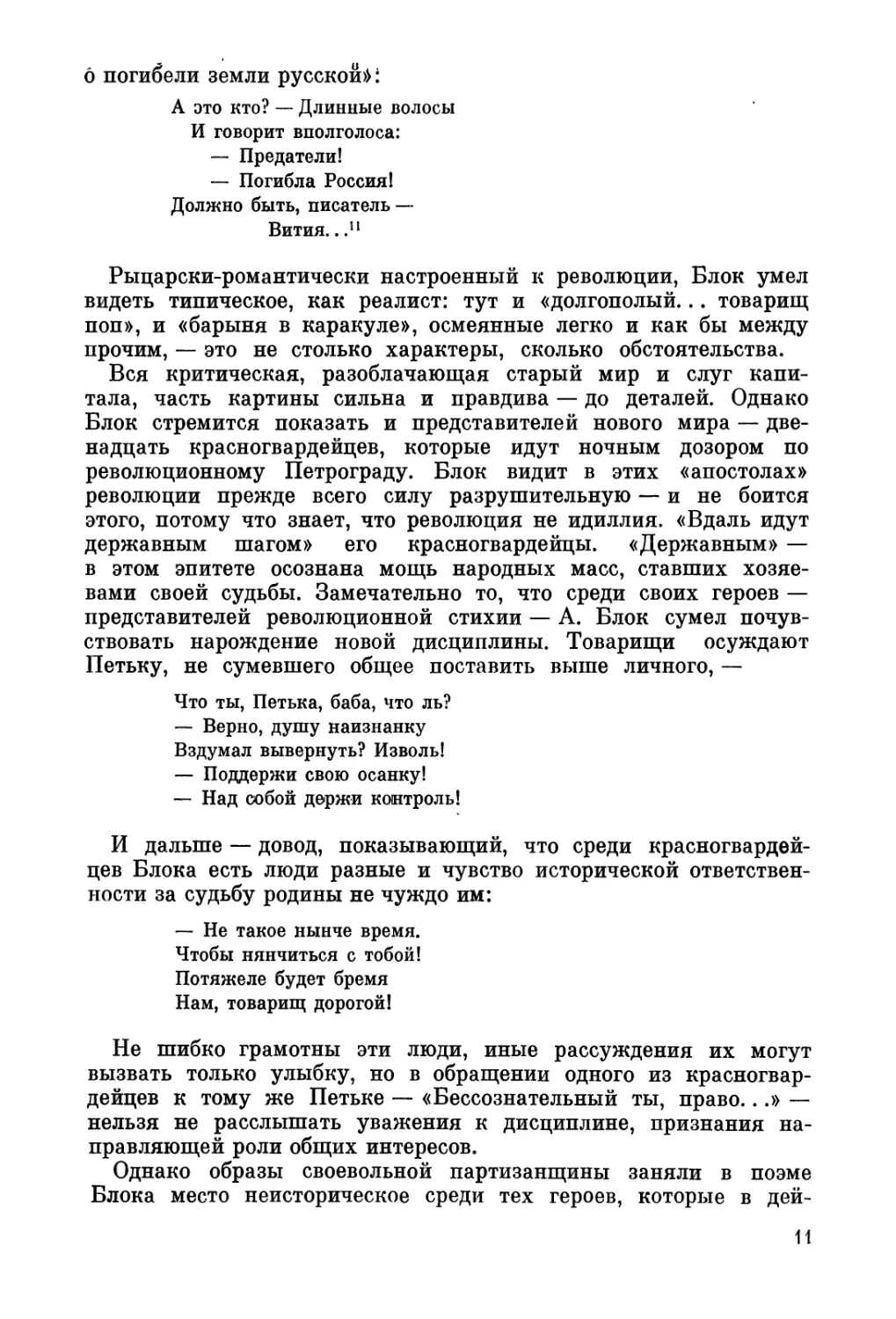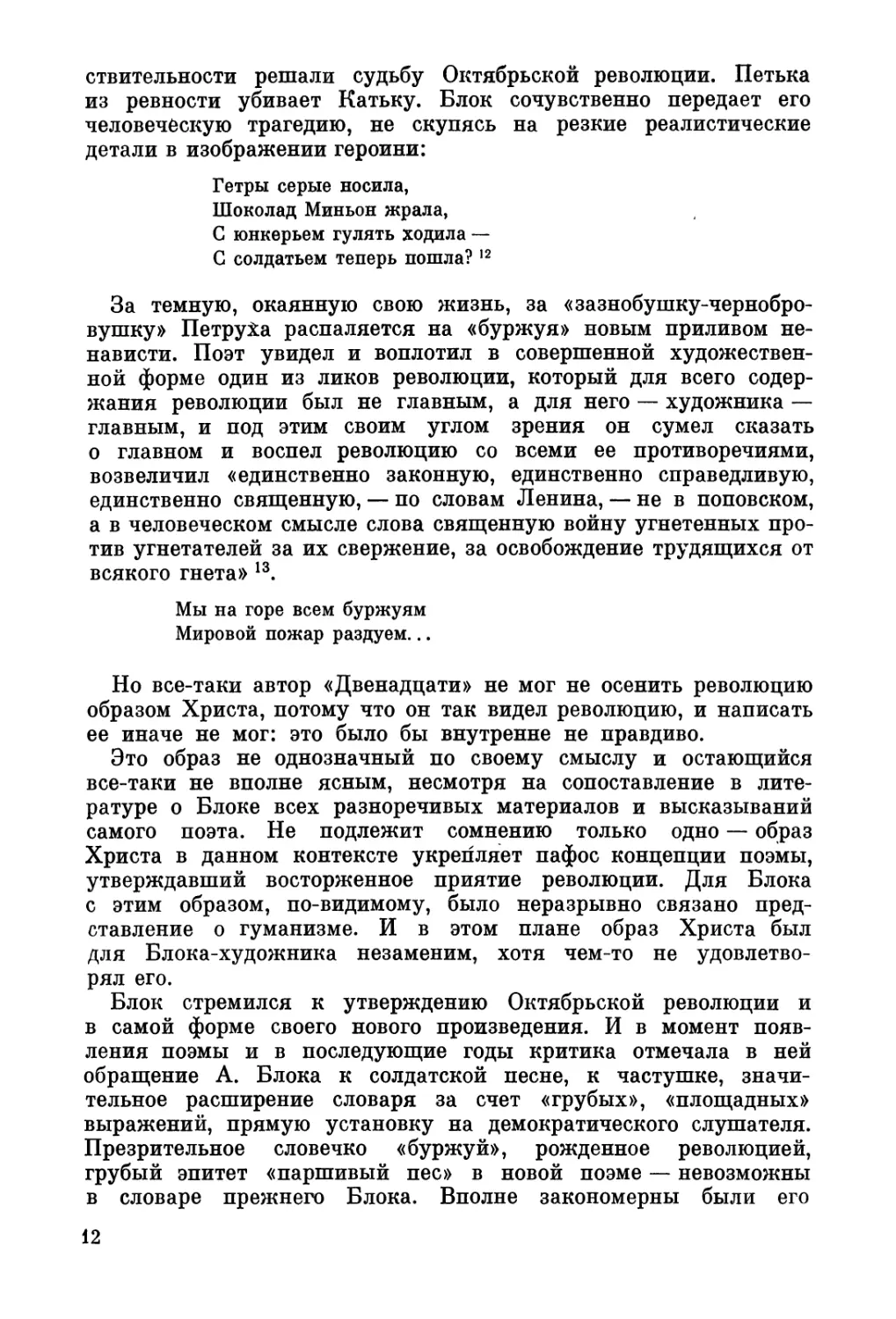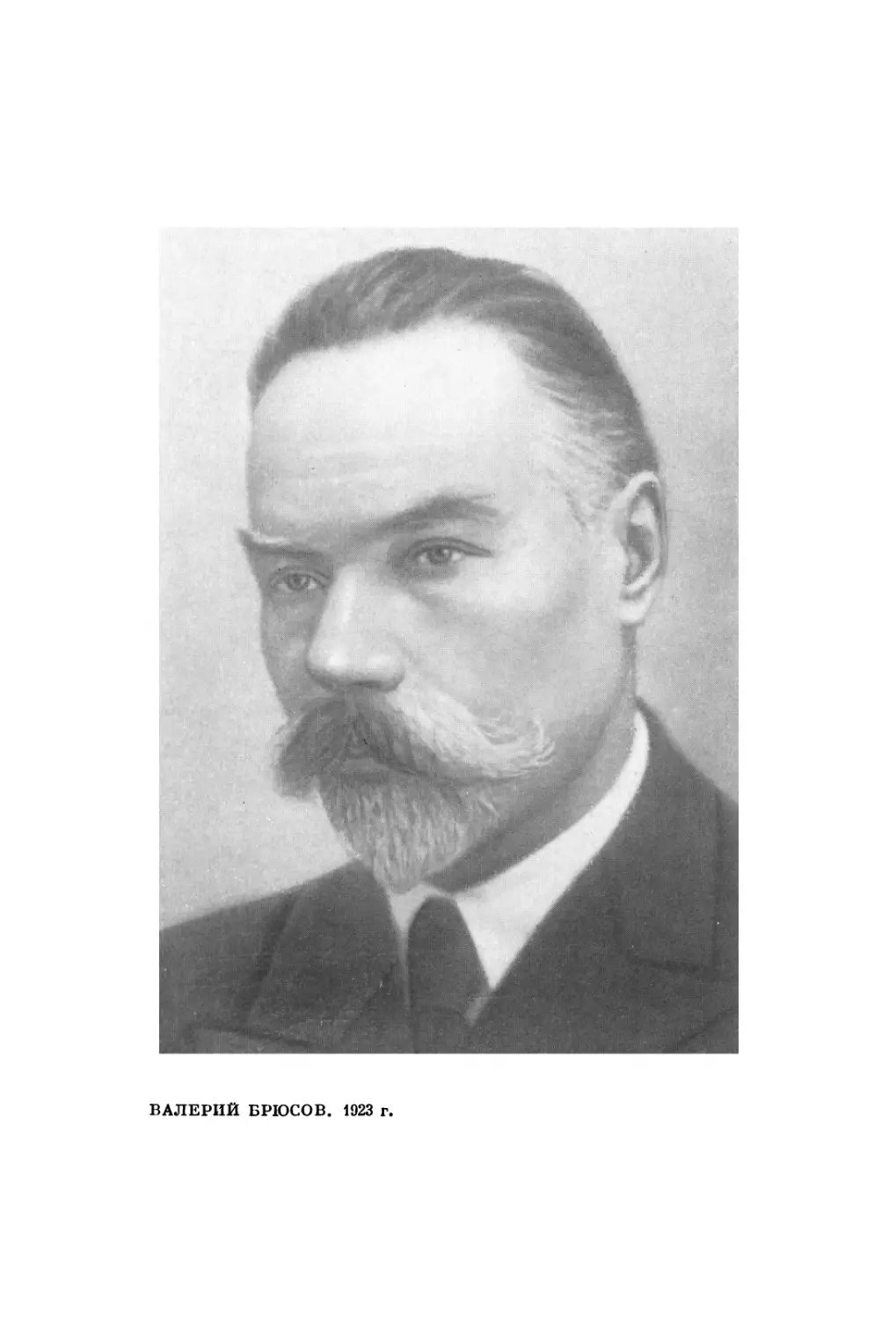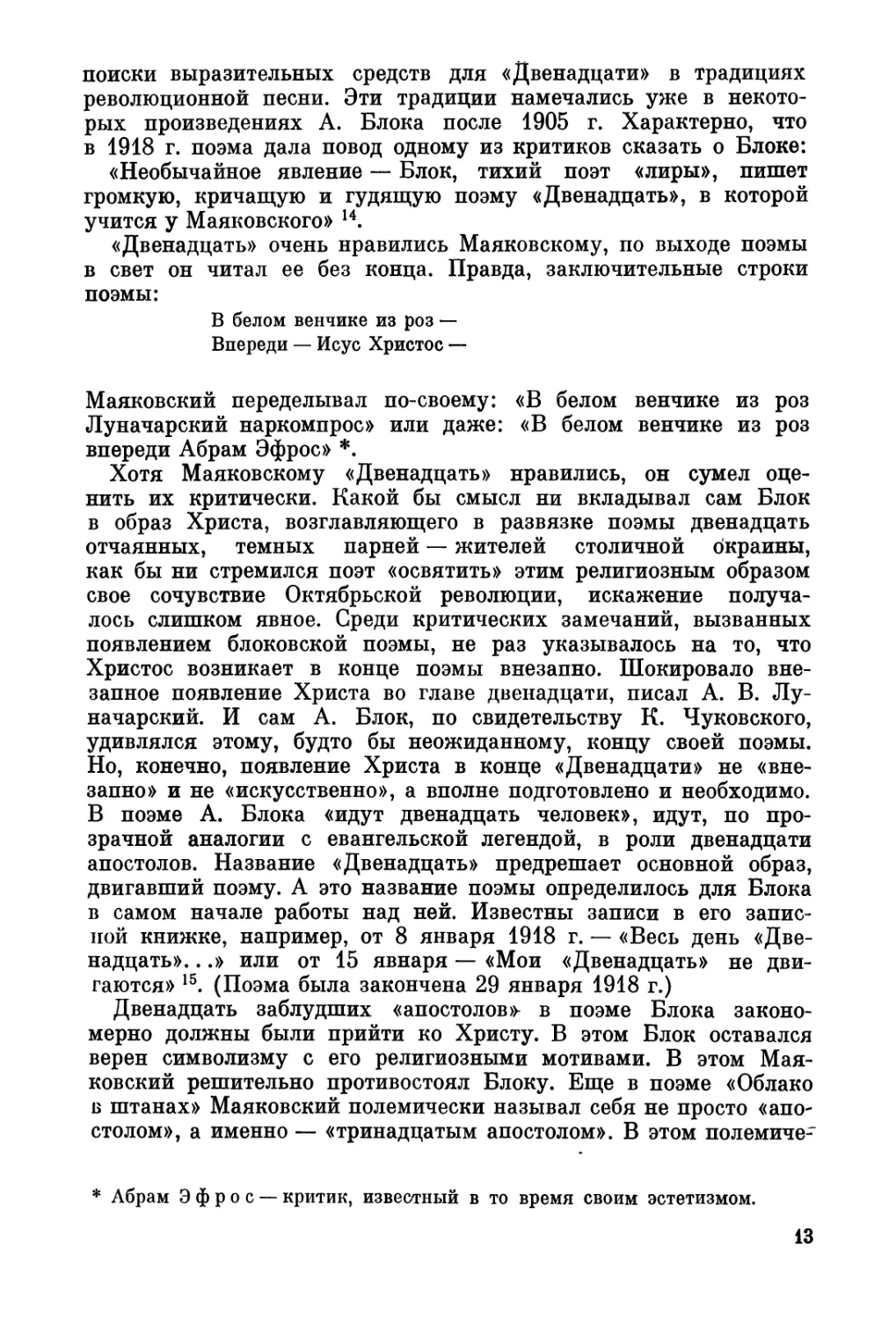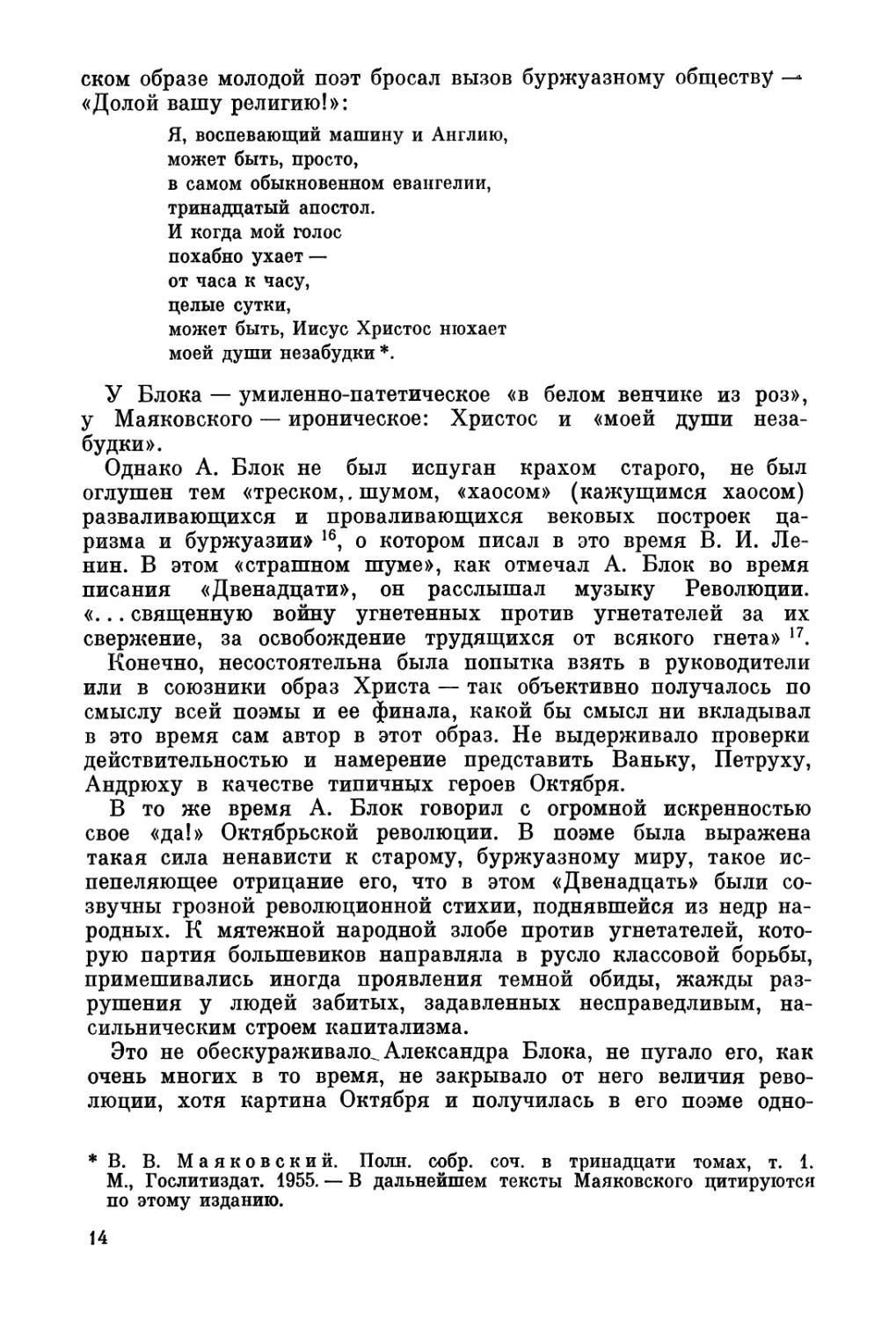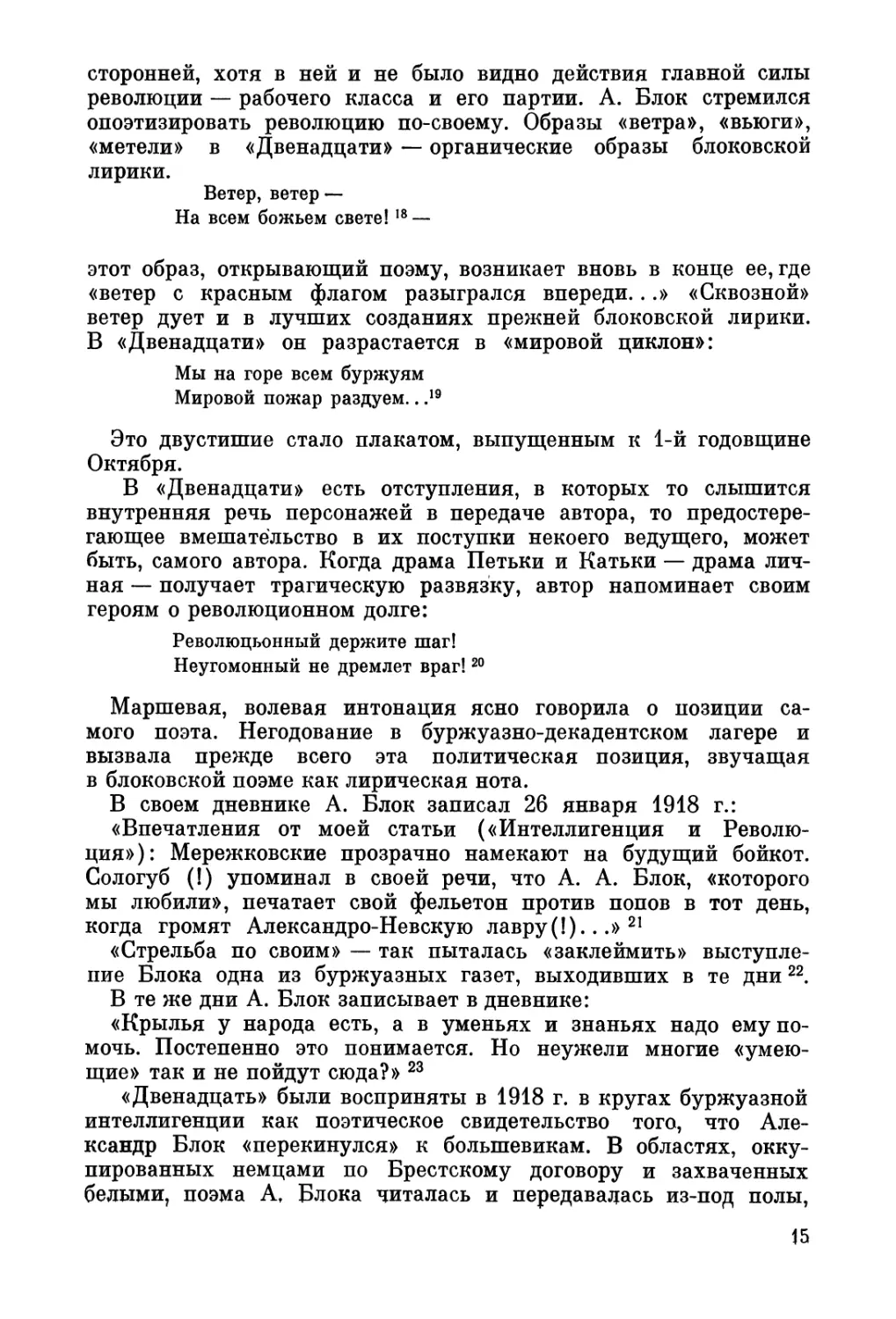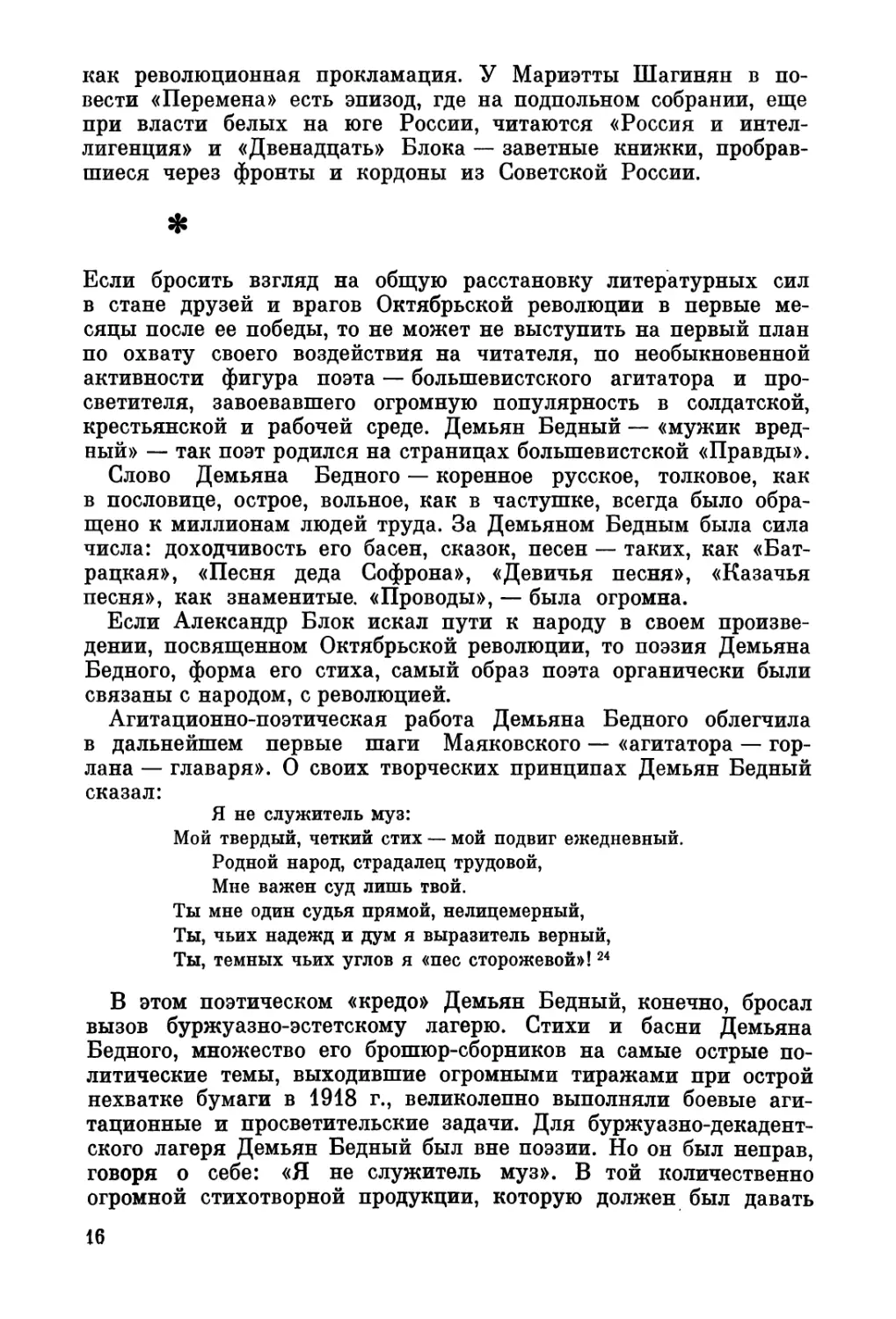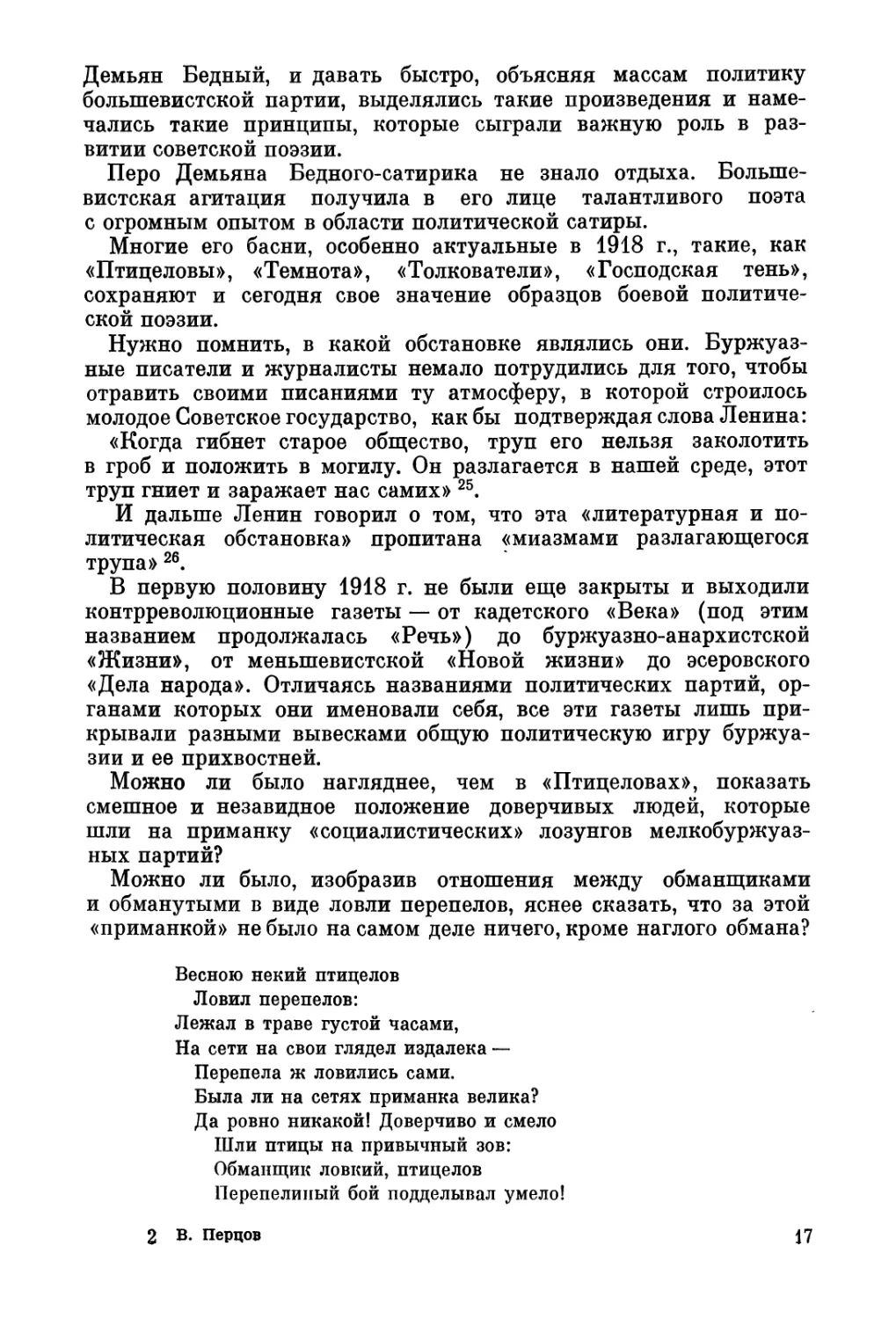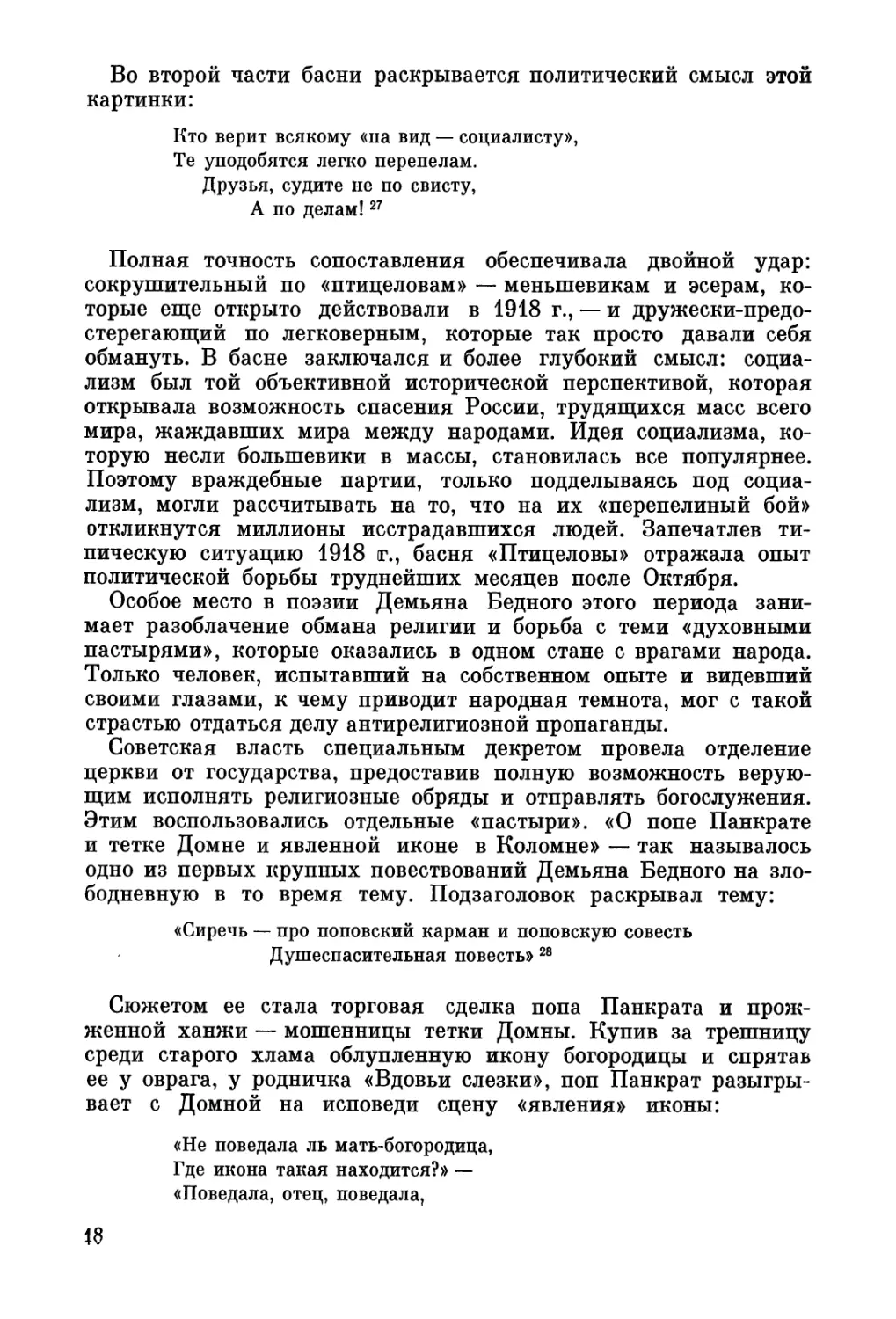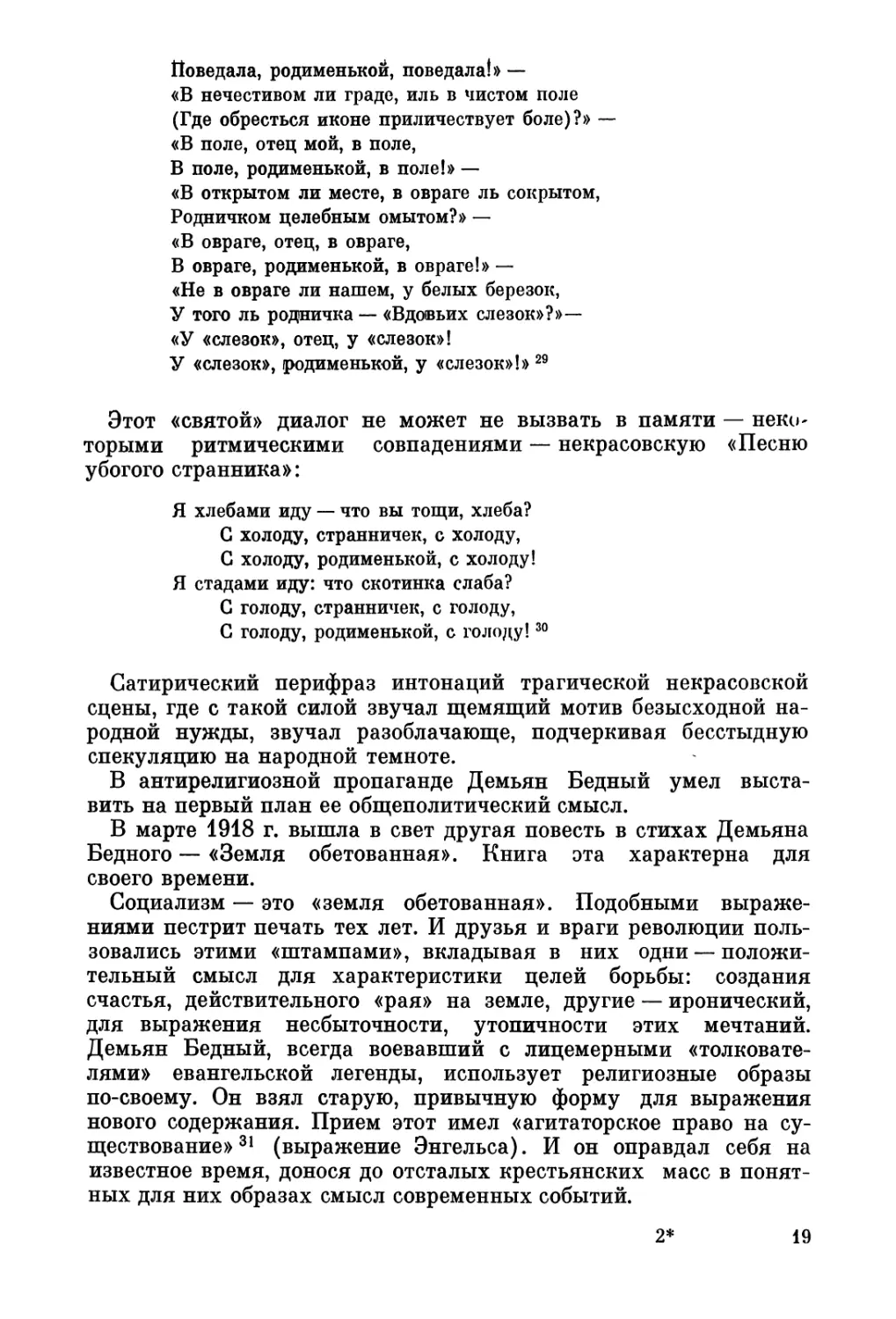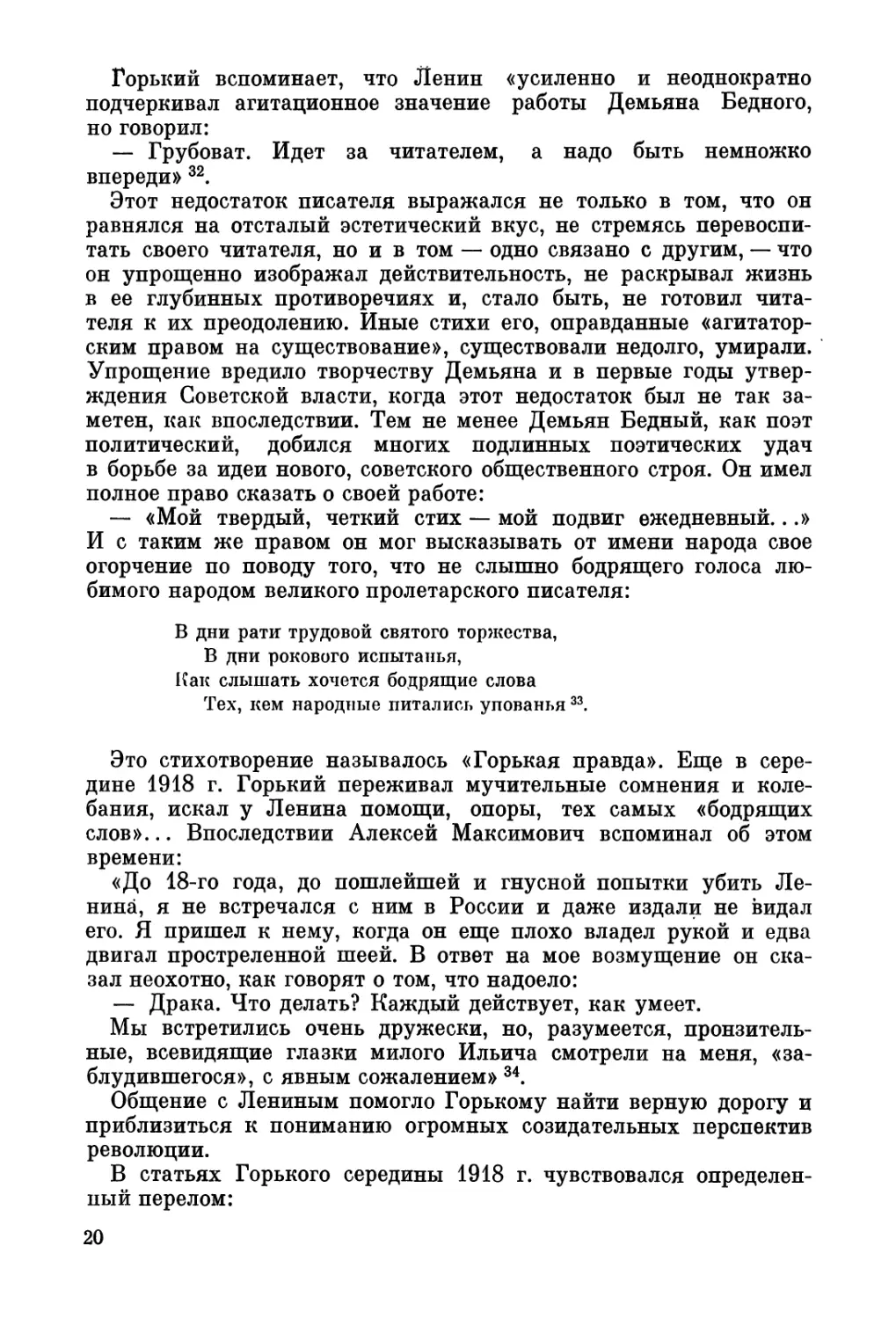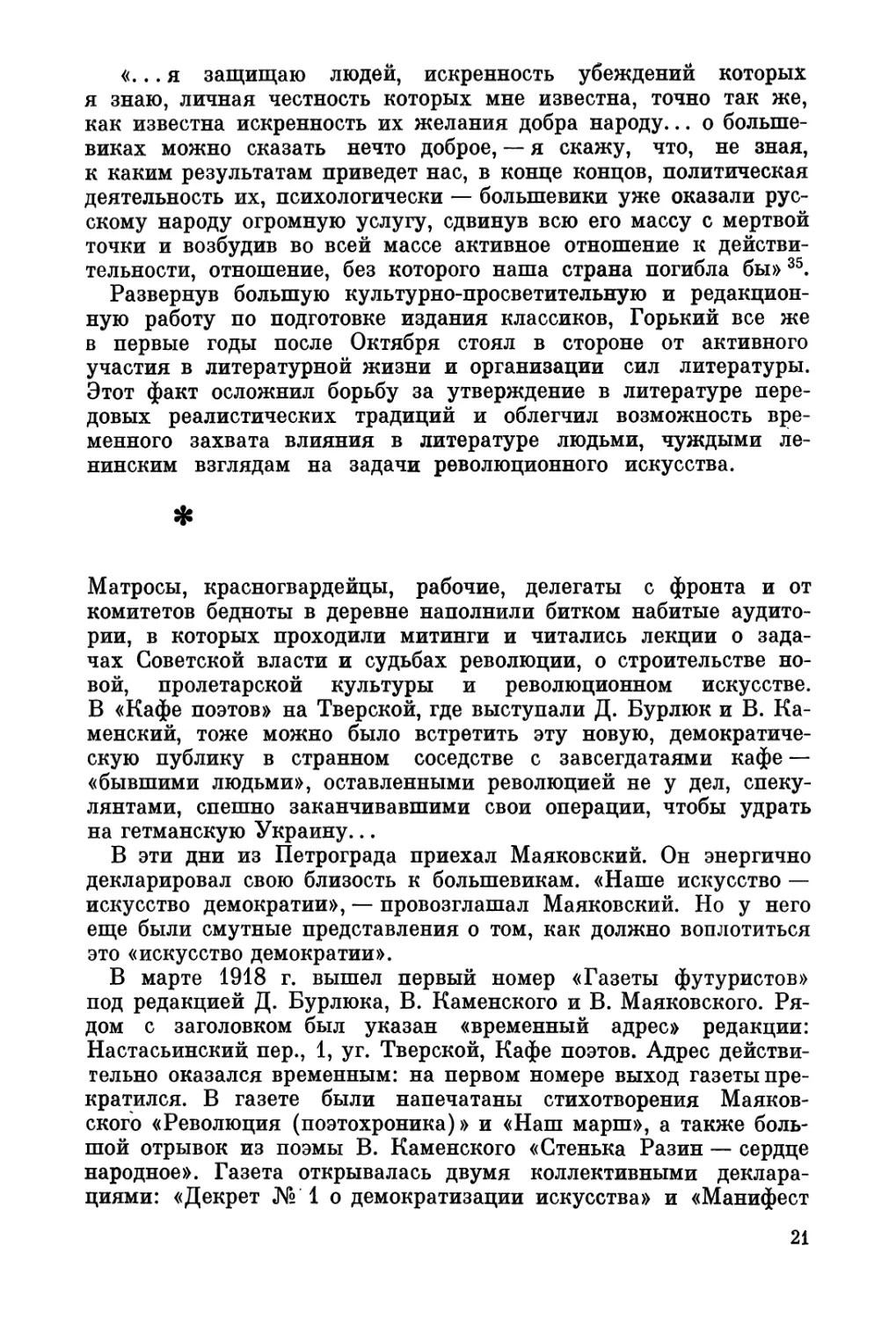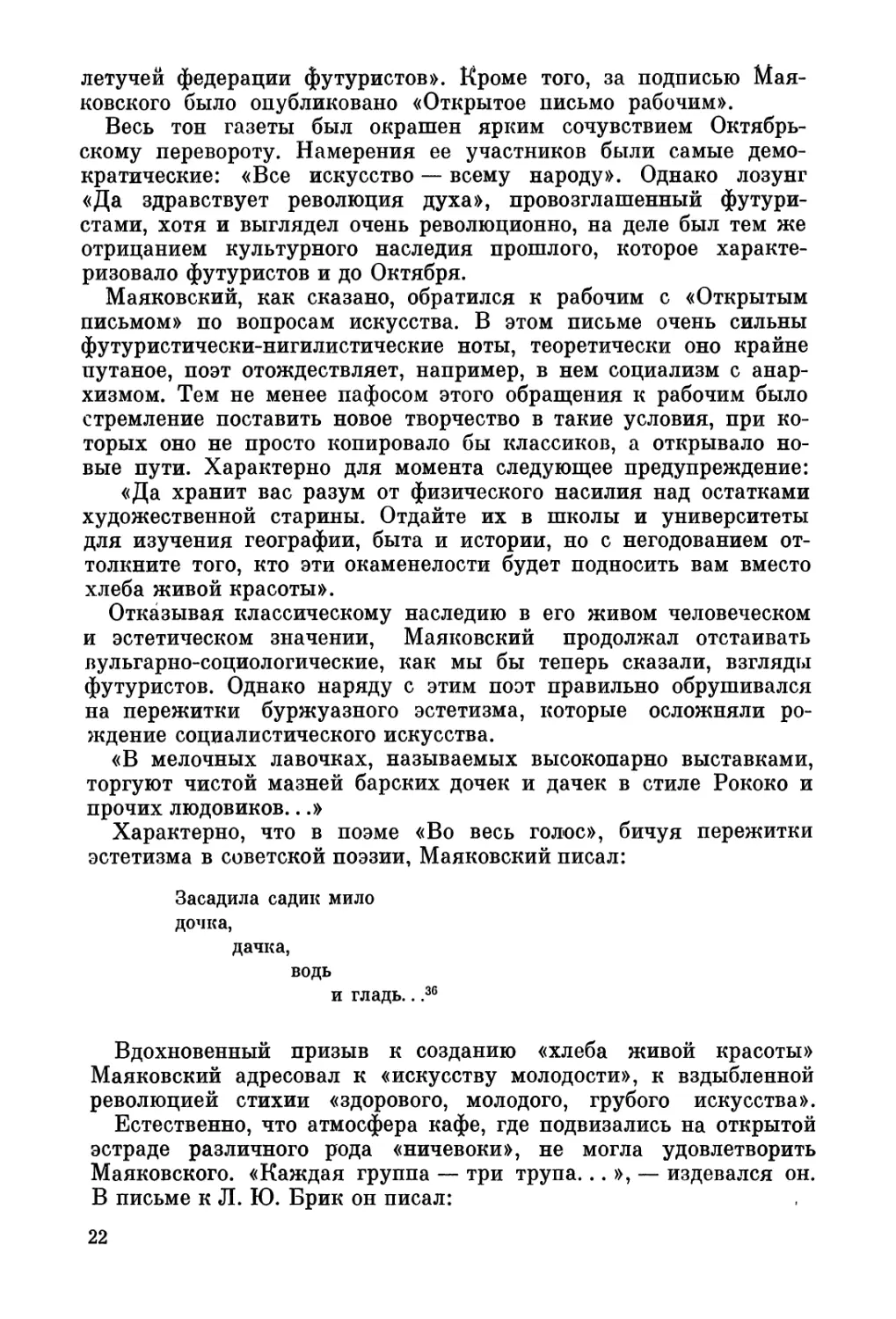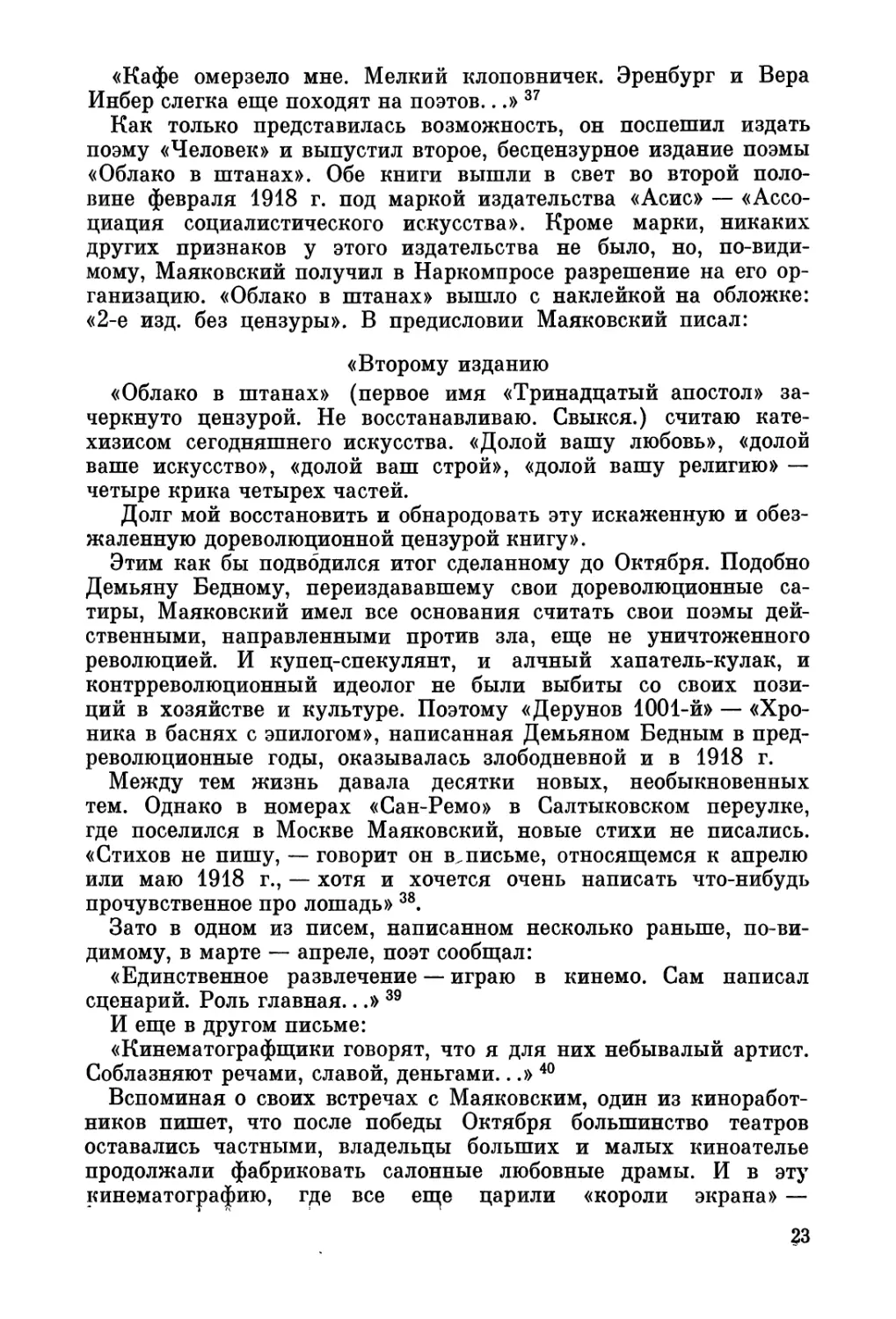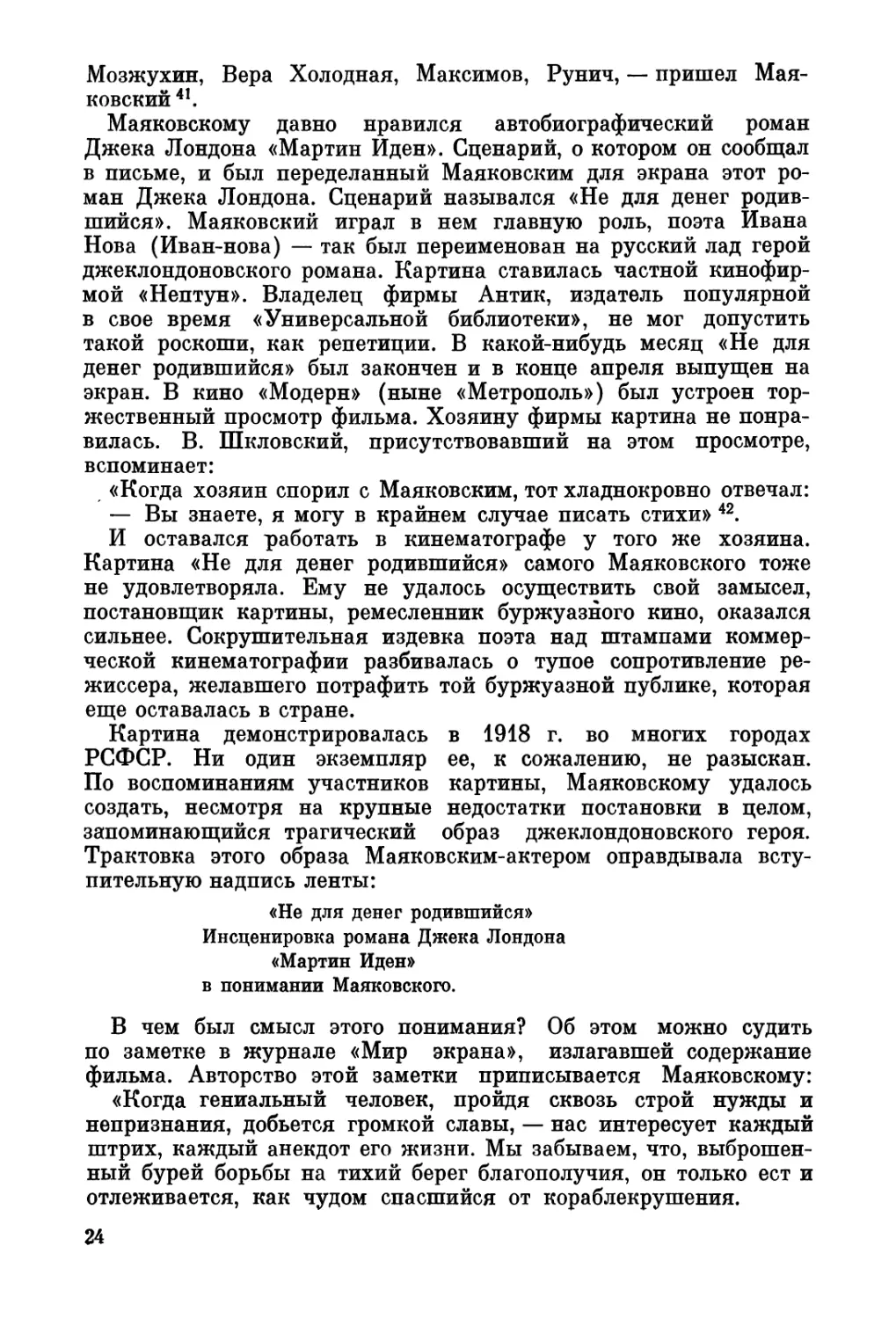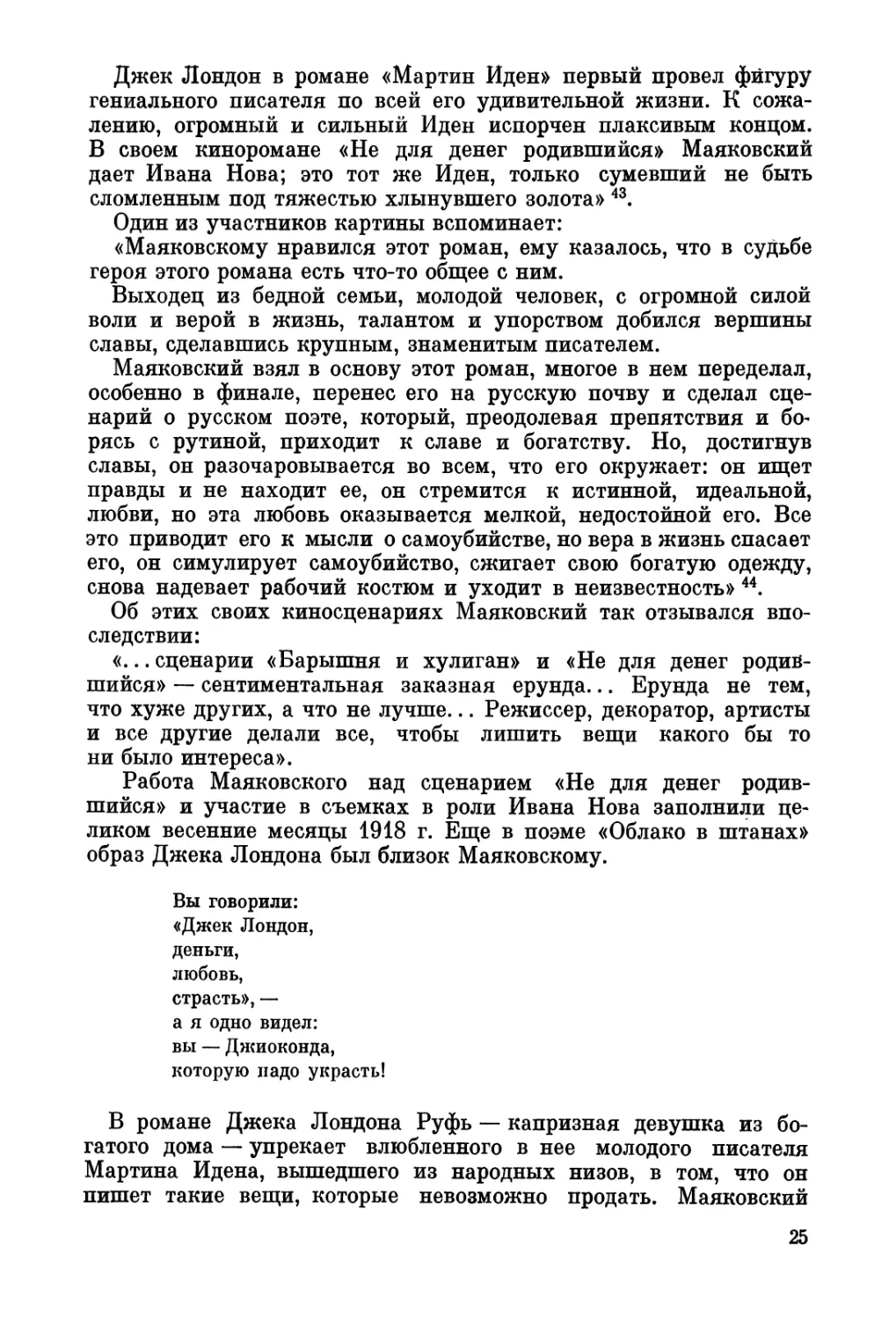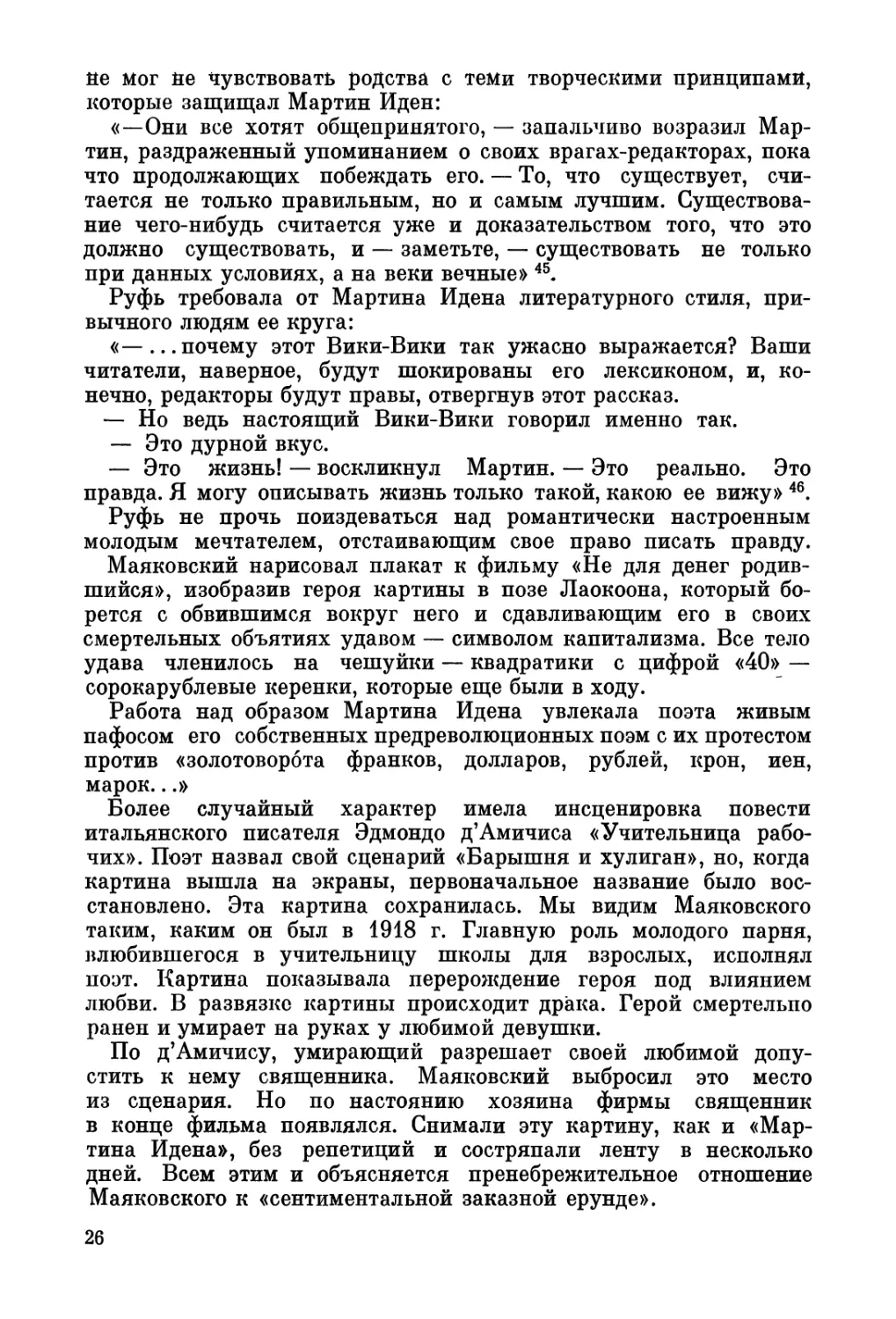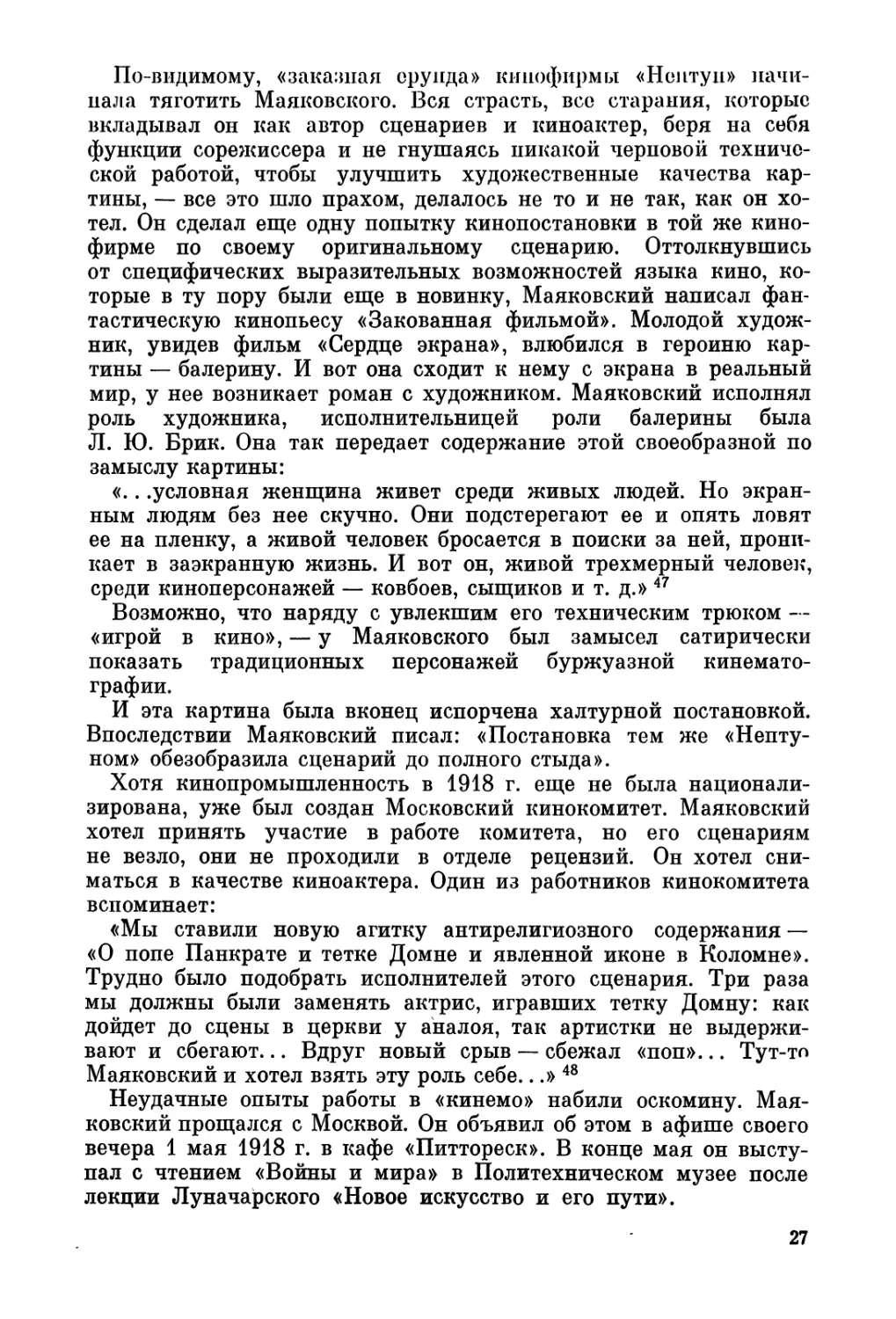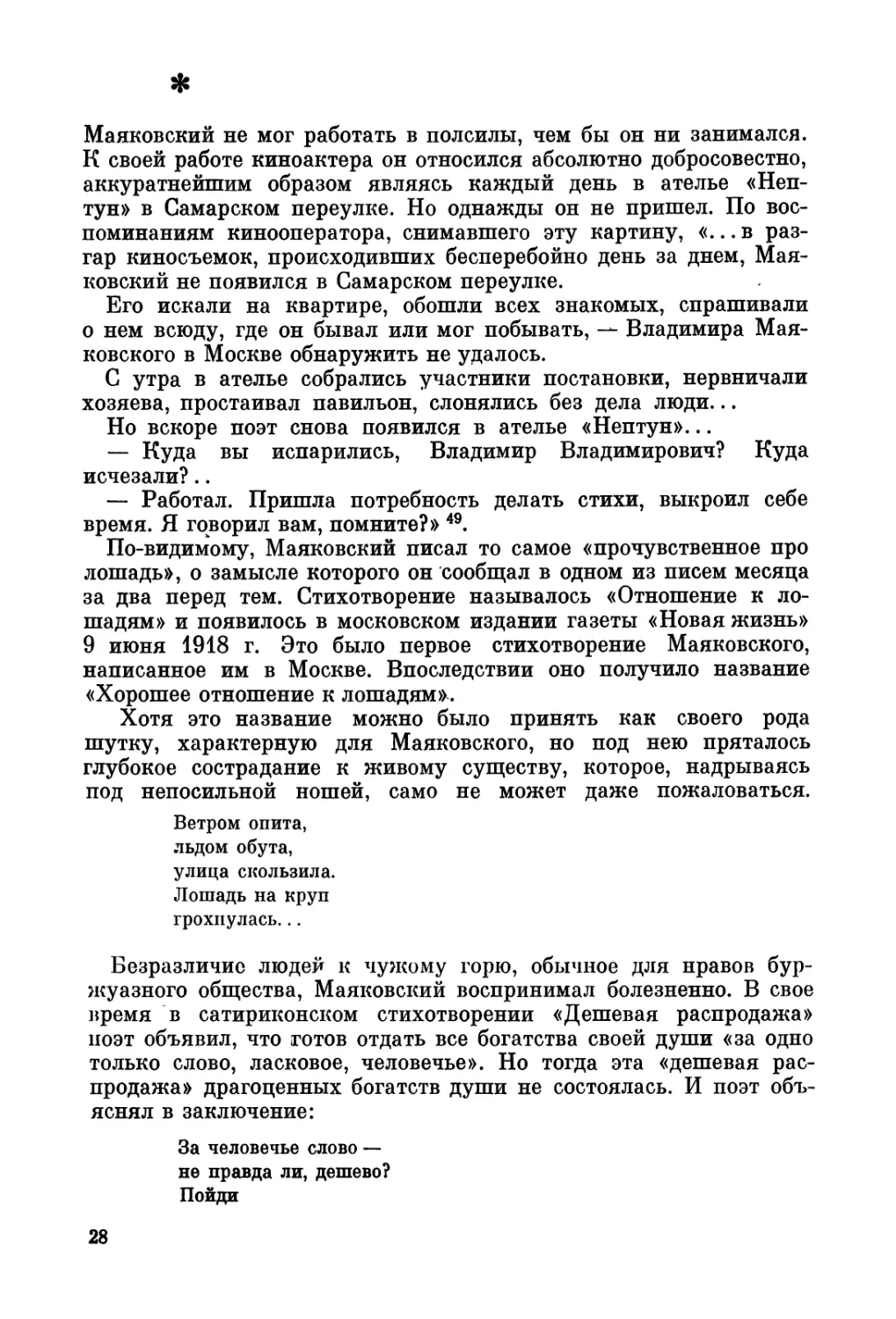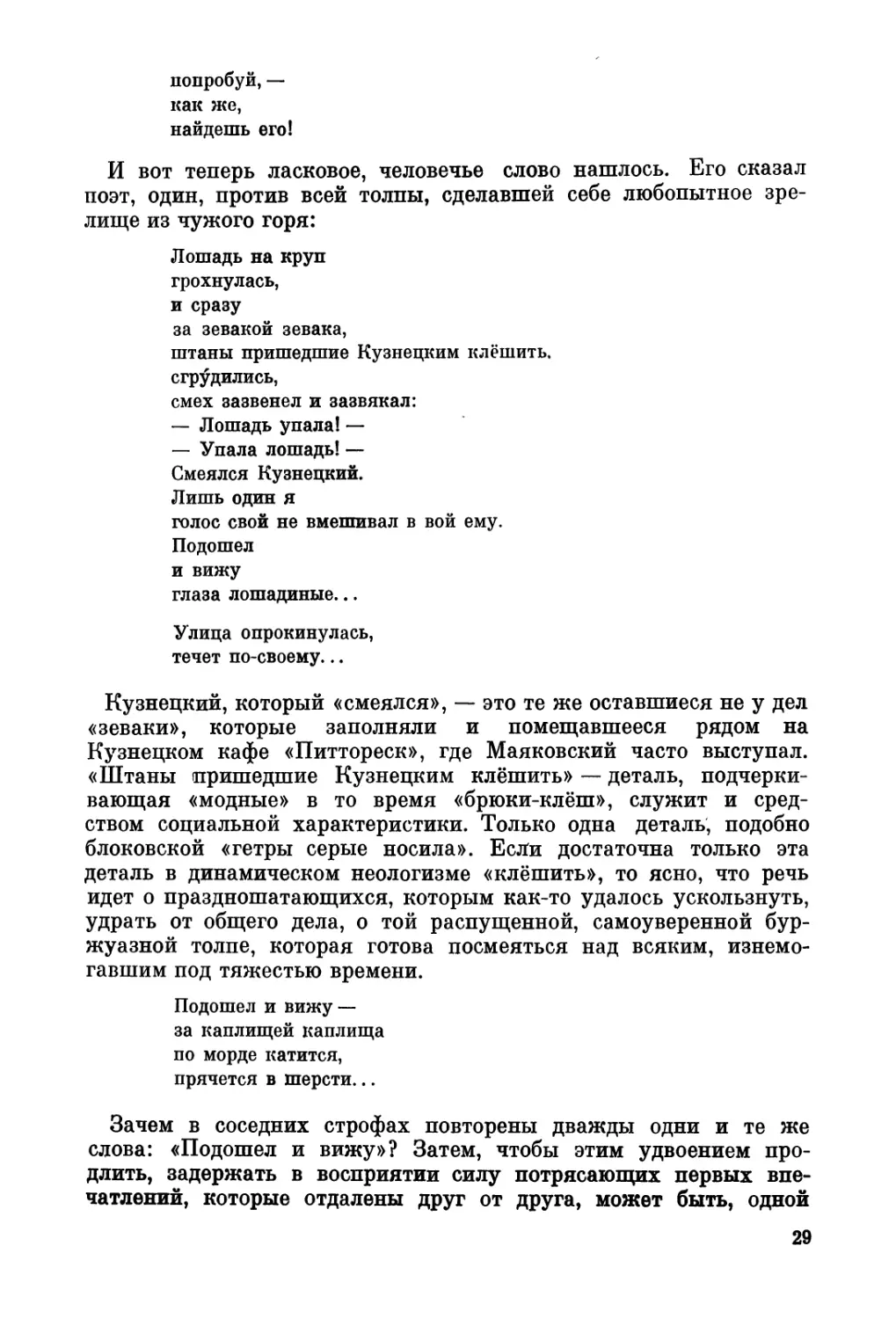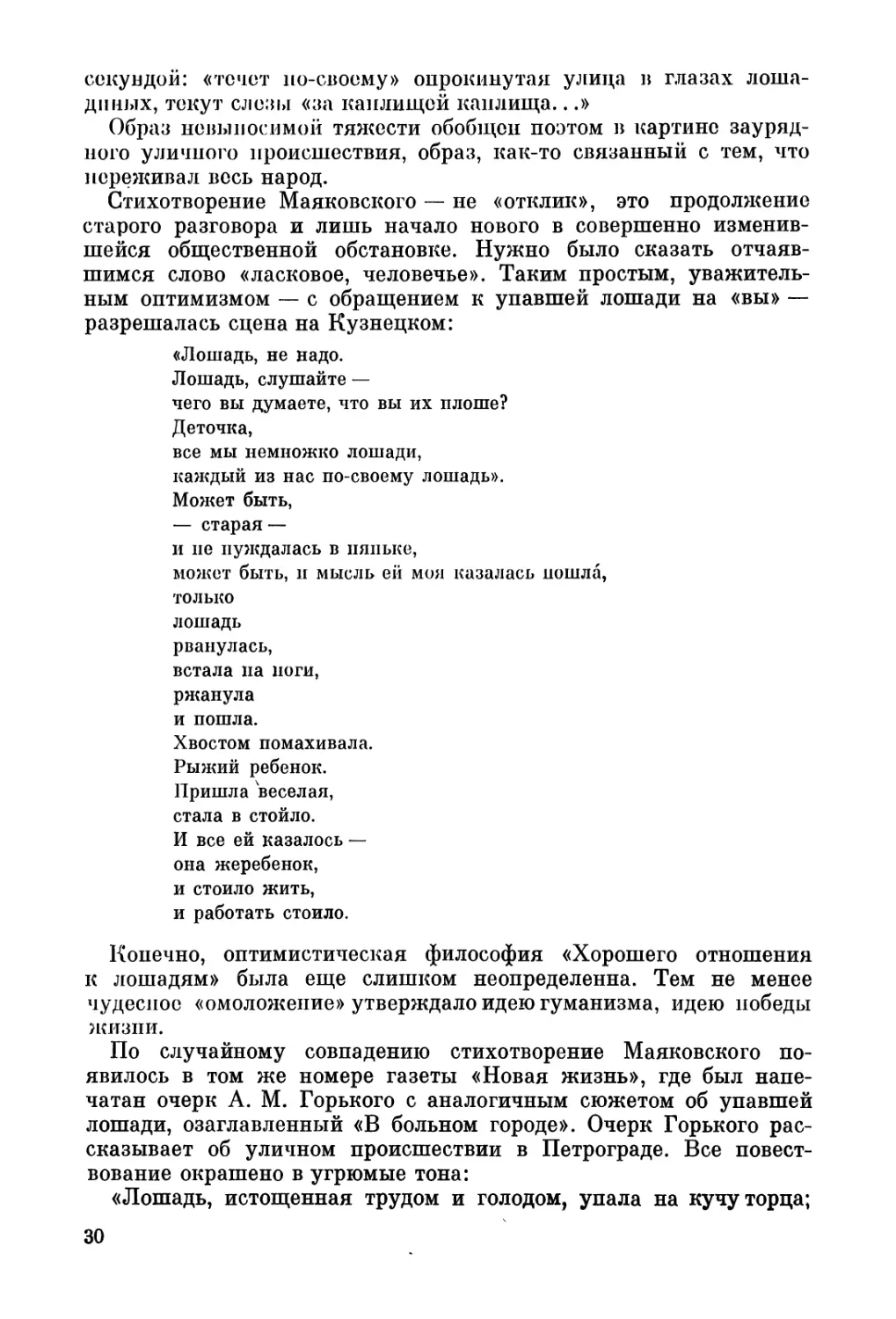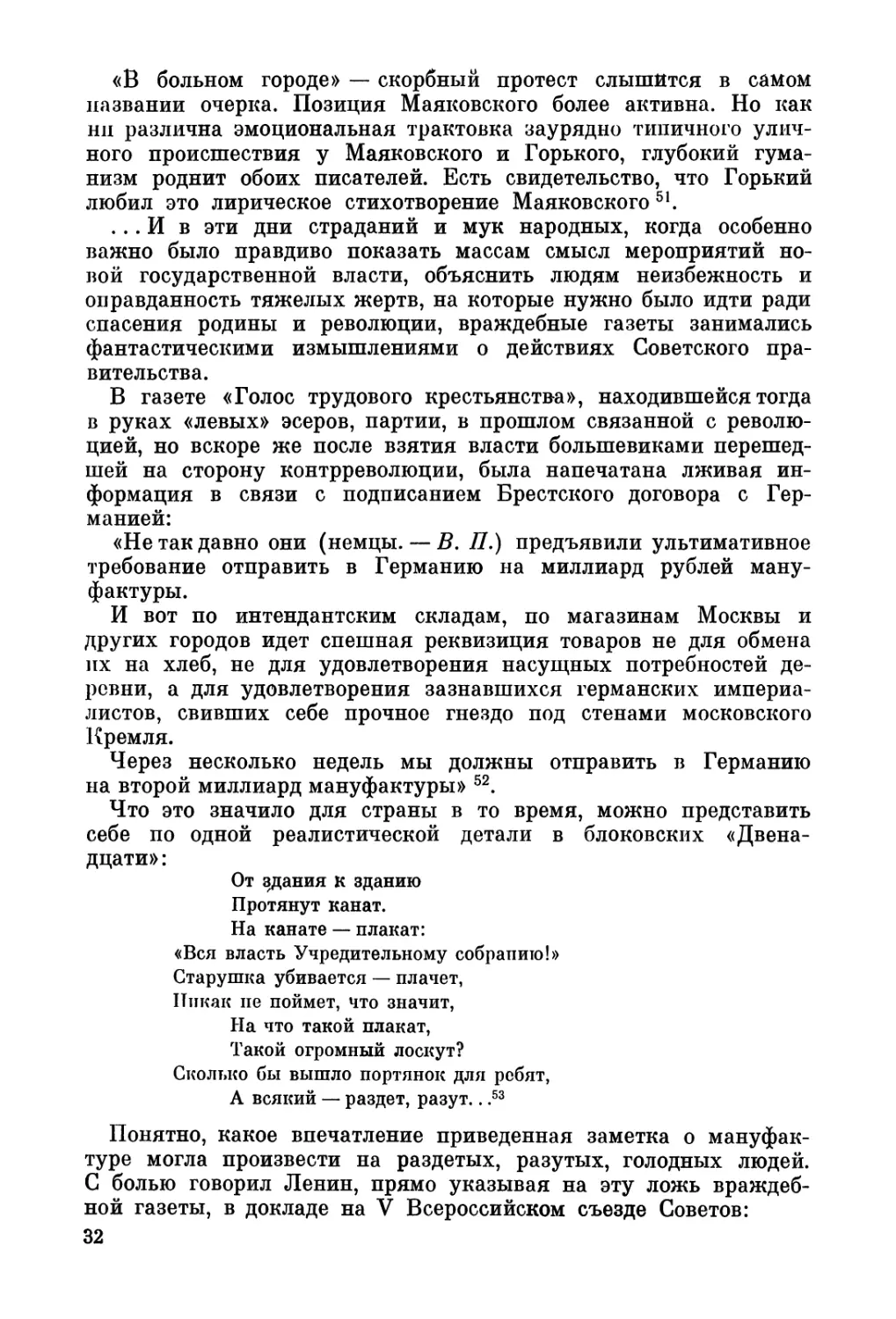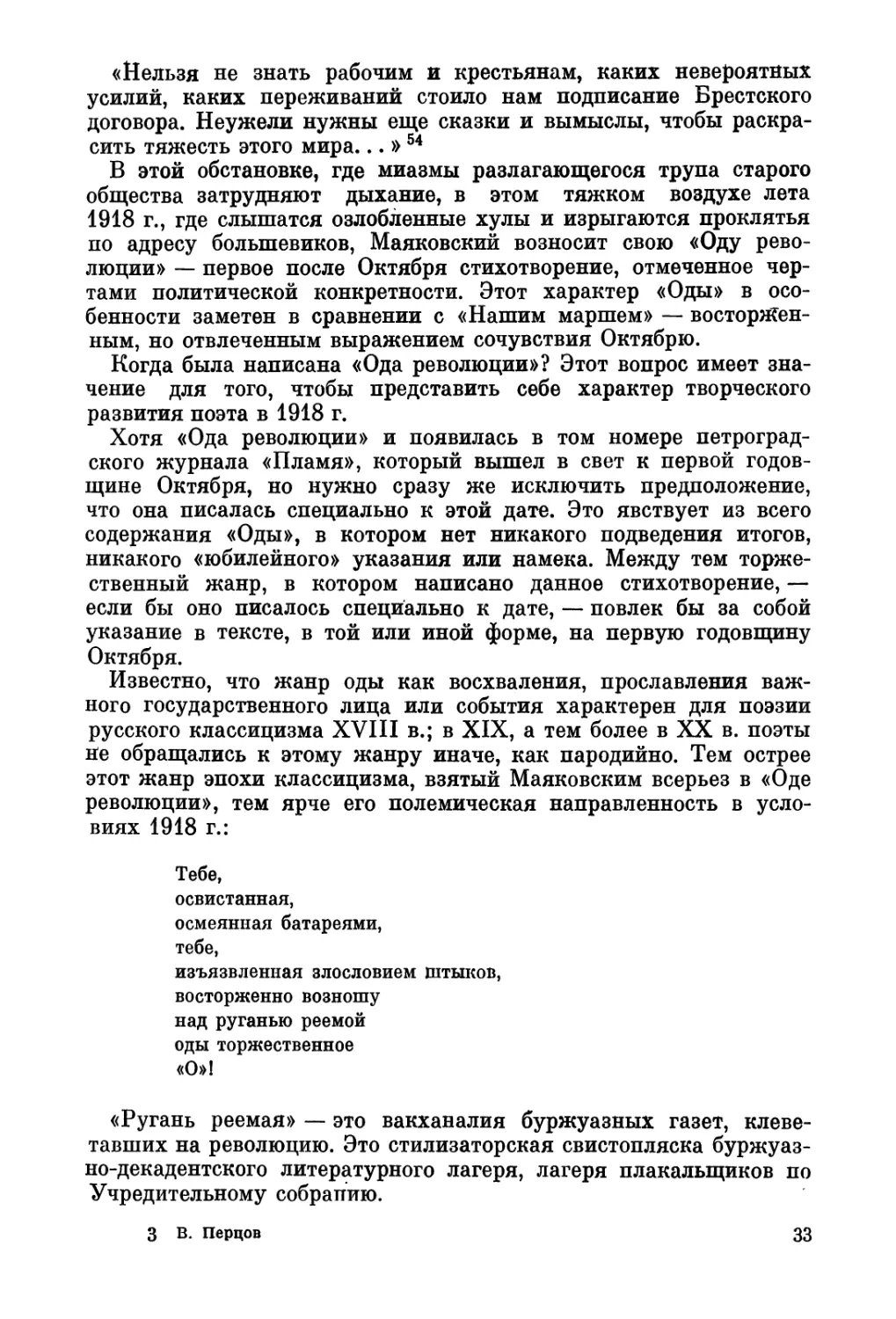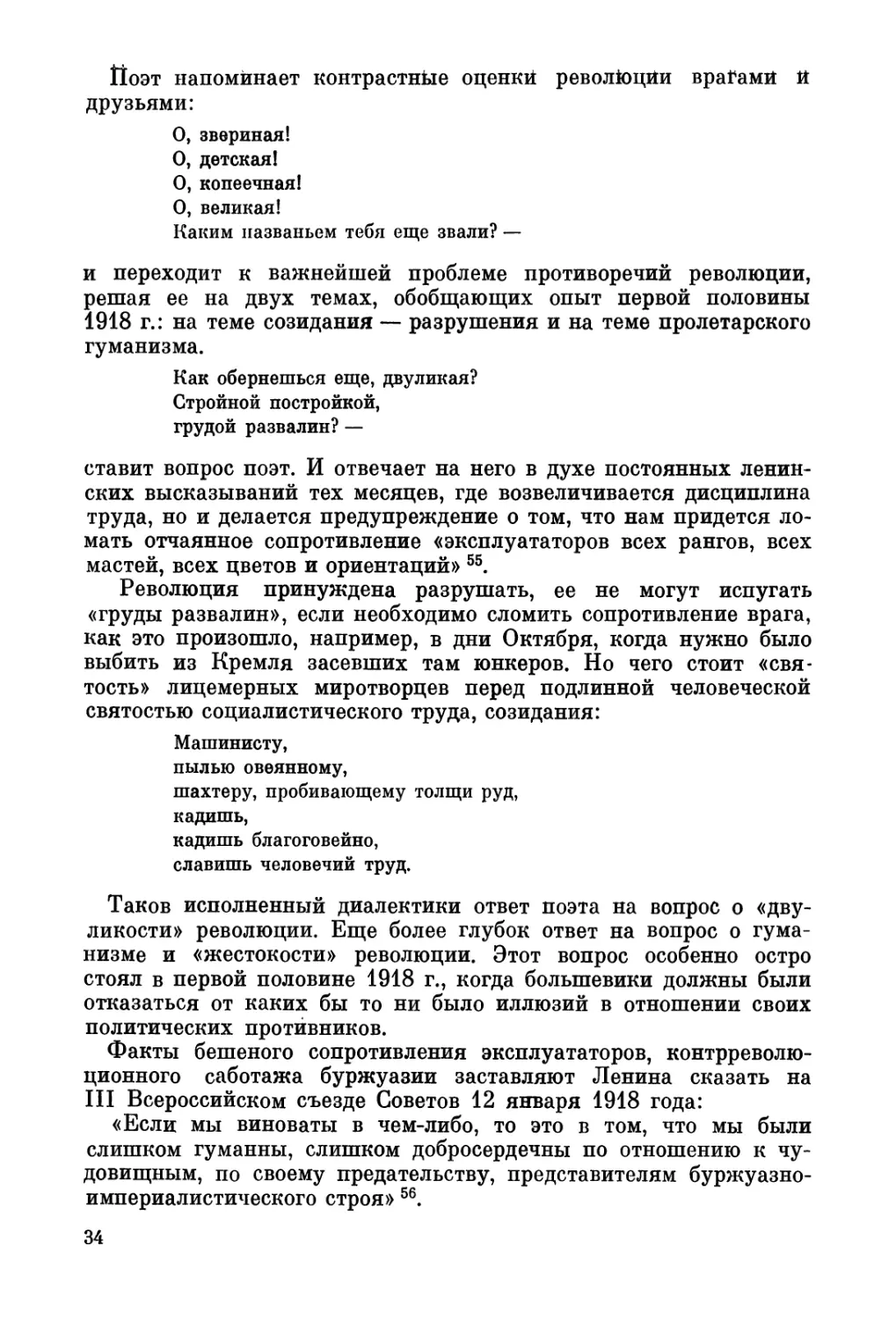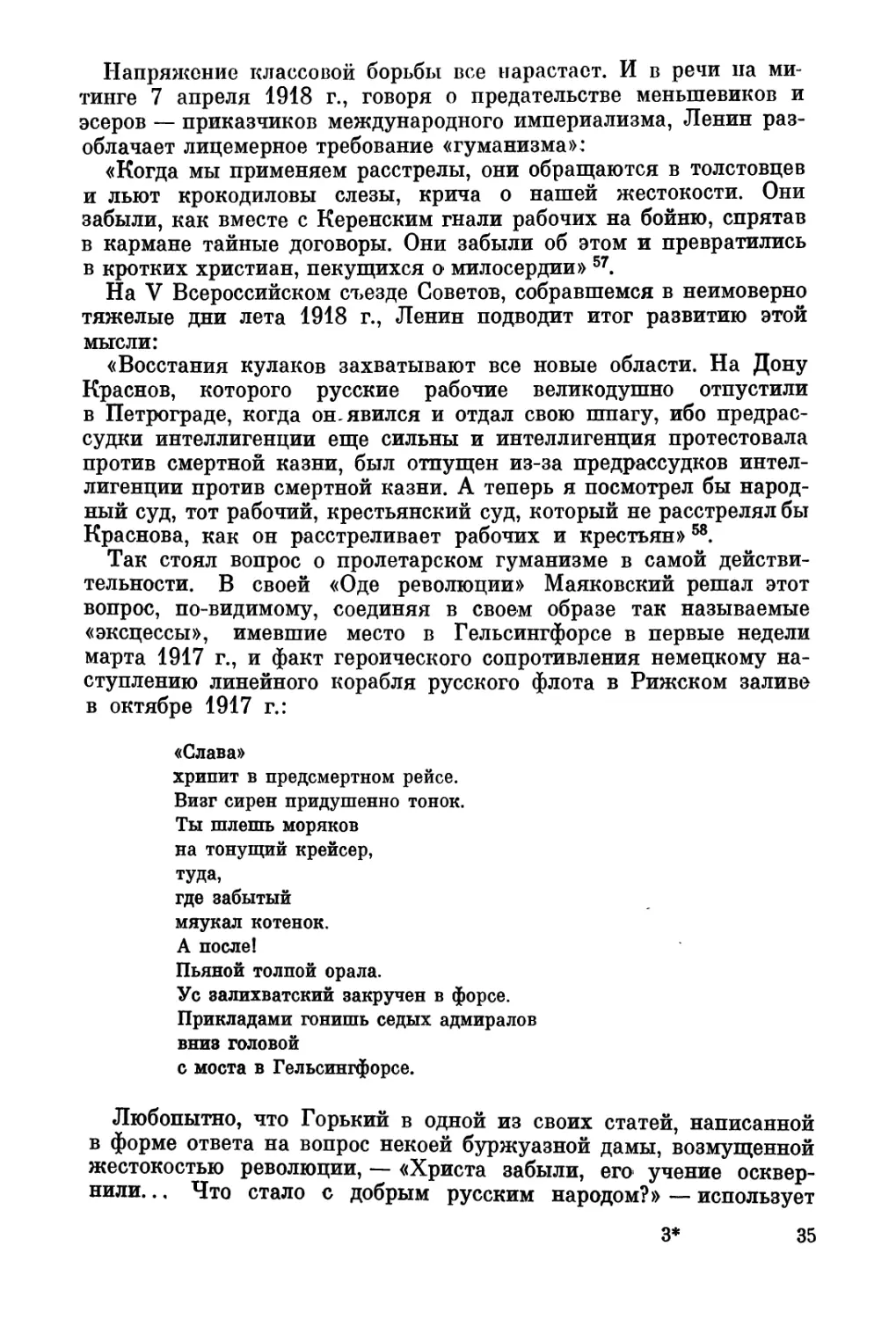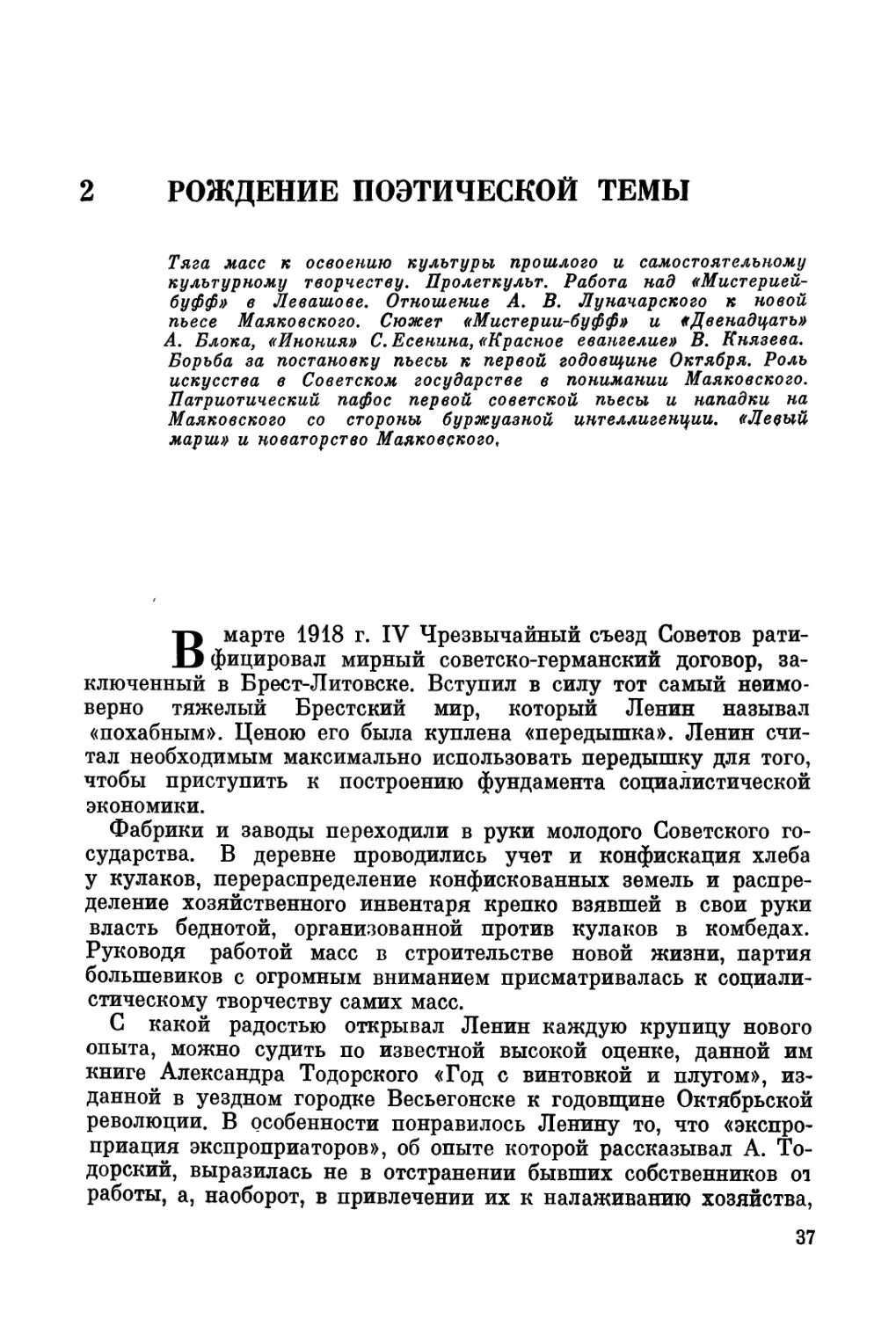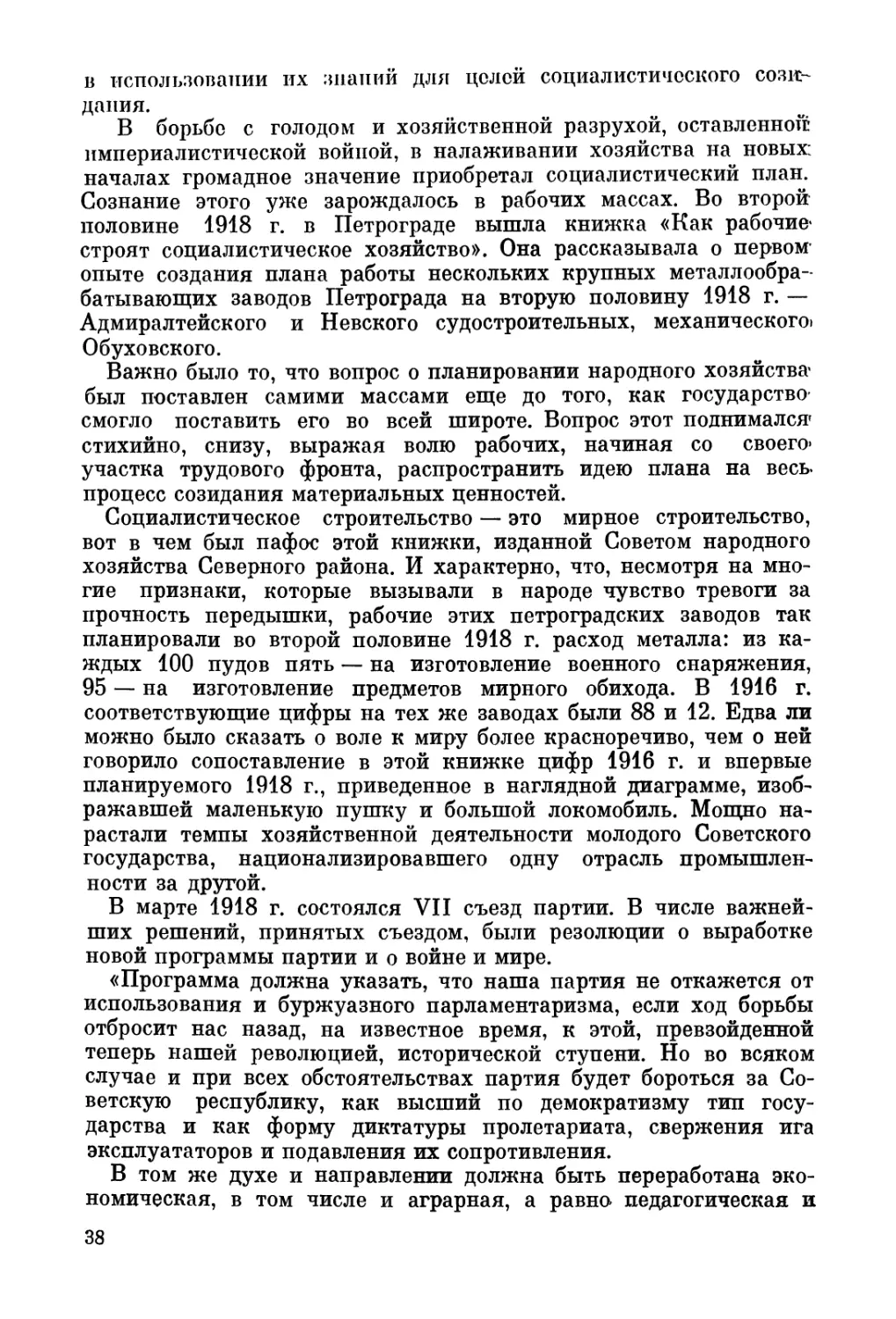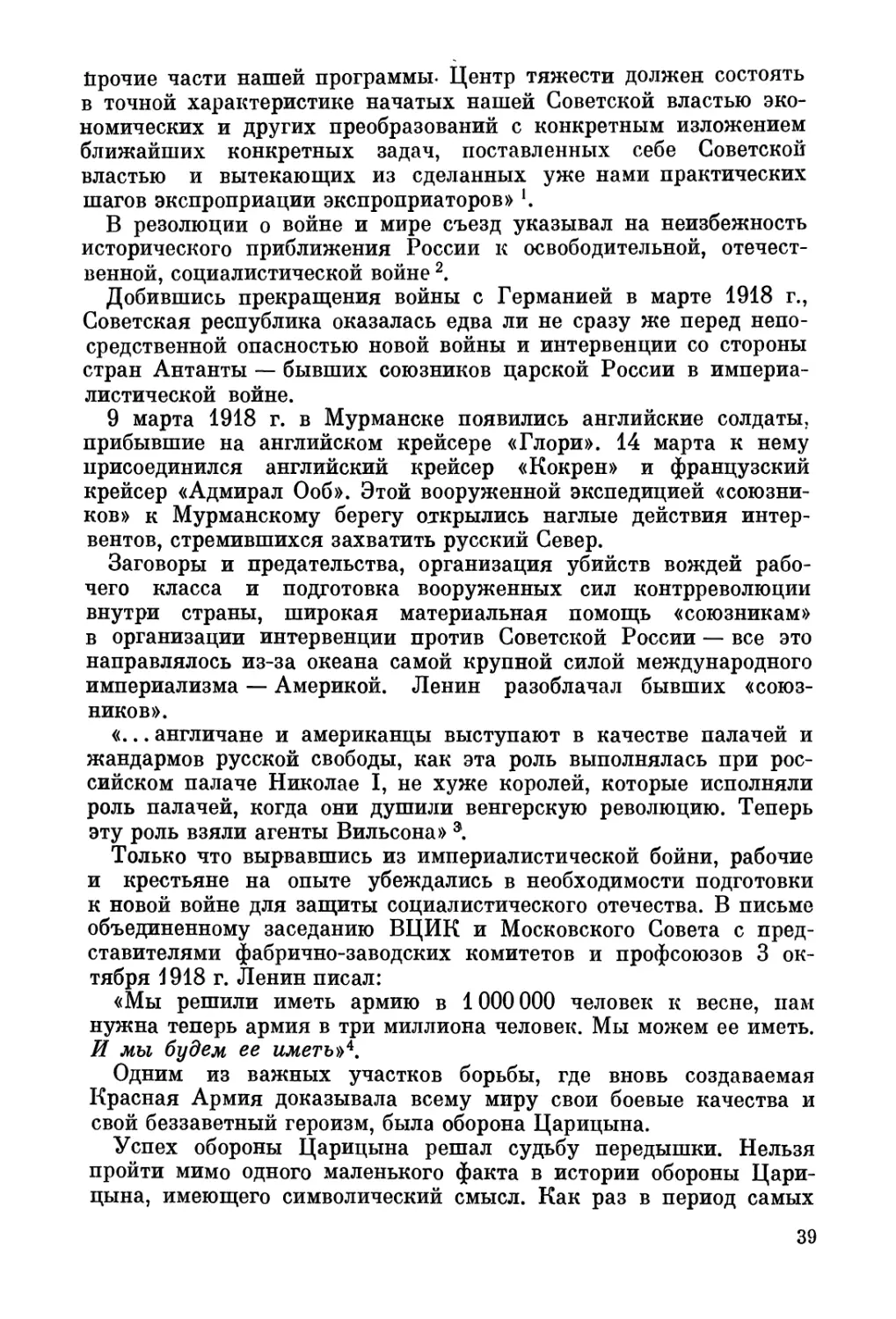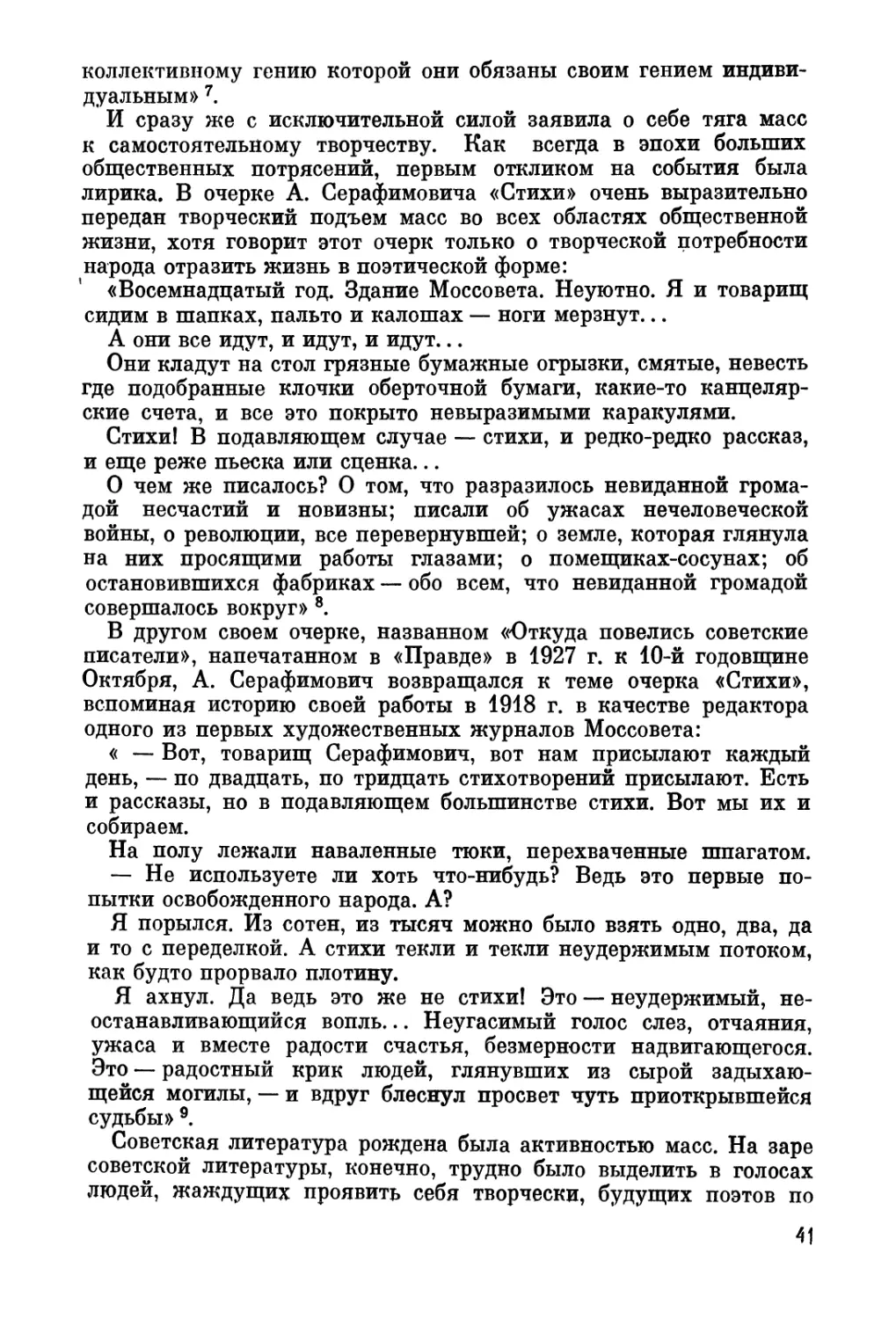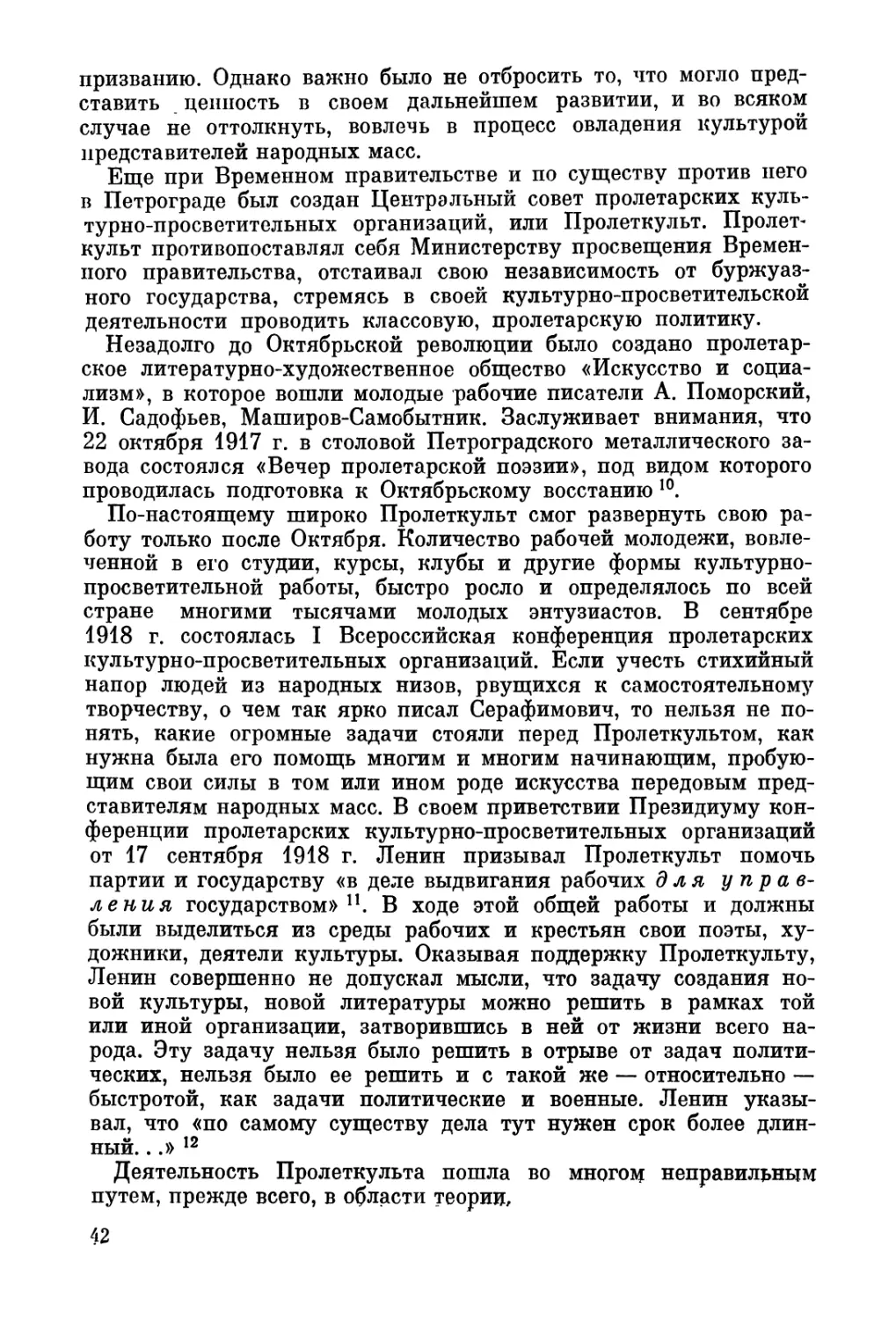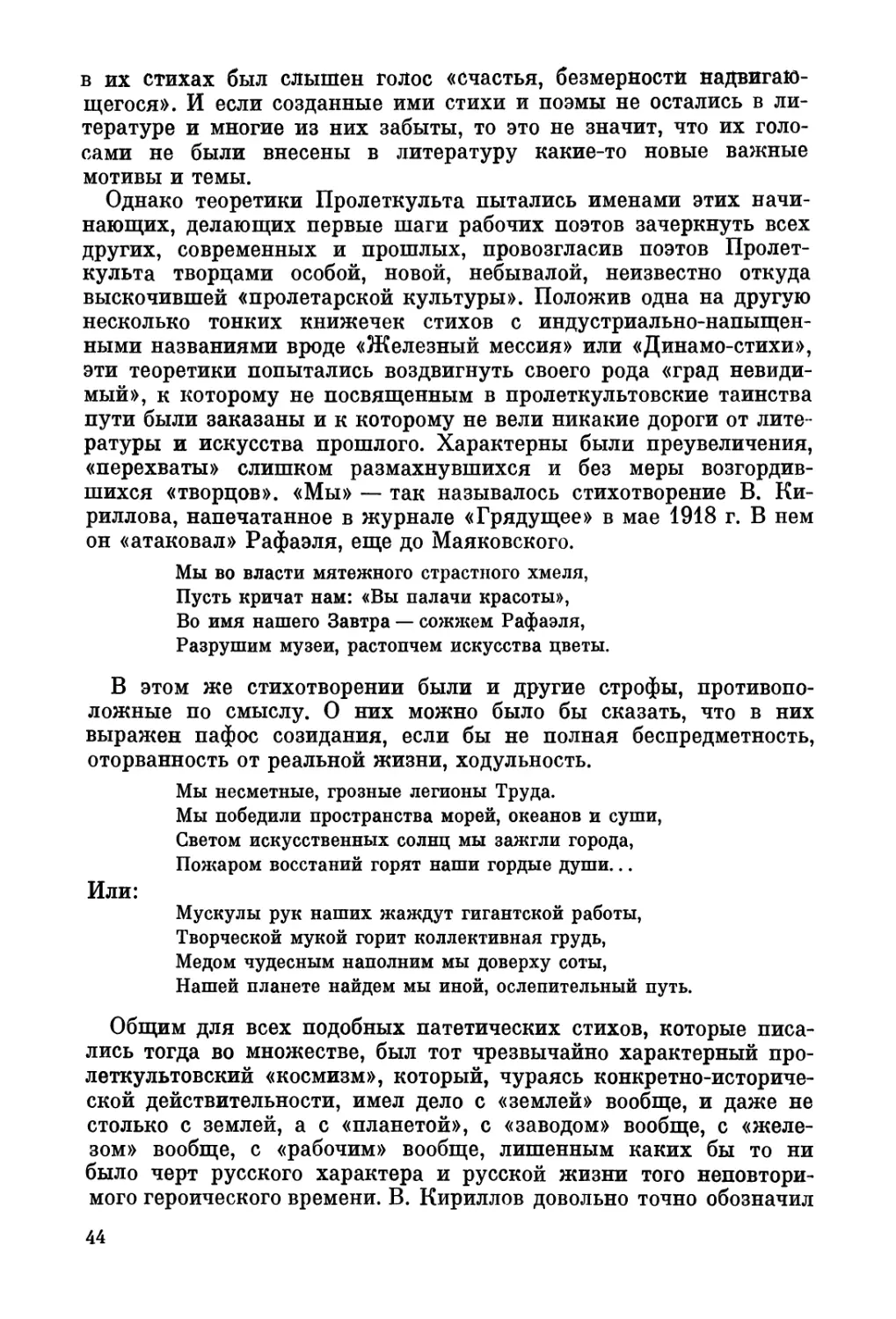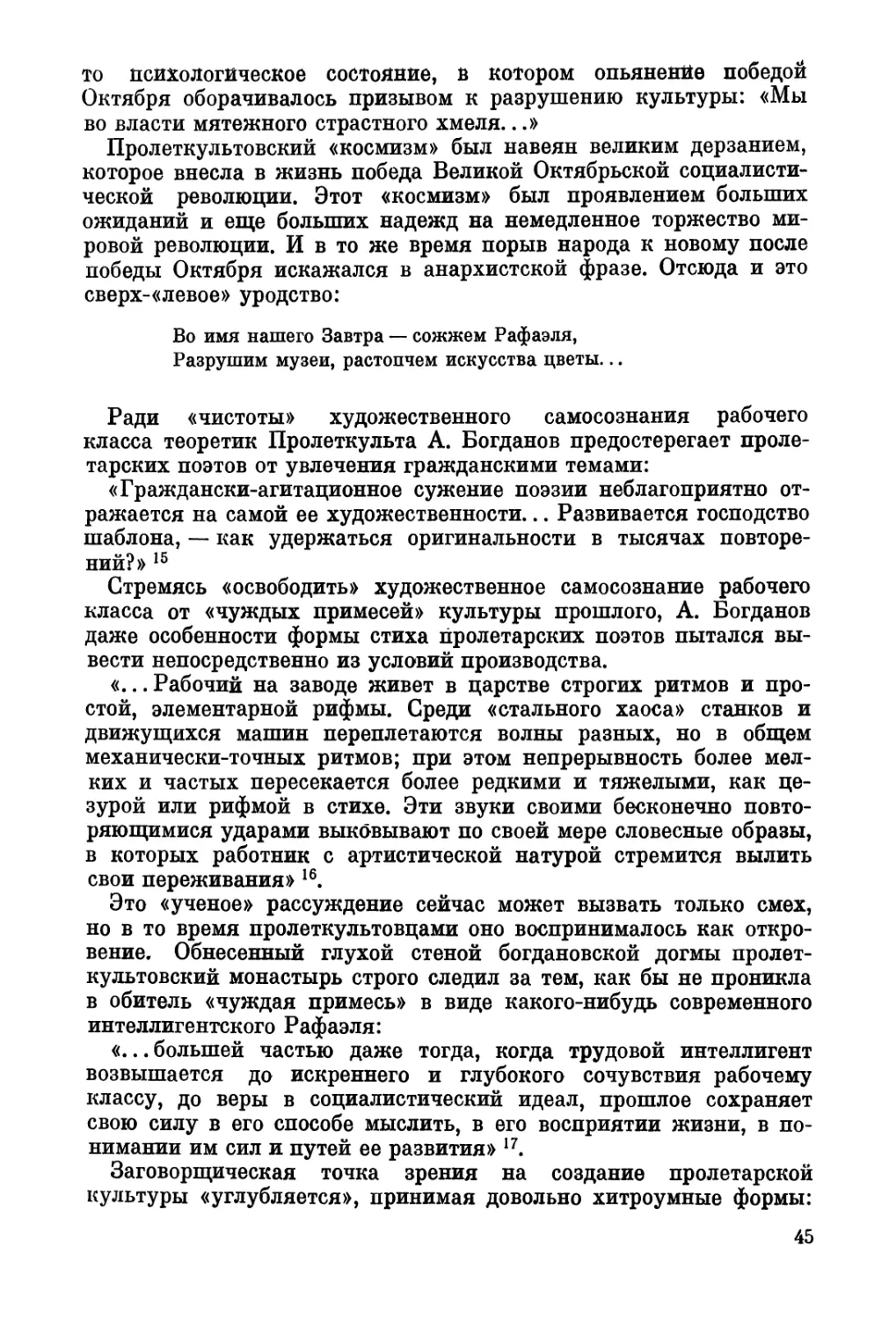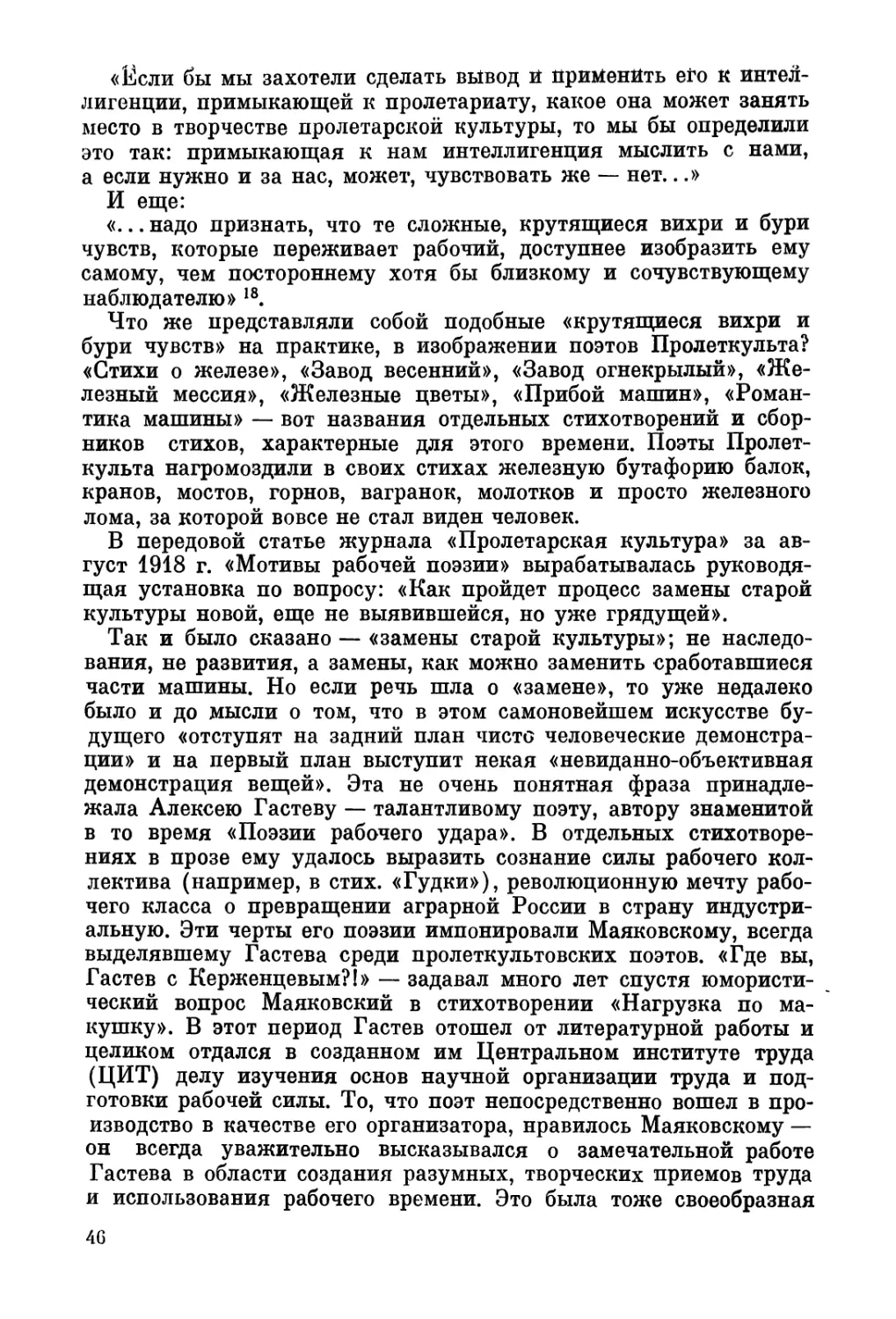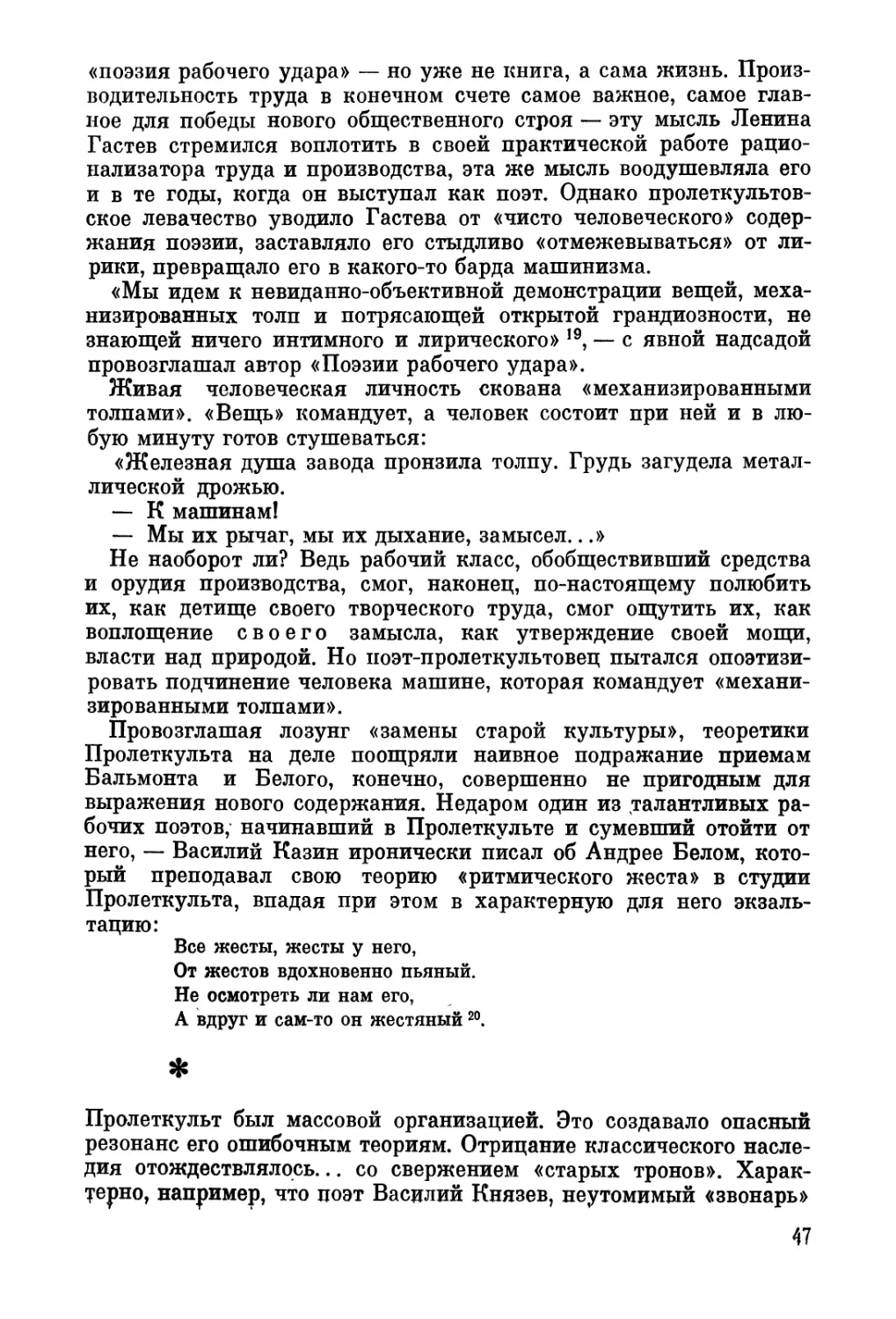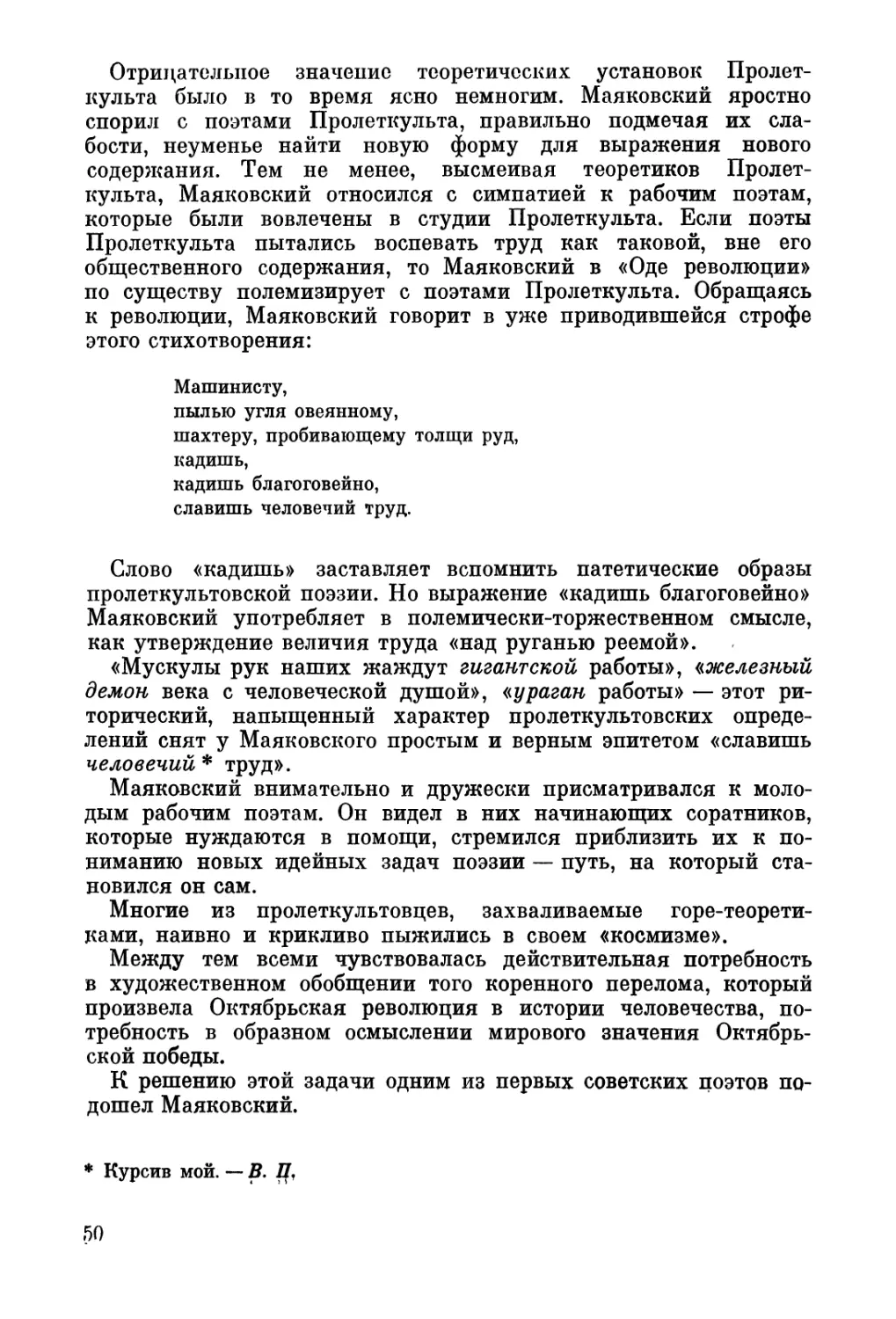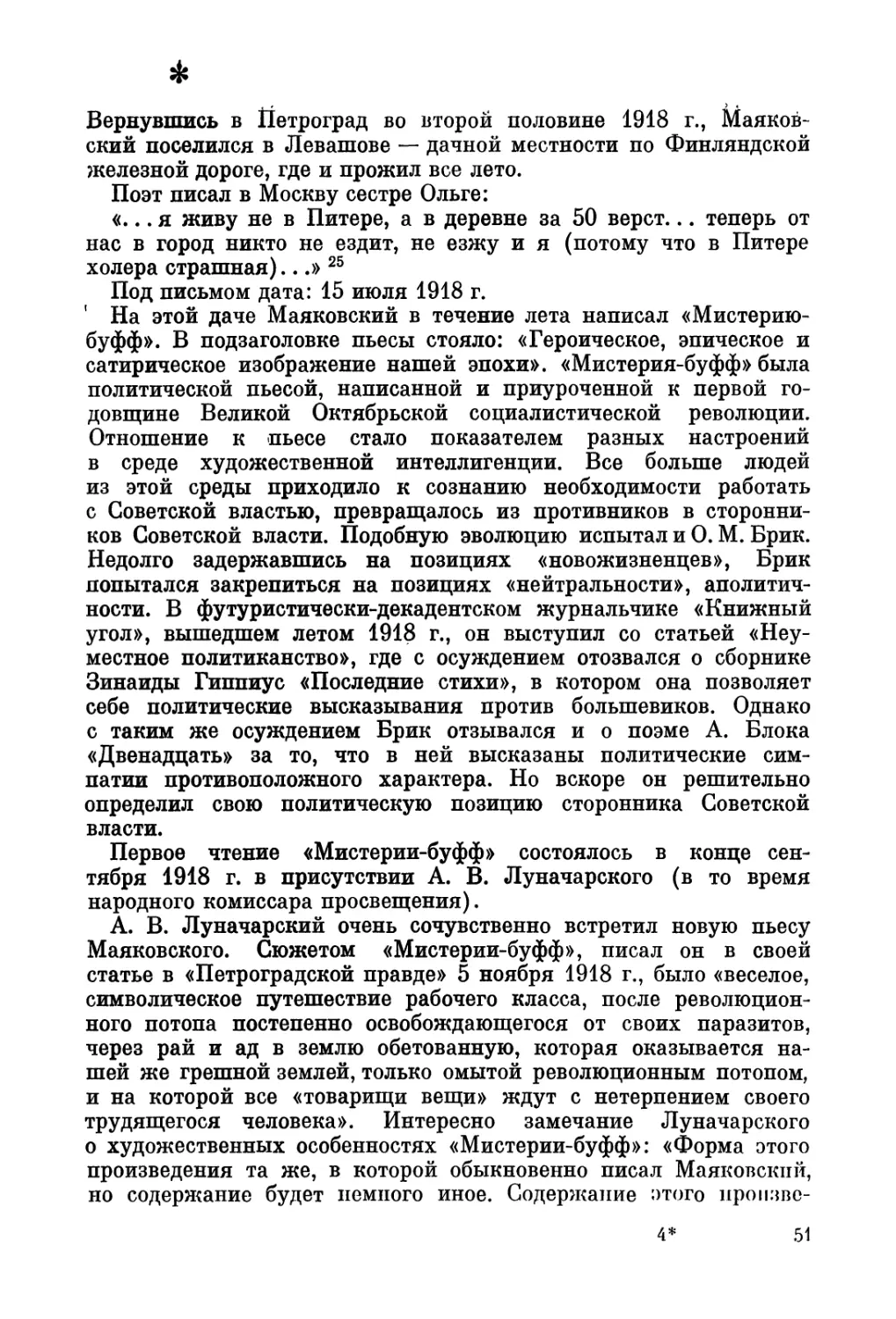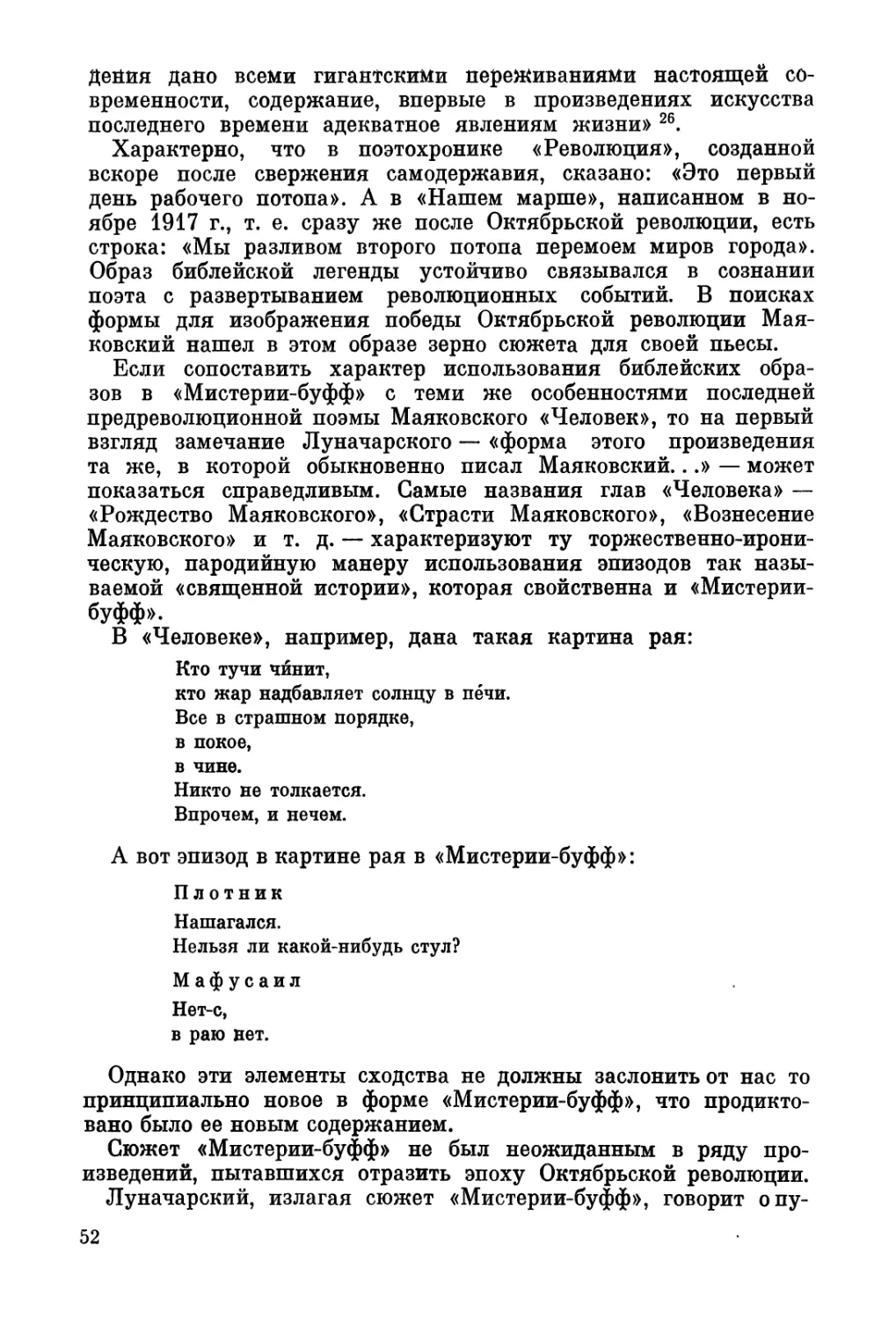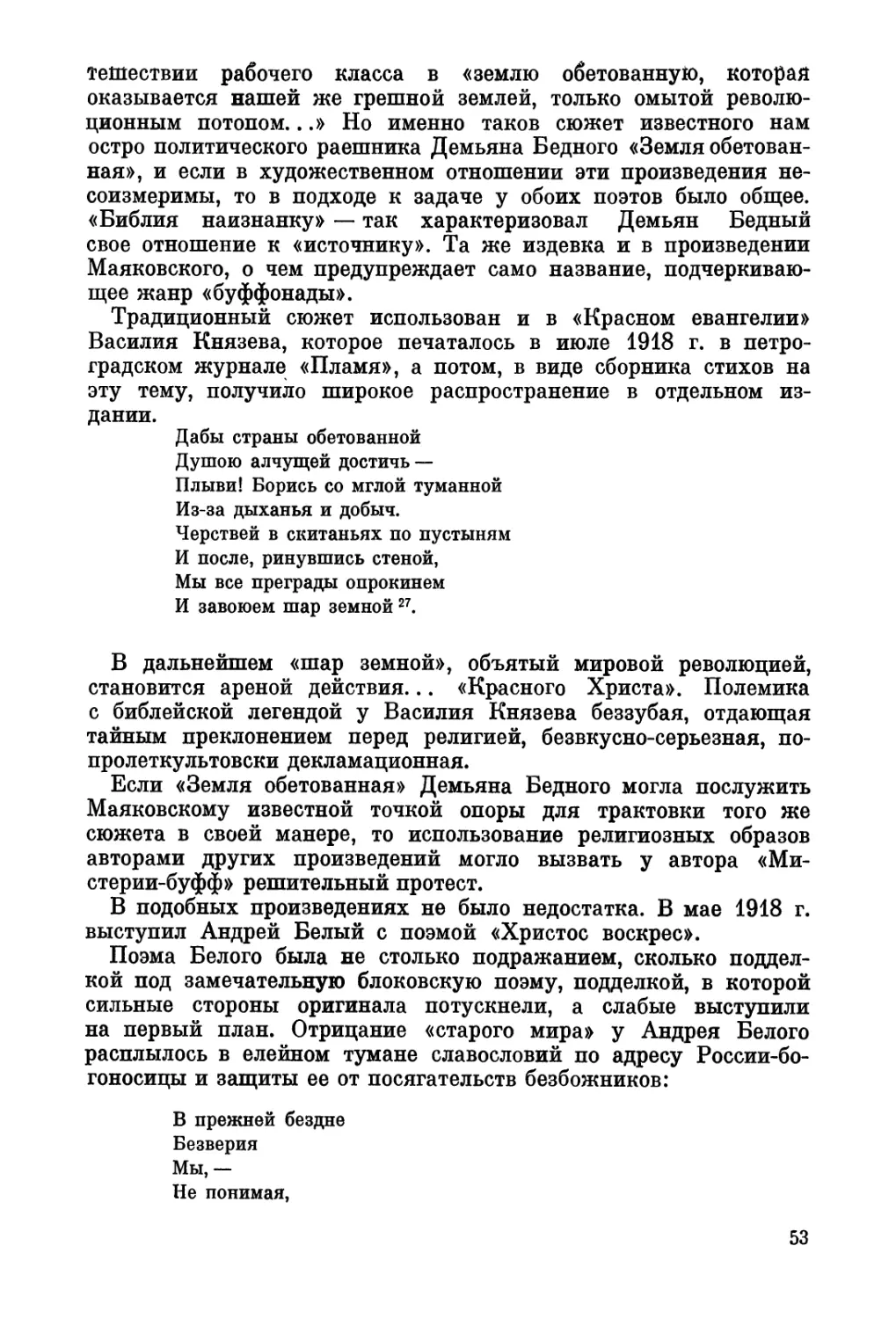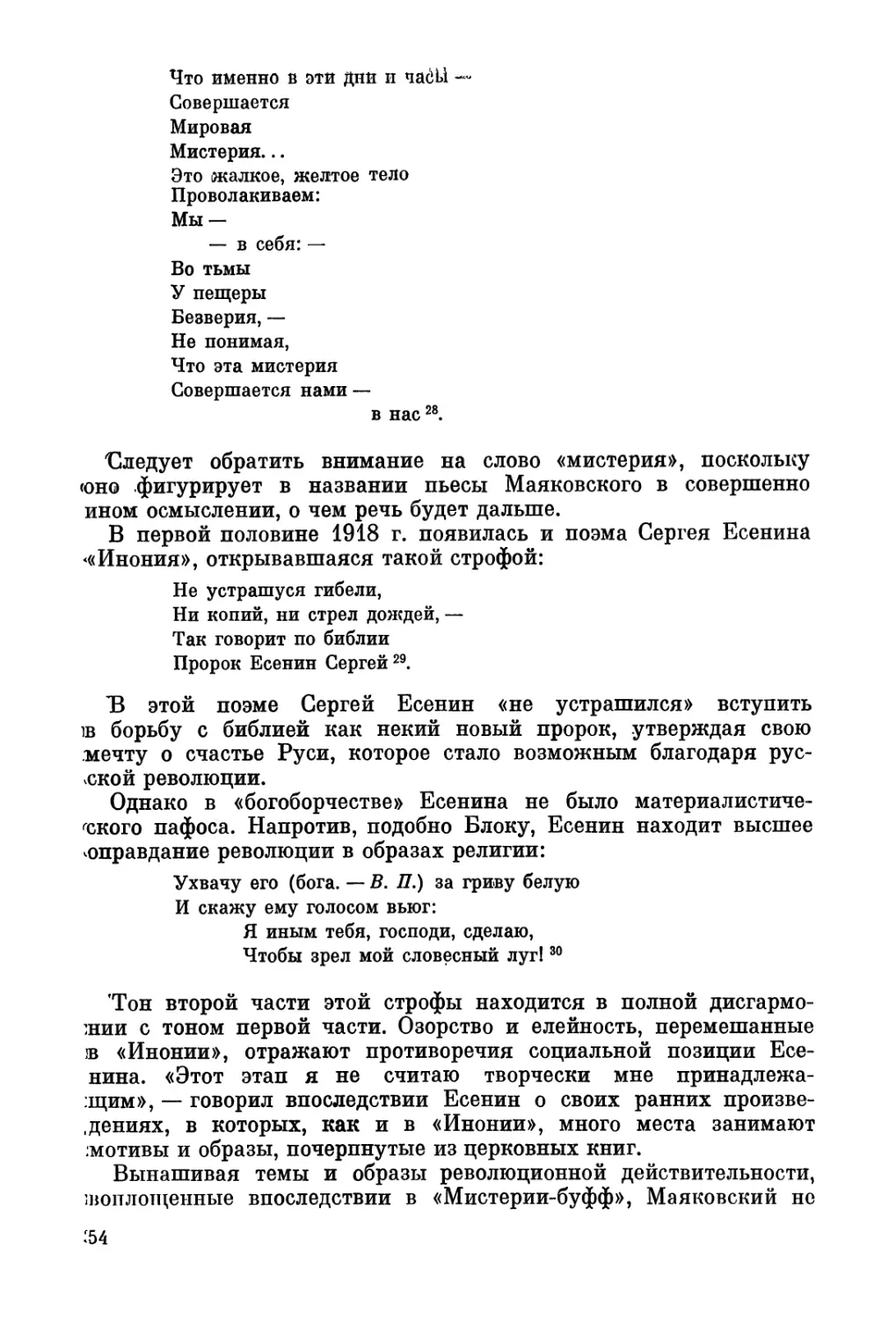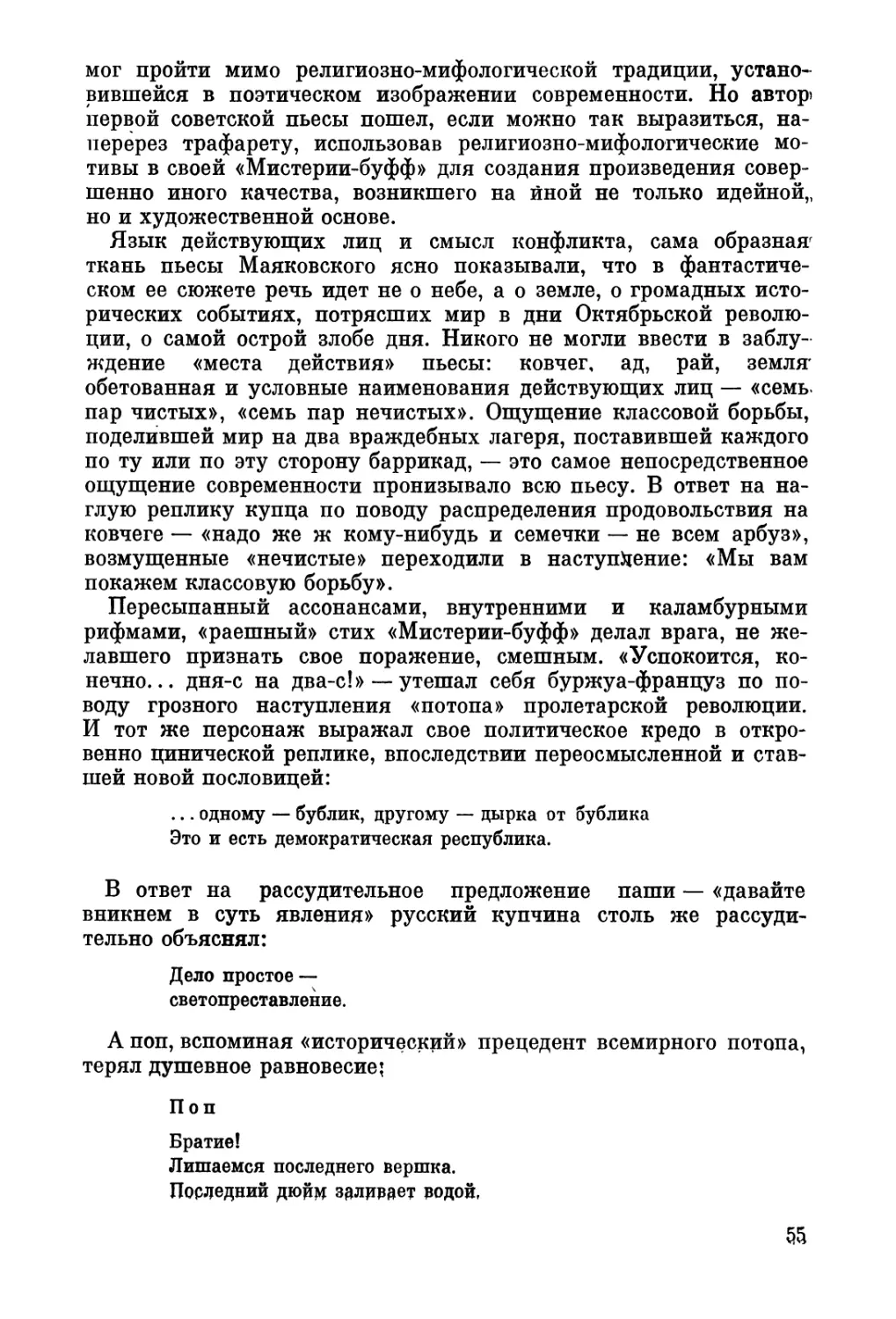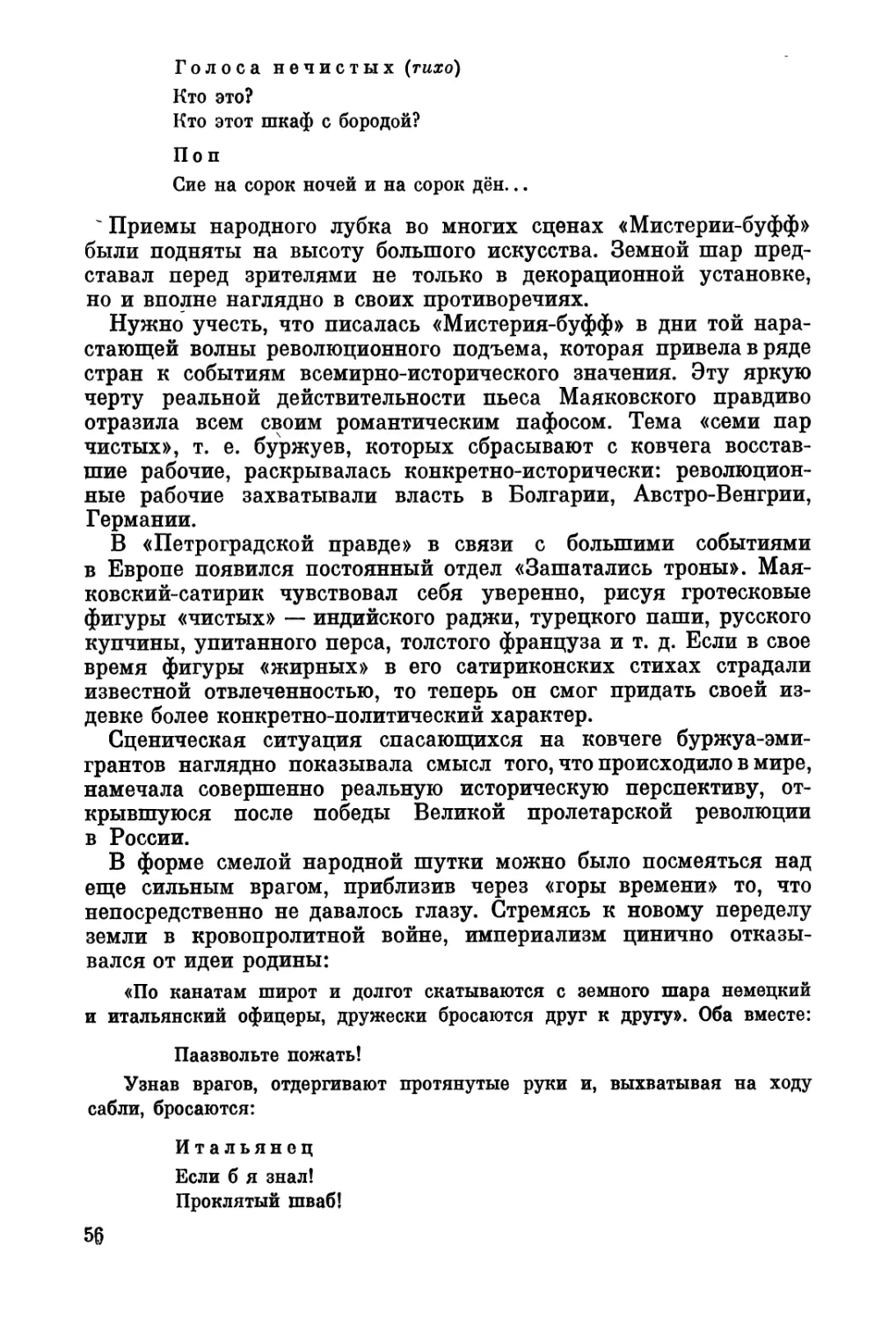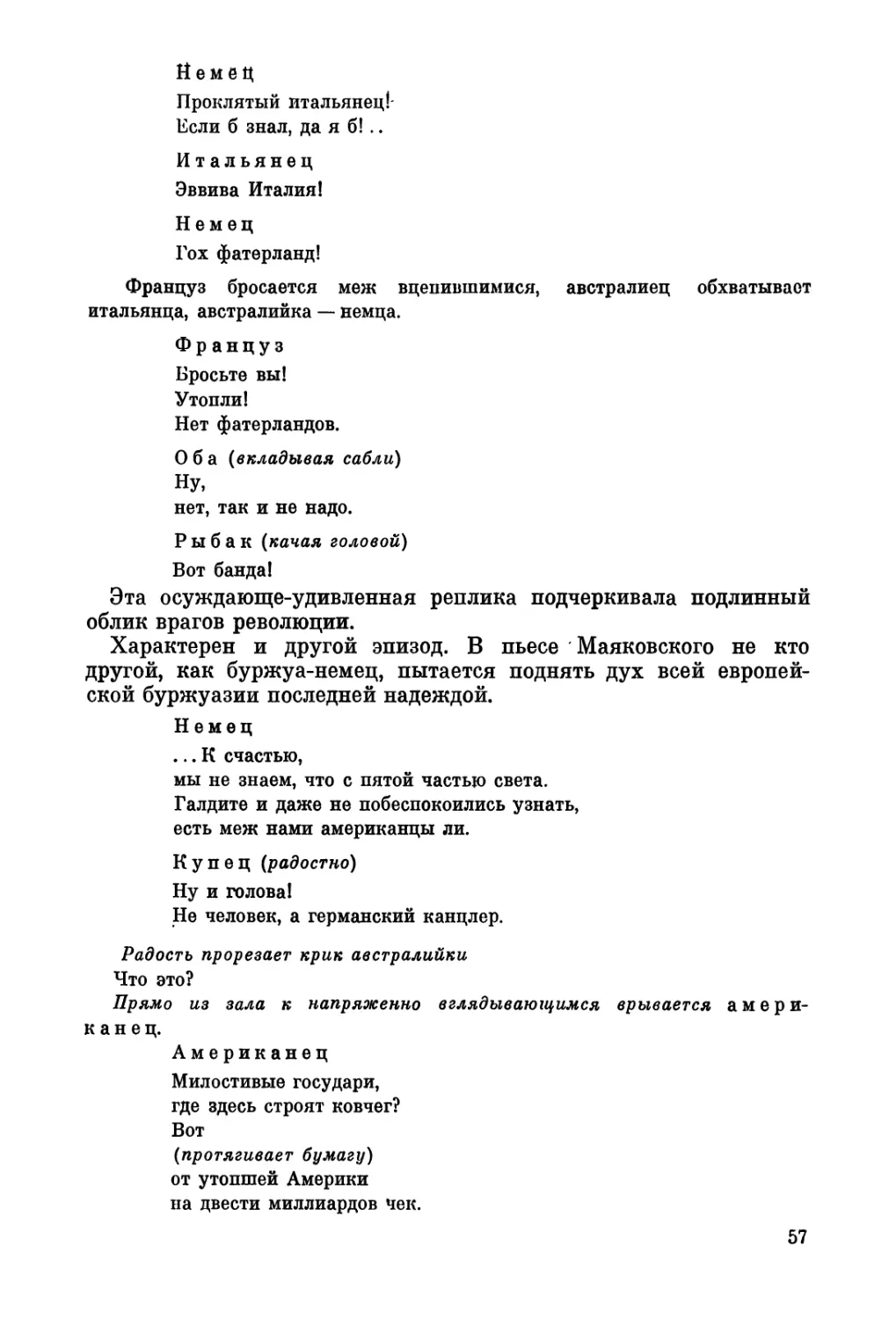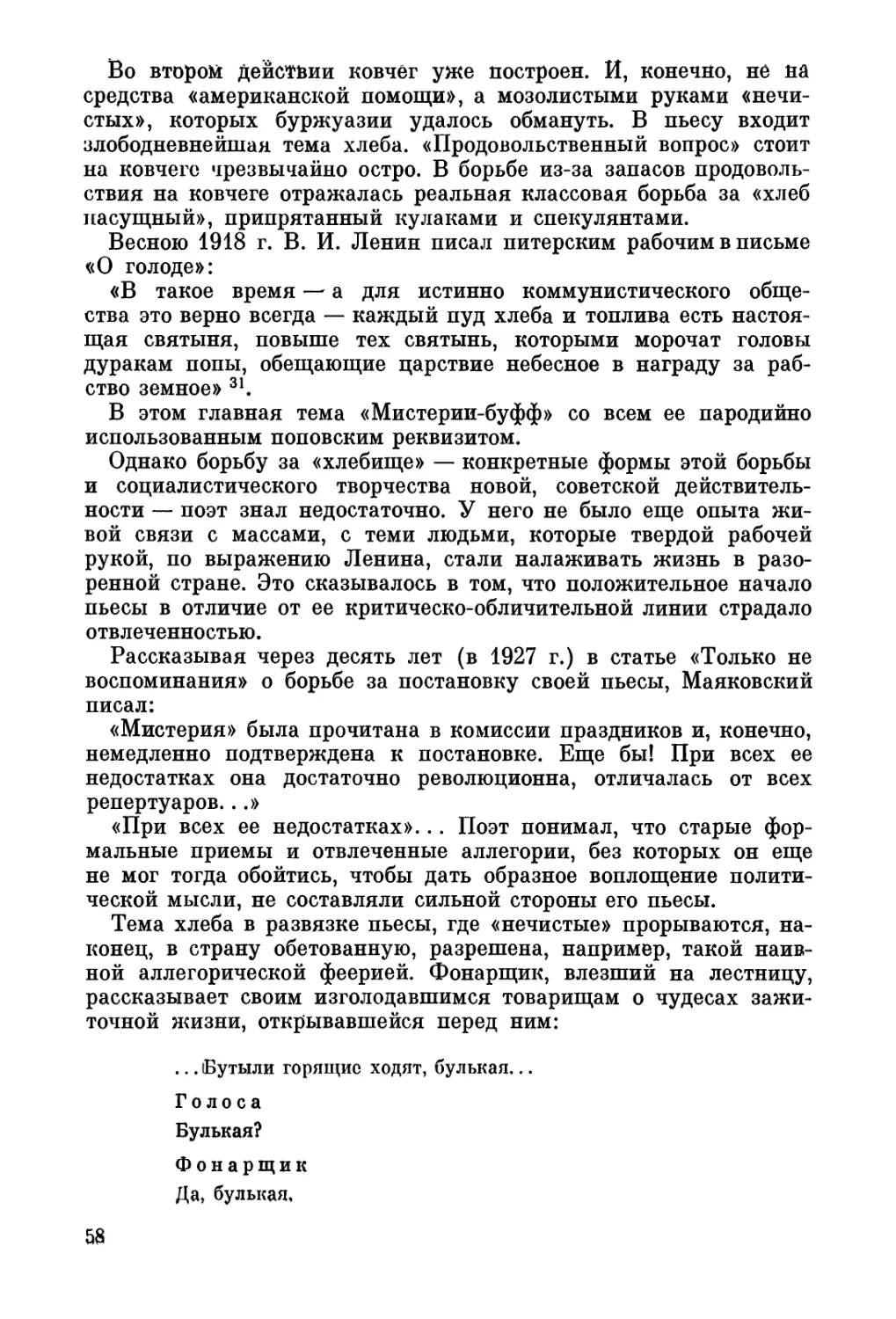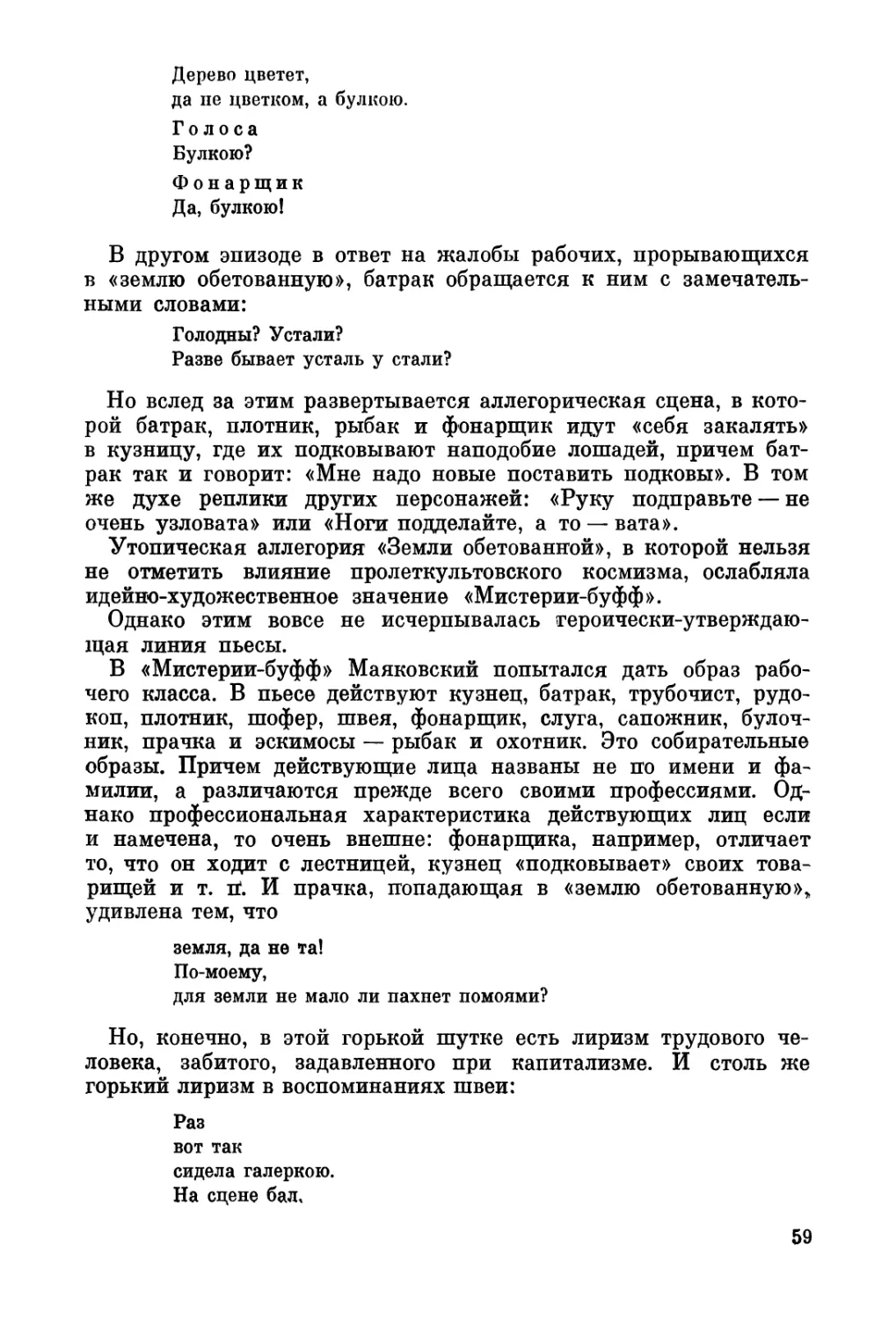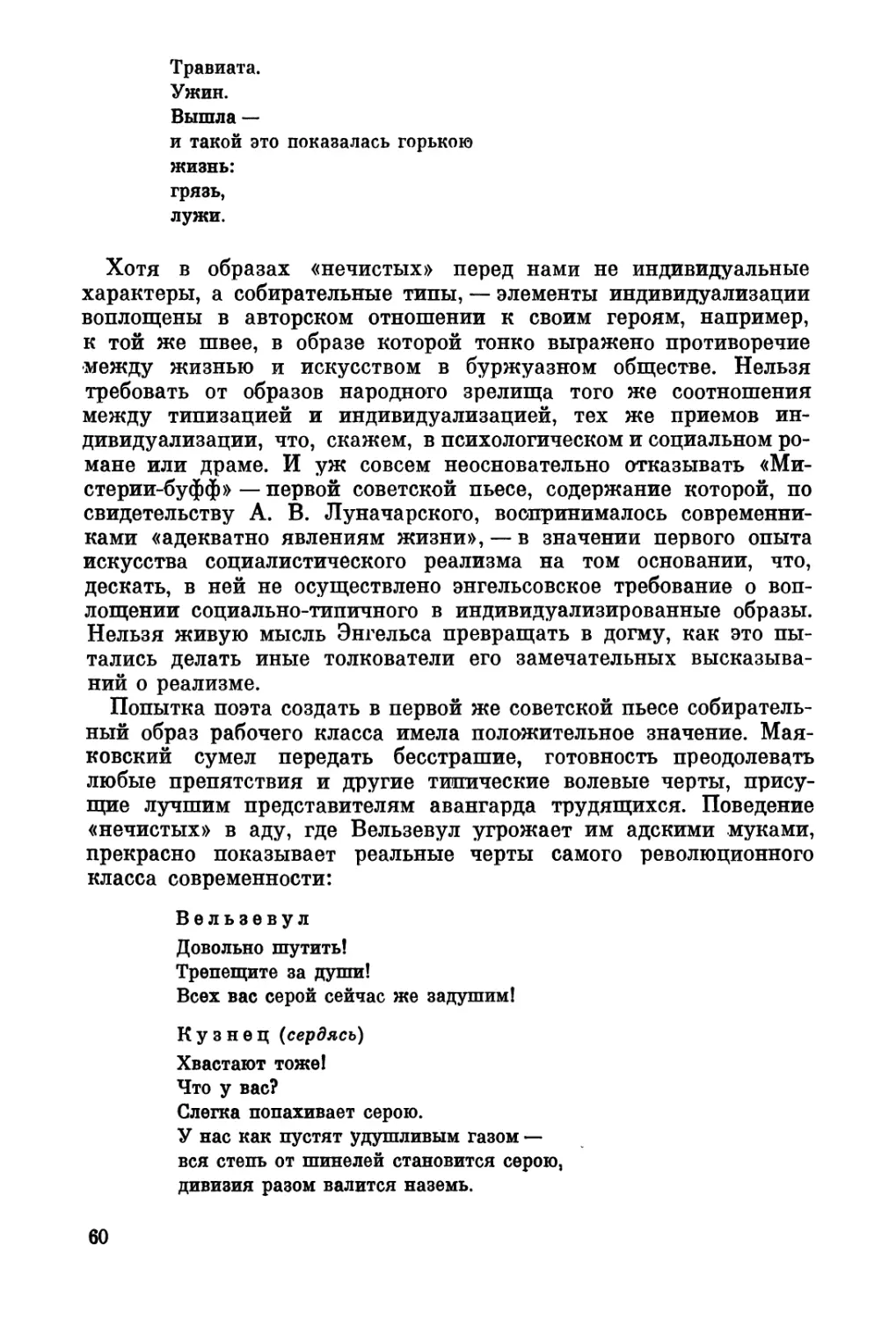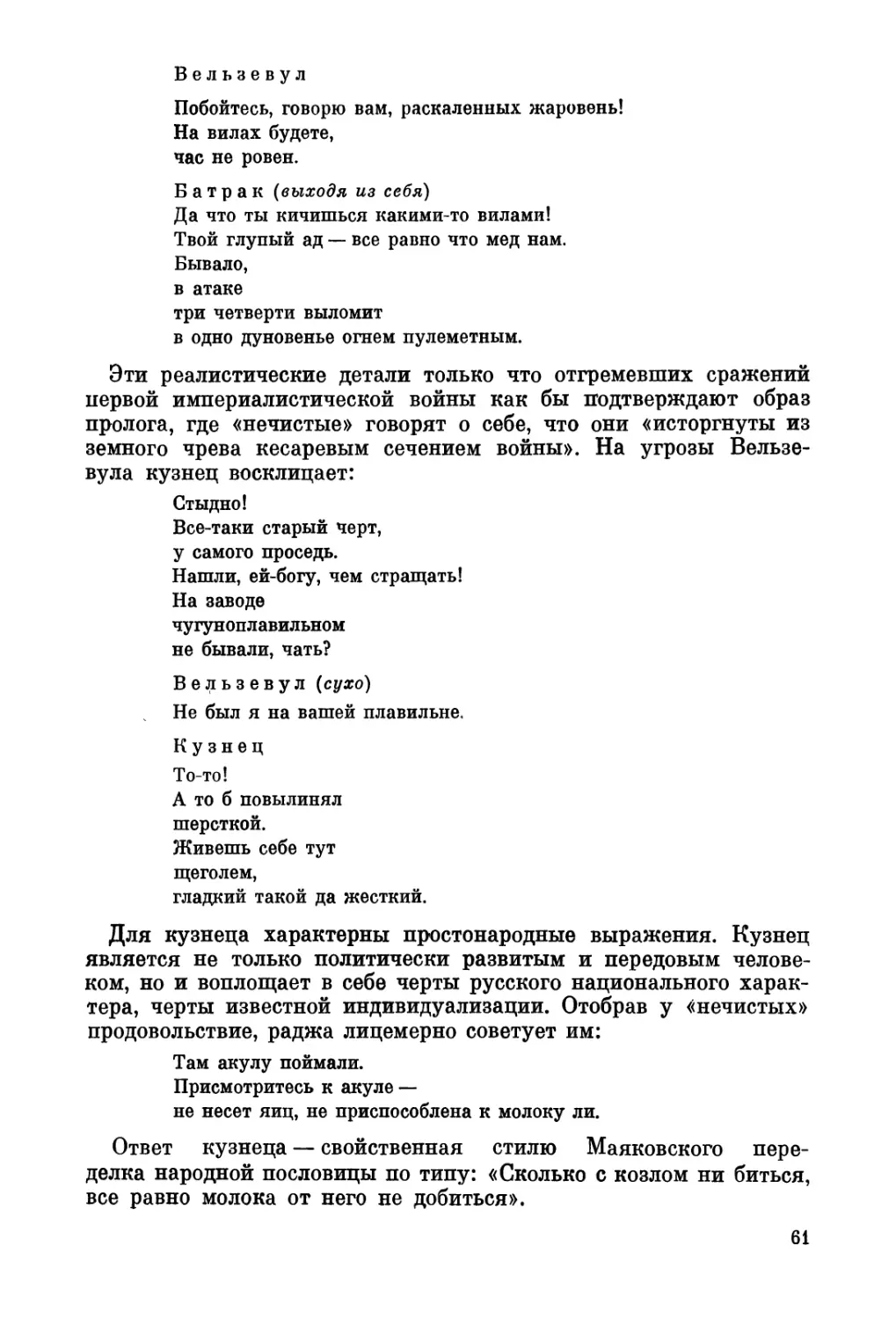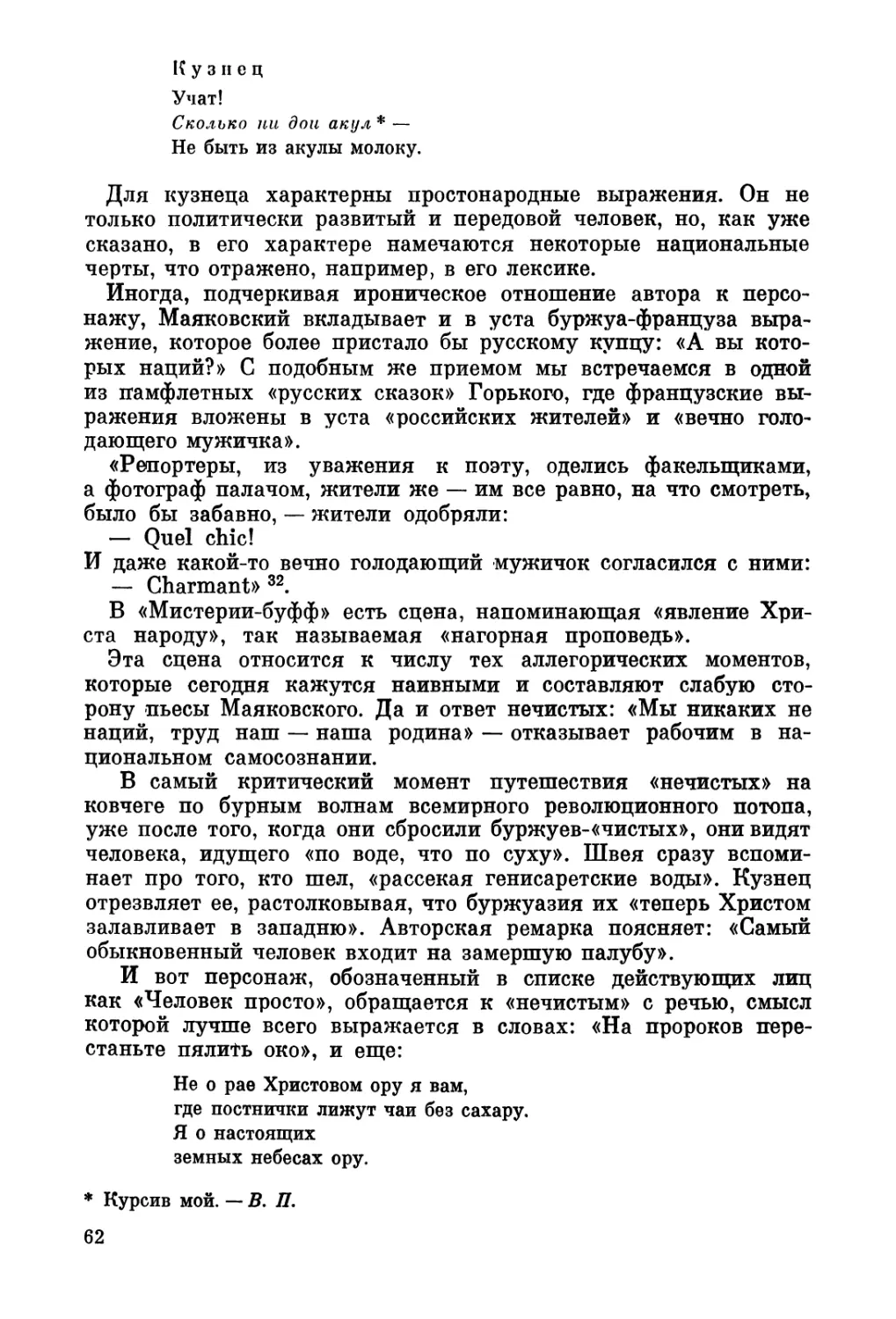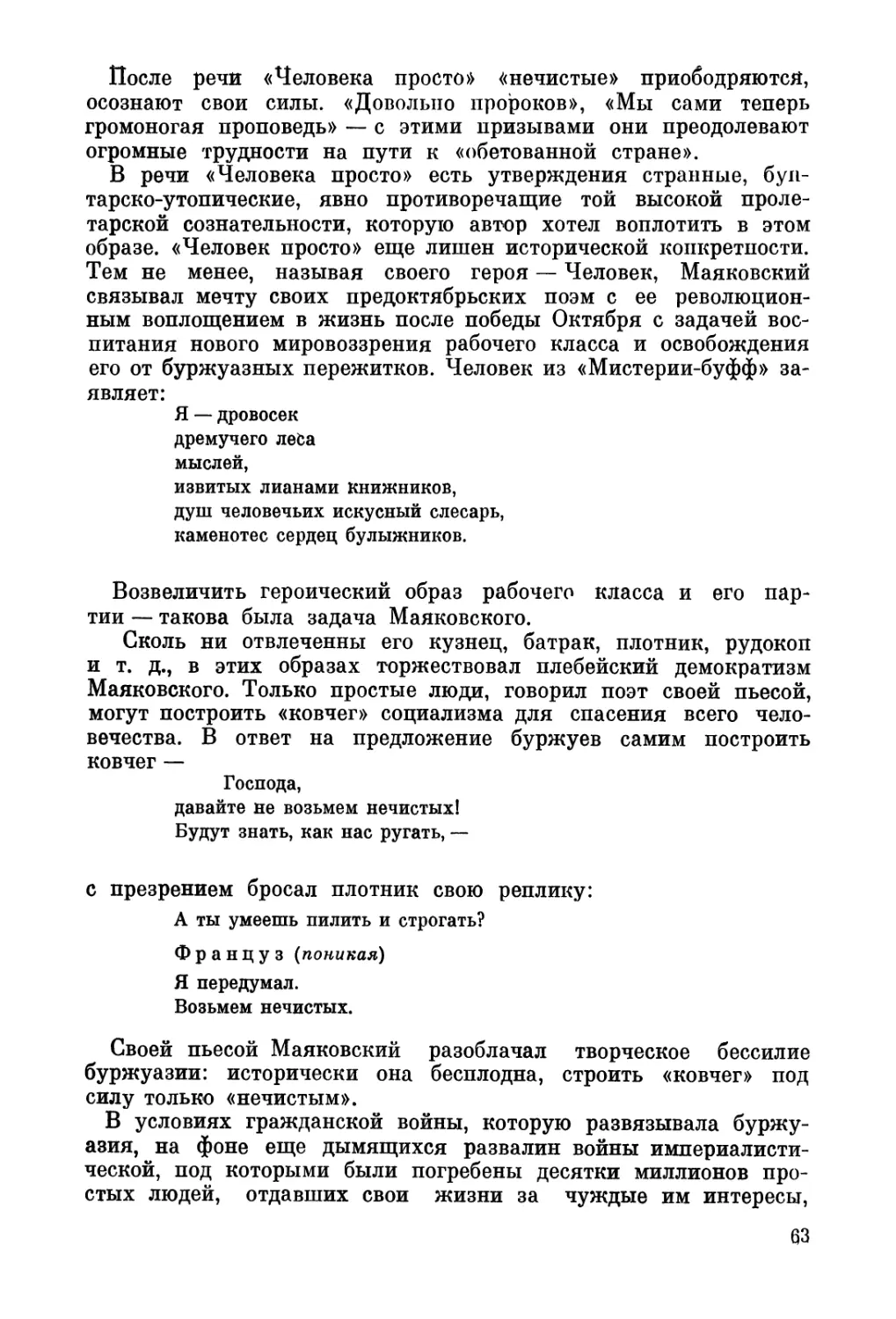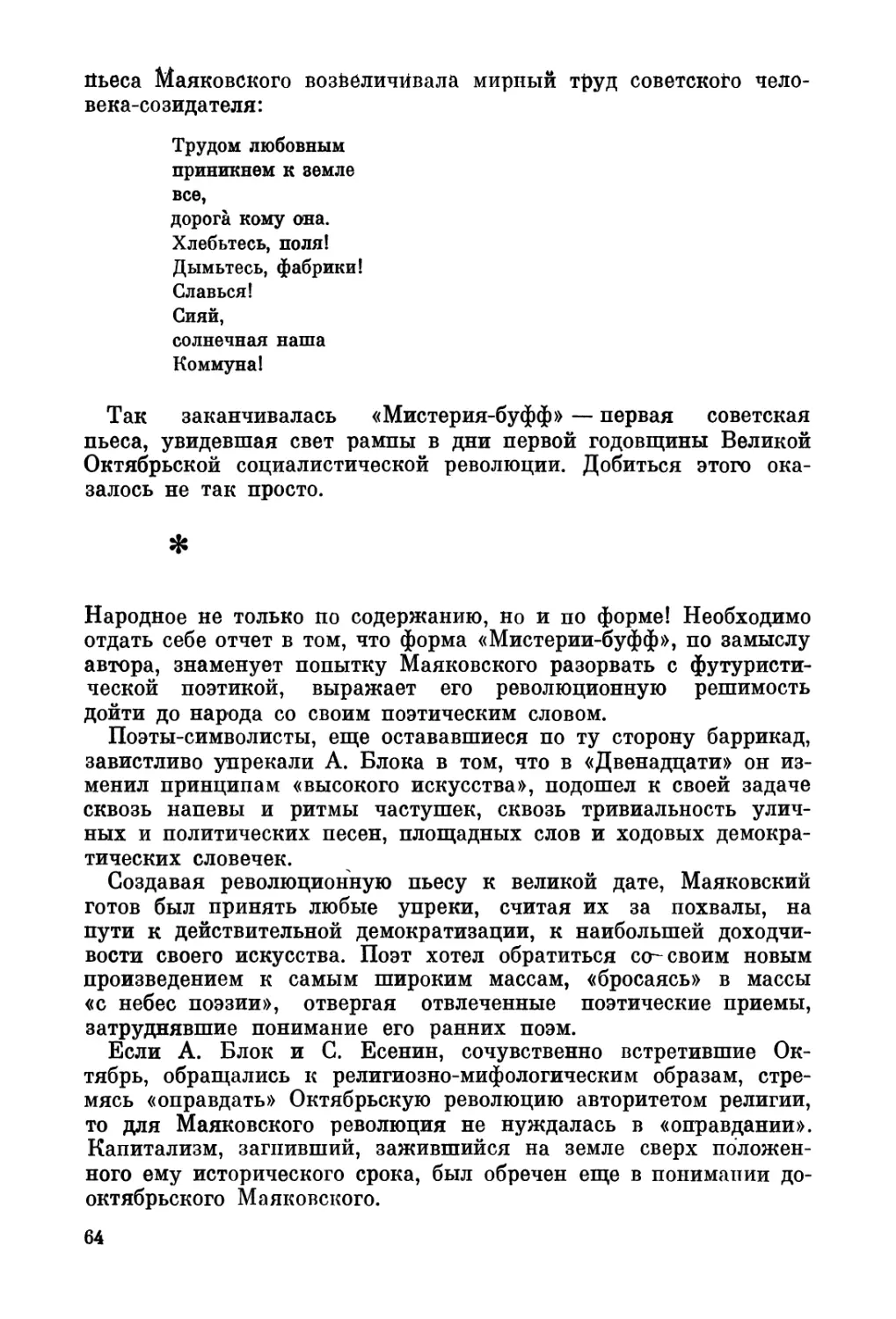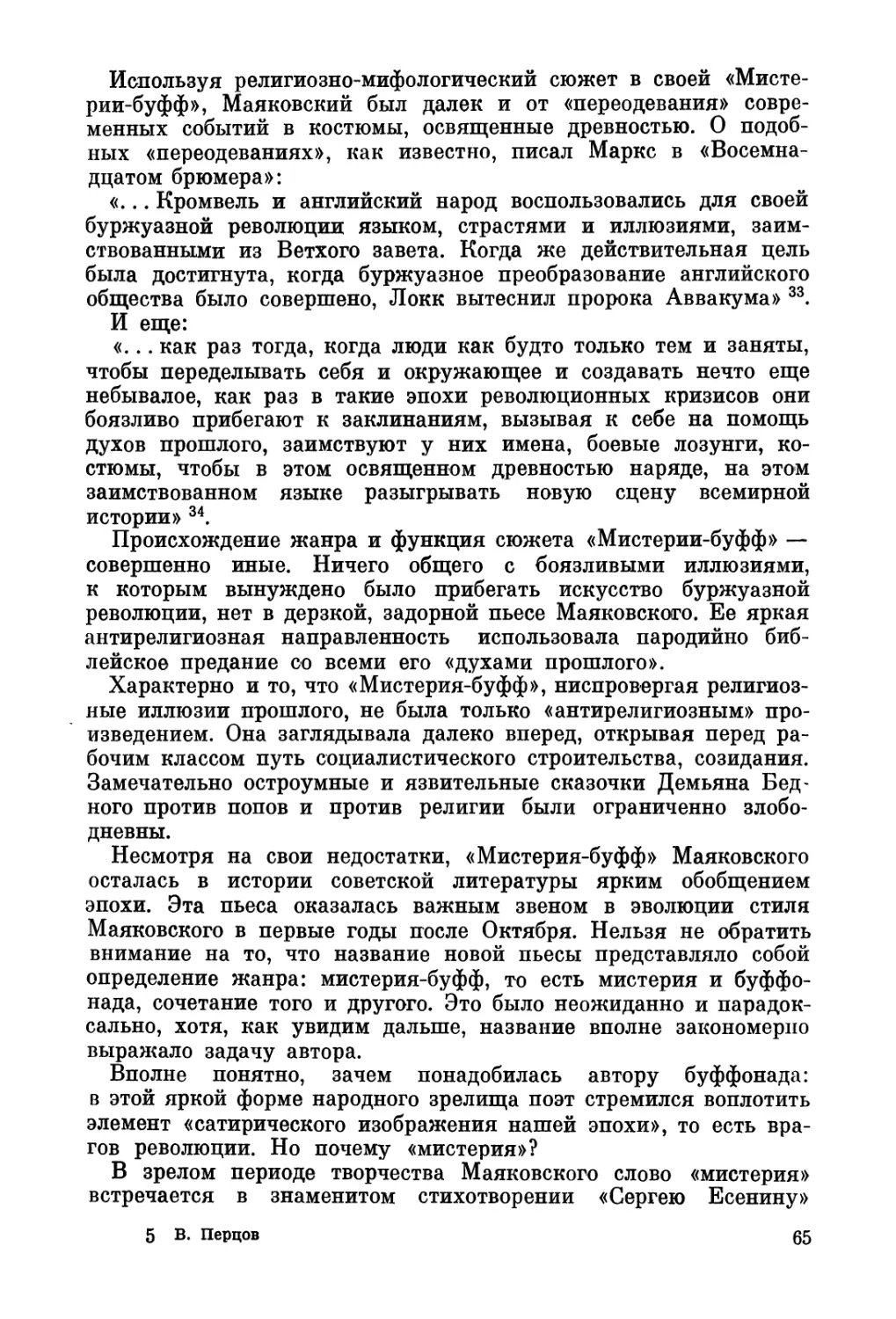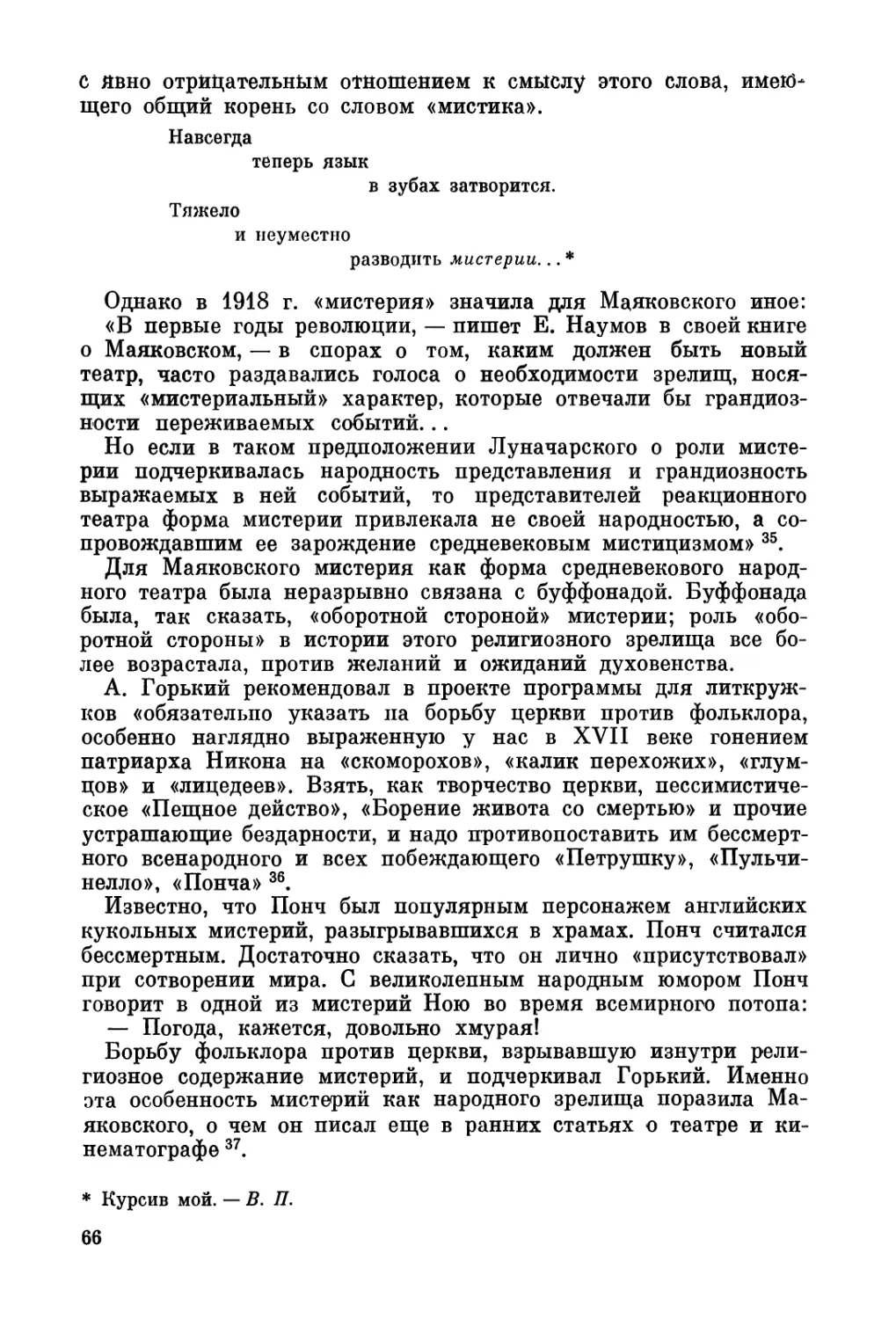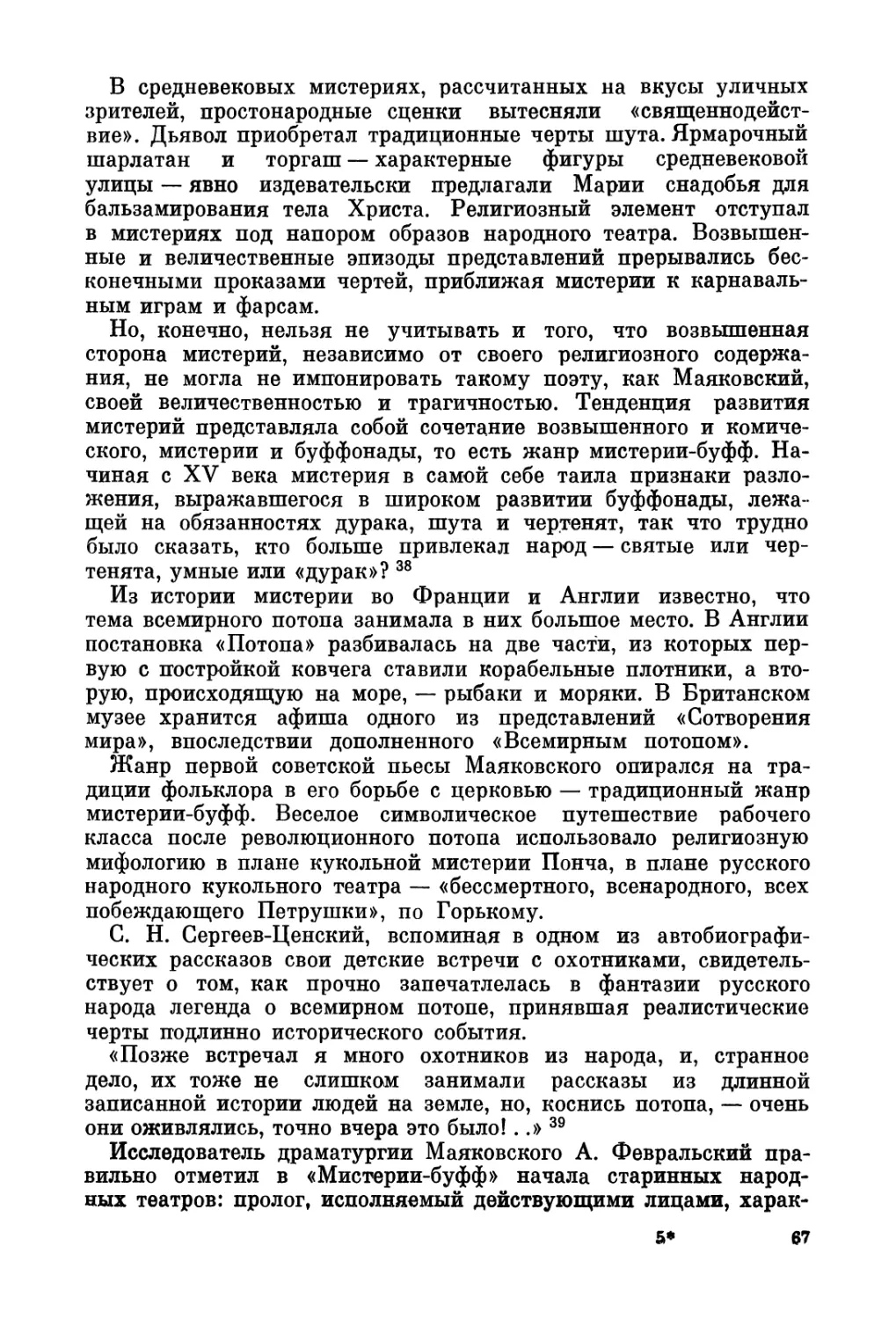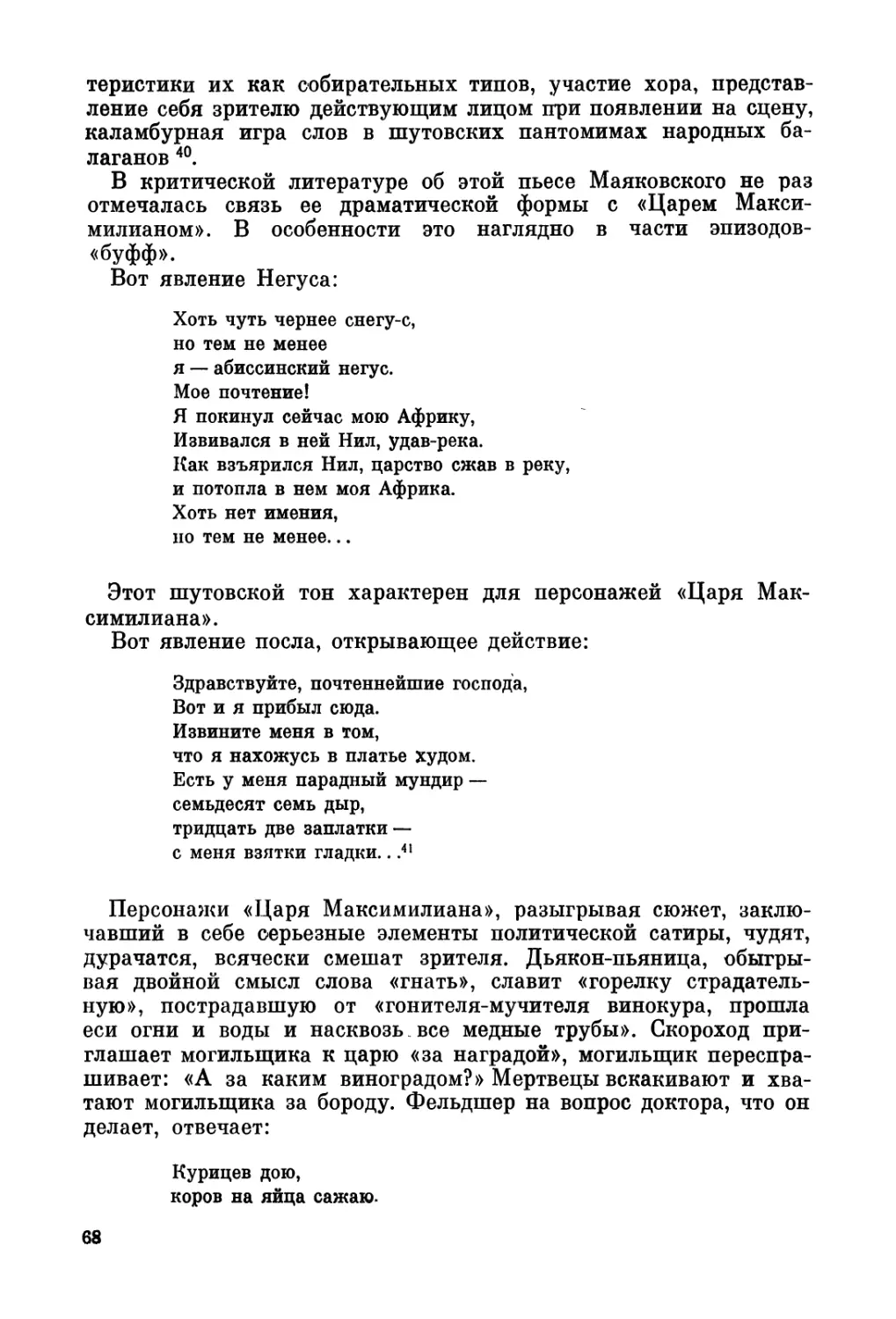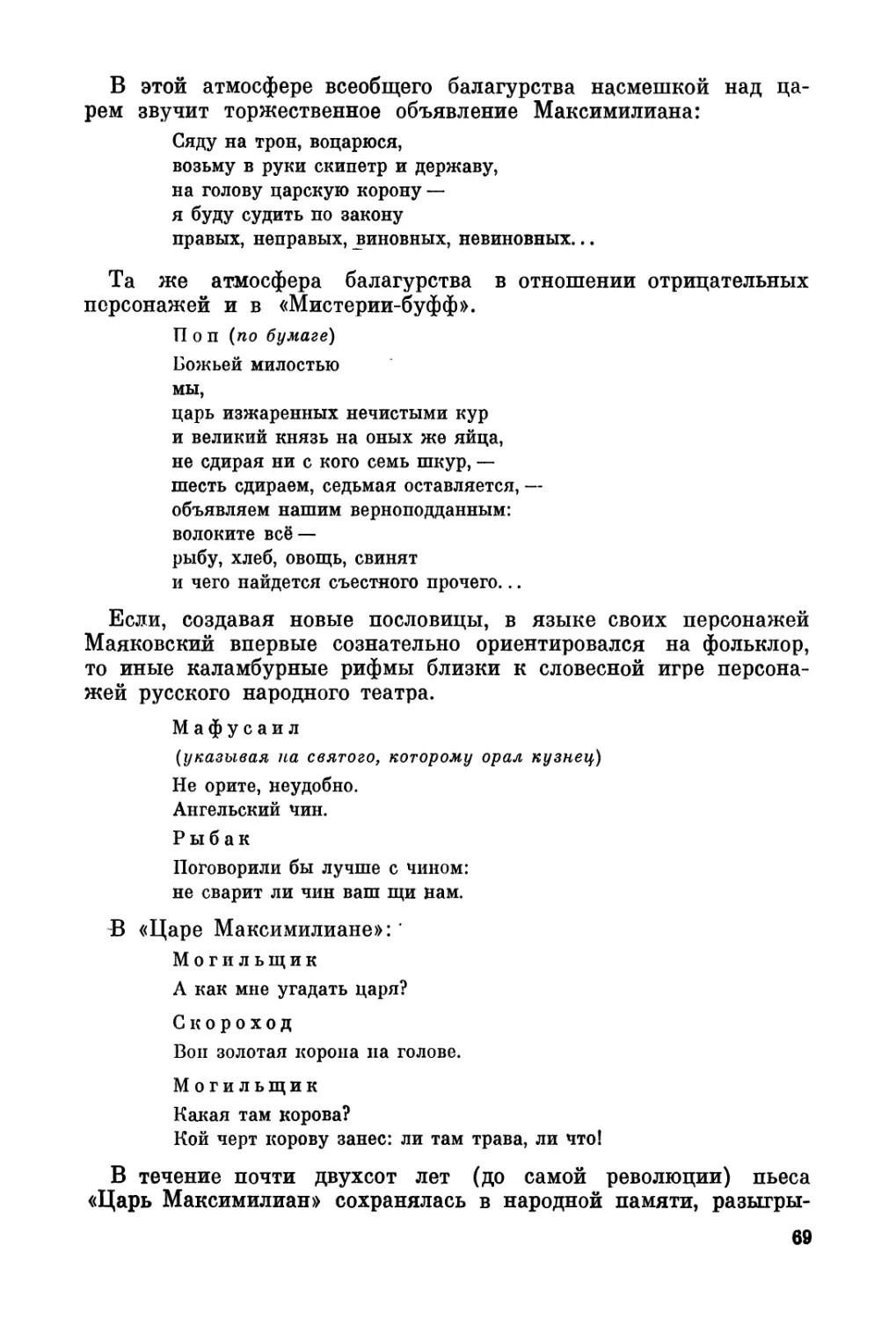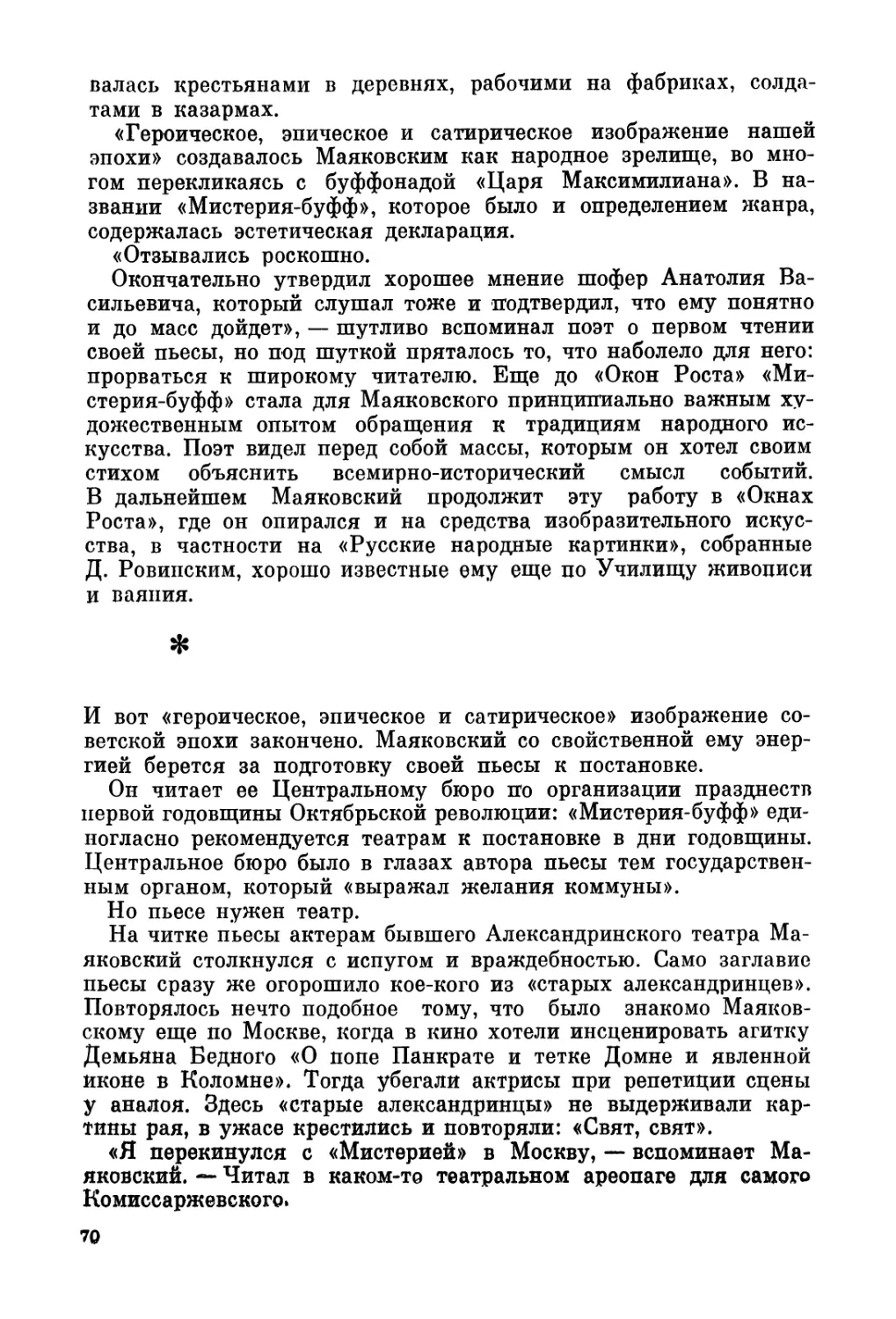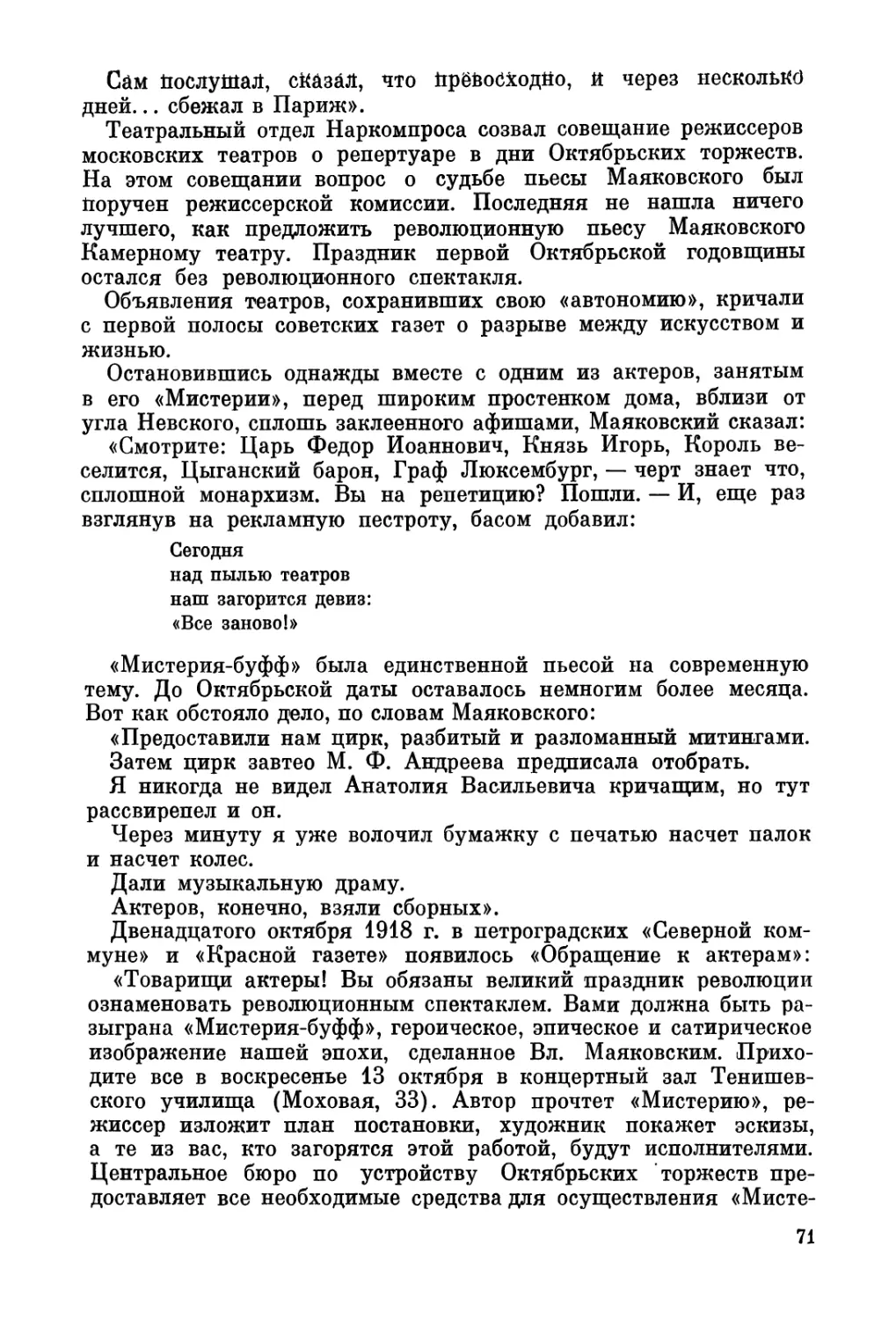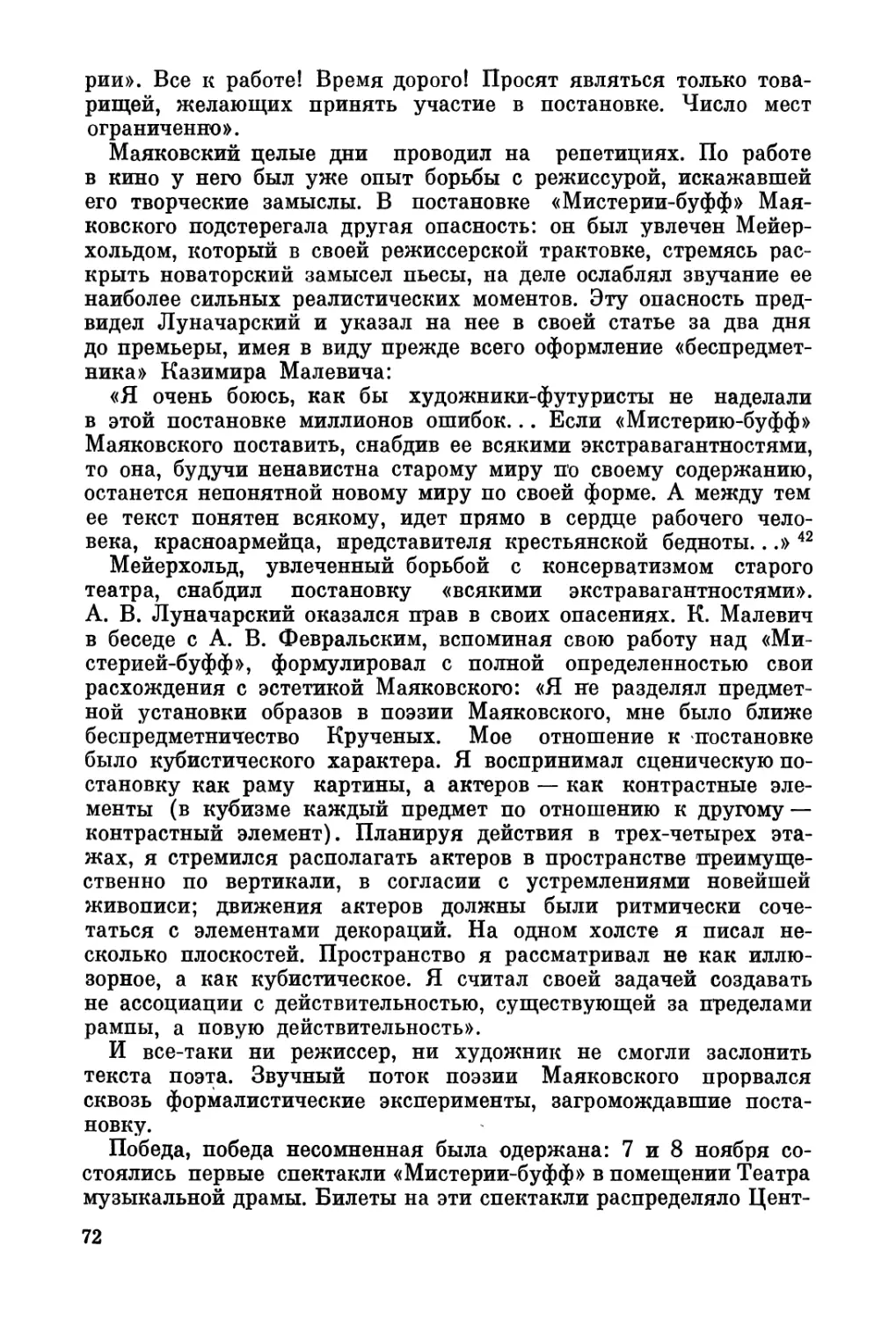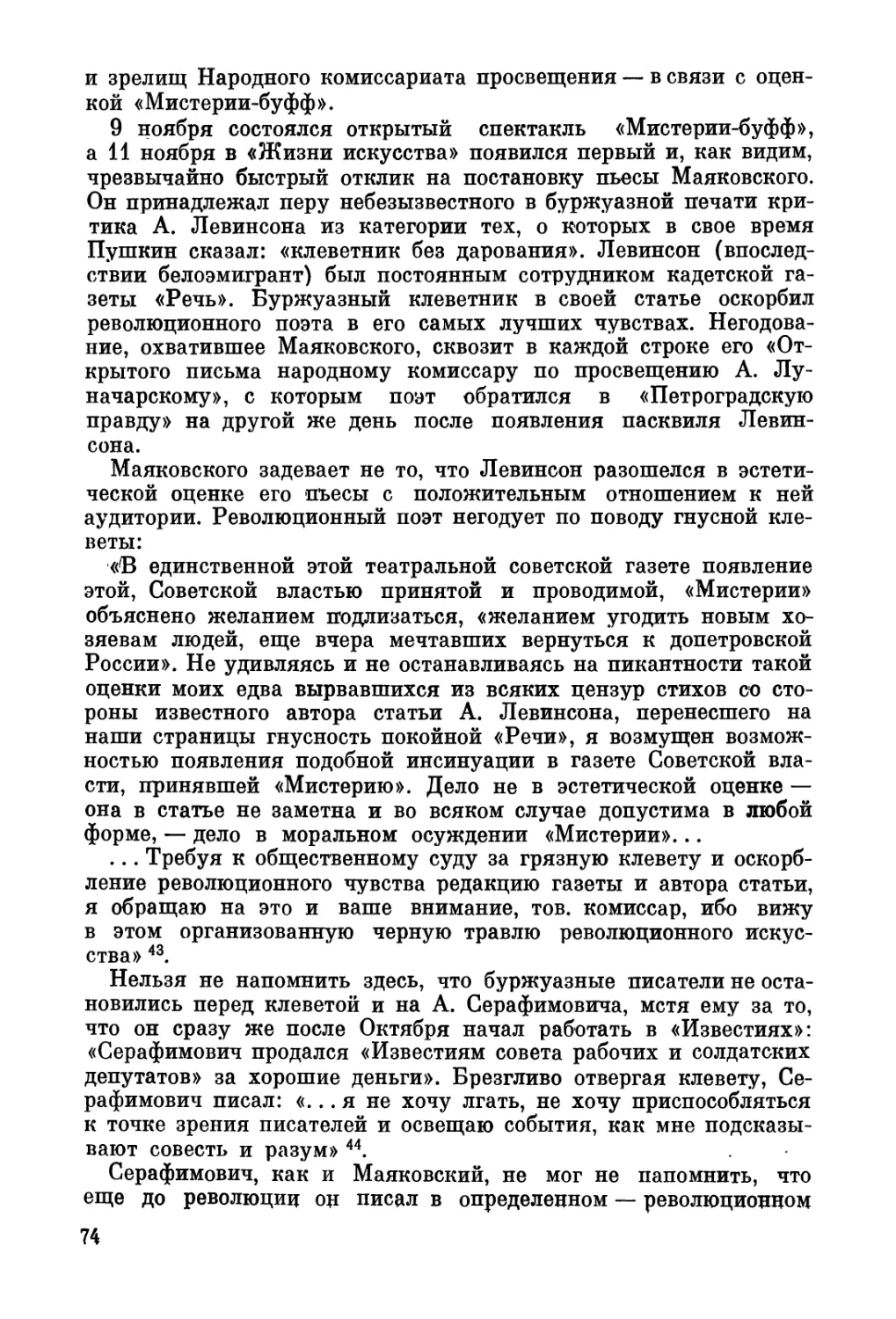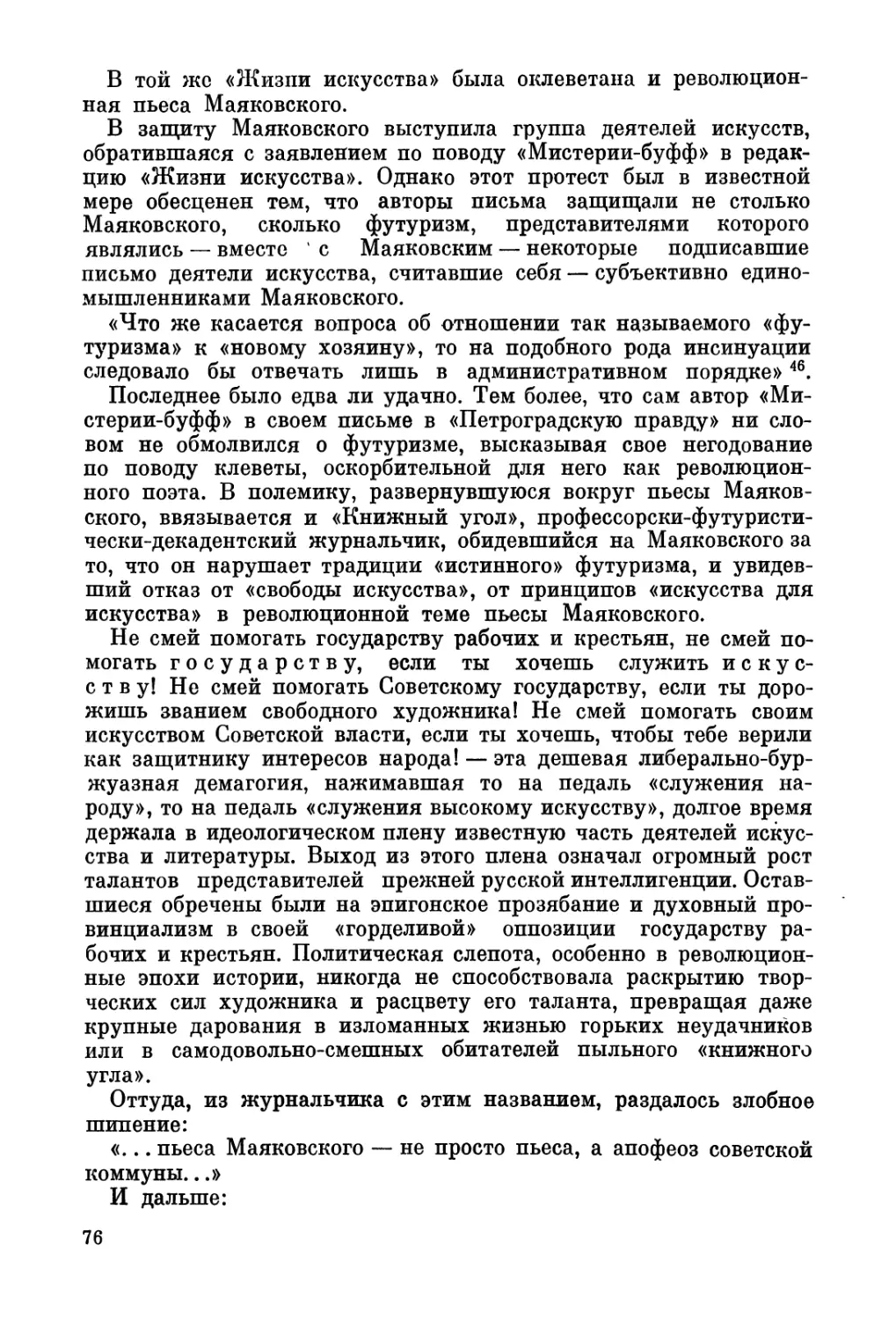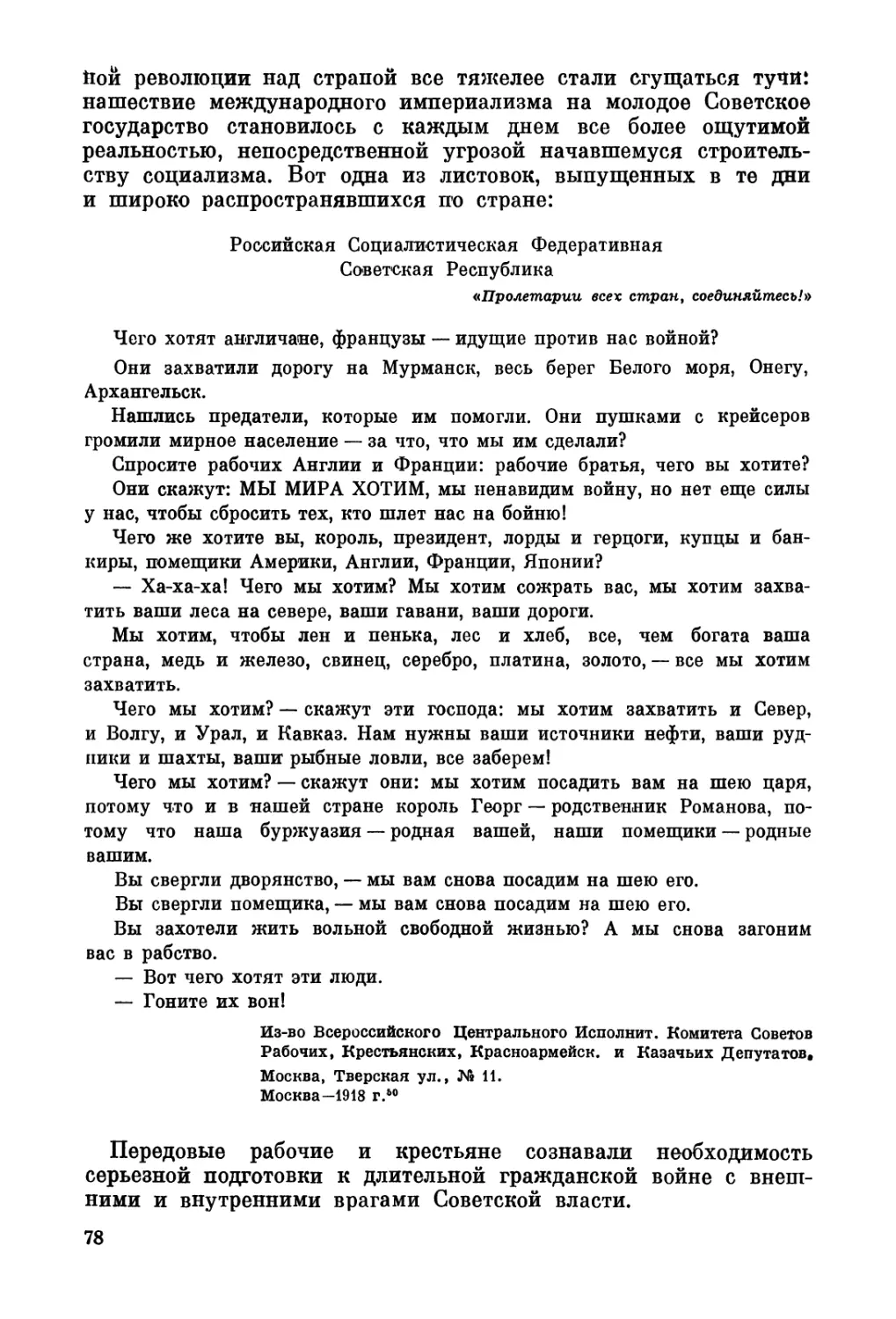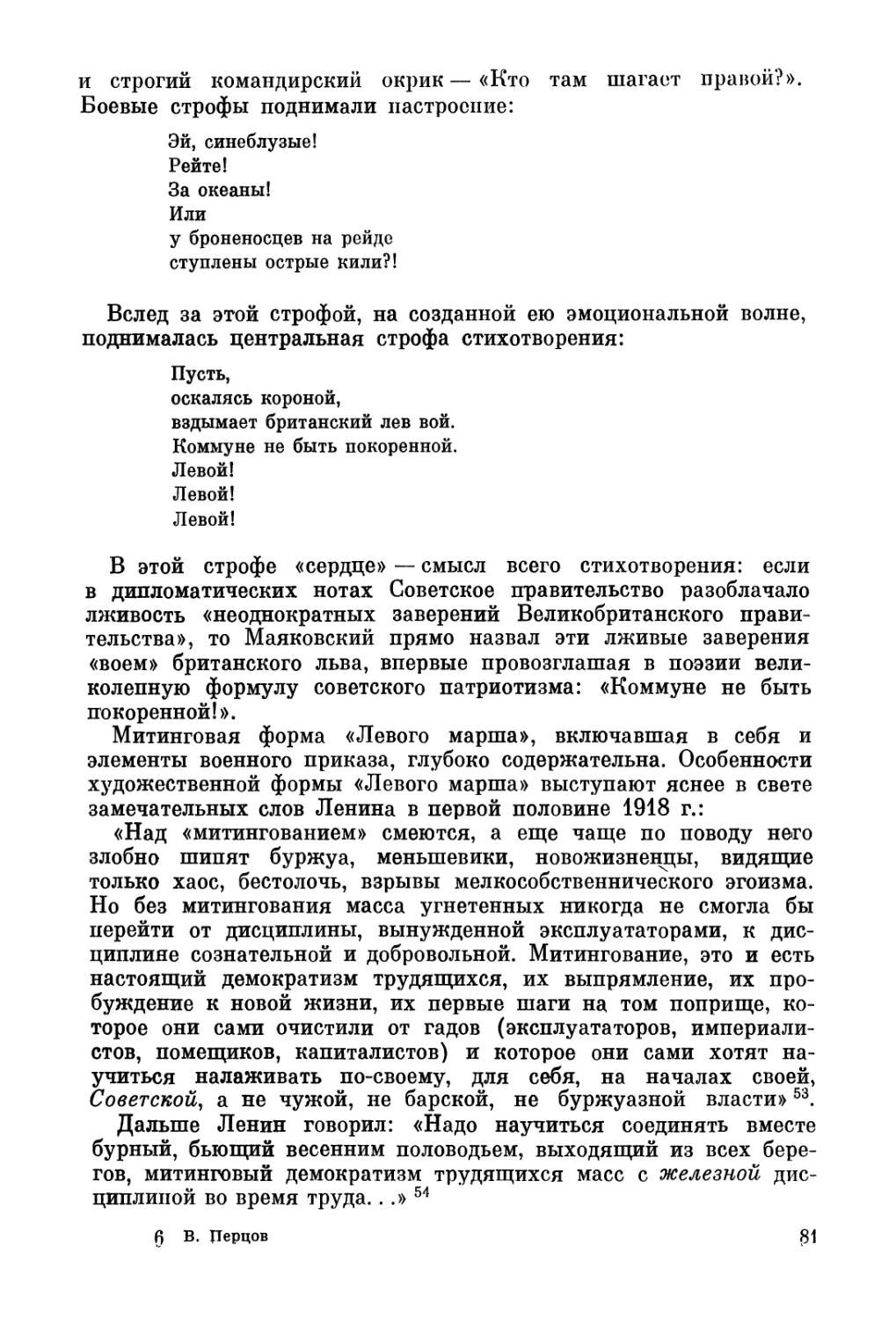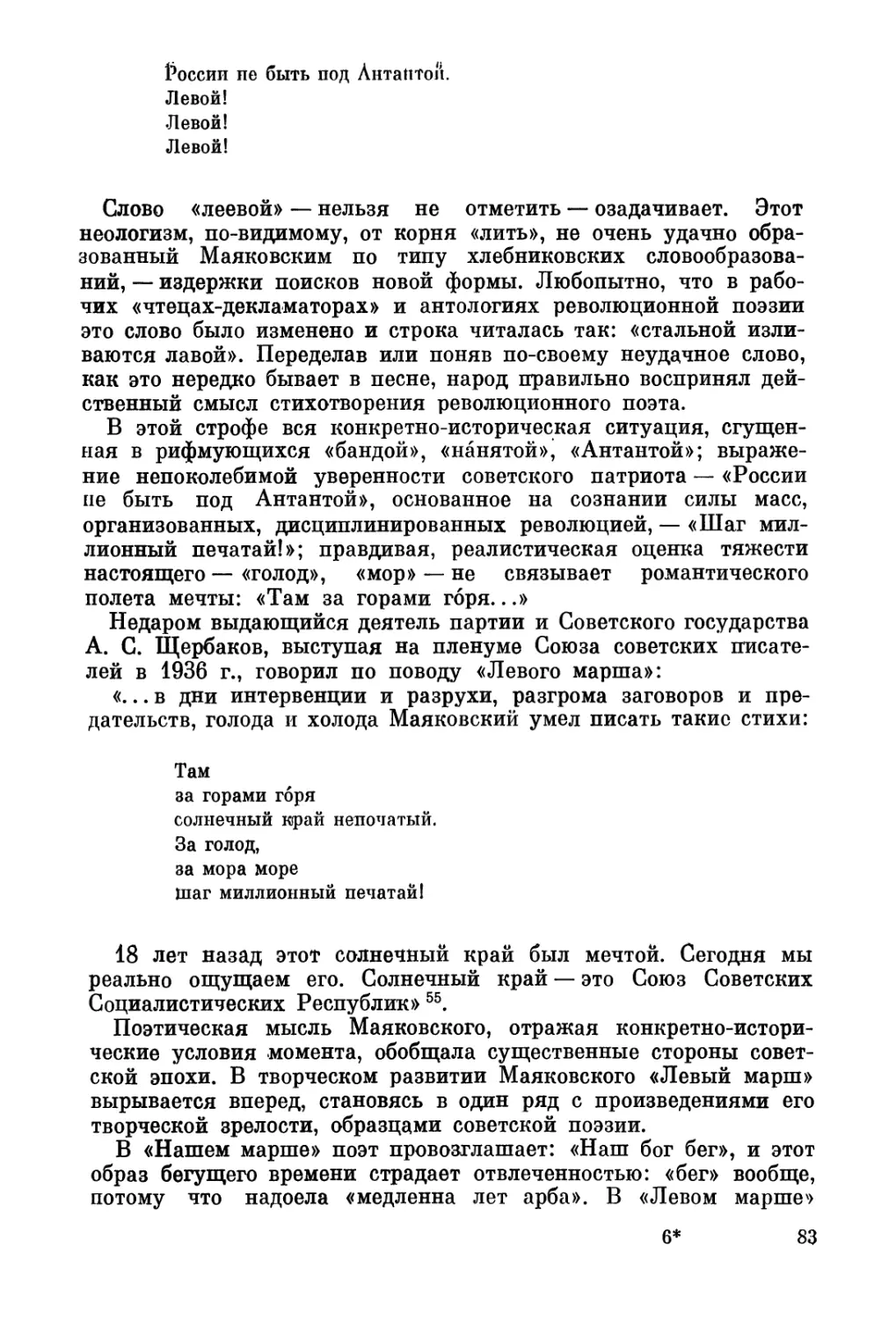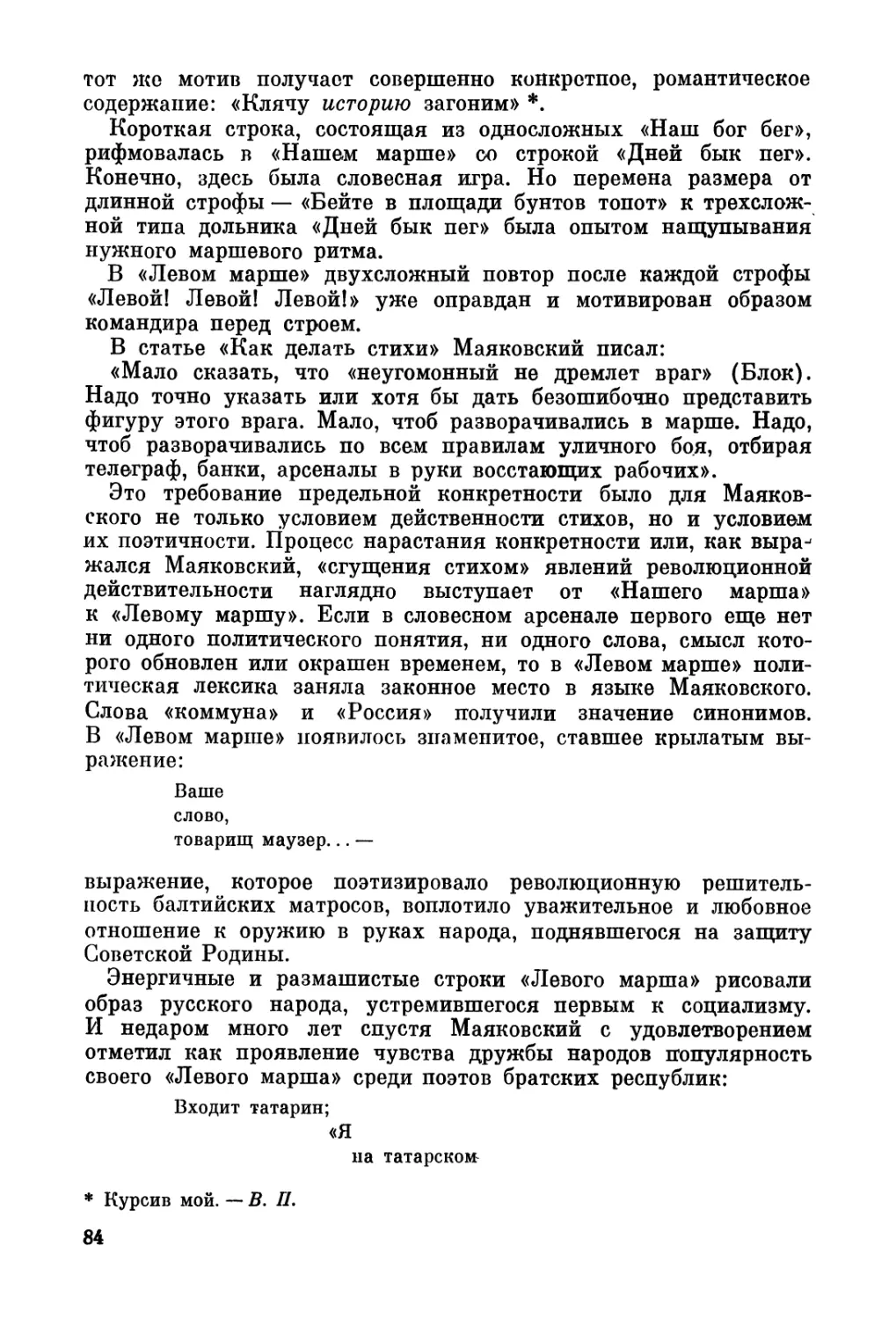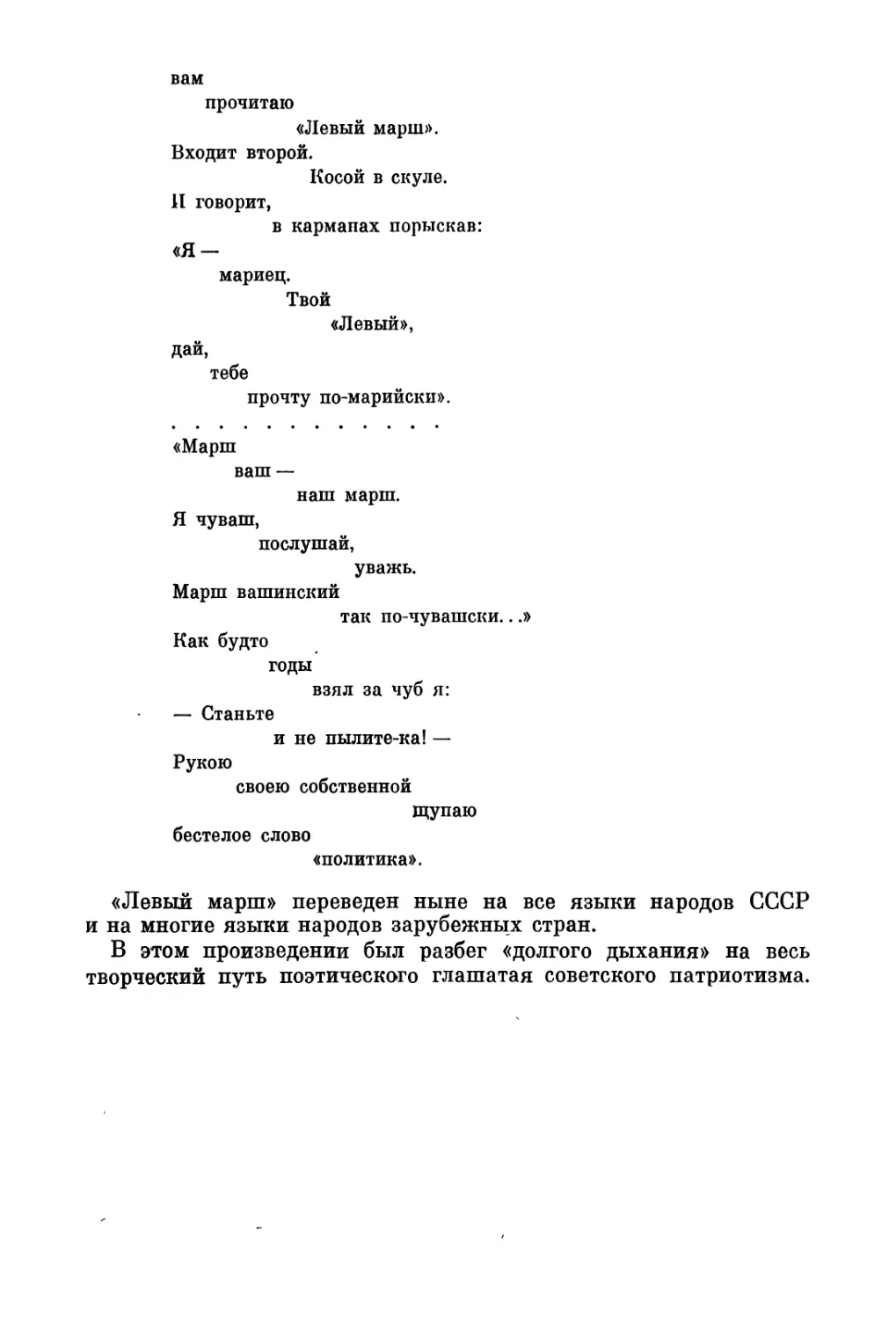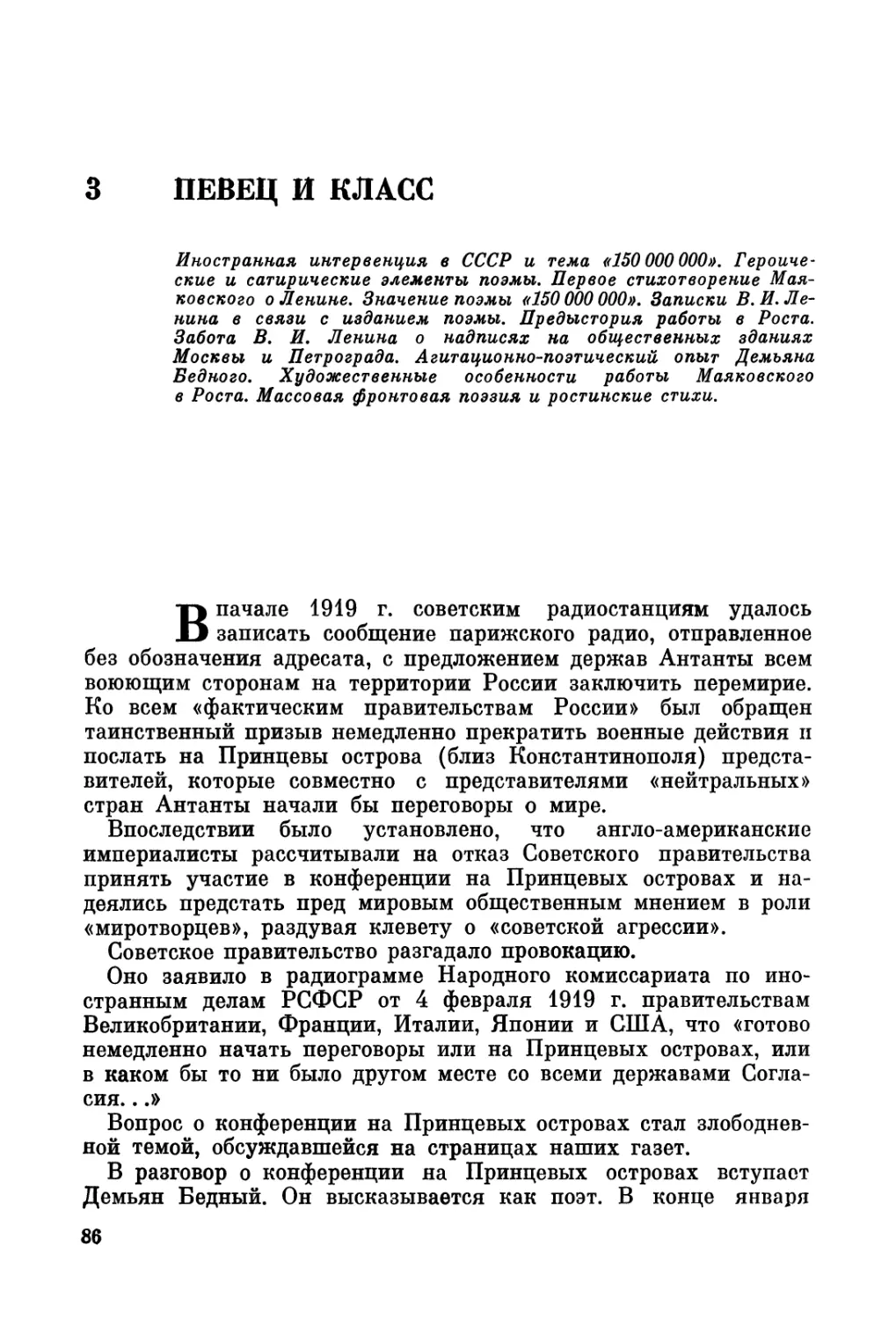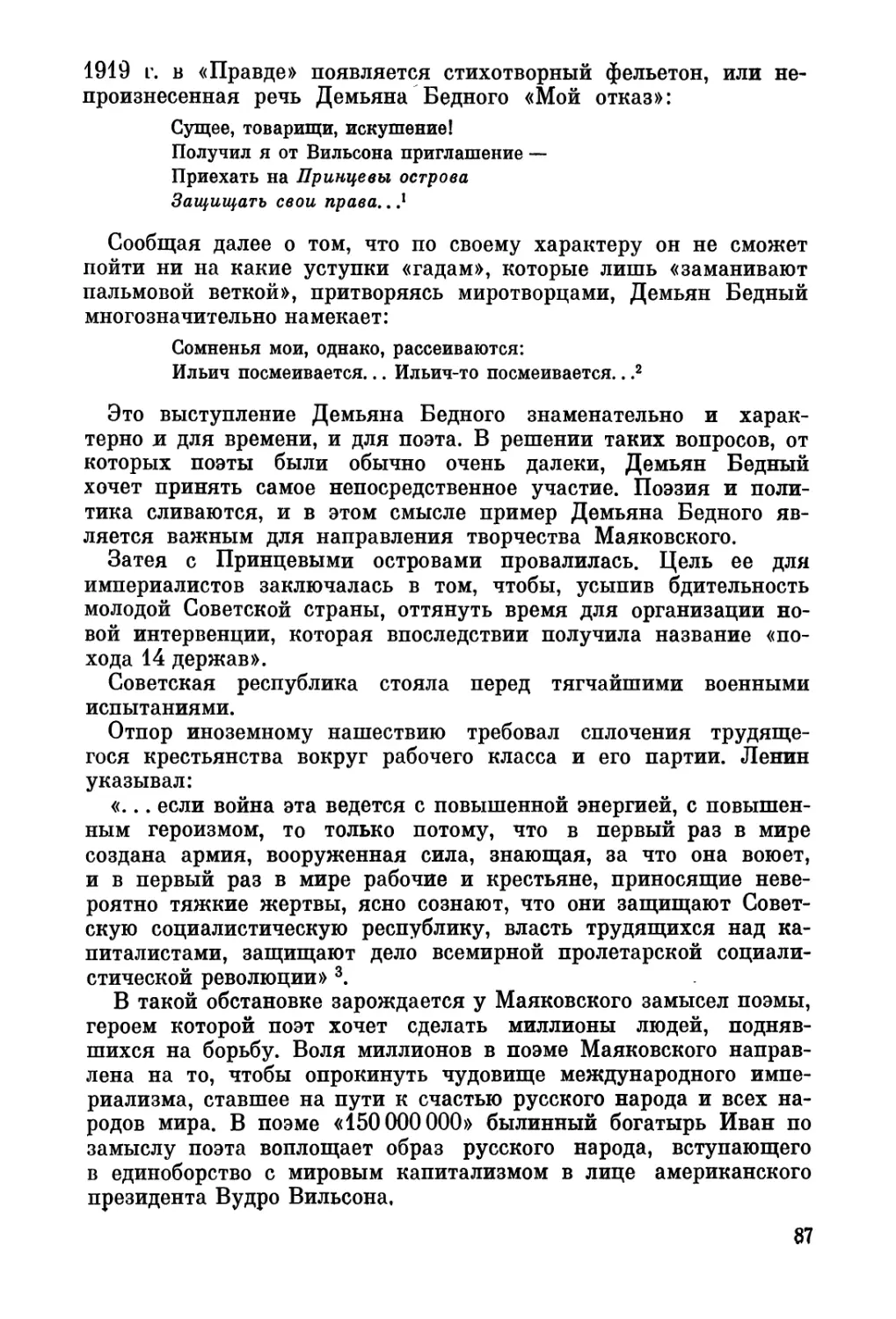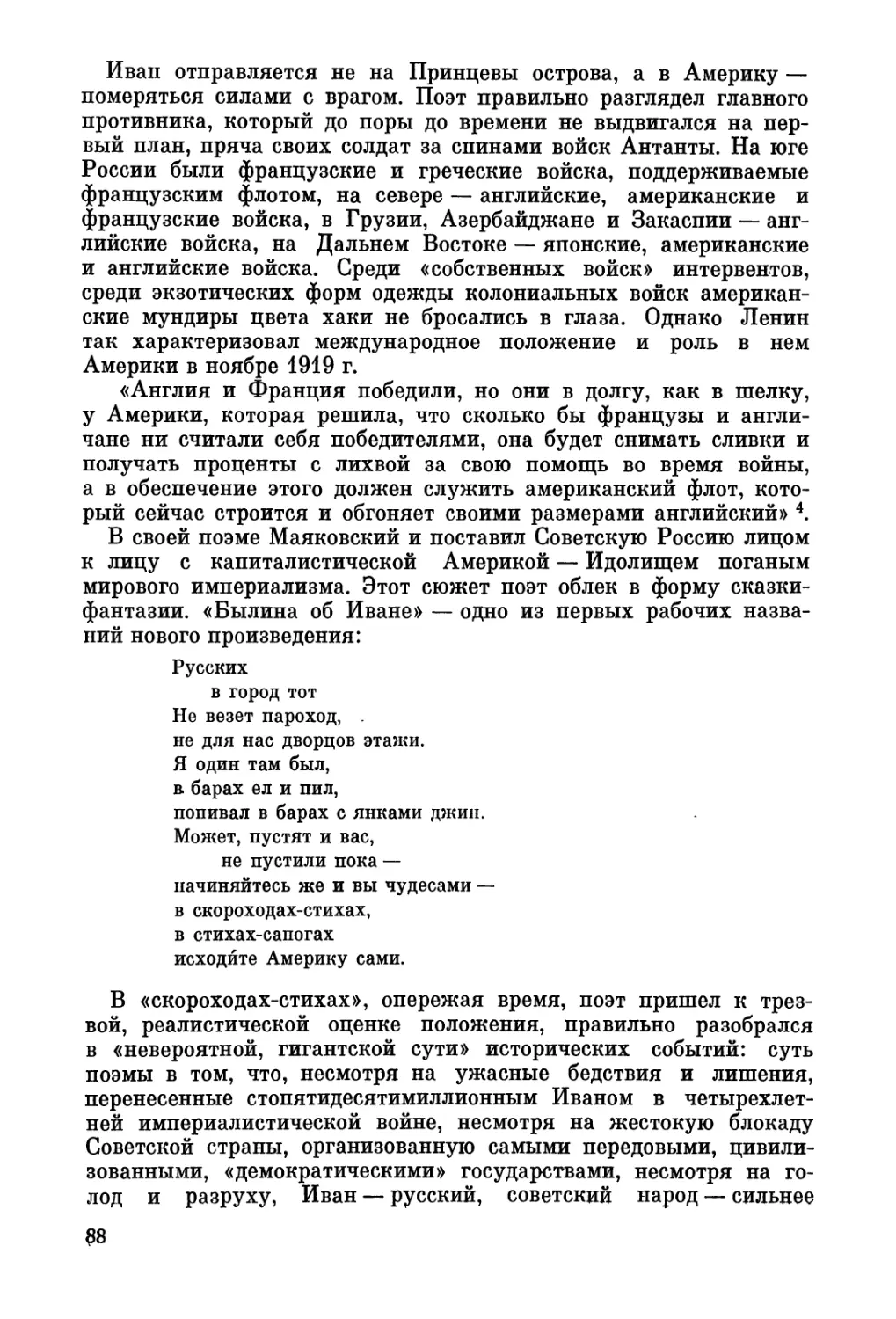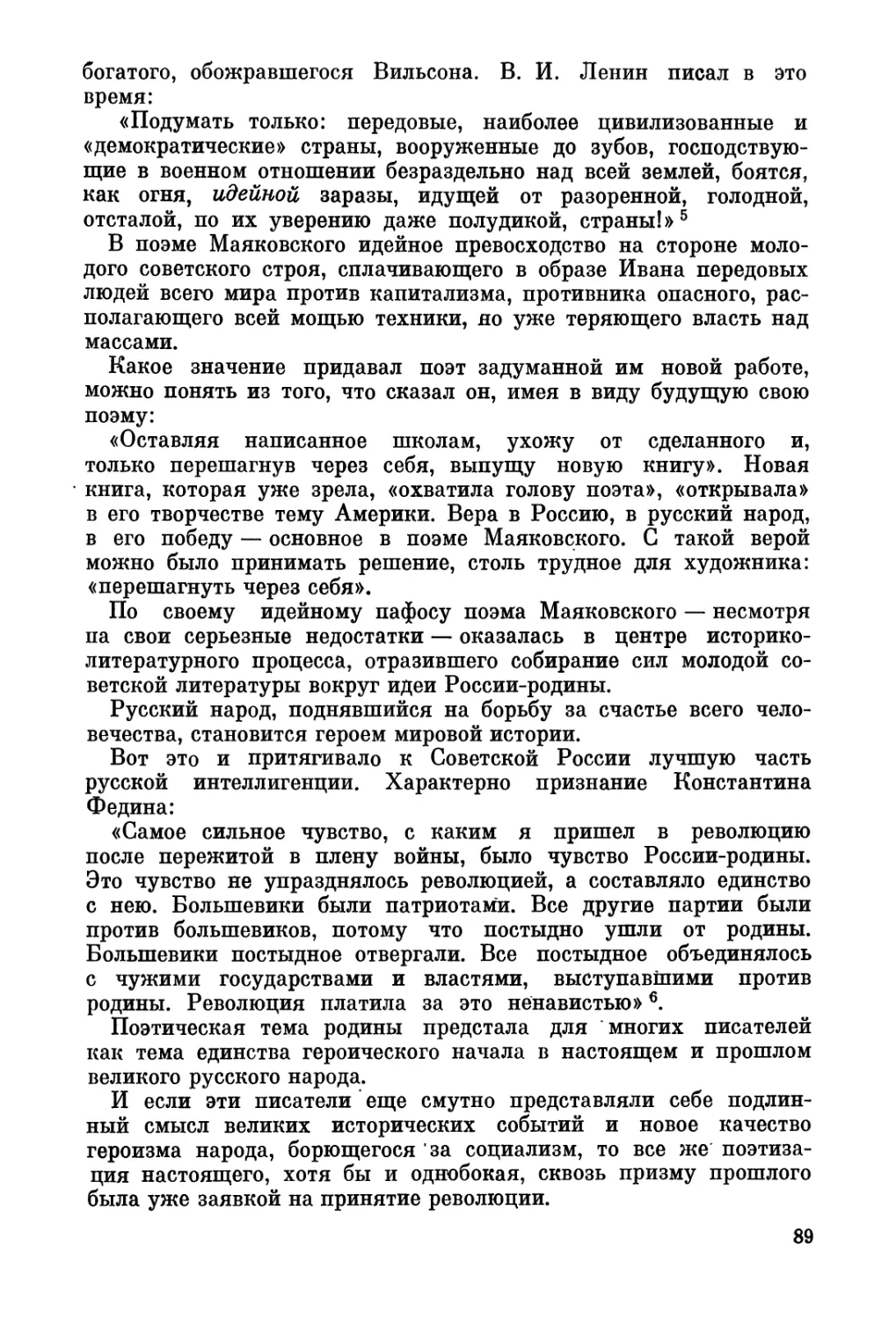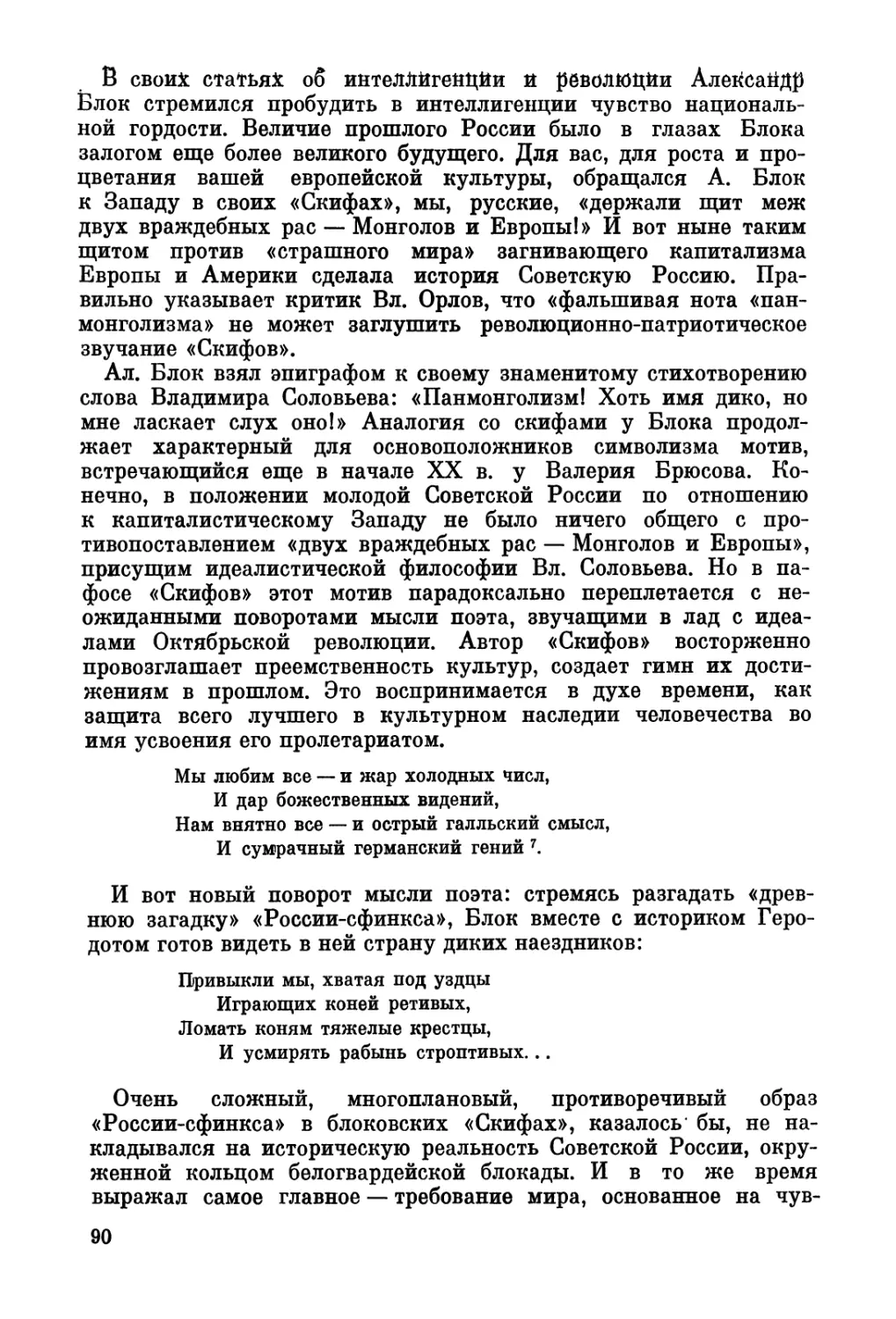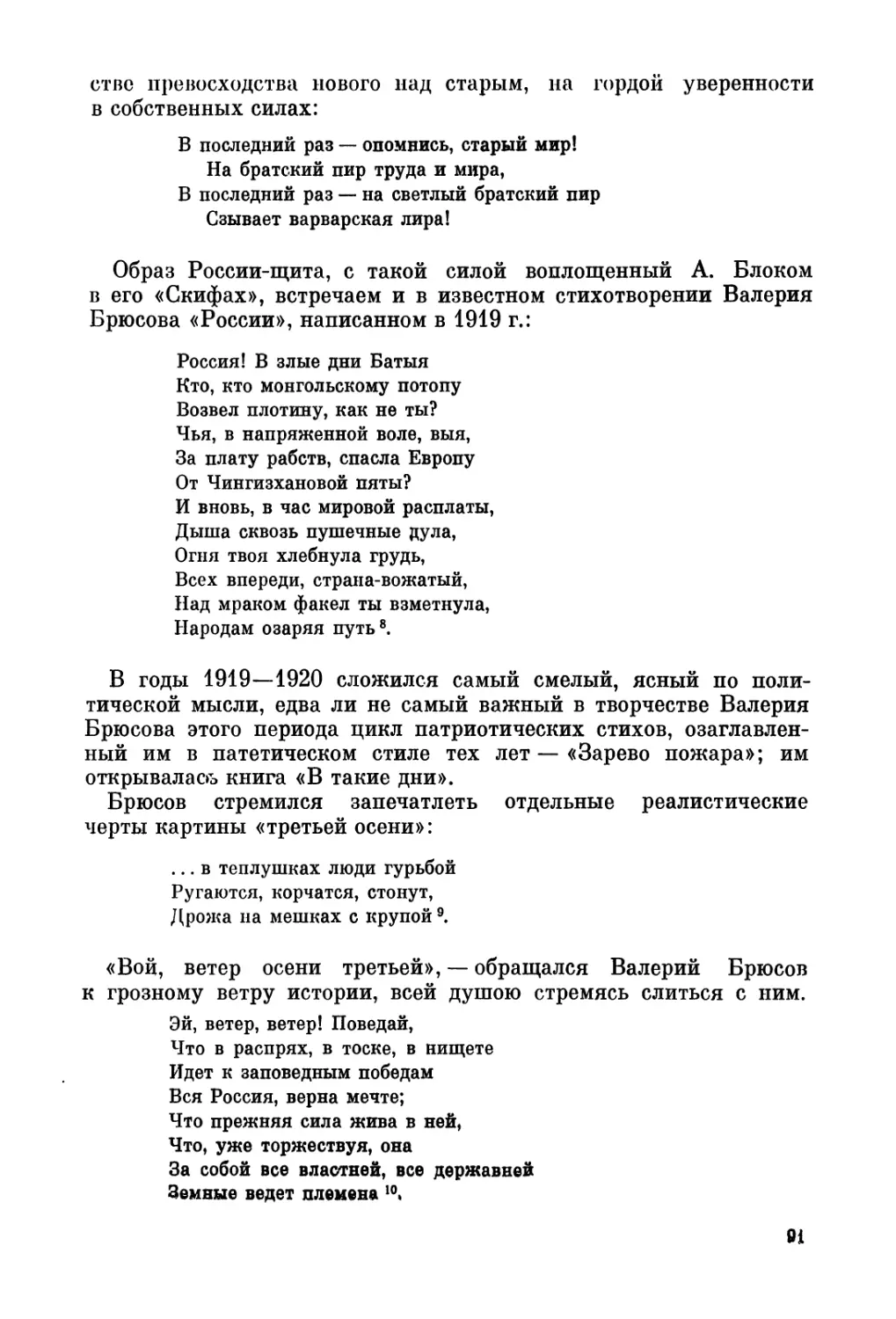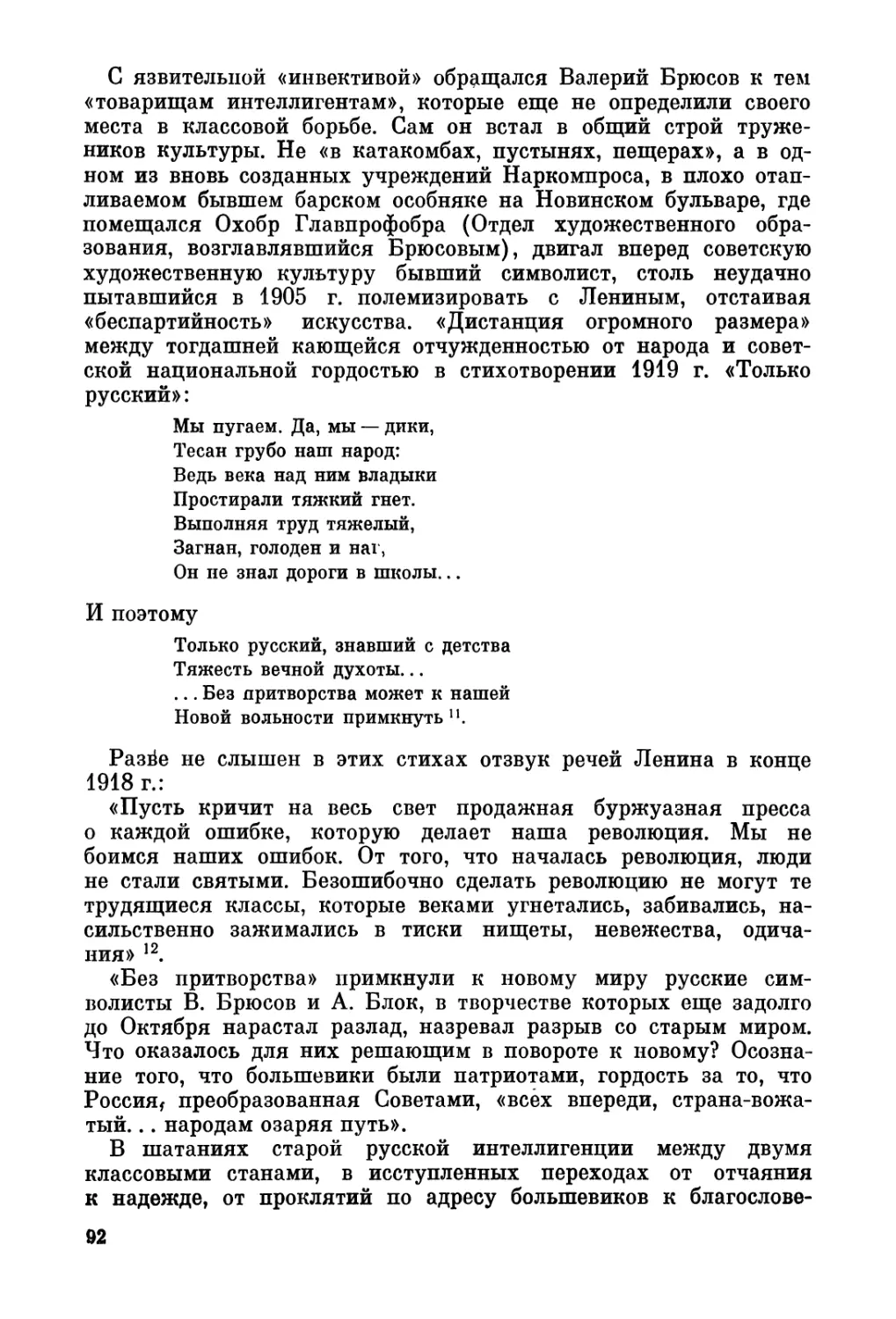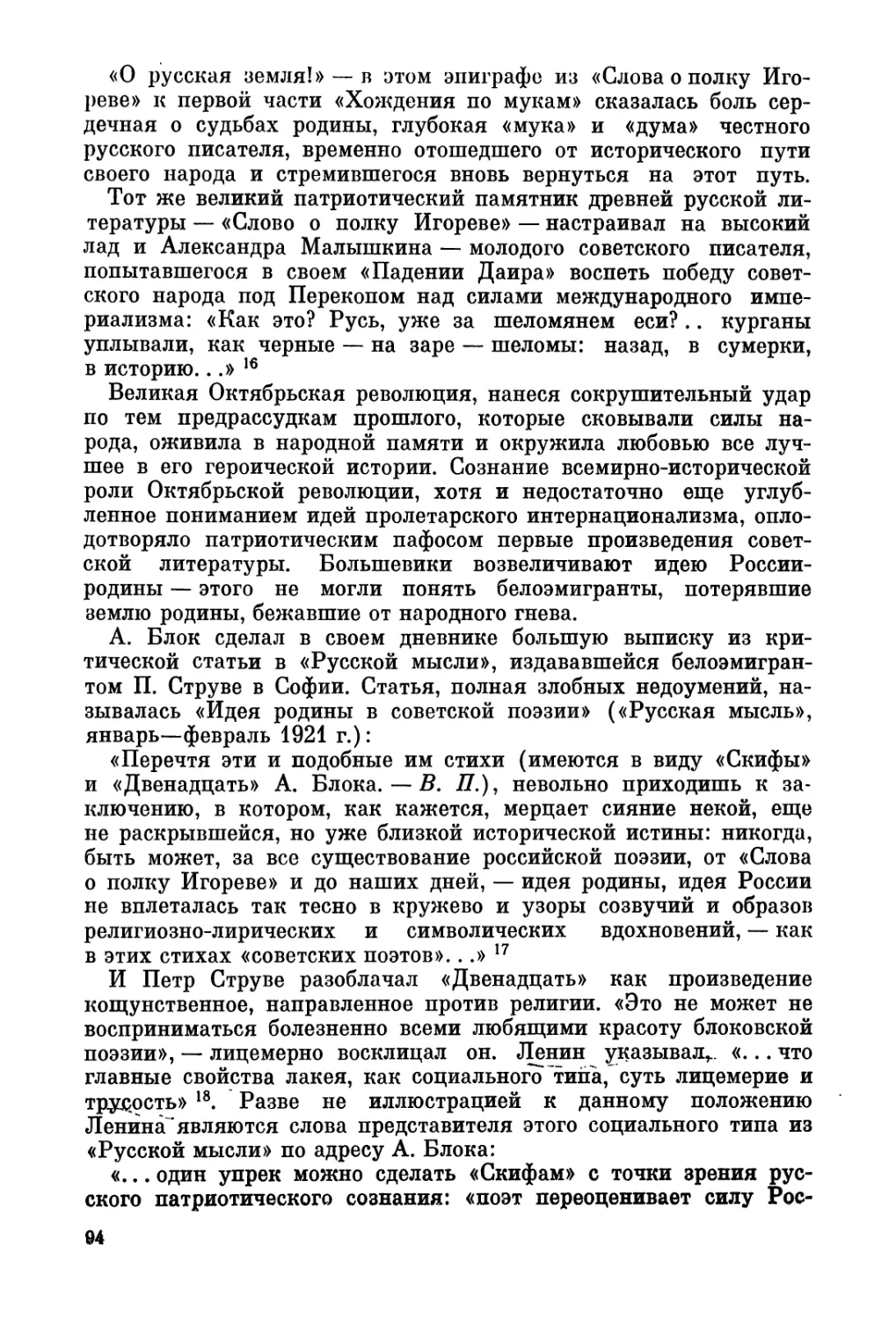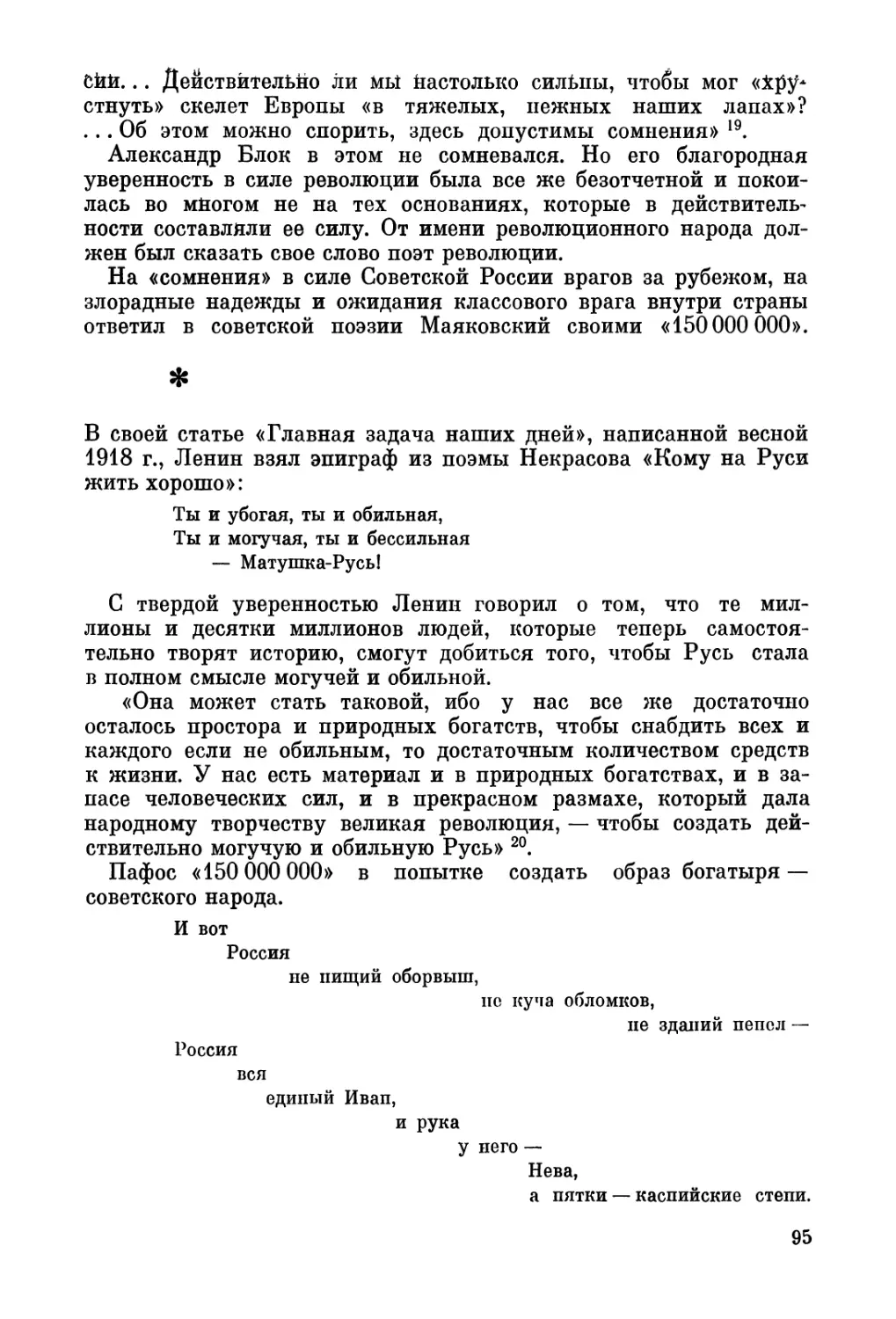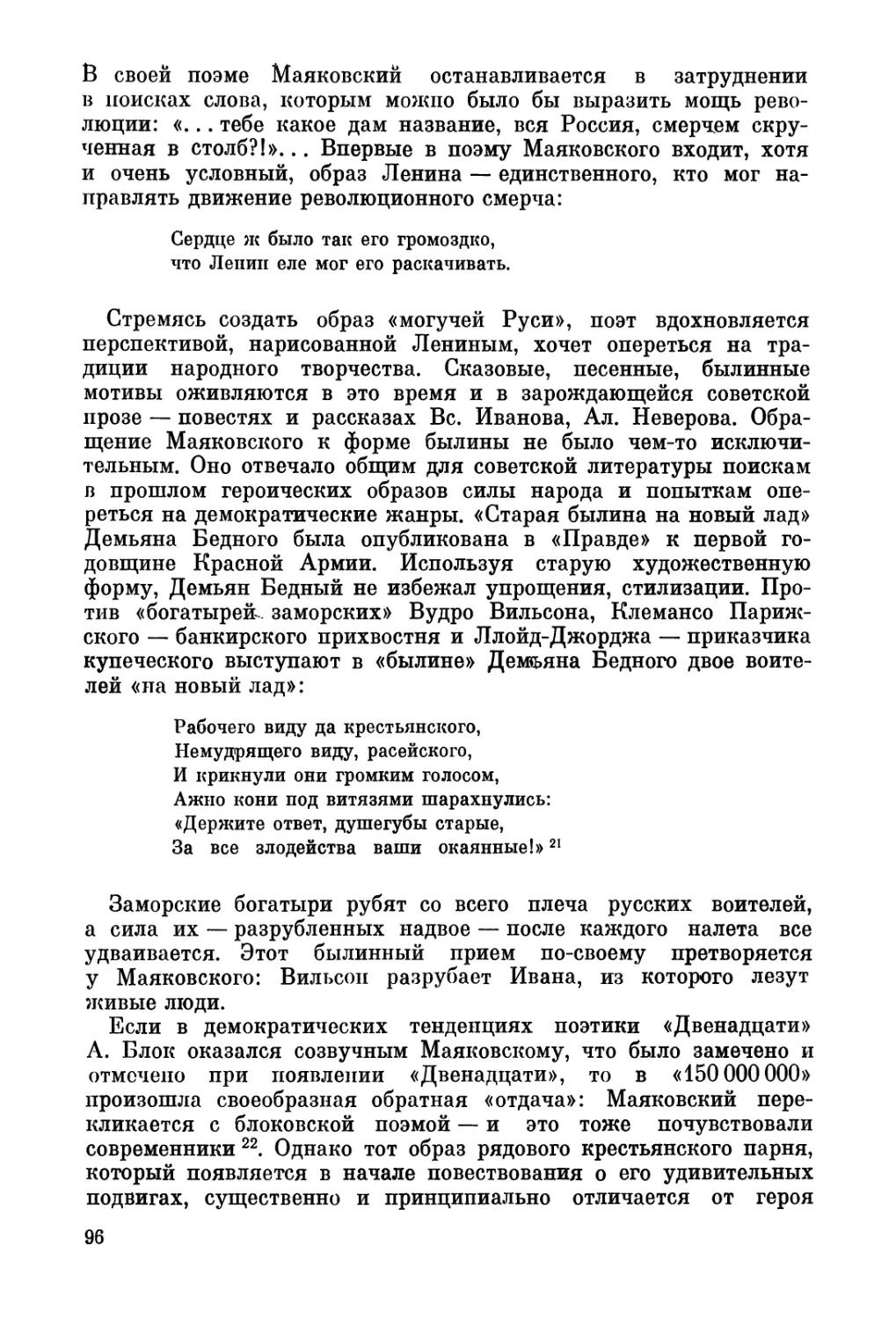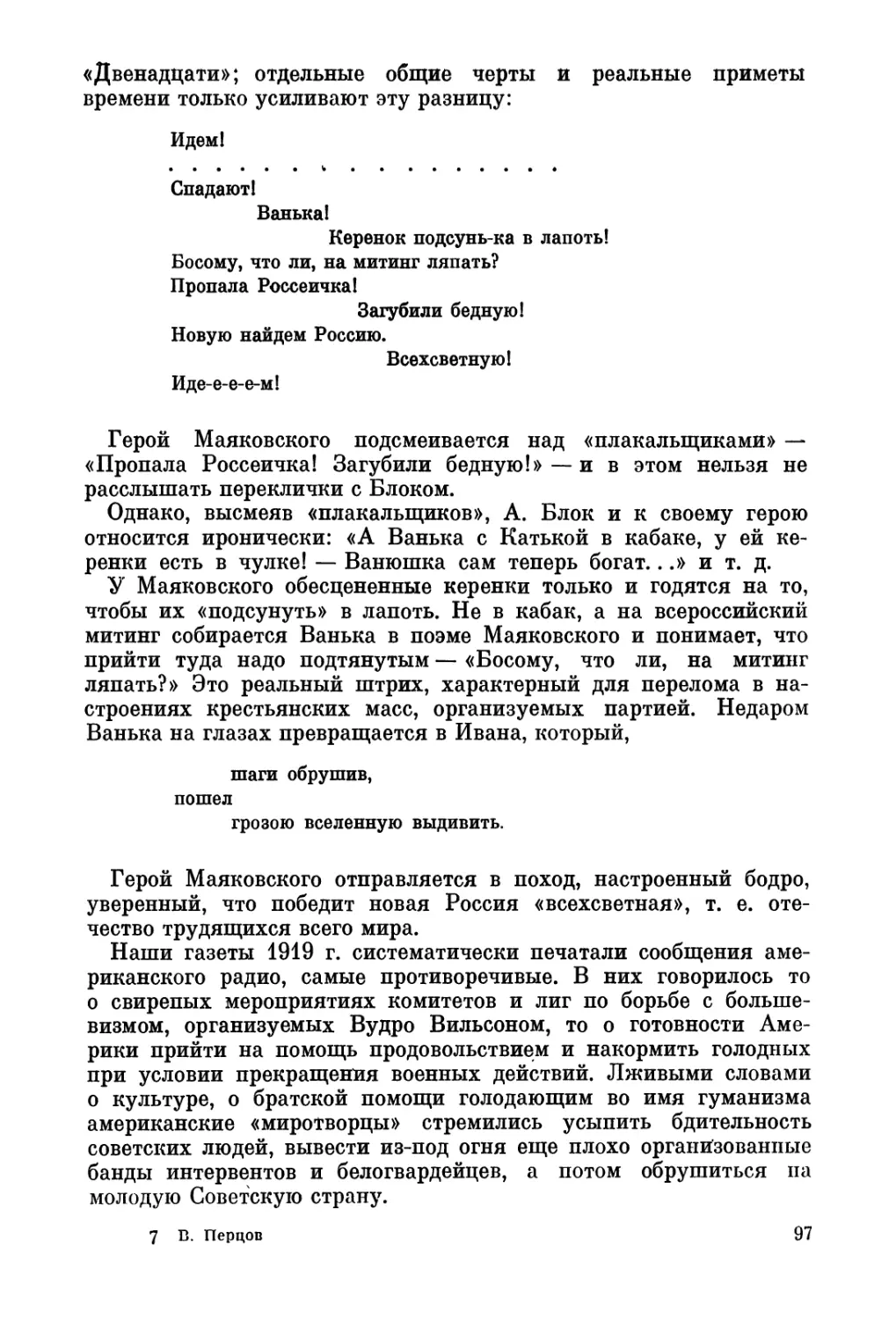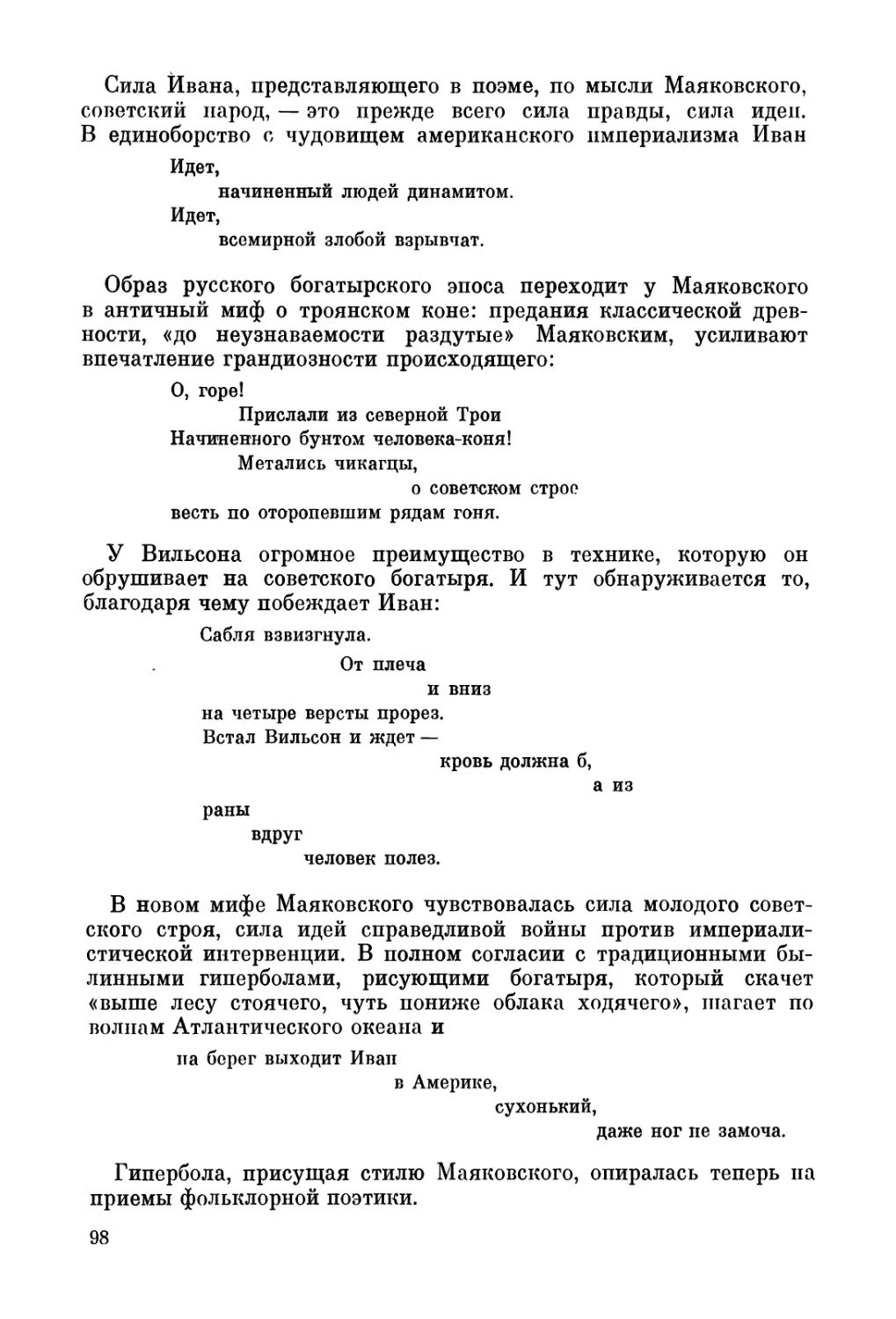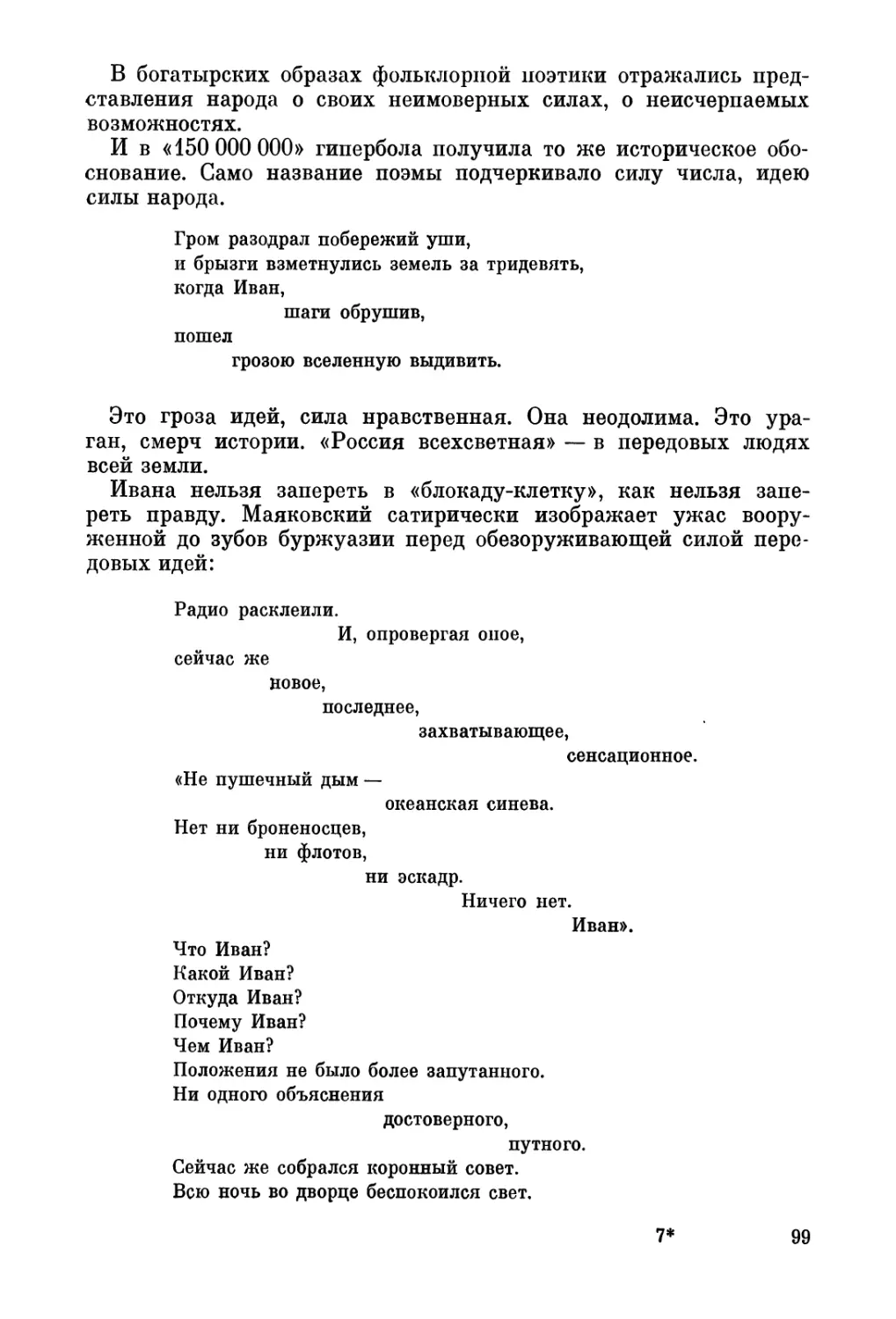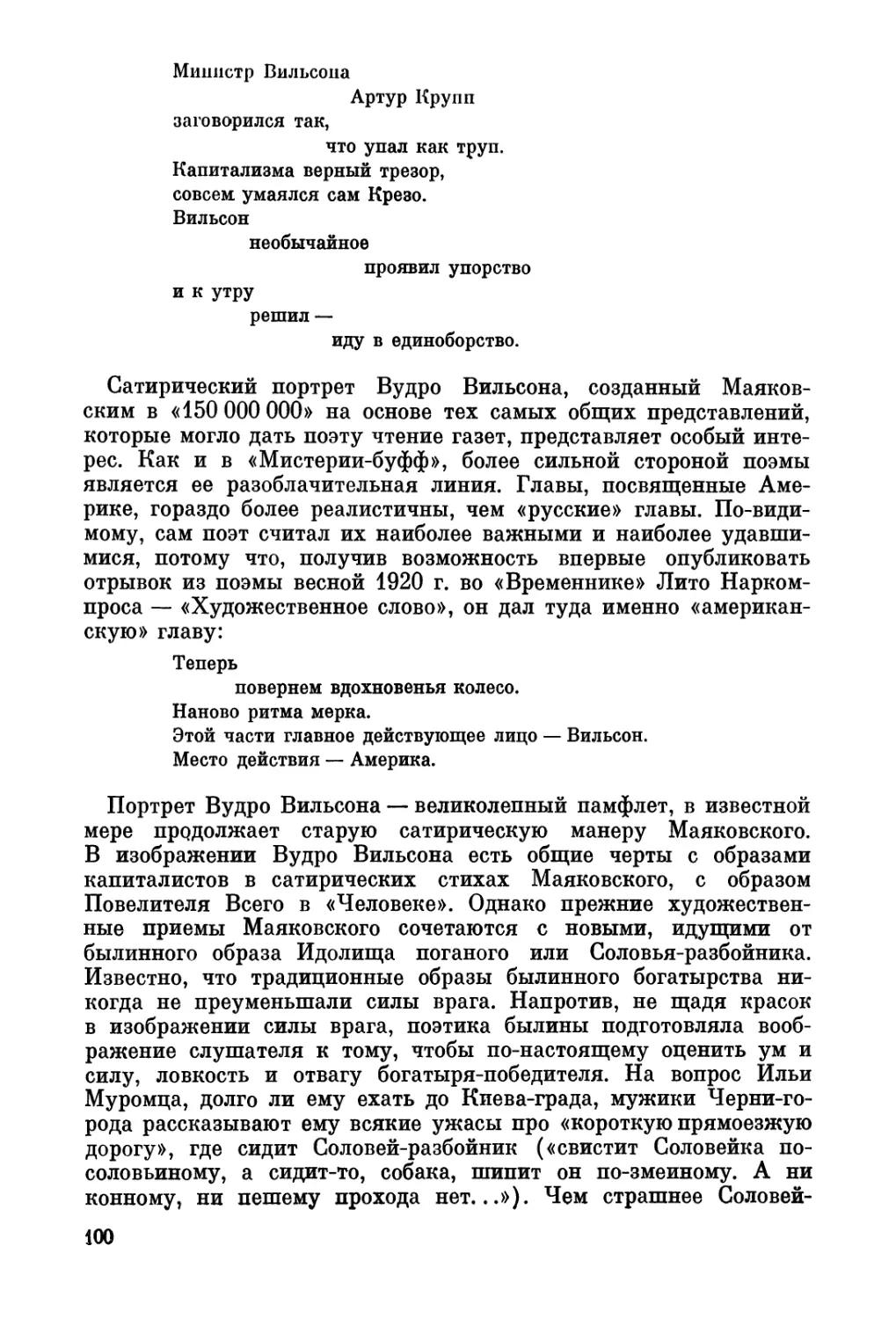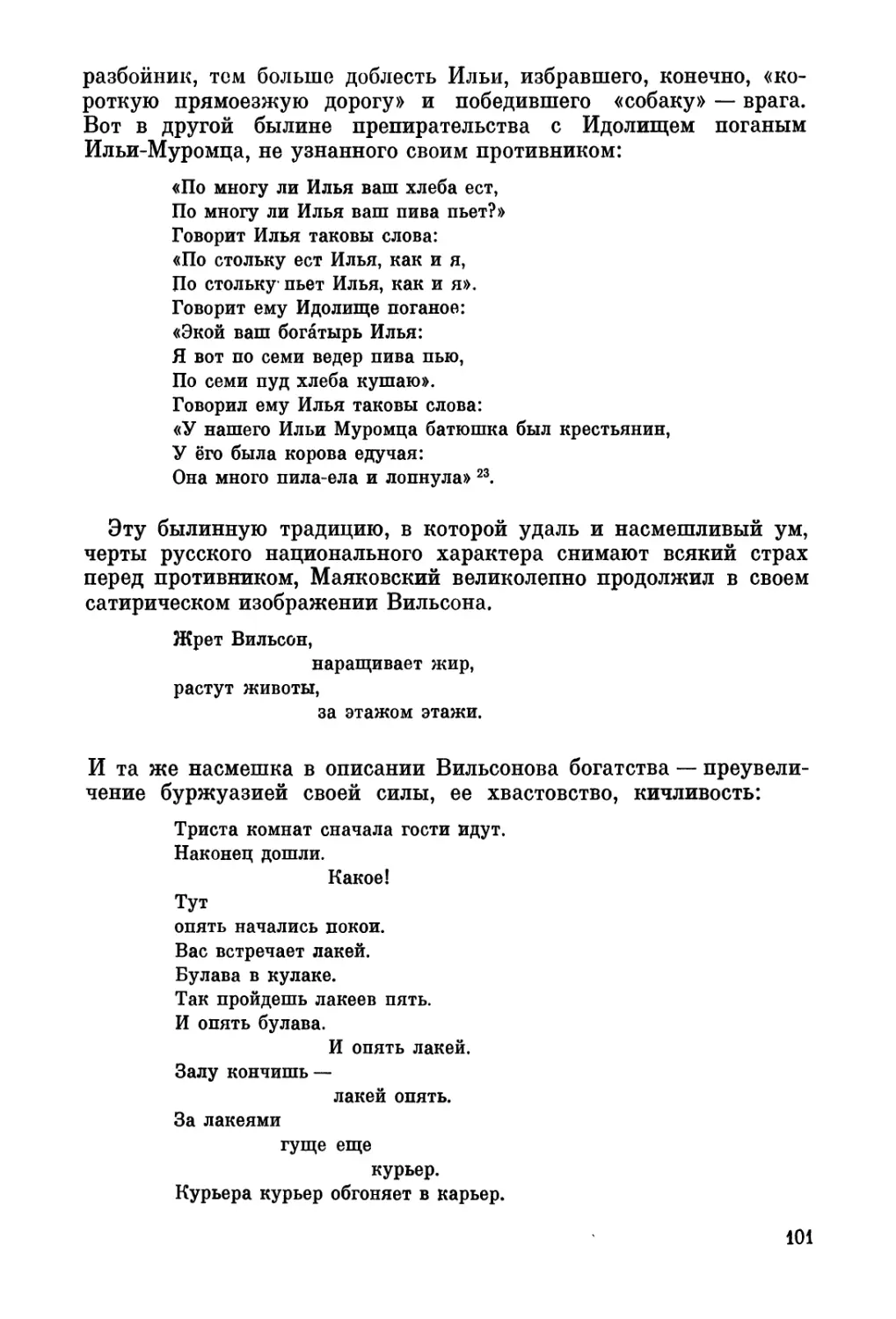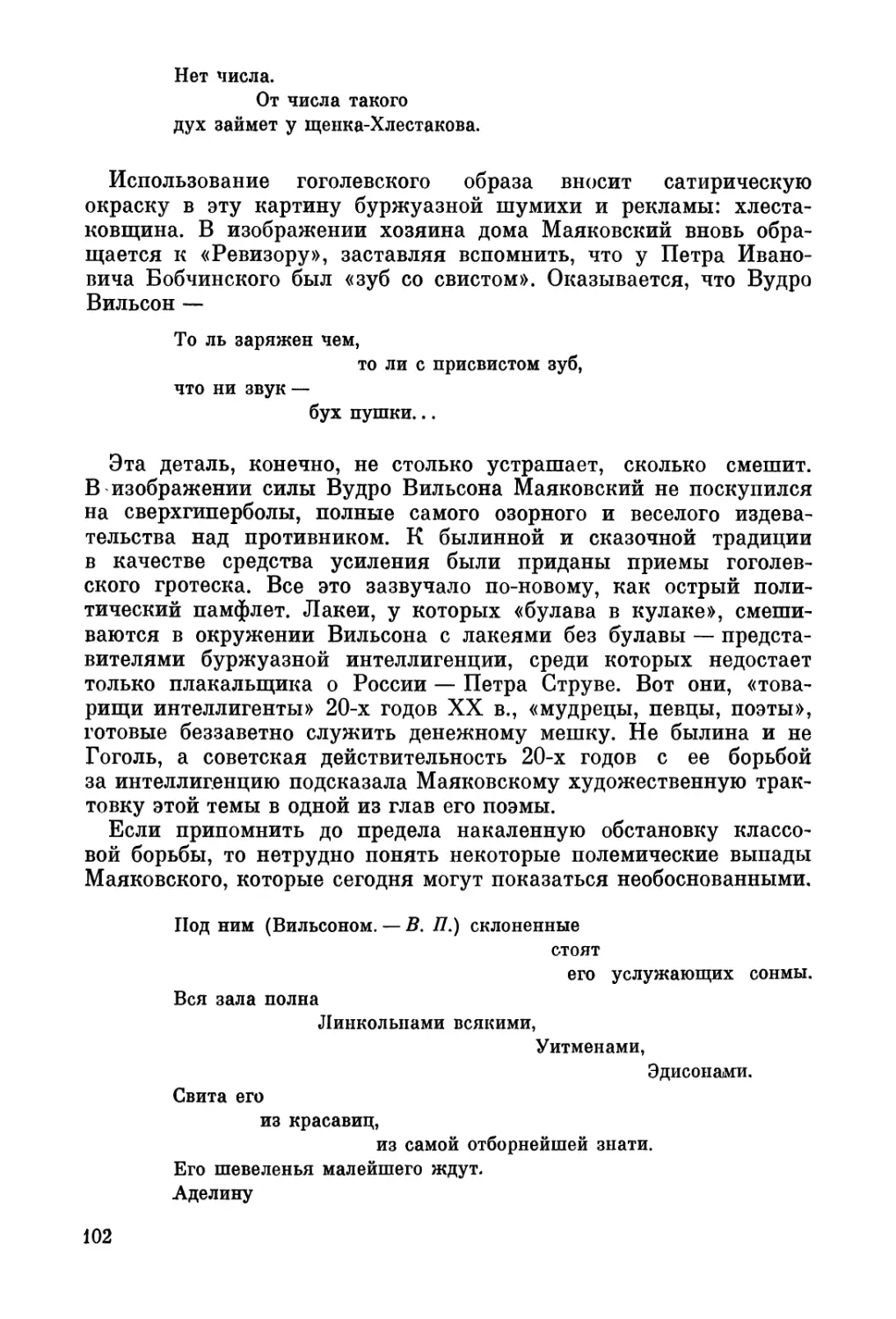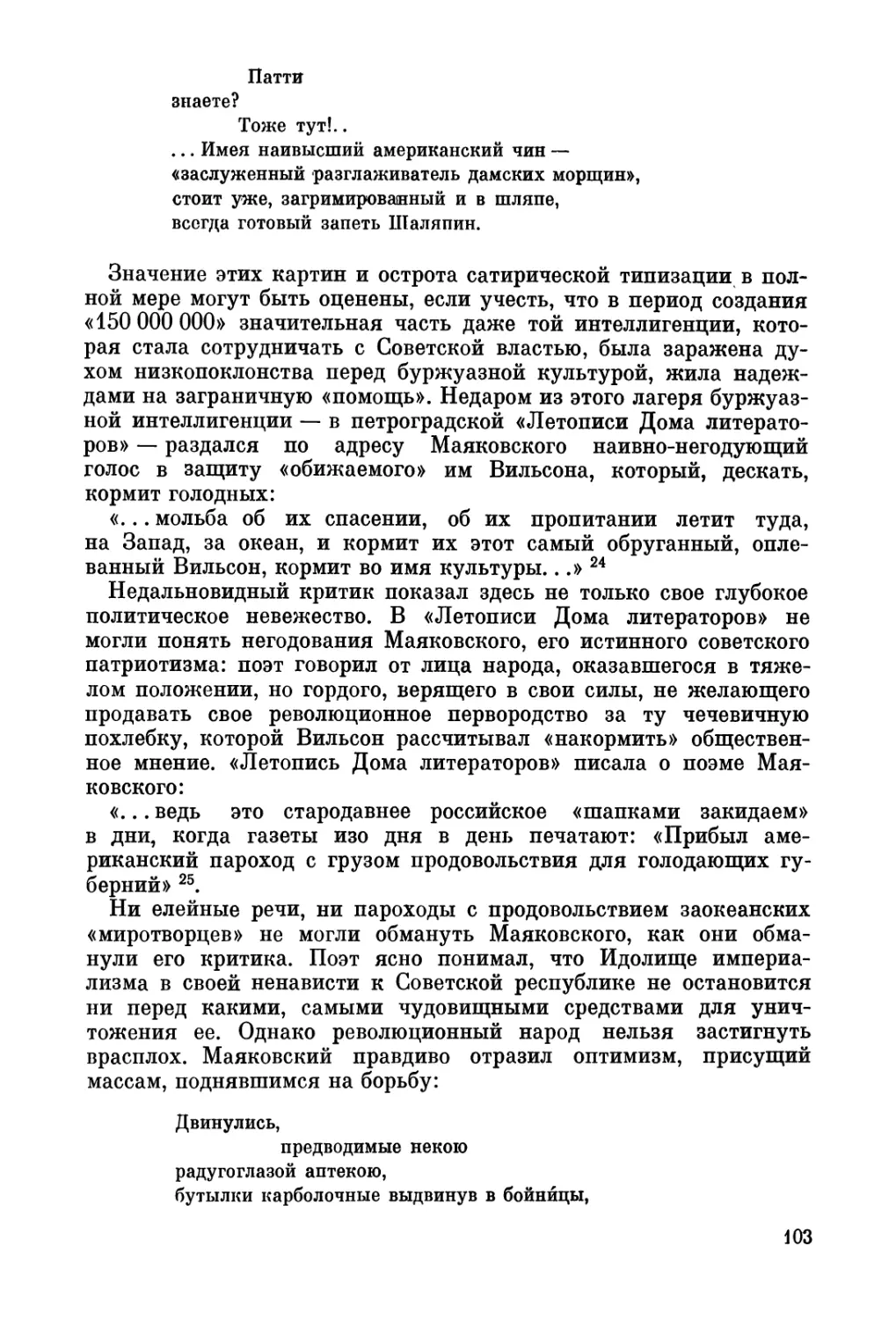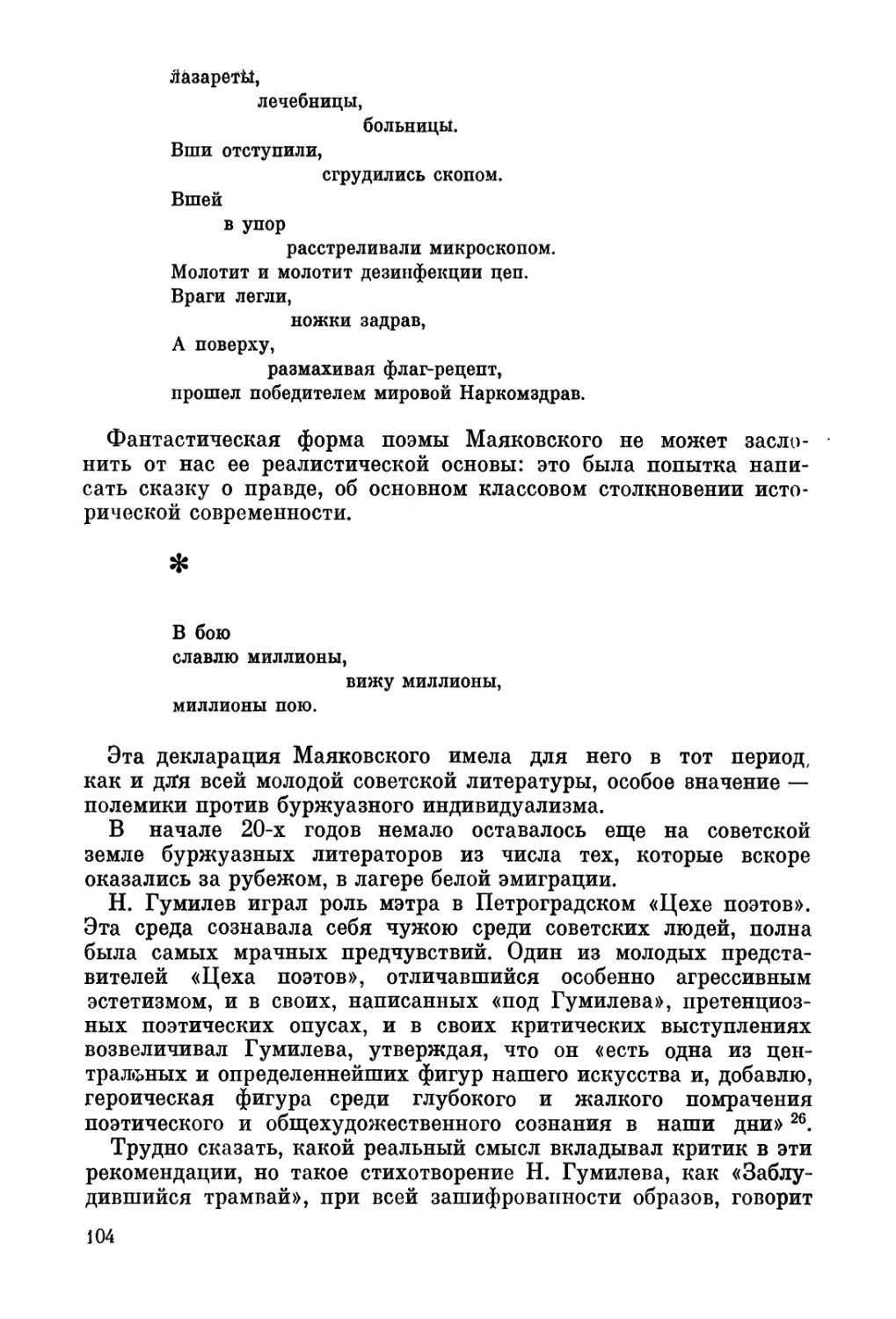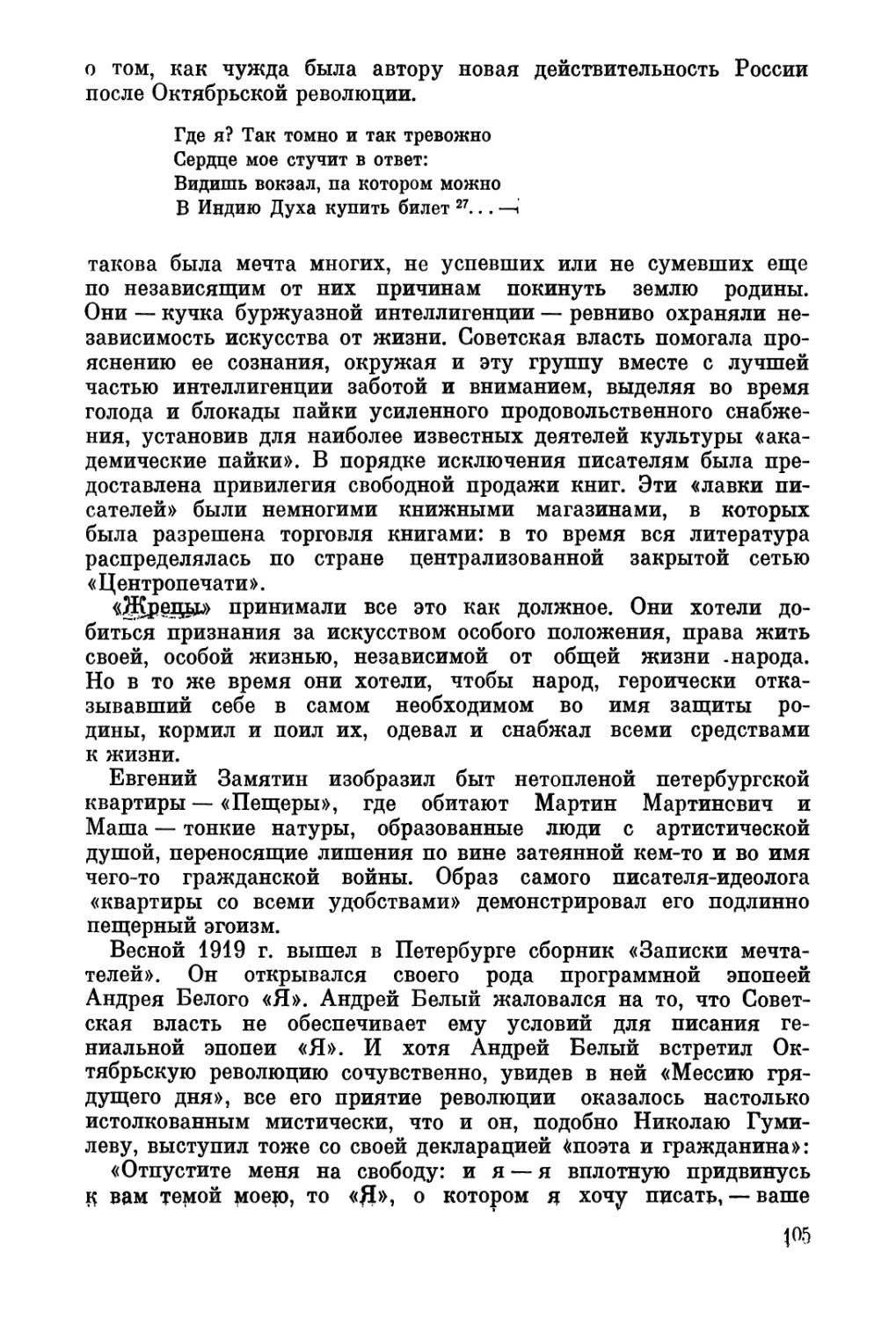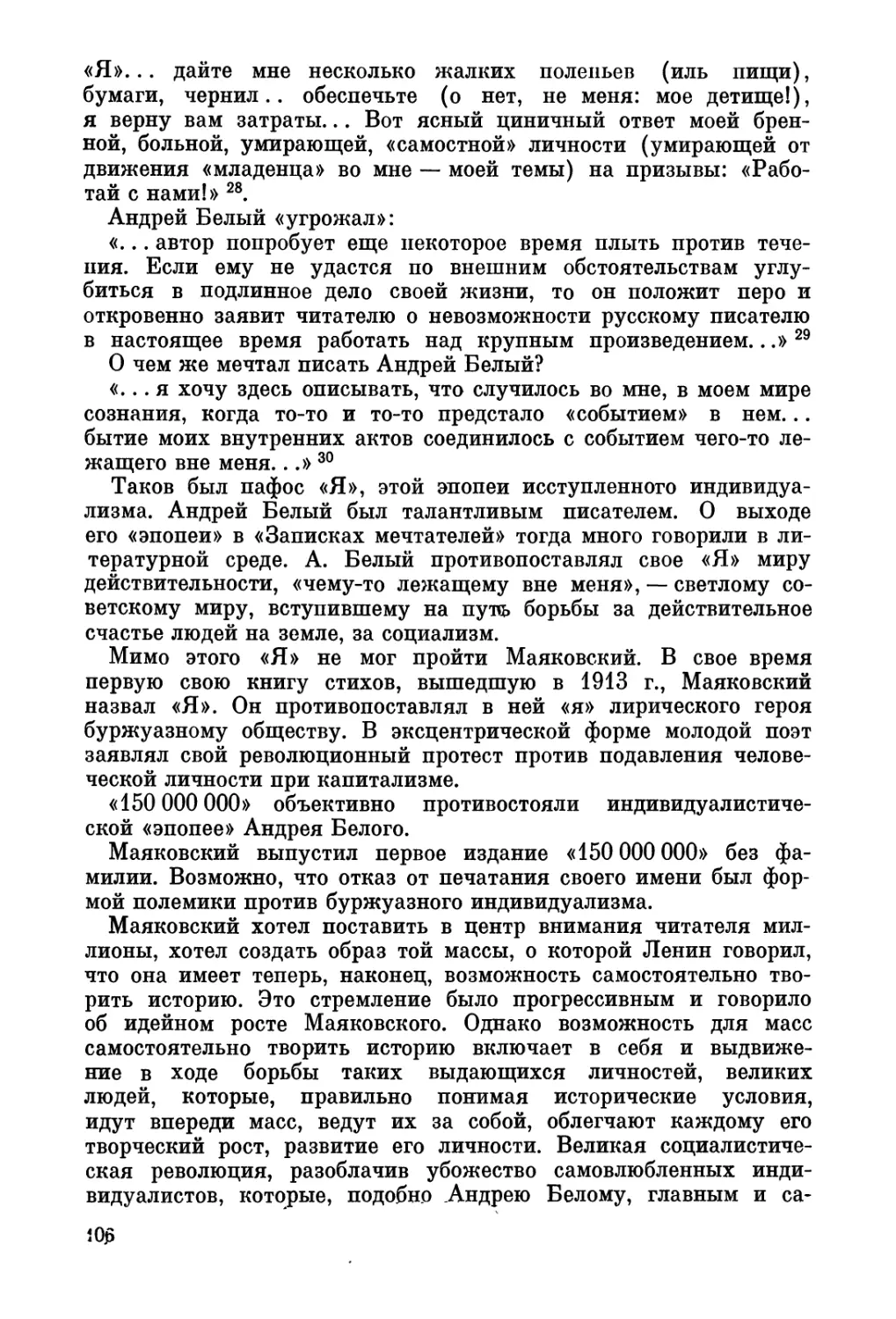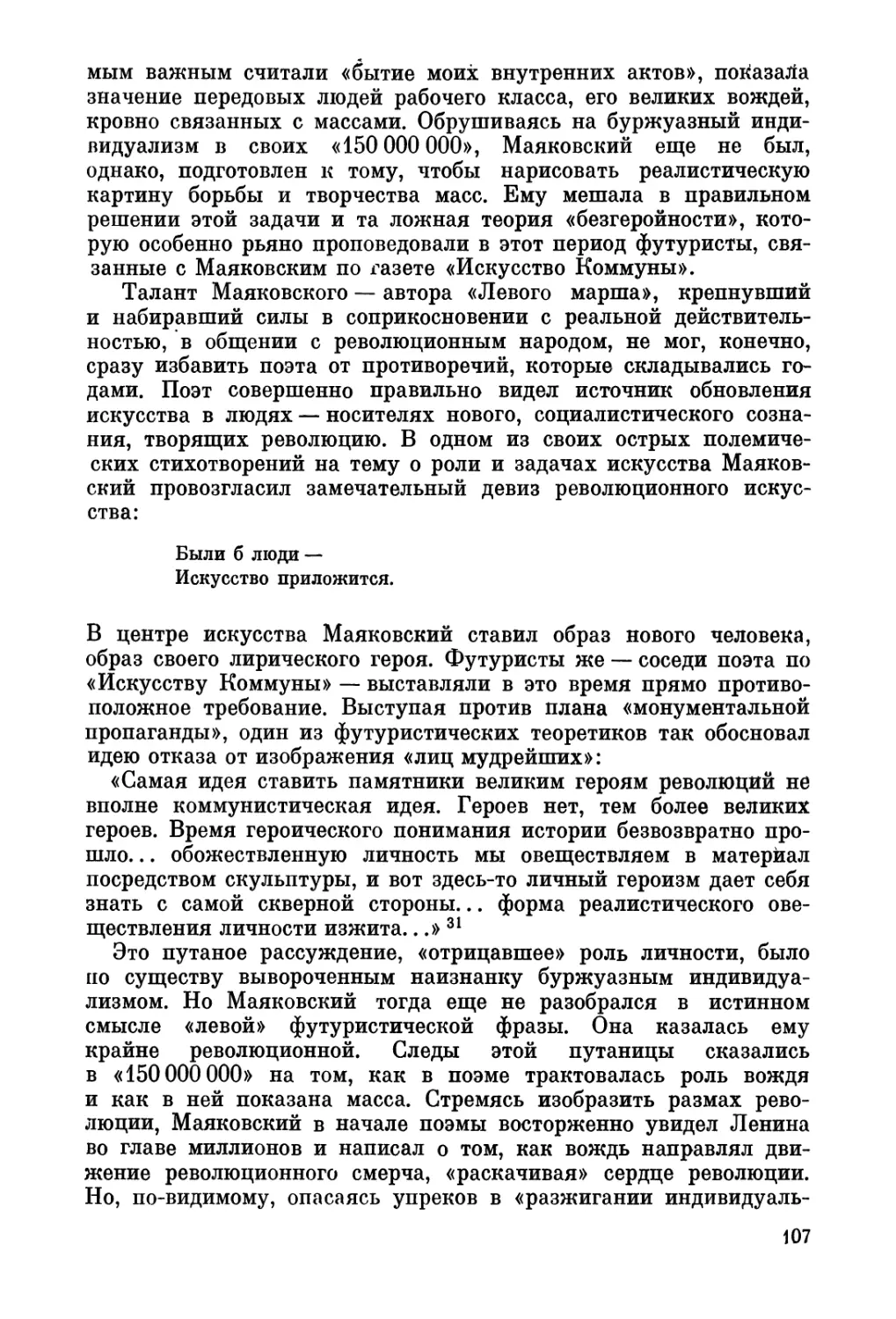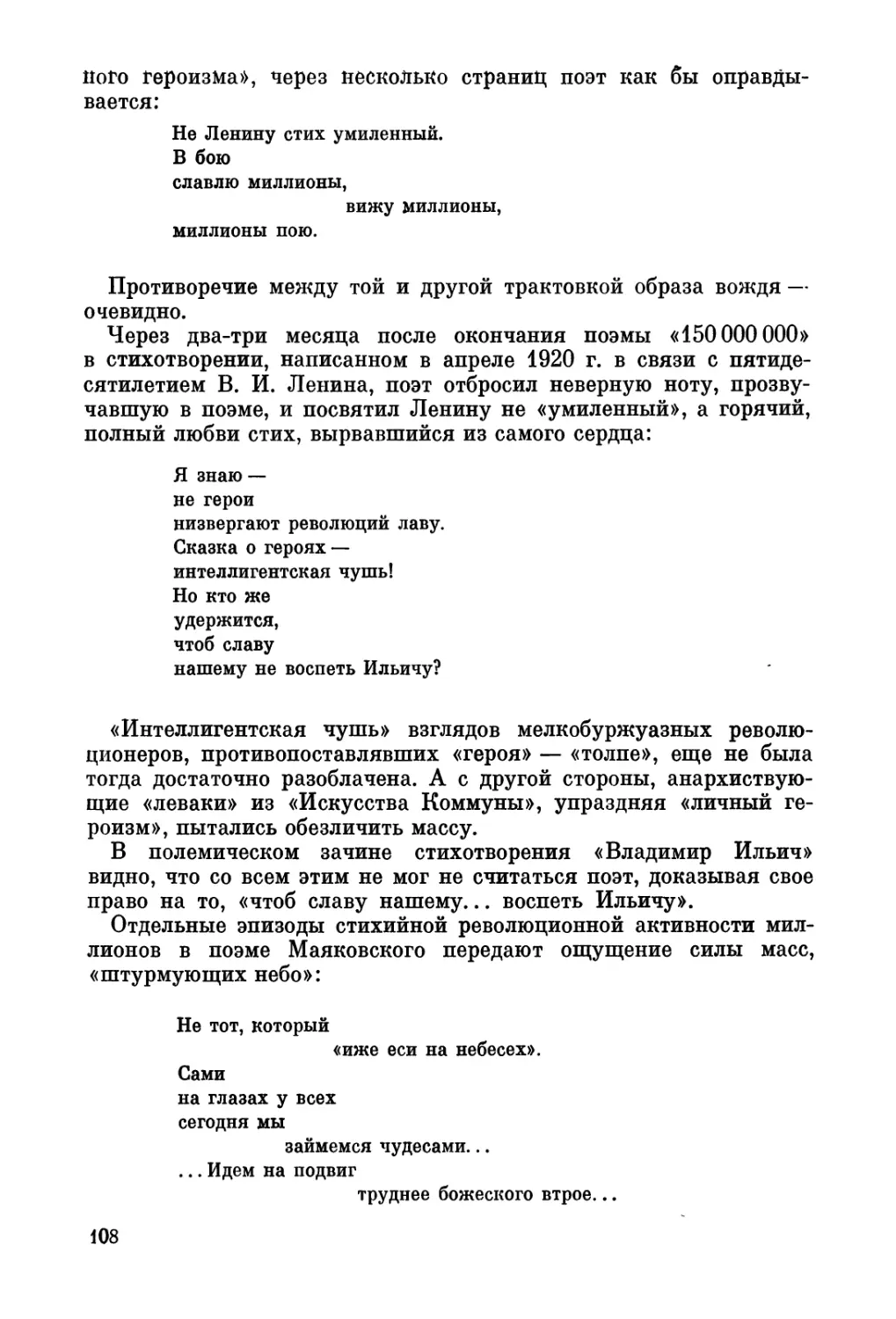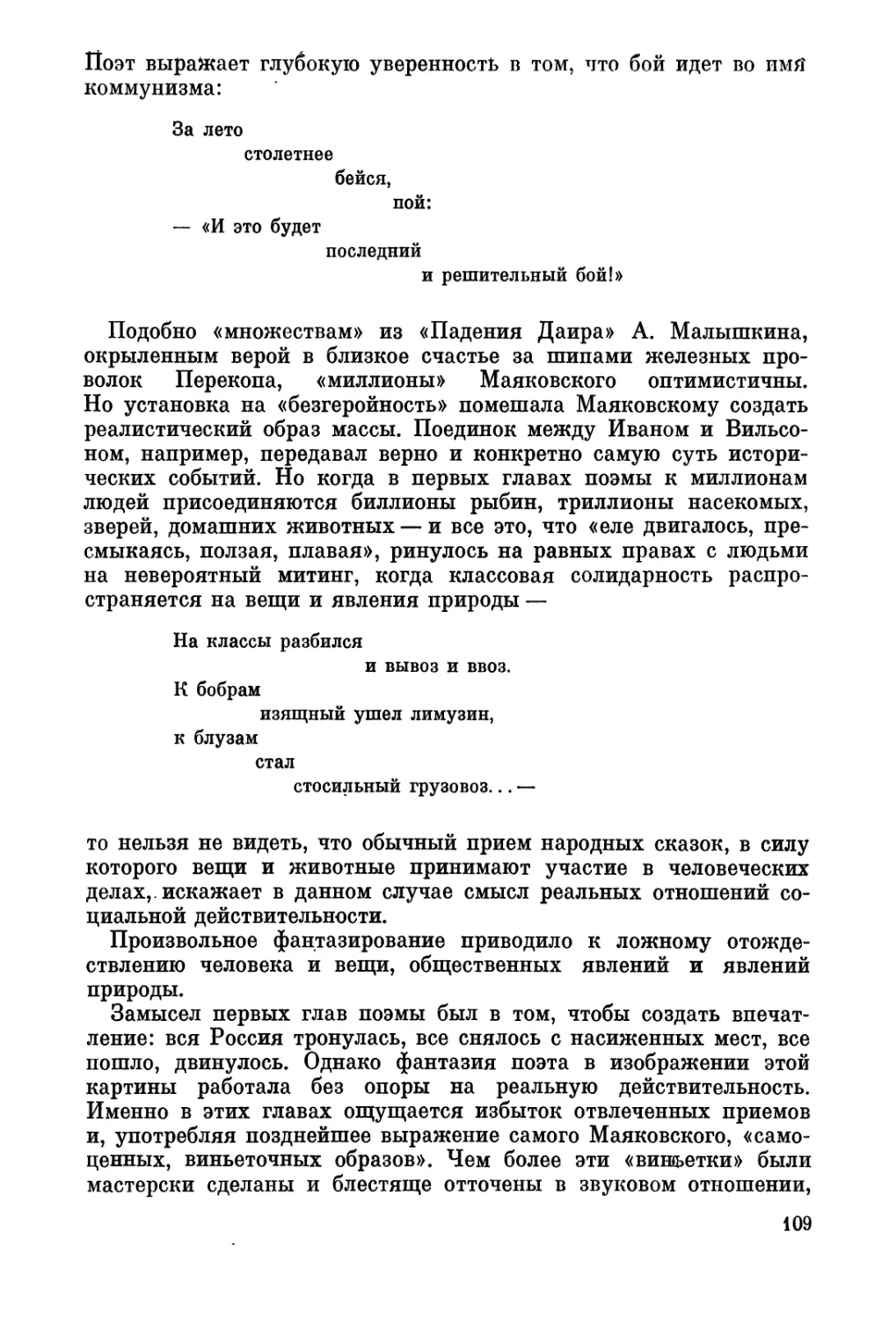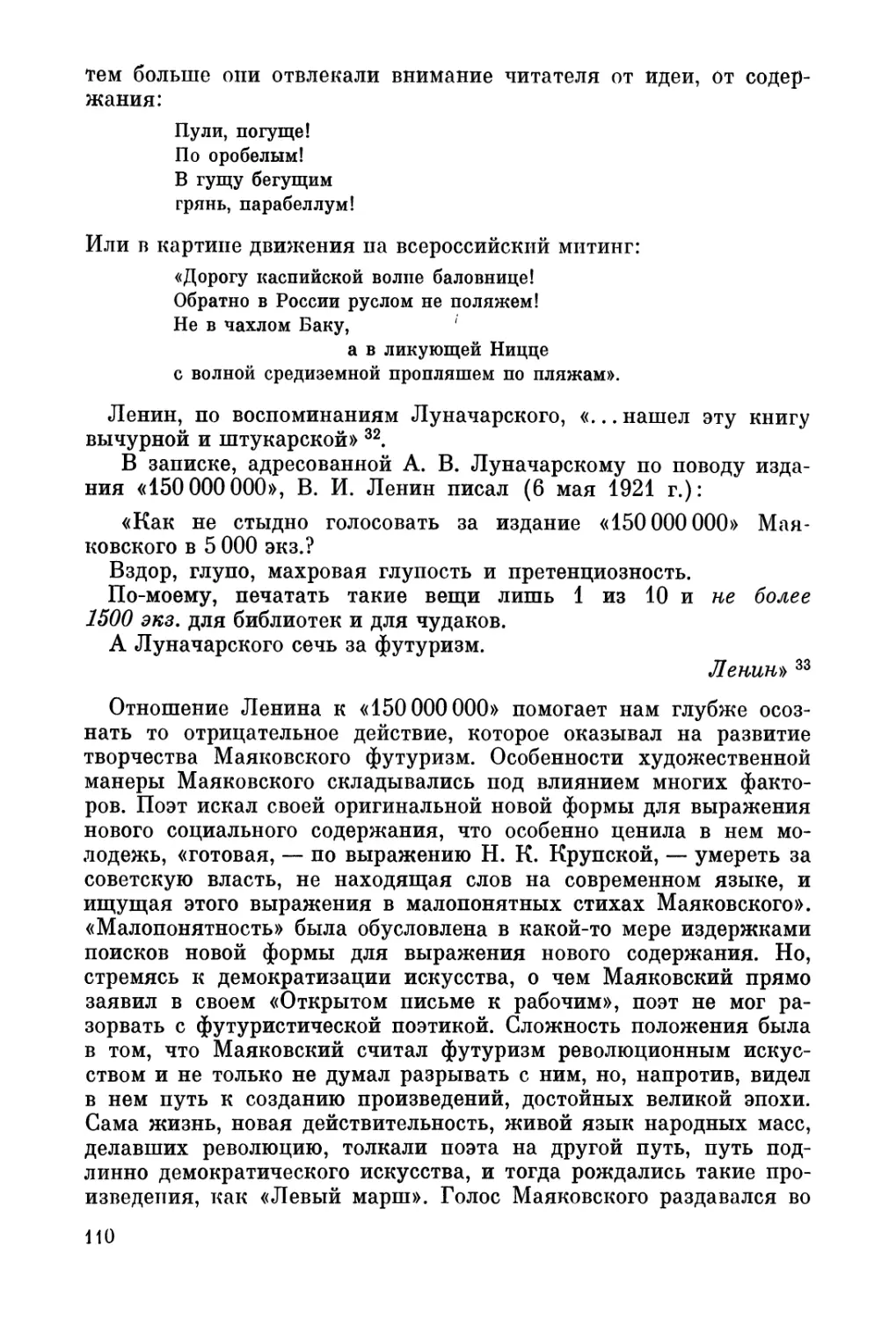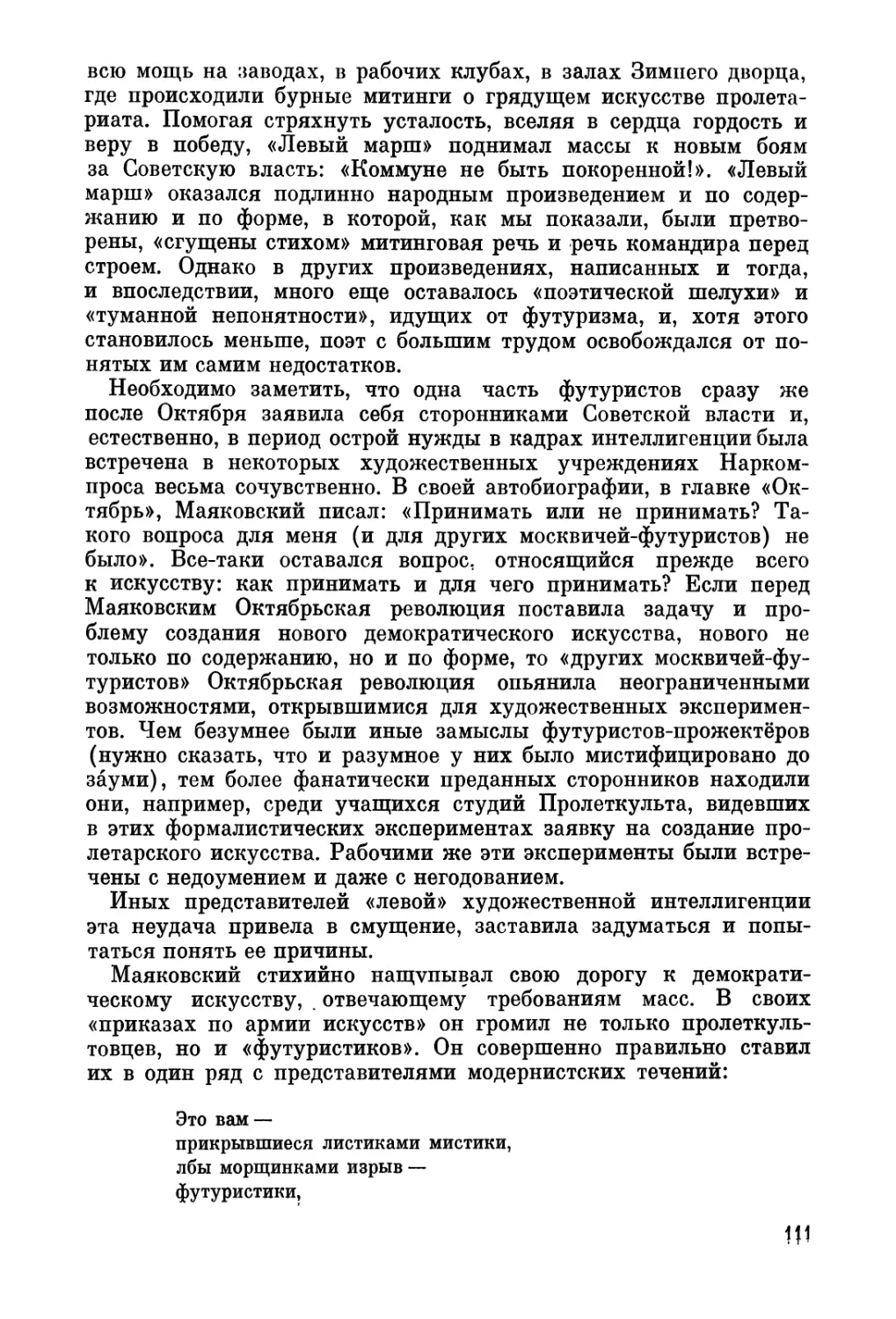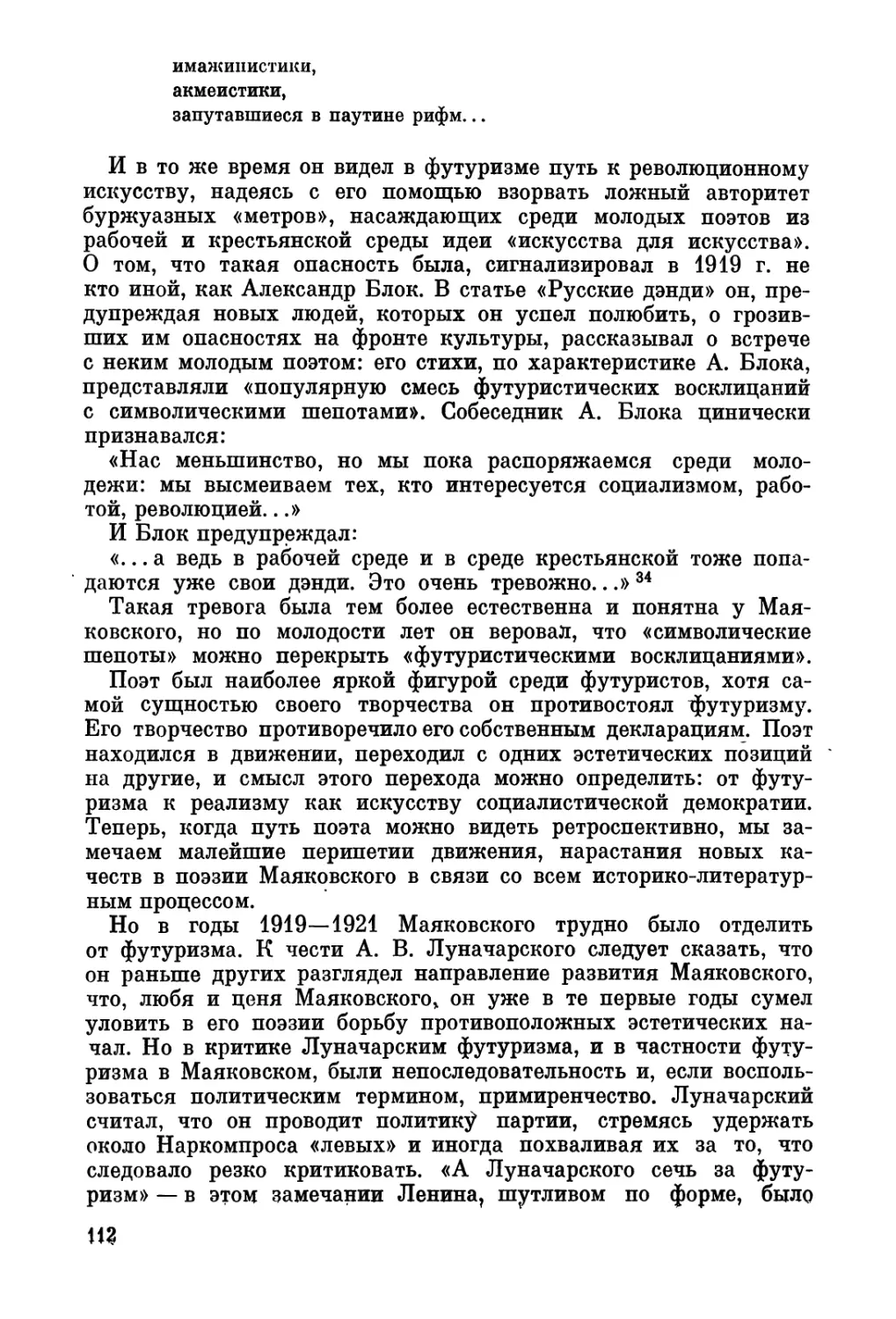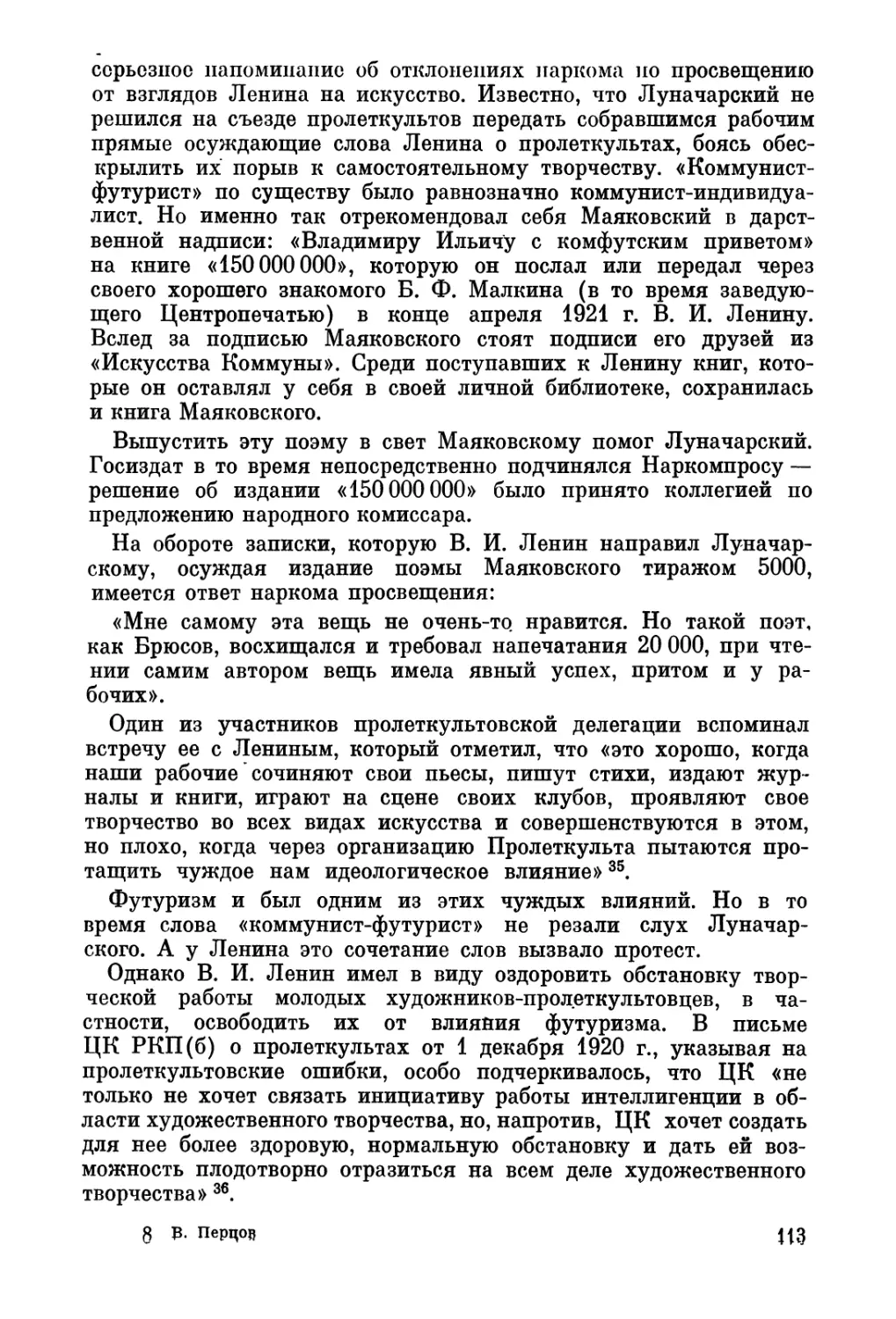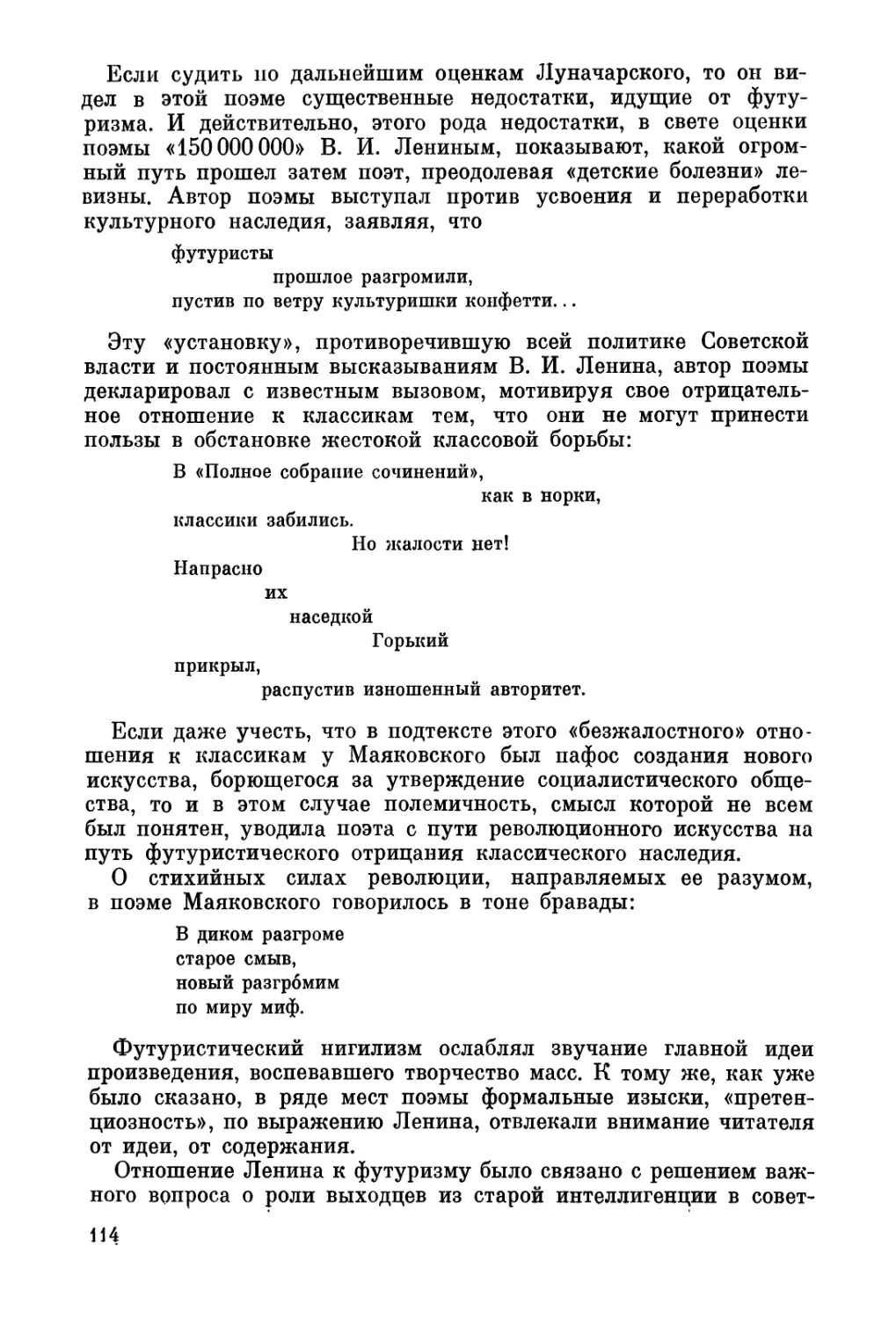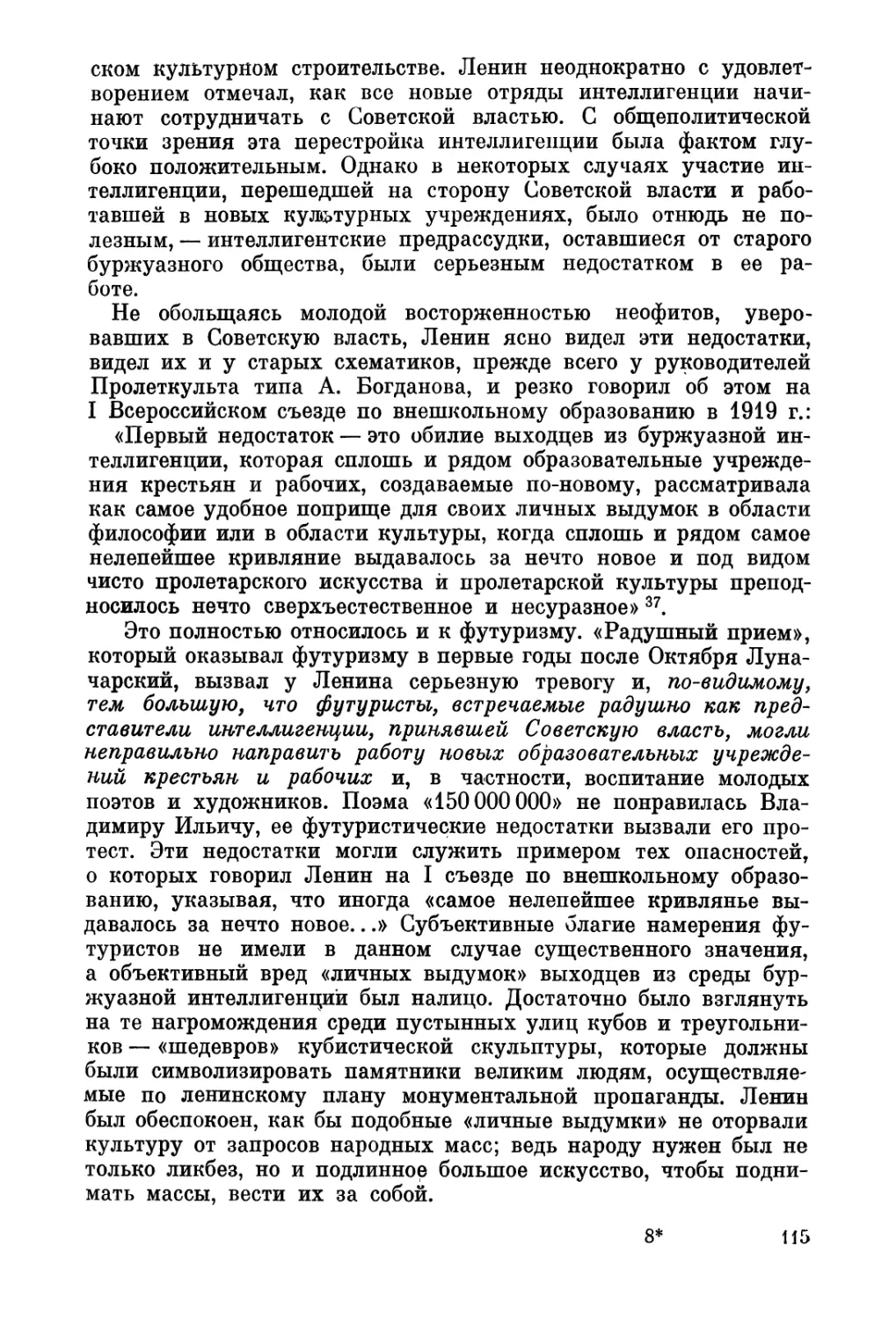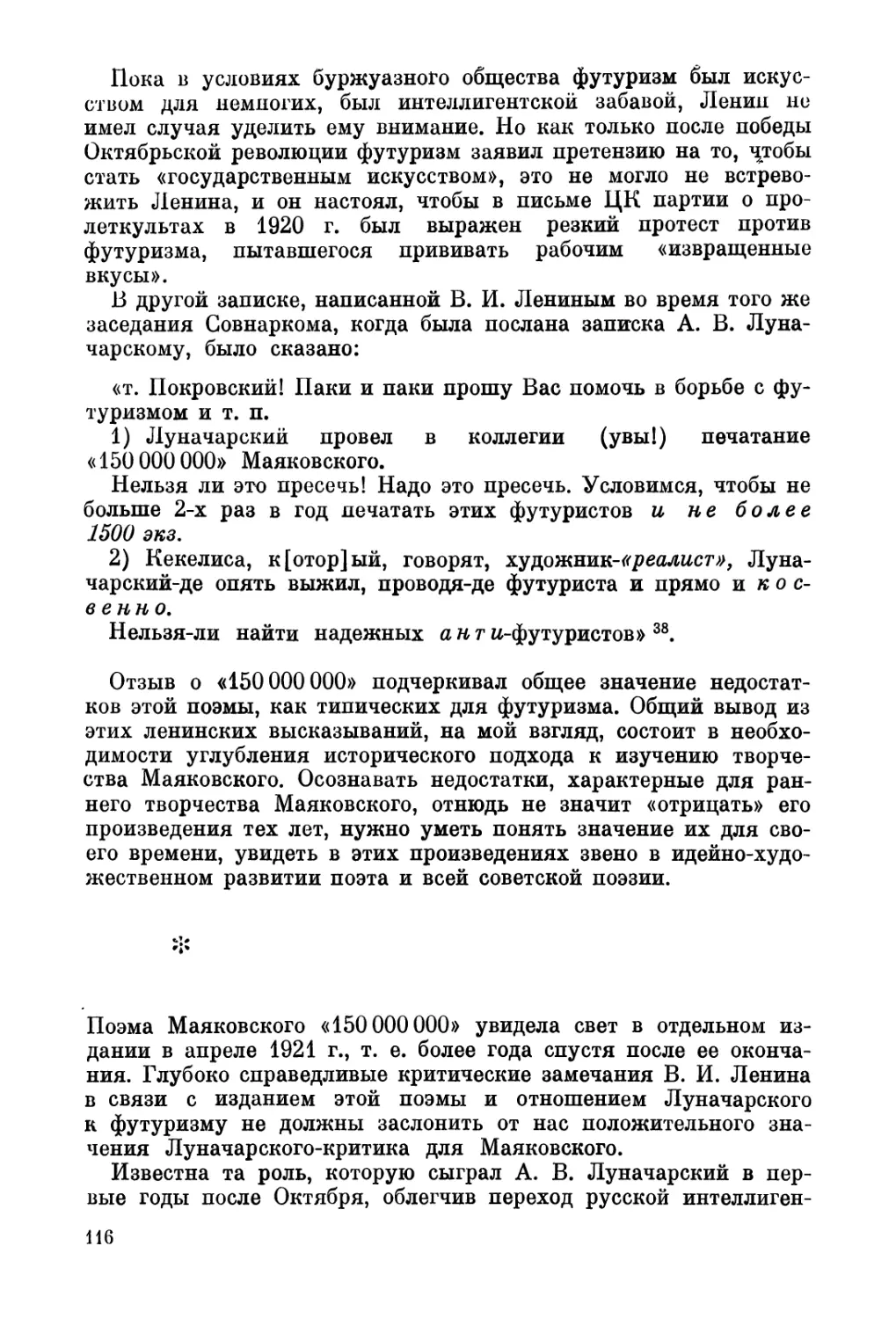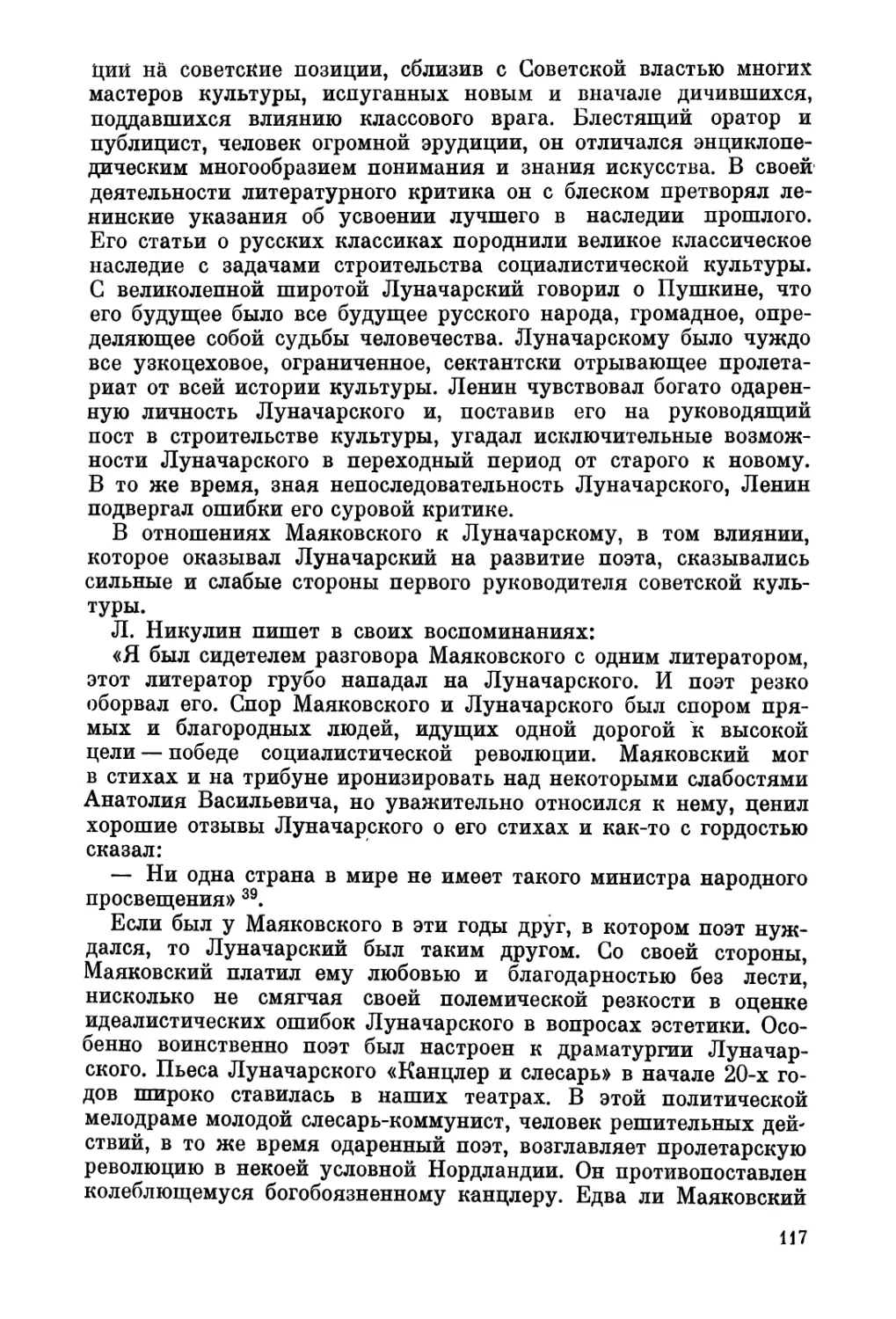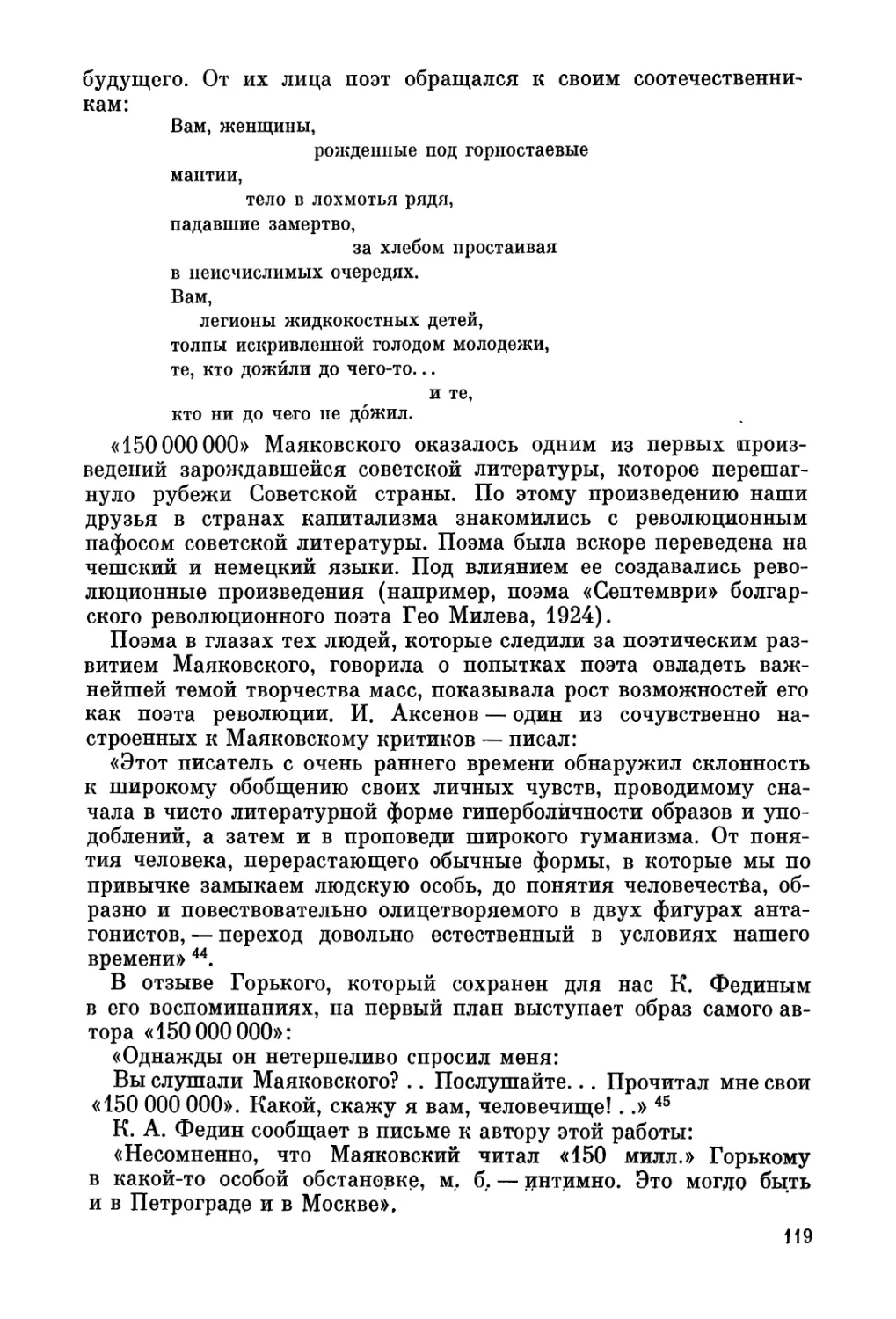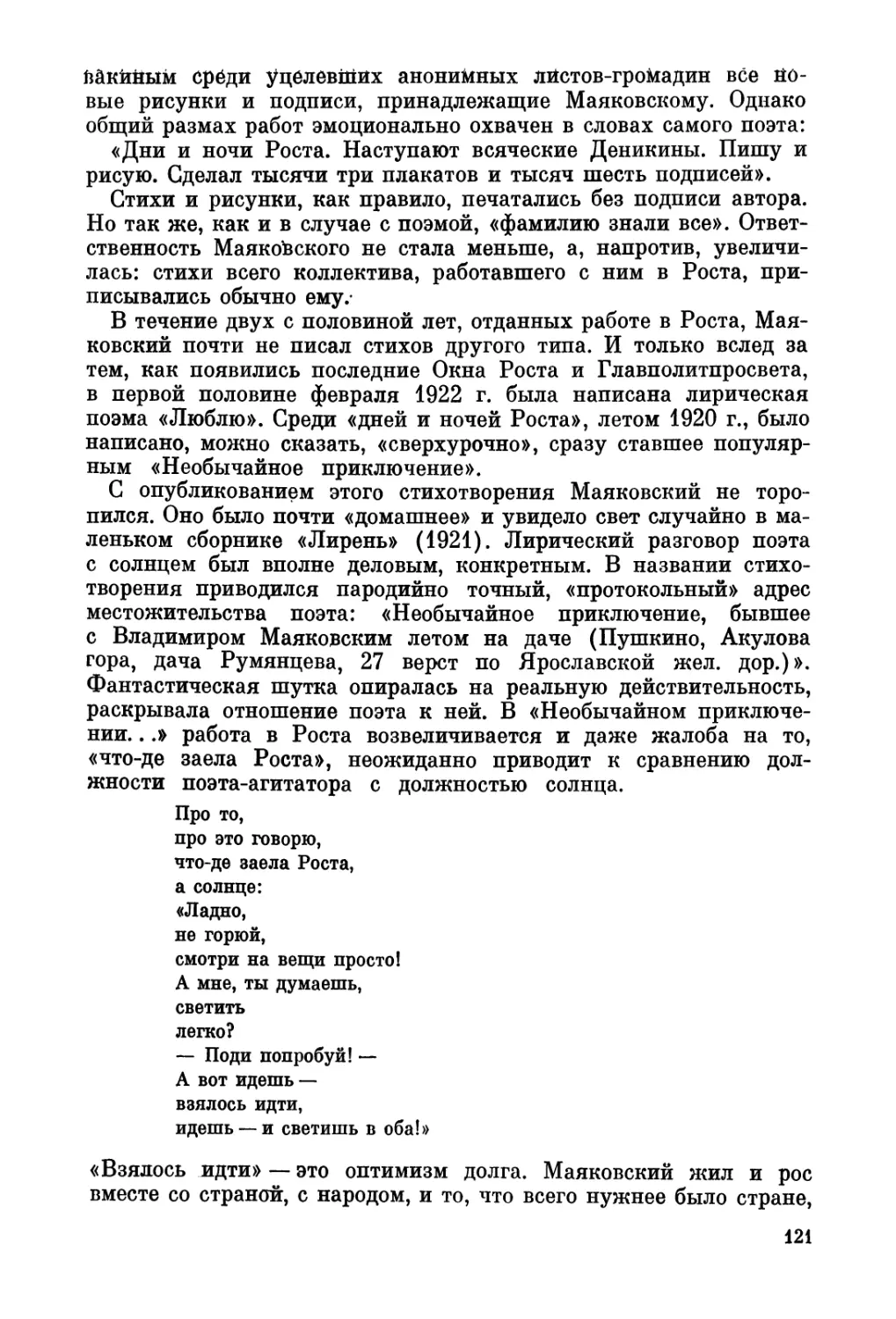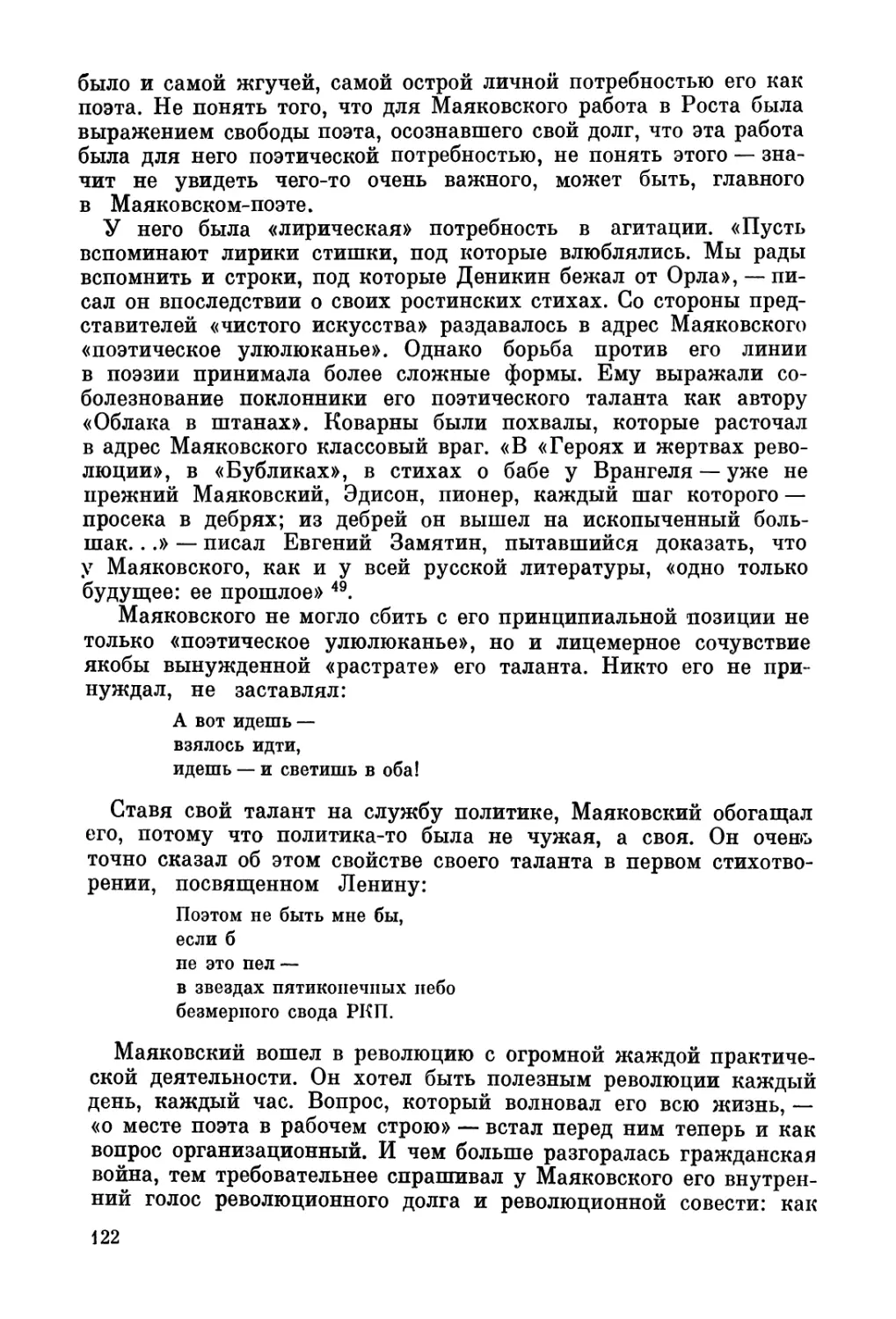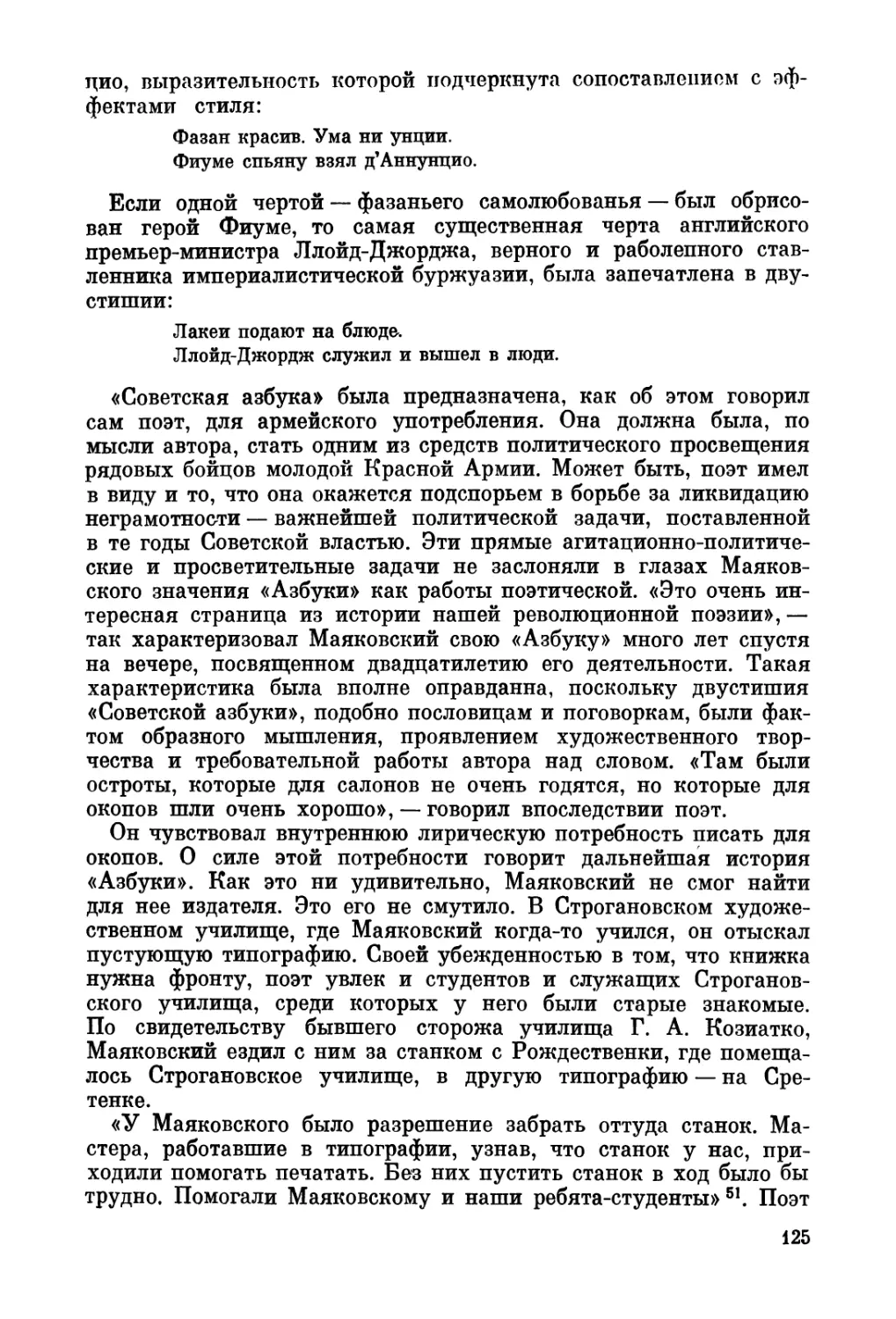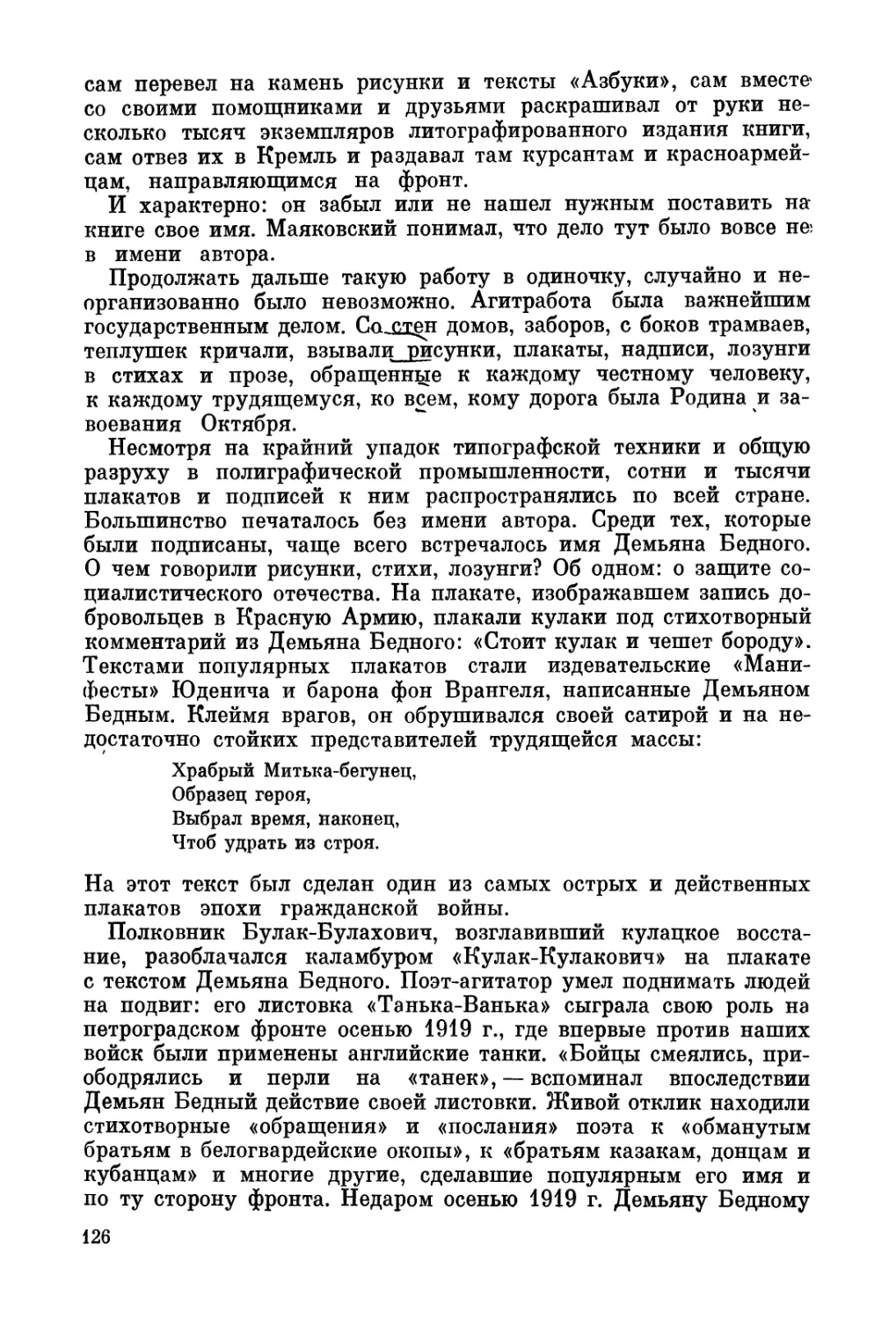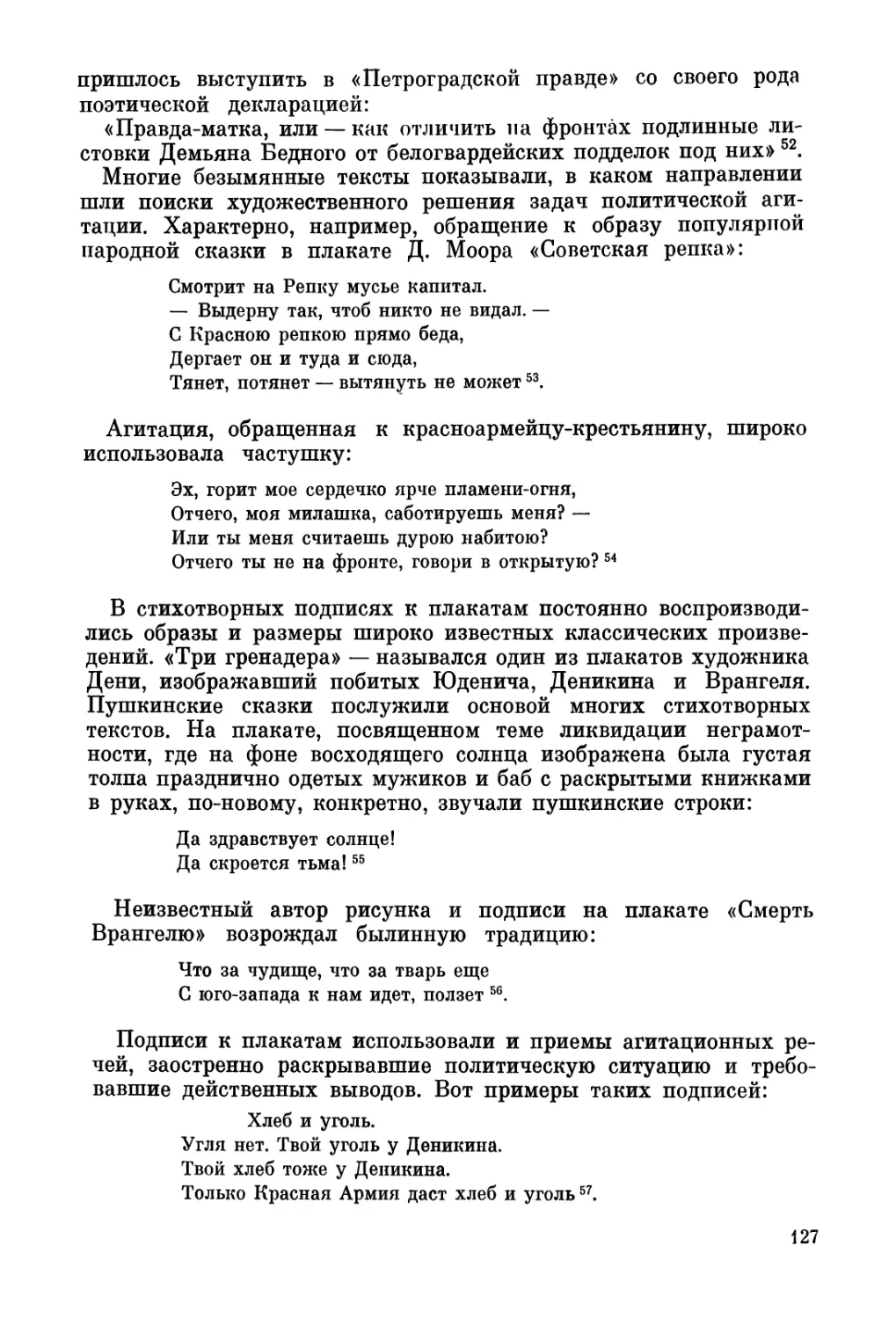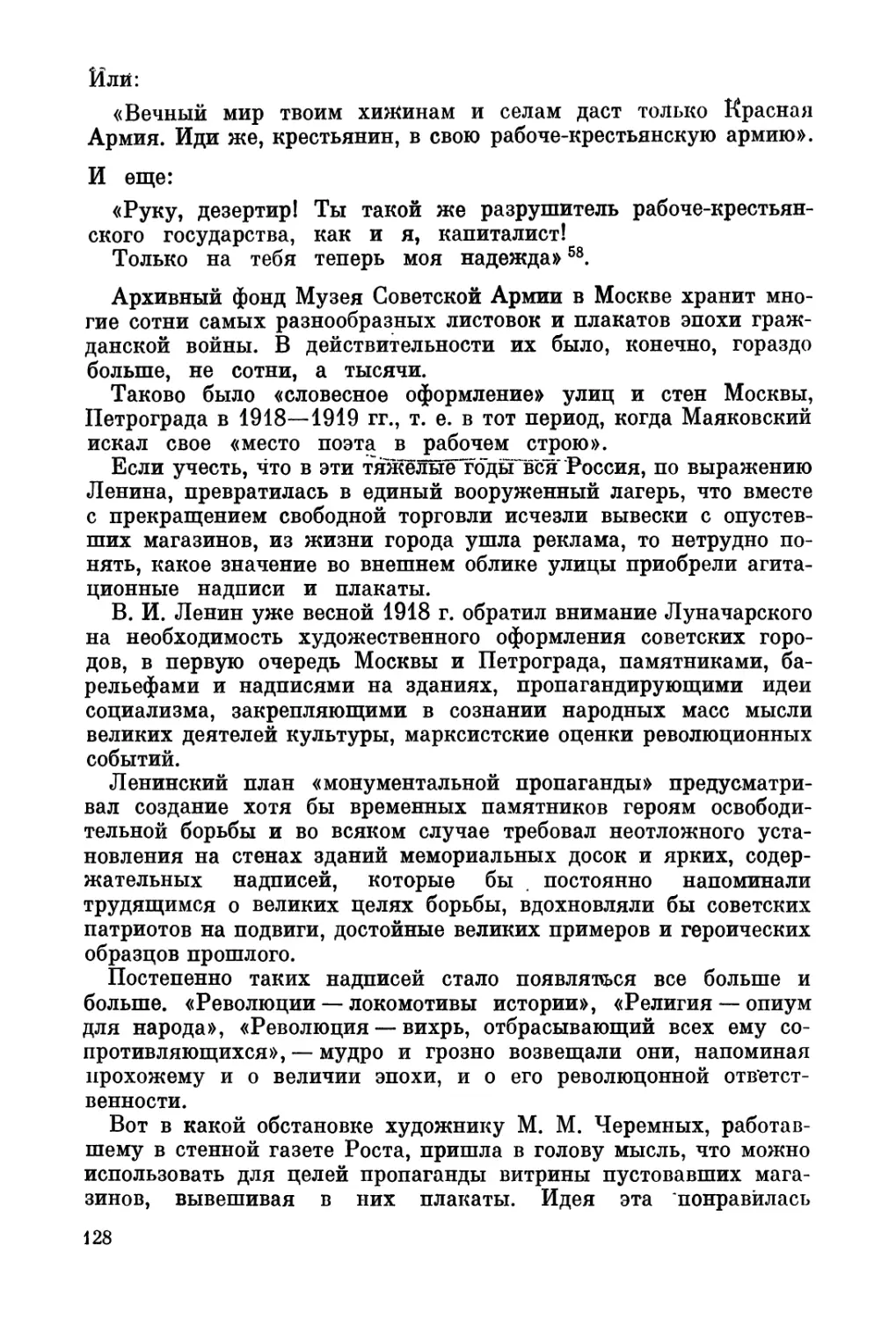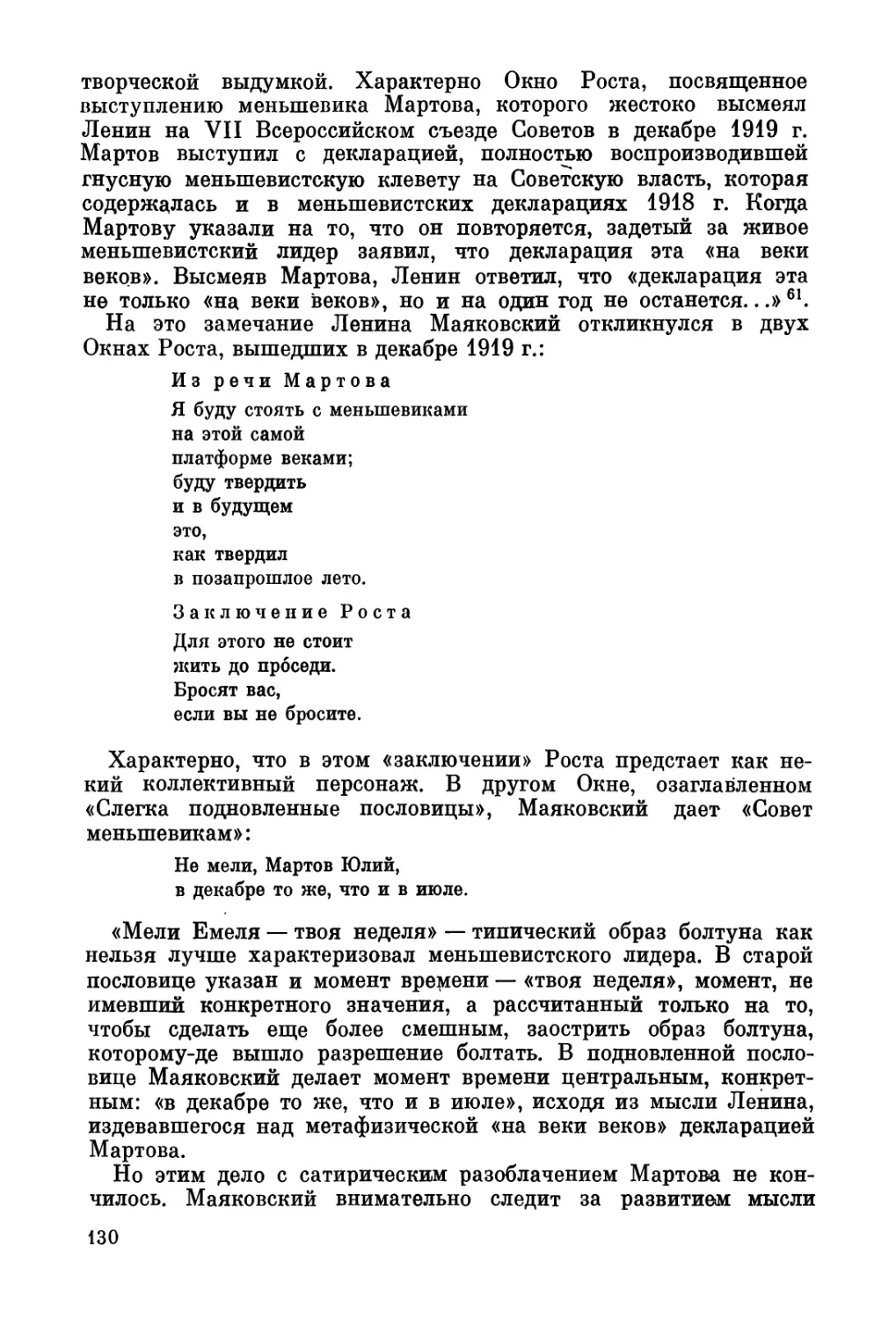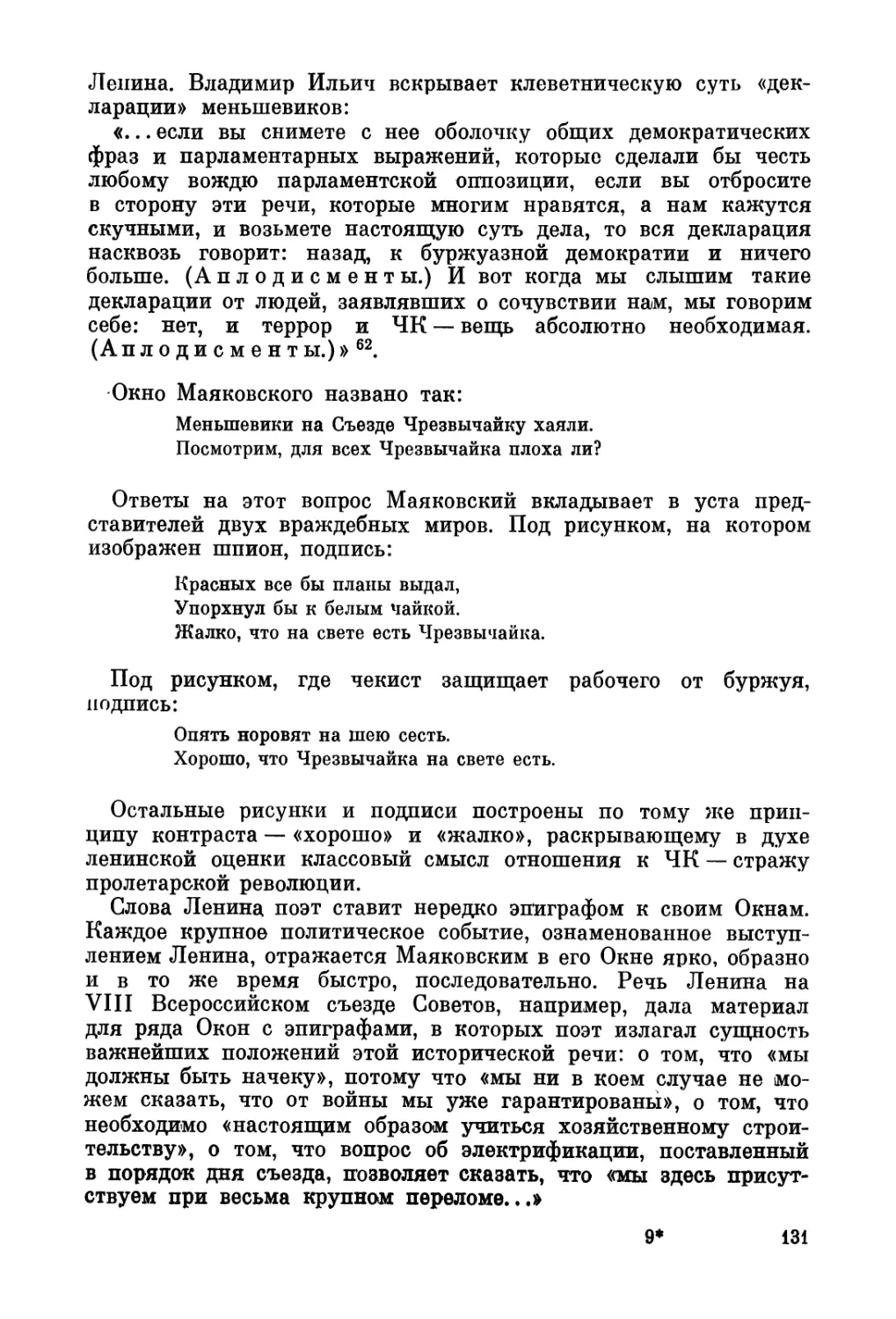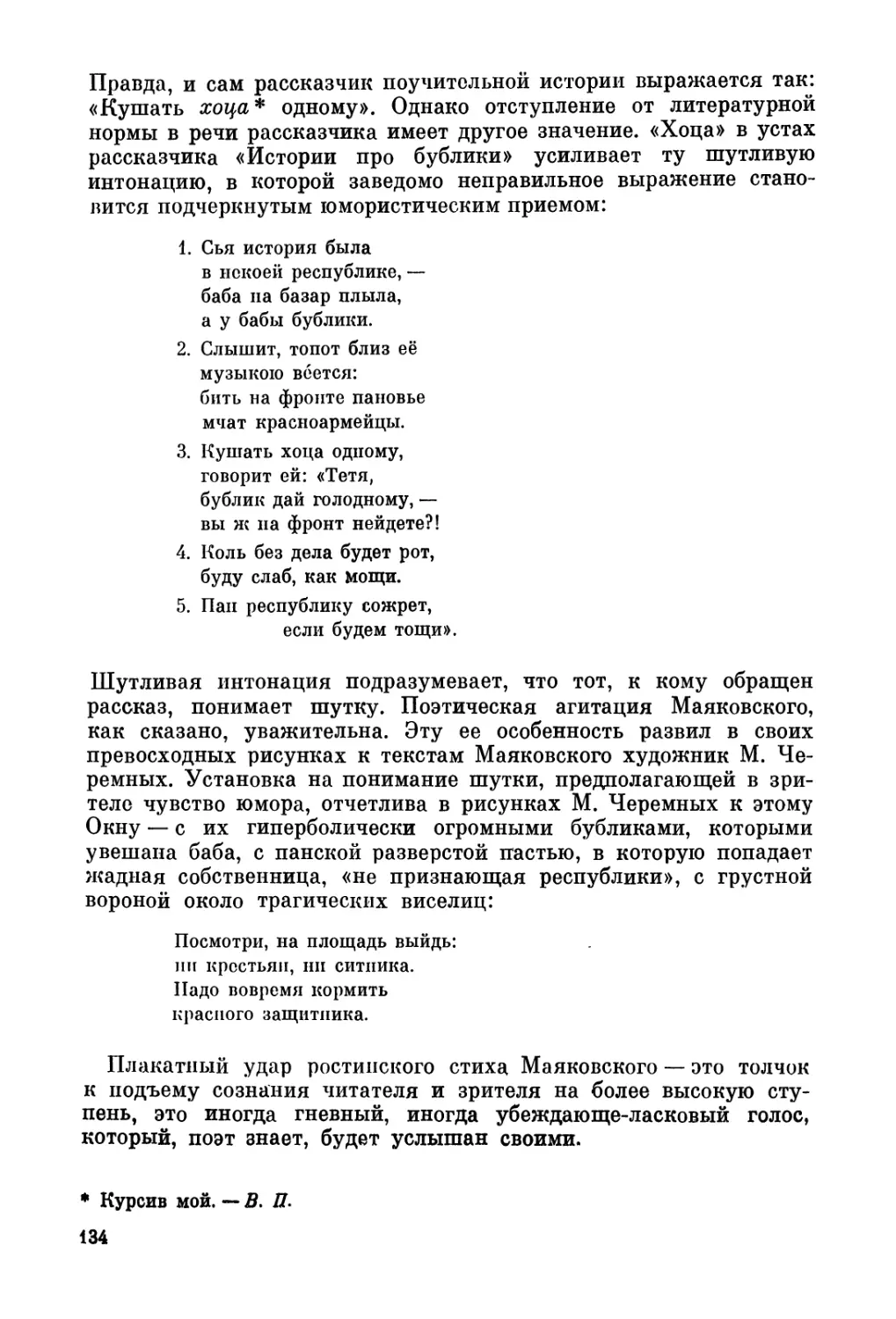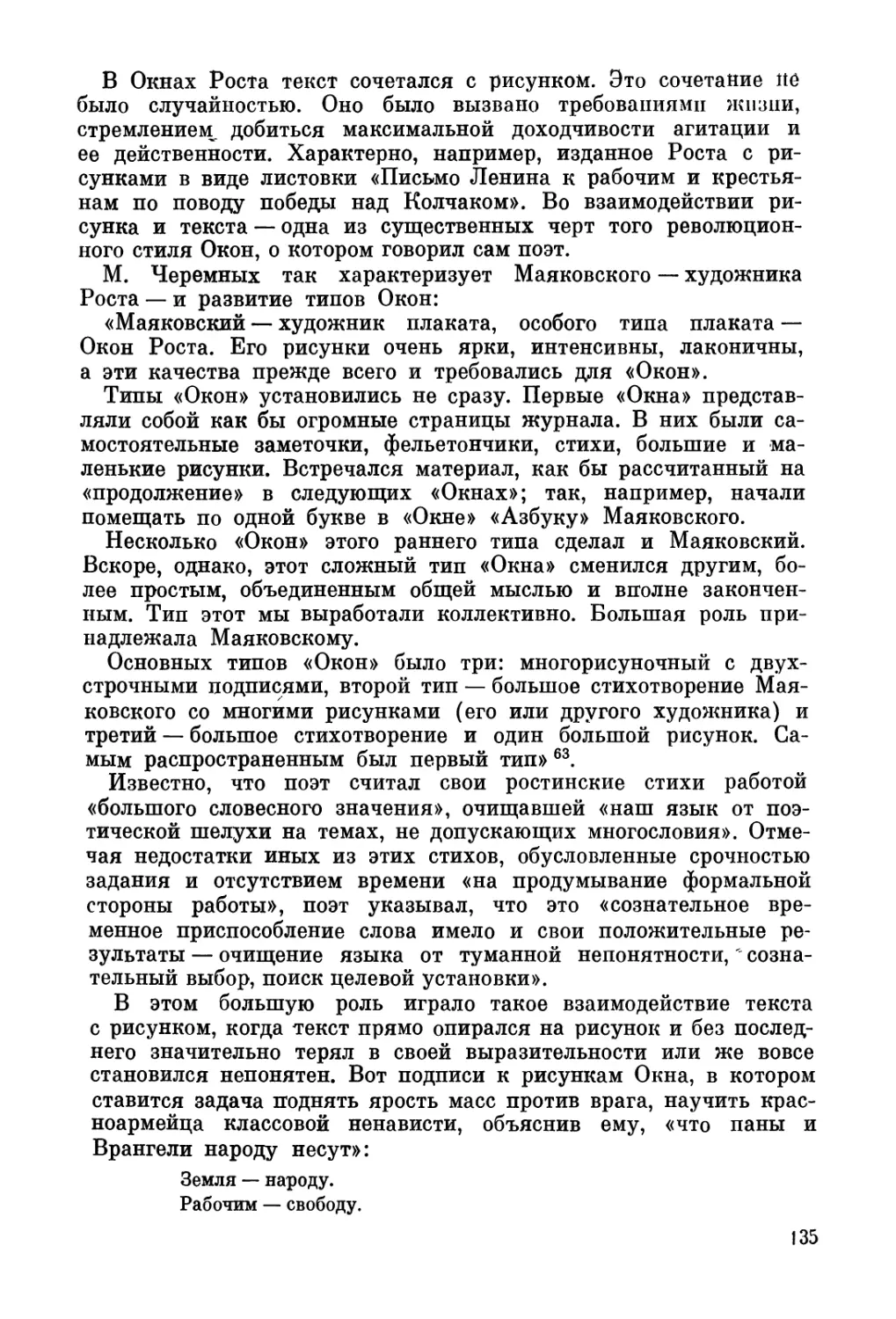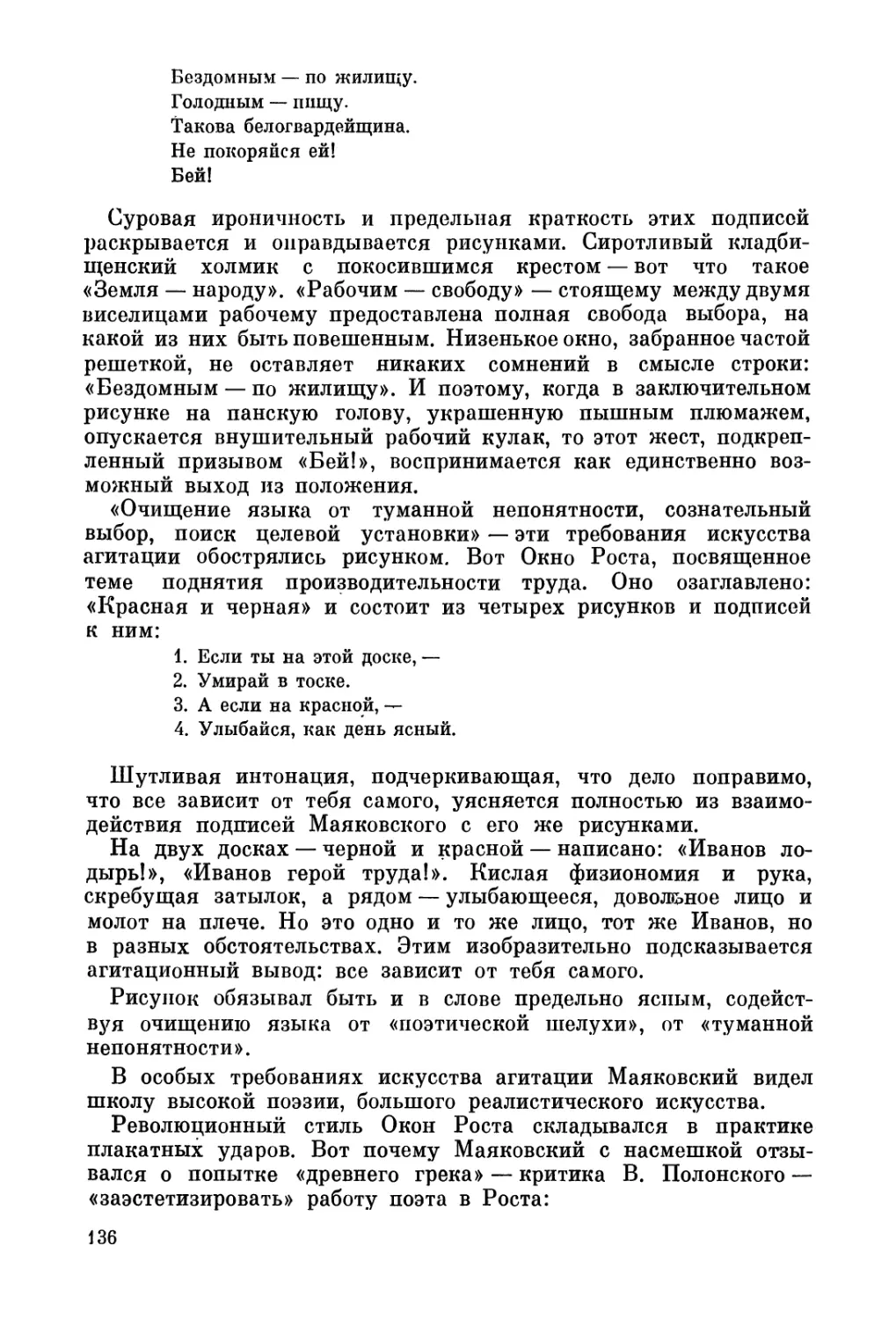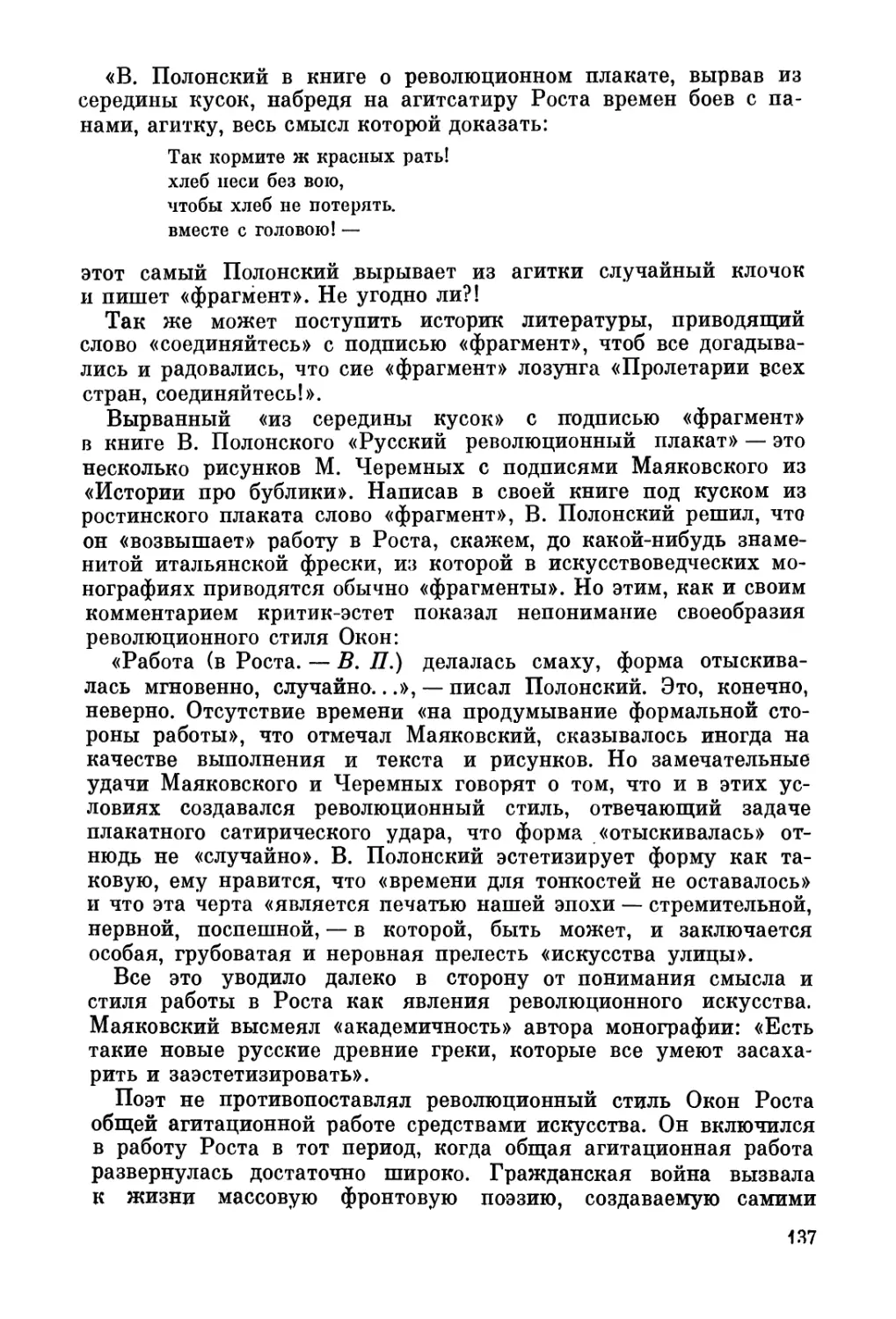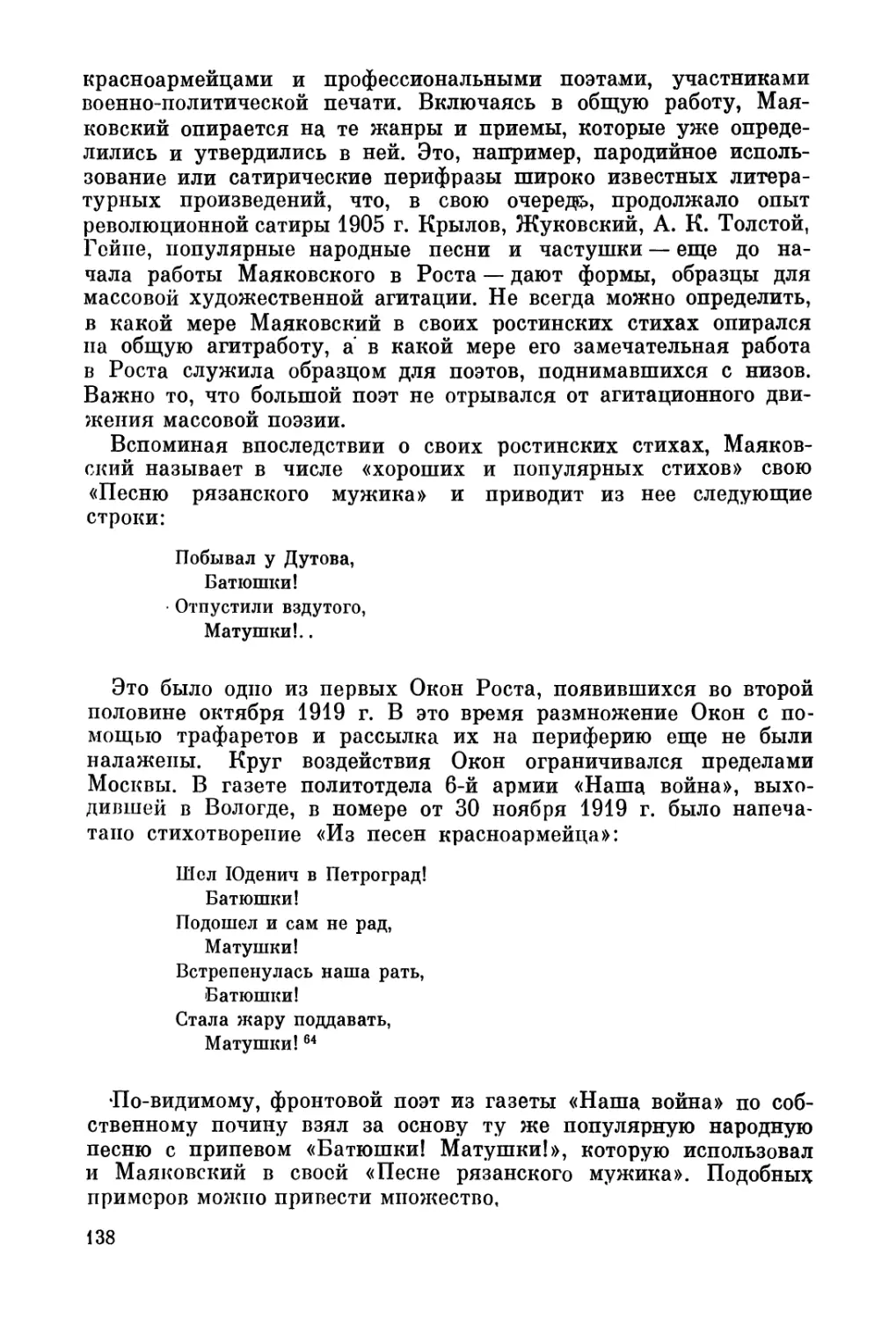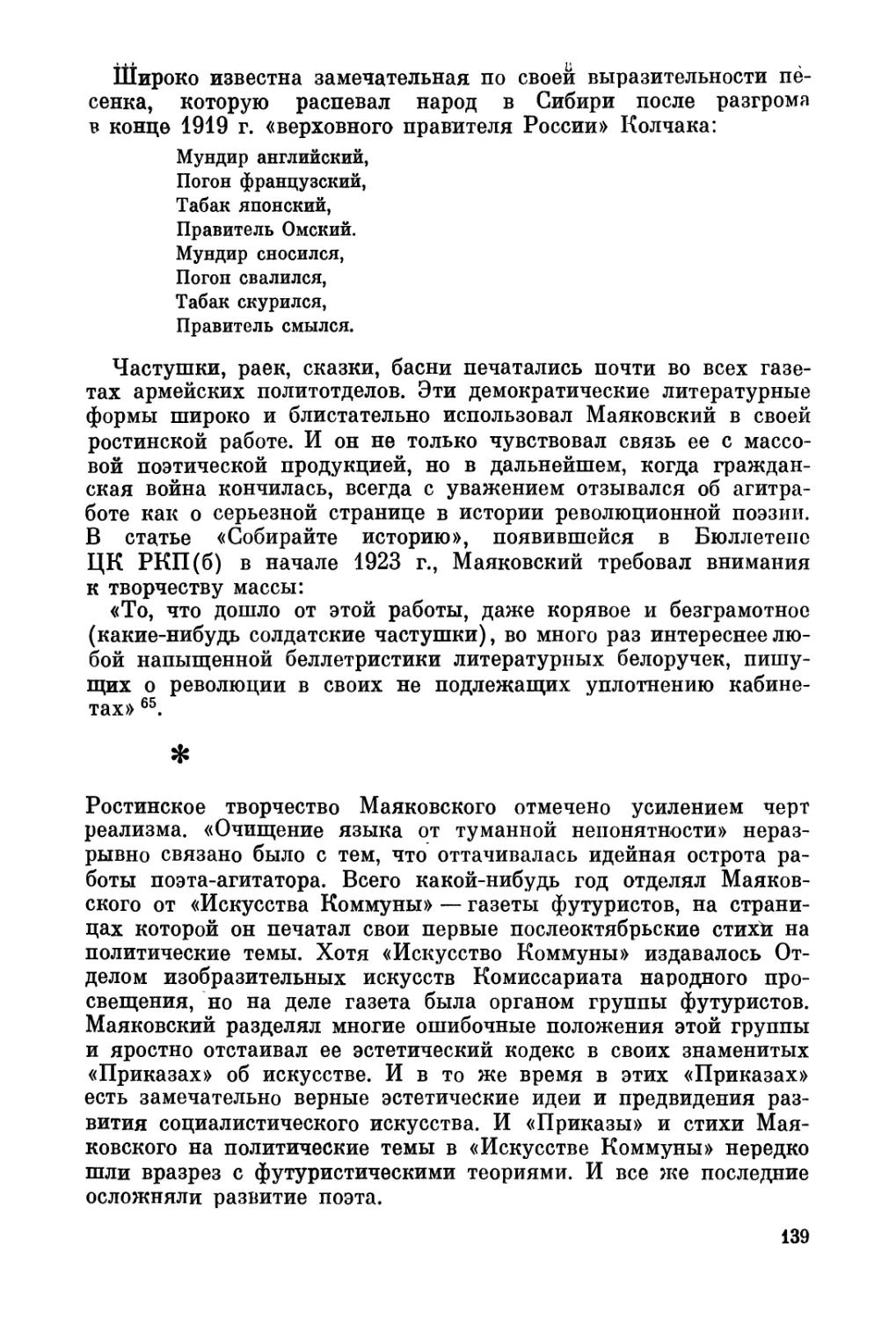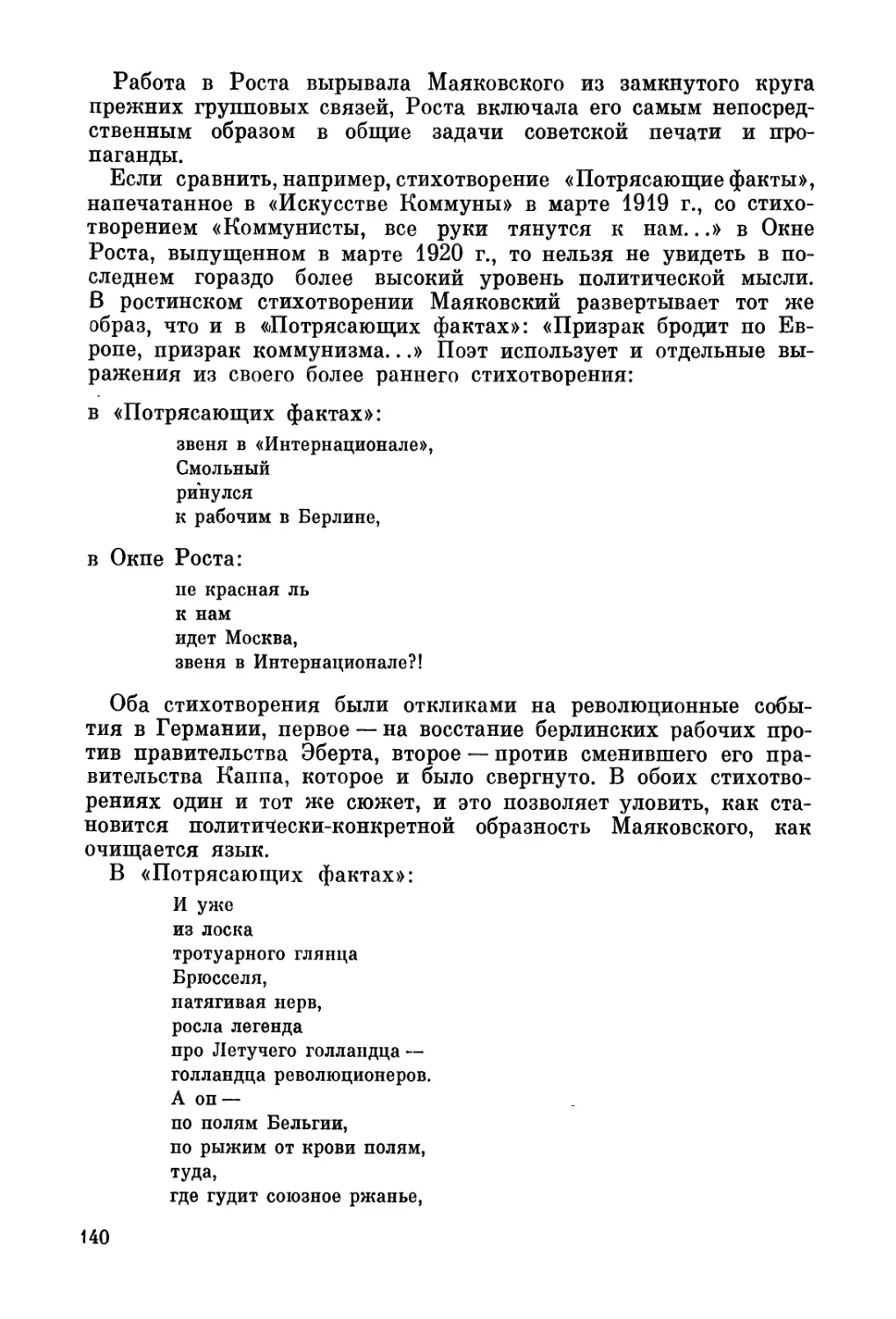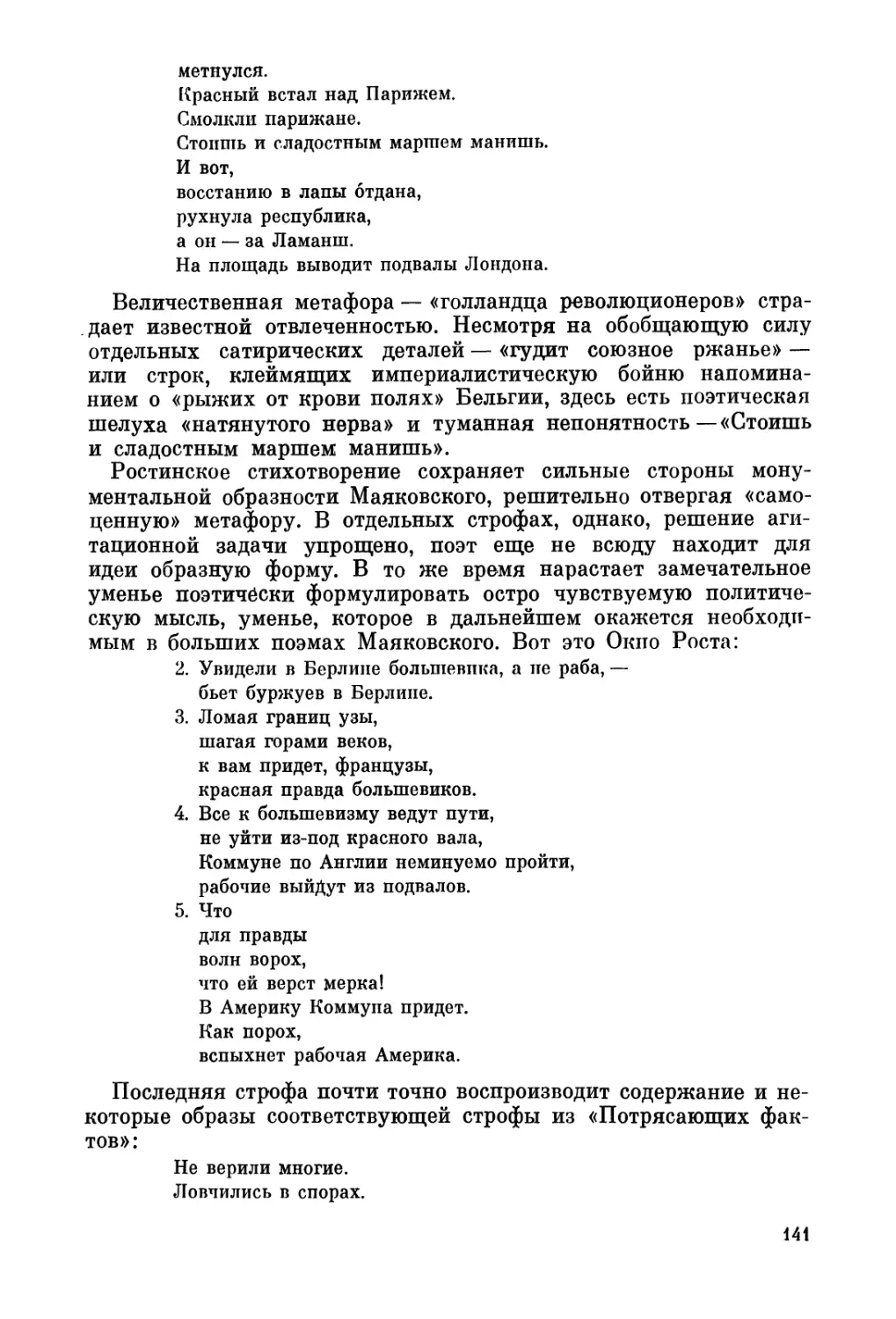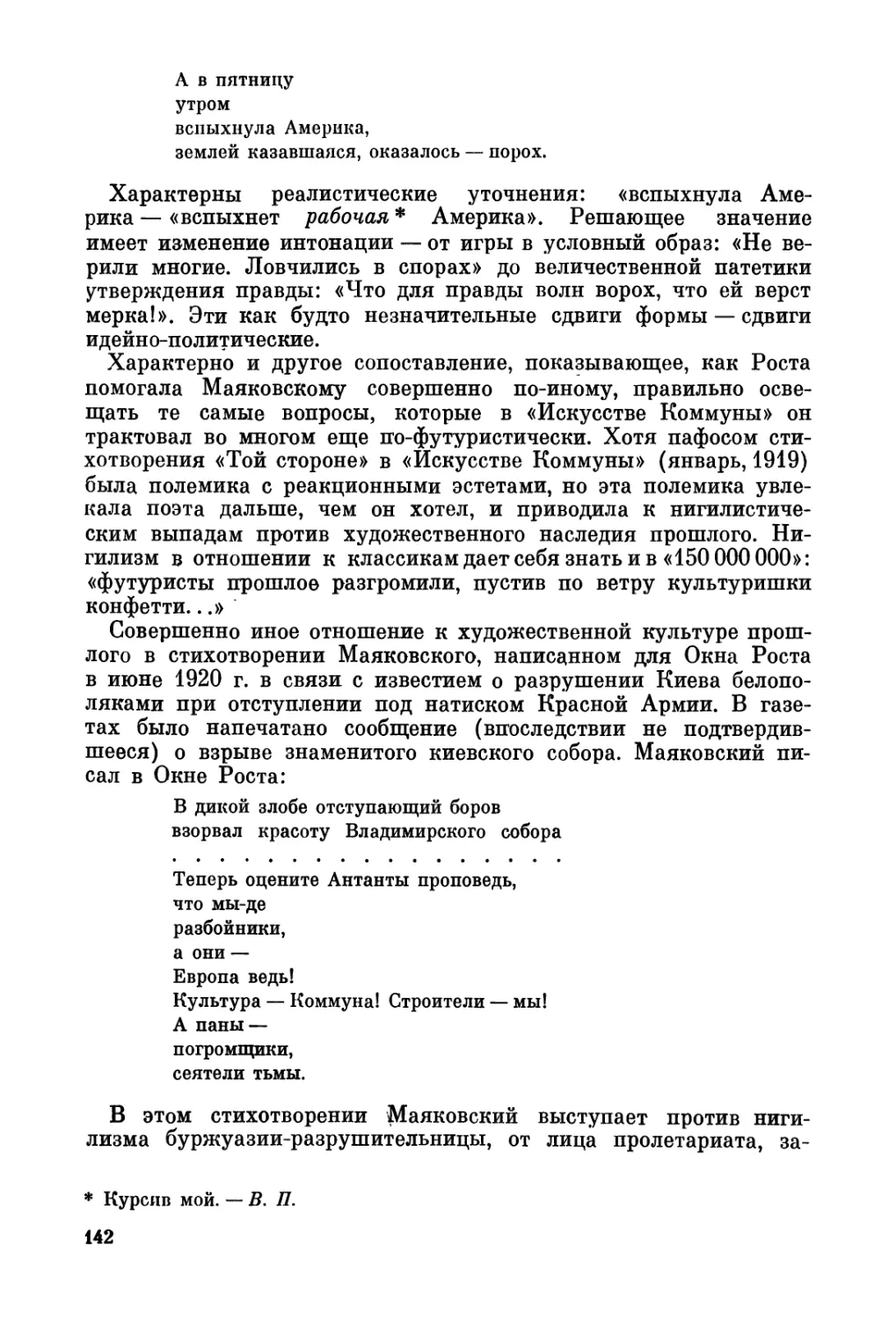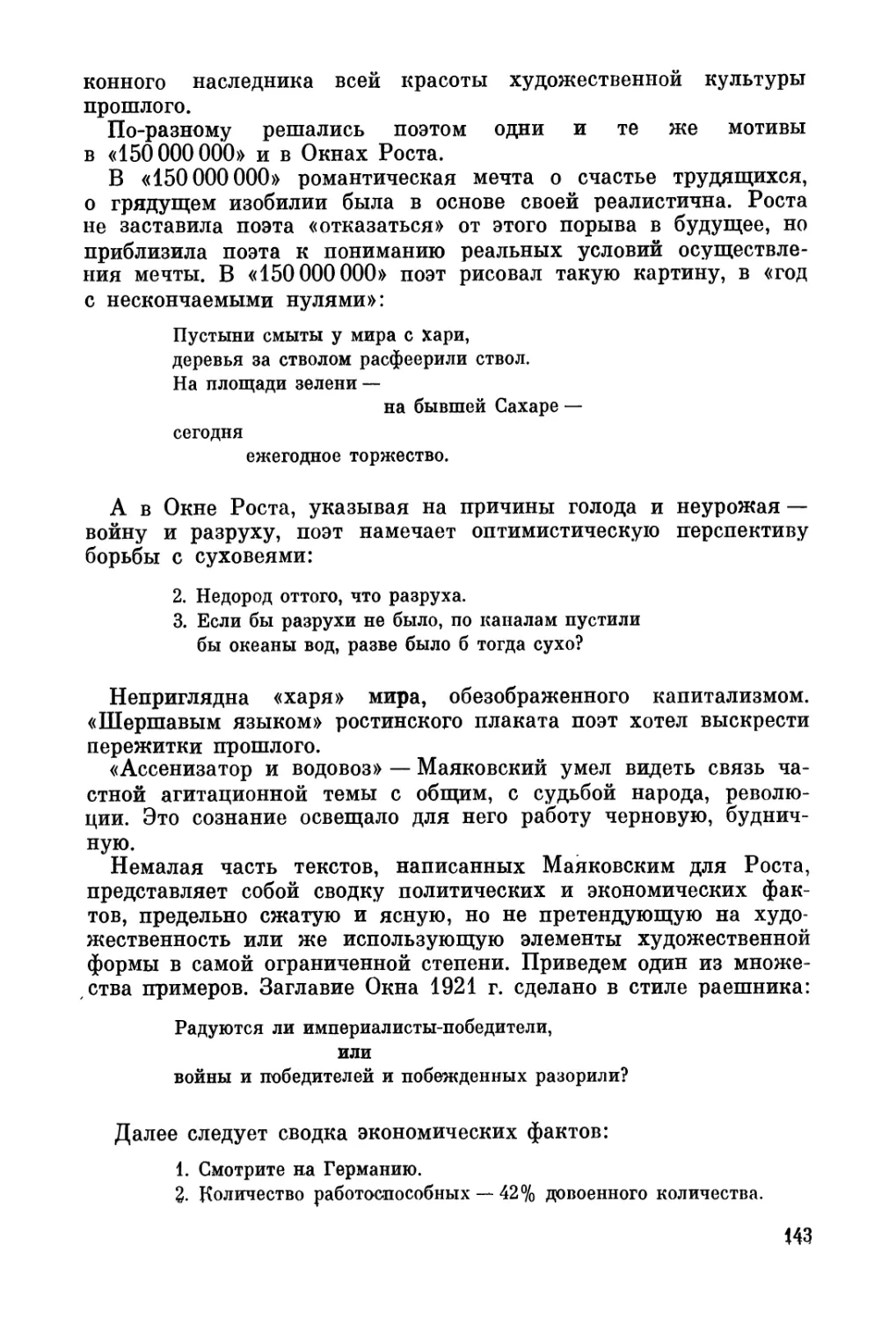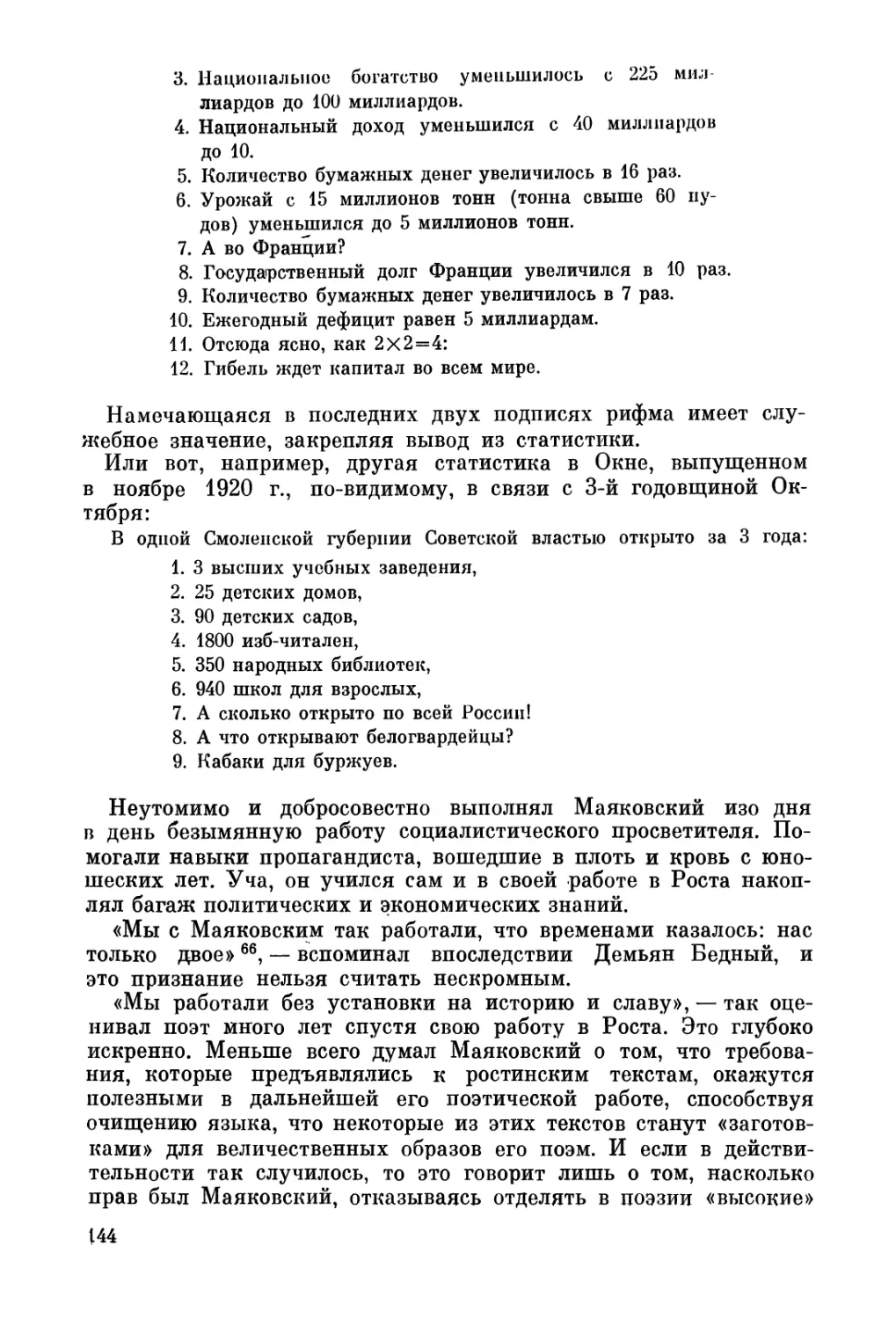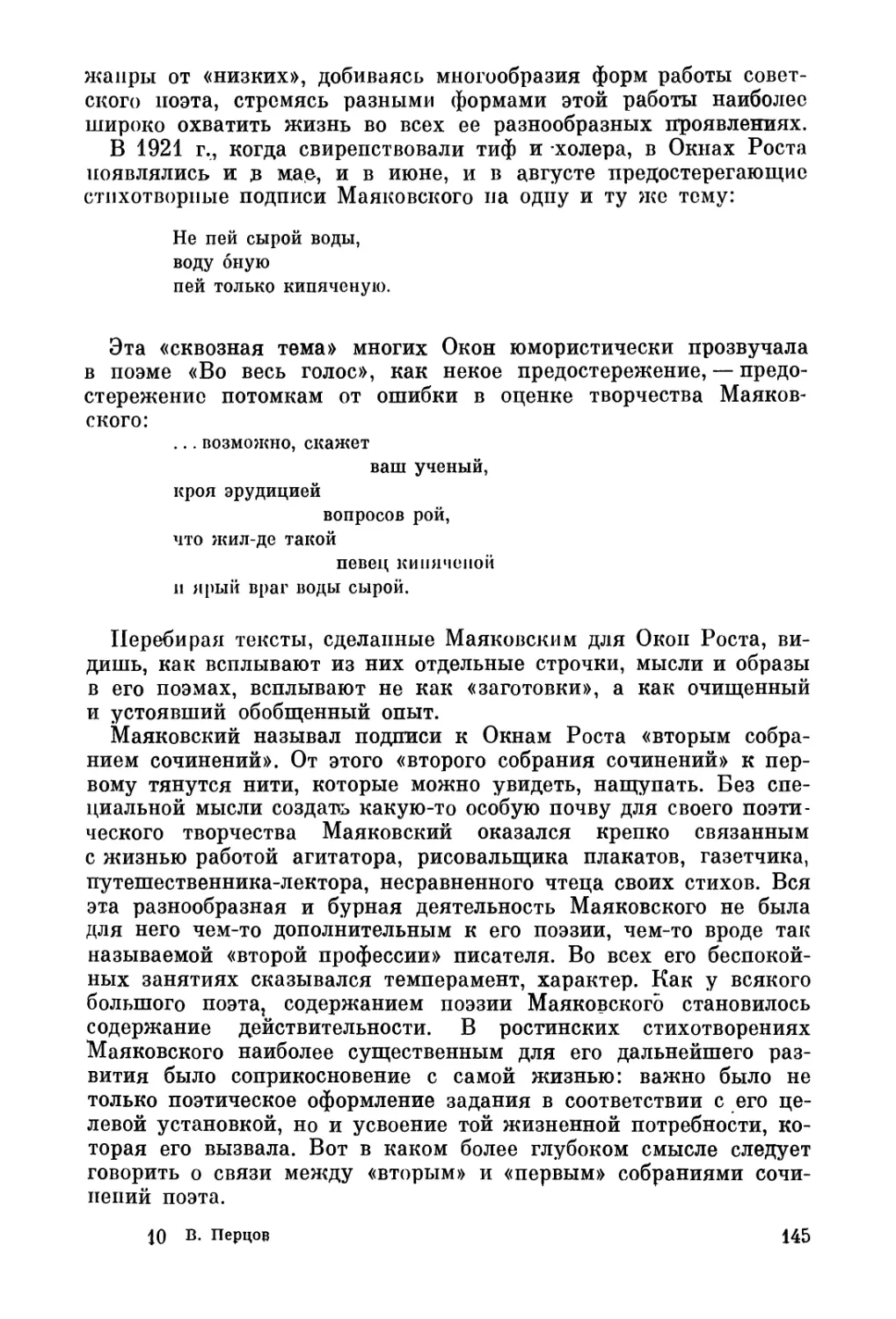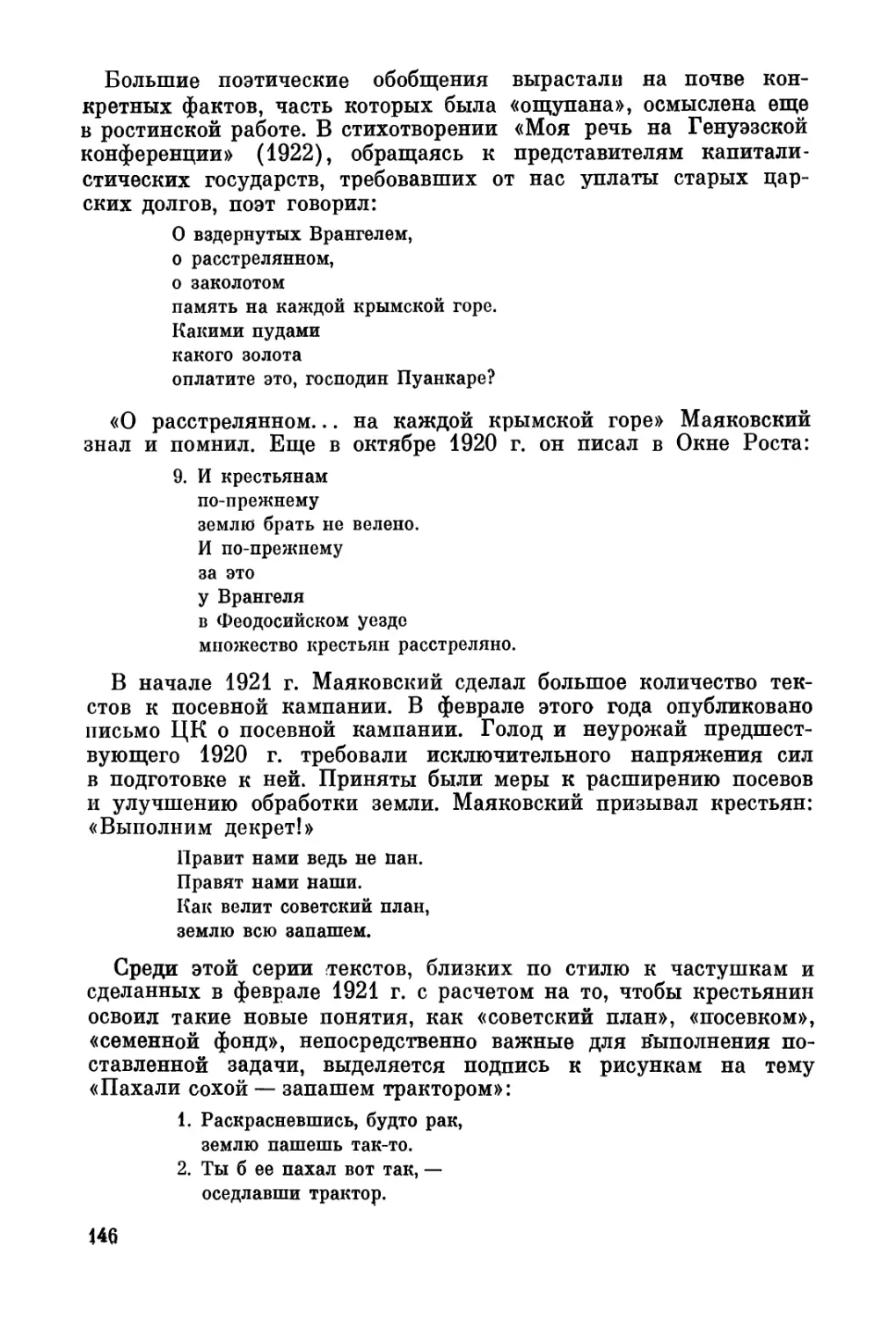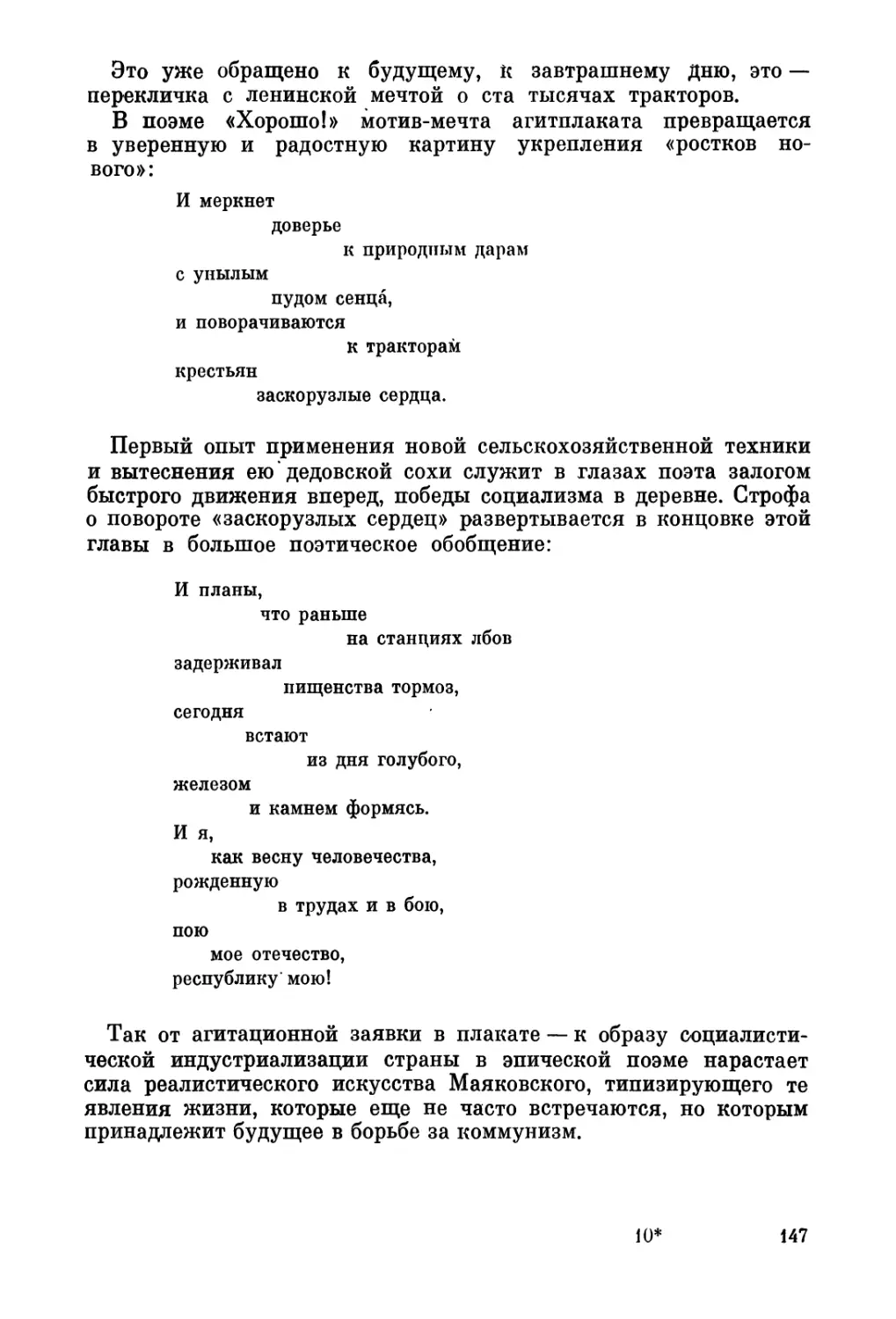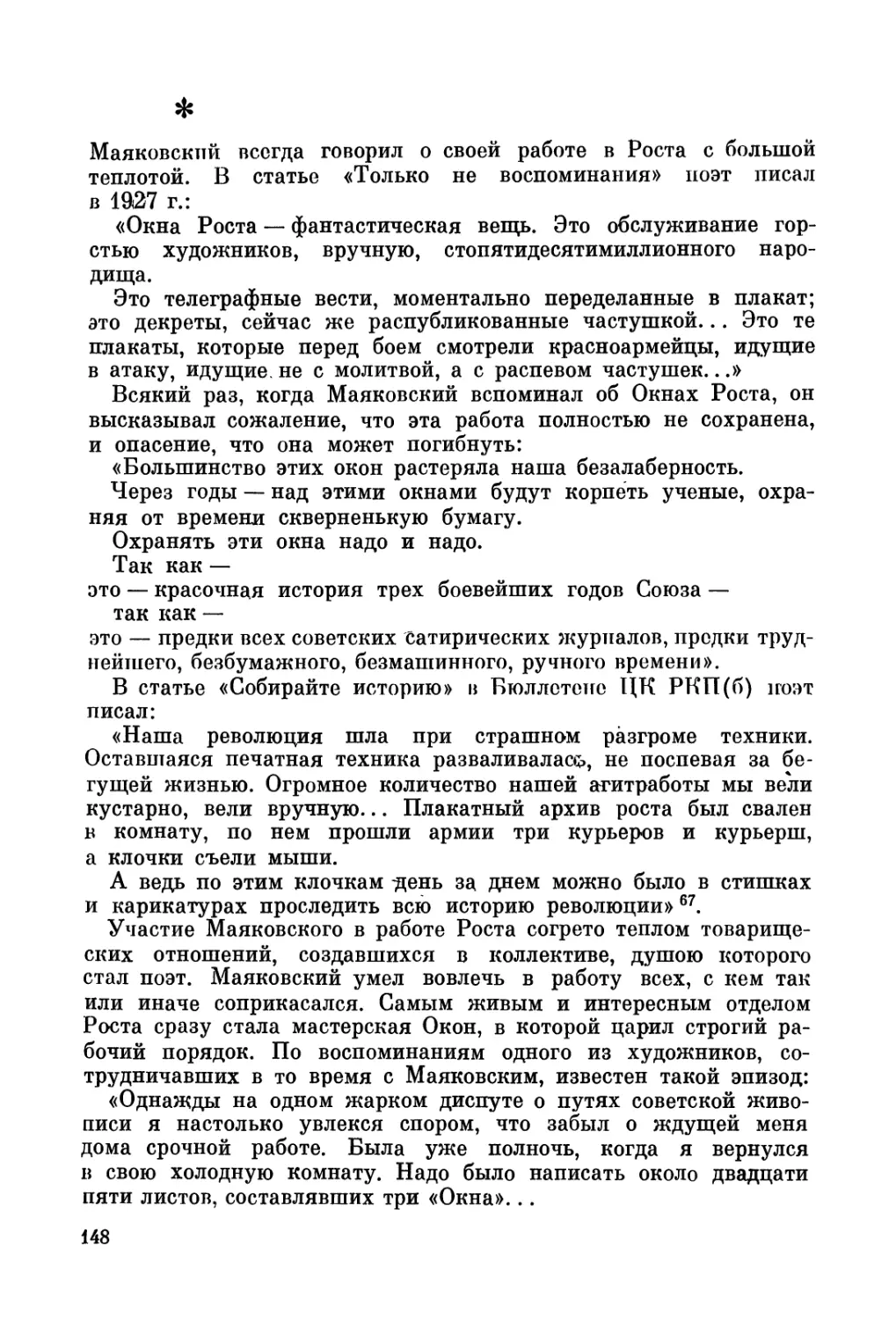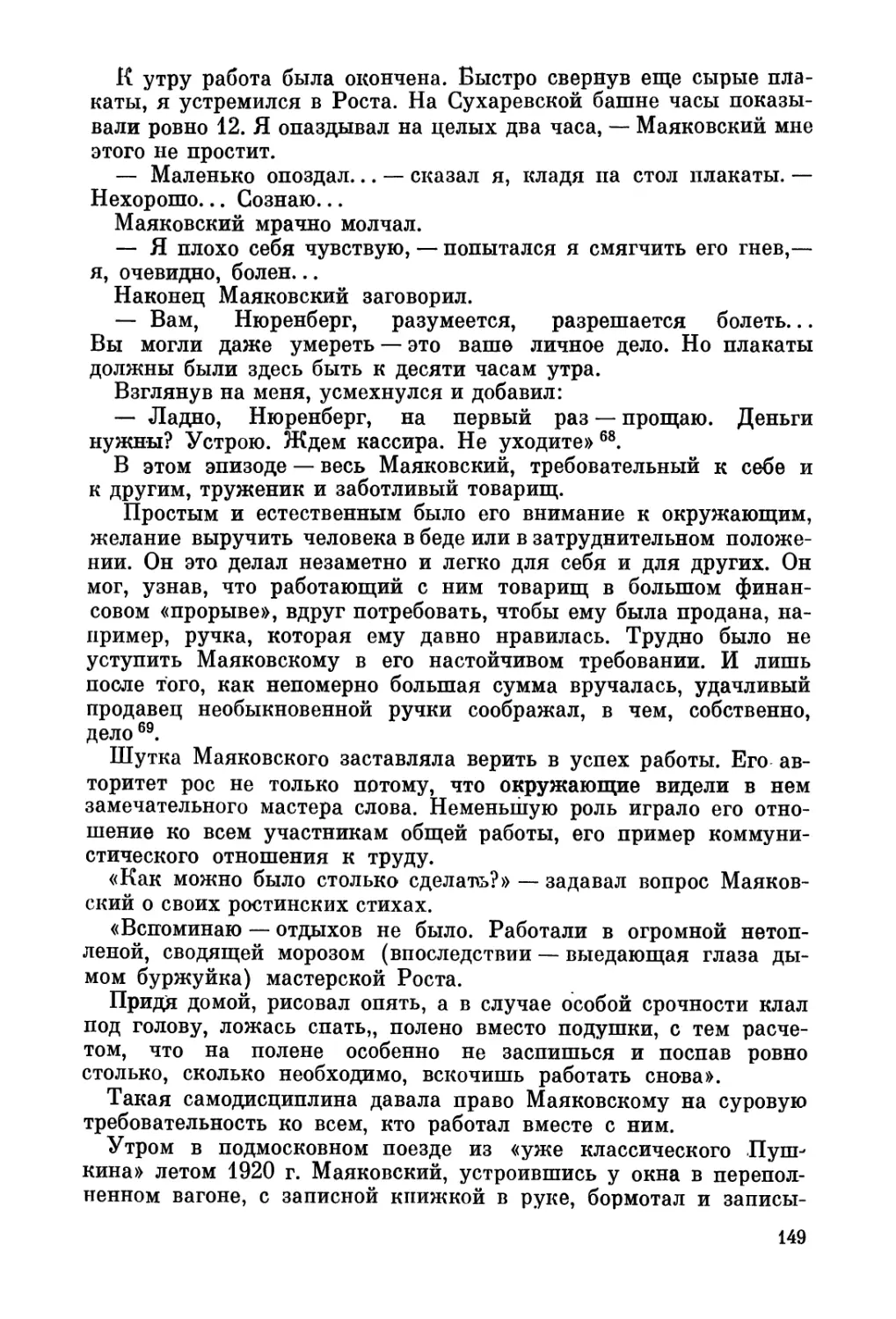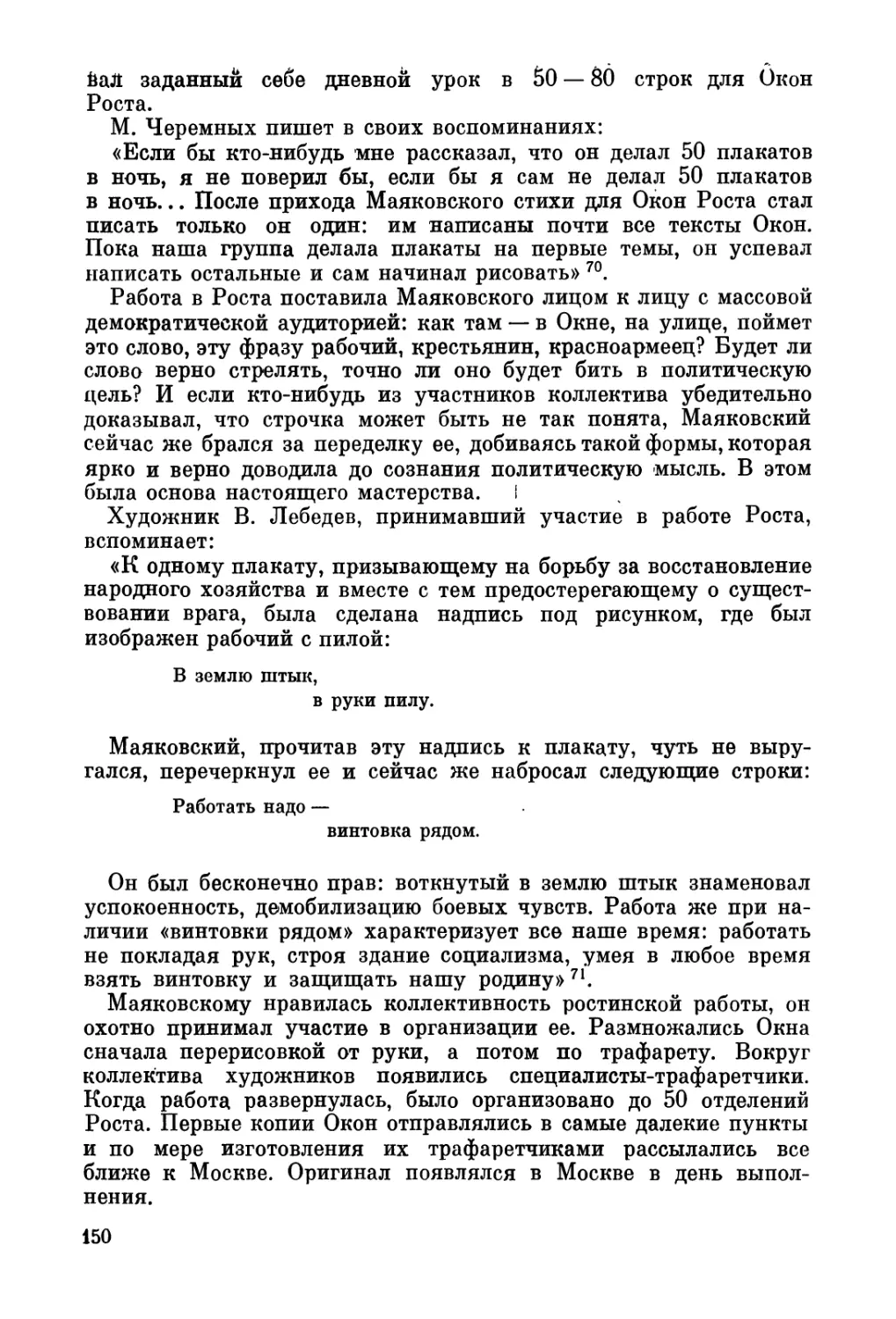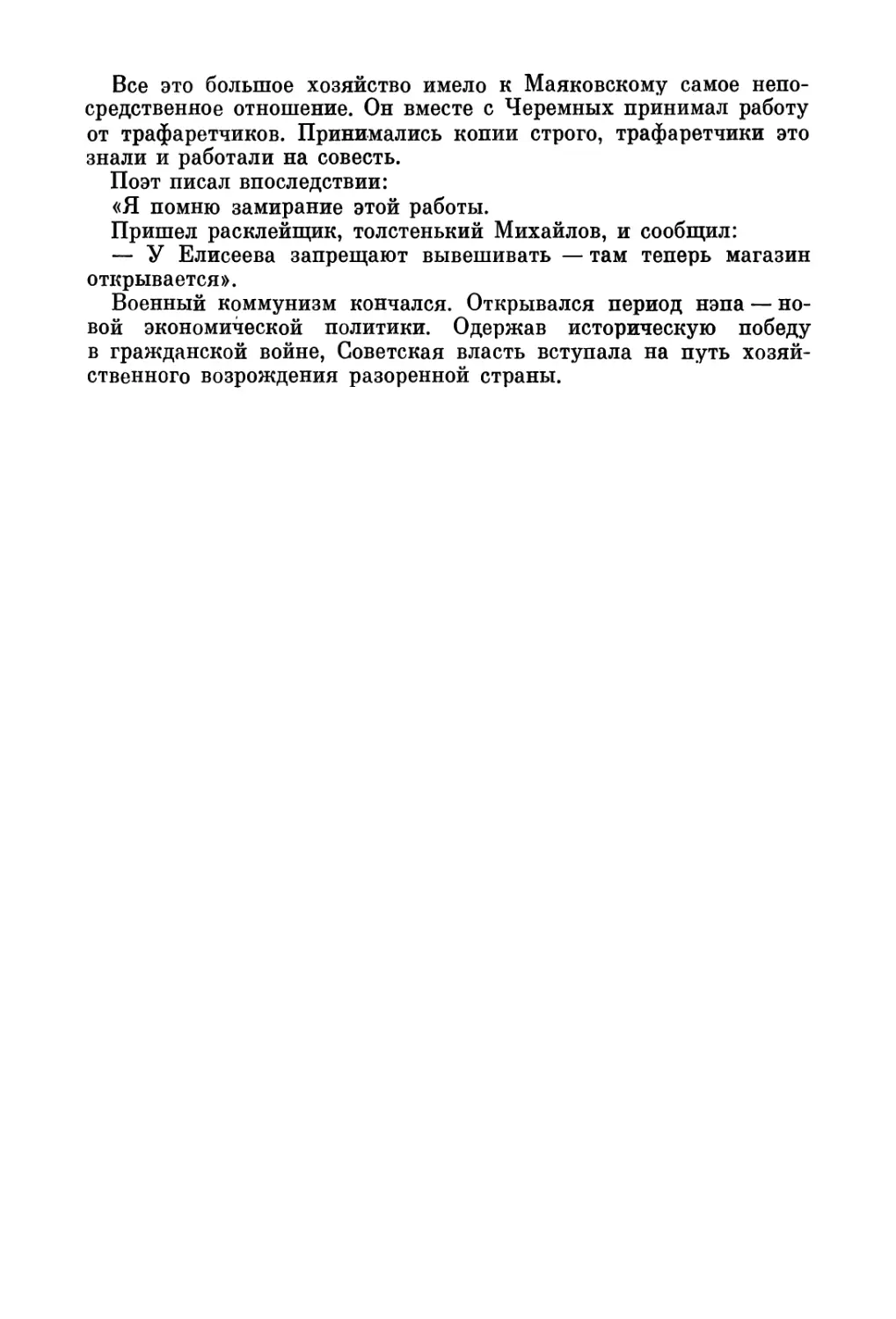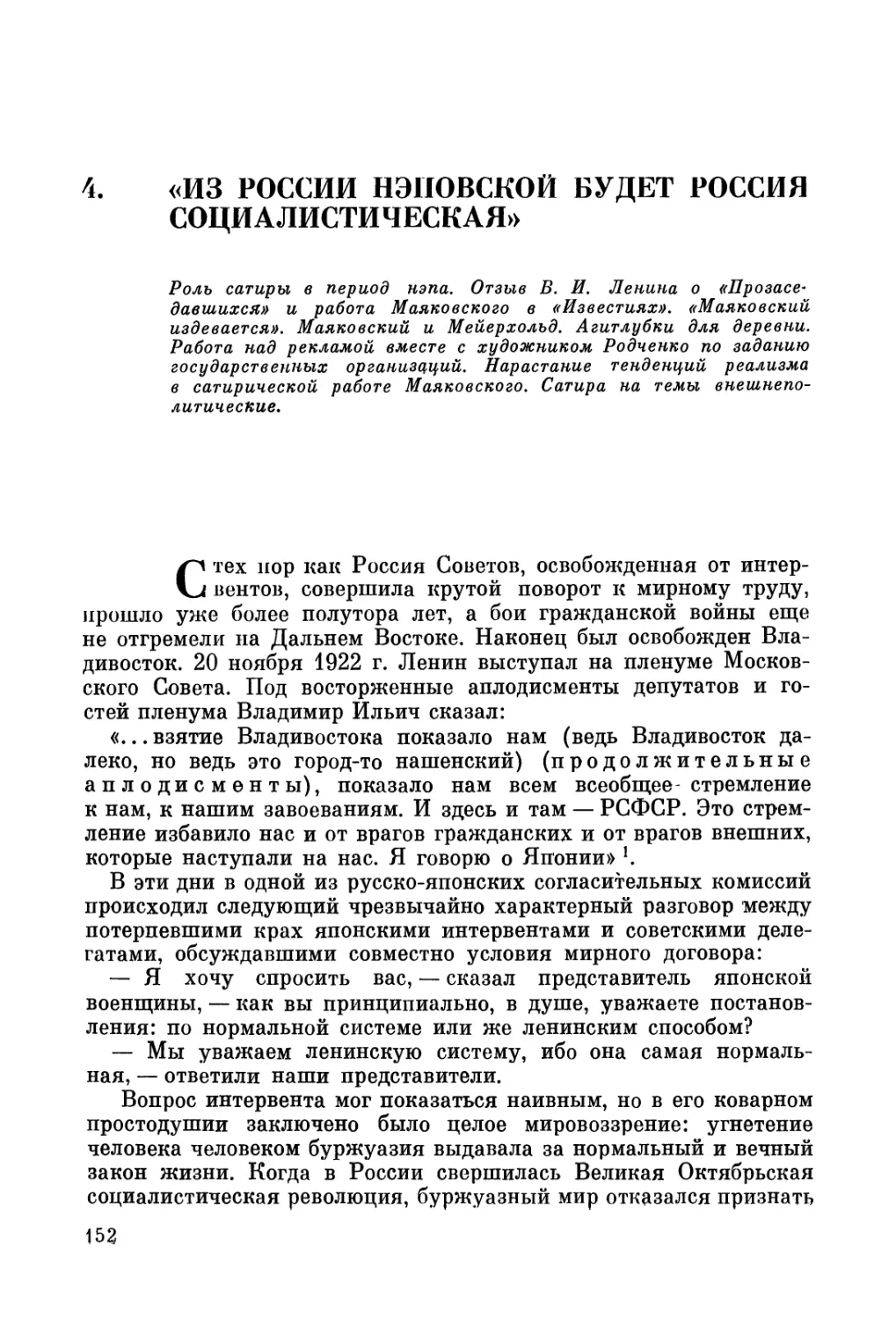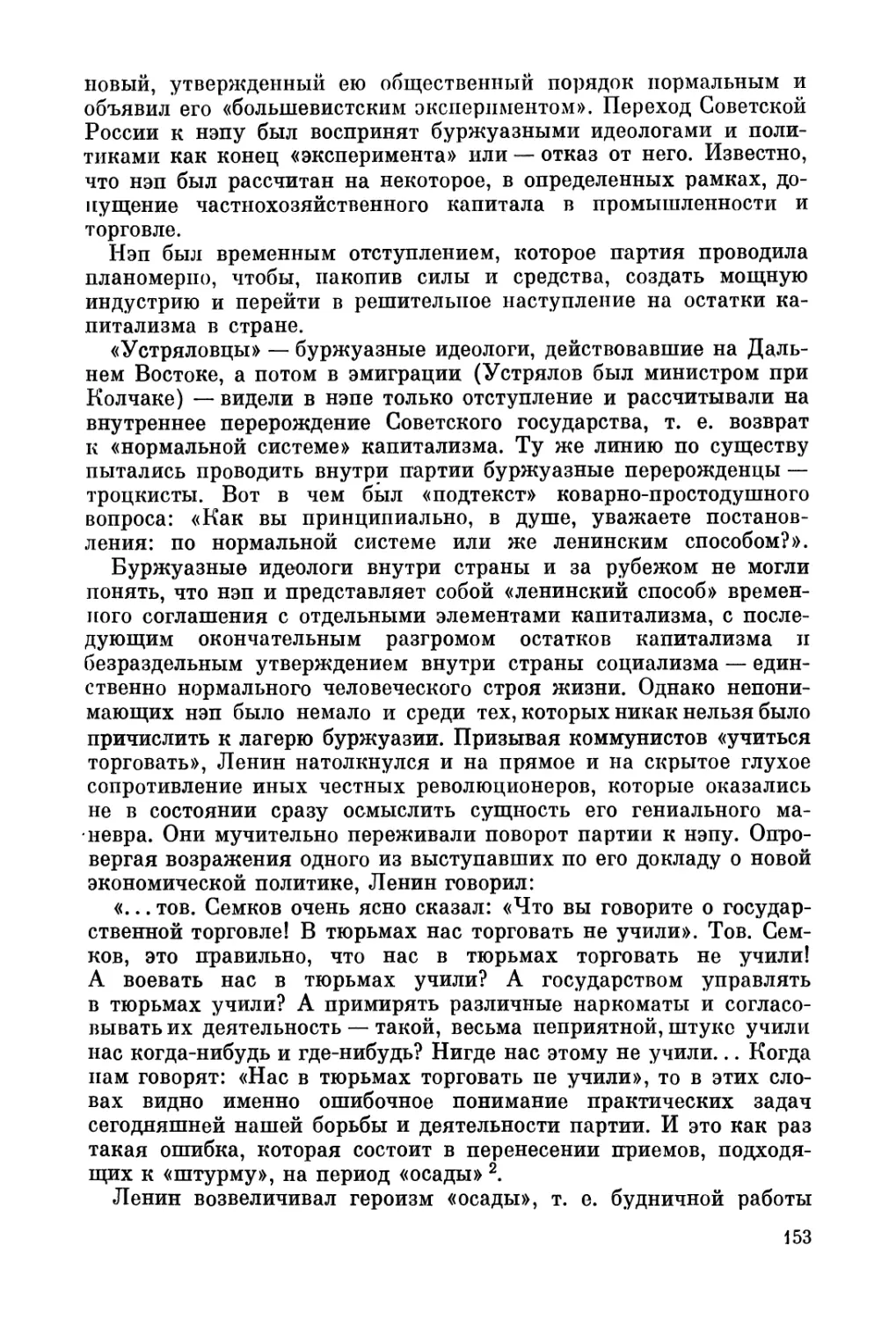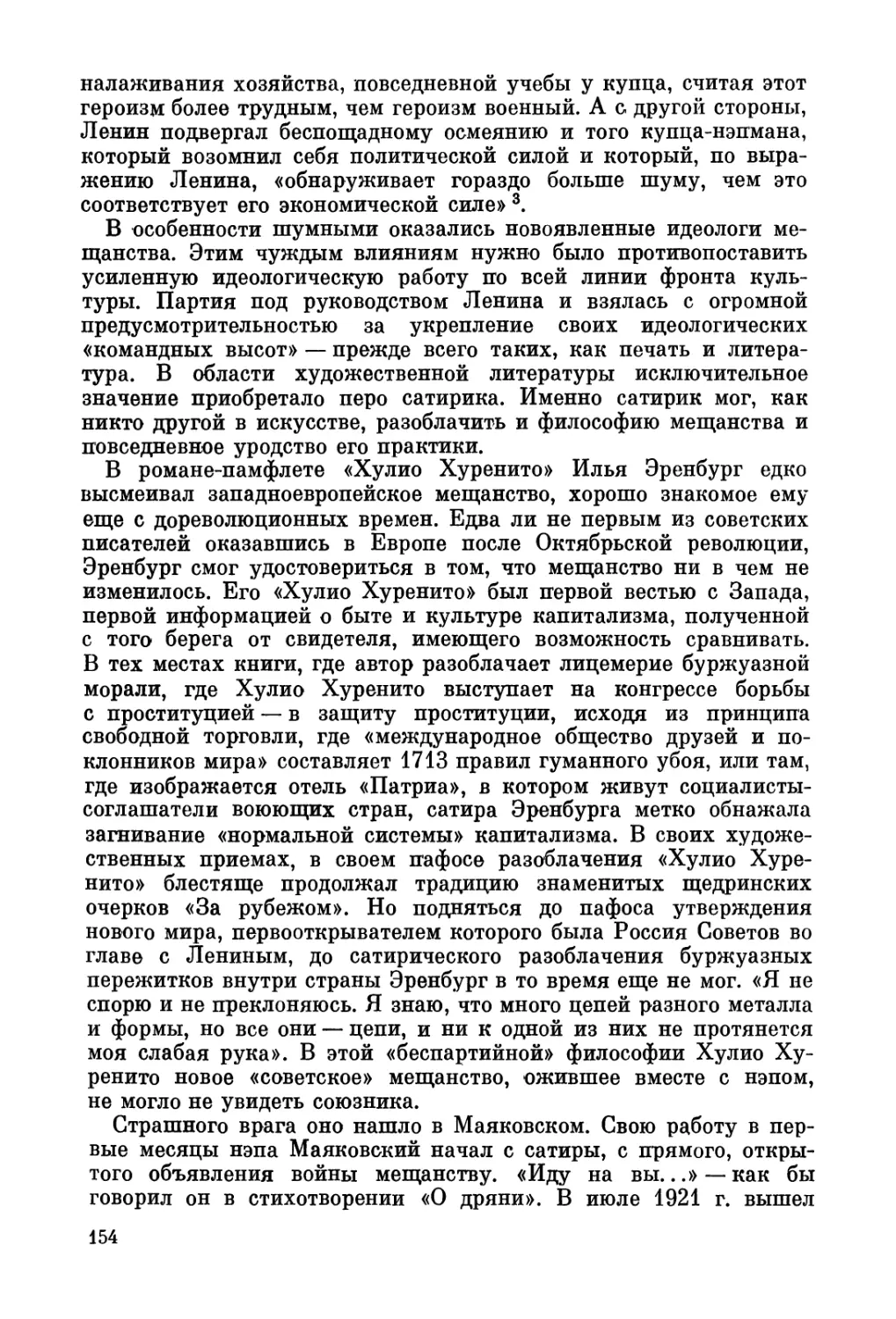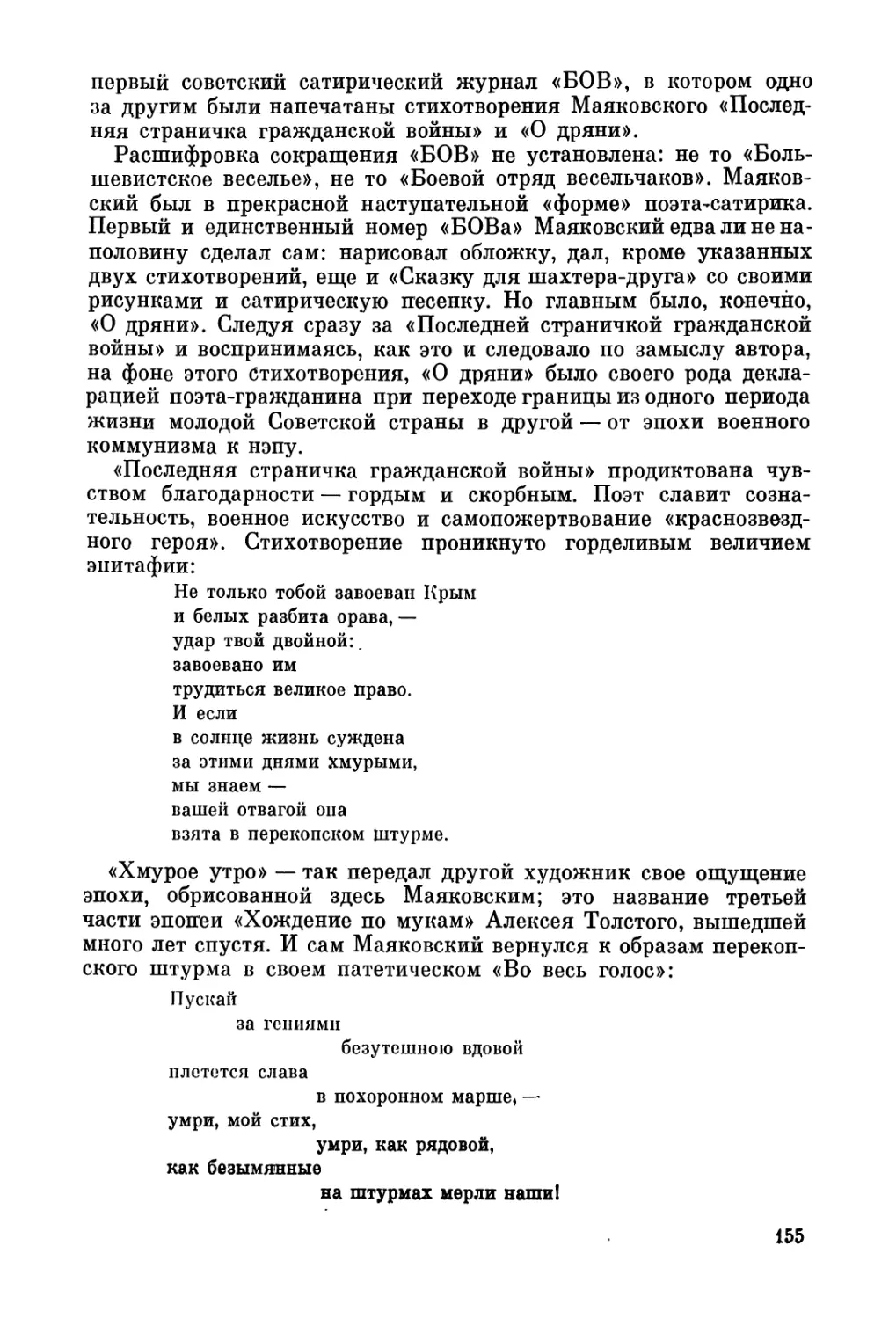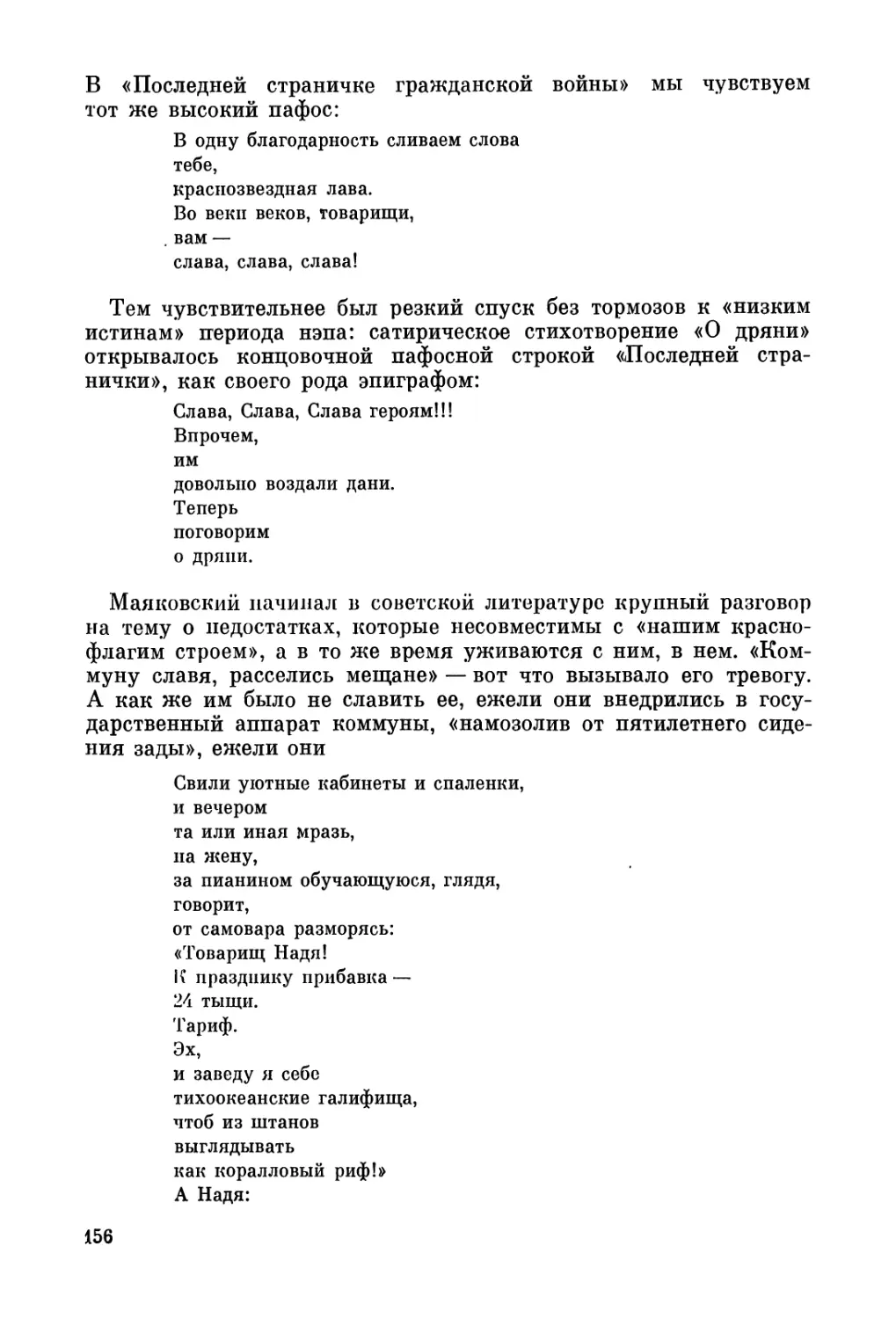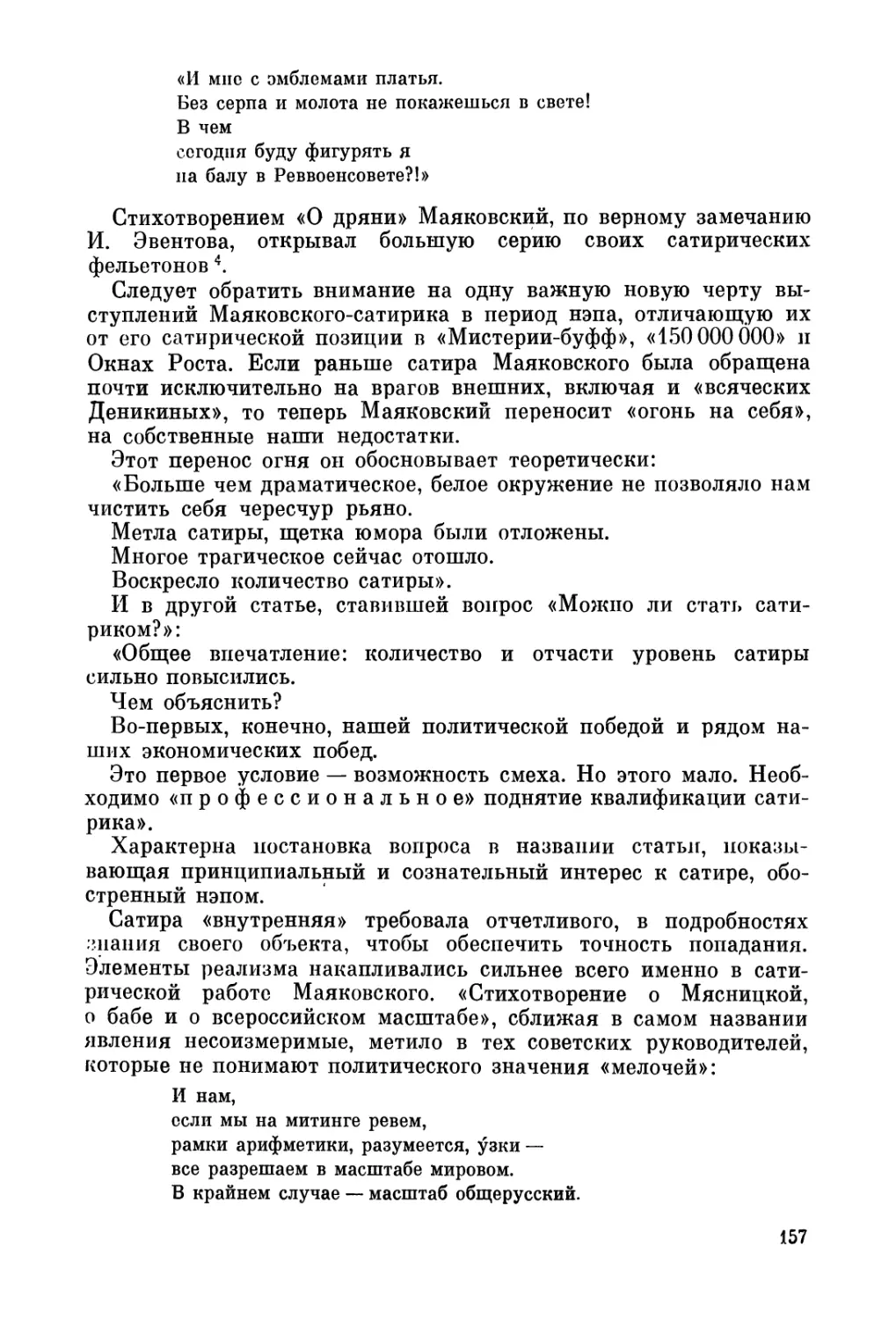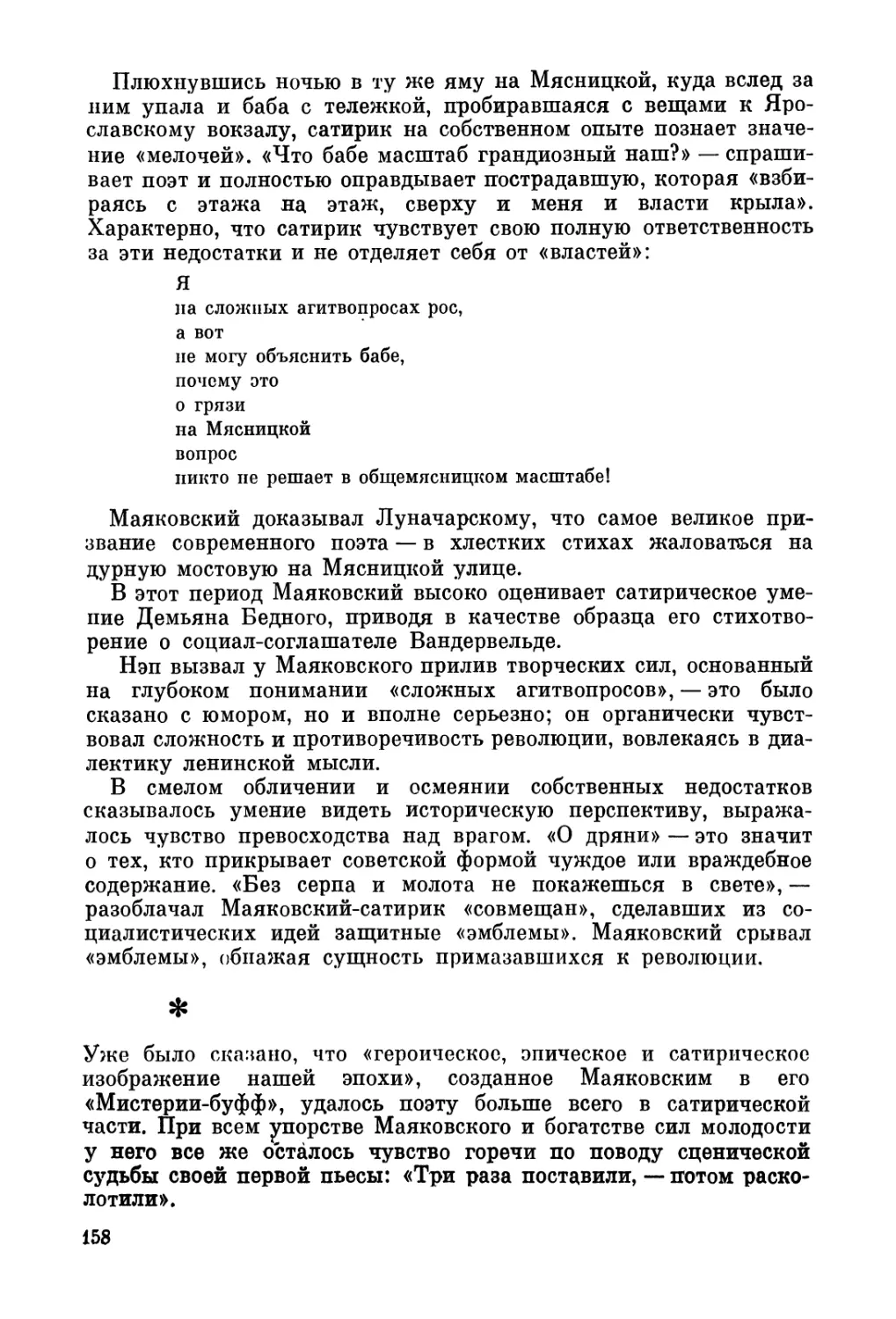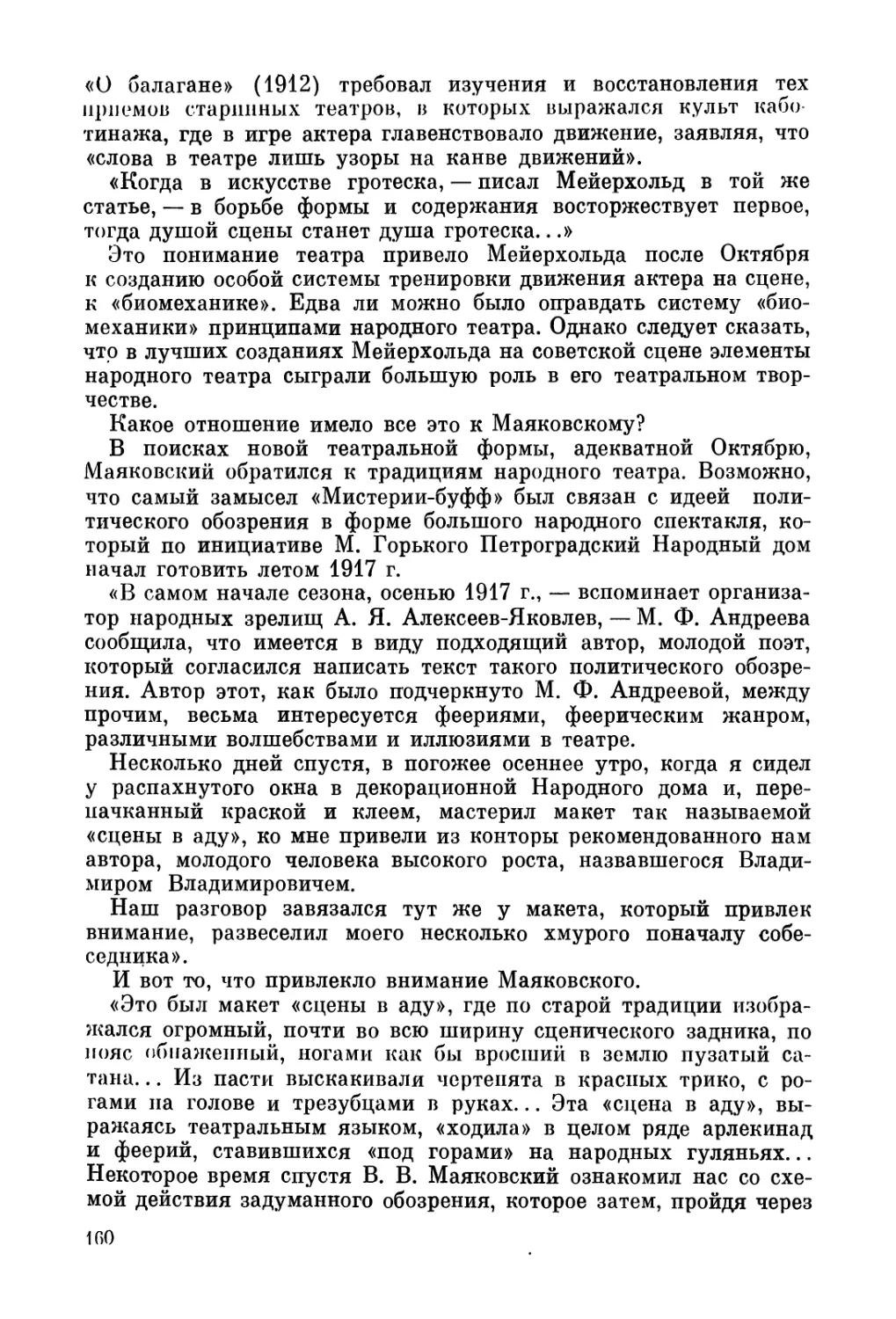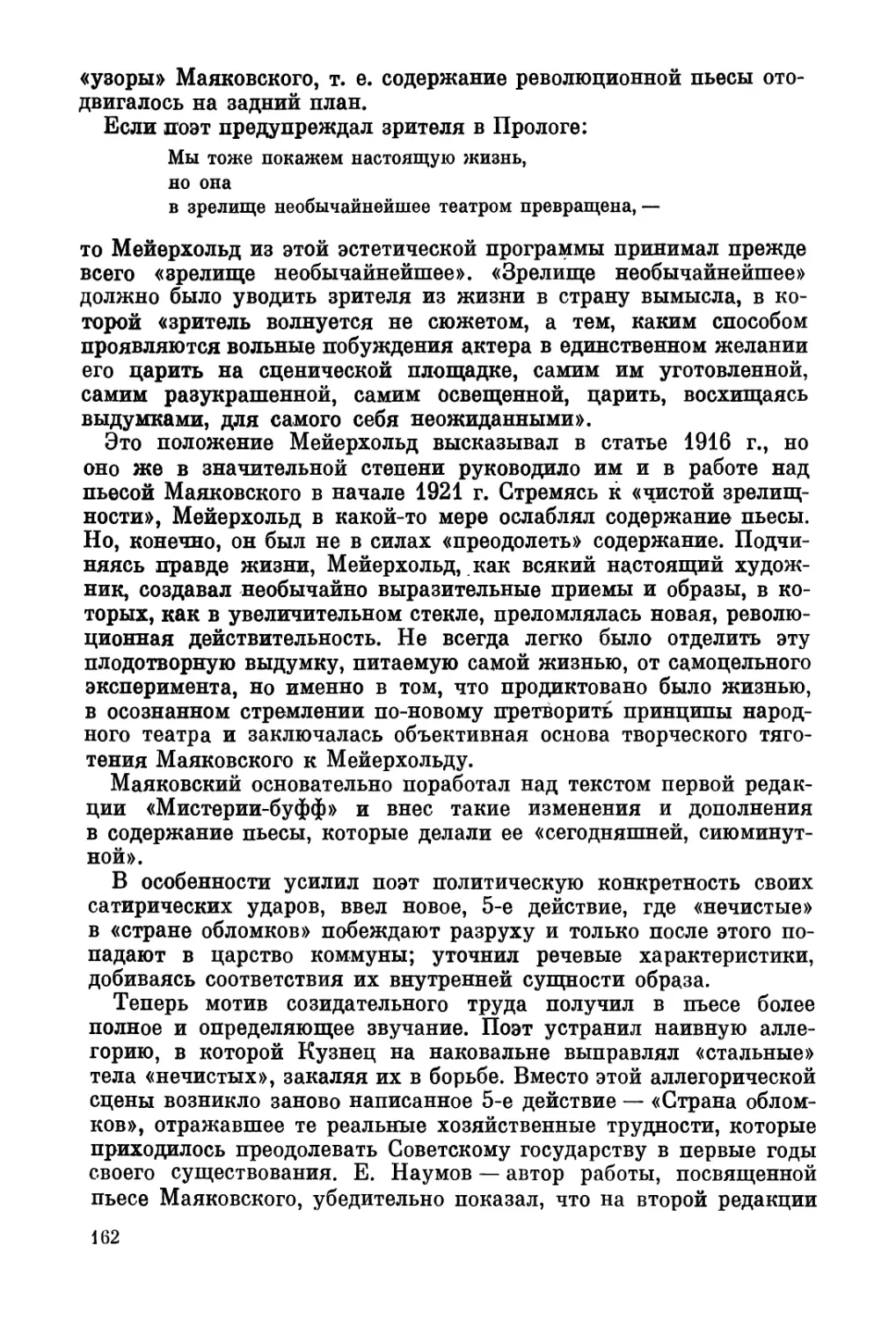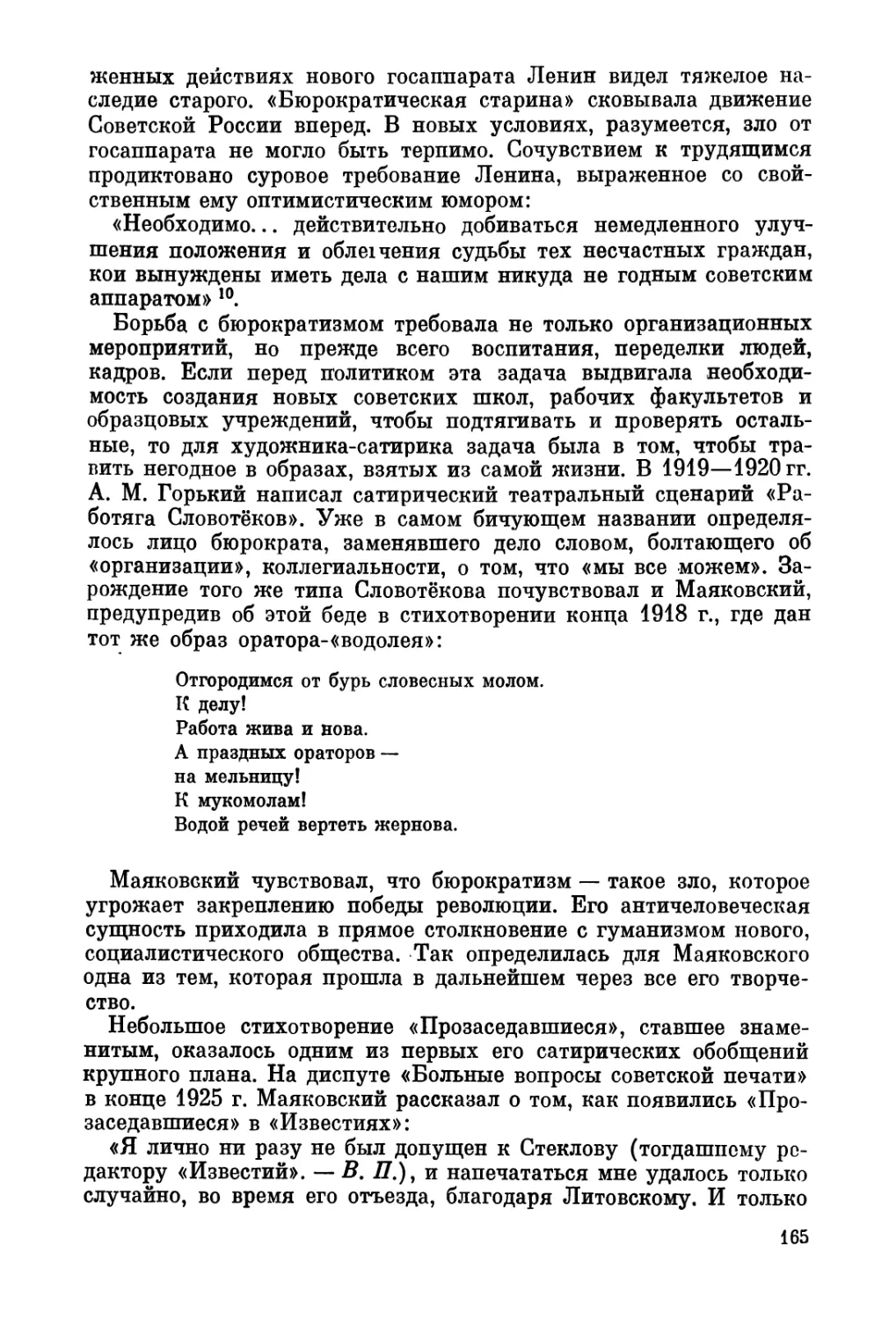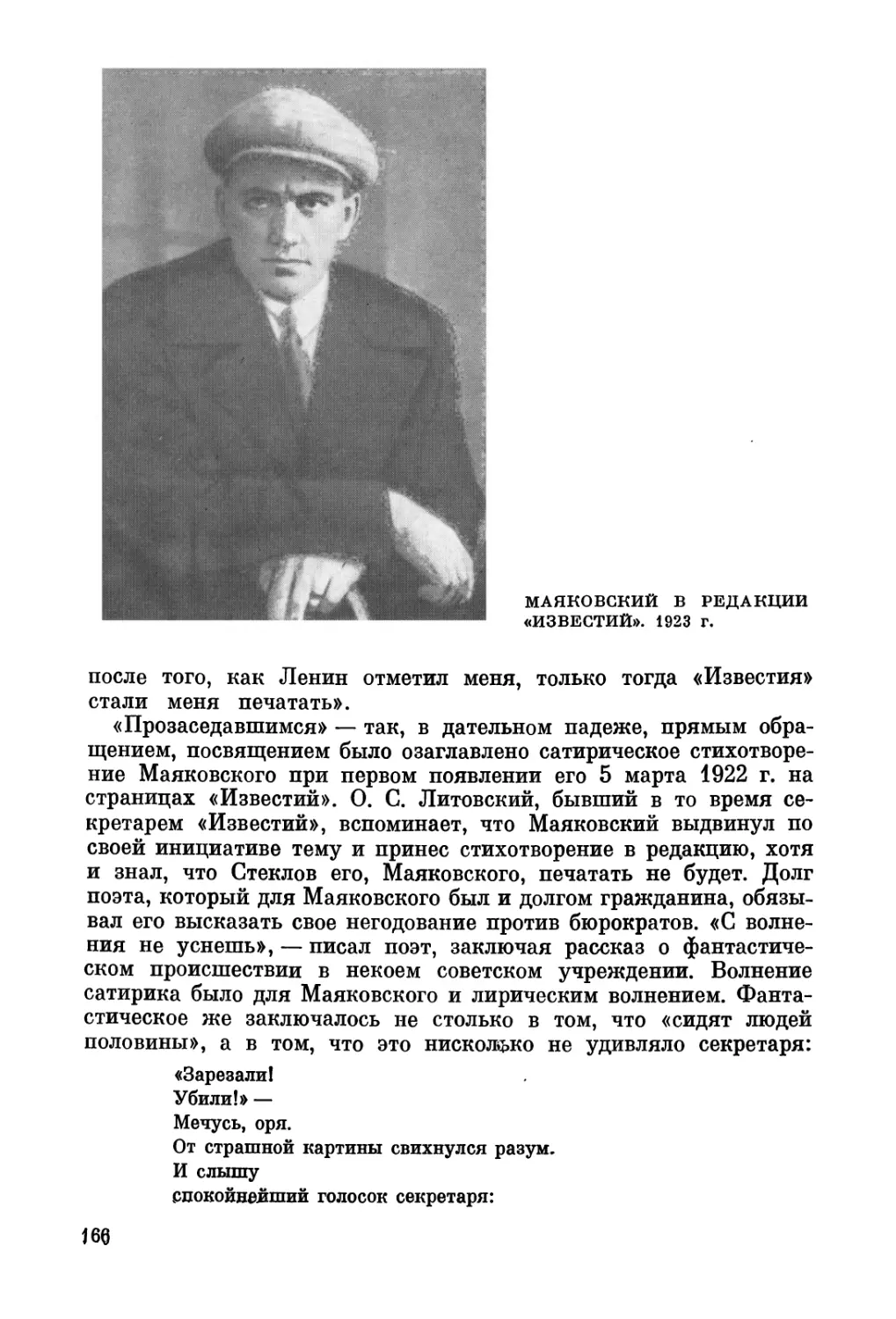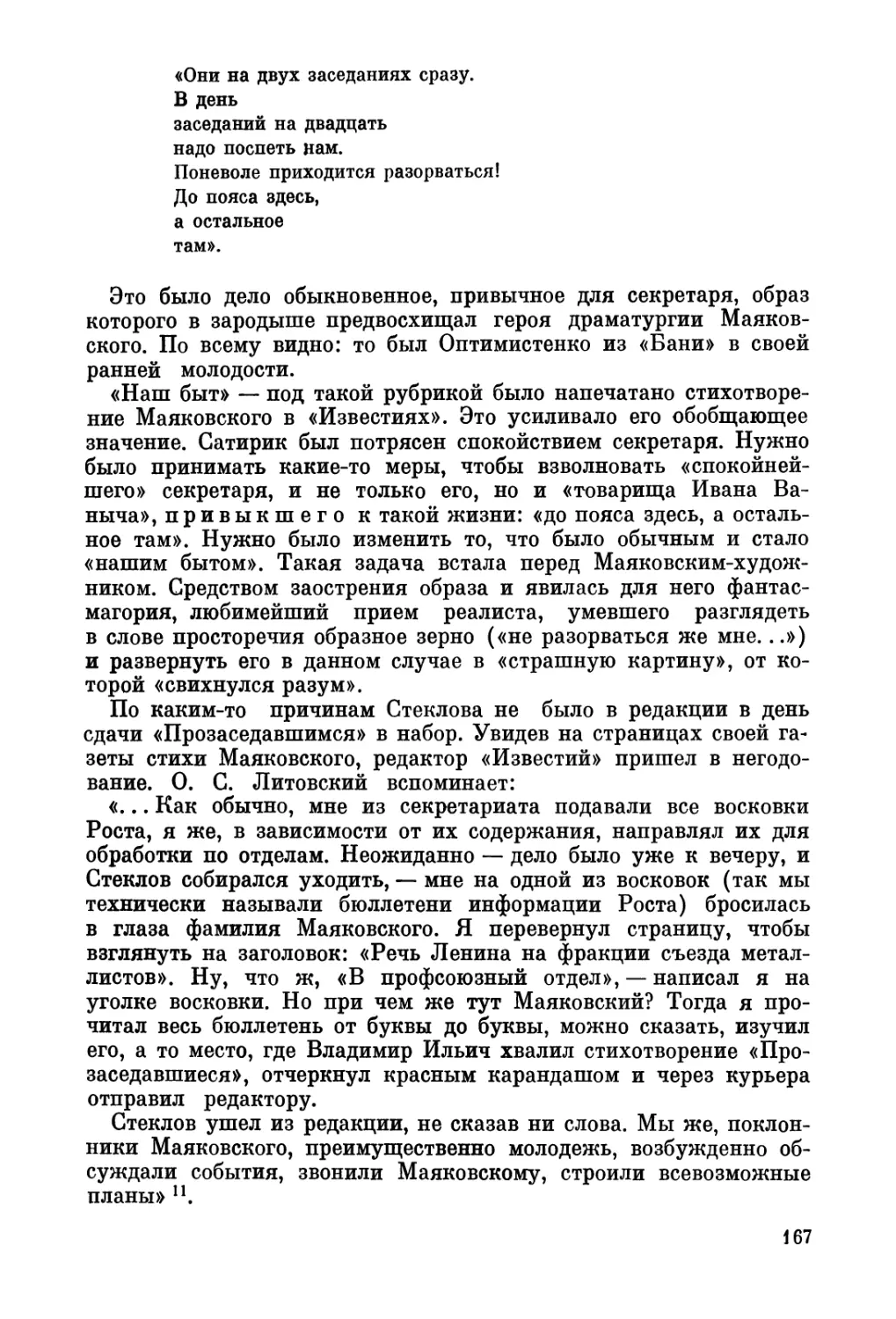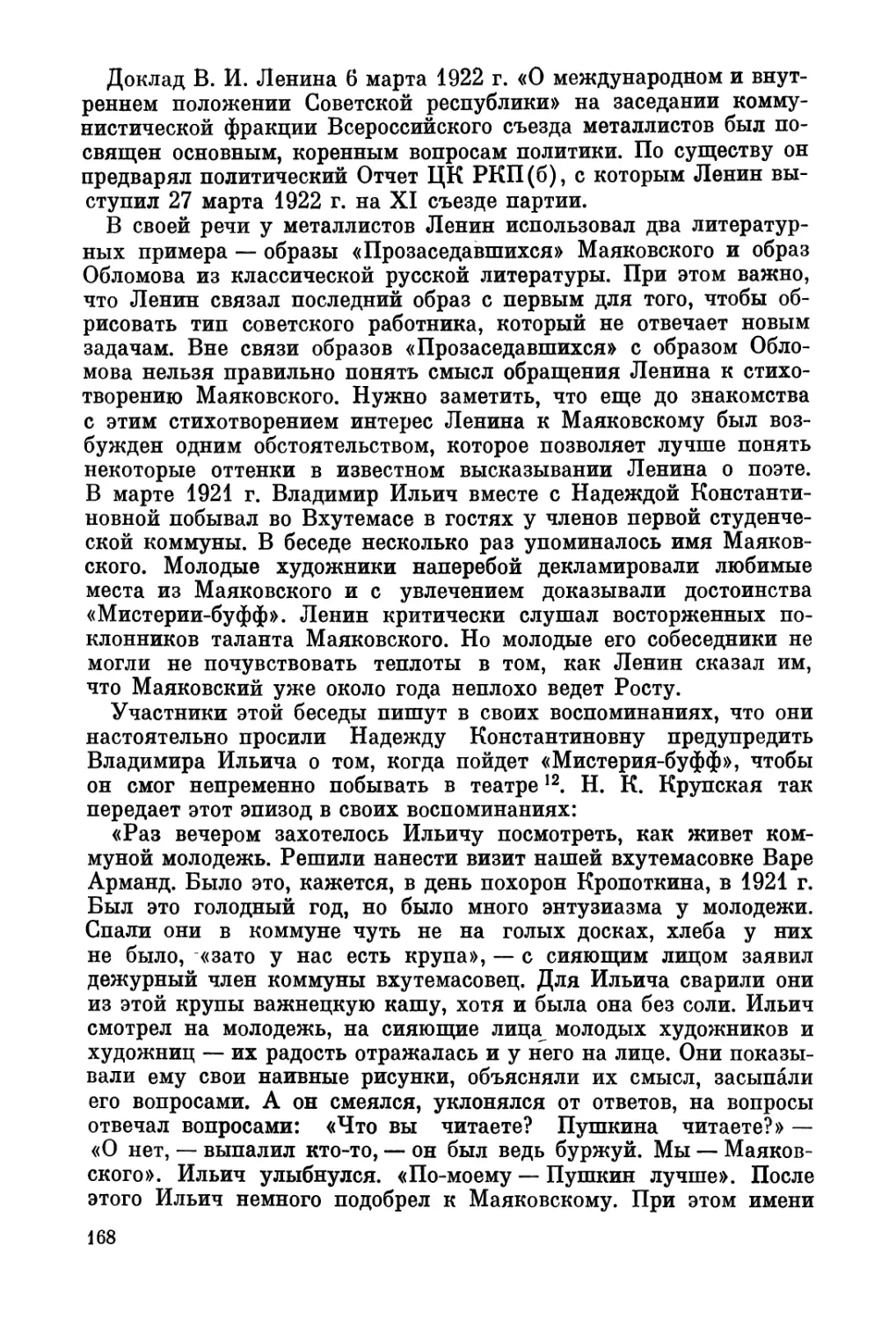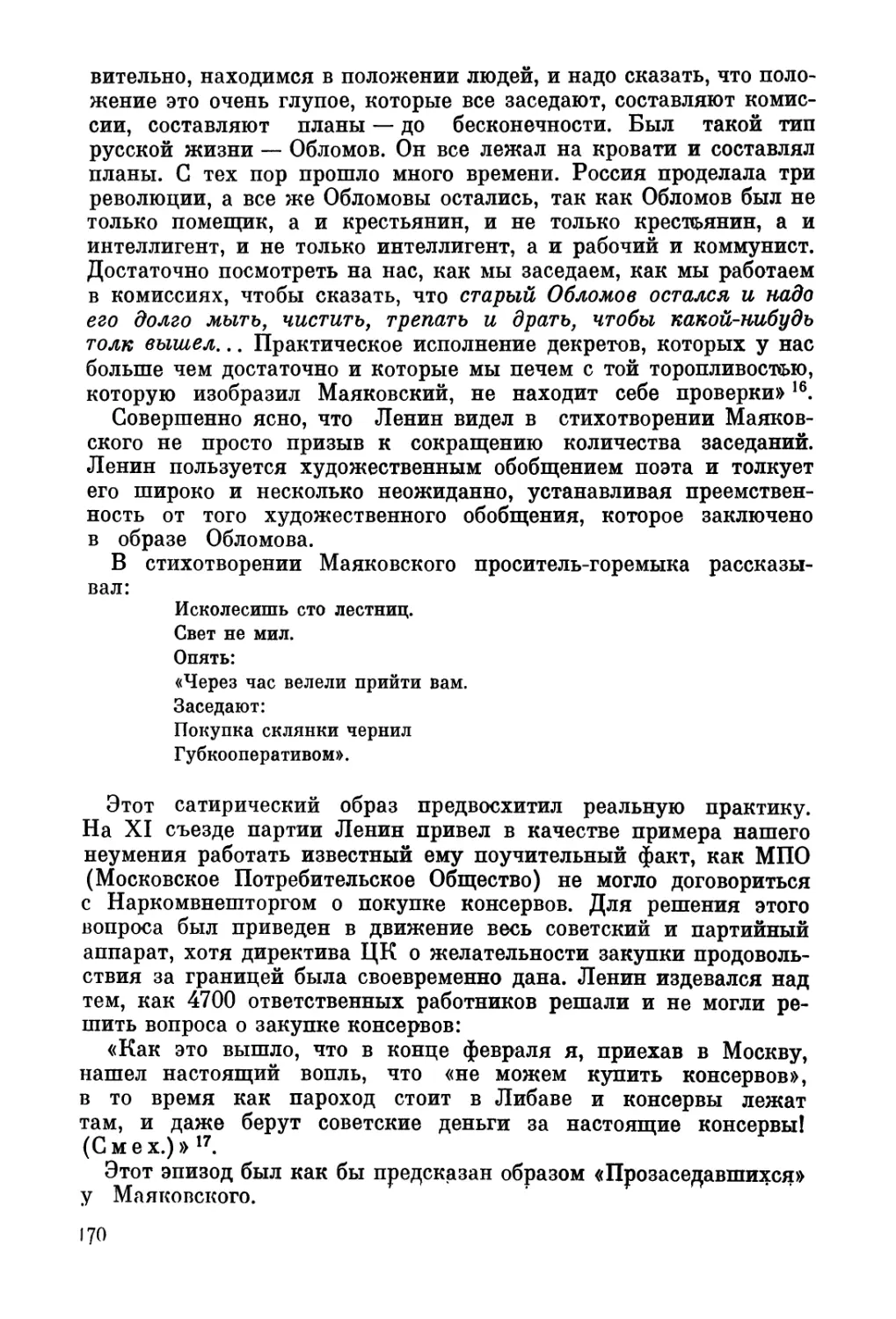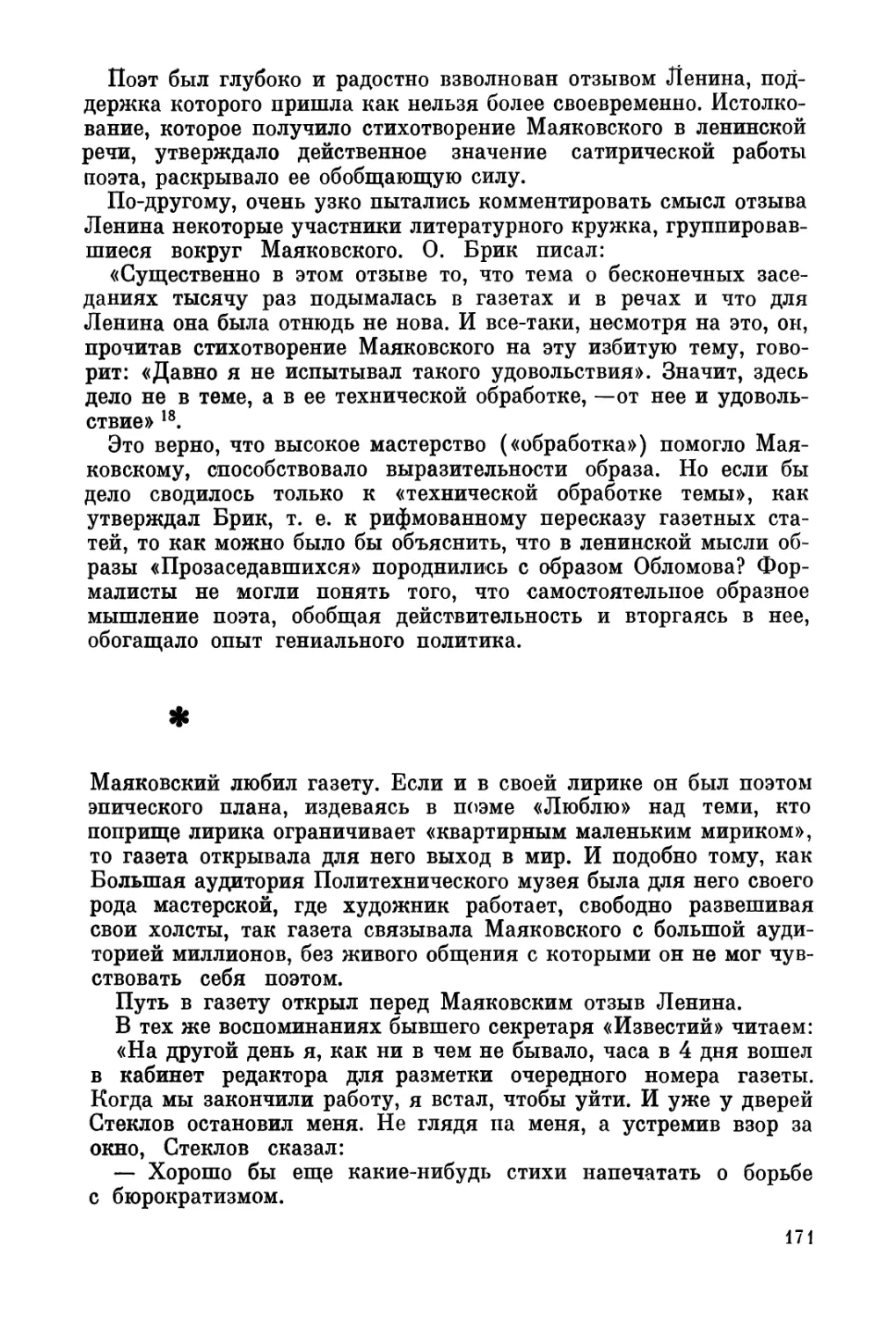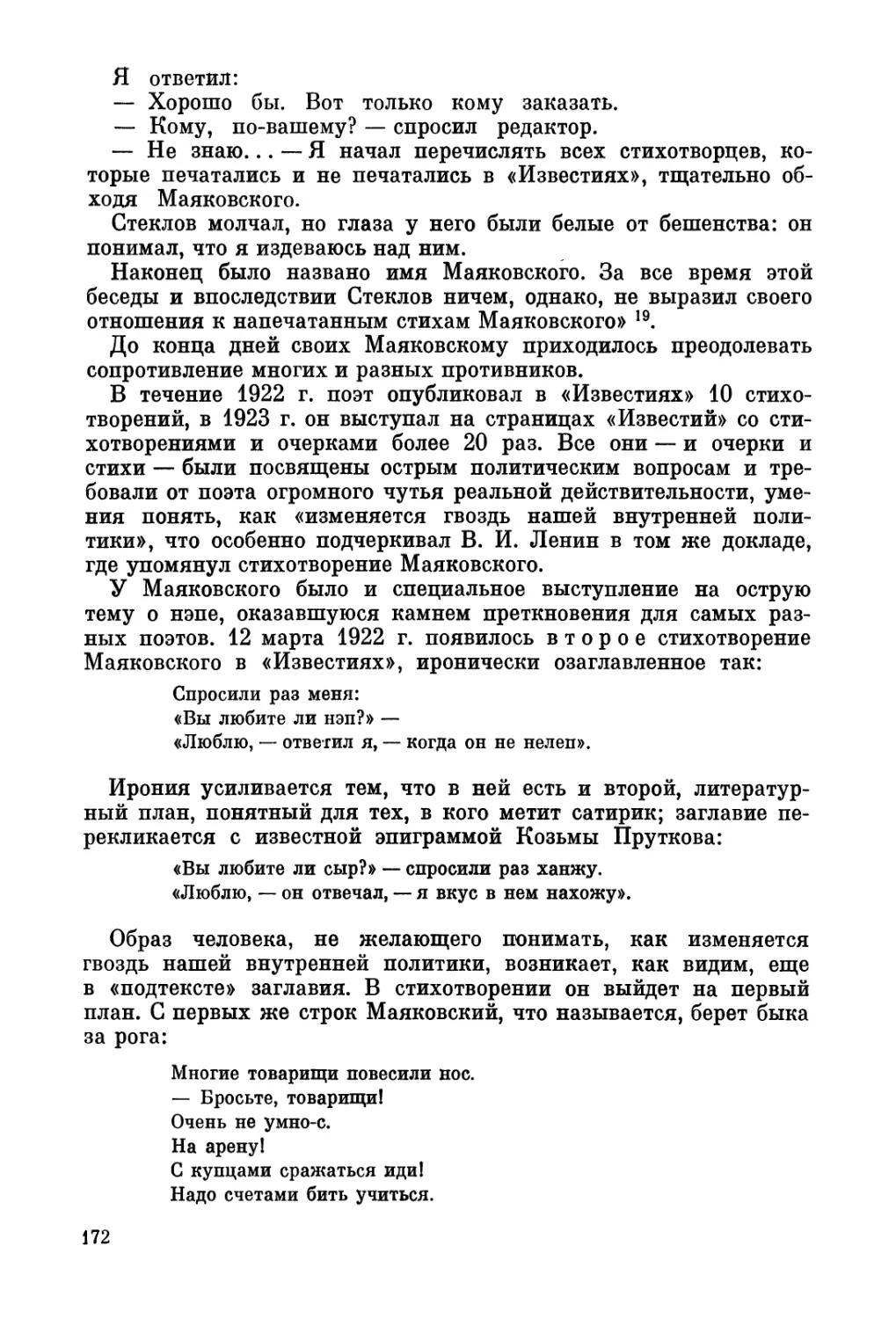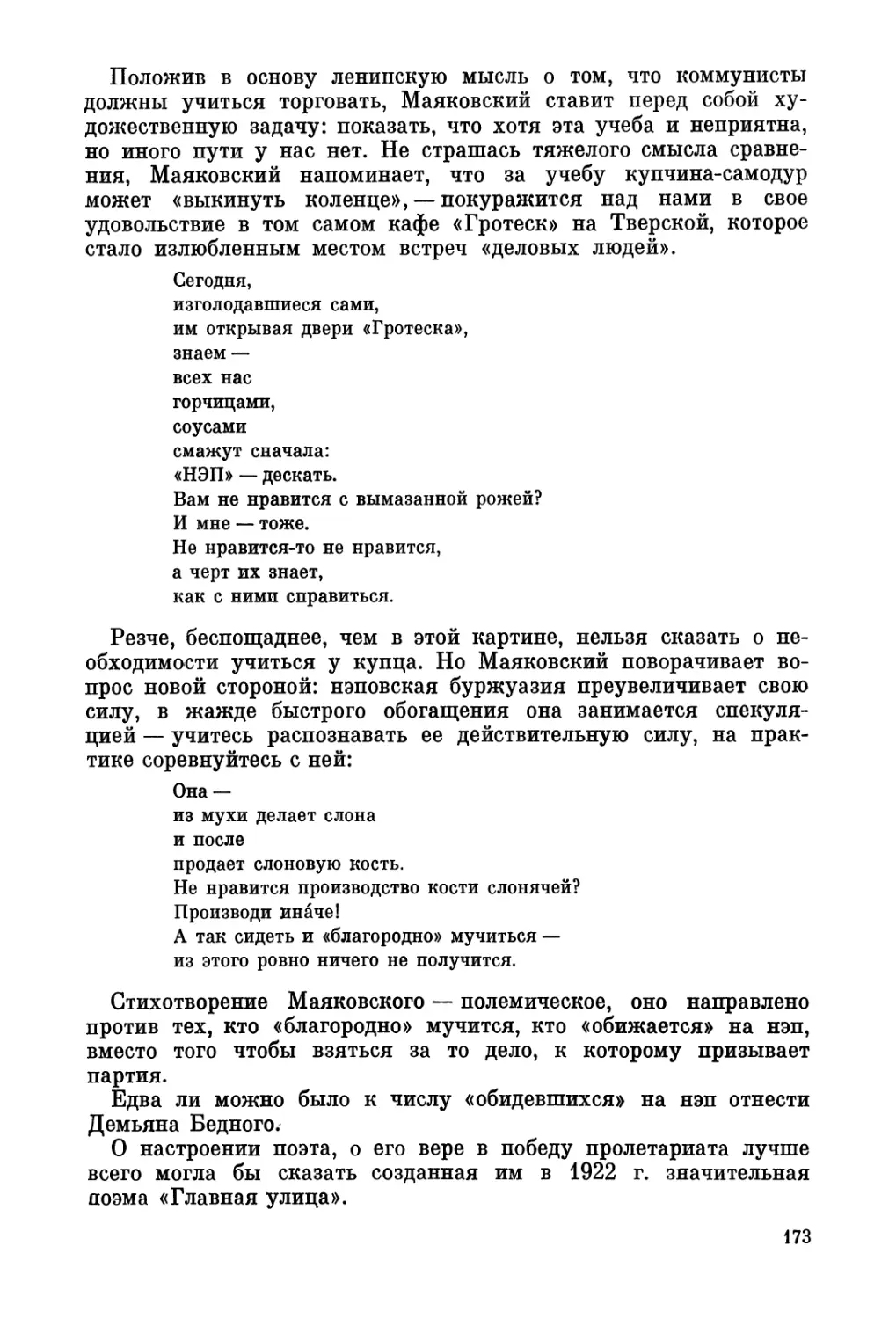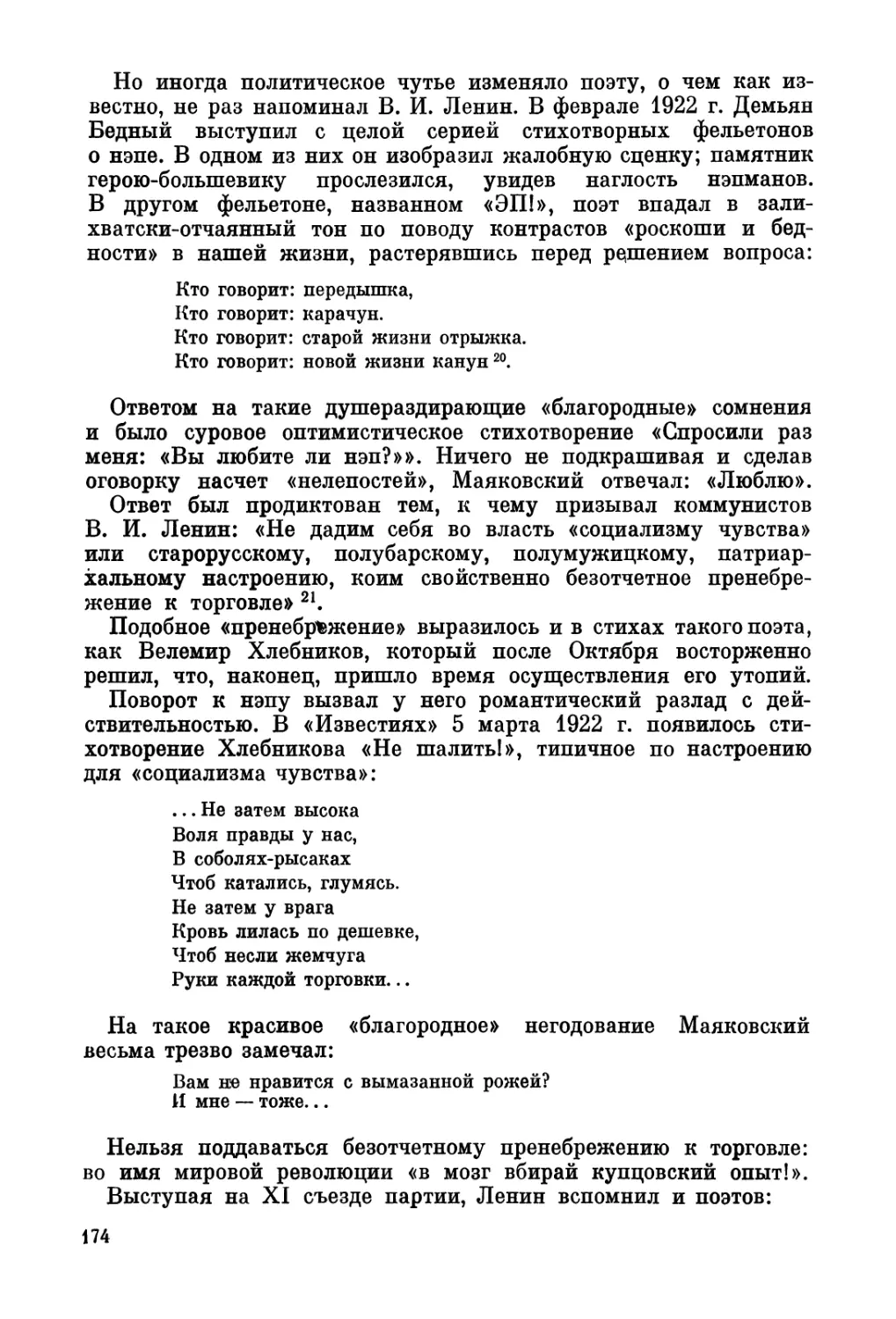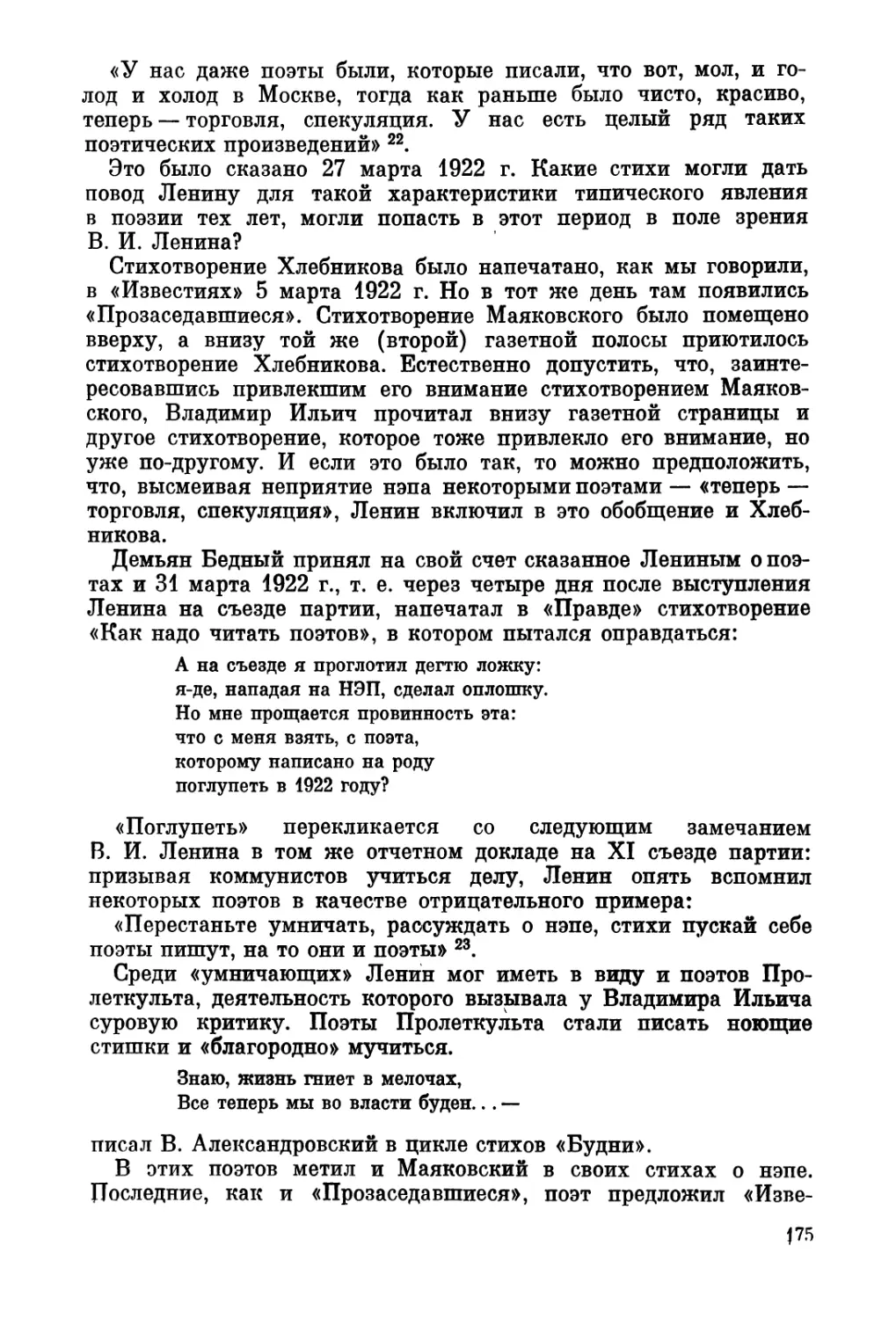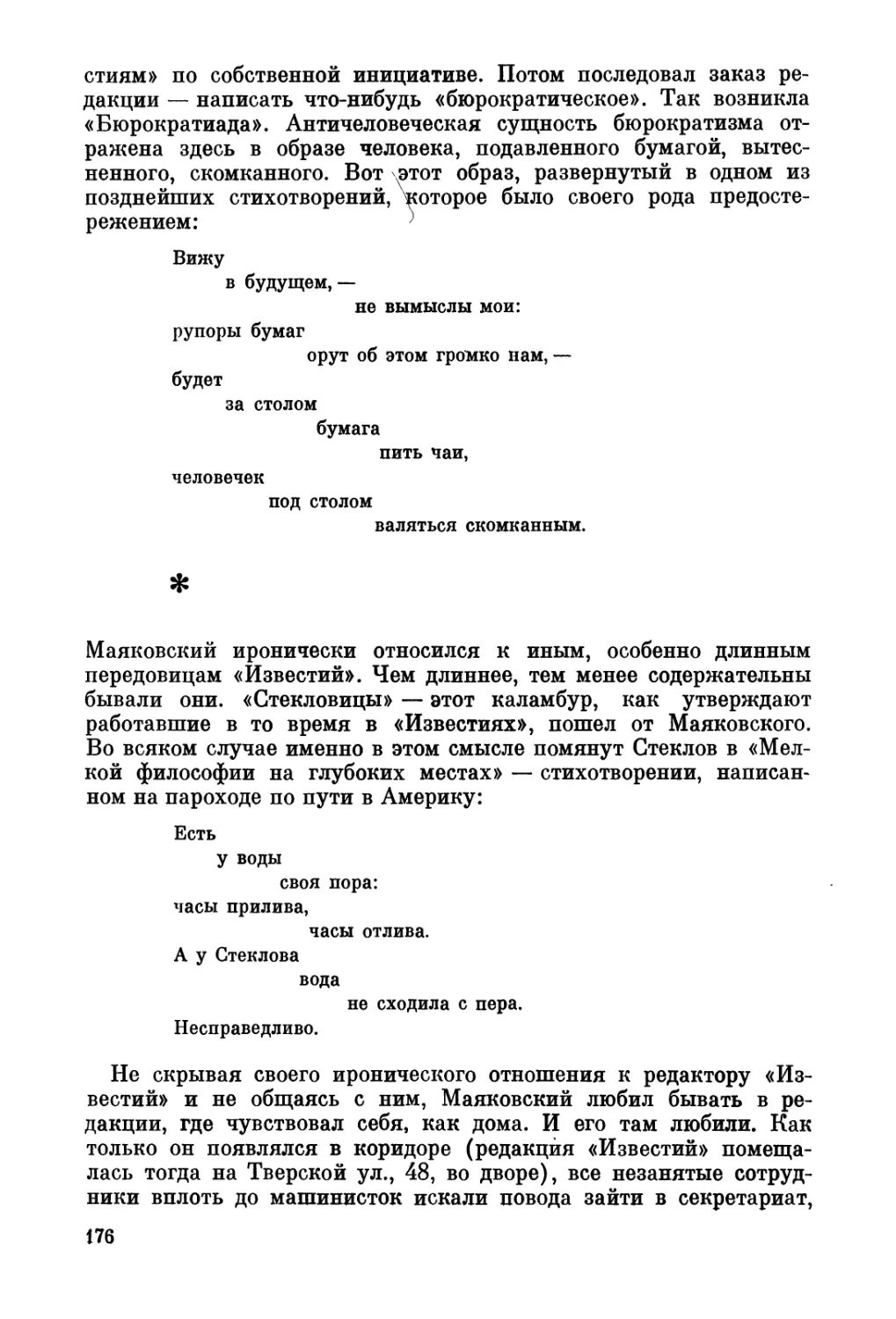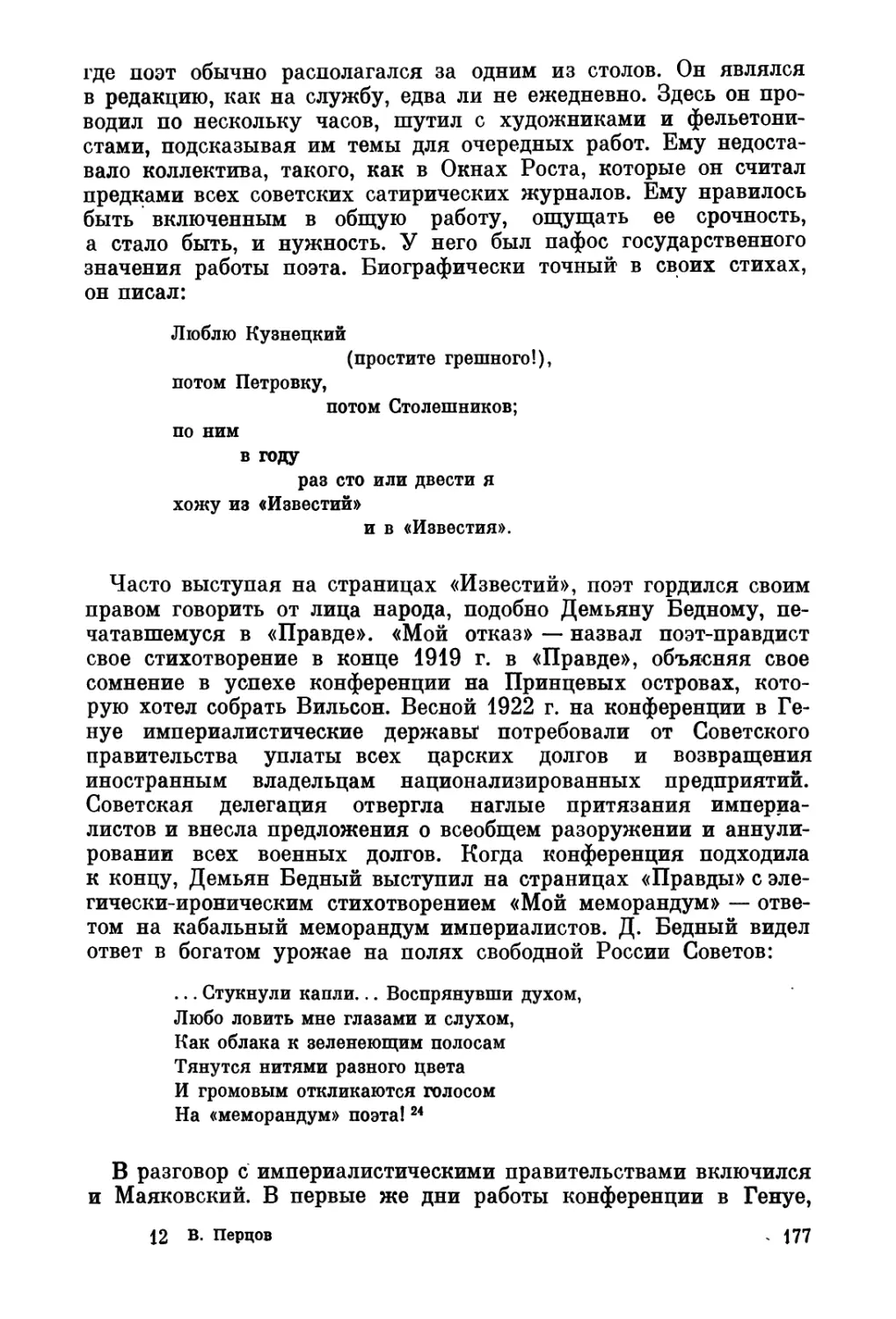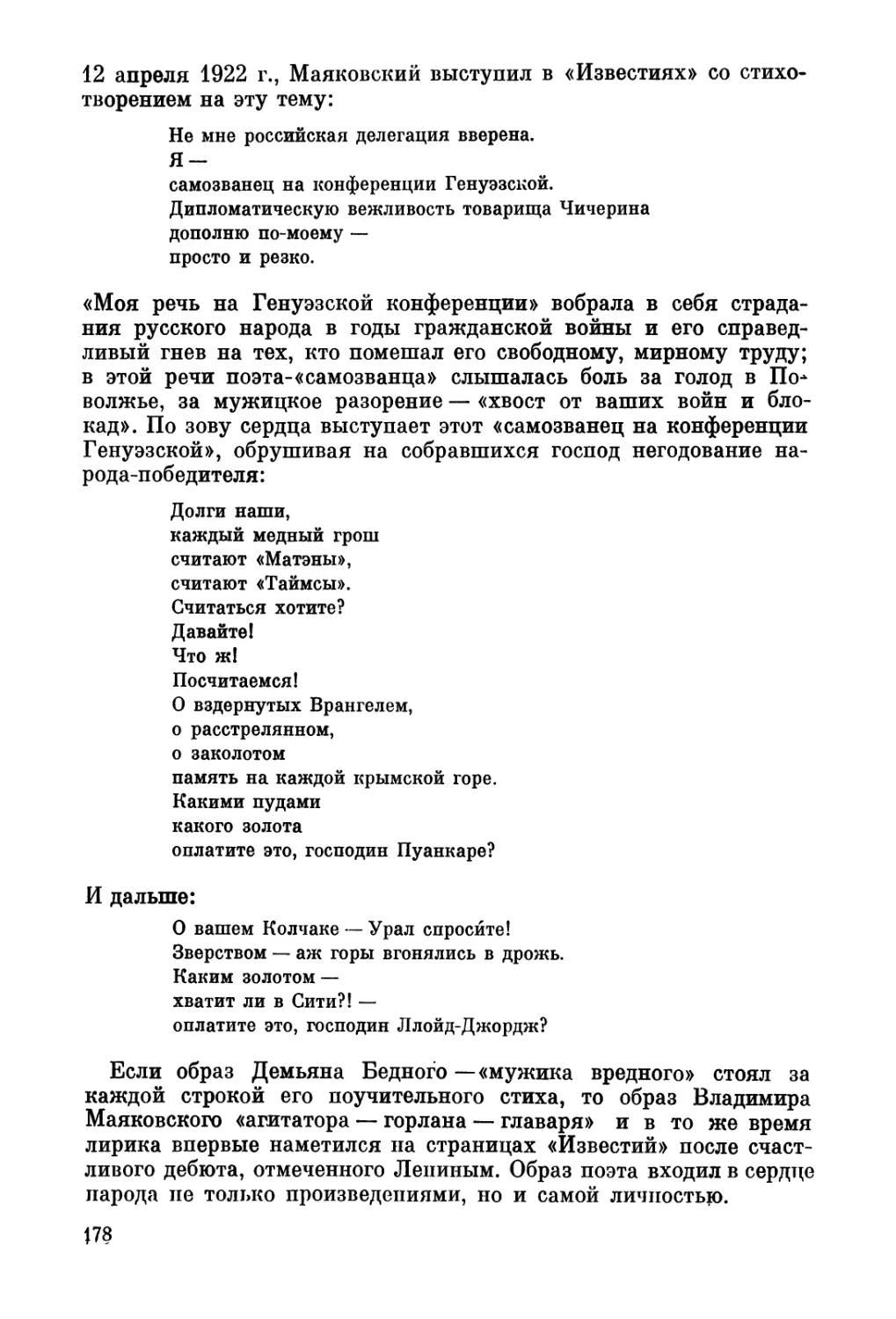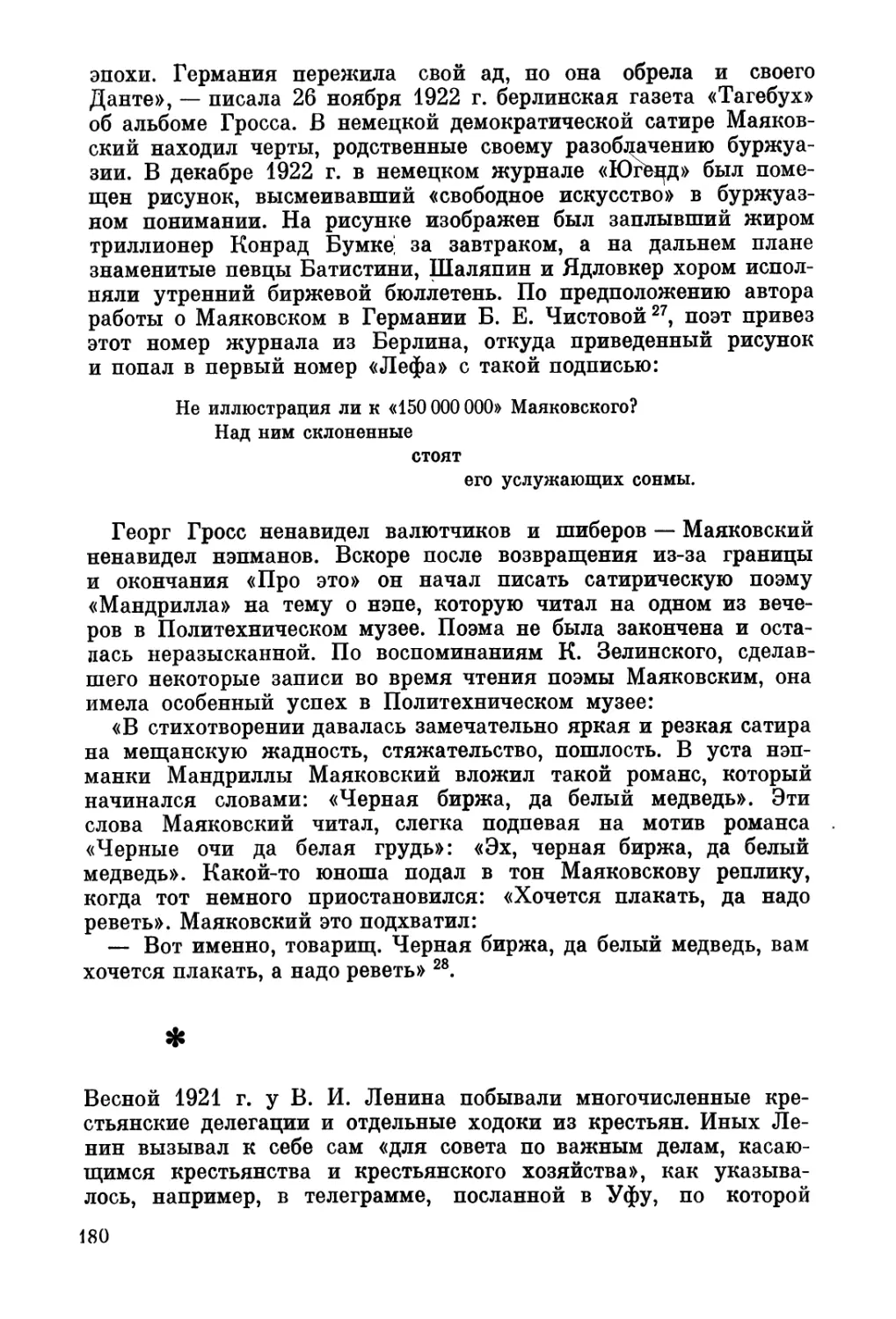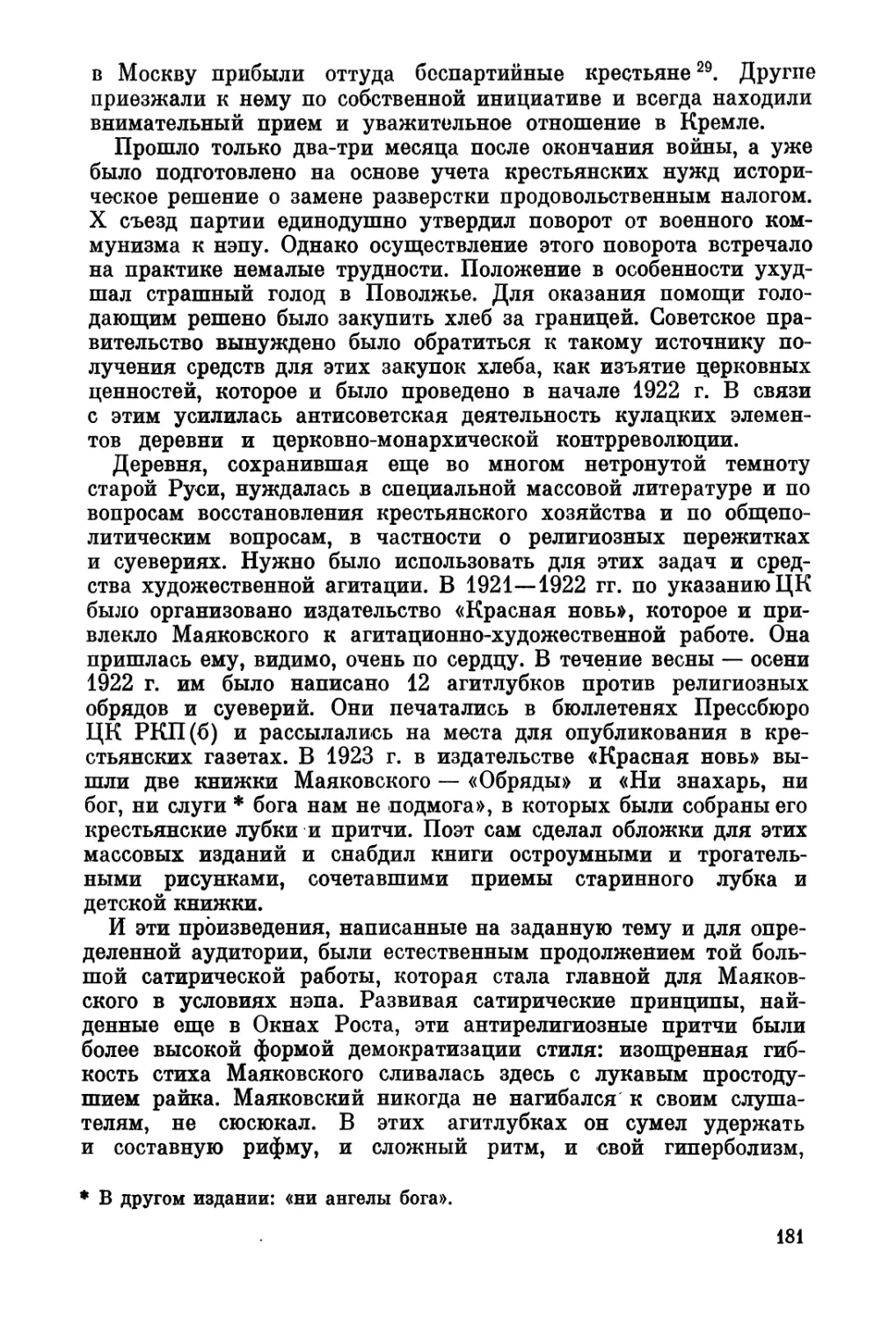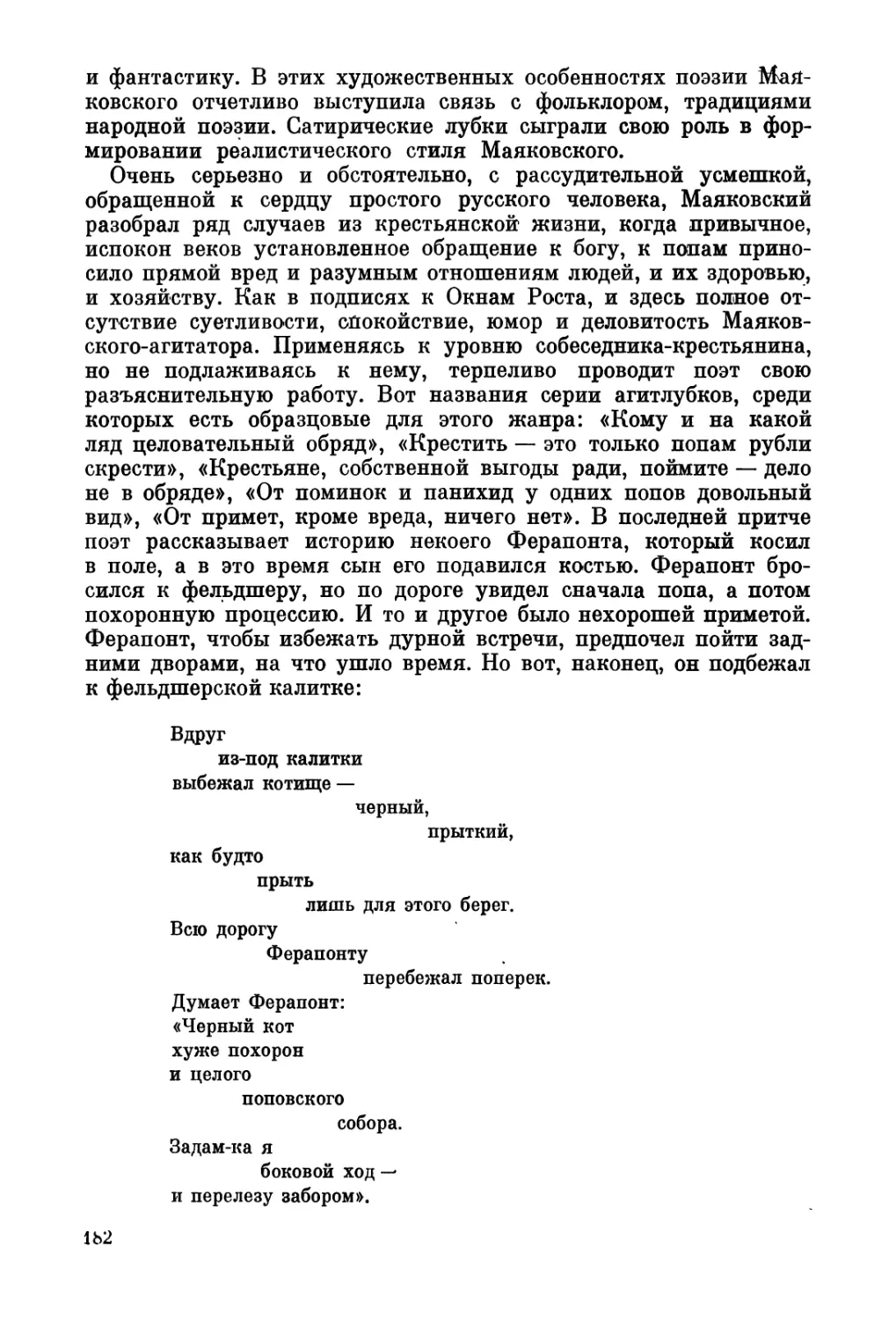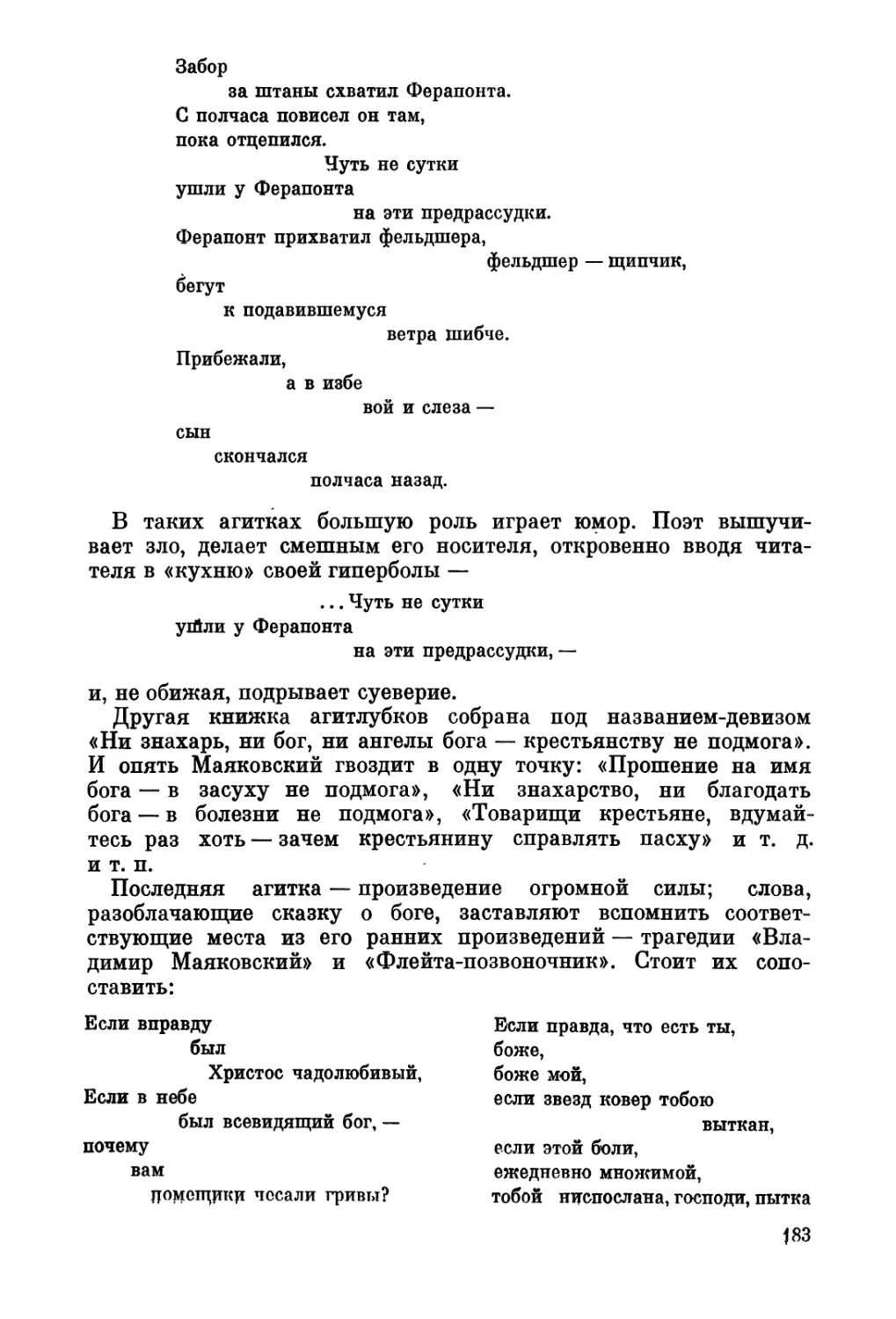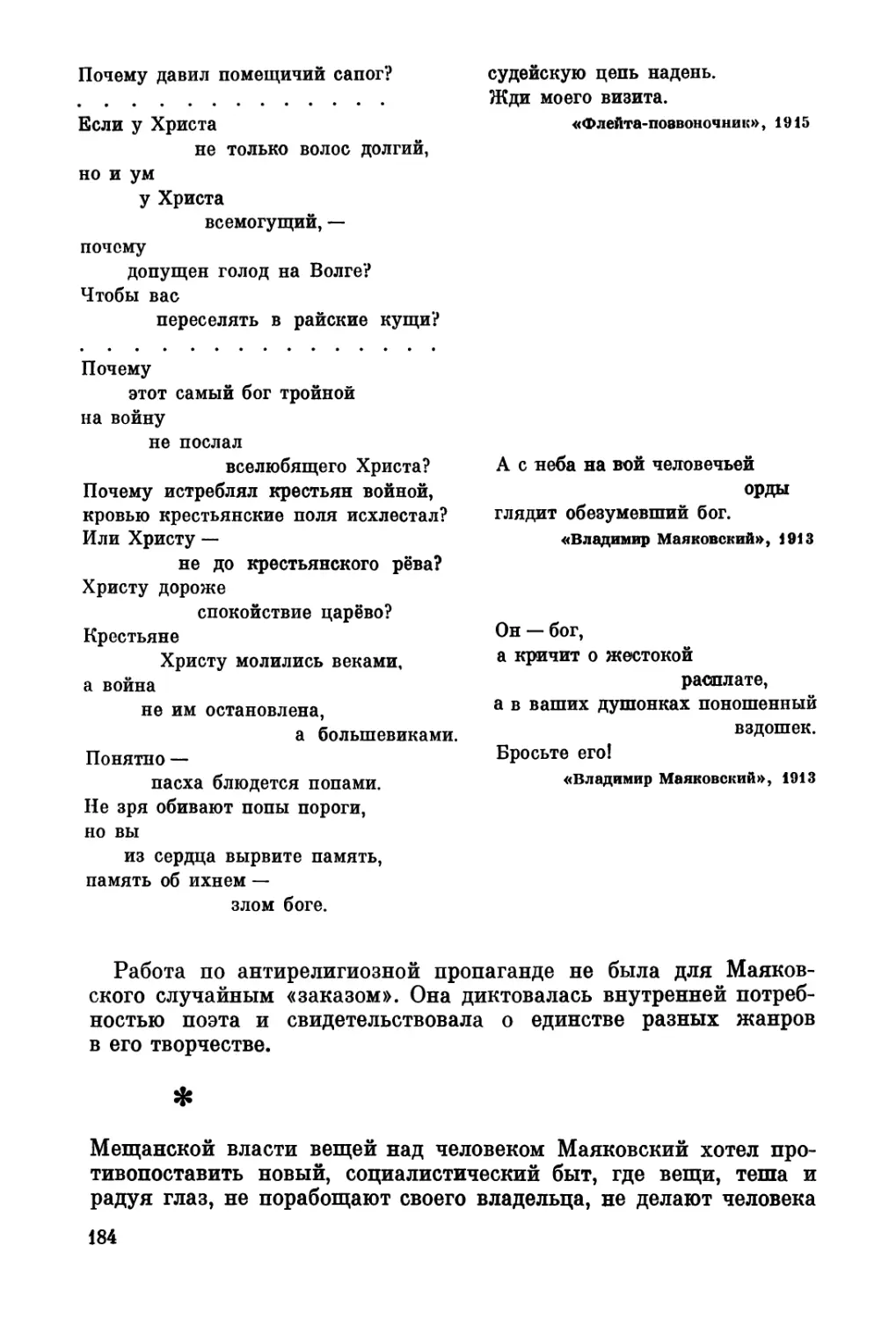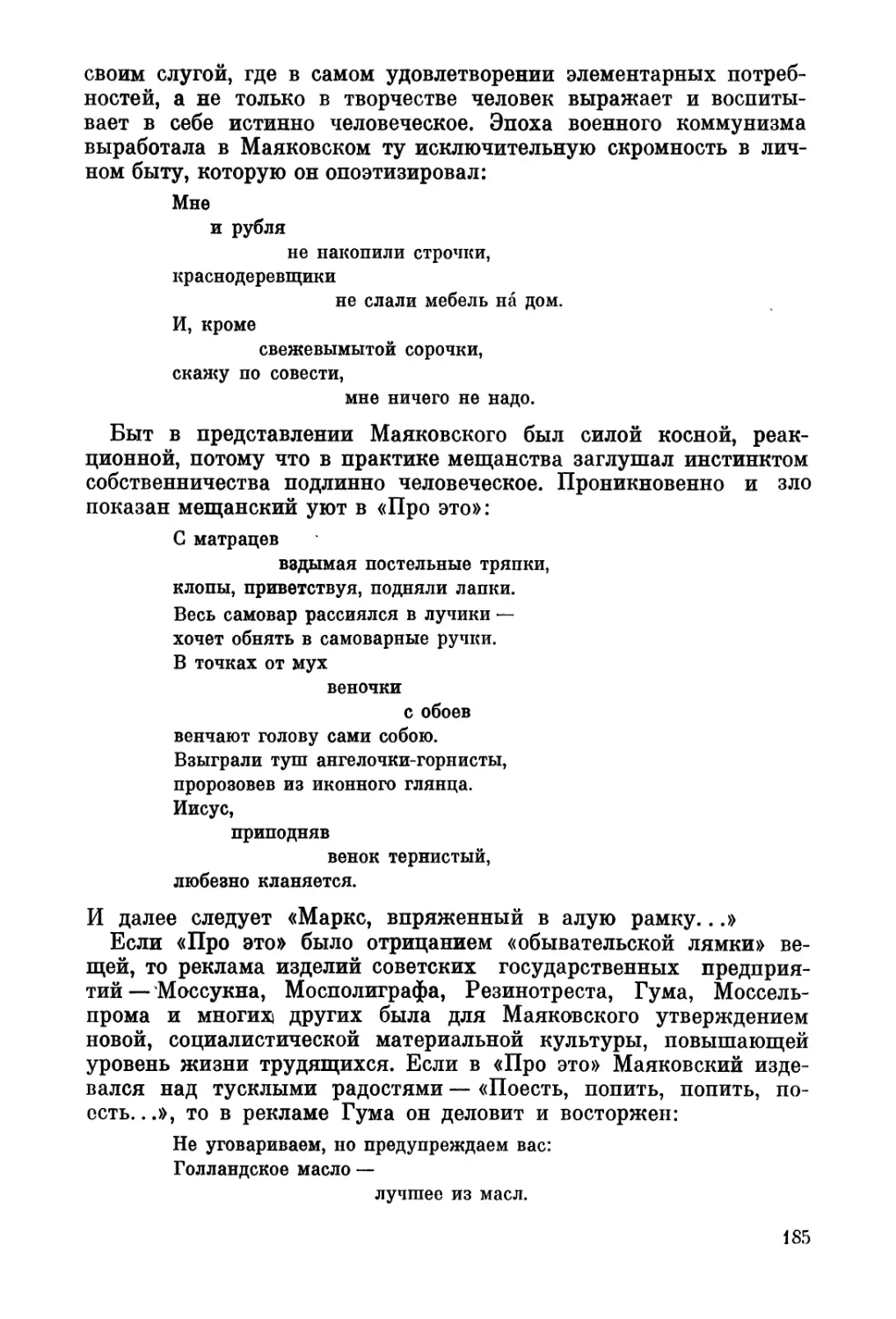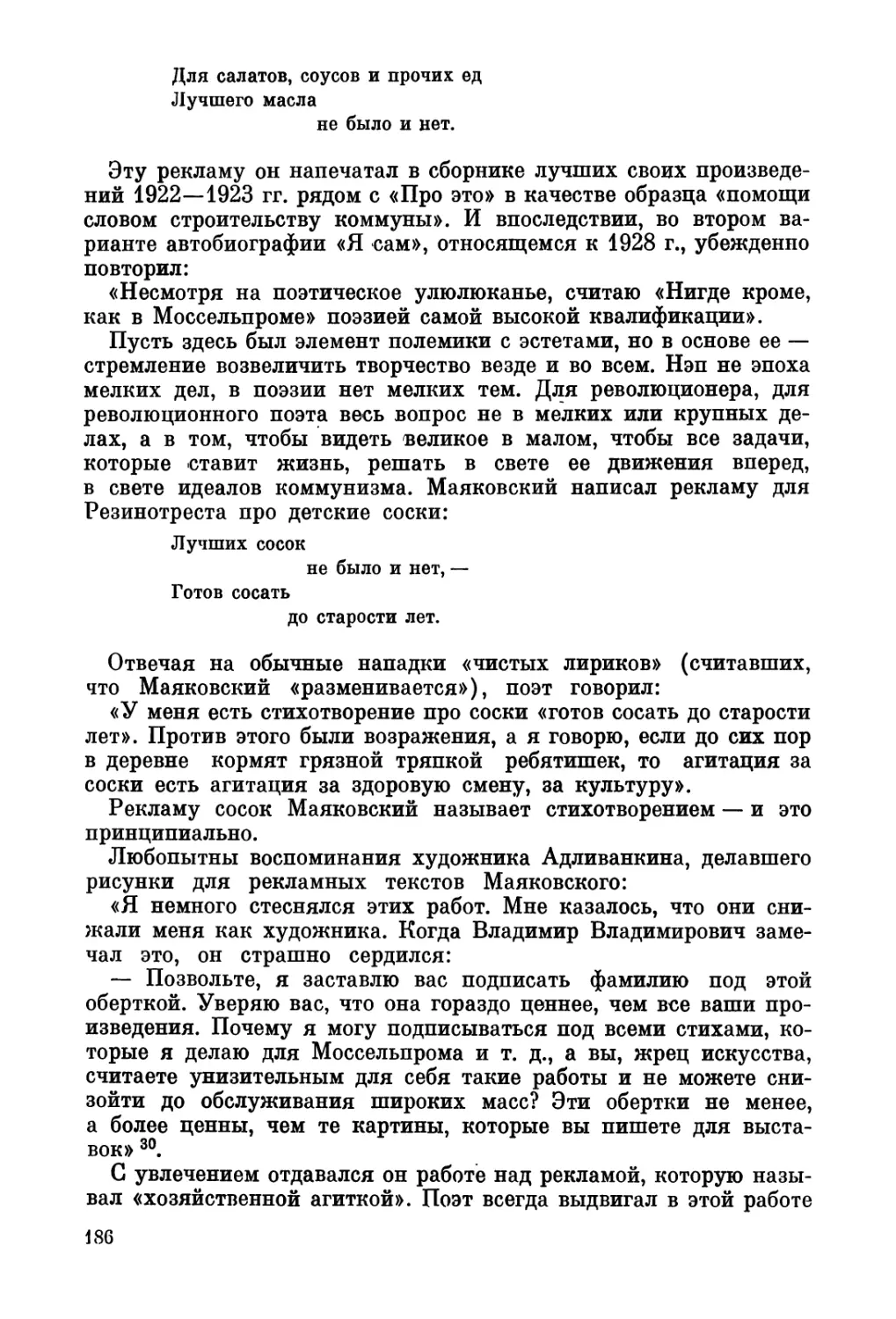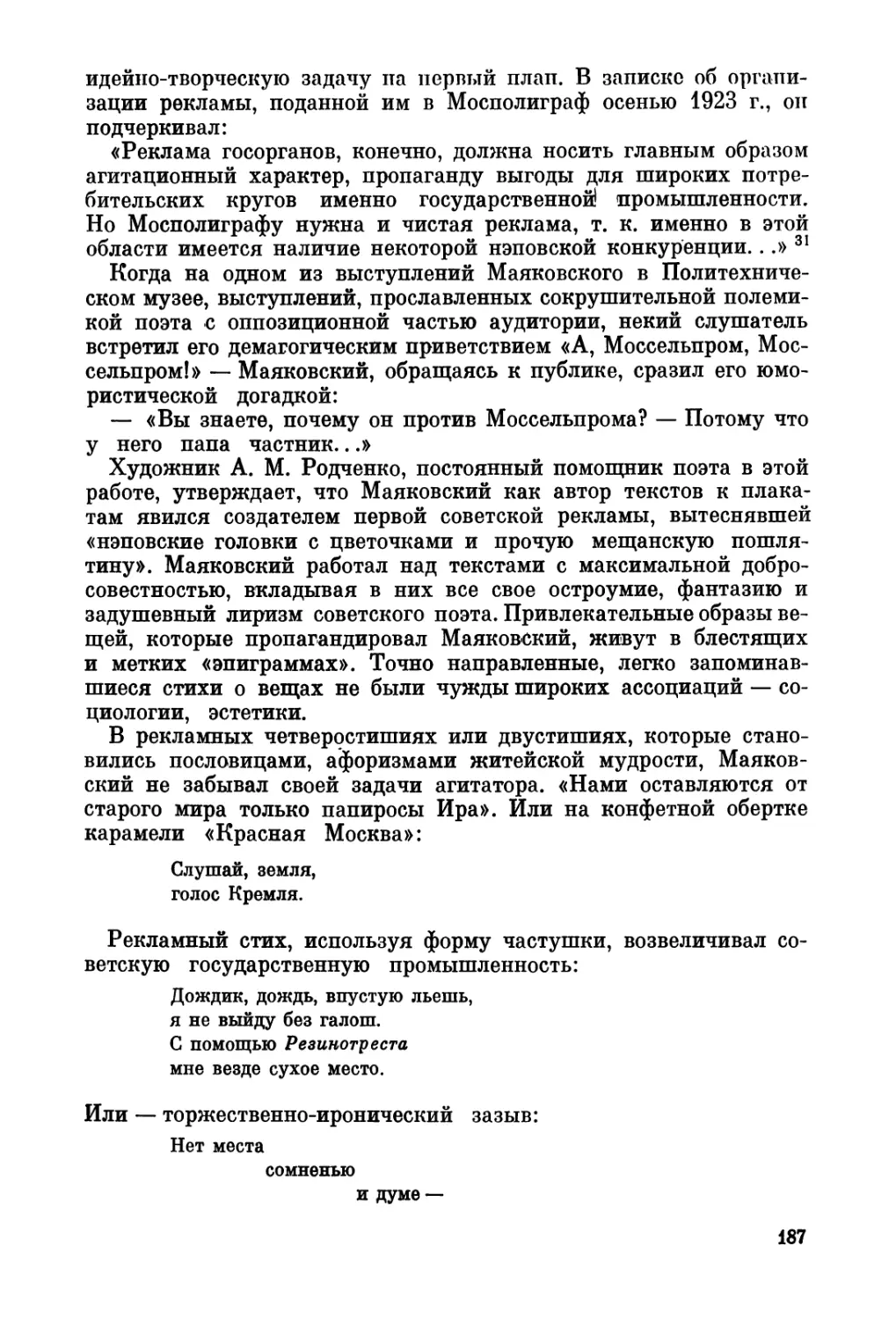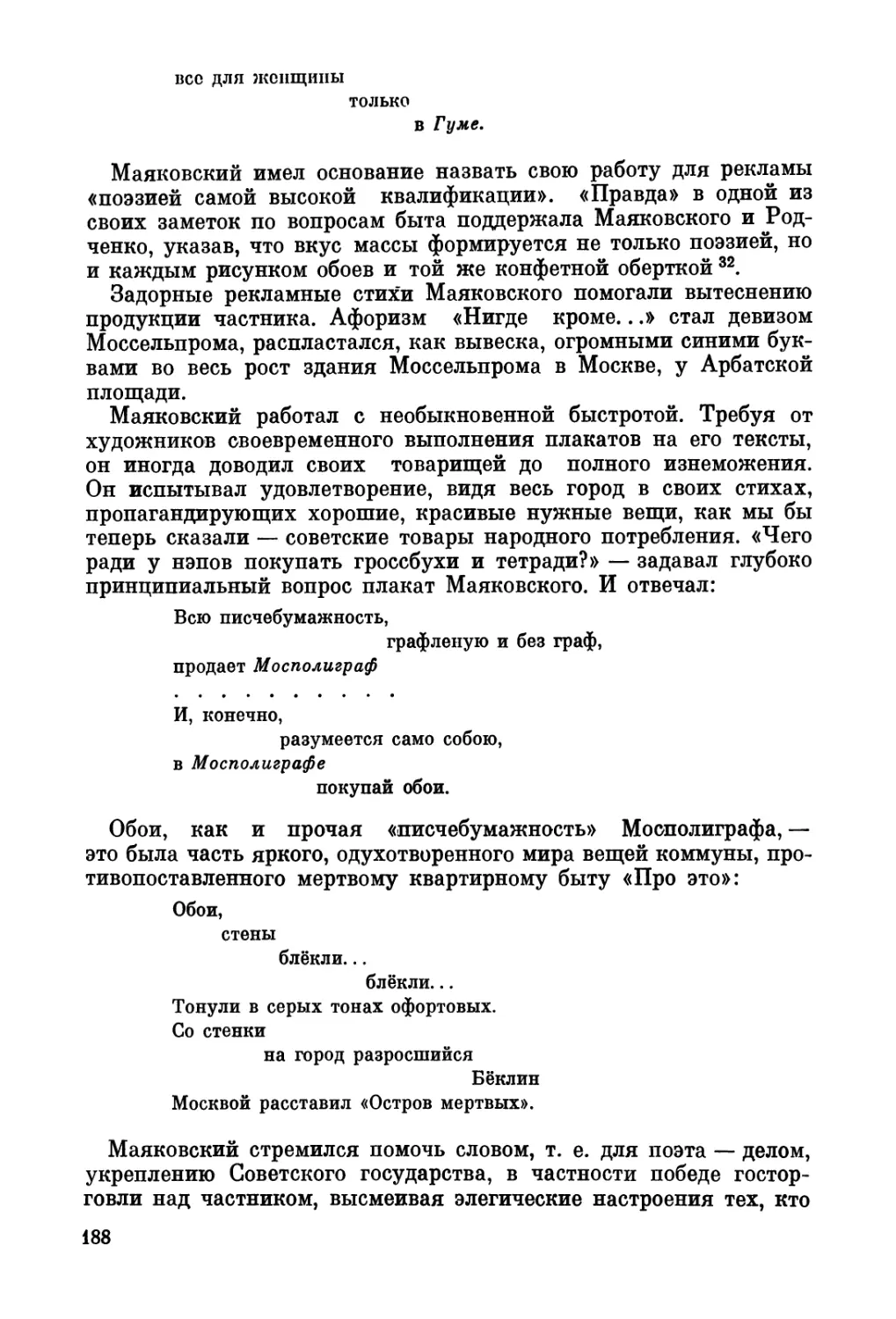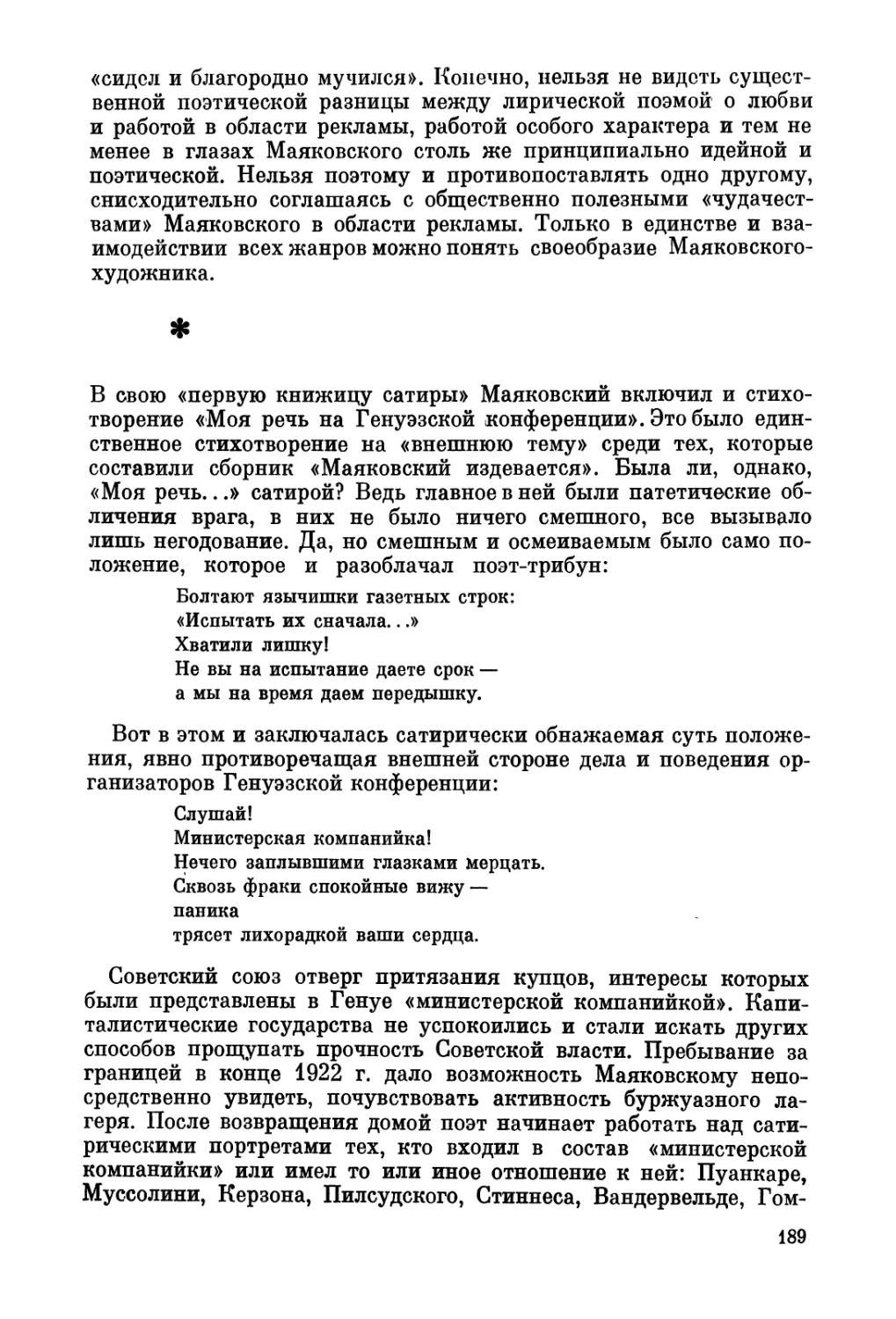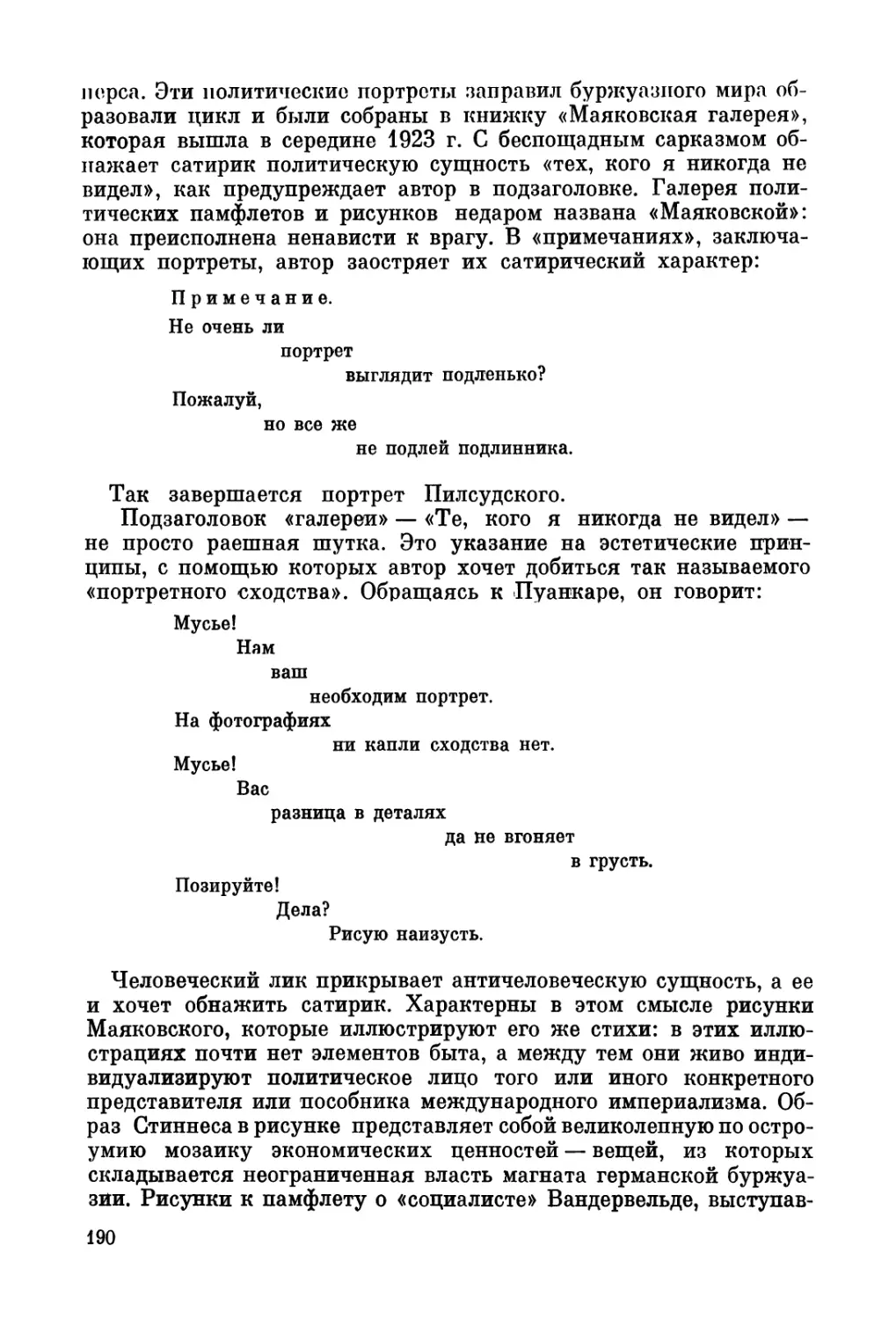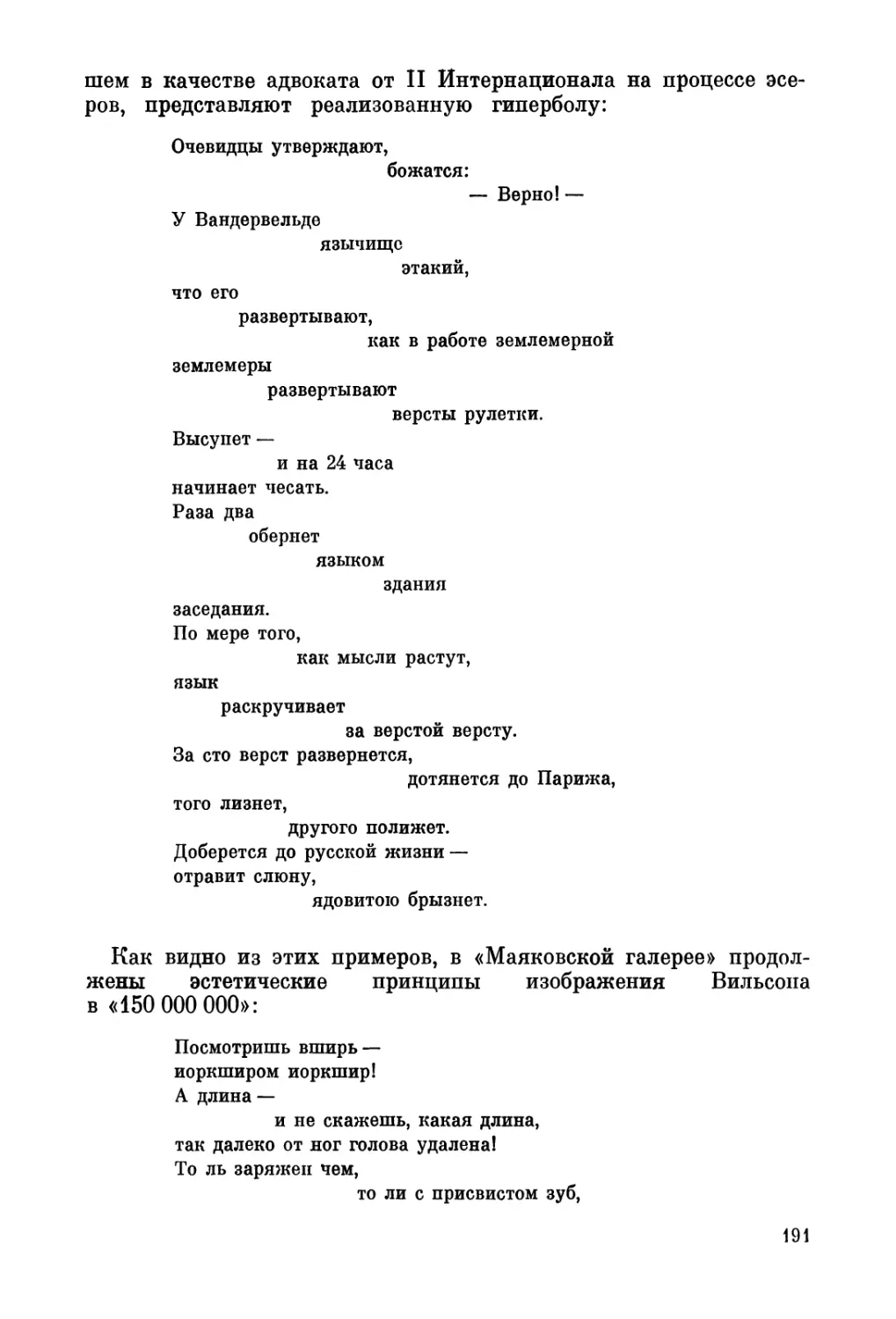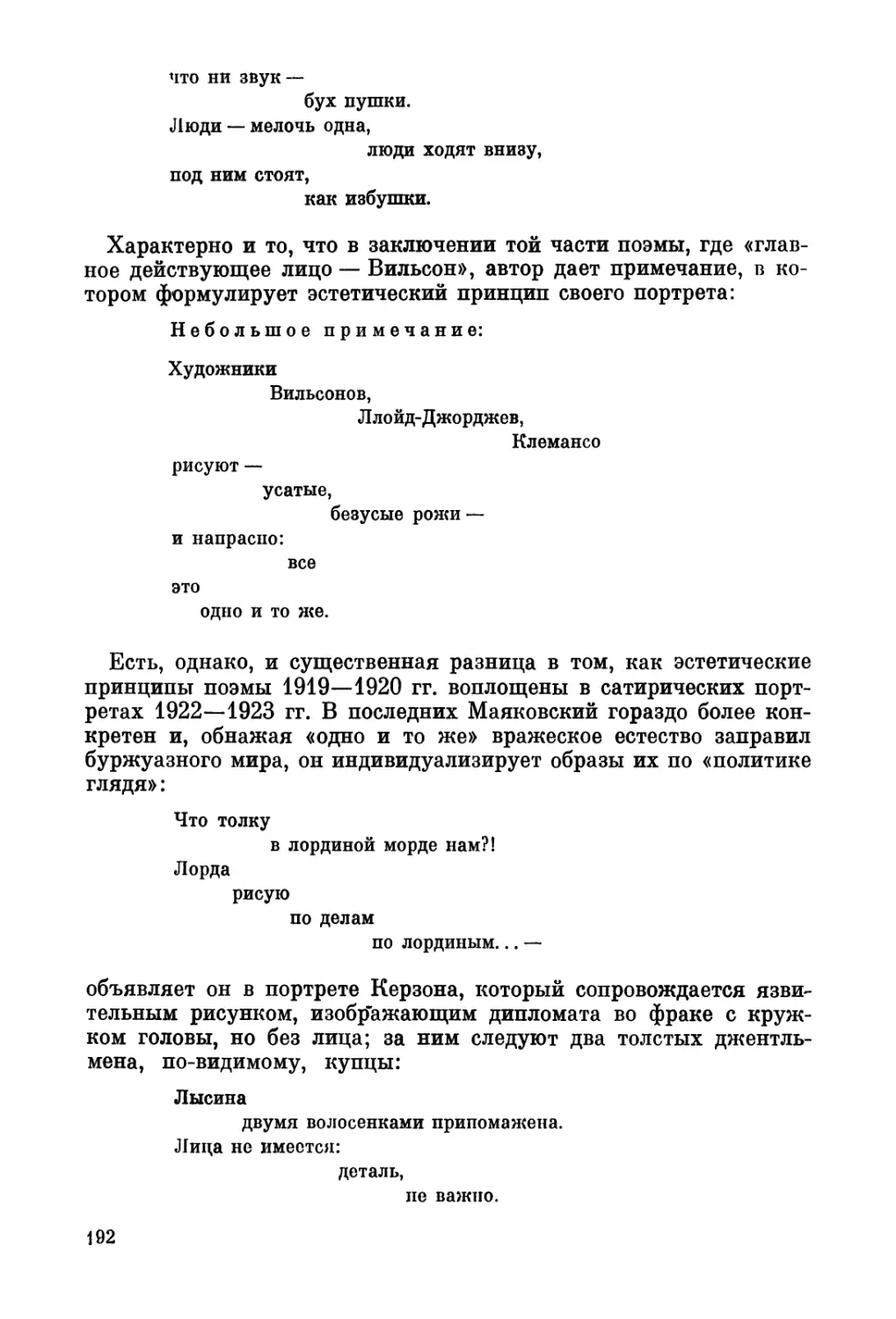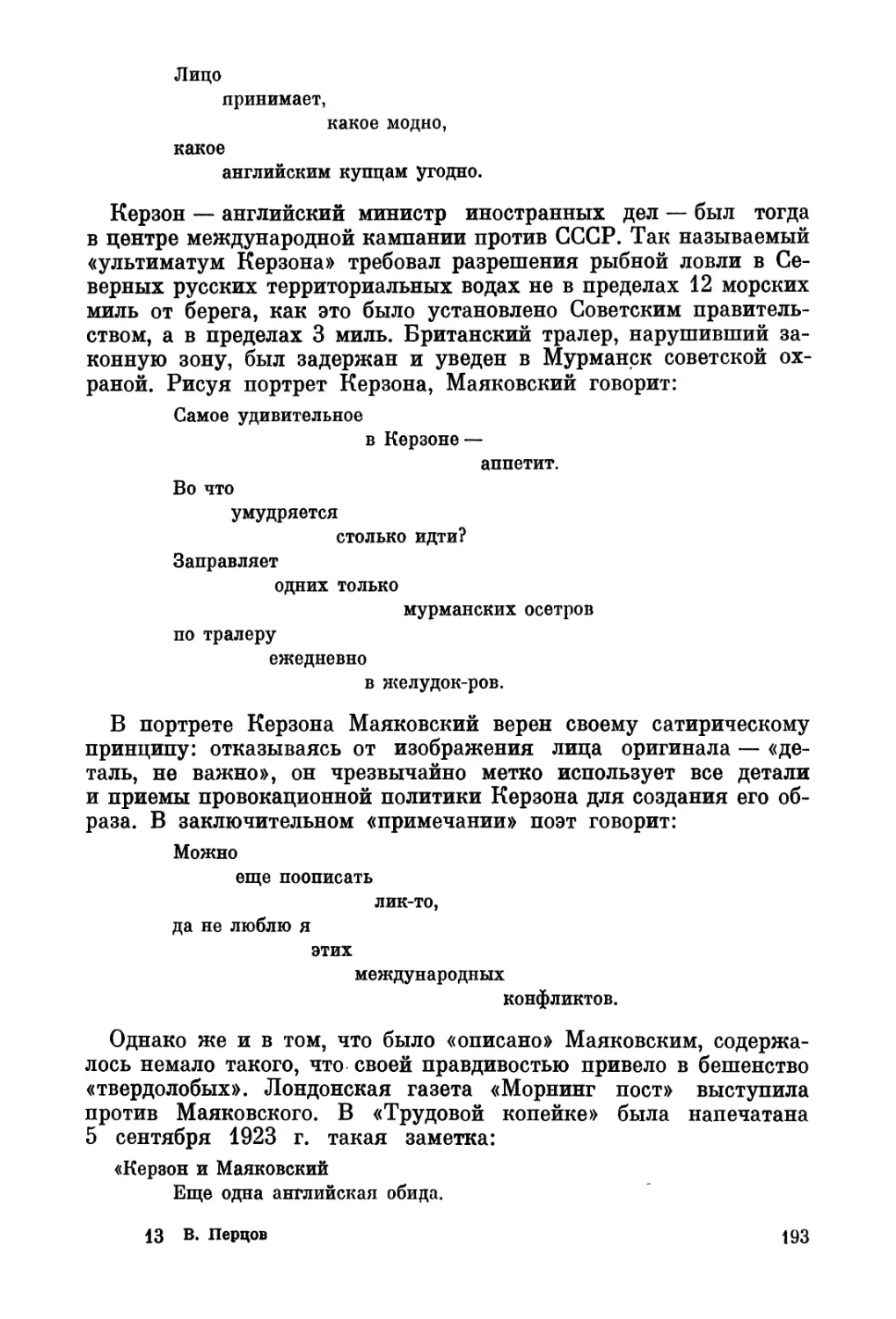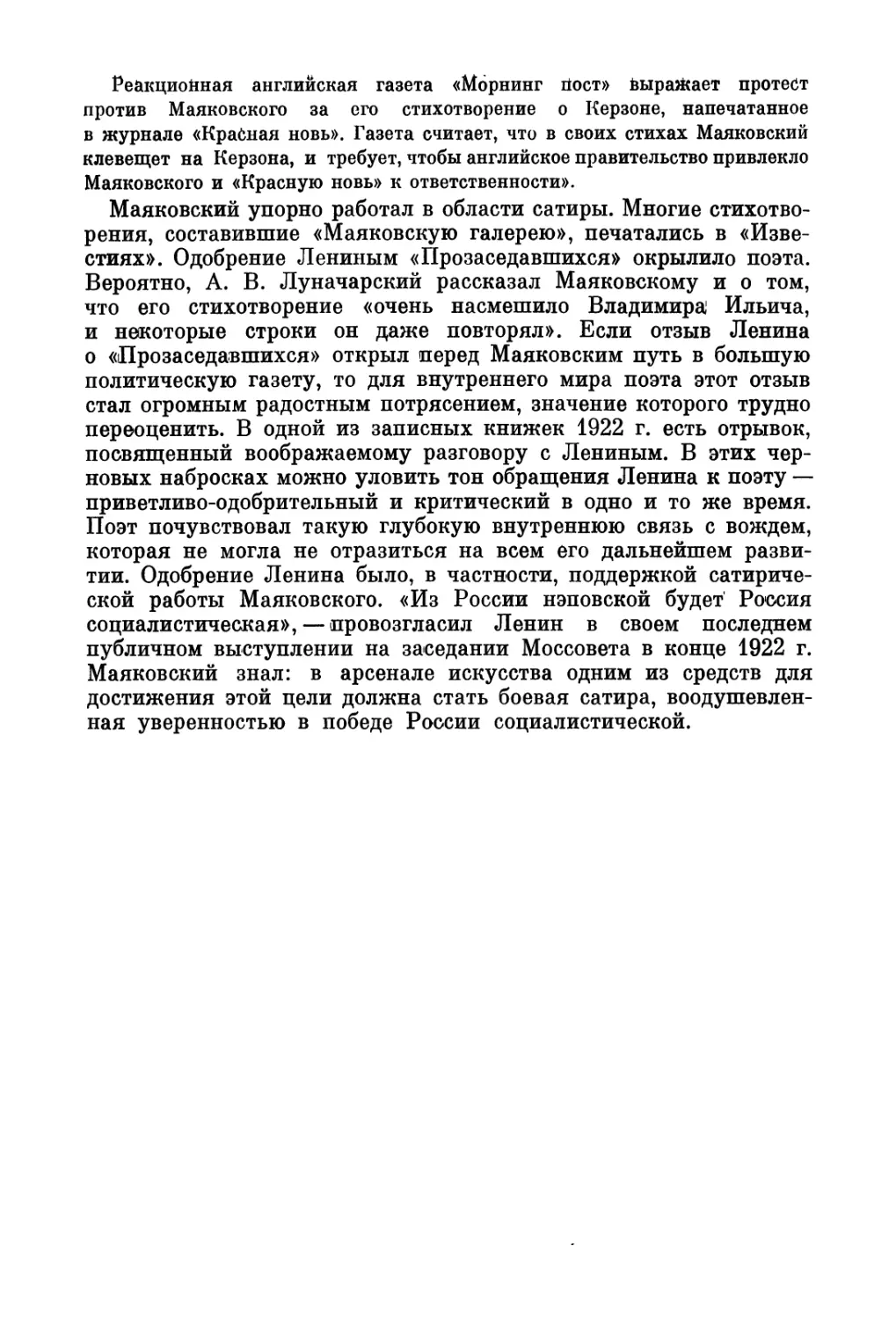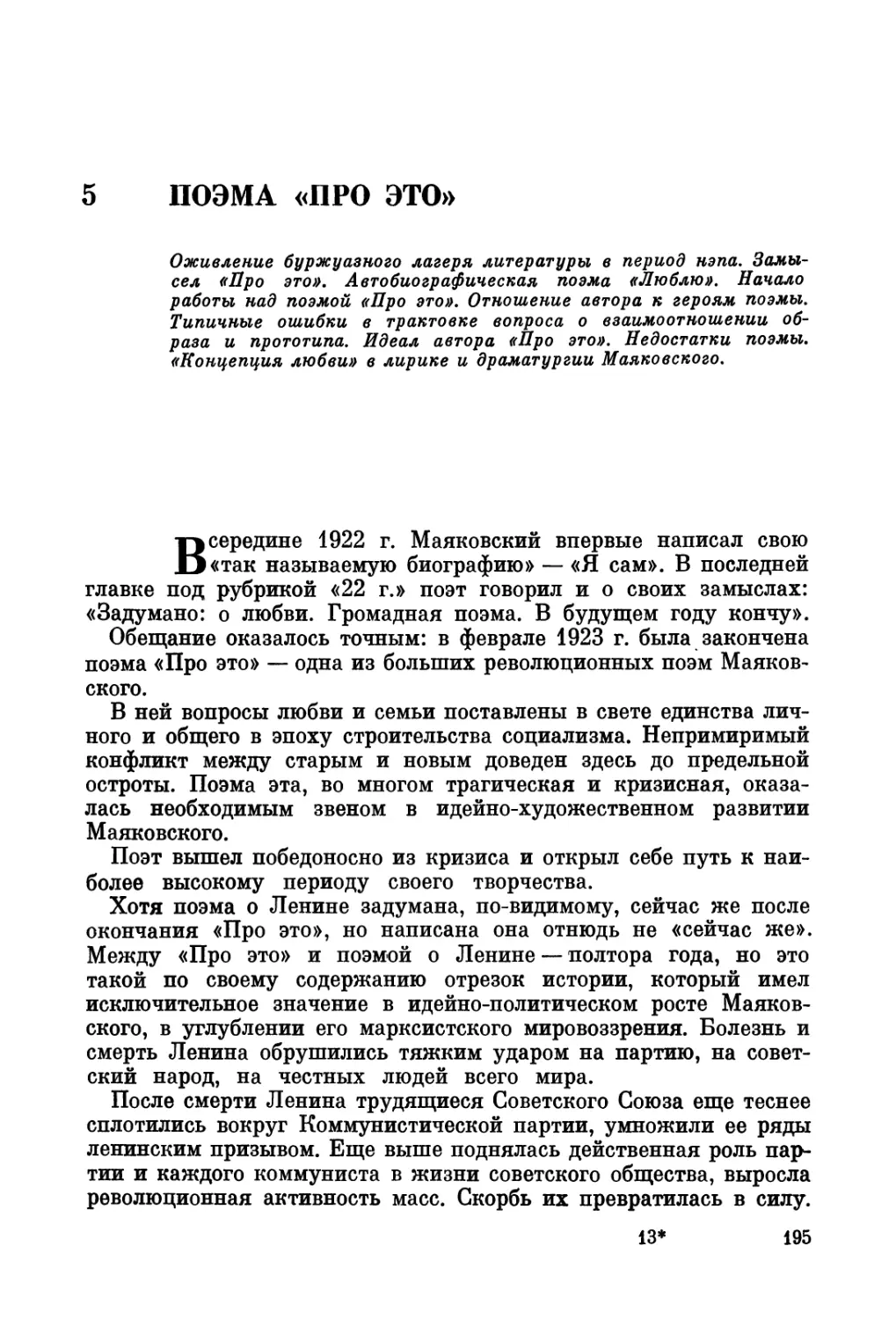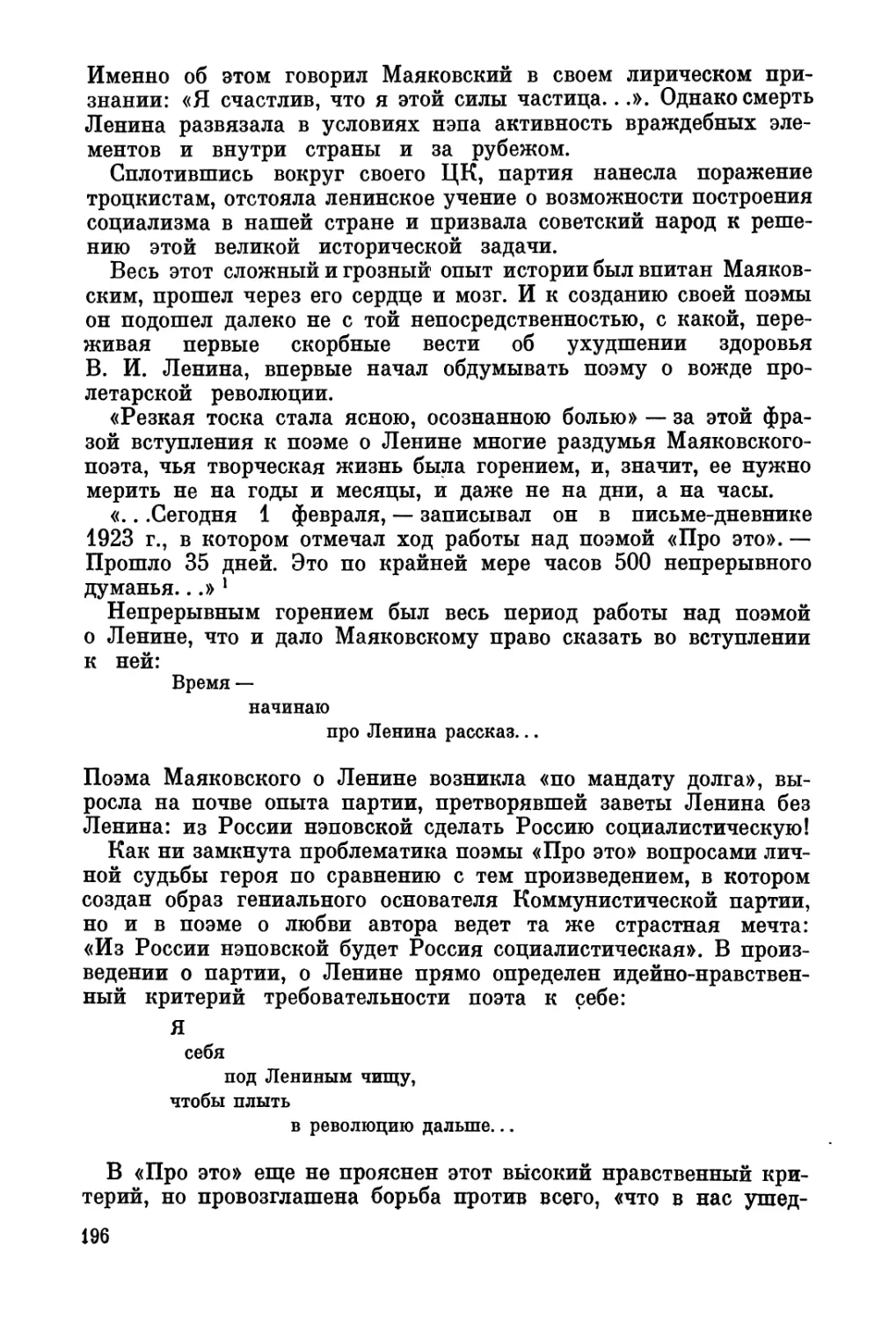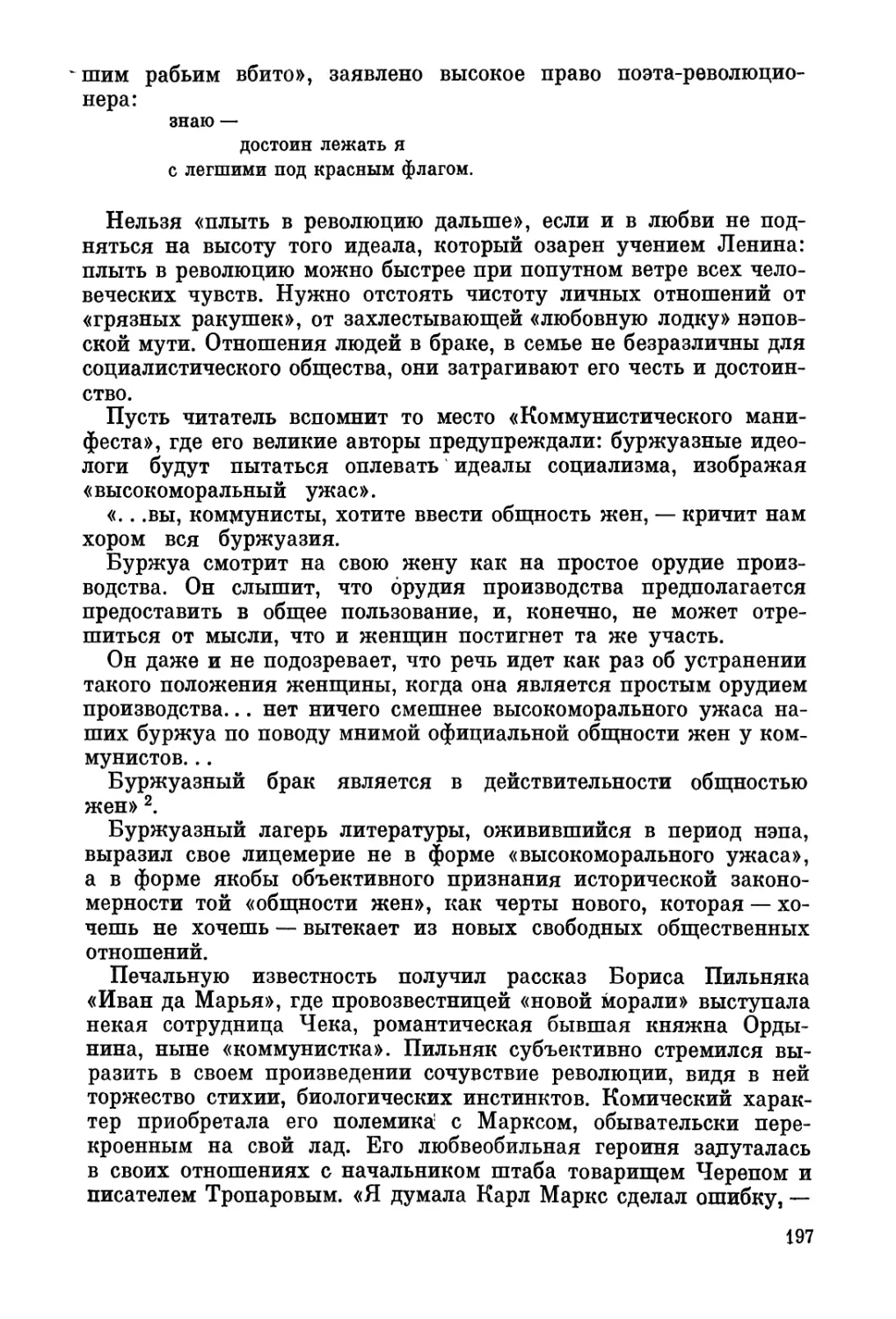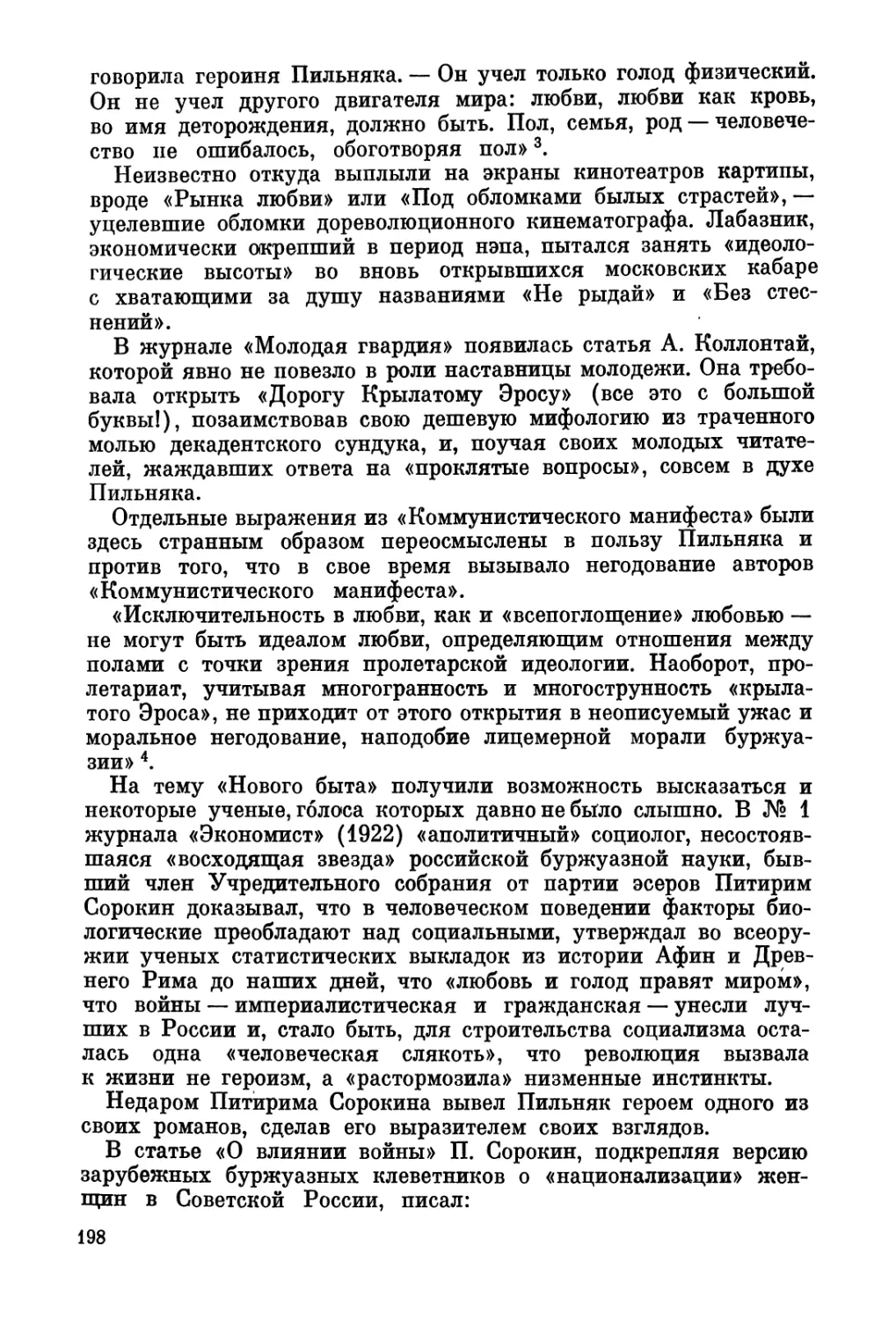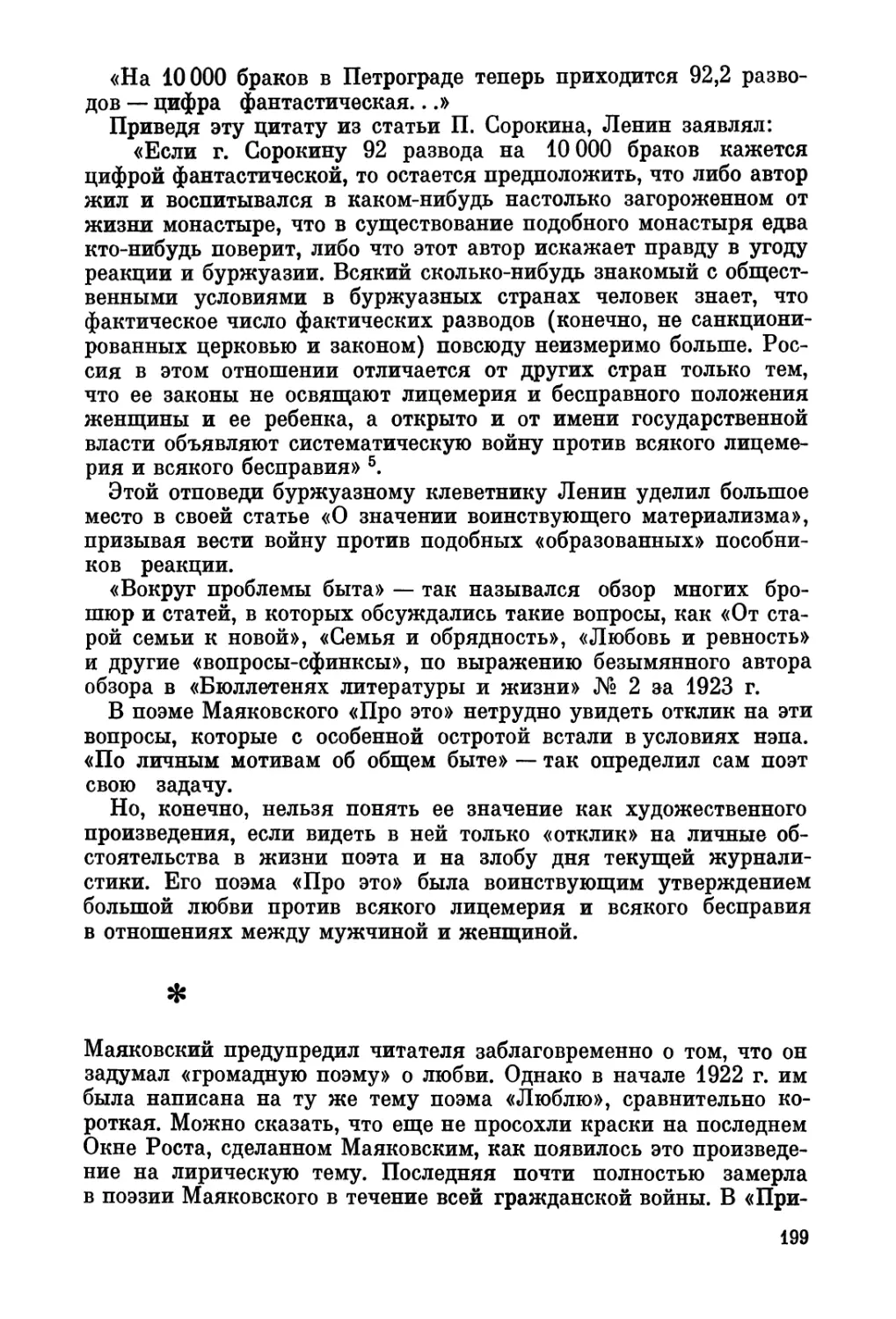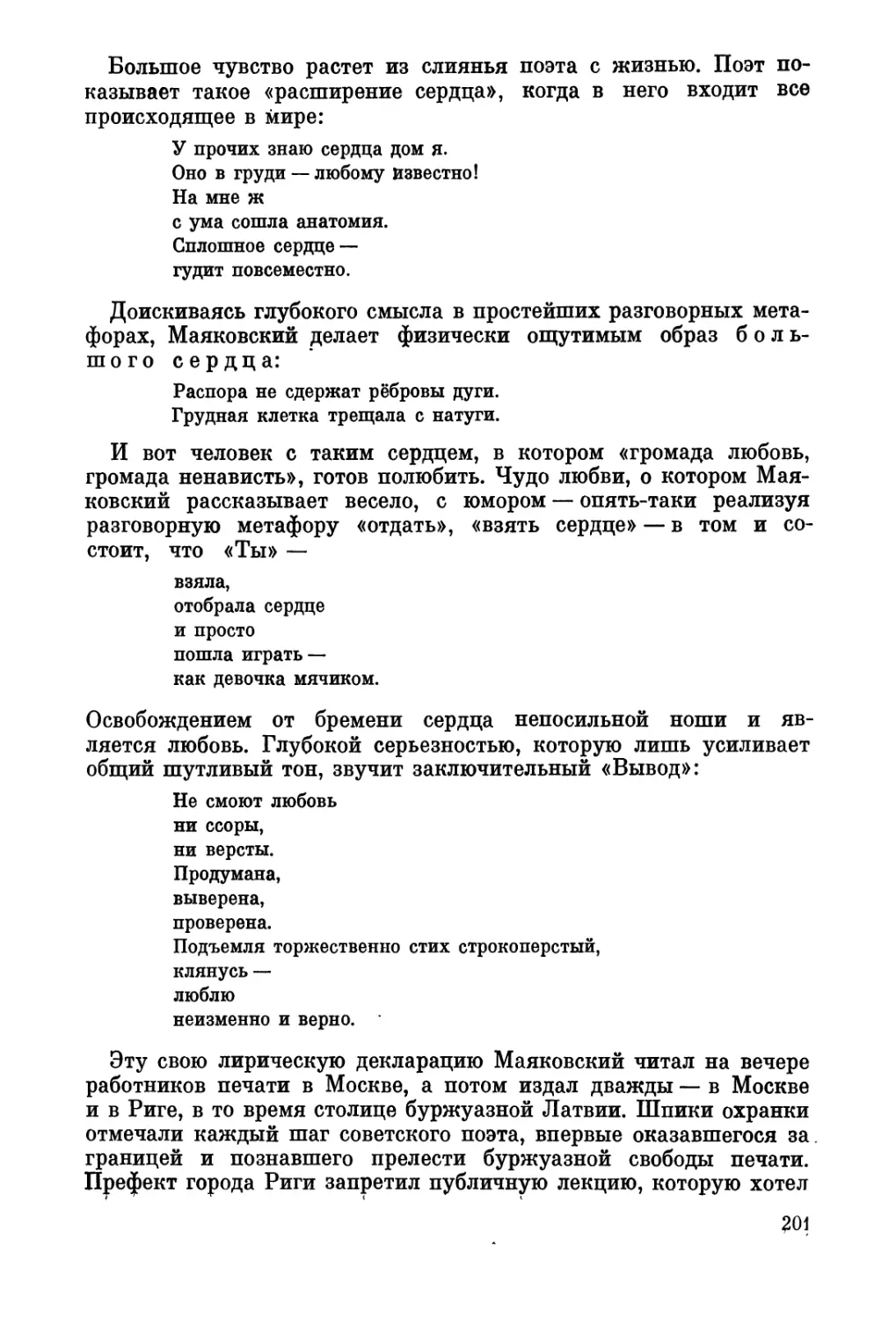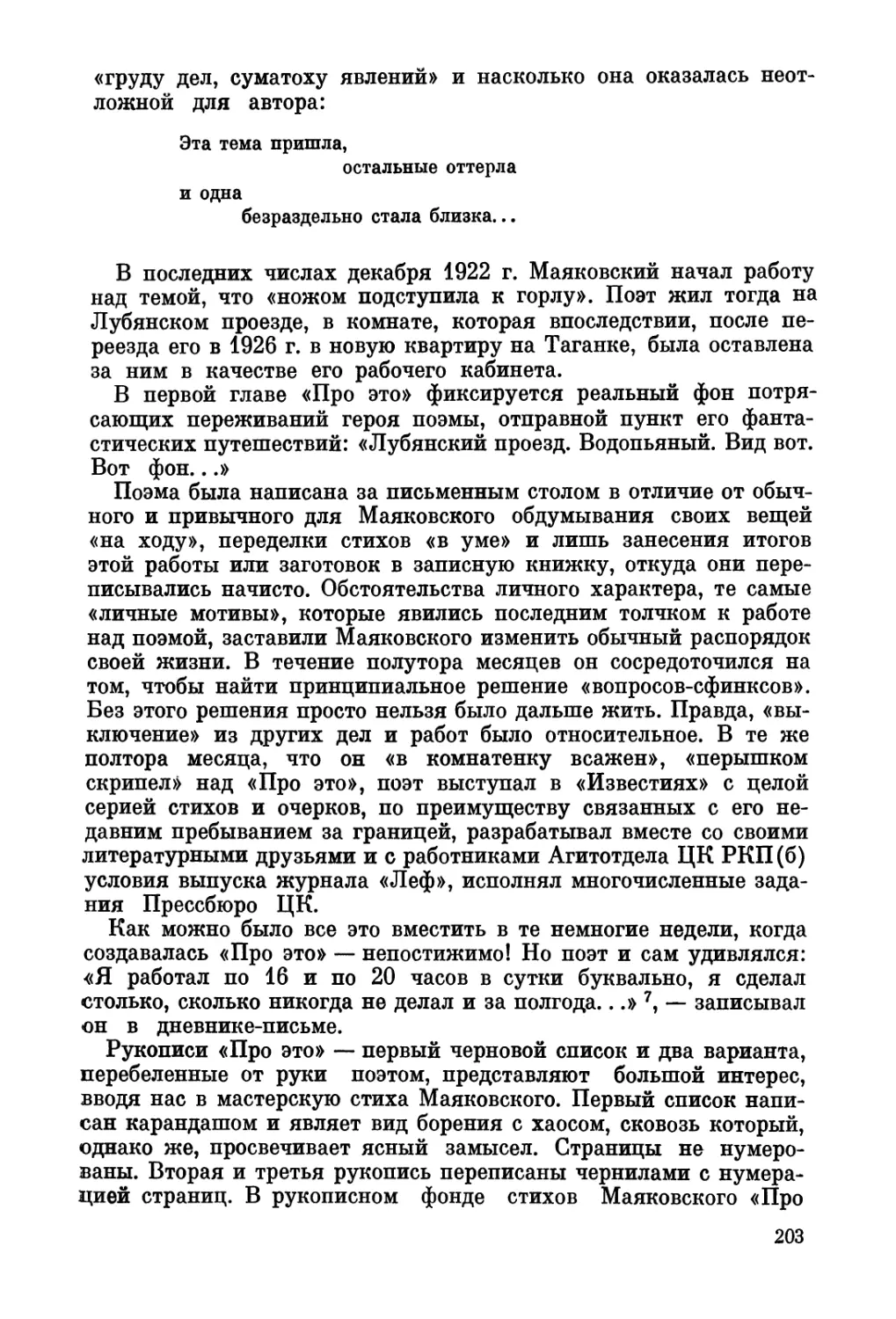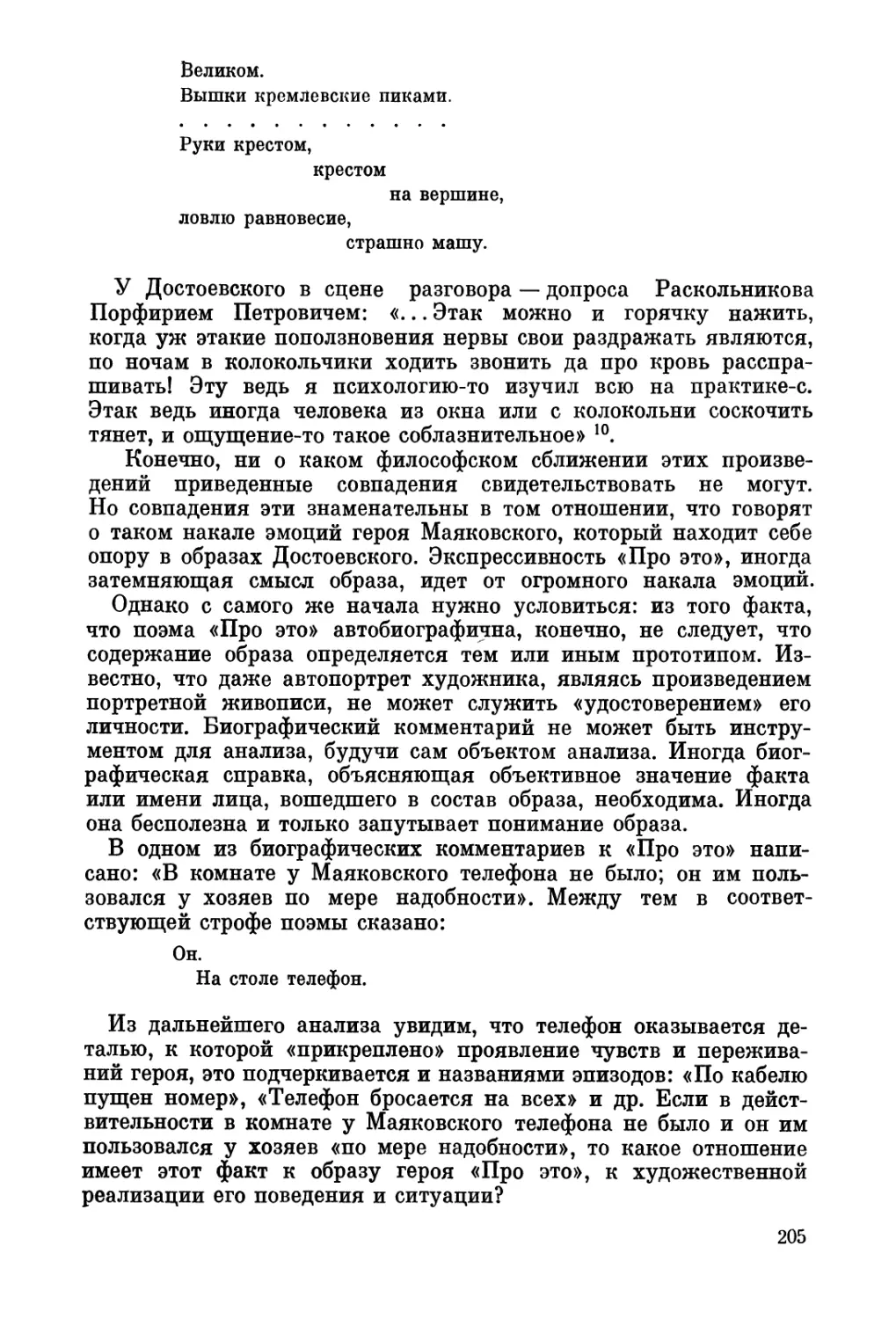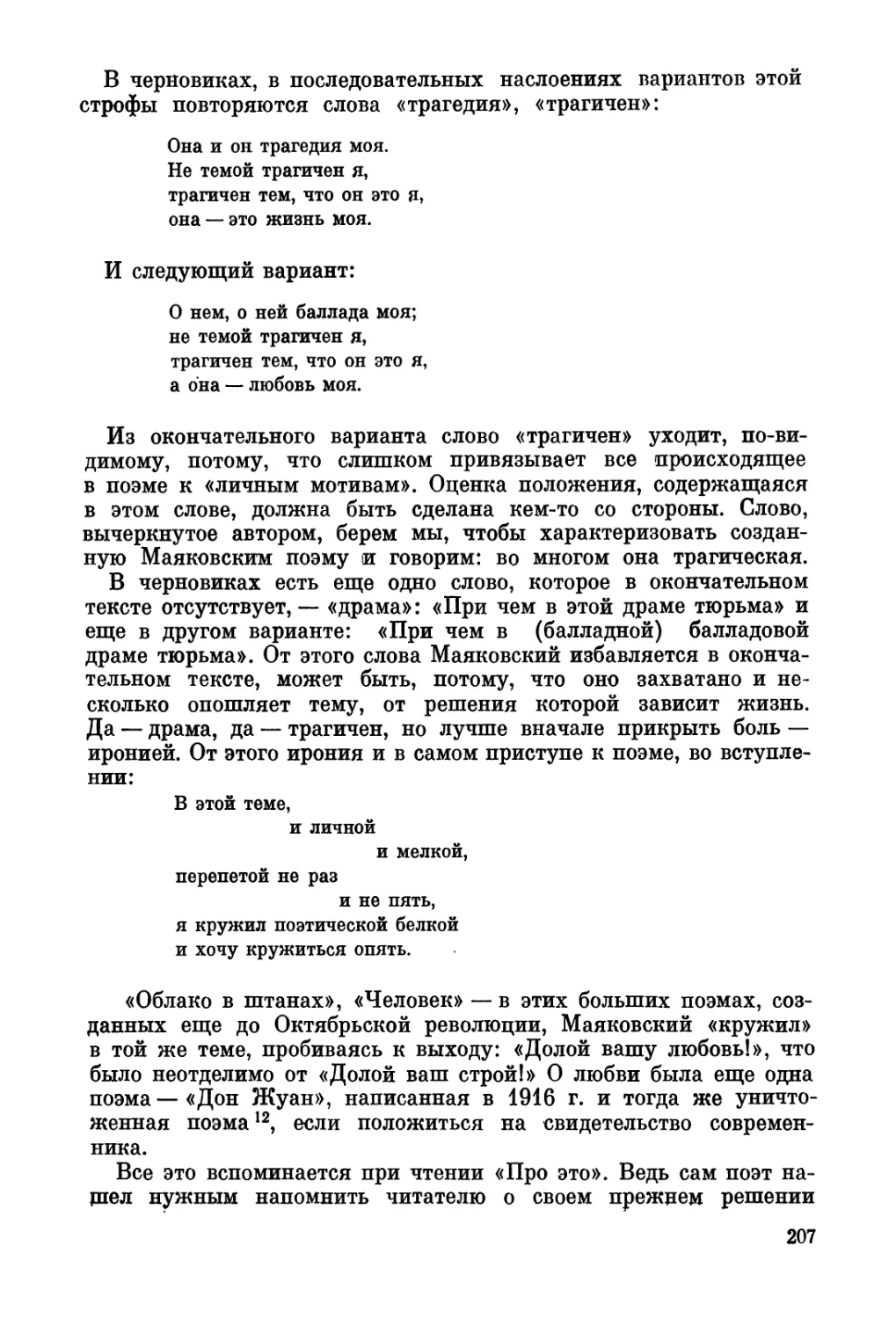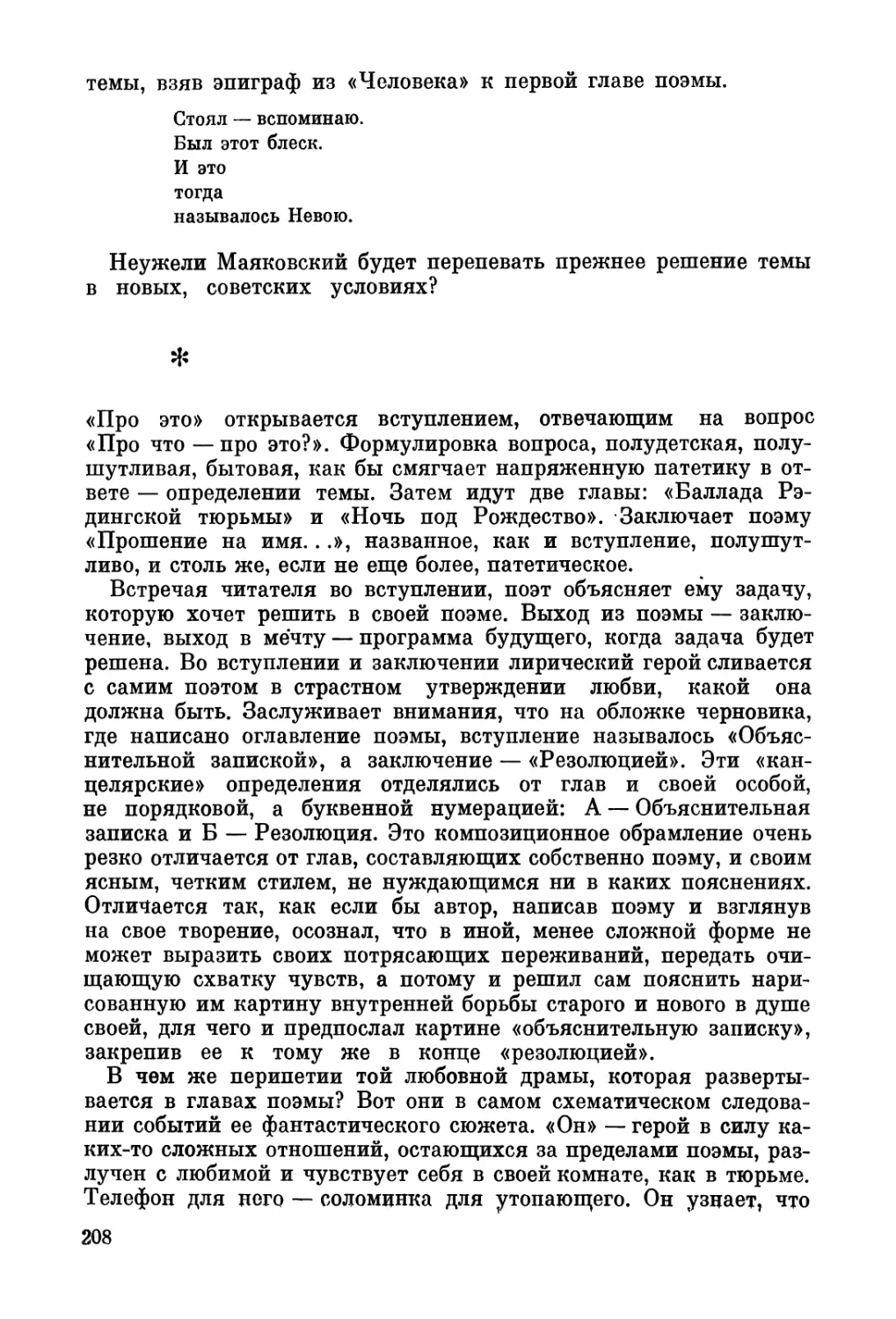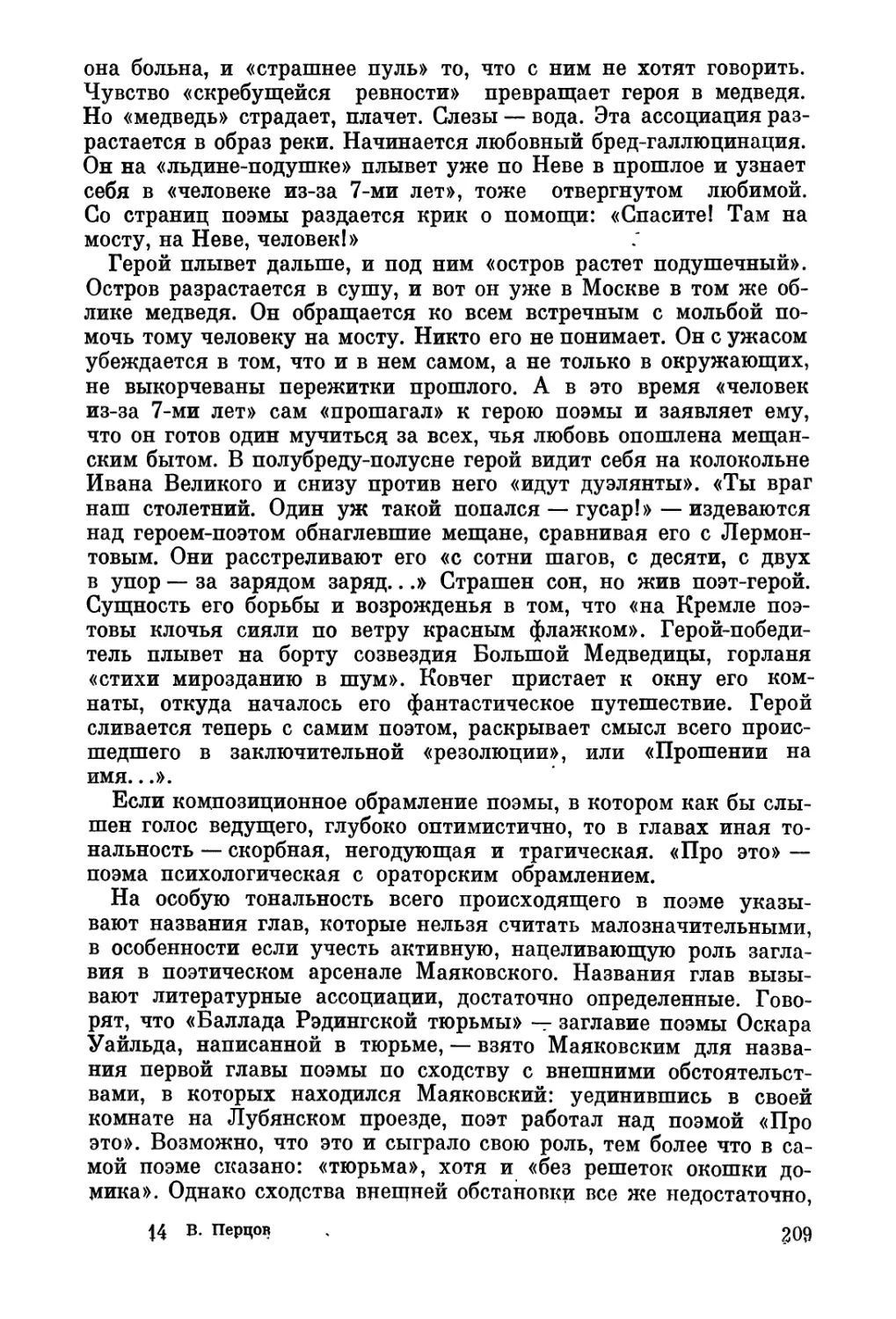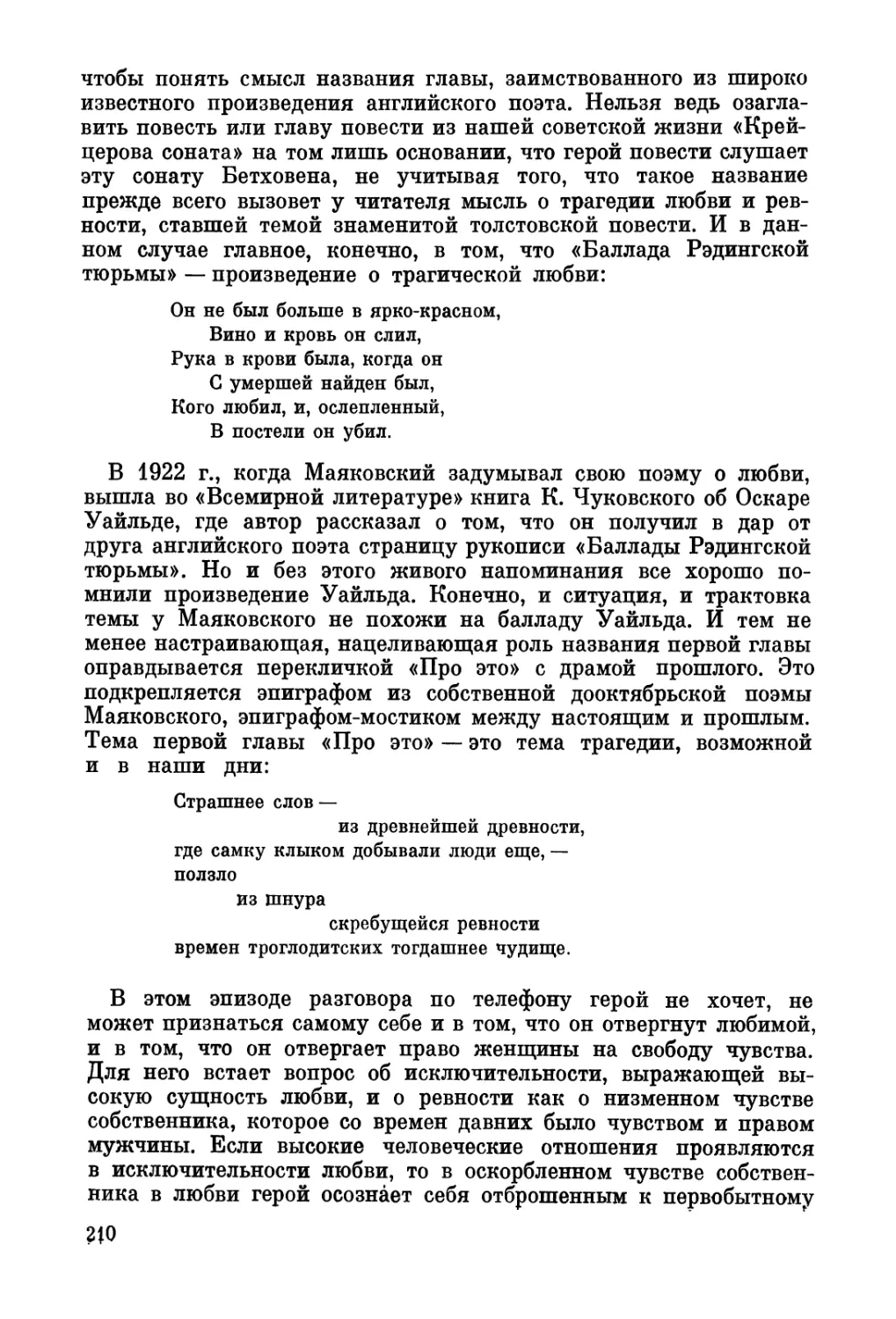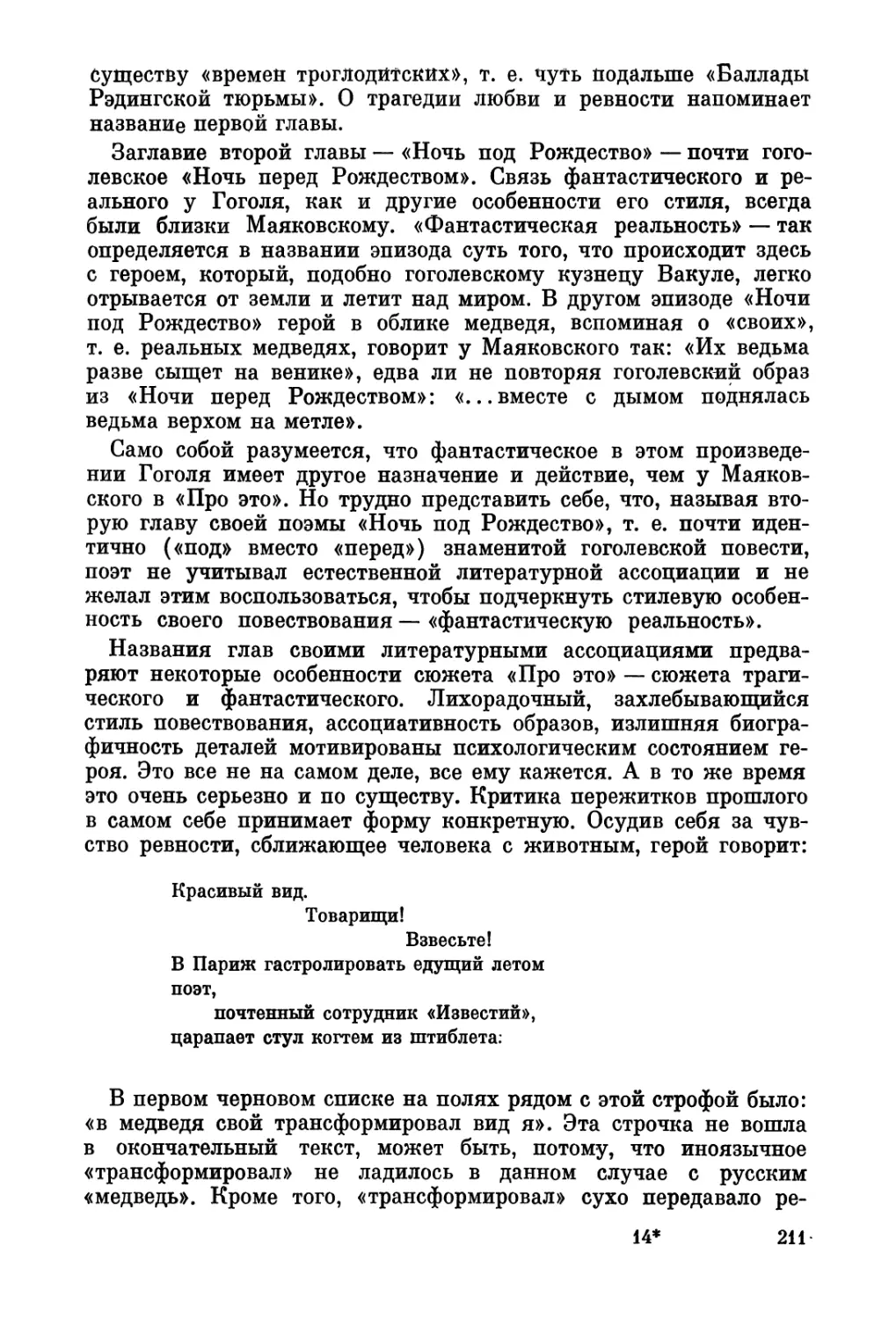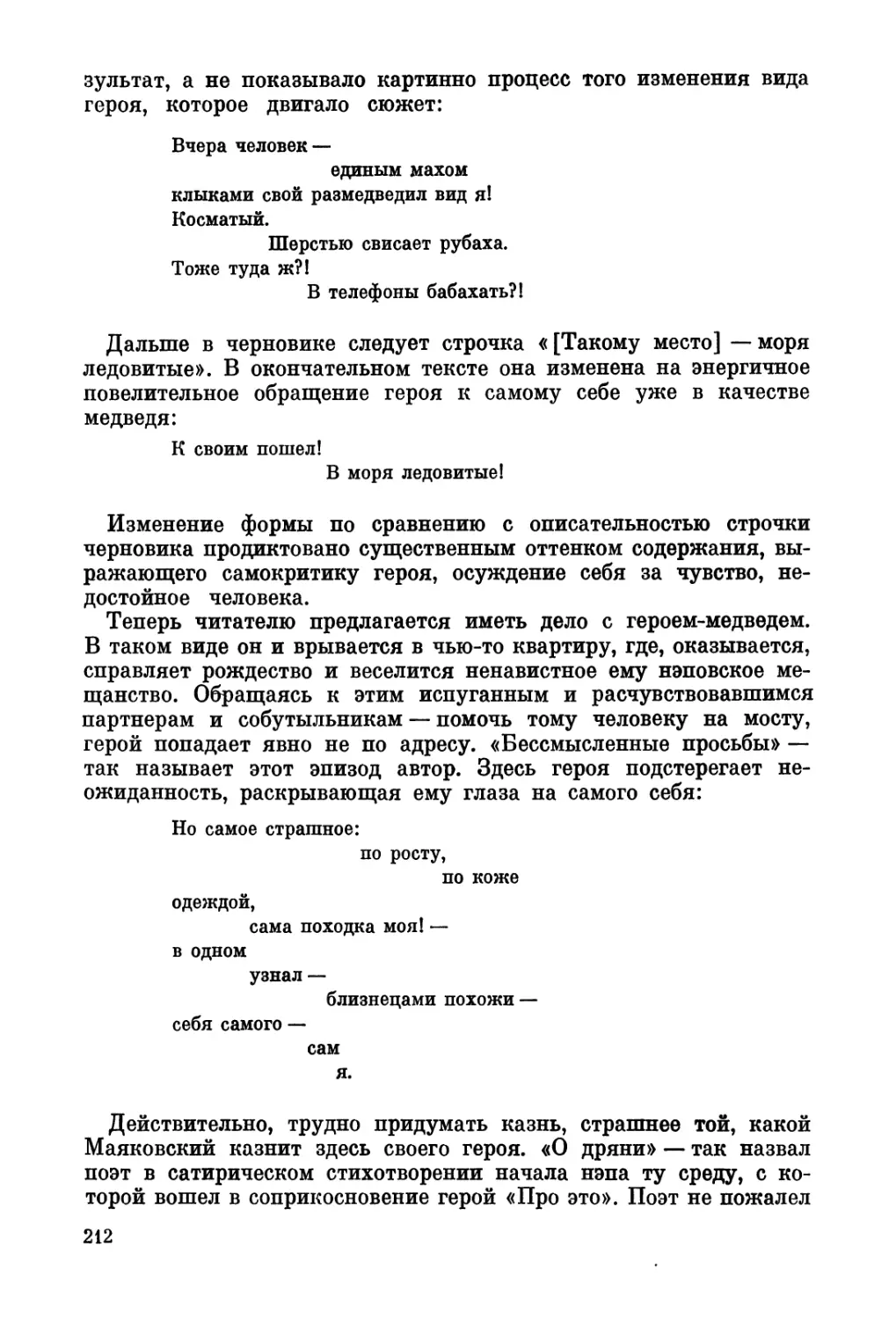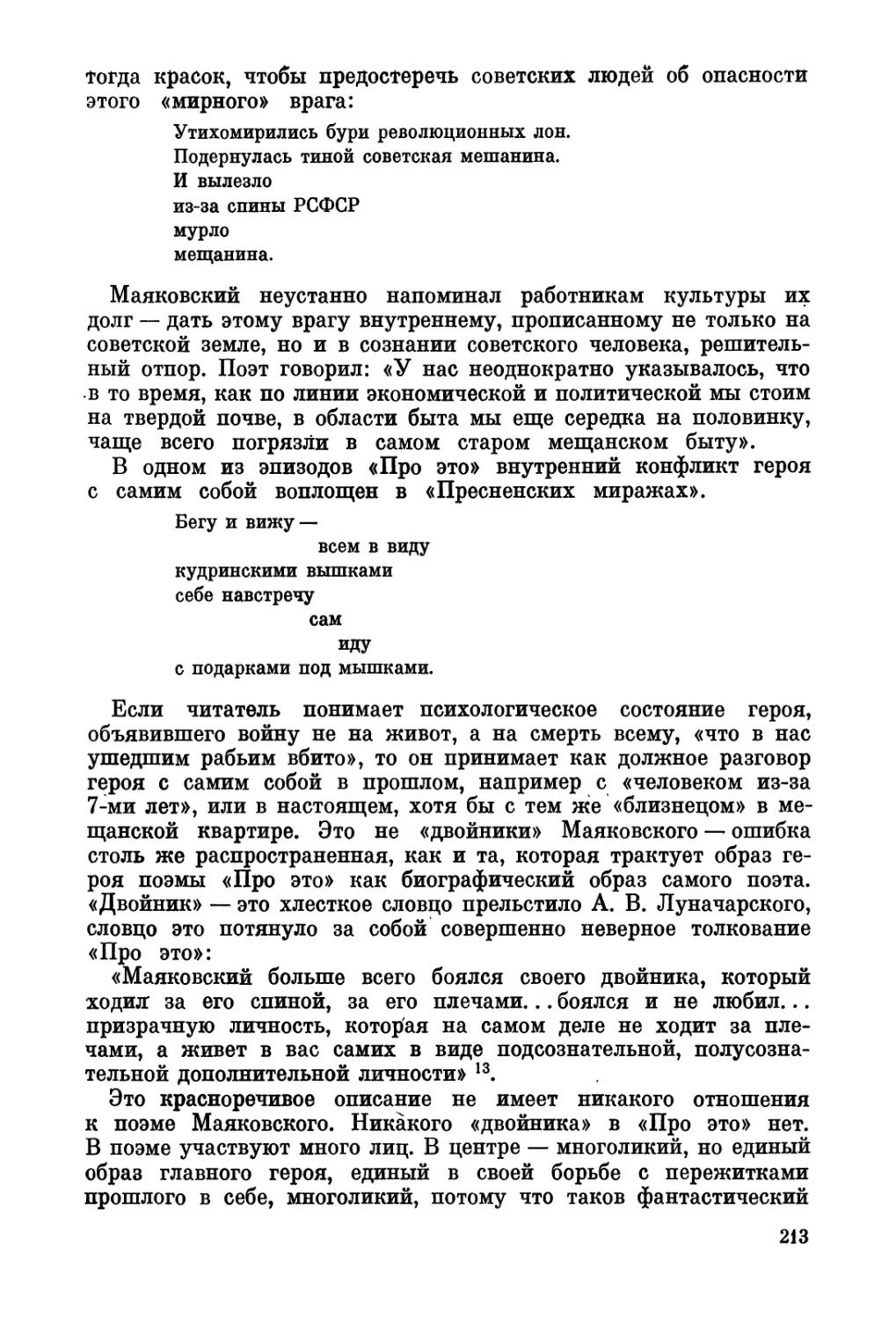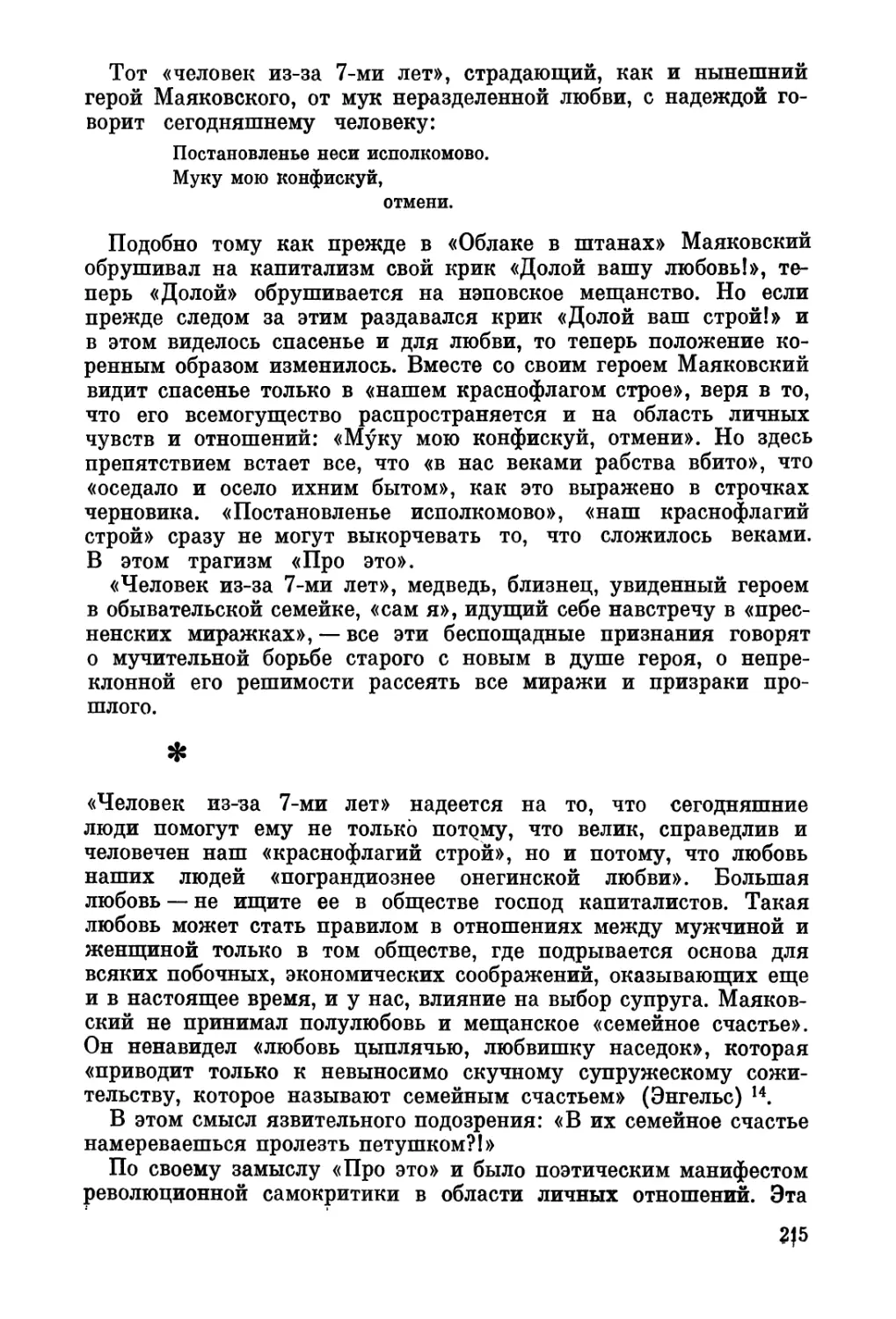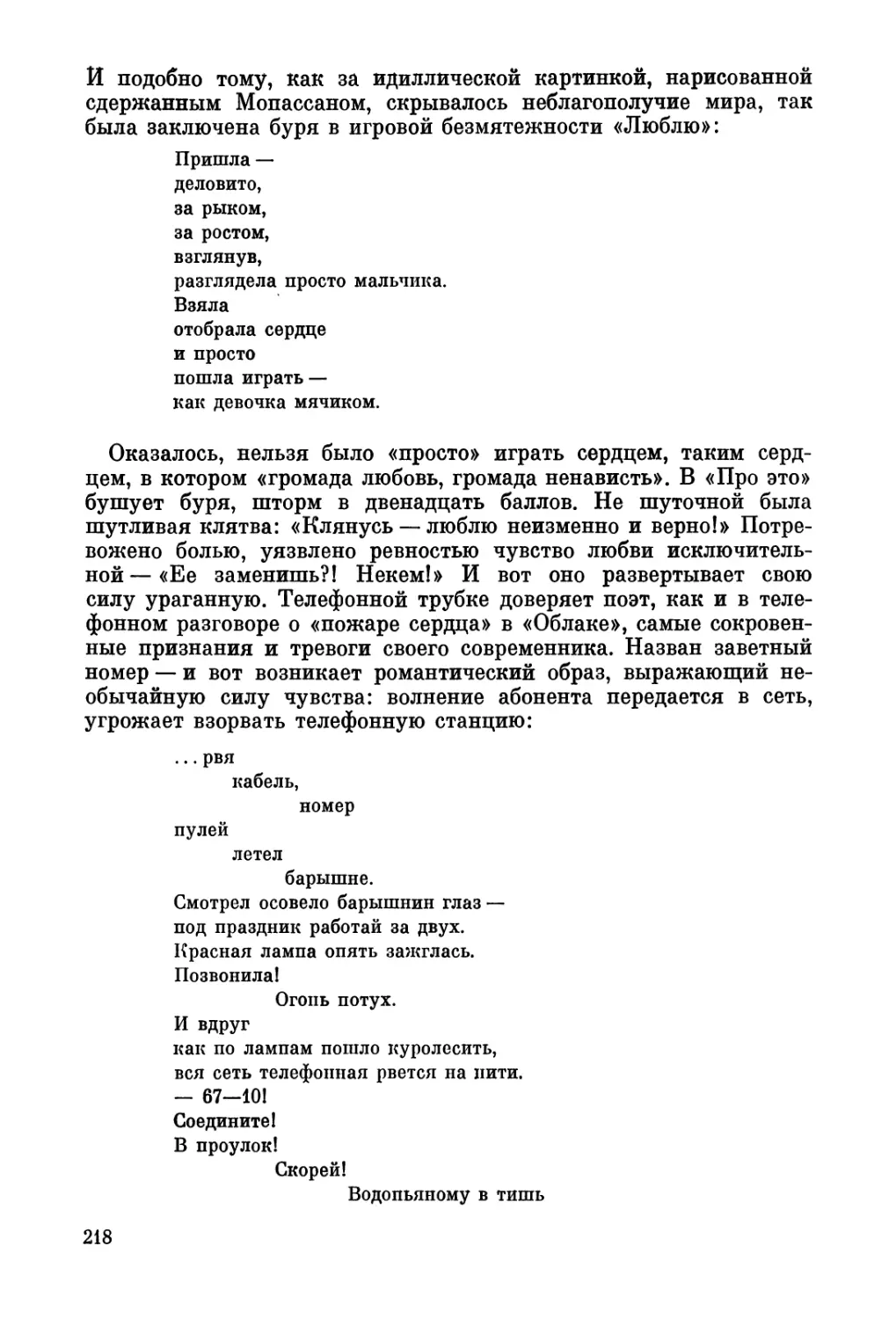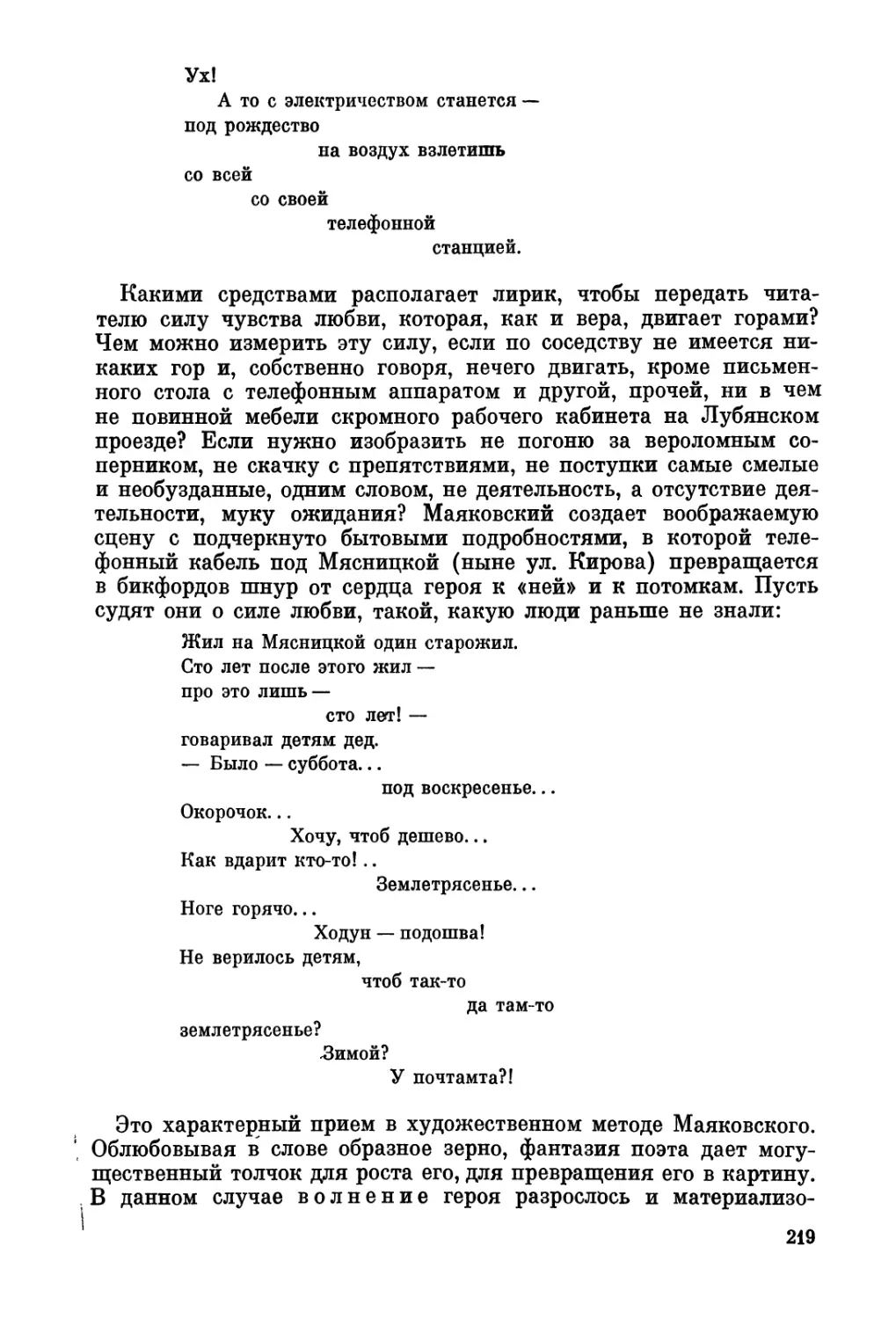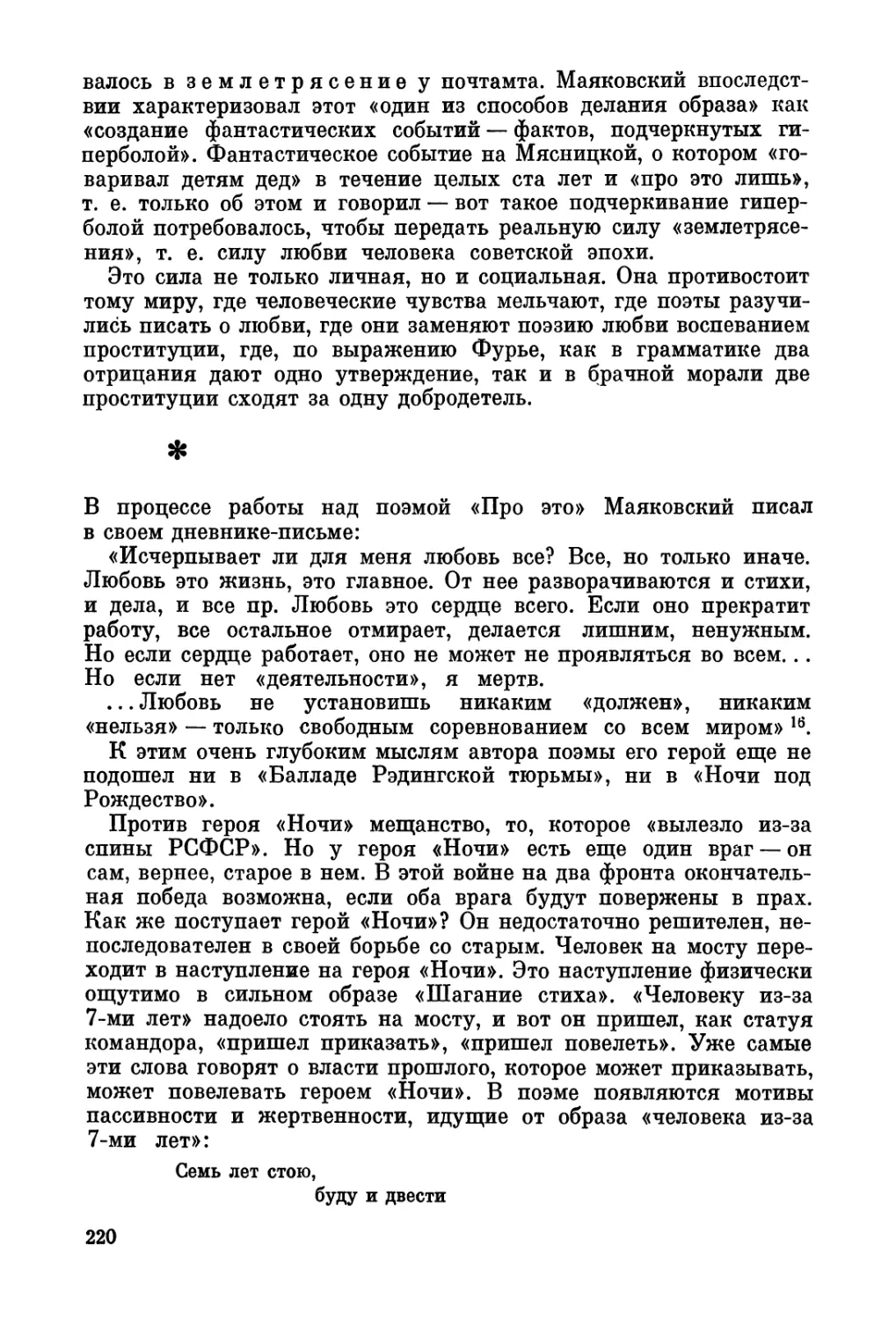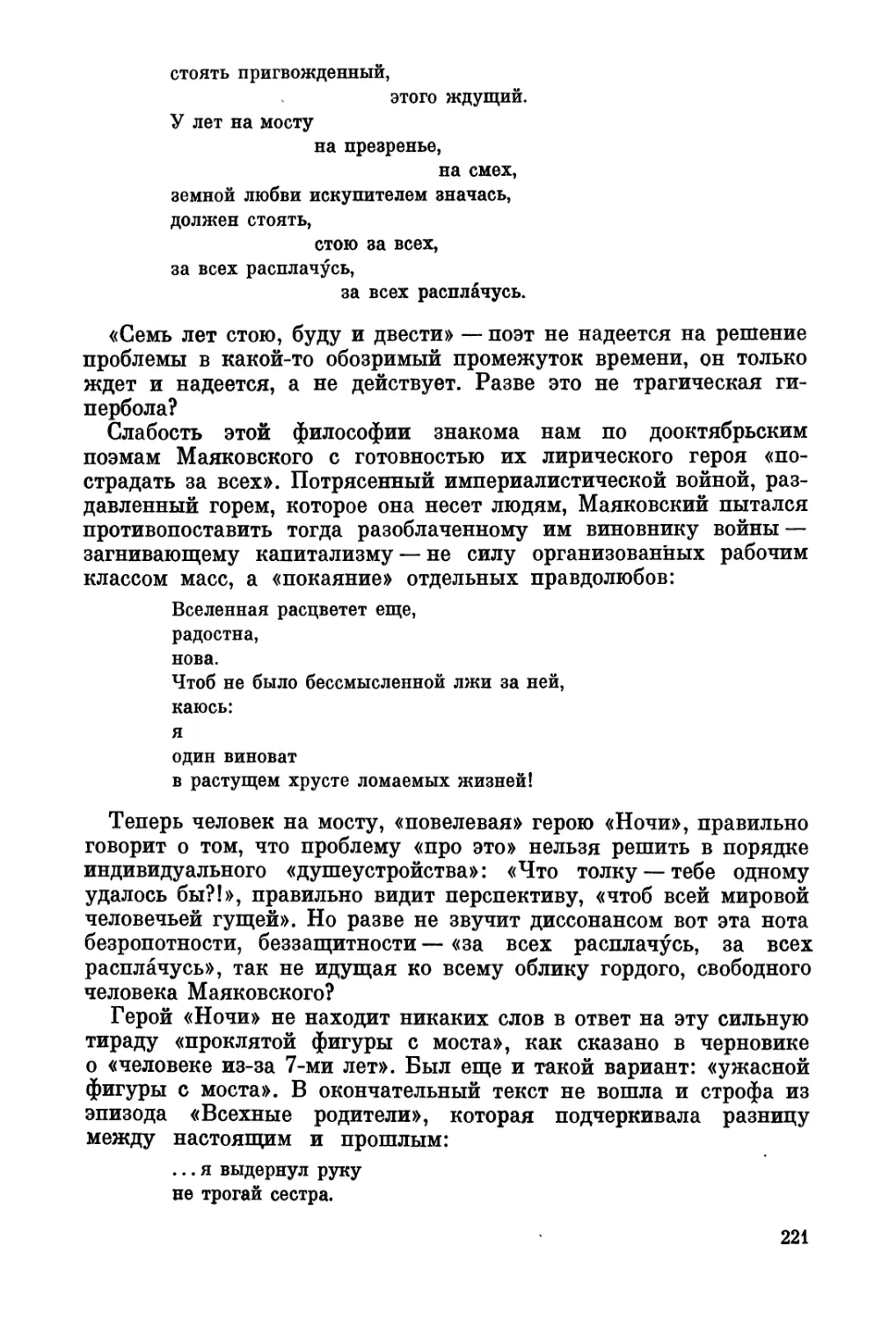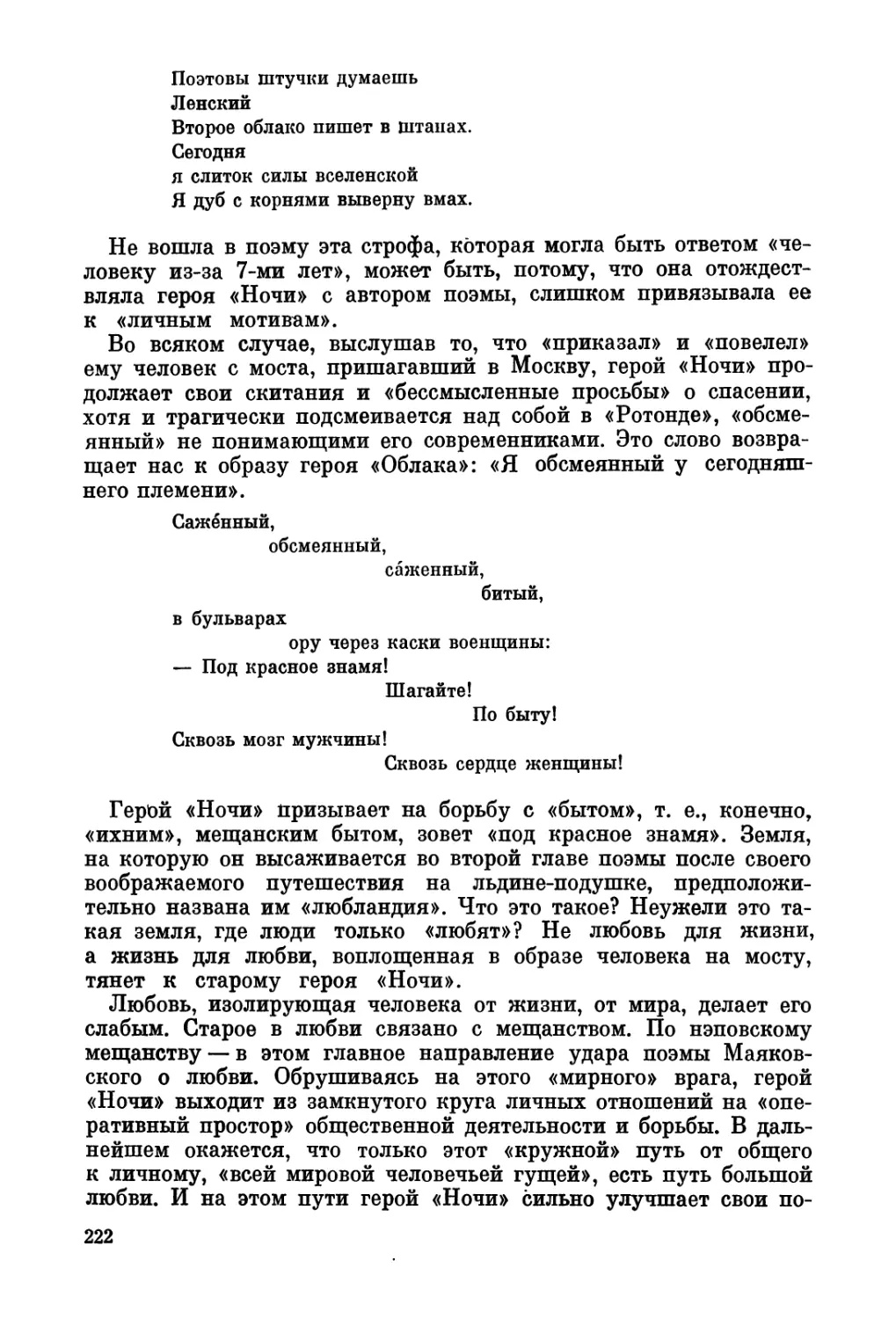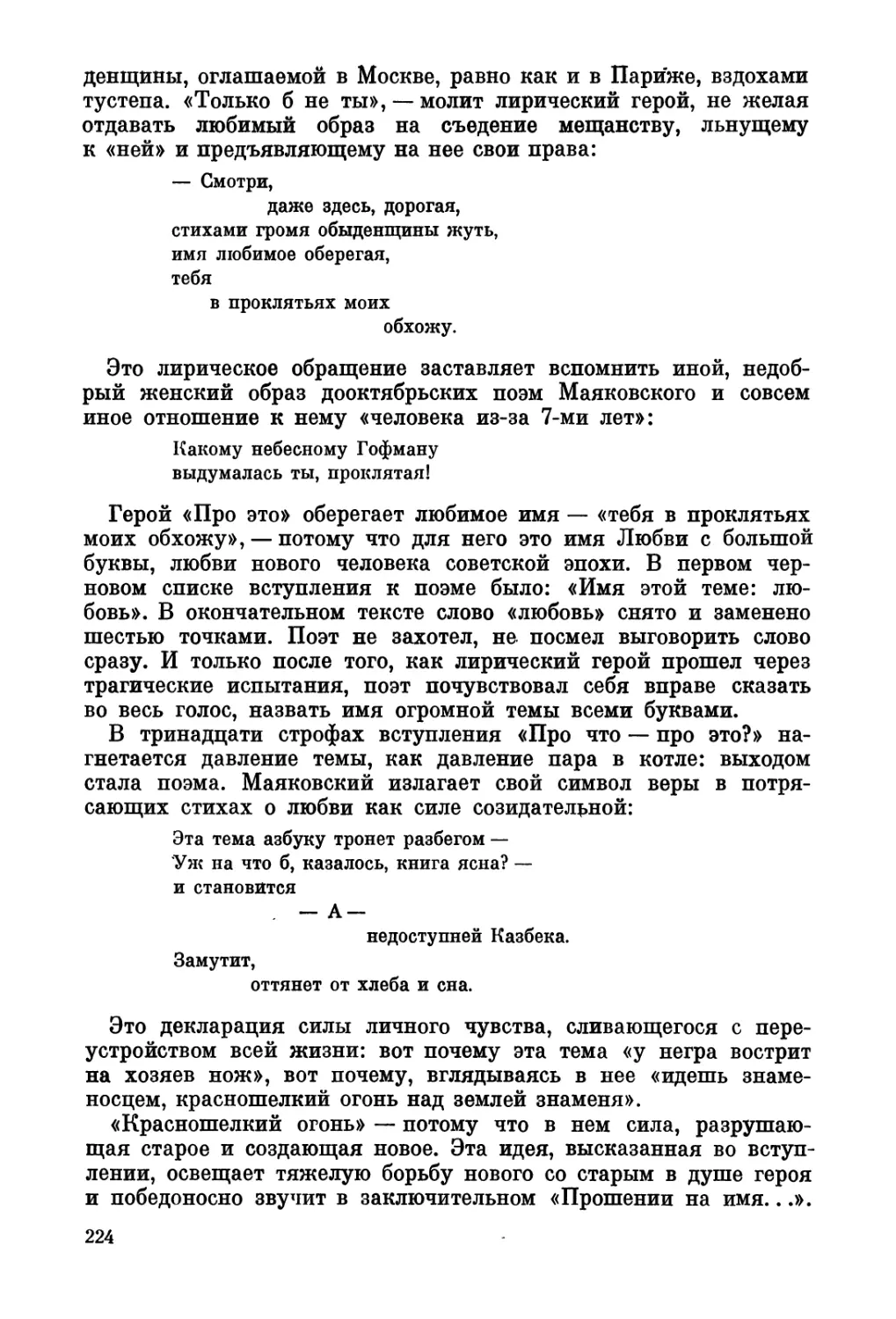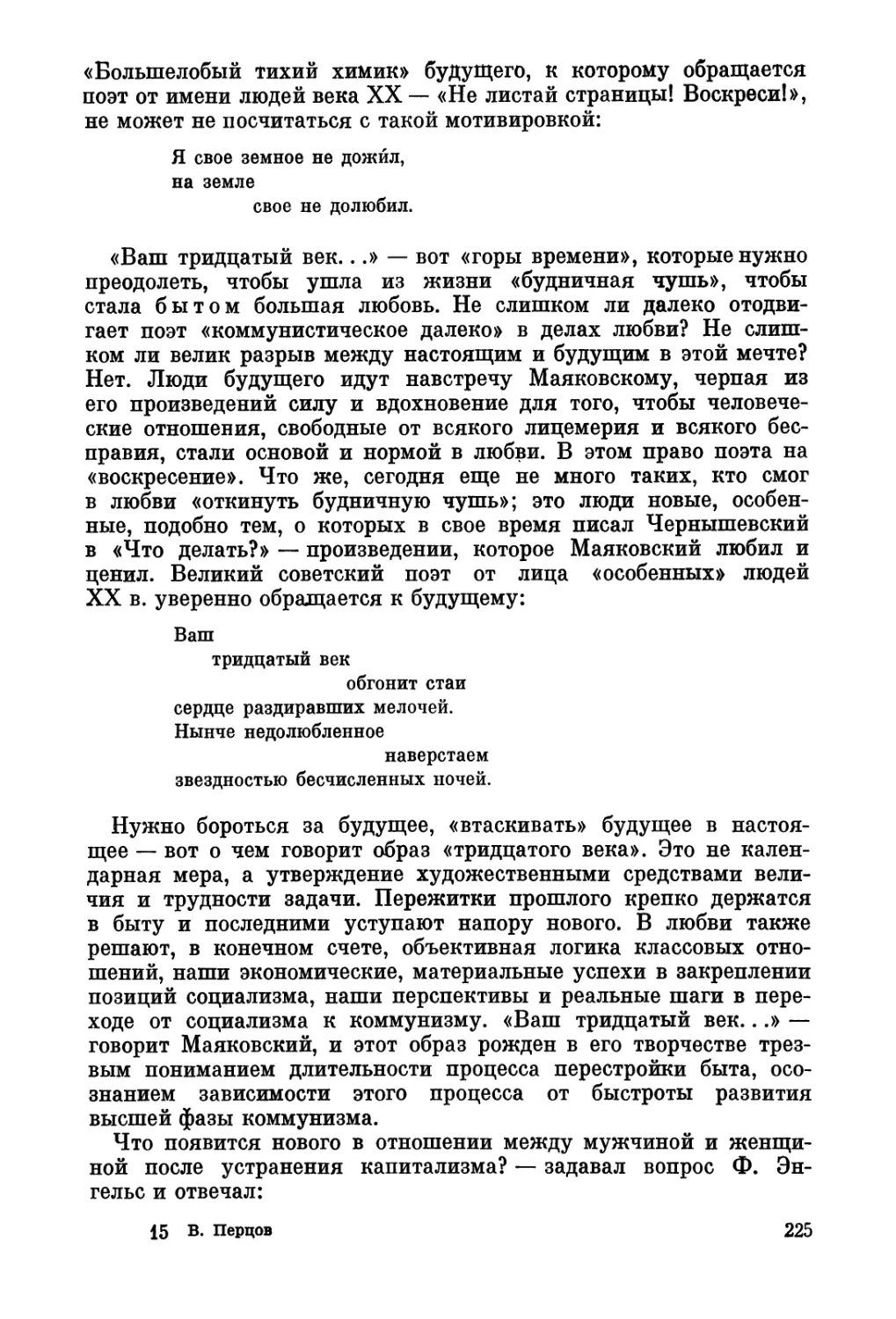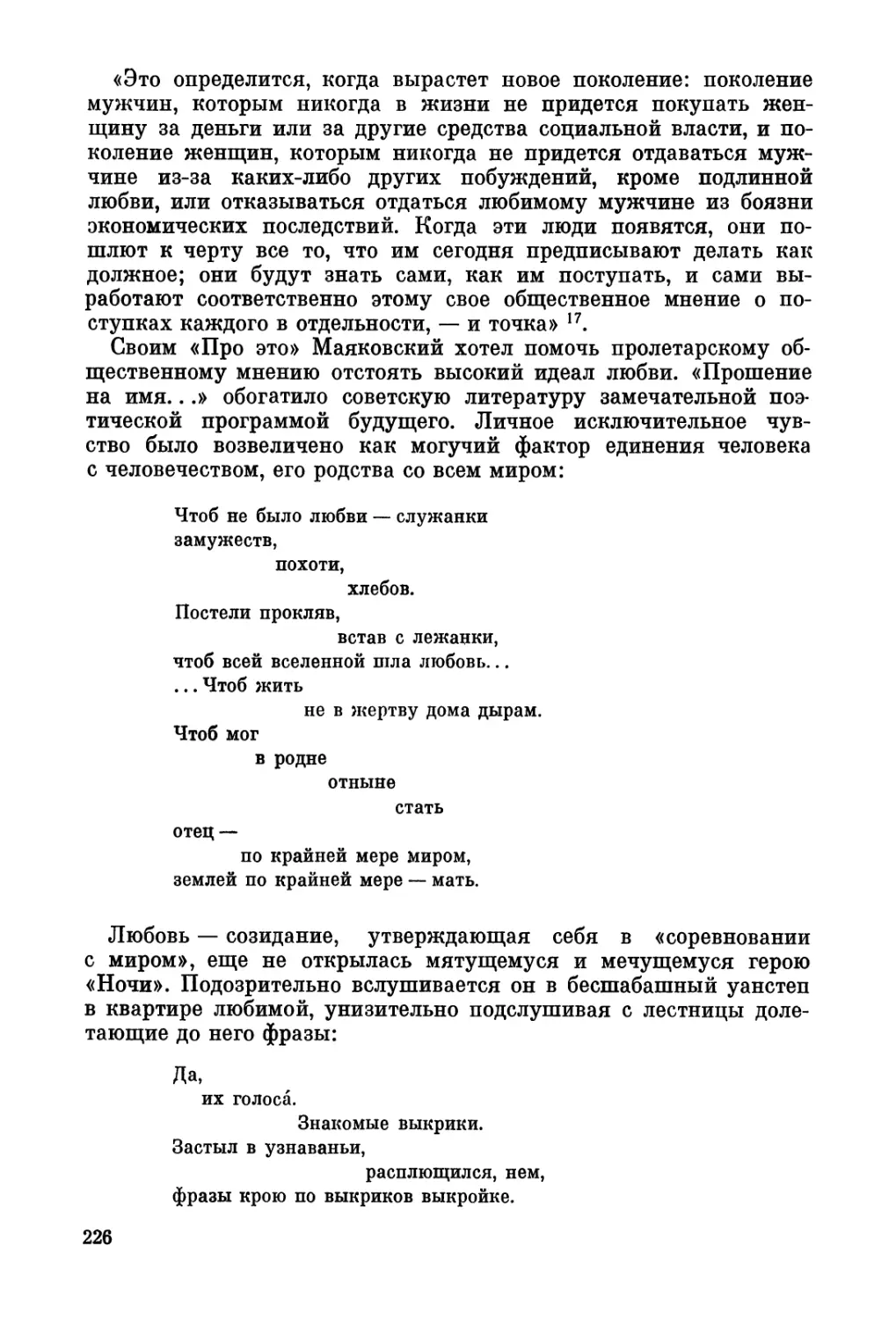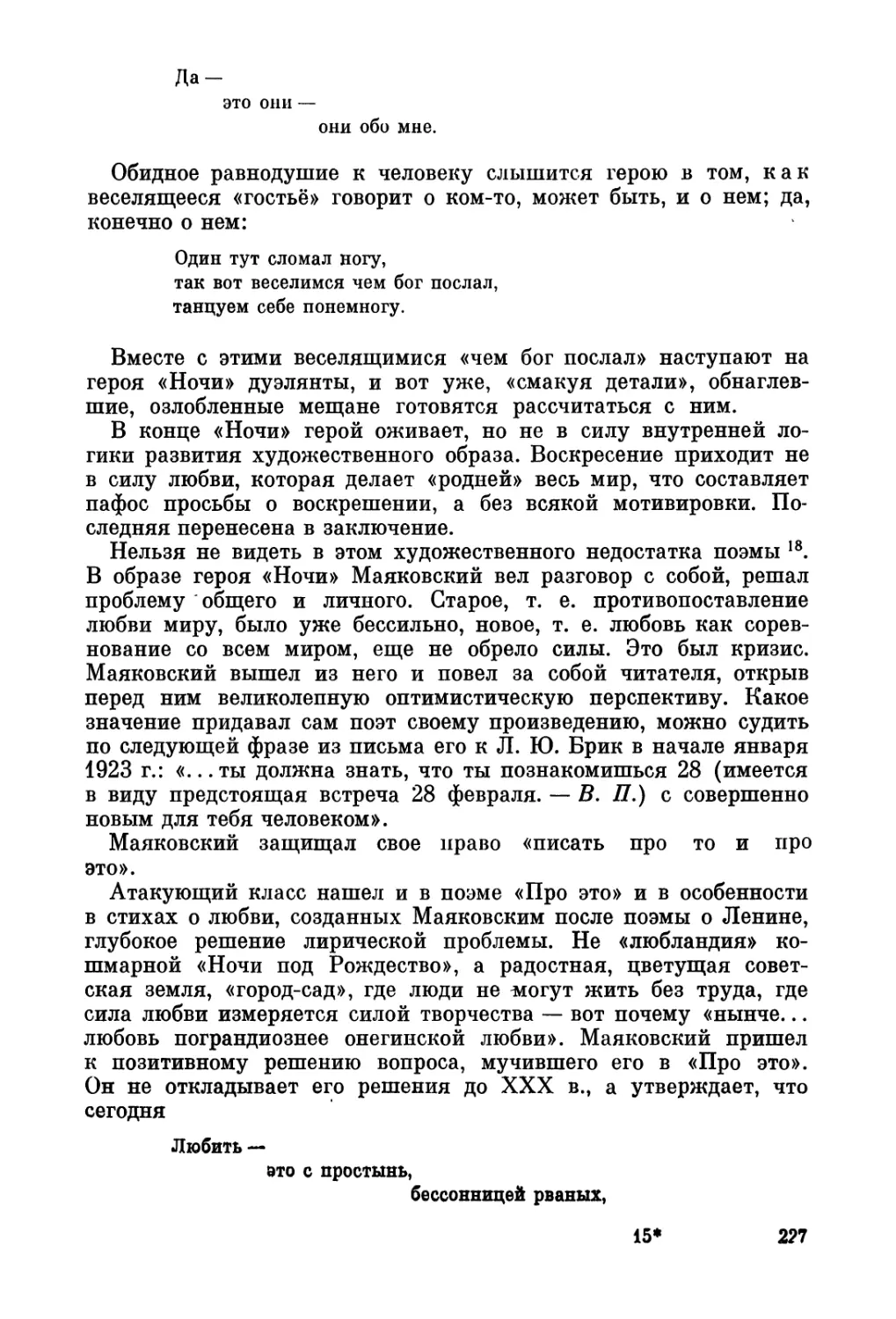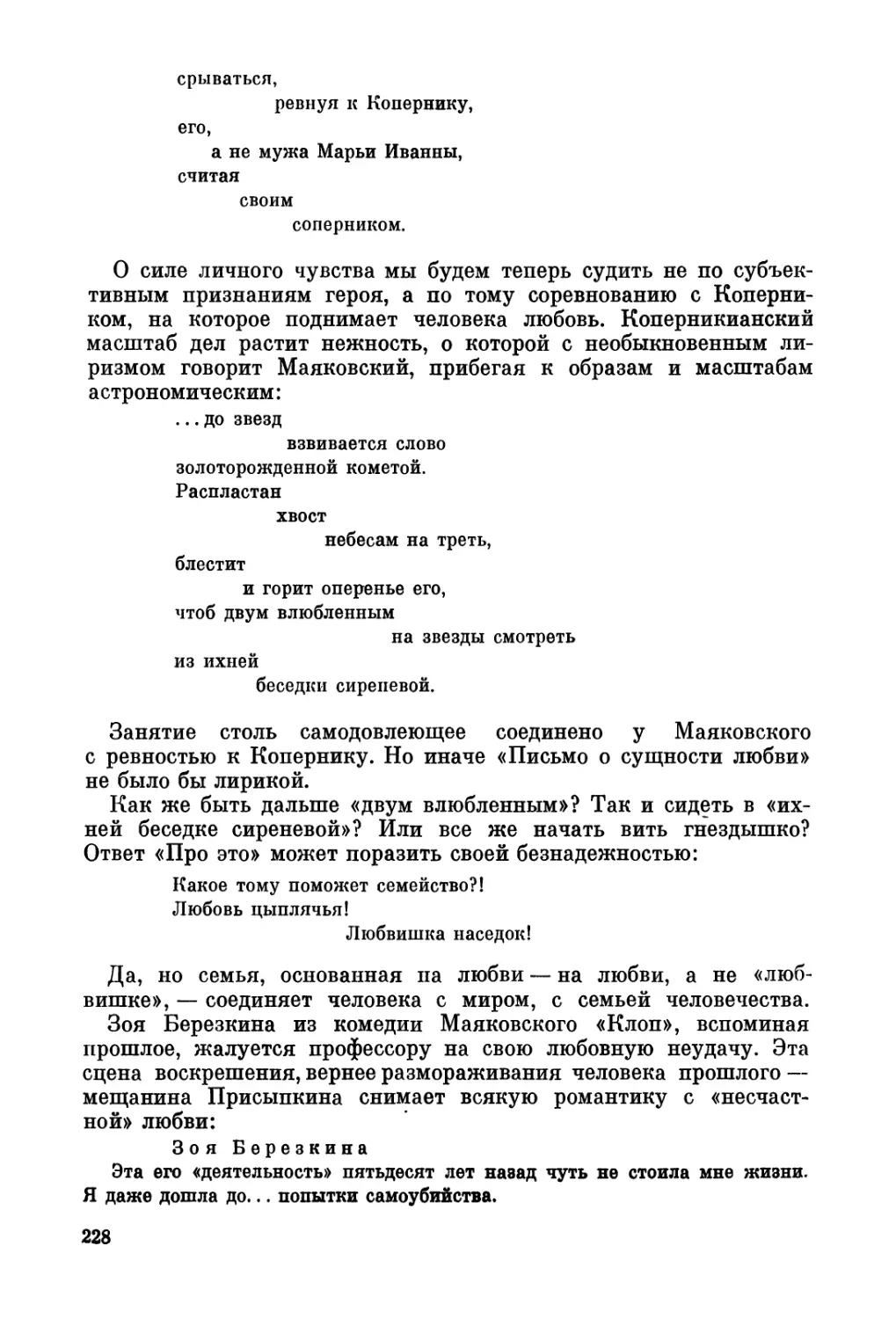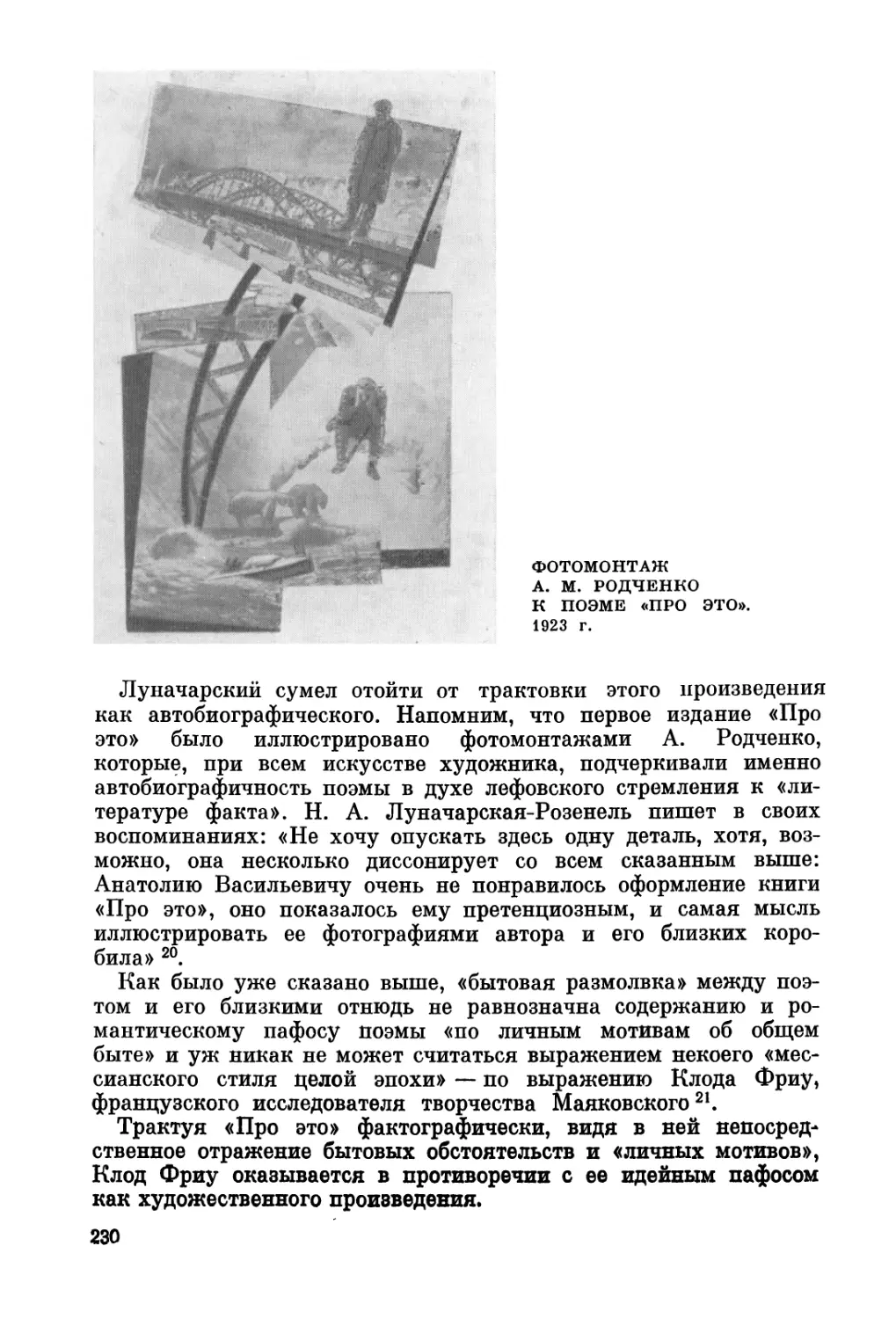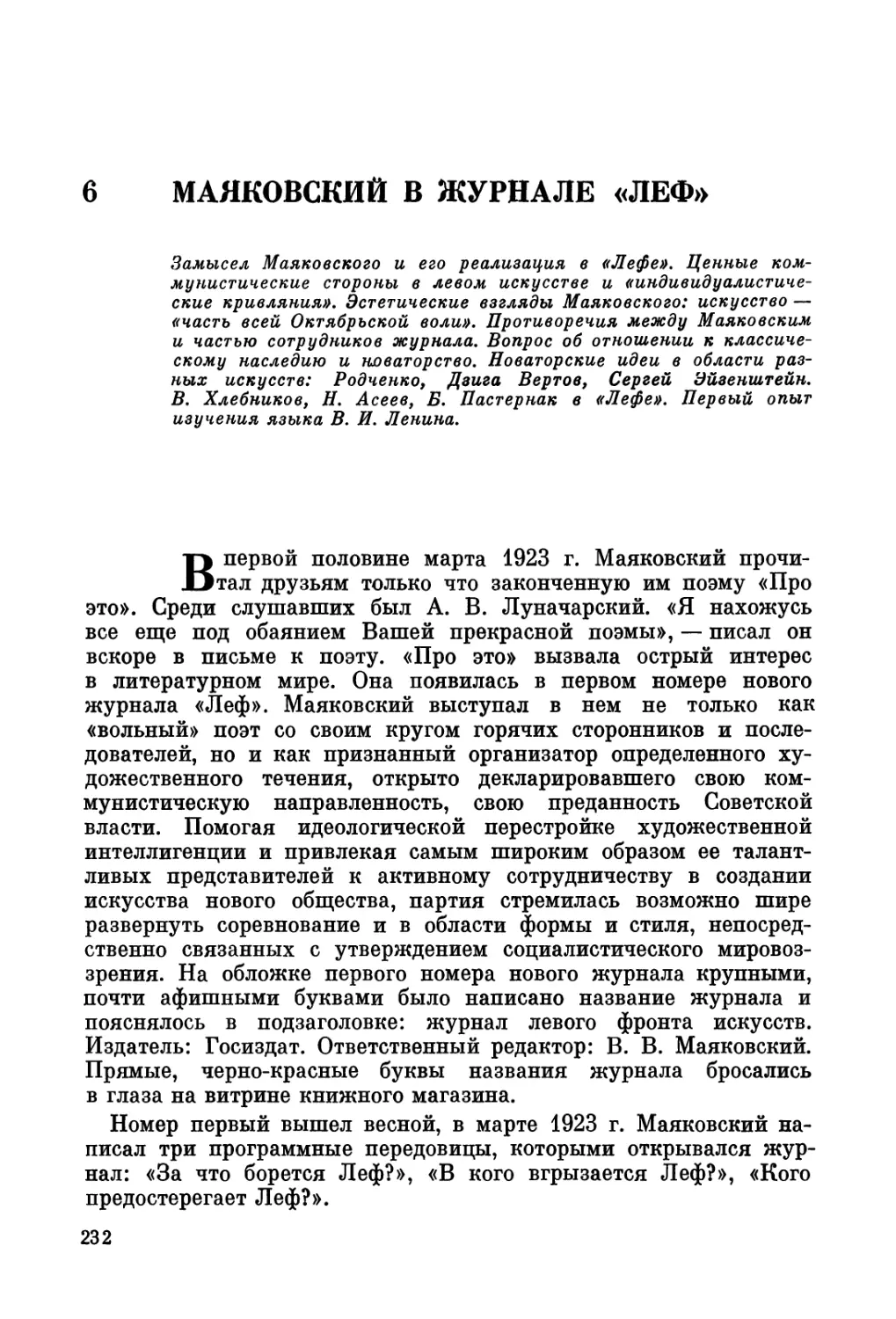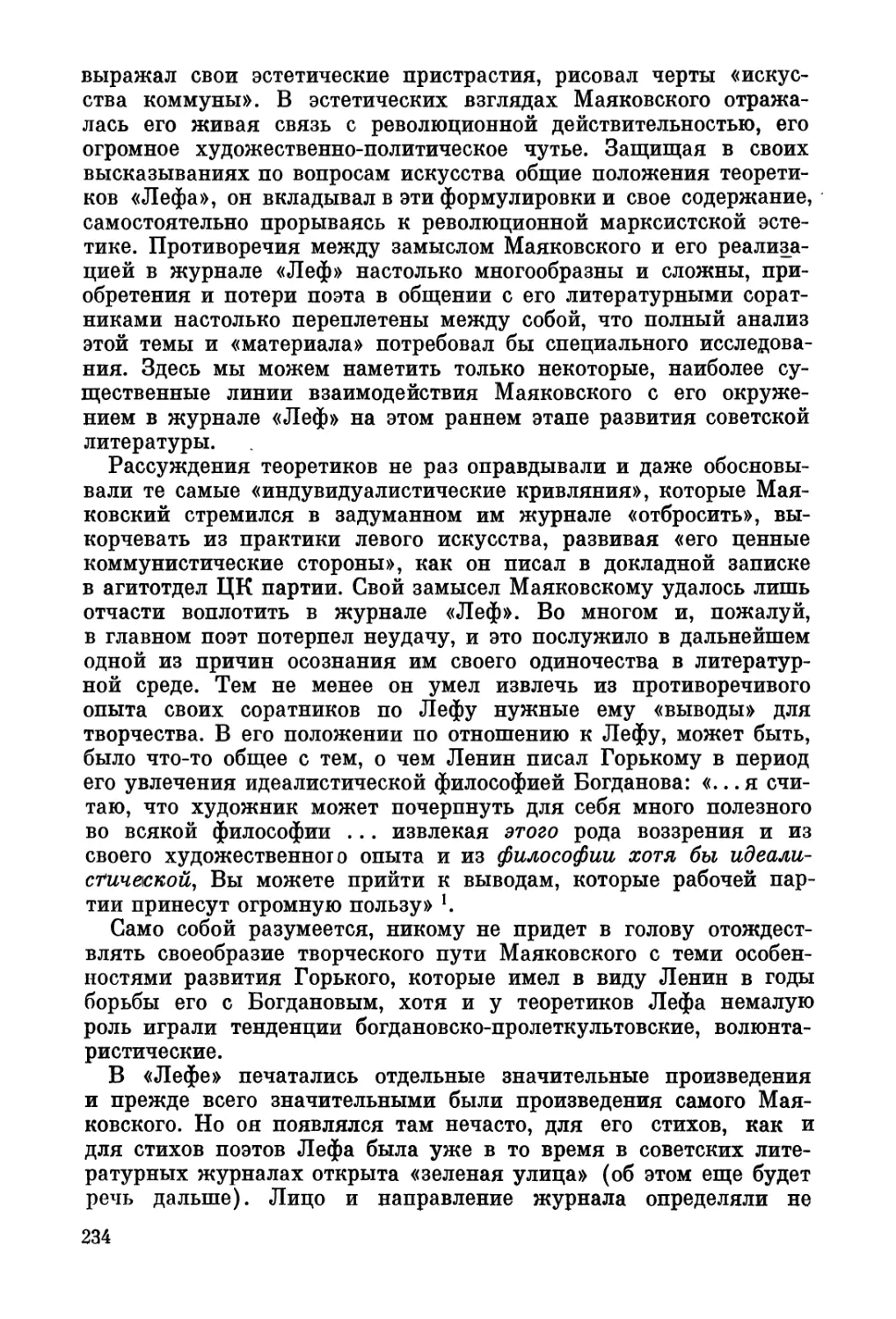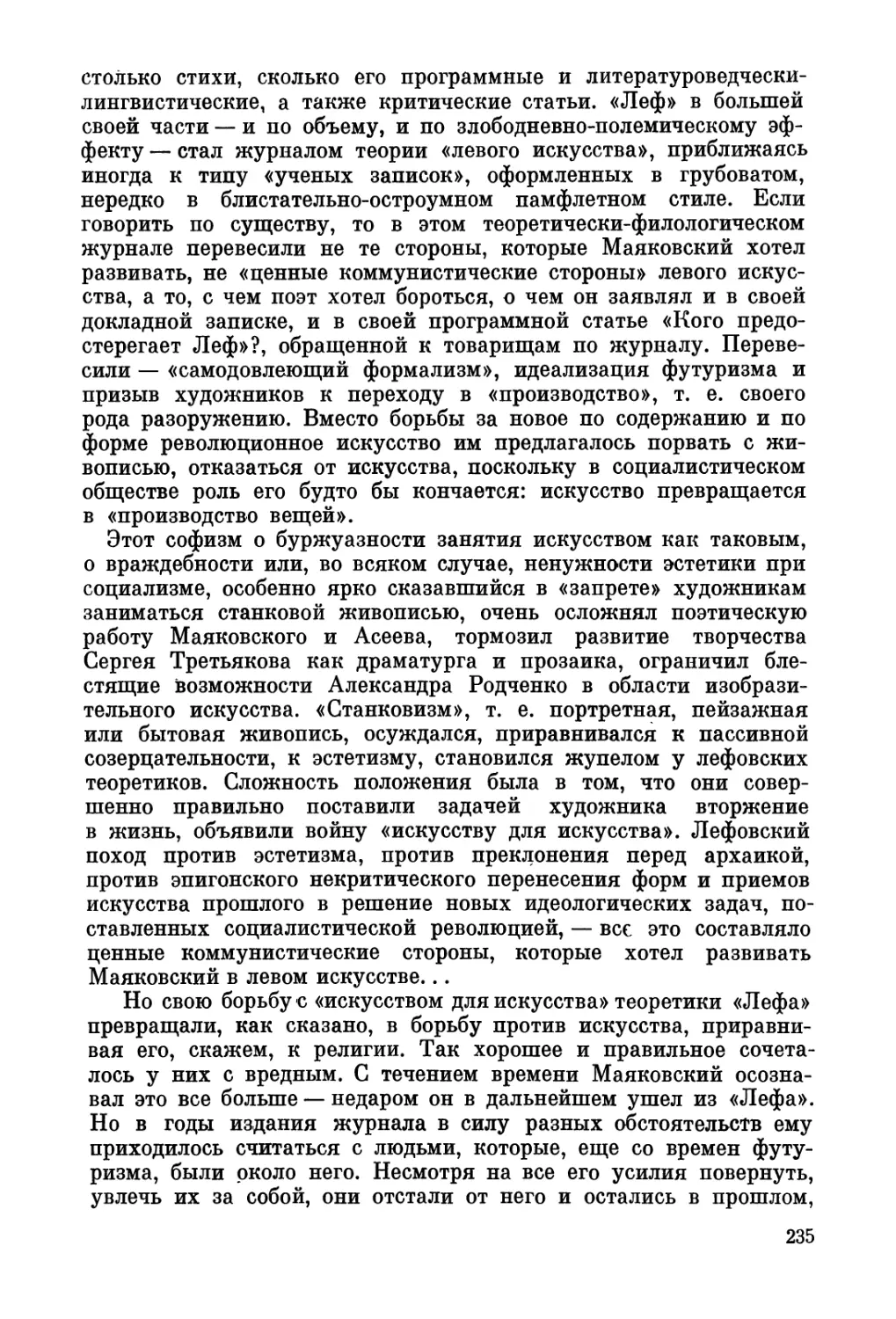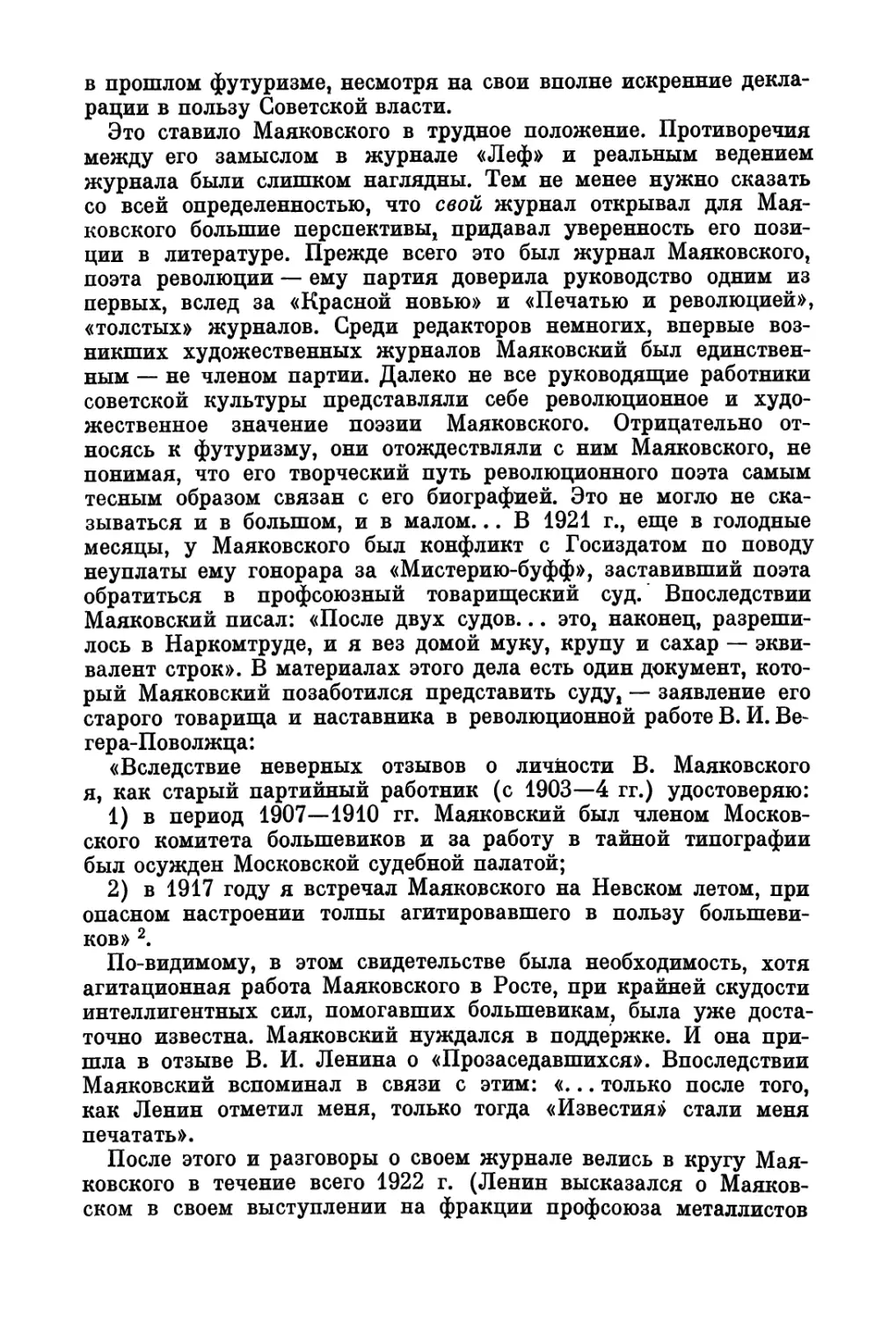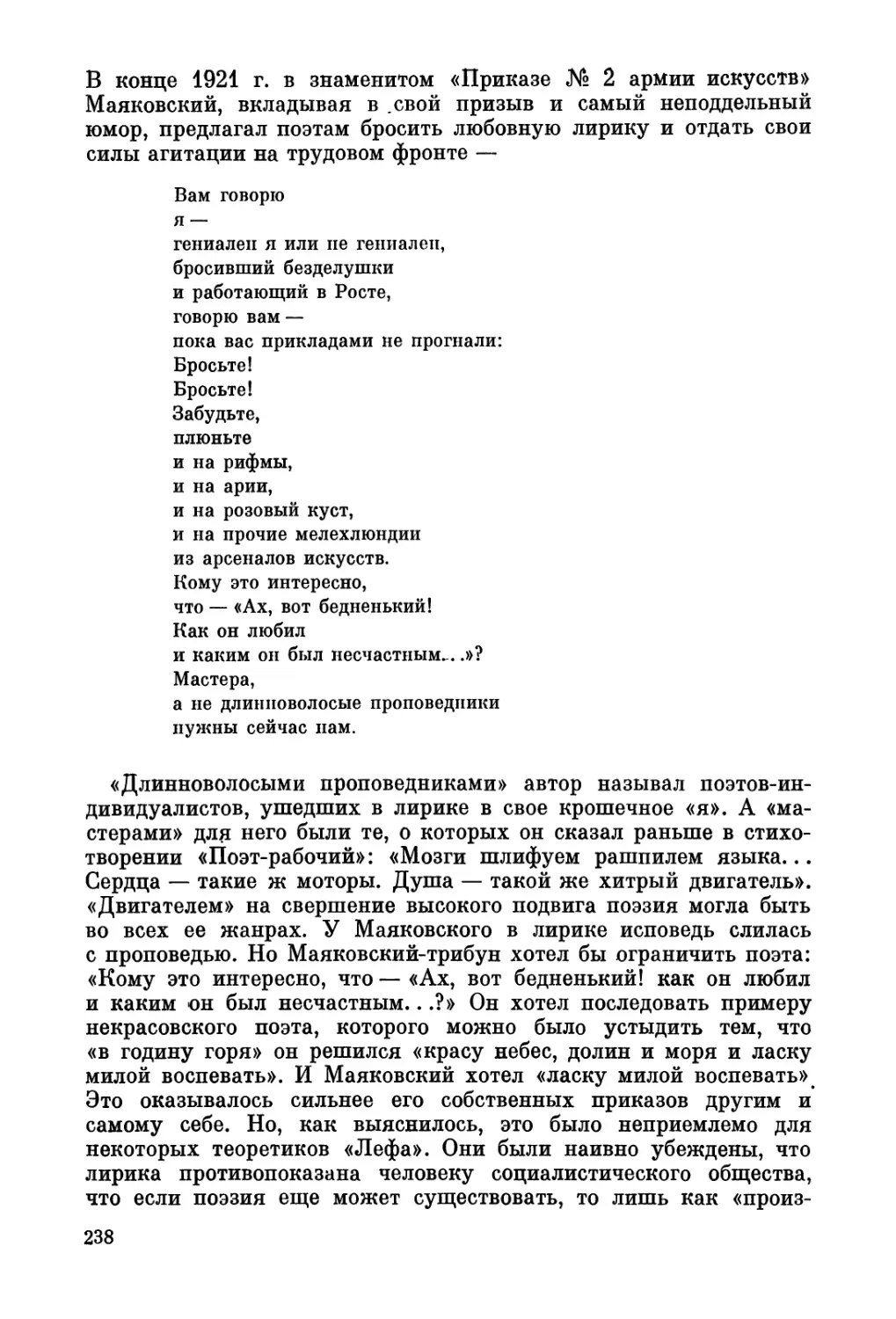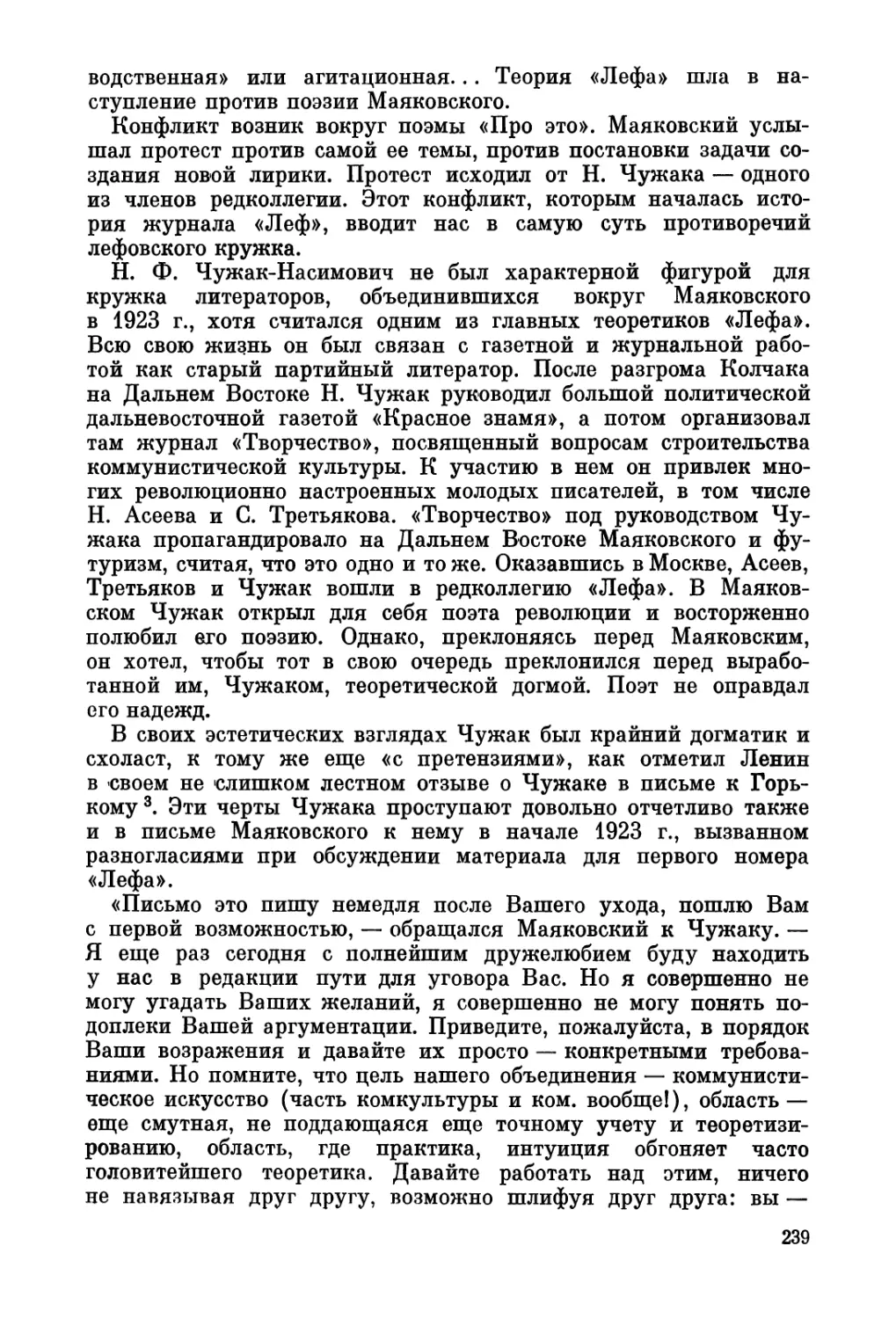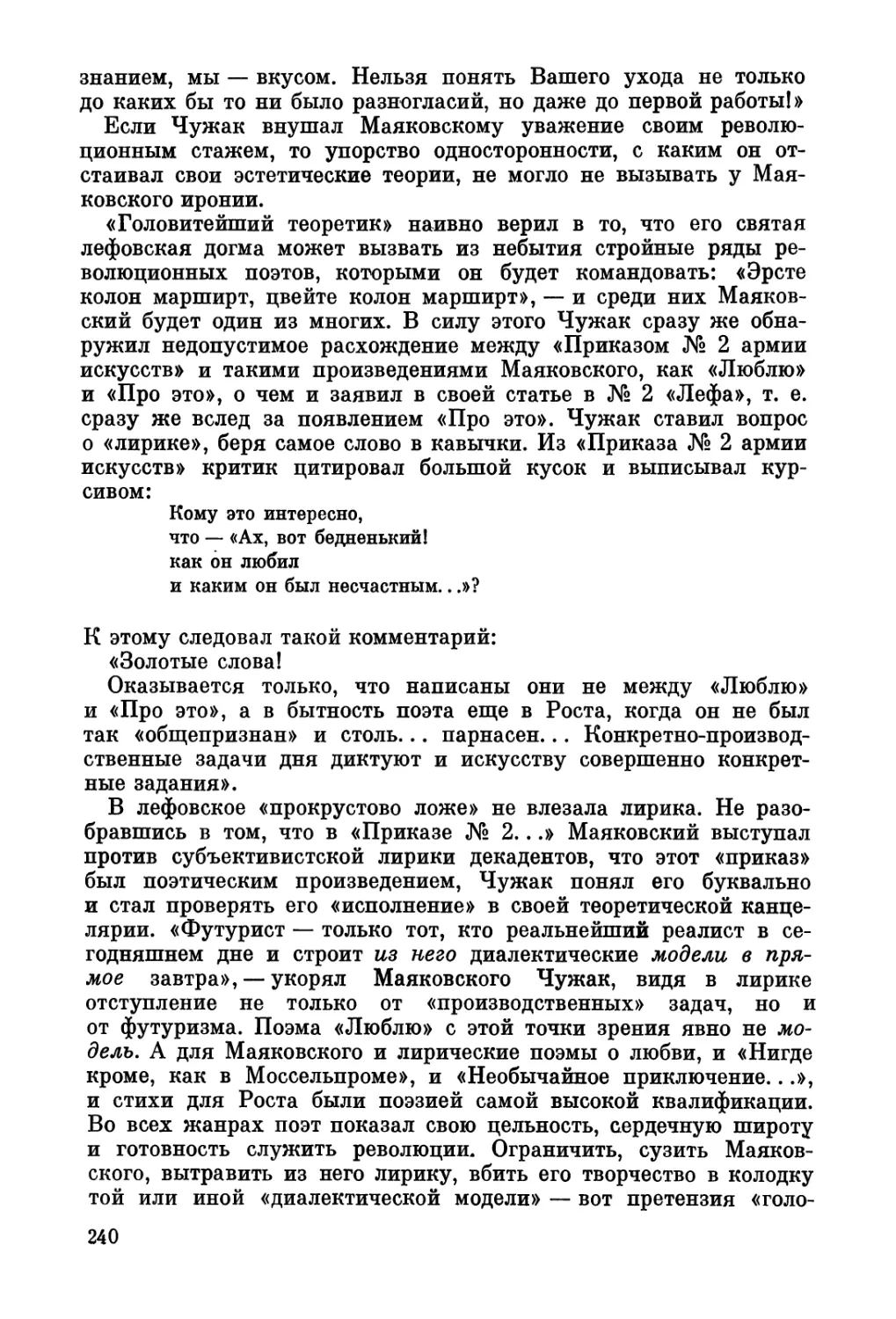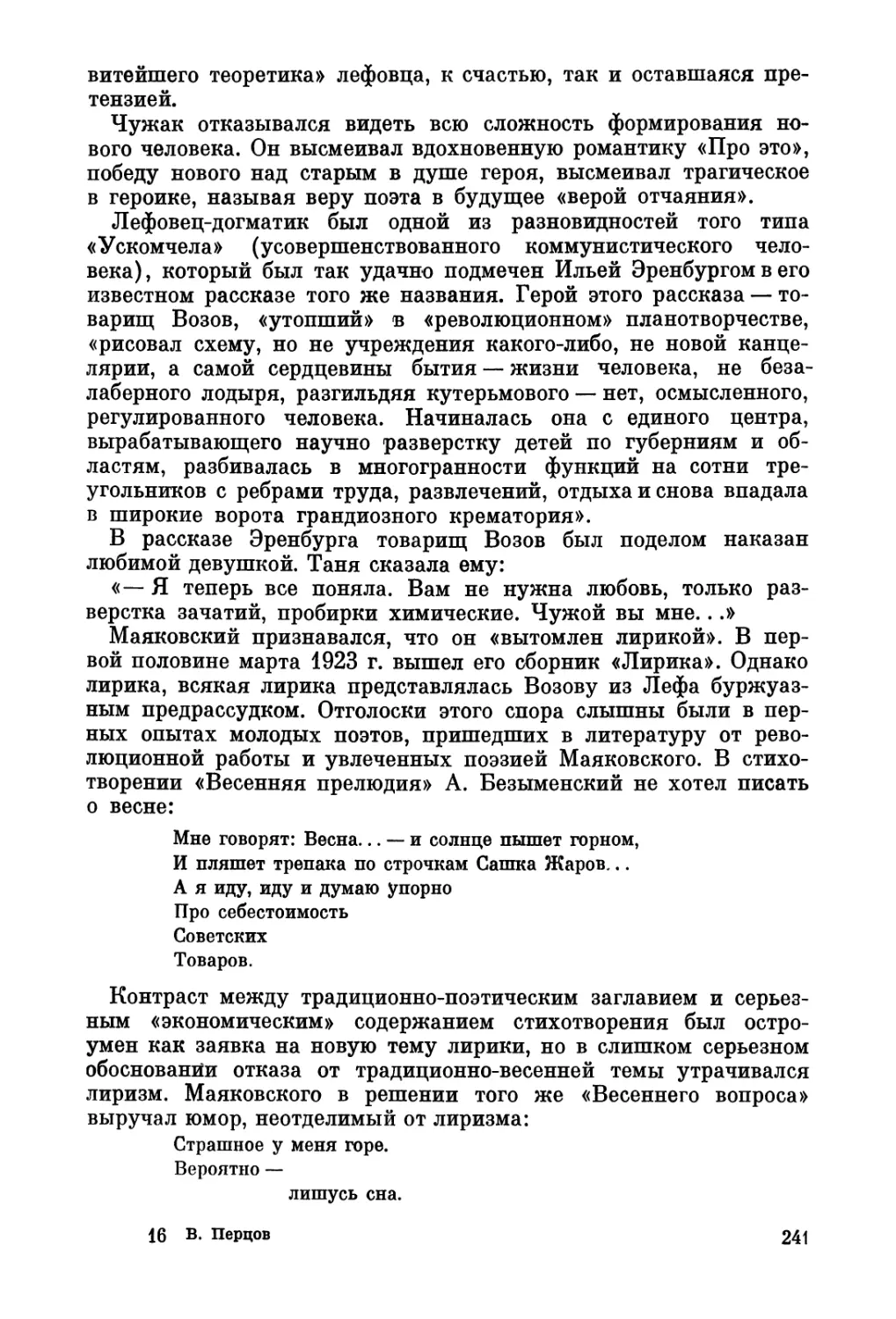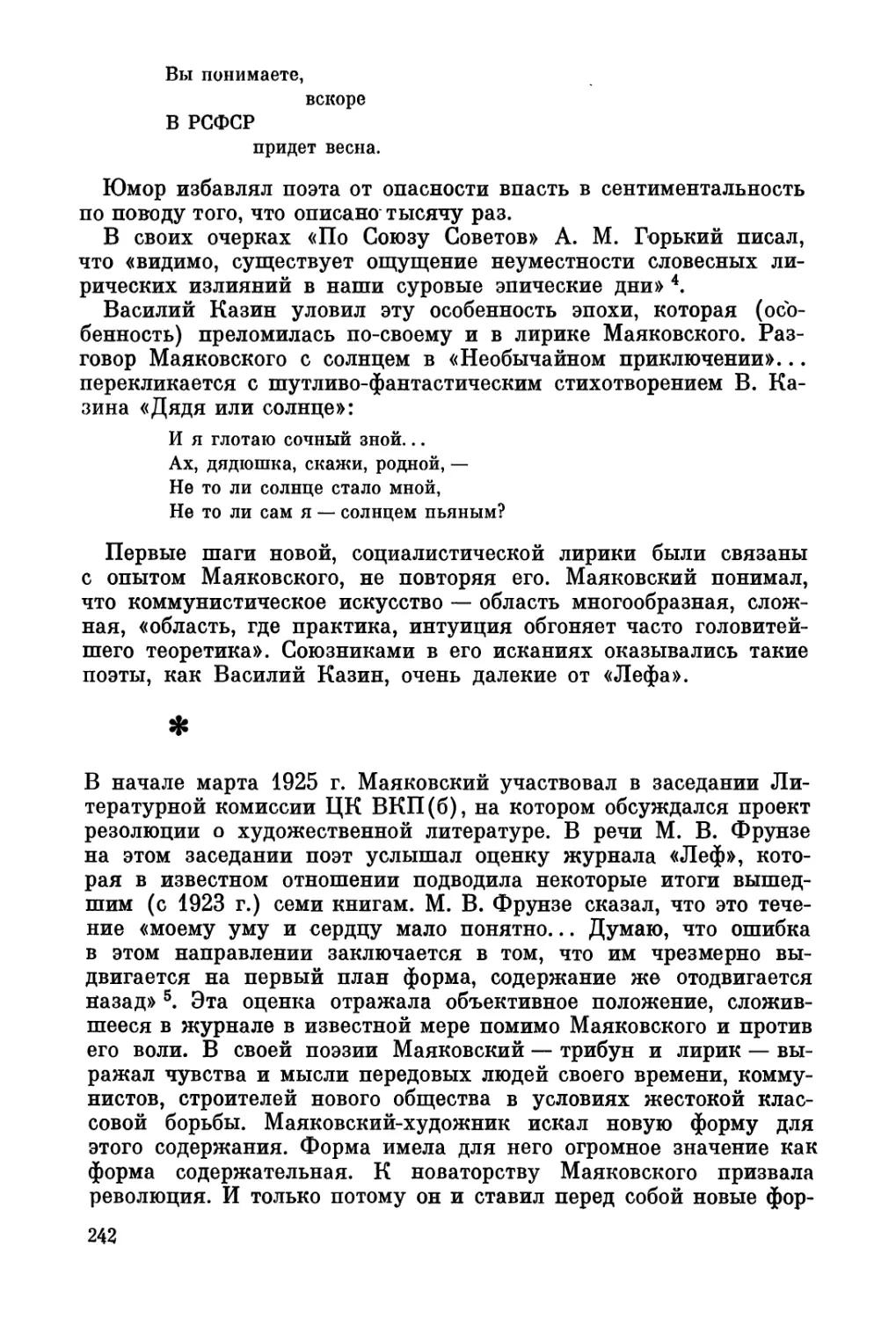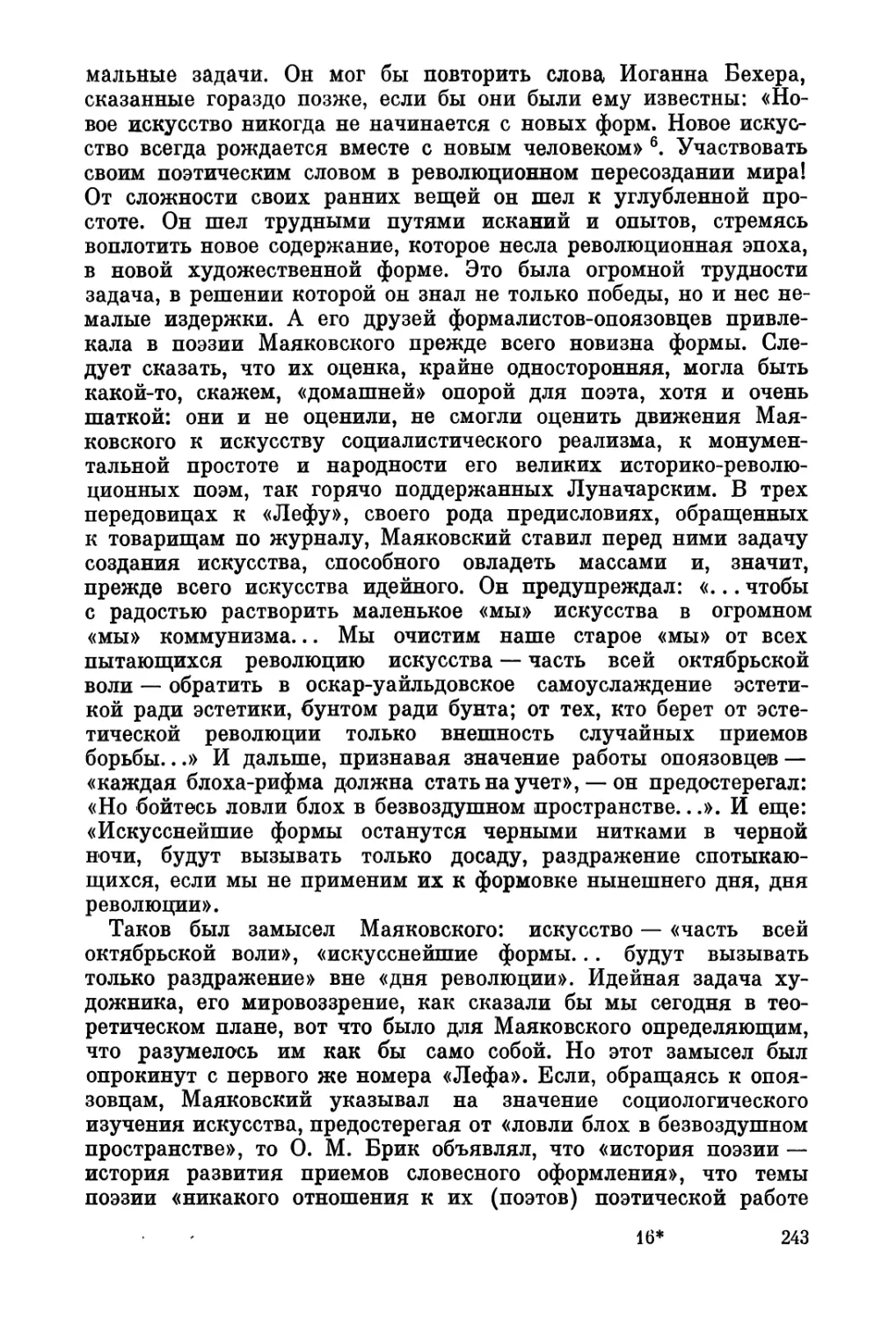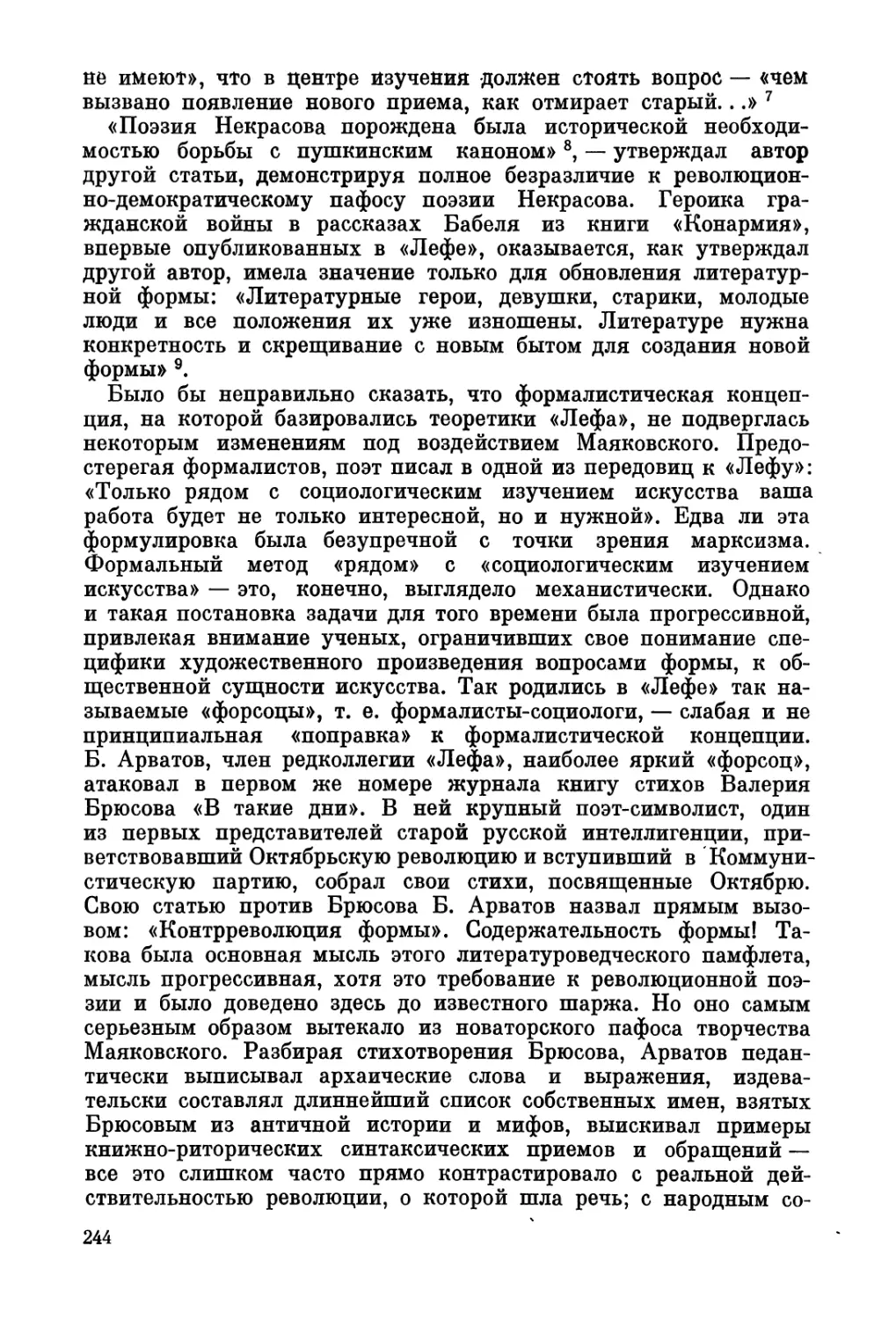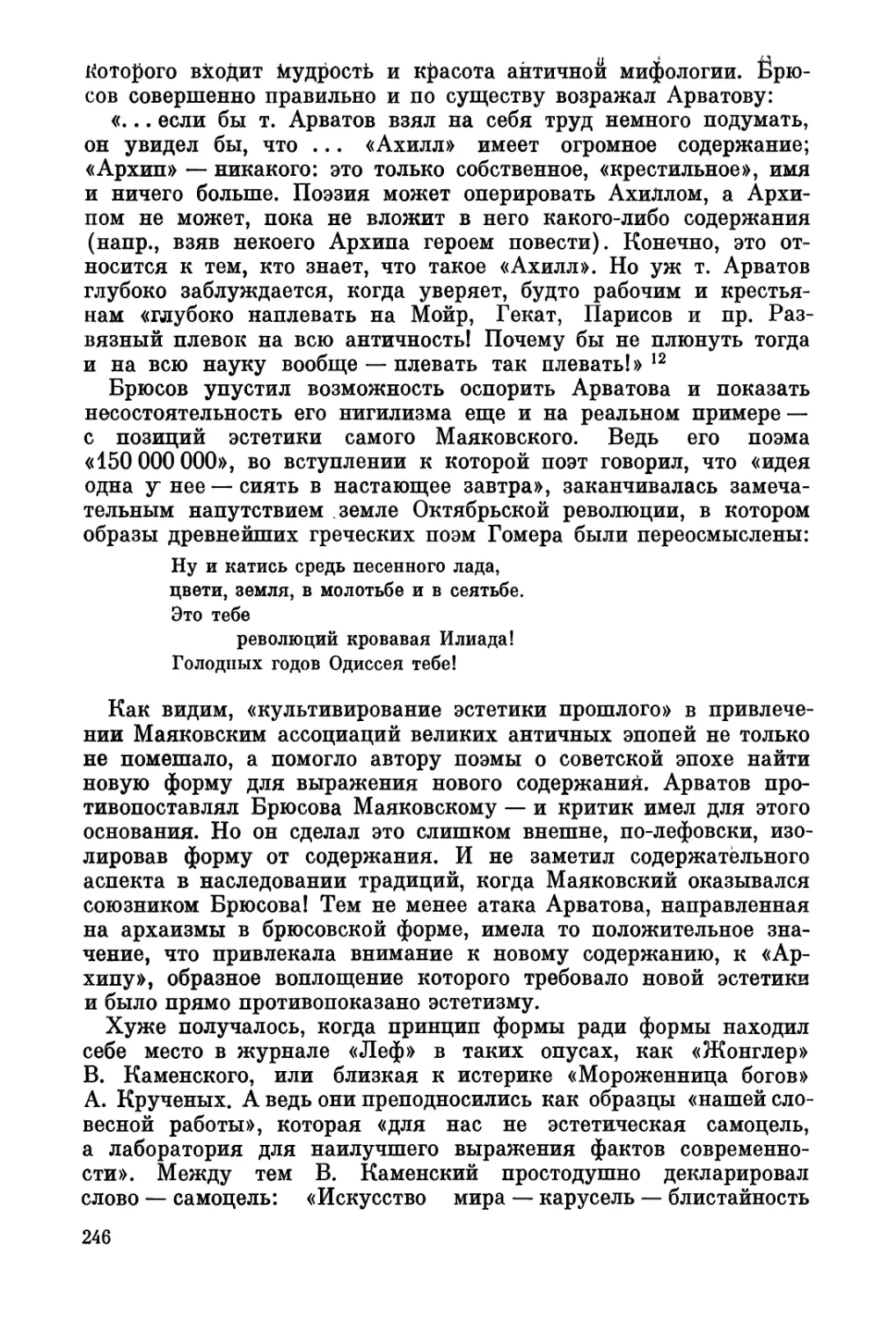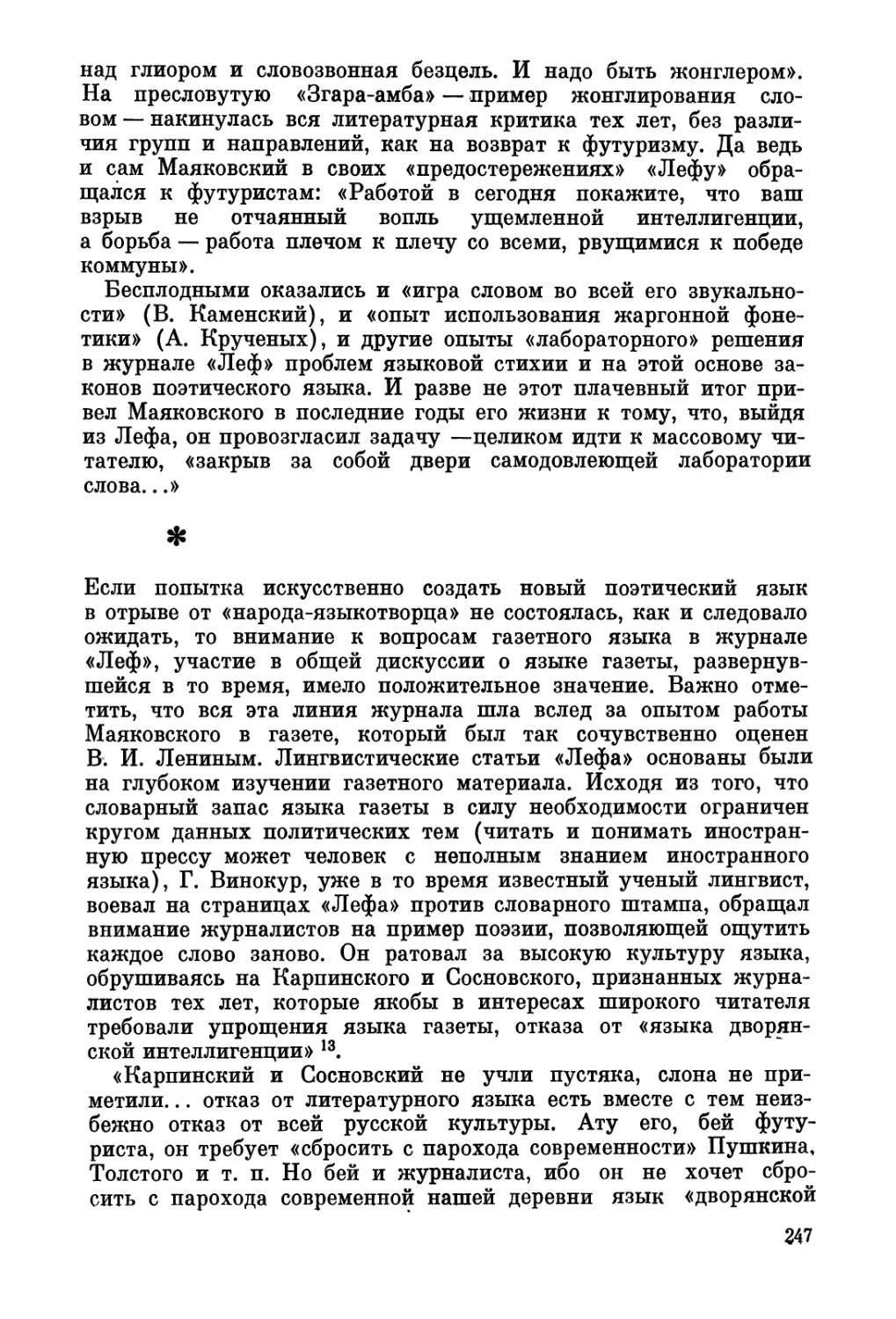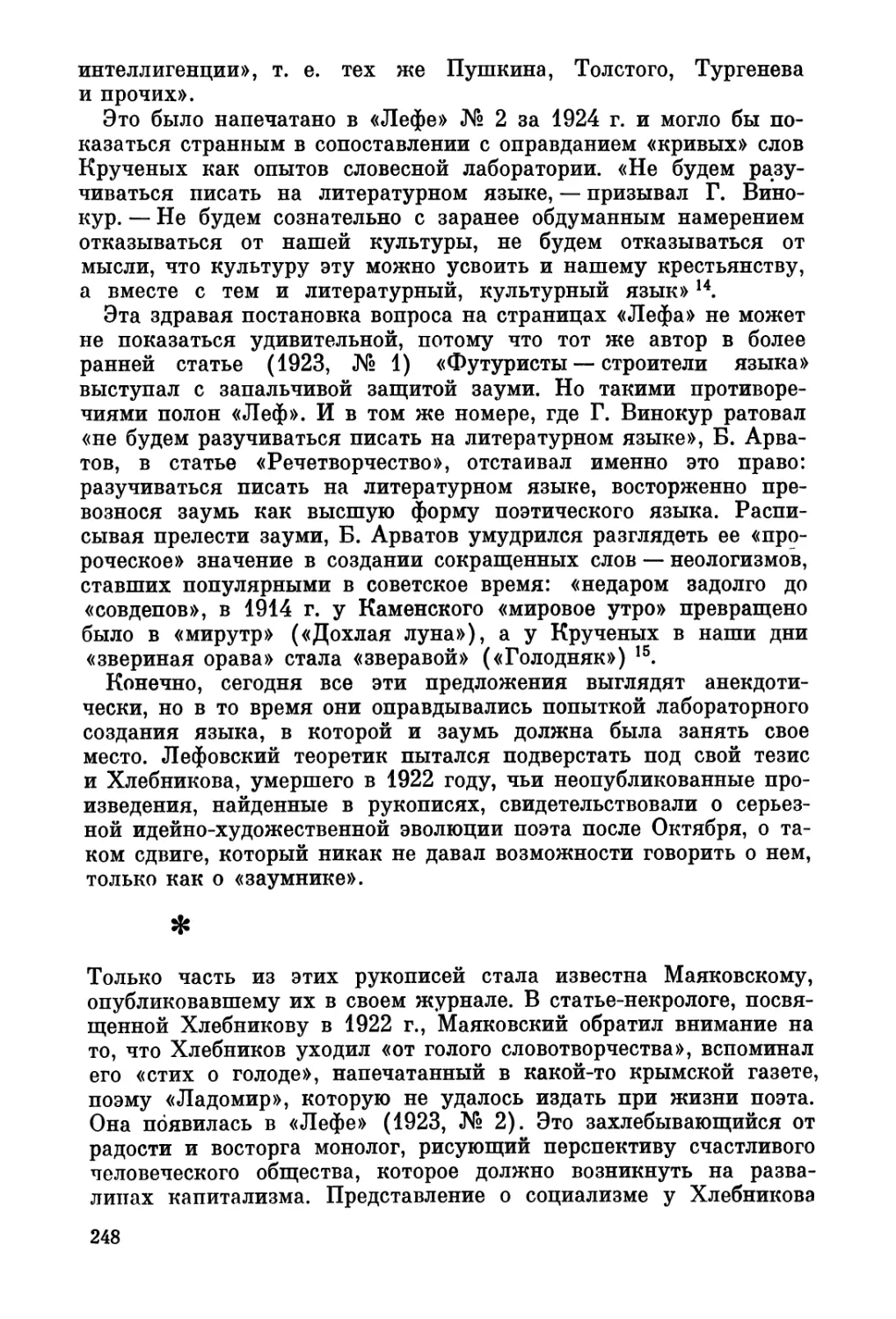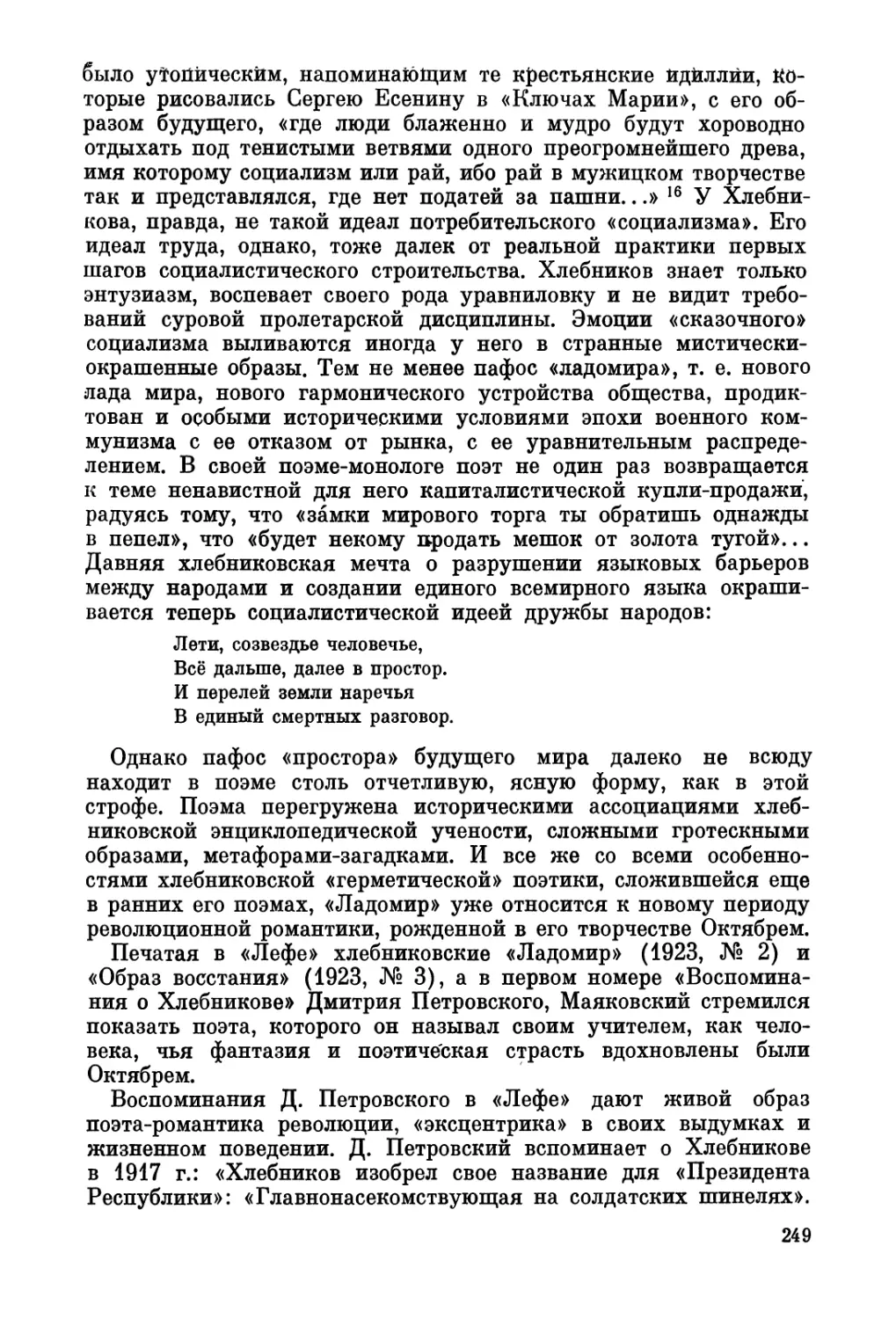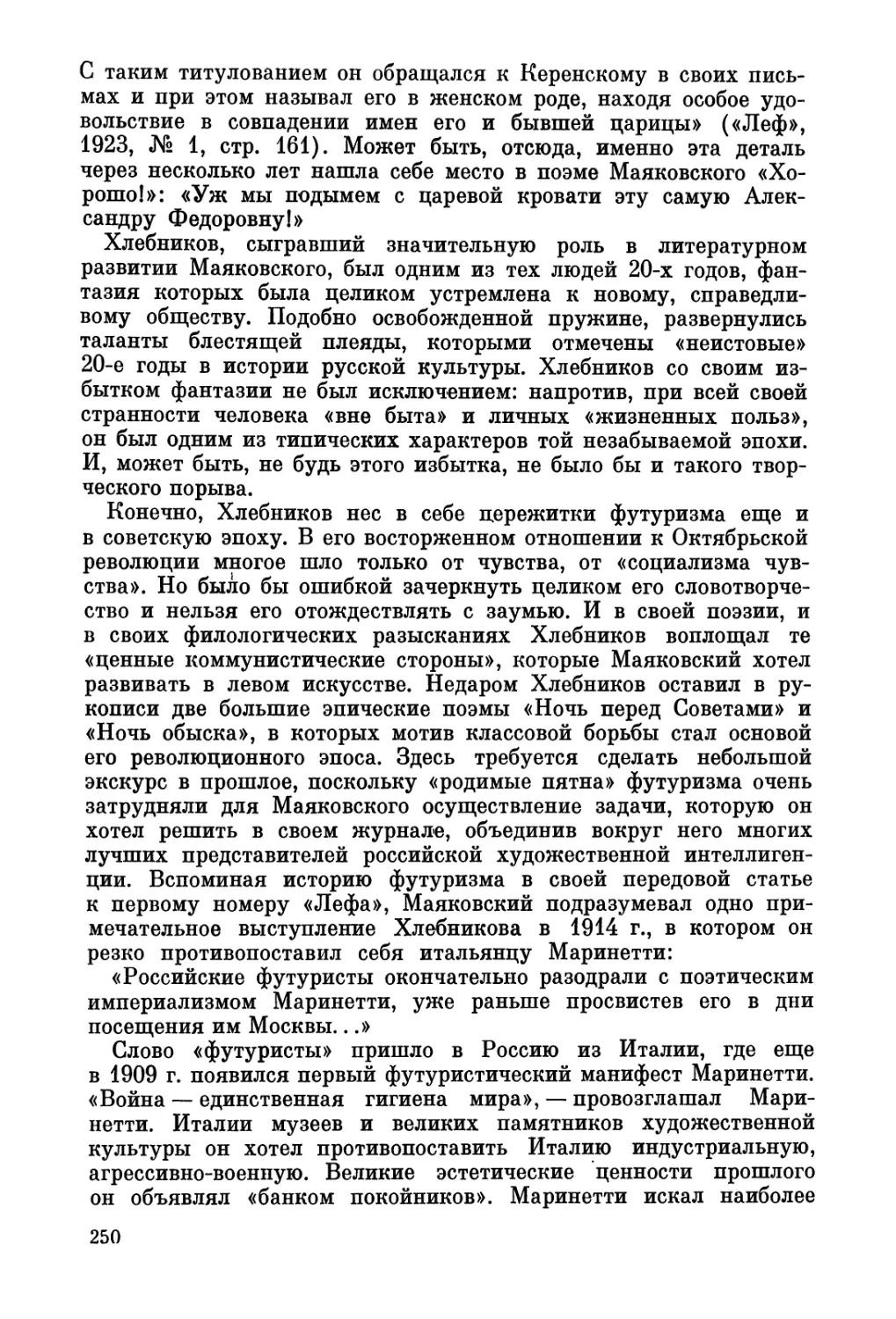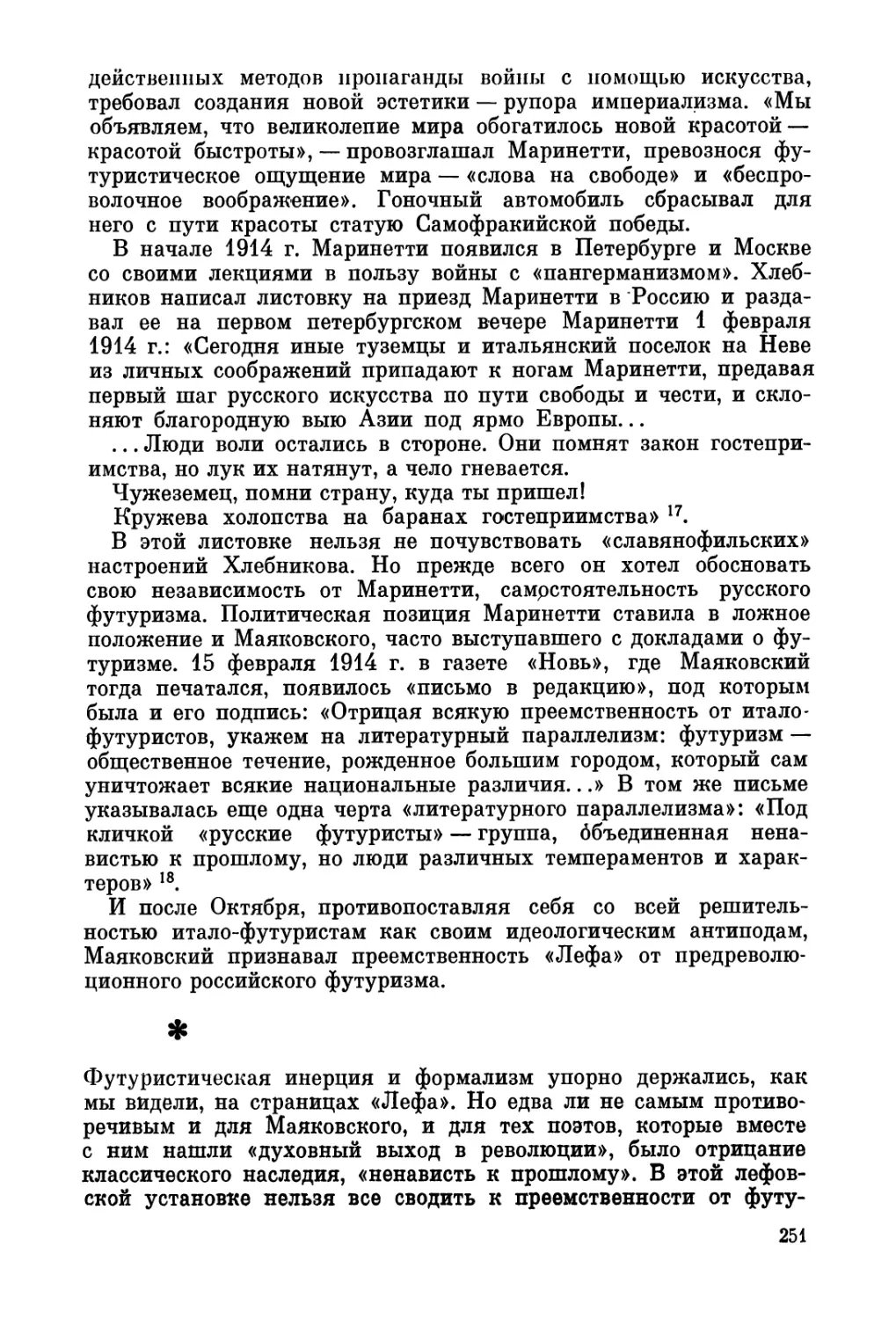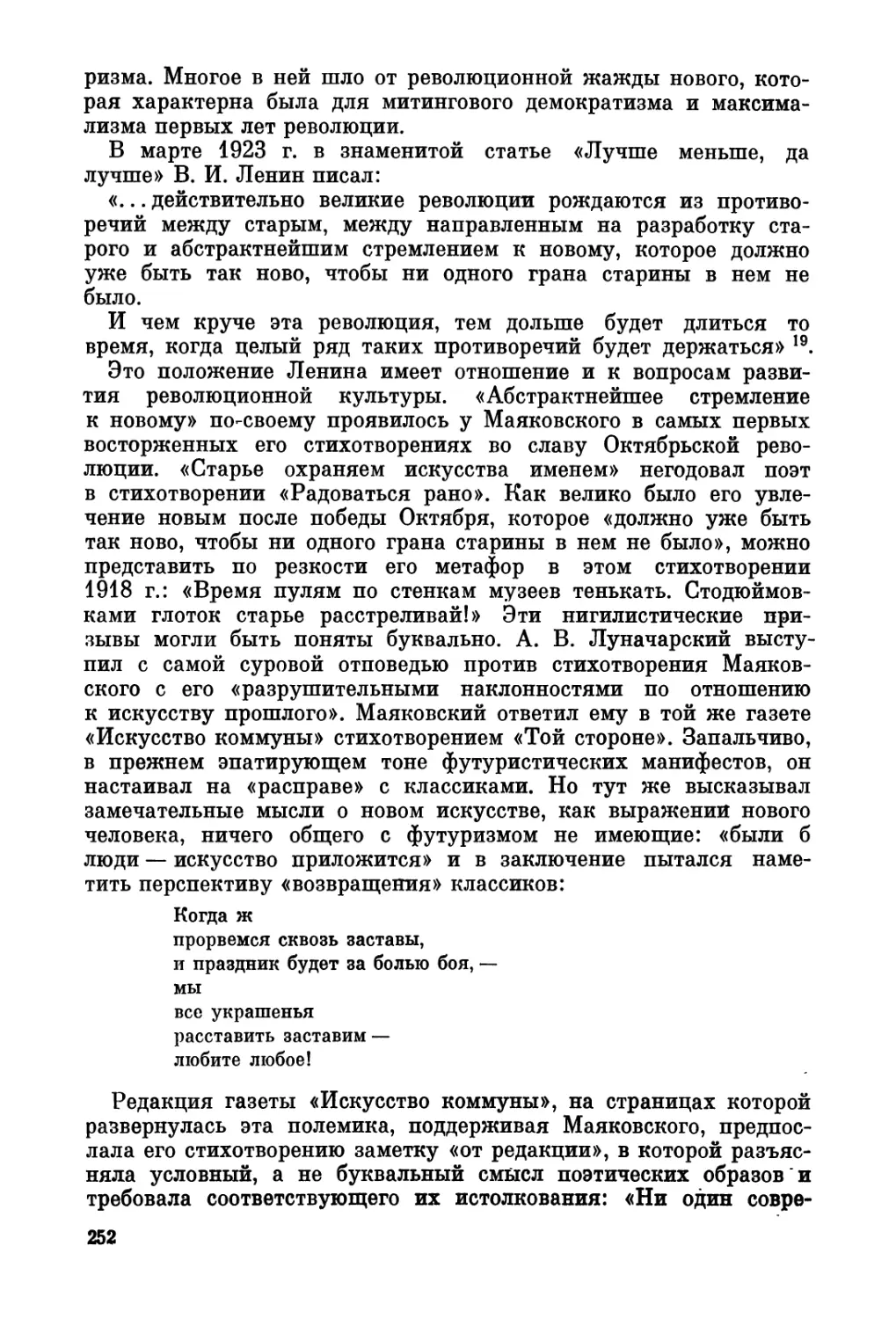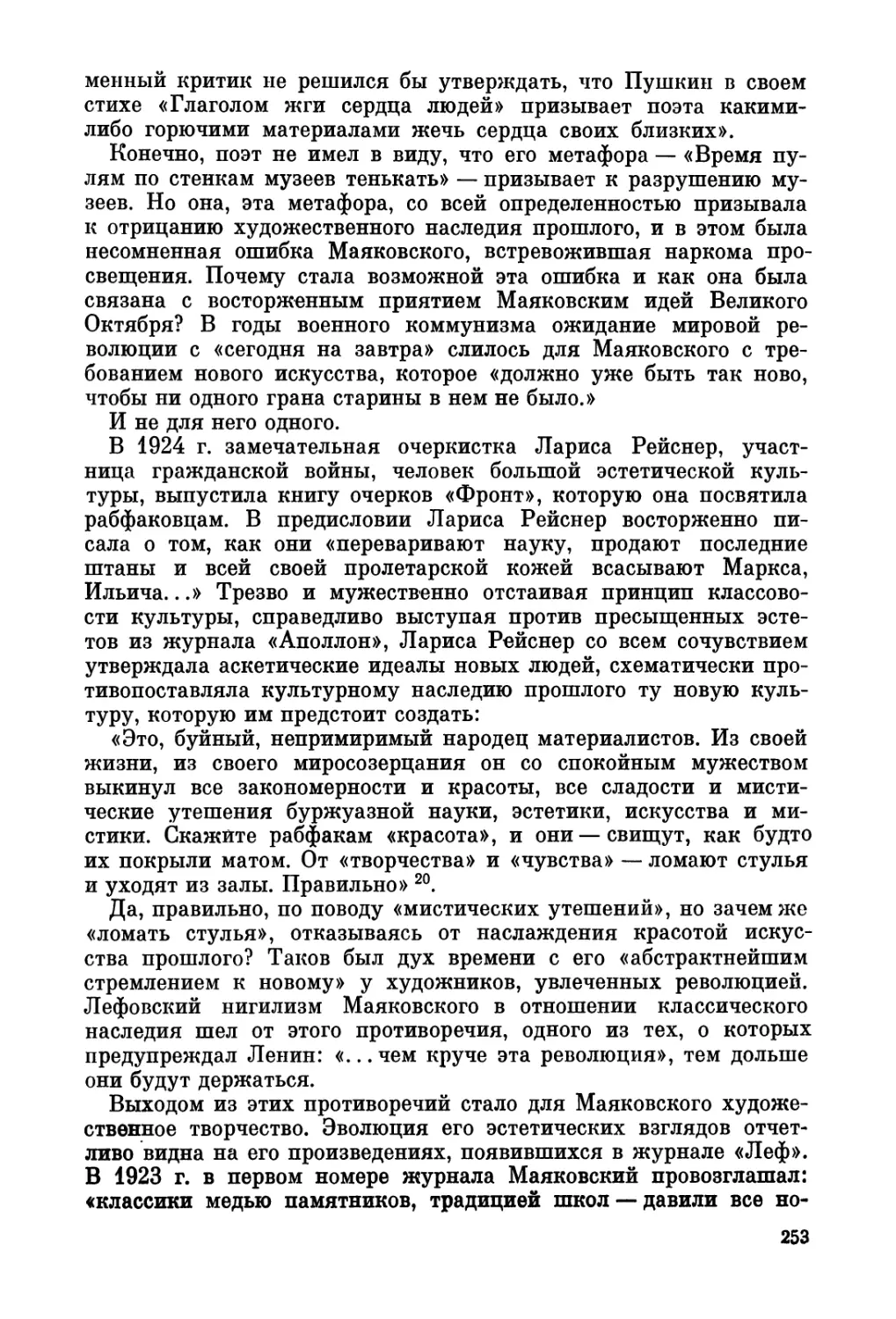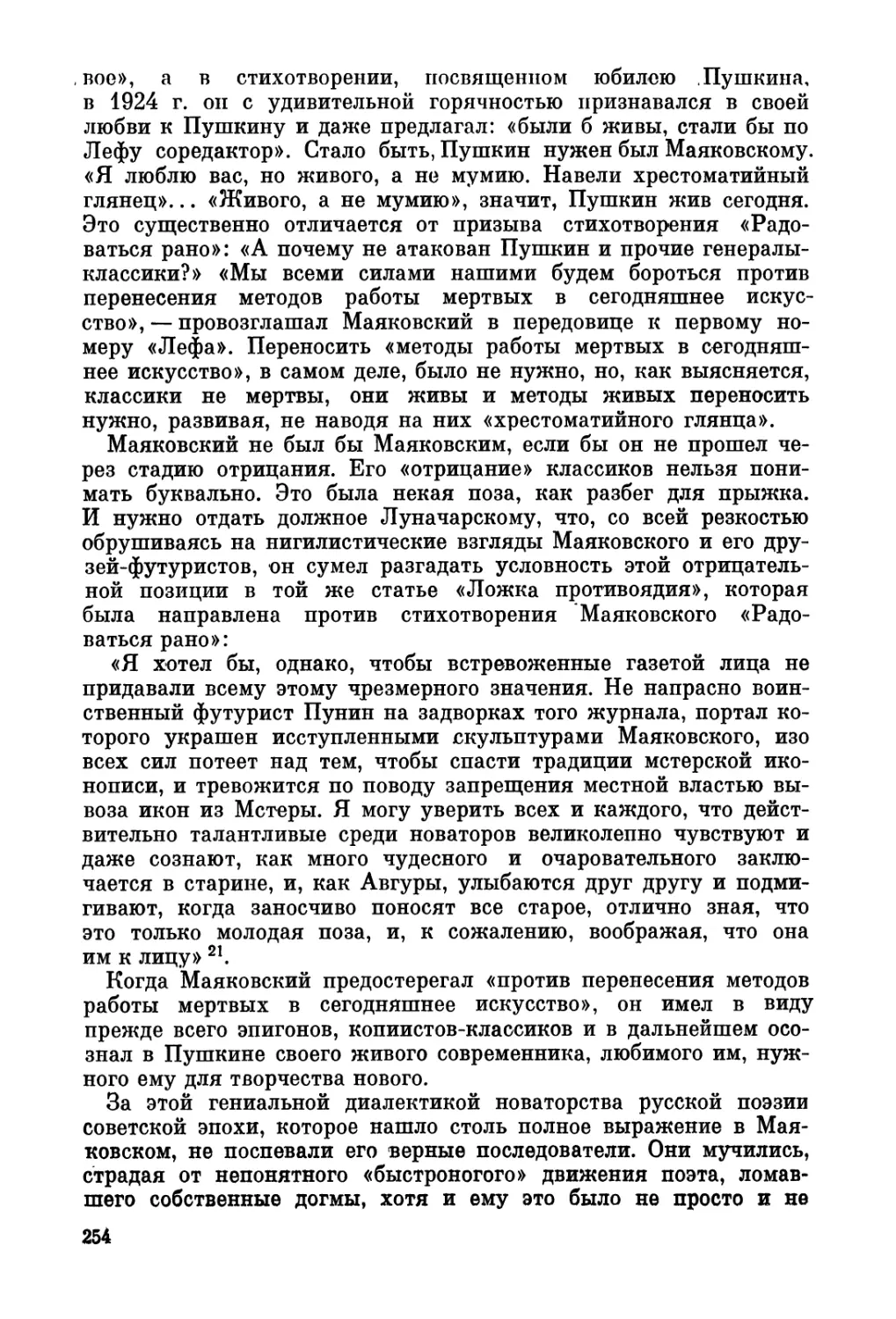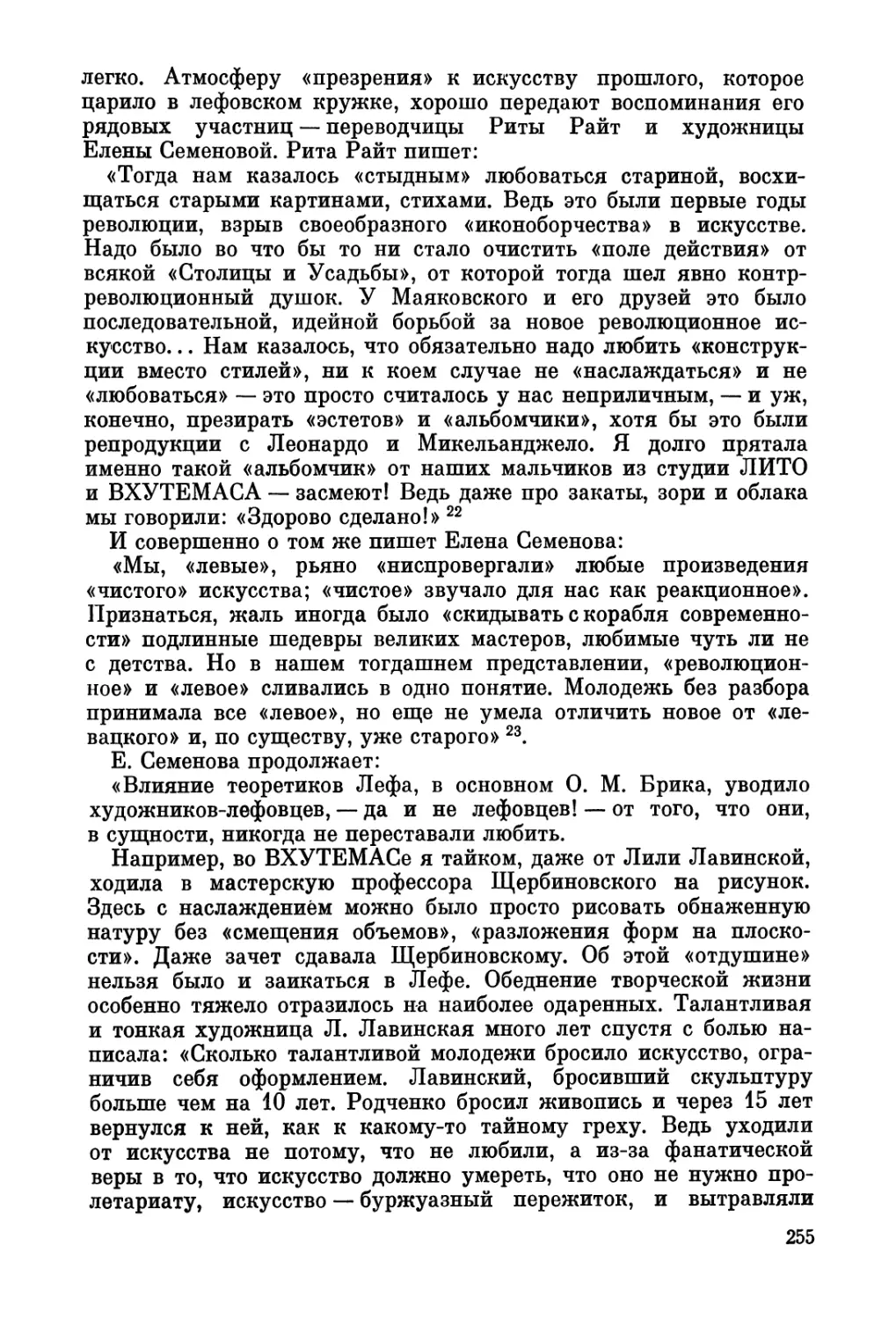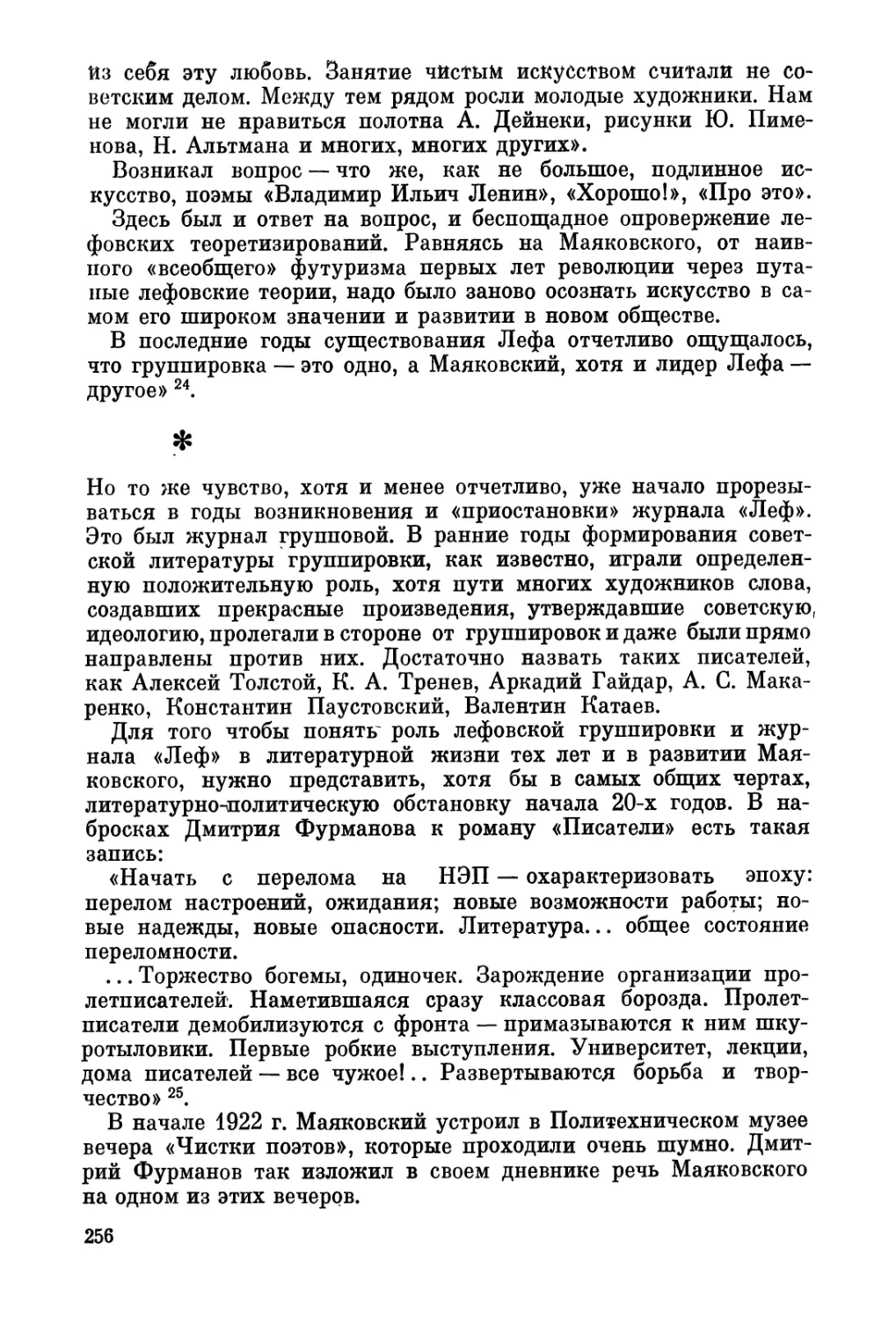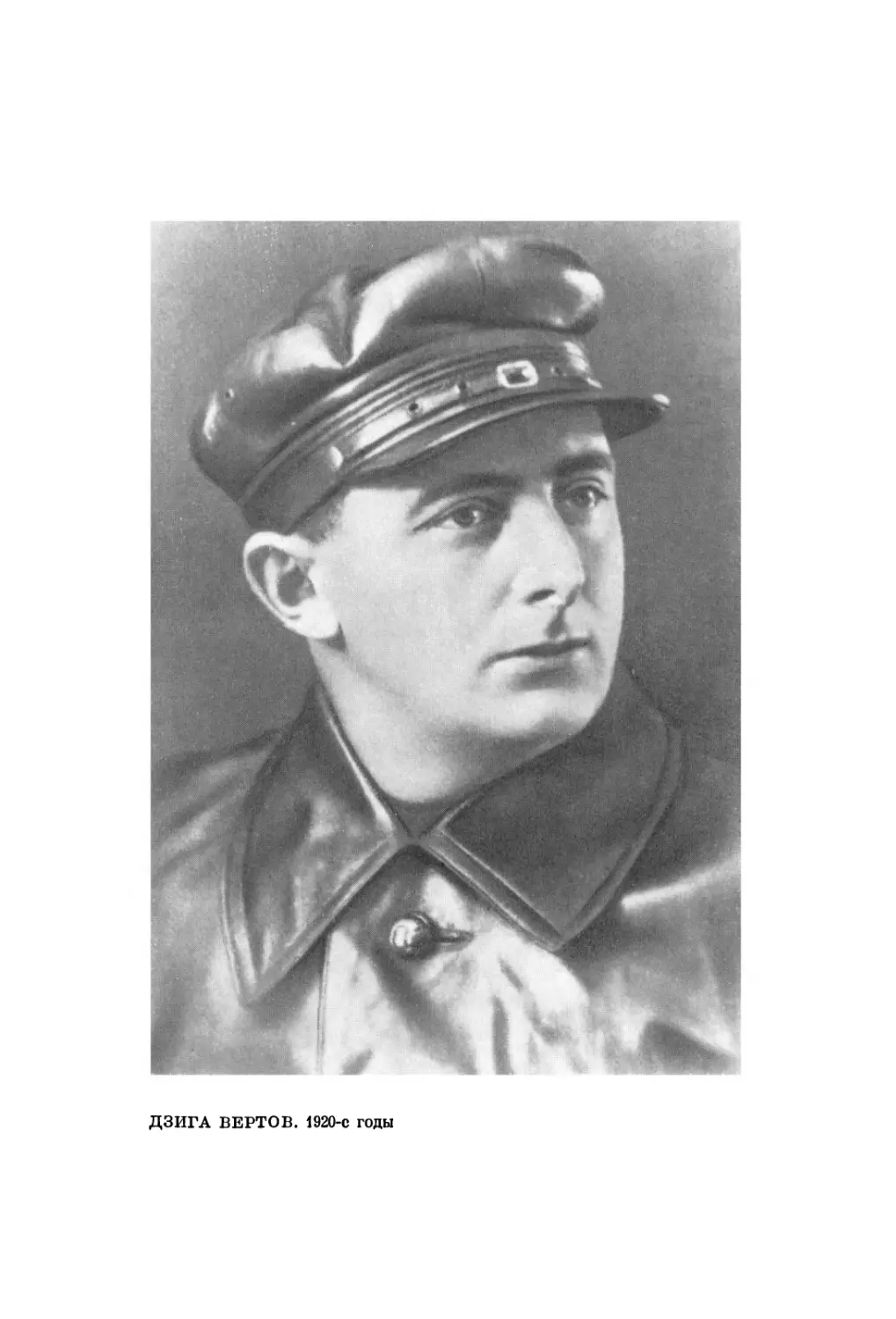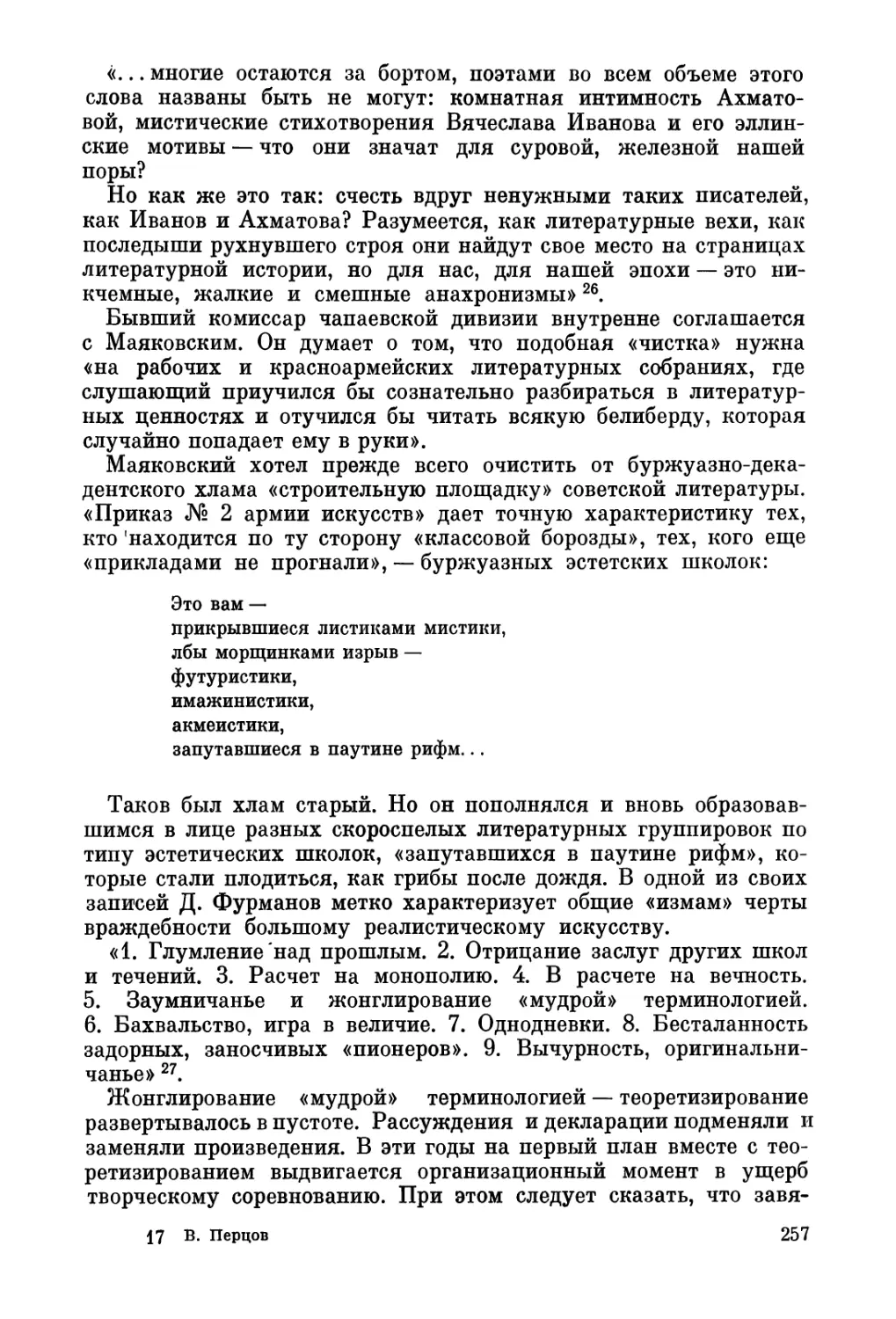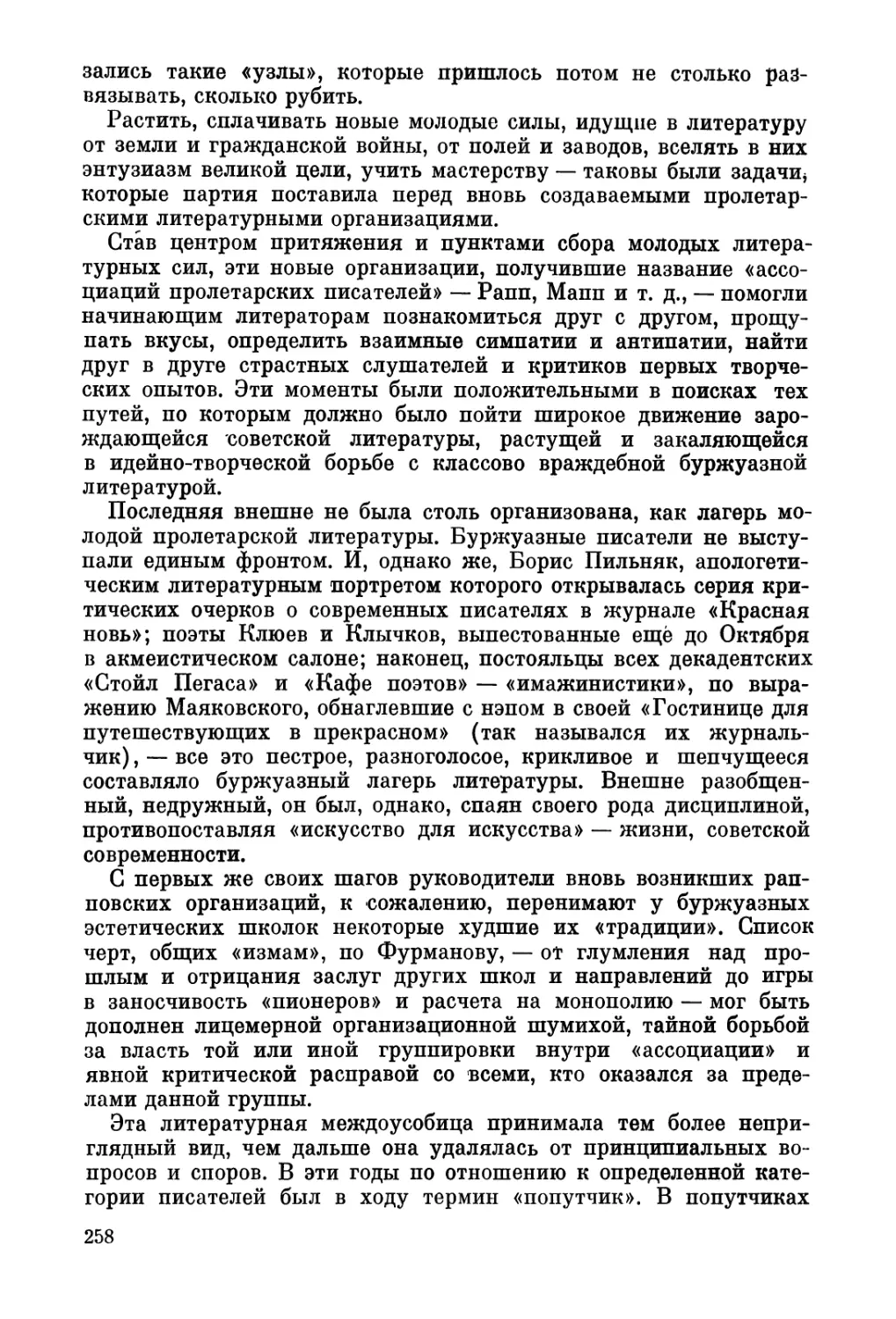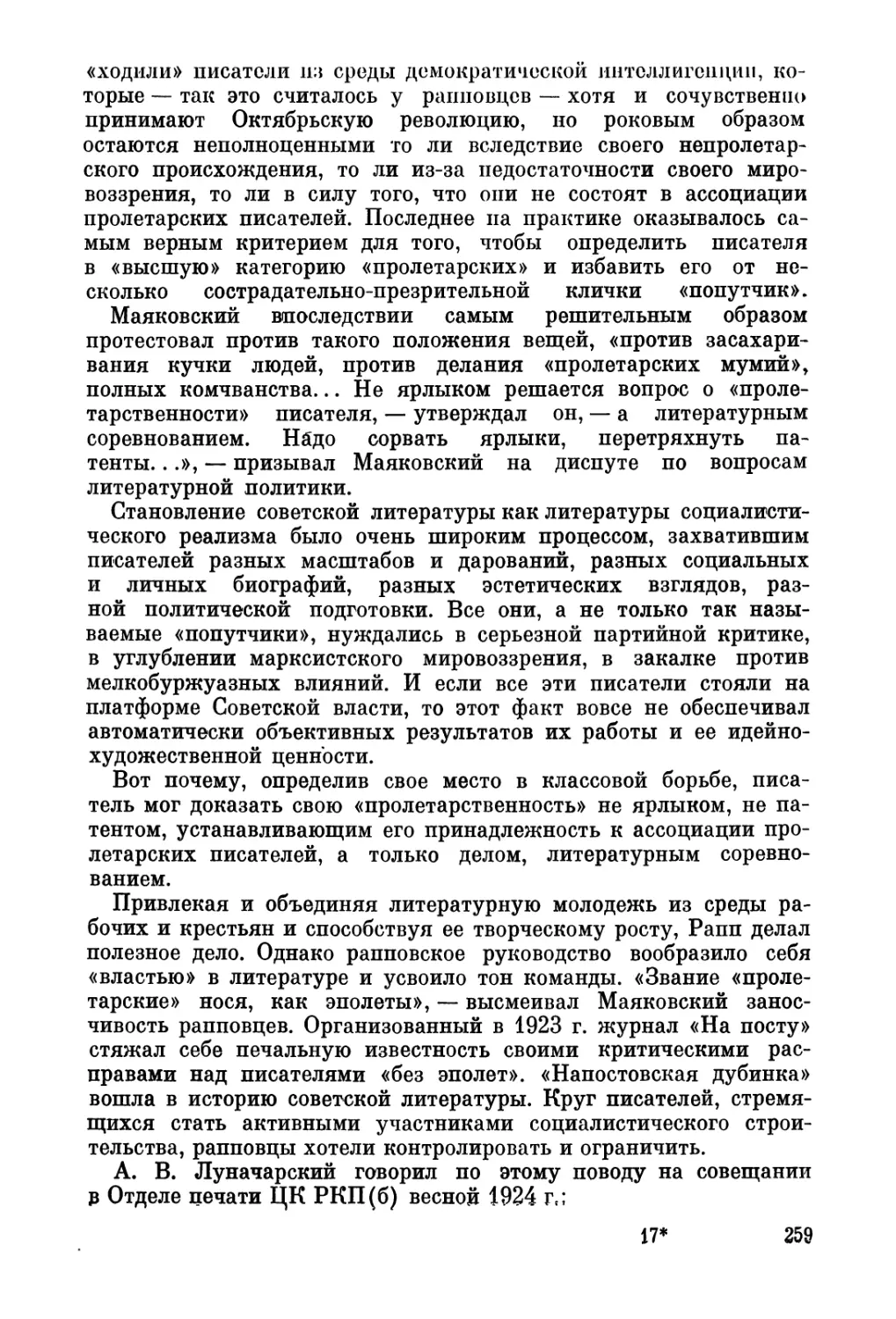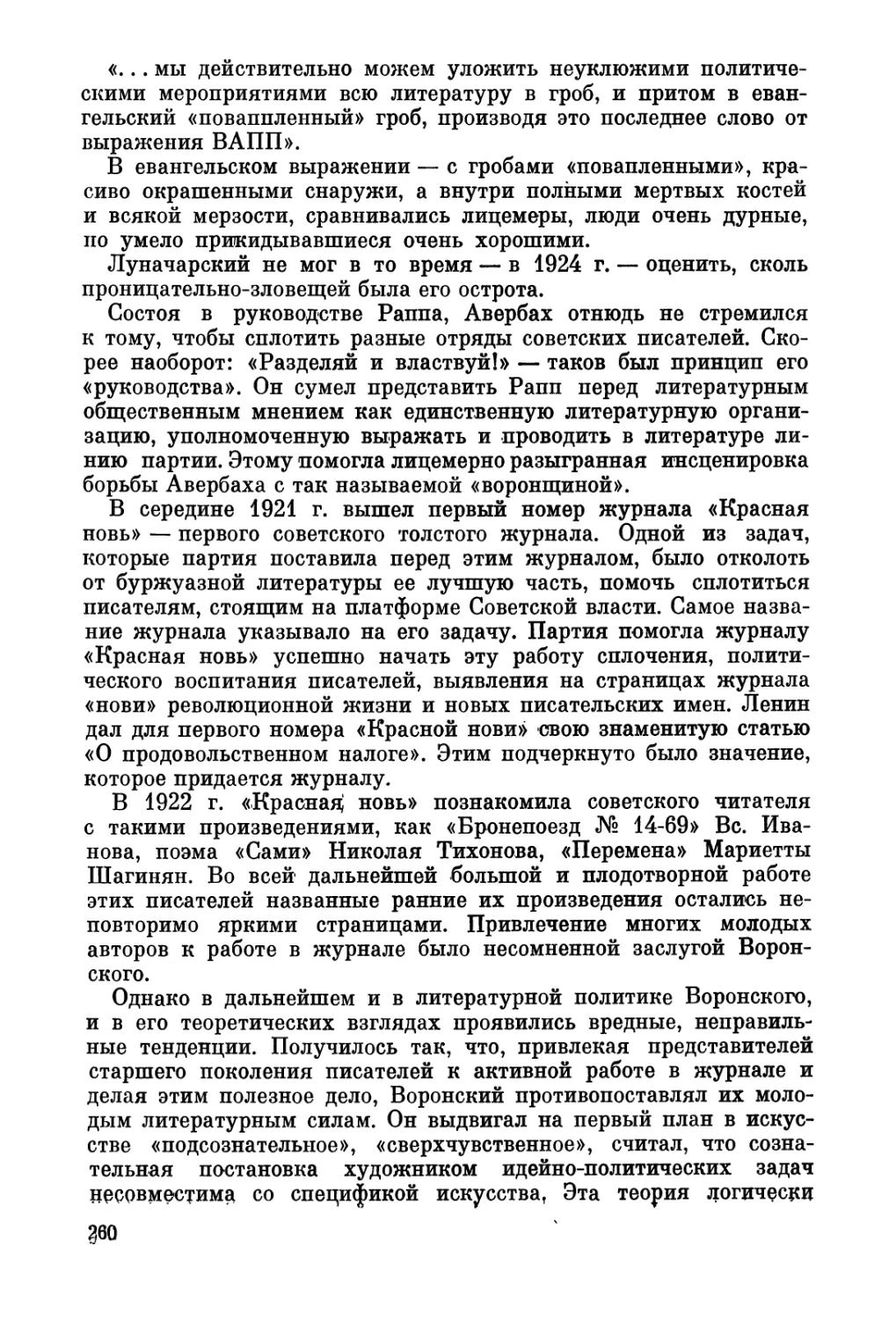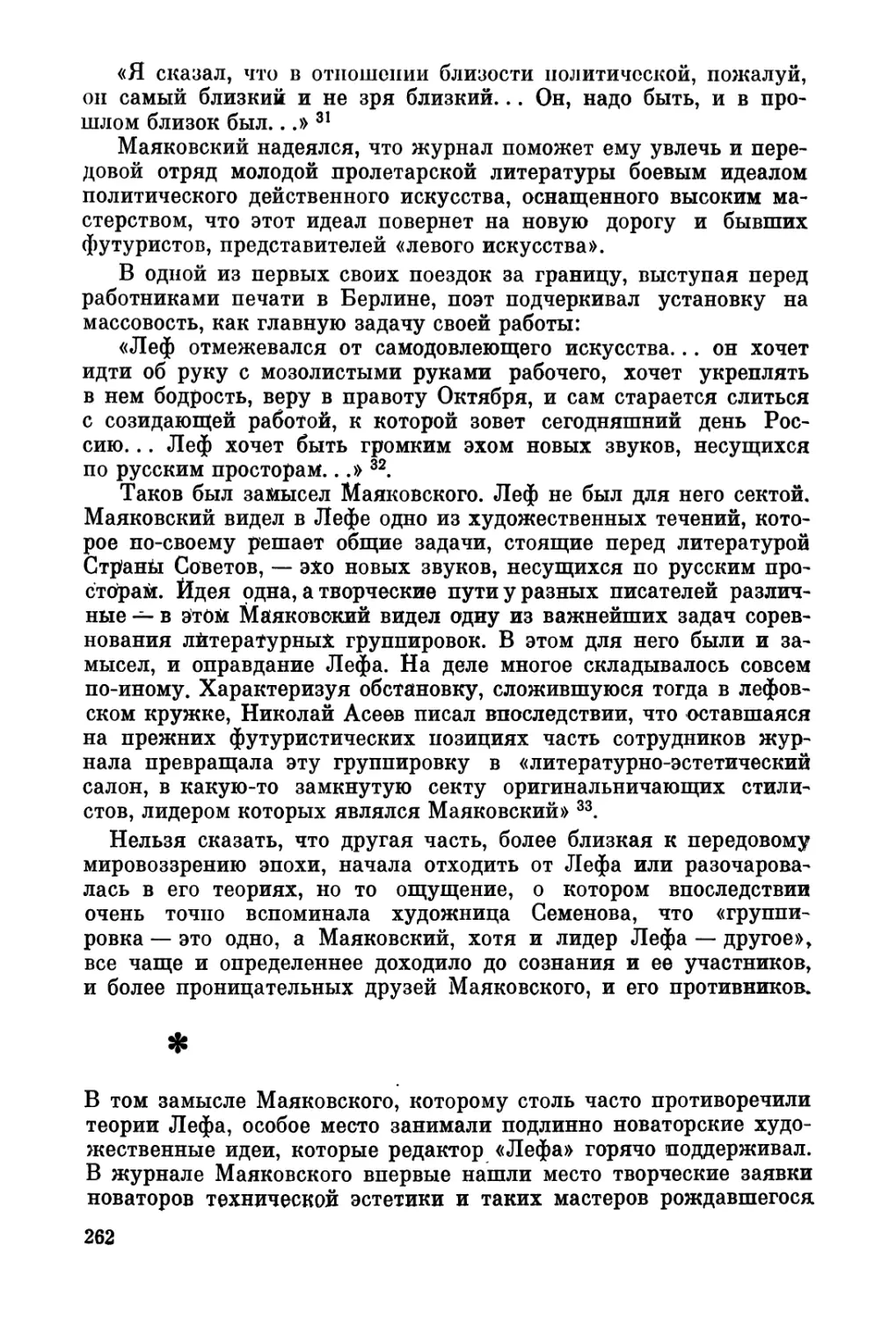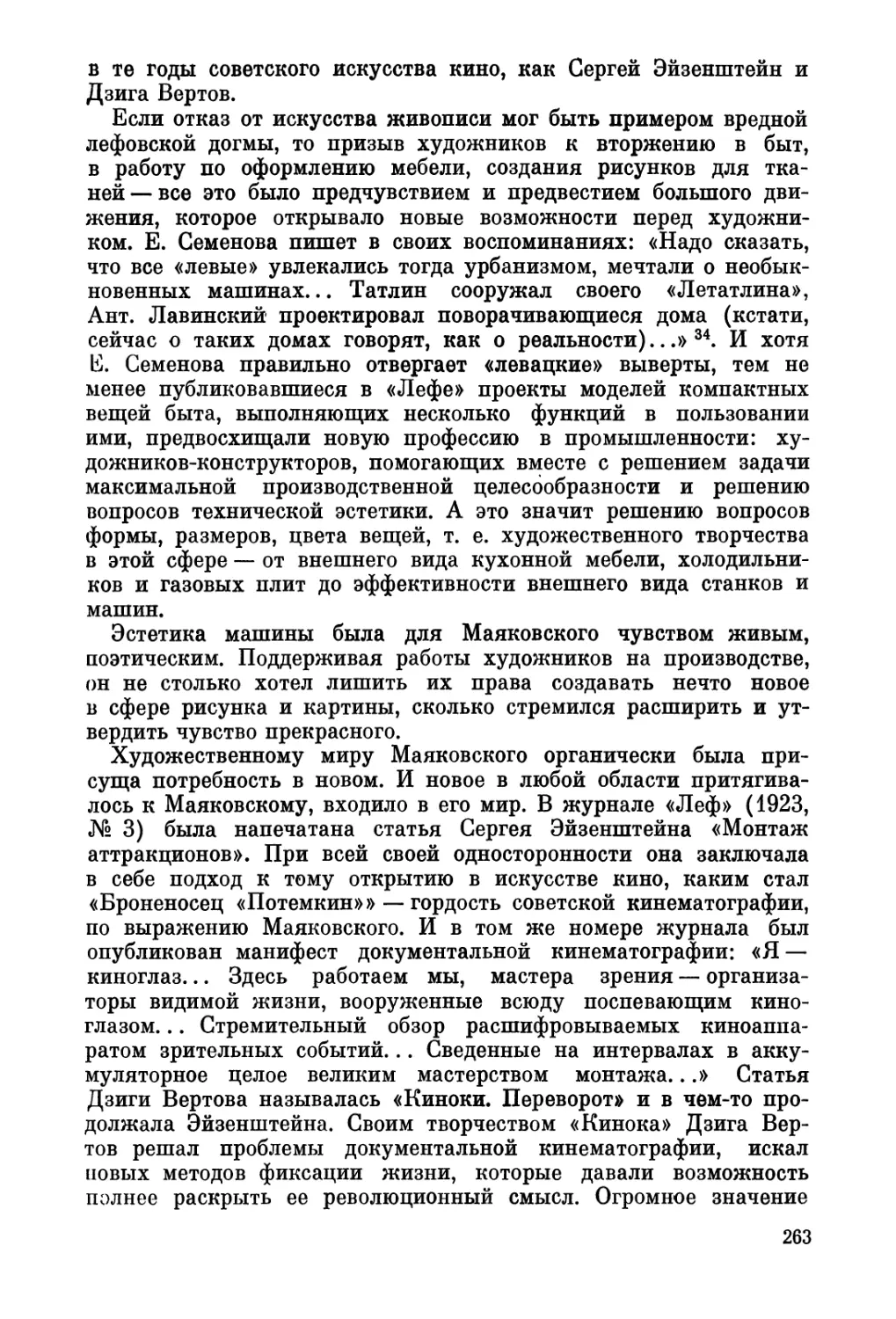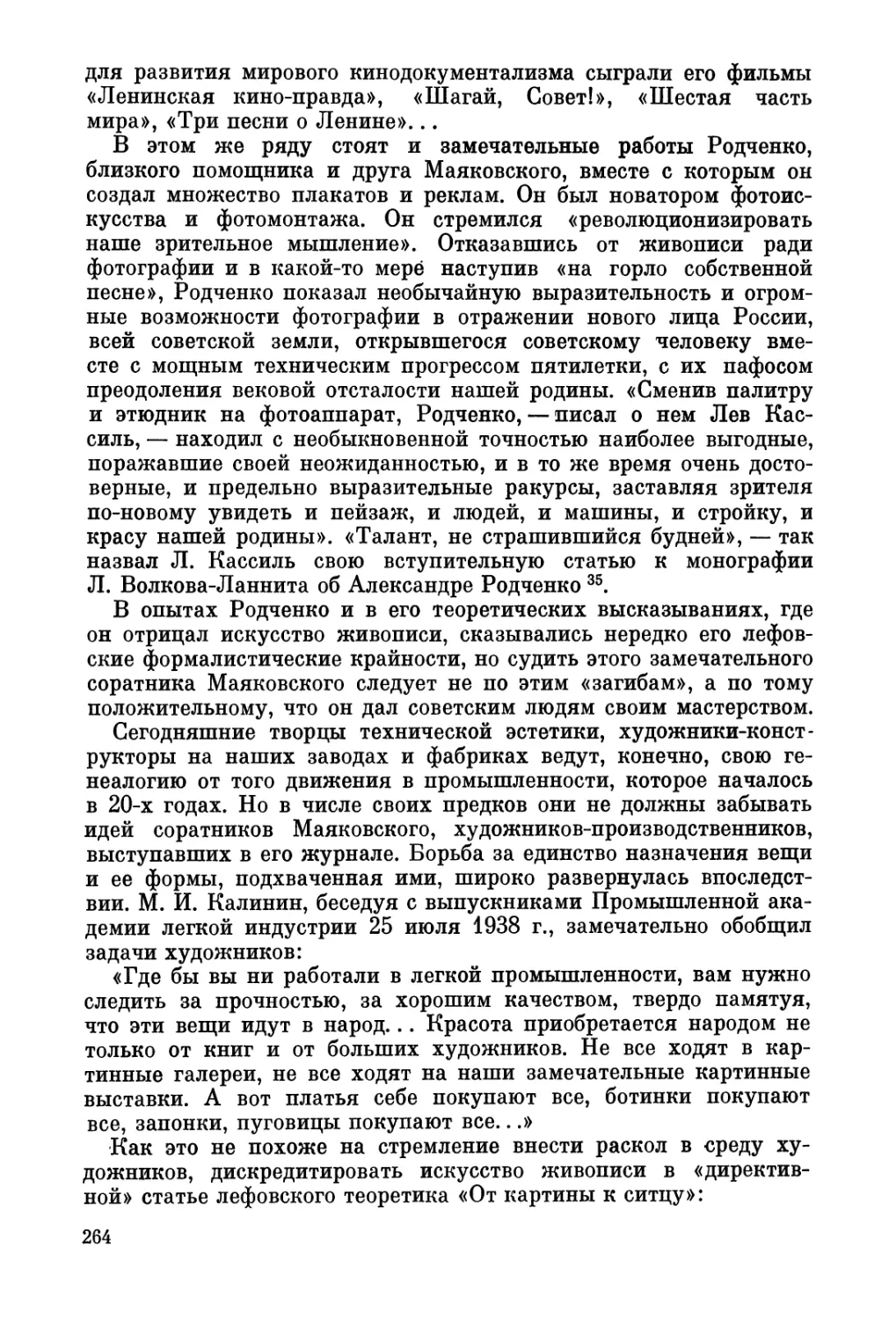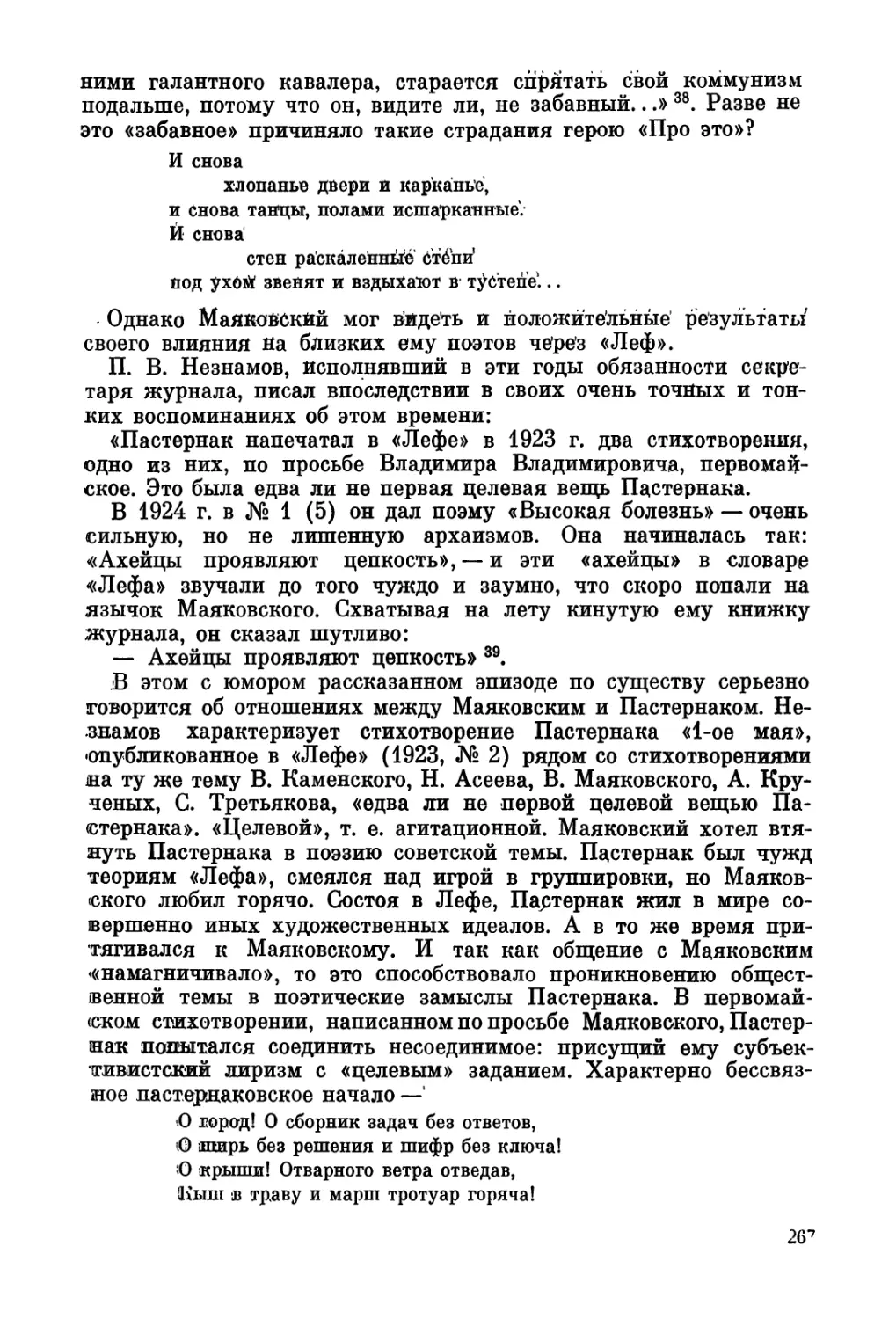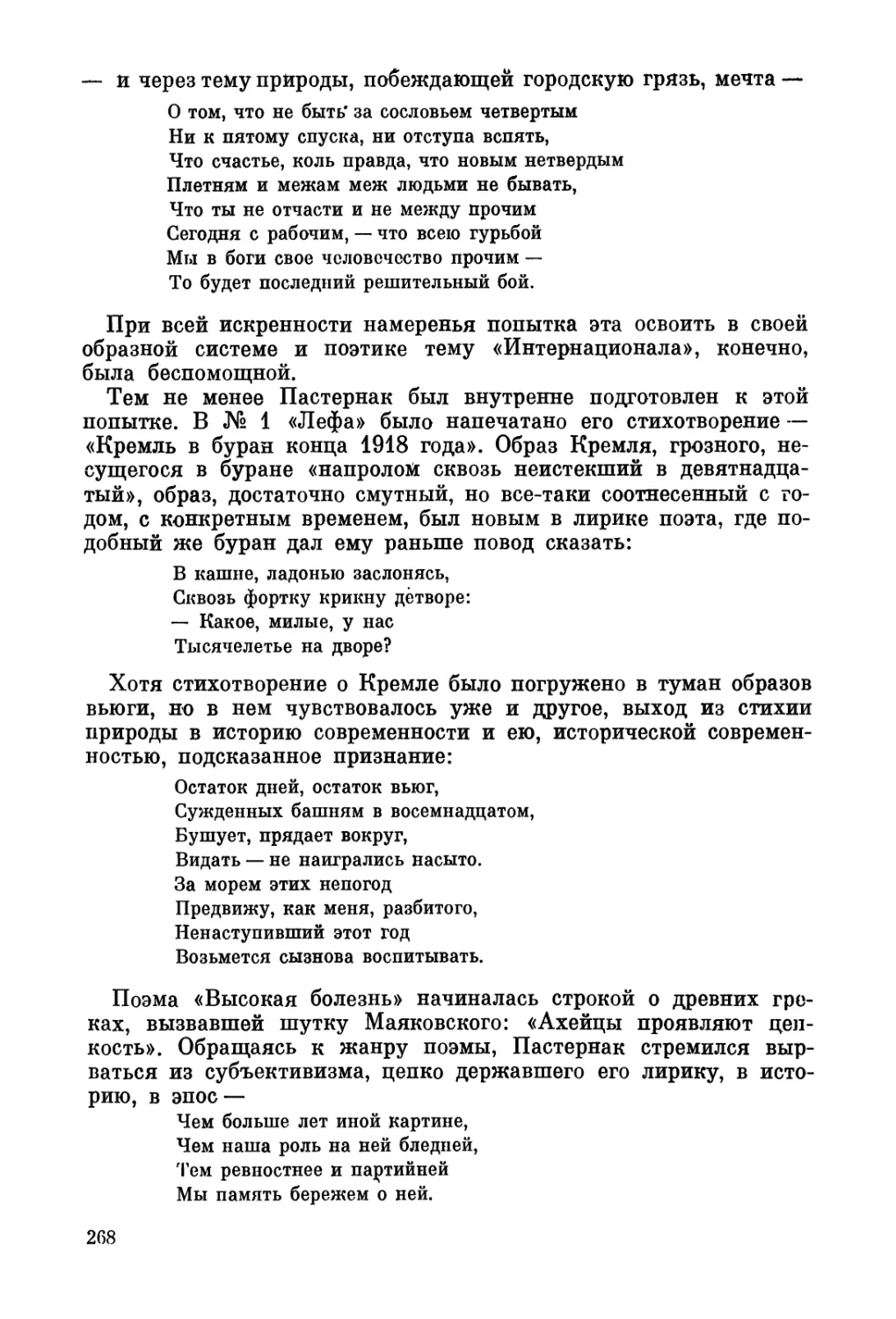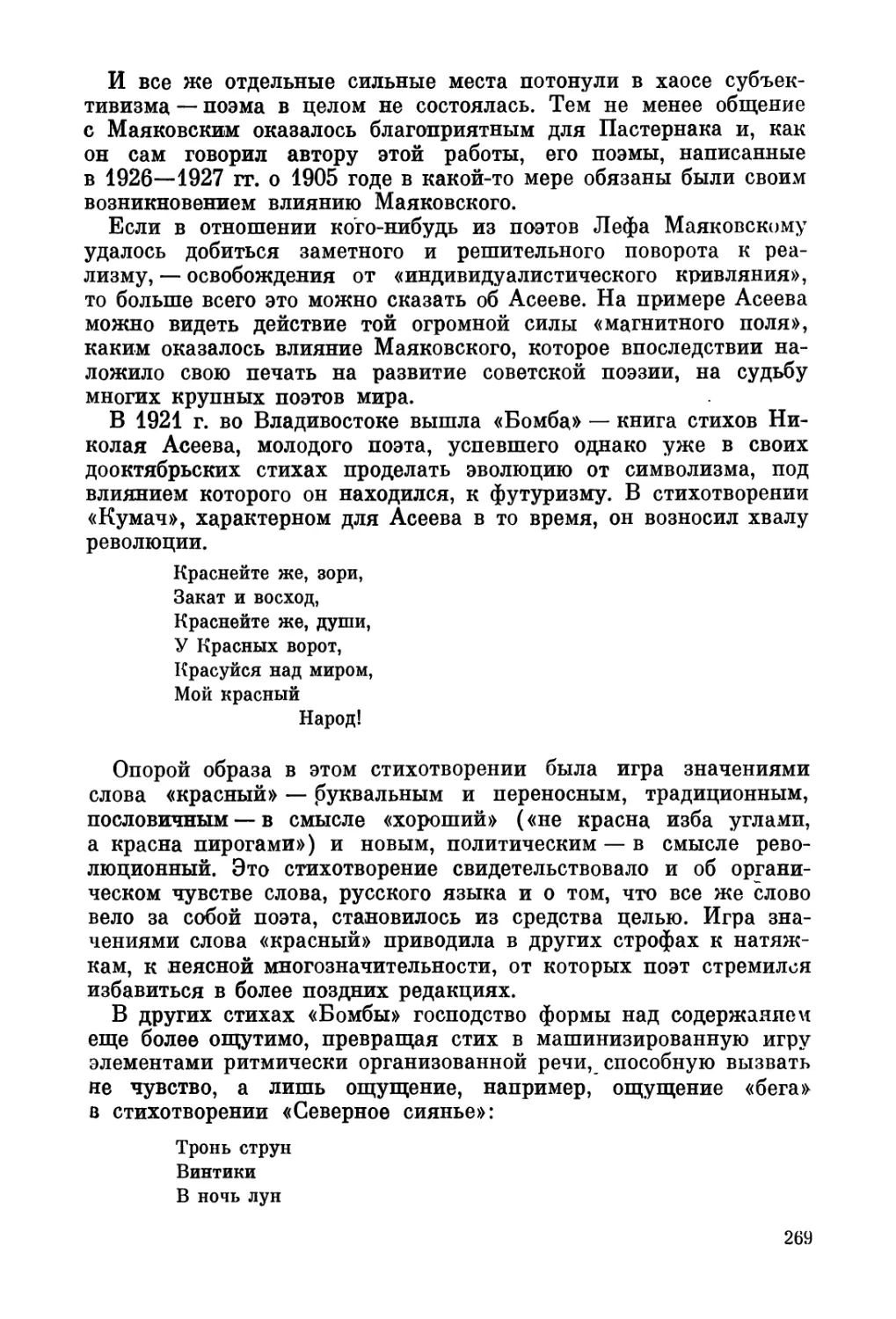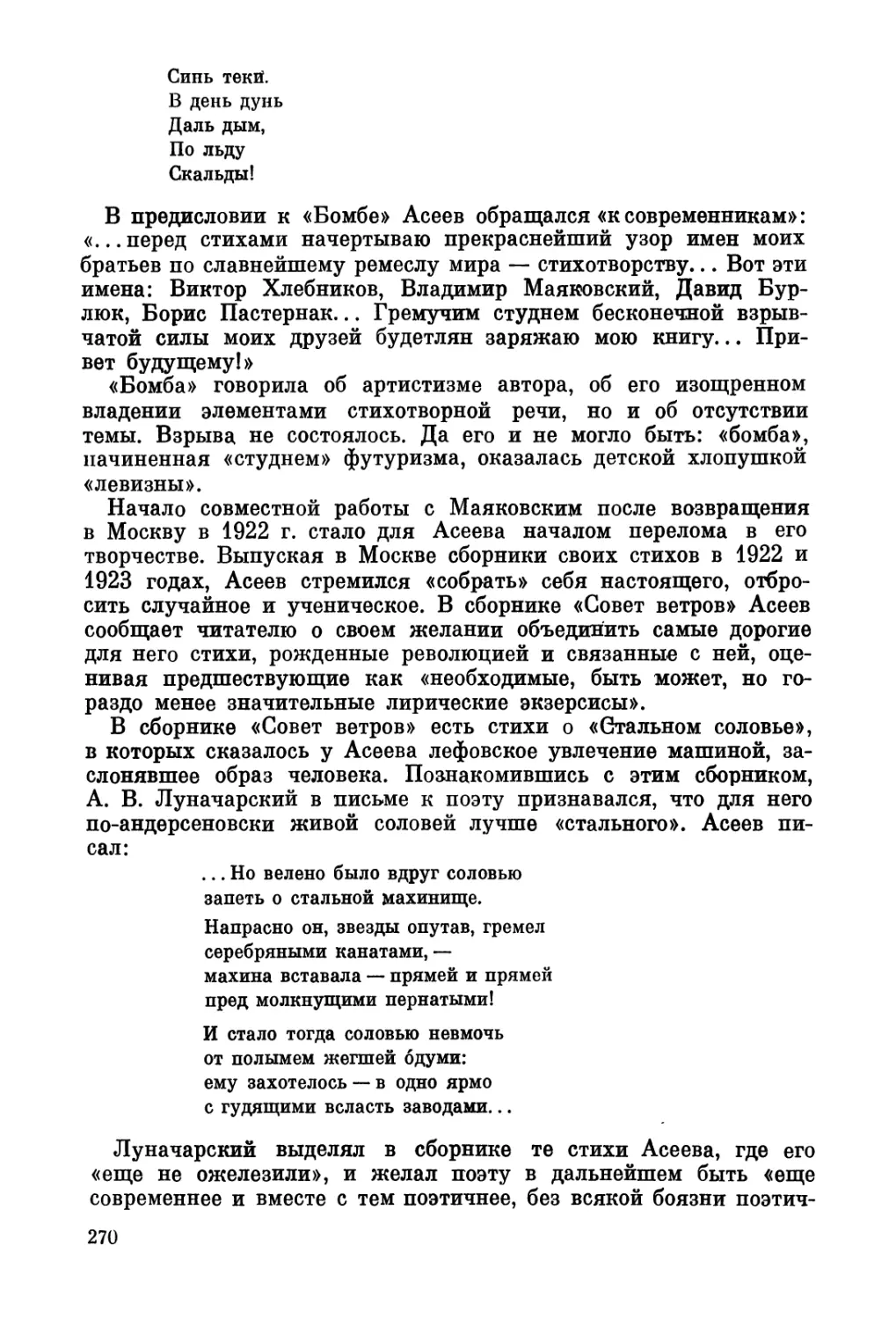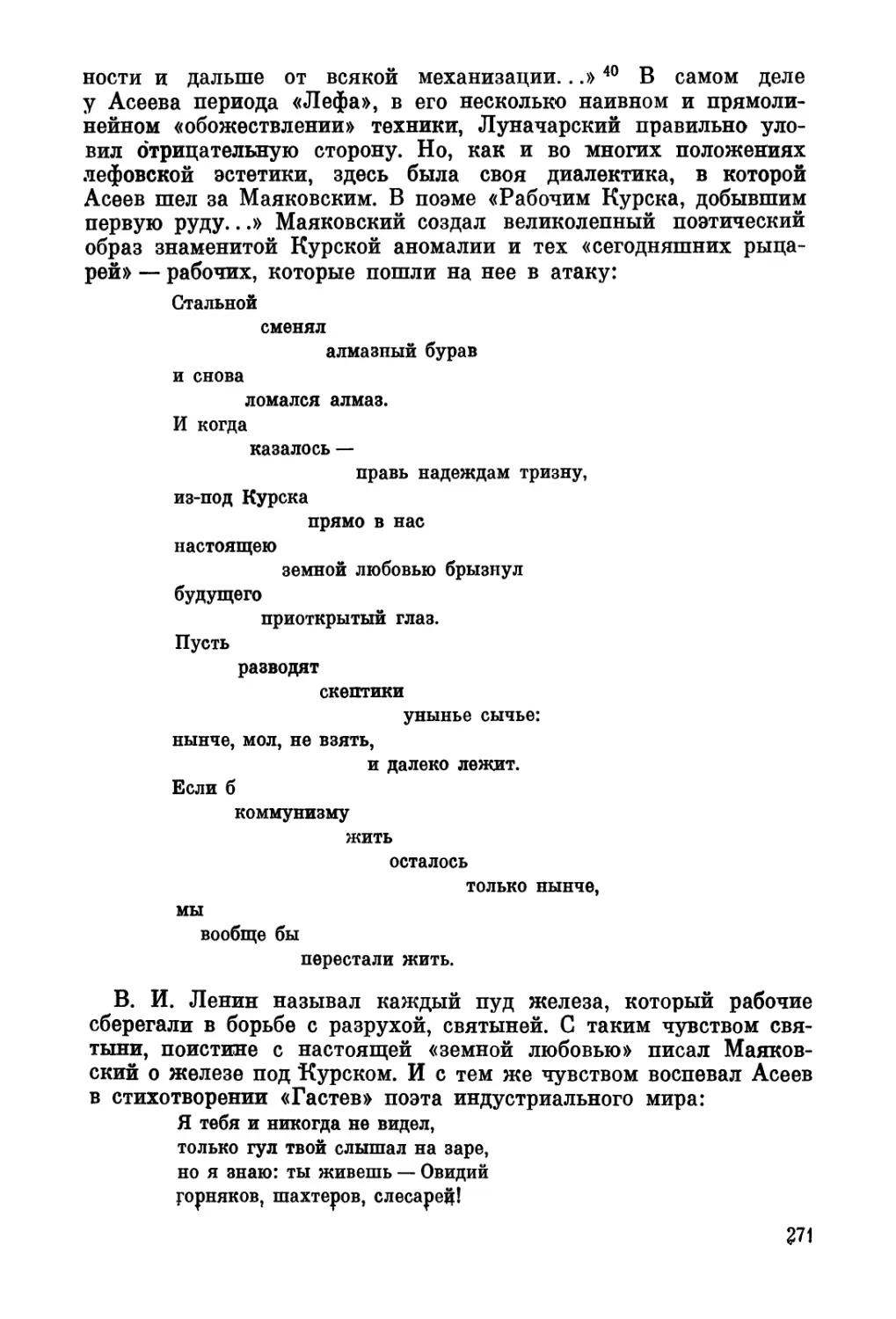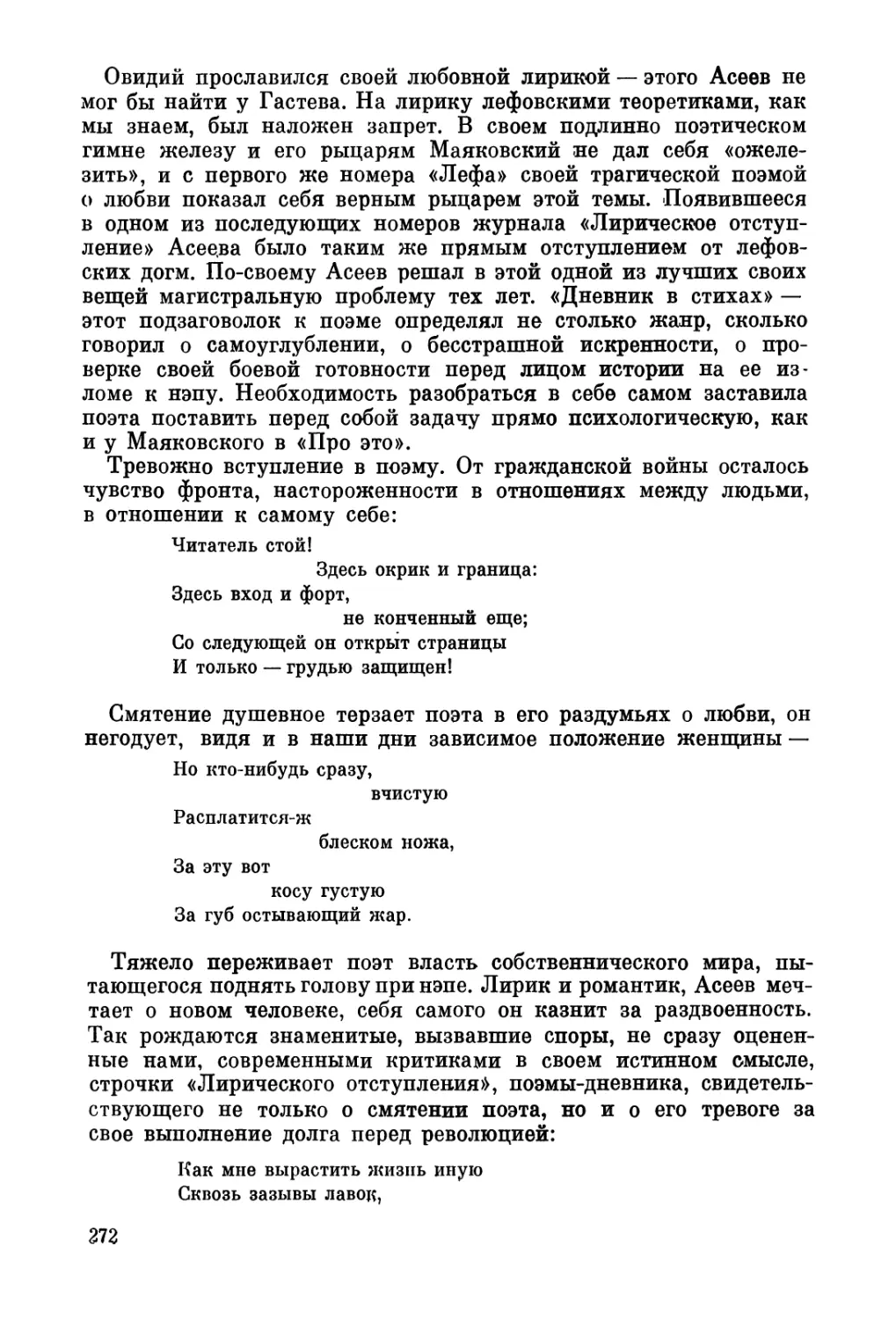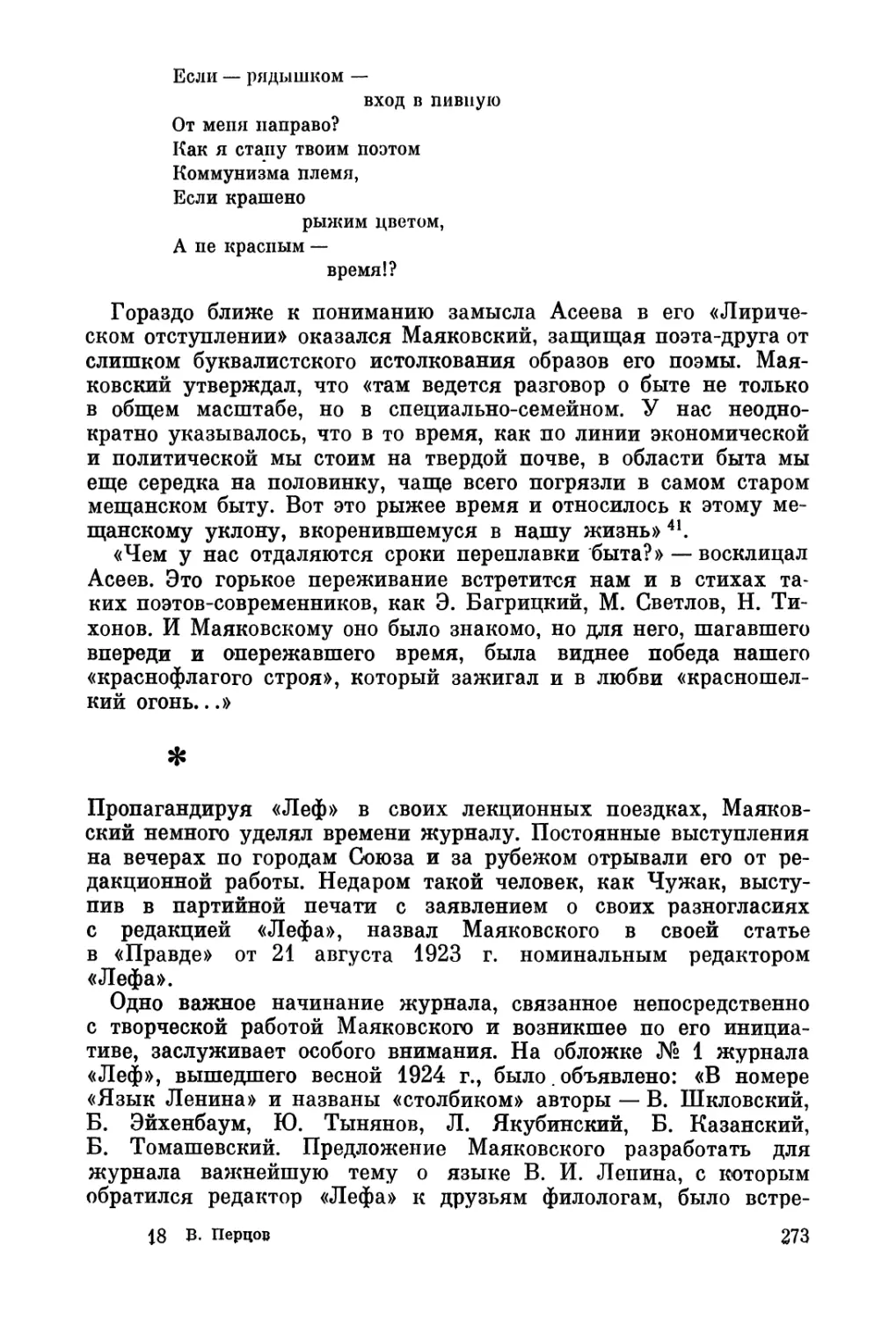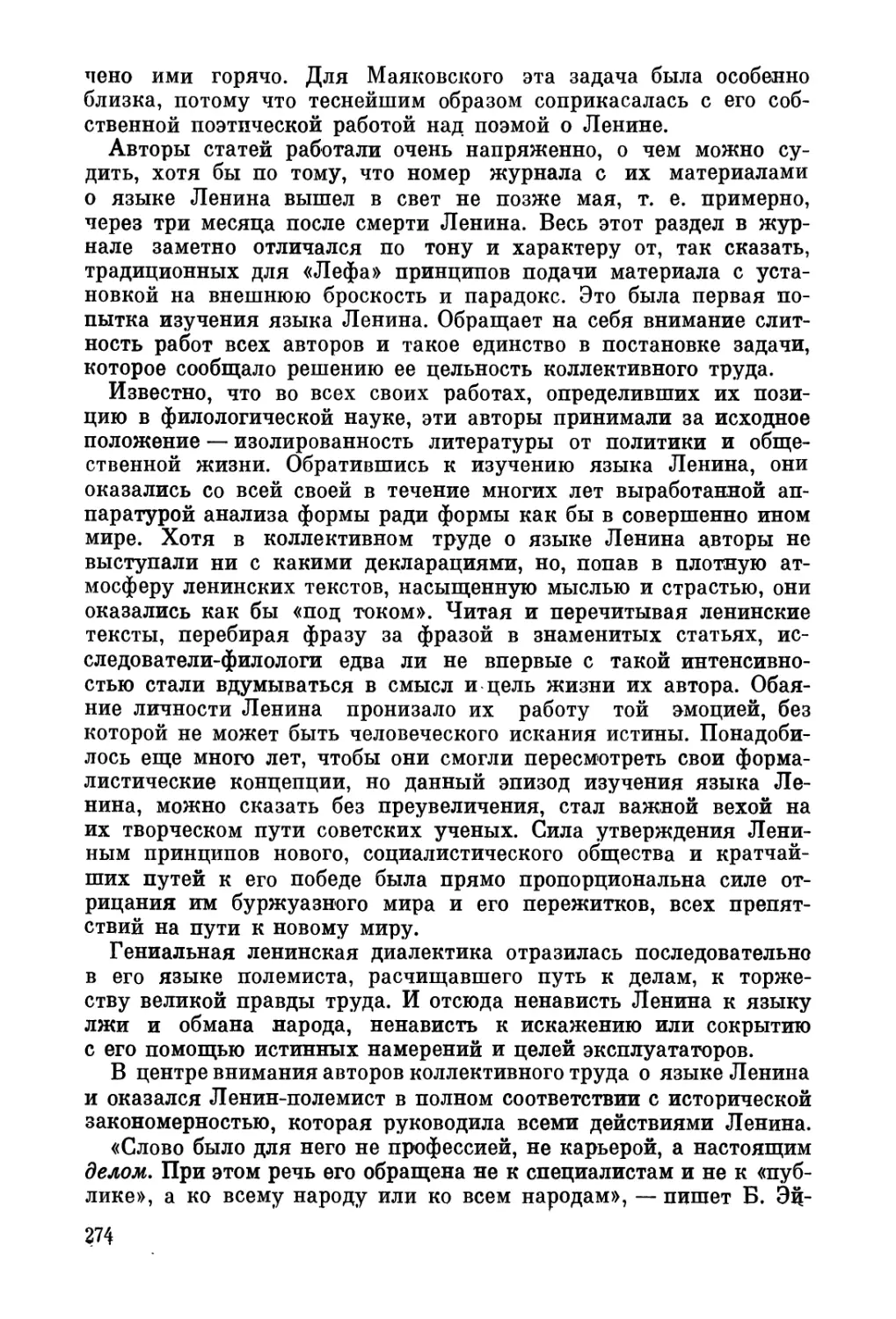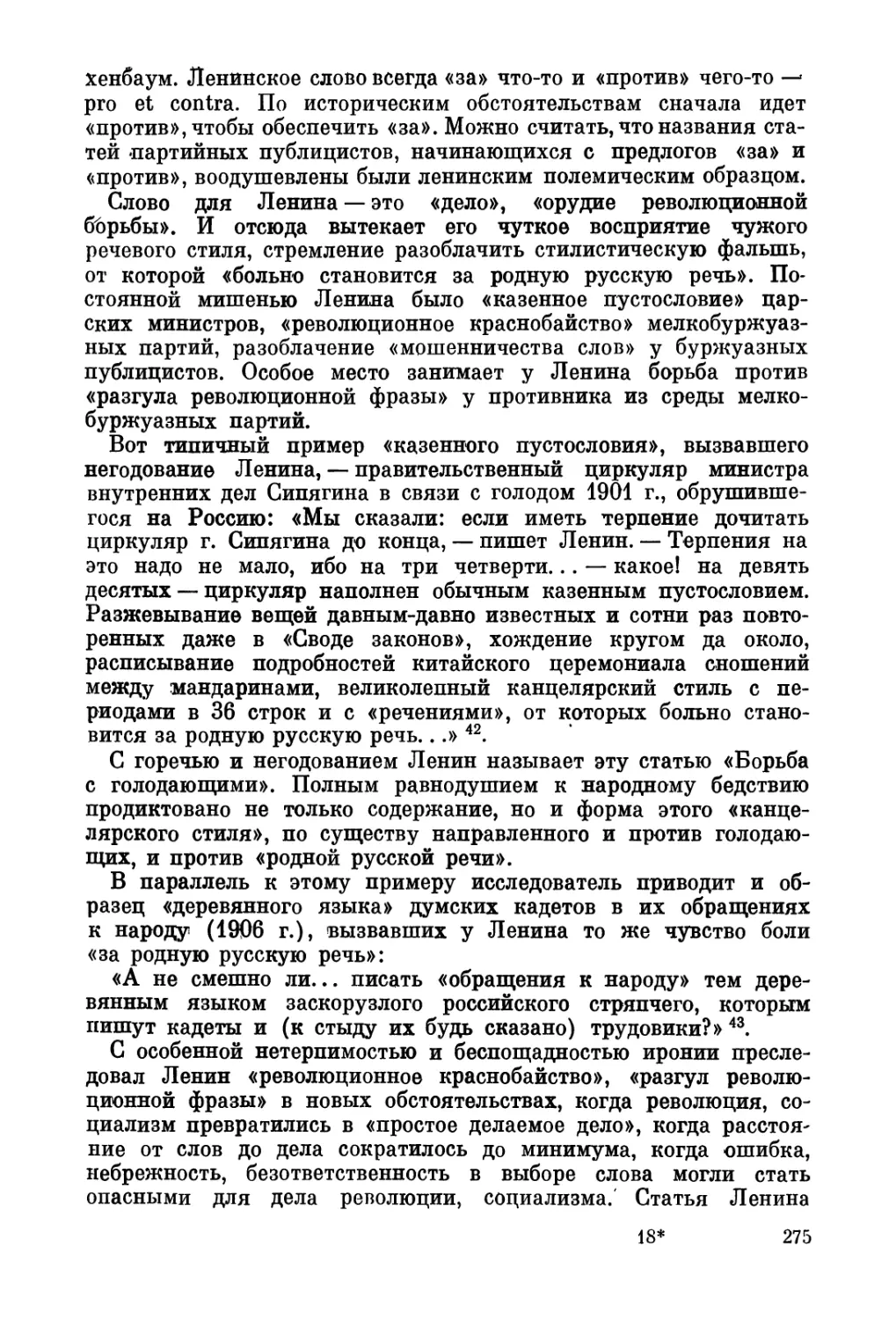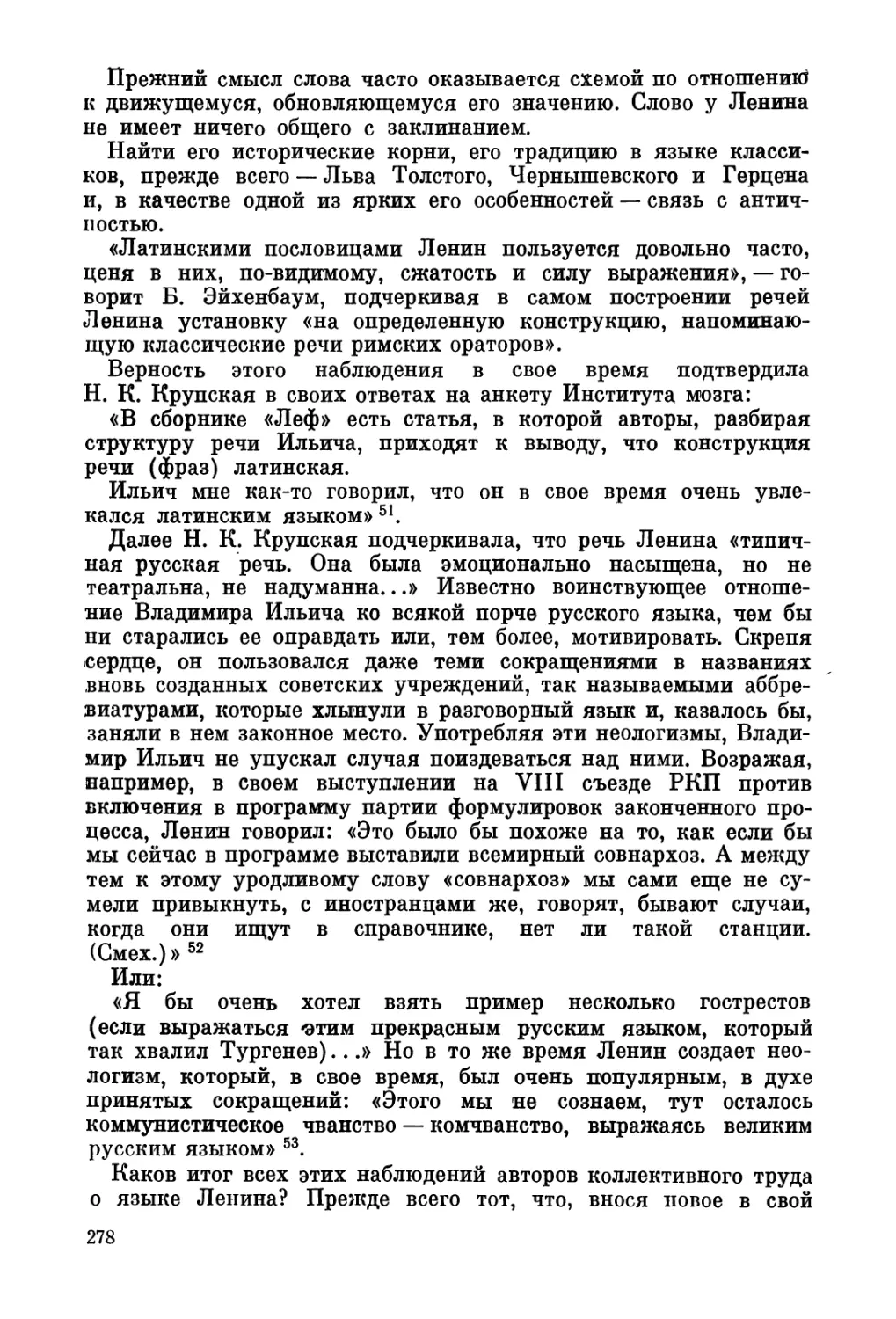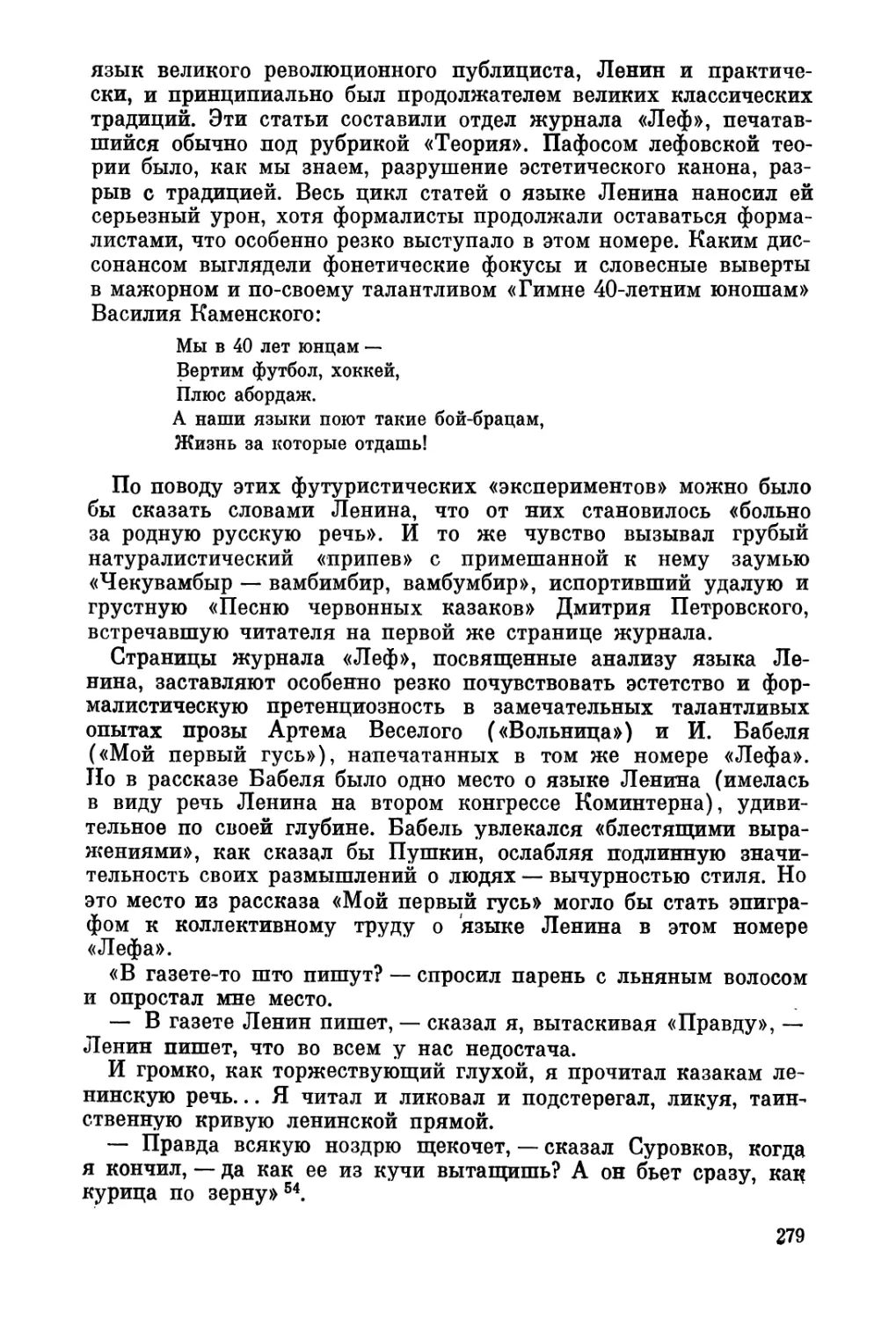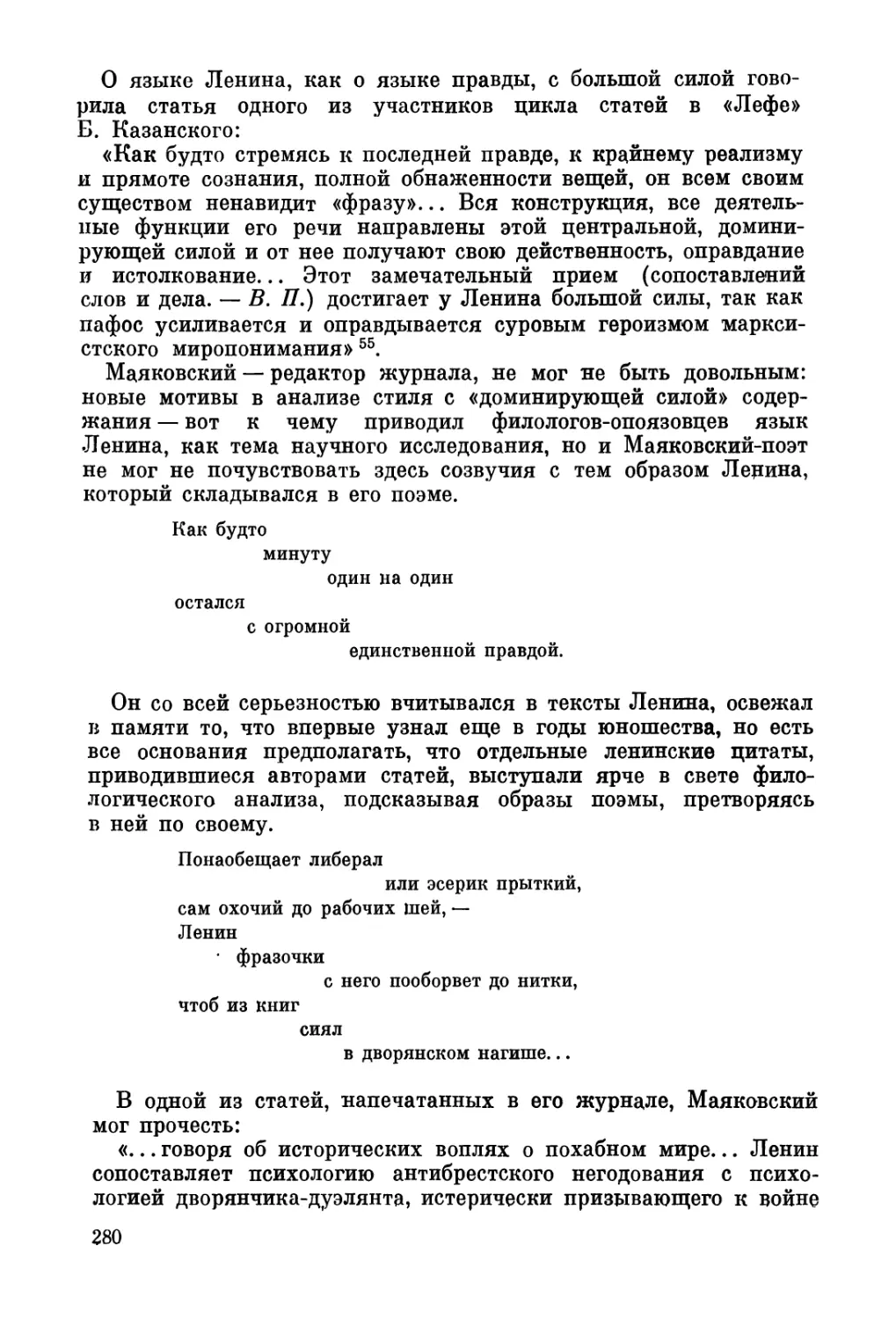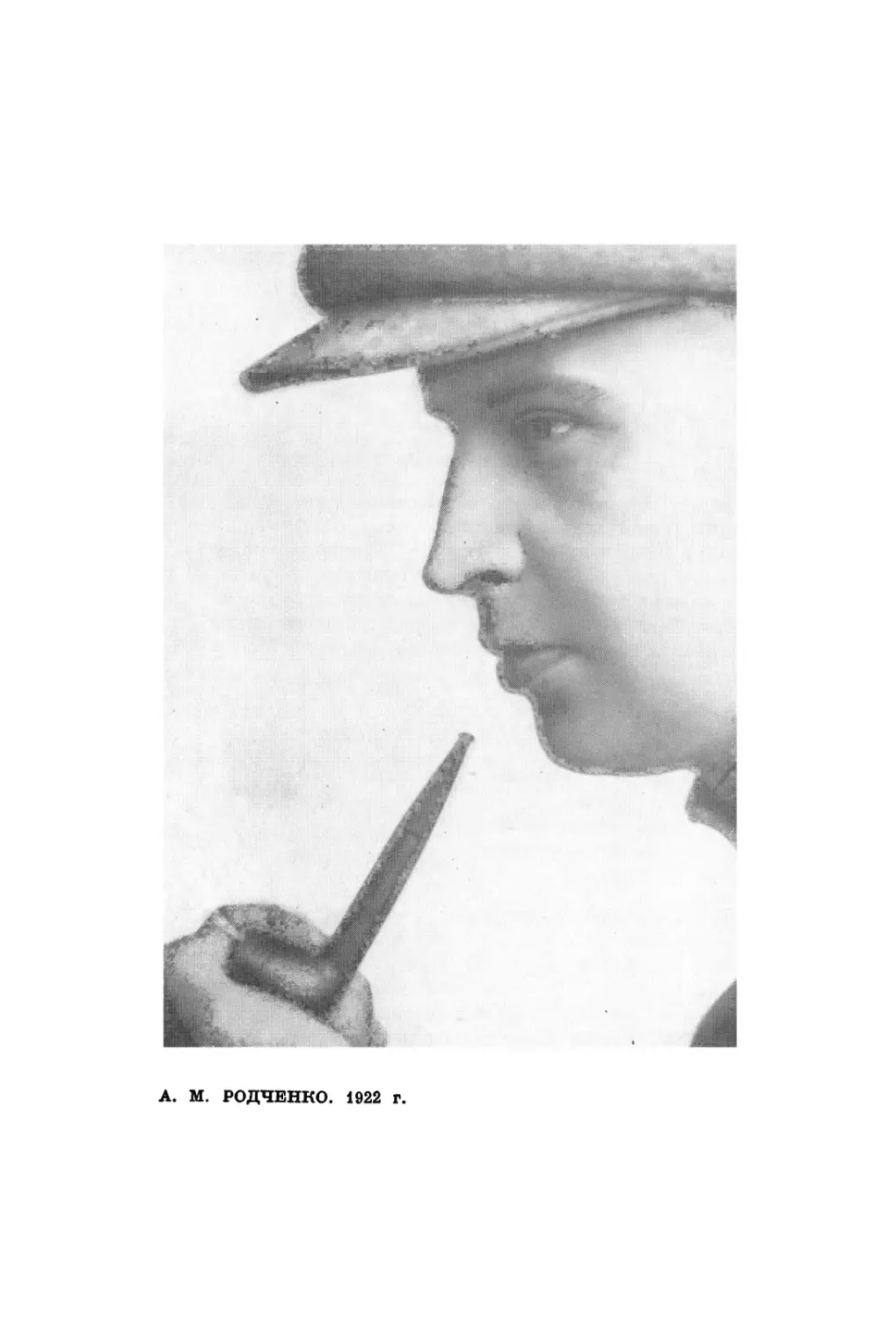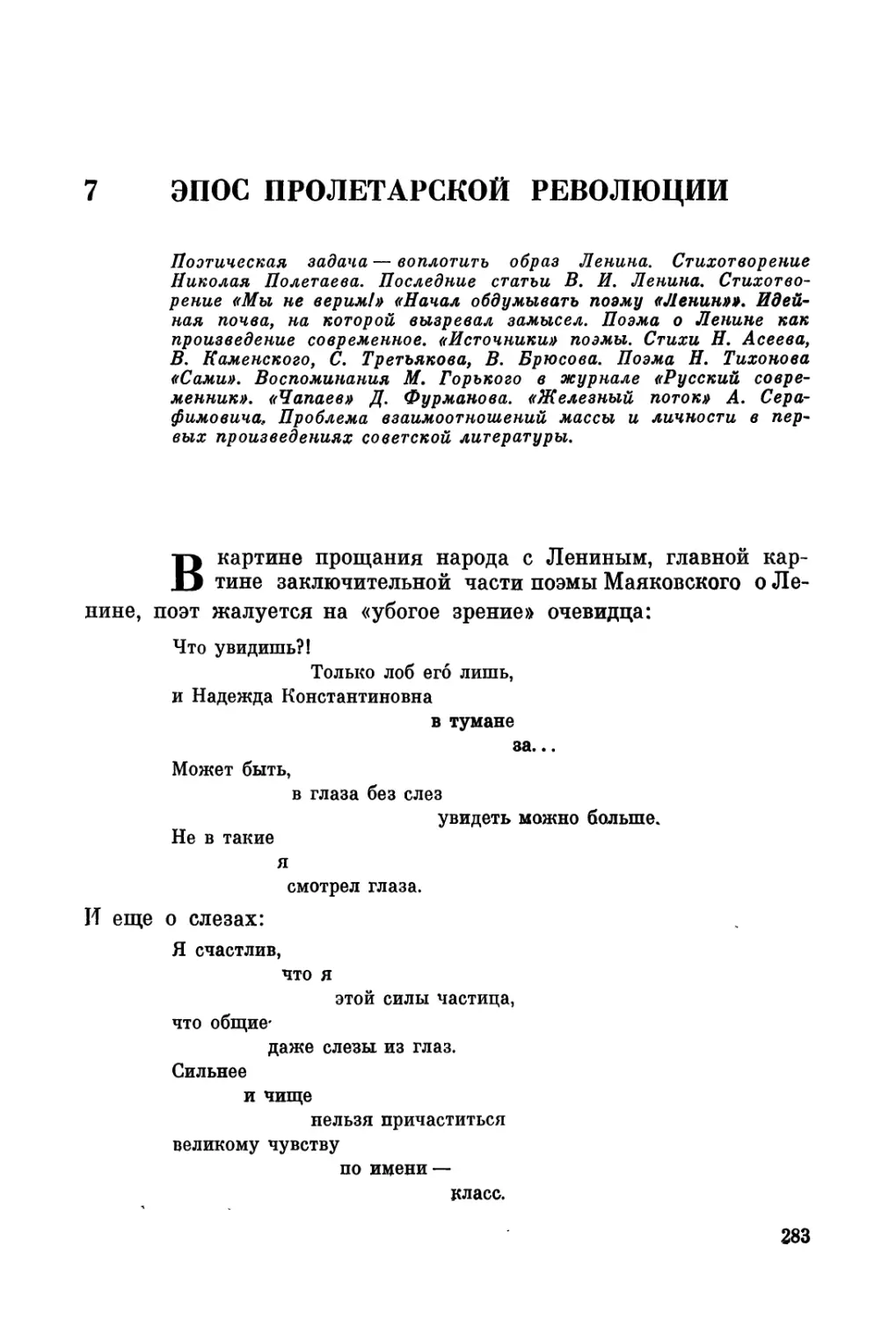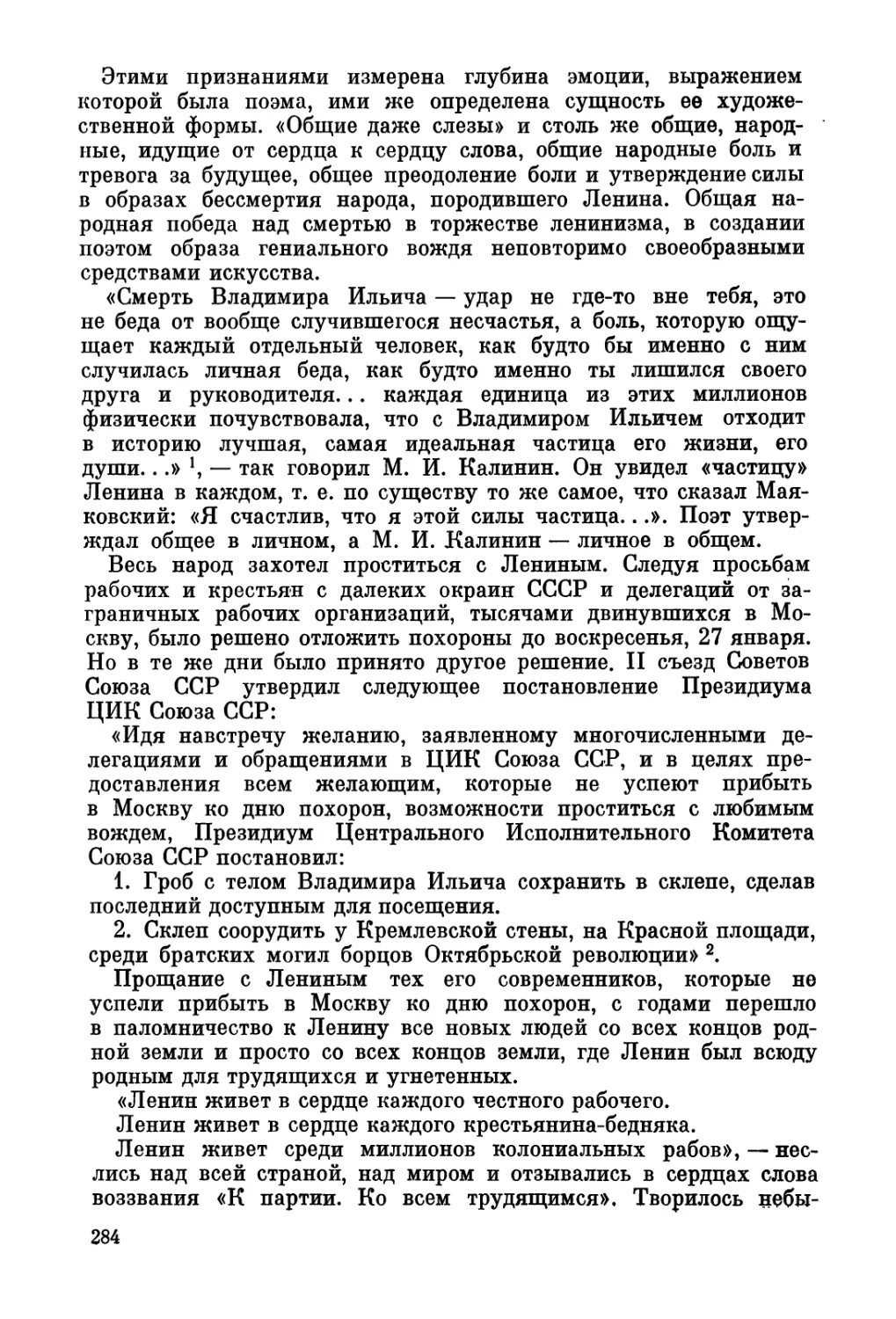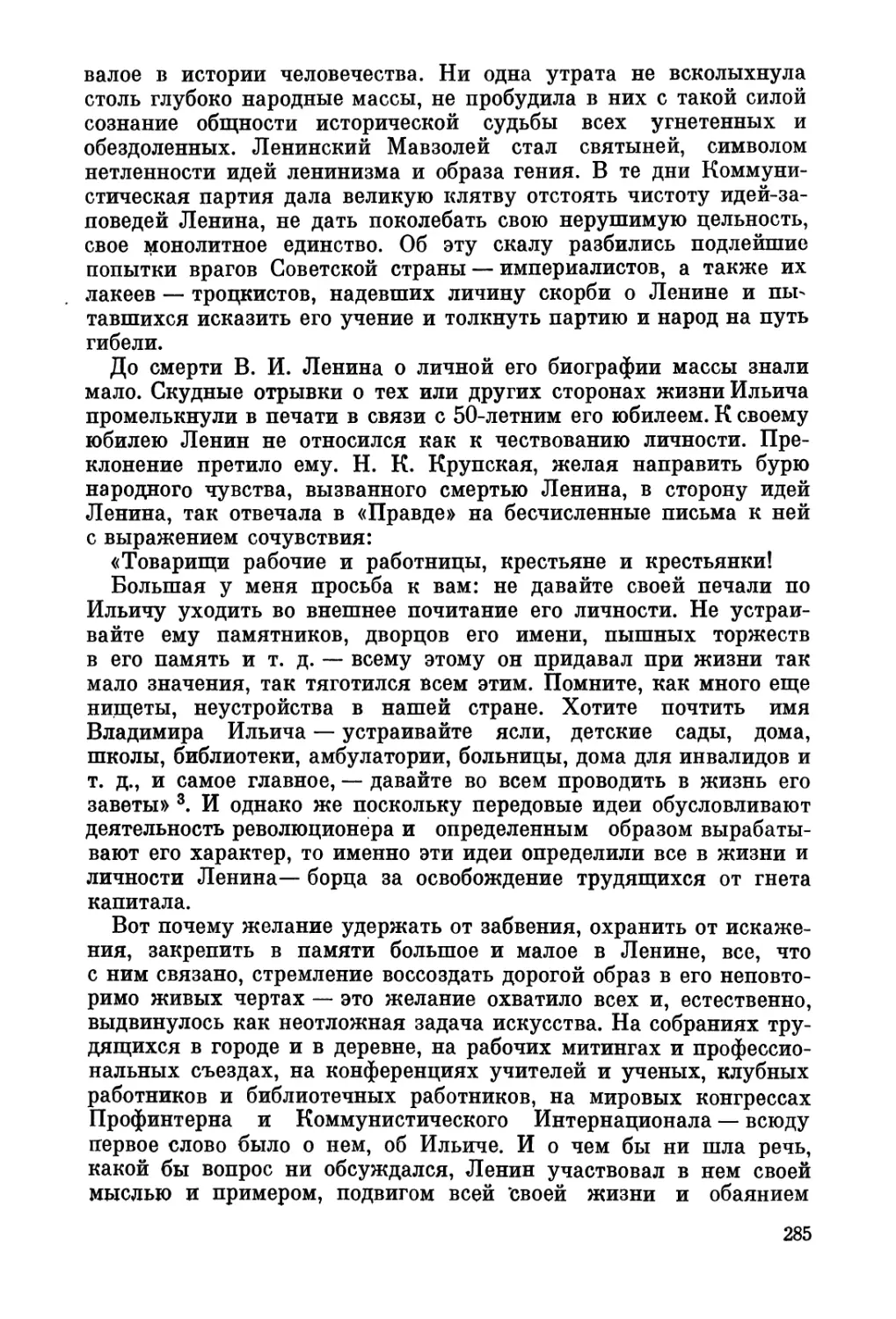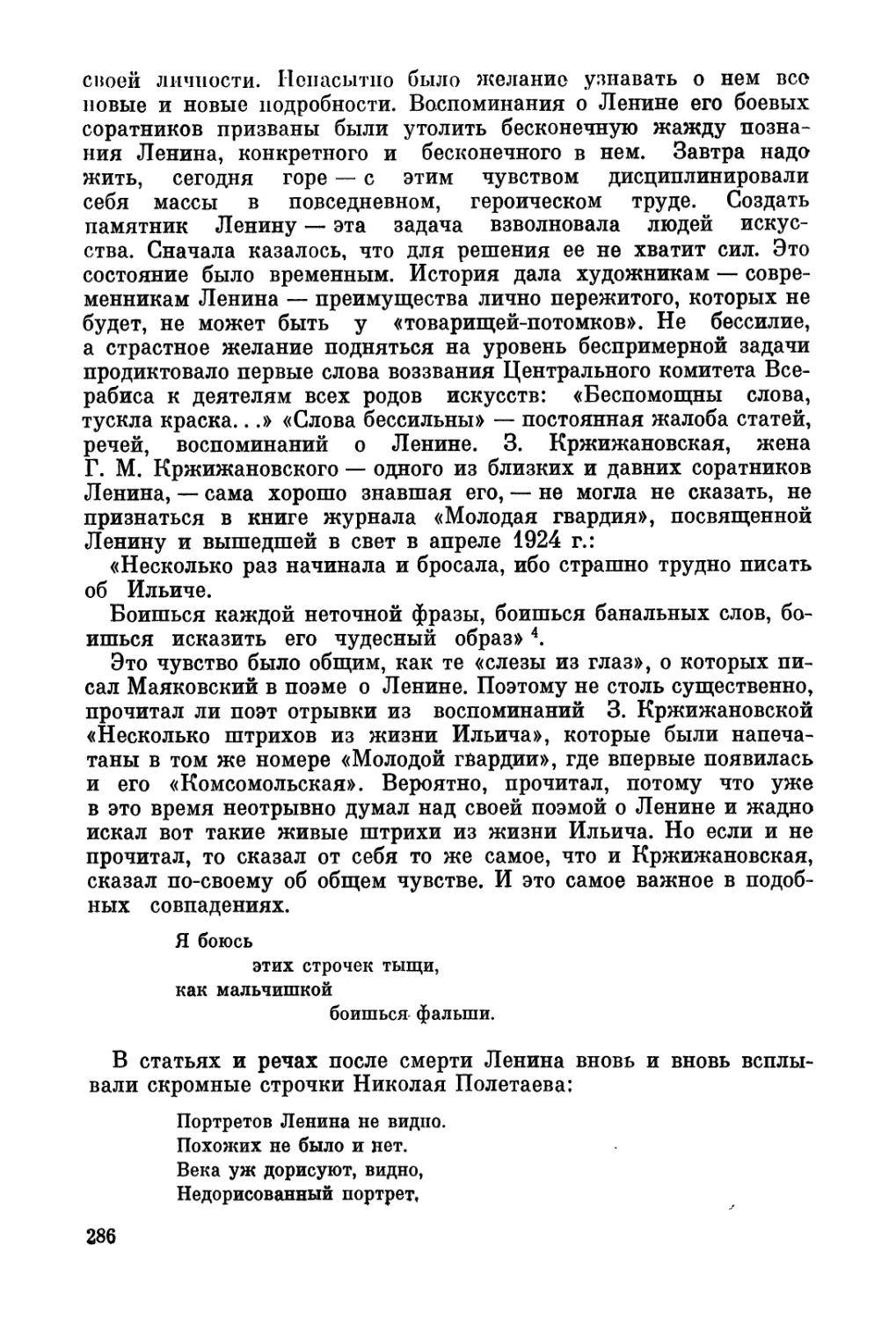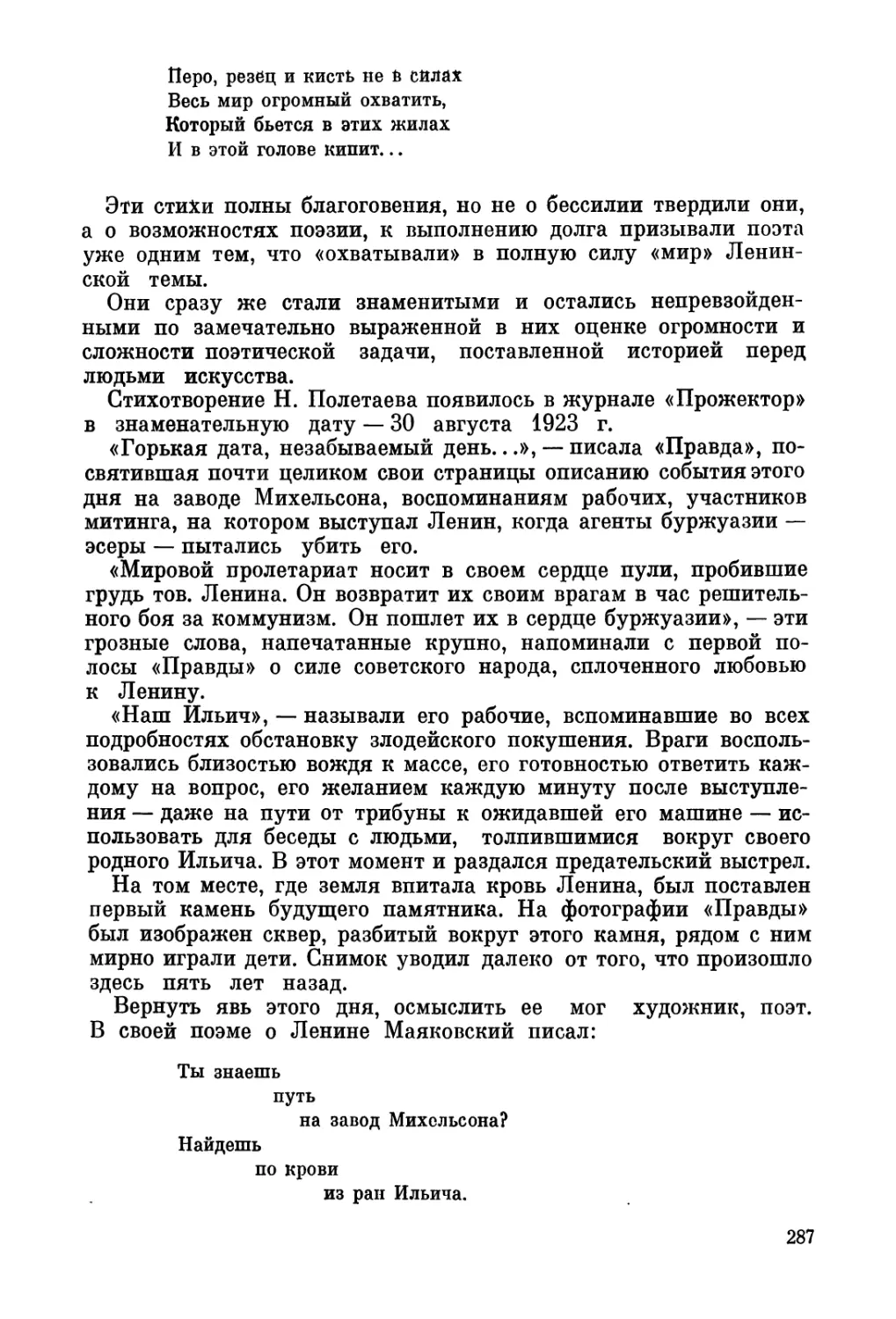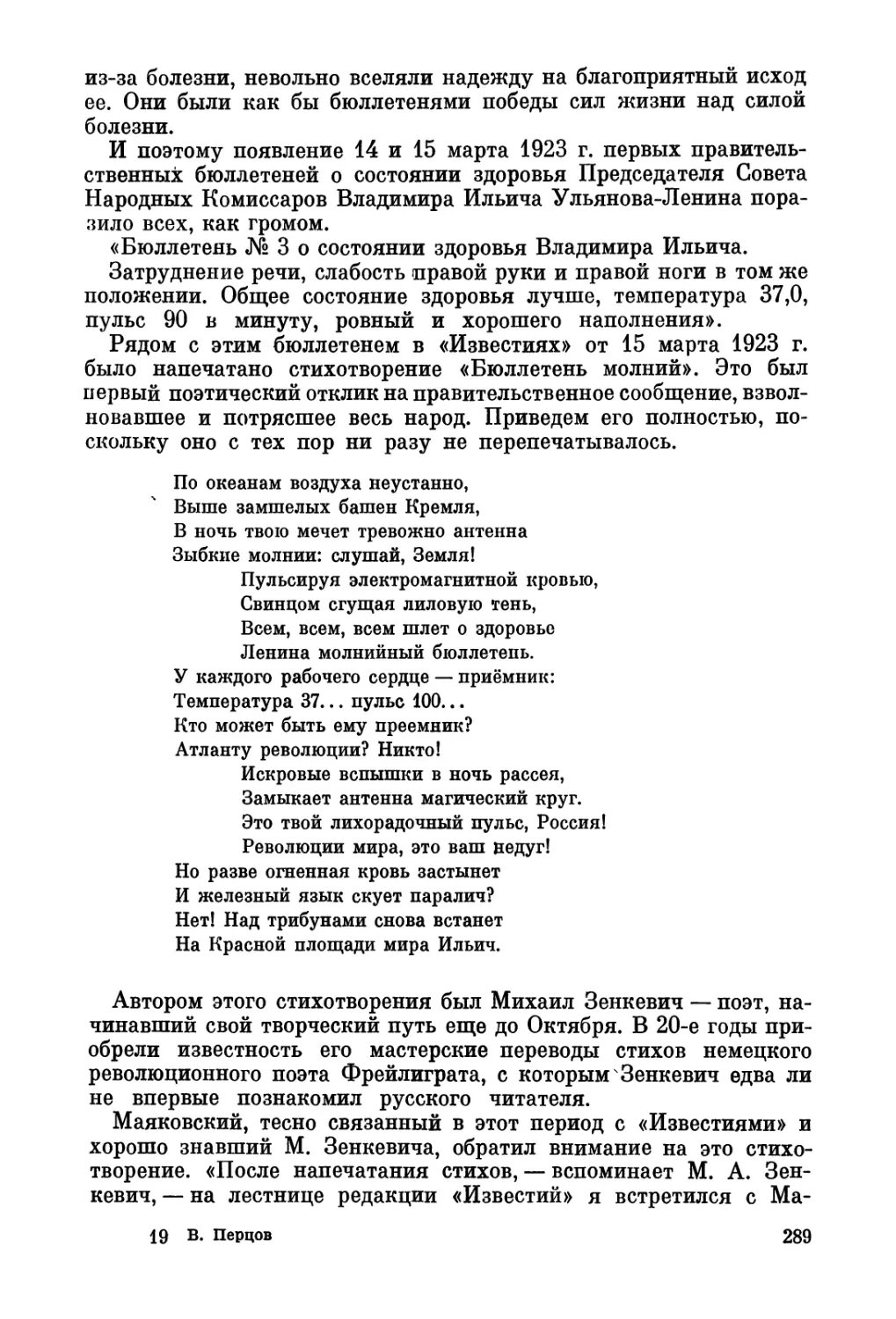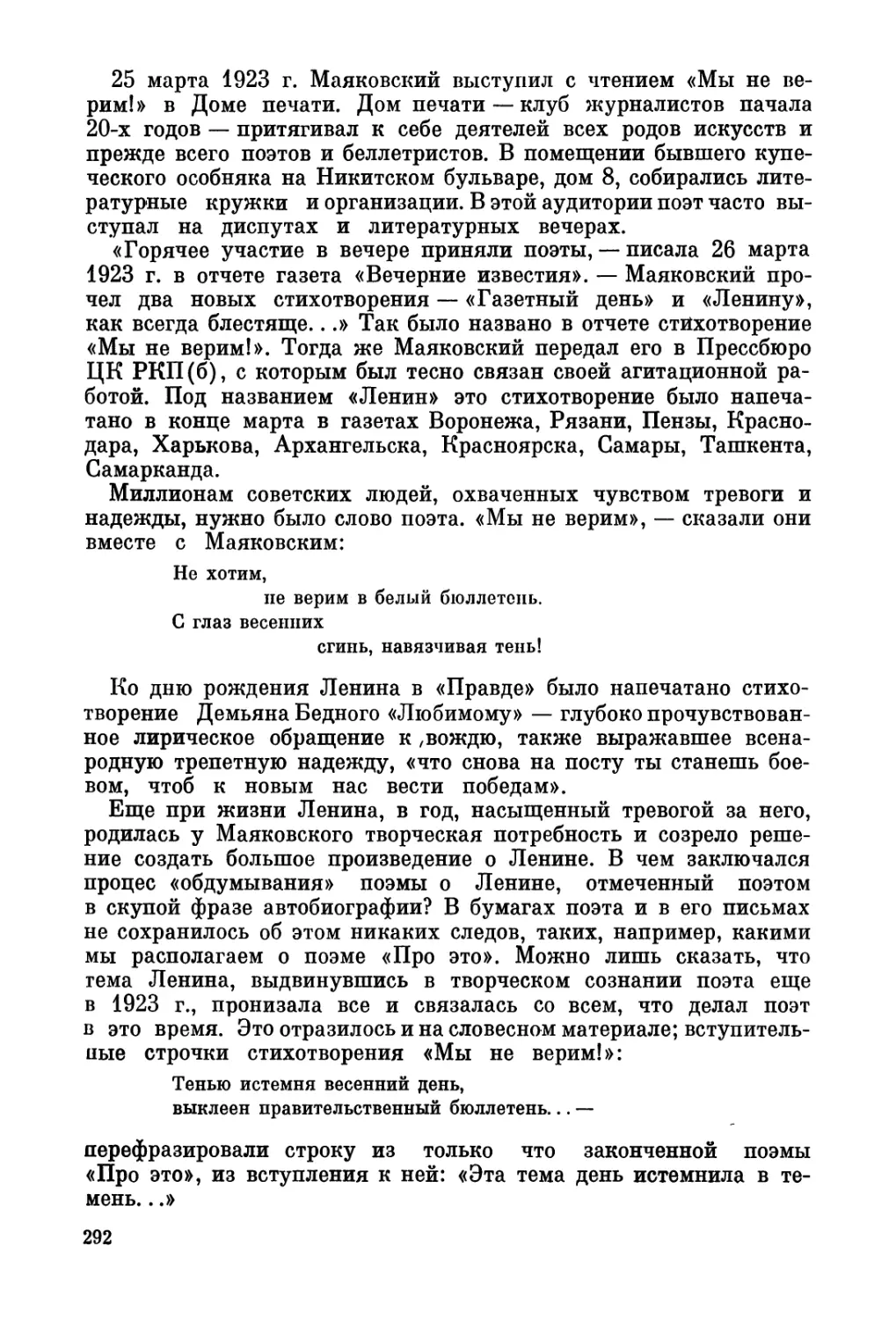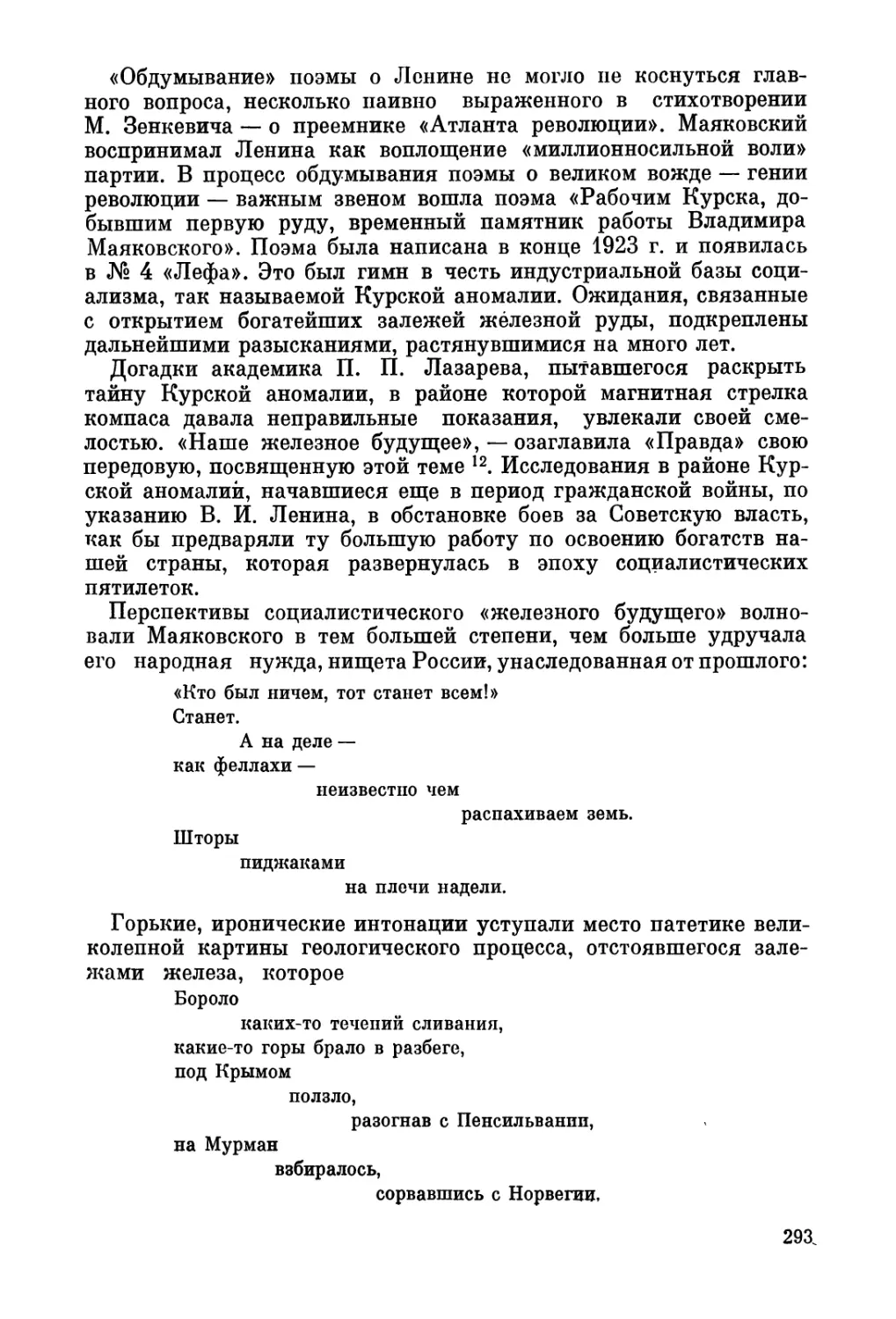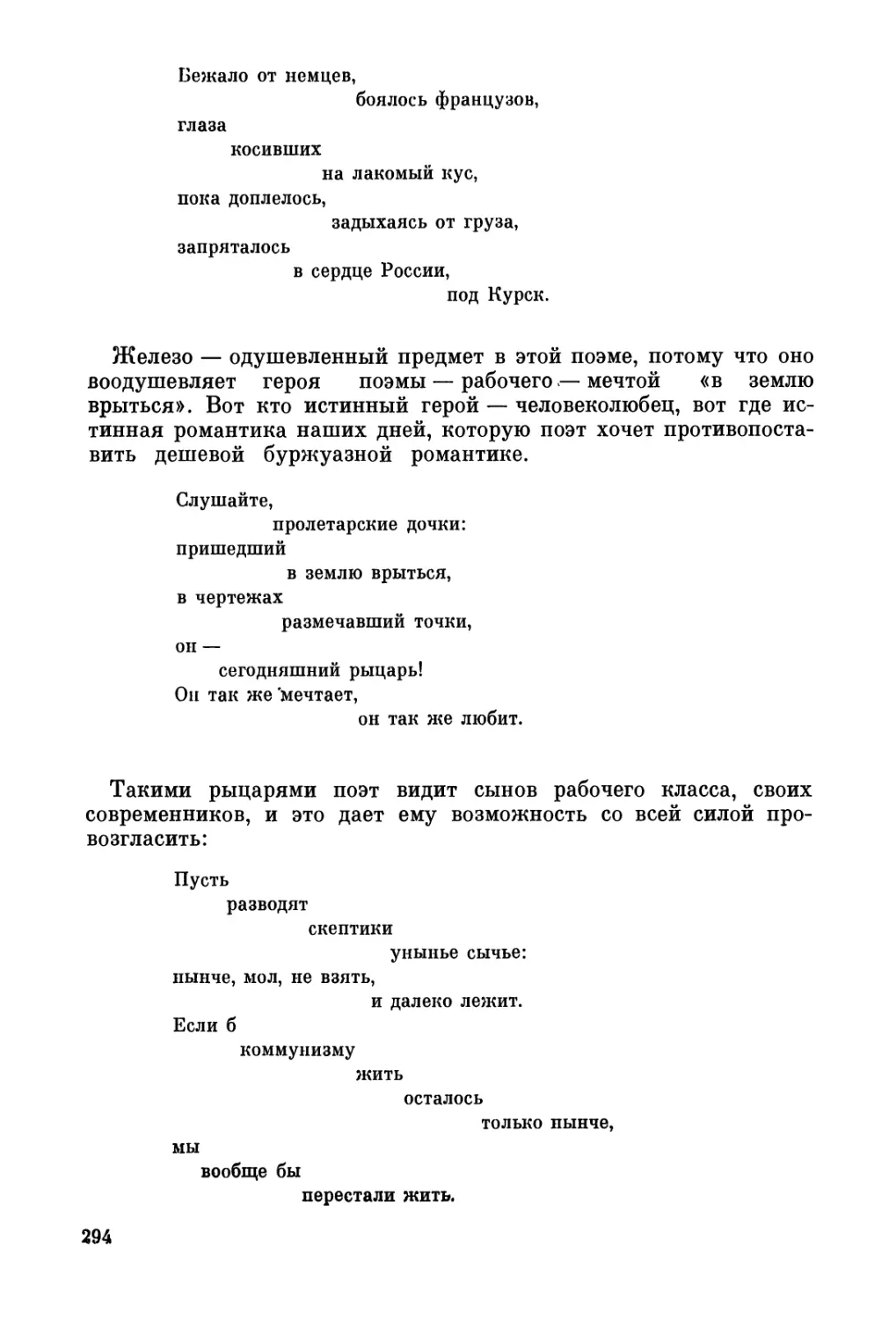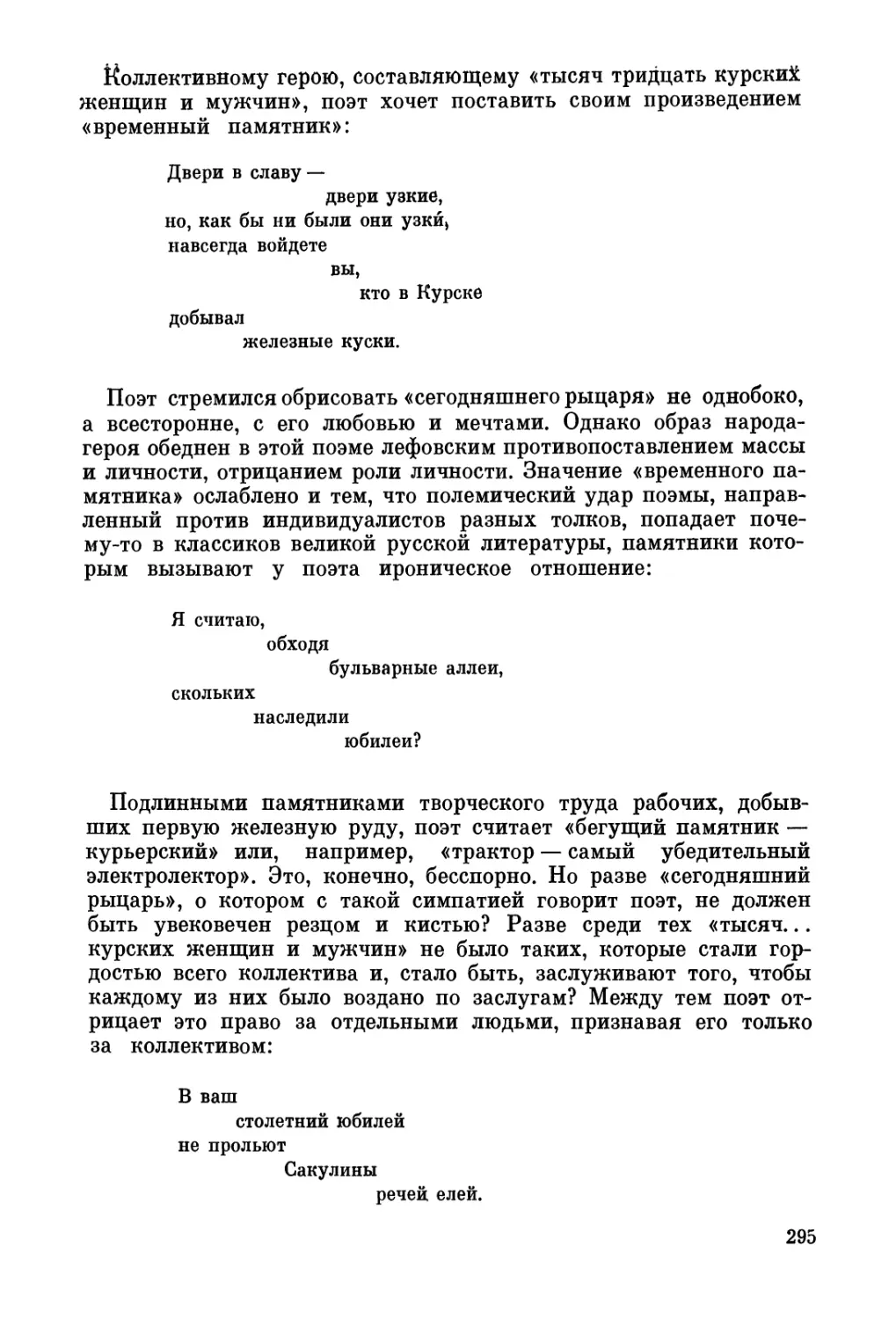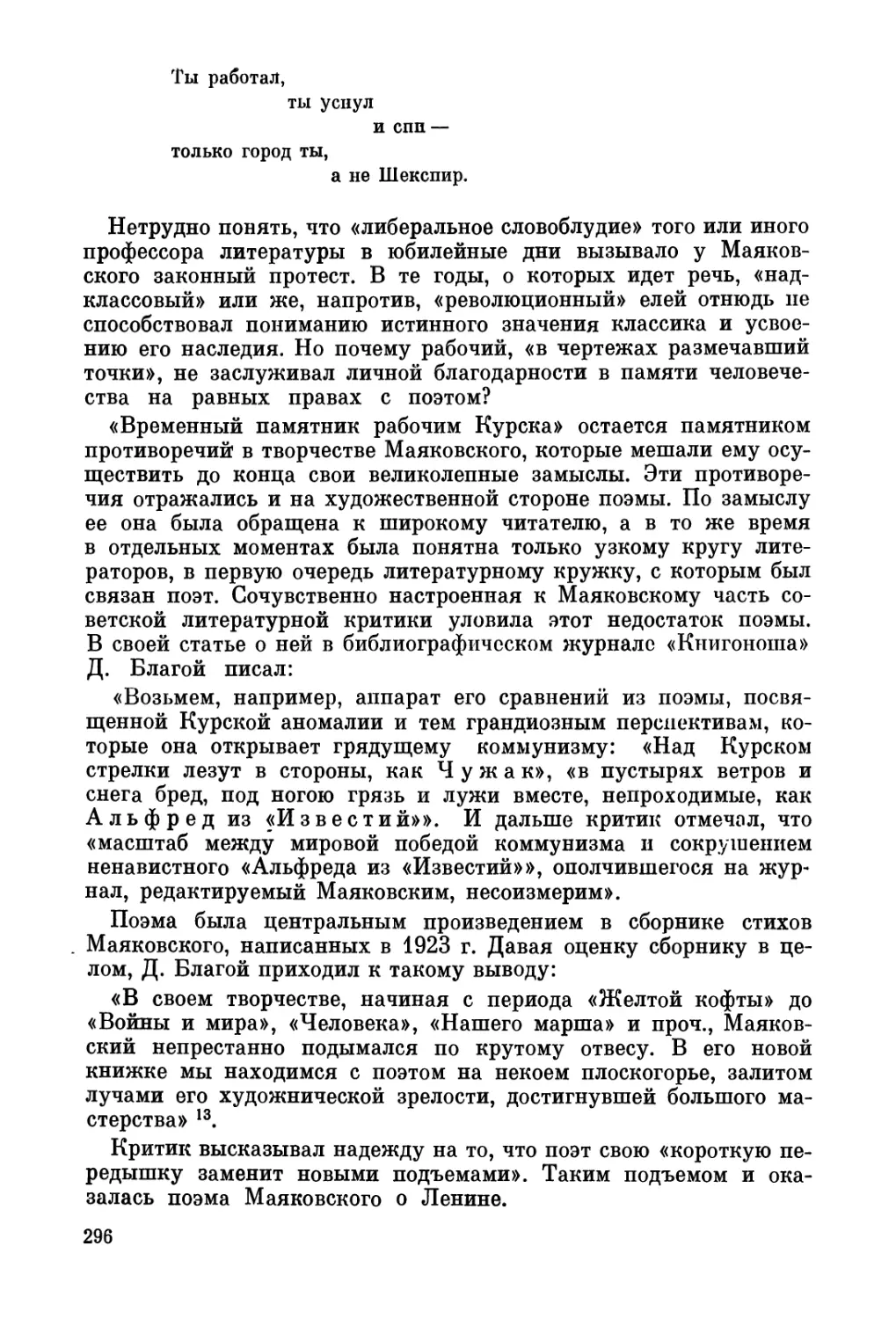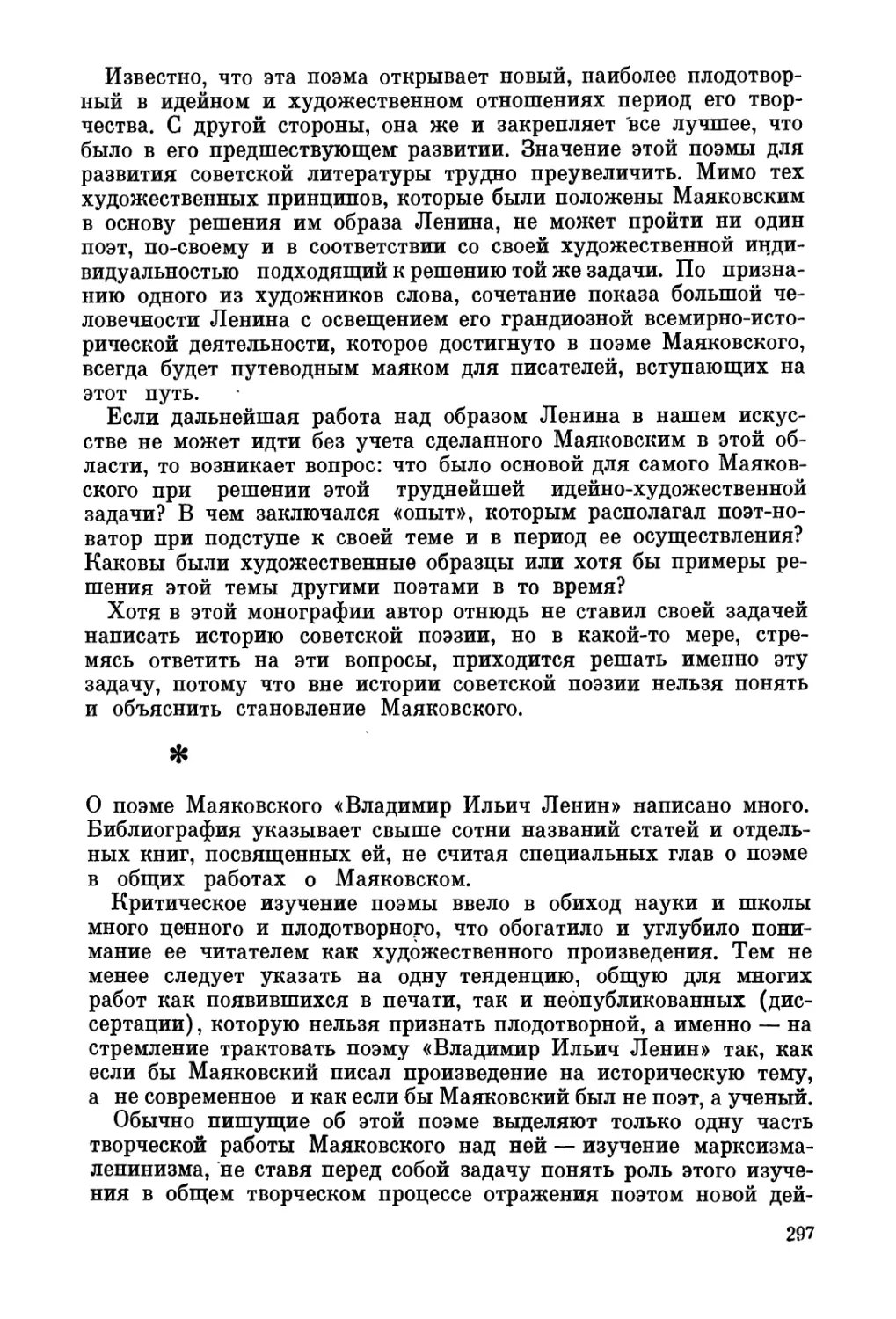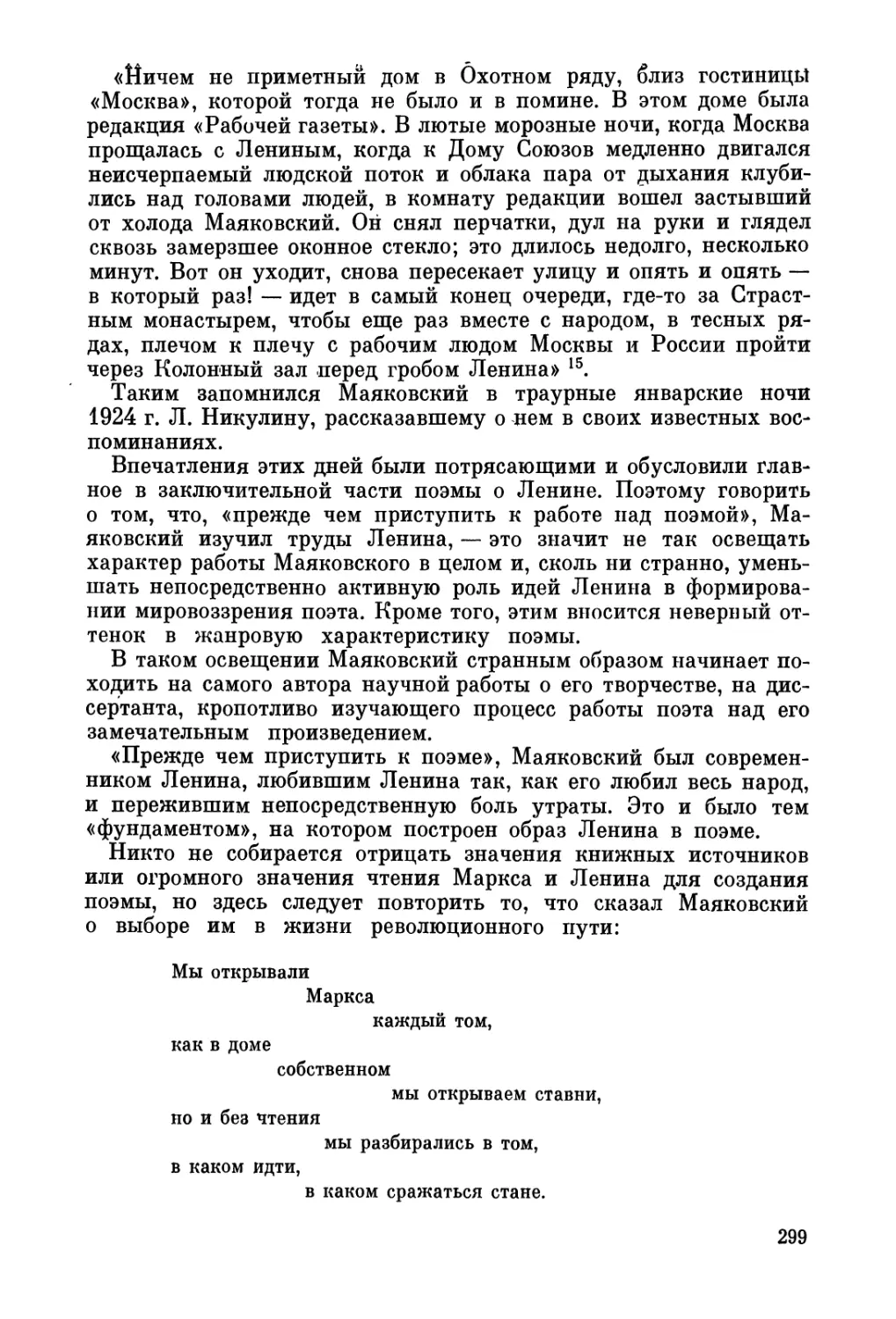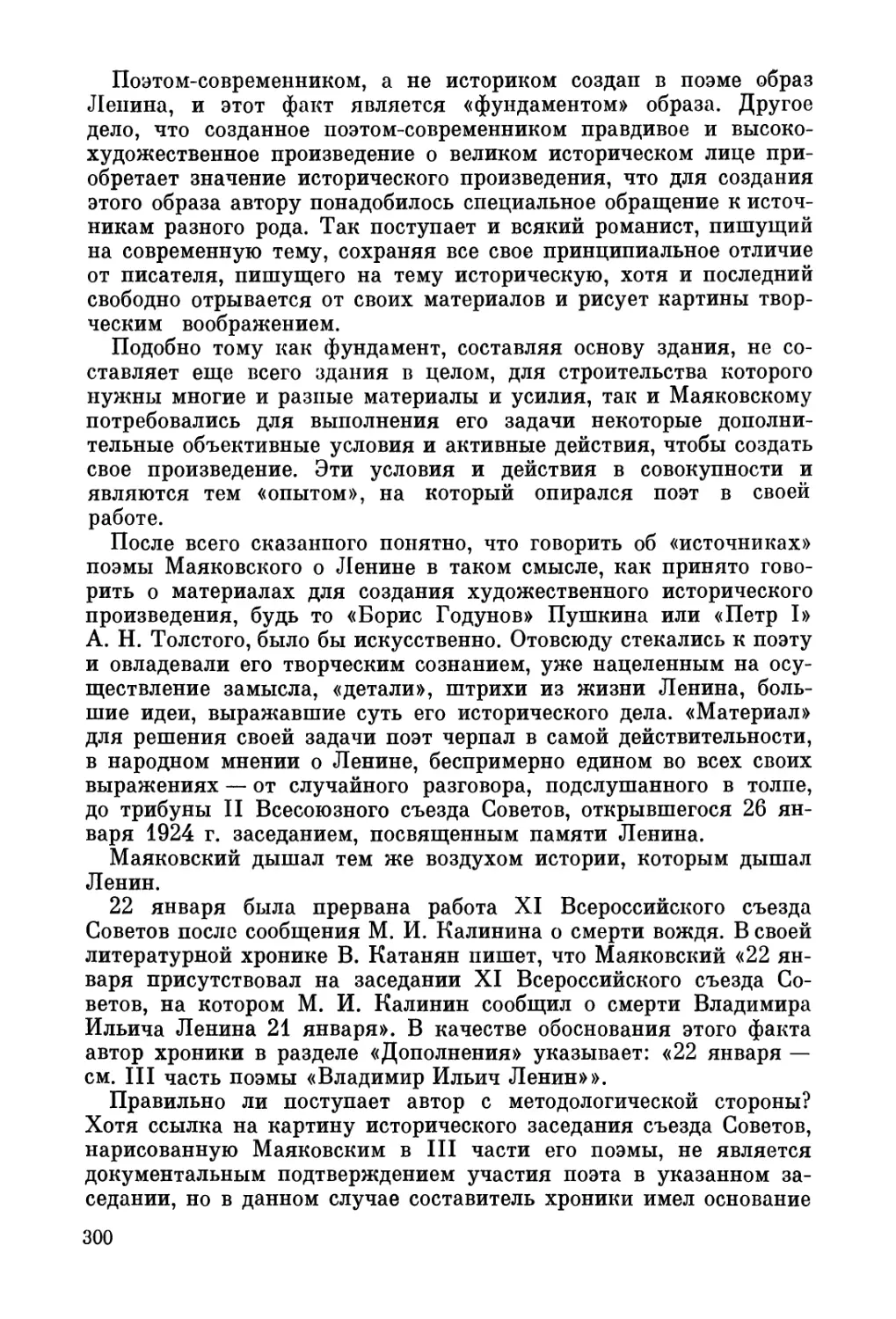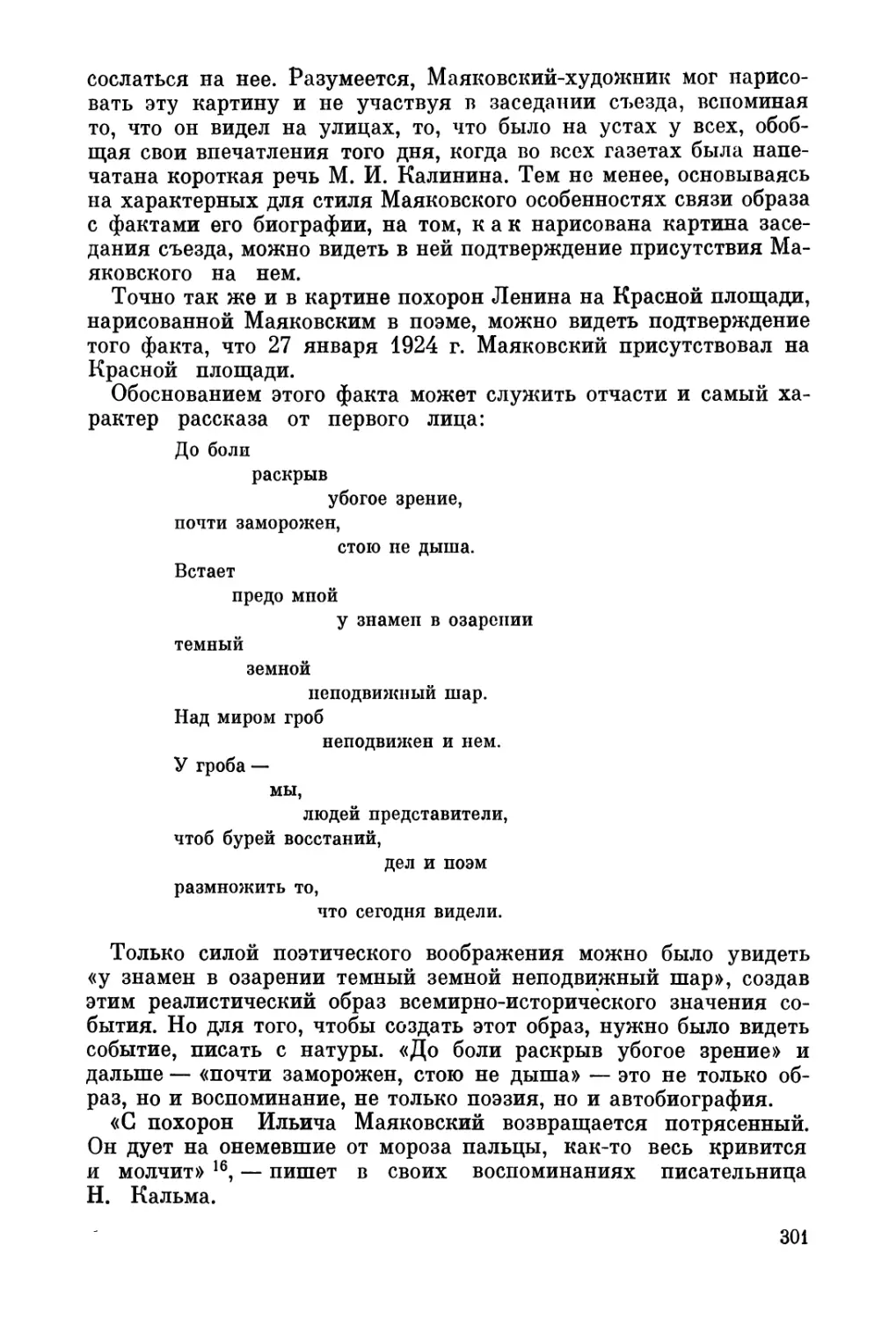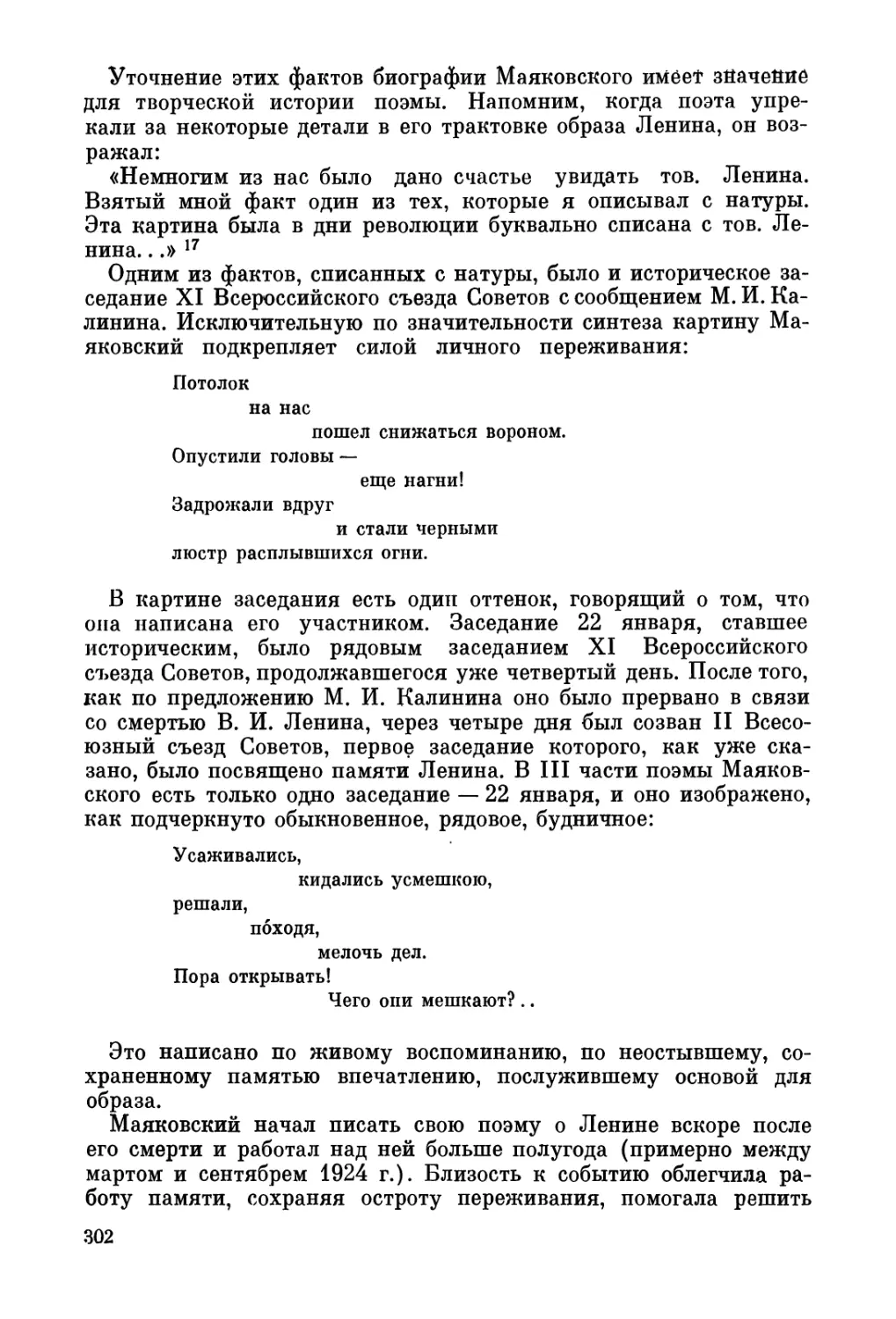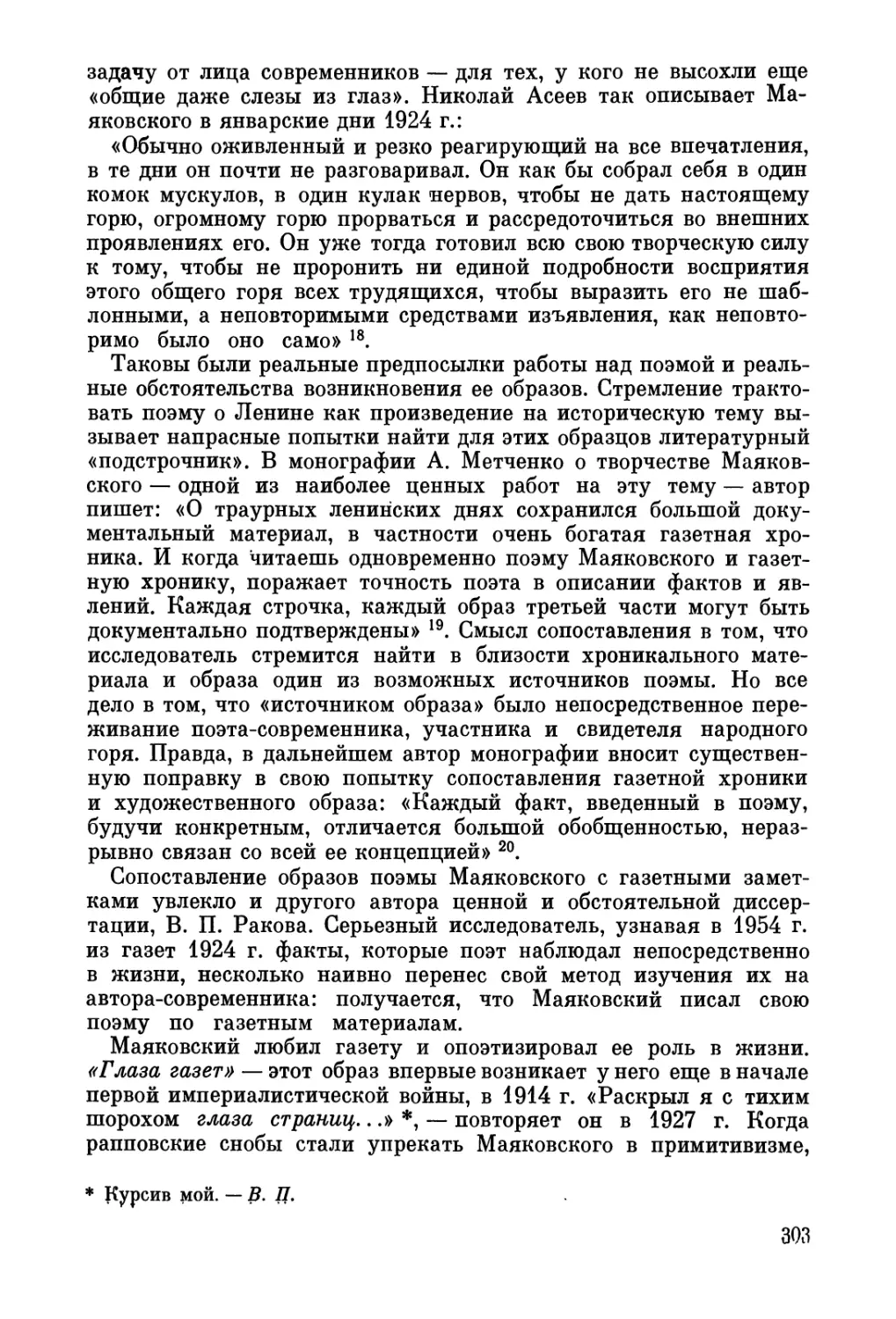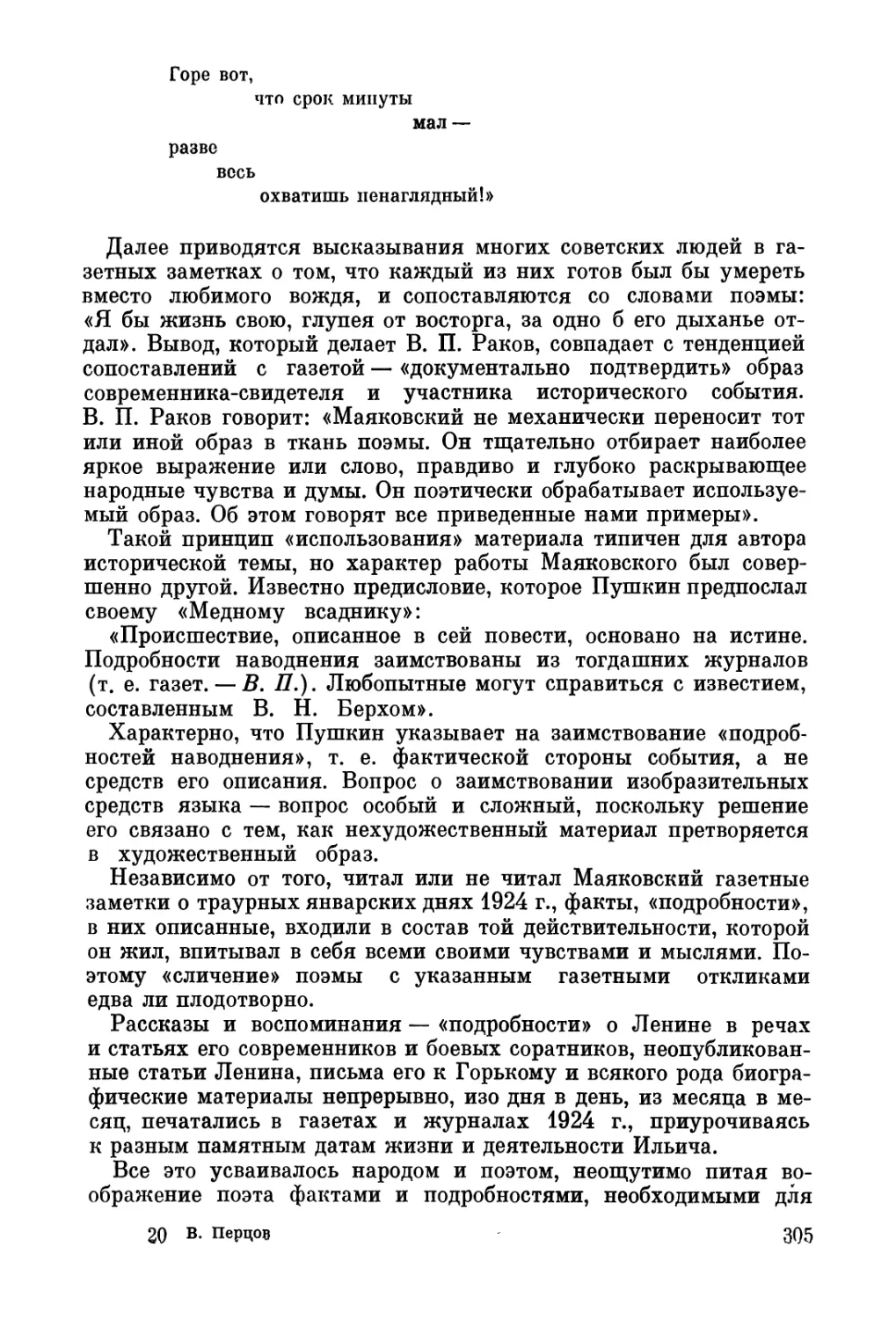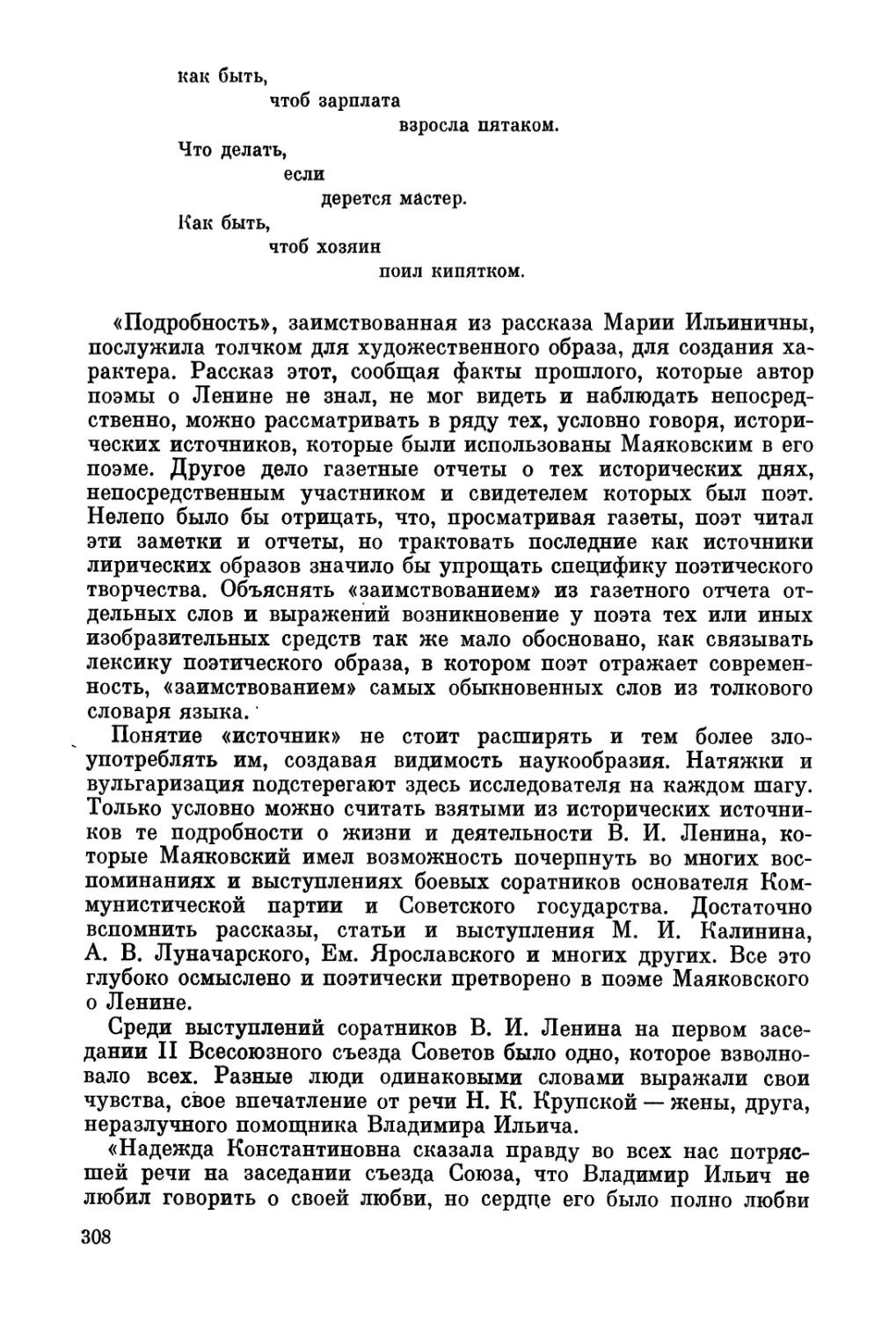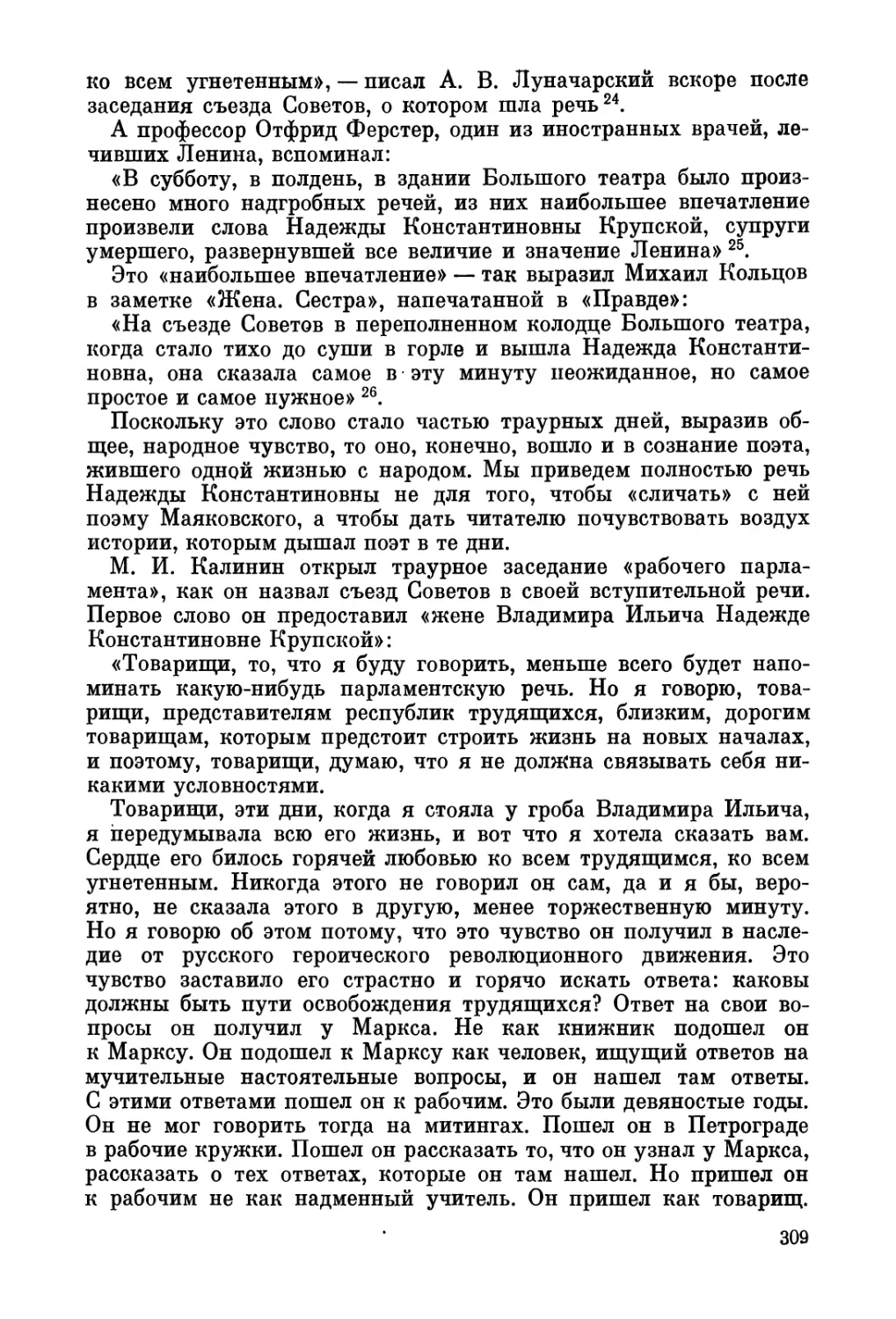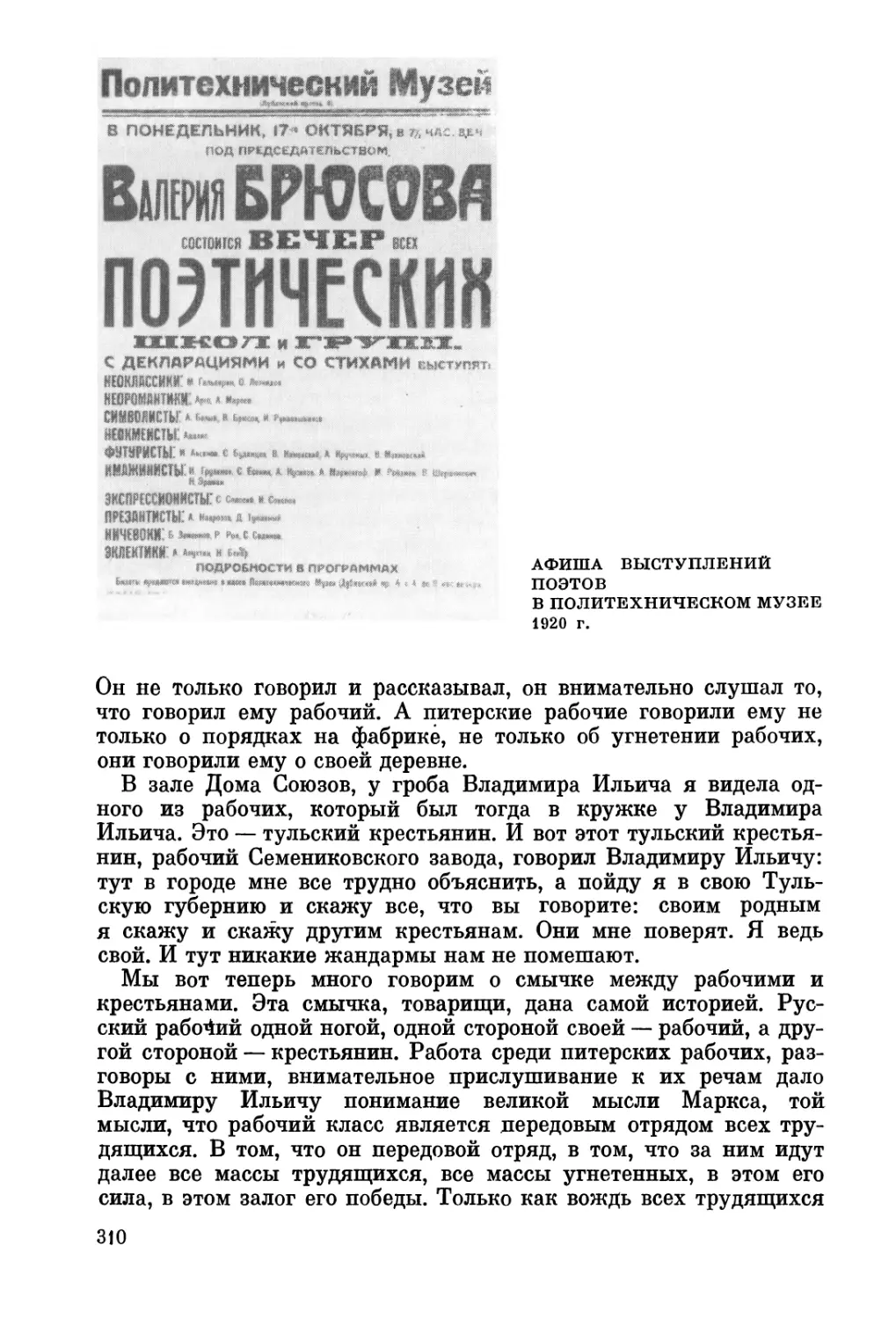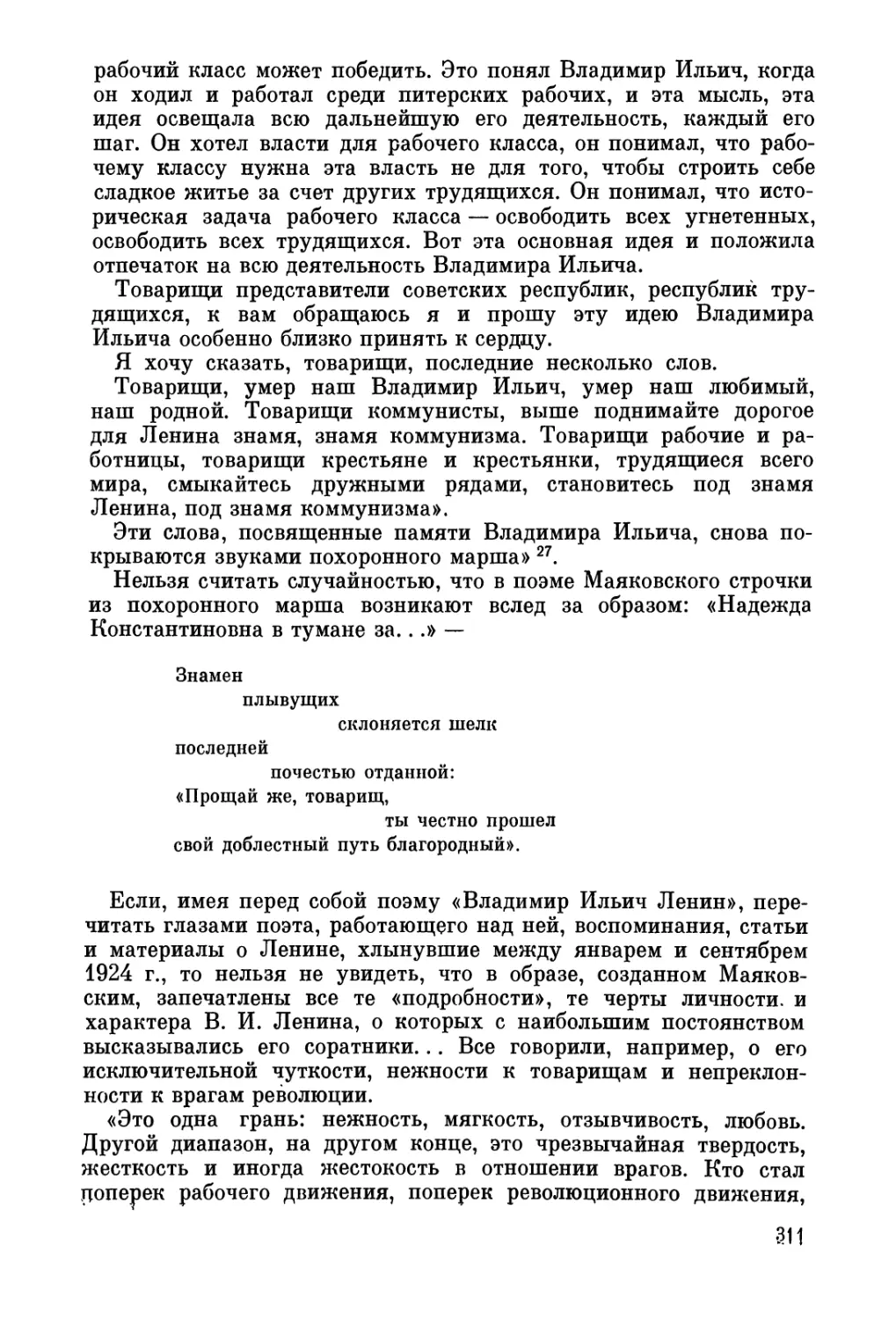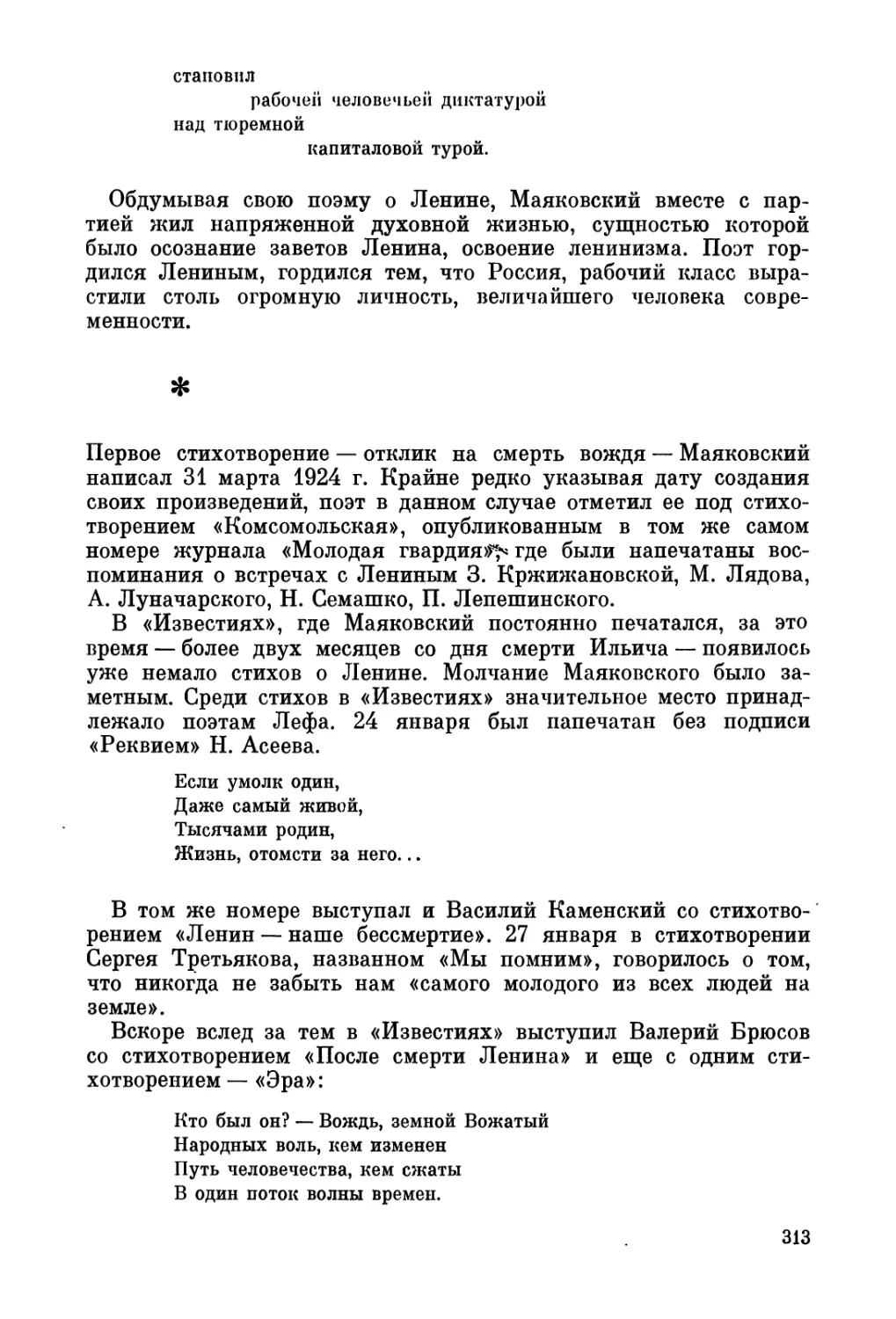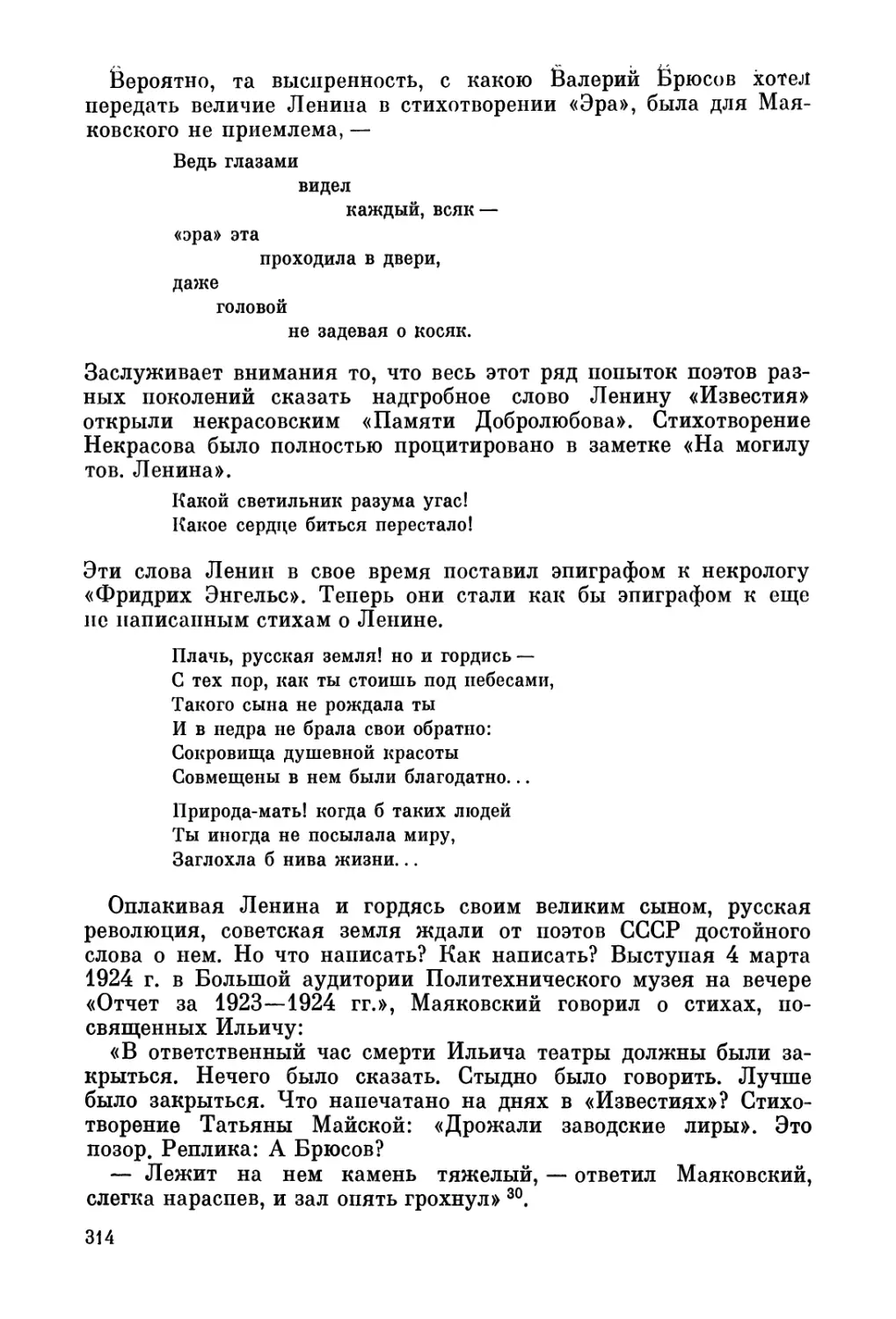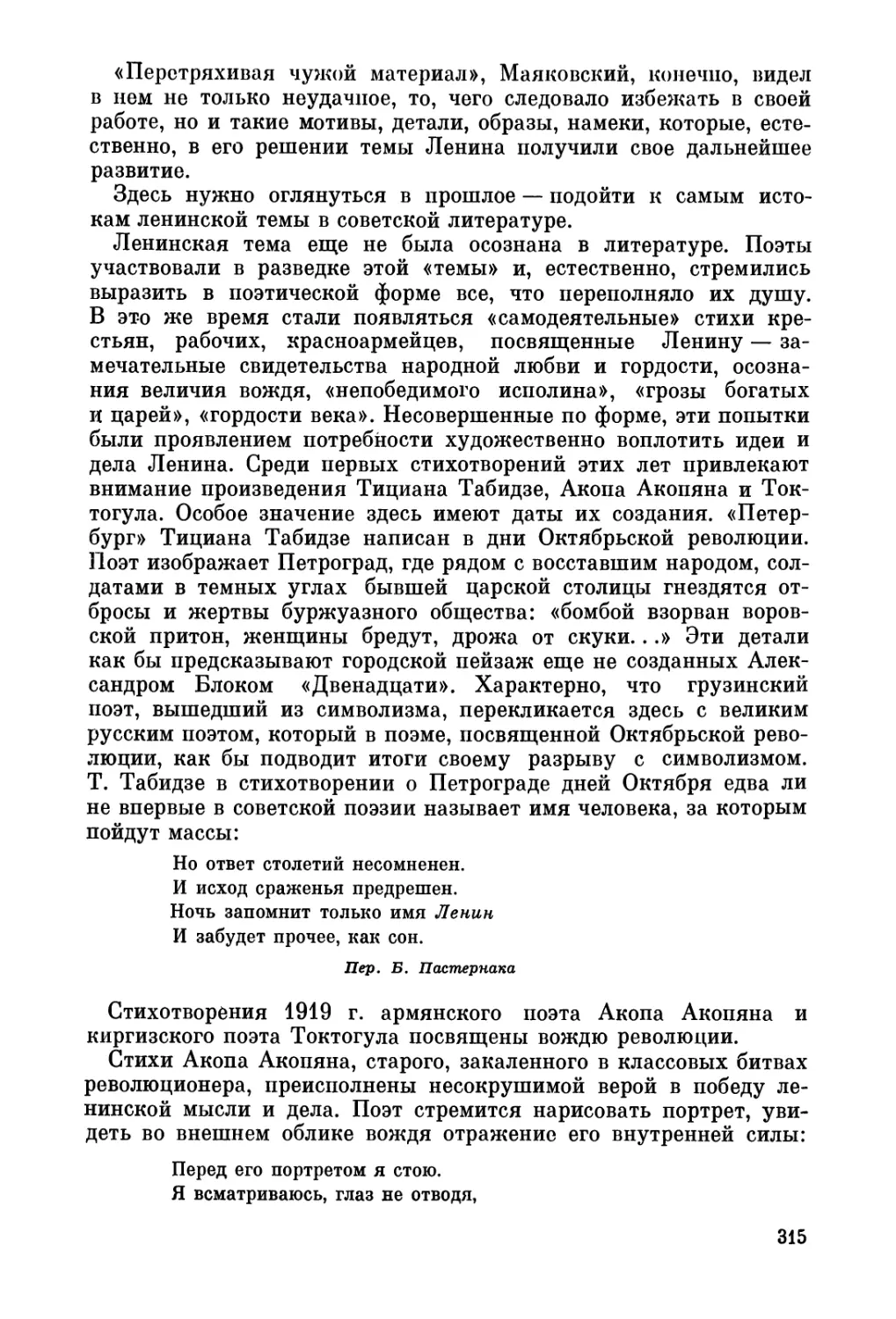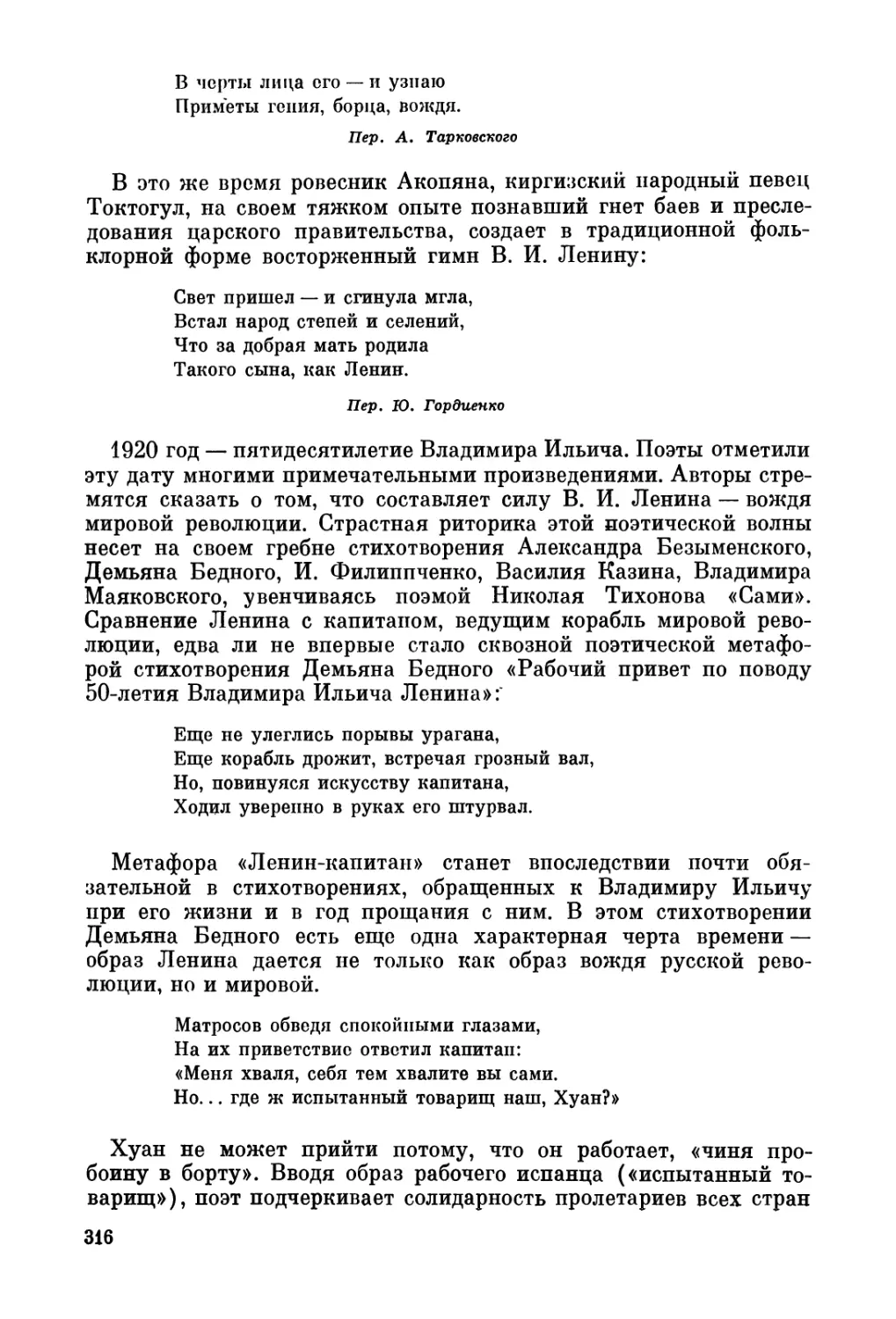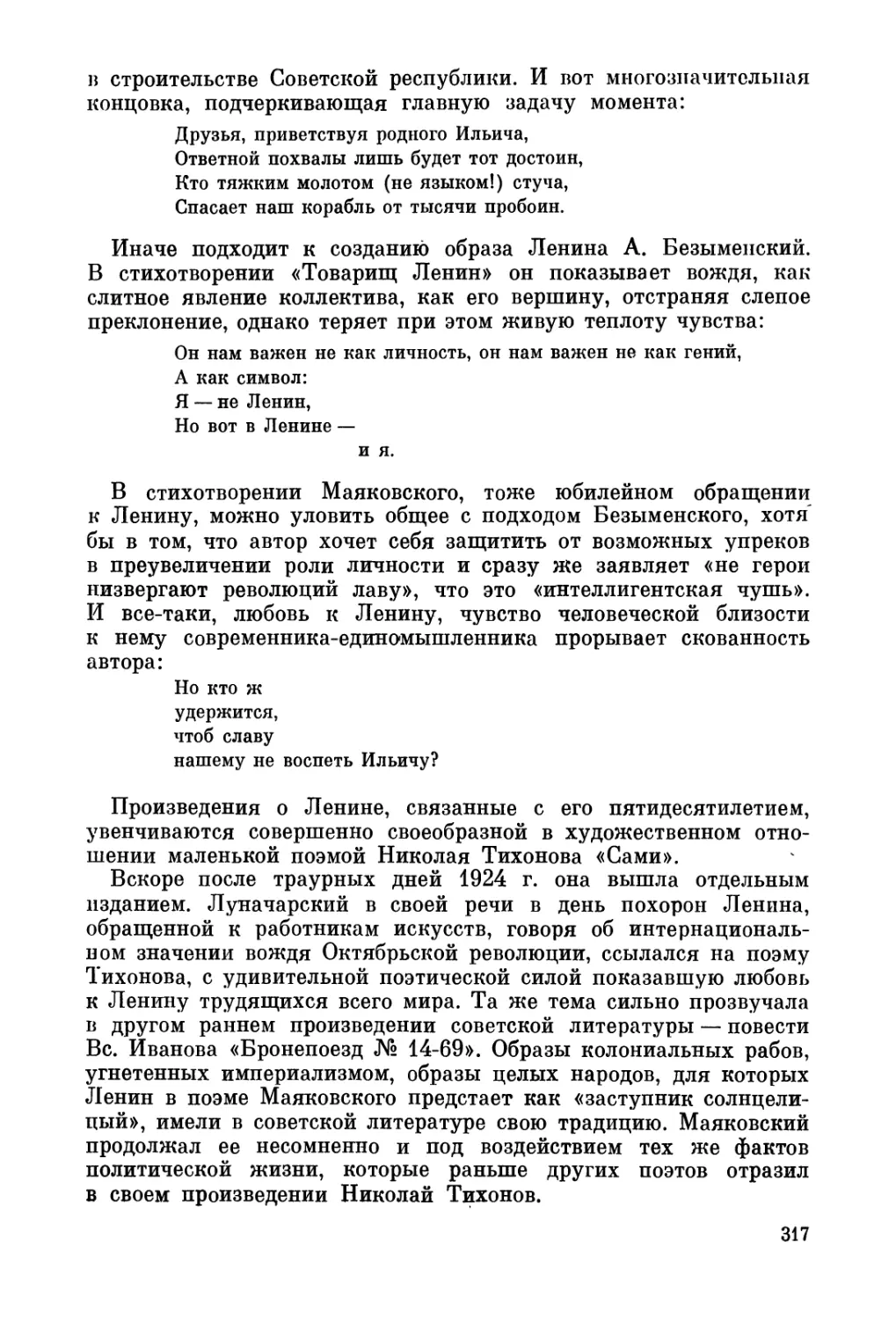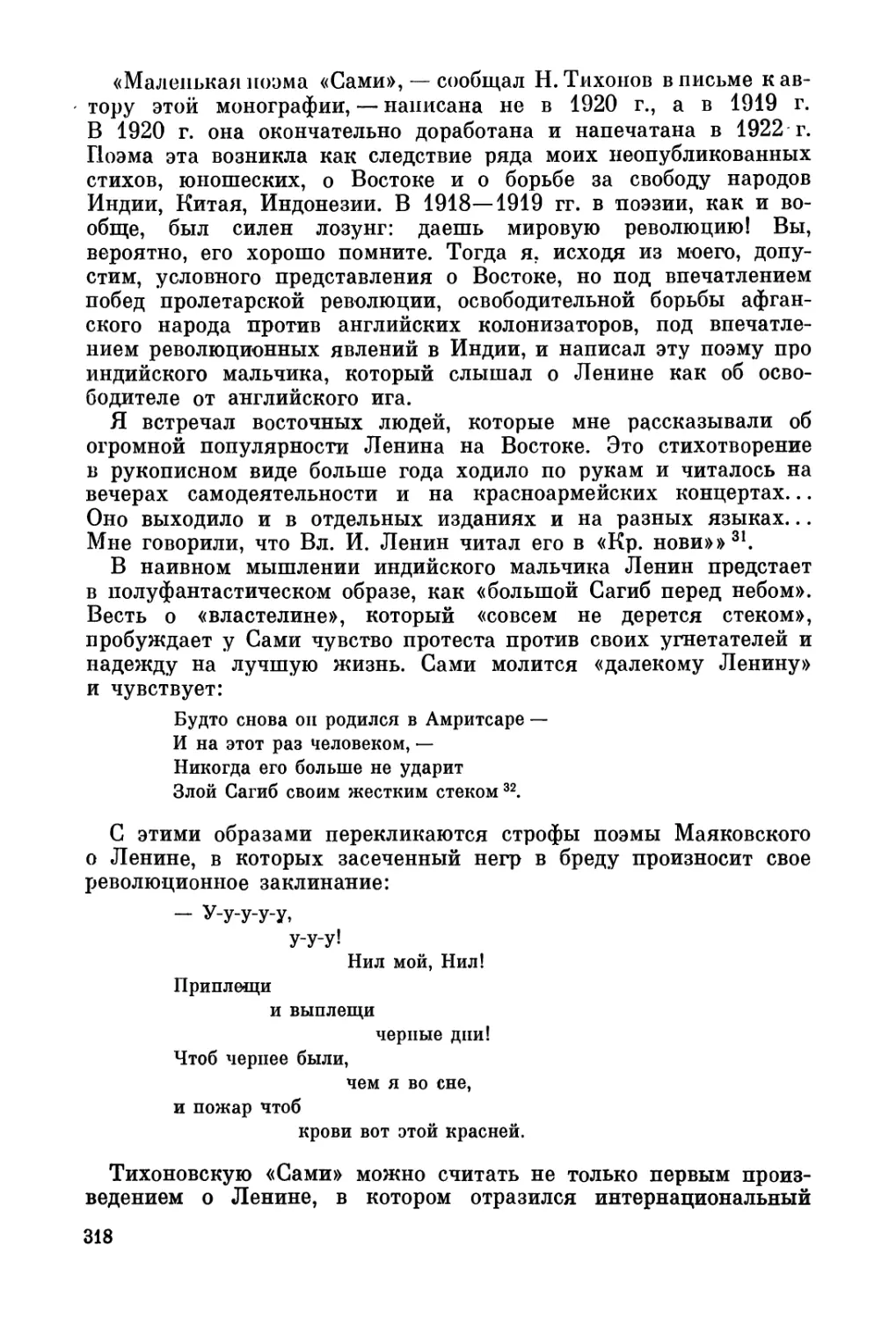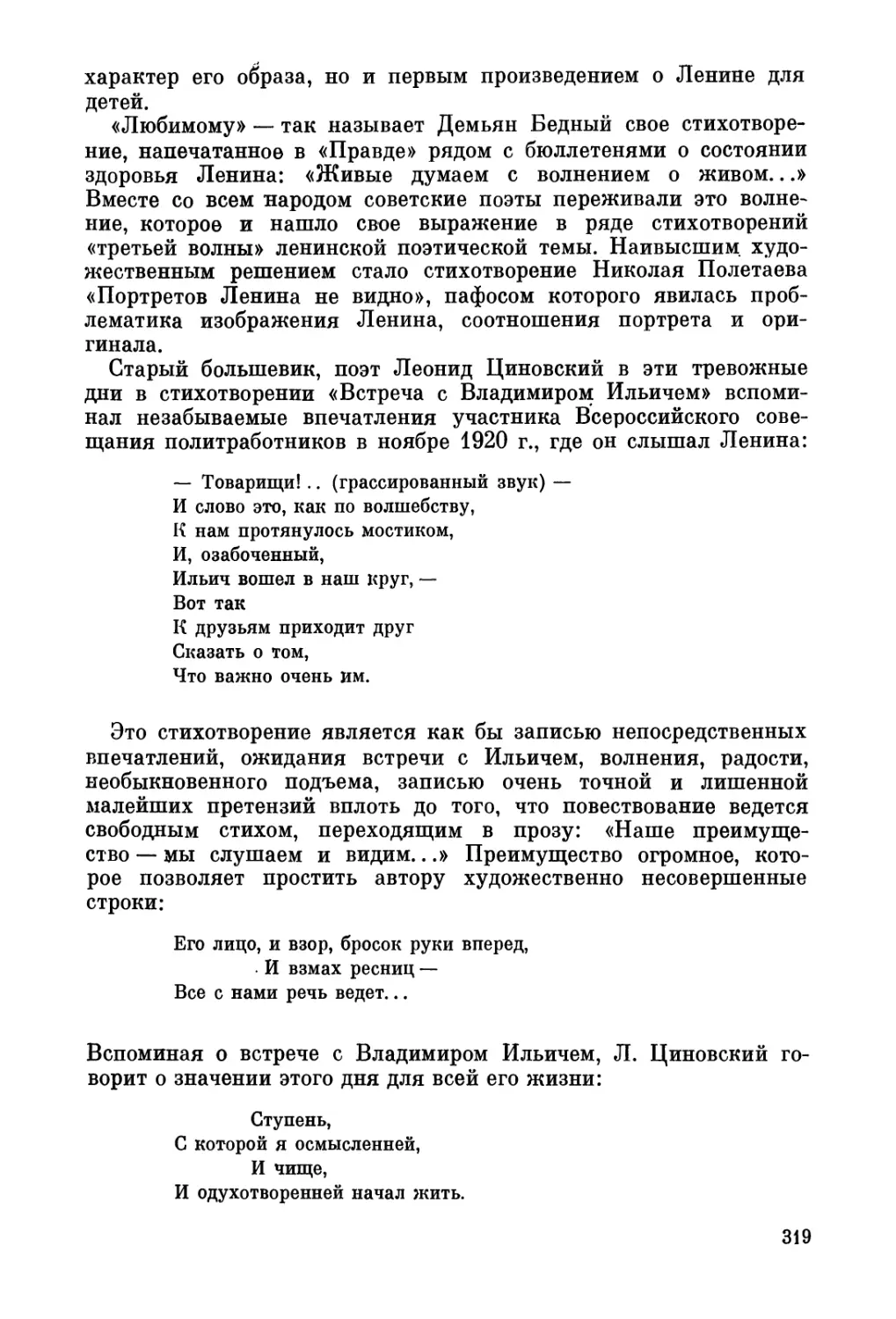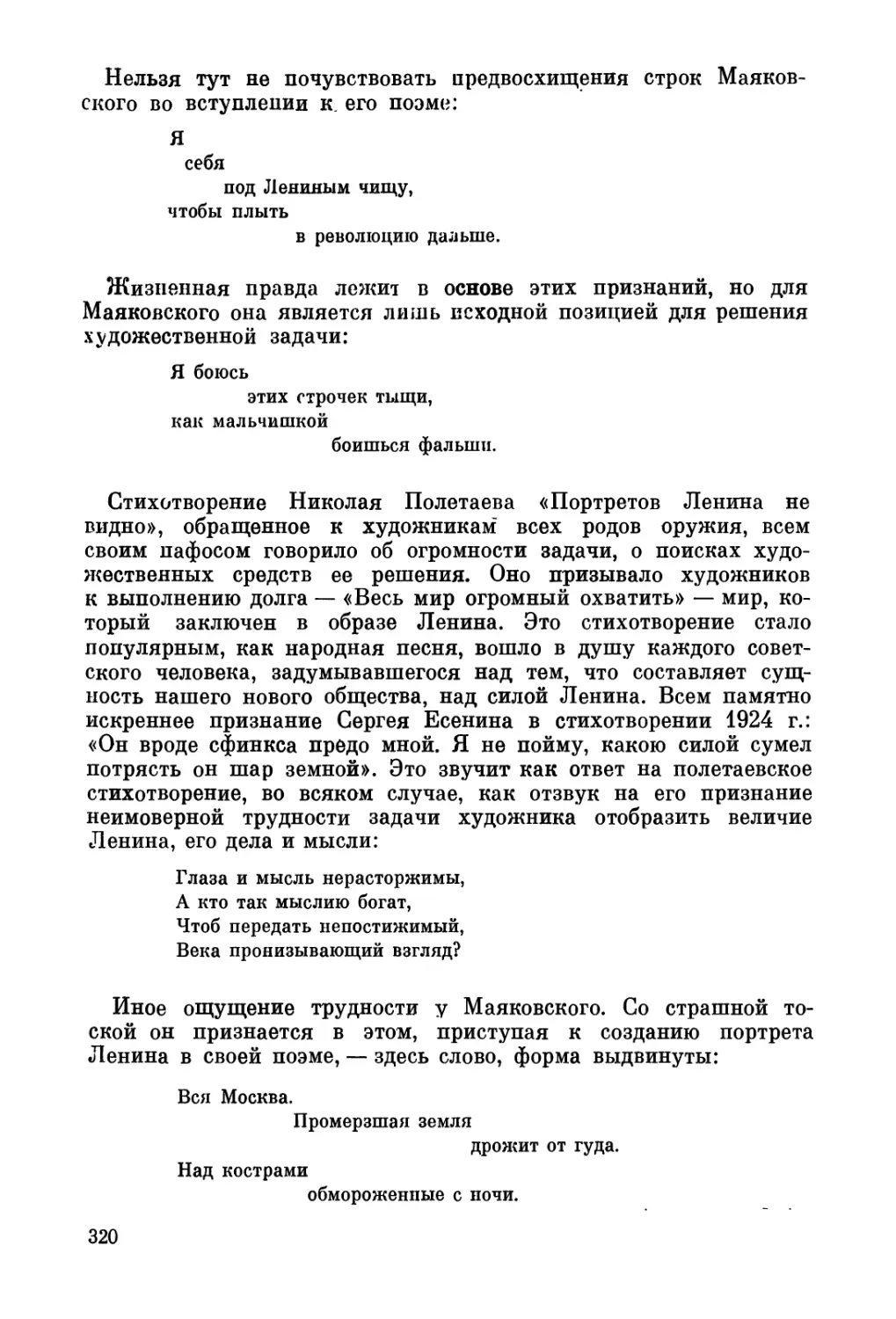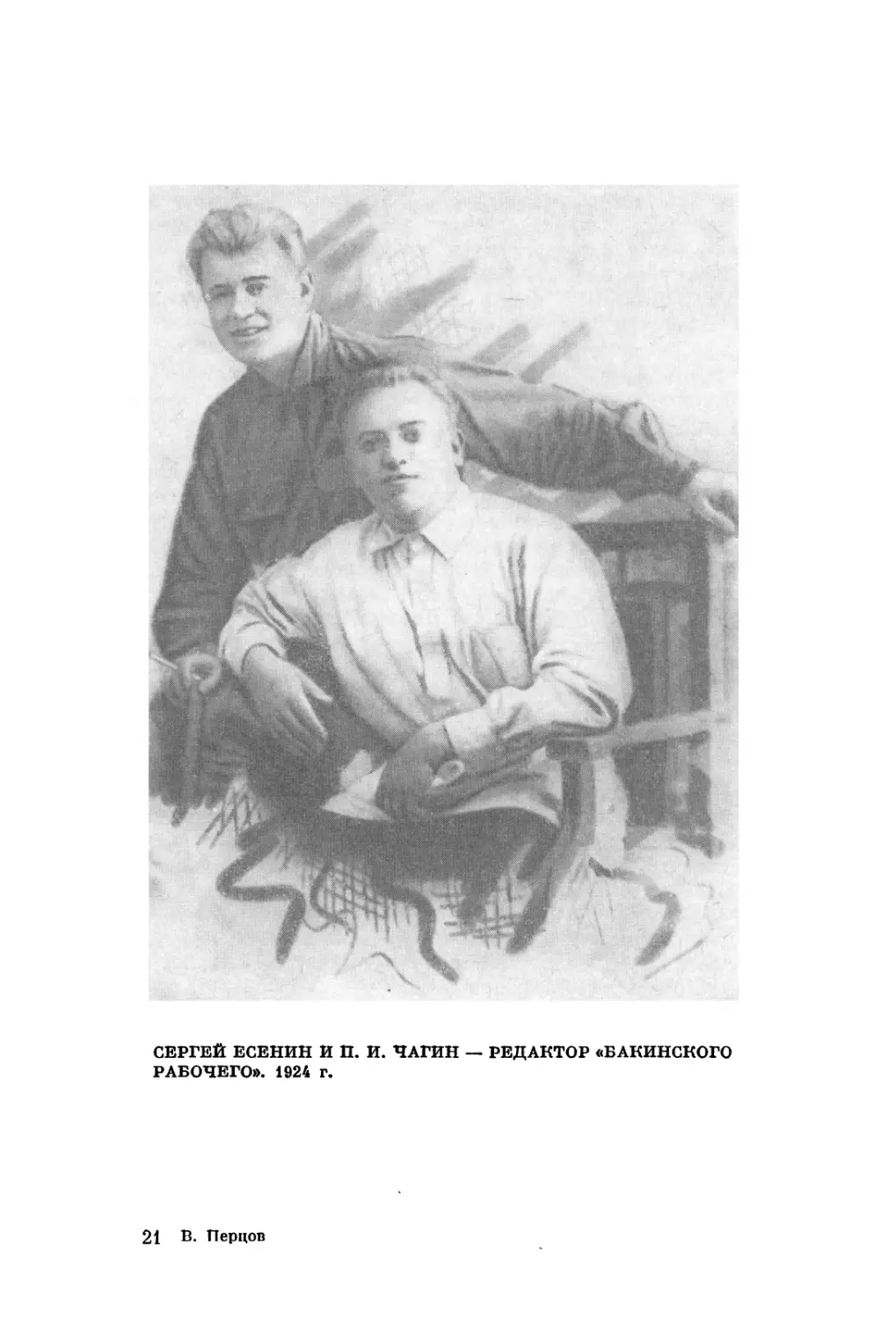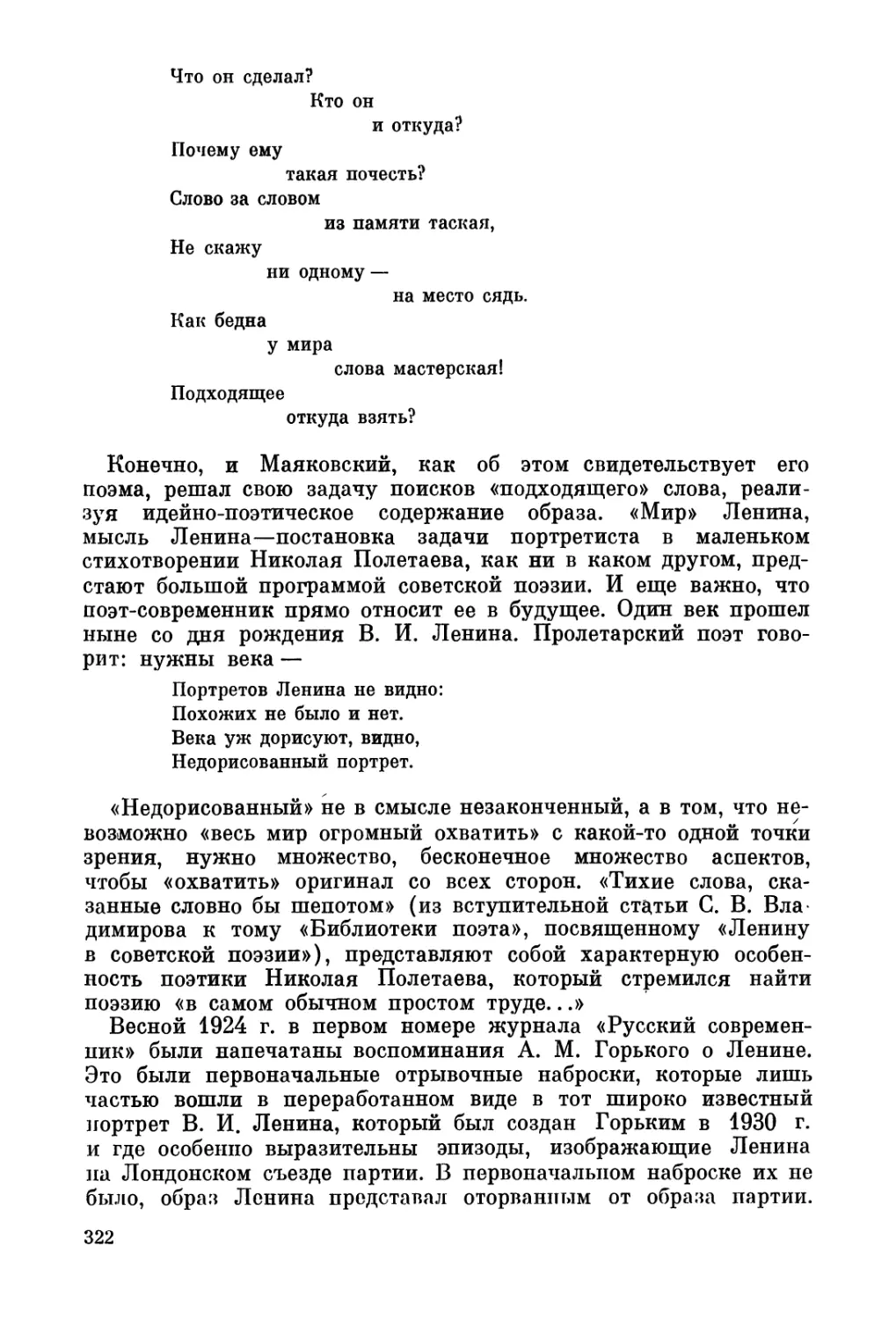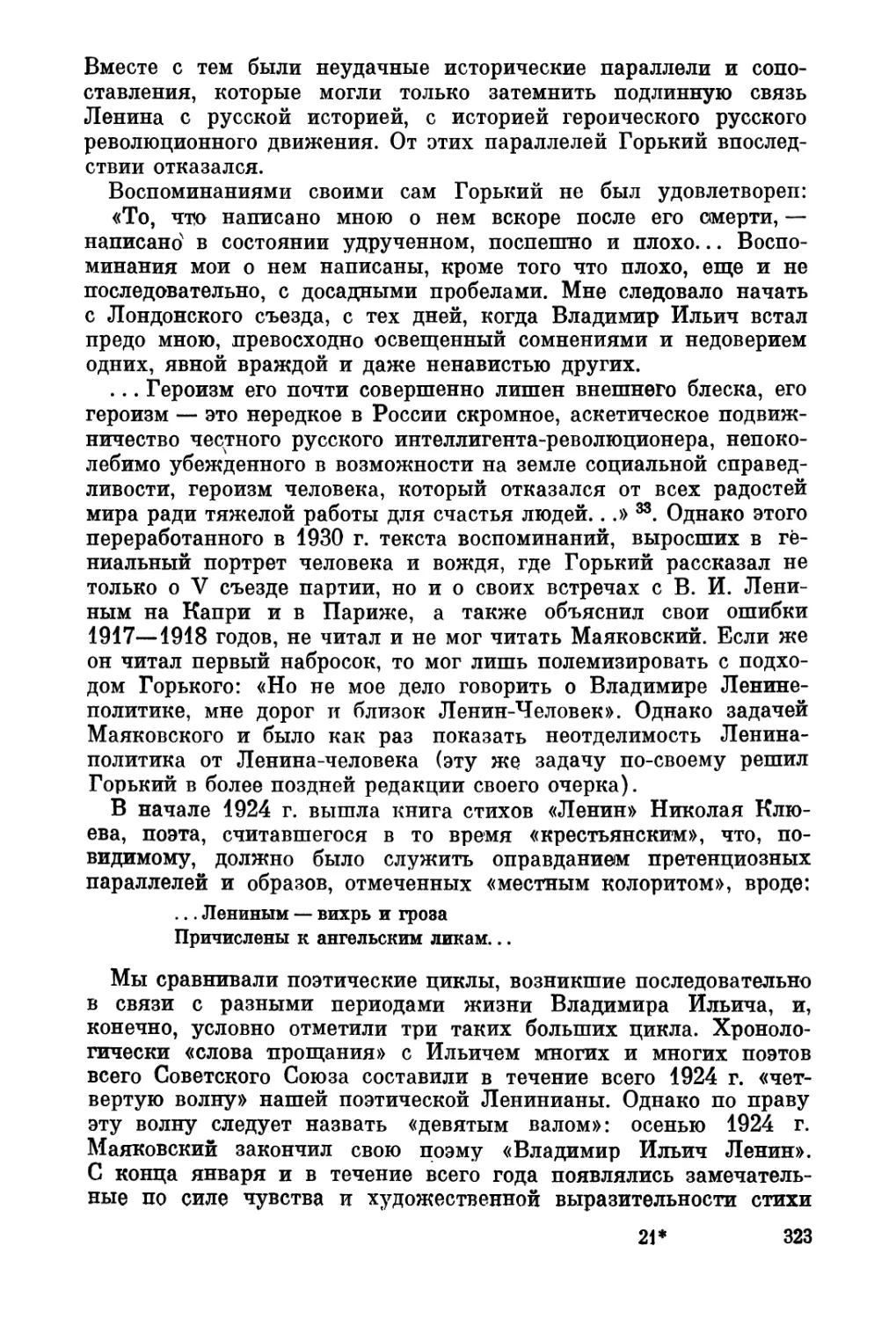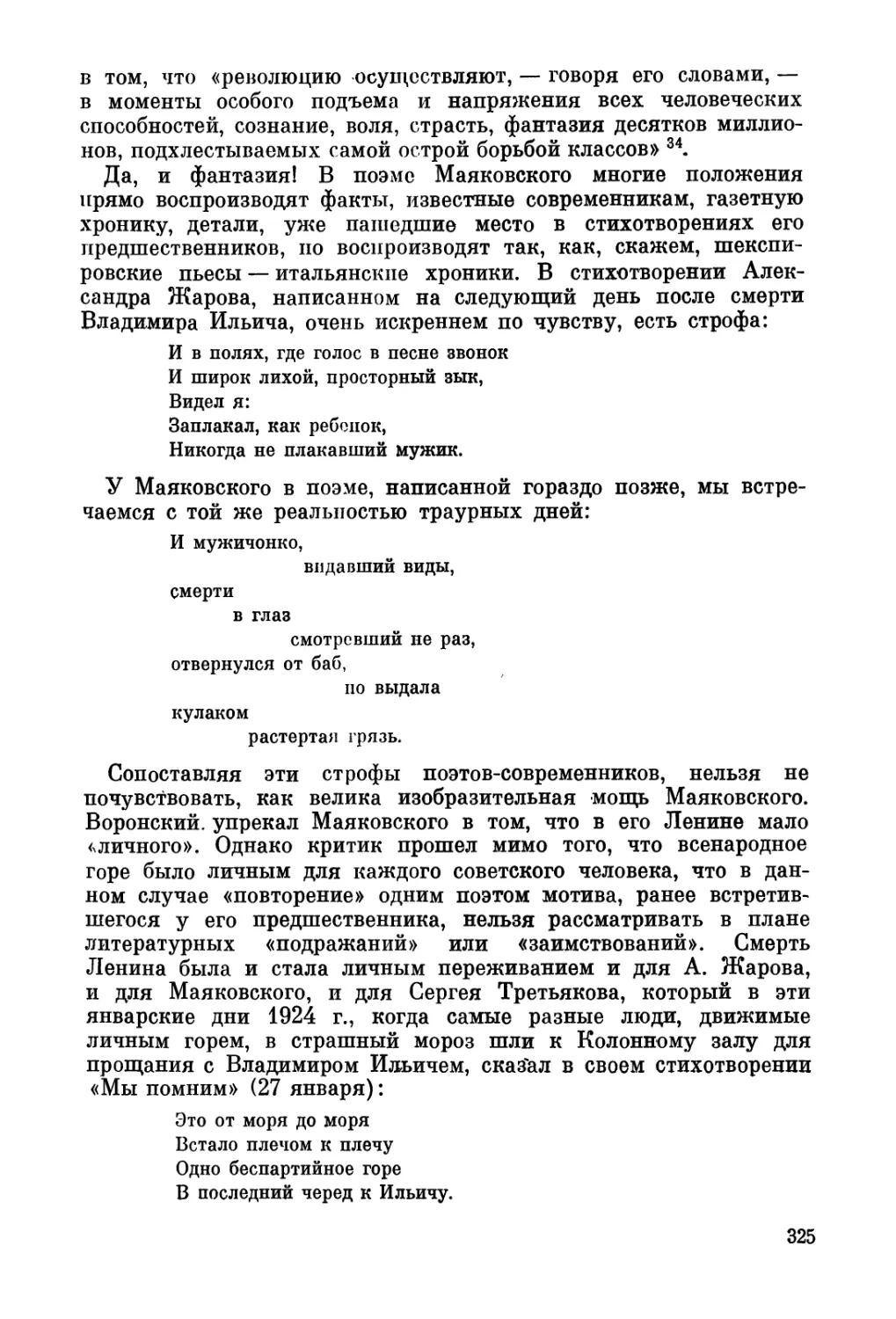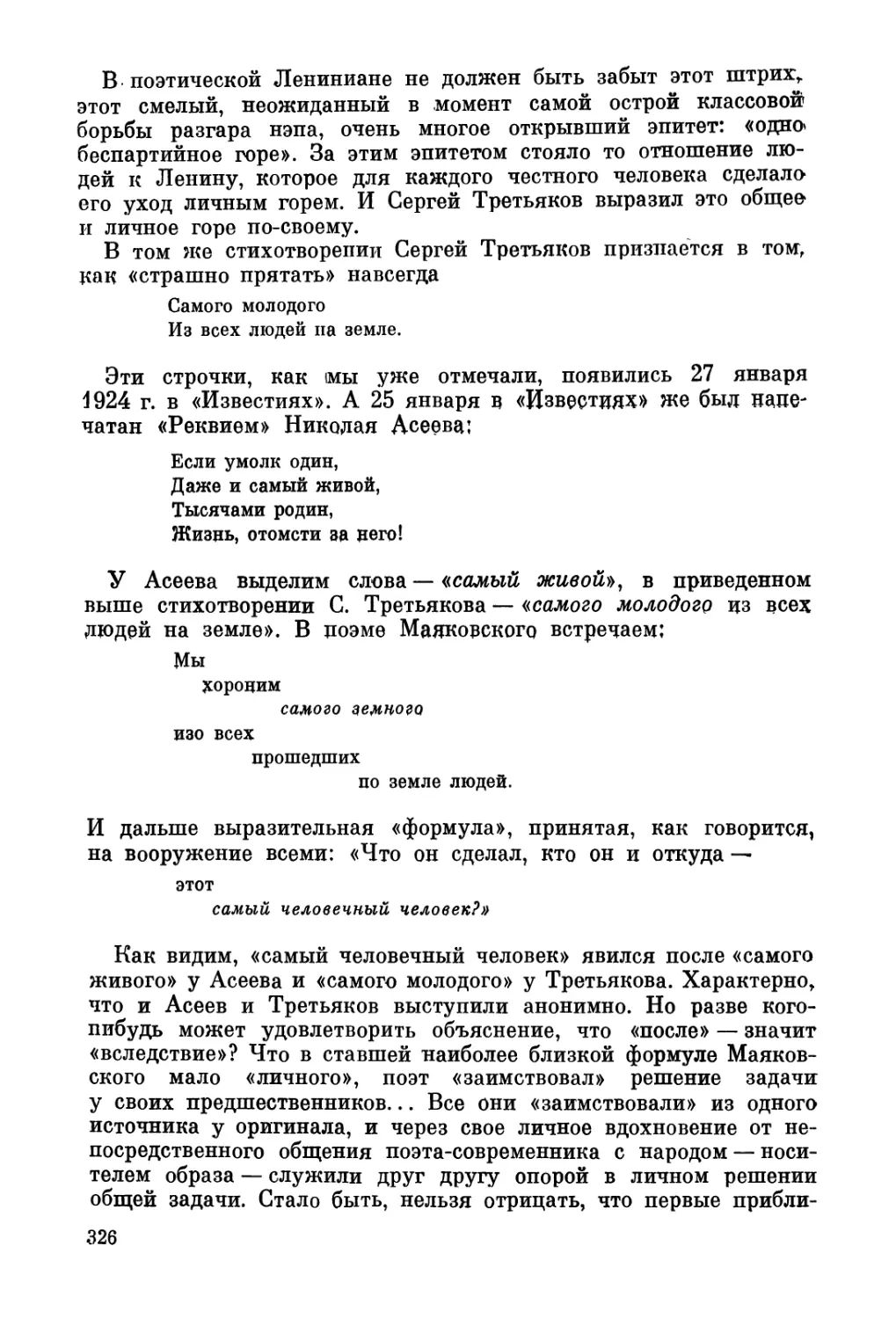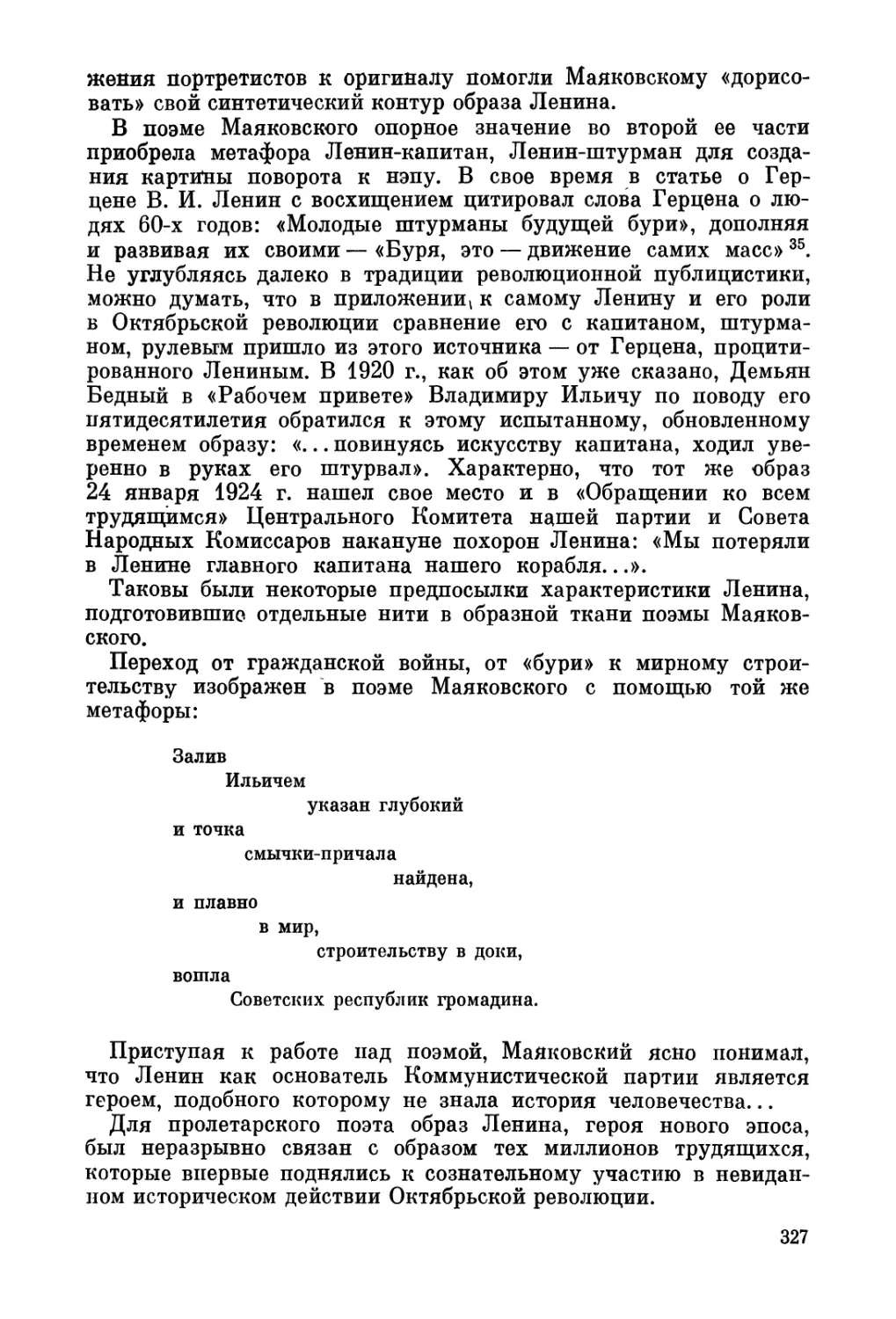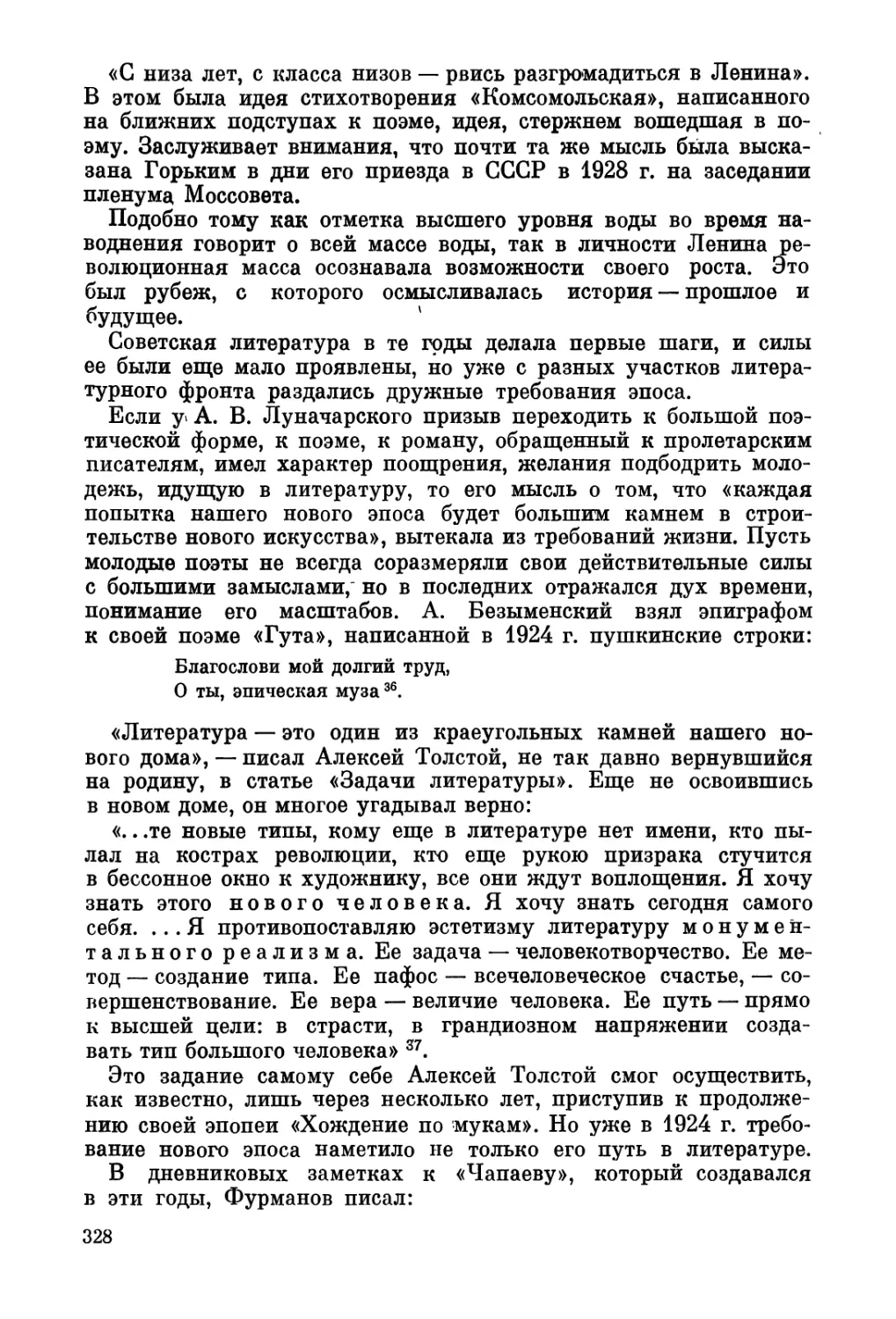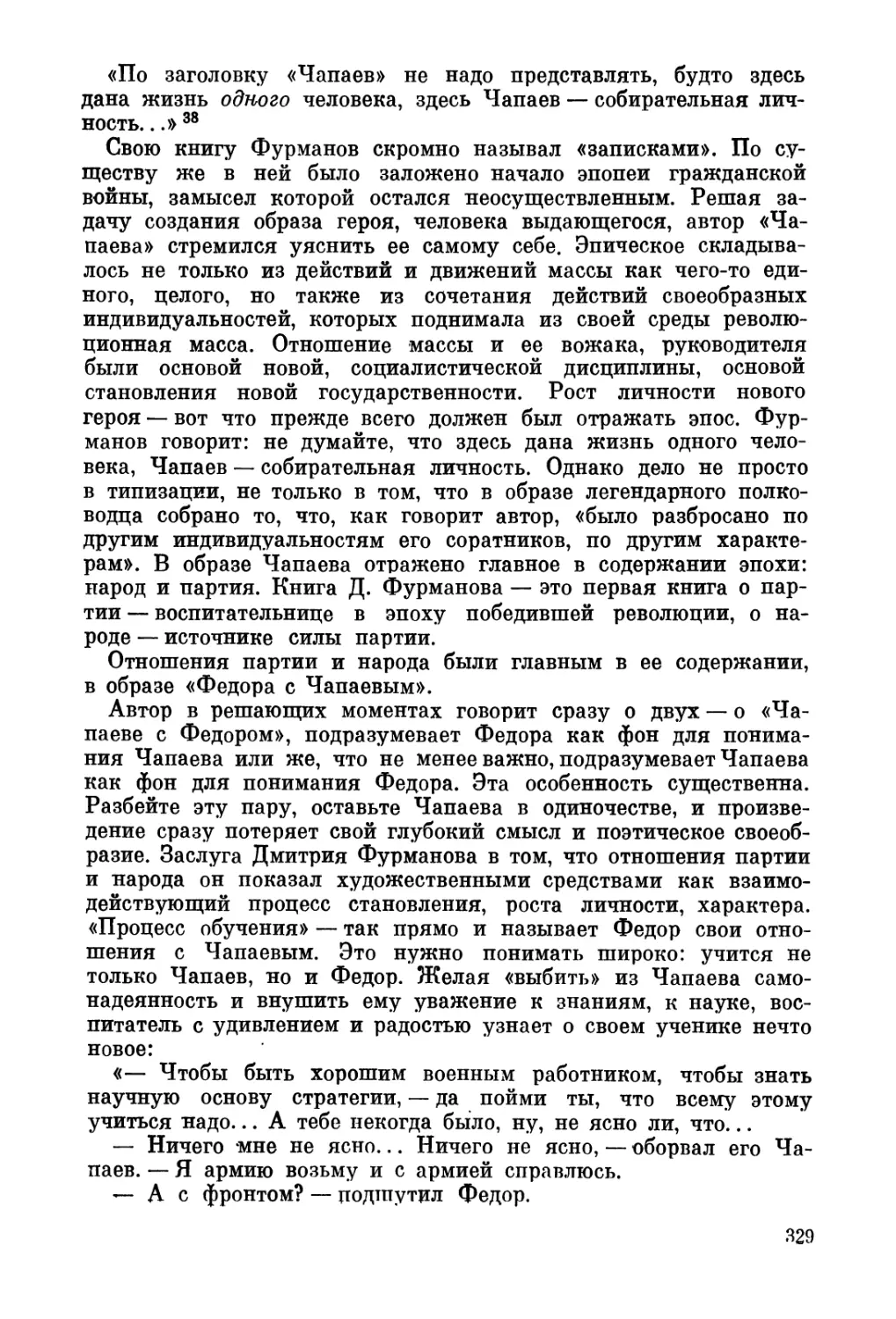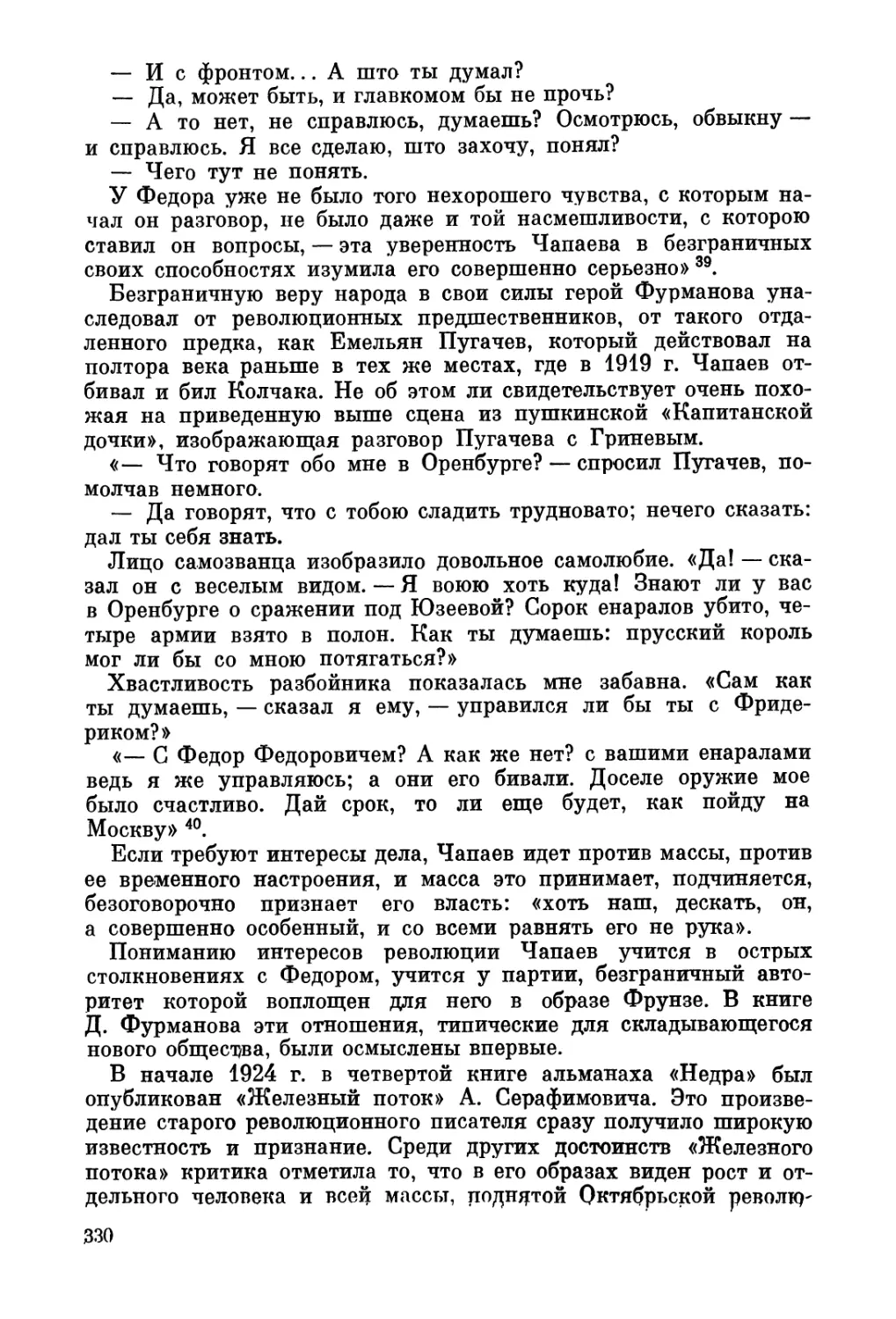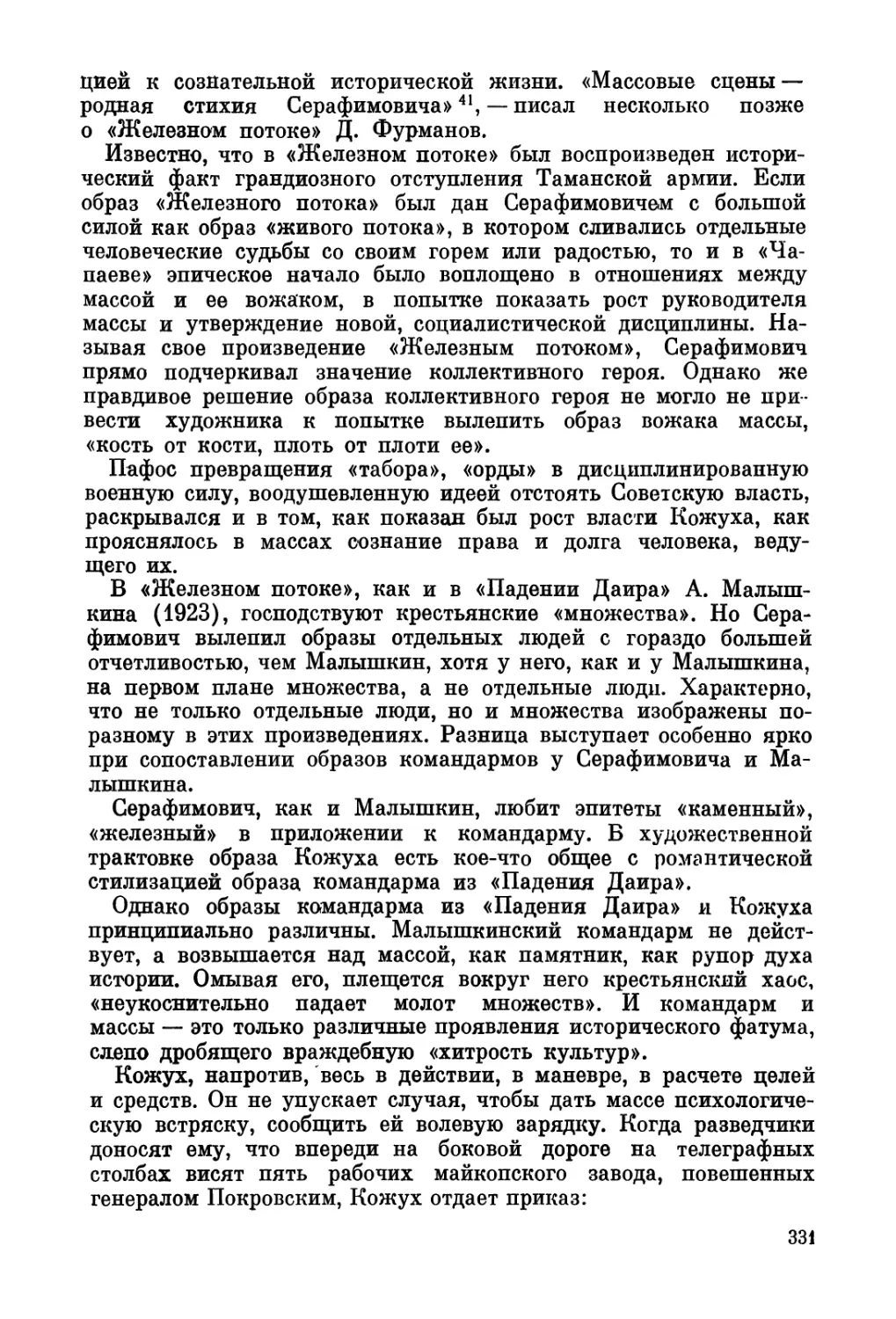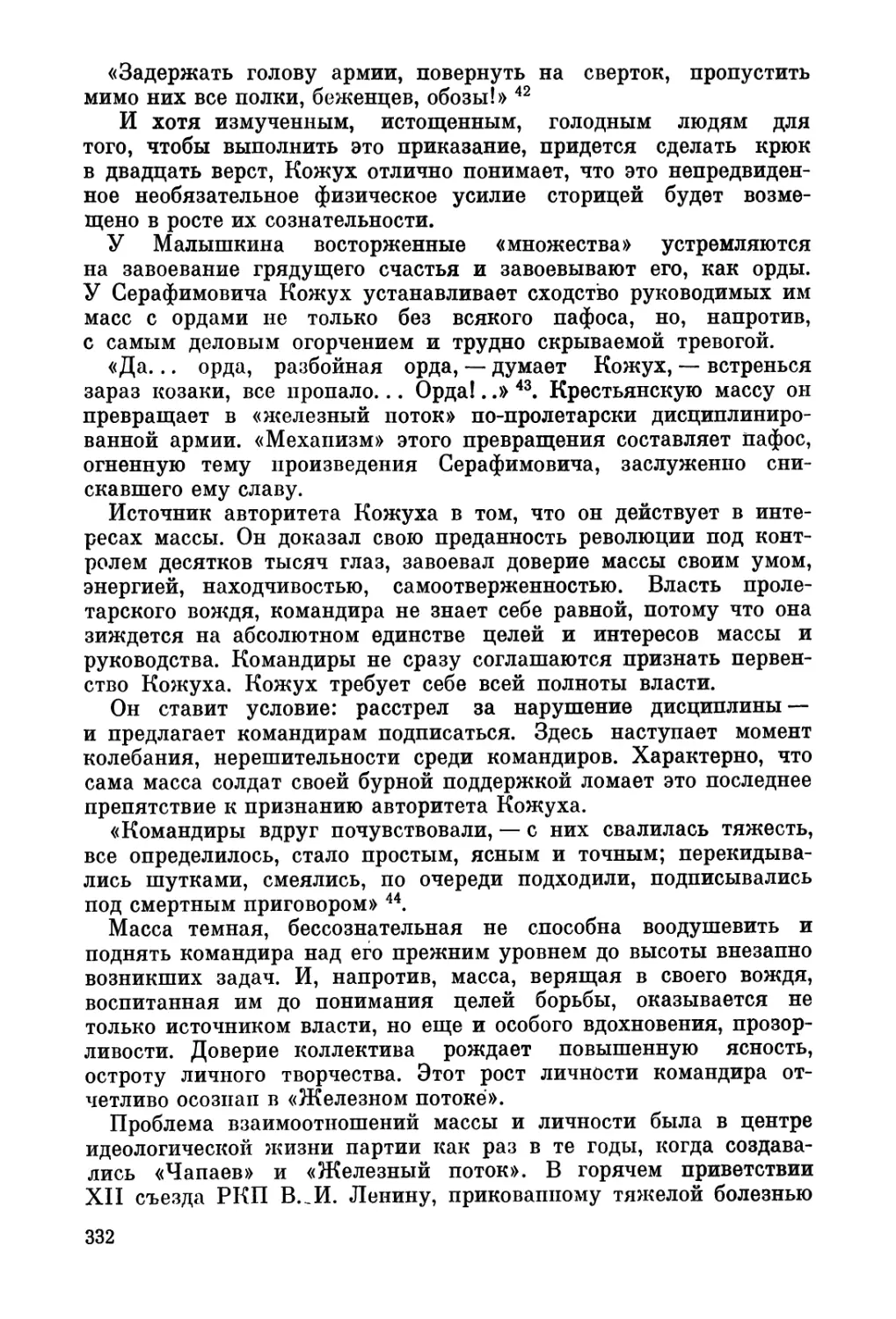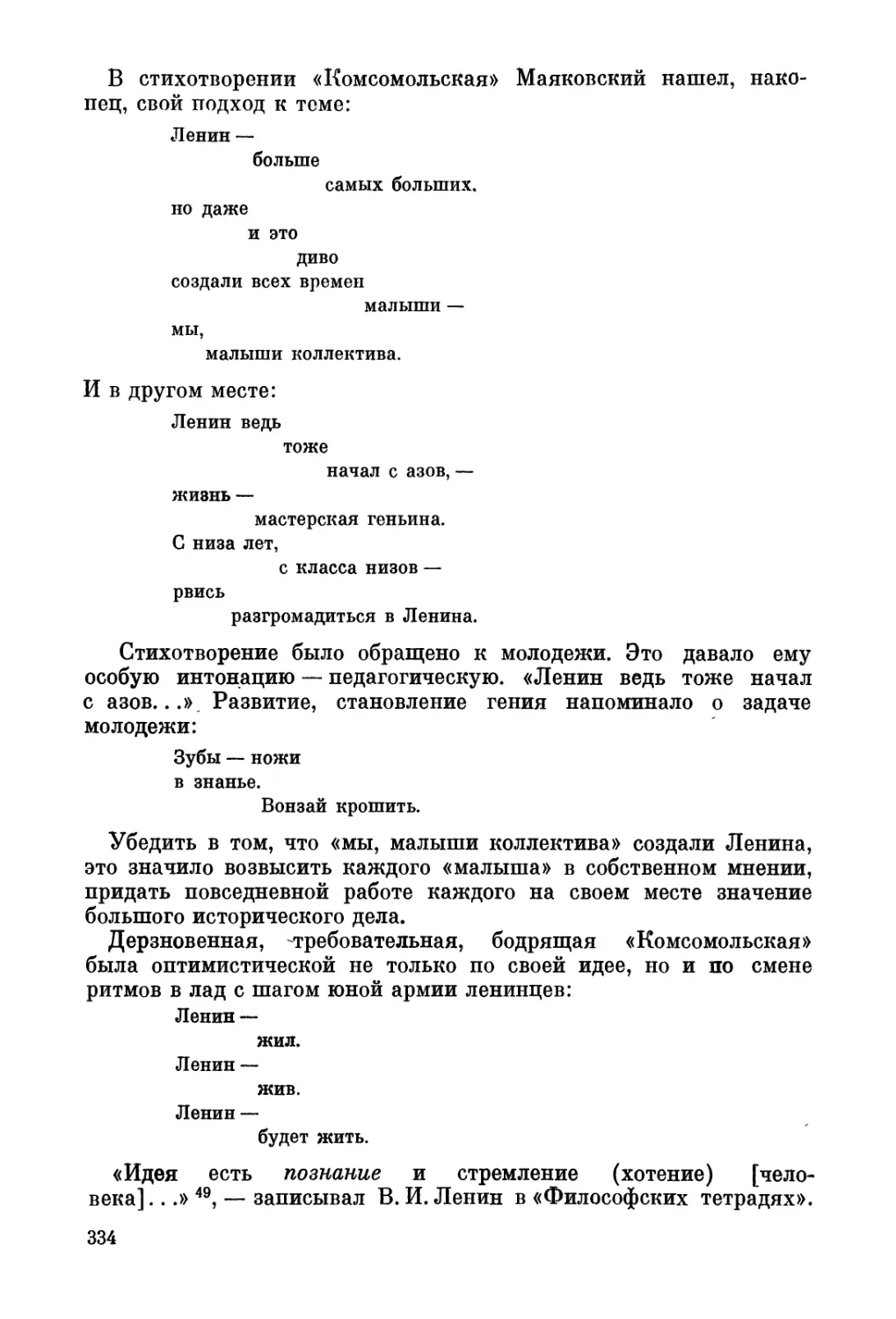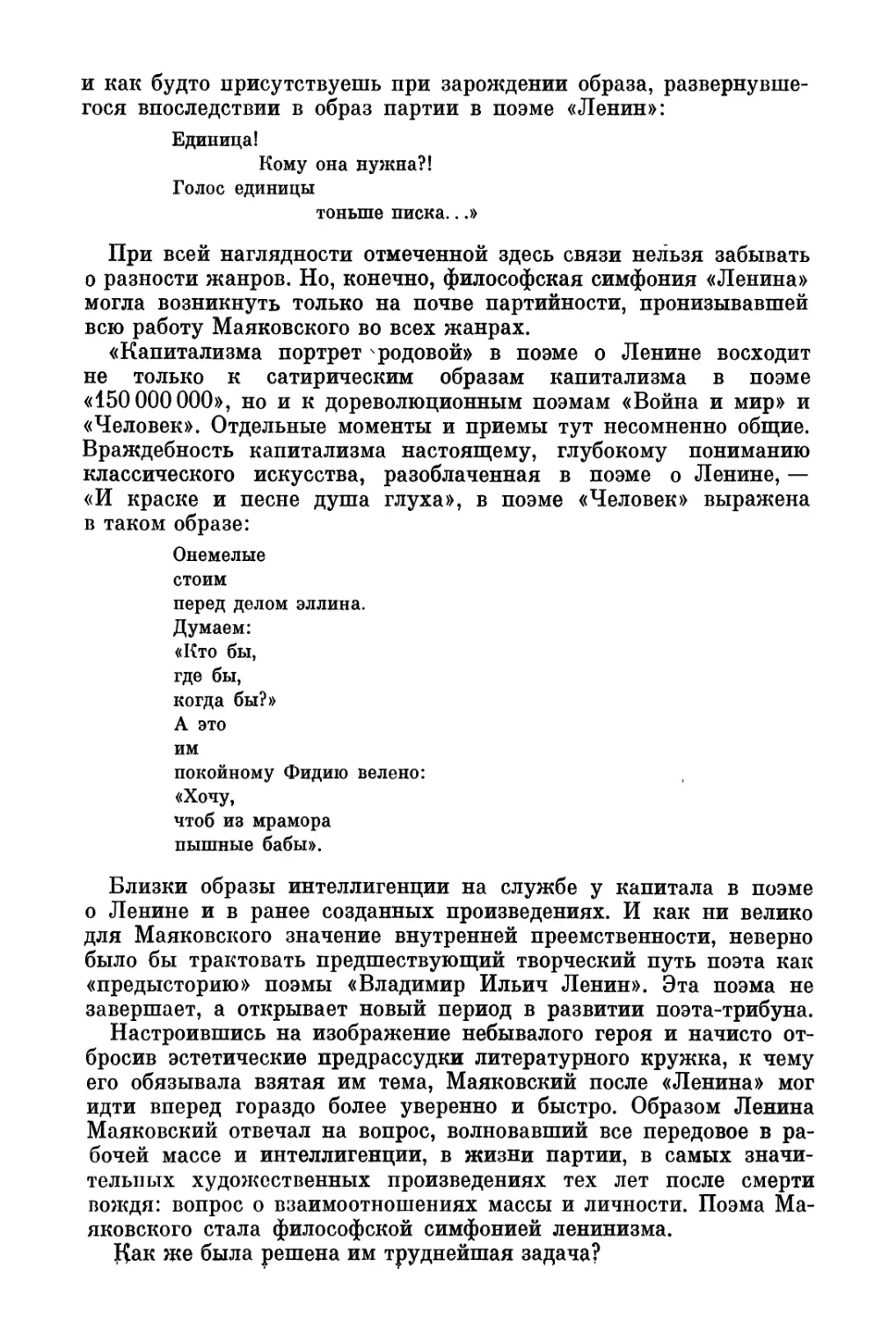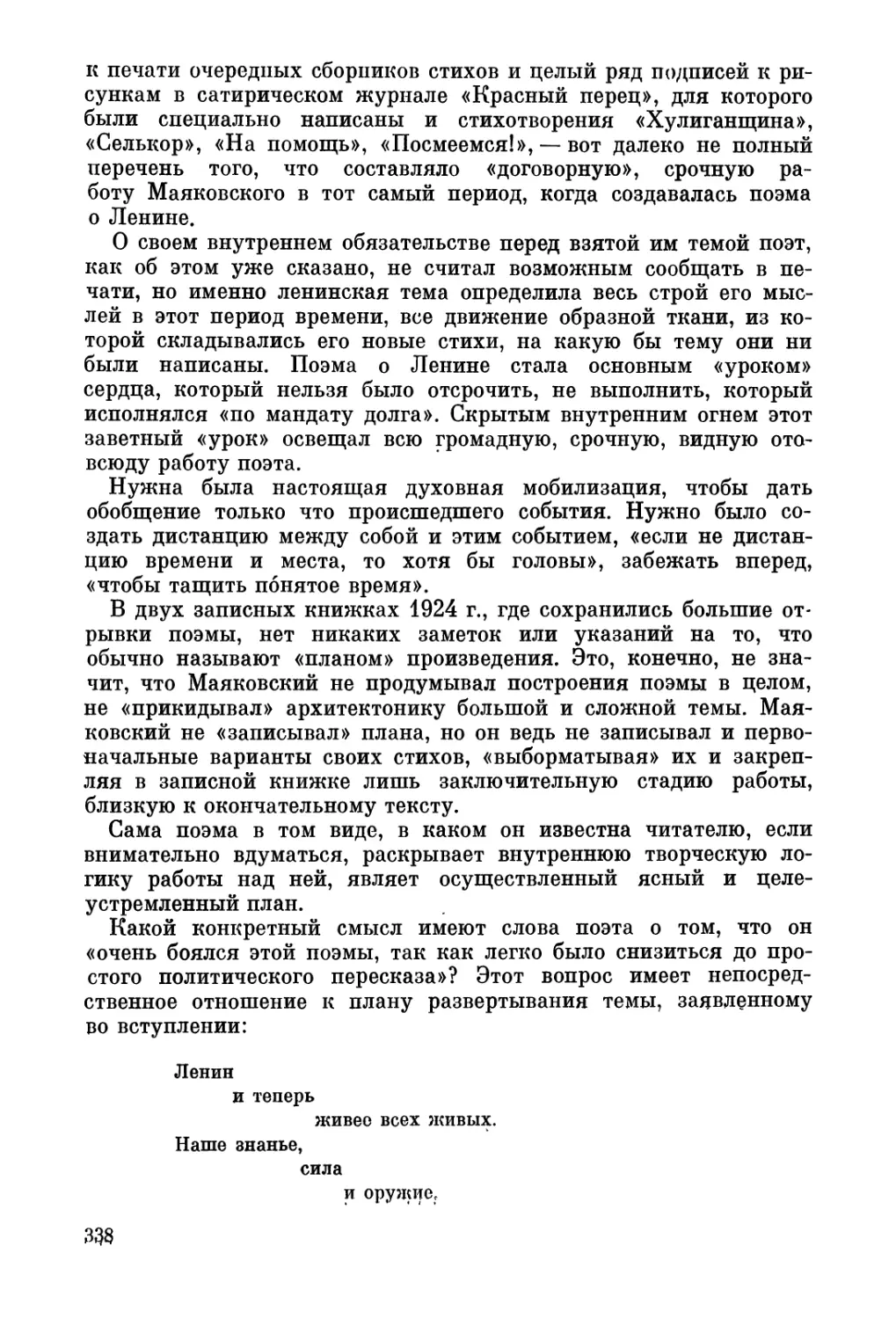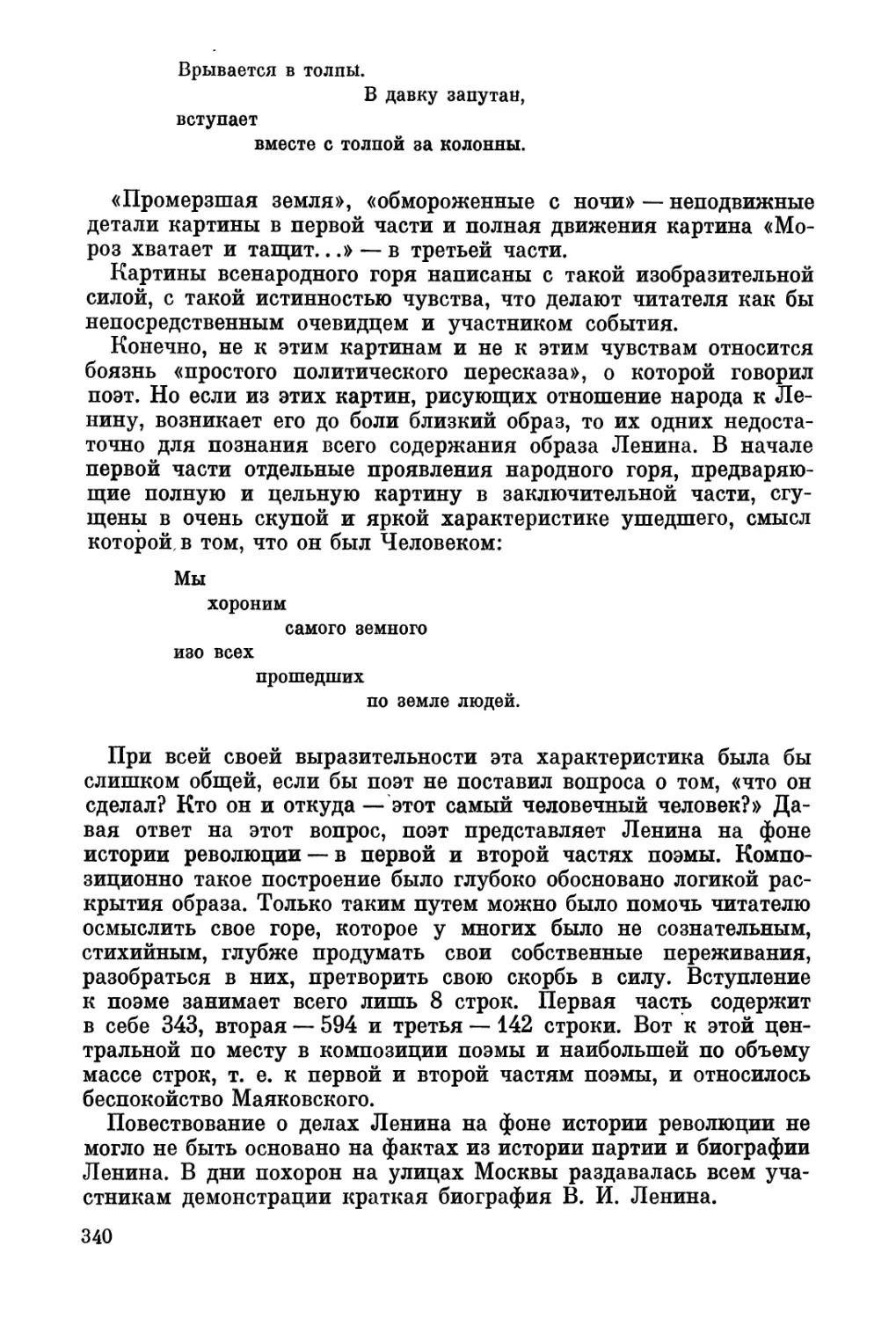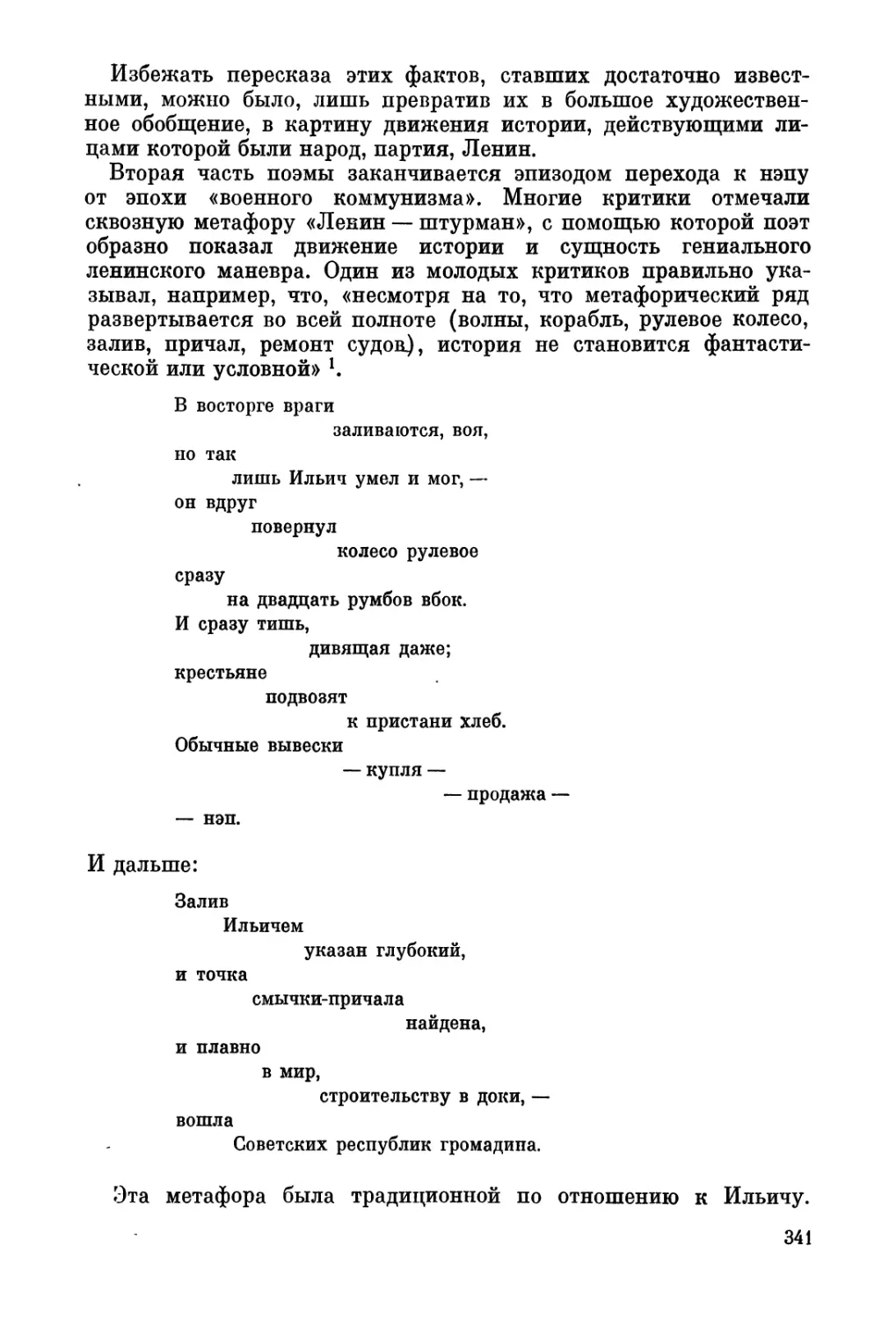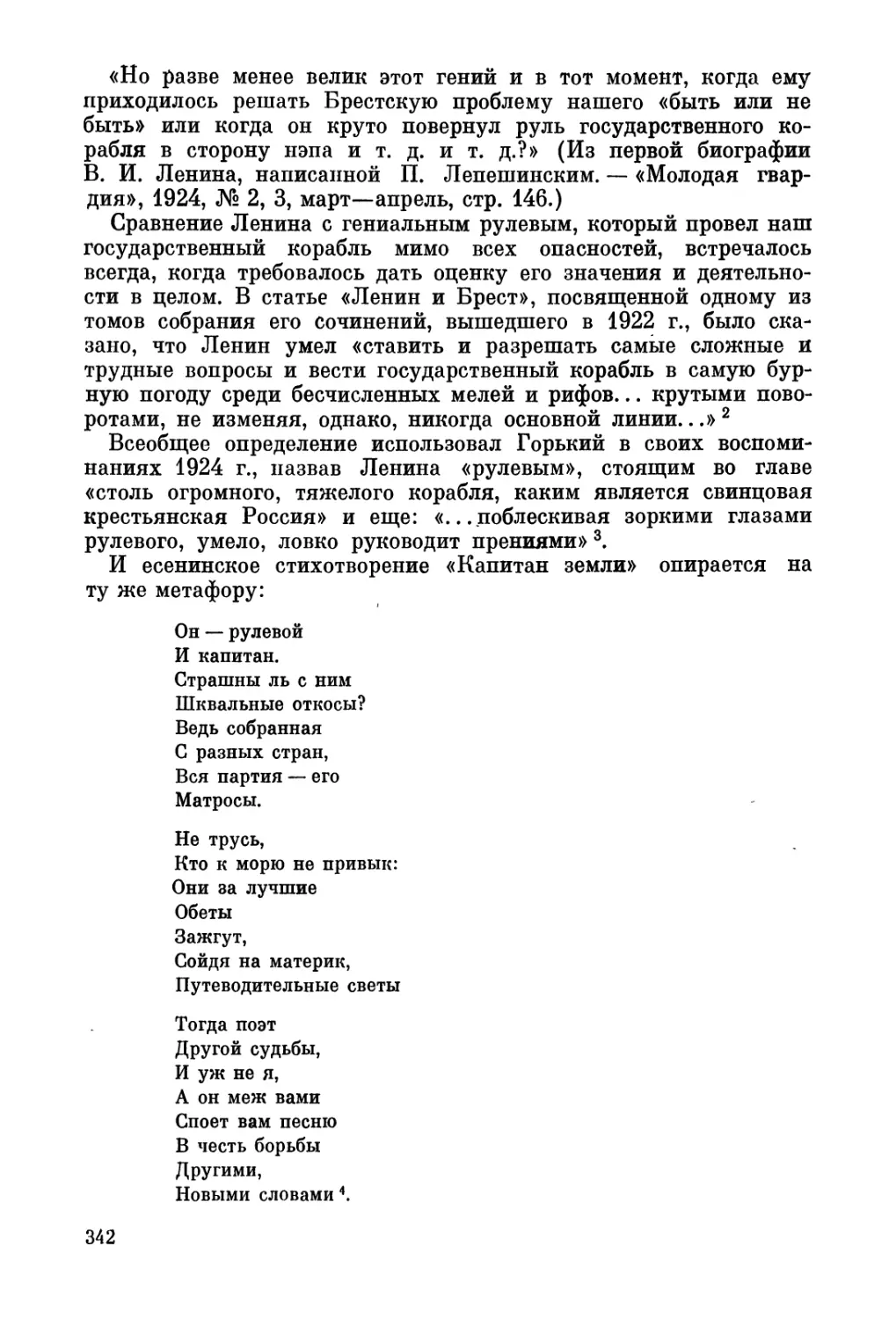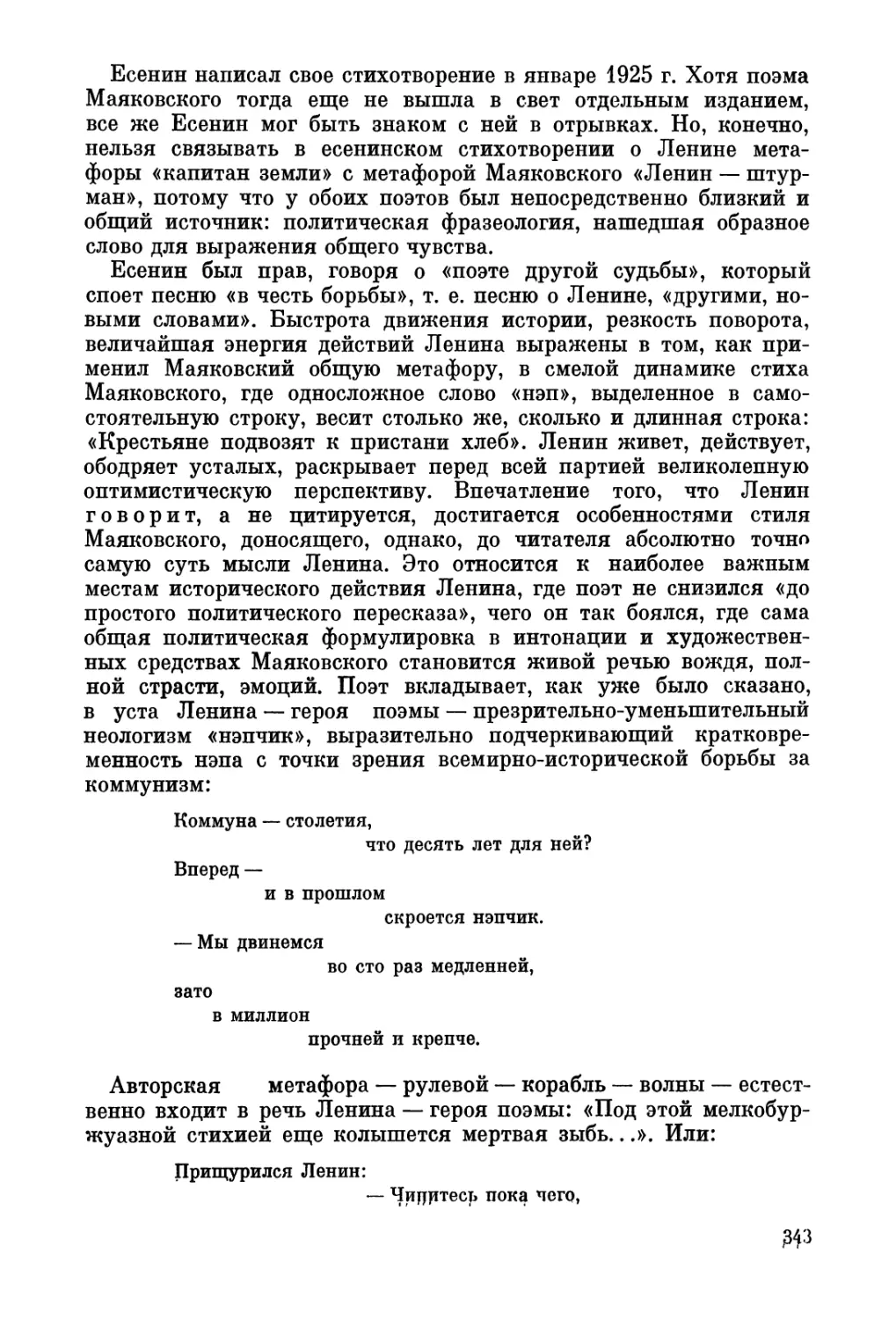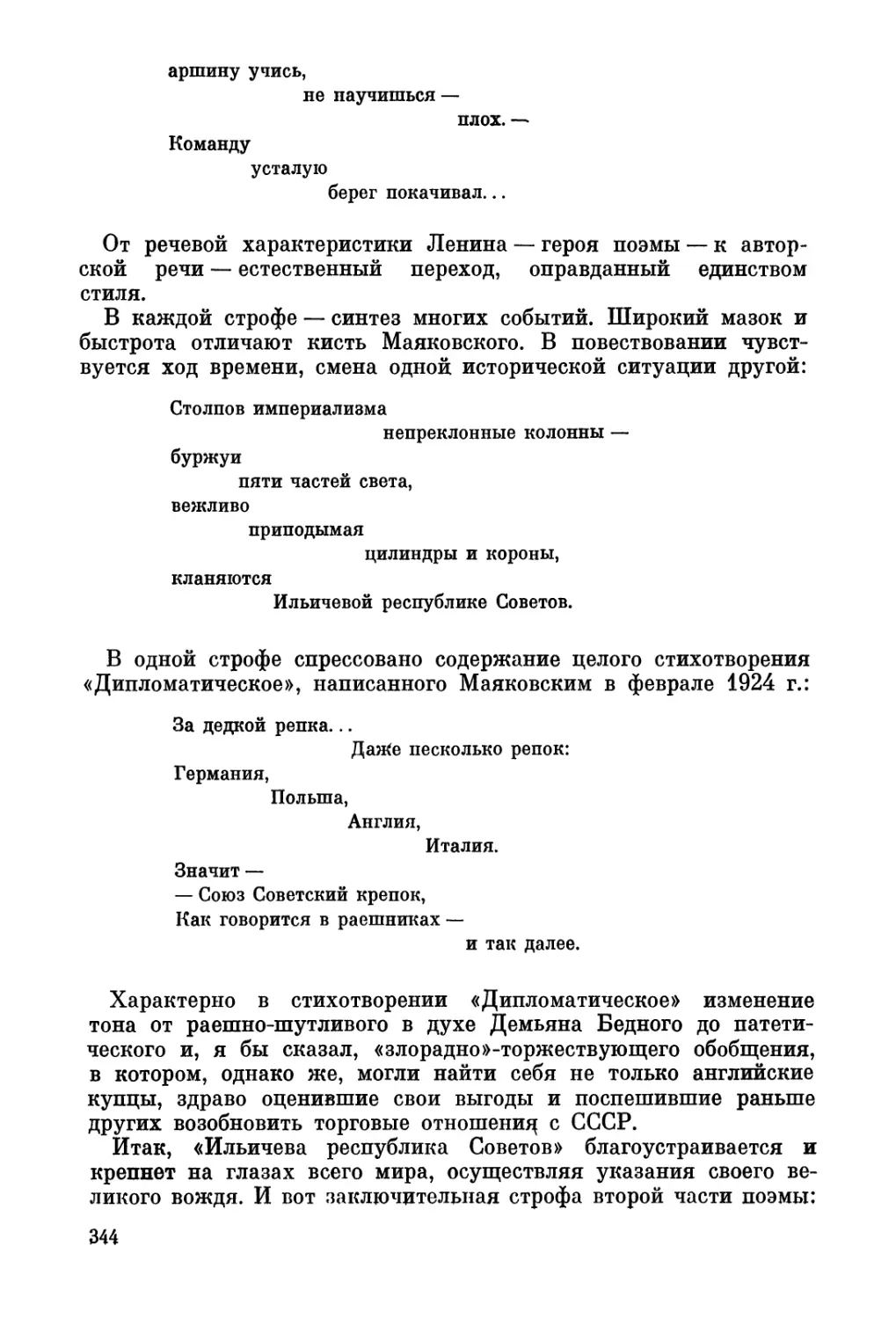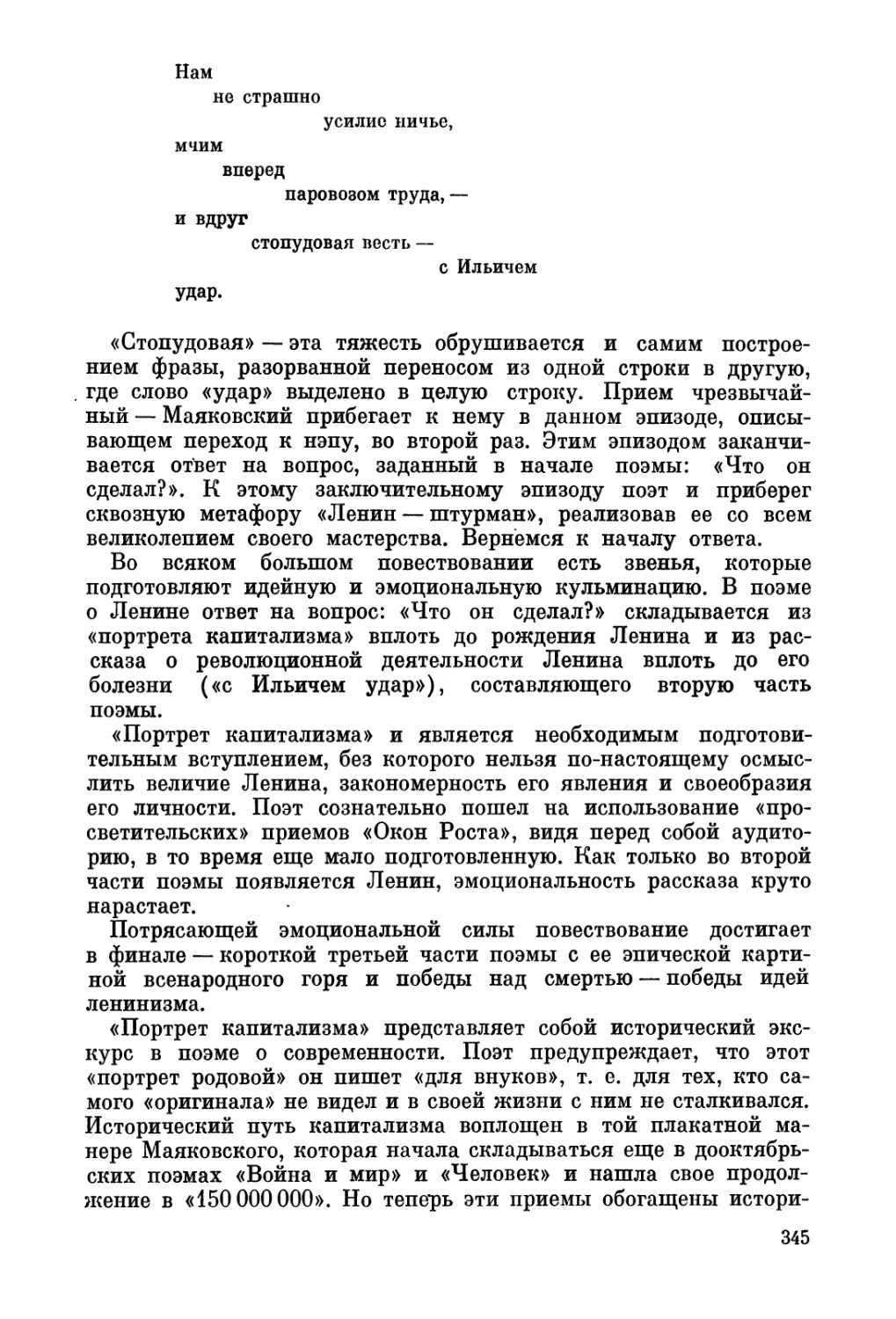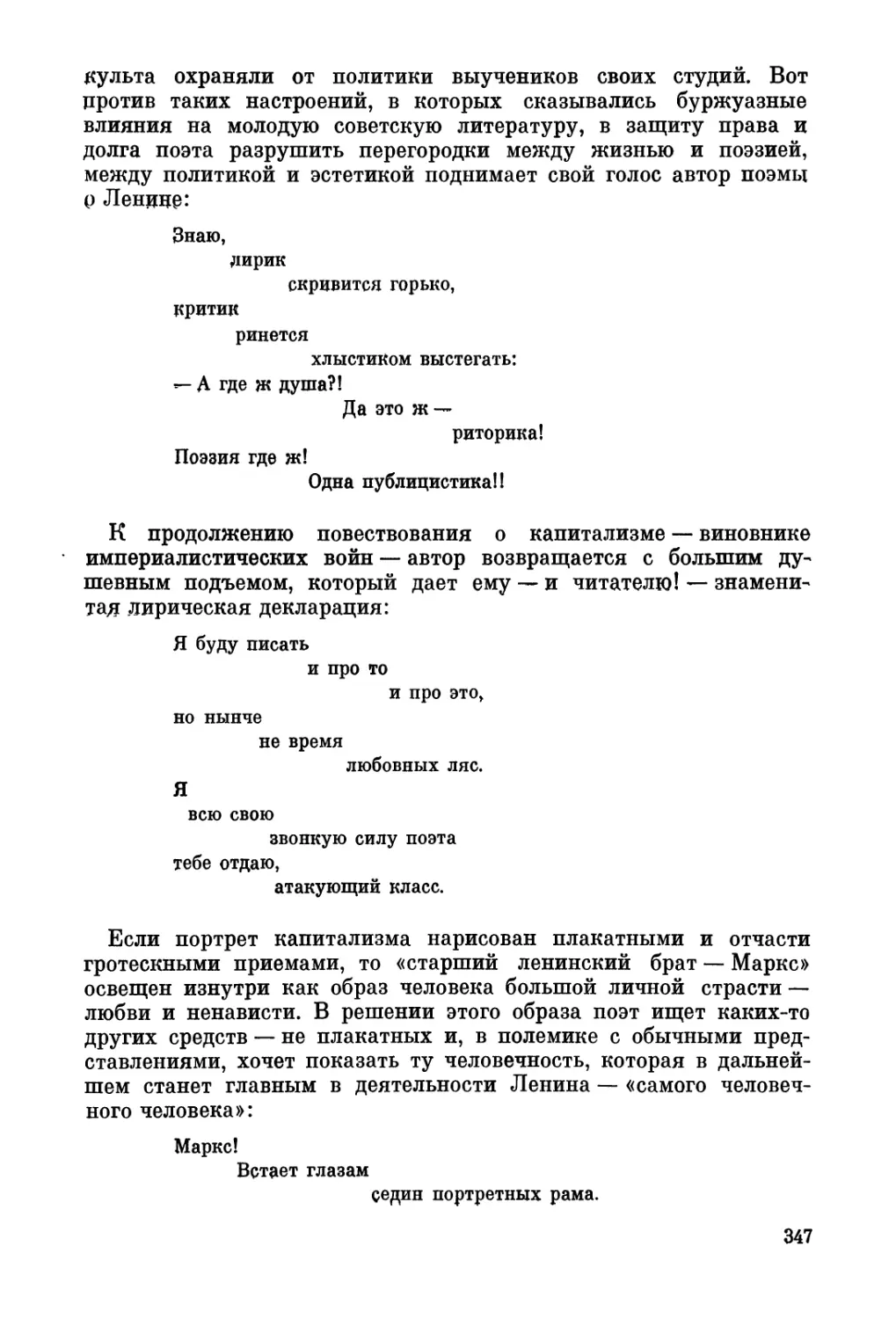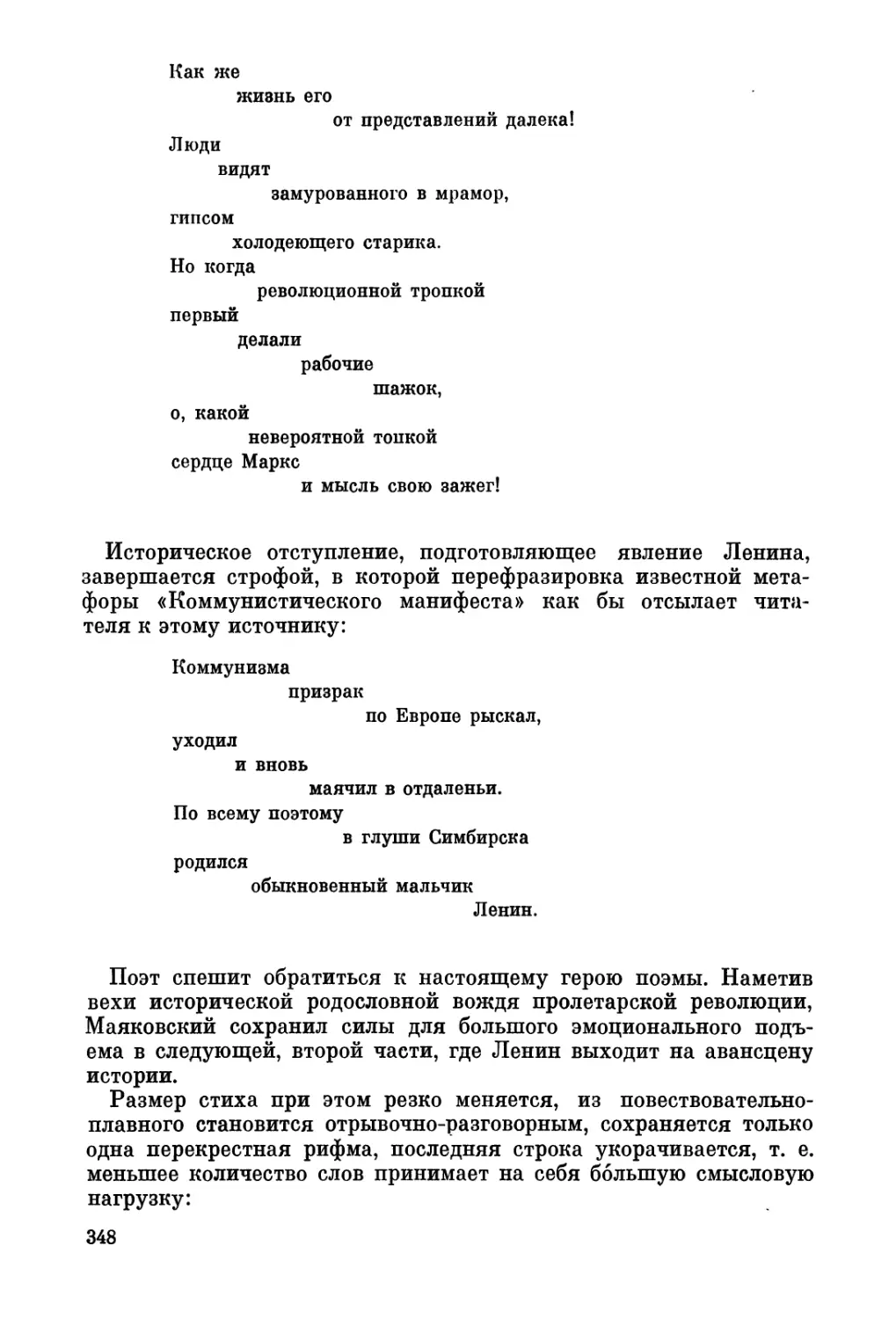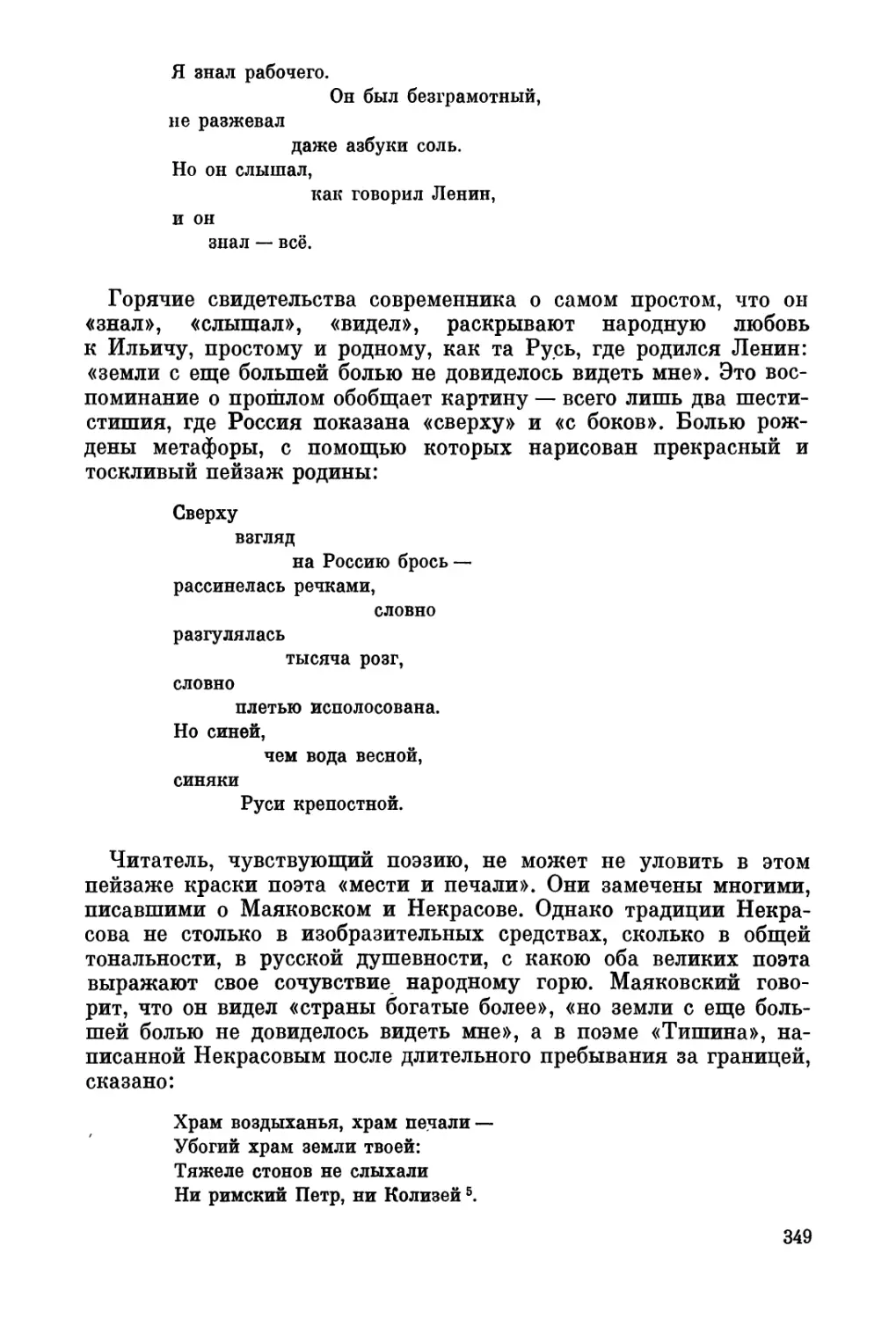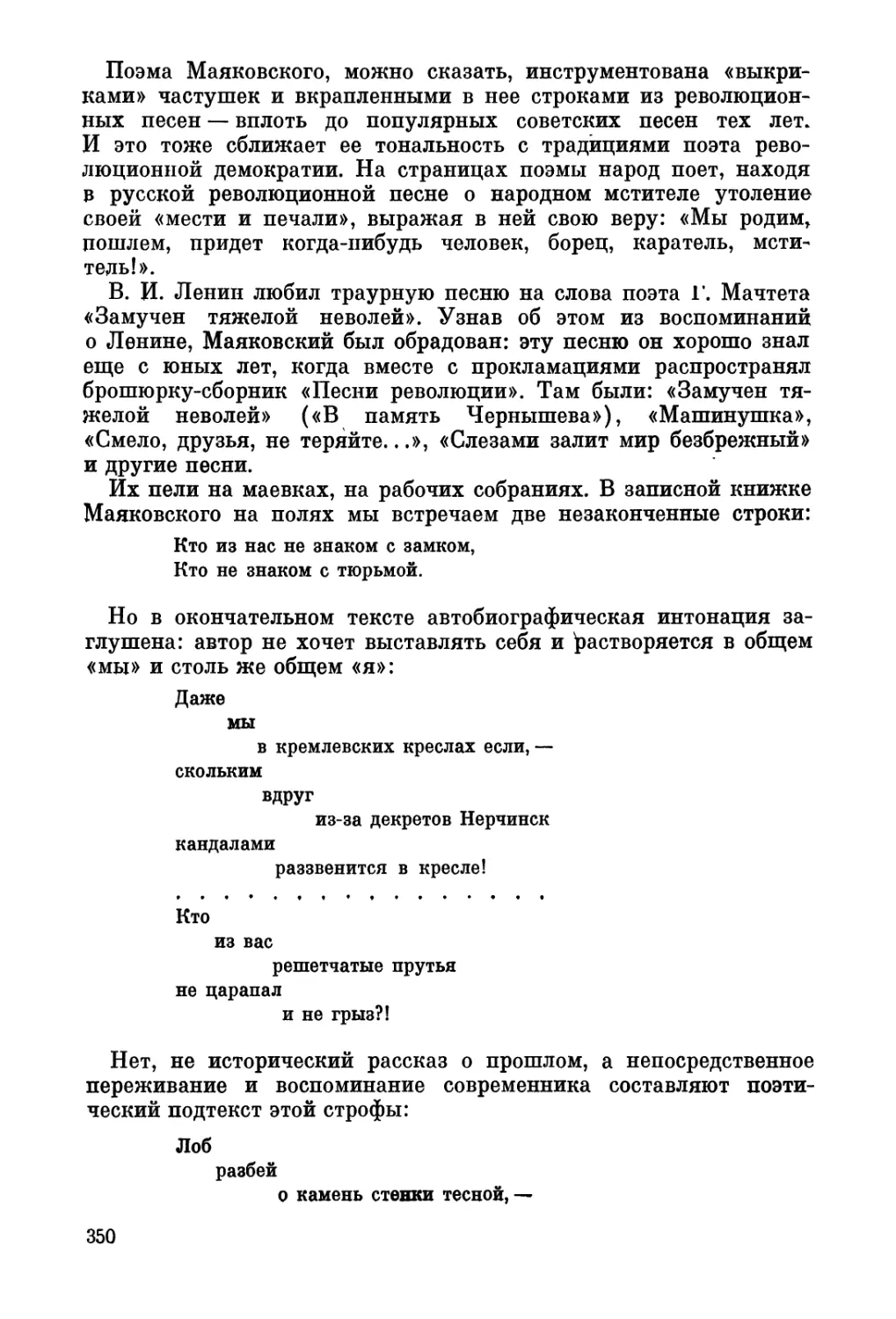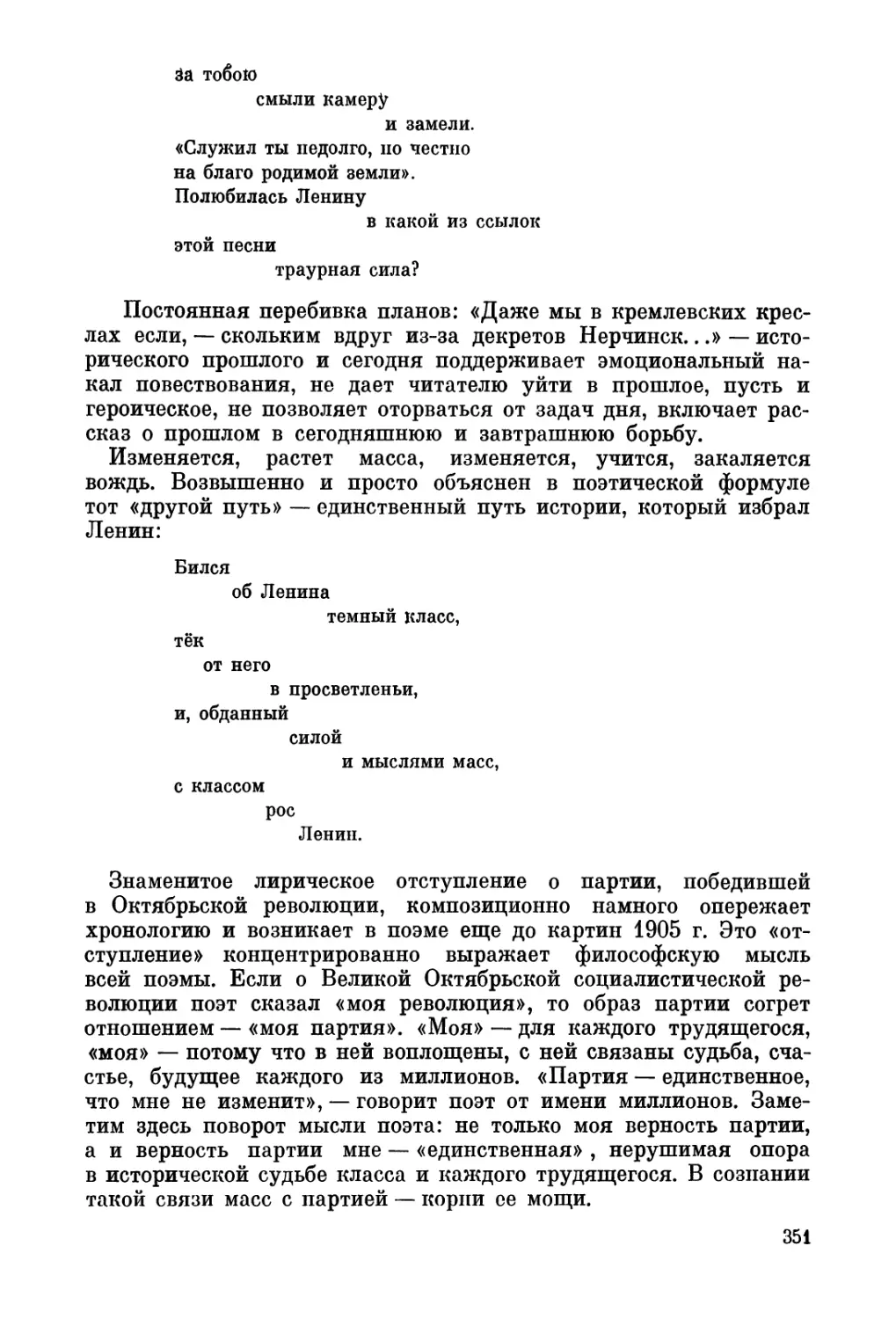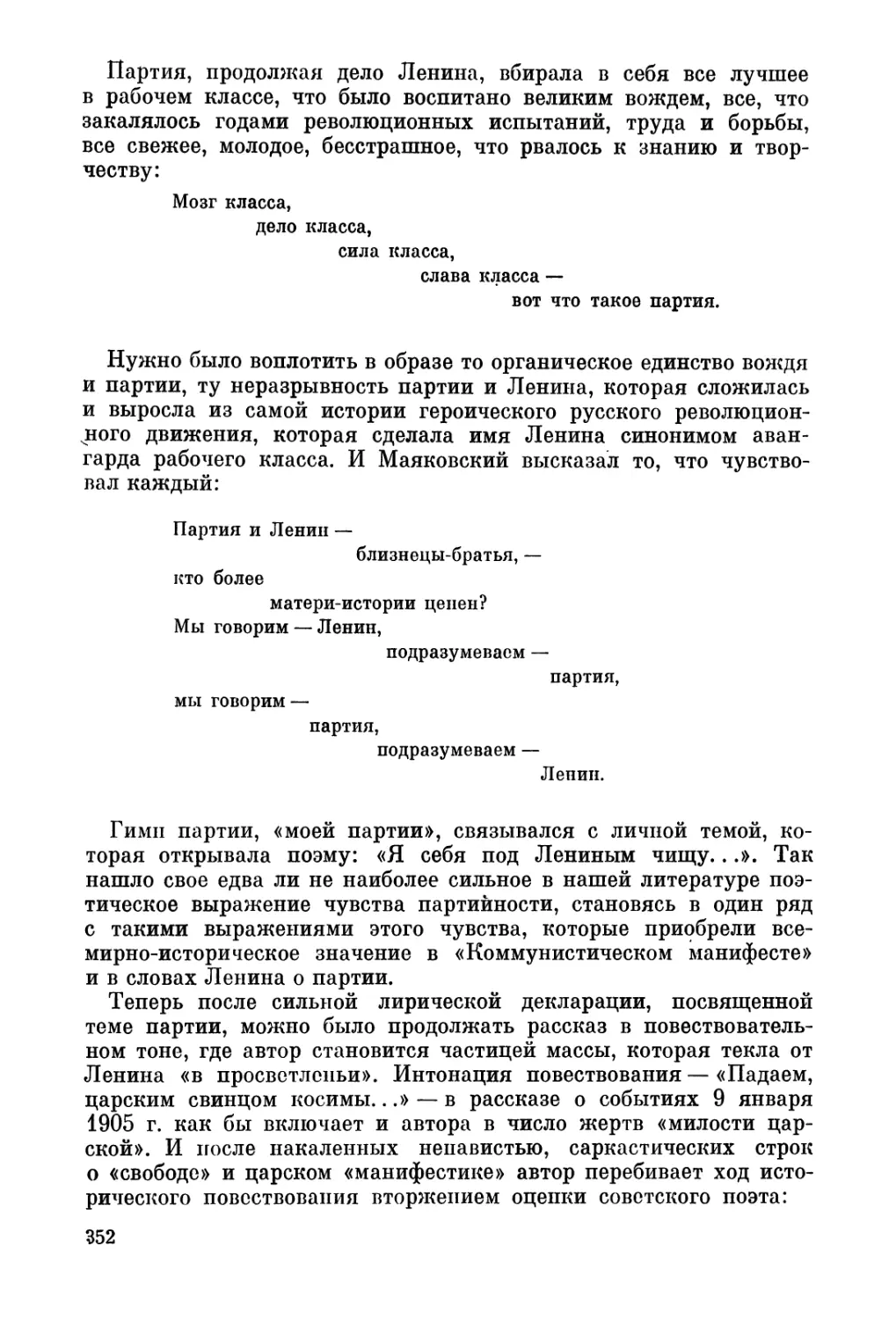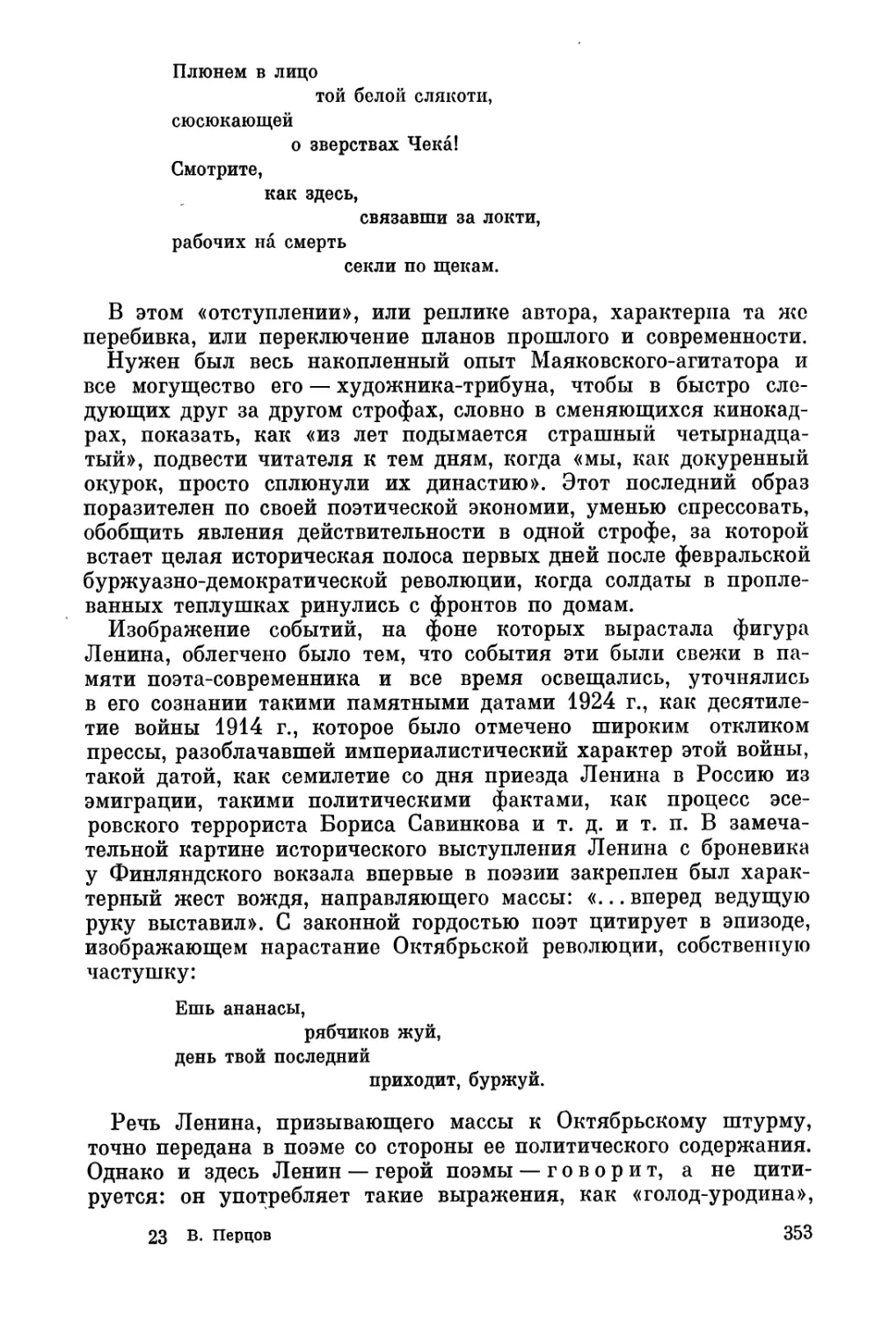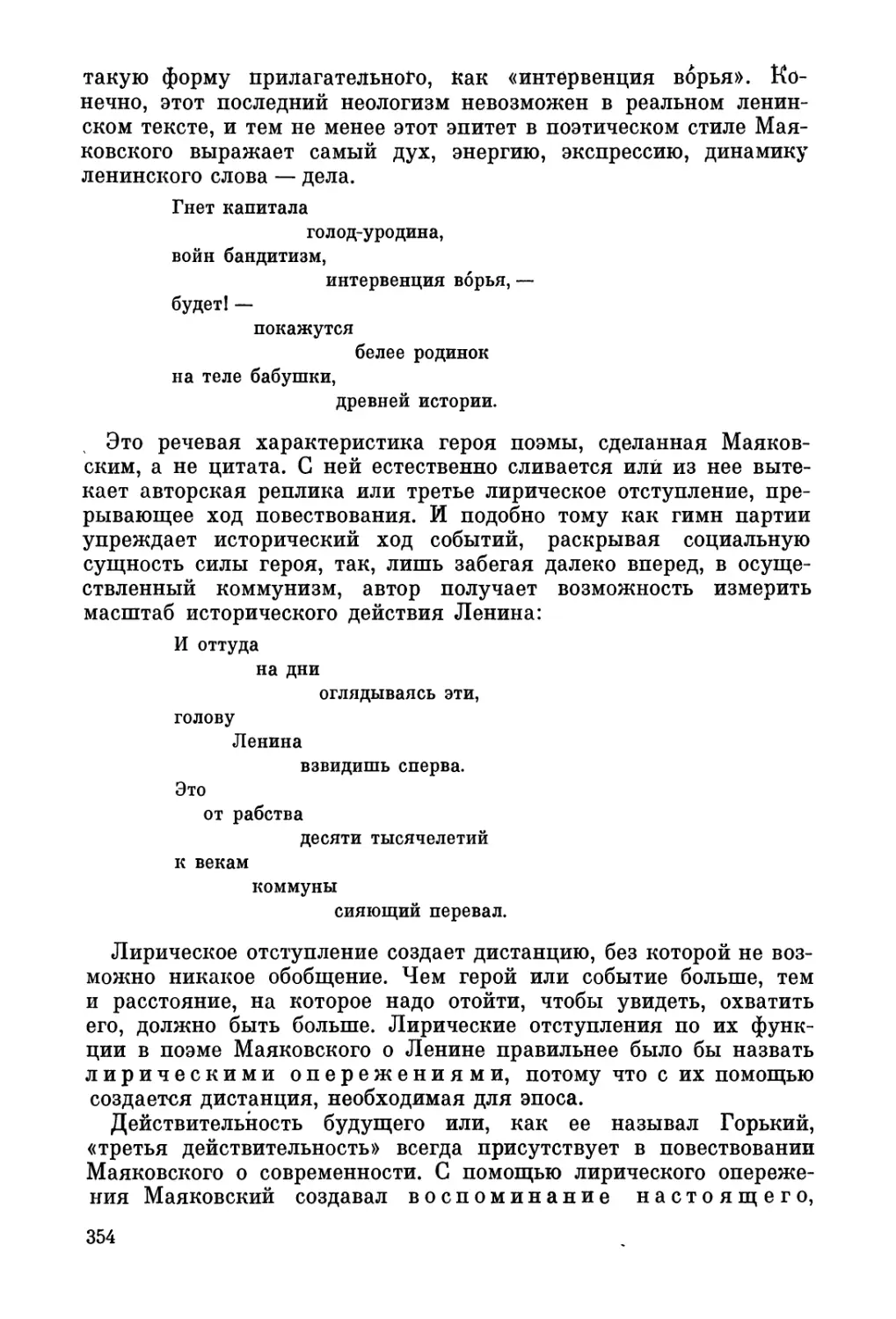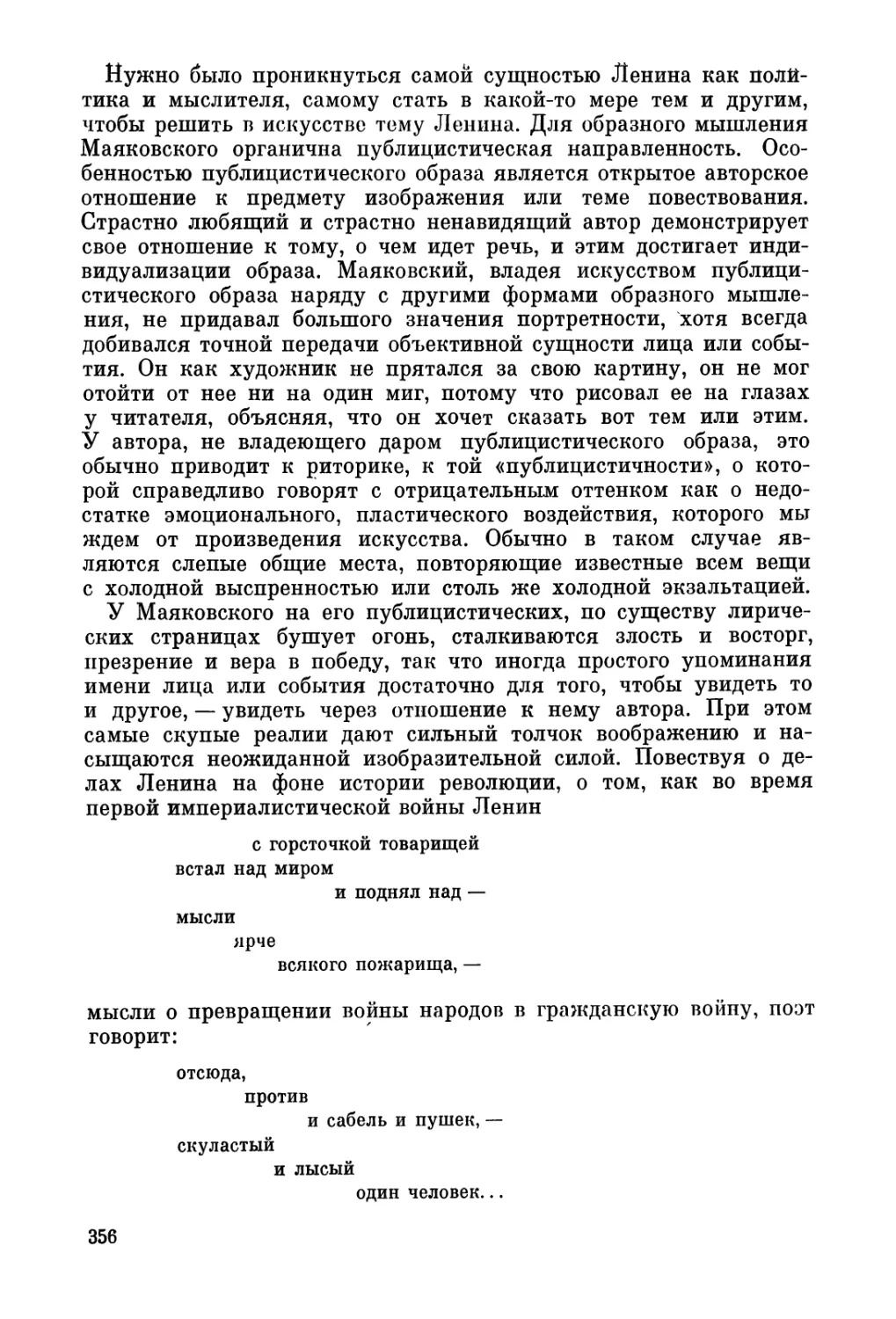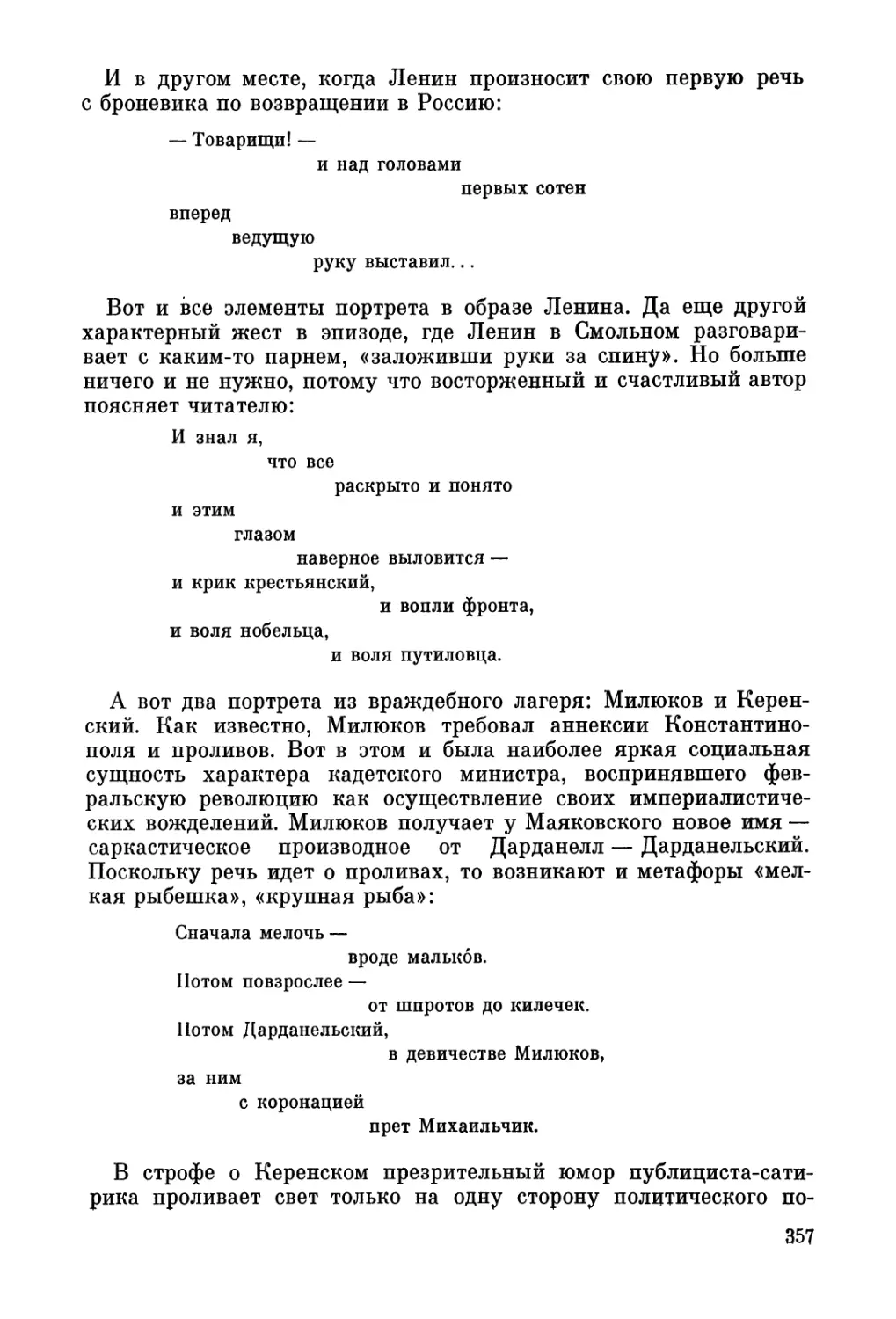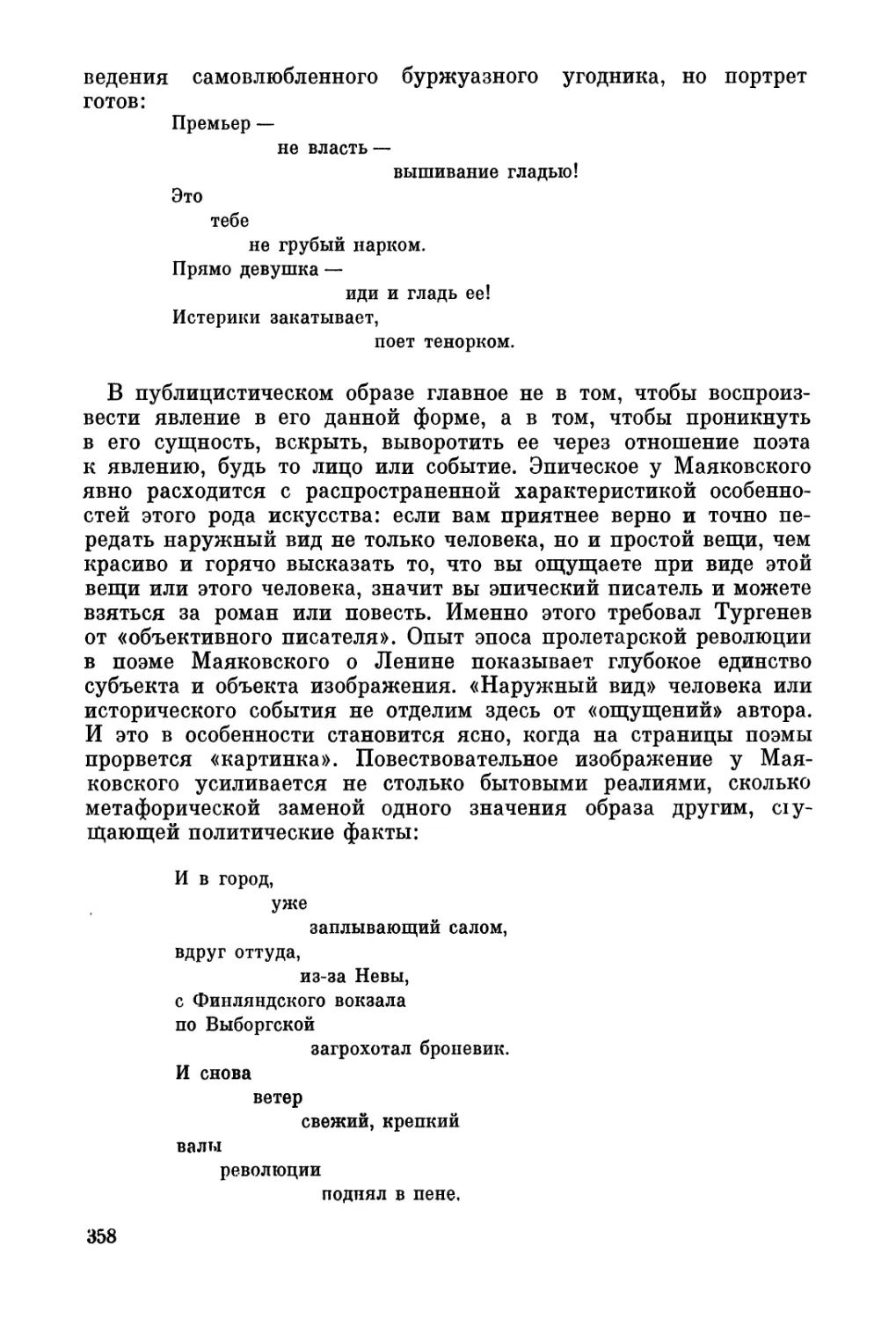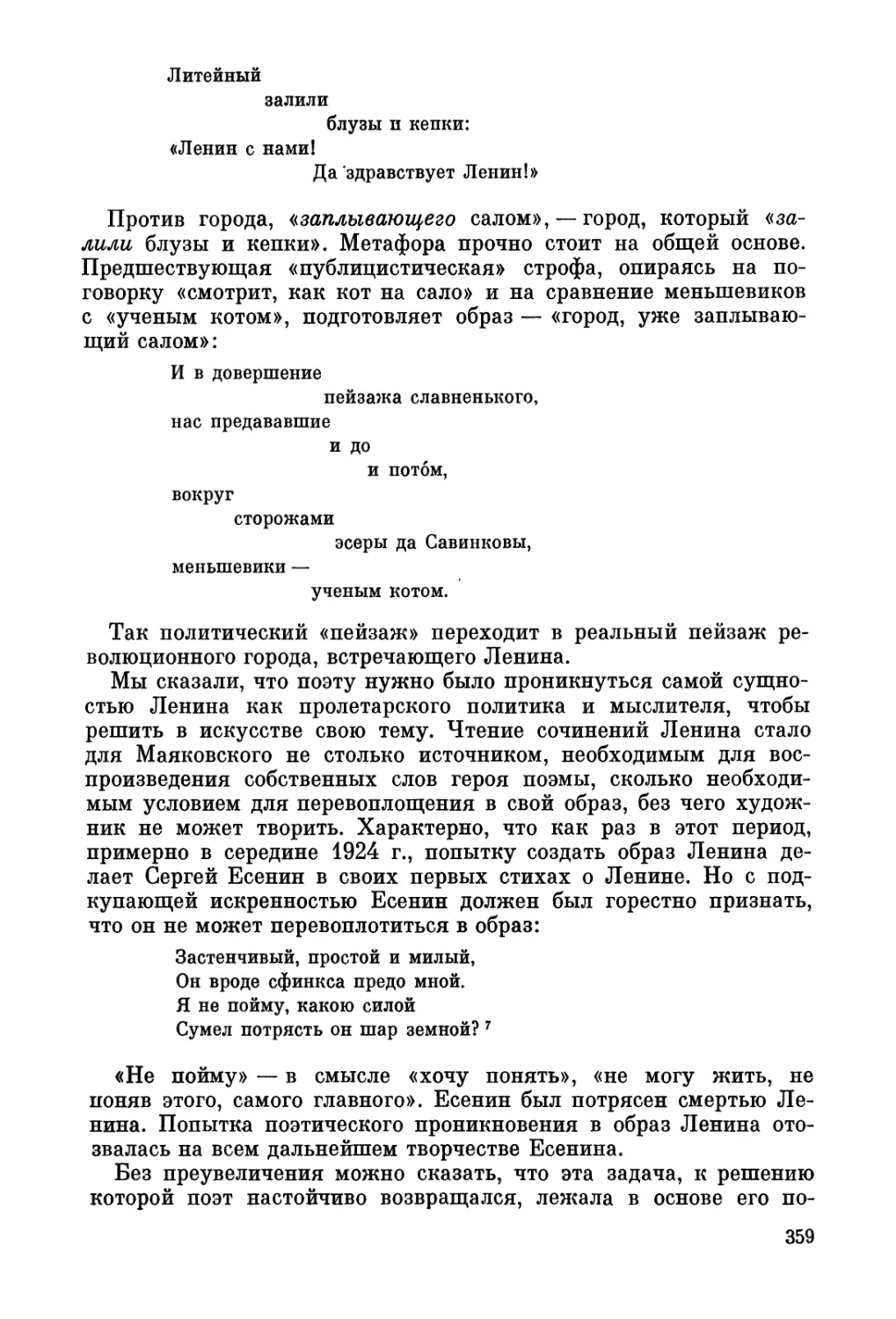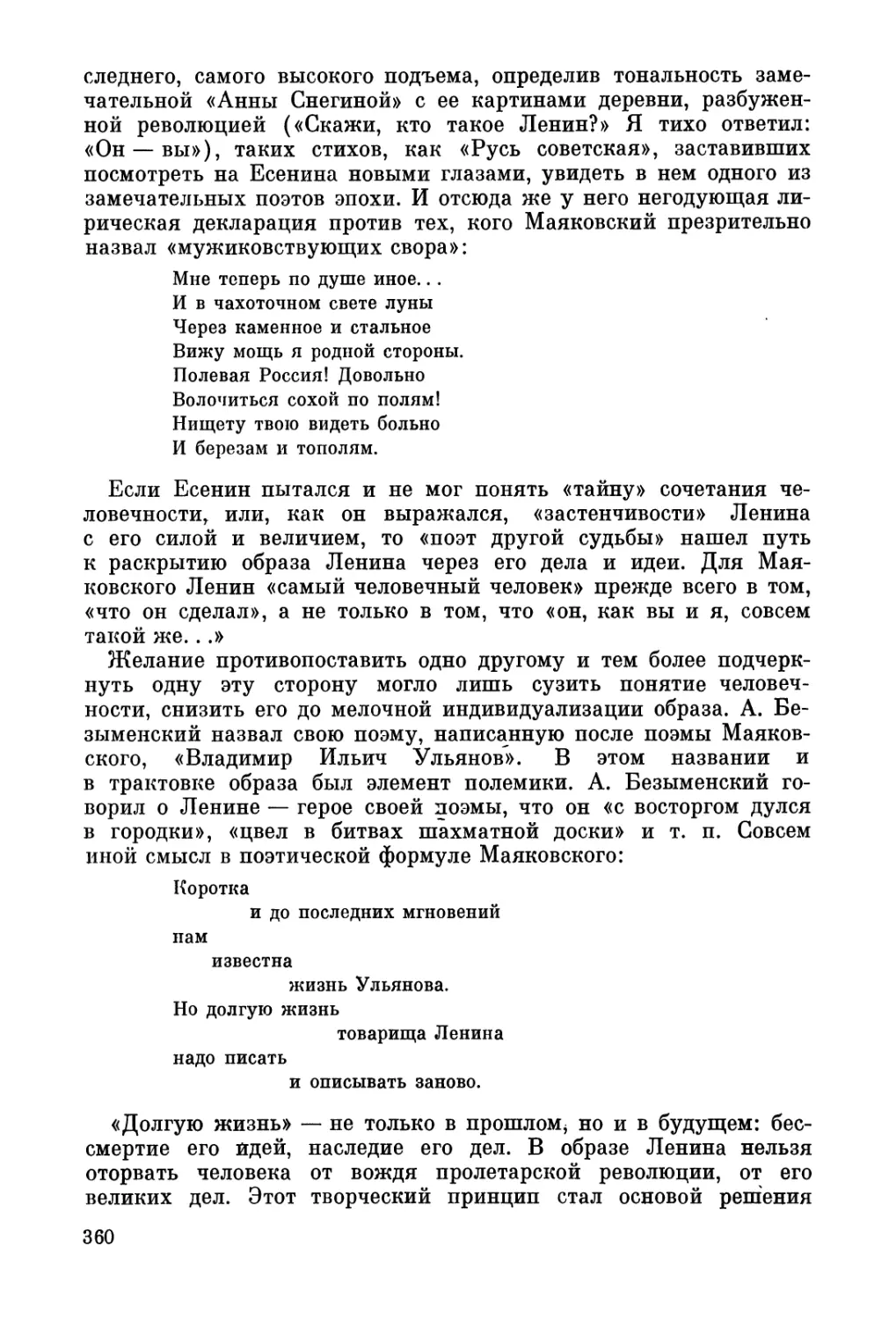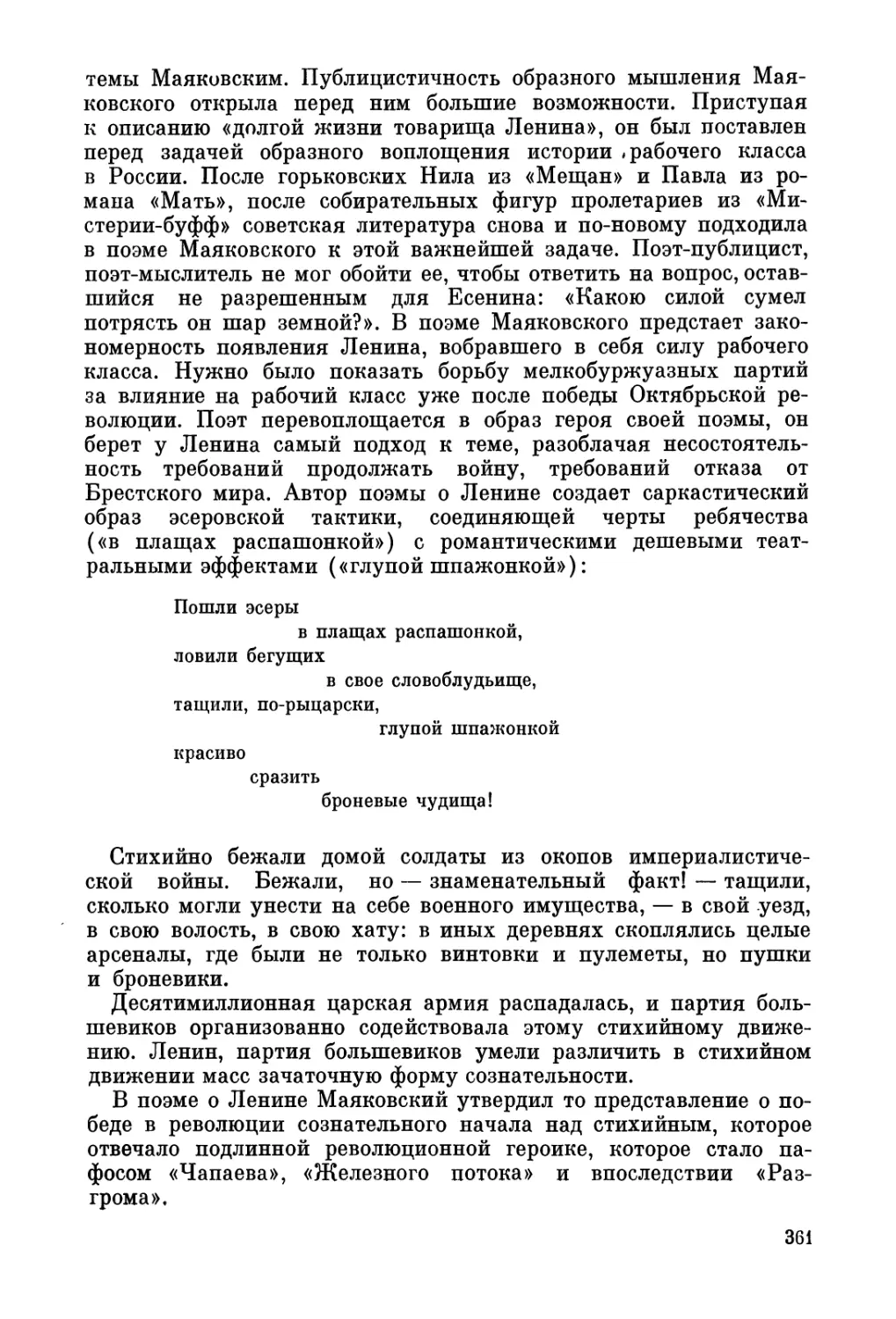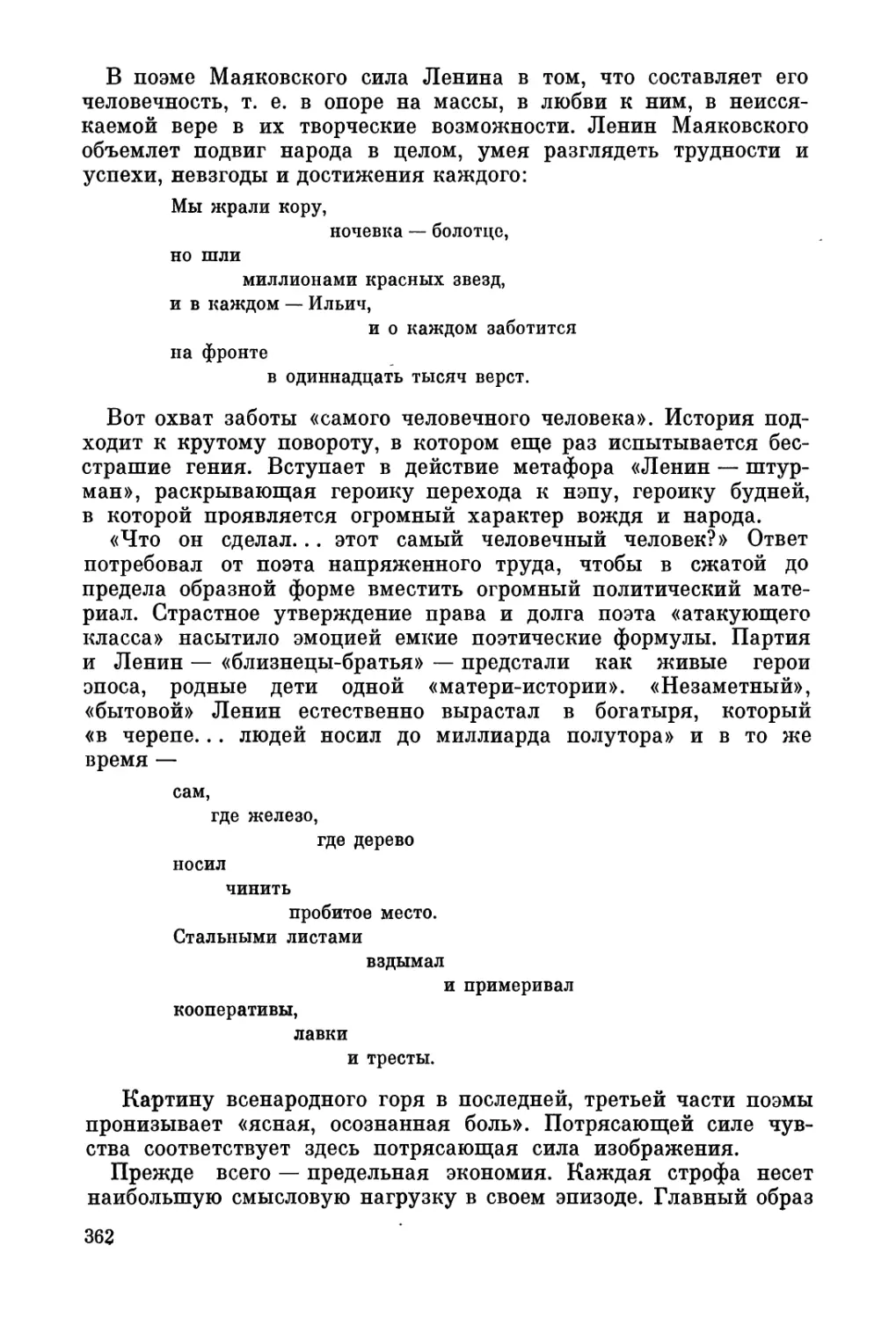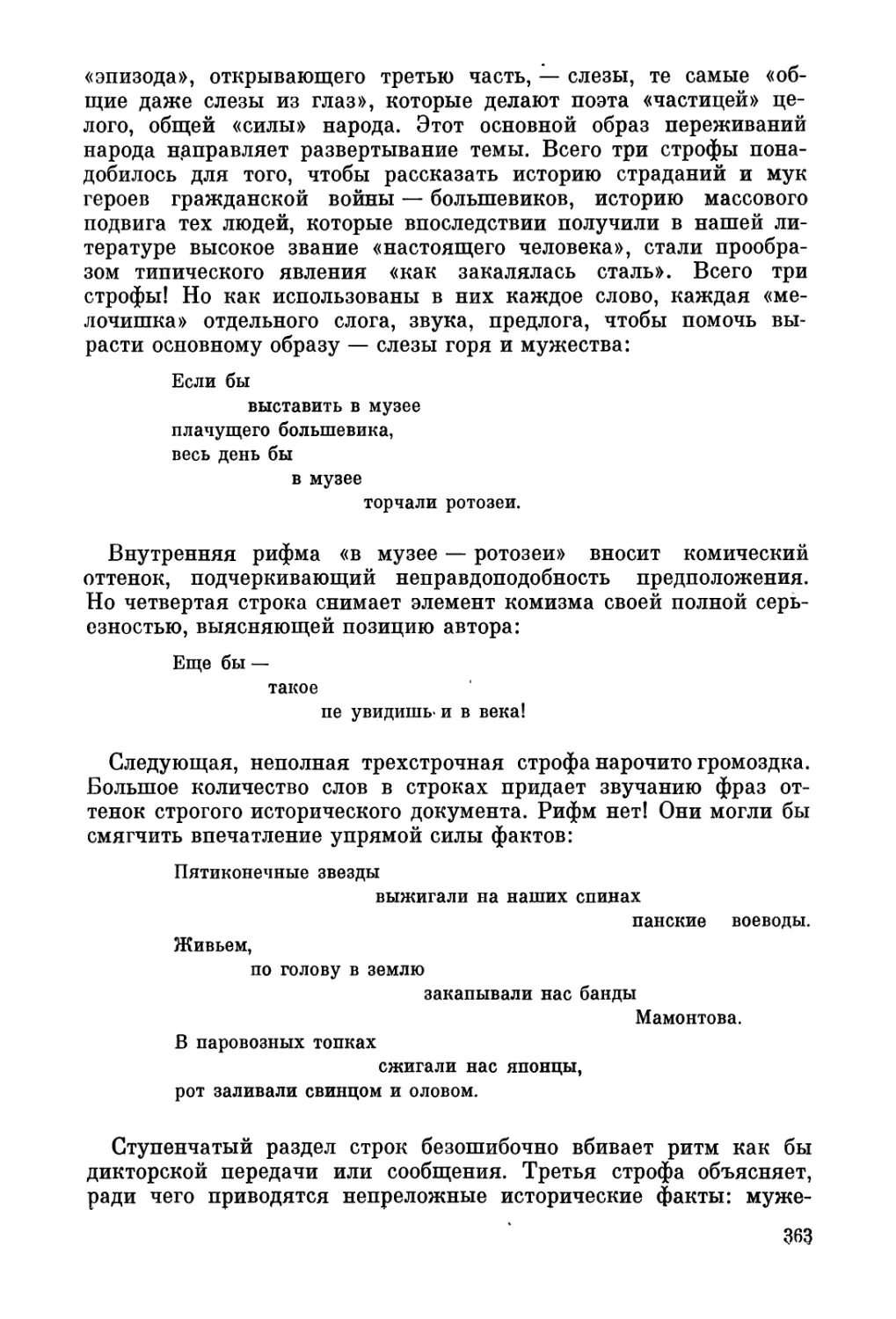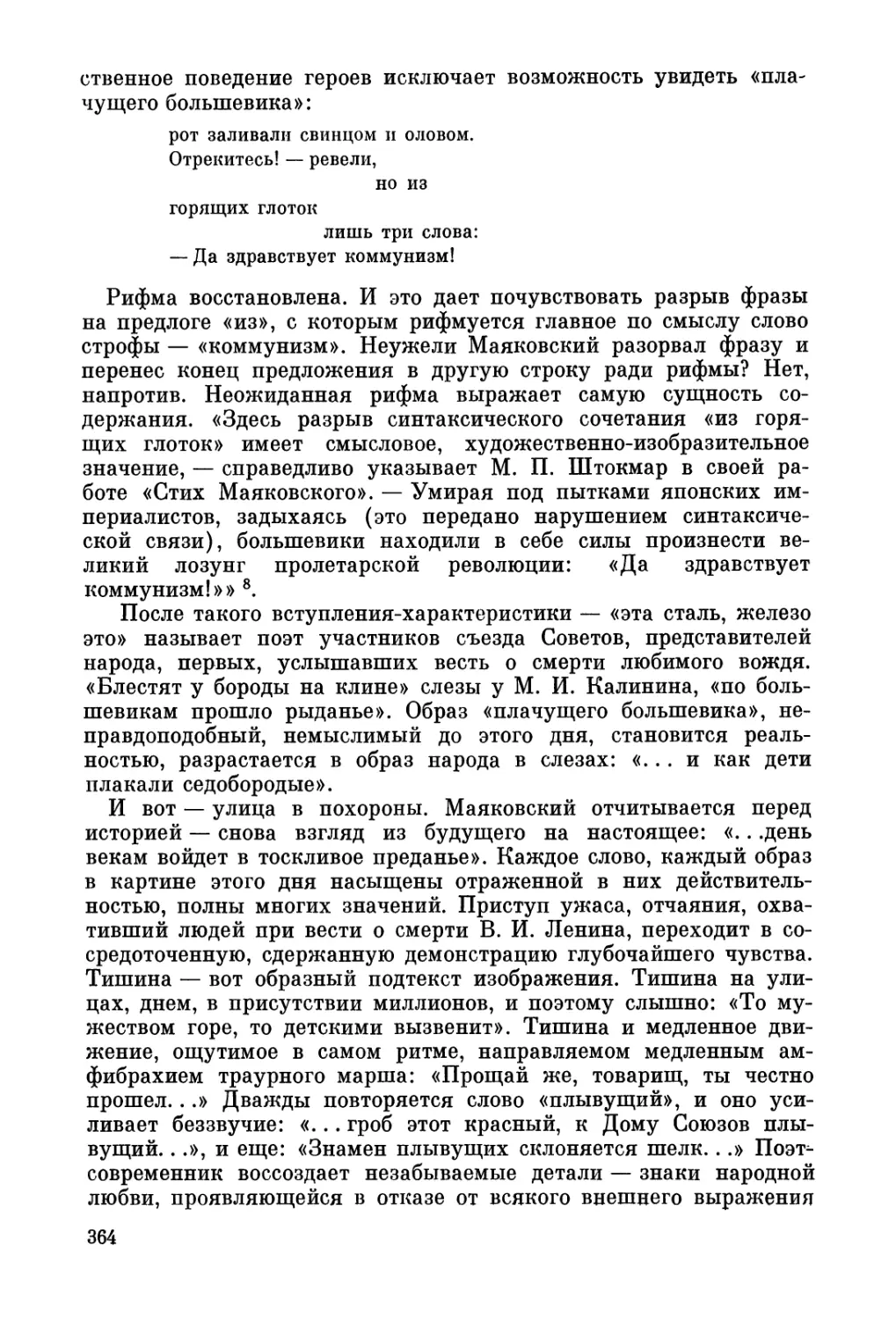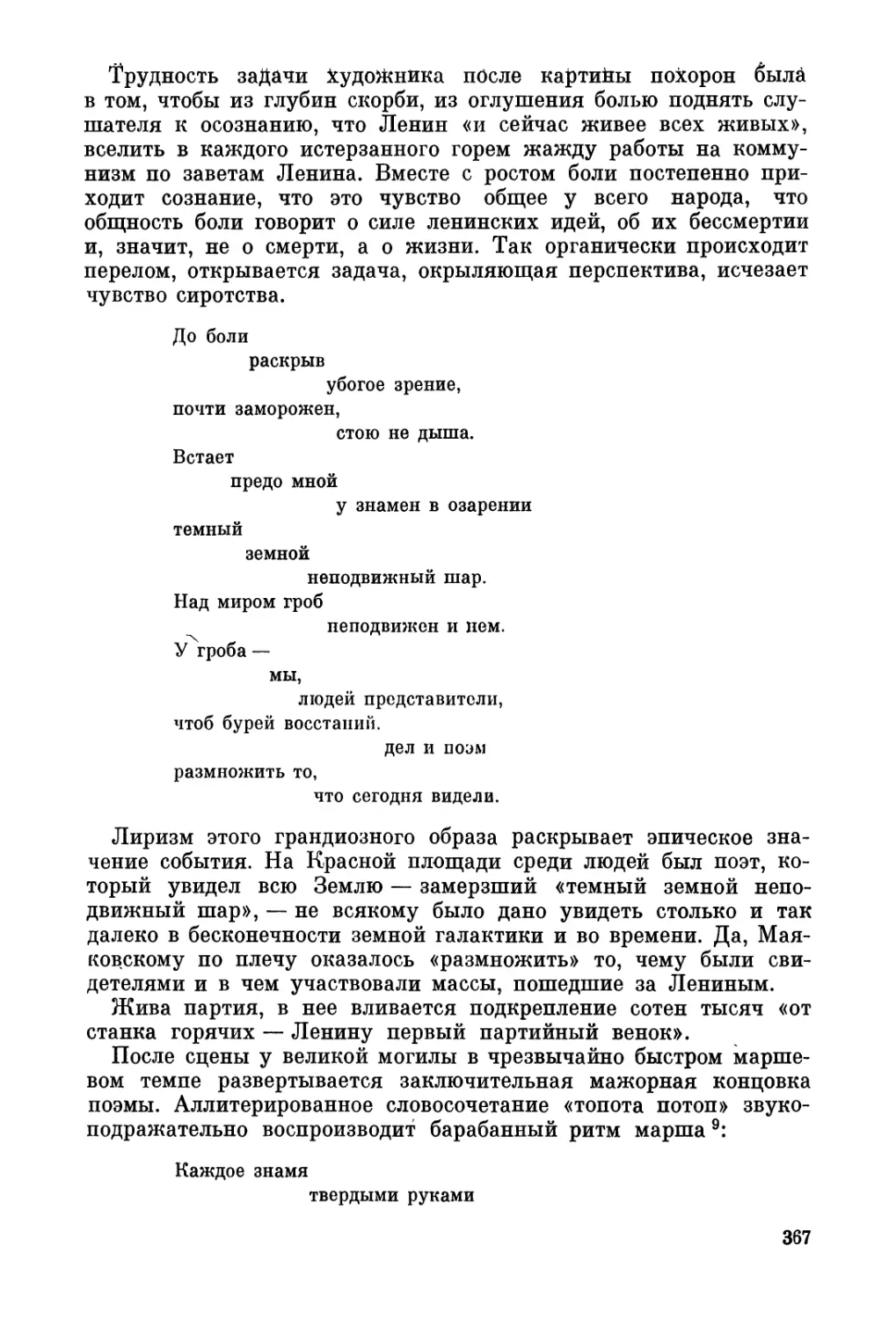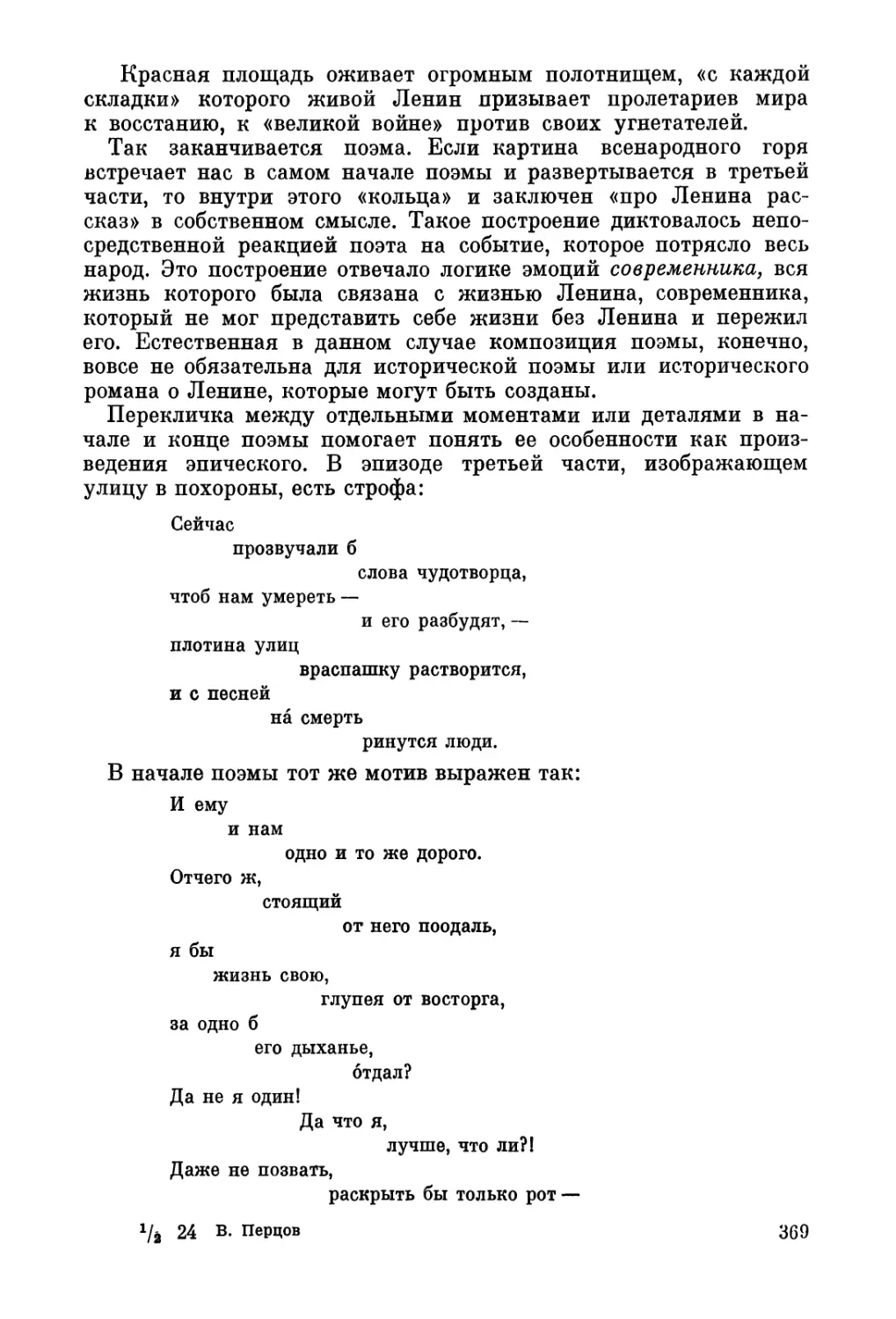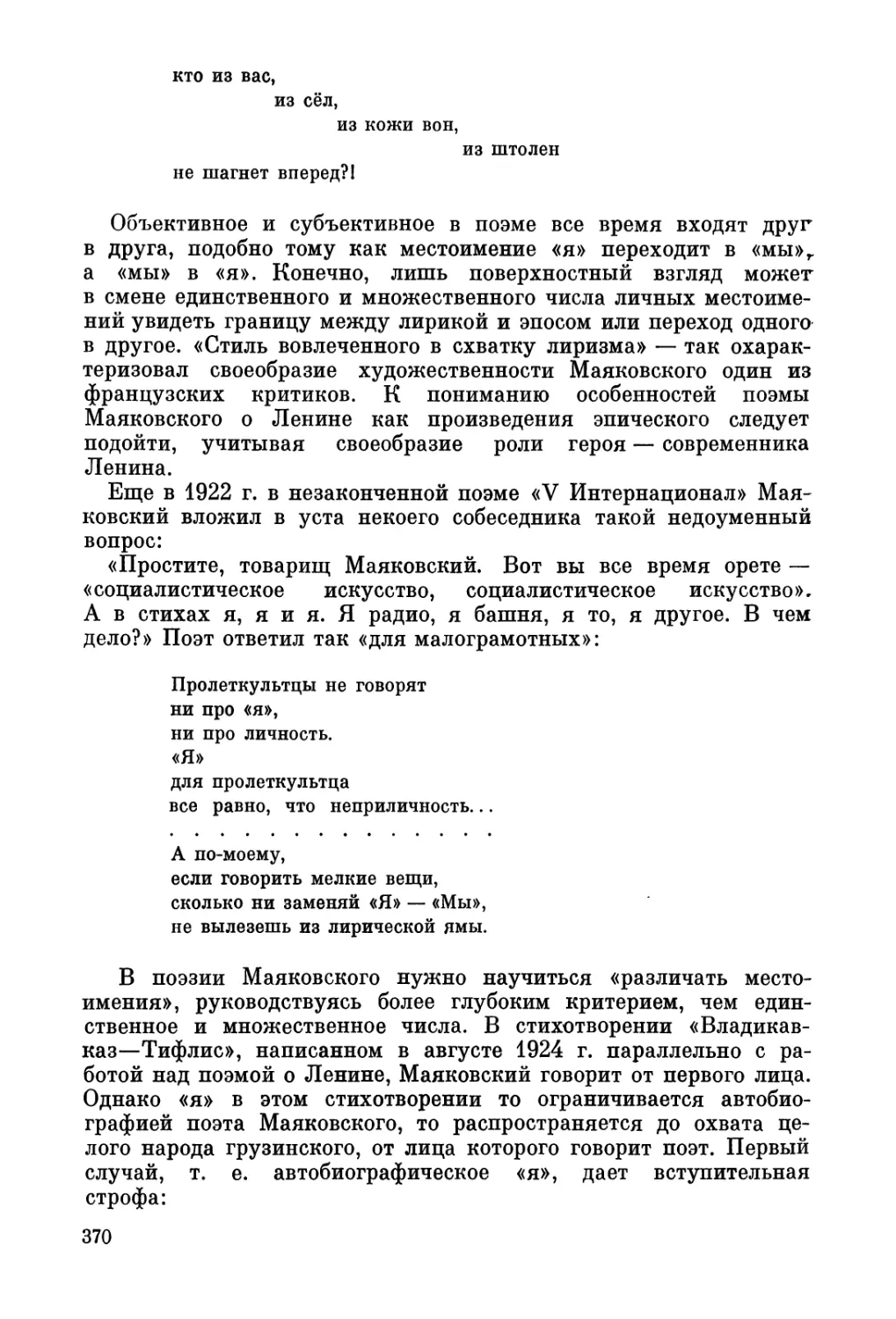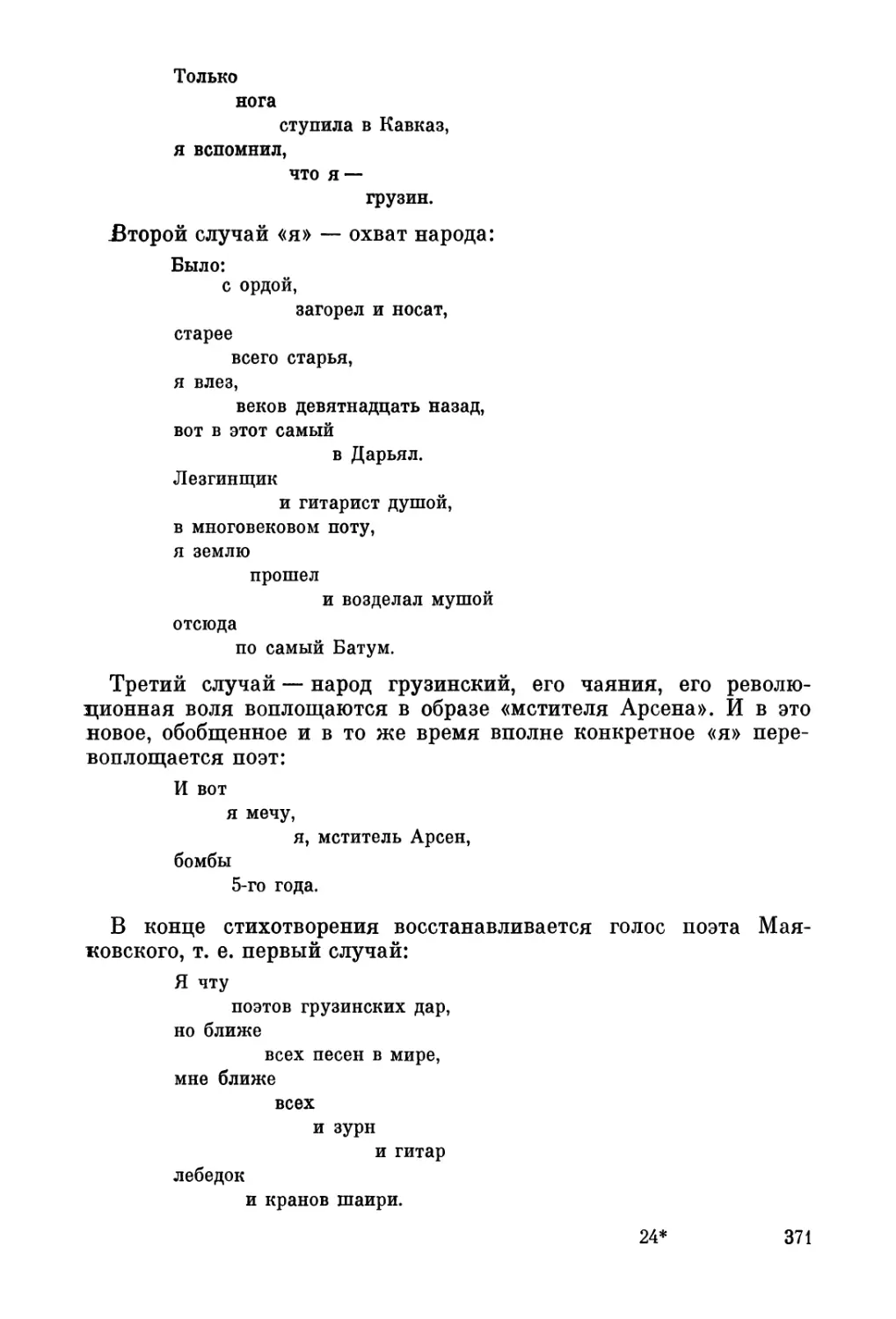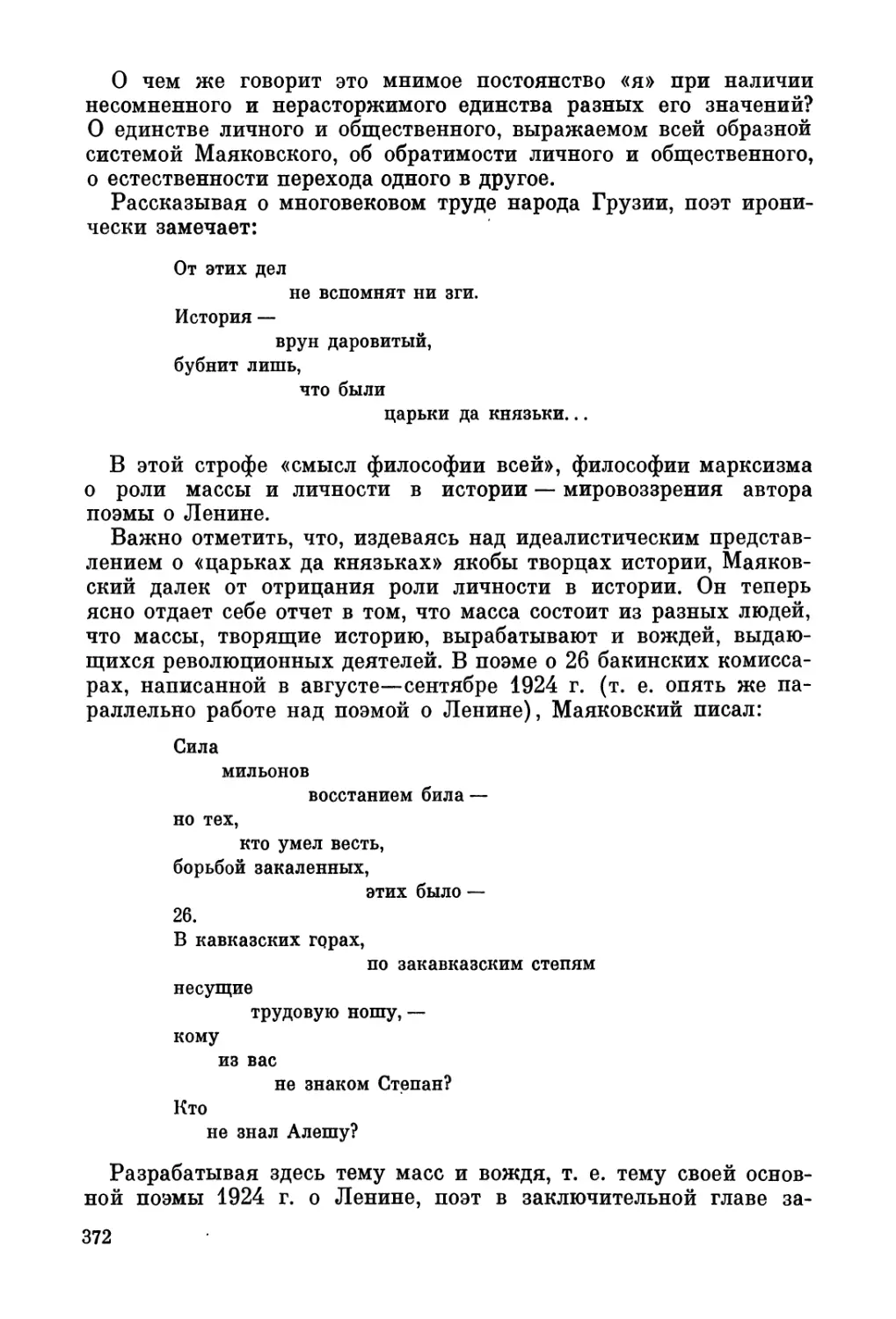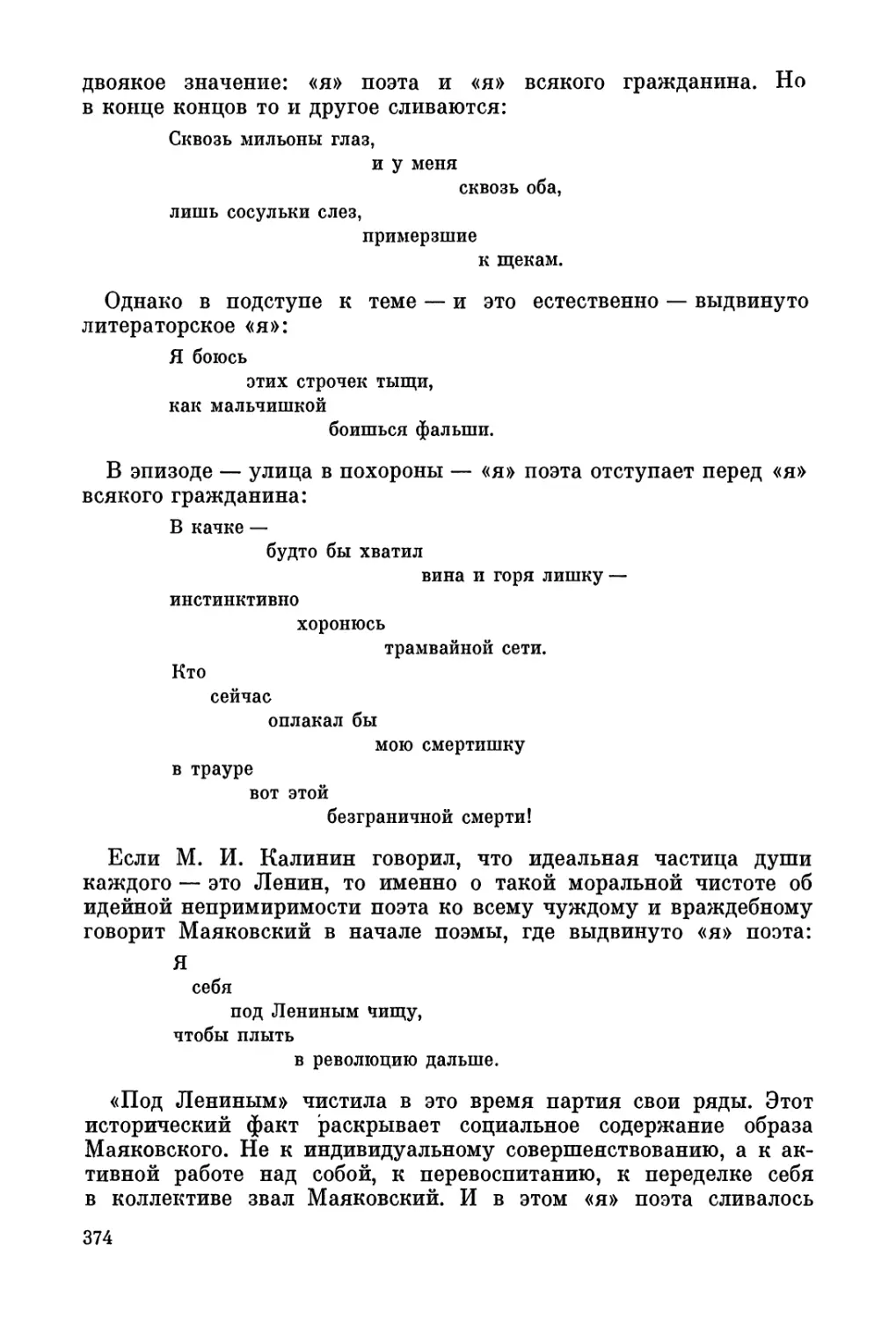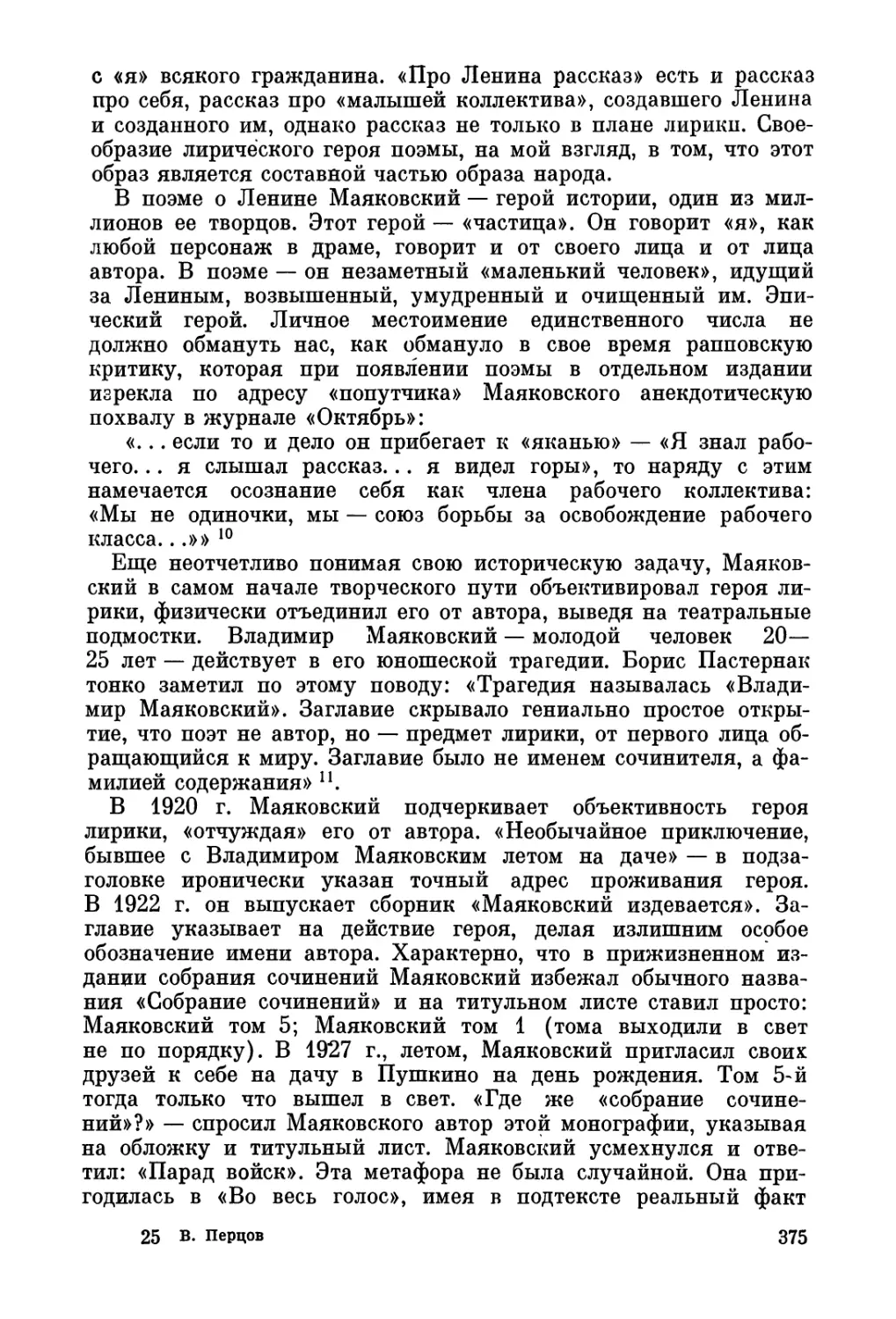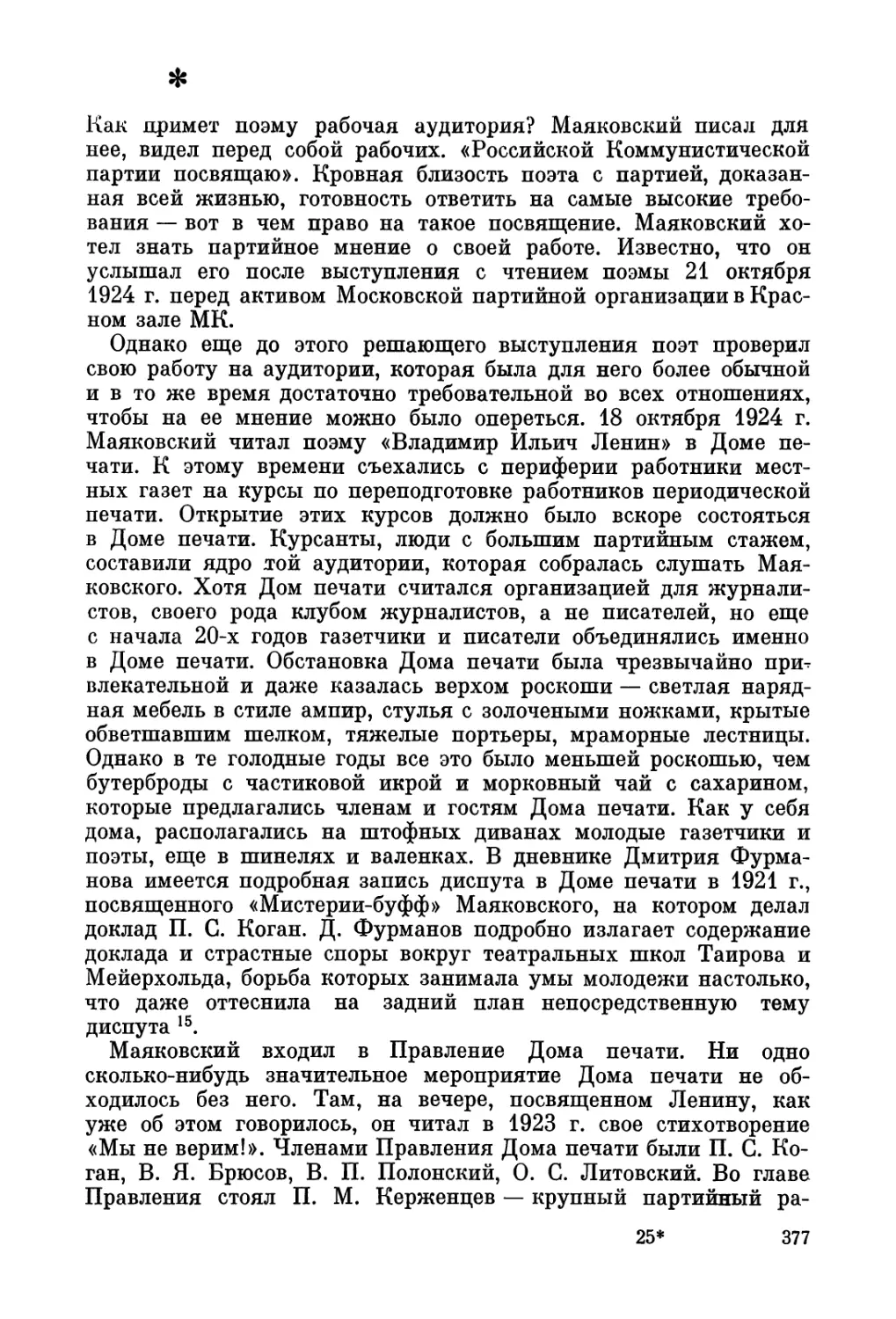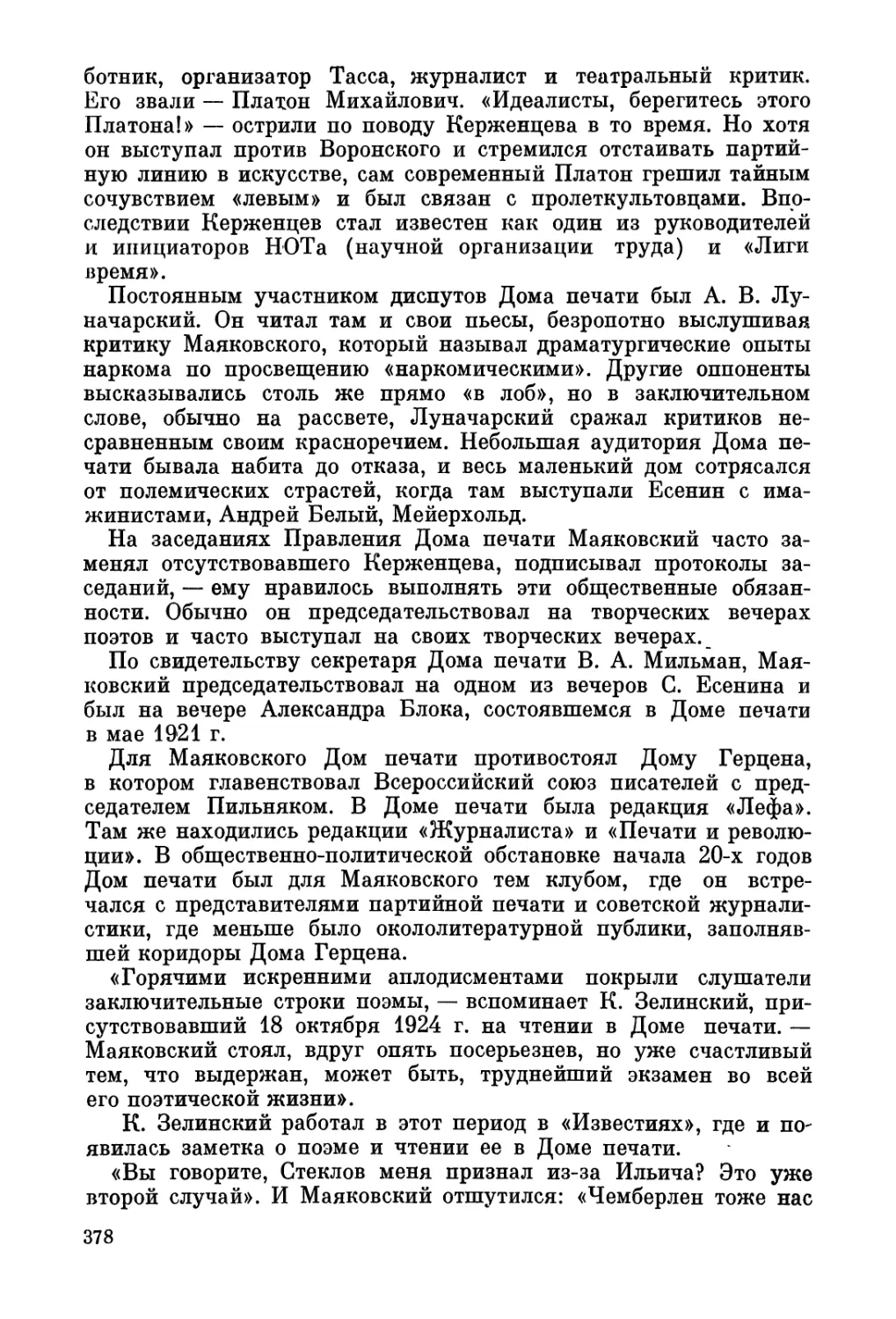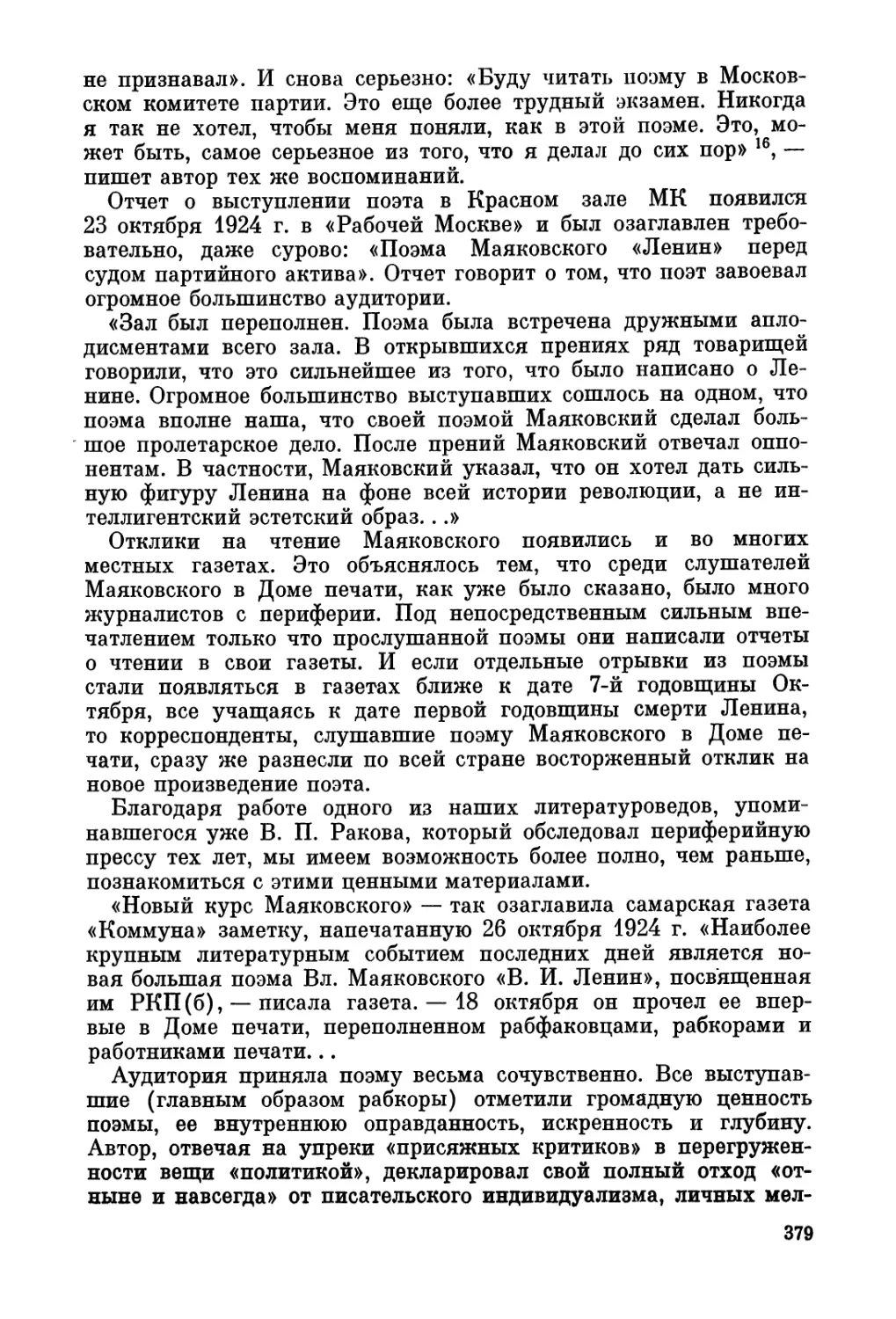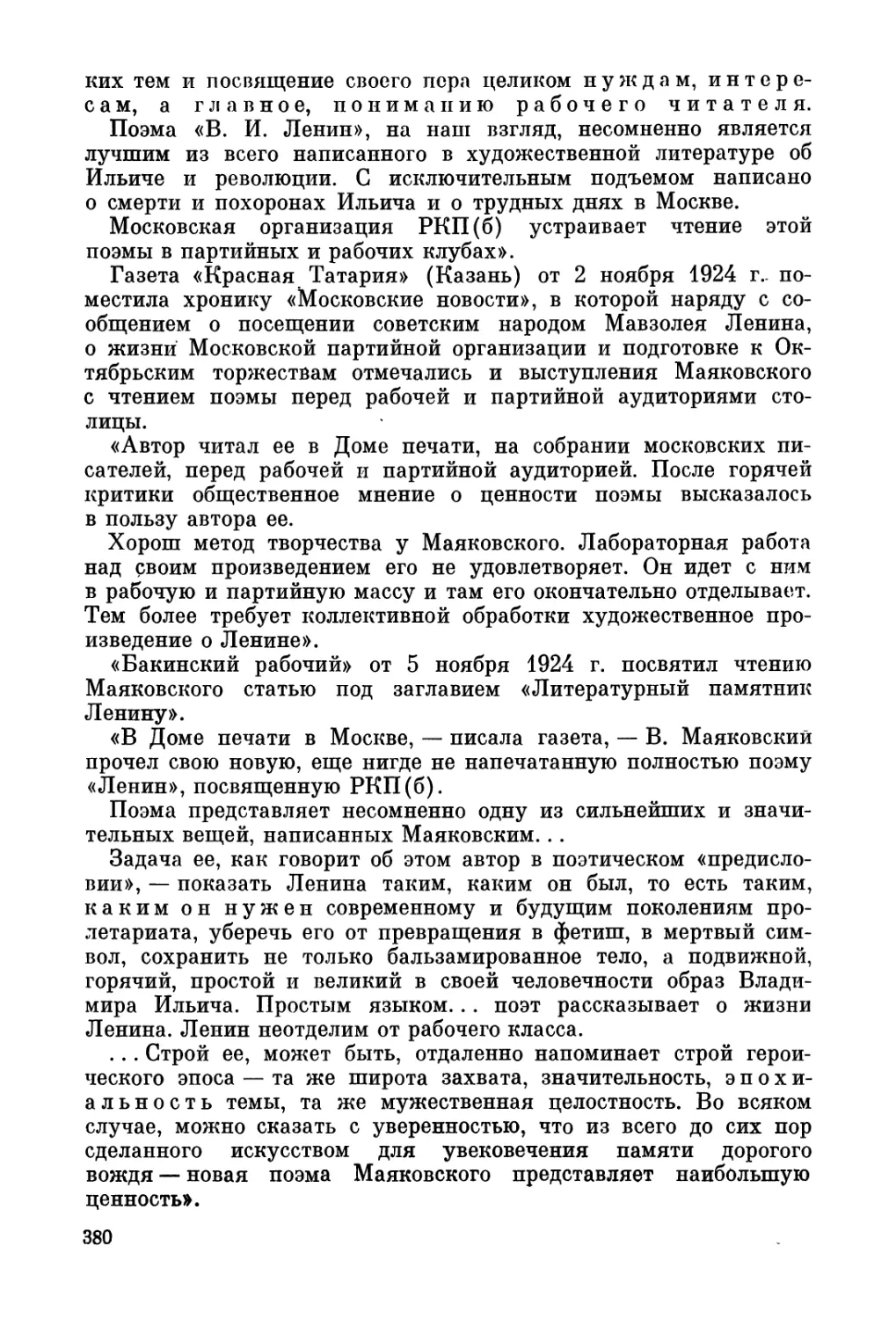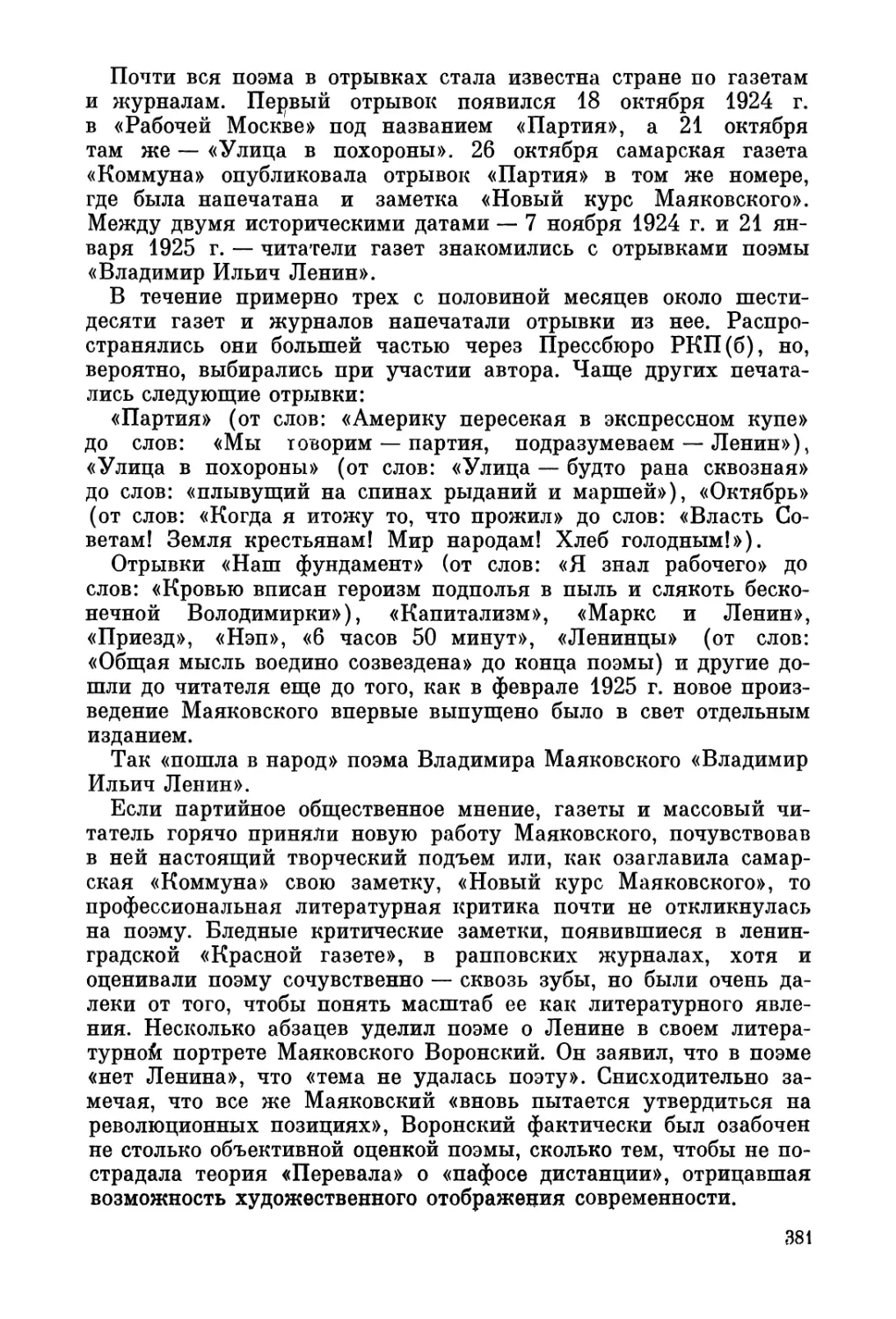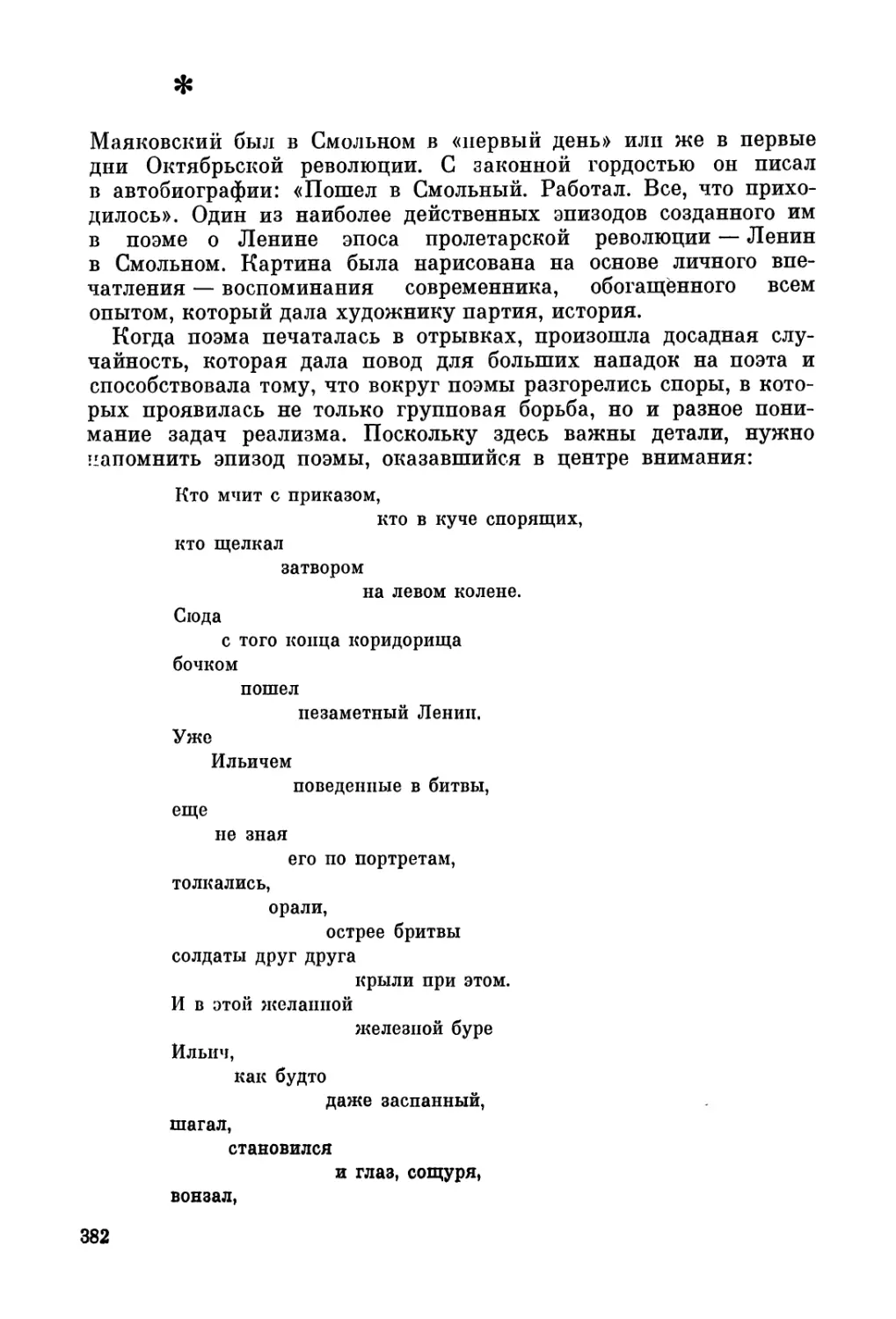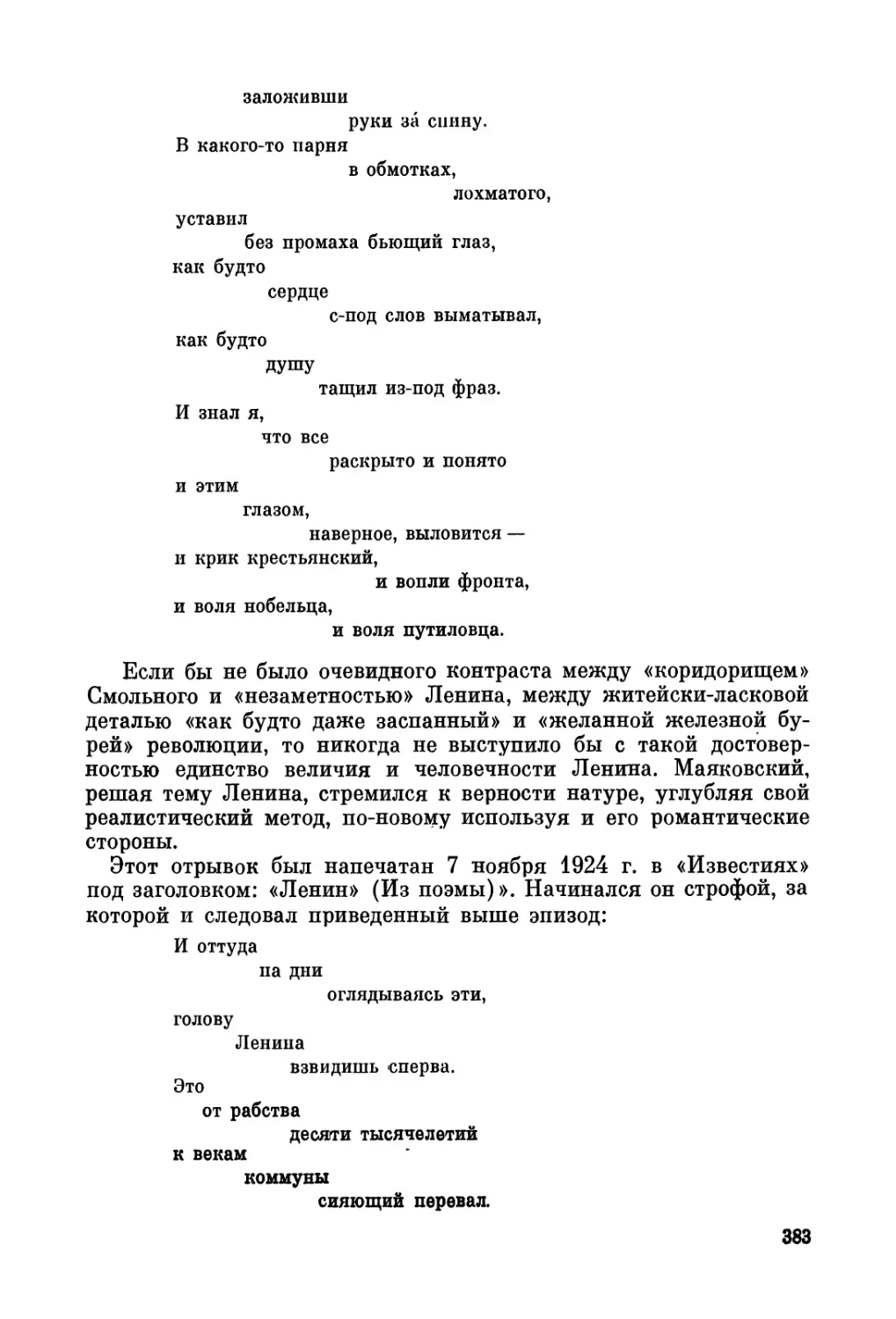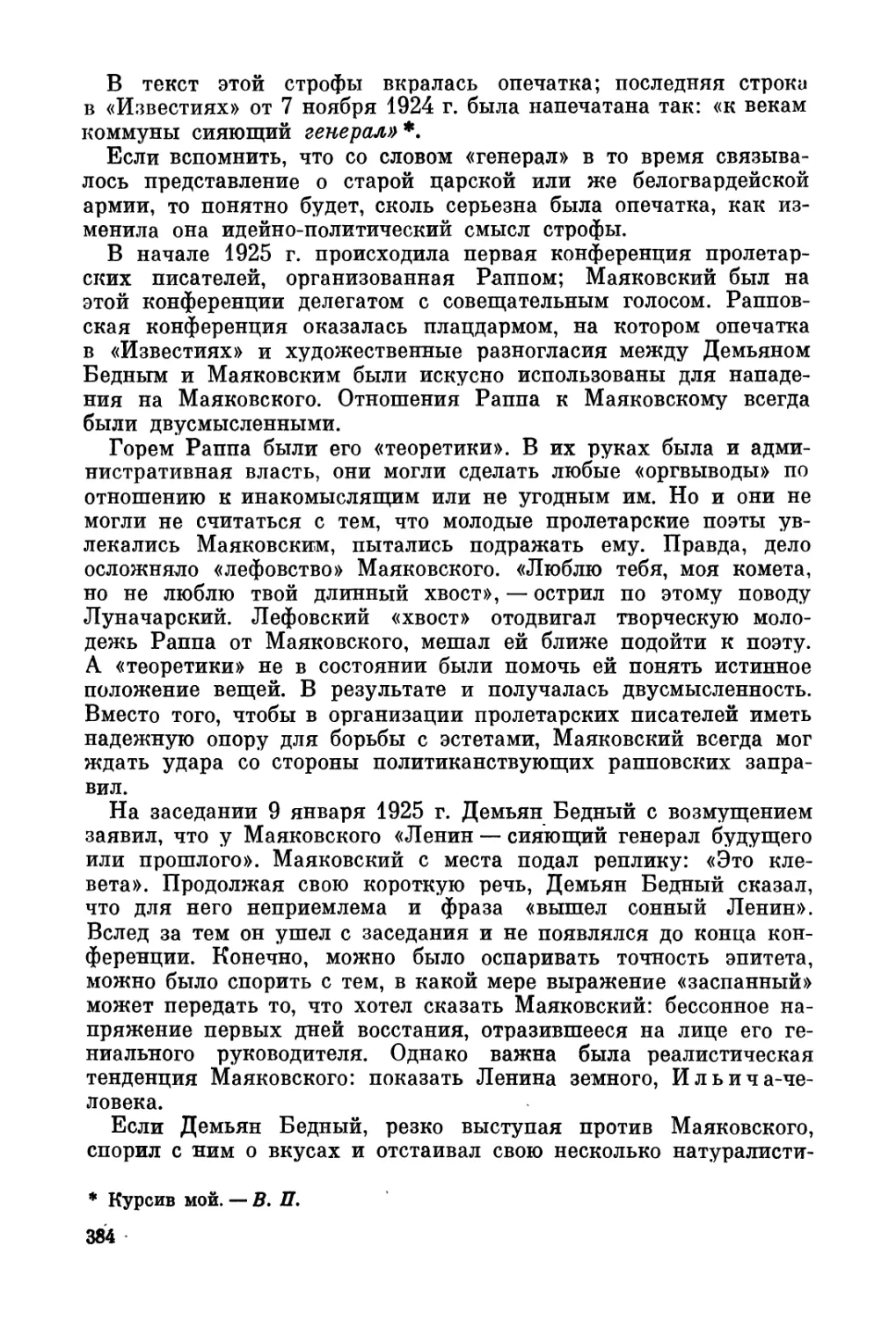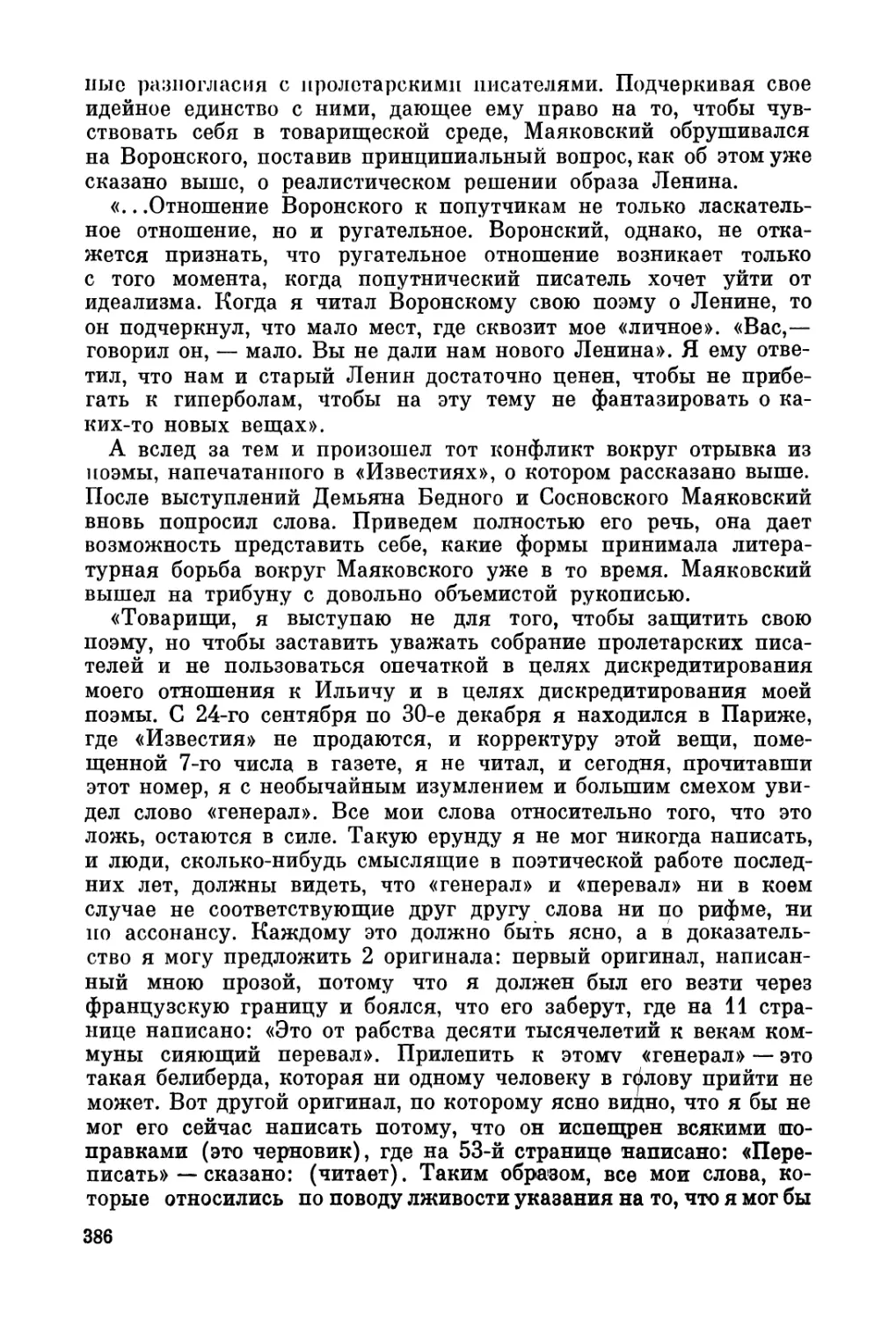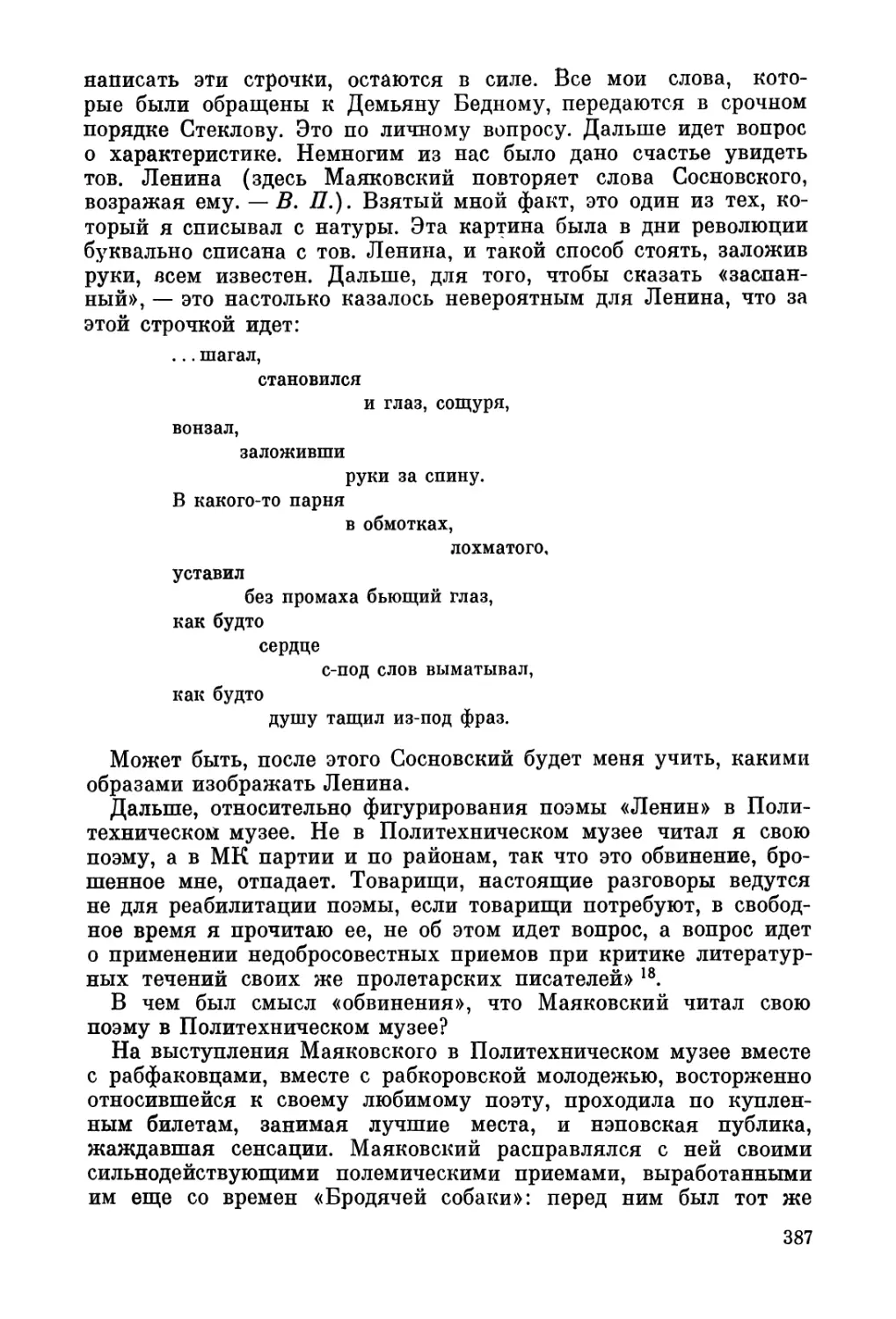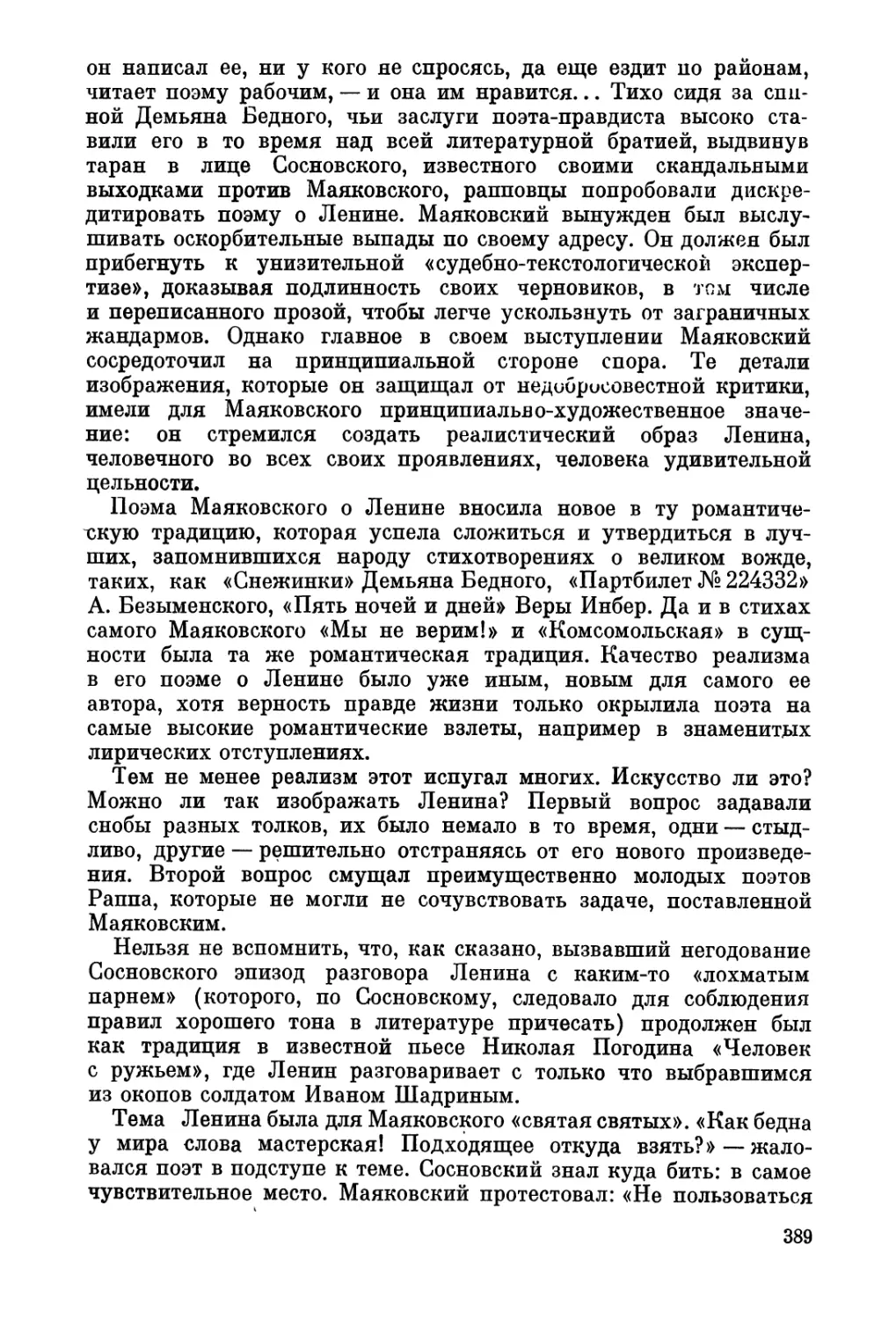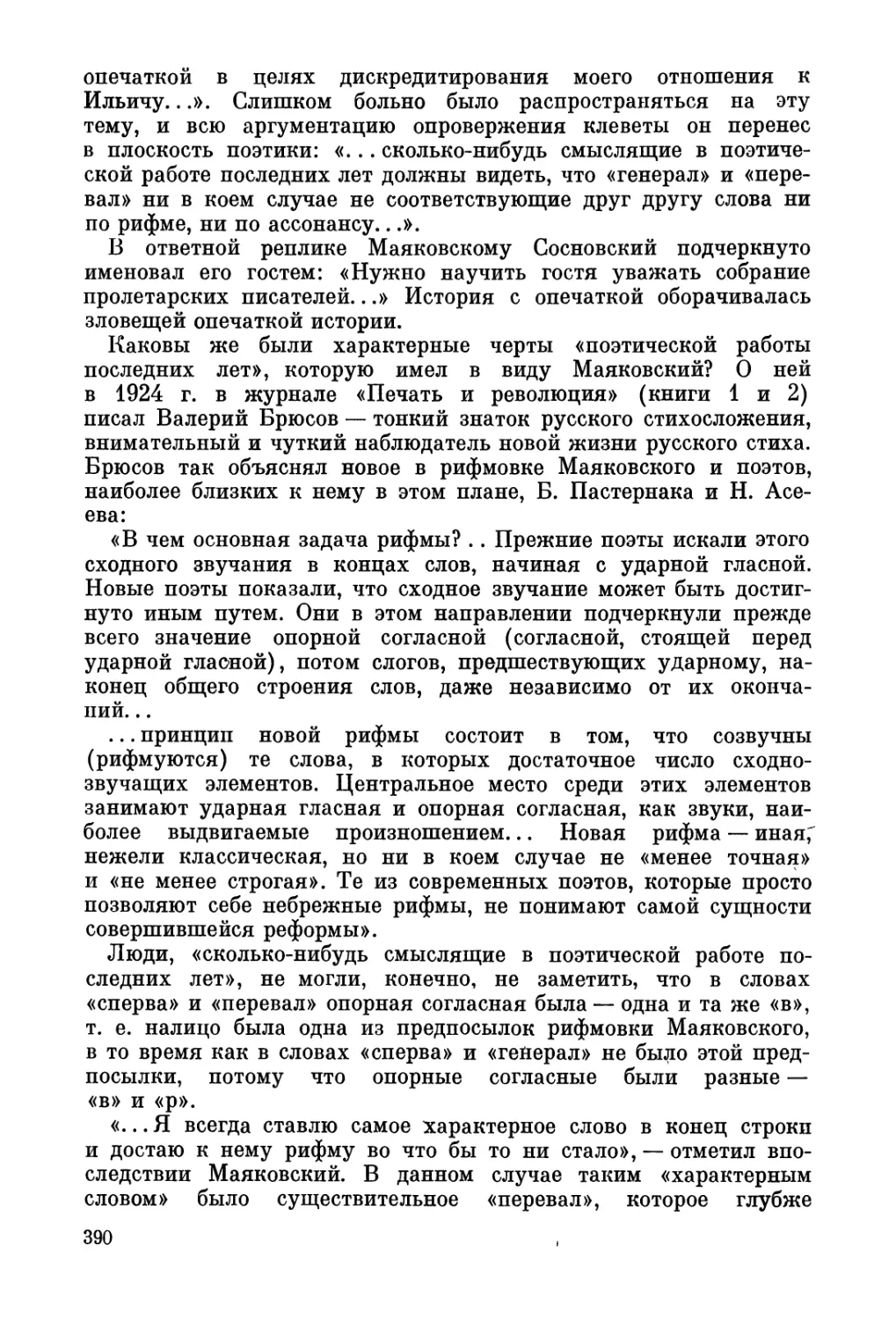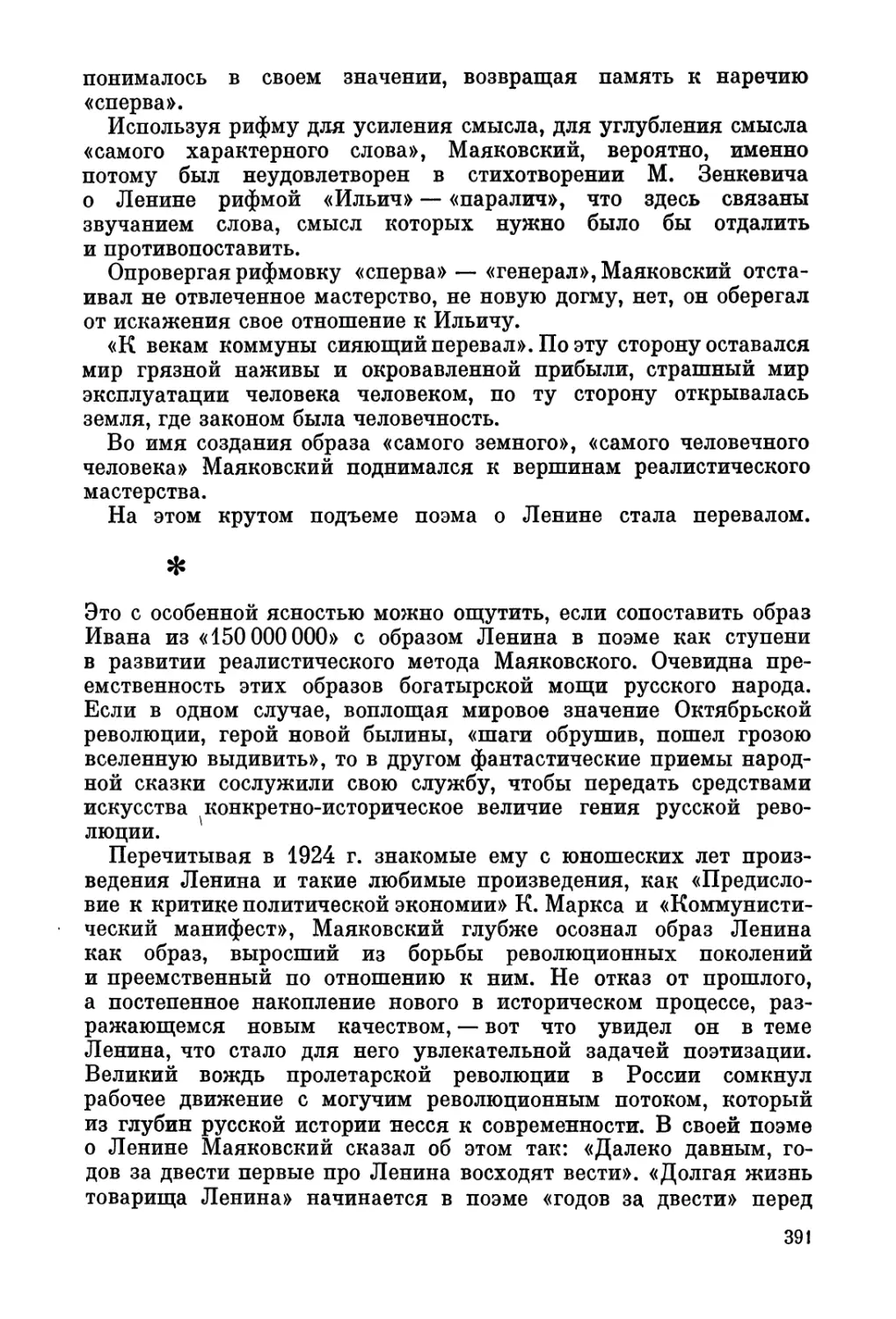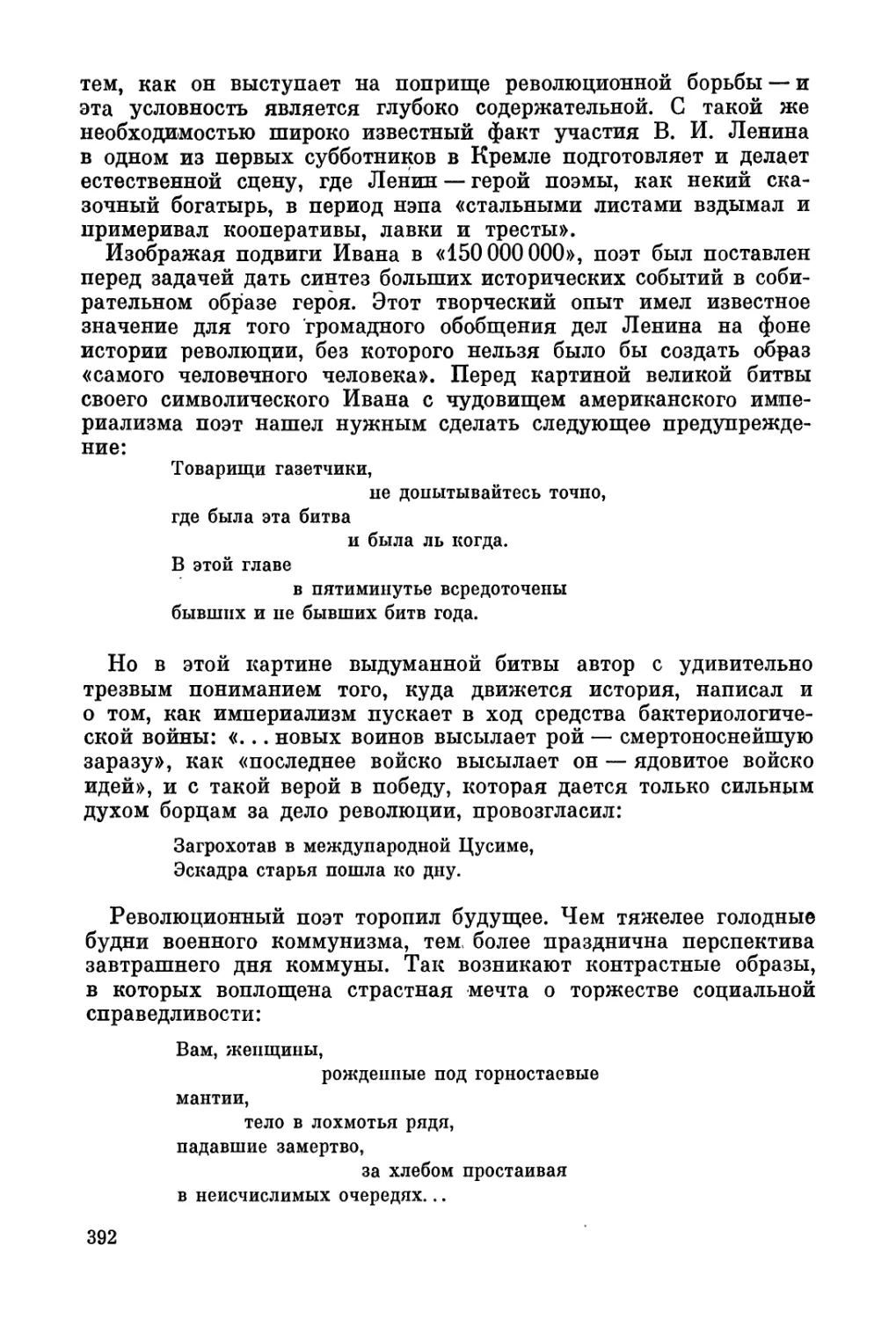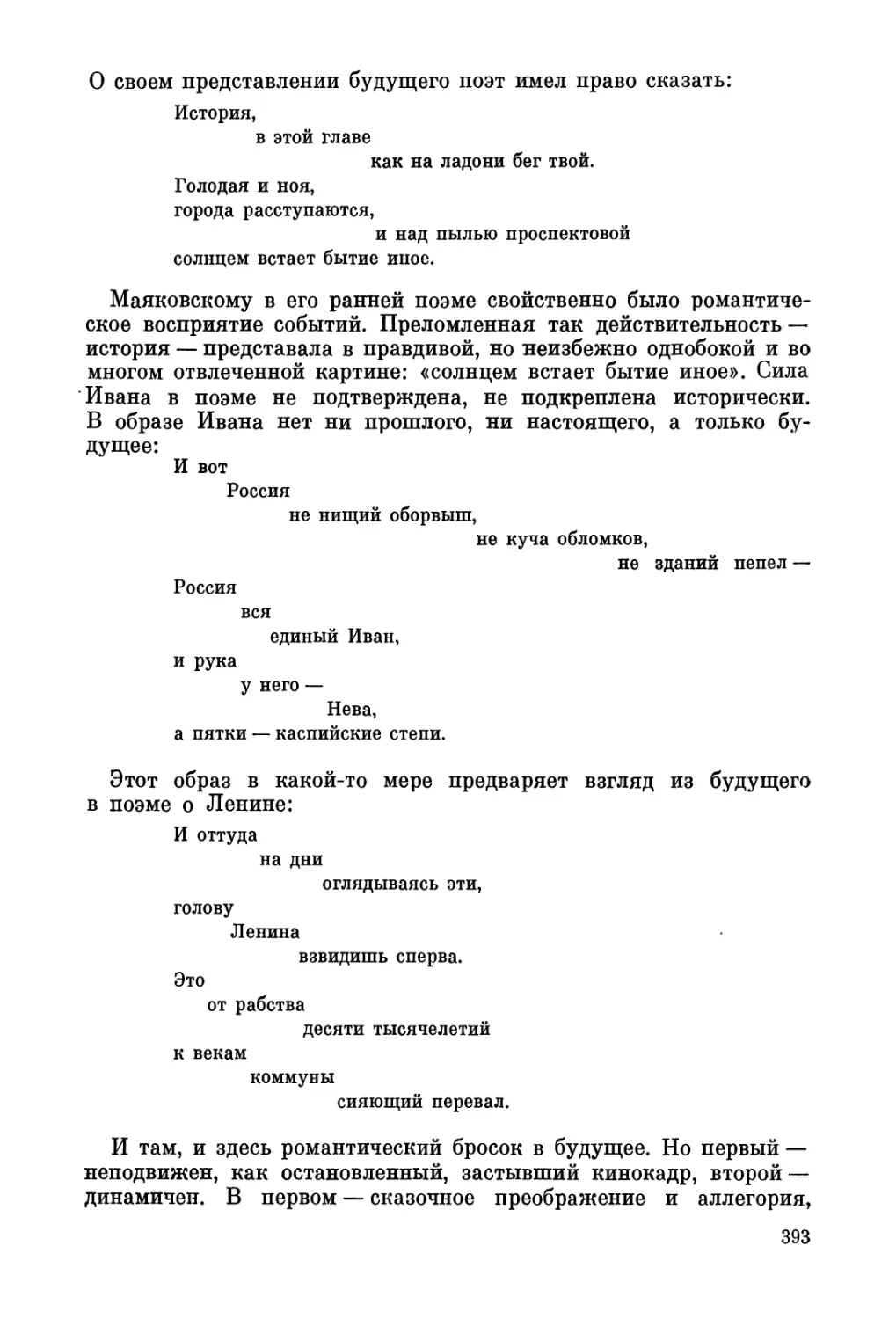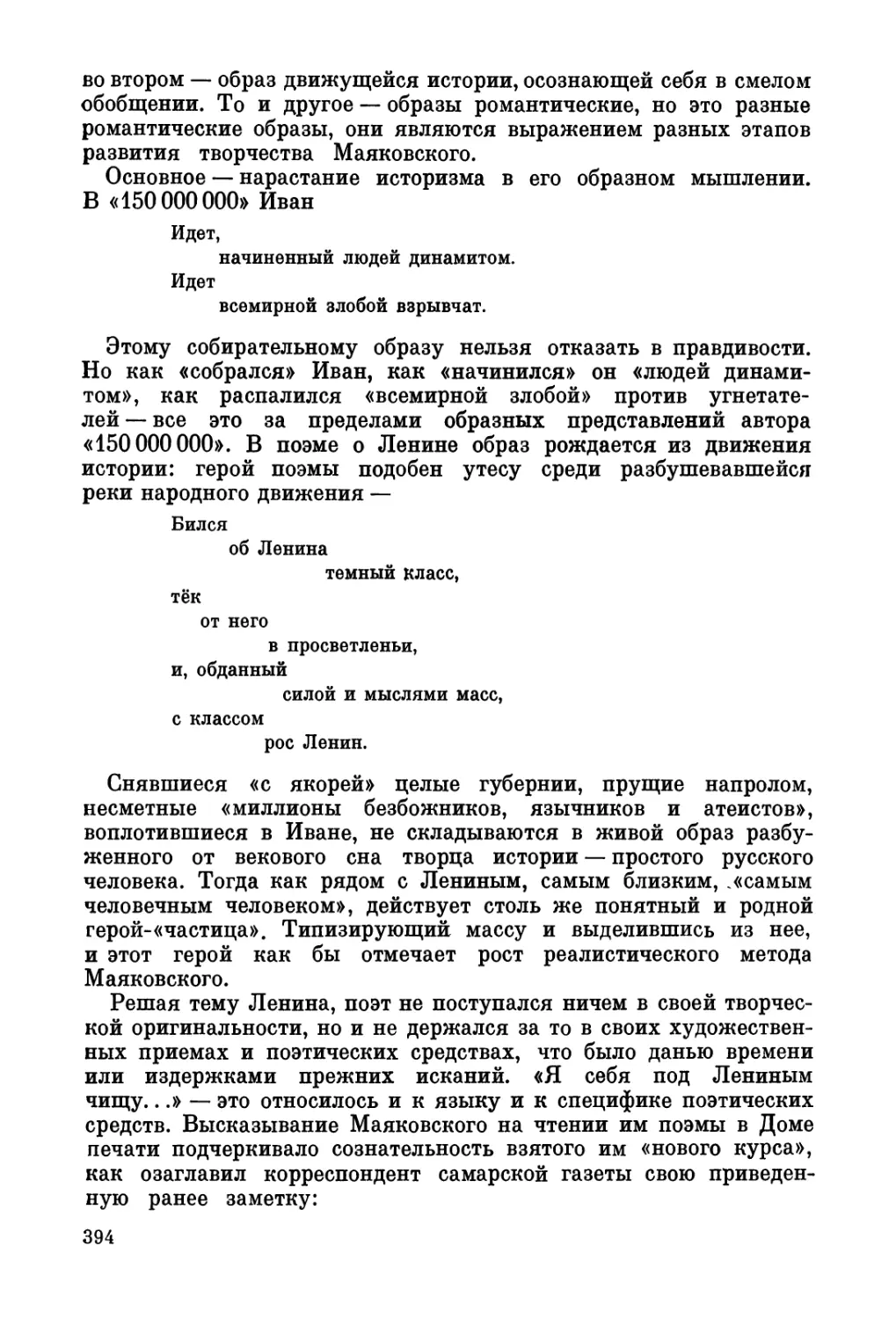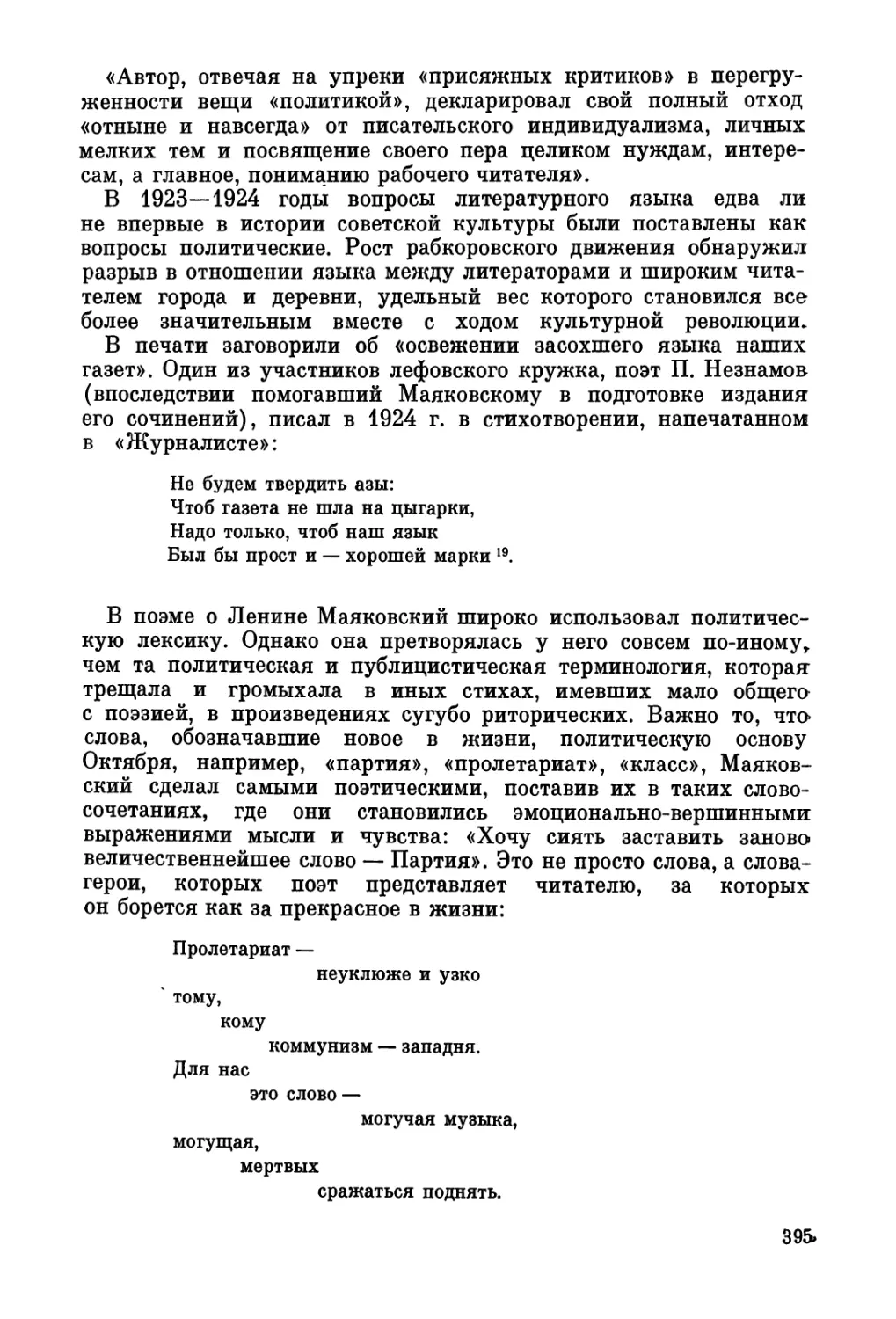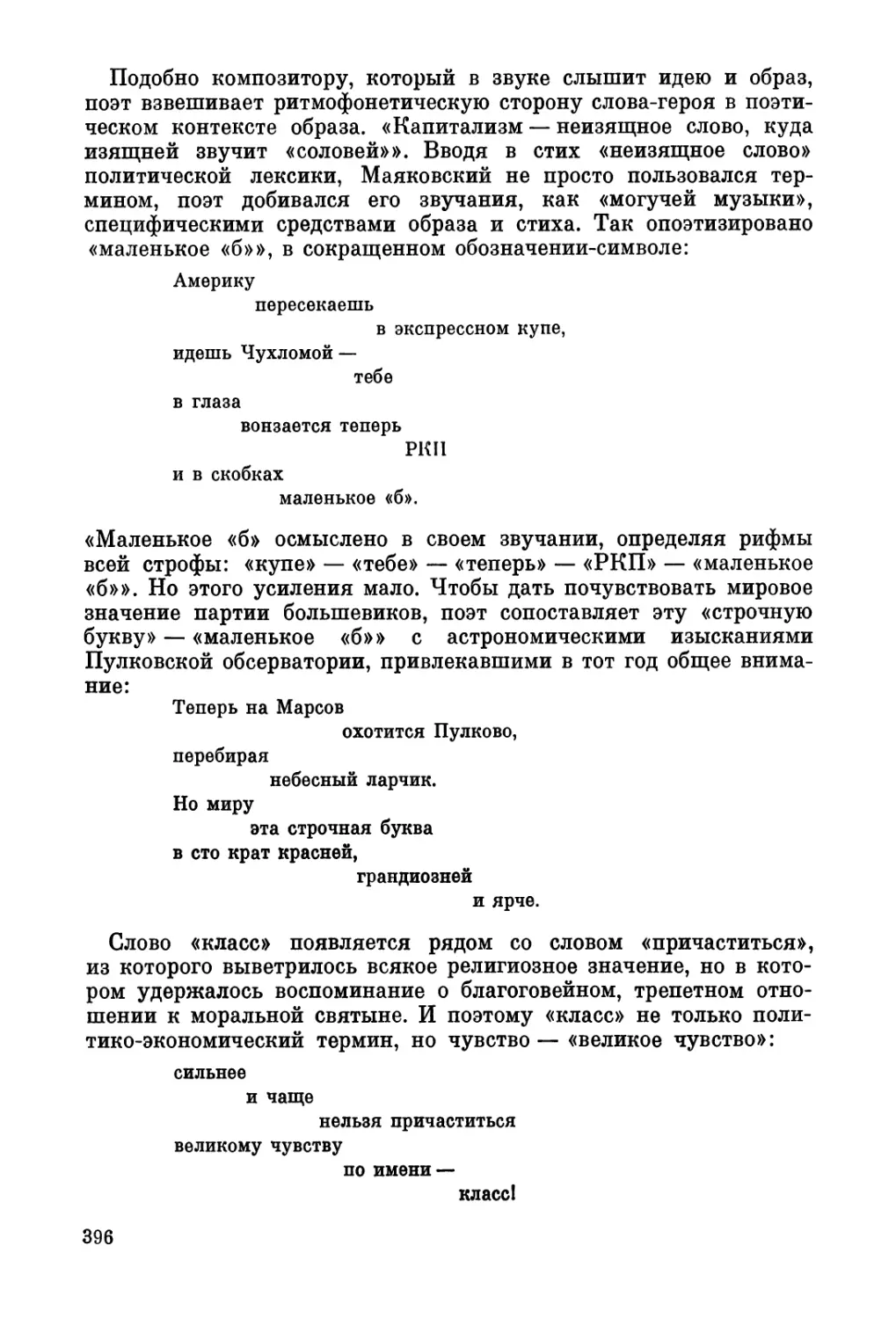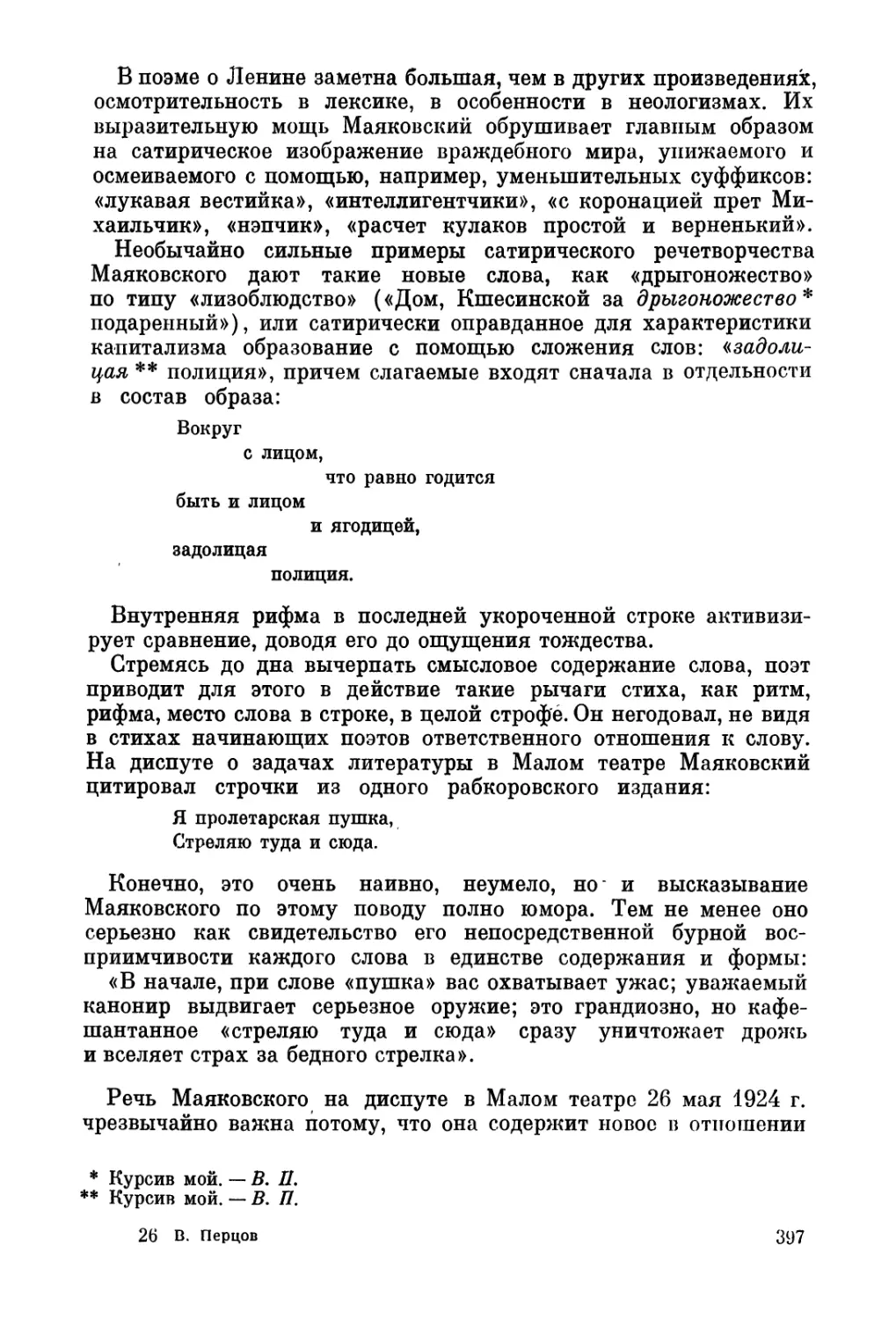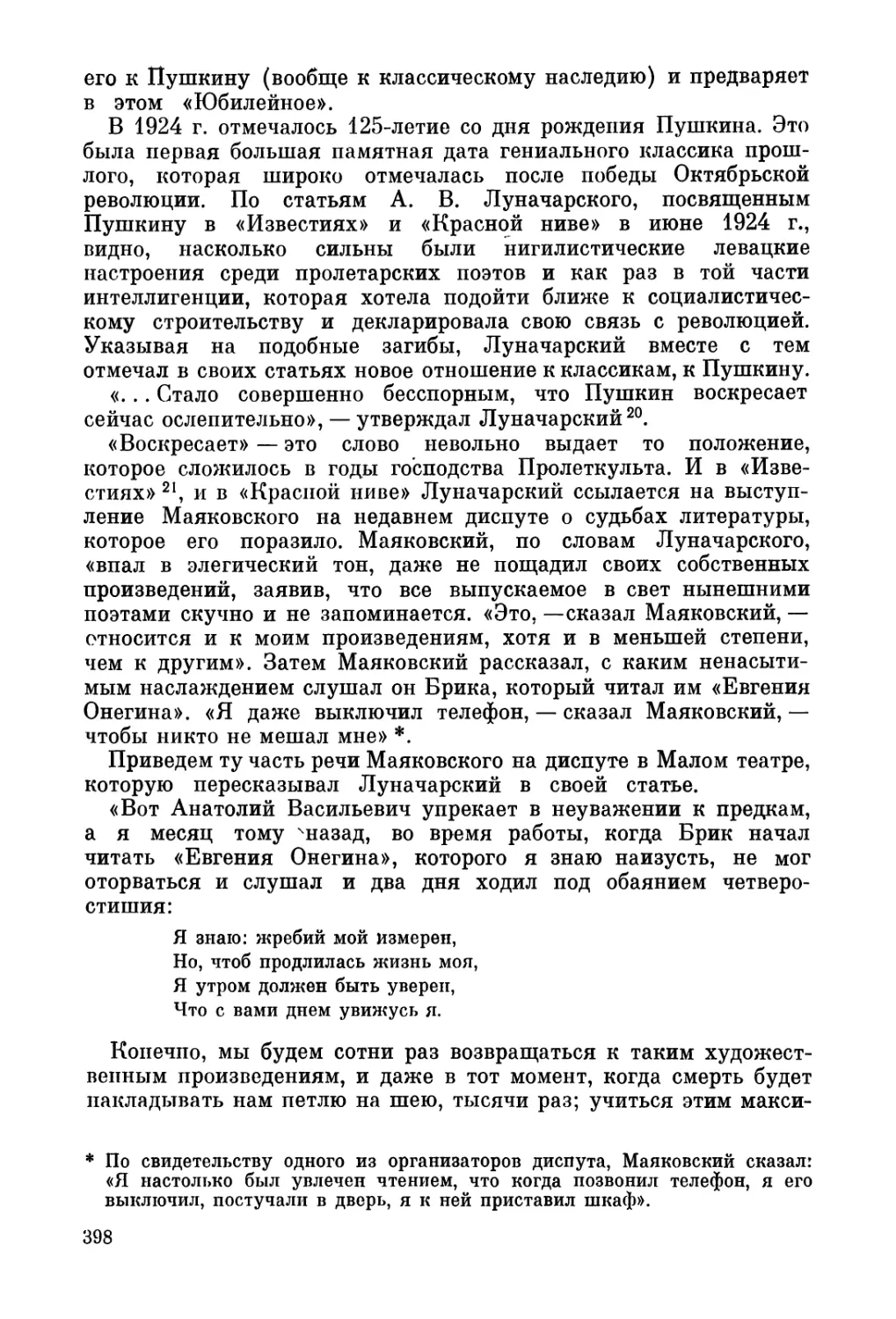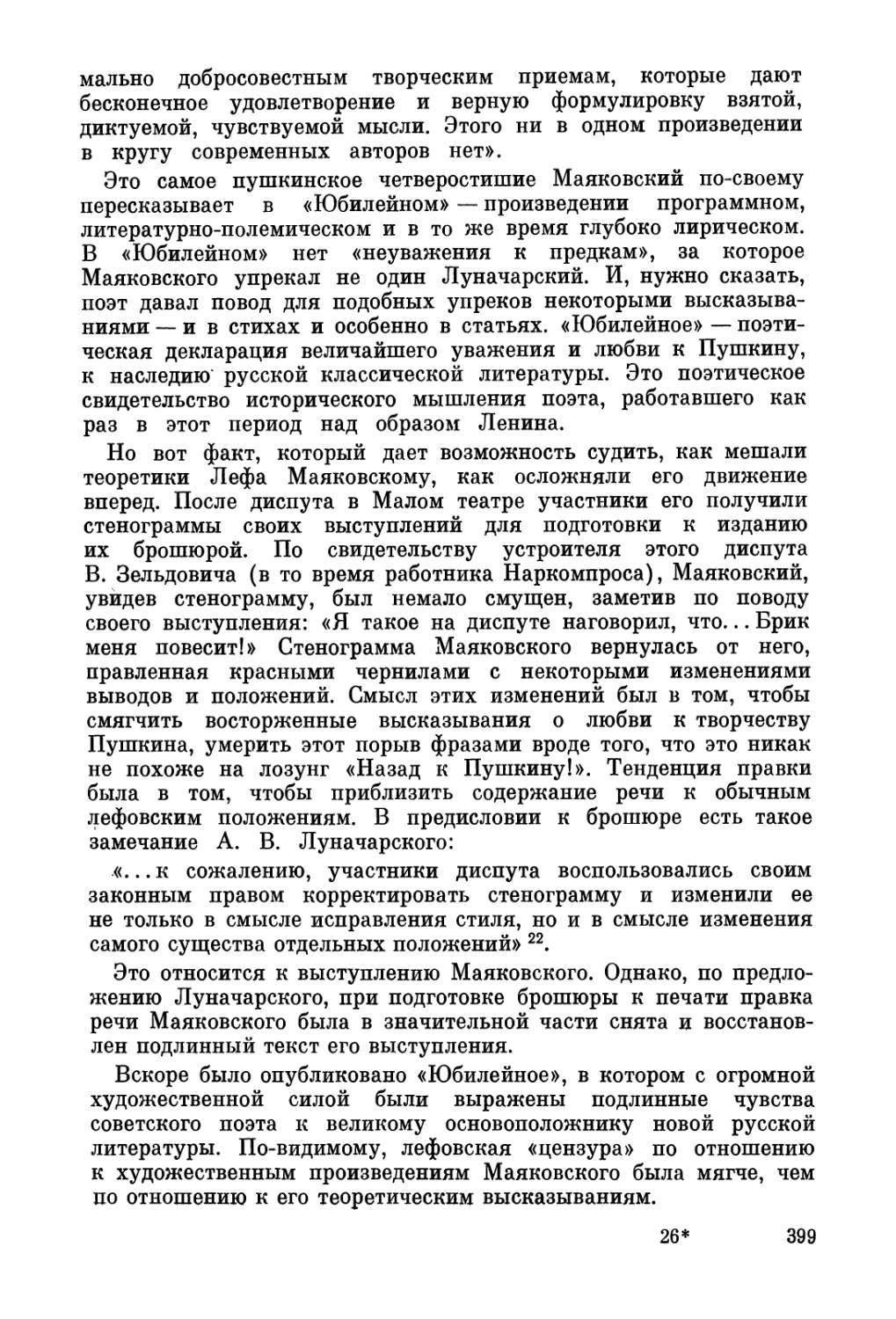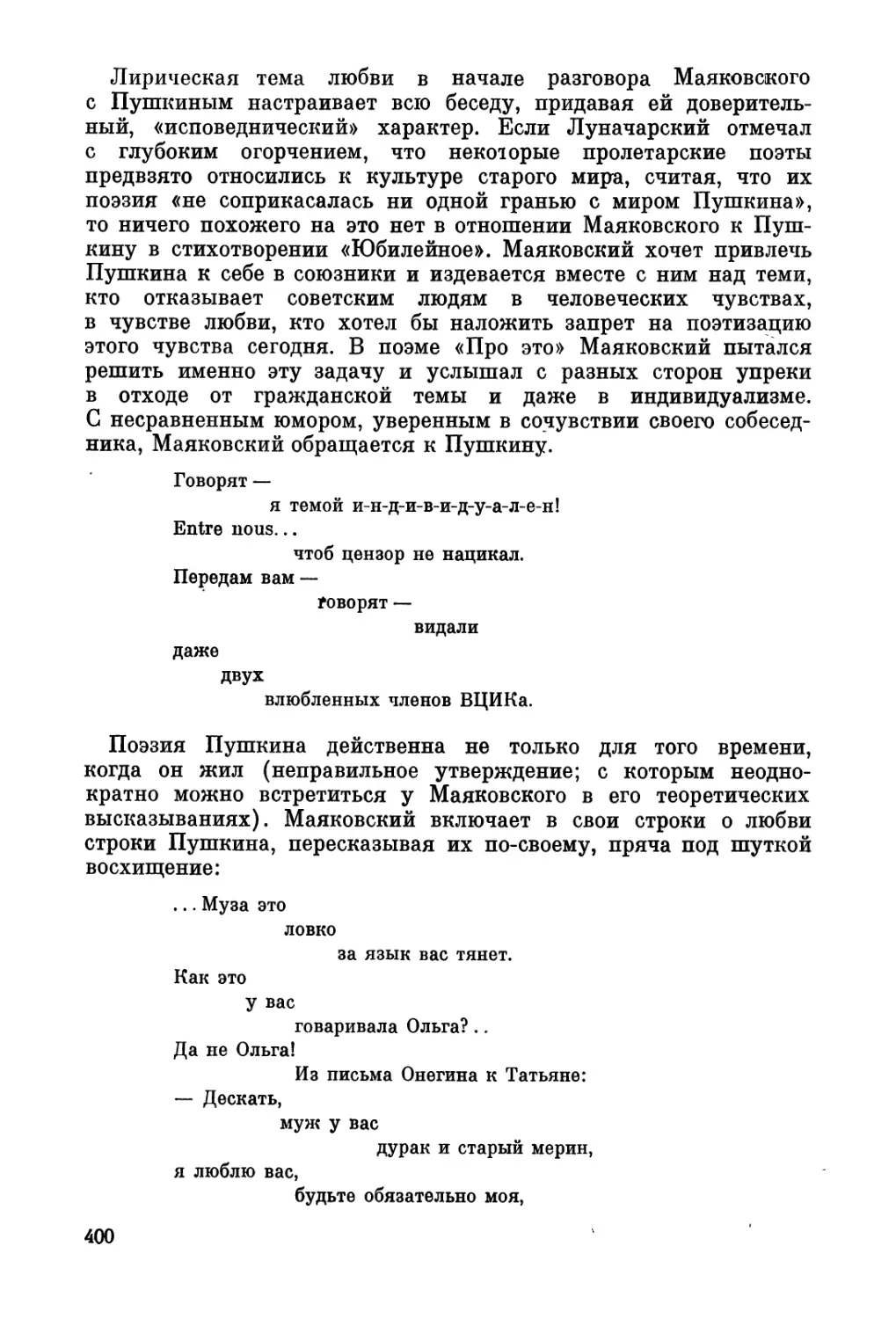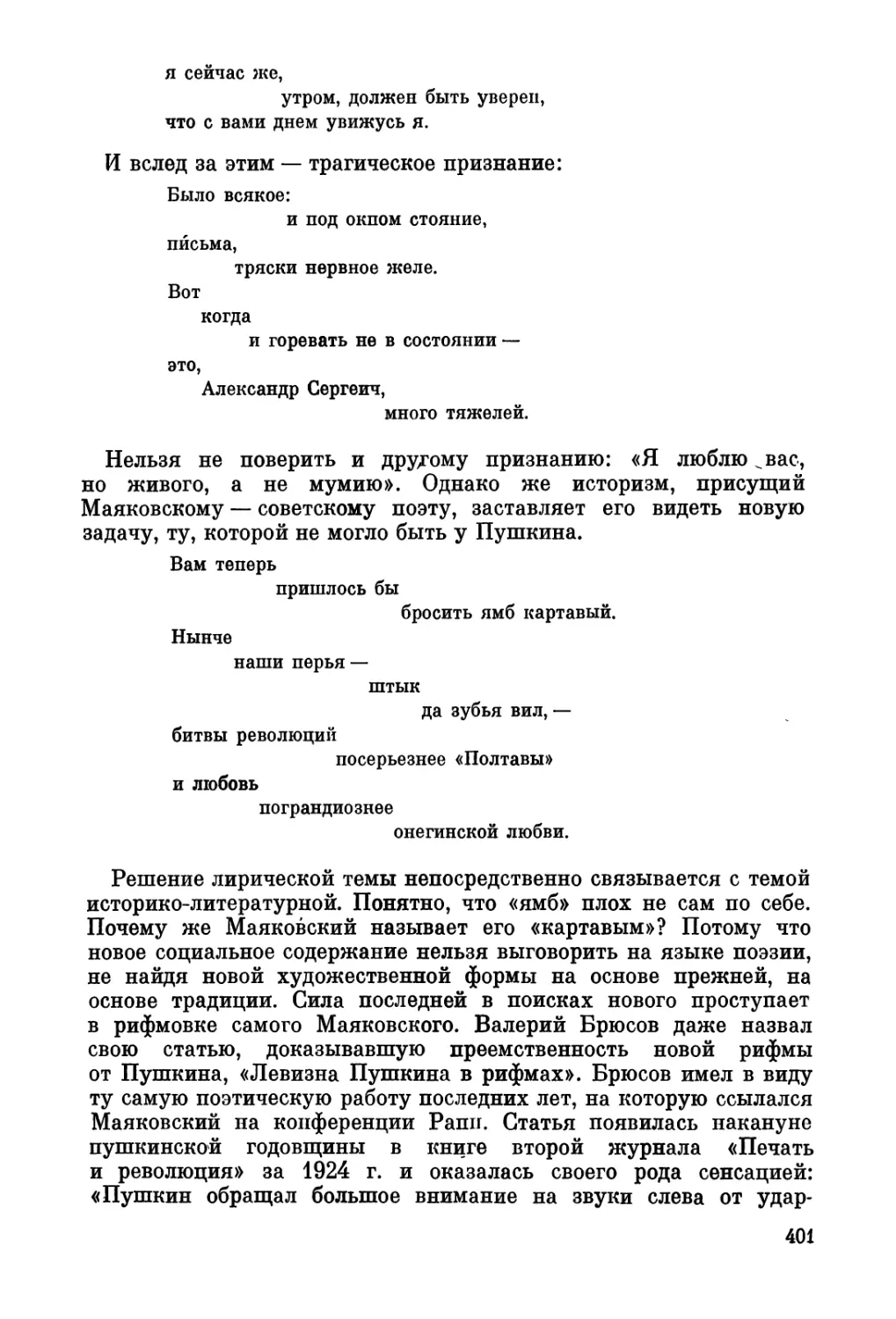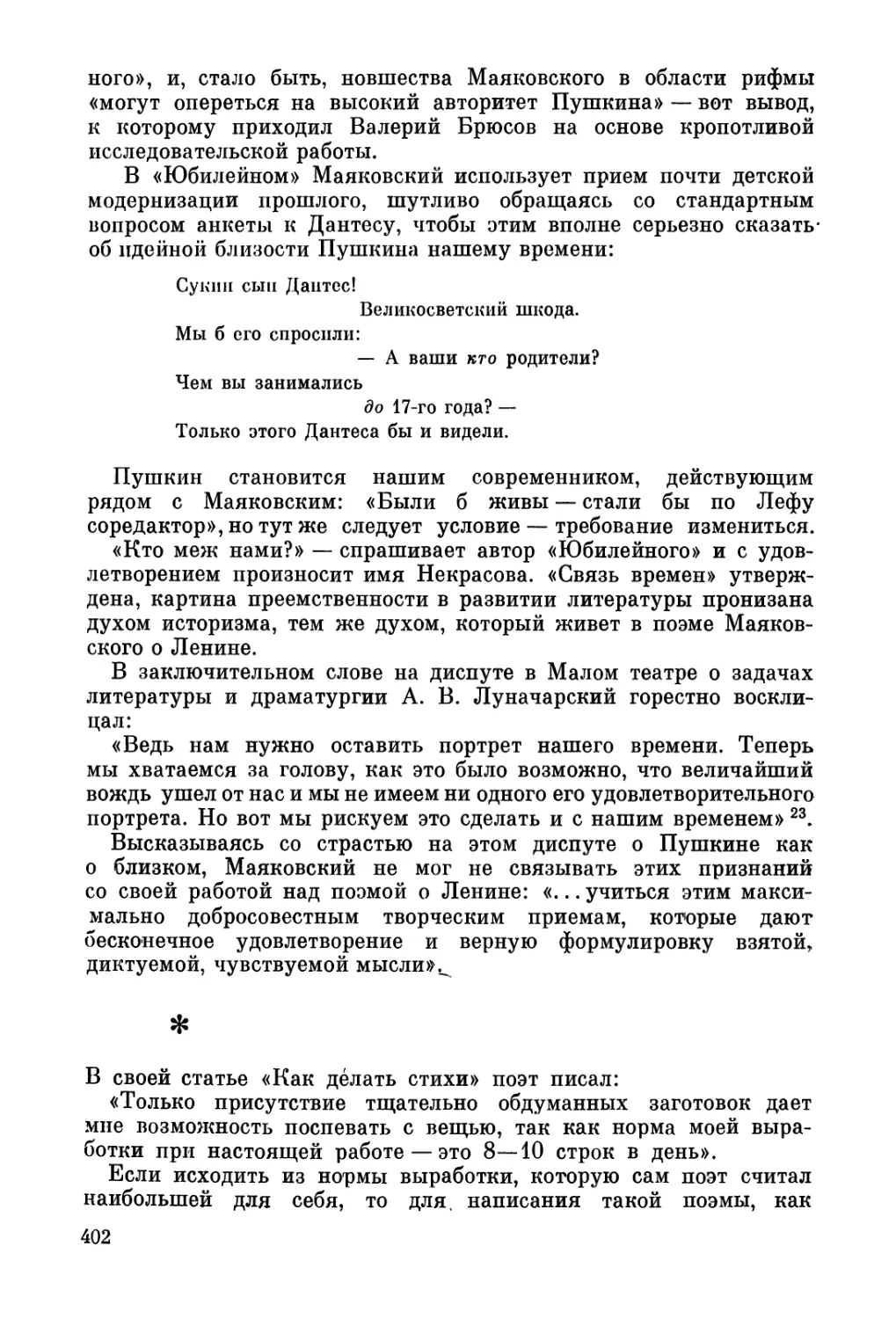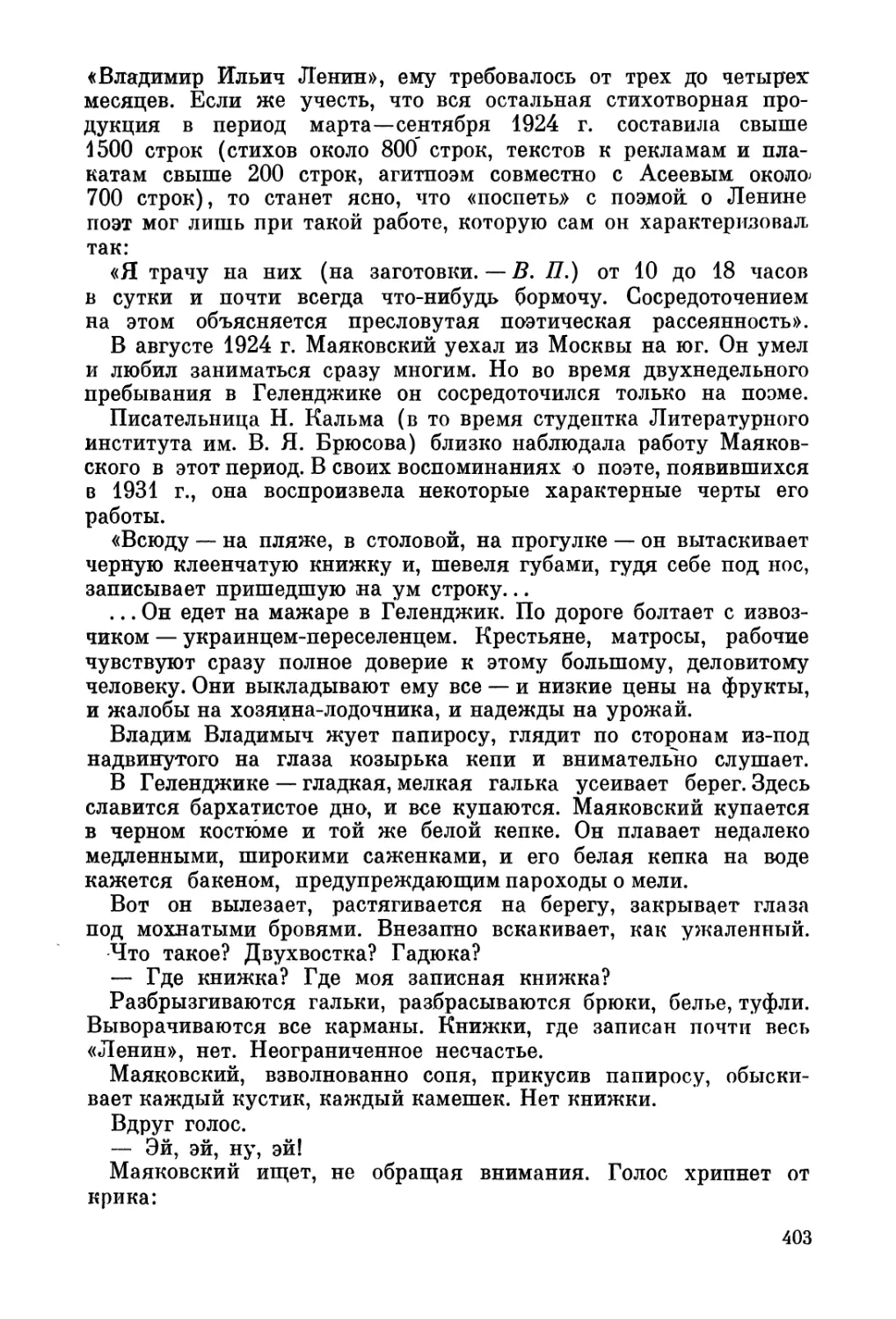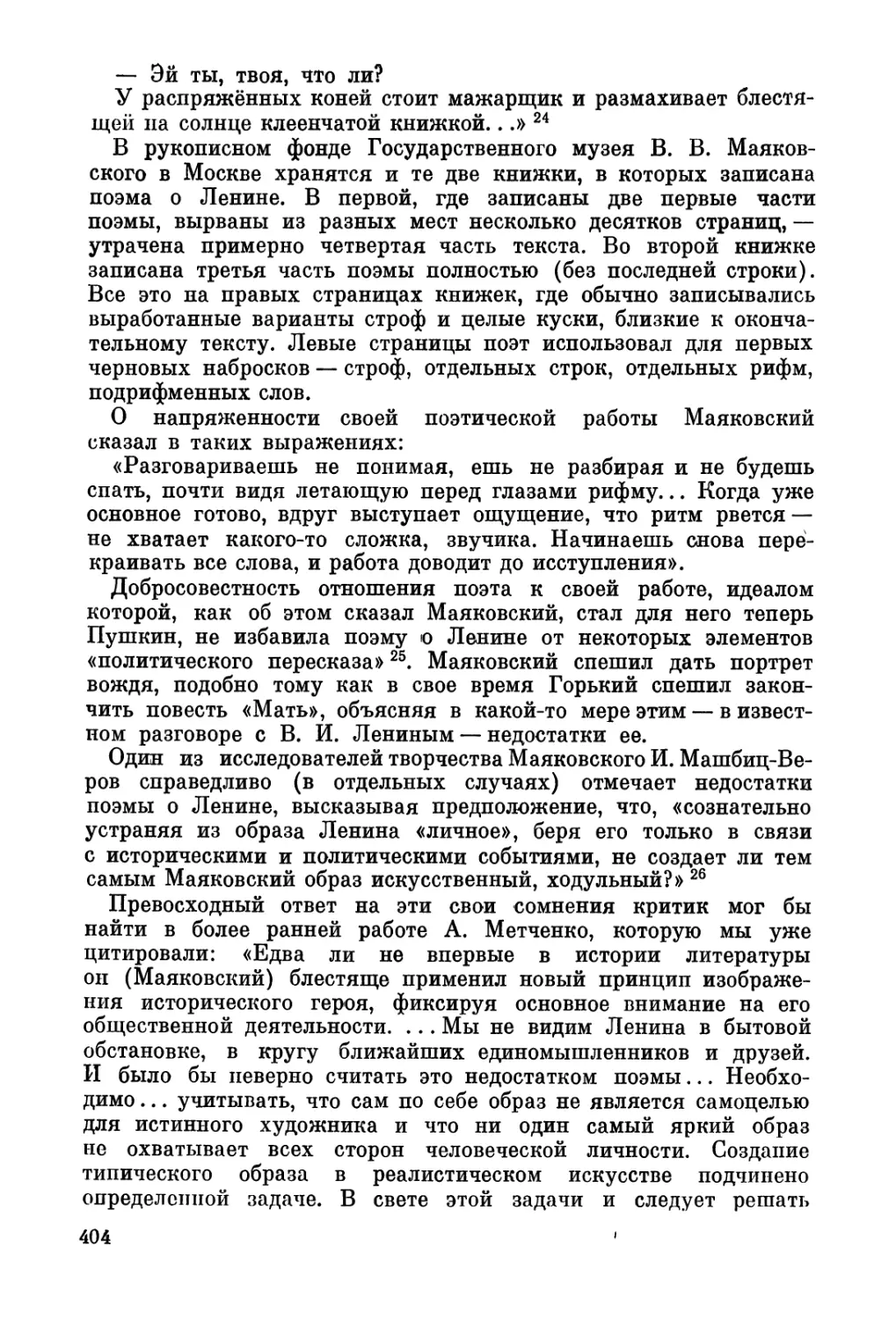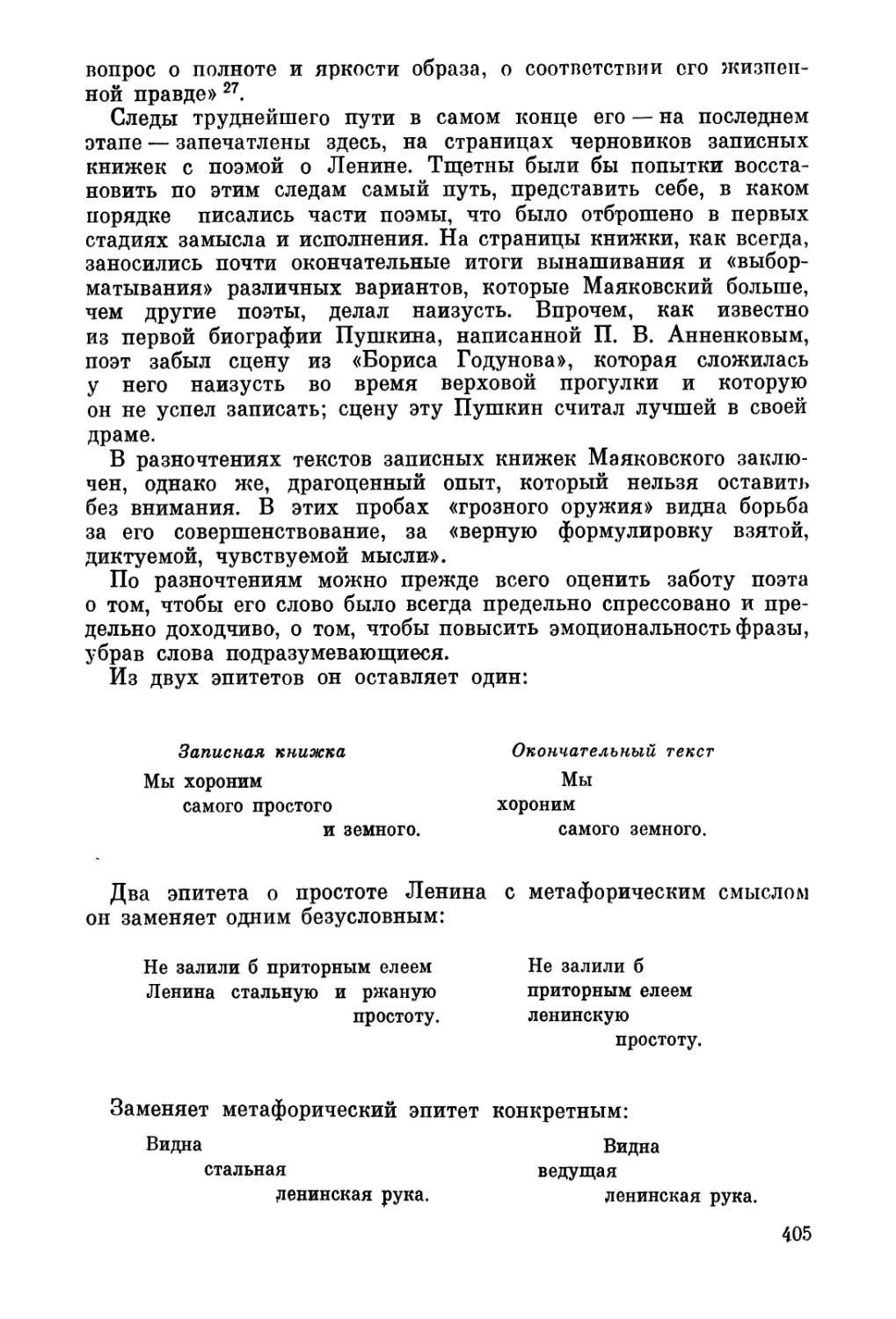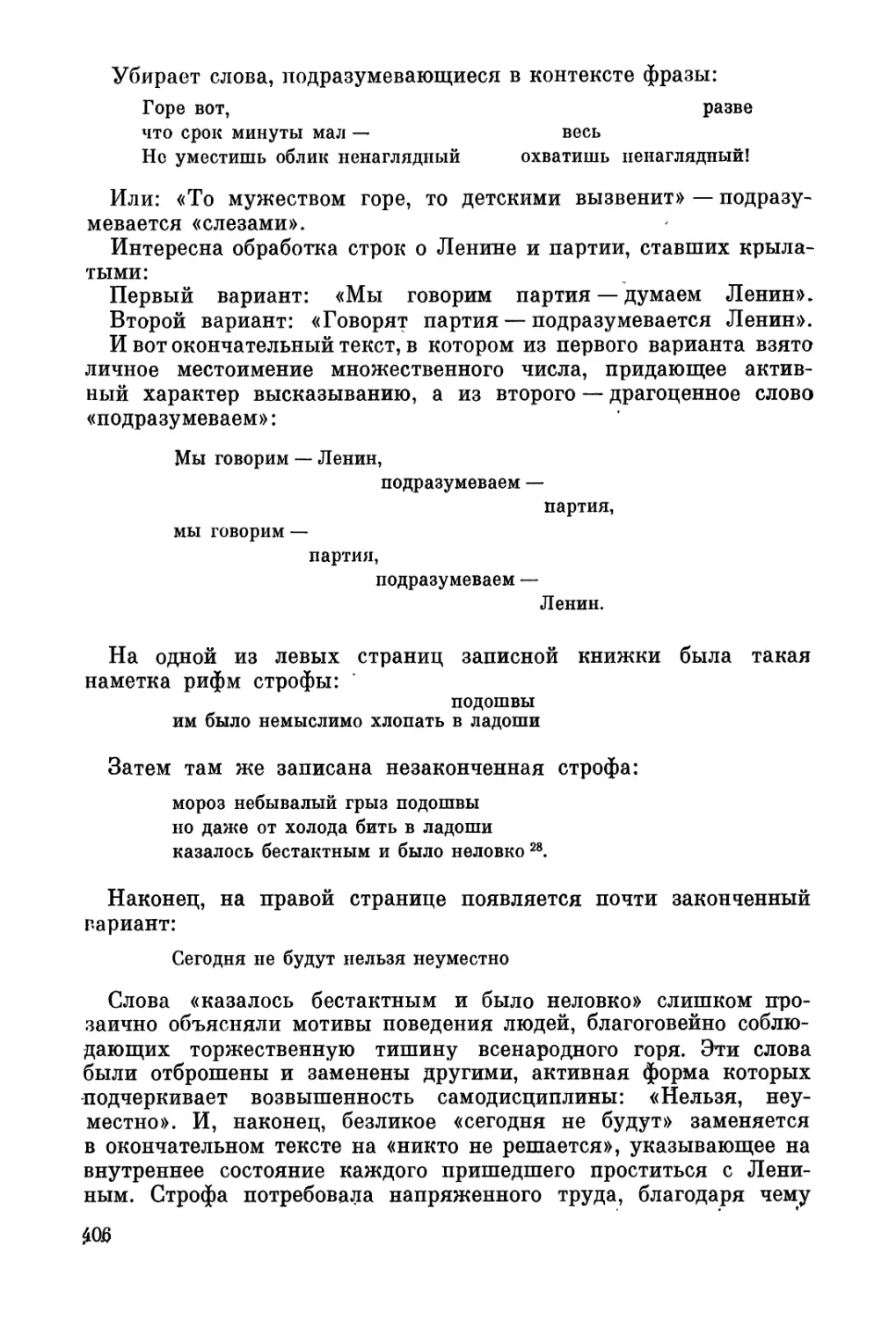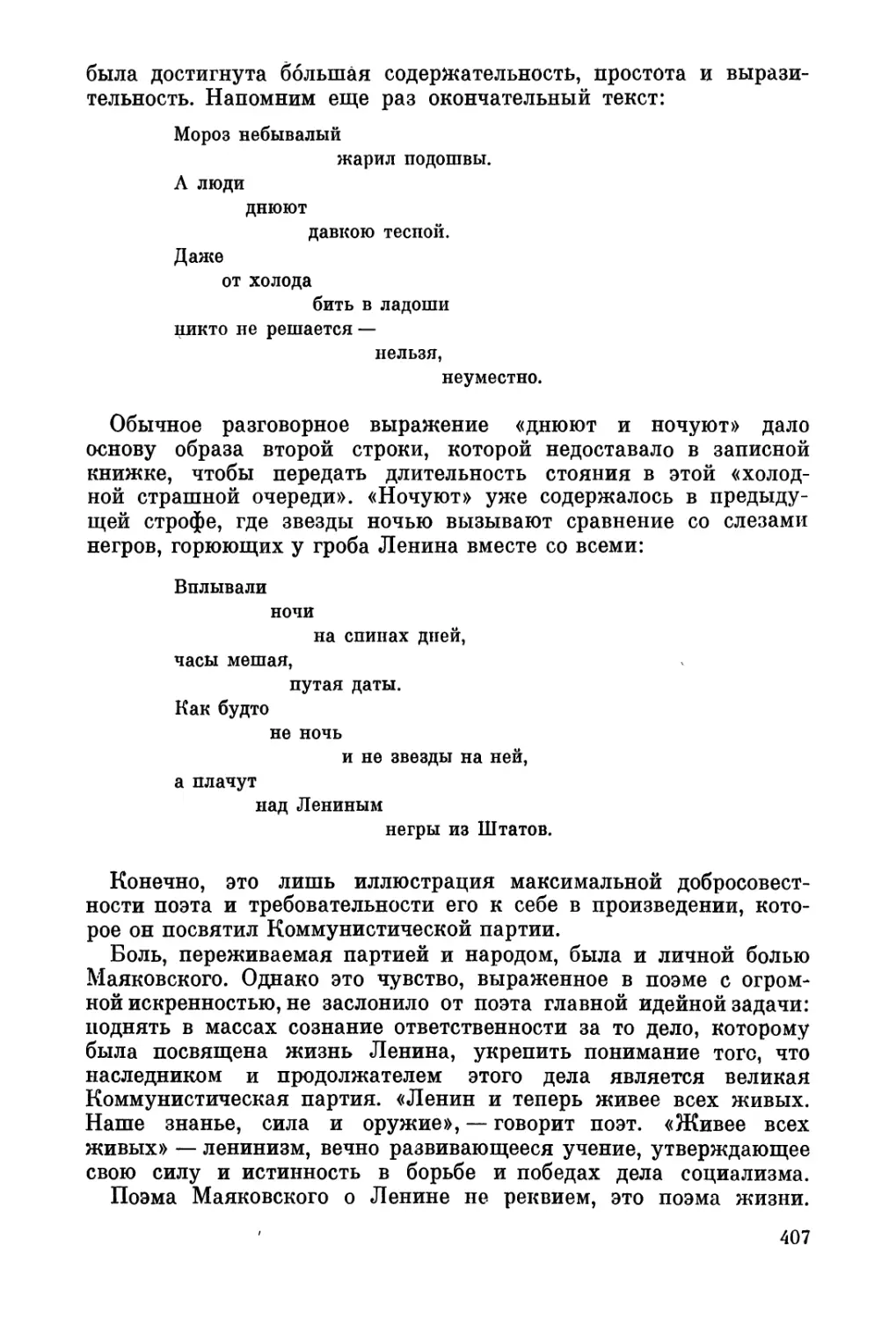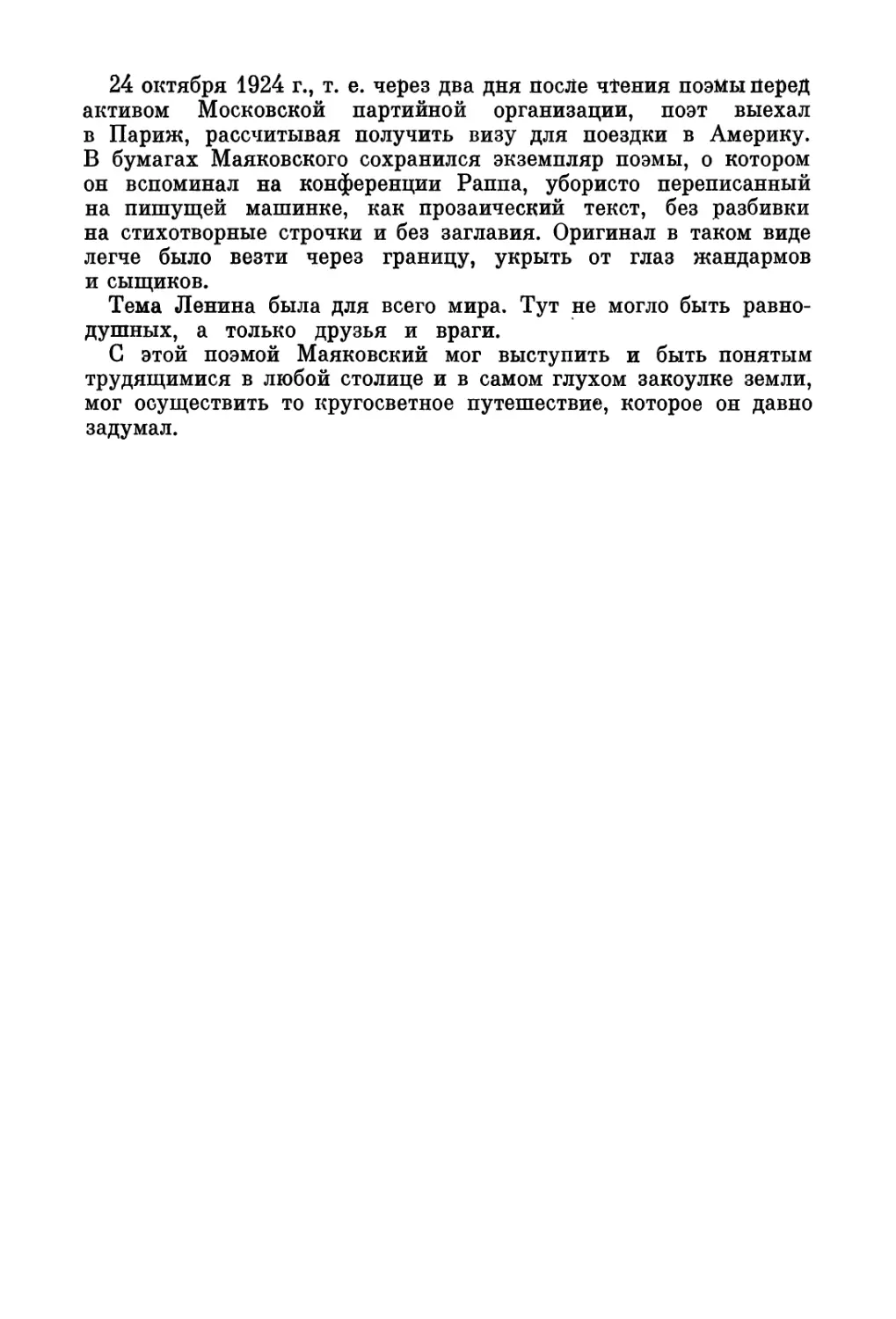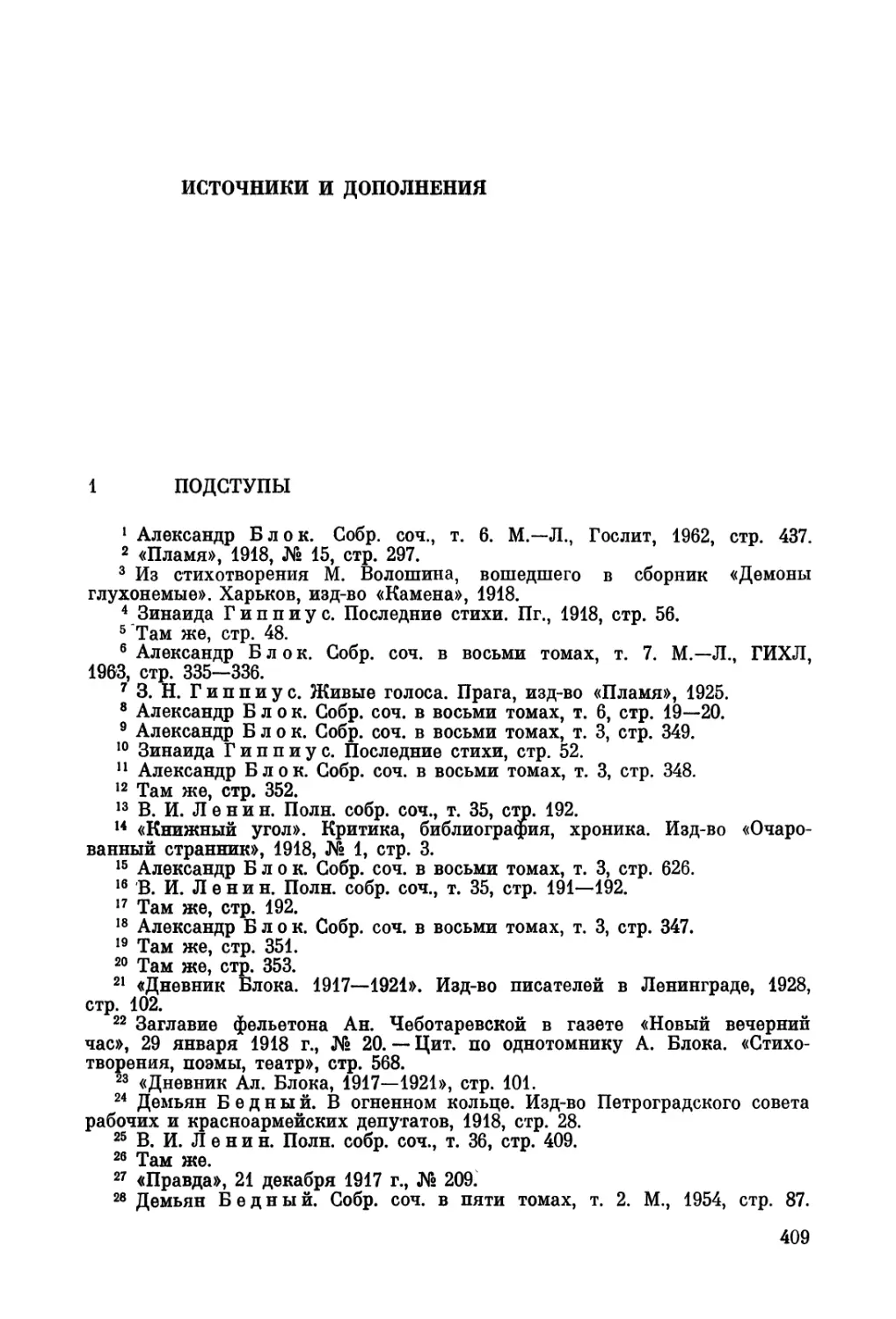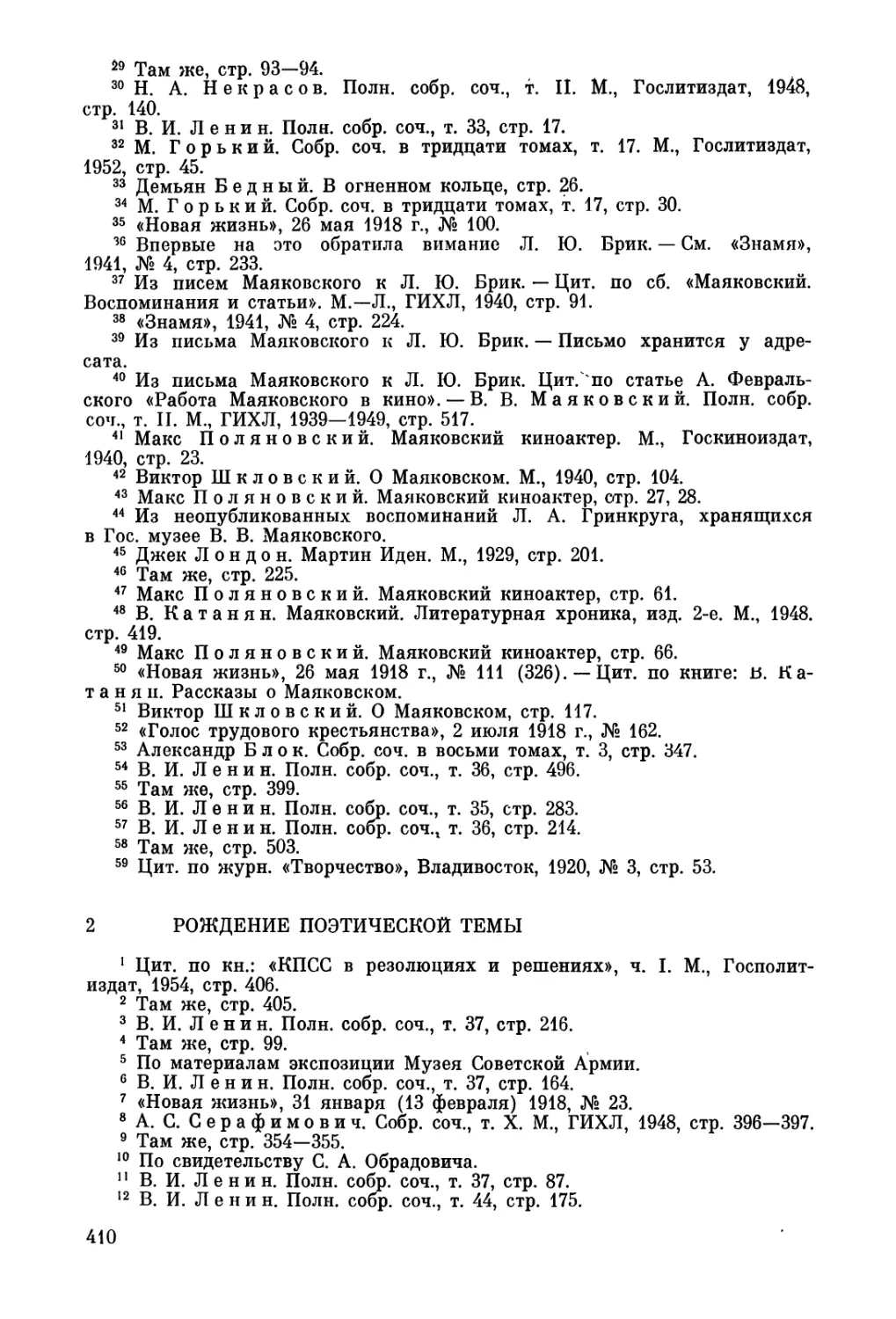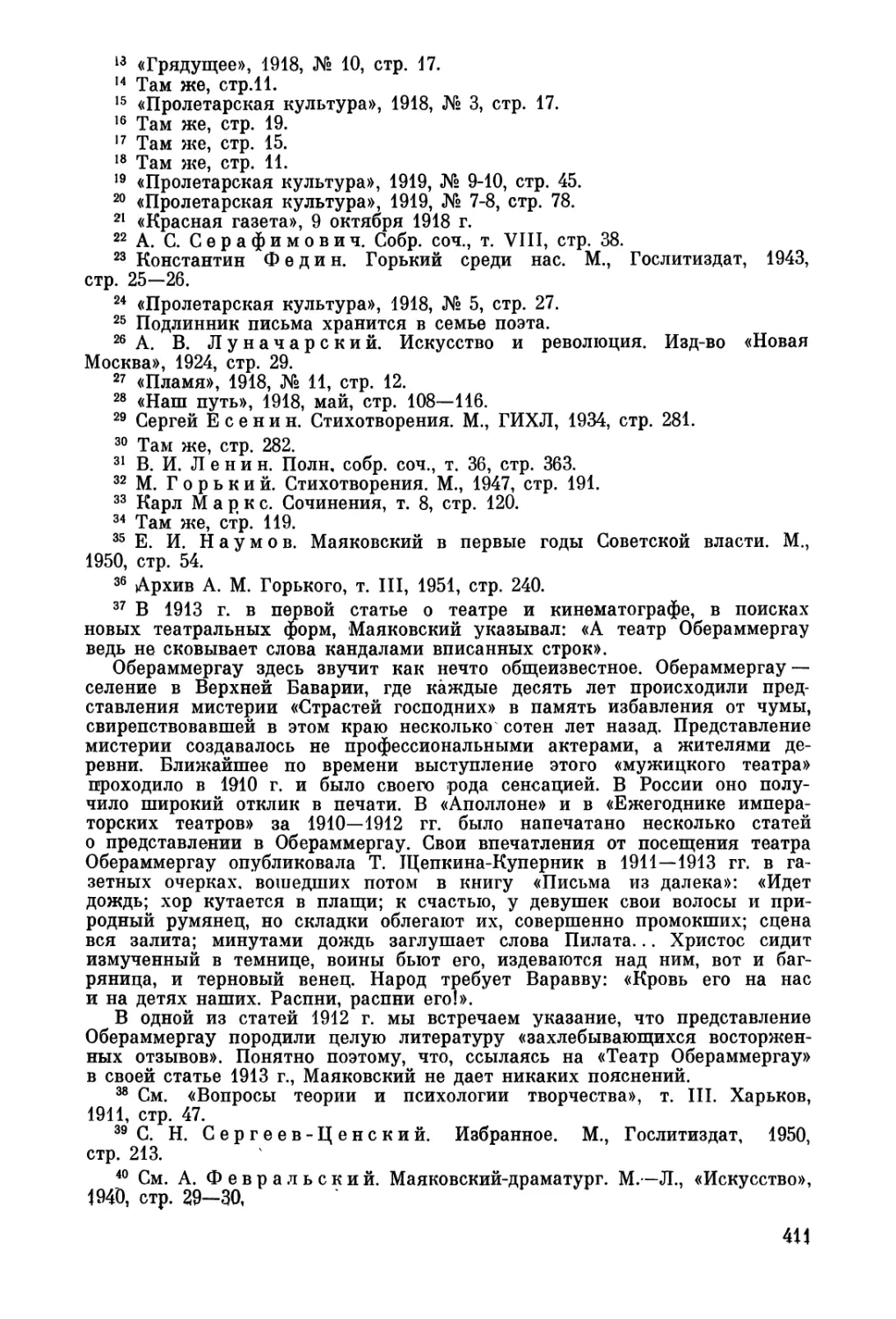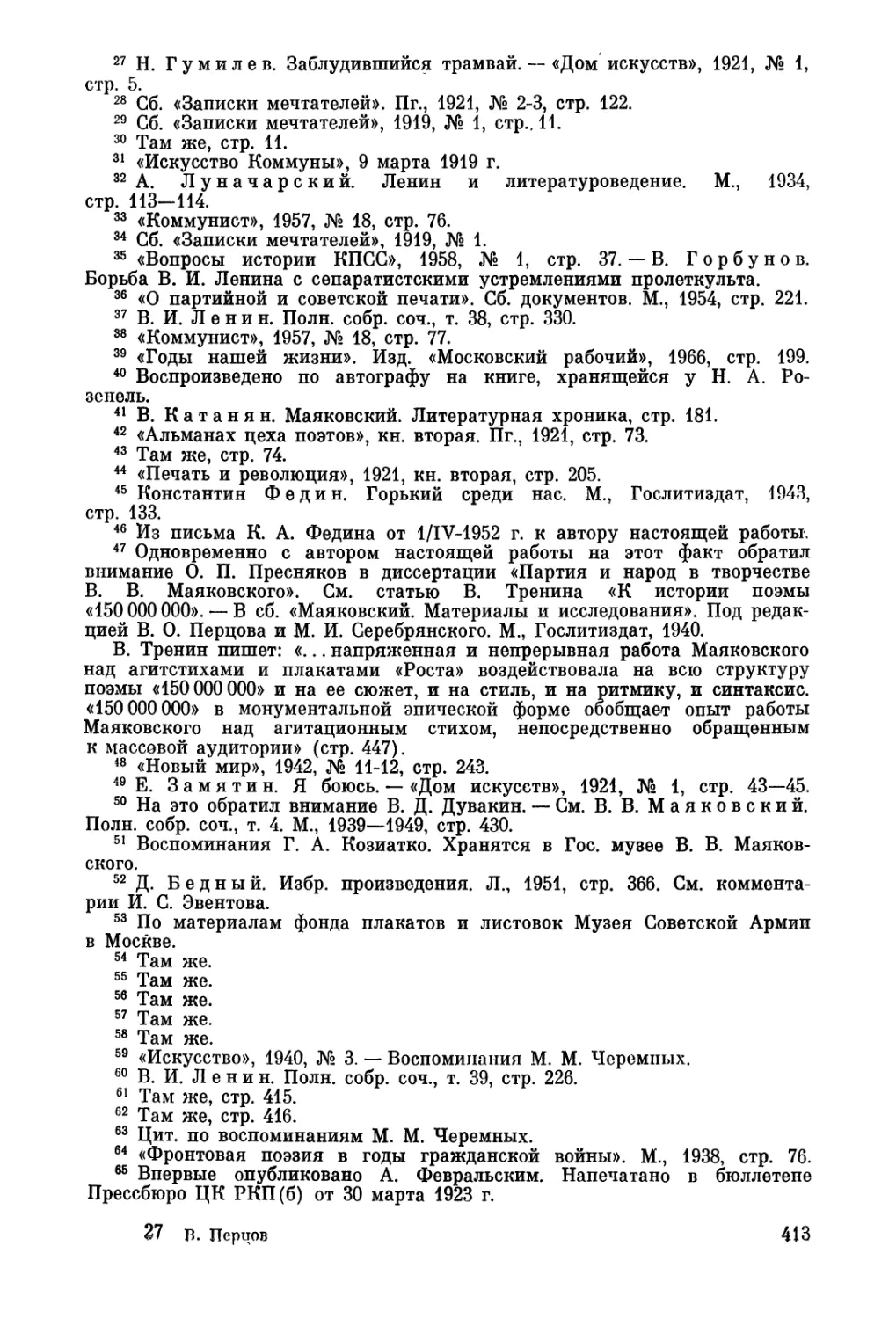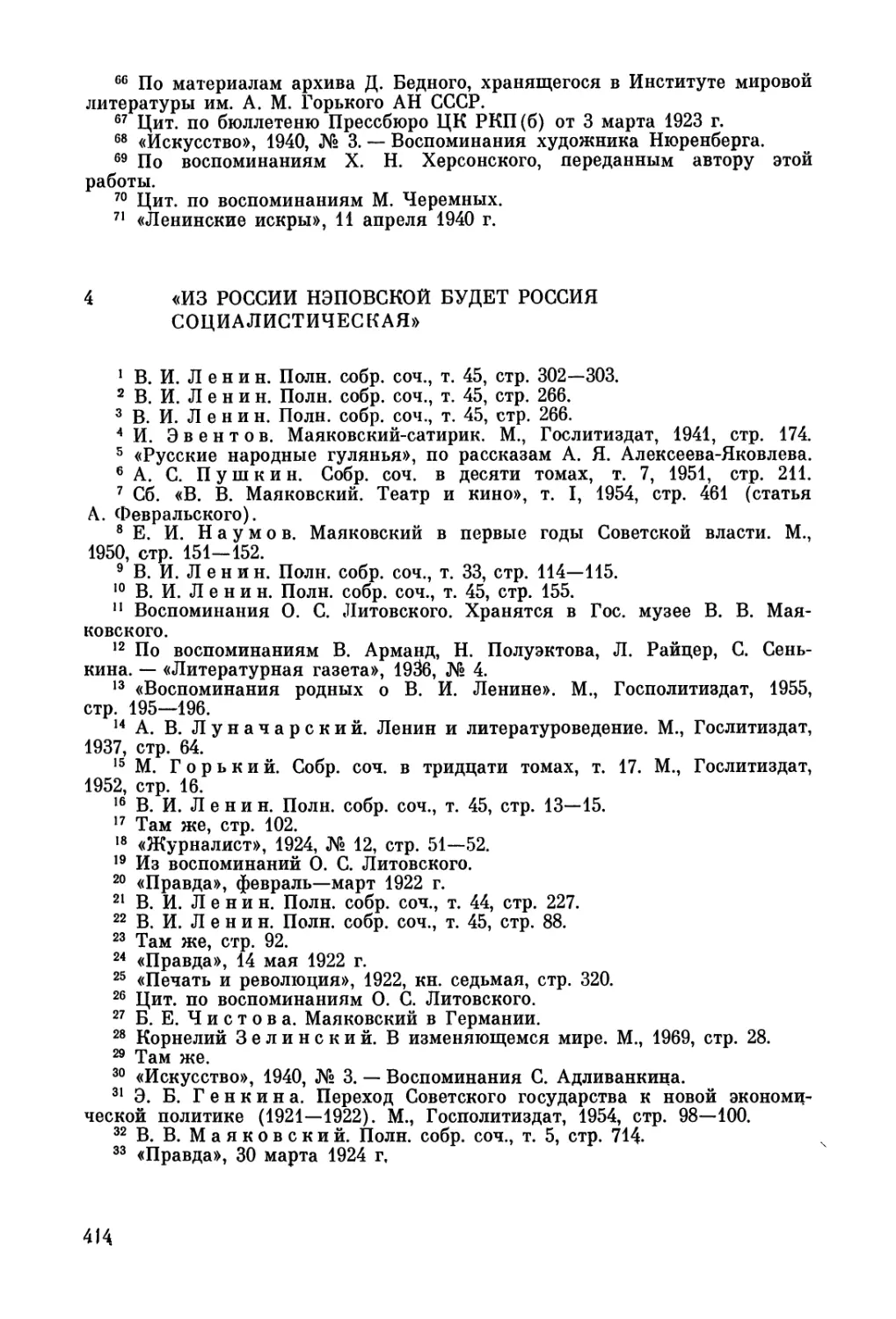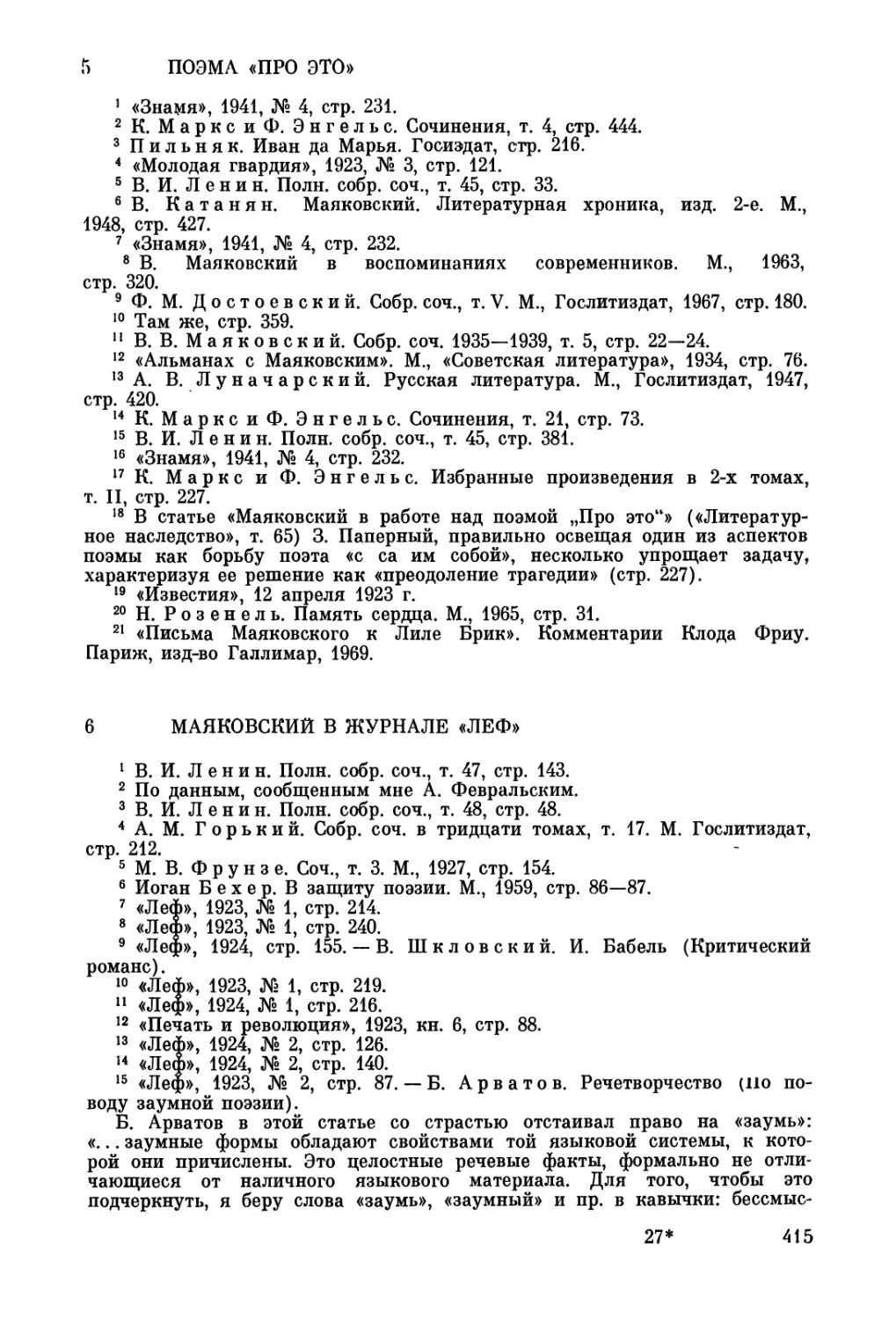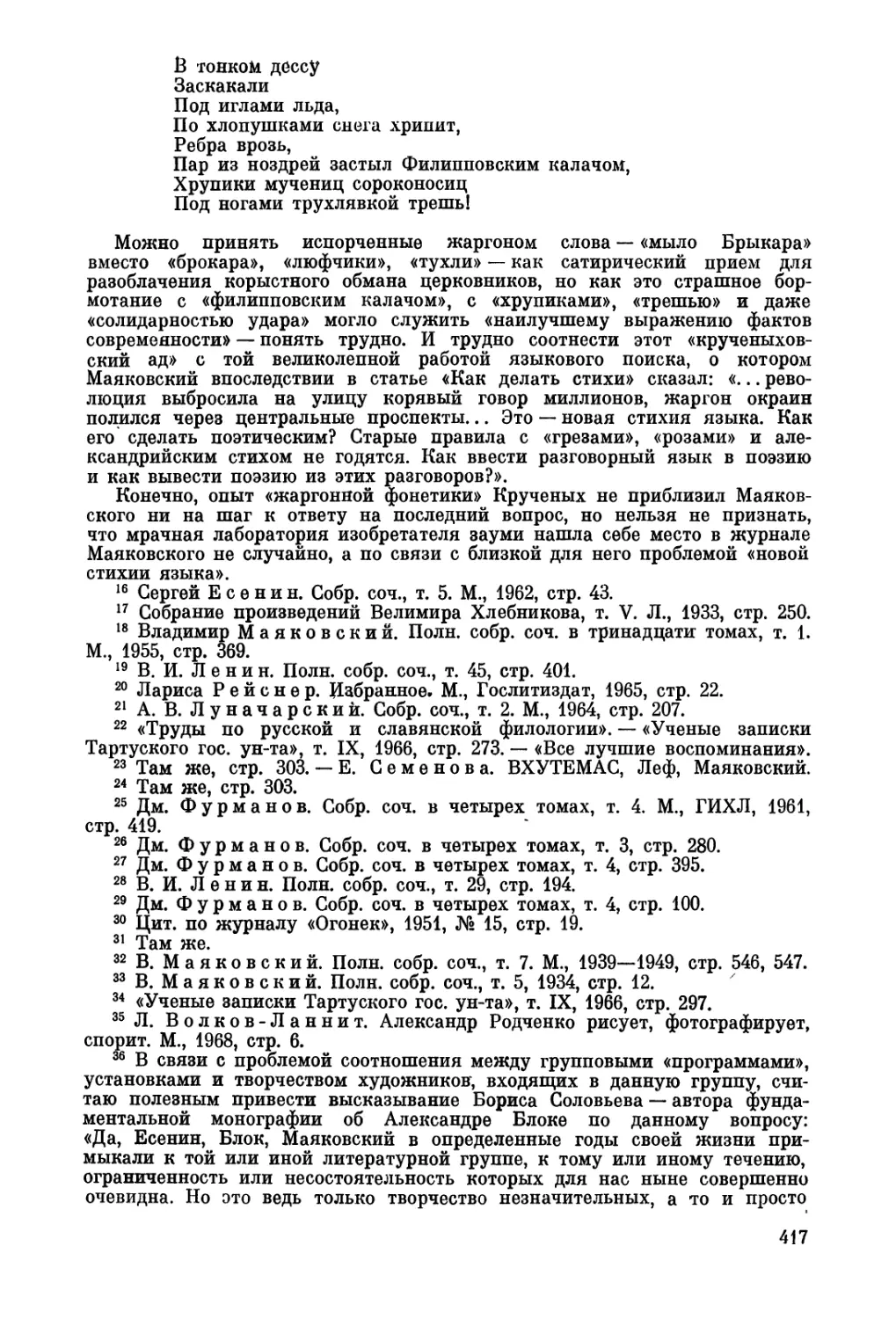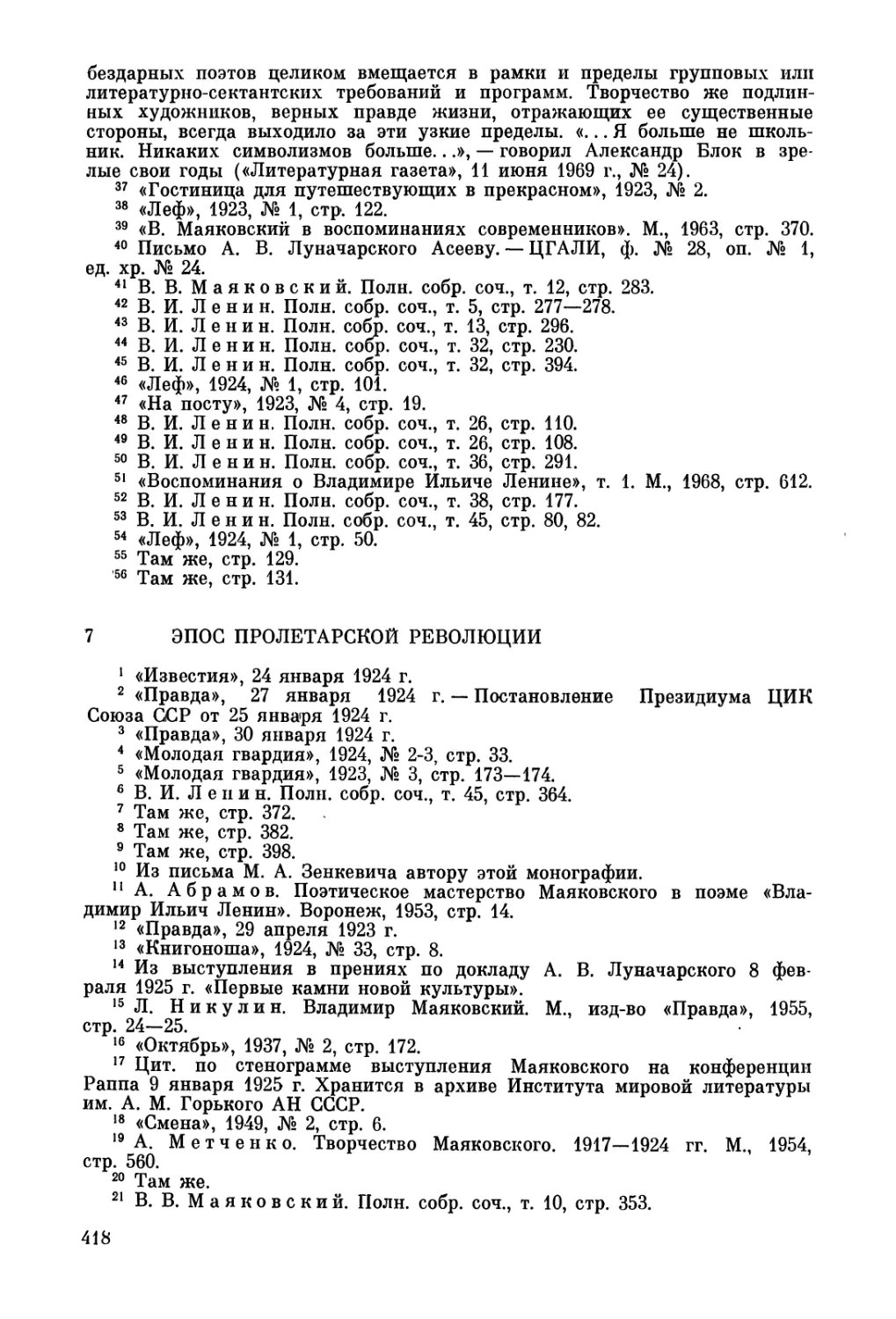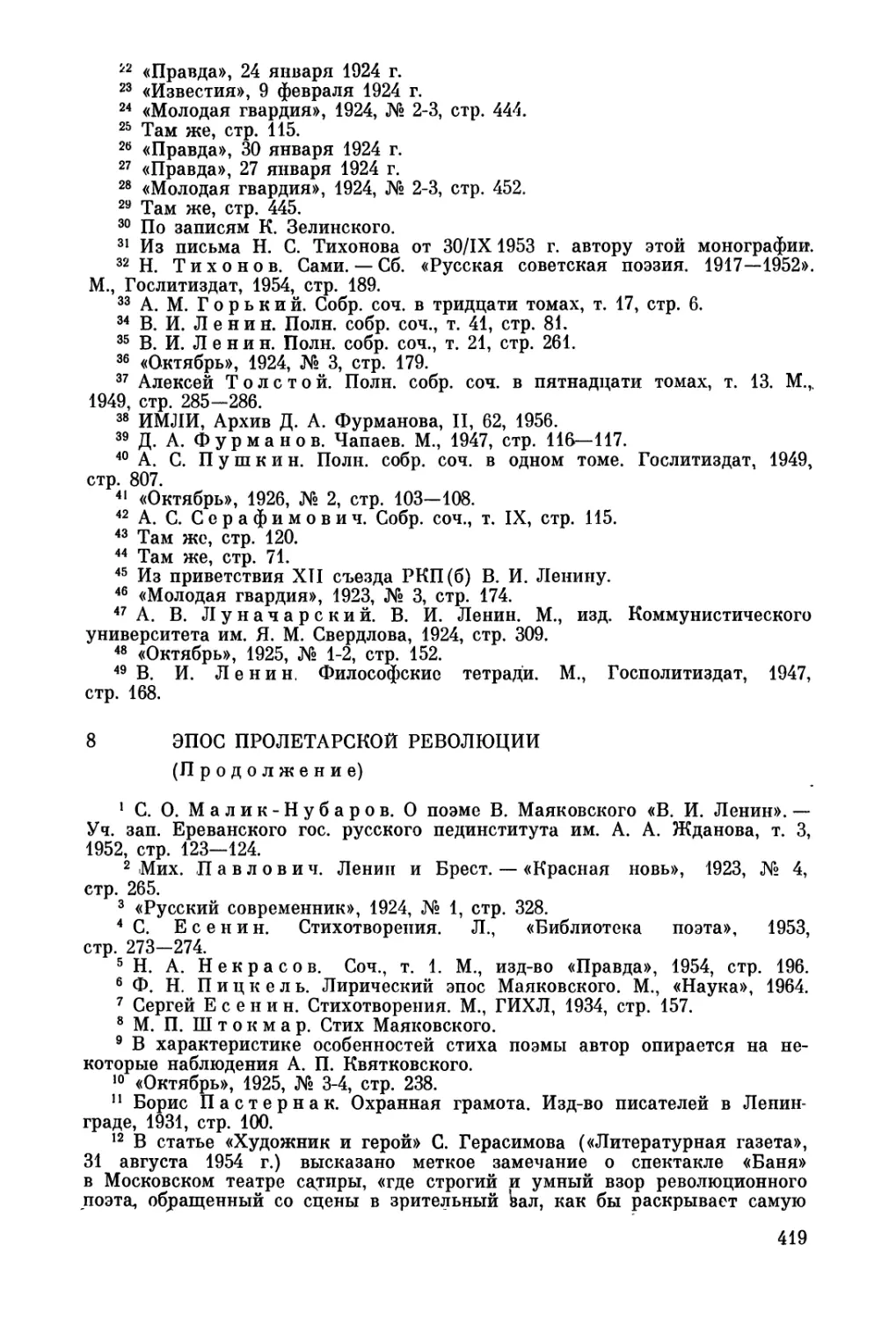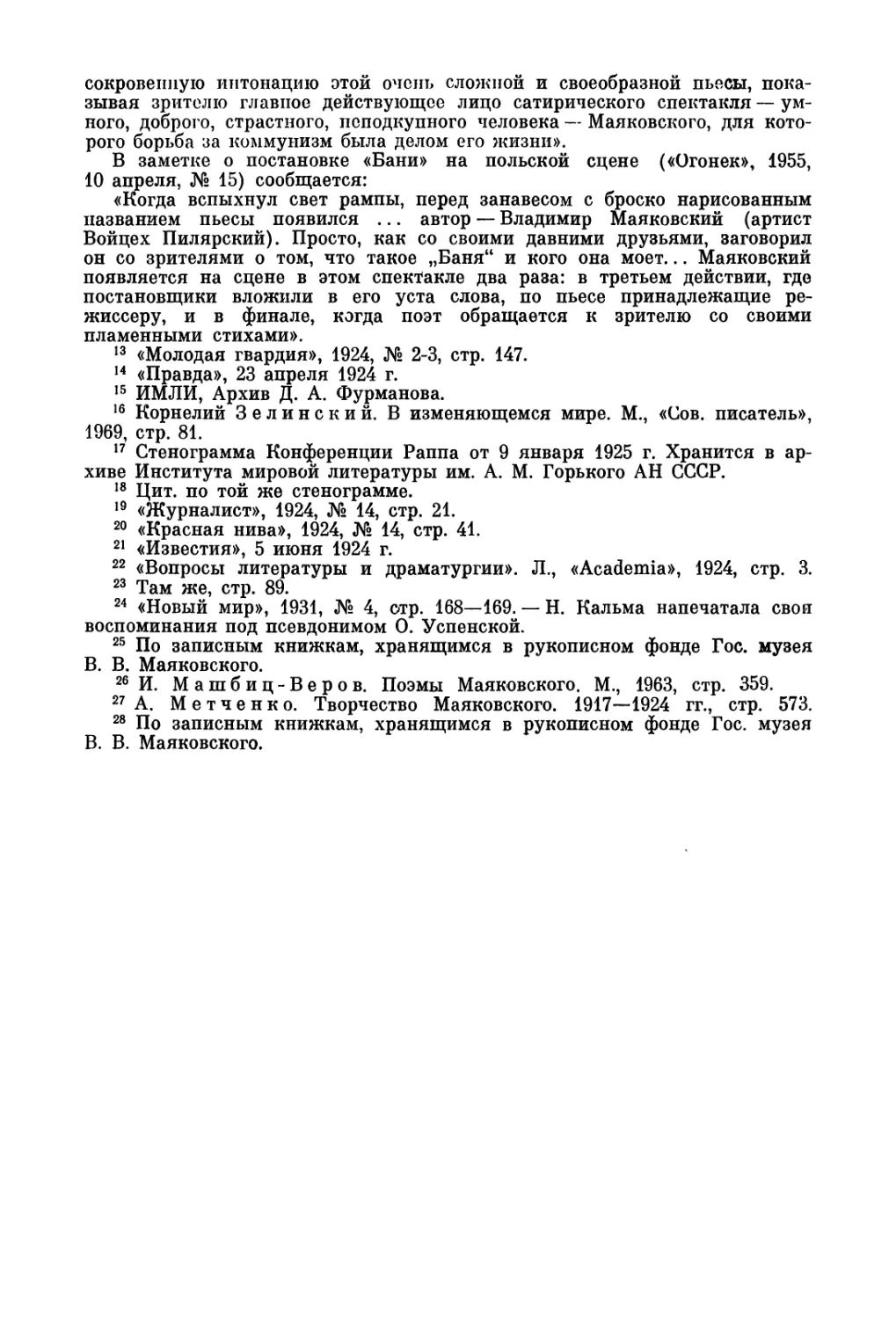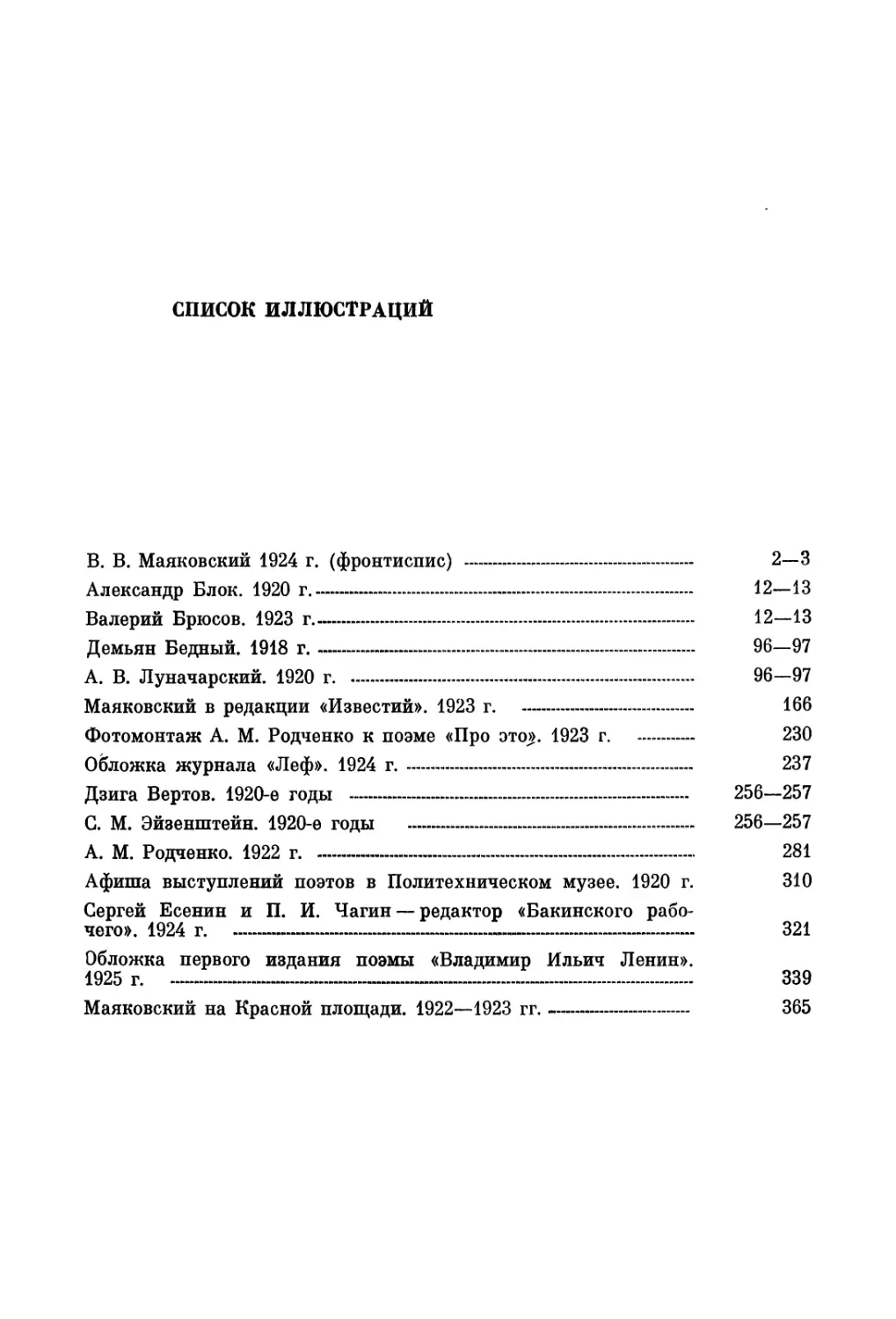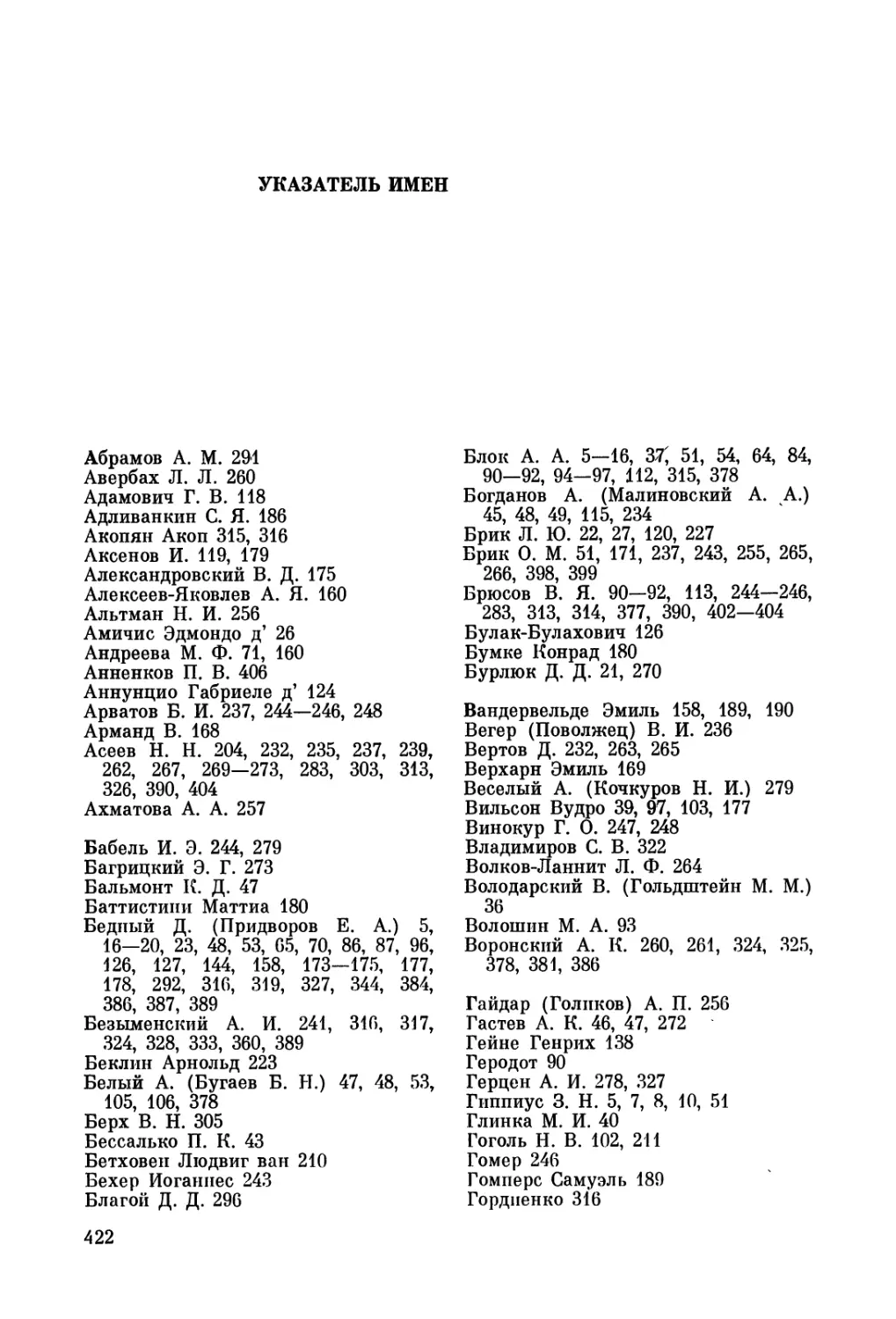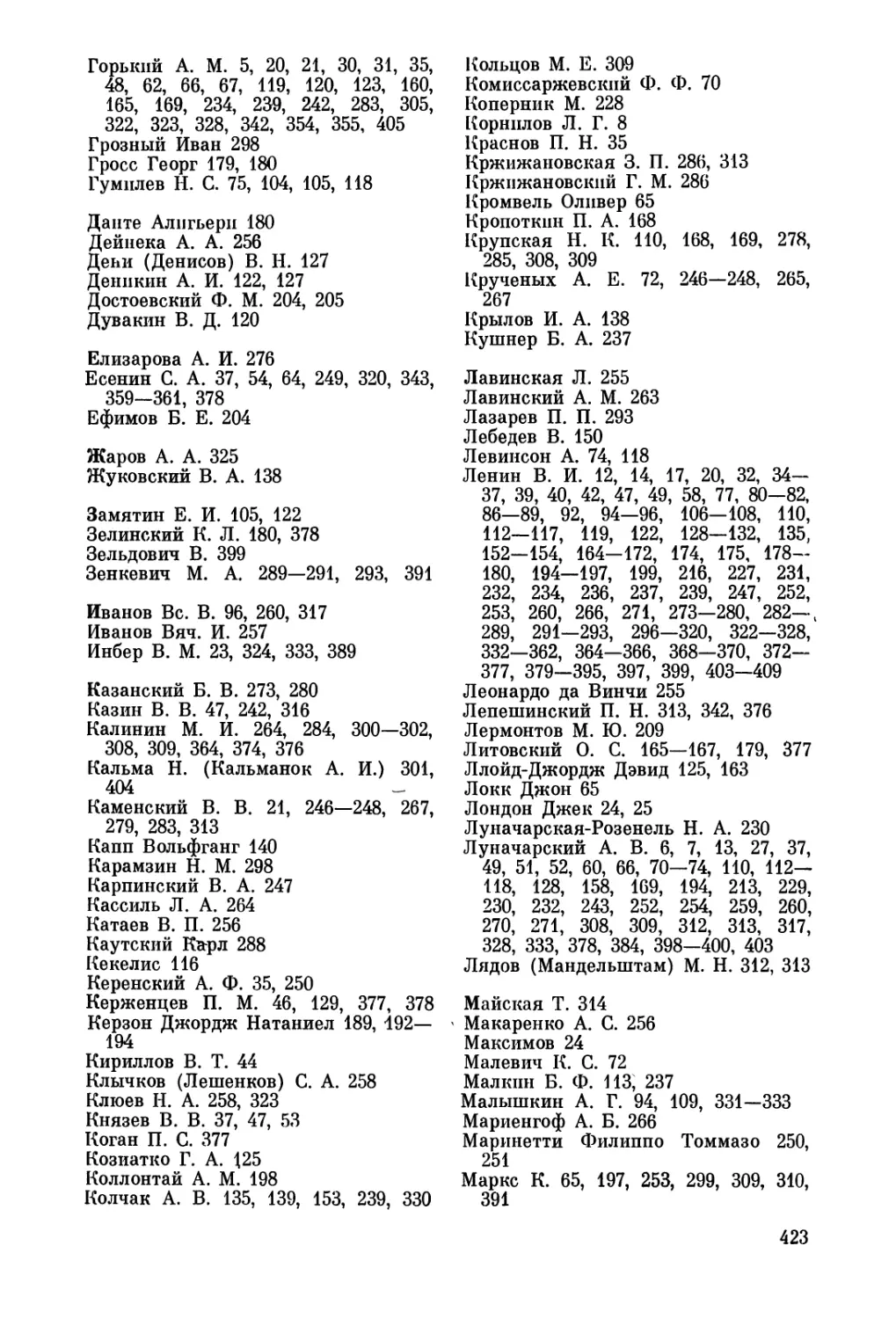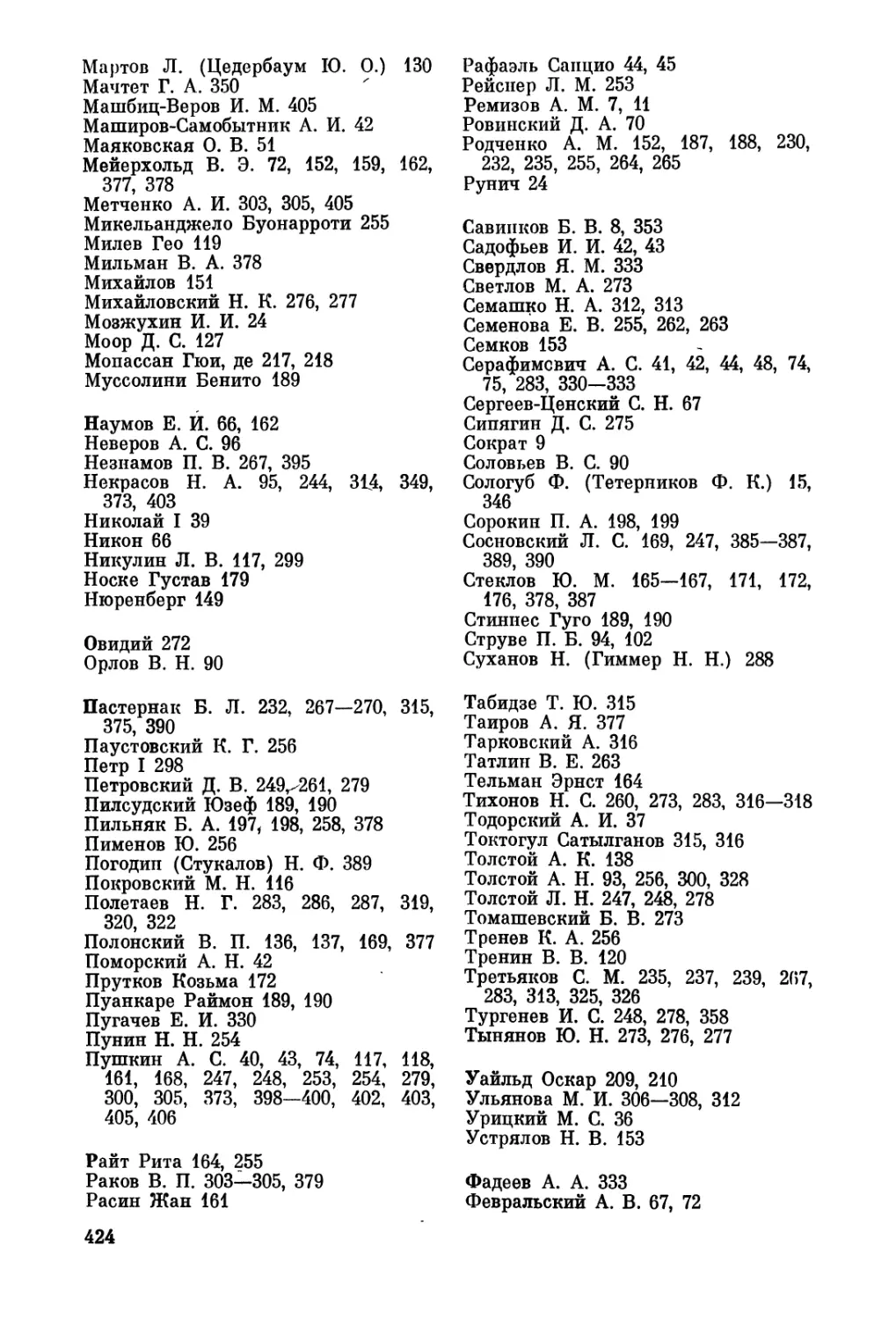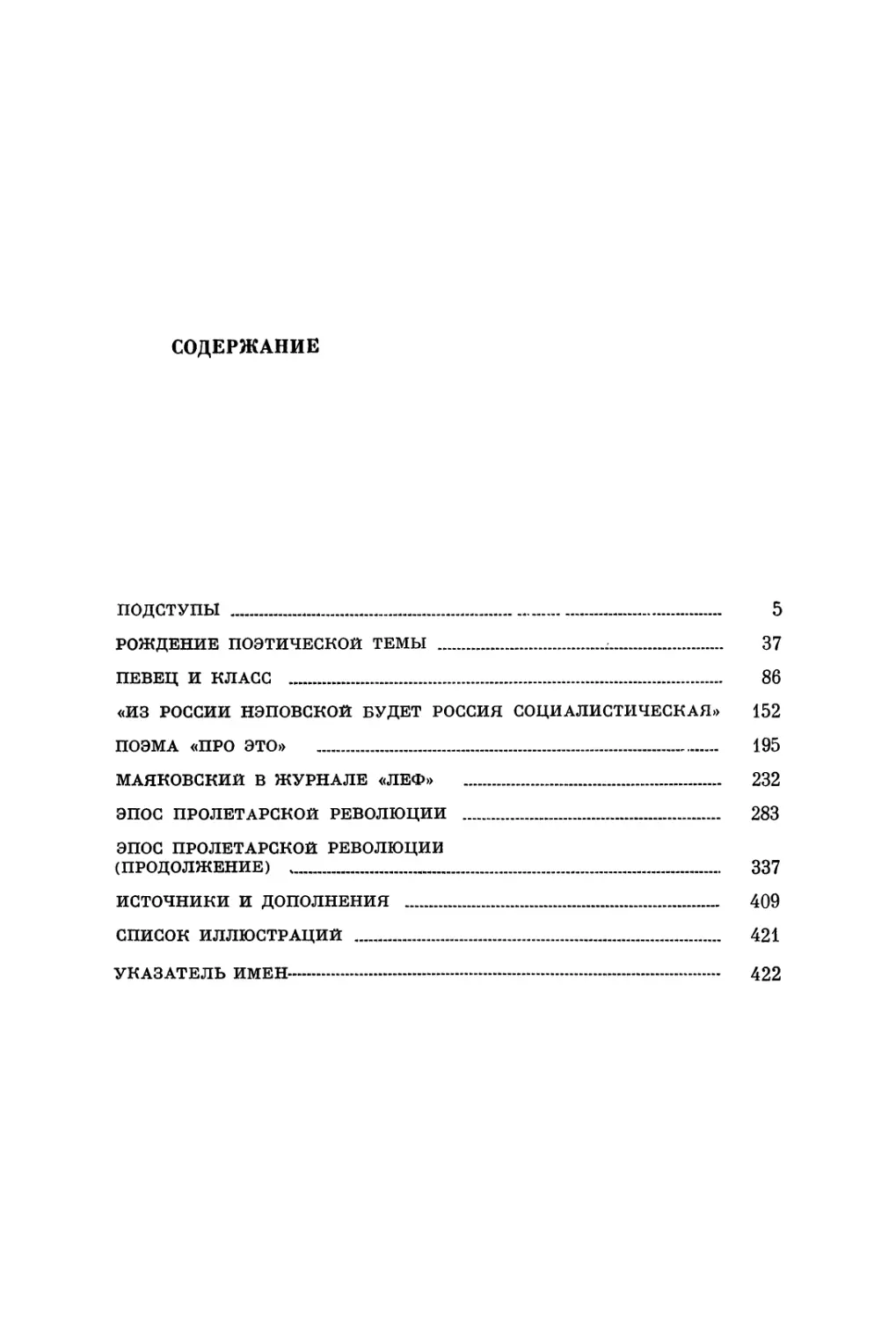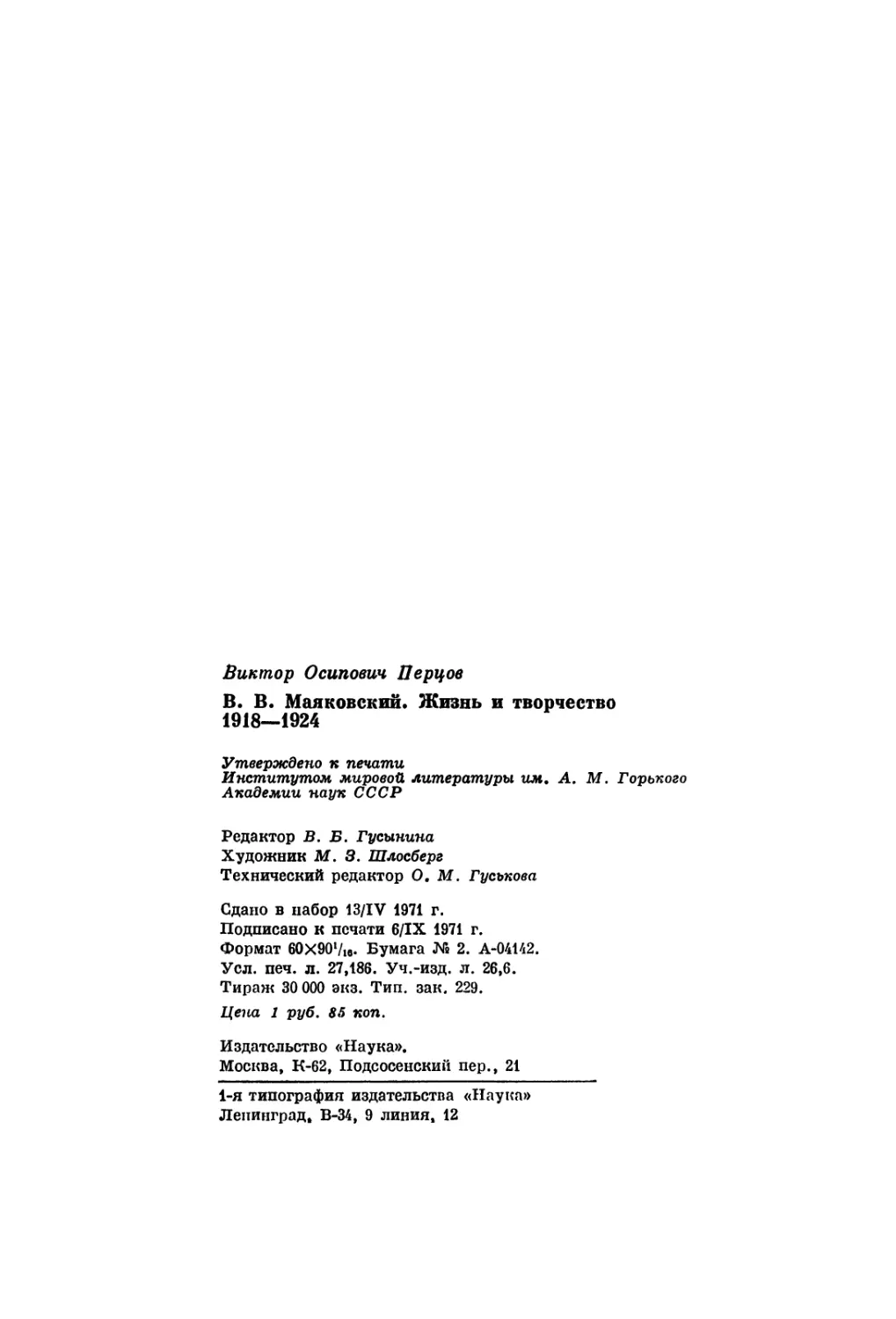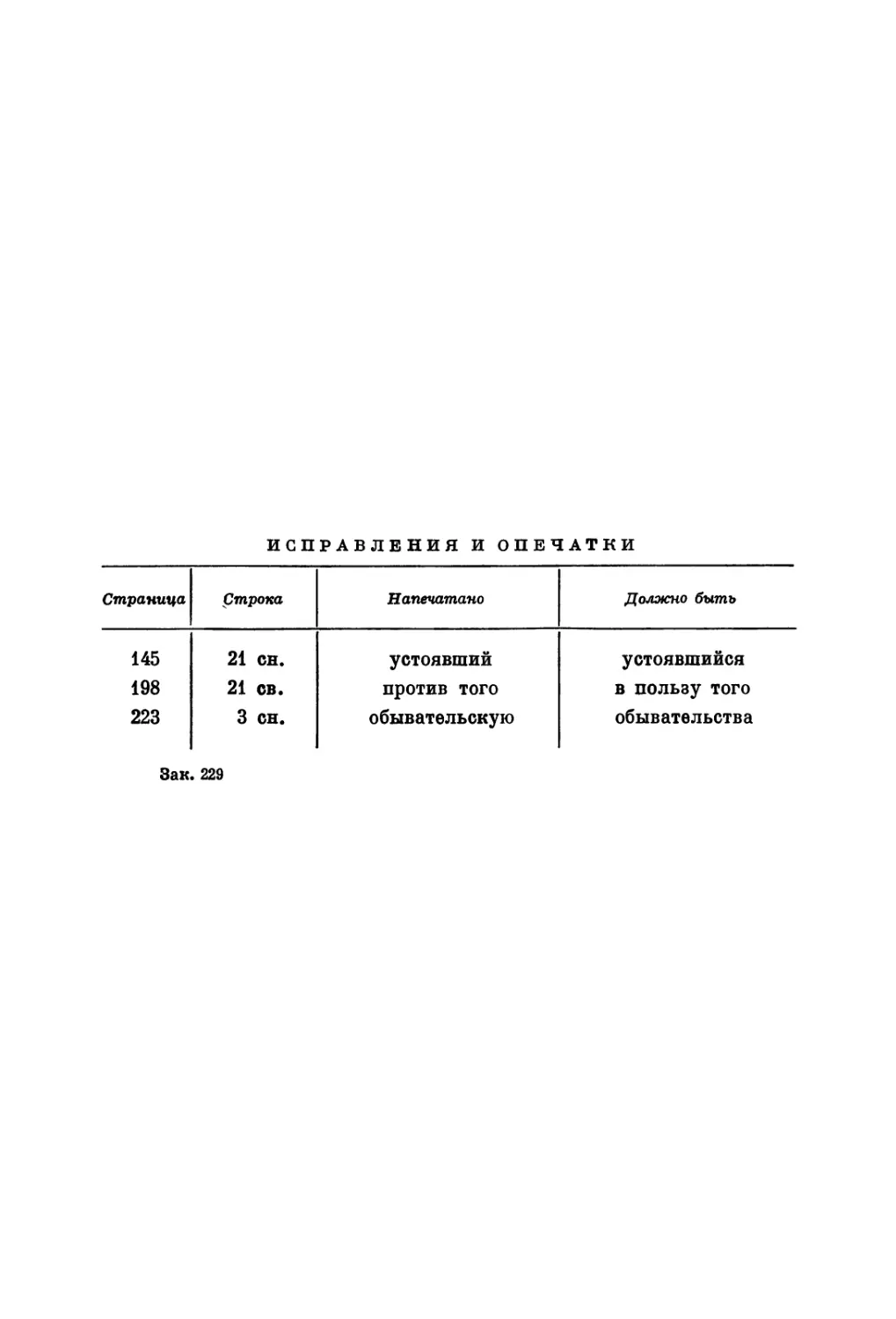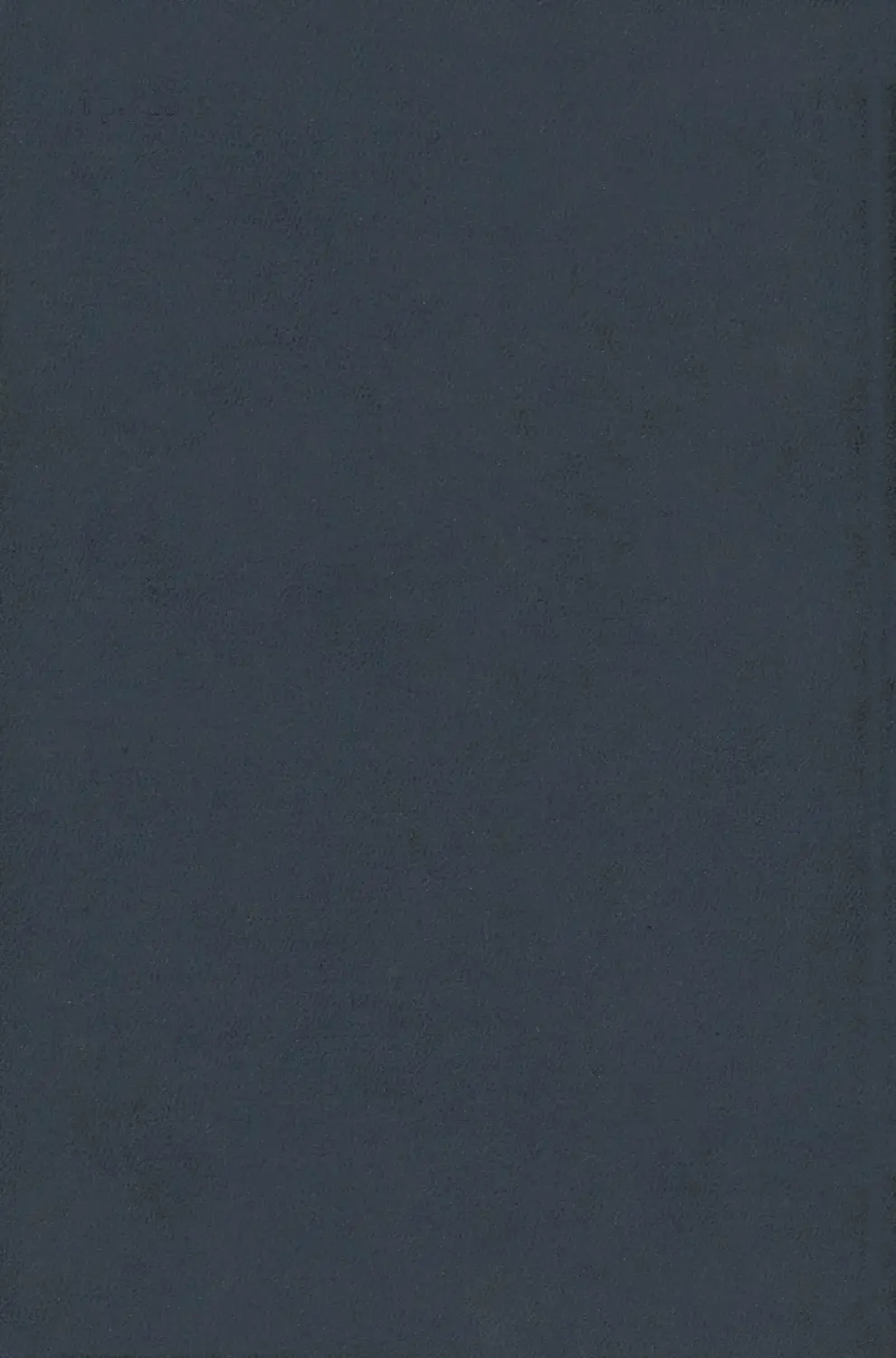Author: Перцов В.
Tags: поэзия биографии академия наук ссср издательство наука жизнеописание биографии поэтов маяковский поэзия ссср
Year: 1971
Text
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
/'/7
И
В. В. МАЯКОВСКИЙ. 1924 г.
В. ПЕРЦОВ
МАЯКОВСКИЙ
Жизнь и творчество
(1918—1924)
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА 1971
7-2-2 20-БЗ-46-69
1 ПОДСТУПЫ
СОБЫТИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИИ И ПОЭЗИЯ МАЯКОВСКОГО
Переход на сторону народа после Октябрьской революции лучших представителей интеллигенции и борьба в искусстве. Поэма Александра Блока «Двенадцать». Письмо Александра Блока Зинаиде Гиппиус. Поэтическое кредо Демьяна Бедного. Басни Демьяна Бедного против меньшевиков и эсеров. Антирелигиозные произведения Демьяна Бедного. Позиция М. Горького. Переезд Маяковского из Петрограда в Москву. Работа в кино. «Хорошее отношение к лошадям». Положение страны в середине 1918 г. Обострение классовой борьбы и «Ода революции».
Маяковский чувствовал мир в его целом. Он жил общим. Молодой поэт не был еще призван на военную службу, когда в начале 1915 г. он горячо, страстно высказался по «текущему моменту» — об отношении к первой империалистической войне в стихотворении «Я и Наполеон». В первой его строке он иронически приводит свой точный московский адрес для того, чтобы подчеркнуть свою прописку в «буре-мире»:
Я живу на Большой Пресне,
36, 24.
Место спокойненькое.
Тихонькое.
Ну?
Кажется — какое мне дело, что где-то в буре-мире взяли и выдумали войну?
— «Кажется — какое мне дело...» Но Маяковский не мог быть поэтом, если бы ему не было дела до всего в мире. Его поэтическое «Я» включало в себя историю как личное переживание. Борьба личного и общего раскрывалась диалектически в естественном творческом единстве его поэзии. Общественная жизнь и личные переживания создавали неделимый пафос его лирики политической и любовной. Иногда трудно сказать, где кончается одна и начинается другая. В литературной биографии Маяков
5
ского история, политика — по фон, а почва, питающая своими соками его творческую эмоцию, плоть его образности, размах фантазии.
Победа Октября поставила поэта лицом к лицу с проблемой связи поэзии и жизни, перед «великим вопросом о противоречии искусства и жизни», по слову Александра Блока, вставшим «с новой остротой и силой в великую эпоху, подобную нашей» Ч
История, понятая поэзией Маяковского, займет в этой книге законное место необходимой предпосылки, без которой не может быть понята поэзия Маяковского и закономерность творческой эволюции его мировоззрения и стиля.
*
Если бы требовались еще доказательства для опровержения буржуазной теории «чистого искусства», «искусства для искусства», то их можно было бы почерпнуть в художественной практике и общественном поведении наиболее рьяных проповедников этой теории, которая перешла вместе с прочим реакционным хламом старого мира в новую Россию после Октября. «Все, кого революция Труда низвергла, — шипели и готовили месть, — писал А. В. Луначарский в 1918 г. в журнале «Пламя». — Все, кто слабодушен, связан привычкой, комфортом, устал, — отдали своё сочувствие под разными соусами контрреволюции и ее же-ланному «порядку»...» Против тех людей искусства, которые затаились по ту сторону баррикад или старались держаться «над схваткой», обращал первый народный комиссар просвещения свои пламенные обличения:
«Что такое ваша «красивенькая красота» по сравнению с бурной, стихийной красотою творимой жизни? Но близорукие видят только изъяны, только шрамы на прекрасном лике которого охватывают, как лилипуты, один квадратный вершок» 2.
Однако изнеженные поклонники «красивенькой красоты» — те, которые еще не удрали в привычный для господ-эксплуататоров заграничный климат и пребывали на земле родины, оказались далеко не столь «слабодушными». Напротив, они стали проявлять такую «общественную активность» клеветников молодой Советской России, что это как будто никак не вязалось с их всегдашней проповедью безразличия^ художника к общественной жизни. Конечно, они лгали тогда и продолжали лгать теперь, но уже с остервенением собственников, чьи привычки оказались вдруг нарушенными. «С Россией кончено...», — затягивали они панихиду по своей помещичьей, фабрикантской России. «Ее напоследях мы сами прогалдели, проболтали, про-лузгали, пропили, проплевали...» 3, — голосили они на светлом празднике трудного рождения социалистической России Советов.
6
Стилисты и стилизаторы перевооружались. Алексей Ремизов хотел свое изысканное искусство теперь приспособить не только для «избранных», его кликушеское «Слово о погибели земли русской» кощунственно пыталось опереться на великую патриотическую традицию «Слова о полку Игореве». В мае 1918 г. вышла книжка Зинаиды Гиппиус «Последние стихи» — последние, написанные в России, перед бегством за границу. Последние, потому что безумная злоба, ненависть к народу душила эту «тонкую» «философскую натуру», лишила ее дара речи. Зинаида Типпиус с исступлением самоубийцы и холодной жестокостью карателя воспевала нагайку для русского народа:
Мне пуля — на миг... А тебе нагайки, Тебе хлысты мои — на века!4
И еще:
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, Народ, не уважающий святынь!5
Вот какой стала «красивенькая красота» тех, кто, подобно этой «даме из общества», славил до Октябрьской революции в своих стихах «то, чего нет на свете». Этим можно было заниматься «до», а «после» все в мире приняло иной вид. По всей земле от Октябрьской революции в России прошла глубокая трещина. От нее и русская интеллигенция разломилась на две неравные части.
Чувство неблагополучия всего уклада жизни издавна пронизывало творчество Александра Блока — великого русского поэта XX в. И до, и после Октября старый мир испытал на себе всю силу его давно накопленной ненависти. Александр Блок был одним из тех образованных людей, которые сразу же после Октября честно и восторженно перешли на сторону народа.
Зинаида Гиппиус была связана с А. Блоком долгими литературными отношениями в русском символизме. Она послала А. Блоку свою новую книжку, может быть, как своего рода вызов. Получив «Последние стихи», А. Блок написал Зинаиде Гиппиус письмо. Несмотря на недосказанности и не всегда понятные намеки, характерные для условного, туманного языка, каким писали символисты, в письме А. Блока с огромной искренностью ставился, по сути дела, тот же политический вопрос, что и в обличении Луначарского: почему вы видите только изъяны, только шрамы на прекрасном лике новой творимой жизни? А. Блок писал:
«Я обращаюсь к Вашей человечности, к Вашему уму, к Вашему благородству, к Вашей чуткости, потому что совсем не хочу язвить и обижать Вас, как Вы — меня; я не обращаюсь поэтому к той «мертвой невинности», которой в Вас не меньше, чем во мне.
7
«Роковая пустота» есть и во мне и в Вас. Это — или нечто очень большое, и — тогда нельзя этим корить друг друга; рассудим не мы; или очень малое, наше, частное, «декадентское», — тогда не стоит говорить об этом перед лицом тех событий, которые наступают.
Также только вкратце хочу напомнить Вам наше личное: нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-ый, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, как и Ваша), но только, рядом с второстепенным, проснулось главное...
В наших отношениях всегда было замалчиванье чего-то; узел этого замалчиванья завязывался все туже, но это было естественно и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были затянуты туго — оставалось только рубить.
Великий Октябрь их и разрубил. Это не значит, что жизнь не напутает сейчас же новых узлов; она их уже напутывает; только это будут уже не те узлы, а другие.
Не знаю (или — знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало — могло быть во много раз больше» 6.
Письмо помечено датой: 31 мая (1918 г.). Оно осталось неотправленным— и это хорошо: оно все равно не дошло бы до адресата, осталось бы не понятым, а мы лишились бы замечательного человеческого документа. Октябрь для А. Блока был исполнен величия, для 3. Гиппиус был проклятьем. «Великий Октябрь» — это формулировка Блока. Слова из частного письма. Александр Блок и Зинаида Гиппиус. Они были в разных лагерях. Великий Октябрь разрубил то, что их связывало.
Зинаида Гиппиус вспоминала, находясь в эмиграции:
«Конец, провал, крушение уже не только предчувствовалось — чувствовалось. Мы все были в агонии. Но что ж, смириться, молчать, ждать? Все хватались за что кто мог. Не могли не хвататься. Савинков, ушедший из правительства после Корнилова, затевал антибольшевистскую газету. Ему удалось сплотить порядочную группу интеллигенции. Почти все видные пи сатели дали согласие. Приглашения многих были поручены мне. Если приглашение Блока замедлилось чуть-чуть, то как раз потому, что в Блоке-то уж мне и в голову не приходило сомневаться.
Все это было в начале октября. Вечером, в свободную минутку, звоню к Блоку. Он отвечает тотчас же. Я спешно, кратко, точно (время было телеграфическое!) объясняю, в чем дело. Зову к нам, на первое собрание.
8
Пауза. Потом:
— Нет. Я, должно быть, не приду.
— Отчего? Вы заняты?
— Нет. Я в такой газете не могу участвовать.
— Что вы говорите! Вы не согласны? Да в чем же дело?
Во время паузы быстро хочу сообразить, что происходит, и не могу. Предполагаю кучу нелепостей. Однако не угадываю.
— Вот война, — слышу глухой голос Блока, чуть-чуть более быстрый, немного рассерженный. — Война не может длиться. Нужен мир.
— Как... мир? Сепаратный? Теперь — с немцами мир?
— Ну да. Я очень люблю Германию. Нужно с ней заключить мир.
У меня чуть трубка не выпала из рук.
— И вы... не хотите с нами... Хотите заключать мир... Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?
Все-таки и в эту минуту вопрос мне казался абсурдным. А вот что ответил на него Блок (который был очень правдив, никогда не лгал):
- Да, если хотите, я скорее с большевиками. Они требуют мира...» 7
Александр Блок перешел на сторону народа и честно сказал об этом в статье «Интеллигенция и Революция», статье, которая в те дни — в январе 1918 г. — звучала громко для представителей художественного мира. Статье гениальной искренности и обличительной силы: почему вы видите только изъяны, только шрамы на прекрасном лике новой творимой жизни? «Чем дольше будет гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и^ кровавее может стать кругом. Ужасна и опасна эта эластичная, сухая, невкусная «а догм этическая догматика», приправленная снисходительной душевностью. За душевностью — кровь. Душа кровь притягивает. Бороться с ужасами может лишь дух. К чему загораживать душевностью пути к духовности? Прекрасное и без того трудно.
А дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки.
Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию» 8.
Так он писал, «темно», но не вяло, а страстно.
В январе 1918 г. А. Блок закончил свою знаменитую поэму «Двенадцать». Она произвела сильное впечатление в литературной среде. Это было первое крупное произведение, посвященное Великой Октябрьской социалистической революции. В нем сказалось страстное желание А. Блока своим поэтическим словом помочь народу в его борьбе. С необычайной силой прозрения и презрения говорил А. Блок в своей поэме о старом, бур-
9
жуазном обществе, создавая уничтожающий образ-символ:
Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жмется шерстью жесткой
Поджавший хвост паршивый пес.
Стоит буржуй, как пес голодный,
• Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный, Стоит за ним, поджавши хвост.
Старый мир — «безродный пес». Этот образ все нарастает к концу поэмы, обогащаясь разными оттенками в эпитетах — «голодный», «холодный», «паршивый», «нищий», «шелудивый». У врагов революции, последышей старого мира, нет родины, они безродные отщепенцы, говорил этим клеймящим образом Блок-сатирик.
Сокрушительная издевка была и в том, что слова плаката «Вся власть Учредительному Собранию» рифмовались с такой «гримасой» буржуазного быта, оставшейся от прошлого:
... И у нас было собрание...
... Вот в этом здании...
... Обсудили —
Постановили:
На время — десять, на ночь — двадцать пять...
... И меньше — ни с кого не брать...
... Пойдем спать.. .9
Учредительное собрание политических проституток буржуазии, только что разогнанное большевиками, закономерно сближено с этим, другим «собранием». Силу этого сатирического образа блоковской поэмы можно в полной мере оценить, сопоставив его с «последними стихами» Зинаиды Гиппиус, плакальщицы русской буржуазии:
Наших дедов мечта невозможная,
Наших героев жертва острожная, Наша молитва устами несмелыми, Наша надежда и воздыхание, — Учредительное Собрание, — Что мы с ним сделали? . .10
Нетрудно понять ярость, которую вызвала у декадентской поэтессы поэма А. Блока. Иронически представлен в блоковской поэме «писатель», может быть, А. Ремизов — автор «Слова
10
о погибели земли русской^:
А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Вития.. .н
Рыцарски-романтически настроенный к революции, Блок умел видеть типическое, как реалист: тут и «долгополый... товарищ поп», и «барыня в каракуле», осмеянные легко и как бы между прочим, — это не столько характеры, сколько обстоятельства.
Вся критическая, разоблачающая старый мир и слуг капитала, часть картины сильна и правдива — до деталей. Однако Блок стремится показать и представителей нового мира — двенадцать красногвардейцев, которые идут ночным дозором по революционному Петрограду. Блок видит в этих «апостолах» революции прежде всего силу разрушительную — и не боится этого, потому что знает, что революция не идиллия. «Вдаль идут державным шагом» его красногвардейцы. «Державным» — в этом эпитете осознана мощь народных масс, ставших хозяевами своей судьбы. Замечательно то, что среди своих героев — представителей революционной стихии — А. Блок сумел почувствовать нарождение новой дисциплины. Товарищи осуждают Петьку, не сумевшего общее поставить выше личного, —
Что ты, Петька, баба, что ль?
— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
— Поддержи свою осанку!
— Над собой держи контроль!
И дальше — довод, показывающий, что среди красногвардейцев Блока есть люди разные и чувство исторической ответственности за судьбу родины не чуждо им:
— Не такое нынче время.
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя Нам, товарищ дорогой!
Не шибко грамотны эти люди, иные рассуждения их могут вызвать только улыбку, но в обращении одного из красногвардейцев к тому же Петьке — «Бессознательный ты, право...» — нельзя не расслышать уважения к дисциплине, признания направляющей роли общих интересов.
Однако образы своевольной партизанщины заняли в поэме Блока место неисторическое среди тех героев, которые в дей
11
ствительности решали судьбу Октябрьской революции. Петька из ревности убивает Катьку. Блок сочувственно передает его человеческую трагедию, не скупясь на резкие реалистические детали в изображении героини:
Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала, С юнкерьем гулять ходила — С солдатьем теперь пошла? 12
За темную, окаянную свою жизнь, за «зазнобушку-чернобро-вушку» Петруша распаляется на «буржуя» новым приливом ненависти. Поэт увидел и воплотил в совершенной художественной форме один из ликов революции, который для всего содержания революции был не главным, а для него — художника — главным, и под этим своим углом зрения он сумел сказать о главном и воспел революцию со всеми ее противоречиями, возвеличил «единственно законную, единственно справедливую, единственно священную, — по словам Ленина, — не в поповском, а в человеческом смысле слова священную войну угнетенных против угнетателей за их свержение, за освобождение трудящихся от всякого гнета» 13.
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем...
Но все-таки автор «Двенадцати» не мог не осенить революцию образом Христа, потому что он так видел революцию, и написать ее иначе не мог: это было бы внутренне не правдиво.
Это образ не однозначный по своему смыслу и остающийся все-таки не вполне ясным, несмотря на сопоставление в литературе о Блоке всех разноречивых материалов и высказываний самого поэта. Не подлежит сомнению только одно — образ Христа в данном контексте укрепляет пафос концепции поэмы, утверждавший восторженное приятие революции. Для Блока с этим образом, по-видимому, было неразрывно связано представление о гуманизме. И в этом плане образ Христа был для Блока-художника незаменим, хотя чем-то не удовлетворял его.
Блок стремился к утверждению Октябрьской революции и в самой форме своего нового произведения. И в момент появления поэмы и в последующие годы критика отмечала в ней обращение А. Блока к солдатской песне, к частушке, значительное расширение словаря за счет «грубых», «площадных» выражений, прямую установку на демократического слушателя. Презрительное словечко «буржуй», рожденное революцией, грубый эпитет «паршивый пес» в новой поэме — невозможны в словаре прежнего Блока. Вполне закономерны были его
12
АЛЕКСАНДР БЛОК.- 1920 г.
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ. 1923 г.
поиски выразительных средств для «Двенадцати» в традициях революционной песни. Эти традиции намечались уже в некоторых произведениях А. Блока после 1905 г. Характерно, что в 1918 г. поэма дала повод одному из критиков сказать о Блоке:
«Необычайное явление — Блок, тихий поэт «лиры», пишет громкую, кричащую и гудящую поэму «Двенадцать», в которой учится у Маяковского» 14.
«Двенадцать» очень нравились Маяковскому, по выходе поэмы в свет он читал ее без конца. Правда, заключительные строки поэмы:
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос —
Маяковский переделывал по-своему: «В белом венчике из роз Луначарский наркомпрос» или даже: «В белом венчике из роз впереди Абрам Эфрос» *.
Хотя Маяковскому «Двенадцать» нравились, он сумел оценить их критически. Какой бы смысл ни вкладывал сам Блок в образ Христа, возглавляющего в развязке поэмы двенадцать отчаянных, темных парней — жителей столичной окраины, как бы ни стремился поэт «освятить» этим религиозным образом свое сочувствие Октябрьской революции, искажение получалось слишком явное. Среди критических замечаний, вызванных появлением блоковской поэмы, не раз указывалось на то, что Христос возникает в конце поэмы внезапно. Шокировало внезапное появление Христа во главе двенадцати, писал А. В. Луначарский. И сам А. Блок, по свидетельству К. Чуковского, удивлялся этому, будто бы неожиданному, концу своей поэмы. Но, конечно, появление Христа в конце «Двенадцати» не «внезапно» и не «искусственно», а вполне подготовлено и необходимо. В поэме А. Блока «идут двенадцать человек», идут, по прозрачной аналогии с евангельской легендой, в роли двенадцати апостолов. Название «Двенадцать» предрешает основной образ, двигавший поэму. А это название поэмы определилось для Блока в самом начале работы над ней. Известны записи в его записной книжке, например, от 8 января 1918 г. — «Весь день «Двенадцать». ..» или от 15 явнаря — «Мои «Двенадцать» не двигаются» 15. (Поэма была закончена 29 января 1918 г.)
Двенадцать заблудших «апостолов» в поэме Блока закономерно должны были прийти ко Христу. В этом Блок оставался верен символизму с его религиозными мотивами. В этом Маяковский решительно противостоял Блоку. Еще в поэме «Облако в штанах» Маяковский полемически называл себя не просто «апостолом», а именно — «тринадцатым апостолом». В этом полемиче
* Абрам Эфрос — критик, известный в то время своим эстетизмом.
13
ском образе молодой поэт бросал вызов буржуазному обществу «Долой вашу религию!»:
Я, воспевающий машину и Англию, может быть, просто, в самом обыкновенном евангелии, тринадцатый апостол.
И когда мой голос похабно ухает — от часа к часу, целые сутки, может быть, Иисус Христос нюхает моей души незабудки *.
У Блока — умиленно-патетическое «в белом венчике из роз», у Маяковского — ироническое: Христос и «моей души незабудки».
Однако А. Блок не был испуган крахом старого, не был оглушен тем «треском,, шумом, «хаосом» (кажущимся хаосом) разваливающихся и проваливающихся вековых построек царизма и буржуазии» 16, о котором писал в это время В. И. Ленин. В этом «страшном шуме», как отмечал А. Блок во время писания «Двенадцати», он расслышал музыку Революции. «... священную войну угнетенных против угнетателей за их свержение, за освобождение трудящихся от всякого гнета» 17.
Конечно, несостоятельна была попытка взять в руководители или в союзники образ Христа — так объективно получалось по смыслу всей поэмы и ее финала, какой бы смысл ни вкладывал в это время сам автор в этот образ. Не выдерживало проверки действительностью и намерение представить Ваньку, Петруху, Андрюху в качестве типичных героев Октября.
В то же время А. Блок говорил с огромной искренностью свое «да!» Октябрьской революции. В поэме была выражена такая сила ненависти к старому, буржуазному миру, такое испепеляющее отрицание его, что в этом «Двенадцать» были созвучны грозной революционной стихии, поднявшейся из недр народных. К мятежной народной злобе против угнетателей, которую партия большевиков направляла в русло классовой борьбы, примешивались иногда проявления темной обиды, жажды разрушения у людей забитых, задавленных несправедливым, насильническим строем капитализма.
Это не обескураживало^ Александра Блока, не пугало его, как очень многих в то время, не закрывало от него величия революции, хотя картина Октября и получилась в его поэме одно
* В. В. Маяковский. Поли. собр. соч. в тринадцати томах, т. 1.
М., Гослитиздат. 1955. — В дальнейшем тексты Маяковского цитируются по этому изданию.
14
сторонней, хотя в ней и не было видно действия главной силы революции — рабочего класса и его партии. А. Блок стремился опоэтизировать революцию по-своему. Образы «ветра», «вьюги», «метели» в «Двенадцати» — органические образы блоковской лирики.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!18 —
этот образ, открывающий поэму, возникает вновь в конце ее, где «ветер с красным флагом разыгрался впереди...» «Сквозной» ветер дует и в лучших созданиях прежней блоковской лирики. В «Двенадцати» он разрастается в «мировой циклон»:
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.. ,19
Это двустишие стало плакатом, выпущенным к 1-й годовщине Октября.
В «Двенадцати» есть отступления, в которых то слышится внутренняя речь персонажей в передаче автора, то предостерегающее вмешательство в их поступки некоего ведущего, может быть, самого автора. Когда драма Петьки и Катьки — драма личная — получает трагическую развязку, автор напоминает своим героям о революционном долге:
Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!20
Маршевая, волевая интонация ясно говорила о позиции самого поэта. Негодование в буржуазно-декадентском лагере и вызвала прежде всего эта политическая позиция, звучащая в блоковской поэме как лирическая нота.
В своем дневнике А. Блок записал 26 января 1918 г.:
«Впечатления от моей статьи («Интеллигенция и Революция»): Мережковские прозрачно намекают на будущий бойкот. Сологуб (!) упоминал в своей речи, что А. А. Блок, «которого мы любили», печатает свой фельетон против попов в тот день, когда громят Александро-Невскую лавру (!)...» 21
«Стрельба по своим» — так пыталась «заклеймить» выступление Блока одна из буржуазных газет, выходивших в те дни22.
В те же дни А. Блок записывает в дневнике:
«Крылья у народа есть, а в уменьях и знаньях надо ему помочь. Постепенно это понимается. Но неужели многие «умеющие» так и не пойдут сюда?» 23
«Двенадцать» были восприняты в 1918 г. в кругах буржуазной интеллигенции как поэтическое свидетельство того, что Александр Блок «перекинулся» к большевикам. В областях, оккупированных немцами по Брестскому договору и захваченных белыми, поэма А, Блока читалась и передавалась из-под полы,
15
как революционная прокламация. У Мариэтты Шагинян в повести «Перемена» есть эпизод, где на подпольном собрании, еще при власти белых на юге России, читаются «Россия и интеллигенция» и «Двенадцать» Блока — заветные книжки, пробравшиеся через фронты и кордоны из Советской России.
*
Если бросить взгляд на общую расстановку литературных сил в стане друзей и врагов Октябрьской революции в первые месяцы после ее победы, то не может не выступить на первый план по охвату своего воздействия на читателя, по необыкновенной активности фигура поэта — большевистского агитатора и просветителя, завоевавшего огромную популярность в солдатской, крестьянской и рабочей среде. Демьян Бедный — «мужик вредный» — так поэт родился на страницах большевистской «Правды».
Слово Демьяна Бедного — коренное русское, толковое, как в пословице, острое, вольное, как в частушке, всегда было обращено к миллионам людей труда. За Демьяном Бедным была сила числа: доходчивость его басен, сказок, песен — таких, как «Батрацкая», «Песня деда Софрона», «Девичья песня», «Казачья песня», как знаменитые. «Проводы», — была огромна.
Если Александр Блок искал пути к народу в своем произведении, посвященном Октябрьской революции, то поэзия Демьяна Бедного, форма его стиха, самый образ поэта органически были связаны с народом, с революцией.
Агитационно-поэтическая работа Демьяна Бедного облегчила в дальнейшем первые шаги Маяковского — «агитатора — горлана — главаря». О своих творческих принципах Демьян Бедный сказал:
Я не служитель муз:
Мой твердый, четкий стих — мой подвиг ежедневный.
Родной народ, страдалец трудовой, Мне важен суд лишь твой.
Ты мне один судья прямой, нелицемерный,
Ты, чьих надежд и дум я выразитель верный, Ты, темных чьих углов я «пес сторожевой»!24
В этом поэтическом «кредо» Демьян Бедный, конечно, бросал вызов буржуазно-эстетскому лагерю. Стихи и басни Демьяна Бедного, множество его брошюр-сборников на самые острые политические темы, выходившие огромными тиражами при острой нехватке бумаги в 1918 г., великолепно выполняли боевые агитационные и просветительские задачи. Для буржуазно-декадентского лагеря Демьян Бедный был вне поэзии. Но он был неправ, говоря о себе: «Я не служитель муз». В той количественно огромной стихотворной продукции, которую должен был давать
16
Демьян Бедный, и давать быстро, объясняя массам политику большевистской партии, выделялись такие произведения и намечались такие принципы, которые сыграли важную роль в развитии советской поэзии.
Перо Демьяна Бедного-сатирика не знало отдыха. Большевистская агитация получила в его лице талантливого поэта с огромным опытом в области политической сатиры.
Многие его басни, особенно актуальные в 1918 г., такие, как «Птицеловы», «Темнота», «Толкователи», «Господская тень», сохраняют и сегодня свое значение образцов боевой политической поэзии.
Нужно помнить, в какой обстановке являлись они. Буржуазные писатели и журналисты немало потрудились для того, чтобы отравить своими писаниями ту атмосферу, в которой строилось молодое Советское государство, как бы подтверждая слова Ленина:
«Когда гибнет старое общество, труп его нельзя заколотить в гроб и положить в могилу. Он разлагается в нашей среде, этот труп гниет и заражает нас самих» 25.
И дальше Ленин говорил о том, что эта «литературная и политическая обстановка» пропитана «миазмами разлагающегося трупа» 26.
В первую половину 1918 г. не были еще закрыты и выходили контрреволюционные газеты — от кадетского «Века» (под этим названием продолжалась «Речь») до буржуазно-анархистской «Жизни», от меньшевистской «Новой жизни» до эсеровского «Дела народа». Отличаясь названиями политических партий, органами которых они именовали себя, все эти газеты лишь прикрывали разными вывесками общую политическую игру буржуазии и ее прихвостней.
Можно ли было нагляднее, чем в «Птицеловах», показать смешное и незавидное положение доверчивых людей, которые шли на приманку «социалистических» лозунгов мелкобуржуазных партий?
Можно ли было, изобразив отношения между обманщиками и обманутыми в виде ловли перепелов, яснее сказать, что за этой «приманкой» не было на самом деле ничего, кроме наглого обмана?
Весною некий птицелов
Ловил перепелов:
Лежал в траве густой часами,
На сети на свои глядел издалека —
Перепела ж ловились сами.
Была ли на сетях приманка велика?
Да ровно никакой! Доверчиво и смело
Шли птицы на привычный зов:
Обманщик ловкий, птицелов
Перепелиный бой подделывал умело!
2 В. Перцов
17
Во второй части басни раскрывается политический смысл этой картинки:
Кто верит всякому «па вид — социалисту», Те уподобятся легко перепелам.
Друзья, судите не по свисту, А по делам!27
Полная точность сопоставления обеспечивала двойной удар: сокрушительный по «птицеловам» — меньшевикам и эсерам, которые еще открыто действовали в 1918 г., — и дружески-предо-стерегающий по легковерным, которые так просто давали себя обмануть. В басне заключался и более глубокий смысл: социализм был той объективной исторической перспективой, которая открывала возможность спасения России, трудящихся масс всего мира, жаждавших мира между народами. Идея социализма, которую несли большевики в массы, становилась все популярнее. Поэтому враждебные партии, только подделываясь под социализм, могли рассчитывать на то, что на их «перепелиный бой» откликнутся миллионы исстрадавшихся людей. Запечатлев типическую ситуацию 1918 г., басня «Птицеловы» отражала опыт политической борьбы труднейших месяцев после Октября.
Особое место в поэзии Демьяна Бедного этого периода занимает разоблачение обмана религии и борьба с теми «духовными пастырями», которые оказались в одном стане с врагами народа. Только человек, испытавший на собственном опыте и видевший своими глазами, к чему приводит народная темнота, мог с такой страстью отдаться делу антирелигиозной пропаганды.
Советская власть специальным декретом провела отделение церкви от государства, предоставив полную возможность верующим исполнять религиозные обряды и отправлять богослужения. Этим воспользовались отдельные «пастыри». «О попе Панкрате и тетке Домне и явленной иконе в Коломне» — так называлось одно из первых крупных повествований Демьяна Бедного на злободневную в то время тему. Подзаголовок раскрывал тему:
«Сиречь — про поповский карман и поповскую совесть Душеспасительная повесть» 28
Сюжетом ее стала торговая сделка попа Панкрата и прожженной ханжи — мошенницы тетки Домны. Купив за трешницу среди старого хлама облупленную икону богородицы и спрятав ее у оврага, у родничка «Вдовьи слезки», поп Панкрат разыгрывает с Домной на исповеди сцену «явления» иконы:
«Не поведала ль мать-богородица, Где икона такая находится?» — «Поведала, отец, поведала,
Поведала, родименькой, поведала!» —
«В нечестивом ли граде, иль в чистом поле (Где обресться иконе приличествует боле)?» — «В поле, отец мой, в поле, В поле, родименькой, в поле!» —
«В открытом ли месте, в овраге ль сокрытом, Родничком целебным омытом?» — «В овраге, отец, в овраге,
В овраге, родименькой, в овраге!» — «Не в овраге ли нашем, у белых березок, У того ль родничка — «Вдовьих слезок»?»— «У «слезок», отец, у «слезок»!
У «слезок», родименькой, у «слезок»!» 29
Этот «святой» диалог не может не вызвать в памяти — пеки-торыми ритмическими совпадениями — некрасовскую «Песню убогого странника»:
Я хлебами иду — что вы тощи, хлеба?
G холоду, странничек, с холоду,
G холоду, родименькой, с холоду!
Я стадами иду: что скотинка слаба? G голоду, странничек, с голоду, G голоду, родименькой, с голоду!30
Сатирический перифраз интонаций трагической некрасовской сцены, где с такой силой звучал щемящий мотив безысходной народной нужды, звучал разоблачающе, подчеркивая бесстыдную спекуляцию на народной темноте.
В антирелигиозной пропаганде Демьян Бедный умел выставить на первый план ее общеполитический смысл.
В марте 1918 г. вышла в свет другая повесть в стихах Демьяна Бедного — «Земля обетованная». Книга эта характерна для своего времени.
Социализм — это «земля обетованная». Подобными выражениями пестрит печать тех лет. И друзья и враги революции пользовались этими «штампами», вкладывая в них одни — положительный смысл для характеристики целей борьбы: создания счастья, действительного «рая» на земле, другие — иронический, для выражения несбыточности, утопичности этих мечтаний. Демьян Бедный, всегда воевавший с лицемерными «толкователями» евангельской легенды, использует религиозные образы по-своему. Он взял старую, привычную форму для выражения нового содержания. Прием этот имел «агитаторское право на существование» 31 (выражение Энгельса). И он оправдал себя на известное время, донося до отсталых крестьянских масс в понятных для них образах смысл современных событий.
2*
19
Горький вспоминает, что Ленин «усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил:
— Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди» 32.
Этот недостаток писателя выражался не только в том, что он равнялся на отсталый эстетический вкус, не стремясь перевоспитать своего читателя, но и в том — одно связано с другим, — что он упрощенно изображал действительность, не раскрывал жизнь в ее глубинных противоречиях и, стало быть, не готовил читателя к их преодолению. Иные стихи его, оправданные «агитаторским правом на существование», существовали недолго, умирали. Упрощение вредило творчеству Демьяна и в первые годы утверждения Советской власти, когда этот недостаток был не так заметен, как впоследствии. Тем не менее Демьян Бедный, как поэт политический, добился многих подлинных поэтических удач в борьбе за идеи нового, советского общественного строя. Он имел полное право сказать о своей работе:
— «Мой твердый, четкий стих — мой подвиг ежедневный...» И с таким же правом он мог высказывать от имени народа свое огорчение по поводу того, что не слышно бодрящего голоса любимого народом великого пролетарского писателя:
В дни рати трудовой святого торжества,
В дни рокового испытанья, Как слышать хочется бодрящие слова Тех, кем народные питались упованья33.
Это стихотворение называлось «Горькая правда». Еще в середине 1918 г. Горький переживал мучительные сомнения и колебания, искал у Ленина помощи, опоры, тех самых «бодрящих слов»... Впоследствии Алексей Максимович вспоминал об этом времени:
«До 18-го года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:
— Драка. Что делать? Каждый действует, как умеет.
Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением» 34.
Общение с Лениным помогло Горькому найти верную дорогу и приблизиться к пониманию огромных созидательных перспектив революции.
В статьях Горького середины 1918 г. чувствовался определенный перелом:
20
«... я защищаю людей, искренность убеждений которых я знаю, личная честность которых мне известна, точно так же, как известна искренность их желания добра народу... о большевиках можно сказать нечто доброе, — я скажу, что, не зная, к каким результатам приведет нас, в конце концов, политическая деятельность их, психологически — большевики уже оказали русскому народу огромную услугу, сдвинув всю его массу с мертвой точки и возбудив во всей массе активное отношение к действительности, отношение, без которого наша страна погибла бы» 35.
Развернув большую культурно-просветительную и редакционную работу по подготовке издания классиков, Горький все же в первые годы после Октября стоял в стороне от активного участия в литературной жизни и организации сил литературы. Этот факт осложнил борьбу за утверждение в литературе передовых реалистических традиций и облегчил возможность временного захвата влияния в литературе людьми, чуждыми ленинским взглядам на задачи революционного искусства.
*
Матросы, красногвардейцы, рабочие, делегаты с фронта и от комитетов бедноты в деревне наполнили битком набитые аудитории, в которых проходили митинги и читались лекции о задачах Советской власти и судьбах революции, о строительстве новой, пролетарской культуры и революционном искусстве. В «Кафе поэтов» на Тверской, где выступали Д. Бурлюк и В. Каменский, тоже можно было встретить эту новую, демократическую публику в странном соседстве с завсегдатаями кафе — «бывшими людьми», оставленными революцией не у дел, спекулянтами, спешно заканчивавшими свои операции, чтобы удрать на гетманскую Украину...
В эти дни из Петрограда приехал Маяковский. Он энергично декларировал свою близость к большевикам. «Наше искусство — искусство демократии», — провозглашал Маяковский. Но у него еще были смутные представления о том, как должно воплотиться это «искусство демократии».
В марте 1918 г. вышел первый номер «Газеты футуристов» под редакцией Д. Бурлюка, В. Каменского и В. Маяковского. Рядом с заголовком был указан «временный адрес» редакции: Настасьинский пер., 1, уг. Тверской, Кафе поэтов. Адрес действительно оказался временным: на первом номере выход газеты прекратился. В газете были напечатаны стихотворения Маяковского «Революция (поэтохроника)» и «Наш марш», а также большой отрывок из поэмы В. Каменского «Стенька Разин — сердце народное». Газета открывалась двумя коллективными декларациями: «Декрет № 1 о демократизации искусства» и «Манифест
21
летучей федерации футуристов». Кроме того, за подписью Маяковского было опубликовано «Открытое письмо рабочим».
Весь тон газеты был окрашен ярким сочувствием Октябрьскому перевороту. Намерения ее участников были самые демократические: «Все искусство — всему народу». Однако лозунг «Да здравствует революция духа», провозглашенный футуристами, хотя и выглядел очень революционно, на деле был тем же отрицанием культурного наследия прошлого, которое характеризовало футуристов и до Октября.
Маяковский, как сказано, обратился к рабочим с «Открытым письмом» по вопросам искусства. В этом письме очень сильны футуристически-нигилистические ноты, теоретически оно крайне путаное, поэт отождествляет, например, в нем социализм с анархизмом. Тем не менее пафосом этого обращения к рабочим было стремление поставить новое творчество в такие условия, при которых оно не просто копировало бы классиков, а открывало новые пути. Характерно для момента следующее предупреждение:
«Да хранит вас разум от физического насилия над остатками художественной старины. Отдайте их в школы и университеты для изучения географии, быта и истории, но с негодованием оттолкните того, кто эти окаменелости будет подносить вам вместо хлеба живой красоты».
Отказывая классическому наследию в его живом человеческом и эстетическом значении, Маяковский продолжал отстаивать вульгарно-социологические, как мы бы теперь сказали, взгляды футуристов. Однако наряду с этим поэт правильно обрушивался на пережитки буржуазного эстетизма, которые осложняли рождение социалистического искусства.
«В мелочных лавочках, называемых высокопарно выставками, торгуют чистой мазней барских дочек и дачек в стиле Рококо и прочих ЛЮДОВИКОВ. ..»
Характерно, что в поэме «Во весь голос», бичуя пережитки эстетизма в советской поэзии, Маяковский писал:
Засадила садик мило дочка, дачка, водь и гладь.. .36
Вдохновенный призыв к созданию «хлеба живой красоты» Маяковский адресовал к «искусству молодости», к вздыбленной революцией стихии «здорового, молодого, грубого искусства».
Естественно, что атмосфера кафе, где подвизались на открытой эстраде различного рода «ничевоки», не могла удовлетворить Маяковского. «Каждая группа — три трупа... », — издевался он. В письме к Л. Ю. Брик он писал:
22
«Кафе омерзело мне. Мелкий клоповничек. Эренбург и Вера Инбер слегка еще походят на поэтов...» 37
Как только представилась возможность, он поспешил издать поэму «Человек» и выпустил второе, бесцензурное издание поэмы «Облако в штанах». Обе книги вышли в свет во второй половине февраля 1918 г. под маркой издательства «Асис» — «Ассоциация социалистического искусства». Кроме марки, никаких других признаков у этого издательства не было, но, по-видимому, Маяковский получил в Наркомпросе разрешение на его организацию. «Облако в штанах» вышло с наклейкой на обложке: «2-е изд. без цензуры». В предисловии Маяковский писал:
«Второму изданию
«Облако в штанах» (первое имя «Тринадцатый апостол» зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся.) считаю катехизисом сегодняшнего искусства. «Долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» — четыре крика четырех частей.
Долг мой восстановить и обнародовать эту искаженную и обез-жаленную дореволюционной цензурой книгу».
Этим как бы подводился итог сделанному до Октября. Подобно Демьяну Бедному, переиздававшему свои дореволюционные сатиры, Маяковский имел все основания считать свои поэмы действенными, направленными против зла, еще не уничтоженного революцией. И купец-спекулянт, и алчный хапатель-кулак, и контрреволюционный идеолог не были выбиты со своих позиций в хозяйстве и культуре. Поэтому «Дерунов 1001-й» — «Хроника в баснях с эпилогом», написанная Демьяном Бедным в предреволюционные годы, оказывалась злободневной и в 1918 г.
Между тем жизнь давала десятки новых, необыкновенных тем. Однако в номерах «Сан-Ремо» в Салтыковском переулке, где поселился в Москве Маяковский, новые стихи не писались. «Стихов не пишу, — говорит он в письме, относящемся к апрелю или маю 1918 г., — хотя и хочется очень написать что-нибудь прочувственное про лошадь» 38.
Зато в одном из писем, написанном несколько раньше, по-видимому, в марте — апреле, поэт сообщал:
«Единственное развлечение — играю в кинемо. Сам написал сценарий. Роль главная...» 39
И еще в другом письме:
«Кинематографщики говорят, что я для них небывалый артист. Соблазняют речами, славой, деньгами...» 40
Вспоминая о своих встречах с Маяковским, один из киноработников пишет, что после победы Октября большинство театров оставались частными, владельцы больших и малых киноателье продолжали фабриковать салонные любовные драмы. И в эту кинематографию, где все еще царили «короли экрана» —
23
Мозжухин, Вера Холодная, Максимов, Рунич, — пришел Маяковский41.
Маяковскому давно нравился автобиографический роман Джека Лондона «Мартин Иден». Сценарий, о котором он сообщал в письме, и был переделанный Маяковским для экрана этот роман Джека Лондона. Сценарий назывался «Не для денег родившийся». Маяковский играл в нем главную роль, поэта Ивана Нова (Иван-нова) — так был переименован на русский лад герой джеклондоновского романа. Картина ставилась частной кинофирмой «Нептун». Владелец фирмы Антик, издатель популярной в свое время «Универсальной библиотеки», не мог допустить такой роскоши, как репетиции. В какой-нибудь месяц «Не для денег родившийся» был закончен и в конце апреля выпущен на экран. В кино «Модерн» (ныне «Метрополь») был устроен торжественный просмотр фильма. Хозяину фирмы картина не понравилась. В. Шкловский, присутствовавший на этом просмотре, вспоминает:
«Когда хозяин спорил с Маяковским, тот хладнокровно отвечал: — Вы знаете, я могу в крайнем случае писать стихи» 42.
И оставался работать в кинематографе у того же хозяина. Картина «Не для денег родившийся» самого Маяковского тоже не удовлетворяла. Ему не удалось осуществить свой замысел, постановщик картины, ремесленник буржуазного кино, оказался сильнее. Сокрушительная издевка поэта над штампами коммерческой кинематографии разбивалась о тупое сопротивление режиссера, желавшего потрафить той буржуазной публике, которая еще оставалась в стране.
Картина демонстрировалась в 1918 г. во многих городах РСФСР. Ни один экземпляр ее, к сожалению, не разыскан. По воспоминаниям участников картины, Маяковскому удалось создать, несмотря на крупные недостатки постановки в целом, запоминающийся трагический образ джеклондоновского героя. Трактовка этого образа Маяковским-актером оправдывала вступительную надпись ленты:
«Не для денег родившийся»
Инсценировка романа Джека Лондона «Мартин Иден» в понимании Маяковского.
В чем был смысл этого понимания? Об этом можно судить по заметке в журнале «Мир экрана», излагавшей содержание фильма. Авторство этой заметки приписывается Маяковскому:
«Когда гениальный человек, пройдя сквозь строй нужды и непризнания, добьется громкой славы, — нас интересует каждый штрих, каждый анекдот его жизни. Мы забываем, что, выброшенный бурей борьбы на тихий берег благополучия, он только ест и отлеживается, как чудом спасшийся от кораблекрушения.
24
Джек Лондон в романе «Мартин Иден» первый провел фигуру гениального писателя по всей его удивительной жизни. К сожалению, огромный и сильный Иден испорчен плаксивым концом. В своем киноромане «Не для денег родившийся» Маяковский дает Ивана Нова; это тот же Иден, только сумевший не быть сломленным под тяжестью хлынувшего золота» 43.
Один из участников картины вспоминает:
«Маяковскому нравился этот роман, ему казалось, что в судьбе героя этого романа есть что-то общее с ним.
Выходец из бедной семьи, молодой человек, с огромной силой воли и верой в жизнь, талантом и упорством добился вершины славы, сделавшись крупным, знаменитым писателем.
Маяковский взял в основу этот роман, многое в нем переделал, особенно в финале, перенес его на русскую почву и сделал сценарий о русском поэте, который, преодолевая препятствия и борясь с рутиной, приходит к славе и богатству. Но, достигнув славы, он разочаровывается во всем, что его окружает: он ищет правды и не находит ее, он стремится к истинной, идеальной, любви, но эта любовь оказывается мелкой, недостойной его. Все это приводит его к мысли о самоубийстве, но вера в жизнь спасает его, он симулирует самоубийство, сжигает свою богатую одежду, снова надевает рабочий костюм и уходит в неизвестность» 44.
Об этих своих киносценариях Маяковский так отзывался впоследствии:
«...сценарии «Барышня и хулиган» и «Не для денег родившийся» — сентиментальная заказная ерунда... Ерунда не тем, что хуже других, а что не лучше... Режиссер, декоратор, артисты и все другие делали все, чтобы лишить вещи какого бы то ни было интереса».
Работа Маяковского над сценарием «Не для денег родившийся» и участие в съемках в роли Ивана Нова заполнили целиком весенние месяцы 1918 г. Еще в поэме «Облако в штанах» образ Джека Лондона был близок Маяковскому.
Вы говорили:
«Джек Лондон, деньги, любовь, страсть», — а я одно видел: вы — Джиоконда, которую ладо украсть!
В романе Джека Лондона Руфь — капризная девушка из богатого дома — упрекает влюбленного в нее молодого писателя Мартина Идена, вышедшего из народных низов, в том, что он пишет такие вещи, которые невозможно продать. Маяковский
25
йе мог йе чувствовать родства с теми творческими принципами, которые защищал Мартин Иден:
«—Они все хотят общепринятого, — запальчиво возразил Мартин, раздраженный упоминанием о своих врагах-редакторах, пока что продолжающих побеждать его. — То, что существует, считается не только правильным, но и самым лучшим. Существование чего-нибудь считается уже и доказательством того, что это должно существовать, и — заметьте, — существовать не только при данных условиях, а на веки вечные» 45.
Руфь требовала от Мартина Идена литературного стиля, привычного людям ее круга:
«—...почему этот Вики-Вики так ужасно выражается? Ваши читатели, наверное, будут шокированы его лексиконом, и, конечно, редакторы будут правы, отвергнув этот рассказ.
— Но ведь настоящий Вики-Вики говорил именно так.
— Это дурной вкус.
— Это жизнь! — воскликнул Мартин. — Это реально. Это правда. Я могу описывать жизнь только такой, какою ее вижу» 46.
Руфь не прочь поиздеваться над романтически настроенным молодым мечтателем, отстаивающим свое право писать правду.
Маяковский нарисовал плакат к фильму «Не для денег родившийся», изобразив героя картины в позе Лаокоона, который борется с обвившимся вокруг него и сдавливающим его в своих смертельных объятиях удавом — символом капитализма. Все тело удава членилось на чешуйки — квадратики с цифрой «40» — сорокарублевые керенки, которые еще были в ходу.
Работа над образом Мартина Идена увлекала поэта живым пафосом его собственных предреволюционных поэм с их протестом против «золотоворбта франков, долларов, рублей, крон, иен, марок...»
Более случайный характер имела инсценировка повести итальянского писателя Эдмондо д’Амичиса «Учительница рабочих». Поэт назвал свой сценарий «Барышня и хулиган», но, когда картина вышла на экраны, первоначальное название было восстановлено. Эта картина сохранилась. Мы видим Маяковского таким, каким он был в 1918 г. Главную роль молодого парня, влюбившегося в учительницу школы для взрослых, исполнял поэт. Картина показывала перерождение героя под влиянием любви. В развязке картины происходит драка. Герой смертельно ранен и умирает на руках у любимой девушки.
По д’Амичису, умирающий разрешает своей любимой допустить к нему священника. Маяковский выбросил это место из сценария. Но по настоянию хозяина фирмы священник в конце фильма появлялся. Снимали эту картину, как и «Мартина Идена», без репетиций и состряпали ленту в несколько дней. Всем этим и объясняется пренебрежительное отношение Маяковского к «сентиментальной заказной ерунде».
26
По-видимому, «заказная ерунда» кинофирмы «Нептун» начинала тяготить Маяковского. Вся страсть, все старания, которые вкладывал он как автор сценариев и киноактер, беря на себя функции сорежиссера и не гнушаясь никакой черновой технической работой, чтобы улучшить художественные качества картины, — все это шло прахом, делалось не то и не так, как он хотел. Он сделал еще одну попытку кинопостановки в той же кинофирме по своему оригинальному сценарию. Оттолкнувшись от специфических выразительных возможностей языка кино, которые в ту пору были еще в новинку, Маяковский написал фантастическую кинопьесу «Закованная фильмой». Молодой художник, увидев фильм «Сердце экрана», влюбился в героиню картины — балерину. И вот она сходит к нему с экрана в реальный мир, у нее возникает роман с художником. Маяковский исполнял роль художника, исполнительницей роли балерины была Л. Ю. Брик. Она так передает содержание этой своеобразной по замыслу картины:
«.. .условная женщина живет среди живых людей. Но экранным людям без нее скучно. Они подстерегают ее и опять ловят ее на пленку, а живой человек бросается в поиски за ней, проникает в заэкранную жизнь. И вот он, живой трехмерный человек, среди киноперсонажей — ковбоев, сыщиков и т. д.» 47
Возможно, что наряду с увлекшим его техническим трюком — «игрой в кино», — у Маяковского был замысел сатирически показать традиционных персонажей буржуазной кинематографии.
И эта картина была вконец испорчена халтурной постановкой. Впоследствии Маяковский писал: «Постановка тем же «Нептуном» обезобразила сценарий до полного стыда».
Хотя кинопромышленность в 1918 г. еще не была национализирована, уже был создан Московский кинокомитет. Маяковский хотел принять участие в работе комитета, но его сценариям не везло, они не проходили в отделе рецензий. Он хотел сниматься в качестве киноактера. Один из работников кинокомитета вспоминает:
«Мы ставили новую агитку антирелигиозного содержания — «О попе Панкрате и тетке Домне и явленной иконе в Коломне». Трудно было подобрать исполнителей этого сценария. Три раза мы должны были заменять актрис, игравших тетку Домну: как дойдет до сцены в церкви у аналоя, так артистки не выдерживают и сбегают... Вдруг новый срыв — сбежал «поп»... Тут-то Маяковский и хотел взять эту роль себе...» 48
Неудачные опыты работы в «кинемо» набили оскомину. Маяковский прощался с Москвой. Он объявил об этом в афише своего вечера 1 мая 1918 г. в кафе «Питтореск». В конце мая он выступал с чтением «Войны и мира» в Политехническом музее после лекции Луначарского «Новое искусство и его пути».
27
*
Маяковский не мог работать в пол силы, чем бы он ни занимался. К своей работе киноактера он относился абсолютно добросовестно, аккуратнейшим образом являясь каждый день в ателье «Нептун» в Самарском переулке. Но однажды он не пришел. По воспоминаниям кинооператора, снимавшего эту картину, «...в разгар киносъемок, происходивших бесперебойно день за днем, Маяковский не появился в Самарском переулке.
Его искали на квартире, обошли всех знакомых, спрашивали о нем всюду, где он бывал или мог побывать, — Владимира Маяковского в Москве обнаружить не удалось.
С утра в ателье собрались участники постановки, нервничали хозяева, простаивал павильон, слонялись без дела люди...
Но вскоре поэт снова появился в ателье «Нептун»...
— Куда вы испарились, Владимир Владимирович? Куда исчезали?..
— Работал. Пришла потребность делать стихи, выкроил себе время. Я говорил вам, помните?» 49.
По-видимому, Маяковский писал то самое «прочувственное про лошадь», о замысле которого он сообщал в одном из писем месяца за два перед тем. Стихотворение называлось «Отношение к лошадям» и появилось в московском издании газеты «Новая жизнь» 9 июня 1918 г. Это было первое стихотворение Маяковского, написанное им в Москве. Впоследствии оно получило название «Хорошее отношение к лошадям».
Хотя это название можно было принять как своего рода шутку, характерную для Маяковского, но под нею пряталось глубокое сострадание к живому существу, которое, надрываясь под непосильной ношей, само не может даже пожаловаться.
Ветром опита, льдом обута, улица скользила. Лошадь на круп грохнулась...
Безразличие людей к чужому горю, обычное для нравов буржуазного общества, Маяковский воспринимал болезненно. В свое время в сатириконском стихотворении «Дешевая распродажа» поэт объявил, что готов отдать все богатства своей души «за одно только слово, ласковое, человечье». Но тогда эта «дешевая распродажа» драгоценных богатств души не состоялась. И поэт объяснял в заключение:
За человечье слово — не правда ли, дешево? Пойди
28
попробуй, — как же, найдешь его!
И вот теперь ласковое, человечье слово нашлось. Его сказал поэт, один, против всей толпы, сделавшей себе любопытное зрелище из чужого горя:
Лошадь на круп
грохнулась, и сразу за зевакой зевака, штаны пришедшие Кузнецким клёшить. сгрудились, смех зазвенел и зазвякал: — Лошадь упала! — — Упала лошадь! — Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел и вижу глаза лошадиные...
Улица опрокинулась, течет по-своему...
Кузнецкий, который «смеялся», —- это те же оставшиеся не у дел «зеваки», которые заполняли и помещавшееся рядом на Кузнецком кафе «Питтореск», где Маяковский часто выступал. «Штаны пришедшие Кузнецким клёшить» — деталь, подчеркивающая «модные» в то время «брюки-клёш», служит и средством социальной характеристики. Только одна деталь, подобно блоковской «гетры серые носила». Если достаточна только эта деталь в динамическом неологизме «клёшить», то ясно, что речь идет о праздношатающихся, которым как-то удалось ускользнуть, удрать от общего дела, о той распущенной, самоуверенной буржуазной толпе, которая готова посмеяться над всяким, изнемогавшим под тяжестью времени.
Подошел и вижу — за каплищей каплища по морде катится, прячется в шерсти...
Зачем в соседних строфах повторены дважды одни и те же слова: «Подошел и вижу»? Затем, чтобы этим удвоением продлить, задержать в восприятии силу потрясающих первых впечатлений, которые отдалены друг от друга, может быть, одной
29
секундой: «течет по-своему» опрокинутая улица в глазах лошадиных, текут слезы «за каплищей кап л ища...»
Образ невыносимой тяжести обобщен поэтом в картине заурядного уличного происшествия, образ, как-то связанный с тем, что переживал весь народ.
Стихотворение Маяковского — не «отклик», это продолжение старого разговора и лишь начало нового в совершенно изменившейся общественной обстановке. Нужно было сказать отчаявшимся слово «ласковое, человечье». Таким простым, уважительным оптимизмом — с обращением к упавшей лошади на «вы» — разрешалась сцена на Кузнецком:
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте — чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь». Может быть, — старая — и не нуждалась в няньке, может быть, п мысль ей моя казалась пошла, только лошадь рванулась, встала па ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала. Рыжий ребенок. Пришла веселая, стала в стойло. И все ей казалось — она жеребенок, и стоило жить, и работать стоило.
Конечно, оптимистическая философия «Хорошего отношения к лошадям» была еще слишком неопределенна. Тем не менее чудесное «омоложение» утверждало идею гуманизма, идею победы жизни.
По случайному совпадению стихотворение Маяковского появилось в том же номере газеты «Новая жизнь», где был напечатан очерк А. М. Горького с аналогичным сюжетом об упавшей лошади, озаглавленный «В больном городе». Очерк Горького рассказывает об уличном происшествии в Петрограде. Все повествование окрашено в угрюмые тона:
«Лошадь, истощенная трудом и голодом, упала на кучу торца;
30
острые углы дерева впиваются ей в бок, переломленная оглобля колет вздутый живот. Лошадь плачет, вялые веки судорожно выжимают из мутных глаз большие, грязноватые слезы.
Ее окружает толпа угрюмых людей, которым, видимо, некуда спешить: они говорят о том, что лошадь стара, воз нагружен не по силам ей; извозчик, присев на тумбу, рассказывает о дороговизне корма и пророчит:
— Скоро все поумираем от бескормицы. И люди — тоже.
Кто-то из толпы сказал:
— Крысы уже начали.
Бегают дети, таская откуда-то пучки травы, выдранной из земли с корнями, в траве желтеют наивные звезды^ одуванчиков. Приседая на корточки перед вытянутой мордой лошади, они суют траву и цветы в тряпичные губы, боязливо отдергивают маленькие ручонки от широких серых зубов.
Это так же трогательно, как если бы человеку, умирающему в тяжких муках, читали нежные лирические стихи.
Лошадь механически жует, делая бессильные, безуспешные попытки сдвинуть бок с острых торцов.
— Ишь, как бьется, — басом говорит один из внимательных зрителей мучений животного.
По небу плывут тяжелые обрывки серых облаков, между ними сквозит синева небес, чисто выметенная зимними вьюгами, вымытая дождями.
Подошел высокий глянцевитый негр в смешном клетчатом пальто, в огромных желтых ботинках, с трубкою в зубах; он взглянул через головы зрителей белками маслянистых глаз, спрятал трубку в карман и легко раздвинул людей чугунными руками, говоря:
— Пардон... пардон...
Присел на корточки, ловкими движениями атлета выровнял торцы под боком лошади, выпрямился и, скорчив гримасу, вращая черными зрачками, сказал, ударив себя ладонью по боку:
— Бол! Нэт караш!
Потом указал на лошадь черным толстым пальцем, добавляя: — Малэнки мэнче бол!
Прикоснулся пальцем к измятой шляпе на курчавой голове и, широко улыбаясь губами цвета темной вишпи, пошел прочь, сунув трубку в свои белые плотные зубы.
— Ишь какой! — сказал вслед ему угрюмый бас. А еще кто-то равнодушно заметил:
— Он сам тоже вроде жеребца» 50.
В горьковской бытовой зарисовке «больного города» ошеломляет равнодушие толпы, равнодушие и к мучениям животного и к гуманному поступку негра.
Какие страдания и муки могли породить столь ужасающее безразличие к страданиям, как бы вопрошает Горький-гуманист.
31
«В больном городе» — скорбный протест слышится в самом названии очерка. Позиция Маяковского более активна. Но как ни различна эмоциональная трактовка заурядно типичного уличного происшествия у Маяковского и Горького, глубокий гуманизм роднит обоих писателей. Есть свидетельство, что Горький любил это лирическое стихотворение Маяковского 51.
... И в эти дни страданий и мук народных, когда особенно важно было правдиво показать массам смысл мероприятий новой государственной власти, объяснить людям неизбежность и оправданность тяжелых жертв, на которые нужно было идти ради спасения родины и революции, враждебные газеты занимались фантастическими измышлениями о действиях Советского правительства.
В газете «Голос трудового крестьянства», находившейся тогда в руках «левых» эсеров, партии, в прошлом связанной с революцией, но вскоре же после взятия власти большевиками перешедшей на сторону контрреволюции, была напечатана лживая информация в связи с подписанием Брестского договора с Германией:
«Не так давно они (немцы. — В. П.) предъявили ультимативное требование отправить в Германию на миллиард рублей мануфактуры.
И вот по интендантским складам, по магазинам Москвы и других городов идет спешная реквизиция товаров не для обмена их на хлеб, не для удовлетворения насущных потребностей деревни, а для удовлетворения зазнавшихся германских империалистов, свивших себе прочное гнездо под стенами московского Кремля.
Через несколько недель мы должны отправить в Германию на второй миллиард мануфактуры» 52.
Что это значило для страны в то время, можно представить себе по одной реалистической детали в блоковских «Двенадцати»:
От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному собрапито!»
Старушка убивается — плачет,
Никак пе поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят, А всякий — раздет, разут.. .53
Понятно, какое впечатление приведенная заметка о мануфактуре могла произвести на раздетых, разутых, голодных людей. С болью говорил Ленин, прямо указывая на эту ложь враждебной газеты, в докладе на V Всероссийском съезде Советов:
32
«Нельзя не знать рабочим и крестьянам, каких невероятных усилий, каких переживаний стоило нам подписание Брестского договора. Неужели нужны еще сказки и вымыслы, чтобы раскрасить тяжесть этого мира... » 54
В этой обстановке, где миазмы разлагающегося трупа старого общества затрудняют дыхание, в этом тяжком воздухе лета 1918 г., где слышатся озлобленные хулы и изрыгаются проклятья по адресу большевиков, Маяковский возносит свою «Оду революции» — первое после Октября стихотворение, отмеченное чертами политической конкретности. Этот характер «Оды» в особенности заметен в сравнении с «Нашим маршем» — восторженным, но отвлеченным выражением сочувствия Октябрю.
Когда была написана «Ода революции»? Этот вопрос имеет значение для того, чтобы представить себе характер творческого развития поэта в 1918 г.
Хотя «Ода революции» и появилась в том номере петроградского журнала «Пламя», который вышел в свет к первой годовщине Октября, но нужно сразу же исключить предположение, что она писалась специально к этой дате. Это явствует из всего содержания «Оды», в котором нет никакого подведения итогов, никакого «юбилейного» указания или намека. Между тем торжественный жанр, в котором написано данное стихотворение, — если бы оно писалось специально к дате, — повлек бы за собой указание в тексте, в той или иной форме, на первую годовщину Октября.
Известно, что жанр оды как восхваления, прославления важного государственного лица или события характерен для поэзии русского классицизма XVIII в.; в XIX, а тем более в XX в. поэты не обращались к этому жанру иначе, как пародийно. Тем острее этот жанр эпохи классицизма, взятый Маяковским всерьез в «Оде революции», тем ярче его полемическая направленность в условиях 1918 г.:
Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями, тебе, изъязвленная злословием штыков, восторженно возношу над руганью реемой оды торжественное
«О»!
«Ругань реемая» — это вакханалия буржуазных газет, клеветавших на революцию. Это стилизаторская свистопляска буржуазно-декадентского литературного лагеря, лагеря плакальщиков по Учредительному собранию.
3 В. Перцов
33
Поэт напоминает контрастные оценкй револ!оцйи враГамй й друзьями:
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали? —
и переходит к важнейшей проблеме противоречий революции, решая ее на двух темах, обобщающих опыт первой половины 1918 г.: на теме созидания — разрушения и на теме пролетарского гуманизма.
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой, грудой развалин? —
ставит вопрос поэт. И отвечает на него в духе постоянных ленинских высказываний тех месяцев, где возвеличивается дисциплина труда, но и делается предупреждение о том, что нам придется ломать отчаянное сопротивление «эксплуататоров всех рангов, всех мастей, всех цветов и ориентаций» 55.
Революция принуждена разрушать, ее не могут испугать «груды развалин», если необходимо сломить сопротивление врага, как это произошло, например, в дни Октября, когда нужно было выбить из Кремля засевших там юнкеров. Но чего стоит «святость» лицемерных миротворцев перед подлинной человеческой святостью социалистического труда, созидания:
Машинисту,
пылью овеянному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно, славишь человечий труд.
Таков исполненный диалектики ответ поэта на вопрос о «дву-ликости» революции. Еще более глубок ответ на вопрос о гуманизме и «жестокости» революции. Этот вопрос особенно остро стоял в первой половине 1918 г., когда большевики должны были отказаться от каких бы то ни было иллюзий в отношении своих политических противников.
Факты бешеного сопротивления эксплуататоров, контрреволюционного саботажа буржуазии заставляют Ленина сказать на III Всероссийском съезде Советов 12 января 1918 года:
«Если мы виноваты в чем-либо, то это в том, что мы были слишком гуманны, слишком добросердечны по отношению к чудовищным, по своему предательству, представителям буржуазноимпериалистического строя» 56.
34
Напряжение классовой борьбы все нарастает. И в речи па митинге 7 апреля 1918 г., говоря о предательстве меньшевиков и эсеров — приказчиков международного империализма, Ленин разоблачает лицемерное требование «гуманизма»:
«Когда мы применяем расстрелы, они обращаются в толстовцев и льют крокодиловы слезы, крича о нашей жестокости. Они забыли, как вместе с Керенским гнали рабочих на бойню, спрятав в кармане тайные договоры. Они забыли об этом и превратились в кротких христиан, пекущихся о милосердии» 57.
На V Всероссийском съезде Советов, собравшемся в неимоверно тяжелые дни лета 1918 г., Ленин подводит итог развитию этой мысли:
«Восстания кулаков захватывают все новые области. На Дону Краснов, которого русские рабочие великодушно отпустили в Петрограде, когда он. явился и отдал свою шпагу, ибо предрассудки интеллигенции еще сильны и интеллигенция протестовала против смертной казни, был отпущен из-за предрассудков интеллигенции против смертной казни. А теперь я посмотрел бы народный суд, тот рабочий, крестьянский суд, который не расстрелял бы Краснова, как он расстреливает рабочих и крестьян»58.
Так стоял вопрос о пролетарском гуманизме в самой действительности. В своей «Оде революции» Маяковский решал этот вопрос, по-видимому, соединяя в своем образе так называемые «эксцессы», имевшие место в Гельсингфорсе в первые недели марта 1917 г., и факт героического сопротивления немецкому наступлению линейного корабля русского флота в Рижском заливе в октябре 1917 г.:
«Слава»
хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков на тонущий крейсер, туда, где забытый мяукал котенок. А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Любопытно, что Горький в одной из своих статей, написанной в форме ответа на вопрос некоей буржуазной дамы, возмущенной жестокостью революции, — «Христа забыли, его учение осквернили. .. Что стало с добрым русским народом?» — использует
3*
35
деталь, напоминающую забытого котенка и адмиралов в «Оде революции» :
«Как можете вы искать милосердия и сочувствия в сердце, в котором вы посеяли месть? Сударыня! В Киеве добрый старый русский народ выбросил из окна известного фабриканта Бродского. Выбросил и гувернантку, но крошечную канарейку в клетке он пощадил. Подумайте над этим. Маленькая птичка возбудила в нем жалость в такой момент. Очевидно, в возмущенных сердцах есть место для жалости, — но не к человеческим существам, так как в данном случае они не заслуживали ее. Вот в чем ужас и трагедия» 59.
У Маяковского эмоциональная оценка этих противоречий революционной действительности другая. Обращаясь к революции, он заканчивает «Оду» утверждением:
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! — и мое, поэтово,
— о, четырежды славься, благословенная!
Когда же это было написано?
Факты, на которые опирался Маяковский в «Оде революции», обобщены. Эпизод с адмиралами — «вниз головой с моста в Гельсингфорсе» — характерен. В феврале 1918 г. в петроградской «Красной газете», выходившей под редакцией Володарского, были напечатаны за подписью «Деда Софрона внук из Великих Лук» такие энергичные строки:
Мы этих офицеров стреножим, Сумеем заткнуть им пасть. Натерпелись мы от них всласть. Мало бросали их с моста в воду.
Если вспомнить, что Гельсингфорс был оставлен нашими частями в апреле 1918 г., и если учесть, что атака буржуазных газет на Советскую власть с особенной яростью развернулась после Брестского мира, то «Оду революции» по времени ее написания следует признать откликом и ответом на эти события.
После убийства Володарского — в конце июня 1918 г. — со всей остротой встал вопрос о красном терроре.
Покидая Москву во второй половине июня 1918 г., Маяковский определил свое отношение к тем «интеллигентским предрассудкам», о которых говорил Ленин. Автор «Оды революции» открыто вознес свое «поэтово» благословение беспощадной классовой борьбе рабочих и крестьян против озверелых эксплуататоров, которые вовсе не собирались сложить оружие. Они вооружались на деньги иностранных империалистов, начав свои подлые убийства из-за угла. 30 августа в Петрограде был убит Урицкий. В тот же день в Москве, при выходе с завода Михельсона, после выступления на собрании рабочих был тяжело ранен Ленин.
2 РОЖДЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
Тяга масс к освоению культуры прошлого и самостоятельному культурному творчеству. Пролеткульт. Работа над «Мистерией-буфф» в Левашове. Отношение А. В. Луначарского к новой пьесе Маяковского. Сюжет «Мистерии-буфф» и «Двенадцать» А. Блока, «Инония» С. Есенина, «Красное евангелие» В. Князева. Борьба за постановку пьесы к первой годовщине Октября. Роль искусства в Советском государстве в понимании Маяковского. Патриотический пафос первой советской пьесы и нападки на Маяковского со стороны буржуазной интеллигенции. «Левый марш» и новаторство Маяковского,
В марте 1918 г. IV Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал мирный советско-германский договор, заключенный в Брест-Литовске. Вступил в силу тот самый неимоверно тяжелый Брестский мир, который Ленин называл «похабным». Ценою его была куплена «передышка». Ленин считал необходимым максимально использовать передышку для того, чтобы приступить к построению фундамента социалистической экономики.
Фабрики и заводы переходили в руки молодого Советского государства. В деревне проводились учет и конфискация хлеба у кулаков, перераспределение конфискованных земель и распределение хозяйственного инвентаря крепко взявшей в свои руки власть беднотой, организованной против кулаков в комбедах. Руководя работой масс в строительстве новой жизни, партия большевиков с огромным вниманием присматривалась к социалистическому творчеству самих масс.
С какой радостью открывал Ленин каждую крупицу нового опыта, можно судить по известной высокой оценке, данной им книге Александра Тодорского «Год с винтовкой и плугом», изданной в уездном городке Весьегонске к годовщине Октябрьской революции. В особенности понравилось Ленину то, что «экспроприация экспроприаторов», об опыте которой рассказывал А. То-дорский, выразилась не в отстранении бывших собственников от работы, а, наоборот, в привлечении их к налаживанию хозяйства,
37
в использовании их знаний для целей социалистического созидания.
В борьбе с голодом и хозяйственной разрухой, оставленной империалистической войной, в налаживании хозяйства на новых: началах громадное значение приобретал социалистический план. Сознание этого уже зарождалось в рабочих массах. Во второй половине 1918 г. в Петрограде вышла книжка «Как рабочие' строят социалистическое хозяйство». Она рассказывала о первом' опыте создания плана работы нескольких крупных металлообрабатывающих заводов Петрограда на вторую половину 1918 г. — Адмиралтейского и Невского судостроительных, механического» Обуховского.
Важно было то, что вопрос о планировании народного хозяйства был поставлен самими массами еще до того, как государство смогло поставить его во всей широте. Вопрос этот поднимался* стихийно, снизу, выражая волю рабочих, начиная со своего» участка трудового фронта, распространить идею плана на весь, процесс созидания материальных ценностей.
Социалистическое строительство — это мирное строительство, вот в чем был пафос этой книжки, изданной Советом народного хозяйства Северного района. И характерно, что, несмотря на многие признаки, которые вызывали в народе чувство тревоги за прочность передышки, рабочие этих петроградских заводов так планировали во второй половине 1918 г. расход металла: из каждых 100 пудов пять — на изготовление военного снаряжения, 95 — на изготовление предметов мирного обихода. В 1916 г. соответствующие цифры на тех же заводах были 88 и 12. Едва ли можно было сказать о воле к миру более красноречиво, чем о ней говорило сопоставление в этой книжке цифр 1916 г. и впервые планируемого 1918 г., приведенное в наглядной диаграмме, изображавшей маленькую пушку и большой локомобиль. Мощно нарастали темпы хозяйственной деятельности молодого Советского государства, национализировавшего одну отрасль промышленности за другой.
В марте 1918 г. состоялся VII съезд партии. В числе важнейших решений, принятых съездом, были резолюции о выработке новой программы партии и о войне и мире.
«Программа должна указать, что наша партия не откажется от использования и буржуазного парламентаризма, если ход борьбы отбросит нас назад, на известное время, к этой, превзойденной теперь нашей революцией, исторической ступени. Но во всяком случае и при всех обстоятельствах партия будет бороться за Советскую республику, как высший по демократизму тип государства и как форму диктатуры пролетариата, свержения ига эксплуататоров и подавления их сопротивления.
В том же духе и направлении должна быть переработана экономическая, в том числе и аграрная, а равно педагогическая и 38
йрочие части нашей программы- Центр тяжести должен состоять в точной характеристике начатых нашей Советской властью экономических и других преобразований с конкретным изложением ближайших конкретных задач, поставленных себе Советской властью и вытекающих из сделанных уже нами практических шагов экспроприации экспроприаторов» *.
В резолюции о войне и мире съезд указывал на неизбежность исторического приближения России к освободительной, отечественной, социалистической войне2.
Добившись прекращения войны с Германией в марте 1918 г., Советская республика оказалась едва ли не сразу же перед непосредственной опасностью новой войны и интервенции со стороны стран Антанты — бывших союзников царской России в империалистической войне.
9 марта 1918 г. в Мурманске появились английские солдаты, прибывшие на английском крейсере «Глори». 14 марта к нему присоединился английский крейсер «Кокрен» и французский крейсер «Адмирал Ооб». Этой вооруженной экспедицией «союзников» к Мурманскому берегу открылись наглые действия интервентов, стремившихся захватить русский Север.
Заговоры и предательства, организация убийств вождей рабочего класса и подготовка вооруженных сил контрреволюции внутри страны, широкая материальная помощь «союзникам» в организации интервенции против Советской России — все это направлялось из-за океана самой крупной силой международного империализма — Америкой. Ленин разоблачал бывших «союзников».
«... англичане и американцы выступают в качестве палачей и жандармов русской свободы, как эта роль выполнялась при российском палаче Николае I, не хуже королей, которые исполняли роль палачей, когда они душили венгерскую революцию. Теперь эту роль взяли агенты Вильсона» э.
Только что вырвавшись из империалистической бойни, рабочие и крестьяне на опыте убеждались в необходимости подготовки к новой войне для защиты социалистического отечества. В письме объединенному заседанию ВЦИК и Московского Совета с представителями фабрично-заводских комитетов и профсоюзов 3 октября 1918 г. Ленин писал:
«Мы решили иметь армию в 1 000 000 человек к весне, нам нужна теперь армия в три миллиона человек. Мы можем ее иметь. И мы будем ее иметь»4.
Одним из важных участков борьбы, где вновь создаваемая Красная Армия доказывала всему миру свои боевые качества и свой беззаветный героизм, была оборона Царицына.
Успех обороны Царицына решал судьбу передышки. Нельзя пройти мимо одного маленького факта в истории обороны Царицына, имеющего символический смысл. Как раз в период самых
39
тяжелых боев в район Царицына прибыла изыскательная партия, состоявшая из нескольких сот рабочих и техников во главе с инженером для подготовительных работ по прорытию канала Волга—Дон. Все участники экспедиции были сразу же мобилизованы в ряды Красной Армии. Начальник изыскательной партии, ссылаясь на приказ центра вести работы с наибольшей интенсивностью, обратился с протестом в Военный совет царицынского фронта.
Характерна резолюция Военного совета на этой телефонограмме от 22 сентября 1918 г.:
«Канал пророем после утопления кадетов в Волге и Дону» 5.
Великие созидательные замыслы Советского правительства приходилось на время отложить. В. И. Ленин писал о международном положении Советской Республики:
«.. .никогда наше положение не было так опасно, как теперь. Империалисты были заняты друг другом. И теперь одна из группировок сметена группой англо-франко-американцев. Они главной задачей считают душить мировой большевизм, душить его главную ячейку, Российскую Советскую Республику»6.
*
Несмотря на голод и гнет все более расширявшихся гражданской войны и империалистической интервенции, несмотря на белогвардейский террор и угрозу существованию молодого Советского государства, массы рабочих и крестьян стремились овладеть сокровищами культуры.
Тяга к знанию, к освоению памятников искусства прошлого открыла в массах тех подлинных ценителей, которых искусство дожидалось веками. Вот одна из рецензий на постановку в бывшем Мариинском театре оперы «Руслан и Людмила» в феврале 1918 г.:
«Центр тяжести спектакля не в том, что делалось на сцене, а в той величавой картине, которую представлял собой зрительный зал. Впервые в стенах Мариинского театра собралась аудитория из представителей народа... сделан первый шаг по пути демократизации того театра, самое существование которого для очень многих деятелей казалось совершенно непостижимым вне тех условий и исторических традиций, которые создали его быт и значение в истории русского искусства... Результаты первоклассного воплощения, несомненно, всегда вызовут настоящее восхищение и дадут народу радость и не меньшую, а быть может, и гораздо большую, чем той аудитории, которая до сих пор являлась главною потребительницей искусства... Пушкин и Глинка впервые в стенах Мариинского театра получают ту аудиторию,
40
коллективному гению которой они обязаны своим гением индивидуальным» 7.
И сразу же с исключительной силой заявила о себе тяга масс к самостоятельному творчеству. Как всегда в эпохи больших общественных потрясений, первым откликом на события была лирика. В очерке А. Серафимовича «Стихи» очень выразительно передан творческий подъем масс во всех областях общественной жизни, хотя говорит этот очерк только о творческой потребности народа отразить жизнь в поэтической форме:
«Восемнадцатый год. Здание Моссовета. Неуютно. Я и товарищ сидим в шапках, пальто и калошах — ноги мерзнут...
А они все идут, и идут, и идут...
Они кладут на стол грязные бумажные огрызки, смятые, невесть где подобранные клочки оберточной бумаги, какие-то канцелярские счета, и все это покрыто невыразимыми каракулями.
Стихи! В подавляющем случае — стихи, и редко-редко рассказ, и еще реже пьеска или сценка...
О чем же писалось? О том, что разразилось невиданной громадой несчастий и новизны; писали об ужасах нечеловеческой войны, о революции, все перевернувшей; о земле, которая глянула на них просящими работы глазами; о помещиках-сосунах; об остановившихся фабриках — обо всем, что невиданной громадой совершалось вокруг» 8.
В другом своем очерке, названном «Откуда повелись советские писатели», напечатанном в «Правде» в 1927 г. к 10-й годовщине Октября, А. Серафимович возвращался к теме очерка «Стихи», вспоминая историю своей работы в 1918 г. в качестве редактора одного из первых художественных журналов Моссовета:
« — Вот, товарищ Серафимович, вот нам присылают каждый день, —- по двадцать, по тридцать стихотворений присылают. Есть и рассказы, но в подавляющем большинстве стихи. Вот мы их и собираем.
На полу лежали наваленные тюки, перехваченные шпагатом.
— Не используете ли хоть что-нибудь? Ведь это первые попытки освобожденного народа. А?
Я порылся. Из сотен, из тысяч можно было взять одно, два, да и то с переделкой. А стихи текли и текли неудержимым потоком, как будто прорвало плотину.
Я ахнул. Да ведь это же не стихи! Это — неудержимый, не-останавливающийся вопль... Неугасимый голос слез, отчаяния, ужаса и вместе радости счастья, безмерности надвигающегося. Это — радостный крик людей, глянувших из сырой задыхающейся могилы, — и вдруг блеснул просвет чуть приоткрывшейся судьбы» 9.
Советская литература рождена была активностью масс. На заре советской литературы, конечно, трудно было выделить в голосах людей, жаждущих проявить себя творчески, будущих поэтов по
41
призванию. Однако важно было не отбросить то, что могло представить ценность в своем дальнейшем развитии, и во всяком случае не оттолкнуть, вовлечь в процесс овладения культурой представителей народных масс.
Еще при Временном правительстве и по существу против него в Петрограде был создан Центральный совет пролетарских культурно-просветительных организаций, или Пролеткульт. Пролеткульт противопоставлял себя Министерству просвещения Временного правительства, отстаивал свою независимость от буржуазного государства, стремясь в своей культурно-просветительской деятельности проводить классовую, пролетарскую политику.
Незадолго до Октябрьской революции было создано пролетарское литературно-художественное общество «Искусство и социализм», в которое вошли молодые рабочие писатели А. Поморский, И. Садофьев, Маширов-Самобытник. Заслуживает внимания, что 22 октября 1917 г. в столовой Петроградского металлического завода состоялся «Вечер пролетарской поэзии», под видом которого проводилась подготовка к Октябрьскому восстанию 10.
По-настоящему широко Пролеткульт смог развернуть свою работу только после Октября. Количество рабочей молодежи, вовлеченной в его студии, курсы, клубы и другие формы культурно-просветительной работы, быстро росло и определялось по всей стране многими тысячами молодых энтузиастов. В сентябре 1918 г. состоялась I Всероссийская конференция пролетарских культурно-просветительных организаций. Если учесть стихийный напор людей из народных низов, рвущихся к самостоятельному творчеству, о чем так ярко писал Серафимович, то нельзя не понять, какие огромные задачи стояли перед Пролеткультом, как нужна была его помощь многим и многим начинающим, пробующим свои силы в том или ином роде искусства передовым представителям народных масс. В своем приветствии Президиуму конференции пролетарских культурно-просветительных организаций от 17 сентября 1918 г. Ленин призывал Пролеткульт помочь партии и государству «в деле выдвигания рабочих для управления государством»11. В ходе этой общей работы и должны были выделиться из среды рабочих и крестьян свои поэты, художники, деятели культуры. Оказывая поддержку Пролеткульту, Ленин совершенно не допускал мысли, что задачу создания новой культуры, новой литературы можно решить в рамках той или иной организации, затворившись в ней от жизни всего народа. Эту задачу нельзя было решить в отрыве от задач политических, нельзя было ее решить и с такой же — относительно — быстротой, как задачи политические и военные. Ленин указывал, что «по самому существу дела тут нужен срок более длинный. ..» 12
Деятельность Пролеткульта пошла во многом неправильным путем, прежде всего, в области теории, 42
Ошибки теоретиков Пролеткульта стали своего рода истоком й, если можно так выразиться, прообразом позднейших ошибок и уродств, с которыми партии пришлось вести решительную борьбу. В 1950 г. во время дискуссии по вопросам языкознания, когда требовалось показать несостоятельность упростителей и вульгаризаторов марксизма в этой области науки, их сравнивали с «пролет-культовцами».
Провозглашая свои идеи и планы демократизации искусства в «Открытом письме к рабочим», Маяковский не мог пройти мимо Пролеткульта, который был, так сказать, официальным представительством пролетарского культурного движения.
Необходимость организованной литературной работы Маяковский осознал вскоре же после свержения самодержавия. Впоследствии он вспоминал, что еще в 1917 г. он и близкие к нему поэты «с первых шагов, еще во дворце Кшесинской пытались договориться с группами рабочих писателей (буд. Пролеткульт)...»
Об этой попытке Маяковского писал в 1918 г. поэт Илья Са-дофьев в своей статье к годовщине пролеткультовского журнала «Грядущее»:
«Помню, на втором собрании, во дворце Кшесинской, появился Маяковский; он яро поддерживал выдвинутое каким-то полуинтеллигентом предложение о названии Пролетарского общества «Искусство и социализм» — «Обществом пролетарских искусств». Писатели-рабочие не мыслят искусство без социализма, а посему и предложение, вместе с сотрудничеством Маяковского, было отвергнуто» 13.
И в том же номере «Грядущего», где Илья Садофьев горделиво вспоминал о том, что руководители Пролеткульта отвергли сотрудничество Маяковского, другой деятель Пролеткульта, прозаик и теоретик П. Бессалько, отметил с некоторым высокомерием:
«Маяковский в Петроградском Пролеткульте при всех наших товарищах сознался, что он Пушкина читает по ночам и оттого его ругает, что, быть может, сильно любит» 14.
Между тем Маяковский хотел связаться с поэтами-рабочими через головы теоретиков. Последние сбивали с толку рабочую молодежь, утверждая, что, кроме поэтов-пролеткультовцев, никто не может решить задачу создания пролетарской поэзии. Что же собой представляла поэзия Пролеткульта?
В изданиях Пролеткульта, в журналах типа «Грядущее», «Творчество», «Пламя», «Гудки» и в теоретическом двухнедельнике «Пролетарская культура» печаталось несколько десятков поэтов и прозаиков из рабочей среды. Хотя некоторые из них приобщились к литературе еще в предоктябрьские годы, но вся эта очень молодая, восторженно настроенная и литературно неопытная плеяда рабочих-литераторов заслуживает скорее всего той характеристики, которую дал А. Серафимович потоку «стихо-посцев»: если далеко пе все из них были поэты по призванию, то
43
в их стихах был слышен голос «счастья, безмерности надвигающегося». И если созданные ими стихи и поэмы не остались в литературе и многие из них забыты, то это не значит, что их голосами не были внесены в литературу какие-то новые важные мотивы и темы.
Однако теоретики Пролеткульта пытались именами этих начинающих, делающих первые шаги рабочих поэтов зачеркнуть всех других, современных и прошлых, провозгласив поэтов Пролеткульта творцами особой, новой, небывалой, неизвестно откуда выскочившей «пролетарской культуры». Положив одна на другую несколько тонких книжечек стихов с индустриально-напыщенными названиями вроде «Железный мессия» или «Динамо-стихи», эти теоретики попытались воздвигнуть своего рода «град невидимый», к которому не посвященным в пролеткультовские таинства пути были заказаны и к которому не вели никакие дороги от лите ратуры и искусства прошлого. Характерны были преувеличения, «перехваты» слишком размахнувшихся и без меры возгордившихся «творцов». «Мы» — так называлось стихотворение В. Кириллова, напечатанное в журнале «Грядущее» в мае 1918 г. В нем он «атаковал» Рафаэля, еще до Маяковского.
Мы во власти мятежного страстного хмеля, Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты», Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля, Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.
В этом же стихотворении были и другие строфы, противоположные по смыслу. О них можно было бы сказать, что в них выражен пафос созидания, если бы не полная беспредметность, оторванность от реальной жизни, ходульность.
Мы несметные, грозные легионы Труда.
Мы победили пространства морей, океанов и суши, Светом искусственных солнц мы зажгли города, Пожаром восстаний горят наши гордые души...
Или:
Мускулы рук наших жаждут гигантской работы, Творческой мукой горит коллективная грудь, Медом чудесным наполним мы доверху соты, Нашей планете найдем мы иной, ослепительный путь.
Общим для всех подобных патетических стихов, которые писались тогда во множестве, был тот чрезвычайно характерный пролеткультовский «космизм», который, чураясь конкретно-исторической действительности, имел дело с «землей» вообще, и даже не столько с землей, а с «планетой», с «заводом» вообще, с «железом» вообще, с «рабочим» вообще, лишенным каких бы то ни было черт русского характера и русской жизни того неповторимого героического времени. В. Кириллов довольно точно обозначил
44
то психологическое состояние, я котором опьянение победой Октября оборачивалось призывом к разрушению культуры: «Мы во власти мятежного страстного хмеля...»
Пролеткультовский «космизм» был навеян великим дерзанием, которое внесла в жизнь победа Великой Октябрьской социалистической революции. Этот «космизм» был проявлением больших ожиданий и еще больших надежд на немедленное торжество мировой революции. И в то же время порыв народа к новому после победы Октября искажался в анархистской фразе. Отсюда и это сверх-«левое» уродство:
Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля, Разрушим музеи, растопчем искусства цветы...
Ради «чистоты» художественного самосознания рабочего класса теоретик Пролеткульта А. Богданов предостерегает пролетарских поэтов от увлечения гражданскими темами:
«Граждански-агитационное сужение поэзии неблагоприятно отражается на самой ее художественности... Развивается господство шаблона, — как удержаться оригинальности в тысячах повторений?» 15
Стремясь «освободить» художественное самосознание рабочего класса от «чуждых примесей» культуры прошлого, А. Богданов даже особенности формы стиха пролетарских поэтов пытался вывести непосредственно из условий производства.
«... Рабочий на заводе живет в царстве строгих ритмов и простой, элементарной рифмы. Среди «стального хаоса» станков и движущихся машин переплетаются волны разных, но в общем механически-точных ритмов; при этом непрерывность более мелких и частых пересекается более редкими и тяжелыми, как цезурой или рифмой в стихе. Эти звуки своими бесконечно повторяющимися ударами выковывают по своей мере словесные образы, в которых работник с артистической натурой стремится вылить свои переживания» 16.
Это «ученое» рассуждение сейчас может вызвать только смех, но в то время пролеткультовцами оно воспринималось как откровение. Обнесенный глухой стеной богдановской догмы пролеткультовский монастырь строго следил за тем, как бы не проникла в обитель «чуждая примесь» в виде какого-нибудь современного интеллигентского Рафаэля:
«... большей частью даже тогда, когда трудовой интеллигент возвышается до искреннего и глубокого сочувствия рабочему классу, до веры в социалистический идеал, прошлое сохраняет свою силу в его способе мыслить, в его восприятии жизни, в понимании им сил и путей ее развития» 17.
Заговорщическая точка зрения на создание пролетарской культуры «углубляется», принимая довольно хитроумные формы:
45
«Если бы мы захотели сделать вывод й применить eto к интеллигенции, примыкающей к пролетариату, какое она может занять место в творчестве пролетарской культуры, то мы бы определили это так: примыкающая к нам интеллигенция мыслить с нами, а если нужно и за нас, может, чувствовать же — нет...»
И еще:
«... надо признать, что те сложные, крутящиеся вихри и бури чувств, которые переживает рабочий, доступнее изобразить ему самому, чем постороннему хотя бы близкому и сочувствующему наблюдателю» 18.
Что же представляли собой подобные «крутящиеся вихри и бури чувств» на практике, в изображении поэтов Пролеткульта? «Стихи о железе», «Завод весенний», «Завод огнекрылый», «Железный мессия», «Железные цветы», «Прибой машин», «Романтика машины» — вот названия отдельных стихотворений и сборников стихов, характерные для этого времени. Поэты Пролеткульта нагромоздили в своих стихах железную бутафорию балок, кранов, мостов, горнов, вагранок, молотков и просто железного лома, за которой вовсе не стал виден человек.
В передовой статье журнала «Пролетарская культура» за август 1918 г. «Мотивы рабочей поэзии» вырабатывалась руководящая установка по вопросу: «Как пройдет процесс замены старой культуры новой, еще не выявившейся, но уже грядущей».
Так и было сказано — «замены старой культуры»; не наследования, не развития, а замены, как можно заменить сработавшиеся части машины. Но если речь шла о «замене», то уже недалеко было и до мысли о том, что в этом самоновейшем искусстве будущего «отступят на задний план чисто человеческие демонстрации» и на первый план выступит некая «невиданно-объективная демонстрация вещей». Эта не очень понятная фраза принадлежала Алексею Гастеву — талантливому поэту, автору знаменитой в то время «Поэзии рабочего удара». В отдельных стихотворениях в прозе ему удалось выразить сознание силы рабочего коллектива (например, в стих. «Гудки»), революционную мечту рабочего класса о превращении аграрной России в страну индустриальную. Эти черты его поэзии импонировали Маяковскому, всегда выделявшему Гастева среди пролеткультовских поэтов. «Где вы, Гастев с Керженцевым?!» — задавал много лет спустя юмористический вопрос Маяковский в стихотворении «Нагрузка по макушку». В этот период Гастев отошел от литературной работы и целиком отдался в созданном им Центральном институте труда (ЦИТ) делу изучения основ научной организации труда и подготовки рабочей силы. То, что поэт непосредственно вошел в производство в качестве его организатора, нравилось Маяковскому — он всегда уважительно высказывался о замечательной работе Гастева в области создания разумных, творческих приемов труда и использования рабочего времени. Это была тоже своеобразная
46
«поэзия рабочего удара» — но уже не книга, а сама жизнь. Производительность труда в конечном счете самое важное, самое главное для победы нового общественного строя — эту мысль Ленина Гастев стремился воплотить в своей практической работе рационализатора труда и производства, эта же мысль воодушевляла его и в те годы, когда он выступал как поэт. Однако пролеткультовское левачество уводило Гастева от «чисто человеческого» содержания поэзии, заставляло его стыдливо «отмежевываться» от лирики, превращало его в какого-то барда машинизма.
«Мы идем к невиданно-объективной демонстрации вещей, механизированных толп и потрясающей открытой грандиозности, не знающей ничего интимного и лирического» 19, — с явной надсадой провозглашал автор «Поэзии рабочего удара».
Живая человеческая личность скована «механизированными толпами». «Вещь» командует, а человек состоит при ней и в любую минуту готов стушеваться:
«Железная душа завода пронзила толпу. Грудь загудела металлической дрожью.
— К машинам!
— Мы их рычаг, мы их дыхание, замысел...»
Не наоборот ли? Ведь рабочий класс, обобществивший средства и орудия производства, смог, наконец, по-настоящему полюбить их, как детище своего творческого труда, смог ощутить их, как воплощение своего замысла, как утверждение своей мощи, власти над природой. Но поэт-пролеткультовец пытался опоэтизировать подчинение человека машине, которая командует «механизированными толпами».
Провозглашая лозунг «замены старой культуры», теоретики Пролеткульта на деле поощряли наивное подражание приемам Бальмонта и Белого, конечно, совершенно не пригодным для выражения нового содержания. Недаром один из талантливых рабочих поэтов, начинавший в Пролеткульте и сумевший отойти от него, — Василий Казин иронически писал об Андрее Белом, который преподавал свою теорию «ритмического жеста» в студии Пролеткульта, впадая при этом в характерную для него экзальтацию:
Все жесты, жесты у него, От жестов вдохновенно пьяный. Не осмотреть ли нам его, А вдруг и сам-то он жестяный20.
*
Пролеткульт был массовой организацией. Это создавало опасный резонанс его ошибочным теориям. Отрицание классического насле-дия отождествлялось... со свержением «старых тронов». Характерно, например, что поэт Василий Князев, неутомимый «звонарь»
47
петроградской «Красной газеты», обращался в октябре 1918 г. в стихотворении «Поэтам Пролеткульта» с предложением:
Кинем, товарищи, пушкинский водопой (?! — В. П.), К дьяволу старые троны —
Пойдемте нашей, создаваемой нами, тропой.. ,21
На деле пролеткультовское сектантство лишь облегчало возможность различных буржуазных влияний на молодых рабочих поэтов. «Жестяная» поэтика символиста Андрея Белого приспособлялась для облицовки того «индустриального мира» в стихах поэтов Пролеткульта, куда никто посторонний не мог пройти без специального пропуска. «Граждански-агитационное сужение поэзии неблагоприятно отражается на самой ее художественности», —- поучал, как мы помним, А. Богданов. Пролеткульт превращался в ту же «башню из слоновой кости». А Маяковский звал молодых рабочих писателей к связи с жизнью, к поэзии оптимистической, жизнеутверждающей. Эта установка, сетовал А. Богданов, имела среди них «к сожалению, несомненный успех». Вполне понятно, что Маяковский был неприемлем для идеологов Пролеткульта.
И такой поэт, как Демьян Бедный, был для Пролеткульта «противопоказан».
Пути Демьяна Бедного и поэтов Пролеткульта в плане эстетических деклараций ни разу не пересеклись, хотя поэт печатался вместе с пролеткультовцами на страницах газет. А. Серафимович был также далек от Пролеткульта. Он ратовал за участие писателя в агитационной работе, считая необходимым «непрерывно внедрять в массы правильное представление о Советской власти и делать это убедительно». Он был за то, чтобы писательская молодежь почувствовала себя наследником и продолжателем лучшего в культуре прошлого.
«По ту сторону непроходимой пропасти, где сгрудилось крестьянство, рабочие и солдаты, осталось чудесное писательское наследие — великая русская литература...» 22
Петроградские пролеткультовцы однажды организовали у себя встречу с Горьким (в марте 1920 г.). К. Федин так передает высказывание Горького на этой встрече:
«Ныне вам приходится обращаться не только к своему брату. Крестьянство ведь тоже права к революции предъявляет. И справедливо: у него есть своя доля в революции. Ваш язык должен быть понят и крестьянином. Если вы будете петь непонятные ему песни, он просто слушать не станет. Иные же ваши песни ему могут и не понравиться. Особенно, если заладите про свою персону петь...
Создание повой культуры — дело общенародное. Тут следует отказаться от узкоцехового подхода» 2Э,
48
Эти мудрые слова не дошли до сознания руководителей Пролеткульта. Ленин еще не выступал тогда со своим решительным осу ждением и разоблачением деятельности Пролеткульта, письмо ЦК РКП (б), написанное по его инициативе, было опубликовано 1 декабря 1920 г. А в 1918 г. теоретики Пролеткульта пошли на явный подлог, использовав авторитет Ленина, чтобы подкрепить им свой ложный тезис о независимости пролетарской культуры от политики. В отчете о Первой конференции пролетарских культурно-просветительных организаций, напечатанном в журнале «Пролетарская культура», приветствие Ленина Президиуму конференции (о котором говорилось выше) было процитировано с явным искажением его смысла. Сначала в отчете приводится резолюция конференции, смысл которой в утверждении независимости культуры от политики:
«В общей резолюции конференция определенно указывает, «что культурно-просветительное движение среди пролетариата должно занять самостоятельное место рядом с политическим и экономическим движением, что задачей его является выработка пролетарской культуры...»».
Сразу же вслед за этим абзацем отчета говорится:
«Всю важность работ Пролеткульта в данном направлении подчеркнул в своем приветствии конференции и тов. Ленин. Он писал: «Все наши успехи вызваны тем, что рабочие взялись за управление государством через свои советы. Но рабочие недостаточно еще поняли это и бывают чрезмерно робки в деле выдвигания рабочих для управления государством. Боритесь за это, товарищи. Пусть пролетарские культурно-просветительные организации помогут этому. В этом — залог дальнейших успехов и окончательной победы социалистической револю ц и и».
Если в начале конференции были колеблющиеся и сомневающиеся в том, нужен ли Пролеткульт, когда существует Народный комиссариат по просвещению, то под конец ее эти сомнения исчезли навсегда, и обсуждение шло в плоскости, как работы одного учреждения разграничить от работ другого, чтобы избежать параллелизма, всегда связанного с ненужной затратой труда» 24.
Само собой разумеется, что слова Ленина не имели и не могли иметь в виду той ложной мысли, которая заключалась в резолюции, обособлявшей культуру от политики. Приветствие Ленина было прислано в начале работы конференции, когда еще не было никакой резолюции.
Влияние Пролеткульта в 1918 г. было значительным. Пролеткульт поддерживал А. Луначарский, связанный с А. Богдановым еще со времени группы «Вперед».
4 В. Перцо$
49
Отрицательное значение теоретических установок Пролеткульта было в то время ясно немногим. Маяковский яростно спорил с поэтами Пролеткульта, правильно подмечая их слабости, неуменье найти новую форму для выражения нового содержания. Тем не менее, высмеивая теоретиков Пролеткульта, Маяковский относился с симпатией к рабочим поэтам, которые были вовлечены в студии Пролеткульта. Если поэты Пролеткульта пытались воспевать труд как таковой, вне его общественного содержания, то Маяковский в «Оде революции» по существу полемизирует с поэтами Пролеткульта. Обращаясь к революции, Маяковский говорит в уже приводившейся строфе этого стихотворения:
Машинисту, пылью угля овеянному, шахтеру, пробивающему толщи руд, кадишь, кадишь благоговейно, славишь человечий труд.
Слово «кадишь» заставляет вспомнить патетические образы пролеткультовской поэзии. Но выражение «кадишь благоговейно» Маяковский употребляет в полемически-торжественном смысле, как утверждение величия труда «над руганью реемой».
«Мускулы рук наших жаждут гигантской работы», «железный демон века с человеческой душой», «ураган работы» — этот риторический, напыщенный характер пролеткультовских определений снят у Маяковского простым и верным эпитетом «славишь человечий* труд».
Маяковский внимательно и дружески присматривался к молодым рабочим поэтам. Он видел в них начинающих соратников, которые нуждаются в помощи, стремился приблизить их к пониманию новых идейных задач поэзии — путь, на который становился он сам.
Многие из пролеткультовцев, захваливаемые горе-теоретиками, наивно и крикливо пыжились в своем «космизме».
Между тем всеми чувствовалась действительная потребность в художественном обобщении того коренного перелома, который произвела Октябрьская революция в истории человечества, потребность в образном осмыслении мирового значения Октябрьской победы.
К решению этой задачи одним из первых советских поэтов подошел Маяковский.
* Курсив мой. — В. IL
50
ж
Вернувшись в Петроград во второй половине 1918 г., Маяков-ский поселился в Левашове — дачной местности по Финляндской железной дороге, где и прожил все лето.
Поэт писал в Москву сестре Ольге:
«... я живу не в Питере, а в деревне за 50 верст... теперь от нас в город никто не ездит, не езжу и я (потому что в Питере холера страшная)...» 25
Под письмом дата: 15 июля 1918 г.
' На этой даче Маяковский в течение лета написал «Мистерию-буфф». В подзаголовке пьесы стояло: «Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи». «Мистерия-буфф» была политической пьесой, написанной и приуроченной к первой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Отношение к пьесе стало показателем разных настроений в среде художественной интеллигенции. Все больше людей из этой среды приходило к сознанию необходимости работать с Советской властью, превращалось из противников в сторонников Советской власти. Подобную эволюцию испытал и О. М. Брик. Недолго задержавшись на позициях «новожизненцев», Брик попытался закрепиться на позициях «нейтральности», аполитичности. В футуристически-декадентском журнальчике «Книжный угол», вышедшем летом 1918 г., он выступил со статьей «Неуместное политиканство», где с осуждением отозвался о сборнике Зинаиды Гиппиус «Последние стихи», в котором она позволяет себе политические высказывания против большевиков. Однако с таким же осуждением Брик отзывался и о поэме А. Блока «Двенадцать» за то, что в ней высказаны политические симпатии противоположного характера. Но вскоре он решительно определил свою политическую позицию сторонника Советской власти.
Первое чтение «Мистерии-буфф» состоялось в конце сентября 1918 г. в присутствии А. В. Луначарского (в то время народного комиссара просвещения).
А. В. Луначарский очень сочувственно встретил новую пьесу Маяковского. Сюжетом «Мистерии-буфф», писал он в своей статье в «Петроградской правде» 5 ноября 1918 г., было «веселое, символическое путешествие рабочего класса, после революционного потопа постепенно освобождающегося от своих паразитов, через рай и ад в землю обетованную, которая оказывается нашей же грешной землей, только омытой революционным потопом, и на которой все «товарищи вещи» ждут с нетерпением своего трудящегося человека». Интересно замечание Луначарского о художественных особенностях «Мистерии-буфф»: «Форма этого произведения та же, в которой обыкновенно писал Маяковский, но содержание будет немного иное. Содержание этого произве-
4*
51
Деййя дано всеми гигантскими переживаниями настоящей современности, содержание, впервые в произведениях искусства последнего времени адекватное явлениям жизни» 26.
Характерно, что в поэтохронике «Революция», созданной вскоре после свержения самодержавия, сказано: «Это первый день рабочего потопа». А в «Нашем марше», написанном в ноябре 1917 г., т. е. сразу же после Октябрьской революции, есть строка: «Мы разливом второго потопа перемоем миров города». Образ библейской легенды устойчиво связывался в сознании поэта с развертыванием революционных событий. В поисках формы для изображения победы Октябрьской революции Маяковский нашел в этом образе зерно сюжета для своей пьесы.
Если сопоставить характер использования библейских образов в «Мистерии-буфф» с теми же особенностями последней предреволюционной поэмы Маяковского «Человек», то на первый взгляд замечание Луначарского — «форма этого произведения та же, в которой обыкновенно писал Маяковский...» — может показаться справедливым. Самые названия глав «Человека» — «Рождество Маяковского», «Страсти Маяковского», «Вознесение Маяковского» и т. д. — характеризуют ту торжественно-ироническую, пародийную манеру использования эпизодов так называемой «священной истории», которая свойственна и «Мистерии-буфф».
В «Человеке», например, дана такая картина рая:
Кто тучи чинит, кто жар надбавляет солнцу в печи. Все в страшном порядке, в покое, в чине.
Никто не толкается.
Впрочем, и нечем.
А вот эпизод в картине рая в «Мистерии-буфф»:
Плотник
Нашагался.
Нельзя ли какой-нибудь стул?
Мафусаил
Нет-с, в раю нет.
Однако эти элементы сходства не должны заслонить от нас то принципиально новое в форме «Мистерии-буфф», что продиктовано было ее новым содержанием.
Сюжет «Мистерии-буфф» не был неожиданным в ряду произведений, пытавшихся отразить эпоху Октябрьской революции.
Луначарский, излагая сюжет «Мистерии-буфф», говорит опу-
52
тешествии рабочего класса в «землю обетованную, которая оказывается нашей же грешной землей, только омытой революционным потопом...» Но именно таков сюжет известного нам остро политического раешника Демьяна Бедного «Земля обетованная», и если в художественном отношении эти произведения несоизмеримы, то в подходе к задаче у обоих поэтов было общее. «Библия наизнанку» — так характеризовал Демьян Бедный свое отношение к «источнику». Та же издевка и в произведении Маяковского, о чем предупреждает само название, подчеркивающее жанр «буффонады».
Традиционный сюжет использован и в «Красном евангелии» Василия Князева, которое печаталось в июле 1918 г. в петроградском журнале «Пламя», а потом, в виде сборника стихов на эту тему, получило широкое распространение в отдельном издании.
Дабы страны обетованной
Душою алчущей достичь —
Плыви! Борись со мглой туманной Из-за дыханья и добыч.
Черствей в скитаньях по пустыням
И после, ринувшись стеной, Мы все преграды опрокинем И завоюем шар земной27.
В дальнейшем «шар земной», объятый мировой революцией, становится ареной действия... «Красного Христа». Полемика с библейской легендой у Василия Князева беззубая, отдающая тайным преклонением перед религией, безвкусно-серьезная, по-пролеткультовски декламационная.
Если «Земля обетованная» Демьяна Бедного могла послужить Маяковскому известной точкой опоры для трактовки того же сюжета в своей манере, то использование религиозных образов авторами других произведений могло вызвать у автора «Ми-стерии-буфф» решительный протест.
В подобных произведениях не было недостатка. В мае 1918 г. выступил Андрей Белый с поэмой «Христос воскрес».
Поэма Белого была не столько подражанием, сколько подделкой под замечательную блоковскую поэму, подделкой, в которой сильные стороны оригинала потускнели, а слабые выступили на первый план. Отрицание «старого мира» у Андрея Белого расплылось в елейном тумане славословий по адресу России-бо-гоносицы и защиты ее от посягательств безбожников:
В прежней бездне Безверия Мы, — Не понимая,
53
Что именно в эти дни и ча<Ш —
Совершается
Мировая
Мистерия...
Это жалкое, желтое тело
Проволакиваем:
Мы —
— в себя:—
Во тьмы
У пещеры
Безверия, —
Не понимая,
Что эта мистерия
Совершается нами —
в нас28.
Следует обратить внимание на слово «мистерия», поскольку юно фигурирует в названии пьесы Маяковского в совершенно ином осмыслении, о чем речь будет дальше.
В первой половине 1918 г. появилась и поэма Сергея Есенина ««Инония», открывавшаяся такой строфой:
Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел доящей, —
Так говорит по библии
Пророк Есенин Сергей29.
В этой поэме Сергей Есенин «не устрашился» вступить ш борьбу с библией как некий новый пророк, утверждая свою .мечту о счастье Руси, которое стало возможным благодаря русской революции.
Однако в «богоборчестве» Есенина не было материалистического пафоса. Напротив, подобно Блоку, Есенин находит высшее ^оправдание революции в образах религии:
Ухвачу его (бога. — В. П.) за гриву белую
И скажу ему голосом вьюг:
Я иным тебя, господи, сделаю, Чтобы зрел мой словесный луг!30
’Тон второй части этой строфы находится в полной дисгармонии с тоном первой части. Озорство и елейность, перемешанные ® «Инонии», отражают противоречия социальной позиции Есенина. «Этот этап я не считаю творчески мне принадлежащим», — говорил впоследствии Есенин о своих ранних произведениях, в которых, как и в «Инонии», много места занимают мотивы и образы, почерпнутые из церковных книг.
Вынашивая темы и образы революционной действительности, воплощенные впоследствии в «Мистерии-буфф», Маяковский не :54
мог пройти мимо религиозно-мифологической традиции, установившейся в поэтическом изображении современности. Но автор первой советской пьесы пошел, если можно так выразиться, наперерез трафарету, использовав религиозно-мифологические мотивы в своей «Мистерии-буфф» для создания произведения совершенно иного качества, возникшего на иной не только идейной,, но и художественной основе.
Язык действующих лиц и смысл конфликта, сама образнаяг ткань пьесы Маяковского ясно показывали, что в фантастическом ее сюжете речь идет не о небе, а о земле, о громадных исторических событиях, потрясших мир в дни Октябрьской революции, о самой острой злобе дня. Никого не могли ввести в заблуждение «места действия» пьесы: ковчег, ад, рай, земля' обетованная и условные наименования действующих лиц — «семь, пар чистых», «семь пар нечистых». Ощущение классовой борьбы, поделившей мир на два враждебных лагеря, поставившей каждого по ту или по эту сторону баррикад, — это самое непосредственное ощущение современности пронизывало всю пьесу. В ответ на наглую реплику купца по поводу распределения продовольствия на ковчеге — «надо же ж кому-нибудь и семечки — не всем арбуз», возмущенные «нечистые» переходили в наступление: «Мы вам покажем классовую борьбу».
Пересыпанный ассонансами, внутренними и каламбурными рифмами, «раешный» стих «Мистерии-буфф» делал врага, не желавшего признать свое поражение, смешным. «Успокоится, конечно... дня-с на два-с!» — утешал себя буржуа-француз по поводу грозного наступления «потопа» пролетарской революции. И тот же персонаж выражал свое политическое кредо в откровенно цинической реплике, впоследствии переосмысленной и ставшей новой пословицей:
... одному — бублик, другому — дырка от бублика Это и есть демократическая республика.
В ответ на рассудительное предложение паши — «давайте вникнем в суть явления» русский купчина столь же рассудительно объяснял:
Дело простое — светопреставление.
А поп, вспоминая «исторический» прецедент всемирного потопа, терял душевное равновесие;
Поп
Братие!
Лишаемся последнего вершка.
Последний дюйм здлдрдет додой,
55
Голоса нечистых (тихо)
Кто это?
Кто этот шкаф с бородой?
Поп
Сие на сорок ночей и на сорок дён...
” Приемы народного лубка во многих сценах «Мистерии-буфф» были подняты на высоту большого искусства. Земной шар представал перед зрителями не только в декорационной установке, но и вполне наглядно в своих противоречиях.
Нужно учесть, что писалась «Мистерия-буфф» в дни той нарастающей волны революционного подъема, которая привела в ряде стран к событиям всемирно-исторического значения. Эту яркую черту реальной действительности пьеса Маяковского правдиво отразила всем своим романтическим пафосом. Тема «семи пар чистых», т. е. буржуев, которых сбрасывают с ковчега восставшие рабочие, раскрывалась конкретно-исторически: революционные рабочие захватывали власть в Болгарии, Австро-Венгрии, Германии.
В «Петроградской правде» в связи с большими событиями в Европе появился постоянный отдел «Зашатались троны». Маяковский-сатирик чувствовал себя уверенно, рисуя гротесковые фигуры «чистых» — индийского раджи, турецкого паши, русского купчины, упитанного перса, толстого француза и т. д. Если в свое время фигуры «жирных» в его сатириконских стихах страдали известной отвлеченностью, то теперь он смог придать своей издевке более конкретно-политический характер.
Сценическая ситуация спасающихся на ковчеге буржуа-эмигрантов наглядно показывала смысл того, что происходило в мире, намечала совершенно реальную историческую перспективу, открывшуюся после победы Великой пролетарской революции в России.
В форме смелой народной шутки можно было посмеяться над еще сильным врагом, приблизив через «горы времени» то, что непосредственно не давалось глазу. Стремясь к новому переделу земли в кровопролитной войне, империализм цинично отказывался от идеи родины:
«По канатам широт и долгот скатываются с земного шара немецкий и итальянский офицеры, дружески бросаются друг к другу». Оба вместе:
Паазвольте пожать!
Узнав врагов, отдергивают протянутые руки и, выхватывая на ходу сабли, бросаются:
Итальянец Если б я знал! Проклятый шваб!
56
Йемец
Проклятый итальянец! Если б знал, да я б! ..
Итальянец Эввива Италия!
Немец Гох фатерланд!
Француз бросается меж вцепившимися, австралиец обхватывает итальянца, австралийка — немца.
Француз Бросьте вы! Утопли! Нет фатерландов.
Оба (вкладывая сабли) Ну, нет, так и не надо.
Рыбак (качая головой) Вот банда!
Эта осуждающе-удивленная реплика подчеркивала подлинный облик врагов революции.
Характерен и другой эпизод. В пьесе Маяковского не кто другой, как буржуа-немец, пытается поднять дух всей европейской буржуазии последней надеждой.
Немец ... К счастью, мы не знаем, что с пятой частью света. Галдите и даже не побеспокоились узнать, есть меж нами американцы ли.
Купец (радостно) Ну и голова!
Не человек, а германский канцлер.
Радость прорезает крик австралийки
Что это?
Прямо из зала к напряженно вглядывающимся врывается американец.
Американец
Милостивые государи, где здесь строят ковчег? Вот (протягивает бумагу) от утопшей Америки на двести миллиардов чек.
57
Во втором действии ковчег уже построен. И, конечно, не на средства «американской помощи», а мозолистыми руками «нечистых», которых буржуазии удалось обмануть. В пьесу входит злободневнейшая тема хлеба. «Продовольственный вопрос» стоит на ковчеге чрезвычайно остро. В борьбе из-за запасов продовольствия на ковчеге отражалась реальная классовая борьба за «хлеб насущный», припрятанный кулаками и спекулянтами.
Весною 1918 г. В. И. Ленин писал питерским рабочим в письме «О голоде»:
«В такое время — а для истинно коммунистического общества это верно всегда — каждый пуд хлеба и топлива есть настоящая святыня, повыше тех святынь, которыми морочат головы дуракам попы, обещающие царствие небесное в награду за рабство земное» 31.
В этом главная тема «Мистерии-буфф» со всем ее пародийно использованным поповским реквизитом.
Однако борьбу за «хлебище» — конкретные формы этой борьбы и социалистического творчества новой, советской действительности — поэт знал недостаточно. У него не было еще опыта живой связи с массами, с теми людьми, которые твердой рабочей рукой, по выражению Ленина, стали налаживать жизнь в разоренной стране. Это сказывалось в том, что положительное начало пьесы в отличие от ее критическо-обличительной линии страдало отвлеченностью.
Рассказывая через десять лет (в 1927 г.) в статье «Только не воспоминания» о борьбе за постановку своей пьесы, Маяковский писал:
«Мистерия» была прочитана в комиссии праздников и, конечно, немедленно подтверждена к постановке. Еще бы! При всех ее недостатках она достаточно революционна, отличалась от всех репертуаров...»
«При всех ее недостатках»... Поэт понимал, что старые формальные приемы и отвлеченные аллегории, без которых он еще не мог тогда обойтись, чтобы дать образное воплощение политической мысли, не составляли сильной стороны его пьесы.
Тема хлеба в развязке пьесы, где «нечистые» прорываются, наконец, в страну обетованную, разрешена, например, такой наивной аллегорической феерией. Фонарщик, влезший на лестницу, рассказывает своим изголодавшимся товарищам о чудесах зажиточной жизни, открывавшейся перед ним:
... Бутыли горящие ходят, булькая...
Голоса
Булькая?
Фонарщик
Да, булькая.
58
Дерево цветет, да пе цветком, а булкою.
Голоса
Булкою?
Фонарщик
Да, булкою!
В другом эпизоде в ответ на жалобы рабочих, прорывающихся в «землю обетованную», батрак обращается к ним с замечательными словами:
Голодны? Устали?
Разве бывает усталь у стали?
Но вслед за этим развертывается аллегорическая сцена, в которой батрак, плотник, рыбак и фонарщик идут «себя закалять» в кузницу, где их подковывают наподобие лошадей, причем батрак так и говорит: «Мне надо новые поставить подковы». В том же духе реплики других персонажей: «Руку подправьте — не очень узловата» или «Ноги подделайте, а то —вата».
Утопическая аллегория «Земли обетованной», в которой нельзя не отметить влияние пролеткультовского космизма, ослабляла идейно-художественное значение «Мистерии-буфф».
Однако этим вовсе не исчерпывалась тероически-утверждаю-хцая линия пьесы.
В «Мистерии-буфф» Маяковский попытался дать образ рабочего класса. В пьесе действуют кузнец, батрак, трубочист, рудокоп, плотник, шофер, швея, фонарщик, слуга, сапожник, булочник, прачка и эскимосы — рыбак и охотник. Это собирательные образы. Причем действующие лица названы не по имени и фамилии, а различаются прежде всего своими профессиями. Однако профессиональная характеристика действующих лиц если и намечена, то очень внешне: фонарщика, например, отличает то, что он ходит с лестницей, кузнец «подковывает» своих товарищей и т. it И прачка, попадающая в «землю обетованную»^ удивлена тем, что
земля, да не та!
По-моему,
для земли не мало ли пахнет помоями?
Но, конечно, в этой горькой шутке есть лиризм трудового человека, забитого, задавленного при капитализме. И столь же горький лиризм в воспоминаниях швеи:
Раз
вот так
сидела галеркою.
На сцене бал.
59
Травиата.
Ужин.
Вышла — и такой это показалась горькою жизнь: грязь, лужи.
Хотя в образах «нечистых» перед нами не индивидуальные характеры, а собирательные типы, — элементы индивидуализации воплощены в авторском отношении к своим героям, например, к той же швее, в образе которой тонко выражено противоречие между жизнью и искусством в буржуазном обществе. Нельзя требовать от образов народного зрелища того же соотношения между типизацией и индивидуализацией, тех же приемов индивидуализации, что, скажем, в психологическом и социальном романе или драме. И уж совсем неосновательно отказывать «Ми-стерии-буфф»—первой советской пьесе, содержание которой, по свидетельству А. В. Луначарского, воспринималось современниками «адекватно явлениям жизни», —в значении первого опыта искусства социалистического реализма на том основании, что, дескать, в ней не осуществлено энгельсовское требование о воплощении социально-типичного в индивидуализированные образы. Нельзя живую мысль Энгельса превращать в догму, как это пытались делать иные толкователи его замечательных высказываний о реализме.
Попытка поэта создать в первой же советской пьесе собирательный образ рабочего класса имела положительное значение. Маяковский сумел передать бесстрашие, готовность преодолевать любые препятствия и другие типические волевые черты, присущие лучшим представителям авангарда трудящихся. Поведение «нечистых» в аду, где Вельзевул угрожает им адскими муками, прекрасно показывает реальные черты самого революционного класса современности:
Вельзевул
Довольно шутить!
Трепещите за души!
Всех вас серой сейчас же задушим!
Кузнец (сердясь)
Хвастают тоже!
Что у вас?
Слегка попахивает серою.
У нас как пустят удушливым газом — вся степь от шинелей становится серою, дивизия разом валится наземь.
60
Вельзевул
Побойтесь, говорю вам, раскаленных жаровень!
На вилах будете, час не ровен.
Батрак (выходя из себя)
Да что ты кичишься какими-то вилами!
Твой глупый ад — все равно что мед нам.
Бывало, в атаке три четверти выломит в одно дуновенье огнем пулеметным.
Эти реалистические детали только что отгремевших сражении цервой империалистической войны как бы подтверждают образ пролога, где «нечистые» говорят о себе, что они «исторгнуты из земного чрева кесаревым сечением войны». На угрозы Вельзевула кузнец восклицает:
Стыдно!
Все-таки старый черт, у самого проседь.
Нашли, ей-богу, чем стращать!
На заводе чугуноплавильном не бывали, чать?
Вельзевул (сухо)
Не был я на вашей плавильне.
Кузнец
То-то!
А то б повылинял
шерсткой.
Живешь себе тут щеголем, гладкий такой да жесткий.
Для кузнеца характерны простонародные выражения. Кузнец является не только политически развитым и передовым человеком, но и воплощает в себе черты русского национального характера, черты известной индивидуализации. Отобрав у «нечистых» продовольствие, раджа лицемерно советует им:
Там акулу поймали.
Присмотритесь к акуле —
не несет яиц, не приспособлена к молоку ли.
Ответ кузнеца — свойственная стилю Маяковского переделка народной пословицы по типу: «Сколько с козлом ни биться, все равно молока от него не добиться».
61
Кузнец
Учат!
Сколько ни дои акул * —
Не быть из акулы молоку.
Для кузнеца характерны простонародные выражения. Он не только политически развитый и передовой человек, но, как уже сказано, в его характере намечаются некоторые национальные черты, что отражено, например, в его лексике.
Иногда, подчеркивая ироническое отношение автора к персонажу, Маяковский вкладывает и в уста буржуа-француза выражение, которое более пристало бы русскому купцу: «А вы которых наций?» С подобным же приемом мы встречаемся в одной из памфлетных «русских сказок» Горького, где французские выражения вложены в уста «российских жителей» и «вечно голодающего мужичка».
«Репортеры, из уважения к поэту, оделись факельщиками, а фотограф палачом, жители же — им все равно, на что смотреть, было бы забавно, — жители одобряли:
— Quel chic!
И даже какой-то вечно голодающий мужичок согласился с ними: — Charmant» 32.
В «Мистерии-буфф» есть сцена, напоминающая «явление Христа народу», так называемая «нагорная проповедь».
Эта сцена относится к числу тех аллегорических моментов, которые сегодня кажутся наивными и составляют слабую сторону пьесы Маяковского. Да и ответ нечистых: «Мы никаких не наций, труд наш — наша родина» — отказывает рабочим в национальном самосознании.
В самый критический момент путешествия «нечистых» на ковчеге по бурным волнам всемирного революционного потопа, уже после того, когда они сбросили буржуев-«чистых», они видят человека, идущего «по воде, что по суху». Швея сразу вспоминает про того, кто шел, «рассекая генисаретские воды». Кузнец отрезвляет ее, растолковывая, что буржуазия их «теперь Христом залавливает в западню». Авторская ремарка поясняет: «Самый обыкновенный человек входит на замершую палубу».
И вот персонаж, обозначенный в списке действующих лиц как «Человек просто», обращается к «нечистым» с речью, смысл которой лучше всего выражается в словах: «На пророков перестаньте пялить око», и еще:
Не о рае Христовом ору я вам, где постнички лижут чаи без сахару. Я о настоящих земных небесах ору.
* Курсив мой. — В. П.
62
После речи «Человека просто» «нечистые» приободряются, осознают свои силы. «Довольно пророков», «Мы сами теперь громоногая проповедь» — с этими призывами они преодолевают огромные трудности на пути к «обетованной стране».
В речи «Человека просто» есть утверждения странные, бунтарско-утопические, явно противоречащие той высокой пролетарской сознательности, которую автор хотел воплотить в этом образе. «Человек просто» еще лишен исторической конкретности. Тем не менее, называя своего героя — Человек, Маяковский связывал мечту своих предоктябрьских поэм с ее революционным воплощением в жизнь после победы Октября с задачей воспитания нового мировоззрения рабочего класса и освобождения его от буржуазных пережитков. Человек из «Мистерии-буфф» заявляет:
Я — дровосек
дремучего леса
мыслей,
извитых лианами книжников, душ человечьих искусный слесарь, каменотес сердец булыжников.
Возвеличить героический образ рабочего класса и его партии —- такова была задача Маяковского.
Сколь ни отвлеченны его кузнец, батрак, плотник, рудокоп и т. д., в этих образах торжествовал плебейский демократизм Маяковского. Только простые люди, говорил поэт своей пьесой, могут построить «ковчег» социализма для спасения всего человечества. В ответ на предложение буржуев самим построить ковчег —
Господа,
давайте не возьмем нечистых!
Будут знать, как нас ругать, —
с презрением бросал плотник свою реплику:
А ты умеешь пилить и строгать?
Француз (поникая)
Я передумал.
Возьмем нечистых.
Своей пьесой Маяковский разоблачал творческое бессилие буржуазии: исторически она бесплодна, строить «ковчег» под силу только «нечистым».
В условиях гражданской войны, которую развязывала буржуазия, на фоне еще дымящихся развалин войны империалистической, под которыми были погребены десятки миллионов простых людей, отдавших свои жизни за чуждые им интересы,
63
Пьеса Маяковского возйёличйвала мирный труд советского человека-созидателя:
Трудом любовным приникнем к земле все, дорога кому она. Хлебьтесь, поля! Дымьтесь, фабрики! Славься!
Сияй, солнечная наша Коммуна!
Так заканчивалась «Мистерия-буфф» —- первая советская пьеса, увидевшая свет рампы в дни первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Добиться этого оказалось не так просто.
*
Народное не только по содержанию, но и по форме! Необходимо отдать себе отчет в том, что форма «Мистерии-буфф», по замыслу автора, знаменует попытку Маяковского разорвать с футуристической поэтикой, выражает его революционную решимость дойти до народа со своим поэтическим словом.
Поэты-символисты, еще остававшиеся по ту сторону баррикад, завистливо упрекали А. Блока в том, что в «Двенадцати» он изменил принципам «высокого искусства», подошел к своей задаче сквозь напевы и ритмы частушек, сквозь тривиальность уличных и политических песен, площадных слов и ходовых демократических словечек.
Создавая революционную пьесу к великой дате, Маяковский готов был принять любые упреки, считая их за похвалы, на пути к действительной демократизации, к наибольшей доходчивости своего искусства. Поэт хотел обратиться со-своим новым произведением к самым широким массам, «бросаясь» в массы «с небес поэзии», отвергая отвлеченные поэтические приемы, затруднявшие понимание его ранних поэм.
Если А. Блок и С. Есенин, сочувственно встретившие Октябрь, обращались к религиозно-мифологическим образам, стремясь «оправдать» Октябрьскую революцию авторитетом религии, то для Маяковского революция не нуждалась в «оправдании». Капитализм, загнивший, зажившийся на земле сверх положенного ему исторического срока, был обречен еще в понимании дооктябрьского Маяковского.
64
Используя религиозно-мифологический сюжет в своей «Мистерии-буфф», Маяковский был далек и от «переодевания» современных событий в костюмы, освященные древностью. О подобных «переодеваниях», как известно, писал Маркс в «Восемнадцатом брюмера»:
«... Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета. Когда же действительная цель была достигнута, когда буржуазное преобразование английского общества было совершено, Локк вытеснил пророка Аввакума» 33.
И еще:
«... как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, чтобы переделывать себя и окружающее и создавать нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории» 34.
Происхождение жанра и функция сюжета «Мистерии-буфф» — совершенно иные. Ничего общего с боязливыми иллюзиями, к которым вынуждено было прибегать искусство буржуазной революции, нет в дерзкой, задорной пьесе Маяковского. Ее яркая антирелигиозная направленность использовала пародийно библейское предание со всеми его «духами прошлого».
Характерно и то, что «Мистерия-буфф», ниспровергая религиозные иллюзии прошлого, не была только «антирелигиозным» произведением. Она заглядывала далеко вперед, открывая перед рабочим классом путь социалистического строительства, созидания. Замечательно остроумные и язвительные сказочки Демьяна Бедного против попов и против религии были ограниченно злободневны.
Несмотря на свои недостатки, «Мистерия-буфф» Маяковского осталась в истории советской литературы ярким обобщением эпохи. Эта пьеса оказалась важным звеном в эволюции стиля Маяковского в первые годы после Октября. Нельзя не обратить внимание на то, что название новой пьесы представляло собой определение жанра: мистерия-буфф, то есть мистерия и буффонада, сочетание того и другого. Это было неожиданно и парадоксально, хотя, как увидим дальше, название вполне закономерно выражало задачу автора.
Вполне понятно, зачем понадобилась автору буффонада: в этой яркой форме народного зрелища поэт стремился воплотить элемент «сатирического изображения нашей эпохи», то есть врагов революции. Но почему «мистерия»?
В зрелом периоде творчества Маяковского слово «мистерия» встречается в знаменитом стихотворении «Сергею Есенину»
5 В. Перцов
65
с явно отрицательным отношением к смыслу этого слова, имеющего общий корень со словом «мистика».
Навсегда
теперь язык
в зубах затворится.
Тяжело
и неуместно разводить мистерии... *
Однако в 1918 г. «мистерия» значила для Маяковского иное: «В первые годы революции, — пишет Е. Наумов в своей книге о Маяковском, — в спорах о том, каким должен быть новый театр, часто раздавались голоса о необходимости зрелищ, носящих «мистериальный» характер, которые отвечали бы грандиозности переживаемых событий...
Но если в таком предположении Луначарского о роли мистерии подчеркивалась народность представления и грандиозность выражаемых в ней событий, то представителей реакционного театра форма мистерии привлекала не своей народностью, а сопровождавшим ее зарождение средневековым мистицизмом» 35.
Для Маяковского мистерия как форма средневекового народного театра была неразрывно связана с буффонадой. Буффонада была, так сказать, «оборотной стороной» мистерии; роль «оборотной стороны» в истории этого религиозного зрелища все более возрастала, против желаний и ожиданий духовенства.
А. Горький рекомендовал в проекте программы для литкружков «обязательно указать па борьбу церкви против фольклора, особенно наглядно выраженную у нас в XVII веке гонением патриарха Никона на «скоморохов», «калик перехожих», «глум-цов» и «лицедеев». Взять, как творчество церкви, пессимистическое «Пещное действо», «Борение живота со смертью» и прочие устрашающие бездарности, и надо противопоставить им бессмертного всенародного и всех побеждающего «Петрушку», «Пульчи-нелло», «Понча» 36.
Известно, что Понч был популярным персонажем английских кукольных мистерий, разыгрывавшихся в храмах. Понч считался бессмертным. Достаточно сказать, что он лично «присутствовал» при сотворении мира. С великолепным народным юмором Понч говорит в одной из мистерий Ною во время всемирного потопа:
— Погода, кажется, довольно хмурая!
Борьбу фольклора против церкви, взрывавшую изнутри религиозное содержание мистерий, и подчеркивал Горький. Именно эта особенность мистерий как народного зрелища поразила Маяковского, о чем он писал еще в ранних статьях о театре и кинематографе 37.
* Курсив мой. — В. П.
66
В средневековых мистериях, рассчитанных на вкусы уличных зрителей, простонародные сценки вытесняли «священнодействие». Дьявол приобретал традиционные черты шута. Ярмарочный шарлатан и торгаш — характерные фигуры средневековой улицы — явно издевательски предлагали Марии снадобья для бальзамирования тела Христа. Религиозный элемент отступал в мистериях под напором образов народного театра. Возвышенные и величественные эпизоды представлений прерывались бесконечными проказами чертей, приближая мистерии к карнавальным играм и фарсам.
Но, конечно, нельзя не учитывать и того, что возвышенная сторона мистерий, независимо от своего религиозного содержания, не могла не импонировать такому поэту, как Маяковский, своей величественностью и трагичностью. Тенденция развития мистерий представляла собой сочетание возвышенного и комического, мистерии и буффонады, то есть жанр мистерии-буфф. Начиная с XV века мистерия в самой себе таила признаки разложения, выражавшегося в широком развитии буффонады, лежащей на обязанностях дурака, шута и чертенят, так что трудно было сказать, кто больше привлекал народ — святые или чертенята, умные или «дурак»? 38
Из истории мистерии во Франции и Англии известно, что тема всемирного потопа занимала в них большое место. В Англии постановка «Потопа» разбивалась на две части, из которых первую с постройкой ковчега ставили корабельные плотники, а вторую, происходящую на море, — рыбаки и моряки. В Британском музее хранится афиша одного из представлений «Сотворения мира», впоследствии дополненного «Всемирным потопом».
Жанр первой советской пьесы Маяковского опирался на традиции фольклора в его борьбе с церковью — традиционный жанр мистерии-буфф. Веселое символическое путешествие рабочего класса после революционного потопа использовало религиозную мифологию в плане кукольной мистерии Понча, в плане русского народного кукольного театра — «бессмертного, всенародного, всех побеждающего Петрушки», по Горькому.
С. Н. Сергеев-Ценский, вспоминая в одном из автобиографических рассказов свои детские встречи с охотниками, свидетельствует о том, как прочно запечатлелась в фантазии русского народа легенда о всемирном потопе, принявшая реалистические черты подлинно исторического события.
«Позже встречал я много охотников из народа, и, странное дело, их тоже не слишком занимали рассказы из длинной записанной истории людей на земле, но, коснись потопа, — очень они оживлялись, точно вчера это было!..» 39
Исследователь драматургии Маяковского А. Февральский правильно отметил в «Мистерии-буфф» начала старинных народных театров: пролог, исполняемый действующими лицами, харак
5*
67
теристики их как собирательных типов, участие хора, представление себя зрителю действующим лицом при появлении на сцену, каламбурная игра слов в шутовских пантомимах народных балаганов 40.
В критической литературе об этой пьесе Маяковского не раз отмечалась связь ее драматической формы с «Царем Максимилианом». В особенности это наглядно в части эпизодов-«буфф».
Вот явление Негуса:
Хоть чуть чернее снегу-с, но тем не менее я — абиссинский негус. Мое почтение!
Я покинул сейчас мою Африку, Извивался в ней Нил, удав-река. Как взъярился Нил, царство сжав в реку, и потопла в нем моя Африка.
Хоть нет имения, по тем не менее...
Этот шутовской тон характерен для персонажей «Царя Максимилиана».
Вот явление посла, открывающее действие:
Здравствуйте, почтеннейшие господа,
Вот и я прибыл сюда.
Извините меня в том, что я нахожусь в платье худом. Есть у меня парадный мундир — семьдесят семь дыр, тридцать две заплатки — с меня взятки гладки.. ,41
Персонажи «Царя Максимилиана», разыгрывая сюжет, заключавший в себе серьезные элементы политической сатиры, чудят, дурачатся, всячески смешат зрителя. Дьякон-пьяница, обыгрывая двойной смысл слова «гнать», славит «горелку страдательную», пострадавшую от «гонителя-мучителя винокура, прошла еси огни и воды и насквозь все медные трубы». Скороход приглашает могильщика к царю «за наградой», могильщик переспрашивает: «А за каким виноградом?» Мертвецы вскакивают и хватают могильщика за бороду. Фельдшер на вопрос доктора, что он делает, отвечает:
Курицев дою, коров на яйца сажаю.
68
В этой атмосфере всеобщего балагурства насмешкой над царем звучит торжественное объявление Максимилиана:
Сяду на трон, воцарюся, возьму в руки скипетр и державу, на голову царскую корону — я буду судить по закону правых, неправых, виновных, невиновных...
Та же атмосфера балагурства в отношении отрицательных персонажей и в «Мистерии-буфф».
Поп (по бумаге) Божьей милостью мы, царь изжаренных нечистыми кур и великий князь на оных же яйца, не сдирая ни с кого семь шкур, — шесть сдираем, седьмая оставляется, --объявляем нашим верноподданным: волоките всё — рыбу, хлеб, овощь, свинят и чего найдется съестного прочего...
Если, создавая новые пословицы, в языке своих персонажей Маяковский впервые сознательно ориентировался на фольклор, то иные каламбурные рифмы близки к словесной игре персонажей русского народного театра.
Мафусаил
(указывая на святого, которому орал кузнец) Не орите, неудобно. Ангельский чин.
Рыбак
Поговорили бы лучше с чином: не сварит ли чин ваш щи нам.
В «Царе Максимилиане»:' Могильщик А как мне угадать царя? Скороход Вон золотая корона па голове. Могильщик Какая там корова?
Кой черт корову занес: ли там трава, ли что!
В течение почти двухсот лет (до самой революции) пьеса «Царь Максимилиан» сохранялась в народной памяти, разыгры
69
валась крестьянами в деревнях, рабочими на фабриках, солдатами в казармах.
«Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи» создавалось Маяковским как народное зрелище, во многом перекликаясь с буффонадой «Царя Максимилиана». В названии «Мистерия-буфф», которое было и определением жанра, содержалась эстетическая декларация.
«Отзывались роскошно.
Окончательно утвердил хорошее мнение шофер Анатолия Васильевича, который слушал тоже и подтвердил, что ему понятно и до масс дойдет», — шутливо вспоминал поэт о первом чтении своей пьесы, но под шуткой пряталось то, что наболело для него: прорваться к широкому читателю. Еще до «Окон Роста» «Мистерия-буфф» стала для Маяковского принципиально важным художественным опытом обращения к традициям народного искусства. Поэт видел перед собой массы, которым он хотел своим стихом объяснить всемирно-исторический смысл событий. В дальнейшем Маяковский продолжит эту работу в «Окнах Роста», где он опирался и на средства изобразительного искусства, в частности на «Русские народные картинки», собранные Д. Ровипским, хорошо известные ему еще по Училищу живописи и ваяния.
*
И вот «героическое, эпическое и сатирическое» изображение советской эпохи закончено. Маяковский со свойственной ему энергией берется за подготовку своей пьесы к постановке.
Он читает ее Центральному бюро по организации празднеств первой годовщины Октябрьской революции: «Мистерия-буфф» единогласно рекомендуется театрам к постановке в дни годовщины. Центральное бюро было в глазах автора пьесы тем государственным органом, который «выражал желания коммуны».
Но пьесе нужен театр.
На читке пьесы актерам бывшего Александрийского театра Маяковский столкнулся с испугом и враждебностью. Само заглавие пьесы сразу же огорошило кое-кого из «старых александрийцев». Повторялось нечто подобное тому, что было знакомо Маяковскому еще по Москве, когда в кино хотели инсценировать агитку Демьяна Бедного «О попе Панкрате и тетке Домне и явленной иконе в Коломне». Тогда убегали актрисы при репетиции сцены у аналоя. Здесь «старые александрийцы» не выдерживали картины рая, в ужасе крестились и повторяли: «Свят, свят».
«Я перекинулся с «Мистерией» в Москву, — вспоминает Маяковский. — Читал в каком-то театральном ареопаге для самого Комиссаржевского»
70
Сам йослутаЛ, сказал, что йрёйоС1одйо, й через несколько дней... сбежал в Париж».
Театральный отдел Наркомпроса созвал совещание режиссеров московских театров о репертуаре в дни Октябрьских торжеств. На этом совещании вопрос о судьбе пьесы Маяковского был Поручен режиссерской комиссии. Последняя не нашла ничего лучшего, как предложить революционную пьесу Маяковского Камерному театру. Праздник первой Октябрьской годовщины остался без революционного спектакля.
Объявления театров, сохранивших свою «автономию», кричали с первой полосы советских газет о разрыве между искусством и жизнью.
Остановившись однажды вместе с одним из актеров, занятым в его «Мистерии», перед широким простенком дома, вблизи от угла Невского, сплошь заклеенного афишами, Маяковский сказал:
«Смотрите: Царь Федор Иоаннович, Князь Игорь, Король веселится, Цыганский барон, Граф Люксембург, — черт знает что, сплошной монархизм. Вы на репетицию? Пошли. — И, еще раз взглянув на рекламную пестроту, басом добавил:
Сегодня
над пылью театров наш загорится девиз: «Все заново!»
«Мистерия-буфф» была единственной пьесой на современную тему. До Октябрьской даты оставалось немногим более месяца. Вот как обстояло дело, по словам Маяковского:
«Предоставили нам цирк, разбитый и разломанный митингами.
Затем цирк завтео М. Ф. Андреева предписала отобрать.
Я никогда не видел Анатолия Васильевича кричащим, но тут рассвирепел и он.
Через минуту я уже волочил бумажку с печатью насчет палок и насчет колес.
Дали музыкальную драму.
Актеров, конечно, взяли сборных».
Двенадцатого октября 1918 г. в петроградских «Северной коммуне» и «Красной газете» появилось «Обращение к актерам»:
«Товарищи актеры! Вы обязаны великий праздник революции ознаменовать революционным спектаклем. Вами должна быть разыграна «Мистерия-буфф», героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Вл. Маяковским. Приходите все в воскресенье 13 октября в концертный зал Тенишев-ского училища (Моховая, 33). Автор прочтет «Мистерию», режиссер изложит план постановки, художник покажет эскизы, а те из вас, кто загорятся этой работой, будут исполнителями. Центральное бюро по устройству Октябрьских торжеств предоставляет все необходимые средства для осуществления «Мисте
71
рии». Все к работе! Время дорого! Просят являться только товарищей, желающих принять участие в постановке. Число мест ограниченно».
Маяковский целые дни проводил на репетициях. По работе в кино у него был уже опыт борьбы с режиссурой, искажавшей его творческие замыслы. В постановке «Мистерии-буфф» Маяковского подстерегала другая опасность: он был увлечен Мейерхольдом, который в своей режиссерской трактовке, стремясь раскрыть новаторский замысел пьесы, на деле ослаблял звучание ее наиболее сильных реалистических моментов. Эту опасность предвидел Луначарский и указал на нее в своей статье за два дня до премьеры, имея в виду прежде всего оформление «беспредмет-ника» Казимира Малевича:
«Я очень боюсь, как бы художники-футуристы не наделали в этой постановке миллионов ошибок... Если «Мистерию-буфф» Маяковского поставить, снабдив ее всякими экстравагантностями, то она, будучи ненавистна старому миру по своему содержанию, останется непонятной новому миру по своей форме. А между тем ее текст понятен всякому, идет прямо в сердце рабочего человека, красноармейца, представителя крестьянской бедноты...» 42
Мейерхольд, увлеченный борьбой с консерватизмом старого театра, снабдил постановку «всякими экстравагантностями». А. В. Луначарский оказался прав в своих опасениях. К. Малевич в беседе с А. В. Февральским, вспоминая свою работу над «Ми-стерией-буфф», формулировал с полной определенностью свои расхождения с эстетикой Маяковского: «Я не разделял предметной установки образов в поэзии Маяковского, мне было ближе беспредметничество Крученых. Мое отношение к постановке было кубистического характера. Я воспринимал сценическую постановку как раму картины, а актеров — как контрастные элементы (в кубизме каждый предмет по отношению к другому — контрастный элемент). Планируя действия в трех-четырех этажах, я стремился располагать актеров в пространстве преимущественно по вертикали, в согласии с устремлениями новейшей живописи; движения актеров должны были ритмически сочетаться с элементами декораций. На одном холсте я писал несколько плоскостей. Пространство я рассматривал не как иллюзорное, а как кубистическое. Я считал своей задачей создавать не ассоциации с действительностью, существующей за пределами рампы, а новую действительность».
И все-таки ни режиссер, ни художник не смогли заслонить текста поэта. Звучный поток поэзии Маяковского прорвался сквозь формалистические эксперименты, загромождавшие постановку.
Победа, победа несомненная была одержана: 7 и 8 ноября состоялись первые спектакли «Мистерии-буфф» в помещении Театра музыкальной драмы. Билеты на эти спектакли распределяло Цент
72
ральное бюро по организации празднеств. 9 ноября был открытый спектакль. Для Маяковского это была победа прежде всего политическая, поскольку современная тема впервые прозвучала в театре. Искусство не осталось в стороне, заявив делом о своем отношении к Великому Октябрю. Этот мотив занимал важное место в том пафосе спектакля, о котором говорила афиша, составленная и нарисованная самим поэтом:
«7, 8 ноября н/с мы, поэты, художники, режиссеры и актеры, празднуем день годовщины Октябрьской революции революционным спектаклем», — так начиналась афиша. Дальше излагалось краткое содержание «Мистерии-буфф» по картинам. В середине афиши была изображена энергично перечеркнутая карта «Старого света». В статье «Только не воспоминания», написанной к 10-й годовщине Октября, Маяковский с юмором рассказывал историю борьбы за постановку своей первой пьесы:
«Аппарат театра мешал во всем, в чем и можно и нельзя. Закрывал входы и запирал гвозди.
Даже отпечатанный экземпляр «Мистерии-буфф» запретили выставить на своем, овеянном искусством и традициями, прилавке.
Только в самый день спектакля принесли афиши, и то нерас-крашенный контур, и тут же заявили, что клеить никому не велено.
Я раскрасил афишу от руки.
Наша прислуга Тоня шла с афишами и с обойными гвоздочками по Невскому и — где влезал гвоздь — приколачивала тотчас же срываемую ветром афишу.
И, наконец, в самый вечер один за другим стали пропадать актеры.
Пришлось мне самому на скорую руку играть и «Человека просто», и «Мафусаила», и кого-то из чертей».
«Коммунистический спектакль» — назвал свою статью в «Петроградской правде» А. В. Луначарский. Название статьи подчеркивало идею пьесы Маяковского. Маяковский был счастлив, что своим поэтическим словом помог оформить праздник молодого государства рабочих и крестьян. Одобрение государственных органов, отношение к пьесе рабочих, слушавших ее в чтении Маяковского («Она их очаровывает», — говорил Луначарский) были для поэта драгоценным признанием нужности его работы. В этом он видел основу новых отношений между искусством и государством. Его радовало, что своей пьесой он утверждался на этой почве, честно входил в рабочий строй.
Однако классовый враг немедленно нашел лазейку, чтобы обесценить принципиальное значение этого шага революционного поэта. Нельзя обойти молчанием инцидент, разыгравшийся на страницах газеты «Жизнь искусства» — издания отдела театра
73
и зрелищ Народного комиссариата просвещения — в связи с оценкой «Мистерии-буфф».
9 ноября состоялся открытый спектакль «Мистерии-буфф», а 11 ноября в «Жизни искусства» появился первый и, как видим, чрезвычайно быстрый отклик на постановку пьесы Маяковского. Он принадлежал перу небезызвестного в буржуазной печати критика А. Левинсона из категории тех, о которых в свое время Пушкин сказал: «клеветник без дарования». Левинсон (впоследствии белоэмигрант) был постоянным сотрудником кадетской газеты «Речь». Буржуазный клеветник в своей статье оскорбил революционного поэта в его самых лучших чувствах. Негодование, охватившее Маяковского, сквозит в каждой строке его «Открытого письма народному комиссару по просвещению А. Луначарскому», с которым поэт обратился в «Петроградскую правду» на другой же день после появления пасквиля Левинсона.
Маяковского задевает не то, что Левинсон разошелся в эстетической оценке его пьесы с положительным отношением к ней аудитории. Революционный поэт негодует по поводу гнусной клеветы:
«В единственной этой театральной советской газете появление этой, Советской властью принятой и проводимой, «Мистерии» объяснено желанием подлизаться, «желанием угодить новым хозяевам людей, еще вчера мечтавших вернуться к допетровской России». Не удивляясь и не останавливаясь на пикантности такой оценки моих едва вырвавшихся из всяких цензур стихов со стороны известного автора статьи А. Левинсона, перенесшего на наши страницы гнусность покойной «Речи», я возмущен возможностью появления подобной инсинуации в газете Советской власти, принявшей «Мистерию». Дело не в эстетической оценке — она в статье не заметна и во всяком случае допустима в любой форме, — дело в моральном осуждении «Мистерии»...
... Требуя к общественному суду за грязную клевету и оскорбление революционного чувства редакцию газеты и автора статьи, я обращаю на это и ваше внимание, тов. комиссар, ибо вижу в этом организованную черную травлю революционного искусства» 43.
Нельзя не напомнить здесь, что буржуазные писатели не остановились перед клеветой и на А. Серафимовича, мстя ему за то, что он сразу же после Октября начал работать в «Известиях»: «Серафимович продался «Известиям совета рабочих и солдатских депутатов» за хорошие деньги». Брезгливо отвергая клевету, Серафимович писал: «... я не хочу лгать, не хочу приспособляться к точке зрения писателей и освещаю события, как мне подсказывают совесть и разум» 44.
Серафимович, как и Маяковский, не мог не напомнить, что еще до революции он писал в определенном — революционном 74
Ду^е. Статья-протест А. Серафимовича «Вратья-пйсатслй» появй-лась в конце 1917 г. в «Известиях». Но и в конце 1918 г. буржуазные «братья-писатели» всячески противопоставляли литературу и искусство государству, политике.
Опираясь на тот факт, что в буржуазном обществе между государством и народными массами существует непримиримое противоречие, буржуазные писатели не хотели видеть, что вновь созданное Советское государство служит народу, что в советском обществе нет никаких противоречий между государством и народом, и, стало быть, писатель, осуществляя интересы государства, служит народу.
В Советском государстве трудящиеся видят огромную преобразующую силу, действующую в интересах народа, — это рычаг с точкой опоры в народе. Не было до сих пор на земле государства с такой точкой опоры.
Одним из первых советских писателей подошел Маяковский к пониманию творческого единства советского народа и государства, к осознанию долга советского писателя перед государством, обрел глубокую веру в то, что Советское государство — источник вдохновения своего писателя, поддержка и опора художника в трудный час.
«Политика снижает художественность» — таков был главный козырь реакционеров, буржуазных интеллигентов, с помощью которого они пытались противостоять историческому процессу, уводившему из лагеря буржуазии лучших, наиболее передовых писателей, переходивших на сторону народа.
В номере «Жизни искусства» от 1 ноября 1918 г. была напечатана статья Н. Гумилева о сборнике стихов молодых поэтов «Арион».
Глава акмеизма поучал молодежь, доказывая несовместимость искусства и политики:
«Как ни старались историки литературы вывести различные ее школы из событий общественной жизни, их попытки неминуемо терпели неудачу, особенно в отношении к поэзии.. .чем яснее поэт осознает себя как политический деятель, тем темнее для него законы его «святого ремесла».
Семерых поэтов, собранных в сборнике под названием «Арион», нельзя упрекнуть в пристрастии к политике. Правда, и ее они касаются своими жадными и неопытными руками, но это все еще только жажда осознать себя самого, а никак не окружающий мир» 45.
«Окружающий мир» —- под этим подразумевалась, конечно, новая действительность, созданная победившей Октябрьской революцией. Гумилев находит извинение для молодых поэтов только в том, что хотя они и «касаются» политики «своими жадными и неопытными руками», но это ведь «только жажда осознать себя самого, а никак не окружающий их мир».
75
В той же «Жизни искусства» была оклеветана и революционная пьеса Маяковского.
В защиту Маяковского выступила группа деятелей искусств, обратившаяся с заявлением по поводу «Мистерии-буфф» в редакцию «Жизни искусства». Однако этот протест был в известной мере обесценен тем, что авторы письма защищали не столько Маяковского, сколько футуризм, представителями которого являлись — вместе ' с Маяковским — некоторые подписавшие письмо деятели искусства, считавшие себя — субъективно единомышленниками Маяковского.
«Что же касается вопроса об отношении так называемого «футуризма» к «новому хозяину», то на подобного рода инсинуации следовало бы отвечать лишь в административном порядке»46.
Последнее было едва ли удачно. Тем более, что сам автор «Мистерии-буфф» в своем письме в «Петроградскую правду» ни словом не обмолвился о футуризме, высказывая свое негодование по поводу клеветы, оскорбительной для него как революционного поэта. В полемику, развернувшуюся вокруг пьесы Маяковского, ввязывается и «Книжный угол», профессорски-футуристи-чески-декадентский журнальчик, обидевшийся на Маяковского за то, что он нарушает традиции «истинного» футуризма, и увидевший отказ от «свободы искусства», от принципов «искусства для искусства» в революционной теме пьесы Маяковского.
Не смей помогать государству рабочих и крестьян, не смей помогать государству, если ты хочешь служить искусству! Не смей помогать Советскому государству, если ты дорожишь званием свободного художника! Не смей помогать своим искусством Советской власти, если ты хочешь, чтобы тебе верили как защитнику интересов народа! — эта дешевая либерально-буржуазная демагогия, нажимавшая то на педаль «служения народу», то на педаль «служения высокому искусству», долгое время держала в идеологическом плену известную часть деятелей искусства и литературы. Выход из этого плена означал огромный рост талантов представителей прежней русской интеллигенции. Оставшиеся обречены были на эпигонское прозябание и духовный провинциализм в своей «горделивой» оппозиции государству рабочих и крестьян. Политическая слепота, особенно в революционные эпохи истории, никогда не способствовала раскрытию творческих сил художника и расцвету его таланта, превращая даже крупные дарования в изломанных жизнью горьких неудачников или в самодовольно-смешных обитателей пыльного «книжного угла».
Оттуда, из журнальчика с этим названием, раздалось злобное шипение:
«... пьеса Маяковского — не просто пьеса, а апофеоз советской коммуны...»
И дальше:
76
«Пьеса хотя и высоко патриотическая, но... рассчитанная па весьма невзыскательные вкусы, тоже высоко патриотичные.
Впрочем, «громкое ура», овации и все прочее незамысловатым замыслом пьесы были обеспечены» 47.
В. И. Ленин советовал прислушиваться к отзывам врага. В данном случае это существенно, чтобы понять подход Маяковского к овладению советской темой. Всегда важно не только то, что пишут, какие мысли выражают враги в своих писаниях, но и то, какими словами они при этом пользуются. Бывают слова-улики. В рецензии на «Мистерию-буфф», напечатанной слепым шрифтом в этом буржуазном журнальчике, дважды повторялись слова «высоко патриотичная» — о пьесе, «высоко патриотичные» — о вкусах пролетарского зрителя. Эти слова не были взяты в кавычки, однако никакого сомнения не могло быть в том, что употреблены они иронически.
Какой же смысл имела ирония, вложенная в слово «патриотичная» по отношению к пьесе Маяковского? И какую сторону или, вернее, какую сущность пьесы она, эта ирония, делала особенно ощутимой?
Ответ на эти вопросы мы можем найти у Ленина, разъяснявшего в своей замечательной полемике с героями мелкобуржуазной «звонкой» фразы еще в первой половине 1918 г. изменение значения некоторых слов: «Мы — оборонцы теперь, с 25 октября 1917 г., мы — за защиту отечества с этого дня» 48.
Деклассированная мелкобуржуазная интеллигенция но могла понять великого смысла этого положения Ленина, не могла связать понятия «коммунизм» и «оборончество», «коммунизм» и «патриотизм».
Рецензент пьесы Маяковского назвал ее «патриотичной» с покушением на иронию. Нечаянно враг сказал о пьесе Маяковского правду. Маяковский нащупывал уже в этот период своего творчества одну из важнейших движущих сил советского общества. «Мистерия-буфф» действительно была апофеозом советской коммуны и, стало быть, пьесой высокопатриотической. От идеи коммунизма поэт подходил к идее патриотизма в том именно смысле, который составлял пафос выступлений Ленина:
«Именно в интересах «укрепления связи» с международным социализмом обязательно оборонять социалистическое отечество» 49.
Однако в «Мистерии-буфф» понимание этой связи выражено еще недостаточно ясно. Образ коммуны и образ России-родины сливаются в одно целое в знаменитом «Левом марше», открывшем в советской поэзии великую тему советского патриотизма. Новое гордое чувство родилось у поэта и потребовало своего выражения, когда наряду с бурным подъемом сил международ-
77
йой революции над страной все тяжелее стали сгущаться тучи: нашествие международного империализма на молодое Советское государство становилось с каждым днем все более ощутимой реальностью, непосредственной угрозой начавшемуся строительству социализма. Вот одна из листовок, выпущенных в те дни и широко распространявшихся по стране:
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Чего хотят англичане, французы — идущие против нас войной?
Они захватили дорогу на Мурманск, весь берег Белого моря, Онегу, Архангельск.
Нашлись предатели, которые им помогли. Они пушками с крейсеров громили мирное население — за что, что мы им сделали?
Спросите рабочих Англии и Франции: рабочие братья, чего вы хотите?
Они скажут: МЫ МИРА ХОТИМ, мы ненавидим войну, но нет еще силы у нас, чтобы сбросить тех, кто шлет нас на бойню!
Чего же хотите вы, король, президент, лорды и герцоги, купцы и банкиры, помещики Америки, Англии, Франции, Японии?
— Ха-ха-ха! Чего мы хотим? Мы хотим сожрать вас, мы хотим захватить ваши леса на севере, ваши гавани, ваши дороги.
Мы хотим, чтобы лен и пенька, лес и хлеб, все, чем богата ваша страна, медь и железо, свинец, серебро, платина, золото, — все мы хотим захватить.
Чего мы хотим? — скажут эти господа: мы хотим захватить и Север, и Волгу, и Урал, и Кавказ. Нам нужны ваши источники нефти, ваши рудники и шахты, ваши рыбные ловли, все заберем!
Чего мы хотим? — скажут они: мы хотим посадить вам на шею царя, потому что и в нашей стране король Георг — родственник Романова, потому что наша буржуазия — родная вашей, наши помещики — родные вашим.
Вы свергли дворянство, — мы вам снова посадим на шею его.
Вы свергли помещика, — мы вам снова посадим на шею его.
Вы захотели жить вольной свободной жизнью? А мы снова загоним вас в рабство.
— Вот чего хотят эти люди.
— Гоните их вон!
Из-во Всероссийского Центрального Исполнит. Комитета Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейск, и Казачьих Депутатов. Москва, Тверская ул., № И.
Москва—1918 г.60
Передовые рабочие и крестьяне сознавали необходимость серьезной подготовки к длительной гражданской войне с внешними и внутренними врагами Советской власти.
78
Автор «героического изображения нашей эпохи» в «Мистерии-буфф» чувствовал свою неразрывную связь с передовыми людьми страны — творцами ее новой истории. И эти люди, героически смелые бойцы за власть Советов, захотели установить связь или, как тогда выражались, «войти в контакт» с революционным поэтом. Маяковский вспоминал впоследствии:
«Мне позвонили из бывшего гвардейского экипажа и потребовали, чтобы я приехал читать стихи...» (Характерно здесь слово «потребовали»: революционные балтийские матросы уже тогда видели в Маяковском своего революционного поэта. — В. П.) «... и вот я на извозчике написал «Левый марш». Конечно, я раньше заготовил отдельные строфы, а тут только объединил адресованные к матросам».
Все дело, конечно, в том, что поэт «раньше заготовил отдельные строфы»: предыстория «Левого марша», само собой разумеется, не укладывается в путешествие на извозчике. Как бы там ни было, но 17 декабря 1918 г. Маяковский читал впервые свой «Левый марш» в Матросском театре. Вскоре новое произведение Маяковского стало популярным. Строфы, адресованные к матросам, оказались нужными всем. В чем была причина этого?
Герой этого произведения был передовой советский человек, борец за переделку мира, защитник социалистического отечества. Тот факт, что «Левый марш» был посвящен матросам или обращен к ним, как об этом говорил подзаголовок, лишь подчеркивал конкретность содержания произведения, нисколько не уменьшая его обобщающего значения. В образе героя «Левого марша» получили свое выражение лучшие черты героев Октября.
«Выдающуюся роль в Октябрьском восстании сыграли балтийские матросы и красногвардейцы с Выборгской стороны. При необычайной смелости этих людей роль Петроградского гарнизона свелась главным образом к моральной и отчасти военной поддержке передовых бойцов», — писала «Правда» в передовой статье в ноябре 1918 г.51 К этим людям и обращался Маяковский в своем «Левом марше».
Если, определяя задание своей «Мистерии-буфф», Маяковский характеризовал его так: «Это наша великая революция, сгущенная стихом и театральным действием», то в «Левом марше» с большой силой осуществились принципы «сгущения» стихом ведущих явлений и тенденций революционной действительности. Необычайная смелость передовых бойцов Октября — именно эта черта определяет романтический образ героев «Левого марша» с первой строфы и до последней, получая дополнение в другой черте — железной дисциплине, необходимость которой с особенной силой диктуется социалистической революцией. Смелость и дисциплина — это две стороны героического характера.
79
Пафос дерзания Октябрьской революции, совершившей коренной перелом во всей жизни, в быту, в традициях, в культуре, в идеологии эксплуатируемых масс всего мира, пафос рождения нового мира — вот смысл призывно-командных слов первой строфы «Левого марша»:
Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним. Левой!
Левой! Левой!
Этот романтический образ порыва в будущее нельзя отрывать от конкретно-исторической обстановки огромного революционного подъема первой Октябрьской годовщины. Однако этот образ вмещает в себя более широкое содержание, чем то, которое было вложено в него «типическими обстоятельствами», вызвавшими его к жизни. Сколько раз в критические моменты нашей истории партия, обращаясь к массам, призывала их усилить темпы трудового наступления, предупреждая, что нельзя нам больше отставать. И советские люди превосходили самих себя, проявляя необычайную смелость, сгущенную стихом Маяковского: «Клячу историю загоним». — «Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей»52, — говорил Ленин. В «Левом марше» Маяковский как поэт почувствовал перспективу новых темпов развития страны.
Смелость и дисциплина в созидании социализма, смелость и дисциплина в обороне социалистического отечества — таков идейный комплекс содержания «Левого марша».
От каких явлений в области живого языка отталкивался поэт, ища новую форму, адекватную новому содержанию? Можно сказать, что поэт использовал в ней те возможности, которые с особенной силой открылись в русском языке непосредственно после победы Октября. Следует обратить внимание на два массовых явления в общественной жизни, которые получили особенное значение именно в условиях 1918 г., когда нужно было разъяснять массам смысл великих исторических событий и организовать новую, рабоче-крестьянскую армию: митинговая речь и речь командира перед строем. В художественной форме «Левого марша» претворены, «сгущены стихом» особенности той и другой.
От митинговой речи в «Левом марше» — страстный демократизм и издевательская насмешка над врагом. От речи военачальника перед строем — слова команды, которыми заканчивается каждая строфа: «Левой! Левой! Левой!». Поэт связал и командирскую просторечную шутку— «Не место словесной кляузе!» 80
и строгий командирский окрик—«Кто там шагает правой?». Боевые строфы поднимали настроение:
Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде ступлены острые кили?!
Вслед за этой строфой, на созданной ею эмоциональной волне, поднималась центральная строфа стихотворения:
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной. Левой!
Левой! Левой!
В этой строфе «сердце» — смысл всего стихотворения: если в дипломатических нотах Советское правительство разоблачало лживость «неоднократных заверений Великобританского правительства», то Маяковский прямо назвал эти лживые заверения «воем» британского льва, впервые провозглашая в поэзии великолепную формулу советского патриотизма: «Коммуне не быть покоренной!».
Митинговая форма «Левого марша», включавшая в себя и элементы военного приказа, глубоко содержательна. Особенности художественной формы «Левого марша» выступают яснее в свете замечательных слов Ленина в первой половине 1918 г.:
«Над «митингованием» смеются, а еще чаще по поводу него злобно шипят буржуа, меньшевики, новожизнешцл, видящие только хаос, бестолочь, взрывы мелкособственнического эгоизма. Но без митингования масса угнетенных никогда не смогла бы перейти от дисциплины, вынужденной эксплуататорами, к дисциплине сознательной и добровольной. Митингование, это и есть настоящий демократизм трудящихся, их выпрямление, их пробуждение к новой жизни, их первые шаги на том поприще, которое они сами очистили от гадов (эксплуататоров, империалистов, помещиков, капиталистов) и которое они сами хотят научиться налаживать по-своему, для себя, на началах своей, Советской, а не чужой, не барской, не буржуазной власти» 53.
Дальше Ленин говорил: «Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов, митинговый демократизм трудящихся масс с железной дисциплиной во время труда.. .» 54
б В. Перцов
Пафос «Левого марша» нельзя понять и ощутить до конца — и в его содержании и в его форме — вне этой мысли Ленина.
Весенним половодьем врывалась в жизнь поэзия Маяковского, выраставшего в трибуна революции. История создания «Левого марша» — это отнюдь не история «экспромта», как несколько наивно восприняли рассказ самого поэта некоторые критики.
Устремление к такой действенной поэзии, которая непосредственно воодушевляла бы людей, к такому ее жанру, который помогал бы им, говоря фигурально, идти в ногу, было у Маяковского давно. Еще в начале войны 1914 г. он писал:
«Я говорю о поэзии, которая, вылившись подъемом марша, необходима солдату, как сапог...»
Но в то время вместо подъемного марша у него получилось «Траурное ура», стихи звучали, как реквием. Сразу же после Октября он написал «Наш марш». В нем звучала радость — бурная, хотя и не вполне конкретная. Но все-таки это уже был марш, первая проба жанра:
Бейте в площади буптов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Кристаллизация жанра была долгая. Созревание поэтического жанра — процесс более длительный, чем созревание темы. И, по-видимому, нельзя считать оговоркой замечание Маяковского перед чтением «Левого марша» на вечере, посвященном двадцатилетию его литературной деятельности, 25 марта 1930 г., в Доме Комсомола Красной Пресни:
«Сейчас я прочту первое из написанных за время революции. ..»
Фактически после Октября, до «Левого марша», он написал «Наш марш», «Хорошее отношение к лошадям», «Оду революции», если оставить в стороне его пьесу. Однако «Левый марш» действительно был первым произведением, в котором новое содержание воплощено было в новой, адекватной ему форме.
Сопоставление «Левого марша» с «Нашим маршем» напрашивается само собой. Без «Нашего марша» не мог быть написан «Левый марш», хотя между тем и другим разница большая и принципиальная. «Левый марш» исторически-конкретен:
Там за горами горя солнечный край непочатый. За голод, за мора море шаг миллионный печатай! Пусть бандой окружат нанятой, стальной изливаются леевой, —
82
России пе быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!
Слово «леевой» — нельзя не отметить — озадачивает. Этот неологизм, по-видимому, от корня «лить», не очень удачно образованный Маяковским по типу хлебниковских словообразований, — издержки поисков новой формы. Любопытно, что в рабочих «чтецах-декламаторах» и антологиях революционной поэзии это слово было изменено и строка читалась так: «стальной изливаются лавой». Переделав или поняв по-своему неудачное слово, как это нередко бывает в песне, народ правильно воспринял действенный смысл стихотворения революционного поэта.
В этой строфе вся конкретно-историческая ситуация, сгущенная в рифмующихся «бандой», «нанятой», «Антантой»; выражение непоколебимой уверенности советского патриота — «России пе быть под Антантой», основанное на сознании силы масс, организованных, дисциплинированных революцией, — «Шаг миллионный печатай!»; правдивая, реалистическая оценка тяжести настоящего — «голод», «мор» — не связывает романтического полета мечты: «Там за горами горя...»
Недаром выдающийся деятель партии и Советского государства А. С. Щербаков, выступая на пленуме Союза советских писателей в 1936 г., говорил по поводу «Левого марша»:
«... в дни интервенции и разрухи, разгрома заговоров и предательств, голода и холода Маяковский умел писать такие стихи:
Там
за горами горя
солнечный край непочатый.
За голод, за мора море Шаг миллионный печатай!
18 лет назад этот солнечный край был мечтой. Сегодня мы реально ощущаем его. Солнечный край — это Союз Советских Социалистических Республик» 55.
Поэтическая мысль Маяковского, отражая конкретно-исторические условия момента, обобщала существенные стороны советской эпохи. В творческом развитии Маяковского «Левый марш» вырывается вперед, становясь в один ряд с произведениями его творческой зрелости, образцами советской поэзии.
В «Нашем марше» поэт провозглашает: «Наш бог бег», и этот образ бегущего времени страдает отвлеченностью: «бег» вообще, потому что надоела «медленна лет арба». В «Левом марше»
6*
83
тот же мотив получает совершенно конкретное, романтическое содержание: «Клячу историю загоним» *.
Короткая строка, состоящая из односложных «Наш бог бег», рифмовалась в «Нашем марше» со строкой «Дней бык пег». Конечно, здесь была словесная игра. Но перемена размера от длинной строфы — «Бейте в площади бунтов топот» к трехсложной типа дольника «Дней бык пег» была опытом нащупывания нужного маршевого ритма.
В «Левом марше» двухсложный повтор после каждой строфы «Левой! Левой! Левой!» уже оправдан и мотивирован образом командира перед строем.
В статье «Как делать стихи» Маяковский писал:
«Мало сказать, что «неугомонный не дремлет враг» (Блок). Надо точно указать или хотя бы дать безошибочно представить фигуру этого врага. Мало, чтоб разворачивались в марше. Надо, чтоб разворачивались по всем правилам уличного боя, отбирая телеграф, банки, арсеналы в руки восстающих рабочих».
Это требование предельной конкретности было для Маяковского не только условием действенности стихов, но и условием их поэтичности. Процесс нарастания конкретности или, как выражался Маяковский, «сгущения стихом» явлений революционной действительности наглядно выступает от «Нашего марша» к «Левому маршу». Если в словесном арсенале первого еще нет ни одного политического понятия, ни одного слова, смысл которого обновлен или окрашен временем, то в «Левом марше» политическая лексика заняла законное место в языке Маяковского. Слова «коммуна» и «Россия» получили значение синонимов. В «Левом марше» появилось знаменитое, ставшее крылатым выражение:
Ваше слово, товарищ маузер... —
выражение, которое поэтизировало революционную решительность балтийских матросов, воплотило уважительное и любовное отношение к оружию в руках народа, поднявшегося на защиту Советской Родины.
Энергичные и размашистые строки «Левого марша» рисовали образ русского народа, устремившегося первым к социализму. И недаром много лет спустя Маяковский с удовлетворением отметил как проявление чувства дружбы народов популярность своего «Левого марша» среди поэтов братских республик:
Входит татарин;
«Я
на татарском
* Курсив мой. — В. П.
84
вам
прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорит, в карманах порыскав:
«Я —
мариец.
Твой
«Левый»,
Дай, тебе прочту по-марийски».
«Марш ваш — наш марш.
Я чуваш, послушай, уважь.
Марш в ашинский так по-чувашски...» Как будто годы взял за чуб я: — Станьте и не пылите-ка! —
Рукою своею собственной щупаю бестелое слово «политика».
«Левый марш» переведен ныне на все языки народов СССР и на многие языки народов зарубежных стран.
В этом произведении был разбег «долгого дыхания» на весь творческий путь поэтического глашатая советского патриотизма.
3 ПЕВЕЦ И КЛАСС
Иностранная интервенция в СССР и тема «150 000 000». Героические и сатирические элементы поэмы. Первое стихотворение Маяковского оЛенине. Значение поэмы «150 000 000». Записки В. И. Ленина в связи с изданием поэмы. Предыстория работы в Роста. Забота В. И. Ленина о надписях на общественных зданиях Москвы и Петрограда. Агитационно-поэтический опыт Демьяна Бедного. Художественные особенности работы Маяковского в Роста. Массовая фронтовая поэзия и ростинские стихи.
Вначале 1919 г. советским радиостанциям удалось записать сообщение парижского радио, отправленное без обозначения адресата, с предложением держав Антанты всем воюющим сторонам на территории России заключить перемирие. Ко всем «фактическим правительствам России» был обращен таинственный призыв немедленно прекратить военные действия п послать на Принцевы острова (близ Константинополя) представителей, которые совместно с представителями «нейтральных» стран Антанты начали бы переговоры о мире.
Впоследствии было установлено, что англо-американские империалисты рассчитывали на отказ Советского правительства принять участие в конференции на Принцевых островах и надеялись предстать пред мировым общественным мнением в роли «миротворцев», раздувая клевету о «советской агрессии».
Советское правительство разгадало провокацию.
Оно заявило в радиограмме Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР от 4 февраля 1919 г. правительствам Великобритании, Франции, Италии, Японии и США, что «готово немедленно начать переговоры или на Принцевых островах, или в каком бы то ни было другом месте со всеми державами Согласия. ..»
Вопрос о конференции на Принцевых островах стал злободневной темой, обсуждавшейся на страницах наших газет.
В разговор о конференции на Принцевых островах вступает Демьян Бедный. Он высказывается как поэт. В конце января
86
1919 г. в «Правде» появляется стихотворный фельетон, или непроизнесенная речь Демьяна Бедного «Мой отказ»:
Сущее, товарищи, искушение!
Получил я от Вильсона приглашение —
Приехать на Принцевы острова
Защищать свои права.. J
Сообщая далее о том, что по своему характеру он не сможет пойти ни на какие уступки «гадам», которые лишь «заманивают пальмовой веткой», притворяясь миротворцами, Демьян Бедный многозначительно намекает:
Сомненья мои, однако, рассеиваются:
Ильич посмеивается... Ильич-то посмеивается.. .2
Это выступление Демьяна Бедного знаменательно и характерно и для времени, и для поэта. В решении таких вопросов, от которых поэты были обычно очень далеки, Демьян Бедный хочет принять самое непосредственное участие. Поэзия и политика сливаются, и в этом смысле пример Демьяна Бедного является важным для направления творчества Маяковского.
Затея с Принцевыми островами провалилась. Цель ее для империалистов заключалась в том, чтобы, усыпив бдительность молодой Советской страны, оттянуть время для организации новой интервенции, которая впоследствии получила название «похода 14 держав».
Советская республика стояла перед тягчайшими военными испытаниями.
Отпор иноземному нашествию требовал сплочения трудящегося крестьянства вокруг рабочего класса и его партии. Ленин указывал:
«... если война эта ведется с повышенной энергией, с повышенным героизмом, то только потому, что в первый раз в мире создана армия, вооруженная сила, знающая, за что она воюет, и в первый раз в мире рабочие и крестьяне, приносящие невероятно тяжкие жертвы, ясно сознают, что они защищают Советскую социалистическую республику, власть трудящихся над капиталистами, защищают дело всемирной пролетарской социалистической революции» 3.
В такой обстановке зарождается у Маяковского замысел поэмы, героем которой поэт хочет сделать миллионы людей, поднявшихся на борьбу. Воля миллионов в поэме Маяковского направлена на то, чтобы опрокинуть чудовище международного империализма, ставшее на пути к счастью русского народа и всех народов мира. В поэме «150000000» былинный богатырь Иван по замыслу поэта воплощает образ русского народа, вступающего в единоборство с мировым капитализмом в лице американского президента Вудро Вильсона.
87
Иван отправляется не на Принцевы острова, а в Америку — померяться силами с врагом. Поэт правильно разглядел главного противника, который до поры до времени не выдвигался на первый план, пряча своих солдат за спинами войск Антанты. На юге России были французские и греческие войска, поддерживаемые французским флотом, на севере — английские, американские и французские войска, в Грузии, Азербайджане и Закаспии — английские войска, на Дальнем Востоке — японские, американские и английские войска. Среди «собственных войск» интервентов, среди экзотических форм одежды колониальных войск американские мундиры цвета хаки не бросались в глаза. Однако Ленин так характеризовал международное положение и роль в нем Америки в ноябре 1919 г.
«Англия и Франция победили, но они в долгу, как в шелку, у Америки, которая решила, что сколько бы французы и англичане ни считали себя победителями, она будет снимать сливки и получать проценты с лихвой за свою помощь во время войны, а в обеспечение этого должен служить американский флот, который сейчас строится и обгоняет своими размерами английский» 4.
В своей поэме Маяковский и поставил Советскую Россию лицом к лицу с капиталистической Америкой — Идолищем поганым мирового империализма. Этот сюжет поэт облек в форму сказки-фантазии. «Былина об Иване» — одно из первых рабочих названий нового произведения:
Русских
в город тот Не везет пароход, не для нас дворцов этажи. Я один там был, в. барах ел и пил, попивал в барах с янками джин. Может, пустят и вас, не пустили пока — пачиняйтесь же и вы чудесами — в скороходах-стихах, в стихах-сапогах исходите Америку сами.
В «скороходах-стихах», опережая время, поэт пришел к трезвой, реалистической оценке положения, правильно разобрался в «невероятной, гигантской сути» исторических событий: суть поэмы в том, что, несмотря на ужасные бедствия и лишения, перенесенные стопятидесятимиллионным Иваном в четырехлетней империалистической войне, несмотря на жестокую блокаду Советской страны, организованную самыми передовыми, цивилизованными, «демократическими» государствами, несмотря на голод и разруху, Иван — русский, советский народ — сильнее
98
богатого, обожравшегося Вильсона. В. И. Ленин писал в это время:
«Подумать только: передовые, наиболее цивилизованные и «демократические» страны, вооруженные до зубов, господствующие в военном отношении безраздельно над всей землей, боятся, как огня, идейной заразы, идущей от разоренной, голодной, отсталой, по их уверению даже полудикой, страны!»5
В поэме Маяковского идейное превосходство на стороне молодого советского строя, сплачивающего в образе Ивана передовых людей всего мира против капитализма, противника опасного, располагающего всей мощью техники, но уже теряющего власть над массами.
Какое значение придавал поэт задуманной им новой работе, можно понять из того, что сказал он, имея в виду будущую свою поэму:
«Оставляя написанное школам, ухожу от сделанного и, только перешагнув через себя, выпущу новую книгу». Новая книга, которая уже зрела, «охватила голову поэта», «открывала» в его творчестве тему Америки. Вера в Россию, в русский народ, в его победу — основное в поэме Маяковского. С такой верой можно было принимать решение, столь трудное для художника: «перешагнуть через себя».
По своему идейному пафосу поэма Маяковского — несмотря па свои серьезные недостатки — оказалась в центре историко-литературного процесса, отразившего собирание сил молодой советской литературы вокруг идеи России-родины.
Русский народ, поднявшийся на борьбу за счастье всего человечества, становится героем мировой истории.
Вот это и притягивало к Советской России лучшую часть русской интеллигенции. Характерно признание Константина Федина:
«Самое сильное чувство, с каким я пришел в революцию после пережитой в плену войны, было чувство России-родины. Это чувство не упразднялось революцией, а составляло единство с нею. Большевики были патриотами. Все другие партии были против большевиков, потому что постыдно ушли от родины. Большевики постыдное отвергали. Все постыдное объединялось с чужими государствами и властями, выступавшими против родины. Революция платила за это ненавистью»6.
Поэтическая тема родины предстала для многих писателей как тема единства героического начала в настоящем и прошлом великого русского народа.
И если эти писатели еще смутно представляли себе подлинный смысл великих исторических событий и новое качество героизма народа, борющегося за социализм, то все же поэтизация настоящего, хотя бы и однобокая, сквозь призму прошлого была уже заявкой на принятие революции.
89
В своих статьях об интелЛйгейЦйи й революции Александр Блок стремился пробудить в интеллигенции чувство национальной гордости. Величие прошлого России было в глазах Блока залогом еще более великого будущего. Для вас, для роста и процветания вашей европейской культуры, обращался А. Блок к Западу в своих «Скифах», мы, русские, «держали щит меж двух враждебных рас — Монголов и Европы!» И вот ныне таким щитом против «страшного мира» загнивающего капитализма Европы и Америки сделала история Советскую Россию. Правильно указывает критик Вл. Орлов, что «фальшивая нота «пан-монголизма» не может заглушить революционно-патриотическое звучание «Скифов».
Ал. Блок взял эпиграфом к своему знаменитому стихотворению слова Владимира Соловьева: «Панмонголизм! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно!» Аналогия со скифами у Блока продолжает характерный для основоположников символизма мотив, встречающийся еще в начале XX в. у Валерия Брюсова. Конечно, в положении молодой Советской России по отношению к капиталистическому Западу не было ничего общего с противопоставлением «двух враждебных рас — Монголов и Европы», присущим идеалистической философии Вл. Соловьева. Но в пафосе «Скифов» этот мотив парадоксально переплетается с неожиданными поворотами мысли поэта, звучащими в лад с идеалами Октябрьской революции. Автор «Скифов» восторженно провозглашает преемственность культур, создает гимн их достижениям в прошлом. Это воспринимается в духе времени, как защита всего лучшего в культурном наследии человечества во имя усвоения его пролетариатом.
Мы любим все — и жар холодных числ, И дар божественных видений,
Нам внятно все — и острый галльский смысл, И сумрачный германский гений 7.
И вот новый поворот мысли поэта: стремясь разгадать «древнюю загадку» «России-сфинкса», Блок вместе с историком Геродотом готов видеть в ней страну диких наездников:
Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы, И усмирять рабынь строптивых...
Очень сложный, многоплановый, противоречивый образ «России-сфинкса» в блоковских «Скифах», казалось бы, не накладывался на историческую реальность Советской России, окруженной кольцом белогвардейской блокады. И в то же время выражал самое главное — требование мира, основанное на чув
90
стве превосходства нового над старым, на гордой уверенности в собственных силах:
В последний раз — опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира,
В последний раз — на светлый братский пир Сзывает варварская лира!
Образ России-щита, с такой силой воплощенный А. Блоком в его «Скифах», встречаем и в известном стихотворении Валерия Брюсова «России», написанном в 1919 г.:
Россия! В злые дни Батыя
Кто, кто монгольскому потопу
Возвел плотину, как не ты?
Чья, в напряженной воле, выя, За плату рабств, спасла Европу От Чингизхановой пяты?
И вновь, в час мировой расплаты,
Дыша сквозь пушечные дула,
Огня твоя хлебнула грудь,
Всех впереди, страна-вожатый,
Над мраком факел ты взметнула, Народам озаряя путь8.
В годы 1919—1920 сложился самый смелый, ясный по политической мысли, едва ли не самый важный в творчестве Валерия Брюсова этого периода цикл патриотических стихов, озаглавленный им в патетическом стиле тех лет — «Зарево пожара»; им открывалась книга «В такие дни».
Брюсов стремился запечатлеть отдельные реалистические черты картины «третьей осени»:
... в теплушках люди гурьбой
Ругаются, корчатся, стонут, Дрожа на мешках с крупой9.
«Вой, ветер осени третьей», — обращался Валерий Брюсов к грозному ветру истории, всей душою стремясь слиться с ним.
Эй, ветер, ветер! Поведай,
Что в распрях, в тоске, в нищете
Идет к заповедным победам
Вся Россия, верна мечте;
Что прежняя сила жива в ней,
Что, уже торжествуя, она
За собой все властней, все державной
Земные ведет племена 10»
91
С язвительной «инвективой» обращался Валерий Брюсов к тем «товарищам интеллигентам», которые еще не определили своего места в классовой борьбе. Сам он встал в общий строй тружеников культуры. Не «в катакомбах, пустынях, пещерах», а в одном из вновь созданных учреждений Наркомпроса, в плохо отапливаемом бывшем барском особняке на Новинском бульваре, где помещался Охобр Главпрофобра (Отдел художественного образования, возглавлявшийся Брюсовым), двигал вперед советскую художественную культуру бывший символист, столь неудачно пытавшийся в 1905 г. полемизировать с Лениным, отстаивая «беспартийность» искусства. «Дистанция огромного размера» между тогдашней кающейся отчужденностью от народа и советской национальной гордостью в стихотворении 1919 г. «Только русский»:
Мы пугаем. Да, мы — дики, Тесан грубо наш народ: Ведь века над ним владыки Простирали тяжкий гнет. Выполняя труд тяжелый, Загнан, голоден и наг, Он не знал дороги в школы...
И поэтому
Только русский, знавший с детства Тяжесть вечной духоты...
... Без притворства может к нашей Новой вольности примкнуть11.
Разйе не слышен в этих стихах отзвук речей Ленина в конце 1918 г.:
«Пусть кричит на весь свет продажная буржуазная пресса о каждой ошибке, которую делает наша революция. Мы не боимся наших ошибок. От того, что началась революция, люди не стали святыми. Безошибочно сделать революцию не могут те трудящиеся классы, которые веками угнетались, забивались, насильственно зажимались в тиски нищеты, невежества, одичания» 12.
«Без притворства» примкнули к новому миру русские символисты В. Брюсов и А. Блок, в творчестве которых еще задолго до Октября нарастал разлад, назревал разрыв со старым миром. Что оказалось для них решающим в повороте к новому? Осознание того, что большевики были патриотами, гордость за то, что Россия, преобразованная Советами, «всех впереди, страна-вожатый. .. народам озаряя путь».
В шатаниях старой русской интеллигенции между двумя классовыми станами, в исступленных переходах от отчаяния к надежде, от проклятий по адресу большевиков к благослове-
92
ниям им как единственной реальной силе, которая в состоянии сохранить Россию, дать отпор иноземному нашествию, нарастало сознание преемственности исторических побед русского народа в далеком прошлом и первых побед молодой Красной Армии. Весной 1919 г. в стихотворении с подзаголовком «В эпоху бегства французов из Одессы» Максимилиан Волошин — даже этот долгие годы отсиживавшийся в своей коктебельской «башне из слоновой кости» эстет — был захвачен общим патриотическим чувством:
... Каждый коснувшийся дерзкой рукою —
Молнией поражен:
Карл — под Полтавой, ужален Москвою, Падает Наполеон.
Помню квадратные спины и плечи
Грузных немецких солдат —
Год. ..ив Германии русское вече: Красные флаги кипят.
Кто там? Французы? Не суйся, товарищ,
В русскую водоверть!
Не прикасайся до наших пожарищ — Прикосновение: смерть! 13
В Париже, в том же 1919 г., еще терзаемый сомнениями в правильности пути, избранного покинутой им Родиной, Алексей Толстой приступает к роману «Сестры» — первой части трилогии «Хождение по мукам» (впоследствии переработанной автором) . Его герой — честный русский интеллигент, инженер Телегин ищет в далеком прошлом России ответ на свои тревоги и сомнения о судьбах родины:
«Иван Ильич захлопнул книгу (История России. — В. П.).
— Ты видишь... И теперь не пропадем... Великая Россия пропала! А вот внуки этих самых драных мужиков, которые с кольями ходили выручать Москву, — разбили Карла Двенадцатого и Наполеона... А внук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построил... Великая Россия пропала!.. Уезд от нас останется, — и оттуда пойдет русская земля...» 14
Даже в первом варианте начала эпопеи, где автор еще настроен враждебно к большевикам, пробивается в полном противоречии с этим чувством сильная органическая вера в бессмертие народа.
«Россия не вся вымерла и не пропала. 150 миллионов живет на ее равнинах, живет, конечно, плохо, голодно, вшиво, но, несмотря на тяжкую жизнь и голод, — не желает все же ни нашествия иностранцев, ни отдачи Смоленсков, ни собственной смерти и гибели» 15, — писал Алексей Толстой, пытаясь объяснить свой разрыв с проклинавшей его эмиграцией.
93
«О русская земля!» — в этом эпиграфе из «Слова о полку Иго-реве» к первой части «Хождения по мукам» сказалась боль сердечная о судьбах родины, глубокая «мука» и «дума» честного русского писателя, временно отошедшего от исторического пути своего народа и стремившегося вновь вернуться на этот путь.
Тот же великий патриотический памятник древней русской литературы — «Слово о полку Игореве» — настраивал на высокий лад и Александра Малышкина — молодого советского писателя, попытавшегося в своем «Падении Дайра» воспеть победу советского народа под Перекопом над силами международного империализма: «Как это? Русь, уже за шеломянем еси? .. курганы уплывали, как черные — на заре — шеломы: назад, в сумерки, в историю...» 16
Великая Октябрьская революция, нанеся сокрушительный удар по тем предрассудкам прошлого, которые сковывали силы народа, оживила в народной памяти и окружила любовью все лучшее в его героической истории. Сознание всемирно-исторической роли Октябрьской революции, хотя и недостаточно еще углубленное пониманием идей пролетарского интернационализма, оплодотворяло патриотическим пафосом первые произведения советской литературы. Большевики возвеличивают идею России-родины — этого не могли понять белоэмигранты, потерявшие землю родины, бежавшие от народного гнева.
А. Блок сделал в своем дневнике большую выписку из критической статьи в «Русской мысли», издававшейся белоэмигрантом П. Струве в Софии. Статья, полная злобных недоумений, называлась «Идея родины в советской поэзии» («Русская мысль», январь—февраль 1921 г.):
«Перечтя эти и подобные им стихи (имеются в виду «Скифы» и «Двенадцать» А. Блока. — В. П.), невольно приходишь к заключению, в котором, как кажется, мерцает сияние некой, еще не раскрывшейся, но уже близкой исторической истины: никогда, быть может, за все существование российской поэзии, от «Слова о полку Игореве» и до наших дней, — идея родины, идея России не вплеталась так тесно в кружево и узоры созвучий и образов религиозно-лирических и символических вдохновений, — как в этих стихах «советских поэтов»...» 17
И Петр Струве разоблачал «Двенадцать» как произведение кощунственное, направленное против религии. «Это не может не восприниматься болезненно всеми любящими красоту блоковской поэзии», — лицемерно восклицал он. Ленин указывал^.. «... что главные свойства лакея, как социального типа, суть лицемерие и трусость» 18. Разве не иллюстрацией к данному положению Ленина'являются слова представителя этого социального типа из «Русской мысли» по адресу А. Блока:
«... один упрек можно сделать «Скифам» с точки зрения русского патриотического сознания: «поэт переоценивает силу Рос-
94
Сйй... Действительно ли мы Настолько сильны, чтобы мог стнуть» скелет Европы «в тяжелых, нежных наших лапах»? ... Об этом можно спорить, здесь допустимы сомнения» 19.
Александр Блок в этом не сомневался. Но его благородная уверенность в силе революции была все же безотчетной и покоилась во мйогом не на тех основаниях, которые в действительности составляли ее силу. От имени революционного народа должен был сказать свое слово поэт революции.
На «сомнения» в силе Советской России врагов за рубежом, на злорадные надежды и ожидания классового врага внутри страны ответил в советской поэзии Маяковский своими «150000 000».
*
В своей статье «Главная задача наших дней», написанной весной 1918 г., Ленин взял эпиграф из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»:
Ты и убогая, ты и обильная, Ты и могучая, ты и бессильная — Матушка-Русь!
С твердой уверенностью Ленин говорил о том, что те миллионы и десятки миллионов людей, которые теперь самостоятельно творят историю, смогут добиться того, чтобы Русь стала в полном смысле могучей и обильной.
«Она может стать таковой, ибо у нас все же достаточно осталось простора и природных богатств, чтобы снабдить всех и каждого если не обильным, то достаточным количеством средств к жизни. У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция, — чтобы создать действительно могучую и обильную Русь» 20.
Пафос «150 000 000» в попытке создать образ богатыря— советского народа.
И вот
Россия
не нищий оборвыш,
нс куча обломков,
пе зданий пепел — Россия
вся
единый Ивап,
и рука
у него —
Нева,
а пятки — каспийские степи.
95
В своей поэме Маяковский останавливается в затруднении в поисках слова, которым можно было бы выразить мощь революции: «... тебе какое дам название, вся Россия, смеряем скрученная в столб?!»... Впервые в поэму Маяковского входит, хотя и очень условный, образ Ленина — единственного, кто мог направлять движение революционного смерча:
Сердце ж было так его громоздко, что Лепил еле мог его раскачивать.
Стремясь создать образ «могучей Руси», поэт вдохновляется перспективой, нарисованной Лениным, хочет опереться на традиции народного творчества. Сказовые, песенные, былинные мотивы оживляются в это время и в зарождающейся советской прозе — повестях и рассказах Вс. Иванова, Ал. Неверова. Обращение Маяковского к форме былины не было чем-то исключительным. Оно отвечало общим для советской литературы поискам в прошлом героических образов силы народа и попыткам опереться на демократические жанры. «Старая былина на новый лад» Демьяна Бедного была опубликована в «Правде» к первой годовщине Красной Армии. Используя старую художественную форму, Демьян Бедный не избежал упрощения, стилизации. Против «богатырей заморских» Вудро Вильсона, Клемансо Парижского — банкирского прихвостня и Ллойд-Джорджа — приказчика купеческого выступают в «былине» Демьяна Бедного двое воителей «на новый лад»:
Рабочего виду да крестьянского, Немудрящего виду, расейского, И крикнули они громким голосом, Ажно кони под витязями шарахнулись: «Держите ответ, душегубы старые, За все злодейства ваши окаянные!»21
Заморские богатыри рубят со всего плеча русских воителей, а сила их —- разрубленных надвое — после каждого налета все удваивается. Этот былинный прием по-своему претворяется у Маяковского: Вильсон разрубает Ивана, из которого лезут живые люди.
Если в демократических тенденциях поэтики «Двенадцати» А. Блок оказался созвучным Маяковскому, что было замечено и отмочено при появлении «Двенадцати», то в «150000000» произошла своеобразная обратная «отдача»: Маяковский перекликается с блоковской поэмой — и это тоже почувствовали современники 22. Однако тот образ рядового крестьянского парня, который появляется в начале повествования о его удивительных подвигах, существенно и принципиально отличается от героя 96
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ. 1918 г.
А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ. 1920 г.
«Двенадцати»; отдельные общие черты и реальные приметы времени только усиливают эту разницу:
Идем!
Спадают!
Ванька!
Керенок подсунь-ка в лапоть!
Босому, что ли, на митинг ляпать?
Пропала Россеичка!
Загубили бедную!
Новую найдем Россию.
Всехсветную!
Иде-е-е-е-м!
Герой Маяковского подсмеивается над «плакальщиками» — «Пропала Россеичка! Загубили бедную!»—и в этом нельзя не расслышать переклички с Блоком.
Однако, высмеяв «плакальщиков», А. Блок и к своему герою относится иронически: «А Ванька с Катькой в кабаке, у ей керенки есть в чулке! — Ванюшка сам теперь богат...» и т. д.
У Маяковского обесцененные керенки только и годятся на то, чтобы их «подсунуть» в лапоть. Не в кабак, а на всероссийский митинг собирается Ванька в поэме Маяковского и понимает, что прийти туда надо подтянутым — «Босому, что ли, на митинг ляпать?» Это реальный штрих, характерный для перелома в настроениях крестьянских масс, организуемых партией. Недаром Ванька на глазах превращается в Ивана, который,
шаги обрушив, пошел
грозою вселенную выдивить.
Герой Маяковского отправляется в поход, настроенный бодро, уверенный, что победит новая Россия «всехсветная», т. е. отечество трудящихся всего мира.
Наши газеты 1919 г. систематически печатали сообщения американского радио, самые противоречивые. В них говорилось то о свирепых мероприятиях комитетов и лиг по борьбе с большевизмом, организуемых Вудро Вильсоном, то о готовности Америки прийти на помощь продовольствием и накормить голодных при условии прекращения военных действий. Лживыми словами о культуре, о братской помощи голодающим во имя гуманизма американские «миротворцы» стремились усыпить бдительность советских людей, вывести из-под огня еще плохо организованные банды интервентов и белогвардейцев, а потом обрушиться па молодую Советскую страну.
7 В. Перцов
97
Сила Ивана, представляющего в поэме, по мысли Маяковского, советский парод, — это прежде всего сила правды, сила идеи. В единоборство с чудовищем американского империализма Иван
Идет, начиненный людей динамитом.
Идет, всемирной злобой взрывчат.
Образ русского богатырского эпоса переходит у Маяковского в античный миф о троянском коне: предания классической древности, «до неузнаваемости раздутые» Маяковским, усиливают впечатление грандиозности происходящего:
О, горе!
Прислали из северной Трои Начиненного бунтом человека-коня!
Метались чикагцы, о советском строе весть по оторопевшим рядам гоня.
У Вильсона огромное преимущество в технике, которую он обрушивает на советского богатыря. И тут обнаруживается то, благодаря чему побеждает Иван:
Сабля взвизгнула.
От плеча и вниз на четыре версты прорез. Встал Вильсон и ждет — кровь должна б, а из раны вдруг человек полез.
В новом мифе Маяковского чувствовалась сила молодого советского строя, сила идей справедливой войны против империалистической интервенции. В полном согласии с традиционными былинными гиперболами, рисующими богатыря, который скачет «выше лесу стоячего, чуть пониже облака ходячего», шагает по волнам Атлантического океана и
па берег выходит Иван в Америке, сухонький, даже ног не замоча.
Гипербола, присущая стилю Маяковского, опиралась теперь па приемы фольклорной поэтики.
98
В богатырских образах фольклорной иоэтики отражались представления народа о своих неимоверных силах, о неисчерпаемых возможностях.
И в «150 000 000» гипербола получила то же историческое обоснование. Само название поэмы подчеркивало силу числа, идею силы народа.
Гром разодрал побережий уши, и брызги взметнулись земель за тридевять, когда Иван, шаги обрушив, пошел грозою вселенную выдивить.
Это гроза идей, сила нравственная. Она неодолима. Это ураган, смерч истории. «Россия всехсветная» — в передовых людях всей земли.
Ивана нельзя запереть в «блокаду-клетку», как нельзя запереть правду. Маяковский сатирически изображает ужас вооруженной до зубов буржуазии перед обезоруживающей силой передовых идей:
Радио расклеили. И, опровергая опое, сейчас же новое, последнее, захватывающее, сенсационное.
«Не пушечный дым — океанская синева.
Нет ни броненосцев, ни флотов, ни эскадр. Ничего нет.
Иван».
Что Иван?
Какой Иван?
Откуда Иван?
Почему Иван? Чем Иван? Положения не было более запутанного. Ни одного объяснения достоверного, путного.
Сейчас же собрался коронный совет. Всю ночь во дворце беспокоился свет.
7*
99
Министр Вильсона
Артур Крупп заговорился так, что упал как труп. Капитализма верный трезор, совсем умаялся сам Крезо.
Вильсон необычайное проявил упорство и к утру решил — иду в единоборство.
Сатирический портрет Вудро Вильсона, созданный Маяковским в «150 000 000» на основе тех самых общих представлений, которые могло дать поэту чтение газет, представляет особый интерес. Как и в «Мистерии-буфф», более сильной стороной поэмы является ее разоблачительная линия. Главы, посвященные Америке, гораздо более реалистичны, чем «русские» главы. По-видимому, сам поэт считал их наиболее важными и наиболее удавшимися, потому что, получив возможность впервые опубликовать отрывок из поэмы весной 1920 г. во «Временнике» Лито Нарком-проса — «Художественное слово», он дал туда именно «американскую» главу:
Теперь поверием вдохновенья колесо. Наново ритма мерка.
Этой части главное действующее лицо — Вильсон. Место действия — Америка.
Портрет Вудро Вильсона — великолепный памфлет, в известной мере продолжает старую сатирическую манеру Маяковского. В изображении Вудро Вильсона есть общие черты с образами капиталистов в сатирических стихах Маяковского, с образом Повелителя Всего в «Человеке». Однако прежние художественные приемы Маяковского сочетаются с новыми, идущими от былинного образа Идолища поганого или Соловья-разбойника. Известно, что традиционные образы былинного богатырства никогда не преуменьшали силы врага. Напротив, не щадя красок в изображении силы врага, поэтика былины подготовляла воображение слушателя к тому, чтобы по-настоящему оценить ум и силу, ловкость и отвагу богатыря-победителя. На вопрос Ильи Муромца, долго ли ему ехать до Киева-града, мужики Черни-города рассказывают ему всякие ужасы про «короткую прямоезжую дорогу», где сидит Соловей-разбойник («свистит Соловейка по-соловьиному, а сидит-то, собака, шипит он по-змеиному. А ни конному, ни пешему прохода нет...»). Чем страшнее Соловей-
100
разбойник, тем больше доблесть Ильи, избравшего, конечно, «короткую прямоезжую дорогу» и победившего «собаку» — врага. Вот в другой былине препирательства с Идолищем поганым Ильи-Муромца, не узнанного своим противником:
«По многу ли Илья ваш хлеба ест, По многу ли Илья ваш пива пьет?» Говорит Илья таковы слова: «По стольку ест Илья, как и я, По стольку пьет Илья, как и я». Говорит ему Идолище поганое: «Экой ваш богатырь Илья: Я вот по семи ведер пива пью, По семи пуд хлеба кушаю».
Говорил ему Илья таковы слова:
«У нашего Ильи Муромца батюшка был крестьянин, У ёго была корова едучая: Она много пила-ела и лопнула» 23.
Эту былинную традицию, в которой удаль и насмешливый ум, черты русского национального характера снимают всякий страх перед противником, Маяковский великолепно продолжил в своем сатирическом изображении Вильсона.
Жрет Вильсон, наращивает жир, растут животы, за этажом этажи.
И та же насмешка в описании Вильсонова богатства — преувеличение буржуазией своей силы, ее хвастовство, кичливость:
Триста комнат сначала гости идут.
Наконец дошли.
Какое!
Тут опять начались покои. Вас встречает лакей. Булава в кулаке.
Так пройдешь лакеев пять.
И опять булава.
И опять лакей.
Залу кончишь — лакей опять.
За лакеями
гуще еще
курьер. Курьера курьер обгоняет в карьер.
101
Нет числа.
От числа такого дух займет у щенка-Хлестакова.
Использование гоголевского образа вносит сатирическую окраску в эту картину буржуазной шумихи и рекламы: хлестаковщина. В изображении хозяина дома Маяковский вновь обращается к «Ревизору», заставляя вспомнить, что у Петра Ивановича Бобчинского был «зуб со свистом». Оказывается, что Вудро Вильсон —
То ль заряжен чем, то ли с присвистом зуб, что ни звук — бух пушки.. .
Эта деталь, конечно, не столько устрашает, сколько смешит. В изображении силы Вудро Вильсона Маяковский не поскупился на сверхгиперболы, полные самого озорного и веселого издевательства над противником. К былинной и сказочной традиции в качестве средства усиления были приданы приемы гоголевского гротеска. Все это зазвучало по-новому, как острый политический памфлет. Лакеи, у которых «булава в кулаке», смешиваются в окружении Вильсона с лакеями без булавы — представителями буржуазной интеллигенции, среди которых недостает только плакальщика о России — Петра Струве. Вот они, «товарищи интеллигенты» 20-х годов XX в., «мудрецы, певцы, поэты», готовые беззаветно служить денежному мешку. Не былина и не Гоголь, а советская действительность 20-х годов с ее борьбой за интеллигенцию подсказала Маяковскому художественную трактовку этой темы в одной из глав его поэмы.
Если припомнить до предела накаленную обстановку классовой борьбы, то нетрудно понять некоторые полемические выпады Маяковского, которые сегодня могут показаться необоснованными.
Под ним (Вильсоном. — В. П.) склоненные
стоят его услужающих сонмы. Вся зала полна
Линкольнами всякими,
Уитменами,
Эдисонами.
Свита его
из красавиц, из самой отборнейшей знати. Его шевеленья малейшего ждут.
Аделину
102
Патти
знаете?
Тоже тут!..
... Имея наивысший американский чин — «заслуженный разглаживатель дамских морщин», стоит уже, загримированный и в шляпе, всегда готовый запеть Шаляпин.
Значение этих картин и острота сатирической типизации в полной мере могут быть оценены, если учесть, что в период создания «150 000 000» значительная часть даже той интеллигенции, которая стала сотрудничать с Советской властью, была заражена духом низкопоклонства перед буржуазной культурой, жила надеждами на заграничную «помощь». Недаром из этого лагеря буржуазной интеллигенции — в петроградской «Летописи Дома литераторов» — раздался по адресу Маяковского наивно-негодующий голос в защиту «обижаемого» им Вильсона, который, дескать, кормит голодных:
«... мольба об их спасении, об их пропитании летит туда, на Запад, за океан, и кормит их этот самый обруганный, оплеванный Вильсон, кормит во имя культуры...» 24
Недальновидный критик показал здесь не только свое глубокое политическое невежество. В «Летописи Дома литераторов» не могли понять негодования Маяковского, его истинного советского патриотизма: поэт говорил от лица народа, оказавшегося в тяжелом положении, но гордого, верящего в свои силы, не желающего продавать свое революционное первородство за ту чечевичную похлебку, которой Вильсон рассчитывал «накормить» общественное мнение. «Летопись Дома литераторов» писала о поэме Маяковского:
«... ведь это стародавнее российское «шапками закидаем» в дни, когда газеты изо дня в день печатают: «Прибыл американский пароход с грузом продовольствия для голодающих губерний» 25.
Ни елейные речи, ни пароходы с продовольствием заокеанских «миротворцев» не могли обмануть Маяковского, как они обманули его критика. Поэт ясно понимал, что Идолище империализма в своей ненависти к Советской республике не остановится ни перед какими, самыми чудовищными средствами для уничтожения ее. Однако революционный народ нельзя застигнуть врасплох. Маяковский правдиво отразил оптимизм, присущий массам, поднявшимся на борьбу:
Двинулись, предводимые некою радугоглазой аптекою, бутылки карболочные выдвинув в бойницы,
103
йазаретк,
лечебницы,
больницы.
Вши отступили, сгрудились скопом.
Вшей
в упор расстреливали микроскопом. Молотит и молотит дезинфекции цеп. Враги легли, ножки задрав, А поверху, размахивая флаг-рецепт, прошел победителем мировой Наркомздрав.
Фантастическая форма поэмы Маяковского не может заслонить от нас ее реалистической основы: это была попытка написать сказку о правде, об основном классовом столкновении исторической современности.
*
В бою
славлю миллионы, вижу миллионы, миллионы пою.
Эта декларация Маяковского имела для него в тот период, как и дл*я всей молодой советской литературы, особое значение — полемики против буржуазного индивидуализма.
В начале 20-х годов немало оставалось еще на советской земле буржуазных литераторов из числа тех, которые вскоре оказались за рубежом, в лагере белой эмиграции.
Н. Гумилев играл роль мэтра в Петроградском «Цехе поэтов». Эта среда сознавала себя чужою среди советских людей, полна была самых мрачных предчувствий. Один из молодых представителей «Цеха поэтов», отличавшийся особенно агрессивным эстетизмом, и в своих, написанных «под Гумилева», претенциозных поэтических опусах, и в своих критических выступлениях возвеличивал Гумилева, утверждая, что он «есть одна из центральных и определеннейших фигур нашего искусства и, добавлю, героическая фигура среди глубокого и жалкого помрачения поэтического и общехудожественного сознания в наши дни» 26.
Трудно сказать, какой реальный смысл вкладывал критик в эти рекомендации, но такое стихотворение Н. Гумилева, как «Заблудившийся трамвай», при всей зашифровапности образов, говорит
104
о том, как чужда была автору новая действительность России после Октябрьской революции.
Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, па котором можно В Индию Духа купить билет 27
такова была мечта многих, не успевших или не сумевших еще по независящим от них причинам покинуть землю родины. Они — кучка буржуазной интеллигенции — ревниво охраняли независимость искусства от жизни. Советская власть помогала прояснению ее сознания, окружая и эту группу вместе с лучшей частью интеллигенции заботой и вниманием, выделяя во время голода и блокады пайки усиленного продовольственного снабжения, установив для наиболее известных деятелей культуры «академические пайки». В порядке исключения писателям была предоставлена привилегия свободной продажи книг. Эти «лавки писателей» были немногими книжными магазинами, в которых была разрешена торговля книгами: в то время вся литература распределялась по стране централизованной закрытой сетью «Центропечати».
«Жрець^> принимали все это как должное. Они хотели добиться признания за искусством особого положения, права жить своей, особой жизнью, независимой от общей жизни -народа. Но в то же время они хотели, чтобы народ, героически отказывавший себе в самом необходимом во имя защиты родины, кормил и поил их, одевал и снабжал всеми средствами к жизни.
Евгений Замятин изобразил быт нетопленой петербургской квартиры — «Пещеры», где обитают Мартин Мартинович и Маша — тонкие натуры, образованные люди с артистической душой, переносящие лишения по вине затеянной кем-то и во имя чего-то гражданской войны. Образ самого писателя-идеолога «квартиры со всеми удобствами» демонстрировал его подлинно пещерный эгоизм.
Весной 1919 г. вышел в Петербурге сборник «Записки мечтателей». Он открывался своего рода программной эпопеей Андрея Белого «Я». Андрей Белый жаловался на то, что Советская власть не обеспечивает ему условий для писания гениальной эпопеи «Я». И хотя Андрей Белый встретил Октябрьскую революцию сочувственно, увидев в ней «Мессию грядущего дня», все его приятие революции оказалось настолько истолкованным мистически, что и он, подобно Николаю Гумилеву, выступил тоже со своей декларацией йпоэта и гражданина»:
«Отпустите меня на свободу: и я — я вплотную придвинусь ц вам темой дооещ, то «Я», о котором я хочу писать, — ваше
105
«Я»... дайте мне несколько жалких поленьев (иль пищи), бумаги, чернил., обеспечьте (о нет, не меня: мое детище!), я верну вам затраты... Вот ясный циничный ответ моей бренной, больной, умирающей, «самостной» личности (умирающей от движения «младенца» во мне — моей темы) на призывы: «Работай с нами!» 28.
Андрей Белый «угрожал»:
«... автор попробует еще некоторое время плыть против течения. Если ему не удастся по внешним обстоятельствам углубиться в подлинное дело своей жизни, то он положит перо и откровенно заявит читателю о невозможности русскому писателю в настоящее время работать над крупным произведением...» 29
О чем же мечтал писать Андрей Белый?
«... я хочу здесь описывать, что случилось во мне, в моем мире сознания, когда то-то и то-то предстало «событием» в нем... бытие моих внутренних актов соединилось с событием чего-то лежащего вне меня...» 30
Таков был пафос «Я», этой эпопеи исступленного индивидуализма. Андрей Белый был талантливым писателем. О выходе его «эпопеи» в «Записках мечтателей» тогда много говорили в литературной среде. А. Белый противопоставлял свое «Я» миру действительности, «чему-то лежащему вне меня», — светлому советскому миру, вступившему на пупь борьбы за действительное счастье людей на земле, за социализм.
Мимо этого «Я» не мог пройти Маяковский. В свое время первую свою книгу стихов, вышедшую в 1913 г., Маяковский назвал «Я». Он противопоставлял в ней «я» лирического героя буржуазному обществу. В эксцентрической форме молодой поэт заявлял свой революционный протест против подавления человеческой личности при капитализме.
«150 000 000» объективно противостояли индивидуалистической «эпопее» Андрея Белого.
Маяковский выпустил первое издание «150 000 000» без фамилии. Возможно, что отказ от печатания своего имени был формой полемики против буржуазного индивидуализма.
Маяковский хотел поставить в центр внимания читателя миллионы, хотел создать образ той массы, о которой Ленин говорил, что она имеет теперь, наконец, возможность самостоятельно творить историю. Это стремление было прогрессивным и говорило об идейном росте Маяковского. Однако возможность для масс самостоятельно творить историю включает в себя и выдвижение в ходе борьбы таких выдающихся личностей, великих людей, которые, правильно понимая исторические условия, идут впереди масс, ведут их за собой, облегчают каждому его творческий рост, развитие его личности. Великая социалистическая революция, разоблачив убожество самовлюбленных индивидуалистов, которые, подобно Андрею Белому, главным и са
10Э
мым важным считали «бытие моих внутренних актов», показала значение передовых людей рабочего класса, его великих вождей, кровно связанных с массами. Обрушиваясь на буржуазный индивидуализм в своих «150 000 000», Маяковский еще не был, однако, подготовлен к тому, чтобы нарисовать реалистическую картину борьбы и творчества масс. Ему мешала в правильном решении этой задачи и та ложная теория «безгеройности», которую особенно рьяно проповедовали в этот период футуристы, связанные с Маяковским по газете «Искусство Коммуны».
Талант Маяковского — автора «Левого марша», крепнувший и набиравший силы в соприкосновении с реальной действительностью, в общении с революционным народом, не мог, конечно, сразу избавить поэта от противоречий, которые складывались годами. Поэт совершенно правильно видел источник обновления искусства в людях — носителях нового, социалистического сознания, творящих революцию. В одном из своих острых полемических стихотворений на тему о роли и задачах искусства Маяковский провозгласил замечательный девиз революционного искусства:
Были б люди —
Искусство приложится.
В центре искусства Маяковский ставил образ нового человека, образ своего лирического героя. Футуристы же — соседи поэта по «Искусству Коммуны» — выставляли в это время прямо противоположное требование. Выступая против плана «монументальной пропаганды», один из футуристических теоретиков так обосновал идею отказа от изображения «лиц мудрейших»:
«Самая идея ставить памятники великим героям революций не вполне коммунистическая идея. Героев нет, тем более великих героев. Время героического понимания истории безвозвратно прошло. .. обожествленную личность мы овеществляем в материал посредством скульптуры, и вот здесь-то личный героизм дает себя знать с самой скверной стороны... форма реалистического овеществления личности изжита...» 31
Это путаное рассуждение, «отрицавшее» роль личности, было по существу вывороченным наизнанку буржуазным индивидуализмом. Но Маяковский тогда еще не разобрался в истинном смысле «левой» футуристической фразы. Она казалась ему крайне революционной. Следы этой путаницы сказались в «150000 000» на том, как в поэме трактовалась роль вождя и как в ней показана масса. Стремясь изобразить размах революции, Маяковский в начале поэмы восторженно увидел Ленина во главе миллионов и написал о том, как вождь направлял движение революционного смерча, «раскачивая» сердце революции. Но, по-видимому, опасаясь упреков в «разжигании индивидуаль-
107
пого героизма», через несколько страниц поэт как бы оправдывается:
Не Ленину стих умиленный.
В бою
славлю миллионы,
вижу миллионы,
миллионы пою.
Противоречие между той и другой трактовкой образа вождя — очевидно.
Через два-три месяца после окончания поэмы «150000000» в стихотворении, написанном в апреле 1920 г. в связи с пятидесятилетием В. И. Ленина, поэт отбросил неверную ноту, прозвучавшую в поэме, и посвятил Ленину не «умиленный», а горячий, полный любви стих, вырвавшийся из самого сердца:
Я знаю — не герои низвергают революций лаву. Сказка о героях — интеллигентская чушь! Но кто же удержится, чтоб славу нашему не воспеть Ильичу?
«Интеллигентская чушь» взглядов мелкобуржуазных революционеров, противопоставлявших «героя» — «толпе», еще не была тогда достаточно разоблачена. А с другой стороны, анархиствующие «леваки» из «Искусства Коммуны», упраздняя «личный героизм», пытались обезличить массу.
В полемическом зачине стихотворения «Владимир Ильич» видно, что со всем этим не мог не считаться поэт, доказывая свое право на то, «чтоб славу нашему... воспеть Ильичу».
Отдельные эпизоды стихийной революционной активности миллионов в поэме Маяковского передают ощущение силы масс, «штурмующих небо»:
Не тот, который
«иже еси на небесех».
Сами
на глазах у всех сегодня мы займемся чудесами...
... Идем на подвиг
труднее божеского втрое...
108
Поэт выражает глубокую уверенность в том, что бой идет во имя коммунизма:
За лето столетнее бейся, пой: — «И это будет последний и решительный бой!»
Подобно «множествам» из «Падения Дайра» А. Малышкина, окрыленным верой в близкое счастье за шипами железных проволок Перекопа, «миллионы» Маяковского оптимистичны. Но установка на «безгеройность» помешала Маяковскому создать реалистический образ массы. Поединок между Иваном и Вильсоном, например, передавал верно и конкретно самую суть исторических событий. Но когда в первых главах поэмы к миллионам людей присоединяются биллионы рыбин, триллионы насекомых, зверей, домашних животных — и все это, что «еле двигалось, пресмыкаясь, ползая, плавая», ринулось на равных правах с людьми на невероятный митинг, когда классовая солидарность распространяется на вещи и явления природы —
На классы разбился и вывоз и ввоз.
К бобрам изящный ушел лимузин, к блузам стал стосильный грузовоз... —
то нельзя не видеть, что обычный прием народных сказок, в силу которого вещи и животные принимают участие в человеческих делах,, искажает в данном случае смысл реальных отношений социальной действительности.
Произвольное фантазирование приводило к ложному отождествлению человека и вещи, общественных явлений и явлений природы.
Замысел первых глав поэмы был в том, чтобы создать впечатление: вся Россия тронулась, все снялось с насиженных мест, все пошло, двинулось. Однако фантазия поэта в изображении этой картины работала без опоры на реальную действительность. Именно в этих главах ощущается избыток отвлеченных приемов и, употребляя позднейшее выражение самого Маяковского, «самоценных, виньеточных образов». Чем более эти «виньетки» были мастерски сделаны и блестяще отточены в звуковом отношении,
109
тем больше они отвлекали внимание читателя от идеи, от содержания:
Пули, погуще! По оробелым! В гущу бегущим грянь, парабеллум!
Или в картине движения па всероссийский митинг:
«Дорогу каспийской волне баловнице! Обратно в России руслом не поляжем! Не в чахлом Баку, '
а в ликующей Ницце с волной средиземной пропляшем по пляжам».
Ленин, по воспоминаниям Луначарского, «...нашел эту книгу вычурной и штукарской» 32.
В записке, адресованной А. В. Луначарскому по поводу издания «150 000000», В. И. Ленин писал (6 мая 1921 г.):
«Как не стыдно голосовать за издание «150000 000» Маяковского в 5 000 экз.?
Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность.
По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков.
А Луначарского сечь за футуризм.
Ленин» 33
Отношение Ленина к «150000000» помогает нам глубже осознать то отрицательное действие, которое оказывал на развитие творчества Маяковского футуризм. Особенности художественной манеры Маяковского складывались под влиянием многих факторов. Поэт искал своей оригинальной новой формы для выражения нового социального содержания, что особенно ценила в нем молодежь, «готовая, — по выражению Н. К. Крупской, — умереть за советскую власть, не находящая слов на современном языке, и ищущая этого выражения в малопонятных стихах Маяковского». «Малопонятность» была обусловлена в какой-то мере издержками поисков новой формы для выражения нового содержания. Но, стремясь к демократизации искусства, о чем Маяковский прямо заявил в своем «Открытом письме к рабочим», поэт не мог разорвать с футуристической поэтикой. Сложность положения была в том, что Маяковский считал футуризм революционным искусством и не только не думал разрывать с ним, но, напротив, видел в нем путь к созданию произведений, достойных великой эпохи. Сама жизнь, новая действительность, живой язык народных масс, делавших революцию, толкали поэта на другой путь, путь подлинно демократического искусства, и тогда рождались такие произведения, как «Левый марш». Голос Маяковского раздавался во
110
всю мощь на заводах, в рабочих клубах, в залах Зимнего дворца, где происходили бурные митинги о грядущем искусстве пролетариата. Помогая стряхнуть усталость, вселяя в сердца гордость и веру в победу, «Левый марш» поднимал массы к новым боям за Советскую власть: «Коммуне не быть покоренной!». «Левый марш» оказался подлинно народным произведением и по содержанию и по форме, в которой, как мы показали, были претворены, «сгущены стихом» митинговая речь и речь командира перед строем. Однако в других произведениях, написанных и тогда, и впоследствии, много еще оставалось «поэтической шелухи» и «туманной непонятности», идущих от футуризма, и, хотя этого становилось меньше, поэт с большим трудом освобождался от понятых им самим недостатков.
Необходимо заметить, что одна часть футуристов сразу же после Октября заявила себя сторонниками Советской власти и, естественно, в период острой нужды в кадрах интеллигенции была встречена в некоторых художественных учреждениях Нарком-проса весьма сочувственно. В своей автобиографии, в главке «Октябрь», Маяковский писал: «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было». Все-таки оставался вопрос, относящийся прежде всего к искусству: как принимать и для чего принимать? Если перед Маяковским Октябрьская революция поставила задачу и проблему создания нового демократического искусства, нового не только по содержанию, но и по форме, то «других москвичей-футуристов» Октябрьская революция опьянила неограниченными возможностями, открывшимися для художественных экспериментов. Чем безумнее были иные замыслы футуристов-прожектёров (нужно сказать, что и разумное у них было мистифицировано до зауми), тем более фанатически преданных сторонников находили они, например, среди учащихся студий Пролеткульта, видевших в этих формалистических экспериментах заявку на создание пролетарского искусства. Рабочими же эти эксперименты были встречены с недоумением и даже с негодованием.
Иных представителей «левой» художественной интеллигенции эта неудача привела в смущение, заставила задуматься и попытаться понять ее причины.
Маяковский стихийно нащупывал свою дорогу к демократическому искусству, . отвечающему требованиям масс. В своих «приказах по армии искусств» он громил не только пролеткуль-товцев, но и «футуристиков». Он совершенно правильно ставил их в один ряд с представителями модернистских течений:
Это вам — прикрывшиеся листиками мистики, лбы морщинками изрыв — футуристики,
111
имажипистики, акмеистики, запутавшиеся в паутине рифм...
И в то же время он видел в футуризме путь к революционному искусству, надеясь с его помощью взорвать ложный авторитет буржуазных «метров», насаждающих среди молодых поэтов из рабочей и крестьянской среды идеи «искусства для искусства». О том, что такая опасность была, сигнализировал в 1919 г. не кто иной, как Александр Блок. В статье «Русские дэнди» он, предупреждая новых людей, которых он успел полюбить, о грозивших им опасностях на фронте культуры, рассказывал о встрече с неким молодым поэтом: его стихи, по характеристике А. Блока, представляли «популярную смесь футуристических восклицаний с символическими шепотами». Собеседник А. Блока цинически признавался:
«Нас меньшинство, но мы пока распоряжаемся среди молодежи: мы высмеиваем тех, кто интересуется социализмом, работой, революцией...»
И Блок предупреждал:
«... а ведь в рабочей среде и в среде крестьянской тоже попадаются уже свои дэнди. Это очень тревожно...»34
Такая тревога была тем более естественна и понятна у Маяковского, но по молодости лет он веровал, что «символические шепоты» можно перекрыть «футуристическими восклицаниями».
Поэт был наиболее яркой фигурой среди футуристов, хотя самой сущностью своего творчества он противостоял футуризму. Его творчество противоречило его собственным декларациям. Поэт находился в движении, переходил с одних эстетических позиций на другие, и смысл этого перехода можно определить: от футуризма к реализму как искусству социалистической демократии. Теперь, когда путь поэта можно видеть ретроспективно, мы замечаем малейшие перипетии движения, нарастания новых качеств в поэзии Маяковского в связи со всем историко-литературным процессом.
Но в годы 1919—1921 Маяковского трудно было отделить от футуризма. К чести А. В. Луначарского следует сказать, что он раньше других разглядел направление развития Маяковского, что, любя и ценя Маяковского, он уже в те первые годы сумел уловить в его поэзии борьбу противоположных эстетических начал. Но в критике Луначарским футуризма, и в частности футуризма в Маяковском, были непоследовательность и, если воспользоваться политическим термином, примиренчество. Луначарский считал, что он проводит политику партии, стремясь удержать около Наркомпроса «левых» и иногда похваливая их за то, что следовало резко критиковать. «А Луначарского сечь за футуризм» — в этом замечании Ленина, шутливом по форме, было
И?
серьезное напоминание об отклонениях наркома по просвещению от взглядов Ленина на искусство. Известно, что Луначарский не решился на съезде пролеткультов передать собравшимся рабочим прямые осуждающие слова Ленина о пролеткультах, боясь обескрылить их порыв к самостоятельному творчеству. «Коммунист-футурист» по существу было равнозначно коммунист-индивидуалист. Но именно так отрекомендовал себя Маяковский в дарственной надписи: «Владимиру Ильичу с комфутским приветом» на книге «150000 000», которую он послал или передал через своего хорошего знакомого Б. Ф. Малкина (в то время заведующего Центропечатью) в конце апреля 1921 г. В. И. Ленину. Вслед за подписью Маяковского стоят подписи его друзей из «Искусства Коммуны». Среди поступавших к Ленину книг, которые он оставлял у себя в своей личной библиотеке, сохранилась и книга Маяковского.
Выпустить эту поэму в свет Маяковскому помог Луначарский. Госиздат в то время непосредственно подчинялся Наркомпросу --решение об издании «150000 000» было принято коллегией по предложению народного комиссара.
На обороте записки, которую В. И. Ленин направил Луначарскому, осуждая издание поэмы Маяковского тиражом 5000, имеется ответ наркома просвещения:
«Мне самому эта вещь не очень-то нравится. Но такой поэт, как Брюсов, восхищался и требовал напечатания 20 000, при чтении самим автором вещь имела явный успех, притом и у рабочих».
Один из участников пролеткультовской делегации вспоминал встречу ее с Лениным, который отметил, что «это хорошо, когда наши рабочие сочиняют свои пьесы, пишут стихи, издают журналы и книги, играют на сцене своих клубов, проявляют свое творчество во всех видах искусства и совершенствуются в этом, но плохо, когда через организацию Пролеткульта пытаются протащить чуждое нам идеологическое влияние»35.
Футуризм и был одним из этих чуждых влияний. Но в то время слова «коммунист-футурист» не резали слух Луначарского. А у Ленина это сочетание слов вызвало протест.
Однако В. И. Ленин имел в виду оздоровить обстановку творческой работы молодых художников-пролеткультовцев, в частности, освободить их от влияния футуризма. В письме ЦК РКП (б) о пролеткультах от 1 декабря 1920 г., указывая на пролеткультовские ошибки, особо подчеркивалось, что ЦК «не только не хочет связать инициативу работы интеллигенции в области художественного творчества, но, напротив, ЦК хочет создать для нее более здоровую, нормальную обстановку и дать ей возможность плодотворно отразиться на всем деле художественного творчества» 36.
8 в. Перцов
113
Если судить ио дальнейшим оценкам Луначарского, то он видел в этой поэме существенные недостатки, идущие от футуризма. И действительно, этого рода недостатки, в свете оценки поэмы «150000000» В. И. Лениным, показывают, какой огромный путь прошел затем поэт, преодолевая «детские болезни» левизны. Автор поэмы выступал против усвоения и переработки культурного наследия, заявляя, что
футуристы
прошлое разгромили, пустив по ветру культуришки конфетти...
Эту «установку», противоречившую всей политике Советской власти и постоянным высказываниям В. И. Ленина, автор поэмы декларировал с известным вызовом, мотивируя свое отрицательное отношение к классикам тем, что они не могут принести пользы в обстановке жестокой классовой борьбы:
В «Полное собрание сочинений», как в норки, классики забились. Но жалости нет!
Напрасно
их наседкой Горький прикрыл, распустив изношенный авторитет.
Если даже учесть, что в подтексте этого «безжалостного» отношения к классикам у Маяковского был пафос создания нового искусства, борющегося за утверждение социалистического общества, то и в этом случае полемичность, смысл которой не всем был понятен, уводила поэта с пути революционного искусства на путь футуристического отрицания классического наследия.
О стихийных силах революции, направляемых ее разумом, в поэме Маяковского говорилось в тоне бравады:
В диком разгроме старое смыв, новый разгромим по миру миф.
Футуристический нигилизм ослаблял звучание главной идеи произведения, воспевавшего творчество масс. К тому же, как уже было сказано, в ряде мест поэмы формальные изыски, «претенциозность», по выражению Ленина, отвлекали внимание читателя от идеи, от содержания.
Отношение Ленина к футуризму было связано с решением важного вопроса о роли выходцев из старой интеллигенции в совет-114
ском культурном строительстве. Ленин неоднократно с удовлетворением отмечал, как все новые отряды интеллигенции начинают сотрудничать с Советской властью. С общеполитической точки зрения эта перестройка интеллигенции была фактом глубоко положительным. Однако в некоторых случаях участие интеллигенции, перешедшей на сторону Советской власти и работавшей в новых культурных учреждениях, было отнюдь не полезным, — интеллигентские предрассудки, оставшиеся от старого буржуазного общества, были серьезным недостатком в ее работе.
Не обольщаясь молодой восторженностью неофитов, уверовавших в Советскую власть, Ленин ясно видел эти недостатки, видел их и у старых схематиков, прежде всего у руководителей Пролеткульта типа А. Богданова, и резко говорил об этом на I Всероссийском съезде по внешкольному образованию в 1919 г.: «Первый недостаток — это обилие выходцев из буржуазной интеллигенции, которая сплошь и рядом образовательные учреждения крестьян и рабочих, создаваемые по-новому, рассматривала как самое удобное поприще для своих личных выдумок в области философии или в области культуры, когда сплошь и рядом самое нелепейшее кривляние выдавалось за нечто новое и под видом чисто пролетарского искусства й пролетарской культуры преподносилось нечто сверхъестественное и несуразное» 37.
Это полностью относилось и к футуризму. «Радушный прием», который оказывал футуризму в первые годы после Октября Луначарский, вызвал у Ленина серьезную тревогу и, по-видимому, тем большую, что футуристы, встречаемые радушно как представители интеллигенции, принявшей Советскую власть, могли неправильно направить работу новых образовательных учреждений крестьян и рабочих и, в частности, воспитание молодых поэтов и художников. Поэма «150000 000» не понравилась Владимиру Ильичу, ее футуристические недостатки вызвали его протест. Эти недостатки могли служить примером тех опасностей, о которых говорил Ленин на I съезде по внешкольному образованию, указывая, что иногда «самое нелепейшее кривлянье выдавалось за нечто новое...» Субъективные благие намерения футуристов не имели в данном случае существенного значения, а объективный вред «личных выдумок» выходцев из среды буржуазной интеллигенций был налицо. Достаточно было взглянуть на те нагромождения среди пустынных улиц кубов и треугольников — «шедевров» кубистической скульптуры, которые должны были символизировать памятники великим людям, осуществляемые по ленинскому плану монументальной пропаганды. Ленин был обеспокоен, как бы подобные «личные выдумки» не оторвали культуру от запросов народных масс; ведь народу нужен был не только ликбез, но и подлинное большое искусство, чтобы поднимать массы, вести их за собой.
8*
115
Пока в условиях буржуазного общества футуризм был искусством для немногих, был интеллигентской забавой, Ленин не имел случая уделить ему внимание. Но как только после победы Октябрьской революции футуризм заявил претензию на то, чтобы стать «государственным искусством», это не могло не встревожить Ленина, и он настоял, чтобы в письме ЦК партии о про-леткультах в 1920 г. был выражен резкий протест против футуризма, пытавшегося прививать рабочим «извращенные вкусы».
В другой записке, написанной В. И. Лениным во время того же заседания Совнаркома, когда была послана записка А. В. Луначарскому, было сказано:
«т. Покровский! Паки и паки прошу Вас помочь в борьбе с футуризмом и т. п.
1) Луначарский провел в коллегии (увы!) печатание «150 000 000» Маяковского.
Нельзя ли это пресечь! Надо это пресечь. Условимся, чтобы не больше 2-х раз в год печатать этих футуристов и не более 1500 экз,
2) Кекелиса, к[отор]ый, говорят, художник-ггреалист», Луна-чарский-де опять выжил, проводя-де футуриста и прямо и косее н н о.
Нельзя-ли найти надежных а нти-футуристов» 38.
Отзыв о «150 000 000» подчеркивал общее значение недостатков этой поэмы, как типических для футуризма. Общий вывод из этих ленинских высказываний, на мой взгляд, состоит в необходимости углубления исторического подхода к изучению творчества Маяковского. Осознавать недостатки, характерные для раннего творчества Маяковского, отнюдь не значит «отрицать» его произведения тех лет, нужно уметь понять значение их для своего времени, увидеть в этих произведениях звено в идейно-художественном развитии поэта и всей советской поэзии.
Поэма Маяковского «150 000 000» увидела свет в отдельном издании в апреле 1921 г., т. е. более года спустя после ее окончания. Глубоко справедливые критические замечания В. И. Ленина в связи с изданием этой поэмы и отношением Луначарского к футуризму не должны заслонить от нас положительного значения Луначарского-критика для Маяковского.
Известна та роль, которую сыграл А. В. Луначарский в первые годы после Октября, облегчив переход русской интеллиген
116
ций на советские позиции, сблизив с Советской властью многих мастеров культуры, испуганных новым и вначале дичившихся, поддавшихся влиянию классового врага. Блестящий оратор и публицист, человек огромной эрудиции, он отличался энциклопедическим многообразием понимания и знания искусства. В своей деятельности литературного критика он с блеском претворял ленинские указания об усвоении лучшего в наследии прошлого. Его статьи о русских классиках породнили великое классическое наследие с задачами строительства социалистической культуры. С великолепной широтой Луначарский говорил о Пушкине, что его будущее было все будущее русского народа, громадное, определяющее собой судьбы человечества. Луначарскому было чуждо все узкоцеховое, ограниченное, сектантски отрывающее пролетариат от всей истории культуры. Ленин чувствовал богато одаренную личность Луначарского и, поставив его на руководящий пост в строительстве культуры, угадал исключительные возможности Луначарского в переходный период от старого к новому. В то же время, зная непоследовательность Луначарского, Ленин подвергал ошибки его суровой критике.
В отношениях Маяковского к Луначарскому, в том влиянии, которое оказывал Луначарский на развитие поэта, сказывались сильные и слабые стороны первого руководителя советской культуры.
Л. Никулин пишет в своих воспоминаниях:
«Я был сидетелем разговора Маяковского с одним литератором, этот литератор грубо нападал на Луначарского. И поэт резко оборвал его. Спор Маяковского и Луначарского был спором прямых и благородных людей, идущих одной дорогой к высокой цели — победе социалистической революции. Маяковский мог в стихах и на трибуне иронизировать над некоторыми слабостями Анатолия Васильевича, но уважительно относился к нему, ценил хорошие отзывы Луначарского о его стихах и как-то с гордостью сказал:
— Ни одна страна в мире не имеет такого министра народного просвещения» 39.
Если был у Маяковского в эти годы друг, в котором поэт нуждался, то Луначарский был таким другом. Со своей стороны, Маяковский платил ему любовью и благодарностью без лести, нисколько не смягчая своей полемической резкости в оценке идеалистических ошибок Луначарского в вопросах эстетики. Особенно воинственно поэт был настроен к драматургии Луначарского. Пьеса Луначарского «Канцлер и слесарь» в начале 20-х годов широко ставилась в наших театрах. В этой политической мелодраме молодой слесарь-коммунист, человек решительных действий, в то же время одаренный поэт, возглавляет пролетарскую революцию в некоей условной Нордландии. Он противопоставлен колеблющемуся богобоязненному канцлеру. Едва ли Маяковский
117
имел в виду аналогию в этой ситуации со своим отношением к Луначарскому, по, даря последнему свои «150000 000», Маяковский сделал надпись на книге «Канцлеру от слесаря...»40.
К справедливым оценкам критика-марксиста Маяковский не мог не прислушиваться. Заслуживает внимания следующее признание Луначарского:
«Несмотря на то, что я сильно поспорил с Влад. Маяковским, когда он, перегибая палку, начал доказывать мне, что самое великое призвание современного поэта — в хлестких стихах жаловаться на дурную мостовую на Мясницкой улице, в душе я был им очень доволен. Я знаю, что Маяковского в луже на Мясницкой долго не удержишь, а этот почти юношеский (ведь Маяковский до гроба будет юношей) пыл и парадокс гораздо приятнее, чем та форма «наплевизма» на жизнь, которой является художественный формализм при какой угодно выспренности и жрече-юкой гордыне» 41.
Однако задача Луначарского была выполнена им не до конца.
Оказав Маяковскому содействие в издании «150 000 000», Луначарский не смог, однако, обратить внимание поэта на то, что футуристический уклон всего произведения ограничил его идейно-художественное значение. И именно то, что поэт впоследствии «отвергал — избыток отвлеченных поэтических приемов, «виньеточных» самоценных образов, — нашло высокую оценку у части .декадентствующих литераторов. Однако в «Цехе поэтов», группировавшихся вокруг Гумилева, поэма Маяковского была встречена враждебно, прежде всего по своему содержанию. В «Альманахе цеха поэтов» появился отзыв Георгия Адамовича (впоследствии белоэмигранта), который упрекал Маяковского за то, что его поэма основана якобы па «лести миллионам трудящихся» или, «если перевести па прежние представления, на настоящем «квасном» русском патриотизме» 42.
Как видим, Адамович бил в ту же точку, что и Левинсон, выступивший в свое время против «Мистерии-буфф». Над стремлением поэта к демократизации критик-эстет мог только издеваться:
«150 000 000» ждет, конечно, большой успех. Будут лекции, статьи, старая и новая Россия, цветы на эстраде и даже генеалогия от Пушкина. Признание Маяковского уже лежит в психологии обывателя» 43.
Этот напоенный желчью отзыв показывает, что критик-эстет .добирался до революционной сути — для него неприемлема была не форма, а содержание поэмы.
Заключительный аккорд ее — «торжественный реквием» с необычайной силой выражал гуманистическую идею, горячее сочувствие поэта-современника страданиям народа и его восторг перед высоким героизмом советских людей, о котором вспомнят люди 418
будущего. От их лица поэт обращался к своим соотечественникам:
Вам, женщины,
рожденные под горностаевые мантии, тело в лохмотья рядя, падавшие замертво, за хлебом простаивая в неисчислимых очередях.
Вам,
легионы жидкокостных детей, толпы искривленной голодом молодежи, те, кто дожили до чего-то...
и те, кто ни до чего не дожил.
«150000000» Маяковского оказалось одним из первых произведений зарождавшейся советской литературы, которое перешагнуло рубежи Советской страны. По этому произведению наши друзья в странах капитализма знакомились с революционным пафосом советской литературы. Поэма была вскоре переведена на чешский и немецкий языки. Под влиянием ее создавались революционные произведения (например, поэма «Септември» болгарского революционного поэта Гео Милева, 1924).
Поэма в глазах тех людей, которые следили за поэтическим развитием Маяковского, говорила о попытках поэта овладеть важнейшей темой творчества масс, показывала рост возможностей его как поэта революции. И. Аксенов — один из сочувственно настроенных к Маяковскому критиков — писал:
«Этот писатель с очень раннего времени обнаружил склонность к широкому обобщению своих личных чувств, проводимому сначала в чисто литературной форме гиперболичности образов и уподоблений, а затем и в проповеди широкого гуманизма. От понятия человека, перерастающего обычные формы, в которые мы по привычке замыкаем людскую особь, до понятия человечества, образно и повествовательно олицетворяемого в двух фигурах антагонистов, — переход довольно естественный в условиях нашего времени» 44.
В отзыве Горького, который сохранен для нас К. Фединым в его воспоминаниях, на первый план выступает образ самого автора «150000000»:
«Однажды он нетерпеливо спросил меня:
Вы слушали Маяковского? .. Послушайте... Прочитал мне свои «150 000 000». Какой, скажу я вам, человечище!..» 45
К. А. Федин сообщает в письме к автору этой работы:
«Несомненно, что Маяковский читал «150 милл.» Горькому в какой-то особой обстановке, м. б,. — интцмно. Это могло быть и в Петрограде и в Москве»,
119
«Прочитал мне свои «150 милл.» — фраза, за точность которой я ручаюсь.
Насколько могу припомнить, сказано это было в какой-то связи с пребыванием М-ского в Петрограде...» 46
Вероятно, это была последняя встреча Маяковского с Горьким, встреча, безусловно, дружеская. В 1921 г. Алексей Максимович, по настоянию Ленина, уехал за границу лечиться.
♦
«Голову охватило «150 000 000». Пошел в агитацию Роста»,— писал Маяковский в автобиографии в главке «19-й год». Конец одной работы совпал с началом другой. Между той и другой было взаимодействие. Маяковский только входил в работу Роста и примеривался к ее особым задачам, когда в начале 1920 г. поэма была уже закончена. Возможно, что опыт новой работы в Роста оказал известное влияние на окончательную отделку поэмы. Однако поэма в основном и главном сложилась в 1919 г. Распространенное мнение о том, что поэма «150000000» явилась своего рода обобщением, итогом работы в Роста, ошибочно. В основе неправильного теоретического вывода о том, что поэма Маяковского «в монументальной эпической форме обобщает опыт работы Маяковского над агитационным стихом Роста», лежит прежде всего хронологическая ошибка: поэма была закончена в январе—феврале 1920 г., а не весной 1920, из чего исходил, например, В. Тренин, стремясь обосновать зависимость поэмы от работы в Роста 47. Наоборот, некоторые стилевые особенности ростинских стихотворений Маяковского — обращение к популярным русским песням, подчеркивание особенностей русского национального характера героя — были подготовлены опытом работы над «150 000000».
Работа в Роста — дальнейший шаг в том же направлении. Чем отчетливее Маяковский осознавал свои задачи поэта социализма, тем увереннее и ярче развивал он в своем творчестве национальные традиции русской поэзии в новую историческую эпоху. Углубление реализма в творчестве Маяковского связано с ростом его национального самосознания как советского поэта. Работа в Роста была существенным этапом на этом пути. Любопытно свидетельство Л. Ю. Брик о том, что поэма «150000000»... была задумана и начата еще до Роста, году в 18-м. Она проникнута доростинским духом абстракции...» 48.
Всякий, кто знакомится с работой Маяковского в Роста, продолжавшейся около двух с половиной лет — с конца 1919 до начала 1922 г., — не может не отдать должного уважения гражданскому подвигу поэта. Поражает уже самый объем работы: исследователи еще будут, вероятно, открывать вслед за В. Д. Ду-120
ВАкййым срёди уцелевших анонимных лйстов-гроМадин все йо-вые рисунки и подписи, принадлежащие Маяковскому. Однако общий размах работ эмоционально охвачен в словах самого поэта:
«Дни и ночи Роста. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей».
Стихи и рисунки, как правило, печатались без подписи автора. Но так же, как и в случае с поэмой, «фамилию знали все». Ответственность Маякойского не стала меньше, а, напротив, увеличилась: стихи всего коллектива, работавшего с ним в Роста, приписывались обычно ему.
В течение двух с половиной лет, отданных работе в Роста, Маяковский почти не писал стихов другого типа. И только вслед за тем, как появились последние Окна Роста и Главполитпросвета, в первой половине февраля 1922 г. была написана лирическая поэма «Люблю». Среди «дней и ночей Роста», летом 1920 г., было написано, можно сказать, «сверхурочно», сразу ставшее популярным «Необычайное приключение».
С опубликованием этого стихотворения Маяковский не торопился. Оно было почти «домашнее» и увидело свет случайно в маленьком сборнике «Лирень» (1921). Лирический разговор поэта с солнцем был вполне деловым, конкретным. В названии стихотворения приводился пародийно точный, «протокольный» адрес местожительства поэта: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче (Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)». Фантастическая шутка опиралась на реальную действительность, раскрывала отношение поэта к ней. В «Необычайном приключении. ..» работа в Роста возвеличивается и даже жалоба на то, «что-де заела Роста», неожиданно приводит к сравнению должности поэта-агитатора с должностью солнца.
Про то,
про это говорю, что-де заела Роста, а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь, светить легко?
— Поди попробуй! —
А вот идешь — взялось идти, идешь —и светишь в оба!»
«Взялось идти» — это оптимизм долга. Маяковский жил и рос вместе со страной, с народом, и то, что всего нужнее было стране,
121
было и самой жгучей, самой острой личной потребностью его как поэта. Не понять того, что для Маяковского работа в Роста была выражением свободы поэта, осознавшего свой долг, что эта работа была для него поэтической потребностью, не понять этого — значит не увидеть чего-то очень важного, может быть, главного в Маяковском-поэте.
У него была «лирическая» потребность в агитации. «Пусть вспоминают лирики стишки, под которые влюблялись. Мы рады вспомнить и строки, под которые Деникин бежал от Орла», — писал он впоследствии о своих ростинских стихах. Со стороны представителей «чистого искусства» раздавалось в адрес Маяковского «поэтическое улюлюканье». Однако борьба против его линии в поэзии принимала более сложные формы. Ему выражали соболезнование поклонники его поэтического таланта как автору «Облака в штанах». Коварны были похвалы, которые расточал в адрес Маяковского классовый враг. «В «Героях и жертвах революции», в «Бубликах», в стихах о бабе у Врангеля — уже не прежний Маяковский, Эдисон, пионер, каждый шаг которого — просека в дебрях; из дебрей он вышел на ископыченный большак. ..»— писал Евгений Замятин, пытавшийся доказать, что у Маяковского, как и у всей русской литературы, «одно только будущее: ее прошлое» 49.
Маяковского не могло сбить с его принципиальной позиции не только «поэтическое улюлюканье», но и лицемерное сочувствие якобы вынужденной «растрате» его таланта. Никто его не принуждал, не заставлял:
А вот идешь — взялось идти, идешь — и светишь в оба!
Ставя свой талант на службу политике, Маяковский обогащал его, потому что политика-то была не чужая, а своя. Он очень точно сказал об этом свойстве своего таланта в первом стихотворении, посвященном Ленину:
Поэтом не быть мне бы, если б
не это пел — в звездах пятиконечных небо безмерного свода РКП.
Маяковский вошел в революцию с огромной жаждой практической деятельности. Он хотел быть полезным революции каждый день, каждый час. Вопрос, который волновал его всю жизнь, — «о месте поэта в рабочем строю» — встал перед ним теперь и как вопрос организационный. И чем больше разгоралась гражданская война, тем требовательнее спрашивал у Маяковского его внутренний голос революционного долга и революционной совести: как
122
помогать своим поэтическим словом борьбе и строительству Советского государства?
Еще в 1917 г. Маяковский нарисовал для издательства «Парус», которым руководил Горький, несколько революционных лубков и сделал к ним тексты. Это была первая проба революционной агитации художественными средствами, рассчитанной на самые широкие массы. Лубок «Забывчивый Николай», сделанный весной 1917 г., изображал солдата, размахнувшегося прикладом и изгоняющего бывшего самодержца за пределы свободной России. Самодержец был в роскошной мантии, корона сползала набекрень, скипетр падал из рук. На пограничном столбе заботливо приготовленная надпись: «Вон! Со свитой, с женой и с мамашей!»
Откуда эта надпись? Это почти цитата из революционной прокламации, которая запомнилась Маяковскому с детства и о которой он так сказал в автобиографии:
«Нравилось: очень рискованно. Помню и сейчас... еще какое-то, с окончанием:
... а не то путь иной — к немцам с сыном, с женой и с мамашей...
(о царе).
Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове».
В 1917 г. выплыл из глубин памяти опыт революционной сатиры 1905 г.
Незадолго до Октября поэт написал двустишие-частушку:
Ешь ананасы, рябчиков жуй!
День твой последний приходит, буржуй!
Если раньше он говорил, что «улица корчится безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать», то, узнав о том, что с этой его частушкой матросы шли на штурм Зимнего, он испытал удовлетворение: «.. .эти строки усыновила Петербургская улица». «Ешь ананасы...» были для Маяковского не только агитпоэзией, но и лирикой. Он был искренно обрадован их популярности: «Это двустишие стало моим любимейшим стихом...»
К первой годовщине Октября поэт продолжил удавшийся опыт, сделав частушечные подписи к папке плакатов «Герои и жертвы революции». Впоследствии он писал об этой работе:
«Помню:
Генерал:
И честь никто не отдает, и нет суконца алова, рабочему на флаг пошла подкладка Генералова.
123
Банки р:
Долю не найдешь другую тяжелей банкирочной... Встал, селедками торгуя, на углу у Кирочной.
Это — жертвы.
Герои:
матрос, рабочий, железнодорожник, красноармеец:
То, что знамя красное рдеется, — дело руки красногвардейца...
... Эта папка развилась в будущем во весь революционный плакат. Для нас — главным образом — в «Окна сатиры Роста»...»
Эти первые опыты агитпоэзии, как и работа над поэмой «150 000 000», укрепили те элементы национальной формы, которые стали особенно ощутимы в ростинских стихотворениях. Характерная деталь: «алова» вместо «алого» — стремление в самой рифме подчеркнуть опору на живое народное произношение 50.
Маяковского волновало все, чем жила страна. В этом отношении примечателен эпизод с выпуском «Советской азбуки». Она появилась в труднейшие недели сентября 1919 г. Никто ее Маяковскому не заказывал. Это была политическая азбука, в которой на каждую букву алфавита было написано острое, как эпиграмма, но не для салонов, а для окопов — издевательское по отношению к врагу двустишие:
Деникин с шайкой лезет к Туле.
Дойдешь до Тулы, черта в стуле!
Или:
Меньшевики такие люди —
Мамашу могут проиудить.
В «Азбуке» были отражены и злободневные факты международной политической жизни. В тесную форму двустишия-частушки поэт вкладывал многообразное содержание. Вот двустишие, в котором обыграна была история с городом Фиуме на Адриатическом море. После первой мировой войны Фиуме был оставлен за Австрией. Когда это решение состоялось, известный итальянский писатель Габриэль д’Аннунцио, впоследствии примкнувший к фашистам, стал во главе отряда, сколоченного им из солдат разложившейся итальянской армии, и захватил Фиуме; инцидент получил международный резонанс. В двустишии Маяковского спрессована вся эта сложная ситуация, дана убийственная сатирическая характеристика военного «подвига» д’ А пну и-124
цио, выразительность которой подчеркнута сопоставлением с эффектами стиля:
Фазан красив. Ума ни унции.
Фиуме спьяну взял д’Аннунцио.
Если одной чертой — фазаньего самолюбованья — был обрисован герой Фиуме, то самая существенная черта английского премьер-министра Ллойд-Джорджа, верного и раболепного ставленника империалистической буржуазии, была запечатлена в двустишии:
Лакеи подают на блюде.
Ллойд-Джордж служил и вышел в люди.
«Советская азбука» была предназначена, как об этом говорил сам поэт, для армейского употребления. Она должна была, по мысли автора, стать одним из средств политического просвещения рядовых бойцов молодой Красной Армии. Может быть, поэт имел в виду и то, что она окажется подспорьем в борьбе за ликвидацию неграмотности — важнейшей политической задачи, поставленной в те годы Советской властью. Эти прямые агитационно-политические и просветительные задачи не заслоняли в глазах Маяковского значения «Азбуки» как работы поэтической. «Это очень интересная страница из истории нашей революционной поэзии», — так характеризовал Маяковский свою «Азбуку» много лет спустя на вечере, посвященном двадцатилетию его деятельности. Такая характеристика была вполне оправданна, поскольку двустишия «Советской азбуки», подобно пословицам и поговоркам, были фактом образного мышления, проявлением художественного творчества и требовательной работы автора над словом. «Там были остроты, которые для салонов не очень годятся, но которые для окопов шли очень хорошо», — говорил впоследствии поэт.
Он чувствовал внутреннюю лирическую потребность писать для окопов. О силе этой потребности говорит дальнейшая история «Азбуки». Как это ни удивительно, Маяковский не смог найти для нее издателя. Это его не смутило. В Строгановском художественном училище, где Маяковский когда-то учился, он отыскал пустующую типографию. Своей убежденностью в том, что книжка нужна фронту, поэт увлек и студентов и служащих Строгановского училища, среди которых у него были старые знакомые. По свидетельству бывшего сторожа училища Г. А. Козиатко, Маяковский ездил с ним за станком с Рождественки, где помещалось Строгановское училище, в другую типографию — на Сретенке.
«У Маяковского было разрешение забрать оттуда станок. Мастера, работавшие в типографии, узнав, что станок у нас, приходили помогать печатать. Без них пустить станок в ход было бы трудно. Помогали Маяковскому и наши ребята-студенты» 51. Поэт
125
сам перевел на камень рисунки и тексты «Азбуки», сам вместе' со своими помощниками и друзьями раскрашивал от руки несколько тысяч экземпляров литографированного издания книги, сам отвез их в Кремль и раздавал там курсантам и красноармейцам, направляющимся на фронт.
И характерно: он забыл или не нашел нужным поставить на книге свое имя. Маяковский понимал, что дело тут было вовсе не; в имени автора.
Продолжать дальше такую работу в одиночку, случайно и неорганизованно было невозможно. Агитработа была важнейшим государственным делом. Солтен домов, заборов, с боков трамваев, теплушек кричали, взывали рисунки, плакаты, надписи, лозунги в стихах и прозе, обращенные к каждому честному человеку, к каждому трудящемуся, ко всем, кому дорога была Родина и завоевания Октября.
Несмотря на крайний упадок типографской техники и общую разруху в полиграфической промышленности, сотни и тысячи плакатов и подписей к ним распространялись по всей стране. Большинство печаталось без имени автора. Среди тех, которые были подписаны, чаще всего встречалось имя Демьяна Бедного. О чем говорили рисунки, стихи, лозунги? Об одном: о защите социалистического отечества. На плакате, изображавшем запись добровольцев в Красную Армию, плакали кулаки под стихотворный комментарий из Демьяна Бедного: «Стоит кулак и чешет бороду». Текстами популярных плакатов стали издевательские «Манифесты» Юденича и барона фон Врангеля, написанные Демьяном Бедным. Клеймя врагов, он обрушивался своей сатирой и на недостаточно стойких представителей трудящейся массы:
Храбрый Митька-бегунец,
Образец героя,
Выбрал время, наконец, Чтоб удрать из строя.
На этот текст был сделан один из самых острых и действенных плакатов эпохи гражданской войны.
Полковник Булак-Булахович, возглавивший кулацкое восстание, разоблачался каламбуром «Кулак-Кулакович» на плакате с текстом Демьяна Бедного. Поэт-агитатор умел поднимать людей на подвиг: его листовка «Танька-Ванька» сыграла свою роль на петроградском фронте осенью 1919 г., где впервые против наших войск были применены английские танки. «Бойцы смеялись, приободрялись и перли на «танек», — вспоминал впоследствии Демьян Бедный действие своей листовки. Живой отклик находили стихотворные «обращения» и «послания» поэта к «обманутым братьям в белогвардейские окопы», к «братьям казакам, донцам и кубанцам» и многие другие, сделавшие популярным его имя и по ту сторону фронта. Недаром осенью 1919 г. Демьяну Бедному
126
пришлось выступить в «Петроградской правде» со своего рода поэтической декларацией:
«Правда-матка, или —как отличить па фронтах подлинные листовки Демьяна Бедного от белогвардейских подделок под них» 52.
Многие безымянные тексты показывали, в каком направлении шли поиски художественного решения задач политической агитации. Характерно, например, обращение к образу популярной народной сказки в плакате Д. Моора «Советская репка»:
Смотрит на Репку мусье капитал.
— Выдерну так, чтоб никто не видал. —
С Красною репкою прямо беда,
Дергает он и туда и сюда,
Тянет, потянет — вытянуть не может53.
Агитация, обращенная к красноармейцу-крестьянину, широко использовала частушку:
Эх, горит мое сердечко ярче пламени-огня, Отчего, моя милашка, саботируешь меня? — Или ты меня считаешь дурою набитою?
Отчего ты не на фронте, говори в открытую? 54
В стихотворных подписях к плакатам постоянно воспроизводились образы и размеры широко известных классических произведений. «Три гренадера» — назывался один из плакатов художника Дени, изображавший побитых Юденича, Деникина и Врангеля. Пушкинские сказки послужили основой многих стихотворных текстов. На плакате, посвященном теме ликвидации неграмотности, где на фоне восходящего солнца изображена была густая толпа празднично одетых мужиков и баб с раскрытыми книжками в руках, по-новому, конкретно, звучали пушкинские строки:
Да здравствует солнце!
Да скроется тьма!55
Неизвестный автор рисунка и подписи на плакате «Смерть Врангелю» возрождал былинную традицию:
Что за чудище, что за тварь еще С юго-запада к нам идет, ползет 5G.
Подписи к плакатам использовали и приемы агитационных речей, заостренно раскрывавшие политическую ситуацию и требовавшие действенных выводов. Вот примеры таких подписей:
Хлеб и уголь.
Угля нет. Твой уголь у Деникина.
Твой хлеб тоже у Деникина.
Только Красная Армия даст хлеб и уголь57.
127
Илй:
«Вечный мир твоим хижинам и селам даст только Красная Армия. Иди же, крестьянин, в свою рабоче-крестьянскую армию».
И еще:
«Руку, дезертир! Ты такой же разрушитель рабоче-крестьянского государства, как и я, капиталист!
Только на тебя теперь моя надежда»58.
Архивный фонд Музея Советской Армии в Москве хранит многие сотни самых разнообразных листовок и плакатов эпохи гражданской войны. В действительности их было, конечно, гораздо больше, не сотни, а тысячи.
Таково было «словесное оформление» улиц и стен Москвы, Петрограда в 1918—1919 гг., т. е. в тот период, когда Маяковский искал свое «место поэта в рабочем строю».
Если учесть, что в эти тя!^льшТоды“вся' Россия, по выражению Ленина, превратилась в единый вооруженный лагерь, что вместе с прекращением свободной торговли исчезли вывески с опустевших магазинов, из жизни города ушла реклама, то нетрудно понять, какое значение во внешнем облике улицы приобрели агитационные надписи и плакаты.
В. И. Ленин уже весной 1918 г. обратил внимание Луначарского на необходимость художественного оформления советских городов, в первую очередь Москвы и Петрограда, памятниками, барельефами и надписями на зданиях, пропагандирующими идеи социализма, закрепляющими в сознании народных масс мысли великих деятелей культуры, марксистские оценки революционных событий.
Ленинский план «монументальной пропаганды» предусматривал создание хотя бы временных памятников героям освободительной борьбы и во всяком случае требовал неотложного установления на стенах зданий мемориальных досок и ярких, содержательных надписей, которые бы постоянно напоминали трудящимся о великих целях борьбы, вдохновляли бы советских патриотов на подвиги, достойные великих примеров и героических образцов прошлого.
Постепенно таких надписей стало появляться все больше и больше. «Революции — локомотивы истории», «Религия — опиум для народа», «Революция — вихрь, отбрасывающий всех ему сопротивляющихся», — мудро и грозно возвещали они, напоминая прохожему и о величии эпохи, и о его революцонной ответственности.
Вот в какой обстановке художнику М. М. Черемных, работавшему в стенной газете Роста, пришла в голову мысль, что можно использовать для целей пропаганды витрины пустовавших магазинов, вывешивая в них плакаты. Идея эта понравилась
128
П. М. Керженцеву, который был в ту пору руководителем Роста. М. М. Черемных вспоминает:
«Окно № 1 показал Керженцеву и, получив его одобрение, вывесил в витрине бывшего магазина Абрикосова на углу Чернышевского пер. и Тверской.
Окном Роста сразу заинтересовались. Когда я появился в витрине, чтобы прикрепить там плакат, у окна сразу собрался народ: Кричали: «Левее! Левее! Правую поднять, левую опустить!» Первые же Окна имели большой успех. Мы стали их вывешивать и в витринах других магазинов: на Кузнецком мосту, на Сретенке.
Очень скоро в Роста пришел Маяковский»59.
*
Работа в Роста знаменовала собой новый этап: в Роста Маяковский «всю свою звонкую силу поэта» впервые организованно отдал в распоряжение партии, подчинил изо дня в день направляющей мысли Ленина.
Выступая в ноябре 1920 г. на одном из диспутов в Доме печати, Маяковский возражал критику, утверждавшему, что «поэта нельзя принудить»:
— Вы ошибаетесь: поэта нельзя принудить, но сам себя он может принудить!
Никто не «принуждал» Маяковского писать «Советскую азбуку». Он сам себя принудил — от буквы к букве алфавита, от двустишия к двустишию — и написал ее столь же вдохновенно, как и лирическое «Необычайное приключение».
В октябре 1919 г. в «Правде» была опубликована статья Ленина «Государство рабочих и партийная неделя». Ленин указывал:
«Больше новых работников из массы в ряды партии, для самостоятельного участия в строительстве новой жизни — таков наш прием борьбы со всеми трудностями, таков наш путь к победе» 60.
Эта статья дала толчок для первого текста, написанного Маяковским для Окон Роста. Призывая рабочих выбросить «глупость беспартийную», поэт писал:
Если ж на зов партийной недели придут миллионы с фабрик и с пашен, — рабочий быстро докажет на деле, что коммунистам никто не страшен.
С этого первого Окна Маяковский уже ни на один день не отрывался от живого источника, .каким стало для поэта каждое высказывание Ленина.
Верно донести мысль Ленина до массы — эта задача органически сочеталась с народностью поэтической формы, с острой
9 В. Перцов
129
творческой выдумкой. Характерно Окно Роста, посвященное выступлению меньшевика Мартова, которого жестоко высмеял Ленин на VII Всероссийском съезде Советов в декабре 1919 г. Мартов выступил с декларацией, полностью воспроизводившей гнусную меньшевистскую клевету на Советскую власть, которая содержалась и в меньшевистских декларациях 1918 г. Когда Мартову указали на то, что он повторяется, задетый за живое меньшевистский лидер заявил, что декларация эта «на веки веков». Высмеяв Мартова, Ленин ответил, что «декларация эта не только «на веки веков», но и на один год не останется...»61.
На это замечание Ленина Маяковский откликнулся в двух Окнах Роста, вышедших в декабре 1919 г.:
Из речи Мартова
Я буду стоять с меньшевиками на этой самой платформе веками; буду твердить и в будущем это, как твердил в позапрошлое лето.
Заключение Роста
Для этого не стоит жить до проседи. Бросят вас, если вы не бросите.
Характерно, что в этом «заключении» Роста предстает как некий коллективный персонаж. В другом Окне, озаглавленном «Слегка подновленные пословицы», Маяковский дает «Совет меньшевикам»:
Не мели, Мартов Юлий, в декабре то же, что и в июле.
«Мели Емеля — твоя неделя» — типический образ болтуна как нельзя лучше характеризовал меньшевистского лидера. В старой пословице указан и момент времени — «твоя неделя», момент, не имевший конкретного значения, а рассчитанный только на то, чтобы сделать еще более смешным, заострить образ болтуна, которому-де вышло разрешение болтать. В подновленной пословице Маяковский делает момент времени центральным, конкретным: «в декабре то же, что и в июле», исходя из мысли Ленина, издевавшегося над метафизической «на веки веков» декларацией Мартова.
Но этим дело с сатирическим разоблачением Мартова не кончилось. Маяковский внимательно следит за развитием мысли
130
Лепина. Владимир Ильич вскрывает клеветническую суть «декларации» меньшевиков:
«... если вы снимете с нее оболочку общих демократических фраз и парламентарных выражений, которые сделали бы честь любому вождю парламентской оппозиции, если вы отбросите в сторону эти речи, которые многим нравятся, а нам кажутся скучными, и возьмете настоящую суть дела, то вся декларация насквозь говорит: назад, к буржуазной демократии и ничего больше. (Аплодисменты.) И вот когда мы слышим такие декларации от людей, заявлявших о сочувствии нам, мы говорим себе: нет, и террор и ЧК — вещь абсолютно необходимая. (Аплодисменты.)» 62.
Окно Маяковского названо так:
Меньшевики на Съезде Чрезвычайку хаяли. Посмотрим, для всех Чрезвычайка плоха ли?
Ответы на этот вопрос Маяковский вкладывает в уста представителей двух враждебных миров. Под рисунком, на котором изображен шпион, подпись:
Красных все бы планы выдал, Упорхнул бы к белым чайкой. Жалко, что на свете есть Чрезвычайка.
Под рисунком, где чекист защищает рабочего от буржуя, подпись:
Опять норовят на шею сесть.
Хорошо, что Чрезвычайка на свете есть.
Остальные рисунки и подписи построены по тому же принципу контраста — «хорошо» и «жалко», раскрывающему в духе ленинской оценки классовый смысл отношения к ЧК — стражу пролетарской революции.
Слова Ленина поэт ставит нередко эпиграфом к своим Окнам. Каждое крупное политическое событие, ознаменованное выступлением Ленина, отражается Маяковским в его Окне ярко, образно и в то же время быстро, последовательно. Речь Ленина на VIII Всероссийском съезде Советов, например, дала материал для ряда Окон с эпиграфами, в которых поэт излагал сущность важнейших положений этой исторической речи: о том, что «мы должны быть начеку», потому что «мы ни в коем случае не можем сказать, что от войны мы уже гарантированы», о том, что необходимо «настоящим образом учиться хозяйственному строительству», о том, что вопрос об электрификации, поставленный в порядок дня съезда, позволяет сказать, что «мы здесь присутствуем при весьма крупном переломе...»
9*
131
Если в тексте Маяковского и нет прямого указания на Ленина, то мысль вождя все же оказывается подлинным источником огромного большинства ростинских подписей и стихотворений Маяковского. Заслуживает внимания и то, с какой быстротой она подхватывалась поэтом. Слова «подхватывалась» и «оперативность» не передают в данном случае глубокой сущности этого процесса. Поэт стал в «рабочий строй», он живет делом партии, тревожным сознанием ответственности за еще не окрепшую социалистическую республику-родину. Со страстью вчитывается Маяковский в речи и высказывания Ленина, ища в них рабочего указания, поэтической темы для своей работы. Осваивая мысль Ленина, он умел ее самостоятельно продолжить, умел и ограничить свою задачу пропагандой только одной какой-нибудь стороны многогранной ленинской мысли.
В ноябре—декабре 1919 г. в Москве проходил Всероссийский съезд коммунистических организаций народов Востока, на котором с докладом о текущем моменте выступил Ленин. Доклад был опубликован в газетах 20 декабря, а 27 декабря появилось Окно Роста со стихотворением Маяковского:
Читайте! Специально для узбеков и киргизов -будет Эта сказка об одном верблюде.
Как об этом и предупреждало заглавие, Маяковский взял из доклада Ленина только ту тему, которая диктовалась задачей борьбы угнетенных империализмом народов Востока против своей буржуазии, своих непосредственных угнетателей. Это и должна была разъяснить поучительная история о том, как на уснувшего после тяжелых переходов верблюда насели хан, «толстопузый кадий», и мулла, как «росла на верблюде дармоедов куча, до самого неба горб навьюча», и как стряхнул их всех с себя, стряхнул и растоптал проснувшийся верблюд:
Растоптал и пошел работать верблюд. Бери пример с верблюда, рабочий люд!
Сказка или, точнее, басня о верблюде была написана с юмором, с легкой усмешкой, которая характерна для многих ростинских стихотворений Маяковского и которая как бы означала: вы, читатель, сами прекрасно это понимаете, но, видно, не все это понимают, и вот приходится объяснять, что я и делаю, вовсе не навязываясь вам в учителя и наставники. Маяковский-агитатор полон уважения к массе, к ее жизненному опыту, светлому разуму; его подход к ней исключает фальшивую позу популяризатора, который сюсюкает, нагибается к своему читателю и этим не поднимает его, а тянет вниз.
Маяковский не упускает случая, чтобы всеми средствами, в частности забавной каламбурной рифмовкой, сделать смешным
132
отрицательный персонаж и самой формой, которая вызывает смех, подчеркнуть, что сила противника не так уж велика. После того как на верблюда влезли хан и кадий,
Мулла проходил, и думает мулла: «Сяду и я а то куча мала».
Сочувствие к верблюду не уменьшает уважения к его силе, к его отнюдь не жалкому, а могучему трудовому рабочему горбу. Поэтому и вывод, сформулированный в заключительных строках, образно подготовлен в басне Маяковского:
Проснулся верблюд от тяжести лишней, и все посыпались, как гнилые вишни.
Любопытно, что в басне переосмысливается обычное выражение «работать, как верблюд». «Растоптал и пошел работать верблюд» — здесь нет унылой усмешки над самим собой раба, согнутого подневольным трудом. Напротив, пример верблюда, стряхнувшего с себя угнетателей, расширяется до образца для всего «рабочего люда», а не только «для узбеков и киргизов».
Об очень серьезных, иногда тяжелых вещах, составляющих тему его агитационного стихотворения, Маяковский говорит не хмуро, а весело, — он видит выход из тяжелого положения, поэтому у него всегда чувствуется подтекст, который составляет силу его агитационной интонации: вы все это сами прекрасно понимаете или во всяком случае должны понимать, но, видно, все-таки понимают не все, и вот приходится выдумывать смешные истории, происходящие «в некоей республике». Такова, например, «История про бублики и про бабу, не признающую республики». Окно Роста с этим получившим большую популярность текстом Маяковского было выпущено в августе 1920 г. в связи с «Неделей крестьянина», которая проводилась очень широко как общегосударственная кампания. Стихотворение обращено к человеку отсталому, к бабе, «не признающей республики». На просьбу голодного красноармейца, идущего на фронт, дать ему бублик —
Баба молвила: «Ни в жисть по отдам я бублики!
Прочь, служивый, отвяжись!
Черта ль мне в республике?!»
Красноармеец в глазах бабы не защитник народа от его угнетателей, а «служивый», т. е. подневольный человек царя и господ, как и в старое время. Социальный портрет бабы дается только средствами речевой характеристики: баба говорит «ни в жисть».
133
Правда, и сам рассказчик поучительной истории выражается так: «Кушать хоца* одному». Однако отступление от литературной нормы в речи рассказчика имеет другое значение. «Хоца» в устах рассказчика «Истории про бублики» усиливает ту шутливую интонацию, в которой заведомо неправильное выражение становится подчеркнутым юмористическим приемом:
1. Сья история была в некоей республике, — баба па базар плыла, а у бабы бублики.
2. Слышит, топот близ её музыкою веется: бить на фронте пановье мчат красноармейцы.
3. Кушать хоца одному,
говорит ей: «Тетя, бублик дай голодному, — вы ж па фронт нейдете?!
4. Коль без дела будет рот, буду слаб, как мощи.
5. Пап республику сожрет, если будем тощи».
Шутливая интонация подразумевает, что тот, к кому обращен рассказ, понимает шутку. Поэтическая агитация Маяковского, как сказано, уважительна. Эту ее особенность развил в своих превосходных рисунках к текстам Маяковского художник М. Че-ремных. Установка на понимание шутки, предполагающей в зрителе чувство юмора, отчетлива в рисунках М. Черемных к этому Окну — с их гиперболически огромными бубликами, которыми увешана баба, с панской разверстой пастью, в которую попадает жадная собственница, «не признающая республики», с грустной вороной около трагических виселиц:
Посмотри, на площадь выйдь: пи крестьян, ни ситника. Надо вовремя кормить красного защитника.
Плакатный удар ростипского стиха Маяковского — это толчок к подъему сознания читателя и зрителя на более высокую ступень, это иногда гневный, иногда убеждающе-ласковый голос, который, поэт знает, будет услышан своими.
♦ Курсив мой. — В. П. 134
В Окнах Роста текст сочетался с рисунком. Это сочетание не было случайностью. Оно было вызвано требованиями жизни, стремлением, добиться максимальной доходчивости агитации и ее действенности. Характерно, например, изданное Роста с рисунками в виде листовки «Письмо Ленина к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком». Во взаимодействии рисунка и текста — одна из существенных черт того революционного стиля Окон, о котором говорил сам поэт.
М. Черемных так характеризует Маяковского — художника Роста — и развитие типов Окон:
«Маяковский — художник плаката, особого типа плаката — Окон Роста. Его рисунки очень ярки, интенсивны, лаконичны, а эти качества прежде всего и требовались для «Окон».
Типы «Окон» установились не сразу. Первые «Окна» представляли собой как бы огромные страницы журнала. В них были самостоятельные заметочки, фельетончики, стихи, большие и маленькие рисунки. Встречался материал, как бы рассчитанный на «продолжение» в следующих «Окнах»; так, например, начали помещать по одной букве в «Окне» «Азбуку» Маяковского.
Несколько «Окон» этого раннего типа сделал и Маяковский. Вскоре, однако, этот сложный тип «Окна» сменился другим, более простым, объединенным общей мыслью и вполне законченным. Тип этот мы выработали коллективно. Большая роль принадлежала Маяковскому.
Основных типов «Окон» было три: многорисуночный с двухстрочными подписями, второй тип — большое стихотворение Маяковского со многими рисунками (его или другого художника) и третий — большое стихотворение и один большой рисунок. Самым распространенным был первый тип» 63.
Известно, что поэт считал свои ростинские стихи работой «большого словесного значения», очищавшей «наш язык от поэтической шелухи на темах, не допускающих многословия». Отмечая недостатки иных из этих стихов, обусловленные срочностью задания и отсутствием времени «на продумывание формальной стороны работы», поэт указывал, что это «сознательное временное приспособление слова имело и свои положительные результаты — очищение языка от туманной непонятности," сознательный выбор, поиск целевой установки».
В этом большую роль играло такое взаимодействие текста с рисунком, когда текст прямо опирался на рисунок и без последнего значительно терял в своей выразительности или же вовсе становился непонятен. Вот подписи к рисункам Окна, в котором ставится задача поднять ярость масс против врага, научить красноармейца классовой ненависти, объяснив ему, «что паны и Врангели народу несут»:
Земля — народу.
Рабочим — свободу.
135
Бездомным — по жилищу.
Голодным — пищу.
Такова белогвардейщина.
Не покоряйся ей! Бей!
Суровая ироничность и предельная краткость этих подписей раскрывается и оправдывается рисунками. Сиротливый кладбищенский холмик с покосившимся крестом — вот что такое «Земля — народу». «Рабочим — свободу» — стоящему между двумя виселицами рабочему предоставлена полная свобода выбора, на какой из них быть повешенным. Низенькое окно, забранное частой решеткой, не оставляет никаких сомнений в смысле строки: «Бездомным — по жилищу». И поэтому, когда в заключительном рисунке на панскую голову, украшенную пышным плюмажем, опускается внушительный рабочий кулак, то этот жест, подкрепленный призывом «Бей!», воспринимается как единственно возможный выход из положения.
«Очищение языка от туманной непонятности, сознательный выбор, поиск целевой установки» — эти требования искусства агитации обострялись рисунком. Вот Окно Роста, посвященное теме поднятия производительности труда. Оно озаглавлено: «Красная и черная» и состоит из четырех рисунков и подписей к ним:
1. Если ты на этой доске, —
2. Умирай в тоске.
3. А если на красной, —
4. Улыбайся, как день ясный.
Шутливая интонация, подчеркивающая, что дело поправимо, что все зависит от тебя самого, уясняется полностью из взаимодействия подписей Маяковского с его же рисунками.
На двух досках — черной и красной — написано: «Иванов лодырь!», «Иванов герой труда!». Кислая физиономия и рука, скребущая затылок, а рядом — улыбающееся, довольное лицо и молот на плече. Но это одно и то же лицо, тот же Иванов, но в разных обстоятельствах. Этим изобразительно подсказывается агитационный вывод: все зависит от тебя самого.
Рисунок обязывал быть и в слове предельно ясным, содействуя очищению языка от «поэтической шелухи», от «туманной непонятности».
В особых требованиях искусства агитации Маяковский видел школу высокой поэзии, большого реалистического искусства.
Революционный стиль Окон Роста складывался в практике плакатных ударов. Вот почему Маяковский с насмешкой отзывался о попытке «древнего грека» — критика В. Полонского — «заэстетизировать» работу поэта в Роста:
136
«В. Полонский в книге о революционном плакате, вырвав из середины кусок, набредя на агитсатиру Роста времен боев с панами, агитку, весь смысл которой доказать:
Так кормите ж красных рать! хлеб неси без вою, чтобы хлеб не потерять, вместе с головою! —
этот самый Полонский вырывает из агитки случайный клочок и пишет «фрагмент». Не угодно ли?!
Так же может поступить историк литературы, приводящий слово «соединяйтесь» с подписью «фрагмент», чтоб все догадывались и радовались, что сие «фрагмент» лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Вырванный «из середины кусок» с подписью «фрагмент» в книге В. Полонского «Русский революционный плакат» — это несколько рисунков М. Черемных с подписями Маяковского из «Истории про бублики». Написав в своей книге под куском из ростинского плаката слово «фрагмент», В. Полонский решил, что он «возвышает» работу в Роста, скажем, до какой-нибудь знаменитой итальянской фрески, из которой в искусствоведческих монографиях приводятся обычно «фрагменты». Но этим, как и своим комментарием критик-эстет показал непонимание своеобразия революционного стиля Окон:
«Работа (в Роста. — В. П.) делалась смаху, форма отыскивалась мгновенно, случайно...», — писал Полонский. Это, конечно, неверно. Отсутствие времени «на продумывание формальной стороны работы», что отмечал Маяковский, сказывалось иногда на качестве выполнения и текста и рисунков. Но замечательные удачи Маяковского и Черемных говорят о том, что и в этих условиях создавался революционный стиль, отвечающий задаче плакатного сатирического удара, что форма «отыскивалась» отнюдь не «случайно». В. Полонский эстетизирует форму как таковую, ему нравится, что «времени для тонкостей не оставалось» и что эта черта «является печатью нашей эпохи — стремительной, нервной, поспешной, — в которой, быть может, и заключается особая, грубоватая и неровная прелесть «искусства улицы».
Все это уводило далеко в сторону от понимания смысла и стиля работы в Роста как явления революционного искусства. Маяковский высмеял «академичность» автора монографии: «Есть такие новые русские древние греки, которые все умеют засахарить и заэстетизировать».
Поэт не противопоставлял революционный стиль Окон Роста общей агитационной работе средствами искусства. Он включился в работу Роста в тот период, когда общая агитационная работа развернулась достаточно широко. Гражданская война вызвала к жизни массовую фронтовую поэзию, создаваемую самими
437
красноармейцами и профессиональными поэтами, участниками военно-политической печати. Включаясь в общую работу, Маяковский опирается на те жанры и приемы, которые уже определились и утвердились в ней. Это, например, пародийное использование или сатирические перифразы широко известных литературных произведений, что, в свою очередь, продолжало опыт революционной сатиры 1905 г. Крылов, Жуковский, А. К. Толстой, Гейне, популярные народные песни и частушки — еще до начала работы Маяковского в Роста — дают формы, образцы для массовой художественной агитации. Не всегда можно определить, в какой мере Маяковский в своих ростинских стихах опирался па общую агитработу, а в какой мере его замечательная работа в Роста служила образцом для поэтов, поднимавшихся с низов. Важно то, что большой поэт не отрывался от агитационного движения массовой поэзии.
Вспоминая впоследствии о своих ростинских стихах, Маяковский называет в числе «хороших и популярных стихов» свою «Песню рязанского мужика» и приводит из нее следующие строки:
Побывал у Дутова, Батюшки!
Отпустили вздутого, Матушки!..
Это было одпо из первых Окон Роста, появившихся во второй половине октября 1919 г. В это время размножение Окон с помощью трафаретов и рассылка их на периферию еще не были налажены. Круг воздействия Окон ограничивался пределами Москвы. В газете политотдела 6-й армии «Наша война», выходившей в Вологде, в номере от 30 ноября 1919 г. было напечатано стихотворение «Из песен красноармейца»:
Шел Юденич в Петроград! Батюшки!
Подошел и сам не рад, Матушки!
Встрепенулась наша рать, Батюшки!
Стала жару поддавать, Матушки!64
По-видимому, фронтовой поэт из газеты «Наша война» по собственному почину взял за основу ту же популярную народную песню с припевом «Батюшки! Матушки!», которую использовал и Маяковский в своей «Песне рязанского мужика». Подобных примеров можно привести множество,
138
Широко известна замечательная по своей выразительности пё-сенка, которую распевал народ в Сибири после разгрома в конце 1919 г. «верховного правителя России» Колчака:
Мундир английский, Погон французский, Табак японский, Правитель Омский. Мундир сносился, Погон свалился, Табак скурился, Правитель смылся.
Частушки, раек, сказки, басни печатались почти во всех газетах армейских политотделов. Эти демократические литературные формы широко и блистательно использовал Маяковский в своей ростинской работе. И он не только чувствовал связь ее с массовой поэтической продукцией, но в дальнейшем, когда гражданская война кончилась, всегда с уважением отзывался об агитра-боте как о серьезной странице в истории революционной поэзии. В статье «Собирайте историю», появившейся в Бюллетене ЦК РКП (б) в начале 1923 г., Маяковский требовал внимания к творчеству массы:
«То, что дошло от этой работы, даже корявое и безграмотное (какие-нибудь солдатские частушки), во много раз интереснее любой напыщенной беллетристики литературных белоручек, пишущих о революции в своих не подлежащих уплотнению кабинетах» 65.
*
Ростинское творчество Маяковского отмечено усилением черт реализма. «Очищение языка от туманной непонятности» неразрывно связано было с тем, что оттачивалась идейная острота работы поэта-агитатора. Всего какой-нибудь год отделял Маяковского от «Искусства Коммуны» — газеты футуристов, на страницах которой он печатал свои первые послеоктябрьские стихи на политические темы. Хотя «Искусство Коммуны» издавалось Отделом изобразительных искусств Комиссариата народного просвещения, но на деле газета была органом группы футуристов. Маяковский разделял многие ошибочные положения этой группы и яростно отстаивал ее эстетический кодекс в своих знаменитых «Приказах» об искусстве. И в то же время в этих «Приказах» есть замечательно верные эстетические идеи и предвидения развития социалистического искусства. И «Приказы» и стихи Маяковского на политические темы в «Искусстве Коммуны» нередко шли вразрез с футуристическими теориями. И все же последние осложняли развитие поэта.
139
Работа в Роста вырывала Маяковского из замкнутого круга прежних групповых связей, Роста включала его самым непосредственным образом в общие задачи советской печати и пропаганды.
Если сравнить, например, стихотворение «Потрясающие факты», напечатанное в «Искусстве Коммуны» в марте 1919 г., со стихотворением «Коммунисты, все руки тянутся к нам...» в Окне Роста, выпущенном в марте 1920 г., то нельзя не увидеть в последнем гораздо более высокий уровень политической мысли. В ростинском стихотворении Маяковский развертывает тот же образ, что и в «Потрясающих фактах»: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма...» Поэт использует и отдельные выражения из своего более раннего стихотворения:
в «Потрясающих фактах»:
звеня в «Интернационале», Смольный ринулся
к рабочим в Берлине,
в Окне Роста:
не красная ль к нам идет Москва, звеня в Интернационале?!
Оба стихотворения были откликами на революционные события в Германии, первое на восстание берлинских рабочих против правительства Эберта, второе — против сменившего его правительства Каппа, которое и было свергнуто. В обоих стихотворениях один и тот же сюжет, и это позволяет уловить, как становится политически-конкретной образность Маяковского, как очищается язык.
В «Потрясающих фактах»:
И уже из лоска тротуарного глянца Брюсселя, натягивая нерв, росла легенда про Летучего голландца — голландца революционеров. А он — по полям Бельгии, по рыжим от крови полям, туда, где гудит союзное ржанье,
140
метнулся.
Красный встал над Парижем.
Смолкли парижане.
Стоишь и сладостным маршем манишь.
И вот,
восстанию в лапы отдана, рухнула республика, а он — за Ламанш.
На площадь выводит подвалы Лондона.
Величественная метафора — «голландца революционеров» страдает известной отвлеченностью. Несмотря на обобщающую силу отдельных сатирических деталей — «гудит союзное ржанье» — или строк, клеймящих империалистическую бойню напоминанием о «рыжих от крови полях» Бельгии, здесь есть поэтическая шелуха «натянутого нерва» и туманная непонятность—«Стоишь и сладостным маршем: манишь».
Ростинское стихотворение сохраняет сильные стороны монументальной образности Маяковского, решительно отвергая «самоценную» метафору. В отдельных строфах, однако, решение агитационной задачи упрощено, поэт еще не всюду находит для идеи образную форму. В то же время нарастает замечательное уменье поэтичёски формулировать остро чувствуемую политическую мысль, уменье, которое в дальнейшем окажется необходимым в больших поэмах Маяковского. Вот это Окно Роста:
2. Увидели в Берлине большевика, а ие раба, —
бьет буржуев в Берлине.
3. Ломая границ узы, шагая горами веков, к вам придет, французы, красная правда большевиков.
4. Все к большевизму ведут пути, не уйти из-под красного вала, Коммуне по Англии неминуемо пройти, рабочие выйдут из подвалов.
5. Что
для правды волн ворох, что ей верст мерка! В Америку Коммупа придет. Как порох, вспыхнет рабочая Америка.
Последняя строфа почти точно воспроизводит содержание и некоторые образы соответствующей строфы из «Потрясающих фактов»:
Не верили многие.
Ловчились в спорах.
141
А в пятницу утром вспыхнула Америка, землей казавшаяся, оказалось — порох.
Характерны реалистические уточнения: «вспыхнула Америка— «вспыхнет рабочая* Америка». Решающее значение имеет изменение интонации — от игры в условный образ: «Не верили многие. Ловчились в спорах» до величественной патетики утверждения правды: «Что для правды волн ворох, что ей верст мерка!». Эти как будто незначительные сдвиги формы — сдвиги идейно-политические.
Характерно и другое сопоставление, показывающее, как Роста помогала Маяковскому совершенно по-иному, правильно освещать те самые вопросы, которые в «Искусстве Коммуны» он трактовал во многом еще по-футуристически. Хотя пафосом стихотворения «Той стороне» в «Искусстве Коммуны» (январь, 1919) была полемика с реакционными эстетами, но эта полемика увлекала поэта дальше, чем он хотел, и приводила к нигилистическим выпадам против художественного наследия прошлого. Нигилизм в отношении к классикам дает себя знать и в «150 000000»: «футуристы прошлое разгромили, пустив по ветру культуришки конфетти...»
Совершенно иное отношение к художественной культуре прошлого в стихотворении Маяковского, написанном для Окна Роста в июне 1920 г. в связи с известием о разрушении Киева белопо-ляками при отступлении под натиском Красной Армии. В газетах было напечатано сообщение (впоследствии не подтвердившееся) о взрыве знаменитого киевского собора. Маяковский писал в Окне Роста:
В дикой злобе отступающий боров взорвал красоту Владимирского собора
Теперь оцените Антанты проповедь, что мы-де разбойники, а они —
Европа ведь!
Культура — Коммуна! Строители — мы! А паны — погромщики, сеятели тьмы.
В этом стихотворении Маяковский выступает против нигилизма буржуазии-разрушительницы, от лица пролетариата, за
* Курсив мой. — В. П.
142
конного наследника всей красоты художественной культуры прошлого.
По-разному решались поэтом одни и те же мотивы в «150000000» и в Окнах Роста.
В «150000000» романтическая мечта о счастье трудящихся, о грядущем изобилии была в основе своей реалистична. Роста не заставила поэта «отказаться» от этого порыва в будущее, но приблизила поэта к пониманию реальных условий осуществления мечты. В «150000000» поэт рисовал такую картину, в «год с нескончаемыми нулями»:
Пустыни смыты у мира с Хари, деревья за стволом расфеерили ствол. На площади зелени — на бывшей Сахаре — сегодня ежегодное торжество.
А в Окне Роста, указывая на причины голода и неурожая — войну и разруху, поэт намечает оптимистическую перспективу борьбы с суховеями:
2. Недород оттого, что разруха.
3. Если бы разрухи не было, по каналам пустили бы океаны вод, разве было б тогда сухо?
Неприглядна «харя» мира, обезображенного капитализмом. «Шершавым языком» ростинского плаката поэт хотел выскрести пережитки прошлого.
«Ассенизатор и водовоз» — Маяковский умел видеть связь частной агитационной темы с общим, с судьбой народа, революции. Это сознание освещало для него работу черновую, будничную.
Немалая часть текстов, написанных Маяковским для Роста, представляет собой сводку политических и экономических фактов, предельно сжатую и ясную, но не претендующую на художественность или же использующую элементы художественной формы в самой ограниченной степени. Приведем один из множества примеров. Заглавие Окна 1921 г. сделано в стиле раешника:
Радуются ли империалисты-победители, или
войны и победителей и побежденных разорили?
Далее следует сводка экономических фактов:
1. Смотрите на Германию.
2. Количество работоспособных — 42% довоенного количества.
143
3. Национальное богатство уменьшилось с 225 мил лиардов до 100 миллиардов.
4. Национальный доход уменьшился с 40 миллиардов до 10.
5. Количество бумажных денег увеличилось в 16 раз.
6. Урожай с 15 миллионов тонн (тонна свыше 60 пудов) уменьшился до 5 миллионов тонн.
7. А во Франции?
8. Государственный долг Франции увеличился в 10 раз.
9. Количество бумажных денег увеличилось в 7 раз.
10. Ежегодный дефицит равен 5 миллиардам.
11. Отсюда ясно, как 2x2=4:
12. Гибель ждет капитал во всем мире.
Намечающаяся в последних двух подписях рифма имеет служебное значение, закрепляя вывод из статистики.
Или вот, например, другая статистика в Окне, выпущенном в ноябре 1920 г., по-видимому, в связи с 3-й годовщиной Октября:
В одной Смоленской губернии Советской властью открыто за 3 года:
1. 3 высших учебных заведения,
2. 25 детских домов,
3. 90 детских садов,
4. 1800 изб-читален,
5. 350 народных библиотек,
6. 940 школ для взрослых,
7. А сколько открыто по всей России!
8. А что открывают белогвардейцы?
9. Кабаки для буржуев.
Неутомимо и добросовестно выполнял Маяковский изо дня в день безымянную работу социалистического просветителя. Помогали навыки пропагандиста, вошедшие в плоть и кровь с юношеских лет. Уча, он учился сам и в своей работе в Роста накоплял багаж политических и экономических знаний.
«Мы с Маяковским так работали, что временами казалось: нас только двое»66, — вспоминал впоследствии Демьян Бедный, и это признание нельзя считать нескромным.
«Мы работали без установки на историю и славу», — так оценивал поэт много лет спустя свою работу в Роста. Это глубоко искренно. Меньше всего думал Маяковский о том, что требования, которые предъявлялись к ростинским текстам, окажутся полезными в дальнейшей его поэтической работе, способствуя очищению языка, что некоторые из этих текстов станут «заготовками» для величественных образов его поэм. И если в действительности так случилось, то это говорит лишь о том, насколько прав был Маяковский, отказываясь отделять в поэзии «высокие»
144
жанры от «низких», добиваясь многообразия форм работы советского поэта, стремясь разными формами этой работы наиболее широко охватить жизнь во всех ее разнообразных проявлениях.
В 1921 г., когда свирепствовали тиф и холера, в Окнах Роста появлялись и з мае, и в июне, и в августе предостерегающие стихотворные подписи Маяковского па одну и ту же тему:
Не пей сырой воды, воду оную пей только кипяченую.
Эта «сквозная тема» многих Окон юмористически прозвучала в поэме «Во весь голос», как некое предостережение, — предостережение потомкам от ошибки в оценке творчества Маяковского:
... возможно, скажет
ваш ученый, кроя эрудицией
вопросов рой, что жил-де такой певец кипяченой и ярый враг воды сырой.
Перебирая тексты, сделанные Маяковским для Окоп Роста, видишь, как всплывают из них отдельные строчки, мысли и образы в его поэмах, всплывают не как «заготовки», а как очищенный и устоявший обобщенный опыт.
Маяковский называл подписи к Окнам Роста «вторым собранием сочинений». От этого «второго собрания сочинений» к первому тянутся нити, которые можно увидеть, нащупать. Без специальной мысли создать какую-то особую почву для своего поэтического творчества Маяковский оказался крепко связанным с жизнью работой агитатора, рисовальщика плакатов, газетчика, путешественника-лектора, несравненного чтеца своих стихов. Вся эта разнообразная и бурная деятельность Маяковского не была для него чем-то дополнительным к его поэзии, чем-то вроде так называемой «второй профессии» писателя. Во всех его беспокойных занятиях сказывался темперамент, характер. Как у всякого большого поэта? содержанием поэзии Маяковского становилось содержание действительности. В ростинских стихотворениях Маяковского наиболее существенным для его дальнейшего развития было соприкосновение с самой жизнью: важно было не только поэтическое оформление задания в соответствии с его целевой установкой, но и усвоение той жизненной потребности, которая его вызвала. Вот в каком более глубоком смысле следует говорить о связи между «вторым» и «первым» собраниями сочинений поэта.
10 в. Перцов
145
Большие поэтические обобщения вырастали на почве конкретных фактов, часть которых была «ощупана», осмыслена еще в ростинской работе. В стихотворении «Моя речь на Генуэзской конференции» (1922), обращаясь к представителям капиталистических государств, требовавших от нас уплаты старых царских долгов, поэт говорил:
О вздернутых Врангелем, о расстрелянном, о заколотом память на каждой крымской горе. Какими пудами какого золота оплатите это, господин Пуанкаре?
«О расстрелянном... на каждой крымской горе» Маяковский знал и помнил. Еще в октябре 1920 г. он писал в Окне Роста:
9. И крестьянам по-прежнему землю брать не велено. И по-прежнему за это у Врангеля в Феодосийском уезде множество крестьян расстреляно.
В начале 1921 г. Маяковский сделал большое количество текстов к посевной кампании. В феврале этого года опубликовано письмо ЦК о посевной кампании. Голод и неурожай предшествующего 1920 г. требовали исключительного напряжения сил в подготовке к ней. Приняты были меры к расширению посевов и улучшению обработки земли. Маяковский призывал крестьян: «Выполним декрет!»
Правит нами ведь не пан.
Правят нами наши.
Как велит советский план, землю всю запашем.
Среди этой серии текстов, близких по стилю к частушкам и сделанных в феврале 1921 г. с расчетом на то, чтобы крестьянин освоил такие новые понятия, как «советский план», «посевком», «семенной фонд», непосредственно важные для выполнения поставленной задачи, выделяется подпись к рисункам на тему «Пахали сохой — запашем трактором»:
1. Раскрасневшись, будто рак, землю пашешь так-то.
2. Ты б ее пахал вот так, — оседлавши трактор.
146
Это уже обращено к будущему, к завтрашнему Дню, это — перекличка с ленинской мечтой о ста тысячах тракторов.
В поэме «Хорошо!» мотив-мечта агитплаката превращается в уверенную и радостную картину укрепления «ростков нового»:
И меркнет доверье к природным дарам с унылым пудом сенца, и поворачиваются к тракторам крестьян заскорузлые сердца.
Первый опыт применения новой сельскохозяйственной техники и вытеснения ею дедовской сохи служит в глазах поэта залогом быстрого движения вперед, победы социализма в деревне. Строфа о повороте «заскорузлых сердец» развертывается в концовке этой главы в большое поэтическое обобщение:
И планы, что раньше на станциях лбов задерживал нищенства тормоз, сегодня встают из дня голубого, железом и камнем формясь.
И я, как весну человечества, рожденную
в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою!
Так от агитационной заявки в плакате — к образу социалистической индустриализации страны в эпической поэме нарастает сила реалистического искусства Маяковского, типизирующего те явления жизни, которые еще не часто встречаются, но которым принадлежит будущее в борьбе за коммунизм.
10*
147
*
Маяковский всегда говорил о своей работе в Роста с большой теплотой. В статье «Только не воспоминания» поэт писал в 1927 г.:
«Окна Роста — фантастическая вещь. Это обслуживание горстью художников, вручную, стопятидесятимиллионного народища.
Это телеграфные вести, моментально переделанные в плакат; это декреты, сейчас же распубликованные частушкой... Это те плакаты, которые перед боем смотрели красноармейцы, идущие в атаку, идущие.не с молитвой, а с распевом частушек...»
Всякий раз, когда Маяковский вспоминал об Окнах Роста, он высказывал сожаление, что эта работа полностью не сохранена, и опасение, что она может погибнуть:
«Большинство этих окон растеряла наша безалаберность.
Через годы — над этими окнами будут корпеть ученые, охраняя от времени скверненькую бумагу.
Охранять эти окна надо и надо.
Так как —
это — красочная история трех боевейших годов Союза — так как —
это — предки всех советских сатирических журналов, предки труднейшего, безбумажного, безмашииного, ручного времени».
В статье «Собирайте историю» в Бюллетене ЦК РКП (б) поэт писал:
«Наша революция шла при страшном разгроме техники. Оставшаяся печатная техника разваливалась, не поспевая за бегущей жизнью. Огромное количество нашей агитработы мы вели кустарно, вели вручную... Плакатный архив роста был свален в комнату, по нем прошли армии три курьеров и курьерш, а клочки съели мыши.
А ведь по этим клочкам цень за днем можно было в стишках и карикатурах проследить всю историю революции» 67.
Участие Маяковского в работе Роста согрето теплом товарищеских отношений, создавшихся в коллективе, душою которого стал поэт. Маяковский умел вовлечь в работу всех, с кем так или иначе соприкасался. Самым живым и интересным отделом Роста сразу стала мастерская Окон, в которой царил строгий рабочий порядок. По воспоминаниям одного из художников, сотрудничавших в то время с Маяковским, известен такой эпизод:
«Однажды на одном жарком диспуте о путях советской живописи я настолько увлекся спором, что забыл о ждущей меня дома срочной работе. Была уже полночь, когда я вернулся в свою холодную комнату. Надо было написать около двадцати пяти листов, составлявших три «Окна»...
148
К утру работа была окончена. Быстро свернув еще сырые плакаты, я устремился в Роста. На Сухаревской башне часы показывали ровно 12. Я опаздывал на целых два часа, — Маяковский мне этого не простит.
— Маленько опоздал... — сказал я, кладя па стол плакаты. — Нехорошо... Сознаю...
Маяковский мрачно молчал.
— Я плохо себя чувствую, — попытался я смягчить его гнев,— я, очевидно, болен...
Наконец Маяковский заговорил.
— Вам, Нюренберг, разумеется, разрешается болеть... Вы могли даже умереть — это ваше личное дело. Но плакаты должны были здесь быть к десяти часам утра.
Взглянув на меня, усмехнулся и добавил:
— Ладно, Нюренберг, на первый раз — прощаю. Деньги нужны? Устрою. Ждем кассира. Не уходите» 68.
В этом эпизоде — весь Маяковский, требовательный к себе и к другим, труженик и заботливый товарищ.
Простым и естественным было его внимание к окружающим, желание выручить человека в беде или в затруднительном положении. Он это делал незаметно и легко для себя и для других. Он мог, узнав, что работающий с ним товарищ в большом финансовом «прорыве», вдруг потребовать, чтобы ему была продана, например, ручка, которая ему давно нравилась. Трудно было не уступить Маяковскому в его настойчивом требовании. И лишь после того, как непомерно большая сумма вручалась, удачливый продавец необыкновенной ручки соображал, в чем, собственно, дело69.
Шутка Маяковского заставляла верить в успех работы. Его авторитет рос не только потому, что окружающие видели в нем замечательного мастера слова. Неменыпую роль играло его отношение ко всем участникам общей работы, его пример коммунистического отношения к труду.
«Как можно было столько сделать?» — задавал вопрос Маяковский о своих ростинских стихах.
«Вспоминаю — отдыхов не было. Работали в огромной нетопленой, сводящей морозом (впоследствии — выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской Роста.
Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать,, полено вместо подушки, с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова».
Такая самодисциплина давала право Маяковскому на суровую требовательность ко всем, кто работал вместе с ним.
Утром в подмосковном поезде из «уже классического Пушкина» летом 1920 г. Маяковский, устроившись у окна в переполненном вагоне, с записной книжкой в руке, бормотал и записы-
149
ЁаЛ заданный себе дневной урок в 50 — 80 строк для Окон Роста.
М. Черемных пишет в своих воспоминаниях:
«Если бы кто-нибудь мне рассказал, что он делал 50 плакатов в ночь, я не поверил бы, если бы я сам не делал 50 плакатов в ночь... После прихода Маяковского стихи для Окон Роста стал писать только он один: им написаны почти все тексты Окон. Пока наша группа делала плакаты на первые темы, он успевал написать остальные и сам начинал рисовать» 70.
Работа в Роста поставила Маяковского лицом к лицу с массовой демократической аудиторией: как там — в Окне, на улице, поймет это слово, эту фразу рабочий, крестьянин, красноармеец? Будет ли слово верно стрелять, точно ли оно будет бить в политическую цель? И если кто-нибудь из участников коллектива убедительно доказывал, что строчка может быть не так понята, Маяковский сейчас же брался за переделку ее, добиваясь такой формы, которая ярко и верно доводила до сознания политическую мысль. В этом была основа настоящего мастерства. I
Художник В. Лебедев, принимавший участие в работе Роста, вспоминает:
«К одному плакату, призывающему на борьбу за восстановление народного хозяйства и вместе с тем предостерегающему о существовании врага, была сделана надпись под рисунком, где был изображен рабочий с пилой:
В землю штык, в руки пилу.
Маяковский, прочитав эту надпись к плакату, чуть не выругался, перечеркнул ее и сейчас же набросал следующие строки:
Работать надо —
винтовка рядом.
Он был бесконечно прав: воткнутый в землю штык знаменовал успокоенность, демобилизацию боевых чувств. Работа же при наличии «винтовки рядом» характеризует все наше время: работать не покладая рук, строя здание социализма, умея в любое время взять винтовку и защищать нашу родину» 71.
Маяковскому нравилась коллективность ростинской работы, он охотно принимал участие в организации ее. Размножались Окна сначала перерисовкой от руки, а потом по трафарету. Вокруг коллектива художников появились специалисты-трафаретчики. Когда работа развернулась, было организовано до 50 отделений Роста. Первые копии Окон отправлялись в самые далекие пункты и по мере изготовления их трафаретчиками рассылались все ближе к Москве. Оригинал появлялся в Москве в день выполнения.
150
Все это большое хозяйство имело к Маяковскому самое непосредственное отношение. Он вместе с Черемных принимал работу от трафаретчиков. Принимались копии строго, трафаретчики это знали и работали на совесть.
Поэт писал впоследствии:
«Я помню замирание этой работы.
Пришел расклейщик, толстенький Михайлов, и сообщил:
— У Елисеева запрещают вывешивать — там теперь магазин открывается».
Военный коммунизм кончался. Открывался период нэпа — новой экономической политики. Одержав историческую победу в гражданской войне, Советская власть вступала на путь хозяйственного возрождения разоренной страны.
4. «ИЗ РОССИИ НЭПОВСКОЙ БУДЕТ РОССИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ»
Роль сатиры в период нэпа. Отзыв В. И. Ленина о «Прозаседавшихся» и работа Маяковского в «Известиях». «Маяковский издевается». Маяковский и Мейерхольд. Агитлубки для деревни. Работа над рекламой вместе с художником Родченко по заданию государственных организаций. Нарастание тенденций реализма в сатирической работе Маяковского. Сатира на темы внешнеполитические.
С тех пор как Россия Советов, освобожденная от интервентов, совершила крутой поворот к мирному труду, прошло уже более полутора лет, а бои гражданской войны еще не отгремели на Дальнем Востоке. Наконец был освобожден Владивосток. 20 ноября 1922 г. Ленин выступал на пленуме Московского Совета. Под восторженные аплодисменты депутатов и гостей пленума Владимир Ильич сказал:
«... взятие Владивостока показало нам (ведь Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский) (продолжительные аплодисменты), показало нам всем всеобщее- стремление к нам, к нашим завоеваниям. И здесь и там — РСФСР. Это стремление избавило нас и от врагов гражданских и от врагов внешних, которые наступали на нас. Я говорю о Японии»
В эти дни в одной из русско-японских согласительных комиссий происходил следующий чрезвычайно характерный разговор между потерпевшими крах японскими интервентами и советскими делегатами, обсуждавшими совместно условия мирного договора:
— Я хочу спросить вас, — сказал представитель японской военщины, — как вы принципиально, в душе, уважаете постановления: по нормальной системе или же ленинским способом?
— Мы уважаем ленинскую систему, ибо она самая нормальная, — ответили наши представители.
Вопрос интервента мог показаться наивным, но в его коварном простодушии заключено было целое мировоззрение: угнетение человека человеком буржуазия выдавала за нормальный и вечный закон жизни. Когда в России свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, буржуазный мир отказался признать 152
новый, утвержденный ею общественный порядок нормальным и объявил его «большевистским экспериментом». Переход Советской России к нэпу был воспринят буржуазными идеологами и политиками как конец «эксперимента» или — отказ от него. Известно, что нэп был рассчитан на некоторое, в определенных рамках, допущение частнохозяйственного капитала в промышленности и торговле.
Нэп был временным отступлением, которое партия проводила планомерно, чтобы, накопив силы и средства, создать мощную индустрию и перейти в решительное наступление на остатки капитализма в стране.
«Устряловцы» — буржуазные идеологи, действовавшие на Дальнем Востоке, а потом в эмиграции (Устрялов был министром при Колчаке) — видели в нэпе только отступление и рассчитывали на внутреннее перерождение Советского государства, т. е. возврат к «нормальной системе» капитализма. Ту же линию по существу пытались проводить внутри партии буржуазные перерожденцы — троцкисты. Вот в чем был «подтекст» коварно-простодушного вопроса: «Как вы принципиально, в душе, уважаете постановления: по нормальной системе или же ленинским способом?».
Буржуазные идеологи внутри страны и за рубежом не могли понять, что нэп и представляет собой «ленинский способ» временного соглашения с отдельными элементами капитализма, с последующим окончательным разгромом остатков капитализма и безраздельным утверждением внутри страны социализма — единственно нормального человеческого строя жизни. Однако непонимающих нэп было немало и среди тех, которых никак нельзя было причислить к лагерю буржуазии. Призывая коммунистов «учиться торговать», Ленин натолкнулся и на прямое и на скрытое глухое сопротивление иных честных революционеров, которые оказались не в состоянии сразу осмыслить сущность его гениального маневра. Они мучительно переживали поворот партии к нэпу. Опровергая возражения одного из выступавших по его докладу о новой экономической политике, Ленин говорил:
«... тов. Семков очень ясно сказал: «Что вы говорите о государственной торговле! В тюрьмах нас торговать не учили». Тов. Семков, это правильно, что нас в тюрьмах торговать не учили! А воевать нас в тюрьмах учили? А государством управлять в тюрьмах учили? А примирять различные наркоматы и согласовывать их деятельность — такой, весьма неприятной, штуке учили нас когда-нибудь и где-нибудь? Нигде нас этому не учили... Когда нам говорят: «Нас в тюрьмах торговать не учили», то в этих словах видно именно ошибочное понимание практических задач сегодняшней нашей борьбы и деятельности партии. И это как раз такая ошибка, которая состоит в перенесении приемов, подходящих к «штурму», на период «осады» 2.
Ленин возвеличивал героизм «осады», т. е. будничной работы
153
налаживания хозяйства, повседневной учебы у купца, считая этот героизм более трудным, чем героизм военный. А с другой стороны, Ленин подвергал беспощадному осмеянию и того купца-нэпмана, который возомнил себя политической силой и который, по выражению Ленина, «обнаруживает гораздо больше шуму, чем это соответствует его экономической силе» 3.
В особенности шумными оказались новоявленные идеологи мещанства. Этим чуждым влияниям нужно было противопоставить усиленную идеологическую работу по всей линии фронта культуры. Партия под руководством Ленина и взялась с огромной предусмотрительностью за укрепление своих идеологических «командных высот» — прежде всего таких, как печать и литература. В области художественной литературы исключительное значение приобретало перо сатирика. Именно сатирик мог, как никто другой в искусстве, разоблачить и философию мещанства и повседневное уродство его практики.
В романе-памфлете «Хулио Хуренито» Илья Эренбург едко высмеивал западноевропейское мещанство, хорошо знакомое ему еще с дореволюционных времен. Едва ли не первым из советских писателей оказавшись в Европе после Октябрьской революции, Эренбург смог удостовериться в том, что мещанство ни в чем не изменилось. Его «Хулио Хуренито» был первой вестью с Запада, первой информацией о быте и культуре капитализма, полученной с того берега от свидетеля, имеющего возможность сравнивать. В тех местах книги, где автор разоблачает лицемерие буржуазной морали, где Хулио Хуренито выступает на конгрессе борьбы с проституцией — в защиту проституции, исходя из принципа свободной торговли, где «международное общество друзей и поклонников мира» составляет 1713 правил гуманного убоя, или там, где изображается отель «Патриа», в котором живут социалисты-соглашатели воюющих стран, сатира Эренбурга метко обнажала загнивание «нормальной системы» капитализма. В своих художественных приемах, в своем пафосе разоблачения «Хулио Хуренито» блестяще продолжал традицию знаменитых щедринских очерков «За рубежом». Но подняться до пафоса утверждения нового мира, первооткрывателем которого была Россия Советов во главе с Лениным, до сатирического разоблачения буржуазных пережитков внутри страны Эренбург в то время еще не мог. «Я не спорю и не преклоняюсь. Я знаю, что много цепей разного металла и формы, но все они — цепи, и ни к одной из них не протянется моя слабая рука». В этой «беспартийной» философии Хулио Хуренито новое «советское» мещанство, ожившее вместе с нэпом, не могло не увидеть союзника.
Страшного врага оно нашло в Маяковском. Свою работу в первые месяцы нэпа Маяковский начал с сатиры, с прямого, открытого объявления войны мещанству. «Иду на вы...» —как бы говорил он в стихотворении «О дряни». В июле 1921 г. вышел
154
первый советский сатирический журнал «БОВ», в котором одно за другим были напечатаны стихотворения Маяковского «Последняя страничка гражданской войны» и «О дряни».
Расшифровка сокращения «БОВ» не установлена: не то «Большевистское веселье», не то «Боевой отряд весельчаков». Маяковский был в прекрасной наступательной «форме» поэта-сатирика. Первый и единственный номер «БОВа» Маяковский едва ли не наполовину сделал сам: нарисовал обложку, дал, кроме указанных двух стихотворений, еще и «Сказку для шахтера-друга» со своими рисунками и сатирическую песенку. Но главным было, конечно, «О дряни». Следуя сразу за «Последней страничкой гражданской войны» и воспринимаясь, как это и следовало по замыслу автора, на фоне этого Стихотворения, «О дряни» было своего рода декларацией поэта-гражданина при переходе границы из одного периода жизни молодой Советской страны в другой — от эпохи военного коммунизма к нэпу.
«Последняя страничка гражданской войны» продиктована чувством благодарности — гордым и скорбным. Поэт славит сознательность, военное искусство и самопожертвование «краснозвездного героя». Стихотворение проникнуто горделивым величием эпитафии:
Не только тобой завоеван Крым и белых разбита орава, — удар твой двойной:, завоевано им трудиться великое право. И если в солнце жизнь суждена за этими днями хмурыми, мы знаем — вашей отвагой опа взята в перекопском штурме.
«Хмурое утро» — так передал другой художник свое ощущение эпохи, обрисованной здесь Маяковским; это название третьей части эпопеи «Хождение по мукам» Алексея Толстого, вышедшей много лет спустя. И сам Маяковский вернулся к образам перекопского штурма в своем патетическом «Во весь голос»:
Пускай
за гениями безутешною вдовой плетется слава
в похоронном марше, — умри, мой стих,
умри, как рядовой, как безымянные
на штурмах мерли наши!
155
В «Последней страничке гражданской войны» мы чувствуем тот же высокий пафос:
В одну благодарность сливаем слова тебе, краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи, . вам — слава, слава, слава!
Тем чувствительнее был резкий спуск без тормозов к «низким истинам» периода нэпа: сатирическое стихотворение «О дряни» открывалось концовочной пафосной строкой «Последней странички», как своего рода эпиграфом:
Слава, Слава, Слава героям!!!
Впрочем, им довольно воздали дани. Теперь поговорим о дряни.
Маяковский начинал в советской литературе крупный разговор на тему о недостатках, которые несовместимы с «нашим красно-флагим строем», а в то же время уживаются с ним, в нем. «Коммуну славя, расселись мещане» — вот что вызывало его тревогу. А как же им было не славить ее, ежели они внедрились в государственный аппарат коммуны, «намозолив от пятилетнего сидения зады», ежели они
Свили уютные кабинеты и спаленки, и вечером та или иная мразь, па жену, за пианином обучающуюся, глядя, говорит, от самовара разморясь: «Товарищ Надя!
К празднику прибавка — 24 тыщи.
Тариф.
Эх, и заведу я себе тихоокеанские галифища, чтоб из штанов выглядывать как коралловый риф!» А Надя:
156
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем сегодня буду фигурять я на балу в Реввоенсовете?!»
Стихотворением «О дряни» Маяковский, по верному замечанию И. Эвентова, открывал большую серию своих сатирических фельетонов 4.
Следует обратить внимание на одну важную новую черту выступлений Маяковского-сатирика в период нэпа, отличающую их от его сатирической позиции в «Мистерии-буфф», «150000 000» и Окнах Роста. Если раньше сатира Маяковского была обращена почти исключительно на врагов внешних, включая и «всяческих Деникиных», то теперь Маяковский переносит «огонь на себя», на собственные наши недостатки.
Этот перенос огня он обосновывает теоретически:
«Больше чем драматическое, белое окружение не позволяло нам чистить себя чересчур рьяно.
Метла сатиры, щетка юмора были отложены.
Многое трагическое сейчас отошло.
Воскресло количество сатиры».
И в другой статье, ставившей вопрос «Можно ли стать сатириком?»:
«Общее впечатление: количество и отчасти уровень сатиры сильно повысились.
Чем объяснить?
Во-первых, конечно, нашей политической победой и рядом наших экономических побед.
Это первое условие — возможность смеха. Но этого мало. Необходимо «профессиональное» поднятие квалификации сатирика».
Характерна постановка вопроса в названии статьи, показывающая принципиальный и сознательный интерес к сатире, обостренный нэпом.
Сатира «внутренняя» требовала отчетливого, в подробностях знания своего объекта, чтобы обеспечить точность попадания. Элементы реализма накапливались сильнее всего именно в сатирической работе Маяковского. «Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе», сближая в самом названии явления несоизмеримые, метило в тех советских руководителей, которые не понимают политического значения «мелочей»:
И нам,
если мы на митинге ревем, рамки арифметики, разумеется, узки — все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае — масштаб общерусский.
157
Плюхнувшись ночью в ту же яму на Мясницкой, куда вслед за ним упала и баба с тележкой, пробиравшаяся с вещами к Ярославскому вокзалу, сатирик на собственном опыте познает значение «мелочей». «Что бабе масштаб грандиозный наш?» — спрашивает поэт и полностью оправдывает пострадавшую, которая «взбираясь с этажа на этаж, сверху и меня и власти крыла». Характерно, что сатирик чувствует свою полную ответственность за эти недостатки и не отделяет себя от «властей»:
Я
па сложных агитвопросах рос, а вот
не могу объяснить бабе, почему это о грязи на Мясницкой вопрос
пикто пе решает в общемясницком масштабе!
Маяковский доказывал Луначарскому, что самое великое призвание современного поэта — в хлестких стихах жаловаться на дурную мостовую на Мясницкой улице.
В этот период Маяковский высоко оценивает сатирическое умение Демьяна Бедного, приводя в качестве образца его стихотворение о социал-соглашателе Вандервельде.
Нэп вызвал у Маяковского прилив творческих сил, основанный на глубоком понимании «сложных агитвопросов», — это было сказано с юмором, но и вполне серьезно; он органически чувствовал сложность и противоречивость революции, вовлекаясь в диалектику ленинской мысли.
В смелом обличении и осмеянии собственных недостатков сказывалось умение видеть историческую перспективу, выражалось чувство превосходства над врагом. «О дряни» — это значит о тех, кто прикрывает советской формой чуждое или враждебное содержание. «Без серпа и молота не покажешься в свете», — разоблачал Маяковский-сатирик «совмещай», сделавших из социалистических идей защитные «эмблемы». Маяковский срывал «эмблемы», обнажая сущность примазавшихся к революции.
*
Уже было сказано, что «героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи», созданное Маяковским в его «Мистерии-буфф», удалось поэту больше всего в сатирической части. При всем упорстве Маяковского и богатстве сил молодости у него все же осталось чувство горечи по поводу сценической судьбы своей первой пьесы: «Три раза поставили, — потом расколотили».
158
Между тем пафос героики и сатиры «Мистерии-буфф» в обстановке начала нэпа вовсе не утратил своей действенности. Напротив, некоторые сатирические удары пьесы могли быть теперь направлены в адрес политической и обывательской «дряни», которую разоблачал Маяковский, а героика укрепляла чувство революционных традиций и революционной перспективы, особенно важное в это переломное время. Естественно, что Маяковский был обрадован, когда в конце 1920 г. его пьесой заинтересовался вновь созданный Театр РСФСР Первый, во главе которого стоял Всеволод Мейерхольд. По его инициативе Маяковский начал перерабатывать «Мистерию-буфф», готовя ее для новой постановки — одной из первых в репертуаре нового театра. На этой работе и произошло сближение поэта с режиссером, который ставил и первую редакцию «Мистерии-буфф» и в дальнейшем был первым постановщиком пьес Маяковского.
Следует сказать, что при всей противоположности идейных истоков Маяковского и Мейерхольда, связь между ними в искусстве не была случайной. В дальнейшем мы скажем об этом более подробно, а сейчас сделаем лишь некоторые необходимые замечания к этой теме.
««Мистерия-буфф» — это наша великая революция, сгущенная стихом и театральным действием», — так определял сам поэт реалистический характер своей пьесы в тот период, когда над ней работал Мейерхольд. Откуда шел интерес последнего к пьесе Маяковского и с какой стороны режиссер подошел к сценической трактовке первого произведения революционной драматургии? Театральные искания Мейерхольда в предреволюционные годы, будучи отмечены ярким талантом и виртуозностью, носили анти-реалистический характер, сливаясь с декадентскими течениями в живописи и литературе. После Октября Мейерхольд провозгласил себя революционным новатором и заявил о том, что его программой отныне является создание политического театра. Он и пытался работать в этом направлении, можно сказать, набросившись на «Мистерию-буфф» и превознося до небес ее молодого автора, гениальные возможности которого он сразу почувствовал. Однако Мейерхольду сильно мешали в его восторженных, направляемых самой жизнью замечательных поисках нового старые эстетские предрассудки театрального экспериментатора эпохи предреволюционного «Балаганчика». Внимание Мейерхольда давно привлекали принципы народного театра. Этот интерес не был чем-то исключительным в искусстве декаданса.
В таких цитаделях эстетизма, как журнал «Аполлон» и «Весы», печатались статьи о фольклоре и первобытной скульптуре, о танцах народов и об искусстве мимов, гистрионов, жонглеров, о театре кукол. Интерес декаданса к народному искусству был обусловлен стремлением найти в «примитиве», в стилизации народных мотивов источник обновления формы. Мейерхольд в статье
159
«О балагане» (1912) требовал изучения и восстановления тех приемов старинных театров, в которых выражался культ кабо типажа, где в игре актера главенствовало движение, заявляя, что «слова в театре лишь узоры на канве движений».
«Когда в искусстве гротеска, — писал Мейерхольд в той же статье, — в борьбе формы и содержания восторжествует первое, тогда душой сцены станет душа гротеска...»
Это понимание театра привело Мейерхольда после Октября к созданию особой системы тренировки движения актера на сцене, к «биомеханике». Едва ли можно было оправдать систему «биомеханики» принципами народного театра. Однако следует сказать, что в лучших созданиях Мейерхольда на советской сцене элементы народного театра сыграли большую роль в его театральном творчестве.
Какое отношение имело все это к Маяковскому?
В поисках новой театральной формы, адекватной Октябрю, Маяковский обратился к традициям народного театра. Возможно, что самый замысел «Мистерии-буфф» был связан с идеей политического обозрения в форме большого народного спектакля, который по инициативе М. Горького Петроградский Народный дом начал готовить летом 1917 г.
«В самом начале сезона, осенью 1917 г., — вспоминает организатор народных зрелищ А. Я. Алексеев-Яковлев, — М. Ф. Андреева сообщила, что имеется в виду подходящий автор, молодой поэт, который согласился написать текст такого политического обозрения. Автор этот, как было подчеркнуто М. Ф. Андреевой, между прочим, весьма интересуется феериями, феерическим жанром, различными волшебствами и иллюзиями в театре.
Несколько дней спустя, в погожее осеннее утро, когда я сидел у распахнутого окна в декорационной Народного дома и, перепачканный краской и клеем, мастерил макет так называемой «сцены в аду», ко мне привели из конторы рекомендованного нам автора, молодого человека высокого роста, назвавшегося Владимиром Владимировичем.
Наш разговор завязался тут же у макета, который привлек внимание, развеселил моего несколько хмурого поначалу собеседника».
И вот то, что привлекло внимание Маяковского.
«Это был макет «сцены в аду», где по старой традиции изображался огромный, почти во всю ширину сценического задника, по пояс обнаженный, ногами как бы вросший в землю пузатый сатана. .. Из пасти выскакивали чертенята в красных трико, с рогами па голове и трезубцами в руках... Эта «сцена в аду», выражаясь театральным языком, «ходила» в целом ряде арлекинад и феерий, ставившихся «под горами» на народных гуляньях... Некоторое время спустя В. В. Маяковский ознакомил нас со схемой действия задуманного обозрения, которое затем, пройдя через 160
ряд изменений, так сказать, в окончательной редакции вылилось в его восхитительную «Мистерию-буфф» 5.
Создавая вторую редакцию своей пьесы, Маяковский добивался острой политической злободневности и доходчивости содержания. Эти задачи органически сближали его с народным театром, с традициями площадных зрелищ и постановок народных балаганов.
«Драматическое искусство родилось на площади —для народного увеселения... С площадей, ярманки (вольность мистерий) Расин переносит ее во двор»6, — писал Пушкин в своих заметках о народной драме. Оставив площадь и будучи перенесена в чертоги по требованию избранного общества, драма, как указывал Пушкин, оставила и «язык общепонятный» и приняла «наречие модное».
Пушкинское выражение «вольность мистерий» может быть отнесено и к «Мистерии-буфф».
Уклон Маяковского к принципам народного зрелища — кукольного театра — отметил один из журналистов-иностранцев, автор статьи в берлинском журнале «Ди акцьон», присутствовавший на чтении Маяковским «Мистерии-буфф» в 1919 г. в Москве:
«Она изображает мировую революцию в виде легендарного события, подобного потопу. Как в кукольном театре, перед зрителями проходит Европа и исчезает в пучине» 7’.
Очевидно, что к принципам народного театра Маяковский и Мейерхольд подходили с разных сторон. Тем не менее художественные пути Маяковского и Мейерхольда здесь пересеклись. При всей романтической увлеченности Мейерхольда Октябрьской революцией и ее великими идеями для режиссера «Мистерии-буфф» новая беспримерная действительность в значительной степени была лишь поводом для художественного эксперимента. И не только поводом, а и небывалой возможностью новых художественных исканий. В отличие от других представителей старой художественной интеллигенции Мейерхольд не только не испугался за судьбу искусства в революции, а, напротив, сразу почувствовал, какие возможности для искусства таились в победе Октября. И, может быто>, именно это последнее обстоятельство способствовало тому, что Мейерхольд этим своим путем сразу пошел за большевиками и создал в дальнейшем ряд спектаклей, без которых нельзя себе представить историю советского театра.
В постановке пьесы Маяковского Мейерхольда занимала задача чистой зрелищности; идейный пафос пьесы волновал его, возбуждая воображение театрального экспериментатора. В этом направлении выдумка режиссера была исключительно богата — и это увлекало Маяковского, но «биомеханика» забивала содержание пьесы настолько, что даже текст Маяковского трудно было расслышать. Недаром Мейерхольд провозгласил, что «слова в театре лишь узоры на канве движений». «Канва» из разного рода сногсшибательно-гротесковых трюков не могла удержать па себе
11 В. Перцов
161
«узоры» Маяковского, т. е. содержание революционной пьесы отодвигалось на задний план.
Если поэт предупреждал зрителя в Прологе:
Мы тоже покажем настоящую жизнь, но она в зрелище необычайнейшее театром превращена, —
то Мейерхольд из этой эстетической программы принимал прежде всего «зрелище необычайнейшее». «Зрелище необычайнейшее» должно было уводить зрителя из жизни в страну вымысла, в которой «зритель волнуется не сюжетом, а тем, каким способом проявляются вольные побуждения актера в единственном желании его царить на сценической площадке, самим им уготовленной, самим разукрашенной, самим освещенной, царить, восхищаясь выдумками, для самого себя неожиданными».
Это положение Мейерхольд высказывал в статье 1916 г., но оно же в значительной степени руководило им и в работе над пьесой Маяковского в начале 1921 г. Стремясь к «чистой зрелищности», Мейерхольд в какой-то мере ослаблял содержание пьесы. Но, конечно, он был не в силах «преодолеть» содержание. Подчиняясь правде жизни, Мейерхольд, как всякий настоящий художник, создавал необычайно выразительные приемы и образы, в которых, как в увеличительном стекле, преломлялась новая, революционная действительность. Не всегда легко было отделить эту плодотворную выдумку, питаемую самой жизнью, от самодельного эксперимента, но именно в том, что продиктовано было жизнью, в осознанном стремлении по-новому претворить принципы народного театра и заключалась объективная основа творческого тяготения Маяковского к Мейерхольду.
Маяковский основательно поработал над текстом первой редакции «Мистерии-буфф» и внес такие изменения и дополнения в содержание пьесы, которые делали ее «сегодняшней, сиюминутной».
В особенности усилил поэт политическую конкретность своих сатирических ударов, ввел новое, 5-е действие, где «нечистые» в «стране обломков» побеждают разруху и только после этого попадают в царство коммуны; уточнил речевые характеристики, добиваясь соответствия их внутренней сущности образа.
Теперь мотив созидательного труда получил в пьесе более полное и определяющее звучание. Поэт устранил наивную аллегорию, в которой Кузнец на наковальне выправлял «стальные» тела «нечистых», закаляя их в борьбе. Вместо этой аллегорической сцены возникло заново написанное 5-е действие — «Страна обломков», отражавшее те реальные хозяйственные трудности, которые приходилось преодолевать Советскому государству в первые годы своего существования. Е. Наумов — автор работы, посвященной пьесе Маяковского, убедительно показал, что на второй редакции
162
пьесы плодотворно сказался опыт работы Маяковского в Роста. «Француз» и «англичанин» первой редакции получили теперь реальные имена — Клемансо и Ллойд-Джордж8. Введен был и новый персонаж — Соглашатель, произносивший речи, которые в 1921 г. еще можно было слышать на заседаниях Советов:
Послушайте, я не могу!
Это все хорошо:
и коммуна и прочее. Но для этого же должны пройти века. Товарищи рабочие!
Согласитесь с чистыми, послушайте старого, опытного меньшевика!
Прочитав свою пьесу в новой редакции 30 января 1921 г., Маяковский встретил единодушную поддержку всех собравшихся на чтение в Театре РСФСР Первом и единственный протест против ее постановки из уст некоей обидевшейся на автора меньшевички.
В последнем акте второй редакции изображено, как в «страну обетованную», т. е. в социализм, пытается пролезть Купец; впервые Маяковский касается здесь темы нэпа, трактуя ее с глубокой верой в революционную перспективу: «Знайте меру! Надо же что-нибудь оставить и концессионеру», — говорит Купец, обращаясь к «нечистым». На это Кузнец возражает ему:
Убирайся!
Твоя окончена работа, ребятишкам на молочишко подработал. Знания у тебя хотели призанять — подучились, пора и честь знать.
(Выброшенный, вылетает купчина.)
Вторая редакция пьесы свидетельствовала об углублении реализма в методе Маяковского, о серьезном идейно-политическом росте поэта. Тем не менее вторая редакция имела значение своего рода авторской корректуры, развивая то художественное решение темы, которое уже в первой редакции представало во всей своей цельности и оригинальности. И если, например, «Человек просто» первой редакции превращался в «Человека будущего», речь которого более последовательна с идейной стороны, то нельзя не отметить, что из этой речи выпал чрезвычайно глубокий и содержательный образ, в котором «Человек просто» рекомендует себя в первой редакции, что он
душ человечьих искусный слесарь, каменотес сердец булыжников.
И*
163
В первой редакции есть неповторимая прелесть открытия, того, о чем Чернышевский сказал: «Первые случаи имеют исторический интерес».
Летом 1921 г. «Мистерия-буфф» была поставлена в честь Третьего конгресса Коммунистического Интернационала на немецком языке в переводе Риты Райт, работавшей вместе с Маяковским над Окнами Роста. Пьеса шла во второй редакции, но специально для этого спектакля Маяковский написал новые пролог и эпилог, обращенные непосредственно к представителям международного революционного пролетариата, и сатирическую сценку Соглашателя и «нечистых».
В числе делегатов конгресса, присутствовавших на спектакле, был вождь германского пролетариата Эрнст Тельман.
Характерно, что в прологе, объясняющем идейно-художественный пафос пьесы, в заключительных строках делается упор на ее сатирическое значение:
Равны революциям — взрывы пьес. Сатира, как стачка — за брюхо берет.
Товарищи актеры! Слова наперевес! Вперед!
*
«Революция должна состоять не в том, чтобы новый класс командовал, управлял при помощи старой государственной машины, а в том, чтобы он разбил эту машину и командовал, управлял при помощи новой машины...»9 — писал Ленин в книге «Государство и революция» — гениальном «предисловии» к Октябрьскому восстанию. Но вот революция победила в открытом бою, старая государственная машина была сломана. Создавать новую государственную машину надо было из людей новых — профессиональных революционеров, рабочих и крестьян, которые хотя и быстро усваивали навыки управления, но по-настоящему управлять государством еще не умели. Старые чиновники сначала саботировали, а потом испугались, — многие вернулись на свои места, продолжая саботаж уже в качестве совслужащих. Оценивая в 1922 г. работу советского государственного аппарата, Ленин считал это несчастьем, потому что сотни тысяч старых царских чиновников работали против нового строя — отчасти сознательно, отчасти бессознательно — и не только не учили новые кадры хорошему, но заражали их своими плохими привычками. Статьи и письма Ленина 1922 и 1923 гг. полны тоски и гнева, гнева против «совбюрократии», но и тоски, потому что в несла-164
женных действиях нового госаппарата Ленин видел тяжелое наследие старого. «Бюрократическая старина» сковывала движение Советской России вперед. В новых условиях, разумеется, зло от госаппарата не могло быть терпимо. Сочувствием к трудящимся продиктовано суровое требование Ленина, выраженное со свойственным ему оптимистическим юмором:
«Необходимо... действительно добиваться немедленного улучшения положения и облегчения судьбы тех несчастных граждан, кои вынуждены иметь дела с нашим никуда не годным советским аппаратом» 10.
Борьба с бюрократизмом требовала не только организационных мероприятий, но прежде всего воспитания, переделки людей, кадров. Если перед политиком эта задача выдвигала необходимость создания новых советских школ, рабочих факультетов и образцовых учреждений, чтобы подтягивать и проверять остальные, то для художника-сатирика задача была в том, чтобы травить негодное в образах, взятых из самой жизни. В 1919—1920 гг. А. М. Горький написал сатирический театральный сценарий «Работяга Словотёков». Уже в самом бичующем названии определялось лицо бюрократа, заменявшего дело словом, болтающего об «организации», коллегиальности, о том, что «мы все можем». Зарождение того же типа Словотёкова почувствовал и Маяковский, предупредив об этой беде в стихотворении конца 1918 г., где дан тот же образ оратора-«водолея»:
Отгородимся от бурь словесных молом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов — на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.
Маяковский чувствовал, что бюрократизм — такое зло, которое угрожает закреплению победы революции. Его античеловеческая сущность приходила в прямое столкновение с гуманизмом нового, социалистического общества. Так определилась для Маяковского одна из тем, которая прошла в дальнейшем через все его творчество.
Небольшое стихотворение «Прозаседавшиеся», ставшее знаменитым, оказалось одним из первых его сатирических обобщений крупного плана. На диспуте «Больные вопросы советской печати» в конце 1925 г. Маяковский рассказал о том, как появились «Прозаседавшиеся» в «Известиях»:
«Я лично ни разу не был допущен к Стеклову (тогдашнему редактору «Известий». — В. П.), и напечататься мне удалось только случайно, во время его отъезда, благодаря Литовскому. И только
165
МАЯКОВСКИЙ В РЕДАКЦИИ «ИЗВЕСТИЙ». 1923 г.
после того, как Ленин отметил меня, только тогда «Известия» стали меня печатать».
«Прозаседавшимся» — так, в дательном падеже, прямым обращением, посвящением было озаглавлено сатирическое стихотворение Маяковского при первом появлении его 5 марта 1922 г. на страницах «Известий». О. С. Литовский, бывший в то время секретарем «Известий», вспоминает, что Маяковский выдвинул по своей инициативе тему и принес стихотворение в редакцию, хотя и знал, что Стеклов его, Маяковского, печатать не будет. Долг поэта, который для Маяковского был и долгом гражданина, обязывал его высказать свое негодование против бюрократов. «С волнения не уснешь», — писал поэт, заключая рассказ о фантастическом происшествии в некоем советском учреждении. Волнение сатирика было для Маяковского и лирическим волнением. Фантастическое же заключалось не столько в том, что «сидят людей половины», а в том, что это нисколько не удивляло секретаря:
«Зарезали!
Убили!» —
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
166
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать надо поспеть нам. Поневоле приходится разорваться! До пояса здесь, а остальное там».
Это было дело обыкновенное, привычное для секретаря, образ которого в зародыше предвосхищал героя драматургии Маяковского. По всему видно: то был Оптимистенко из «Бани» в своей ранней молодости.
«Наш быт» — под такой рубрикой было напечатано стихотворение Маяковского в «Известиях». Это усиливало его обобщающее значение. Сатирик был потрясен спокойствием секретаря. Нужно было принимать какие-то меры, чтобы взволновать «спокойнейшего» секретаря, и не только его, но и «товарища Ивана Ва-ныча», привыкшего к такой жизни: «до пояса здесь, а остальное там». Нужно было изменить то, что было обычным и стало «нашим бытом». Такая задача встала перед Маяковским-художником. Средством заострения образа и явилась для него фантасмагория, любимейший прием реалиста, умевшего разглядеть в слове просторечия образное зерно («не разорваться же мне...») и развернуть его в данном случае в «страшную картину», от которой «свихнулся разум».
По каким-то причинам Стеклова не было в редакции в день сдачи «Прозаседавшимся» в набор. Увидев на страницах своей газеты стихи Маяковского, редактор «Известий» пришел в негодование. О. С. Литовский вспоминает:
«... Как обычно, мне из секретариата подавали все восковки Роста, я же, в зависимости от их содержания, направлял их для обработки по отделам. Неожиданно — дело было уже к вечеру, и Стеклов собирался уходить, — мне на одной из восковок (так мы технически называли бюллетени информации Роста) бросилась в глаза фамилия Маяковского. Я перевернул страницу, чтобы взглянуть на заголовок: «Речь Ленина на фракции съезда металлистов». Ну, что ж, «В профсоюзный отдел», — написал я на уголке восковки. Но при чем же тут Маяковский? Тогда я прочитал весь бюллетень от буквы до буквы, можно сказать, изучил его, а то место, где Владимир Ильич хвалил стихотворение «Прозаседавшиеся», отчеркнул красным карандашом и через курьера отправил редактору.
Стеклов ушел из редакции, не сказав ни слова. Мы же, поклонники Маяковского, преимущественно молодежь, возбужденно обсуждали события, звонили Маяковскому, строили всевозможные планы» н.
167
Доклад В. И. Ленина 6 марта 1922 г. «О международном и внутреннем положении Советской республики» на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов был посвящен основным, коренным вопросам политики. По существу он предварял политический Отчет ЦК РКП (б), с которым Ленин выступил 27 марта 1922 г. на XI съезде партии.
В своей речи у металлистов Ленин использовал два литературных примера — образы «Прозаседавшихся» Маяковского и образ Обломова из классической русской литературы. При этом важно, что Ленин связал последний образ с первым для того, чтобы обрисовать тип советского работника, который не отвечает новым задачам. Вне связи образов «Прозаседавшихся» с образом Обломова нельзя правильно понять смысл обращения Ленина к стихотворению Маяковского. Нужно заметить, что еще до знакомства с этим стихотворением интерес Ленина к Маяковскому был возбужден одним обстоятельством, которое позволяет лучше понять некоторые оттенки в известном высказывании Ленина о поэте. В марте 1921 г. Владимир Ильич вместе с Надеждой Константиновной побывал во Вхутемасе в гостях у членов первой студенческой коммуны. В беседе несколько раз упоминалось имя Маяковского. Молодые художники наперебой декламировали любимые места из Маяковского и с увлечением доказывали достоинства «Мистерии-буфф». Ленин критически слушал восторженных поклонников таланта Маяковского. Но молодые его собеседники не могли не почувствовать теплоты в том, как Ленин сказал им, что Маяковский уже около года неплохо ведет Росту.
Участники этой беседы пишут в своих воспоминаниях, что они настоятельно просили Надежду Константиновну предупредить Владимира Ильича о том, когда пойдет «Мистерия-буфф», чтобы он смог непременно побывать в театре12. Н. К. Крупская так передает этот эпизод в своих воспоминаниях:
«Раз вечером захотелось Ильичу посмотреть, как живет коммуной молодежь. Решили нанести визит нашей вхутемасовке Варе Арманд. Было это, кажется, в день похорон Кропоткина, в 1921 г. Был это голодный год, но было много энтузиазма у молодежи. Спали они в коммуне чуть не на голых досках, хлеба у них не было, «зато у нас есть крупа», — с сияющим лицом заявил дежурный член коммуны вхутемасовец. Для Ильича сварили они из этой крупы важнецкую кашу, хотя и была она без соли. Ильич смотрел на молодежь, на сияющие лица молодых художников и художниц — их радость отражалась и у него на лице. Они показывали ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засыпали его вопросами. А он смеялся, уклонялся от ответов, на вопросы отвечал вопросами: «Что вы читаете? Пушкина читаете?» — «О нет, — выпалил кто-то, — он был ведь буржуй. Мы — Маяковского». Ильич улыбнулся. «По-моему — Пушкин лучше». После этого Ильич немного подобрел к Маяковскому. При этом имени
168
ему вспоминалась вхутемасовская молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за Советскую власть, не находящая слов на современном языке, чтобы выразить себя, и ищущая этого выражения в малопонятных стихах Маяковского. Позже Ильич похвалил однажды Маяковского за стихи, высмеивающие советский бюрократизм» 13.
В одной из своих статей о Ленине Луначарский, вспоминая, что «Прозаседавшиеся» понравились Владимиру Ильичу и «насмешили» его, пишет:
«Несомненно, если бы у Ленина было время ближе познакомиться с творчеством Маяковского, в особенности, с творчеством последних лет, свидетелем которого он уже не был, он бы в общем положительно оценил этого крупнейшего союзника коммунизма в поэзии» 14.
Возможно, что это так. В «Прозаседавшихся» все особенности стилевой манеры Маяковского — гротеск, гипербола, рифмовка и т. п. сохранены, являясь средствами усиления реалистической трактовки образа. В той же статье о Ленине Луначарский вспоминает, что «некоторые строки (из «Прозаседавшихся». — В. П.) он даже повторял». Стало быть, удовольствие от этого стихотворения было не чуждо и эстетического характера. Нельзя трактовать литературный вкус Ленина односторонне и полемически по отношению к Маяковскому, как это делали В. Полонский и Л. Соснов-ский. Н. К. Крупская рассказывает, что в бессонные ночи Ленин зачитывался Верхарном. Известно и свидетельство Горького в его воспоминаниях, о сочувственной характеристике Лениным «эксцентризма» в искусстве: «Замысловато, а — интересно!» 15
Естественно, что, отзываясь положительно о «Прозаседавшихся», Ленин не мог не учитывать того, что эта оценка могла показаться противоречием для тех, кто знал отрицательное отношение его к Маяковскому, еще недавно высказанное по поводу «150 000 000».
Вот что сказал Ленин в своей речи на съезде металлистов:
«Отступление кончилось, а в связи с этим и изменяется наша работа.
Нужно отметить, что у нас до сих пор замечается большая нервность, почти болезненность, при обсуждении этого вопроса; составляются всяческие планы и выносятся всякие решения. По этому поводу мне хочется привести следующее. Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно. Мы, дейст
169
вительно, находимся в положении людей, и надо сказать, что положение это очень глупое, которые все заседают, составляют комиссии, составляют планы — до бесконечности. Был такой тип русской жизни — Обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы. С тех пор прошло много времени. Россия проделала три революции, а все же Обломовы остались, так как Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и коммунист. Достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что старый Обломов остался и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел... Практическое исполнение декретов, которых у нас больше чем достаточно и которые мы печем с той торопливостью, которую изобразил Маяковский, не находит себе проверки»16.
Совершенно ясно, что Ленин видел в стихотворении Маяковского не просто призыв к сокращению количества заседаний. Ленин пользуется художественным обобщением поэта и толкует его широко и несколько неожиданно, устанавливая преемственность от того художественного обобщения, которое заключено в образе Обломова.
В стихотворении Маяковского проситель-горемыка рассказывал:
Исколесишь сто лестниц. Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
Покупка склянки чернил Губкооперативом».
Этот сатирический образ предвосхитил реальную практику. На XI съезде партии Ленин привел в качестве примера нашего неумения работать известный ему поучительный факт, как МПО (Московское Потребительское Общество) не могло договориться с Наркомвнешторгом о покупке консервов. Для решения этого вопроса был приведен в движение весь советский и партийный аппарат, хотя директива ЦК о желательности закупки продовольствия за границей была своевременно дана. Ленин издевался над тем, как 4700 ответственных работников решали и не могли решить вопроса о закупке консервов:
«Как это вышло, что в конце февраля я, приехав в Москву, нашел настоящий вопль, что «не можем купить консервов», в то время как пароход стоит в Либаве и консервы лежат там, и даже берут советские деньги за настоящие консервы! (Смех.)» 17.
Этот эпизод был как бы предсказан образом «Прозаседавшихся» у Маяковского.
170
Поэт был глубоко и радостно взволнован отзывом Ленина, поддержка которого пришла как нельзя более своевременно. Истолкование, которое получило стихотворение Маяковского в ленинской речи, утверждало действенное значение сатирической работы поэта, раскрывало ее обобщающую силу.
По-другому, очень узко пытались комментировать смысл отзыва Ленина некоторые участники литературного кружка, группировавшиеся вокруг Маяковского. О. Брик писал:
«Существенно в этом отзыве то, что тема о бесконечных заседаниях тысячу раз подымалась в газетах и в речах и что для Ленина она была отнюдь не нова. И все-таки, несмотря на это, он, прочитав стихотворение Маяковского на эту избитую тему, говорит: «Давно я не испытывал такого удовольствия». Значит, здесь дело не в теме, а в ее технической обработке, —от нее и удовольствие» 18.
Это верно, что высокое мастерство («обработка») помогло Маяковскому, способствовало выразительности образа. Но если бы дело сводилось только к «технической обработке темы», как утверждал Брик, т. е. к рифмованному пересказу газетных статей, то как можно было бы объяснить, что в ленинской мысли образы «Прозаседавшихся» породнились с образом Обломова? Формалисты не могли понять того, что самостоятельное образное мышление поэта, обобщая действительность и вторгаясь в нее, обогащало опыт гениального политика.
*
Маяковский любил газету. Если и в своей лирике он был поэтом эпического плана, издеваясь в поэме «Люблю» над теми, кто поприще лирика ограничивает «квартирным маленьким мириком», то газета открывала для него выход в мир. И подобно тому, как Большая аудитория Политехнического музея была для него своего рода мастерской, где художник работает, свободно развешивая свои холсты, так газета связывала Маяковского с большой аудиторией миллионов, без живого общения с которыми он не мог чувствовать себя поэтом.
Путь в газету открыл перед Маяковским отзыв Ленина.
В тех же воспоминаниях бывшего секретаря «Известий» читаем:
«На другой день я, как ни в чем не бывало, часа в 4 дня вошел в кабинет редактора для разметки очередного номера газеты. Когда мы закончили работу, я встал, чтобы уйти. И уже у дверей Стеклов остановил меня. Не глядя па меня, а устремив взор за окно, Стеклов сказал:
— Хорошо бы еще какие-нибудь стихи напечатать о борьбе с бюрократизмом.
171
Я ответил:
— Хорошо бы. Вот только кому заказать.
— Кому, по-вашему? — спросил редактор.
— Не знаю... — Я начал перечислять всех стихотворцев, которые печатались и не печатались в «Известиях», тщательно обходя Маяковского.
Стеклов молчал, но глаза у него были белые от бешенства: он понимал, что я издеваюсь над ним.
Наконец было названо имя Маяковского. За все время этой беседы и впоследствии Стеклов ничем, однако, не выразил своего отношения к напечатанным стихам Маяковского» 19.
До конца дней своих Маяковскому приходилось преодолевать сопротивление многих и разных противников.
В течение 1922 г. поэт опубликовал в «Известиях» 10 стихотворений, в 1923 г. он выступал на страницах «Известий» со стихотворениями и очерками более 20 раз. Все они — и очерки и стихи — были посвящены острым политическим вопросам и требовали от поэта огромного чутья реальной действительности, умения понять, как «изменяется гвоздь нашей внутренней политики», что особенно подчеркивал В. И. Ленин в том же докладе, где упомянул стихотворение Маяковского.
У Маяковского было и специальное выступление на острую тему о нэпе, оказавшуюся камнем преткновения для самых разных поэтов. 12 марта 1922 г. появилось второе стихотворение Маяковского в «Известиях», иронически озаглавленное так:
Спросили раз меня:
«Вы любите ли нэп?» —
«Люблю, — ответил я, — когда он не нелеп».
Ирония усиливается тем, что в ней есть и второй, литературный план, понятный для тех, в кого метит сатирик; заглавие перекликается с известной эпиграммой Козьмы Пруткова:
«Вы любите ли сыр?» — спросили раз ханжу.
«Люблю, — он отвечал, — я вкус в нем нахожу».
Образ человека, не желающего понимать, как изменяется гвоздь нашей внутренней политики, возникает, как видим, еще в «подтексте» заглавия. В стихотворении он выйдет на первый план. С первых же строк Маяковский, что называется, берет быка за рога:
Многие товарищи повесили нос.
— Бросьте, товарищи!
Очень не умно-с.
На арену!
С купцами сражаться иди!
Надо счетами бить учиться.
172
Положив в основу ленинскую мысль о том, что коммунисты должны учиться торговать, Маяковский ставит перед собой художественную задачу: показать, что хотя эта учеба и неприятна, но иного пути у нас нет. Не страшась тяжелого смысла сравнения, Маяковский напоминает, что за учебу купчина-самодур может «выкинуть коленце», — покуражится над нами в свое удовольствие в том самом кафе «Гротеск» на Тверской, которое стало излюбленным местом встреч «деловых людей».
Сегодня, изголодавшиеся сами, им открывая двери «Гротеска», знаем — всех нас горчицами, соусами смажут сначала: «НЭП» — дескать.
Вам не нравится с вымазанной рожей? И мне — тоже.
Не нравится-то не нравится, а черт их знает, как с ними справиться.
Резче, беспощаднее, чем в этой картине, нельзя сказать о необходимости учиться у купца. Но Маяковский поворачивает вопрос новой стороной: нэповская буржуазия преувеличивает свою силу, в жажде быстрого обогащения она занимается спекуляцией — учитесь распознавать ее действительную силу, на практике соревнуйтесь с ней:
Она — из мухи делает слона и после продает слоновую кость. Не нравится производство кости слонячей? Производи иначе!
А так сидеть и «благородно» мучиться — из этого ровно ничего не получится.
Стихотворение Маяковского — полемическое, оно направлено против тех, кто «благородно» мучится, кто «обижается» на нэп, вместо того чтобы взяться за то дело, к которому призывает партия.
Едва ли можно было к числу «обидевшихся» на нэп отнести Демьяна Бедного.
О настроении поэта, о его вере в победу пролетариата лучше всего могла бы сказать созданная им в 1922 г. значительная поэма «Главная улица».
173
Но иногда политическое чутье изменяло поэту, о чем как известно, не раз напоминал В. И. Ленин. В феврале 1922 г. Демьян Бедный выступил с целой серией стихотворных фельетонов о нэпе. В одном из них он изобразил жалобную сценку; памятник герою-большевику прослезился, увидев наглость нэпманов. В другом фельетоне, названном «ЭП!», поэт впадал в зали-хватски-отчаянный тон по поводу контрастов «роскоши и бедности» в нашей жизни, растерявшись перед решением вопроса:
Кто говорит: передышка,
Кто говорит: карачун.
Кто говорит: старой жизни отрыжка.
Кто говорит: новой жизни канун20.
Ответом на такие душераздирающие «благородные» сомнения и было суровое оптимистическое стихотворение «Спросили раз меня: «Вы любите ли нэп?»». Ничего не подкрашивая и сделав оговорку насчет «нелепостей», Маяковский отвечал: «Люблю».
Ответ был продиктован тем, к чему призывал коммунистов В. И. Ленин: «Не дадим себя во власть «социализму чувства» или старорусскому, полубарскому, полумужицкому, патриархальному настроению, коим свойственно безотчетное пренебрежение к торговле» 21.
Подобное «пренебрежение» выразилось и в стихах такого поэта, как Велемир Хлебников, который после Октября восторженно решил, что, наконец, пришло время осуществления его утопий.
Поворот к нэпу вызвал у него романтический разлад с действительностью. В «Известиях» 5 марта 1922 г. появилось стихотворение Хлебникова «Не шалить!», типичное по настроению для «социализма чувства»:
... Не затем высока
Воля правды у нас, В соболях-рысаках Чтоб катались, глумясь. Не затем у врага Кровь лилась по дешевке, Чтоб несли жемчуга Руки каждой торговки...
На такое красивое «благородное» негодование Маяковский весьма трезво замечал:
Вам не нравится с вымазанной рожей?
И мне — тоже...
Нельзя поддаваться безотчетному пренебрежению к торговле: во имя мировой революции «в мозг вбирай купцовский опыт!».
Выступая на XI съезде партии, Ленин вспомнил и поэтов:
174
«У нас даже поэты были, которые писали, что вот, мол, и голод и холод в Москве, тогда как раньше было чисто, красиво, теперь — торговля, спекуляция. У нас есть целый ряд таких поэтических произведений» 22.
Это было сказано 27 марта 1922 г. Какие стихи могли дать повод Ленину для такой характеристики типического явления в поэзии тех лет, могли попасть в этот период в поле зрения В. И. Ленина?
Стихотворение Хлебникова было напечатано, как мы говорили, в «Известиях» 5 марта 1922 г. Но в тот же день там появились «Прозаседавшиеся». Стихотворение Маяковского было помещено вверху, а внизу той же (второй) газетной полосы приютилось стихотворение Хлебникова. Естественно допустить, что, заинтересовавшись привлекшим его внимание стихотворением Маяковского, Владимир Ильич прочитал внизу газетной страницы и другое стихотворение, которое тоже привлекло его внимание, но уже по-другому. И если это было так, то можно предположить, что, высмеивая неприятие нэпа некоторыми поэтами — «теперь — торговля, спекуляция», Ленин включил в это обобщение и Хлебникова.
Демьян Бедный принял на свой счет сказанное Лениным о поэтах и 31 марта 1922 г., т. е. через четыре дня после выступления Ленина на съезде партии, напечатал в «Правде» стихотворение «Как надо читать поэтов», в котором пытался оправдаться:
А на съезде я проглотил дегтю ложку: я-де, нападая на НЭП, сделал оплошку. Но мне прощается провинность эта: что с меня взять, с поэта, которому написано на роду поглупеть в 1922 году?
«Поглупеть» перекликается со следующим замечанием В. И. Ленина в том же отчетном докладе на XI съезде партии: призывая коммунистов учиться делу, Ленин опять вспомнил некоторых поэтов в качестве отрицательного примера:
«Перестаньте умничать, рассуждать о нэпе, стихи пускай себе поэты пишут, на то они и поэты» 23.
Среди «умничающих» Ленин мог иметь в виду и поэтов Пролеткульта, деятельность которого вызывала у Владимира Ильича суровую критику. Поэты Пролеткульта стали писать ноющие стишки и «благородно» мучиться.
Знаю, жизнь гниет в мелочах, Все теперь мы во власти буден... —
писал В. Александровский в цикле стихов «Будни».
В этих поэтов метил и Маяковский в своих стихах о нэпе. Последние, как и «Прозаседавшиеся», поэт предложил «Изве-
175
стиям» по собственной инициативе. Потом последовал заказ редакции — написать что-нибудь «бюрократическое». Так возникла «Бюрократиада». Античеловеческая сущность бюрократизма отражена здесь в образе человека, подавленного бумагой, вытесненного, скомканного. Вот этот образ, развернутый в одном из позднейших стихотворений, Чсоторое было своего рода предостережением: '
Вижу
в будущем,—
не вымыслы мои:
рупоры бумаг
орут об этом громко нам, — будет за столом
бумага пить чаи, человечек под столом валяться скомканным.
*
Маяковский иронически относился к иным, особенно длинным передовицам «Известий». Чем длиннее, тем менее содержательны бывали они. «Стекловицы» — этот каламбур, как утверждают работавшие в то время в «Известиях», пошел от Маяковского. Во всяком случае именно в этом смысле помянут Стеклов в «Мелкой философии на глубоких местах» — стихотворении, написанном на пароходе по пути в Америку:
Есть
У воды своя пора: часы прилива, часы отлива. А у Стеклова вода не сходила с пера. Несправедливо.
Не скрывая своего иронического отношения к редактору «Известий» и не общаясь с ним, Маяковский любил бывать в редакции, где чувствовал себя, как дома. И его там любили. Как только он появлялся в коридоре (редакция «Известий» помещалась тогда на Тверской ул., 48, во дворе), все незанятые сотрудники вплоть до машинисток искали повода зайти в секретариат, 176
где поэт обычно располагался за одним из столов. Он являлся в редакцию, как на службу, едва ли не ежедневно. Здесь он проводил по нескольку часов, шутил с художниками и фельетонистами, подсказывая им темы для очередных работ. Ему недоставало коллектива, такого, как в Окнах Роста, которые он считал предками всех советских сатирических журналов. Ему нравилось быть включенным в общую работу, ощущать ее срочность, а стало быть, и нужность. У него был пафос государственного значения работы поэта. Биографически точный в своих стихах, он писал:
Люблю Кузнецкий
(простите грешного!), потом Петровку, потом Столешников;
по ним
в году раз сто или двести я хожу из «Известий»
и в «Известия».
Часто выступая на страницах «Известий», поэт гордился своим правом говорить от лица народа, подобно Демьяну Бедному, печатавшемуся в «Правде». «Мой отказ» — назвал поэт-правдист свое стихотворение в конце 1919 г. в «Правде», объясняя свое сомнение в успехе конференции на Принцевых островах, которую хотел собрать Вильсон. Весной 1922 г. на конференции в Генуе империалистические державы потребовали от Советского правительства уплаты всех царских долгов и возвращения иностранным владельцам национализированных предприятий. Советская делегация отвергла наглые притязания империалистов и внесла предложения о всеобщем разоружении и аннулировании всех военных долгов. Когда конференция подходила к концу, Демьян Бедный выступил на страницах «Правды» с эле-гически-ироническим стихотворением «Мой меморандум» — ответом на кабальный меморандум империалистов. Д. Бедный видел ответ в богатом урожае на полях свободной России Советов:
... Стукнули капли... Воспрянувши духом, Любо ловить мне глазами и слухом, Как облака к зеленеющим полосам Тянутся нитями разного цвета И громовым откликаются голосом На «меморандум» поэта!24
В разговор с империалистическими правительствами включился и Маяковский. В первые же дни работы конференции в Генуе,
12 В" Перцов
' 177
12 апреля 1922 г., Маяковский выступил в «Известиях» со стихотворением на эту тему:
Не мне российская делегация вверена.
Я —
самозванец на конференции Генуэзской.
Дипломатическую вежливость товарища Чичерина
дополню по-моему — просто и резко.
«Моя речь на Генуэзской конференции» вобрала в себя страдания русского народа в годы гражданской войны и его справедливый гнев на тех, кто помешал его свободному, мирному труду; в этой речи поэта-«самозванца» слышалась боль за голод в Поволжье, за мужицкое разорение — «хвост от ваших войн и блокад». По зову сердца выступает этот «самозванец на конференции Генуэзской», обрушивая на собравшихся господ негодование народа-победителя:
Долги наши,
каждый медный грош
считают «Матэны», считают «Таймсы». Считаться хотите? Давайте!
Что ж!
Посчитаемся!
О вздернутых Врангелем, о расстрелянном, о заколотом память на каждой крымской горе. Какими пудами какого золота оплатите это, господин Пуанкаре?
И дальше:
О вашем Колчаке — Урал спросите!
Зверством — аж горы вгонялись в дрожь.
Каким золотом —
хватит ли в Сити?! —
оплатите это, господин Ллойд-Джордж?
Если образ Демьяна Бедного —«мужика вредного» стоял за каждой строкой его поучительного стиха, то образ Владимира Маяковского «агитатора — горлана — главаря» и в то же время лирика впервые наметился па страницах «Известий» после счастливого дебюта, отмеченного Лепиным. Образ поэта входил в сердце парода не только произведениями, но и самой личностью.
178
«Маяковский издевается» — под этим названием поэт объеди« нил стихотворения, напечатанные в «Известиях и вышедшие отдельной книжкой в мае 1922 г. Это название перекликалось со словами Ленина: «В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают». Поэт придавал своей книжке значение принципиальное, подзаголовок указывал: «Первая книжица сатиры». Потом он дополнил ее стихотворениями, написанными в свое время для «Сатирикона», и, снабдив предисловием о значении сатиры, выпустил под названием: «Маяковский улыбается. Маяковский смеется. Маяковский издевается». Заслуживает внимания построение заглавия, в котором автор фигурирует как действующее лицо, как герой, в связи с чем отпадает необходимость в указании на обложке имени автора. Это имело принципиальное значение, подчеркивало самостоятельную, не сводящуюся к произведениям, популярность образа автора в народном сознании. Рецензент журнала «Печать и революция» И. Аксенов, выступавший раньше с оценкой «150 000 000», оказался в затруднении, его критическая заметка о «первой книжице сатиры» озаглавлена: «В. Маяковский. «Маяковский издевается»». Но это расходилось с тем, что значилось на обложке книги. Рецензия правильно отмечала роль личности поэта в «лиризме сатиры»: «... книжкавесьма значительное литературное явление. Значительность эта, во-первых, в исторически непреходящем интересе эпохи, которую она сатирически воспроизводит, а во-вторых, в самом характере поэтического сарказма. В противность заголовку личность автора нигде не является критерием его отношения к трактуемому предмету, при наличности лиризма сатиры — комбинация исторически весьма редкая, а в наши дни и принципиально ценная» 25.
«Комбинация исторически редкая» состояла в слиянии лирического героя поэзии Маяковского с образом поэта Маяковского — героя творимого эпоса революции.
Побывав в конце 1922 г. за границей, поэт привез из Берлина альбом сатирических рисунков художника Георга Гросса.
Шейдеман и Носке предали автора этого альбома суду. Суд присудил его к 500 маркам штрафа, за безнравственность альбом конфисковали. — «Я получил несколько экземпляров от автора. — рассказывал Маяковский.
На обложке — лицо дегенерата с сигарой в углу рта и надпись «Ессе homo» («Се человек»).
— Это страшный альбом, это — капитализм, — говорил поэт, передавая свой подарок О. С. Литовскому» 26.
Демократическая Германия высоко оценила рисунки-памфлеты Георга Гросса, в которых сквозь сатирически изображенное лицо буржуазной Веймарской республики художник как бы провидел свиную рожу гитлеризма. «Это самая страшная книга нашей
12*
179
эпохи. Германия пережила свой ад, по она обрела и своего Данте», — писала 26 ноября 1922 г. берлинская газета «Тагебух» об альбоме Гросса. В немецкой демократической сатире Маяковский находил черты, родственные своему разоблачению буржуазии. В декабре 1922 г. в немецком журнале «Югенд» был помещен рисунок, высмеивавший «свободное искусство» в буржуазном понимании. На рисунке изображен был заплывший жиром триллионер Конрад Бумке' за завтраком, а на дальнем плане знаменитые певцы Батистини, Шаляпин и Ядловкер хором исполняли утренний биржевой бюллетень. По предположению автора работы о Маяковском в Германии Б. Е. Чистовой27, поэт привез этот номер журнала из Берлина, откуда приведенный рисунок и попал в первый номер «Лефа» с такой подписью:
Не иллюстрация ли к «150 000 000» Маяковского?
Над ним склоненные
стоят его услужающих сонмы.
Георг Гросс ненавидел валютчиков и шиберов — Маяковский ненавидел нэпманов. Вскоре после возвращения из-за границы и окончания «Про это» он начал писать сатирическую поэму «Мандрилла» на тему о нэпе, которую читал на одном из вечеров в Политехническом музее. Поэма не была закончена и осталась неразысканной. По воспоминаниям К. Зелинского, сделавшего некоторые записи во время чтения поэмы Маяковским, она имела особенный успех в Политехническом музее:
«В стихотворении давалась замечательно яркая и резкая сатира на мещанскую жадность, стяжательство, пошлость. В уста нэп-манки Мандриллы Маяковский вложил такой романс, который начинался словами: «Черная биржа, да белый медведь». Эти слова Маяковский читал, слегка подпевая на мотив романса «Черные очи да белая грудь»: «Эх, черная биржа, да белый медведь». Какой-то юноша подал в тон Маяковскову реплику, когда тот немного приостановился: «Хочется плакать, да надо реветь». Маяковский это подхватил:
— Вот именно, товарищ. Черная биржа, да белый медведь, вам хочется плакать, а надо реветь» 28.
*
Весной 1921 г. у В. И. Ленина побывали многочисленные крестьянские делегации и отдельные ходоки из крестьян. Иных Ленин вызывал к себе сам «для совета по важным делам, касающимся крестьянства и крестьянского хозяйства», как указывалось, например, в телеграмме, посланной в Уфу, по которой
180
в Москву прибыли оттуда беспартийные крестьяне29. Другие приезжали к нему по собственной инициативе и всегда находили внимательный прием и уважительное отношение в Кремле.
Прошло только два-три месяца после окончания войны, а уже было подготовлено на основе учета крестьянских нужд историческое решение о замене разверстки продовольственным налогом. X съезд партии единодушно утвердил поворот от военного коммунизма к нэпу. Однако осуществление этого поворота встречало на практике немалые трудности. Положение в особенности ухудшал страшный голод в Поволжье. Для оказания помощи голодающим решено было закупить хлеб за границей. Советское правительство вынуждено было обратиться к такому источнику получения средств для этих закупок хлеба, как изъятие церковных ценностей, которое и было проведено в начале 1922 г. В связи с этим усилилась антисоветская деятельность кулацких элементов деревни и церковно-монархической контрреволюции.
Деревня, сохранившая еще во многом нетронутой темноту старой Руси, нуждалась в специальной массовой литературе и по вопросам восстановления крестьянского хозяйства и по общеполитическим вопросам, в частности о религиозных пережитках и суевериях. Нужно было использовать для этих задач и средства художественной агитации. В 1921—1922 гг. по указанию ЦК было организовано издательство «Красная новь», которое и привлекло Маяковского к агитационно-художественной работе. Она пришлась ему, видимо, очень по сердцу. В течение весны — осени 1922 г. им было написано 12 агитлубков против религиозных обрядов и суеверий. Они печатались в бюллетенях Прессбюро ЦК РКП (б) и рассылались на места для опубликования в крестьянских газетах. В 1923 г. в издательстве «Красная новь» вышли две книжки Маяковского — «Обряды» и «Ни знахарь, ни бог, ни слуги * бога нам не подмога», в которых были собраны его крестьянские лубки и притчи. Поэт сам сделал обложки для этих массовых изданий и снабдил книги остроумными и трогательными рисунками, сочетавшими приемы старинного лубка и детской книжки.
И эти произведения, написанные на заданную тему и для определенной аудитории, были естественным продолжением той большой сатирической работы, которая стала главной для Маяковского в условиях нэпа. Развивая сатирические принципы, найденные еще в Окнах Роста, эти антирелигиозные притчи были более высокой формой демократизации стиля: изощренная гибкость стиха Маяковского сливалась здесь с лукавым простодушием райка. Маяковский никогда не нагибался к своим слушателям, не сюсюкал. В этих агитлубках он сумел удержать и составную рифму, и сложный ритм, и свой гиперболизм,
♦ В другом издании: «ни ангелы бога».
181
и фантастику. В этих художественных особенностях поэзии Маяковского отчетливо выступила связь с фольклором, традициями народной поэзии. Сатирические лубки сыграли свою роль в формировании реалистического стиля Маяковского.
Очень серьезно и обстоятельно, с рассудительной усмешкой, обращенной к сердцу простого русского человека, Маяковский разобрал ряд случаев из крестьянской жизни, когда привычное, испокон веков установленное обращение к богу, к попам приносило прямой вред и разумным отношениям людей, и их здоровью, и хозяйству. Как в подписях к Окнам Роста, и здесь полное отсутствие суетливости, спокойствие, юмор и деловитость Маяковского-агитатора. Применяясь к уровню собеседника-крестьянина, но не подлаживаясь к нему, терпеливо проводит поэт свою разъяснительную работу. Вот названия серии агитлубков, среди которых есть образцовые для этого жанра: «Кому и на какой ляд целовательный обряд», «Крестить — это только попам рубли скрести», «Крестьяне, собственной выгоды ради, поймите — дело не в обряде», «От поминок и панихид у одних попов довольный вид», «От примет, кроме вреда, ничего нет». В последней притче поэт рассказывает историю некоего Ферапонта, который косил в поле, а в это время сын его подавился костью. Ферапонт бросился к фельдшеру, но по дороге увидел сначала попа, а потом похоронную процессию. И то и другое было нехорошей приметой. Ферапонт, чтобы избежать дурной встречи, предпочел пойти задними дворами, на что ушло время. Но вот, наконец, он подбежал к фельдшерской калитке:
Вдруг из-под калитки выбежал котище — черный, прыткий, как будто прыть лишь для этого берег.
Всю дорогу
Ферапонту
перебежал поперек.
Думает Ферапонт: «Черный кот хуже похорон и целого поповского собора.
Задам-ка я боковой ход — и перелезу забором».
1Ъ2
Забор за штаны схватил Ферапонта.
G полчаса повисел он там, пока отцепился.
Чуть не сутки ушли у Ферапонта на эти предрассудки. Ферапонт прихватил фельдшера, фельдшер — щипчик, бегут к подавившемуся ветра шибче.
Прибежали, а в избе вой и слеза — сын скончался полчаса назад.
В таких агитках большую роль играет юмор. Поэт вышучивает зло, делает смешным его носителя, откровенно вводя читателя в «кухню» своей гиперболы —
... Чуть не сутки у1йли у Ферапонта на эти предрассудки, —
и, не обижая, подрывает суеверие.
Другая книжка агитлубков собрана под названием-девизом «Ни знахарь, ни бог, ни ангелы бога — крестьянству не подмога». И опять Маяковский гвоздит в одну точку: «Прошение на имя бога — в засуху не подмога», «Ни знахарство, ни благодать бога —в болезни не подмога», «Товарищи крестьяне, вдумайтесь раз хоть — зачем крестьянину справлять пасху» и т. д. и т. п.
Последняя агитка — произведение огромной силы; слова, разоблачающие сказку о боге, заставляют вспомнить соответствующие места из его ранних произведений — трагедии «Владимир Маяковский» и «Флейта-позвоночник». Стоит их сопоставить:
Если вправду
был
Христос чадолюбивый, Если в небе
был всевидящий бог, —
почему
вам
помещики чесали гривы?
Если правда, что есть ты, боже, боже мой, если звезд ковер тобою выткан, если этой боли, ежедневно множимой, тобой ниспослана, господи, пытка
183
Почему давил помещичий сапог?
Если у Христа
не только волос долгий, но и ум
у Христа
всемогущий, — почему
допущен голод на Волге?
Чтобы вас
переселять в райские кущи?
судейскую цепь надень. Жди моего визита.
«Флейта-позвоночник», 1915
Почему
этот самый бог тройной
на войну
не послал вселюбящего Христа?
Почему истреблял крестьян войной, кровью крестьянские поля исхлестал?
Или Христу —
не до крестьянского рёва?
Христу дороже
спокойствие царёво?
Крестьяне
Христу молились веками, а война
не им остановлена, а большевиками.
Понятно —
пасха блюдется попами. Не зря обивают попы пороги, но вы
из сердца вырвите память, память об ихнем — злом боге.
А с неба на вой человечьей
орды
глядит обезумевший бог. «Владимир Маяковский», 1913
Он — бог, а кричит о жестокой расплате, а в ваших душонках поношенный вздошек.
Бросьте его! «Владимир Маяковский», 1913
Работа по антирелигиозной пропаганде не была для Маяковского случайным «заказом». Она диктовалась внутренней потребностью поэта и свидетельствовала о единстве разных жанров в его творчестве.
*
Мещанской власти вещей над человеком Маяковский хотел противопоставить новый, социалистический быт, где вещи, теша и радуя глаз, не порабощают своего владельца, не делают человека
184
своим слугой, где в самом удовлетворении элементарных потребностей, а не только в творчестве человек выражает и воспитывает в себе истинно человеческое. Эпоха военного коммунизма выработала в Маяковском ту исключительную скромность в личном быту, которую он опоэтизировал:
Мне
и рубля
не накопили строчки, краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И, кроме
свежевымытой сорочки, скажу по совести,
мне ничего не надо.
Быт в представлении Маяковского был силой косной, реакционной, потому что в практике мещанства заглушал инстинктом собственничества подлинно человеческое. Проникновенно и зло показан мещанский уют в «Про это»:
С матрацев вздымая постельные тряпки, клопы, приветствуя, подняли лапки.
Весь самовар рассиялся в лучики — хочет обнять в самоварные ручки. В точках от мух веночки с обоев венчают голову сами собою.
Взыграли туш ангелочки-горнисты, пророзовев из иконного глянца. Иисус, приподняв венок тернистый, любезно кланяется.
И далее следует «Маркс, впряженный в алую рамку...»
Если «Про это» было отрицанием «обывательской лямки» вещей, то реклама изделий советских государственных предприятий — Моссукна, Мосполиграфа, Резинотреста, Гума, Моссель-прома и многих) других была для Маяковского утверждением новой, социалистической материальной культуры, повышающей уровень жизни трудящихся. Если в «Про это» Маяковский издевался над тусклыми радостями — «Поесть, попить, попить, поесть...», то в рекламе Гума он деловит и восторжен:
Не уговариваем, но предупреждаем вас:
Голландское масло —
лучшее из масл.
185
Для салатов, соусов и прочих ед Лучшего масла не было и нет.
Эту рекламу он напечатал в сборнике лучших своих произведений 1922—1923 гг. рядом с «Про это» в качестве образца «помощи словом строительству коммуны». И впоследствии, во втором варианте автобиографии «Я сам», относящемся к 1928 г., убежденно повторил:
«Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме, как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации».
Пусть здесь был элемент полемики с эстетами, но в основе ее — стремление возвеличить творчество везде и во всем. Нэп не эпоха мелких дел, в поэзии нет мелких тем. Для революционера, для революционного поэта весь вопрос не в мелких или крупных делах, а в том, чтобы видеть великое в малом, чтобы все задачи, которые ставит жизнь, решать в свете ее движения вперед, в свете идеалов коммунизма. Маяковский написал рекламу для Резинотреста про детские соски:
Лучших сосок
не было и нет, —
Готов сосать
до старости лет.
Отвечая на обычные нападки «чистых лириков» (считавших, что Маяковский «разменивается»), поэт говорил:
«У меня есть стихотворение про соски «готов сосать до старости лет». Против этого были возражения, а я говорю, если до сих пор в деревне кормят грязной тряпкой ребятишек, то агитация за соски есть агитация за здоровую смену, за культуру».
Рекламу сосок Маяковский называет стихотворением — и это принципиально.
Любопытны воспоминания художника Адливанкина, делавшего рисунки для рекламных текстов Маяковского:
«Я немного стеснялся этих работ. Мне казалось, что они снижали меня как художника. Когда Владимир Владимирович замечал это, он страшно сердился:
— Позвольте, я заставлю вас подписать фамилию под этой оберткой. Уверяю вас, что она гораздо ценнее, чем все ваши произведения. Почему я могу подписываться под всеми стихами, которые я делаю для Моссельпрома и т. д., а вы, жрец искусства, считаете унизительным для себя такие работы и не можете снизойти до обслуживания широких масс? Эти обертки не менее, а более ценны, чем те картины, которые вы пишете для выставок» 30.
С увлечением отдавался он работе над рекламой, которую называл «хозяйственной агиткой». Поэт всегда выдвигал в этой работе
186
идейно-творческую задачу па первый плап. В записке об организации рекламы, поданной им в Мосполиграф осенью 1923 г., он подчеркивал:
«Реклама госорганов, конечно, должна носить главным образом агитационный характер, пропаганду выгоды для широких потребительских кругов именно государственной! промышленности. Но Мосполиграфу нужна и чистая реклама, т. к. именно в этой области имеется наличие некоторой нэповской конкуренции...» 31
Когда на одном из выступлений Маяковского в Политехническом музее, выступлений, прославленных сокрушительной полемикой поэта с оппозиционной частью аудитории, некий слушатель встретил его демагогическим приветствием «А, Моссельпром, Мос-сельпром!» —Маяковский, обращаясь к публике, сразил его юмористической догадкой:
— «Вы знаете, почему он против Моссельпрома? — Потому что у него папа частник...»
Художник А. М. Родченко, постоянный помощник поэта в этой работе, утверждает, что Маяковский как автор текстов к плакатам явился создателем первой советской рекламы, вытеснявшей «нэповские головки с цветочками и прочую мещанскую пошлятину». Маяковский работал над текстами с максимальной добросовестностью, вкладывая в них все свое остроумие, фантазию и задушевный лиризм советского поэта. Привлекательные образы вещей, которые пропагандировал Маяковский, живут в блестящих и метких «эпиграммах». Точно направленные, легко запоминавшиеся стихи о вещах не были чужды широких ассоциаций — социологии, эстетики.
В рекламных четверостишиях или двустишиях, которые становились пословицами, афоризмами житейской мудрости, Маяковский не забывал своей задачи агитатора. «Нами оставляются от старого мира только папиросы Ира». Или на конфетной обертке карамели «Красная Москва»:
Слушай, земля, голос Кремля.
Рекламный стих, используя форму частушки, возвеличивал советскую государственную промышленность:
Дождик, дождь, впустую льешь, я не выйду без галош.
С помощью Резинотреста мне везде сухое место.
Или — торжественно-иронический зазыв:
Нет места
сомненью
и думе —
187
все для женщины
только
в Гуме.
Маяковский имел основание назвать свою работу для рекламы «поэзией самой высокой квалификации». «Правда» в одной из своих заметок по вопросам быта поддержала Маяковского и Родченко, указав, что вкус массы формируется не только поэзией, но и каждым рисунком обоев и той же конфетной оберткой 32.
Задорные рекламные стихи Маяковского помогали вытеснению продукции частника. Афоризм «Нигде кроме...» стал девизом Моссельпрома, распластался, как вывеска, огромными синими буквами во весь рост здания Моссельпрома в Москве, у Арбатской площади.
Маяковский работал с необыкновенной быстротой. Требуя от художников своевременного выполнения плакатов на его тексты, он иногда доводил своих товарищей до полного изнеможения. Он испытывал удовлетворение, видя весь город в своих стихах, пропагандирующих хорошие, красивые нужные вещи, как мы бы теперь сказали — советские товары народного потребления. «Чего ради у нэпов покупать гроссбухи и тетради?» — задавал глубоко принципиальный вопрос плакат Маяковского. И отвечал:
Всю писчебумажность,
графленую и без граф, продает Мосполиграф
И, конечно, разумеется само собою, в Мосполиграфе
покупай обои.
Обои, как и прочая «писчебумажность» Мосполиграфа, — это была часть яркого, одухотворенного мира вещей коммуны, противопоставленного мертвому квартирному быту «Про это»:
Обои, стены блёкли...
блёкли...
Тонули в серых тонах офортовых.
Со стенки на город разросшийся
Бёклин
Москвой расставил «Остров мертвых».
Маяковский стремился помочь словом, т. е. для поэта — делом, укреплению Советского государства, в частности победе госторговли над частником, высмеивая элегические настроения тех, кто
188
«сидел и благородно мучился». Конечно, нельзя не видеть существенной поэтической разницы между лирической поэмой о любви и работой в области рекламы, работой особого характера и тем не менее в глазах Маяковского столь же принципиально идейной и поэтической. Нельзя поэтому и противопоставлять одно другому, снисходительно соглашаясь с общественно полезными «чудачествами» Маяковского в области рекламы. Только в единстве и взаимодействии всех жанров можно понять своеобразие Маяковского-художника.
*
В свою «первую книжицу сатиры» Маяковский включил и стихотворение «Моя речь на Генуэзской конференции». Это было единственное стихотворение на «внешнюю тему» среди тех, которые составили сборник «Маяковский издевается». Была ли, однако, «Моя речь...» сатирой? Ведь главное в ней были патетические обличения врага, в них не было ничего смешного, все вызывало лишь негодование. Да, но смешным и осмеиваемым было само положение, которое и разоблачал поэт-трибун:
Болтают язычишки газетных строк:
«Испытать их сначала...»
Хватили лишку!
Не вы на испытание даете срок — а мы на время даем передышку.
Вот в этом и заключалась сатирически обнажаемая суть положения, явно противоречащая внешней стороне дела и поведения организаторов Генуэзской конференции:
Слушай!
Министерская компанийка!
Нечего заплывшими глазками мерцать.
Сквозь фраки спокойные вижу — паника трясет лихорадкой ваши сердца.
Советский союз отверг притязания купцов, интересы которых были представлены в Генуе «министерской компанийкой». Капиталистические государства не успокоились и стали искать других способов прощупать прочность Советской власти. Пребывание за границей в конце 1922 г. дало возможность Маяковскому непосредственно увидеть, почувствовать активность буржуазного лагеря. После возвращения домой поэт начинает работать над сатирическими портретами тех, кто входил в состав «министерской компанийки» или имел то или иное отношение к ней: Пуанкаре, Муссолини, Керзона, Пилсудского, Стиннеса, Вандервельде, Гом-
189
перса. Эти политические портреты заправил буржуазного мира образовали цикл и были собраны в книжку «Маяковская галерея», которая вышла в середине 1923 г. С беспощадным сарказмом обнажает сатирик политическую сущность «тех, кого я никогда не видел», как предупреждает автор в подзаголовке. Галерея политических памфлетов и рисунков недаром названа «Маяковской»: она преисполнена ненависти к врагу. В «примечаниях», заключающих портреты, автор заостряет их сатирический характер:
Примечание.
Не очень ли
портрет выглядит подленько?
Пожалуй, но все же не подлей подлинника.
Так завершается портрет Пилсудского.
Подзаголовок «галереи» — «Те, кого я никогда не видел» — не просто раешная шутка. Это указание на эстетические принципы, с помощью которых автор хочет добиться так называемого «портретного сходства». Обращаясь к Пуанкаре, он говорит:
Мусье!
Нам
ваш необходим портрет.
На фотографиях
ни капли сходства нет.
Мусье!
Вас
разница в деталях да не вгоняет в грусть.
Позируйте!
Дела?
Рисую наизусть.
Человеческий лик прикрывает античеловеческую сущность, а ее и хочет обнажить сатирик. Характерны в этом смысле рисунки Маяковского, которые иллюстрируют его же стихи: в этих иллюстрациях почти нет элементов быта, а между тем они живо индивидуализируют политическое лицо того или иного конкретного представителя или пособника международного империализма. Образ Стиннеса в рисунке представляет собой великолепную по остроумию мозаику экономических ценностей — вещей, из которых складывается неограниченная власть магната германской буржуазии. Рисунки к памфлету о «социалисте» Вандервельде, выступав
190
шем в качестве адвоката от II Интернационала на процессе эсеров, представляют реализованную гиперболу:
Очевидцы утверждают, божатся: — Верно! —
У Вандервельде язычище этакий, что его
развертывают, как в работе землемерной землемеры развертывают версты рулетки.
Высунет — и на 24 часа начинает чесать.
Раза два обернет языком здания заседания.
По мере того, как мысли растут, язык раскручивает за верстой версту.
За сто верст развернется, дотянется до Парижа, того лизнет, другого полижет.
Доберется до русской жизни — отравит слюну, ядовитою брызнет.
Как видно из этих примеров, в «Маяковской галерее» продолжены эстетические принципы изображения Вильсона в «150 000 000»:
Посмотришь вширь — йоркширом иоркшир! А длина — и не скажешь, какая длина, так далеко от ног голова удалена!
То ль заряжен чем, то ли с присвистом зуб,
191
что ни звук — бух пушки. Люди —мелочь одна, люди ходят внизу, под ним стоят, как избушки.
Характерно и то, что в заключении той части поэмы, где «главное действующее лицо — Вильсон», автор дает примечание, в котором формулирует эстетический принцип своего портрета:
Небольшое примечание:
Художники
Вильсонов, Ллойд-Джорджей, Клемансо рисуют — усатые, безусые рожи — и напрасно: все это одно и то же.
Есть, однако, и существенная разница в том, как эстетические принципы поэмы 1919—1920 гг. воплощены в сатирических портретах 1922—1923 гг. В последних Маяковский гораздо более конкретен и, обнажая «одно и то же» вражеское естество заправил буржуазного мира, он индивидуализирует образы их по «политике глядя»:
Что толку
в лординой морде нам?!
Лорда рисую по делам по лординым... —
объявляет он в портрете Керзона, который сопровождается язвительным рисунком, изображающим дипломата во фраке с кружком головы, но без лица; за ним следуют два толстых джентльмена, по-видимому, купцы:
Лысина двумя волосенками припомажена.
Лица не имеется: деталь, не важно.
192
Лицо
принимает, какое модно, какое английским купцам угодно.
Керзон — английский министр иностранных дел — был тогда в центре международной кампании против СССР. Так называемый «ультиматум Керзона» требовал разрешения рыбной ловли в Северных русских территориальных водах не в пределах 12 морских миль от берега, как это было установлено Советским правительством, а в пределах 3 миль. Британский тралер, нарушивший законную зону, был задержан и уведен в Мурманск советской охраной. Рисуя портрет Керзона, Маяковский говорит:
Самое удивительное
в Керзоне — аппетит.
Во что
умудряется
столько идти?
Заправляет
одних только мурманских осетров по тралеру
ежедневно
в желудок-ров.
В портрете Керзона Маяковский верен своему сатирическому принципу: отказываясь от изображения лица оригинала — «деталь, не важно», он чрезвычайно метко использует все детали и приемы провокационной политики Керзона для создания его образа. В заключительном «примечании» поэт говорит:
Можно
еще поописать
лик-то, да не люблю я
этих
международных
конфликтов.
Однако же и в том, что было «описано» Маяковским, содержалось немало такого, что своей правдивостью привело в бешенство «твердолобых». Лондонская газета «Морнинг пост» выступила против Маяковского. В «Трудовой копейке» была напечатана 5 сентября 1923 г. такая заметка:
«Керзон и Маяковский
Еще одна английская обида.
13 В. Перцов
193
Реакциойная английская газета «Морнинг йост» йырайсает протест против Маяковского за его стихотворение о Керзоне, напечатанное в журнале «Красная новь». Газета считает, что в своих стихах Маяковский клевещет на Керзона, и требует, чтобы английское правительство привлекло Маяковского и «Красную новь» к ответственности».
Маяковский упорно работал в области сатиры. Многие стихотворения, составившие «Маяковскую галерею», печатались в «Известиях». Одобрение Лениным «Прозаседавшихся» окрылило поэта. Вероятно, А. В. Луначарский рассказал Маяковскому и о том, что его стихотворение «очень насмешило Владимира Ильича, и некоторые строки он даже повторял». Если отзыв Ленина о «Прозаседавшихся» открыл перед Маяковским путь в большую политическую газету, то для внутреннего мира поэта этот отзыв стал огромным радостным потрясением, значение которого трудно переоценить. В одной из записных книжек 1922 г. есть отрывок, посвященный воображаемому разговору с Лениным. В этих черновых набросках можно уловить тон обращения Ленина к поэту — приветливо-одобрительный и критический в одно и то же время. Поэт почувствовал такую глубокую внутреннюю связь с вождем, которая не могла не отразиться на всем его дальнейшем развитии. Одобрение Ленина было, в частности, поддержкой сатирической работы Маяковского. «Из России нэповской будет Россия социалистическая», — провозгласил Ленин в своем последнем публичном выступлении на заседании Моссовета в конце 1922 г. Маяковский знал: в арсенале искусства одним из средств для достижения этой цели должна стать боевая сатира, воодушевленная уверенностью в победе России социалистической.
5
ПОЭМА «ПРО ЭТО»
Оживление буржуазного лагеря литературы в период нэпа. Замысел «Про это». Автобиографическая поэма «Люблю». Начало работы над поэмой «Про это». Отношение автора к героям поэмы. Типичные ошибки в трактовке вопроса о взаимоотношении образа и прототипа. Идеал автора «Про это». Недостатки поэмы. «Концепция любви» в лирике и драматургии Маяковского.
В середине 1922 г. Маяковский впервые написал свою «так называемую биографию» — «Я сам». В последней главке под рубрикой «22 г.» поэт говорил и о своих замыслах: «Задумано: о любви. Громадная поэма. В будущем году кончу».
Обещание оказалось точным: в феврале 1923 г. была закончена поэма «Про это» — одна из больших революционных поэм Маяковского.
В ней вопросы любви и семьи поставлены в свете единства личного и общего в эпоху строительства социализма. Непримиримый конфликт между старым и новым доведен здесь до предельной остроты. Поэма эта, во многом трагическая и кризисная, оказалась необходимым звеном в идейно-художественном развитии Маяковского.
Поэт вышел победоносно из кризиса и открыл себе путь к наиболее высокому периоду своего творчества.
Хотя поэма о Ленине задумана, по-видимому, сейчас же после окончания «Про это», но написана она отнюдь не «сейчас же». Между «Про это» и поэмой о Ленине — полтора года, но это такой по своему содержанию отрезок истории, который имел исключительное значение в идейно-политическом росте Маяковского, в углублении его марксистского мировоззрения. Болезнь и смерть Ленина обрушились тяжким ударом на партию, на советский народ, на честных людей всего мира.
После смерти Ленина трудящиеся Советского Союза еще теснее сплотились вокруг Коммунистической партии, умножили ее ряды ленинским призывом. Еще выше поднялась действенная роль партии и каждого коммуниста в жизни советского общества, выросла революционная активность масс. Скорбь их превратилась в силу.
13*
195
Именно об этом говорил Маяковский в своем лирическом признании: «Я счастлив, что я этой силы частица...». Однако смерть Ленина развязала в условиях нэпа активность враждебных элементов и внутри страны и за рубежом.
Сплотившись вокруг своего ЦК, партия нанесла поражение троцкистам, отстояла ленинское учение о возможности построения социализма в нашей стране и призвала советский народ к решению этой великой исторической задачи.
Весь этот сложный и грозный опыт истории был впитан Маяковским, прошел через его сердце и мозг. И к созданию своей поэмы он подошел далеко не с той непосредственностью, с какой, переживая первые скорбные вести об ухудшении здоровья В. И. Ленина, впервые начал обдумывать поэму о вожде пролетарской революции.
«Резкая тоска стала ясною, осознанною болью» — за этой фразой вступления к поэме о Ленине многие раздумья Маяковского-поэта, чья творческая жизнь была горением, и, значит, ее нужно мерить не на годы и месяцы, и даже не на дни, а на часы.
«.. .Сегодня 1 февраля, — записывал он в письме-дневнике 1923 г., в котором отмечал ход работы над поэмой «Про это». — Прошло 35 дней. Это по крайней мере часов 500 непрерывного думанья...» 1
Непрерывным горением был весь период работы над поэмой о Ленине, что и дало Маяковскому право сказать во вступлении к ней:
Время — начинаю про Ленина рассказ...
Поэма Маяковского о Ленине возникла «по мандату долга», выросла на почве опыта партии, претворявшей заветы Ленина без Ленина: из России нэповской сделать Россию социалистическую!
Как ни замкнута проблематика поэмы «Про это» вопросами личной судьбы героя по сравнению с тем произведением, в котором создан образ гениального основателя Коммунистической партии, но и в поэме о любви автора ведет та же страстная мечта: «Из России нэповской будет Россия социалистическая». В произведении о партии, о Ленине прямо определен идейно-нравственный критерий требовательности поэта к себе:
Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше...
В «Про это» еще не прояснен этот высокий нравственный критерий, но провозглашена борьба против всего, «что в нас ушед-196
шим рабьим вбито», заявлено высокое право поэта-революционера:
знаю — достоин лежать я с легшими под красным флагом.
Нельзя «плыть в революцию дальше», если и в любви не подняться на высоту того идеала, который озарен учением Ленина: плыть в революцию можно быстрее при попутном ветре всех человеческих чувств. Нужно отстоять чистоту личных отношений от «грязных ракушек», от захлестывающей «любовную лодку» нэповской мути. Отношения людей в браке, в семье не безразличны для социалистического общества, они затрагивают его честь и достоинство.
Пусть читатель вспомнит то место «Коммунистического манифеста», где его великие авторы предупреждали: буржуазные идеологи будут пытаться оплевать идеалы социализма, изображая «высокоморальный ужас».
«.. .вы, коммунисты, хотите ввести общность жен, — кричит нам хором вся буржуазия.
Буржуа смотрит на свою жену как на простое орудие производства. Он слышит, что орудия производства предполагается предоставить в общее пользование, и, конечно, не может отрешиться от мысли, что и женщин постигнет та же участь.
Он даже и не подозревает, что речь идет как раз об устранении такого положения женщины, когда она является простым орудием производства... нет ничего смешнее высокоморального ужаса наших буржуа по поводу мнимой официальной общности жен у коммунистов. ..
Буржуазный брак является в действительности общностью жен» 2.
Буржуазный лагерь литературы, оживившийся в период нэпа, выразил свое лицемерие не в форме «высокоморального ужаса», а в форме якобы объективного признания исторической закономерности той «общности жен», как черты нового, которая — хочешь не хочешь — вытекает из новых свободных общественных отношений.
Печальную известность получил рассказ Бориса Пильняка «Иван да Марья», где провозвестницей «новой морали» выступала некая сотрудница Чека, романтическая бывшая княжна Орды-нина, ныне «коммунистка». Пильняк субъективно стремился выразить в своем произведении сочувствие революции, видя в ней торжество стихии, биологических инстинктов. Комический характер приобретала его полемик^ с Марксом, обывательски перекроенным на свой лад. Его любвеобильная героиня запуталась в своих отношениях с начальником штаба товарищем Черепом и писателем Тропаровым. «Я думала Карл Маркс сделал ошибку, —
197
говорила героиня Пильняка. — Он учел только голод физический. Он не учел другого двигателя мира: любви, любви как кровь, во имя деторождения, должно быть. Пол, семья, род — человечество не ошибалось, обоготворяя пол»3.
Неизвестно откуда выплыли на экраны кинотеатров картины, вроде «Рынка любви» или «Под обломками былых страстей»,— уцелевшие обломки дореволюционного кинематографа. Лабазник, экономически окрепший в период нэпа, пытался занять «идеологические высоты» во вновь открывшихся московских кабаре с хватающими за душу названиями «Не рыдай» и «Без стеснений».
В журнале «Молодая гвардия» появилась статья А. Коллонтай, которой явно не повезло в роли наставницы молодежи. Она требовала открыть «Дорогу Крылатому Эросу» (все это с большой буквы!), позаимствовав свою дешевую мифологию из траченного молью декадентского сундука, и, поучая своих молодых читателей, жаждавших ответа на «проклятые вопросы», совсем в духе Пильняка.
Отдельные выражения из «Коммунистического манифеста» были здесь странным образом переосмыслены в пользу Пильняка и против того, что в свое время вызывало негодование авторов «Коммунистического манифеста».
«Исключительность в любви, как и «всепоглощение» любовью — не могут быть идеалом любви, определяющим отношения между полами с точки зрения пролетарской идеологии. Наоборот, пролетариат, учитывая многогранность и многострунность «крылатого Эроса», не приходит от этого открытия в неописуемый ужас и моральное негодование, наподобие лицемерной морали буржуазии» 4.
На тему «Нового быта» получили возможность высказаться и некоторые ученые, голоса которых давно не было слышно. В № 1 журнала «Экономист» (1922) «аполитичный» социолог, несостояв-шаяся «восходящая звезда» российской буржуазной науки, бывший член Учредительного собрания от партии эсеров Питирим Сорокин доказывал, что в человеческом поведении факторы биологические преобладают над социальными, утверждал во всеоружии ученых статистических выкладок из истории Афин и Древнего Рима до наших дней, что «любовь и голод правят миром», что войны — империалистическая и гражданская — унесли лучших в России и, стало быть, для строительства социализма осталась одна «человеческая слякоть», что революция вызвала к жизни не героизм, а «растормозила» низменные инстинкты.
Недаром Питирима Сорокина вывел Пильняк героем одного из своих романов, сделав его выразителем своих взглядов.
В статье «О влиянии войны» П. Сорокин, подкрепляя версию зарубежных буржуазных клеветников о «национализации» женщин в Советской России, писал:
198
«На 10000 браков в Петрограде теперь приходится 92,2 разводов — цифра фантастическая...»
Приведя эту цитату из статьи П. Сорокина, Ленин заявлял:
«Если г. Сорокину 92 развода на 10 000 браков кажется цифрой фантастической, то остается предположить, что либо автор жил и воспитывался в каком-нибудь настолько загороженном от жизни монастыре, что в существование подобного монастыря едва кто-нибудь поверит, либо что этот автор искажает правду в угоду реакции и буржуазии. Всякий сколько-нибудь знакомый с общественными условиями в буржуазных странах человек знает, что фактическое число фактических разводов (конечно, не санкционированных церковью и законом) повсюду неизмеримо больше. Россия в этом отношении отличается от других стран только тем, что ее законы не освящают лицемерия и бесправного положения женщины и ее ребенка, а открыто и от имени государственной власти объявляют систематическую войну против всякого лицемерия и всякого бесправия» 5.
Этой отповеди буржуазному клеветнику Ленин уделил большое место в своей статье «О значении воинствующего материализма», призывая вести войну против подобных «образованных» пособников реакции.
«Вокруг проблемы быта» — так назывался обзор многих брошюр и статей, в которых обсуждались такие вопросы, как «От старой семьи к новой», «Семья и обрядность», «Любовь и ревность» и другие «вопросы-сфинксы», по выражению безымянного автора обзора в «Бюллетенях литературы и жизни» № 2 за 1923 г.
В поэме Маяковского «Про это» нетрудно увидеть отклик на эти вопросы, которые с особенной остротой встали в условиях нэпа. «По личным мотивам об общем быте» — так определил сам поэт свою задачу.
Но, конечно, нельзя понять ее значение как художественного произведения, если видеть в ней только «отклик» на личные обстоятельства в жизни поэта и на злобу дня текущей журналистики. Его поэма «Про это» была воинствующим утверждением большой любви против всякого лицемерия и всякого бесправия в отношениях между мужчиной и женщиной.
*
Маяковский предупредил читателя заблаговременно о том, что он задумал «громадную поэму» о любви. Однако в начале 1922 г. им была написана на ту же тему поэма «Люблю», сравнительно короткая. Можно сказать, что еще не просохли краски на последнем Окне Роста, сделанном Маяковским, как появилось это произведение на лирическую тему. Последняя почти полностью замерла в поэзии Маяковского в течение всей гражданской войны. В «При-
199
казе № 2 армии искусств», призывавшем поэтов и Художников активно включиться в мирное строительство, «чтобы вцволочь республику из грязи», лирическая тема тоже как бы ставилась под сомнение: «Кому это интересно».
Сразу же вслед за этим «Приказом», «нарушая» его, появилась поэма «Люблю». Она вся светилась чистотой нравственной, представляя ту трактовку темы любви, которую выдвигал социалистический лагерь литературы против опошления темы литературой буржуазной. Герой этой поэмы к тому же вовсе не «бедненький», речь шла в ней о счастливой любви. Поэт впервые рассказал в «Люблю» о своем юношеском участии в революционном движении:
Меня ж из 5-го вышибли класса. Пошли швырять в московские тюрьмы.
Зачем понадобилось это воспоминание юности? Затем, чтобы и эту деталь использовать для создания образа цельной любви, в которой человек участвует всем своим существом — общественным, нравственным, всем своим прошлым, настоящим и будущим.
В вашем квартирном маленьком мирике для спален растут кучерявые лирики. Что выищешь в этих болоночьих лириках?! Меня вот любить учили в Бутырках.
Предназначенных для спален «болоночьих лириков», которые в «квартирном маленьком мирике» видят все поприще любви, — вот кого имел в виду поэт, отвергая только такую постановку лирической темы в «Приказе № 2 армии искусств». В его поэме конкретизируется образ большой любви, включающей в себя весь мир с его жестокой классовой борьбой. «Мой университет» — так называет автор главку своей поэмы, где он признается:
Я жирных с детства привык ненавидеть, всегда себя за обед продавая.
И для любви тюрьма Бутырки — это «университет». 200
Большое чувство растет из слиянья поэта с жизнью. Поэт показывает такое «расширение сердца», когда в него входит все происходящее в мире:
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди — любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце — гудит повсеместно.
Доискиваясь глубокого смысла в простейших разговорных метафорах, Маяковский делает физически ощутимым образ большого сердца:
Распора не сдержат рёбровы дуги.
Грудная клетка трещала с натуги.
И вот человек с таким сердцем, в котором «громада любовь, громада ненависть», готов полюбить. Чудо любви, о котором Маяковский рассказывает весело, с юмором — опять-таки реализуя разговорную метафору «отдать», «взять сердце» — в том и состоит, что «Ты» —
взяла,
отобрала сердце и просто пошла играть — как девочка мячиком.
Освобождением от бремени сердца непосильной ноши и является любовь. Глубокой серьезностью, которую лишь усиливает общий шутливый тон, звучит заключительный «Вывод»:
Не смоют любовь ни ссоры, ни версты.
Продумана,
выверена, проверена.
Подъемля торжественно стих строкоперстый, клянусь — люблю неизменно и верно.
Эту свою лирическую декларацию Маяковский читал на вечере работников печати в Москве, а потом издал дважды — в Москве и в Риге, в то время столице буржуазной Латвии. Шпики охранки отмечали каждый шаг советского поэта, впервые оказавшегося за. границей и познавшего прелести буржуазной свободы печати. Префект города Риги запретил публичную лекцию, которую хотел
201
прочесть Маяковский. Поэма «Люблю», вышедшая в рижском издательстве «Арбейтерхейм» («Рабочий дом»), была конфискована и уничтожена полицией. В бульварной рижской газетке появилась по этому поводу заметка, где было сказано, что Маяковский напечатал книгу «Любовь Диониса», которую власти, стоявшие на страже общественной нравственности, конфисковали «за... эротику» 6.
О своих впечатлениях и выводах от посещения Риги Маяковский рассказал в сатирическом стихотворении «Как работает республика демократическая. Стихотворение опытное. Восторженнокритическое». Ироническое заглавие заострено против поклонников западной «демократии»:
Конечно, ни для кого не ново, что у демократов свобода слова. У нас цензура — разрешат или запретят.
Кому такие ужасы не претят?! А в Латвии свободно — печатай сколько угодно!
Кто не верит, убедитесь на моем личном примере. Напечатал «Люблю» — любовная лирика.
Вещь — безобиднее найдите в мире-ка!
А полиция хоть бы Что! Насчет репрессий вяло. Едва-едва через три дня арестовала.
Среди разнообразной работы, которую поэт развернул, эта тема, как будто столь «безобидная», не отпускала, не давала о себе забыть. В своих замыслах он постоянно возвращался к ней, подталкиваемый и общими и «личными мотивами». Особенно насыщенной оказалась вторая половина 1922 г. Поэт вторично выехал за границу, побывал в Берлине и Париже, много выступал там в различных аудиториях. Вернувшись в Москву, с блеском и глубиной рассказал в публичных лекциях о трагедии западного искусства, о том, «Что делает Берлин?», «Что делает Париж?» и о том, что гегемония и в области искусства переходит к Москве. Стремясь помочь словом строительству коммуны, взялся за агит-лубки для Прессбюро ЦК РКП (б) — «Вон самогон», «Ни знахарь, ни бог, ни ангелы бога крестьянству не подмога» и т. п. Об этих и других формах работы Маяковского речь уже отчасти была и еще будет дальше.
Сейчас достаточно — и необходимо! — назвать, упомянуть все эти многоразличные объекты приложения его творческой энергии, чтобы почувствовать, как пробивалась тема «Про это» сквозь 202
«груду дел, суматоху явлений» и насколько она оказалась неотложной для автора:
Эта тема пришла, остальные оттерла и одна безраздельно стала близка...
В последних числах декабря 1922 г. Маяковский начал работу над темой, что «ножом подступила к горлу». Поэт жил тогда на Лубянском проезде, в комнате, которая впоследствии, после переезда его в 1926 г. в новую квартиру на Таганке, была оставлена за ним в качестве его рабочего кабинета.
В первой главе «Про это» фиксируется реальный фон потрясающих переживаний героя поэмы, отправной пункт его фантастических путешествий: «Лубянский проезд. Водопьяный. Вид вот. Вот фон...»
Поэма была написана за письменным столом в отличие от обычного и привычного для Маяковского обдумывания своих вещей «на ходу», переделки стихов «в уме» и лишь занесения итогов этой работы или заготовок в записную книжку, откуда они переписывались начисто. Обстоятельства личного характера, те самые «личные мотивы», которые явились последним толчком к работе над поэмой, заставили Маяковского изменить обычный распорядок своей жизни. В течение полутора месяцев он сосредоточился на том, чтобы найти принципиальное решение «вопросов-сфинксов». Без этого решения просто нельзя было дальше жить. Правда, «выключение» из других дел и работ было относительное. В те же полтора месяца, что он «в комнатенку всажен», «перышком скрипел» над «Про это», поэт выступал в «Известиях» с целой серией стихов и очерков, по преимуществу связанных с его недавним пребыванием за границей, разрабатывал вместе со своими литературными друзьями и с работниками Агитотдела ЦК РКП (б) условия выпуска журнала «Леф», исполнял многочисленные задания Прессбюро ЦК.
Как можно было все это вместить в те немногие недели, когда создавалась «Про это» — непостижимо! Но поэт и сам удивлялся: «Я работал по 16 и по 20 часов в сутки буквально, я сделал столько, сколько никогда не делал и за полгода...» 7, — записывал он в дневнике-письме.
Рукописи «Про это» — первый черновой список и два варианта, перебеленные от руки поэтом, представляют большой интерес, вводя нас в мастерскую стиха Маяковского. Первый список написан карандашом и являет вид борения с хаосом, сковозь который, однако же, просвечивает ясный замысел. Страницы не нумерованы. Вторая и третья рукопись переписаны чернилами с нумерацией страниц. В рукописном фонде стихов Маяковского «Про
203
это» — единственное произведение, процесс работы над которым более или менее закреплен в последовательных вариантах.
Черновики с имеющимися в них разночтениями могут оказать некоторую помощь не только для понимания путей, которыми Маяковский добивался наибольшей выразительности художественной формы, но и для анализа содержания этой наиболее сложной из поэм Маяковского.
Известный художник-карикатурист Борис Ефимов, присутствовавший на первой читке поэмы в исполнении самого поэта, вспоминал со всей искренностью:
«Читал Маяковский с огромным темпераментом, выразительно, увлеченно.
Мощно звучал красивый голос поэта. Я слушал с напряженным вниманием, но скоро, к немалому своему огорчению, обнаружил, что сложный смысл стихов ускользает от меня, и содержание новой поэмы, во всяком случае, гораздо труднее для восприятия, чем ранее знакомые стихи Маяковского. Осторожно поглядывая на лица слушателей, я видел на них сосредоточенное, «понимающее» выражение, что еще больше смутило меня» 8.
Большое значение для приближения читателя к смыслу поэмы и пониманию особенностей ее стилистики имела замечательная статья Николая Асеева о работе Маяковского над поэмой, в которой «стих становится сжатым до точности мелькающей в мозгу мысли». Асеев сообщал в своей статье: «На пороге 1923 г. между Маяковским и ближайшими окружавшими его людьми была серьезная принципиальная размолвка. Дело в том, что революционные годы, круто оборвав все бытовые установки и привычки существовавшего общественного уклада, поставили вновь и наголо вопросы личного поведения, личного устройства своего быта».
• Сопоставляя разные варианты рукописей, поэт, друг Маяковского, проникновенно уловил в стилистике поэмы характер «галлюцинаций» ее героя, отражавших «кризис внутренней жизни Маяковского».
В те же годы Асеев обратил внимание и на то, что в поэме Маяковского о любви отдельные образы напоминают «Преступление и наказание» Достоевского. И в самом деле, например, строфа поэмы: «Вот так, убив, Раскольников пришел звонить в звонок», прямо восходит- к знаменитому месту романа, где Раскольников «взялся за колокольчик и дернул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук! Он дернул второй, третий раз; он вслушивался и припоминал...» 9
И у Маяковского герой припоминает у дверей любимой свои переживания.
Или другое сопоставление. У Маяковского:
Вечер зубцы стенные выкаймил.
На Иване я
204
Великом.
Вышки кремлевские пиками.
Руки крестом, крестом на вершине, ловлю равновесие, страшно машу.
У Достоевского в сцене разговора — допроса Раскольникова Порфирием Петровичем: «... Этак можно и горячку нажить, когда уж этакие поползновения нервы свои раздражать являются, по ночам в колокольчики ходить звонить да про кровь расспрашивать! Эту ведь я психологию-то изучил всю на практике-с. Этак ведь иногда человека из окна или с колокольни соскочить тянет, и ощущение-то такое соблазнительное» 10.
Конечно, ни о каком философском сближении этих произведений приведенные совпадения свидетельствовать не могут. Но совпадения эти знаменательны в том отношении, что говорят о таком накале эмоций героя Маяковского, который находит себе опору в образах Достоевского. Экспрессивность «Про это», иногда затемняющая смысл образа, идет от огромного накала эмоций.
Однако с самого же начала нужно условиться: из того факта, что поэма «Про это» автобиографична, конечно, не следует, что содержание образа определяется тем или иным прототипом. Известно, что даже автопортрет художника, являясь произведением портретной живописи, не может служить «удостоверением» его личности. Биографический комментарий не может быть инструментом для анализа, будучи сам объектом анализа. Иногда биографическая справка, объясняющая объективное значение факта или имени лица, вошедшего в состав образа, необходима. Иногда она бесполезна и только запутывает понимание образа.
В одном из биографических комментариев к «Про это» написано: «В комнате у Маяковского телефона не было; он им пользовался у хозяев по мере надобности». Между тем в соответствующей строфе поэмы сказано:
Он.
На столе телефон.
Из дальнейшего анализа увидим, что телефон оказывается деталью, к которой «прикреплено» проявление чувств и переживаний героя, это подчеркивается и названиями эпизодов: «По кабелю пущен номер», «Телефон бросается на всех» и др. Если в действительности в комнате у Маяковского телефона не было и он им пользовался у хозяев «по мере надобности», то какое отношение имеет этот факт к образу героя «Про это», к художественной реализации его поведения и ситуации?
205
Или другой пример. В одной из заключительных строф поэмы читаем:
Я люблю зверье.
Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
сплошная плешь, — из себя
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая, ешь!
К этому следует комментарий:
«Такая собачонка существовала в действительности. Маяковский зачастую покупал для нее хлеб в булочной» н.
Ну и что же? Разве та собачонка, для которой Маяковский покупал хлеб в булочной, проясняет что-нибудь в образе лирического героя, который не в булочной, а «из себя и то готов достать печенку»?
С таким же успехом к есенинским строчкам:
По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот —
следовало бы сделать комментарий, что такие ворота действительно существовали и, скажем, что они были тесовые.
Личные мотивы и обстоятельства жизни поэта, естественно, вошли как сырье, как материал в то образное мышление, которое привело к решению сложной идейной проблемы.
Элементы биографии входят в образ лирического героя. Но, конечно, несостоятельна попытка раскрывать образы поэмы на основе реальных фактов биографии поэта.
Черновики «Про это» свидетельствуют о том, что Маяковский долго бился над строфой, которая должна была определить его отношение, отношение автора к героям поэмы. Нужно было подчеркнуть объективное их бытие вне лирического сознания автора ««Он» и «она» баллада моя». Личное местоимение, взятое в кавычки, заменяет конкретное женское имя.
Поэт и лирический герой, наделенный некоторыми автобиографическими чертами Маяковского, теснейшим образом связаны, но лирический герой все же не сам поэт, не «биографический» Маяковский. В отдельных местах поэмы один образ почти накладывается на другой, чтобы затем решительно оттолкнуться:
«Он» и «она» баллада моя.
Не страшно нов я.
Страшно то,
что «он» — это я
и то, что «она» —
моя.
206
В черновиках, в последовательных наслоениях вариантов этой строфы повторяются слова «трагедия», «трагичен»:
Она и он трагедия моя.
Не темой трагичен я, трагичен тем, что он это я, она — это жизнь моя.
И следующий вариант:
О нем, о ней баллада моя;
не темой трагичен я,
трагичен тем, что он это я, а она — любовь моя.
Из окончательного варианта слово «трагичен» уходит, по-видимому, потому, что слишком привязывает все происходящее в поэме к «личным мотивам». Оценка положения, содержащаяся в этом слове, должна быть сделана кем-то со стороны. Слово, вычеркнутое автором, берем мы, чтобы характеризовать созданную Маяковским поэму и говорим: во многом она трагическая.
В черновиках есть еще одно слово, которое в окончательном тексте отсутствует,— «драма»: «При чем в этой драме тюрьма» и еще в другом варианте: «При чем в (балладной) балладовой драме тюрьма». От этого слова Маяковский избавляется в окончательном тексте, может быть, потому, что оно захватано и несколько опошляет тему, от решения которой зависит жизнь. Да — драма, да — трагичен, но лучше вначале прикрыть боль — иронией. От этого ирония и в самом приступе к поэме, во вступлении:
В этой теме, и личной и мелкой, перепетой не раз и не пять, я кружил поэтической белкой и хочу кружиться опять.
«Облако в штанах», «Человек» — в этих больших поэмах, созданных еще до Октябрьской революции, Маяковский «кружил» в той же теме, пробиваясь к выходу: «Долой вашу любовь!», что было неотделимо от «Долой ваш строй!» О любви была еще одна поэма—«Дон Жуан», написанная в 1916 г. и тогда же уничтоженная поэма12, если положиться на свидетельство современника.
Все это вспоминается при чтении «Про это». Ведь сам поэт на-щел нужным напомнить читателю о своем прежнем решении
207
темы, взяв эпиграф из «Человека» к первой главе поэмы.
Стоял — вспоминаю.
Был этот блеск.
И это тогда называлось Невою.
Неужели Маяковский будет перепевать прежнее решение темы в новых, советских условиях?
*
«Про это» открывается вступлением, отвечающим на вопрос «Про что — про это?». Формулировка вопроса, полудетская, полушутливая, бытовая, как бы смягчает напряженную патетику в ответе — определении темы. Затем идут две главы: «Баллада Рэ-дингской тюрьмы» и «Ночь под Рождество». Заключает поэму «Прошение на имя...», названное, как и вступление, полушутливо, и столь же, если не еще более, патетическое.
Встречая читателя во вступлении, поэт объясняет ему задачу, которую хочет решить в своей поэме. Выход из поэмы — заключение, выход в мечту — программа будущего, когда задача будет решена. Во вступлении и заключении лирический герой сливается с самим поэтом в страстном утверждении любви, какой она должна быть. Заслуживает внимания, что на обложке черновика, где написано оглавление поэмы, вступление называлось «Объяснительной запиской», а заключение — «Резолюцией». Эти «канцелярские» определения отделялись от глав и своей особой, не порядковой, а буквенной нумерацией: А — Объяснительная записка и Б — Резолюция. Это композиционное обрамление очень резко отличается от глав, составляющих собственно поэму, и своим ясным, четким стилем, не нуждающимся ни в каких пояснениях. Отличается так, как если бы автор, написав поэму и взглянув на свое творение, осознал, что в иной, менее сложной форме не может выразить своих потрясающих переживаний, передать очищающую схватку чувств, а потому и решил сам пояснить нарисованную им картину внутренней борьбы старого и нового в душе своей, для чего и предпослал картине «объяснительную записку», закрепив ее к тому же в конце «резолюцией».
В чем же перипетии той любовной драмы, которая развертывается в главах поэмы? Вот они в самом схематическом следовании событий ее фантастического сюжета. «Он» — герой в силу каких-то сложных отношений, остающихся за пределами поэмы, разлучен с любимой и чувствует себя в своей комнате, как в тюрьме. Телефон для него — соломинка для утопающего. Он узнает, что 208
она больна, и «страшнее пуль» то, что с ним не хотят говорить. Чувство «скребущейся ревности» превращает героя в медведя. Но «медведь» страдает, плачет. Слезы — вода. Эта ассоциация разрастается в образ реки. Начинается любовный бред-галлюцинация. Он на «льдине-подушке» плывет уже по Неве в прошлое и узнает себя в «человеке из-за 7-ми лет», тоже отвергнутом любимой. Со страниц поэмы раздается крик о помощи: «Спасите! Там на мосту, на Неве, человек!»
Герой плывет дальше, и под ним «остров растет подушечный». Остров разрастается в сушу, и вот он уже в Москве в том же облике медведя. Он обращается ко всем встречным с мольбой помочь тому человеку на мосту. Никто его не понимает. Он с ужасом убеждается в том, что и в нем самом, а не только в окружающих, не выкорчеваны пережитки прошлого. А в это время «человек из-за 7-ми лет» сам «прошагал» к герою поэмы и заявляет ему, что он готов один мучиться за всех, чья любовь опошлена мещанским бытом. В полубреду-полусне герой видит себя на колокольне Ивана Великого и снизу против него «идут дуэлянты». «Ты враг наш столетний. Один уж такой попался — гусар!» — издеваются над героем-поэтом обнаглевшие мещане, сравнивая его с Лермонтовым. Они расстреливают его «с сотни шагов, с десяти, с двух в упор — за зарядом заряд...» Страшен сон, но жив поэт-герой. Сущность его борьбы и возрожденья в том, что «на Кремле поэтовы клочья сияли по ветру красным флажком». Герой-победитель плывет на борту созвездия Большой Медведицы, горланя «стихи мирозданию в шум». Ковчег пристает к окну его комнаты, откуда началось его фантастическое путешествие. Герой сливается теперь с самим поэтом, раскрывает смысл всего происшедшего в заключительной «резолюции», или «Прошении на имя...».
Если композиционное обрамление поэмы, в котором как бы слышен голос ведущего, глубоко оптимистично, то в главах иная тональность — скорбная, негодующая и трагическая. «Про это» — поэма психологическая с ораторским обрамлением.
На особую тональность всего происходящего в поэме указывают названия глав, которые нельзя считать малозначительными, в особенности если учесть активную, нацеливающую роль заглавия в поэтическом арсенале Маяковского. Названия глав вызывают литературные ассоциации, достаточно определенные. Говорят, что «Баллада Рэдингской тюрьмы» — заглавие поэмы Оскара Уайльда, написанной в тюрьме, — взято Маяковским для названия первой главы поэмы по сходству с внешними обстоятельствами, в которых находился Маяковский: уединившись в своей комнате на Лубянском проезде, поэт работал над поэмой «Про это». Возможно, что это и сыграло свою роль, тем более что в самой поэме сказано: «тюрьма», хотя и «без решеток окошки домика». Однако сходства внещней обстановки все же недостаточно,
В. Перцов
2 09
чтобы понять смысл названия главы, заимствованного из широко известного произведения английского поэта. Нельзя ведь озаглавить повесть или главу повести из нашей советской жизни «Крей-церова соната» на том лишь основании, что герой повести слушает эту сонату Бетховена, не учитывая того, что такое название прежде всего вызовет у читателя мысль о трагедии любви и ревности, ставшей темой знаменитой толстовской повести. И в данном случае главное, конечно, в том, что «Баллада Рэдингской тюрьмы» — произведение о трагической любви:
Он не был больше в ярко-красном,
Вино и кровь он слил,
Рука в крови была, когда он
С умершей найден был,
Кого любил, и, ослепленный, В постели он убил.
В 1922 г., когда Маяковский задумывал свою поэму о любви, вышла во «Всемирной литературе» книга К. Чуковского об Оскаре Уайльде, где автор рассказал о том, что он получил в дар от друга английского поэта страницу рукописи «Баллады Рэдингской тюрьмы». Но и без этого живого напоминания все хорошо помнили произведение Уайльда. Конечно, и ситуация, и трактовка темы у Маяковского не похожи на балладу Уайльда. И тем не менее настраивающая, нацеливающая роль названия первой главы оправдывается перекличкой «Про это» с драмой прошлого. Это подкрепляется эпиграфом из собственной дооктябрьской поэмы Маяковского, эпиграфом-мостиком между настоящим и прошлым. Тема первой главы «Про это» — это тема трагедии, возможной и в наши дни:
Страшнее слов —
из древнейшей древности, где самку клыком добывали люди еще, — ползло
из шнура скребущейся ревности времен троглодитских тогдашнее чудище.
В этом эпизоде разговора по телефону герой не хочет, не может признаться самому себе и в том, что он отвергнут любимой, и в том, что он отвергает право женщины на свободу чувства. Для него встает вопрос об исключительности, выражающей высокую сущность любви, и о ревности как о низменном чувстве собственника, которое со времен давних было чувством и правом мужчины. Если высокие человеческие отношения проявляются в исключительности любви, то в оскорбленном чувстве собственника в любви герой осознает себя отброшенным к первобытному
существу «времей троглодитских», т. е. чуть йодалыпе «Баллады Рэдингской тюрьмы». О трагедии любви и ревности напоминает название первой главы.
Заглавие второй главы — «Ночь под Рождество» — почти гоголевское «Ночь перед Рождеством». Связь фантастического и реального у Гоголя, как и другие особенности его стиля, всегда были близки Маяковскому. «Фантастическая реальность» — так определяется в названии эпизода суть того, что происходит здесь с героем, который, подобно гоголевскому кузнецу Вакуле, легко отрывается от земли и летит над миром. В другом эпизоде «Ночи под Рождество» герой в облике медведя, вспоминая о «своих», т. е. реальных медведях, говорит у Маяковского так: «Их ведьма разве сыщет на венике», едва ли не повторяя гоголевский образ из «Ночи перед Рождеством»: «...вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле».
Само собой разумеется, что фантастическое в этом произведении Гоголя имеет другое назначение и действие, чем у Маяковского в «Про это». Но трудно представить себе, что, называя вторую главу своей поэмы «Ночь под Рождество», т. е. почти идентично («под» вместо «перед») знаменитой гоголевской повести, поэт не учитывал естественной литературной ассоциации и не желал этим воспользоваться, чтобы подчеркнуть стилевую особенность своего повествования — «фантастическую реальность».
Названия глав своими литературными ассоциациями предваряют некоторые особенности сюжета «Про это» — сюжета трагического и фантастического. Лихорадочный, захлебывающийся стиль повествования, ассоциативность образов, излишняя биографичность деталей мотивированы психологическим состоянием героя. Это все не на самом деле, все ему кажется. А в то же время это очень серьезно и по существу. Критика пережитков прошлого в самом себе принимает форму конкретную. Осудив себя за чувство ревности, сближающее человека с животным, герой говорит:
Красивый вид.
Товарищи!
Взвесьте!
В Париж гастролировать едущий летом поэт, почтенный сотрудник «Известий», царапает стул когтем из штиблета:
В первом черновом списке на полях рядом с этой строфой было: «в медведя свой трансформировал вид я». Эта строчка не вошла в окончательный текст, может быть, потому, что иноязычное «трансформировал» не ладилось в данном случае с русским «медведь». Кроме того, «трансформировал» сухо передавало ре-
14*
211
зультат, а не показывало картинно процесс того изменения вида героя, которое двигало сюжет:
Вчера человек —
единым махом
клыками свой размедведил вид я!
Косматый.
Шерстью свисает рубаха.
Тоже туда ж?!
В телефоны бабахать?!
Дальше в черновике следует строчка «[Такому место] — моря ледовитые». В окончательном тексте она изменена на энергичное повелительное обращение героя к самому себе уже в качестве медведя:
К своим пошел!
В моря ледовитые!
Изменение формы по сравнению с описательностью строчки черновика продиктовано существенным оттенком содержания, выражающего самокритику героя, осуждение себя за чувство, недостойное человека.
Теперь читателю предлагается иметь дело с героем-медведем. В таком виде он и врывается в чью-то квартиру, где, оказывается, справляет рождество и веселится ненавистное ему нэповское мещанство. Обращаясь к этим испуганным и расчувствовавшимся партнерам и собутыльникам — помочь тому человеку на мосту, герой попадает явно не по адресу. «Бессмысленные просьбы» — так называет этот эпизод автор. Здесь героя подстерегает неожиданность, раскрывающая ему глаза на самого себя:
Но самое страшное: по росту, по коже одеждой, сама походка моя! — в одном узнал — близнецами похожи — себя самого — сам
я.
Действительно, трудно придумать казнь, страшнее той, какой Маяковский казнит здесь своего героя. «О дряни» — так назвал поэт в сатирическом стихотворении начала нэпа ту среду, с которой вошел в соприкосновение герой «Про это». Поэт не пожалел 212
тогда красок, чтобы предостеречь советских людей об опасности этого «мирного» врага:
Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина. И вылезло из-за спины РСФСР мурло мещанина.
Маяковский неустанно напоминал работникам культуры их долг — дать этому врагу внутреннему, прописанному не только на советской земле, но и в сознании советского человека, решительный отпор. Поэт говорил: «У нас неоднократно указывалось, что в то время, как по линии экономической и политической мы стоим на твердой почве, в области быта мы еще середка на половинку, чаще всего погрязли в самом старом мещанском быту».
В одном из эпизодов «Про это» внутренний конфликт героя с самим собой воплощен в «Пресненских миражах».
Бегу и вижу —
всем в виду кудринскими вышками себе навстречу
сам иду с подарками под мышками.
Если читатель понимает психологическое состояние героя, объявившего войну не на живот, а на смерть всему, «что в нас ушедшим рабьим вбито», то он принимает как должное разговор героя с самим собой в прошлом, например с «человеком из-за 7-ми лет», или в настоящем, хотя бы с тем же «близнецом» в мещанской квартире. Это не «двойники» Маяковского — ошибка столь же распространенная, как и та, которая трактует образ героя поэмы «Про это» как биографический образ самого поэта. «Двойник» — это хлесткое словцо прельстило А. В. Луначарского, словцо это потянуло за собой совершенно неверное толкование «Про это»:
«Маяковский больше всего боялся своего двойника, который ходил за его спиной, за его плечами... боялся и не любил... призрачную личность, которая на самом деле не ходит за плечами, а живет в вас самих в виде подсознательной, полусознательной дополнительной личности» 13.
Это красноречивое описание не имеет никакого отношения к поэме Маяковского. Никакого «двойника» в «Про это» нет. В поэме участвуют много лиц. В центре — многоликий, но единый образ главного героя, единый в своей борьбе с пережитками прошлого в себе, многоликий, потому что таков фантастический
213
прием, помогающий эмоционально воспринять эту борьбу, образнд воплощающий ее напряженность и сложность. «Человек из-за 7-ми лет», герой «Ночи под Рождество», сам поэт — все это лики одного героя, разные этапы его развития и становления. Мы можем говорить о каждом из этих образов в отдельности, лишь условно «расщепляя» их единство и извлекая их из «неделимой» поэтической ткани такого сложного произведения, как поэма «Про это». Нужно правильно понять смысл приема и не смешать его со смыслом всего произведения в целом, идея которого в конфликте старого с новым, в победе нового над старым.
Да, это конфликт мучительный, и победа нового не проста и не легка. Но это борьба, а не раздвоение.
Типизация у Маяковского — активное обобщение, активное в том смысле, что автор стремится изменить жизнь. Известен случай, когда в образе одного из героев сатирической комедии Маяковского «Клоп» узнал себя некий гражданин и, признав себя прототипом, заявил об этом с негодованием через газету, протестуя против сходства фамилии героя с его фамилией. Маяковский ему ответил, что он вовсе не держится за данную фамилию и мог бы ее переиначить, но «Вы указываете на сходство других «откровенных параллелей» и «признаков». Тогда обстрел этих признаков сходства с антипатичным, но типичным персонажем становится уже «уважительным» «с точки зрения советской общественности», и если это так, то я оставлю моего «героя» в покое, и придется переменить фамилию вам».
Это не просто блистательно-полемический ответ, а глубокое и принципиальное замечание к вопросу о взаимоотношении образа и прототипа. «Медведь», «человек из-за 7-ми лет»-—это не двойники героя (и, конечно, не автора), а разные стороны в содержании его сознания, с которыми он вступает в конфликт, в борьбу. Слово «двойник» предполагает сходство, кажущееся тождеством, а здесь перед нами прямо противоположное — борьба героя с собственными недостатками, борьба с предрассудками, с пережитками прошлого. Да и в самой поэме вполне ясно дается понять, что все эти лики только фантастический прием в изображении героя, а сущность тут другая. Герой появляется на Тверской в облике медведя в ночь под рождество. Его и обзывают: «Ряженый!» И вот он говорит себе:
Ах!
Да ведь я медведь. Недоразуменье!
Надо —
прохожим, что я пе медведь, только вышел похожим.
214
Тот «человек из-за 7-ми лет», страдающий, как и нынешний герой Маяковского, от мук неразделенной любви, с надеждой говорит сегодняшнему человеку:
Постановленье неси исполкомово. Муку мою конфискуй, отмени.
Подобно тому как прежде в «Облаке в штанах» Маяковский обрушивал на капитализм свой крик «Долой вашу любовь!», теперь «Долой» обрушивается на нэповское мещанство. Но если прежде следом за этим раздавался крик «Долой ваш строй!» и в этом виделось спасенье и для любви, то теперь положение коренным образом изменилось. Вместе со своим героем Маяковский видит спасенье только в «нашем краснофлагом строе», веря в то, что его всемогущество распространяется и на область личных чувств и отношений: «Муку мою конфискуй, отмени». Но здесь препятствием встает все, что «в нас веками рабства вбито», что «оседало и осело ихним бытом», как это выражено в строчках черновика. «Постановленье исполкомово», «наш краснофлагий строй» сразу не могут выкорчевать то, что сложилось веками. В этом трагизм «Про это».
«Человек из-за 7-ми лет», медведь, близнец, увиденный героем в обывательской семейке, «сам я», идущий себе навстречу в «пресненских миражках», — все эти беспощадные признания говорят о мучительной борьбе старого с новым в душе героя, о непреклонной его решимости рассеять все миражи и призраки прошлого.
*
«Человек из-за 7-ми лет» надеется на то, что сегодняшние люди помогут ему не только потрму, что велик, справедлив и человечен наш «краснофлагий строй», но и потому, что любовь наших людей «пограндиознее онегинской любви». Большая любовь — не ищите ее в обществе господ капиталистов. Такая любовь может стать правилом в отношениях между мужчиной и женщиной только в том обществе, где подрывается основа для всяких побочных, экономических соображений, оказывающих еще и в настоящее время, и у нас, влияние на выбор супруга. Маяковский не принимал полулюбовь и мещанское «семейное счастье». Он ненавидел «любовь цыплячью, любвишку наседок», которая «приводит только к невыносимо скучному супружескому сожительству, которое называют семейным счастьем» (Энгельс) 14.
В этом смысл язвительного подозрения: «В их семейное счастье намереваешься пролезть петушком?!»
По своему замыслу «Про это» и было поэтическим манифестом революционной самокритики в области личных отношений. Эта
2J5
область далеко отстала от передовых общественных отношений советского строя. Отставание обнажил, обострил нэп. Частичное восстановление капитализма, хотя и временное, и в строго определенных рамках, давало все же узаконение развитию буржуазии и буржуазных экономических отношений. Нэп был нужен Советской власти, был ей полезен, он оказался необходимой «деталью» в ленинском плане построения социализма. В начале 1923 г. в статье «О нашей революции» Ленин писал, высмеивая шаблонное представление о путях развития революции у мелкобуржуазных демократов:
«Вот и мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже увидали такие детали развития (с точки зрения мировой истории это, несомненно, детали), как Брестский мир или нэп и т. п. И в настоящее время уже нет сомнений, что в основном мы одержали победу» 15.
Маяковский чувствовал себя и понимал это значение «детали», вложив в уста Владимира Ильича уменьшительно-презрительный неологизм «нэпчик»:
Коммуна — столетия,
что десять лет для ней?
Вперед — и в прошлом скроется нэпчик...
В «Про это» Маяковский ставил тему любви с прицелом на «коммуну-столетия». Не только по «личным мотивам» он заговорил о большой любви и заявил свой протест против обуржуази-вания семейных отношений. Этого требовали не преходящие обстоятельства «нэпчика», а задачи строительства коммунистического общества. При этом поэт опасался, что моменты, детали автобиографические и документальные, всегда свободно входящие в создаваемый им художественный образ, могут ограничить его обобщающий смысл и, будучи поняты буквально, даже могут обидеть живых людей, близких и дорогих ему. Так, с новой стороны мы возвращаемся к вопросу о соотношении фактов биографии поэта и содержания художественного образа в поэме «Про это». Герой поэмы приходит к родным на Пресню и уговаривает их сейчас же пойти вместе с ним и помочь человеку на мосту. Его не понимают.
— Володя,
родной, успокойся! — Но я им на этот семейственный писк голосков: — Так что яс?!
Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штопкой носков?
2|6
Этот эпйзод назван «Всехные родители», т. е. подчеркнуто, что речь идет не о чьей-то отдельной семье и не о семье самого поэта, которая жила тогда на Пресне, что совпадает с адресом автора поэмы.
Бегу.
Мозги шевелят адресами.
Во-первых,
на Пресню,
туда, по задворкам.
Тянет инстинктом семейная норка.
Деталь, прикрепляющая образ к биографии, могла ослабить его значение, и некоторые выражения все же могли показаться обидными. Во избежание этого поэт начинает следующий эпизод с прямого предупреждения:
Не вы —
не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьею засеяна.
Стремясь найти художественные средства для выражения идеи большой любви и страданий отвергнутого, Маяковский подчеркивает общезначимость переживаний героя. «Он» ждет ответа любимой, и вместе с ним ответа ее ждет весь мир:
Застыли докладчики всех заседаний, не могут закончить начатый жест...
... Будто в себя,
в меня смотрясь, ждали смертельной любви поединок.
«Громада любовь» в поэме «Люблю» была еще все-таки литературной гиперболой.
Маяковский сам указал ее происхождение, жалуясь на тяжесть «ноши» сердца:
Взбухаю стихов молоком
— и не вылиться;
некуда, кажется — полнится заново.
Я вытомлен лирикой — мира кормилица, гипербола прообраза Мопассанова.
«Прообраз» — из рассказа Мопассана «Идиллия», рассказа совсем не идиллического, а трагического, где крестьянку-кормилицу, изнемогавшую от напора молока, выручил встреченный ею в вагоне голодный безработный, которого она накормила грудью.
217
И подобно тому, как за идиллической картинкой, нарисованной сдержанным Мопассаном, скрывалось неблагополучие мира, так была заключена буря в игровой безмятежности «Люблю»:
Пришла — деловито, за рыком, за ростом, взглянув, разглядела просто мальчика. Взяла отобрала сердце и просто пошла играть — как девочка мячиком.
Оказалось, нельзя было «просто» играть сердцем, таким сердцем, в котором «громада любовь, громада ненависть». В «Про это» бушует буря, шторм в двенадцать баллов. Не шуточной была шутливая клятва: «Клянусь — люблю неизменно и верно!» Потревожено болью, уязвлено ревностью чувство любви исключительной— «Ее заменишь?! Некем!» И вот оно развертывает свою силу ураганную. Телефонной трубке доверяет поэт, как и в телефонном разговоре о «пожаре сердца» в «Облаке», самые сокровенные признания и тревоги своего современника. Назван заветный номер — и вот возникает романтический образ, выражающий необычайную силу чувства: волнение абонента передается в сеть, угрожает взорвать телефонную станцию:
...рвя
кабель,
номер пулей летел барышне.
Смотрел осовело барышнин глаз — под праздник работай за двух. Красная лампа опять зажглась. Позвонила!
Огонь потух.
И вдруг как по лампам пошло куролесить, вся сеть телефонная рвется на нити. — 67—10!
Соедините! В проулок! Скорей!
Водопьяному в тишь
218
Ух!
А то с электричеством станется — под рождество на воздух взлетишь со всей со своей телефонной станцией.
Какими средствами располагает лирик, чтобы передать читателю силу чувства любви, которая, как и вера, двигает горами? Чем можно измерить эту силу, если по соседству не имеется никаких гор и, собственно говоря, нечего двигать, кроме письменного стола с телефонным аппаратом и другой, прочей, ни в чем не повинной мебели скромного рабочего кабинета на Лубянском проезде? Если нужно изобразить не погоню за вероломным соперником, не скачку с препятствиями, не поступки самые смелые и необузданные, одним словом, не деятельность, а отсутствие деятельности, муку ожидания? Маяковский создает воображаемую сцену с подчеркнуто бытовыми подробностями, в которой телефонный кабель под Мясницкой (ныне ул. Кирова) превращается в бикфордов шнур от сердца героя к «ней» и к потомкам. Пусть судят они о силе любви, такой, какую люди раньше не знали:
Жил на Мясницкой один старожил.
Сто лет после этого жил — про это лишь — сто легг! — говаривал детям дед. — Было — суббота... под воскресенье...
Окорочок...
Хочу, чтоб дешево...
Как вдарит кто-то!..
Землетрясенье...
Ноге горячо...
Ходун — подошва!
Не верилось детям, чтоб так-то да там-то землетрясенье?
Зимой?
У почтамта?!
Это характерный прием в художественном методе Маяковского. Облюбовывая в слове образное зерно, фантазия поэта дает могущественный толчок для роста его, для превращения его в картину. В данном случае волнение героя разрослось и материализо
219
валось в землетрясение у почтамта. Маяковский впоследствии характеризовал этот «один из способов делания образа» как «создание фантастических событий — фактов, подчеркнутых гиперболой». Фантастическое событие на Мясницкой, о котором «говаривал детям дед» в течение целых ста лет и «про это лишь», т. е. только об этом и говорил — вот такое подчеркивание гиперболой потребовалось, чтобы передать реальную силу «землетрясения», т. е. силу любви человека советской эпохи.
Это сила не только личная, но и социальная. Она противостоит тому миру, где человеческие чувства мельчают, где поэты разучились писать о любви, где они заменяют поэзию любви воспеванием проституции, где, по выражению Фурье, как в грамматике два отрицания дают одно утверждение, так и в брачной морали две проституции сходят за одну добродетель.
*
В процессе работы над поэмой «Про это» Маяковский писал в своем дневнике-письме:
«Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела, и все пр. Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться во всем... Но если нет «деятельности», я мертв.
...Любовь не установишь никаким «должен», никаким «нельзя» — только свободным соревнованием со всем миром» 1б.
К этим очень глубоким мыслям автора поэмы его герой еще не подошел ни в «Балладе Рэдингской тюрьмы», ни в «Ночи под Рождество».
Против героя «Ночи» мещанство, то, которое «вылезло из-за спины РСФСР». Но у героя «Ночи» есть еще один враг — он сам, вернее, старое в нем. В этой войне на два фронта окончательная победа возможна, если оба врага будут повержены в прах. Как же поступает герой «Ночи»? Он недостаточно решителен, непоследователен в своей борьбе со старым. Человек на мосту переходит в наступление на героя «Ночи». Это наступление физически ощутимо в сильном образе «Шагание стиха». «Человеку из-за 7-ми лет» надоело стоять на мосту, и вот он пришел, как статуя командора, «пришел приказать», «пришел повелеть». Уже самые эти слова говорят о власти прошлого, которое может приказывать, может повелевать героем «Ночи». В поэме появляются мотивы пассивности и жертвенности, идущие от образа «человека из-за 7-ми лет»:
Семь лет стою,
буду и двести
220
стоять пригвожденный, этого ждущий.
У лет на мосту на презренье, на смех, земной любви искупителем значась, должен стоять, стою за всех, за всех расплачусь, за всех расплачусь.
«Семь лет стою, буду и двести» — поэт не надеется на решение проблемы в какой-то обозримый промежуток времени, он только ждет и надеется, а не действует. Разве это не трагическая гипербола?
Слабость этой философии знакома нам по дооктябрьским поэмам Маяковского с готовностью их лирического героя «пострадать за всех». Потрясенный империалистической войной, раздавленный горем, которое она несет людям, Маяковский пытался противопоставить тогда разоблаченному им виновнику войны — загнивающему капитализму — не силу организованных рабочим классом масс, а «покаяние» отдельных правдолюбов:
Вселенная расцветет еще, радостна, нова.
Чтоб не было бессмысленной лжи за ней, каюсь: я один виноват в растущем хрусте ломаемых жизней!
Теперь человек на мосту, «повелевая» герою «Ночи», правильно говорит о том, что проблему «про это» нельзя решить в порядке индивидуального «душеустройства»: «Что толку — тебе одному удалось бы?!», правильно видит перспективу, «чтоб всей мировой человечьей гущей». Но разве не звучит диссонансом вот эта нота безропотности, беззащитности — «за всех расплачусь, за всех расплачусь», так не идущая ко всему облику гордого, свободного человека Маяковского?
Герой «Ночи» не находит никаких слов в ответ на эту сильную тираду «проклятой фигуры с моста», как сказано в черновике о «человеке из-за 7-ми лет». Был еще и такой вариант: «ужасной фигуры с моста». В окончательный текст не вошла и строфа из эпизода «Всехные родители», которая подчеркивала разницу между настоящим и прошлым:
... я выдернул руку не трогай сестра.
221
Поэтовы штучки думаешь
Ленский
Второе облако пишет в штанах.
Сегодня я слиток силы вселенской Я дуб с корнями выверну вмах.
Не вошла в поэму эта строфа, которая могла быть ответом «человеку из-за 7-ми лет», может быть, потому, что она отождествляла героя «Ночи» с автором поэмы, слишком привязывала ее к «личным мотивам».
Во всяком случае, выслушав то, что «приказал» и «повелел» ему человек с моста, пришагавший в Москву, герой «Ночи» продолжает свои скитания и «бессмысленные просьбы» о спасении, хотя и трагически подсмеивается над собой в «Ротонде», «обсмеянный» не понимающими его современниками. Это слово возвращает нас к образу героя «Облака»: «Я обсмеянный у сегодняшнего племени».
Сажённый,
обсмеянный,
саженный, битый, в бульварах
ору через каски военщины:
— Под красное знамя!
Шагайте!
По быту!
Сквозь мозг мужчины!
Сквозь сердце женщины!
Герой «Ночи» призывает на борьбу с «бытом», т. е., конечно, «ихним», мещанским бытом, зовет «под красное знамя». Земля, на которую он высаживается во второй главе поэмы после своего воображаемого путешествия на льдине-подушке, предположительно названа им «любландия». Что это такое? Неужели это такая земля, где люди только «любят»? Не любовь для жизни, а жизнь для любви, воплощенная в образе человека на мосту, тянет к старому героя «Ночи».
Любовь, изолирующая человека от жизни, от мира, делает его слабым. Старое в любви связано с мещанством. По нэповскому мещанству — в этом главное направление удара поэмы Маяковского о любви. Обрушиваясь на этого «мирного» врага, герой «Ночи» выходит из замкнутого круга личных отношений на «оперативный простор» общественной деятельности и борьбы. В дальнейшем окажется, что только этот «кружной» путь от общего к личному, «всей мировой человечьей гущей», есть путь большой любви. И на этом пути герой «Ночи» сильно улучшает свои по-
222
зйЦии в преодолений «проклятой» или «ужасной» фигуры с моста.
Против героя «Про это» ополчаются заядлые собственники, люди без идеалов — «попить, поесть, и за 66», сторонники «искусства для искусства», пшики и дуэлянты — Дантесы и Мартыновы старого мира. Быт и нравы приобретателей были Маяковским изучены в подробностях, ненависть его к этому миру хорошо отстоялась, все лазейки, все ходы-выходы, которыми мещанское искусство всегда пыталось зайти с тыла строителям новой жизни, были им познаны. Тылом были личные отношения, так называемый «быт», любовь, унижаемая пошлостью. Из стихотворения «О дряни» перешла в поэму «Про это» деталь, характеризующая цриспособленчество мещанства, его цепкость, его стремление оформиться в быту «под» революцию. В стихотворении «О дряни» Маяковский писал:
На стенке Маркс.
Рамочка ала.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолка верещала оголтелая канареица. Маркс со стенки смотрел, смотрел... И вдруг разинул рот, да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните — чтоб коммунизм канарейками не был побит!»
В «Про это» герой врывается в мещанскую квартирку, где справляют рождество. «Все так и стоит столетья, как было», но вот — новость:
Маркс, впряженный в алую рамку, и то тащил обывательскую лямку ...
С презрением рисует Маяковский натюрморт собственнического уюта с его паутиной квартирной, с геранями в кадочках, с декадентским «Островом мертвых» Бёклина...
В зловещей мещанской рамке предстает в «Про это» образ героини. Этот образ не укладывается в свою рамку, разрывает ее. Человеческая любовь невозможна в мире приобретателей, как невозможны в нем красота и добро. Поэт бережно и твердо отделяет «ее» от ужасного соседства гостей-«воронов», от буржуазной обы
223
денщины, оглашаемой в Москве, равно как и в Париже, вздохами тустепа. «Только б не ты», — молит лирический герой, не желая отдавать любимый образ на съедение мещанству, льнущему к «ней» и предъявляющему на нее свои права:
— Смотри,
даже здесь, дорогая, стихами громя обыденщины жуть, имя любимое оберегая, тебя
в проклятьях моих обхожу.
Это лирическое обращение заставляет вспомнить иной, недобрый женский образ дооктябрьских поэм Маяковского и совсем иное отношение к нему «человека из-за 7-ми лет»:
Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая!
Герой «Про это» оберегает любимое имя — «тебя в проклятьях моих обхожу», — потому что для него это имя Любви с большой буквы, любви нового человека советской эпохи. В первом черновом списке вступления к поэме было: «Имя этой теме: любовь». В окончательном тексте слово «любовь» снято и заменено шестью точками. Поэт не захотел, не посмел выговорить слово сразу. И только после того, как лирический герой прошел через трагические испытания, поэт почувствовал себя вправе сказать во весь голос, назвать имя огромной темы всеми буквами.
В тринадцати строфах вступления «Про что — про это?» нагнетается давление темы, как давление пара в котле: выходом стала поэма. Маяковский излагает свой символ веры в потрясающих стихах о любви как силе созидательной:
Эта тема азбуку тронет разбегом —
Уж на что б, казалось, книга ясна? — и становится
- А —
недоступней Казбека.
Замутит, оттянет от хлеба и сна.
Это декларация силы личного чувства, сливающегося с переустройством всей жизни: вот почему эта тема «у негра вострит на хозяев нож», вот почему, вглядываясь в нее «идешь знаменосцем, красношелкий огонь над землей знаменя».
«Красношелкий огонь» — потому что в нем сила, разрушающая старое и создающая новое. Эта идея, высказанная во вступлении, освещает тяжелую борьбу нового со старым в душе героя и победоносно звучит в заключительном «Прошении на имя...».
224
«Большелобый тихий химик» будущего, к которому обращается поэт от имени людей века XX — «Не листай страницы! Воскреси!», не может не посчитаться с такой мотивировкой:
Я свое земное не дожил, на земле свое не долюбил.
«Ваш тридцатый век...» — вот «горы времени», которые нужно преодолеть, чтобы ушла из жизни «будничная чушь», чтобы стала бытом большая любовь. Не слишком ли далеко отодвигает поэт «коммунистическое далеко» в делах любви? Не слишком ли велик разрыв между настоящим и будущим в этой мечте? Нет. Люди будущего идут навстречу Маяковскому, черпая из его произведений силу и вдохновение для того, чтобы человеческие отношения, свободные от всякого лицемерия и всякого бесправия, стали основой и нормой в любви. В этом право поэта на «воскресение». Что же, сегодня еще не много таких, кто смог в любви «откинуть будничную чушь»; это люди новые, особенные, подобно тем, о которых в свое время писал Чернышевский в «Что делать?» — произведении, которое Маяковский любил и ценил. Великий советский поэт от лица «особенных» людей XX в. уверенно обращается к будущему:
Ваш
тридцатый век
обгонит стаи сердце раздиравших мелочей. Нынче недолюбленное
наверстаем звездностью бесчисленных ночей.
Нужно бороться за будущее, «втаскивать» будущее в настоящее — вот о чем говорит образ «тридцатого века». Это не календарная мера, а утверждение художественными средствами величия и трудности задачи. Пережитки прошлого крепко держатся в быту и последними уступают напору нового. В любви также решают, в конечном счете, объективная логика классовых отношений, наши экономические, материальные успехи в закреплении позиций социализма, наши перспективы и реальные шаги в переходе от социализма к коммунизму. «Ваш тридцатый век...» — говорит Маяковский, и этот образ рожден в его творчестве трезвым пониманием длительности процесса перестройки быта, осознанием зависимости этого процесса от быстроты развития высшей фазы коммунизма.
Что появится нового в отношении между мужчиной и женщиной после устранения капитализма? — задавал вопрос Ф. Энгельс и отвечал:
15 В. Перцов
225
«Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие средства социальной власти, и поколение женщин, которым никогда не придется отдаваться мужчине из-за каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, или отказываться отдаться любимому мужчине из боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они пошлют к черту все то, что им сегодня предписывают делать как должное; они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно этому свое общественное мнение о поступках каждого в отдельности, — и точка» 17.
Своим «Про это» Маяковский хотел помочь пролетарскому общественному мнению отстоять высокий идеал любви. «Прошение на имя...» обогатило советскую литературу замечательной поэтической программой будущего. Личное исключительное чувство было возвеличено как могучий фактор единения человека с человечеством, его родства со всем миром:
Чтоб не было любви — служанки замужеств, похоти, хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки, чтоб всей вселенной шла любовь... ... Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне отныне
стать
отец —
по крайней мере миром, землей по крайней мере — мать.
Любовь — созидание, утверждающая себя в «соревновании с миром», еще не открылась мятущемуся и мечущемуся герою «Ночи». Подозрительно вслушивается он в бесшабашный уанстеп в квартире любимой, унизительно подслушивая с лестницы долетающие до него фразы:
Да, их голоса. Знакомые выкрики. Застыл в узнаваньи, расплющился, нем, фразы крою по выкриков выкройке.
226
Да—
это они — они обо мне.
Обидное равнодушие к человеку слышится герою в том, как веселящееся «гостье» говорит о ком-то, может быть, и о нем; да, конечно о нем:
Один тут сломал ногу, так вот веселимся чем бог послал, танцуем себе понемногу.
Вместе с этими веселящимися «чем бог послал» наступают на героя «Ночи» дуэлянты, и вот уже, «смакуя детали», обнаглевшие, озлобленные мещане готовятся рассчитаться с ним.
В конце «Ночи» герой оживает, но не в силу внутренней логики развития художественного образа. Воскресение приходит не в силу любви, которая делает «родней» весь мир, что составляет пафос просьбы о воскрешении, а без всякой мотивировки. Последняя перенесена в заключение.
Нельзя не видеть в этом художественного недостатка поэмы 18. В образе героя «Ночи» Маяковский вел разговор с собой, решал проблему общего и личного. Старое, т. е. противопоставление любви миру, было уже бессильно, новое, т. е. любовь как соревнование со всем миром, еще не обрело силы. Это был кризис. Маяковский вышел из него и повел за собой читателя, открыв перед ним великолепную оптимистическую перспективу. Какое значение придавал сам поэт своему произведению, можно судить по следующей фразе из письма его к Л. Ю. Брик в начале января 1923 г.: «...ты должна знать, что ты познакомишься 28 (имеется в виду предстоящая встреча 28 февраля. — В. Z7.) с совершенно новым для тебя человеком».
Маяковский защищал свое право «писать про то и про это».
Атакующий класс нашел и в поэме «Про это» и в особенности в стихах о любви, созданных Маяковским после поэмы о Ленине, глубокое решение лирической проблемы. Не «любландия» кошмарной «Ночи под Рождество», а радостная, цветущая советская земля, «город-сад», где люди не могут жить без труда, где сила любви измеряется силой творчества — вот почему «нынче... любовь пограндиознее онегинской любви». Маяковский пришел к позитивному решению вопроса, мучившего его в «Про это». Он не откладывает его решения до XXX в., а утверждает, что сегодня
Любить —
это с простынь, бессонницей рваных,
15*
227
срываться,
ревнуя к Копернику, его, а не мужа Марьи Иванны, считая своим
соперником.
О силе личного чувства мы будем теперь судить не по субъективным признаниям героя, а по тому соревнованию с Коперником, на которое поднимает человека любовь. Коперникианский масштаб дел растит нежность, о которой с необыкновенным лиризмом говорит Маяковский, прибегая к образам и масштабам астрономическим:
... до звезд
взвивается слово золоторожденной кометой. Распластан хвост
небесам на треть, блестит
и горит оперенье его, чтоб двум влюбленным
на звезды смотреть из ихней
беседки сиреневой.
Занятие столь самодовлеющее соединено у Маяковского с ревностью к Копернику. Но иначе «Письмо о сущности любви» не было бы лирикой.
Как же быть дальше «двум влюбленным»? Так и сидеть в «ихней беседке сиреневой»? Или все же начать вить гнездышко? Ответ «Про это» может поразить своей безнадежностью:
Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
Любвишка наседок!
Да, но семья, основанная па любви — на любви, а не «люб-вишке», — соединяет человека с миром, с семьей человечества.
Зоя Березкина из комедии Маяковского «Клоп», вспоминая прошлое, жалуется профессору на свою любовную неудачу. Эта сцена воскрешения, вернее размораживания человека прошлого --мещанина Присыпкина снимает всякую романтику с «несчастной» любви:
Зоя Березкина
Эта его «деятельность» пятьдесят лет назад чуть не стоила мне жизни. Я даже дошла до... попытки самоубийства.
228
Профессор
Самоубийство! Что такое «самоубийство»? (Ищет в словаре.) Самообложение, самодержавие, самореклама, самоуплотнение... Нашел «самоубийство». (Удивленно.) Вы стреляли в себя? Приговор? Суд? Ревтрибунал?
Зоя Березкина
Нет... Я сама...
Профессор
Сама? От неосторожности?
Зоя Березкина
Нет... От любви...
Профессор
Чушь... От любви надо мосты строить и детей рожать... А вы...
Если в «Про это» эта морально-поэтическая концепция только завязалась, то развернулась она в дальнейшей лирике и драматургии Маяковского. Поэт рисовал идеал человеческих отношений в любви не только как программу будущего, но и — с сегодня на завтра.
*
«Про это» было страстным выступлением поэта против осквернения любви пережитками капитализма. А. В. Луначарский писал в своем отклике на поэму «Про это», что Маяковский «с желчной страстностью набрасывается на быт, разумея под ним мещанство».
Возрождение мещанства, или «быт», поэт воспринял как угрозу той любви, знамя которой было окрашено для него в тот же цвет, что и знамя революции. Ему показалось, что «красношел-кий огонь» этого чувства может быть задушен «бытом». Это его потрясло. «Про это» — свидетельство гневной самопроверки человека нового мира, борца за социализм, свидетельство победоносного выхода из противоречий в борьбе между новым и старым.
Очень глубоко раскрыл социально-психологическое содержание поэмы Маяковского А. В. Луначарский, сопоставляя ее с задачами новой драматургии (1923): «Выработка новой этики в муках содрогающегося сердца... вот необъятные темы, вот необъятные краски, вот необъятная сокровищница, из которой должна черпать современная драматургия. Уже есть нечто подобное в области поэзии, уже можно назвать с гордостью и некоторые произведения: Маяковский («Про это») ...» 19
229
ФОТОМОНТАЖ
А. М. РОДЧЕНКО
К ПОЭМЕ «ПРО ЭТО». 1923 г.
Луначарский сумел отойти от трактовки этого произведения как автобиографического. Напомним, что первое издание «Про это» было иллюстрировано фотомонтажами А. Родченко, которые, при всем искусстве художника, подчеркивали именно автобиографичность поэмы в духе лефовского стремления к «литературе факта». Н. А. Луначарская-Розенель пишет в своих воспоминаниях: «Не хочу опускать здесь одну деталь, хотя, возможно, она несколько диссонирует со всем сказанным выше: Анатолию Васильевичу очень не понравилось оформление книги «Про это», оно показалось ему претенциозным, и самая мысль иллюстрировать ее фотографиями автора и его близких коробила» 20.
Как было уже сказано выше, «бытовая размолвка» между поэтом и его близкими отнюдь не равнозначна содержанию и романтическому пафосу поэмы «по личным мотивам об общем быте» и уж никак не может считаться выражением некоего «мессианского стиля целой эпохи» — по выражению Клода Фриу, французского исследователя творчества Маяковского21.
Трактуя «Про это» фактографически, видя в ней непосредственное отражение бытовых обстоятельств и «личных мотивов», Клод Фриу оказывается в противоречии с ее идейным пафосом как художественного произведения.
230
«Про это» — поэма не бытовая, а романтическая, утверждающая величие исключительности в любви, а не так называемой «свободной любви».
В письме-дневнике начала 1923 г., когда писалось «Про это», Маяковский осознавал:
«На мне... за время бывших плаваний нацеплено миллион ракушек-привычек и пр. гадости...»
Этот образ встречает нас во вступлении к поэме «Владимир Ильич Ленин»:
Люди — лодки.
Хотя и на суше.
Проживешь
свое
пока, много всяких
грязных ракушек налипает
нам на бока.
Тонкий мостик этого образа связывал поэму о Ленине с «Про это», переходил в грандиозный образ — «Я себя под Лениным чищу...»
На пути к большой творческой вершине — поэме о Ленине — у Маяковского были трудности особого рода.
6
МАЯКОВСКИЙ В ЖУРНАЛЕ «ЛЕФ»
Замысел Маяковского и его реализация в «Лефе». Ценные коммунистические стороны в левом искусстве и «индивидуалистические кривляния». Эстетические взгляды Маяковского: искусство — «часть всей Октябрьской воли». Противоречия между Маяковским и частью сотрудников журнала. Вопрос об отношении к классическому наследию и новаторство. Новаторские идеи в области разных искусств: Родченко, Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн. В. Хлебников, Н. Асеев, В. Пастернак в «Лефе». Первый опыт изучения языка В. И. Ленина.
Впервой половине марта 1923 г. Маяковский прочитал друзьям только что законченную им поэму «Про это». Среди слушавших был А. В. Луначарский. «Я нахожусь все еще под обаянием Вашей прекрасной поэмы», — писал он вскоре в письме к поэту. «Про это» вызвала острый интерес в литературном мире. Она появилась в первом номере нового журнала «Леф». Маяковский выступал в нем не только как «вольный» поэт со своим кругом горячих сторонников и последователей, но и как признанный организатор определенного художественного течения, открыто декларировавшего свою коммунистическую направленность, свою преданность Советской власти. Помогая идеологической перестройке художественной интеллигенции и привлекая самым широким образом ее талантливых представителей к активному сотрудничеству в создании искусства нового общества, партия стремилась возможно шире развернуть соревнование и в области формы и стиля, непосредственно связанных с утверждением социалистического мировоззрения. На обложке первого номера нового журнала крупными, почти афишными буквами было написано название журнала и пояснялось в подзаголовке: журнал левого фронта искусств. Издатель: Госиздат. Ответственный редактор: В. В. Маяковский. Прямые, черно-красные буквы названия журнала бросались в глаза на витрине книжного магазина.
Номер первый вышел весной, в марте 1923 г. Маяковский написал три программные передовицы, которыми открывался журнал: «За что борется Леф?», «В кого вгрызается Леф?», «Кого предостерегает Леф?».
232
Революционная энергия бурлила в молодом ответственном редакторе. «Издатель — Госиздат»! Это было победой, признанием значения Маяковского.
Только в первых числах января 1923 г. поэт обратился в агит-отдел ЦК РКП (б) с докладной запиской об издании журнала — и вот уже первый номер «Лефа»!
Основные мысли докладной перешли потом и в передовицу, написанную Маяковским для первого номера журнала, и в статьи теоретиков «Лефа». Мы еще вернемся к докладной записке Маяковского в связи с вопросом об эстетических позициях левого фронта искусств. Заметим лишь, что в понятии «левый» по отношению к искусству революционность формы совмещала два принципиально разных значения: 1) как задача, обусловленная содержанием, и 2) как самостоятельная задача, независимая от содержания. «Левые» поэты, художники, музыканты рекомендовали себя новаторами в области формы. Учитывая это, Маяковский и ставил одной из первых задач журнала «Леф» — «пересмотреть идеологию и практику так называемого левого искусства, отбросив от него индивидуалистическое кривляние и развивая его ценные коммунистические стороны». Эта формулировка была главной в докладной записке Маяковского в агит-отдел ЦК РКП (б).
Вскоре после выхода первого номера «Лефа» Маяковский написал для него рекламное стихотворение, которое много раз повторялось в газетных и журнальных объявлениях. В шутливой и задорной форме поэт давал читателю «Лучшие советы»:
Против старья озверев, — ищите «Леф».
Витрину оглазев, — покупайте «Леф». Вечером сев, — читайте «Леф». От критики старых дев — защищайте «Леф». Хорошая книга!
А то с какой стати — стали б плохую издавать в Госиздате.
«Против старья озверев...» — в этой энергичной, с оттенком юмора строчке вылилась жажда нового, нового в жизни и искусстве, которое для Маяковского стало первой потребностью как художника. Маяковский не считал себя теоретиком, хотя и в своих стихах, и в статьях, и в докладах об искусстве с большой силой
233
выражал свои эстетические пристрастия, рисовал черты «искусства коммуны». В эстетических взглядах Маяковского отражалась его живая связь с революционной действительностью, его огромное художественно-политическое чутье. Защищая в своих высказываниях по вопросам искусства общие положения теоретиков «Лефа», он вкладывал в эти формулировки и свое содержание, самостоятельно прорываясь к революционной марксистской эстетике. Противоречия между замыслом Маяковского и его реализацией в журнале «Леф» настолько многообразны и сложны, приобретения и потери поэта в общении с его литературными соратниками настолько переплетены между собой, что полный анализ этой темы и «материала» потребовал бы специального исследования. Здесь мы можем наметить только некоторые, наиболее существенные линии взаимодействия Маяковского с его окружением в журнале «Леф» на этом раннем этапе развития советской литературы.
Рассуждения теоретиков не раз оправдывали и даже обосновывали те самые «индувидуалистические кривляния», которые Маяковский стремился в задуманном им журнале «отбросить», выкорчевать из практики левого искусства, развивая «его ценные коммунистические стороны», как он писал в докладной записке в агитотдел ЦК партии. Свой замысел Маяковскому удалось лишь отчасти воплотить в журнале «Леф». Во многом и, пожалуй, в главном поэт потерпел неудачу, и это послужило в дальнейшем одной из причин осознания им своего одиночества в литературной среде. Тем не менее он умел извлечь из противоречивого опыта своих соратников по Лефу нужные ему «выводы» для творчества. В его положении по отношению к Лефу, может быть, было что-то общее с тем, о чем Ленин писал Горькому в период его увлечения идеалистической философией Богданова: «...я считаю, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии ... извлекая этого рода воззрения и из своего художественного опыта и из философии хотя бы идеалистической, Вы можете прийти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу» L
Само собой разумеется, никому не придет в голову отождествлять своеобразие творческого пути Маяковского с теми особенностями развития Горького, которые имел в виду Ленин в годы борьбы его с Богдановым, хотя и у теоретиков Лефа немалую роль играли тенденции богдановско-пролеткультовские, волюнтаристические.
В «Лефе» печатались отдельные значительные произведения и прежде всего значительными были произведения самого Маяковского. Но он появлялся там нечасто, для его стихов, как и для стихов поэтов Лефа была уже в то время в советских литературных журналах открыта «зеленая улица» (об этом еще будет речь дальше). Лицо и направление журнала определяли не
234
столько стихи, сколько его программные и литературоведчески-лингвистические, а также критические статьи. «Леф» в большей своей части — и по объему, и по злободневно-полемическому эффекту — стал журналом теории «левого искусства», приближаясь иногда к типу «ученых записок», оформленных в грубоватом, нередко в блистательно-остроумном памфлетном стиле. Если говорить по существу, то в этом теоретически-филологическом журнале перевесили не те стороны, которые Маяковский хотел развивать, не «ценные коммунистические стороны» левого искусства, а то, с чем поэт хотел бороться, о чем он заявлял и в своей докладной записке, и в своей программной статье «Кого предостерегает Леф»?, обращенной к товарищам по журналу. Перевесили — «самодовлеющий формализм», идеализация футуризма и призыв художников к переходу в «производство», т. е. своего рода разоружению. Вместо борьбы за новое по содержанию и по форме революционное искусство им предлагалось порвать с живописью, отказаться от искусства, поскольку в социалистическом обществе роль его будто бы кончается: искусство превращается в «производство вещей».
Этот софизм о буржуазности занятия искусством как таковым, о враждебности или, во всяком случае, ненужности эстетики при социализме, особенно ярко сказавшийся в «запрете» художникам заниматься станковой живописью, очень осложнял поэтическую работу Маяковского и Асеева, тормозил развитие творчества Сергея Третьякова как драматурга и прозаика, ограничил блестящие возможности Александра Родченко в области изобразительного искусства. «Станковизм», т. е. портретная, пейзажная или бытовая живопись, осуждался, приравнивался к пассивной созерцательности, к эстетизму, становился жупелом у лефовских теоретиков. Сложность положения была в том, что они совершенно правильно поставили задачей художника вторжение в жизнь, объявили войну «искусству для искусства». Лефовский поход против эстетизма, против преклонения перед архаикой, против эпигонского некритического перенесения форм и приемов искусства прошлого в решение новых идеологических задач, поставленных социалистической революцией, — все это составляло ценные коммунистические стороны, которые хотел развивать Маяковский в левом искусстве...
Но свою борьбу с «искусством для искусства» теоретики «Лефа» превращали, как сказано, в борьбу против искусства, приравнивая его, скажем, к религии. Так хорошее и правильное сочеталось у них с вредным. С течением времени Маяковский осознавал это все больше — недаром он в дальнейшем ушел из «Лефа». Но в годы издания журнала в силу разных обстоятельств ему приходилось считаться с людьми, которые, еще со времен футуризма, были около него. Несмотря на все его усилия повернуть, увлечь их за собой, они отстали от него и остались в прошлом,
235
в прошлом футуризме, несмотря на свои вполне искренние декларации в пользу Советской власти.
Это ставило Маяковского в трудное положение. Противоречия между его замыслом в журнале «Леф» и реальным ведением журнала были слишком наглядны. Тем не менее нужно сказать со всей определенностью, что свой журнал открывал для Маяковского большие перспективы* придавал уверенность его позиции в литературе. Прежде всего это был журнал Маяковского, поэта революции — ему партия доверила руководство одним из первых, вслед за «Красной новью» и «Печатью и революцией», «толстых» журналов. Среди редакторов немногих, впервые возникших художественных журналов Маяковский был единственным — не членом партии. Далеко не все руководящие работники советской культуры представляли себе революционное и художественное значение поэзии Маяковского. Отрицательно относясь к футуризму, они отождествляли с ним Маяковского, не понимая, что его творческий путь революционного поэта самым тесным образом связан с его биографией. Это не могло не сказываться и в большом, и в малом... В 1921 г., еще в голодные месяцы, у Маяковского был конфликт с Госиздатом по поводу неуплаты ему гонорара за «Мистерию-буфф», заставивший поэта обратиться в профсоюзный товарищеский суд. Впоследствии Маяковский писал: «После двух судов... это* наконец, разрешилось в Наркомтруде, и я вез домой муку, крупу и сахар — эквивалент строк». В материалах этого дела есть один документ, который Маяковский позаботился представить суду, — заявление его старого товарища и наставника в революционной работе В. И. Be-гера-Поволжца:
«Вследствие неверных отзывов о личности В. Маяковского я, как старый партийный работник (с 1903—4 гг.) удостоверяю:
1) в период 1907—1910 гг. Маяковский был членом Московского комитета большевиков и за работу в тайной типографии был осужден Московской судебной палатой;
2) в 1917 году я встречал Маяковского на Невском летом, при опасном настроении толпы агитировавшего в пользу большевиков» 2.
По-видимому, в этом свидетельстве была необходимость, хотя агитационная работа Маяковского в Росте, при крайней скудости интеллигентных сил, помогавших большевикам, была уже достаточно известна. Маяковский нуждался в поддержке. И она пришла в отзыве В. И. Ленина о «Прозаседавшихся». Впоследствии Маяковский вспоминал в связи с этим: «... только после того, как Ленин отметил меня, только тогда «Известия» стали меня печатать».
После этого и разговоры о своем журнале велись в кругу Маяковского в течение всего 1922 г. (Ленин высказался о Маяковском в своем выступлении на фракции профсоюза металлистов
ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА «ЛЕФ». 1924 г.
27 марта 1922 г.). Б. Ф. Малкин, близкий знакомый Маяковского, старый партийный работник, имевший возможность встречаться с Лениным по служебным делам как заведующий Центро-печати, принимал участие в обсуждении докладной записки об издании «Лефа» в агитотделе ЦК партии (он об этом рассказал мне в 1927 г.). Высказывание Ленина, конечно, .сыграло решающую роль. Ответ на заявление, поданное Маяковским в первых числах января 1923 г., был получен буквально через несколько дней. В середине января Маяковский вместе с членами редколлегии «Лефа», в которую вошли Б. И. Арватов, Н. Н. Асеев, О. М. Брик, Б. А. Кушнер, С. М. Третьяков и Н. Ф. Чужак, стал готовить первый номер журнала.
*
Как уже сказано, в содержании журнала «Леф» от номера к номеру на первый план выступала теория и разработка программы нового революционного искусства. Маяковский сам принимал в этом участие, но он прежде всего был поэтом, его художественная практика опережала теорию, вступала в противоречие с ней.
237
В конце 1921 г. в знаменитом «Приказе № 2 армии искусств» Маяковский, вкладывая в .свой призыв и самый неподдельный юмор, предлагал поэтам бросить любовную лирику и отдать свои силы агитации на трудовом фронте —
Вам говорю я — гениален я или пе гениален, бросивший безделушки и работающий в Росте, говорю вам — пока вас прикладами не прогнали: Бросьте!
Бросьте! Забудьте, плюньте и на рифмы, и на арии, и на розовый куст, и на прочие мелехлюндии из арсеналов искусств. Кому это интересно, что — «Ах, вот бедненький! Как он любил и каким он был несчастным-..»? Мастера, а не длинноволосые проповедники нужны сейчас нам.
«Длинноволосыми проповедниками» автор называл поэтов-индивидуалистов, ушедших в лирике в свое крошечное «я». А «мастерами» для него были те, о которых он сказал раньше в стихотворении «Поэт-рабочий»: «Мозги шлифуем рашпилем языка... Сердца — такие ж моторы. Душа — такой же хитрый двигатель». «Двигателем» на свершение высокого подвига поэзия могла быть во всех ее жанрах. У Маяковского в лирике исповедь слилась с проповедью. Но Маяковский-трибун хотел бы ограничить поэта: «Кому это интересно, что — «Ах, вот бедненький! как он любил и каким он был несчастным...?» Он хотел последовать примеру некрасовского поэта, которого можно было устыдить тем, что «в годину горя» он решился «красу небес, долин и моря и ласку милой воспевать». И Маяковский хотел «ласку милой воспевать» Это оказывалось сильнее его собственных приказов другим и самому себе. Но, как выяснилось, это было неприемлемо для некоторых теоретиков «Лефа». Они были наивно убеждены, что лирика противопоказана человеку социалистического общества, что если поэзия еще может существовать, то лишь как «произ
238
водственная» или агитационная... Теория «Лефа» шла в наступление против поэзии Маяковского.
Конфликт возник вокруг поэмы «Про это». Маяковский услышал протест против самой ее темы, против постановки задачи создания новой лирики. Протест исходил от Н. Чужака — одного из членов редколлегии. Этот конфликт, которым началась история журнала «Леф», вводит нас в самую суть противоречий лефовского кружка.
Н. Ф. Чужак-Насимович не был характерной фигурой для кружка литераторов, объединившихся вокруг Маяковского в 1923 г., хотя считался одним из главных теоретиков «Лефа». Всю свою жизнь он был связан с газетной и журнальной работой как старый партийный литератор. После разгрома Колчака на Дальнем Востоке Н. Чужак руководил большой политической дальневосточной газетой «Красное знамя», а потом организовал там журнал «Творчество», посвященный вопросам строительства коммунистической культуры. К участию в нем он привлек многих революционно настроенных молодых писателей, в том числе Н. Асеева и С. Третьякова. «Творчество» под руководством Чужака пропагандировало на Дальнем Востоке Маяковского и футуризм, считая, что это одно и то же. Оказавшись в Москве, Асеев, Третьяков и Чужак вошли в редколлегию «Лефа». В Маяковском Чужак открыл для себя поэта революции и восторженно полюбил его поэзию. Однако, преклоняясь перед Маяковским, он хотел, чтобы тот в свою очередь преклонился перед выработанной им, Чужаком, теоретической догмой. Поэт не оправдал его надежд.
В своих эстетических взглядах Чужак был крайний догматик и схоласт, к тому же еще «с претензиями», как отметил Ленин в своем не слишком лестном отзыве о Чужаке в письме к Горькому 3. Эти черты Чужака проступают довольно отчетливо также и в письме Маяковского к нему в начале 1923 г., вызванном разногласиями при обсуждении материала для первого номера «Лефа».
«Письмо это пишу немедля после Вашего ухода, пошлю Вам с первой возможностью, — обращался Маяковский к Чужаку. — Я еще раз сегодня с полнейшим дружелюбием буду находить у нас в редакции пути для уговора Вас. Но я совершенно не могу угадать Ваших желаний, я совершенно не могу понять подоплеки Вашей аргументации. Приведите, пожалуйста, в порядок Ваши возражения и давайте их просто — конкретными требованиями. Но помните, что цель нашего объединения — коммунистическое искусство (часть комкультуры и ком. вообще!), область — еще смутная, не поддающаяся еще точному учету и теоретизированию, область, где практика, интуиция обгоняет часто головитейшего теоретика. Давайте работать над этим, ничего не навязывая друг другу, возможно шлифуя друг друга: вы —
239
знанием, мы — вкусом. Нельзя понять Вашего ухода не только до каких бы то ни было разногласий, но даже до первой работы!»
Если Чужак внушал Маяковскому уважение своим революционным стажем, то упорство односторонности, с каким он отстаивал свои эстетические теории, не могло не вызывать у Маяковского иронии.
«Головитейший теоретик» наивно верил в то, что его святая лефовская догма может вызвать из небытия стройные ряды революционных поэтов, которыми он будет командовать: «Эрсте колон марширт, цвейте колон марширт», — и среди них Маяковский будет один из многих. В силу этого Чужак сразу же обнаружил недопустимое расхождение между «Приказом № 2 армии искусств» и такими произведениями Маяковского, как «Люблю» и «Про это», о чем и заявил в своей статье в № 2 «Лефа», т. е. сразу же вслед за появлением «Про это». Чужак ставил вопрос о «лирике», беря самое слово в кавычки. Из «Приказа № 2 армии искусств» критик цитировал большой кусок и выписывал курсивом:
Кому это интересно, что — «Ах, вот бедненький! как он любил и каким он был несчастным...»?
К этому следовал такой комментарий:
«Золотые слова!
Оказывается только, что написаны они не между «Люблю» и «Про это», а в бытность поэта еще в Роста, когда он не был так «общепризнан» и столь... парнасен... Конкретно-производственные задачи дня диктуют и искусству совершенно конкретные задания».
В лефовское «прокрустово ложе» не влезала лирика. Не разобравшись в том, что в «Приказе № 2...» Маяковский выступал против субъективистской лирики декадентов, что этот «приказ» был поэтическим произведением, Чужак понял его буквально и стал проверять его «исполнение» в своей теоретической канцелярии. «Футурист — только тот, кто реальнейший реалист в сегодняшнем дне и строит из него диалектические модели в прямое завтра», — укорял Маяковского Чужак, видя в лирике отступление не только от «производственных» задач, но и от футуризма. Поэма «Люблю» с этой точки зрения явно не модель. А для Маяковского и лирические поэмы о любви, и «Нигде кроме, как в Моссельпроме», и «Необычайное приключение...», и стихи для Роста были поэзией самой высокой квалификации. Во всех жанрах поэт показал свою цельность, сердечную широту и готовность служить революции. Ограничить, сузить Маяковского, вытравить из него лирику, вбить его творчество в колодку той или иной «диалектической модели» — вот претензия «голо-
240
витейшего теоретика» лефовца, к счастью, так и оставшаяся претензией.
Чужак отказывался видеть всю сложность формирования нового человека. Он высмеивал вдохновенную романтику «Про это», победу нового над старым в душе героя, высмеивал трагическое в героике, называя веру поэта в будущее «верой отчаяния».
Лефовец-догматик был одной из разновидностей того типа « У скомче л а » (усовершенствованного коммунистического человека), который был так удачно подмечен Ильей Эренбургом в его известном рассказе того же названия. Герой этого рассказа — товарищ Возов, «утопший» в «революционном» планотворчестве, «рисовал схему, но не учреждения какого-либо, не новой канцелярии, а самой сердцевины бытия — жизни человека, не безалаберного лодыря, разгильдяя кутерьмового — нет, осмысленного, регулированного человека. Начиналась она с единого центра, вырабатывающего научно разверстку детей по губерниям и областям, разбивалась в многогранности функций на сотни треугольников с ребрами труда, развлечений, отдыха и снова впадала в широкие ворота грандиозного крематория».
В рассказе Эренбурга товарищ Возов был поделом наказан любимой девушкой. Таня сказала ему:
«— Я теперь все поняла. Вам не нужна любовь, только разверстка зачатий, пробирки химические. Чужой вы мне...»
Маяковский признавался, что он «вытомлен лирикой». В первой половине марта 1923 г. вышел его сборник «Лирика». Однако лирика, всякая лирика представлялась Возову из Лефа буржуазным предрассудком. Отголоски этого спора слышны были в пер-ных опытах молодых поэтов, пришедших в литературу от революционной работы и увлеченных поэзией Маяковского. В стихотворении «Весенняя прелюдия» А. Безыменский не хотел писать о весне:
Мне говорят: Весна... — и солнце пышет горном,
И пляшет трепака по строчкам Сашка Жаров...
А я иду, иду и думаю упорно
Про себестоимость
Советских
Товаров.
Контраст между традиционно-поэтическим заглавием и серьезным «экономическим» содержанием стихотворения был остроумен как заявка на новую тему лирики, но в слишком серьезном обосновании отказа от традиционно-весенней темы утрачивался лиризм. Маяковского в решении того же «Весеннего вопроса» выручал юмор, неотделимый от лиризма:
Страшное у меня горе.
Вероятно —
лишусь сна.
16 В. Перцов
241
Вы понимаете,
вскоре
В РСФСР
придет весна.
Юмор избавлял поэта от опасности впасть в сентиментальность по поводу того, что описано тысячу раз.
В своих очерках «По Союзу Советов» А. М. Горький писал, что «видимо, существует ощущение неуместности словесных лирических излияний в наши суровые эпические дни» 4.
Василий Казин уловил эту особенность эпохи, которая (особенность) преломилась по-своему и в лирике Маяковского. Разговор Маяковского с солнцем в «Необычайном приключении»... перекликается с шутливо-фантастическим стихотворением В. Ка-зина «Дядя или солнце»:
И я глотаю сочный зной...
Ах, дядюшка, скажи, родной, — Не то ли солнце стало мной, Не то ли сам я — солнцем пьяным?
Первые шаги новой, социалистической лирики были связаны с опытом Маяковского, не повторяя его. Маяковский понимал, что коммунистическое искусство — область многообразная, сложная, «область, где практика, интуиция обгоняет часто головитей-шего теоретика». Союзниками в его исканиях оказывались такие поэты, как Василий Казин, очень далекие от «Лефа».
*
В начале марта 1925 г. Маяковский участвовал в заседании Литературной комиссии ЦК ВКП(б), на котором обсуждался проект резолюции о художественной литературе. В речи М. В. Фрунзе на этом заседании поэт услышал оценку журнала «Леф», которая в известном отношении подводила некоторые итоги вышедшим (с 1923 г.) семи книгам. М. В. Фрунзе сказал, что это течение «моему уму и сердцу мало понятно... Думаю, что ошибка в этом направлении заключается в том, что им чрезмерно выдвигается на первый план форма, содержание же отодвигается назад» 5. Эта оценка отражала объективное положение, сложившееся в журнале в известной мере помимо Маяковского и против его воли. В своей поэзии Маяковский — трибун и лирик — выражал чувства и мысли передовых людей своего времени, коммунистов, строителей нового общества в условиях жестокой классовой борьбы. Маяковский-художник искал новую форму для этого содержания. Форма имела для него огромное значение как форма содержательная. К новаторству Маяковского призвала революция. И только потому он и ставил перед собой новые фор-
242
мальпые задачи. Он мог бы повторить слова Иоганна Бехера, сказанные гораздо позже, если бы они были ему известны: «Новое искусство никогда не начинается с новых форм. Новое искусство всегда рождается вместе с новым человеком» 6. Участвовать своим поэтическим словом в революционном пересоздании мира! От сложности своих ранних вещей он шел к углубленной простоте. Он шел трудными путями исканий и опытов, стремясь воплотить новое содержание, которое несла революционная эпоха, в новой художественной форме. Это была огромной трудности задача, в решении которой он знал не только победы, но и нес немалые издержки. А его друзей формалистов-опоязовцев привлекала в поэзии Маяковского прежде всего новизна формы. Следует сказать, что их оценка, крайне односторонняя, могла быть какой-то, скажем, «домашней» опорой для поэта, хотя и очень шаткой: они и не оценили, не смогли оценить движения Маяковского к искусству социалистического реализма, к монументальной простоте и народности его великих историко-революционных поэм, так горячо поддержанных Луначарским. В трех передовицах к «Лефу», своего рода предисловиях, обращенных к товарищам по журналу, Маяковский ставил перед ними задачу создания искусства, способного овладеть массами и, значит, прежде всего искусства идейного. Он предупреждал: «... чтобы с радостью растворить маленькое «мы» искусства в огромном «мы» коммунизма... Мы очистим наше старое «мы» от всех пытающихся революцию искусства — часть всей октябрьской воли — обратить в оскар-уайльдовское самоуслаждение эстетикой ради эстетики, бунтом ради бунта; от тех, кто берет от эстетической революции только внешность случайных приемов борьбы...» И дальше, признавая значение работы опоязовцев — «каждая блоха-рифма должна стать на учет», — он предостерегал: «Но бойтесь ловли блох в безвоздушном пространстве...». И еще: «Искусснейшие формы останутся черными нитками в черной ночи, будут вызывать только досаду, раздражение спотыкающихся, если мы не применим их к формовке нынешнего дня, дня революции».
Таков был замысел Маяковского: искусство — «часть всей октябрьской воли», «искусснейшие формы... будут вызывать только раздражение» вне «дня революции». Идейная задача художника, его мировоззрение, как сказали бы мы сегодня в теоретическом плане, вот что было для Маяковского определяющим, что разумелось им как бы само собой. Но этот замысел был опрокинут с первого же номера «Лефа». Если, обращаясь к опоя-зовцам, Маяковский указывал на значение социологического изучения искусства, предостерегая от «ловли блох в безвоздушном пространстве», то О. М. Брик объявлял, что «история поэзии — история развития приемов словесного оформления», что темы поэзии «никакого отношения к их (поэтов) поэтической работе
16*
243
не имеют», что в центре изучения должен стоять вопрос — «чем вызвано появление нового приема, как отмирает старый...» 7
«Поэзия Некрасова порождена была исторической необходимостью борьбы с пушкинским каноном» 8, — утверждал автор другой статьи, демонстрируя полное безразличие к революционно-демократическому пафосу поэзии Некрасова. Героика гражданской войны в рассказах Бабеля из книги «Конармия», впервые опубликованных в «Лефе», оказывается, как утверждал другой автор, имела значение только для обновления литературной формы: «Литературные герои, девушки, старики, молодые люди и все положения их уже изношены. Литературе нужна конкретность и скрещивание с новым бытом для создания новой формы» 9.
Было бы неправильно сказать, что формалистическая концепция, на которой базировались теоретики «Лефа», не подверглась некоторым изменениям под воздействием Маяковского. Предостерегая формалистов, поэт писал в одной из передовиц к «Лефу»: «Только рядом с социологическим изучением искусства ваша работа будет не только интересной, но и нужной». Едва ли эта формулировка была безупречной с точки зрения марксизма. Формальный метод «рядом» с «социологическим изучением искусства» — это, конечно, выглядело механистически. Однако и такая постановка задачи для того времени была прогрессивной, привлекая внимание ученых, ограничивших свое понимание специфики художественного произведения вопросами формы, к общественной сущности искусства. Так родились в «Лефе» так называемые «форсоцы», т. е. формалисты-социологи, — слабая и не принципиальная «поправка» к формалистической концепции. Б. Арватов, член редколлегии «Лефа», наиболее яркий «форсоц», атаковал в первом же номере журнала книгу стихов Валерия Брюсова «В такие дни». В ней крупный поэт-символист, один из первых представителей старой русской интеллигенции, приветствовавший Октябрьскую революцию и вступивший в Коммунистическую партию, собрал свои стихи, посвященные Октябрю. Свою статью против Брюсова Б. Арватов назвал прямым вызовом: «Контрреволюция формы». Содержательность формы! Такова была основная мысль этого литературоведческого памфлета, мысль прогрессивная, хотя это требование к революционной поэзии и было доведено здесь до известного шаржа. Но оно самым серьезным образом вытекало из новаторского пафоса творчества Маяковского. Разбирая стихотворения Брюсова, Арватов педантически выписывал архаические слова и выражения, издевательски составлял длиннейший список собственных имен, взятых Брюсовым из античной истории и мифов, выискивал примеры книжно-риторических синтаксических приемов и обращений — все это слишком часто прямо контрастировало с реальной действительностью революции, о которой шла речь; с народным со
244
держанием величайшего социального переворота, в котором главными действующими лицами были простые русские рабочие и крестьяне, для понимания которых мало что могли дать литературные параллели с мифологическими Юпитером и Гебой, Парисом и Навзикаей, Гераклом и Кассандрой, традиционных для поэтики Брюсова-символиста. Автор статьи убедительно доказывал, как инерция формы, эстетизм помешали поэту осуществить свой замысел, окарикатурили идею величия революции. Это было ценной коммунистической стороной в нападках теоретика левого искусства. Ради этого можно было простить ему и смешные придирки о якобы «реакционности брюсовского синтаксиса», поскольку Брюсов в своем обращении к Советской России вместо «практических ораторских приемов» (здесь критик ссылался на Маяковского, как на образец)... «... так и сыплет ломоносовскими славянизмами... обращения на «ты» и «вы» ...» 10
Однако в нападках на Брюсова была и другая сторона, и в этом сказывался формализм критика. Автор статьи «Контрреволюция формы» не захотел заметить многих замечательных и очень современных стихотворений в книге, которую он атаковал, например, знаменитого «Товарищам интеллигентам», «Только русский», «Парки в Москве». Этими сильными стихотворениями, в которых национальная гордость русского впервые осветилась гордостью гражданина Советской республики, В. Брюсов прочно вошел в круг советских поэтов. Не заметил лефовский критик и того, что «инвектива», торжественное обращение демократически настроенного Брюсова к своим былым соратникам на «вы» и в духе «ломоносовских славянизмов» оказалось глубоко соответствующим смыслу негодования поэта-гражданина:
То, что мелькало во сне далеком, Воплощено в дыму и в гуле... Что ж вы коситесь неверным оком В лесу испуганной косули?
Это нужно правильно понять: «Леф» был журнал полемический— «от старья озверев, читайте «Леф»...» Время было полемическое, время самого первого становления советской литературы. Объективность, казалось, могла ослабить силу полемического удара против эстетизма.
Если прав был Арватов, уловив у Брюсова дань эстетизму в его пристрастии к античным образам, то отказ Арватова от критического усвоения эстетики прошлого был данью лефовской догме.
«Культивирование эстетики прошлого, — писал Арватов, — становится орудием ее классовой самоорганизации. Ахилл для нее «эстетичнее» Архипа, Киферы звучат «красивее», чем Конотоп и т. д. и т. п.11 Однако вставал принципиальный вопрос о продолжении и развитии традиций культурного наследия, в состав
245
Которого входит Мудрость и красота античной мифологии. Ёрю-сов совершенно правильно и по существу возражал Арватову:
«... если бы т. Арватов взял на себя труд немного подумать, он увидел бы, что ... «Ахилл» имеет огромное содержание; «Архип» — никакого: это только собственное, «крестильное», имя и ничего больше. Поэзия может оперировать АхиЛлом, а Архипом не может, пока не вложит в него какого-либо содержания (напр., взяв некоего Архипа героем повести). Конечно, это относится к тем, кто знает, что такое «Ахилл». Но уж т. Арватов глубоко заблуждается, когда уверяет, будто рабочим и крестьянам «глубоко наплевать на Мойр, Гекат, Парисов и пр. Развязный плевок на всю античность! Почему бы не плюнуть тогда и на всю науку вообще — плевать так плевать!» 12
Брюсов упустил возможность оспорить Арватова и показать несостоятельность его нигилизма еще и на реальном примере — с позиций эстетики самого Маяковского. Ведь его поэма «150 000 000», во вступлении к которой поэт говорил, что «идея одна у нее —сиять в настающее завтра», заканчивалась замечательным напутствием земле Октябрьской революции, в котором образы древнейших греческих поэм Гомера были переосмыслены:
Ну и катись средь песенного лада, цвети, земля, в молотьбе и в сеятьбе. Это тебе революций кровавая Илиада!
Голодных годов Одиссея тебе!
Как видим, «культивирование эстетики прошлого» в привлечении Маяковским ассоциаций великих античных эпопей не только не помешало, а помогло автору поэмы о советской эпохе найти новую форму для выражения нового содержания. Арватов противопоставлял Брюсова Маяковскому — и критик имел для этого основания. Но он сделал это слишком внешне, по-лефовски, изолировав форму от содержания. И не заметил содержательного аспекта в наследовании традиций, когда Маяковский оказывался союзником Брюсова! Тем не менее атака Арватова, направленная на архаизмы в брюсовской форме, имела то положительное значение, что привлекала внимание к новому содержанию, к «Архипу», образное воплощение которого требовало новой эстетики и было прямо противопоказано эстетизму.
Хуже получалось, когда принцип формы ради формы находил себе место в журнале «Леф» в таких опусах, как «Жонглер» В. Каменского, или близкая к истерике «Мороженница богов» А. Крученых. А ведь они преподносились как образцы «нашей словесной работы», которая «для нас не эстетическая самоцель, а лаборатория для наилучшего выражения фактов современности». Между тем В. Каменский простодушно декларировал слово — самоцель: «Искусство мира — карусель — блистайность
246
над глиором и словозвонная безцель. И надо быть жонглером». На пресловутую «Згара-амба» — пример жонглирования словом — накинулась вся литературная критика тех лет, без различия групп и направлений, как на возврат к футуризму. Да ведь и сам Маяковский в своих «предостережениях» «Лефу» обращался к футуристам: «Работой в сегодня покажите, что ваш взрыв не отчаянный вопль ущемленной интеллигенции, а борьба — работа плечом к плечу со всеми, рвущимися к победе коммуны».
Бесплодными оказались и «игра словом во всей его звукально-сти» (В. Каменский), и «опыт использования жаргонной фонетики» (А. Крученых), и другие опыты «лабораторного» решения в журнале «Леф» проблем языковой стихии и на этой основе законов поэтического языка. И разве не этот плачевный итог привел Маяковского в последние годы его жизни к тому, что, выйдя из Лефа, он провозгласил задачу —целиком идти к массовому читателю, «закрыв за собой двери самодовлеющей лаборатории слова...»
*
Если попытка искусственно создать новый поэтический язык в отрыве от «народа-языкотворца» не состоялась, как и следовало ожидать, то внимание к вопросам газетного языка в журнале «Леф», участие в общей дискуссии о языке газеты, развернувшейся в то время, имело положительное значение. Важно отметить, что вся эта линия журнала шла вслед за опытом работы Маяковского в газете, который был так сочувственно оценен В. И. Лениным. Лингвистические статьи «Лефа» основаны были на глубоком изучении газетного материала. Исходя из того, что словарный запас языка газеты в силу необходимости ограничен кругом данных политических тем (читать и понимать иностранную прессу может человек с неполным знанием иностранного языка), Г. Винокур, уже в то время известный ученый лингвист, воевал на страницах «Лефа» против словарного штампа, обращал внимание журналистов на пример поэзии, позволяющей ощутить каждое слово заново. Он ратовал за высокую культуру языка, обрушиваясь на Карпинского и Сосновского, признанных журналистов тех лет, которые якобы в интересах широкого читателя требовали упрощения языка газеты, отказа от «языка дворянской интеллигенции» 13.
«Карпинский и Сосновский не учли пустяка, слона не приметили. .. отказ от литературного языка есть вместе с тем неизбежно отказ от всей русской культуры. Ату его, бей футуриста, он требует «сбросить с парохода современности» Пушкина, Толстого и т. п. Но бей и журналиста, ибо он не хочет сбросить с парохода современной нашей деревни язык «дворянской
247
интеллигенции», т. е. тех же Пушкина, Толстого, Тургенева и прочих».
Это было напечатано в «Лефе» № 2 за 1924 г. и могло бы показаться странным в сопоставлении с оправданием «кривых» слов Крученых как опытов словесной лаборатории. «Не будем разучиваться писать на литературном языке, — призывал Г. Винокур. — Не будем сознательно с заранее обдуманным намерением отказываться от нашей культуры, не будем отказываться от мысли, что культуру эту можно усвоить и нашему крестьянству, а вместе с тем и литературный, культурный язык»14.
Эта здравая постановка вопроса на страницах «Лефа» не может не показаться удивительной, потому что тот же автор в более ранней статье (1923, № 1) «Футуристыстроители языка» выступал с запальчивой защитой зауми. Но такими противоречиями полон «Леф». И в том же номере, где Г. Винокур ратовал «не будем разучиваться писать на литературном языке», Б. Арватов, в статье «Речетворчество», отстаивал именно это право: разучиваться писать на литературном языке, восторженно превознося заумь как высшую форму поэтического языка. Расписывая прелести зауми, Б. Арватов умудрился разглядеть ее «пророческое» значение в создании сокращенных слов — неологизмов, ставших популярными в советское время: «недаром задолго до «совдепов», в 1914 г. у Каменского «мировое утро» превращено было в «мирутр» («Дохлая луна»), а у Крученых в наши дни «звериная орава» стала «зверавой» («Голодняк») 15.
Конечно, сегодня все эти предложения выглядят анекдотически, но в то время они оправдывались попыткой лабораторного создания языка, в которой и заумь должна была занять свое место. Лефовский теоретик пытался подверстать под свой тезис и Хлебникова, умершего в 1922 году, чьи неопубликованные произведения, найденные в рукописях, свидетельствовали о серьезной идейно-художественной эволюции поэта после Октября, о таком сдвиге, который никак не давал возможности говорить о нем, только как о «заумнике».
*
Только часть из этих рукописей стала известна Маяковскому, опубликовавшему их в своем журнале. В статье-некрологе, посвященной Хлебникову в 1922 г., Маяковский обратил внимание на то, что Хлебников уходил «от голого словотворчества», вспоминал его «стих о голоде», напечатанный в какой-то крымской газете, поэму «Ладомир», которую не удалось издать при жизни поэта. Она появилась в «Лефе» (1923, № 2). Это захлебывающийся от радости и восторга монолог, рисующий перспективу счастливого человеческого общества, которое должно возникнуть на развалинах капитализма. Представление о социализме у Хлебникова
248
было уТоййческйм, напоминающим те крестьянские йдйллйи, Которые рисовались Сергею Есенину в «Ключах Марии», с его образом будущего, «где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому социализм или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни...» 16 У Хлебникова, правда, не такой идеал потребительского «социализма». Его идеал труда, однако, тоже далек от реальной практики первых шагов социалистического строительства. Хлебников знает только энтузиазм, воспевает своего рода уравниловку и не видит требований суровой пролетарской дисциплины. Эмоции «сказочного» социализма выливаются иногда у него в странные мистически-окрашенные образы. Тем не менее пафос «ладомира», т. е. нового лада мира, нового гармонического устройства общества, продиктован и особыми историческими условиями эпохи военного коммунизма с ее отказом от рынка, с ее уравнительным распределением. В своей поэме-монологе поэт не один раз возвращается к теме ненавистной для него капиталистической купли-продажи, радуясь тому, что «замки мирового торга ты обратишь однажды в пепел», что «будет некому продать мешок от золота тугой»... Давняя хлебниковская мечта о разрушении языковых барьеров между народами и создании единого всемирного языка окрашивается теперь социалистической идеей дружбы народов:
Лети, созвездье человечье, Всё дальше, далее в простор.
И перелей земли наречья В единый смертных разговор.
Однако пафос «простора» будущего мира далеко не всюду находит в поэме столь отчетливую, ясную форму, как в этой строфе. Поэма перегружена историческими ассоциациями хлебниковской энциклопедической учености, сложными гротескными образами, метафорами-загадками. И все же со всеми особенностями хлебниковской «герметической» поэтики, сложившейся еще в ранних его поэмах, «Ладомир» уже относится к новому периоду революционной романтики, рожденной в его творчестве Октябрем.
Печатая в «Лефе» хлебниковские «Ладомир» (1923, № 2) и «Образ восстания» (1923, № 3), а в первом номере «Воспоминания о Хлебникове» Дмитрия Петровского, Маяковский стремился показать поэта, которого он называл своим учителем, как человека, чья фантазия и поэтическая страсть вдохновлены были Октябрем.
Воспоминания Д. Петровского в «Лефе» дают живой образ поэта-романтика революции, «эксцентрика» в своих выдумках и жизненном поведении. Д. Петровский вспоминает о Хлебникове в 1917 г.: «Хлебников изобрел свое название для «Президента Республики»: «Главнонасекомствующая на солдатских шинелях».
249
С таким титулованием он обращался к Керенскому в своих письмах и при этом называл его в женском роде, находя особое удовольствие в совпадении имен его и бывшей царицы» («Леф», 1923, № 1, стр. 161). Может быть, отсюда, именно эта деталь через несколько лет нашла себе место в поэме Маяковского «Хорошо!»: «Уж мы подымем с царевой кровати эту самую Александру Федоровну!»
Хлебников, сыгравший значительную роль в литературном развитии Маяковского, был одним из тех людей 20-х годов, фантазия которых была целиком устремлена к новому, справедливому обществу. Подобно освобожденной пружине, развернулись таланты блестящей плеяды, которыми отмечены «неистовые» 20-е годы в истории русской культуры. Хлебников со своим избытком фантазии не был исключением: напротив, при всей своей странности человека «вне быта» и личных «жизненных польз», он был одним из типических характеров той незабываемой эпохи. И, может быть, не будь этого избытка, не было бы и такого творческого порыва.
Конечно, Хлебников нес в себе пережитки футуризма еще и в советскую эпоху. В его восторженном отношении к Октябрьской революции многое шло только от чувства, от «социализма чувства». Но было бы ошибкой зачеркнуть целиком его словотворчество и нельзя его отождествлять с заумью. И в своей поэзии, и в своих филологических разысканиях Хлебников воплощал те «ценные коммунистические стороны», которые Маяковский хотел развивать в левом искусстве. Недаром Хлебников оставил в рукописи две большие эпические поэмы «Ночь перед Советами» и «Ночь обыска», в которых мотив классовой борьбы стал основой его революционного эпоса. Здесь требуется сделать небольшой экскурс в прошлое, поскольку «родимые пятна» футуризма очень затрудняли для Маяковского осуществление задачи, которую он хотел решить в своем журнале, объединив вокруг него многих лучших представителей российской художественной интеллигенции. Вспоминая историю футуризма в своей передовой статье к первому номеру «Лефа», Маяковский подразумевал одно примечательное выступление Хлебникова в 1914 г., в котором он резко противопоставил себя итальянцу Маринетти:
«Российские футуристы окончательно разодрали с поэтическим империализмом Маринетти, уже раньше просвистев его в дни посещения им Москвы...»
Слово «футуристы» пришло в Россию из Италии, где еще в 1909 г. появился первый футуристический манифест Маринетти. «Война — единственная гигиена мира», — провозглашал Маринетти. Италии музеев и великих памятников художественной культуры он хотел противопоставить Италию индустриальную, агрессивно-военную. Великие эстетические ценности прошлого он объявлял «банком покойников». Маринетти искал наиболее
250
действенных методов пропаганды войны с помощью искусства, требовал создания новой эстетики — рупора империализма. «Мы объявляем, что великолепие мира обогатилось новой красотой — красотой быстроты», — провозглашал Маринетти, превознося футуристическое ощущение мира — «слова на свободе» и «беспроволочное воображение». Гоночный автомобиль сбрасывал для него с пути красоты статую Самофракийской победы.
В начале 1914 г. Маринетти появился в Петербурге и Москве со своими лекциями в пользу войны с «пангерманизмом». Хлебников написал листовку на приезд Маринетти в Россию и раздавал ее на первом петербургском вечере Маринетти 1 февраля 1914 г.: «Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве из личных соображений припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы...
... Люди воли остались в стороне. Они помнят закон гостеприимства, но лук их натянут, а чело гневается.
Чужеземец, помни страну, куда ты пришел!
Кружева холопства на баранах гостеприимства» 17.
В этой листовке нельзя не почувствовать «славянофильских» настроений Хлебникова. Но прежде всего он хотел обосновать свою независимость от Маринетти, самрстоятельность русского футуризма. Политическая позиция Маринетти ставила в ложное положение и Маяковского, часто выступавшего с докладами о футуризме. 15 февраля 1914 г. в газете «Новь», где Маяковский тогда печатался, появилось «письмо в редакцию», под которым была и его подпись: «Отрицая всякую преемственность от итало-футуристов, укажем на литературный параллелизм: футуризм — общественное течение, рожденное большим городом, который сам уничтожает всякие национальные различия...» В том же письме указывалась еще одна черта «литературного параллелизма»: «Под кличкой «русские футуристы» — группа, ббъединенная ненавистью к прошлому, но люди различных темпераментов и характеров» 18.
И после Октября, противопоставляя себя со всей решительностью итало-футуристам как своим идеологическим антиподам, Маяковский признавал преемственность «Лефа» от предреволюционного российского футуризма.
♦
Футуристическая инерция и формализм упорно держались, как мы видели, на страницах «Лефа». Но едва ли не самым противоречивым и для Маяковского, и для тех поэтов, которые вместе с ним нашли «духовный выход в революции», было отрицание классического наследия, «ненависть к прошлому». В этой лефов-ской установке нельзя все сводить к преемственности от футу
251
ризма. Многое в ней шло от революционной жажды нового, которая характерна была для митингового демократизма и максимализма первых лет революции.
В марте 1923 г. в знаменитой статье «Лучше меньше, да лучше» В. И. Ленин писал:
«...действительно великие революции рождаются из противоречий между старым, между направленным на разработку старого и абстрактнейшим стремлением к новому, которое должно уже быть так ново, чтобы ни одного грана старины в нем не было.
И чем круче эта революция, тем дольше будет длиться то время, когда целый ряд таких противоречий будет держаться» 19.
Это положение Ленина имеет отношение и к вопросам развития революционной культуры. «Абстрактнейшее стремление к новому» по-своему проявилось у Маяковского в самых первых восторженных его стихотворениях во славу Октябрьской революции. «Старье охраняем искусства именем» негодовал поэт в стихотворении «Радоваться рано». Как велико было его увлечение новым после победы Октября, которое «должно уже быть так ново, чтобы ни одного грана старины в нем не было», можно представить по резкости его метафор в этом стихотворении 1918 г.: «Время пулям по стенкам музеев тенькать. Стодюймовками глоток старье расстреливай!» Эти нигилистические призывы могли быть поняты буквально. А. В. Луначарский выступил с самой суровой отповедью против стихотворения Маяковского с его «разрушительными наклонностями по отношению к искусству прошлого». Маяковский ответил ему в той же газете «Искусство коммуны» стихотворением «Той стороне». Запальчиво, в прежнем эпатирующем тоне футуристических манифестов, он настаивал на «расправе» с классиками. Но тут же высказывал замечательные мысли о новом искусстве, как выражений нового человека, ничего общего с футуризмом не имеющие: «были б люди — искусство приложится» и в заключение пытался наметить перспективу «возвращения» классиков:
Когда ж прорвемся сквозь заставы, и праздник будет за болью боя, — мы все украшенья расставить заставим — любите любое!
Редакция газеты «Искусство коммуны», на страницах которой развернулась эта полемика, поддерживая Маяковского, предпослала его стихотворению заметку «от редакции», в которой разъясняла условный, а не буквальный смысл поэтических образов и требовала соответствующего их истолкования: «Ни один совре
252
менный критик не решился бы утверждать, что Пушкин в своем стихе «Глаголом жги сердца людей» призывает поэта какими-либо горючими материалами жечь сердца своих близких».
Конечно, поэт не имел в виду, что его метафора — «Время пулям по стенкам музеев тенькать» — призывает к разрушению музеев. Но она, эта метафора, со всей определенностью призывала к отрицанию художественного наследия прошлого, и в этом была несомненная ошибка Маяковского, встревожившая наркома просвещения. Почему стала возможной эта ошибка и как она была связана с восторженным приятием Маяковским идей Великого Октября? В годы военного коммунизма ожидание мировой революции с «сегодня на завтра» слилось для Маяковского с требованием нового искусства, которое «должно уже быть так ново, чтобы ни одного грана старины в нем не было.»
И не для него одного.
В 1924 г. замечательная очеркистка Лариса Рейснер, участница гражданской войны, человек большой эстетической культуры, выпустила книгу очерков «Фронт», которую она посвятила рабфаковцам. В предисловии Лариса Рейснер восторженно писала о том, как они «переваривают науку, продают последние штаны и всей своей пролетарской кожей всасывают Маркса, Ильича...» Трезво и мужественно отстаивая принцип классовости культуры, справедливо выступая против пресыщенных эстетов из журнала «Аполлон», Лариса Рейснер со всем сочувствием утверждала аскетические идеалы новых людей, схематически противопоставляла культурному наследию прошлого ту новую культуру, которую им предстоит создать:
«Это, буйный, непримиримый народец материалистов. Из своей жизни, из своего миросозерцания он со спокойным мужеством выкинул все закономерности и красоты, все сладости и мистические утешения буржуазной науки, эстетики, искусства и мистики. Скажите рабфакам «красота», и они —свищут, как будто их покрыли матом. От «творчества» и «чувства» — ломают стулья и уходят из залы. Правильно» 20.
Да, правильно, по поводу «мистических утешений», но зачем же «ломать стулья», отказываясь от наслаждения красотой искусства прошлого? Таков был дух времени с его «абстрактнейшим стремлением к новому» у художников, увлеченных революцией. Лефовский нигилизм Маяковского в отношении классического наследия шел от этого противоречия, одного из тех, о которых предупреждал Ленин: «...чем круче эта революция», тем дольше они будут держаться.
Выходом из этих противоречий стало для Маяковского художественное творчество. Эволюция его эстетических взглядов отчетливо видна на его произведениях, появившихся в журнале «Леф». В 1923 г. в первом номере журнала Маяковский провозглашал: «классики медью памятников, традицией школ—-давили все но-
253
вое», а в стихотворении, посвященном юбилею Пушкина, в 1924 г. оп с удивительной горячностью признавался в своей любви к Пушкину и даже предлагал: «были б живы, стали бы по Лефу соредактор». Стало быть, Пушкин нужен был Маяковскому. «Я люблю вас, но живого, а не мумию. Навели хрестоматийный глянец»... «Живого, а не мумию», значит, Пушкин жив сегодня. Это существенно отличается от призыва стихотворения «Радоваться рано»: «А почему не атакован Пушкин и прочие генералы-классики?» «Мы всеми силами нашими будем бороться против перенесения методов работы мертвых в сегодняшнее искусство», — провозглашал Маяковский в передовице к первому номеру «Лефа». Переносить «методы работы мертвых в сегодняшнее искусство», в самом деле, было не нужно, но, как выясняется, классики не мертвы, они живы и методы живых переносить нужно, развивая, не наводя на них «хрестоматийного глянца».
Маяковский не был бы Маяковским, если бы он не прошел через стадию отрицания. Его «отрицание» классиков нельзя понимать буквально. Это была некая поза, как разбег для прыжка. И нужно отдать должное Луначарскому, что, со всей резкостью обрушиваясь на нигилистические взгляды Маяковского и его друзей-футуристов, он сумел разгадать условность этой отрицательной позиции в той же статье «Ложка противоядия», которая была направлена против стихотворения Маяковского «Радоваться рано»:
«Я хотел бы, однако, чтобы встревоженные газетой лица не придавали всему этому чрезмерного значения. Не напрасно воинственный футурист Пунин на задворках того журнала, портал которого украшен исступленными скульптурами Маяковского, изо всех сил потеет над тем, чтобы спасти традиции мстерской иконописи, и тревожится по поводу запрещения местной властью вывоза икон из Метеры. Я могу уверить всех и каждого, что действительно талантливые среди новаторов великолепно чувствуют и даже сознают, как много чудесного и очаровательного заключается в старине, и, как Авгуры, улыбаются друг другу и подмигивают, когда заносчиво поносят все старое, отлично зная, что это только молодая поза, и, к сожалению, воображая, что она им к лицу» 21.
Когда Маяковский предостерегал «против перенесения методов работы мертвых в сегодняшнее искусство», он имел в виду прежде всего эпигонов, копиистов-классиков и в дальнейшем осознал в Пушкине своего живого современника, любимого им, нужного ему для творчества нового.
За этой гениальной диалектикой новаторства русской поэзии советской эпохи, которое нашло столь полное выражение в Маяковском, не поспевали его верные последователи. Они мучились, страдая от непонятного «быстроногого» движения поэта, ломавшего собственные догмы, хотя и ему это было не просто и не 254
легко. Атмосферу «презрения» к искусству прошлого, которое царило в лефовском кружке, хорошо передают воспоминания его рядовых участниц — переводчицы Риты Райт и художницы Елены Семеновой. Рита Райт пишет:
«Тогда нам казалось «стыдным» любоваться стариной, восхищаться старыми картинами, стихами. Ведь это были первые годы революции, взрыв своеобразного «иконоборчества» в искусстве. Надо было во что бы то ни стало очистить «поле действия» от всякой «Столицы и Усадьбы», от которой тогда шел явно контрреволюционный душок. У Маяковского и его друзей это было последовательной, идейной борьбой за новое революционное искусство. .. Нам казалось, что обязательно надо любить «конструкции вместо стилей», ни к коем случае не «наслаждаться» и не «любоваться» — это просто считалось у нас неприличным, — и уж, конечно, презирать «эстетов» и «альбомчики», хотя бы это были репродукции с Леонардо и Микельанджело. Я долго прятала именно такой «альбомчик» от наших мальчиков из студии ЛИТО и ВХУТЕМАСА — засмеют! Ведь даже про закаты, зори и облака мы говорили: «Здорово сделано!» 22
И совершенно о том же пишет Елена Семенова:
«Мы, «левые», рьяно «ниспровергали» любые произведения «чистого» искусства; «чистое» звучало для нас как реакционное». Признаться, жаль иногда было «скидывать с корабля современности» подлинные шедевры великих мастеров, любимые чуть ли не с детства. Но в нашем тогдашнем представлении, «революционное» и «левое» сливались в одно понятие. Молодежь без разбора принимала все «левое», но еще не умела отличить новое от «левацкого» и, по существу, уже старого» 23.
Е. Семенова продолжает:
«Влияние теоретиков Лефа, в основном О. М. Брика, уводило художников-лефовцев, — да и не лефовцев! — от того, что они, в сущности, никогда не переставали любить.
Например, во ВХУТЕМАСе я тайком, даже от Лили Лавинской, ходила в мастерскую профессора Щербиновского на рисунок. Здесь с наслаждением можно было просто рисовать обнаженную натуру без «смещения объемов», «разложения форм на плоскости». Даже зачет сдавала Щербиновскому. Об этой «отдушине» нельзя было и заикаться в Лефе. Обеднение творческой жизни особенно тяжело отразилось на наиболее одаренных. Талантливая и тонкая художница Л. Лавинская много лет спустя с болью написала: «Сколько талантливой молодежи бросило искусство, ограничив себя оформлением. Лавинский, бросивший скульптуру больше чем на 10 лет. Родченко бросил живопись и через 15 лет вернулся к ней, как к какому-то тайному греху. Ведь уходили от искусства не потому, что не любили, а из-за фанатической веры в то, что искусство должно умереть, что оно не нужно пролетариату, искусство — буржуазный пережиток, и вытравляли
255
йз себя эту любовь. Занятие чйстым искусством считали не советским делом. Между тем рядом росли молодые художники. Нам не могли не нравиться полотна А. Дейнеки, рисунки Ю. Пименова, Н. Альтмана и многих, многих других».
Возникал вопрос — что же, как не большое, подлинное искусство, поэмы «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Про это».
Здесь был и ответ на вопрос, и беспощадное опровержение ле-фовских теоретизирований. Равняясь на Маяковского, от наивного «всеобщего» футуризма первых лет революции через путаные лефовские теории, надо было заново осознать искусство в самом его широком значении и развитии в новом обществе.
В последние годы существования Лефа отчетливо ощущалось, что группировка — это одно, а Маяковский, хотя и лидер Лефа — другое» 24.
*
Но то же чувство, хотя и менее отчетливо, уже начало прорезываться в годы возникновения и «приостановки» журнала «Леф». Это был журнал групповой. В ранние годы формирования советской литературы группировки, как известно, играли определенную положительную роль, хотя пути многих художников слова, создавших прекрасные произведения, утверждавшие советскуюг идеологию, пролегали в стороне от группировок и даже были прямо направлены против них. Достаточно назвать таких писателей, как Алексей Толстой, К. А. Тренев, Аркадий Гайдар, А. С. Макаренко, Константин Паустовский, Валентин Катаев.
Для того чтобы понять роль лефовской группировки и журнала «Леф» в литературной жизни тех лет и в развитии Маяковского, нужно представить, хотя бы в самых общих чертах, литературно-политическую обстановку начала 20-х годов. В набросках Дмитрия Фурманова к роману «Писатели» есть такая запись:
«Начать с перелома на НЭП — охарактеризовать эпоху: перелом настроений, ожидания; новые возможности работы; новые надежды, новые опасности. Литература... общее состояние переломности.
... Торжество богемы, одиночек. Зарождение организации про-летписателей. Наметившаяся сразу классовая борозда. Пролет-писатели демобилизуются с фронта — примазываются к ним шку-ротыловики. Первые робкие выступления. Университет, лекции, дома писателей — все чужое!.. Развертываются борьба и творчество» 25.
В начале 1922 г. Маяковский устроил в Политехническом музее вечера «Чистки поэтов», которые проходили очень шумно. Дмитрий Фурманов так изложил в своем дневнике речь Маяковского на одном из этих вечеров.
256
ДЗИГА ВЕРТОВ. 1920-с годы
С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙН. 1920-е годы
«... многие остаются за бортом, поэтами во всем объеме этого слова названы быть не могут: комнатная интимность Ахматовой, мистические стихотворения Вячеслава Иванова и его эллинские мотивы — что они значат для суровой, железной нашей поры?
Но как же это так: счесть вдруг ненужными таких писателей, как Иванов и Ахматова? Разумеется, как литературные вехи, как последыши рухнувшего строя они найдут свое место на страницах литературной истории, но для нас, для нашей эпохи — это никчемные, жалкие и смешные анахронизмы»26.
Бывший комиссар чапаевской дивизии внутренне соглашается с Маяковским. Он думает о том, что подобная «чистка» нужна «на рабочих и красноармейских литературных собраниях, где слушающий приучился бы сознательно разбираться в литературных ценностях и отучился бы читать всякую белиберду, которая случайно попадает ему в руки».
Маяковский хотел прежде всего очистить от буржуазно-декадентского хлама «строительную площадку» советской литературы. «Приказ № 2 армии искусств» дает точную характеристику тех, кто 'находится по ту сторону «классовой борозды», тех, кого еще «прикладами не прогнали», — буржуазных эстетских школок:
Это вам — прикрывшиеся листиками мистики, лбы морщинками изрыв — футуристики, имажинистики, акмеистики, запутавшиеся в паутине рифм...
Таков был хлам старый. Но он пополнялся и вновь образовавшимся в лице разных скороспелых литературных группировок по типу эстетических школок, «запутавшихся в паутине рифм», которые стали плодиться, как грибы после дождя. В одной из своих записей Д. Фурманов метко характеризует общие «измам» черты враждебности большому реалистическому искусству.
«1. Глумление над прошлым. 2. Отрицание заслуг других школ и течений. 3. Расчет на монополию. 4. В расчете на вечность. 5. Заумничанье и жонглирование «мудрой» терминологией. 6. Бахвальство, игра в величие. 7. Однодневки. 8. Бесталанность задорных, заносчивых «пионеров». 9. Вычурность, оригинальничанье» 27
Жонглирование «мудрой» терминологией — теоретизирование развертывалось в пустоте. Рассуждения и декларации подменяли и заменяли произведения. В эти годы на первый план вместе с теоретизированием выдвигается организационный момент в ущерб творческому соревнованию. При этом следует сказать, что завя
17 В. Перцов
257
зались такие «узлы», которые пришлось потом не столько развязывать, сколько рубить.
Растить, сплачивать новые молодые силы, идущие в литературу от земли и гражданской войны, от полей и заводов, вселять в них энтузиазм великой цели, учить мастерству — таковы были задачи^ которые партия поставила перед вновь создаваемыми пролетарскими литературными организациями.
Став центром притяжения и пунктами сбора молодых литературных сил, эти новые организации, получившие название «ассоциаций пролетарских писателей» — Рапп, Мапп и т. д., — помогли начинающим литераторам познакомиться друг с другом, прощупать вкусы, определить взаимные симпатии и антипатии, найти друг в друге страстных слушателей и критиков первых творческих опытов. Эти моменты были положительными в поисках тех путей, по которым должно было пойти широкое движение зарождающейся советской литературы, растущей и закаляющейся в идейно-творческой борьбе с классово враждебной буржуазной литературой.
Последняя внешне не была столь организована, как лагерь молодой пролетарской литературы. Буржуазные писатели не выступали единым фронтом. И, однако же, Борис Пильняк, апологетическим литературным портретом которого открывалась серия критических очерков о современных писателях в журнале «Красная новь»; поэты Клюев и Клычков, выпестованные ещё до Октября в акмеистическом салоне; наконец, постояльцы всех декадентских «Стойл Пегаса» и «Кафе поэтов» — «имажинистики», по выражению Маяковского, обнаглевшие с нэпом в своей «Гостинице для путешествующих в прекрасном» (так назывался их журнальчик) , — все это пестрое, разноголосое, крикливое и шепчущееся составляло буржуазный лагерь литературы. Внешне разобщенный, недружный, он был, однако, спаян своего рода дисциплиной, противопоставляя «искусство для искусства» — жизни, советской современности.
С первых же своих шагов руководители вновь возникших рапповских организаций, к сожалению, перенимают у буржуазных эстетических школок некоторые худшие их «традиции». Список черт, общих «измам», по Фурманову, — от глумления над прошлым и отрицания заслуг других школ и направлений до игры в заносчивость «пионеров» и расчета на монополию — мог быть дополнен лицемерной организационной шумихой, тайной борьбой за власть той или иной группировки внутри «ассоциации» и явной критической расправой со всеми, кто оказался за пределами данной группы.
Эта литературная междоусобица принимала тем более неприглядный вид, чем дальше она удалялась от принципиальных вопросов и споров. В эти годы по отношению к определенной категории писателей был в ходу термин «попутчик». В попутчиках
258
«ходили» писатели из среды демократической интеллигенции, которые — так это считалось у рапповцев — хотя и сочувственно принимают Октябрьскую революцию, но роковым образом остаются неполноценными то ли вследствие своего непролетарского происхождения, то ли из-за недостаточности своего мировоззрения, то ли в силу того, что опи не состоят в ассоциации пролетарских писателей. Последнее па практике оказывалось самым верным критерием для того, чтобы определить писателя в «высшую» категорию «пролетарских» и избавить его от несколько сострадательно-презрительной клички «попутчик».
Маяковский впоследствии самым решительным образом протестовал против такого положения вещей, «против засахаривания кучки людей, против делания «пролетарских мумий», полных комчванства... Не ярлыком решается вопрос о «проле-тарственности» писателя, — утверждал он, — а литературным соревнованием. Надо сорвать ярлыки, перетряхнуть патенты. ..», — призывал Маяковский на диспуте по вопросам литературной политики.
Становление советской литературы как литературы социалистического реализма было очень широким процессом, захватившим писателей разных масштабов и дарований, разных социальных и личных биографий, разных эстетических взглядов, разной политической подготовки. Все они, а не только так называемые «попутчики», нуждались в серьезной партийной критике, в углублении марксистского мировоззрения, в закалке против мелкобуржуазных влияний. И если все эти писатели стояли на платформе Советской власти, то этот факт вовсе не обеспечивал автоматически объективных результатов их работы и ее идейнохудожественной ценности.
Вот почему, определив свое место в классовой борьбе, писатель мог доказать свою «пролетарственность» не ярлыком, не патентом, устанавливающим его принадлежность к ассоциации пролетарских писателей, а только делом, литературным соревнованием.
Привлекая и объединяя литературную молодежь из среды рабочих и крестьян и способствуя ее творческому росту, Рапп делал полезное дело. Однако рапповское руководство вообразило себя «властью» в литературе и усвоило тон команды. «Звание «пролетарские» нося, как эполеты», — высмеивал Маяковский заносчивость рапповцев. Организованный в 1923 г. журнал «На посту» стяжал себе печальную известность своими критическими расправами над писателями «без эполет». «Напостовская дубинка» вошла в историю советской литературы. Круг писателей, стремящихся стать активными участниками социалистического строительства, рапповцы хотели контролировать и ограничить.
А. В. Луначарский говорил по этому поводу на совещании р Отделе печати ЦК РКП (б) весной 1924 г,;
17*
259
«... мы действительно можем уложить неуклюжими политическими мероприятиями всю литературу в гроб, и притом в евангельский «поваппленный» гроб, производя это последнее слово от выражения ВАПП».
В евангельском выражении — с гробами «повапленными», красиво окрашенными снаружи, а внутри полными мертвых костей и всякой мерзости, сравнивались лицемеры, люди очень дурные, по умело прикидывавшиеся очень хорошими.
Луначарский не мог в то время — в 1924 г. — оценить, сколь проницательно-зловещей была его острота.
Состоя в руководстве Раппа, Авербах отнюдь не стремился к тому, чтобы сплотить разные отряды советских писателей. Скорее наоборот: «Разделяй и властвуй!» — таков был принцип его «руководства». Он сумел представить Рапп перед литературным общественным мнением как единственную литературную организацию, уполномоченную выражать и проводить в литературе линию партии. Этому помогла лицемерно разыгранная инсценировка борьбы Авербаха с так называемой «воронщиной».
В середине 1921 г. вышел первый номер журнала «Красная новь» — первого советского толстого журнала. Одной из задач, которые партия поставила перед этим журналом, было отколоть от буржуазной литературы ее лучшую часть, помочь сплотиться писателям, стоящим на платформе Советской власти. Самое название журнала указывало на его задачу. Партия помогла журналу «Красная новь» успешно начать эту работу сплочения, политического воспитания писателей, выявления на страницах журнала «нови» революционной жизни и новых писательских имен. Ленин дал для первого номера «Красной нови» свою знаменитую статью «О продовольственном налоге». Этим подчеркнуто было значение, которое придается журналу.
В 1922 г. «Красная! новь» познакомила советского читателя с такими произведениями, как «Бронепоезд № 14-69» Вс. Иванова, поэма «Сами» Николая Тихонова, «Перемена» Мариетты Шагинян. Во всей дальнейшей большой и плодотворной работе этих писателей названные ранние их произведения остались неповторимо яркими страницами. Привлечение многих молодых авторов к работе в журнале было несомненной заслугой Ворон-ского.
Однако в дальнейшем и в литературной политике Воровского, и в его теоретических взглядах проявились вредные, неправильные тенденции. Получилось так, что, привлекая представителей старшего поколения писателей к активной работе в журнале и делая этим полезное дело, Воронский противопоставлял их молодым литературным силам. Он выдвигал на первый план в искусстве «подсознательное», «сверхчувственное», считал, что сознательная постановка художником идейно-политических задач несовместим^ со спецификой искусства, Эта теория логически
Зво
приводила Воронского к «чистому искусству», к «искусству для искусства». Мы знаем, что Маяковский вместе с «Лефом» воевал против эстетизма. Воронский оказывался в числе первых противников журнала. Воронений по-своему обосновывал созерцательность художника, Маяковский стоял за непосредственное вторжение художника в жизнь. «Искусство — познание жизни», —провозглашал Воронений, вкладывая в эту формулу оправдание пассивности художника. Искусство — жизнестроение — такова была позиция Маяковского и «Лефа». «Искусство, — писал Н. Чужак в первом номере «Лефа», —как метод познания жизни (отсюда — пассивная созерцательность) — вот наивысшее .. .содержание старой буржуазной эстетики». Следует сказать, что и Чужак, и Воронений трактовали односторонне процесс познания человека. «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» 28, — вся дискуссия между «Лефом» и Воровским шла мимо этого ленинского решения основной гносеологической проблемы марксизма. Тем не менее постановка задачи Маяковским и «Лефом» в условиях складывания кадров советской литературы и становления их мировоззрения была более прогрессивной, чем позиция Воронского. Характерна запись Фурманова о Воронском в дневнике 18 ноября 1923 г.: «...из нового кое-что он понимает, но понимает и только. А водружать новое, укреплять, развивать, помогать, выводить — на это его не хватает. И потому он будет перекувырнут» 29, — так заключал Фурманов свою запись, которая показывала его трезвость и проницательность в анализе литературной ситуации. Маяковский, отстаивая позицию прямо противоположную взглядам Воронского, с большим уважением относился к Дмитрию Фурманову. Многозначительна в этом смысле надпись, которую он сделал на экземпляре только что вышедшего четвертого номера журнала «Леф», подаренного им Д. Фурманову:
«Тов. Фурманову, доброму политакушеру от голосистого младенца Лефенка.
За Лефов Вл. Маяковский 4.1.24 г.»30
Эта надпись говорит об искреннем признании политического авторитета Дмитрия Фурманова — бывшего комиссара чапаевской дивизии, уже ставшего известным в литературе как автор «Чапаева». В конце 1923 г. Д. А. Фурманов был направлен ЦК в Госиздат в качестве главного редактора отдела художественной литературы, где Маяковский и встречался с ним по делам «Лефа».
«Добрый политакушер» разглядел тогда в «голосистом младенце» самое важное для его будущего. Записывая в своем «Дневнике» беседу с поэтом Дмитрием Петровским, печатавшимся в «Лефе», Фурманов так излагает свое мнение о Маяковским:
261
«Я сказал, что в отношении близости политической, пожалуй, он самый близкий и не зря близкий... Он, надо быть, и в про-шлом близок был...» 31
Маяковский надеялся, что журнал поможет ему увлечь и передовой отряд молодой пролетарской литературы боевым идеалом политического действенного искусства, оснащенного высоким мастерством, что этот идеал повернет на новую дорогу и бывших футуристов, представителей «левого искусства».
В одной из первых своих поездок за границу, выступая перед работниками печати в Берлине, поэт подчеркивал установку на массовость, как главную задачу своей работы:
«Леф отмежевался от самодовлеющего искусства... он хочет идти об руку с мозолистыми руками рабочего, хочет укреплять в нем бодрость, веру в правоту Октября, и сам старается слиться с созидающей работой, к которой зовет сегодняшний день Россию. .. Леф хочет быть громким эхом новых звуков, несущихся по русским просторам...» 32.
Таков был замысел Маяковского. Леф не был для него сектой. Маяковский видел в Лефе одно из художественных течений, которое по-своему решает общие задачи, стоящие перед литературой СтранЬ! Советов, — эхо новых звуков, несущихся по русским просторам. Йдея одна, а творческие пути у разных писателей различные — в этом Маяковский видел одну из важнейших задач соревнования литературных группировок. В этом для него были и замысел, и оправдание Лефа. На деле многое складывалось совсем по-иному. Характеризуя обстановку, сложившуюся тогда в лефов-ском кружке, Николай Асеев писал впоследствии, что оставшаяся на прежних футуристических позициях часть сотрудников журнала превращала эту группировку в «литературно-эстетический салон, в какую-то замкнутую секту оригинальничающих стилистов, лидером которых являлся Маяковский» 33.
Нельзя сказать, что другая часть, более близкая к передовому мировоззрению эпохи, начала отходить от Лефа или разочаровалась в его теориях, но то ощущение, о котором впоследствии очень точно вспоминала художница Семенова, что «группировка — это одно, а Маяковский, хотя и лидер Лефа — другое», все чаще и определеннее доходило до сознания и ее участников, и более проницательных друзей Маяковского, и его противников.
*
В том замысле Маяковского, которому столь часто противоречили теории Лефа, особое место занимали подлинно новаторские художественные идеи, которые редактор «Лефа» горячо поддерживал. В журнале Маяковского впервые нашли место творческие заявки новаторов технической эстетики и таких мастеров рождавшегося
262
в те годы советского искусства кино, как Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов.
Если отказ от искусства живописи мог быть примером вредной лефовской догмы, то призыв художников к вторжению в быт, в работу по оформлению мебели, создания рисунков для тканей— все это было предчувствием и предвестием большого движения, которое открывало новые возможности перед художником. Е. Семенова пишет в своих воспоминаниях: «Надо сказать, что все «левые» увлекались тогда урбанизмом, мечтали о необыкновенных машинах... Татлин сооружал своего «Летатлина», Ант. Лавинский проектировал поворачивающиеся дома (кстати, сейчас о таких домах говорят, как о реальности)...»34. И хотя Е. Семенова правильно отвергает «левацкие» выверты, тем не менее публиковавшиеся в «Лефе» проекты моделей компактных вещей быта, выполняющих несколько функций в пользовании ими, предвосхищали новую профессию в промышленности: художников-конструкторов, помогающих вместе с решением задачи максимальной производственной целесообразности и решению вопросов технической эстетики. А это значит решению вопросов формы, размеров, цвета вещей, т. е. художественного творчества в этой сфере — от внешнего вида кухонной мебели, холодильников и газовых плит до эффективности внешнего вида станков и машин.
Эстетика машины была для Маяковского чувством живым, поэтическим. Поддерживая работы художников на производстве, он не столько хотел лишить их права создавать нечто новое в сфере рисунка и картины, сколько стремился расширить и утвердить чувство прекрасного.
Художественному миру Маяковского органически была присуща потребность в новом. И новое в любой области притягивалось к Маяковскому, входило в его мир. В журнале «Леф» (1923, № 3) была напечатана статья Сергея Эйзенштейна «Монтаж аттракционов». При всей своей односторонности она заключала в себе подход к тому открытию в искусстве кино, каким стал «Броненосец «Потемкин»» — гордость советской кинематографии, по выражению Маяковского. И в том же номере журнала был опубликован манифест документальной кинематографии: «Я — киноглаз... Здесь работаем мы, мастера зрения — организаторы видимой жизни, вооруженные всюду поспевающим киноглазом. .. Стремительный обзор расшифровываемых киноаппаратом зрительных событий... Сведенные на интервалах в аккумуляторное целое великим мастерством монтажа...» Статья Дзиги Вертова называлась «Киноки. Переворот» и в чем-то продолжала Эйзенштейна. Своим творчеством «Кинока» Дзига Вертов решал проблемы документальной кинематографии, искал новых методов фиксации жизни, которые давали возможность полнее раскрыть ее революционный смысл. Огромное значение
263
для развития мирового кинодокументализма сыграли его фильмы «Ленинская кино-правда», «Шагай, Совет!», «Шестая часть мира», «Три песни о Ленине»...
В этом же ряду стоят и замечательные работы Родченко, близкого помощника и друга Маяковского, вместе с которым он создал множество плакатов и реклам. Он был новатором фотоискусства и фотомонтажа. Он стремился «революционизировать наше зрительное мышление». Отказавшись от живописи ради фотографии и в какой-то мере наступив «на горло собственной песне», Родченко показал необычайную выразительность и огромные возможности фотографии в отражении нового лица России, всей советской земли, открывшегося советскому человеку вместе с мощным техническим прогрессом пятилетки, с их пафосом преодоления вековой отсталости нашей родины. «Сменив палитру и этюдник на фотоаппарат, Родченко, — писал о нем Лев Кассиль, — находил с необыкновенной точностью наиболее выгодные, поражавшие своей неожиданностью, и в то же время очень достоверные, и предельно выразительные ракурсы, заставляя зрителя по-новому увидеть и пейзаж, и людей, и машины, и стройку, и красу нашей родины». «Талант, не страшившийся будней», — так назвал Л. Кассиль свою вступительную статью к монографии Л. Волкова-Ланнита об Александре Родченко 35.
В опытах Родченко и в его теоретических высказываниях, где он отрицал искусство живописи, сказывались нередко его лефов-ские формалистические крайности, но судить этого замечательного соратника Маяковского следует не по этим «загибам», а по тому положительному, что он дал советским людям своим мастерством.
Сегодняшние творцы технической эстетики, художники-конструкторы на наших заводах и фабриках ведут, конечно, свою генеалогию от того движения в промышленности, которое началось в 20-х годах. Но в числе своих предков они не должны забывать идей соратников Маяковского, художников-производственников, выступавших в его журнале. Борьба за единство назначения вещи и ее формы, подхваченная ими, широко развернулась впоследствии. М. И. Калинин, беседуя с выпускниками Промышленной академии легкой индустрии 25 июля 1938 г., замечательно обобщил задачи художников:
«Где бы вы ни работали в легкой промышленности, вам нужно следить за прочностью, за хорошим качеством, твердо памятуя, что эти вещи идут в народ... Красота приобретается народом не только от книг и от больших художников. Не все ходят в картинные галереи, не все ходят на наши замечательные картинные выставки. А вот платья себе покупают все, ботинки покупают все, запонки, пуговицы покупают все...»
Как это не похоже на стремление внести раскол в среду художников, дискредитировать искусство живописи в «директивной» статье лефовского теоретика «От картины к ситцу»:
264
«Только те художники, которые раз навсегда порвали со стан: ковым ремеслом, которые на деле признали производственную работу не только равноправным видом художественного труда, но и единственно возможным — только такие художники могут продуктивно и с успехом браться за разрешение проблем сегодняшней художественной культуры».
В рассуждениях Родченко или Дзиги Вертова проявлялась типическая ошибка лефовских софизмов: одна из сторон или функций явления объявляется исключающей все другие, вытесняющей «остальное» его содержание. Так, поэзия объявлялась только речетворством, героем литературы оказывался не человек, а язык, так, Родченко, следуя за теоретиком Лефа, противопоставлял фотографию картине, а Дзига Вертов требовал уничтожения художественной кинематографии во имя безраздельного торжества кинодокумента 36.
Журнал «Леф» был для Маяковского своего рода «опытным полем», где он предоставлял возможность для творческих заявок новаторов во всех областях искусства и где он ставил себе задачу перевоспитать, приблизить к советской действительности отдельных своих соратников футуристов-лефовцев. Нельзя не сказать, что влияние Маяковского в ряде случаев наталкивалось на сильное противодействие, на инерцию прошлого у членов ле-фовского кружка.
«Трудно было заставить Крученых написать стихи о Руре»,— признавался Маяковский на совещании работников Лефа. В № 1 «Лефа» появились стихи А. Крученых «Траурный Рур» и «Рур радостный». В 1923 г. был оккупирован Рурский угольно-металлургический бассейн в связи с тем, что Германия приостановила репарационные платежи по Версальскому договору. В своих стихах о Руре автор хотел выразить протест против действий Антанты — замысел, конечно, хороший. Но Крученых так и не смог выбиться из звукового повтора «Рур», «ура», так что вместо протеста получилось какое-то урчанье:
Груды рабочих, Красный флаг, Интернационал Тра-ра-ра-ра! . РУР УРа!
Ура-ра Руру!..
Повтор «ру», пленивший автора, породил страдное выражение: «Груды рабочих». В другом его стихотворении «Аэро-крепость» была сделана попытка на основании газетных сообщений о подготовке американскими империалистами бактериологической войны нарисовать картину нападения на Москву и, по-видимому, отпора интервентам. И эта попытка была неудачна.
Неудачей оказался и опыт Брика в «Непопутчице». Он взял
265
ту самую «сегодняшнюю тему» преодоления влиянии чуждого быта, порожденного нэпом, ту самую проблему, которая нашла свое выражение в высоком поэтическом пафосе «Про это». Борьба с мещанством пронизала творчество Маяковского в первые годы нэпа. «На месте ваших вчерашних чаяний... коммуну славя, расселись мещане...», — негодовал Маяковский в своем «Про это». Заслуживает внимания то, что в статьях о нэпе у Ленина мы часто встречаем выражения «образованные», или «высокоцивилизованные» мещане. «Коммуну славя, расселись мещане», — с яростной горечью говорил Маяковский, не сознавая, что они «расселись» и за его спиной в лефовском салоне, мещане, усвоившие лефовскую фразеологию для своих теорий отрицания искусства. Соседство в одном номере журнала «Непопутчицы» с «Про это» особенно резко обнажало их «несовместимость» и, так сказать, пародийность претенциозной прозы Брика по отношению к трагической романтической поэме Маяковского.
«Опыт лаконической прозы на сегодняшнюю тему» — так рекомендован был в журнале «образец» лефовской лаборатории. «Сегодняшняя тема» заключалась в том, что некий коммунист Сан-даров, начальник Главстроя, увлекся некой буржуазной дамой Велярской, женой крупного дельца-нэпмана, которой удалось его использовать для обмана государства. Секретарь Главстроя Соня Бауэр, жена Сандарова, ревнуя его к Велярской, подсунула Сан-дарову на подпись незаконную ассигновку для нэпмана — мужа Велярской и сама сообщила о преступлении начальника Главстроя. Чека быстро распутала этот «бытовой» клубок, и виновные понесли наказание. '
Случай, конечно, вполне возможный, но автор претенциозного опыта «лаконической прозы» залюбовался «сегодняшней» темой. Отнюдь не лаконично, а весьма распространенно он смакует свою «проблему» в сценах свидания Сандарова с Велярской, которую тот хочет «перевоспитать»...
И мещанство не замедлило признать «Непопутчицу» своей: в журнальчике «Гостиница для путешествующих в прекрасном»—органе имажинистов А. Мариенгофа и В. Шершеневича— было сразу же предоставлено место для следующего поощрительного отклика на «Непопутчицу»:
«О. Брик в первый раз выступает как практик, как производственник. И видно стало: напрасно он так долго служил Эккерманом у Маяковского... «Непопутчица» недурно скроена. «Непопутчицей» намечен несколько иной формальный путь для бульварной прозы» 87.
Пошлость с важно-надутым видом карабкалась на ту трибуну? где Маяковским ставились вопросы коммунистической морали. В «Непопутчице» дама Велярская, «перевоспитываемая» Санда-ровым, искала «забавного в коммунизме», а Сандаров признак вался, что «коммунист бежит к буржуазным дамам, корчит перед 266
ними галантного кавалера, старается спрятать свой коммунизм подальше, потому что он, видите ли, не забавный...»38. Разве не это «забавное» причиняло такие страдания герою «Про это»?
И снова
хлопанье двери и карканье, и снова танцы, полами исшарканные. И снова
стен раскаленнее Стёпи’ под ухбй звенят и вздыхают в тустепе...
Однако МаякойСкйй мог вйдеть и положительные результаты своего влияния На близких ему поэтов через «Леф».
П. В. Незнамов, исполнявший в эти годы обязанности секретаря журнала, писал впоследствии в своих очень точных и тонких воспоминаниях об этом времени:
«Пастернак напечатал в «Лефе» в 1923 г. два стихотворения, одно из них, по просьбе Владимира Владимировича, первомайское. Это была едва ли не первая целевая вещь Пастернака.
В 1924 г. в № 1 (5) он дал поэму «Высокая болезнь» — очень сильную, но не лишенную архаизмов. Она начиналась так: «Ахейцы проявляют цепкость», — и эти «ахейцы» в словаре «Лефа» звучали до того чуждо и заумно, что скоро попали на язычок Маяковского. Схватывая на лету кинутую ему книжку журнала, он сказал шутливо:
— Ахейцы проявляют цепкость» 39.
В этом с юмором рассказанном эпизоде по существу серьезно говорится об отношениях между Маяковским и Пастернаком. Не-знамов характеризует стихотворение Пастернака «1-ое мая», •опубликованное в «Лефе» (1923, № 2) рядом со стихотворениями на ту же тему В. Каменского, Н. Асеева, В. Маяковского, А. Крученых, С. Третьякова, «едва ли не первой целевой вещью Пастернака». «Целевой», т. е. агитационной. Маяковский хотел втянуть Пастернака в поэзию советской темы. Пастернак был чужд теориям «Лефа», смеялся над игрой в группировки, но Маяковского любил горячо. Состоя в Лефе, Пастернак жил в мире совершенно иных художественных идеалов. А в то же время притягивался к Маяковскому. И так как общение с Маяковским «намагничивало», то это способствовало проникновению общест-1венной темы в поэтические замыслы Пастернака. В первомайском стихотворении, написанном по просьбе Маяковского, Пастернак попытался соединить несоединимое: присущий ему субъективистский лиризм с «целевым» заданием. Характерно бессвязное пастернаковское начало — ’
•О город! О сборник задач без ответов, О ширь без решения и шифр без ключа! О крыши! Отварного ветра отведав, (Кыш в траву и марш тротуар горяча!
267
— и через тему природы, побеждающей городскую грязь, мечта — О том, что не быть* за сословьем четвертым Ни к пятому спуска, ни отступа вспять, Что счастье, коль правда, что новым нетвердым Плетням и межам меж людьми не бывать, Что ты не отчасти и не между прочим Сегодня с рабочим, — что всею гурьбой Мы в боги свое человечество прочим — То будет последний решительный бой.
При всей искренности намеренья попытка эта освоить в своей образной системе и поэтике тему «Интернационала», конечно, была беспомощной.
Тем не менее Пастернак был внутренне подготовлен к этой попытке. В № 1 «Лефа» было напечатано его стихотворение — «Кремль в буран конца 1918 года». Образ Кремля, грозного, несущегося в буране «напролом сквозь неистекший в девятнадцатый», образ, достаточно смутный, но все-таки соотнесенный с годом, с конкретным временем, был новым в лирике поэта, где подобный же буран дал ему раньше повод сказать:
В кашне, ладонью заслонясь, Сквозь фортку крикну детворе: — Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе?
Хотя стихотворение о Кремле было погружено в туман образов вьюги, но в нем чувствовалось уже и другое, выход из стихии природы в историю современности и ею, исторической современностью, подсказанное признание: Остаток дней, остаток вьюг, Сужденных башням в восемнадцатом, Бушует, прядает вокруг, Видать — не наигрались насыто.
За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого, Ненаступивший этот год Возьмется сызнова воспитывать.
Поэма «Высокая болезнь» начиналась строкой о древних греках, вызвавшей шутку Маяковского: «Ахейцы проявляют цепкость». Обращаясь к жанру поэмы, Пастернак стремился вырваться из субъективизма, цепко державшего его лирику, в историю, в эпос —
Чем больше лет иной картине,
Чем наша роль на ней бледней, Тем ревностнее и партийной Мы память бережем о ней.
268
И все же отдельные сильные места потонули в хаосе субъективизма — поэма в целом не состоялась. Тем не менее общение с Маяковским оказалось благоприятным для Пастернака и, как он сам говорил автору этой работы, его поэмы, написанные в 1926—1927 гг. о 1905 годе в какой-то мере обязаны были своим возникновением влиянию Маяковского.
Если в отношении кого-нибудь из поэтов Лефа Маяковскому удалось добиться заметного и решительного поворота к реализму, — освобождения от «индивидуалистического кривляния», то больше всего это можно сказать об Асееве. На примере Асеева можно видеть действие той огромной силы «магнитного поля», каким оказалось влияние Маяковского, которое впоследствии наложило свою печать на развитие советской поэзии, на судьбу многих крупных поэтов мира.
В 1921 г. во Владивостоке вышла «Бомба» — книга стихов Николая Асеева, молодого поэта, успевшего однако уже в своих дооктябрьских стихах проделать эволюцию от символизма, под влиянием которого он находился, к футуризму. В стихотворении «Кумач», характерном для Асеева в то время, он возносил хвалу революции.
Краснейте же, зори,
Закат и восход,
Краснейте же, души,
У Красных ворот,
Красуйся над миром, Мой красный Народ!
Опорой образа в этом стихотворении была игра значениями слова «красный» — буквальным и переносным, традиционным, пословичным — в смысле «хороший» («не красна изба углами, а красна пирогами») и новым, политическим — в смысле революционный. Это стихотворение свидетельствовало и об органическом чувстве слова, русского языка и о том, что все же слово вело за собой поэта, становилось из средства целью. Игра значениями слова «красный» приводила в других строфах к натяжкам, к неясной многозначительности, от которых поэт стремился избавиться в более поздних редакциях.
В других стихах «Бомбы» господство формы над содержанием еще более ощутимо, превращая стих в машинизированную игру элементами ритмически организованной речи, способную вызвать не чувство, а лишь ощущение, например, ощущение «бега» в стихотворении «Северное сиянье»:
Тронь струн
Винтики
В ночь лун
269
Синь текй.
В день дунь
Даль дым, По льду Скальды!
В предисловии к «Бомбе» Асеев обращался «ксовременникам»: «...перед стихами начертываю прекраснейший узор имен моих братьев по славнейшему ремеслу мира — стихотворству... Вот эти имена: Виктор Хлебников, Владимир Маяковский, Давид Бур-люк, Борис Пастернак... Гремучим студнем бесконечной взрывчатой силы моих друзей будетлян заряжаю мою книгу... Привет будущему!»
«Бомба» говорила об артистизме автора, об его изощренном владении элементами стихотворной речи, но и об отсутствии темы. Взрыва не состоялось. Да его и не могло быть: «бомба», начиненная «студнем» футуризма, оказалась детской хлопушкой «левизны».
Начало совместной работы с Маяковским после возвращения в Москву в 1922 г. стало для Асеева началом перелома в его творчестве. Выпуская в Москве сборники своих стихов в 1922 и 1923 годах, Асеев стремился «собрать» себя настоящего, отбросить случайное и ученическое. В сборнике «Совет ветров» Асеев сообщает читателю о своем желании объединить самые дорогие для него стихи, рожденные революцией и связанные с ней, оценивая предшествующие как «необходимые, быть может, но гораздо менее значительные лирические экзерсисы».
В сборнике «Совет ветров» есть стихи о «Стальном соловье», в которых сказалось у Асеева лефовское увлечение машиной, заслонявшее образ человека. Познакомившись с этим сборником, А. В. Луначарский в письме к поэту признавался, что для него по-андерсеновски живой соловей лучше «стального». Асеев писал:
... Но велено было вдруг соловью запеть о стальной махинище.
Напрасно он, звезды опутав, гремел серебряными канатами, — махина вставала — прямей и прямей пред молкнущими пернатыми!
И стало тогда соловью невмочь от полымем жегшей бдуми: ему захотелось — в одно ярмо с гудящими всласть заводами...
Луначарский выделял в сборнике те стихи Асеева, где его «еще не ожелезили», и желал поэту в дальнейшем быть «еще современнее и вместе с тем поэтичнее, без всякой боязни поэтич
270
ности и дальше от всякой механизации...»40 В самом деле у Асеева периода «Лефа», в его несколько наивном и прямолинейном «обожествлении» техники, Луначарский правильно уловил отрицательную сторону. Но, как и во многих положениях лефовской эстетики, здесь была своя диалектика, в которой Асеев шел за Маяковским. В поэме «Рабочим Курска, добывшим первую руду...» Маяковский создал великолепный поэтический образ знаменитой Курской аномалии и тех «сегодняшних рыцарей» — рабочих, которые пошли на нее в атаку: Стальной сменял
алмазный бурав и снова ломался алмаз. И когда казалось — правь надеждам тризну, из-под Курска прямо в нас настоящею земной любовью брызнул будущего приоткрытый глаз.
Пусть
разводят скептики унынье сычье: нынче, мол, не взять, и далеко лежит. Если б коммунизму жить осталось только нынче, мы вообще бы перестали жить.
В. И. Ленин называл каждый пуд железа, который рабочие сберегали в борьбе с разрухой, святыней. С таким чувством святыни, поистине с настоящей «земной любовью» писал Маяковский о железе под Курском. И с тем же чувством воспевал Асеев в стихотворении «Гастев» поэта индустриального мира:
Я тебя и никогда не видел, только гул твой слышал на заре, но я знаю: ты живешь — Овидий горняков, шахтеров, слесарец!
?71
Овидий прославился своей любовной лирикой — этого Асеев не мог бы найти у Гастева. На лирику лефовскими теоретиками, как мы знаем, был наложен запрет. В своем подлинно поэтическом гимне железу и его рыцарям Маяковский не дал себя «ожеле-зить», и с первого же номера «Лефа» своей трагической поэмой о любви показал себя верным рыцарем этой темы. Появившееся в одном из последующих номеров журнала «Лирическое отступление» Асеева было таким же прямым отступлением от лефов-ских догм. По-своему Асеев решал в этой одной из лучших своих вещей магистральную проблему тех лет. «Дневник в стихах» — этот подзаговолок к поэме определял не столько жанр, сколько говорил о самоуглублении, о бесстрашной искренности, о проверке своей боевой готовности перед лицом истории на ее изломе к нэпу. Необходимость разобраться в себе самом заставила поэта поставить перед собой задачу прямо психологическую, как и у Маяковского в «Про это».
Тревожно вступление в поэму. От гражданской войны осталось чувство фронта, настороженности в отношениях между людьми, в отношении к самому себе:
Читатель стой!
Здесь окрик и граница:
Здесь вход и форт, не конченный еще;
Со следующей он открыт страницы И только — грудью защищен!
Смятение душевное терзает поэта в его раздумьях о любви, он негодует, видя и в наши дни зависимое положение женщины —
Но кто-нибудь сразу, вчистую Расплатится-ж блеском ножа, За эту вот косу густую За губ остывающий жар.
Тяжело переживает поэт власть собственнического мира, пытающегося поднять голову при нэпе. Лирик и романтик, Асеев мечтает о новом человеке, себя самого он казнит за раздвоенность. Так рождаются знаменитые, вызвавшие споры, не сразу оцененные нами, современными критиками в своем истинном смысле, строчки «Лирического отступления», поэмы-дневника, свидетельствующего не только о смятении поэта, но и о его тревоге за свое выполнение долга перед революцией:
Как мне вырастить жизнь иную Сквозь зазывы лавок,
272
Если — рядышком —
вход в пивную
От меня направо?
Как я стану твоим поэтом Коммунизма племя, Если крашено рыжим цветом, А не красным — время!?
Гораздо ближе к пониманию замысла Асеева в его «Лирическом отступлении» оказался Маяковский, защищая поэта-друга от слишком буквалистского истолкования образов его поэмы. Маяковский утверждал, что «там ведется разговор о быте не только в общем масштабе, но в специально-семейном. У нас неоднократно указывалось, что в то время, как по линии экономической и политической мы стоим на твердой почве, в области быта мы еще середка на половинку, чаще всего погрязли в самом старом мещанском быту. Вот это рыжее время и относилось к этому мещанскому уклону, вкоренившемуся в нашу жизнь» 41.
«Чем у нас отдаляются сроки переплавки быта?» — восклицал Асеев. Это горькое переживание встретится нам и в стихах таких поэтов-современников, как Э. Багрицкий, М. Светлов, Н. Тихонов. И Маяковскому оно было знакомо, но для него, шагавшего впереди и опережавшего время, была виднее победа нашего «краснофлагого строя», который зажигал и в любви «красношел-кий огонь...»
*
Пропагандируя «Леф» в своих лекционных поездках, Маяковский немного уделял времени журналу. Постоянные выступления на вечерах по городам Союза и за рубежом отрывали его от редакционной работы. Недаром такой человек, как Чужак, выступив в партийной печати с заявлением о своих разногласиях с редакцией «Лефа», назвал Маяковского в своей статье в «Правде» от 21 августа 1923 г. номинальным редактором «Лефа».
Одно важное начинание журнала, связанное непосредственно с творческой работой Маяковского и возникшее по его инициативе, заслуживает особого внимания. На обложке № 1 журнала «Леф», вышедшего весной 1924 г., было. объявлено: «В номере «Язык Ленина» и названы «столбиком» авторы — В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов, Л. Якубинский, Б. Казанский, Б. Томашевский. Предложение Маяковского разработать для журнала важнейшую тему о языке В. И. Лепина, с которым обратился редактор «Лефа» к друзьям филологам, было встре-
18 в. Перцов
273
чено ими горячо. Для Маяковского эта задача была особенно близка, потому что теснейшим образом соприкасалась с его собственной поэтической работой над поэмой о Ленине.
Авторы статей работали очень напряженно, о чем можно судить, хотя бы по тому, что номер журнала с их материалами о языке Ленина вышел в свет не позже мая, т. е. примерно, через три месяца после смерти Ленина. Весь этот раздел в журнале заметно отличался по тону и характеру от, так сказать, традиционных для «Лефа» принципов подачи материала с установкой на внешнюю броскость и парадокс. Это была первая попытка изучения языка Ленина. Обращает на себя внимание слитность работ всех авторов и такое единство в постановке задачи, которое сообщало решению ее цельность коллективного труда.
Известно, что во всех своих работах, определивших их позицию в филологической науке, эти авторы принимали за исходное положение — изолированность литературы от политики и общественной жизни. Обратившись к изучению языка Ленина, они оказались со всей своей в течение многих лет выработанной аппаратурой анализа формы ради формы как бы в совершенно ином мире. Хотя в коллективном труде о языке Ленина авторы не выступали ни с какими декларациями, но, попав в плотную атмосферу ленинских текстов, насыщенную мыслью и страстью, они оказались как бы «под током». Читая и перечитывая ленинские тексты, перебирая фразу за фразой в знаменитых статьях, исследователи-филологи едва ли не впервые с такой интенсивностью стали вдумываться в смысл и цель жизни их автора. Обаяние личности Ленина пронизало их работу той эмоцией, без которой не может быть человеческого искания истины. Понадобилось еще много лет, чтобы они смогли пересмотреть свои формалистические концепции, но данный эпизод изучения языка Ленина, можно сказать без преувеличения, стал важной вехой на их творческом пути советских ученых. Сила утверждения Лениным принципов нового, социалистического общества и кратчайших путей к его победе была прямо пропорциональна силе отрицания им буржуазного мира и его пережитков, всех препятствий на пути к новому миру.
Гениальная ленинская диалектика отразилась последовательно в его языке полемиста, расчищавшего путь к делам, к торжеству великой правды труда. И отсюда ненависть Ленина к языку лжи и обмана народа, ненависть к искажению или сокрытию с его помощью истинных намерений и целей эксплуататоров.
В центре внимания авторов коллективного труда о языке Ленина и оказался Ленин-полемист в полном соответствии с исторической закономерностью, которая руководила всеми действиями Ленина.
«Слово было для него не профессией, не карьерой, а настоящим делом. При этом речь его обращена не к специалистам и не к «публике», а ко всему народу или ко всем народам», — пишет Б. Эц-274
хенбаум. Ленинское слово всегда «за» что-то и «против» чего-то — pro et contra. По историческим обстоятельствам сначала идет «против», чтобы обеспечить «за». Можно считать, что названия статей партийных публицистов, начинающихся с предлогов «за» и «против», воодушевлены были ленинским полемическим образцом.
Слово для Ленина — это «дело», «орудие революционной борьбы». И отсюда вытекает его чуткое восприятие чужого речевого стиля, стремление разоблачить стилистическую фальшь, от которой «больно становится за родную русскую речь». Постоянной мишенью Ленина было «казенное пустословие» царских министров, «революционное краснобайство» мелкобуржуазных партий, разоблачение «мошенничества слов» у буржуазных публицистов. Особое место занимает у Ленина борьба против «разгула революционной фразы» у противника из среды мелкобуржуазных партий.
Вот типичный пример «казенного пустословия», вызвавшего негодование Ленина, — правительственный циркуляр министра внутренних дел Сипягина в связи с голодом 1901 г., обрушившегося на Россию: «Мы сказали: если иметь терпение дочитать циркуляр г. Сипягина до конца, — пишет Ленин. — Терпения на это надо не мало, ибо на три четверти... — какое! на девять десятых — циркуляр наполнен обычным казенным пустословием. Разжевывание вещей давным-давно известных и сотни раз повторенных даже в «Своде законов», хождение кругом да около, расписывание подробностей китайского церемониала сношений между мандаринами, великолепный канцелярский стиль с периодами в 36 строк и с «речениями», от которых больно становится за родную русскую речь...» 42.
С горечью и негодованием Ленин называет эту статью «Борьба с голодающими». Полным равнодушием к народному бедствию продиктовано не только содержание, но и форма этого «канцелярского стиля», по существу направленного и против голодающих, и против «родной русской речи».
В параллель к этому примеру исследователь приводит и образец «деревянного языка» думских кадетов в их обращениях к народу (1906 г.), вызвавших у Ленина то же чувство боли «за родную русскую речь»:
«А не смешно ли... писать «обращения к народу» тем деревянным языком заскорузлого российского стряпчего, которым пишут кадеты и (к стыду их будь сказано) трудовики?» 43.
С особенной нетерпимостью и беспощадностью иронии преследовал Ленин «революционное краснобайство», «разгул революционной фразы» в новых обстоятельствах, когда революция, социализм превратились в «простое делаемое дело», когда расстояние от слов до дела сократилось до минимума, когда ошибка, небрежность, безответственность в выборе слова могли стать опасными для дела революции, социализма. Статья Ленина
18*
275
«О вреде фраз» (1917) показывает исключительную чуткость Ленина-политика к словесной фальши. Он срывает «маски» с «пышных фраз» эсеровских публицистов. «Дело народа», — пишет он, — фразерствует «под якобинца». Грозный тон, эффектные революционные восклицания... «мы знаем довольно»... «вера в победность нашей Революции» (обязательно с большой буквы), «от того или иного шага ... русской революционной демократии. .. зависят судьбы... всего так счастливо, так победно поднявшегося Восстания (обязательно с большой буквы) трудящихся. ..»
Конечно, если слова: Революция и Восстание писать с большой буквы, то это «ужасно» страшно выходит, совсем как у якобинцев. И дешево и сердито»44. Настороженность к фразе — в этом проявлялось постоянное ленинское внимание к слову. Ленин любил говорить словами противника, но он их заставляет заподозривать, лишает их силы, оставляет от них шелуху, — указывает исследователь. Обычным приемом высмеивания «революционного краснобайства» являются кавычки. Исследователи показывают, с каким мастерством пользуется ими Ленин, чтобы сорвать маску ложного пафоса, обнажить пустоту парадности, отсутствия реального содержания под внешней шелухой.
И вот другой прием действительного обнажения смысла слова, разоблачения «мошенничества слова». Разоблачения путем простого перевода, ходового и тем не менее не сразу понятного для всех и каждого иностранного слова на русский язык. В статье «Как прячут прибыли господа капиталисты» (1917) Ленин разъясняет уловку миллионеров, скрывающих часть своей прибыли под именем так называемого «резервного капитала»:
«Если я, миллионер, получил 17 млн. прибыли, из них 5 млн. «резервировал» (т. е., по-русски, отложил про запас), то мне достаточно записать эти 5 млн. как «резервный капитал», и дело в шляпе!» 45. Исследователь Юрий Тынянов делает к этому такой комментарий: «Случай классический, — мошенническое слово участвует в действительном мошенничестве, и разоблачение мошенничающего слова равносильно обвинению в действительном мошенничестве» 46.
Пример этот интересен тем, как от филологического анализа автор приходит к пониманию справедливости политико-экономического анализа Ленина.
В полемику с противниками Ленин вводит разговорно-обиходные слова и выражения. Попадая в лексический слой книжного языка, они приобретают особую выразительность и смысл. В исследовании языка Ленина в связи с этим приводится следующий факт. Сестра Ленина А. И. Елизарова рассказывала, как она разыскивала его реферат о Михайловском, читанный им 1894 г. в Самаре и распространявшийся без его подписи. «Помню, что когда я стала разыскивать среди московских знакомых ип-
276
тересующий меня реферат, я натолкнулась на то затруднение, что в Москве вращался не один, а несколько анонимных рефератов против Михайловского. — Который вам? — спросила меня некая Юрковская. Затрудняясь определить точнее, я стала спрашивать ее мнение относительно прочитанных ею трех. Об одном она отозвалась, как о наиболее интересном, но «выражения уж очень недопустимые». — А например? — спросила я невинно. — Да например: Михайловский сел в калошу. — Вот, пожалуйста, этот мне достаньте, — заявила тогда я, прекратив дальнейшие расспросы, ибо решила для меня совершенно определенно, что это и есть тот, который я ищу. Потом я смеялась с братом по поводу признака, по которому определила его работу» 47.
Прием снижения в языке Ленина направлен не только против ложного пафоса противника, этот же прием своеобразно преломляется и для «сдерживания» собственного подлинного пафоса, обеспечивая строгую деловитость содержания. Анализируя знаменитую ленинскую статью «О национальной гордости великороссов», Ю. Тынянов обращает внимание на снижающую роль скобок внутри предложения с напряженной высокой эмоцией. Скобки разрывают плавность фразы, разрушают ее «гладкость», приковывая внимание к ее содержанию.
Вот некоторые «ударные» места этой ленинской статьи, «сниженные» скобками.
«Интерес (не по-холопски понятой) национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) пролетариев» 48.
Или еще:
«Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам» 49.
Ленин против того, что имеет характер автоматического пользования словом, содержание которого изменилось, наполнилось под влиянием новых общественных условий иным смыслом. Как уже сказано, Ленин часто использует кавычки, чтобы подчеркнуть враждебность слова. Однако еще большее значение имеет у него освобождение слова от кавычек, возвращение слову положительного значения. Это относится, например, к слову «отечество» в полемике с «левыми» коммунистами: «... я вам объясню, любезные, — говорил Ленин, — почему это несчастье с вами случилось: потому, что вы лозунги революции более заучиваете и запоминаете, чем продумываете. От этого вы слова «оборона социалистического отечества» ставите в кавычки, которые, вероятно, должны означать ваше покушение на иронию, но которые на деле показывают именно кашу в голове» 50.
277
Прежний смысл слова часто оказывается схемой по отношению к движущемуся, обновляющемуся его значению. Слово у Ленина не имеет ничего общего с заклинанием.
Найти его исторические корни, его традицию в языке классиков, прежде всего — Льва Толстого, Чернышевского и Герцена и, в качестве одной из ярких его особенностей — связь с античностью.
«Латинскими пословицами Ленин пользуется довольно часто, ценя в них, по-видимому, сжатость и силу выражения», — говорит Б. Эйхенбаум, подчеркивая в самом построении речей Ленина установку «на определенную конструкцию, напоминающую классические речи римских ораторов».
Верность этого наблюдения в свое время подтвердила Н. К. Крупская в своих ответах на анкету Института мозга:
«В сборнике «Леф» есть статья, в которой авторы, разбирая структуру речи Ильича, приходят к выводу, что конструкция речи (фраз) латинская.
Ильич мне как-то говорил, что он в свое время очень увлекался латинским языком»51.
Далее Н. К. Крупская подчеркивала, что речь Ленина «типичная русская речь. Она была эмоционально насыщена, но не театральна, не надуманна...» Известно воинствующее отношение Владимира Ильича ко всякой порче русского языка, чем бы ни старались ее оправдать или, тем более, мотивировать. Скрепя сердце, он пользовался даже теми сокращениями в названиях вновь созданных советских учреждений, так называемыми аббревиатурами, которые хлынули в разговорный язык и, казалось бы, заняли в нем законное место. Употребляя эти неологизмы, Владимир Ильич не упускал случая поиздеваться над ними. Возражая, например, в своем выступлении на VIII съезде РКП против включения в программу партии формулировок законченного процесса, Ленин говорил: «Это было бы похоже на то, как если бы мы сейчас в программе выставили всемирный совнархоз. А между тем к этому уродливому слову «совнархоз» мы сами еще не сумели привыкнуть, с иностранцами же, говорят, бывают случаи, когда они ищут в справочнике, нет ли такой станции. (Смех.)» 52
Или:
«Я бы очень хотел взять пример несколько гострестов (если выражаться -этим прекрасным русским языком, который так хвалил Тургенев)...» Но в то же время Ленин создает неологизм, который, в свое время, был очень популярным, в духе принятых сокращений: «Этого мы не сознаем, тут осталось коммунистическое чванство — комчванство, выражаясь великим русским языком» 53.
Каков итог всех этих наблюдений авторов коллективного труда о языке Ленина? Прежде всего тот, что, внося повое в свой 278
язык великого революционного публициста, Ленин и практически, и принципиально был продолжателем великих классических традиций. Эти статьи составили отдел журнала «Леф», печатавшийся обычно под рубрикой «Теория». Пафосом лефовской теории было, как мы знаем, разрушение эстетического канона, разрыв с традицией. Весь цикл статей о языке Ленина наносил ей серьезный урон, хотя формалисты продолжали оставаться формалистами, что особенно резко выступало в этом номере. Каким диссонансом выглядели фонетические фокусы и словесные выверты в мажорном и по-своему талантливом «Гимне 40-летним юношам» Василия Каменского:
Мы в 40 лет юнцам —
Вертим футбол, хоккей, Плюс абордаж. А наши языки поют такие бой-брацам, Жизнь за которые отдашь!
По поводу этих футуристических «экспериментов» можно было бы сказать словами Ленина, что от них становилось «больно за родную русскую речь». И то же чувство вызывал грубый натуралистический «припев» с примешанной к нему заумью «Чекувамбыр — вамбимбир, вамбумбир», испортивший удалую и грустную «Песню червонных казаков» Дмитрия Петровского, встречавшую читателя на первой же странице журнала.
Страницы журнала «Леф», посвященные анализу языка Ленина, заставляют особенно резко почувствовать эстетство и формалистическую претенциозность в замечательных талантливых опытах прозы Артема Веселого («Вольница») и И. Бабеля («Мой первый гусь»), напечатанных в том же номере «Лефа». По в рассказе Бабеля было одно место о языке Ленина (имелась в виду речь Ленина на втором конгрессе Коминтерна), удивительное по своей глубине. Бабель увлекался «блестящими выражениями», как сказал бы Пушкин, ослабляя подлинную значительность своих размышлений о людях — вычурностью стиля. Но это место из рассказа «Мой первый гусь» могло бы стать эпиграфом к коллективному труду о языке Ленина в этом номере «Лефа».
«В газете-то што пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место.
— В газете Ленин пишет, — сказал я, вытаскивая «Правду», — Ленин пишет, что во всем у нас недостача.
И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь... Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.
— Правда всякую ноздрю щекочет, — сказал Суровков, когда я кончил, — да как ее из кучи вытащишь? А он бьет сразу, как курица по зерну» 54.
279
О языке Ленина, как о языке правды, с большой силой говорила статья одного из участников цикла статей в «Лефе» Б. Казанского:
«Как будто стремясь к последней правде, к крайнему реализму и прямоте сознания, полной обнаженности вещей, он всем своим существом ненавидит «фразу»... Вся конструкция, все деятельные функции его речи направлены этой центральной, доминирующей силой и от нее получают свою действенность, оправдание и истолкование... Этот замечательный прием (сопоставлений слов и дела. — В. П.) достигает у Ленина большой силы, так как пафос усиливается и оправдывается суровым героизмом марксистского миропонимания» 55.
Маяковский — редактор журнала, не мог не быть довольным: новые мотивы в анализе стиля с «доминирующей силой» содержания — вот к чему приводил филологов-опоязовцев язык Ленина, как тема научного исследования, но и Маяковский-поэт не мог не почувствовать здесь созвучия с тем образом Лецина, который складывался в его поэме.
Как будто
минуту
один на один
остался
с огромной единственной правдой.
Он со всей серьезностью вчитывался в тексты Ленина, освежал в памяти то, что впервые узнал еще в годы юношества, но есть все основания предполагать, что отдельные ленинские цитаты, приводившиеся авторами статей, выступали ярче в свете филологического анализа, подсказывая образы поэмы, претворяясь в ней по своему.
Понаобещает либерал
или эсерик прыткий, сам охочий до рабочих шей, —
Ленин
• фразочки
с него пооборвет до нитки, чтоб из книг
сиял
в дворянском нагише...
В одной из статей, напечатанных в его журнале, Маяковский мог прочесть:
«... говоря об исторических воплях о похабном мире... Ленин сопоставляет психологию антибрестского негодования с психологией дворянчика-дуэлянта, истерически призывающего к войне
280
A. M. РОДЧЕНКО. 1922 г.
С буржуазными вояками, театрально размахивающими шпагой» (см. в другой речи, там же, на следующий день: «бросать слова и махать картонным мечом бесполезно»)»56. И вот строфа о Бресте в поэме:
Пошли эсеры
в плащах с распашонкой, ловили бегущих в свое словоблудьище, тащили
по-рыцарски
глупой шпажонкой
красиво
сразить
броневые чудища!
Изменение значения слов, возвращение слову его реального содержания (как в новом понимании слов, например, «оборонцы», «отечество») —постоянный мотив высказываний Ленина о языке, последовательная установка в его отношении к слову. В полном созвучии с этим воинствующим вниманием Ленина к утверждению реального значения слова знаменитое лирическое отступление о партии в поэме Маяковского:
Слова
у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье. Хочу сиять заставить заново величественнейшее слово —
«ПАРТИЯ».
Опыт привлечения Маяковским к работе над темой о языке Ленина специалистов-филологов оказался плодотворным. И сам поэт почерпнул в нем материал, пригодившийся ему в процессе работы над поэмой о Ленине.
Далеко не всегда так плодотворно складывались, как мы знаем, взаимодействия между Маяковским и его друзьями по «Лефу». Инерция формализма, эстетство, крикливая демонстрация новаторства во что бы то ни стало сосуществовали в «Лефе» рядом с трудными прорывами к реализму, к правде жизни, к «суровому героизму марксистского миропонимания», как об этом писал один из авторов статей о языке Ленина.
Всем устремлением своего поэтического творчества, всей убежденностью революционера поддерживал Маяковский это движение лучшей части старшего поколения советской интеллигенции, увлекая ее представителей за собой на путь больших творческих перспектив, открытых идеями Ленина.
7
ЭПОС ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Поэтическая задача — воплотить образ Ленина. Стихотворение Николая Полетаева. Последние статьи В. И. Ленина. Стихотворение «Мы не верим!» «Начал обдумывать поэму «Ленин»». Идейная почва, на которой вызревал замысел. Поэма о Ленине как произведение современное. «Источники» поэмы. Стихи Н. Асеева, В. Каменского, С. Третьякова, В. Брюсова. Поэма Н. Тихонова «Сами». Воспоминания М. Горького в журнале «Русский современник». «Чапаев» Д. Фурманова. «Железный поток» А. Серафимовича, Проблема взаимоотношений массы и личности в первых произведениях советской литературы.
В картине прощания народа с Лениным, главной картине заключительной части поэмы Маяковского о Ленине, поэт жалуется на «убогое зрение» очевидца:
Что увидишь?!
Только лоб его лишь, и Надежда Константиновна
в тумане за...
Может быть, в глаза без слез увидеть можно больше.
Не в такие я смотрел глаза.
И еще о слезах:
Я счастлив, что я этой силы частица, что общие' даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище нельзя причаститься великому чувству по имени — класс.
283
Этими признаниями измерена глубина эмоции, выражением которой была поэма, ими же определена сущность ев художественной формы. «Общие даже слезы» и столь же общие, народные, идущие от сердца к сердцу слова, общие народные боль и тревога за будущее, общее преодоление боли и утверждение силы в образах бессмертия народа, породившего Ленина. Общая народная победа над смертью в торжестве ленинизма, в создании поэтом образа гениального вождя неповторимо своеобразными средствами искусства.
«Смерть Владимира Ильича — удар не где-то вне тебя, это не беда от вообще случившегося несчастья, а боль, которую ощущает каждый отдельный человек, как будто бы именно с ним случилась личная беда, как будто именно ты лишился своего друга и руководителя... каждая единица из этих миллионов физически почувствовала, что с Владимиром Ильичем отходит в историю лучшая, самая идеальная частица его жизни, его души...» \ — так говорил М. И. Калинин. Он увидел «частицу» Ленина в каждом, т. е. по существу то же самое, что сказал Маяковский: «Я счастлив, что я этой силы частица...». Поэт утверждал общее в личном, а М. И. Калинин — личное в общем.
Весь народ захотел проститься с Лениным. Следуя просьбам рабочих и крестьян с далеких окраин СССР и делегаций от заграничных рабочих организаций, тысячами двинувшихся в Москву, было решено отложить похороны до воскресенья, 27 января. Но в те же дни было принято другое решение. II съезд Советов Союза ССР утвердил следующее постановление Президиума ЦИК Союза ССР:
«Идя навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями и обращениями в ЦИК Союза ССР, и в целях предоставления всем желающим, которые не успеют прибыть в Москву ко дню похорон, возможности проститься с любимым вождем, Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановил:
1. Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения.
2. Склеп соорудить у Кремлевской стены, на Красной площади, среди братских могил борцов Октябрьской революции» 2.
Прощание с Лениным тех его современников, которые не успели прибыть в Москву ко дню похорон, с годами перешло в паломничество к Ленину все новых людей со всех концов родной земли и просто со всех концов земли, где Ленин был всюду родным для трудящихся и угнетенных.
«Ленин живет в сердце каждого честного рабочего.
Ленин живет в сердце каждого крестьянина-бедняка.
Ленин живет среди миллионов колониальных рабов», — неслись над всей страной, над миром и отзывались в сердцах слова воззвания «К партии. Ко всем трудящимся». Творилось небы-284
валое в истории человечества. Ни одна утрата не всколыхнула столь глубоко народные массы, не пробудила в них с такой силой сознание общности исторической судьбы всех угнетенных и обездоленных. Ленинский Мавзолей стал святыней, символом нетленности идей ленинизма и образа гения. В те дни Коммунистическая партия дала великую клятву отстоять чистоту идей-заповедей Ленина, не дать поколебать свою нерушимую цельность, свое монолитное единство. Об эту скалу разбились подлейшие попытки врагов Советской страны — империалистов, а также их лакеев — троцкистов, надевших личину скорби о Ленине и пытавшихся исказить его учение и толкнуть партию и народ на путь гибели.
До смерти В. И. Ленина о личной его биографии массы знали мало. Скудные отрывки о тех или других сторонах жизни Ильича промелькнули в печати в связи с 50-летним его юбилеем. К своему юбилею Ленин не относился как к чествованию личности. Преклонение претило ему. Н. К. Крупская, желая направить бурю народного чувства, вызванного смертью Ленина, в сторону идей Ленина, так отвечала в «Правде» на бесчисленные письма к ней с выражением сочувствия:
«Товарищи рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки!
Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали но Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д. — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много еще нищеты, неустройства в нашей стране. Хотите почтить имя Владимира Ильича — устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов и т. д., и самое главное, — давайте во всем проводить в жизнь его заветы» 3. И однако же поскольку передовые идеи обусловливают деятельность революционера и определенным образом вырабатывают его характер, то именно эти идеи определили все в жизни и личности Ленина— борца за освобождение трудящихся от гнета капитала.
Вот почему желание удержать от забвения, охранить от искажения, закрепить в памяти большое и малое в Ленине, все, что с ним связано, стремление воссоздать дорогой образ в его неповторимо живых чертах — это желание охватило всех и, естественно, выдвинулось как неотложная задача искусства. На собраниях трудящихся в городе и в деревне, на рабочих митингах и профессиональных съездах, на конференциях учителей и ученых, клубных работников и библиотечных работников, на мировых конгрессах Профинтерна и Коммунистического Интернационала — всюду первое слово было о нем, об Ильиче. И о чем бы ни шла речь, какой бы вопрос ни обсуждался, Ленин участвовал в нем своей мыслью и примером, подвигом всей своей жизни и обаянием
285
своей личности. Ненасытно было желание узнавать о нем все новые и новые подробности. Воспоминания о Ленине его боевых соратников призваны были утолить бесконечную жажду познания Ленина, конкретного и бесконечного в нем. Завтра надо жить, сегодня горе — с этим чувством дисциплинировали себя массы в повседневном, героическом труде. Создать памятник Ленину — эта задача взволновала людей искусства. Сначала казалось, что для решения ее не хватит сил. Это состояние было временным. История дала художникам — современникам Ленина — преимущества лично пережитого, которых не будет, не может быть у «товарищей-потомков». Не бессилие, а страстное желание подняться на уровень беспримерной задачи продиктовало первые слова воззвания Центрального комитета Все-рабиса к деятелям всех родов искусств: «Беспомощны слова, тускла краска...» «Слова бессильны» — постоянная жалоба статей, речей, воспоминаний о Ленине. 3. Кржижановская, жена Г. М. Кржижановского — одного из близких и давних соратников Ленина, — сама хорошо знавшая его, — не могла не сказать, не признаться в книге журнала «Молодая гвардия», посвященной Ленину и вышедшей в свет в апреле 1924 г.:
«Несколько раз начинала и бросала, ибо страшно трудно писать об Ильиче.
Боишься каждой неточной фразы, боишься банальных слов, боишься исказить его чудесный образ»4.
Это чувство было общим, как те «слезы из глаз», о которых писал Маяковский в поэме о Ленине. Поэтому не столь существенно, прочитал ли поэт отрывки из воспоминаний 3. Кржижановской «Несколько штрихов из жизни Ильича», которые были напечатаны в том же номере «Молодой гвардии», где впервые появилась и его «Комсомольская». Вероятно, прочитал, потому что уже в это время неотрывно думал над своей поэмой о Ленине и жадно искал вот такие живые штрихи из жизни Ильича. Но если и не прочитал, то сказал от себя то же самое, что и Кржижановская, сказал по-своему об общем чувстве. И это самое важное в подобных совпадениях.
Я боюсь
этих строчек тыщи, как мальчишкой
боишься фальши.
В статьях и речах после смерти Ленина вновь и вновь всплывали скромные строчки Николая Полетаева:
Портретов Ленина не видно.
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно, Недорисованный портрет,
286
Перо, резёц и кисть не ь сйлах
Весь мир огромный охватить, Который бьется в этих жилах И в этой голове кипит...
Эти стихи полны благоговения, но не о бессилии твердили они, а о возможностях поэзии, к выполнению долга призывали поэта уже одним тем, что «охватывали» в полную силу «мир» Ленинской темы.
Они сразу же стали знаменитыми и остались непревзойденными по замечательно выраженной в них оценке огромности и сложности поэтической задачи, поставленной историей перед людьми искусства.
Стихотворение Н. Полетаева появилось в журнале «Прожектор» в знаменательную дату — 30 августа 1923 г.
«Горькая дата, незабываемый день...», — писала «Правда», посвятившая почти целиком свои страницы описанию события этого дня на заводе Михельсона, воспоминаниям рабочих, участников митинга, на котором выступал Ленин, когда агенты буржуазии — эсеры — пытались убить его.
«Мировой пролетариат носит в своем сердце пули, пробившие грудь тов. Ленина. Он возвратит их своим врагам в час решительного боя за коммунизм. Он пошлет их в сердце буржуазии», — эти грозные слова, напечатанные крупно, напоминали с первой полосы «Правды» о силе советского народа, сплоченного любовью к Ленину.
«Наш Ильич», — называли его рабочие, вспоминавшие во всех подробностях обстановку злодейского покушения. Враги воспользовались близостью вождя к массе, его готовностью ответить каждому на вопрос, его желанием каждую минуту после выступления — даже на пути от трибуны к ожидавшей его машине — использовать для беседы с людьми, толпившимися вокруг своего родного Ильича. В этот момент и раздался предательский выстрел.
На том месте, где земля впитала кровь Ленина, был поставлен первый камень будущего памятника. На фотографии «Правды» был изображен сквер, разбитый вокруг этого камня, рядом с ним мирно играли дети. Снимок уводил далеко от того, что произошло здесь пять лет назад.
Вернуть явь этого дня, осмыслить ее мог художник, поэт. В своей поэме о Ленине Маяковский писал:
Ты знаешь
путь
на завод Михельсона?
Найдешь
по крови
из ран Ильича.
287
В этом поэтическом образе высказана тревога масс за жизнь Ленина.
Тревогой был наполнен весь 1923 год. Весной этого года Коммунистическая партия отмечала 25-летие со дня I съезда партии. Фигура Ленина отчетливо вырисовывалась на фоне этой большой памятной даты в своей действительной роли — гениального основоположника партии.
Приближался XII съезд Коммунистической партии. Незадолго перед его открытием Емельян Ярославский писал, что «на каждом собрании рабочие подают записки о здоровье тов. Ленина, и в тревожных вопросах о том, скоро ли вернется тов. Ленин к работе, звучит такая любовь, такая нежность к тов. Ленину, какой не знает и не знал ни один вождь рабочего движения» 5.
С горьким, тяжелым чувством приучал себя рабочий класс к тому, что на этом съезде он не увидит своего вождя, не услышит его голоса. Однако связь с Лениным, с работой его мысли у народа не прерывалась: в «Правде» появились новые статьи Ленина, датированные январем—мартом 1923 г.: «Странички из дневника», «О кооперации», «О нашей революции» и, наконец, «Лучше меньше, да лучше». В этих статьях, ставших его завещанием, Ленин заглядывал далеко вперед, объясняя успехи Советской республики, и предостерегал о грозящих ей опасностях. В «Страничках из дневника» он высмеивал «тех, кто витал и витает в эмпиреях «пролетарской культуры»» 6, бичевал расточительство и выдвигал задачу — для развития народной грамотности поставить народного учителя на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не может стоять в буржуазном обществе. «Как можно меньше выкрутас» 7, — требовал Ильич, показывая, как изменилось значение кооперации при социализме, открывая в ней понятный и доступный миллионам крестьян путь перехода от мелкого единоличного хозяйства к крупным производственным артелям — колхозам. А в небольшой заметке по поводу записок меньшевика Н. Суханова Ленин издевался над педантством мелкобуржуазных демократов: тех, кто думает, что учебник, написанный по Каутскому, предусмотрел все формы развития дальнейшей мировой истории «своевременно было бы объявить просто дураками»8. «Почему не воспользоваться какой-нибудь шутливой или полушутливой проделкой для того, чтобы накрыть что-нибудь смешное, что-нибудь вредное, что-нибудь полусмешное, полувредное и т. д.?» 9, — спрашивал он в «Лучше меньше, да лучше», развивая свой план борьбы с уродствами бюрократизма и улучшения нашего госаппарата. Всей силой своего сарказма, негодования клеймил В. И. Ленин зазнаек и пустосвятов, защищавшихся чином и званием от настоящей работы. И так свежа, так наступательно-задорна была мысль Ленина, так окрыляюще-молодо звучало каждое его слово, что эти статьи, написанные человеком, вынужденным отойти от непосредственного участия в государственных делах
288
из-за болезни, невольно вселяли надежду на благоприятный исход ее. Они были как бы бюллетенями победы сил жизни над силой болезни.
И поэтому появление 14 и 15 марта 1923 г. первых правительственных бюллетеней о состоянии здоровья Председателя Совета Народных Комиссаров Владимира Ильича Ульянова-Ленина поразило всех, как громом.
«Бюллетень № 3 о состоянии здоровья Владимира Ильича.
Затруднение речи, слабость правой руки и правой ноги в том же положении. Общее состояние здоровья лучше, температура 37,0, пульс 90 в минуту, ровный и хорошего наполнения».
Рядом с этим бюллетенем в «Известиях» от 15 марта 1923 г. было напечатано стихотворение «Бюллетень молний». Это был первый поэтический отклик на правительственное сообщение, взволновавшее и потрясшее весь народ. Приведем его полностью, поскольку оно с тех пор ни разу не перепечатывалось.
По океанам воздуха неустанно,
Выше замшелых башен Кремля, В ночь твою мечет тревожно антенна Зыбкие молнии: слушай, Земля!
Пульсируя электромагнитной кровью,
Свинцом сгущая лиловую тень, Всем, всем, всем шлет о здоровье Ленина молнийный бюллетень.
У каждого рабочего сердце — приёмник:
Температура 37... пульс 100...
Кто может быть ему преемник?
Атланту революции? Никто!
Искровые вспышки в ночь рассея, Замыкает антенна магический круг. Это твой лихорадочный пульс, Россия! Революции мира, это ваш недуг!
Но разве огненная кровь застынет
И железный язык скует паралич?
Нет! Над трибунами снова встанет На Красной площади мира Ильич.
Автором этого стихотворения был Михаил Зенкевич — поэт, начинавший свой творческий путь еще до Октября. В 20-е годы приобрели известность его мастерские переводы стихов немецкого революционного поэта Фрейлиграта, с которым Зенкевич едва ли не впервые познакомил русского читателя.
Маяковский, тесно связанный в этот период с «Известиями» и хорошо знавший М. Зенкевича, обратил внимание на это стихотворение. «После напечатания стихов, — вспоминает М. А. Зенкевич, — на лестнице редакции «Известий» я встретился с Ма-
19 В. Перцов
289
яковскйм. Он остановил меня и одобрительно отозвался об этом стихотворении, сказав «хорошо», только вот сомнительна рифма — «паралич — Ильич». Разговор был на ходу, беглый, и я не успел спросить, почему эта рифма не понравилась Маяковскому. Подумал, что, возможно, он считает неправильным ударение на последнем слоге «паралич» (Довольно часто говорят «паралич» с ударением на втором слоге.)»10.
В стихотворении М. Зенкевича Маяковского могло привлечь впервые выраженное поэтическими средствами общее чувство, которым был захвачен и сам Маяковский, стремясь найти ему выражение. Постановка поэтической задачи, как известно, никогда не бывает уделом одного автора, к решению ее привлекается обычно много людей, работающих в данной области искусства, привлекаются они без объявлений «условий конкурса» и, сами порою того не сознавая, помогают друг другу. Большой поэт составляет закономерное звено в литературном процессе, опираясь на работу своих предшественников и современников, учась на их удачах и ошибках, иногда отталкиваясь и от положительного и от отрицательного в их опыте. Если сопоставить стихотворение М. Зенкевича «Бюллетень молний» и вскоре появившееся вслед за ним знаменитое стихотворение Маяковского на ту же тему «Мы не верим!», то можно отчетливо увидеть действие этого закона на конкретном примере. Это тем более заслуживает внимания, что стихотворение «Мы не верим!» можно рассматривать как подступ к тому замыслу, о котором Маяковский в автобиографии в главке «23-й год» написал: «Начал обдумывать поэму «Ленин»».
Конечно, в стихотворении М. Зенкевича, на которое обратил внимание Маяковский, можно было бы указать на более существенные недостатки, чем та или иная сомнительная рифма. Например, лишены были конкретности и не совсем понятны образы «Пульсируя электромагнитной кровью, свинцом сгущая лиловую тень...» Или: «Искровые вспышки в ночь рассея, замыкает антенна магический круг». Большой и серьезный разговор о распространении тревожной вести «замыкался» здесь в «магический круг» литературщины. Но в особенности сомнительно было двустишие:
Кто может быть ему преемник?
Атланту революции? Никто!
И тем не менее все эти недостатки перекрывались самим образом «молнии», говорившим и о внезапности потрясения и о масштабе переживаний поистине космических, охвативших трудящихся всей земли, всего человечества. Последняя строфа была подлинно патетической в своей вопросительно-отрицательной интонации, создавая образ, сильный своим двойным значением и связанный с конкретным фактом проявлений болезни, о которых говорил правительственный бюллетень:
290
Но разве огненная кровь застынет И железный язык скует паралич? Нет! Над трибунами снова встанет На Красной площади мира Ильич.
Если рифма показалась Маяковскому сомнительной, то, вероятно, образ этой концовки привлек его верным решением темы. Очень короткое — всего четыре строфы — «Мы не верим!» до краев каждой строки наполнено негодованием, болью, отрицанием факта, с которым не мирилось представление о неотразимой силе мысли и стремительности речи Ленина: силу последней можно было сравнить со стихией.
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный ленинский язык.
В этом образе есть, конечно, опора на «Бюллетень молний» М. Зенкевича с его последней главной строфой. Однако если у Зенкевича параллелизм между грандиозными явлениями природы и стихийной силою ленинского слова лишь смутно наметился, то в стихотворении Маяковского этот параллелизм стал стержнем движения образа и, по справедливому замечанию А. Аб? рамова, сблизился с параллелизмом, типичным для народного творчества. Маяковский «усилил частоту, яркость и энергичность такого параллелизма тем, что между сопоставляемыми явлениями устранил внешний признак сравнения. Явления природы и явления ленинской жизни взяты самостоятельно. Этим устранена наивность, некоторая мифологичность параллелизма, безусловно оказавшаяся бы неуместной в этом стихотворении Маяковского. Таким образом, из сопоставления удалена всякая тень буквальности. Сопоставление очень ярко своим лиризмом и тем огромным размахом, который придается им всему стихотворению» 11.
В стихотворении «Бюллетень молний» сквозила некоторая растерянность в трактовке взаимоотношения массы и «Атланта революции». Маяковский полемизирует со стихотворением, появившимся в «Известиях», и дает совершенно иное решение вопроса о «преемнике».
Нет!
не ослабеет ленинская воля
в миллионносильной воле РКП.
19*
291
25 марта 1923 г. Маяковский выступил с чтением «Мы не верим!» в Доме печати. Дом печати — клуб журналистов начала 20-х годов — притягивал к себе деятелей всех родов искусств и прежде всего поэтов и беллетристов. В помещении бывшего купеческого особняка на Никитском бульваре, дом 8, собирались литературные кружки и организации. В этой аудитории поэт часто выступал на диспутах и литературных вечерах.
«Горячее участие в вечере приняли поэты, — писала 26 марта 1923 г. в отчете газета «Вечерние известия». — Маяковский прочел два новых стихотворения — «Газетный день» и «Ленину», как всегда блестяще...» Так было названо в отчете стйхотворение «Мы не верим!». Тогда же Маяковский передал его в Прессбюро ЦК РКП (б), с которым был тесно связан своей агитационной работой. Под названием «Ленин» это стихотворение было напечатано в конце марта в газетах Воронежа, Рязани, Пензы, Краснодара, Харькова, Архангельска, Красноярска, Самары, Ташкента, Самарканда.
Миллионам советских людей, охваченных чувством тревоги и надежды, нужно было слово поэта. «Мы не верим», — сказали они вместе с Маяковским:
Не хотим, пе верим в белый бюллетень.
С глаз весенних сгинь, навязчивая тень!
Ко дню рождения Ленина в «Правде» было напечатано стихотворение Демьяна Бедного «Любимому» — глубоко прочувствованное лирическое обращение к ,вождю, также выражавшее всенародную трепетную надежду, «что снова на посту ты станешь боевом, чтоб к новым нас вести победам».
Еще при жизни Ленина, в год, насыщенный тревогой за него, родилась у Маяковского творческая потребность и созрело решение создать большое произведение о Ленине. В чем заключался процес «обдумывания» поэмы о Ленине, отмеченный поэтом в скупой фразе автобиографии? В бумагах поэта и в его письмах не сохранилось об этом никаких следов, таких, например, какими мы располагаем о поэме «Про это». Можно лишь сказать, что гема Ленина, выдвинувшись в творческом сознании поэта еще в 1923 г., пронизала все и связалась со всем, что делал поэт в это время. Это отразилось и на словесном материале; вступительные строчки стихотворения «Мы не верим!»:
Тенью истемня весенний день, выклеен правительственный бюллетень... —
перефразировали строку из только что законченной поэмы «Про это», из вступления к ней: «Эта тема день истемнила в темень. ..»
292
«Обдумывание» поэмы о Ленине не могло не коснуться главного вопроса, несколько наивно выраженного в стихотворении М. Зенкевича — о преемнике «Атланта революции». Маяковский воспринимал Ленина как воплощение «миллионносильной воли» партии. В процесс обдумывания поэмы о великом вожде — гении революции — важным звеном вошла поэма «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского». Поэма была написана в конце 1923 г. и появилась в № 4 «Лефа». Это был гимн в честь индустриальной базы социализма, так называемой Курской аномалии. Ожидания, связанные с открытием богатейших залежей железной руды, подкреплены дальнейшими разысканиями, растянувшимися на много лет.
Догадки академика П. П. Лазарева, пытавшегося раскрыть тайну Курской аномалии, в районе которой магнитная стрелка компаса давала неправильные показания, увлекали своей смелостью. «Наше железное будущее», — озаглавила «Правда» свою передовую, посвященную этой теме 12. Исследования в районе Курской аномалий, начавшиеся еще в период гражданской войны, по указанию В. И. Ленина, в обстановке боев за Советскую власть, как бы предваряли ту большую работу по освоению богатств нашей страны, которая развернулась в эпоху социалистических пятилеток.
Перспективы социалистического «железного будущего» волновали Маяковского в тем большей степени, чем больше удручала его народная нужда, нищета России, унаследованная от прошлого:
«Кто был ничем, тот станет всем!» Станет.
А на деле — как феллахи — неизвестно чем распахиваем земь. Шторы пиджаками на плечи надели.
Горькие, иронические интонации уступали место патетике великолепной картины геологического процесса, отстоявшегося залежами железа, которое
Бороло
каких-то течений сливания, какие-то горы брало в разбеге, под Крымом
ползло,
разогнав с Пенсильвании, на Мурман
взбиралось,
сорвавшись с Норвегии,
293.
Бежало от немцев, боялось французов, глаза косивших на лакомый кус, пока доплелось, задыхаясь от груза, запряталось
в сердце России, под Курск.
Железо — одушевленный предмет в этой поэме, потому что оно воодушевляет героя поэмы — рабочего»—мечтой «в землю врыться». Вот кто истинный герой — человеколюбец, вот где истинная романтика наших дней, которую поэт хочет противопоставить дешевой буржуазной романтике.
Слушайте, пролетарские дочки: пришедший в землю врыться, в чертежах размечавший точки, он — сегодняшний рыцарь!
Он так же 'мечтает, он так же любит.
Такими рыцарями поэт видит сынов рабочего класса, своих современников, и это дает ему возможность со всей силой провозгласить:
Пусть
разводят
скептики
унынье сычье:
нынче, мол, не взять,
и далеко лежит.
Если б
коммунизму
жить осталось только нынче, мы
вообще бы
перестали жить.
294
Коллективному герою, составляющему «тысяч тридцать курски! женщин и мужчин», поэт хочет поставить своим произведением «временный памятник»:
Двери в славу — двери узкие, но, как бы ни были они узкй> навсегда войдете вы, кто в Курске добывал железные куски.
Поэт стремился обрисовать «сегодняшнего рыцаря» не однобоко, а всесторонне, с его любовью и мечтами. Однако образ народа-героя обеднен в этой поэме лефовским противопоставлением массы и личности, отрицанием роли личности. Значение «временного памятника» ослаблено и тем, что полемический удар поэмы, направленный против индивидуалистов разных толков, попадает почему-то в классиков великой русской литературы, памятники которым вызывают у поэта ироническое отношение:
Я считаю, обходя бульварные аллеи, скольких наследили юбилеи?
Подлинными памятниками творческого труда рабочих, добывших первую железную руду, поэт считает «бегущий памятник — курьерский» или, например, «трактор — самый убедительный электролектор». Это, конечно, бесспорно. Но разве «сегодняшний рыцарь», о котором с такой симпатией говорит поэт, не должен быть увековечен резцом и кистью? Разве среди тех «тысяч... курских женщин и мужчин» не было таких, которые стали гордостью всего коллектива и, стало быть, заслуживают того, чтобы каждому из них было воздано по заслугам? Между тем поэт отрицает это право за отдельными людьми, признавая его только за коллективом:
В ваш столетний юбилей не прольют
Сакулины
речей елей.
295
Ты работал,
ты уснул
и спп—-только город ты,
а не Шекспир.
Нетрудно понять, что «либеральное словоблудие» того или иного профессора литературы в юбилейные дни вызывало у Маяковского законный протест. В те годы, о которых идет речь, «надклассовый» или же, напротив, «революционный» елей отнюдь не способствовал пониманию истинного значения классика и усвоению его наследия. Но почему рабочий, «в чертежах размечавший точки», не заслуживал личной благодарности в памяти человечества на равных правах с поэтом?
«Временный памятник рабочим Курска» остается памятником противоречий в творчестве Маяковского, которые мешали ему осуществить до конца свои великолепные замыслы. Эти противоречия отражались и на художественной стороне поэмы. По замыслу ее она была обращена к широкому читателю, а в то же время в отдельных моментах была понятна только узкому кругу литераторов, в первую очередь литературному кружку, с которым был связан поэт. Сочувственно настроенная к Маяковскому часть советской литературной критики уловила этот недостаток поэмы. В своей статье о ней в библиографическом журнале «Книгоноша» Д. Благой писал:
«Возьмем, например, аппарат его сравнений из поэмы, посвященной Курской аномалии и тем грандиозным перспективам, которые она открывает грядущему коммунизму: «Над Курском стрелки лезут в стороны, как Чужак», «в пустырях ветров и снега бред, под ногою грязь и лужи вместе, непроходимые, как Альфред из «Известий»». И дальше критик отмечал, что «масштаб между мировой победой коммунизма и сокрушением ненавистного «Альфреда из «Известий»», ополчившегося на журнал, редактируемый Маяковским, несоизмерим».
Поэма была центральным произведением в сборнике стихов Маяковского, написанных в 1923 г. Давая оценку сборнику в целом, Д. Благой приходил к такому выводу:
«В своем творчестве, начиная с периода «Желтой кофты» до «Войны и мира», «Человека», «Нашего марша» и проч., Маяковский непрестанно подымался по крутому отвесу. В его новой книжке мы находимся с поэтом на некоем плоскогорье, залитом лучами его художнической зрелости, достигнувшей большого мастерства» 13.
Критик высказывал надежду на то, что поэт свою «короткую передышку заменит новыми подъемами». Таким подъемом и оказалась поэма Маяковского о Ленине.
296
Известно, что эта поэма открывает новый, наиболее плодотворный в идейном и художественном отношениях период его творчества. С другой стороны, она же и закрепляет все лучшее, что было в его предшествующем? развитии. Значение этой поэмы для развития советской литературы трудно преувеличить. Мимо тех художественных принципов, которые были положены Маяковским в основу решения им образа Ленина, не может пройти ни один поэт, по-своему и в соответствии со своей художественной индивидуальностью подходящий к решению той же задачи. По признанию одного из художников слова, сочетание показа большой человечности Ленина с освещением его грандиозной всемирно-исторической деятельности, которое достигнуто в поэме Маяковского, всегда будет путеводным маяком для писателей, вступающих на этот путь.
Если дальнейшая работа над образом Ленина в нашем искусстве не может идти без учета сделанного Маяковским в этой области, то возникает вопрос: что было основой для самого Маяковского при решении этой труднейшей идейно-художественной задачи? В чем заключался «опыт», которым располагал поэт-новатор при подступе к своей теме и в период ее осуществления? Каковы были художественные образцы или хотя бы примеры решения этой темы другими поэтами в то время?
Хотя в этой монографии автор отнюдь не ставил своей задачей написать историю советской поэзии, но в какой-то мере, стремясь ответить на эти вопросы, приходится решать именно эту задачу, потому что вне истории советской поэзии нельзя понять и объяснить становление Маяковского.
*
О поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин» написано много. Библиография указывает свыше сотни названий статей и отдельных книг, посвященных ей, не считая специальных глав о поэме в общих работах о Маяковском.
Критическое изучение поэмы ввело в обиход науки и школы много ценного и плодотворного, что обогатило и углубило понимание ее читателем как художественного произведения. Тем не менее следует указать на одну тенденцию, общую для многих работ как появившихся в печати, так и неопубликованных (диссертации) , которую нельзя признать плодотворной, а именно — на стремление трактовать поэму «Владимир Ильич Ленин» так, как если бы Маяковский писал произведение на историческую тему, а не современное и как если бы Маяковский был не поэт, а ученый.
Обычно пишущие об этой поэме выделяют только одну часть творческой работы Маяковского над ней — изучение марксизма-ленинизма, не ставя перед собой задачу понять роль этого изучения в общем творческом процессе отражения поэтом новой дей
297
ствительности. Иногда создается впечатление, что поэма Маяковского является лишь иллюстрацией к сочинениям Ленина.
С этим можно встретиться в десятках работ об этой поэме Маяковского, причем образ Ленина предстает в них едва ли не как иллюстрация к сочинениям Ленина и как воссоздание биографических материалов о его жизни и деятельности, собранных поэтом. Эту особенность, характерную для определенного этапа изучения искусства Маяковского и творческой истории его поэмы о Ленине, необходимо охарактеризовать на конкретных примерах, чтобы глубже понять идейно-художественное своеобразие решения Маяковским поставленной им задачи.
Если нам говорят, что подход к решению образа исторического деятеля (скажем, Петра I или Ивана Грозного) писатель нашел в том или ином научном историческом труде (например, а «Истории Государства Российского» Карамзина или в сочинениях Ленина), то подобное утверждение имеет совершенно реальный смысл: оно освещает ту идейную позицию, с которой были осмыслены факты отдаленной эпохи, изучаемой писателем по книгам и историческим источникам. Несколько иной характер получает та же мысль в отношении поэта-современника, изображающего историческое лицо, так сказать, с натуры.
Нет никакого сомнения, что, работая над поэмой о Ленине, Маяковский искал и находил опору для создания образа вождя в его сочинениях и, вероятно, с особым чувством перечитывал произведения, знакомые ему еще с юношеских лет. Если учесть работу Маяковского в Окнах Роста и весь характер его политической лирики, то следует сказать с полной уверенностью, что поэт не просто читал все речи и статьи Ленина в самый момент их появления в «Правде» и «Известиях», но и вчитывался в них.
Мысли и слова Ленина осваивались поэтом-современником, активным участником той действительности, которую гений революции раскрывал своим анализом до самого корня, обнажая ее движущие силы и вовлекая Маяковского — гражданина и человека в ответное действие вместе с миллионами людей, к которым обращался Ленин.
Естественно, что Маяковский с особым вниманием и взволнованностью прочел ту речь, в которой В. И. Ленин упоминал о нем в связи с «Прозаседавшимися», и можно сказать, что поэт-современник воспринял эти слова Ленина как обращение к нему живого Ильича. Но Маяковский видел Ленина близко, видел и слышал не раз и в Смольном и на съездах Советов. Оценивая критически работу художников, рисовавших Ленина с натуры, поэт вспоминал: «... Я видел, как они, сидя со мной рядом на многих заседаниях, на которых выступал Владимир Ильич, скрипели своими карандашами» 14. Поэт был в Колонном зале, прощаясь с Лениным, и на Красной площади, «до боли раскрыв убогое зренье»,
2ЭД
«Ничем не приметный дом в Охотном ряду, близ гостиницы «Москва», которой тогда не было и в помине. В этом доме была редакция «Рабочей газеты». В лютые морозные ночи, когда Москва прощалась с Лениным, когда к Дому Союзов медленно двигался неисчерпаемый людской поток и облака пара от дыхания клубились над головами людей, в комнату редакции вошел застывший от холода Маяковский. Он снял перчатки, дул на руки и глядел сквозь замерзшее оконное стекло; это длилось недолго, несколько минут. Вот он уходит, снова пересекает улицу и опять и опять — в который раз! — идет в самый конец очереди, где-то за Страстным монастырем, чтобы еще раз вместе с народом, в тесных рядах, плечом к плечу с рабочим людом Москвы и России пройти через Колонный зал перед гробом Ленина» 15.
Таким запомнился Маяковский в траурные январские ночи 1924 г. Л. Никулину, рассказавшему о нем в своих известных воспоминаниях.
Впечатления этих дней были потрясающими и обусловили главное в заключительной части поэмы о Ленине. Поэтому говорить о том, что, «прежде чем приступить к работе над поэмой», Маяковский изучил труды Ленина, — это значит не так освещать характер работы Маяковского в целом и, сколь ни странно, уменьшать непосредственно активную роль идей Ленина в формировании мировоззрения поэта. Кроме того, этим вносится неверный оттенок в жанровую характеристику поэмы.
В таком освещении Маяковский странным образом начинает походить на самого автора научной работы о его творчестве, на диссертанта, кропотливо изучающего процесс работы поэта над его замечательным произведением.
«Прежде чем приступить к поэме», Маяковский был современником Ленина, любившим Ленина так, как его любил весь народ, и пережившим непосредственную боль утраты. Это и было тем «фундаментом», на котором построен образ Ленина в поэме.
Никто не собирается отрицать значения книжных источников или огромного значения чтения Маркса и Ленина для создания поэмы, но здесь следует повторить то, что сказал Маяковский о выборе им в жизни революционного пути:
Мы открывали
Маркса каждый том, как в доме собственном мы открываем ставни, но и без чтения
мы разбирались в том, в каком идти, в каком сражаться стане.
299
Поэтом-современником, а не историком создан в поэме образ Лепина, и этот факт является «фундаментом» образа. Другое дело, что созданное поэтом-современником правдивое и высокохудожественное произведение о великом историческом лице приобретает значение исторического произведения, что для создания этого образа автору понадобилось специальное обращение к источникам разного рода. Так поступает и всякий романист, пишущий на современную тему, сохраняя все свое принципиальное отличие от писателя, пишущего на тему историческую, хотя и последний свободно отрывается от своих материалов и рисует картины творческим воображением.
Подобно тому как фундамент, составляя основу здания, не составляет еще всего здания в целом, для строительства которого нужны многие и разные материалы и усилия, так и Маяковскому потребовались для выполнения его задачи некоторые дополнительные объективные условия и активные действия, чтобы создать свое произведение. Эти условия и действия в совокупности и являются тем «опытом», на который опирался поэт в своей работе.
После всего сказанного понятно, что говорить об «источниках» поэмы Маяковского о Ленине в таком смысле, как принято говорить о материалах для создания художественного исторического произведения, будь то «Борис Годунов» Пушкина или «Петр I» А. Н. Толстого, было бы искусственно. Отовсюду стекались к поэту и овладевали его творческим сознанием, уже нацеленным на осуществление замысла, «детали», штрихи из жизни Ленина, большие идеи, выражавшие суть его исторического дела. «Материал» для решения своей задачи поэт черпал в самой действительности, в народном мнении о Ленине, беспримерно едином во всех своих выражениях — от случайного разговора, подслушанного в толпе, до трибуны II Всесоюзного съезда Советов, открывшегося 26 января 1924 г. заседанием, посвященным памяти Ленина.
Маяковский дышал тем же воздухом истории, которым дышал Ленин.
22 января была прервана работа XI Всероссийского съезда Советов после сообщения М. И. Калинина о смерти вождя. В своей литературной хронике В. Катанян пишет, что Маяковский «22 января присутствовал на заседании XI Всероссийского съезда Советов, на котором М. И. Калинин сообщил о смерти Владимира Ильича Ленина 21 января». В качестве обоснования этого факта автор хроники в разделе «Дополнения» указывает: «22 января — см. III часть поэмы «Владимир Ильич Ленин»».
Правильно ли поступает автор с методологической стороны? Хотя ссылка на картину исторического заседания съезда Советов, нарисованную Маяковским в III части его поэмы, не является документальным подтверждением участия поэта в указанном заседании, но в данном случае составитель хроники имел основание 300
сослаться на нее. Разумеется, Маяковский-художник мог нарисовать эту картину и не участвуя в заседании съезда, вспоминая то, что он видел на улицах, то, что было на устах у всех, обобщая свои впечатления того дня, когда во всех газетах была напечатана короткая речь М. И. Калинина. Тем не менее, основываясь на характерных для стиля Маяковского особенностях связи образа с фактами его биографии, на том, как нарисована картина заседания съезда, можно видеть в ней подтверждение присутствия Маяковского на нем.
Точно так же и в картине похорон Ленина на Красной площади, нарисованной Маяковским в поэме, можно видеть подтверждение того факта, что 27 января 1924 г. Маяковский присутствовал на Красной площади.
Обоснованием этого факта может служить отчасти и самый характер рассказа от первого лица:
До боли
раскрыв
убогое зрение, почти заморожен, стою не дыша. Встает
предо мной
у знамеп в озарепии темный земной неподвижный шар.
Над миром гроб неподвижен и нем.
У гроба —
мы,
людей представители, чтоб бурей восстаний,
дел и поэм размножить то, что сегодня видели.
Только силой поэтического воображения можно было увидеть «у знамен в озарении темный земной неподвижный шар», создав этим реалистический образ всемирно-исторического значения события. Но для того, чтобы создать этот образ, нужно было видеть событие, писать с натуры. «До боли раскрыв убогое зрение» и дальше — «почти заморожен, стою не дыша» — это не только образ, но и воспоминание, не только поэзия, но и автобиография.
«С похорон Ильича Маяковский возвращается потрясенный. Он дует на онемевшие от мороза пальцы, как-то весь кривится и молчит» 16, — пишет в своих воспоминаниях писательница Н. Кальма.
301
Уточнение этих фактов биографии Маяковского имеет значение для творческой истории поэмы. Напомним, когда поэта упрекали за некоторые детали в его трактовке образа Ленина, он возражал:
«Немногим из нас было дано счастье увидать тов. Ленина. Взятый мной факт один из тех, которые я описывал с натуры. Эта картина была в дни революции буквально списана с тов. Ленина. ..» 17
Одним из фактов, списанных с натуры, было и историческое заседание XI Всероссийского съезда Советов с сообщением М. И. Калинина. Исключительную по значительности синтеза картину Маяковский подкрепляет силой личного переживания:
Потолок
на нас
пошел снижаться вороном.
Опустили головы —
еще нагни!
Задрожали вдруг
и стали черными люстр расплывшихся огни.
В картине заседания есть одип оттенок, говорящий о том, что она написана его участником. Заседание 22 января, ставшее историческим, было рядовым заседанием XI Всероссийского съезда Советов, продолжавшегося уже четвертый день. После того, как по предложению М. И. Калинина оно было прервано в связи со смертью В. И. Ленина, через четыре дня был созван II Всесоюзный съезд Советов, первое заседание которого, как уже сказано, было посвящено памяти Ленина. В III части поэмы Маяковского есть только одно заседание — 22 января, и оно изображено, как подчеркнуто обыкновенное, рядовое, будничное:
Усаживались,
кидались усмешкою, решали, походя, мелочь дел.
Пора открывать!
Чего они мешкают? ..
Это написано по живому воспоминанию, по неостывшему, сохраненному памятью впечатлению, послужившему основой для образа.
Маяковский начал писать свою поэму о Ленине вскоре после его смерти и работал над ней больше полугода (примерно между мартом и сентябрем 1924 г.). Близость к событию облегчила работу памяти, сохраняя остроту переживания, помогала решить
302
задачу от лица современников — для тех, у кого не высохли еще «общие даже слезы из глаз». Николай Асеев так описывает Маяковского в январские дни 1924 г.:
«Обычно оживленный и резко реагирующий на все впечатления, в те дни он почти не разговаривал. Он как бы собрал себя в один комок мускулов, в один кулак нервов, чтобы не дать настоящему горю, огромному горю прорваться и рассредоточиться во внешних проявлениях его. Он уже тогда готовил всю свою творческую силу к тому, чтобы не проронить ни единой подробности восприятия этого общего горя всех трудящихся, чтобы выразить его не шаблонными, а неповторимыми средствами изъявления, как неповторимо было оно само» 18.
Таковы были реальные предпосылки работы над поэмой и реальные обстоятельства возникновения ее образов. Стремление трактовать поэму о Ленине как произведение на историческую тему вызывает напрасные попытки найти для этих образцов литературный «подстрочник». В монографии А. Метченко о творчестве Маяковского — одной из наиболее ценных работ на эту тему — автор пишет: «О траурных ленинских днях сохранился большой документальный материал, в частности очень богатая газетная хроника. И когда читаешь одновременно поэму Маяковского и газетную хронику, поражает точность поэта в описании фактов и явлений. Каждая строчка, каждый образ третьей части могут быть документально подтверждены» 19. Смысл сопоставления в том, что исследователь стремится найти в близости хроникального материала и образа один из возможных источников поэмы. Но все дело в том, что «источником образа» было непосредственное переживание поэта-современника, участника и свидетеля народного горя. Правда, в дальнейшем автор монографии вносит существенную поправку в свою попытку сопоставления газетной хроники и художественного образа: «Каждый факт, введенный в поэму, будучи конкретным, отличается большой обобщенностью, неразрывно связан со всей ее концепцией» 20.
Сопоставление образов поэмы Маяковского с газетными заметками увлекло и другого автора ценной и обстоятельной диссертации, В. П. Ракова. Серьезный исследователь, узнавая в 1954 г. из газет 1924 г. факты, которые поэт наблюдал непосредственно в жизни, несколько наивно перенес свой метод изучения их на автора-современника: получается, что Маяковский писал свою поэму по газетным материалам.
Маяковский любил газету и опоэтизировал ее роль в жизни. «Глаза газет» — этот образ впервые возникает у него еще в начале первой империалистической войны, в 1914 г. «Раскрыл я с тихим шорохом глаза страниц. ..»*, — повторяет он в 1927 г. Когда рапповские снобы стали упрекать Маяковского в примитивизме,
* Курсив мой. — В.П.
303
уличая его в том, что он «берет газетные лозунги и по ним пишет», поэт-трибун мог им ответить указанием на полное единство своей поэтической мысли с мыслью партии, которое делает работу над лозунгом самостоятельной поэтической работой. Однако же он решительно отверг «списывание» с газетных лозунгов. «Мы пишем не по газетным лозунгам, а по живым явлениям» 21, — заявил Маяковский.
«По живым явлениям» была написана и поэма о Ленине. Маяковский любил газетную работу, но он решительно был против того, чтобы в поэзии «кланялось событью слово-лакей, чтоб слово плелось у статей в хвосте».
Маяковский — автор современной темы, мастер вторжения в жизнь, поэт изменения действительности. С ней, с этой живой действительностью, и нужно прежде всего сопоставлять образы его поэзии, чтобы подойти к познанию особенностей его эстетики. Он поэт и философ действия, а не иллюстратор, не «спи-сыватель» газетных материалов, умевший раскрыть, если это нужно было, и «глаза» газет.
«Плакали не только женщины, — писал рабкор «Правды», — но и закаленные в борьбе рабочие, привыкшие твердо переносить всякие невзгоды и лишения». «Вот в общежитие входит товарищ, растерянный, бледный, — передает другой рабкор «Правды». — Он сообщает о смерти Ленина. И лицо у него как-то сморщилось. Сжался в комок. В голосе слезы, как-то по-детски дергаются плечи...» 22 Эти заметки сопоставляются В. П. Раковым со строфой поэмы:
Были люди — кремень,
и эти прикусились,
губу уродуя.
Стариками
рассерьезничались дети, и, как дети,
плакали седобородые.
«Корреспондент «Правды» приводит весьма характерный диалог:
— Отец, — спросил красноармеец, — ты, никак, и вчера был?
— Именно, верно, — сказал мужик. — Были мы и вчерась, также придем завтра...
— А почто? Не допустили?
— Зачем не допустили, допустили вполне, а доступу одна минута, с одной минуты в думу не вошло...»
Приведя цитату из газеты, автор замечает:
«Этот штрих, это движение народной души Маяковский также подметил и запечатлел в поэме:
304
Горе вот,
что срок минуты
мал — разве весь
охватишь ненаглядный!»
Далее приводятся высказывания многих советских людей в газетных заметках о том, что каждый из них готов был бы умереть вместо любимого вождя, и сопоставляются со словами поэмы: «Я бы жизнь свою, глупея от восторга, за одно б его дыханье отдал». Вывод, который делает В. П. Раков, совпадает с тенденцией сопоставлений с газетой — «документально подтвердить» образ современника-свидетеля и участника исторического события. В. П. Раков говорит: «Маяковский не механически переносит тот или иной образ в ткань поэмы. Он тщательно отбирает наиболее яркое выражение или слово, правдиво и глубоко раскрывающее народные чувства и думы. Он поэтически обрабатывает используемый образ. Об этом говорят все приведенные нами примеры».
Такой принцип «использования» материала типичен для автора исторической темы, но характер работы Маяковского был совершенно другой. Известно предисловие, которое Пушкин предпослал своему «Медному всаднику»:
«Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов (т. е. газет. — В. П.). Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Верхом».
Характерно, что Пушкин указывает на заимствование «подробностей наводнения», т. е. фактической стороны события, а не средств его описания. Вопрос о заимствовании изобразительных средств языка — вопрос особый и сложный, поскольку решение его связано с тем, как нехудожественный материал претворяется в художественный образ.
Независимо от того, читал или не читал Маяковский газетные заметки о траурных январских днях 1924 г., факты, «подробности», в них описанные, входили в состав той действительности, которой он жил, впитывал в себя всеми своими чувствами и мыслями. Поэтому «сличение» поэмы с указанным газетными откликами едва ли плодотворно.
Рассказы и воспоминания — «подробности» о Ленине в речах и статьях его современников и боевых соратников, неопубликованные статьи Ленина, письма его к Горькому и всякого рода биографические материалы непрерывно, изо дня в день, из месяца в месяц, печатались в газетах и журналах 1924 г., приурочиваясь к разным памятным датам жизни и деятельности Ильича.
Все это усваивалось народом и поэтом, неощутимо питая воображение поэта фактами и подробностями, необходимыми для
20 В. Перцов
305
воплощения его замысла. Маяковский остро воспринимал все эти факты в тот самый момент, когда они становились впервые известными и впервые входили в «ткань» современности, которой жил поэт. На заседании Моссовета, посвященном памяти В. И. Ленина 8 февраля 1924 г., выступила М. И. Ульянова и рассказала:
«... особенно памятно мне осталось время после окончания им (Владимиром Ильичем. — В. П,) гимназии, годы, когда он жил с нами в Казани и Самаре, до отъезда в Петроград. Весной в 1887 г. мы получили известие о казни старшего брата. Особенно запечатлелось мне выражение лица Владимира Ильича в эту минуту, когда он сказал: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти». И вот с тех пор он стал подготовлять себя к тому пути, который он считал единственно правильным для освобождения России от ига царя и капитала» 23.
Смерть Владимира Ильича Ленина заставила осмыслить дело всей его жизни, героический его подвиг. То, что рассказала Мария Ильинична о юности Ленина, о казни его старшего брата, вошло в судьбу многих людей. И для Маяковского этот эпизод из жизни Ленина не был литературным источником, извлеченным из архивных материалов или газетной подшивки. Он был фактом современности и прямо с заседания Моссовета, из рассказа сестры и друга вождя вошел в сознание поэта и, стало быть, в его поэтическое повествование.
Хорошо
в царя
вогнать обойму!
Ну, а если
только пыль
взметнешь у колеса?!
Нодготовщиком
цареубийства
пойман
брат Ульянова,
народоволец
Александр.
Одного убьешь —
Другой
во весь свой пыл пытками
ушедших
переплюнуть тужится.
И Ульянов
Александр
повешен был
тысячным из шлиссельбуржцев.
306
И тогДА
сказал
Ильич семнадцатпгодовый, — это слово крепче клятв солдатом поднятой руки:
— Брат, мы здесь тебя сменить готовы, победим, но мы
пойдем путем другим!
Рассказ Марии Ильиничны лег в основу этой картины, но, конечно, нет никакого смысла «сличать» стихи Маяковского с этим рассказом. Задача поэта, заимствовавшего исторический факт, была в том, чтобы создать картину. И Маяковский создает картину клятвы, самим ритмом стихов и подбором слов добиваясь впечатления ее крепости. Рифмуя слова «сменить готовы» со словом «семнадцатигодовый» (первые два слова почти образуют составную рифму), поэт подчеркивает, что с самых молодых лет Ленин вступил на путь революционной борьбы. Слово «семнадцатигодовый» вместо обычного «семнадцатилетний» утяжеляет вес каждого года в развитии сознания молодого Ленина и в то же время своим просторечием снимает всякий оттенок позы: «...это слово крепче клятв солдатом поднятой руки». Ильич чужд всякой позы, его величие в простоте. Чтобы изгнать всякое подобие ощущения фразы, вслед за этой торжественной строфой идет ироническая бытовая:
Оглядите памятники —
видите
героев род вы?
Станет Гоголем, а ты венком его величь.
Не такой —
чернорабочий, ежедневный подвиг на плечи себе
взвалил Ильич.
А дальше следуют «мелочи» подвига во имя высокой цели — социализма:
Он вместе учит в кузничной пасти,
20*
307
как быть, чтоб зарплата взросла пятаком. Что делать, если дерется мастер.
Как быть,
чтоб хозяин
поил кипятком.
«Подробность», заимствованная из рассказа Марии Ильиничны, послужила толчком для художественного образа, для создания характера. Рассказ этот, сообщая факты прошлого, которые автор поэмы о Ленине не знал, не мог видеть и наблюдать непосредственно, можно рассматривать в ряду тех, условно говоря, исторических источников, которые были использованы Маяковским в его поэме. Другое дело газетные отчеты о тех исторических днях, непосредственным участником и свидетелем которых был поэт. Нелепо было бы отрицать, что, просматривая газеты, поэт читал эти заметки и отчеты, но трактовать последние как источники лирических образов значило бы упрощать специфику поэтического творчества. Объяснять «заимствованием» из газетного отчета отдельных слов и выражений возникновение у поэта тех или иных изобразительных средств так же мало обосновано, как связывать лексику поэтического образа, в котором поэт отражает современность, «заимствованием» самых обыкновенных слов из толкового словаря языка.
Понятие «источник» не стоит расширять и тем более злоупотреблять им, создавая видимость наукообразия. Натяжки и вульгаризация подстерегают здесь исследователя на каждом шагу. Только условно можно считать взятыми из исторических источников те подробности о жизни и деятельности В. И. Ленина, которые Маяковский имел возможность почерпнуть во многих воспоминаниях и выступлениях боевых соратников основателя Коммунистической партии и Советского государства. Достаточно вспомнить рассказы, статьи и выступления М. И. Калинина, А. В. Луначарского, Ем. Ярославского и многих других. Все это глубоко осмыслено и поэтически претворено в поэме Маяковского о Ленине.
Среди выступлений соратников В. И. Ленина на первом заседании II Всесоюзного съезда Советов было одно, которое взволновало всех. Разные люди одинаковыми словами выражали свои чувства, свое впечатление от речи Н. К. Крупской — жены, друга, неразлучного помощника Владимира Ильича.
«Надежда Константиновна сказала правду во всех нас потрясшей речи на заседании съезда Союза, что Владимир Ильич не любил говорить о своей любви, но сердце его было полно любви 308
ко всем угнетенным», — писал А. В. Луначарский вскоре после заседания съезда Советов, о котором шла речь24.
А профессор Отфрид Ферстер, один из иностранных врачей, лечивших Ленина, вспоминал:
«В субботу, в полдень, в здании Большого театра было произнесено много надгробных речей, из них наибольшее впечатление произвели слова Надежды Константиновны Крупской, супруги умершего, развернувшей все величие и значение Ленина» 25.
Это «наибольшее впечатление» — так выразил Михаил Кольцов в заметке «Жена. Сестра», напечатанной в «Правде»:
«На съезде Советов в переполненном колодце Большого театра, когда стало тихо до суши в горле и вышла Надежда Константиновна, она сказала самое в эту минуту неожиданное, но самое простое и самое нужное» 26.
Поскольку это слово стало частью траурных дней, выразив общее, народное чувство, то оно, конечно, вошло и в сознание поэта, жившего одной жизнью с народом. Мы приведем полностью речь Надежды Константиновны не для того, чтобы «сличать» с ней поэму Маяковского, а чтобы дать читателю почувствовать воздух истории, которым дышал поэт в те дни.
М. И. Калинин открыл траурное заседание «рабочего парламента», как он назвал съезд Советов в своей вступительной речи. Первое слово он предоставил «жене Владимира Ильича Надежде Константиновне Крупской»:
«Товарищи, то, что я буду говорить, меньше всего будет напоминать какую-нибудь парламентскую речь. Но я говорю, товарищи, представителям республик трудящихся, близким, дорогим товарищам, которым предстоит строить жизнь на новых началах, и поэтому, товарищи, думаю, что я не должна связывать себя никакими условностями.
Товарищи, эти дни, когда я стояла у гроба Владимира Ильича, я передумывала всю его жизнь, и вот что я хотела сказать вам. Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. Никогда этого не говорил он сам, да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую, менее торжественную минуту. Но я говорю об этом потому, что это чувство он получил в наследие от русского героического революционного движения. Это чувство заставило его страстно и горячо искать ответа: каковы должны быть пути освобождения трудящихся? Ответ на свои вопросы он получил у Маркса. Не как книжник подошел он к Марксу. Он подошел к Марксу как человек, ищущий ответов на мучительные настоятельные вопросы, и он нашел там ответы. С этими ответами пошел он к рабочим. Это были девяностые годы. Он не мог говорить тогда на митингах. Пошел он в Петрограде в рабочие кружки. Пошел он рассказать то, что он узнал у Маркса, рассказать о тех ответах, которые он там нашел. Но пришел он к рабочим не как надменный учитель. Он пришел как товарищ.
309
Политехнический Музей
В ПОНЕДЕЛЬНИК» 17* ОКТЯБРЯ в ?л нас.
ПОД П^£Д€£ДАТСПЬСТШЖ.
Валерий БРЮСОВА
стат В JK* ЛЕ* JP^ 8Ш поэтическим жжжжжэгж и ж^₽^жжжх~
С ДЕКЛАРАЦИЯМИ и СО СТИХАМИ ШСТУЯЯТ» ГОвСИНО
В, fews*. 8 Ы*>мш
ФВТЖПЫ>^« Ца»аж В. feBwwtf. X g &3sw©s«« ишжижш* Hysstm Л # $Wte* g Шфввжвм
жо?таожш: с лшотаы>. Вз«?«Ж Д IgBBWi ИНЧСВОО' & &W»a8 В ?$>*> £ (i« »М1ЖГ* й £»«$.
ПОДРОБНОСТИ & HWFAMMAX &tw* К8«мв*а «жеяи«ш«» » шю» &ga» UjfessmS s$ 4 i X s< « ж ,
АФИША ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЭТОВ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 1920 г.
Он не только говорил и рассказывал, он внимательно слушал то, что говорил ему рабочий. А питерские рабочие говорили ему не только о порядках на фабрике, не только об угнетении рабочих, они говорили ему о своей деревне.
В зале Дома Союзов, у гроба Владимира Ильича я видела одного из рабочих, который был тогда в кружке у Владимира Ильича. Это — тульский крестьянин. И вот этот тульский крестьянин, рабочий Семениковского завода, говорил Владимиру Ильичу: тут в городе мне все трудно объяснить, а пойду я в свою Тульскую губернию и скажу все, что вы говорите: своим родным я скажу и скажу другим крестьянам. Они мне поверят. Я ведь свой. И тут никакие жандармы нам не помешают.
Мы вот теперь много говорим о смычке между рабочими и крестьянами. Эта смычка, товарищи, дана самой историей. Русский рабочий одной ногой, одной стороной своей — рабочий, а другой стороной — крестьянин. Работа среди питерских рабочих, разговоры с ними, внимательное прислушивание к их речам дало Владимиру Ильичу понимание великой мысли Маркса, той мысли, что рабочий класс является передовым отрядом всех трудящихся. В том, что он передовой отряд, в том, что за ним идут далее все массы трудящихся, все массы угнетенных, в этом его сила, в этом залог его победы. Только как вождь всех трудящихся
310
рабочий класс может победить. Это понял Владимир Ильич, когда он ходил и работал среди питерских рабочих, и эта мысль, эта идея освещала всю дальнейшую его деятельность, каждый его шаг. Он хотел власти для рабочего класса, он понимал, что рабочему классу нужна эта власть не для того, чтобы строить себе сладкое житье за счет других трудящихся. Он понимал, что историческая задача рабочего класса — освободить всех угнетенных, освободить всех трудящихся. Вот эта основная идея и положила отпечаток на всю деятельность Владимира Ильича.
Товарищи представители советских республик, республик трудящихся, к вам обращаюсь я и прошу эту идею Владимира Ильича особенно близко принять к сердцу.
Я хочу сказать, товарищи, последние несколько слов.
Товарищи, умер наш Владимир Ильич, умер наш любимый, наш родной. Товарищи коммунисты, выше поднимайте дорогое для Ленина знамя, знамя коммунизма. Товарищи рабочие и работницы, товарищи крестьяне и крестьянки, трудящиеся всего мира, смыкайтесь дружными рядами, становитесь под знамя Ленина, под знамя коммунизма».
Эти слова, посвященные памяти Владимира Ильича, снова покрываются звуками похоронного марша» 27
Нельзя считать случайностью, что в поэме Маяковского строчки из похоронного марша возникают вслед за образом: «Надежда Константиновна в тумане за...» —
Знамен
плывущих
склоняется шелк последней почестью отданной:
«Прощай же, товарищ, ты честно прошел свой доблестный путь благородный».
Если, имея перед собой поэму «Владимир Ильич Ленин», перечитать глазами поэта, работающего над ней, воспоминания, статьи и материалы о Ленине, хлынувшие между январем и сентябрем 1924 г., то нельзя не увидеть, что в образе, созданном Маяковским, запечатлены все те «подробности», те черты личности, и характера В. И. Ленина, о которых с наибольшим постоянством высказывались его соратники... Все говорили, например, о его исключительной чуткости, нежности к товарищам и непреклонности к врагам революции.
«Это одна грань: нежность, мягкость, отзывчивость, любовь. Другой диапазон, на другом конце, это чрезвычайная твердость, жесткость и иногда жестокость в отношении врагов. Кто стал поперек рабочего движения, поперек революционного движения,
311
того он, этот отзывчивый, мягкий, добрый, чуткий человек, способен был измолотить в порошок и не раз молотил...» 28, — писал Н. А. Семашко в своих «набросках» о Ленине.
И почти теми же словами об этой черте Ленина говорил А. В. Луначарский:
«По отношению к своим товарищам он мог быть, например, к какому-нибудь иксу или игреку бесконечно нежен, потому что он относился к нему, как к казенному добру, с бесконечной заботой, но если этот игрек или икс делает политическую ошибку или упорствует в ней, то Владимир Ильич переменял прицел своих батарей и палил по новому противнику, но недавнему другу» 29.
Не уставали удивляться этим, таким разным проявлениям одной и той же черты Владимира Ильича — любви к людям — и не повторялись, говоря о ней в своих воспоминаниях и М. И. Ульянова и старый большевик М. Лядов — все, работавшие с Лениным.
И Маяковский в характеристике Ленина не повторялся, он дал цельный образ
Он
к товарищу
милел
людскою лаской.
Он
к врагу
вставал
железа тверже.
«Милел» — Маяковскому понадобилось новообразованное слово, чтобы сгустить в нем всеобщее радостное удивление заботой Ильича о товарище.
Старые большевики — соратники Ленина по ссылке и эмиграции — не упускали и мелочей, все они вспоминали увлечение Ленина шахматами. Реальные черты, штрихи, разбросанные в воспоминаниях, сливались в цельном поэтическом образе человека и политика:
... шахматы ему —
они вождям
полезней.
И, от шахмат
перейдя
к врагу натурой, в люди
выведя
вчерашних пешек строй,
312
стаповил
рабочей человечьей диктатурой над тюремной
капиталовой турой.
Обдумывая свою поэму о Ленине, Маяковский вместе с партией жил напряженной духовной жизнью, сущностью которой было осознание заветов Ленина, освоение ленинизма. Поэт гордился Лениным, гордился тем, что Россия, рабочий класс вырастили столь огромную личность, величайшего человека современности.
*
Первое стихотворение — отклик на смерть вождя — Маяковский написал 31 марта 1924 г. Крайне редко указывая дату создания своих произведений, поэт в данном случае отметил ее под стихотворением «Комсомольская», опубликованным в том же самом номере журнала «Молодая гвардия»^ где были напечатаны воспоминания о встречах с Лениным 3. Кржижановской, М. Лядова, А. Луначарского, Н. Семашко, П. Лепешинского.
В «Известиях», где Маяковский постоянно печатался, за это время — более двух месяцев со дня смерти Ильича — появилось уже немало стихов о Ленине. Молчание Маяковского было заметным. Среди стихов в «Известиях» значительное место принадлежало поэтам Лефа. 24 января был напечатан без подписи «Реквием» Н. Асеева.
Если умолк один, Даже самый живой, Тысячами родин, Жизнь, отомсти за него...
В том же номере выступал и Василий Каменский со стихотворением «Ленин — наше бессмертие». 27 января в стихотворении Сергея Третьякова, названном «Мы помним», говорилось о том, что никогда не забыть нам «самого молодого из всех людей на земле».
Вскоре вслед за тем в «Известиях» выступил Валерий Брюсов со стихотворением «После смерти Ленина» и еще с одним стихотворением — «Эра»:
Кто был он? — Вождь, земной Вожатый
Народных воль, кем изменен
Путь человечества, кем сжаты
В один поток волны времен.
313
Вероятно, та выспренность, с какою Валерий Ёрюсов хотел передать величие Ленина в стихотворении «Эра», была для Маяковского не приемлема, —
Ведь глазами видел каждый, всяк — «эра» эта проходила в двери, даже головой
не задевая о косяк.
Заслуживает внимания то, что весь этот ряд попыток поэтов разных поколений сказать надгробное слово Ленину «Известия» открыли некрасовским «Памяти Добролюбова». Стихотворение Некрасова было полностью процитировано в заметке «На могилу тов. Ленина».
Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало!
Эти слова Ленин в свое время поставил эпиграфом к некрологу «Фридрих Энгельс». Теперь они стали как бы эпиграфом к еще пе написанным стихам о Ленине.
Плачь, русская земля! но и гордись — С тех пор, как ты стоишь под небесами, Такого сына не рождала ты И в недра не брала свои обратно: Сокровища душевной красоты Совмещены в нем были благодатно...
Природа-мать! когда б таких людей Ты иногда не посылала миру, Заглохла б нива жизни...
Оплакивая Ленина и гордясь своим великим сыном, русская революция, советская земля ждали от поэтов СССР достойного слова о нем. Но что написать? Как написать? Выступая 4 марта 1924 г. в Большой аудитории Политехнического музея на вечере «Отчет за 1923—1924 гг.», Маяковский говорил о стихах, посвященных Ильичу:
«В ответственный час смерти Ильича театры должны были закрыться. Нечего было сказать. Стыдно было говорить. Лучше было закрыться. Что напечатано на днях в «Известиях»? Стихотворение Татьяны Майской: «Дрожали заводские лиры». Это позор. Реплика: А Брюсов?
— Лежит на нем камень тяжелый, — ответил Маяковский, слегка нараспев, и зал опять грохнул» 30.
314
«Перетряхивая чужой материал», Маяковский, конечно, видел в нем не только неудачное, то, чего следовало избежать в своей работе, но и такие мотивы, детали, образы, намеки, которые, естественно, в его решении темы Ленина получили свое дальнейшее развитие.
Здесь нужно оглянуться в прошлое — подойти к самым истокам ленинской темы в советской литературе.
Ленинская тема еще не была осознана в литературе. Поэты участвовали в разведке этой «темы» и, естественно, стремились выразить в поэтической форме все, что переполняло их душу. В это же время стали появляться «самодеятельные» стихи крестьян, рабочих, красноармейцев, посвященные Ленину — замечательные свидетельства народной любви и гордости, осознания величия вождя, «непобедимого исполина», «грозы богатых И царей», «гордости века». Несовершенные по форме, эти попытки были проявлением потребности художественно воплотить идеи и дела Ленина. Среди первых стихотворений этих лет привлекают внимание произведения Тициана Табидзе, Акопа Акопяна и Ток-тогула. Особое значение здесь имеют даты их создания. «Петербург» Тициана Табидзе написан в дни Октябрьской революции. Поэт изображает Петроград, где рядом с восставшим народом, солдатами в темных углах бывшей царской столицы гнездятся отбросы и жертвы буржуазного общества: «бомбой взорван воровской притон, женщины бредут, дрожа от скуки...» Эти детали как бы предсказывают городской пейзаж еще не созданных Александром Блоком «Двенадцати». Характерно, что грузинский поэт, вышедший из символизма, перекликается здесь с великим русским поэтом, который в поэме, посвященной Октябрьской революции, как бы подводит итоги своему разрыву с символизмом. Т. Табидзе в стихотворении о Петрограде дней Октября едва ли не впервые в советской поэзии называет имя человека, за которым пойдут массы:
Но ответ столетий несомненен.
И исход сраженья предрешен.
Ночь запомнит только имя Ленин И забудет прочее, как сон.
Пер. В. Пастернака
Стихотворения 1919 г. армянского поэта Акопа Акопяна и киргизского поэта Токтогула посвящены вождю революции.
Стихи Акопа Акопяна, старого, закаленного в классовых битвах революционера, преисполнены несокрушимой верой в победу ленинской мысли и дела. Поэт стремится нарисовать портрет, увидеть во внешнем облике вождя отражение его внутренней силы:
Перед его портретом я стою.
Я всматриваюсь, глаз не отводя,
315
В черты лица его — и узнаю Приметы гения, борца, вождя.
Пер. А. Тарковского
В это же время ровесник Акопяна, киргизский народный певец Токтогул, на своем тяжком опыте познавший гнет баев и преследования царского правительства, создает в традиционной фольклорной форме восторженный гимн В. И. Ленину:
Свет пришел — и сгинула мгла,
Встал народ степей и селений, Что за добрая мать родила Такого сына, как Ленин.
Пер. Ю. Гордиенко
1920 год — пятидесятилетие Владимира Ильича. Поэты отметили эту дату многими примечательными произведениями. Авторы стремятся сказать о том, что составляет силу В. И. Ленина — вождя мировой революции. Страстная риторика этой поэтической волны несет на своем гребне стихотворения Александра Безыменского, Демьяна Бедного, И. Филиппченко, Василия Казина, Владимира Маяковского, увенчиваясь поэмой Николая Тихонова «Сами». Сравнение Ленина с капитаном, ведущим корабль мировой революции, едва ли не впервые стало сквозной поэтической метафорой стихотворения Демьяна Бедного «Рабочий привет по поводу 50-летия Владимира Ильича Ленина»:
Еще не улеглись порывы урагана,
Еще корабль дрожит, встречая грозный вал, Но, повинуяся искусству капитана, Ходил уверенно в руках его штурвал.
Метафора «Ленин-капитан» станет впоследствии почти обязательной в стихотворениях, обращенных к Владимиру Ильичу при его жизни и в год прощания с ним. В этом стихотворении Демьяна Бедного есть еще одна характерная черта времени — образ Ленина дается не только как образ вождя русской революции, но и мировой.
Матросов обведя спокойными глазами, На их приветствие ответил капитан: «Меня хваля, себя тем хвалите вы сами. Но... где ж испытанный товарищ наш, Хуан?»
Хуан не может прийти потому, что он работает, «чиня пробоину в борту». Вводя образ рабочего испанца («испытанный товарищ»), поэт подчеркивает солидарность пролетариев всех стран
316
в строительстве Советской республики. И вот многозначительная концовка, подчеркивающая главную задачу момента:
Друзья, приветствуя родного Ильича, Ответной похвалы лишь будет тот достоин, Кто тяжким молотом (не языком!) стуча, Спасает наш корабль от тысячи пробоин.
Иначе подходит к созданию образа Ленина А. Безыменский. В стихотворении «Товарищ Ленин» он показывает вождя, как слитное явление коллектива, как его вершину, отстраняя слепое преклонение, однако теряет при этом живую теплоту чувства:
Он нам важен не как личность, он нам важен не как гений, А как символ:
Я — не Ленин, Но вот в Ленине — и я.
В стихотворении Маяковского, тоже юбилейном обращении к Ленину, можно уловить общее с подходом Безыменского, хотя' бы в том, что автор хочет себя защитить от возможных упреков в преувеличении роли личности и сразу же заявляет «не герои низвергают революций лаву», что это «интеллигентская чушь». И все-таки, любовь к Ленину, чувство человеческой близости к нему современника-единомышленника прорывает скованность автора:
Но кто ж удержится, чтоб славу нашему не воспеть Ильичу?
Произведения о Ленине, связанные с его пятидесятилетием, увенчиваются совершенно своеобразной в художественном отношении маленькой поэмой Николая Тихонова «Сами».
Вскоре после траурных дней 1924 г. она вышла отдельным изданием. Луначарский в своей речи в день похорон Ленина, обращенной к работникам искусств, говоря об интернациональном значении вождя Октябрьской революции, ссылался на поэму Тихонова, с удивительной поэтической силой показавшую любовь к Ленину трудящихся всего мира. Та же тема сильно прозвучала в другом раннем произведении советской литературы — повести Вс. Иванова «Бронепоезд № 14-69». Образы колониальных рабов, угнетенных империализмом, образы целых народов, для которых Ленин в поэме Маяковского предстает как «заступник солнцелицый», имели в советской литературе свою традицию. Маяковский продолжал ее несомненно и под воздействием тех же фактов политической жизни, которые раньше других поэтов отразил в своем произведении Николай Тихонов.
317
«Маленькая поэма «Сами», — сообщал Н. Тихонов в письме к автору этой монографии, — написана не в 1920 г., а в 1919 г. В 1920 г. она окончательно доработана и напечатана в 1922 г. Поэма эта возникла как следствие ряда моих неопубликованных стихов, юношеских, о Востоке и о борьбе за свободу народов Индии, Китая, Индонезии. В 1918—1919 гг. в поэзии, как и вообще, был силен лозунг: даешь мировую революцию! Вы, вероятно, его хорошо помните. Тогда я. исходя из моего, допустим, условного представления о Востоке, но под впечатлением побед пролетарской революции, освободительной борьбы афганского народа против английских колонизаторов, под впечатлением революционных явлений в Индии, и написал эту поэму про индийского мальчика, который слышал о Ленине как об освободителе от английского ига.
Я встречал восточных людей, которые мне рассказывали об огромной популярности Ленина на Востоке. Это стихотворение в рукописном виде больше года ходило по рукам и читалось на вечерах самодеятельности и на красноармейских концертах... Оно выходило и в отдельных изданиях и на разных языках... Мне говорили, что Вл. И. Ленин читал его в «Кр. нови»»31.
В наивном мышлении индийского мальчика Ленин предстает в полуфантастическом образе, как «большой Сагиб перед небом». Весть о «властелине», который «совсем не дерется стеком», пробуждает у Сами чувство протеста против своих угнетателей и надежду на лучшую жизнь. Сами молится «далекому Ленину» и чувствует:
Будто снова он родился в Амритсаре — И на этот раз человеком, — Никогда его больше не ударит Злой Сагиб своим жестким стеком32.
С этими образами перекликаются строфы поэмы Маяковского о Ленине, в которых засеченный негр в бреду произносит свое революционное заклинание:
— У-у-у-у-у,
У-У-У!
Нил мой, Нил!
Приплещи
и выплещи
черные дни!
Чтоб чернее были, чем я во сне, и пожар чтоб крови вот этой красней.
Тихоновскую «Сами» можно считать не только первым произведением о Ленине, в котором отразился интернациональный
318
характер его образа, но и первым произведением о Ленине для детей.
«Любимому» — так называет Демьян Бедный свое стихотворение, напечатанное в «Правде» рядом с бюллетенями о состоянии здоровья Ленина: «Живые думаем с волнением о живом...» Вместе со всем народом советские поэты переживали это волнение, которое и нашло свое выражение в ряде стихотворений «третьей волны» ленинской поэтической темы. Наивысшим художественным решением стало стихотворение Николая Полетаева «Портретов Ленина не видно», пафосом которого явилась проблематика изображения Ленина, соотношения портрета и оригинала.
Старый большевик, поэт Леонид Циновский в эти тревожные дни в стихотворении «Встреча с Владимиром Ильичем» вспоминал незабываемые впечатления участника Всероссийского совещания политработников в ноябре 1920 г., где он слышал Ленина:
— Товарищи! .. (грассированный звук) —
И слово это, как по волшебству,
К нам протянулось мостиком,
И, озабоченный,
Ильич вошел в наш круг, —
Вот так
К друзьям приходит друг
Сказать о том,
Что важно очень им.
Это стихотворение является как бы записью непосредственных впечатлений, ожидания встречи с Ильичем, волнения, радости, необыкновенного подъема, записью очень точной и лишенной малейших претензий вплоть до того, что повествование ведется свободным стихом, переходящим в прозу: «Наше преимущество— мы слушаем и видим...» Преимущество огромное, которое позволяет простить автору художественно несовершенные строки:
Его лицо, и взор, бросок руки вперед, И взмах ресниц —
Все с нами речь ведет...
Вспоминая о встрече с Владимиром Ильичем, Л. Циновский говорит о значении этого дня для всей его жизни:
Ступень,
С которой я осмысленней,
И чище,
И одухотворенней начал жить.
319
Нельзя тут не почувствовать предвосхищения строк Маяковского во вступлении к. его поэме:
Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше.
Жизненная правда лежит в основе этих признаний, но для Маяковского она является лишь исходной позицией для решения художественной задачи:
Я боюсь
этих строчек тыщи, как мальчишкой
боишься фальши.
Стихотворение Николая Полетаева «Портретов Ленина не видно», обращенное к художникам всех родов оружия, всем своим пафосом говорило об огромности задачи, о поисках художественных средств ее решения. Оно призывало художников к выполнению долга — «Весь мир огромный охватить» — мир, который заключен в образе Ленина. Это стихотворение стало популярным, как народная песня, вошло в душу каждого советского человека, задумывавшегося над тем, что составляет сущность нашего нового общества, над силой Ленина. Всем памятно искреннее признание Сергея Есенина в стихотворении 1924 г.: «Он вроде сфинкса предо мной. Я не пойму, какою силой сумел потрясть он шар земной». Это звучит как ответ на полетаевское стихотворение, во всяком случае, как отзвук на его признание неимоверной трудности задачи художника отобразить величие Ленина, его дела и мысли:
Глаза и мысль нерасторжимы, А кто так мыслию богат, Чтоб передать непостижимый, Века пронизывающий взгляд?
Иное ощущение трудности у Маяковского. Со страшной тоской он признается в этом, приступая к созданию портрета Ленина в своей поэме, — здесь слово, форма выдвинуты:
Вся Москва.
Промерзшая земля дрожит от гуда. Над кострами обмороженные с ночи.
320
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И П. И. ЧАГИН — РЕДАКТОР «БАКИНСКОГО РАБОЧЕГО». 1924 г.
21 в. Перцов
Что он сделал?
Кто он
и откуда?
Почему ему
такая почесть?
Слово за словом
из памяти таская, Не скажу ни одному — на место сядь. Как бедна у мира слова мастерская! Подходящее
откуда взять?
Конечно, и Маяковский, как об этом свидетельствует его поэма, решал свою задачу поисков «подходящего» слова, реализуя идейно-поэтическое содержание образа. «Мир» Ленина, мысль Ленина—постановка задачи портретиста в маленьком стихотворении Николая Полетаева, как ни в каком другом, предстают большой программой советской поэзии. И еще важно, что поэт-современник прямо относит ее в будущее. Один век прошел ныне со дня рождения В. И. Ленина. Пролетарский поэт говорит: нужны века —
Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно, Недорисованный портрет.
«Недорисованный» не в смысле незаконченный, а в том, что невозможно «весь мир огромный охватить» с какой-то одной точки зрения, нужно множество, бесконечное множество аспектов, чтобы «охватить» оригинал со всех сторон. «Тихие слова, сказанные словно бы шепотом» (из вступительной статьи С. В. Вла димирова к тому «Библиотеки поэта», посвященному «Ленину в советской поэзии»), представляют собой характерную особенность поэтики Николая Полетаева, который стремился найти поэзию «в самом обычном простом труде...»
Весной 1924 г. в первом номере журнала «Русский современник» были напечатаны воспоминания А. М. Горького о Ленине. Это были первоначальные отрывочные наброски, которые лишь частью вошли в переработанном виде в тот широко известный портрет В. И. Ленина, который был создан Горьким в 1930 г. и где особенно выразительны эпизоды, изображающие Ленина па Лондонском съезде партии. В первоначальном наброске их не было, образ Ленина представал оторванным от образа партии. 322
Вместе с тем были неудачные исторические параллели и сопоставления, которые могли только затемнить подлинную связь Ленина с русской историей, с историей героического русского революционного движения. От этих параллелей Горький впоследствии отказался.
Воспоминаниями своими сам Горький не был удовлетворен:
«То, чт!о написано мною о нем вскоре после его смерти, — написано4 в состоянии удрученном, поспешно и плохо... Воспоминания мои о нем написаны, кроме того что плохо, еще и не последовательно, с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал предо мною, превосходно освещенный сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других.
... Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм — это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей...» 33. Однако этого переработанного в 1930 г. текста воспоминаний, выросших в гениальный портрет человека и вождя, где Горький рассказал не только о V съезде партии, но и о своих встречах с В. И. Лениным на Капри и в Париже, а также объяснил свои ошибки 1917—1918 годов, не читал и не мог читать Маяковский. Если же он читал первый набросок, то мог лишь полемизировать с подходом Горького: «Но не мое дело говорить о Владимире Ленине-политике, мне дорог и близок Ленин-Человек». Однако задачей Маяковского и было как раз показать неотделимость Ленина-политика от Ленина-человека (эту же задачу по-своему решил Горький в более поздней редакции своего очерка).
В начале 1924 г. вышла книга стихов «Ленин» Николая Клюева, поэта, считавшегося в то время «крестьянским», что, по-видимому, должно было служить оправданием претенциозных параллелей и образов, отмеченных «местным колоритом», вроде:
... Лениным — вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам...
Мы сравнивали поэтические циклы, возникшие последовательно в связи с разными периодами жизни Владимира Ильича, и, конечно, условно отметили три таких больших цикла. Хронологически «слова прощания» с Ильичем многих и многих поэтов всего Советского Союза составили в течение всего 1924 г. «четвертую волну» нашей поэтической Ленинианы. Однако по праву эту волну следует назвать «девятым валом»: осенью 1924 г. Маяковский закончил свою поэму «Владимир Ильич Ленин». С конца января и в течение всего года появлялись замечательные по силе чувства и художественной выразительности стихи
21*
323
о Ленине. Они свидетельствовали о единстве нашей поэзии с партией и народом, которое открывало перед каждым талантливым поэтом возможность сказать о Ленине свое и по-своему. И Маяковский, обобщая в поэме народные переживания — такого синтеза наша поэзия не знала до этого произведения, — впитывал, продолжал и развивал многие мотивы поэтов-современников, оставаясь самим собой и внося новое в свое искусство: ленинская тема стала большой вехой в его развитии как художника социалистического реализма. «Свое» и «общее» было неотделимо в образе Ленина, созданном Маяковским. Поэт вспоминал впоследствии спор с А. К. Воровским на эту тему: «Когда я читал Воровскому свою поэму о Ленине, то он подчеркнул, что мало мест, где сквозит мое «личное». «Вас, — говорил он, — мало, Вы не дали нам нового Ленина». Я ему ответил, что нам и старый Ленин достаточно ценен, чтобы не прибегать к гиперболам; чтобы на эту тему не фантазировать о каких-то новых вещах». Маяковский не мог пройти мимо таких стихотворений, которые стали неотъемлемой частицей траурных дней, как, например, «Партбилет № 224332» Александра Безыменского, прямо обращенный к новому ленинскому призыву, или «Пять ночей и дней» Веры Инбер, которая нашла образную деталь, психологически очень точную —
... А стужа над землею Такая лютая была, Как будто он унес с собою Частицу нашего тепла.
У Маяковского та же реальность претворилась в такую картину:
... Даже от холода бить в ладоши Никто не решается — нельзя, неуместно.
Мороз хватает
и тащит, как будто Пытает, насколько в любви закаленные.
Как видим, свидетельства современников не расходятся между собой, но до чего же разные картины возникают под пером разных художников. И дело не только в своеобразии поэзии Маяковского и всех средств его стиха, в активном характере его сравнения «как будто пытает», «хватает», «тащит» (у Веры Инбер: «как будто он унес с собою»), а в’многообразии восприятия, в том, что Ленин воплощает в себе бесконечность революции,
324
в том, что «революцию осуществляют, — говоря его словами, — в моменты особого подъема и напряжения всех человеческих способностей, сознание, воля, страсть, фантазия десятков миллионов, подхлестываемых самой острой борьбой классов» 34.
Да, и фантазия! В поэме Маяковского многие положения прямо воспроизводят факты, известные современникам, газетную хронику, детали, уже нашедшие место в стихотворениях его предшественников, по воспроизводят так, как, скажем, шекспировские пьесы — итальянские хроники. В стихотворении Александра Жарова, написанном на следующий день после смерти Владимира Ильича, очень искреннем по чувству, есть строфа:
И в полях, где голос в песне звонок И широк лихой, просторный зык, Видел я:
Заплакал, как ребенок, Никогда не плакавший мужик.
У Маяковского в поэме, написанной гораздо позже, мы встречаемся с той же реальностью траурных дней:
И мужичонко, видавший виды, смерти в глаз смотревший не раз, отвернулся от баб, по выдала кулаком растертая грязь.
Сопоставляя эти строфы поэтов-современников, нельзя не почувствовать, как велика изобразительная мощь Маяковского. Воронский. упрекал Маяковского в том, что в его Ленине мало «личного». Однако критик прошел мимо того, что всенародное горе было личным для каждого советского человека, что в данном случае «повторение» одним поэтом мотива, ранее встретившегося у его предшественника, нельзя рассматривать в плане литературных «подражаний» или «заимствований». Смерть Ленина была и стала личным переживанием и для А. Жарова, и для Маяковского, и для Сергея Третьякова, который в эти январские дни 1924 г., когда самые разные люди, движимые личным горем, в страшный мороз шли к Колонному залу для прощания с Владимиром Ильичем, сказал в своем стихотворении «Мы помним» (27 января):
Это от моря до моря Встало плечом к плечу Одно беспартийное горе В последний черед к Ильичу.
325
В поэтической Лениниане не должен быть забыт этот штриху этот смелый, неожиданный в момент самой острой классовой борьбы разгара нэпа, очень многое открывший эпитет: «одно* беспартийное горе». За этим эпитетом стояло то отношение людей к Ленину, которое для каждого честного человека сделало* его уход личным горем. И Сергей Третьяков выразил это общее и личное горе по-своему.
В том же стихотворении Сергей Третъяков признается в том, как «страшно прятать» навсегда
Самого молодого
Из всех людей па земле.
Эти строчки, как мы уже отмечали, появились 27 января 1924 г. в «Известиях». А 25 января в «Известиях» же был напечатан «Реквием» Николая Асеева:
Если умолк один,
Даже и самый живой,
Тысячами родин,
Жизнь, отомсти за него!
У Асеева выделим слова — «самый живой», в приведенном выше стихотворении С. Третьякова — «самого молодого из всех людей на земле». В поэме Маяковского встречаем:
Мы
Хороцим самого земного изо всех прошедших по земле людей.
И дальше выразительная «формула», принятая, как говорится, на вооружение всеми: «Что он сделал, кто он и откуда —
ЭТОТ самый человечный человек?»
Как видим, «самый человечный человек» явился после «самого живого» у Асеева и «самого молодого» у Третьякова. Характерно, что и Асеев и Третьяков выступили анонимно. Но разве кого-нибудь может удовлетворить объяснение, что «после» — значит «вследствие»? Что в ставшей наиболее близкой формуле Маяковского мало «личного», поэт «заимствовал» решение задачи у своих предшественников... Все они «заимствовали» из одного источника у оригинала, и через свое личное вдохновение от непосредственного общения поэта-современника с народом — носителем образа — служили друг другу опорой в личном решении общей задачи. Стало быть, нельзя отрицать, что первые прибли-326
женин портретистов к оригиналу помогли Маяковскому «дорисовать» свой синтетический контур образа Ленина.
В поэме Маяковского опорное значение во второй ее части приобрела метафора Ленин-капитан, Ленин-штурман для создания картины поворота к нэпу. В свое время в статье о Герцене В. И. Ленин с восхищением цитировал слова Герцена о людях 60-х годов: «Молодые штурманы будущей бури», дополняя и развивая их своими — «Буря, это — движение самих масс» 35. Не углубляясь далеко в традиции революционной публицистики, можно думать, что в приложении к самому Ленину и его роли в Октябрьской революции сравнение его с капитаном, штурманом, рулевым пришло из этого источника — от Герцена, процитированного Лениным. В 1920 г., как об этом уже сказано, Демьян Бедный в «Рабочем привете» Владимиру Ильичу по поводу его пятидесятилетия обратился к этому испытанному, обновленному временем образу: «... повинуясь искусству капитана, ходил уверенно в руках его штурвал». Характерно, что тот же образ 24 января 1924 г. нашел свое место и в «Обращении ко всем трудящимся» Центрального Комитета нашей партии и Совета Народных Комиссаров накануне похорон Ленина: «Мы потеряли в Ленине главного капитана нашего корабля...».
Таковы были некоторые предпосылки характеристики Ленина, подготовившие отдельные нити в образной ткани поэмы Маяковского.
Переход от гражданской войны, от «бури» к мирному строительству изображен в поэме Маяковского с помощью той же метафоры:
Залив
Ильичем
указан глубокий и точка
смычки-причала найдена, и плавно
в мир,
строительству в доки, вошла
Советских республик громадина.
Приступая к работе над поэмой, Маяковский ясно понимал, что Ленин как основатель Коммунистической партии является героем, подобного которому не знала история человечества...
Для пролетарского поэта образ Ленина, героя нового эпоса, был неразрывно связан с образом тех миллионов трудящихся, которые впервые поднялись к сознательному участию в невиданном историческом действии Октябрьской революции.
327
«С низа лет, с класса низов — рвись разгромадиться в Ленина». В этом была идея стихотворения «Комсомольская», написанного на ближних подступах к поэме, идея, стержнем вошедшая в поэму. Заслуживает внимания, что почти та же мысль была высказана Горьким в дни его приезда в СССР в 1928 г. на заседании пленума Моссовета.
Подобно тому как отметка высшего уровня воды во время наводнения говорит о всей массе воды, так в личности Ленина революционная масса осознавала возможности своего роста. Это был рубеж, с которого осмысливалась история — прошлое и будущее. '
Советская литература в те годы делала первые шаги, и силы ее были еще мало проявлены, но уже с разных участков литературного фронта раздались дружные требования эпоса.
Если у А. В. Луначарского призыв переходить к большой поэтической форме, к поэме, к роману, обращенный к пролетарским писателям, имел характер поощрения, желания подбодрить молодежь, идущую в литературу, то его мысль о том, что «каждая попытка нашего нового эпоса будет большим камнем в строительстве нового искусства», вытекала из требований жизни. Пусть молодые поэты не всегда соразмеряли свои действительные силы с большими замыслами, но в последних отражался дух времени, понимание его масштабов. А. Безыменский взял эпиграфом к своей поэме «Гута», написанной в 1924 г. пушкинские строки:
Благослови мой долгий труд, О ты, эпическая муза36.
«Литература — это один из краеугольных камней нашего нового дома», — писал Алексей Толстой, не так давно вернувшийся на родину, в статье «Задачи литературы». Еще не освоившись в новом доме, он многое угадывал верно:
«.. .те новые типы, кому еще в литературе нет имени, кто пылал на кострах революции, кто еще рукою призрака стучится в бессонное окно к художнику, все они ждут воплощения. Я хочу знать этого нового человека. Я хочу знать сегодня самого себя. ... Я противопоставляю эстетизму литературу монументального реализма. Ее задача — человекотворчество. Ее метод — создание типа. Ее пафос — всечеловеческое счастье, — совершенствование. Ее вера — величие человека. Ее путь — прямо к высшей цели: в страсти, в грандиозном напряжении создавать тип большого человека» 37.
Это задание самому себе Алексей Толстой смог осуществить, как известно, лишь через несколько лет, приступив к продолжению своей эпопеи «Хождение по мукам». Но уже в 1924 г. требование нового эпоса наметило не только его путь в литературе.
В дневниковых заметках к «Чапаеву», который создавался в эти годы, Фурманов писал:
328
«По заголовку «Чапаев» не надо представлять, будто здесь дана жизнь одного человека, здесь Чапаев — собирательная личность. ..» 38
Свою книгу Фурманов скромно называл «записками». По существу же в ней было заложено начало эпопеи гражданской войны, замысел которой остался неосуществленным. Решая задачу создания образа героя, человека выдающегося, автор «Чапаева» стремился уяснить ее самому себе. Эпическое складывалось не только из действий и движений массы как чего-то единого, целого, но также из сочетания действий своеобразных индивидуальностей, которых поднимала из своей среды революционная масса. Отношение массы и ее вожака, руководителя были основой новой, социалистической дисциплины, основой становления новой государственности. Рост личности нового героя — вот что прежде всего должен был отражать эпос. Фурманов говорит: не думайте, что здесь дана жизнь одного человека, Чапаев — собирательная личность. Однако дело не просто в типизации, не только в том, что в образе легендарного полководца собрано то, что, как говорит автор, «было разбросано по другим индивидуальностям его соратников, по другим характерам». В образе Чапаева отражено главное в содержании эпохи: народ и партия. Книга Д. Фурманова — это первая книга о партии — воспитательнице в эпоху победившей революции, о народе — источнике силы партии.
Отношения партии и народа были главным в ее содержании, в образе «Федора с Чапаевым».
Автор в решающих моментах говорит сразу о двух — о «Чапаеве с Федором», подразумевает Федора как фон для понимания Чапаева или же, что не менее важно, подразумевает Чапаева как фон для понимания Федора. Эта особенность существенна. Разбейте эту пару, оставьте Чапаева в одиночестве, и произведение сразу потеряет свой глубокий смысл и поэтическое своеобразие. Заслуга Дмитрия Фурманова в том, что отношения партии и народа он показал художественными средствами как взаимодействующий процесс становления, роста личности, характера. «Процесс обучения» — так прямо и называет Федор свои отношения с Чапаевым. Это нужно понимать широко: учится не только Чапаев, но и Федор. Желая «выбить» из Чапаева самонадеянность и внушить ему уважение к знаниям, к науке, воспитатель с удивлением и радостью узнает о своем ученике нечто новое:
«— Чтобы быть хорошим военным работником, чтобы знать научную основу стратегии, — да пойми ты, что всему этому учиться надо... А тебе некогда было, ну, не ясно ли, что...
— Ничего мне не ясно... Ничего не ясно, — оборвал его Чапаев. — Я армию возьму и с армией справлюсь.
— А с фронтом? — подшутил Федор.
329
— Ис фронтом... А што ты думал?
— Да, может быть, и главкомом бы не прочь?
— А то нет, не справлюсь, думаешь? Осмотрюсь, обвыкну — и справлюсь. Я все сделаю, што захочу, понял?
— Чего тут не понять.
У Федора уже не было того нехорошего чувства, с которым начал он разговор, не было даже и той насмешливости, с которою ставил он вопросы, — эта уверенность Чапаева в безграничных своих способностях изумила его совершенно серьезно» 39.
Безграничную веру народа в свои силы герой Фурманова унаследовал от революционных предшественников, от такого отдаленного предка, как Емельян Пугачев, который действовал на полтора века раньше в тех же местах, где в 1919 г. Чапаев отбивал и бил Колчака. Не об этом ли свидетельствует очень похожая на приведенную выше сцена из пушкинской «Капитанской дочки», изображающая разговор Пугачева с Гриневым.
«— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.
— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.
Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. «Да! — сказал он с веселым видом. — Я воюю хоть куда! Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?»
Хвастливость разбойника показалась мне забавна. «Сам как ты думаешь, — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фриде-риком?»
«—С Федор Федоровичем? А как же нет? с вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву» 40.
Если требуют интересы дела, Чапаев идет против массы, против ее временного настроения, и масса это принимает, подчиняется, безоговорочно признает его власть: «хоть наш, дескать, он, а совершенно особенный, и со всеми равнять его не рука».
Пониманию интересов революции Чапаев учится в острых столкновениях с Федором, учится у партии, безграничный авторитет которой воплощен для него в образе Фрунзе. В книге Д. Фурманова эти отношения, типические для складывающегося нового общества, были осмыслены впервые.
В начале 1924 г. в четвертой книге альманаха «Недра» был опубликован «Железный поток» А. Серафимовича. Это произведение старого революционного писателя сразу получило широкую известность и признание. Среди других достоинств «Железного потока» критика отметила то, что в его образах виден рост и отдельного человека и всей массы, поднятой Октябрьской револк)-330
цией к сознательной исторической жизни. «Массовые сцены — родная стихия Серафимовича»4\ — писал несколько позже о «Железном потоке» Д. Фурманов.
Известно, что в «Железном потоке» был воспроизведен исторический факт грандиозного отступления Таманской армии. Если образ «Железного потока» был дан Серафимовичем с большой силой как образ «живого потока», в котором сливались отдельные человеческие судьбы со своим горем или радостью, то и в «Чапаеве» эпическое начало было воплощено в отношениях между массой и ее вожаком, в попытке показать рост руководителя массы и утверждение новой, социалистической дисциплины. Называя свое произведение «Железным потоком», Серафимович прямо подчеркивал значение коллективного героя. Однако же правдивое решение образа коллективного героя не могло не привести художника к попытке вылепить образ вожака массы, «кость от кости, плоть от плоти ее».
Пафос превращения «табора», «орды» в дисциплинированную военную силу, воодушевленную идеей отстоять Советскую власть, раскрывался и в том, как показан был рост власти Кожуха, как прояснялось в массах сознание права и долга человека, ведущего их.
В «Железном потоке», как и в «Падении Дайра» А. Малыш-кина (1923), господствуют крестьянские «множества». Но Серафимович вылепил образы отдельных людей с гораздо большей отчетливостью, чем Малышкин, хотя у него, как и у Малышкина, на первом плане множества, а не отдельные люди. Характерно, что не только отдельные люди, но и множества изображены по-разному в этих произведениях. Разница выступает особенно ярко при сопоставлении образов командармов у Серафимовича и Малышкина.
Серафимович, как и Малышкин, любит эпитеты «каменный», «железный» в приложении к командарму. Б художественной трактовке образа Кожуха есть кое-что общее с романтической стилизацией образа командарма из «Падения Дайра».
Однако образы командарма из «Падения Дайра» и Кожуха принципиально различны. Малышкинский командарм не действует, а возвышается над массой, как памятник, как рупор духа истории. Омывая его, плещется вокруг него крестьянский хаос, «неукоснительно падает молот множеств». И командарм и массы — это только различные проявления исторического фатума, слепо дробящего враждебную «хитрость культур».
Кожух, напротив, весь в действии, в маневре, в расчете целей и средств. Он не упускает случая, чтобы дать массе психологическую встряску, сообщить ей волевую зарядку. Когда разведчики доносят ему, что впереди на боковой дороге на телеграфных столбах висят пять рабочих майкопского завода, повешенных генералом Покровским, Кожух отдает приказ:
331
«Задержать голову армии, повернуть на сверток, пропустить мимо них все полки, беженцев, обозы!» 42
И хотя измученным, истощенным, голодным людям для того, чтобы выполнить это приказание, придется сделать крюк в двадцать верст, Кожух отлично понимает, что это непредвиденное необязательное физическое усилие сторицей будет возмещено в росте их сознательности.
У Малышкина восторженные «множества» устремляются на завоевание грядущего счастья и завоевывают его, как орды. У Серафимовича Кожух устанавливает сходство руководимых им масс с ордами не только без всякого пафоса, но, напротив, с самым деловым огорчением и трудно скрываемой тревогой.
«Да... орда, разбойная орда, — думает Кожух, — встренься зараз козаки, все пропало... Орда!..» 43. Крестьянскую массу он превращает в «железный поток» по-пролетарски дисциплинированной армии. «Механизм» этого превращения составляет пафос, огненную тему произведения Серафимовича, заслуженно снискавшего ему славу.
Источник авторитета Кожуха в том, что он действует в интересах массы. Он доказал свою преданность революции под контролем десятков тысяч глаз, завоевал доверие массы своим умом, энергией, находчивостью, самоотверженностью. Власть пролетарского вождя, командира не знает себе равной, потому что она зиждется на абсолютном единстве целей и интересов массы и руководства. Командиры не сразу соглашаются признать первенство Кожуха. Кожух требует себе всей полноты власти.
Он ставит условие: расстрел за нарушение дисциплины — и предлагает командирам подписаться. Здесь наступает момент колебания, нерешительности среди командиров. Характерно, что сама масса солдат своей бурной поддержкой ломает это последнее препятствие к признанию авторитета Кожуха.
«Командиры вдруг почувствовали, — с них свалилась тяжесть, все определилось, стало простым, ясным и точным; перекидывались шутками, смеялись, по очереди подходили, подписывались под смертным приговором» 44.
Масса темная, бессознательная не способна воодушевить и поднять командира над его прежним уровнем до высоты внезапно возникших задач. И, напротив, масса, верящая в своего вождя, воспитанная им до понимания целей борьбы, оказывается не только источником власти, но еще и особого вдохновения, прозорливости. Доверие коллектива рождает повышенную ясность, остроту личного творчества. Этот рост личности командира отчетливо осознан в «Железном потоке».
Проблема взаимоотношений массы и личности была в центре идеологической жизни партии как раз в те годы, когда создавались «Чапаев» и «Железный поток». В горячем приветствии XII съезда РКП В. И. Ленину, приковаппому тяжелой болезнью
332
к постели, было сказано, что Ленин «не менее, чем всегда, сплачивает съезд и всю партию своей личностью» 45.
Ем. Ярославский писал после окончания XII партийного съезда, отвечая клеветникам из зарубежных газет:
«Иной мещанин по этому поводу готов развести целую мещанскую философию: «Вот, дескать, марксисты, материалисты, которые уверяют, что роль личности в истории ничтожна, а сами придают огромное значение одной личности» 46.
Партия сознавала, что в ее рядах вырос гениальный вождь, который наиболее полно, наиболее совершенно умеет выразить то, что является самым важным для каждого данного исторического момента. Партия сознавала это и чутко прислушивалась к каждому слову, к каждой мысли Ленина, потому что это были мысли всего лучшего, самого передового в рабочем классе.
Выступая перед слушателями Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова вскоре после смерти В. И. Ленина, Луначарский стремился объяснить источник его силы:
«Мы никогда не говорили, что личность никакой роли не играет, ведь и масса состоит из личностей, и каждая личность там себя проявляет — одна меньше, а другая больше. Не в этом дело, а в том, что вожди вырабатываются массами, вожди выдвигаются событиями, все свое содержание получают от событий... Для нас вождь есть орган массы»47.
Характерно, что А. В. Луначарский — литературный критик — в оценке произведений Фурманова и Серафимовича освещает ту же проблему, что и Луначарский — выдающийся деятель Коммунистической партии — и почти в тех же выражениях:
«Фурманов и Серафимович на первый план ставят массу. Книга Фурманова так и озаглавлена «Чапаев», в повести о великом отступлении, описанном Серафимовичем, герой-руководитель играет исключительную роль, является подлинным кристаллом наилучше направленных воль своего многострадального и героического коллектива. И все же и там и здесь нет никакого преклонения перед героем и герой кажется естественным органом масс» 48.
Проблема взаимоотношений массы и личности стала содержанием первых опытов эпического в прозе, получивших в дальнейшем свое продолжение в «Разгроме» А. Фадеева и «Севастополе» А. Малышкина.
На первом подъеме этой идейной волны в 1923—1924 гг. Маяковский стал обдумывать поэму о Ленине, но, как уже сказано, долго не давал стихов на эту тему. В траурные дни появились следующие стихи А. Безыменского: 22 января — «Не стало Ленина», 24 января —- «Партбилет № 224332» и 27 января, в день похорон, — «Боевая Ленинская». Тогда же было написано стихотворение Веры Инбер «Пять ночей и дней». Эти стихи сыграли большую роль, выразив настроения и переживания тех дней.
333
В стихотворении «Комсомольская» Маяковский нашел, наконец, свой подход к теме:
Ленин —
больше самых больших, но даже и это диво создали всех времен малыши — мы, малыши коллектива.
И в другом месте:
Ленин ведь тоже начал с азов, — жизнь — мастерская геньина. С низа лет, с класса низов — рвись
разгромадиться в Ленина.
Стихотворение было обращено к молодежи. Это давало ему особую интонацию — педагогическую. «Ленин ведь тоже начал с азов...» Развитие, становление гения напоминало о задаче молодежи:
Зубы — ножи в знанье.
Вонзай крошить.
Убедить в том, что «мы, малыши коллектива» создали Ленина, это значило возвысить каждого «малыша» в собственном мнении, придать повседневной работе каждого на своем месте значение большого исторического дела.
Дерзновенная, требовательная, бодрящая «Комсомольская» была оптимистической не только по своей идее, но и по смене ритмов в лад с шагом юной армии ленинцев:
Ленин —
жил.
Ленин —-
жив.
Ленин — будет жить.
«Идея есть познание и стремление (хотение) [человека] ...» 49, — записывал В. И. Ленин в «Философских тетрадях».
334
Такова была идея «Комсомольской» — стихотворения о Ленине и «малышах коллектива», в котором Маяковский занял «ключевую позицию» на подступах к поэме.
Нельзя не заметить принципиальной разницы в трактовке вопроса о массе и личности между этим стихотворением и хотя бы «Временным памятником рабочим Курска». С особым чувством благодарности возвеличив в этом последнем произведении творческую силу миллионов, справедливо осмеяв тех, кто думает, что историю делают герои, Маяковский не мог еще увидеть единства коллектива и личности, разглядеть в личности силу коллектива. Тема Ленина помогла ему «выстрадать» правильное решение. Стихотворение «Владимиру Ильичу», написанное в 1920 г., в котором можно расслышать «оправдывающуюся» интонацию — «Но кто ж удержится, чтоб славу нашему не воспеть Ильичу?», — это стихотворение противоречило одностороннему пафосу «150 000 000» и предвосхищало ту постановку вопроса, которая была дана с полной ясностью только в поэме о Ленине. Но правильный взгляд еще не мог укрепиться и вновь уступил место схематическому противопоставлению массы и личности, которое в общем продолжалось в поэзии Маяковского до конца 1923 г. Событие всемирно-исторического значения — смерть Ленина, борьба партии за ленинизм, против искажения его героями «левой» фразы и, наконец, первые опыты создания эпоса в творчестве передовых советских писателей — вот идейная почва, на которой развернулся Маяковский, отбросив пережитки ле-фовского нигилизма.
Маяковский доделывал то, что было подготовлено всей его творческой эволюцией и в его раннем творчестве, и в первые годы после Октября. Нетрудно уловить черты преемственности, например, между его работой в Роста и работой над образами поэмы, хотя сразу же следует указать, что между тем и другим «дистанция огромного размера», разница качественная, и не только в художественных средствах, но и, так сказать, философская. В свое время автор этой монографии (в работе 1937 г. «Этюды о советской литературе») писал:
«Перебирая тексты, сделанные Маяковским для Окон Роста, видишь, как всплывают из них отдельные строки, положения чи образы в его великих революционных поэмах. Читаешь «Окно Роста» № 186, написанное в августе 1920 г.:
1. Если жить вразброд, как махновцы хотят, 2. Буржуазия передушит пас, как котят. 3. Что единица?
Ерунда единица!
4. Надо
В партию коммунистическую объединиться! —
335
и как будто присутствуешь при зарождении образа, развернувшегося впоследствии в образ партии в поэме «Ленин»:
Единица!
Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка...»
При всей наглядности отмеченной здесь связи нельзя забывать о разности жанров. Но, конечно, философская симфония «Ленина» могла возникнуть только на почве партийности, пронизывавшей всю работу Маяковского во всех жанрах.
«Капитализма портрет родовой» в поэме о Ленине восходит не только к сатирическим образам капитализма в поэме «150 000000», но и к дореволюционным поэмам «Война и мир» и «Человек». Отдельные моменты и приемы тут несомненно общие. Враждебность капитализма настоящему, глубокому пониманию классического искусства, разоблаченная в поэме о Ленине, — «И краске и песне душа глуха», в поэме «Человек» выражена в таком образе:
Онемелые стоим перед делом эллина. Думаем: «Кто бы, где бы, когда бы?» А это им покойному Фидию велено: «Хочу, чтоб из мрамора пышные бабы».
Близки образы интеллигенции на службе у капитала в поэме о Ленине и в ранее созданных произведениях. И как ни велико для Маяковского значение внутренней преемственности, неверно было бы трактовать предшествующий творческий путь поэта как «предысторию» поэмы «Владимир Ильич Ленин». Эта поэма не завершает, а открывает новый период в развитии поэта-трибуна.
Настроившись на изображение небывалого героя и начисто отбросив эстетические предрассудки литературного кружка, к чему его обязывала взятая им тема, Маяковский после «Ленина» мог идти вперед гораздо более уверенно и быстро. Образом Ленина Маяковский отвечал на вопрос, волновавший все передовое в рабочей массе и интеллигенции, в жизни партии, в самых значительных художественных произведениях тех лет после смерти вождя: вопрос о взаимоотношениях массы и личности. Поэма Маяковского стала философской симфонией ленинизма.
Как же была решена им труднейшая задача?
8 ЭПОС ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Общая композиция поэмы «Владимир Ильич Ленин». Перебивка планов прошлого и настоящего. «Лирические опережения». Жанровое своеобразие поэмы. Эпический герой и лирическая форма высказывания. Народ, партия, Ленин и герой — «частица». Чтения поэмы в Доме печати, в Красном зале МК и в рабочих клубах. Эпизод: Ленин в Смольном и нападки на Маяковского со стороны Раппа. Развитие метода социалистического реализма в поэзии Маяковского. Проблема традиций и новаторства в «Юбилейном». Вопросы языка и стиха в поэме о Ленине. Из разночтений записных книжек. Перед кругосветным путешествием.
Маяковский писал в автобиографии: «Я очень боялся этой поэмы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа». По-видимому, творческие сомнения не оставляли его вплоть до тех навсегда запомнившихся минут и часов, когда «отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы».
Обычно широко объявлявший темы, над которыми он работает, и нередко печатавший отрывки из незаконченных еще вещей, поэт оберегал от гласности эту и не давал никаких сведений о ней в печать до самого Конца работы.
Можно думать, что ее окончание поэт приурочивал к седьмой годовщине Октябрьской революции — первой годовщине без Ленина. В эти дни отрывки из поэмы появились во многих газетах и журналах. В начале октября Маяковский подписал договор на издание ее с Госиздатом и вскоре же представил рукопись. В течение октября он несколько раз выступал с чтением ее в разных аудиториях. О том, что Маяковский написал поэму о Ленине, сразу стало широко известно по отрывкам из нее.
Почти все время, в течение которого писалась поэма (весна — осень 1924 г.), поэт провел в поездках по городам Союза с лекционными выступлениями (в апреле он побывал в Германии). Параллельно поэме шла работа над сотнями рекламных текстов, создавались такие стихи, как «Пролетарий, в зародыше задуши войну», «Юбилейное», «Севастополь — Ялта», «Владикавказ — Тифлис», «Тамара и Демоп», «Гулом восстаний, на эхо помноженным...»; лозунги для агитационных кооперативных плакатов и агитпоэмы для «Кооперативного издательства», подготовка
2g В. Перцов
337
к печати очередных сборников стихов и целый ряд подписей к рисункам в сатирическом журнале «Красный перец», для которого были специально написаны и стихотворения «Хулиганщина», «Селькор», «На помощь», «Посмеемся!», — вот далеко не полный перечень того, что составляло «договорную», срочную работу Маяковского в тот самый период, когда создавалась поэма о Ленине.
О своем внутреннем обязательстве перед взятой им темой поэт, как об этом уже сказано, не считал возможным сообщать в печати, но именно ленинская тема определила весь строй его мыслей в этот период времени, все движение образной ткани, из которой складывались его новые стихи, на какую бы тему они ни были написаны. Поэма о Ленине стала основным «уроком» сердца, который нельзя было отсрочить, не выполнить, который исполнялся «по мандату долга». Скрытым внутренним огнем этот заветный «урок» освещал всю громадную, срочную, видную отовсюду работу поэта.
Нужна была настоящая духовная мобилизация, чтобы дать обобщение только что происшедшего события. Нужно было создать дистанцию между собой и этим событием, «если не дистанцию времени и места, то хотя бы головы», забежать вперед, «чтобы тащить понятое время».
В двух записных книжках 1924 г., где сохранились большие отрывки поэмы, нет никаких заметок или указаний на то, что обычно называют «планом» произведения. Это, конечно, не значит, что Маяковский не продумывал построения поэмы в целом, не «прикидывал» архитектонику большой и сложной темы. Маяковский не «записывал» плана, но он ведь не записывал и первоначальные варианты своих стихов, «выборматывая» их и закрепляя в записной книжке лишь заключительную стадию работы, близкую к окончательному тексту.
Сама поэма в том виде, в каком он известна читателю, если внимательно вдуматься, раскрывает внутреннюю творческую логику работы над ней, являет осуществленный ясный и целеустремленный план.
Какой конкретный смысл имеют слова поэта о том, что он «очень боялся этой поэмы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа»? Этот вопрос имеет непосредственное отношение к плану развертывания темы, заявленному во вступлении:
Ленин
и теперь
живее всех живых.
Наше знанье,
сила
и оружие.
338
ОБЛОЖКА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ПОЭМЫ «ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН» 1925 г.
ЛЕНИН
II Р U И О > <’ 'Г' й О й & л
Эмоциональная основа начала рассказа «про Ленина» и его заключительной третьей части, изображающей похороны Ленина, — одна: всенародное горе. Третья часть поэмы развертывает в цельную картину те отдельные намеки, которые встречают читателя в начале первой части:
Вся Москва.
Промерзшая земля
дрожит от гуда.
Над кострами обмороженные с ночи.
В начале первой части — это отдельные моменты или черты общего фона, в третьей части они проясняются и складываются в картину. Если в начале первой части они даны часто статически, как неизгладимо памятные черты городского пейзажа, то в третьей части — все движется:
Мороз хватает и тащит, как будто пытает, насколько в любви закаленные.
22*
339
Врывается в толпы.
В давку запутан, вступает вместе с толпой за колонны.
«Промерзшая земля», «обмороженные с ночи» — неподвижные детали картины в первой части и полная движения картина «Мороз хватает и тащит...» — в третьей части.
Картины всенародного горя написаны с такой изобразительной силой, с такой истинностью чувства, что делают читателя как бы непосредственным очевидцем и участником события.
Конечно, не к этим картинам и не к этим чувствам относится боязнь «простого политического пересказа», о которой говорил поэт. Но если из этих картин, рисующих отношение народа к Ленину, возникает его до боли близкий образ, то их одних недостаточно для познания всего содержания образа Ленина. В начале первой части отдельные проявления народного горя, предваряющие полную и цельную картину в заключительной части, сгущены в очень скупой и яркой характеристике ушедшего, смысл которой, в том, что он был Человеком:
Мы
хороним самого земного изо всех прошедших по земле людей.
При всей своей выразительности эта характеристика была бы слишком общей, если бы поэт не поставил вопроса о том, «что он сделал? Кто он и откуда — этот самый человечный человек?» Давая ответ на этот вопрос, поэт представляет Ленина на фоне истории революции— в первой и второй частях поэмы. Композиционно такое построение было глубоко обосновано логикой раскрытия образа. Только таким путем можно было помочь читателю осмыслить свое горе, которое у многих было не сознательным, стихийным, глубже продумать свои собственные переживания, разобраться в них, претворить свою скорбь в силу. Вступление к поэме занимает всего лишь 8 строк. Первая часть содержит в себе 343, вторая — 594 и третья —142 строки. Вот к этой центральной по месту в композиции поэмы и наибольшей по объему массе строк, т. е. к первой и второй частям поэмы, и относилось беспокойство Маяковского.
Повествование о делах Ленина на фоне истории революции не могло не быть основано на фактах из истории партии и биографии Ленина. В дни похорон на улицах Москвы раздавалась всем участникам демонстрации краткая биография В. И. Ленина.
340
Избежать пересказа этих фактов, ставших достаточно известными, можно было, лишь превратив их в большое художественное обобщение, в картину движения истории, действующими лицами которой были народ, партия, Ленин.
Вторая часть поэмы заканчивается эпизодом перехода к нэпу от эпохи «военного коммунизма». Многие критики отмечали сквозную метафору «Ленин — штурман», с помощью которой поэт образно показал движение истории и сущность гениального ленинского маневра. Один из молодых критиков правильно указывал, например, что, «несмотря на то, что метафорический ряд развертывается во всей полноте (волны, корабль, рулевое колесо, залив, причал, ремонт судов), история не становится фантастической или условной» L
В восторге враги заливаются, воя, но так лишь Ильич умел и мог, — он вдруг повернул колесо рулевое сразу на двадцать румбов вбок.
И сразу тишь, дивящая даже; крестьяне подвозят к пристани хлеб. Обычные вывески
— купля —
— продажа — — нэп.
И дальше:
Залив
Ильичем
указан глубокий, и точка смычки-причала
найдена, и плавно в мир, строительству в доки, — вошла
Советских республик громадина.
Эта метафора была традиционной по отношению к Ильичу.
341
«Но разве менее велик этот гений и в тот момент, когда ему приходилось решать Брестскую проблему нашего «быть или не быть» или когда он круто повернул руль государственного корабля в сторону нэпа и т. д. и т. д.?» (Из первой биографии В. И. Ленина, написанной П. Лепешинским. — «Молодая гвардия», 1924, № 2, 3, март—апрель, стр. 146.)
Сравнение Ленина с гениальным рулевым, который провел наш государственный корабль мимо всех опасностей, встречалось всегда, когда требовалось дать оценку его значения и деятельности в целом. В статье «Ленин и Брест», посвященной одному из томов собрания его сочинений, вышедшего в 1922 г., было сказано, что Ленин умел «ставить и разрешать самые сложные и трудные вопросы и вести государственный корабль в самую бурную погоду среди бесчисленных мелей и рифов... крутыми поворотами, не изменяя, однако, никогда основной линии...»2
Всеобщее определение использовал Горький в своих воспоминаниях 1924 г., назвав Ленина «рулевым», стоящим во главе «столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия» и еще: «...поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями» 3.
И есенинское стихотворение «Капитан земли» опирается на ту же метафору:
Он — рулевой И капитан. Страшны ль с ним Шквальные откосы? Ведь собранная С разных стран, Вся партия — его Матросы.
Не трусь,
Кто к морю не привык:
Они за лучшие
Обеты
Зажгут,
Сойдя на материк,
Путеводительные светы
Тогда поэт
Другой судьбы,
И уж не я,
А он меж вами
Споет вам песню
В честь борьбы Другими, Новыми словами4.
342
Есенин написал свое стихотворение в январе 1925 г. Хотя поэма Маяковского тогда еще не вышла в свет отдельным изданием, все же Есенин мог быть знаком с ней в отрывках. Но, конечно, нельзя связывать в есенинском стихотворении о Ленине метафоры «капитан земли» с метафорой Маяковского «Ленин — штурман», потому что у обоих поэтов был непосредственно близкий и общий источник: политическая фразеология, нашедшая образное слово для выражения общего чувства.
Есенин был прав, говоря о «поэте другой судьбы», который споет песню «в честь борьбы», т. е. песню о Ленине, «другими, новыми словами». Быстрота движения истории, резкость поворота, величайшая энергия действий Ленина выражены в том, как применил Маяковский общую метафору, в смелой динамике стиха Маяковского, где односложное слово «нэп», выделенное в самостоятельную строку, весит столько же, сколько и длинная строка: «Крестьяне подвозят к пристани хлеб». Ленин живет, действует, ободряет усталых, раскрывает перед всей партией великолепную оптимистическую перспективу. Впечатление того, что Ленин говорит, а не цитируется, достигается особенностями стиля Маяковского, доносящего, однако, до читателя абсолютно точно самую суть мысли Ленина. Это относится к наиболее важным местам исторического действия Ленина, где поэт не снизился «до простого политического пересказа», чего он так боялся, где сама общая политическая формулировка в интонации и художественных средствах Маяковского становится живой речью вождя, полной страсти, эмоций. Поэт вкладывает, как уже было сказано, в уста Ленина — героя поэмы — презрительно-уменьшительный неологизм «нэпчик», выразительно подчеркивающий кратковременность нэпа с точки зрения всемирно-исторической борьбы за коммунизм:
Коммуна — столетия, что десять лет для ней?
Вперед — и в прошлом скроется нэпчик.
— Мы двинемся во сто раз медленней, зато в миллион прочней и крепче.
Авторская метафора — рулевой — корабль — волны — естественно входит в речь Ленина — героя поэмы: «Под этой мелкобуржуазной стихией еще колышется мертвая зыбь...». Или:
Прищурился Ленин:
— Чирртесь пока чего,
343
аршину учись, не научишься — плох. — Команду усталую берег покачивал...
От речевой характеристики Ленина — героя поэмы — к авторской речи — естественный переход, оправданный единством стиля.
В каждой строфе — синтез многих событий. Широкий мазок и быстрота отличают кисть Маяковского. В повествовании чувствуется ход времени, смена одной исторической ситуации другой:
Столпов империализма непреклонные колонны — буржуи пяти частей света, вежливо приподымая цилиндры и короны, кланяются
Ильичевой республике Советов.
В одной строфе спрессовано содержание целого стихотворения «Дипломатическое», написанного Маяковским в феврале 1924 г.:
За дедкой репка...
Дая<е несколько репок:
Германия,
Польша,
Англия,
Италия.
Значит —
— Союз Советский крепок,
Как говорится в раешниках —
и так далее.
Характерно в стихотворении «Дипломатическое» изменение тона от раешно-шутливого в духе Демьяна Бедного до патетического и, я бы сказал, «злорадно»-торжествующего обобщения, в котором, однако же, могли найти себя не только английские купцы, здраво оценившие свои выгоды и поспешившие раньше других возобновить торговые отношение с СССР.
Итак, «Ильичева республика Советов» благоустраивается и крепнет на глазах всего мира, осуществляя указания своего великого вождя. И вот заключительная строфа второй части поэмы:
344
Нам
не страшно усилие ничье, мчим
вперед
паровозом труда, —
и вдруг
стопудовая весть —
с Ильичем
УДар.
«Стопудовая» — эта тяжесть обрушивается и самим построением фразы, разорванной переносом из одной строки в другую, где слово «удар» выделено в целую строку. Прием чрезвычайный — Маяковский прибегает к нему в данном эпизоде, описывающем переход к нэпу, во второй раз. Этим эпизодом заканчивается ответ на вопрос, заданный в начале поэмы: «Что он сделал?». К этому заключительному эпизоду поэт и приберег сквозную метафору «Ленин — штурман», реализовав ее со всем великолепием своего мастерства. Вернёмся к началу ответа.
Во всяком большом повествовании есть звенья, которые подготовляют идейную и эмоциональную кульминацию. В поэме о Ленине ответ на вопрос: «Что он сделал?» складывается из «портрета капитализма» вплоть до рождения Ленина и из рассказа о революционной деятельности Ленина вплоть до его болезни («с Ильичем удар»), составляющего вторую часть поэмы.
«Портрет капитализма» и является необходимым подготовительным вступлением, без которого нельзя по-настоящему осмыслить величие Ленина, закономерность его явления и своеобразия его личности. Поэт сознательно пошел на использование «просветительских» приемов «Окон Роста», видя перед собой аудиторию, в то время еще мало подготовленную. Как только во второй части поэмы появляется Ленин, эмоциональность рассказа круто нарастает.
Потрясающей эмоциональной силы повествование достигает в финале — короткой третьей части поэмы с ее эпической картиной всенародного горя и победы над смертью — победы идей ленинизма.
«Портрет капитализма» представляет собой исторический экскурс в поэме о современности. Поэт предупреждает, что этот «портрет родовой» он пишет «для внуков», т. е. для тех, кто самого «оригинала» не видел и в своей жизни с ним не сталкивался. Исторический путь капитализма воплощен в той плакатной манере Маяковского, которая начала складываться еще в дооктябрьских поэмах «Война и мир» и «Человек» и нашла свое продолжение в «150 000000». Но теперь эти приемы обогащены истори-
345
ЧёсКйМ подходом. О прогрессивной роли капитализма поэт говорит даже с некоторой симпатией:
Капитализм
в молодые года был ничего,
деловой парнишка:
первый работал —
не боялся тогда, что у пего
от работ
засалится манишка.
«Детскость» этого образа стилистически оправдана адресатом: «для внуков» — для детей. Приходится повторять, объяснять то, что отцы и деды знают по опыту, что Россия выстрадала, по выражению Ленина. И Маяковский выполняет свой долг «агитатора-горлана-главаря», изображая в резких сатирических формулах историю загнивания капитализма. Лексикой трудно произносимых деепричастных форм — «жря и спя», повторением громоздкого насмешливого неологизма — глагола «обдряб» поэт передает облик капитализма как уродливого чудовища, враждебного всему человеческому:
Лишь наживая,
жря
и спя, капитализм разбух
и обдряб.
Обдряб
и лег
у истории на пути в мир, как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти, единственный выход — взорвать!
Но тут «взрывается» сам автор, которому не так легко, как видно, сохранять эпическое самообладание повествователя. Развертывание истории капитализма прерывается бурным протестом против представителей «чистого искусства», для которых политика, а значит, и живая история народа находятся за пределами искусства. Нельзя забывать, что поэты декадентского толка еще пользовались в те годы уважением в качестве «маститых». (В 1924 г. довольно широко отмечался сорокалетний юбилей литературной деятельности Федора Сологуба.) Теоретики Пролет
346
культа охраняли от политики выучеников своих студий. Вот против таких настроений, в которых сказывались буржуазные влияния на молодую советскую литературу, в защиту права и долга поэта разрушить перегородки между жизнью и поэзией, между политикой и эстетикой поднимает свой голос автор поэмы о Ленине:
Знаю, лирик скривится горько, критик ринется хлыстиком выстегать:
— А где ж душа?!
Да это ж —
риторика!
Поэзия где ж!
Одна публицистика!!
К продолжению повествования о капитализме — виновнике империалистических войн — автор возвращается с большим душевным подъемом, который дает ему — и читателю! — знаменитая лирическая декларация:
Я буду писать
и про то
и про это, но нынче
не время
любовных ляс.
Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс.
Если портрет капитализма нарисован плакатными и отчасти гротескными приемами, то «старший ленинский брат — Маркс» освещен изнутри как образ человека большой личной страсти — любви и ненависти. В решении этого образа поэт ищет каких-то других средств — не плакатных и, в полемике с обычными представлениями, хочет показать ту человечность, которая в дальнейшем станет главным в деятельности Ленина — «самого человечного человека»:
Маркс!
Встает глазам
седин портретных рама.
347
Как же жизнь его от представлений далека!
Люди
видят
замурованного в мрамор, гипсом
холодеющего старика.
Но когда
революционной тропкой
первый
делали
рабочие
шажок, о, какой
невероятной топкой
сердце Маркс и мысль свою зажег!
Историческое отступление, подготовляющее явление Ленина, завершается строфой, в которой перефразировка известной метафоры «Коммунистического манифеста» как бы отсылает читателя к этому источнику:
Коммунизма
призрак
по Европе рыскал, уходил и вновь
маячил в отдаленьи.
По всему поэтому
в глуши Симбирска
родился
обыкновенный мальчик
Ленин.
Поэт спешит обратиться к настоящему герою поэмы. Наметив вехи исторической родословной вождя пролетарской революции, Маяковский сохранил силы для большого эмоционального подъема в следующей, второй части, где Ленин выходит на авансцену истории.
Размер стиха при этом резко меняется, из повествовательноплавного становится отрывочно-разговорным, сохраняется только одна перекрестная рифма, последняя строка укорачивается, т. е. меньшее количество слов принимает на себя большую смысловую нагрузку:
348
Я знал рабочего.
Он был безграмотный, не разжевал
даже азбуки соль.
Но он слышал,
как говорил Ленин, и он
знал — всё.
Горячие свидетельства современника о самом простом, что он «знал», «слышал», «видел», раскрывают народную любовь к Ильичу, простому и родному, как та Русь, где родился Ленин: «земли с еще большей болью не довиделось видеть мне». Это воспоминание о прошлом обобщает картину — всего лишь два шестистишия, где Россия показана «сверху» и «с боков». Болью рождены метафоры, с помощью которых нарисован прекрасный и тоскливый пейзаж родины:
Сверху взгляд на Россию брось — рассинелась речками, словно разгулялась тысяча розг, словно плетью исполосована.
Но синей,
чем вода весной, синяки
Руси крепостной.
Читатель, чувствующий поэзию, не может не уловить в этом пейзаже краски поэта «мести и печали». Они замечены многими, писавшими о Маяковском и Некрасове. Однако традиции Некрасова не столько в изобразительных средствах, сколько в общей тональности, в русской душевности, с какою оба великих поэта выражают свое сочувствие народному горю. Маяковский говорит, что он видел «страны богатые более», «но земли с еще большей болью не довиделось видеть мне», а в поэме «Тишина», написанной Некрасовым после длительного пребывания за границей, сказано:
Храм воздыханья, храм печали —
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей5.
349
Поэма Маяковского, можно сказать, инструментована «выкриками» частушек и вкрапленными в нее строками из революционных песен — вплоть до популярных советских песен тех лет. И это тоже сближает ее тональность с традициями поэта революционной демократии. На страницах поэмы народ поет, находя в русской революционной песне о народном мстителе утоление своей «мести и печали», выражая в ней свою веру: «Мы родим> пошлем, придет когда-нибудь человек, борец, каратель, мститель!».
В. И. Ленин любил траурную песню на слова поэта Г. Мачтета «Замучен тяжелой неволей». Узнав об этом из воспоминаний о Ленине, Маяковский был обрадован: эту песню он хорошо знал еще с юных лет, когда вместе с прокламациями распространял брошюрку-сборник «Песни революции». Там были: «Замучен тяжелой неволей» («В память Чернышева»), «Машинушка», «Смело, друзья, не теряйте...», «Слезами залит мир безбрежный» и другие песни.
Их пели на маевках, на рабочих собраниях. В записной книжке Маяковского на полях мы встречаем две незаконченные строки:
Кто из нас не знаком с замком, Кто не знаком с тюрьмой.
Но в окончательном тексте автобиографическая интонация заглушена: автор не хочет выставлять себя и растворяется в общем «мы» и столь же общем «я»:
Даже мы в кремлевских креслах если, — скольким вдруг
из-за декретов Нерчинск кандалами раззвенится в кресле!
Кто из вас решетчатые прутья не царапал и не грыз?!
Нет, не исторический рассказ о прошлом, а непосредственное переживание и воспоминание современника составляют поэтический подтекст этой строфы:
Лоб разбей о камень стенки тесной, —
350
За тобою
смыли камеру
и замели.
«Служил ты недолго, но честно на благо родимой земли». Полюбилась Ленину в какой из ссылок этой песни траурная сила?
Постоянная перебивка планов: «Даже мы в кремлевских креслах если, — скольким вдруг из-за декретов Нерчинск.исторического прошлого и сегодня поддерживает эмоциональный накал повествования, не дает читателю уйти в прошлое, пусть и героическое, не позволяет оторваться от задач дня, включает рассказ о прошлом в сегодняшнюю и завтрашнюю борьбу.
Изменяется, растет масса, изменяется, учится, закаляется вождь. Возвышенно и просто объяснен в поэтической формуле тот «другой путь» — единственный путь истории, который избрал Ленин:
Бился
об Ленина темный класс, тёк
от него
в просветленьи, и, обданный силой
и мыслями масс, с классом рос
Ленин.
Знаменитое лирическое отступление о партии, победившей в Октябрьской революции, композиционно намного опережает хронологию и возникает в поэме еще до картин 1905 г. Это «отступление» концентрированно выражает философскую мысль всей поэмы. Если о Великой Октябрьской социалистической революции поэт сказал «моя революция», то образ партии согрет отношением — «моя партия». «Моя» —для каждого трудящегося, «моя» — потому что в ней воплощены, с ней связаны судьба, счастье, будущее каждого из миллионов. «Партия — единственное, что мне не изменит», — говорит поэт от имени миллионов. Заметим здесь поворот мысли поэта: не только моя верность партии, а и верность партии мне — «единственная» , нерушимая опора в исторической судьбе класса и каждого трудящегося. В сознании такой связи масс с партией — корпи се мощи.
351
Партия, продолжая дело Ленина, вбирала в себя все лучшее в рабочем классе, что было воспитано великим вождем, все, что закалялось годами революционных испытаний, труда и борьбы, все свежее, молодое, бесстрашное, что рвалось к знанию и творчеству:
Мозг класса, дело класса, сила класса, слава класса — вот что такое партия.
Нужно было воплотить в образе то органическое единство вождя и партии, ту неразрывность партии и Ленина, которая сложилась и выросла из самой истории героического русского революционного движения, которая сделала имя Ленина синонимом авангарда рабочего класса. И Маяковский высказал то, что чувствовал каждый:
Партия и Ленин — близнецы-братья, — кто более матери-истории ценен?
Мы говорим — Ленин, подразумеваем — партия, мы говорим — партия, подразумеваем —
Ленин.
Гимн партии, «моей партии», связывался с личной темой, которая открывала поэму: «Я себя под Лениным чищу...». Так нашло свое едва ли не наиболее сильное в нашей литературе поэтическое выражение чувства партийности, становясь в один ряд с такими выражениями этого чувства, которые приобрели всемирно-историческое значение в «Коммунистическом манифесте» и в словах Ленина о партии.
Теперь после сильной лирической декларации, посвященной теме партии, можно было продолжать рассказ в повествовательном тоне, где автор становится частицей массы, которая текла от Ленина «в просветленьи». Интонация повествования—«Падаем, царским свинцом косимы...» —в рассказе о событиях 9 января 1905 г. как бы включает и автора в число жертв «милости царской». И после накаленных ненавистью, саркастических строк о «свободе» и царском «манифестике» автор перебивает ход исторического повествования вторжением оценки советского поэта:
352
Плюнем в лицо
той белой слякоти, сюсюкающей
о зверствах Чека!
Смотрите, как здесь, связавши за локти, рабочих на смерть секли по щекам.
В этом «отступлении», или реплике автора, характерна та же перебивка, или переключение планов прошлого и современности.
Нужен был весь накопленный опыт Маяковского-агитатора и все могущество его — художника-трибуна, чтобы в быстро следующих друг за другом строфах, словно в сменяющихся кинокадрах, показать, как «из лет подымается страшный четырнадцатый», подвести читателя к тем дням, когда «мы, как докуренный окурок, просто сплюнули их династию». Этот последний образ поразителен по своей поэтической экономии, уменью спрессовать, обобщить явления действительности в одной строфе, за которой встает целая историческая полоса первых дней после февральской буржуазно-демократической революции, когда солдаты в проплеванных теплушках ринулись с фронтов по домам.
Изображение событий, на фоне которых вырастала фигура Ленина, облегчено было тем, что события эти были свежи в памяти поэта-современника и все время освещались, уточнялись в его сознании такими памятными датами 1924 г., как десятилетие войны 1914 г., которое было отмечено широким откликом прессы, разоблачавшей империалистический характер этой войны, такой датой, как семилетие со дня приезда Ленина в Россию из эмиграции, такими политическими фактами, как процесс эсеровского террориста Бориса Савинкова и т. д. и т. п. В замечательной картине исторического выступления Ленина с броневика у Финляндского вокзала впервые в поэзии закреплен был характерный жест вождя, направляющего массы: «... вперед ведущую руку выставил». С законной гордостью поэт цитирует в эпизоде, изображающем нарастание Октябрьской революции, собственную частушку:
Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй.
Речь Ленина, призывающего массы к Октябрьскому штурму, точно передана в поэме со стороны ее политического содержания. Однако и здесь Ленин — герой поэмы — говорит, а не цитируется: он употребляет такие выражения, как «голод-уродина»,
23 В. Перцов
353
такую форму прилагательного, как «интервенция ворья». Конечно, этот последний неологизм невозможен в реальном ленинском тексте, и тем не менее этот эпитет в поэтическом стиле Маяковского выражает самый дух, энергию, экспрессию, динамику ленинского слова — дела.
Гнет капитала
голод-уродина,
войн бандитизм, интервенция ворья, — будет! — покажутся
белее родинок на теле бабушки, древней истории.
Это речевая характеристика героя поэмы, сделанная Маяковским, а не цитата. С ней естественно сливается или из нее вытекает авторская реплика или третье лирическое отступление, прерывающее ход повествования. И подобно тому как гимн партии упреждает исторический ход событий, раскрывая социальную сущность силы героя, так, лишь забегая далеко вперед, в осуществленный коммунизм, автор получает возможность измерить масштаб исторического действия Ленина:
И оттуда
на дни
оглядываясь эти,
голову
Ленина
взвидишь сперва.
Это
от рабства
десяти тысячелетий к векам
коммуны
сияющий перевал.
Лирическое отступление создает дистанцию, без которой не возможно никакое обобщение. Чем герой или событие больше, тем и расстояние, на которое надо отойти, чтобы увидеть, охватить его, должно быть больше. Лирические отступления по их функции в поэме Маяковского о Ленине правильнее было бы назвать лирическими опережениями, потому что с их помощью создается дистанция, необходимая для эпоса.
Действительность будущего или, как ее называл Горький, «третья действительность» всегда присутствует в повествовании Маяковского о современности. С помощью лирического опережения Маяковский создавал воспоминание настоящего, 354
исключительно важное для художника, который пишет с натуры, чтобы «отцедить» типическое.
Воспоминание настоящего — это постоянный прием Маяковского, чтобы иметь возможность писать с натуры. Вот этот прием, например, в описании Бруклинского моста в знаменитом стихотворении того же названия:
Если
придет
скончание света —
планету хаос разделает влоск и только один останется этот над пылью гибели вздыбленный мост, то, как из косточек, тоньше иголок, тучнеют в музеях стоящие ящеры, так с этим мостом столетий геолог
сумел
воссоздать бы
дни настоящие.
Новый эпос — песня будущего — неделим. Он не делится на эпос и лирику, потому что в данном случае в поэме Маяковского о Ленине лирика не род поэзии, а «лирический эпос» 6 по определению одного из исследователей творчества Маяковского, способ сделать настоящее прошлым, увидев его с высоты будущего, посмотреть на самого себя из будущего.
*
Ленин учил, что политик ведет счет на миллионы. Горький в своем портрете Ленина и в связи с его личностью указывал, что «жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, — невозможно искренно любить». В содержание образа «самый человечный человек» Маяковский вкладывал высокий гуманизм рабочего класса, тревогу и заботу Ленина обо всех и каждом, не только о «близком», но и о «дальнем», о трудящихся всей земли.
23*
355
Нужно было проникнуться самой сущностью Ленина как полй-тика и мыслителя, самому стать в какой-то мере тем и другим, чтобы решить в искусстве тему Ленина. Для образного мышления Маяковского органична публицистическая направленность. Особенностью публицистического образа является открытое авторское отношение к предмету изображения или теме повествования. Страстно любящий и страстно ненавидящий автор демонстрирует свое отношение к тому, о чем идет речь, и этим достигает индивидуализации образа. Маяковский, владея искусством публицистического образа наряду с другими формами образного мышления, не придавал большого значения портретности, хотя всегда добивался точной передачи объективной сущности лица или события. Он как художник не прятался за свою картину, он не мог отойти от нее ни на один миг, потому что рисовал ее на глазах у читателя, объясняя, что он хочет сказать вот тем или этим. У автора, не владеющего даром публицистического образа, это обычно приводит к риторике, к той «публицистичности», о которой справедливо говорят с отрицательным оттенком как о недостатке эмоционального, пластического воздействия, которого мы ждем от произведения искусства. Обычно в таком случае являются слепые общие места, повторяющие известные всем вещи с холодной выспренностью или столь же холодной экзальтацией.
У Маяковского на его публицистических, по существу лирических страницах бушует огонь, сталкиваются злость и восторг, презрение и вера в победу, так что иногда простого упоминания имени лица или события достаточно для того, чтобы увидеть то и другое, — увидеть через отношение к нему автора. При этом самые скупые реалии дают сильный толчок воображению и насыщаются неожиданной изобразительной силой. Повествуя о делах Ленина на фоне истории революции, о том, как во время первой империалистической войны Ленин
с горсточкой товарищей встал над миром и поднял над — мысли ярче всякого пожарища, —
мысли о превращении войны народов в гражданскую войну, поэт говорит:
отсюда, против и сабель и пушек, — скуластый и лысый один человек...
356
И в другом месте, когда Ленин произносит свою первую речь с броневика по возвращении в Россию:
— Товарищи! — и над головами первых сотен вперед ведущую руку выставил...
Вот и все элементы портрета в образе Ленина. Да еще другой характерный жест в эпизоде, где Ленин в Смольном разговаривает с каким-то парнем, «заложивши руки за спину». Но больше ничего и не нужно, потому что восторженный и счастливый автор поясняет читателю:
И знал я, что все раскрыто и понято и этим глазом наверное выловится — и крик крестьянский, и вопли фронта, и воля нобельца, и воля путиловца.
А вот два портрета из враждебного лагеря: Милюков и Керенский. Как известно, Милюков требовал аннексии Константинополя и проливов. Вот в этом и была наиболее яркая социальная сущность характера кадетского министра, воспринявшего февральскую революцию как осуществление своих империалистических вожделений. Милюков получает у Маяковского новое имя — саркастическое производное от Дарданелл — Дарданельский. Поскольку речь идет о проливах, то возникают и метафоры «мелкая рыбешка», «крупная рыба»:
Сначала мелочь — вроде мальков.
Потом повзрослее — от шпротов до килечек.
Потом Дарданельский, в девичестве Милюков, за ним с коронацией прет Михаильчик.
В строфе о Керенском презрительный юмор публициста-сатирика проливает свет только на одну сторону политического по
357
ведения самовлюбленного буржуазного угодника, но портрет готов:
Премьер —
не власть — вышивание гладью! Это тебе
не грубый нарком.
Прямо девушка —
иди и гладь ее!
Истерики закатывает, поет тенорком.
В публицистическом образе главное не в том, чтобы воспроизвести явление в его данной форме, а в том, чтобы проникнуть в его сущность, вскрыть, выворотить ее через отношение поэта к явлению, будь то лицо или событие. Эпическое у Маяковского явно расходится с распространенной характеристикой особенностей этого рода искусства: если вам приятнее верно и точно передать наружный вид не только человека, но и простой вещи, чем красиво и горячо высказать то, что вы ощущаете при виде этой вещи или этого человека, значит вы эпический писатель и можете взяться за роман или повесть. Именно этого требовал Тургенев от «объективного писателя». Опыт эпоса пролетарской революции в поэме Маяковского о Ленине показывает глубокое единство субъекта и объекта изображения. «Наружный вид» человека или исторического события не отделим здесь от «ощущений» автора. И это в особенности становится ясно, когда на страницы поэмы прорвется «картинка». Повествовательное изображение у Маяковского усиливается не столько бытовыми реалиями, сколько метафорической заменой одного значения образа другим, ciy-Щающей политические факты:
И в город, уже заплывающий салом, вдруг оттуда, из-за Невы, с Финляндского вокзала по Выборгской загрохотал броневик.
И снова
ветер свежий, крепкий
валы
революции
поднял в пене.
358
Литейный
залили
блузы и кепки:
«Ленин с нами!
Да ‘здравствует Ленин!»
Против города, «заплывающего салом», — город, который «залили блузы и кепки». Метафора прочно стоит на общей основе. Предшествующая «публицистическая» строфа, опираясь на поговорку «смотрит, как кот на сало» и на сравнение меньшевиков с «ученым котом», подготовляет образ — «город, уже заплывающий салом»:
И в довершение пейзажа славненького, нас предававшие и до и потом, вокруг сторожами эсеры да Савинковы, меньшевики — ученым котом.
Так политический «пейзаж» переходит в реальный пейзаж революционного города, встречающего Ленина.
Мы сказали, что поэту нужно было проникнуться самой сущностью Ленина как пролетарского политика и мыслителя, чтобы решить в искусстве свою тему. Чтение сочинений Ленина стало для Маяковского не столько источником, необходимым для воспроизведения собственных слов героя поэмы, сколько необходимым условием для перевоплощения в свой образ, без чего художник не может творить. Характерно, что как раз в этот период, примерно в середине 1924 г., попытку создать образ Ленина делает Сергей Есенин в своих первых стихах о Ленине. Но с подкупающей искренностью Есенин должен был горестно признать, что он не может перевоплотиться в образ:
Застенчивый, простой и милый, Он вроде сфинкса предо мной. Я не пойму, какою силой Сумел потрясть он шар земной? 7
«Не пойму» — в смысле «хочу понять», «не могу жить, не поняв этого, самого главного». Есенин был потрясен смертью Ленина. Попытка поэтического проникновения в образ Ленина отозвалась на всем дальнейшем творчестве Есенина.
Без преувеличения можно сказать, что эта задача, к решению которой поэт настойчиво возвращался, лежала в основе его по
359
следнего, самого высокого подъема, определив тональность замечательной «Анны Снегиной» с ее картинами деревни, разбуженной революцией («Скажи, кто такое Ленин?» Я тихо ответил: «Он — вы»), таких стихов, как «Русь советская», заставивших посмотреть на Есенина новыми глазами, увидеть в нем одного из замечательных поэтов эпохи. И отсюда же у него негодующая лирическая декларация против тех, кого Маяковский презрительно назвал «мужиковствующих свора»:
Мне теперь по душе иное.. .
И в чахоточном свете луны Через каменное и стальное Вижу мощь я родной стороны. Полевая Россия! Довольно Волочиться сохой по полям! Нищету твою видеть больно И березам и тополям.
Если Есенин пытался и не мог понять «тайну» сочетания человечности, или, как он выражался, «застенчивости» Ленина с его силой и величием, то «поэт другой судьбы» нашел путь к раскрытию образа Ленина через его дела и идеи. Для Маяковского Ленин «самый человечный человек» прежде всего в том, «что он сделал», а не только в том, что «он, как вы и я, совсем такой же...»
Желание противопоставить одно другому и тем более подчеркнуть одну эту сторону могло лишь сузить понятие человечности, снизить его до мелочной индивидуализации образа. А. Безыменский назвал свою поэму, написанную после поэмы Маяковского, «Владимир Ильич Ульянов». В этом названии и в трактовке образа был элемент полемики. А. Безыменский говорил о Ленине — герое своей поэмы, что он «с восторгом дулся в городки», «цвел в битвах шахматной доски» и т. п. Совсем иной смысл в поэтической формуле Маяковского:
Коротка
и до последних мгновений нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина надо писать и описывать заново.
«Долгую жизнь» — не только в прошлом^ но и в будущем: бессмертие его идей, наследие его дел. В образе Ленина нельзя оторвать человека от вождя пролетарской революции, от его великих дел. Этот творческий принцип стал основой решения
360
темы Маяковским. Публицистичность образного мышления Маяковского открыла перед ним большие возможности. Приступая к описанию «долгой жизни товарища Ленина», он был поставлен перед задачей образного воплощения истории /рабочего класса в России. После горьковских Нила из «Мещан» и Павла из романа «Мать», после собирательных фигур пролетариев из «Мистерии-буфф» советская литература снова и по-новому подходила в поэме Маяковского к этой важнейшей задаче. Поэт-публицист, поэт-мыслитель не мог обойти ее, чтобы ответить на вопрос, оставшийся не разрешенным для Есенина: «Какою силой сумел потрясть он шар земной?». В поэме Маяковского предстает закономерность появления Ленина, вобравшего в себя силу рабочего класса. Нужно было показать борьбу мелкобуржуазных партий за влияние на рабочий класс уже после победы Октябрьской революции. Поэт перевоплощается в образ героя своей поэмы, он берет у Ленина самый подход к теме, разоблачая несостоятельность требований продолжать войну, требований отказа от Брестского мира. Автор поэмы о Ленине создает саркастический образ эсеровской тактики, соединяющей черты ребячества («в плащах распашонкой») с романтическими дешевыми театральными эффектами («глупой шпажонкой»):
Пошли эсеры
в плащах распашонкой, ловили бегущих
в свое словоблудьище, тащили, по-рыцарски, глупой шпажонкой красиво
сразить
броневые чудища!
Стихийно бежали домой солдаты из окопов империалистической войны. Бежали, но — знаменательный факт! — тащили, сколько могли унести на себе военного имущества, — в свой уезд, в свою волость, в свою хату: в иных деревнях скоплялись целые арсеналы, где были не только винтовки и пулеметы, но пушки и броневики.
Десятимиллионная царская армия распадалась, и партия большевиков организованно содействовала этому стихийному движению. Ленин, партия большевиков умели различить в стихийном движении масс зачаточную форму сознательности.
В поэме о Ленине Маяковский утвердил то представление о победе в революции сознательного начала над стихийным, которое отвечало подлинной революционной героике, которое стало пафосом «Чапаева», «Железного потока» и впоследствии «Разгрома».
361
В поэме Маяковского сила Ленина в том, что составляет его человечность, т. е. в опоре на массы, в любви к ним, в неиссякаемой вере в их творческие возможности. Ленин Маяковского объемлет подвиг народа в целом, умея разглядеть трудности и успехи, невзгоды и достижения каждого:
Мы жрали кору,
ночевка — болотце, но шли
миллионами красных звезд, и в каждом — Ильич,
и о каждом заботится на фронте
в одиннадцать тысяч верст.
Вот охват заботы «самого человечного человека». История подходит к крутому повороту, в котором еще раз испытывается бесстрашие гения. Вступает в действие метафора «Ленин — штурман», раскрывающая героику перехода к нэпу, героику будней, в которой проявляется огромный характер вождя и народа.
«Что он сделал... этот самый человечный человек?» Ответ потребовал от поэта напряженного труда, чтобы в сжатой до предела образной форме вместить огромный политический материал. Страстное утверждение права и долга поэта «атакующего класса» насытило эмоцией емкие поэтические формулы. Партия и Ленин — «близнецы-братья» — предстали как живые герои эпоса, родные дети одной «матери-истории». «Незаметный», «бытовой» Ленин естественно вырастал в богатыря, который «в черепе... людей носил до миллиарда полутора» и в то же время —
сам, где железо, где дерево носил чинить
пробитое место.
Стальными листами
вздымал и примеривал кооперативы, лавки
и тресты.
Картину всенародного горя в последней, третьей части поэмы пронизывает «ясная, осознанная боль». Потрясающей силе чувства соответствует здесь потрясающая сила изображения.
Прежде всего — предельная экономия. Каждая строфа несет наибольшую смысловую нагрузку в своем эпизоде. Главный образ 362
«эпизода», открывающего третью часть, — слезы, те самые «общие даже слезы из глаз», которые делают поэта «частицей» целого, общей «силы» народа. Этот основной образ переживаний народа направляет развертывание темы. Всего три строфы понадобилось для того, чтобы рассказать историю страданий и мук героев гражданской войны — большевиков, историю массового подвига тех людей, которые впоследствии получили в нашей литературе высокое звание «настоящего человека», стали прообразом типического явления «как закалялась сталь». Всего три строфы! Но как использованы в них каждое слово, каждая «мелочишка» отдельного слога, звука, предлога, чтобы помочь вырасти основному образу — слезы горя и мужества:
Если бы
выставить в музее плачущего большевика, весь день бы в музее
торчали ротозеи.
Внутренняя рифма «в музее — ротозеи» вносит комический оттенок, подчеркивающий неправдоподобность предположения. Но четвертая строка снимает элемент комизма своей полной серьезностью, выясняющей позицию автора:
Еще бы —
такое
не увидишь и в века!
Следующая, неполная трехстрочная строфа нарочито громоздка. Большое количество слов в строках придает звучанию фраз оттенок строгого исторического документа. Рифм нет! Они могли бы смягчить впечатление упрямой силы фактов:
Пятиконечные звезды
выжигали на наших спинах
панские воеводы. Живьем,
по голову в землю закапывали нас банды Мамонтова.
В паровозных топках сжигали нас японцы, рот заливали свинцом и оловом.
Ступенчатый раздел строк безошибочно вбивает ритм как бы дикторской передачи или сообщения. Третья строфа объясняет, ради чего приводятся непреложные исторические факты: муже
363
ственное поведение героев исключает возможность увидеть «плачущего большевика»:
рот заливали свинцом и оловом.
Отрекитесь! — ревели, но из горящих глоток лишь три слова: — Да здравствует коммунизм!
Рифма восстановлена. И это дает почувствовать разрыв фразы на предлоге «из», с которым рифмуется главное по смыслу слово строфы — «коммунизм». Неужели Маяковский разорвал фразу и перенес конец предложения в другую строку ради рифмы? Нет, напротив. Неожиданная рифма выражает самую сущность содержания. «Здесь разрыв синтаксического сочетания «из горящих глоток» имеет смысловое, художественно-изобразительное значение, — справедливо указывает М. П. Штокмар в своей работе «Стих Маяковского». — Умирая под пытками японских империалистов, задыхаясь (это передано нарушением синтаксической связи), большевики находили в себе силы произнести великий лозунг пролетарской революции: «Да здравствует коммунизм!»» 8.
После такого вступления-характеристики — «эта сталь, железо это» называет поэт участников съезда Советов, представителей народа, первых, услышавших весть о смерти любимого вождя. «Блестят у бороды на клине» слезы у М. И. Калинина, «по большевикам прошло рыданье». Образ «плачущего большевика», неправдоподобный, немыслимый до этого дня, становится реальностью, разрастается в образ народа в слезах: «... и как дети плакали седобородые».
И вот — улица в похороны. Маяковский отчитывается перед историей — снова взгляд из будущего на настоящее: «.. .день векам войдет в тоскливое преданье». Каждое слово, каждый образ в картине этого дня насыщены отраженной в них действительностью, полны многих значений. Приступ ужаса, отчаяния, охвативший людей при вести о смерти В. И. Ленина, переходит в сосредоточенную, сдержанную демонстрацию глубочайшего чувства. Тишина — вот образный подтекст изображения. Тишина на улицах, днем, в присутствии миллионов, и поэтому слышно: «То мужеством горе, то детскими вызвенит». Тишина и медленное движение, ощутимое в самом ритме, направляемом медленным амфибрахием траурного марша: «Прощай же, товарищ, ты честно прошел...» Дважды повторяется слово «плывущий», и оно усиливает беззвучие: «... гроб этот красный, к Дому Союзов плывущий. ..», и еще: «Знамен плывущих склоняется шелк...» Поэт-современник воссоздает незабываемые детали — знаки народной любви, проявляющейся в отказе от всякого внешнего выражения
364
МАЯКОВСКИЙ
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. 1922—1923 гг.
се, в достойном порядке, величавой организованности «тоскй человечьей». И здесь много говорит бытовая деталь «бить в ладоши никто не решается»: за этим огромное содержание — стыдливость заботы о себе перед таким всенародным горем.
Мороз небывалый жарил подошвы.
А люди
днюют
давкою тесной.
Даже
от холода
бить в ладоши
никто не решается —
нельзя, неуместно.
«Мороз небывалый», и опять же небывалая тишина, которая говорит явственнее самых громких слов. Их нет в этом слитном образе, как их нет во всей этой картине. В тишайшем проявлении чувства, в самодисциплине — залог силы тех, кто идет за гробом Лепина, всех, кто пойдет по его пути;
... на последнее
прощанье с Ильичем шли
и медлили у мавзолея.
Глубокая правда в том, как поэт изображает изнеможение от горя, отрыв на какой-то момент от всего, что делается вокруг пего, безразличие:
Выполняют церемониал.
Говорили речи.
Говорят — и ладно.
Огдушенный болью, он почти не слышит салюта. И то, как описан прощальный салют, — не «заострение», не «гипербола», а психологически точное описание переживания:
Безмолвие.
Путь величайший окончен.
Стреляли из пушки, а может, из тысячи. И эта пальба казалась не громче, чем мелочь, в кармане бренчащая — в нищем.
366
Трудность задачи Художника после картийы похорон была в том, чтобы из глубин скорби, из оглушения болью поднять слушателя к осознанию, что Ленин «и сейчас живее всех живых», вселить в каждого истерзанного горем жажду работы на коммунизм по заветам Ленина. Вместе с ростом боли постепенно приходит сознание, что это чувство общее у всего народа, что общность боли говорит о силе ленинских идей, об их бессмертии и, значит, не о смерти, а о жизни. Так органически происходит перелом, открывается задача, окрыляющая перспектива, исчезает чувство сиротства.
До боли
раскрыв
убогое зрение, почти заморожен, стою не дыша.
Встает
предо мной
у знамен в озарении темный
земной
неподвижный шар.
Над миром гроб неподвижен и нем.
У гроба —
мы,
людей представители, чтоб бурей восстаний.
дел и поэм размножить то, что сегодня видели.
Лиризм этого грандиозного образа раскрывает эпическое значение события. На Красной площади среди людей был поэт, который увидел всю Землю — замерзший «темный земной неподвижный шар», — не всякому было дано увидеть столько и так далеко в бесконечности земной галактики и во времени. Да, Маяковскому по плечу оказалось «размножить» то, чему были свидетелями и в чем участвовали массы, пошедшие за Лениным.
Жива партия, в нее вливается подкрепление сотен тысяч «от станка горячих — Ленину первый партийный венок».
После сцены у великой могилы в чрезвычайно быстром маршевом темпе развертывается заключительная мажорная концовка поэмы. Аллитерированное словосочетание «топота потоп» звукоподражательно воспроизводит барабанный ритм марша9:
Каждое знамя
твердыми руками
367
ВНОВЬ
пад головою взвито ввысь.
Топота потоп, сила кругами, ширясь, расходится миру в мысль.
Следующие за ними стихи — стихи маршевого ритма; это подчеркнуто двумя вставками текста из известных маршевых песен (любопытно, что первая из них — любимая песня фурмановского Чапаева):
«По морям, по морям, нынче здесь, завтра там».
И другая песенная цитата:
«Раз, два, три!
Пионеры мы.
Мы фашистов не боимся, пойдем па штыки».
Образы молодости, образы бессмертия идей Ленина соотнесены с историческими фактами. В мае 1924 г. пионерские отряды были переименованы в детские коммунистические группы имени Ленина. 23 мая на Красной площади состоялся праздник юных пионеров, которых приветствовали делегаты XIII съезда Коммунистической партии. Летом 1924 г. комсомол принял имя — Ленинский. Собравшийся в июне 1924 г. V конгресс Коминтерна провел свое первое заседание на Красной площади у могилы вождя в присутствии многих десятков тысяч трудящихся Москвы. Эти исторические события на Красной площади сгущены в необыкновенно динамическом, наступательном образе силы масс, вдохновленных идеями Ленина:
...руки миллионов сложив в древко, красным знаменем
Красная площадь вверх вздымается страшным рывком.
368
Красная площадь оживает огромным полотнищем, «с каждой складки» которого живой Ленин призывает пролетариев мира к восстанию, к «великой войне» против своих угнетателей.
Так заканчивается поэма. Если картина всенародного горя встречает нас в самом начале поэмы и развертывается в третьей части, то внутри этого «кольца» и заключен «про Ленина рассказ» в собственном смысле. Такое построение диктовалось непосредственной реакцией поэта на событие, которое потрясло весь народ. Это построение отвечало логике эмоций современника, вся жизнь которого была связана с жизнью Ленина, современника, который не мог представить себе жизни без Ленина и пережил его. Естественная в данном случае композиция поэмы, конечно, вовсе не обязательна для исторической поэмы или исторического романа о Ленине, которые могут быть созданы.
Перекличка между отдельными моментами или деталями в начале и конце поэмы помогает понять ее особенности как произведения эпического. В эпизоде третьей части, изображающем улицу в похороны, есть строфа:
Сейчас
прозвучали б
слова чудотворца, чтоб нам умереть —
и его разбудят, — плотина улиц
враспашку растворится, и с песней
на смерть ринутся люди.
В начале поэмы тот же мотив выражен так:
И ему и нам одно и то же дорого.
Отчего ж,
стоящий
от него поодаль, я бы
жизнь свою, глупея от восторга, за одно б
его дыханье, отдал? Да не я один!
Да что я,
лучше, что ли?!
Даже не позвать,
раскрыть бы только рот —
1/2 24 В. Перцов
369
кто из вас,
из сёл, из кожи вон, из штолен не шагнет вперед?!
Объективное и субъективное в поэме все время входят друг в друга, подобно тому как местоимение «я» переходит в «мы»г а «мы» в «я». Конечно, лишь поверхностный взгляд может в смене единственного и множественного числа личных местоимений увидеть границу между лирикой и эпосом или переход одного в другое. «Стиль вовлеченного в схватку лиризма» — так охарактеризовал своеобразие художественности Маяковского один из французских критиков. К пониманию особенностей поэмы Маяковского о Ленине как произведения эпического следует подойти, учитывая своеобразие роли героя — современника Ленина.
Еще в 1922 г. в незаконченной поэме «V Интернационал» Маяковский вложил в уста некоего собеседника такой недоуменный вопрос:
«Простите, товарищ Маяковский. Вот вы все время орете — «социалистическое искусство, социалистическое искусство». А в стихах я, я и я. Я радио, я башня, я то, я другое. В чем дело?» Поэт ответил так «для малограмотных»:
Пролеткультды не говорят ни про «я», ни про личность.
«Я»
для пролеткультда все равно, что неприличность...
А по-моему, если говорить мелкие вещи, сколько ни заменяй «Я» — «Мы», не вылезешь из лирической ямы.
В поэзии Маяковского нужно научиться «различать местоимения», руководствуясь более глубоким критерием, чем единственное и множественное числа. В стихотворении «Владикавказ—Тифлис», написанном в августе 1924 г. параллельно с работой над поэмой о Ленине, Маяковский говорит от первого лица. Однако «я» в этом стихотворении то ограничивается автобиографией поэта Маяковского, то распространяется до охвата целого народа грузинского, от лица которого говорит поэт. Первый случай, т. е. автобиографическое «я», дает вступительная строфа:
370
Только
нога
ступила в Кавказ, я вспомнил, что я — грузин.
Второй случай «я» — охват народа:
Было: с ордой, загорел и носат, старее всего старья, я влез, веков девятнадцать назад, вот в этот самый в Дарьял.
Лезгинщик и гитарист душой, в многовековом поту, я землю прошел и возделал мушой отсюда по самый Батум.
Третий случай — народ грузинский, его чаяния, его революционная воля воплощаются в образе «мстителя Арсена». И в это новое, обобщенное и в то же время вполне конкретное «я» перевоплощается поэт:
И вот я мечу, я, мститель Арсен, бомбы
5-го года.
В конце стихотворения восстанавливается голос поэта Маяковского, т. е. первый случай:
Я чту поэтов грузинских дар, но ближе всех песен в мире, мне ближе
всех и зурн и гитар лебедок и кранов шаири.
24*
371
О чем же говорит это мнимое постоянство «я» при наличии несомненного и нерасторжимого единства разных его значений? О единстве личного и общественного, выражаемом всей образной системой Маяковского, об обратимости личного и общественного, о естественности перехода одного в другое.
Рассказывая о многовековом труде народа Грузии, поэт иронически замечает:
От этих дел
не вспомнят ни зги.
История —
врун даровитый, бубнит лишь, что были
царьки да князьки...
В этой строфе «смысл философии всей», философии марксизма о роли массы и личности в истории — мировоззрения автора поэмы о Ленине.
Важно отметить, что, издеваясь над идеалистическим представлением о «царьках да князьках» якобы творцах истории, Маяковский далек от отрицания роли личности в истории. Он теперь ясно отдает себе отчет в том, что масса состоит из разных людей, что массы, творящие историю, вырабатывают и вождей, выдающихся революционных деятелей. В поэме о 26 бакинских комиссарах, написанной в августе—сентябре 1924 г. (т. е. опять же параллельно работе над поэмой о Ленине), Маяковский писал:
Сила
мильонов восстанием била — но тех, кто умел весть, борьбой закаленных, этих было — 26.
В кавказских гррах, по закавказским степям несущие трудовую ношу, — кому из вас не знаком Степан?
Кто
не знал Алешу?
Разрабатывая здесь тему масс и вождя, т. е. тему своей основной поэмы 1924 г. о Ленине, поэт в заключительной главе за-372
кавказской поэмы создает образ, близкий по своей структуре образу: «Красным знаменем Красная площадь вверх вздымается страшным рывком»:
Никогда,
никогда
ваша кровь не остынет, — 26-
Джапаридзе и Шаумян!
Окропленные
вашей кровью
пустыни красным знаменем реют, над нами шумя.
Вся эта линия образов, параллельная образам поэмы о Ленине, убедительно говорит о единстве поэзии Маяковского, в особенности ярком на этом новом этапе его творческого пути. Как ни стремительно рос, изменялся поэт, углубляя свое реалистическое мастерство, единство черт его стиля перешагивало за рамки того или другого периода, связывало в общее: поэзию Маяковского.
Нужно присмотреться к некоторым особенностям поэмы о Ленине, характеризующим новаторство социалистического эпоса; присмотреться не для того, чтобы установить единственный путь труднейшего дела создания социалистического эпоса и вывести «правило», обязательное для всех советских поэтов, но сделать ясными особенности эпической формы, в которую вылился у Маяковского «про Ленина рассказ».
Маяковский искал формы эпического повествования о пролетарской революции на тех же путях, по которым шли в своих поэмах Пушкин и Некрасов. Но он эти пути продолжил в новую историческую эпоху, когда решительно изменилось соотношение между общим и личным, когда все более органично общее стало восприниматься как личное, когда все яснее стала выступать заинтересованность всего общества в том, чтобы, охраняя человека от всякого вмешательства в его личную жизнь, сделать всех лично счастливыми. «От свидетеля счастливого», — говорит о себе автор эпоса. «Я счастлив, что я этой силы частица», — признается повествователь от лица того героя — творца истории, без которого нельзя понять Ленина как воплощение силы народа, воли истории. Таков был метод типизации отношений вождя и масс, найденный Маяковским.
Рядом с образом Ленина в поэме Маяковского живет, действует, любит, страдает и радуется другой герой, который говорит от первого лица. «Я», «у меня», «боюсь», «тревожусь», «дрожу». Это не просто лирический герой, в котором обычно воплощается автобиографический образ автора. В разных местах поэмы «я» имеет
1/4 24 В- Перцов
373
двоякое значение: «я» поэта и «я» всякого гражданина. Но в конце концов то и другое сливаются:
Сквозь мильоны глаз, и у меня сквозь оба, лишь сосульки слез, примерзшие к щекам.
Однако в подступе к теме — и это естественно — выдвинуто литераторское «я»:
Я боюсь этих строчек тыщи, как мальчишкой боишься фальши.
В эпизоде — улица в похороны — «я» поэта отступает перед «я» всякого гражданина:
В качке — будто бы хватил вина и горя лишку — инстинктивно хоронюсь трамвайной сети.
Кто сейчас оплакал бы мою смертишку в трауре вот этой безграничной смерти!
Если М. И. Калинин говорил, что идеальная частица души каждого — это Ленин, то именно о такой моральной чистоте об идейной непримиримости поэта ко всему чуждому и враждебному говорит Маяковский в начале поэмы, где выдвинуто «я» поэта:
Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше.
«Под Лениным» чистила в это время партия свои ряды. Этот исторический факт раскрывает социальное содержание образа Маяковского. Не к индивидуальному совершенствованию, а к активной работе над собой, к перевоспитанию, к переделке себя в коллективе звал Маяковский. И в этом «я» поэта сливалось
374
с «я» всякого гражданина. «Про Ленина рассказ» есть и рассказ про себя, рассказ про «малышей коллектива», создавшего Ленина и созданного им, однако рассказ не только в плане лирики. Своеобразие лирического героя поэмы, на мой взгляд, в том, что этот образ является составной частью образа народа.
В поэме о Ленине Маяковский — герой истории, один из миллионов ее творцов. Этот герой — «частица». Он говорит «я», как любой персонаж в драме, говорит и от своего лица и от лица автора. В поэме — он незаметный «маленький человек», идущий за Лениным, возвышенный, умудренный и очищенный им. Эпический герой. Личное местоимение единственного числа не должно обмануть нас, как обмануло в свое время рапповскую критику, которая при появлении поэмы в отдельном издании изрекла по адресу «попутчика» Маяковского анекдотическую похвалу в журнале «Октябрь»:
«... если то и дело он прибегает к «яканью» — «Я знал рабочего. .. я слышал рассказ... я видел горы», то наряду с этим намечается осознание себя как члена рабочего коллектива: «Мы не одиночки, мы — союз борьбы за освобождение рабочего класса...»» 10
Еще неотчетливо понимая свою историческую задачу, Маяковский в самом начале творческого пути объективировал героя лирики, физически отъединил его от автора, выведя на театральные подмостки. Владимир Маяковский — молодой человек 20— 25 лет — действует в его юношеской трагедии. Борис Пастернак тонко заметил по этому поводу: «Трагедия называлась «Владимир Маяковский». Заглавие скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающийся к миру. Заглавие было не именем сочинителя, а фамилией содержания» п.
В 1920 г. Маяковский подчеркивает объективность героя лирики, «отчуждая» его от автрра. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» — в подзаголовке иронически указан точный адрес проживания героя. В 1922 г. он выпускает сборник «Маяковский издевается». Заглавие указывает на действие героя, делая излишним особое обозначение имени автора. Характерно, что в прижизненном издании собрания сочинений Маяковский избежал обычного названия «Собрание сочинений» и на титульном листе ставил просто: Маяковский том 5; Маяковский том 1 (тома выходили в свет не по порядку). В 1927 г., летом, Маяковский пригласил своих друзей к себе на дачу в Пушкино на день рождения. Том 5-й тогда только что вышел в свет. «Где же «собрание сочинений»?» — спросил Маяковского автор этой монографии, указывая на обложку и титульный лист. Маяковский усмехнулся и ответил: «Парад войск». Эта метафора не была случайной. Она пригодилась в «Во весь голос», имея в подтексте реальный факт
25 В- Перцов
375
выхода в свет 5-го, 3-го, 4-го, 1-го томов, которые увидел поэт при своей жизни:
Парадом развернув
моих страниц войска, я прохожу
по строчечному фронту 12.
«Время — начинаю про Ленина рассказ», — объявляет Маяковский в начале своей поэмы. И начинает рассказ — про себя, про частицу Ленина в себе. В этом интересная черта эпоса пролетарской революции в той его форме, которая привлекает заслуженное внимание как решение Маяковским проблемы эпоса. В нем действуют богатыри-близнецы: народ, партия, Ленин. В нем типизирован еще один эпический герой, мы назвали его «частицей» — поэт и всякий вообще гражданин.
Слово это, произнесенное едва ли не на другой день после смерти Ленина М. И. Калининым, стало быстро внедряться в жизнь. В первой биографии Ленина, написанной П. Лепешинским и опубликованной в апреле 1924 г., рассказ о жизненном пути Ильича заканчивается так:
«В ком из нас нет частички души Ильича? Один из товарищей, при горестном известии о смерти Ильича, с гримасой страдания на лице воскликнул: «Да как же мне не реагировать на эту весть всеми своими нервами, если моя душа на три четверти состоит из того, что дал ей Ильич!» Вот эти-то доли души одного, другого, сотого, миллионного, эти частички души Ильича, сохраненные в бесконечном количестве человеческих индивидуальностей, представляют как раз то, что в своей совокупности является продолжающей жизнь душой Ильича...» 13
В «Правде», в статье 1924 г., посвященной Ленину в день его рождения, Ем. Ярославский писал: «Мы пересматриваем эту богатую, красочную жизнь, и мы чувствуем, что в каждом из нас — частичка этой жизни Ленина.
И только этими объединенными частицами Ленина, что в каждом ленинце, только великим коллективом рабочего класса, только могучей организованной волей партии Ленина можем мы довести дело пролетарской революции до конца» 14.
Образ такого героя — частицы ленинского коллектива, современника вождя — воплотил Маяковский в своей поэме о Ленине, образ эпический, которому дана была лирическая форма высказывания:
Я счастлив,
что я
этой силы частица...
376
*
Как примет поэму рабочая аудитория? Маяковский писал для нее, видел перед собой рабочих. «Российской Коммунистической партии посвящаю». Кровная близость поэта с партией, доказанная всей жизнью, готовность ответить на самые высокие требования — вот в чем право на такое посвящение. Маяковский хотел знать партийное мнение о своей работе. Известно, что он услышал его после выступления с чтением поэмы 21 октября 1924 г. перед активом Московской партийной организации в Красном зале МК.
Однако еще до этого решающего выступления поэт проверил свою работу на аудитории, которая была для него более обычной и в то же время достаточно требовательной во всех отношениях, чтобы на ее мнение можно было опереться. 18 октября 1924 г. Маяковский читал поэму «Владимир Ильич Ленин» в Доме печати. К этому времени съехались с периферии работники местных газет на курсы по переподготовке работников периодической печати. Открытие этих курсов должно было вскоре состояться в Доме печати. Курсанты, люди с большим партийным стажем, составили ядро той аудитории, которая собралась слушать Маяковского. Хотя Дом печати считался организацией для журналистов, своего рода клубом журналистов, а не писателей, но еще с начала 20-х годов газетчики и писатели объединялись именно в Доме печати. Обстановка Дома печати была чрезвычайно пргь влекательной и даже казалась верхом роскоши — светлая нарядная мебель в стиле ампир, стулья с золочеными ножками, крытые обветшавшим шелком, тяжелые портьеры, мраморные лестницы. Однако в те голодные годы все это было меньшей роскошью, чем бутерброды с частиковой икрой и морковный чай с сахарином, которые предлагались членам и гостям Дома печати. Как у себя дома, располагались на штофных диванах молодые газетчики и поэты, еще в шинелях и валенках. В дневнике Дмитрия Фурманова имеется подробная запись диспута в Доме печати в 1921 г., посвященного «Мистерии-буфф» Маяковского, на котором делал доклад П. С. Коган. Д. Фурманов подробно излагает содержание доклада и страстные споры вокруг театральных школ Таирова и Мейерхольда, борьба которых занимала умы молодежи настолько, что даже оттеснила на задний план непосредственную тему диспута 15.
Маяковский входил в Правление Дома печати. Ни одно сколько-нибудь значительное мероприятие Дома печати не обходилось без него. Там, на вечере, посвященном Ленину, как уже об этом говорилось, он читал в 1923 г. свое стихотворение «Мы не верим!». Членами Правления Дома печати были П. С. Коган, В. Я. Брюсов, В. П. Полонский, О. С. Литовский. Во главе Правления стоял П. М. Керженцев — крупный партийный ра
25*
377
ботник, организатор Тасса, журналист и театральный критик. Его звали — Платон Михайлович. «Идеалисты, берегитесь этого Платона!» — острили по поводу Керженцева в то время. Но хотя он выступал против Воронского и стремился отстаивать партийную линию в искусстве, сам современный Платон грешил тайным сочувствием «левым» и был связан с пролеткультовцами. Впоследствии Керженцев стал известен как один из руководителей и инициаторов НОТа (научной организации труда) и «Лиги время».
Постоянным участником диспутов Дома печати был А. В. Луначарский. Он читал там и свои пьесы, безропотно выслушивая критику Маяковского, который называл драматургические опыты наркома по просвещению «наркомическими». Другие оппоненты высказывались столь же прямо «в лоб», но в заключительном слове, обычно на рассвете, Луначарский сражал критиков несравненным своим красноречием. Небольшая аудитория Дома печати бывала набита до отказа, и весь маленький дом сотрясался от полемических страстей, когда там выступали Есенин с имажинистами, Андрей Белый, Мейерхольд.
На заседаниях Правления Дома печати Маяковский часто заменял отсутствовавшего Керженцева, подписывал протоколы заседаний, — ему нравилось выполнять эти общественные обязанности. Обычно он председательствовал на творческих вечерах поэтов и часто выступал на своих творческих вечерах.
По свидетельству секретаря Дома печати В. А. Мильман, Маяковский председательствовал на одном из вечеров С. Есенина и был на вечере Александра Блока, состоявшемся в Доме печати в мае 1921 г.
Для Маяковского Дом печати противостоял Дому Герцена, в котором главенствовал Всероссийский союз писателей с председателем Пильняком. В Доме печати была редакция «Лефа». Там же находились редакции «Журналиста» и «Печати и революции». В общественно-политической обстановке начала 20-х годов Дом печати был для Маяковского тем клубом, где он встречался с представителями партийной печати и советской журналистики, где меньше было окололитературной публики, заполнявшей коридоры Дома Герцена.
«Горячими искренними аплодисментами покрыли слушатели заключительные строки поэмы, — вспоминает К. Зелинский, присутствовавший 18 октября 1924 г. на чтении в Доме печати. — Маяковский стоял, вдруг опять посерьезнев, но уже счастливый тем, что выдержан, может быть, труднейший экзамен во всей его поэтической жизни».
К. Зелинский работал в этот период в «Известиях», где и появилась заметка о поэме и чтении ее в Доме печати.
«Вы говорите, Стеклов меня признал из-за Ильича? Это уже второй случай». И Маяковский отшутился: «Чемберлен тоже нас
378
не признавал». И снова серьезно: «Буду читать поэму в Московском комитете партии. Это еще более трудный экзамен. Никогда я так не хотел, чтобы меня поняли, как в этой поэме. Это, может быть, самое серьезное из того, что я делал до сих пор» 16, — пишет автор тех же воспоминаний.
Отчет о выступлении поэта в Красном зале МК появился 23 октября 1924 г. в «Рабочей Москве» и был озаглавлен требовательно, даже сурово: «Поэма Маяковского «Ленин» перед судом партийного актива». Отчет говорит о том, что поэт завоевал огромное большинство аудитории.
«Зал был переполнен. Поэма была встречена дружными аплодисментами всего зала. В открывшихся прениях ряд товарищей говорили, что это сильнейшее из того, что было написано о Ленине. Огромное большинство выступавших сошлось на одном, что поэма вполне наша, что своей поэмой Маяковский сделал большое пролетарское дело. После прений Маяковский отвечал оппонентам. В частности, Маяковский указал, что он хотел дать сильную фигуру Ленина на фоне всей истории революции, а не интеллигентский эстетский образ...»
Отклики на чтение Маяковского появились и во многих местных газетах. Это объяснялось тем, что среди слушателей Маяковского в Доме печати, как уже было сказано, было много журналистов с периферии. Под непосредственным сильным впечатлением только что прослушанной поэмы они написали отчеты о чтении в свои газеты. И если отдельные отрывки из поэмы стали появляться в газетах ближе к дате 7-й годовщины Октября, все учащаясь к дате первой годовщины смерти Ленина, то корреспонденты, слушавшие поэму Маяковского в Доме печати, сразу же разнесли по всей стране восторженный отклик на новое произведение поэта.
Благодаря работе одного из наших литературоведов, упоминавшегося уже В. П. Ракова, который обследовал периферийную прессу тех лет, мы имеем возможность более полно, чем раньше, познакомиться с этими ценными материалами.
«Новый курс Маяковского» — так озаглавила самарская газета «Коммуна» заметку, напечатанную 26 октября 1924 г. «Наиболее крупным литературным событием последних дней является новая большая поэма Вл. Маяковского «В. И. Ленин», посвященная им РКП (б), — писала газета. — 18 октября он прочел ее впервые в Доме печати, переполненном рабфаковцами, рабкорами и работниками печати...
Аудитория приняла поэму весьма сочувственно. Все выступавшие (главным образом рабкоры) отметили громадную ценность поэмы, ее внутреннюю оправданность, искренность и глубину. Автор, отвечая на упреки «присяжных критиков» в перегруженности вещи «политикой», декларировал свой полный отход «отныне и навсегда» от писательского индивидуализма, личных мел
379
ких тем и посвящение своего пера целиком нуждам, интересам, а главное, пониманию рабочего читателя.
Поэма «В. И. Ленин», на наш взгляд, несомненно является лучшим из всего написанного в художественной литературе об Ильиче и революции. С исключительным подъемом написано о смерти и похоронах Ильича и о трудных днях в Москве.
Московская организация РКП (б) устраивает чтение этой поэмы в партийных и рабочих клубах».
Газета «Красная Татария» (Казань) от 2 ноября 1924 г., поместила хронику «Московские новости», в которой наряду с сообщением о посещении советским народом Мавзолея Ленина, о жизни Московской партийной организации и подготовке к Октябрьским торжествам отмечались и выступления Маяковского с чтением поэмы перед рабочей и партийной аудиториями столицы.
«Автор читал ее в Доме печати, на собрании московских писателей, перед рабочей и партийной аудиторией. После горячей критики общественное мнение о ценности поэмы высказалось в пользу автора ее.
Хорош метод творчества у Маяковского. Лабораторная работа над своим произведением его не удовлетворяет. Он идет с ним в рабочую и партийную массу и там его окончательно отделывает. Тем более требует коллективной обработки художественное произведение о Ленине».
«Бакинский рабочий» от 5 ноября 1924 г. посвятил чтению Маяковского статью под заглавием «Литературный памятник Ленину».
«В Доме печати в Москве, — писала газета, — В. Маяковский прочел свою новую, еще нигде не напечатанную полностью поэму «Ленин», посвященную РКП (б).
Поэма представляет несомненно одну из сильнейших и значительных вещей, написанных Маяковским...
Задача ее, как говорит об этом автор в поэтическом «предисловии», — показать Ленина таким, каким он был, то есть таким, каким он нужен современному и будущим поколениям пролетариата, уберечь его от превращения в фетиш, в мертвый символ, сохранить не только бальзамированное тело, а подвижной, горячий, простой и великий в своей человечности образ Владимира Ильича. Простым языком... поэт рассказывает о жизни Ленина. Ленин неотделим от рабочего класса.
... Строй ее, может быть, отдаленно напоминает строй героического эпоса — та же широта захвата, значительность, эпохи-альность темы, та же мужественная целостность. Во всяком случае, можно сказать с уверенностью, что из всего до сих пор сделанного искусством для увековечения памяти дорогого вождя — новая поэма Маяковского представляет наибольшую ценность».
380
Почти вся поэма в отрывках стала известна стране по газетам и журналам. Первый отрывок появился 18 октября 1924 г. в «Рабочей Москве» под названием «Партия», а 21 октября там же — «Улица в похороны». 26 октября самарская газета «Коммуна» опубликовала отрывок «Партия» в том же номере, где была напечатана и заметка «Новый курс Маяковского». Между двумя историческими датами — 7 ноября 1924 г. и 21 января 1925 г. — читатели газет знакомились с отрывками поэмы «Владимир Ильич Ленин».
В течение примерно трех с половиной месяцев около шестидесяти газет и журналов напечатали отрывки из нее. Распространялись они большей частью через Прессбюро РКП (б), но, вероятно, выбирались при участии автора. Чаще других печатались следующие отрывки:
«Партия» (от слов: «Америку пересекая в экспрессном купе» до слов: «Мы говорим — партия, подразумеваем — Ленин»), «Улица в похороны» (от слов: «Улица — будто рана сквозная» до слов: «плывущий на спинах рыданий и маршей»), «Октябрь» (от слов: «Когда я итожу то, что прожил» до слов: «Власть Советам! Земля крестьянам! Мир народам! Хлеб голодным!»).
Отрывки «Наш фундамент» (от слов: «Я знал рабочего» до слов: «Кровью вписан героизм подполья в пыль и слякоть бесконечной Володимирки»), «Капитализм», «Маркс и Ленин», «Приезд», «Нэп», «6 часов 50 минут», «Ленинцы» (от слов: «Общая мысль воедино созвездена» до конца поэмы) и другие дошли до читателя еще до того, как в феврале 1925 г. новое произведение Маяковского впервые выпущено было в свет отдельным изданием.
Так «пошла в народ» поэма Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин».
Если партийное общественное мнение, газеты и массовый читатель горячо приняли новую работу Маяковского, почувствовав в ней настоящий творческий подъем или, как озаглавила самарская «Коммуна» свою заметку, «Новый курс Маяковского», то профессиональная литературная критика почти не откликнулась на поэму. Бледные критические заметки, появившиеся в ленинградской «Красной газете», в рапповских журналах, хотя и оценивали поэму сочувственно — сквозь зубы, но были очень далеки от того, чтобы понять масштаб ее как литературного явления. Несколько абзацев уделил поэме о Ленине в своем литературной портрете Маяковского Воронский. Он заявил, что в поэме «нет Ленина», что «тема не удалась поэту». Снисходительно замечая, что все же Маяковский «вновь пытается утвердиться на революционных позициях», Воронский фактически был озабочен не столько объективной оценкой поэмы, сколько тем, чтобы не пострадала теория «Перевала» о «пафосе дистанции», отрицавшая возможность художественного отображения современности.
381
*
Маяковский был в Смольном в «первый день» или же в первые дни Октябрьской революции. С законной гордостью он писал в автобиографии: «Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось». Один из наиболее действенных эпизодов созданного им в поэме о Ленине эпоса пролетарской революции — Ленин в Смольном. Картина была нарисована на основе личного впечатления — воспоминания современника, обогащённого всем опытом, который дала художнику партия, история.
Когда поэма печаталась в отрывках, произошла досадная случайность, которая дала повод для больших нападок на поэта и способствовала тому, что вокруг поэмы разгорелись споры, в которых проявилась не только групповая борьба, но и разное понимание задач реализма. Поскольку здесь важны детали, нужно напомнить эпизод поэмы, оказавшийся в центре внимания:
Кто мчит с приказом, кто в куче спорящих, кто щелкал затвором на левом колене.
Сюда с того конца коридорища бочком пошел незаметный Ленин. Уже
Ильичем поведенные в битвы, еще не зная его по портретам, толкались, орали, острее бритвы солдаты друг друга крыли при этом. И в этой желанной железной буре Ильич, как будто даже заспанный, шагал, становился и глаз, сощуря, вонзал,
382
заложивши
руки за спину.
В какого-то парня в обмотках, лохматого, уставил без промаха бьющий глаз, как будто сердце с-под слов выматывал, как будто Душу тащил из-под фраз.
И знал я, что все раскрыто и понято и этим глазом, наверное, выловится — и крик крестьянский, и вопли фронта, и воля побельца, и воля путиловца.
Если бы не было очевидного контраста между «коридорищем» Смольного и «незаметностью» Ленина, между житейски-ласковой деталью «как будто даже заспанный» и «желанной железной бурей» революции, то никогда не выступило бы с такой достоверностью единство величия и человечности Ленина. Маяковский, решая тему Ленина, стремился к верности натуре, углубляя свой реалистический метод, по-новому используя и его романтические стороны.
Этот отрывок был напечатан 7 ноября 1924 г. в «Известиях» под заголовком: «Ленин» (Из поэмы)». Начинался он строфой, за которой и следовал приведенный выше эпизод:
И оттуда
па дни
оглядываясь эти, голову Ленина взвидишь сперва.
Это
от рабства
десяти тысячелетий к векам
коммуны
сияющий перевал.
383
В текст этой строфы вкралась опечатка; последняя строка в «Известиях» от 7 ноября 1924 г. была напечатана так: «к векам коммуны сияющий генерал» *.
Если вспомнить, что со словом «генерал» в то время связывалось представление о старой царской или же белогвардейской армии, то понятно будет, сколь серьезна была опечатка, как изменила она идейно-политический смысл строфы.
В начале 1925 г. происходила первая конференция пролетарских писателей, организованная Раппом; Маяковский был на этой конференции делегатом с совещательным голосом. Рапповская конференция оказалась плацдармом, на котором опечатка в «Известиях» и художественные разногласия между Демьяном Бедным и Маяковским были искусно использованы для нападения на Маяковского. Отношения Раппа к Маяковскому всегда были двусмысленными.
Горем Раппа были его «теоретики». В их руках была и административная власть, они могли сделать любые «оргвыводы» по отношению к инакомыслящим или не угодным им. Но и они не могли не считаться с тем, что молодые пролетарские поэты увлекались Маяковским, пытались подражать ему. Правда, дело осложняло «лефовство» Маяковского. «Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост», — острил по этому поводу Луначарский. Лефовский «хвост» отодвигал творческую молодежь Раппа от Маяковского, мешал ей ближе подойти к поэту. А «теоретики» не в состоянии были помочь ей понять истинное положение вещей. В результате и получалась двусмысленность. Вместо того, чтобы в организации пролетарских писателей иметь надежную опору для борьбы с эстетами, Маяковский всегда мог ждать удара со стороны политиканствующих рапповских заправил.
На заседании 9 января 1925 г. Демьян Бедный с возмущением заявил, что у Маяковского «Ленин — сияющий генерал будущего или прошлого». Маяковский с места подал реплику: «Это клевета». Продолжая свою короткую речь, Демьян Бедный сказал, что для него неприемлема и фраза «вышел сонный Ленин». Вслед за тем он ушел с заседания и не появлялся до конца конференции. Конечно, можно было оспаривать точность эпитета, можно было спорить с тем, в какой мере выражение «заспанный» может передать то, что хотел сказать Маяковский: бессонное напряжение первых дней восстания, отразившееся на лице его гениального руководителя. Однако важна была реалистическая тенденция Маяковского: показать Ленина земного, Ильича-человека.
Если Демьян Бедный, резко выступая против Маяковского, спорил с ним о вкусах и отстаивал свою несколько натуралисти-
♦ Курсив мой. — В. П.
384
ческую трактовку реализма, то в дальнейшем ходе конференции этот конфликт был использован для того, чтобы бросить тень на Маяковского как на «попутчика», который взялся за тему пе по плечу.
Против Маяковского выступил Л. Сосновский, в то время влиятельный фельетонист. Он считал себя ценителем изящной литературы, хотя его критические выступления свидетельствовали лишь об апломбе, с которым он отстаивал свои вульгаризаторские взгляды на искусство, свое крайне упрощенное, примитивное понимание вопросов художественной формы. Литературный «старовер», он претендовал на роль наставника. Рапповские руководители льстили ему, используя его для устройства своих дел, а Маяковский издевался над таким «наставником», высмеивая невежественность его поучений. И вот теперь Сосновский получил возможность свести старые счеты: «... Ильич, заложивший руки, заспанный, разговаривающий с каким-то лохматым парнем. Товарищи, не все из вас имели счастье видеть близко Ильича в разное время, немногие имели это счастье, и более нелепое, чем заспанный Ильич, руки заложивши назад, разговаривает с рабочим — никому не подумалось сказать» 17.
В рапповском руководстве главную роль играли тогда так называемые «напостовцы», одна из «ранних» рапповских формаций, в которой, впрочем, уже назревали идейные пороки и более «зрелой» и, наконец, той, которая, изжив себя, была ликвидирована по постановлению Центрального Комитета Коммунистической партии в 1932 г. Рапповцы из журнала «На посту» считали самым подходящим способом «управлять» литературным движением с помощью милицейского свистка. Если название журнала должно было говорить о бдительности ко всему чуждому и враждебному в литературе, то на деле «бдительность» оказалась левацко-пролеткультовской замкнутостью. Однако рапповцы были обеспокоены не столько тем, чтобы охранять чистоту своих рядов, сколько тем, чтобы чуждые им писатели не утвердились на платформе Октября без всякого их участия (или же вопреки ему), не устранили сверхбдительных наставников-самозванцев как ненужное средостение между собой и партией. Рапповское руководство видело опасность для себя в той позиции, которую занимал Маяковский по вопросу об отношении пролетарских писателей и попутчиков. Не ярлыком решается вопрос о «проле-тарственности» писателя, а литературным соревнованием, твердил Маяковский. На заседании конференции, проходившей в Доме Герцена, где помещались рапповские литературные организации, Маяковский заявил о своем полном согласии с «желанием расслоить их (попутчиков. — В. П.) на две части — на действительных попутчиков революции и тех, которые, смешавшись в этой куче, являются по существу примазавшимися к революции». При этом он оставлял за собой право на художествен-
385
пые разногласия с пролетарскими писателями. Подчеркивая свое идейное единство с ними, дающее ему право на то, чтобы чувствовать себя в товарищеской среде, Маяковский обрушивался на Воровского, поставив принципиальный вопрос,как об этомуже сказано выше, о реалистическом решении образа Ленина.
«.. .Отношение Воронского к попутчикам не только ласкательное отношение, но и ругательное. Воронений, однако, не откажется признать, что ругательное отношение возникает только с того момента, когда попутнический писатель хочет уйти от идеализма. Когда я читал Воронскому свою поэму о Ленине, то он подчеркнул, что мало мест, где сквозит мое «личное». «Вас,— говорил он, — мало. Вы не дали нам нового Ленина». Я ему ответил, что нам и старый Ленин достаточно ценен, чтобы не прибегать к гиперболам, чтобы на эту тему не фантазировать о каких-то новых вещах».
А вслед за тем и произошел тот конфликт вокруг отрывка из поэмы, напечатанного в «Известиях», о котором рассказано выше. После выступлений Демьяна Бедного и Сосновского Маяковский вновь попросил слова. Приведем полностью его речь, она дает возможность представить себе, какие формы принимала литературная борьба вокруг Маяковского уже в то время. Маяковский вышел на трибуну с довольно объемистой рукописью.
«Товарищи, я выступаю не для того, чтобы защитить свою поэму, но чтобы заставить уважать собрание пролетарских писателей и не пользоваться опечаткой в целях дискредитирования моего отношения к Ильичу и в целях дискредитирования моей поэмы. С 24-го сентября по 30-е декабря я находился в Париже, где «Известия» не продаются, и корректуру этой вещи, помещенной 7-го числа в газете, я не читал, и сегодня, прочитавши этот номер, я с необычайным изумлением и большим смехом увидел слово «генерал». Все мои слова относительно того, что это ложь, остаются в силе. Такую ерунду я не мог никогда написать, и люди, сколько-нибудь смыслящие в поэтической работе последних лет, должны видеть, что «генерал» и «перевал» ни в коем случае не соответствующие друг другу слова ни по рифме, ни по ассонансу. Каждому это должно быть ясно, а в доказательство я могу предложить 2 оригинала: первый оригинал, написанный мною прозой, потому что я должен был его везти через французскую границу и боялся, что его заберут, где на 11 странице написано: «Это от рабства десяти тысячелетий к векам коммуны сияющий перевал». Прилепить к этому «генерал» — это такая белиберда, которая ни одному человеку в голову прийти не может. Вот другой оригинал, по которому ясно видно, что я бы не мог его сейчас написать потому, что он испещрен всякими поправками (это черновик), где на 53-й странице написано: «Переписать» — сказано: (читает). Таким образом, все мои слова, которые относились по поводу лживости указания на то, что я мог бы
386
написать эти строчки, остаются в силе. Все мои слова, которые были обращены к Демьяну Бедному, передаются в срочном порядке Стеклову. Это по личному вопросу. Дальше идет вопрос о характеристике. Немногим из нас было дано счастье увидеть тов. Ленина (здесь Маяковский повторяет слова Сосновского, возражая ему. — В. П.). Взятый мной факт, это один из тех, который я списывал с натуры. Эта картина была в дни революции буквально списана с тов. Ленина, и такой способ стоять, заложив руки, всем известен. Дальше, для того, чтобы сказать «заспанный», — это настолько казалось невероятным для Ленина, что за этой строчкой идет:
... шагал, становился
и глаз, сощуря, вонзал, заложивши
руки за спину.
В какого-то парня в обмотках, лохматого, уставил без промаха бьющий глаз, как будто сердце с-под слов выматывал, как будто душу тащил из-под фраз.
Может быть, после этого Сосновский будет меня учить, какими образами изображать Ленина.
Дальше, относительно фигурирования поэмы «Ленин» в Политехническом музее. Не в Политехническом музее читал я свою поэму, а в МК партии и по районам, так что это обвинение, брошенное мне, отпадает. Товарищи, настоящие разговоры ведутся не для реабилитации поэмы, если товарищи потребуют, в свободное время я прочитаю ее, не об этом идет вопрос, а вопрос идет о применении недобросовестных приемов при критике литературных течений своих же пролетарских писателей» 18.
В чем был смысл «обвинения», что Маяковский читал свою поэму в Политехническом музее?
На выступления Маяковского в Политехническом музее вместе с рабфаковцами, вместе с рабкоровской молодежью, восторженно относившейся к своему любимому поэту, проходила по купленным билетам, занимая лучшие места, и нэповская публика, жаждавшая сенсации. Маяковский расправлялся с ней своими сильнодействующими полемическими приемами, выработанными им еще со времен «Бродячей собаки»: перед ним был тот же
387
враг, «отъявленный и давний», с какой стати было с ним церемониться?
С поэмой о Ленине Маяковский не пошел в Политехнический музей. Он отказался выступать перед разношерстной публикой, стремясь встретиться прежде всего с людьми, в которых он видел непосредственных продолжателей дела Ленина, чтобы проверить себя и утвердиться в сделанном. Первые чтения поэмы были в МК партии и в районных рабочих клубах. Рапповцы прекрасно это знали, не могли не знать, слишком громок был резонанс партийного общественного мнения. Однако никто из организаторов конференции и не подумал о том, чтобы восстановить справедливость. Зачем? Маяковский не из тех, кого можно обидеть, а помешать он может. Достаточно и того, что его пригласили на конференцию пролетарских писателей, правда с совещательным голосом, — пусть видит в этом «поощрение» и ценит проявление «доверия» к нему со стороны тех, кому предстоит завоевать «гегемонию» пролетарской литературы. Пусть вникает в рассуждения тех, кому принадлежит первородство в этой области, вникает и перевоспитывается. А ведь иначе, чего доброго, он сам вздумает перевоспитывать «гегемонов» и «расслаивать» их со своих позиций — автора поэмы о Ленине...
Неприветливо и подозрительно отнеслись официальные руководители Раппа к появлению Маяковского на конференции, они боялись его, боялись не как противника, а как союзника, как друга пролетарской литературы, как одного из наиболее ярких талантов в ее среде. А Маяковский? Он не мог не чувствовать себя в среде пролетарской литературы полноправным хозяином, ответственным за все, чем жила молодая Советская страна и едва становившаяся на ноги ее молодая литература, опасности на пути развития которой он различал лучше, чем не в меру самонадеянные сановники из Раппа. Свое призвание поэта Маяковский видел не в том, чтобы мириться с ролью соглядатая великих дел класса, а в том, чтобы вместе с классом, с партией решать все дела «во весь голос». Естественно, что такой человек, которого рапповцы считали непроницаемым для обиды, начал свое выступление на конференции с поправки:
«Тов. председатель ошибся, сказав, что я гость. Я делегат, хотя и с совещательным голосом, но это лучше, чем быть соглядатаем того крепкого разговора, который был сегодня».
Новая поэма Маяковского, уже получившая признание рабочего слушателя, путала карты и виды кандидатов на «гегемонию». Не обладая по молодости лет знаниями и опытом, чего никто не мог бы поставить им в вину, они держали себя крайне заносчиво. Они страдали той болезнью, диагноз которой своевременно поставил Ленин, определив ее одним словом: комчванство. По своему литературному паспорту «попутчика» Маяковский не имел права на авторство поэмы о Ленине. И вот — на тебе! —
388
он написал ее, ни у кого не спросись, да еще ездит по районам, читает поэму рабочим, — и она им нравится... Тихо сидя за спиной Демьяна Бедного, чьи заслуги поэта-правдиста высоко ставили его в то время над всей литературной братией, выдвинув таран в лице Сосновского, известного своими скандальными выходками против Маяковского, рапповцы попробовали дискредитировать поэму о Ленине. Маяковский вынужден был выслушивать оскорбительные выпады по своему адресу. Он должен был прибегнуть к унизительной «судебно-текстологической экспертизе», доказывая подлинность своих черновиков, в тем числе и переписанного прозой, чтобы легче ускользнуть от заграничных жандармов. Однако главное в своем выступлении Маяковский сосредоточил на принципиальной стороне спора. Те детали изображения, которые он защищал от недобросовестной критики, имели для Маяковского принципиальво-художественное значение: он стремился создать реалистический образ Ленина, человечного во всех своих проявлениях, человека удивительной цельности.
Поэма Маяковского о Ленине вносила новое в ту романтическую традицию, которая успела сложиться и утвердиться в лучших, запомнившихся народу стихотворениях о великом вожде, таких, как «Снежинки» Демьяна Бедного, «Партбилет № 224332» А. Безыменского, «Пять ночей и дней» Веры Инбер. Да и в стихах самого Маяковского «Мы не верим!» и «Комсомольская» в сущности была та же романтическая традиция. Качество реализма в его поэме о Ленине было уже иным, новым для самого ее автора, хотя верность правде жизни только окрылила поэта на самые высокие романтические взлеты, например в знаменитых лирических отступлениях.
Тем не менее реализм этот испугал многих. Искусство ли это? Можно ли так изображать Ленина? Первый вопрос задавали снобы разных толков, их было немало в то время, одни — стыдливо, другие — решительно отстраняясь от его нового произведения. Второй вопрос смущал преимущественно молодых поэтов Раппа, которые не могли не сочувствовать задаче, поставленной Маяковским.
Нельзя не вспомнить, что, как сказано, вызвавший негодование Сосновского эпизод разговора Ленина с каким-то «лохматым парнем» (которого, по Сосновскому, следовало для соблюдения правил хорошего тона в литературе причесать) продолжен был как традиция в известной пьесе Николая Погодина «Человек с ружьем», где Ленин разговаривает с только что выбравшимся из окопов солдатом Иваном Шадриным.
Тема Ленина была для Маяковского «святая святых». «Как бедна у мира слова мастерская! Подходящее откуда взять?»—жаловался поэт в подступе к теме. Сосновский знал куда бить: в самое чувствительное место. Маяковский протестовал: «Не пользоваться
389
опечаткой в целях дискредитирования моего отношения к Ильичу..Слишком больно было распространяться на эту тему, и всю аргументацию опровержения клеветы он перенес в плоскость поэтики: «... сколько-нибудь смыслящие в поэтической работе последних лет должны видеть, что «генерал» и «перевал» ни в коем случае не соответствующие друг другу слова ни по рифме, ни по ассонансу...».
В ответной реплике Маяковскому Сосновский подчеркнуто именовал его гостем: «Нужно научить гостя уважать собрание пролетарских писателей...» История с опечаткой оборачивалась зловещей опечаткой истории.
Каковы же были характерные черты «поэтической работы последних лет», которую имел в виду Маяковский? О ней в 1924 г. в журнале «Печать и революция» (книги 1 и 2) писал Валерий Брюсов — тонкий знаток русского стихосложения, внимательный и чуткий наблюдатель новой жизни русского стиха. Брюсов так объяснял новое в рифмовке Маяковского и поэтов, наиболее близких к нему в этом плане, Б. Пастернака и Н. Асеева:
«В чем основная задача рифмы? .. Прежние поэты искали этого сходного звучания в концах слов, начиная с ударной гласной. Новые поэты показали, что сходное звучание может быть достигнуто иным путем. Они в этом направлении подчеркнули прежде всего значение опорной согласной (согласной, стоящей перед ударной гласной), потом слогов, предшествующих ударному, наконец общего строения слов, даже независимо от их окончаний. ..
... принцип новой рифмы состоит в том, что созвучны (рифмуются) те слова, в которых достаточное число сходнозвучащих элементов. Центральное место среди этих элементов занимают ударная гласная и опорная согласная, как звуки, наиболее выдвигаемые произношением... Новая рифма — иная^ нежели классическая, но ни в коем случае не «менее точная» и «не менее строгая». Те из современных поэтов, которые просто позволяют себе небрежные рифмы, не понимают самой сущности совершившейся реформы».
Люди, «сколько-нибудь смыслящие в поэтической работе последних лет», не могли, конечно, не заметить, что в словах «сперва» и «перевал» опорная согласная была — одна и та же «в», т. е. налицо была одна из предпосылок рифмовки Маяковского, в то время как в словах «сперва» и «генерал» не было этой предпосылки, потому что опорные согласные были разные — «в» и «р».
«...Я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало», — отметил впоследствии Маяковский. В данном случае таким «характерным словом» было существительное «перевал», которое глубже 390
понималось в своем значении, возвращая память к наречию «сперва».
Используя рифму для усиления смысла, для углубления смысла «самого характерного слова», Маяковский, вероятно, именно потому был неудовлетворен в стихотворении М. Зенкевича о Ленине рифмой «Ильич» — «паралич», что здесь связаны звучанием слова, смысл которых нужно было бы отдалить и противопоставить.
Опровергая рифмовку «сперва» — «генерал», Маяковский отстаивал не отвлеченное мастерство, не новую догму, нет, он оберегал от искажения свое отношение к Ильичу.
«К векам коммуны сияющий перевал». По эту сторону оставался мир грязной наживы и окровавленной прибыли, страшный мир эксплуатации человека человеком, по ту сторону открывалась земля, где законом была человечность.
Во имя создания образа «самого земного», «самого человечного человека» Маяковский поднимался к вершинам реалистического мастерства.
На этом крутом подъеме поэма о Ленине стала перевалом.
*
Это с особенной ясностью можно ощутить, если сопоставить образ Ивана из «150 000 000» с образом Ленина в поэме как ступени в развитии реалистического метода Маяковского. Очевидна преемственность этих образов богатырской мощи русского народа. Если в одном случае, воплощая мировое значение Октябрьской революции, герой новой былины, «шаги обрушив, пошел грозою вселенную выдивить», то в другом фантастические приемы народной сказки сослужили свою службу, чтобы передать средствами искусства конкретно-историческое величие гения русской революции.
Перечитывая в 1924 г. знакомые ему с юношеских лет произведения Ленина и такие любимые произведения, как «Предисловие к критике политической экономии» К. Маркса и «Коммунистический манифест», Маяковский глубже осознал образ Ленина как образ, выросший из борьбы революционных поколений и преемственный по отношению к ним. Не отказ от прошлого, а постепенное накопление нового в историческом процессе, разражающемся новым качеством, — вот что увидел он в теме Ленина, что стало для него увлекательной задачей поэтизации. Великий вождь пролетарской революции в России сомкнул рабочее движение с могучим революционным потоком, который из глубин русской истории несся к современности. В своей поэме о Ленине Маяковский сказал об этом так: «Далеко давным, годов за двести первые про Ленина восходят вести». «Долгая жизнь товарища Ленина» начинается в поэме «годов за двести» перед
391
тем, как он выступает на поприще революционной борьбы — и эта условность является глубоко содержательной. С такой же необходимостью широко известный факт участия В. И. Ленина в одном из первых субботников в Кремле подготовляет и делает естественной сцену, где Ленин — герой поэмы, как некий сказочный богатырь, в период нэпа «стальными листами вздымал и примеривал кооперативы, лавки и тресты».
Изображая подвиги Ивана в «150 000000», поэт был поставлен перед задачей дать синтез больших исторических событий в собирательном образе героя. Этот творческий опыт имел известное значение для того громадного обобщения дел Ленина на фоне истории революции, без которого нельзя было бы создать образ «самого человечного человека». Перед картиной великой битвы своего символического Ивана с чудовищем американского империализма поэт нашел нужным сделать следующее предупреждение:
Товарищи газетчики,
не допытывайтесь точно, где была эта битва и была ль когда.
В этой главе
в пятиминутье всредоточены бывших и не бывших битв года.
Но в этой картине выдуманной битвы автор с удивительно трезвым пониманием того, куда движется история, написал и о том, как империализм пускает в ход средства бактериологической войны: «... новых воинов высылает рой — смертоноснейшую заразу», как «последнее войско высылает он — ядовитое войско идей», и с такой верой в победу, которая дается только сильным духом борцам за дело революции, провозгласил:
Загрохотав в международной Цусиме, Эскадра старья пошла ко дну.
Революционный поэт торопил будущее. Чем тяжелее голодные будни военного коммунизма, тем> более празднична перспектива завтрашнего дня коммуны. Так возникают контрастные образы, в которых воплощена страстная мечта о торжестве социальной справедливости:
Вам, женщины, рожденные под горностаевые мантии, тело в лохмотья рядя, падавшие замертво, за хлебом простаивая в неисчислимых очередях...
392
О своем представлении будущего поэт имел право сказать:
История, в этой главе как на ладони бег твой.
Голодая и ноя, города расступаются, и над пылью проспектовой солнцем встает бытие иное.
Маяковскому в его ранней поэме свойственно было романтическое восприятие событий. Преломленная так действительность — история — представала в правдивой, но неизбежно однобокой и во многом отвлеченной картине: «солнцем встает бытие иное». Сила Ивана в поэме не подтверждена, не подкреплена исторически. В образе Ивана нет ни прошлого, ни настоящего, а только будущее:
И вот
Россия
не нищий оборвыш,
не куча обломков,
не зданий пепел — Россия
вся
единый Иван, и рука у него —
Нева, а пятки — каспийские степи.
Этот образ в какой-то мере предваряет взгляд из будущего в поэме о Ленине:
И оттуда на дни оглядываясь эти, голову
Ленина
взвидишь сперва.
Это
от рабства десяти тысячелетий
к векам
коммуны сияющий перевал.
И там, и здесь романтический бросок в будущее. Но первый — неподвижен, как остановленный, застывший кинокадр, второй — динамичен. В первом — сказочное преображение и аллегория,
393
во втором — образ движущейся истории, осознающей себя в смелом обобщении. То и другое — образы романтические, но это разные романтические образы, они являются выражением разных этапов развития творчества Маяковского.
Основное — нарастание историзма в его образном мышлении. В «150000000» Иван
Идет, начиненный людей динамитом.
Идет
всемирной злобой взрывчат.
Этому собирательному образу нельзя отказать в правдивости. Но как «собрался» Иван, как «начинился» он «людей динамитом», как распалился «всемирной злобой» против угнетателей—все это за пределами образных представлений автора «150000000». В поэме о Ленине образ рождается из движения истории: герой поэмы подобен утесу среди разбушевавшейся реки народного движения —
Бился
об Ленина
темный класс, тёк
от него в просветленьи, и, обданный силой и мыслями масс, с классом рос Ленин.
Снявшиеся «с якорей» целые губернии, прущие напролом, несметные «миллионы безбожников, язычников и атеистов», воплотившиеся в Иване, не складываются в живой образ разбуженного от векового сна творца истории — простого русского человека. Тогда как рядом с Лениным, самым близким, «самым человечным человеком», действует столь же понятный и родной герой-«частица». Типизирующий массу и выделившись из нее, и этот герой как бы отмечает рост реалистического метода Маяковского.
Решая тему Ленина, поэт не поступался ничем в своей творческой оригинальности, но и не держался за то в своих художественных приемах и поэтических средствах, что было данью времени или издержками прежних исканий. «Я себя под Лениным чищу...» — это относилось и к языку и к специфике поэтических средств. Высказывание Маяковского на чтении им поэмы в Доме печати подчеркивало сознательность взятого им «нового курса», как озаглавил корреспондент самарской газеты свою приведенную ранее заметку:
394
«Автор, отвечая на упреки «присяжных критиков» в перегруженности вещи «политикой», декларировал свой полный отход «отныне и навсегда» от писательского индивидуализма, личных мелких тем и посвящение своего пера целиком нуждам, интересам, а главное, пониманию рабочего читателя».
В 1923—1924 годы вопросы литературного языка едва ли не впервые в истории советской культуры были поставлены как вопросы политические. Рост рабкоровского движения обнаружил разрыв в отношении языка между литераторами и широким читателем города и деревни, удельный вес которого становился все более значительным вместе с ходом культурной революции.
В печати заговорили об «освежении засохшего языка наших газет». Один из участников лефовского кружка, поэт П. Незнамов (впоследствии помогавший Маяковскому в подготовке издания его сочинений), писал в 1924 г. в стихотворении, напечатанном в «Журналисте»:
Не будем твердить азы:
Чтоб газета не шла на цыгарки, Надо только, чтоб наш язык Был бы прост и — хорошей марки 19.
В поэме о Ленине Маяковский широко использовал политическую лексику. Однако она претворялась у него совсем по-иному,, чем та политическая и публицистическая терминология, которая трещала и громыхала в иных стихах, имевших мало общего с поэзией, в произведениях сугубо риторических. Важно то, что» слова, обозначавшие новое в жизни, политическую основу Октября, например, «партия», «пролетариат», «класс», Маяковский сделал самыми поэтическими, поставив их в таких словосочетаниях, где они становились эмоционально-вершинными выражениями мысли и чувства: «Хочу сиять заставить заново» величественнейшее слово — Партия». Это не просто слова, а слова-герои, которых поэт представляет читателю, за которых он борется как за прекрасное в жизни:
Пролетариат —
неуклюже и узко тому, кому коммунизм — западня.
Для нас
это слово —
могучая музыка, могущая, мертвых сражаться поднять.
395
Подобно композитору, который в звуке слышит идею и образ, поэт взвешивает ритмофонетическую сторону слова-героя в поэтическом контексте образа. «Капитализм — неизящное слово, куда изящней звучит «соловей»». Вводя в стих «неизящное слово» политической лексики, Маяковский не просто пользовался термином, поэт добивался его звучания, как «могучей музыки», специфическими средствами образа и стиха. Так опоэтизировано «маленькое «б»», в сокращенном обозначении-символе:
Америку
пересекаешь в экспрессном купе, идешь Чухломой — тебе в глаза вонзается теперь РКП и в скобках маленькое «б».
«Маленькое «б» осмыслено в своем звучании, определяя рифмы всей строфы: «купе» — «тебе» — «теперь» — «РКП» — «маленькое «б»». Но этого усиления мало. Чтобы дать почувствовать мировое значение партии большевиков, поэт сопоставляет эту «строчную букву» — «маленькое «б»» с астрономическими изысканиями Пулковской обсерватории, привлекавшими в тот год общее внимание: Теперь на Марсов охотится Пулково, перебирая
небесный ларчик.
Но миру эта строчная буква в сто крат красней, грандиозней и ярче.
Слово «класс» появляется рядом со словом «причаститься», из которого выветрилось всякое религиозное значение, но в котором удержалось воспоминание о благоговейном, трепетном отношении к моральной святыне. И поэтому «класс» не только политико-экономический термин, но чувство — «великое чувство»: сильнее
и чаще нельзя причаститься великому чувству по имени —
класс!
396
В поэме о Ленине заметна большая, чем в других произведениях, осмотрительность в лексике, в особенности в неологизмах. Их выразительную мощь Маяковский обрушивает главным образом на сатирическое изображение враждебного мира, унижаемого и осмеиваемого с помощью, например, уменьшительных суффиксов: «лукавая вестийка», «интеллигентчики», «с коронацией прет Ми-хаильчик», «нэпчик», «расчет кулаков простой и верненький».
Необычайно сильные примеры сатирического речетворчества Маяковского дают такие новые слова, как «дрыгоножество» по типу «лизоблюдство» («Дом, Кшесинской за дрыгоножество* подаренный»), или сатирически оправданное для характеристики капитализма образование с помощью сложения слов: «задоли-цая ** полиция», причем слагаемые входят сначала в отдельности в состав образа:
Вокруг
с лицом,
что равно годится
быть и лицом
и ягодицей, задолицая
полиция.
Внутренняя рифма в последней укороченной строке активизирует сравнение, доводя его до ощущения тождества.
Стремясь до дна вычерпать смысловое содержание слова, поэт приводит для этого в действие такие рычаги стиха, как ритм, рифма, место слова в строке, в целой строфе. Он негодовал, не видя в стихах начинающих поэтов ответственного отношения к слову. На диспуте о задачах литературы в Малом театре Маяковский цитировал строчки из одного рабкоровского издания:
Я пролетарская пушка, Стреляю туда и сюда.
Конечно, это очень наивно, неумело, но и высказывание Маяковского по этому поводу полно юмора. Тем не менее оно серьезно как свидетельство его непосредственной бурной восприимчивости каждого слова в единстве содержания и формы:
«В начале, при слове «пушка» вас охватывает ужас; уважаемый канонир выдвигает серьезное оружие; это грандиозно, но кафешантанное «стреляю туда и сюда» сразу уничтожает дрожь и вселяет страх за бедного стрелка».
Речь Маяковского на диспуте в Малом театре 26 мая 1924 г. чрезвычайно важна потому, что она содержит новое в отношении
* Курсив мой. — В. И.
** Курсив мой. —- В. П.
26 В. Перцов
397
его к Пушкину (вообще к классическому наследию) и предваряет в этом «Юбилейное».
В 1924 г. отмечалось 125-летие со дня рождения Пушкина. Это была первая большая памятная дата гениального классика прошлого, которая широко отмечалась после победы Октябрьской революции. По статьям А. В. Луначарского, посвященным Пушкину в «Известиях» и «Красной ниве» в июне 1924 г., видно, насколько сильны были нигилистические левацкие настроения среди пролетарских поэтов и как раз в той части интеллигенции, которая хотела подойти ближе к социалистическому строительству и декларировала свою связь с революцией. Указывая на подобные загибы, Луначарский вместе с тем отмечал в своих статьях новое отношение к классикам, к Пушкину.
«... Стало совершенно бесспорным, что Пушкин воскресает сейчас ослепительно», — утверждал Луначарский20.
«Воскресает» — это слово невольно выдает то положение, которое сложилось в годы господства Пролеткульта. И в «Известиях» 2I, и в «Красной ниве» Луначарский ссылается на выступление Маяковского на недавнем диспуте о судьбах литературы, которое его поразило. Маяковский, по словам Луначарского, «впал в элегический тон, даже не пощадил своих собственных произведений, заявив, что все выпускаемое в свет нынешними поэтами скучно и не запоминается. «Это, —сказал Маяковский, — относится и к моим произведениям, хотя и в меньшей степени, чем к другим». Затем Маяковский рассказал, с каким ненасыти-мым наслаждением слушал он Брика, который читал им «Евгения Онегина». «Я даже выключил телефон, — сказал Маяковский,— чтобы никто не мешал мне» *.
Приведем ту часть речи Маяковского на диспуте в Малом театре, которую пересказывал Луначарский в своей статье.
«Вот Анатолий Васильевич упрекает в неуважении к предкам, а я месяц тому чназад, во время работы, когда Брик начал читать «Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, не мог оторваться и слушал и два дня ходил под обаянием четверостишия:
Я знаю: жребий мой измерен, Но, чтоб продлилась жизнь моя, Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь я.
Конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет накладывать нам петлю на шею, тысячи раз; учиться этим макси
* По свидетельству одного из организаторов диспута, Маяковский сказал: «Я настолько был увлечен чтением, что когда позвонил телефон, я его выключил, постучали в дверь, я к ней приставил шкаф».
398
мально добросовестным творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли. Этого ни в одном произведении в кругу современных авторов нет».
Это самое пушкинское четверостишие Маяковский по-своему пересказывает в «Юбилейном» — произведении программном, литературно-полемическом и в то же время глубоко лирическом. В «Юбилейном» нет «неуважения к предкам», за которое Маяковского упрекал не один Луначарский. И, нужно сказать, поэт давал повод для подобных упреков некоторыми высказываниями— и в стихах и особенно в статьях. «Юбилейное»—поэтическая декларация величайшего уважения и любви к Пушкину, к наследию русской классической литературы. Это поэтическое свидетельство исторического мышления поэта, работавшего как раз в этот период над образом Ленина.
Но вот факт, который дает возможность судить, как мешали теоретики Лефа Маяковскому, как осложняли его движение вперед. После диспута в Малом театре участники его получили стенограммы своих выступлений для подготовки к изданию их брошюрой. По свидетельству устроителя этого диспута В. Зельдовича (в то время работника Наркомпроса), Маяковский, увидев стенограмму, был немало смущен, заметив по поводу своего выступления: «Я такое на диспуте наговорил, что... Брик меня повесит!» Стенограмма Маяковского вернулась от него, правленная красными чернилами с некоторыми изменениями выводов и положений. Смысл этих изменений был в том, чтобы смягчить восторженные высказывания о любви к творчеству Пушкина, умерить этот порыв фразами вроде того, что это никак не похоже на лозунг «Назад к Пушкину!». Тенденция правки была в том, чтобы приблизить содержание речи к обычным лефовским положениям. В предисловии к брошюре есть такое замечание А. В. Луначарского:
«...к сожалению, участники диспута воспользовались своим законным правом корректировать стенограмму и изменили ее не только в смысле исправления стиля, но и в смысле изменения самого существа отдельных положений» 22.
Это относится к выступлению Маяковского. Однако, по предложению Луначарского, при подготовке брошюры к печати правка речи Маяковского была в значительной части снята и восстановлен подлинный текст его выступления.
Вскоре было опубликовано «Юбилейное», в котором с огромной художественной силой были выражены подлинные чувства советского поэта к великому основоположнику новой русской литературы. По-видимому, лефовская «цензура» по отношению к художественным произведениям Маяковского была мягче, чем но отношению к его теоретическим высказываниям.
26*
399
Лирическая тема любви в начале разговора Маяковского с Пушкиным настраивает всю беседу, придавая ей доверительный, «исповеднический» характер. Если Луначарский отмечал с глубоким огорчением, что некоторые пролетарские поэты предвзято относились к культуре старого мира, считая, что их поэзия «не соприкасалась ни одной гранью с миром Пушкина», то ничего похожего на это нет в отношении Маяковского к Пушкину в стихотворении «Юбилейное». Маяковский хочет привлечь Пушкина к себе в союзники и издевается вместе с ним над теми, кто отказывает советским людям в человеческих чувствах, в чувстве любви, кто хотел бы наложить запрет на поэтизацию этого чувства сегодня. В поэме «Про это» Маяковский пытался решить именно эту задачу и услышал с разных сторон упреки в отходе от гражданской темы и даже в индивидуализме. С несравненным юмором, уверенным в сочувствии своего собеседника, Маяковский обращается к Пушкину.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous...
чтоб цензор не нацикал.
Передам вам —
говорят — видали даже двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Поэзия Пушкина действенна не только для того времени, когда он жил (неправильное утверждение; с которым неоднократно можно встретиться у Маяковского в его теоретических высказываниях). Маяковский включает в свои строки о любви строки Пушкина, пересказывая их по-своему, пряча под шуткой восхищение:
... Муза это ловко за язык вас тянет. Как это у вас говаривала Ольга? ..
Да не Ольга!
Из письма Онегина к Татьяне:
— Дескать, муж у вас дурак и старый мерин, я люблю вас, будьте обязательно моя,
400
я сейчас же, утром, должен быть уверен, что с вами днем увижусь я.
И вслед за этим — трагическое признание:
Было всякое:
и под окном стояние, письма, тряски нервное желе.
Вот когда и горевать не в состоянии — это, Александр Сергеич, много тяжелей.
Нельзя не поверить и другому признанию: «Я люблю вас, но живого, а не мумию». Однако же историзм, присущий Маяковскому — советскому поэту, заставляет его видеть новую задачу, ту, которой не могло быть у Пушкина.
Вам теперь пришлось бы бросить ямб картавый.
Нынче наши перья — штык да зубья вил, — битвы революций посерьезнее «Полтавы» и любовь пограндиознее онегинской любви.
Решение лирической темы непосредственно связывается с темой историко-литературной. Понятно, что «ямб» плох не сам по себе. Почему же Маяковский называет его «картавым»? Потому что новое социальное содержание нельзя выговорить на языке поэзии, не найдя новой художественной формы на основе прежней, на основе традиции. Сила последней в поисках нового проступает в рифмовке самого Маяковского. Валерий Брюсов даже назвал свою статью, доказывавшую преемственность новой рифмы от Пушкина, «Левизна Пушкина в рифмах». Брюсов имел в виду ту самую поэтическую работу последних лет, на которую ссылался Маяковский на конференции Рапп. Статья появилась накануне пушкинской годовщины в книге второй журнала «Печать и революция» за 1924 г. и оказалась своего рода сенсацией: «Пушкин обращал большое внимание на звуки слева от удар
401
ного», и, стало быть, новшества Маяковского в области рифмы «могут опереться на высокий авторитет Пушкина» — вот вывод, к которому приходил Валерий Брюсов на основе кропотливой исследовательской работы.
В «Юбилейном» Маяковский использует прием почти детской модернизации прошлого, шутливо обращаясь со стандартным вопросом анкеты к Дантесу, чтобы этим вполне серьезно сказать-об идейной близости Пушкина нашему времени:
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? — Только этого Дантеса бы и видели.
Пушкин становится нашим современником, действующим рядом с Маяковским: «Были б живы — стали бы по Лефу соредактор», но тут же следует условие — требование измениться.
«Кто меж нами?» — спрашивает автор «Юбилейного» и с удовлетворением произносит имя Некрасова. «Связь времен» утверждена, картина преемственности в развитии литературы пронизана духом историзма, тем же духом, который живет в поэме Маяковского о Ленине.
В заключительном слове на диспуте в Малом театре о задачах литературы и драматургии А. В. Луначарский горестно восклицал:
«Ведь нам нужно оставить портрет нашего времени. Теперь мы хватаемся за голову, как это было возможно, что величайший вождь ушел от нас и мы не имеем ни одного его удовлетворительного портрета. Но вот мы рискуем это сделать и с нашим временем» 23.
Высказываясь со страстью на этом диспуте о Пушкине как о близком, Маяковский не мог не связывать этих признаний со своей работой над поэмой о Ленине: «...учиться этим максимально добросовестным творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли»._
*
В своей статье «Как делать стихи» поэт писал:
«Только присутствие тщательно обдуманных заготовок дает мне возможность поспевать с вещью, так как норма моей выработки при настоящей работе — это 8—10 строк в день».
Если исходить из нормы выработки, которую сам поэт считал наибольшей для себя, то для. написания такой поэмы, как
402
«Владимир Ильич Ленин», ему требовалось от трех до четырех месяцев. Если же учесть, что вся остальная стихотворная продукция в период марта—сентября 1924 г. составила свыше 1500 строк (стихов около 800 строк, текстов к рекламам и плакатам свыше 200 строк, агитпоэм совместно с Асеевым около^ 700 строк), то станет ясно, что «поспеть» с поэмой о Ленине поэт мог лишь при такой работе, которую сам он характеризовал, так:
«Я трачу на них (на заготовки. — В. П.) от 10 до 18 часов в сутки и почти всегда что-нибудь бормочу. Сосредоточением на этом объясняется пресловутая поэтическая рассеянность».
В августе 1924 г. Маяковский уехал из Москвы на юг. Он умел и любил заниматься сразу многим. Но во время двухнедельного пребывания в Геленджике он сосредоточился только на поэме.
Писательница Н. Кальма (в то время студентка Литературного института им. В. Я. Брюсова) близко наблюдала работу Маяковского в этот период. В своих воспоминаниях о поэте, появившихся в 1931 г., она воспроизвела некоторые характерные черты его работы.
«Всюду — на пляже, в столовой, на прогулке — он вытаскивает черную клеенчатую книжку и, шевеля губами, гудя себе под нос, записывает пришедшую на ум строку...
... Он едет на мажаре в Геленджик. По дороге болтает с извозчиком — украинцем-переселенцем. Крестьяне, матросы, рабочие чувствуют сразу полное доверие к этому большому, деловитому человеку. Они выкладывают ему все — и низкие цены на фрукты, и жалобы на хозяина-лодочника, и надежды на урожай.
Владим Владимыч жует папиросу, глядит по сторонам из-под надвинутого на глаза козырька кепи и внимательно слушает.
В Геленджике — гладкая, мелкая галька усеивает берег. Здесь славится бархатистое дно, и все купаются. Маяковский купается в черном костюме и той же белой кепке. Он плавает недалеко медленными, широкими саженками, и его белая кепка на воде кажется бакеном, предупреждающим пароходы о мели.
Вот он вылезает, растягивается на берегу, закрывает глаза под мохнатыми бровями. Внезапно вскакивает, как ужаленный.
Что такое? Двухвостка? Гадюка?
— Где книжка? Где моя записная книжка?
Разбрызгиваются гальки, разбрасываются брюки, белье, туфли. Выворачиваются все карманы. Книжки, где записан почти весь «Ленин», нет. Неограниченное несчастье.
Маяковский, взволнованно сопя, прикусив папиросу, обыскивает каждый кустик, каждый камешек. Нет книжки.
Вдруг голос.
— Эй, эй, ну, эй!
Маяковский ищет, не обращая внимания. Голос хрипнет от крика:
403
— Эй ты, твоя, что ли?
У распряжённых коней стоит мажарщик и размахивает блестящей на солнце клеенчатой книжкой...» 24
В рукописном фонде Государственного музея В. В. Маяковского в Москве хранятся и те две книжки, в которых записана поэма о Ленине. В первой, где записаны две первые части поэмы, вырваны из разных мест несколько десятков страниц, — утрачена примерно четвертая часть текста. Во второй книжке записана третья часть поэмы полностью (без последней строки). Все это на правых страницах книжек, где обычно записывались выработанные варианты строф и целые куски, близкие к окончательному тексту. Левые страницы поэт использовал для первых черновых набросков — строф, отдельных строк, отдельных рифм, подрифменных слов.
О напряженности своей поэтической работы Маяковский сказал в таких выражениях:
«Разговариваешь не понимая, ешь не разбирая и не будешь спать, почти видя летающую перед глазами рифму... Когда уже основное готово, вдруг выступает ощущение, что ритм рвется — не хватает какого-то сложка, звучика. Начинаешь снова перекраивать все слова, и работа доводит до исступления».
Добросовестность отношения поэта к своей работе, идеалом которой, как об этом сказал Маяковский, стал для него теперь Пушкин, не избавила поэму о Ленине от некоторых элементов «политического пересказа»25. Маяковский спешил дать портрет вождя, подобно тому как в свое время Горький спешил закончить повесть «Мать», объясняя в какой-то мере этим — в известном разговоре с В. И. Лениным — недостатки ее.
Один из исследователей творчества Маяковского И. Машбиц-Ве-ров справедливо (в отдельных случаях) отмечает недостатки поэмы о Ленине, высказывая предположение, что, «сознательно устраняя из образа Ленина «личное», беря его только в связи с историческими и политическими событиями, не создает ли тем самым Маяковский образ искусственный, ходульный?» 26
Превосходный ответ на эти свои сомнения критик мог бы найти в более ранней работе А. Метченко, которую мы уже цитировали: «Едва ли не впервые в истории литературы он (Маяковский) блестяще применил новый принцип изображения исторического героя, фиксируя основное внимание на его общественной деятельности. ... Мы не видим Ленина в бытовой обстановке, в кругу ближайших единомышленников и друзей. И было бы неверно считать это недостатком поэмы... Необходимо ... учитывать, что сам по себе образ не является самоцелью для истинного художника и что ни один самый яркий образ не охватывает всех сторон человеческой личности. Создание типического образа в реалистическом искусстве подчинено определенной задаче. В свете этой задачи и следует решать
404
вопрос о полноте и яркости образа, о соответствии ого жизненной правде» 27
Следы труднейшего пути в самом конце его — на последнем этапе — запечатлены здесь, на страницах черновиков записных книжек с поэмой о Ленине. Тщетны были бы попытки восстановить по этим следам самый путь, представить себе, в каком порядке писались части поэмы, что было отброшено в первых стадиях замысла и исполнения. На страницы книжки, как всегда, заносились почти окончательные итоги вынашивания и «выбор-матывания» различных вариантов, которые Маяковский больше, чем другие поэты, делал наизусть. Впрочем, как известно из первой биографии Пушкина, написанной П. В. Анненковым, поэт забыл сцену из «Бориса Годунова», которая сложилась у него наизусть во время верховой прогулки и которую он не успел записать; сцену эту Пушкин считал лучшей в своей драме.
В разночтениях текстов записных книжек Маяковского заключен, однако же, драгоценный опыт, который нельзя оставить без внимания. В этих пробах «грозного оружия» видна борьба за его совершенствование, за «верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли».
По разночтениям можно прежде всего оценить заботу поэта о том, чтобы его слово было всегда предельно спрессовано и предельно доходчиво, о том, чтобы повысить эмоциональность фразы, убрав слова подразумевающиеся.
Из двух эпитетов он оставляет один:
Записная книжка
Мы хороним самого простого и земного.
Два эпитета о простоте Ленина он заменяет одним безусловным:
Не залили б приторным елеем Ленина стальную и ржаную простоту.
Окончательный текст Мы хороним самого земного.
с метафорическим смыслом
Не залили б приторным елеем ленинскую простоту.
Заменяет метафорический эпитет конкретным:
Видна стальная ленинская рука.
Видна ведущая
ленинская рука.
405
Убирает слова, подразумевающиеся в контексте фразы:
Горе вот, разве
что срок минуты мал — весь
Но уместишь облик ненаглядный охватишь ненаглядный!
Или: «То мужеством горе, то детскими вызвенит» — подразу-мевается «слезами».
Интересна обработка строк о Ленине и партии, ставших крылатыми:
Первый вариант: «Мы говорим партия — думаем Ленин».
Второй вариант: «Говорят партия — подразумевается Ленин».
И вот окончательный текст, в котором из первого варианта взято личное местоимение множественного числа, придающее активный характер высказыванию, а из второго — драгоценное слово «подразумеваем»:
Мы говорим — Ленин, подразумеваем — партия, мы говорим — партия, подразумеваем —
Ленин.
На одной из левых страниц записной книжки была такая наметка рифм строфы:
подошвы им было немыслимо хлопать в ладоши
Затем там же записана незаконченная строфа:
мороз небывалый грыз подошвы но даже от холода бить в ладоши казалось бестактным и было неловко28.
Наконец, на правой странице появляется почти законченный вариант:
Сегодня не будут нельзя неуместно
Слова «казалось бестактным и было неловко» слишком прозаично объясняли мотивы поведения людей, благоговейно соблюдающих торжественную тишину всенародного горя. Эти слова были отброшены и заменены другими, активная форма которых подчеркивает возвышенность самодисциплины: «Нельзя, неуместно». И, наконец, безликое «сегодня не будут» заменяется в окончательном тексте на «никто не решается», указывающее на внутреннее состояние каждого пришедшего проститься с Лениным. Строфа потребовала напряженного труда, благодаря чему
№
была достигнута большая содержательность, простота и выразительность. Напомним еще раз окончательный текст:
Мороз небывалый
жарил подошвы.
А люди днюют давкою теспой. Далее от холода бить в ладоши никто не решается — нельзя, неуместно.
Обычное разговорное выражение «днюют и ночуют» дало основу образа второй строки, которой недоставало в записной книжке, чтобы передать длительность стояния в этой «холодной страшной очереди». «Ночуют» уже содержалось в предыдущей строфе, где звезды ночью вызывают сравнение со слезами негров, горюющих у гроба Ленина вместе со всеми:
Вплывали
ночи на спинах дней, часы мешая, путая даты.
Как будто не ночь и не звезды на ней, а плачут над Лениным негры из Штатов.
Конечно, это лишь иллюстрация максимальной добросовестности поэта и требовательности его к себе в произведении, которое он посвятил Коммунистической партии.
Боль, переживаемая партией и народом, была и личной болью Маяковского. Однако это чувство, выраженное в поэме с огромной искренностью, не заслонило от поэта главной идейной задачи: поднять в массах сознание ответственности за то дело, которому была посвящена жизнь Ленина, укрепить понимание того, что наследником и продолжателем этого дела является великая Коммунистическая партия. «Ленин и теперь живее всех живых. Наше знанье, сила и оружие», — говорит поэт. «Живее всех живых» — ленинизм, вечно развивающееся учение, утверждающее свою силу и истинность в борьбе и победах дела социализма.
Поэма Маяковского о Ленине не реквием, это поэма жизни.
407
24 октября 1924 г., т. е. через два дня после чтения поэмы Перед активом Московской партийной организации, поэт выехал в Париж, рассчитывая получить визу для поездки в Америку. В бумагах Маяковского сохранился экземпляр поэмы, о котором он вспоминал на конференции Раппа, убористо переписанный на пишущей машинке, как прозаический текст, без разбивки на стихотворные строчки и без заглавия. Оригинал в таком виде легче было везти через границу, укрыть от глаз жандармов и сыщиков.
Тема Ленина была для всего мира. Тут не могло быть равнодушных, а только друзья и враги.
С этой поэмой Маяковский мог выступить и быть понятым трудящимися в любой столице и в самом глухом закоулке земли, мог осуществить то кругосветное путешествие, которое он давно задумал.
ИСТОЧНИКИ И ДОПОЛНЕНИЯ
1 ПОДСТУПЫ
1 Александр Блок. Собр. соч., т. 6. М.—Л., Гослит, 1962, стр. 437.
2 «Пламя», 1918, К» 15, стр. 297.
3 Из стихотворения М. Волошина, вошедшего в сборник «Демоны глухонемые». Харьков, изд-во «Камена», 1918.
4 Зинаида Гиппиус. Последние стихи. Пг., 1918, стр. 56.
5 Там же, стр. 48.
6 Александр Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. 7. М.—Л., ГИХЛ, 1963, стр. 335—336.
7 3. Н. Гиппиус. Живые голоса. Прага, изд-во «Пламя», 1925.
8 Александр Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. 6, стр. 19—20.
9 Александр Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. 3, стр. 349.
10 Зинаида Гиппиус. Последние стихи, стр. 52.
11 Александр Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. 3, стр. 348.
12 Там же, стр. 352.
13 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 192.
14 «Книжный угол». Критика, библиография, хроника. Изд-во «Очарованный странник», 1918, № 1, стр. 3.
15 Александр Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. 3, стр. 626.
16 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 191—192.
17 Там же, стр. 192.
18 Александр Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. 3, стр. 347.
19 Там же, стр. 351.
20 Там же, стр. 353.
21 «Дневник Блока. 1917—1921». Изд-во писателей в Ленинграде, 1928, стр. 102.
22 Заглавие фельетона Ан. Чеботаревской в газете «Новый вечерний час», 29 января 1918 г., № 20. — Цит. по однотомнику А. Блока. «Стихотворения, поэмы, театр», стр. 568.
23 «Дневник Ал. Блока, 1917—1921», стр. 101.
24 Демьян Бедный. В огненном кольце. Изд-во Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов, 1918, стр. 28.
25 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 409.
26 Там же.
27 «Правда», 21 декабря 1917 г., № 209.
28 Демьян Бедный. Собр. соч. в пяти томах, т. 2. М., 1954, стр. 87.
409
69 Там же, стр. 93—94.
30 Н. А. Некрасов. Поли. собр. соч., т. И. М, Гослитиздат, 1948, стр. 140.
31 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 33, стр. 17.
32 М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 17. М., Гослитиздат, 1952, стр. 45.
33 Демьян Бедный. В огненном кольце, стр. 26.
34 М. Г о р ь к и й. Собр. соч. в тридцати томах, т. 17, стр. 30.
35 «Новая жизнь», 26 мая 1918 г., № 100.
36 Впервые на это обратила вимание Л. Ю. Брик. — См. «Знамя», 1941, № 4, стр. 233.
37 Из писем Маяковского к Л. Ю. Брик. — Цит. по сб. «Маяковский. Воспоминания и статьи». М.—Л., ГИХЛ, 1940, стр. 91.
38 «Знамя», 1941, № 4, стр. 224.
39 Из письма Маяковского к Л. Ю. Брик. — Письмо хранится у адресата.
40 Из письма Маяковского к Л. 10. Брик. Цит. по статье А. Февральского «Работа Маяковского в кино». — В. В. Маяковский. Поли. собр. соч, т. II. М, ГИХЛ, 1939—1949, стр. 517.
41 Макс П о л ян ов с кий. Маяковский киноактер. М, Госкиноиздат, 1940, стр. 23.
42 Виктор Шкловский. О Маяковском. М, 1940, стр. 104.
43 Макс Поляновский. Маяковский киноактер, отр. 27, 28.
44 Из неопубликованных воспоминаний Л. А. Гринкруга, хранящихся в Гос. музее В. В. Маяковского.
45 Джек Лондон. Мартин Иден. М, 1929, стр. 201.
46 Там же, стр. 225.
47 Макс Поляновский. Маяковский киноактер, стр. 61.
48 В. Катанян. Маяковский. Литературная хроника, изд. 2-е. М, 1948. стр. 419.
49 Макс Поляновский. Маяковский киноактер, стр. 66.
50 «Новая жизнь», 26 мая 1918 г, № 111 (326). —Цит. по книге: Б. Катанян. Рассказы о Маяковском.
51 Виктор Шкловский. О Маяковском, стр. 117.
52 «Голос трудового крестьянства», 2 июля 1918 г, № 162.
53 Александр Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. 3, стр. 347.
54 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч, т. 36, стр. 496.
55 Там же, стр. 399.
56 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч, т. 35, стр. 283.
57 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 214.
58 Там же, стр. 503.
59 Цит. по журн. «Творчество», Владивосток, 1920, № 3, стр. 53.
2 РОЖДЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
1 Цит. по кн.: «КПСС в резолюциях и решениях», ч. I. М, Госполит-издат, 1954, стр. 406.
2 Там же, стр. 405.
3 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч, т. 37, стр. 216.
4 Там же, стр. 99.
5 По материалам экспозиции Музея Советской Армии.
6 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч, т. 37, стр. 164.
7 «Новая жизнь», 31 января (13 февраля) 1918, № 23.
8 А. С. Серафимович. Собр. соч, т. X. М, ГИХЛ, 1948, стр. 396-397.
9 Там же, стр. 354—355.
10 По свидетельству С. А. Обрадовича.
11 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч, т. 37, стр. 87.
12 В. И. Ленин. Поли. собр. соч, т. 44, стр. 175.
410
13 «Грядущее», 1918, № 10, стр. 17.
14 Там же, стр.11.
15 «Пролетарская культура», 1918, № 3, стр. 17.
16 Там же, стр. 19.
17 Там же, стр. 15.
18 Там же, стр. И.
19 «Пролетарская культура», 1919, № 9-10, стр. 45.
20 «Пролетарская культура», 1919, № 7-8, стр. 78.
21 «Красная газета», 9 октября 1918 г.
22 А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII, стр. 38.
23 Константин Федин. Горький среди нас. М., Гослитиздат, 1943, стр. 25—26.
24 «Пролетарская культура», 1918, № 5, стр. 27.
25 Подлинник письма хранится в семье поэта.
26 А. В. Луначарский. Искусство и революция. Изд-во «Новая Москва», 1924, стр. 29.
27 «Пламя», 1918, К® И, стр. 12.
28 «Наш путь», 1918, май, стр. 108—116.
29 Сергей Есенин. Стихотворения. М., ГИХЛ, 1934, стр. 281.
30 Там же, стр. 282.
31 В. И. Л е н и н. Поли, собр. соч., т. 36, стр. 363.
32 М. Горький. Стихотворения. М., 1947, стр. 191.
33 Карл Маркс. Сочинения, т. 8, стр. 120.
34 Там же, стр. 119.
35 Е. И. Наумов. Маяковский в первые годы Советской власти. М., 1950, стр. 54.
36 Архив А. М. Горького, т. III, 1951, стр. 240.
37 В 1913 г. в первой статье о театре и кинематографе, в поисках новых театральных форм, Маяковский указывал: «А театр Обераммергау ведь не сковывает слова кандалами вписанных строк».
Обераммергау здесь звучит как нечто общеизвестное. Обераммергау — селение в Верхней Баварии, где каждые десять лет происходили представления мистерии «Страстей господних» в память избавления от чумы, свирепствовавшей в этом краю несколько сотен лет назад. Представление мистерии создавалось не профессиональными актерами, а жителями деревни. Ближайшее по времени выступление этого «мужицкого театра» проходило в 1910 г. и было своего рода сенсацией. В России оно получило широкий отклик в печати. В «Аполлоне» и в «Ежегоднике императорских театров» за 1910—1912 гг. было напечатано несколько статей о представлении в Обераммергау. Свои впечатления от посещения театра Обераммергау опубликовала Т. ТЦепкина-Куперник в 1911—1913 гг. в газетных очерках, вошедших потом в книгу «Письма из далека»: «Идет дождь; хор кутается в плащи; к счастью, у девушек свои волосы и природный румянец, но складки облегают их, совершенно промокших; сцена вся залита; минутами дождь заглушает слова Пилата... Христос сидит измученный в темнице, воины бьют его, издеваются над ним, вот и багряница, и терновый венец. Народ требует Варавву: «Кровь его на нас и на детях наших. Распни, распни его!».
В одной из статей 1912 г. мы встречаем указание, что представление Обераммергау породили целую литературу «захлебывающихся восторженных отзывов». Понятно поэтому, что, ссылаясь на «Театр Обераммергау» в своей статье 1913 г., Маяковский не дает никаких пояснений.
38 См. «Вопросы теории и психологии творчества», т. III. Харьков, 1911, стр. 47.
39 С. Н. Сергеев-Ценский. Избранное. М., Гослитиздат, 1950, стр. 213.
40 См. А. Февральский. Маяковский-драматург. М. — Л., «Искусство», 1940, стр. 29—30,
411
«Петроградская правда», 5 ноября 1918 г.
«Петроградская правда», 21 ноября 1918 г.
А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII, стр. 29.
«Жизнь искусства», 1 ноября 1918 г.
«Жизнь искусства», 18 ноября 1918 г.
«Книжный угол», 1918, № 5, стр. 2—5.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 395.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 292.
По материалам Музея Советской Армии.
«Правда», 6 ноября 1916 г.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 198.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 201—202.
Там же, стр. 203.
Из выступления на III пленуме ССП СССР. — «Литературная газета»,
41 «Царь Максимилиан» по своду В. В. Бакрылова. Пг., Изд. «Алконост», 1920, стр. 9.
42 «ГТатппгпйнекая ппавпа». 5 ноябпя 1918 г.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
12 февраля 1936 г.
56 Е. Усиевич. Владимир Маяковский. М., 1950, стр. 70.
3 ПЕВЕЦ И КЛАСС
1 «Правда», 25 января 1919 г.
2 Там же.
3 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38, стр.. 211—212.
4 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 324.
5 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 301.
6 Константин Федин. Горький среди нас. М., Гослитиздат, 1943, стр. 20.
7 Александр Блок. Стихотворения и поэмы. Л., 1951, стр. 69—70.
8 Валерий Брюсов. Избр. стихотворения. М., ГИХЛ, 1945, стр. 313.
9 Там же, стр. 314.
10 Там же, стр. 315.
11 Там же, стр. 320.
12 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 60—61.
13 Цит. по рукописи, хранящейся у вдовы поэта.
14 Алексей Толстой. Поли. собр. соч. в пятнадцати томах, т. 7. М., ГИХЛ, 1947, стр. 284.
15 «Известия», 25 апреля 1922 г. — Открытое письмо Н. В. Чайковскому. А. Н. Толстой писал в этом письме:
«Я в числе многих, многих других не мог сочувствовать полякам, завоевавшим русскую землю, не мог пожелать установления границ 72 года или отдачи полякам Смоленска, который 400 лет тому назад, в точно такой же обстановке, защищал воевода Шеин от польских войск, явившихся так же по русскому зову под стены русского города. Всей своей кровью я желал победы красным войскам. Какое противоречие».
16 А. Малышкин. Падение Дайра. Крымиздат, 1949, стр. 42.
17 «Дневник Ал. Блока. 1917—1921», стр. 235.
18 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 141.
19 «Дневник Ал. Блока. 1917—1921», стр. 235.
20 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 80.
21 «Правда», 23 февраля 1919 г.
22 Перекличка с поэмой «Двенадцать» Ал. Блока была отмечена, например, в статье «Вестник литературы», 1921, № 10/34, стр. 8—9.
23 «Русский фольклор. Эпическая поэзия». М., 1935, стр. 78.
24 «Летопись Дома литераторов», 1 ноября 1921 г., № 1. — А. Горн-ф е л ь д. Культура и культуришка. '
25 Там же.
26 «Альманах цеха поэтов», кн. вторая. Пб., 1921, стр. 70,
412
27 Н. Гумилев. Заблудившийся трамвай. — «Дом искусств», 1921, № 1, стр. 5.
28 Сб. «Записки мечтателей». Пг., 1921, № 2-3, стр. 122.
29 Сб. «Записки мечтателей», 1919, № 1, стр.. И.
30 Там же, стр. И.
31 «Искусство Коммуны», 9 марта 1919 г.
32 А. Луначарский. Ленин и литературоведение. М., 1934,
стр. 113—114.
33 «Коммунист», 1957, № 18, стр. 76.
34 Сб. «Записки мечтателей», 1919, № 1.
35 «Вопросы истории КПСС», 1958, № 1, стр. 37. — В. Горбунов. Борьба В. И. Ленина с сепаратистскими устремлениями пролеткульта.
36 «О партийной и советской печати». Сб. документов. М., 1954, стр. 221.
37 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 330.
38 «Коммунист», 1957, № 18, стр. 77.
39 «Годы нашей жизни». Изд. «Московский рабочий», 1966, стр. 199.
40 Воспроизведено по автографу на книге, хранящейся у Н. А. Ро-зенель.
41 В. Катанян. Маяковский. Литературная хроника, стр. 181.
42 «Альманах цеха поэтов», кн. вторая. Пг., 1921, стр. 73.
43 Там же, стр. 74.
44 «Печать и революция», 1921, кн. вторая, стр. 205.
45 Константин Федин. Горький среди нас. М., Гослитиздат, 1943, стр. 133.
46 Из письма К. А. Федина от 1/IV-1952 г. к автору настоящей работы.
47 Одновременно с автором настоящей работы на этот факт обратил внимание О. П. Пресняков в диссертации «Партия и народ в творчестве В. В. Маяковского». См. статью В. Тренина «К истории поэмы «150 000000». — В сб. «Маяковский. Материалы и исследования». Под редакцией В. О. Перцова и М. И. Серебрянского. М., Гослитиздат, 1940.
В. Тренин пишет: «... напряженная и непрерывная работа Маяковского над агитстихами и плакатами «Роста» воздействовала на всю структуру поэмы «150 000 000» и на ее сюжет, и на стиль, и на ритмику, и синтаксис. «150 000 000» в монументальной эпической форме обобщает опыт работы Маяковского над агитационным стихом, непосредственно обращенным к массовой аудитории» (стр. 447).
48 «Новый мир», 1942, № 11-12, стр. 243.
49 Е. Замятин. Я боюсь. — «Дом искусств», 1921, № 1, стр. 43—45.
50 На это обратил внимание В. Д. Дувакин. — См. В. В. Маяковский. Поли. собр. соч., т. 4. М., 1939—1949, стр. 430.
51 Воспоминания Г. А. Козиатко. Хранятся в Гос. музее В. В. Маяковского.
52 Д. Бедный. Избр. произведения. Л., 1951, стр. 366. См. комментарии И. С. Эвентова.
53 По материалам фонда плакатов и листовок Музея Советской Армии в Москве.
54 Там же.
55 Там же.
56 Там же.
57 Там же.
58 Там же.
59 «Искусство», 1940, № 3. — Воспоминания М. М. Черемных.
60 В. И. Лени н. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 226.
61 Там же, стр. 415.
62 Там же, стр. 416.
63 Цит. по воспоминаниям М. М. Черемных.
64 «Фронтовая поэзия в годы гражданской войны». М., 1938, стр. 76.
65 Впервые опубликовано А. Февральским. Напечатано в бюллетене Прессбюро ЦК РКП (б) от 30 марта 1923 г.
27 в. Периов
413
66 По материалам архива Д. Бедного, хранящегося в Институте мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.
67 Цит. по бюллетеню Прессбюро ЦК РКП (б) от 3 марта 1923 г.
68 «Искусство», 1940, № 3. — Воспоминания художника Нюренберга.
69 По воспоминаниям X. Н. Херсонского, переданным автору этой работы.
70 Цит. по воспоминаниям М. Черемных.
71 «Ленинские искры», 11 апреля 1940 г.
4 «ИЗ РОССИИ НЭПОВСКОЙ БУДЕТ РОССИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ»
1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 302—303.
2 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 266.
3 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 266.
4 И. Эвентов. Маяковский-сатирик. М., Гослитиздат, 1941, стр. 174.
5 «Русские народные гулянья», по рассказам А. Я. Алексеева-Яковлева.
6 А. С. Пушкин. Собр. соч. в десяти томах, т. 7, 1951, стр. 211.
7 Сб. «В. В. Маяковский. Театр и кино», т. I, 1954, стр. 461 (статья А. Февральского).
8 Е. И. Наумов. Маяковский в первые годы Советской власти. М., 1950, стр. 151—152.
9 В. И. Л ен ин. Поли. собр. соч., т. 33, стр. 114—115.
10 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 155.
11 Воспоминания О. С. Литовского. Хранятся в Гос. музее В. В. Маяковского.
12 По воспоминаниям В. Арманд, Н. Полуэктова, Л. Райдер, С. Сенькина. — «Литературная газета», 19^6, № 4.
13 «Воспоминания родных о В. И. Ленине». М., Госполитиздат, 1955, стр. 195—196.
14 А. В. Луначарский. Ленин и литературоведение. М., Гослитиздат, 1937, стр. 64.
15 М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 17. М., Гослитиздат, 1952, стр. 16.
16 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 13—15.
17 Там же, стр. 102.
18 «Журналист», 1924, № 12, стр. 51—52.
19 Из воспоминаний О. С. Литовского.
20 «Правда», февраль—март 1922 г.
21 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 227.
22 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 88.
23 Там же, стр. 92.
24 «Правда», 14 мая 1922 г.
25 «Печать и революция», 1922, кн. седьмая, стр. 320.
26 Цит. по воспоминаниям О. С. Литовского.
27 Б. Е. Ч и с т о в а. Маяковский в Германии.
28 Корнелий Зелинский. В изменяющемся мире. М., 1969, стр. 28.
29 Там же.
30 «Искусство», 1940, № 3. — Воспоминания С. Адливанкина.
31 Э. Б. Генкина. Переход Советского государства к новой экономен ческой политике (1921—1922). М., Госполитиздат, 1954, стр. 98—100.
32 В. В. Маяковский. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 714-
33 «Правда», 30 марта 1924 г,
414
5 ПОЭМА «ПРО ЭТО»
1 «Знамя», 1941, № 4, стр. 231.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 444.
3 Пильняк. Иван да Марья. Госиздат, стр. 216.
4 «Молодая гвардия», 1923, № 3, стр. 121.
5 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 33.
6 В. Катанян. Маяковский. Литературная хроника, изд. 2-е. М., 1948, стр. 427.
7 «Знамя», 1941, № 4, стр. 232.
8 В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963,
стр. 320.
9 Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. V. М., Гослитиздат, 1967, стр. 180.
10 Там же, стр. 359.
11 В. В. Маяковский. Собр. соч. 1935—1939, т. 5, стр. 22—24.
12 «Альманах с Маяковским». М., «Советская литература», 1934, стр. 76.
13 А. В. Луначарский. Русская литература. М., Гослитиздат, 1947, стр. 420.
14 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 73.
15 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 381.
16 «Знамя», 1941, № 4, стр. 232.
17 К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в 2-х томах, т. II, стр. 227.
18 В статье «Маяковский в работе над поэмой „Про это“» («Литературное наследство», т. 65) 3. Паперный, правильно освещая один из аспектов поэмы как борьбу поэта «с са им собой», несколько упрощает задачу, характеризуя ее решение как «преодоление трагедии» (стр. 227).
19 «Известия», 12 апреля 1923 г.
20 Н. Р о з е н е л ь. Память сердца. М., 1965, стр. 31.
21 «Письма Маяковского к Лиле Брик». Комментарии Клода Фриу. Париж, изд-во Галлимар, 1969.
6 МАЯКОВСКИЙ В ЖУРНАЛЕ «ЛЕФ»
1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 47, стр. 143.
2 По данным, сообщенным мне А. Февральским.
3 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 48, стр. 48.
4 А. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 17. М. Гослитиздат, стр. 212.
5 М. В. Фрунзе. Соч., т. 3. М., 1927, стр. 154.
6 Иоган Б е х е р. В защиту поэзии. М., 1959, стр. 86—87.
7 «Леф», 1923, № 1, стр. 214.
8 «Леф», 1923, № 1, стр. 240.
9 «Леф», 1924, стр. 155. — В. Шкловский. И. Бабель (Критический романс).
10 «Леф», 1923, № 1, стр. 219.
11 «Леф», 1924, № 1, стр. 216.
12 «Печать и революция», 1923, кн. 6, стр. 88.
13 «Леф», 1924, № 2, стр. 126.
14 «Леф», 1924, № 2, стр. 140.
15 «Леф», 1923, № 2, стр. 87. — Б. Арватов. Речетворчество (Но поводу заумной поэзии).
Б. Арватов в этой статье со страстью отстаивал право на «заумь»: «... заумные формы обладают свойствами той языковой системы, к которой они причислены. Это целостные речевые факты, формально не отличающиеся от наличного языкового материала. Для того, чтобы это подчеркнуть, я беру слова «заумь», «заумный» и пр. в кавычки: бессмыс
27*
415
ленное/ абсолютное заумное речение невозможно. Личность — продукт и кристалл коллектива, и каждое проявление ее жизнедеятельности социально; «непонятное» бормотание сонного или вскрики сумасшедшего — социальны, как обычный разговор о сегодняшней погоде. Все дело лишь в степени нашего понимания — в количественной, а не качественной разности (родители лучше понимают «заумь» своих детей, чем посторонние)». — «Леф», 1923, № 2, стр. 82—83).
Все дело в степени понимания!» Здесь было уже дано обоснование «герметичности» поэзии. Ведь «вскрик сумасшедшего» социален, как обычный разговор о сегодняшней погоде. Формально, строка Пушкина «Мороз и солнце; день чудесный» ничем не отличается от «Дыр бул щыл убешур» и т. д. И вот вывод лефовского теоретика: «... поэзия всегда была ни чем иным, как экспериментальной лабораторией речетворчества. Но вплоть до футуризма эта социальная роль поэзии не была осознанной, скрывалась под фетишизированной оболочкой поэтических канонов и т. п. „идейности"...»
Лефовский теоретик ставит в кавычки оба слова — «идейность» и «заумь». Но перед заумью он находит нужным извиниться, так как бессмыслица в принципе, по его мнению, невозможна (даже «вскрик» сумасшедшего — социален!), что же касается идейности, то это слово нуждается в кавычках, потому что оно в понимании Б. Арватова, представляет собой неосознанный пережиток традиций классической поэзии, так и не осознававшей до лефовских откровений, что главная социальная роль поэзии — быть «лабораторией речетворчества».
И только футуризм понял, наконец, истинную задачу поэзии.
Давно известно, что художник слова, обращаясь к народному языковому творчеству, сам становится участником в творчестве языка, является его законодателем, создавая образцовые формы выражения (все словари иллюстрируют .значение слова цитатами из произведений классиков и лучших современных писателей). И в этом смысле нельзя не согласиться с лефовским теоретиком: одной из задач художественной литературы является речетворчество. Никто не может усомниться в громадном значении того, что Горький называл «первоэлементом» литературы. Элементом чего? Ответ Горького известен: человековедения. Лефовский теоретик, ставящий слово «идейность» в кавычки, исчерпывает значение художественной литературы одной функцией: речетворчество. Героем литературы становится не человек, а язык. Лефовский теоретик ориентировался на Крученых, провозгласившего в свое время идеалом художника «слово, как таковое».
Следует заметить, что произведения Крученых печатались в «Лефе» как пример словесного эксперимента для оформления фактов современности. Так, например, «Мороженица богов» должна была показать «жаргонную фонетику для оформления антирелигиозной и политической тем». Этот опус навеян был фактами разоблачения для целей антирелигиозной пропаганды «нетленных» мощей святых. Этому словесному садизму нельзя отказать в какой-то талантливости — мы цитируем относительно осмысленный отрывок «Мороженицы богов»:
У плащаницы ямы адамовых глаз засверкали Налились кровью, Шипит:
— Что же на место любви?
— Солидарность удара! Даешь!
— Ха-ха-а-а-а! —
Истерика.........ах!
Плащаница рассыпалась:
Вдребезги дамское мыло Брыкара Люфчики, тухли, чулки.
И косточки с гроба господня
416
В тонком дессу Заскакали Под иглами льда, По хлопушками снега хрипит, Ребра врозь, Пар из ноздрей застыл Филипповским калачом, Хрупики мучениц сороконосиц Под ногами трухлявкой трешь!
Можно принять испорченные жаргоном слова — «мыло Брыкара» вместо «брокара», «люфчики», «тухли» — как сатирический прием для разоблачения корыстного обмана церковников, но как это страшное бормотание с «филипповским калачом», с «хрупиками», «третью» и даже «солидарностью удара» могло служить «наилучшему выражению фактов современности» — понять трудно. И трудно соотнести этот «крученыхов-ский ад» с той великолепной работой языкового поиска, о котором Маяковский впоследствии в статье «Как делать стихи» сказал: «... революция выбросила на улицу корявый говор миллионов, жаргон окраин полился через центральные проспекты... Это — новая стихия языка. Как его сделать поэтическим? Старые правила с «грезами», «розами» и александрийским стихом не годятся. Как ввести разговорный язык в поэзию и как вывести поэзию из этих разговоров?».
Конечно, опыт «жаргонной фонетики» Крученых не приблизил Маяковского ни на шаг к ответу на последний вопрос, но нельзя не признать, что мрачная лаборатория изобретателя зауми нашла себе место в журнале Маяковского не случайно, а по связи с близкой для него проблемой «новой стихии языка».
16 Сергей Есенин. Собр. соч., т. 5. М., 1962, стр. 43.
17 Собрание произведений Велимира Хлебникова, т. V. Л., 1933, стр. 250.
18 Владимир Маяковский. Поли. собр. соч. в тринадцати томах, т. 1. М., 1955, стр. 369.
19 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 401.
20 Лариса Рейснер. Избранное. М., Гослитиздат, 1965, стр. 22.
21 А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 2. М., 1964, стр. 207.
22 «Труды по русской и славянской филологии». — «Ученые записки Тартуского гос. ун-та», т. IX, 1966, стр. 273. — «Все лучшие воспоминания».
23 Там же, стр. 303. — Е. Семенова. ВХУТЕМАС, Леф, Маяковский. 24 Там же, стр. 303.
25 Дм. Фурманов. Собр. соч. в четырех томах, т. 4. М., ГИХЛ, 1961, стр. 419.
26 Дм. Фурманов. Собр. соч. в четырех томах, т. 3, стр. 280.
27 Дм. Фурманов. Собр. соч. в четырех томах, т. 4, стр. 395.
28 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 194.
29 Дм. Фурманов. Собр. соч. в четырех томах, т. 4, стр. 100.
30 Цит. по журналу «Огонек», 1951, № 15, стр. 19.
31 Там же.
32 В. Маяковский. Поли. собр. соч., т. 7. М., 1939—1949, стр. 546, 547.
33 В. Маяковский. Поли. собр. соч., т. 5, 1934, стр. 12.
34 «Ученые записки Тартуского гос. ун-та», т. IX, 1966, стр. 297.
35 Л. Волков-Ланнит. Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит. М., 1968, стр. 6.
36 В связи с проблемой соотношения между групповыми «программами», установками и творчеством художникон, входящих в данную группу, считаю полезным привести высказывание Бориса Соловьева — автора фундаментальной монографии об Александре Блоке по данному вопросу: «Да, Есенин, Блок, Маяковский в определенные годы своей жизни примыкали к той или иной литературной группе, к тому или иному течению, ограниченность или несостоятельность которых для нас ныне совершенно очевидна. Но это ведь только творчество незначительных, а то и просто
417
бездарных поэтов целиком вмещается в рамки и пределы групповых или литературно-сектантских требований и программ. Творчество же подлинных художников, верных правде жизни, отражающих ее существенные стороны, всегда выходило за эти узкие пределы. «... Я больше не школьник. Никаких символизмов больше...», — говорил Александр Блок в зрелые свои годы («Литературная газета», И июня 1969 г., № 24).
37 «Гостиница для путешествующих в прекрасном», 1923, № 2.
38 «Леф», 1923, № 1, стр'. 122.
39 «В. Маяковский в воспоминаниях современников». М., 1963, стр. 370.
40 Письмо А. В. Луначарского Асееву. — ЦГАЛИ, ф. № 28, он. № 1, ед. хр. № 24.
41 В. В. Маяковский. Поли. собр. соч., т. 12, стр. 283.
42 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 277—278.
43 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 13, стр. 296.
44 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 230.
45 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 32, стр. 394.
46 «Леф», 1924, К? 1, стр. 101.
47 «На посту», 1923, № 4, стр. 19.
48 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 110.
49 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 108.
50 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 291.
51 «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», т. 1. М., 1968, стр. 612.
52 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 177.
53 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 80, 82.
54 «Леф», 1924, № 1, стр. 50.
55 Там же, стр. 129.
56 Там же, стр. 131.
7 ЭПОС ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1 «Известия», 24 января 1924 г.
2 «Правда», 27 января 1924 г. — Постановление Президиума ЦИК Союза ССР от 25 января 1924 г.
3 «Правда», 30 января 1924 г.
4 «Молодая гвардия», 1924, № 2-3, стр. 33.
5 «Молодая гвардия», 1923, № 3, стр. 173—174.
6 В. И. Л е п и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 364.
7 Там же, стр. 372.
8 Там же, стр. 382.
9 Там же, стр. 398.
10 Из письма М. А. Зенкевича автору этой монографии.
11 А. Абрамов. Поэтическое мастерство Маяковского в поэме «Владимир Ильич Ленин». Воронеж, 1953, стр. 14.
12 «Правда», 29 апреля 1923 г.
13 «Книгоноша», 1924, № 33, стр. 8.
14 Из выступления в прениях по докладу А. В. Луначарского 8 февраля 1925 г. «Первые камни новой культуры».
15 Л. Никулин. Владимир Маяковский. М., изд-во «Правда», 1955, стр. 24—25.
16 «Октябрь», 1937, № 2, стр. 172.
17 Цит. по стенограмме выступления Маяковского на конференции Раппа 9 января 1925 г. Хранится в архиве Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.
18 «Смена», 1949, № 2, стр. 6.
19 А. Метченко. Творчество Маяковского. 1917—1924 гг. М., 1954, стр. 560.
20 Там же.
21 В. В. М а я к о в с к и й. Поли. собр. соч., т. 10, стр. 353.
418
22 «Правда», 24 января 1924 г.
23 «Известия», 9 февраля 1924 г.
24 «Молодая гвардия», 1924, № 2-3, стр. 444.
25 Там же, стр. 115.
26 «Правда», 30 января 1924 г.
27 «Правда», 27 января 1924 г.
28 «Молодая гвардия», 1924, № 2-3, стр. 452.
29 Там же, стр. 445.
30 По записям К. Зелинского.
31 Из письма Н. С. Тихонова от 30/1X1953 г. автору этой монографии.
32 Н. Тихонов. Сами. — Сб. «Русская советская поэзия. 1917—1952». М., Гослитиздат, 1954, стр. 189.
33 А. М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 17, стр. 6.
34 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 81.
35 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 21, стр. 261.
36 «Октябрь», 1924, № 3, стр. 179.
37 Алексей Толстой. Поли. собр. соч. в пятнадцати томах, т. 13. М.„ 1949, стр. 285-286.
38 ИМЛИ, Архив Д. А. Фурманова, II, 62, 1956.
39 Д. А. Фурманов. Чапаев. М., 1947, стр. 116—117.
40 А. С. Пушки н. Поли. собр. соч. в одном томе. Гослитиздат, 1949, стр. 807.
41 «Октябрь», 1926, № 2, стр. 103—108.
42 А. С. Серафимович. Собр. соч., т. IX, стр. 115.
43 Там же, стр. 120.
44 Там же, стр. 71.
45 Из приветствия XII съезда РКП (б) В. И. Ленину.
46 «Молодая гвардия», 1923, № 3, стр. 174.
47 А. В. Луначарский. В. И. Ленин. М., изд. Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, 1924, стр. 309.
48 «Октябрь», 1925, № 1-2, стр. 152.
49 В. И. Ленин. Философские тетради. М., Госполитиздат, 1947, стр. 168.
8 ЭПОС ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(Продолжение)
1 С. О. Малик-Нубаров. О поэме В. Маяковского «В. И. Ленин». — Уч. зап. Ереванского гос. русского пединститута им. А. А. Жданова, т. 3, 1952, стр. 123—124.
2 Мих. Павлович. Ленин и Брест. — «Красная новь», 1923, № 4, стр. 265.
3 «Русский современник», 1924, № 1, стр. 328.
4 С. Есенин. Стихотворения. Л., «Библиотека поэта», 1953, стр. 273-274.
5 Н. А. Некрасов. Соч., т. 1. М., изд-во «Правда», 1954, стр. 196.
6 Ф. Н. П и ц к е л ь. Лирический эпос Маяковского. М., «Наука», 1964.
7 Сергей Есенин. Стихотворения. М., ГИХЛ, 1934, стр. 157.
8 М. П. Ш т о к м а р. Стих Маяковского.
9 В характеристике особенностей стиха поэмы автор опирается на некоторые наблюдения А. П. Квятковского.
10 «Октябрь», 1925, № 3-4, стр. 238.
11 Борис Пастернак. Охранная грамота. Изд-во писателей в Ленинграде, 1931, стр. 100.
12 В статье «Художник и герой» С. Герасимова («Литературная газета», 31 августа 1954 г.) высказано меткое замечание о спектакле «Баня» в Московском театре сатиры, «где строгий и умный взор революционного поэта, обращенный со сцены в зрительный Ьал, как бы раскрывает самую
419
сокровенную интонацию этой очень сложной и своеобразной пьесы, показывая зрителю главное действующее лицо сатирического спектакля — умного, доброго, страстного, неподкупного человека — Маяковского, для которого борьба за коммунизм была делом его жизни».
В заметке о постановке «Бани» на польской сцене («Огонек», 1955, 10 апреля, № 15) сообщается:
«Когда вспыхнул свет рампы, перед занавесом с броско нарисованным названием пьесы появился ... автор — Владимир Маяковский (артист Войцех Пилярский). Просто, как со своими давними друзьями, заговорил он со зрителями о том, что такое „Баня“ и кого она моет... Маяковский появляется на сцене в этом спектакле два раза: в третьем действии, где постановщики вложили в его уста слова, по пьесе принадлежащие режиссеру, и в финале, когда поэт обращается к зрителю со своими пламенными стихами».
13 «Молодая гвардия», 1924, № 2-3, стр. 147.
14 «Правда», 23 апреля 1924 г.
15 ИМЛИ, Архив Д. А. Фурманова.
16 Корнелий Зелинский. В изменяющемся мире. М., «Сов. писатель», 1969, стр. 81.
17 Стенограмма Конференции Раппа от 9 января 1925 г. Хранится в архиве Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.
18 Цит. по той же стенограмме.
19 «Журналист», 1924, № 14, стр. 21.
20 «Красная нива», 1924, № 14, стр. 41.
21 «Известия», 5 июня 1924 г.
22 «Вопросы литературы и драматургии». Л., «Academia», 1924, стр. 3.
23 Там же, стр. 89.
24 «Новый мир», 1931, № 4, стр. 168—169. — Н. Кальма напечатала свои воспоминания под псевдонимом О. Успенской.
25 По записным книжкам, хранящимся в рукописном фонде Гос. музея В. В. Маяковского.
26 И. Машбиц-Веров. Поэмы Маяковского. М., 1963, стр. 359.
27 А. Метче нк о. Творчество Маяковского. 1917—1924 гг., стр. 573.
28 По записным книжкам, хранящимся в рукописном фонде Гос. музея В. В. Маяковского.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
В. В. Маяковский 1924 г. (фронтиспис) ........................ 2—3
Александр Блок. 1920 г....................................... 12—13
Валерий Брюсов. 1923 г....................................... 12—13
Демьян Бедный. 1918 г. —-.................................... 96—97
А. В. Луначарский. 1920 г.................................... 96—97
Маяковский в редакции «Известий». 1923 г. —.................... 166
Фотомонтаж А. М. Родченко к поэме «Про это». 1923 г. .......... 230
Обложка журнала «Леф». 1924 г.................................. 237
Дзига Вертов. 1920-е годы ------------------------------- 256—257
С. М. Эйзенштейн. 1920-е годы --------------------------- 256—257
А. М. Родченко. 1922 г......................................... 281
Афиша выступлений поэтов в Политехническом музее. 1920 г. 310
Сергей Есенин и П. И. Чагин — редактор «Бакинского рабочего». 1924 г. ------------------------------------------ 321
Обложка первого издания поэмы «Владимир Ильич Ленин». 1925 г. ------------------------------------------------- 339
Маяковский на Красной площади. 1922—1923 гг.------------- 365
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абрамов А. М. 291
Авербах Л. Л. 260
Адамович Г. В. 118
Адливанкин С. Я. 186
Акопян Акоп 315, 316
Аксенов И. 119, 179
Александровский В. Д. 175
Алексеев-Яковлев А. Я. 160
Альтман Н. И. 256
Амичис Эдмондо д’ 26
Андреева М. Ф. 71, 160
Анненков П. В. 406
Аннунцио Габриеле д’ 124
Арватов Б. И. 237, 244—246, 248
Арманд В. 168
Асеев Н. Н. 204, 232, 235, 237, 239, 262, 267, 269-273, 283, 303, 313, 326, 390, 404
Ахматова А. А. 257
Бабель И. Э. 244, 279
Багрицкий Э. Г. 273
Бальмонт К. Д. 47
Баттистипи Маттиа 180
Бедный Д. (Придворов Е. А.) 5, 16—20, 23, 48, 53, 65, 70, 86, 87, 96, 126, 127, 144, 158, 173—175, 177, 178, 292, 316, 319, 327, 344, 384, 386, 387, 389
Безыменский А. И. 241, 316, 317, 324, 328, 333, 360, 389
Беклин Арнольд 223
Белый А. (Бугаев Б. И.) 47, 48, 53, 105, 106, 378
Верх В. Н. 305
Бессалько П. К. 43
Бетховен Людвиг ван 210
Бехер Иоганнес 243
Благой Д. Д. 296
Блок А. А. 5-16, 3/7; 51, 54, 64, 84, 90—92, 94—97, 112, 315, 378
Богданов А. (Малиновский А. А.)
45, 48, 49, 115, 234
Брик Л. Ю. 22, 27, 120, 227
Брик О. М. 51, 171, 237, 243, 255, 265, 266, 398, 399
Брюсов В. Я. 90—92, ИЗ, 244—246, 283, 313, 314, 377, 390, 402—404
Булак-Булахович 126
Бумке Конрад 180
Бурлюк Д. Д. 21, 270
Вандервельде Эмиль 158, 189, 190
Вегер (Поволжец) В. И. 236
Вертов Д. 232, 263, 265
Верхарн Эмиль 169
Веселый А. (Кочкуров Н. И.) 279
Вильсон Вудро 39, 97, 103, 177
Винокур Г. О. 247, 248
Владимиров С. В. 322
Волков-Ланнит Л. Ф. 264
Володарский В. (Гольдштейн М. М.) 36
Волошин М. А. 93
Воронский А. К. 260, 261, 324, 325, 378, 381, 386
Гайдар (Голиков) А. П. 256
Гастев А. К. 46, 47, 272
Гейне Генрих 138
Геродот 90
Герцен А. И. 278, 327
Гиппиус 3. Н. 5, 7, 8, 10, 51
Глинка М. И. 40
Гоголь Н. В. 102, 211
Гомер 246
Гомперс Самуэль 189
Гордиенко 316
422
Горький А. М. 5, 20, 21, 30, 31, 35, 48, 62, 66, 67, 119, 120, 123, 160, 165, 169, 234, 239, 242, 283, 305, 322, 323, 328, 342, 354, 355, 405
Грозный Иван 298
Гросс Георг 179, 180
Гумилев Н. С. 75, 104, 105, 118
Дайте Алигьери 180
Дейиека А. А. 256
Дени (Денисов) В. Н. 127
Деникин А. И. 122, 127
Достоевский Ф. М. 204, 205
Дувакин В. Д. 120
Елизарова А. И. 276
Есенин С. А. 37, 54, 64, 249, 320, 343, 359-361, 378
Ефимов Б. Е. 204
Жаров А. А. 325
Жуковский В. А. 138
Замятин Е. И. 105, 122
Зелинский К. Л. 180, 378
Зельдович В. 399
Зенкевич М. А. 289—291, 293, 391
Иванов Вс. В. 96, 260, 317
Иванов Вяч. И. 257
Инбер В. М. 23, 324, 333, 389
Казанский Б. В. 273, 280
Казин В. В. 47, 242, 316
Калинин М. И. 264, 284, 300—302, 308, 309, 364, 374, 376
Кальма Н. (Кальманок А. И.) 301, 404 —
Каменский В. В. 21, 246—248, 267, 279, 283, 313
Капп Вольфганг 140
Карамзин Н. М. 298
Карпинский В. А. 247
Кассиль Л. А. 264
Катаев В. П. 256
Каутский Кярл 288
Кекелис 116
Керенский А. Ф. 35, 250
Керженцев П. М. 46, 129, 377, 378
Керзон Джордж Натаниел 189, 192— 194
Кириллов В. Т. 44
Клычков (Лешенков) С. А. 258
Клюев Н. А. 258, 323
Князев В. В. 37, 47, 53
Коган П. С. 377
Козиатко Г. А. 125
Коллонтай А. М. 198
Колчак А. В. 135, 139, 153, 239, 330
Кольцов М. Е. 309
Комиссаржевскпй Ф. Ф. 70
Коперник М. 228
Корнилов Л. Г. 8
Краснов П. Н. 35
Кржижановская 3. П. 286, 313
Кржижановский Г. М. 286
Кромвель Оливер 65
Кропоткин П. А. 168
Крупская Н. К. 110, 168, 169, 278, 285, 308, 309
Крученых А. Е. 72, 246—248, 265, 267
Крылов И. А. 138
Кушнер Б. А. 237
Лавинская Л. 255
Лавинский А. М. 263
Лазарев П. П. 293
Лебедев В. 150
Левинсон А. 74, 118
Ленин В. И. 12, 14, 17, 20, 32, 34-37, 39, 40, 42, 47, 49, 58, 77, 80-82, 86—89, 92, 94—96, 106—108, 110, 112-117, 119, 122, 128-132, 135,
152-154, 164-172, 174, 175, 178-180, 194-197, 199, 216, 227, 231,
232, 234, 236, 237, 239, 247, 252,
253, 260, 266, 271, 273-280, 282— , 289, 291—293, 296—320, 322—328,
332-362, 364-366, 368-370, 372-377, 379-395, 397, 399, 403-409
Леонардо да Винчи 255
Лепешинский П. Н. 313, 342, 376
Лермонтов М. Ю. 209
Литовский О. С. 165—167, 179, 377
Ллойд-Джордж Дэвид 125, 163
Локк Джон 65
Лондон Джек 24, 25
Луначарская-Розенель Н. А. 230
Луначарский А. В. 6, 7, 13, 27, 37, 49, 51, 52, 60, 66, 70—74, 110, 112—
118, 128, 158, 169, 194, 213, 229,
230, 232, 243, 252, 254, 259, 260,
270, 271, 308, 309, 312, 313, 317,
328, 333, 378, 384, 398-400, 403
Лядов (Мандельштам) М. Н. 312, 313
Майская Т. 314
Макаренко А. С. 256
Максимов 24
Малевич К. С. 72
Малкин Б. Ф. 113, 237
Малышкин А. Г. 94, 109, 331—333
Мариенгоф А. Б. 266
Маринетти Филиппо Томмазо 250, 251
Маркс К. 65, 197, 253, 299, 309, 310, 391
423
Мартов Л. (Цедербаум Ю. О.) 130
Мачтет Г. А. 350
Машбиц-Веров И. М. 405
Маширов-Самобытник А. И. 42
Маяковская О. В. 51
Мейерхольд В. Э. 72, 152, 159, 162, 377, 378
Метченко А. И. 303, 305, 405
Микельанджело Буонарроти 255
Милев Гео 119
Мильман В. А. 378
Михайлов 151
Михайловский Н. К. 276, 277
Мозжухин И. И. 24
Моор Д. С. 127
Мопассан Гюи, де 217, 218
Муссолини Бенито 189
Наумов Е. Й. 66, 162
Неверов А. С. 96
Незнамов П. В. 267, 395
Некрасов Н. А. 95, 244, 314, 349, 373, 403
Николай I 39
Никон 66
Никулин Л. В. 117, 299
Носке Густав 179
Нюренберг 149
Овидий 272
Орлов В. Н. 90
Пастернак Б. Л. 232, 267—270, 315, 375, 390
Паустовский К. Г. 256
Петр I 298
Петровский Д. В. 249,^261, 279
Пилсудский Юзеф 189, 190
Пильняк Б. А. 197* 198, 258, 378
Пименов Ю. 256
Погодин (Стукалов) Н. Ф. 389
Покровский М. Н. 116
Полетаев Н. Г. 283, 286, 287, 319, 320 322
Полонский В. П. 136, 137, 169, 377
Поморский А. Н. 42
Прутков Козьма 172
Пуанкаре Раймон 189, 190
Пугачев Е. И. 330
Пунин Н. Н. 254
Пушкин А. С. 40, 43, 74, 117, 118, 161, 168, 247, 248, 253, 254, 279, 300, 305, 373, 398-400, 402, 403, 405, 406
Райт Рита 164, 255
Раков В. П. 303—305, 379
Расин Жан 161
Рафаэль Сапцио 44, 45
Рейснер Л. М. 253
Ремизов А. М. 7, 11
Ровинский Д. А. 70
Родченко А. М. 152, 187, 188, 230, 232, 235, 255, 264, 265
Рунич 24
Савинков Б. В. 8, 353
Садофьев И. И. 42, 43
Свердлов Я. М. 333
Светлов М. А. 273
Семашко Н. А. 312, 313
Семенова Е. В. 255, 262, 263
Семков 153
Серафимович А. С. 41, 42, 44, 48, 74, 75, 283, 330-333
Сергеев-Ценский С. Н. 67
Сипягин Д. С. 275
Сократ 9
Соловьев В. С. 90
Сологуб Ф. (Тетерников Ф. К.) 15, 346
Сорокин П. А. 198, 199
Сосновский Л. С. 169, 247, 385—387, 389 390
Стеклов Ю. М. 165—167, 171, 172, 176, 378, 387
Стиннес Гуго 189, 190
Струве П. Б. 94, 102
Суханов Н. (Гиммер Н. Н.) 288
Табидзе Т. Ю. 315
Таиров А. Я. 377
Тарковский А. 316
Татлин В. Е. 263
Тельман Эрнст 164
Тихонов Н. С. 260, 273, 283, 316—318
Тодорский А. И. 37
Токтогул Сатылганов 315, 316
Толстой А. К. 138
Толстой А. Н. 93, 256, 300, 328
Толстой Л. Н. 247, 248, 278
Томашевский Б. В. 273
Тренев К. А. 256
Тренин В. В. 120
Третьяков С. М. 235, 237, 239, 267, 283, 313, 325, 326
Тургенев И. С. 248, 278, 358
Тынянов Ю. Н. 273, 276, 277
Уайльд Оскар 209, 210
Ульянова М. И. 306—308, 312
Урицкий М. С. 36
Устрялов Н. В. 153
Фадеев А. А. 333
Февральский А. В. 67, 72
424
Федин К. Л. 48, 89, 119
Ферстер Отфрид 309
Фплиппчеико И. Г. 316
Фрейлиграт Ф. 289
Фриу Клод 230
Фрунзе М. В. 242, 330
Фурманов Д. А. 256—258, 261, 283, ’328-331, 333, 377
Фурье Шарль 220
Хлебников В. В. 174, 175, 232, 248—251, 270
Холодная В. 24
Циновский Л. 319
Чапаев В. И. 329, 330, 368
Черемных М. М. 128, 129, 134, 135,
137, 149, 150
Чернышевский Н. Г. 164, 225, 278
Чистова Б. Е. 180
Чужак-Насимович Н. Ф. 237, 239—241, 261, 273
Чуковский К. И. 13, 210
Шагштяп М. С. 16, 260
Шаляпин Ф. И. 180
Шейдемап Филипп 179
Шершепевич В. Г. 266
Шкловский В. Б. 24, 273
Штокмар М. П. 364
Щербаков А. С. 83
Щербиновский 255
Эберт Фридрих 140
Эвентов И. С. 157
Эдиссон Томас Альва 122
Эйзенштейн С. М. 232, 263
Эйхенбаум Б. М. 273, 274, 278
Энгельс Ф. 19, 60, 215, 225
Эренбург И. Г. 23, 154, 241
Эфрос А. М. 13
Ядловкер 180
Якубинский Л. П. 273
Ярославский Е. М. (Губельман
М. И.) 288, 308, 333, 376
СОДЕРЖАНИЕ
ПОДСТУПЫ .......................................... 5
РОЖДЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕМЫ .............:.......... 37
ПЕВЕЦ И КЛАСС .................................... 86
«ИЗ РОССИИ НЭПОВСКОЙ БУДЕТ РОССИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ» 152
ПОЭМА «ПРО ЭТО» ................................ 195
МАЯКОВСКИЙ В ЖУРНАЛЕ «ЛЕФ» ...................... 232
ЭПОС ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ..................... 283
ЭПОС ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ................................... 337
ИСТОЧНИКИ И ДОПОЛНЕНИЯ .......................... 409
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ .............................. 421
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН-
422
Виктор Осипович Перцов
В. В. Маяковский. Жизнь и творчество 1918—1924
Утверждено к печати
Институтом мировой литературы им. А. М. Горького
Академии наук СССР
Редактор В. Б. Гусынина
Художник М. 3. Шлосберг
Технический редактор О. М. Гуськова
Сдано в набор 13/IV 1971 г.
Подписано к печати 6/IX 1971 г.
Формат 60x90l/ie« Бумага № 2. А-04142.
Усл. печ. л. 27,186. Уч.-изд. л. 26,6.
Тираж 30 000 экз. Тип. зак. 229.
Цена 1 руб. 85 коп.
Издательство «Наука».
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
1-я типография издательства «Наука»
Ленинград, В-34, 9 линия, 12
ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ
Страница Строка Напечатано Должно быть
145 21 сн. устоявший устоявшийся
198 21 св. против того в пользу того
223 3 сн. обывательскую обывательства
Зак. 229