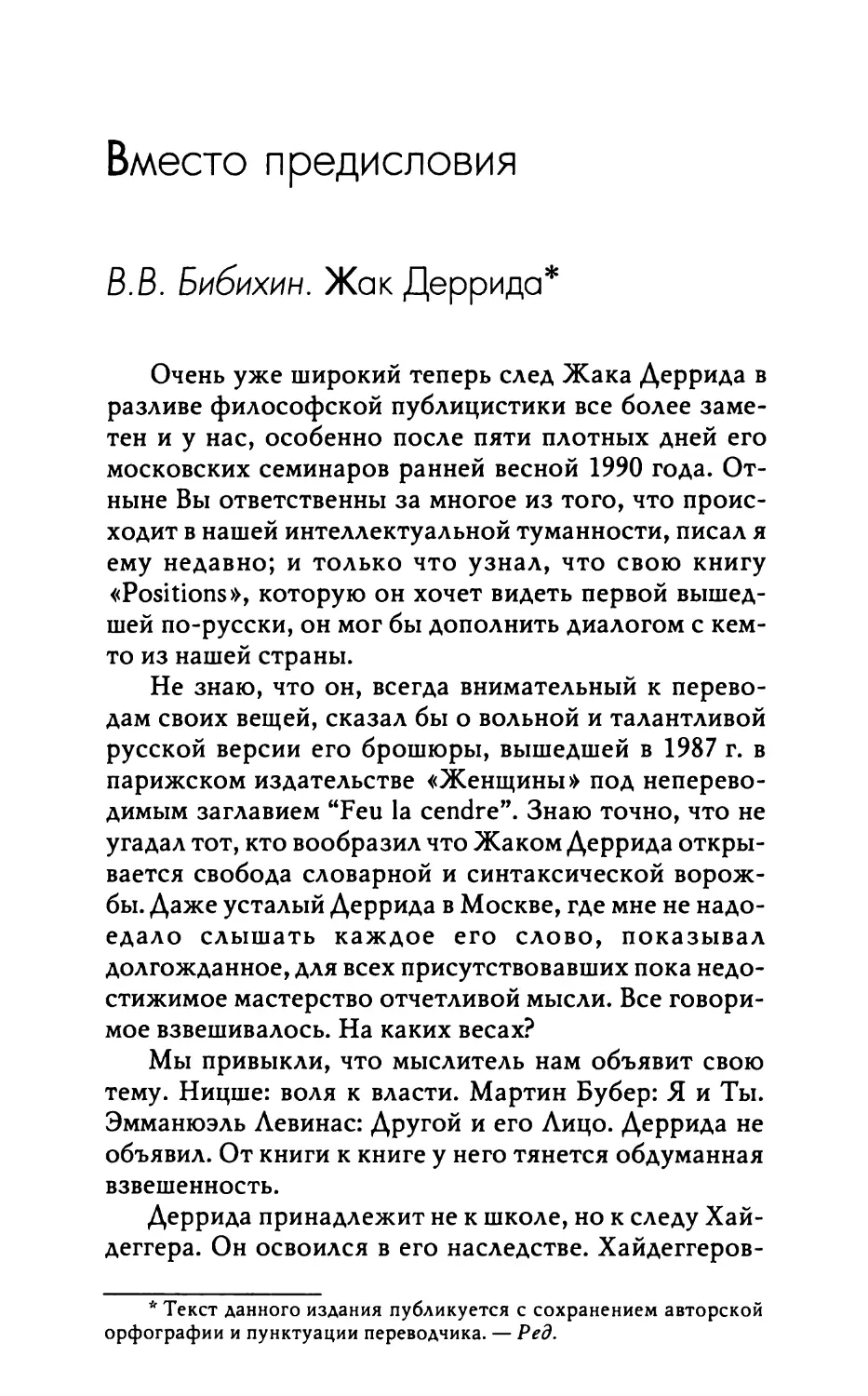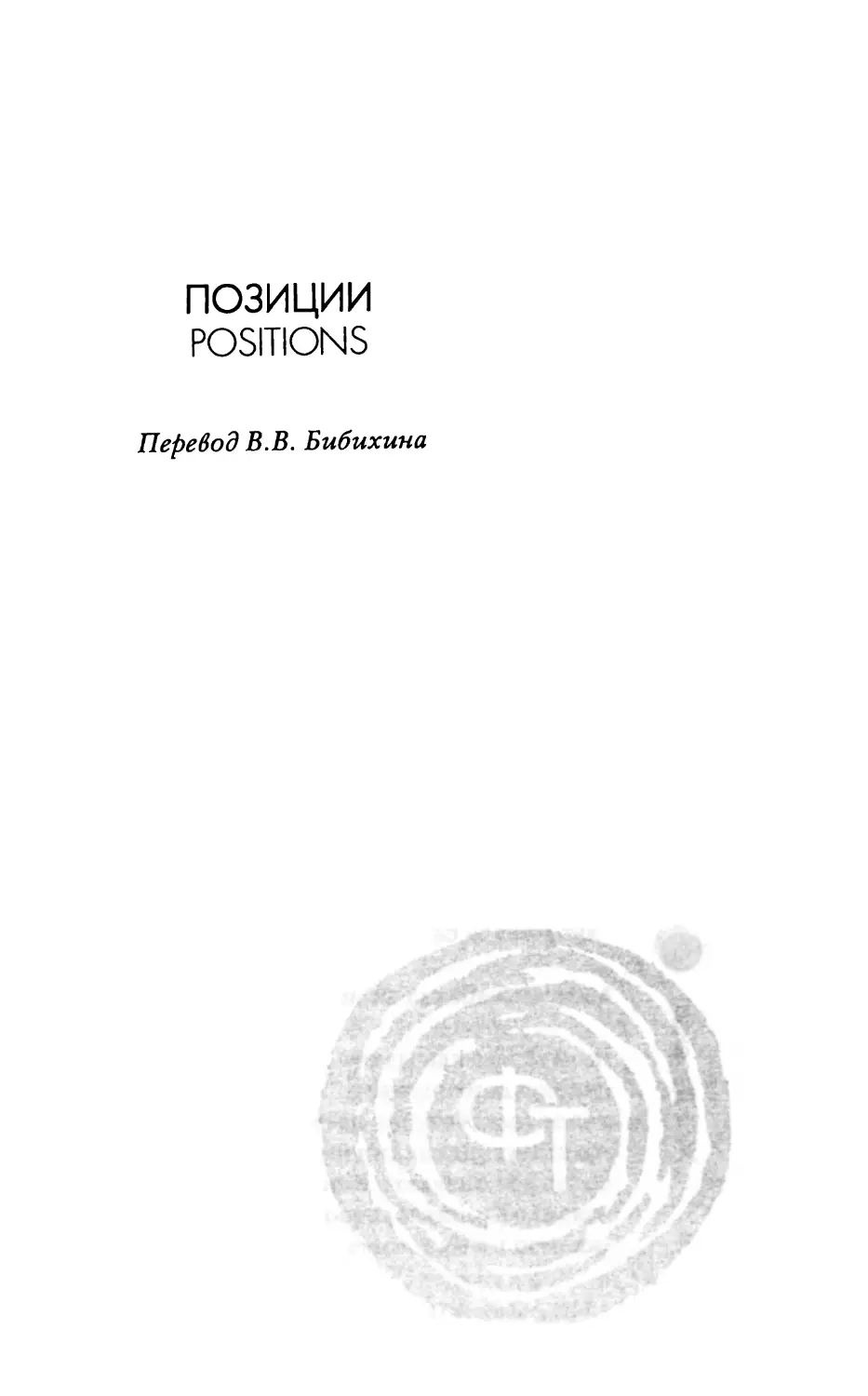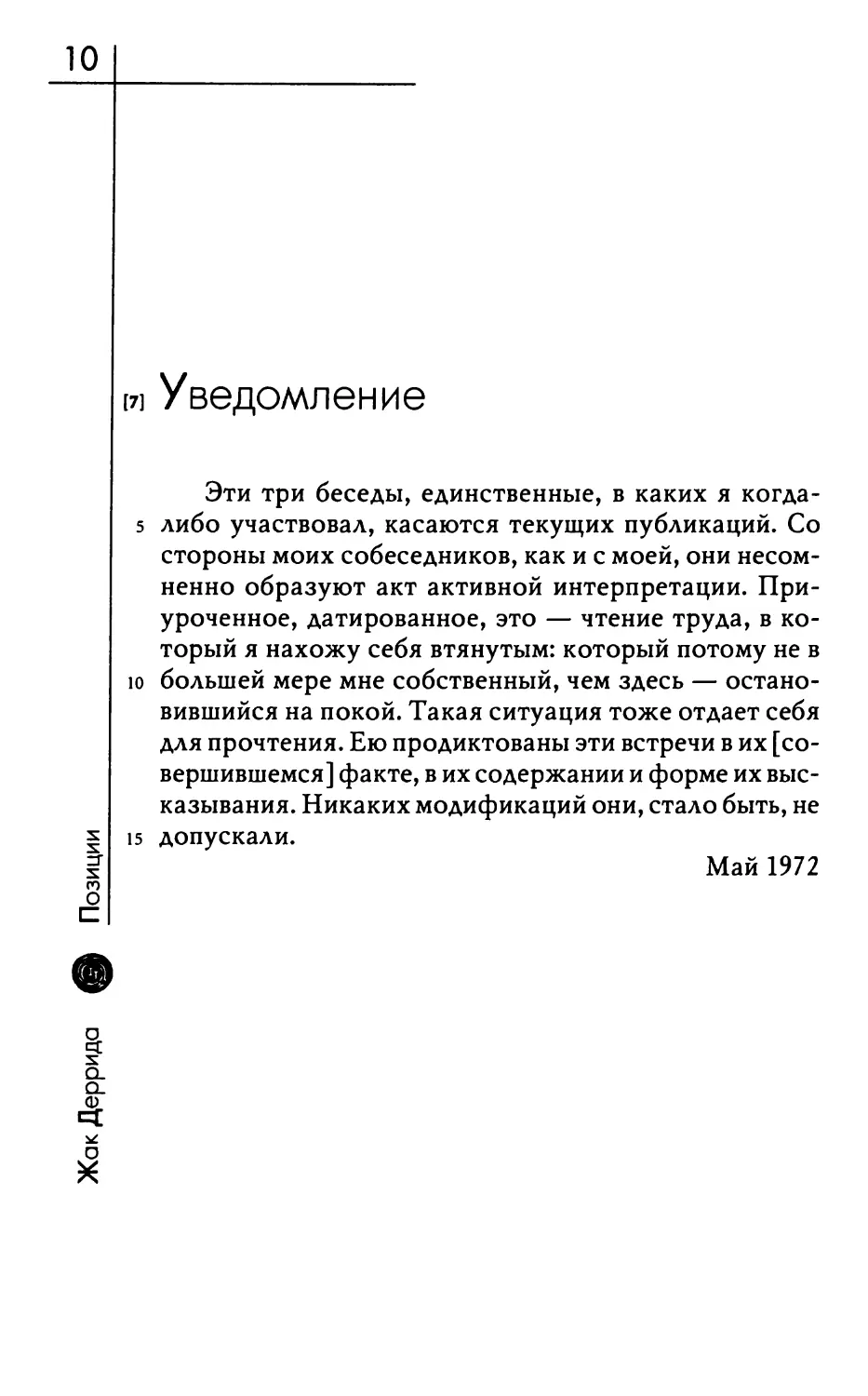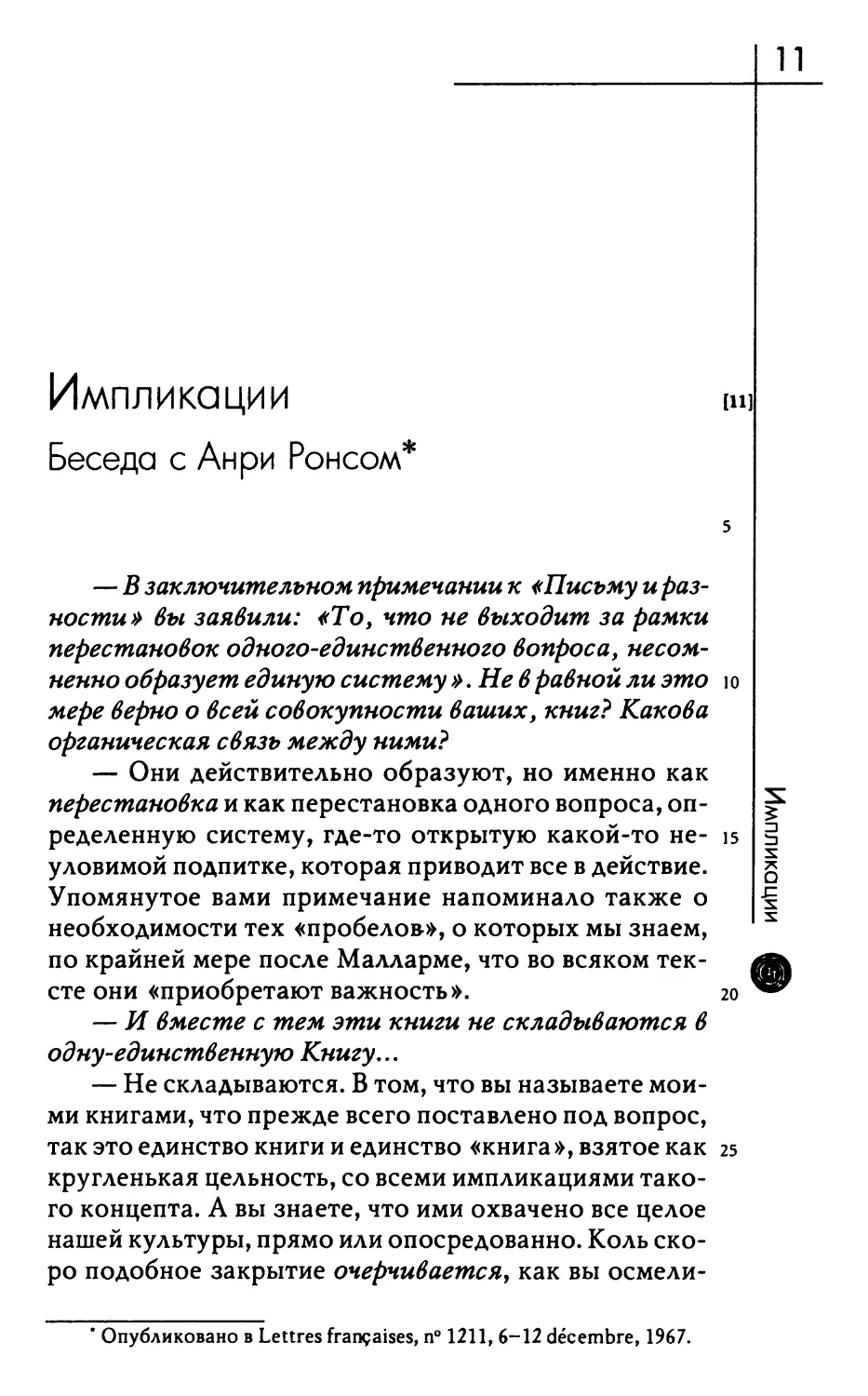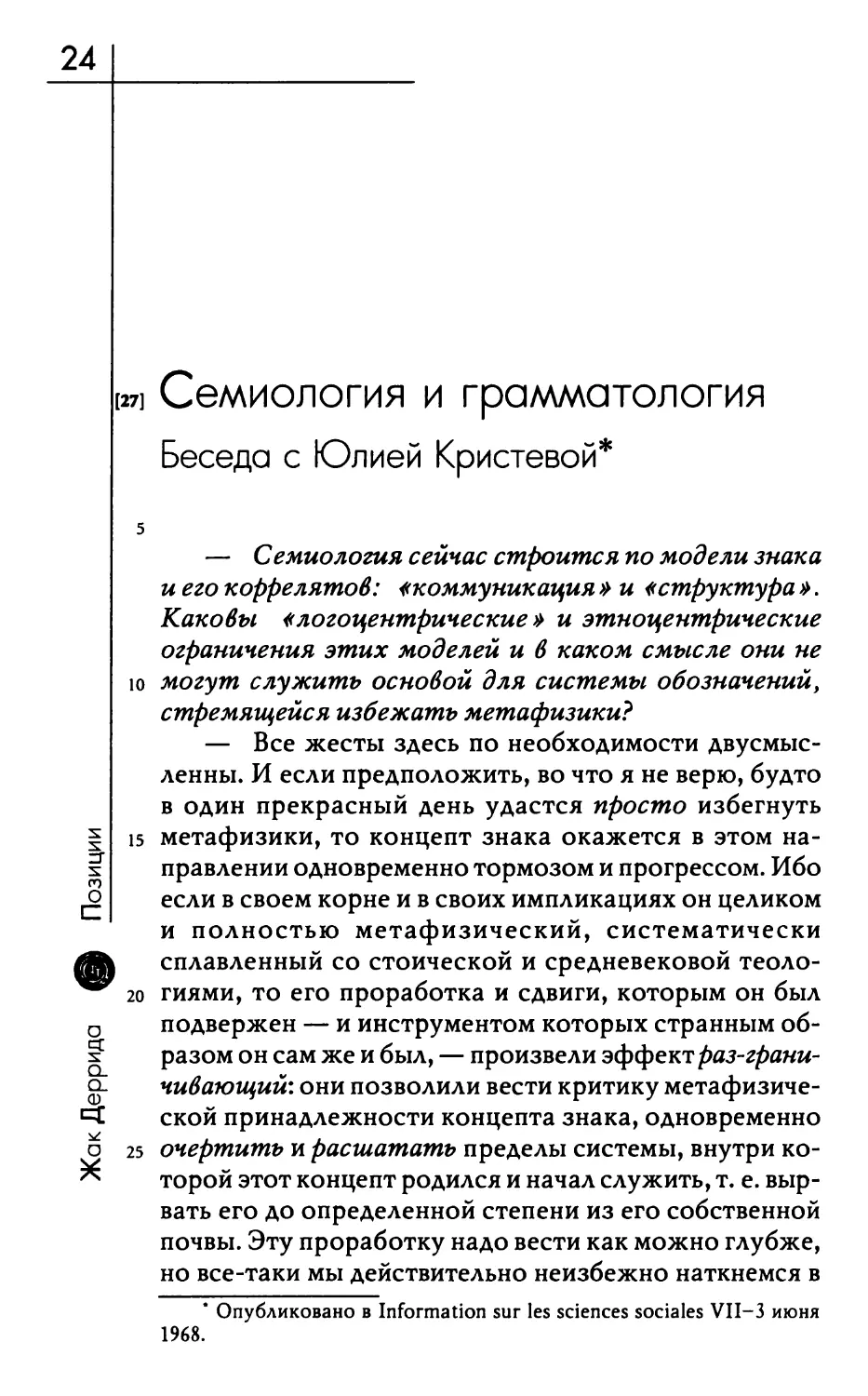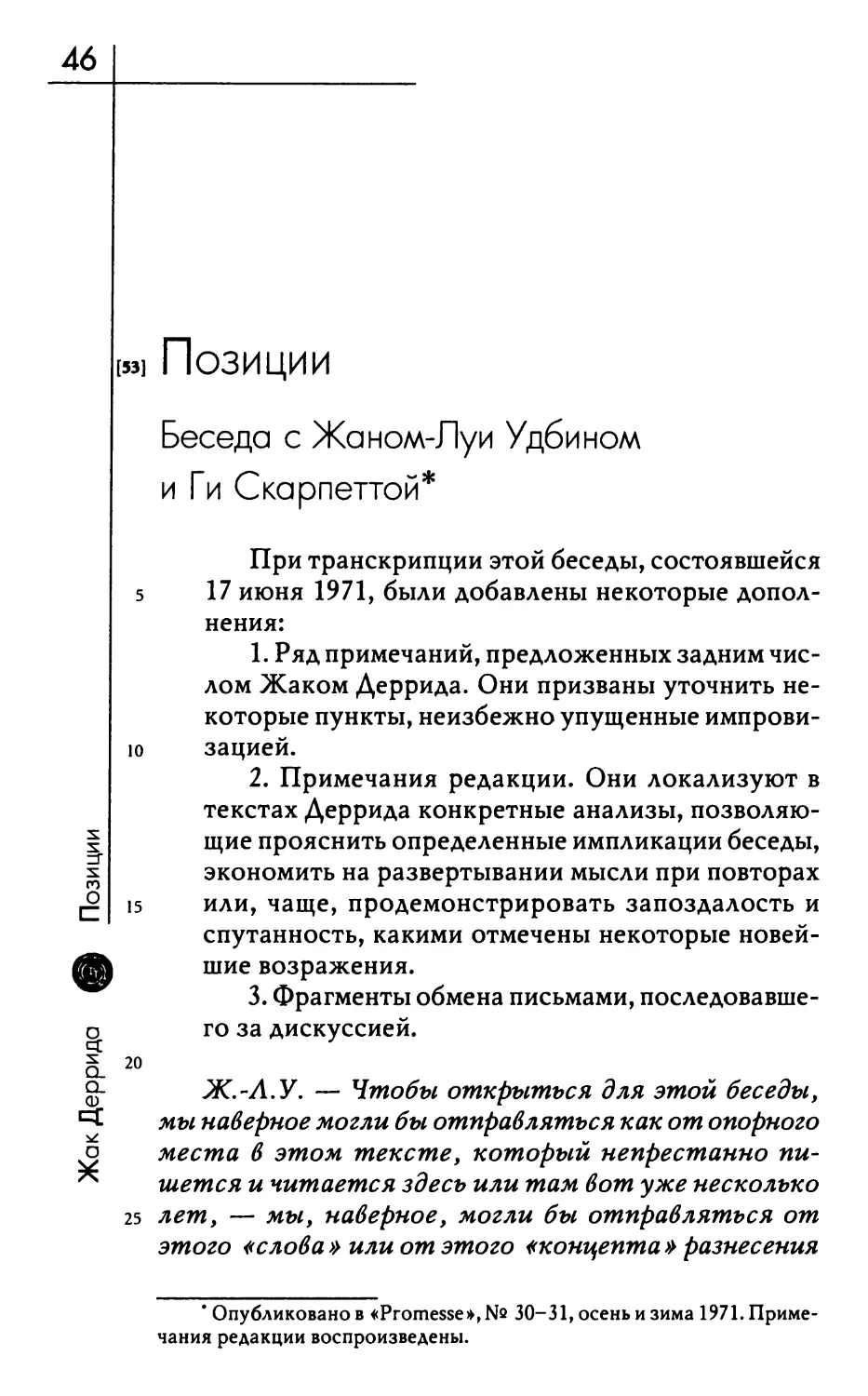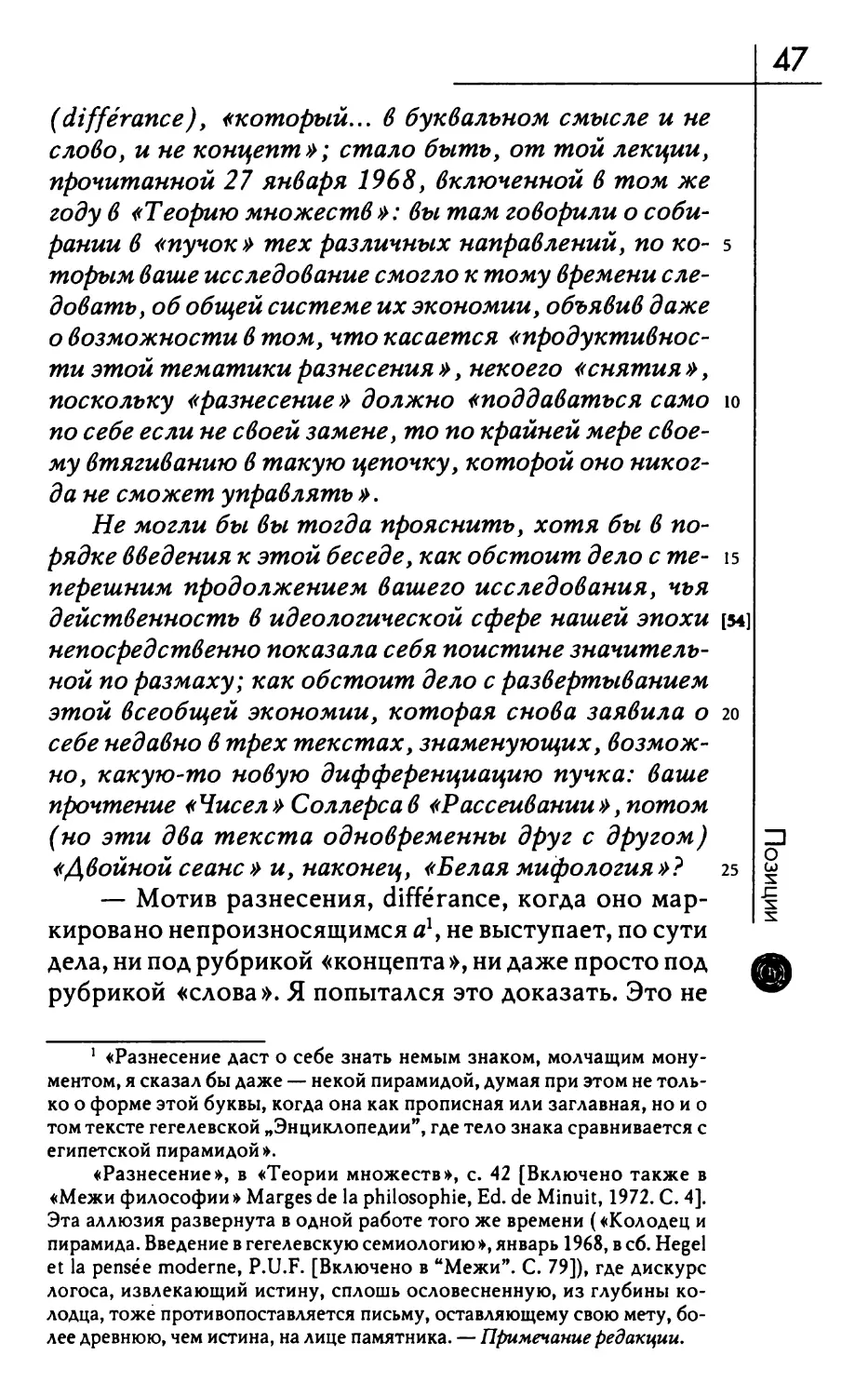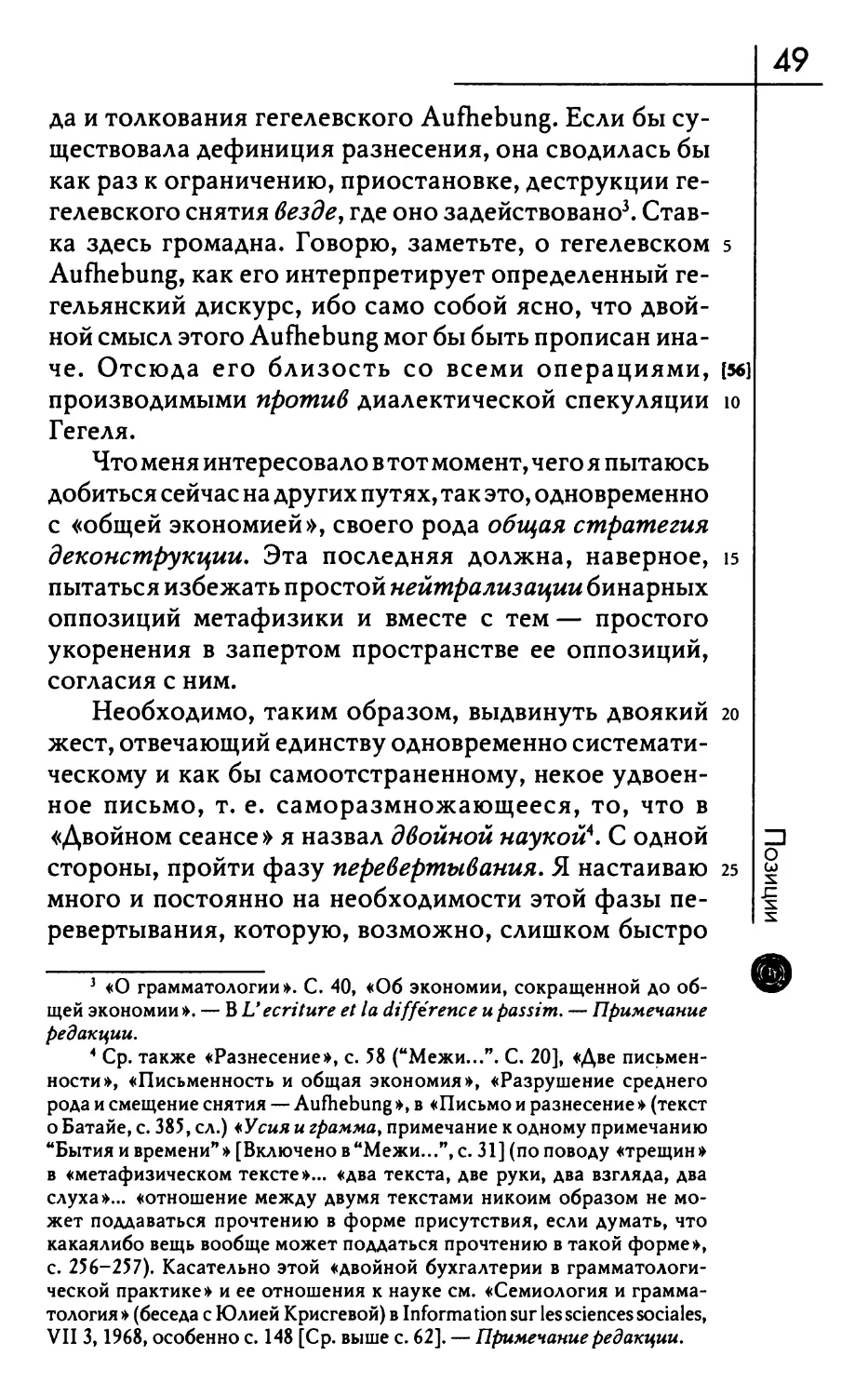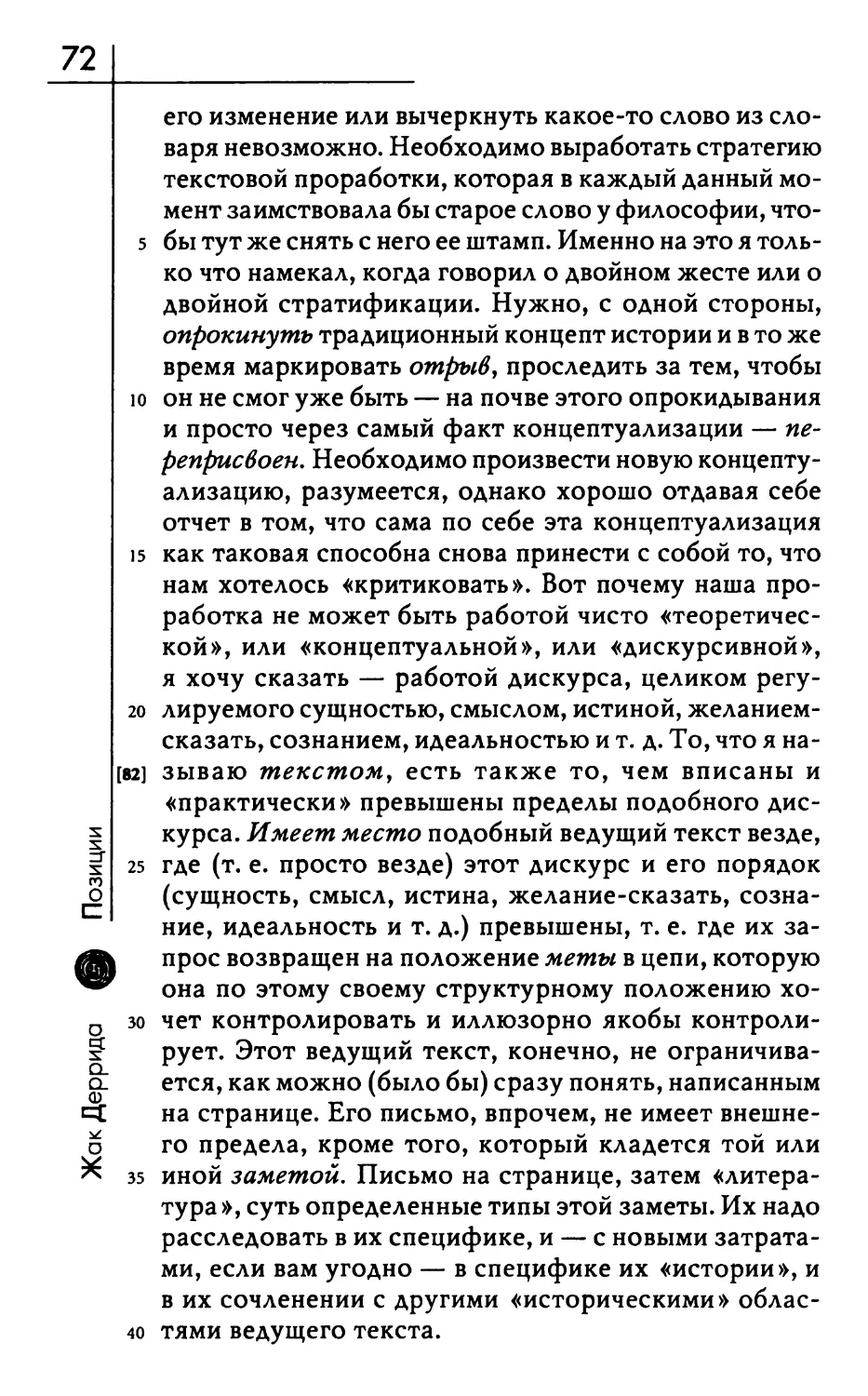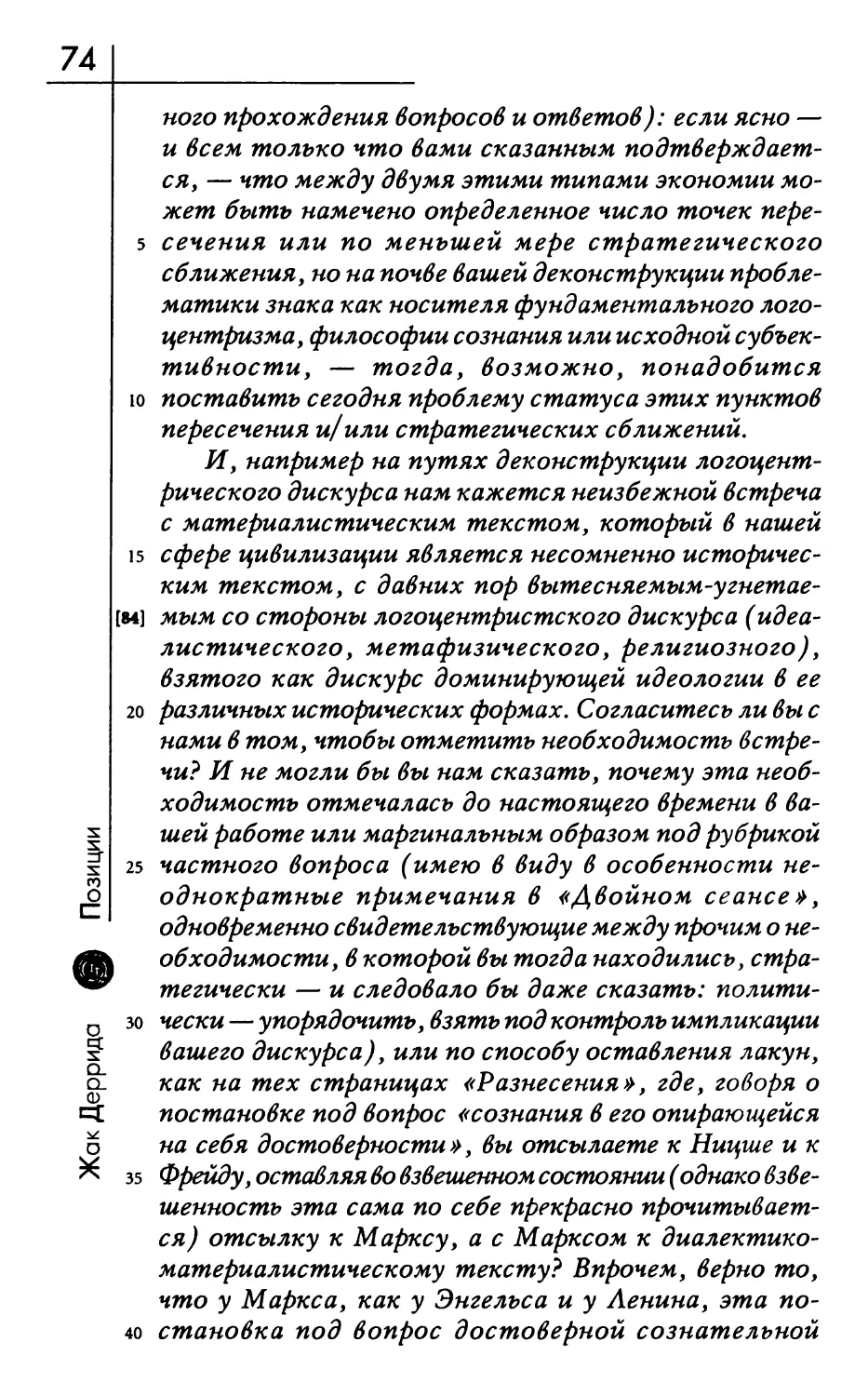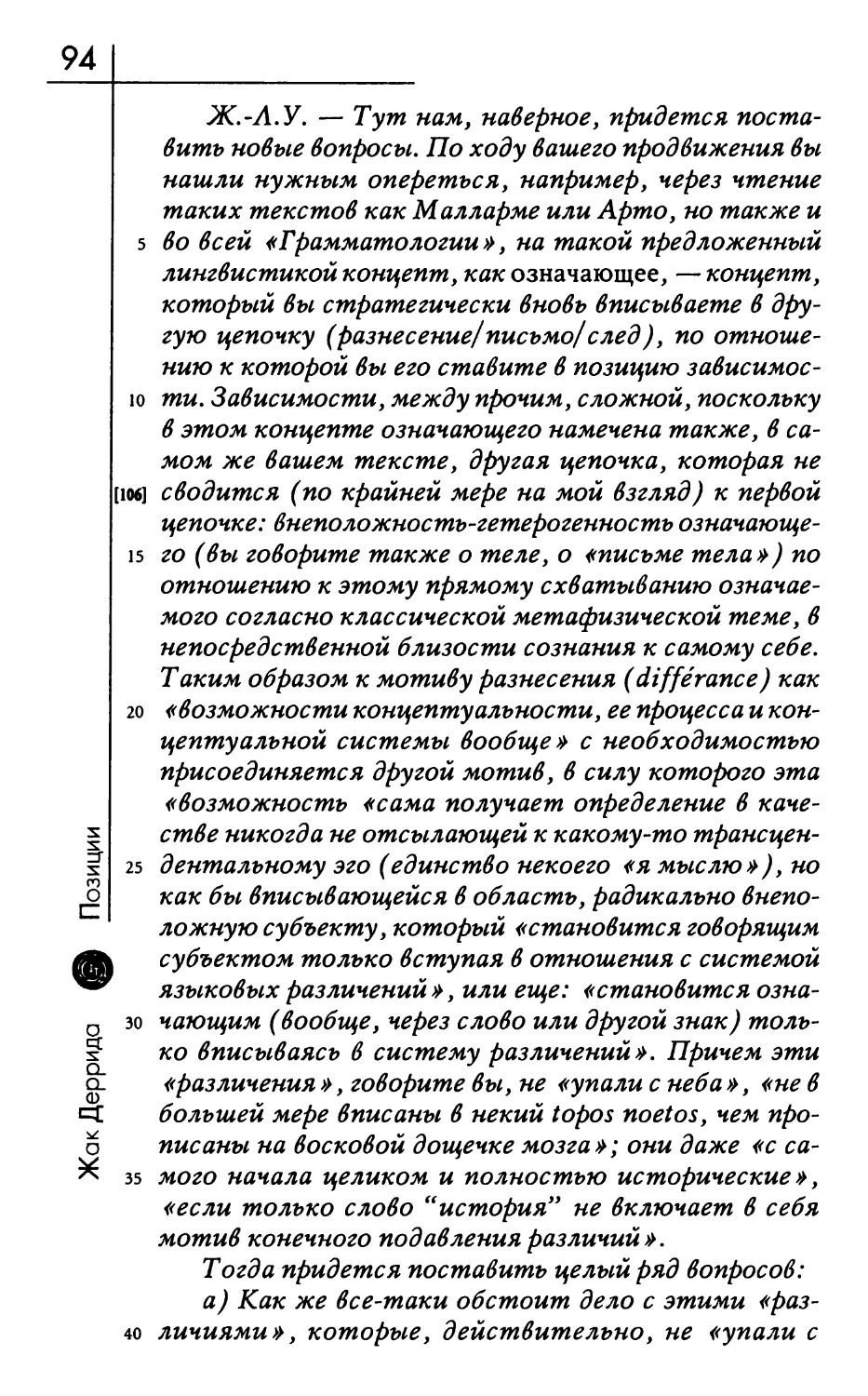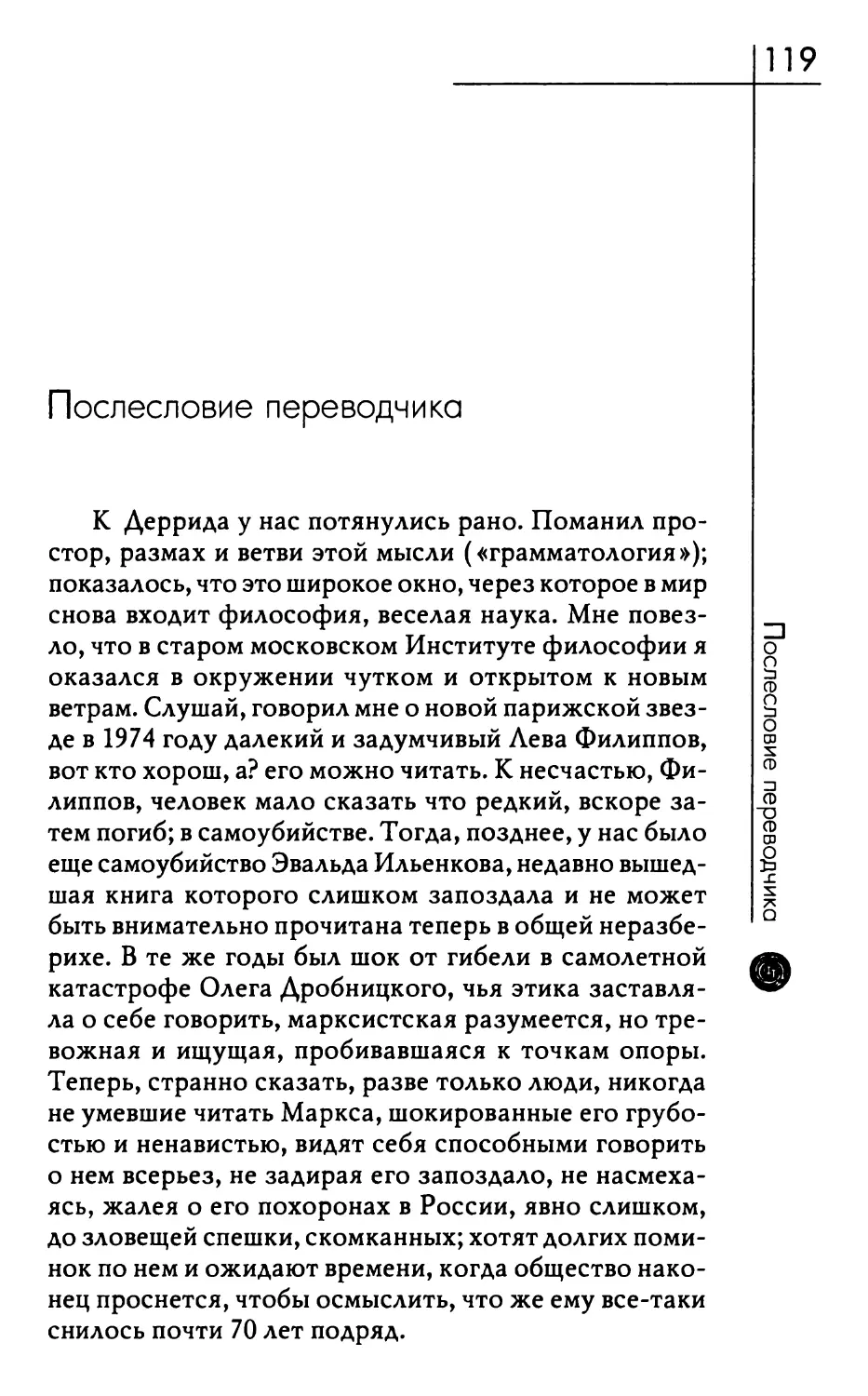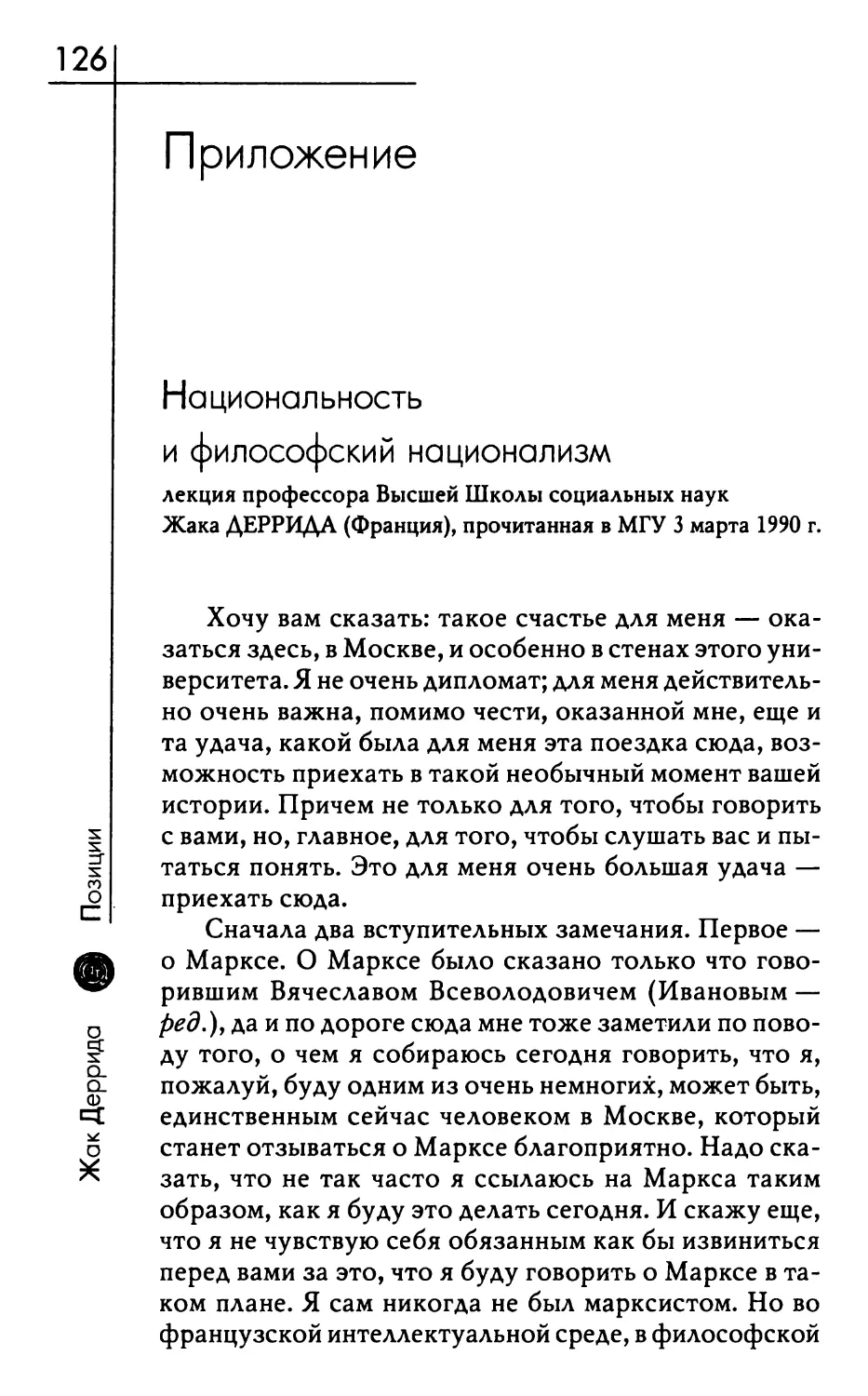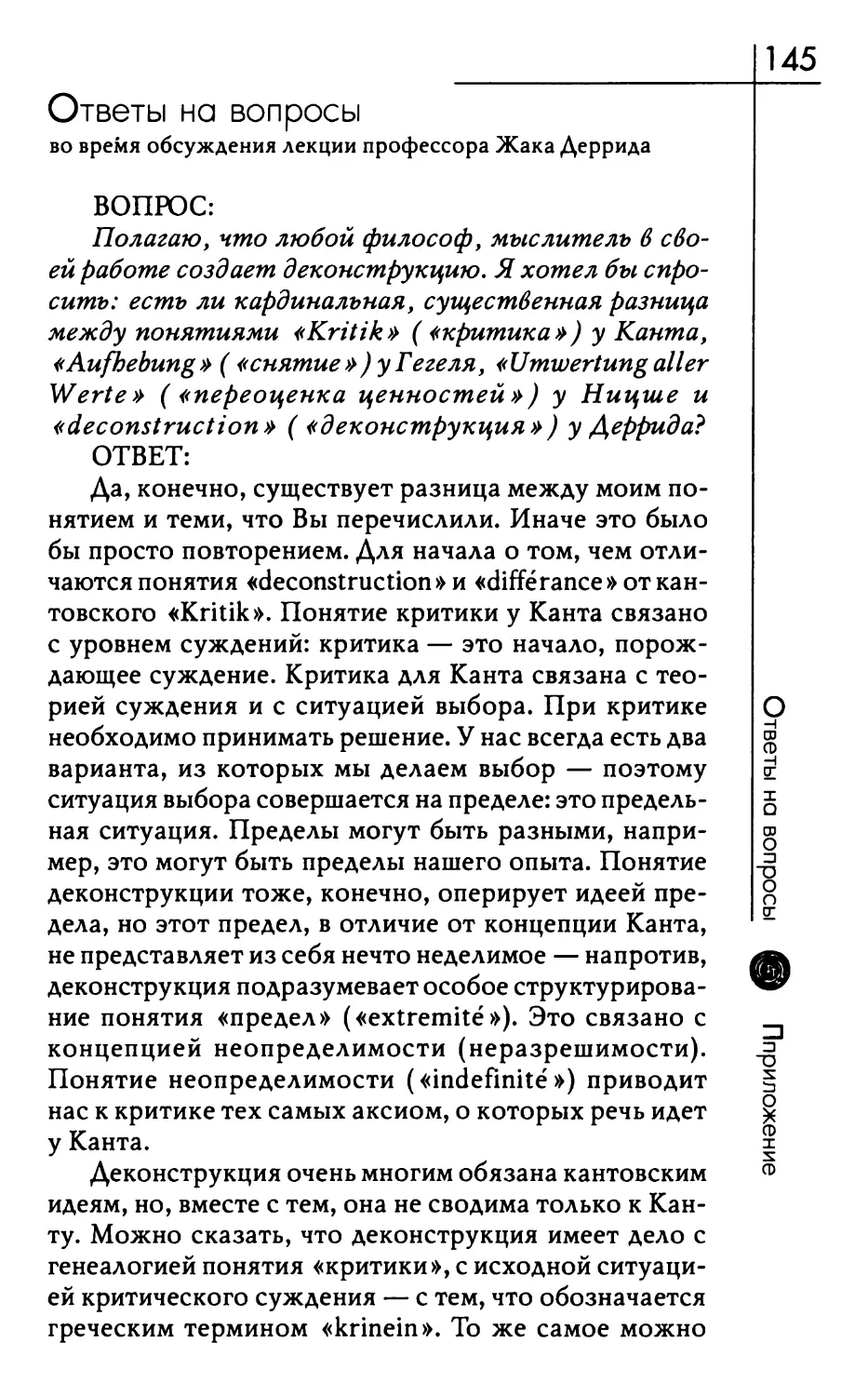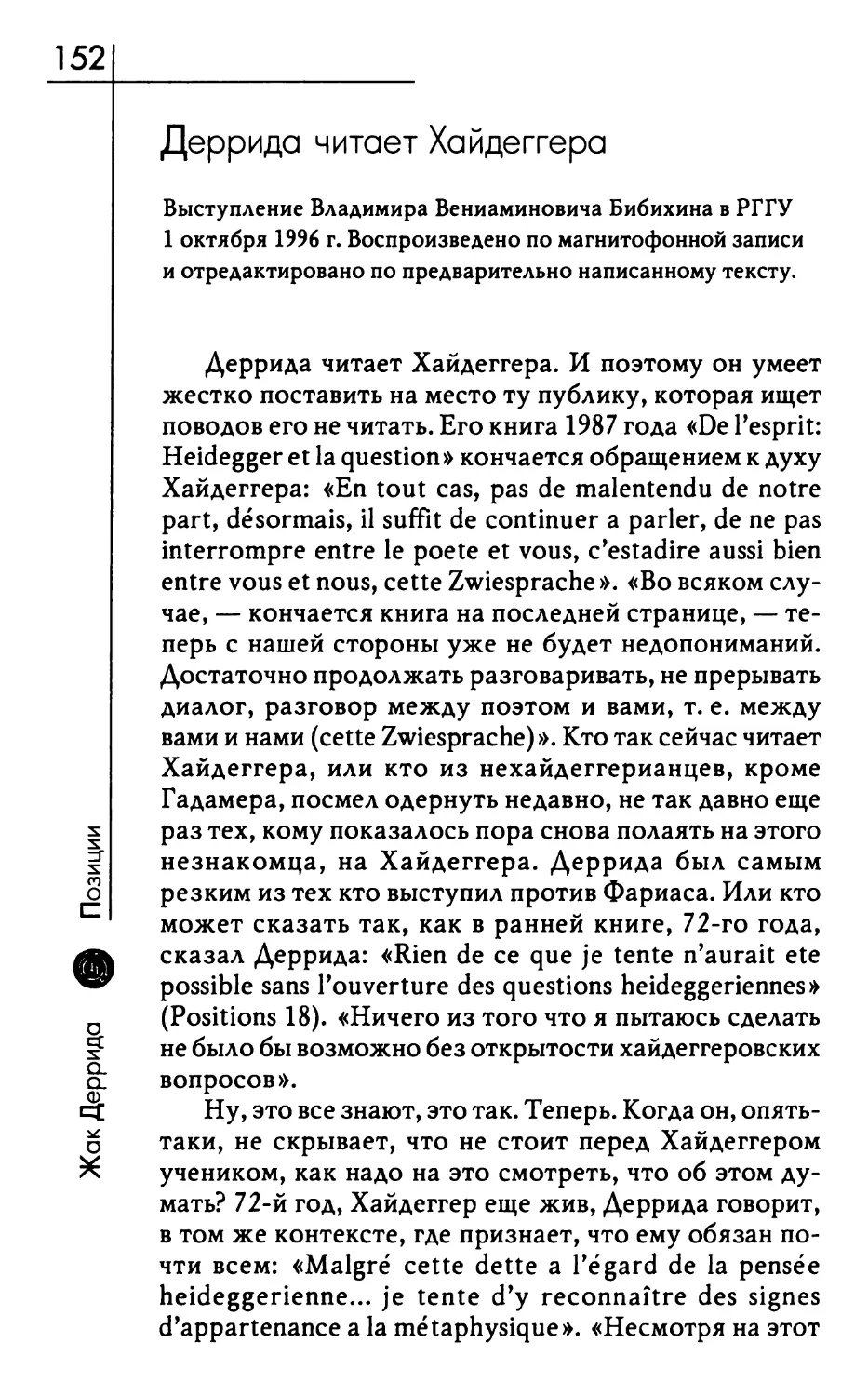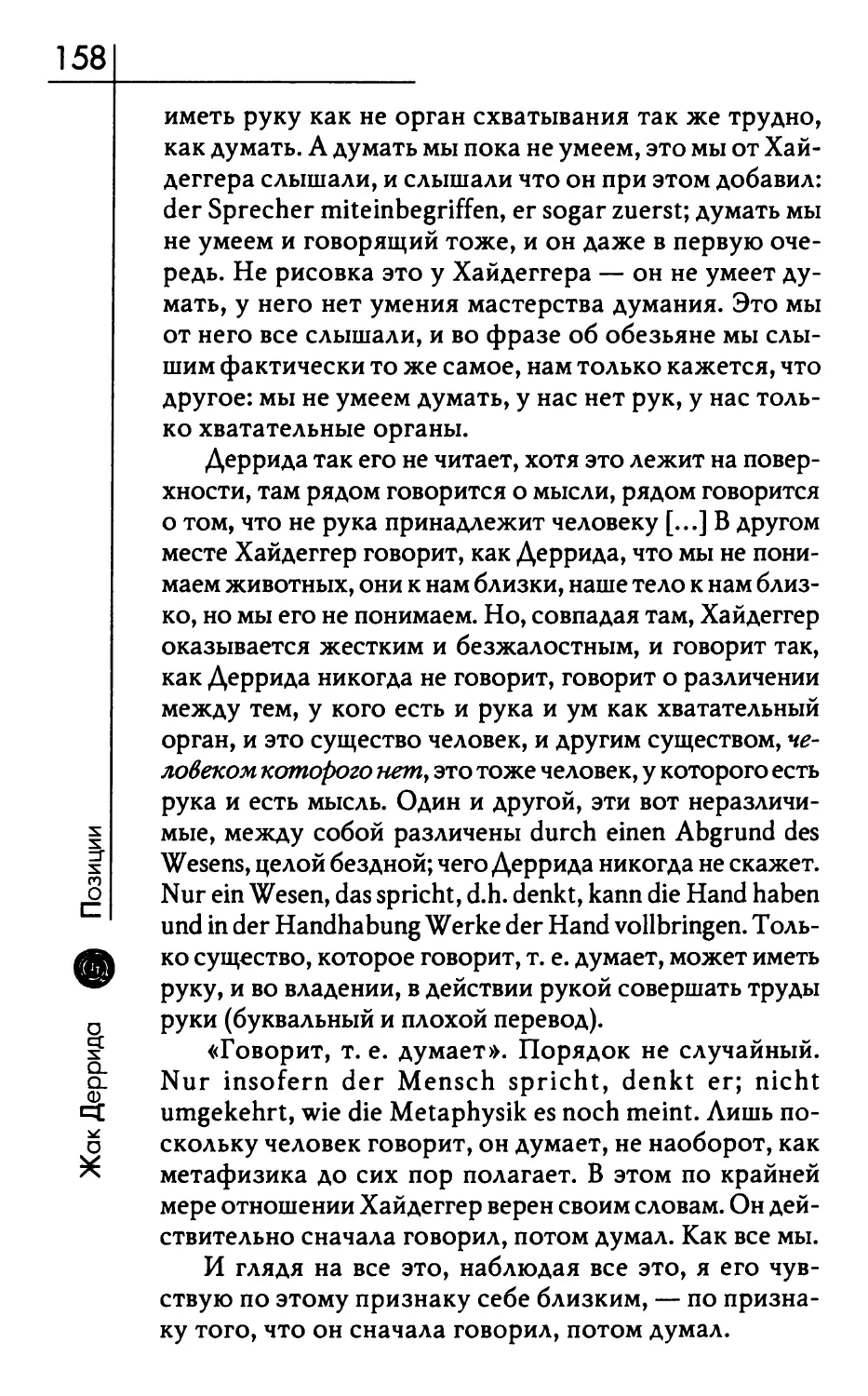Author: Деррида Ж.
Tags: философия психология философские науки философские технологии
ISBN: 978-5-8291-0896-0
Year: 2007
Text
H О Л О Г И И
постструктурализм
ПОЗИЦИИ
Книги серии снабжены нумерацией строк,
предназначенной для удобства цитирования и работы
с текстами книги на семинарах и практических занятиях.
Данная книга имеет также пагинацию оригинального
издания [в квадратных скобках]
Ä
Jacques Derrida
POSITIONS
Entretiens avec Henri Ronse, Julia Kristeva,
Jean-Louis Houdebine, Guy Scarpetta
Derrida J.
POSITIONS
Paris: LES ÉDITIONS DE MINUIT
1972
·■?;·-■
Жак Деррида
позиции
Беседы с Анри Ронсом, Юлией Кристевой,
Жаном-Луи Удбином, Ги Скарпетта
Москва
Академический Проект
2007
УДК 1/14
ББК87
Д36
Научный консультант
Василий Кузнецов
Деррида Ж.
Д36 Позиции / пер. с фр. В.В. Бибихина. — М. :
Академический Проект, 2007. — 160 с. —
(Философские технологии).
ISBN 978-5-8291-0896-0 (Академический Проект)
Эта книга видного мыслителя XX в., мэтра
постструктурализма Жака Деррида (1930-2004) является
знаковой. По мысли самого философа, именно с этого сборника
интервью стоит начать изучение проблематики, которой
посвящены его работы. Не являясь пропедевтикой, текст
позволяет читателю погрузиться в процессе активной
интерпретации в практику деконструкции. Здесь получают
краткую и ясную характеристику ключевые концепты
философии Деррида: «деконструкция», «différance», «письмо»,
«преодоление метафизики». Стилистика непринужденной
беседы делает доступным текст не только специалисту, но и
читателю, не знакомому с постструктуралистскими
стратегиями философствования.
При этом важно не обманываться радостью поспешного
понимания, поскольку существуют специфические
трудности и парадоксы интерпретации, связанные с различием
между отправленным и полученным сообщением. Ведь значение,
являющееся результатом контекстуальных сил, никогда не
может быть строго определенным, и «изъясняться на своем
языке — значит требовать перевода, взывать о переводе».
Для студентов и всех интересующихся современной
философией.
УДК 1/14
ББК 87
© В.В. Бибихин,
перевод с французского, 1996
© Оригинал-макет, оформление.
ISBN 978-5-8291-0896-0 Академический Проект, 2007
Вместо предисловия
В.В. Бибихин. Жак Деррида*
Очень уже широкий теперь след Жака Деррида в
разливе философской публицистики все более
заметен и у нас, особенно после пяти плотных дней его
московских семинаров ранней весной 1990 года.
Отныне Вы ответственны за многое из того, что
происходит в нашей интеллектуальной туманности, писал я
ему недавно; и только что узнал, что свою книгу
«Positions», которую он хочет видеть первой
вышедшей по-русски, он мог бы дополнить диалогом с кем-
то из нашей страны.
Не знаю, что он, всегда внимательный к
переводам своих вещей, сказал бы о вольной и талантливой
русской версии его брошюры, вышедшей в 1987 г. в
парижском издательстве «Женщины» под
непереводимым заглавием "Feu la cendre". Знаю точно, что не
угадал тот, кто вообразил что Жаком Деррида
открывается свобода словарной и синтаксической
ворожбы. Даже усталый Деррида в Москве, где мне не
надоедало слышать каждое его слово, показывал
долгожданное, для всех присутствовавших пока
недостижимое мастерство отчетливой мысли. Все
говоримое взвешивалось. На каких весах?
Мы привыкли, что мыслитель нам объявит свою
тему. Ницше: воля к власти. Мартин Бубер: Я и Ты.
Эмманюэль Левинас: Другой и его Лицо. Деррида не
объявил. От книги к книге у него тянется обдуманная
взвешенность.
Деррида принадлежит не к школе, но к следу Хай-
деггера. Он освоился в его наследстве. Хайдеггеров-
* Текст данного издания публикуется с сохранением авторской
орфографии и пунктуации переводчика. — Ред.
6
екая онтологическая разница, ontologische Differenz,
перепад между бытием (озарением) и сущим
(предметом), казалось бы предполагает порог: здесь одно, там
другое, не так ли? Деррида вслушивается в вещь и в ее
имя, difference. В его корне латинское fero, несу; по-
русски мы тоже говорим, что разные вещи разнесены,
например под разные рубрики. Деррида слышит в
имени существительном глагол, разнесение
продолжающееся и неостановимое. Такое, что не обязательно
иметь пару, чтобы фиксировать противоположность.
Всякое одно, любая черточка, можно сказать, идет в
разнос. Почему во французском словаре под difference
только различие, разность, дифферент (разница в
осадке судна носом и кормой)? Словарь рассудочно
фиксирует статику, когда по сути дела ничто на
наших глазах не равно себе, все беременно другим.
Неужели европейский разум настолько любит схему, что
успокаивается, прочертив ее? Деррида рискует на
дерзкую выходку из тех, что сделали его неугодным
для академического истеблишмента. Он пишет слово
не как оно пишется, а как произносится, différance;
глагол так проглядывает яснее. Пусть читатель услышит
через непроизносимую букву то, что надо было
сделать над собой операцию, чтобы не слышать: что всё
несет; всё идет в разнос раньше, чем мы начинаем
проводить наши различения.
Нельзя то же прочесть у Хайдеггера? Можно; и еще
dRk больше того. Деррида свою задолженность мало скры-
^■^ вает. «Ничего из того, что я пытаюсь сделать, не было
σ бы возможно без откровения хайдеггеровских вопро-
х шаний» (Positions, p. 18). Разворошить в хайдеггеров-
CL ском Ereignis, событии подарок огня — это главное и
|=С во внутреннем диалоге с услышанным в полусне на-
о званием «Feu la cendre». Раньше мысли, раньше экзи-
^ стенции был подарок события. Деррида прав: и в
слове «событие» мы обычно тоже слышим просто факт.
После этой правоты уже не очень важна и пусть
останется личной проблемой Жака Деррида его
неправота в том, что слово «Ereignis» будто бы сплошь и
рядом переводят как такое событие-факт. В школе
7
Хайдеггера, во Франции мало приметной, интенсивно
работающей, его давно передают и через éclair,
молния. Вспомним о правящем Перуне Гераклита. Эта
школа с тревогой следит за расплескиванием хайдег-
геровского огня по пяти континентам. В недавней
рецензии Жерара Геста на последнего Деррида о
вышеназванном диалоге сказано, что у читателя, не
имеющего другой пищи кроме «действенной
философии» (название серии) Жака Деррида, останется во
рту только привкус золы. Только надо ли так
тревожиться? Не всякий огонь быстро гаснет. И самый
долгий жар сохраняется под золой.
Мы хотим видеть у Жака Деррида конец
человеческого пристрастия к гаданию на словесной гуще.
Перетасовывая лексику, люди надеются уловить вещи.
Деррида прекращает эту охоту на динозавра с сачком.
С какой стати мы вообще надеемся, что куда-то
угадаем словом? неужели нам достаточно уловить
читателя? Все равно ведь мы весим не больше, чем наше
слово. Деррида: «Прежде всего прочего я хотел создать
книгу. Книга представитель чего? кто пишет, кому? что
посылается, предназначается, отправляется? Без
всякого желания вызвать удивление и привлечь внимание
собственной таинственностью, мне следует спасая
остатки честности сказать: я не знаю» (La carte postale,
p. 91). По-честному: мы не знаем, почему говорим, что
говорим и для чего. «Кто за ним стоит?» — спросил
как-то обо мне довольно большой начальник. За
нашим словом стоит только наша верность ему. Не
будем внушать себе что где-то на небесах затянутся
узелки, которые мы тут вяжем себе на память. Не будем
надеяться что разговором о золе можно как-то
заговорить почти мгновенное испепеление почти всего
говоримого; не надеется и Деррида. Мы можем только
догадываться, чему не суждено сгореть дотла;
догадывается и он.
Куда несет Деррида? Ум чуткий, трезвый уперся в
вещи, последние, среди которых всякий человек, и мы.
В отличие от нас, он рискованно вышел на сцену
новейшей современности (постмодерна) с ее почти мгно-
венными изданиями, межнациональными семинарами,
небывалой экологией (есть архитектурные проекты
Деррида), тематическими выставками (он такие
устраивал), экспериментальным кино (он в таком
снимался). Кто диктует на такой сцене, действующее лицо
театру или уже наоборот? В одиночку, под великой
тенью, в самом пекле. Зола или огонь — решение
откладывается, взвешивание продолжается в каждой
новой книге, которых у Жака Деррида выходит и до
шести в год. Мы знаем, как грязно и жутко на
публичной сцене. Хайдеггер за жизнь дал два интервью
большим журналам. У Деррида их к 1990 году было уже
больше полусотни.
Всего хуже мы промахнемся, если поспешим с
судом. Если кто дал тебе повод думать, говорить,
спорить — прими, благодари.
2.4.1992
позиции
POSITIONS
Перевод В.В. Бибихина
[7] Уведомление
Эти три беседы, единственные, в каких я когда-
5 либо участвовал, касаются текущих публикаций. Со
стороны моих собеседников, как и с моей, они
несомненно образуют акт активной интерпретации.
Приуроченное, датированное, это — чтение труда, в
который я нахожу себя втянутым: который потому не в
ю большей мере мне собственный, чем здесь —
остановившийся на покой. Такая ситуация тоже отдает себя
для прочтения. Ею продиктованы эти встречи в их
[совершившемся] факте, в их содержании и форме их
высказывания. Никаких модификаций они, стало быть, не
is допускали.
Май 1972
η
Импликации ни
Беседа с Анри Ронсом*
5
— В заключительном примечании к «Письму и
разности » вы заявили: «То, что не выходит за рамки
перестановок одного-единственного вопроса,
несомненно образует единую систему ».Не в равной ли это
мере верно о всей совокупности ваших, книг? Какова
органическая связь между ними?
— Они действительно образуют, но именно как
перестановка и как перестановка одного вопроса,
определенную систему, где-то открытую какой-то
неуловимой подпитке, которая приводит все в действие.
Упомянутое вами примечание напоминало также о
необходимости тех «пробелов», о которых мы знаем,
по крайней мере после Малларме, что во всяком
тексте они «приобретают важность».
— И вместе с тем эти книги не складываются в
одну-единственную Книгу...
— Не складываются. В том, что вы называете
моими книгами, что прежде всего поставлено под вопрос,
так это единство книги и единство «книга», взятое как
кругленькая цельность, со всеми импликациями
такого концепта. А вы знаете, что ими охвачено все целое
нашей культуры, прямо или опосредованно. Коль
скоро подобное закрытие очерчиваетсяу как вы осмели-
* Опубликовано в Lettres françaises, n° 1211, 6-12 décembre, 1967.
Ζ]
з:
s
20
25
2
тесь выступать автором книг, будь то одной, двух или
трех? Дело идет лишь, под этими названиями, о
некоторой текстуальной «операции », если можно сказать,
единой и дифференцированной, чье незавершенное
5 движение не назначает себе никакого абсолютного
начала и, будучи полностью растрачено на чтение
других текстов, все же ни к чему, кроме как к собственно-
|[12] му письму, известным образом не отсылает. Надо
устроиться так, чтобы эти два противоречивых мотива
ίο мыслились вместе. О внутренней организации этих
созданий не получится поэтому дать представление
линеарное, дедуктивное, отвечающее какому-то
«смысловому порядку». Такой порядок сам тоже под
вопросом, даже если, как мне кажется, целая полоса
is или целая сторона моих текстов сообразуется с его
предписаниями, по крайней мере по видимости и
чтобы они в свою очередь оказались вписаны в некую
композицию, им уже не подчиняющуюся.
По-настоящему, вы знаете, надо прежде всего читать и перечитывать
го тех, в след кому я пишу, те «книги», где на полях и
между строк я прорисовываю и разгадываю некий
текст, который одновременно очень похож и совсем
другой, так что я затруднился бы даже по очевидным
причинам назвать его фрагментарным...
25 — Но фактически, если не юридически, с чего
начинать такое чтение?
— Можно брать «О грамматологии » как длинное
âBk эссе, расчленяющееся на две части (спайка между ко-
^" торыми теоретическая, систематическая, а не эмпири-
0 зо ческая), и посреди него можно вшить «Письмо и раз-
х ность ». Грамматология часто к ней прибегает. В этом
о. случае интерпретация Руссо окажется одновременно
et двенадцатой вставкой сборника. И наоборот, можно
о поместить «О грамматологии» посреди «Письма и
^ 35 разности», поскольку шесть первых текстов этой
работы предшествуют, фактически и юридически,
публикации два года назад в «Критике» статей,
предваряющих «О грамматологии»; а пять последних,
начиная с «Фрейда и сцены письма », уже задеты грам-
40 матологическим вскрытием. Но эти вещи не поддают-
1
ся так просто выстраиванию, как вы себе
представляете. Во всяком случае, что оба «тома» вписываются
в середину один другого, это похоже, как вы сможете
заметить, на ту странную геометрию, современника- [13]
ми которой вроде бы являются эти тексты... 5
— А «Голос и феномен»?
— Забыл. Это, возможно, эссе, к которому я
всего больше расположен. Наверное, я смог бы привязать
его как одно длинное примечание к тому или другому
из тех двух работ. «О граматологии » на него ссылает- ю
ся и экономит ему на развертывании. Но в
классической философской архитектонике «Голос » шел бы на
первом месте: располагается в точке, которая по
причинам, здесь объяснению не поддающимся,
представляется юридически решающей; это вопрос о привиле- is
гии голоса и фонетического письма в их отношениях
ко всей истории Запада, какою она поддается
представлению в истории метафизики, причем в ее самой
новейшей, самой критической, самой бдительной
форме: в трансцендентальной феноменологии Гуссерля. 2о
Что такое «хотеть сказать», каковы его исторические
связи с тем, что мы надеемся идентифицировать под
именем «голоса» и как значимость присутствия,
присутствия объекта, присутствия смысла для сознания,
присутствия для самого себя в так называемом живом 25
слове и в самосознании? Эссе, ставящее эти вопросы,
может быть к тому же прочитано как еще одна
сторона (лицевая или оборотная, как хотите) другого эссе,
напечатанного в 1962 введением к «Истокам
геометрии» Гуссерля. Проблематика письма там была уже зо
на месте, как таковая, и связана с нередуцируемой
структурой «разнесения» в ее отношениях к
сознанию, к присутствию, к науке, к истории и к истории
науки, к исчезновению или запозданию истока и т. д.
— Я вас спросил, с чего начинать, а вы заперли ъъ
меня в каком-то лабиринте.
— Все эти тексты, годящиеся, наверное, быть
предисловием, бесконечным, к другому тексту, который [м]
я очень хотел бы однажды иметь силы написать, или
еще эпиграфом к какому-то другому, на который у 40
14
меня никогда не наберется смелости, только то по сути
и делают, что комментируют фразу о лабиринте
шифров, вынесенную в эпиграф в «Голосе и феномене»...
— Это подводит меня к вопросу, который неиз-
5 б ежен при чтении вас, при чтении ваших излюблен-
ных «примеров» (Руссо, Арто, Батай, Жабэ). Это
вопрос отношений между философией и
нефилософией. Что сбивает с самого начала, так это
затруднение с классификациией вашего стиля комментирова-
ю ния. Представляется почти невозможным
определить статус вашего дискурса. Но надо ли
пытаться это сделать? Не скатывается ли сам этот
вопрос внутрь метафизической области?
— Я пытаюсь держаться возле границы философ-
is ского дискурса. Я говорю «границы», а не «смерти»,
потому что я вовсе не верю в то, что привычно
называют сегодня смертью философии (да впрочем и
вообще чего бы то ни было: книги, человека или бога;
тем более что, как всякий знает, умерший сохраняет
го весьма специфическую действенность). Так вот
граница, отталкиваясь от которой философия сделалась
возможной, определилась как эпистеме, наука,
функционирующая внутри системы основополагающих
ограничений, концептуальных оппозиций, вне кото-
25 рых она становится неосуществимой. В моих
прочтениях я поэтому пытаюсь в акте по необходимости
двояком...
— Вы говорите в вашем Фрейде, что пишут
двумя руками...
0 зо — Да, этим двойным приемом, отмеченным в оп-
s ределенных решающих местах жестом стирания, ко-
Q- торое позволяет прочесть выскабливаемое им, насиль-
с£ ственно вписывая в текст то, что пыталось
о распорядиться им извне, я пытаюсь как можно стро-
^ [is] же соблюсти внутреннюю и упорядоченную игру этих
философем или эпистемем, давая им скользить, без их
искажения, вплоть до точки их иррелевантности, их
исчерпания, их закрытия. «Деконструировать»
философию — это будет значить тогда продумать структу-
40 рированную генеалогию ее концептов самым после-
15
довательным, самым вдумчивым образом, но в то же
время глядя от некоторого извне, для нее неустанови-
мого, не поддающегося именованию выявить то, что
эта история могла скрывать или воспрещать, делая
себя историей через это вытеснение, иногда корыст- 5
ное. В этот момент, благодаря этой циркуляции,
одновременно добросовестной и насильственной,
между внутренним и внешним философии — то есть
Запада — возникает определенная текстуальная
работа, приносящая огромное наслаждение. Имеющее ю
свои интересы письмо, позволяющее таким образом
прочитывать философемы — и как следствие все
тексты, принадлежащие к нашей культуре, — в качестве
своеобразных симптомов (слово для меня, конечно,
подозрительное, как я в другом месте объясняю) чего- is
то такого, что не смогло присутствовать в истории
философии, что и нигде не присутствует, поскольку
дело во всем этом предприятии идет о постановке под
вопрос этого заглавного определения смысла бытия
как присутствия, определения, в котором Хайдеггер 2о
умел распознать судьбу философии. И вот можно
последовать за такой трактовкой письма как особо
показательным симптомом от Платона к Руссо, к Соссю-
ру, к Гуссерлю, иногда к самому Хайдеггеру, и а
fortiori — во всех тех новейших дискурсах, часто пло- 25
дотворнейших, которые остаются по сю сторону гус-
серлевских и хайдеггеровских вопросов. Всякий
симптом такого рода с необходимостью и структурно
замаскирован по тем причинам и теми способами,
которые я пытаюсь проанализировать. И если он приот- зо
крывается сегодня, то никоим образом не благодаря
какой-то более или менее изобретательной находке,
инициатива которой может принадлежать тому или
иному лицу. Это следствие определенной тотальной \щ
трансформации (которую нельзя уже больше называть 35
даже «исторической» или «всемирной», потому что
она замахивается и на надежность этих обозначений);
ее можно между прочим проследить в определенных
областях (математическая и логическая
формализация, лингвистика, этнология, психоанализ, политиче- 4о
16
екая экономия, биология, информационная
технология, программирование и т. д.).
— В ваших опытах можно различить по меньшей
мере два смысла слова «письмо»: расхожий смысл,
5 противопоставляющий письмо (фонетическое) речи,
которую оно призвано представлять (но вы
показываете, что чисто фонетического письма не бывает),
и какой-то более радикальный смысл, очерчивающий
письмо вообще, прежде всякой связи с тем, что глос-
ю сематика называет «субстанцией выражения», и
выявляющий общий корень письма и речи. Трактовка
письма в обычном смысле служит показателем или
проявителем подавления, осуществляемого против
архиписьма. Подавления неизбежного, когда остает-
15 ся лишь спросить о его необходимости, формах,
законах. Это (архи)письмо берется внутри целой
цепочки других именований: архислед, сдержанность,
артикуляция, надлом, дополнение и то ваше
разнесение (différance ). Много гадали об «а» в этом слове1.
го Что оно означает ?
— Я не знаю, означает ли оно, или уж если да —
то нечто вроде продуцирования того, что метафизика
называет знаком (означаемое/означающее). Вы
заметили, что это «а» пишется или читается, но его нельзя
25 услышать. Мне прежде всего важно, что разговор —
например, наш вот сейчас — об этом изменении или
этой графической и грамматической агрессии вклю-
dÊk чает неустранимую отсылку к немому вмешательству
^^ написанного знака. Причастие настоящего времени от
σ [17] глагола différer, на основе которого образуется это
§- имя существительное, собирает в себе некую конфи-
Q- гурацию концептов, которую я принимаю за система-
«=£ тическую и нередуцируемую, где каждый концепт
о вступает в действие, вернее, акцентируется, в какой-
^ 35 то решающий момент работы. Во-первых, différance
отсылает к движению (активному и пассивному),
которое заключается в оттяжке, через отсрочку, пере-
1 Деррида пишет вместо принятого diffe'rence непривычное
différance. Произношение при этом не меняется. — Примечание
переводчика.
1
адресование, пролонгацию, отправку, обход,
промедление, откладывание в запас. В этом смысле différance
не имеет какогото предшествующего ему исходного и
неделимого единства присутствующей возможности,
которую я откладывал бы про запас, скажем, издерж- 5
ки, которую я отсрочивал бы на потом из расчета или
по экономическим соображениям. То, чем
оттягивается присутствие, есть, наоборот, то, исходя из чего
присутствие объявлено или желанно в своем
представителе, своем знаке, своем следе... ю
— С этой точки зрения разность (différence)
есть концепт экономический?
— Я сказал бы даже, что это главный
экономический концепт, а поскольку нет экономики и
экономии без оттяжки, то это наиболее общая структура is
экономики, если разуметь под ^тим понятием не
классическую экономику метафизики или классическую
метафизику экономики. Во-вторых, движение
оттягивания, поскольку оно производит различия,
поскольку оно раз-личает, оказывается общим корнем 2о
всех концептуальных оппозиций, размечающих наш
язык, таких как, ограничиваясь лишь немногими
примерами: чувственное/умопостигаемое, интуиция/
значение, природа/культура и т. д. В качестве общего
корня différance, разность-оттяжка, есть также стихия 25
того же (мы отличаем его от тождественного), внутри
которого дают о себе знать эти оппозиции.
В-третьих, différance есть также продуцирование, если
можно еще сказать, этих различий, этой различительнос-
ти, о которых лингвистика, идущая от Соссюра, и все зо
структуральные науки, взявшие ее за модель,
напомнили нам, что в них условие всякого значения и вся- U«!
кой структуры. Эти различия — и таксономическая
наука, например, для которой они могут предоставить
почву, — суть следствия разнесения (différance), они 35
не начертаны ни на небе, ни в мозгу, но это не
означает, что они продуцируются деятельностью какого-либо
говорящего субъекта. С этой точки зрения понятие
разнесения ни чисто структуралистское, ни чисто
генетическое, поскольку подобная альтернатива сама по 4о
18
себе есть «следствие» разнесения. Я сказал бы даже,
но мы, наверное, доберемся до этого позже, что это
не просто концепт...
— Я был также удивлен, увидев, как уже в вашем
5 эссе о «Силе и значении» разнесение (вы только еще
не называли его так) привело вас к Ницше (который
связывает понятие силы с нередуцируемостью
различий), позднее к Фрейду, у которого все понятийные
оппозиции, как вы показываете, подчинены экономии
ю разнесения, наконец и всегда, и главное, к Хайдеггеру.
— Да, главное. Ничего из того, что я пытаюсь
делать, не было бы возможно без открытия хайдеггеров-
ских вопросов. И, прежде всего, раз уж мы должны
здесь проговаривать все очень быстро, без внимания
15 к тому, что Хайдеггер называет разницей между
бытием и сущим, онтически-онтологической разницей,
какая известным образом остается непродуманной
в философии. Однако, несмотря на этот долг по
отношению к хайдеггеровской мысли, или скорее по
го причине этого долга, я пытаюсь распознать в хайдег-
геровском тексте, который, как и всякий другой,
неоднороден, дискретен, не везде на высоте наибольшей
силы и всех последствий его вопросов, я пытаюсь в нем
распознать признаки принадлежности к метафизике
|[19] и к тому, что он называет онто-теология. Хайдеггер,
впрочем, признает, что ему пришлось, что мы всегда
вынуждены заимствовать в экономическом и страте-
/g| гическом плане синтаксические и лексические ресур-
^■^ сы языка метафизики в самый момент ее деконструк-
σ зо ции. Мы должны поэтому работать над распознанием
§■ этих метафизических приемов и непрестанно реорга-
Q- низовывать форму и горизонты вопрошания. И вот,
i=t говоря об этих приемах, окончательная привязка вся-
σ кого различения к онтически-онтологической
разните 35 це — сколь бы необходимой и решающей ни была ее
фаза — мне все еще кажется, странным образом,
увязающей в метафизике. Тогда надо, возможно, в акте
скорее ницшеанском, чем хайдеггерианском, идя до
края этой мысли об истине бытия, открыться такому
40 разнесению (différance), которое еще не определялось
19
бы на языке Запада как разница между бытием и
сущим. Подобный шаг, наверное, невозможен сегодня,
но можно было бы показать, как он
подготавливается. У Хайдеггера прежде всего. В-четвертых,
соответственно, разнесение могло бы провизорно именовать 5
это развертывание различия, в частности, но не
только и не в первую очередь онтически-онтологического
различия.
— Не связана ли у Хайдеггера эта
ограниченность, о которой вы говорите, с известным «фоно- ю
логизмом», как вы вроде бы иногда даете понять ?
— Дело не идет об ограниченности или, во всяком
случае, как всякая ограниченность, она обеспечивает
силу и хватку, и она обладает здесь незаменимой
мощью. Но, пожалуй, известный фонологизм у Хайдегге- is
ра'имеет место, некритическая привилегия, которой он,
как все на Западе, наделяет голос, определенную
«субстанцию выражения». Эта привилегия, последствия
которой немаловажны и систематичны, дает о себе
знать, например, в многозначительном преобладании [м]|
массы «фонических» метафор, в размышлениях об
искусстве, всегда ведущих через примеры, выбор
которых очень характерен, к искусству как «введению
истины в действие ». И вот то удивительное размышление,
путем которого Хайдеггер вникает в исток или суще- 25
ство истины, никогда не ставит под вопрос ее связь с
логосом и с фоникой. Так находит себе объяснение то,
что по Хайдеггеру все искусства развертываются в
пространстве поэмы, которая представляет собой
«существо искусства», в пространстве «языка» и «слова», зо
«Архитектура и скульптура, — говорит он, —
возникают всегда только в просвете, открытом речью и
именованием. Он в них правит и ведет». Так находит
себе объяснение превосходство, в столь классической
манере признаваемое за Дикцией (Dichtung) и за пес- 35
ней, презрение к литературе. «Надо, — говорит
Хайдеггер, — избавить Дикцию от литературы», и т. д.
— В этом последнем замечании дает о себе знать
внимание, которое вы, похоже, постоянно уделяете
известной нередуцируемости письма и «литератур- 40
χ
χ
=г
χ
η
Ο
С
ного» пространства. Именно в этом аспекте ваши
работы часто представляются очень родственными
работам группы Τ ель Кель.
— Я могу сказать во всяком случае, что направле-
5 ние актуальных исследований этой группы, как
всякой аналогичной исследовательской работы, мне
представляется чрезвычайно важным, и эта важность,
похоже, в меньшей мере оценена во Франции чем за
границей, причем, характерный факт, в меньшей мере
ю на Западе, чем в некоторых странах Востока. Если бы
у нас было время, мы могли бы проанализировать
причины этого и задаться вопросом, почему нередуциру-
емость письма и, скажем так, подрыв логоцентризма
дают о себе знать сегодня яснее, чем где-либо в опре-
15 деленном секторе и в определенной форме, которая
обусловлена «литературной» практикой. Но вы
сразу понимаете, почему мне хотелось бы взять это сло-
[21] во в кавычки и от какой двусмысленности надо здесь
избавиться. Эта новая практика предполагает такой
го разрыв с тем, что привязало историю литературных
искусств к истории метафизики...
— Возможно ли преодоление этой метафизики?
Можно ли противопоставить этому логоцентризму
некий графоцентризм? Возможно ли эффективное
25 нарушение той ограды и какою тогда должна быть
природа нарушающего ее дискурса}
— Нет никакого нарушения, если понимать под
ним просто-напросто вселение в какую-то
запредельную метафизике сферу, в некий пункт, который, не
σ зо будем забывать, тоже ведь окажется прежде всего
х пунктом языка или письма. Да, во всех нарушениях и
cl разрушениях мы имеем дело с кодом, к которому, ме-
«=£ тафизика неотвратимо привязана, так что всякий раз-
σ рушающий жест замыкает нас, давая нам там опору,
^ 35 внутри закрытия. Но благодаря работе, которая
ведется по ту и по другую сторону границы,
внутреннее поле модифицируется и происходит
определенное ее нарушение, которое, следственно, нигде не
присутствует в качестве совершившегося факта. Мы
40 никогда не водворяемся внутри нарушения, мы ни-
21
когда не располагаемся где-то вовне. Такое
нарушение предполагает, что граница всегда будет
задействована. И вот та «не-желающая-ничего-сказать-
мысль», которая выходит, ставя их под вопрос, за
пределы желания-сказать и желания-слышать-себя- 5
говорящей, эта мысль, которая начинается в
грамматологии, берет на себя как раз отсутствие всякой
уверенности в оппозиции между внешним и внутренним.
По совершении определенной работы сама
концепция выступания за пределы или нарушения сможет ю
оказаться подозрительной.
Вот почему никогда не стоял вопрос о
противоположении графоцентризма логоцентризму ни вообще
какого-либо центра любому центру. «О
грамматологии» — не защита и иллюстрация грамматологии. [22]|
В еще меньшей мере это реабилитация того, что
всегда называлось письмом. Дело не идет о возвращении
прав, первородства или достоинства письму, о
котором Платон говорил, что оно сирота или пасынок в
противоположность слову, законному и благородно- го
му порождению «отца логоса». Когда пытаешься
разобраться в этом семейном скандале и расследовать
обстоятельства, этические и прочие, всей этой
истории, то не представляешь себе более смехотворной
мистификации, чем подобное морализующее или оцени- гь
вающее переворачивание, отдающее преимущество
или какое-то право старшинства письму. Мне
кажется, что я уже ясно высказался по этому поводу.
«О грамматологии» — название определенного
вопроса: о необходимости науки письма, об условиях его зо
возможности, о критической работе, призванной
открывать тут поле и снять гносеологические преграды;
но вопроса также и о границах этой науки. И эти
границы, на которых я настаивал не в меньшей мере, суть
в равной мере границы классического понятия науки, ъъ
чьи проекты, концепты, нормы фундаментально и
систематически связаны с метафизикой.
— Ив этом именно смысле следовало бы
прочитывать также мотив конца книги и начала письма,
который вы намечаете в «О грамматологии» и ко- 4о
ID
Q
торый не является позитивной или социологической
констатацией.
— Может быть, является немного и этим, на очень
дальнем плане. В той работе оставлено определенное
5 место, юридически, для подобного позитивного
исследования о современных сдвигах в формах
коммуникации, о новых структурах, которые во всех
формализованных процедурах, в области хранения и
переработки информации крупно и систематически
[23] редуцируют долю речи, фонетического письма и
книги. Но мы действительно промахнулись бы, если бы
из того, что носит заглавие «Конец книги и начало
письма», заключили бы о смерти книги и рождении
письма. Страницей раньше начала главы, носящей это
is заглавие, выдвигалось различение между закрытием
и концом. То, что взято закрытием в ограду, может
продолжаться бесконечно. Если только не
довольствоваться чтением одного заглавия, то там заявлено
именно то, что нет никакого конца книги и нет никакого
го начала письма. Та глава показывает как раз, что
письмо не начинается. Отталкиваясь отсюда, если можно
так сказать, ставится даже вообще под вопрос всякое
отыскивание первичного, абсолютного начала,
истока. Письмо, таким образом, не в большей мере может
25 начаться, чем книга — кончиться...
— Это собственно бесконечное движение могло
бы быть чем-то вроде терпеливой метафоры, вашего
исследования.
— Я пытаюсь писать в пространстве (и простран-
0 зо ство), где ставится вопрос говорения и желания-
§■ сказать. Я пытаюсь выписать вопрос: что (такое)
о. хотеть-сказать ? Получается с необходимостью, что в
et подобном пространстве и по путеводной нити такого
о вопроса письмо буквально не-желает-ничего-сказать.
^ 35 Не то что оно абсурдно, той абсурдностью, которая
всегда входит в систему с метафизическим желанием-
сказать. Просто оно пытается, пытает себя, старается
держаться в точке истощения желания-сказать.
Рискнуть ничего-не-желать-сказать — значит вступить в
40 игру, и прежде всего в игру разнесения (différance),
которая делает так, что ни одно слово, никакой
концепт, никакой важный тезис не претендуют на поды-
тожение и организацию, исходя из теологического
присутствия центра, движения различий и их
размещения в тексте. Отсюда, например, цепочка субститу- s
ций, о которых вы только что говорили (архи-след,
архиписьмо, сдержанность, надлом, артикуляция, до- [24]
полнение, разнесение; найдутся и другие) и которые
не остаются просто метонимическими операциями, не
затрагивающими концептуальные тождества, означа- ю
емые идеальности, якобы лишь переназываемые,
пускаемые в оборот. Именно в этом смысле я рискую не-
желать-сказать-нечто такое, что подлежало бы
простому пониманию, что было бы просто делом
понимания. Запутаться в сотнях страниц письма, одно- is
временно упрямого и ускользающего, печатая, как вы
видели, даже свои помарки, вовлекая каждое понятие
в нескончаемую цепочку различений, окружая или
загружая себя такой массой предостережений,
отсылок, примечаний, цитации, коллажей, дополнений, — 2о
это «нежелание-ничего-сказать», вы со мной
согласитесь, мало похоже на безобидное упражнение.
[27] Семиология и грамматология
Беседа с Юлией Кристевой*
— Семиология сейчас строится по модели знака
и его коррелятов: «коммуникация » и «структура ».
Каковы «логоцентрические» и этноцентрические
ограничения этих моделей и в каком смысле они не
ю могут служить основой для системы обозначений,
стремящейся избежать метафизики}
— Все жесты здесь по необходимости
двусмысленны. И если предположить, во что я не верю, будто
в один прекрасный день удастся просто избегнуть
is метафизики, то концепт знака окажется в этом
направлении одновременно тормозом и прогрессом. Ибо
если в своем корне и в своих импликациях он целиком
и полностью метафизический, систематически
сплавленный со стоической и средневековой теоло-
20 гиями, то его проработка и сдвиги, которым он был
σ подвержен — и инструментом которых странным об-
s разом он сам же и был, — произвели эффект раз-грани-
g- чивающий: они позволили вести критику метафизиче-
■=£ ской принадлежности концепта знака, одновременно
σ 25 очертить и расшатать пределы системы, внутри ко-
^ торой этот концепт родился и начал служить, т. е.
вырвать его до определенной степени из его собственной
почвы. Эту проработку надо вести как можно глубже,
но все-таки мы действительно неизбежно наткнемся в
* Опубликовано в Information sur les sciences sociales VII—3 июня
1968.
25
определенный момент на «логоцентрические и
этноцентрические пределы» подобной модели. В тот момент и
придется, возможно, расстаться с этим концептом. Но
этот момент очень трудно определить, и он никогда не
дан в чистом виде. Надо, чтобы все эвристические и 5
критические ресурсы концепта знака были исчерпаны,
причем в равной мере во всех областях и во всех кон- [м]
текстах. Просто неизбежно, чтобы неравномерности
развития (их тут не может не быть) и необходимость
определенных контекстов продолжали делать страте- ю
гически незаменимым обращение к модели, о которой
мы впрочем знаем, что в самый непредвиденный момент
исследования она сработает как препятствие.
Возьмем только один пример. Можно было бы
показать, что семиология соссюровского типа сыграла is
двоякую роль. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, абсолютно ре- ^
шающую критическую роль: ^
1) Она отметила, против традиции, что означаемое о
неотделимо от означающего, что означаемое и озна- о
чающее суть две стороны одного и того же продуци- ю ξ
рования. Соссюр даже эксплицитно отказался сопо- х
ставить эту оппозицию или это «двустороннее Г§
единство» с отношениями души и тела, как всегда де- |
лали. «Часто сравнивали это единство о двух сторо- 9
нах с единством человеческой личности, состоящей из 25 g
тела и души. Это сближение едва ли удовлетворитель- 5
но» («Курс общей лингвистики»).
2) Подчеркивая различительный и формальный 4M
характер семиологического функционирования, пока- ™
зывая, что «невозможно, чтобы звук, материальный зо
элемент, сам по себе принадлежал к языку» и что «в
своем существе оно [лингвистическое означающее]
никоим образом не фонично»; десубстанциализируя
одновременно означаемое содержание и «субстанцию
выражения» — которая, стало быть, уже не есть ни 35
преимущественно, ни исключительно звук, — делая
таким образом из лингвистики просто часть общей
семиологии, Соссюр сильнейшим образом
способствовал повороту против метафизической традиции
концепта знака, от нее же им заимствованного. 4о
26
И вместе с тем Соссюр не мог не утверждать ту же
|[29] традицию в той мере, в какой продолжал
пользоваться концептом знака; из этого, не более чем из любого,
концепта нельзя сделать ни абсолютно нового, ни аб-
5 солютно конвенционального употребления. Всегда
приходится принимать некритическим образом по
меньшей мере часть импликаций, вписанных в его
систему. Есть по крайней мере один момент, когда
Соссюр вынужден отказаться от выведения всех следствий
ίο из начатой им критической работы, и это тот момент,
когда он смиряется с употреблением слова «знак», за
неимением лучшего. Оправдав введение слов
«означаемое» и «означающее», Соссюр пишет: «Что касается
знака, то если мы на него соглашаемся, причина толь-
is ко в том, что мы не знаем, чем его заменить, коль
скоро общеупотребительный язык не позволяет думать
ни о каком другом». И действительно, трудно
усмотреть, как можно было бы отделаться οτ знака, начав с
выдвижения оппозиции означаемое/означающее.
го А «общеупотребительный язык» — вещь не
невинная и не нейтральная. Это язык западной метафизики,
и он несет в себе не просто значительное число
презумпций всякого рода, но, главное, презумпций,
неотделимых и, как ни мало им уделяется внимания, завязанных
25 в систему. Последствия этого можно выявить в соссю-
ровском дискурсе. Вот почему, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ:
1) Поддержание строгого различения — по суще-
jflk ству и по форме — между этими signans и signatum,
^" знак равенства между signatum и концептом1 остав-
О 1 То есть умопостигаемым. Различие между означающим и озна-
s чаемым было всегда репродукцией различия между чувственным и умо-
о; постигаемым. Тем же оно остается и в XX веке, не менее, чем в своих
<1> стоических истоках «Современная структуралистическая мысль отчет-
J· ливо установила это: язык есть система знаков, лингвистика есть со-
σ ставляющая часть науки о знаках, семиотики (или, в терминах Соссю-
X ра, семиологии). Средневековая дефиниция aliquid s tat pro aliquo,
возрожденная в нашу эпоху, показала себя неизменно действенной и
плодотворной. Соответственно конститутивная черта всякого знака
вообще, лингвистического знака в частности, покоится в его двоякос-
ти: «всякая лингвистическая единица двухчастна и обладает двумя
аспектами, один чувственный, а другой умопостигаемый, — с одной
стороны, signans (соссюровское означающее), с другой стороны signatum
(означаемое)» (Якобсон Р. Избранные работы. 1985, с. 41, 62 и др.)
27
ляет формально открытой возможность помыслить [зо]
означаемый концепт в нем самом, в его простом
присутствии для мысли, в его независимости
относительно языка, то есть относительно системы означающих.
Оставляя эту возможность открытой — а она откры- s
та самим принципом оппозиции
означающее/означаемое, то есть самим принципом знака, — Соссюр
перечеркивает критические достижения, о которых мы
только что говорили. Он отдает долг классической
потребности в том. что я предложил называть «транс- ю
цендентальным означающим», которое не отсылает в
себе, в своем существе, ни к какому означающему, не
вписывается в знаковую цепочку и само в
определенный момент уже не функционирует как означающее.
Напротив, с момента, когда мы ставим под вопрос саму is
возможность такого трансцендентального
означаемого и признаем, что всякое означаемое есть также
нечто стоящее в положении означающего2, различение
между означаемым и означающим — самый знак —
становится проблематичным в его корне. Разумеется, ю
это будет операцией, которую надо практиковать с
благоразумием, ибо: а) ей предстоит пройти через
трудную деконструкцию всей истории метафизики,
которая навязала и не перестает навязывать всей се-
миологической науке эту фундаментальную апелля- 25
цию к «трансцендентальному означающему» и к
какому-то независимому от языка концепту;
апелляция эта не навязана извне чем-то вроде «философии», щ
но внушена всем тем, что привязывает наш язык, нашу
культуру, нашу «систему мысли» к истории и системе зо
метафизики; б) речь не идет и о том, чтобы слить
воедино на всех уровнях и непосредственным образом
означающее и означаемое. Невозможность для этой
оппозиции или для этой разности быть радикальной и
абсолютной не мешает ей функционировать и даже 35
оказываться незаменимой в определенных пределах —
очень широких пределах. Например, никакой
перевод без нее не был бы возможен. И, по сути дела,
2 Ср.: *0 грамматологии», с. 106-108. — Примечание редакции
французского издания (далее: «Примечание редакции»).
χ
s
=г
ГО
О
ΙΖ
именно в горизонте абсолютно чистой переводимос-
ти, прозрачной и однозначной, конституировалась
тема трансцендентального означающего. В пределах
его возможности или по крайней мере его кажущейся
5 возможности перевод осуществляет различение
между означающим и означаемым. Но если это
различение никогда не дано в чистом виде, то тем более и
перевод, и понятие перевода придется заменить
понятием трансформации: упорядоченного транс-
ю формирования одного языка другим, одного текста
другим. Мы никогда не будем иметь и, по существу,
никогда не имеем дела с каким-то «переносом»
чистых означаемых, якобы оставляемых в своей
незапятнанной девственности инструментом — или «провод-
is ником » — означающего, из одного языка ç другой или
внутри одного и того же языка.
2) Хотя и признав необходимость вынесения за
скобки звуковой субстанции («Самое существенное в
языке, мы это увидим, посторонне звуковому харак-
20 теру языкового знака»: «В своем существе оно
[языковое означающее] никоим образом не звук»), Соссюр
был вынужден по существенным и существенно
метафизическим причинам дать привилегию слову, всему
тому, что связывает знак с фоне, звуком. Он говорит
25 также о «природной связи » между мыслью и голосом,
[32] смыслом и звуком. Он говорит даже о «мысли-звуке»
(с. 156). Я попытался в другом месте показать, что есть
традиционного в этом шаге и каким необходимостям
он подчинен. Он кончается, во всяком случае, в про-
0 зо тиворечии с критическим мотивом, наиболее интерес-
§■ ным в «Курсе», превращением лингвистики в регуля-
Q- тивную модель, в «патрона» общей семиологии, лишь
ε=Ζ частью которой, юридически и теоретически, должно
ö было бы оказаться языкознание. Тема произвольнос-
35 ти отклоняется от путей, на которых она
плодотворна (формализация), в направлении иерархизирующей
телеологии: «Таким образом, можно сказать, что
совершенно произвольные знаки лучше других
осуществляют идеал семиологического процесса; вот поче-
40 му язык, самая сложная и самая распространенная из
χ
систем выражения, есть также и самая характерная из
всех; в этом смысле лингвистика может стать общим
патроном всей семиологии, хотя язык есть лишь
частная система». Мы обнаруживаем в точности тот же
шаг и те же понятия у Гегеля. Противоречие между 5
этими двумя моментами «Курса » заметно еще по тому,
что в другом месте Соссюр признает: «Не языковая
речь присуща природе человека, но способность
создавать язык, т. е. систему различных знаков... », — т. е.
возможность кода и артикуляции независимо от суб- ю
станции, например, от звуковой субстанции.
3) Концепт знака (означающее/ означаемое) несет
в себе необходимость дать привилегию этой
фонической субстанции и возвысить лингвистику до
«патрона» семиологии. Фоне есть, по сути дела, означающая is
субстанция, которая предстает сознанию как интим-
нейше связанная с мыслью означаемого концепта.
Голос с этой точки зрения оказывается самим сознани- о
ем. Когда я говорю, я не только сознаю себя о
присутствующим при том, что я думаю, но и сознаю [зз] 1
также, что обеспечиваю максимальную близость к s
моей мысли или к «концепту» некоего означающего, "g
которое не проваливается в мир, которое я слышу ера- |
зу по произнесении, которое кажется зависящим от н
моей чистой и свободной спонтанности, не требующим 25 g
применения никакого инструмента, никакого аксес- 3
суара, никакой силы, заимствованной у мира. Не
только означающее и означаемое кажутся сливающимися 4М
в единство, но в этом смешении означающее как бы ™
растворяется, становится прозрачным, чтобы позво- зо
лить концепту предстать самому таким, каков он есть
без отсылки к чему-либо другому кроме своего
присутствия. Внешность означающего предстает
редуцированной. Естественно, опыт этот — обман, но обман,
на необходимости которого сложилась целая струк- 35
тура или целая эпоха; на почве этой эпохи сложилась
семиология, концепты и основополагающие
презумпции которой с большой отчетливостью поддаются
обнаружению от Платона до Гуссерля, проходя через
Аристотеля, Руссо, Гегеля и т. д. 4о
zr
η
О
cz
4) Редуцировать внешнюю сторону означающего
значит исключить все, что в семиотической практике
не психично. Но только привилегия, врученная
фонетическому и языковому знаку, способна
санкционировать тезис Соссюра, согласно которому
«лингвистический знак есть психическая величина, имеющая
две стороны ». Допустив, что этот тезис обладает в себе
строгим смыслом, трудно увидеть, как возможно его
распространение на всякий знак, будь то
фонетически-языковой или нет. Трудно, таким образом, увидеть,
кроме как если сделать фонетический знак
«патроном» всех знаков, как можно вписать общую
семиологию в психологию. Между тем именно это делает Сос-
сюр: «Стало быть, можно представить себе науку,
которая изучала бы жизнь знаков в недрах
социальной жизни; она составила бы часть социальной
психологии и, как следствие, общей психологии; мы на-
[34] зываем ее семиологией (от греческого семейон,
"знак"). Она показала бы нам, из чего состоят знаки,
20 какие законы ими управляют. Поскольку она еще не
существует, невозможно сказать, какою она будет; но
она имеет право на существование, ее место заранее
определено. Лингвистика есть лишь часть этой общей
науки, законы, открываемые семиологией, будут при-
25 ложимы к лингвистике, и эта последняя окажется,
таким образом, привязана к вполне определенной
области внутри совокупности фактов человеческого мира.
Дело психолога определить точное место семиологии ».
Разумеется, современные лингвисты и семиотики
ö зо не остановились на Соссюре или, по крайней мере, на
§■ этом соссюровском «психологизме». Копенгагенская
о. школа и вся американская лингвистика его
откровенен но критиковали. Но если я задержался на Соссюре,
о то не потому лишь, что и сами критикующие его при-
^ 35 знают в нем создателя общей семиологии и
заимствуют у него преобладающую часть своих концептов, но
прежде всего потому, что невозможно критиковать
просто «психологическое» применение концепта
знака; психологизм не дурное применение хорошего кон-
40 цепта, он прописан и предписан в самом концепте зна-
31
ка тем двусмысленным способом, о котором я
говорил вначале. Тяготея над моделью знака, эта
двусмысленность знаменует, таким образом, сам «семиологи-
ческий» проект с органической совокупностью всех
его концептов, в особенности концепта коммуника- ъ
ции, который, по сути дела, предполагает передачу,
призванную переправить от одного субъекта к
другому тождественность некоего обозначенного объекта,
некоего смысла или некоего концепта, формально
позволяющего отделить себя от процесса этой пере- ю
дачи и от операции означивания. Коммуникация
предполагает субъектов (чья идентичность и присутствие
конституируются до операции означивания) и
объекты (обозначаемые концепты, некий помысленный [зз]
смысл, не подлежащий ни формированию, ни, строго is
говоря, трансформированию при передаче
сообщения). А сообщает В некоему С. Через знак
передающий коммуницирует нечто получателю и т. д.
Случай с концептом структуры, вами тоже
приводимый, несомненно более многозначен. Все зависит го
от проработки, в которую он включается. Подобно
концепту знака — и стало быть семиологии, — он
способен одновременно подтвердить и поколебать лого-
центрические и этноцентрические установки. Нам не
надо выбрасывать эти концепты на свалку, да у нас, 25
впрочем, нет и средств это сделать. Надо, наверное,
внутри семиологии трансформировать эти концепты,
стронуть их с места, повернуть против их же
предпосылок, перевключить их в другие цепочки,
мало-помалу видоизменить область проработки и создать зо
таким путем новые конфигурации; я не верю в
решающий разрыв, в единичность «гносеологической
отсечки», как это часто сегодня говорят. Эти отсечки
всегда снова вписываются фатальным образом в старую
ткань, которую надо продолжать расплетать, нескон- 35
чаемо. Эта нескончаемость не инцидент и не
случайность; она существенная, систематическая и
теоретическая. Это никоим образом не отменяет необходимость и
относительную важность определенных разрывов,
появление и определение новых структур... 4о
О
CD
О
о
—ι
ГО
S
—ι
"О
Ω
32
— Что такое «грамма» как «новая структура
неприсутствия»? Что такое «письмо» как
«разнесение»? Каков разрыв, вводимый этими концептами
по отношению к ключевым концептам семиологии —
5 знак (фонетический) и структура? Как понятие
текста замещает в грамматологии лингвистическое и
семиологическое понятие высказывания?
— Редукция письма — как редукция внешней
стороны означающего — шла параллельно с фонологиз-
|[зб] мом и логоцентризмом. Мы знаем, как Соссюр,
проведя традиционную операцию, как ее проводили и
Платон, и Аристотель, и Руссо, и Гегель, и Гуссерль,
и т. д., исключил письмо из области лингвистики —
области языка и речи — как феномен внешней репрезен-
15 тации, одновременно бесполезный и опасный:
«Предмет Лингвистики определяется не комбинацией
написанного слова и произнесенного слова, это
последнее одно составляет ее предмет», «письмо
посторонне внутренней системе [языка]», «письмом скрыт
го облик языка: оно не одеяние, а переряживание ». Связь
письма с языком «поверхностна», «искусственна».
Лишь по «странности» письмо, которое должно было
служить лишь «изображением», «узурпирует главную
роль», и «естественное соотношение извращается».
25 Письмо — это «ловушка», его действие «коварно» и
«тиранично», его преступления чудовищны, это
«тератологические случаи», «лингвистика должна брать
^ь их под наблюдение в особом разделе » и т. д. Естествен-
^■^ но, эта репрезентативистская концепция письма
0 зо («язык и письмо суть две разные знаковые системы;
s единственный смысл существования второго — быть
о. представителем первого») связана с практикой фо-
ct нетически-алфавитного письма, которым, как призна-
о ет Соссюр, он «ограничивает» свое исследование. Ал-
^ 35 фавитное письмо вроде бы действительно
репрезентирует собою речь и, в то же время,
стушевывается перед ней. Собственно говоря, можно было
бы показать, как я попытался сделать, что не
существует чисто фонетического письма и что фонологизм
40 есть в меньшей мере следствие применения алфавита
33
в данной культуре, чем результат известной
репрезентации, известного этического или аксиологического
опыта этого применения. Письмо должно было сту- [37]
шеваться перед полнотой живого слова, в
совершенстве представленного через прозрачность системы его 5
обозначения, непосредственно присутствующего для
субъекта, это слово произносящего, и для того, кто
получает его смысл, его содержание, его значимость.
И вот если мы перестанем ограничиваться
моделью фонетического письма, которой мы даем приви- ю
легию только в силу этноцентризма, и если мы кроме
того извлечем следствия из того факта, что не
существует чисто фонетического письма (из-за
неизбежного размещения знаков в пространстве, пунктуации,
интервалов, неустранимых различий в функциониро- is
вании графем и т. д.), то вся фонологистическая или
логоцентристская логика становится проблематичной.
Ее поле легитимности становится узким и
поверхностным. Такое о-граничивание вместе с тем обязательно,
если мы хотим сколько-нибудь последовательно от- 2о
давать себе отчет в принципе различительности,
каким его привлекает сам Соссюр. Этот принцип велит
нам не только не давать привилегии определенной
субстанции — в данном случае субстанции фонетической,
так называемой временной, — исключая из нее дру- 25
гую — например, субстанцию графическую, так
называемую пространственную, — но даже рассматривать
весь процесс означивания как формальную игру
различений. То есть следов.
Почему следов? и по какому праву вновь вводить зо
грамматику на стадии, когда мы, похоже,
нейтрализовали всякую субстанцию, будь то фонетическую,
графическую или любую другую? Разумеется, дело идет
не о том, чтобы прибегнуть к тому же концепту письма
и просто перевернуть асимметрию, которую мы поста- 35
вили под вопрос. Дело идет о продуцировании нового
концепта письма. Мы можем именовать его грамма или
разнесение. Введение в игру различений предполагает
действительно такие слияния и такие отсылки,
которые препятствуют тому, чтобы в какой-либо момент, в 4о
каком-либо смысле имели место простые элементы,
присутствующие в самих себе и отсылающие лишь к
[за] самим себе. Будь то в порядке устного дискурса или
письменного дискурса, ни один элемент не может
5 функционировать как знак, не отсылая к какомуто
другому элементу i который, в свою очередь, не
остается просто присутствующим. Благодаря такой сцеп-
ленности каждый «элемент» — фонема или графема —
конституируется на основе отпечатывающегося на нем
ю следа других элементов цепочки или системы. Это
сцепление, эта ткань есть текст, продуцирующийся
лишь в порядке трансформации какого-то другого
текста. Ничто, ни в элементах, ни в системе, нигде,
никогда не выступает просто присутствующим или от-
15 сутствующим. Везде, сплошь имеют место только
различения и следы следов. Грамма оказывается тогда
наиболее общим концептом семиологии — которая
становится также грамматологией, — и она подходит
не только для области письма в узком и классическом
го смысле, но и для области лингвистики. Преимущество
этого концепта — при условии его сопровождения
определенным интерпретирующим контекстом, ибо он
не в большей мере, чем любой другой концептуальный
элемент, способен обозначить самого себя и доволь-
25 ствоваться одним собой, — в том, что он коренным
образом нейтрализует фонологизирующую
тенденцию «знака» и действенно уравновешивает его через
высвобождение целой научной области «графической
субстанции» (история и систематика письменностей
ö зо за пределами западного ареала), представляющей не-
х меньший интерес и до сего дня оставляемой в тени или
cl в пренебрежении.
cl Грамма как разнесение, в таком случае, — это
σ структура и движение, которые уже не поддаются ос-
^ 35 мыслению на основе оппозиции
присутствие/отсутствие. Разнесение — это систематическая игра
различений, следов различений, размещения, через которое
элементы соотносятся одни с другими. Это
размещение есть продуцирование, одновременно активное и
[39] пассивное (необычное а в différance указывает на эту
взвешенность между активностью и пассивностью, на
то, что еще не поддается упорядочению и
распределению при помощи этой оппозиции), тех интервалов, без
которых «полноценные» элементы не были бы
означающими, не функционировали бы. Это размещение 5
есть также становление пространства речевой
цепочки — которую именуют временной или линейной;
становление пространства, только и делающее
возможным письменность и всякое соответствие между речью
и письмом, всякий переход от одного к другому. ю
Активность или продуктивность, коннотируемые
необычным а в diffé rance, отсылают к акту порождения
в игре различений. Эти последние не свалились с неба, и
они не вписаны раз навсегда в замкнутую систему, в
статическую структуру, которую могла бы исчерпать не- is
кая синхроническая и таксономическая операция.
Различия суть следствия трансформаций, и с этой точки
зрения тема разнесения несовместима со статическим,
синхроническим, таксономическим, внеисторическим и
т. д. мотивом концепта структуры. Но само собой этот 2о
мотив не единственный в определении структуры, и
продуцирование различений, разнесение, не антиструкту-
ально: им продуцируются систематические и
упорядоченные трансформации, способные до определенной
степени предоставить место для структуральной науки, гь
Концепт разнесения способен даже развернуть
законнейшие принципиальные постулаты «структурализма».
Язык и вообще всякий семиотический код — Сос-
сюром определяемый как «классификации» — суть,
таким образом следствия, но они не имеют своей при- зо
чиной субъект, субстанцию или некое сущее, которые
где-то присутствовали бы и ускользали от движения
разнесения. Поскольку не существует присутствия вне
и прежде семиологического разнесения, то можно
распространить на систему знаков вообще то, что Соссюр ъъ
говорит о языке: «Язык необходим для того, чтобы речь [4о]
могла быть понята и произвела все свое действие; но
речь необходима для того, чтобы институировался
язык; исторически факт речи всегда предшествует».
Здесь имеет место круг, ибо если мы строго различим 4о
О
о
о
о
—\
"В
36
язык и речь, код и весть, схему и ее применение и т. д. и
захотим отдать должное обоим постулатам, как они
высказаны здесь у Соссюра, то не будем знать, откуда
надо начинать и как вообще что-то может начаться,
5 будь то язык или речь. Надо поэтому допустить,
прежде всякого разведения языка/речи, кода/вести и т. д.
(вместе со всем тем, что сюда относится), некое
систематическое продуцирование различения, порождение
системы различий — разнесение — среди следствий
ю которого можно будет со временем, путем
абстрагирования и в согласии с определенными мотивациями,
вычленить лингвистику языка и лингвистику речи и т. д.
Ничто — никакое присутствующее и безразличное
сущее — не предшествует, таким образом, разнесению
15 и раз-мещению. Нет никакого субъекта, который был
бы агентом, автором и хозяином разнесения и с
которым разнесение случалось бы время от времени и
эмпирически. Субъективность — как объективность —
есть следствие разнесения, следствие, вписанное в сис-
20 тему разнесения. Вот почему буква а в différance,
разнесении, напоминает также, что размещение есть
обременение, обход, откладывание, из-за которого
интуиция, восприятие, употребление, одним словом, от-
| ношение к присутствующему, отнесение к присутству-
Щ 25 ющей реальности, к сущему всегда разнесено,
о Разнесено в соответствии с тем же принципом
различения, который гласит, что никакой элемент не функ-
Шк ционирует и не означает, не приобретает и не придает
"^ «смысл » иначе как отсылая к какому-то другому эле-
σ зо менту, прошлому или будущему, внутри экономии
х следов-отпечатков. Этот экономический аспект раз-
Q- [41] несения, допускающий вторжение определенного рас-
c=t чета — неосознанного — в некое силовое поле, неот-
о делим от узко семиотического аспекта. Им
^ 35 подтверждается, что субъект, и прежде всего
сознательный и говорящий субъект, зависит от системы
различений и от движения разнесения; что он не
присутствует и, главное, не присутствует для самого себя до
разнесения; что он при этом не конституируется ина-
40 че как разделяя себя, размещая себя, «овременяясь»,
разнося себя; и что, как говорил Соссюр, «язык
[состоящий только из различий] не является функцией
говорящего субъекта». Как только вводится концепт
разнесения, вместе с тянущейся за ним цепочкой, все
концептуальные оппозиции метафизики, насколько 5
своей конечной точкой отсчета они имеют присутствие
чего-то присутствующего (в форме, скажем,
тождества субъекта, присутствующего при всех своих
действиях, присутствующего глубже всего с ним
случающегося или сбывающегося, присутствующего для себя ю
самого в своем «живом слове », в своих суждениях или
в своих высказываниях, в присутствующих объектах
и актах своего языка, и т. д.), все эти метафизические
оппозиции (означающее/означаемое; чувственное/
умопостигаемое; письмо/речь; речь/язык; диахрония/ is
синхрония; пространство/время;
пассивность/активность и т. д.) становятся иррелевантными. Все они
возвращаются к тому, чтобы в тот или иной момент
подчинить движение разнесения присутствию некой
значимости или некоего смысла, якобы предшествую- 2о
щего разнесению, более первичному чем оно, его
превосходящего и им в конечном счете правящего. Все это
опять же говорит о присутствии того, что выше мы
называли «трансцендентальным означаемым».
— Утверждают, что концепт «смысла» всеми- гь
ологии заметно отличается от
феноменологического концепта «смысла». Каково, однако, их
переплетение и в какой мере се миологический проект [42](
остается внутриметафизическим?
— Правда то, что объем феноменологического зо
концепта «смысл» кажется сначала гораздо более
широким, гораздо менее определенным. Трудно даже
разведать его пределы. Всякий опыт есть опыт
смысла (Sinn). Все, что предстает сознанию, все, что
вообще существует для сознания, есть смысл. Смысл есть 35
сама феноменальность феномена. В своих
«Логических исследованиях» Гуссерль отверг различение
Фреге между смыслом и значением. Позднее это
различение показалось ему полезным; не то что он понимал
его как Фреге, но чтобы маркировать разделение меж- 4о
и
m
О
ду смыслом в его наиболее общем объеме (Sinn) и
смыслом как объектом логического или
лингвистического высказывания, смыслом как значением
(Bedeutung). На этой стадии и могли возникнуть слож-
5 ности, о которых вы упоминаете. Так, например:
1) Гуссерль испытывает необходимость, для
изолирования смысла (Sinn или Bedeutung) высказывания
или интенции значения (Bedeutungs-Intention),
«одушевляющей» высказывание, строго различать между
ю означающей (чувственной) стороной, чью
оригинальность он признает, исключая ее, однако, из своей
логико-грамматической проблематики, и стороной
означаемого смысла (умопостигаемого, идеального,
«духовного»). Наверное, лучше будет процитировать
is здесь место из «Идей I »: «Мы принимаем за точку
отсчета хорошо известное различение между
чувственной и, так сказать, плотской стороной выражения и
его нечувственной, „духовной" стороной. Нам не
нужно входить ни в очень напряженную дискуссию о пер-
20 вой стороне, ни в способ соединения обеих сторон.
[43] Нечего и говорить, что тем самым мы обозначили
наименования немаловажных феноменологических
проблем. Мы будем иметь в виду исключительно
„желание сказать" (bedeuten) и Bedeutung. В своем
25 происхождении эти слова соотнесены только с
языковой областью (sprachliche Sphäre), с областью
„выражения" (des Ausdrückens). Но никак невозможно
избежать, и вместе с тем это важный шаг в области
познания, некоторого семантического расширения
ö зо этих слов и их уместной модификации, которая допу-
х стила бы неким образом их приложение ко всей
о. ноэтико-ноэматической сфере: стало быть ко всем ак-
ct там, будь они переплетены (verflochten) или нет с ак-
о тами выражения. Так мы сами постоянно говорили, во
^ 35 всех случаях интенциональных переживаний, о
„смысле" (Sinn), слове в общем-то равносильном „значению"
(Bedeutung). Заботясь о точности, мы резервируем за
словом Bedeutung прежнее понятие, особенно в
словосочетании „логическое" или „экспрессивное значе-
40 ние". Что касается слова „смысл", мы продолжим при-
менять его в самом широком его объеме». Таким
образом, будь он «означаемый» или «выраженный» или
нет, будь он «переплетен» с процессом означивания
или нет, «смысл» есть некая идеальность,
умопостигаемая или духовная, которая при случае способна 5
соединяться с чувственной стороной означающего, но
сама по себе не имеет в этом никакой надобности. Ее
присутствие, ее смысл или суть ее смысла представи-
мы вне этого переплетения, коль скоро феноменолог,
подобно семиотику, претендует на то, чтобы иметь ю
дело с чистым единством, со строго
идентифицируемой стороной смысла или означаемого.
2) Этот слой чистого смысла или
означаемого отсылает, у Гуссерля эксплицитно, в
семиотической практике по крайней мере имплицитно, is
к слою доязыкового или досемиотического (до-
экспрессивного, говорит Гуссерль) смысла, чье
присутствие якобы мыслимо до и прежде работы
разнесения, до и прежде процесса или системы [44]
означивания. Эта последняя якобы является просто 2о
чтобы вывести смысл на свет, перевести, перенести
его, сообщить его, воплотить, выразить и т. д.
Такой смысл — который тогда в обоих случаях есть
смысл феноменологический и в конечном счете все
то, что исходно дано сознанию в воспринимающей 25
интуиции — не сможет поэтому с самого начала
оказаться в положении означающего, быть вплетенным
в ткань отношений и различий, делающую из него
сразу отсылку, след, грамму, раз-мещение.
Метафизика всегда заключалась, это можно доказать, в зо
желании вырвать присутствие смысла, под этим или
другим именем, у разнесения; и всякий раз, когда
люди рассчитывают жестко отсечь или изолировать
какую-то область или какой-то слой чистого
смысла или чистого означаемого, то они делают тот же ъъ
самый жест. А каким образом семиотика — в
качестве таковой — могла обойтись просто без всякого
обращения к тождественности означаемого? Тогда
начинают налаживать отношение между смыслом и
знаком или между означаемым и означающим, от- 4о
zr
го
О
CZ
ношение внешнего характера: вернее, означающее,
как у Гуссерля, становится овнешнением (Äußerung)
или выражением (Ausdruck) означаемого. Язык
определяется как выражение — вынесение вовне
5 интимности внутреннего, — и мы снова встречаемся
со всеми трудностями и презумпциями, о которых
только что говорили по поводу Соссюра. Я
попытался в другом месте указать на последствия этого,
привязывающие всякую феноменологию к этой при-
ю вилегии выраженияj к исключению «указывания» из
сферы чистого языка (из «логичности» языка), к
отданию привилегии по необходимости голосу и т. д.,
и все это — начиная с «Логических исследований»,
[45] с этого замечательного проекта «чистой логической
is грамматики », которая при всем том остается
гораздо более важной и более строгой, чем все проекты
«всеобщей рациональной грамматики»
французских 17-го и 18-го веков, на которые сейчас
ссылаются некоторые современные лингвисты.
го — Если язык всегда «выражение» и в качестве
такового его закрытость доказана, то в какой мере
и в практике какого типа этот характер
выражения может быть преодолен? В какой мере
невыражение способно оказаться означающим? Не ока-
25 жется ли сама грамматология некой «семиологией »
без элемента выражения и на базе скорее логико-
математической, чем лингвистической нотации?
— Меня подмывает ответить здесь по видимости
противоречивым образом. С одной стороны, никогда
σ зо нельзя просто взять и выйти за пределы выражения,
х потому что невозможно свести на нет это следствие
а. разнесения, структуру простой оппозиции внутри-вне,
«=t и этот эффект языка, который подталкивает его к
о представлению самого себя как вы-разительного пред-
35 ставления, как перевода вовне того, что
конституировалось внутри. Представление языка как «выражения»
не есть случайный предрассудок, это род структурной
ловушки, того, что Кант назвал бы
трансцендентальной иллюзией. Она видоизменяется в зависимости от
40 языков, эпох, культур. Нет никакого сомнения, что
О
41
западная метафизика составляет ее мощную
систематизацию, но думаю, что было бы слишком большой и
неразумной поспешностью закреплять тут за Западом
какую-то исключительность. С другой стороны, и
наоборот, я сказал бы, что если невозможно просто ъ
взять и раз навсегда выйти за пределы выражения, то
выраженчество по сути дела всегда уже превзойдено,
хотят люди этого или нет, знают они это или нет. В той
мере, в какой то, что называется «смыслом»
(подлежащим «выражению»), заранее уже сплошь прониза- ю
но тканью различений, в той мере, в какой уже имеет
место текст, сетка текстуальных отсылок к другим
текстам, некая текстовая трансформация, в которой вся- [4б]|
кий «член», якобы «простой», отмечен следом какого-
то другого, мнимая внутренность смысла уже сплошь is
проработана его же собственным внешним. Она
всегда уже выносит себя вовне себя. Она всегда уже
разнится (от самой себя) прежде всякого акта
выражения. И только на этом единственном условии она
может составить определенную синтагму или опреде- 2о
ленный текст. Только на этом единственном условии
она может быть «означающей». С этой точки зрения
не следовало бы, наверное, задаваться вопросом,
в какой мере не-выразительность способна быть
означающим. Только не-выразительность может быть оз- 25
начающей, потому что по всей строгости нет
означивания вне синтеза, синтагмы, разнесения и текста.
И понятие текста, продуманное во всех его
импликациях, несовместимо с однозначным понятием
выражения. Разумеется, когда мы говорим, что только текст зо
бывает означающим, то мы уже видоизменили смысл
означивания и знака. В самом деле, если понимать
знак в его наиболее жесткой классической
закрытости, то придется сказать противоположное:
означивание есть выражение; текст, который ничего не выра- ъъ
жает, незначащ, и т. д. Грамматология как наука о
текстовости оказывается тогда «семиологией» без
выражения только при условии трансформации
концепта знака, отрывающей его от прирожденной
привязки к выражению. 4о
Последняя часть вашего вопроса еще более
трудна. Ясно, что сдержанность, даже сопротивление
против логико-математической системы обозначений
всегда было печатью логоцентризма и фонологизма,
5 насколько они господствовали в метафизике и в
классических семиологических и лингвистических
проектах. Критика нефонетического математического
письма (например лейбницевского проекта
«универсальной характеристики») у Руссо, Гегеля и др. неслу-
о чайным образом повторяется у Соссюра, у которого
она идет рука об руку с подчеркнутым предпочтени-
[47] ем естественных языков (ср. «Курс...»).
Грамматология, которая порвала бы с этой системой презумпций,
должна будет поэтому дать свободу математизации
is языка, а также констатировать, что «практика науки
никогда не прекращала оспаривать империализм
Логоса, например, обращаясь, издавна и во все
возрастающей мере, к нефонетическому письму»3. Все, что
неизменно связывало логос с фоне, оказалось ограни-
20 чено математикой, прогресс которой теснейшим
образом привязан к практике нефонетической записи.
Касательно этого принципа и этой
«грамматологической» задачи нет, мне кажется, никакой возможности
сомнения. Однако распространение математических
25 нотаций и вообще формализация письма должна быть
очень медленной и очень разумной, по крайней мере
если мы хотим, чтобы она действительно захватила
области, до сих пор из нее изъятые. Критическая
проработка «естественных» языков средствами тех же
0 зо «естественных » языков, настоящая внутренняя транс-
s формация классических систем нотации, системати-
о. ческая практика взаимообмена между языками и пись-
с£ менностями «естественными» должна была бы, мне
о кажется, подготовлять подобную формализацию и со-
^ 35 путствовать ей. Задача бесконечная, потому что
всегда будет по существенным причинам невозможно
абсолютно редуцировать естественные языки и
нематематические системы нотации. Не надо также до-
3 «О грамматологии», с. 12. — Примечание редакции.
верять «наивности» облика формализма и математиз-
ма, одна из второстепенных функций которых была в
метафизике, не забудем этого, функцией восполнения
и подтверждения логоцентрической теологии,
которую они могли, с другой стороны, оспаривать. Так, 5
у Лейбница проект универсальной характеристики,
математической и не-фонетической, неотделим от мета- [4в]
физики простого первоначала и тем самым от
существования божественного разума4, божественного
логоса. Действительный прогресс математической ю
нотации идет, таким образом, рука об руку с
деконструкцией метафизики, с глубоким обновлением самой
математики и всей концепции науки, моделью
которой всегда была математика.
— Если постановка знака под вопрос ставит \ъ
под вопрос саму научность, то в какой мере
грамматология является или не является «наукой"?
Считаете ли вы, что некоторые семиотические труды,
и если да, то какие, сближаются с
грамматологическим проектом? го
— Грамматология должна деконструировать все
то, что связывает концепты и нормы научности с онто-
теологией, с логоцентризмом, с фонологизмом. Это
работа громадная и нескончаемая, которая должна
постоянно избегать того, чтобы разрушение классичес- 25
кого проекта науки снова соскальзывало в донаучный
эмпиризм. Это предполагает своего рода двойную
бухгалтерию в грамматологической практике: надо
одновременно выйти из метафизических позитивизма и
сциентизма — и акцентировать то, что в фактической зо
научной работе способствует ее избавлению от мета-
4 «Но в настоящий момент мне достаточно отметить, что
основания, на которых строится моя характеристика, суть также основания
доказательства существования Божия; ибо простые смыслы суть
элементы характеристики, а простые формы суть источник вещей. И я
утверждаю, что все простые формы совместимы между собой. Это
тезис, представить должное доказательство которого я не сумею, не
объяснив подробно основания характеристики. Но если его принять, то из
него следует, что природа Бога, заключающая в себе все простые
формы, взятые в абсолютном смысле, возможна. А выше мы доказали, что
Бог существует, если только он возможен. Следовательно, он
существует. Что и требовалось доказать». (Письмо к принцессе Елизавете, 1678.)
физических гипотез, тяготеющих от самых ее истоков
[49] на ее определении и ее движении. Надо прослеживать
и консолидировать то, что в научной практике всегда
уже начинало выходить за логоцентрическое закрытие.
5 Вот почему нет простого ответа на вопрос, является ли
грамматология «наукой». Я сказал бы одним словом,
что она включает и о-граничивает науку, она должна
дать нормам науки свободно и строго
функционировать в своем собственном письме; еще раз, она марки-
ю рует и в то же время расшатывает границу,
замыкающую поле классической научности.
По той же причине нет такой научной
семиотической проработки, которая не служила бы
грамматологии. И можно будет всегда повернуть против ме-
15 тафизических презумпций того или иного
семиотического дискурса грамматологические
мотивы, порождаемые в нем наукой. Именно
отталкиваясь от мотива формалистической различительности,
присутствующего в «Курсе» Соссюра, можно крити-
20 ковать психологизм, фонологизм, исключение
письма, в неменьшей мере там присутствующие. Точно так
же в глоссематике Ельмслева критика соссюровско-
го психологизма, нейтрализация субстанций
выражения — и следовательно фонологизма, — «структу-
25 рализм», «имманентизм», критика метафизики,
тематика игры и т. д., если извлечь отсюда все
последствия, работали бы на исключение целой системы
наивно применяемых метафизических концептов
^* (пара выражение/содержание в традиции пары оз-
σ зо начающее/означаемое; оппозиция форма/субстан-
5 ция, прилагаемая к каждому из предыдущих членов:
о. «эмпирический принцип» и т.д.)5 Можно сказать а
ι=ί priori, что во всяком тезисе и во всякой системе се-
σ миотического исследования — и вы лучше меня су-
^ [50] меете привести тут более актуальные примеры —
метафизические презумпции сожительствуют с
критическими мотивами. И это благодаря
единственно тому факту, что они живут до определенной чер-
5 «О грамматологии*, с. 83, ел. — Примечание редакции.
45
ты в одном и том же языке или, скорее, в одном и том
же языке-речи. Грамматологию надо бы, наверное,
считать не столько еще одной наукой, новой
дисциплиной, наделенной новым содержанием, новой
отчетливо очерченной областью, сколько бдительной 5
практикой этого разделения внутри текстов.
[53] Позиции
Беседа с Жаном-Луи Удбином
и Ги Скарпеттой*
При транскрипции этой беседы, состоявшейся
5 17 июня 1971, были добавлены некоторые
дополнения:
1. Ряд примечаний, предложенных задним
числом Жаком Деррида. Они призваны уточнить
некоторые пункты, неизбежно упущенные импрови-
ю зацией.
2. Примечания редакции. Они локализуют в
текстах Деррида конкретные анализы,
позволяющие прояснить определенные импликации беседы,
экономить на развертывании мысли при повторах
is или, чаще, продемонстрировать запоздалость и
спутанность, какими отмечены некоторые
новейшие возражения.
3. Фрагменты обмена письмами, последовавше-
σ го за дискуссией.
cl
S. 20
g- Ж.-Л.У. — Чтобы открыться для этой беседы,
^ мы наверное могли бы отправляться как от опорного
σ места в этом тексте, который непрестанно пи-
^ гиется и читается здесь или там вот уже несколько
25 лет, — мы, наверное, могли бы отправляться от
этого «слова » или от этого «концепта » разнесения
* Опубликовано в «Promesse», № 30-31, осень и зима 1971.
Примечания редакции воспроизведены.
(différance), «который... в буквальном смысле и не
слово у и не концепт »; стало быть, от той лекции,
прочитанной 27 января 1968, включенной в том же
году в «Теорию множеств » : вы там говорили о
собирании в «пучок» тех различных направлений, по
которым ваше исследование смогло к тому времени
следовать, об общей системе их экономии, объявив даже
о возможности в том, что касается
«продуктивности этой тематики разнесения », некоего «снятия »,
поскольку «разнесение » должно «поддаваться само
по себе если не своей замене, то по крайней мере
своему втягиванию в такую цепочку, которой оно
никогда не сможет управлять».
Не могли бы вы тогда прояснить, хотя бы в
порядке введения к этой беседе, как обстоит дело с
теперешним продолжением вашего исследования, чья
действенность в идеологической сфере нашей эпохи
непосредственно показала себя поистине
значительной по размаху, как обстоит дело с развертыванием
этой всеобщей экономии, которая снова заявила о
себе недавно в трех текстах, знаменующих,
возможно, какую-то новую дифференциацию пучка: ваше
прочтение «Чисел» Соллерсав «Рассеивании», потом
(но эти два текста одновременны друг с другом)
«Двойной сеанс» и, наконец, «Белая мифология»?
— Мотив разнесения, différance, когда оно
маркировано непроизносящимся а\ не выступает, по сути
дела, ни под рубрикой «концепта », ни даже просто под
рубрикой «слова». Я попытался это доказать. Это не
1 «Разнесение даст о себе знать немым знаком, молчащим
монументом, я сказал бы даже — некой пирамидой, думая при этом не
только о форме этой буквы, когда она как прописная или заглавная, но и о
том тексте гегелевской „Энциклопедии", где тело знака сравнивается с
египетской пирамидой».
«Разнесение», в «Теории множеств», с. 42 [Включено также в
«Межи философии» Marges de la philosophie, Ed. de Minuit, 1972. С 4].
Эта аллюзия развернута в одной работе того же времени («Колодец и
пирамида. Введение в гегелевскую семиологию», январь 1968, в сб. Hegel
et la pensée moderne, P.U.F. [Включено в "Межи". С. 79]), где дискурс
логоса, извлекающий истину, сплошь ословесненную, из глубины
колодца, тоже противопоставляется письму, оставляющему свою мету,
более древнюю, чем истина, на лице памятника. — Примечание редакции.
48
мешает ему продуцировать концептуальные следствия
и словесные или именные образования. Которые,
впрочем, — это не сразу замечают — одновременно и
отчеканены, и взломаны штампом этой «буквы», не-
5 престанной работой ее странной «логики». «Пучок»,
упоминаемый вами, это фокус исторического и
систематического пересечения; это прежде всего
структурная невозможность закрыть эту сеть, фиксировать
ее плетение, очертить ее межой, которая не была бы
ю метой. Неспособное уже вознестись в качестве
центрального слова или центрального концепта, преграж-
[55] дая всякое отношение к теологическому, разнесение
само оказывается захвачено проработкой, которую
оно за собой влечет, через цепочку других «концеп-
15 тов », других «слов », других текстовых конфигураций;
и, возможно, у меня будет сейчас случай показать,
почему со временем или сразу вторглись те или иные
дополнительные «слова » или «концепты» и почему им
надо было придать значимость настоятельности
20 (например, грамма, резерву рез, след, раз-мещение,
бланк, sens blanc, sang blanc, sans blanc, cent blancs,
semblant — произносимые одинаково пустой смысл,
белая кровь, без бланка, сто бланков, похожий)1, до-
| полнение, фармакон, межа-мета-мера и т. д.). По оп-
5| 25 ределению у этого списка нет таксономической гра-
о ницы; тем более не составляет он и лексическую
систему. Прежде всего — потому что слова и понятия
tiSk эти не атомы, но скорее средоточия экономического
*^ уплотнения, обязательные места прохождения для
σ зо очень большого числа мет; более или менее бурлящие
s плавильные тигли. Потом, их действие не обращается
о. только само на себя в чем-то вроде безысходной са-
i=t мовлюбленности, они размножаются цепочкой по всей
о практической и теоретической совокупности текста
^ 35 каждый раз по-разному. Я это замечаю по ходу дела;
слово «снятие» в процитированной вами фразе не
имеет по причине своего контекста того скорее
технического смысла, который я ему отвожу для перево-
2 Ср. «Двойной сеанс» (Tel Quel, i 4041 [Вошло в «Рассеивание» —
La dissémination, Ed dn Seuil, 1972]). — Примечание редакции.
да и толкования гегелевского Aufhebung. Если бы
существовала дефиниция разнесения, она сводилась бы
как раз к ограничению, приостановке, деструкции
гегелевского снятия везде, где оно задействовано3.
Ставка здесь громадна. Говорю, заметьте, о гегелевском
Aufhebung, как его интерпретирует определенный
гегельянский дискурс, ибо само собой ясно, что
двойной смысл этого Aufhebung мог бы быть прописан
иначе. Отсюда его близость со всеми операциями,
производимыми против диалектической спекуляции
Гегеля.
Что меня интересовало в тот момент, чего я пытаюсь
добиться сейчас на других путях, так это, одновременно
с «общей экономией», своего рода общая стратегия
деконструкции. Эта последняя должна, наверное,
пытаться избежать простой нейтрализации бинарных
оппозиций метафизики и вместе с тем — простого
укоренения в запертом пространстве ее оппозиций,
согласия с ним.
Необходимо, таким образом, выдвинуть двоякий
жест, отвечающий единству одновременно
систематическому и как бы самоотстраненному, некое
удвоенное письмо, т. е. саморазмножающееся, то, что в
«Двойном сеансе » я назвал двойной наукой*. С одной
стороны, пройти фазу перевертывания. Я настаиваю
много и постоянно на необходимости этой фазы
перевертывания, которую, возможно, слишком быстро
3 «О грамматологии*. С. 40, «Об экономии, сокращенной до
общей экономии ». — В V écriture et la différence и passim. — Примечание
редакции.
4 Ср. также «Разнесение», с. 58 ("Межи...". С. 20], «Две
письменности», «Письменность и общая экономия», «Разрушение среднего
рода и смещение снятия — Aufhebung », в «Письмо и разнесение » (текст
о Батайе, с. 385, ел.) мУсия и грамма, примечание к одному примечанию
"Бытия и времени"» [Включено в "Межи...", с. 31] (по поводу «трещин»
в «метафизическом тексте»... «два текста, две руки, два взгляда, два
слуха»... «отношение между двумя текстами никоим образом не
может поддаваться прочтению в форме присутствия, если думать, что
какаялибо вещь вообще может поддаться прочтению в такой форме»,
с. 256-257). Касательно этой «двойной бухгалтерии в
грамматологической практике» и ее отношения к науке см. «Семиология и
грамматология » (беседа с Юлией Крисгевой) в Information sur les sciences sociales,
VII 3,1968, особенно с. 148 [Ср. выше с. 62]. — Примечание редакции.
50 Ι
попытались дискредитировать. Отдать должное этой
необходимости — значит признать, что в
классической философской оппозиции мы имеем дело не с
мирным сосуществованием некоего взаимного проти-
[57] востояния, но с силовой иерархией. Один из двух
членов главенствует над другим (аксиологически,
логически и т. д.), стоит на вершине. Деконструировать
оппозицию — значит сначала в определенный момент
перевернуть иерархию. Пренебречь этой фазой пе-
ю реворачивания — значит упустить из виду
конфликтную и субординирующую структуру оппозиции.
Поэтому перейти слишком быстро, не отдав должное
пониманию предшествующей оппозиции, к
нейтрализации, которая практически оставила бы поле в пре-
15 жнем состоянии, — значило бы остаться без всяких
средств действенного вмешательства в него. Известно,
какими всегда были практические (особенно
политические) следствия скачкообразного перехода
непосредственно за пределы оппозиций и заявлений в фор-
20 ме простого ни то - ни то. Когда я говорю, что эта
фаза необходима, то «фаза» тут, возможно, не самое
точное слово. Речь не идет здесь о хронологической
фазе, об определенном моменте или о какой-то стра-
| нице, которую можно было в один прекрасный день
х 25 перевернуть, чтобы перейти просто к другой вещи. Не-
о обходимость этой фазы — структурная, а стало быть,
это необходимость непрекращающегося анализа:
^£λ иерархичность бинарной оппозиции постоянно вос-
^■^ производит себя. В отличие от авторов, чья смерть, мы
ö зо знаем, не дожидается их кончины, момент переверты-
s вания — никогда не мертвое время.
о. Все это так, а с другой стороны, остановиться на
et этой фазе — значит опять же оперировать все еще на
о почве и в пределах деконструированой системы. По-
^ 35 тому надо этим двойным письмом, да,
стратифицированным, расклиненным и расклинивающим,
обозначить дистанцию между инверсией, ставящей верх вниз,
деконструирующей сублимирующую или
идеализирующую генеалогию, и вторгающимся возникновением
40 нового «концепта», концепта, по своей сути уже не
допускающего, никогда не допускавшего понимания
в прежнем режиме. Если эта дистанция, эта двугран-
ность или это одвугранение могут быть вмещены уже
только каким-то расщепленным письмом (и они отве- [58]
чают новой концепции письма, которое одновремен- 5
но вызывало бы опрокидывание иерархии
речь/письмо, как и всей смежной с ней системы, и позволяло бы
письму детонировать внутри самой же речи,
дезорганизуя так весь традиционный распорядок и
оккупируя все поле), то они не могут уже обозначиться ина- ю
че как в текстовом поле, которое я назвал бы
группированным: в пределе тут невозможно
сориентироваться; однолинейный текст, точечная позиция59
операция, подписанная одним-единственным автором, по
определению, не способны осуществить этот разрыв, is
С тех пор, чтобы лучше маркировать этот разрыв
(«Рассеивание», текст, носящий это заглавие, коль
скоро вы задаете мне вопрос на такую тему, есть
систематическое и разыгранное исследование «разрыва»,
«écart», carré квадрата, carrure ширины, carte карты, 2о
charte хартии, quatre четырех и т. д.), надо было
анализировать, заставить бродить внутри текста истории
философии, равно как внутри текста так
называемого «литературного» (например, Малларме), некоторые
меты, скажем (некоторые я только что обозначил, есть 25
много других), которые я назвал по аналогии
(подчеркиваю) неразрешимыми, т. е. единицы симулякра,
«ложные» глагольные, именные или семантические
свойства, которые уже не поддаются пониманию по
схеме философской (бинарной) оппозиции и вместе с зо
тем обитают внутри нее, сопротивляются ей,
дезорганизуют ее, но никогда не образуют третьего члена,
никогда не допускают решения в форме
спекулятивной диалектики (фармакон — это ни лекарство ни яд,
ни добро ни зло, ни внутри ни вне, ни речь ни письмо; [59]
дополнение — это ни больше ни меньше, ни безуслов-
' Относительно позиции и точечности см. «Навеянная речь»,
в «Письме и разнесении », с. 292 .Относительно критики точечности ср.
«Голос и феномен » и «Усия и грамма ». — Примечание редакции. —
Я добавлю всякая подпись вводит ситуацию разрыва, сама по себе.
52
ное ни восполнение некоего внутри, ни акциденция ни
сущность и т. д.; гимен — это ни смешение ни
различение, ни тождество ни различие, ни завершение ни
девственность, ни покров ни раскрытие, ни внутри ни
5 снаружи и т. д.; грамма — это ни означающее ни
означаемое, ни знак ни вещь, ни присутствие ни отсутствие,
ни полагание ни отрицание и т. д.; размещение — это
ни пространство ни время; початок — это ни
цельность (завязавшаяся) некоего начала или простой ото-
ю рванности ни простая вторичность. Ни/ни, это
одновременно или же или же; мета — это тоже отмеченный
предел, намеченная цель и т. д.). По существу, именно
против упорного присвоения этой расшатывающей
работы симулякра со стороны диалектики гегелевского
is типа (дело доходит до идеализации и «семантизации»
этого значения работы, врабатывающейся проработки)
я и пытаюсь направить критическую операцию, тогда как
гегелевский идеализм состоит именно в снятии
бинарных оппозиций классического идеализма, в разрешении
го противоречий через третий член, который является,
чтобы aufheben, т. е. подвергнуть возвышающему отрицанию
оппозитивное различие, его идеализируя, сублимируя в
интимности памяти (Erinnerung, воспоминание как
погружение внутрь себя), его интернировать в некоем
25 присутствии-для-самого-себя.
Коль скоро дело идет также и о прояснении
отношения к Гегелю, — работа трудная, в большей своей
части нам еще предстоящая и оказывающаяся в
известной мере нескончаемой, если, конечно, мы хотим ве-
σ зо сти ее со строгостью и тщательностью, — я попытал-
§F ся разграничить разнесение, diffé rance (где через а
о. отмечена, среди прочих сторон, черта продуктивнос-
ct ти и конфликтности) от гегелевского различия. И это
σ как раз в том пункте, где Гегель в своей большой «Ло-
^ 35 гике » определяет различие как противоречие6 именно
6 «Различие вообще есть уже противоречие в себе (Der Unterschied
überhaupt ist schon der Widerspruch an sich)» (II, I, гл. 2 С, НЛ 2, с. 55).
Не поддаваясь уже больше простому субсумированию в общность
логического, разнесение (процесс дифференциации) позволяет держать под
дифференцирующим учетом гетерогенные модусы конфликтности или,
для того, чтобы иметь возможность его разрешить,
интериоризировать, снять его в соответствии с
силлогистическим процессом спекулятивной диалектики,
растворить в присутствии-для-самого-себя некоего
онто-теологического или онто-телеологического
синтеза. Différance, разнесение призвано ознаменовать
(в точке почти абсолютного приближения к Гегелю,
как я подчеркивал, по-моему, в сегодняшнем
изложении и в других местах7: вся игра здесь идет, причем
самая решающая, на том, что Гуссерль называл
«тонкими нюансами» или Маркс — «крохоборством»)
точку, где мы порываем с системой «снятия», Aufhebung,
и спекулятивной диалектикой. Эта конфликтность
разнесения8, которую противоречием можно называть
только при условии его долгой и трудной демаркации
от гегелевского противоречия, никогда не поддается
тотальному снятию и проступает своими
последствиями в том, что я называю текстом вообще, текстом,
который не умещается в клетушке книги или
библиотеки и никогда не дает собою править какому-либо
референту в классическом смысле, вещи или
трансцендентальному означаемому, каким упорядочивалось бы
если угодно, противоречий. Если о конфликте сил я говорил чаще, чем
о противоречии, то это было прежде всего от критического недоверия
к гегелевскому концепту противоречия (Widerspruch), которое в
довершение всего, как указывает его имя, устроено так, чтобы разрешиться
внутри диалектического дискурса, в имманентности концепта,
владеющего своей собственной внеположностью и имеющего свое вовне-се-
бя при-себе. Редуцировать разнесение к разности значит держаться вне
и позади этого спора. Его выпадение бьет само но себе, например, в
такой формуле: "Запись противо-речие для перепрочтения"
("Рассеивание", II, Критика, 262, с. 245 и к "Фармации Платона" II, с. 49)
["Рассеивание", с. 182 и 403]. Так, будучи определено, "неразрешимое", не
являющееся противоречием в гегелевской форме противоречия,
фиксирует, в строго фрейдовском смысле, бессознательное философской
оппозиции, бессознательное, нечувствительное к противоречию,
насколько оно принадлежит к логике речи, дискурса, сознания,
присутствия, истины и т. д.
7 "Разнесение", с. 59 ["Межи...", с. 211]. Ср. также последовавшую
затем дискуссию в "Бюллетене французского философского
общества". — Примечание редакции.
8 О характере передуцируемой конфликтности в разнесении и ина-
ковости, сюда вписывающейся, ср., среди многих других мест,
"Разнесение", с. 46 ["Межи...", с. 8,21]. Что касается отношения к диалектике,
ср. например «Письмо и разность», с. 364.
ΖΓ
го
о
все его движение. Так что, вы видите, не из заботы об
умиротворении или согласовании я охотнее прибегаю
к мете «разнесение», чем к системе разности-
и-противоречия.
5 Когда, собственно, — я все время следую за вашим
вопросом, — в эту открытую цепочку разнесения,
«дополнения», «письма», «граммы», «фармакона»,
«гимена» и т. д. внедряется мотив или, если вы
предпочитаете, «концепт», оператор общности, именуемый
ю рассеиванием. Это получилось, как вы знаете,
особенно благодаря прочтению, неким образом
кооперирующему, «Чисел» Соллерса в упомянутом Вами тексте
«Критики». «Рассеивание» не имеет целью ничего
заявить с последней определенностью и не может быть
is собрано в дефиницию. Я не буду стараться о том же
здесь и предпочитаю отослать к проработке,
ведущейся в текстах. Если мы не можем дать резюме
рассеивания, рассеивающего разнесения, в его концептуальном
содержании, то дело в силе и в форме посеянного им
20 взрыва, взламывающего семантический горизонт.
Перенесение внимания на полисемию или на полите-
матизацию представляет, наверное, прогресс по
сравнению с линейностью письма или
моносемантического прочтения, озабоченного привязкой к
[ω] смыслу-опекуну, к главному означающему текста или
к его основному референту. Тем не менее полисемия
как таковая складывается в имплицитном горизонте
однозначной подытоживаемое™ смысла, т. е. в
горизонте диалектики — Ришар говорит о диалектике в
0 зо своем тематическом прочтении Малларме, Рикер
? тоже, в своем «Эссе о Фрейде» (и герменевтика Рике-
Q- ра, его теория полисемии имеет много сродства с те-
ct матической критикой, Ришар это признает), — о те-
о леологической и тотализирующей диалектике,
^ 35 которая должна позволить в какой-то определенный
момент, как бы он ни был отдален, собрать
тотальность данного текста в истине его смысла, что
превращает текст в выражение, в иллюстрацию и
аннулирует открытое и продуктивное смещение текстовой цепи.
40 Рассеивание, напротив, способно продуцировать не-
конечное число семантических эффектов, не
поддается сведению ни к некоему присутствующему
односложного происхождения («Рассеивание», «Двойной
сеанс», «Белая мифология» являются практическими
перепостановками всех мнимых отправлений, начал, 5
зачинов, оглавлений, надписаний, фиктивных
предлогов: обезглавлений), ни к некоему эсхатологическому
присутствию. Она маркирует нередуцируемую и
генеративную многосложность. Дополнение и взвихрен-
ность определенной недостачи взламывают границу ю
текста, воспрещают его исчерпывающую и
замыкающую формализацию или по крайней мере
насыщающую таксономию его тем, его означаемого, его
интенции, желания-сказатъ.
Мы играем здесь, разумеется, на случайном внеш- is
нем сходстве, на родстве чистого симулякра между
семой и семенем. Между ними нет никакой
смысловой общности. И вместе с тем в этом юзе, в этой сшибке
чистой внешности случайность, несомненно,
продуцирует род семантического миража: соскальзывание 2о
интенции, отложение-отражение этого на письме
начинает подталкивать к определенным шагам. Этот
приводящий в движение режим избытка (и) недостатка я
пытался не то что формализовать в нейтральности [бз]
критического дискурса (я говорил, почему исчерпы- 25
вающая формализация в классическом смысле
невозможна9, и «Двойнойсеанс» — этодеконструирующая
«критика» понятия «критики»), но переписать,
вписать и вновь задействовать его комплекс. Дело идет о
том, чтобы отметить в «Рассеивании», равно как и в зо
«Двойном сеансе» (эти два текста совершенно
неразлучны), такую нервюру, складку, такой угол, которые
прервали бы тотализацию: в определенном месте,
месте совершенно определенной формы, никакая серия
семантических валентностей закрепиться или ско- ъъ
питься уже не может. Не то что она распахивается в
сторону неисчерпаемого богатства смысла или транс-
ценденции семантического избытка. Через этот угол,
9 Ср. «Письмо и разнесение*, passim «Разнесение», с. 50-51. «Белая
мифология», passim ["Межи...", с. 21 и 247). — Примечание редакции.
s
ГО
О
эту складку, эту прокладку чего-то неразрешимого
мета метит сразу отмеченное и мету, отмеченное
место меты. Письмо, которое в этот момент становится
своей собственной от-меткой (совсем другая вещь, чем
5 саморепрезентирование), не может уже числиться в
списке тем (оно не тема и ни в коем случае стать
таковой не может), оно должно быть из списка изъято
(полость) и в него добавлено (выступ). Эта полость и есть
выступ, но нехватка и избыток никогда не могут ста-
ю билизироваться в полноте какой-то формы или
какого-то уравнения, в фиксированном
симметрическом или гомологическом соответствии. Я не могу
возобновить здесь проработку, в которую я пытался в
двух тех текстах втянуть складку, пробел, гимен, межу,
is люстру, колонну, угол, квадрат, веяние, лишек и т. д.
Она всегда имеет, среди прочего, этот теоретический
результат: критика односложного содержания
(критика тематическая, будь она по своему стилю фило-
[64] софская, социологическая, психоаналитическая, но
го принимающая тему, явную или скрытую, полновесную
или пустую, за субстанцию текста, за его объект или
за его иллюстрируемую истину) не более вправе
примериваться к некоторъсм текстам (или скорее к
структуре некоторых текстовых сцен), чем критика чисто
25 формалистическая, которую интересуют только код,
чистая игра означающего, техническое оборудование
текста-объекта и не волнуют генетические эффекты
или сама запись («историческая», если хотите)
прочитываемого текста и того нового текста, какой пи-
ö зо шет эта критика. Эти две недостаточности в строгом
х смысле дополнительны. Они не поддаются дефиниции
о. без деконструкции классической риторики и ее им-
ι=ί плицитной философии: я взялся за нее в «Двойном се-
о ансе» и попытался ее систематизировать в «Белой
^ 35 мифологии ». Критика формалистического
структурализма была предпринята с первых же текстов
«Письма и разнесения».
Г. С. — Опять же ради вклада в историческую
ситу ативностъ этой беседы мы могли бы равным обра-
40 зом вспомнить о собрании, имевшем место в Клюни в
апреле 1970, поскольку, даже и отсутствуя, вы
постоянно присутствовали (вас цитировали и к вам
обращались с вопросами в выступлениях иногда
самого разного толка) на этом коллоквиуме,
предметом которого было соотношение между «Литерату- 5
рой и идеологиями».
Ж.-Л. У. — По линии этого вопроса, открытого
Скарпеттой, и коль скоро соответствующая тема
поднималась в Клюни, я позволил бы себе вернуться
к конфронтации вашей рефлексии с философией Хай- ι о
деггера. В уже цитировавшемся тексте,
«Разнесение», вы говорите о «неохватной хайдеггеровской
медитации»: в каком отношении эта медитация, как
она фактически развертывается в лоне «эпохи »,
которая стала нашей, кажется вам «неохватной»? И \ъ
поскольку, с другой стороны, едва назвав ее «неохват- [65]
ной», вы хотите пройти через нее, то не могли бы
вы уточнить некоторые из мотивов, побуждающих
вас не останавливаться на ней?
— Вы правы, ссылаясь на тот коллоквиум. Я толь- 2о
ко что прочел его доклады. Дело идет тут, мне
кажется, об очень важном событии, о событии
одновременно теоретическом и политическом. В том, что касается
соотношения «литературы» и «идеологии», там было
достигнуто значительное прояснение и предложены 25
многочисленные выступления, которые, думаю,
продвинут дело вперед. Ваши вопросы многосторонни и
трудны. Откуда начать? Вернуться к тому, что меня
задело? Верите ли вы, что задевает еще и теперь?
Ж,-А. У. — Это позволило бы, возможно, рассеять зо
некоторые недоразумения и, как вы только что
выразились, продвинуть немножко больше «дело
вперед».
— Давайте. Естественно, я не хотел перебирать
здесь то, что могло меня касаться в ходе дискуссии, ъъ
которая, к счастью, этим далеко не ограничивалась и
о невозможности непосредственно участвовать в
которой, как вы знаете, я очень жалел. Если я отвечаю
на ваш вопрос, то это прежде всего все-таки потому,
что расспросы или возражения, адресованные мне, 40
58
были двух совсем разных родов. Некоторые, как у
Кристины Глюксман, явно нацелены на то, чтобы сделать
возможными чтение и обсуждение, без спутанной и
бессильной агрессивности. Я на них сейчас отвечу и
5 буду, впрочем, отвечать всякий раз, когда
представится возможность разговора в этих условиях и я окажусь
в состоянии хотя бы что-то привнести от себя. Что
касается других выступлений, которые мне показались
мешающими движению или толкающими назад, я зат-
10 рону только некоторые пункты, причем элементарные.
Между прочим, мне стало известно, после по
крайней мере двухразового прочтения материалов, что моя
[бб] «мысль» (естественно, я цитирую) пребывает «в
полном развитии». Не следует ли этому радоваться?10 Вер-
15 но то, что такие высказывания по необходимости
произносятся с наблюдательного пункта, где должны
вроде бы знать, к какому сроку или на каком
повороте его дожидаться, это «развитие», и по какой
эсхатологии его мерить. Я извлек бы для себя всю пользу
20 из этих ободрений, благожелательных в одном
случае, нравоучительных в другом, если бы ценность
«развития » не казалась мне всегда подозрительной во всех
презумпциях, которые в ней кроются (это
марксистское понятие, скажите?), а главное — если бы у меня не
25 было всегдашнего порядочного недоверия к «мысли ».
Нет, дело идет о текстовых смещениях, ход, форма и
необходимость которых не имеют никакого
отношения к «развитию» чьей-либо «мысли» или к
телеологии дискурса. Теперь уже довольно давно, позвольте
σ зо мне напомнить, как я рискнул на эту фразу, т. е. как я
s ее написал, потому что молчаливая работа кавычек и
о. курсивов не должна выноситься за скобки, как оно
«а
О 10 Я тем более этому радуюсь, что, кажется (но я ничему тут не
7^ верю), в каком-то другом месте вроде бы подумали уже
противоположное. Я ничему тут не верю, потому что тогда получается какое-то
наблюдение за теоретическими новинками как за дождем или
стремление учредить сезон теоретических наград (что в конечном счете
предполагает определенное представление о том, к чему сводятся
производство и потребление в этой области). Тогда получается,
собственно, какое-то вульгарно эмпиристское недопонимание текстовой
систематики, необходимости, форм и сроков ее развертывания.
59
слишком часто бывает (и вместо вникания
исключительно в содержание мыслей следовало бы тоже
анализировать способ, каким тексты сделаны):
«Известным образом, "мысль*9 не хочет ничего сказать»11.
«Мысль» (кавычки: слова «мысль» и то, что называют ;
«мыслью») — не хочет ничего сказать: это
субстантивированная пустота некой сильно производной иде- [67]
альности, следствие разнесения сил, иллюзорная
автономия дискурса или сознания, чью ипостась надо
деконструировать, «причинность» проанализировать ю
и т. д. Это во-первых. Во-вторых, та фраза читается
так: если есть мысль — она есть, и не менее
подозрительно, по аналогичным критическим причинам,
отрицать явление всякой «мысли», — то вещь, которую
будут все еще называть мыслью, обозначая ее, скажем, is
как деконструкция логоцентризма, не хочет ничего
сказать, не происходит в конечном счете из «хотеть-
сказать». Везде, где она оперирует, «мысль» не хочет
ничего сказать.
Возвращаюсь, стало быть, к нюансированной сдер- 2о
жанности Кристины Глюксман: «история, понятая
слишком линеарно как история смысла», «концепция
латентной истории... явно недооценивающая, чтобы не
сказать отменяющая, борьбу материализма и
идеализма... » (с. 240). Должен ли я напоминать, что то, против гъ
чего с первых же опубликованных мною текстов я
пытался выстроить деконструктивную критику, был
как раз авторитет смысла как трансцендентального
означающего и как телоса, иначе сказать, история,
определяемая в последней инстанции как история зо
смысла, история в своей логоцентрической,
метафизической, идеалистической (сейчас я вернусь к этим
словам) репрезентации и вплоть до сложных отметин,
какие она сумела оставить в хайдеггеровском
дискурсе? Тут я не хочу даже распространяться и давать от- 35
сылки; мотив, только что мною сформулированный,
прочитывается у меня на каждой странице. Можно
поэтому упрекать меня за настойчивость, даже за
монотонность, но мне плохо понятно, как можно мне
11 *0 грамматологии*, с. 142. — Примечание редакции. 40
60
приписать концепцию истории в качестве «истории
смысла». Сказать правду, корень недоразумения,
наверное, такой: меня утверждают собственником того,
[ев] что я анализирую, а именно метафизической концеп-
5 ции истории как истории идеальной, телеологической
и т. д. Надо сказать, эта концепция гораздо более
широко распространена, чем думают, и заведомо далеко
за пределами философий, на которых стоит этикетка
«идеалистические »; тем более не доверяю я этой и вся-
ю кой концепции истории, и приметы этого недоверия,
к которым у нас, наверное, будет повод вернуться,
могли спровоцировать недоразумения при первом
прочтении.
Что до линеарности, то вы хорошо знаете, что я
is тут не силен12. Я ее всегда и очень аккуратно
ассоциировал с логоцентризмом, с фоноцентризмом, с семан-
тизмом и идеализмом. Мало того, что я никогда не
верил в абсолютную автономию13 истории как исто-
[69] рии философии, в смысле конвенционального гегель-
20 янства, но я регулярно пытался снова вывести
философию на сцену, на ту сцену, которой она не управляет
12 Среди многочисленных других мест см. «О грамматологии», вся
первая часть, passim (и, к примеру: «Загадочная модель линии есть
поэтому то самое, что философия не могла видеть, когда она держала
глаза открытыми для содержимого своей собственной истории. Эта
ночь чуточку бледнеет, кода линеарность — в которой многомерная
символическая мысль не гибнет или отсутствует, а вытесняется, —
разжимает свою хватку, потому что начинает стерилизовать ту
техническую и научную экономию, которой она долгое время
благоприятствовала. С давних пор, по сути дела, ее возможность оставалась структурно
сращенной с возможностями экономии, техники и идеологии. Эта сра-
щенность дает о себе знать в процессах накопления, капитализации,
иерархизации, распространения оседлости, формирования идеологии
классом пишущих или скорее тех, кто распоряжается писцами» (с. 128-
129) и чУсия и грамма*, особенно конец: «Письмо, выходящее за
рамки всего того, что история метафизики понимала в линии, в ее круге, в
ее времени и в ее пространстве»). — Примечание редакции.
13 Но верно то, что я очень интересуюсь историей философии в ее
«относительной автономии». Это мне кажется необходимым: критика
теорий есть тоже «дискурс» (здесь его специфическая форма), и если
она призвана строго высказываться о некой более общей практике, ей
надо учитывать самую мощную, самую обширную, самую устойчивую,
самую систематическую дискурсивную постройку нашей «культуры».
При таком условии мы избежим эмпиристской импровизации, ложных
открытий и т. д и сообщим систематический характер деконструкции.
χ
О
с
Ο-
Ο-
Φ
et
о
61
и которую классические историки философии, в
Университете и в других местах, считали иногда немного
жестковатой. Вот почему я не привык к подозрениям,
высказанным Кристиной Глюксман.
«...недооценивающая, чтобы не сказать отменяю- 5
щая, борьбу материализма и идеализма»? Но нет,
помилуйте, меня такие вещи очень интересуют, и с очень
уже давнего времени значение этого невозможно
переоценить. Я даже очень интересуюсь
определенными формами так называемого «механистического» ю
материализма, от которого, несомненно, есть еще
много чего заимствовать. Возможно, мне нечего было
предложить слишком уж оригинального и
специфического, неизвестного на сей предмет. В данном
случае я не очень многословен, и, наверное, это вызывает is
сожаление. Видите ли, что мне показалось
необходимым и настоятельным в исторической ситуации, как
наша, так это общее определение условий
возникновения и границ философии, метафизики, всего того,
на чем она стоит, и всего того, что на ней стоит. Все го
вместе группируется — не могу здесь сказать об этом
подробнее — под рубрикой логоцентризма, которую
я выдвинул в «О грамматологии» одновременно с
проектом деконструкции. Здесь перед нами мощное
историческое и систематическое единство, которое надо 25
прежде всего ограничить как такое, если мы не хотим
попадать пальцем в небо всякий раз, когда надеемся
выслеживать истоки, прорывы, разрывы, мутации
и т. д.14 Логоцентризм есть тоже, в своей основе, иде- [70]
ализм. Это матрица идеализма. Идеализм его самая зо
прямая репрезентация, его самая устойчивая
доминирующая сила. И демонтаж логоцентризма есть
одновременно — a fortiori — деконститурование
идеализма или спиритуализма во всех их вариантах. Дело здесь
действительно не идет об «отмене» материалистиче- ъъ
ской «борьбы» против идеализма. Сейчас, разумеет-
14 Позволю себе сделать здесь отсылку к «Белой мифологии »,
«Поэтике» 5, с. 18 и к «Источнику и пирамиде», с. 28-29, в сб. «Гегель и
современная мысль» (Hegel et la pensée moderne, P.U.F.) ["Межи...",
с. 275 и 82-83].
ся, логоцентризм понятие более широкое, чем идеализм,
для которого первое с запасом служит фундаментом.
Также и более широкое, чем понятие фоноцентризма.
Логоцентризм создает систему предикатов, из которых
5 многие могут всегда встретиться в философиях,
называющих себя неидеалистическими или даже
антиидеалистическими. Обращение с понятием логоцентриз-
ма поэтому дело деликатное и иногда беспокойное.
Хотите ли вы теперь, чтобы мы сказали два слова
ю о другой категории возражений, выдвинутых на
коллоквиуме в Клюни? Поскольку я тут уже объяснился
и поскольку я нахожу такую формулу скорее
комичной, то не буду уже возвращаться к «отрицанию
истории», которое мне хотели бы навязать (с. 230). Не
is могу и разбирать строку за строкой все суждения,
путаность которых, должен сказать, меня
обескуражила (например, это: «Грамматика Жака Деррида
"моделируется", в своих крупных чертах, на базе хайдег-
теровской метафизики, которую она пытается
20 "деконструировать", ставя на место "присутствия
логоса" первенство следа; она конституируется в онто-
теологию исходя из следа как "основы", "основания"
или "источника"» (с. 225). Как надо поступать, чтобы
взять себе моделью то, что деконструируешь? Можно
25 ли так запросто говорить о хайдеггеровской
метафизике? Но главное (поскольку две эти первые
возможности сами по себе не абсурдны, даже если они абсур-
[71] дны в данном случае), не повторял ли я неустанно, —
и, смею сказать, не доказал ли, — что след не есть ни
σ зо фон, ни основа, ни источник и что он ни в каком слу-
s чае не может оставить место для явной или скрытой
о. онто-теологии? Правда и то, что эта путаница, заклю-
с£ чающаяся в повертывании против моих текстов той
о критики, о которой просто забыто, что она в них же
^ 35 была сначала найдена и заимствована, — эта
путаница и раньше уже по крайней мере симулировалась
немного более осведомленными, если не лучше
предупрежденными читателями.
Я никогда не говорил, с другой стороны, будто
40 «соссюровскии демарш » в принципе или в целом «ло-
гоцентричен» или «фоноцентричен». Моя работа
прочтения не строится по этой формуле (когда я пытаюсь
дешифровать какой-то текст, я не терзаю себя
постоянно вопросом, приду ли я к ответу да или нет без
всяких нюансов, как делается во Франции в определенные 5
периоды истории, причем обычно по воскресеньям).
Текст Соссюра гомогенен не в большей мере чем
любой другой. Я действительно анализировал в нем «ло-
гоцентристский » и «фоноцентристский» слой
(который раньше не выделялся, хотя воздействие его ю
значительно), но лишь чтобы сразу же показать, что
он создает противоречие в научном проекте Соссюра,
насколько его можно вычитать и каким я его
принимаю к сведению. Я не в состоянии воспроизводить
здесь доказательство этого.15 is
Никогда ни под каким видом я не отождествлял,
как это хотелось бы кому-то внушить по причинам,
дожидающимся анализа, письмо с мифом. Я имею
здесь в виду концепт письма, каким я пытался его
определить. Наоборот, меня иногда интересовал жест, ка- го
ким философия исключает письмо из своей сферы или [72]
из области научной рациональности, чтобы
удерживать его в некоем вовне, принимающем иногда форму
мифа. Именно эту операцию я расследовал, особенно
в «Фармации Платона», что требовало проторения 25
новых путей и не могло происходить ни из
мифологии, разумеется, ни из философского концепта науки.16
Дело тут идет, в частности, о практической
деконструкции философской оппозиции между философией
и мифом, между логосом и мифом. Осуществить это зо
практически, я настаиваю, на тексте невозможно
иначе, как на путях какого-то другого письма со всем
вытекающим отсюда риском. Начать хотя бы с
недоразумений, о которых мы сейчас говорим. Боюсь, не
суждено ли им еще нагромоздиться. ъъ
15 Ср. особенно «О грамматологии », с. 65 ел. и «Семиология и
грамматология».
16 Да будет мне позволено напомнить здесь, что первый
опубликованный мною текст касался в особенности проблемы письма как
условия научности (Введение к «Возникновению геометрии» Гуссерля,
P.U.F., 1962).
χ
zr
η
О
ΙΖ
Принижение, принижение письма: речь явно не
шла — это вступило бы в противоречие со всем
текстом — о поднимании письма из того, что я лично
считал бы именно его принижением. Принижение есть
5 именно представление письма, его ситуации в
философской иерархии (верх/низ). Тут снова меня
награждают тем, что я обличаю, словно люди спешат не
столько меня критиковать или меня обсуждать,
сколько встать сперва, чтобы это сделать, на мое место. Дело
ю шло поэтому, при такой расценке принижения или
падения, о том, что философия (и все системно
примыкающее к ней) думала сделать, имела в виду сделать,
действуя в опоре на момент жизни, присутствующей
для самой себя в ее логосе, на момент онтологической
is или изначальной полноты: как раз о том, против чего
[73] направлена операция деконструкции. И понятие
«падения», которое в полной мере дополнительно к
понятию «истока», неизменно будет оставаться
мишенью в «О грамматологии» и в других местах.
20 Вследствие этого я никогда не принимал на свой счет
тему какого-то безошибочного письма, которое
якобы пало, не знаю за какой первородный грех, в
обманчивое и низменное поле истории. Как раз наоборот.
Поскольку это слишком очевидно для всякого, кто
25 хочет приступить к чтению, то не буду
распространяться и переключусь на отношение к Хайдеггеру.
Я утверждаю, как вы уже и упомянули в вашем
вопросе, что текст Хайдеггера для меня чрезвычайно
важен, что он составляет прорыв небывалый, необрати-
σ зо мый и пока еще далеко не использованный во всех его
х критических ресурсах.
о. Это так, но — помимо причин, из-за которых вы-
с£ ходит так, что по всякого рода признакам и, думаю,
σ во многих отношениях написанное мною, скажем, не
^ 35 похоже на текст хайдеггеровской филиации (не могу
здесь долго это анализировать), — мною был
обозначен, очень эксплицитно и, можете проверить, во всех
опубликованных мною опытах, определенный разрыв
с хайдеггеровской проблематикой. Этот разрыв каса-
40 ется в частности концептов источника и падения, о
которых мы сейчас говорили. И среди прочих мест я
анализировал это в связи с временем,
«трансцендентальным горизонтом вопроса о бытии» в «Бытии и
времени», т.е. в пункте стратегически решающем17.
Этот разрыв выступает соответственно и в вопросе о
значении собственного (собственность, особле-
ние, присвоение собственности, все семейство
Eigentlichkeit, eigen, Ereignis), где, возможно, самая
настойчивая и самая трудная нить хайдеггеровской
мысли. (Уточню здесь мимоходом, что я открыто
критиковал эту идею собственности и изначальной
подлинности, и больше того, отсюда, можно сказать,
начинал: можно поэтому удивляться упорству моей
монотонности, но невозможно всерьез заставить меня
говорить противоположное [ «Грамматология, общая
наука "архи-следа", выступает тем самым как мысль,
эксплицирующая миф об истоках. Поиски не
"исторических истоков", но неточного, истинного,
подлинного этимона, всегда уже присутствующего, в
котором оно кроется». (Э.Рудинеско, с. 223). Здесь
нелепица принимает грандиозные размеры]. Везде, где
навязывали себя ценности собственности,
собственного значения, близости к собственной сути,
этимологии и т. д. в отношении тела, сознания, языка,
письменности и т. д., я пытался проанализировать желание
(интенцию) и метафизические предпосылки, оказыва-
17 После цитирования одного места Хайдеггера о Fallen и Verfallen,
падании и падении. «Но оппозиция исходного и производного — не
является ли она собственно метафизической? Отыскание архии
вообще, какими бы ни были предосторожности, окружающие этот
концепт, — не есть ли оно существенная операция метафизики? Даже
допустив, что всякое другое происхождение, несмотря на сильную его
вероятность, здесь можно исключить, нет ли по крайней мере какого-
то платонизма в этом Verfallen? Зачем определять как падение переход
из одной временности в другую? И зачем квалифицировать временность
как подлинную — или собственную (eigentlich) — и неподлинную — или
несобственную, — при воздержании от всякой этической
озабоченности? Можно было бы умножить эти вопросы вокруг концепта
конечности, отправного пункта в экзистенциальной аналитике Dasein, что
оправдано ее загадочной близостью к самости или тождеством с
самостью спрашивающего (§ 5), и т. д. Если мы решили разобрать оппозицию,
структурирующую концепт временности, то причина здесь в том, что
всякая экзистенциальная аналитика возвращается снова сюда» (чУсия
и грамма», с. 254-255) ["Межи...", с. 73-74]. — Примечание редакции.
66
I[75] ющиеся тут за работой. Констатировать это можно
уже во «Внушенном слове» (1965), но также и везде в
других местах. «Белая мифология» систематизирует
критику этимологизма в философии и в риторике18.
5 Естественно, чтобы вернуться отсюда к Хайдеггеру,
самый, наверное, решающий пункт, да и самый
трудный, — это все-таки пункт смысла, присутствующего
и присутствия. Я предположил — очень схематично —
в «Усии и грамме»19 определенную проблематику или
ю скорее род решета для чтения текстов Хайдеггера с
этой точки зрения. Это громадная работа, и ситуация
здесь никогда не упростится. Поскольку в ходе такой
беседы, как эта, я не могу сформулировать ничего
кроме беглых впечатлений, то скажу так: у меня иногда
is бывает чувство, что вся хайдеггеровская
проблематика — самая «глубокая » и самая «мощная » защита того,
что я пытаюсь поставить под вопрос под рубрикой
мышления присутствия.
Мы счастливым образом далеки от аналогистической
20 мешанины, которая постоянно озабочена тем, чтобы:
1) сокрушить без долгого разбирательства, скажем так
для краткости, грамматологическую деконструкцию
с помощью искусственного хайдеггерианства, в
котором явно ничего не понято; 2) заставить поверить,
25 что в Хайдеггере нет ничего кроме германской
идеологии периода между двумя войнами: редукция,
симптоматичная для определенного рода чтения; 3)
инсинуировать, будто Хайдеггер сдержан в отношении
психоанализа лишь потому, что это «еврейская» по-
зо делка (что призвано намекнуть на заражение через
? атмосферу — элемент анализа не хуже других, — вся-
Q. кого, кто слишком внимательно вчитывается в Хай-
«=t деггера, попадает в этом аспекте под подозрение.
σ Настойчивость, с какой навязывается эта тема (ср.
^ 35 «Юманите» от 12.06.1969 и последовавшее затем двои-
s
18 «Поэтика» 5, с. 2-8 [«Межи», с. 251-257 ел.]. И все содержание
прим. 7 в «Двойном сеансе» I, «Tel Quel», 41 [«Рассеивание»]. —
Примечание редакции.
19 «Усия и грамма», с. 256 ел. ["Межи...", с. 75 ел.]. — Примечание
редакции.
67
ное опровержение, опубликованное восемью днями
позже в «Юманите» от 19.9.1969, перепечатанное в [76]
«Тель Кель», №39, и развернутое во всех его
импликациях в «Тель Кель», №40), заставит меня в конце
концов констатировать, наверное, какой-то еще слиш- 5
ком утробный антисемитизм). Тут есть — чтобы
покончить с этим вопросом — явное завихрение, само
себя взвинчивающее, завороженная проекция,
принимающая с каждым разом все более клеветнический
оборот. Я прислушиваюсь к речам этого рода вот уже ю
довольно долго, с некоторым вниманием, более или
менее колеблющимся. И соблюдая известное
молчание. Не следует им злоупотреблять.
Оставим тогда, если вы не против, в покое этих
докторов генеалогических наук или идеологических is
филиаций. Их слушатели узнают от них, что для Хай-
деггера диалектика имеет еврейскую сущность (с. 189)
или что Платон наследник стоиков и эпикурейцев
(«Наука о буквах — простых элементах — или
grammatiké technè, основанная стоиками и эпикурей- 2о
цами, подхваченная Платоном, оформленная в теорию
Аристотелем...», с. 221)20. Видите ли, чего, мне
кажется, не хватает подобной «проблематике
повествования», так это способности задуматься о том
неведомом, на чем построен ее собственный тезис. Решился 25
ли бы Борхес подписать столь странную повесть? Увы...
Г.С. — Мы могли бы у пожалуй, вернуться к тому,
что вы сказали по поводу истории, Я имею в виду то ,
место «Грамматологии», где вы говорите «Слово
"история", несомненно, всегда ассоциировалось с зо
линейной схемой развертывания присутствия».
Допускаете ли вы возможность такого концепта
истории, который избегал бы «линейной схемы разверты- [77]
вания присутствия»? Мыслима ли, по-вашему,
возможность того, что Соллерс называет, например, 35
20 Из двух выступлений, на которые я здесь ссылаюсь, то, откуда я
извлекаю эту последнюю цитату, не является несмотря на множество
нелепостей и неопределенностей (их надо списать на счет школьного
обучения) наиболее неудовлетворительным из двух, мне кажется. Ради
честности я обязан это признать и избежать сам амальгамы.
68
«монументальной историей», т. е. истории,
задуманной уже не в качестве «линейной схемы»,нов
качестве последовательности практики,
стратифицированной, дифференцированной, противоречивой,
5 иначе говоря, истории, которая не исходила бы ни из
монизма, ни из историзма?
— Конечно. Чему, повторяю, не следует доверять,
так это метафизическому концепту истории.
Имеется в виду концепт истории как истории смысла, о чем
ю мы только что говорили: истории смысла, который
зарождается, развивается, осуществляется. Линейно,
как вы это называете: по прямой или округлой линии.
Вот почему, между прочим, «закрытие метафизики»
не может иметь форму линииу т. е. форму, которую за
is ней признает философия, форму, в которой она себя
узнает. Метафизическое закрытие, главное, не круг,
окаймляющий некое гомогенное поле, однородное с
самим собой внутри себя, из-за чего и все
внеположное ему оказывалось бы тоже однородным. Предел
го здесь имеет форму всегда разных промахов, членений,
мету или шрам которых носят на себе все
философские тексты.
Метафизический характер концепта истории
привязан не только к линейности, но ко всей системе им-
25 пликаций (телеология, эсхатология, выявляющая и
ö I интериоризирующая аккумуляция смысла, известный
тип традиционности, известный концепт преемствен-
Д| ности, истины и т. д.). Метафизичность соответствен-
^^ но не какой-то привходящий предикат, от которого
σ зо можно избавиться путем локальной ампутации осо-
5 бого рода, без общего смещения всего организован-
о_ ного целого, без вспашки, проработки всей системы.
с£ Я как-то очень быстро заговорил о «метафизическом
σ концепте». Но я никогда не верил в существование
^ [78] метафизических концептов самих по себе. Да и
никакой, впрочем, концепт не есть он сам21 и,
следовательно, не является в себе метафизическим вне всей той
текстуальной проработки, в которую он вписан. Вот
21 Ср. «Разнесение», с. 49 ["Межи...", с. 11].
69
почему, формулируя все свои оговорки относительно
«метафизического» концепта истории, я очень часто
пользуюсь словом «история», чтобы заново очертить
его радиус действия22 и производя на свет другой
концепт или другую концептуальную цепь «истории»: 5
истории действительно «монументальной,
стратифицированной, противоречивой»; истории,
имплицирующей сверх того какую-то новую логику повторения
и следа, поскольку плохо видно, где была бы история
без этого. ю
Надо тем не менее признать, что в силу предика- [79]
тов, о системе которых я только что упомянул,
концепт истории всегда может быть заново
приспособлен метафизикой для ее надобностей. Например:
следует прежде всего различать между общей исто- is
рией и общим концептом истории. Вся столь
необходимая критика, которую Альтюссер выдвинул против
«гегельянского» концепта истории, против понятия
22 Один пример: «Если бы слово "история" не несло в себе мотива
окончательного подавления различия, можно было бы сказать, что
только различия могут быть с самого начала и сплошь
"историческими". То, что пишется как différance, разнесение, будет соответственно
движением, игрой, "продуцирующей", не обязательно посредством
одной лишь активности, эти различия, этот эффект разности. Отсюда
вовсе не следует, что разнесение, продуцирующее разность, существует
прежде различий в некоем простом и внутри себя немодифицирован-
ном, безразличном настоящем. Разнесение есть "источник" вне
полноты, вне простоты, структурно обусловленный и разносящий источник
различий. Название источника ему, стало быть, уже не подходит. [...]
Удерживая по меньшей мере схему, если не содержание
сформулированного Соссюром требования, мы будем обозначать через разнесение
движение, сообразно которому язык, или всякий код, всякая система
указывания вообще конституируется "исторически" как ткань
различении. "Конституируется", "продуцируется", "создается", "движение",
"исторически" и т. д. должны тут пониматься вне метафизического
языка, куда они входят со всеми своими импликациями. Следовало бы
показать, почему концепты продуцирования, как и конституирования, и
истории, остаются с этой точки зрения соучастниками того, что здесь
ставится под вопрос, но это увлекло бы меня сегодня слишком далеко,
— к теории репрезентации "круга", внутри которого мы по видимости
заперты, — и я применяю их здесь, наравне со многими другими
концептами, только для стратегического удобства и чтобы двинуть в ход
деконструкцию их системы в наиболее решающем сейчас пункте». Там
же, с. 50-51 ["Межи...", с. 12-13], ср. также, например, «Двойной
сеанс», I, «Тель Кель», 41, с. 9-10 [«Рассеивание», с. 235-236]. О
несимметричности этой деконструкции см. прежде всего прим. 18 и 19.
ZI
О
ω
1 s
70
целостности выражения и т. д., призвана показать, что
имеет место не единая история, общая история, но
истории различные по своим типам, своим ритмам,
своим модусам вписания, истории смещенные, диф-
I 5 ференцированные и т. д. К этому, как и к концепту
истории, которую Соллерс называет
«монументальной», я всегда присоединялся23.
[во] Я ставлю другой тип вопроса: исходя из какого
минимального семантического ядра можно называть
ю еще «историей» эти гетерогенные, нередуцируемые
и т. д. виды истории? Как определить этот минимум,
23 В моем импровизированном ответе я забыл, что вопрос Скарпет-
ты содержал также упоминание об историзме. Разумеется, критика
историзма, или историцизма, во всех их формах мне представляется
необходимой. То, чему я прежде всего научился в этой критике у Гуссерля
(от «Философии как строгой науки» к «Происхождению геометрии»:
эта критика всегда нацелена на Гегеля, либо прямо, либо через Дильтея),
первого, насколько я знаю, кто ее сформулировал под этим именем и с
точки зрения теоретической и научной (главным образом
математической) необходимости, кажется мне ценным в схеме своих аргументов, даже
если в конечном счете гуссерлевская критика опирается на
историческую телеологию истины, по поводу которой вновь поднять вопрос
необходимо. Он оказался бы таким: возможно ли критиковать историзм от
имени чего-то*другого, кроме истины и науки (ценности универсализма,
всевременности, бесконечной ценности и т. д.); и как будет обстоять дело
с наукой, если поставить под вопрос метафизическую ценность истины
χ и т. д2 Как снова вписать действие науки и истины? Это краткое напоми-
з: нание — чтобы обратить внимание на то, что в ходе нашей беседы имя
О Ницше не произносилось ни разу. Случайно ли? В том, о чем мы говорим
CZ I в данный момент, да и во всем остальном это для меня, как вы знаете,
очень важная сноска. В конце концов, само собой разумеется, что дело
• никоим образом не идет о развертывании какого-то дискурса против
истины или против науки (это невозможно и абсурдно, как всякое
обвинение, подогретое на этом предмете). И когда мы систематически анали-
σ зируем значение истины как homoiosis или adaequatio, как достоверность
s cogito (Декарт, Гуссерль) или как достоверность, противоположную ис-
§^ тине, в горизонте абсолютного знания («Феноменология духа»), или,
Φ наконец, как алетейю, раскрытие или присутствие (хайдеггеровская ре-
J" петиция), то это не ради наивного возвращения к релятивистскому или
σ скептическому эмпиризму (ср. особенно «О грамматологии », с. 232, «Раз-
7^ несение», «Теория множеств», с. 45 ["Межи...", с. 7]. Повторю поэтому,
оставляя за этим тезисом и за ее грамматической формой весь их
рассеивающий размах il faut la vérité, истина необходима. Для тех, кто в
порядке (само)мистификации с легкостью имеет ее на губах или в
бутоньерке. Таков закон. Парафразируя Фрейда, который говорит это о
присутствующем/отсутствующем пенисе (но по существу о том же
самом), необходимо признать в истине «нормальный прототип фетиша».
Как без него обойтись?
которым они должны обладать сообща, если общее
название истории прилагается к ним не чисто условно
или по чистой путанице? Здесь-то и возвращается
вопрос о системе сущностных предикатов, мною выше
упоминавшейся. Сократ спрашивает, что такое наука. 5
Ему отвечают: есть вот эта наука, потом еще та, затем
опять же вон та. Сократ упорствует, желая получить
бедный ответ, который, резко отсекая эмпирическое
перечисление, сказал бы ему, как обстоит дело с
научностью науки и почему эти разные науки называют ю
науками. Но когда спрашивается, как обстоит дело с
историчностью истории, что позволяет именовать
историями истории, несводимые к реальности какой-то
всеобщей истории, то дело как раз не идет о
возвращении к вопрошанию сократического типа. Дело идет is
скорее о доказательстве того, что риск
метафизического переприсвоения неустраним, что он является
очень быстро, как только ставится вопрос о концепте
и о смысле или о субстанциальности, необходимо им
правящей. Как только поставлен вопрос об историч- 2о
ности истории — а как этого избежать, если
пользуешься плюралистическим или гетерогенетическим
концептом истории, — сразу подмывает ответить
через определение сущности, чтоиности, восстановить [βΐ]
систему субстанциальных предикатов, и вот мы уже 25
перепланируем семантический фундамент
философской традиции. Философской традиции, которая
всегда в конечном счете возвращается к пониманию
историчности на именно онтологическом фундаменте.
Тогда приходится спрашивать не только в чем «сущ- зо
ность» истории, историчность истории, но и что
такое «история» «сущности» вообще. И если мы хотим
маркировать разрыв между каким-либо «новым
концептом истории» и вопросом о сущности истории (или
о концепте, подчиненном этой сущности), вопросом 35
истории сущности и истории концепта, наконец
истории смысла бытия, то вы прикинете, сколько здесь
еще остается работы.
В конце концов, будь то концепт истории или
какой угодно другой, произвести запросто и мгновенно 40
χ
zr
s
ГО
О
CZ
его изменение или вычеркнуть какое-то слово из
словаря невозможно. Необходимо выработать стратегию
текстовой проработки, которая в каждый данный
момент заимствовала бы старое слово у философии, что-
5 бы тут же снять с него ее штамп. Именно на это я
только что намекал, когда говорил о двойном жесте или о
двойной стратификации. Нужно, с одной стороны,
опрокинуть традиционный концепт истории и в то же
время маркировать отрыв, проследить за тем, чтобы
ίο он не смог уже быть — на почве этого опрокидывания
и просто через самый факт концептуализации —
переприсвоен. Необходимо произвести новую
концептуализацию, разумеется, однако хорошо отдавая себе
отчет в том, что сама по себе эта концептуализация
is как таковая способна снова принести с собой то, что
нам хотелось «критиковать». Вот почему наша
проработка не может быть работой чисто
«теоретической», или «концептуальной», или «дискурсивной»,
я хочу сказать — работой дискурса, целиком регу-
20 лируемого сущностью, смыслом, истиной, желанием-
сказать, сознанием, идеальностью и т. д. То, что я на-
[82] зываю текстом, есть также то, чем вписаны и
«практически» превышены пределы подобного
дискурса. Имеет место подобный ведущий текст везде,
25 где (т. е. просто везде) этот дискурс и его порядок
(сущность, смысл, истина, желание-сказать,
сознание, идеальность и т. д.) превышены, т. е. где их
запрос возвращен на положение меты в цепи, которую
она по этому своему структурному положению хо-
0 зо чет контролировать и иллюзорно якобы контроли-
5 рует. Этот ведущий текст, конечно, не ограничива-
Q- ется, как можно (было бы) сразу понять, написанным
«=t на странице. Его письмо, впрочем, не имеет внешне-
ö го предела, кроме того, который кладется той или
^ 35 иной заметой. Письмо на странице, затем
«литература», суть определенные типы этой заметы. Их надо
расследовать в их специфике, и — с новыми
затратами, если вам угодно — в специфике их «истории», и
в их сочленении с другими «историческими» облас-
40 тями ведущего текста.
Вот почему, короче говоря, я так часто пользуюсь
словом «история», но и столь же часто — с
кавычками и предостережениями, которые могли внушить
представление о каком-то (злоупотреблю этой
формулой, которая однажды заставит меня полюбить дру- 5
гую: «блаженство штампа») «отвержении истории».
Ж.-А.У. — Эти первые развертки сразу преносят
нас на различные оси, по каким идет вширь наша
работа; они равным образом облегчают нам уточнение
нашей позиции в исторической теории, откуда мы при- ю
ходим к формулированию наших вопросов, коль скоро
само собой разумеется, что ваша работа прямо-таки
вызывает к жизни наше собственное вопрошание.
Определим совсем вкратце эту позицию как
позицию материалистической диалектики, диалектико- \ъ
материалистической логики, общая экономия
которой артикулируется исходя из концептуального ряда
«материя (т. е. несводимая гетерогенность по
отношению к субъекту-смыслу) / противоречие / борьба
противоположностей, единство-нераздельность- [вз]
взаимообратимость противоположностей в процессе
их трансформации um. д.», — концептуального ряда,
для нашего нового прочтения которого так много
сделал Альтюссер; ряд этот необходимым образом
включен в экономию, двоякий режим которой дает о себе гъ
знать основополагающим образом в двуединстве,
недавно отмеченном у Соллерса: исторический
материализм/ диалектический материализм ( «Тель Кель»,
43, «Ленин и философский материализм»).
Первый эскиз вопроса: какое отношение, вам ка- зо
жется, устанавливается между этой экономией
диалектико-материалистической логики и той,
которую вы развернули исходя из проблематики письма?
Попытаемся очертить первую, пока еще очень
широкую, сферу этого вопроса, поскольку у нас бу- ъъ
дет наверное случай постоянно сюда возвращаться в
ходе нашей беседы (многочисленные проблемы
обозначаются уже в этом вопросе, и маршрут, каким мы
будем следовать, окажется, возможно, родом
звездообразного маршрута на базе перекраивания, повтор- 4о
ΣΤ
ГО
О
d
ного прохождения вопросов и ответов): если ясно —
и всем только что вами сказанным
подтверждается, — что между двумя этими типами экономии
может быть намечено определенное число точек пере-
5 сечения или по меньшей мере стратегического
сближения, но на почве вашей деконструкции
проблематики знака как носителя фундаментального лого-
центризма, философии сознания или исходной
субъективности, — тогда, возможно, понадобится
ю поставить сегодня проблему статуса этих пунктов
пересечения и/или стратегических сближений.
И, например на путях деконструкции логоцент-
рического дискурса нам кажется неизбежной встреча
с материалистическим текстом, который в нашей
is сфере цивилизации является несомненно
историческим текстом, с давних пор вытесняемым-угнетае-
[84] мым со стороны логоцентристского дискурса
(идеалистического, метафизического, религиозного),
взятого как дискурс доминирующей идеологии в ее
20 различных исторических формах. Согласитесь ли вы с
нами в том, чтобы отметить необходимость
встречи? И не могли бы вы нам сказать, почему эта
необходимость отмечалась до настоящего времени в
вашей работе или маргинальным образом под рубрикой
25 частного вопроса (имею в виду в особенности
неоднократные примечания в «Двойном сеансе»,
одновременно свидетельствующие между прочим о
необходимости, в которой вы тогда находились,
стратегически — и следовало бы даже сказать: полити-
0 зо чески — упорядочить, взять под контроль импликации
5 вашего дискурса), или по способу оставления лакун,
о_ как на тех страницах «Разнесения», где, говоря о
ι=ί постановке под вопрос «сознания в его опирающейся
о на себя достоверности», вы отсылаете к Ницше и к
^ 35 Фрейду, оставляя во взвешенном состоянии (однако
взвешенность эта сама по себе прекрасно
прочитывается) отсылку к Марксу, а с Марксом к диалектико-
материалистическому тексту? Впрочем, верно то,
что у Маркса, как у Энгельса и у Ленина, эта по-
40 становка под вопрос достоверной сознательной
75
самости осуществляется, строго говоря, не
«исходя из мотива разнесения » и что здесь вступает в игру
(начала вступать в игру уже давно) другая общая
экономия, согласно концептуальному ряду, только
что кратко перечисленному, куда следовало бы ъ
здесь добавить еще марксистский концепт
«идеологии».
— Естествено, я не могу ответить одним словом на
эти вопросы. С чего начать? Тут есть то, что вы
называете этой «встречей»у которая мне действительно ю
кажется, уже давно, абсолютно необходимой. Вы
можете себе представить, что это не оставалось для меня
полностью неосознанным. При всем том я настаиваю
на своем мнении, что нет никакого выигрыша,
теоретического или политического, от форсирования кон- [в5]
тактов или альянсов, пока их условия не доведены до
строгой ясности. На данный момент это могло бы
иметь следствием только догматизм, путаницу,
оппортунизм. Обязывать себя к такому благоразумию —
значит принимать всерьез марксистский текст, его 2о
трудность, а также и его неоднородность, решающую
важность его исторической роли.
Так откуда же начать? Если бы кому-то захотелось
схематизировать, — но это действительно всего лишь
схема, — то мои попытки можно также вписать под 25
рубрику «критики идеализма». Само собой
разумеется поэтому, что в диалектическом материализме, по
крайней мере насколько он ведет такую критику,
ничто не вызывает с моей стороны ни малейшей
настороженности и ничего подобного я никогда в этом смыс- зо
ле не выражал.
«Лакуны», вами упомянутые, — прошу вас дать
мне здесь кредит доверия, — эксплицитно
рассчитаны для обозначения тех мест, где теоретическая
разработка, с моей стороны по крайней мере, еще пред- ъъ
стоит. И это именно лакуны, а не возражения, у них
совершенно специфический и продуманный статус,
отважусь ли сказать здесь — определенная
продуктивность. Говоря «с моей стороны», я понимаю вот
что: между проработкой, за которую я берусь, зада- 4о
ZJ
о
ω
=г
ГО
О
CZ
чей ограниченной, но имеющей свою сферу и грани,
мыслимой только в известной очень определенной
исторической, политической, теоретической и т. д.
ситуации, между этой моей работой и, скажем, всем
5 текстом, всей марксистской концептуальностью, не
может быть непосредственно данного контакта.
Воображать его значило бы смазывать специфику
областей и ограничивать их действительную
подвижность. Дело в том, что в обоих случаях речь идет,
ю скажем так для краткости, об «областях»,
включающих возможность практической трансформации и
открытость ей. И когда я говорю «еще предстоит», то
думаю еще прежде всего об отношении Маркса к Ге-
[86] гелю и о тех вопросах, о которых мы только что гово-
15 рили (диалектика, различение, противоречие и т. д.).
Несмотря на громадную работу, уже выполненную в
этой сфере, решающая проработка тут еще не была
осуществлена, притом по императивным
историческим причинам, которые удастся проанализировать
20 как раз только в ходе проработки, не иначе.
В том, что я начал здесь предлагать, я пытаюсь
учитывать известные недавние приобретения или
определенные незавершенные попытки по линии
философии, семиологии, лингвистики, психоанализа и т. д.
25 Так или иначе, мы не можем рассматривать текст
Маркса, текст Энгельса или Ленина как полностью
завершенную разработку, которую оставалось бы просто
«прилагать» к актуальной ситуации. Высказывая это,
я не выдвигаю ничего идущего вразрез с «марксиз-
σ зо мом», я в том убежден. Не надо читать эти тексты по
s герменевтической или экзегетической методе, кото-
CL рая выискивала бы там некое завершенное означаемое
«=1 под текстовой поверхностью. Чтение трансформатив-
σ но. Мне кажется, подтверждением здесь могли бы
^ 35 быть некоторые тезисы Альтюссера. Но
трансформация эта производится не как попало. Она нуждается в
процедурах чтения. Почему не сказать резко: я не
нашел еще пока таких, которые бы меня удовлетворяли.
Как никогда я не трактовал текст Соссюра, текст
40 Фрейда или любой другой текст в виде гомогенного
77
объема (именно этот мотив гомогенности, мотив
преимущественно теологический, надо решительно
разрушить), так никогда текст Маркса, Энгельса или
Ленина не представал передо мной в виде некой
гомогенной критики. В их отношении к Гегелю, напри- ;
мер. И манера, в какой сами они осознавали и
формулировали дифференцированную или противоречивую
структуру своего отношения к Гегелю, не показалась
мне, обоснованно или нет, удовлетворительной. Мне
придется, стало быть, проанализировать то, в чем я [87]
вижу гетерогенность, концептуализировать ее
необходимость, правило дешифровки, учитывая притом
решающие шаги, одновременно сделанные Альтюссе-
ром и вслед за ним. Все это ставит много вопросов, и я
не смогу вам сказать сегодня ничего, что не прочиты- is
валось бы в тех умолчаниях и в тех примечаниях, о
которых вы упомянули, по крайней мере для
пожелавшего проследить за их взаимосвязью. Они отсылают
прежде всего к той обшей экономии, черты которой я
попытался обрисовать, отталкиваясь от Батая. Само го
собой разумеется, что если, и в той мере, в какой
внутри этой общей экономии материя, как вы говорили,
означает радикальную инаковость (уточню: по
отношению к философской оппозиции), то мои писания
могут считаться «материалистическими». 25
Как вы догадываетесь, все обстоит не таким
простым образом. Вовсе не всегда в материалистическом
тексте вообще (существует ли что-то подобное,
материалистический текст вообще) и не во всяком
материалистическом тексте концепт материи определяется зо
как абсолютная внеположность или радикальная
гетерогенность. Я не уверен даже, что можно
сформулировать «концепт» абсолютной внеположности. Если
я мало пользуюсь словом «материя», то это, вы
знаете, не из подозрительности идеалистического или спи- 35
ритуалистического типа. Беда в том, что внутри
логики или внутри фазы перевертывания мы слишком часто
видели этот концепт снова нагруженным «логоцент-
рическими» ценностями в связи с ценностями
вещности, реальности, вообще присутствия, например чув- 40
ственного присутствия, субстанциальной полноты,
содержания, референда и т. д. Реализм или
сенсуализм, «эмпиризм» суть модификации логоцентризма
(я много настаивал на том факте, что «письмо» или
5 «текст» тоже не редуцируются к чувственному или
[88] зримому присутствию графики или «буквальности»).
Короче, означаемое «материя» представляется мне
проблематичным только в момент, когда его новое
включение оказывается отягощено превращением его
ю в новый основополагающий принцип, так что в
порядке теоретической регрессии оно снова возводится в
«трансцендентальное означаемое».
Трансцендентальное означаемое — прибежище не только идеализма в
узком смысле. Оно всегда может прийти для подкреп-
15 ления метафизического материализма. Оно
становится тогда последним референдом, согласно
классической логике, имплицируемой этим значением
референда, или «объективной реальностью»,
абсолютно «предшествующей» всякой работе означива-
20 ния, семантическим содержанием или формой
присутствия, гарантирующей извне движение общего текста
(у меня нет уверенности, что ленинский анализ,
например, никогда не сбивается на эту операцию; и если
он это делает из стратегии, то надо сперва, нам надо
25 сперва заново выработать — в трансформативном
письме — правила этой стратегии. Тогда никакая
оговорка не имела бы силы). Вот почему о концепте
материи я не скажу ни что этот концепт в себе
метафизичен, ни что это концепт сам по себе неметафизический.
σ зо Все будет зависеть от проработки, для которой он ос-
s тавляет место, и вы знаете, что я неизменно настаи-
Q-
Q- вал, по поводу не-идеальнои экстериорности письма,
«=t граммы, следа, текста и т. д., на необходимости никог-
ö да не отделять их от работы, ценности, в свою оче-
^ 35 редь подлежащей переосмыслению за пределами ее
гегелевской принадлежности. Что здесь заявляет о
себе, как я попытался показать в «Двойном сеансе»
(двойной науке, двойном смысле, двойной сцене), так
это опять же операция двойной меты или заметы. Кон-
40 цепт материи должен быть мечен дважды (другие
тоже): в деконструируемом поле24, это фаза
перевертывания, и в реконструирующем тексте, вне оппози- [89]
ций, в составе которых он был взят (материя/дух,
материя/идеальность, материя/форма и т. д.). Играя на
этом перепаде между двумя метами, мы сможем про- 5
изводить одновременно деконструкцию
перевертывания и деконструкцию позитивного смещения,
трансгрессии, переступания границ.
Строго вписанная в общую экономию (Батай)25 и в
двойное письмо, о котором мы только что говорили, ю
позиция подчеркивания материи как абсолютной вне-
положности всякой противоположности,
материалистическая позиция (в сочетании с тем, что
«материализм» представлял как сила сопротивления в истории
философии) мне кажется необходимой. Она таковой is
является в неравной мере смотря по регионам,
стратегическим ситуациям, практическим и теоретическим
прорывам. В некой очень определенной области самой
актуальной ситуации она может, я думаю, выполнять
функцию превентивную, чтобы неизбежная генерали- го
зация концепта текста, его чисто внешнее
беспредельное расширение не привели — под воздействием
вполне определенных интересов, реактивных сил,
настроенных запутать всю работу в блужданиях, —
чтобы они не привели, говорю я, к формированию ка- 25
кой-то новой самозамкнутой интериорности, к
новому, если хотите, «идеализму» текста. Надо
действительно избегать того, чтобы необходимая критика
известного наивного отношения к означаемому или к
референту, к смыслу или к вещи, не фиксировалась на зо
приостановке, тем более на простом голом подавле-
Z1
о
ω
24 Чтобы резюмировать то, что его метит внутри деконструируе-
мого поля, еще раз процитирую Ницше: «Отрешимся от понятия
"субъекта" и "объекта", потом от понятия "субстанции" и дальше от
понятия их различных модификаций, например, "материи", "духа" и
прочих гипотетических сущностей, от вечности и от неизменности
материи и т. д. Мы избавимся так от материальности. Я отсылаю также к
"Несвоевременным" ..л, 2.
25 Позволю себе напомнить здесь, что тексты, на которые вы делали
ссылку (особенно «Двойной сеанс», «Рассеивание», «Белая мифология»,
но также «Фармация Платона» и некоторые другие), намеренно встают
в отношение к Батаю, даже открыто предлагают прочтение Батая.
80
нии смысла и референции. Я, по-моему, принял меры
предосторожности с этой стороны в выдвинутых мною
тезисах. Но правда то, и в доказательствах
недостатка нет, что усилий никогда не достаточно. В чем мы
5 имеем нужду, так это в другом определении, согласно
системе дифференциации, следствий (эффектов)
идеальности, значения, смысла и референции. (Придется
заодно резервировать какой-то систематический
анализ за этим словом «эффект», так часто сегодня при-
ю меняемым, что само по себе не лишено значения, и за
новым концептом, который оно метит в довольно еще
пока нерешительной манере. Употребительность
слова возрастает прямо пропорционально этой активной
неопределенности. Концепт, идущий к своему консти-
15 туированию, производит сначала род локализуемой
вспышки внутри работы именования. Этот «новый»
концепт эффекта заимствует свои черты
одновременно у оппозиции причина/следствие и у оппозиции
сущность/явление (воздействие, отражение), тем не
го менее к ним не сводясь. Именно эту бахрому
несводимости и следовало бы проанализировать).
Разумеется, при рассмотрении этой проблемы
смысла и референции требуется удвоенное
благоразумие. «Диалектика » того же и другого, внешнего и внут-
25 реннего, однородного и разнородного, вы это знаете,
из самых коварных1*. Внешнее может всегда снова стать
«объектом» внутри полярности субъект/объект или
надежной «реальностью» внетекстового пространства,
а «внутреннее» бывает иногда настолько же тревожа-
σ зо щим, насколько внешнее — успокаивающим. Не надо
? ошибаться на этот счет, когда пускают в ход критику
о. [91] интериорности и субъективности27. Мы тут внутри
et
О 26 На этот предмет, и особенно о парадоксах асимметрии и ина-
^ ковости ср. например «Насилие и метафизика*, в «Письме и
различении».
27 Не надо возводить и гетерогенность материи в трансценденцию,
будь она трансценденцией Закона, Великого Внешнего Объекта
(учреждающая и утешающая строгость отеческой инстанции) или Стихии
(утешительной и/или жестокой) матери (см. то, что Фрейд говорит о
хорошо известном отношении мать/материя в пассаже, где он обращает
также внимание на то, что не сводится при анализе к варьированию
крайне сложной логики. Импровизированная речь
беседы не может служить заменой текстовой работе.
Ж.-Л.У. — Можно тогда коснуться другого
вопроса, включение которого мы предусматривали на
более поздний момент, но ваш ответ приглашает его
неким образом уже теперь. В этом стратегическом
упорядочении совокупности вашей работы, о
фундаментальной логике которой вы нам только что
напомнили, особенно в связи с этой двойной разметкой
(перевертывание/трансгрессия
дсконструированного философского поля), — вы, по существу, были
вынуждены принять в расчет определенный тип
текстовой работы, в отношении которой могла бы
тогда встать проблема статуса вашего
собственного дискурса; я хочу сказать, что в вашей проработке
Малларме, Арто, Батая, Соллерса есть что-то
неслыханное сравнительно с тем, к чему нас приучила
классическая философия: дело уже явно не идет об
отдохновении эстета, о комментарии, дублирующем
определенные «поэтические красоты », чему во
Франции можно было снова и снова видеть примеры. Как
раз в контексте всего того, что вы сейчас
обрисовали, особенно в отношении необходимости этой
встречи с материалистическим текстом, не смогли
бы вы в таком случае определить теперь отношение
вашей работы к так называемой «литературной »
работе с текстом, играющей такую важную роль в
вашей рефлексии?
Г.С. — Чтобы проставить акценты над только
что предложенным вопросом: в таком тексте, как
«Рассеивание », вы совершенно прекрасно отмечаете
лингвистическиху словесных означающих «Введение в психоанализ»;
ср. также конец моего текста «Фрейд и сцена письма»). Отсюда не
следует, что материя лишена всякого необходимого отношения к этим
инстанциям, но тут имеет место отношение письменного сцепления, игра
с подстановками различительных мет, соотносящая материю также и с
письмом, с остатком, смертью, фаллосом, экскрементами, ребенком,
семенем и т. д., по крайней мере с тем, что не может быть отделено от
всего этого. И стало быть это требует, чтобы из материи не делали ни
нового сущностного определения бытия сущего, центра новой
онтологии, ни нового примера слов-господ', решительно критикуемых
Марксом, например, в «Немецкой идеологии».
§
η
Ο
то, в чем заключается практика Соллерса,
одновременно продуцирование и вместе с тем выход за грань
продуцирования, практика непродуцирования,
«операция аннулирования, вычета и определенного тек-
5 стового нуля»; отмечаемое здесь вами мне кажется
безусловно важным: текст Соллерса, разрыв,
осуществляемый им в поле означающего, «литературы»,
достигается исходя из этого двойного регистра
продуцирования и не-продуцирования, без того чтобы
ю можно было бы отдать тут первенство одному из
двух термов относительно другого; я хотел бы
знать, как вам кажется, обязан ли подобной логике
такой дискурс как ваш.
— У меня искушение ответить очень быстро: да.
is Именно это, во всяком случае, я и хотел бы делать.
Я попытался описать и объяснить, как письмо в себе
самом несет свой процесс стирания и аннулирования,
остаток такого стирания при этом маркируя в
согласии с логикой, резюмировать которую здесь было бы
го очень трудно. Я сказал бы, что пытался это делать все
больше и больше, по правилу возрастания
сложности, генерализации или аккумуляции, что не
преминуло вызвать, кстати об упоминавшихся вами последних
публикациях, сопротивление или отказ в честном су-
25 допроизводстве со стороны самых подготовленных
читателей.
[93] Да, так вот, о «двойном регистре ». Остается в силе,
что он не дан при первом приближении в сфере так
называемой «литературы», но сложился в опоре на
0 зо тексты, принадлежащие известным образом к «исто-
s рии философии». На этот путь меня подтолкнуло то
о. убеждение, что если не разработать генеральную стра-
с=£ тегию, теоретическую и систематическую, философ-
σ ской деконструкции, то текстовые вторжения всегда
^ 35 рискуют по ходу дела снова впасть в избыточность или
в эмпиристскую эссеистичность и, часто в то же
самое время, в метафизическую классичность; этого я
хотел избежать. Но мне небезызвестно, что в таком
случае на первых порах подвергаешься риску обрат-
40 ного и симметричного характера. Просто несмотря на
все знаки «благоразумия», которые я множу со
времени начала нашей дискуссии, известным родам
риска, по-моему, подвергать себя все-таки приходится.
Я не могу «обговорить» письмо или, как еще
говорилось, «композицию» текстов, о которых речь, это 5
последняя вещь, с которой удалось бы справиться
средствами беседы. Отмечу только, что действие
(эффект) теоретических тезисов, какие я счел
необходимым сюда включить, часто искажало эту текстуру; и
наоборот; я со своей стороны раздумывал над этим ю
сколько только мог.
Да, бесспорно, некоторые тексты, идущие по
разряду «литературных», мне показалось, осуществляют
прорывы или взломы самого широкого размаха: Αρτο,
Батай, Малларме, Соллерс. Почему? Хотя бы по той is
причине, которая внушает нам подозрение к
именованию «литература» и к тому, что подчиняет ее
концепт изящной словесности, искусствам, поэзии,
риторике и философии. Эти тексты осуществляют, в самом
своем движении, манифестацию и практическую де- 2о
конструкцию того представления, которое люди
составили себе о литературе, при том что, разумеется,
задолго до этих текстов «модерна »определенная «ли- [94]
тературная» практика давно могла уже работать
против этой модели, против этого представления. Но гъ
именно в опоре на эти последние тексты, в опоре на
общую конфигурацию, которая там заметна, лучше
всего переосмыслить, без ретроспективной
телеологии, закономерность прежних прорывов.
Некоторые тексты, стало быть, и среди них толь- зо
ко что вами упоминавшиеся, как мне показалось,
намечают и выстраивают некую структуру
сопротивления той системе философских концептов, которая
вроде бы притязала на господство над ними, на их
охват, будь то прямой, будь то через категории, ответ- 35
вившиеся от этого философского основания,
категории эстетики, риторики или критики в традиционном
смысле. Например, ценности смысла или содержания,
формы или означающего, метафоры/метонимии,
истины, изображения и т. д., по крайней мере в их клас- 4о
84
сической форме, неспособны уже дать тут отчет в
некоторых очень определенных эффектах. Именно это
я попытался отметить по поводу «Чисел» (и
предшествующей беллетристики) Соллерса, по поводу «Ми-
5 мики» (и целой группы других сочинений) Малларме,
причем снова поднимая самый общий вопрос об
«истине» в его связи со столь же общим вопросом о
«литературности». Решающий прогресс последнего
полувека состоял, по-моему, именно в эксплицитной
ю формулировке вопроса о литературности, особенно
начиная с русских формалистов (не только в опоре на
них: по причине целой совокупности исторических не-
обходимостей, наиболее непосредственной детерми-
нантой коих была определенная трансформация са-
15 мой по себе литературной практики). Возникновение
этого вопроса о литературности позволило избежать
определенного числа редукций и недопониманий,
которые всегда будут иметь тенденцию к рецидивам (те-
матизм, социологизм, историцизм, психологизм под
|[9з] самыми замаскированными формами). Отсюда
необходимость формальной и синтаксической
проработки. Тем не менее симметрическая реакция или
редукция, возможно, вырисовывается уже теперь: она могла
бы заключаться в изолировании, ради ее сбережения,
25 некой формальной специфики литературности,
получающей тогда собственное существо и собственную
истину, которую уже не придется больше приписывать
к другим сферам, теоретическим или практическим.
^^ Отсюда движение, эскиз которого я дал в «Двойном
0 зо сеансе»28, маркировать определенное недоверие в от-
? ношении мотива «литературности» и в то же самое
о. время противопоставить ее упрямую настойчивость
с=1 совокупности того, что я называю миметологизмом
ö (не мимезисом, но определенной интерпретацией ми-
^ 35 мезиса). Все проходит через этот хиазм, все письмо им
охвачено — практика. Форма хиазма, этого χ, очень
меня интересует, не как символ неведомого, но
потому что тут имеет место, как подчеркнуто в «Рассеива-
28 Тель Кель. 41, с. 6 и 35 ("Рассеивание", с. 203-209 и 253).
нии», род вилки, развилки (это серия перекресток,
carrefour от лат. quadrifurcum двойная развилка, grille
решетка, claie плетенка, clé ключ и т. д.), вообще
говоря неравномерной, когда одно острие простирается
дальше другого: фигура двойного жеста и пересече- 5
ния, о которой мы только что говорили. Так вот,
чтобы ответить на ваш вопрос, я скажу, что мои тексты
не принадлежат ни к регистру «философских», ни к
регистру «литературных». Они сообщаются таким
образом, надеюсь по крайней мере, с другими, кото- ю
рые благодаря определенному произведенному в них
прорыву именуются «философскими» или
«литературными» уже только в порядке своего рода палеони-
мии: вопрос о палеонимии: в чем стратегическая
необходимость (и почему мы еще называем страте- \ъ
гической операцию, которая отказывается в конечном
счете подчиниться телео-эсхатологическому
горизонту? до какой степени отказ этот возможен и как он [щ
выговаривает себе условия своей действенности?
почему он их обязан себе выговаривать, вплоть до воп- 2о
роса о самом этом почему} почему стратегия
склонна отсылать скорее к игре стратагемы, чем к
иерархической организации средств и целей? и т. д. Не
так уж быстро удастся переварить эти вопросы), в чем,
я говорю, «стратегическая » необходимость, велящая 25
иногда сохранить старое имя, чтобы пустить в ход
новый концепт? Со всеми оговорками, диктуемыми
этим классическим разграничением имени и
концепта, можно было бы начать описание этой операции.
После учета того факта, что именем именуется не то- зо
чечная простота концепта, но концептуальная
структура, центрированная вокруг того или иного
предиката, мы переходим: 1) к выделению определенной
предикативной черты, которая редуцирована,
задвинута в резерв, ограничена внутри некой концептуаль- 35
ной структуры (ограничена по мотивам и ввиду
соотношений, обязательно требующих анализа),
именуемой X; 2) к разграничению, к прививке и к
упорядоченному расширению этого отобранного
предиката, причем имя X сохраняется на правах рычага воз- 4о
m
О
cz
действия и для сохранения контроля над прежней
организацией, которую предстоит действенно
трансформировать. Итак, отбор, прививка, расширение: вы
знаете, что все это я и называю, сообразно только что
5 мною описанному процессу, письмом.
Ж.-Л. У. — Еще раз поднимем тогда, следуя
звездообразному движению нашего маршрута, проблему, уже
поставленную в одном из предшествовавших вопросов
и прямо-таки напрашивающуюся сама собой в связи с
ю тем, что вы сейчас сказали касательно этой темы
«старого имени». Среди вещей вами сейчас
сформулированных я поддержу тот безусловно точный факт,
что материалистический текст в истории его
вытеснения не был защищен от опасностей, заложенных в
is любой форме простого перевертывания доминирующе-
[97] го идеалистического дискурса; этот
материалистический дискурс мог таким путем принимать
метафизическую (т. е. механистическую, не-диалектическую)
форму, оставаясь пленником оппозитивных пар доми-
20 пирующего (идеалистического, метафизического)
дискурса, пар, внутри которых этот
материалистический дискурс осуществляет свои перевертывания
сообразно известной тактике, т. е. следуя
определенному жесту, которым этот (механистический)
Mais териализм неспособен совершенно овладеть.
Однако, вы сами это отметили, в осуществлении
определенной стратегии это перевертывание — не
ничто (оно не исчерпывается чисто зеркальным
отношением), и его результат (как результат всякого
σ зо процесса противоречия) «неравен нулю»; это пере-
5 вертывание, «которое не ничто», само включено в
а. историю, дифференцированную историю материа-
i=t лизма и диалектики, куда необходимо вплетено уча-
σ стие — и действенность — политического в его вли-
^ 35 янии на идеологическое.
С другой стороны, это факт, что в своей
диалектической форме, такой, какая смогла сложиться
особенно от Маркса к Ленину, после Гегеля,
материалистический текст едва ли сводится к изнанке
40 определенной позиции (идеалистической) внутри од-
ной и mou же метафизической пары, но наоборот, как
отмечал Соллерс в «Ленин и философский
материализм» (Тель Кель, № 43), он стоит в
асимметрической позиции по отношению к идеалистическому
дискурсу, чью линейную парность он преодолевает. ъ
Тогда, взяв один аспект идущей у нас дискуссии,
а именно в этом пространстве вопроса о «старых
именах», не думаете ли вы, что с концептом
противоречия дело обстоит так же, как с концептом
бессознательного, коль скоро вы пришли к определению ю
фрейдовского бессознательного как меты «инаково-
сти », «решительно изъятой из всякого процесса
презентации, который позволил бы нам назвать ее явля- [98]
ющейся лично», так что хотя Фрейд дает этой
«инаковости» «метафизическое имя бессознатель- \ъ
ного», обозначенный таким путем концепт, каким
он функционирует в экономии фрейдовских теории и
практики, ускользает в своем строгом смысле от
метафизической редукции; не так ли точно и с
противоречием: оно «метафизическое имя», ее ли думать о го
его включенности в гегелевскую диалектику,
насколько эта последняя может рассматриваться как сверх-
детерминированная телеологическим движением
снятия, Aufhebung; но то, что обозначается этим
концептом, так именуемым, в экономии материали- гъ
стической диалектики, не имеет уже ничего общего,
в своем строгом смысле, именно с метафизическим
дискурсом, тем более что понадобилось бы еще,
наверное, обсудить само это название
«метафизическое имя» применительно к концепту противоречия, зо
вплоть даже и до его гегелевского применения:
а) поскольку целая линия метафизической мысли
(логоцентризм, по сути дела) выступала и
продолжает эксплицитно выступать как вытеснение-
подавление, взломать и открыть которое (в сторону 35
его вытесняемого-подавляемого) в исторически
крайне важном жесте приходит гегелевская диалектика,
совершая движение, в отношении которого
диалектический материализм является исторически моментом
перевертывания и перемещения на другую почву; 40
б) поскольку противоречие, рефлексия о
противоречии есть безусловно фундаментальный мотив
материалистического текста,
вытесняемого-подавляемого (идеологически и политически) на протяже-
5 нии веков, и уже упоминавшиеся сложности с его
разработкой не должны заслонять то обстоятельство,
что в своем диалектическом основании он
преодолевает метафизический дискурс (не тонет в нем от
[99] начала и до конца) в той мере, в какой то, что полу-
ю чило именование «духа »или «сознания» ,помыслено
материализмом как одна из форм материи (со времен,
например, Лукреция, говорящего о «телесной
природе души и духа»), в свою очередь получающей в
качестве философского концепта основополагающее
is определение через свое «"единственное" свойство », как
говорит Ленин, «быть объективной реальностью,
существовать вне нашего сознания», или, повторяя
одно недавнее высказывание из области диалектико-
материалистического анализа практики означива-
20 ния, как то, что «не есть смысл »,то, «что есть без
него, вне его и вопреки ему» (Кристева), причем эта
радикальная гетерогенность (материя/смысл)
определяется одновременно «как поле противоречия»).
Но в таком случае, наверное, следовало бы попро-
25 сить вас уточнить, каким будет статус
«разнесения», différance, и имплицируемой им логики
относительно противоречия, причем мы можем
вспомнить, чтобы облегчить впредь скачок к другим
вопросам, что в том же тексте ( «Материя, смысл,
σ зо диалектика», Τ ель Кель №44,) Кристева определя-
5 ла противоречие как «матрицу означивания»,
cl — Не могу вам тут построить ответ, принципиаль-
i=t но отличающийся от того, который я начал по поводу
σ концепта «материя ». Я не считаю, что может суще-
^ 35 ствовать «факт», позволивший бы нам сказать: в
марксистском тексте вообще противоречие вообще,
диалектика вообще избегает подчинения метафизике
вообще. С другой стороны, вы говорите, цитируя
Ленина, «единственное свойство »быть «объективной ре-
40 альностью, существовать вне нашего сознания ». Каж-
дый элемент этого тезиса поднимает, признайте это,
серьезные проблемы. В нем надо проанализировать
всю накипь, доставшуюся от истории метафизики.
Если он действительно в конечном счете и единствен- [ню]
но в этой форме стоит во главе философского текста 5
Ленина, то не ему убедить меня в том, что ленинская
мысль порвала с метафизикой. Теперь, везде, где, и в
той мере, в какой мотив противоречия действительно
функционирует в текстовой работе вне спекулятивной
диалектики и с учетом новой проблематики смысла ю
(можно ли говорить, что она разработана у Маркса и
у Ленина? И будет ли антимарксистским в этом
сомневаться? Не достаточно ли исторических необходимо-
стей для объяснения, оправдания этого?), я за.
Видите ли, еще раз, я не думаю, что мы вправе говорить, is
даже с марксистской точки зрения, о гомогенном
марксистском тексте, который немедленно освобождал
бы концепт противоречия от его спекулятивного,
телеологического, эсхатологического горизонта. Если
мы хотим отыскать местоположение того, что вы на- 2о
зываете «вытесняемым» философии, особенно в том
что касается материи и противоречия, надо вернуться
не только к Марксу, как минимум к целой страте
открытого им текста, но еще гораздо дальше, как сам он
понимал, вплоть до так называемых «греческих мате- гъ
риалистов», преодолевая крайне трудные проблемы
прочтения и «перевода», плохо позволяющие
предвидеть результаты в нашей лексике. Неким образом мы
здесь на стадии лепета. (В «Двойном сеансе* я
ограничился отсылкой, в некоторых щепетильных пунк- зо
тах, к демокритовскому «rythmos» (письмо и ритм
одновременно), важному, мне кажется, термину
системы, которую Платон, наверное, пытался
редуцировать к молчанию, «онтологизируя» ее29. Пока
работа эта, предполагающая громадный и подробный [ш]
29 Помимо чтения анализов Бенвениста, которые я цитировал в
«Двойном сеансе», моими гидами по этой области были работы и
уроки H. Wismann'a и J. Bollack'a.
В ходе одного семинара в «Эколь нормаль» я попытался
рассмотреть с этой точки зрения текст «Тимея» и очень проблематичное
понятие места, chora.
90
маршрут чтения, не выполнена, на что потребуется
много времени, до тех пор в этой области
сохранится фундаментальная неопределенность. Не то что
весь научный процесс надо приостановить вплоть до
5 какого-то филологического открытия. Но
стратегический выбор означающих (над чем мы здесь бьемся)
не может быть совершенно независим от этих
исторических чтений.
Ж.-Л. У. — Я ощущаю полное единодушие с вами
ю по этому вопросу и ни в коем случае не вздумал бы
воображать, что существует, говоря о концепте
противоречия, какой-то со всех сторон гомогенный
марксистский текст, Я спрашивал себя только, нельзя
ли считать, что во всякой материалистической ус-
15 тановке, в ее основе (вот почему я вспомнил стих
Лукреция, отмечающий «телесную природу души и
духа»), причем в порядке структурно необходимого
включения, имеет место двоякий мотив «материи »
и «противоречия » ; это и заставило меня тогда сно-
20 ва, но под другим углом, поставить вам вопрос об
отношении между логикой, выявляющей этот
двойной регистр «материя/противоречие », и логикой,
имплицированной в мотиве «разнесения»:
отношение тут оказывается необходимым ввиду самого того
25 факта, что вашу работу можно понять, вы это
подчеркнули, как критику идеализма; и сам вопрос тоже
необходим в той мере, в какой оба типа логик, о ко-
rffàk торых речь, не совпадают до точности. Например,
^■^ допускаете ли вы сейчас в вашей работе, что, отправ-
0 зо ляясь от экономии, в которой концепт противоре-
§■ чия не возникает, вы развертываете возможность
о. [юг] какого-то отношения к экономии, связанной с моти-
ct вом «материя/противоречие »?
о — Концепт противоречия не занимает переднюю
^ 35 часть сцены по причинам, на которые я только что
ссылался (относительно Гегеля: «Этот парень требует
времени, чтобы его переварить», Энгельс, о Гегеле;
письмо К. Шмидту от 1.11.1891). Но что до ядра, или скорее
перепада, образующего концепт и производные (эф-
40 фекты) противоречия (разнесение и конфликт, и т. д.),
91
то написанное мною кажется мне совершенно
эксплицитным.
Ж.-Л.У. — Возможно, нам удастся тогда
дополнительно уточнить смысл нашего вопроса, перенеся
его в очень конкретную область. ъ
Г.С. — В «Навеянном слове», например, вы
говорите об отношении Арто к метафизике; вы
подчеркиваете, что один и тот же Арто взывает к
системе метафизики и одновременно ее расшатывает,
разрушает, преодолевает на практике. Эта практи- ι о
ка расшатывания, преодоления, деструкции — не
кажется ли вам, что она обнаруживает какую-то
логику противоречия, очищенную от спекулятивных
привнесений ?
— Да, почему бы и нет? С условием, что мы опре- is
делим концепт противоречия с необходимыми
критическими предосторожностями, прояснив ее
отношение или ее безотносительность к гегелевской
«Логике». Легко сказать, конечно. (Я пишу о
противоречии и о диалектике с этой точки зрения в одном 2о
из текстов об Арто.)
Ж.-Л.У. — Коль скоро нам пришлось снова
заговорить о Гегеле, то, может быть сейчас, как раз
момент ввести еще один вопрос, перекроив ранее
поставленный вопрос касательно отношения между вашей гъ
работой и «литературным» текстом, т. е.
определенным типом означивающего функционирования.
Я думаю в особенности о вашей работе «Колодец и пи- [юз]
рамида {введение в семиологию Гегеля)»: что, среди
прочего, делает текст Гегеля особенно заворажива- зо
ющим, так это возможность найти в нем
одновременно и процесс «переприсвоения смысла »,
доведенный до самой высокой степени диалектической
сложности (так вы пришли к тому, чтобы написать
в «Грамматологии » : «Гегель, последний философ ъъ
Книги»), и вместе эту практику означивающей
логики, внимательной к своей собственной
вписанности в язык, в сцену языка (и вы добавляете: Гегель,
«первый мыслитель письма»); относительно Гегеля,
стало быть, что должно, по-вашему, восходить к 4о
92
процессу гегелевской диалектики как таковой?
Какова доля «письма » в Гегеле? И если вы производите в
отношении его операцию «низшего и радикального
смещения », то производите ли вы ее, двигаясь по со-
5 вершенно внеположному плацдарму, а если нет, то
что в гегельянстве могло бы составлять для вас
частицу того, что марксистский текст, со своей
стороны, нашел возможным назвать «рациональным
зерном » гегелевской диалектики ?
ю — Чтобы ответить в непосредственной манере,
я скажу: вообще никогда не по плацдарму, или по
чисто внешнему. Но ваш вопрос очень труден. Мы никогда
не дойдем до конца в деле чтения и перечитывания
гегелевского текста и, в определенном смысле, я ничего
is другого и не делаю, как только пытаюсь объясниться
по этому пункту. Я думаю, собственно, что текст
Гегеля по необходимости порист; что он что-то большее
и другое, чем закругленная очерченность его
репрезентации. Он не сводится к сумме философем, он про-
20 изводит с равной необходимостью мощную операцию
письма, некий остаток письма, и тут надо
перепроверить странное отношение, завязываемое им с фило-
|[104] софским содержанием, то движение, каким он
выходит за рамки своего хочу-сказать, позволяет себя
25 отклонить, повернуть, воспроизвести вне рамок
своей самотождественности. На эту тему можно найти
указания крайне интересные, хотя, конечно, не
исчерпывающие, у Фейербаха, который по крайней мере
поставил проблему Гегеля-писателя, проблему опреде-
зо ленного противоречия (это его слово) между
гегелевским письмом и его «системой». Я не могу сей-
Q- час входить в детали, но сделаю это в тексте, который
et должен выйти предстоящей зимой.
о И все это, весь этот вопрос о «рациональном зер-
^ 35 не » (в таких ли терминах этот вопрос должен
формулироваться сегодня? Я не уверен) не может быть по-
настоящему разработан иначе как проходя в
особенности через чтение Гегеля Марксом,
Энгельсом, Лениным, между прочим в «Тетрадях о диалек-
40 тике» («Философских тетрадях»), которые заслужи-
Ol
93
вают совершенно особенного текстуального внимания
и такого же типа чтения, чего до сего дня не было
возможности попытаться сделать и что сейчас
становится более доступным (таков принцип вашего текста в
«Теории множества», текстов Соллерса и К. Глюке- ί
ман о Ленине в «Тель Кель» и, в общем смысле, работ
группы Тель Кель — мне повод напомнить здесь о
солидарности и о неизменно щедрой поддержке, вы
знаете, вот уже 5-6 лет). Что делает Ленин, когда пишет,
имея в виду то или иное гегелевское высказывание, ι
«читайте» (толкуйте? переосмысляйте? переводите?
понимайте?)? Проследите также за всеми
«метафорами», при помощи которых Ленин пытается определить
отношение диалектического материализма к
гегелевской «Логике», «метафоры» на первый взгляд несо- ι
четающиеся между собой («гениальность»,
«предчувствие» и «система», перевертывание и обезглавление,
генетическое или органическое развитие «семени» или
«зародыша» и т.д.). Взятые каждая отдельно, они [îosj
были бы неудовлетворительны, но в их активной «про- го
тиворечивости» они производят совсем другой
эффект. Есть еще много других30, и это письменное
изобилие фигур, каждая из которых сама по себе нас
иногда отбрасывала бы по сю сторону Гегеля, но
которые взаимно обогащают одна другую, открыто для 25
практической и теоретической задачи нового
определения отношения между логикой диалектического
материализма и гегелевской логикой. Оно поможет
генеральному пересмотру того исторического
пространства, которое я для удобства назвал бы «постге- зо
гелевским», равно как и новым вопросам о письме,
философском письме, о сцене письма и о философии.
Это невозможно сделать иначе как перевписывая эти
тексты в их силу письма и ставя, в занимающем нас
примере, проблему языка Ленина, исторического 35
поля, в котором он писал, очень конкретной ситуации
и политической стратегии, которым подчинено
формирование этих текстов, и т. д.
Z1
о
ω
30 Ср. «Белля мифология», особенно с. 5 ["Межи...", с. 255].
zr
η
О
Ж.-Л.У. — Тут нам, наверное, придется
поставить новые вопросы. По ходу вашего продвижения вы
нашли нужным опереться, например, через чтение
таких текстов как Малларме или Арто, но также и
5 во всей «Грамматологии», на такой предложенный
лингвистикой концепт, как означающее, — концепт,
который вы стратегически вновь вписываете в
другую цепочку (разнесение/письмо/след), по
отношению к которой вы его ставите в позицию зависимос-
ю гаи. Зависимости, между прочим, сложной, поскольку
в этом концепте означающего намечена также, в
самом же вашем тексте, другая цепочка, которая не
[106] сводится (по крайней мере на мой взгляд) к первой
цепочке: внеположность-гетерогенность означающе-
15 го (вы говорите также о теле, о «письме тела») по
отношению к этому прямому схватыванию
означаемого согласно классической метафизической теме, в
непосредственной близости сознания к самому себе.
Таким образом к мотиву разнесения (différance) как
20 «возможности концептуальности, ее процесса и
концептуальной системы вообще» с необходимостью
присоединяется другой мотив, в силу которого эта
«возможность «сама получает определение в
качестве никогда не отсылающей к какому-то трансцен-
25 дентальному эго (единство некоего «я мыслю»), но
как бы вписывающейся в область, радикально
внеположную субъекту, который «становится говорящим
субъектом только вступая в отношения с системой
языковых различений», или еще: «становится озна-
σ зо чающим (вообще, через слово или другой знак) толь-
? ко вписываясь в систему различений». Причем эти
о. «различения », говорите вы, не «упали с неба », «не в
с£ большей мере вписаны в некий topos noetos, чем про-
о писаны на восковой дощечке мозга»; они даже «с са-
^ 35 мого начала целиком и полностью исторические»,
«если только слово "история" не включает в себя
мотив конечного подавления различий».
Тогда придется поставить целый ряд вопросов:
а) Как же все-таки обстоит дело с этими «раз-
40 личиями», которые, действительно, не «упали с
95
неба"} Что может означать это «движение
продуцирующей (их) игры» перед лицом «истории»,
отвергнутой в последнем счете как «конечное
подавление различия», если подумать, что мотив
гетерогенности никак не позволяет осмыслить себя под ι
одной лишь темой расстановки, в той мере, в какой
мотивом гетерогенности имплицирован двоякий
момент (вот движение определенного противоречия)
различия (пустота, расстановка) и полагания некой
инаковости. Нельзя ли считать, что эти «разли- [io7J
чия », здесь в качестве языковых различий, типов
языкового означающего, всегда выходят в то, что Лакан
называет символическим, и потому они в какой-то
своей части связаны по существу (а не только по типу
случившегося факта, как феноменальное производное is
«разнесения» или «движения продуцирующей (их)
игры») с социальной практикой в аспекте ее
значимых способов производства (ее языков) ?
б) Отсюда, второй вопрос: какое, вам кажется,
отношение может иметь проблематика письма, в го
вашем определении, с проблематикой означающего,
как ее развернул Лакан, когда означающее
«представляет субъект для другого означающего"?
— Прежде всего я не очень ясно вижу, почему
понятие расстановки, по крайней мере так, как я его прак- гъ
тикую, несовместимо с мотивом гетерогенности...
Ж.-Л.У. — Нет, я так не сказал; позволю себе
вернуться к своему вопросу: мотив гетерогенности,
полностью ли он перекрыт понятием расстановки} Имея
дело с инаковостью и расстановкой, не стоим ли мы зо
перед лицом двух моментов, которые не
тождественны один другому}
— Действительно, эти два концепта не
означают в точности одну и ту же вещь; при всем том я
думаю, что они абсолютно нераздельны. 35
Ж.-Л.У. — Совершенно согласен; я говорил в
преамбуле моего вопроса, что они связаны
диалектически, т. е. противоречиво.
— Расстановка (espacement) не означает ничего,
ничего существующего, никакого присутствия на рассто- 4о
96
янии; это индекс нередуцируемои внеположности и в то
|[Ю8] же время движения, смещения, указывающего на нере-
дуцируемую инаковость. Я не вижу, как можно было бы
расцепить эти два концепта, расстановки и инаковости.
5 Ж.-Л.У. — Но я позволяю себе повторить: нет
ровно никакого вопроса о разъединении этих двух
концептов. Если вам угодно, давайте проследим за
преломлением этого вопроса в более конкретной
области, только что обозначенной мною, в области
ю статуса этих различий, которые «не упали с неба »,
этих языковых различий...
— Не только языковых.
Ж,-А.У. — В самом деле; но расстановка как
таковая, в ее строгом восприятии, на мой взгляд, не
15 может в одиночку обосновать, например, ту
систему языковых различий, внутри которых призван
конституироваться субъект.
— Допустим. Ясно, что концепт расстановки в
одиночку не способен обосновать ничего, как и любой
го другой концепт. Он не может служить обоснованием
различий — различающихся — между которыми
обнаруживается расстановка, их вместе с тем
ограничивающая. Но было бы приданием теологической
функции этому концепту, если бы мы ожидали от него
25 объяснительного принципа для всех определенных
пространств, для всех различенных вещей.
Расстановка действует, конечно, во всех областях, но именно
Шк поскольку это различные области. И ее действие тут
^1109] всякий раз разное, иначе сочлененное31. Что касается
σ зо концепта «означающее», к которому я иногда прибе-
а
s
«=t
§- 31 Перечитывая этот кусок нашей беседы, я замечаю, что своим
Φ уточнением "не только языковых" (это лишь напоминание о том, на чем
я неослабно настаивал) я в принципе ответил на совокупность вашего
О вопроса, эксплицитно предполагавшего, что различия суть «языковые
^ различия, типы лингвистического означающего ».
Уточняю еще, что расстановка — концепт, включающий также,
хотя и не только, значение продуктивной, позитивной, порождающей
силы. Как рассеивание; как разнесение, он несет в себе генетический
мотив; тут не просто интервал, пространство, образующееся между
двумя элементами (к чему сводится и расстановка в расхожем смысле
этого слова), но расстановка, т. е. операция или во всяком случае
движение отдаления. Это движение неотделимо от временения
гаю, то он тоже намеренно двузначен. Опять двойное
включение. (Зачин деконструкции, который не
произвольное решение или абсолютное начало, происходит
и не все равно где, и не в абсолютной запредельности.
Зачин, надкус, надрез следует силовым линиям и
силам разрыва, локализуемым в деконструируемом
дискурсе. Топическое и техническое определение самых
необходимых мест и операторов (подходов, захватов,
рычагов и т. д.) в каждой данной ситуации зависит от
исторического анализа. Этот последний
вырисовывается в общем движении поля, он никогда не
исчерпывается сознательным расчетом «субъекта»). С одной
стороны, означающее — позитивный рычаг: скажем,
я определяю письмо как невозможность для знаковой
цепочки задержаться на таком означаемом, которое не
продлило бы ее, поскольку само уже поставлено в
позицию значащей субституции. На этой фазе
перевертывания мы упрямо противопоставляем полюс
означающего доминирующему авторитету означаемого. Но
это перевертывание, необходимое, вместе с тем и
недостаточно, я к нему не возвращаюсь. Я, таким
образом, регулярно маркировал виток, каким слово
«означающее» нас снова вводит в логоцентрический круг32.
овременивания (ср. «Разнесение*) и от самого разнесения, от сшибки
сил, которые здесь за работой. Оно метит то, что расходится с собой,
прерывает всякую самотождественность, всякую точечную собранность
на самом себе, всякую самооднородность, всякую принадлежность
своей собственной интериорности (ср. «Голос и феномен», с. 96). Вот
почему я плохо видел — до сих пор плохо вижу — как, почему вам было
важно оторвать его, скажем для краткости, от мотива heteron.
Конечно, эти два мотива не совпадают с абсолютной точностью, но ведь
никакой концепт не совпадает ни с каким другим, таков закон
расстановки. Разумеется, если бы я только и делал что повторял единственное
слово расстановка без конца, вы были бы совершенно правы. Но мое
настаивание на другом и на некоторых других вещах было не меньшим.
Расстановка означает также как раз невозможность редуцировать
цепочку к одному из ее звеньев или отдать безусловное предпочтение
тому — или иному. Наконец, я должен напомнить, что расстановка не
(есть) прежде всего субстанция, сущность, причина и т. д.,
оставляющая место для какоюто «феноменального производного».
32 Ср., например, «О грамматологии », гл. I ( «Программа »,
«Означающее и истина», «Письменное бытие»), особенно с. 32, прим. 9,
«Семиология и грамматология», «Двойной сеанс» II [«Рассеивание»,
с. 284]. — Примечание редакции.
98 Ι
Что до другого аспекта того же вопроса,
касательно трудного и специфического текста, то я сейчас
попытаюсь объясниться, хотя бы кратко, в
индикативном и программном модусе. Тут же, идет ли речь о
5 психоаналитическом дискурсе вообще или о
дискурсе Лакана, нигде нет ни какой-то данности, ни
однородной данности.
О понятии означающего я вам уже сказал, как тут
по-моему обстоит дело. То же относится, можно ска-
ю зать сразу, к понятиям репрезентации и субъекта.
Чтобы определиться, без долгот (в «Двойном
сеансе» идет как раз дело (речь) о пределе, долготе,
кастрации, рассеянии), но и без пируэта перед
вопросом, который не резюмируется к трем понятийным
is атомам, чтобы определиться, стало быть,
относительно того, что могло бы быть моей «позицией» в этом
отношении, разве небесполезно вспомнить сперва, что
после «О грамматологии» (1965) и «Фрейд и сцена
письма» (1966) все мои тексты включали то, что я
наго звал бы их психоаналитической «досягаемостью»?
Откуда не следует, что во всех моих прежних текстах
ничего такого не было («Сила и значение». «Насилие
и метафизика », «Внушенное слово » и т. д.). Вопрос так
| [in] или иначе в каждом случае поставлен. Эксплицитно,
s 25 подчеркнуто, но также и способом оставления, вса-
о мом письме и в упорядочении концептов,
определенных лакун или пространств свободного хода, про-
Д| диктованных пока еще только предстоящей
^■^ теоретической артикуляцией в проеме между новым
0 зо общим вопросом о грамме — и о специфичности вся-
§- кого текста (вопрос, тогда становившийся горячим) —
о. и вопросом психоанализа. Во всяком тексте, это мож-
i=t но будет проверить, я пытаюсь таким образом
добиться ся, чтобы в видах этой неотменимой артикуляции то,
^ 35 что я считаю новыми теоретическими и
практическими посылками, не замыкало с самого начала
проблематику, не загромождалось поспешными и строгого
статуса не имеющими вкраплениями, короче,
сохраняло бы такую форму, чтобы избежать принципиаль-
40 ной дисквалификации последующими результатами
99
(что остается, разумеется, всегда возможным: вот
почему я сказал «пытаюсь». И, скажем походя, эта схема
имеет силу, mutatis mutandis, в отношениях
грамматологии к марксизму). Тогда надо было, пуская
практически и теоретически в ход эти новые способы артику- 5
ляции, взломать одну пока еще столь герметическую
ограду; ту, которая удерживает вопрос о письме
(вообще философском, и литературном в особенности)
под опекой психоанализа, но также и ту, которая так
обычно делает психоаналитический дискурс слепым к ю
определенной структуре текстовой сцены.
Сегодня я вроде бы ясно вижу, какая программа
работы, с моей стороны и по крайней мере насколько
я могу здесь забегать вперед, вырисовывается на поле
«Рассеивания » (в тексте, носящем это название и име- is
ющем эксплицитными «темами», можно было бы
сказать наспех, колонну, разрез, рез, гимен, кастрацию в
их отношении к двум, к четырем, к определенной эди-
повской троице, к диалектике, к снятию, к «есть», к
присутствию и к совокупности вопросов, которые [ш]|
меня интересовали в других местах), в «Фармации
Платона » (то же замечание) и в «Двойном сеансе »
(более непосредственно вокруг примечаний 8, 9, 10, 53,
55, 61 и т. д., но практически везде). Как это видно в
названных текстах и в «Белой мифологии» всякому 25
пожелавшему ее прочесть, наиболее общим
заглавием для всей проблемы было бы: кастрация и мимесис.
Я могу здесь только отослать к этим анализам и к их
последовательности.
Концепт кастрации по существу неотделим в этом зо
анализе от концепта рассеивания. Но этот последний
дает место тому больше и меньше, которое
бесконечно сопротивляется — и равным образом не может
ничего навязать — эффекту субъективности, субъекти-
вации, аппроприации (снятие, сублимация, ъъ
идеализация, ре-интериоризация [Erinnerung]
означивание, семантизация, автономия, закон и т. д.), что
Лакан — отвечаю тут на ваш вопрос — называет
порядком «символического». От нее ускользает и ее
дезорганизует, заставляет ее пробуксовывать, метит ее 4о
=]
о
ω
100
своим письмом, вместе со всем риском, который
отсюда может следовать, но вместе с тем не поддается
концептуализации в категориях «воображаемого » или
«реального». Я никогда не был убежден в необходи-
5 мости этого понятийного трехчлена. Его
применимость по крайней мере остается более узкой, чем у той
самой систематики, которую я поставил под вопрос33.
33 Ваш вопрос о «том, что Лакан называет символическим»,
вызывает меня на широкий ответ, на принципиальное объяснение, если не
на детальное объяснение, которому здесь не место. Приняв впервые
закон беседы и декларативного модуса, я от него уже не уклонюсь.
С другой стороны, я знаю, что некоторые из моих друзей, по причинам
часто противоречивым, сожалели о моей нейтральности относительно
этого предмета. Тогда вот, схематически.
В текстах, до сих пор мною опубликованных, отсутствие ссылок
на Лакана действительно почти полное. Оправданием тому не только
нападки в форме или в видах возврата своей собственности, какие после
появления «О грамматологии» в «Критике» (1965) (и даже, говорят мне,
еще раньше) Лакан умножил, прямо или косвенно, приватно и на
публике в своих семинарах, и после названной даты мне пришлось
констатировать это самому при чтении почти всего, написанного им. Подобные
движения отвечали всякий раз аргументативной схеме, точно
проанализированной Фрейдом («Толкование сновидений»); я в этом отношении
ее показал («Грамматология», «Фармация Платона», «Колодец и
пирамида»), что ею всегда ознаменован процесс, традиционно начатый
против письма. Это так называемый аргумент «одного котла»,
нагромождающий для нужд судебного дела несовместимые утверждения
( 1. Обесценка и отбрасывание: «это никуда не годится » или «я не согла-
х сен». 2. Высокая оценка и возвращение своей собственности: «впрочем,
s это принадлежит мне, и это я говорил много раз»). Эти судороги дис-
О курса — о которых я сожалел — не были незначительными и звали, со
С I своей стороны, тоже к внимательному вслушиванию. Я, возможно, не
задержался бы на этом, если бы не чувствовал себя уполномоченным на
• то, помимо прочего, причинами историкотеоретической природы (тут
отличие от менее важного случая, о котором мы говорили выше).
Краткое резюме, стало быть.
О Ко времени моих первых публикаций «Сочинения » Лакана не были
s еще собраны и опубликованы. К дате выхода моих «О грамматологии » и
о; «Фрейд и сцена письма » я читал только «Функцию и поле слова и языка
Φ в психоанализе » и «Инстанцию слова в бессознательном или разум пос-
j" ле Фрейда » (цитировалось во «Внушенном слове »). Уверенный в важно-
О сти этой проблематики в области психоанализа, я отметил там также
7^ определенное число важных мотивов, которые удерживали ее по сю
сторону критических вопросов, намечавшихся у меня, и внутри того лого-
центрического или фонологистического поля, которое я намеревался
о-граничить и разобрать. Эти мотивы были, среди прочего, следующие:
1. Некий telos «полного слова» в его сущностной связи (а иногда
вплоть до эффектов ворожащего отождествления) с Истиной.
Перечитайте здесь во всем размахе ее обертонов главу «Пустое слово и
полное слово в психоаналитической реализации субъекта »: «Будем катего-
Если вы хотите действительно проанализировать
рассеивание с этой особенной точки зрения, то оно будет
не только возможностью для той или иной меты раз-
ричными, в психоаналитическом анамнезе дело идет не о реальности, но
об истине, ибо действие полного слова в том, чтобы переупорядочить
случайные обстоятельства прошлого, придав им смысл будущих
необходимости, таких, какими их создает крупица свободы, в которой
субъект дает им присутствовать» (с. 256), «рождение истины в слове»,
♦истина этого откровения» в «присутствующем слове» (там же) и масса
других высказываний этого типа. Хотя в эллиптических и
рапсодических вариациях недостатка нет, с тех пор я так и не нашел строгой
постановки вопроса об этом достоинстве истины в ее исторически и
архитектонически наиболее существенном месте.
Именно этой критической постановкой вопроса, и как раз в том
пункте, где она касается связи полного слова, истины и присутствия (ср. в числе
прочих мест «О грамматологии», с. 18), я и был тогда специально занят.
2. Под шапкой возвращения к Фрейду — массированное
возвращение к гегелевской понятийности (еще точнее, к концептуальной
системе «феноменологии духа», в стиле эпохи и без сочленения с
системой «Логики» или с гегелевской «семиологией») и к понятийности
Хайдеггера (та же алетейя, всегда определяемая как «откровение»,
«сокрытие/раскрытие»; то же присутствие и бытие сущего; то же Dasein,
снова превращавшееся в субъекта, с. 318!). Я хотел бы быть последним,
кто сочтет это регрессией в себе, но отсутствие всякого
теоретического и систематического объяснения касательно статуса этого (и
кое-какого другого) импортированного добра моментами казалось мне
примером, скажем, тех философских удобств, которые осуждаются в конце
«Места буквы в бессознательном» и, как эхо Фрейду, в «Scilicet I».
Объявлять позднее, что такие весомые заимствования из
«Феноменологии духа» имеют «дидактическую» цель или что столь часто
вводимый словарь трансцендентальной феноменологии или гуссерлевского
идеализма («интерсубъективность», например) должен приниматься с
определенной «эпохе», улаживать подобные проблемы одной фразой
мне казалось слишком легким.
Именно тогда в преподавании и в том, что я публиковал, я
специально исследовал, с известной вам критической точки зрения,
текстовую систему Гегеля, Гуссерля и Хайдеггера. Вымеряя извивы их ходов, я
понимал, что приспосабливать их таким манером нельзя. Фрейда —тоже.
3. Скорая отсылка к авторитету фонологии и, еще точнее, к соссю-
ровской лингвистике. Здесь наиболее специфический труд Лакана:
отправляясь от соссюровского знака и с ним. С известными вам
импликациями и следствиями, письмо низводится таким путем к системе
прислушиванияк-своей-речи, к той точке идеализирующей
самовлюбленности, где оно интериоризируется, снимается голосом, отвечает ему,
выступает в нем, фонетизируется, оставаясь «всегда... фонематическим,
и фонетическим, когда его читают» (Écrits, с. 470). Именно по этой теме
я развертывал тогда целую батарею критических вопросов, включая
вопрос об эффектах фонологизма области психоанализа и о сложности
фрейдовской науки в этом аспекте («Фрейд и сцена письма»).
4. Внимание к букве и к написанному, по Фрейду, конечно, но без
всякого специального расследования относительно концепта письма,
102
лагаться (см. игру этого клинического слова в «Фар-
[114] мации Платона», «Рассеивании »и «Двойном сеансе»),
сила — сила повторения, а значит автоматичности и
каким я пытался тогда его вычленить, и относительно оппозиций и
конфликтов, которые надо было тогда дешифровать. Я вернусь через
какой-то момент к решающей проблеме «литературы».
Я прохожу мимо коннотаций этого дискурса и многочисленных
признаков возвращения «означающего» и психоанализа вообще в
некую новую метафизику (впрочем, она может сохранять за собой
определенный интерес как таковая) и в пространство, которое я очертил
тогда под именем логоцентризма, в особом ракурсе фонологизма.
Прохожу и мимо многочисленных черт, которые, похоже, путями явно
сложными и часто противоречивыми привязывают лакановское
предприятие к послевоенному философскому пейзажу (многое потребуется
перечитать с этой точки зрения. Проследите также за словами
«бытие », «подлинное », «истинное », «полное ») Было бы абсурдным видеть
здесь случайную или персональную ограниченность и, опять же,
историческая необходимость тут неоспорима. Просто в то время, о
котором речь, я — и некоторые со мной — видели другие
первоочередности. Прохожу, наконец, мимо риторики, «стиля » Лакана: его эффекты,
иногда замечательные, иногда (на фоне определенных прорывов и
определенной «программы» эпохи) анахронические (я не говорю —
неуместные), мне казались продиктованными затянутостью сцены, что
придавало ему, в чем я тоже не сомневаюсь, определенную
необходимость (я называю то, что могло принудить к поддержанию
определенным образом разговора со сложившимся психоаналитическим
движением: это аргумент Лакана) Что касается интересовавших меня
теоретических трудностей, я вычитывал там прежде всего искусство
увертки. Живость его эллиптики представлялась мне слишком часто
χ приемом для избежания или прикрытия различных проблем (самый
х многозначительный пример для меня был дан позднее в притворном
О изяществе «омонимики », позволяющей утопигь историкотеоретическую
С | трудность, связанную с определением истины как adaequatio rei et
intellectuSy в каковом качестве она правит всем дискурсом о «Фрейдовс-
• кой вещи» (с. 420-434), потому что придется спросить, за отсутствием
объяснения, в каком режиме она сожительствует с истиной как
откровением — т. е. присутствием, — организующей, со своей стороны, все
σ Ecrits). Я сознаю, что этим предполагается не меньшая ясность в выявле-
х нии трудностей и опасностей. Здесь даже, наверное, необходимый мо-
§^ мент в подготовке новой проблематики: при условии, что увертка не бу-
Ф дет слишком спекулировать и мы не дадим зачаровать себя пышным
J· представлением триумфального шествия и парада.
О Даже если, в чем я остаюсь уверен, труд Лакана этим еще далеко
^ не исчерпывается, перечисленные ограничения представлялись уже
достаточно существенными, чтобы я не искал себе опоры типа
гарантии в дискурсе, столь отличавшемся, по этим узловым моментам,
модусом речи, местоположением, ориентирами, предпосылками от
текстов, которые я предполагал. Такая опора имела бы результатом
возрастание путаницы в области, где ее и так хватало. Был риск
подорвать возможность корректного контактирования, которое,
возможно, еще предстояло создать.
103
экспорта — позволяющая ей разорвать свою привяз- [И5]|
ку к единству означаемого, которого без нее будто бы
нет, расцепить этот крючок и растрепать пух
«символического» (по-моему, я цитирую одно
малопричесанное место из Лотреамона о гаге, надо будет проверить), [иб]
Следовало ли тогда, наоборот, объявить сразу несогласие и
развязать откровенную полемику? Помимо того, что костяк этой
полемики вроде бы и так уже обозначился в моих публикациях (и был
доступен всякому пожелавшему его вычитать и им заняться), такое
объявление не казалось мне уместным, в тот период, по ряду причин.
1. Поскольку тем временем была опубликована совокупность
«Сочинений*, мне предстояло не только принять их к сведению, но
ввязаться, с учетом только что мною сказанного о лакановской риторике,
в работу, грозившую оказаться несоизмеримой с тем, что мне обещали
от нее ожидать мои первые чтения (я читаю и одновременно пишу:
медленно, получая удовольствие от снабжения каждого термина
длинными предисловиями). Это, конечно, недостаточная причина для того,
чтобы отступиться, — моя скорая оценка могла меня обмануть, — но,
возможно, достаточная, чтобы предпочесть в течение некоторого
времени (я говорю здесь о лакуне достаточно краткой, три или четыре года)
отвечать на запросы, которые я рассматривал как более неотложные и
во всяком случае, с моей точки зрения, предваряющие.
2. Хотя я мог сформулировать какие-то возражения (но полемика
не обязательно имеет форму несогласия, она оставляет место для
более сложных вещей, размежевания, сдвига), я знал уже, что они не
будут иметь ничего общего с имевшими хождение в тот момент. Здесь тоже
я предпочитал избегать путаницы и никак не способствовать
ограничению распространения дискурса, критическое воздействие которого
казалось мне, несмотря на все мною перечисленное, необходимым
внутри целой области исследования (вот почему, заявлю попутно, я сделал
все от меня зависящее, чтобы преподавание Лакана в «Эколь нормаль»
не было прервано). Сошлюсь здесь на то, что я в других местах говорил
о настойчивости, о перепаде и неравномерностях развития.
3. В этот промежуток времени я рассудил, что лучшим вкладом
или теоретическим «объяснением» станет продолжение моей работы
на ее путях и подчиняясь ее специфическим требованиям, все равно,
должна или нет эта работа в известных аспектах приблизиться к
работе Лакана и даже, никоим образом этого не исключаю, в большей мере,
чем к любой другой сегодня.
А с тех пор? С тех пор я перечел эти два текста и читал другие,
почти все, по-моему, в составе «Сочинений». Особенно эти последние
месяцы. Мое первое прочтение, в его существенных чертах, оказалось
в результате верным. Особенно — вернемся к теме, капитальную
важность которой вы поймете, — в том, что касается отождествления
истины (как раскрытия) и слова (логоса). Истина — оторванная от
знания — постоянно определяется как откровение, несокрытость, т. е.
неизбежно как присутствие, презентация присутствующего, «бытие
сущего» (Anwesenheit) или, в еще более буквально хайдеггеровской
манере, как единство сокровенности или раскрытия. Ссылка на
результат хайдеггеровского демарша часто эксплицитно выступает под этим
1041
Это также возможность деконструировать (таково
общее начало практически-теоретической
деконструкции, которое не изобретешь в один прекрасный, день)
[117] или, если вам угодно, распороть (отсюда «вспарыва-
5 ние» в «Фармации Платона») весь символический по-
видом («радикальная двусмысленность, на которую указывает здесь
Хайдеггер постольку, поскольку истина означает откровение», с. 166,
«эта страсть к раскрытию, которая имеет объект: истину », с. 193 и др. ).
То, что конечное означаемое этого речения или этого логоса
выступает как лакуна (несуществующее, отсутствующее и т. д.), ничего не
меняет в этом континууме у оставаясь, с другой стороны, чем-то чисто хай-
деггеровским. И если действительно есть необходимость напоминать,
что никакого метаязыка нет (я сказал бы скорее, что нет никакого
вне-текста, за исключением взятой под определенным углом заметы,
remarque, «Грамматология», с. 227, passim), то не надо и забывать, что
метафизика и онто-теология в самой своей классической форме
прекрасно могут уживаться с ним, особенно когда его высказывания
принимают форму вроде «Это говорю я, истина» или «И вот почему
бессознательное, говорящее так, говорящее истинное об истинном,
структурировано подобно языку... » (с. 867-868). Я, собственно, не
сказал бы, что это ложно. Я просто повторяю, что поставленные мной
вопросы касаются необходимости и презумпций этого континуума.
А потом я очень заинтересовался «Семинаром по 'Украденной
букве' ». Удивительный маршрут, говорю это без условностей, но, кажется мне,
из-за спешного стремления найти у поэта «иллюстрацию» к «истине» (с. 12),
путающийся в карте, в функции или в фикции текста Эдгара По, в нем
и в его сцепленности с другими, скажем так, в размахе разыгрывающейся
там сцены письма. К этому размаху, к его шифру, с которым не сравняется
s и который не раскроет никакая говорящая истина, дискурс Лакана, равно
s как, впрочем, и любой другой, не полностью глух. Это гетерогенность, как
О я говорил вначале. Дело не в том чтобы придумать для ее размаха знаки,
ΓΖ I быть для нее открытым или закрытым, говорить о ней мало или много, но
в том чтобы знать, как и до каких пределов управлять ее сценой и цепью ее
• последствий. Традиционное, стало быть, в своей основе прочтение текста
По, в конечном счете герменевтическое (семантическое) и
формалистическое (соответственно критической схеме в «Двойном сеансе», что мы
σ резюмировали выше): вот что я попытаюсь доказать, не будучи в состоя-
х нии сделать эго здесь, через терпеливый анализ обоих текстов, который
§; займет свое место, когда у меня найдется для того время, в одной из под-
0) готавливаемых работ. Явно продуктивное с других точек зрения, это не-
^- знание карты представляется мне систематически обусловленным преде-
σ лами, обозначенными мною сейчас под рубрикой логоцентризма (логос,
^ полное слово, «истинное слово », истина как оппозиция
скрытое/нескрытое и т. д.). Тут, наверное, по существу не незнание «литературного » (хотя
по моему мнению, как вы знаете, это было бы эффектным тестом,
особенно при расшифровке лакановского дискурса), и дело тут опять же не идет
о предохранении области литературного от покушений психоанализа.
Я сказал бы даже наоборот. Речь тут идет, дело идет (форма речи, о
которой стоит задуматься) об определенном круге письма, который
действительно часто обозначается именем «литературы» или «искусства», но
рядок в его общей структуре и в его модификациях,
в общих и определившихся формах социальности,
«семьи» или культуры. Действенное насилие
рассеивающего письма. Метящий взлом «символического».
Верно ли, что всякая возможность беспорядка и
дезорганизации символического со стороны сил
некоего извне, все то, чем символическое взломано,
принадлежит зеркальности ( «воображаемому») или
«реальности», определяемой как «невозможная»?
Шизофрении или психозу? В таком случае какие надо
вывести отсюда следствия34? Вот та брешь, которая меня
интересует под рубрикой рассеивания.
Я вовсе не говорю, что «символическое»
(воспользуемся еще раз этим словом, выбор которого всегда
который не может получить определение иначе как после общей
деконструкции, которая противится (или он ей противится) не психоанализу
вообще (как раз наоборот), а определенной сумме приемов, определенной
привязке психоаналитических концептов, служащих мерилом анализа,
определенному этапу их развития. С этой точки зрения некоторые
«литературные» тексты обладают большей «аналитической» и деконструиру-
ющей мощью, чем известные виды психоаналитического дискурса,
прилагающие к ним свой теоретический аппарат, данное состояние своего
теоретического аппарата, со своими перспективами, но также и со своими
презумпциями, в данный момент его разработки. Таково, надо думать,
соотношение между теоретическим аппаратом, на который опирается
♦Семинар об "Украденной букве"» (вам известно, какое главенствующее
место ему уделяет Лакан во вступлении к «Сочинениям »), текстом Эдгара
По и, наверное, каким-то другим.
На сегодня достаточно. Я вручаю это примечание различным
движениям, чья программа впредь более или менее известна.
34 Не наметил ли я здесь принцип ответа — сообразно тому, что вы
только что назвали звездой, — на ваш последний вопрос?
Уточню также в одном слове, что без учета фигур рассеивания мы
неизбежно придем к тому, чтобы сделать из «символического» и из
трехчлена воображаемое/символическое/реальное жесткую
трансцендентальную или онтологическую структуру (см. на этот предмет «О
грамматологии», с. 90).
Эти вопросы, относящиеся к психоанализу, фактически и
юридически неотделимы — психоаналитики часто о том напоминают — от
аналитического «опыта» и от аналитической «практики», а тем
самым — психоаналитики редко на том настаивают — от исторических,
политических, экономических условий этой практики Что касается
какого-то «ядра» внутри «аналитической ситуации», никакая
процедура не кажется мне здесь неприкасаемой, утвердившейся, необратимо
данной с гарантией «научности». И осуждение американского
психоанализа, каким бы оно ни было оправданным, не должно быть
слишком действенной забавой. Это очень сложный вопрос, но он будет
подвержен в своих параметрах неизбежной исторической трансформации.
оставлял меня в замешательстве) не стоит на своих
ногах, не составляет момент прочного порядка (это
также и порядок философии) и что ему не предстоит
структурно утверждаться и укрепляться без конца
5 (язык, закон, «интерсубъективная триада»,
«интерсубъективная диалектика», говорящая истина и т. д.).
Но рассеиванием я обозначаю то, что настолько же
[im] не поддается включению в эту схему, насколько не
образует простой отчужденности под видом провала
ю или невозможности (воображаемой или реальной):
даже если, глядя из законопаченного нутра
«символического», имеешь все причины увлечься
заминированным сходством рассеивания с этими двумя
формами. Что в таком случае упускаешь, так это, наверное,
is не фикцию (и опять же очень следовало бы
проанализировать этот концепт), а симулякр: некую структуру
двойственности, которая разыгрывает и раздваивает
всякое дуальное отношение, более действенно, более
«реально» (это можно измерить по реактивным эф-
20 фектам) прерывает как сферу зеркального (которую
необходимо тогда переосмыслить) или
«собственного», и сферу «символического», не поддается уже
овладению через проблематику слова, лжи и истины.
Эффективное насилие и бессознательные эффекты
25 симулякра.
Лапидарно: рассеивание — фигура того, что не
сводится к отцу. Ни со стороны зарождения, ни со
стороны кастрации. Попытайтесь проконтролировать
витки этого тезиса, и походя, между прочим вы най-
ö зо дете (мета) и потеряете (межа) границу между поли-
s семией и рассеиванием.
о. Писать — рассеивание — не означает ли брать в
ε=Ζ расчет кастрацию (со всей его системой и в соответ-
о ствии со странной арифметикой, вами сейчас упоми-
^ 35 навшейся), вновь вводя в игру ее статус означаемого
или трансцендентального означающего (ибо бывает и
трансцендентальное означающее, например фаллос
как коррелят первого означаемого, кастрация и
желание матери), последнее прибежище всякой тексту-
40 альности, центральную истину или истину в последней
107
инстанции, семантически полное и незаменимое
определение этой зарождающей (рассеивающей)
пустоты, в которую пускается текст? Рассеивание
утверждает (я не говорю — продуцирует или конституирует)
бесконечную заменимость, оно и не пресекает, и не 5
контролирует эту игру («Кастрация — всегда в игре,
в постоянном действии...»)35. Со всей готовностью к [ш]|
риску, но без метафизического или романтического
пафоса негативности. Рассеивание «есть» тот аспект
игры кастрации, который не обозначается, не подда- ю
ется конституированию ни в означаемое, ни в
означающее, не выставляет себя в присутствование, равно как
не представляет сам себя; не обнаруживает себя,
равно как не прячет себя. Он, таким образом, не имеет в
самом себе ни истины (адекватности или раскрытия), is
ни ее сокрытия. Это то, что я назвал графикой
гимена, которая уже вне рамок оппозиции
сокрытие/несокрытие36.
Г.С. — Мне тогда хотелось бы у вас спросить,
каково вводимое вами соотношение между рассеива- 2о
нием и влечением к смерти.
— Соотношение самое необходимое. Отправляясь
от «По ту сторону принципа удовольствия», от
«Жуткого» (траектория которого чрезвычайно трудна) и от
всего с ними связанного в предшествующих и после- 25
дующих текстах, надо реконструировать логику,
которая во многих отношениях кажется разрушающей
или во всяком случае исключительно осложняющей
весь эксплицитный и «региональный» дискурс,
предложенный Фрейдом на тему «литературы» и «искус- зо
ства». На это «влечение к смерти», на определенный
дуализм и определенный концепт повторения, на оба
упомянутых текста я часто ссылался, особенно в
«Разнесении» и в «Двойном сеансе». Все это требует
(над чем я сейчас и бьюсь) разработки, которая связа- ъъ
ла бы новый концепт повторения (действующий, но без
последовательности, у Фрейда) со значимостью миме-
35 «Рассеивание I» («Купюра», в: «Критика» 211, с. 111)
[«Рассеивание», с. 336].
* «Двойной сеанс», особенно 11, с. 25 [«Рассеивание», с. 293].
108
[122] зиса (но, конечно, не миметологизма,
изобразительности, выразительности, подражательности,
иллюстративности и т. д.).
Г.С. — Не подойдем ли мы так к формулировке
5 другого вопроса о том, что можно было бы назвать
«субъектом письма»: постольку, поскольку вы
отмечаете, например, что «субъект письма» не
существует, если понимать под ним субъекта-хозяина, и
что следовало бы понимать под «субъектом письма »
ю систему отношений между текстовыми слоями
самими по себе; как подойти к этой проблеме
«субъекта письма » отправляясь от концепта рассеивания,
и отправляясь также от того, что в нем
артикулируется, т. е. от диалектики, разыгрывающейся меж-
15 ду сублимацией и влечением к смерти}
— Как вы заставляете вспомнить, я никогда не
говорил, что «субъекта письма» не существует11. Я
никогда не говорил, и что субъекта не существует.
После вопросов, заданных во время конференции о
го «Разнесении»38· мне пришлось напомнить об этом
Гольдману, который тоже очень беспокоился о
субъекте и о том, куда он делся. Нужно единственно
только пересмотреть проблему эффекта
субъективности, как он производится структурой текста. Того, что
25 я только что обозначил как генеральный текст — его
«массив», — а не только лингвистического текста.
Эффект этот явно неотделим от определенной связи
Д|[ш] между сублимацией и влечением к смерти, от движе-
^^ ния интериоризации-идеализации-снятия-сублима-
σ зо ции и т. д., т. е. от определенного вытеснения. И было
§■ бы наивным его не признавать, тем более — затевать
о. какое-то нравственное или политическое «осужде-
ct ние » против необходимости этого движения. Без него
σ
7s, 37 «Субъект письма не существует, если под ним понимать некое
суверенное одиночество писателя. Субъект письма это система
отношений между слоями: массива магии, психического, общества, мира.
Внутри этой сцены классического субъекта с его точечной простотой
обнаружить не удается » ( «Фрейд и сцена письма », в: «Письмо и
различие», с. 335). —Примечание редакции.
38 Дискуссия, опубликованная в «Бюллетене французского
философского общества» (январь 1968).
109
действительно не было бы ни «субъекта», ни
«истории», ни «символического» и т. д. Впрочем, с ним
одним — тоже. Следовало бы поэтому перепроверить
все эти концепты в том, что яснее и яснее выступает
как их сцепленность, я не говорю — их взаимонало- 5
жение или их тождество. Больше ничего не могу
сказать импровизируя, разве что вы дополнительно
уточните ваш вопрос.
Г.С. — Например, надо ли допускать какое-то
радикальное расщепление между «субъектом письма » ι о
и тем, что Лакан называет «субъектом» как
«эффектом означающего », как чем-то продуцируемым в
означающем и через него, или же, наоборот, эти два
понятия должны или могут сойтись ?
— Какое-то «соотношение» между этими двумя is
определениями «субъекта» определенно есть. Чтобы
его проанализировать, следовало бы во всяком
случае учесть то, что сейчас было сказано о рассеивании
и о «символическом», о грамме и об означающем и т. д.
Ж.-Л.У. — Последний вопрос, если вам угодно, ю
который связан с общим развертыванием вашей
работы. Вы пишете, в одном из первых
опубликованных вами текстов, «Фрейд и сцена письма» (1966)
( «Тель Кель», № 26), полностью отвергая
претензии социологии литературы, — и мы тут совершен- гь
но с вами согласны, — что «социальность письма как
драмы требует совершенно другой дисциплины».
Как бы вы сегодня определили эту «совершенно i
другую дисциплину »? В каком она оказалась бы
отношении к семиотике и к семанализу, развивающему- зо
ся на базе диалектико-материалистической логики? [т]
А это необходимо ведет в последнем счете к
постановке вопроса об отношениях между «концептом »
письма и марксистским концептом практики,
особенно практики означивания, как он конституировался ъъ
в объект познания, а именно семиотики и семанализа
на базе диалектико-материалистической логики,
которая равным образом определяется с учетом вклада
психоанализа, абсолютно необходимого, коль скоро
мы приступаем к полю означивающей практики. 4о
no
s
m
О
Но, наверное, следовало бы говорить также и об
обратном воздействии нового текста на сами
процедуры анализа, о том, что в этой современной текстовой
практике несет с собой превышающего по отношению
5 к определенному роду познающей, научной логики.
Последний аспект этого вопроса, способный
подвести к чему-то наподобие предварительного
заключения этой беседы: как вы сегодня понимаете этот
совокупный процесс (который трудно мыслить ина-
ю че как в форме противоположного, диалектического
процесса) и его воздействие на актуальную
идеологическую сцену, что он способен в ней изменить, его
возможные ограничения, его будущее}
— Во фразе, которую вы привели, «драма» была
is цитатой, вы это заметили, причем даже двойной.
Будем исходить, например, из концепта практики.
При определении письма, граммы, разнесения,
текста и т. д. я всегда настаивал на этой ценности
практики. Как следствие везде, где с этой точки зрения
го разрабатывается общая теория, общая практико-
теоретика «означивающей практики», я всегда готов
был подписаться под определяемой таким способом
задачей. Предполагаю, что вы имеете в виду работы
Юлии Кристевой.
25 Очевидно также, что в области деконструкции
[125] философских оппозиций оппозиция praxis/theoria
должна быть сначала проанализирована и не может
уже просто диктовать нам наше определение
практики. По той же причине систематическая деконструк-
0 зо ция не может быть ни просто теоретической, ни про-
х сто негативной операцией. Приходится бесконечно
о. следить за тем, чтобы ценность «практики» не была
ι=Ζ «переприспособлена».
σ Теперь, какою может быть «действенность» всей
^ 35 этой работы, всей этой деконструирующей практики
для «актуальной идеологической сцены"? Могу дать
здесь только ответ в принципе и отметить один пункт.
Эта работа кажется отправляющейся от
ограниченных областей, определяемых как области «идеологии »
40 (философия, наука, литература и т. д.). Представляет-
ся поэтому, что не приходится ожидать от нее
чрезмерной исторической действенности, действенности
непосредственно общей. Ее действенность, при всей своей
определенности, остается тем не менее ограниченной,
канализированной, артикулированной,
дифференцированной внутри сложных структур. Но, с другой
стороны, чему предстоит, возможно, пересмотр, так это
той форме закрытости, которую назвали «идеологией»
(концепт, несомненно ожидающий анализа в своей
функции, своей истории, своем происхождении, своих
трансформациях), форме отношений между
трансформированным концептом «инфраструктуры», если вы
хотите, чей общий текст уже не был бы «следствием»
или «отражением»39, и трансформированным
концептом «идеологического». Если вопрос в этой работе
стоит о новой дефиниции отношения определенного
текста или цепочки означающих к внеположному им,
к тому, с чем они эффективно соотнесены и т. д.
(см. выше), к «реальности» (истории, борьбе классов,
производственным отношениям и т. д.), то мы уже не
можем довольствоваться старыми разграничениями, ни
даже старым концептом разграничения областей40. Что
происходит в нынешнем котле, так это переоценка
отношения между общим текстом и тем что считалось, под
формой реальности (исторической, политической,
экономической, сексуальной и т. д.), простой внеположно-
стью, с которой соотносится язык или письмо, будь эта
внеположность в простой позиции первопричины или
в простой позиции акциденции. Последствия
происходящего переворота, по видимости просто
«региональные», открывают поэтому одновременно перспективу,
выходящую за рамки отдельных областей,
опрокидывают свои собственные пределы и постепенно
завязывают отношения — новыми способами, без претензий
на господство, — с общей сценой.
39 «Но мы знаем, что эти взаимообмены проходят только через язык
и через текст, в том смысле инфраструктуры, которой мы теперь
признаем за этим словом » ( «О грамматологии », с. 234). — Примечание редакции.
40 О критике философской идеи области, региона и об
онтологическом различении регионального и нерегионального см. «О
грамматологии», с. 45. — Примечание редакции.
12
ГО
о
CZ
Письмо Жана-Луи Удбина
Жаку Деррида (фрагмент)
5 1 июля 1971
По сути дела вопрос, лежащий в основе этого
обмена мнениями, касается материализма, одновре-
ю менно как перевертывания и как выхода за рамки
классической философии; это вопрос занятия
материалистической позиции, и, наверное, мне следовало бы
напомнить в этой связи формулу Ленина, острую,
провоцирующую (скандал для философии): вопрос
is партийности в философии. По существу, если продол-
[127] жить нить нашей дискуссии: все шло от моего вопроса
о мотиве гетерогенности, не сводимом, по-моему,
только к мотиву расстановки, т. е. мотив гетерогенности
включает, на мой взгляд, два момента, по существу
го нераздельных, но вместе и неотождествимых друг с
0 другом, расстановки и инаковости, — два момента,
s чья нераздельность подчинена диалектическому (ма-
Q- териалистическому) противоречию. Почему? Потому
et что если действительно·, как вы говорите, «расстанов-
о 25 ка не означает ничего, ничего существующего, никако-
^ го присутствия на расстоянии, это индекс нередуциру-
емой внеположности и в то же время движения,
смещения, указывающего на абсолютно нередуцируе-
мую инаковость», — это не мешает тому, чтобы мотив
зо гетерогенности не поддавался редукции, не
исчерпывался этим «индексом нередуцируемой внепо-
113
ложности»: он есть также полагание этой инаково-
сти как таковой, т. е. какого-то «нечто » ( «нечто »),
которое не ничто (вот почему мотив гетерогенности есть
мотив — всякого? — основополагающего диалектико-
материалистического противоречия, «расстановки/ 5
инаковости»), и в принципе выходит за пределы
всякого переприсвоения-интериоризирования-идеа-
лизирования-снятия внутри такого становления
Смысла (здесь без всякого Außebung), которое
стирало, редуцировало бы саму гетерогенность, марки- ю
рующую тут себя в своем двояком движении (разме-
щение/инаковость); что это «нечто» (это «нечто»),
«которое не ничто», никак не поддается субсумиро-
ванию в какое бы то ни было «присутствие», как раз и
является, следуя обратному ходу диалектического is
движения противоречия, метой включенности
размещения; но вместе с тем эта включенность размещения
держится только на том, что она отрицает в форме
«присутствия» (которое, конечно, по существу
оказывается «неприсутствием»): другого, тела, материи, го
Полное развитие мотива гетерогенности вынуждает
таким образом перейти к позитивности этого «нечто», [i2i]|
обозначенного размещением; оно всегда есть также и
«что-то» («нечто»), «которое не ничто» (полагание
нередуцируемой инаковости). 25
Что на почве этого полагания другого всегда есть
риск возникновения проблем, на которые вы
указываете с другой стороны, то я с вами согласен: вот
почему момент расстановки (выступающий в качестве
фундаментального в области, которая имеется здесь зо
в виду, порядок языка и включение в него
конституции субъекта, формирующегося здесь в ходе нереду-
цируемого расщепления) важен; но не менее важен и
другой момент, инаковости (полагания инаковости) по
логике, какую я попытался очень суммарно опреде- 35
лить, поскольку именно отсюда (от
нерасторжимости «расстановки/инаковости», образующей по
преимуществу материалистический мотив названной
гетерогенности) может произойти подключение темы
«различий», которые не «упали с неба», в их необхо- 40
=]
Π
о
Û
I
Q
Ъ
к
Χ
I
Q
Q
"О
"О
Q
"О
Q
i
CD
димой связи с дифференцированной социальной
практикой (т. е. сразу и в аспекте его языков, и во всех
других аспектах — экономическая практика,
политическая практика, — которые, никогда не замыкаясь в
5 каких-то внеязыковых секторах [язык не надстройка],
тем не менее в качестве практических не
редуцируются единственно лишь к регистру языка).
Пусть это остается ошеломляющим, скандальным
на взгляд всякой философии, основывающейся на ил-
ю люзорном переприсвоении этой инаковости под
разными формами идеализма (метафизика,
спиритуализм, формалистический позитивизм); и именно это
заставляет Ленина говорить о «партийности»: для
философии всякое занятие материалистической по-
15 зиции знаменует настоящий силовой прием, в опоре
на этот двоякий нередуцируемый устой, который
намечен в мотиве гетерогенности (размещение/инако-
[129] востъ). И я думаю, что не только у Ленина, но с
равным успехом и у Батая можно найти разработки в этом
20 направлении.
1
Письмо Жака Деррида
Жану-Луи Удбину (фрагмент)
1 июля 1971 s
Мы, стало быть, согласны в отношении
перевертывания/смещения.
1. Партийность в философии: это меня, разуме- ю
ется, всего меньше «шокирует».
Зачем было ввязываться в работу деконструкции,
а не оставить вещи скорее как они есть? и т. д. Здесь
все где-то «силовой прием». Деконструкция, я на том
настаивал, не нейтральна. Она вмешательство. У ме- is
ня нет такой уверенности, что императив
партийности, решительного выбора в философии так уж
постоянно считался «скандальным» в истории метафизики,
рассматривать ли эту партийность, этот решительный
выбор в качестве чего-то подразумеваемого или го
чего-то провозглашаемого. У меня нет и уверенности
в том, — но здесь, я предполагаю, мы сходимся, — что
эта партийность, по крайней мере как силовой прием
или усилие разрыва с нормами традиционного
философского дискурса, присуща всякому материализму, 25
материализму как таковому. Согласимся ли мы друг
с другом также и в допущении, что нет никакой
действительной и действенной партийности, нет
настоящего усилия разрыва без мелочного, строгого,
длительного анализа, дифференцированного и научного, зо
насколько это только возможно? Максимального чис-
По
[во] ла всевозможных данных, причем данных
максимально разнообразных (общая экономия)? И что
необходимо вырвать это понятие партийности из рук всякой
детерминированности, в конечном счете психологис-
5 тической, субъективистской, морализирующей и
волюнтаристской?
2. Расстановка / инаковостъ: относительно их
нераздельности, стало быть, разногласий между нами
нет. При анализе расстановки, как я упоминал в ходе
ю беседы, я всегда подчеркивал по меньшей мере две
черты: 1. что размещение — это невозможность для того
или иного тождества замкнуться на себе самом,
внутри своей собственной интериорности или в
совпадении с самим собой. Нередуцируемость расстановки —
is это нередуцируемость другого: 2. Что «расстановка»
означает не только интервал, но «продуктивное»,
«генетическое», «практическое» движение, «операцию»,
если хотите, включая и ее смысл по Малларме.
Нередуцируемость другого метит здесь себя в отношении
20 к тому, что вы, похоже, имеете в виду под понятием
«полагания»: это, в связи с нашей недавней
дискуссией, самый новый и самый важный пункт, мне кажется,
и я к нему вернусь через минуту.
Пять замечаний в промежутке:
25 1. Определять эту систему расстановки-инаково-
стщ в отношении которой мы единодушны, как
существенную и незаменимую пружину диалектического
материализма, — не является ли это достаточно новым}
2. «Без всякого Aufhebung'a», пишете вы. Скажу
зо не для того, чтобы поймать вас на слове, но для того,
чтобы подчеркнуть необходимость скорее включения,
о. чем отвержения: от Aufhebung* а что-то есть всегда
■=ί (как от вытеснения, идеализации, сублимации и т. д.).
σ 3. Я не подписался бы безоговорочно под тем, что
^ [ni] вы говорите, по крайней мере с такой
формулировкой, во фразе: «эта включенность размещения
держится только на том, что она отрицает в форме
"присутствия" (которое, конечно, по существу оказывается
"неприсутствием"): другого, тела, материи». Боюсь,
40 как бы категория «отрицания» не вернула нас прямо
§
117
в гегелевскую логику Aufhebung'a. Мне
действительно приходилось говорить о неприсутствии, но я тут
обозначал не столько отрицаемое присутствие,
сколько «нечто» (ничто, не правда ли, в форме присутствия)
уходившее от оппозиции присутствие/отсутствие (от- 5
рицаемое присутствие) вместе со всем, что ею
предполагается. Но тут слишком трудная проблема,
чтобы мы брались за нее в эпистолярном жанре. Говоря о
той же фразе, неужели вы думаете, что тело и
материя означают всегда неприсутствующее того же ран- ю
га, что другое»} Как другое не (есть) бытие (сущее,
существование, сущность, и т. д.), так не есть оно и
форма присутствия.
4. Без намерения ловить вас на слове, но опять же
ради уточнения того, как, по-моему, обстоит дело с is
размещением: я не стал бы утверждать, но по
разнообразным причинам (во всяком случае, не стал бы
держаться буквы этого тезиса), что размещение есть
какой-то «момент», и притом «существенный момент».
Это все дело отношения к Гегелю. 2о
5. Согласен в отношении Батая (ср. «Письмо и
различие», с. 397, п.1).
Полагание (инаковости): с учетом пункта 2 (выше
в моем письме), между нами нет никаких разногласий,
и, как я говорил в нашей беседе, я не могу восприни- 25
мать вашу настойчивость в этом пункте как
дополнение или возражение к написанному мной. Почему же
тогда мне кажется, что словом «полагание» надо
манипулировать с благоразумием?
1. Если инаковость другого полагается, т. е. всего [ш]
лишь только полагается, то не возвращается ли она к
тому же в форме, например, «установленного
объекта» или «оформленного производного», наделенного
смыслом, и т. д.? С этой точки зрения я сказал бы даже,
что инаковость другого вписывает в отношение к нему 35
то, что ни в коем случае не может быть результатом
«полагания». Это вписывание, как я его тут бы
определил, не простое полагание: оно скорее то, чем
всякое полагание в себе самом обезврежено (разнесение):
вписанность, мета, текст, а не только тезис или 40
118
тема — не только вписание тезиса. Впрочем,
возможно, эта дискуссия между нами в данном пункте
покоится только на «словесном», «номинальном»
недоразумении. И можно всегда переопределить, под тем же
5 словом (отбор, прививка, расширение), концепт
полагания.
2. Верно, что тогда мы столкнулись бы с
проблемой концепта концепта и проблемой отношения
между концептом и другим,
ю Поскольку мы не можем взяться за это здесь, я
скажу только вот что: если я так присматриваюсь к этому
концепту полагания (и к некоторым другим, с какими
вы его связываете), причина в том, что у него по
меньшей мере то же имя, что у абсолютно существенной,
is жизненно важной (хоть это иногда и не замечают)
опоры гегелевской спекулятивной диалектики (Setzung).
(Полагание-другого там всегда в конечном счете есть
самополагание себя Идеей как другого, как другой
(чем) себя в своей конечной определенности в видах
го своей репатриации и реаппроприации, возвращения к
себе в бесконечном богатстве своего определения, и
т. д.).
Есть, таким образом, по меньшей мере два
понятия полагания.
25 Почему бы нам не оставить дискуссию открытой
в этом вопросе полагания, полаганий, позиций
(партийность: позиция (/отрицание)? полагание-ут-
Д| верждение? перевертывание/смещение? и т. д.).
^*[ш] Я вас оставляю. Спасибо вам обоим.
σ зо <...>
et
cl P.S. А что если бы мы дали этой встрече в заглавие
et (зачин) слово «позиции», в смысле полаганий, много-
о значность которых отмечена сверх того еще и множе-
^ 35 ственным числом, чей признак [во французском
языке], букву s, Малларме называл буквой по преимуществу
"рассеивающей"? Я добавил бы, говоря о позициях-по-
лаганиях: сцены, акты, фигуры рассеивания.
119
Послесловие переводчика
К Деррида у нас потянулись рано. Поманил
простор, размах и ветви этой мысли («грамматология»);
показалось, что это широкое окно, через которое в мир
снова входит философия, веселая наука. Мне повез- _
ло, что в старом московском Институте философии я о
оказался в окружении чутком и открытом к новым g
ветрам. Слушай, говорил мне о новой парижской звез- 5
де в 1974 году далекий и задумчивый Лева Филиппов, g
вот кто хорош, а? его можно читать. К несчастью, Фи- ω
липпов, человек мало сказать что редкий, вскоре за- Lg
тем погиб; в самоубийстве. Тогда, позднее, у нас было $
еще самоубийство Эвальда Ильенкова, недавно вышед- ê
шая книга которого слишком запоздала и не может g
быть внимательно прочитана теперь в общей
неразберихе. В те же годы был шок от гибели в самолетной *ж
катастрофе Олега Дробницкого, чья этика заставля- ™
ла о себе говорить, марксистская разумеется, но
тревожная и ищущая, пробивавшаяся к точкам опоры.
Теперь, странно сказать, разве только люди, никогда
не умевшие читать Маркса, шокированные его
грубостью и ненавистью, видят себя способными говорить
о нем всерьез, не задирая его запоздало, не
насмехаясь, жалея о его похоронах в России, явно слишком,
до зловещей спешки, скомканных; хотят долгих
поминок по нем и ожидают времени, когда общество
наконец проснется, чтобы осмыслить, что же ему все-таки
снилось почти 70 лет подряд.
120
Ранней весной 1990 Деррида 5 дней интенсивно,
отзывчиво говорил перед большой жадной
аудиторией в нашем Институте философии и в Университете.
Было важно следитъ за каждым его словом. С первых
же фраз позорный перепад напряжения мысли и речи
между его и нашим мирами был ясен, велел сразу и
навсегда порвать с рыхлым болотом нашей
неопределенности, граничащей с незнанием, дело ли мы
делаем или пока еще перебираем житейские казусы.
Казались значительными каждый его тезис и ответ,
нравилось переводить обдуманную речь для публики,
которая, впрочем, главное понимала как-то и так.
Потом 14-16 марта 1994 он был у нас снова, люди
опять сидели на ступеньках проходов, не умещаясь в
огромной аудитории. Он говорил о национальности в
философии, потом о свидетельстве, о Пауле Целане
как свидетеле; и догадка Жака Деррида, что
«татарская луна» в вещем стихотворении поэта, круги
жизни которого рано начали втягивать его в самоубийство,
была той же луной, которая видела последний час
Цветаевой, казалась непосредственно убедительной.
Между тем на востоке Европы многое изменилось.
Всем было разрешено говорить и печататься, и люди,
не успевшие подумать, прежде чем говорить, захотели
верить, что это не беда. Странным образом
«деконструкция » Жака Деррида была принята ими за
разрешение смело начинать с нуля, хотя сам Деррида с его за-
tigjk видной философской школой так никогда не поступал.
^^ Только собственная мысль способна пройти мимо
σ скандалов, плотно окружающих философию и закры-
§■ вающих доступ в нее для большинства. Так у нас при-
CL стыженные было партийные философские доктора-
с£ марксисты закрывают для себя одного из самых
σ видных мыслителей XX века на том основании, что у
^ него на столе лежал партийный билет; для того чтобы
и Деррида, того мыслителя часто упоминающий,
попал под подозрение старых профессоров, достаточно
и того краткого, что он говорит в «Позициях» насчет
«элементов анализа не хуже других». Старая гвардия
«русской религиозной философии » вообще мало кого
121
читает в XX веке и уверенно клеймит отступниками
от известного ей золотого пути всечеловеческой
мысли людей, изучающих Гуссерля, Хайдеггера, может
быть, даже Делеза и, хуже всего, Деррида. А наш
только что протерший глаза постмодерн знает все о
преодолении ветхой метафизики, и я не единственный,
кому пришлось выслушивать снисходительные
советы молодых немного модернизироваться, наконец,
оставить вечного Платона и почитать для начала,
наоборот, — Жака Деррида.
Это у нас. Но разве в Париже по-своему не труднее?
Вот я наконец в этом городе, который весь кажется
театральной декорацией новейшей драмы, в
доме у профессора Франсуа Федье, переводчика Гель-
дерлина и Хайдеггера, мудреца и безупречного
стилиста, ценителя Цветаевой, Мандельштама и Ольги
Седаковой. Федье показывает мне открытое письмо
сорбоннского философа Мартино, где по-западному
холодно, хлестко и жестко, как в России не умеют,
обличается мнимая величина, приносящая
непоправимый вред университету, Жак Деррида. Федье
показывает мне, как бессмысленны такие инвективы, но
защищать обвиняемого не будет: мы с ним и Жераром
Гестом, молодым парижским философом,
уникальным знатоком Хайдеггера и Витгенштейна,
усаживаемся править верстку длинной статьи Геста с едкой
критикой того, как Деррида недочитывает немецкого
философа. Я буду месяц в Париже, приглашен на
международный семинар профессора Жака Деррида...
Не первым и не последним пишущий попал в тугой
узел вокруг знаменитого имени. Способ уйти от
скандала, в который всегда окутана видная личность для
неосторожных, только один: решительно отложить все
преждевременные суждения и вернуться к «самим
вещам ». Важно в конечном счете только одно, и Жак
Деррида говорит, что именно, в конце своей книги о Хай-
деггере: не останавливать мысль, продолжать разговор.
«Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander...»
Важно вот что. Профессор Деррида сумел сделать
полными аудитории в Париже, в Америке, Японии;
122
мы видели, как на восточном, темном конце Европы,
одним своим краем, тонущем в великом азиатском
океане, огромный зал на каждой его лекции был еще
люднее, чем в Париже. Можно спорить о причинах,
о философско-историческом смысле и перспективах
массивного присутствия Жака Деррида в мире. Но мы
догадываемся, что по-настоящему всякая слава
необъяснима. Мы не знаем, и собственно никто не
знает, почему и как слово начинает звучать. И тот, кого
все слушают, тоже не знает, что он «хочет сказать»,
когда говорит, и чем захвачен. Бесспорно одно:
известность не приходит без труда и усилия, без
выкладывания себя в служении своему призванию, верности
его едва уловимому голосу. Работу, внимательность,
прилежание Жака Деррида признают и враги.
Деконструкция у теперь это уже официальное
название его философии, проникает в наш
восточноевропейский ареал, в частности благодаря этой
книжке «Позиции», самим автором выбранной в первую
очередь для перевода на славянский язык, возможно
из-за ее характера вопросника с ответами по всем
главным темам. Она появляется у нас в пору почти
полного смятения, когда и всегдашний недостаток
философской школы, и новая мода на старый скепсис, и
хорошая доля разрушительного злорадства («чем
хуже, тем лучше») прибавляют путаницы, которой и
без того хватает. Умы, конечно, еще больше увязнут в
ней, когда прочитают у Жака Деррида, что все
прежние навыки мысли безнадежно устарели и подлежат
преодолению как лого-фалло-европоцентристские,
s метафизические, что они уличены и разоблачены как
о. неисправимо зараженные иерархизмом, субстанти-
с£ визмом, идеализацией. Еще пышнее разрастается
ήλο люзорная надежда толпы на литературную ненаказу-
^ емость, на окончательное и бесповоротное свержение
авторитетов, на равенство всех публикующихся.
Спасти массу могли бы только внимание — но ей откуда
его взять? — к тому, как отчетливо прозрачна всегда
мысль Деррида, сколько в ней воли к ясности, и
опытное знание — но здесь опыта «постмодерну» когда
σ
ce
123
было накопить? — что самоотчетная мысль, раз
начавшись, так просто уже не кончится, остановки себе не
найдет, даже собственная забывчивость и слабость ей
станут пищей. Деконструкция окажется в одной из
последних книг Жака Деррида («Сила закона», 1994)
не подлежащей никакой деконструкции, не
поддающейся никакой редукции жаждой правды.
Не делает ли тогда деконструкция всем
напряжением своей работы для умеющего думать то самое, что
настоящая философия по существу делала всегда,
везде? «В философии ни одно слово и ни одно понятие не
банально: мы должны каждый день продумывать
понятия заново « (Хайдеггер на Гераклитовом семинаре,
1966). Отдых запрещен; бесконечная ответственность.
Работа — одна из постоянных тем «Позиций».
Можно ли сказать, что мысль — это только работа?
Или больше? Разбор того, что работает в нас, нас
прорабатывает так, что труд становится нашей судьбой?
Человек рожден для усилия, как птица для полета,
говорил Франческо Петрарка. Кто, что
предопределило нас, предназначило для этого Египта? откуда
вообще Египет? где наш Моисей? Кто бы он ни был, он
конечно будет требовать от нас не меньшего
напряжения сил, чем новоевропейский избавитель от работ
египетских Маркс...
О Марксе много в «Позициях», в других местах у
Деррида и в одной из его последних книг «Спектры
Маркса». В июне 1994 профессор Деррида не
согласился со мной, что звезда Маркса закатилась
навсегда и теперь перестанет затмевать более далекую
звезду его учителя Гегеля. Для бывшего СССР Маркс —
это нависающая семидесятилетняя глыба трудовой
власти, «электрификации» как ее гаранта,
механизации труда ради избавления от механического труда.
Марксизм был захвачен борьбой против
порабощающих человека иллюзий, из которых первая и
беспримерно тягостная для Маркса — религия. Сражаясь с
этим величественным видением, Маркс окружал себя
спектрами «пролетариата» и другими и призраком
стал сам.
124
В чем мы имеем право видеть рискованную и
захватывающую интригу деконструкции: это смелость
взглянуть в глаза как спектрам Маркса, так и
спектрам вообще, всегда работающим в нас и терзающим
нас во мраке; мужество понять, что почти во всем,
с чем имеет дело человек, он вольно и чаще невольно,
заметно и чаще незаметно для себя схватился в
единоборстве с неуловимыми силами, которые невпример
его мощнее.
Решимся считать, что крайняя цель и предмет
деконструкции Жака Деррида — показать, как мы со
всех сторон окружены неодолимостями. Одно это
отрезвление само по себе уже очень много дает,
помогая нам вернуться к самим себе.
Понятно, что такое понимание деконструкции
прямо противоположно тому, которое скомканные
умы надеются найти у французского философа: род
лицензии на право впредь не вчитываться в
преодоленные «метафизические системы». Но я имею свои
причины уверенно говорить, если деконструкция
сумела так завладеть нашим вниманием, то дело здесь в
захватывающих, вот уж действительно
«спектральных», настоящих невидимых силах, которые она так
или иначе приоткрывает за расхожими схемами
удобного изготовления. Деконструкция, насколько она не
ограничивается просто сменой схем, подталкивает
увидеть неподрасчетное, неохватное во всем, что зах-
Д| ватило человека.
^■^ Именно такой стороной, хочется сказать с уверен-
σ ностью, повертывается в конечном счете работа декон-
5 струкции Она оказывается тогда в наше время, бед-
Q- ное философией, может быть, лучшим введением
ι=ΐ прежде всего в Хайдеггера для читателей, успевших
σ отвыкнуть от вкуса мысли и привыкших обращаться с
^ мыслителем как с мертвой собакой. Деконструкция
демаскирует вязкое, тонкое, почти химическое
проникновение сверхсил, которым всегда в человеческой
истории, особенно сейчас, в эпоху мнимой
эмансипации, беззащитно открыты умы. Таким открытием
настоящего готовится, как я сказал, возвращение к Хай-
125
деггеру, но потом, и к Ницше, и к Гегелю — все-таки
не к Марксу, — и дальше, может быть, даже к Канту, а
через Канта к Аристотелю и Пармениду.
Там в классической чистоте мысль
разыгрывается, конечно, открытее и просторнее, чем это нам
привычно; у нас, в серых пригородах, все в лучшем случае
пока только рвется к свободе, на каждом шагу увязая
в собственных конструктах и не умея пока даже в
распутывающих усилиях обойтись без подпорок схем.
Согласится ли Жак Деррида с ролью одного из
учителей в приготовительной школе философии?
Таким ли видит он свое служение? Сколь бы очевидным
ни казался ответ, спросить мы так обязаны. Пусть это
станет новым, и последним, вопросом после тех,
вокруг которых построены «Позиции». На пего так или
иначе, автором или временем, будет отвечено.
Переводить «Позиции», стараться не отстать от
блестяще отчетливой речи Жака Деррида было во
всяком случае и вызовом, и удовольствием.
Терминология перевода, конечно, в значительной мере условна и
служит скорее приглашением опять же к работе. Эй-
форические друзья Деррида у нас, как некогда
тайные друзья Фуко, к сожалению, мало позаботились о
деловом систематическом переводе их книг и об
усвоении непривычного для нас строя мысли, сваливая все
часто в невнятицу. Сейчас, кажется, с появлением
научного, подготовленного Михаилом Маяцким,
перевода «Введения » Деррида к «Происхождению
геометрии» Гуссерля (Гуссерль/Деррида Начало геометрии.
Москва: Ad marginem, 1996) положение начнет
исправляться. Надеемся, что ясности, а не сумбуру,
послужит и наш небольшой перевод.
В.В. Бибихин
126
Приложение
Национальность
и философский национализм
лекция профессора Высшей Школы социальных наук
Жака ДЕРРИДА (Франция), прочитанная в МГУ 3 марта 1990 г.
Хочу вам сказать: такое счастье для меня —
оказаться здесь, в Москве, и особенно в стенах этого
университета. Я не очень дипломат; для меня
действительно очень важна, помимо чести, оказанной мне, еще и
та удача, какой была для меня эта поездка сюда,
возможность приехать в такой необычный момент вашей
истории. Причем не только для того, чтобы говорить
с вами, но, главное, для того, чтобы слушать вас и
пытаться понять. Это для меня очень большая удача —
приехать сюда.
Сначала два вступительных замечания. Первое —
о Марксе. О Марксе было сказано только что
говорившим Вячеславом Всеволодовичем (Ивановым —
ред.), да и по дороге сюда мне тоже заметили по
поводу того, о чем я собираюсь сегодня говорить, что я,
с£ пожалуй, буду одним из очень немногих, может быть,
et единственным сейчас человеком в Москве, который
σ станет отзываться о Марксе благоприятно. Надо ска-
^ зать, что не так часто я ссылаюсь на Маркса таким
образом, как я буду это делать сегодня. И скажу еще,
что я не чувствую себя обязанным как бы извиниться
перед вами за это, что я буду говорить о Марксе в
таком плане. Я сам никогда не был марксистом. Но во
французской интеллектуальной среде, в философской
CL
127
дискуссии Маркс занимает большое место, и я
свободно, как бы утверждая свою свободу, должен сказать,
что независимо от здешней ситуации надо уважать ту
радикализацию философской проблематики, которую
мы видим у Маркса; и я считаю, что Маркса нужно
читать, но, разумеется, читать по-новому, иначе — без
догматизма, как это, возможно, было раньше.
И второе мое замечание. Когда я выбираю эту
тему, я ее выбираю вовсе не из учета вашей
ситуации; я использовал материал семинара, который уже
более чем в течение года идет в Париже, в Высшей
Школе социальных наук. До этого самого момента я
не думал, что тема окажется так неожиданно
уместной, так трагически уместной в данной ситуации,
уместной для вас, живущих в этом регионе (как
назвать?., вот скажу таким общим словом «регион»,
«страна» или как-то иначе). Итак, я не специально
выбираю эту тему — так сошлось. Вот два
вступительных замечания к моей лекции.
Под этим названием «Национальность и
философский национализм» я не хочу, по крайней мере, при
первом приближении или, если хотите, в последнюю
очередь, не хочу заниматься историческим,
социальным, лингвистическим анализом того, что можно
было бы назвать нацией, философской
национальностью. Подобный анализ как тема социальных или
гуманитарных наук, конечно, входит и в наши
философские задачи тоже, анализ этот необходим в частных
науках — я надеюсь, что рано или поздно придется
коснуться и их. Но здесь и сейчас моя главная забота
будет касаться скорее апорий философского
перевода, философских идиом. Я скажу немножко вдруг, как
ζ:
Ζ]
"Ό
и при любом начале, что существуют — мы это знаем X
φ
на опыте, я буду говорить об этом опыте и о правах
этого опыта через некоторое время — существуют
некоторые философские идиомы, и то, что они
существуют, не может не ощущаться философом, так
называемым философом, тем, кто называет себя
философом, одновременно как скандал и как шанс для
философии. Скандал, то есть то, что заставляет спот-
128
кнуться, то, что заставляет философию упасть на
землю, то, что останавливает ее на пути; и если так
называемый философ считает, что философия по своему
существу универсальна и космополитична, якобы,
и что национальное, социальное, идиоматическое
вообще приходит в философию лишь как случайное,
притча, вполне преодолимая и малосущественная.
Философия не должна терпеть различия идиомы, якобы,
она не должна это различие выносить и не должна,
якобы, от этого страдать. Всякое укоренение идиомы
или нередуцируемости идиомы должно в таком
случае считаться агрессией или профанацией по
отношению к сути философии как таковой. Итак, скандал, но
также и шанс в той мере, в какой единственная
возможность для философии, для всякой философии,
высказать себя, обсудить себя, случиться как бы, произойти,
перейти от одного к другому, — это не иначе как
пройти путем идиом, провести идиому и пронести,
перевести себя через посредство или, вернее, в самом теле
идиом, которые не запирают, не замыкают внутри себя
говорящего, но дают ему обратиться, выйти к другому,
ибо вопрос явно вот в чем: что такое идиома.
Я не хотел бы сразу ринуться к разработке этого
вопроса — пусть он образует пока и пусть остается на
долгое время самим горизонтом, то есть
определенной перспективой и пределом нашей темы. Я скажу
только о слове «идиома», которое я так внезапно вы-
dRk дал на передний план, что на первых порах я не хочу
^■^ ограничивать его границами лингвистики, дискурса,
ö несмотря на то, что, вы знаете, словоупотребление
5 обычно ограничивает это слово таким пределом: иди-
Q- ома — это языковая идиома, понимаем мы. Пока при
с£ первом приближении, хотя и не спуская глаз с этого
σ языкового определения, которое не исчерпывает всю
^ идиому, и не будучи, однако, одним среди прочих
определений, остается все-таки главным; и я буду
понимать идиому где-то в гораздо менее определенном
смысле: в смысле особенности, собственной
характеристики, уникальной черты, в принципе
неподражаемой и неотчуждаемой. Греческое idiom означает «соб-
129
ственный», и отсюда, если я говорю, что моя забота в
данной теме в самом собственном смысле — это
идиоматическое различие в философии, тем не менее, не
нужно считать, что я только для бутафории и по
рассеянности выбрал заглавием «Национальность и
философский национализм».
Вопрос, с одной стороны, таков, что если вам
угодно отнестись к этому заглавию серьезно, то вопрос вот
в чем — что такое национальная идиома в философии?
Каким образом философская идиома выступает,
отстаивает себя, являет себя, стремится к
самоутверждению в качестве национальной идиомы. Это,
естественно, возлагается и на другие вопросы, прежде
всего: что такое нация? Вопрос, как вы понимаете,
непрост. У нации, у понятия «нация» история одна из
самых трудноопределимых. Нация не тождественна ни
народу, ни расе, ни государству, хотя каждый раз она
как бы пересекается с этими реалиями, порождая
самые тягостные недоразумения. Нам к этому еще
придется вернуться.
И второй вопрос. Даже если предположить, что мы
располагаем ясным понятием, удостоверенным
консенсусом (между прочим, сама проблема консенсуса
имплицирована в так называемом национальном
чувстве, национальном сознании или национальной
реальности), так вот, если даже предположить, что
имеет место консенсус в отношении понятия
«национальность», все равно надо спросить: что есть такое и чем ДЦ
должна быть национальная идиома, философская на- ^^
циональность. Чтобы поставить вопрос о том, что это -j
такое есть и могло бы быть, надо с самого начала уже -g
признать, что имеет место — по крайней мере — §
притязание на философскую национальность, *
виды дискурса, претендующие на признание нацио- |
нальных черт у философии в своей стране или других ф
странах. Причем иногда в целях восхваления, а
иногда в целях дискредитации. Эта национальная идиома
может быть привязана через говорящих о ней к
языку, а может быть и не привязана к языку, мы об этом
еще скажем. Когда я говорю, что моя первая за-
130
бота, по крайней мере, на этом семинаре, — это
прежде всего идиома, или проблема философской перево-
димости, и сразу вслед за этим связь этой идиомы с
национальными чертами, то что это значит, почему я
называю это заботой? Я называю это заботой — я мог
бы пользоваться и другим словом, чтобы обозначить,
что речь тут идет для меня и, я думаю, для всякого,
кто должен выяснять свои отношения с философией,
не столько об объекте исследования, когда под этим
понимается тема или проблема, стоящая перед нами,
но не тяготящая нас, не давящая нас серьезно и
неотступно, не теснящая со всех сторон, не владеющая
нами изначально, — то есть когда мы находимся в
исторической философской ситуации равновесной,
в отношении которой никакой перескок как-то
невозможен. И прежде всего по этой очевидной причине
речь идет о простом объекте исследования; если это
простой объект исследования, то проблема идиомы
вырисовывается внутри определенного языка. Мне
кажется, что вопрос национальности и
философского национализма, который в разных аспектах всегда
занимал философов, нас касается другим, особенным
образом, так сказать, неуклонным, неотступным
образом, если понимать под этим то, что судьба
философии разыгрывается в этом вопросе так, что нам
отвлечься от данного сюжета не дано, не позволено.
Сегодня мы находимся в фазе, я бы сказал, острой и
парадоксальной фазе истории этой проблемы
национальности — парадоксальной потому, что никогда так,
как сегодня, все то, что туманно и проблематично
называют общением между территориями, институтами,
о: группами, школами, национальными идиомами, никог-
ct да не было в зримом, количественном, техническом,
о в статистическом смысле более проявлено, более на-
^ пряжено. Статистическая оценка опирается, скажем,
на количество международных коллоквиумов,
переводов, обменов преподавателями и исследователями,
систем хранения и аккумуляции литературы и т. д., но
в то же время дает о себе знать и последствие
национальной замкнутости, ограниченности; с другой сто-
s
CL
131
роны, и националистические претензии, как мне
кажется, никогда не были так ярко выражены, как
сегодня. Вот эти два ряда фактов, иллюстраций и
доказательств, которые можно бы было привести во
множестве (но вы мне позволите в данный момент
сэкономить на этом) противоречивы лишь по
видимости, и то, что я назвал парадоксом, есть вместе с тем
вполне понятное, скажем даже, нормальное явление.
Именно тогда, когда то, что принимает форму
обмена, встречи, так называемого философского
общения, усиливается, подвергает национальную
самотождественность, по крайней мере, предполагаемую,
всевозможным влияниям, прививкам, искажениям,
гибридизации и т. д., именно тогда национальное
самосознание, поиски самотождественности,
самоопределения, национального самоутверждения
обнаруживаются в большей мере, даже, может быть, ведут к
ожесточению, к националистическим судорожным
жестам. Интенсификация названных обменов есть
одновременно род состояния войны, войны, в ходе
которой, как и во всех войнах, врага видят повсюду, и
коллаборационистом, внутренним врагом,
оказывается тот, кто во Франции слишком любит немецкую
философию, кто в США дает себя увлечь французской
философией или в Англии — континентальной
философией. И так далее. Тогда, как всегда в таких
случаях на каждой национальной территории появляются
люди, которые хотят пробудить, скажем,
национальный философский нерв, восстановить добрую
традицию, произвести переучет национального насле- -^
дия и достояния. Примеры мы имеем повсюду, там и
здесь, особенно во Франции и в Соединенных Шта-
"О
тах. И даже в Японии, и даже в Китае умножается чис- X
ло статей, где делается попытка доказать, что пост- |
структурализм, или то, что называют деконструкцией,
очень напоминает то, что мысль дзен-буддизма,
особенно дзен-буддизма Догэна, выработала много лет
назад. В Китае аналогичные явления наблюдаются в
последние годы, поскольку некоторая открытость
Западу там произвела точно те же результаты. Я не чи-
132
таю по-китайски и не знаю, что там публикуется, но
если судить по тому, что мне дали почитать
по-английски, — вещи очень знаменательные, о которых
стоит еще поговорить. Из написанного молодыми
китайскими философами, приехавшими учиться в США,
воспроизводится то же самое явление: эти философы
настаивают на аналогичности французского
постструктурализма, например, и деконструкции в
формах логоцентризма и той или иной национальной
китайской традиции. И доказательства, в содержание
которых я входить не буду, по крайней мере сейчас,
одновременно и убедительны, и элегантны, и
правдоподобны, и слепы к своим же собственным
предпосылкам. То, о чем я говорю в отношении к
постструктурализму или деконструкции, — ну, о чем до меня доходит
больше сигналов и сведений, потому что мне
присылают тексты и потому что у меня больше вероятности
на них натолкнуться, — происходит явным образом в
той или иной мере так же и в отношении других
течений мысли. Мне было интересно — ну, любопытно, по
крайней мере, — создать сегодня карту или, точнее,
установить национальную и международную схему
различных философских ситуаций, не путем,
конечно, размещения на ней маленьких флажочков, как
часто делают некоторые вояки от философии, но путем
анализа линий влияния, заимствования, отвержения-
прилива, конфронтации и фронтов, включая всевоз-
аШк можные явления, касающиеся институтов, академи-
^■^ ческих или нет, включая и все политические факторы,
0 пересекающиеся с философскими. Теория или кате-
? гория рецепции, принятия, несомненно, недостаточ-
CL на, чтобы адекватно осмыслить эти явления, но для
^ удобства вообразим на момент, что такая карта есть.
о Сейчас я не собираюсь ее подробно описывать; она,
^ очевидно, отразила бы, например, восприятие
англосаксонской аналитической философии в ФРГ за
последние двадцать лет, ее старые и новые предпосылки,
ее философские и нефилософские параметры, ее
будущее, ее метаморфозы — все то, что существенным
образом отличает ее от рецепции той же традиции
133
аналитической философии во Франции. Или, опять
же, различие между рецепцией философии или,
точнее, определенного французского теоретического
дискурса 60-70-х годов в Англии и в США, т. е. в
среде, которая с лингвистической, по крайней мере,
точки зрения если не однородна, то, по крайней мере,
очень проницаема. Почему все там радикально
по-разному — в США и в Англии? Учета этого
обстоятельства достаточно, чтобы диссоциировать в значительной
мере национальный феномен в философии и феномен в
узко, строго лингвистическом смысле слова.
Разумеется, эта интенсификация так называемых
международных обменов, это обострение
национальной самотождественности, национальных
идентификаций, которые я пока очерчиваю лишь в их наиболее
непосредственном характере феноменов, тут же
требует принятия многих и настоятельных мер
предосторожности при подходе к ним. Для моих целей
достаточно отметить три, ну скажем, четыре, таких меры
предосторожности.
Первое такое предостережение нам самим. Мы
пока еще не можем надежно положиться на то, что я
здесь назвал национальной самотождественностью,
идентичностью. Для начала еще потребуется задаться
вопросом — и такова одна из целей нашей темы —
вопросом не только о том, в чем существо той или иной
нации, если такое существо существует, и какова
история понятия национальной самотождественности 4flh
как таковой. При первом приближении я придержи- ^^
ваюсь или просто следую тривиальному, доксическо- -^
му, расхожему, но не бессмысленному словоупотреб- -g
лению слова «национальность». И когда я говорю: §
тривиальный, доксический, я имею в виду не только *
смысл слова вне строго философского дискурса, но и §
словоупотребление, принятое большей частью среди ф
философов.
Второе. Данное выше определение, в нынешней
ситуации пока еще более чем приблизительное, не
следует считать чисто внешним, внеположенным
философии как таковой, чем-то из области социологии,
134
лингвистики, техноэкономики, истории, политики
и т. д. Все эти дисциплины, без которых нам не обойтись,
расположены тем не менее в одной и той же области,
причем расположены перед лицом философии как
таковой, состоят в прямом отношении к ней, каким бы
образом ни определять это отношение подробнее.
Интернациональная ситуация, о которой я говорю,
есть одновременно ситуация философии как таковой.
Называть ли это исторической ситуацией, или эпохой
в истории бытия, или как-нибудь еще, остается
неизменным то, что каждое из названных понятий,
привлекаемых для определения и обозначения этой
ситуации, соответствует философскому или, если хотите,
метафилософскому жесту, но ни в коем случае не
может принадлежать одной области знания, той или
иной гуманитарной, общественной науке: социологии,
лингвистике, истории, политологии, техноэкономике,
политической экономии, взятым в специальном
смысле, какими бы они ни были. Повторяю, интерес и
необходимость подобного или так называемого
научного подхода еще не все исчерпывает. Это я говорю не
для того, чтобы возродить фундаментальную или
фундаменталистскую проблематику, которая возвела бы
философию в какую-то всеобщую или
фундаментальную онтологию, в некую большую логику, исходя из
которой все определенные области знания, все науки
должны будут потом занять региональную независи-
Д| мую позицию. Уже давно я пытаюсь показать, что в
^^ научной практике, которая кажется региональной,
0 в онтологиях, которые философия называет региональ-
? ными, могут происходить общие движения к деконст-
Q- рукции, обвалы или крушения почвы,
дезорганизуюсь щие или проблематизирующие красивый порядок
σ зависимости между фундаментальной онтологией и
^ региональными онтологиями. Это, так сказать,
риторика научного региона, которая была эксплицитно
использована Гуссерлем и после Гуссерля не вполне.
Безотносительно, между прочим, к идее территории,
управляемой законом, подчиненной внерегионально
в региональных рамках — центральной политической
135
и юридической власти, некоей философской столице,
и тем самым в этой региональной риторике, которая
на самом доле больше, чем риторика, просвечивает
схема отношения «государство — нация». Словом, я
останавливаюсь на этой проблеме, на том
обстоятельстве, что ситуация философского интернационала, о
котором я говорю, не поддается определению на базе
социальной или гуманитарной наук, не для того,
чтобы возродить некий высокий критический авторитет,
фундаментальный или онтологический авторитет
философии над общественными или гуманитарными
науками, но, между прочим, больше для того, чтобы про-
блематизировать определенную авторитарность того
же самого криптофилософского типа, на который
определенная общественная наука хотела бы
претендовать в разработке своих проблем, насколько она
обладает компетенцией.
Третье предварительное предостережение. Эта
ситуация, которую я только что описал как
парадоксальную, т. е. интенсификация ускорения обменов и
названных способов общения и одновременно
обострение, драматизирование самотождественности или
притязаний на национальное самоопределение, очень
плохо поддается историческому подразделению, или
периодизации. Когда все началось? Что
специфического в нашем сегодняшнем настоящем? Каково
различие между тем, что происходит сегодня в этом
отношении, и тем, что было в XVII, XVIII, XIX веках, до и
после двух последних мировых войн и так далее? Вот
вопросы, которые сразу клубятся вокруг нас и оста-
Z]
нутся вместе с нами долгое время, на протяжении, -g
ь
вание над этой мыслью продолжалось. Несомненно, X
s
φ
может быть, лет, потому что я хочу, чтобы раздумы-
сегодня все философы, именующиеся
профессиональными, ощущают этот национальный вопрос как
неотделимый от философской ситуации самой по себе, от
предназначения, судьбы или цели философствования
как такового, в его средоточии или в его сердцевине.
Я говорю «ощущает», потому что речь идет об
определенного рода чувстве, о мотивации, более или ме-
136
нее привязанной к дискурсивной разработке, но из тех
мотиваций, которые производят движение в самих
вещах, даже если они не стали предметом
философского проекта, философской формы.
Сказанное зависит среди прочего от того, что сколь
бы не велика была сейчас для нас неопределенность и
двусмысленность всех этих вещей, значение нации,
национальности и национализма, требующее
беспрестанного анализа, никоим образом не имеет внешнего,
случайного или преходящего характера для философии,
для философского проекта, для принятия
философского решения, для философского утверждения как
такового. Национальная проблема — и нам придется без
конца в этом убеждаться — не просто философская
проблема среди прочих проблем и не одно измерение
философии среди прочих. Даже раньше всякой
разработки понятий нации и философской национальности,
философской национальной идиомы мы знаем по
крайней мере одно — это минимальный предикат, но зато
не подлежащий сомнению, знаем, что
самоутверждение национальности или националистическое
притязание привходит в философию не случайно и не извне —
оно по существу и всецело философское: это
философема. Что это значит? Это значит, как минимум, что
национальная самотождественность никогда не
выступает как черта эмпирическая, природного типа: «такой-
то народ или такая-то раса имеет черные волосы и
долихоцефальный тип» или «мы узнаем друг друга по
присутствию в нас такой-то и такой-то
характеристики». Самоопределение, самоотождествление нации
всегда имеет форму философии, которая от того, что она
о. лучше представлена той или иной нацией, тем не менее
et имеет то или иное отношение к универсальности фи-
σ лософской сферы. Эта философия как структура на-
^ циональности не обязательно имеет форму или
представительный облик системы, сформулированный
профессиональными философами в философских
учреждениях. Она может дать о себе знать как
философия спонтанная, философия невыраженная, но
образующая очень заметную конститутивную черту
ι
CL
137
неэмпирического отношения к миру и как бы вид, род
универсального дискурса, который «воплощен»,
репрезентирован, локализован, но не ограничен
частностью отдельной нации. Еще одно уточнение.
То, о чем я говорю, не ограничивается
напоминанием о вещи, по моему мнению, верной, в которой мы
сможем убедиться, а именно о том, что понятие и
слово «нация» суть понятие философское,
философского звучания, которое не смогло бы возникнуть вне
среды философского типа... Нет, то, что я говорю, не
ограничивается напоминанием об этом
обстоятельстве, мои слова касаются той структуры сознания, и
ощущения, и притязания нации, в силу которой нация
выступает в собственных глазах не просто как
носительница некоторой философии, но как
носительница образцовой философии, то есть одновременно и
частной, особенной, и потенциально универсальной.
И тем самым философской по преимуществу.
Национализм не только входит как акциденция или как
некое зло в философию, которая ему чужда и которая
по своему сущностному призванию космополитична
и универсалистична, но национализм по существу
философичен, он — философия, он — дискурс,
структура которого философская.
В знаменитых «Речах к немецкой нации» Фихте, к
которому мы не раз вернемся и вся сила которого, во
всяком случае, весь характер которого происходит от
того, что он одновременно является, хочет быть
националистом, патриотом, космополитом и
универсалистом; Фихте эссенциализирует немецкость вплоть
Z]
до того, что делает из нее некую сущность, носитель- -g
Национализм никогда не выступает, не хочет вые- *
CD
ницу универсального и философского как такового.
тупать как партикуляризм, но всегда как
универсальная философская модель, и в этом смысле у него
неотъемлема его философская сущность, вплоть до
его худших и самых зловещих проявлений, самых
империалистических и самых
вульгарно-насильственных. Прослушайте в порядке опережающего
ознакомления, потому что надо будет к этому тексту вернуться
138
со вниманием и систематически — надо обязательно,
вот какое место из седьмой «Речи к немецкой нации»
Фихте:
«В нации, которая до сего дня считает себя
народом по преимуществу, просто народом или немецким
народом, в этой нации мы замечаем с некоторого
времени проявления исконной творческой силы.
Сегодня эта нация видит себя перед лицом философии
ясности, которая, став ясной сама в себе, т. к. достигла
изнутри ясности зеркала, со всей ясностью отражает
ей (нации) ее назначение, ее предназначение, ее
конечное определение, и нация призывается
соответствовать этому образу, скорее этому ясному понятию,
чтобы осуществить с обдуманным и свободным умением
свое совершенство, сделать так, чтобы нация стала тем,
чем она должна быть, обновить союз и замкнуть свой
собственный круг. Зеркало, в котором нация видит
ясность своего понятия, свое понятие в совершенно
ясном виде, то, чем нация уже как бы и была до
настоящего времени, не прояснив себе еще этого, еще не
обладая ясным и чистым, отчетливым и достоверным
сознанием, так как обладала до сих пор
национальностью только в силу своей природы».
Прерву ненадолго это цитирование, чтобы
подчеркнуть ряд пунктов.
Первое. Национальный немецкий принцип,
выходит, по существу — это философский принцип, и имен-
4Вк но философский дискурс как таковой, то есть систе-
^^ матический и выступающий в качестве
0 принципиальной исходной мысли, как бы самого на-
s чала жизни и творчества. Так вот именно подобный
о. философский дискурс должен довести до ясности
«=t философское понятие, то, что уже было в качестве
σ философии неосознанной, но все же именно филосо-
^ фии в немецком народе. Немецкая национальность,
получается, — это сущностно-философская
категория. Она, национальность, и есть философия. Ее
существо философское.
Второе замечание. Отношение между
национальным началом, началом, от которого исходят искон-
139
ность и творчество, как бессознательно-философским
началом и его сознательным, уже осознанным будущим
в новой философии — это отношение между
бессознательной философией и сознательной философией есть
отношение круговое, циркулярное. Понятным образом,
фигура круга тут напрашивается, потому что для тема-
тизированной, осознавшей себя философии речь идет
о возвращении к началу, которое само по себе, в свою
очередь, заключается лишь в начале исконности и
творчества, предполагающими вот эту вот дальнейшую
разработку. Творчество имеет — и вся ситуация тоже —
круговой характер. Творчество нового есть не что иное
как путь назад, восхождение к истокам, круговое
возвращение к началу.
И вот третий пункт. Третье мое замечание к
прочитанному тексту Фихте — то, что фигура этого
круга, этой циркулярности, не геометрического порядка,
не абстрагированного механического движения. Этот
круг есть круг союза, связи, которую предстоит
заново утвердить, союза народа со своим собственным
истоком и, следовательно, со своим собственным
предназначением, своим собственным происхождением.
Оно зовет стать немецкий народ тем, что он есть, или
чем он должен быть. Отсюда призыв к свободе,
которая предполагает некоторое вовлечение в
историческую миссию, всякий союз, будь то вот такой союз с
самим собой, со своим собственным бессознательным,
со своим исконным прошлым. Нужно заключить этот
союз, обновить его. Союз оказывается, таким
образом, скорее обещанием или увещеванием, зовом, чем
фактом. Вот почему, и вы это увидите, в этом
дискурсе националистической философии нет, так сказать,
Z3
"О
фактичности германства, национального факта. Су- X
X
φ
щество германства для Фихте никоим образом не
смешивается с эмпирической фактичностью, с
эмпирической принадлежностью к фактической немецкой нации,
равно как для него и непринадлежность в этом
неэмпирическом смысле к названной германской нации не
исключает участие не-немцев в некоем изначальном
германстве.
140
Все это состоит в существенном отношении к той
черте фихтевского национализма, к которой, опять-
таки, нужно еще вернуться, а именно к его
принципиальному лингвистическому, языковому существу, его
укоренности в определенной интерпретации
немецкого языка. И больше нигде не укоренено. Откуда это
парадоксальное следствие, которое можно
рассматривать то как экспансию благородства, то как,
наоборот, империалистический экспансионизм народа,
уверенного в себе и господствующего. Всякий причастный
к этой философии истоков, исконности жизни и
творческой свободы, является немцем, даже если по
видимости он принадлежит другому народу. Он все равно
причастен к теологической сущности Германии,
тогда как, наоборот, фактический немец будет ей чужд,
если он не философ этой философии.
Далее с цитированием и переводом:
Фихте: «Основоположение, начало, на котором
покоится этот принцип совершенствования, то есть
это круговое возвращение — все то [безличное], что
верит в духовность и в свободу этой духовности, — то
есть вы видите, национальный принцип, он духовный,
не природный, не биологический, не врожденный
и т. д.) все то, что верит в духовность и в свободу этой
духовности и желает вечного воссоздания,
совершенствования этой духовности через свободу, где бы он
ни был рожден и на каком языке не говорил, тот
нашей расы, unsers Geschlecht, нашего рода, нашей
генеалогии, нашего установления и почти пола».
В связи с этим словом, так плохо поддающимся
переводу, приходится говорить о Хайдеггере. «Он к
о. нам принадлежит, имеет ту же принадлежность, что и
et мы, он с нами, имеет дело с нами, связан с нами... » Вот
σ этот Geschlecht.
^ «Все то, — то есть в противоположность первому,
живому творческому, опять безличное «все то» — и,
наоборот, все то, что верит в неподвижность (то есть
в непрогресс), возвращение вспять, все то, что верит в
танец по кругу — тоже вроде бы круг, но совсем
другой круг: это круг не союза, а бессмысленный, беско-
Q_
141
нечныи круг танца, никогда не кончающегося — все
то, что, наоборот, помещает мертвую природу у руля
мира в своей философии, то (тот), где он ни родился и
каким бы ни был его язык, не причастен к немецкому
и чужд нам. И пусть он отойдет от нас совсем».
То есть, если он родился немцем и говорит, как
кажется, по-немецки, на самом деле он не говорит по-
немецки, на подлинно немецком языке он не говорит.
Вы видите здесь — это пока единственная вещь,
которую я хотел этой богатой цитатой
проиллюстрировать, — вы видите, что этот национализм достаточно
эссенциалистскии, ориентированный на сущность и
архе-теологический, ориентированный одновременно
на исток, arche и на цель, telos. Он таков, что ему не
надо касаться никакого германства в природном или
фактическом смысле, по крайней мере, в принципе, по-
философски.
Тем самым, с другой стороны,
националистическое самоутверждение философское целиком и
полностью — оно не только философема, оно смешивается
с оценочным, иерархизирующим самоутверждением
лучшей и истинной философии, философского
принципа, истока и философского telos'a как такового.
Этот национализм выступает даже не просто как одна
из философий, но как подлинная философия,
философия по преимуществу. Остается теперь только
узнать, дает ли нам тогда этот характер образца и
образцовости право говорить, что всякий национализм
в свою очередь имеет то же предназначение, а именно
предназначение выступать в качестве философского,
больше того, в качестве универсального telos'a
философии. Во всяком случае, по Фихте, философия, чуж- §
дая вот такой вот творческой, жизненной, духовной X
немецкой философии, есть по существу философия |
смерти и, следовательно, некая не-философия. ф
Читаем дальше Фихте: «Согласно тому, что мы
сказали относительно свободы, мы можем теперь ясно
сказать всем тем, кто имеет уши слышать, чего хочет
эта философия, имеющая право называться немецкой,
и в чем она, эта философия, самым жестким и неумо-
"О
142
лимым образом противоположна той иноземной
философии, в которой господствует вера в смерть. Надо
провозгласить эту истину не для того, чтобы ее
поняли мертвые народы — это невозможно — но для того,
чтобы они не искажали слова и не втирали нам очки
на тот счет, будто они хотят почти того же самого и
также, якобы, по существу думают как мы».
Логика этих рассуждений необычна. Философия
будет чужеземной, поскольку она есть философия
смерти, ибо верит в смерть, а не живым истоком, т. к.
это философия мертвого народа. И ему, этому
мертвецу, бесполезно прокламировать философию жизни.
Надо помешать зловещему возвращению смерти,
извращению слова, коррупции смысла, этой тени,
отраженной тени, которая объявляет себя философией
природы. Философия природы — это философия
смерти, самая мертвая философия.
На нашем семинаре мы разбирали, что всякий
философский дискурс, всякий национальный
философский дискурс говорит о смерти в двояком смысле: в
хорошем и в плохом; включает понятие смерти как
освобождающей или извращающей, не верящей в
свободу и прогресс человека.
То, что Фихте хочет спасти, — это прежде всего
слова, язык, который может быть извращен. То, что
необходимо защитить, защитить от чужеземной фило-
"~ ' софии, — это речь. Можно давать слово смерти, гово-
Д| ря на немецком языке, но немецкий язык — это перво-
^■^ начальный исток истинной немецкой философии.
σ Языковая принадлежность здесь нетрадиционна. Мож-
§■ но, не говоря на обычном немецком языке, говорить на
cl сущностном немецком. Но говорящий на простом не-
ct мецком может говорить на языке тени. Сущностное
σ германство определяется даже не фактичностью при-
^ родного языка, а живым созидающим духом. Слово
«немецкость» приобретает здесь космополитическое
значение, безразличное к лингвистике; немецкость —
это не природная, фактическая принадлежность.
Вы чувствуете, насколько здесь громадны ставки,
насколько смущает двузначность знаков неумолимо-
143
го времени, двух знаков современности, которая
начинается задолго до Фихте и кончится не завтра.
Сущностно-философский национализм (а таков всякий
национализм) не хочет быть ни этноцентризмом, ни
политикой, но хочет быть космополитизмом. Это не
натуралистический биологизм, но философия жизни,
философия духа, которая амбивалентна, а потому
возможны перцепции ее нацизмом. Национализм не чужд
философии. Национализм выступает как философия
с большой буквы. Как универсальная философия,
космополитизм может оправдывать и аннексию,
и обратное ей. Этот универсализм всегда заряжен
национализмом. И от него идет цепь немецкого
национал-философизма.
О Марксе и об Адорно в этой логике. Упоминание
о Марксе двусмысленно и содержит иронический
контекст. Но он был первым, кто поставил под сомнение
национал-философизм и национал-универсализм —
в «Немецкой идеологии» (там, где речь идет о Карле
Грюне и далее о Фейербахе). Маркс размышляет о
словах Фейербаха: «... то, о чем говорит философия, —
человек в его вселенской истории, чистый, очищенный,
истинный...». Маркс разоблачает альянс между
гуманизмом и чистым универсальным человеком,
разводя гуманистический телеологизм и национал-
философизм в сочетании с национал-гуманизмом,
приходит к последнему выводу: Германия — нация
человека. (В этом контексте привлекает внимание
проблема места англо-американской идиомы. США
играют в современной ситуации многообещающую роль в
плане обмена и общения различных философских на-
Z]
"О
циональностей. Встает проблема места необходимо- 1
го философского круговращения. Англо-американ- *
екая идиома — это часть мощного легитимизирующего
дискурса; и сейчас возникает нечто вроде
американского национализма, направленного против вторжения
из Европы. И все это начинается в XIX веке.)
Грюн обвиняет бельгийцев: «почему бестолковые
бельгийцы не верят в человека» (т.е. в немцев, не
учатся у Германии). Отстать от немцев и не понимать
CD
φ
144
«человечность человека» — это у Грюна одно и то же:
немец — это всечеловек, в котором исполнилась вся
мера человека. Национализм предписывает нации
представительство универсальной сущности.
«Национальность человека» (Маркс) понимается как дискурс
человека о самом человеке, человек является
национальностью в смысле всякой современной
национальности. Свобода существа человека имеет
национальность, и таким образом получается, что одна
нация чванится перед другой, образовывается раздвоение,
которое размежевывает, но без подчинения.
Германия всегда занимала центральное,
промежуточное положение, и поэтому неудивителен всплеск
национализма в Германии. Этот мотив центрального
вакуума на почве бездны и безнациональности сменяется
поисками национальных корней языка у Хайдеггера.
Адорно противостоит всем немецким
философским национализмам — но он в такой же мере
повторяет утверждение о метафизическом характере немец-
кого языка. Этот метафизический характер
оказывается основой самого существа немецкости.
Эта подчеркнутость, выделенность языка поможет
нам разглядеть и сформулировать парадокс и
парадигму:
1. ПАРАДОКС. Последнее прибежище
универсального философского национализма — язык, но не
есть язык, не просто язык.
ЦЬ 2. ПАРАДИГМА (АПОРИЯ). Невозможно пре-
"^ одолеть философский национализм иначе как реду-
σ цируя или стирая лингвистические различия, или силы
5 идиомы, т. е. совершая метафизико-техническое обес-
Q- печение инструментализации языка,
cfc ВОПЮС БУДУЩЕГО: Как уместиться в проме-
σ жутке между национализацией и инструментализаци-
^ ей? Возможно ли такое осмысление идиомы, которое
уводило бы от этой альтернативы. Является ли язык
внешним техническим средством для мысли?
145
Ответы на вопросы
во время обсуждения лекции профессора Жака Деррида
ВОПЮС:
Полагаю, что любой философ, мыслитель в
своей работе создает деконструкцию. Я хотел бы
спросить: есть ли кардинальная, существенная разница
между понятиями «Kritik» ( «критика») у Канта,
«Aufhebung» («снятие»)уГегеля, «Umwertungaller
Werte» ( «переоценка ценностей») у Ницше и
«deconstruction» ( «деконструкция») у Деррида?
ОТВЕТ:
Да, конечно, существует разница между моим
понятием и теми, что Вы перечислили. Иначе это было
бы просто повторением. Для начала о том, чем
отличаются понятия «deconstruction»и «сШТегапсе»откан-
товского «Kritik». Понятие критики у Канта связано
с уровнем суждений: критика — это начало,
порождающее суждение. Критика для Канта связана с
теорией суждения и с ситуацией выбора. При критике
необходимо принимать решение. У нас всегда есть два
варианта, из которых мы делаем выбор — поэтому
ситуация выбора совершается на пределе: это
предельная ситуация. Пределы могут быть разными,
например, это могут быть пределы нашего опыта. Понятие
деконструкции тоже, конечно, оперирует идеей
предела, но этот предел, в отличие от концепции Канта,
не представляет из себя нечто неделимое — напротив,
деконструкция подразумевает особое
структурирование понятия «предел» («extrémité»). Это связано с
концепцией неопределимости (неразрешимости). _g
Понятие неопределимости («indefinite») приводит ξ
нас к критике тех самых аксиом, о которых речь идет *
у Канта. ι
Деконструкция очень многим обязана кантовским ®
идеям, но, вместе с тем, она не сводима только к
Канту. Можно сказать, что деконструкция имеет дело с
генеалогией понятия «критики», с исходной
ситуацией критического суждения — с тем, что обозначается
греческим термином «krinein». To же самое можно
146
сказать о любом типе критической деятельности,
о марксизме, также подразумевающем критическую
деятельность. То же самое относится и к литературной
критике. Таким образом, эти проблемы неизбежно
возникают каждый раз, когда мы говорим о
критическом суждении. Но это не значит, что я высказываюсь
против критики как таковой или критики в кантовском
понимании — дело в том, что нам надо всячески
развивать исходный критический мотив, но в какой-то
точке необходимо анализировать его возникновение:
откуда пошел изначальный критический импульс,
ситуация начального критического суждения, krinein?
И поэтому невозможно сказать, что деконструкция —
это просто развитие того или иного типа критической
деятельности, это всегда вопрошание об истоках.
Надо также иметь в виду, что движение критики —
это часто, по существу, движение негативное,
отрицательное по своей сущности. Например, кантовское
понятие пределов также связано с этим
ограничением, негативным импульсом, в то время как для декон-
структивной деятельности существенно, что
негативный импульс не превалирует. Я всегда говорю, что
деконструкция имеет утвердительные цели, и ее нельзя
сводить только к жесту отрицания.
Что же касается разграничения между понятием
«différance» и гегелевским понятием «Aufhebung»
(снятие), то здесь, конечно, определенные расхожде-
4Шк ния совершенно очевидны. Я не раз в своих книгах и
^^ статьях, интервью указывал на эти расхождения и
0 даже говорил, что первой целью деконструкции явля-
х ется «Aufhebung». Термин этот довольно труден для
о. перевода; были неоднократные попытки предложить
et самые различные варианты — и я предложил новый
σ французский вариант перевода этого гегелевского
^ термина: «relevé» (смена, замена, смещение). Вместе с
тем здесь невозможно пространно говорить о
различиях между «différance» и «Aufhebung», между
«différance» и всей диалектикой Гегеля — это
предмет многих моих статей и книг. Можно лишь сделать
одно замечание: эти понятия соотносятся между со-
147
бой не в плане противопоставления или оппозиции,
а разграничиваются по принципу différance, то есть
различаются, а не противопоставляются.
Но, конечно, если стремиться все смешать, то это
всегда можно сделать — можно смешивать
«différance» с кантовским и гегелевским понятиями;
философия дает нам такие возможности для
путаницы понятий — но меня, конечно же, больше
интересует ситуация различия этих понятий.
И здесь совершенно особое различие возникает в
связи с упомянутым термином Ницше — «переоценка
ценностей». То, что Ницше оказал большое влияние на
становление концепции деконструкции, это
общеизвестный факт; и по сравнению с тем, что сделал Ницше,
мой вклад довольно скромен. Но если говорить о
расхождениях между деконструкцией и понятием Ницше,
то они более внутренне значимы, чем расхождения
между отдельными декоструктивными концепциями и
понятиями Канта и Гегеля. Тут возможно много
аналогий — была даже попытка с моей стороны деконст-
руировать критику Хайдеггером Ницше, то есть своего
рода попытка защитить Ницше. Но, несмотря на все эти
аналогии с понятием «переоценка ценностей», нельзя
сказать, что здесь имеют место какие-нибудь явные
влияния. Дело в том, что я отказываюсь от упрощенного
понимания переоценки, когда члены оппозиции просто
меняются местами, и тем более я не использую в своей
практике термин «ценность». Мне, скорее, ближе хай-
деггеровские понятия, но не понятие переоценки как
изменения места.
ВОПЮС:
TD
Как Вы видите и разрешаете для себя проблему X
I
φ
существования двух пространств — пространства,
связанного со слухом, аудиопространства, и
визуального пространства, связанного со зрением? Суще-
ствует ли, по-вашему, противоречие между ними?
ОТВЕТ:
Если в итоге свести Ваш вопрос к вопросу о
различии между зрением и слухом, между ухом и глазом,
148
то это такой огромный вопрос, на который нельзя
ответить одним предложением. Ему посвящены очень
многие мои работы. Это вопрос вопросов, Вопрос с
большой буквы.
Ну, как известно, в западной метафизике
господствовала система, отдающая предпочтение зрению,
глазу — начиная с метафизики Платона именно
зрение было связано с постижением истины, что
отразилось в самой этимологии слова «эйдос», то есть идея
как усматривание, не чувственное, а интеллегибель-
ное. Если мы возьмем другие отражения этой
иерархии на протяжении истории философии, мы увидим
множество самых неожиданных вариаций этой
проблемы: допустим, то, что в классификации искусств
Гегеля мы видим, как музыка ставится выше
живописи или как философия водружается на вершину
иерархии всех областей знания etc.
Однако, эта антитеза зрения и слуха несколько
снимается, теряет свою остроту, если перевести ее в
термины пространства и времени. Здесь возникает
категория, которая в моей терминологии называется
«espacement», «spacing», «becoming space of time»,
буквально — «опространствливание». Эта категория
снимает неразрешимую антиномию
времени-пространства и также зрения-слуха. Это такой опыт,
который объединяет и зрительное, и слуховое восприятия.
Точно так же, допустим, снимается проблема про-
еЯк странства в музыке.
^Р Если теперь попытаться дать ответ на Ваш вопрос
σ уже совсем афористически, с этакой скандальной
s краткостью, то я скажу, что существует несколько
о. уровней восприятия, связанных со зрением и со слу-
ct хом, но эти разграничения снимаются в метафоре. Об
о этом я неоднократно писал в своих трудах о Гегеле,
^ о Платоне; об этом, собственно говоря, во многом шла
речь и в сегодняшней лекции, когда я говорил о Хай-
деггере; и об этом же, кстати, говорит и сам Хайдег-
гер в одной из своих работ, когда он указывает, что
процесс мышления равно подразумевает работу как
зрения, так и слуха. И это не метафора — что мышле-
149
ние включает в себя зрение и слух — это не означает,
что мы просто переводим мысль с интеллигибельного
уровня на чисто сенсуальный. Это дометафорический
уровень рассуждений.
Обобщенно можно сказать так: почитайте, что об
этом пишет Хайдеггер, почитайте мои работы,
которые относятся к теме метафоры (в частности, здесь
была названа одна статья: «La myphologie blanche» —
«Белая мифология» — из сборника «Marges de la
philosophie» — «Грани философии»).
ВОПРОС:
Не является ли понятие «différance» уже
логически исследованным в феноменологии Гуссерля?
В этом смысле: не послужило ли источником для
понятия «différance » гуссерлевское понятие
«Unterscheidung» именно в той работе, которую Вы
подвергли наиболее острому критическому анализу?
ОТВЕТ:
Да, безусловно, в моих работах можно найти
явное влияние Гуссерля, так как я начинал — как это уже
вчера было сказано — с перевода трактата Гуссерля
«О происхождении геометрии», с предисловия к
этому трактату — это было сделано в 1962 году. И уже в
конце моего предисловия появляется тот самый
термин «différance» со всеми возможными
импликациями. Кроме того, гуссерлианская проблематика
подробно анализируется в работе «La voix et le phénomène»
(«Голос и феномен»). Конечно, можно сказать, что
моя концепция оформилась в процессе изучения
Гуссерля, мой долг Гуссерлю совершенно очевиден, но
вместе с тем дело обстоит не так просто, ведь речь идет
Z1
"О
еще и о моей деконструкции Гуссерля. *
ВОПРОС:
С моей точки зрения, конструкция Гуссерля
заключается в сопоставлении понятия «solitary mental
life», «innere Zeitbewußtsein» (по-русски это будет
«индивидуальная душевная жизнь », что не совсем
верно) и понятия времени. Ваша деконструкция Гуссер-
X
φ
150
ля заключается в противопоставлении логических
исследований, а именно индивидуальной душевной
лизни, и категорий, относящихся к феноменологии
времени. Но, мне кажется, у Гуссерля эти понятия не
только не противоположны, но и организуют друг
друга.
И отсюда: не является ли Ваша программа
деконструкции лишь продолжением линии своеобразного
недоверия к внутреннему опыту (линии Канта,
Ницше и — возможно это прозвучит неожиданно для
сегодняшней беседы — Эрнста Маха), резко
отличающейся от традиции Брентано-Гуссерля, которые,
несмотря на все различия, взаимную критику um. д.,
доверяли внутреннему опыту, вовсе не
предполагающему замкнутую целостность, чистое «Я», но
представляющему собой поток значений?
ОТВЕТ:
Я не могу в этом споре занять позицию
какой-либо одной стороны: обе позиции представляют
интерес. С одной стороны, люди, которые абсолютно
доверяют внутреннему опыту, и с другой стороны, люди,
для которых внутренний опыт не является абсолютно
убедительным. В обеих композициях есть с чем
согласиться, а есть с чем и поспорить. Я пытался каким-то
образом реконституировать Гуссерля, обсуждая его
философию времени, эгологию, в частности, его
понятие «lebendige Gegenwart», «живого настоящего»,
различия между «ego» и «cogito». Именно здесь
вступает в силу его концепция различия, когда
обсуждается поток времени. В частности, его интересует про-
? блема, почему невозможно достичь абсолютной
о. идентификации настоящего, переживания «живого
i=t настоящего». Это именно та точка, в которой возни-
σ кают различия: в ней мы чувствуем сопротивление.
^ Подробнее об этом речь идет в «La voix et le
phénomène»: о проблеме сознания времени, проблеме
невозможности достичь абсолютного времени и
начала времени. В заключение можно сказать, что там, где
Гуссерль говорит об отсутствии имени, где он
отказывается от поименования, там и начинаются для меня
s
интересные проблемы: я хочу перейти эти пределы и
двинуться дальше.
Эта проблематика, связанная со временем,
выводит нас также к уже обсуждавшейся сегодня
проблеме другого, другого в другом и другого в ego, то есть в
нас самих. Это связано с проблемой внутреннего
переживания времени. Эта категория объединяет два
обсуждающихся вопроса. В частности, в работе «La
voix et le phénomène» я показал, что картезианские
построения Гуссерля имеют свои пределы, иными
словами, подверг их деконструкции.
Перевод В.В. Бибихина
152
Деррида читает Хайдеггера
Выступление Владимира Вениаминовича Бибихина в РГГУ
1 октября 1996 г. Воспроизведено по магнитофонной записи
и отредактировано по предварительно написанному тексту.
Деррида читает Хайдеггера. И поэтому он умеет
жестко поставить на место ту публику, которая ищет
поводов его не читать. Его книга 1987 года «De l'esprit:
Heidegger et la question» кончается обращением к духу
Хайдеггера: «En tout cas, pas de malentendu de notre
part, désormais, il suffît de continuer a parler, de ne pas
interrompre entre le poète et vous, c'estadire aussi bien
entre vous et nous, cette Zwiesprache». «Во всяком
случае, — кончается книга на последней странице, —
теперь с нашей стороны уже не будет недопониманий.
Достаточно продолжать разговаривать, не прерывать
диалог, разговор между поэтом и вами, т. е. между
вами и нами (cette Zwiesprache)». Кто так сейчас читает
Хайдеггера, или кто из нехайдеггерианцев, кроме
Гадамера, посмел одернуть недавно, не так давно еще
раз тех, кому показалось пора снова полаять на этого
незнакомца, на Хайдеггера. Деррида был самым
резким из тех кто выступил против Фариаса. Или кто
может сказать так, как в ранней книге, 72-го года,
сказал Деррида: «Rien de ce que je tente n'aurait ete
possible sans l'ouverture des questions heideggeriennes»
(Positions 18). «Ничего из того что я пытаюсь сделать
не было бы возможно без открытости хайдеггеровских
Q_ ВОПрОСОВ».
c£ Ну, это все знают, это так. Теперь. Когда он, опять-
σ таки, не скрывает, что не стоит перед Хайдеггером
^ учеником, как надо на это смотреть, что об этом
думать? 72-й год, Хайдеггер еще жив, Деррида говорит,
в том же контексте, где признает, что ему обязан
почти всем: «Malgré cette dette a l'égard de la pensée
heideggerienne... je tente d'y reconnaître des signes
d'appartenance a la métaphysique». «Несмотря на этот
153
мой долг по отношению к хаидеггеровскои мысли,
я пытаюсь <каждое слово важно> распознать в ней
знаки принадлежности к метафизике». Заранее Хайдег-
гер читается так, что метафизика у него будет
увидена, Хайдеггеру не дадут переступить порога чистой
деконструкции. Как к этому относиться? Кто-то
скажет, что надо читать иначе. Но, с другой стороны, все
знают, как Аристотель читал, и между прочим тоже
читал — для Платона Аристотель читатель —
прежнюю философию. Вся она для Аристотеля до него
априори — опять априори — не могла подняться,
«кроме, пожалуй, Парменида, да и тот...»; вся она
говорит для Аристотеля неясно, «обо всем только
заикается» (перевод Розанова), и прямой учитель
Аристотеля Платон идет туда же, в ту же тень. Опять-таки,
явно не вся философия до Аристотеля только
заикается, но такая оценка не снижает уровня Аристотеля,
он ничуть не хуже философ оттого, что так
отодвинул всех предыдущих. А Гегель, который себе под ноги
подстелил всю историю философии... И опять-таки,
я сошлюсь на мнение А.Ф. Лосева, он мне говорил:
читал ведь он, Гегель, все прочитал, все о чем он пишет,
он все читал в текстах. А сам Хайдеггер? Для Хайдег-
гера история философии была упрочением
метафизики, а Ницше последний, но и самый радикальный
мыслитель все той же метафизики. Для Деррида
Хайдеггер последний, но не самый крутой и решительный
виток метафизики, наоборот у Хайдеггера только
signes d'appartenance a la métaphysique, только
признаки, знаки принадлежности к метафизике.
Как на это смотреть? Мы на новом этапе.
Хайдеггер преодолен или идет преодоление Хайдеггера, по- ь
тому что появилась мысль следующего порядка. Мы *
должны признать теперь, что времена меняются. Но- §
вый этап называют постмодерном не очень точно; едва °
ли Деррида сам так назвал бы, тем более свою
философию. Во всяком случае это новый этап, кому-то в
нем неуютно, кому-то жутковато, кто-то чувствует и
скажет что в старину было лучше, но если попросить
определить чем было в старину лучше? Новому этапу не
Z]
"Ό
154
хватает остроты мысли? Достаточно. Начитанности не
хватает, знаний? Тоже достаточно. Деррида, я
повторяю, исключительный читатель. Чего же не хватает?
Очень трудно сформулировать рекламацию к этой
новой эпохе постмодерна. И гораздо позитивнее
движение встроиться в новую изменившуюся менталь-
ность, признать, что у этой эпохи, эпохи рынка,
грантов, должна быть и новая философия. Во всяком случае
тот, кто скажет, что ему чего-то не хватает в
постмодерне, с картезианской ясностью это изъяснить не
сможет. Сослаться на неизъяснимость того, что он хочет
высказать, ему будет трудно, из-за справедливого
подозрения к метафизике у этой самой новой эпохи.
Нас предупреждают, что встроиться в новую
реальность, реальность постмодерна, трудно. В
недавней книге мы читаем об интенсивности Жака Деррида
как интерпретатора, я цитирую: его чтение Гуссерля
«было лишь началом — исходным пунктом
поразительной читательской (и писательской, это одно и то
же) одиссеи, осознавать объем и глубину которой
придется еще многие десятилетия умам, желающим быть
мыслящими» [...]
Ситуация ясная как будто бы, происходит
преодоление старого, к которому — к старому — понятно, у
многих есть пристрастие. И все-таки с этим
преодолением, преодолением в деконструкции Жака
Деррида следов метафизики у Хайдеггера, есть одна
проблема. Пока не только не решен еще, но даже и не
^^ поставлен вопрос, как именно читает Деррида Хайдег-
σ гера, как Гегель читал историю философии или как
s Маркс читал Гегеля. История философии стала пита-
Q- нием для мысли Гегеля. Маркс помог Гегелю выпра-
et виться из необычного положения на голове и вернуть-
σ ся к удобному стоянию на ногах. Все черты, о которых
^ я говорил выше, черты потоптания жеребенком
родившей его кобылы, которые Платон заметил у
Аристотеля и которые повторились и у других носителей
философской традиции, я назвал троих, все эти
черты у Жака Деррида в отношении к Хайдеггеру есть,
и это как будто бы должно успокаивать; но у него же
155
есть и черты чтения именно того рода, каким Маркс
читал Гегеля: рядом с защитой учителя перестановка
его с головы на прочные и на всем понятные ноги:
национальность, языковая стратегия, секс. Особенно
сближает с Марксом, с тем, как Маркс читал Гегеля, в
чтении Хайдеггера Жаком Деррида, выход в социальные
просторы, в частности, в образе его «медиативности».
Есть и поле политической интерпретации, оно сейчас
не отчетливо выражено, но если задуматься, то можно
понять, в какую сторону оно расширяется.
Вопрос нерешенный, проблема нерешенная. Тем
более что мы сейчас всего меньше расположены
окончательно решить, можно ли читать Гегеля, как читал
Маркс, или нельзя. Многие скажут что вроде бы
можно, вообще читать хорошо и можно по-всякому. Но
приходит в голову мысль: а что если ни в коем случае,
никогда нельзя читать Гегеля, как его читал Маркс?
Я это произношу и слышу в своих словах логоцентри-
стскую сталь, тоталитаризм, запрет, которого я
вроде бы должен стыдиться. Почему-то не стыжусь.
Проблема остается. Так читать Хайдеггера, как читает
Деррида, можно или нельзя? Или все-таки можно? Или
вопрос неверно поставлен?
Как выйти из этой двойственности? Я утверждаю
что здесь двойственность и проблема. Одно
предложение я уже читал: надо потратить многие десятки лет,
чтобы «осознать объем и глубину» и так далее. Но ведь
все равно, на что потратить десятки лет, результат
будет, как в старой китайской школе, там требовалось
просто без словарей многократно повторять древнюю
поэзию, и ее смысл откроется. -g
Другой выход, тоже простой, из этой двойствен- §
ности. Деррида читает Хайдеггера, это бесспорно, и χ
тогда, господа, разумно и нам его тоже читать и не |
думать, что новейший мыслитель субсумировал ста- °
рого. Это нам предложат, конечно, тоже, уже
предлагали, но похоже, что здесь все-таки не тот случай.
Пример на то что о субсумировании говорить пока
еще не приходится. Взять то слово, каким официально,
как уже установившимся термином, называется мысль
Ζ3
156
Деррида. Маяцкий немножко не прав, он говорит, что
Деррида скорее назвал бы свою философию эристикой
в духе Сократа или софистов, но нет, в, скажем, одной
из последних книг, «La force de loi» («Сила закона»),
все-таки уверенно и однозначно эта мысль называется
деконструкцией. Деконструкцией. То есть лексически
можно подумать, что деконструкция вобрала в себя и
одновременно охранила от сбоев, от крайностей хай-
деггеровскую деструкцию. Но фактически нет:
свирепая, сырая хайдеггеровская деструкция в
деконструкции и приглушена, и введена в рациональную,
политически более корректную форму, которую перед
тем как предпочесть надо еще подумать. Грубая,
свирепая, хайдеггеровская деструкция оказывается не
вобрана в деконструкцию, она крупнее ее. Для
расширения, для простора не от деструкции идти к
деконструкции, а скорее наоборот, говорю я
неуверенно, проверяя себя, не мои ли это пристрастия.
Неуверенность еще и оттого, что я таким
сопоставлением замахиваюсь на какую-то иерархию, опять
запретная вещь в новой ситуации духовной, т. е. на
давнее бородатое прошлое, от чего предостерегают.
Но как отказаться от иерархии, господа? Я, допустим,
откажусь от распределения по ступеням достоинства.
Ведь иерархию все равно время введет явочным
порядком, и даже если сознание будет, как нам предлагают,
десятилетия прилагать свои усилия в одном направ-
Шк лении, по-настоящему эти усилия ничего не решат.
^Р Смотрите: много десятилетий усиленного вникания в
σ Маркса вдруг не оставили никакого следа. Ведь чем
s следить за операциями сознания и знать, что время
cl решит по-своему и ожидать как оно решит, я
попроси бую рискнуть, рисковать вообще интересно, тем бо-
σ лее что у меня есть шанс с моим бородатым прошлым
^ вдруг оказаться еще не наставшим будущим. Шанс
интересный, и я решаюсь на пари, похожее на то,
какое один человек предложил робко Жаку Деррида в
Париже в позапрошлом году, когда Жак Деррида был
уверен и говорил, что значение и влияние Маркса
будет все увеличиваться, а этот человек предложил ему
157
пари: нет, наоборот, его мысль будет постепенно
стираться на фоне мысли Гегеля, которая будет
проступать через эту завесу. Я так и делаю; для себя, не так
давно, я на этот риск пошел и такое пари сам с собой
заключил. Какие-то основания у меня есть, я их
приводить не буду, я приведу только один пример.
У Жака Деррида есть большая двухчастная, даже
трехчастная, работа с немецким названием
Geschlecht I, Geschlecht II, Geschlecht III. Жак
Деррида не в последнюю очередь говорит о руке Хайдегге-
ра, цитирует Хайдеггера, его известные вещи о руке
мастера, скульптора, о пишущей руке поэта: эта рука
не инструмент для хватания, и дальше: Greiforgane
besitzt ζ. В. der Affe, aber er hat keine Hand;
хватательными органами обладает, к примеру, обезьяна, но у
обезьяны нет руки. Защита обезьяны против
Хайдеггера, против невежества в зоологии, справедливо
отмеченного — априори справедливо, Хайдеггер не
зоолог — Жаком Деррида, была сразу конечно замечена
в Париже: Хайдеггер не протянул братскую руку
дружбы обезьяне, а Деррида протянул. Париж такой.
Но дело ведь совсем не в этом. [...] В этом
замечании об обезьяне, которая не обладает рукой, а
обладает только хватательными органами, дело не в том
что здесь, как замечает Деррида, проявляется ce non-
savoir érigé en savoir tranquille, незнание,
воздвигнутое, возведенное в спокойное догматическое знание.
Дело вовсе не в этом, не в уличенном
антропоцентризме, кстати почему бы у Хайдеггера и не быть
антропоцентризму. С другой стороны, почему бы и быть.
Почему бы Хайдеггеру не быть зоологическим невеж- -g
дой. Хотя почему бы, опять же, и быть. Дело совсем о ь
другом, и тут образец всего чтения Хайдеггера у Дер- *
рида. В том измерении, в котором пишет Хайдеггер, §
обезьяна никогда ни при каких обстоятельствах не мо- ф
жет выступать как зоологическое понятие. Речь
вообще не может идти об обезьяне. Речь о человеке.
Человек имеет хватательные органы и человек — не das Man,
а человек, всякий человек — до сих пор не имеет руки,
ни больше ни меньше. Потому что для Хайдеггера
ZD
иметь руку как не орган схватывания так же трудно,
как думать. А думать мы пока не умеем, это мы от Хай-
деггера слышали, и слышали что он при этом добавил:
der Sprecher miteinbegriffen, er sogar zuerst; думать мы
не умеем и говорящий тоже, и он даже в первую
очередь. Не рисовка это у Хайдеггера — он не умеет
думать, у него нет умения мастерства думания. Это мы
от него все слышали, и во фразе об обезьяне мы
слышим фактически то же самое, нам только кажется, что
другое: мы не умеем думать, у нас нет рук, у нас
только хватательные органы.
Деррида так его не читает, хотя это лежит на
поверхности, там рядом говорится о мысли, рядом говорится
о том, что не рука принадлежит человеку [...] В другом
месте Хайдеггер говорит, как Деррида, что мы не
понимаем животных, они к нам близки, наше тело к нам
близко, но мы его не понимаем. Но, совпадая там, Хайдеггер
оказывается жестким и безжалостным, и говорит так,
как Деррида никогда не говорит, говорит о различении
между тем, у кого есть и рука и ум как хватательный
орган, и это существо человек, и другим существом,
человеком которого нет, это тоже человек, у которого есть
рука и есть мысль. Один и другой, эти вот
неразличимые, между собой различены durch einen Abgrund des
Wesens, целой бездной; чего Деррида никогда не скажет.
Nur ein Wesen, das spricht, d.h. denkt, kann die Hand haben
und in der Handhabung Werke der Hand vollbringen. Толь-
étok ко существо, которое говорит, т. е. думает, может иметь
^■^ руку, и во владении, в действии рукой совершать труды
σ руки (буквальный и плохой перевод).
§? «Говорит, т. е. думает». Порядок не случайный.
о. Nur insofern der Mensch spricht, denkt er; nicht
«=t umgekehrt, wie die Metaphysik es noch meint. Лишь no-
σ скольку человек говорит, он думает, не наоборот, как
** метафизика до сих пор полагает. В этом по крайней
мере отношении Хайдеггер верен своим словам. Он
действительно сначала говорил, потом думал. Как все мы.
И глядя на все это, наблюдая все это, я его
чувствую по этому признаку себе близким, — по
признаку того, что он сначала говорил, потом думал.
Содержание
Вместо предисловия
В.В. Бибихин. Жак Деррида 5
ПОЗИЦИИ 9
Уведомление 10
Импликации
Беседа с Анри Ронсом 11
Семиология и грамматология
Беседа с Юлией Кристевой 24
Позиции
Беседа с Жаном-Луи Удбином и Ги Скарпеттой 46
Письмо Жана-Луи Удбина
Жаку Деррида (фрагмент) 112
Письмо Жака Деррида
Жану-Луи Удбину (фрагмент) 115
Примечание переводчика 119
ПРИЛОЖЕНИЕ
Ж. Деррида. Национальность и философский
национализм 126
Ответы на вопросы 145
В.В. Бибихин. Деррида читает Хайдеггера 152
Научное издание
Жак Деррида
ПОЗИЦИИ
Ответственный редактор
Э. Сагетдинов
Компьютерная верстка
В. Кабанов
Корректор
А. Конькова
ООО «Академический Проект»
Изд. лиц. № 04050 от 20.02.01
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
№ 77.99.60.953.Д.002432.03.07 от 09.03.2007 г.
По вопросам приобретения книги
просим обращаться в ООО «Трикста»:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
Тел.: (495) 305 3702,305 6092; факс: 305 6088.
E-mail: info@aprogect.ru
www.aprogect.ru
Подписано в печать с готовых диапозитивов 16.08.07.
Формат 84x108 1/32. Гарнитура MyslC.
Бумага писчая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4.
Тираж 3000 экз. Заказ № 446.
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620041, ГСП-148, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru e-mail: book@uralprint.ru
Жак Деррида сумел сделать
полными аудитории в Париже, в Америке,
Японии; его философия проникает в
Восточную Европу, в частности, благодаря этой
работе. «Позиции» — согласно выбору
самого автора — первая книга Деррида в
Отчего из полусотни своих книг автор
советует начать именно с этой?
Возможно, в силу ее характера вопросника с
ответами по всем главным темам. Судить о
них читателю, еще не расставившему
школьных оценок классике от Платона до
Руссо и Хайдеггера, еще не
остановленному коротким (или долгим) знакомством
с фасадом постмодерна.
Являясь наилучшим введением в
словарь философа, «Позиции» помогают
понять, каким образом ключевое
понятие — деконструкция — в поздней мысли
Деррида окажется исходной,
непереводимой, не поддающейся никакой
редукции жаждой правды.