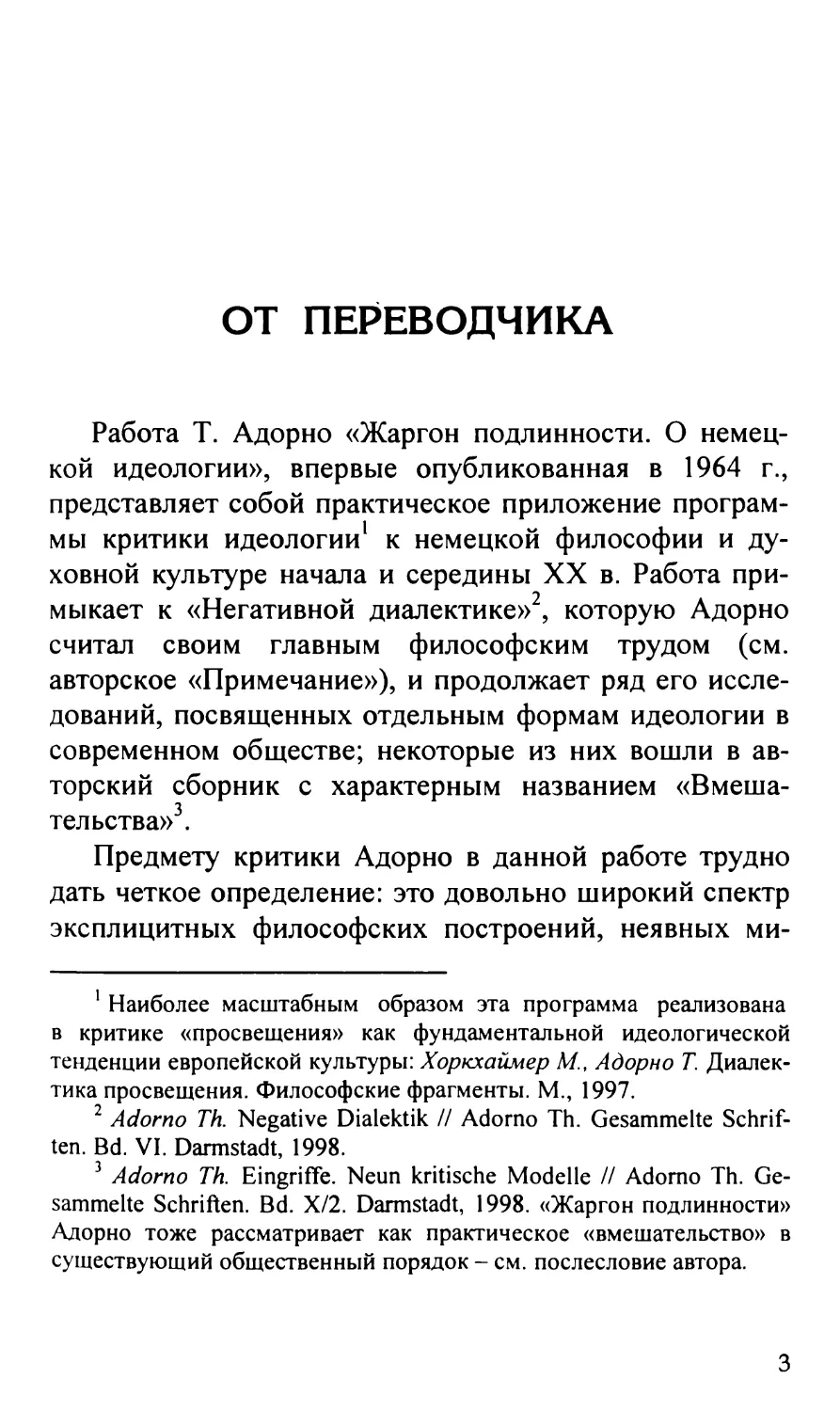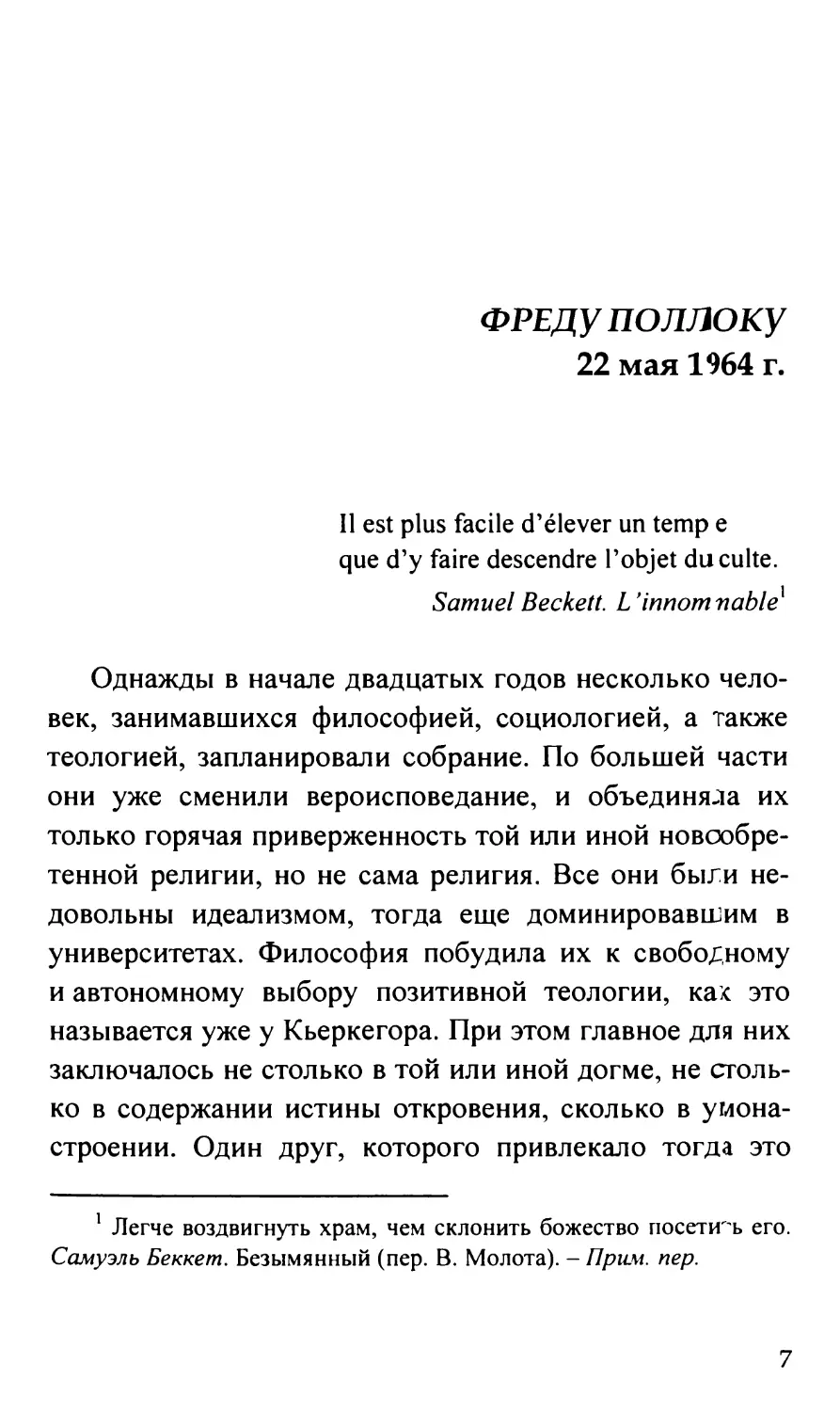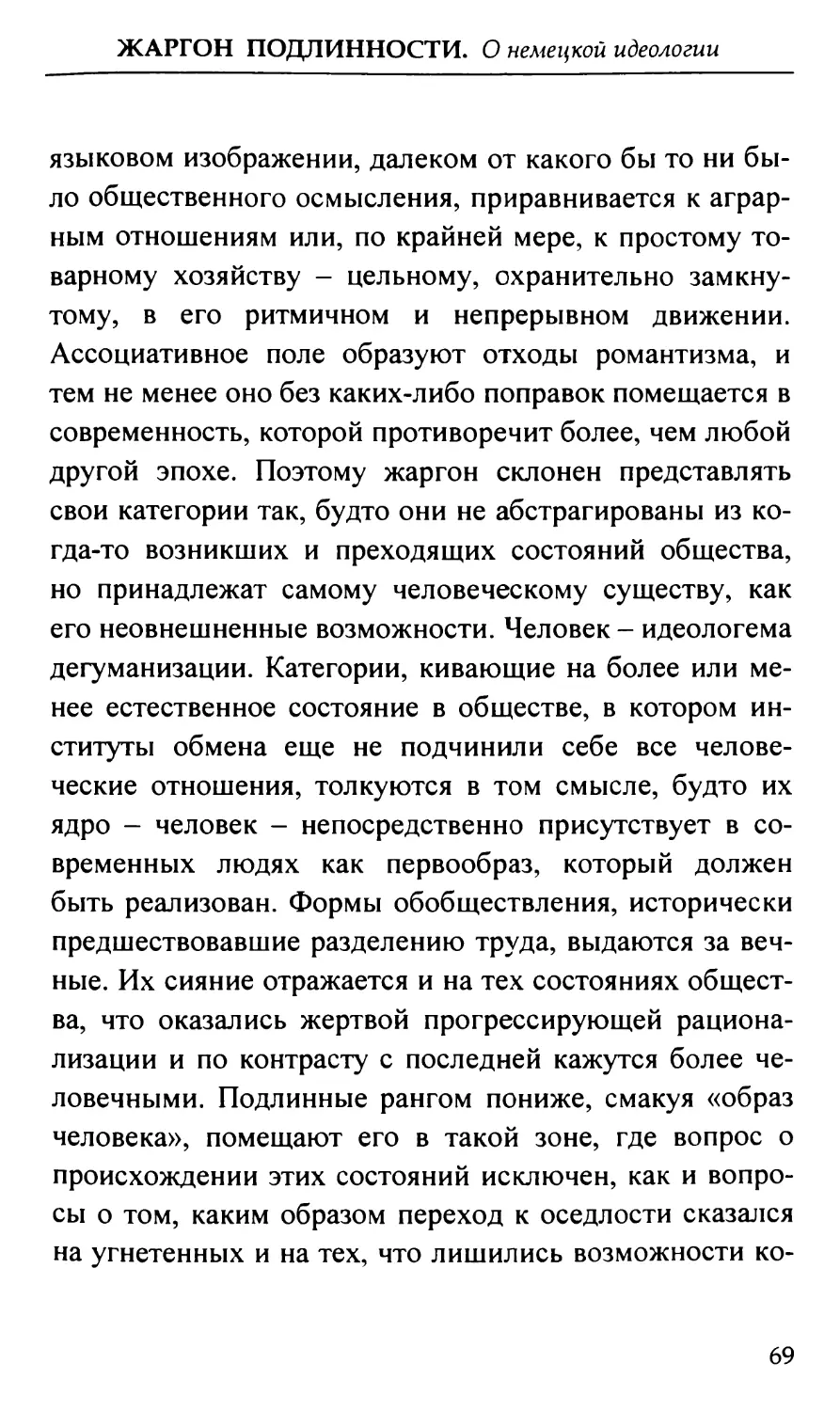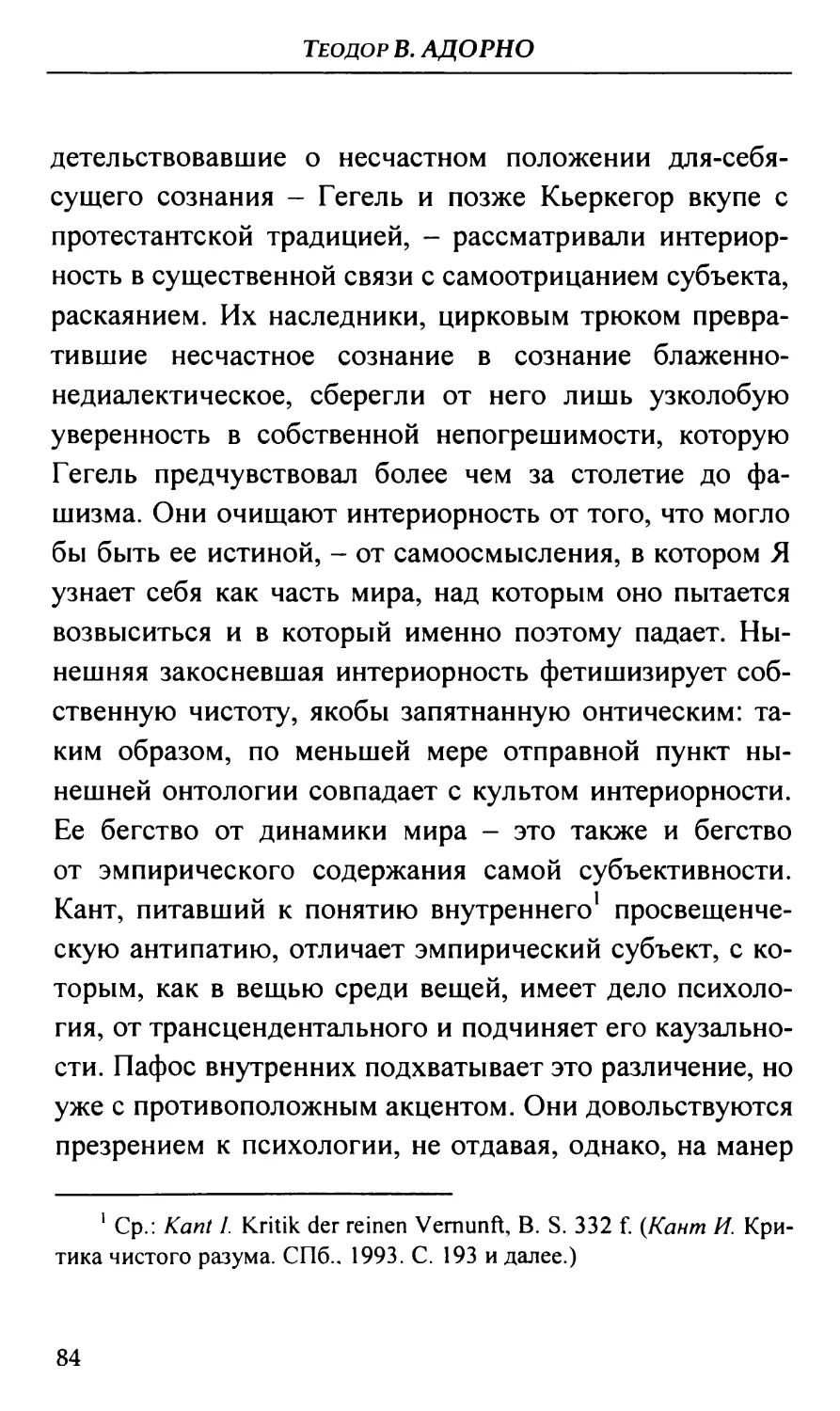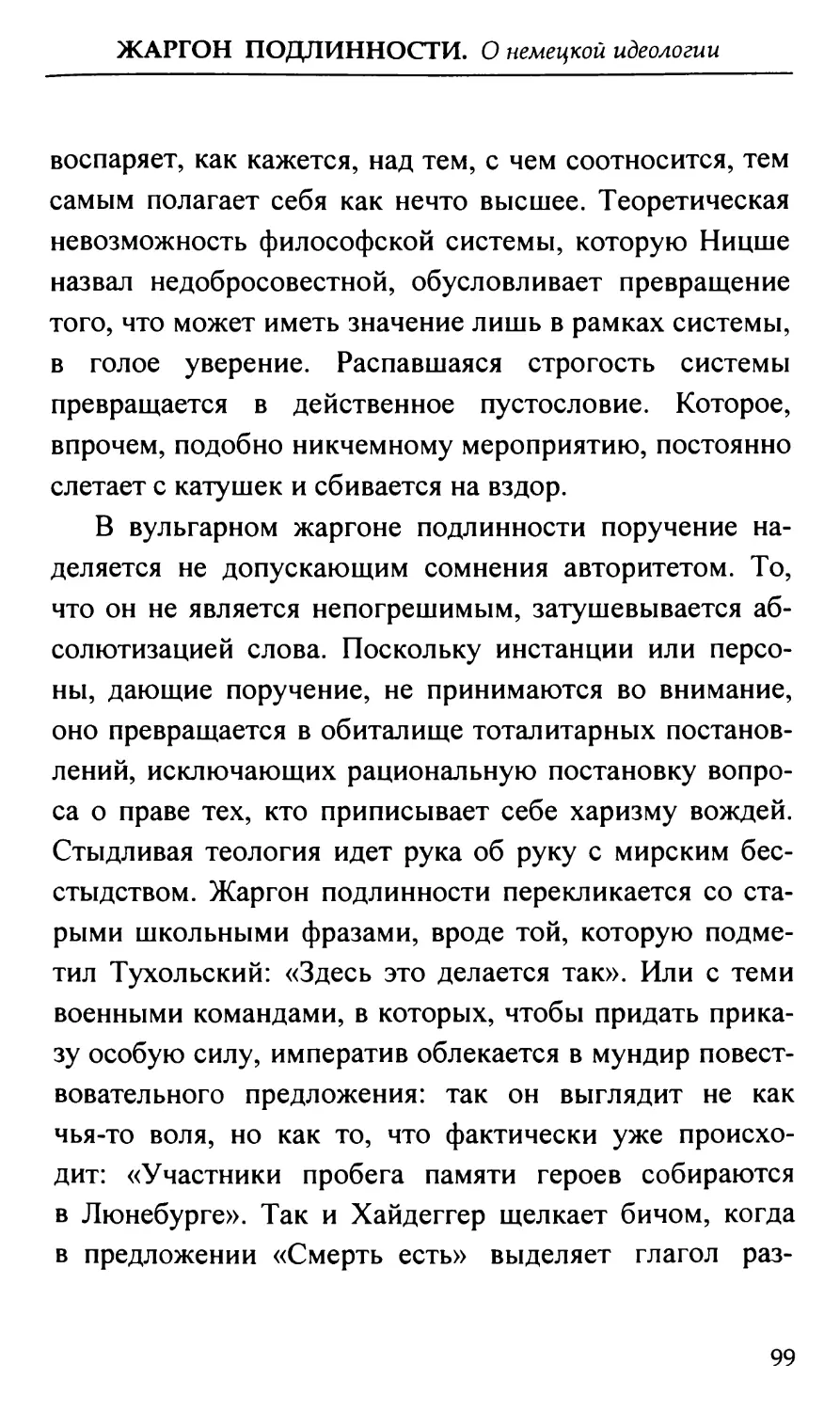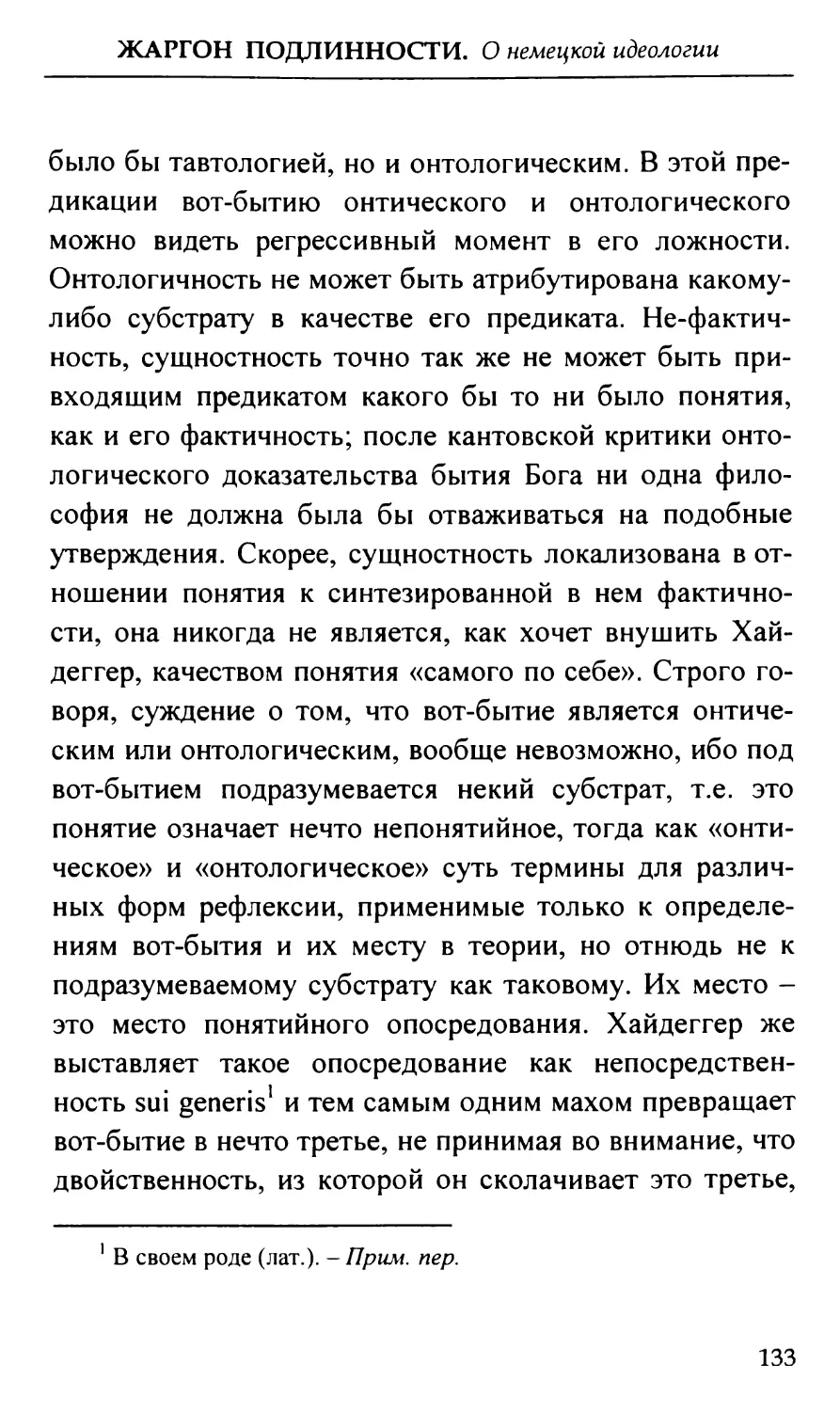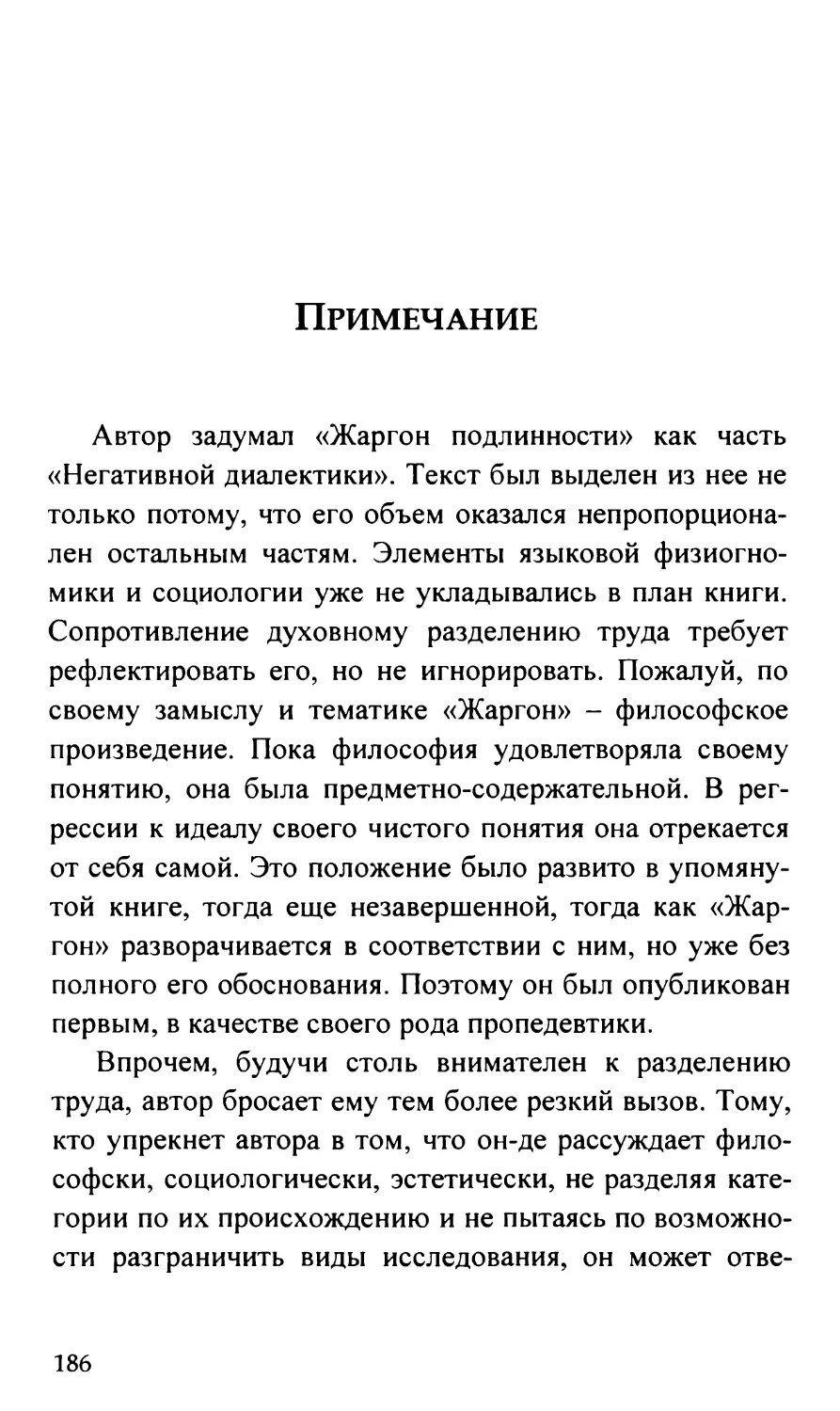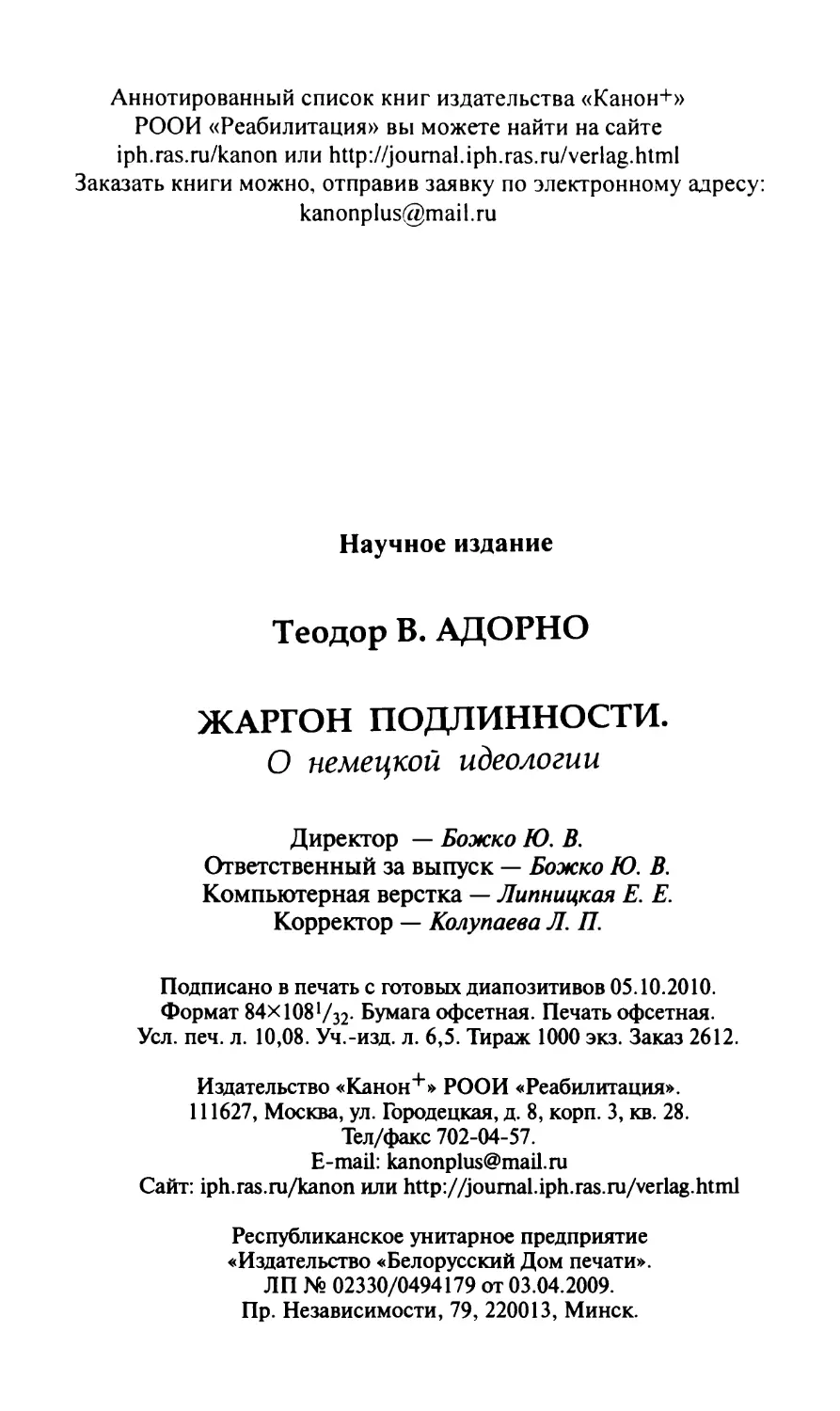Author: Адорно Т.В.
Tags: философия психология онтология метафизика гносеология история философии
ISBN: 978-5-88373-263-1
Year: 2011
Text
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
Теодор В. АДОРНО
ЖАРГОН
подлинности.
О немецкой идеологии
МОСКВА
кАн(Цен+
2011
УДК 1/14
ББК87.2
А31
Перевод выполнен в рамках федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России», мероприятие 1.1 (проект «Онтология в современной
философии языка»).
Адорно Теодор В.
А 31 Жаргон подлинности. О немецкой идеологии / Пер.:
Е. В. Борисов. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация»,
2011.-191 с.
ISBN 978-5-88373-263-1.
Работа представляет собой применение программы критики
идеологии Франкфуртской школы к немецкой духовной культуре
первой половины XX в., прежде всего к экзистенциальной
философии М. Хайдеггера, К. Ясперса и др. Для специалистов по
социальной философии, историков философии и студентов
философских специальностей вузов.
Theodor W. Adorno. Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen
Ideologie. Suhrkamp Verlag: Frankfurt am Main 1967.
УДК 1/14
ББК87.2
ISBN 978-5-88373-263-1 ©Теодор В. Адорно, 2011
©Пер. с нем. Е. В. Борисов, 2011
© Издательство «Канон"1"»
РООИ «Реабилитация», 2011
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Работа Т. Адорно «Жаргон подлинности. О
немецкой идеологии», впервые опубликованная в 1964 г.,
представляет собой практическое приложение
программы критики идеологии1 к немецкой философии и
духовной культуре начала и середины XX в. Работа
примыкает к «Негативной диалектике»2, которую Адорно
считал своим главным философским трудом (см.
авторское «Примечание»), и продолжает ряд его
исследований, посвященных отдельным формам идеологии в
современном обществе; некоторые из них вошли в
авторский сборник с характерным названием
«Вмешательства»3.
Предмету критики Адорно в данной работе трудно
дать четкое определение: это довольно широкий спектр
эксплицитных философских построений, неявных ми-
Наиболее масштабным образом эта программа реализована
в критике «просвещения» как фундаментальной идеологической
тенденции европейской культуры: Хоркхаймер М., Адорно Т.
Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М., 1997.
2 Adorno Th. Negative Dialektik // Adorno Th. Gesammelte
Schriften. Bd. VI. Darmstadt, 1998.
3 Adorno Th. Eingriffe. Neun kritische Modelle // Adorno Th.
Gesammelte Schriften. Bd. X/2. Darmstadt, 1998. «Жаргон подлинности»
Адорно тоже рассматривает как практическое «вмешательство» в
существующий общественный порядок - см. послесловие автора.
3
От переводчика
ровоззренческих идей, дискурсивных и
коммуникативных практик, представленных в философии,
художественной литературе, публицистике, теле- и
радиопередачах и т.п. Согласно Адорно, все эти феномены
объединяет специфическое использование языка
(терминологического языка философии, метафорического строя
поэзии, иллокутивных особенностей коммуникации и
т.п.), наделяющее его неявной (скрытой от
«потребителя») идеологической функцией - функцией консервации
существующего социального порядка. Наиболее
пристально в тексте рассматривается ряд философских
концепций К. Ясперса, О.Ф. Больнова и М. Хайдеггера,
которые для Адорно являются образцовым воплощением
«жаргона»; это делает работу важным памятником
полемики и размежевания Франкфуртской школы с
экзистенциальной (в авторском понимании) философией.
Работа представляется чрезвычайно интересной и как
оригинальный вариант философии языка, в которой
совмещаются методы формального, концептуального,
семантического и социально-критического анализа в версии
Адорно. Наконец, текст представляет собой блестящий
образец авторского литературного стиля, который,
конечно, при переводе претерпел определенный ущерб.
Некоторые переводческие решения, использованные
в данном издании, требуют обоснования. Наиболее
проблематичным представляется перевод двух базовых
терминов Хайдеггера, регулярно упоминаемых Адорно.
1) Термин, вынесенный в заглавие работы, -
Eigentlichkeit. Слово eigentlich имеет широкий спектр
значений: действительный, настоящий, истинный, собст-
4
От переводчика
венный, существенный (в противоположность
кажущемуся, мнимому, ложному, поддельному, случайному).
Это слово может использоваться для отличения
существенных признаков вещи от несущественных,
собственного смысла слова от переносного, подлинного
мотива поступка от декларируемого и т.п. В переводе
«Бытия и времени», выполненном В.В. Бибихиным,
eigentlich передается словом собственный
(соответственно, Eigentlichkeit - собственность^. В контексте
«Бытия и времени» этот перевод вполне точен, но
Адорно использует этот термин в расширительном
значении: для фиксации специфической идеи критикуемого
умонастроения в целом, а также для иронического
обозначения его приверженцев. В этом контексте
стилистические соображения требуют переводить eigentlich как
подлинный и, соответственно, Eigentlichkeit как
подлинность2. Возможный вариант: аутентичный
(аутентичность)', этот эквивалент использован, в частности, в
английском переводе3. В дальнейшем цитаты из «Бытия
и времени» даются в моем переводе; в библиографических
сносках даны также ссылки на перевод В.В. Бибихина.
2) Хайдеггеровский термин Dasein не имеет в
русском языке естественного эквивалента и по-разному
переводится разными авторами. В.В. Бибихин в перево-
1 Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
2 Впрочем, по моему мнению, этот вариант (подлинный и
подлинность) подходит и для передачи хайдеггеровского термина.
Я использовал его в переводе лекционного курса 1926 г.,
содержательно и терминологически близкого к «Бытию и времени»:
Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Томск, 1998.
Adorno Th. Jargon of Authenticity. London, 1973.
5
От переводчика
де «Бытия и времени» передает его как присутствие',
А.Г. Черняков оставляет без перевода1. В других
переводах и в интерпретативной литературе встречаются
также варианты «здесь-бытие»2, сиюбытность3 и др. По
моему мнению, искусственная конструкция «вот-бы-
тие», будучи калькой с немецкого термина, решает
основные переводческие задачи, поэтому в данном тексте
(как и в переводе «Пролегомен к истории понятия
времени») я использую этот вариант.
В менее головоломных случаях дается комментарий
в подстрочных примечаниях или в скобках приводятся
оригинальные выражения.
* * *
Я благодарен коллегам, оказавшим мне любезную
помощь в работе над переводом: проф. Хайнцу Дитеру
Киттштайнеру (Prof. Dr. Heinz Dieter Kittsteiner,
Frankfurt an der Oder), Мальте Каснеру (Malte Kassner,
Hamburg), Франку Повирски (Frank Powierski, Frankfurt am
Main) и Рафаэлю Юнгу (Raphael Jung, Berlin). Я
признателен Ирине Полещук (Минск) за помощь в переводе
французских цитат и Игорю Михайлову (Москва) за
плодотворное обсуждение ряда фрагментов перевода.
1 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб., 2001.
2 Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993; пер.
A.B. Михайлова.
3 Хайдеггер А/. Введение в метафизику. СПб., 1998; пер. Н.О. Гу-
чинской.
6
ФРЕДУ ПОЛЛОКУ
22 мая 1964 г.
II est plus facile d'elever un temp e
que d'y faire descendre Pobjet duculte.
Samuel Beckett. L'innomnable^
Однажды в начале двадцатых годов несколько
человек, занимавшихся философией, социологией, а также
теологией, запланировали собрание. По большей части
они уже сменили вероисповедание, и объединяла их
только горячая приверженность той или иной новообре-
тенной религии, но не сама религия. Все они быги
недовольны идеализмом, тогда еще доминировавшим в
университетах. Философия побудила их к свободному
и автономному выбору позитивной теологии, как это
называется уже у Кьеркегора. При этом главное для них
заключалось не столько в той или иной догме, не
столько в содержании истины откровения, сколько в
умонастроении. Один друг, которого привлекало тогда это
1 Легче воздвигнуть храм, чем склонить божество посети'ь его.
Самуэль Беккет. Безымянный (пер. В. Молота). - Прим. пер.
7
Теодор В. АДОРНО
общество, к тихой его досаде, не был приглашен. Как
ему дали понять, он был недостаточно подлинным. Ибо
он медлил совершить кьеркегоровский скачок; он
подозревал, что религия, вызванная к жизни автономным
мышлением, тем самым попадает к нему в подчинение
и отрицается как абсолютное, каковым она ведь желает
быть по своему понятию. Сотоварищи были
антиинтеллектуальными интеллектуалами. Они скрепили
свое высшее согласие, закрыв дверь перед тем, кто, по
их общему свидетельству, не исповедовал ту же веру.
Цель своих духовных борений они записали себе в
заслугу как собственный этос, как будто приверженность
учению о высшем повышает и внутренний ранг
человека; как будто в Евангелиях нет ничего о фарисеях.
Сорок лет спустя на конференции в одной евангелической
академии некий епископ на пенсии покинул зал, потому
что приглашенный докладчик усомнился в возможности
сакральной музыки сегодня. Он тоже не считал
возможным не иметь дела с несогласными или был
предостережен от этого: как будто критическая мысль не имеет
никакого объективного фундамента, но представляет
собой лишь субъективную ошибку. Люди этого типа
соединяют, говоря словами Борхардта (Borchardt),
склонность к собственной правоте с боязнью
рефлектировать собственную рефлексию, словно не вполне
доверяют сами себе. Сегодня, как и тогда, они чувствуют
опасность вновь потерять то, что они именуют
конкретным, в презираемой ими абстракции, которую
невозможно вытравить из понятия. Им представляется, что
8
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
конкретность можно обрести через жертву, прежде
всего интеллектуальную. Еретики окрестили людей этого
круга «подлинными». Это было задолго до выхода
«Бытия и времени». Введя в оборот «подлинность» как
таковую, в экзистенциально-онтологическом смысле, как
специально-философское ключевое слово, Хайдеггер
тем самым энергично утвердил в философии то, к чему,
не столько теоретически изощренно, стремились
подлинные, - и это было кстати всем, кто туманно на оную
намекал. Хайдеггер сделал излишними
конфессиональные требования к человеку. Его книга приобрела свой
нимб благодаря тому, что в ней было представлено как
нечто ясное и недвусмысленно-обязательное то, к чему
смутно влекло интеллектуалов до 1933 г. Правда,
у Хайдеггера, как и у всех, кто пользуется его языком,
до сих пор звучат приглушенные теологические ноты.
Ибо в этот язык просочились теологические аффекты
тех лет, захватившие значительно более широкие круги,
нежели тот, что выдвинулся тогда как элита. Однако
сакрализованное в языке подлинных относится скорее
к культу подлинности, нежели к христианскому культу,
даже там, где они, в силу временной нехватки других
подручных авторитетов, вынуждены довольствоваться
последним. Их язык формирует мысль так, чтобы она,
прежде всякого специфического содержания,
максимально отвечала цели подчинения, даже когда полагает,
будто ему противостоит. Авторитет абсолютного был
низвержен авторитетом абсолютизированным. Фашизм -
это заговор, но не только: он возник внутри мощной
9
Теодор В. АДОРНО
тенденции общественного развития. Он нашел приют
в языке, в котором тлеющее несчастье (Unheil)
предстает как благо (Heil).
В Германии жаргон подлинности, на котором
немало говорят, а еще больше пишут, стал знаком
обобществленной избранности; в нем есть что-то благородное
и вместе с тем и что-то домашнее: субъязык как
сверхъязык. С философии и теологии (не только теологии
евангелических академий) он распространился на
педагогику, народные университеты и молодежные союзы
и далее вплоть до возвышенного красноречия депутатов
от хозяйства и администрации. Демонстрируя
переполняющее его глубокое душевное волнение, жаргон,
однако, столь же стандартизирован, как и мир, который он
официально отвергает: отчасти это связано с его
массовым успехом, отчасти же с тем, что он возвещает свою
весть автоматически, одним только своим строением,
тем самым закрывая ее для того опыта, который должен
был бы его одушевлять. Он располагает скромным
набором состыкованных, подобно сигналам, слов.
«Подлинность» - не главное среди них: скорее, она
проливает свет на тот эфир, в котором расцветает жаргон, и то
умонастроение, которым он подспудно питается. Для
начала будет достаточно следующих примеров:
экзистенциальный, «в решимости», поручение, зов, встреча,
настоящий разговор, высказывание, стремление, связь;
перечень можно дополнить немалым числом
нетерминологических терминов схожего звучания. Некоторые
жаргонные слова - как приведенное в гриммовском сло-
10
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
варе «стремление» (Anliegen), которое еще Бенъямин
использовал вполне невинно, обрели новый оттенок,
попав в «поле напряжения» (еще одно характерное
выражение) жаргона. Наше намерение состоит не в том,
чтобы дать index verborum prohibitorum1, перечень
благородных субстантивов, имеющих рыночное хождение,
но в том, чтобы проследить их функцию в рамках
жаргона. Его словарный запас - это отнюдь не только
благородные субстантивы; иногда он подхватывает слова
самые обыкновенные, отливает их в бронзе и
устанавливает на пьедестал - на манер фашизма, который
мудро перемешивал вульгарное и элитарное. Вскормленные
изысканным поэты неоромантизма, такие как Гофман-
сталь и Георге, никогда не писали свою прозу на
жаргоне, чего нельзя сказать о некоторых из их агентов, вроде
Гундольфа (Gundolf)- Слова становятся жаргонными
только благодаря отвергаемой ими констелляции,
благодаря жесту уникальности. Магия, которую теряет
отдельное слово, словно бы возвращается ему
специальным административным решением. Трансценденция
отдельного слова - вторичный, фабричного
производства, эрзац утраченной трансценденции. Элементами
эмпирического языка, зафиксированными в качестве
неизменных, манипулируют так, словно они принадлежат
некоему истинному, данному в откровении языку;
эмпирически известная доверительность сакральных слов
имитирует для говорящего и слушающего интимность
1 Перечень запрещенных слов (лат.). -Прим. пер.
11
Теодор В. АДОРНО
контакта. Эфир механически распыляется; атомарные
слова приукрашиваются, не претерпевая никаких
изменений. Благодаря сочленению (Gefüge), как это
называется на жаргоне, они возвышаются над этим самым
сочленением. Жаргон, объективно будучи системой,
в качестве организационного принципа использует
дезорганизацию, распад языка на слова сами по себе.
Некоторые из них можно использовать в других
констелляциях, не подмигивая жаргону: «высказывание» - в
теории познания, в точном смысле предикативного
суждения; «подлинный» - правда, здесь уже
необходима некоторая осторожность - как прилагательное,
предназначенное для отличения эссенциального от акциден-
тального; «неподлинный» - когда подразумевается
нечто искаженное, например, выражение, не являющееся
непосредственно адекватным выражаемому:
«Трансляция по радио традиционной музыки, созданной в
расчете на живое исполнение, основана на чувстве "как если
бы", чувстве неподлинного»1. При этом слово
«неподлинный» употребляется критически, в определенной
негации кажущегося. Жаргон, однако, изымает
«подлинность», как и ее антоним, из любого разумного
контекста. Конечно, когда фирма получает поручение, нет
нужды растолковывать ей значение этого слова. Но
такого рода возможности ограниченны и абстрактны.
Злоупотребление ими ведет к чисто номиналистической
1 Theodor W. Adorno. Der getreue Korrepetitor. Lehrschriften zur
musikalischen Praxis. Frankfurt am Main, 1963. S. 218.
12
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
теории языка, для которой слова суть
взаимозаменяемые фишки, не имеющие никакого отношения к
истории. История, однако, проникает в каждое слово,
предохраняя его от реставрации мифического первосмысла,
за которым гонится жаргон. Что является жаргоном, а
что нет, можно определить по наличию или отсутствию
тональности, в которой слово выступает как
трансцендентное по отношению к своему собственному
значению; в жаргоне слова прибавляют в весе за счет
предложения, суждения, содержания мысли. Поэтому
жаргон имеет сугубо формальный характер: он добивается,
чтобы его цель чувствовалась и воспринималась в
значительной мере независимо от содержания слов,
благодаря одному только их произнесению. Он берет в
оборот допонятийную, миметическую стихию языка и
ставит ее на службу желаемым связям действия. Например,
«высказывание» должно убеждать в том, что вместе с
предметом в нем выражается экзистенция говорящего,
наделяя предмет собственным достоинством; при этом
дается понять, что без этого придатка в виде говорящего
речь была бы уже неподлинной; чисто предметная
ориентация выражения была бы неким грехопадением.
Такая формальность благоприятна для демагогических
целей. Сведущему в жаргоне необязательно говорить,
что он думает, необязательно даже и думать: жаргон
берет это на себя и обесценивает мысль. Подлинно:
главное - чтобы говорил целостный человек. При этом
происходит то, что сам жаргон стилизует как «событие-
присвоение» (Sich ereignen). Коммуникация защелкива-
13
Теодор В. АДОРНО
ется и принимается вербовать сторонников для истины,
которую незамедлительное коллективное согласие
скорее должно было бы сделать подозрительной. В
настроении жаргона, разделяемом всеми посвященными,
есть что-то от серьезности авгуров.
То обстоятельство, что жаргонные слова,
независимо от контекста, равно как и от понятийного
содержания, звучат так, словно выражают нечто более высокое,
нежели их значение, можно обозначить термином
«аура». Неслучайно Бенъямин ввел этот термин в тот
самый момент, когда то, что он под ним подразумевал,
согласно его теории, исчезло из опыта1. Сакральные без
сакрального содержания, замороженные эманации,
ключевые слова жаргона подлинности суть продукты
распада ауры. Последняя сопряжена с
необязательностью, которая в расколдованном мире позволяет
свободно ею распоряжаться, или, как можно было бы
сказать на военизированном новонемецком, обеспечивает
ее боевую готовность. В жаргоне порицание
овеществления овеществилось. К нему приложима дефиниция,
которую Рихард Вагнер, имея в виду плохое искусство,
дал эффекту: действие без причины. Где исчез
святой дух, там говорят механическими языками. Однако
внушенная, несуществующая тайна - это публичная
тайна.
1 Ср.: Walter Benjamin. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner
technischen Reproduzierbarkeit. - Schriften. Bd. I. Frankfurt am Main, 1955.
S. 374.
14
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
Тому, у кого никакой тайны нет, достаточно лишь
говорить так, словно он таковой обладает, а другие -
нет. «Каждый человек - избранный»: эта
экспрессионистская формула из одной драмы убитого национал-
социалистами Пауля Корнфельда (Kornfeld), если
вычесть из нее ложно понятого Достоевского, вполне
годится для идеологической мастурбации мелкой
буржуазии, униженной опасным для нее ходом общественного
развития. Из того, что реально она столь же мало
участвует в этом развитии, как и духовно, она заключает, что
обладает некой особой благодатью - изначальностью.
Ницше не успел испытать отвращение от жаргона
подлинности, который в XX веке являет собой немецкий
феномен ressentiment par excellence1. Ницшевское «это
дурно пахнет» получает свой окончательный смысл
ввиду редкости банных дней в «благой жизни»:
«Воскресенье начинается, собственно, уже в субботу
вечером. Когда ремесленник прибирает свою мастерскую,
когда домохозяйка навела чистоту во всем доме, и даже
улица перед домом подметена и очищена от
накопившегося за неделю мусора; когда, наконец, искупали детей,
и вот уже взрослые основательно смывают с себя
недельную пыль, и уже приготовлена свежая одежда, -
когда все это сделано по-крестьянски обстоятельно и
неспешно, тогда-то и приходит к людям это счастливое
настроение отдыха»2. Картины и сцены некой повсе-
1 Типичный ресентимент (фр.)- - Прим. пер.
2 Otto Friedrich Bollnow. Neue Geborgenheit. Stuttgart, 1956. S. 205.
15
Теодор В. АДОРНО
дневности, по большей части уже не существующей,
разрастаются, словно они уполномочены и
удостоверены неким абсолютом, о котором благоговение
умалчивает. Остерегаясь апеллировать к откровению,
искушенные умы в своей тоске по авторитету организуют
вознесение того или иного слова над сферой
фактичного, обусловленного и спорного, произнося его - в том
числе и печатно - так, словно в нем непосредственно
присутствует, помимо прочего, некое благословение
свыше. Жаргон уродует то высшее, что надлежит
мыслить и что оказывает мысли сопротивление, когда ведет
себя так, словно «уже всегда» (по его же выражению)
этим высшим обладает. То, к чему стремится
философия, ее своеобразие, благодаря которому словесное
выражение оказывается для нее существенным,
обусловливает то обстоятельство, что все ее слова говорят
больше, нежели каждое из них в отдельности. Это
эксплуатирует техника жаргона. Трансценденцию истины
по отношению к значению отдельных слов и суждений
жаргон приписывает словам как их неизменное
достояние, тогда как на самом деле это приращение (Mehr)
формируется лишь в их констелляции, опосредованно.
В идеале философский язык превосходит то, что он
говорит, благодаря тому, что он говорит, в ходе
разворачивания мысли. Он трансцендирует диалектически,
поскольку в нем противоречие между истиной и мыслью
осознает себя самое и тем самым себя преодолевает.
Жаргон самовольно захватывает эту трансценденцию,
тем самым разрушая ее, и отдает ее на откуп своей
трескотне. То, что слова говорят помимо того, что они
16
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
говорят, раз и навсегда закрепляется за ними как
выражаемое, диалектика обрывается: как диалектика слова
и предмета, так и внутриязыковая диалектика
отдельных слов и их отношений. Будучи оторвано от
суждения, от мысли, слово должно воспарить над
собственным значением. Это призвано учредить
действительность упомянутого выше приращения, словно в
насмешку над мистическими спекуляциями о языке, упоминать
о которых жаргон - в безосновательной гордости своей
простотой - остерегается. В нем стирается различие
между приращением, который пытается нащупать язык,
и бытием этого приращения самим по себе. Лицемерие
превращается в априори: повседневный язык, на
котором говорят здесь и теперь, выдается за священный
язык. Профанный язык может приблизиться к
священному лишь дистанцируясь от интонации святого, но не
подражая ей. Жаргон совершает это святотатство. Если
слова, обозначающие эмпирическое, он окутывает
аурой, то всеобщие философские понятия и идеи, вроде
идеи бытия, напротив, размалевывает так усердно, что
их понятийная суть - опосредованность мыслящим
субъектом - совершенно исчезает под слоем краски:
тогда-то они и приобретают привлекательность наикон-
кретнейшего. Трансцендентность и конкретность
размываются; двусмысленность становится субстратом
того самого языка, на котором написана любимая
философия подлинных, предающая двусмысленность анафеме .
1 Ср.: Heidegger М. Sein und Zeit. Halle, 1931. § 37. S. 173 ff.
(Хайдеггер М. Бытие и время. М, 1997. § 37. С. 173 и далее.)
17
Теодор В. АДОРНО
Но в высокопарности неистинное изобличает себя
самое. Один человек после долгой разлуки писал, что
экзистенциально он обеспечен; требовалось некоторое
размышление, чтобы понять, что у него нет финансовых
проблем. Один центр, предназначенный для проведения
международных дискуссий самой разной
направленности, именует себя «Дом встреч»; видимый глазами дом,
построенный на земле, превратился в священное место
благодаря мероприятиям, имеющим над дискуссиями то
преимущество, что в них участвуют живые экзисти-
рующие люди, которые, впрочем, могут и просто
дискутировать, а кроме того, пока они с собой не покончили,
едва ли способны обойтись без экзистирования.
Отношение к Другому должно быть важнее всякого
содержания; поэтому жаргону хорошо подходит потертый
этос молодежных движений - цензура, следящая за тем,
чтобы речь не простиралась дальше носа говорящего и
не превышала умственных возможностей «партнера»,
как он с недавних пор именуется. Жаргон придает
человеческим связям жесткую организационную форму
и вместе с тем поддерживает самоуважение ораторов
даже самого низкого ранга: они-де что-то собой
представляют уже постольку, поскольку из них говорит
некая персона, сколь бы ничтожной она ни была. К тому
же сопутствующая директива жаргона, согласно
которой мысль говорящего не должна быть чересчур
напряженной, ибо этим можно оскорбить общество,
становится для него удостоверением ее высокого
достоинства. Утаивается при этом то обстоятельство, что уже сам
18
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
язык, в силу его общности и объективности, отрицает
этого целостного человека, здесь и сейчас говорящего
индивидуального субъекта: язык функционирует
прежде всего за счет так-бытия индивидуумов. Когда же
жаргон делает жест, долженствующий показать, что
говорит целостный человек, а не мысль, он, как
«непосредственная» (zuhandene) коммуникация, тем самым
создает иллюзию своей застрахованности от дегумани-
зированной массовой коммуникации; именно этим он
повсеместно снискал восторженный прием. Тот, кто
таким манером прячется за своими лицедействующими
словами, застрахован от подозрения в том, что он
реально делает: говорит для других с целью сбагрить
кому-нибудь свой товар. Алиби обеспечивает говорящему
словечко «высказывание», особенно если оно снабжено
биркой «настоящее». Престиж «действительного
высказывания» превращает это «для других» в чистопробное
«само-по-себе», где все - коммуникация, она больше,
чем коммуникация. Ведь превознесенный до небес
человек, изобретший не так давно словечко «команда
небесного вознесения»1, является для жаргона не только
адресатом высказывания, но и бытийным основанием,
при том что эти моменты невозможно различить.
Нередко к «высказыванию» приклеен атрибут «значимое»
(gültig), очевидно, потому что тот убедительный опыт,
Himmelfahrtskommando - военная идиома, означающая
команду, обрекающую исполнителей на верную смерть, а также самих ее
исполнителей (команда смертников). - Прим. пер.
19
Теодор В. АДОРНО
который это слово выпячивает, уже совершенно
неизвестен тем, кто на него притязает. Здесь необходим
усилитель звука. «Высказывание» дает понять, что
сказанное исходит из глубины говорящего субъекта и не
подвержено проклятию поверхностного взаимопонимания.
Но в то же время в «высказывании» прячется
коммуникативное бесчинство. Если кто-то говорит, то уже одно
это - благодаря высокому смыслу слова
«высказывание» - знаменует истину, как будто люди не
подвержены неистинному, словно они не могут принять
мученичество за чистую бессмыслицу. Как только
высказывание притязает быть «высказыванием», эта подмена
обрекает его, независимо от содержания, на лживость.
Слушатель должен быть причастен к высказыванию в
силу субъективной благонадежности последнего. Но это
пришло из товарного мира: требование, чтобы даже
духовное, вопреки его собственному понятию, отвечало
запросам потребителя. Это обращенное к духу
требование молчаливо определяет всю атмосферу жаргона.
Действительную и безответную потребность в помощи
удовлетворяет чистый дух, утешающий без
вмешательства. Трескотня о высказывании - идеология,
комплементарная немоте, к которой порядок принуждает тех,
кто не в состоянии на него воздействовать и чьи
призывы поэтому заранее обречены на тщетность. Критику
же, отрицающую существующее положение вещей,
немцы с положением отбрасывают как лишенную
«ценности высказывания». Не в последнюю очередь
«высказывание» обрушивается на современное искусство: те,
20
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
чье эстетическое сознание осталось в прошлом, бранят,
словно с некой высокой колокольни, его строптивость
по отношению к общедоступному смыслу. Когда
«высказывание» снабжено «значимостью», общие места
получают метафизические полномочия. Эта формула
делает излишним осмысление тянущегося за ней
метафизического шлейфа, как и самого высказанного.
У Хайдеггера высказывание оказывается, ни много ни
мало, конституентой «Вот»1.
Властвующий за спиной жаргона тезис об
отношения Я - Ты как месте истины очерняет объективность
истины, выдавая ее за нечто вещное, и втихомолку
реанимирует иррационализм. Как такое отношение,
коммуникация превращается в сверхпсихологический
феномен, каковым она могла бы быть только благодаря
моменту объективности того, что в коммуникации
сообщается; в конечном счете глупость учреждает
метафизику. Когда Мартин Бубер причесал кьеркегоровское
понятие экзистенциального, отделив его от христологии
и представив в качестве некой позиции в чистом виде, в
философии утвердилась склонность привязывать
метафизическое содержание к так называемому отношению
Я - Ты. Метафизика перемещается в сферу жизненной
непосредственности; теология прикрепляется к
определениям имманентного, которые, в свою очередь,
благодаря памяти о теологии желают быть чем-то большим:
виртуально уже как слова жаргона. Это магическое дей-
1 Ср.: Heidegger М. Op. cit. S. 154. (Хайдеггер М. Там же. С. 154.)
21
Теодор В. АДОРНО
ствие устраняет не что иное, как барьер, отделяющий
естественное от сверхъестественного. Менее
притязательные подлинные торжественно заглядывают в лицо
смерти, но, влюбленные в живое, своими
интеллектуальными манерами скрывают ее. У теологии отнимается
ее стрекало, без которого спасение немыслимо.
Согласно понятию спасения, ничто природное не может
пройти через смерть, не претерпев преображения; «от
человека к человеку», будучи здесь и теперь, никогда не есть
вечное, тем более - напоминающее похлопывание по
плечу «от человека к Богу». В экзистенциализме бубе-
ровского толка из этого делается вывод, что спонтанные
отношения между людьми не могут быть сведены
к вещным полюсам; его трансценденция - в обратной
analogia entis1. Возгоняя динамику смертного до уровня
бессмертной части человеческого существа, он остается
философией жизни, из которой духовно-исторически
происходит и от которой отрекается. Так
трансценденция становится ближе к человеку. И уж тем более -
в жаргоне, который представляет собой своего рода вур-
лицер2 духа. Именно на жаргоне должна была говорить
та записанная на пленку и по мере надобности
воспроизводимая проповедь из «Brave New World»3 Хаксли,
сочиненная для того, чтобы посредством специального
1 Аналогия сущего, аналогия бытия (лат.) - Прим. пер.
2 Электромеханический синтезатор, производимый
американской фирмой Wurlitzer. - Прим. пер.
3 В переводе О. Сороки: О дивный новый мир. - Прим. пер.
22
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
эмоционального эффекта, рассчитанного с высокой
степенью социально-психологической вероятности,
урезонить людей, если они вдруг соберутся в мятежную
толпу. Подобно тому, как вурлицер в рекламных целях
демонстрирует вибрато, бывшее некогда средством
музыкального выражения субъективности, механически
накладывая его на механически производимый тон,
жаргон предлагает людям некую выкройку бытия-
человеком, от которого, если оно и оставило след в
действительности, их отучает принудительный труд. Хай-
деггер утвердил подлинность как противоположность
«Некто» (Man1) и «болтовни», вполне отдавая себе отчет
в том, что между этими образцами того, что он
рассматривал в качестве экзистенциалов, нет абсолютного
разрыва, более того, что они в силу собственной динамики
взаимно переходят друг в друга. Однако он не
предусмотрел, что то, что он нарек подлинностью, однажды
став словом, врастает в ту самую анонимность
обменного общества, против которой направлен пафос «Бытия
и времени». Жаргон, заслуживающий в хайдеггеровской
феноменологии болтовни почетного места, с одной
стороны позволяет своим адептам осознавать собственную
оригинальность и возвышенный характер своего
умонастроения, а с другой стороны унимает все еще
нарывающее подозрение в беспочвенности.
В профессиональных группах, занятых так
называемым духовным трудом, но зависимых или же
экономией переводе В.В. Бибихиналюди. -Прим. пер.
23
Теодор В. АДОРНО
чески несостоятельных, жаргон является
профессиональной болезнью. В этих группах к общей социальной
функции жаргона присоединяется функция
специфическая. Их образование и сознание плетутся вслед за тем
духом, которым они заняты в силу общественного
разделения труда. Для них жаргон - средство сократить
дистанцию; точно также представители
сверхсубтильной культуры, в глазах которых самый залежалый товар
все еще выглядит современным, представляют себя
персонами особого склада: самые простодушные из них до
сих пор еще именуют это индивидуальным
характером - как в художественных промыслах, из которых
жаргон немало почерпнул. Стереотипы жаргона
страхуют субъективную взволнованность; они словно бы
гарантируют, что произносящий их человек не блеет
вместе со стадом (хотя на самом деле происходит
именно это), что он пришел к тому, что говорит сам в своей
несомненной свободе. Формальный жест автономии
подменяет ее содержание. Высокопарно нареченное
связью, оно имеет гетерономный источник. Тот же
самый эффект, что производит псевдоиндивидуализация в
культуриндустрии, обеспечивает и жаргон в устах ее
противников. Жаргон - немецкий симптом
прогрессирующего полуобразования; он как будто специально
изобретен для тех, кто, чувствуя свою историческую
обреченность или, по меньшей мере, упадок,
изображает перед самим собой и себе подобными элиту духа. Его
значение не следует недооценивать на том основании,
что пишет на нем лишь небольшая группа. На нем гово-
24
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
рит бесчисленное множество конкретных людей: от
студента, поющего на экзамене про подлинную встречу,
до прессекретаря одного епископа, вопрошавшего: Вы
полагаете, Бог обращается только к разуму? Они словно
получают свои непосредственные речи по некоему
распределительному списку. В теологических диалогах
студентов из «Доктора Фаустуса» (погребок Ауэрбаха в
1945 г.) Томас Манн, который в то время едва ли имел
возможность следить за манерами новонемецкого, с
меткой иронией угадал почти все; впрочем, подходящие
модели существовали уже до 1933 г.; просто
повсеместное распространение жаргон получил уже после войны,
когда нацистский язык стал нежелательным. С этого
времени между тем, что пишется, и тем, что говорится,
существует самая тесная взаимозависимость: так, в
печати можно встретить жаргонные тексты, подражающие
узнаваемым радиоголосам, которые, в свою очередь,
черпают из письменных произведений подлинности.
Опосредованность и непосредственность опосредуют
друг друга самым кошмарным образом; поскольку же
последняя производится синтетически, опосредованное
превращается в карикатуру на естественное. Для
жаргона уже не существует первичных и вторичных
общественных объединений, как не существует и партий. Эта
тенденция имеет под собой реальное основание. То, что
Кракауэр в 1930 г. диагностировал как культуру
служащих, - институциональная и психологическая
надстройка, которая в то время, когда белым воротничкам
угрожал близкий крах, внушала им завышенную само-
25
Теодор В. АДОРНО
оценку, тем самым поддерживая их приверженность
буржуазному порядку, - в рамках долговременной
конъюнктуры превратилось в универсальную
идеологию общества, ошибочно полагающего себя единым
народом - средним классом, сплоченность которого
якобы подтверждается единым языком. Коллективному
нарциссизму этого общества жаргон подлинности
оказался весьма кстати: не только тем, кто на нем говорит,
но и объективному духу. Жаргон демонстрирует свою
благонадежность по отношению ко всеобщему
посредством своей - имеющей буржуазное происхождение
и несущей на себе штамп всеобщего - особенности; его
предписанная разборчивость выглядит так, словно это
характеристика отдельного индивида. Главная выгода -
это выгода репутации. Совершенно неважно, что
говорится: голос, звучащий в такой тональности,
присоединяется к некоему социальному договору. Благоговение
перед сущим, которое в своем наличии, оказывается
чем-то большим, нежели оно есть, повергает в прах
всякую строптивость. Слушающему дается понять, что то,
что сейчас свершается, представляет собой нечто
чересчур глубокое, чтобы язык мог осквернить сказываемое
произнесением. Чистые руки да устыдятся
вмешательства в действующие отношения собственности и
господства; звучание речи делает это чем-то презренным,
подобно тому, как Хайдеггер сделал презренным всего-
лишь-онтическое. Кто тараторит на жаргоне, на того
можно положиться; жаргон словно бы носят в петлице
вместо теперь уже непрестижных партийных значков.
26
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
Уже один только тон голоса источает позитивность, не
снисходя, однако, до явного признания того, что
чересчур перегружено унаследованными смыслами;
говорящий ускользает даже от давно уже социализированного
подозрения в идеологичности. В жаргоне благополучно
перезимовала дихотомия разрушительного и
созидательного, с помощью которой фашизм отсекал
критическую мысль. Заслугой вещи оказывается уже само ее
наличие (da zu sein) под защитой двусмысленности
слова «позитивное», означающего как наличное, данное,
так и достойное признания. По сю сторону живого
опыта позитивное и негативное превратились в предмет,
словно они имеют значение до всякого размышления,
словно не сама мысль впервые определяет, что
позитивно, а что негативно, и словно сам путь такого рода
определений не является путем негации. Жаргон
секуляризирует немецкую готовность непосредственным
образом приписать людям позитивное отношение к религии
как некий positivum, даже если их религия уже
распалась и была распознана как неистинная.
Иррациональность, не претерпевшая в рациональном обществе
никакого ущерба, побуждает принять религию как самоцель,
не взирая на ее содержание, как голое умонастроение,
в конечном счете как характеристику субъекта, т.е. за
счет самой религии. Главное - веровать, неважно во
что. Такого рода иррациональность выполняет функцию
скрепляющего раствора. Жаргон подлинности
перенимает эту иррациональность в детской манере латинских
хрестоматий, превозносящих любовь к отчизне как та-
27
Теодор В. АДОРНО
ковую, viri patriae amantis , даже если отчизна
покрывает самые откровенные гнусности. Зоннеман описал этот
феномен как «невозможность избавиться от
благонамеренности, стремящейся любой ценой отстоять
«порядок», - даже и такой порядок, в котором «все эти вещи
не в порядке». Что это за вещи? По логике
предложения, это должны быть только акцидентальные вещи,
однако здесь могут подразумеваться и эссенциальные:
«токсичные выхлопные газы», «гнетущие табу»,
«неискренность», «ресентимент», «повсеместная скрытая
истерия». Что же тогда остается от порядочности порядка?
Очевидно, его только еще надлежит установить»2.
Благонамеренность неотделима от предрешенности; аф-
фирмативное, благотворное усугубляет несчастье.
Жаргон препровождает к жизнеутверждающей позиции
обывательских брачных предложений, претенциозно
пролонгирует бесчисленные мероприятия, призванные
скрасить жизнь тем, кому иначе она опротивела бы
и кто не чувствует себя достаточно зрелым для нее.
Перемещение религии вовнутрь субъекта, ее превращение
в религиозность осуществилось в русле исторического
движения. Но в сфере секулярного отмершие клетки
религиозности превращаются в яд. Древняя сила,
которой, как показал Ницше, питается все, не переходит
безоговорочно в профанное, но продолжает нерефлексив-
1 Преданные отчизне мужи (лат.). -Пром. пер.
2 Ulrich Sonnemann. Das Land der unbegrenzten Zumutbarkeit.
Deutsche Reflexionen. Reinbek bei Hamburg, 1963. S. 196 f.
28
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
но действовать и возводит ограниченность, которую
рефлексия устраняет, в добродетель.
В прославлении позитивного сходятся все мастера
жаргона во главе с Ясперсом. Только осмотрительный
Хайдеггер избегает чересчур откровенной аффирмации
ради самой аффирмации и выполняет свою задачу
опосредованно, через тональность ревностной
неподдельности. Ясперс же пишет непринужденно:
«По-настоящему остаться в мире может только тот, кто живет,
исходя из позитивного, которое он в каждом данном
случае обретает лишь благодаря связи»1. И далее: «Только
тот, кто свободно связывает себя, застрахован от того,
чтобы в отчаянии возмутиться самим собой»2. Правда,
в святые заступники своей экзистенциальной
философии Ясперс выбрал кичащегося своей свободой от
иллюзий Макса Вебера. Тем не менее, он имеет дело с
религией - неважно какой, лишь бы она имелась в
наличии, - ибо религия предоставляет искомую связь или
является таковой; при этом Ясперса не заботит
совместимость такой связи с представлением о свободной от
опеки философии, которую он резервирует, словно
некую привилегию, за собой: «Правда, на того, кто
остается верным трансценденции в образе христианской веры,
никто не смеет нападать, если только он не становится
1 Jaspers К. Die geistige Situation der Zeit, 1931. Berlin, 19475.
S. 169. (Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 404.
Пер. М.И. Левиной.)
2 Ibid. (Там же.)
29
Теодор В. АДОРНО
нетолерантным. Ибо в верующего можно привнести
только разрушение; он может быть открыт
философствованию и готов испытать распространяющееся и на
него неустранимое в человеческом существовании
сомнение, однако он обладает позитивностью бытия в
историческом образе, она служит ему выходом и мерой,
которые неминуемо приводят его к себе»1. Когда
автономная мысль еще допускала возможность своего
воплощения в человеке, она действовала не столь
человечно. Между тем, чем менее философы заражены
философией, тем простодушнее они выбалтывают тайны,
над которыми, словно Норны над пряжей, колдуют
великие. Вот изречения О.Ф. Больнова: «Поэтому
представляется особенно важным, что сейчас, после
испытанного нами страха, в поэзии, прежде всего в лирике
последних лет, проступают контуры нового чувства -
чувства утверждения бытия, радостного и благодарного
приятия человеком собственного существования, каково
оно есть, и мира, каким он человеку встречается. Здесь
следует указать прежде всего на двух поэтов: Рильке
и Бергенгрюна (Bergengruen). Последний сборник Бер-
генгрюна "Die heile Welt" (München, 1950, S. 272)
завершается признанием: "Что шло от боли, проходило
мимо. Мой слух внимал лишь песне славы". Это -
чувство благодарного "да" существованию. Но Бергенгрюн,
конечно, не из тех поэтов, которых можно упрекнуть
в дешевом оптимизме. В этом чувстве глубокой благо-
1 Ibid. S. 127 f. (Там же. С. 375.)
30
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
дарности он сходится с Рильке, который в конце своего
пути точно так же мог сказать: "Все дышит и славит.
О тяготы, ночи, исчезнувшие без следа"»1. Лишь
несколько лет отделяют томик Бергенгрюна от того
времени, когда евреев, недостаточно основательно
обработанных газом, живыми швыряли в огонь, где они вновь
приходили в сознание, чтобы закричать. Поэт, которого
никак не обвинишь в дешевом оптимизме, и
философически настроенный педагог, разбирающий его
творчество, слышат лишь одно - песнь славы. "Это
внутреннее состояние человека мы в первом определении
называем спокойным мужеством, и теперь встает задача
исследовать сущность этого душевного состояния на
предмет его возможностей"2. Для этой задачи, которую
перед лицом ужаса не искупает даже ее комичность,
Больнов из всех возможных имен отыскал наилучшее:
вера в бытие3; отзвук "веры в Германию" здесь,
несомненно, случаен. Когда же оная вера обретена,
открывается прямой путь к "позитивному отношению к миру и
жизни"4 и к "созидательному труду по преодолению
экзистенциализма"5. За вычетом экзистенциального
пустословия от всего этого остается лишь одно:
рекомендуется религиозная обрядность, оторванная от
содержания религии; при этом игнорируется
1 Otto Friedrich Bollnow. Op. cit. S. 26 f.
2 Ibid. S. 51.
3 Ibid. S. 57.
4 Ibid. S. 61.
5 Ibid.
31
Теодор В. АДОРНО
и, при помощи жаргона, консервируется то
обстоятельство, что культовые формы, став предметом
этнографии, пережили свою мистерию и превратились в пустую
оболочку. Обесчещивается не только мысль, но и
религия, некогда обещавшая людям вечное блаженство,
тогда как подлинность смиренно довольствуется "в
последнем своем основании благим миром"1: "Чтобы
иметь в дальнейшем удобное обозначение, мы различим
эти две формы как содержательно определенную и
содержательно неопределенную надежду, или, в краткой
формулировке, как надежду относительную и
абсолютную"»2. Убогие понятийные деления проводятся в
ревностной заботе о человеческом существовании.
Читатель-попутчик, которого мало беспокоит, чему он на
данный момент привержен, который даже бахвалится
этим как особой способностью к воодушевлению,
может - в зависимости от того, относит ли он себя к
уровню low brow, middle brow или high brow3, - понимать
под словом «благое» спасение души, или правильную
жизнь, или еще не охваченные индустриализацией
социальные анклавы, или просто места, до которых еще
не дошли слухи о Ницше и Просвещении, или, наконец,
нравственный уклад, при котором девушки носят свои
венки до самого замужества. Едва ли стоит выставлять
против лозунга защищенности (Geborgenheit) столь же
1 Ibid. S. 63.
2 Ibid. S. 100.
3 Низкий, средний или высокий интеллектуальный уровень
(англ.). - Прим. пер.
32
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
затертый лозунг жизни под угрозой: кто в мире угрозы
не желает жить без страха? Но в качестве экзистенциала
защищенность из желаемого и недоступного
превращается в наличное здесь и теперь, независимо от того, что
она предотвращает. Это оставляет свой след на
оскверненном слове: реминисценция отграниченного, надежно
огражденного места1 сцеплена с моментом узколобой
партикулярности, воспроизводящей то несчастье, от
которого не защищен никто. Родина будет существовать
лишь тогда, когда откажется от такого рода
партикулярности, т.е. в качестве снятой, универсальной. Когда
же чувство защищенности уютно обосновывается в себе
самом, оно тем самым подменяет жизнь летней
свежестью. Созерцатель, восклицающий «Как прекрасно!»?
тем самым обезображивает любой ландшафт; нечто
подобное происходит и с обычаями, привычками и
установлениями, которые выставляют себя на продажу,
когда подчеркивают свою наивность вместо того, чтобы ее
трансформировать. Сообщение Когона (Kogon) о том,
что самые зверские расправы в концентрационных
лагерях чинили юные крестьянские сыны, выносит
приговор всем речам о защищенности: ее модель - это
сельские отношения, которые ввергают тех, кто лишается
их наследия, в варварство. Логика жаргона постоянно
выдает ограничение, вплоть до материальной нужды,
Слово Geborgenheit (защищенность, безопасность)
происходит от глагола bergen, означающего спасать, но также и укрывать,
прятать (в безопасном месте). - Прим. пер.
2 3ак. 2612
33
Теодор В. АДОРНО
за позитивное и призывает увековечить его в тот самый
момент, когда в действительности уровень развития
человеческих сил уже позволяет его устранить. Дух,
превращающий ограничение в вещь, становится
лакеем зла.
Впрочем, на высших ступенях служебной иерархии
подлинных могут попотчевать и негативным. Хайдег-
гер, наряду с беспросветными страхом, заботой и
смертью, берет в оборот даже понятие деструкции, для
подлинных попроще запретное; Ясперс отвергает порой
«защищенность» Больнова: «Сегодня философия -
единственная возможность для тех, кто сознательно не
ищет защищенности»1. Но позитивное, как ванька-
встанька, не позволит положить себя на лопатки.
Опасность, дерзание, способность поставить себя на карту
вместе с полагающимся здесь священным трепетом -
все это не бог весть что; уже одна из первых подлинных
говорила в свое время, что у Достоевского в самом
средостении ада вновь виден свет спасения, на что ей было
замечено, что в таком случае ад подобен не очень
длинному железнодорожному тоннелю. Выдающиеся
подлинные говорят такие вещи неохотно, как и господин
пастор; им более по душе жатва на выжженной земле.
Они не менее проницательны, чем социальные
психологи, заметившие, что отрицательные суждения, неважно
какого содержания, имеют лучшие шансы встретить
1 Jaspers К. Op. cit. S. 128. (Ясперс К. Там же. С. 376. В переводе
М.И. Левиной слово Geborgenheit передается как пристанище.)
34
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
сочувствие, нежели положительные1. Так нигилизм
превращается в фарс, в голый метод, как некогда
картезианское сомнение. Вопрос - один из любимых
реквизитов жаргона - должен звучать тем более радикально,
чем более лояльно он рассчитан на ответ, который
может быть каким угодно, только не радикальным.
Школьный пример из Ясперса: «Экзистенциальная
философия сразу же погибла бы, если бы считала, что
обладает знанием того, что есть человек. Она вновь стала
бы заниматься исследованием человеческой и животной
жизни в ее типах, стала бы антропологией, психологией,
социологией. Смысл ее сохраняется только в том
случае, если она в своей предметности остается
безосновной. Она пробуждает то, чего не знает, проясняет и
волнует, но не фиксирует. Для человека, который
находится в пути, она служит выражением, посредством
которого он удерживает принятое направление,
средством сохранить возвышенные моменты для
осуществления посредством своей жизни»2. «Экзистенциальное
просветление, поскольку оно беспредметно, не дает
результата»3. Именно. Озабоченный тон зазвучал
угрожающе: ни один ответ не может быть достаточно
серьезным, все ответы, какого угодно содержания,
отбрасываются как опредмечивание. Однако суровая непреклон-
1 Ср.: Gruppenexperiment. Frankfurter Beiträge zur Soziologie.
Bd. 2. Frankfurt am Main, 1955, S. 482 ff.
2 Jaspers K. Op. cit. S. 146. (Ясперс К. Там же. С. 388.)
3 Ibid. S. 147. (Там же.)
35
Теодор В. АДОРНО
ность производит дружественный эффект; тот, кто чист,
не зафиксируется на чем бы то ни было: мир слишком
динамичен для этого. Старый протестантский мотив
абсурдной, коренящейся в субъекте веры - как он
трансформировался (от Лессинга до Кьеркегора) в
пафос экзистенции, направленный против чуждого
субъекту, застывшего результата, - стратегически
соединяется с критикой позитивной науки, в которой, как
полагал Кьеркегор, субъект сходит на нет. За счет
возможного ответа радикальный вопрос сам для себя
становится субстанцией: дерзание без риска. Является ли
тот или иной индивид защищенным или пока еще нет,
сводится к различиям в умении жить и уровне доходов;
с незащищенными тоже ничего не случится, если они
подпевают хору. Это делает возможными пассажи вроде
следующих, взятых из «Трех тезисов о телевидении»
Хайнца Швицке (Schwitzke): «Совершенно иначе дело
обстояло с проповедью. Здесь священник выступал
более десяти минут, неизменно сохраняя одну и ту же
возвышенную установку и высказывая себя из себя самого,
в экзистенциальной манере. И благодаря высокой
энергии человеческого убеждения, которую он излучал, его
слово, удостоверенное его зримым присутствием, не
только обрело всю полноту достоверности, но даже
заставило зрителя совершенно забыть об опосредующей
аппаратуре, так что из случайных людей перед
экранами телевизоров образовалось, как в храме, некое
подобие общины, которая словно бы находилась
непосредственно перед говорящим и чувствовала, как увлекает
36
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
ее предмет проповеди - слово Божие. Это удивительное
явление может иметь только одно объяснение: все дело
здесь в говорящем человеке - в человеке достаточно
значительном и мужественном, чтобы отважиться всем
своим существом - субстанцией и экзистенцией -
вступить в разлом и отдать всего себя на службу предмету,
о котором он свидетельствует, и слушателям, связь с
которыми он сознает»1. Это - радиореклама
подлинности. «Слово» священника отнюдь не удостоверяется его
«зримым присутствием», как если бы оно было
безоговорочно тождественно слову Бога; но вот
правдоподобие его утверждений, конечно же, поддерживает
внушающая доверие манера держаться. Если выступление
священника заставляет забыть об опосредующей
аппаратуре, то жаргон подлинности радостно признает свою
приверженность к «как если бы»: инсценировка
имитирует «здесь и теперь» культового действия, снятое его
телевизионной повсеместностью. Что же до
«экзистенциальной манеры», в которой выступал священник,
«неизменно сохраняя одну и ту же возвышенную
установку», высказывая себя из себя самого, то под ней
можно понимать лишь то самоочевидное
обстоятельство, что священник, которому ничего иного и не
оставалось, был спроецирован на экран в качестве
эмпирической личности и, возможно, вызвал у кого-то симпатию.
Свидетельство о том, что он образовал некую общи-
1 Heinz Schwitzke. Drei Grundthesen sum Fernsehen. In: Rundfunk
und Fernsehen. Heft 2. Hamburg, 1953. S. 11 f.
37
Теодор В. АДОРНО
ну, проверки не допускает. Выражение «вступить в
разлом всем своим существом - субстанцией и
экзистенцией» импортировано из сферы дерзания. Но
проповеднику, произносящему на телевидении что-то, для чего
он счел церковь слишком тесной, не угрожает
решительно ничего: ни возражение извне, ни внутренние
невзгоды. И даже если он, зажатый между софитами и
микрофоном, пережил несколько мгновений борьбы с
искушением, то у жаргона уже наготове добавочная
хвала в адрес его экзистенциальное™. Право
пользования негативным словно бы неким росчерком пера
переводится в позитивность: позитивная негативность ради
сердечной атмосферы. Черные слова, как и
свежевымытые по случаю воскресенья слова Больнова, нуминозны
и столь же близки к ликованию, как издревле трубный
глас. Жаргон эксплуатирует двусмысленность
метафизики точно так же, как двусмысленность слова
«позитивный»: в зависимости от того, чему отдается
предпочтение: бытию или ничто. «Метафизика» означает, с
одной стороны, разработку метафизических тем, даже
если метафизическое содержание отвергается; с другой
же стороны, аффирмативное учение о высшем мире,
построенное по платоновскому образцу. В этом
колебании метафизическая потребность - то состояние духа,
которое давно засвидетельствовано в работе Новалиса
«Христианство или Европа» и которое молодой Лукач
назвал трансцендентальной бесприютностью, -
вырождается в достояние образованности. Со времен Кьерке-
гора теологическое освобождение нуминозного от за-
38
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
косневшей догмы паче чаяния стало и составным
моментом его омирщения. Безудержное стремление
очистить божественное от мифа, вибрирующее в
жестикуляции потрясенного вопрошания, в мистической ереси
препоручает божественное тому, кто вступает к нему
в какое-либо отношение. И поскольку содержание
возможно якобы только в отношении, противоположный
полюс которого, как «абсолютно иное», никакому
определению не поддается и налагает на всякое определение
клеймо опредмечивания, здесь удивительным образом
возрождается либеральная теология. Завершенная
демифологизация полностью сводит трансценденцию
к абстракции, к понятию. В благе обскурантов против
их воли празднует триумф осужденное ими
просвещение. Но в том же самом движении духа скрытая сила
субъективного полагания вновь вызывает к жизни - во
всей диалектической теологии - миф: ее высшее,
будучи чем-то абсолютно иным, слепо. Радикальные
вопрошатели навязчиво превозносят связи, вместо того,
чтобы пуститься в спекуляцию, которая ведь одна способна
эти связи оправдать. Их отношение к спекуляции
противоречиво: они нуждаются в ней, поскольку желают
быть глубокомысленными, и чураются ее
интеллектуального характера. Ее хотят зарезервировать за гуру.
Остальные еще каются в беспочвенности, чтобы
придать рельефность предлагаемым мерам спасения,
которые должны осчастливить человека в его величайшей,
хоть и воображаемой опасности, - но тотчас
обрушиваются на беспочвенное мышление, как только оно укло-
39
Теодор В. АДОРНО
няется от жеманного служения связям, столь же
неизбежным для подлинности, как happy end1 для фильма.
Если же последний отсутствует, то экзистенциальные
подлинные не дадут поблажки и самому
экзистенциализму: «Лишь на этом фоне впервые проступает все
величие экзистенциальной этики. На почве современного
исторического релятивизма она еще раз являет
совершенно твердую нравственную позицию. Но вместе с тем
возникает опасность, выражающаяся в возможности
экзистенциального авантюризма. Отрешившись от
каких бы то ни было содержательных условий, не имея
той устойчивости, что опирается на верность, искатель
экзистенциальных приключений смакует дерзание
собственного вступления игру как последнее, самое
утонченное наслаждение. Именно в безусловности
всегда сиюминутного вступления в игру экзистенциалист
более всего подвержен искушению шаткости и
неверности»2.
Язык, у которого эти слова были украдены, наделяет
их ароматом осязаемого, неметафорического; жаргон,
однако, их втихомолку одухотворяет. Тем самым
адепты жаргона избегают опасностей, которыми так
бахвалятся. Чем усерднее жаргон, словно в насмешку над
кьеркегоровским требованием единства утонченного
и прозаического, превозносит свою повседневность, тем
более слепо смешивает он буквальное и образное: «На
1 Счастливый конец (англ.). - Прим. пер.
2 Otto Friedrich ßollnow. Op. cit. S. 37 f.
40
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
это основополагающее значение жительствования для
всего человеческого существования нацелено и
заключительное замечание Хайдеггера, в котором он
затрагивает «нужду в жилище» как одну из величайших
трудностей нашего времени: «"Подлинная нужда
жительствования, - говорит он здесь, - не сводится к нехватке
жилищ", хотя и к этой нужде, конечно, нельзя
относиться легкомысленно; но за ней скрывается другая нужда,
более глубокая: она состоит в том, что человек потерял
свою собственную сущность и потому не может прийти
к покою. "Подлинная нужда жительствования покоится
на том, что смертные... еще должны научиться
жительствованию". Но научиться жительствованию - значит
постигнуть необходимость того, что перед лицом
угрожающего человек создает для себя защищающее место
и поселяется в нем со спокойной душой. Но с другой
стороны, возможность такого поселения угрожающе
зависит от доступности жилищ»1. Бытие защищающего
места защищенности незатейливо выводится из
необходимости того, что человек «создает» для себя таковое.
Языковая небрежность в эксплуатации безотказного
механизма жаргона, словно вынужденное признание
обнажает онтологическую защищенность как результат
голого полагания. Однако то, что заявляет о себе в этой
игре с нуждой в жилище, серьезнее, чем поза
экзистенциальной серьезности: страх перед безработицей,
тлеющий во всех жителях высокоразвитых капиталистиче-
1 Ibid. S. 170.
41
Теодор В. АДОРНО
ских стран, административно отвергаемый и потому
пригвожденный к платоновскому небосводу, не
исчезающий даже в славные времена полной занятости.
Поскольку каждый знает, что пока производство идет ради
производства, развитие техники делает человека
ненужным, все воспринимают свой заработок как скрытую
форму пособия по безработице, выделенного -
произвольно и лишь на время - из совокупного
общественного продукта ради сохранения существующих
отношений1. Кто не получил вида на жизнь, того завтра же
могут выгнать вон; великое переселение народов, которое
диктаторы однажды довели до Освенцима, могло бы
продолжаться. Страху, который так аккуратно отделяют
от внутримировой, эмпирической боязни, совсем не
обязательно быть экзистенциалом. Как исторический,
он говорит о том, что люди, инкорпорированные
в обобществленное, но до основания противоречивое
общество, будучи у него на содержании, постоянно
чувствуют исходящую от него угрозу, но не способны
конкретизировать угрожающее целое в его деталях.
Новейшая же «защищенность» - козырь
деклассированного, который знает, что ему позволено, а что нет. С
одной стороны, ему нечего терять; с другой же стороны,
управляемый мир еще считается с компромиссной
структурой буржуазного общества, поскольку
собственные интересы последнего удерживают его от крайно-
1 Ср.: Theodor W. Adorno. Eingriffe. Neun kritische Modelle.
Frankfurt am Main, 1963. S. 137.
42
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
сти - ликвидации его членов, - и пока оно в своих
глобальных хозяйственных планах еще располагает
средствами отсрочки. Так, ясперсова забота о человеческом
существовании сходится с социальным обеспечением -
управляемой милостью. Общественный характер
осуществляемого жаргоном перетолкования совершенно
негативного в позитивное позволяет заподозрить
вымогательскую уверенность запуганного сознания. Даже
банальное страдание от потери смысла, давно уже
автоматизированное и превратившееся в формулу, вызвано
отнюдь не порожденной просвещением пустотой, как
это описывают наиболее претенциозные обскуранты.
Taedium vitae1 было известно уже в периоды
незыблемой государственной религии; для отцов церкви оно
было не более диковинным, чем для тех, что переводят
на жаргон суждение Ницше о современном нигилизме и
полагают этим превзойти как Ницше, так и нигилизм,
ницшевское понятие которого они перевернули с ног на
голову. В социальном плане чувство бессмысленности
представляет собой реакцию на масштабное
упразднение труда в условиях сохраняющейся общественной
несвободы. Свободное время отказывает субъекту в
свободе, о которой он втайне мечтает, и приковывает его к
вечно равному, к аппарату производства, даже когда тот
предоставляет отпуск. Сравнивая с этим очевидную
возможность, человек приходит в тем большее
замешательство, чем менее фасад его сознания - копия фасада
1 Отвращение к жизни (лат.) - Прим. пер.
43
Теодор В. АДОРНО
общества, - способен впустить представление о
возможной свободе. Вместе с тем в чувстве
бессмысленности сознание перерабатывает реальное бедствие в его
позднебуржуазном облике - постоянную опасность
гибели. Сознание представляет то, что вселяет в него ужас
как нечто врожденное и тем самым смягчает
нечеловеческий элемент угрожающего. Тот факт, что смысл,
каким бы он ни был, всегда представляется бессильным
против несчастья, что найти в последнем какой-либо
смысл невозможно, а оптимистические уверения лишь
усугубляют дело, - регистрируется как дефицит
метафизического содержания, прежде всего религиозно-
социаль-ных связей. Лживость спекуляций в форме той
специфической культуркритики, к которой то и дело
присоединяется брюзгливый пафос подлинных,
становится явной в том, что прошлое, простирающееся, в
зависимости от вкусовых пристрастий, до бидермейера
или пеласгов, рассматривается как эпоха
присутствующего смысла, что отвечает склонности переводить часы
назад также и в политическом и социальном плане,
стремлению наиболее могущественных клик
административными мерами ограничить динамику, присущую
обществу, которое все еще кажется чересчур открытым.
Поскольку обществу в его современном облике эта
динамика не обещает ничего хорошего, оно прилагает
судорожные усилия, чтобы не видеть, что прописанное им
лекарство и есть то самое зло, которого оно страшится.
У Хайдеггера это стремление выражено особенно
отчетливо; он благоразумно соединяет апелляции к не-
44
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
романтической и неподкупной чистоте с обещанием
чего-то спасительного, понять которое можно, однако,
лишь в том смысле, что оно и есть эта самая чистота.
Герой «Махагони»1 присоединяет свой голос к жалобе
на мир, в котором нет ничего, на что можно было бы
опереться; у Хайдеггера, как и у Брехта периода
«учебных пьес», за этим следует прокламация
принудительного порядка как спасения. Отсутствие опоры -
зеркальное отражение ее противоположности - несвободы;
лишь неудача самоопределения побуждает человечество
искать определение через что-либо иное, что было бы
надежно защищено от диалектического движения.
Антропологическое состояние так называемой
человеческой пустоты, которую подлинные любят контраста
ради расписывать как некую, пусть даже безотрадную
константу расколдованного мира, могло бы измениться,
жажда содержательной полноты могла бы быть утолена,
если бы последняя стала достижима, - однако не за счет
инъекции духовного смысла или его замены голым
словом. Общественное устройство натаскивает людей на
его воспроизведение, и когда это принуждение по
видимости ослабевает, оно продолжается в их психологии.
Самосохранение, разросшееся до тотальности, лишний
раз превращает то, чем индивид и так уже является,
в самоцель. Быть может, вместе с этим нонсенсом
исчезла бы и видимость бессмысленности, пылко провоз-
Возвышение и падение города Махагони - пьеса Б. Брехта. -
Прим. пер.
45
Теодор В. АДОРНО
глашаемая ничтожность субъекта, тень того состояния,
в котором каждый оказывается в буквальном смысле
ближайшим для себя самого. Никто еще не сумел
сочинить метафизического положения, которое не было бы
констелляцией элементов опыта, но мыслительная
привычка сублимировать базовый опыт метафизики до
метафизического страдания и отделять его от страдания
реального, которое и вызвало его к жизни, сводит этот
опыт на нет. Именно на осознание этого обстоятельства
направлена вся ненависть жаргона, который может не
проводить различия между Марксом и расовыми
суевериями: «Ибо марксизм, психоанализ и расовая теория
являются сегодня самыми распространенными
маскировками человека. В них находит свое выражение то
прямолинейно грубое в ненависти и восхвалении,
которое стало господствовать вместе с утверждением
существования масс: в марксизме это требование массой
общности; в психоанализе - то, как она ищет одного
только удовлетворения потребностей существования;
в расовой теории - то, как она хочет быть лучше
других... Без социологии нельзя заниматься политикой. Без
психологии никто не сможет справиться со
сложностями ни в самом себе, ни в отношениях с другими. Без
антропологии было бы утрачено сознание темных глубин
того, в чем мы даны себе... Ни одна социология не
скажет мне, что я хочу в качестве своей судьбы, ни одна
психология не объяснит, что я такое; подлинное бытие
человека не может быть осознано как раса. Повсюду все
то, что может быть планировано и создано, ограниче-
46
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
но... Ибо в марксизме, психоанализе и расовой теории
заключены своеобразные разрушающие свойства Если
марксизм считает, что все духовное существование не
более чем надстройка, то психоанализ определяет его
как сублимацию вытесненных влечений; в этом случае
то, что называют культурой, становится чем-то вроде
невроза навязчивых состояний. Расовая теория ведет к
безнадежности в понимании истории; негативный отбор
лучших быстро привел бы к уничтожению подлинного
бытия человека; или же в сущности человека
заключено, что в процессе расового смешения он за несколько
столетий достигает своих высших возможностей, чтобы
затем, после завершения этого процесса, человечество
влачило уходящее в бесконечность бессильное
усредненное существование. Все три теории способны
уничтожить то, что ценно в человеке. Они прежде всего
разрушают безусловное, поскольку они в качестве знания
выступают как ложное безусловное, которое считает все
остальное обусловленным. Отрицается не только
божество, но и любой образ философской веры. Как
наивысшее, так и самое низкое обретают одинаковую
терминологию, чтобы, обретя приговор, двигаться в
ничто»1. Сначала снисходительно признается
практическая применимость объяснительных дисциплин, и тем
надежнее возмущение их разрушительным духом
исключает затем вопрос об истинности критики. Пылкая
скорбь по поводу якобы сущностного забвения бытия
1 Jaspers К. Op. cit. 142 f. (Ясперс К. Там же. С. 385 и далее.)
47
Теодор В. АДОРНО
скрывает тот факт, что человек предпочел бы забыть
сущее. Все это было пророчески разоблачено уже в
«Зеленом Генрихе»: «Существует выражение, что надо
уметь не только разрушать, но и строить, и фразу эту
часто применяют люди поверхностные, любящие свои
удобства, и обычно тогда, когда они встречаются с
неудобной для них вдумчивой деятельностью. Это
выражение уместно там, где что-либо отрицается
легкомысленно или из случайного влечения; в других случаях
смысла в нем нет. Ибо люди не всегда разрушают для
того, чтобы построить что-либо взамен; напротив,
нередко они старательно ломают для того, чтобы дать
место воздуху и свету, которые сами собой появляются
там, где убирают с дороги что-либо лишнее. Если
смотреть на вещи прямо и судить о них с полной
откровенностью, то ничего отрицательного нет, но все
положительно, если уж воспользоваться этим приторным
словечком»1. Старым бойцам было проще: они могли, не
разводя патоку, вбивать смысл в сомневающиеся
головы дубиной судьбы и нордического человечества. Но и
они уже имели в распоряжении жаргон: «Небывалое
усиление всевозможной деятельности, высочайшее
напряжение творческих сил, коим отмечено наше время,
не говоря уже о великом политическом свершении как
1 Keller G. Der grüne Heinrich, IV/2. Цитировано в: Friedrich
Pollock. Sombarts «Widerlegung des Marxismus». - Beihefte zum Archiv für
die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, hg. v. Carl
Grünberg, Heft 3. Leipzig, 1926, S. 63. (Цитата дана в отредактированном
переводе Н. Бутовой: Келлер Г. Зеленый Генрих. М., 1972. С. 518.)
48
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
таковом, поставили этот феномен, во всей его
подлинности и изначальности, так сказать, перед лицом
философии, и она приняла его как факт величайшей
философской релевантности, коего суть и проблематика
способны вести ее к полному и чистому пониманию
человека и мира... Человеческое существование не
бессмысленно: вот категорическое утверждение, с которым
само это существование выходит навстречу философии
жизни, чтобы утвердить себя перед ее взором и вопреки
ей... Сказать судьбе "да", в то же время отрицая ее,
терпеть ее, в то же время подчинив ее себе, т.е. взглянуть
ей в лицо и предстать перед ней, - вот позиция
истинного человечества. Эта позиция отвечает идеальному
образу человека, являющему нам - в своей абсолютной
значимости и вне каких бы то ни было "привязок к
эпохе" - не что иное, как сущность человека; и вместе с тем
эта позиция определяет подлинный и глубинный смысл
судьбы, тот смысл, который не имеет ничего общего
с фатализмом и которому открыт именно немецкий
человек. Для человека нордической крови этот смысл
обретает глубокое религиозное содержание и лежит в
основе того, что нордический человек называет
судьбоносной связью и верой в судьбу»1.
В языке слово «смысл» с равным успехом
обозначает как безобидный интенциональный объект гуссерле-
1 Wilhelm Grebe. Der tätige Mensch. Untersuchungen zur
Philosophie des Handelns. Berlin, 1937. Цитировано в: Adorno Th.W.
Rezension - Zeitschrift für Sozialforschung 8 (1939/40). S. 235 f.
49
Теодор В. АДОРНО
вой теории познания, так и то обстоятельство, что нечто
оправдано, поскольку имеет смыл, - как в речи о
смысле истории. То обстоятельство, что фактично единичное
имеет смысл лишь постольку, поскольку в нем
проявляется целое, прежде всего система общества; что
разрозненные факты всегда суть нечто большее, чем они суть
непосредственным образом, - все это остается верным,
даже когда такой смысл оказывается совершенным
безумием. Однако вопрос о смысле как о том, что вещь
подлинно есть, что в ней таится, совершенно незаметно,
но тем надежнее устраняет вопрос о праве этой вещи:
анализ значений становится нормой не только для
знаков, но и для обозначаемого. Знаковая система язык,
с самого начала уже одним своим существованием
превращающая все в продукт общества, защищает
общество самим своим строением (Gestalt), прежде всякого
содержания. Рефлексия восстает против этой тенденции;
жаргон же катится под уклон и закрепляет ее вместе
с инволюцией сознания. В семантических направлениях
позитивизма многократно отмечен исторический разрыв
между языком и тем, что в нем выражено. Языковые
формы, будучи опредмечены, - а только через
опредмечивание они и становятся формами, - переживают вещь,
к которой они некогда относились, как и взаимосвязь,
в которую она включена. Совершенно
демифологизированный факт ускользнул бы от языка: одно только
подразумевание уже делает его, с точки зрения идола
чистой наблюдаемости, другим. Факт невозможен без
языка: это обстоятельство, раскрывающее неустранимый
50
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
мифический элемент в языке как таковом, является
камнем преткновения и темой позитивизма. Математика
по праву является образцом позитивистского
мышления: в частности, как безъязыкая система монограмм.
Жизнестойкий архаический элемент языка оказывается
продуктивным лишь тогда, когда язык входит в
критическое столкновение с ним, и превращается в
смертоносный призрак, когда язык сам берется утверждать
и усиливать его. Жаргон разделяет с позитивизмом
примитивное представление об архаике языка; обоим нет
дела до его диалектического момента, состоящего в том,
что он всегда отрывается от собственных магических
истоков как другое, всегда вплетен в прогрессирующую
демифологизацию. Пренебрежение этим
обстоятельством делает возможной социальную утилизацию
языкового анахронизма. Жаргон простодушно превозносит
древность языка, которую, вместе со всей экспрессией,
позитивисты столь же простодушно хотели бы
устранить. Неадекватность языка рационализированному
обществу не побуждает подлинных стимулировать его
посредством большей строгости к его функционированию:
для подлинных она является предметом эксплуатации.
Они понимают, что речь, которая абсолютно отличалась
бы от архаической, невозможна; но то, на что
позитивисты сетуют как на отсталость, подлинные превозносят
как благодать. Глыба, которую язык водружает на пути
выражения современного опыта, служит им алтарем.
Если уж ее нельзя разбить, значит, она являет
всемогущество и незыблемость того, что затвердело в языке. Но
51
Теодор В. АДОРНО
архаика мстит жаргону, нарушающему в своих
домогательствах дистанцию. Она опредмечивается вновь, с ней
еще раз происходит то, что и так уже исторически
претерпели все языки. Нимб, в который упакованы слова,
как апельсины в папиросную бумагу, подчиняет себе
мифологию языка, как если бы люди не вполне
доверяли ее собственному сиянию; раскрашенные слова
должны говорить сами по себе, безотносительно к предмету
мысли, который им следовало бы трансформировать,
а тем самым, опять же, демифологизировать.
Мифология языка и овеществление смешиваются с тем, в чем
язык антимифологичен и рационален. Жаргон обретает
практическую пригодность в диапазоне от проповеди до
рекламы. В понятийной среде жаргон поразительно
напоминает манеры последних. Жаргонные слова и слова
типа «Jägermeister», «Alte Klosterfrau», «Schänke»1
образуют один ряд. Из того, что должно было исчезнуть,
извлекается обещание счастья; кровь выцеживается из
того, что только напоследок, на грани гибели, являет
свою мерцающую конкретность. Обездвиженные,
пригвожденные к месту и покрытые люминисцирующим
изоляционным слоем слова напоминают, по меньшей
мере своей функцией, вербальные фишки позитивистов;
они годятся для любой цели, несмотря на пафос уни-
1 Буквально: егермейстер, старая монашенка, кабак. В
современном немецком языке эти архаичные слова/выражения
употребляются, соответственно, в значениях рюмашка, чекушка, забегаловка
(бар). - Прим. пер.
52
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
кальности, который они демонстрируют и который сам
порожден тем рынком, где редкостное наделено
меновой стоимостью.
Когда смысл пытаются гарантировать любой ценой,
в так называемое массовое общество просачивается
древний антисофистический аффект. Этот аффект
господствовал в официальной философской традиции со
времен победы Платона и Аристотеля над левыми со-
кратиками; все, что было ему неугодно, могло
существовать только в качестве бессильных подспудных
тенденций. Лишь новейший позитивизм, благодаря союзу
с наукой, сумел реабилитировать софистические
мотивы. Против чего восстает жаргон. Он безоговорочно
воспроизводит приговор традиции. Позор побежденных
Платоном софистов состоял в том, что они не
выступали против лжи, чтобы изменить рабовладельческое
общество, но поставили под сомнение истину, чтобы
вооружить мысль для защиты существующего.
Софистический вариант деструкции уже напоминает тотальную
идеологию. Платон в «Горгии» мог выставить
софистов клоунами, поскольку мысль, не обремененная
предметным знанием, не связанная, в конечном счете,
с природой объекта, низводит присущий ей момент
игры до фарса, превращает его в призрак мимесиса, с
которым борется все просвещение1. Однако
антисофистика, распознав уродство развязной мысли, использует это
1 Ср.: Horkheimer M., Adorno Т. Dialektik der Aufklärung.
Amsterdam, 1947, S. 20 ff. (Хорюсаймер М, Адорно Т. Диалектика
просвещения. М., 1997. С. 16 и далее.)
53
Теодор В. АДОРНО
открытие превратным образом: для того чтобы с
помощью мысли очернить саму же мысль; в этом смысле
Ницше упрекал Канта, говорившего об умствовании
в том же начальственном тоне, как затем Гегель о
резонерстве. В новомодной антисофистике необходимая
критика обособившегося инструментального разума
слепо сливается с обскуратнистской защитой
институтов от мышления. Жаргон - продукт распада модерна,
в котором он видит врага, пытается защитить себя,
а заодно и в буквальном смысле разрушительные
институты, от подозрения в деструктивности,
инкриминируя другим, чаще всего антиконсервативным группам,
как грех интеллектуальности то, что заключено в его
собственном, отнюдь не наивном рефлексивном
принципе. Жаргон демагогически использует
двойственность антисофистики. Насколько ложно сознание, когда
оно внешним образом, не будучи, по выражению
Гегеля, в вещи, ставит себя над нею и с этой высоты с нею
разделывается, настолько же идеологической
становится критика в тот момент, когда она в сознании
собственной правоты предписывает мышлению иметь под
собой почву. Гегелевская диалектика превзошла догму,
согласно которой мысль, чтобы быть истинной,
нуждается в чем-то абсолютно первом и несомненном; в
жаргоне подлинности эта догма становится тем более
террористической, когда жаргон самовластно полагает свое
первое за пределами мыслительных конструкций.
Антисофистика на последней стадии - на стадии переработки
мифологии - представляет собой окаменевшее мышле-
54
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
ние истоков. Регресс от диалектики к новой метафизике
жаргон регистрирует как открытие пути в милую
отчизну. «Когда дерево срублено, обнажаются корни.
Корни - это истоки, из которых мы вышли и которые мы
забыли в переплетеньи мнений, привычек, схем
постижения»1. И ранее, в «Разуме и экзистенции»:
«Только так можно осуществить истинную силу человека.
Могущество безусловного в нем, испытуемое в любой
возможности борьбы и вопроса, более не нуждалось бы
во внушении, в ненависти, в упоении яростью, чтобы
стать активным; не нуждалось бы в дурмане пышных
слов и туманных догм, чтобы верить в себя самое,
и только так оно становится подлинно строгим, твердым
и разумным. Лишь на этом пути можно избавиться от
самообмана, так что исчезновение лжи человеческой жизни
не приведет к гибели самого человека. Только так
возможно чистое раскрытие настоящей глубинной основы»2.
Хуля софистику, но продолжая в своих набросках ее
произвол (вместо того, чтобы дорасти до нее),
подлинные хорошо ладят с ней в своем излюбленном тезисе
о том, что единственно важное - это человек, в
неожиданно реанимированном положении «homo mensura»3.
Но общественной моделью их избранного призрака
остается, как во времена оны, та самая свобода
передвижения горожан, которая в свое время способствовала
1 Jaspers К. Der philosophische Glaube. München, 1948. S. 125.
(Ясперс К. Там же. С. 501.)
2 Jaspers К. Vernunft und Existenz. München, 1960. S. 98 f.
3 Человек как мера (лат.) - Прим. пер.
55
Теодор В. АДОРНО
эмансипации мысли. С той только разницей, что в
насквозь рационализированном буржуазном обществе
мобильность индивида и духа не столько угрожает
издревле оседлым группам, которых в высокоиндустриальных
странах уже практически нет, сколько раздражает
сохраняющуюся иррациональность системы в целом,
которая охотно истребила бы агонизирующие остатки
форм поведения, возникших в эпоху либерализма.
Поэтому жаргону приходится отстаивать временные и
несовместимые с нынешним состоянием
производительных сил общественные формы как нечто непреходящее.
Если бы он без лишних церемоний поднялся на
баррикады для защиты существующего - рыночного
общества - как такового, он выступил бы не только за то, чему
довелось слышать немало хулы даже от своих
приверженцев, но, как знать, и за самое рациональность,
которую это общество и обещает, и обманывает, и которая
могла бы его преодолеть. Рациональность буржуазного
типа всегда нуждалась в неких иррациональных
придатках, без которых она не могла бы сохраниться как то,
что она есть: опосредованная правом несправедливость.
Такая иррациональность внутри рационального и
образует рабочую атмосферу подлинности. Подлинность
может опираться на то обстоятельство, что центральный
элемент буржуазного равенства - мобильность (как
в буквальном, так и в фигуральном смысле) - в течение
долгих веков постоянно оборачивалась
несправедливостью по отношению к тем, кто не вполне вписывался
в нее. Прогресс общества оборачивался для них вердик-
56
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
том: заводное воспоминание о страданиях,
причиненных им мобильностью, поддерживает брожение
подлинности и ее жаргона, и образующаяся при этом пена
скрывает действительный источник страдания -
определенное общественное устройство. Ибо избранные жертвы
аффекта по поводу мобильности обречены с того
момента, как сфера товарообращения слилась с сферой
производства. Стремление жаргона обратить rancune
оседлых, немых в нечто вроде метафизически-
морального смертного приговора тем, кто может
говорить, имеет такой успех только потому, что в принципе
он уже вынесен, а в Германии, к тому же, тысячи раз
приведен в исполнение; потому что жест подлинной
укорененности принимает сторону исторических
победителей. Это субстанция подлинности, священный
источник ее силы. Немногословие и молчание суть
лучший контрапункт экзистенциальной и экзистентной
болтовне: порядок, на который она нацелена, сам
пользуется безъязыкостю знака и приказа. Жаргон, в
идиллическом согласии со своими потребителями, заполняет
брешь, образовавшуюся в результате общественно
необходимого распада языка. У маленьких людей мало
знакомых: сталкиваясь с незнакомыми, они чувствуют
себя не в своей тарелке, и их rancune возводит это
в добродетель. Не в последнюю очередь для жаргона
характерно что-то от резких манер портье какого-
нибудь горного отеля: покрикивая на постояльцев как
1 Озлобленность (фр.) - Прим. пер.
57
Теодор В. АДОРНО
на незваных гостей, он тем самым зарабатывает их
доверие. Между тем, ввиду вновь забрезжевшей
общественной статики даже на речь делового убеждения, как
она звучала позавчера, падает некий отсвет гуманности.
Если бы философия извлекла опыт, в извращенной
форме осевший в жаргоне, из варева бытийных
возможностей и вернула его в общество, из которого он - если
слово «исток» что-то значит, - проистекает, она
возвысилась бы над оппозицией мобильности и
укорененности, беспочвенности и подлинности: она распознала бы
в этих противоположностях моменты одного и того же
преступного целого, в котором торгаши и герои стоят
друг друга. Либерализм, выпестовавший культуринду-
стрию, формы рефлексии которой навлекли на себя
негодование жаргона подлинности, хотя и он сам является
одной из них, был предтечей фашизма, который
растоптал как своего прародителя, так и позднейших его
сторонников. Впрочем, душегубство того, что нынче
отзывается в жаргоне, было куда более масштабным, нежели
обманный маневр мобильности, принцип которой
исключает непосредственное насилие.
Хайдеггер не относится к вождям такого рода
жаргонной политики и сторонится ее грубых проявлений.
Правда, в «Бытии и времени» слово «подлинность»
занимает центральное место1, и большая часть прочих
знаковых слов (Sigel) рассеяны в самом известном его
1 Heidegger M Op. cit. S. 260 ff.; см. также S. 43. (Хайдеггер М.
Там же. С. 260 и далее; см. также С. 43.)
58
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
тексте, где выступают с жестами безаппеляционного
авторитета, которые затем механически копирует масса
подлинных; согласие относительно замалчиваемой сути
сомнению не подлежит. Но столь же очевидно и его
стремление к сдержанности по отношению ко всем тем
ходячим суждениям, с которыми он разделывается
играючи, квалифицируя их как вульгарные предрассудки.
Однако как только он ослабляет волевой контроль над
собой, он тотчас впадает в жаргон с
провинциальностью, которая вовсе не искупается тем, что сама себя
тематизирует. Он опубликовал сборник гном под
названием «Из опыта мышления». По форме это нечто
среднее между стихами и досократическими фрагментами,
таинственное звучание которых, во всяком случае,
многих из них, обусловлено скорее хрупкостью предания,
нежели позой посвященности. Восхваляется
«великолепие простоты»1. Хайдеггер возвращает истертую
идеологию чистого материала из области художественного
ремесла в область духа, как если бы слова были чистой,
словно бы ворсованной тканью. Но текстильная
продукция такого типа опосредована сегодня планомерным
противопоставлением продукции массовой, - и точно
также Хайдеггер пытается синтетически присоединить
к чистым словам их первосмысл. В категорию простого
проникает и специфический социальный момент:
возвышение общедоступного по желанию горделиво опус-
1 Heidegger M. Aus der Erfahrung des Denkens. Pfullingen, 1954.
S. 13.
59
Теодор В. АДОРНО
кающейся элиты, что сродни «музыке для молодежи»,
которая охотно сопровождает жаргон и сопровождается
им. Историческая отсталость превращается в нечто
возвышенное и не менее ревностно перетолковывается
в трагическое чувство судьбы, что тоже происходит
посредством молчаливого отождествления архаического
и неподдельного. Но, вопреки Хайдеггеру,
тривиальность простого невозможно списать на ценностную
слепоту утратившего бытие мышления, которое якобы
отпало от мышления внемлющего и объявило себя чем-
то в высшей степени благородным. Нет, эта
тривиальность уже в самых простых словах является родимым
пятном того обрабатывающего (zurichtenden)
мышления, которого Хайдеггер, как он хочет показать,
избежал: абстракции. Уже в первой редакции своей работы
об утопии Блох отличает символические интенции,
которые он понимал как следы мессианского света в
сумеречном мире, от элементарных базовых отношений
и слов типа «старик, мать и смерть». Но у Хайдеггера
в его претенциозном «Письме о гуманизме» мы читаем:
«Человек не господин сущего. Человек пастух бытия.
В этом «меньше» человек ни с чем не расстается, он
только приобретает, достигая истины бытия. Он
приобретает необходимую бедность пастуха, чье достоинство
покоится на том, что он самим бытием призван для
сбережения его истины. Этот призыв приходит как тот
бросок, из которого происходит брошенность вот-
бытия. Человек в своей бытийно-исторической сути
60
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
есть сущее, чье бытие, будучи эк-зистенцией, состоит
в обитании вблизи бытия. Человек - сосед бытия»1.
Философская банальность возникает там, где общему
понятию приписывается магическая причастность к
абсолютному, которая выдает лживость его как понятия.
Опасность, угрожающая мышлению, заключена, по
Хайдеггеру, в философствовании2. Подлинный же
мыслитель, не снисходящий до новомодных изобретений
вроде философии, пишет: «Когда ранним летом
расцветают на лугу неприметно нарциссы и горная роза сияет
под кленом...»3. Или: «Когда по склонам долины текут
неспешно стада и звенят колокольцы...»4. Или стихами:
«Леса простираются / потоки ниспадают / скалы
пребывают / дождь струится / поля ожидают / источники
журчат / ветры живут / благо вдумчиво»5. Обновление
мышления с помощью устаревшего языка
подстраивается под последний. Архаика становится идеалом:
«Древнейшее древнего следует в нашем мышлении за
нами, и все же к нам»6. Но говорит-то капризный юнец:
месть мифа тому, кто его домогается, доносчику на
мышление. «Поэтический характер мышления еще со-
1 Heidegger M. Über den Humanismus. Frankfurt am Main, 1949. S. 29.
(Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие:
статьи и выступления. М., 1993. С. 208. Пер. В.В. Бибихина)
2 Ср.: Heidegger M. Aus der Erfahrung des Denkens. S. 15.
3 Ibid. S. 12.
4 Ibid. S. 22.
5 Ibid. S. 27.
6 Ibid. S. 19.
61
Теодор В. АДОРНО
крыт1, - добавляет Хайдеггер, предупреждая на всякий
случай критику, - а там, где он показывается, он на
долгое время уподобляется утопии полупоэтического
рассудка»2. Однако полу поэтический рассудок,
изрекающий подобные истины, подобен не столько той или
иной злополучной утопии, сколько испытанной
областнической литературе, которая ведь не питает к утопии
особых симпатий. Во времена Гитлера Хайдеггер
отклонил приглашение в Берлин, что вполне понятно.
Свой отказ он оправдал в статье «Почему мы остаемся в
провинции?», где проверенным стратегическим
приемом нейтрализует упрек в провинциализме тем, что
представляет последний в позитивном свете. Выглядит
это так: «Когда во мраке зимней ночи вокруг хижины
бушует снежная буря с ее свирепыми порывами ветра,
когда все окрест застилает снежная пелена, все скрывая
от глаз, вот тогда наступает время торжествовать
философии. Вот когда она обязана вопрошать просто и
существенно»3. О том, насколько существенны вопросы,
можно судить только по ответам, но никак не заранее,
тем более - не по критерию простоты, изваянной по
образцу метеорологических явлений. Она столь же мало
равна истине, как и ее противоположность: Кант и Ге-
1 Ibid. S. 23.
2 Ibid.
3 Цит. по: Schneeherger G. Nachlese zu Heidegger. Dokumente zu
seinem Leben und Denken. Bern, 1962. S. 216. (Хайдеггер М. Работы и
размышления разных лет. М., 1993. С. 218 ел. Перевод A.B.
Михайлова.)
62
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
гель были просты и сложны ровно настолько, насколько
их принуждало к этому содержание мысли. Хайдеггер
же постулирует предустановленную гармонию между
сущностным содержанием и доверительным шепотом
родины. Поэтому и его капризные интонации не имеют
ничего общего с умиляющей слабостью. Их цель -
заглушить подозрение, что философ может оказаться
интеллектуалом: «И эта философская работа протекает не
как сторонние занятия чудака, засевшего в своем углу.
Самое место ей - среди крестьянских трудов»1. Здесь
хотелось бы на эту работу взглянуть. Но Хайдеггеру это
ни к чему: «Когда же у меня бывает перерыв в работе
и я сижу с крестьянами на скамье у печи или за столом
в красном углу, то мы обычно вовсе не разговариваем.
Мы курим трубки молча»2. «Глубокая принадлежность
собственного труда к Шварцвальду и к людям
Шварцвальда проистекает из вековой алеманнско-швабской
самобытности, и это не заменить ничем» . Но это
говорит он сам. Трудно себе представить, чтобы Иоганн
Петер Гебель, который происходил из той же местности
и которого Хайдеггер мог бы разорвать на клочки,
апеллировал когда-либо к самобытности; напротив, в
одном из прекраснейших произведений, написанных в
защиту евреев по-немецки, он передает привет
торговцам Шайтеле и Наузелю4. Между тем, самобыт-
1 Ibid. (Там же. С. 219.)
2 Ibid. S. 217. (Там же.)
3 Ibid. (Там же.)
4 Ср.: Johann Peter Hebel. Werke. 2. Bd. Berlin, 1874. S. 254.
63
Теодор В. АДОРНО
ность раздувает зоб: «Недавно меня вторично
пригласили в Берлинский университет. В таких случаях я уезжаю
из города в свой уединенный домик. И слушаю, что
скажут мне горы, и леса, и крестьянские усадьбы. Я иду
к своему старинному приятелю, семидесятипятилетнему
крестьянину. Он уже читал в газете, что меня зовут в
Берлин. Что он скажет мне? Он не спеша
поворачивается в мою сторону и своими ясными глазами пристально
всматривается в мои глаза, его губы плотно сжаты, он
кладет мне на плечо свою верную руку и... чуть заметно
качает головой. И это значит: безоговорочное нет!»1
Пока философ осуждает других поборников блубо2 за
трезвон вокруг блубо, угрожающий его монополии, его
отрефлектированная нерефлексивность вырождается в
доверительную болтовню в виду сельскохозяйственного
окружения, в котором желает быть своим. Хайдеггеров-
ское описание старого крестьянина напоминает самые
затертые клише областнических романов Френсена
(Frenssen) и компании, равно как и восхваление
молчаливости, каковой философ наделил не только своих
крестьян, но и себя самого. Ему нет дела до того, как
крестьянство показано в литературе, которая не
ориентируется на брюзгливые инстинкты немецкого
мелкобуржуазного кича: прежде всего во французском реализме,
1 Ibid. S. 218. (Там же. С. 221.)
2 Blubo: аббревиатура от Blut und Boden (кровь и почва) -
презрительное название, данное немецкими интеллектуалами
беллетристике и публицистике одноименного идеологического течения. -
Прим. пер.
64
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
от позднего Бальзака до Мопассана, хотя в переводах
она доступна даже досократику. Мелкое крестьянство
продолжает существовать лишь благодаря поблажке со
стороны того самого обменного общества, от которого
крестьянская почва только кажется свободной; перед
обменом крестьянин имеет лишь одно сомнительное
преимущество: это непосредственная эксплуатация
семьи, без которой он тотчас разорился бы. Выхолощен-
ность мелкого крестьянского хозяйства, его затяжной
кризис эхом отдается в пустоте жаргона. Выделяемые
ему субсидии составляют бытийную основу того, чем
перво-слова жаргона субсидируют собственные
значения. Как и менее заметные ораторы подлинности, Хай-
деггер исполнен rancune интериорности, которую он
рассматривает философски, имея в виду ее гегелевскую
критику1. Тот, кого специфика труда принуждает к
пребыванию на одном месте, охотно делает из нужды
добродетель и пытается доказать себе и другим, что его
привязанность к месту имеет высокий смысл.
Крестьянина, постоянно находящегося на грани
неплатежеспособности, лишь укрепляет в этом убеждении его
горький опыт с перекупщиками. Ненависть, которую
социально беспомощные, а то и изолированные люди
питают к ушлым и пронырливым - как тот пострел, что
везде поспел, - объединяется с отвращением к агентам,
от торговцев скотом до журналистов. Еще в 1956 г. Хай-
1 Ср.: Heidegger M. Sein und Zeit. S. 204 ff. (Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 204 и далее.)
ЗЗак. 2612
65
Теодор В. АДОРНО
деггер во имя ложной вечности аграрных отношений
представил стабильные профессии, которые суть лишь
определенная фаза развития общества, в нормативном
свете: «Напрасны все попытки, планируя, привести в
порядок земной шар, если человек не подчинится зову
полевого пути»1. Северная Америка не знает ни полевых
путей, ни даже деревень. Философия, стыдящаяся быть
собой, чтобы обозначить свое фиктивное отличие от
философии вообще, берет из седьмых рук символ
крестьянина и предъявляет его как вещественное
доказательство своей изначальности. Видимо, и сегодня
остается в силе замечание Лессинга, что тот, кто подвергает
что-либо эстетической критике, едва ли сумел бы
сделать лучше. Что было позволено «Гамбургской
драматургии»2, позволено и философской теории: осознание
собственных границ не обязывает ее к оригинальному
творчеству. Однако оно должно быть способно
удержать мыслителя от конвейерного производства
эстетической продукции, иначе последняя станет аргументом
против философии, бравирующей тем, что не признает
якобы затемняющих суть дела аргументов. Ее
благородное невежество вырастает в жаргон подлинности.
Как и в жаргоне, у Хайдеггера фальшивость
самобытности изобличается тотчас, как только он снисходит
до содержательных положений, через язык. Он работает
1 Heidegger M. Der Feldweg. Frankfurt am Main, 1956. S. 4.
2 Журнал, основанный Г.Э. Лессингом и посвященный теории
драматургии и театральной критике. - Прим. пер.
66
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
с противопоставлением одиночества (Alleinsein) и
уединения (Einsamkeit): «Жители города дивятся - как
можно так долго оставаться одному среди однообразия
крестьянской жизни. Однако я тут не в одиночестве - я в
уединении. В больших городах легко оставаться одному
(allein) - легко как едва ли еще где. А жить уединенно
(einsam) там нельзя. Ибо первозданная сила присуща
уединению - оно не обособляет, не разъединяет, но все
существование твое здесь круто обрушивает в самую
широту близости к сущности всех вещей»1. Как бы там
ни было с этой дистинкцией в плане содержания, язык,
привлекаемый Хайдеггером в качестве свидетеля, не
знает этого различия в том виде, как оно видится Хай-
деггеру. У Гофмансталя, который ведь разбирался в
подобных нюансах, монолог Электры начинается словами
«Одна (allein), совсем одна». Но все condition humaine2
героини сводится к тому предельному самоуглублению,
которому Хайдеггер излишне оптимистично
приписывает способность вводить в «широкую близость к
сущности всех вещей», тогда как по меньшей мере с тем же
успехом подобные ситуации влекут за собой крайнее
сужение и обеднение. Вопреки Хайдеггеру, язык - если
не принимать в расчет возможные колебания в
современном словоупотреблении - скорее, говорит, что в
большом городе или на празднике человек может быть
1 Цит. по: Schneeberger G. Nachlese zu Heidegger. Dokumente zu
seinem Leben und Denken. S. 217. (Хайдеггер M. Работы и
размышления разных лет. С. 219-220.)
2 Человеческое существование (фр.) - Прим. пер.
67
Теодор В. АДОРНО
одинок (einsam), но никогда - один (allein). Философия,
которая так превозносит свою способность
вслушиваться, оказывается глуха к словам, но выпячивая их, она -
образчик произвола - производит впечатление, будто
послушно к ним приноравливается. Хайдеггеровские
перво-звуки суть такое же шельмовство, как и
большинство прочих. Впрочем, едва ли и более тонкий орган
речи сумел бы сделать то, что не удалось ему. Логика
языка ограничивает всякую подобную попытку
окказиональным моментом слова, пусть даже
наиточнейшего. Собственные значения слов весомы. Но слова не
растворяются в значениях, ибо в них сказывается
контекст. Этот факт недооценивают, к вящей славе науки,
все попытки чистого анализа значений, начиная с гус-
серлевской, не говоря уже о хайдеггеровской, якобы
воспаряющей на недосягаемую для науки высоту.
Требованиям языка отвечает только тот, кто рассматривает
отношение языка к отдельным словам, учитывая их
конфигурации. Впрочем, как фиксация чистого
значения переходит в произвол, так и вера в могущество
конфигурации приводит к функциональному в дурном
смысле, к чисто коммуникативному, к пренебрежению
объективным аспектом слов. В языке, если он на что-
либо пригоден, оба эти момента опосредуют друг друга.
Мнимо цельная жизнь как антитеза жизни
ущербной, на социализированном сознании которой -
«malaise»1 - спекулирует жаргон, в ее отшлифованном
1 Недомогание: чувство тревоги (англ.). -Прим. пер.
68
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
языковом изображении, далеком от какого бы то ни
было общественного осмысления, приравнивается к
аграрным отношениям или, по крайней мере, к простому
товарному хозяйству - цельному, охранительно
замкнутому, в его ритмичном и непрерывном движении.
Ассоциативное поле образуют отходы романтизма, и
тем не менее оно без каких-либо поправок помещается в
современность, которой противоречит более, чем любой
другой эпохе. Поэтому жаргон склонен представлять
свои категории так, будто они не абстрагированы из
когда-то возникших и преходящих состояний общества,
но принадлежат самому человеческому существу, как
его неовнешненные возможности. Человек - идеологема
дегуманизации. Категории, кивающие на более или
менее естественное состояние в обществе, в котором
институты обмена еще не подчинили себе все
человеческие отношения, толкуются в том смысле, будто их
ядро - человек - непосредственно присутствует в
современных людях как первообраз, который должен
быть реализован. Формы обобществления, исторически
предшествовавшие разделению труда, выдаются за
вечные. Их сияние отражается и на тех состояниях
общества, что оказались жертвой прогрессирующей
рационализации и по контрасту с последней кажутся более
человечными. Подлинные рангом пониже, смакуя «образ
человека», помещают его в такой зоне, где вопрос о
происхождении этих состояний исключен, как и
вопросы о том, каким образом переход к оседлости сказался
на угнетенных и на тех, что лишились возможности ко-
69
Теодор В. АДОРНО
чевать; и не было ли падение общества,
предшествовавшего разделению труда, - слепого и вместе с тем
репрессивного - выношено им самим и заслужено. Речь
о человеке добивается благосклонного приема не только
заигрывая с чувством стен и кровли, но и благодаря
отвечающей духу времени позе радикализма, который
обращается к голой сущности, снимая с нее всевозможные
культурные покровы. Поскольку же речь идет о
человеке, а не - ради людей - о произведенных ими и
подавляющих их состояниях общества, критика этих
последних оказывается как бы не нужна, поскольку-де она,
будучи столь же привязана ко времени, как и ее
предмет, всегда чересчур поверхностна. Тезис кантовской
«Идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском
плане», согласно которому достойное человека
состояние общества может установиться только через
антагонизм, в силу внутренней необходимости, но отнюдь не
из чистой идеи, - радикальным образом вытесняется.
Речь о человеке ничего не стоит именно потому, что
фабрикует ложь из того, что является истинным в
высшей степени. Акцент на экзистенциалах человека, в
которых истощенная и самой себе опротивевшая мысль
хочет видеть ту самую конкретность, которой она
лишилась, когда превратилась в метод, лишь отвлекает
внимание от того, что ей нет никакого дела до человека,
обреченного быть придатком. Значение слова «человек»
подвержено историческим изменениям. В
экспрессионистской литературе эпохи первой мировой войны оно
еще имело свою историческую ценность благодаря про-
70
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
тесту против неприкрытой бесчеловечности, которая
научилась использовать человеческий материал как
пушечное мясо. Достопочтенное овеществление
буржуазного общества, которое во времена подъема приходит
к себе самому, получая наименование человеческого
фактора, становится в таких случаях зримым, а вместе
с ним - через полемический контраст - и его
противоположность. Тезис «человек добр» был ложным, но, по
крайней мере, не требовал
метафизически-антропологического соуса. Впрочем, уже экспрессионистское
«О человек!» - манифест, направленный против того,
что всего лишь произведено человеком, против
узурпаторского полагания, - не было склонно замечать
насилия со стороны последнего. Беспроблемное
младенческое чувство всечеловечества запятнано тем, с чем оно
спорит; это можно видеть в произведениях Франца
Верфеля. Между тем жаргонный «образ человека» - это
то же безудержное «О человек!», только выставленное
на продажу, а значит, и негативная истина о нем. Чтобы
показать смену функций слова «человек», достаточно
указать на два похожих названия: во время германской
ноябрьской революции вышла книга пацифиста
Людвига Рубинера (Rubiner) «Человек в центре»; в
пятидесятые годы появилось издание «Человек в центре
предприятия». Абстрактность этого понятия позволяет
использовать его как смазку для той самой машинерии, на
которую оно некогда нападало. Его поостывший между
тем пафос отзывается в идеологеме, согласно которой
производство, которое людям приходится обслуживать,
71
Теодор В. АДОРНО
существует именно ради людей. Подразумевается при
этом, что рабочий должен заботиться об организации
труда, что приведет к росту эффективности
производства. Однако едва ли фраза о человеке, призывающая
ухаживать за ним, как за Элси - счастливой коровой из
американской рекламы, была бы столь подкупающей,
если бы ее не подпитывала догадка о том, что даже
самые могущественные отношения в конечном счете
произведены людьми, которые в силах и устранить их. Их
могущество, подобно могуществу мифических богов,
содержит в себе что-то от фетиша и иллюзии. Но
насколько иллюзорно само-по-себе-бытие институтов -
зеркальное отражение окаменевших человеческих
отношений, настолько же реальна власть этой иллюзии
над человеком. Это показывает лживость апелляций к
якобы неовнешняемой, хотя давно уже овнешненной
сущности человека. Не человек создал институты, но
конкретные люди в определенной констелляции с
природой и друг с другом: институты в равной мере и
навязывались людям этой констелляцией, и бессознательно
учреждались ими. Незадолго до революции 1848 г. все
это было сформулировано с предельной отчетливостью,
прежде всего в полемике Маркса против антропологии
Фейербаха и младогегельянцев. Как кажимость, так и
необходимость суть моменты товарного мира; изолируя
один из них, познание обрекает себя на неудачу. Кто
рассматривает товарный мир как некое в-себе, каковым
он себя и представляет, того вводят в заблуждение
механизмы, проанализированные Марксом в главе о фе-
72
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
тишизме; тот же, кто пренебрегает этим в-себе, меновой
стоимостью как чистой иллюзией, тем самым поддается
идеологии всечеловечества и цепляется за формы
непосредственно бытия-друг-с-другом, которые, если когда-
то и существовали, исторически невоспроизводимы.
После того как капитализм утратил простодушие
теоретического самоутверждения, его апологеты стали
представлять произведенное людьми в категориях
спонтанной жизни, как будто они имеют значение здесь и
теперь. Жаргон намеренно обтекает эти обстоятельства,
кичась своей исторической забывчивостью, словно
последняя - это и есть человеческая непосредственность.
Серафический язык, в котором жаргон фиксирует
слово «человек», заимствован из учения о человеке как
образе и подобии Божием. Оно звучит тем более
убедительно и проникновенно, чем тщательнее
отгораживается от своего теологического истока. Здесь что-то
напоминает о языке эпохи модерна, который жаргон делает
пригодным для массового потребления. Видимо,
духовно-историческим связующим звеном между модерном и
жаргоном выступает немецкое «движение молодежи».
Одну свою пьесу Гауптман назвал «Одинокие»; в одном
романе Ревентлов (Reventlow) выведен профессор,
принадлежавший к мюнхенской маскарадной богеме
десятых годов, который имел обыкновение говорить о
всяком, кого считал своим парнем: чудесный человек!
Нечто подобное являет стандартный актерский жест эпохи
раннего Рейнгардта (Reinhardt): положить руку на
сердце, широко раскрыть глаза, вообще инсценировать себя
73
Теодор В. АДОРНО
самого. Когда теологический первообраз был
низвергнут, трансценденция, в великих религиях отделенная от
изображения суровым запретом «Не сотвори себе
кумира», переселилась в само изображение; оно
экспонируется как чудесное, ибо других чудес больше нет. В этом
состоит таинство любой подлинной конкретности:
конкретности сущего как своего собственного imago1.
Когда нет ничего, перед чем чудесный человек мог бы
преклоняться, когда сам человек чудесен лишь тем, что
менее всего является человеком, жаргон имитирует
поведение человека перед божеством. Его цель -
безоговорочное, безотносительно смирение. Смирение - вот
человеческая добродетель сама по себе. Его всегда
недоставало субъекту, дерзающему полагать себя самое.
Одна только потаенность того, перед кем оно возникает,
уже дает повод для ликования. Это издавна
подразумевалось в понятии почитания, даже у Гете. Ясперс
открытым текстом рекомендует почитание, неважно кого;
проклинает его отсутствие и легко, несмотря на
наследие Карлейля, переходит от него к культу героев: «Сила
почитания, взирая на исторические образы
человеческого величия, твердо исходит из того, что человек есть
и на что он способен. Она не допускает, чтобы
увиденное ею было разрушено. Она верна тому, что в качестве
традиции воздействовало на ее самостановление,
обращается к тому, из чего проросло ее бытие, к особенным
людям, под влиянием которых она обрела сознание,
1 Образ (лат.). - Прим. пер.
74
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
и сохраняет пиетет, от которого никогда не
отказывается. Для нее воспоминание в качестве абсолютного
требования сохраняет в настоящем то, что уже лишено
действительности в мире»1. Между тем в жаргоне,
несмотря на культ исторических фигур и величия самого
по себе, слово «человек» уже не опирается, как
в прежнем идеализме, на человеческое достоинство.
Напротив, субстанцию человека, в трактовке
специализирующихся на этой теме философов, образует его
немощность и ничтожность, к которым он и в самом деле
все более приближается в современном обществе. Это
историческое состояние переносится в чистую
сущность человека: и утверждается, и вместе с тем
увековечивается. Он вполне последователен, когда отнимает
у понятия человека - возвышенного, потому что
ничтожного, - те самые черты, которые во всем
просвещении, как и в раннем немецком идеализме,
предполагали критику состояний общества, отказывающих душе
в данном ей от Бога праве. Жаргон имеет дело с
понятием человека, в котором искоренено какое бы то ни было
воспоминание о естественном праве, хотя его человек,
как нечто неизменное, сам по себе превращен в
сверхприродную естественную категорию. Теология отвечает
на бренность человека, в его фальшивой и пустой жизни
невыносимую, надеждой на вечную жизнь.
Возвеличение бренности в ранг абсолюта, одобренное, впрочем,
1 Jaspers К. Die geistige Situation der Zeit. S. 170. (Ясперс К.
Смысл и назначение истории. С. 404 и далее.)
75
Теодор В. АДОРНО
уже Гегелем, эту надежду уничтожает. Страдание, зло
и смерть надлежит, как это называется на жаргоне,
принять, но не изменить. Публике предлагается цирковой
фокус: увидеть ничтожность как бытие; усмотреть
в нужде, которую в действительности можно устранить
или, по меньшей мере, смягчить, венец человечности;
ввиду природной несамодостаточности человека
почитать авторитет как таковой. Последний лишь изредка
представляет себя в качестве богоугодного, тем не
менее его скипетр - тот же самый, что когда-то вручался
Богом-отцом. Поскольку, однако, он уже не имеет иной
легитимации помимо своего существования, слепого
и непрозрачного, он становится радикальным злом.
Здесь языковая жестикуляция всечеловечества сходится
с тоталитарным государством: для обоих человеческие
индивиды - перед лицом абсолютной власти - и равны,
и безразличны. Когда Ялмар Шахт засвидетельствовал
Третьему Рейху, который ведь мог похвалиться столь
убедительным большинством, что в фальсификации
результата выборов практически не было нужды, что тот
являет собой истинную демократию, это вполне
отвечало тогда еще сравнительно невинному взгляду жаргона
на образ человека. Этот образ предполагает равенство
всех людей в их бытийно-могущественной немощи.
Бытие человека становится предельно общей и пустой
привилегией: как раз по мерке тому сознанию, что уже
не терпит никаких привилегий, но все еще очаровано
ими. Идеологией же это всечеловечество - гримаса
равенства человеческих лиц - оказывается потому, что
76
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
скрывает ничем не смягченные контроверзы
общественной власти - голода и избытка, духа и покорного
отупения, - как они сказываются на человеке.
Целомудренно-трогательный и ничего не стоящий зов обращен
к человеку в человеке; тот же, кто этому призыву
противится, попадает как не-человек в руки распорядителей
жаргона и в случае нужды может быть выдан на
расправу его жертвам: это он, а не власть - тот надменный, что
втоптал в грязь их человеческое достоинство. С
помощью жаргона любое своекорыстное дело может
представить себя как служение общему благу, ни в коей
мере не затрагивая действительных нужд людей. То же
обстоятельство, что непогрешимая человечность,
обретаясь внутри всецело бесчеловечного, лишь усиливает
это последнее, с необходимостью скрыто от тех, кто
испытывает нужду здесь и теперь. Жаргон удваивает
завесу: эрзац и утешение, которые раздает
нуждающимся жаргон и его мир, в точности подогнаны под
искаженную жажду того, в чем людям отказано.
Фраза о человеке уродует то, что под этим понятием
подразумевается, не только его отношение к обществу.
Ей нет дела до реальной - неподвластной чистому
духу - расщепленности субъекта на отдельные функции.
Уже в так называемой платоновской психологии
проявляется интериоризация общественного разделения
труда. Каждое ведомство внутри индивида, будучи
ограниченным, отрицает принцип индивидуальности:
последняя превращается в сумму функций. И она тем более
подвержена такому превращению, чем менее устойчиво
77
Теодор В. АДОРНО
ее с трудом обретенное единство. Ее секторы,
обособившиеся под давлением закона самосохранения, закос-
невают так, что ни в одном из них по отдельности уже
нет жизни, как и в их композиции: они обращаются
против той самости, которой призваны служить. Жизнь,
если она еще имеет место, демонстрирует ложность
такого разделения, в обычном словоупотреблении -
разделения мысли, чувства и воли. Мысль, лишенная воли,
- не более чем тавтология, это уже не мысль; чувство
и воля суть всего лишь некое неуловимое движение,
если они не содержат познавательного элемента.
Жаргону ничего не стоит указать пальцем на нелепость
этого деления, поскольку доходчивый термин
«отчуждение» он уже успел проглотить, охотно признавая
глубину мысли молодого Маркса, чтобы тем самым
ускользнуть от критика политической экономии. При
этом реальная сила расщепления пропадает из поля
зрения, а свидетельствующая о нем мысль исподволь
подвергается поношению. Без устали празднуемая победа
над механистической психологией XIX в. использует не
первой свежести прозрение гештальтпсихологии как
повод не касаться саднящей раны: от этого освобождает
прогресс науки, к которому вообще-то особого пиетета
не питают и которого здесь как раз-таки нет.
Мыслители теснятся вокруг Фрейда, безосновательно бравируя
тем, что якобы пошли дальше. Между тем психоанализ
уже дал свое, все еще актуальное заключение насчет
пустословия о целостном, укорененном в бытии
человеке. Возвышение человека в понятии бессильно против
78
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
его действительного низведения до набора функций;
здесь необходимо изменение условий, которые к этому
привели и все более масштабно воспроизводятся. Когда
же с помощью магической формулы «вот-бытие»
закрывают глаза на общество и обусловленную им
психологию реальных индивидов и настаивают на
трансформации абстрактного в гегелевском смысле человека, это
лишь затягивает узду; возвышение оказывается не более
чем продолжением старой угнетающей идеологии.
Обрушиваясь на психоанализ, они подразумевают
инстинкт, развенчание которого их мораль наивно
приписывает себе. Так, Ясперс пишет: «Исключительность в
половой любви связывает двух людей без каких-либо
условий на все будущее время. Она без всякого
обоснования коренится в решении, которое связало самость
верностью в то мгновение, когда она пришла к себе
посредством другого. Негативная сторона - отказ от
полигамной эротики - есть следствие позитивного, которое в
качестве любви истинно лишь тогда, когда охватывает всю
жизнь; негативное требование - не растрачивать себя -
следствие бескомпромиссной готовности возможного
самобытия в этой верности. Без строгости в эротике нет
самобытия; человеческое отношение к эротике возможно
только в исключительности безусловной связи»1.
Связь - ходовая вокабула для воспитательных
притязаний, объединяющая самые пошлые трактатцы с
Хайдеггером и Ясперсом. Первым делом ее следует
'Ibid. S. 171. (Там же. С. 405.)
79
Теодор В. АДОРНО
германизировать: патриотически настроенные
наставники любят пережевывать, что религия означает именно
связь. Однако не только немецкий языковой пуризм
позаботился об укоренении «связи». Иноязычное слово
«религия» предписывает подчинение чему-то
определенному: христианскому откровению или богоданному
закону иудеев. В новоиспеченной «связи» этого уже не
чувствуется. По видимости оживляя чувственную
конкретность, выцветшую в иноязычном слове, «связь»
обретает новую окраску и оставляет в тени то, с чем она
связывает (das Woran). Вместо этого размалевывается
сам факт связи как таковой. Понятие связи
консервирует авторитет и закупоривает его источник. Под стать
слову и дело: связи рекомендуются как лекарство от
нигилизма, а не ради их собственной истины, - подобно
тому, как поколение тому назад были в ходу ценности,
нынче вновь там и сям замелькавшие. Они
предназначены для духовной гигиены и тем самым взрывают
предписываемую ими трансценденцию; развернутая
жаргоном кампания приносит одну пиррову победу за
другой. И без того сомнительная неподдельность
потребности и веры трансформируется в критерий того,
чего субъект желает и во что верит, - и превращается
в подделку; поэтому нынче уже невозможно
неидеологически произнести слово «неподдельный», у Ницше
еще антиидеологическое. Но в жаргоне оно резко
выделяется на фоне бесконечной литургии интериорности.
Словно некий старьевщик, жаргон собирает последние
протестующие жесты гибнущего, отброшенного к себе
80
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
самому субъекта, чтобы сбыть их по сходной цене. Так,
протест живого субъекта, обреченного на исполнение
той или иной роли (американская теория ролевой игры
столь популярна именно потому, что раздувает роль до
структуры общества вообще), лишается своей остроты:
якобы власть, от которой субъект бежит в свою нору, не
имеет над ним никакой силы. Жаргон имеет сакральный
характер не в последнюю очередь как язык незримого
царства, существующего лишь в ожесточенной мечте
тихих на земле1. Тезис о том, что человек якобы не
распылен (сегодня - в потреблении), извлекается из
социального контекста и перетолковывается как нечто
сущностное, тогда как он всего лишь отрицает негативное.
Филистер следит за филистером. Рассеянность -
следствие привычек потребителя - толкуется как
изначальное зло, в то время как сознание было отчуждено уже
в сфере производства, которое и подготавливает
субъекта к рассеянности. Хайдеггер живописует
подлинность по контрасту с рассеянностью: «Самость
повседневного вот-бытия - это Некто-само, которое мы
отличаем от подлинной, т.е. подлинным образом взятой
на себя самости. Как Некто-само, вот-бытие всегда рас-
Die Stillen im Lande: первоначально - самоназвание веймарской
группы деятелей культуры и образования, отстаивавшей в начале
XX в. традиционную «глубокую» немецкую культуру в противовес
«шумным» и «поверхностным» явлениям, таким как кино, радио,
спорт и т.п. В современном немецком языке этот оборот означает
людей, воздерживающихся от бурной общественной деятельности. -
Прим. пер.
81
Теодор В. АДОРНО
сеяно в Некто и только еще должно найти себя. Эта
рассеянность характеризует "субъекта" того способа
бытия, который мы знаем как озабоченное растворение
в ближайшем образом встречающемся мире»1. О связи
между рассеянностью и мегаполисом высокоразвитого
капитализма, которая известна по меньшей мере со
времени Георга Зиммеля и которую почувствовал уже
Бодлер, Хайдеггер не вспоминает. Но то, что пребывает,
как его подлинное вот-бытие, исключительно при себе
самом, становится не менее скудным, чем то, что
растекается в ситуациях. Гегель, как и Гете, критиковал ин-
териорность, распознав в ней не более чем момент:
условие истинного сознания, которое, однако, в силу его
ограниченности должно быть сознанием снято.
Воспоминание об этой критике было вытеснено с тех пор, как
извращенный дух (Ungeist) куда более основательно
позаботился о том, чего дух требовал некогда от духа.
Примирение внутреннего и внешнего, на которое еще
надеялся Гегель, отложено на неопределенный срок,
и овнешнение уже не нуждается в защите, ибо и так уже
стало законом для счастливых экстравертов. Но вместе
с тем все более невыносимым становится осознание
разрыва, постепенно превращающего самосознание
в самообман. В последнем нуждается - ради
эффективного самоубеждения - тотальная адаптация. Идеология
может отталкиваться от того обстоятельства, что рас-
1 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 129. {Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 129.)
82
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
тущее бессилие субъекта, его омирщение
(Verweltlichung) одновременно означает утрату мира и
предметности. Одно из первых после Гегеля оригинальных
философских учений - учение Кьеркегора - не зря назвали
философией интериорности, но оно как раз-таки
решительно отбрасывает мотив реального внутримирового
примирения. Рефлексия над интериорностью, ее само-
полагание, а значит, нечто в ее восхождении указывают
на ее действительное устранение. Жаргон пустил в
обращение многие из ее категорий и через это
противоречие тоже посодействовал ее разрушению. После
поражения буржуазной революции в Германии вся история
интериорности была историей ее упадка. Чем меньше
может для-себя-сущий субъект, чем более то, что
некогда осознало себя в качестве внутреннего, сжимается
в абстрактную точку, тем соблазнительнее
прокламировать интериорность и выбросить ее на рынок, от
которого она отшатывается. Как термин она становится
ценностью и собственностью, в которой окапывается, уже
потерпев двусмысленное поражение от овеществления,
кьеркегоровского «эстетического» мира чистого
созерцателя, антиподом которого должен быть
экзистенциально внутренний индивид. То, что желает остаться
абсолютно чистым от овеществления, закрепляется, как
некое прочное свойство, за субъектом и превращается в
вещь второго порядка; в конечном счете - в ширпотреб
рилькевских утешных речей, от «Пусть нищие зовут
тебя братом, ты можешь быть королем» и до
пресловутой «бедности - внутреннего сияния». Философы, сви-
83
Теодор В. АДОРНО
детельствовавшие о несчастном положении для-себя-
сущего сознания - Гегель и позже Кьеркегор вкупе с
протестантской традицией, - рассматривали интериор-
ность в существенной связи с самоотрицанием субъекта,
раскаянием. Их наследники, цирковым трюком
превратившие несчастное сознание в сознание блаженно-
недиалектическое, сберегли от него лишь узколобую
уверенность в собственной непогрешимости, которую
Гегель предчувствовал более чем за столетие до
фашизма. Они очищают интериорность от того, что могло
бы быть ее истиной, - от самоосмысления, в котором Я
узнает себя как часть мира, над которым оно пытается
возвыситься и в который именно поэтому падает.
Нынешняя закосневшая интериорность фетишизирует
собственную чистоту, якобы запятнанную онтическим:
таким образом, по меньшей мере отправной пункт
нынешней онтологии совпадает с культом интериорности.
Ее бегство от динамики мира - это также и бегство
от эмпирического содержания самой субъективности.
Кант, питавший к понятию внутреннего1
просвещенческую антипатию, отличает эмпирический субъект, с
которым, как в вещью среди вещей, имеет дело
психология, от трансцендентального и подчиняет его
каузальности. Пафос внутренних подхватывает это различение, но
уже с противоположным акцентом. Они довольствуются
презрением к психологии, не отдавая, однако, на манер
1 Ср.: Kant I. Kritik der reinen Vernunft, В. S. 332 f. (Кант И.
Критика чистого разума. СПб.. 1993. С. 193 и далее.)
84
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
Канта, мнимо устойчивое ядро в человеческом
индивиде на откуп трансцендентальной всеобщности; они
словно бы извлекают выгоду и из того, и из другого. То
обстоятельство, что психологические определения
превращают субъект в момент экстериорности, придает
твердость их табу, налагаемым на ненавистные им
инстинкты. В этом отношении особенно неистовствует в
своих книгах Ясперс1. Но в запрете на реальное
наполнение, в его сведении к чисто внутреннему наполнению
самости через самость, сходятся все; ранний Хайдеггер
тоже подводит презренную «жизнерадостность» под
категории неподлинного2; он же свидетельствует в
«Бытии и времени», что «Психология мировоззрений» Яс-
перса - это отнюдь не психология3. Не менее
отвратительная манера психоаналитического языка вколачивать
в пациента жизнерадостность как таковую, не считаясь
с тем, чему тот мог бы радоваться, просто-напросто
ставится с ног на голову. Но если интериорность не
является ни сущим, ни чем бы то ни было всеобщим в
субъекте, то она превращается в мнимую величину. Когда от
субъекта отделено всякое сущее, даже психическое,
остаток оказывается не менее абстрактным, чем
трансцендентальный субъект, перед которым индивидуальная
1 См. уже в: Jaspers К. Psychologie der Weltanschauungen. 3. Aufl.
Berlin, 1925. S. 132 f.
2 Ср.: Heidegger M. Sein und Zeit. S. 43. (Хайдеггер М Бытие и
время. С. 43.)
3 Ibid. S. 249 и. особенно. 301 f. (Там же. С. 249 и. особенно. 301
и далее.)
85
Теодор В. АДОРНО
интериорность в виде вот-бытия полагает иметь столь
значительное преимущество. Тот факт, что в исходных
текстах экзистенциализма, таких как «Болезнь к
смерти» Кьеркегора, существование (Existenz) становится
отношением, относящим себя к себе самому, -
отношением, под которым уже невозможно подразумевать что-
либо еще, неким абсолютизированным моментом
опосредования, безотносительным к тому, что
опосредуется, - сразу же выносит приговор всей философии инте-
риорности. В жаргоне от нее, в конце концов, остается
лишь предельно внешнее: чувство собственного
превосходства тех, кто выбирает себя, кто полагает, что
быть самим собой - это благодать. Это притязание
легко оборачивается претензией на элитарность или
готовностью присоединиться к элите, которая, впрочем, не
замедлит отшвырнуть интериорность прочь. Симптом
такой эволюции интериорности - массовая вера в
собственную принадлежность к какой-либо знатной
фамилии. Провозглашая равенство себе самому венцом
творения, жаргон подлинности выводит формулу обмена
для того, что мнит себя необмениваемым, - ибо как
биологический индивид всякий равен себе самому. Это
все, что остается от бессмертной души за вычетом души
и бессмертия.
Тотальность иллюзии непосредственного, апогей
которой - интериорность, ставшая голым экземпляром,
делает чрезвычайно трудным распознание жаргона для
тех, кого он обрабатывает. В его подержанной
изначальное™ они и в самом деле находят нечто вроде кон-
86
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
такта - подобно тому, как состряпанная
национал-социализмом «народная общность» порождала чувство,
будто о каждом из сотоварищей по виду кто-то
заботится, никто не забыт: перманентная метафизическая
«зимняя помощь». Общественный базис этого явления
состоит в том, что многочисленные промежуточные
инстанции рыночной экономики, прежде поддерживавшие
сознание отчужденности, при переходе к плановому
хозяйству были устранены; дистанция между целым и
атомизированными субъектами сократилась настолько,
что возникает иллюзия близости. Параллельно
прогрессирует техника средств коммуникации. Последние,
особенно радио и телевидение, обращаются к населению
так, что оно не замечает бесчисленных опосредующих
устройств: голос диктора звучит в доме так, как если бы
он был здесь и со всеми знаком. Их психотехнически
выверенный искусственный язык - образцом может
служить отвратительно-интимное «до новых встреч в
эфире» (Auf Wiederhören) - того же поля ягода, что и
жаргон подлинности. Ключевое слово здесь -
«встреча»: «Обсуждаемая здесь книга об Иисусе - совершенно
особого рода. Ее цель не в том, чтобы дать
"биографию", "жизнь Иисуса", но - подвести к
экзистенциальной встрече с Иисусом»1. Готфрид Келлер, на лирику
которого апостолы расположенности смотрят сверху
1 Archiv fur Liturgiewissenschaft 1960, об «Иисусе» Рудольфа
Бультмана.
87
Теодор В. АДОРНО
вниз , озаглавил этим словом стихотворение,
исполненное потрясающей беспомощностью. Поэт неожиданно
встречает в лесу ту, «Что лишь одна желанна сердцу. /
Под белою накидкой, / В сиянье золотом, она / Была
одна, но я не смог / Сказать ей "здравствуй", проходя: /
Я никогда ее не видел / Такой прекрасной и
безмолвной». Здесь приглушенный свет - это свет печали,
и именно он дает силу слову «встреча». Но оно могло
вобрать в себя это мощное, не допускающее
непосредственного выражения чувство прощания лишь потому,
что не означает ничего помимо своего точного
значения: того обстоятельства, что два человека неожиданно
встретились. То, что жаргон учинил над словом
«встреча» и что уже невозможно исправить, уродует
стихотворение Келлера похлеще, чем какая-нибудь фабрика -
окружающий ландшафт. «Встреча» отчуждена от того
обстоятельства, которое является его буквальным
значением, и, благодаря идеализации последнего, может
быть практически утилизирована. В обществе, в
котором даже возможность случайного знакомства людей -
то, что некогда называлось просто жизнью, - тает на
глазах, а там, где еще сохраняется, оказывается чем-то,
что терпят и, как терпимое, планируют, - в таком
обществе едва ли случаются встречи в смысле Келлера:
о встречах договариваются по телефону. Язык
превозносит встречу и покрывает организованные контакты
1 Ср.: Russ В.. Das Problem des Todes in der Lyrik Gottfried Kellers.
Inaugural-Dissertetion. Frankfurt am Main, 1959. S. 189 ff., 200 f.
88
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
фосфорицирующей краской именно потому, что свет
померк. При этом язык - на манер диктаторов - словно
бы заглядывает вам в глаза. Кто пытливо заглядывает
вам в глаза, тот хочет вас загипнотизировать, получить
над вами власть, с самого начала угрожающую: верен
ли ты мне? не предатель ли ты? не окажешься ли
Иудой? Психологическая интерпретация могла бы открыть
в этом жесте жаргонного языка бессознательный
гомосексуальный перенос и тем самым пролить свет на
пылкое неприятие психоанализа патриархами жаргона.
Маниакальный взгляд в глаза сродни расовому бреду: он
подразумевает круговую поруку, как бы говорит: «мы
с тобой - одной крови»; утверждает эндогамию. Даже
стремление очистить слово «встреча» от скверны и
восстановить его строгое употребление оказалась бы -
в силу неизбежной апелляции к чистоте и изначально-
сти - частью того самого жаргона, от которого оно
желало бы избавиться. То, что было сделано с
«встречей», удовлетворяет одну специфическую потребность.
Встречи, которые, будучи организованными, отрицают
сами себя, которые постоянно инициирует безмятежно
благая воля, жажда деятельности и властолюбивая
хитрость, - эти встречи суть эрзац ставших невозможными
спонтанных действий. Люди утешают себя - или их
утешают - тем, что нечто якобы происходит уже тогда,
когда они сообща говорят о своих напастях. Из средства
достижения ясности относительно некоторого предмета
разговор превращается в самоцель и заменяет то, что, по
его смыслу, должно за ним следовать. Смысловой избы-
89
Теодор В. АДОРНО
ток слова «встреча» - внушаемое им представление,
будто уже в одной только беседе созванных свершается
что-то существенное, - имеет в своей основе ту же
иллюзию, что и спекуляция на помощи в слове
«стремление»1. Некогда оно означало болезнь. Жаргон
возвращается к этому значению: как будто интерес человека - это
его беда. Она выклянчивает Caritas2, но тут же - ради
своей человеческой сущности - учиняет террор. Нужно
допустить некую трансцендентную силу, которая
потребовала бы от человека, чтобы тот - опять же на
жаргоне - «принял» свое стремление. Архаическое
суеверие, которое эксплуатирует формула «В надежде, что
просьба моя не напрасна...», в жаргоне принимает
экзистенциальный размах, он словно бы вымогает помощь у
самого бытия. Противоположность этому образует
принятая в Америке форма коммуникации, которую
подлинные безоговорочно отвергают. Там «being
cooperative»3 означает идеал, согласно которому следует
безвозмездно оказывать другому услуги, по меньшей мере,
уделять ему время, имея в виду пусть даже
расплывчатое предположение, что, коль скоро все нуждаются во
всех, рано или поздно эти затраты будут возмещены.
Немецкое же «стремление» было порождено
капиталистическим принципом обмена на той стадии, когда он
Das Anliegen: это слово означает стремление, желание, задачу,
но также и просьбу, ходатайство (особенно в канцелярском
языке), отсюда его смысловая связь с «помощью». - Прим. пер.
2 Милосердие (лат.) - Прим. пер.
3 Готовность к сотрудничеству (англ.). -Прим. пер.
90
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
еще господствует, но либеральная мера
эквивалентности уже разрушена. Жаргон вообще имеет динамичный
языковой характер: отвратительным делается в нем то,
что ни в коей мере не было таковым от века1. На
встречах, на которых и о которых болтает жаргон, он
принимает сторону того самого управляемого мира, о котором
сокрушается в слове «встреча». Он приспосабливается к
этому миру посредством ритуала неприспособления.
Даже гитлеровская диктатура домогалась одобрения, по
которому проверяла свою поддержку в массах. Тем
более - администрация в условиях формальной
демократии: обретя самостоятельность, она постоянно
стремится убедить всех в том, что существует только ради
вверенного ей целого. Потому-то она и заигрывает с
жаргоном, как и жаргон с ней - иррациональным
самодовлеющим авторитетом. Жаргон зарекомендовал себя
как часть негативного духа времени, выполняя
общественно полезную работу в рамках тенденции,
отмеченной уже Максом Вебером: управление всегда
распространяется на то, что затем рассматривается как
ведомство культуры. Чиновники администраций, прошедшие
юридическую или организаторскую выучку, все чаще
сталкиваются с необходимостью как бы содержательно
1 С функциональной динамикой автор столкнулся в собственной
работе. В «Философии новой музыки», написанной в Америке,
«стремление» еще казалось ему вполне безобидным, только немецкая
критика показала ему ханжеский характер этого слова. Даже тот, кто
чурается жаргона, не застрахован от инфекции: тем более
необходимо быть осторожным.
91
Теодор В. АДОРНО
высказываться насчет искусства, науки и философии.
Они опасаются вызвать скуку сухостью речи и желают
продемонстрировать свою связь с духом, столь же
специализированным, но так, чтобы их деятельность и
опыт не вошли в чересчур тесный контакт с ним. Когда
какой-нибудь оберштадтдиректор приветствует
философский конгресс - мероприятие, по существу уже не
менее административное, чем титул оберштадтдиректо-
ра, ему приходится обходиться доступной начинкой
культуры, т.е. жаргоном. Жаргон защищает его от
неприятной необходимости всерьез высказываться о
вещах, в которых он ничего не смыслит, и позволяет ему
изобразить в случае нужды некоторое надпредметное
отношение к предмету. Жаргон столь эффективен в
этом, потому что всегда не только создает видимость
присутствующей конкретности, но и облагораживает ее.
Если бы не функциональная нужда в нетерпящем
функциональности жаргоне, едва ли он стал бы вторым
языком - языком глухих и безъязыких. Не неся никакой
ответственности перед разумом, возвысившись только
благодаря своему стандартизированному тону, жаргон
удваивает то реальное принуждение, что исходит от
администрации, дополняя его принуждением в сфере
духа. Его можно было бы описать как идеологический
слепок с той гнетущей ведомственной атмосферы, ужас
перед которой передает будничный язык Кафки -
полная противоположность жаргоне. Общественная власть
отчетливо ощущается там, где человеку приходится
обращаться к административному чиновнику - говоряще-
92
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
му, но глухому - с просьбой. Жаргон говорит с людьми
в той же чиновничьей манере: обращаясь к ним прямо,
он не допускает возражений, но и не забывает дать
понять, что лицо за окошком - это действительно человек,
что с недавних пор удостоверяет и табличка с именем.
Подспудно целительные формулы жаргона суть
формулы власти, заимствованные у иерархизированных
инстанций. Но приправленный подлинностью
административный язык - это не просто упадочная форма
соответствующего философского языка: свое первичное
оформление он получил в весьма почтенных
философских текстах. Хайдеггеровское излюбленное «прежде
всего» (zunächst), в основе которого могут лежать как
дидактические приемы, так и картезианское «сперва -
затем», опекает мысль в духе философской
систематики, откладывая все неугодное на потом посредством
формулы, напоминающей повестку дня: «но прежде чем
мы... следует еще основательно исследовать...»: «Глава,
берущая на себя экспликацию бытия-в как такового, т.е.
бытия Вот, распадается на две части: А.
Экзистенциальная конституция Вот. В. Повседневное бытие Вот и
падение вот-бытия»1. Эта педантичность, придающая яко-
бы-радикальному философскому осмыслению привкус
добротной научности, окупается еще и тем, что
позволяет так и не дойти до того, что обещает философия.
Эта манера восходит к Гуссерлю, за необъятными
предваряющими рассуждениями которого читатель легко
1 Heidegger M Sein und Zeit. S. 133. (Ср. Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 133.)
93
Теодор В. АДОРНО
забывает главную задачу; но критическая рефлексия
прежде всего настигнет ту философему, что толкает
перед собой тележку научной основательности. Даже
признание незначительности полученного результата,
имеющее почтенную предысторию в немецком
идеализме, не лишено стратегического расчета. Подобным
образом кафкианские инстанции увиливают от решения,
которое затем внезапно настигает свою жертву. Quid pro
quo1 персонального и аперсонального в жаргоне;
иллюзорное очеловечивание вещественного, реальное
овеществление человеческого - точная копия ситуации
управления: когда за любым решением, принятым якобы тет-
а-тет, скрываются абстрактное право и объективный
процедурный порядок. Незабываемое воспоминание из
ранней гитлеровской империи: воины штурмовых
отрядов, являющие собой зримый синтез
административной власти и террора: сверху папка для бумаг, внизу
сапоги с отворотами. Что-то от этой картины
сохраняет и жаргон подлинности в словах типа «поручения»,
в которых нарочито размывается различие между
подчиненностью справедливым или несправедливым
инстанциям и абсолютной подвластностью, между
авторитетом и сентиментом. Введение слова «поручение» в
жаргон могла инспирировать первая Дуинская элегия
Рильке, одного из учредителей жаргона, - опус,
толкование которого одно время считалось обязательным уп-
1 Формула обмена (мера за меру) и взаимозаменимости (одно
вместо другого) (лат.)- - Прим. пер.
94
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
ражнением для всякого уважающего себя
приват-доцента: «Всегда и во всем порученье таилось»1. Этот стих
высказывает смутное чувство, что нечто невыразимое,
присутствуя в опыте, чего-то ждет от субъекта, как
об этом говорится и в стихотворении о древнем торсе
Аполлона2; «и звезды надеялись тоже, что ты
почувствуешь их»3. Вместе с тем здесь говорится о
необязательности и бесплодности этого чувства, которые,
впрочем, связаны с незрелостью самого лирического героя:
«справился ли ты?»4 Под защитой эстетической
иллюзии Рильке абсолютизирует слово «поручение», затем,
однако, сам он ограничивает заявленное его пафосом
притязание. Жаргону остается лишь незаметно
вычеркнуть лишние оговорки и просто принять слово,
абсолютизированное сомнительным поэтизированием. Однако
то обстоятельство, что неоромантическая лирика
временами ведет себя как жаргон, или, по меньшей мере,
робко его подготавливает, не означает, что его порок
следует искать в одной только форме. Он коренится
отнюдь не только в смешении поэзии и прозы, как это
выглядит с одной чересчур невинной точки зрения.
Равенство делает их равно неистинными. В поэзии
порочно уже наделение слов теологическим обертоном, кото-
1 Rilke R.M. Duineser Elegien. New York, о. J., S. 8. (Рильке P.M.
Избранные сочинения. М., 1998. С. 508. Перевод В. Микушевича.)
2 Ср.: Rilke R.M.. Der neuen Gedichte anderer Teil. Leipzig, 1919, S.
1. (Там же. С. 399.)
3 Rilke R.M. Duineser Elegien. S. 7. (Там же. С. 399.)
4 Ibid. S. 8. (Там же.)
95
Теодор В. АДОРНО
рый опровергается положением говорящего -
одинокого и секулярного субъекта: религия как орнамент. Когда
подобные слова и фразы встречаются у Гельдерлина -
образца для тайного подражания, они еще свободны от
жаргонных вибраций, как бы ни пытались его
распорядители прибрать беззащитного гения к рукам. В лирике,
как и в философии, жаргон определяется тем, что, пре-
зентируя подразумеваемое так, словно это бытие в
полной гармонии с субъектом, он тем самым скрывает его
истину; поэтому жаргон становится ложью уже прежде
всякого дискурсивного суждения. Выражение
оказывается самодостаточным. Оно отбрасывает прочь - как
лишнюю обузу - обязанность выразить нечто отличное
от него вместе с самим этим отличием: все отличное от
выражения - ничто, и, к счастью, это Ничто становится
Высшим. Язык Рильке еще находится на водоразделе -
как и многие иррационалистические явления предфа-
шистской эпохи. Он не только затемняет вещи, но и
регистрирует то, что подспудно уклоняется от вещной
рациональности, - и тем самым протестует против
последней. Таково то чувство затронутости, что оживляет
слово «поручение» в упомянутой элегии. Оно
становится совершенно невыносимым, лишь когда
опредмечивается, когда именно в своей иррациональности выдает
себя за нечто определенное и однозначное: от
послушного и внемлющего мышления Хайдеггера до всех тех
призывов и воззваний, которые, как мелкую монету,
разбрасывают низшие чины жаргона. Тот факт, что
96
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
Рильке бесхитростно признает в упомянутом
стихотворении многозначность «поручения», вроде бы должен
эту двусмысленность оправдать. Но вместе с тем он
говорит о поручении без того, кто поручает, что уже в
духе жаргона, и тем самым формирует соответствующее
жаргону представление о бытии вообще. Это, в свою
очередь, смыкается с кустарной религиозностью
раннего Рильке, который, особенно в «Часослове»,
использует теологическую фразеологию, чтобы подвергнуть
психологическое своего рода облагораживающей
обработке; лирику, позволяющую себе любую метафору,
даже, на правах иносказания, совершенно
неметафорические выражения, не смущает вопрос об
объективности того, что якобы внушает субъекту его чувства, как
и вопрос о том, покрывают ли хоть сколько-нибудь
слова, усвоенные благодаря образованию, тот опыт, в
объективации которого и состоит ее идея. Лирика,
утратившая чувствительность к истине и точности слов, -
а даже самое расплывчатое можно определить как
расплывчатое, но нельзя выдавать за определенное, -
порочна уже в качестве лирики, несмотря на всю свою
виртуозность; проблематика того содержания, до
которого она якобы воспаряет, - это и проблематика формы,
которая внушает, будто она владеет трансцендентным,
и тем самым оказывается иллюзией еще более пагубной,
нежели иллюзия эстетическая. Скверная истина,
скрывающаяся за этой иллюзией, - это именно союз
поручения и власти, по поручению власти отрицаемой. Жар-
4 3ак. 2612
97
Теодор В. АДОРНО
гонные слова подобны служебным грифам, или
печатям, или тому «дело о...» канцелярского языка, в
маскировке которого и состоит поручение жаргона.
Избирательное внимание к отдельным словам, как они
обсуждались во времена дохайдеггеровской феноменологии-
в-картинках, подготовило почву для инвентаризации
лексических фондов. Тот, кто вычленял значения, -
акушер чистых слов нынешнего языка - всякий раз
действовал насильственно, не взирая на святыни
сущностной философии. Метод, осуждающий малейшее
смешение смежных слов, действовал, говоря объективно, как
мелкий клерк, который строго следит за тем, чтобы
всякая вещь оставалась в своей категории, как и он сам
остается на своем уровне благосостояния. Смерть тоже
рассматривается «по путеводной нити» - и в эсэсовских
предписаниях, и в экзистенциальных философиях:
рабочая каурка, на которой гарцуют, как на Пегасе, in
extremis1 - как на апокалиптическом коне. Солнце,
горящее в груди жаргона, освещает темную тайну метода
как образа действий, заступающего на место предмета.
Жаргон действует так всегда. Будучи индифферентен к
сути дела, он может применяться к любой порученной
задаче - в противоположность тому, как некогда в
великой философии язык необходимым образом
проистекал из сути дела. Эта индифферентность речи
превратилась в метафизику языка: язык, который по своей форме
В пределе (лат.)- -Прим. пер.
98
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
воспаряет, как кажется, над тем, с чем соотносится, тем
самым полагает себя как нечто высшее. Теоретическая
невозможность философской системы, которую Ницше
назвал недобросовестной, обусловливает превращение
того, что может иметь значение лишь в рамках системы,
в голое уверение. Распавшаяся строгость системы
превращается в действенное пустословие. Которое,
впрочем, подобно никчемному мероприятию, постоянно
слетает с катушек и сбивается на вздор.
В вульгарном жаргоне подлинности поручение
наделяется не допускающим сомнения авторитетом. То,
что он не является непогрешимым, затушевывается
абсолютизацией слова. Поскольку инстанции или
персоны, дающие поручение, не принимаются во внимание,
оно превращается в обиталище тоталитарных
постановлений, исключающих рациональную постановку
вопроса о праве тех, кто приписывает себе харизму вождей.
Стыдливая теология идет рука об руку с мирским
бесстыдством. Жаргон подлинности перекликается со
старыми школьными фразами, вроде той, которую
подметил Тухольский: «Здесь это делается так». Или с теми
военными командами, в которых, чтобы придать
приказу особую силу, императив облекается в мундир
повествовательного предложения: так он выглядит не как
чья-то воля, но как то, что фактически уже
происходит: «Участники пробега памяти героев собираются
в Люнебурге». Так и Хайдеггер щелкает бичом, когда
в предложении «Смерть есть» выделяет глагол раз-
99
Теодор В. АДОРНО
рядкой . Грамматическая трансформация императива в
предикацию делает его категорическим; он не терпит
неповиновения, поскольку уже не принуждает, как
некогда у Канта, но описывает повиновение как
свершившийся факт, отсекая возможное сопротивление уже
одной только логической формой. Протест разума
изгоняется за пределы общественно мыслимого вообще.
Впрочем, такая иррациональность - иррациональность
того, что даже на стадии реанимированного мифа
продолжает называть себя мышлением, - сопровождала,
как тень, уже кантовское просвещение, которое
любезно уверяет, что для того, чтобы действовать правильно,
человеку необязательно знать категорический
императив, - тогда как императив, если он действительно един
с принципом разума, предполагает разум в каждом
действующем субъекте, и если этот разум ничем не
ограничен, он есть философский разум.
Христиан Шютце (Schütze) опубликовал сатиру
«Типовая торжественная речь», в которой жаргон
остроумно показан как синдром:
Высокочтимый господин Президент, господа
министры, бургомистры, секретари, референты и
ассистенты, многоуважаемые деятели культуры, науки,
хозяйства, представители среднего сословия,
благородное собрание, дамы и господа!
Весьма не случайно собрались мы здесь, чтобы
вместе провести этот знаменательный день! Ибо именно
1 Ср.: Heidegger M. Sein und Zeit. S. 259. (Хайдеггер М. Бытие
и время. С. 259.)
100
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
в такие дни, как ныне, когда подлинные человеческие
ценности более, чем когда-либо должны стать целью
наших глубочайших, сокровеннейших стремлений, наше
слово особенно весомо. Я не знаю патентованного
средства от всех проблем; я хочу лишь предложить к
обсуждению несколько животрепещущих вопросов, ибо
они назрели. Ведь то, что нам сейчас нужно, это
отнюдь не готовые суждения, что затрагивают только
слух, но не дух; то, что нам нужно, - это
действительный диалог, способный взволновать все наше
человеческое существо. Невозможно переоценить значение
коммуникации в формировании сферы межчеловеческих
отношений, и именно это привело нас сюда. В этой
сфере есть вещи, которые дорогого стоят. Нет
нужды говорить Вам, что я имею в виду. Вы все в особом и
высоком смысле имеете дело с людьми, и Вы меня,
конечно, понимаете.
В такое время, как наше - я уже упомянул об этом, -
когда сплошь и рядом вещи видятся словно бы в
искаженной перспективе, роль личности, знающей суть
вещей не понаслышке - вещей как таковых, в их
подлинности, - приобретает беспрецедентное значение. Нам
нужны незашоренные люди, способные к такому
знанию. Кто же эти люди, - спросите Вы, - и я отвечу:
Вы! Собравшись здесь, Вы доказали на деле, а не на
словах, свою готовность к энергичному усилию. Я хочу
сказать Вам слова благодарности за это, как и за то,
что Вы, поддерживая благое, тем самым решительно
101
Теодор В. АДОРНО
противостоите потоку материализма, грозящему
захлестнуть все вокруг.
Скажу сразу: Вы пришли сюда, чтобы получить
наставления, чтобы слушать. Вы оэюидаете, что эта
встреча на межчеловеческом уровне будет
способствовать восстановлению нормального человеческого
микроклимата, той человеческой теплоты, которой
катастрофически не хватает в нашем индустриальном
обществе...
Но что означает это для нас в нашей конкретной
ситуации, здесь и теперь? Высказать вопрос - значит
поставить его. Но и много больше: это значит
предстать перед вопросом, открыться ему. Нам нельзя
забывать об этом. Нынешний человек забывает об этом
в спешке и суете сиюминутных дел чересчур легко. Но
Вы - Вы, тихие на земле, помните об этом. Ведь наши
проблемы вырастают на той почве, которую мы
призваны возделывать. И то благотворное волнение, что
мы испытываем перед лицом этого факта, раскрывает
для нас перспективы, которые мы не можем
игнорировать, от которых мы не можем со скучающим видом
отвернуться. Мы должны думать сердцем, мы
должны, так сказать, настроить антенны человеческой
души на одну волну. Ныне никто не знает лучше, чем
Человек, что в конечном счете важно, а что нет{.
1 Schütze С. Gestanzte Festansprache, in: Stuttgarter Zeitung, 2.
Dezember 1962. Цитируется по: Der Monat, Januar 1963, Heft 160. S. 63.
102
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
Здесь собрано все: цель сокровеннейших
стремлений, действительный диалог, вещи в их подлинности
(смутная реминисценция из Хайдеггера), встреча на
межчеловеческом уровне, вопрос ради самого вопроса и
даже несколько анахроническая резервная армия тихих
на земле. Пространное вступление, перечисляющее
функции собравшихся персон, с самого начала ставит
все последующее в зависимость от ускользающего
административного повода. И если цель говорящего не
ясна, то ее выдает жаргон. Цель стремлений -
микроклимат на предприятии. Обращение к слушателям как
к тем, кто «в особом и высоком смысле имеет дело
с людьми», позволяет видеть, что речь идет об
управлении того типа, для которого люди суть именно предмет
управления. Этому в точности соответствует
всесокрушающая фраза о «потоке материализма», который
полнокровные шефы крупного бизнеса так ненавидят
в своих подчиненных. В этом состоит бытийное
основание высшего в жаргоне. В своих оговорках он выдает,
что его сущность - управление. В «межчеловеческом
уровне», имеющем целью способствовать
«восстановлению нормального человеческого микроклимата»,
слово «уровень», помещено рядом с «межчеловеческим»,
со столь же социальной, сколь и интимной связью Я
и Ты; однако уровни - земельный, федеральный - суть
уровни административно-правовой компетенции.
Оратор призывает мыслить сердцем - людям от бизнеса
паскалевская формула «que les grandes pensees provi-
103
ennent du coeur » ласкала слух всегда, - и тут же, на
одном дыхании, «настраивает антенны человеческой души
на одну волну». В целом речь представляет собой
несусветную чушь: таковы предложения типа «Высказать
вопрос - значит поставить его» или «Ныне никто не
знает лучше, чем Человек, что в конечном счете важно,
а что нет». Но вся эта ахинея по-своему хитроумна, ибо
призвана скрыть манипулирование и его цель; поэтому
здесь, как принято говорить на административном
немецком, какое бы то ни было содержание исключено
(ausgeklammert), однако видимость содержания все-таки
необходима, чтобы слушатели - на том же немецком -
повиновались (spuren). Намерение, интенция речи
исчезает в подмирном безынтенциональном языке, что
отвечает объективной сущности самого жаргона, который не
содержит в себе ничего, кроме упаковки.
Жаргон задним числом приспосабливается к
потребности философии, бывшей в ходу примерно в 1925 г.,
конкретизировать опыт, мысль и действие в рамках
некой целостной конституции, которая реально подчинена
абстрактному - обмену. Но и жаргон не способен и не
желает, конкретизировать то, что обрекает на
абстрактность. Он ходит по кругу, желая быть конкретным
непосредственно, не опускаясь до голой фактичности, -
и с неизбежностью превращается в тайную абстракцию,
мало-помалу вырождаясь в тот самый формализм, по
поводу которого собственная школа Хайдеггера - фе-
Что великие мысли исходят из сердца (фр.)- - Прим. пер.
104
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
номенологическая философия - метала некогда громы и
молнии. Теоретическая критика может обнаружить это
обстоятельство в экзистенциальной онтологии, прежде
всего в понятийной паре «подлинность -
неподлинность» из «Бытия и времени». Уже там устремленность
к конкретности породнилась с «Не тронь меня!» Хай-
деггер говорит словно из некой глубины, которая была
бы обесчещена, представ в качестве какого-либо
содержания, и тем не менее она желает быть
содержательной, и содержание желает высказать себя. Его
оборонительная техника ухода в вечное действует на той
«чистой и отвратительной высоте»1, о которой говорит
Гегель в полемике с Рейнгольдом; как и последний, Хай-
деггер не может насытиться ритуальными
прелиминариями к «вступлению во храм»2; разве что никто уже
не решается привязать колокольчик к кошачьему
хвосту. Хайдеггер вовсе не является непонятным, как
гласят красные пометки позитивистов на полях его
сочинений: он налагает табу на понимание: якобы любое
понимание тотчас искажает его мысль. Невозможность
спасти то, что это мышление пытается спасти,
благоразумно превращается в его собственную стихию. Оно
отвергает всякое содержание, против которого можно
было бы аргументировать: метафизика точно так же
бьет мимо цели, как и перевод в онтические утвержде-
1 Hegel G.W.F. Sämtliche Werke. Bd. 1. Ed. Glockner. Stuttgart
1958. Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems. S. 43.
2 Ibid. (Там же.)
105
Теодор В. АДОРНО
ния, которые, впрочем, будучи «делом» частных наук,
рассматриваются не без благосклонности1. С
подлинностью и неподлинностью Хайдеггер тоже поначалу
обращается довольно осторожно. Он остерегается упреков
в черно-белой живописи. Он-де не выносит
философских вердиктов, но вводит дескриптивные, нейтральные
термины в духе того, что в ранней феноменологии
именовалось исследованием, а в веберовской трактовке
отвергаемой Хайдеггером социологии - свободой от
оценки. «Оба бытийных модуса подлинности и
неподлинности - эти выражения избраны терминологически
1 В трактате о тождестве и различии Хайдеггер неосмотрительно
позволяет на миг заглянуть в свои карты: «Предположим, однако,
что различие и в самом деле есть некая прибавка, порожденная
нашим рассудком; тогда встает вопрос: прибавка к чему? Нам
отвечают: к сущему. Хорошо. Но что это значит: "сущее"? Что же иное, как
не что-то, что есть? Так мы находим этой мнимой добавке,
представлению различия, место - место бытия. Но "бытие" само означает:
бытие, которое есть сущее. Там, куда мы впервые должны привнести
различие как предполагаемую прибавку, мы всегда уже встречаем
сущее и бытие в их различии. Здесь - словно в сказке братьев Гримм
о зайце и еже: "Я уже здесь"». (Heidegger. Identität und Differenz.
Pfullingen, 1957. S. 60.) {Хайдеггер М. Тождество и различие. М.,
1997. С. 48. Перевод А. Денежкина) То, что здесь при помощи
совершенно примитивного гипостазирования копулы сказано о так
называемом онтологическом различии с целью поместить
онтологический примат этого различия в само бытие, на самом деле
представляет собой формулу его метода. Он защищается от возможных
возражений, предвосхищая их как моменты, которые якобы в
защищаемом тезисе уже учтены; ошибочные умозаключения, на которые
мог бы указать первый встречный логик, проецируются в
объективную структуру того, к чему клонит мысль, и тем самым оправданы.
106
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
в строгом смысле слова - коренятся в том, что вот-
бытие вообще определяется через принадлежность-мне.
Неподлинность вот-бытия не означает, однако, какое-то
"меньше" или "низшую" ступень бытия. Напротив,
неподлинность может обусловить полнейшую
конкретность вот-бытия в его деловитости, активности,
заинтересованности, жизнерадостности»1. В одном из
последующих параграфов «Бытия и времени», посвященном
относящейся к неподлинности категории «Некто», Хай-
деггер говорит, «что интерпретация имеет чисто
онтологическое назначение и далека от морализирующей
критики повседневного вот-бытия и от "культурфило-
софских" устремлений». Даже слово «молва» не будет
здесь применяться в «уничижительном» значении»".
Кавычки, в которые взято слово «уничижительном»3, -
перчатки жеманной метафизики. Методологические
мероприятия, восходящие к гуссерлевским заверениям
в научной чистоте, дают немалую выгоду. Философия
подлинности нуждается в специальных оговорках,
чтобы при случае отговориться тем, что она отнюдь не
является таковой. Престиж научной объективности
увеличивает ее авторитет и вместе с тем отдает решение
коллизии подлинного и неподлинного бытия во власть
1 Heidegger М. Sein und Zeit. S. 43. (Хайдеггер М. Бытие и время.
С. 43.)
2 Ibid. S. 167. (Там же. С. 167.)
3 Адорно цитирует третье издание Бытия и времени (1931).
Начиная с пятого издания (1953) кавычки в этом месте отсутствуют. -
Прим. пер.
107
Теодор В. АДОРНО
произвола, который - не так уж это и далеко от
«ценности» у Макса Вебера - свободен от суждения разума.
Этот кульбит выполняется столь элегантно, потому что
значения «терминологически избранных» слов не
исчерпываются субъективным произволом их
применения, но - как представитель философии языка Хайдег-
гер должен был бы признать это первым - сами по себе,
объективно, содержат те нормы, от которых он их
отграничивает. Номиналисты видели это лучше, нежели
лингвистический мистик нашего времени. Уже Гоббс,
продолжая бэконовское учение об идолах, замечает,
«что люди имеют обыкновение выражать в словах
также и собственные аффекты, стало быть, слова уже
содержат в себе некоторое суждение о вещи»1. При всей
тривиальности этого наблюдения о нем можно
напомнить, когда оно просто-напросто игнорируется. Как
внепартийный созерцатель сущности, Хайдеггер
признает, что неподлинность может «обусловить
полнейшую конкретность вот-бытия», но эпитеты, которыми
он наделяет этот бытийный модус, с самого начала
звучат враждебно. Такие характеристики, как деловитость
и заинтересованность, присущи миру обмена и товара
и подобны ему. Деловит тот, кто делает дело ради
самого дела, кто смешивает цель и средства; заинтересован
1 Цит. по: Rudolf Rucken. Geschichte der philosophischen
Terminologie. Leipzig, 1879. S. 86. См. об этом также: Thomas Hobbes.
Leviathan. Ср. 4 и 5. (Т. Гоббс. Левиафан. Главы 4 и 5. - Гоббс Т.
Сочинения в 2 т. Т. 2. М.. 1991. С. 21 и далее.)
108
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
в точном смысле тот, кто чересчур простодушно, с
точки зрения буржуазных правил игры, принимает
собственную выгоду либо считает целесообразным только то,
что ей способствует. В этом же ряду фигурирует
жизнерадостность. Мелкому буржуа привычно объяснять
уродства, причиняемые людям миром выгоды,
человеческой алчностью, как будто люди сами виноваты в
том, что были лишены собственной субъективности.
Между тем с культурфилософией, в которой подобные
вопросы могли бы быть подняты, хайдеггеровская
философия не желает иметь ничего общего. Что ж,
понятие культурфилософии и в самом деле выглядит столь
же нелепо, как и понятие социальной философии;
ограничение философии определенной предметной
областью несовместимо с ее задачей - рефлектировать
и объяснять институциональные границы, вновь
распознавать целое в том, что по необходимости разделено.
Из-за скромности своих притязаний культурфилософия
попадает в зависимость от распределения феноменов по
предметным областям, а то и от их ранжирования.
Поскольку же в системе якобы имеющих место
феноменальных уровней культура почти неизбежно имеет
статус чего-то производного, философия, предающаяся
утонченным культурным развлечениям, довольствуется
тем, чему госслужащие покровительствуют как «эссеи-
стике», и обходит стороной то, что традиционно
называется конституционной проблематикой, и что она,
в своей ограниченности, может только игнорировать.
Хайдеггер, который хорошо знаком как с гуссерлевской
109
Теодор В. АДОРНО
схемой философски-эйдетических дисциплин, так и с
разделением предметно-ориентированных дисциплин,
и который сплавляет их с идеалистической критикой
овеществления, имеет все это в виду. Но в его устах
слово «культурфилософский» приобретает отчетливый
обертон презрения к тому, что цепляется за вторичное,
словно бы паразитируя на уже существующем живом
организме. Его раздражает посредничество, в том числе
в области духа, который сам по существу является
опосредованием. Такое отношение к культурфилософии
расцветает в том академическом микроклимате, в
котором еврея Георга Зиммеля могли покровительственно
похлопать по плечу, потому что он углубился или, по
меньшей мере, желал углубиться, в конкретность,
которую системы всегда только обещали, и дерзнул
нарушить табу традиционной философии, имеющей дело
если не с главными темами западной метафизики, то, во
всяком случае, с вопросом об их возможности.
Критика ограниченной культурфилософии сама ограничена
весьма вероломным образом. Химически чистое
понятие философии как вопрошания о еще не изуродованной
сущности, скрывающейся под тем, что установлено или
сделано человеком, ничем не лучше культурфилософии.
Предметная область чистого не имеет никакого
преимущества перед культурой: ни в качестве истинно
философской области, ни даже в качестве объясняющего
или несущего основания. Как и культура, эта область
является рефлексивным определением. Если
специализированная культурфилософия абсолютизирует облик
110
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
ставшего вопреки тому, что поддерживает его жизнь, то
фундаментальная онтология, отшатываясь от опредме-
ченного вещественностью духа, закрывает глаза на
собственное культурное опосредование. Как бы ни
обстояло дело с возможностью натурфилософии сегодня, та
изначальность, что занимает в философском атласе
место, которое когда-то занимала природа, точно так же
является частью презренной для нее культуры, как
и наоборот. Даже материальный базис общества, в
котором осуществляются человеческий труд и
человеческая мысль, делающая его общественным, принадлежит
культуре, что отнюдь не смягчает контраст между ним
и надстройкой. Философская природа должна
рассматриваться как история, история - как природа. Уже
противоположность изначальных переживаний и
переживаний творчества, изобретенная Гундольфом ad hoc1
применительно к Георгу, была, как локализованная
в надстройке, идеологией, имеющей целью затемнить
противоположность надстройки и основы. Категории,
которые он популяризировал, - среди них и снискавшее
затем больший успех божественное Бытие2 -
продавались как субстанциальные, хотя именно в
неоромантизме (стиль модерн) культурное опосредование
проступает наиболее ярко; Блох по праву иронизировал, имея в
виду Гундольфа, над «изначальными переживаниями»
наших дней. Затем Хайдеггер, с благословения общест-
1 Для данного случая (лат.). - Прим. пер.
2 Ср.: Friedrich Gundolf. George. 3. Aufl., Berlin, 1930. S. 269.
111
Теодор В. АДОРНО
венного мнения, сделал эти переживания - фрагмент
подогретого экспрессионизма - долговременным
достоянием философии. То, что ему претит в исследовании
культуры, которая, к слову сказать, и сама склонна
к философскому распутству, - опыт производного как
отправной пункт - следует осознавать, а не
игнорировать. В тотально опосредованном мире предмет любого
первичного опыта предварительно сформирован
культурой. Тот, кто стремится к чему-то иному, должен
исходить из имманентности культуры, чтобы пройти
сквозь нее. Фундаментальная же онтология намеренно
избегает этого, делая вид, будто ее отправной пункт
находится вовне. И тем более она оказывается зависимой
от культурных опосредовании: они возвращаются в нее
как социальные моменты ее собственной чистоты.
Философия тем глубже погрязает в общественном, чем
более ревностно она, будучи озабочена самою собой,
дистанцируется от общества и его объективного духа.
Такая философия вцепляется слепой общественный
фатум, который, в хайдеггеровской терминологии,
«бросает» индивида на данное определенное, и никакое
иное, место. Фашизму это было на руку. С падением
рыночного либерализма отношения господства
выступили на поверхность. Откровенность повеления -
подлинный закон «скудного времени» - легко принять за
изначальное. Поэтому в третьем рейхе при невероятной
концентрации индустриального капитала оказалось
возможным без смеха вещать о крови и почве. Жаргон
подлинности продолжает эту линию, уже не столь от-
112
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
кровенно, но и без риска: ведь в те времена социальные
различия, - например, между назначенным на место ор-
динариуса учителем народной школы и карьерным
профессором, между официальным оптимизмом
смертоносной военной машины и философически
наморщенным лбом мыслителя, чересчур самовластно
захваченного бытием к смерти, - порой порождали трения.
Хайдеггеровские обвинения в адрес культурфилосо-
фии имели в онтологии подлинности роковые
последствия: изгнав ее сперва в сферу культурного
опосредования, она затем низвергает ее в преисподнюю. С которой,
впрочем, мир, погруженный в мутный поток болтовни
как упадочной формы языка, весьма схож. Карл Краус
зафиксировал это в тезисе, гласящем, что в наши дни
фраза порождает действительность - прежде всего
действительность под именем «культура», что возникла
после катастрофы. Подобно политике в определении
Валери, она в значительной мере существует лишь, чтобы
отвлекать людей от того, что хоть как-то их затрагивает.
В один голос с Краусом, но не упоминая его, Хайдеггер
говорит в «Бытии и времени»: «Слышание и понимание
заранее привязаны к произносимому как таковому»1.
Так, коммуникативная машинерия с ее формулами
втискивается между субъектом и предметом и делает
субъекта слепым именно по отношению к тому, о чем идет
болтовня. «Проговоренное как таковое описывает все
1 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 168. {Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 168.)
113
Теодор В. АДОРНО
более широкие круги и принимает авторитарный
характер. Дело обстоит так, потому что так говорят»1. Но
Хайдеггер направляет критический потенциал этого
факта на негативную онтологическую расположенность,
на «повседневное бытие Вот», которое в
действительности имеет историческую сущность: срастание духа
и сферы обращения в той фазе, когда экономическая
утилизация обволакивает объективный дух, словно
плесень, удушающая само качество духовности. Эта
несущность2 возникла, и ее следует устранить, а не
сетовать на нее как на сущность вот-бытия, оставляя все как
есть. Хайдеггер верно усматривает абстрактность
болтовни «как таковой», которая отчуждает себя от всякого
отношения к предмету; но из пафосной абстрактности
болтовни он выводит ее, пусть даже проблематичную,
метафизическую инвариантность. Болтовня уже пошла
бы на убыль, если бы - при разумной организации
хозяйства - исчезли затраты на рекламу. Ее навязывает
людям общественное устройство, отрицающее их как
субъектов, и это началось задолго до появления
газетных концернов. Хайдеггеровская же критика становится
идеологической, поскольку она, не проводя должных
различий, схватывает эмансипированный дух как то, во
1 Ibid. (Там же.)
2 Unwesen: в повседневном языке означает преступные
действия (бесчинство, безобразие, темные делишки и т.п.). Очевидно,
в данном контексте под Unwesen подразумевается бесчеловечный
(противоречащий сущности человека) общественный порядок. -
Прим. пер.
114
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
что он превращается в своих в высшей степени
реальных оковах. Он осуждает молву, но не ту брутальность,
в союзе с которой состоит действительная вина молвы,
которая сама по себе куда более невинна. Когда Хайдег-
гер пытается остановить молву в пользу молчания, его
речь бряцает оружием: «Чтобы суметь молчать, вот-
бытие должно иметь что сказать, т.е. располагать
подлинной и богатой разомкнутостью самого себя. Тогда
умолчание делает очевидным и сокрушает «молву»»1.
В слове «сокрушает» с редкой отчетливостью звучит
сам хайдеггеровский язык - язык насилия. А то, что
цель его стремлений едина с тем, на что он сетует,
подтвердилось в гитлеровском рейхе. Когда господствует
«Некто», - говорит Хайдеггер, - никто ни за что не
отвечает: «Некто вездесуще, однако так, что отовсюду, где
вот-бытие пробивается к решению, оно всегда уже
ускользнуло. Но поскольку Некто предписывает любое
суждение и решение, оно всякий раз снимает с вот-
бытия ответственность. Некто, так сказать, может
позволить, чтобы "все" (man) и всегда к нему
апеллировали. Оно с крайней легкостью может отвечать за все,
потому что оно никогда не есть тот, кто берется что-либо
отстоять. Некто всегда "было" таковым, и все же можно
сказать, что им не был никто. В повседневности вот-
бытия почти все делает тот, о ком мы должны сказать,
что им не был никто»2. Именно это и воплотилось при
'Ibid. S. 165. (Там же. С. 165.)
2 Ibid. S. 127. (Там же. С. 127.)
115
Теодор В. АДОРНО
национал-социализме - как всеобщая подчиненность,
которой теперь отговариваются палачи. - Но более
всего хайдеггеровский эскиз Некто приближается к тому,
что оно есть, - к отношениям обмена - там, где речь
идет об усредненности: «Некто тоже имеет свой способ
бытия. Упомянутая тенденция со-бытия, которую мы
назвали дистанцированностью, коренится в том, что
бытие друг с другом как таковое озабочено усредненно-
стью. Последняя представляет собой экзистенциальную
характеристику Некто. Для Некто в его бытии дело идет
по существу именно о ней. Поэтому оно фактически
держится в усредненности того, что подобает, что
допускается, а что нет, что приветствуется как успех, а что
отвергается. Эта усредненность в предписывании того,
на что можно и должно отважиться, бдительно следит
за всяким выдающимся исключением. Все, что имеет
какое-либо превосходство, бесшумно подавляется. Все
оригинальное тут же сглаживается и выдается за давно
известное. Все отвоеванное становится ручным. Всякая
тайна теряет свою силу. Забота усредненности
разоблачает еще одну сущностную тенденцию вот-бытия,
которую мы называем уравниванием всех бытийных
возможностей»1. Нивелирование, описанное - на манер
элиты, выдающей себе патент на это самое
«превосходство», - как насилие, которое элита же и желает
учинить, - это то самое, что происходит с обмениваемой
вещью в силу ее неизбежного низведения до формы эк-
1 Ibid. (Там же.)
116
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
вивалентности; критика политической экономии
усматривает меновую стоимость в усредненном
общественном рабочем времени. Ополчаясь на негативно онтоло-
гизированное «Некто», протест против
капиталистической анонимности намеренно закрывает глаза на
действующий закон стоимости: страдание, не
желающее иметь слово для того, от чего оно страдает. Тем, что
эта анонимность, общественное происхождение которой
вполне очевидно, толкуется как возможность бытия,
с общества, опустошающего и вместе с тем дefepмини-
рующего отношения своих членов, снимается всякая
вина.
Конечно, мобильность слов с самого начала несла
в себе их принижение. Во взаимозаменимых словах
обман, заложенный в самом принципе обмена, подчиняет
себе дух; поскольку же дух невозможен без идеи
истины, в нем становится очевидным то, что в материальной
практике окопалось в тылу свободного и справедливого
обмена благ. Но без мобильности не было бы возможно
то отношение языка к предмету, по которому Хайдеггер
судит язык коммуникации. Философия языка должна
была бы исследовать, как в этом языке количество
переходит в качество болтовни, или точнее, как
ограничены оба эти аспекта, - вместо того, чтобы самовластно
разводить овец духа языка налево, а козлищ направо.
Мышление никогда не может достигнуть еще-не-
помысленного без толики той безответственности, на
которую ополчается Хайдеггер; этим сказанное слово
отличается от аутентично написанного, и даже в по-
117
Теодор В. АДОРНО
следнем позитивисты легко могут заклеймить то, что
выходит за рамки факта, как проявление
безответственности. Бессловесность (Unmündigkeit) и чувство досады
ничуть не возвышаются над молвой. Даже та
объективность языковых формулировок, которая предполагает
максимальную бдительность по отношению к
фразеологии, тоже невозможна без подвижности выражения,
пусть даже ограниченной: образованность. Тот, кто сам
не является литератором, никогда не сможет писать без
фразеологии и по существу; после уничтожения евреев
защита литератора была бы насущной задачей. Похоже,
даже Краус презирал нелитераторов еще больше, чем
литераторов. С другой же стороны, итоговое суждение о
молве, допускающее ее в онтологически негативном
смысле, вместе с тем допускает и оправдание фразы как
судьбы. Если уж молва представляет собой
расположенность, то не стоит смущаться, когда и подлинность
становится молвой. Сегодня с этим столкнулся
собственный эпос Хайдеггера. Возьмем пассаж из сочинения
Эрнста Анриха «Идея немецкого университета и
реформа немецких университетов»: «Это не
вмешательство (имеется в виду академическая автономия) когда из
ясного понимания того, что сегодня ни одна философия
не может быть поставлена в центр университета, чтобы
поддерживать осознание его универсальности и
ответственности перед целокупной действительностью, -
когда из этой клятвы Гиппократа вытекает требование,
чтобы каждый университетский ученый развивал свою
науку под знаком последнего вопроса о бытийном осно-
118
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
вании и бытии в целом, чтобы эти проблемы вновь
и вновь обсуждались совместно в рамках корпорации,
достоинство которой именно этим и определяется. Если
правомерно требовать от студента, чтобы сущность его
учебы не была забыта, чтобы он, отталкиваясь от своего
предмета, научился видеть бытие и понимать свою
ответственность перед целокупностью бытия, то от
профессора следует потребовать, чтобы его лекции ясно
показывали, каким образом его собственные
исследования движимы в конечном счете борьбой вокруг этого
вопроса, мы вправе ожидать от него, чтобы каждый его
курс призывал и пробуждал также и в этом смысле»1.
В организационном, предельно онтическом контексте
жаргон подлинности используется в точности так, как
это описывает Хайдеггер в «Бытии и времени»,
характеризуя молву. Но авторитет, на который жаргон при
этом опирается, - это не что иное, сама хайдеггеровская
философия. Упрямое повторение риторического «Это
не вмешательство» в процитированной главе призвано
скрыть именно вмешательство: клятву - Анрих сам
употребляет это мифическое слово - верности так
называемому вопросу о бытии, хотя на одном дыхании автор
признает, что ни одна философия на может быть
поставлена в центр университета, как будто одиозный
вопрос о бытии - вне критики. По-видимому, того, кто
небезосновательно отвергает этот вопрос, а тем паче
1 Ernst Anrieh. Die Idee der deutschen Universität und die Reform
der deutschen Universitäten. Darmstadt, 1960. S. 114.
119
Теодор В. АДОРНО
болтовню о нем, следовало бы отчислить. Анрих
искусно использует то обстоятельство, что простодушному
читателю в формулах типа «вопрос о бытийном
основании» слышится сопротивление бездуховной машинерии
наук о духе. Человеческое право студентов, их
стремление к существенному, сливается в жаргоне с хайдегге-
ровской мифологией сущности бытия. Дух, которого
они лишены в университетах, втихомолку отдается
в монопольное владение доктрине, предающей дух -
в облике разума - анафеме.
Как и в понятии молвы, в понятии сочувственно
описываемой подручности (Zuhandenheit), этой
философской прародительницы защищенности, опыт
страдания перетолковывается в его противоположность. На
некоторых стадиях истории земледелия и в
примитивном товарном хозяйстве производство еще не было
всецело подчинено обмену, сохраняло близость к
производителю и потребителю, и их отношения еще не были
окончательно овеществленными. Идея неискаженного,
которое еще должно быть осуществлено, едва ли могла
возникнуть без воспоминания об этих состояниях, хотя
от них, по всей вероятности, люди терпели больше зла,
нежели на протяжении долгих веков от капитализма.
Как бы то ни было, вышколенное обменом
отождествляющее мышление, подводящее различное под
равенство понятия, уже раздробило невинное тождество. Но
Хайдеггер толкует то, что молодые Гегель и Маркс
осуждали как отчуждение и овеществление, и против
чего нынче все объединились в ни к чему не обязы-
120
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
вающий союз, онтологически: неисторически и вместе
с тем - в качестве бытийного модуса вот-бытия - как
нечто вещественное. Идеология подручности, как и ее
антипод, обнажается, например, в практике тех
сторонников молодежного движения в музыке, что свято
верят, будто только сам скрипач может смастерить себе
подходящую скрипицу. Поскольку техника
преодолевает кустарные промыслы и делает их излишними,
присущая им некогда близость становится столь же
никчемной, как и «Do it yourself»1. Нефункциональное
самобытие вещей, их освобождение от тождества, к
которому принуждает господствующий дух, - не более
чем утопия. Такое освобождение предполагает
трансформацию целого. Но онтология словно покрывает
позолотой всеобъемлющую функциональную взаимосвязь
на руинах так называемой подручности. Ради нее
жаргон подлинности говорит так, словно он - голос людей
и вещей, существующих ради самих себя. И тем самым
превращается в апологию иного: планомерной и
педагогически приукрашенной взаимосвязи действий. Уже
вагнеровский слоган «Быть немцем - значит делать
дело ради самого дела» способствовал экспорту
немецкого духа, который под лейблом «это не товар» оказался
способен к успешной конкуренции с высокоразвитым
товарным мышлением Запада. Так выходит на свет
кустарно-промысловый элемент жаргона. В нем находит
пристанище затертая максима, согласно которой искус-
Сделай сам (англ.). - Прим. пер.
121
Теодор В. АДОРНО
ство следует вернуть в жизнь, в которой оно - больше,
чем искусство, но равным образом и больше, чем
просто использование вещей. Он практикует ремесло в тени
индустрии, насколько изысканное, настолько же и
дешевое, собирает репродукции безвкусных импульсов
к реформированию жизни, которые практика уже
похоронила, и оберегает их от бесперспективного испытания
реализацией. Вместо этого жаргонный язык закатывает
рукава и дает понять, что нужное действие на нужном
месте полезнее, чем рефлексия. Созерцательная
позиция, лишенная какого бы то ни было понимания
изменяющейся практики, питает тем большую симпатию
к здесь-и-теперь, к служению насущным задачам в
рамках данного.
В своем анализе любопытства Хайдеггер вынужден
затронуть историческую динамику, которая с
необходимостью растворяет статические отношения1,
питающие теорию подручности (провозгласить эти отношения
священными он предоставляет свите). Он даже признает
в качестве онтологической возможности - возможности
освященного дефисом «от-даления», что люди
возвышаются над голой непосредственностью
воспроизведения собственной жизни. Однако тут же принимается
порочить освободившееся от своих оков сознание:
«Забота становится обеспечением возможностей видеть
«мир», медля и отдыхая, лишь со стороны его внешнего
1 Ср.: Heidegger М. Sein und Zeit. S. 172. (Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 172.)
122
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
вида. Вот-бытие ищет далекое только для того, чтобы
приблизить его к себе в его внешнем виде. Вот-бытие
допускает, чтобы его увлекал только внешний вид мира:
способ бытия, в котором оно озабочено тем, чтобы
избавиться от самого себя как бытия-в-мире, от бытия при
ближайшем повседневном подручном. Но ставшее
свободным любопытство озабочено тем, чтобы видеть, не
для того, чтобы понять увиденное, т.е. вступить в бытие
к нему, но только для того, чтобы видеть. Оно ищет
новое только для того, чтобы от него вновь перескочить
к новому»1. Для Хайдеггера переход к мобильному
сознанию предзадан и неотвратим, но встречает у него
столь же мало сочувствия, как и у тех запертых в кругу
своих обязанностей функционеров, что порицают
искусство и освободившийся от практики дух как пустую
забаву. Эмансипированное сознание он приравнивает к
любопытству. Презрение к любопытству объединяется с
ненавистью к мобильности; и то, и другое внушает духу
запоздалую мудрость: оставайся на земле и честно
добывай себе пропитание. В генетическом психоанализе
известна угроза кастрации, направленная против
детских сексуальных исследований; брутальное «это тебя
не касается» гармонично сочетается с якобы надпсихо-
логической позицией онтологов. В учении о
любопытстве мыслитель порочит мышление: без любопытства
субъект был бы скован слепым принуждением к
повторению и никогда не возвысился бы до опытного позна-
1 Ibid. (Там же.)
123
Теодор В. АДОРНО
ния. Конечно, такого рода просветительское воззрение
настолько же неполно, насколько хайдеггеровское
порицание Некто неспособно улучшить общественное
устройство, симптомы которого он бранит. Его
возражение против любопытства вызвано только
соглашательским характером последнего: любопытство «не
имеет ничего общего с удивленным созерцанием
сущего, с thaumazein1: оно не стремится через удивление
вступить в непонимание; оно озабочено знанием, но
лишь для того, чтобы знать»2. Гегель в своей работе
о различии между системами Фихте и Шеллинга
критиковал любопытство куда более проницательно: не как
расположенность, а как позицию овеществленного
сознания по отношению к мертвому объекту: «Живой дух,
обитающий в философии, должен, чтобы раскрыть себя,
быть рожден родственным духом. Перед историческим
образом действий, который из того или иного интереса
собирает знание о мнениях, он скользит мимо как
чуждый феномен и не раскрывает свое внутреннее. Ему
безразлично, что он должен способствовать росту
ненужной коллекции мумий и всеобщего нагромождения
случайностей; ведь он и сам ускользнул от
любопытствующего накопления сведений»3. Отвратительный
момент любопытства, как и алчности вообще, не следует
затенять. Но это не просто нащупывающее движение,
1 Удивление (греч.). - Прим. пер.
2 Ср.: Heidegger М. Sein und Zeit. S. 172. (Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 172.)
3 Hegel G.W. F. Op. cit. S. 40.
124
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
а то, во что оно превращается реактивно, под давлением
претерпеваемого в раннем детстве отказа, искажающего
то, что когда-то стремилось высвободиться из
тождественного, вечно-равного. Любопытство характерно для
тех, чье детское стремление знать правду о поле не
было удовлетворено, и их интерес - не более, чем жалкий
эрзац. Кому было отказано в том, что его касается, тот
озлобленно вмешивается в то, что его не касается,
упиваясь сведениями о вещах, к которым не имеет никакого
отношения. Так всякая алчность относится к
свободному желанию. Хайдеггеровское высокомерие по
отношению к всего-лишь-онтическому равнодушно к генезису
любопытства. Уродство он ставит в вину
изуродованному - вот-бытию вообще. Экзистенциальным
ручательством становится у него гетерономно связанная
деятельность, чуждая искусам любопытства, досужего
знания: видимо, в этом и состоит философская
предыстория клише «связь». Осуждая чисто онтологическую,
по его же собственному учению, возможность, он тем
самым становится адвокатом жизненной нужды. В
наброске своих экзистенциалов подлинность, подобно
идеалистической фразе, заранее принимает сторону
лишения, а не удовлетворенности и избытка, а тем
самым - вопреки своей нарочитой нейтральности и
дистанцированное™ от общества - сторону тех
производственных отношений, которые обусловливают
бессмысленное постоянство нужды. Когда, наконец, в качестве
«третьего сущностного характера данного феномена»
125
Теодор В. АДОРНО
Хайдеггер называет «безостановочность» , он,
используя демагогически отработанную технику намека,
умалчивающего о том, в чем он ожидает тайного согласия,
вызывает дух Агасфера. Благо мобильности
превращается в проклятие безродным. При этом
противоположность «повседневного вот-бытия», «постоянно
лишающего себя почвы»2, - это вышеупомянутое «удивленное
созерцание сущего»3, но уже отнюдь не бытия. В
философии 1927 г. безродный интеллектуал отмечен желтым
пятном разрушителя4.
Сколь глубоко общественный элемент проникает
в хайдеггеровский анализ подлинности, невольно
выдает его словоупотребление. Как известно, Хайдеггер
заменяет традиционную категорию субъективности
понятием «вот-бытие», сущность которого заключена в
экзистенции. Но бытие, «о котором для этого сущего дело
идет в его бытии, всегда мое»5. Этим субъективность
должна отличаться от всякого иного сущего, и это
должно предотвратить попытку «онтологически
постигнуть вот-бытие как частный случай и экземпляр
некоего рода сущего как наличного»6. Эта конструкция,
1 Heidegger М. Sein und Zeit. S. 173. (Хайдеггер M. Бытие и
время. С. 173.)
2 Ibid. (Там же.)
3 Ibid. S. 172. (Там же. С. 172.)
4 В третьем рейхе евреи были обязаны носить желтую звезду
Давида - опознавательный знак нации. - Прим. пер.
5 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 42. (Хайдеггер М. Бытие и время.
С. 42.)
6 Ibid. (Там же.)
126
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
инспирированная кьеркегоровским учением о
«прозрачности» самости1, якобы позволяет взять за отправной
пункт сущее, которое в традиционной критике познания
рассматривается как непосредственная данность фактов
сознания и которое, однако, как некогда Я
спекулятивного идеализма, должно быть более, чем просто
фактичным. За аперсональным «дело идет о» скрывается
лишь одно: что вот-бытие - это сознание. Выход этой
формулы на передний план - хайдеггеровская scene
ä faire2. Из абстрактного понятия бытие превращается
в абсолютно изначальное, не-положенное, поскольку
Хайдеггер предъявляет и называет вот-бытием сущее,
которое вместе с тем якобы является не просто сущим,
но и чистым условием всякого сущего, ничуть не теряя
при этом в индивидуации, полноте, осязаемости.
Намеренно или нет, жаргон эксплуатирует эту схему до
тошноты. Он лечит вот-бытию рану бессмысленности и
перемещает в него благо из мира идей. Хайдеггер
замуровывает его в праве приватного владения самим собой.
То обстоятельство, что вот-бытие принадлежит себе,
что оно «всегда мое», извлечено как единственное его
общее определение из феномена индивидуации, еще
сохранившегося после демонтажа трансцендентального
субъекта и его метафизики. Principium individuationis3
1 Ср.: Sören Kierkegaard. Die Krankheit zum Tode. Düsseldorf,
1954. S. 10. {Кьеркегор С. Болезнь к смерти // Этическая мысль:
Научно-публицистические чтения. М., 1990. С. 368.)
2 Ключевая сцена (фр.). - Прим. пер.
3 Принцип индивидуации (лат.). - Прим. пер.
127
Теодор В. АДОРНО
как принцип единичного индивидуального, которое,
в свою очередь, представляет собой собственную
сущность этого принципа, это гегелевское диалектическое
единство общего и особенного превращается в
отношение собственности, которое приобретает ранг и права
философского априори. «Рассмотрение вот-бытия, в
силу характерной черты этого сущего - быть всегда-моим, -
всегда должно включать в себя также личное
местоимение»1. Отсюда вытекает это совершенно кьеркегоров-
ское различение подлинности и неподлинности2,
состоящее в том, что это сущее, вот-бытие, может выбрать
или не выбрать себя самое, свою принадлежность-мне3.
Критерием подлинности становится - первоначально,
до последующих уточняющих анализов - выбор
отдельным субъектом себя самого в качестве своего
владения. Но язык, производящий здесь овеществление
субъекта, понятие которого было учреждено именно
в качестве противоположности вещного, объективно
насмехается над этой чудовищной трансформацией:
родовое понятие «принадлежность-мне», к которому он
сводит субъективность как право приватного владения
1 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 42. (Хайдеггер М. Бытие и время.
С. 42.)
2 Адорно акцентирует этимологическую связь между словами
eigen (собственный в смысле принадлежности кому-то), Eigentum
(собственность, принадлежащее кому-то владение) и Eigentlichkeit
(подлинность). - Прим. пер.
3 Ibid. (Там же.)
128
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
самим собой, звучит как вариант «подлости» на
берлинском диалекте. С тех пор на это право притязает все,
что только ни выступает под именем экзистенциального
или экзистентного. Альтернатива подлинности и
неподлинности как онтологическая альтернатива по ту
сторону реальных условий определяется тем, выбирает ли
индивид себя самое, в абсолютно формальном, но
имеющем значительные последствия смысле
принадлежности себе самому. Обзаведясь такого рода
онтологией - онтологией в высшей степени онтического,
философия может уже не беспокоиться насчет
общественно-естественно-исторического происхождения этого
самого права индивида на владение самим собой, на
которое указывают такие слова, как «Я» или, более явным
образом, «личность», - как и о том, в какой мере
общество и психология позволяют человеку быть самим
собой, и не концентрируется ли вновь в понятии такого
рода самостности (Selbstheit) древнее зло.
Общественное отношение, инкапсулированное в тождестве
субъекта, разобществляется и превращается в «само по
себе». Индивид, который уже не может полагаться на
какую-либо надежную собственность, вцепляется в себя
Адорно обыгрывает морфологическое сходство между хайдег-
геровским неологизмом Jemeinigkeit (принадлежность-мне) и словом
Gemeinheit (низость, подлость; хамство; пошлость, вульгарность).
Между этими словами имеется также определенная смысловая
перекличка, поскольку прилагательное gemein означает не только низкий,
подлый и т.п., но и общий, принадлежащий многим, т.е. тоже имеет
значение принадлежности, собственности. - Прим. пер.
5 3ак. 2612
129
Теодор В. АДОРНО
самого в своей предельной абстрактности как в то
последнее, что, по видимости, уже не может быть
утрачено Метафизика околевает в жалком изречении: человек
все-таки еще остается тем, что он есть. Поскольку люди
отнюдь не остаются тем, что они суть, - ни в
социальном, ни даже в биологическом смысле, - они ищут
утешение в никчемном остатке равенства себе самому,
трактуемом как бытийное и смысловое своеобразие. Эта
гарантированная собственность, не имеющая никакого
субстрата помимо собственного понятия, эта
тавтологическая самостность самости должна обеспечить, как это
называет Хайдеггер, почву, которую якобы имеют под
собой подлинные и которой неподлинные лишены. То,
что составляет сущность вот-бытия (Dasein), а значит,
представляет собой нечто большее, нежели его голое
наличие (Dasein1), - это не что иное, как его
самостность: оно само. Порок хайдеггеровского языка состоит
не в том, что он, как и всякий философский язык,
насквозь проникнут фигурами, происходящими из
эмпирии, над которой он желает возвыситься, а в том, что из
дурной эмпирии он делает трансценденцию.
Хайдеггер предусматривает алиби на случай
обвинения в гносеологическом субъективизме. Он отделяет
принадлежность-мне, или самотождественность (Selbig-
Здесь в первом случае слово Dasein использовано в
специфическом хайдеггеровском значении и, соответственно, передается как
вот-бытие, а во втором - в общеупотребительном значении
наличия; у Хайдеггера вот-бытие терминологически
противопоставляется наличию. - Прим. пер.
130
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
keit) подлинно экзистирующей самости, от тождества
(Identität) субъекта1. Иначе идеализм начального (по его
же собственному изречению) мышления выступил бы
на поверхность: ведь хайдеггеровское бытие, которому
в конечном счете приписываются всевозможные дела-
действия (Tathandlungen), остается бессубъектным
субъектом, как бы обезглавленным абсолютным Я
Фихте в традиционном противопоставлении всего-лишь-
положенному. Однако это различие не выдерживает
критики. Если бы его основание, состоящее в том, что
реальным индивидам присуща принадлежность-мне, не
было поставлено над ними как абстрактный принцип, то
ничего не осталось бы и от онтологического примата
последней. Даже старомодное идеалистическое
тождество, именно как единство «представлений» некоторого
сознания, было привязано к фактичному как условию
его возможности. В почти неузнаваемом виде это
обстоятельство проявляется и у Хайдеггера, превращенное
в центральный тезис всей его философии. Он
защищается от возможной критики примерно так же, как
некогда Гегель выступал против рефлексивной философии.
Критика-де упускает из виду впервые открытую, или
вновь открытую, структуру по ту сторону
традиционного дуализма факта и сущности, о котором учил еще
Гуссерль. И от предприятия, призванного эту структуру
разработать, зависит не только хайдеггеровская
философия, но и весь последующий жаргон подлинности.
'Ibid. S. 130. (Там же. С. 130.)
131
Теодор В. АДОРНО
Она затрагивается уже в начале «Бытия и времени», там,
где речь идет о преимуществе вот-бытия. Хайдеггер
трактует субъективность как индифферентное понятие:
сущность и факт в одном. Вот-бытие имеет двоякое
преимущество. С одной стороны, онтическое,
определенное экзистенцией. Иначе говоря, вот-бытие означает
фактичное, наличное (Daseiendes). С другой же
стороны, «в силу своей определенности экзистенцией вот-
бытие само по себе «онтологично»1». Тем самым
субъективности непосредственно приписывается нечто
противоречивое: что она сама фактична, действительна,
и вместе с тем - в качестве сознания - делает
возможной фактичность вообще, как этого желала
традиционная философия, и противостоит фактичности как чистое
понятие, сущность, наконец, гуссерлевское eidos ego2.
Вопреки традиционному учению о субъекте, эта двоякая
характеристика, которая вместе с тем понимается как
абсолютное единство в себе, прежде падения в
расщепленность, притязает на ранг основополагающего
открытия. Ради этого построения Хайдеггер прибегает к
архаичному схоластическому способу рассуждения. Он
приписывает вот-бытию обе упомянутые характеристики,
вместе с их единством, как свойства, не смущаясь тем,
что это идет вразрез с законом противоречия. По Хай-
деггеру, вот-бытие «является» (ist) не только онтиче-
ским - в свете того, что под вот-бытием понимается, это
1 Ibid. S. 13. (Там же. С. 13.)
2 Эйдос я (греч.). - Прим. пер.
132
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
было бы тавтологией, но и онтологическим. В этой
предикации вот-бытию онтического и онтологического
можно видеть регрессивный момент в его ложности.
Онтологичность не может быть атрибутирована какому-
либо субстрату в качестве его предиката. Не-фактич-
ность, сущностность точно так же не может быть
привходящим предикатом какого бы то ни было понятия,
как и его фактичность; после кантовской критики
онтологического доказательства бытия Бога ни одна
философия не должна была бы отваживаться на подобные
утверждения. Скорее, сущностность локализована в
отношении понятия к синтезированной в нем
фактичности, она никогда не является, как хочет внушить Хай-
деггер, качеством понятия «самого по себе». Строго
говоря, суждение о том, что вот-бытие является онтиче-
ским или онтологическим, вообще невозможно, ибо под
вот-бытием подразумевается некий субстрат, т.е. это
понятие означает нечто непонятийное, тогда как «онти-
ческое» и «онтологическое» суть термины для
различных форм рефлексии, применимые только к
определениям вот-бытия и их месту в теории, но отнюдь не к
подразумеваемому субстрату как таковому. Их место -
это место понятийного опосредования. Хайдеггер же
выставляет такое опосредование как
непосредственность sui generis1 и тем самым одним махом превращает
вот-бытие в нечто третье, не принимая во внимание, что
двойственность, из которой он сколачивает это третье,
1 В своем роде (лат.). - Прим. пер.
133
Теодор В. АДОРНО
невозможно мыслить независимо от понятийной
трактовки субстрата. У Хайдеггера то обстоятельство, что
все, что сохраняется как тождественное, предполагает
категориальное единство, а последнее предполагает то,
что им синтезируется, выдается за фундамент
различаемых моментов: различное как производное. Ничто под
луной не является онтическим или онтологическим
само по себе: нечто может стать таковым лишь благодаря
тем констелляциям, в которые его помещает
философия. Язык был чувствителен к этому, когда говорил об
онтологических теориях, суждениях, доказательствах,
но не об онтологическом sans faijon1. Такого рода
опредмечивание всегда превращает онтологическое в он-
тическое, вопреки смыслу самого слова:
онтологическое - логос онтического. Хайдеггер, который после
«Бытия и времени» попытался проинтерпретировать
в духе своего наброска «Критику чистого разума», с
самого начала полагает нечто очень похожее на то, что
Кант критиковал в онтологии рационалистического
типа: амфиболию рефлексивных понятий. От самого
Хайдеггера это смешение могло ускользнуть; для его
проекта оно оказалось весьма благоприятным. По меньшей
мере очевидно, что понятие некоего сущего
(воспользуемся обычными терминами), говорящее о том, что для
него существенно, является онтологическим; но когда
оно незаметно превращается в онтологическую
сущность сущего самого по себе, мы получаем то самое по-
1 Без церемоний (фр.)- -Прим. пер.
134
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
нятие бытия, которое предшествует рефлексивным
понятиям: гипостазирование онтологической сферы,
осуществленное прежде всего в «Бытии и времени» и
питающее всю хайдеггеровскую философию. Амфиболия
базируется на том, что в понятии субъекта взаимно
перетекают друг в друга его определение в качестве
наличного (это определение неустранимо присутствует
еще в кантовском сочленении трансцендентального
субъекта и единства индивидуального сознания) и в
качестве сознания как такового, конститутива всего
наличного. Если это взаимопроникновение - выражение
диалектики субъекта и объекта внутри самого субъекта,
свидетельство, удостоверяющее его собственную поня-
тийность, - неизбежно присутствует в понятии
субъекта, если субъективность невозможно непосредственно
свести к одному из полюсов, принадлежащих ее
различным gene1, то Хайдеггер превращает эту
неизбежность из дефекта понятия в воображаемую вещь как
таковую: опосредование - в непосредственное тождество
опосредующего и опосредованного. Конечно, одно
невозможно без другого; но эти моменты отнюдь не суть
одно, как это представляет исходный тезис Хайдеггера.
Утверждая их тождество, идентифицирующее
мышление проглатывает нетождественный момент - наличное,
которое ведь и обозначается словом «вот-бытие», -
и втихомолку реставрирует ту созидательную силу
абсолютного субъекта, которой якобы избегает мысль,
1 Роды (греч.). - Прим. пер.
135
Теодор В. АДОРНО
отталкивающаяся от принадлежности-мне. Тезис о
двойственном характере вот-бытия как онтического и
онтологического изгоняет вот-бытие из него самого. В этом
заключается скрытый идеализм Хайдеггера.
Заключенная в субъекте диалектика сущего и понятия
превращается у него в бытие более высокого порядка, что
останавливает всякую диалектику. Мысль, кичащаяся тем,
что перешагнула рефлексивные понятия субъекта и
объекта и достигла субстанциального, просто-напросто
овеществляет их неустранимость, нередуцируемость
одного к другому, превращая ее в некое само-по-себе.
Это стандартная форма философского жульничества
стала для жаргона стандартом. Неявно и не апеллируя
к теологии, он заявляет, что сущностное действительно;
и тут же, на одном дыхании: сущее - сущностно,
осмысленно, оправдано.
В сколь высокой степени принадлежность-мне,
а вместе с ней и подлинность сводятся, вопреки хайдег-
геровским заверениям, к тождеству, можно показать
е contrario1. Ибо во всем, что он называет
неподлинным, - во всех категориях Некто - субъект не есть он
сам, нетождествен себе самому. Например, это
категория безостановочности как некой самоотдачи миру2:
субъект овнешняет себя к чему-то иному и уже не
пребывает при себе самом, «чтобы, зная, быть в истине»3.
1 От противного (лат.). - Прим. пер.
2 Ibid. S. 172. (Там же. С. 172.)
3 Ibid. (Там же.)
136
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
То, что в гегелевской феноменологии было
необходимым моментом опыта сознания, Хайдеггер предает
анафеме, так как опыт сознания ужимается до опыта себя
самого; однако тем самым тождество - пустое ядро са-
мостности - становится на место идеала. Культ самост-
ности тоже имеет реактивный характер: это понятие
увековечивается в тот самый момент, когда оно уже
сошло на нет. Позднебуржуазное мышление формируется
в ретроспективном обращении к голому
самосохранению, к раннебуржуазному спинозистскому sese conser-
vare1. Но тот, кто коснеет в своем голом так-бытии,
потому что все остальное у него отнято, тем самым
фетишизирует его. Отделенная от всего, фиксированная
самостность тем более явно превращается во внешнее,
субъект - в свой собственный объект, пестуемый и
хранимый. Это идеологический ответ на современную
ситуацию, которая повсюду порождает ту откровенную
слабость Я, что размывает понятие субъекта как
индивидуальности. Эта слабость, как и ее
противоположность, выходит на сцену в философии Хайдеггера.
Подлинность призвана смягчить осознание слабости, но
сама походит на слабость. Она лишает живой субъект
всех его определений, подобно тому, как и в
действительности у него отняты все его свойства. Однако то,
что мир делает с человеком, превращается в
онтологическую возможность неподлинности человека. Отсюда
остается лишь один шаг до расхожей критики культуры,
1 Сохранять себя (лат.). - Прим. пер.
137
Теодор В. АДОРНО
что в полном сознании своей правоты обрушивается на
плоское, поверхностное, массовое.
Дотерминологическое употребление слова
«подлинный»1 выделяет в вещи существенное, то, что
противостоит акцидентальному. Кто не довольствуется
примитивными школьными примерами эссенциального, тому
осмысление зачастую не менее необходимо, чем
развернутая теория. Едва ли можно просто взять и увидеть,
что в феноменах является подлинным, а что побочным.
Чтобы определить это объективно, необходима
субъективная рефлексия. По-видимому, для рабочего
существенно то, что он должен продавать свою рабочую силу,
что средства производства ему не принадлежат, что он
производит материальные блага, - а не то, что он
является членом общества садоводов-любителей, хотя ему
самому это последнее может показаться более
существенным. Но когда речь идет о подлинном содержании
такого центрального понятия, как капитализм, Маркс
и номинальные определения Макса Вебера говорят
совершенно разные вещи. Различие между существенным
и несущественным, подлинным и неподлинным, в
различных аспектах зависит от произвола в определении
понятий, что ни в коей мере не делает истину релятив-
Слово eigentlich не поддается однозначному переводу во всех
контекстах. Так, в данном абзаце лучше подошли бы такие
эквиваленты, как существенный, действительный, собственный. Но во
избежание терминологической путаницы мы и в дальнейшем
придерживаемся принятого здесь перевода eigentlich словом
подлинный. — Прим. пер.
138
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
ной. Причина этого заключена в языке. Слово
«подлинный» употребляется неоднозначно, причем колеблется
также и его весомость, подобно тому, как это имеет
место в случае окказиональных выражений. В суждении о
подлинном содержании того или иного понятия
сказывается интерес мыслителя, и его подлинное содержание
становится таковым в сравнении с тем, что от него
отлично. Подлинное никогда не существует только в себе
самом, иначе различие между подлинным и
неподлинным вырождается в крючкотворство. Конечно,
подлинное некоторой вещи всегда имеет свой fundamentum in
re1. Неправота номинализма в сравнении с наивным
словоупотреблением связана с тем, что он слеп к
проникающему в конфигурации языка вариативному моменту
объективности того, что обозначается словом. В
значениях эта объективность ведет непримиримую тяжбу
с чисто субъективными актами придания значений.
Осознание объективного момента в подлинном -
побудительный мотив для всей школы Брентано, особенно
для Гуссерля, повлияло и на хайдеггеровское учение
о подлинности: сущность вещи не есть нечто, что
субъективная мысль изготавливала бы по своему
усмотрению, не есть некое химически очищенное единство
признаков. Отсюда - нимб подлинного: момент понятия,
превращенный в само понятие. Феноменологи
поднимают на знамена fundamentum in re как в себе сущий
единичный экземпляр сущности, оно само становится
1 Основание в вещи (лат.). - Прим. пер.
139
Теодор В. АДОРНО
вещественным, как res , именуемая без поправки на
субъективное опосредование понятия. Хайдеггер желает
обойти отправной пункт Гуссерля - оппозицию
сущности и факта, а вместе с тем и весь спор вокруг
номинализма, но и он остается в долгу перед своей школой за
то короткое замыкание, что позволяет ему
непосредственным образом предъявлять подлинное как
определение вещей, а значит, как некую особую область.
Отсюда - субстанциализация подлинности, ее повышение в
ранг экзистенциала, расположенности. Благодаря
фиктивной независимости от мышления объективный
момент существенного превращается в нечто высшее,
в конечном счете - в абсолют, противостоящий
релятивности субъекта, в summum bonum2, хотя в то же
время он предъявляется - на шелеровский манер - как
чисто дескриптивное открытие. Нерв языка, к которому,
впрочем, подлинные могут относиться с подозрением,
как к признаку декадентства, противится
субстантивации, претерпеваемой этим ключевым словом, «-ность» -
это общее понятие для признака, характеризующего ту
или иную вещь, субстантивация некоторого свойства;
так, «прилежность» - это субстантивация свойства,
которое присуще всем прилежным. Но «подлинность»,
в отличие от других подобных слов, не означает
«подлинное» как свойство: оно всегда, даже когда
употребляется как прилагательное, имеет формально-относи-
1 Вещь (лат.). - Прим. пер.
2 Высшее благо (лат.). - Прим. пер.
140
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
тельный характер, поскольку соотносится с
содержанием, которое не выражается явно или даже отвергается.
Оно говорит не о том, что есть вещь, но о том, есть ли
вещь то, что уже предпослано в ее понятии, и если да,
то в какой мере, - в имплицитном противопоставлении
тому, чем она только кажется. В любом случае оно
получает значение только от свойства, позволяющего его
предицировать. Но суффикс «-ность» склоняет верить,
будто он уже несет в себе это содержание. Так из языка
выуживается чисто относительная категория и
выставляется как конкретное; по этой логике высшее
представляет собой то, что на сто процентов есть то, что оно
есть. Отреставрированный Платон - больший платоник,
нежели аутентичный, который, по меньшей мере в
средний период, каждую вещь, даже самую низкую,
наделял своей идеей и ни в коей мере не смешивал
согласованность вещи и идеи с благом. Но именем нынешней
подлинности даже палач мог бы потребовать
возмещения онтологических убытков - конечно, лишь в той
мере, в какой он был правильным (rechter) палачом.
Благодаря альянсу подлинности и «принадлежности-
мне» примат понятия над вещью смещается в голую
единичность - столь же искусственным образом, как
в поздней схоластике Дунса Скотта haecceitas1
превращала непостижимость (Unauflöslichkeit) вот-этого как
такового, его неуниверсальное бытие, в универсальное:
образец онтологизации онтического. Табу на субъек-
1 Этость, этовость (лат.). - Прим. пер.
141
Теодор В. АДОРНО
тивную рефлексию на руку субъективизму: в
традиционном философском языке подлинность означала бы не
что иное, как субъективность как таковую. И благодаря
этому последняя оказывается тайным судией
подлинности. Поскольку ей отказано в каком бы то ни было
объективном определении, она отдана на произвол
подлинного для себя самого субъекта. Так сходит на нет
законодательное притязание разума, о котором говорил еще
Гуссерль. Эта тенденция к произволу прослеживается
уже в понятии наброска из «Бытия и времени», из
которого затем вырастают всевозможные прочие наброски,
по большей части отмеченные комфортабельной
онтологической расплывчатостью. Поздний Хайдеггер
трансформирует это исходное понятие отработанным
стратегическим приемом. Если что-то от свободы
мысли и спасается от голой позитивности в наброске
философствующего, то, став наброском самого бытия, тем,
что набрасывает себя самое, он уже губит всякую
свободу. Вызывающий характер явно вспомогательной
теории ничуть не пугает Хайдеггера, как и подозрение
в заносчивости: прячась за броней, он видит свои
уязвимые места столь ясно, что скорее прибегнет к
насильственным мерам, нежели назовет субъективность по
имени. Он бесцеремонно манипулирует субъективным
моментом подлинности: последняя для него - уже не
опосредованное субъективностью логическое, но
обнаруживается в субъекте, в самом вот-бытии, объективно.
Созерцающий субъект передает созерцаемому субъекту
то, что является подлинным - позицию по отношению
142
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
к смерти. Это смещение лишает субъект момента
свободы и спонтанности: он цепенеет, целиком и
полностью превращаясь, подобно хайдеггеровским «располо-
женностям», в нечто вроде атрибута субстанции «вот-
бытие». Ненависть к овеществляющей психологии
устраняет в живых индивидах именно то, благодаря чему
они могли бы не быть вещью. Как образ действий,
приписываемый субъектному бытию субъекта, но не
субъекту как действующему, подлинность, будучи в
доктрине совершенно непредметной, опредмечивается и как
возможность предъявляется и предписывается
безответному субъекту. Рассуждение по логике анекдота о
кучере, который, отвечая на упрек в безжалостном
отношении к своему коню, говорит, что раз уж тот решил
быть конем, ему следует быть резвым. Категория
подлинности, которая поначалу вводится как
дескриптивная и проистекает из сравнительно невинного вопроса
о том, что в том или ином предмете подлинно,
превращается в мистически предопределенную судьбу. На
совершенно внеприродной онтологической сцене,
возвышающейся якобы по ту сторону всего сущего, она
выступает как некий чисто природный фактор. Евреи были
наказаны за то, что они евреи, как онтологически, так и
натуралистически. Открытие хайдеггеровского
экзистенциального анализа, состоящее в том, что субъект
является подлинным постольку, поскольку владеет
самим собой, позитивно характеризует того, кто
суверенно распоряжается собой как собственностью, кто не
лишен самообладания: интериоризация и вместе с тем
143
Теодор В. АДОРНО
апофеоз принципа овладения природой. «Человек есть
тот, кто он есть, именно в свидетельствовании
собственного вот-бытия»1. Свидетельствование такого бытия-
человеком, «тоже образующее человеческое вот-бытие»,
осуществляется «через создание мира и его восход
точно так же, как и через его разрушение и закат.
Свидетельствование бытия-человеком, а значит, и его
подлинное осуществление, происходит из свободы
решения. Последнее схватывает необходимое и ставит себя в
связь некоего высшего повеления»2. Это благородное,
но уже насквозь жаргонное изречение подразумевает то
же самое, что и какой-нибудь унтер-офицер,
прикрикивающий на внутреннюю свинью. Помимо тавтологии
здесь просматривается только голый императив: держи
себя в руках! Неслучайно у Кьеркегора - праотца
экзистенциальной философии - правильная жизнь
определяется через решение как таковое. За это решение
держатся и все его последыши в том числе диалектические
теологи и французские экзистенциалисты.
Субъективность, само вот-бытие усматривается в якобы
возможном для индивида абсолютном обладании самим
собой, - при полном игнорировании определений той
объективности, в которую индивид вплетен; в Германии это
самообладание лимитировано совершенно абстрактной,
а потому требующей конкретизации в аспекте властных
отношений, «связью повеления» - как в слове-фетише
1 Heidegger M. Hölderlin und das Wesen der Dichtung. München,
1937. S. 6.
2 Ibid.
144
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
«солдатский». За эту цену экзистенциальные онтологи и
философы экзистенции готовы забыть свои распри:
«Деяние войны. Решимость в единичных ситуациях,
которые никогда не возобновляются абсолютно
идентичным образом, - это сила к решению в предельном:
жизнь или смерть. Готовность пойти на риск в
сочетании с оценкой возможного и хладнокровная
искусность - вот основные черты этого деяния, которое, хоть
для него и можно сформулировать правила, в каждом
конкретном случае не сводится к правилам и не
выводится из них. В предельном становится явным, что я
подлинно есмь и что мне по силам»1. Ораторы
экзистенции, порой не заметно для себя, сбиваются на
героизирующую мифологию. Ничем не ограниченное, не
затронутое какой-либо гетерономией владение самим
собой и в самом деле конвергирует со свободой.
Человек тотчас оказался бы в ладу со своим понятием, если
бы его определения не вдавливались в него извне, в
счастливой инверсии господства над природой. Но именно
этого философия и жаргон подлинности желают менее
всего. Владение самим собой гипостазируется,
отделяясь от права на овладение своим. Жаргон не стремится к
прекращению контроля, но внедряет его даже в бытие
вот-бытия - по старому доброму обычаю немецкого
идеализма никогда не произносить слово «свобода», не
добавляя, что свобода ипослушание едины. Если под-
1 Jaspers К. Von der Wahrheit. München, 1958. S. 340.
145
Теодор В. АДОРНО
линное экстраполировано из слов эмпирического языка
tel quel1 как их подлинное значение, то фактический
существующий мир, который и определяет в каждом
конкретном случае, что присуще словам, становится
высшей инстанцией в вопросе о том, что должно быть,
а что нет. Сегодня, однако, вещь сущностно есть только
то, что она есть под пятой господствующей
несущности; сущность как негативное.
Пятидесятый параграф «Бытия и времени»,
заголовок которого, не краснея2, провозглашает: «Разметка
экзистенциально-онтологической структуры смерти»,
содержит следующее положение: «Однако вот-бытию
как бытию-в-мире может предстоять многое»3. Некогда
во Франкфурте одному местному афористу
приписывали изречение: «Смотрящий в окно видит много
разного». Хайдеггер сам опускает свою концепцию
подлинности как бытия к смерти на этот уровень. Такое бытие
должно быть чем-то большим, нежели третируемая
в качестве вещно-эмпирического свойства смертность;
но Хайдеггер, блюдя выгоду онтологии, прилагает все
усилия, чтобы отделить его и от субъективной
рефлексии над смертью. Самобытие не базируется на некоем
1 Как такового (фр.) - Прим. пер.
2 Видимо, Адорно обыгрывает тот факт, что глагол vorzeichnen,
от которого происходит слово Vorzeichnung (разметка) в названии
указанного параграфа, означает, в частности, показывать, как
делать; указывать путь. - Прим. пер.
3 Heidegger М Sein und Zeit. S. 250. (Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 250.)
146
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
отделившимся от Некто исключительном состоянии
субъекта , не является формой его сознания; подлинное
бытие к смерти не есть «мышление о смерти2»,
монополистическому философу неугодное: «Что нужно в
нынешней мировой нужде: меньше философии, а больше
внимания к мысли; меньше литературы, а больше
заботы о букве»3. Отношение к смерти, которого он не
одобряет, состоит в том, что «возможность обдумывает-
ся на предмет того, когда и как она могла бы
осуществиться. Такие раздумья о смерти не отнимают у нее
полностью характера возможности, она все еще обду-
мывается как грядущая, - однако ослабляют его
посредством исчисляющего желания овладеть смертью. Как
возможная, она должна по возможности не показывать
свою возможность. Напротив, в бытии к смерти, коль
скоро оно должно, понимая, раскрыть
охарактеризованную возможность как таковую, возможность должна
быть в полной мере понята как возможность,
сформирована как возможность, и в отношении к ней вот-бытие
должно выдержать ее как возможность»4. Рефлексия
над смертью подвергается антиинтеллектуалистскому
поношению во имя чего-то якобы более глубинного -
и заменяется задачей «выдержать» - жестом внутренне-
1 Ср.: Ibid. S. 130. (Там же. С. 130.)
2 Ср.: Ibid. S. 261. (Там же. С. 261.)
3 Heidegger M. Über den Humanismus. S. 47. (Хайдеггер М.
Письмо о гуманизме. С. 220.)
4 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 261. (Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 261.)
147
Теодор В. АДОРНО
го безмолвия. Здесь можно добавить: офицер учится
умирать в духе традиций кадетского корпуса, но для
этого ему самому лучше не вникать в то, что в его
призвании, непосредственно граничащим с убийством
других, самое важное. И уж тем паче фашистская
идеология должна была оградить от осмысления
провозглашенную в угоду верховной власти жертву, ибо шансы
предприятия, ради которого эта жертва была принесена,
на успех с самого начала были слишком ничтожны,
чтобы она могла такое осмысление допустить. «Жертва
освободит нас», - писал один нацистский функционер в
1938 г., полемически варьируя социал-демократический
лозунг1. Хайдеггер с этим согласен. Еще в восьмом
издании работы «Что такое метафизика», вышедшем в
1960 г., он, не пытаясь оппортунистически смягчить их,
отстаивает такие положения: «Жертва есть изъятое из
всякого принуждения, ибо поднимающееся из бездны
свободы растрачивание человеческого существа на
хранение истины бытия для сущего. В жертве осуществляет
себя потаенная признательность, единственно
достойное отблагодарение за расположение, в качестве
которого бытие препоручило себя существу человека в
мысли, чтобы человек взял на себя в своем отношении к
бытию обережение бытия»2. Но если уж подлинность - это
1 Ср. критику Герберта Маркузе в: Zeitschrift für Sozialforschung,
Bd. VII, 1938. S. 408.
2 Heidegger M. Was ist Metaphysik? 8. Aufl., Frankfurt am Main,
1960. S. 49. (Хайдеггер М. Послесловие к: «Что такое метафизика?» //
Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993. С. 40.
Перевод В.В. Бибихина.)
148
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
и не эмпирический факт неотвратимости смерти, и не
субъективно рефлексивное отношение к ней, то она
оказывается милостью, словно бы расовым признаком об-
ращенности-в-себя, которым индивид обладает или не
обладает и о котором невозможно сообщить ничего
кроме той тавтологии, что индивид к нему причастен.
Потому-то Хайдеггера в примыкающих экскурсах на
тему смерти неотвратимо влечет к тавтологическим
оборотам: «Это возможность невозможности какого бы
то ни было отношения к..., какого бы то ни было экзи-
стирования»1, т.е. просто-напросто возможность более
не существовать. Здесь, конечно, последует возражение,
что мышление о бытийных модусах бытия тавтологично
в любом случае, поскольку оные модусы суть не что
иное, как они сами. Но голое озвучивание слов,
отказывающееся от какой бы то ни было мыслительной
предикации, уничтожило бы само мышление. Стратег
поостерегся высказать этот вывод; философ
продемонстрировал его на деле. Подлинность трансформирует
теоретический дефект - неопределимость - в диктат того, что
надлежит без лишних вопросов принять, и извлекает из
этого пользу для своего достоинства. Но то, что должно
быть больше, нежели простое наличие, высасывает
кровь из просто-наличного, из того неуловимого
(Hinfälligkeit), что не позволяет привести себя к чистому
понятию, но держится как раз-таки на непонятийном субст-
1 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 262. (Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 262.)
149
Теодор В. АДОРНО
рате. Чистая тавтология, пропогандирующая понятие
посредством его механического повторения,
отказываясь его определить, - это дух как насилие. Постоянное
и единственное стремление жаргона - приравнять
сущность, «подлинность», к наибрутальнейшему факту.
Однако навязчивость повторений выдает неудачу:
учиняющий насилие дух отбрасывается прочь от того, что
он должен мыслить, пока остается духом.
Таким образом, насилие как языковая структура
коренится в самом средостении хайдеггеровской
философии: в констелляции самосохранения и смерти. То
обстоятельство, что смерть, которой, как неким unltima
ratio1, принцип самосохранения угрожает своим
подданным, обращается в собственную сущность этого
принципа, означает теодицею смерти. Конечно, не без
оснований. Абсолютно полагающее себя самое,
утверждающее себя Я идеализма становится, как показал
Гегель, своим собственным отрицанием и уподобляется
смерти: «Единственное произведение и действие
всеобщей свободы есть поэтому смерть, и притом смерть,
у которой нет никакого внутреннего объема и
наполнения; ибо то, что подвержено негации, есть ненаполнен-
ная точка абсолютно свободной самости; эта смерть,
следовательно, есть самая холодная, самая пошлая
смерть, имеющая значение не больше, чем если
разрубить кочан капусты или проглотить глоток воды»2. Од-
1 Последний аргумент (лат.). - Прим. пер.
1 Hegel G.W.F. Sämtliche Werke. Bd. 2. Phänomenologie des
Geistes. S. 454. {Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб., 1992. С. 318.
Перевод Г.Г. Шпета.)
150
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
нако то, в чем разочарованный Гегель обвинял
французскую революцию и что, конечно, затрагивало
репрессивную сущность абсолютной самостности, у Хайдегге-
ра оказывается не столько движущим мотивом ее
критики, сколько чем-то неизбежным, а потому -
повелением. Насилие связано со смертью не только внешним
образом; то, что все, в том числе и сам человек,
подвержено гибели, и то, что индивид с ничего не значащим
«ну да что уж» продолжает преследовать свой
ограниченный интерес, - две стороны одной медали. Как
частность, по закону общего плана, достигает полноты
в уничтожении, так и ослепление, субъективно
сопровождающее одержимость жизнью, всегда содержит в
себе что-то нигилистическое. Со времен Спинозы
философия более или менее отчетливо осознавала тождество
самости и самосохранения. Я, утверждающее себя в
самосохранении, вместе с тем конституируется
последним; тождество Я конституируется его
нетождественным. Это сказывается еще в предельной
идеалистической сублимации - в кантовской дедукции категорий,
где моменты, презентирующие тождество сознания
и компонующееся из них единство сознания, вопреки
дедуктивному замыслу, взаимно обусловливают друг
друга, потому что именно эти моменты, и только они,
суть данное как таковое (schlechthin gegeben). Кантов-
ское «я мыслю» - не более чем абстрактный узловой
пункт процесса удержания-себя (sich Durchhalten), но
отнюдь не что-то самостоятельное; уже поэтому
самость есть самосохранение. По всей видимости, Хай-
151
Теодор В. АДОРНО
деггер, говоря о самотождественности, имеет в виду -
в противовес абстрактному трансцендентальному
единству у Канта - понятие, родственное гуссерлевскому
субъекту, феноменологически редуцированному, но тем
не менее - если вновь «раскрыть скобки», в которые
Гуссерль заключил его эмпирическое существование, -
целостному, со всеми его переживаниями . Но
конкретная самотождественность, о которой говорит Хайдеггер,
неотделима от эмпирического, фактического субъекта;
она не есть чистая возможность онтического, она и сама
всегда является онтической. Самость можно каким-либо
образом помыслить лишь в отношении к ее
внутреннему содержанию, в самом этом содержании; невозможно
изъять онтическое и получить в остатке
онтологическую самость как структуру онтического вообще:
бессмысленно было бы говорить об этой разреженной
эссенции, что она «экзистирует подлинно». Поэтому
Хайдеггер сугубо догматически и совершенно
неубедительно противопоставляет свое понятие вот-бытия
тождеству; имплицитно определяя самость через ее
собственное сохранение, он плавно продолжает традицию
философии тождества. Пытаясь онтологически
раскрыть вот-бытие как прафеномен (Urphänomen), он
против воли погружается в праисторию (Urgeschichte)
субъективности, что и естественно, ибо вот-бытие
никаким прафеноменом не является. Но он поворачивает
1 Ср.: Heidegger M. Sein und Zeit. S. 130 (Хайдеггер М. Бытие и
152
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
насквозь тавтологическое соотношение самости и
самосохранения так, как если бы это было, говоря по-
кантовски, синтетическое суждение; как если бы
самосохранение и приросший к его собственному смыслу
антитезис - смерть - придавали самостности
качественную определенность.
Как только Хайдеггер начинает говорить открыто,
оказывается, что его категория вот-бытия, как в
мышлении раннебуржуазной эпохи, определена принципом
самосохранения, а значит, и сохраняющим себя сущим.
По его же словам, «первичный момент заботы, «прежде-
себя», означает: вот-бытие всегда экзистирует ради себя
самого»1. Насколько он отвергает натуралистическую
трактовку этого «ради себя самого», настолько же
неискореним здесь определенный языковой призвук как
момент самой вещи - как и в категории заботы, которая
у него «образует целостность (Ganzheit) структурного
целого вот-бытия»2. Согласно Хайдеггеру, «бытие
цельности (Gänze) само должно быть постигнуто как
экзистенциальный феномен всегда собственного
вот-бытия»3, в экзистенциальной ориентации на всегда
собственное вот-бытие. Тем самым самосохранению
отводится онтологически ключевое место в так называемом
время. С. 130); см. также здесь, с. 131.
1 Ibid. S. 236. (Там же. С. 236.)
2 Ibid. (Там же.)
3 Ibid. S. 240. (Там же. С. 240.)
153
Теодор В. АДОРНО
экзистенциальном анализе. Но вместе с тем, с
необходимостью, также и смерти. Смерть не просто
определяет, как граница, хайдеггеровскую концепцию вот-бытия,
но - в ходе ее наброска - совпадает с принципом
абстрактной самостности, абсолютно погруженной в себя
самое и зафиксированной на себе самой. «Никто не
может отнять у Другого его кончину», точно так же, как
в кантовском идеализме Я не может отнять у другого
Я его переживания, «представления». Сермяжная
мудрость наделяет принадлежащее-мне неуместным
пафосом. Но смерть становится ядром самости, как только
последняя полностью редуцируется к себе самой.
Избавившись от всех качеств как случайно-фактических,
убого-блаженная самость сберегает для себя лишь одно:
что она должна умереть, - и в этот момент она уже
мертва. Отсюда акцент в этом предложении: «Смерть
есть». В онтологии «Бытия и времени» незаместимость
(Unvertretbarkeit) смерти превращается в сущностную
характеристику самой субъективности; она
детерминирует все другие ее определения вплоть до учения о
подлинности, для которой смерть - не только мера, но и
идеал. Смерть становится сущностным моментом вот-
бытия1. Действительно, если мысль имеет своим
основанием абсолютно изолированную индивидуальность,
1 Ibid. Ср. критику, развернутую в 1932 г. Адольфом Штернбер-
гером прежде всего в адрес § 47 «Бытия и времени». (Adolf Sternber-
ger. Der verstandene Tod. Frankfurter Dissertation. Gräfenhainichen,
1933.)
154
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
у нее не остается ничего, кроме смертности; все
остальное проистекает из мира, который для Хайдеггера столь
же вторичен, как и для идеалистов. «Со смертью само
вот-бытие предстоит себе в его собственнейшем може-
ствовании быть»1. Смерть становится заместителем
Бога, упоминать о котором Хайдеггер времен «Бытия и
времени» еще считал чересчур старомодным. Даже
мысль о возможности устранения смерти
представлялась ему кощунством; бытие к смерти как экзистенциал
явным образом отграничено от возможности ее чисто -
всего лишь! - онтического устранения. Поскольку
смерть как экзистенциальный горизонт вот-бытия
абсолютна, она превращается в абсолютное как сакральное.
Мысль регрессирует к культу смерти; потому-то жаргон
с самого начала хорошо сочетался с вооружением.
Сегодня еще остается в силе ответ, который Хоркхаймер
дал одной восторженной даме, сказавшей, что
Хайдеггер по меньшей мере вновь поставил человека перед
смертью: Людендорф сделал это куда лучше. Смерть и
вот-бытие отождествляются, смерть - то, в сущем, что
не принадлежит другому так, как самому этому
сущему, - оказывается чистым тождеством. Анализ вот-
бытия скользит мимо ближайшего и тривиальнейшего -
совершенной нетождественности вот-бытия и
смерти, того обстоятельства, что смерть разрушает,
поистине негирует вот-бытие, что, впрочем, не защищает его
от тривиальностей: «Смерть есть возможность совер-
1 Ibid. S. 250. (Там же. С. 250.)
155
Теодор В. АДОРНО
вершенной невозможности вот-бытия» . В такой манере
говорят гимназические учителя в «Пробуждении весны»
Ведекинда. Characteristica universalis2 вот-бытия как
смертного занимает место того, что должно умереть.
В результате этого маневра смерть становится на место
подлинного, вот-бытию в качестве онтологического
«отличия»3 присваивается то, чем оно и так уже
является, аналитическое суждение превращается в бездонную
философему, пустейшая всеобщность понятия выдается
за его особенное; наконец, смерть принимает почести
как «отличительное предстояние»4. Если хайдеггеров-
ское философствование вызвал к жизни
историософский опыт отсутствия онтологического смысла, то в его
теории смерти это отсутствие - слепота неизбежного -
становится именно тем, чего недостает. Тем самым его
мысль делает явной ту гулкую пустоту, которую можно
слышать, если хлопнуть по жаргону. Тавтология и ни-
гилистичность заключают священный союз. В опыте
смерть может быть дана только как бессмысленное.
В этом заключается смысл опыта смерти, а вместе с тем
и смысл вот-бытия, коль скоро именно смерть образует
его сущность. Невосстановимая метафизика Гегеля, для
которой позитивно абсолютное заключалось в
тотальности негаций, интериоризируется, сжимается в
непротяженную точку и превращается в этой конструкции
1 Ibid. S. 250 f. (Там же. С. 250.)
2 Общая характеристика (лат.). - Прим. пер.
3 Ср. Ibid. S. 250. (Там же. С. 250.)
4 Ibid. S. 251. (Там же. С. 251.)
156
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
в гегелевскую «Фурию исчезновения»1, в
непосредственную теодицею уничтожения.
На протяжении всей его истории мышление
тождества (Identitätsdenken) было мертвящим,
всепоглощающим. Виртуально тождество всегда выливается в
тотальность; единое как лишенная определений точка и
столь же неопределенное, ибо не имеющее определений
вне себя, все-единое - едины. А то, что не терпит чего-
либо вне себя, понимается - и у Хайдеггера, и в
идеализме - как целое. Малейший намек на нечто по ту
сторону этого тождества столь же недопустим, как
недопустим для фашизма по-другому устроенный человек,
пусть даже в самом отдаленном углу мира. Не в
последнюю очередь по этой причине хайдеггеровская
онтология желает устранить какую бы то ни было
фактичность: будучи иной природы, нежели понятие, которое
именно ради своего всевластия затушевывает тот факт,
что является понятием, фактичность опровергла бы
принцип тождества; диктаторы заключают под стражу
именно тех, кто называет их диктаторами. Однако если
тождество не тождественно абсолютно ничему, кроме
самого себя, оно само себя уничтожает; если оно не
соотнесено с иным, не является тождеством чего-то, оно,
как обнаружил Гегель, вообще не существует.
Тотальность и является движущим началом хайдеггеровских
размышлений о смерти. Они ориентированы на целост-
1 Hegel G. W.F. Op. cit. S 454. {Гегель Г.В.Ф. Там же. С. 317.)
157
Теодор В. АДОРНО
ность как нечто конститутивно первичное по
отношению к частям, целостность, которую хайдеггеровский
предшественник Шелер уже пересадил в метафизику из
поначалу непритязательной гештальтпсихологии. В пред-
фашистской Германии целостность была девизом всех
тех, кто отметал XIX век как в общем и целом
устаревший. Особенно ревностно они обрушивались на
психоанализ, который в целом стоял на стороне просвещения.
В эпоху первой публикации «Бытия и времени» учение
о первичности целого по отношению к частям как некий
идеал приводило в экстаз все апологетическое
мышление, как и сегодня еще восхищает адептов жаргона;
очевидно, Хайдеггер без каких-либо оговорок
перенимает это понятие, как его сформировали тогдашние
мыслительные привычки. Что философия должна дать
набросок целого, было для него столь же
догматически бесспорно, как некогда для идеалиста - обязанность
создать систему: «Так возникает задача поставить в
предобладание вот-бытие как целое. Но это значит:
вообще впервые развернуть вопрос о можествовании
этого сущего быть целым. В вот-бытии, пока оно
существует, всегда недостает чего-то, чем оно может быть
и чем оно станет. Но этой недостаче принадлежит сам
"конец". "Конец" бытия-в-мире - это смерть. Этот
конец, принадлежащий можествованию быть, а значит,
Иногда Хайдеггер неодобрительно упоминает понятие
целостности у других мыслителей, но только чтобы утвердить прерогативы
собственного.
158
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
экзистенции, ограничивает и определяет всегда
возможную целостность вот-бытия»1. По-видимому,
моделью для этой мысли послужил прежде всего гештальт-
теоретический «хороший гештальт» - образчик того
согласия между «внутренним» и «внешним», что
разрушается «сознанием как ширмой». Данная концепция
отмечена родимым пятном того самого научного
разделения труда, на которое она обрушивается в своем
антимеханистическом запале. Интериорность индивида
исправно действует в ней по ту сторону общества.
Имеется ли закругленное единство субъекта и мира, зависит
от субъекта. Он может быть целостным лишь
постольку, поскольку не противопоставляет себя реальности
в рефлексии. Поэтому приспособление, общественная
сговорчивость, является целью уже для такой по
видимости сугубо антропологической или экзистенциальной
категории, как целостность; априорная солидарность
с субъектом - на манер позднейших экзерсисов жаргона
во имя человека - устраняет рефлексивный вопрос
о том, достойна ли реальность, с которой люди, чтобы
обрести целостность, должны быть в непосредственном
согласии, этого самого согласия; не является ли именно
реальность как гетерономная, в конечном счете тем, что
отказывает им в этой целостности, и не способствует ли
идеал целостности их угнетению, прогрессирующему
раздроблению бессильных. Как выражение общего по-
1 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 233 f. (Хайдеггер М. Бытие
и время. С. 262-263.)
159
Теодор В. АДОРНО
ложения вещей, атомизация человека тоже является
истиной, и что-то сделать с ней можно лишь
трансформируя положение вещей, а не отрицая ее и не списывая на
счет забвения бытия теми, кто ее видит. Хайдеггер не
одобряет оптимизма, с которым было воспринято
открытие гештальта, структурированного прежде всякого
мыслительного оснащения, - как если бы оно означало
лабораторное доказательство бытия Бога, - и его тихое
недовольство прячется за риторическим и невольно
комичным вопросом: можно ли говорить о целостности в
виду смерти? - но тезис о непосредственно
обнаруживаемой, объективной структурности оказался для него
как нельзя более кстати. В императивной конструкции
он сводит воедино безоговорочно принятое на себя
обязательство добиться целостности и опыт в буквальном
смысле раздробленной жизни, который позволяет
сделать мину неподкупной серьезности. По гегелевской
схеме, с которой он, helas1, разделывается почти
механически, это не что иное, как раздробленность вот-
бытия. Смерть же якобы делает его целостным.
Конечность, непрочность вот-бытия, как его принцип,
смыкает его с самим собой. Поскольку негативность,
несмотря на нахмуренные брови, табуирована, Хайдеггер
мыслит мимо того, что желает ухватить. Если бы
философия смогла определить структуру вот-бытия, оно
предстало бы двойственным: раздробленным и целым,
тождественным себе и нетождественным, но это приве-
1 Увы (фр.) - Прим. пер.
160
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
ло бы, конечно, к диалектике, которая пронзила бы всю
предполагаемую онтологию вот-бытия. Хайдеггеров-
ская же доктрина смерти наиболее образцово - просто и
недиалектически - превращает негативное, как
сущность в позитивное. Научно-психологически
ограниченное учение о целостности он вводит в философию;
раздробленное сущее как антитезис гомофонного бытия
элеатов молчаливо записывает на счет
механистического мышления: первым козлом отпущения оказывается
Аристотель. Бодрый вывод о том, что механистическое
мышление надлежит, как гласит одно из самых
подозрительных его выражений, «преодолеть», для Хайдег-
гера очевиден; этот настрой снискал ему двойной нимб
мыслителя современного и надвременного. О «единстве
души и тела» разглагольствовал лакейский иррациона-
листический язык двадцатых годов. Взаимосвязь,
объединяющая сущие моменты в целое, должна составлять
смысл реального человека, подобно тому, как это имеет
место в искусстве: эстетизирующее утешение по
поводу безнадежной эмпирии, построенное по образцам
модерна. Впрочем, хайдеггеровская аналитика смерти
осмотрительно применяет категорию целостности
только к категории вот-бытия, но не к индивиду. Кредит,
полученный от психологической теоремы целостности,
в языковом плане - отказ от всех каузальных
выражений, позволяющий изъять мнимые целостности из
природы и переместить их в трансцендентность бытия, -
в конечном счете все-таки выплачен. Ведь эта транс-
ценденция - вовсе не трансценденция; она не выходит,
6 3ак. 2612
161
Теодор В. АДОРНО
в кантовском духе, за пределы возможного опыта, но
представляется как данная в самом опыте,
непосредственно и неопровержимо, словно бы тет-а-тет.
Фиктивная осязаемость феномена стоит на службе
антиинтеллектуализма. Горделивая претензия на близость к
неискаженному феномену базируется на неявном вердикте,
по которому не общественное устройство делит мир на
вещные осколки, но разлагающее мышление. Хайдеггер
еще говорит, следуя тогдашним канонам философской
отрасли, об анализе, но этот анализ уже не желает
ничего анализировать.
В центральной главе «Бытия и времени»
рассматриваются «возможная целость (Ganzsein) вот-бытия и
бытие к смерти»1. Хайдеггер задается вопросом, как
выясняется далее, чисто риторическим: «может ли вообще
это сущее как экзистирующее стать доступным в его
целости»2? «Возможная целость этого сущего»3 может
якобы противоречить онтологизированному
самосохранению - заботе. Хайдеггер не задерживается на том, что
в его онтологическом определении заботы как
«целостности структурного целого вот-бытия»4, в силу
транспозиции отдельного вот-бытийствующего в вот-бытие,
уже зафиксирована та целостность, которую он затем
обстоятельно раскрывает. Читая Хайдеггера имманент-
1 Ibid. S. 235. (Там же. С. 235.)
2 Ibid. S. 236. (Там же. С. 236.)
3 Ibid. (Там же.)
4 Ibid. (Там же.)
162
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
но, легко предвидеть, что он собирается с таким
апломбом развернуть: то обстоятельство, что все должны
умереть, не исключает a priori того, что жизнь
отдельного человека образует - в библейском или эпическом
духе - закругленную целостность. Возможно, на усилия
по обоснованию экзистенциальной целостности его
подвиг тот неоспоримый факт, что сегодня жизнь
индивида целостности лишена1. Однако она должна выжить
вопреки историческому опыту. Ради этого целость
сущего, которой добивается теория Хайдеггера (для
жаргона она превратилась в цель «стремлений»),
отработанным жестом отделяется от чисто суммативного
сущего, «в котором чего-то еще недостает»2. Последнее
имеет «бытийный вид подручного»3, и ему
противопоставляется тотальность, возвысившаяся до
экзистенциальной целостности по ту сторону эмпирически
индивидуальной жизни. «Собранность сущего, в качестве
какового "протекает", пока не "истечет", вот-бытие,
конституируется не "прогрессирующим" накоплением
сущего, которое само по себе уже каким-то образом
и где-то является подручным. Вот-бытие не становится
собранным тогда, когда его еще-не восполнено; более
того, именно тогда его уже нет. Вот-бытие всегда уже
экзистирует именно так, что его еще-не принадлежит
1 Ср.: Einleitung zu Walter Benjamin. Schriften I. S. XXII.
2 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 242. (Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 242.)
3 Ibid. (Там же.)
163
Теодор В. АДОРНО
ему» . Этот тезис имеет силу лишь постольку,
поскольку смертность уже заложена в понятие вот-бытия,
предпослана хайдеггеровской философии. Для онтолога
целость не может быть единством целого содержания
реальной жизни, но по своему качеству должна быть чем-
то третьим, поэтому он ищет единство не в жизни как
внутренне согласованной, артикулированной и
непрерывной, но в некоем пункте, который ограничивает
жизнь и уничтожает ее вместе с ее целостностью. Как
не-сущее, или, по меньшей мере, сущее вне всякой
жизни, sui generis, этот пункт, опять же, имеет
онтологический характер: «Но несобранность, принадлежащая
такому модусу собранности, - отсутствие как недостача -
ни в коей мере не может онтологически определять то
еще-не, которое, как возможная смерть, принадлежит
вот-бытию. Это сущее вообще существует не по
способу внутримирового подручного»2. Будучи оторвана от
фактичности, смерть становится учредителем
целостности. Но тем самым она превращается в источник смысла
посреди той раздробленности, которую онтологическая
топография усматривает в атомизированном сознании
позднеиндустриальной эпохи, - по безоговорочно
воспринятой Хайдеггером мыслительной привычке просто
приравнивать структурное целое к его собственному
смыслу, даже когда оно исключает какой бы то ни было
смысл. Поэтому смерть, негация вот-бытия, наделяется
1 Ibid. S. 243. (Там же. С. 243.)
2 Ibid. S. 242 f. (Там же. С. 243.)
164
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
бытием особенно настойчиво . Будучи онтологической
конституентой вот-бытия, лишь она одна придает ему
достоинство целостности: «смерть как конец
вот-бытия - это собственнейшая, безотносительная и, в
качестве таковой, неопределенная, непревосходимая
возможность вот-бытия»2. Тем самым Хайдеггер
отрицательно отвечает на свой исходный вопрос,
поставленный только ради его последующего повторения:
«Поэтому неправомерно формальное заключение от еще-
не вот-бытия, онтологически проинтерпретированного,
к тому же неадекватно, в качестве недостачи, к его
нецелостности. Феномен еще-не, извлеченный из прежде-
себя, как и структура заботы вообще, ни в коей мере не
может быть аргументом против возможной экзистент-
ной целости; более того, это прежде-себя впервые
делает возможным такое бытие к концу. Проблема
возможной целости сущего, которое всегда суть мы сами,
является правомерной, когда забота как фундаментальная
конституция вот-бытия «взаимосвязана» со смертью как
предельной возможностью этого сущего»'.
Онтологически вот-бытие становится целым благодаря смерти,
которая онтически разрывает его. Сама же смерть
подлинна, поскольку отделена от Некто. Об этом призвана
свидетельствовать ее незаместимость. Порицая все мыс-
1 Ср. здесь, с. 154.
2 Heidegger М. Sein und Zeit. S. 258 f. (Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 258-259.)
3 Ibid. S. 259. (Там же. С. 259.)
165
Теодор В. АДОРНО
лимые реальные позиции по отношению к смерти - по
его вердикту, именно Некто и только оно говорит «о
смерти как о постоянно происходящем «случае»»1, - он
тем самым извлекает на свет свою подлинную смерть:
вседействительнейшую, но по ту сторону фактичности.
Будучи незаместимой, она столь же непонятийна, как
чистое вот-это; ее понятие уже предвосхитило и
заместило бы ее самое, как и всякое понятие замещает то, что
в нем подразумевается. Но Хайдеггер, не переведя
дыхания, отвергает ту фактичность, которая только и
позволяет ему говорить о незаместимости; ведь смерть,
как вообще любое понятие, означает уже смерть всех,
а не данного конкретного индивида. Смерть как
событие, именно фактичная смерть, не может быть
подлинной, поэтому онтологическая смерть уже не так уж
и страшна: «Публичность повседневного бытия
друге-другом "знает" смерть как постоянно случающееся
происшествие, как "случай смерти". Кто-то из ближних
или далеких людей "умирает". Незнакомые «умирают»
ежедневно и ежечасно. "Смерть" встречается как
известное внутримировое событие. В качестве такового
она остается в характерной для повседневно
встречающегося неприметности. Некто уже обеспечило для этого
события толкование. Высказанная или, чаще всего,
сдержанная, сказанная "вскользь", речь об этом хочет
сказать: что ж, в конце концов, люди умирают, но нас
1 Ibid. S. 253. (Там же. С. 253.)
166
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
самих это пока не касается» . В запале различения
смерти как события и подлинной смерти Хайдеггер не
чурается и софизмов: «Анализ этого "люди (man) умирают"
недвусмысленно обнажает бытийный вид
повседневного бытия к смерти. В такой речи смерть понимается как
неопределенное нечто, которое однажды должно
откуда-то прийти, но для меня самого она пока еще не на-
лична и потому мне не угрожает. Это "люди умирают"
высказывает мнение, будто тот, кого затрагивает
смерть, это, так сказать, Некто (das Man). Публичное
толкование вот-бытия говорит: «люди умирают»,
потому что тем самым всякий другой и само Некто могут
сделать оговорку: "но пока что не я"; ибо это Некто есть
никто»2. Интерпретация суждения мнения «смерть
затрагивает, так сказать, Некто» уже предполагает хайдег-
геровское гипостазирование экзистенциалов, темной
стороной которых является Некто, и пренебрежительно
фальсифицирует то верное, что выражает эта, пусть
и никчемная, речь: что смерть есть всеобщее
определение, охватывающее alter ego3 точно так же, как и
собственное Я. Когда человек говорит «люди умирают», он
имеет в виду - конечно, эвфемистически - и себя
самого; но опротестованная Хайдеггером отсрочка все-таки
имеет место: говорящий и в самом деле вправе жить,
иначе он бы не говорил. Конечно, такого рода аргумен-
1 Ibid. S. 252 f. (Там же. С. 252 и далее.)
2 Ibid. S. 253. (Там же. С. 253.)
3 Другое я (лат.). - Прим. пер.
167
Теодор В. АДОРНО
ты, к которым вынуждает Хайдеггер, неизбежно
движутся в сфере откровенного пустословия, что, в свою
очередь, изобличает лживость подлинности, которая
должна здесь выкристаллизоваться в философский
камень: если что-то и присуще Некто, то именно такие «за
и против». Мало ценимое Хайдеггером «происшествие»,
которое «собственно не принадлежит никому»1, с точки
зрения языка кому-то принадлежит всецело, а именно
тому, кто умирает; лишь солипсистская философия
может признавать за «моей» смертью примат по
отношению к смерти любого другого. Даже в эмфатическом
смысле смерть скорее познается на другом, нежели на
себе. Это обстоятельство не скрылось от Шопенгауэра
в четвертой книге «Мира как воли и представления»:
«И в человеке, как и в неразумном животном,
господствует в качестве длительного состояния та
(вытекающая из сокровенного сознания, что он есть сама
природа, сам мир) уверенность, в силу которой никого
заметно не тревожит мысль о неизбежной и отнюдь не
далекой смерти, но каждый продолжает себе жить, как
будто ему суждено жить вечно; это доходит до того,
что, можно сказать, никто собственно не питает живого
убеждения в своей смерти, так как иначе между его
настроением и настроением осужденного на казнь
преступника не могло бы быть большой разницы; на самом
же деле каждый исповедует это убеждение in abstracto2
1 Ibid. (Там же.)
2 Абстрактно (лат.). - Прим. пер.
168
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
и теоретически, но отлагает его в сторону, как и другие
теоретические истины, не применимые на практике,
и совсем не принимает его в свое живое сознание»1.
В хайдеггеровском Некто то, что является не более, чем
идеологическим дериватом отношений обмена, idola
fori2 траурных речей и уведомлений о смерти, слепо
сливается с гуманностью, которая отождествляет не
Других, но себя с Другим, разбивает оковы абстрактной
самости и ясно видит ее опосредованность. Общий
вердикт о той зоне, которая в философии получила
довольно сомнительное название «интерсубъективность»,
рассчитан на победу над овеществленным сознанием якобы
еще незатронутого овеществлением первичного
субъекта, который в действительности столь же мало является
непосредственным и первым, как и что бы то ни было
другое. Согласно ключевым положениям Хайдеггера,
«смерть - это собственнейшая возможность вот-бытия.
Бытие к ней размыкает вот-бытию его собственнейшее
можествование быть, в котором дело идет целиком
и полностью о бытии вот-бытия. В таком можествова-
нии быть вот-бытию может открыться, что в
специфической возможности себя самого оно остается
отделенным от Некто, т.е. всегда уже может, забегая вперед,
1 Schopenhauer А.. Sämtliche Werke in fünf Bänden. Großherzog
Wilhelm Ernst-Ausgabe, Leipzig, o.J. Bd. I. Die Welt als Wille und
Vorstellung. S. 376. (Шопенгауэр А. Собрание сочинений в 5 т. Т. 1. Мир
как воля и представление. М., 1992. С. 274. Перевод Ю. Айхен-
вальда.)
2 Идолы рынка (лат.). - Прим. пер.
169
Теодор В. АДОРНО
отделить себя от него» . Смерть становится сущностью
смертного, вопреки тому ближайшему факту, что оно
существует, - а тем самым искусственно превращается в
нечто по ту сторону сущего, в подлинное как
избавленную от Некто возвышенную его противоположность;
подлинность как смерть. Уединенность индивида
в смерти, то обстоятельство, что «безотносительность...
уединяет вот-бытие в нем самом»2, становится
субстратом самостности. Это «целиком и полностью в себе
самом» представляет собой предельное укрепление
самости (первообраз упрямства) в самоотрицании. В самом
деле, абстрактная самостность in extremis - зубовный
скрежет, не говорящий ничего, кроме «я, я, я», - столь
же ничтожна, как то, чем самость становится в смерти;
но хайдеггеровский язык раздувает это негативное
в субстанциальное. Именно с этого был затем снят
шаблон для формальных рассуждений жаргона. Учение
Хайдеггера невольно сбивается на экзегезу туповатой
остроты: «за дармовую смерть платишь жизнью». Он
вперяется в смерть как нечто якобы отделенное от
универсальных отношений обмена, не замечая, что и она
остается вплетенной в тот же самый роковой
круговорот, что и эти отношения, которые он сублимирует
в Некто. Будучи абсолютно чуждой субъекту, смерть
является моделью всякого овеществления. Только идео-
1 Heidegger M. Sein und Zeit. S. 263. {Хайдеггер М. Бытие и
время. С. 263.)
2 Ibid. (Там же.)
170
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
логия превозносит ее как лекарство от обмена, которому
на самом деле смерть придает еще более безнадежный
облик вечности, - вместо того, чтобы освободиться от
справедливого обмена, когда тот оказался наконец
справедливым. Если в глазах Хайдеггера для
оправдания вот-бытия в его постыдном историческом облике
самого вот-бытия недостаточно, то помочь может одно
только его уничтожение, которое и есть оно само. В
качестве высшей максимы мы получаем: оно таково, что
следует с ним смириться, говоря на позитивистском
языке, адаптироваться к нему, - убогий призыв
покориться тому, что есть. И даже не покориться: вот-бытие
не имеет выбора, именно поэтому смерть для него столь
онтологична. Если неидеологичным называть
мышление, доводящее идеологию до предела, каковым
является ничто, то Хайдеггер неидеологичен. Но его операция
вновь становится идеологией в силу притязания на
раскрытие смысла бытия, - подобно ходовой сегодня речи
об утрате идеологии, которая утыкается в идеологию
и полагает, что это истина.
В положении «Некто не допускает мужества к
страху перед смертью»1 Хайдеггер, действительно,
вскрывает идеологическое явление: попытку включить смерть
в ту самую общественную имманентность, которая не
имеет никакой власти над смертью, как в пародии
Ивлина Во «The loved One»2. Многие его формулировки
1 Ibid. S. 254. (Там же. С. 254.)
2 В переводе Б. Носика «Несравненная». - Прим. пер.
171
Теодор В. АДОРНО
весьма близко подходят к механизму вытеснения
смерти: «Но искушение, успокоение и отчуждение
характеризуют бытийный вид падения. Повседневное бытие к
смерти, как падающее, представляет собой постоянное
бегство от нее»1. Однако отчуждение означает
определенное общественное отношение, в том числе и к
смерти; человек и похоронные бюро коммерчески
воспроизводят бессознательную волю к забвению того, что
вызывает страх. Можно и без фундаментальной онтологии
и всей ее номенклатуры обнаружить вещи вроде
следующих: «Таким образом Некто обеспечивает
постоянную успокоенность в отношении к смерти. Но в
сущности эта последняя предназначена не только
умирающему, но точно так же и "утешающему". Даже такое
событие, как уход из жизни, не должно нарушить
обеспеченную беззаботность публичности и обеспокоить ее.
Ведь нередко в умирании Других усматривают
общественную неприятность, если не бестактность, от которой
публичность должна быть защищена»2. Так, уже ибсе-
новский асессор Бракк в своей заключительной реплике
отозвался на самоубийство Гедды Габлер словами «так
не делают». Хайдеггер, не желающий иметь с
психологией ничего общего, психологически раскрыл
реактивный характер интеграции смерти. В «Бытии и времени»
это зашифровано так: «Но этим падающим бегством от
смерти повседневность вот-бытия свидетельствует о том,
1 Ibid. (Там же.)
2 Ibid. S. 253 f. (Там же. С. 253 и далее.)
172
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
что и Некто тоже всегда уже определено как бытие
к смерти, даже тогда, когда оно не движется явным
образом в некоторой «мысли о смерти». В обычной
повседневности для вот-бытия дело тоже идет об этом
собственнейшем, безотносительном и непревосходимом
можествовании быть, пусть даже лишь в модусе
обеспечения необременительного безразличия перед
предельной возможностью его экзистенции»1. Однако он не
продвигается здесь настолько, чтобы обнаружить и по
достоинству оценить вытесняемое отчаяние в
судорожном призыве радоваться жизни, в той примитивной
мудрости «что ж, люди умирают, но мы пока еще
живы»2, которую он справедливо презирает. Протест
против вытеснения смерти был бы уместен в критике
либеральной идеологии: он должен был бы напомнить
о природности, которую культура отрицает, потому что,
как господство, сама продолжает ее в той сфере,
которая ошибочно рассматривается как ее антитезис. Но
Хайдеггер, как и фашизм, отстаивает более брутальный
облик природности в противовес более
опосредованному, сублимированному. Его бытие к смерти
иррационально противостоит ее иррациональному вытеснению.
К последнему вынуждает конвенционализированная,
смоделированная по форме товара жизнь, а не структура
бытия, пусть даже негативная. Можно помыслить такое
1 Ibid. S. 254. (Там же. С. 254.)
2 Ibid. S. 255. (Там же. С. 255.)
173
Теодор В. АДОРНО
состояние общества, в котором люди уже не были бы
вынуждены вытеснять смерть; возможно, они могли бы
ее видеть иначе, нежели в страхе, который является
признаком грубого природного состояния,
увековеченного супранатуралистическими словами хайдеггеров-
ского учения. Смерть вытесняется ослепленным
самосохранением; вытеснение тоже вносит свой вклад в
вызываемый ею ужас. В неискаженной жизни, которая
не отказывала бы людям в том, что им необходимо, и не
отнимала бы у них обманом то, что им
принадлежит, им, возможно, уже не было бы нужды понапрасну
надеяться, что они все-таки еще получат то, в чем
им было отказано, а вместе с тем панически бояться
ухода из жизни, как бы глубоко ни коренился этот страх
в человеческом существе. Однако из того, что люди
вытесняют смерть, еще не следует, что сама она есть
подлинное; во всяком случае, такой вывод не должен был
бы делать Хайдеггер, который ведь не спешит выдать
свидетельство о подлинности тем, кто смерть не
вытесняет.
Хайдеггер сам, допустив своего рода философскую
оговорку, выдает онтологизацию смерти, говоря о том,
что ее достоверность имеет качественное превосходство
над достоверностью других феноменов; правда, он
отрекается от этого, кивая на повседневность: «В
охарактеризованной повседневной расположенности - "уст-
рашенно" озабоченном, по видимости бесстрашном
превосходстве над известным "фактом" смерти -
повседневность признает достоверность "высшую", нежели
174
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
только эмпирическая» . Но несмотря на кавычки, слово
"высшая" имеет доказательную силу признания: в том,
что теория санкционирует смерть. Партизан
подлинности впадает в тот же грех, в котором обвиняет minores
gentes2 - Некто. Через подлинность смерти он бежит от
смерти. То, что при этом заявляет о себе в высшей,
нежели эмпирическая, достоверности, столь же фальшиво
очищает смерть от убожества и зловония животного
издыхания, как и вагнеровские постановки смерти от
любви или ради освобождения, уподобляющие ее
гигиеническому мероприятию - преступление, в
котором Хайдеггер обвиняет неподлинных. Благодаря тому,
о чем умалчивает стилизация смерти, возвышающая ее
до подлинности, он становится союзником тех, кто ему
отвратителен. В циническом материализме морга это
распознается более откровенно и разоблачается
объективно эффективнее, нежели в онтологических тирадах.
Ядро последних образует сверхэмпирическая
достоверность смерти как предписанной вот-бытию
экзистенциально; чистота от опыта превращается здесь в то, чем
она когда-то была в неметафорическом смысле: в
чистоту от грязи. Но смерть не является чистой ни в каком
смысле, как не является и чем-то аподиктическим.
Иначе обещания великих религий были бы проявлением
забвения бытия. Однако можно обойтись и без
апелляции к религиям. Многие низшие организмы умирают не
1 Ibid. S. 258. (Там же. С. 258.)
2 Низшие (низкого происхождения) роды (лат.). - Прим. пер.
175
Теодор В. АДОРНО
в том же смысле, как высшие, индивидуализированные;
с другой стороны, в виду возможности управления
органическими процессами, уже обретающей зримые
очертания, мысль о преодолении смерти не следует
отбрасывать a fortiori1, сколь бы невероятным оно ни
показалось: мысль может позволить себе то, о чем
экзистенциальная онтология запрещает себе думать.
Онтологическая величественность смерти сходит на нет уже
в виду того, что с ней что-то может произойти, говоря
хайдеггеровским языком, онтически. Поскольку Хай-
деггер подавляет такого рода надежды, как выразился
бы инквизитор, в зародыше, он, будучи подлинным,
принимает сторону тех, кто, едва заслышав об
упомянутой возможности, принимаются скандировать: нет
ничего хуже, чем исчезновение смерти. Позволительно
предположить, что это в любом случае адепты жаргона.
Пылкость в борьбе за вечность смерти пролонгирует
угрозу смертью; в политическом плане выступает за
представление о неизбежности войн. Кант,
принимавший бессмертие в числе идей, не был склонен к тому
глубокомыслию, в котором процветает лишь самое
привычное. Реализация перехода от неорганического к
жизни радикально трансформировала бы хайдеггеров-
ский экзистенциальный горизонт смерти. В этом пункте
его философия и все, что плывет в одном потоке с ней,
вплоть до содержимого последних отводных каналов
немецкой бытийной набожности, демонстрирует наи-
1 Тем паче (лат.). - Прим. пер.
176
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
большую аллергическую чувствительность. Согласие
с сущим, отрешенность которого мотивирует его к
бытию, питается связанными со смертью компликациями.
В метафизике смерти концентрируется все несчастье, на
которое физически обрекает себя буржуазное общество
в своем движении.
Учение о «забегании вперед» как подлинном бытии
к смерти, «возможности экзистентного предвосхищения
целостного вот-бытия, т.е. возможности экзистировать
в качестве целостного можествования быть»1, незаметно
превращается в то, чем бытие к смерти не желает быть,
однако вынуждено, если речь идет о чем-то большем,
нежели тавтология, - в определенное поведение.
Правда, мы ничего не услышим о том, чем это поведение
отличается от осознания того, что человек должен
умереть, но свое достоинство оно получает именно в
безъязыком и нерефлексивном принятии этого
долженствования. «Но забегание не уклоняется от непревосходимо-
сти, как неподлинное бытие к смерти, но
высвобождает себя для нее. Забегающее становление-свободным
для собственной смерти освобождает от затерянности
в случайно навязывающихся возможностях, причем так,
что впервые позволяет подлинно понять и выбрать
фактичные возможности, расположенные прежде непревос-
ходимой возможности. Забегание размыкает
экзистенции самоотдачу как предельную возможность и таким
образом разбивает всякую закоснелость в уже достигну-
1 Ibid. S. 264. (Там же. С. 264.)
177
Теодор В. АДОРНО
той экзистенции» . Редко хайдеггеровские слова
содержат столько истины, как здесь. Осмысление человеком
себя самого как природы означало бы также
критическую рефлексию над принципом самосохранения;
конечно, истинной может быть только та жизнь, которая
не окаменевает «в уже достигнутой экзистенции». Но
поскольку в хайдеггеровском учении о смерти этот
способ поведения экстраполирован из вот-бытия как его
позитивный смысл, поскольку даже в самоотдаче
самость утверждается как некая инстанция, постольку
Хайдеггер сам сводит то, что ему открылось, на нет.
Самоотдача окосневает в упорстве, превращающем
растворение самости в его полагание, в стоическую
несгибаемость; в силу неуступчивого отождествления с
самостью самоотдача становится абсолютизацией
негативного принципа. С упорством связаны все
категории, в которых Хайдеггер разъясняет подлинное бытие
к смерти: возможность к смерти вот-бытие должно
«выдержать»2; то, что должно быть антитезой закоснению и
насилию, доводит их до предела. Хайдеггеровский
субъект нигде не является столь подлинным, как в этом
«выдерживании», - по образцу того Я, которое
испытывает предельное в боли. Даже то, что он
противопоставляет упрочению самости, отмечено языковыми
признаками насилия: оно названо «разбиванием»3. Как вот-
1 Ibid. (Там же.)
2 Ibid. S. 261. (Там же. С. 261.)
3 Ibid. S. 264. (Там же. С. 264.)
178
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
бытие - субъект - в своей подлинности есть смерть, так
и бытие к смерти - это субъект, чистая воля.
Онтологическая решимость не в праве спросить, ради чего она
умирает. Последнее слово остается за невредимой само-
стностью. «Эту специфическую, засвидетельствованною
в самом вот-бытии его совестью, подлинную разомкну-
тость - молчаливое, готовое к страху набрасывание себя
на собственнейшее бытие виновным - мы называем
решимостью»1. Однако мужество к страху означает
истинную, неидеологическую жизнь лишь тогда, когда
ему не приходится мириться с идеологией,
культивирующей все то, что вызывает страх.
Жаргон подлинности является идеологией как язык,
независимо от того или иного специфического
содержания. Он утверждает смысл жестом того достоинства,
которым Хайдеггер наделяет смерть. Достоинство тоже
имеет идеалистическую сущность. Некогда субъект
в сознании своей собственной свободы, подобно
властителю-законодателю, казался себе маленьким
божеством. В достоинстве хайдеггеровского типа эти мотивы
полностью искоренены: «Но как еще иначе какая бы то
ни было человеческая общность найдет себя в
изначальной признательности, если не так, что
расположение бытия через открытое отношение к нему самому
придаст человеку то благородство нищеты, в котором
свобода жертвы таит сокровище своего существа?
Жертва есть расставание с сущим для того, чтобы со-
1 Ibid. S. 296 f. (Там же. С. 296 и далее.)
179
Теодор В. АДОРНО
хранить расположение бытия. Жертву, конечно, можно
подготовить и обслужить делами и достижениями
в круге сущего, но ее никогда невозможно таким путем
совершить. Ее совершение коренится в
неотступности, с какой каждый исторический человек, поступая, -
и бытийное мышление есть поступок, - хранит
достигнутое присутствие для сохранения достоинства бытия.
Эта неотступность есть спокойная решимость, не
дающая оспорить свою затаенную готовность к
расставанию, какого требует существо всякой жертвы. Жертва
таится под кровом события, каким выступает бытие,
когда захватывает человека, требуя его для своей
истины. Поэтому жертва не терпит никакого расчета, всякий
раз пересчитывающего ее на какую-то пользу или
бесполезность, все равно, низкие или высокие поставлены
цели. Такой пересчет искажает существо жертвы.
Одержимость целями спутывает ясность готовой к
ужасу робости жертвенного дерзания, отважившейся на
соседство с Нерушимым»1. Торжественность таких
пассажей, в которых фигурирует достоинство, - впрочем,
именно как достоинство бытия, а не человека, -
отличается от секуляризированного погребения только
энтузиазмом по поводу иррациональной жертвы: так могли
говорить офицеры люфтваффе, когда, сравняв с землей
очередной город, поднимали шампанское за тех, что не
вернулись. Достоинство никогда особо не возвышалось
1 Heidegger M. Was ist Metaphysik? S. 45. (Хайдеггер М.
Послесловие к: «Что такое метафизика?» С. 40.)
180
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
над позой самосохранения, выдающего себя за нечто
большее, чем оно есть: тварь, имитирующая творца.
В нем медиатизирована феодальная категория,
посредством которой буржуазное общество, желая
легитимировать свою иерархию, оказывает посмертные почести.
Оно всегда было подвержено головокружению, как его
демонстрирует в торжественных случаях важничанье
депутатов от официального умонастроения. Хайдегге-
ровское достоинство - тень этой заемной идеологии; на
место субъекта, достоинство которого все-таки
базируется на пифагоровском притязании, пусть даже
сомнительном, быть хорошим гражданином хорошего
государства, заступает голое почитание, подобающее
субъекту только потому, что он должен умереть, как и все
остальные. В этом смысле Хайдеггер невольно
оказывается демократом. Отождествление с неизбежным как
жертва - вот и все утешение утешительной философии:
последнее тождество. Так вновь повышается в цене
обветшалый принцип самополагания Я, которое горделиво
сохраняет себя, сберегая свою жизнь за счет других, -
посредством уничтожающей его смерти. Врата, что вели
когда-то в вечную жизнь, перед хайдеггеровской
философией заперты: вместо того, чтобы молиться о вечной
жизни, она боготворит их огромность и массивность.
Пустота превращается в эликсир перманентного
пленения замалчиваемой нуминозностью. В случае
замкнутых людей тоже не всегда ясно, действительно ли
глубина их внутреннего мира так чурается профанации,
как они дают понять, или их холодность имеет сказать
181
Теодор В. АДОРНО
столь же мало, сколько желает услышать. В остатке мы
имеем пиетет: в более человечном случае -
беспомощную взволнованность тех, кто теряет любимого
человека; в худшем случае - convenu1, оправдывающее смерть
мыслью о божественной воле и милости, даже там, где
теология уже сошла со сцены. Это последнее
эксплуатируется языком и становится схемой жаргона
подлинности. Его исполненная достоинства жестикуляция
является реакцией на секуляризацию смерти; язык желает
ухватить ускользающее, не веря в него и не называя его
по имени. Голая смерть становится тем содержанием,
которое речь могла бы почерпнуть только в чем-то
трансцендентном. Фальшивость смыслополагания,
ничто как нечто, обусловливает лживость языка. Так
модерн стремился самостоятельно, в абстрактной негации,
вдохнуть смысл в жизнь, переживаемую в качестве
бессмысленной. Его химерический манифест был начертан
в «Новых скрижалях» Ницше. Извлечь волевым
усилием какой-либо смысл из позднебуржуазного вот-бытия
уже невозможно. Поэтому смысл брошен в смерть. Так
заканчиваются поздние драмы Ибсена, в которых
напряжение действия разрешается осуществляемым ради
свободы саморазрушением жизни, безвыходно
погрязшей в конвенциональное™, как если бы оно давало
удовлетворение, - что уже вплотную приближается к
очищающей смерти в облике внеконфессиональной
кремации. Но драматическая форма оставляла безре-
1 Общее мнение (фр.)- - Прим. пер.
182
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
зультатность очевидной; субъективно-утешительный
смысл самоуничтожения объективно никакого
утешения не давал. Последнее слово оставалось за
трагической иронией. В этом случае чем более общественно-
бессилен индивид, тем менее он способен воспринимать
собственную немощь невозмутимо. Ему приходится
раздувать себя до самостности, как и ничтожность
последней - до подлинности, бытия. Невольную пародию
на Хайдеггера со стороны автора, произведшего одну за
другой книги «Встреча с Ничто» и «Встреча с бытием»1,
следует понимать, скорее, как пародию на ту модель,
что мнит себя выше всех проявлений такого рода
вырождения. Ведь и Хайдеггер повстречал Ничто только
ради высшей пропедевтики бытия. Хайдеггеровская
тональность была предугадана в шиллеровских
рассуждениях о достоинстве как замыкании, или фиксации в себе
самом. «Если в театрах и бальных залах представляется
случай наблюдать деланную грацию, то в приемной
министров и кабинетах ученых (особенно в университете)
можно часто изучать деланное достоинство. Если
истинное достоинство довольствуется тем, что не дает
аффекту проявлять его господство и ставит инстинкту
в непроизвольных движениях границы лишь там, где он
желает выступать хозяином, то деланное достоинство и
на произвольные движения налагает железную руку,
подавляя моральные движения, которые так же священ-
1 Kuhn Helmuth. Begegnung mit dem Nichts. Tübingen, 1950. Kuhn H.
Begegnung mit dem Sein. Tübingen, 1954. - Прим. пер.
183
Теодор В. АДОРНО
ны для истинного достоинства, как и чувственные,
и стирает всю мимическую игру души с черт лица. Оно
не только строго к противодействующей природе, но и
сурово к покорной и ищет себе забавного величия в том,
что порабощает, а где это не подходит, скрывает ее.
Словно поклявшись в непримиримой ненависти ко
всему, что носит имя природы, оно облачает тело в складки
длинных одеяний, скрывающих все сложение человека,
связывает движения конечностей обременительным
механизмом ненужных прикрас и даже обстригает волосы
для того, чтобы заменить дар природы фальшивым
ухищрением. Если истинное достоинство, которое
никогда не стыдится природы, а только грубой природы,
остается и там, где не выходит за свои пределы, всегда
свободным и открытым, в глазах сверкает чувство и
ясный, спокойный дух осеняет выразительное чело, то
важность морщит лоб, придает себе вид замкнутый
и таинственный и тщательно, как комедиант, оберегает
свои черты. Все мускулы лица напряжены, всякая
естественность выражения исчезает и весь человек
напоминает запечатанное письмо. Но у поддельного
достоинства есть основания держать в строгой дисциплине
мимическую игру своих черт, потому что эта игра может
выболтать больше, чем желательно, -
предосторожность, в которой, разумеется, не нуждается истинное
достоинство. Оно всегда будет господствовать над
природой, но не прятать ее; в поддельном же достоинстве,
наоборот, природа тем насильственнее властвует внут-
184
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
ри, чем более подчинена извне»1. Для кантианца,
воспринявшего от своего учителя различение цены и
достоинства, последнее еще оставалось желанным. И это
воспрепятствовало полному пониманию предмета, к
которому великий писатель подошел так близко:
пониманию того обстоятельства, что дегенеративная форма
достоинства достоинству имманентна: ее можно видеть
вполне ясно, как только интеллектуалы принимаются
заигрывать с властью, которой не обладают и которой
должны были бы сопротивляться. В жаргоне
подлинности кантианское достоинство - та человечность, что
обретает свое понятие не в самоосмыслении, а в отличии
от подавленной животности, - рассыпается наконец в
прах.
1 Friedrich von Schiller. Sämtliche Werke. Achten Bandes Erste
Abteilung. Stuttgart und Tübingen, 1818. S. 96 f. (Über Anmuth und
Würde.) (Шиллер И.Х.Ф. О грации и достоинстве // Шиллер И.Х.Ф.
Собрание сочинений: в 8 т. Т. IV. Статьи по эстетике. М., 1950.
С. 208-209. Перевод А.Г. Горнфельда.)
185
Примечание
Автор задумал «Жаргон подлинности» как часть
«Негативной диалектики». Текст был выделен из нее не
только потому, что его объем оказался
непропорционален остальным частям. Элементы языковой
физиогномики и социологии уже не укладывались в план книги.
Сопротивление духовному разделению труда требует
рефлектировать его, но не игнорировать. Пожалуй, по
своему замыслу и тематике «Жаргон» - философское
произведение. Пока философия удовлетворяла своему
понятию, она была предметно-содержательной. В
регрессии к идеалу своего чистого понятия она отрекается
от себя самой. Это положение было развито в
упомянутой книге, тогда еще незавершенной, тогда как
«Жаргон» разворачивается в соответствии с ним, но уже без
полного его обоснования. Поэтому он был опубликован
первым, в качестве своего рода пропедевтики.
Впрочем, будучи столь внимателен к разделению
труда, автор бросает ему тем более резкий вызов. Тому,
кто упрекнет автора в том, что он-де рассуждает
философски, социологически, эстетически, не разделяя
категории по их происхождению и не пытаясь по
возможности разграничить виды исследования, он может отве-
186
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
тить, что это требование проецирует на предметы
классифицирующая наука с ее стремлением к порядку,
которая затем провозглашает, будто его выдвигают сами
предметы. С одной стороны, автор склонен скорее
довериться этим последним, нежели - в угоду
сомнительной, навязанной извне норме - ученически
схематизировать то, что определяется именно
взаимопроникновением моментов, которые избитый идеал метода
отрывает друг от друга. С другой стороны, это единство
предмета могло с большей отчетливостью показать
взаимосвязь собственных опытов автора, например
философского и музыкально-теоретического, как в
«Критике музыканта» из «Диссонансов»1. То, что воспринято
в дурном облике языка эстетически и истолковано
социологически, выводится из неистины полагаемого им
содержания, из имплицитной философии.
Это вызовет неудовольствие: фрагменты из Ясперса,
мыслительные построения Хайдеггера ставятся в один
ряд с теми языковыми ужимками, которые школьные
головы отвергнут, предположительно, с негодованием.
Однако в тексте «Жаргона» приводится достаточно
примеров - из поистине неисчерпаемого источника,
подтверждающих, что они уже пишут в той самой
манере, которую презирают, дабы утвердить собственное
превосходство, у малых. Их философемы проливают
свет на то, чем питается жаргон и умолчание чего явля-
1 Adorno Th. W. Gesammelte Schriften. Bd. XIV. Dissonanzen.
Einleitung in die Musiksoziologie. Frankfurt am Main., 1980. - Прим. пер.
187
Теодор В. АДОРНО
ется одной из составляющих его суггестивной силы.
Если в амбициозных проектах немецкой философии
второй половины двадцатых годов оформилось и
артикулировалось то, к чему влекло объективный дух,
который с тех пор не изменился и потому продолжает
говорить на жаргоне, то лишь через критику этих проектов
можно объективно определить ту неистину, что
отражается в лживости вульгарного жаргона. Физиогномика
последнего восходит к тому, что выходит на свет в
философии Хайдеггера.
Нет ничего нового в том, что высокое используется
как прикрытие для низменного: чтобы не выпустить из
рук потенциальную жертву. Но идеология высокого уже
не исповедуется без отречения. Возможно, выявление
этого обстоятельства поспособствует тому, чтобы дело
не ограничилось туманным и ни к чему не
обязывающим подозрением в идеологичности, которое само
в конце концов скатывается в идеологию. Сегодня
немецкая идеология избегает определенных доктрин -
либеральных или даже элитарных. Она соскользнула
в язык. К этому привели социальные и
антропологические изменения, которые, однако, не разорвали завес. То
обстоятельство, что этот язык действительно
представляет собой идеологию, общественно необходимую
видимость, можно раскрыть имманентно, через
противоречие между его Как и его Что. В его объективной
невозможности жаргон реагирует на все более явственно
проступающую невозможность языка. Язык либо
отдается рынку, болтовне, господствующей пошлости, либо
188
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ. О немецкой идеологии
усаживается в кресло судьи, облачается в мантию и тем
самым укрепляет привилегию. Жаргон - счастливый
синтез того и другого, потому-то он и разрастается
столь бурно.
Демонстрация этого факта имеет аспект
практического вмешательства. Насколько неодолимым кажется
жаргон в современной Германии, настолько же он
зыбок и податлив; тот факт, что жаргон стал идеологией
для самого себя, взорвет его, как только будет осознан.
Если бы в Германии умолк жаргон, то в какой-то мере
было достигнуто то, за что чересчур поспешно и
безосновательно превозносят любой, даже самый робкий,
скепсис. Тот, кто заинтересован в жаргоне, кто
использует его как средство власти, кто обязан его социально-
психологическому эффекту своей общественной
значимостью, не захочет от него отвыкнуть. Другие будут
смущены; даже правоверные приверженцы того или
иного авторитета боятся выглядеть смешно, когда
начинают догадываться о глиняной природе авторитета,
у которого ищут опоры. Если жаргон являет собой
облик неистины в современной Германии, то в
определенной его негации можно было бы познать истину,
отвергающую позитивные формулировки.
Фрагменты первых частей, опубликованные в «Neue
Rundschau» (1963, drittes Heft), растворены в тексте.
Июнь 1967 г.
189
Содержание
От преводчика 3
Жаргон подлинности. О немецкой идеологии 7
Примечание 186
190
Аннотированный список книг издательства «Канон+»
РООИ «Реабилитация» вы можете найти на сайте
iph.ras.ru/kanon или http://journal.iph.ras.ru/verlag.html
Заказать книги можно, отправив заявку по электронному адресу:
kanonplus@mail.ru
Научное издание
Теодор В. АДОРНО
ЖАРГОН ПОДЛИННОСТИ.
О немецкой идеологии
Директор — Божко Ю. В.
Ответственный за выпуск — Божко Ю. В.
Компьютерная верстка — Липницкая Е. Е.
Корректор — Колупаева Л. П.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 05.10.2010.
Формат 84x108732- Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 10,08. Уч.-изд. л. 6,5. Тираж 1000 экз. Заказ 2612.
Издательство «Канон-1-» РООИ «Реабилитация».
111627, Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 3, кв. 28.
Тел/факс 702-04-57.
E-mail: kanonplus@mail.ru
Сайт: iph.ras.ru/kanon или http://journal.iph.ras.ru/verlag.html
Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.
Пр. Независимости, 79, 220013, Минск.
i
1 ISBN 978-5-88373-263-1 1
Жаргон
подлинности
О немецкой
идеологии
Работа «Жаргон
подлинности. О немецкой
идеологии» представляет собой
применение программы
критики идеологии
Франкфуртской школы к немецкой
духовной культуре первой
половины XX в., прежде
всего к экзистенциальной
философии М. Хайдегтера,
К. Ясперса и др.